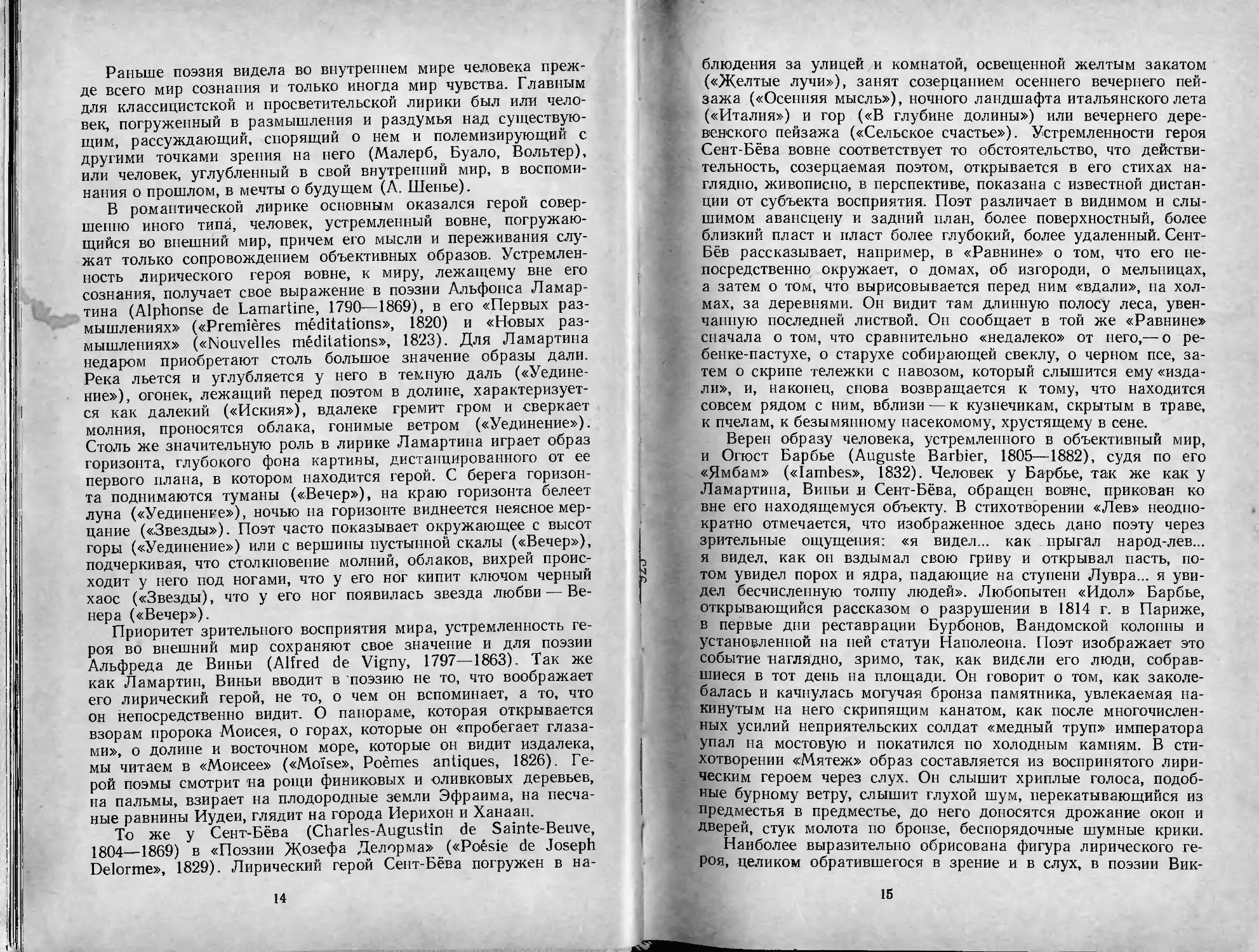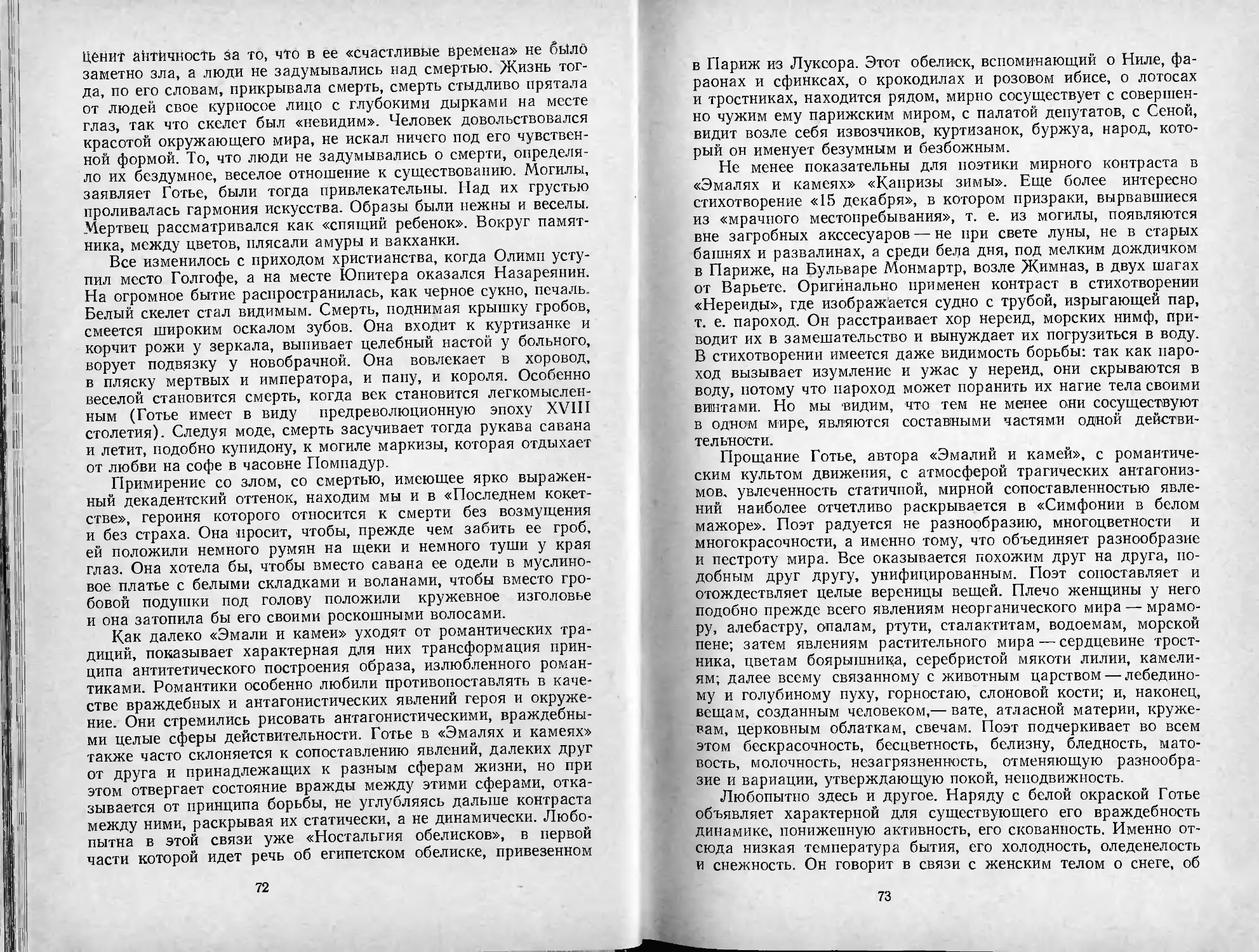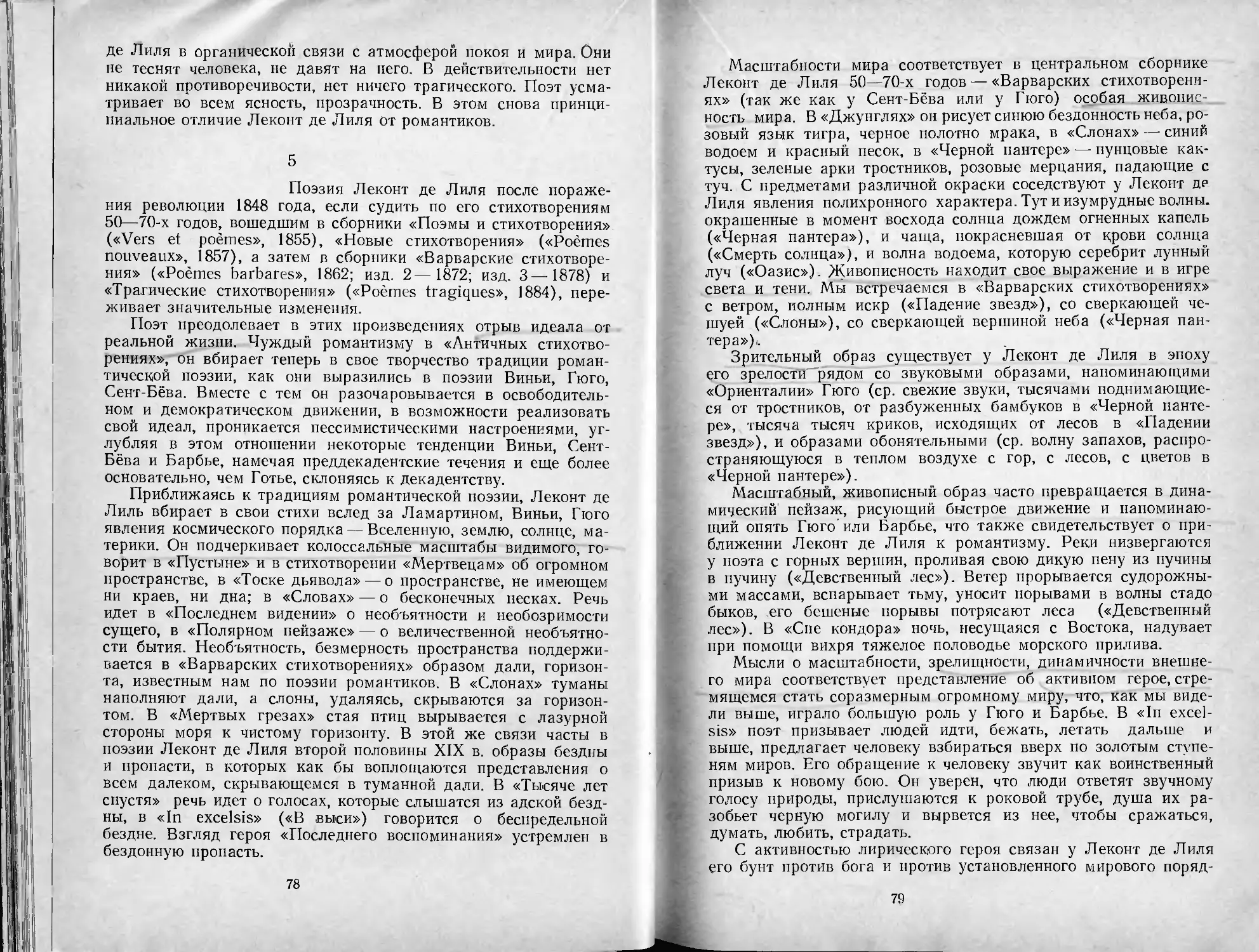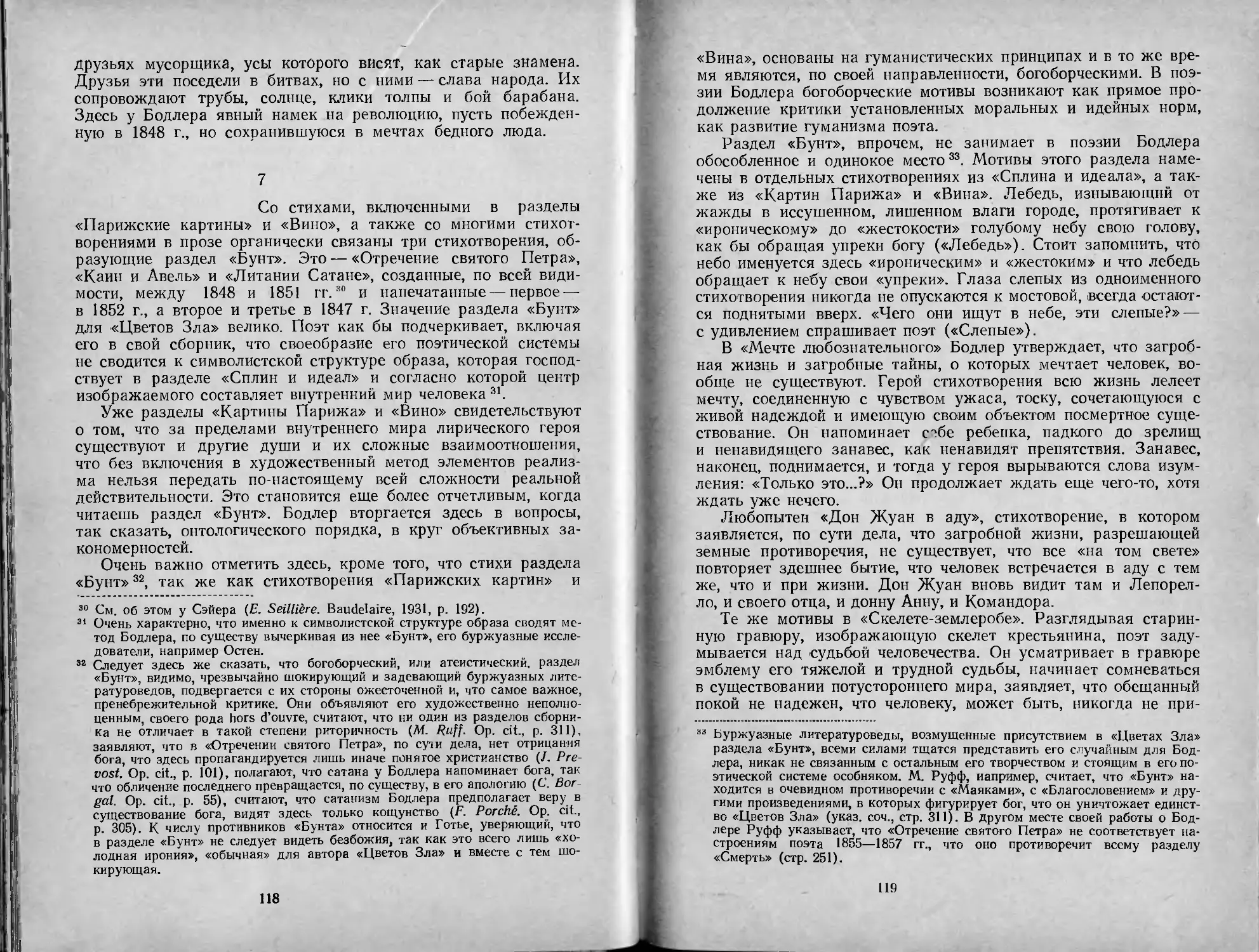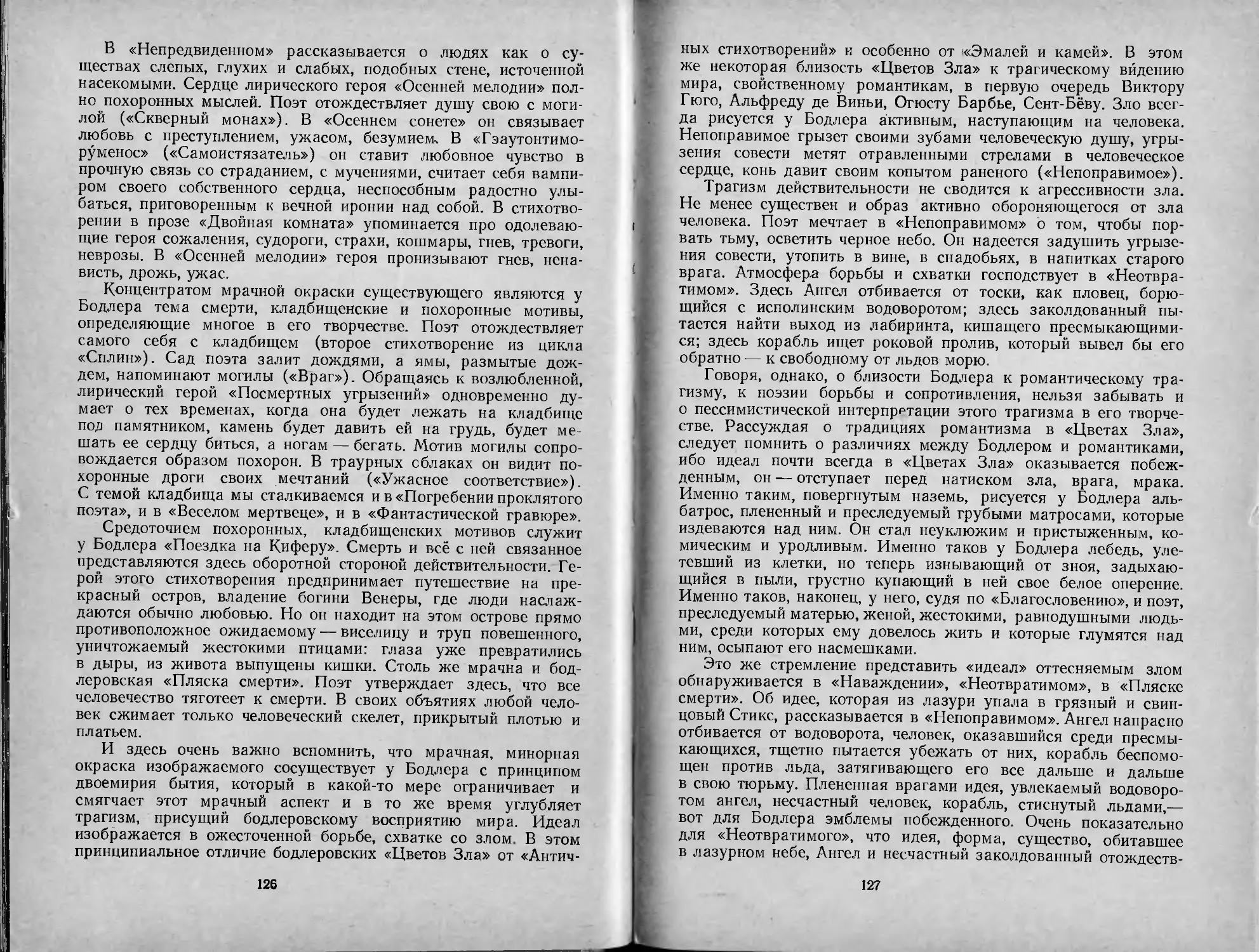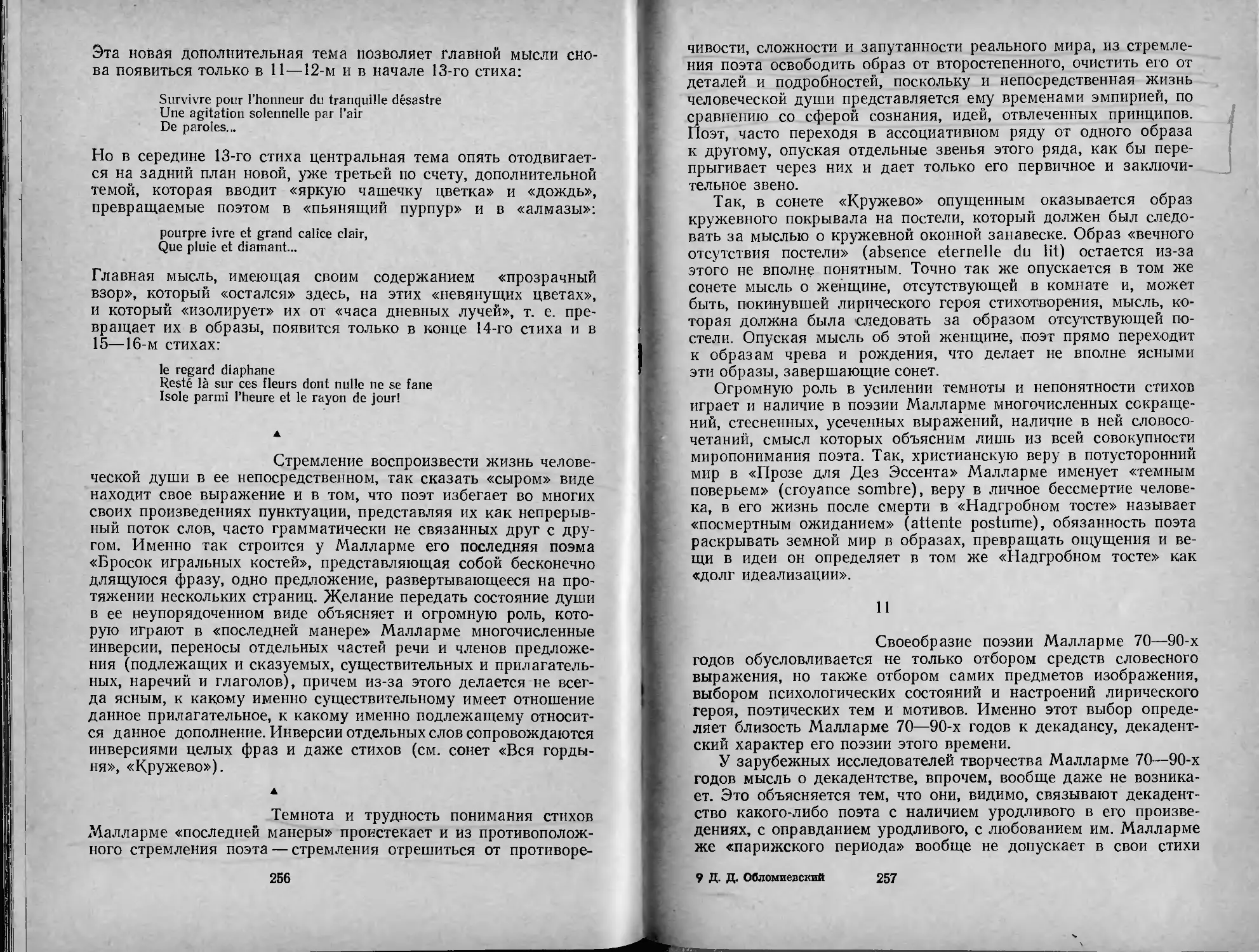Автор: Обломиевский Д.
Теги: поэзия художественная литература французская литература символизм
Год: 1973
Текст
д. Обломиевский
французский символизм
Новосибирская
районная библиотека
ИМ. ПУШ И;;Д
АьО iE.vicri'f
ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
Чосква 1973
Автор рассказывает о творчестве французских
поэтов, стоявших у истоков символизма,— Бодле-
ра, Верлена, Рембо, Малларме. Эти поэты оказали
воздействие на последующее развитие француз-
ской и мировой поэзии. В их творчестве впервые
возникла та обновленная структура поэтического
образа, которая определила своеобразие символиз-
ма и характерные, подчас весьма противоречивые
черты поэзии XX века.
Ответственный редактор
Т. В. БАЛАШОВА
„ 0722-0270
° 042(02)—73 283—73
© Издательство «Наука», 1973
Д. Д. ОБЛОМИЕВСКИИ
ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ
ОБЛОМИЕВСКИЙ
1907—1971
Дмитрий Дмитриевич Обломиевский на-
чинал свою трудовую жизнь библиотекарем в Ленинградском
государственном университете, где он, еще аспирантом, опубли-
ковал первые работы — о поэзии В. Маяковского, Б. Пастернака,
о творчестве Филдинга и Бальзака. С начала Отечественной
войны, в августе 1941 г., он был направлен на Тихоокеанский
флот, где пригодилась его квалификация литературоведа: он
был начальником радиовещания владивостокского Дома Военно-
Морского Флота. В рядах Советской Армии в 1943 г. вступил
в Коммунистическую партию.
Еще до окончания войны Д. Д. Обломиевского назначили
в Москву редактором Военно-Морского издательства. После де-
мобилизации он работал главным редактором французского из-
дания журнала «Интернациональная литература», затем — «Со-
ветская литература».
В послевоенные годы, находясь на ответственной работе
в ЦК КПСС, Д. Д. Обломиевский продолжал исследователь-
скую деятельность. С 1950 г. до конца своей жизни он работал
в Институте мировой литературы им. А. М. Горького Академии
наук СССР.
Научный путь Дмитрия Дмитриевича Обломиевского был
удивительно целеустремленным. Когда теперь выстраиваются в
хронологическом порядке исследовательские проблемы, которы-
ми он занимался с конца 30-х годов по конец 60-х, кажется,
что с самого начала творческой деятельности нм были строго
продуманы все ее последующие звенья. В одиночку он проделал
громадный труд: написал, по сути дела, в основных ее этапах
историю французской литературы от классицизма до начала
XX в.
Цикл очерков о писателях-романтиках постепенно сложился
в книгу «Французский романтизм» (1947). Постоянным глубо-
ким интересом к становлению и развитию реалистического на-
правления во французской литературе (этюды о Бальзаке, Золя,
Флобере, Беранже, Франсе) порожден фундаментальный труд
«Бальзак. Этапы творческого пути» (1961). В этой работе, под-
нявшей кардинальные методологические проблемы реализма,
впервые в нашем литературоведении дана широкая панорама
5
эволюции мировоззрения и художественного метода автора «Че-
ловеческой комедии».
Затем взгляд исследователя обратился к истокам —к тому,
что предшествовало романтизму и критическому реализму: воз-
никли монографии «Литература Французской революции.
1789—1794» (М., 1964) и «Французский классицизм» (М.,
1968). Так была прочерчена сквозная линия преемственности
национальной традиции. Выдающиеся мыслители и художники
Франции — Мольер, Корнель, Расин, Вольтер и Дидро, Руссо
и Бомарше подготавливали Великую французскую революцию,
которая резко изменила культурный климат, поставила перед ис-
кусством новые задачи.
«Литература Революции,— говорит Д. Д. Обломиевский,—
не является вопреки утверждениям буржуазных литературове-
дов какой-то паузой в нормальном литературном развитии.
Она вырастает из литературного прошлого, из дореволюцион-
ной художественной культуры классицизма... Она обращена к
будущему, намечает многое, созданное в литературе романтизма,
социально-критического реализма и реализма социалистическо-
го». Последовавший за Великой французской революцией этап
романтизма проанализирован Д. Д. Обломиевским во всей его
сложности и идейно-художественной противоречивости. В борь-
бе с идеалистическими иллюзиями романтиков, но одновременно
продолжая прогрессивные гуманистические идеалы романтизма,
сложился метод критического реализма, который всегда оста-
вался в центре внимания Д. Д. Обломиевского как высокий кри-
терий эстетических ценностей, рожденных бурными социальны-
ми процессами. Согласно долго бытовавшему в нашем литера-
туроведении мнению, конец XIX в. ознаменован якобы упадком
реализма и снижением эстетической силы западноевропейского
искусства. Д. Д. Обломиевский оспаривал эту точку зрения и в
своих ранних этюдах о Флобере (1936), Золя (в «Литературном
обозрении», 1937), А. Франсе (1937—предисловие к «Совре-
менной истории») и в своей последней, посмертно выходящей
книге «Французский символизм».
Шедевры французской и мировой поэзии, появившиеся в
конце XIX в., представлены здесь автором как трудный, но
закономерный этап поисков новых аспектов художественного ви-
дения мира. Перспектива развития искусства устремлена вдаль,
к нашим дням, когда гуманистическая культура современности
жадно впитывает в себя опыт предшествующих веков — опыт
романтиков и реалистов, школы натурализма и символизма,
отбирая из национального богатства те тенденции, которые вели
эстетическую мысль вперед, ко все более глубокому постиже-
нию социальных координат эпохи, се воздействия на личность
и воздействия личности на эпоху. Даже самые далекие (хроно-
логически) пласты французского искусства Д. Д. Обломиевский
начинал научно «обрабатывать» именно в перспективе задач
а
современной культуры. Предлагая читателю монографию о
французском классицизме, автор писал: «Работа продиктована
в значительной степени интересами развития современного пе-
редового искусства, к которому относится в первую очередь
социалистический реализм. Мы привыкли связывать традиции
современного передового искусства с западноевропейским реа-
лизмом XIX века, т. е. с творчеством великих французских
писателей Бальзака и Стендаля. За пределами традиций со-
циалистического реализма остается в таком случае очень бога-
тое и содержательное искусство XVI11 столетия, каким является
французский просветительский реализм... и вклад, до сих пор
по достоинству еще не вполне оцененный, какой был внесен в
мировое литературное развитие французским классицизмом
XVII—XVIII вв. ...Многое из созданного Мольером, Раси-
ном, Вольтером и другими продолжает жить и теперь и актив-
но формирует идейное и эстетическое сознание нашего читателя
и зрителя».
При особом, глубоко личном предпочтении, отдаваемом
Д. Д. Обломиевским реализму, он умел без предвзятости су-
дить об иных творческих методах, подмечать их «оригиналь-
ность и своеобразие», видеть в каждом из них, по его соб-
ственным словам, «особый, пусть не реалистический, но совсем
не антиреалистический художественный метод, обладающий мно-
гими ценными для нашей литературной современности сторона-
ми». В серьезном научном споре о специфике реализма Д. Д. Об-
ломиевский занял, таким образом, четкую позицию, защищая
правомерность других творческих методов, если они не являют-
ся антиреалистическими, т. е. грубо искажающими действи-
тельность. Эта позиция ясно сформулирована исследователем в
трудах «Французский классицизм» и «Французский символизм».
Их автор не считает возможным рассматривать многовековую
историю искусства как вечную борьбу реалистических и нереа-
листических тенденций; он призывает определять каждый этап
искусства конкретно-исторически и угадывать те плодотворные
токи взаимодействия, которые всегда существуют между реа-
лизмом и другими творческими методами, стремящимися ины-
ми художественными средствами тоже выразить правду жизни,
ее социальную и психологическую логику.
Творческая манера Д. Д. Обломиевского останавливает его
обычно на пороге обобщений, выходящих за границы литера-
туры той страны, которой он занимается,— Франции. Д. Д. Об-
ломиевский охотнее устремляется вглубь, к малоизвестным име-
нам и фактам исследуемого периода, чем к ассоциациям и
сопоставлениям, охватывающим типологически близкие явления
в литературах различных стран. Это характерно для всех его
книг — идет ли речь о романтизме, классицизме или символиз-
ме. Зато глубинные пласты материала, поднятые исследовате-
лем, долго еще будут нужны литературоведам, идущим ему на
7
смену. Долго еще, очевидно, очерки Д. Д. .Обломиевского об
Эжене Сю и литературных манифестах фурьеристов, трагедиях
Мари-Жозефа Шенье и Шарля Ронсена, элегиях Андре Шенье,
памфлетах Жан-Поля Марата, лирике Сильвена Марешаля бу-
дут оставаться почти единственным в советской науке источни-
ком по-марксистски точных и всесторонних знаний об этих
сложных и мало изученных литературных явлениях.
Подлинная энциглопедичность позволила Д. Д. Обломиев-
скому написать основные разделы тома II «Истории француз-
ской литературы. 1789—1870» (1956). Здесь его перу принадле-
жат часть первая — «Литература Французской революции»
и три главы: о раннем французском романтизме, о литературных
теориях социалистов-утопистов и о творчестве Бальзака, т. е.
снова теоретически осмыслены три важнейшие этапа француз-
ской культуры — перелом эпохи Великой французской револю-
ции, борьба идейно-художественных тенденций в романтизме,
возникновение критического реализма.
От творческого дебюта к годам научной зрелости мысль
Д. Д. Обломиевского становится все более глубокой и кон-
кретной.
В последней книге структура поэтического образа, принцип
«двоемирия» у символистов и лексические границы этого двое-
мирия очерчены с максимальной скрупулезностью, обстоятель-
ностью, рассмотрены как бы сквозь гигантскую лупу: под пером
исследователя они обретают зримую материальность. В книге
«Французский символизм» сконцентрирован богатый предшест-
вующий опыт автора, благодаря чему полно освещены досим-
волистские этапы французской поэзии — романтическая поэзия
в главе первой, эволюция поэтов-парнасцев — в главе второй.
Автор этой книги вступает в решительную полемику с
буржуазными учеными, характеризующими такой сложный
феномен, каким является символизм, на основании только его
последнего, декадентского этапа — стихотворений позднего Мал-
ларме и постсимволистов, предпочитавших сохранять не то луч-
шее, что принес поэзии французский символизм, а настроения
отчаяния, равнодушия к миру и человеку, эстетскую отрешен-
ность от социальной действительности. Эту линию полемики
Д. Д. Обломиевский проводит четко и последовательно, застав-
ляя определять специфику символизма именно на основании
лучших произведений Рембо, Верлена, Малларме.
Внезапная смерть помешала Д. Д. Обломиевскому окончить
свой многолетний труд. Осталась незавершенной глава седь-
мая—«Малые символисты», не хватило отведенного жизнью вре-
мени для написания Введения и Заключения, где автор навер-
няка поставил бы методологически важный вопрос о соотнесе-
нии символизма с реализмом и подвел бы итог своим интерес-
ным наблюдениям над противоречивой природой символистско-
го образа.
8
Посмертно выходящая книга Д. Д. Обломиевского посвяще-
на актуальной проблеме и встретит, как мы надеемся, живой
интерес у преподавателей, студентов, людей разных профессий,
интересующихся французской литературой.
Процесс творчества всегда доставлял Д. Д. Обломиевскому
ни с чем не сравнимую радость. До последних дней жизни,
уже тяжело больной, вдохновенно трудился ученый в тиши биб-
лиотеки, завершая труд, которому суждено было стать последним.
Склонность к творческому уединению не мешала Д. Д. Об-
ломиевскому щедро дарить свои знания и коллегам, и широко-
му советскому читателю. При его непосредственном участии
выходили Собрания сочинений Бальзака и Золя, он вел огром-
ную просветительскую работу как редактор иностранной лите-
ратуры в ленинградском отделении Гослитиздата и член ред-
коллегий журналов «Интернациональная литература», «Совет-
ская литература», «Вопросы литературы». Двадцать лет про-
работал Д. Д. Обломиевский в Институте мировой литературы.
Он был и талантливым исследователем, и кропотливым редак-
тором, и отличным воспитателем, помогавшим, не жалея своих сил,
времени, расти новому поколению литературоведов.
Память о Д. Д. Обломиевском, добром, отзывчивом товари-
ще, человеке редкой душевной чистоты, навсегда сохранят те,
кто знал его.
Ф. С. Наркирьер
ТРУДЫ
ДМИТРИЯ ДМИТРИЕВИЧА ОБЛОМИЕВСКОГО
Борис Пастернак.— «Лит. современник», 1931, № 4, с. 127—142.
Путь поэта,— «Лит. современник», 1935, № 3, с. 187—206, О творчестве
В. В. Маяковского.
Бальзак.—В кн.; «Ранний буржуазный реализм». Л., 1936, с. 587—654.
«Искушение святого Антония». (Рец. на кн.: Г. Флобер. Искушение святого
Антония. М., 1936).— «Лит. обозрение», 1936, № 23, с. 54—58.
Песни Беранже. (Реп. на кн.. П. Ж. Беранже. Полное собрание песен, т. I.
«Academia», 1936).— «Лит. обозрение», 1936, № 16, с. 53—57.
Фильдинг.— В кн.: «Ранний буржуазный реализм». Л., 1936, с. 185—241.
Анатоль Франс и его «Современная история».— В кн.: А. Франс. Современная
история. Л., 1937, с. Ill—XXXII.
«Жерминаль». (Рец. на кн.: Э. Золя. Жерминаль. «Academia», 1936).— «Лит.
обозрение», 1937, № 4, с. 36—38.
«Записки Пикквикского клуба». (Рец. на кн.: Ч. Диккенс. Посмертные запи-
ски Пикквикского клуба, т. 1—2. М., 1936).— «Лит. обозрение», 1937, № 16,
с. 49—52.
Избранные произведения П. Мериме. (Рец. на кн.: П. Мериме. Избранные
произведения. М., 1937).— «Лит обозрение», 1937, № 13, с. 33—37.
«Консуэло». (Рец. на кн.: Ж. Санд. Консуэло, т. II. М.— Л., 1936).— «Лит.
обозрение», 1937, № 5, с. 38—41.
«Мери Бартон». (Рец. на кн.: Э. Гаскелл. Мери Бартон. М., 1936).— «Лит.
обозрение», 1937, № 15, с. 34—38.
Французский романтизм. Очерки. М„ Гослитиздат, 1947, 356 с.
Примечания.— В кн.: О. Бальзак. Собрание сочинений в 15 томах, т 15.
М„ 1955, с. 609—626.
Бальзак (чч. 1—4).— В кн.: «История французской литературы», т. 2. М.,
Изд-во АН СССР, 1956, с. 441—504.
К вопросу о социально-политических позициях Бальзака в 1830—1833 гг.—
В кн.: «Ученые записки Института мировой литературы им. А. М Горь-
кого», т. 2. М., Изд-во АН СССР, 1956, с. 81—129. -
Литература Французской революции 1789—1794 гг.— В кн.: «История фран
цузской литературы», т. 2. М., Изд-во АН СССР, 1956, с. 11-—80.
Литературная теория социалистов-утопистов и развитие французской литера-
туры.— В кн.: «История французской литературы», т. 2. М., 1956, с. 226—
245.
Французский романтизм до 1830 года.— В кн.: «История французской литера-
туры», т. 2. М., 1956, с. 83—119.
Недоверие к обобщениям.— «Вопр. лит.», 1958. № 1, с. 115—119. Под рубри-
кой «Проблемы реализма» — обсуждение статьи Б. Реизова «О литера-
турных направлениях» («Вопр. лит.», 1957, № 1).
Бальзак. Этапы творческого пути. М., Гослитиздат, 1961, 590 с.
Литература Французской революции. 1789—1794 гг. Очерки. М., «Наука»,
1964. 356 с.
Глубоко, основательно, всесторонне. (Рец. на кн.: Ю. Б. Виппер. Формирова-
ние классицизма во французской поэзии начала XVII века. М., 1967).'—
«Вопр. лит.», 1967, № 12, с. 212—216.
Западноевропейский реализм на рубеже двух столетий. (Рец. на кн.: Е. М.
Бенина. Западноевропейский реализм на рубеже XIX—XX веков. М.,
1967).— «Вопр. лит.», 1968, № 6, с 215—219.
Французский классицизм. Очерки. М., «Наука», 1968. 375 с.
(Рец. на кн.: Е. М. Бенина Западноевропейский реализм на рубеже XIX—
XX веков. М., 1967).— «Oeuvres et opinions», 1969, № 124, р. 162—165.
XVII век в мировом литературном развитии. (Рец. на кн.: XVII век в мировом
литературном развитии. М., 1969).— «Вопр. лит.», 1971, № 5, с. 209—214.
Составитель Е. Д. Лебедева.
ВВЕДЕНИЕ 1
Начало символизму положили замеча-
тельные французские поэты — Бодлер, Верлен, Рембо и Маллар-
ме, оказавшие огромное влияние на все последующее разви-
тие не только французской, но и мировой поэзии. Именно в
их творчестве впервые возникла та совершенно новая струк-
тура образа, которая определила своеобразие всего символист-
ского движения, распространившегося в европейской (да и не
только европейской) литературе на рубеже XIX—XX вв.
Хотя радикальный перелом в самой французской поэзии,
образование в ней символистского направления относится к кон-
цу века («Манифест символизма», написанный Мореасом, был
опубликован в 1886 г.), но по-настоящему понять этот перелом
можно лишь в том случае, если учитывать, что он был осущест-
влен задолго до своего теоретического обоснования, за 30 лет
до образования символистского направления. Историю его нуж-
но начинать с 1857 г., т. е. с выхода в свет «Цветов Зла»
Бодлера.
Одним из важнейших событий этой истории было появле-
ние «Сатурновых стихов», первого сборника Верлена (1866),
опубликованного за 20 лет до появления «Манифеста». Мореас,
Жамм, Кан, Ле Кардонель, Мерриль и другие участники сим-
волистского движения 80—90-х годов не были большими и ори-
гинальными поэтами, они не сумели сказать свое слово в поэ-
зии, внести в нее совершенно новое содержание, а были лишь
эпигонами, подражателями Бодлера, Верлена, Рембо, раннего
Малларме.
Французский символизм после падения Парижской Комму-
ны развивается в направлении нисходящем. Французский сим-
волизм 80—90-х годов покрыт наростами декаданса, скрывав-
Эти вводные страницы, как и заключение, не были предназначены для
данного издания. Они должны были предварять статью Д. Д. Обломиевско-
го о поэзии французского символизма, написанную раньше, чем началась
работа над текстом книги. __
11
шими его прогрессивное, новаторское ядро, существовавшее у
Бодлера, Верлена, Рембо. В творчестве этих поэтов тоже на
отдельных этапах были ощутимы декадентские тенденции, но в
целом их творчество — явление значительно более сложное и
гораздо менее однородное, чем это иногда себе представляют.
Имея дело только с символизмом 80—90-х годов, прогрес-
сивность которого слишком сильно затемнена декадентскими
наслоениями, мы не поняли бы по-настоящему новаторство все-
го направления.
Мы можем выявить суть этого новаторства лишь обратив-
шись к творчеству Бодлера 50-х годов, Верлена 60-х и на-
чала 70-х годов, к творчеству Рембо пограничных с Парижской
Коммуной лет и, наконец, к раннему Малларме.
Глава первая
РОМАНТИЧЕСКАЯ поэзия
ВО ФРАНЦИИ
1
Романтическая лирика во Франции скла-
дывается в первую половину века (1815—1848), точнее, в тече-
ние первых двух третей столетия: она зарождается в стране,
только что пережившей первую буржуазную революцию (1789—
1794), и развивается в обстановке продолжающегося и расши-
ряющегося буржуазно-демократического движения (1830—1834,
1848—1849). Раньше (до 1789 г.) народные массы не принима-
ли такого огромного участия в политической и социальной жиз-
ни страны; именно в следующий период были осуществлены
радикальные реформы в политической, социальной, экономиче-
ской областях.
Эта реконструкция, перестройка общества, бывшего в тече-
ние ряда столетий стабильным, и обнаружившийся новый аспект
социальной жизни (участие в ней народа, общественных масс),
продемонстрировала значительную роль в жизни общества объ-
ективных, не зависимых от человеческого разума процессов,
которые игнорировались в эпоху классицизма и в эпоху Про-
свещения.
В классицистской и просветительской поэзии главным было
освобождение человека и человеческого интеллекта, человеческих
чувств и эмоций от власти религиозного, сверхиндивидуального
сознания, а также его противопоставление существующему ре-
альному миру как чему-то неподвижному, неспособному изме-
няться. Здесь человеческое сознание предстает единственно
динамическим и активным.
Человек, человеческий разум был обрисован в то же время
превосходящим объективную логику действительности. Логика
эта временами вообще отрицается. Интеллект как бы стоял над
вещами, над материей и диктовал свою волю внешнему миру,
рассматривал элементы последнего как воплощение мысли. Те-
перь произошел своего рода бунт вещей против человеческого
понимания мира и против человеческой воли. Вещественный
мир — даже в своей темной, неосознанной, непросветленной
массе — стал тяготеть над человеком и его сознанием.
13
Раньше поэзия видела во внутреннем мире человека преж-
де всего мир сознания и только иногда мир чувства. Главным
для классицистской и просветительской лирики был или чело-
век, погруженный в размышления и раздумья над существую-
щим, рассуждающий, спорящий о нем и полемизирующий с
другими точками зрения на него (Малерб, Буало, Вольтер),
или человек, углубленный в свой внутренний мир, в воспоми-
нания о прошлом, в мечты о будущем (А. Шенье).
В романтической лирике основным оказался герой совер-
шенно иного типа, человек, устремленный вовне, погружаю-
щийся во внешний мир, причем его мысли и переживания слу-
жат только сопровождением объективных образов. Устремлен-
ность лирического героя вовне, к миру, лежащему вне его
сознания, получает свое выражение в поэзии Альфонса Ламар-
тина (Alphonse de Lamartine, 1790—1869), в его «Первых раз-
мышлениях» («Premieres meditations», 1820) и «Новых раз-
мышлениях» («Nouvelles meditations», 1823). Для Ламартина
недаром приобретают столь большое значение образы дали.
Река льется и углубляется у него в темную даль («Уедине-
ние»), огонек, лежащий перед поэтом в долине, характеризует-
ся как далекий («Иския»), вдалеке гремит гром и сверкает
молния, проносятся облака, гонимые ветром («Уединение»),
Столь же значительную роль в лирике Ламартина играет образ
горизонта, глубокого фона картины, дистанцированного от ее
первого плана, в котором находится герой. С берега горизон-
та поднимаются туманы («Вечер»), на краю горизонта белеет
луна («Уединение»), ночью на горизонте виднеется неясное мер-
цание («Звезды»). Поэт часто показывает окружающее с высот
горы («Уединение») или с вершины пустынной скалы («Вечер»),
подчеркивая, что столкновение молний, облаков, вихрей проис-
ходит у него под ногами, что у его ног кипит ключом черный
хаос («Звезды), что у его ног появилась звезда любви — Ве-
нера («Вечер»).
Приоритет зрительного восприятия мира, устремленность ге-
роя во внешний мир сохраняют свое значение и для поэзии
Альфреда де Виньи (Alfred de Vigny, 1797—1863). Так же
как Ламартин, Виньи вводит в поэзию не то, что воображает
его лирический герой, не то, о чем он вспоминает, а то, что
он непосредственно видит. О панораме, которая открывается
взорам пророка Моисея, о горах, которые он «пробегает глаза-
ми», о долине и восточном море, которые он видит издалека,
мы читаем в «Моисее» («Moise», Poemes antiques, 1826). Ге-
рой поэмы смотрит на рощи финиковых и оливковых деревьев,
на пальмы, взирает на плодородные земли Эфраима, на песча-
ные равнины Иудеи, глядит на города Иерихон и Ханаан.
То же у Сент-Бёва (Charles-Augustin de Sainte-Beuve,
1804—1869) в «Поэзии Жозефа Делорма» («Poesie de Joseph
Delorme», 1829). Лирический герой Сент-Бёва погружен в на-
14
блюдения за улицей и комнатой, освещенной желтым закатом
(«Желтые лучи»), занят созерцанием осеннего вечернего пей-
зажа («Осенняя мысль»), ночного ландшафта итальянского лета
(«Италия») и гор («В глубине долины») или вечернего дере-
венского пейзажа («Сельское счастье»). Устремленности героя
Сент-Бёва вовне соответствует то обстоятельство, что действи-
тельность, созерцаемая поэтом, открывается в его стихах на-
глядно, живописно, в перспективе, показана с известной дистан-
ции от субъекта восприятия. Поэт различает в видимом и слы-
шимом авансцену и задний план, более поверхностный, более
близкий пласт и пласт более глубокий, более удаленный. Сент-
Бёв рассказывает, например, в «Равнине» о том, что его не-
посредственно окружает, о домах, об изгороди, о мельницах,
а затем о том, что вырисовывается перед ним «вдали», на хол-
мах, за деревнями. Он видит там длинную полосу леса, увен-
чанную последней листвой. Он сообщает в той же «Равнине»
сначала о том, что сравнительно «недалеко» от него,— о ре-
бенке-пастухе, о старухе собирающей свеклу, о черном псе, за-
тем о скрипе тележки с навозом, который слышится ему «изда-
ли», и, наконец, снова возвращается к тому, что находится
совсем рядом с ним, вблизи — к кузнечикам, скрытым в траве,
к пчелам, к безымянному насекомому, хрустящему в сене.
Верен образу человека, устремленного в объективный мир,
и Огюст Барбье (Auguste Barbier, 1805—1882), судя по его
«Ямбам» («lambes», 1832). Человек у Барбье, так же как у
Ламартина, Виньи и Сент-Бёва, обращен вовне, прикован ко
вне его находящемуся объекту. В стихотворении «Лев» неодно-
кратно отмечается, что изображенное здесь дано поэту через
зрительные ощущения: «я видел... как прыгал народ-лев...
я видел, как он вздымал свою гриву и открывал пасть, по-
том увидел порох и ядра, падающие на ступени Лувра... я уви-
дел бесчисленную толпу людей». Любопытен «Идол» Барбье,
открывающийся рассказом о разрушении в 1814 г. в Париже,
в первые дни реставрации Бурбонов, Вандомской колонны и
установленной па ней статуи Наполеона. Поэт изображает это
событие наглядно, зримо, так, как видели его люди, собрав-
шиеся в тот день на площади. Он говорит о том, как заколе-
балась и качнулась могучая бронза памятника, увлекаемая на-
кинутым на него скрипящим канатом, как после многочислен-
ных усилий неприятельских солдат «медный труп» императора
упал на мостовую и покатился по холодным камням. В сти-
хотворении «Мятеж» образ составляется из воспринятого лири-
ческим героем через слух. Он слышит хриплые голоса, подоб-
ные бурному ветру, слышит глухой шум, перекатывающийся из
предместья в предместье, до него доносятся дрожание окон и
Дверей, стук молота по бронзе, беспорядочные шумные крики.
Наиболее выразительно обрисована фигура лирического ге-
роя, целиком обратившегося в зрение и в слух, в поэзии Вик-
15
тора Гюго (Victor Hugo, 1802—1885). Поэт изображает чело-
века прислушивающимся ко всему, что вокруг, и созерцающего
все расположенное в ночной тишине («Осенние листья» — «Feuil-
les d’automne» — стихотворение XX, 1831). Поэт призывает свое-
го героя слушать молнию в небесах (VII), опьяняться
газонами, листьями, цветами, ручьями, вздохом, лучами
(XXXVIII), подчиняет его существо зрительным и слуховым
образам. Слуховой и звуковой образ создается у Гюго через
синтез различных звучащих явлений. В «Рыжей Нурмагаль»
(«Ориенталии» — «Orientales», 1829), описывая рощу, приютив-
шуюся между утесами, поэт упоминает одновременно и о рыча-
нии тигра, львицы, гиены, шакала, леопарда, и о свисте змеи,
крике орлана, обезьян, и о треске бамбуков под ногами слона,
визге, жужжании, реве и завывании, производимых остальным
населением лесной чащи. Заслуживает внимания в «Осенних
листьях» и звуковой образ, который мы встречаем в V стихо-
творении «Что слышно на горе». До лирического героя здесь
доносится широкий, огромный, слитный, полный ярких созвучий
и в то же время неясный шум. Этот шум сравнивается им
с музыкой, вибрирующей вокруг мира, расширяющей свои бес-
конечные круги, уходящей в область глубокого фона, где ее
поток теряется в темноте. Вечный гимн покрывает здесь весь
земной шар, как бы завернутый в эту симфонию и плывущий
в гармонии, будто в воздухе.
Но звуковая сторона изображаемого занимает у Гюго срав-
нительно незначительное место, если сравнивать ее с живопис-
ным аспектом его поэтического мира. Поэма «Небесный огонь»
составляется из целой серии пейзажей, которая начинается с
картины моря, переходит затем в ландшафт прибрежной доли
ны, в панораму равнины Египта, в картину пустыни и завер-
шается описанием Вавилонской башни. Всю поэму завершает
картина гибели Содома и Гоморры. Как панораму, рас-
стилающуюся перед зрителем, показывает Гюго и стамбульский
сераль («Головы сераля» из «Ориенталий»), Поэт называет зре-
лищем (spectacle) Наваринскую битву, прямо заявляя здесь
читателю: «Все воспламеняется — смотрите!» («Наварин»), Он
строит как обширную панораму свое стихотворение «На берегу
моря» (из сборника «Песни сумерек» — «Les chants du crepus-
cule», 1835); останавливается сначала на ландшафте земли,
на лугах, равнинах, лесах, горах, холмах, морях, океанах, на
берегу которых возвышаются утесы с башнями; переходит затем
к небесному пейзажу с солнцем, дневной лазурью, ночными те-
нями, с облаками, сверкающими нагромождением меди и брон-
зы, и завершает все стихотворение портретом возлюбленной.
Следует отметить, что возлюбленная вступает в сознание героя
тоже зрительно, дается как часть окружающего, как портрет,
параллельный пейзажам земли и неба («На берегу моря» из
«Песни сумерек»), У возлюбленной поэта трепещущая грудь,
16
переливающийся взор, молодой голос, белая рука. Опа предста-
ет перед глазами созерцающего ее поэта как пылающий куст
с распустившимися цветами. Он сравнивает ее шаги со звука-
ми мира и находит, что они нежнее этих звуков. Взгляд ее,
заря ее души поднимается лучезарно над лирическим героем
и молодит его. Ее пальцы, ложась на его руку, заставляют
петь его сердце.
Гюго подчиняет все в «Небесном огне» предмету созерца-
ния, тому, что видит глаз, или тому, что глаз замечает только
мельком (entrevoit), или тому, за чем взор «следит», тому,
что перед взором «возникает», в чем он «теряется». Поэт рас-
сказывает в четвертой главе поэмы не просто о заходе солнца
в Египте, а о том, как «видели» (on voyait) это заходящее
солнце, как оно представлялось раздвоенным, в виде двух све-
тил, одного на небе, другого — в воде.
Гюго, как Ламартин, Виньи и Сент-Бёв, дает изображае-
мое в зрительной и слуховой перспективе, подчеркивая в нем
степень удаленности отдельных частей от зрителя или слушате-
ля, обращая внимание на расположение зрительных и слуховых
впечатлений в пространстве, показывая объемность, глубину и
высоту видимого и слышимого, учитывая положение зрителя
или слушателя по отношению к зримому или слышимому. Так,
шум, производимый стаей джинов, пролетающей возле героя,
вначале еле слышен, почти не различим, затем он по мере при-
ближения нарастает, превращаясь в грохот, от которого дрожит
дверь. Но постепенно, по мере того как джины удаляются от
героя, грохот идет на убыль; в конце концов его место зани-
мают неясные звуки, которые в свою очередь затихают и сме-
няются полной тишиной. Доносятся только отдельные шумы и
сочетания звуков (syllabes). Кажется, что в наступившей ти-
шине слышен даже робкий голос кузнечика и потрескивание
града по крыше. «Пространство,— заявляет поэт,— стирает
шум».
Не менее показательна для Гюго расположенность в про-
странстве слуховых и зрительных впечатлений. Характерен в
этой связи пейзаж из «Осенних листьев» (стихотворение XXXV),
развертывающийся в перспективе, имеющий на первом плане
облака, тучи, а за ними выделяющийся на горизонте и стоя-
щий на краю небес город с тысячами крыш и высокими коло-
кольнями и шпилями. Поэт рисует находящееся вдалеке (аи
loin, de loin), на горизонте. Таким он показывает синее
небо, смешивающееся вдали с синими волнами, свинцовые тучи
и пирамиды, пронизывающие облако, караваны, пересекающие
пустыню, или, наконец, общий абрис Вавилонской башни. Он
дифференцирует также в изображаемом верх дц низ, отделяя
находящееся на поверхности волн от погруженного глубину
морской пучины, показывая многое расположенные наверху
и как бы разглядывая его снизу,— тНк он' р£ссййтр вает зда-
иг... и,уш.т; 'л
17 ASO.Evi-h
ние Вавилонской башни и пальму, выросшую в ее развали-
нах, на фоне звездного неба, мерцающего на горизонте («Не-
бесный огонь»).
Выдающаяся роль зрительных впечатлений подчеркивается
у Гюго и обилием цветовых эпитетов, как бы выделяющих в
предмете его внешнюю, поверхностную особенность, отличаю-
щую его от соседних, других. В «Ориенталиях» речь идет о
бледных и красных тучах («Небесный огонь»), о белых мина-
ретах («Головы сераля»), о желтеющем лесе («Мечтания»),
Поэт рассказывает здесь же о вещах из разного материала,
о сфинксах из красного гранита, о боге из зеленого мрамора,
о серых обелисках.
Животные тоже определены у Гюго по цвету — рыжие орлы,
зеленые крокодилы. Различную окраску имеет вода (алые вол-
ны моря, желтый Нил). Поэт подчеркивает разные оттенки цве-
та (красноватое небо, потемневшая река), сопоставляет вещи
разных окрасок (туча бросает у него кровавый отблеск на бе-
лые фронтоны дворцов, красные осколки падают у него на се-
рые плиты, белая мантия короля Гоморры выделяется на фоне
гор голубой серы). В «Васильках» поэт дает синтетический
зрительный образ, составленный из белого, голубого и жел-
того.
Утверждение, что основным для романтической поэзии явля-
лось изображение вещественного мира, независимого от со-
знания, может показаться недостаточно убедительным, если
вспомнить, что вещее- венный мир уже присутствовал в лирике
Андре Шенье, хотя последняя, как известно, к романтической
поэзии имела лишь косвенное отношение. Внешний мир в поэ-
зии А. Шенье, конечно, существовал, но имел в ней совсем
иное значение, чем у романтиков. А. Шенье концентрировал
внимание или на душе лирического героя, на его воспоминаниях
о прошлом, на его мечтаниях о будущем, или же на его дей-
ствиях в настоящем, причем эти действия, воспоминания, меч-
тания сопровождались, как своеобразным аккомпанементом, вос-
приятием и изображением окружающих явлений. Внешний мир
представлялся поэту лишь своего рода обрамлением, обстанов-
кой, средой, в которой совершались действия героя или проте-
кали его воспоминания и мечты.
Существовал внешний мир и в поэзии Делиля, огромную
роль в котором играли пейзажи, описания. Но у Делиля
объект изображения сохранял регламентированный, упорядочен-
ный, подчиненный сознанию поэта характер. Он не представ-
лялся чем-то неясным и нерасчлененным. Он не казался не-
доступным, не врывался извне в сознание, не нарушал его за-
кономерность.
Совсем с иным отношением к действительности мы имеем
дело у поэтов-романтиков. Если главной закономерностью бы-
тия для А. Шенье было время, длительность, переходы от на-
18
-
стоящего в сферу минувшего или в область грядущего, то ро-
мантического героя более всего привлекают масштабы, дистан-
ции, пространственная протяженность всего, что он перед собой
видит и слышит. В образах романтической поэзии мы имеем
явный приоритет внешнего мира, освобожденного от субъектив-
ных его оценок и налагающего свое veto, свои ограничения
на сознание человека.
Характерно в этом отношении уже творчество Ламартина,
который подчеркивает во внешнем мире его пространственность
и вместе с тем его огромность, его гигантский характер. Внеш-
ний мир приобретает в поэзии Ламартина именно поэтому по-
вышенный удельный вес, получает в ней явное преобладание
над душевной сферой. Звездное небо недаром представляется
лирическому герою Ламартина огненным лабиринтом, в котором
теряется (se perd) его взор («Звезды»), Дыхание вечера, чи-
таем мы в том же стихотворении, «рассыпает» небесные свети-
ла, но не по небу, а в «сверкающем пространстве». «Прост-
ранство» (espace, etendue) при этом необъятно («Уединение»),
громадно («Милосердие»), бесконечно («Вера»), бесконечна и
Вселенная («Уединение»), небеса отличаются своей неизмери-
мостью («Милосердие»), Взор лирического героя элегий Ла-
мартина, переносясь от холма к холму, «пробегает все точки
огромной протяженности» («Уединение»), Плывущие миры ка-
жутся поэту «висящими над необозримой пропастью» («Звез-
ды»), Он сам ощущает себя как бы вовлеченным в окружаю-
щую его гигантскую сферу, чувствует что его несет вместе с
небесными светилами к неизвестной гавани, земля представля-
ется ему плывущей как корабль.
Изображение внешнего мира как чего-то огромного и тем
самым независимого от сознания героя наблюдаем мы и в поэ-
зии Альфреда де Виньи. Очень характерно, что красочная, от-
крывающаяся человеку действительность имеет своим источни-
ком солнце. Именно заходящее солнце одевает все в золото
и пурпур, именно оно накладывает на верхушки палаток свер-
кающие краски («Моисей»), Виньи воспроизводит и чувства
души, подавленной внешним миром; он говорит об огне молний,
который ослепляет, о голосе, затерянном в пустыне, едва слыш-
ном в высотах воздуха. Мир Виньи, как и мир Ламартина,
отличается масштабностью. Солнце поднимается над лесами как
огромный пожар («Потоп»), Сельская местность открывается
у ног героя «Потопа» как пропасть. Герой смотрит на далекие
горы, рисующиеся ему именно из-за своей дальности в «слабых
очертаниях». Удаленные от него города кажутся ему неопре-
деленными и черными точками. Горы поднимаются к высочай-
шим вершинам. Земля кажется ему огромной округлостью, ко-
торая расстилается вплоть до того места, где начинается небо.
Необозримость, огромность внешнего мира не устает отмечать
> и Гюго в своих «Ориенталиях». Море, возле которого живет пле-
19
мя рыболовов и моряков, огромно, город в Египте исполин-
ский, купол в Содоме громадный, головы свинцовых богов ко-
лоссальны, царство Гоморры необъятно («Небесный огонь»).
Иногда размеры вещей как бы акцентируются через сравне-
ния. Так турецкий флот в «Наварине» сопоставляется с Левиа-
фаном. Всадник и конь в степи кажутся в «Мазепе» клочком
пены на необъятном голубом океане. Они погружены в беско-
нечный горизонт. Грандиозность отличает и образ Дуная из
стихотворения «Разгневанный Дунай». Он вбирает в себя 60 рек,
пересекает восемь государств, равных Баварии, гложет сотни
каменных мостов, несет на своих волнах большие трехпалубные
корабли и т. д.
Величина предметов выявляется часто из столкновения раз-
личных объемов, размеров. Так, в «Небесном огне» крокодилы
между великолепными глыбами Вавилонской башни кажутся
поэту ящерицами, слоны легко проходят сквозь трещины стен
той же башни, подчеркивая этим их величину. А колоссальные
пальмы, висящие на башне, кажутся рядом с обширными кон-
турами всего строения пучками травы. Огромные, гигантские
масштабы существующего делают понятным, почему оно часто
предстает у Гюго бесконечным, безбрежным, незамкнутым,
а процессы, в нем протекающие,-—безостановочными. Гюго гово-
рит о волнах, без конца накатывающихся одна на другую, о пу-
стыне, не знающей пределов, о бесконечной спирали Вавилон-
ской башни («Небесный огонь»).
Для объективности мира в поэзии Гюго, для его самостоя-
тельности, независимости от мысли поэта очень важно наличие
в нем множества материальных, весомых вещей, предметов и
тел — башен, минаретов, яхт, галер, барабанов, полумесяцев,
коней, тигров, слонов. Материальность вещей усугубляется де-
талями (дома с плоскими крышами, мавританские балконы,
окна с металлическими переплетами, потолки, украшенные па-
нелями), а их связь с бесконечностью мира тем, что поэт под-
черкивает обилие предметов (сто куполов, тысячи полумесяцев,
шестьдесят рек, впадающих в Дунай, и т. п.).
Не менее важно для весомости и материальности окружаю-
щего, а также для его чрезмерных масштабов, обращение Гюго
к приему перечисления; из отдельных предметов составляются
целые серии, ряды, множества. Так, в «Небесном огне» мы стал-
киваемся с дворцами, башнями, арками, лестницами, висячими
садами, акведуками, капителями, потолками. В «Канарисе» идет
речь о бесчисленных мачтах, парусах, якорях, оснастке корабля,
его носе, корме, о многочисленных юоенно-морских флагах и
гербах различных государств — Австрии, России, Америки, Фран-
ции и др. В «Наварине» фигурируют различные типы судов
шхуны, яхты, галеры, тартаны, джонки, шлюпки, каравеллы,
бригантины, ялики. Перечисления у Гюго имеют двоякий смысл.
С одной стороны, они подчеркивают множество предметов, сое-
20
динение и сочетание многих вещей, одновременно входящих в
сознание поэта. А с другой — они акцентируют пассивность это-
го сознания *, ибо объект оказывается не подчиненным субъек-
ту восприятия и последний не вносит в многообразие формы,
с которым он сталкивается, никакой системы, отвергает упоря-
доченность этого многообразия, отказывается видеть в нем ка-
кую-то закономерность, усматривает во внешнем мире прежде
всего скопление, нагромождение явлений, т. е. нечто стихийное,
хаос. Тема стихии не случайно занимает в «Ориенталиях» доволь-
но заметное место. Поэт предпочитает образы моря, пустыни, огня,
составные части которых не располагаются спокойно в его кру-
гозоре рядом одна с другой, а теснят одна другую, наседают
друг на друга, накапливаются. Поэт рассказывает о груде зда-
ний, составляющих Вавилонскую башню, о волнах, нагромож-
дающихся в пустыне. Он говорит о «таинственном хаосе», за-
ключенном в туче. Ему видится «черный хаос» в пустыне, всег-
да полной чудовищ и бедствий. «Смутным хаосом» акведуков,
башен, мостов, лестниц, куполов, капителей, потолков рисуются
ему Содом и Гоморра («Небесный огонь»).
Лирика Гюго сохраняет свою направленность на внешний
мир и в 30-е годы, прежде всего в «Осенних листьях», когда
она выходит за пределы представления о мире как о красоч-
ном, живописном полотне, которым она была ограничена в
«Ориенталиях». В «Осенних листьях» нередки стихотворения-
гимны, воспевающие великолепие ночи. Интерес, который про-
являет поэт в «Осенних листьях» к ночи, может быть, прав-
да, расценен как его стремление уйти от объективного мира,
погрузиться в свою душу. День с огненным солнцем, заявляет
здесь поэт, ослепляет душу человека, подавляет его взоры
(«Осенние листья», стихотворение XII). Душа человека — ноч-
ной цветок, который раскрывается лишь на исходе дня и пол-
ностью распускается только при звездах (там же, стихотво-
рение XXI).
Фактически, однако, когда Гюго рассказывает о смене дня
и ночи, речь идет у него не о лирическом герое, который за-
мыкается в себе, а, напротив, о расширении духовного круго-
зора этого героя за счет объективного мира, о том, что ночь
помогает человеку обнаружить в мире вещей нечто ему неиз-
вестное. Глаза его открывают ночью, в глубине небес, тысячи
и тысячи новых миров, о которых раньше он и не подозревал.
Звезда, засветившаяся вечером или в начале ночи, демонст-
рирует герою одну из тех тысяч истин, которые закрывают от
человека день. Небо темной ночью уже не имеет достаточно
блеска, чтобы скрыть пламя звезд. Чем более сгущается над
человеком ночь и темнота, тем более ясно его глазам предста-
1 Это обстоятельство особенно существенно для ранней романтической поэзии,
т. е. для поэзии 20—30-х годов.
21
ет великолепная яркость неба, тем больше мы видим в темноте
истин, сверкающих одна рядом с другой («Осенние листья»,
стихотворение ХП).
А
Приоритет вещественного мира над ду-
шой человека не означает, что из романтической лирики со-
вершенно исключается изображение внутреннего мира. Но и
внутренний мир раскрывается в ней через категории простран-
ственного порядка. Именно поэтому у Сент-Бёва феномены ду-
шевной жизни очень часто сравниваются с явлениями объек-
тивной действительности и становятся тем самым как бы про-
тяженными, расположенными в пространстве, причем сами пси-
хические явления рисуются как бы материализованными. Душа
в «Вечере молодости» тает, переливается через край и истекает,
подобно спелому винограду,, который мнут виноградари. Сердце
поэта уподобляется в том же стихотворении змее, которую па-
стух ударами топора разрезал на части. Ум человека пожирает
себя ночью, как лампа, оставленная в погребе («Возвращаясь»).
Психика человека изображается в виде порабощенного пламе-
ни, в виде не вполне погасшего вулкана, который тлеет под ла-
вой, пока внезапно не проснется и не охватит все своим все-
пожирающим огнем («Вечерняя молитва»). Пространственно,
как феномен объективного порядка, трактует Сент-Бёв и психи-
ческую жизнь человека в целом. Желтые лучи заката прони-
кают не только через ставни, белые занавески, оконные стек-
ла, но пробираются и в самую душу, вступая в нее через
зрачки. Они окрашивают в желтый цвет белые занавески и в
то же время озаряют, позлащают тысячу мыслей в душе
(«Желтые лучи»).
Если взять поэзию В. Гюго, то и в ней душевная жизнь,
составляющаяся из мыслей, чувств, любви, пылкой надежды,
может оказаться, как говорит сам поэт, «оплодотворенной»,
т. е. по-настоящему живой, лишь в том случае, если в образе
смешаются, соединятся друг с другом «душа» и «творение»,
если будет установлен постоянный обмен между внутренним
миром и «другой вселенной», «видимой», которая «давит» (pres-
se) на человека («Пан» из «Осенних листьев»). Поэт если и
видит в своей душе «центр всего» существующего, то только
потому, что эта душа является «звучным эхом», отражением
мира, ее заставляет звучать и дрожать всякое идущее извне
дыхание, всякий луч света (стихотворение I из «••'Осенних ли-
стьев»). Любопытно в этой связи еще стихотворение XIX из
«Песен сумерек». Явления душевной жизни возникают здесь
вслед за процессами в мире вещей и развиваются далее па-
раллельно им. Зажигается утренняя заря, убегает тень, и вместе
с нею уходят сон и туман, раскрываются розы и полуоткры-
ваются веки.
22
2
Если устремленность лирического героя
во внешний мир, выражение времени через образы простран-
ства, приоритет объекта над субъектом характерны для роман-
тической лирики в целом, то образ лирического героя поэтов-
романтиков является основой для дифференциации направле-
ний внутри романтической поэзии. Лирический герой, как его
трактует Ламартин, совершенно не похож на аналогичного пер-
сонажа у Виньи, у Сент-Бёва и тем более у В. Гюго, О. Барбье.
Лирический герой Ламартина коренным образом отличает-
ся прежде всего от героя предшествовавшей лирики. Поэзия
классицизма и просветительская лирика строились на полной
соразмерности между человеком и миром, на полном их соот-
ветствии друг другу. Своеобразие ламартиновской лирики за-
ключается в том, что ее герой как бы отстает от существую-
щего, которое, по сравнению с дореволюционными временами,
радикально изменилось, находится в постоянной несогласован-
ности с героем. В противоположность огромной, бесконечной
сфере, которая его окружает, он ощущает самого себя малень-
ким существом, неспособным подняться над колоссальностью
окружающего его мира или хотя бы сравняться с ним. Он чув-
ствует себя как бы затерянным в огромном пространстве сре-
ди бескрайних далей. Он как бы ослеплен (ebloui) тем, что
ему видится. Он стремится слиться с природой, раствориться
в ней, хочет следовать за днем в небе и за тенью на земле,
летать в пространстве вместе с северным ветром, скользить
сквозь леса в тени долины («Долина») 2. Человек у поэтов
классицизма — Буало, Вольтера, А. Шенье — вел себя как хо-
зяин окружающего мира. Человек у Ламартина не верит в себя
и меланхолически взирает на свои возможности. Характерна
его грусть («Уединение»), его разочарованность («Уединение»,
«Вечность»). Он равнодушен ко всему: что ему все эти долины,
дворцы, хижины? Безразличным взором следит он за круго-
воротом солнца, начинает ли оно свой путь или завершает его,
садится ли оно в сумрачном или чистом небе («Уединение»),
Во всем ему чудится пустота и пустыня. Он ничего не желает,
ничего не просит у Вселенной. Он не собирается больше на-
доедать ей своими желаниями («Долина»), С этим состоянием
героя связана и тема усталости. У него истощенная душа
(«Вечер»), Его сердце устало от всего, даже от надежды («До-
лина»), Ему кажется, что он слишком много видел, слишком
много пережил, и он мечтает лишь о покое и забвении. Несо-
2 Это, кстати, соответствует и социально-политическим позициям самого Ла-
мартина 20-х годов, когда создается его лирика. Он смотрит на мир, воз-
никший после революции, из прошлого, с дореволюционных позиций, как
сторонник монархии Бурбонов.
23
размерность героя и окружающего выражается и в том, что
солнце, озаряющее землю, «согревает», с его точки зрения,
только живых, себя же он причисляет к мертвецам, которым
солнце не нужно («Уединение»). Глядя на прозрачные воды
ручья, он уверен, что его душа, взволнованная, мутная, не в со-
стоянии отразить ясность прекрасного дня («Долина»),
Но поэт не только противопоставляет себя миру. Он ищет
и соответствий с ним, с отдельными его сторонами, аспекта-
ми. Он находится в поисках красок, тонов, пейзажей, которые
совпали бы с его настроением. Так, в лирике Ламартина скла-
дываются и занимают в ней значительное место не имевшие
большого значения для А. Шенье образы вечерней, закатной
или предзакатной природы. Герой Ламартина видит многое при
свете заходящего солнца, рассказывает о последних лучах солн-
ца, о сумерках, подернутых дымкой. С темой вечера связаны
у него мотивы сна. Он говорит о спящих водах («Уедине-
ние»), душа его, убаюканная монотонной песнью, засыпает при
шепоте вод. Картины вечерней природы сопровождаются у Ла-
мартина и осенними пейзажами, которым А. Шенье явно пред-
почитал пейзажи весенние, рисующие пробуждение и раскрепо-
щение природы от зимней спячки, от зимнего оцепенения. Он
недаром отмечает листья, падающие с дуба («Воспоминание»),
землю, теряющую свое убранство, вянущий луг («К Эльвире»).
Если природа часто представляется поэту в аспекте заката
и осени, в ракурсе убывающей жизни, удаляющегося шума, то
она вместе с тем рисуется своего рода константой, остается
всегда той же, что была прежде, как солнце, встающее каждое
утро, она противополагается преходящести и текучести окру-
жающей поэта жизни. Столь же неизменен и незыблем образ
возлюбленной. Если в просветительской лирике (А. Шенье) воз-
любленная чаще всего превращалась в объект воспоминания
или фантазии, ибо на первом месте там стоял герой и его ду-
шевная жизнь, то у Ламартина возлюбленная оказывается умер-
шей, покинувшей жизнь и героя. Но, исчезнув из реальности,
и сама возлюбленная, и чувство, которое она когда-то вызыва-
ла в поэте, сохраняются неизменными в его душе. Образ воз-
любленной как бы преодолевает время, останавливает его по-
лет, противостоит всему, что безвозвратно уносится в вечную
ночь («Озеро»). Ее образ не может постареть —у него нет
возраста. Одинокий поэт, потеряв возлюбленную на земле, обна-
руживает ее на небе, при этом видится опа ему такою же,
какой была в последний день, когда она улетела с зарей в
свою небесную обитель («Воспоминание»), Лирический герой
Ламартина не просто наслаждается созерцанием леса, озера,
черных сосен, диких скал, камня, на котором когда-то сидела
любимая женщина. Всё это — следы ночного свидания с ней и
как бы закрепляют воспоминания об этом свидании. Окружен-
ный лесами и скалами, встречался он со своей возлюбленной.
24
В молчаливых утесах, нависающих над водами озера, в ветре,
колеблющем его волны, в ночном светиле, покрывающем бе-
лизной его поверхность, видит он свидетелей своего бывшего
счастья, сохранивших для него переживания ушедшей любви и
страсти («Озеро»). Явления природы, окружающей героя (ве-
тер, звезды), не только напоминают ему о покойной возлюб-
ленной: в них он ощущает как бы ее появление в настоящем,
через них сейчас, сегодня как бы соприкасаясь с ней. Поэт
слушает вздохи ветра и в них различает слова, которые она
ему шепчет. Он видит ее в каждой звезде, когда любуется
огнями, разбросанными покрывалом ночи. Рука умершей осу-
шает его слезы, когда он шагает ночью грустный и одинокий.
Она чудится ему и во сне («Воспоминание»),
Человек у Ламартина не соразмерен окружающему миру:
он пассивен, остро ощущает свою ущербность и неполноцен-
ность, никогда не чувствует себя на земле хозяином, нуждается
постоянно в помощи. В этом проявляется религиозный харак-
тер поэзии Ламартина: в ней намечается идея бога.
Если константами внутреннего мира поэта являются чувст-
во природы и чувство любви, это справедливо лишь для элегий
(«Уединение», «Вечер», «Долина», «Воспоминание», «Озеро»,
«Убежище», «Послание к Эльвире» и др.). Но поэт не останав-
ливается на произведениях этого жанра. Его отношение к дей-
ствительности вбирает в себя традиции классицистской поэзии
и представляется в какой-то степени (в «Человеке», «Бессмер-
тии», «Отчаянии», «Провидении человеку», «Славе», «Молитве»,
в «Вере» и в «Боге» и других) синтезом романтизма и клас-
сицизма.
Такова, например, тенденция к включению в микрокосм
поэта элементов «большого» мира, которая имелась, впрочем,
и в элегиях («Убежище», где речь шла о берегах Темзы, Нила,
Ганга), но там, правда, она решающей роли не играла. Осо-
бенно характерны для этой тенденции оды «Слава», «Отчая-
ние», «Бог». В «Славе» мы встречаем персонажей разных эпох
и стран —Овидия, Кориолана, Тассо, и различные места дейст-
вия — Афины, Рим, Лиссабон. В «Вере» поэт говорит о Сокра-
те и Платоне. В «Славе», «Отчаянии», «Вере» появляются отвле-
ченные понятия, никак не связанные с ощущением и восприя-
тием видимого,— Несчастье, Горе, Надежда, Зло, Вера.
Другую форму приобщения к традициям классицистской поэ-
зии представляет собой атмосфера мысли, споров, полемики,
которую поэт вводит в свои оды. Его лирический герой раз-
мышляет, обращается к собеседникам, убеждает своих оппонен-
тов. В «Человеке», имеющем подзаголовок «Лорду Байрону»,
Ламартин оспаривает концепцию мира, которая, как он считает,
разделяется Байроном. Он противопоставляет байроновской точ-
ке зрения свой взгляд на существующее, утверждает, что мне-
ние Байрона о действительности недостаточно и ограниченно.
25
Размышляя над попытками синтеза романтической и клас-
сицистской манеры изображения мира у Ламартина, следует
учитывать, что многие компоненты классицизма, обусловленные
принципами активности человека, остаются у Ламартина за пре-
делами его творчества. Ламартин узко толкует столь важный
для классицизма образ интеллектуального героя и связанную
с ним атмосферу напряженной полемической мысли. Если в
«Человеке» поэт еще имеет своим адресатом другое человече-
ское существо, которому он возражает и с которым он спорит,
то в других религиозных одах — в «Молитве», «Вере», «Бес-
смертии», «Боге» — он обращается только к космическим силам
или к богу, причем самое обращение к богу утрачивает форму
свободного монолога, превращается в молитву. Герой выступает
здесь уже не в качестве спорщика, как в «Человеке», а в роли
слушателя, которому адресует свои поучения бог («Провиде-
ние человеку»). Богу, а не человеку принадлежит в большинст-
ве од слово, завершающее дискуссию. Бог, а не человек ста-
новится в них центром мира; место же действия переносится
в потустороннюю сферу. Ламартин недаром заявляет, что мысль
поэта поглощается бесконечностью так же, как капля воды
океаном («Бог»), Ламартин обрушивается даже на Байрона за
«субъективность» взглядов, за скепсис. Он осуждает его уверен-
ность, что все в мире находится во власти зла, утверждает,
что в мире все исходит от бога, все действия бога — благо.
Если в «Человеке» нигилистическую точку зрения Ламартин
вкладывает в уста своего оппонента, то в других одах, на-
пример в «Вере», он изображает себя самого существом сомне-
вающимся в боге, осмеливающимся произносить богохульные
речи. Именно из признания лирического героя страдающим су-
ществом, обреченным на смерть и в то же время взыскующим
истины, и возникает в одах Ламартина — в «Вере», «Отчая-
нии» — мотив взволнованной, ищущей мысли, а вслед за нею
и образ жестокого бога — разрушителя, вызывающего слезы и
проклятия людей («Отчаяние»),
Очень важно при этом, что сомнения и отчаяние, способ-
ность все осуждать являются у Ламартина не постоянным ат-
рибутом человека, а только его преходящим настроением. Не
менее важно, что жестокий бог, преследующий людей, также не
является у поэта дефинитивным образом. Герой «Веры», пройдя
через состояние сомнения, обретает веру и надежду, оказыва-
ется в конечном счете «удовлетворенным»: всё приходит в по-
рядок (s’ordonne), связывается в одно целое (s’enchaine). Он
обнимает единым взором судьбу человека от его рождения до
смерти и начинает понимать смысл человеческих страданий,
заявляя, что они якобы получат отмщение и воздаяние в по-
смертном существовании человека.
Сложнее обстоит дело в «Отчаянии». Герою открывается
здесь картина властвующего в мире зла и бессильной добро-
26
детели, сраженной ударами дерзости, клеветы, находящейся в
чести, силы, основанной на несправедливости. Герой повергнут
в отчаяние этой картиной, и его отчаяние не рассеивается до
самого конца произведения. Разрешение приходит в другой оде —
«Провидение человеку». Провидение разъясняет здесь поэту, что
оно его породило, вскормило, и советует ему слиться с приро-
дой, стать таким же, как она, бессознательным и покорным.
Мотив подчинения земного потустороннему отсутствовал в
элегиях. Ему мешали там элементы наглядно-чувственного мира,
существовавшего в какой-то мере самостоятельно, но уже в эле-
гиях мир рисовался поэту явлением промежуточного порядка,
располагающимся как бы на пути к ирреальному. Неземной в
элегиях представлялась прежде всего любовь. Недаром она от-
носилась не к живой возлюбленной, а к воспоминанию о ней.
То же и с природой. Она раскрывалась в элегиях хрупкой,
невесомой, лишенной материальности, часто виделась в тумане.
В пейзажах элегий систематически игнорировалась вся гам-
ма красок, многокрасочность внешнего мира, подчеркивавшая
разнообразие форм природы. Элегические пейзажи схематизиро-
вали изображаемое, сводили все к контрастам белого и черно-
го, света и тени. Этому соответствовали и мотивы тишины, без-
звучия, безмолвия. В «Долине» именно тишиной и безмолвием
давят на героя густые леса, сбегающие с холмов. Природа —
это только остановка на пути к вечному покою, который на-
ступает в потустороннем мире. Это как бы предпоследнее убе-
жище, в котором душа может получить отдых. Смерть у
Ламартина лишь переход в другое бытие. Герой его оды «Бес-
смертие» приветствует смерть как «освободительницу». «Мрач-
ный вид» был приписан смерти «страхом» и «заблуждением».
Здесь же поэт говорит о ней как о «рождении».
Но если в элегиях мы имеем дело с видимым миром, то
оды «Бессмертие», «Молитва», «Вера», «Бог» вообще обходятся
без наглядно-чувственного момента. Правда, в «Молитве» упо-
минается о закате солнца, о вечерних облаках, о луне и заре,
о горах, о траве. Но во всем этом лирический герой видит лишь
отражение образа бога. Пространство демонстрирует божье ве-
личие (grandeur), земля — доброту бога, небесные светила — его
великолепие (splendeur), Вселенная представляется ему храмом,
в котором славят бога, небеса — куполом, облака — волнами
ладана, небесные светила — факелами, зажженными в этом
храме.
Этот пейзаж созерцается в «Отчаянии» не поэтом, а его
противниками, сторонниками Эпикура, людьми скептического
нрава, усматривающими во всем разрушение и уничтожение.
Что же касается самого героя, то для него разрушение чувст-
венного мира — почти радость. Он показывает себя устремлен-
ным в потустороннее бытие. Человек попирает ногами видимую
Вселенную, сотрясает свои цепи, оставляет свои чувства в те-
27
лесном мире. Он вырывается из времени, преодолевает прост-
ранство, поднимается в мир духов, попадает туда, где вообще
нет горизонта и дали, свободно парит в «полях возможного».
Он сталкивается там с «универсальным светилом», которое ни-
когда не восходит, никогда не заходит. В нем всё — и безмер-
ность и вечность. Оно всё извлекает из себя и всё в себя вби-
рает («Бог»),
Романтическая поэзия, выдвинувшая чувственный, объектив-
ный, пространственный мир, приходит здесь у Ламартина к
своему концу, так как утрачивает всякую связь с землей, с че-
ловеком, с человеческими чувствами и переживаниями, на ко-
торых держались такие замечательные стихотворения Ламарти-
на, как «Озеро», «Звезды», «Уединение».
3
Альфред де Виньи, поэзия которого воз-
никает почти одновременно с поэзией Ламартина, рисует свое-
го героя также в его связях с богом. С отношением человека
к потустороннему миру имеем мы дело и в важнейших произ-
ведениях поэта раннего периода (10—20-е годы) —в ^Моисее»,
«Элоа», «Потопе», и в таких значительных вещах 30—60-х го-
дов, как «Оливковая гора», «Дом пастыря», «Судьбы». Но, про-
тивопоставляя человека богу, Виньи существенно отличается от
Ламартина прежде всего трактовкой божества, которое у Ламар-
тина выступало в роли утешителя и покровителя человека, в то
время как Виньи, если вспомнить его «Потоп» (1823), рисует
бога главным образом мстителем, жестоким существом. Бог не
способен утешить и успокоить человека, прийти к нему на по-
мощь. Он в состоянии лишь наслать на него бедствие, потоп,
уничтожить его самого, его цивилизацию. По-иному изображает
Виньи и человека. Герой утрачивает у поэта характерные для
ламартиновского героя слабость, ограниченность. Моисей Виньи
рисуется гигантом, его 'ноги возвышаются над народами.
Он знает все тайны небес, бог подарил ему мощь и силу свое-
го взгляда. Он останавливает грозы, поглощает город зыбучими
песками, опрокидывает горы при помощи крыльев ветра. Ему
нипочем пространство, перед ним становятся неподвижными
реки и замолкает голос моря («Моисей», 1822) 3.
На первый взгляд, бог у Виньи выступает мстителем толь-
ко по отношению к человеку-злодею, к человеку, утратившему
свою первозданную чистоту. Он противостоит в «Потопе» пре-
3 Образы человека и бога в поэзии Виньи соответствуют его социально-по-
литическим позициям, гораздо более сложным, чем у Ламартина. Склоняясь
к монархии Бурбонов и отвергая тем самым традиции революции, Виньи
колеблется в своей Оценке этой монархии, не полностью солидаризируется
с ней.
28
красной природе, только что вышедшей из рук создателя. Зем-
ля у поэта празднична и прекрасна. Природу отличает гармо-
ничность и чистота. Поэт говорит в «Потопе» о «правильно-
сти» огромных гор, об их ступенях, равномерно поднимающих-
ся вверх, об упорядоченном течении рек к морю. Человек же
мрачен, стар, холоден, он зол и готов погубить во время все-
общего наводнения своих ближних («Потоп»). Если звери во
время потопа утрачивают свою жестокость, смиряются со своей
участью, ложатся на землю готовые умереть, то человек один
остается верен своим кровожадным помыслам. Виньи говорит об
алчности сильного, ополчившегося на слабого, о ненависти к
детям, кровью которых человек поддерживает свое существо-
вание.
Но бог Виньи — и в этом его отличие от ламартиновского
бога — обрушивается и на невинных. В «Потопе» его жертвой
становятся пастух Эмануил и Сара, его возлюбленная,— люди,
рожденные в полях, далекие от городов и от соблазнов. Поэта
привлекает в них близость к первобытным нравам, простая кра-
сота, мягкость языка; с грустью рассказывает он об их гибели
в волнах. Бог не отвечает и на призывы Христа в «Оливковой
горе» (1865), остается молчащим, слепым и глухим по отноше-
нию, к нему и людям. Надо отметить здесь, что Христос в Геф-
симанском саду, когда он молится богу-отцу, впервые ощущает
и себя не богом, а человеком, сердце его сжимается от холо-
да, от страха, от одиночества. Для мира, который пытается
взять под свою защиту Христос в «Оливковой коре», харак-
терно в первую очередь то, что все в нем страдают, беспре-
станно стонут. В нем нет места злодеям, насильникам, о ко-
торых говорилось в «Моисее» и в «Дочери Иевфая» («La Fille
de lephte», 1824). Земля, которая рассматривается здесь как
синоним человечества, исполнена ужаса, боится остаться в оди-
ночестве. У нее высохшая грудь, ее дети подвергаются неза-
служенным мукам и смерти. Народы земли напоминают обез-
умевших детей, плачущих и покинутых.
Христос, погруженный в молитву в Гефсиманском саду на-
кануне своей казни, засыпает бога градом вопросов, которые
касаются тайн бытия, просит отца своего оставить его на земле,
в живых, чтобы закончить дело, им начатое и имеющее своей
целью братство людей. Христос видит свою заслугу в том, что
он запретил уничтожение людей и животных под видом жертво-
приношения, заменил битвы поединками умов, ручьи крови —
волнами вина, а растерзанную плоть — белым хлебом. Христос,
однако, не считает свою миссию выполненной, ибо человек, как
и прежде, окружен тайнами. Он не знает, откуда он и куда
направляется, ему неизвестно, является ли добро и зло случай-
ностью или основой Вселенной. Человек, так же как до появле-
ния Христа, окружен враждебным миром, насильники и злодеи
всегда могут снова вернуться.
29
О боге как о существе, враждебном человеку, речь идет и в
«Судьбах» («Des Destinees», 1849) Виньи. Бог, рассказывается
здесь, насылает на людей судьбы, которые напоминают статуи
в белых покрывалах. Судьбы эти видят в людях своих рабов,
определяют полностью поведение человека, давят на него колос-
сальным грузом, вынуждая людей склонить голову, ведя их, пла-
чущих и униженных, вслед за собой. Так было, по мнению
поэта, во времена торжества языческой и иудейской религий.
Но отношения людей и бога не изменились радикальным обра-
зом и после появления христианства, которое смягчило власть
рока и встало на защиту человека. Человек выпрямил плечи,
вообразил, что сбросил путы. Из сердца человеческого вырвал-
ся вздох счастья. Но это лишь видимость. Рок не исчез. Судь-
бы только оторвали от людей своих когти и поднялись на небо
за советом, как им быть дальше. Им отвечает от имени бога
Благодать (Grace), заявляя, что человек станет счастливее, так
как будет считать себя свободным, но на самом деле его дыхание
и его сила по-прежнему будут проистекать от бога. И Судьбы
вновь возвращаются на землю, вновь берут в невидимые руки
мятежного, но, по сути дела, робкого и несовершенного чело-
века.
Отсюда, из антирелигиозных представлений о бытии, из мол-
чания бога, не желающего помочь человеку в его страданиях,
возникает у Виньи тема стоицизма, непримиримости по отноше-
нию к богу. Говоря о стоицизме Виньи, следует, впрочем, иметь
в виду, что его произведениям 10—20-х годов («Моисею», «До-
чери Иевфая» и др.) тема стоицизма была чужда. Виньи скло-
няется в первый период своего творчества к антитезе героя и
мира. Моисей тяготится своим могуществом, изоляцией от- лю-
дей, отсутствием личного счастья. Люди говорят о нем как о
чужом. Вместо того чтобы любить его, перед ним трепещут,
а когда он открывает людям объятия, они падают перед ним
на колени.
Мысль о том, что слава и величие не совместимы со сча-
стьем, что возвышение человека влечет за собой утрату свя-
зей с другими людьми, отчетливо выражена у Виньи в его
«Дочери Иевфая». Полководец, победитель вражеских племен
вынужден в благодарность за одержанную победу принести в
жертву богам свою дочь. Утрата дочери — награда за подвиги,
которые таким образом делают человека одиноким.
Совсем иначе обстоит дело с представлением о человеке у
позднего Виньи. Убеждение, что действительность в целом бога-
че отъединенного существования, сменяется идеей о том, что
объективный мир ужасен, мрачен, зловещ и не имеет в себе
ничего привлекательного. Природу в поздних стихотворениях
Виньи также отличает крайняя суровость и предельная враж-
дебность к человеку. Черное молчащее небо, напоминающее со-
бой «мраморный траур» (могильный памятник), к тому же за-
30
крытое траурным облаком, нависло над темной землей, не знаю-
щей ни звезд, ни зари. Над землей дует зловещий ледяной
ветер, заставляющий трепетать и склоняться оливковые деревья
(«Оливковая гора»). Облака бегут и застилают воспаленную
луну, будто дым; леса чернеют вплоть до самого горизонта;
трава полна сырости, вересковый кустарник плотен, высок, труд-
но проходим («Смерть волка»). Герой странствует по плохим
дорогам, по замерзшим болотам, крупными хлопьями падает
снег и заносит его («Вандея», 1847).
Природа предстает у позднего Виньи в качестве вечного
врага. В «Доме пастыря» Виньи обращает внимание на равно-
душие природы, на ее холодную жестокость и презрение к люд-
ским страданиям. Человеческая история для природы — коме-
дия. Она нуждается в людях не более, чем в муравьях. Ей
неизвестны имена народов, населяющих землю. Взирая на них
с презрением, она их не видит, не слышит ни криков, ни сто-
нов. Не матерью, а могилой является она для человека. Она
вспоминает, какой она была прекрасной и полной благоухания
до того, как появились люди. Она мечтает о чистой и ясной
тишине, которая наступит после гибели человеческого рода. Ли-
рический герой «Дома пастыря» ненавидит природу, ибо видит
в волнах рек человеческую кровь, а в недрах — мертвецов, пи-
тающих корни лесов.
Наличие жестокого бога и суровой природы в последних
стихотворениях Виньи осложняется тем, что поэт остается не-
последовательным в своем богоборчестве, не мыслит себе мир
без бога. Человек одинок и не в состоянии ничего сделать без
бога, который, однако, не хочет оказывать содействие человеку,
так что последнему не остается ничего другого, как отвечать
на немоту бога, на равнодушие и презрение природы холод-
ным молчанием. Таков вывод, к которому приходит лирический
герой Виньи в «Доме пастыря». Несколько иначе, хотя и в
аналогичном направлении, трактует Виньи отношения человека
и природы в «Смерти волка» (1843). Волк, захваченный охотни-
ками, понимает, что ему пришел конец, что все пути к отступ-
лению для него отрезаны. В него вонзились охотничьи ножи,
его окружили зловещим полумесяцем ружья. Сначала он спо-
койно взирает на своих преследователей, затем так же спокойно
укладывается на землю, облизывает свои раны, презрительно
закрывает глаза и умирает Поэту стыдно, когда он чувствует,
до какой степени робок человек в сравнении с мужественным
волком. Волк учит человека умению гордо уходить из жизни,
возвышаясь над муками. Стонать, плакать, просить — представ-
ляется лирическому герою «Смерти Волка» достойным презре-
ния. Не роптать на судьбу, а безмолвно страдать и столь же
безмолвно умереть: молчание значительнее всего на свете —
заявляет поэт. Стоицизм, нежелание входить в соприкосновение
с враждебной природой и с враждебным богом имеет у Виньи
31
и свою оборотную сторону, ибо из стоицизма возникает чувство
постояной дистанции между героем и миром, т. е. злом. Стои-
цизм — не только вызов богу, но и нежелание вступить в борь-
бу со злом. Но чаще богоборческие тенденции дают, впрочем,
основания и к пропаганде гуманизма, который раскрывается к
тому же у Виньи в оптимистическом плане: «Дикарка» (1843),
«Бутылка в море» (1853) и «Чистый дух» (1863). В «Дикарке»
Виньи воспевает цивилизацию, преобразующую девственные
леса, и миссию человека покорять землю, невзирая на божест-
венное «молчание». Та же уверенность в конечной победе че-
ловеческого разума, его торжества над природой лежит в основе
«Чистого духа» (1863). Эта уверенность тесно переплетается у
поэта с темой будущего, так как победа человеческого разума
не имеет ничего общего с сегодняшним днем. Гармоническое
начало, изъятое из настоящего, обнаруживается именно в реаль-
ном грядущем (а не в потустороннем мире, как у Ламартина).
4
В противовес Ламартину, а отчасти в
противовес и Виньи, хотя в то же время отправляясь во многом
от Виньи, создает образ своего лирического героя Сент-Бёв4.
Сохраняя пространственный объективный характер лирики, на-
меченный у Ламартина и Виньи, Сент-Бёв вносит существенные
поправки в образ героя уже в «Поэзии Жозефа Делорма» (1829).
Герой этот на первый взгляд напоминает человека как он трак-
товался Ламартином. Сент-Бёв акцентирует в человеке его ра-
зочарованность: человек устал читать книгу жизни, его сердце
кровоточит («Самоубийство»); его посещают моменты слабости
и скуки; его молодость опечалена весной («Первая любовь»);
ревнивая фортуна отказывает ему в жене, в друзьях, в крыше
(«Стансы»).
Но у ламартиновского героя разочарованность в действи-
тельности объяснялась несоразмерностью героя и мира, герой
не в состоянии объяснить все богатство объективного мира, вме-
стить в себя все его разнообразие. Основная мысль Сент-Бёва,
так же как и Виньи, состоит в том, что мир ужасен, жесток,
полон несправедливости. Правда, для Виньи несправедливость и
жестокость — постоянный атрибут объективной действительно-
сти, герой же Сент-Бёва переживает утрату иллюзий, поверяет
свои мысли реальностью. Жизнь казалась ему когда-то очаро-
вательной, теперь он смеется над своими химерами и готов их
разбить («Самоубийство»). О юных годах, таких свежих, овеян-
4 Если Ламартин и Виньи связаны с Реставрацией, то Сеит-Бёв — идеолог
движения, направленного против Реставрации и ведущего к революции
1830 года. Его социально-политические позиции определяют и его особое
место в романтическом движении.
32
ных надеждами, но быстро ушедших, он вспоминает с грустью.
Он порвал со своими прежними заблуждениями и ложными
представлениями, покончил с ними, находится в конфликте с
другими людьми, и с самим собой в прошлом («Семейное сча-
стье»), и мечтами, которые когда-то владели им («Вечное мол-
чание»). При этом если Ламартин смягчает и в конечном счете
снимает разочарованность героя в мире, то Сент-Бёв, так же
как Виньи, хотя несколько иными путями, чем автор «Поэзии
Жозефа Делорма», усиливает и углубляет эту несогласован-
ность. У Ламартина лирический герой — маленькое, незначитель-
ное существо, величина, которой при больших расчетах можно
даже пренебречь. Дисгармоничность, вносимая в существую
щее человеком, перекрывается и ослабляется всеобщей гармо
нией. Образ мятущегося человека поглощается образом бога,
первоосновой гармонии. А у Сент-Бёва человек — центр вещест-
венного мира. Недаром и возлюбленная, покинув пределы жиз-
ни, все равно неподвластна смерти, как у Ламартина. Герой
не только вспоминает о ней, как это было в элегиях А. Ше-
нье, а ощущает ее возле себя, видит ее и предметы, ее окру-
жающие. У нее белокурые волосы, белоснежная шея, синие гла-
за (сонет 9). Она играет рукой поэта, ее голос утешает его в
сумрачный день; она поднимается с поэтом к себе на антресоли,
сбрасывает косынку с головы, на дверях ее комнаты задвиж-
ка, на окнах шелковые занавески с бархатной бахромой
(«Роза»),
В лирике Сент-Бёва отсутствует и незначительный, малень-
кий человек, потонувший в океане планетарных масштабов,
и бог. Поэзия у него перестает быть метафизической, какой
она была у Ламартина и у Виньи. Лирический герой стихов
Сент-Бёва утратил веру в бога. Он уже не может поэтому
молиться («Желтые лучи»). Но отсутствие бога влечет за собой
и укрепление трагического в мире. Ибо бог являлся у Ламарти-
на утешителем страдающего человека. Сент-Бёв же отменяет
образ бога-утешителя. Человека утешать некому. Благосклон-
ный взор Вечного существа (Eternel), заботливо следящий за
человеком, как за ребенком, становится для него взором угрю-
мым. Это уже не отеческий, согревающий взгляд («Самоубий-
ство») .
Сент-Бёв отрицает всеобщую гармонию, которой был поко-
рен Ламартин; он рисует человека жертвой несовершенного
мира. Идея несовершенства мира занимает в лирике Сент-Бёва
едва ли не ведущее место, причем это несовершенство приобре-
тает у поэта уже не космический характер, как, скажем, у Ви-
ньи, а отчетливо социальный.
Социальное несовершенство существующего проявляется в
том, что герой принадлежит к людям, деятельность которых
ограничена отсутствием у них материальных благ, нищетой.
Бедность не дает герою, как об этом свидетельствует уже
2 Д- Д. Обломиевский
33
первый сонет, по-настоящему развить свои способности. Детство
его никогда не озарял ясный свет. Ему было 20 лет, когда его
покинули и слава, и любовь. И все потому, что он «отмечен
ужасной печатью» бедности. Бедность разрушила его желания,
сковала его юность. Очень показателен в этой связи особый,
социально-конкретный характер ближайшего окружения лириче-
ского героя Сент-Бёва. Окружение это — или пригородное поле,
на котором поэту встречаются мальчик-пастух с краюхой пекле-
ванного хлеба и старуха, собирающая остатки свеклы с полей
(«Равнина»), или предместье большого города, населенное
буржуа, торговцами, рабочими, инвалидами, проститутками
(«Желтые лучи», «Роза»), Поэт то сидит у изголовья умерше-
го, лежащего на холодном убогом ложе («Бдение»), то спуска-
ется из своей комнаты на улицу, бродит среди толпы. Он
смотрит на драки, слушает вопли и песни, которые исполняет
дрожащим голосом подвыпивший инвалид («Желтые лучи»).
Свою музу он недаром изображает не в виде владетельни-
цы старого замка, которая спускалась из пустынного монасты-
ря или из башни к могилам, касаясь краем бархатного пла-
тья каменных плит. Муза Сент-Бёва — девушка, которая сти-
рает белье в ручье, прядет или шьет, держит в чистоте дом
старика отца («Моя Муза»),
Социально-бытовое окружение вводит в поэзию Сент-Бёва
принцип обусловленности человека реальной средой и тем са-
мым коренным образом изменяет общий характер поэтического .
мира. Сохраняя независимость от человека, мир утрачивает
гигантские масштабы, как у Ламартина и Виньи, приближаясь
вплотную к герою, которого, судя по стихотворению «Прогул-
ка», привлекают совсем иные пейзажи, чем те, что волновали
этих поэтов. Сент-Бёв согласен оставить Шатобриану пейзажи
саванн, раскаты грома, рев льва, шум великолепных лесов, шо-
рох змей в высокой траве; он оставляет Ламартину контраст-
ные пейзажи, в которых совмещались бы высокие альпийские
горы и ели сумрачного, тесного леса. У Сент-Бёва не случайно
исчезают дали и горизонты. Герой его имеет дело с лежащим
возле него и находящимся от него поблизости. Что ему утесы,
леса, широкие реки, впадающие в море? Ему нужно «много
меньше» — поле, журчащая вода речки или ручья, свежий ветер,
волнующий хрупкие ветви деревьев. Ему хотелось бы остаться
внизу и брести по пыльной тропинке сквозь густые травы, мимо
юного деревца, запечатлевшего на лазурном фоне свою хилую
листву («Прогулка»). Видимое у Сент-Бёва демонстрируется
как бы с близкого расстояния. Ламартин знал только два цве-
та— черный и белый, ему был знаком только контраст
света' и тени. Сент-Бёв уже не упрощает, не схематизирует
действительность, обнаруживает в «ей полихроматизм, рисуя зе-
леные ставни, пепельные волосы возлюбленной, серые и муаро-
вые крылья чирка, лазурное небо.
34
Сент-Бёв вводит в поэзию вещные, материальные подробно-
сти, замечая на всем следы человека. Он рассказывает о поле
под паром, о тощих бороздах, выкопанных лопатами за неиме-
нием плуга, о почве, почерневшей от сожженной соломы. Он
сообщает о самых различных насекомых и птицах — о кузне-
чиках, хоронящихся в траве, о пчелах, о ласточке, прилетаю-
щей пить к ручью, о чирке, полоскающем в ручье свои перья
(«В глубине долины»). Мы встречаемся у него с самыми раз-
личными деревьями — ивами, каштанами, ольхой («Осенняя
мысль»). Он повествует и о деталях зимнего пейзажа, о ту-
манных равнинах, о северном ветре, рвущем ставки («Стансы»),
рассказывает о том, как бьется ветер о стены жилища, как го-
рит хворост и поет чайник (сонет 2).
Все это не означает, что Сент-Бёв возвращается в «Поэзии
Жозефа Делорма» к соразмерности героя и мира, характерной
для просветительской лирики. Мы уже говорили об антагони-
стических отношениях между героем и миром у Сент-Бёва, этот
антагонизм не отменен, а усилен вплотную подступившим к
человеку миром.
Человек в интерпретации Сент-Бёва одинок, покинут, за-
брошен. В «Стансах» холодной декабрьской ночью он сидит один
в своей комнате, прислушивается к свисту ветра и с грустью
думает о лобзаниях, которыми обмениваются сейчас мужья и
жены. В «Желтых листьях» герой одинок навсегда — без матери,
сестры, брата, без жены. Поэт как бы заявляет здесь, что че-
ловек может рассчитывать лишь на себя и на свои собствен-
ные силы, что ему неоткуда ждать поддержки.
Но поэт уверен, что силы человека ничтожны; отсюда —
пессимистическое настроение, которым одержим лирический ге-
рой Сент-Бёва. Лирика Сент-Бёва свободна от религиозного
колорита; главное в ней — реальный мир и человек, в нем живу-
щий, но и мир и человек показаны у него в ущербном состоя-
нии. Конечно, в этом ущербном состоянии ни в коем случае
нельзя видеть предвестия декадентства, ибо пессимистическое
настроение необязательно ведет к декадентству, для которого
всегда важно примирение с действительностью, оправдание зла.
Разрушение, бесспорно, преследует поэта. Он видит, как тает
желтеющее тело друга, как провалились его глаза, как падают
волосы с его головы («Самопожертвование»), как молодой друг
стареет, сутулится, как покрывается морщинами кожа его лица
(«Возвращаясь»). Поэт уделяет большое внимание картинам
смерти и умирания. То он сидит у гроба старика подагрика
(«Бдение»), то смотрит на умирающую старую тетку, которая
лежит в постели, немая, задыхающаяся. Он думает о том, что
скоро умрет его мать, ее завернут в желтый саван и ему при-
дется заколотить гвоздями ее гроб. Предстоит умереть и ему
самому, его взор помутится, он не увидит уже ничьей прощаль-
ной улыбки, на могиле его не расцветут розы («Желтые лучи»).
35
2»
Но Сент-Бёв не принимает декадентского оправдания зла,
а выход открывается ему, в отличие от Ламартина, не в покор-
ности, не в религиозной резиньяции; герой полон гордости, ему
ближе прокламируемый Виньи враждебный нейтралитет к суще-
ствующему. Он далее предпочитает путь самоуничтожения.
В десятом сонете Сент-Бёва герой предпочитает пустой бол-
товне с недалекими соседями бесконечное молчание, неподвиж-
ность у камина без желаний, без мыслей, без воспоминаний.
Поэт стремится к покою, ищет гармонию в компромиссе между
желаемым и наличным, в смягчении контрастов. Герой считает
идеальным состоянием мечтательность и небрежность, удален-
ность от людей, которых он именует здесь «людским стадом».
Он измеряет взглядом высоту небес, бесстрастно взирает на
волны реки, на лимонные деревья, образующие изгородь; чтобы
избежать страданий, которые дарованы человеку судьбой, ему
нужны только небо, волны, трава. Поэту нет дела до воспоми-
наний о древностях, до знаменитых мертвецов, до имен, начер-
танных на фронтонах портиков. Надежнее всего в мире — воз-
любленная и ее ласки, влажный поцелуй дрожащего луча на
ее черном зрачке, волны черных волос, рассыпавшиеся по плечам.
В «Желании», как бы продолжая эти мысли, поэт ограни-
чивает свой идеал мирной домашней жизцью. Он желал бы,
чтобы на его столе стояло свежее молоко, чтобы по шиферной
крыше его домика бежала виноградная лоза, а в его постели
блестели черные глаза его возлюбленной. Еще яснее ограниче-
ние идеала выражено в «Сельском счастье». Поэт мечтает здесь
о молодой красивой жене, о белой хижине на краю леса, о зе-
леных ставнях. Он восторгается весенними восходами, когда
роса опьяняет благоуханную траву, и осенними вечерами, когда
его семья собирается у потрескивающего очага.
Путь, избранный здесь Сент-Бёвом, отдаленно напоминает
мечты, которым предавался когда-то герой Андре Шенье. Но
уединение в элегиях А. Шенье рассматривалось как нечто, враж-
дебное порядкам феодальной Франции. У Сент-Бёва это проти-
вопоставление снимается. Независимо от воли поэта возникает
антитеза домашнего уюта и бурной революционно-демократиче-
ской Франции, ибо поэзия Сент-Бёва, взращенная предреволю-
ционной ситуацией конца 20-х годов и связанная с революцией
1830 года, вместе с тем отвергает углубление этой революции.
Идеал скромной, тихой жизни, уводя поэта от передовых
форм общественного бытия, дополняется у него выбором вто-
рого пути, приводящего к самоуничтожению. Героем первого
сонета и стихотворений «В глубине долины», «Самоубийство»
владеет мысль о том, как покончить с собой. Даже при виде
долины, в которой все полно прохлады и очарования, он думает
о том, как хорошо было бы погрузиться в воду, чтобы уто-
нуть. Он хотел бы покончить с жизнью не в приступе бешен-
ства, но посидев сначала на берегу и спокойно оглядевшись
36
кругом. Ему хотелось бы умереть так же, как он жил, без
грохота, без воплей, без сбежавшихся соседей («В глубине
долины»). И в первом сонете герой спрашивает себя, почему
бы ему не выйти из жизни без возмущения и без страха, как
оставляют друга, не сдержавшего своего слова.
Говоря о теме самоубийства у Сент-Бёва и о связанных с
нею мотивах смерти и безбожия, как они выражены в «Поэзии
}Козефа Делорма» (ибо позже, в «Августовских мыслях», на-
пример, поэт допускает кое-какие уступки религии), надо только
добавить, что атеизм носит у автора «Поэзии» непоследова-
тельный характер. То, что его герой утратил веру в бога, рас-
сматривается Сент-Бёвом не как освобождение от иллюзий, ду-
ховный рост человека (так, кстати, трактовал атеизм в своих
лирических фрагментах Сильвен Марешаль), а как утрата, поте-
ря. Поэт мечтает о возвращении в лоно религии, рассчиты-
вает при ее помощи преодолеть свое одиночество, хотя одновре-
менно с этим не верит во всесилие религии, сознает, что
возвращение в ее лоно для него невозможно.
Ламартина, не принимая бурный
мир, порожденный революцией, отдается во власть потусторон-
него бытия и бога. Альфред де Виньи и Сент-Бёв выдвигают
героя, не способного подчинить себе мир и вместе с тем не
желающего подчиниться ему, предпочитающего своеобразный
враждебный нейтралитет. Совсем иное направление избирает
В. Гюго, отвергающий и путь религиозной резиньяции, и путь
нейтралитета. Герой Виктора Гюго уже в «Ориенталиях» (1829),
первом оригинальном сборнике стихотворений поэта, не созер-
цатель, не зритель, а деятель, вмешивающийся в жизнь, при-
нимающий участие в борьбе, битвах, сражениях. Если в цент-
ральной поэме «Ориенталий» «Небесном огне» еще нет такого
героя, он появляется в «Головах сераля», в «Канарисе», «На-
варине» и других стихотворениях сборника. В «Турецком мар-
ше» активный герой выступает в качестве «настоящего солда-
та» в окровавленном тюрбане и с топором, висящим у седла;
он убивает тысячи гяуров и «освежает» их кровью свой каф-
тан. Он противопоставлен тем, кто трусит, предпочитает уча-
стию в сражениях беседы с женщинами, боится солнца, не-
жится на шелковых диванах, читает и молится. Создавая об-
раз «настоящего солдата», Гюго не допускает вместе с тем его
безграничного восхваления, не скрывает его жестокости, не за-
бывает напомнить, что на его совести —невинные жертвы. Дво-
рец Али-паши из «Дервиша» построен на «костях и крови».
Али-паша из «Феодального замка» «запятнал» морские берега,
«осквернил» их своими деяниями. Его замок именуется «гнез*
37
дом преступника». Героя-насильника непременно, по мнению
Гюго, ждет угроза возмездия. В момент поражения (обязатель-
но подстерегающего насильника) рисует Гюго визиря Рашида
из «Проигранной битвы». Уничтоживший тысячу греков в по-
следней битве, Рашид оказывается все-таки побежденным. Он
Владел армией, имел сто барабанов, много пушек, у него были
замки, города, гаремы. Но все это он потерял, стал изгнан-
ником, нищим, беглецом.
Активный герой выступает в «Ориенталиях» Гюго не обяза-
тельно в качестве жестокого воина, не щадящего своих врагов,
похищающего женщин, уничтожающего детей, оставляющего по-
сле своих набегов сожженные города и горы человеческих ко-
стей. Поэт открыто предпочитает такому герою греческих патрио-
тов. В «Головах сераля» Гюго воспевает греков, погибших
в борьбе за свободу своей родины против турок-завоевателей,
восхищается доблестью убитого в сражении Канариса и муже-
ством Боццариса, поведением епископа Иосифа, которого турки
зарубили саблями в церкви. Головы героев, водруженные тур-
ками на зубчатой стене Стамбульского сераля, взывают к ре-
ваншу за поражение. Он всего более ценит в Канарисе, Боц-
царисе, Иосифе их способность сопротивляться, их непокорность,
противопоставляет их вероотступникам, променявшим христи-
анскую веру на магометанство.
В «Энтузиазме» Гюго как бы вовлекает в свою творчес-
кую систему традиции революционного классицизма. Оставив
позу созерцателя, он призывает Францию подняться против
турок, угнетающих греческий народ, принять участие в освобож-
дении Греции. Поэт именует здесь турок тиграми и палачами,
которых он хотел бы обратить в бегство, упоминает Фавье,
французского офицера-карбонария, собравшего трехтысячный
отряд добровольцев и отправившегося с ним в Грецию, зовег
пробудиться наполеоновскую армию. С восторгом описывает он
сражение при Наварине и обращает свои инвективы против
Австрии, ставшей на сторону Турции.
Отказ от пассивного героя, затерянного в окружающем
мире, бездонном и безграничном, наметившийся в «Ориентали-
ях», еще более отчетливым становится в следующем сбор-
нике лирических стихотворений Гюго «Осенние листья». Речь
идет здесь не о маленьком и ничтожном человеке, а о сущест-
ве, столь же гигантском, как весь мир. Мысль его плывет
над океаном вещей («Осенние листья»), в стихотворении VI он
хотел бы подняться на какую-нибудь высокую башню, чтобы
город лежал под ним, как пропасть (стихотворение XXXV).
Он прислушивается, находясь на вершине горы, к соленой
бездне (стихотворение V).
Лирический герой, поднятый над миром, встречался, впро-
чем, уже у Ламартина, но героя и мир разделяла там ог-
ромная дистанция, воспрещавшая им сливаться воедино. Обь-
38
ективация лирического героя «Осенних ЛйстЬев» происходит па-
раллельно становлению этого мира как органического целого,
как определенной системы. Глядящая на поэта звезда и взды-
хающий цветок недаром являются для него пламенем или за-
пахом (стихотворение XXXVIII). Поэт как бы прикасается че-
рез них к субстанции, лежащей в их основе. Явления ока-
зываются тесно связанными друг с другом. Молитва человека,
обращенная к небу, крик рыдающей души отождествляются с
запахами, которые испаряются от земли. Молитва сопоставляет-
ся с дуновением зари, с дыханием вечера, с приятным креп-
ким запахом, который идет от леса («Молитва за всех»). От-
дельные вещи представлены элементами некоей совокупности и
в стихотворении XIX из «Песен сумерек». Гюго заявляет здесь,
что всё поет и шепчет, всё разом говорит: и зелень, и дым, и
гнезда. Все явления не только связаны друг с другом, но и
направлены друг к другу: орел летит к солнцу, ястреб к мо-
гиле, ласточка к весне («Молитва за всех» из «Осенних ли-
стьев»), Все стремится к союзу: челнок летит к гавани, пчела
к старой иве, компас к полюсу, поэт к истине (стихотворение
XIX из «Песен сумерек»),
6
Очень важным отличием романтической
поэзии второго периода, т. е. поэзии конца 20 — начала 30-х
годов, является не только активность ее лирического героя, но
и особый характер изображаемого в ней объективного мира. Мир
предстает динамичным, ведь романтическая поэзия второго пе-
риода создается в условиях бесконечных волнений и перемен,
мятежей и революций. Этого динамизма не знали ни Ламар-
тин, ни Сент-Бёв. Правда, в «Потопе» Виньи мир утрачивал
свою статичность, характерную для стихов Ламартина и Сент-
Бёва. Виньи рассказывал о ревущих ветрах, о дрожащих горах,
о повернувшей назад свои волны реке. У него идет речь о ки-
пящем океане, который опрокидывает дубы, словно песок и тра-
ву, несет за собой обломки городов («Потоп»). Гюго продол-
жает традицию Виньи, связанную с динамическим преобразо-
ванием действительности в поэзии. Как бы делая прямой вывод
из пространственности и объективности внешнего мира, столь
существенной для романтической поэзии вообще, Гюго подкреп-
ляет эту пространственность динамизмом; видимое дается у неге
не остановившимся, а растущим или уменьшающимся. Еще важ-
нее для динамического образа Гюго перенос источника движе-
ния, охватившего мир вещей, за пределы субъекта восприятия.
Вещи, окружающие лирического героя, перемещаются в прост-
ранстве независимо от последнего. Это как бы усиливает не-
подчиненность объективного мира человеческому сознанию.
39
У Гюго, автора «Небесного огня», очень симптоматичны об-
разы туч, моря и особенно пламени, т. е. образы по преиму-
ществу подвижные. Туча не стоит на месте, не сосуществует
с покоящимися вещами, а проходит, проносится. Огонь нахо-
дится непрерывно в движении, из искры превращается в пла-
мя. Море не знает покоя: это совокупность вечно движущих-
ся потоков, струй. В песчаной пустыне желтые горы несутся
во время бури, как волны, пустыня напоминает поэту причуд-
ливо движущиеся горы. Больше всего динамизма в «Мазепе»
(«Ориенталии»): человек и конь летят здесь по равнине, под-
гоняемые ветром. Они проносятся по долинам, степям, горо-
дам, как ураган. Они уменьшаются в размерах, удаляясь от
зрителя, становятся черной точкой, еле виднеющейся в тумане.
Стихия движения распространяется на окружающее: вокруг
всадника и коня колеблются и шатаются дубы, башни, длин-
ные цепи гор, кругом расстилаются зыбучие пески, бегут леса,
табуны лошадей.
Внешний мир предстает у Гюго в виде движущейся пано-
рамы и за пределами «Ориенталий». Лирический герой «Осен-
них листьев» замечает не то, что сложилось, а то, что пришло
на смену статике. Мы узнаем из стихотворения XXV «Осен-
них листьев», как причудливо меняются движущиеся облака,
как солнце оспаривает у тумана широкий горизонт, как на небе
воздвигается дворец из облаков и как затем он превращается
в осколки, устилающие собой небо. Мы находим в том же сти-
хотворении и пейзаж, как бы развертывающийся во времени:
день убегает с небес, следуя за закатом, умирают на холмах
сумерки, а густой туман растягивается в огненные пласты. Осо-
бая форма динамического пейзажа в стихотворении XXXVIII
«Осенних листьев», где поэт рисует не смену явлений, а их
рост. Туман клоками наводняет здесь утром овраг; солнце, по-
казывающееся утром на горизонте, растет; бурный ветер посте-
пенно наполняет пространство, занятое облаками и тенью.
Динамический образ мы находим не только у Виньи и у
Гюго. Если он чужд мироощущению Ламартина и Сент-Бёва,
то ему отдает много усилий Огюст Барбье, как показывает
хотя бы его «Известность». Море изображается у Барбье ска-
чущим, смятенным, катающимся по прибрежному песку, падаю-
щим, как усталая вакханка па свое ложе. В «Известности»
привлекает внимание картина парижской площади, объятой дви-
жением в момент восстания. По ней бегут солдат, поэт, оратор,
протягивающие руки к народу. Интересен и образ матери-ро-
дины из «Мятежа», раздирающей на себе развевающуюся ту-
нику. Можно вспомнить еще и «бессмертные сосуды», которые
катятся по каменным плитам собора, падая с алтаря («Мя-
теж»), Очень выразительна, наконец, картина переплавки ме-
талла в «Идоле». Металл рисуется поэтом не в статике, а в
динамике. Охваченный огнем, он перемещается в печи, падает
40
вниз с ее сводов; огонь пожирает и перемешивает железо, сви-
нец, олово, искривляет их, начинает атаку на каждый слиток,
то охватывая его в едином порыве, то раздробляя на части.
Река металла, ринувшаяся через дверцу печи, стремительна,
шумна.
А
Динамизм романтической лирики конца
20 — начала 30-х годов, связанный с эпохой революции, допол-
няется трагизмом, внутренней противоречивостью изображаемо-
го в ней мира, формирующегося в состоянии кризиса, в кото-
ром находится французское общество, в постоянном ощущении
несовершенства этого общества. С мыслью о трагизме и несо-
вершенстве действительности был связан и у Ламартина, и у
Виньи, и у Сент-Бёва герой, разочаровавшийся в мире и в
своих возможностях, герой, который представлял собой дисгар-
моническое начало в мире.
Гюго сохраняет трагическое восприятие действительности, из
которого исходил, но затем преодолел, хотя бы частично, Ла-
мартин и которое положили в основу своих представлений о
существующем Сент-Бёв и Виньи. Только у Гюго трагизм вы-
ходит за пределы отношений героя и мира. Мысль о том, что
мир и сам по себе дисгармоничен, присуща, правда, и Сент-
Бёву. Именно из несовершенства действительности выводил он
несчастья своего героя. Но поэт ограничивался в этом отноше-
нии только намеками. И, когда он перешел от рассказа о ге-
рое и его судьбе к прямому изображению мира, повествуя о
том, что видит и слышит герой, оказалось, что никаких антаго-
низмов действительность не содержит.
Гораздо больше элементов объективного трагизма находим
мы у Виньи, который концентрирует свое внимание в «Потопе»
на картинах гибели земли и людей, поглощенных океаном. Но и
Виньи, указывая на связь процесса моральной деградации че-
ловека с общей катастрофой, все-таки прямым поводом к ги-
бели считает действия бога.
Прямым продолжателем «Потопа» Виньи, поскольку тот пы-
тался освободиться от идеи гармонического мира, явился В. Гю-
го в «Ориенталиях». Дисгармоничность существующего стано-
вится у автора «Ориенталий» постоянным атрибутом объектив-
ного мира. Действительность недаром раскрывается у Гюго так
же, как ранее у Виньи, в момент катастрофы, уничтожения.
Гюго подробно изображает в «Небесном огне» уничтожение Со-
дома и Гоморры молнией, низвергнутой с неба богом. Он
детально останавливается на истреблении турецкого флота при
Наварине («Наварин»),
Показательно в связи с этим большое место, которое зани-
мают в «Ориенталиях» мотивы хаоса, стихии; они лишают объ-
ективный мир закономерности, они как бы подготавливают пол-
41
ный конец бытия. Симптоматичен в этой связи и мотив огня.
Именно огонь лишает мир устойчивости, превращает отдельные
предметы в элементы единого всепоглощающего потока. Огонь
разрывает тучу, падает ливнем серы на рушащиеся дворцы,
швыряет огненную реку на мосты, здания, акведуки. Алое и
прозрачное пламя бежит быстрее коня, потерявшего узду, сги-
бает, как деревья, мраморных великанов, ослепляет людей.
В «Ориенталиях» поэт уделяет преимущественное внимание все-
му падающему, утрачивающему свою форму. Он рассказывает
о падающих дворцах Содома и Гоморры, ринувшемся на голо-
вы людей вулкане, о дробящихся на части мостах. От огня
тают, как воск, агат и порфир, каменные надгробья, мрамор-
ные статуи исполинов. Каменный остров дымится и уменьшает-
ся в своих размерах, тает, сглаживается (s’efface), подобно
льдине («Небесный огонь»). Образцы разрушения сохраняют свое
значение у Гюго и за пределами «Небесного огня», характер-
ны и для «Наварина», и для «Феодального замка». В «Нава-
рине» рушатся корабли, расколотые о скалы, корма одного ко-
рабля налетает на нос другого. Турецкая эскадра охвачена по-
жаром. От пламени занимаются мачты, обрушивающиеся на
верхнюю палубу. По волнам несутся сломанные мачты, упав-
шие с ним полумесяцы, обуглившиеся обломки кораблей, ис-
кривленные сабли, тюрбаны, шатры.
Мир, подвергающийся разрушению, исчезающий, оказывает-
ся, следовательно, непрочным, хрупким. В «Ориенталиях» Гюго,
написанных в эпоху Реставрации, намечен путь к обрисовке
явлений зла, обязательно сопровождающих положительное5.
Недаром в «Призраках» поэту кажется, что на балу вокруг
шелковых туник танцующих летает пепел. В том же стихотво-
рении говорится о неизбежном уничтожении, подстерегающем
всё,-—о потушенных факелах, о высохших листьях, о сорван-
ных цветах. Вода истощается в своем беге по долинам, апрель
обжигает своими холодами только что распустившуюся яблоню.
Пессимистическое восприятие мира преломляется в изобра-
жении болезни, умирания, загробной жизни, которой поэт ка-
сается в тех же «Призраках». Он рассказывает о смерти юной
девушки, простудившейся на балу и умершей от лихорадки.
Поэту чудятся черви, ее пожирающие, жутко смеющийся ске-
лет, который ее обнимает и приглашает танцевать на праздни-
ке мертвецов. В «Мазепе» поэт рисует коня и всадника, ко-
торые скоро станут жертвой хищных птиц, несущихся тучей за
ними.
Пессимистические мотивы, развернутые в сборнике лишь в
одном стихотворении («Призраки») и только намеченные в дру-
5 В «Ориенталиях» отсутствуют твердые границы между предметами, послед-
ние переливаются, превращаются один в другой. Огненная туча собирается
иссушить море, трансформировав его в пустыню, и превратить пустыню в
озеро, наводнив ее.
42
гом («Мазепа»), не являются здесь сколько-нибудь господствую-
I щими. Разрушенный мир получает в «Ориенталиях» и другое,
совсем не пессимистическое истолкование. Поэт объявляет этот
мир, судя по «Головам сераля», «Наварину», порождением люд-
ской жестокости, или, судя по «Небесному огню», следствием
развращенности людей, или, наконец, как в «Разгневанном Ду-
нае», результатом религиозных междоусобиц. Разрушение мира,
созданного человеком, возникает как своеобразное возмездие,
то насылаемое богом, то осуществляемое самими людьми, то
производимое природой, восстающей против цивилизации. В «Раз-
гневанном Дунае» могущественная река, выведенная из себя
войнами христиан и магометан, угрожает смести человеческую
цивилизацию, возникшую в сербских городах, намеревается за-
топить города, унести с собой их жителей.
Симптоматично при этом, что бог и природа оставляют не-
зыблемым то, что человек нашел уже существовавшим до него.
Характерно и другое: подвластна гибели техническая культура,
лишенная гуманистического содержания, связанная с вырожде-
нием человеческих ценностей (Содом и Гоморра), с истребле-
нием более слабых более сильными. Гюго здесь далек от пес-
симистического представления о зле, как о чем-то врожденном,
и о земле, погрязшей во грехах. Мысль о боге и потусто-
роннем мире, как о позитивных силах, стоящих на стороне
человека, конечно, присутствует в «Ориенталиях». Особенно
если помнить «Небесный огонь». Туча, несущая в себе огнен-
ный дождь, низвергает свой смертоносный груз только на Содом
и Гоморру. Она руководствуется волей бога. А бог запрещает
ей пролиться над долиной, над Египтом, запрещает ей превра-
тить море в пустыню, а пустыню в озеро. Бог выступает от
имени человечества, устраняет тех, кто поставил себя своими
содомистскими деяниями вне нормального, здорового бытия.
В этом различие между трагизмом действительности, как ее
трактует Виньи и как ее понимает Гюго. Виньи имеет дело с
богом, действия которого направлены и против выродившихся
людей, и против людей несчастных, людей-жертв. Он мимохо-
дом упоминает в «Потопе» о Ноевом ковчеге и людях, спас-
шихся от гибели, и все свое внимание концентрирует на гибе-
ли последних людей Эм ануила и Сары, т. е. на гибели чело-
вечества. Гюго показывает бога, который карает только развра-
щенных людей. Он ничего не говорит о конце человеческого
рода, а Содом и Гоморру называет «двойной язвой, осквер-
няющей мир», «городами ада». Каждая крыша в Содоме и Го-
морре скрывает, по словам поэта, «гнусную тайну».
▲
Трагическое восприятие мира сохраняет
свое значение и для поэзии В. Гюго 30-х годов, т. е. в первую
очередь для «Осенних листьев» и для «Песен сумерек». В лп-
43
рике Гюго 30-х годов, правда, на первый взгляд, очень силы
ны оптимистические ноты. Гюго 30-х годов во многом отка-
зывается от пессимистической трактовки действительности, ко-
торая возникла еще в «Ориенталиях». Гюго теперь по-новому
интерпретирует тему смерти, которой в поэзии этих лет (ср.
хотя бы «Путешественник» и «Молитва за всех» из «Осен-
них листьев») отведено немалое место. Поэт отвергает антите-
зу: или прекрасная жизнь, или безобразная смерть. Он видит в
умерших людях лишь путешественников, которые не возврати-
лись из своих странствий. Его огорчает не столько сама смерть,
сколько недолгое существование умерших, то, что их тела пре-
вращаются в прах, в пыль, что исчезают даже могилы. Еще
быстрее исчезает память о погибших в сознании человечества.
Оптимистические настроения лирических стихотворений Гюго
30-х годов находят свое полное выражение в развитии темы
счастья. Поэт утверждает, что все в творении — радость и улыб-
ка («Пан»), что сам он полон радости, глядит на все как на
вечный праздник. С темой счастья жизни тесно связана тема
ребенка; самый факт существования детей в мире как бы яв-
ляется оправданием мира. В ребенке воплощена наивность, бес-
хитростность, удаленность от всего нечистого, гнусного (immon-
de) («Осенние листья», XIX). В мире никто, кроме детей,
не улыбается (там же, XV), дети еще не умеют обманывать
(«Молитва за всех» из «Осенних листьев»), их руки еще
не коснулись грязи («Осенние листья», XV). Ребенок восхитите-
лен и своей невинностью, и своей веселостью, тем, что его плач
мимолетен и преходящ, тем, что в его душе живет доверие к
окружающему. Он как бы щедро предлагает жизни свою юную
душу («Осенние листья», XIX). Сердце становится чище и неж-
нее от веселого хоровода детей. Ребенок — центр существую-
щего. Дом без детей все равно, что лето без цветов, улей без
пчел, клетка без птицы. Улыбка ребенка — это лучи солнца,
падающие на мрачное небо и на сердце поэта. Душа поэта —
темный лес, мрачные сучья (ramure), но лес наполняется слад-
ким шепотом и золотыми лучами, как только туда вступает
ребенок. Вместе с ребенком в сознание поэта приходит не только
радость, но и полнсзвучие и многокрасочность окружающего
мира. v-J
С темами радости и ребенка тесно переплетается у Гюго в
«Осенних листьях» и тема молитвы. В молитве, как она трак-
туется у Гюго, нет ничего общего с религиозным культом, с ис-
поведальными настроениями Ламартина. По-настоящему молить-
ся и обращаться к богу могут у поэта не взрослые и тем
более не священники, которые в его стихах даже не названы,
а только дети. Они могут молиться, потому что они невинны и не
знают о существовании в мире зла, не знают, почему дерево
душит кустарник, почему человеческий разум склоняется часто
к несправедливости. Молитва, как ее толкует Гюго, устрем-
44
лена к счастью всех людей. Поэт помещает в «Осенних листьях»
целую поэму «Молитва за всех». Ребенок молится и за страдаю-
щих, и за трудящихся, и за преступников, заключенных в тюрь-
му, и за мертвецов, заточенных в могилы, и за неверующих,
богохульников, и за бедняков, и за вдов, и за падших женщин,
продающих нежное имя любви.
Но поэзия Гюго 30-х годов не утрачивает трагизма. Ров-
ное и чистое благополучие, которое присутствовало в дневные
часы, исчезает, когда по небу распространяется ночь («Осен-
ние листья», XII). Ночь заставляет человека яснее видеть свою
судьбу, но ночь, как признает сам поэт, приносит ему и не-
счастье. Горе — это прежде всего слезы. Стихотворение XVII
из «Осенних листьев», в котором утверждается, что мед горек,
небо тесно, а надежда лжива, может быть названо гимном сле-
зам. Плач, слезы, оказывается, делают глаза более нежными.
Плачущие глаза становятся трогательными и прекрасными. Так
же как лазурное небо, омытое дождем, представляется ярче
и свежее, так и слезы оживляют лица. Поэта возмущают люди,
которые смеются. Он называет их безумцами и напоминает, что
бог предпочитает добрым — несчастных, тех, кто плачет. Мысль
о горе, омрачающем человеческое существование, преследует
поэта и тогда, когда он дифференцирует природу и человека,
океан и землю. В смутном и глухом шуме, доносящемся к поэ-
ту на вершину горы, он различает два голоса — один идет от
морей и океанов. Это гимн счастью, возносящий хвалу творе-
нию. Другой голос поднимается от земли. Он проникнут гру-
стью, в нем господствует людской ропот. Второй голос напоми-
нает герою то черных птиц, кружащихся в долине, то смычок
из бронзы, скрежещущий по железу мироздания. С этим вторым
голосом до поэта доходят с земли плач, брань, хула, прокля-
тия, анафемы («Осенние листья», X).
Но противоречивость существующего снимается, например,
в «Прелюдии» к «Песням сумерек» мыслью о гармоническом
будущем, которое пока еще окутано сумерками. Внимание поэта
сосредоточено на препятствиях, которые тормозят движение че-
ловечества вперед, к этому будущему. Очень важно в этой свя-
зи, что для Гюго, как показывают те же «Прелюдии», остает-
ся неясным, что конкретно ждет человечество. Признавая, что
будущее находится в процессе созидания, поэт не знает, кто
готовит его — кормилица ли, готовящая колыбель, или могиль-
щик, роющий могилу. Поэту неясно, что возвещает заря — вос-
ход или закат, возникнет ли свет или опустится тьма. То, что
полагают восходом, может быть, на самом деле заход; то, что
принимают за утро, может быть, по-настоящему вечер. Поэт
не знает, что означает «неясный шум», который до него доно-
сится. С точки зрения этой неуверенности в будущем все ка-
жется лирическому герою «Прелюдий» двойственным: вот трепе-
щет дерево, но это может быть и ликование, и жалоба; вот поет
45
птица, но не ясно, смеется она или жалуется; вот бормочет
человек: возможно, это и песня восторга, и крик отчаяния.
Представление о том, что гармоническое будущее, которое
ожидает человечество, находится еще в сумерках, порождает
нередкие в стихах Гюго 30-х годов пессимистические ноты. Очень
важна в этом смысле ода «Наполеон II» (1832), в которой ут-
верждается, что человеку подвластны пространство, власть, ко-
рона, слава, победы. И вместе с тем время, «продолжитель-
ность» подвластны только богу; «будущее», «завтра» — это не-
мой призрак. Человеку неизвестно, что бог готовит ему. Завт-
ра — это молния в полной тьме, это набат, бьющий на коло-
кольнях. В «Песнях сумерек» пессимизмом проникнуты у Гюго и
мысли о роли поэзии в жизни. Песни поэта падают на беско-
нечные волны, которые никогда ничего не слышат, так что го-
лос поэта затих в тумане. Поэт — это бедная птица на мачте
потерянного корабля. Его окружает долгая ночь, вечная буря,
в небе не видно ни клочка лазури («Наполеон II»),
Мысль о будущем соединяется в поэзии Гюго 30-х годов
с темой социальных контрастов, контрастов бедности и богат-
ства. Поэт говорит в стихотворении «Для бедных» (январь
1830 г.) о богачах и счастливцах мира, о сверкающем, луче-
зарном хрустале, о зеркалах и люстрах в их жилищах.
Богачам противостоят у него бедняки, неимущие, которых
«осаждает голод». Пиры и праздники богачей присутствуют ря-
дом с погасшими очагами бедняков, с их голодающими деть-
ми, с умирающими на соломе матерями. Аналогичны и стихи
Гюго «Совет», «Пиры и праздники», «Бал в ратуше» (напи-
санные в 30-е годы), где рядом с людьми, время которых по-
глощают балы, банкеты, возникает обобщенная фигура народа,
всегда голодного, а зимой мерзнущего от холода. У женщин,
продающих за хлеб свое тело, цветы на голове, грязь под но-
гами и ненависть в сердце. Поэт предлагает богачам, пока у
них не вырвали из рук драгоценностей, добровольно отдать все
сокровища беднякам. Спасение он видит не в ликвидации об-
щества неравенства, а в милосердии и милостыне («Для бед-
ных»), Именно милостыню и благотворительность — заявляет
поэт в стихотворении «Совет» — нужно протянуть народу: ору-
жием с народом не справиться. Он упоминает, кстати, в том
же стихотворении об «ужасной» стороне революции и называет
толпу «свирепой».
Однако реформистский путь разрешения противоречий су-
ществующего не является для Гюго единственным. Поэт счи-
тает возможными и другие пути решения проблемы. Он чув-
ствует себя обязанным не только взять народ под защиту, но и
поднять его к борьбе. Он, объявляя себя судьей королей, хо-
тел бы связать их, превратить троны в помосты для позорных
столбов, одеть на королей ошейники, заклеймить им лбы («Осен-
ние листья», X).
46
Борьба против королей должна поднять народ над положе-
нием страдающей и пассивной массы. В «Мечтаниях прохожего»
(май 1830 г.) поэт предается размышлениям, глядя на морщи-
нистую старуху в лохмотьях с трясущейся головой и с кор-
зинкой в руках. Старуха эта с презрением взирает на золо-
ченые кареты с ливрейными лакеями на запятках, съезжающие-
ся на прием к королевскому дворцу. Для поэта эта старуха —
олицетворение народа, который когда-то рушил башни Бастилии
который и теперь не принимает Бурбонов, все видит, все пони
мает. Народ настолько несокрушим, что против него бессиль-
ны солдаты, полки, пушки. Покорить народ столь же невозмож-
но, как покорить океан.
Действия могучего и мятежного народа напоминают Гюго
подземные толчки землетрясения. Народ — это прилив, непре-
рывно подымающийся. Поэт требует, чтобы людскому морю была
предоставлена свобода, и напоминает близоруким события прош-
лого века, т. е. революцию, которая смела «старый порядок».
Гюго возвращается к восприятию народа, толпы как потока,
океана, прилива, наводнения, подымающегося из бездны, и в сти-
хотворениях 1831 г. («Прелюдии», «Ода к колонне»), и в сти-
хотворениях 1834 г. («Совет»), Он рассказывает в «Совете» о
большом ветре, который рассеивает дым всех очагов, ломает
плотину и крепость. Вихрь мыслится как сила, направленная
против существующего порядка: срывает черепицу с крыши го-
сударства. Современность для него — это огромный вихрь дыма
и огня («Канарису» из «Песен сумерек»).
Создаваясь в 10-х и 20-х годах, в эпоху
Реставрации (Ламартин и Виньи), претерпев принципиальные
изменения в конце 20-х и в ЗО-е годы, в годы Июльской ре-
волюции (Сент-Бёв, ранний и зрелый Гюго), романтическая поэ-
зия в дальнейшем не застыла на месте.
Это ясно демонстрируют поэтическая система О. Барбье
(30—40-е годы) и Виктора Гюго (50-е годы), во многом от-
личная от поэзии романтизма первого и второго периодов: эта
система рождалась в момент борьбы с Июльской монархией
и окончательно складывалась в борьбе со Второй империей.
Основным признаком романтической поэзии второго этапа яв-
лялся, как мы убедились, активный образ лирического героя
и особый характер образа мира, его аспекты динамики, дисгар-
монии. Отличие третьего этапа, представленного именами Бар-
бье и позднего Гюго, определяется и изменением образа ге-
роя, и изменением самого содержания объективного мира. У Ла-
мартина объективный мир складывался из природы, человечества,
возлюбленной, бога. У Виньи исчезает возлюбленная, Сент-
Бёв расстается и с абстрактным образом человечества и с об-
47
разом бога, намечая общий абрис социальных отношений. Что
касается Гюго, то именно здесь образы природы, бога, чело-
вечества дополняются фигурой народа.
А вот у Барбье парод вытесняет или отодвигает в область
фона всё: и возлюбленную, и природу, и бога, и человечест-
во. Именно о толпе, о народной массе, о ее поведении в «ге-
роические три дня» 1830 года или во время восстания 1831
года рассказывается в «Ямбах» Барбье. У позднего Гюго («Воз-
мездие») образ возлюбленной исчезает вовсе, стушевываются и
отходят на второй план образы бога, природы и человечества.
На первом плане — народ и его враги.
Говоря об образе народа у Барбье, стоит отметить, что на-
род показан у него не в повседневном своем существовании,
не в момент «затишья» между крупными историческими сдви-
гами. Он рисуется восставшим, мятежным, сбрасывающим око-
вы. С этим связано у Барбье и характерное для его поэзии
динамическое восприятие мира. Народ изображен в «Ямбах»
сдвинувшимся со своих привычных мест, отбросившим статиче-
скую позу. Показательно также, что народ, как бог и природа
у Ламартина, Гюго или Виньи, демонстрируется у Барбье в
гигантских масштабах, как феномен, максимально превосходя-
щий лирического героя. Народ изображается в «Ямбах» широ-
коплечим, мужественным колоссом («Известность»). Гиперболи-
чески, как явление грандиозных пропорций, рисуется и мятеж
народа.
Если гиперболизм существен для образа народа у Барбье,
то не менее характерна для представления поэта о народе ал-
легория. Народ показан у Барбье то в виде льва, которого
облапили карлики-либералы («Лев»), то в виде мятежного не-
покорного коня, оседланного всадником—Наполеоном! («Идол»).
В виде корабля, плавно плывущего по морю, рисует Барбье
и государство якобинской диктатуры, действовавшее от име-
ни народа и в его интересах («93 год»). Двуплановый ал-
легорический образ в «Ямбах» может показаться отступле-
нием от установок романтической лирики, может напомнить
аллегорический образ классицистской поэзии, в котором соеди-
нялось объективное и конкретное, идущее от внешнего мира,
с абстрактным и субъективным, идущим от сознания. Но для
поэта-классициста, будь то Малерб, Буало, Вольтер или А. Ше-
нье, главное было в размышлениях героя о мире. Герой смот-
рел на эти явления, так сказать, умозрительно, представляя
их себе заочно, непосредственно не видя их. Конкретное, объ-
ективное было подчинено в классицизме абстрактному, субъ-
ективному, внешний мир — миру души, сознанию человека.
Совсем иначе обстоит дело у Барбье, поэта-романтика. Со-
здавая свои аллегорические двуплановые образы, он как бы
синтезирует романтизм и классицизм, исходит из конкретных
явлений (Июльская революция 1830 г. в Париже, Реставрация
48
1815 г. во Франции, разгром польского восстания 1830—1831 гг.),
которые видит перед собой его лирический герой реально. Из
увиденного он делает выводы, присоединяя к демонстрации
элемент осмысления факта.
Размышляя над образом народа у Барбье, следует также
иметь в виду, что он раскрывается в «Ямбах» в прямом стол-
кновении со стихией зла. Народ только что сокрушил королев-
скую власть, но рядом возникают другие враждебные силы —
буржуазные либералы, чиновники, карьеристы. Они пытаются
воспользоваться плодами победы народа и рисуются поэтом го
в виде своры собак, накинувшихся на вепря («Добыча»), то в
виде карликов, подкрадывающихся к народу-льву, опьяняющих
его своей лестью и надевающих на него незаметно намордник
(«Лев»). Вместе с образом народа в поэзию Барбье входит тем
самым образ его врага. При этом враг трактуется то как по-
верженный, в прошлом могущественный противник (вепрь), то
нарочито сниженно, как явление мелкое, более слабое, чем на-
род. Враг рядом с грандиозным львом-народом представлен
фигурами карликов. И в то же время враг в «Ямбах» пере-
хитрил льва и сделал его своим пленником. Поведение врага,
первоначально трактованного чуть ли не комедийно, приводит к
трагическому финалу: доверчивый лев пленен карликами.
В поэзии Барбье происходят радикальные изменения в со-
держании образа объективного мира и в характере лирическо-
го героя. Барбье, так же как и Гюго, совершенно чужд об-
раз разочарованного героя. У него отсутствует типичная для
прежней романтической поэзии противопоставленность героя и
мира. Герой часто говорит не от своего имени, не от своего
«я», а от коллектива, к которому принадлежит, от всего по-
коления. Поэт часто употребляет местоимение «мы» («93 год»,
и «Идол», и «Известность»), Барбье не трогает проблема
личной судьбы героя. Он не интересуется и судьбой природы,
космоса, мироздания. Его внимание привлекает судьба народа
и страны. Это в свою очередь приводит к тому, что лириче-
ский герой Барбье не относится к тому, что он видит, бесстраст-
но. Объект его восприятия, его размышлений уже не находит-
ся за пределами его воздействия, как были недоступны кос-
мос, бог или человечество для героев Ламартина, Виньи, как
был недосягаем общественный строй страны для героя Сент-
Бёва в силу его одиночества (он говорил только от своего
имени).
Лирический герой Барбье уже не созерцает пассивно то,
что он видит, не довольствуется описанием увиденного или рас-
сказом об изменениях, которые произошли в объективном ми-
ре. Он никогда не оставляет окружающее без оценки, он вол-
нуется, гневно обращается к миру, призывает к действию дру-
гих людей. Все это придает поэзии наступательный характер.
В стихах Барбье воскрешаются традиции поэзии Великой фран-
49
цузской революции, од и гимнов, поэзии Руже де Лиля, Э. Ле-
брена, М.-Ж. Шенье. Но поэт предпочитает одической лирике и
дифирамбу жанр сатиры. Отрицание доминирует у него над
восторгом и призывом. Он направляет на действительность по-
токи хулы, брани, оскорблений. Отказываясь от объективистско-
го отношения к миру, он подчеркивает в осуждаемом отврати-
тельность, уродливость, безобразие.
Так, он сравнивает народ за его симпатии к Наполеону
с девкой из трактира, спящей в конуре на соломенном ложе
и выбирающей себе в любовники человека, который избивает
ее («Идол»), Рассказывая об усмирителях польского восста-
ния, поэт брезгливо отмечает, что сни покрыты рыжей щети-
ной, похожи на свиней («Варшава»), Париж после 1830 года,
когда господствующим классом во Франции стала буржуазия,
охарактеризован поэтом как мрачный, омерзительный вертеп.
Он сопоставляет героя, порожденного буржуазией, с грязной ка-
навой для стока нечистот («Добыча»),
Образ народа в «Ямбах» трагичен, народная масса вынуж-
дена часто отступать под напором врага. Народ оказывается
по самой своей природе бессильным, не способным одержать
верх над своими противниками. Существенно в этой связи, что
народ, с точки зрения Барбье,— стихийная сила, лишенная ра-
зума, не знающая, куда и на что направлена его энергия. На-
род сравнивается с морем, которое вздымает свои волны во
время бури («Добыча»), с морем, которое потрясает троны,
со смелым потоком, готовым штурмовать небеса («Котел»), Он
изображается в виде льва, полного гнева, скачущего по мосто-
вой, трясущего гривой, вытягивающего свои когти, ревущего и
рычащего («Лев»),
Мысли о стихийности, бессознательности действий народа
соответствует и представление о непременной связи этих дей-
ствий с разрушением. Мир рисуется поэту в аспекте уничто-
жения. Именно так рассматривает Барбье последствия варшав-
ского восстания, рассказывая о разрушенном поясе городских
укреплений, о траве, растущей на развалинах, о пожаре, ко-
торый очищает своим языком камни, покрытые черной кровью
(«Варшава»), Именно в ракурсе разрушения открываются ли-
рическому герою и отдельные материальные предметы — стены,
запачканные кровью, и почва, покрытая трещинами, или мелкий
камень, из которого сложены стены («Варшава»).
Но разрушение сопровождает не только подавление мятежа,
оно неотделимо и от самого мятежа. В Париже разрушены
мостовые, стены продырявлены, как старые знамена («Добы-
ча»), Мятеж бьет в стену, как таран («Мятеж»), Он сравнивает
звучащий сегодня смех с молотом, сносящим построенное; под
его мощными ударами не сохраняется ничего великого. Неда-
ром раскаты смеха доносятся сквозь щебень, мусор — при-
знаки разрушения.
50
Мысль о том, что деятельность народа стихийна, что на-
родная масса, как и всё в современности, лишена созидатель-
ных, творческих порывов, приводит поэта к пессимизму, ко-
торый отчетлив во всех стихотворениях «Ямбов», особенно
таких, как «Мятеж», «Известность», «Любовь и смерть», «Жерт-
вы», «Прогресс», «Смех», «Desperatio» («Отчаяние»), Универ-
сальный пессимизм прежде всего заключается в мысли о нис-
ходящем развитии истории, о том, что вершина исторического
развития — в прошлом, настоящее же является началом
своеобразного спуска вниз, будущее — сумрачной пропастью,
неизбежным хаосом, к которому катится и стремится всё («Из-
вестность») .
Говоря о тени «сумрачного» 1793 года, якобинской дик-
татуры, поэт просит эту тень не обращать внимания на со-
бытия войн 30-х годов XIX в., ибо людей своего поколения
он считает карликами и опасается, что великий 93-й будет
только смеяться над ними. У нас, заявляет лирический герой
Барбье, не осталось ничего от древнего племени, нет более
сил в руках, нет более бодрости в душе. В «Смехе» поэт ут-
верждает, что его поколение все утратило и потеряло. Ему уже
незнаком смех, полный откровенной радости, незнакома на-
стоящая сатира. Прежний смех бил ключом из сердца, как
струя старого вина. Новое поколение грустно, поет вполголоса,
опустило голову, спрятало улыбку. Оно простилось с вином, лю-
бовью, безумными песнями, плясками.
Тему безнадежности мы обнаруживаем и в стихотворении
«Прогресс». Поэт мечтает здесь о нежном небе, о небе без
бурь, и вместе с тем признает эти мечтания иллюзорными. Он
считает, что святое опьянение, в котором люди пели «пылкий
гимн свободе», было напрасным. Во все времена те же злоупот-
ребления (abus) и те же беды. И у лирического героя Барбье
возникают сомнения: действительно ли мир в своем «вечном
движении вперед» продвинулся, хотя бы на шаг («Прогресс»)?
Поэт прямо отвергает развитие и отказывается видеть ка-
кие-либо перемены в окружающем. Париж поэтому похож на
древний Рим. Время вымело нечистоты Рима, но и спустя 2000
лет на земле обнаруживается бездна, столь же черная, что и
римский котел. В Париже тот же грохот и бред, то же множе-
ство рук, готовых захватить власть, та же жажда зрелищ, та
же наглая роскошь и безнравственность («Котел»).
Мысли о деградации человечества сочетаются у Барбье и
с отрицанием активности человека. Люди — это прежде всего
жертвы зла, бесконечно превосходящего их в своем могуще-
стве. Мимо лирического героя «Жертв» во время его сна про-
ходят бесчисленные объекты насилия, не борющиеся, а лишь
устремляющие свои руки к богу. Герой видит лишь останки,
уцелевшие от резни, полусожженные тела, покрытые ранами, тру-
пы, выплывающие на берег. Среди теней жертв поэт отмечает
51
в первую очередь молодых людей, воспевавших свободу, ора-
торов, поэтов, любящих и особенно стариков и матерей, кото-
рые тащат с собой плачущих детей.
Концентрацией бесперспективности является «Desperatio»
(«Отчаяние») Барбье. Поэт отрицает здесь прежде всего поту-
сторонний мир, столь превозносившийся Ламартином. Мольба
человека о помощи, обращенная к небу, остается у Барбье,
точно так же как у Виньи («Оливковая гора»), безответной.
И не потому, что бог враждебен человеку. На небе вообще
нет бога, нет святых и архангелов. Земной ветер, поднявшийся
вверх, высушил небесные просторы и сжег цветы небес. Там
наверху нет ничего, кроме глубокой пропасти, безграничной безд-
ны, ночи без света. Лирический герой Барбье не находит ни-
чего отрадного и на земле. Это отвратительный притон, гнус-
ная кроличья нора, полная разврата и преступлений, жирная
почва, по которой скользит нога, а человек падает в лужу
крови. Отрицание мира распространяется и на человека, и на
его душу. Жизнь человека иссушена, сердце опустошено. Он
безвозвратно проиграл и свободу, и любовь, и небо, нависшее
над ним, как открытый ров, как огромный гроб. Ему остается
не думать ни о чем, лечь, повернуться на бок и околеть, как
собака. Так в поэзии Барбье возникает мотив смерти, знако-
мый нам по поэзии Сент-Бёва и Виньи. Не следует только ви-
деть в этих мотивах самоубийства и смерти зародыши декадент-
ства, ибо пессимистическое мироощущение, приводящее к ни-
гилистическому отрицанию, вовсе не тождественно декадентско-
му оправданию зла и уродства.
7
Если жанр сатиры у Барбье осложняет-
ся пессимистическими выводами, то иначе обстоит дело у
В. Гюго, создавшего «Возмездие» («Les Chatiments», 1853).
Гюго, автор «Возмездия», является во многом продолжателем
художественной манеры Барбье. Так же как Барбье, Гюго сое-
диняет традиции романтизма, классицизма, не ограничивается
показом непосредственно данного, хотя почти всегда именно
от показа видимого и слышимого отправляется. Достаточно вспо-
мнить в этой связи пейзажи, посвященные пребыванию Гюго на
о-ве Джерси («Nox», «Блеск», первое и пятое стихотворения из
цикла «Порядок восстановлен», стихотворения пятое и девятое
из цикла «Спасители спасутся»). Имеет смысл вспомнить также,
что мир полон у Гюго еле слышного шепота, рокота, жужжа-
ния, которые поэт воспринимает, глядя на окружающее и при-
слушиваясь к нему («Сила вещей, «Народу» из цикла «Ус-
тойчивость обеспечена»). Небесполезно, наконец, привести на
память колоссальность и безбрежность, безграничность мира, ко-
52
торый расстилается перед поэтом хотя бы в виде океана («На-
роду» из цикла «Устойчивость обеспечена»).
Поэт и в том случае, когда исходит из непосредст-
венно данного, расширяет свой поэтический кругозор до преде-
лов всей Европы, говорит (стихотворение «Народу» из цикла
«Порядок восстановлен») и о Милане, и о Риме, и о Париже,
упоминает («Карта Европы») и о России, и об Италии, и о
Венгрии, и о сибирской каторге, и о декабрьской резне во Фран-
ции, и об эшафотах на юге. Поэт рассказывает здесь и
об итальянских революционерах Снмончелли и Поэрио, и о
венгерских революционных деятелях Петёфи и Баттиани, и о
русском царе Николае I, и о римском папе Пии IX, и об ав-
стрийском генерале Гайнау, усмирявшем революцию в Италии
и Венгрии. Гюго наследует от Барбье особое отношение к роли
зла. Раньше, в творчестве 20-х и 30-х годов, он не придавал
им решающего значения, теперь он считается с тем, что их
роль огромна, и преследует носителей и проводников зла, об-
личает и поносит их. Главным объектом обличения в «Возмез-
дии» является политический переворот, совершенный в 1851 г.
Луи-Наполеоном Бонапартом, который вскоре провозгласил себя
императором Наполеоном III. Наполеон III и его приближен-
ные Сибур, Тролоп, Маньян, Сент-Арно, руками которых был со-
вершен переворот и которые явились столпами нового режима,
рассматриваются поэтом как банда убийц, уничтожившая боль-
шую часть своих политических противников и отправившая дру-
гую на каторгу и в ссылку за пределы Франции, в афри-
канские и американские колонии.
Направляя свои главные удары на правителей Второй им-
перии, на министров, генералов, префектов, на армию, охра-
няющую императора и зверски обращающуюся с народом, на по-
лицию, Гюго не щадит и те слои населения, которые отказы-
ваются выступать прямо против Второй империи («Добрый
буржуа у себя дома», «Ювеналу», стихотворение XVI из цикла
«Устойчивость обеспечена» и др.). Он с презрением говорит о
признавших новый политический режим мэрах, священниках,
журналистах, судьях, о лавочниках, ростовщиках, банкирах,
о людях, играющих на бирже, для которых главное в том, что
курс ренты растет, что их доходы увеличились, что в их кассе
имеется золото, что деньги текут ручьем. Они предпочитают
Вторую империю «красной» республике, жакерии, считают, что
ругать правительство значит касаться и их самих, видят в
смелости и храбрости мятежников личное оскорбление («Доб-
рый буржуа у себя дома»), Гюго не оставляет вне поля свое-
го зрения людей, приспособившихся к бонапартистскому режи-
му, всякого рода кутил, фатов, весельчаков ( стихотворение
IV из цикла «Семья восстановлена»), предпочитающих герои-
ческой смерти длительную жизнь в позоре, восхваляющих осто-
рожность и даже трусость.
53
Очень важно, что враги, которых обличает В. Гюго в «Воз-
мездии», рассматриваются здесь не как грозная сила, выросшая
на почве органический слабости народа (именно так представ-
лял себе врага Барбье), а как явление случайное, не имеющее
глубоких корней в жизни, как явление совсем не страшное, не
ужасающее, а скорее как феномен комического порядка. Если
у Барбье сатира носила трагический характер, то у Гюго тра-
гизм снимается. Он старательно снижает Наполеона III и его
сторонников, изображает их в смешном виде, рисует их как нечто
отвратительное и мелкое, уродливое и некрасивое, пошлое и
грязное, говорит в связи с ними о дырявых штанах, о ста-
рых башмаках без подошв, о воре, очистившем шкаф и ста-
щившем рубашки, о вони, от которой затыкают нос («Блеск»),
Он рассказывает в «Тулоне» о характерных, как он считает,
фигурах своего времени — фальшивомонетчиках, лжесвидете-
лях, пиратах, бандитах, мошенниках. Он посвящает целое сти-
хотворение «Римская клоака» описанию отвратительного, гряз-
ного, мерзкого подземелья, отдушины которого обнюханы свинь-
ями. Почва этого подземелья проваливается в зловонные пу-
чины. Подземелье населяют пресмыкающиеся, оставляющие в
нем следы слюны, ужи, которые, змеятся, как черные молнии,
по его стенам, скорпионы и тарантулы, скользящие меж гной-
ных пятен пораженные проказой. Подземелье это кишит
мягкими спинами жаб, по которым скользят человеческие ноги.
Оно устлано мрачной падалью, трупами, подохшими собаками,
скелетами, челюстями, внутренностями.
Особого внимания заслуживает в «Возмездии» образ лири-
ческого героя, кстати тоже созвучный Барбье. Так же как Бар-
бье, Гюго не просто изображает в «Возмездии» объективный
мир. Он занимает активную позицию в отношении этого мира,
дает ему оценку, целиком его отвергая и отрицая. Обвиняя
бонапартистов в преступлениях, он обрушивает на них потоки
хулы и брани, осыпает их градом оскорблений, называя Луи-
Наполеона жуликом, ночным вором, гнусным волком, фигля-
ром, пиратом, сопоставляя его с Нероном, Тиберием, Иоанном
(«Nox»), именуя сподвижников Бонапарта каторжниками,
взломщиками, негодяями. Поэт не только констатирует те или
иные отрицательные явления, он вмешивается в действитель-
ность, требуя от нее коренных изменений, диктует существую-
щему свои законы.
Наличие в «Возмездии» активного, наступающего на мир
героя делает понятным аспект, в котором Гюго показывает фи-
гуру врага. Поэт подчас предоставляет ему возможность вы-
сказать свое мнение о мире, свое profession de foi, делает его
своим собеседником: Наполеона III в «Nox» и в стихотворе-
нии «О пассивном повиновении»; иезуитов — в «Ad majorem del
gloriam». Поэт совсем не склонен прощать что-либо врагу, со-
всем не собирается мириться с ним. Если он и позволяет ему
54
L1
высказывать свое мнение, то лишь потому, что сохраняет за
собой право это мнение опровергнуть, признать его несостоя-
тельным.
Но этого мало. Речь врага допущена в поэзию Гюго по-
тому, что она является особой формой саморазоблачения про-
тивника. Враг прямо заявляет о том, что он обычно скрывает,
говорит о том, о чем говорить, по сути дела, совсем не в его
интересах. Он выбалтывает тайные мотивы своих поступков,
своих речей. Так, Наполеон III у Гюго заявляет, что будет
действовать хитрее, чем его дядя Наполеон I, который воевал
с Европой, с феодальными монархиями, он же, Наполеон III,
предпочитает воевать с французским народом. Он вовсе не на-
мерен вести гордую и смелую Францию к свободе, наоборот,
хотел бы набросить ей на шею веревку. Если для дяди суще-
ственными были, по словам Наполеона III, фанфары славы,
то для племянника гораздо более важным будет мешок с день-
гами.
Очень любопытен и крайне своеобразен в «Возмездии» об-
раз природы, тоже определяющийся образом лирического ге-
роя, активного и наступающего. Поэт неоднократно переходит
в «Возмездии» от своих обвинений и инвектив по адресу по-
литических деятелей-бонапартистов к картинам природы, но все-
гда при этом не забывает о главном — о политическом положе-
нии в стране.
Природа одухотворяется и как бы подчиняется закономер-
ностям человеческого общества, которое распространяет на нее
свои привычки и заставляет ее участвовать в злодеяниях и
распрях. Мир природы, воздух, равнина, цветы, мирные поля раз-
дражают поэта, так как кажутся ему отражением общества с
его убийствами и преступлениями. Недаром тени, сгущающиеся
вокруг лирического героя печальным вечером, напоминают ему
трепещущий саван. Луна, кровавая, закутанная в траур, ка-
жется ему отрезанной головой, которая катится по небу (сти-
хотворение V из цикла «Спасенные спасутся»). Луна подни-
мается каждую ночь в саване, а солнце ежевечерне садится
в крови («Карта Европы»),
Поэт заявляет морю, что он его ненавидит, ибо оно тащит
на себе черные понтоны, плавучие тюрьмы с каторжниками и
заглушает шумом своих волн стоны, плач и крики мучеников,
которых везут эти понтоны («Nox»). Ветер в «Берегах моря»
разносит в пространстве крики сосланных, издыхающих от ни-
щеты и голода, оставленных без хлеба, без убежища, без род-
ных. Земля приняла в свои недра множество мертвецов, море
красно от людской крови, ибо реки принесли к нему бесчис-
ленные трупы.
Лирический герой «Возмездия» характерен не только своим
предельно активным характером, но также и тем, что он мак-
симально конкретен, автобиографичен, индивидуализирован. Это
55
alter ego автора, удалившегося в изгнание после декабрьского
переворота, поселившегося за пределами Франции на о. Джер-
си, оставшегося там наедине с океаном, раздумывающего о судь-
бах Франции и Европы, громящего оттуда Вторую империю.
Поэт призывает народ Франции подняться, вздымает в ночи
пылающий факел (стихотворение XI из цикла «Общество спа-
сено»). Он рисует себя грустным изгнанником, склонившим свое
чело на руки, мечтающим о днях, которые придут («Nox»). Поэт
видит в себе прежде всего «буйного мыслителя», не желает
успокоения, не хочет потушить в море свое пламя, не согла-
сен бросить в воду, примирившись со своим поражением, посох
странника («Nox»). Он воображает себя входящим к Наполе-
ону III со справедливостью в душе и с бичом в руке, потря-
сая в священном бешенстве своим мрачным стихом и саваном
мертвецов. Он подобен горным мстителям и готов раздавить
логово хищного зверя, империю и императора («О пассивном
повиновении»). Он хотел бы пригвоздить Наполеона III к по-
зорному столбу, нацепить на него железный ошейник, заклей-
мить его огненным железом («Ему смешно»).
Образ лирического героя «Возмездия» характерен, наконец,
тем, что воплощает в себе позитивное начало мира, почти от-
сутствовавшее в сатире Барбье, которая недаром носила не
только трагедийный, но даже бесперспективный характер, ибо
поэт не верил в будущее и считал состояние прострации, в ко-
тором оказался народ, безысходным. Обличение у Гюго допол-
няется энтузиазмом, который локализует скепсис, ограничивает
его миром победителей. Гюго возмущается современниками, уни-
чтожившими республику, но восторгается подъемом, охватив-
шим в свое время армии Великой революции. Так же как у поэ-
тов революционного классицизма, у Руже де Лиля, М.-Ж. Ше-
нье, Э. Лебрена, огромное значение приобретает для него ка-
тегория повелительного наклонения, подчеркивающая потенции
и возможности мира, имеющая дело с тем, что еще не суще-
ствует, но имеет быть. Он зовет своих сограждан к действи-
ям против нового тирана, вдохновляет людей на борьбу, пы-
тается их разбудить, обращается к ним с воззваниями и при-
зывами.
Идея, осмысляющая тб или иное реальное явление, превра-
щается у него в лозунг, который должен реализоваться, во-
плотиться в действие. Поэт настаивает на том, чтобы «те, кто
спит», пробудились, разбили свои оковы, взломали тюрьмы, сло-
мали стены, взяли приступом бастион и освободили страну ог
рабства. Людям стоит для этого, если у них нет другого ору-
жия, взяться за вилы, за молоты («Тем, кто спит»). Стихо-
творение XIV из цикла «Общество спасено» завершается при-
зывом: «Каторжники, встать!» В стихотворении «Народу» из цик-
ла «Порядок восстановлен», состоящем из шести строф, каждая
из строф заканчивается рефреном: «Лазарь, встань!»
56
Наряду с категорией повелительного наклонения очень боль-
шое значение для сатиры Гюго имеет мысль о будущем, о
том, что враг в конечном счете будет побежден, что он обре-
чен на уничтожение, бесповоротное и неизбежное. В стихотво-
рении «Сдается на ночь» после резкого обличения режима Вто-
рой империи поэт вспоминает о грядущем, которое спешит по
дороге ночью на коне. В стихотворении VI из цикла «Власть
освящена» поэт размышляет о сопротивлении тирану как о зер-
не, покуда зреющем в земле, мечтает о времени, когда за-
коны молчания и смерти внезапно лопнут (se rompent), когда
откроются с грохотом двери, а город наполнится пылающими
факелами. Пророк, ученый, философ, каким является поэт в
«Силе вещей», он устремлен в будущее и слышит трепет мил-
лионов крыл, готовых к наступлению.
Если ужас и мрак, нависшие над миром, казались Барбье
непреодолимыми, то Гюго убежден, что это черное небо над
головой обязательно должно смениться небом голубым («Сдает-
ся на ночь»). Поэту кажется, что он слышит, как народ про-
буждается, до него доносится гуденье темного улья, ему слы-
шен смутный набат («Народу» из цикла «Порядок восстанов-
лен»), Грядущее рисуется Гюго как мир без эшафотов и солдат,
без оружия и границ. Европа будущего заявляет, краснея: у меня
были короли. Ей вторит Америка: у меня были рабы. Сво-
бодные люди будущего забудут об оковах, весь мир составит
единую семью («Lux»).
Надежда на будущее выступает в «Возмездии» и в форме
Идеи, противостоящей отвратительному и черному миру, ко-
торый поэт отвергает и который становится у него объектом
сатиры. Этот мир отвратителен именно в силу его сугубой ма-
териальности. В нем главную роль играют деньги, оружие, фи-
зическое насилие. Идея освобождает враждебную действитель-
ность от материальности, пронизывая ее светом. Мир покрыт
темнотой, но идея освещает его, наводняет темную лазурь ночи
белой ясностью. Идея успокаивает страдающую душу, усыпляет
смерть, показывает злодеям ожидающую их пучину, демонстри-
рует праведникам гавань. Видя Идею, поднимающуюся и спо-
койную, ясную и чистую, фанатизм и ненависть рычат, как
собаки, когда перед ними встает луна в трауре. Поэт предла-
гает нациям созерцать высокую Идею: от нее идет свет, ко-
торый будет освещать их завтра («Луна»), Понятие Идеи и
всеобщей разумности, которая в конце концов восторжествует,
противостоит не только материальному миру, но также и сти-
хийности, которая приводила Барбье к мысли о безысходно-
сти существующего, к отчаянию.
Другой формой Идеи, которая также противостоит суще-
ствующему, является понятие бога, к которому поэт в «Воз-
мездии» возвращается неоднократно. Именно бог посылает на
помощь человеку грядущее верхом на коне («Сдается на ночь»).
57
Именно ангел, посланный богом, пронзает огненным мечом ста-
рый мир и сталкивает его в пропасть («Конец»). Бог симво-
лизирует для Гюго объективность будущего, его неотвратимость,
несвязанность с личными, субъективными желаниями человека.
Бог, правда, порождает у человека и сомнения, так как он
предал Рим священнику, Христа — иезуитам, а добрых — зло-
деям, но поэт рекомендует не сомневаться в боге, так как бог
не делает все сразу, сохраняет в своем деле таинственность,
недоступную людям: человек — слепец, бог — пророк. Поэт сове-
тует не склоняться перед тиранами, но обязательно прекло-
нять колена перед богом, призывает людей терпеливо ждать
будущего, ждать, пока будут сокрушены нероны и восторже-
ствуют мир и свобода («Lux).
Идея и бог, которые как бы знаменуют для героя «Воз-
мездия» опору в настоящем, самую возможность рассчитывать
на лучшее будущее, приобретают, однако, настоящую силу у
Гюго лишь при наличии народа, который представляет собой
как бы материальную основу надежды на грядущее. Огром-
ное значение для Гюго имеет противопоставление веселящего-
ся, ликующего Парижа победителей, жестокой, пьяной солдат-
ни, всякого рода прожигателей жизни, ханжей, накопителей
и Парижа побежденного, покрытого холодными трупами, окро-
вавленными мертвенно-бледными телами. К побежденному
Парижу примыкает мир французских колоний в Африке и в
Латинской Америке, мир каторги, душных понтонов, мир со-
сланных, изганных, мир дрожащих и угрюмых рабов Петер-
бурга, участников восстаний в Италии, в Венгрии, в Германии.
С оргиями и банкетами в Париже контрастируют в «Воз-
мездии» изгнание, ссылка, каторга, где хрипят умирающие, из-
мученные москитами, жарой и непосильным трудом, лихорад-
кой («Блеск»). Ссыльные, каторжники, по мысли Гюго, как
она выражена в «Песне» из цикла «Спасители спасутся»,—
это люди, оторванные от своего труда, от дома, от родины.
Они полны дум о свежем поле ячменя, о своем луге, о вели-
кой поверженной Франции. Рабочий мечтает об оставленной
на родине мастерской, хлебопашец о своей избушке, о цветоч-
ных горшках на лестнице своего домика. «Нельзя жить без
хлеба, но тем более нельзя жить без родины» — таков рефрен
«Песни».
Но народ — ив этом своеобразие «Возмездия» и его отли-
чие от «Ямбов» — состоит не только из побежденных. Народ
вовсе не обессилен, не жалок. Как бы продолжая свои мысли,
Гюго утверждает, что народная масса еще не исчерпала своих
возможностей сопротивляться врагу. Поэт, правда, признает,
что народ растратил героическое наследство, доставшееся ему
от предков, от Великой революции XVIII в. Он видится лири-
ческому герою «Возмездия» ослабевшим, опустившимся, даже
заснувшим, почти что примирившимся с всесилием и всемогу-
58
ществом бонапартистов. В «Императорской мантии» поэт об-
ращается к пчелам и просит их пристыдить народ, дрожащий
от страха. Его удивляет, что народ, некогда непобедимый,
великолепный, разрушивший тысячелетнюю монархию и башни
Бастилии, сегодня дрожит, бледнеет, трепещет, как трава, не
смеет вымолвить слово, когда ему плюют в лицо («Женщи-
нам») .
Но все это лирический герой «Возмездия» не считает в
отличие от Барбье закономерным, вытекающим из сущности
народа. Он видит во всем этом не постоянный атрибут народ-
ных масс, а лишь случайную, временную его особенность. На-
род еще способен проснуться, восстать. Поэтому поэт и счи-
тает целесообразным будить его, призывать его к действию,
звать его на мятеж, на восстание. И поэт мечтает о «дне от-
мщения», о народе, который возьмет в свои руки дубину, меч-
тает о «послезавтра», которое может оказаться «слишком су-
ровым» для теперешних сановников, уже дрожащих при мысли
о «суде народа» («Сановники»),
Главное в народе для Гюго его мощь, его сила, его пре-
восходящая врага энергия, пусть энергия и сила временно сни-
женные. Народная масса не случайно рисуется в «Возмездии»
грандиозной, сопоставляется с морем, океаном, который, как и
она, полон движения, неизмерим, колоссален, ибо и у нее есть
никому не известные бездны и ее волны наполняют чудовищ-
ным рокотом темную ночь («Народу» из цикла «Устойчивость
обеспечена»).
Сопоставление народа с океаном намечалось в поэзии Гюго
еще в эпоху 30-х годов. Надо только учитывать, что это со-
поставление отличается от того сравнения, которым пользуется
Барбье, ибо последний более всего подчеркивает тем самым
в действиях народа стихийность. Гюго же рисует народ преж-
де всего колоссальным, гигантским, всесильным. Своего апогея
сравнение народа с морем достигает у Гюго только в «Воз-
мездии». Гюго, впрочем, и прямо, без сравнения с океаном,
называет народ могучим тружеником, который выше римского
колосса. Поэт не может забыть, что народ был победителем
Европы, что он душил королей в своих могучих кулаках и
спасал свободу. Девяносто третий год, когда народ полностью
развернул свою мощь, представляется поэту титаном («Nox»).
Глава вторая
ПОЭТЫ-ПАРНАСЦЫ
1
Картина французской поэзии предсим-
волистского этапа была бы не полной, если бы мы не учиты-
вали в ней наличие поэтов, которых мы условно можем на-
звать «парнасцами», поэтов, которые были предшественниками
и зачинателями литературного направления, названного «Пар-
насом». Поэты эти — мы имеем в виду в первую очередь Тео-
филя Готье и затем Леконт де Лиля — внесли существенные
дополнения в лирику романтиков. Они, продолжив традиции
романтизма, многое в то же время создавали в противовес
романтизму, как бы в борьбе с ним, отменив и сняв очень
существенные стороны романтической манеры. Во всяком случае
мы были бы не точны в своих умозаключениях о поэзии сим-
волистов и о поэзии предсимволистской, если бы не считались
со стихами Теофиля Готье, которые писались им в 30—60-х го-
дах, и со стихами Леконт де Лиля, которые создавались в
40—70-х годах, т. е. во многом были современны творчеству
Бодлера, Верлена, Рембо и Малларме.
Теофиль Готье (Theophile Gautier, 1811—1872) начал свой пи-
сательский путь как романтик. Романтическими традициями оп-
ределяется у раннего Готье то существенное обстоятельство,
что мир, открывшийся его лирическому герою, дается у поэта
предельно объективно, на расстоянии, как бы со стороны. Имен-
но отсюда обилие в его стихах зрительных эпитетов: серые
тротуары и серые болотные птицы, зеленая зыбь овса и зеле-
ный ковер крапивы («Стрекоза», «Озноб» и др.).
Зрительный аспект определяет и композицию стихотворений
у раннего Готье. Поэт подчеркивает пространственную протя-
женность видимого: сначала говорит, например, о том, что на-
ходится «на первом плане» (вяз, лужа, утка, редкие кусты,
домик), затем о том, что имеется на «втором плане» (крылья
мельницы), и, наконец, о том, что виднеется вдали (Париж,
дома, колокольни, облако). Так строится у него стихотворение
«Точка зрения». В «Возвращении» поэт дифференцирует то,
что находится слева (пестрый холм) и справа (леса, скалы)
от него, и то, что располагается еще дальше (переход от зем-
60
ли к облаку, ободок из ляпис-лазури, увенчивающий весь пей-
заж). Явление изображается большей частью у раннего Готье
в перспективе, сопровождаемое другим, стоящим за ним. Так,
например, в «Возвращении» профиль замка выделяется на фоне
облака. Пространственность, глубина воспринимаемой действи-
тельности выражается также в том, что часть этой действитель-
ности рассматривается как центр изображения, другая состав-
ляет контур, которым окружена первая. Так, мертвенно-блед-
ный круг на небе, в котором спит солнце, окаймлен свинцо-
вым облаком («Осенние мысли»), краснота настурций образует
раму окна («Дрожь»).
Но уже в первые стихотворения 20—30-х годов Готье вносит
нечто новое по отношению к поэтике романтизма. В отличие от
романтиков типа Ламартина, Виньи, Гюго Готье дает изобра-
жение с мельчайшими деталями. Мир представляется ему много
меньше героя, кажется чуть ли не игрушечным. Ему чужды
обширные горизонты и беспредельные дали, столь существен-
ные для Ламартина, Виньи и Гюго. Хотя в стихах раннего
Готье и встречается изображение далей и горизонтов, но лишь
изредка и как второстепенное. Герой радуется малейшей ме-
лочи — светлой капле воды, в которой купается жук, пчеле,
грабящей сердце у цветка, травинке («Ребячество»), Соответ-
ственно возникает и невесомость, замедленность явлений внеш-
него мира. В «Балладе» рассказывается об облаке, едва плы-
вущем по полям неба, в «Дрожи» — о луне, бросающей среди
темной ночи свой полусвет. В этом плане надо рассматривать
мотив сна, дремоты, весьма распространенный в лирике Готье
и тесно связанный с тишиной и безмолвием.
Мир у Готье невесом, легок и свободен от внутренних про-
тиворечий, что также непривычно для романтизма. Природа у
Готье гармонична и радостна. Небо яркое, ясное («Ботаниче-
ский сад»), чист воздух, трава нежна («Неверность»). В при-
роде все как бы готовится к празднику. Маргаритки одевают
воротнички, чтобы встретить весну («Тропинка»), цветы выши-
вают белыми блестками золотой край дороги («Ночная про-
гулка»), Праздничная атмосфера усиливается пением птиц («Бо-
танический сад»)—поют дрозды («Ночная прогулка»), чири-
кают воробьи («Люксембург»). В природе царит веселье.
Ландыши радостно гремят своими бубенчиками («Тропинка»),
небо улыбается («Стрекоза»), улыбается земля («Возвраще-
ние»), нежный ветер лобзает ветви апельсиновых деревьев
(«Люксембург»).
Огромную роль играют'в стихах Готье 1830—1832 гг. ве-
сенние и летние пейзажи, картины возвращения весны, пробуж-
дающейся, расцветающей природы.
Общему характеру внешнего мира соответствует у Готье
и образ его лирического героя — пассивного наблюдателя. Он
едва выделен из окружающего, его характер еле намечен. От-
61
того-то столь большое место занимает в образах поэта внеш-
ний мир. Отсюда же, с другой стороны, небрежность, равно-
душие лирического героя к тому, что он видит. Он свободен
от всяких дел, забот, ему приятно небрежно улечься под зеле-
ными ивами («Подражание Байрону»), Он готов от лени растя-
нуться на земле, покрытой мохом, прислушиваясь к своему соб-
ственному существованию; он смотрит на все как бы через
полузакрытые глаза, забавляясь светом, который разбивается
о его ресницы.
Лирический герой раннего Готье помнит и о грустных ночах
декабря, когда ветер стонет и испускает вздохи, а с темного
неба падает потоками дождь («Череп»), и о леденящем ноябрь-
ском утре, и о тусклом небе, и о тумане, поднимающемся
с прудов («Осенние мысли»). Но все это появляется в поэзии
Готье только где-то на втором плане. Поэт бежит от холод-
ного ветра, дождя, снега к себе домой, садится возле пылаю-
щих головешек («Осенние мысли»). Ему нет дела до холод-
ного дождя, струящегося по крышам и хлещущего в хрупкие
рамы окон («У огня»). Ему приятно находиться возле пылаю-
щего огня, усевшись в большое старое кресло («Подражание
Байрону»), В его стихах отсутствует развернутая детализация
осенне-зимнего пейзажа, в них чаще говорится о морозных раз-
водах на оконном стекле («Дрожь»), о порывах ветра, осаж-
дающих оконные рамы («У камина»).
Охваченный атмосферой осенних и зимних вечеров, поэт
грустит, тоскует, и это настроение представляется ему по-
стоянным его состоянием. Он не забывает упомянуть, что он
одинок и так страдает, что его лоб покрылся бледностью (I со-
нет), что его глаза бросают взгляды, исполненные подозрений
(VI сонет). Но при всем этом лирический герой Готье никогда
не выходит из меры, не впадает в полное отчаяние.
Если ветер, дождь, осеннее ненастье остаются у Готье как
бы отстраненными от его героя, не задевающими его непосред-
ственно, то там же, на втором плане у поэта —• область зла
и уродства. Поэт рассказывает, правда, о руке с содранной
кожей, которая хочет схватить его, тянет к нему крючкова-
тые пальцы, снабженные железными когтями. Лирическому ге-
рою видятся дикие глаза ястреба, его облезлая красная шея,
виселица с телом повешенного. В тело героя впиваются клювы
алчных птиц, зубы волков. Он натыкается на стальные острия,
напрасно пытается спастись от преследований («Кошмар»),
Очень важно, однако, что все это — лишь содержание кошмара
привидевшегося герою.
Веселая трактовка зла характеризует и поэму раннего Готье
«Альбертюс, или Душа и Грех» («Albertus ou Г Arne et 1е Рё-
che», 1832). В поэме рассказывается о том, как погиб разорван-
ный чертями художник Альбертюс, влюбившийся в колдунью, ко-
торая превратилась, чтобы соблазнить его, в красавицу, напоила
62
его зельем и была готова даже отдаться ему, лишь бы он по-
обещал продать свою душу дьяволу. Несмотря на трагический
финал поэмы, вся она выдержана в комедийных тонах. Кол-
дунья— совсем не красавица, а уродливая, черная старуха.
Ее паж до своего превращения — обыкновенный черный ког.
Иронически изображается все светское окружение, в котором
колдунья встречается с художником. Иронически рисуется и
Вельзевул — в облике денди, которого шокирует запах серы, ис-
ходящий от чертей.
Комедийная интерпретация зла у раннего Готье говорит о
первых приметах декадентства — о примирении со злом, которое
у него становится совсем не опасным, о «микроскопизации» и
гармонизации мира. В этом проявляется у раннего Готье от-
ход от романтизма.
2
Переходя к анализу поэзии Готье 1833—
1838 гг., к периоду идейно-художественного кризиса, который
переживает в это время поэт, следует здесь же указать, что
годы идейного кризиса явились для поэта и временем роста.
Он значительно расширяет в 1833—1838 гг. свое видение мира,
уже не ограничивается видимым, уже не замыкается в рамки
созерцания окружающего, а временами выходит, по сути дела,
за рамки романтической поэзии, в той ее форме, которая го-
сподствовала в 20-х годах у Ламартина, у Гюго, у Виньи, со-
здает стихотворения медитативного порядка, посвященные раз-
мышлению над человеческой судьбой («Тьма»), или стихотворе-
ния-призывы, восхваляющие определенный стиль поведения
(«Послание к юному трибуну»). От прямого восприятия внеш-
него мира он переходит к произведениям, базирующимся на вос-
поминаниях о прошлом или на заочных представлениях о вещах
и явлениях, которые находятся за пределами непосредственно
данного. Показательны в этом отношении «Полуночные размыш-
ления» или «Магдалина». Герой последнего стихотворения, на-
ходящийся в старинной церкви, останавливаясь у картины, изоб-
ражающей распятие Христа, подробно рассказывает о персона-
жах этой картины и в то же время раздумывает о судьбе Хри-
ста. Полет мысли увлекает поэта за пределы старинной церкви.
Он представляет Иерусалим, воды реки Иордан, ливанские кед-
ры, обращается к ним, требует от них ответа на свои вопросы.
Стремление вырваться из непосредственно данного показа-
тельно и для «Вершины башни». Глядя вдаль, видя перед со-
бой огромный город и море с кораблями, поэт мечтает о стра-
нах, к которым поплывут корабли, об Индии, о Китае, о Таи-
ти. Характер развернутого рассуждения получает и поэма Готье
«Комедия смерти» («La Comedie de la mort», 1838). Конечно,
63
здесь большую роль играют краски и изобразительные элемен-
ты, но все они в значительной степени субъективны.
Если ранний Готье имел пристрастие к микроскопическим
пейзажам, то теперь поэт тяготеет, подобно Гюго, Ламартину,
Виньи, к широкой панораме, которая охватывает и большой
город, и дальнее море с кораблями. Любопытно его пристра-
стие к эпитетам «огромный», «колоссальный», «гигантский» и
др. Обширен горизонт, огромно чудовище, огромны челюсти аку-
лы. Если ранее поэт был склонен к аналитическому восприя-
тию мира, то теперь он склоняется к своего рода синкретиче-
скому образу, таков, например, шум города, своеобразное жуж-
жание, получающееся от соединения звуков различного поряд-
ка— шума барабанов, звона колоколов, гула повозок, стука
молота о наковальню («Вершина башни»).
Готье 1833—1838 гг. не отвергает полностью художественной
манеры, которой он пользовался в своих стихотворениях начала
30-х годов. Отношение к миру как к пространственной струк-
туре определяет ту же «Вершину башни». Однако Готье, изобра-
жая здесь не только близкое, но и даль, показывает эту даль
уже не окутанной туманом, не в ее основных очертаниях, а до-
статочно детально, так, будто он приблизился к ней. Он отчетли-
во видит и деревни, и морской залив, и корабли, и паруса. Па-
фос пространственных масштабов характерен для стихотворения
«Кто будет царем?» Основные персонажи этого стихотворе-
ния— слон, Левиафан и Птица-Рок — отличаются колоссальны-
ми размерами. Слон несет на себе башню, своим боком проламы-
вает стену, хоботом высасывает и осушает реку. Для Левиафа-
на, считающего себя царем морской вселенной, слон — существо
маленького роста. Он уверяет слона, что мог бы свободно его
проглотить. Дыхание, вырывающееся из горла Левиафана, опро-
кидывает корабли. Птица-Рок смотрит на Левиафана и слона
сверху вниз. Они барахтаются в грязи. Она плывет в воздухе,
свивает себе гнездо на луне. Но могущественнее всех — человек.
Он приказывает слону стать на колени и кладет на его плечи
свою ногу, отбирает у Левиафана его жир для своей лампы,
направляет на Птицу-Рок свинец, завладевает ее пухом и
перьями.
Объективность и пространственность внешнего мира, заим-
ствованные ранним Готье у романтиков, сочетаются теперь с
принципом антитезы, также восходящей к романтизму. Поэт
противопоставляет в эти годы судьбу героя судьбе других лю-
дей, любимцев природы, которым все удается. Его герой — па-
сынок судьбы. Его предает возлюбленная, на него кидается
верный пес, его преследуют кустарники. Для романтического
противопоставления героя миру очень характерно стихотворение
«Грусть», где противопоставляются возвратившийся апрель,
смеющиеся розы, всеобщая любовь и радость, с одной стороны,
и ужасная грусть, которая царит в сердце героя,— с другой.
64
Поэт сообщает здесь о любителях выпить, о девушках,
шествующих под руку со своими кавалерами, о поцелуях и при-
знается, что сам он стал равнодушен и к друзьям, и к возлюб-
ленной, и к самому себе. Антитетическое истолкование суще-
ствующего определяет и «Песню сверчка», вторая часть которой
открывается картиной прихода весны, мотивами возвращения
природы к жизни. Любовь просыпается, муха развертывает кры-
лья, стрекоза начинает свой полет. И на фоне всеобщего ожив-
ления мрачно выглядит сверчок, просидевший всю зиму у ками-
на, в саже, но ощущавший себя духом очага. Теперь он остается
дома, у погасшего огня, скучая в одиночестве.
Образ меланхолического и мрачного героя, вполне соответ-
ствующего требованиям романтиков, доведен до полной отчетли-
вости в «Полночных размышлениях», где поэт прямо указывает,
что его герой очень изменился. Раньше он смеялся, цвет его
лица был ярок, он никогда не плакал; зло казалось ему добром.
Теперь он стал худым, заботы обесцветили его жизнь, внутрен-
ние бури искривили его брови. На него очень повлияло чтение
Шатобриана, «Вертера» и байроновского «Дон Жуана». Он по-
нял, что сны, которые его ранее убаюкивали,— сплошной обман.
Не менее любопытен лирический герой «Триумфа Петрарки»,
в душе которого безлунная ночь, а сам он идет вслепую по
дороге, нащупывая путь в темноте. Сопоставляя себя с Данте,
он заявляет, что небесный спутник оставил его одного у порога
в чистилище с трауром на сердце.
Но Готье середины 30-х годов не удовлетворяется противо-
поставлением прекрасного, веселого, гармоничного мира и мрач-
ного, разочарованного, меланхолического героя. Романтические
традиции приобретают у него определенно пессимистическую
окраску, окраску, характерную для преддекадентства. Уже в
«Триумфе Петрарки» мрачным оказывается и сам мир. Судя по
«Меланхолии», посвященной картине Дюрера, Готье видит во
всем начало упадка. Сам Дюрер привлекает поэта тем, что его
размышления над человеческой судьбой приводят к грустным
выводам, художник понимает, как горько короткое существова-
ние человека, как бесплодна наука, какой пустой мечтой про-
никнуто искусство. И это содержание мира, намеченное уже
Дюрером, усугубляется тем, что в современности все это со-
держание меняется. Страсть, существовавшая во времена Дюре-
ра, теперь иссякла, все измельчало, стало искусственным.
Характерна картина потопа, который угрожает человечеству
в будущем («Тьма»), причем при грядущем потопе уже не будет
Ноева ковчега, никто не спасется, все — и города, и леса, и го-
ры — покроется водой. Поэт говорит о солнце, которое оплаки-
вает погибающую Вселенную, об ангеле, который прощается с
землей. Атлас, всегда поддерживавший небесную сферу, выта-
щит свое плечо из-под тяжелого груза сумрачных небес, и зем-
ля потеряет свой путь в небе, опьянеет.
3 Д. Д. Обломиевский
65
Пессимистическая преддецадентская концепция действитель-
ности достигает своей вершины в поэме «Комедия смерти» («La
Comedie de la mort», 1838). Причем пессимизм, усугубленный
мотивом смерти, ведет Т. Готье к декадентству. Если Гюго в
своих стихотворениях о смерти («Путешественник», «Молитва
за всех») говорил о ней как о кратком моменте жизни, то Готье
видит в смерти символ ущербности бытия вообще, обращает
внимание на то, что человек бессилен перед злом, в частности
перед смертью. Зло, смерть в первой части поэмы («Жизнь в
смерти») ничуть не уступает по своей мощи реальному миру.
Поэт заявляет во введении ко всей поэме, что всякий монумент,
устремляющий свою вершину к небу, одновременно с этим уст-
ремляется в землю. Острию, направленному вверх, соответству-
ет подземелье, погреб. Вверху — золото, солнце, колокола, снег
голубей, внизу — ночные птицы, сырая тень могил.
«Жизнь в смерти» — пространный рассказ о могилах, о под-
земном мире, живущем своей жизнью, которую поэт не видит,
но может себе представить. Тут на первом месте кладбище,
могилы, гробы, саваны, скелеты, пожелтевшие кости, черви. При
этом поэт не только не смягчает краски посмертного мира, но
еще сгущает, гиперболизирует его ужасы. У него мертвецы, ле-
жащие в могилах, бьются о крышку гроба, в отчаянии вообража-
ют себе объятья и ласки любимых. Могила, по мысли Готье, вов-
се не мирное пристанище, не место отдыха после жизненных
бурь. Поэт, гуляя по кладбищу, слышит шум, исходящий из под-
земного мира, вздохи ужаса, вопросы мертвецов, обращенные к
вдовам, которые давно не были на кладбище.
Если первая часть поэмы говорит о подземном мире, кото-
рый расположен возле мира живых, то ее вторая часть —
«Смерть в жизни», еще более мрачная и безотрадная,— посвя-
щена явлениям и процессам, свидетельствующим об агрессив-
ном вторжении смерти в область жизни. Речь идет здесь о
симптомах умирания в самой жизни. Смерть оказывается приме-
шанной к повседневным вещам. Действительность немыслима без
нее. Уже в части I поэту чудится, будто он видит смерть и ее
атрибуты не под землей, а вокруг себя. Его постель представ-
ляется ему гробом, а лампа — свечой. Он ощущает на себе
взгляды глазниц черепа. В части II поэт прямо заявляет, что
деятельность смерти не ограничивается только кладбищем,
мертвецами, не связана только с гниением, с зловонием. И он
рассказывает о людях, которые проходят мимо него в саванах
из плоти, о постепенном умирании человека, о коже, которую
день ото дня покрывают морщины, о глазах, постепенно стекле-
неющих и делающихся неподвижными, о людях, которые знают,
что их уже не ждут девушки, что не для них открываются окна.
У Готье 1833—1838 гг. расширяется сфера изображаемого,
в поэзию вступают воспоминания и новые аспекты бытия. В ря-
де стихотворений объектом изображения становятся явления, со-
66
зданные человеком, предметы искусства, живописи. Стихотворе-
ния «Меланхолия», «Магдалина», «Термодон» — это обращение
к, искусству как предмету изображения иногда определенно
смягчает пессимистическое отношение к миру, которому Готье
именно в середине 30-х годов следует. Показательно, что рядом
с лирическим героем «Меланхолии» мы видим героя «Триумфа
Петрарки». В «Меланхолии» отвергается «новая заря», а ночь,
окружившая поэта, названа «вечной», что же касается возмож-
ностей «возрождения», оно считается здесь просто немыслимым.
Современность, утратившая наивность и естественность прошло-
го, обречена на упадок. Совсем иное в «Триумфе Петрарки».
Сомнения, владеющие поэтом в начале стихотворения, к концу
устраняются. На смену им приходят душевное равновесие и
вера в жизнь. Любопытно, однако, что равновесие в душе героя
восстанавливается лишь при посредстве той самой гармонии,
которую вносит в жизнь искусство. А искусство обретает полную
силу лишь в том случае, если оно остается в стороне от об-
щественной борьбы. Готье ценит Петрарку за то, что его стихи
никогда не звучали для Италии ревущим набатом, призывом к
борьбе, а были всегда миролюбивыми и безмятежными.
В «Послании к юному трибуну» поэт излагает свою точку
зрения на отношение искусства и жизни. «Послание» отличает
крайняя воинственность и непримиримость. Поэт отвергает об-
щественную борьбу, восхваляет искусство, от нее оторванное.
Большую роль в «Послании» играют противобунтарские и анти-
революционные мотивы. Поэт выдвигает их потому, что считает
невозможным какую-нибудь трансформацию существующего.
Признавая, что народ голодает, раздет, живет в трущобах, поэт
думает, что изменить установленное судьбой все-таки нельзя.
Подменяя общественные порядки законами природы, он напоми-
нает, что человек бессилен сместить полюсы земли. В том же
«Послании» ничтожен человек, но величественна Природа. При-
рода пробуждает утром в лесу запахи весны и соловьиное
пенне, а тем самым как бы прокламирует свою красоту и свою
гармоничность. Мысль о гармоничности природы, которая на-
столько совершенна, что не нуждается в каких-либо измене-
ниях, приводит Готье другим путем к тем же антибунтарским
настроениям.
А
Еще более примечательные поправки к
романтическому пессимизму «Комедии смерти» находим мы в
сборнике 1845 г. «Испания» («Espana»), в котором собраны
стихотворения начала 40-х годов и где особенно любопытны
«Ужас смерти», «Послание Сурбарану» и «Две картины Валь-
деса Леаля». Автор «Ужаса смерти» уверен, что человеческое
тело, доступное разложению, может быть воплощением урод-
ства. Он допускает здесь, что плиты, которые человек попирает
67
3*
своей ногой, могут завтра лечь на него, ибо жизнь — это только
покров над пучиной вечности. Но мотивы смерти и гниения
связываются только с моментом ухода из жизни. Они не имеют
универсального характера. Распад и разложение относятся к
сфере будущего, к концу жизни и тем самым изъяты из сферы
настоящего.
«Ужас смерти» дополняется «Посланием Сурбарану», где
поэт полемизирует с тезисом: жизнь есть приготовление к
смерти. Он не хочет осуждать человеческое тело, возмущается
теми, кто утверждает, будто плоть гнусна, не может понять мо-
нахов, предающихся самоистязаниям и медленному самоубий-
ству.
Судя по стихотворению «Две картины Вальдеса Леаля», де-
градация, разложение плоти мыслится поэтом как прямая анти-
теза к великолепию жизни. Вальдес Леаль обращает на себя
внимание Готье именно потому, что у него деградация — лишь
фон для демонстрации красоты и роскоши мира. Зеленые тона,
тусклая бледность, сгнившие трупы, свернувшаяся кровь дают-
ся у него лишь как контраст к позолоченным вещам, к вазам,
золотой парче, красивым турецким коврам, золотым монетам.
Открытые гробы, вытянувшиеся в одну линию, гнилостное бро-
жение вздувшейся плоти мертвецов, головы, готовые, как спелые
апельсины, отвалиться от тела, впалые глаза, в глубине которых
червь начал плести свою паутину, присутствуют в противопо-
ставлении к обезумевшей роскоши, к браслетам, к жемчугам.
Распадающаяся плоть — лишь результат агрессии смерти против
жизни. Так намечается выход из кризиса середины и второй
половины 30-х годов, путь к «Эмалям и камеям», в которых
Готье частично возвращается к своей ранней поэзии.
3
В «Эмалях и камеях» («Етапх et Са-
mees»), в первый раз вышедших в 1852 г., а затем выпускав-
шихся неоднократно (пять раз) в 1853—1872 гг. дополненными
изданиями, сосредоточены наиболее самостоятельные и ориги-
нальные поэтические произведения Готье, созданные им в сере-
дине и конце 40-х годов, в 50-е и 60-е годы (поэт умер в
1872 г.). Выход этого сборника после революции 1848 года,
в период реакции, конечно, не случаен. Если Гюго в «Возмез-
дии», тоже относящемся к этой эпохе, выступает против реак-
ции, то Готье фактически ее поддерживает, окончательно отка-
зываясь от романтизма как искусства, связанного с революцией.
В «Эмалях и камеях» он восстанавливает антиромантические
принципы своей ранней поэзии, умеренно сохраняя элементы
романтической традиции. Готье продолжает в сборнике изобра-
жать внешний, объективный мир.
68
Для представления поэта о мире как о данности объектив-
ной, независимой от сознания, очень показательны его «Часы».
Поэт забыл завести свои карманные часы, они остановились, и
стрелки на них не движутся, хотя прошел уже час. Но стенные
часы в соседней комнате, солнечные часы за пределами дома,
часы на колокольне, часы на каланче продолжают идти, так как
по немому циферблату следует своим путем вечность. Возле ма-
леньких карманных часов, сердце которых перестало биться,
имеется большой брат, который всегда движется. Его ничто не
может остановить. Это объективное время, независимое от поэ-
та. Независимость его подчеркивается тем, что стенные, сол-
нечные часы, часы на колокольне и на каланче относятся к
поэту свысока, иронически, смеются и издеваются над ним.
Соотнесение элементов времени с элементами пространства
дано в «Замке воспоминаний». Поэт рассказывает здесь о том,
как герой его вспоминает о возлюбленной и о себе самом, ка-
ким он был более 30 лет назад. Но это воспоминание пред-
ставлено в стихотворении как описание поездки в замок, где
поэт провел свою юность, там поэт обнаруживает портрет своей
возлюбленной и собственный юношеский портрет. Ему хочется
вернуться в прошлое, хотя дорога к нему заросла мхом и кус-
тарником, а двор замка покрыт репейником и крапивой. Все эти
детали подчеркивают временную удаленность прошлого от на-
стоящего. Но передвижение во времени подменяется здесь пере-
мещением в пространстве.
Объективность мира усугубляется его красочностью, много-
цветностью. В «Нереидах» упоминаются сероватый плащ моря,
лазурь, омывающая нереид, зеленое золото их волос, белизна
их тела, голубая вода. В «Цветке, делающем весну» рассказы-
вается о белых ирисах, о розовом персике, о золотых почках,
о синем небе. В «Замке воспоминаний» говорится об оранжевой
окраске, которая золотит щеки возлюбленной алыми румянами.
Материальность мира — явление для романтизма в целом не
основополагающее, не существенное, хотя и присутствовало, на-
пример, у Сент-Бёва. Готье усиливает материальность мира в
поэзии. В «Алмазе сердца» поэт сообщает не о чувствах и пе-
реживаниях, испытанных его лирическим героем, а о материаль-
ных проявлениях этих переживаний, о женском теле, эти чувст-
ва выражающем, о локоне черной шевелюры, о тонком завитке
волос, срезанном сзади на белой шее, о ‘белой и узкой перчатке,
о туфле, которую потеряла любимая женщина, о пармских фи-
алках, зашитых в душистой подушечке.
Подчеркивая приоритет материального начала, поэт сопо-
ставляет все не с душевными процессами, а с вещами и мате-
риальными предметами. В «Добром вечере» белая лампа напо-
минает герою о белой груди, покрытой кружевами, а в «Поэме
женщины» мягкое колыхание прелестей героини заставляет его
припомнить волны, лобзающие песок под дрожащими лунными
69
лучами. В «Замке воспоминаний» великолепная, пышная красо-
та любимой женщины блистает, как гранат летом. Возлюблен-
ная описана в «Замке воспоминаний» очень детально. У нее оси-
ная талия, пунцовые губы, меж губ сверкает серебряная молния,
т. е. зубы. Она окутана в платье, окружена вещами. Ее бюст
«оправлен» в жемчуг и бархат, на ней корсет, украшенный
лентами, юбка, которая топорщится, ее руки в тяжелых коль-
цах, она опирается на ларец с драгоценностями. То же пред-
ставление о возлюбленной и в «Мансарде», где любовь нужда-
ется для своего утверждения в волнах кружев и шелке, в фесто-
нах, украшающих кровать. В «Поэме женщины» героиня влачит
за собой шлейф плотного бархата, ее фигура вырисовывается
в облаке батиста; когда она сбрасывает с себя рубашку, она
кажется мраморной, по светлому атласу ее кожи катятся ве-
нецианские жемчужины. Основой образа в «Изучении рук» слу-
жат две человеческие руки, принадлежащие куртизанке и убий-
це. Первая рисуется в блеске матовой бледности, на тонких
пальцах тяжелые кольца. Вторую руку покрывают рыжие воло-
сы. Изнеженная, она тоже не знала ни рубанка, ни молотка: на
незагрубевшей ладони отсутствуют мозоли от честного труда.
В отличие от пантеизма Гюго, пантеизм Готье (см. «Скры-
тое родство» и «Пантеистический мадригал») означает лишь сое-
динение тел и вещей — глыб мрамора, жемчужин, роз, голубей.
Доставшийся Готье от романтиков пространственный, объек-
тивный образ сочетается в «Эмалях и камеях» — и в этом со-
четании своеобразие сборника — с антиромантическим тяготе-
нием к исчерпанности жизненных противоречий, к отмене траги-
ческого восприятия действительности. Этот аспект «Эмалей и
камей» тесно связан с выводом поэта о бесцельности борьбы, с
призывом к созерцанию. Отсюда — особая праздничность,
украшенность мира, возникающая в «Эмалях и камеях». Ок-
тябрь надевает на каштаны пурпурное платье, кладет на их
головы золотые короны. С террасы видны синие горы, надевшие
серебристый убор. Март отглаживает воротнички маргариток,
чеканит их золотые пуговицы. Он пудрит, как цирюльник, воору-
женный пуховкой из лебяжьего пуха, миндальное дерево («Пер-
вая улыбка весны»), В «Камелии и маргаритке» ветры касаются
цветов таинственными лобзаниями. В «Добром вечере» пуф у
камина протягивает к поэту свои руки и ласкает его как воз-
любленная.
Очень показателен как образец гармонизации мира «Дрозд»,
направленный против трезвого отношения к жизненным противо-
речиям. В «Дрозде» повествуется о птице, полной надежд, меч-
тающей о солнце, но не знающей календаря и воспевающей
весну не в апреле, а в феврале. Дрозд упорствует, настаивает
на своей песне, прославляющей юное время года, невзирая на
туман, на белый иней, несмотря на то, что дует сильный ветер,
идет проливной дождь. Он сердится на ленивую зарю, слишком
70
долго пребывающую в постели, торопит верну поскорее устано-
вить свои законы. Поэт объявляет тех, кто смеется над дроздом
и считается с объективной закономерностью мира, глупыми и
ограниченными.
Та же мысль, отвергающая суровость и неприглядность ок-
ружающего во имя мечтаний о лучшем, проводится и в стихо-
творении «О чем мечтают ласточки». Осенний пейзаж с желтой
травой, с лесами, покрытыми ржавчиной, с осенними цветами,
георгинами и ноготками, с дождями, предвещающими зиму и
холод, не составляет еще, по мысли поэта, всего существующего.
За его пределами возможно и менее суровое, более благоприят-
ное окружение. Ласточки мечтают о том, как они улетят на юг,
пересекут туманные долины, белые вершины гор, пенистые мо-
ря, долетят до Афин, Каира, Мальты, поселятся во дворцах, на
фронтонах храмов и минаретов, вновь найдут золотое солнце и
зеленую весну.
Элементы трагизма, а тем самым и динамики, борьбы, иск-
лючены и из центрального стихотворения «Эмалей и камей»
«Тайное родство», также, по сути дела, антиромантического.
Лирическому герою этого стихотворения представляется, что все
в мире связано взаимной симпатией существ и явлений. Атом
летит к атому, как пчела к цветку, молекулы ищут и любят
друг друга. Жемчужина открывает белизну, подобную своей
собственной белизне, в перламутре человеческих зубов. Мрамор
находит свою прохладу в коже молодой девушки, голубь чув-
ствует в нежном голосе возлюбленной героя эхо своих стенаний.
Поэт утверждает, правда, в том же стихотворении, что все
клонится к упадку, все растворяется, разрушается, тает, вянет,
улетает. Но упадок в глазах Готье только видимый. Он не отож-
дествляется у поэта с уничтожением. Исчезновение вещи или
тела — начало новой формы существования. «Расставаясь» друг
с другом, «каждая частица», молекула или атом, «уходит в
глубокое горнило», и там происходит не превращение в ничто,
а трансформация. Мрамор становится плотью, цветы — губами.
Забытая любовь вновь пробуждается, прошлое вновь рождает-
ся, цветок узнает себя, прикоснувшись к алым устам.
Оправдание существующего имеет у поэта определенно дека-
дентский отпечаток. Именно поэтому столь большое место в
«Эмалях и камеях» занимает смерть как высшее проявление
зла. При этом смерть, игравшая большую роль в поэзии Готье
30-х годов и связанная там с ничтожностью человека и его
бессилием победить зло («Комедия смерти»), приобретает те-
перь совершенно иной оттенок. Она вызывает теперь симпатию,
влекущую за собой примирение со смертью. Именно такое пред-
ставление о гармоничности мира, приближающееся к декадент-
ской концепции действительности и связанное непременно с со-
крытием зла, которое существует в мире, лежит в основе анти-
тезы античности и современности в «Кострах и могилах». Готье
71
Цёнит античность за то, что в ее «счастливые времена» не было
заметно зла, а люди не задумывались над смертью. Жизнь тог-
да, по его словам, прикрывала смерть, смерть стыдливо прятала
от людей свое курносое лицо с глубокими дырками на месте
глаз, так что скелет был «невидим». Человек довольствовался
красотой окружающего мира, не искал ничего под его чувствен-
ной формой. То, что люди не задумывались о смерти, определя-
ло их бездумное, веселое отношение к существованию. Могилы,
заявляет Готье, были тогда привлекательны. Над их грустью
проливалась гармония искусства. Образы были нежны и веселы.
Мертвец рассматривался как «спящий ребенок». Вокруг памят-
ника, между цветов, плясали амуры и вакханки.
Все изменилось с приходом христианства, когда Олимп усту-
пил место Голгофе, а на месте Юпитера оказался Назареянин.
На огромное бытие распространилась, как черное сукно, печаль.
Белый скелет стал видимым. Смерть, поднимая крышку гробов,
смеется широким оскалом зубов. Она входит к куртизанке и
корчит рожи у зеркала, выпивает целебный настой у больного,
ворует подвязку у новобрачной. Она вовлекает в хоровод,
в пляску мертвых и императора, и папу, и короля. Особенно
веселой становится смерть, когда век становится легкомыслен-
ным (Готье имеет в виду предреволюционную эпоху XVIII
столетия). Следуя моде, смерть засучивает тогда рукава савана
и летит, подобно купидону, к могиле маркизы, которая отдыхает
от любви на софе в часовне Помпадур.
Примирение со злом, со смертью, имеющее ярко выражен-
ный декадентский оттенок, находим мы и в «Последнем кокет-
стве», героиня которого относится к смерти без возмущения
и без страха. Она просит, чтобы, прежде чем забить ее гроб,
ей положили немного румян на щеки и немного туши у края
глаз. Она хотела бы, чтобы вместо савана ее одели в муслино-
вое платье с белыми складками и воланами, чтобы вместо гро-
бовой подушки под голову положили кружевное изголовье
и она затопила бы его своими роскошными волосами.
Как далеко «Эмали и камеи» уходят от романтических тра-
диций, показывает характерная для них трансформация прин-
ципа антитетического построения образа, излюбленного роман-
тиками. Романтики особенно любили противопоставлять в каче-
стве враждебных и антагонистических явлений героя и окруже-
ние. Они стремились рисовать антагонистическими, враждебны-
ми целые сферы действительности. Готье в «Эмалях и камеях»
также часто склоняется к сопоставлению явлений, далеких друг
от друга и принадлежащих к разным сферам жизни, но при
этом отвергает состояние вражды между этими сферами, отка-
зывается от принципа борьбы, не углубляясь дальше контраста
между ними, раскрывая их статически, а не динамически. Любо-
пытна в этой связи уже «Ностальгия обелисков», в первой
части которой идет речь об египетском обелиске, привезенном
72
в Париж из Луксора. Этот обелиск, вспоминающий о Ниле, фа-
раонах и сфинксах, о крокодилах и розовом ибисе, о лотосах
и тростниках, находится рядом, мирно сосуществует с совершен-
но чужим ему парижским миром, с палатой депутатов, с Сеной,
видит возле себя извозчиков, куртизанок, буржуа, народ, кото-
рый он именует безумным и безбожным.
Не менее показательны для поэтики мирного контраста в
«Эмалях и камеях» «Капризы зимы». Еще более интересно
стихотворение «15 декабря», в котором призраки, вырвавшиеся
из «мрачного местопребывания», т. е. из могилы, появляются
вне загробных акссесуаров — не при свете луны, не в старых
башнях и развалинах, а среди бела дня, под мелким дождичком
в Париже, на Бульваре Монмартр, возле Жимназ, в двух шагах
от Варьете. Оригинально применен контраст в стихотворении
«Нереиды», где изображается судно с трубой, изрыгающей пар,
т. е. пароход. Он расстраивает хор нереид, морских нимф, при-
водит их в замешательство и вынуждает их погрузиться в воду.
В стихотворении имеется даже видимость борьбы: так как паро-
ход вызывает изумление и ужас у нереид, они скрываются в
воду, потому что пароход может поранить их нагие тела своими
винтами. Но мы видим, что тем не менее они сосуществуют
в одном мире, являются составными частями одной действи-
тельности.
Прощание Готье, автора «Эмалий и камей», с романтиче-
ским культом движения, с атмосферой трагических антагониз-
мов, увлеченность статичной, мирной сопоставленностью явле-
ний наиболее отчетливо раскрывается в «Симфонии в белом
мажоре». Поэт радуется не разнообразию, многоцветное™ и
многокрасочности, а именно тому, что объединяет разнообразие
и пестроту мира. Все оказывается похожим друг на друга, по-
добным друг другу, унифицированным. Поэт сопоставляет и
отождествляет целые вереницы вещей. Плечо женщины у него
подобно прежде всего явлениям неорганического мира — мрамо-
ру, алебастру, опалам, ртути, сталактитам, водоемам, морской
пене; затем явлениям растительного мира — сердцевине трост-
ника, цветам боярышника, серебристой мякоти лилии, камели-
ям; далее всему связанному с животным царством — лебедино-
му и голубиному пуху, горностаю, слоновой кости; и, наконец,
вещам, созданным человеком,— вате, атласной материи, круже-
вам, церковным облаткам, свечам. Поэт подчеркивает во всем
этом бескрасочность, бесцветность, белизну, бледность, мато-
вость, молочность, незагрязненность, отменяющую разнообра-
зие и вариации, утверждающую покой, неподвижность.
Любопытно здесь и другое. Наряду с белой окраской Готье
объявляет характерной для существующего его враждебность
динамике, пониженную активность, его скованность. Именно от-
сюда низкая температура бытия, его холодность, оледенелое™
и снежность. Он говорит в связи с женским телом о снеге, об
73
инее, ледниках, горных лавинах, шубах, изморози, зиме, о серд-
це, которое нужно растопить.
Ту же мысль об аналогиях и параллелях между различными
и далеко отстоящими друг от друга явлениями, мысль о сим-
метричности и статичности мира мы находим и в «Тайном род-
стве». Поэт сопоставляет и обнаруживает скрытую близость
между глыбами мрамора на синем фоне неба, жемчужинами,
погрузившимися в морскую пучину, розами, распустившимися
у фонтана, и белыми голубями с розовыми лапками, которые
сидят рядом на куполе одного из соборов Венеции. Мрамор и
плоть сближаются у него белизной, цветы и губы розоватостью.
Краска уже не признак, выделяющий отдельное явление из це-
лого, не признак дифференции, различения, а наоборот, качество
которое сближает отдельные предметы, составляет из них сово-
купность, как бы устраняет различия.
Выдвигая метафизические основы существующего, утвер-
ждая, подобно классицистам, связи между явлениями, прост-
ранственно далекими, и в то же время подчеркивая их бли-
зость сходством, основанным на зрительных и тепловых ощу-
щениях, Готье снова обращается, как это уже было в его поэзии
30-х годов, к искусству. Он считает искусство далеким от дей-
ствительности и в то же время зависящим от воспринимающего
субъекта. Но если искусство и представляет собой, по его мне-
нию, часть реального мира, то часть совершенно особую. Оно не
подчинено времени, поднято над движением, развитием, борь-
бой. Все в мире преходяще, в нем умирают боги, исчезают
города, в нем забывают об императорах. Но стихи, медали,
бюсты остаются. Они переживают все, что их окружает, преодо-
левают текучесть мира. Именно исходя из особой долговечности
искусства, Готье явно предпочитает в нем все более твердое,
все менее ломкое. Он рекомендует художникам избегать аква-
релей, закреплять слишком хрупкую краску в печи эмалиров-
щика. Он советует скульпторам отвергнуть глину и работать с
каррарским или паросским мрамором, ибо камень долговечнее
(«Искусство»).
4
Прямым продолжателем Т. Готье, так
же как и он чуждым романтизму Гюго и Барбье, явился Леконт
де Лиль (Charles-Marie Leconte de Lisle, 1818—1894). Но
если для Готье был характерен социально-политический консер-
ватизм, отстраненность от демократических и освободительных
движений, то Леконт де Лиль в первый период своего творче-
ского развития был близок к крайне левому флангу обществен-
ной борьбы. Он являлся в 40-х годах сотрудником фурьерист-
ских изданий «Фаланга», «Мирная демократия» и во многом
оставался верен своим первоначальным увлечениям и после
74
1848 года. «Парнасство», т. е. принадлежность к направлению
«искусство для искусства», было особенно существенно для его
первого сборника «Античные стихотворения» («Poemes anti-
ques», 1852), появившегося, кстати, задолго до образования ли-
тературной группировки «Парнас». «Парнасство» Леконт де Ли-
ля представляло собой своеобразный вызов буржуазной совре-
менности, было основано на отрицании этой современности.
Античность, которую поэт противопоставлял буржуазному об-
ществу, являлась для него как бы прообразом будущего. Но в
современности он не видел ничего, что вело бы к идеалу.
И здесь сказывался, как это на первый взгляд ни странно,
фурьеризм раннего Леконт де Лиля, ибо фурьеризм отличался
пацифистским характером, отказом от борьбы за будущее.
Если принцип борьбы и наступления на враждебный мир
играл большую роль в романтизме вообще и особенно в роман-
тизме последнего этапа («Возмездие» Гюго), то для поэзии
Леконт де Лиля характерны, так же как для Готье, отказ от
борьбы и пацифизм, чем определялась статичность, неподвиж-
ность поэтического мира «Античных стихотворений». Статичный
и неподвижный характер существующего означает для Леконт
де Лиля прежде всего умиротворенность, успокоенность; в его
поэтическом мире нет глубоких противоречий и неразрешимых
конфликтов, игравших столь большую роль в романтической
поэзии. Стоит отметить здесь в первую очередь характерные
для «Античных стихотворений» образы мира и покоя. «Черные
дубы проливают мир в воды родника». Мир царит в лесах, ко-
торые окружают пастуха, героя «Фионии». Леса и дубы в «Глау-
ке» обволакивают все существо Клития «чистым покоем». Ли-
рический герой «Июня» ждет, что леса «пропитают» его серд-
це покоем. Отметим еще эпитеты «спокойный» (ср. спокойные
леса в «Фионии», спокойная ночь в «Пане», спокойные го-
ризонты в «Эклоге») и «успокоенный» (ср. успокоенные волны
в «Пробуждении Гелиоса», успокоенный тростник в «Эклоге»),
Образам покоя и мира соответствует в «Античных стихо-
творениях» мотив отдыха. В «Пейзаже» говорится об отдыхаю-
щем пастухе, который забыл о людском шуме и мире, взирает
на небо, на леса и холмы, представляя течь часам и жизни,
наслаждаясь светом небес. В «Гиласе» идет речь о часе когда
отдыхают под зеленой листвой птицы. В «Полдне» спит далекий
лес, вкушающий отдых.
Образы отдыха подчеркивают созерцательный, пассивный ха-
рактер «Античных стихотворений», напоминающий поэзию Го-
тье. В отличие от героя классицистской и романтической лирики
герой «Античных стихотворений» не пытается проникнуть в объ-
ективную закономерность мира и лишь пассивно отдает себя
во власть этого мира, безвольно подчиняется его влияниям.
Вспомним мягкий свет и шум осенних каскадов в «Гиласе» или
мягкий свет, омывающий черную траву в «Эклоге». Характерна
75
в этой же связи и такая антитеза: с одной стороны, пылкость,
жара, с другой — прохлада, тень. В «Пане» леса хранят героя
стихотворения от солнечных стрел, от лучезарной пылкости пол-
дня. В «Роднике» вода сверкает в лесу, скрытая от пылкости
дня. В «Клитии» ручьи с прохладными берегами противостоят
лучезарному, обжигающему полдню.
Пассивность и созерцательность «Античных стихотворений»
отчетливее всего выражается в образах спа, дремоты. В «Фпо-
иии» рассказывается о сонных быках, в «Роднике» о заснувшей
наяде. В «Глауке» море дремлет и грезит в покое, сестры герои-
ни, плавающие по голубым волнам, укачивают ее. В «Гиласе»
всё засыпает: и люди, и боги. В «Полдне» в своем огненном
одеянии задремала земля. В «Эклоге» речь идет о грезящих
птицах.
Пассивность и созерцательность «Античных стихотворений»
находится в тесной связи с предельной гармоничностью мира,
в ней изображенного. Всюду у Леконт де Лиля, так же как у
Готье, мы сталкиваемся с атмосферой счастья, веселья и смеха.
В «Фионии» мы узнаем про широкие ветви, полные счастливого
рокота, про птиц, смеющихся в лесах. В «Глауке» смеются
сестры героини стихотворения, плавающие по голубым волнам.
В «Июне» воды ручья поют среди кустов боярышника вместе
с утренней птицей и смеющимся ветром. В «Клеаристе» мы
узнаем о веселой и звонкой ласточке. В «Фионии» о веселом
ветерке, в «Июне» о струящихся, ясных и веселых водах ручья.
Гармоничность мира, всеобщая атмосфера веселья, смеха по-
рождают образы ласк и лобзаний. Вода голубого залива ласка-
ет тело Клития прозрачным лобзанием, она с любовью шепчет
ему, сам Клитий готов обнять весь мир («Глаука»), в «Эоли-
дах» небесные ветерки ласкают горы и равнины, волны лобзают
Гелиоса («Пробуждение Гелиоса»).
Любопытно в этой связи, что воздействие внешнего мира на
человека не имеет ничего общего с дисгармоническим вторже-
нием враждебных сил. Именно поэтому свет, видимый героем,
или шум, доносящийся до него, прежде всего мягок, приятен,
нежен («Гилас», «Эклога»), Если героя преследует жар, пыл-
кость солнечных лучей, он имеет все же возможность укрыться
от них в прохладу, тень («Пан», «Родник», «Симфония»).
В «Античных стихотворениях», правда, немало говорится о
несчастной безответной любви, когда чувство, охватившее одно-
го из персонажей, не находит отзвука в душе другого. Так
случилось, например, с нимфой, которая безответно любит Кли-
тия («Глаука»), или с пастухом, который безнадежно влюблен
в нимфу («Фиония»). Но неразделенная, несчастная любовь не
нарушает общей гармонии бытия, так как' отринутые любовники
никогда не впадают в отчаяние.
Образы мира, успокоения и сна, отдыха и всеобщей гармо-
нии укрепляются в «Античных стихотворениях» образами тиши-
76
ны, молчания, Немоты. На Клития е «Глауке» с Густого платана
свисает молчание. В «Пейзаже» упоминается о молчаливом, без-
молвном воздухе, в «Роднике» — о молчаливом лесе. Характе-
рен образ немоты: Галлий в «Эклоге» призывает ветерок стать
немым, в «Венере Милосской» присутствует ночь с немыми небе-
сами, в «Пейзаже» говорится, что в воздухе нет порывов, нет
шума крыл, есть только легкий шепот пчел. Ср. еще утихающий,
шепчущий, рокочущий родник («Эклога») или сообщение о том,
что «все смолкает, когда полдень спускается с высот голубого
неба» («Полдень»).
В сборнике «Античные стихотворения» заслуживает внима-
ния «Смерть Валмики», «Бхагавата» и другие произведения на
индийские сюжеты. Для них очень показателен перевес объек-
тивного над субъективным, погруженность героя в природу.
Герой «Смерти Валмики» — столетний поэт — мечтает об уми-
ротворении, в котором исчезает душа отдельного человека, сли-
вающаяся с остальным миром. Землю и небеса наводняет здесь
свет, который дрожит, летает, плавает, позлащая своим ясным,
прохладным лобзанием и птиц, и слонов, и раджей, и собак,
и богачей, и париев, и Гималаи, и невидимых насекомых. Очень
любопытна и поэма «Бхагавата». Персонажи этой поэмы стре-
мятся, подчиняя свою волю богу, раствориться во внешнем
мире.
Говоря о поэтическом мире «Античных стихотворений», об
образах мира, покоя, тишины, согласия, не следует забывать,
что Леконт де Лилю чужды имматериальность и спиритуализм
ламартиновской лирики. Он не устает подчеркивать материаль-
ность, телесность, вещественность мира. Характерны для него
эпитеты «прозрачный» (serain), «чистый» (lirnpide), «ясный»
(clair). Прозрачна у него ночь («Эклога», «Глаука»), Подвод-
ный дворец отличает чистота или прозрачность («Гилас»), вол-
ны родника ясны (там же). Особенно отчетлива тенденция к
материальности в тех же индийских поэмах. Растворение «я»
персонажей в боге («Бхагавата») осложняется, например, тем
обстоятельством, что бог составляет как бы одно целое с люд-
ской вселенной. Из его вен текут реки, горы — его кости; он
носит в качестве пояса на своих боках озера и долины, леса
и сады. Проявление бога — все многокрасочные феномены при-
роды: бамбуки и тростники, кактусы и птицы, пчелы и тигры.
Для воинствующего антиспиритуализма Леконт де Лиля
очень характерно, что в «Смерти Валмики» самоуничтожение
героя, растворение его в целом касается не только его души, но
и тела. Огромные муравьи один за другим ползут на тело поэта,
покрывают его ноги, бедра, грудь, проникают через глаза в его
череп, проваливаются в открытый рот, превращают его живое
тело в скелет.
Вещи и тела отличаются в «Античных стихотворениях» раз-
ряженностью, разуплотненностью, которая находится у Леконт
77
де Лиля в органической связи с атмосферой покоя и мира. Они
не теснят человека, не давят на пего. В действительности нет
никакой противоречивости, нет ничего трагического. Поэт усма-
тривает во всем ясность, прозрачность. В этом снова принци-
пиальное отличие Леконт де Лиля от романтиков.
5
Поэзия Леконт де Лиля после пораже-
ния революции 1848 года, если судить по его стихотворениям
50—70-х годов, вошедшим в сборники «Поэмы и стихотворения»
(«Vers et poemes», 1855), «Новые стихотворения» («Poemes
nouveaux», 1857), а затем в сборники «Варварские стихотворе-
ния» («Poemes barbares», 1862; изд. 2— 1872; изд. 3—-1878) и
«Трагические стихотворения» («Poemes tragiques», 1884), пере-
живает значительные изменения.
Поэт преодолевает в этих произведениях отрыв идеала от
реальной жизни. Чуждый романтизму в «Античных стихотво-
рениях», он вбирает теперь в свое творчество традиции роман-
тической поэзии, как они выразились в поэзии Виньи, Гюго,
Сент-Бёва Вместе с тем он разочаровывается в освободитель-
ном и демократическом движении, в возможности реализовать
свой идеал, проникается пессимистическими настроениями, уг-
лубляя в этом отношении некоторые тенденции Виньи, Сент-
Бёва и Барбье, намечая преддекадентские течения и еще более
основательно, чем Готье, склоняясь к декадентству.
Приближаясь к традициям романтической поэзии, Леконт де
Лиль вбирает в свои стихи вслед за Ламартином, Виньи, Гюго
явления космического порядка — Вселенную, землю, солнце, ма-
терики. Он подчеркивает колоссальные масштабы видимого, го-
ворит в «Пустыне» и в стихотворении «Мертвецам» об огромном
пространстве, в «Тоске дьявола» — о пространстве, не имеющем
ни краев, ни дна; в «Словах» — о бесконечных песках. Речь
идет в «Последнем видении» о необъятности и необозримости
сущего, в «Полярном пейзаже» — о величественной необъятно-
сти бытия. Необъятность, безмерность пространства поддержи-
вается в «Варварских стихотворениях» образом дали, горизон-
та, известным нам по поэзии романтиков. В «Слонах» туманы
наполняют дали, а слоны, удаляясь, скрываются за горизон-
том. В «Мертвых грезах» стая птиц вырывается с лазурной
стороны моря к чистому горизонту. В этой же связи часты в
поэзии Леконт де Лиля второй половины XIX в. образы бездны
и пропасти, в которых как бы воплощаются представления о
всем далеком, скрывающемся в туманной дали. В «Тысяче лет
спустя» речь идет о голосах, которые слышатся из адской безд-
ны, в «In excelsis» («В выси») говорится о беспредельной
бездне. Взгляд героя «Последнего воспоминания» устремлен в
бездонную пропасть.
78
Масштабности мира соответствует в центральном сборнике
Леконт де Лиля 50—70-х годов — «Варварских стихотворени-
ях» (так же как у Сент-Бёва или у Гюго) особая живопис-
ность мира. В «Джунглях» он рисует синюю бездонность неба, ро-
зовый язык тигра, черное полотно мрака, в «Слонах» — синий
водоем и красный песок, в «Черной пантере» — пунцовые как-
тусы, зеленые арки тростников, розовые мерцания, падающие с
туч. С предметами различной окраски соседствуют у Леконт де
Лиля явления полихронного характера. Тут и изумрудные волны,
окрашенные в момент восхода солнца дождем огненных капель
(«Черная пантера»), и чаща, покрасневшая от крови солнца
(«Смерть солнца»), и волна водоема, которую серебрит лунный
луч («Оазис»). Живописность находит свое выражение и в игре
света и тени. Мы встречаемся в «Варварских стихотворениях»
с ветром, полным искр («Падение звезд»), со сверкающей че-
шуей («Слоны»), со сверкающей вершиной неба («Черная пан-
тера»)..
Зрительный образ существует у Леконт де Лиля в эпоху
его зрелостй^рядом со звуковыми образами, напоминающими
«Ориенталии» Гюго (ср. свежие звуки, тысячами поднимающие-
ся от тростников, от разбуженных бамбуков в «Черной панте-
ре», тысяча тысяч криков, исходящих от лесов в «Падении
звезд»), и образами обонятельными (ср. волну запахов, распро-
страняющуюся в теплом воздухе с гор, с лесов, с цветов в
«Черной пантере»).
Масштабный, живописный образ часто превращается в дина-
мический пейзаж, рисующий быстрое движение и напоминаю-
щий опять Гюго или Барбье, что также свидетельствует о при-
ближении Леконт де Лиля к романтизму. Реки низвергаются
у поэта с горных вершин, проливая свою дикую пену из пучины
в пучину («Девственный лес»). Ветер прорывается судорожны-
ми массами, вспарывает тьму, уносит порывами в волны стадо
быков, его бешеные порывы потрясают леса («Девственный
лес»). В «Сне кондора» ночь, несущаяся с Востока, надувает
при помощи вихря тяжелое половодье морского прилива.
Мысли о масштабности, зрелищности, динамичности внешне-
го мира соответствует представление об активном герое, стре-
мящемся стать соразмерным огромному миру, что, как мы виде-
ли выше, играло большую роль у Гюго и Барбье. В «In excel-
sis» поэт призывает людей идти, бежать, летать дальше и
выше, предлагает человеку взбираться вверх по золотым ступе-
ням миров. Его обращение к человеку звучит как воинственный
призыв к новому бою. Он уверен, что люди ответят звучному
голосу природы, прислушаются к роковой трубе, душа их ра-
зобьет черную могилу и вырвется из нее, чтобы сражаться,
думать, любить, страдать.
С активностью лирического героя связан у Леконт де Лиля
его бунт против бога и против установленного мирового поряд-
79
ка, известный нам по лирике Виньи. Именно отсюда у Леконт
де Лиля апология дьявола, который объявлен первым мечтате-
лем и первой жертвой бога. Именно отсюда — критика бога,
который обрисован в том же «Каине» существом злокозненным,
враждебным человеку. Ему нравятся страдания человечества,
предсмертные рыдания. Он заставляет голодных матерей пожи-
рать своих детей, проливает морями кровь людей, располагая
возле воющих костров инквизиции бездну ада. Его священни-
ки — волки с железными челюстями, пресыщенные муками лю-
дей и похудевшие от злобы.
Если Готье, направляя свою поэзию против романтиков, про-
тив социальной борьбы и революции, воспевает гармоничность
и успокоенность мира; ратует за стабильность общественного
строя, то Леконт де Лиль вместе с полнозвучностью и много-
красочностью усваивает у романтиков трагический характер
этого мира, его пронизанность не только движением, но и борь-
бой, пафосом схваток, подчеркивает активность человека, со-
противляющегося силам зла. Он как бы заявляет, что револю-
ция еще не завершилась, что упорядоченность и гармоничность
еще не достигнуты. Мир рисуется ему как бы вышедшим из
нормы, бешеным (ср. бешеное небо в «Тысяче лет спустя»),
неистовым (ср. неистовые порывы ветра, сотрясающие леса,
и неистовые туманы, неистовые тени в «Девственном лесе»),
отчаянным (ср. отчаянные голоса или отчаянные призывы — там
же). До героя (в «Тоске дьявола», «Полярном пейзаже»,
в «Смерти солнца») доносятся со всех сторон крики, вопли,
рыдания, хрипы, жалобы, призывы.
6
Нагромождая тела, вещи, краски, вы-
шедшие из гармонических соотношений и тревожно предвещаю-
щие катастрофу, Леконт де Лиль следует традициям роман-
тизма. Но параллельно этому, уже в отличие от романтиков
типа В. Гюго и Ламартина и в развитие тенденций, наметив-
шихся у Виньи, у Сент-Бёва, у Барбье, а особенно у Готье
(середины 30-х годов), поэт осложняет трагическое восприятие
действительности пессимистическим отношением к ней, воспри-
нимает историческую ситуацию, сложившуюся после 1848 года,
как безвыходную, считает силы реакции превосходящими силы
революции. Он не видит в это время в человечестве сил, спо-
собных свергнуть власть зла, проложить дорогу к счастливому
будущему.
Правда, судя по «Каину», люди, «размножившиеся в тем-
ные века» (т. е. в эпоху средневековья), могут еще «взбунто-
ваться» и напасть на неумолимый призрак, т. е. бога, могут
отбросить и божественное иго. Но это только в потенции. Фак-
80
тически человечество стало рабским и пресмыкающимся, трус-
ливым и жадным. Отсюда начинается у Леконт де Лиля
разоблачение мятежного героя, который подвергается у него
критике, объявляется неполноценным. Поэт признает в «Тоске
дьявола» суетными силу, гордость и отчаяние этого бунтаря,
указывает, что дьяволу «надоела» любовь и ненависть, наскучи-
ла борьба.
Аналогично отношение цоэта к мятежному Каину. В поэме
много раз подчеркивается, что Каин не самостоятелен, не авто-
номен в своих действиях, что он был пассивной жертвой бога
Яхве, который толкнул его на грех, что убийство Авеля он
совершил по наущению бога. Внутренне гордый и свободный, не
способный стать покорным рабом, Каин ненавидит бога, не под-
чиняется ему, он может стать бунтарем и мстителем за себя и
за человечество, но только в будущем, в мечте, за пределами
поэмы.
Признание бессилия активного героя сопровождается у Ле-
конт де Лиля утверждением преобладающей роли внешнего ми-
ра в образе. Его интересует не столько сопротивление героя
внешнему миру, сколько сопротивление объективной действи-
тельности мятежным и бунтарским замыслам и действиям ге-
роя. Это, конечно, связано, как мы уже говорили выше, с пора-
жением революции 1848 года и с утратой утопических иллюзий
в сознании Леконт де Лиля, с нарастанием пессимистических
мотивов в его поэзии 50—70-х годов. Это же сближает поэта, на
первый взгляд, с романтиками 20-х и отчасти 30-х годов, с Ла-
мартином, Виньи, отчасти с Гюго, автором «Ориенталей».
Но внешний мир у Леконт де Лиля отличается не только
масштабностью, живописностью, динамичностью, не только тем,
что давит на человека, но и своей осязаемостью, плотностью и
непроницаемостью. Поэзия Леконт де Лиля близка в этом отно-
шении уже не к романтикам, а к его современникам — писате-
лям-натуралистам, творчество которых тоже сложилось в эпоху,
последовавшую за поражением революции 1848 года, тоже в ка-
кой-то степени было выражением разочарования в пей.
Материальность и плотность действительности передана у
Леконт де Лиля постоянным присутствием преграды: ветер сте-
гает своими крылами воздух как нечто непроницаемое («Сло-
ны»), река не течет, не движется, а пробивается сквозь туманы
(«Оазис»), луна отодвигает облака как нечто плотное («Реву-
ны»), Травы рисуются грубыми и ощетинившимися («Ягуар»),
луна грубой («Лунное сияние») и твердой («Ягуар»), Характе-
рен для «Варварских стихотворений» эпитет «плотный» (epais).
Ночной мрак туманен и плотен («Ревуны»), Луна светит сквозь
плотную сетку деревьев («Ягуар»).
Мир характеризуется у Леконт де Лиля не только своей
осязаемостью и плотностью, но еще своей тяжеловесностью.
Заходящее солнце кажется лирическому герою красной, тяже-
81
лой глыбой, которая падает в море («Оазис»). Листву в лесу
отличает ее тяжесть («Девственный лес»). Тяжеловесность под-
черкивается эпитетом «медный» (ср. медные туманы в «Сло-
нах», медные облака в «Оазисе», тяжелое медное небо в «Пу-
стыне»). Тяжесть предметов выражается и через прилагатель-
ные charge, alourdi (ср. ветер, нагруженный теплой сыростью
в «Падении звезд», леса, отяжеленные росой — там же; ветер,
обремененный запахом высот в «Ultra coelos» — за пределами
неба). Отсюда же пристрастие поэта к крупным животным —
слонам, гиппопотамам и т. д. Слоны давят у пего тростники,
выдолбили на своем пути глубокую борозду в песке, под их
широкой стопой рушатся песчаные наносы («Слоны»), Они про-
ламывают в лесу заросли («Девственный лес»).
Представление о внешнем мире как о чем-то материально
непроницаемом и способном к сопротивлению выражается у
Леконт де Лиля в том, что его описания стилизуют существую-
щее под камни и металлы. У тигра морда напоминает мрамор,
у питона агатовая чешуя («Джунгли»), у кайманов железные
челюсти («Ягуар»), Плотность и непроницаемость явлений ма-
териального мира поддерживается тем, что формы органической
одушевленной природы часто становятся у поэта похожими на
формы природы неорганической, неодушевленной. Так, спины
кайманов подобны у него стволам, одетым в жесткую кору
(«Ягуар»), тело старого слона растрескалось, как древесный
ствол («Слоны»), притаившийся ягуар, поджидающий добычу,
подобен каменной глыбе («Ягуар»), Стоит отметить здесь же
тяготение Леконт де Лиля к замедленным формам движения
или к неподвижности, что противоречит динамическим пейза-
жам романтиков. Поэт недаром упоминает про розовый туман,
задержавшийся в горах («Быки»), про песок, осевший в своем
ложе («Слоны»), про неподвижность моря («Быки»), Стоит
здесь вспомнить про излюбленные мотивы покоя в «Античных
стихотворениях». Они, несомненно, сильны и в ткани «Варвар-
ских стихотворений».
Близость Леконт де Лиля 50—70-х годов к натурализму
выражается также в том, что поэтический мир «Варварских
стихотворений» или «Трагических стихотворений» населен суще-
ствами, чуждыми разуму и сознанию, отличающимися своей
телесностью, прикрепленностью к материальной среде, своей под-
властностью иррациональным инстинктам. Огромную роль игра-
ют здесь звери — тигр, лев, ягуар, пантера, кондор, дикие со-
баки, быки, слоны, орел, волк, питон. Правда, в животных очень
существенны для Леконт де Лиля черты, сближающие их с людь-
ми. Дикие собаки охвачены у него ужасом и проникнуты
отчаянием при появлении бледной луны. Они совсем по-чело-
вечески плачут, взирая на нее, стонут, кричат. Тигр печально
мяучит («Джунгли»), лев идет меланхолическим шагом поды-
шать свежим воздухом («Оазис»), Характерна еще фигура вол-
ка, пышущего ненавистью и вспоминающего об убитых челове-
ком волчице и волчатах, единственных существах, которые он
любил («Воспевание волка»).
Но все эти «человеческие», «духовные» особенности живот-
ных, устраняя дистанцию между ними и человеком, не состав-
ляют главного. Определенные материальной средой, звери пред-
стают у Леконт де Лиля прежде всего как телесные существа.
Поэт отмечает у диких собак их дрожащие животы, красные,
обвислые губы, лихорадочные ноги, позвонки, выступающие под
шерстью, стучащие белые зубы, худобу. Рассказывая о тигре,
он не упускает случая напомнить об его розовом шершавом
языке («Джунгли»), Он подчеркивает волосатость и худобу
льва («Лунное сияние»).
Звери в «Варварских стихотворениях» оказываются во вла-
сти своих инстинктов. Все они одержимы чувством голода. Го-
лодные звери щелкают зубами («Ягуар»), у льва бока ввали-
лись от голода («Лунное сияние»). Голод, как определенный
стимул поведения показателен и для волка, и для орла из
«Трагических стихотворений». Звери существуют у Леконт де
Лиля за счет своих жертв, ценой гибели и смерти. Пантера
тащит в свое логово кусок оленя, на ее бархатном платье
осталось несколько капель крови убитого; на цветах, по кото-
рым она прошла, сохраняются «ужасные пятна свежей крови»
(«Черная пантера»), Ягуар, вонзивший свои когти в быка, пьян
от выпитой крови («Ягуар»). Тигр, просыпаясь, устремляет свой
тусклый взгляд, напрягает свой слух («Джунгли»). Ягуар вды-
хает тонкий запах живой плоти, доносимый ветром («Ягуар»),
Слонов мучает жажда («Слоны»),
Рассказывая о животных, Леконт де Лиль проводит прямую
параллель между людьми и хищниками. Именно так ставится
вопрос в «Sacra Fames» («Священный голод») из «Трагических
[ стихотворений», где прямо отождествляются акула и человек;
акула, пожирающая людей, всегда может быть съедена челове-
ком; акула — одновременно и убийца и жертва, и человек и аку-
ла невинны перед лицом смерти.
Снятие различия между человеком и животным царством на-
ходит свое выражение и в том, что люди по большей части
изображаются у Леконт де Лиля столь же примитивными су-
ществами, как и животные. Они подвластны инстинктам, почти
лишены разума, интеллекта. Именно такими дикими, жестоки-
ми, грубыми, кровожадными рисует Леконт де Лиль людей
средневековья. Они (ср. «Смерть Сигурда», «Голова графа»,
«Случай с доном Иньиго») проливают очень много крови, со-
вершают злодейские поступки и при том совершают их крайне
спокойно, будто это самые обычные и повседневные дела.
Инвективы, направленные против средневековья, вовсе не
означают, что Леконт де Лиль, относя все зло к феодальной
эпохе, оправдывает тем самым буржуазное общество. Нет,
83
дикость и варварство не покидают человека И й новое время.
Человек нового времени — враг природы; он выкорчевывает ве-
ликаны баобабы, предает огню деревья, изгоняет из лесов на-
пуганных его пришествием животных («Девственный лес»), го-
нит из лесов аборигенов-индейцев. Говоря о средневековье, поэт
имеет в виду современную социально-политическую реакцию,
которая развернулась на Западе именно после поражения рево-
люции 1848 года.
7
Пессимистическое восприятие мира у
Леконт де Лиля 50—70-х годов, отражающее обстановку со-
циально-политической реакции, которая сложилась после пора-
жения революции 1848 года, выражается не только в бессилии,
беспомощности его героя. Оно проявляется и в представлении о
действительности как о явлении, находящемся в состоянии де-
градации, упадка. Многое именно поэтому связано для лириче-
ского героя Леконт де Лиля с явлениями ухода, умирания:
снег в «Последнем видении» сравнивается с саваном, небо име-
нуется в том же стихотворении плоской крышей гробницы, мно-
гое кажется поэтому стоящим на грани катастрофы, предвещаю-
щим крушение. Именно такой смысл вкладывает поэт в эпитет
«зловещий»—-ср. «зловещий ветер» («Оазис»), «зловещее мы-
чание быков» («Тысяча лет спустя»), «зловещие вздохи», кото-
рые поднимаются от песков, утесов, деревьев («Ягуар»).
Предчувствие катастрофы часто перерастает в картину ее
последствий, в трактовку катастрофы как уже совершившегося
крушения. Отсюда частые у Леконт де Лиля образы пустоты,
темноты, беззвучия, безжизненности, безлюдья. Эти образы со-
здаются уже в противовес трагизму романтиков, которые пред-
полагали наличие активно сопротивляющегося человека, но ни-
как не пустоту, не безлюдие. Это следует из интерпретации
существующего как своеобразного status quo. На первый взгляд,
эти образы означают возвращение к Леконт де Лилю 40-х годов,
к его «Античным стихотворениям» и антиромантическим обра-
зам тишины, молчания, сна, беззвучия. Но они свидетельствуют
теперь уже не о гармонии мира, а напротив — об его дисгар-
моничности или, вернее, о следствиях дисгармоничности.
Как бы то ни было, но образы пустоты, темноты, беззвучия
возникают у Леконт де Лиля еще в 1855 г. в стихотворении
«Ревуны», где лирический герой говорит о голой, пустой не-
объятности, луна кажется ему остатком, обломком мертвого
мира.
Особенно возрастает и укрепляется тема пустоты в сти-
хотворениях 1861—1866 и 1871—-1878 гг. Солнце трепещет у поэ-
та над пустыней мира, пустота возникает в глазах человека,
84
когда он смотрит вокруг в минуту смерти. Поэт отмечает голоё
лицо земли, отсутствие на ней городов («Последнее видение»);
рассказывает о голой пустыне («Красный свет» из «Трагических
стихотворений»). Мир представляется герою мертвым («Поляр-
ный пейзаж», 1878), мертвым выглядит и материк («Красный
свет»). Мир отличается безжизненностью, охлажденностью.
Можно вспомнить леденящую поверхность луны и ее холодный,
остывший мир в «Ревунах», холодную луну в «Оазисе» (1858),
ледяные океаны и снега в «Последнем видении».
Если мотив леденящего холода у Леконт де Лиля напоми-
нает в какой-то степени аналогичные темы у Готье («Симфо-
ния в белом мажоре»), то совсем ничего общего с Готье не
имеет леконт-де-лилевский мотив темноты, мрака, отсутствия
красок и цвета, тесно связанный с образом леденящего холода.
У Готье леденящий холод знаменовал спокойствие, состояние
над схваткой; бескрасочность и бесцветность приводили у него
ко всеобщей белизне, безмятежности, а тем самым свидетель-
ствовали об отказе от борьбы. Для Леконт де Лиля очень су-
щественно сочетание холода, напротив, с чернотой, с мраком.
Это уже не спокойствие и не скованность, а пустота и болез-
ненность, т. е. нечто беспросветное и безнадежное. Тенденция
к изображению бескрасочного мира окончательно торжествует в
1866—1871 гг. Поэт говорит в это время о мрачных сумерках,
о вечной ночи, в которой должен повторяться человек («In
excelsis»), о глубокой ночи, полной марака («Тысяча лет спустя»).
Здесь большое значение приобретает эпитет «черный» (ср.
черные бездонные небеса в «Последнем видении», черная бездна,
возникающая перед человеком в «In excelsis», черные небеса,
в которых исчезают вихри звезд в «Последнем видении»). Сюда
же относится образ слепоты (ср. слепую ночь в «Последнем
видении», несказанную слепоту в «In excelsis»).
Темноте, черноте сопутствует у Леконт де Лиля молчание,
тишина, известная нам уже по «Античным стихотворениям»,
но лишенная теперь гармоничности. В «Слепых» (1855) поэт
недаром указывает на то, что в пустыне всегда господствуе-
тишина. Песок пустыни напоминает ему молчащее небо. Все
в пустыне спит, через нее не пролетает ни одна птица. Еще
более выразительно образы беззвучия раскрываются в «Ultra
coelos» и в «Последнем видении». Здесь речь идет о дремлющем
воздухе, о засыпающих волнах, о немых безднах небес, об умол-
кнувших вещах.
Но пустота, темнота, беззвучие интересуют теперь Леконт
де Лиля в отличие от тех же «Античных стихотворений» не
сами по себе, а как результат процесса затухания энергии.
Уже в «Анафеме» (1855) поэт говорит об истощенной земле,
в которой ничего не зреет, об умершем земном шаре, о мире,
который «стал старым», об исчезнувших богах и разрушенных
алтарях. Ему приходит в голову здесь же мысль о том, что
85
земной шар лишился лесов. Развивая в «In exceisis» тему
всеобщего уничтожения, Леконт де Лиль прямо заявляет о пол-
ном исчезновении материи, о бесформенной бездне, открывшей-
ся перед его героем. В «Последнем видении» земля рисуется
поэту высохшей и мертвой, солнце истощенным в своем пламени
и мертвым. Он рассказывает здесь же о том, как исчезает
вихрь звезд, и призывает солнце потушить свое пламя — раз
все равно приближается конец Вселенной.
Вслед за материей, за вещами и телами подвергается унич-
тожению и сфера моральных ценностей. В «Последнем видении»
поэт сообщает о том, как на земле исчезают добродетели и
страдания, мысль и надежда, угрызения совести и любовь.
У человека прекращается умственная деятельность, все, связан-
ное со способностью размышлять, понимать («In exceisis»).
Так, в поэзии Леконт де Лиля появляется образ агонии, т. е.
образ смерти, ибо к ней приводит и естественная жизнь на
земле, и развитие человечества. Человечество («In exceisis»),
стремясь к свету, покидает для этого землю, направляется в
высь, но там, наверху, находит только тьму, мрак, ночь. Сти-
хотворение оканчивается полуироническим вопросом поэта: «не
в смерти ли заключен свет?» Зло, по мысли автора «In ex-
ceisis», коренится в «излишней жизни». Устранение зла может
быть достигнуто только в ликвидации всякой жизни, в смерти.
Тема смерти сливается у зрелого и позднего Леконт де Лиля
с темой будущего; она восходит к фурьеристскому прошлому
поэта, ибо именно в мысли о будущем, о неустанном движе-
нии человечества вперёд, за пределы буржуазного общества
заключалось то новое, что принесли с собой социалисты-утопи-
сты. Мысль о грядущем как о мире счастливого человечества
мы находим в поэме «Каин». Герой поэмы восстановит здесь
в будущем и города, затопленные морем, и города, покрытые
грудами песка, замкнет воды в ложе, т. е. соорудит каналы,
опрокинет обманчивую твердь небес, где еще недавно раздава-
лись зловещие шаги бога, создаст за рубежами небес миры,
в которых будут размножаться люди. И тогда человек познает
счастье. Отголоски этой утопии о счастье человечества находим
и в «Девственном лесу», где утверждается, что человек в буду-
щем покорит реки и проложит им новое русло.
Но Леконт де Лиль не ограничивается этой картиной вновь
завоеванного рая. Уже для «Каина» очень важно, что сфера
будущего совершенно оторвана в поэме от настоящего. Между
прошлым — эрой Эдема и Гигантов — и настоящим нет ничего
общего. Настоящее — сфера маленьких, ничтожных людей и
мелких страстей. К будущему из настоящего ничего не ведет.
Это, кстати, тезис, типичный для утопического социализма, кото-
рый также в настоящем не видел зародышей будущего. В дру-
гих стихотворениях, современных тому же «Каину», Леконт де
Лиль совершенно отходит от темы будущего — завоеванного рая.
86
Поэт мыслит уже грядущее в ракурсе всеобщей смерти. Очень
показательно стихотворение «Современникам» (1871). Грядущее
мало чем отличается здесь от настоящего, которое есть царство
идола с золотым чревом, т. е. время буржуазное прежде всего.
Буржуазным оказывается в стихотворении «Современникам» и
будущее, так как люди и в грядущем останутся во власти
«большой кучи золота», будут и тогда «глупо думать» о том,
как бы себе «набить» карманы. Люди в будущем уничтожат
плодородную почву, на которой живут, не будут знать, что де-
лать со своим временем, и умрут, утопая в предельной скуке.
Грядущее, впрочем, не сводится для Леконт де Лиля к од-
ному лишь вырождению человеческого общества. Он предчув-
ствует космическую катастрофу. Земной шар со всеми его оби-
тателями сорвется в будущем, судя по «Solvet seclum» («Сло-
манный век»), со своей орбиты, столкнется с другой планетой,
разобьется о нее, и тогда внутреннее пламя хлынет наружу.
В «Девственном лесу» будущее рисуется поэту в виде огромного
леса, выросшего в ночи после гибели человечества из людского
праха, из людских слез и крови людей.
Мысль о конце Земли иногда переходит у Леконт де Лиля
в мысль о конце всего существующего. Именно в будущем, как
показывает «Последнее видение», располагает поэт безмолвную,
застывшую в беззвучии и тишине Вселенную. Именно в будущем
не будет больше ни страданий, ни преступлений, ни проклятий,
ни криков ужаса и ненависти; все замолчит: и боги, и цари,
и каторжники. Им на смену придет черная бездна, слепая ночь.
8
Пессимистический взгляд на современ-
ность, сложившийся у Леконт де Лиля после поражения ре-
волюции 1848 года, можно определить как своеобразное пред-
декадентство. Оно не составляет всего содержания поэзии Ле-
конт де Лиля 1850—1870 гг. Но мысль о том, что развитие
идет по затухающей кривой, неизбежно влечет за собой идею
равнодушия, которая лежит в основе последовательного дека-
дентства или в основе отношения к миру, весьма близкого де-
кадентскому. Это становится особенно ясным, если сравнить
«Варварские поэмы» с «Ямбами» Барбье, особенно с его стиха-
ми конца 30-х годов. Оба они — и Барбье, и Леконт де Лиль —
берут объектами изображения упадок или начало упадка совре-
менного им общества. Оба они взирают на существующее пре-
дельно безотрадно. Оба не видят никакого выхода из углубляю-
щегося кризиса. Но Барбье — человек 30-х годов — понимает,
как ему кажется, причины этого упадка, обнаруживает их в
том, что народ, являвшийся для него первоначально идеалом,
лишен ясных, разумных задач. Отсюда деградация всего об-
87
щества или по крайней мере отсутствие прогресса в его раз-
витии. А вот Леконт де Лиль рационально познаваемых причин
упадка вообще не ищет. Упадок у него — явление иррациональ-
ное. Почему мир тяготеет к распаду, никому не известно и
не может быть никем постигнуто.
Это приближение к декадентству приобретает в некоторых
стихотворениях Леконт де Лиля иногда отчетливое тяготение
к оправданию зла и уродства, тяготение уже явно декадент-
ское. Так обстоит дело прежде всего с темой смерти, которой
поэт касается и в «Холодном ночном ветре», и в стихотворении
«Мертвецам», и в «Fiat пох» («Спустилась ночь»), и в «По-
следнем воспоминании», и в «In excelsis». Само по себе изо-
бражение смерти, конечно, прямого отношения к декадентству
не имеет. Совсем не по-декадентски рассказывает поэт в «Хо-
лодном ночном ветре» о том, как умирающий человек ощущает
в себе исчезновение материального, как человек утрачивает соз-
нание.
По-декадентски интерпретируется смерть в «Fiat пох» и в
стихотворении «Мертвецам». Смерть изображается здесь как ос
вобождение от цепей и страданий. Декадентский оттенок полу-
чает и образ поэта, завидующего мертвецам, которые вкусили
«покой, неизвестный на земле». По-декадентски звучит образ
лирического героя, оправдывающего самоубийство, приветствую-
щего людей, бросающихся в море или «падающих под ударами
железа» («Последнее желание»). Смерть человека, судя по «Хо-
лодному ночному ветру», не представляет собой, по мнению
Леконт де Лиля, ничего страшного. Она сводится лишь к тому,
что перед умершим человеком открывается земля, т. е. могила,
и в нее падает немного плоти («Холодный ночной ветер»).
Смерть концентрирует в себе все лучшее («Последнее жела-
ние»): человек лишь после смерти, после мук, перенесенных им
при жизни, становится впервые по-настоящему свободным («Хо-
лодный ночной ветер»).
Декадентские тенденции содержатся в поэзии Леконт де Лиля
и вне темы смерти. Лирический герой «Тысячи лет спустя»
прислушивается к голосам отчаяния и заявляет, что эти голоса
его «очаровывают», он считает их «божественными». Ветер с
диким хрипом рекомендует ему «обожать» красоту вещей, т. е.
фактически забыть о горячечных криках, о бреде, о диком
хрипе, об отчаянии. Душа героя улетает к улыбке славы и к
благоуханию губ. В «Ultra coelos» поэт прямо призывает «сма-
ковать» (savourer) человеческие страдания, предлагает чело-
веку, склонившемуся над бездной жизни, трепетать от радостей
ужаса, воспевает пассивное наслаждение, которое испытывали
старинные аскеты, сидевшие неподвижно сотни лет в глубине
лесов. Он советует человеку жить, забыв о трагедиях.
Глава третья
ШАРЛЬ БОДЛЕР
1
Романтическая поэзия во Франции со-
здается в годы Реставрации, продолжает жить, существенно
видоизменяясь, в эпоху Июльской монархии, переживает свое
второе рождение после революции 1848 года, в период империи
1851—1870 гг. Парнасская поэзия рождается в годы Июльской
монархии и достигает своего расцвета опять-таки после револю-
ции 1848 года во время Второй империи. В отличие от роман-
тиков и парнасцев на поэзии Бодлера (Charles Baudelaire,
1821—1867) лежит явственный отпечаток событий февральской
революции 1848 года и событий, за ней следующих, опреде-
ляющихся ее разгромом. Если поэзия романтиков и парнасцев
формировалась вне влияний революции 1848 года, или задолго
до нее, или после нее, вне прямых связей с революцией (исклю-
чение составляет только поздняя лирика В. Гюго), то для Бод-
лера решающей явилась атмосфера революции 1848 года и ее
ближайшие последствия. Империю Наполеона он судит не саму
по себе, а по ее отношению к революции, как прямое отрица-
ние революции, как уничтожение ее результатов *.
Большое значение имело в этой связи то решающее обстоя-
тельство, что поэт принимал активное участие в событиях не
только февраля, но и июля 1848 года, т. е. в событиях ан-
тибуржуазного, пролетарского революционного движения. Ои
был в это время на улицах, в толпе восставших, с оружием
в руках. Он выступал и в прессе, стоявшей на стороне
республики («Салю Пюблик»), Что касается его попыток печа-
таться в газетах правого направления, то эти попытки оказались
малоуспешными именно в результате его симпатий к якобинцам
1793 года. О том, что его влекло к народу, к «маленьким лю-
дям», к тем, кто был жертвой социально-политической неспра-
ведливости в 40-х годах, к тем, кто свершал революции 1848 го-
да, мы узнаем из его собственных произведений — из «Вина
1 О связях Бодлера с революцией 1848 года очень убедительно говорится
в работе Н. И. Балашова «Легенда и правда о Бодлере».— В книге:
Ш. Бодлер. Цветы Зла. М., «Наука», 1970.
89
тряпичников», из «Души вина», из «Предрассветных сумерек»,
из многих его стихотворений в прозе.
Атмосфера революции, вернее атмосфера ее поражения, ощу-
щаемая в основном сборнике лирических стихотворений Бодле-
ра— «Цветах Зла» («Les Fleurs du Mai», 1857),— выражается
прежде всего в том, что отношения людей рисуются поэту в
аспекте ожесточенной борьбы, в ракурсе казней и преследова-
ний, представляются ему связанными с образами виселиц и
тюрем. В «Поездке на Киферу» среди образов четвероногих, сную-
щих вокруг виселицы, внимание поэта обращает на себя «самое
большое животное», напоминающее поэту палача, окруженного
своими помощниками. О приговоренных к смертной казни, об
их спокойствии и высокомерном взоре говорится и в «Литаниях
Сатане». Особое место занимает тема тюрьмы. В четвертом
стихотворении из цикла «Сплин» земля выглядит как сырой тю-
ремный каземат (cachot), а дождь растягивается в длиннейшие
полосы, напоминающие прутья решеток на тюремных окнах.
Мотивы ссылки, изгнания дополняют образы казней и тюрем.
Поэт вспоминает в «Лебеде» как об очень существенной сторо-
не современности о пленных (captifs), о сосланных (exiles),
размышляет о пленной Андромахе, ставшей рабыней Пирра.
Здесь же мы находим упоминание о сынах родины, ее лишен-
ных, т. е., очевидно, о высланных за пределы родной страны
и блуждающих по свету. О сосланных вспоминает и лирический
герой «Литаний Сатане». Мы встречаемся еще с образом «со-
сланного судьбой в склепы бездонной грусти» («Привидение»).
Любопытно, что в статье о поэзии Пьера Дюпона Бодлер снова
пишет про сосланных, изгнанных (exiles), покинутых (abandon-
nes), про путников, терявшихся в снежной пустыне или
под жгучим небом тропиков.
Любопытен в «Цветах Зла» и образ воина, умирающего на
поле боя, но не связанного с регулярной армией, подавлявшей
революцию, уничтожавшей бойцов на баррикадах. В лице сол-
дата изображается не победитель, разгромивший противника,
т. е. в данном случае мятежников, а побежденный, которого
придавили другие раненые, которого давят копыта лошадей;
его уже учуял волк, за его последними движениями следит
ворон («Непоправимое»), Мысль о побежденных (vaincus) есть
и в «Лебеде». В «Старом колоколе» лирический герой стихо-
творения сравнивает свой ослабевший голос с хрипом раненого,
которого забыли на краю озера крови под телами убитых.
Вспомним еще образ человека, побежденного и раздавленного
(«Жажда небытия»), образ человека, пережившего поражение,
обиженного и рыдающего («Наваждение»), фигуру матроса, за-
бытого на необитаемом острове, покинутого и заброшенного
(«Лебедь»),
В аспекте поражения революции трактуется у Бодлера и
тема смерти, которая у поэтов 30—40-х годов, у Готье, у Сент-
90
Бёва рисовалась как явление биологического и индивидуально-
психологического порядка, смерть от старости или самоубийство.
Конечно, смерть и умирание в ряде стихотворений Бодлера,
например в его «Скверном монахе», в «Посмертных угрызе-
ниях», а особенно в стихах конца 50-х — начала 60-х годов —
в «Погребении проклятого поэта», в «Фантастической гравюре»,
в «Веселом мертвеце», в «Ужасном соответствии»,— трактуется
в традициях Т. Готье и Сент-Бёва, хотя общая тональность
«Цветов Зла» подсказывает иное истолкование темы. Это иное
истолкование проводится в таких стихотворениях, как «Непо-
правимое», «Поездка на Киферу», четвертое стихотворение из
цикла «Сплин», «Старый колокол», «Привидение», «Жажда не-
бытия», «Лебедь», «Наваждение», «Литании Сатане». Здесь уход
человека из жизни раскрывается в одном ряду с поражениями,
убийствами, казнями, т. е. в аспекте, совершенно своеобразном
и не зависимом от традиции.
Тема поражения революции, тема столкновения и борьбы
революции с реакцией определяет не только отдельные мотивы,
но и самую суть поэзии Бодлера, ее внутреннюю противоречи-
вость, ее двойную направленность.
Революция определила, во-первых, гуманистический харак-
тер символизма Бодлера, во-вторых, особую внимательность его
лирического героя, тоже связанную с человечным отношением
к другим людям, особенно к нищим и страдающим, и, наконец,
в-третьих, бодлеровское богоборчество, также направленное на
защиту человека.
Поражением же революции, победой политической реакции
определены и другие, противоположные стороны бодлеровского
творчества — его пессимистический колорит, его религиозное пе-
рерождение, его декадентская окраска.
2
Но прежде чем говорить об этих двух
сторонах бодлеровской поэзии, следует остановиться на том об-
стоятельстве, что творчество Бодлера формируется и поэтиче-
скими традициями 30—40-х годов, что оно продолжает развитие
французской поэзии эпохи Реставрации и Июльской монархии
и очень сложным образом связано с романтическим направле-
нием этой поэзии. Из отношений поэзии Бодлера с романтиками
вытекают прогрессивные тенденции, тенденции, во многом свя-
занные с революцией 1848 года и с общественным движением,
ее подготовившим.
Бодлер воспринял в первую очередь от романтического ис-
кусства объективный образ, не зависимый от лирического ге-
роя и отличающийся пространственным, масштабным характе-
ром. Образ мира по диапазону и мощи довлеет над образом
91
героя. Мир, раскрывающийся во многих стихотворениях «Цве-
тов Зла», действительно отличается своей грандиозностью. Стоит
вспомнить в этом отношении хотя бы «Маяки», где все венчает
картина, не имеющая пределов. Здесь крики повторяются ты-
сячей часовых, очевидно, разделенных колоссальным простран-
ством, крики передаются тысячами рупоров на огромные
дистанции, здесь маяки зажжены на тысяче крепостей и видны
издалека, а крики охотников теряются в бескрайних лесах2.
Стремление изобразить пространственную протяженность
мира отчетливо и в других стихотворениях Бодлера. Дух поэта
бороздит прозрачные пространства и глубокую необъятность
(«Воспарение»), В бескрайнюю даль углубляются конь и всад-
ник («Фантастическая гравюра»). Огромные колонны, обширные
галереи освещаются тысячами огней («Предсуществование»);
«голубые необъятности» («Я обожаю тебя») и далекое небо как
бы подчеркивают свою удаленность от человека («Танец змеи»).
Пространство — нечто ужасное и пленительное («Пропасть»).
Бесконечность и огромность пространства связывается у Бод-
лера также с образом «бездны» (gouffre), который мы встре-
чаем и в «Гимне красоте», и в «Человеке и море», и в «De
prof undis clamavi» («Из бездны воззвал»), и в «Duellum»
(«Поединок»), и в «Балконе», и в «Духовной заре», и во «Фла-
коне», и в «Музыке». Тот же эффект в «Цветах Зла» произ-
водит и образ пропасти (abime), фигурирующей в стихотво-
рениях «Человек и море», «Гимн красоте», «Тебе мои стихи».
Отсюда же пристрастие Бодлера к эпитетам огромный (im-
mense) и громадный (ёпогте), широкий (vaste) и глубокий
(profond). Широкими представляются ему крылья птицы
(«Альбатрос»), объятья кораблей («Волосы»), море («Moesta et
errabunda» — «Печальная и блуждающая»). Огромной, гро-
мадной кажутся ему фигура Красоты («Гимн Красоте»), небо
(«Волосы»), кладбище («Фантастическая гравюра»), бездна
(«Музыка»), орган ревущих ветров («Moesta et errabunda»).
Глубоким видится ему море, пространство («Балкон»), пропасть
(«Тебе мои стихи»), единство, в котором сливаются запахи,
цвета и звуки, проистекающие из взаимно отдаленных сфер
(«Соответствия»).
Говоря о связях Бодлера с традициями романтизма, очень
любопытно отметить, что, судя по статьям поэта, он действи-
тельно связывал романтизм с присутствием огромных прост-
ранств, с колоссальной дистанцией между человеком и окру-
жающими предметами. Так, вспоминая о романтиках, он пишет
в «Салоне 1859 года»: «Я жалею о больших озерах, огромадных
горах, о лестницах с планеты на небо». А в статье о «Тангей-
зере» Вагнера, которого он также относит к «романтическому
2 Исследователь поэзии Бодлера Л. Остен (L. J. Austin. L’univers poetique de
Baudelaire. P., 1956, p. 256) пишет; «Настойчивое повторение слова «тыся-
ча» увеличивает до бесконечности это видение».
92
искусству», он говорит об огромных горизонтах оперы, о бес-
крайнем свете, распространяющемся вокруг, о необъятности.
У Вагнера поэт обнаруживает чувство протяженности, никто из
музыкантов не умеет, по его словам, так, как Вагнер, изобра-
жать пространство и глубину, материальную и духовную.
Виктора Гюго, по мнению Бодлера, опьяняет сила, его неот-
вратимо влечет к себе бесконечность -— море, небо, гигантские
животные. Он, играя, ласкает то, что испугало бы тщедушных.
Он движется в огромном мире, не испытывая при этом голово-
кружения. Его естественная область — чрезмерное, громадное.
Именно поэтому он часто, созерцает небо (статья о Гюго
1861 г.).
В том же аспекте воспринимает Бодлер «Варварские стихо-
творения» Леконт де’ Лиля, у которого сильны романтические
традиции. Бодлер считает, что Леконт де Лилю лучше всего
удаются внушительные силы природы, величественные живот-
ные, грозное великолепие океана (статья о Леконт де Лиле,
1861).
С традициями романтизма связано у Бодлера и его «двое-
мирие», которое характерно для Гюго, а еще ранее для Ламар-
тина, который, правда, относил чувство идеала к потусторон-
нему миру, к богу, а не к человеку, как В. Гюго и Бодлер.
Чувство идеала, определяющее двоемирие бодлеровского твор-
чества, обнаруживается у него прежде всего через воспомина-
ния человека об ином мире, мире детства или путешествий,
который представляется ему принципиально отличным от окру-
жающего. Это особенно отчетливо проявляется в стихах «Цве-
тов Зла», проникнутых радостью, ясностью и успокоенностью,—
«Воспарении», «Соответствиях», «Гармонии вечера», «Пригла-
шении к путешествию», «Пейзаже», «Солнце» 3. И первое место
среди них, несомненно, принадлежит «Маякам», в финале кото-
рых особое значение придается чувству достоинства, определяю-
щему роль человека во Вселенной.
Бодлер недаром озаглавил самый крупный раздел «Цветов
Зла», составляющий 3/4 всего сборника, «Сплин и идеал», под-
черкивая тем самым двухслойность, двоемирие существующего,
не мысля изображения действительности в рамхах одного толь-
ко «сплина».
Идея двоемирия лежит в основе «Воспарения», являющегося
программным для всего сборника. Рядом с болезненными испа-
рениями земли, рядом с туманным существованием людей, об-
3 «Поэт громко возвещает о своей радости в ряде стихотворений, которые
могут показаться ребяческими и наивными»,— пишет Прево (У. Prevost.
Baudelaire. Р_, 1964, стр. 157).
Любопытно и замечание Момера (С. Mauclaire. Le genie de Baudelaire.
P., 1933) о том, что главный персонаж книги Бодлера — ностальгия, при-
сутствующая «в великолепных пейзажах», в «песнях странных и магиче-
ских» (стр. 118).
93
ремененных тяжелыми невзгодами, здесь есть полет человече-
ского духа над озерами, морями, по ту сторону солнечной си-
стемы, за пределы звездных сфер 4. Человек может вознестись
к лучезарным, безмятежным полям, может парить над жизнью.
И поэт считает эту возможность счастьем.
Принцип двоемирия существен и для «Солнца», одного из
центральных стихотворений целого раздела «Цветов Зла», на-
званного «Парижские картины». В «Солнце» фигурирует, не
только презренное (vil) окружение поэта — старое предместье
и его лачуги, зловонные растения, костыли и больницы. Ре-
шающую роль здесь играет и само небесное светило, пробуж-
дающее к жизни розы, наполняющее медом цветы и воображе-
ние. О том, что действительность не сводится к тоске, к стыду,
к угрызениям совести, мучительной лихорадке и богадельням,
узнаем мы и из «Искупления», где параллельно существует
сфера Ангела, область радости и здоровья. Если человеку суж-
дено считать морщины и бояться старости, если его беспокоит,
что он может прочесть отвращение во взорах тех, кого он лю-
бит, то у Ангела над всем этим торжествует красота, а зна-
чит, добавим мы, и молодость.
Мысли об обязательном сосуществовании двух миров —
сплина и идеала, зла и добра,— об их противоположности и об
их соприкосновении посвящен и «Альбатрос». О двух областях,
об области несвободы, пленении, грубости и мелочности, а так-
же о сфере прекрасного и свободного, царственного и гигант-
ского рассказывается здесь. Аналогично стихотворение «Ле-
бедь». Лебедя окружают бараки, клетки зверинца, старый хлам,
зеленая тина, сухая трава. Но сам лебедь — существо, резко
отличное от окружающего. Он отличен и белизной своего опе-
рения, и воспоминаниями о родном озере, и обращенностью
своих взглядов к небу, и своей жаждой грома, молний, дождя.
Идея двоемирия играет решающую роль и для внутренней
структуры бодлеровского мира, как он изображен в «Moesta
et errrabunda», где, с одной стороны, черный океан гнусного
города, полный грязи; а с другой — «иной океан», голубой,
глубокий, яркий, великолепный; в нем таится зеленый рай дет-
ской любви, поцелуев, цветов, песен, скрипок. Тот же смысл
вложен автором «Цветов Зла» и в «Плаванье», которое не слу-
4 Mon esprit, tu te mens avec agilitc,
Et, comme un bon nageur qtii se paine dans 1’onde,
Tu sillonnes gaiement I’immensite profonde
Avec une indicible et male volupte.
Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides;
Va te purifier dans 1’air superieur,
Et bois, comme une pure et divine liqueur,
Le feu clair qui remplit les espaces limpides.
Здесь и далее цитируется по изданию: Charles Baudelaire. Les Fleurs du
Mai. P., 1964.
94
чайно завершается антитезой Вселенной (земли и неба), чер-
ной как чернила, и сердца человеческого, которое поэт именует
«лучезарным» 5.
Судя по «Moesta et errabunda», по «Предсуществованию»,
по «Приглашению к путешествию», по «Балкону», по стихотво-
рению «Средь шума города...» и по другим произведениям, ко-
торые иногда называются «ностальгическими» и посвящены вос-
поминаниям поэта об утраченном счастье6, для Бодлера
решающее значение имеет принцип двоемирия, хотя он выгля-
дит как бы усеченным. Именно такой характер получает «Пред-
существование», рассказ о тропических странах, в которых про-
текала юность поэта. Солнце над морем и морские волны, крас-
ки заката, всемогущие звуки музыки, несомненно, противосто-
ят здесь сегодняшнему дню. Само окружающее, вовсе не фигу-
рирует здесь, а как бы только предполагается.
Более основательно проявляют себя принцип идеала и прин-
цип двоемирия в некоторых любовных стихотворениях Бодлера,
посвященных, по преданию, Жанне Дюваль, и во всех любовных
вещах поэта, адресованных, также по преданию, г-же Сабатье '.
Так, в «De prof undis clamavi» герой, повергнутый в бездну, ок-
руженный мрачной! и ночной Вселенной, замкнутый свинцовым
горизонтом, не мирится с бездной, мраком, ночью. Он сохраняет
мечту об единственном существе, которое его любит, он взывает
к его жалости и просит прийти на помощь, видимо полагая,
что это существо находится в другом мире.
Подробнее, детальнее противопоставление поэта, погрязшего
во зле, и возлюбленной, взирающей на него сверху, из атмо-
сферы света, представлено также в «Духовной заре», в «Sem-
per eadem» («Всегда такая же»), в «Живом факеле», в стихот-
6 Dis-moi, ton coeur parfois, s’envole-t-il, Agathe,
Loin du noir ocean de 1’itnmonde cite,
Vers un autre ocean ou la splendent eclate,
Bleu, clair, profond, ainsi que la virginite?
Dis-moi, ton coeur parfois s’envole-t-il, Agathe?
(p. 76)
О Mort, vieux capitaine, it est tempsi levons Гапсге!
Ce pays nous ennuie, 6 Mort! Appareillons!
Si le ciel et la met sent noirs comme de 1’encre,
Nos coeurs que tu connais sont remplis de rayons!
Verse-nous ton poison pour qu’i! nous reconforte!
Nous voulons, tant ce feu nous brule le cerveau,
Plonger au fond du gouffre, Enfer ou Ciel, qu’importe?
Au fond de I’lnconnu pour trouver du nouveaul
(p. 153)
6 См. о них у Декона (L. Decaunes. Ch. Baudelaire. P., 1960, p. 92—93).
7 См. об этом подробнее у Прево (указ, соч.,) и у Порше (F. Porche. Baude-
laire. Histoire d’ ne ame. P., 1945; Baudlelaire et la Presidente. P„ 1959). Инте-
ресные соображения об этом имеются также у Н. И. Балашова («Легенда
и правда о Бодлере», стр. 263—269).
95
ворении «Вся целиком». В «Духовной заре» человек, опрокину-
тый на землю, тянется к любимой женщине, так как он еще
способен и страдать и мечтать. Поэт рассказывает здесь, с од-
ной стороны, о развратниках, о безумных оргиях, о свечах,
потушенных восходящим солнцем. А с другой стороны, говорит
о недосягаемой для повергнутого человека лазури духовного
неба, о восходе солнца и, наконец, о светозарном и чистом
существе, подобном бессмертному солнцу. Ту же роль, что све-
тозарное, чистое существо, играют в «Semper eadem», «Живом
факеле», в стихотворении «Что можешь ты сказать...» дыхание,
голос и божественные взоры любимой женщины, которую лири-
ческий герой видит и ночью, в одиночестве, и днем, в толпе,
подобно факелу или призраку, пляшущему в воздухе. Женщи-
на приказывает человеку любить только прекрасное, называет
себя его ангелом-хранителем, его Музой, его Мадонной8. Она
всегда шествует перед героем, готова спасти его от западни,
от греха. Свечи загораются во славу смерти, а глаза любимой
женщины горят, чтобы пробудить душу в человеке. Это светила,
которых не в состоянии погасить даже лучи солнца.
3
Параллельно стихотворениям, проникну-
тым романтическими традициями, и несколько позднее Бод-
лер создает вещи, в которых объективно-пространственный образ
наполняется материально-вещественными деталями. Об этом
свидетельствуют опубликованные в 1851 г. стихотворения «Пред-
рассветные сумерки» и «Вечерние сумерки». Еще более явной
становится трансформация объективно-пространственного обра-
за в стихотворных произведениях середины 50-х годов, во вто-
ром и третьем стихотворениях из цикла «Сплин», а также в
«Пейзаже», «Солнце» и др. Мироощущение поэта, опиравшееся
в конце 40-х годов и в начале, середине 50-х по преимуще-
ству на огромный внешний мир с гигантскими дистанциями и
с широчайшими горизонтами, осложняется близлежащими об-
разами внешнего мира, который вмещает в себя тела и вещи.
В третьем стихотворении из цикла «Сплин» фигурируют явле-
ния, связанные уже не с планетарными масштабами и даже не
со сменой времен года, т. е. не с протяженностью во времени,
а с определенным кругом вещей, существ, привычек — охот-
8 Que се soit dans la null et dans la solitude,
Que ce soit dans la rue et dans la multitude,
Son fantome dans Fair danse comme un Flambeau.
Parfois il parle et dit: «Je suis belle, et j'ordonne
Que pour Г amour de moi vous n’aimiez que le Beau;
Je suis 1’Ange gardien, la Muse et la Madonne».
(p. 55)
96
ничьи собаки, дичь, соколы или кровати, украшенные изобра-
жением лилий, придворные дамы, придворные медики, шуты.
Во втором стихотворении из цикла «Сплин» перечисляются
вещи, найденные в ящике комода,— любовные записки, юриди-
ческие акты, стихи, судебные дела, романсы, пряди волос.
Из того же стихотворения мы узнаем о старинном будуаре,
об увядших розах, открытом флаконе духов, о пастелях Буше.
Бодлер оказывается в этих стихотворениях ближе не к ро-
мантикам, а к парнасцам, т. е. к Теофилю Готье9 и Леконт де
Лилю, к «Эмалям и камеям» и к «Античным стихотворениям»,
ибо для романтиков главное было в пространстве и далях,
у парнасцев же играла первую роль переполненность их мира
вещами и телами. Надо только иметь в виду, особенно если
учитывать стихотворения конца 50-х годов, вошедшие во второе
издание «Цветов Зла» (1861), что переполненность вещами,
подробностями, деталями освобождается у Бодлера от экзотиче-
ского колорита, в аспекте которого эти вещи и детали пред-
ставлялись в «Эмалях и камеях» и в «Античных стихотворе-
ниях». Установка на изображение предметного мира сопровож-
дается сокращением границ этого мира до пределов города,
Парижа, непосредственного окружения лирического героя. Все
эти вещи и детали становятся частями урбанистического пей-
зажа, намеченного еще у В. Гюго («Ноябрь» из «Ориенталий»),
у Сент-Бёва («Желтые лучи», «Роза»), у Барбье («Мятеж»,
«Добыча»). В «Цветах Зла» изобилуют атрибуты интерьеров —
оконные решетки, ставни, занавески, потолки, люстры, лампы,
комоды, пюпитры, подушки, головешки в камине, стенные часы
и пр. Именно об этом упоминается в «Пейзаже», в «Солнце»,
во втором стихотворении из цикла «Сплин», в «Игре», в «Пред-
рассветных сумерках», в «Вине тряпичников». А в «Пейзаже»,
«Солнце», в «Предрассветных сумерках», «Балконе», «Исповеди»
появляются улицы и площади — крыши, дымовые трубы, балко-
ны, подворотни, водосточные трубы, уличные фонари, мостовые.
Поэт говорит в «Пейзаже», в «Солнце», в «Вечерних сумерках»,
в «Игре», в «Искуплении» о дворцах, колокольнях, лачугах,
театрах, ресторанах, игорных домах, богадельнях, больницах.
Внимание Бодлера к чувственно-материальному миру, уста-
новка поэта на изображение видимого, непосредственно данно-
го, которое именуется у него «природой», сказывается и в его
статьях об искусстве, напечатанных еще в 40-х годах. Поэт
ценит в «Салоне 1845 года» Коро за то, что художник «искрен-
но любит природу и умеет глядеть на нее с любовью». Он хва-
лит в «Салоне 1846 года» художника Т. Руссо за его глубокую
и серьезную любовь к природе.
9 Близость к Готье и вообще к школе «чистого» искусства проявилась, прав-
да, у Бодлера еще в 40-х годах (сонет «Красота»), но приметой близости
была тогда не предметность, а гармоничность мира, лишенного диссонансов
и противоречий.
4 Д. Д. Обломиевский
97
Как явления вещественные, материальные воспринимает Бод-
лер и феномены душевной жизни. Вот опьяняющее воспомина-
ние, которое порхает в потревоженном воздухе. Вот сердце,
т. е. внутренний мир поэта, у которого появляются уголки,
ниши («Мадонне»), Вот глупость, скаредность, грех, заблужде-
ние. Они не только поглощают ум человека, но и терзают его
тело («Предисловие» к «Цветам Зла»). Вот тьма пауков, рас-
тягивающих свои сети в глубине мозга людей (четвертое сти-
хотворение из цикла «Сплин»), Вот хандра, которую лириче-
ский герой вливает, как яд, целуя возлюбленную («Той, которая
слишком весела»). Вот, наконец, угрызения совести — чувство
живое, извивающееся в судорогах («Непоправимое»),
Как часть вещественного мира, в противовес Гюго и Ламар-
тину и вслед за Сент-Бёвом, воспринимает поэт и свою возлюб-
ленную. У нее копна волос («Волосы»), сверкающая подобно
мерцающей материи кожа («Танец змеи»), широкая круглая
шея, полные (grasses) плечи (там же), спина, груди («Песнь
после полудня»). Лирический герой Бодлера отмечает ее по-
ходку, танцующую, как у змеи, обращает внимание на ее струя-
щиеся, перламутровые одежды («В струении одежд»), на то,
что она темна, как ночь («Sed non satiata» — «Но ненасытив-
шаяся»). Он покрывает ее поцелуями с ног до черных кос,
прячет голову в ее колени («Осенняя мелодия»), погружается
в ее прекрасные глаза, дремлет в тени ее ресниц («Semper
eadem»), пьет ее дыхание («Балкон»), всматривается в очи воз-
любленной, открывающиеся перед ним, как озера, и видит свою
душу как бы отраженной в них («Отрава»),
Образ женщины рисуется у Бодлера то на фоне вечеров,
освещенных жаром угля из камина и овеянных туманами на
балконе («Балкон»), то на фоне прекрасного осеннего неба,
яркого, розового («Разговор»), то на фоне ревущей улицы
(«Прохожей») 10.
С отрицанием абстрактных представлений о мире, с макси-
мальной конкретизацией изображаемого связано также то, что
Бодлер почти всегда изображает предметную сферу жизни в
определенной временной атмосфере. Он демонстрирует конкрет-
ное время года — осень, лето, зиму, конкретное время суток —
утро, вечер, день, ночь, рисует отчетливые комплексы явлений,
характеризующие тот или иной фрагмент времени. То это холод,
снег как признаки зимы («Тревожное небо»), то это сумерки,
штабеля дров, которые складывают во дворе, — предвестие осени
(«Осенняя мелодия»), то это вечер, тушащий фонари, лампа,
1и Как справедливо указывает Остен (указ, соч., стр. 237), в цикле стихов
Ьодлера, посвященных Жанне Дюваль, возлюбленная поэта предстает в ок-
ружении тени, вечера, ночи; группа стихов, навеянных г-жой Сабатье, пока-
зывает любимую женщину на фоне света; стихи, обращенные к «Женщине
с зелеными глазами», описывают возлюбленную на фоне заходящего солн-
ца, покрытого облаками или спрятавшегося за туманы.
98
борющаяся со светом дня, далекое предрассветное пение петуха
(«Предрассветные сумерки»), то это, наконец, заходящее солн-
це, сгущающийся мрак, пылающий уголь в камине — знаки ве-
чера («Балкон»),
Мы имеем дело в «Цветах Зла» с изобилием, избытком яв-
лений, с их неисчерпаемостью. Поэт недаром восхищается Ру-
бенсом как раз за неиссякаемый поток жизни, который бушует
безостановочно в его картинах, как воздух в небе, как волны
в море («Маяки»), Это впечатление неисчерпаемости явлений
внешнего мира усугубляется тем, что материальная действи-
тельность рисуется поэтом как бы дублированной, умноженной.
Отсюда обилие эпитетов, подчеркивающее полиаспектность,
многосторонность явлений. Так, флакон именуется у него опус-
тошенным, облупившимся, запыленным, грязным, презренным,
липким, надтреснутым («Флакон»). Ребенок — хилый, безо-
бразный, мрачный, больной («Исповедь»). О любви говорится
как о прогорклой, очаровательной и мертвой («Флакон»), Люди
представляются худосочными, искривленными, пузатыми, дряб-
лыми («Люблю тот век нагой»).
Многосторонность и полнота изображаемого, в чем Бодлер
продолжал устремления одновременно и парнасцев и романти-
ков, выражается у поэта и в том, что он дает действительность
и в ракурсе обоняния, осязания, вкуса; показывает ее не толь-
ко через цвета и звуки, но и через запахи, через вкусовые
ощущения. Запахи, вкусовые и тепловые ощущения приближают
вещи к поэту, ликвидируют пространство между ними, усили-
вают грубость, плотность, весомость существующего, как бы
дополнительно материализуют его.
Бодлер, конечно, тщательно разрабатывает в своих стихах
видимое героем. У него мы находим и заходящее солнце, кото-
рое окутывает каналы, город в гиацинтовый, розовый топ
(«Приглашение к путешествию»), и желтые лохмотья старика,
желтый, грязный туман, его окутавший («Семь стариков»),
и глаза возлюбленной, то черные («Sed поп satiata»), то зеле-
новатые («Осенняя мелодия»), то кристально-ясные («Осенний
сонет»). Поэт сожалеет о белом лете, о желтых лучах времени
года, оставшегося позади, о сияющем солнце на море («Осен-
няя мелодия»). Утренняя заря покрывается на его глазах ро-
зовым и зеленым одеянием. У женщин, констатирует бодлеров-
ский герой, по утрам синеватые веки, лампа на фоне наступаю-
щего дня кажется красным пятном («Предрассветные сумерки»).
Но Бодлер не ограничивается видимым аспектом внешнего
мира. Последний предстает и звучащим. Поэт рисует поющий,
смеющийся, воюющий город («Прохожей»), Улица у него со-
трясается от тяжелых возов («Семь стариков»). Лирический
герой Бодлера слышит, как тикают и бьют часы («Башенные
часы»), как со скрипом открывается и хмуро постанывает сун-
дучный замок («Флакон»), как едва слышно, в нежном и сдер-
99
4*
жанном тембре мяукает кот, как его голос, стоит коту рассер-
диться, становится богатым и глубоким («Кот»). Утром пение
петуха разрывает туманный воздух, а умирающие в больницах
испускают последние хрипы («Предрассветные сумерки»). Вече-
рами начинают шуметь кухни, снова гремят оркестры, напол-
няются шумом театры, а из больниц вырываются вздохи боль-
ных («Вечерние сумерки») **.
К цветам и звукам, исходящим от внешнего мира, присоеди-
няются запахи, почти незнакомые всей предшествующей поэзии,
и классицистской и романтической, и щедро присутствующие в
«Цветах Зла». То это запах духов («Флакон»), меха («Приз-
рак»), запах тела ребенка («Соответствия»), То это запах от
шерсти кота («Кот»), ароматы мускуса, гаванской сигары («Sed
non satiata»), кокосового масла («Волосы»), запахи старых
игральных карт (сонет из цикла «Сплин»). Далее идут вкусо-
вые ощущения. В герое поднимается, как море, грусть и остав-
ляет на его губах во время своего отлива жгучее воспомина-
ние о лимонной горечи. В «Отраве» поэт рассказывает о слюне
возлюбленной настолько острой, что она как бы въедается в
него. Сны его утоляют жажду, стоящую в глазах любимой жен-
щины, точнее в ее слезах, эти глаза именуются у него «горькими
безднами».
И, наконец, немаловажную роль играют тепловые ощущения.
Тут и воспоминание о жарком лете («Осенняя мелодия»), о жгу-
чих берегах Ганга («Пляска смерти»), тут и образ простужен-
ных часов (стихотворение первое из цикла «Сплин»), тут и
восприятие холода, который спускается осенью на сердце
(«Туманы и дожди»), тут, наконец, образ темного холода, ко-
торый льется на город плювиозом, месяцем дождей (стихот-
ворение первое из цикла «Сплин»),
Симптоматично при этом, что Бодлер тяготеет к синтетиче-
ским образам, совмещающим в себе различные ощущения, раз-
личные аспекты мира. В стихотворении первом из цикла «Сплин»
герой слышит и звон колокола, и фальцет догорающей головеш-
ки, и свой печальный голос, и в то же время грязный запах,
идущий от карт, оставленных старухой, которая умерла от во-
дянки. В «Гармонии вечера» поэт повествует и о вечернем небе,
о солнце, утонувшем в сгустившейся крови, и о звуках и запа-
хах, кружащихся в вечернем воздухе, о дрожащих скрипках.
11 Recueille-toi, mon ame, en ce grave moment,
Et ferme ton oreille a ce rugissement.
C’est 1’heure ou les douleurs des malades s’aigrisent!
La sombre Nuit les prend a la gorge; ils finissent
Leur destinee et vont vers le gouffre commun;
L’hopital se remplit de leurs soupirs.— Plus d’un
Ne viendra plus chercher la soupe parfumee.
Au coin du feu, le soir, аиргёз d’une ame aimee.
<p. 111-112)
100
В «Старом колоколе» герой слушает звон колоколов, поющих в
тумане, смотрит на дымящийся и трепещущий огонь в очаге,
прислушивается к собственным воспоминаниям. В «Падали»
поэт не только взирает на умершее и разлагающееся животное,
но еще и слышит странное жужжание, которое исходит от ба-
тальонов личинок, вылетающих из падали, и которое напоми-
нает журчание воды, ветра или зерна, кружащегося в веялке.
А кроме того, поэт обоняет исходящее от падали зловоние,
которое вызывает у его возлюбленной что-то вроде обморока.
Любопытен образ кота («Кот»), которого лирический герой Бод-
лера воспринимает и зрительно (у пего белокурый и бурый
мех), и при помощи слуха (голос его всегда богат и глубок),
и посредством обоняния (от кота идет сладкий запах, напол-
няющий поэта благоуханием) 12.
4
Не следует представлять себе дело та-
ким образом, будто в лирике Бодлера мы имеем дело, как у
парнасцев, с торжеством внешнего мира, в который погружа-
ется человек, забывая о своем «я».
Очень показательна в этой связи статья Бодлера «Языче-
ская поэзия» (1851), направленная, видимо, против зачинателей
парнасского направления в литературе, называвшегося тогда
школой «искусства для искусства». Он отвергает в этой статье
поэзию, которая показывает’ мир только в его материальной
форме. Он именует «пластику», т. е. скульптуру, «ужасным сло-
вом, леденящим кожу»,' называет «безумцами» тех, для кого
в природе существуют только ритмы и формы, тех, кто видит
в искусстве «удовольствие для глаз». Основной недостаток «ис-
кусства для искусства» в том, что оно забывает о человеке,
оно нейтрально, если не враждебно, к гуманизму. Он опасается,
что у художников, поглощенных «жестокой страстью» к прекрас-
ному, к причудливому, к живописному, могут исчезнуть поня-
тия о справедливом и правдивом. Искусство, создаваемое ху-
дожниками такого рода, может привести к тому, что будут
отказывать в помощи нищему только потому, что он плохо
одет, что лохмотья ему не к лицу.
Если у романтиков и у парнасцев главной была демонстра-
ция объективной действительности, переполненной, перенасы-
щенной материально-чувственными формами, то у Бодлера эта
12 De sa fourrure blonde et brune
Sort un parfum si doux, qu’un soir
J’en fus embaume, pour 1’avoir
Caressee une fois, rien qu’une.
(p. 63)
101
действительность является лишь передним планом изображае-
мого, лишь подступами к его внутренней форме, к душевному
миру человека 13.
Бодлер недаром является новатором, зачинателем нового
литературного направления, нового метода изображения дейст-
вительности— символизма. Образ в «Цветах Зла» очень часто
имеет двуплановую структуру, причем первый план отведен не-
посредственно данному, конгломерату вещей и предметов, эмпи-
рических деталей и подробностей. Что касается второго плана,
то он формируется из элементов воспоминаний лирического ге-
роя, накопленного им жизненного опыта или его фантазий.
Так в образе возникают феномены, связанные с элементами
первого плана по психологической ассоциации, причем герой
их уже не видит, не слышит, не обоняет, не осязает. Эти фено-
мены не даны непосредственно в настоящем. Они представля-
ют собой его воспоминания и мечты, вызываемые определен-
ными предметами внешнего мира. Эти воспоминания и мечты
составляют второй план образа 14.
Очень характерен в этой связи «Аромат» из цикла «При-
зрак». Передний план образа, стоящего в центре этого стихо-
творения, составляется из деталей церковных обрядов, из волос
и одежд возлюбленной поэта. Но все эти предметы присутству-
ют в стихотворении лишь постольку, поскольку они вызывают
или восстанавливают область забытого прошлого, когда-то пере-
житого поэтом, восстанавливают сферу отдаленных воспомина-
ний, из которых формируется глубинный фон образа.
Первый план стихотворений у Бодлера часто ограничен ми-
нимальным комплексом материально-чувственных явлений.
Так, в «Экзотическом аромате» идет речь лишь о жарком лет-
нем вечере и о пылающей груди возлюбленной. Но все это
вызывает воспоминания о когда-то виденных поэтом далеких
13 Об отказе Бодлера от приоритета внешнего мира, характерного для роман-
тиков и парнасцев, говорит и Порше (F. Рогспё. Baudelaire. Histoire d’une
ame. P., 1945), усматривающий оригинальность поэта, его отличие от роман-
тизма в том, что он отменяет повествовательные и ораторские формы ро-
мантической поэзии. Но повествовательные формы как раз и знаменовали
преобладание объективного мира в образе. Что касается ораторских форм,
они были всегда обращены вовне, предполагали слушателей и менее всего
касались душевной жизни поэта.
14 Очень примечательны замечания М. Руффа в его книге о Бодлере (М. Ruff.
Baudelaire. Р., 1955) относительно того, что сравнения у поэта почти всегда
приводят к человеку, он всегда сопоставляет явления природы с человеком
(стр. 136). Не менее интересны и соображения Л. Остена (указ, соч.,), ко-
торый считает, что Бодлер относит все в мире к самому себе, т. е. к челове-
ку, и создает, таким образом, своего рода «персональный символизм»
(стр. 355), ведущий к «единству человеческой души» (стр. 156). Весьма лю-
бопытны, наконец, соображения Ж. Прево (G. Prevost. Baudelaire. Р., 1964),
который утверждает, что соответствия в «Цветах Зла» всегда имеют своим
центром человека (стр. 75).
102
счастливых берегах, озаренных лучами солнца 15, воскрешает
картины острова с деревьями и вкусными плодами, мощными и
изящными фигурами мужчин и женщин, удивлявших его своей
правдивостью. Волнующаяся грудь любимой женщины пробуж-
дает в герое видение морской гавани, наполненной парусами
и мачтами, которых утомила морская качка.
Стихотворение «Волосы» начинается с описания шевелюры
возлюбленной цвета вороньего крыла, которую поэт называет
«морем черного дерева». Но скоро увиденное переключается
в сферу воспоминаний и воображаемого. В волосах возлюблен-
ной заключены спящие в них следы прошлого. Это мысли о
лесе, память о томной Азии, о знойной Африке, о далеком,
отсутствующем, почти умершем. Длинные косы любимой женщи-
ны содержат в себе мечту лирического героя о гребцах, о вым-
пелах, о мачтах, о шумной морской гавани, в которой скользят
покрытые золотом и муаром корабли и встречаются с чистым
небом, трепещущим от вечного зноя. И дальше мир мечты окон-
чательно овладевает поэтом. Опьяненный любовью, поэт окунает
голову в черный океан волос, отдается лени и благоуханному
воздуху, испытывая при этом, как если бы он был на корабле,
«боковую качку» (roulis) 16.
С описания волос возлюбленной начинается и «Танец змеи».
Волосы напоминают поэту бурное море с синими и коричневыми
волнами. А душу свою он представляет в виде корабля, про-
будившегося при утреннем ветре, снявшегося с якоря, направ-
ляющегося к «дальнему» небу. Глядя на любимую женщину,
«шагающую в такт», поэт вспоминает танцующую змею; ее го-
лова мягко покачивается, как слоненок; ее тело наклоняется
и удаляется, как корабль, погрузивший свои реи в воду.
Если стихотворения, о которых шла речь выше, воспевали
волосы возлюбленной и ее грудь, то «Тревожное небо» или
«Приглашение к путешествию» имеет своим отправным пунктом
ее взгляд, покрытый туманами, таинственный, попеременно за-
думчивый, нежный, жесткий, или ее коварные глаза, блистаю-
щие сквозь слезы. От взгляда любимой женщины, от ее глаз
15 Quand, les deux yeux fermes, en un soir chaud 1’automne,
Je respire 1’odeur de ton sein chaleureux,
Je vois se derouler des rivages heureux
Qu’eblouissent les feux d’un soleil monotone...
(p. 36)
16 Cheveux bleus, pavilion de tenebres tendues,
Vous me rendez 1’azur du ciel immense et rond.
Sur les bords duvetes de vos meches tordues
Je m’enivre ardemment des senteurs confondues
De 1’huile de coco, du muse et du goudron,
(p. 38)
О стихотворении «Волосы» см. также у Остена (указ, соч., стр. 227).
103
поэт переходит к тому, о чем этот взгляд, эти глаза напоми-
нают ему,— к белым, теплым, туманным дням лета, к пре-
красным далям, освещенным солнцем туманных времен года,
к «мокрому» пейзажу, воспламененному лучами, которые пада-
ют с затуманенной выси, к влажным солнцам на тревожном
небе.
Близко примыкает к этой группе стихотворений из «Цветов
Зла» и послание «Рыжей нищенке», в котором видимое поэтом
и крайне приблизительно охарактеризованное им дополняется
мечтами, перестраивающими в его сознании это видимое. На
поверхности здесь облик рыжей, бледнолицей, болезненной де-
вушки, тело которой просвечивает сквозь дырявое платье и ра-
зорванные чулки. От образа существующего, видимого поэт как
бы переносится к желаемому, воображаемому 17. Он хотел бы,
чтобы красивая девушка вместо тяжелых деревянных башмаков
и лохмотьев носила великолепное придворное платье и бархат-
ные бальные туфли. Тогда пажи, придворные, короли, волокиты
будут преследовать ее своими ухаживаниями.
В «Башенных часах» поэт начинает с реально существующе-
го явления, с часов. Но часы ассоциируются в сознании поэта
с временем, с его неудержимым течением, с мыслью о надвигаю-
щейся ночи, о смерти, которая ждет человека. И он переносит-
ся мыслью к отвлеченным понятиям. Глядя на часы, он вообра-
жает бога времени — мрачного, пугающего, бесстрастного. Бог
рекомендует не забывать о беге минут. Поэт чувствует, что
день идет на нет, ночь приближается, что возле него разверз-
лась пучина, т. е. смерть, готовая его поглотить.
На авансцене изображаемого в «Осенней мелодии» стук
дров, складываемых штабелями во дворе в ожидании зимы и мо-
розов. Этот стук вводит нас в область предполагаемого, в сфе-
ру мечтаний, впрочем, связанную с восприятием окружающего.
Герою кажется, что в страшной спешке сколачивается гроб или
помост, таинственный шум представляется ему похоронным.
И герой воображает приближающуюся зиму, которая принесет с
собой гнев и ненависть, дрожь и отвращение, тяжелый и при-
нудительный труд. Сердце его тогда уподобится солнцу в
окружении полярного ада, станет красной и оледенелой
глыбой.
К Другой группе стихотворений относятся в «Цветах Зла»
«Старый колокол» и «Пейзаж», в которых первый пласт образа
составляется уже не из одного предмета или явления, а из це-
лого комплекса явлений, образующих своеобразную ситуацию;
17 Blanche fille aux cheveux roux,
Doni la robe par ses trous
Laisse voir la pauvrete
Et la beaute,
Tu portes plus galamment
Qu’une reine de roman
Ses cothurnes de velours.
Tes sabots lourds.
(P- 99)
104
ее центр — лирический герой стихотворения. Поэт сталкивается
в «Старом колоколе» с зимней ночью, с трепещущим и дымя-
щим огнем в камине, со звоном колоколов, поющих в тумане.
Он погружен в свои думы, глядит на огонь и прислушивается
к колоколам. Но он не задерживается на этом и переходит к
сопоставлению себя с колоколами. Колокола стары, но счастли-
вы, здоровы, у них еще мощные глотки. Не то герой. Душа его
подобна колоколу, но колоколу надтреснутому. И герой хотел
бы, подобно колоколу, насытить холодный воздух зимних ночей
своими горестями. В то же время возникает второй ряд ассо-
циаций. Поэту представляется, что и колокола, и сам он похо-
жи на старого солдата, дежурящего у своей палатки. Надтрес-
нутый голос героя напоминает ему предсмертное хрипение ране-
ного, которого забыли на поле битвы возле озера крови.
В зачине «Пейзажа» — вид из окна мансарды на колокольни,
дымовые трубы, соседнюю мастерскую, бездонное небо. Поэт
видит сквозь дымку звезду в лазури. На окне его горит лампа,
волны гари поднимаются из дымовых труб на крыше. А луна
льет на все свое бледное очарование. И затем возникают мыс-
ли лирического героя о грядущем. Он видит, как изменится
все, что его окружает, с приходом зимы, когда пойдут монотон-
ные снега, когда закроют ставни, задернут занавески, и он бу-
дет по ночам строить в своих мечтах фантастические дворцы,
вновь увидит синеватые горизонты, сады, алебастровые здания,
услышит плеск воды в фонтанах, пение птиц, звуки поцелуев.
В противовес тому, что он видит, он извлекает из своего серд-
ца солнце, создает из своих знойных мыслей атмосферу тепла
вокруг себя.
Близка к этим вещам Бодлера «Moesta et errabunda», стоя-
щая в то же время несколько особняком среди них. Первый
пласт образа дается здесь в известной степени суммарно и обоб-
щенно, не допускает деталей и подробностей, дан лишь общий
вид гнусного города и грязи, которую образовали людские сле-
зы. Второй пласт, пласт душевной жизни, раскрывается здесь
в противопоставлении, в антитезе к первому, как бы по конт-
расту. Лирический герой мечтает вырваться из «черного океана».
Он обращается к кораблю, к поезду и умоляет увезти его по-
дальше от угрызений совести, от преступлений и страданий.
Второй план, о котором мы уже говорили, открывается в мо-
мент перехода к мечтаниям о далеком, благоухающем рае, о ве-
ликолепном и синем, ясном и глубоком мире, увенчанном ла-
зурью неба, полном любви, радости, чистого сладострастия,
в которое как бы окунается сердце героя.
Та же антитеза первого и второго планов определяет и
строение поэтического мира в «Исповеди». С одной стороны,
здесь лунный свет, торжественность ночи, спящий Париж, поэт,
любимая им женщина, кошки, которые шмыгают по подворот-
ням, сопровождая пару влюбленных, и — главное —- ощущение
105
радости, веселья и ясности, исходящее от женщины, в которую
влюблен поэт. С другой стороны, всему этому противостоит при-
знание возлюбленной — признание жалобное, причудливое,
странное, которое окружено в сознании поэта роем ассоциаций.
Оно напоминает ему тщедушного, ужасного, мрачного ребенка,
которого стыдится семья и которого прячут от посторонних в
погребе. Признание приходит на смену радости и ясности, ко-
торые оказываются в конечном счете поверхностными настрое-
ниями, иллюзией, скрывающей горечь. Признание означает как
бы углубление в душевную жизнь лирического героя, как бы
продвижение вглубь, к ее основе. Оно содержит в себе не
только настроение радости, но и настроение неуверенности во
всем, чувство непрочности всего существующего. Поэт говорит
об «исповеди», которую прошептала его возлюбленная в «испо-
ведальне сердца».
Двуплановая структура поэтического мира в стихотворениях
«Цветов Зла» не всегда самоочевидна. Ряд стихотворений, на-
пример первое из цикла «Сплин», вроде бы совсем не имеет
второго плана. Но это представление ошибочно. Глубинная сфе-
ра проявляется в настроениях тоски, уныния, сплина, которые
сцепляют, связывают в одно целое разрозненные элементы внеш-
него мира: дождь, звон колоколов, силуэт кошки, настенные
часы, огонь в камине и игральные карты (дама пик и валет
червей). Второй пласт здесь, так же как во многих других
стихотворениях, занят внутренним миром поэта, миром его пере-
живаний, раздумий, настроений и придает дополнительный
смысл всему, что его окружает.
К числу стихотворений с двуплановой, но не самоочевид-
ной структурой относится также «Наваждение», в котором речь
идет о лесах, об океане, о вздымающихся волнах, о ревущем
грохоте моря. В этом грохоте, который герой именует «хохотом»,
он слышит горький смех побежденного человека, каким он себя
считает. Черноту ночи, судя по тому же стихотворению, тыся-
чами населяют дружественные голоса исчезнувших существ,
т. е. умерших друзей поэта. Эти существа — производное его
сознания. Они рождаются из его очей, как бы выбрасываясь
из них струями в черноту ночи 18.
То же в «Алхимии страдания». Тучи оказываются здесь тру-
пом дорогого поэту человека, которого он обнаруживает в са-
ване небес. Поэт строит в своих мечтах для покойного ги-
гантский саркофаг, причем этот саркофаг устанавливается на
небесных берегах. Природа в целом освещается, по заявлению
поэта, его внутренним пылом, он обволакивает ее трауром.
1в Mais les tenebres sent elles-memes des toiles
Ой vivent, jaillissant de mon oeil par milliers,
Des etres disparus aux regards familiers.
(p. 89)
106
Двуплановая структура поэтического мира «Цветов Зла»
может показаться в какой-то степени похожей на внутреннее
строение этого мира у Андре Шенье, как оно выразилось в
его элегиях. А. Шенье, в самом деле, часто начинает свои вещи
с описания обстановки, в которой находится его лирический ге-
рой, и затем уже переходит к его прошлому или к его будуще-
му. Очень важно, однако, при этом, что мечтания и воспомина-
ния, мысли о прошлом или будущем, которым предается герой
элегии А. Шенье, никак не связаны ни по аналогии, ни по конт-
расту с тем миром, который находится вокруг героя и в кото-
ром он в настоящее время живет. Содержание его мыслей возни-
кает совсем не по психологическим ассоциациям. Сознание не
связано с непосредственным окружением. Оно самостоятельно.
Не то у Бодлера. Видимое является у него символом внутреннего
мира, смысловым знаком его, душевной жизни.
5
Для символизма Бодлера, для двуплано-
вой структуры образа его поэзии очень важно, что этот симво-
лизм резко отличен от символизма средневековой поэзии, в ко-
торой второй план образа относился к божеству, к потусторон- 1
нему миру, стоящему за реальной действительностью, в то вре-
мя как второй план образа_.у ..Бодлера- имеет-своим- содержа-,
нием внутренний мир человека, а самый-си-мволиам—получает у
поэта тем сам'ыКЩярко выражепн’.ю гуманистическую окраску 1Э.
Символизм средневековья, забытый, преодоленный в XVI,
XVII, XVIII и в первой половине XIX в., наполняется у
Бодлера совершенно новым смыслом, приобретает антирелиги-
озную направленность.
С другой стороны, если Бодлер как символист осложняет и
обогащает изображаемую действительность субъективным ас-
пектом, дает ее через восприятие лирического героя, то этот же
субъективный аспект фигурирует не только в символизме, но и
в импрессионистском образе, совершенно отличном от образа
символистского. В импрессионизме субъективный аспект огра-
ничивается поверхностным слоем психики человека, его душев-
ной жизни, через которую и воспринимается, и раскрывается
внешний мир. Не то у Бодлера, т. е. в символизме. Субъектив-
ный момент сосредоточен здесь не в поверхностном слое психи-
ки, а в его глубинном плане, не в восприятии наличного, суще-
ствующего в настоящем времени, а в воспоминаемом, в том, что
называется апперцепцией, или же в воображаемом, в том, что,
возможно, еще будет.
19 Об этом очень убедительно говорится в работе Остена.— См. указ. соч.
107
Но если второй, глубинный план образа в большинстве случаев
относится в «Цветах Зла» к внутреннему миру человека, его
мыслям о прошлом или о том, что произойдет с ним в гряду-
щем, то психологический, субъективный характер отличает, по
сути дела, и его первый, передний план, его, так сказать, аван-
сцену 20.
Здесь прежде всего надо иметь в виду, что лирический ге-
рой «Цветов Зла» не является в подавляющем большинстве слу-
чаев пассивным рецептором впечатлений и ощущений, идущих
извне. Уже слуховые, обонятельные, звуковые, тепловые и дви-
гательные ощущения обязательно включают в себя реакцию ге-
роя на внешний мир, дополняют объективный образ субъектив-
ными обертонами: запахи и звуки вальса, кружащиеся в вечер-
нем воздухе, вызывают у героя головокружение («Гармония ве-
чера»), Поэт рисует не только ревущую, но и оглушающую его
улицу Парижа («Прохожей».). При виде повешенного он чувст-
вует, что в нем, точно тошнота, поднимается ядовитый поток
страданий («Поездка на Киферу»). Слюна возлюбленной погру-
жает душу героя в беспамятство и уносит ее, обессиленную и
слабеющую, к берегам смерти («Отрава»).
Существенна, с другой стороны, не только субъективная ок-
рашенность ощущений и их почти обязательная связь с реак-
циями лирического героя, но и то, что предметы, составляющие
внешний мир, входят в стихотворение только через ощущения,
что, кстати, приближает образ Бодлера к импрессионистскому
образу. Этому противоречит, на первый взгляд, насыщенность
переднего плана образа в «Цветах Зла» вещами, насыщенность,
о которой мы неоднократно уже говорили во втором разделе на-
стоящей главы и которая делает Бодлера внешне даже близким
к парнасцам. Но эту материальность нельзя и преувеличивать,
ибо это может исказить специфику поэзии Бодлера.
Вещественность, материальность всегда дается в «Цветах
Зла» не только в субъективном аспекте, но еще и обязательно,
как и в импрессионизме,— в сенсуальном разрезе. Объективные
детали, существующие вне героя, вступают в образ лишь через
соприкосновение с восприятием героя, делаются составными ча-
стями образа только пройдя через его зрение, слух, обоняние.
Поэт имеет постоянно дело не с описанием вещей, а как бы с
передачей комплекса ощущений, вызванного вещами. Он исхо-
дит из связей внешнего мира с телом человека, с его органами
зрения, слуха, обоняния, осязания, из столкновения его тела
с приближающимися к нему поверхностями других тел.
Так, в «Аромате» описана не церковь, не сашэ, не волосы и
^одежды любимой женщины, а ощущения запаха — от одежды
20 Именно это обстоятельство, очевидно, имеет в виду Сеше (L. Secht. «Fleurs
du mal» de Baudelaire. P.., 1946), когда он, сопоставляя Бодлера с Готье
и заявляя, что последний «видит вещи, рисует природу», спрашивает: «Где
природа у Бодлера? Его интересует только внутренний мир» (стр. 175).
108
и волос возлюбленной, от ладана в церкви, духов, пронизываю-
щих собой ароматную подушечку. В «Экзотическом аромате»
главное—-горячее благоухание, исходящее от груди любимой
женщины. Именно это благоухание, аромат, запах и рождают
мысли героя о далеких берегах и ленивом острове.
Точно так же для «Волос» имеет меньшее значение копна
волос любимой женщины, чем запахи кокосового масла, мускуса,
которые от этих волос исходят, т. е. опять-таки обонятельные
ощущения, которые переносят героя в благоуханный лес, в меч-
ты о далеком мире Африки и Азии. Если вспомнить «Башен-
ные часы», то и здесь очень существенно, что сначала поэт
воспринимает часы посредством зрения и слуха (вид часов и
их бой) и только затем как бы переносится от этих зрительных
и звуковых ощущений к мыслям о беге времени, об убывающем
дне и приближающейся кончине.
Точно такие же выводы мы должны сделать из стихотворе-
ний «Осенняя мелодия», «Старый колокол», «Пейзаж», рисую-
щих не один предмет, а их совокупность. Ибо и здесь дело не
в комплексе вещей, а в комплексе ощущений, который они вызы-
вают. В «Осенней мелодии» важно не просто наличие рядом с
героем штабелей дров, которые складываются во дворе на зиму,
а то, что герой прислушивается к монотонному шуму, вызывае-
мому дровами, то, что этот шум укачивает его и он, убаюкан-
ный, начинает грезить о будущем. Душа героя кажется поэту не
только «призраком забвения», нЛ еще и «зябким» призраком
(первое стихотворение из цикла «Сплин»), окружающее герой
воспринимает как тюрьму, причем тюрьму «сырую» (четвертое
стихотворение из цикла «Сплин»), герой «Конца дня» закутыва-
ется в одеяло «освежающей» тьмы.
Многочисленность явлений внешнего мира в «Цветах Зла»,
сама по себе многоаспектность форм этого мира вовсе не оз-
начает, что он занимает у поэта доминирующее положение, что
внешнее окружение как бы односторонне наступает на лириче-
ского героя, односторонне довлеет над ним, как это было у ро-
мантиков, в поэзии Гюго, Сент-Бёва, Барбье или в «Варварских
стихотворениях» Леконт де Лиля. Лирический герой Бодлера,
правда, отмечает, что тяжеловесное и низкое небо давит на
него зимой как крышка (четвертое стихотворение из цикла
«Сплин»). Хлопья снежных лет кажутся ему тяжелыми (второе
стихотворение того же цикла). Зима входит в самое его суще-
ство («Осенняя мелодия»), он чувствует удушье от степ погре-
ба, в котором ему пришлось пребывать («Крышка»), Сущест-
венно, однако, что все это происходит с героем главным образом
зимой, в «снежные времена», с наступлением холодов и темных
месяцев года, а также в определенных внешних обстоятельствах,
например в погребе.
Представление о себе как о маленьком существе, как о жерт-
ве чьей-то агрессии ни в коем случае не объявляется постоян-
109
ным атрибутом человека в «Цветах Зла». Окружающая дейст-
вительность очень часто интересует Бодлера не сама по себе,
а только лишь как возбудитель определенных настроений. Если
лирический герой «Маяков» увлечен Рубенсом, то главное здесь
не только в неиссякаемом потоке жизни, бурлящем в картинах
художника, а также и в чувстве полноты и неисчерпаемости
существования, которое вызывают картины Рубенса в тех, кто
их рассматривает. Если поэт так детально воспроизводит образ
великанши, которую природа создала в «мощном воодушевле-
нии», а себя изображает лишь маленьким существом, присло-
нившимся к ее «исполинским коленам», то главное здесь опять-
таки не в самой великанше, а в переживаниях «влюбленного ко-
та», в облике которого изображает себя поэт («Великанша»),
Собственно, о том же говорит и обилие эпитетов у Бодле-
ра, ибо они передают фактически не обилие объективных аспек-
тов явления, а скорее всего многосторонность, сложность отно-
шения поэта к этому явлению. Недаром обилие эпитетов, кото-
рыми поэт описывает, например, флакон, таково, что все эти
эпитеты подчеркивают ветхость флакона и одновременно духов-
ную деградацию лирического героя. Флакон недаром представ-
ляется не только грязным, липким, запыленным, но еще и опу-
стошенным, надтреснутым, облупленным («Флакон»), Точно
так же характеристика ребенка как хилого, мрачного, безобраз-
ного, больного любопытна тем, что эпитеты эти вовсе не под-
черкивают внутреннюю сложность предмета, что они, так ска-
зать, унисонны, однообразны, бьют в одну точку, Бодлер устрем-
ляет все эти эпитеты как бы в одном направлении, подчиняет
их одному настроению.
Показательно, наконец, и тяготение Бодлера к соответствию
зрительных ощущений ощущениям слуховым и обонятельным.
Если Бодлер утверждает («Соответствия»), что запахи, звуки
и цвета соотносятся друг с другом, что бывают запахи, напо-
минающие о теле ребенка, зеленые, как лужайка, нежные, как
звуки гобоя, то это соответствия не предметов, а ощущений21,
Ребенок, гобой, лужайка никак не связаны между собой в объ-
ективном мире. Связи возникают между ними лишь в сознании
героя, устанавливающего сходство между запахом, исходящим
от тела ребенка, звуком гобоя и зеленью лужайки.
Поэт, как показывают «Соответствия», не останавливается,
21 La Nature est un temple ой de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles;
L’homme у passe a travers des forets de symboles
Qui 1’observent avec des regards familiers.
Comme de longs echos qui de loin se confondent
Dans une tenebreuse et profoude unite
Vaste comme la nuit et comme la clarte,
Les parfums, les couleurs et les sons se repondent.
(p. 21)
110
925
впрочем, на независимости своего сознания от внешнего мира,
а, напротив, будучи склонен распространять влияние своего «я»
на окружающее, устанавливает в нем объективно не существую-
щие связи. Судя по «Наваждению», по «Алхимии страдания»,
автор «Цветов Зла» наполняет собой вне его находящиеся пред-
меты, вкладывает в них свое собственное содержание, делает
их своим отражением. Особенно ясно эта агрессивность бодле-
ровского субъективизма проявляется в первом стихотворении из
цикла «Сплин», где поэт обнаруживает свою зябкость и свою
несчастность во всем, что находится рядом с ним, передавая
свое беспокойство коту, который не может найти себе места и
вновь и вновь укладывается на окне, или даже водосточной
трубе, шум которой будит воспоминания о блуждающей душе
старого друга. Поэт уступает далее свою простуду, свой нас-
морк хрипящим и как бы сморкающимся часам, свои старые
и мрачные воспоминания о любви — засаленным картам, мрачно
беседующим друг с другом, — червонному валету и даме пик22.
Суждения Бодлера в «Салоне 1859 года» о том, что «види-
мая вселенная» — лишь склад образов, что воображение долж-
но «переварить» и «трансформировать» природу, подчеркивают
ту же тенденцию активности и экспансивности субъекта. О том
же свидетельствуют и мысли Бодлера по поводу Делакруа,
в картинах которого он более всего ценит «невидимое, неося-
заемое, мечту, нервы, душу» (.«Творчество и жизнь Делакруа»,
1863). Бодлер осуждает пейзажистов, которые считают своей за-
слугой то, что в их картинах «не видно их личности», они
«созерцают и копируют, по забывают чувствовать и думать».
Склонность Бодлера к тому же воинствующему субъективиз-
му показывает и его статья о «Госпоже Бовари». Главным в ро-
мане является для поэта не картина французского общества,
которую развертывает в своем произведении Флобер, не среда,
которая окружает в романе его героиню. Главное — это сама
Эмма Бовари, совершенно свободная от мелочности, жадности
и тупости общества, в котором она живет, от глупости, слабо-
умия, абсурдности среды, в которой находится. Эмма воплощает
в себе самого Флобера. Она противопоставлена именно поэтому
остальным персонажам. Отсюда ее возвышенность и мужест-
венность, склонность к энергичным действиям, к быстрым реше-
ниям.
Симптоматична в этой связи и интерпретация Бодлером
Бальзака, в котором он видит не наблюдателя, а, напротив,
страстного фантазера, мечтателя. «Человеческую комедию» поэт
’z См. об этом очень убедительные соображения Ж. Прево (указ, соч.) Ж- Пре-
во пишет, что поэт воплощает свое «удушающее беспокойство» и свой
'«ужас» то в комоде с ящиками, то в старом будуаре, то в подвале, то в
кладбище, то в пирамиде, то в граните, то в сфинксе. Зиму, которая возве-
щает свой приход в «Осенней мелодии», Прево считает скорее внутренней,
моральной зимой, чем угрозой ветра и снега (стр. 194).
111
рассматривает таким образом, что все ее персонажи оказывают-
ся в его глазах своего рода гиперболами реального: они более
жадны к жизни, к наслаждениям, более терпеливы в несча-
стье, более ангелоподобны, чем их демонстрирует «комедия дей-
ствительной жизни». Каждый персонаж Бальзака, даже его при-
вратницы, гениален. Это сам Бальзак. Все души, им изобра-
женные, как бы заряжены до предела волей. Его удивительная
наклонность к деталям проистекает не из мелочной склонности
все наблюдать, а из его безмерного, ненасытного стремления
все увидеть, все угадать, все показать.
Но здесь, однако, следует вспомнить о своеобразии бодле-
ровского субъективизма, принципиально отличного от солипсиз-
ма, лежащего в основе более поздней модернистской поэзии,
корни которой уходят в творчество Малларме и последние веши
Рембо. Бодлер стоит между реализмом и модернизмом. В его
творчестве, если иметь в виду всю совокупность проявлений
субъективистского мироощущения, нельзя видеть лишь подмену
объективной действительности внутренним миром человека.
Бодлер вовсе не возвращается от романтического и пар-
насского мировосприятия к классицистскому, не стремится к
отрешенности от реального, к полной подчиненности всего че-
ловеческому разуму. Лирический герой классицистской поэзии
видел в феноменах реального мира лишь элементы, производные
своей мысли, примеры, на которые опирались основные тезисы
его концепции мира. Человек у романтиков и парнасцев, осо-
бенно в том случае если последние переходили на позиции ро-
мантизма («Варварские стихотворения» Леконт де Лиля), был
погружен в объективную действительность, подчинялся ей, как
бы утрачивая при этом свое «я» в целом объекте.
А у Бодлера, в отличие от классицистов и от романтиков,
явления внешнего мира, становясь частями душевной жизни че-
ловека, не утрачивают своей чувственной формы, не превраща-
ются в умозрительные, понятийные образы. Герой классицист-
ской лирики как бы стоял над реальной действительностью,
рассматривал ее как сырой материал для своих интеллектуаль-
ных построений и конструкций. Герой романтиков и парнасцев
подвластен внешнему миру, его закономерностям. У Бодлера
объективная действительность соприкасается с героем через ощу-
щения; он и не поднимается над реальным миром, и не исче-
зает в нем, а стоит с ним рядом. Он представляет собой не
только сознание, душу, но и физическое, материальное тело,
сообщающееся с окружающим посредством органов чувств, при-
чем ощущения связаны, с одной стороны, с внутренней жизнью
человека, с другой — соприкасаются с вещами, с другими те-
лами. В этом то новое, что отличает миропонимание Бодлера
и от классицизма, и от романтизма, открывая совершенно но-
вый этап в поэзии.
Если отправляться не от «я» поэта, а от явлений внешнего
112
мира, которые он изображает, то новаторство лирики Бодлера
будет заключаться именно в том, что обычно называют его
«символизмом», так как область ощущений и вещей, наполняю-
щая у него передний пласт образа, является символом, знаком
сферы воспоминаний и мечтаний. Эта сфера как бы дополняет
феномены материально-чувственного порядка, придает им чет-
вертое, субъективное измерение. Бодлер не отвергает реальность,
лежащую в основе ощущений, не отвергает предметную сферу,
сквозь которую как бы просвечивает сфера апперцепции или
сфера идеала. Он лишь возражает против ее упрощения и одно-
стороннего представления о ней, стремится не отрывать объек-
тивный мир от воспринимающего его субъекта, не забывать
при изображении мира о человеке.
Самый переход в образах Бодлера от переднего к глубин-
ному плану, от восприятия к апперцепции означает одновре-
менно с этим и движение в пространстве от «малого» мира и
от сферы психики, от области близкого к миру большому, ог-
ромному, к области путешествий и странствований, к области
далекого. Об этом свидетельствуют и «Экзотический аромат»,
и «Волосы», и «Танец змеи», и «Тревожное небо», и «Пригла-
шение к путешествию», и «Старый колокол», и «Пейзаж», и
«Moesta et errabunda».
6
Символизм Бодлера, являющийся шагом
вперед во французской поэзии по сравнению с творчеством ро-
мантиков и парнасцев, носит у него отчетливо гуманистиче-
ский характер. Он отличен от средневекового, религиозного
символизма, продолжает многие тенденции романтизма и объек-
тивно связан с освободительным, революционным движением
40—50-х годов. Отчетливую гуманистическую 23 окраску носит и
само по себе изображение внешнего мира в его стихах. Бодле-
ра, как показывают прежде всего его статьи, очень волновала
проблема чужого «я», очень трогало и беспокоило существова-
23 Гуманистические мотивы, столь существенные для Бодлера, очень часто
или совершенно не принимаются в расчет, или просто игнорируются, или
искажаются французскими исследователями — Ж. П. Сартром (/. Р. Sartre.
Baudelaire, 1947), Л. Остеном (указ, соч.), Ж. Блэном (G. Blin. Baudelaire,
1939).
Сартр считает, будто Бодлер был солипсистом и видел в объективном
мире лишь отражение своего «я» (стр. 28—32). Остен также утверждает,
будто эгоцентризм Бодлера, «лирического поэта par excellence», был еще
усугублен его дендизмом, его нежеланием выходить за пределы своего «я».
Он как бы «прогуливал» в своих стихах по всему миру свой эгоцентризм
(указ. соч.). Что касается Блэна, то он идет дальше, заявляя, что поэт был
одержим страстью выделяться из толпы и являлся ненавистником массы.
Отношение всех этих писателей и исследователей к Бодлеру, основанное на
тенденциозной трактовке некоторых высказываний поэта, вырванных к тому
же из контекста, вряд ли правильно.
113
ние других людей. Симптоматична в этом смысле статья поэта
о Дюпоне (1851), в которой поэт прямо заявляет, что он пред-
почитает писателей, которые установили связи с людьми своего
времени и обмениваются с ними мыслями и чувствами. В сти-
хотворении в прозе «Толпы» («Les foules») поэт рекомендует
всем «погружаться в массу» и восхищается теми, кто умеет
перевоплощаться, считает привилегией поэта входить в личность
и характер каждого человека, быть по желанию и самим собой,
и подобным другим. Он признает в том же стихотворении сво-
ими все профессии, готов принять радости и несчастья всех,
презирает «эгоистов», запертых как сундуки, и ленивцев, изо-
лированных от всего как моллюски. Именно в связи со своим
интересом к другим «я» и ко всему неограниченному окружаю-
щему он прямо заявляет, что ненавидит скуку домашнего очага
и обожает путешествия г4.
Интерес Бодлера к конкретным людям, носителям другого
«я», пронизывает и стихотворения поэта, вошедшие в разделы
«Парижские картины» и «Вино». Если в «Сплине и идеале» поэт
не выходит за пределы своего сознания, своей душевной жизни
и судит о человеке по своим впечатлениям, то в следующих
разделах «Цветов Зла» он щедро заселяет их внешний мир
людьми — поэтами, ремесленниками, учеными, актрисами, боль-
ными, обитателями богаделен, проститутками, игроками, вора-
ми, взламывающими кассы и двери. Судя по многочисленным
произведениям Бодлера, писатель активно сочувствует и состра-
дает многим людям, которые, по его мнению, нуждаются в за-
боте и утешении. Он принимает близко к сердцу страдания
обитателей предместий столицы и представителей городских ни-
зов, оказавшихся в страшных условиях24 25. Об этом свидетель-
ствуют его стихотворения «Старушки», «Вино тряпичников»,
«Душа вина», «Смерть бедняков», «Вечерние сумерки», «Пред-
24 О теме сочувствия, сострадания к чужому «я» у Бодлера очень правильно
пишет Л. Декон (L. Decaunes. Ch. Baudelaire. Р., 1960, р. 88, 90). Сочувствие
и сострадание к другим людям у Бодлера некоторые исследователи, напри-
мер Ж. Прево (указ, соч., стр. 93), правильно связывают с эпохой 1848 года
и годами, ему предшествующими. Они не правы только в том отношении, что
не допускают этих тем в эпоху конца 50-х и начала 60-х годов, локализуя
тем самым такие тенденции во времени, заявляя, что в конце 50-х годов у
писателя наступает период самоуглубления, дендизма, аристократизма, сле-
дования идеям Ж. де Местра, и как бы забывая вместе с тем о стихотворе-
ниях в прозе, напечатанных по большей части в 1862 г., и о «Старушках»,
относящихся к 1859 г.
25 Было бы, конечно, неправильным, если бы мы рассматривали трактовку
бодлеровского альтруизма у западных исследователей опираясь только на
суждения враждебных ему литераторов, вроде Сартра, который сумел уви-
деть в его творчестве только великолепный пример половой психопатологии.
Не стоит обходить молчанием замечательное высказывание о Бодлере, при-
надлежащее Марселю Прусту: «В действительности поэт, которого считают
бесчеловечным, склонным к несколько глуповатому аристократизму, был
самым нежным, самым сердечным, самым человечным, самым «простонарод-
ным» («peuple») из поэтов».
114
рассветные сумерки», а также его стихотворения в прозе, опуб-
ликованные в 1862 г., «Вдовы», «Пирожное», «Глаза бедняков»,
«Игрушка бедняка», «Доконаем неимущих» и др.
Именно при соприкосновении поэта с миром несчастных, по-
давленных, отверженных как бы просыпается гуманизм Бодлера,
ибо этот гуманизм связан с уважением к человеку, с сочувст-
вием и жалостью к его бедам и его плачевному состоянию.
Многие буржуазные литературоведы пытаются представить поэ-
та холодным и равнодушным эстетом, для которого важнее все-
го были скульптурность формы, переливы красок, контрасты,
гармонические соответствия и т. п. Но критики, воспринимаю-
щие именно так «Цветы Зла» и часто основывающиеся при
этом на стихотворениях 40-х годов, написанных под влиянием
Готье26 («Красота»- и частично «Идеал»), не учитывают, что
Бодлер, рассказывая о своих впечатлениях от парижского утра,
не ограничивается общим колоритом и красками этого утра,
он не забывает при этом упомянуть и о людях, не упуская
случая напомнить о том, что в это время суток обостряются
страдания рожениц, что умирающие в богадельнях испускают
именно в эти часы последние хрипы. В «Вечерних сумерках»
поэт сообщает, что по вечерам ожесточаются человеческие
йуки. Мрачная ночь хватает людей за горло. Они кончают свою
жизнь, хотя многие из них не знали никогда радостей домаш-
него очага и никогда по-настоящему не жили. В «Вине тря-
пичников» речь идет об «умирающих в тишине».
Бодлеровское стихотворение в проЗе «Вдовы» посвящено лю-
дям, искалеченным жизнью, впалым, тусклым глазам, глубоким
и молчаливым морщинам — тому, что слабо, разрушено, огорче-
но, сиротливо. Взоры поэта привлекают обманутьГе люди, их
непризнанная самоотверженность, их невознагражденные уси-
лия. Стихотворение в прозе «Старый паяц» повествует о вет-
хом и дряхлом акробате, представляющем собой «человеческие
развалины». Стихотворение в прозе «Глаза бедняков» посвяще-
но человеку с усталым лицом. О грустном, похудевшем лице
женщины, носящей траур, упоминается во «Вдовах». Стихотво-
рение в прозе «Игрушка бедняка» сталкивает нас с грязным,
хилым, покрытым сажей мальчуганом, стихотворение в прозе
«Окна» знакомит нас с женщиной, лицо которой покрыто мор-
щинами и которая рисуется поэту всегда согнутой, склонен-
ной над чем-то.
26 Кстати, влияние Готье на Бодлера следует считать весьма преувеличенным.
Об этом свидетельствует уже упоминавшаяся нами статья поэта «Языческая
поэзия», в которой Бодлер заявляет о своей неприязни к парнасской школе.
Любопытно также, что в первом варианте посвящения Теофилю Готье
«Цветов Зла» Бодлер, называя его «мастером поэзии», упоминает его
«Альбертюса», «Комедию смерти» и «Испанию», но опускает основное
произведение Готье «Эмали и камеи» (1852), более характерное для эсте
тической доктрины Готье. (См. об этом: Шарль Бодлер. Цветы Зла. М.,
1970, стр. 294—295.)
115
Сочувствие и сострадание лирического героя Бодлера об-
ращено к люду окраин Парижа, к неимущим, к беднякам. Ут-
ренний Париж представляется Бодлеру «работящим старцем»,
который, пробуждаясь, трет себе глаза и берется за свои ин-
струменты («Предрассветные сумерки»). Поэт выражает свое
глубокое уважение к труду, заключая все это стихотворение
образом рабочего, ремесленника. В «Вечерних сумерках» его
преследует мысль о рабочем, обремененном тяжелой работой,
который ждет вечера и, сгорбленный, утомленный, спешит до-
браться до своей постели 27.
О людях, истерзанных заботами о доме, разбитых устало-
стью после тяжелого труда, идет речь и в «Вине тряпичников».
О людях, рано состарившихся, обессиленных, ослабевших и
обездоленных, говорится в «Душе вина», о бледных нищих и
полуодетых людях упоминается в «Смерти бедняков». Жалея
пробуждающихся утром людей («Предрассветные сумерки»),
лирический герой Бодлера особо упоминает бедных женщин, ко-
торые раздувают остывшие за ночь головешки и дуют при этом
на свои окоченевшие пальцы. О людях, впавших в бедность,
одетых в ситец, носящих простые блузы, потертые шали и лох-
мотья, о нищих, снимающих свою кепку и выпрашивающих по-
даяние, сочувственно и с глубоким сожалением сообщает писа-
тель в «Игрушке бедняка», в «Старом паяце», во «Вдовах», в
«Фальшивой монете», в «Доконаем неимущих», в «Пирожном»
и в других стихотворениях в прозе.
Писателю стыдно перед бедняком и его детьми, остановив-
шимися перед его столиком в ресторане («Глаза бедняков»).
Из «Пирожного» мы узнаем о маленьком существе в лохмотьях
с дикими и умоляющими глазами. Те же красноречивые и умо-
ляющие глаза, в которых читается и приниженность, и упрек
по отношению к богатым, у бедняка из «Фальшивой монеты».
Любопытно в той же связи стихотворение в прозе «Мои слав-
ные собаки» (опубликовано в 1867 г.), в котором поэт заяв-
ляет о своей любви к бедным и бездомным, бродячим и оди-
ноким собакам. Все, за исключением бедняков и самого писате-
ля, сторонятся этих собак, как зачумленных.
Очень показательна неприязнь, а иногда и прямо агрессив-
ное отношение Бодлера к миру богатства. Он с возмущением
повествует во «Вдовах» о наглых взорах веселых и праздных,
о местах увеселения богачей, которые сам писатель посещает
с величайшим пренебрежением. Места эти представляются ему
«суетой в пустоте» и не имеют ничего привлекательного для
него. Писатель отказывается в «Искушении» от предложений
Сатаны, который обещает ему деньги. Поэт понимает, что бо-
гатство основано на чужой бедности, он с отвращением отвора-
чивается от предложенного ему Сатаной и отвечает ему: «Я не
2' О Бодлере, приветствующем труд, см. у Ж. Прево (указ, соч., стр. 98).
116
нуждаюсь для моего удовольствия ни в чьей нищете, я не же-
лаю богатства, которое опечалено горем». Он с гневом расска-
зывает о богаче, который протягивает нищему фальшивую зо-
лотую монету, а когда тот, обрадованный, уходит, громко хо-
хочет над ним. Раздражение писателя вызывают даже собаки
богачей, все эти мопсы, которые напоминают ему фатов, все эти
левретки, очаровывающие других («Мои славные собаки»).
Касаясь страданий и мучений больных, рожениц и умираю-
щих, а также трудящихся, обездоленных и нищих, Бодлер ви-
дит в «грязном лабиринте» улиц старого предместья не только
результаты унижения и подавления. Он находит в них и чело-
веческое, остатки того «достоинства», о котором он писал в
«Маяках». Писатель рассказывает в «Старом паяце» о том, как
в праздники народ забывает все: и свои лишения, и тяжкий
труд,— становится похожим на ребенка и как бы заключает пе-
ремирие со зловредными силами, заставляющими его изнурять
себя трудом. Мы читаем в «Старушках» о том, как в «извили-
стых морщинах древней столицы», т. е. на улицах города, все,
даже самое омерзительное, оборачивается очарованием. Бодле-
ройский герой встречает на улицах Парижа старушек28 —
«страшные, дряхлые и вместе с тем прелестные существа». Эти
«вывихнутые чудовища», горбатые, искривленные, были когда-то
женщинами. И онг сохраняют в себе все человеческое, обладаю-
щее внутренней жизнью, например любовь к музыке. «Это еще
души» («Се sont encore des ames»),— восклицает поэт. Их взо-
ры таят в себе «непреодолимое очарование». У них «божест-
венные глаза маленьких девочек», и поэт призывает «любить
их» (aimons les!).
Такое сочувствие побуждает Бодлера прямо выразить по-
литическую враждебность современному общественному строю.
Пьяный мусорщик («Вино тряпичников») ходит по улицам пред-
местья, шатаясь, налетая на стены, ударяясь об них и в то
же время не обращая внимания на сыщиков. Он воспевает
в своих песнях «подвиги человека», изливает свое сердце в
«славных проектах», дает клятвы, диктует «величественные за-
коны» (т. е. устанавливает новый политический порядок), унич-
тожает злодеев, возвышает их жертвы29. Речь идет здесь о
Показательно, что, проникаясь сочувствием к старушкам и ко вдовам, писа-
тель вовсе не имеет в виду женщин, оканчивающих свою жизнь в богатстве.
29 On voit un chiffonnier qui vient, hochant la tete,
Butant, et se cognant aux murs comme un poete,
Et, sans prendre souci des mouchards, ses sujets,
Epanche tout son coeur en glorieux projets,
Il prete des serments, dicte des lois sublimes,
Terrasse les mediants, releve les victimes,
Et sous la firmament comme un dais suspendu
s’enivre des splendeurs de sa propre vertu.
(P- 124)
117
друзьях мусорщика, усы которого висят, как старые знамена.
Друзья эти поседели в битвах, но с ними — слава народа. Их
сопровождают трубы, солнце, клики толпы и бой барабана.
Здесь у Бодлера явный намек на революцию, пусть побежден-
ную в 1848 г., но сохранившуюся в мечтах бедного люда.
7
Со стихами, включенными в разделы
«Парижские картины» и «Вино», а также со многими стихот-
ворениями в прозе органически связаны три стихотворения, об-
разующие раздел «Бунт». Это — «Отречение святого Петра»,
«Каин и Авель» и «Литании Сатане», созданные, по всей види-
мости, между 1848 и 1851 гг.30 и напечатанные — первое —
в 1852 г., а второе и третье в 1847 г. Значение раздела «Бунт»
для «Цветов Зла» велико. Поэт как бы подчеркивает, включая
его в свой сборник, что своеобразие его поэтической системы
не сводится к символистской структуре образа, которая господ-
ствует в разделе «Сплин и идеал» и согласно которой центр
изображаемого составляет внутренний мир человека 31.
Уже разделы «Картины Парижа» и «Вино» свидетельствуют
о том, что за пределами внутреннего мира лирического героя
существуют и другие души и их сложные взаимоотношения,
что без включения в художественный метод элементов реализ
ма нельзя передать по-настоящему всей сложности реальной
действительности. Это становится еще более отчетливым, когда
читаешь раздел «Бунт». Бодлер вторгается здесь в вопросы,
так сказать, онтологического порядка, в круг объективных за-
кономерностей.
Очень важно отметить здесь, кроме того, что стихи раздела
«Бунт»32, так же как стихотворения «Парижских картин» и
30 См. об этом у Сэйера (£. Seilliere. Baudelaire, 1931, р. 192).
31 Очень характерно, что именно к символистской структуре образа сводят ме-
тод Бодлера, по существу вычеркивая из нее «Бунт», его буржуазные иссле-
дователи, например Остен.
32 Следует здесь же сказать, что богоборческий, или атеистический, раздел
«Бунт», видимо, чрезвычайно шокирующий и задевающий буржуазных лите-
ратуроведов, подвергается с их стороны ожесточенной и, что самое важное,
пренебрежительной критике. Они объявляют его художественно неполно-
ценным, своего рода hors d’ouvre, считают, что ни один из разделов сборни-
ка не отличает в такой степени риторичность (М. Ruff. Op. cit, р. 311),
заявляют, что в «Отречении святого Петра», по сути дела, нет отрицания
бога, что здесь пропагандируется лишь иначе понятое христианство (/. Pre-
vost. Op. cit., р. 101), полагают, что сатана у Бодлера напоминает бога, так
что обличение последнего превращается, по существу, в его апологию (С. Вог
gal. Op. cit., р. 55), считают, что сатанизм Бодлера предполагает веру в
существование бога, видят здесь только кощунство (F. Porche. Op. cit.,
р. 305). К числу противников «Бунта» относится и Готье, уверяющий, что
в разделе «Бунт» не следует видеть безбожия, так как это всего лишь «хо-
лодная ирония», «обычная» для автора «Цветов Зла» и вместе с тем шо-
кирующая.
118
«Вина», основаны на гуманистических принципах и в то же вре-
мя являются, по своей направленности, богоборческими. В поэ-
зии Бодлера богоборческие мотивы возникают как прямое про-
должение критики установленных моральных и идейных норм,
как развитие гуманизма поэта.
Раздел «Бунт», впрочем, не занимает в поэзии Бодлера
обособленное и одинокое место33. Мотивы этого раздела наме-
чены в отдельных стихотворениях из «Сплина и идеала», а так-
же из «Картин Парижа» и «Вина». Лебедь, изнывающий от
жажды в иссушенном, лишенном влаги городе, протягивает к
«ироническому» до «жестокости» голубому небу свою голову,
как бы обращая упреки богу («Лебедь»), Стоит запомнить, что
небо именуется здесь «ироническим» и «жестоким» и что лебедь
обращает к небу свои «упреки». Глаза слепых из одноименного
стихотворения никогда не опускаются к мостовой, всегда остают-
ся поднятыми вверх. «Чего они ищут в небе, эти слепые?» —
с удивлением спрашивает поэт («Слепые»).
В «Мечте любознательного» Бодлер утверждает, что загроб-
ная жизнь и загробные тайны, о которых мечтает человек, во-
обще не существуют. Герой стихотворения всю жизнь лелеет
мечту, соединенную с чувством ужаса, тоску, сочетающуюся с
живой надеждой и имеющую своим объектом посмертное суще-
ствование. Он напоминает с?бе ребенка, падкого до зрелищ
и ненавидящего занавес, как ненавидят препятствия. Занавес,
наконец, поднимается, и тогда у героя вырываются слова изум-
ления: «Только это...?» Он продолжает ждать еще чего-то, хотя
ждать уже нечего.
Любопытен «Дон Жуан в аду», стихотворение, в котором
заявляется, по сути дела, что загробной жизни, разрешающей
земные противоречия, не существует, что все «на том свете»
повторяет здешнее бытие, что человек встречается в аду с тем
же, что и при жизни. Дон Жуан вновь видит там и Лепорел-
ло, и своего отца, и донну Анну, и Командора.
Те же мотивы в «Скелете-землеробе». Разглядывая старин-
ную гравюру, изображающую скелет крестьянина, поэт заду-
мывается над еудьбой человечества. Он усматривает в гравюре
эмблему его тяжелой и трудной судьбы, начинает сомневаться
в существовании потустороннего мира, заявляет, что обещанный
покой не надежен, что человеку, может быть, никогда не при-
33 Буржуазные литературоведы, возмущенные присутствием в «Цветах Зла»
раздела «Бунт», всеми силами тщатся представить его случайным для Бод-
лера, никак не связанным с остальным его творчеством и стоящим в его по-
этической системе особняком. М. Руфф, например, считает, что «Бунт» на-
ходится в очевидном противоречии с «Маяками», с «Благословением» и дру-
гими произведениями, в которых фигурирует бог, что он уничтожает единст-
во «Цветов Зла» (указ, соч., стр. 311). В другом месте своей работы о Бод-
лере Руфф указывает, что «Отречение святого Петра» не соответствует на-
строениям поэта 1855—1857 гг., что оно противоречит всему разделу
«Смерть» (стр. 251).
119
дется вести беззаботную жизнь, что ему, может быть, всегда
нужно будет вгонять окровавленной ногой лопату в жесткую
поверхность земли 34.
Антирелигиозные тенденции содержатся и в «Вине тряпич-
ников», если судить о нем не по варианту 1851 г., а по редак-
ции 1857 г. Сном бог думает смягчить страдания человека, усы-
пить его, утолить его злобу, убаюкать его безразличием. Назло
богу человек создал вино, которое именуется в стихотворении
«сыном солнца». Вино побуждает человека к действию, к ак-
тивности, а не к забытью.
Следует отметить антирелигиозный смысл стихов Бодле-
ра, сосредоточенных в последнем разделе «Смерть»: идея смер-
ти, которой завершаются «Цветы Зла», остается для поэта бо-
лее реальной, чем идея бога 35. Смерть — это единственная уве-
ренность, которая остается человеку. Поэт пытается сделать из
нее единственную надежду.
Мотивы протеста против бога и отрицание потустороннего
мира, намеченные в «Лебеде», в «Слепых», в «Мечте любозна-
тельного», в «Скелете-землеробе», в «Вине тряпичников»,
в «Плавании», получают развернутую форму, выливаются в за-
конченное богоборческое мировоззрение в разделе «Бунт». Бро-
сая обвинения и проклятия богу, Бодлер исходит из существо-
вания подавленного, униженного человечества, из наличия пала-
чей в мире. Бог возмущает гуманистически настроенного поэта,
как показывает «Отречение святого Петра», своим равнодушием
к бедам, несчастьям и страданиям человечества, к рыданиям
мучеников и преступников, приговоренных к смертной казни.
Бог-отец смеется на небе, слыша, как отвратительные палачи
на земле забивают в живую плоть его сына гвозди.
Еще более конкретным становится существо мира, создан-
ного богом, в «Авеле и Каине». Бодлер исходит в этом стихо-
творении из наличия социальных контрастов, из наличия бед-
ности и богатства в существующем обществе. Он говорит о бо-
гачах и бедняках, о счастливых и несчастных, о разделении
человечества на две половины. Одна, которую Бодлер считает
наследниками Авеля и которую он третирует, глядя на нее свы-
сока, спокойно ест, пьет, ей удаются посевы, у нее растет
скот. Она греет свое брюхо у очага и размножается, подобно
лесным блохам. Другая половина человечества, которую поэт
называет наследниками Каина и которой он сочувствует, живет
34 Очень любопытно, что в последнем разделе «Цветов Зла», озаглавленном
«Смерть», Бодлер помещает «Плаванье», являющееся своеобразным фина-
лом всего сборника. Некоторые бодлеристы, например Руфф в своей «Эсте-
тике Бодлера» (L’Esprit du mal et I’esthetique baudelairienne. P., 1955),
утверждают, что в этом стихотворении проявилась религиозность поэта,
«забвение» им «земных вещей» (стр. 348). Это утверждение Руффа совсем
не обосновано и не подкрепляется текстом стихотворения.
35 Очень убедительно пишет об этом Ж. Прево (указ, соч., стр. 101—120).
120
в грязи, пресмыкается и умирает в нищете. Ее нутро воет от
голода. Она дрожит от холода в своем логове, доведена до
предела (traine aux abois). Поэт призывает эту часть челове-
чества к бунту, побуждает ее подняться на небо и сбросить
бога.
Из мысли о людских несчастьях и мучениях исходит Бодлер
и в «Литаниях Сатане», ибо Сатана представляется поэту по-
кровителем человечества. И это в отличие от бога-отца — врага
человеческого рода, самолюбивого и жестокого существа, и от
Христа — существа чересчур робкого, не способного на актив-
ные действия. Бодлер именует Сатану исцелителем человече-
ской тоски, любовно внушающим даже париям и прокаженным
мечту о рае. Сатана вручает посох ссыльным, исповедует по-
вешенных и заговорщиков. Из рук дьявола человечество полу-
чило геологические и минералогические знания. Сатане извест-
но, в каких уголках земли бог спрятал от человека драгоцен-
ные камни. Ему известны подземные арсеналы, в которых спит
заживо погребенный народ металлов. Широкая рука дьявола
отодвигает пропасть от сомнамбул, бродящих по краям крыши,
Сатана делает эластичными кости пьяниц, попавших под копы-
та лошади. Дьявол, правда, облегчает и желания самоубийц,
идет им навстречу, научив людей смешивать селитру с серой,
т. е. делать порох. Но он поступает так лишь потому, что же-
лает утешить хрупкого человека и смягчить его страдания.
В образе дьявола («Литании Сатане») очень важен момент
его вмешательства в судьбы человечества, требование перемен.
Говоря о Сатане, Бодлер придает огромное значение его помо-
щи, благодеяниям, услугам, в которых так нуждаются обездо-
ленные и страдающие люди.
Образ дьявола, возникающий в «Литаниях Сатане», вместе с
тем имеет двойственный характер. С одной стороны, этим обра-
зом усиливается изображение нищеты, страданий, одиночества
человека, покинутого богом и обреченного на мучения. С дру-
гой стороны, образ Сатаны акцентирует слабость человека, его
неспособность к самостоятельным действиям. Бодлер серьезно
сомневается в органической способности людей на активные
деяния. Он недаром почти всегда имеет дело не с восставши-
ми, не с бунтующими, а с побежденными. Человек, в его пред-
ставлении,-— жалок, беспомощен, не в состоянии сам организо-
вать свою жизнь. В стихотворном «Предисловии» к «Цветам
Зла» поэт прямо заявляет, что человек безволен, что его воля
испарилась. Им руководит Сатана, который держит в своих ру-
ках все нити, движущие человеком.
Богоборчество приводит Бодлера не к возвышению челове-
ка, не к его прославлению, а к апологии Сатаны. То, что ак-
тивность человека порождается явлениями, находящимися вне
его и за его пределами, убеждает нас раздел «Цветов Зла»,
озаглавленный «Вино». Если бы не вино, тряпичник оставался
121
бы в очень тяжелом, почти безвыходном положении. Приподы-
мает и возбуждает его по существу только оно. Попадая в
глотку человека, оно перерождает его хотя бы на время, воспе-
вает через его голос его «подвиги» и царствует над ним, как
настоящие короли («Вино тряпичников»). Сила вина именно в
том и состоит, что от него в трепещущей груди щебечет на-
дежда, что оно веселит глаза жены бедняка, возвращает здо-
ровый цвет лица его сыну («Душа вина»). Оно содержит в
себе бальзам, вливающий в душу человека надежду и юность,
жизнь и гордость («Вино одинокого»). Важно, в то же время,
что вино не содействует человеческой активности, не поднимает
человека на мятеж. Оно, напротив, утешает его.
Так же как вино и как дьявол, покровителем людей вы-
ступает у Бодлера солнце. Оно называется в его стихах «отцом-
кормильцем», врагом «бледной немочи» (chloroses), оно ожив-
ляет людей на костылях, делает их веселыми и нежными. Оно
пробуждает розы в полях, приказывает расти посевам. Оно к
тому же является утешителем человека.
Реалистические элементы осложняются в «Бунте» мотивами
метафизическими и фантастическими, связанными уже не с
реальной человеческой жизнью, а с богом, с дьяволом, с по-
тусторонним миром.
8
Мы уже говорили о том, что революция
1848 года и ее результаты определяют внутренние противоре-
чия творчества Бодлера, его как бы двойную направленность.
Если от революции идет гуманистический символизм Бодлера,
его гуманистическое отношение к людям, богоборчество, то с
поражением революции, с торжеством реакции связан и под-
черкнуто мрачный характер поэзии Бодлера, намечающийся уже
в первые годы после революции и особенно усилившийся к
концу 50-х и в 60-х годах. Рядом со стихотворениями из раз-
делов «Цветов Зла», озаглавленных «Парижские картины»,
«Вино», рядом с очень многими стихотворениями в прозе, в ко-
торых идет речь о конкретных людях, о людях социально опре-
деленных, детерминированных, у Бодлера возникают другие сти-
хотворения, в которых выдвигается проблема человека вообще,
проблема абстрактного зла и отвлеченного добра. В стихотво-
рениях, созданных непосредственно вслед за событиями револю-
ции 1848 года, в «Вечерних сумерках», в «Предрассветных су-
мерках», в «Вине тряпичников», в «Душе вина» возможности
человека представляются не до конца исчерпанными. Поэт уве-
рен, что социальное зло — феномен общественного порядка;
богатство, роскошь, социальная отверженность, невыносимый
труд, проституция, праздность сильно влияют на человека. Но
человек сохраняет нетронутой свою внутреннюю свободу, не-
взирая на натиск и напор зла, на победу мрака и тьмы во
122
всем мире. Другое дело «Непоправимое», «Исповедь», «Гэаутон-
тиморуменос», цикл «Сплин». Власть зла раскрывается здесь
как явление космического и биологического порядка. Человек
представляется здесь действительно бессильным что-либо сде-
лать и что-либо изменить.
Очень важно в этой связи не забывать, что Бодлер не с
первых шагов своего творчества был «скорбником», как это
пытаются доказать некоторые исследователи его творчества, от-
вергающие порой эволюцию поэта.
Его стихотворения, написанные в 40-х годах (например,
«Соответствия», «Воспарения», «Красота», «Люблю тот век на-
гой», «Тассо в темнице», отчасти «Благословение» и др.),
а также некоторые стихотворения 50-х годов, опубликованные,
правда, в большинстве случаев много позднее, имеют отчетли-
вый оптимистический характер, связывающий их в какой-то сте-
пени с Готье и ранним Леконт де Лилем. Бодлер 40-х годов
исходит из принципа гармонии, разлитой во Вселенной. В «Со-
ответствиях» он обращает внимание на то, что деревья «дру-
жественно наблюдают» за человеком, в «Воспарении» отсутст-
вуют антагонистические отношения между поэтом и природой.
Лирический герой без усилия понимает здесь «язык цветов и
немых вещей». В «Благословении» поэт играет ветром, беседует
с облаком, чувствует себя ве..елым, подобно лесной птице. Надо
только учитывать, что в «Благословении» при его публика-
ции в 1857 г. сказались мотивы, далекие от первона-
чального оптимизма. То же следует сказать и о «Воспарении»,
для которого также очень характерны образы болезненных ис-
парений земли и туманного бытия людей, отягченного тяжкими
невзгодами и печалями, которые явно нарушают принцип гармо-
нии. Печальная настроенность стихотворения «Люблю тот век
нагой», несомненно, относящегося к 40-м годам, значительно
ослаблена его мажорной концовкой, а рукопись «Тассо в тем-
нице», датированная 1844 г., резко отличается от варианта,
опубликованного в 1864 г. В 1844 г. Тассо рисуется тружеником
и борцом. В 1864 г. Бодлер включает в стихотворение образ
«удушающей реальности». Труженика он превращает в «мечта-
теля», которому его окружение «отвратительно».
После 1848—1851 гг. в мироощущении Бодлера постепенно
намечается и осуществляется перелом, который отменяет перво-
начальное «гармоническое» миросозерцание. Этот перелом про-
является особенно рельефно в произведениях, созданных в кон-
це 50-х годов и в самом начале 60-х и вошедших во второе изда-
ние «Цветов Зла».
Духовный переворот, пережитый Бодлером после 1851 года,
не случайно намечается именно в 1849, 1850 и 1851 гг., ибо
он находится в тесной связи с событиями революции 1848 года.
Подчеркнуто мрачная поэзия Бодлера, несомненно, определяет
характер его символизма. Бодлер сам придавал большое значе-
123
ние характеру своих стихотворений, называя «Цветы Зла» «сло-
варем» преступлений и меланхолии, подчеркивая тем самым и
особый состав своего поэтического мира, и особый отбор в нем
предметов изображения.
Любопытно, в связи с особой внимательностью Бодлера ко
всему печальному и грустному, то, что он специально отмечает
безрадостность и тяжелую озабоченность своего любимого ху-
дожника Делакруа, который, по его мнению, охотнее всего изоб-
ражал состояние отчаяния, резню и пожары, видел во всем
следы человеческого варварства, писал изнасилованных жен-
щин, детей, брошенных под копыта лошади. Картины Делак-
руа— это гимн року и печали, заявляет Бодлер (статья о твор-
честве и жизни Делакруа). В «Салоне 1846 года» он подчерки-
вает своеобразную меланхолию работ Делакруа, утверждает, что
Данте и Шекспир были великими живописцами человеческих
страданий, что ужас и меланхолия присущи Рембрандту. Мрач-
ная окраска «Цветов Зла» делает Бодлера наследником роман-
тиков, последователем Виньи, Сент-Бёва, Барбье и в то же вре-
мя учеником парнасцев, поскольку они приближаются к роман-
тизму (см. «Тоску» Готье и его стихотворения, посвященные
картинам Сурбарана и Вальдеса де Леаля, которые автор
«Цветов Зла» особенно ценил; а также «Варварские стихотво-
рения» Леконт де Лиля).
Очень характерны для минорного аспекта существующего
эпитеты, акцентирующие определенный характер изображаемо-
го. В «Гармонии вечера» поэт говорит о грустном и печаль-
ном небе, о меланхолическом вальсе, в «Служанке скромной» о
меланхолическом ветре. Улица предместья представляется ему
грустной («Семь стариков»). Молния кажется угрюмой («Не-
поправимое»). В грустных тонах выдержано первое стихотворе-
ние из цикла «Сплин». Тут и печальный голос души поэта,
и жалобный звон колокола, и мрачно беседующие о прошедшей
любви валет червей и пиковая дама.
Меланхоличность, угрюмость усугубляются чернотой окру-
жающего, отсутствием в нем света, даже его проблесков.
В первом стихотворении из цикла «Сплин» плювиоз, осенний
месяц, время дождей, проливает на город из своей урны ручьи
темного холода. Поэт видит в «Непоправимом» черное небо,
более плотное, чем смола, без утра и без молний; его невоз-
можно озарить светом, прорвать тьму. В «De profundis cla-
mavi» героя обступает со всех сторон тусклый мир свинцового
неба — глубокая пропасть, необъятная ночь, похожая на древ-
ний хаос36. Окружающее представляется ему более обнажен-
зв J’implore fa pitie, Toi, 1’unique que j’aime,
Du fond du gouffre obscur ой mon coeur est tombe.
C’est un univers mome a 1’horizon plombe,
Ой nagent dans la nuit 1’horreur et le blaspheme...
<P- 43)
124
ным и опустошенным, чем земля на полюсе. В нем нет ни
животных, ни растений, ни ручейков, ни зелени, ни леса.
Не менее симптоматична для печального видения мира в
«Цветах Зла», для стремления поэта видеть во всем грязную
изнанку, оборотную сторону бодлеровская «Исповедь». В ней
поэт по существу объявляет лишь видимостью прекрасный лет-
ний вечер в Париже, окутанный в атмосферу тишины и радости.
Возлюбленная поэта, первоначально представлявшаяся средото-
чием этой атмосферы, открывает вдруг, что в мире нет ничего
несомненного и достоверного (certain), что все — и любовь и
красота — подлежит уничтожению.
Для печального, беспросветного мира, на фоне которого де-
монстрируется образ бодлеровского лирического героя, очень
важно отсутствие весенних или хотя бы летних пейзажей. Они
были характерны для просветительской лирики (А. Шенье), бы-
ли ослаблены романтиками (В. Гюго, Ламартин, Виньи), ча-
стично были восстановлены парнасцами (Т. Готье в «Эмалях и
камеях», Леконт де Лиль в «Античных стихотворениях»). Окру-
жающий мир у Бодлера полон мрака, холода, ненастья. В нем
преобладает осеннее, туманное, дождливое, а летнее, светлое
почти всегда отодвинуто в область фона, составляет содержа-
ние воспоминаний. В четвертом стихотворении из цикла «Сплин»
сверху льется черный день, более грустный, чем ночь. В «Семи
стариках» — дождливое небо и город в тумане. Безлунны ве-
чера, тусклы времена года — в «Туманах и дождях».
Преимущественному интересу Бодлера к осени и зиме, к вре-
менам года, лишенным солнца, соответствует и особая внима-
тельность к предрассветным и вечерним сумеркам, к закатам
солнца, равнодушие поэта к дневным, солнечным пейзажам,
столь ярко раскрывавшимся Леконт де Лилем в его «Античных
стихотворениях». О задумчивом часе, когда заходит солнце и
устанавливается тьма, поэт рассказывает в «Совах». О солнце,
утопающем в своей крови, повествуется в «Гармонии вечера».
Именно в час заката природа становится черной, сырой, зло-
вещей — утверждается в «Романтическом закате». Стоит солн-
цу удалиться, и нога всюду натыкается на болота, на жаб,
на холодных улиток (там же).
Но в «Цветах Зла» дело не сводится к господству мрака и
печали. Мрачное и печальное лишает душу человека радости
и уравновешенной гармонии, сообщает ей печаль, взволнован-
ность, что, впрочем, мы видали уже у Виньи («Дом пастыря»,
«Судьбы»), отчасти у Сент-Бёва («Первая любовь», «Стансы»,
«Самоубийство»), О том же речь в «Непоправимом», где ог-
ромную роль играет состояние подавленности, виновности, по-
каяние в совершенных ошибках, угрызения совести, неподвласт-
ные никакому вину и снадобью. Сознание непоправимости со-
деянного гложет душу человека своими окаянными зубами,
а надежду человек ощущает навсегда умершей.
12Б
В «Непредвиденном» рассказывается о людях как о су-
ществах слепых, глухих и слабых, подобных стене, источенной
насекомыми. Сердце лирического героя «Осенней мелодии» пол-
но похоронных мыслей. Поэт отождествляет душу свою с моги-
лой («Скверный монах»), В «Осеннем сонете» он связывает
любовь с преступлением, ужасом, безумием-. В «Гэаутонтимо-
руменос» («Самоистязатель») он ставит любовное чувство в
прочную связь со страданием, с мучениями, считает себя вампи-
ром своего собственного сердца, неспособным радостно улы-
баться, приговоренным к вечной иронии над собой. В стихотво-
рении в прозе «Двойная комната» упоминается про одолеваю-
щие героя сожаления, судороги, страхи, кошмары, гнев, тревоги,
неврозы. В «Осенней мелодии» героя пронизывают гнев, нена-
висть, дрожь, ужас.
Концентратом мрачной окраски существующего являются у
Бодлера тема смерти, кладбищенские и похоронные мотивы,
определяющие многое в его творчестве. Поэт отождествляет
самого себя с кладбищем (второе стихотворение из цикла
«Сплин»), Сад поэта залит дождями, а ямы, размытые дож-
дем, напоминают могилы («Враг»). Обращаясь к возлюбленной,
лирический герой «Посмертных угрызений» одновременно ду-
мает о тех временах, когда она будет лежать на кладбище
под памятником, камень будет давить ей на грудь, будет ме-
шать ее сердцу биться, а ногам — бегать. Мотив могилы сопро-
вождается образом похорон. В траурных облаках он видит по-
хоронные дроги своих мечтаний («Ужасное соответствие»),
С темой кладбища мы сталкиваемся и в «Погребении проклятого
поэта», и в «Веселом мертвеце», и в «Фантастической гравюре».
Средоточием похоронных, кладбищенских мотивов служит
у Бодлера «Поездка на Киферу». Смерть и всё с ней связанное
представляются здесь оборотной стороной действительности. Ге-
рой этого стихотворения предпринимает путешествие на пре-
красный остров, владение богини Венеры, где люди наслаж-
даются обычно любовью. Но он находит на этом острове прямо
противоположное ожидаемому — виселицу и труп повешенного,
уничтожаемый жестокими птицами: глаза уже превратились
в дыры, из живота выпущены кишки. Столь же мрачна и бод-
леровская «Пляска смерти». Поэт утверждает здесь, что все
человечество тяготеет к смерти. В своих объятиях любой чело-
век сжимает только человеческий скелет, прикрытый плотью и
платьем.
И здесь очень важно вспомнить, что мрачная, минорная
окраска изображаемого сосуществует у Бодлера с принципом
двоемирия бытия, который в какой-то мере ограничивает и
смягчает этот мрачный аспект и в то же время углубляет
трагизм, присущий бодлеровскому восприятию мира. Идеал
изображается в ожесточенной борьбе, схватке со злом. В этом
принципиальное отличие бодлеровских «Цветов Зла» от «Антич-
126
ных стихотворений» и особенно от «Эмалей и камей». В этом
же некоторая близость «Цветов Зла» к трагическому видению
мира, свойственному романтикам, в первую очередь Виктору
Гюго, Альфреду де Виньи, Огюсту Барбье, Сент-Бёву. Зло всег-
да рисуется у Бодлера активным, наступающим на человека.
Непоправимое грызет своими зубами человеческую душу, угры-
зения совести метят отравленными стрелами в человеческое
сердце, конь давит своим копытом раненого («Непоправимое»),
Трагизм действительности не сводится к агрессивности зла.
Не менее существен и образ активно обороняющегося от зла
человека. Поэт мечтает в «Непоправимом» о том, чтобы пор-
вать тьму, осветить черное небо. Он надеется задушить угрызе-
ния совести, утопить в вине, в снадобьях, в напитках старого
врага. Атмосфера борьбы и схватки господствует в «Неотвра-
тимом». Здесь Ангел отбивается от тоски, как пловец, борю-
щийся с исполинским водоворотом; здесь заколдованный пы-
тается найти выход из лабиринта, кишащего пресмыкающими-
ся; здесь корабль ищет роковой пролив, который вывел бы его
обратно — к свободному от льдов морю.
Говоря, однако, о близости Бодлера к романтическому тра-
гизму, к поэзии борьбы и сопротивления, нельзя забывать и
о пессимистической интерпретации этого трагизма в его творче-
стве. Рассуждая о традициях романтизма в «Цветах Зла»,
следует помнить о различиях между Бодлером и романтиками,
ибо идеал почти всегда в «Цветах Зла» оказывается побеж-
денным, он — отступает перед натиском зла, врага, мрака.
Именно таким, повергнутым наземь, рисуется у Бодлера аль-
батрос, плененный и преследуемый грубыми матросами, которые
издеваются над ним. Он стал неуклюжим и пристыженным, ко-
мическим и уродливым. Именно таков у Бодлера лебедь, уле-
тевший из клетки, но теперь изнывающий от зноя, задыхаю-
щийся в пыли, грустно купающий в ней свое белое оперение.
Именно таков, наконец, у него, судя по «Благословению», и поэт,
преследуемый матерью, женой, жестокими, равнодушными людь-
ми, среди которых ему довелось жить и которые глумятся над
ним, осыпают его насмешками.
Это же стремление представить «идеал» оттесняемым злом
обнаруживается в «Наваждении», «Неотвратимом», в «Пляске
смерти». Об идее, которая из лазури упала в грязный и свин-
цовый Стикс, рассказывается в «Непоправимом». Ангел напрасно
отбивается от водоворота, человек, оказавшийся среди пресмы-
кающихся, тщетно пытается убежать от них, корабль беспомо-
щен против льда, затягивающего его все дальше и дальше
в свою тюрьму. Плененная врагами идея, увлекаемый водоворо-
том ангел, несчастный человек, корабль, стиснутый льдами,—
вот для Бодлера эмблемы побежденного. Очень показательно
для «Неотвратимого», что идея, форма, существо, обитавшее
в лазурном небе, Ангел и несчастный заколдованный отождеств-
127
ляются с проклятый поэтом, признаются столь же обреченными,
что и он. Еще более показательно, что поэт рассказывает в
«Гэаутонтиморуменос» не столько о самом зле, сколько о созна-
нии, которое попало в плен ко злу.
Пессимистическая трактовка трагизма, мысль о несоразмер-
ности ничтожной силы человека и колоссальной мощи врага
господствует и в «Пляске смерти». Здесь — сила, победившая и
сковавшая все живое. Она царствует не где-то там, в потусто-
роннем мире, за пределами земного, а торжествует здесь, сей-
час, среди реальных людей. Танцующие на балу представляют-
ся поэту «надушенными скелетами», напомаженными трупами.
Он говорит здесь о человеческом стаде, которое среди своих
плясок и увеселений не слышит трубы архангела, возвещающего
конец света. Смерть представлена у Бодлера универсальным
явлением, она властвует всюду.
Пессимизм Бодлера, как он представлен в «Неотвратимом»,
«Пляске смерти», в «Гэаутонтиморуменос», в цикле «Сплин»,
отделяется от своей реальной, конкретной причины — от пора-
жения революции 1848 года. Он получает обобщенный, абстракт-
ный характер и имеет дело уже не с конкретными людьми, не
с реальными условиями человеческой жизни, а с отвлеченным
состоянием бытия.
Жизнь в поэзии Бодлера раскрывается как постоянное на-
поминание о смерти, как путь к ней, как незначительный уча-
сток колоссального царства смерти. Тема смерти приобретает
у Бодлера характер своеобразного преддекадентства, известного
нам уже по поэзии Леконт де Лиля, она влечет поэта к после-
довательному декадентству, удельный вес которого в образной
системе поэта, особенно в его произведениях конца 50-х и нача-
ла 60-х годов, весьма значителен. Беспредельный пессимизм слу-
жит предпосылкой декадентского отношения к миру, хотя не мо-
жет быть отождествлен с декадентством.
9
Чтобы понять смысл декадентских моти-
вов в творчестве Бодлера, необходимо остановиться, хотя бы
вкратце, на элементах религиозного перерождения его поэзии
в 50—60-х годах, поскольку религиозное перерождение, так же
как беспредельный пессимизм, явилось у поэта предпосылкой
декадентства, путем к нему. Стоит также подумать о самом ха-
рактере декадентства, которое не сводится только к абсолютно-
му, безграничному пессимизму, но представляет собой своеоб-
разный отказ от бунтарства, примирение с действительностью,
оправдание зла, в ней заключенного.
Надо учитывать, что элементы религиозного и декадентского
перерождения переплетаются в творчестве Бодлера в конце 50-х
128
и начале 60-х годов с очень существенными для него мотивами
гуманизма и демократизма 1848—1851 гг., сохранившимися
в очень многих его вещах последнего периода, в частности
в «Лебеде» (1859), «Старушках» (1861), «Полночных терза-
ниях» (1863), стихотворной прозе (1863) 37.
На поэта воздействовала идейная атмосфера Второй импе-
рии, атмосфера несомненно антидемократическая. Возникающие
в этой атмосфере мысли о беспомощности человека предопреде-
ляют религиозное перерождение 38 мировосприятия Бодлера, пе-
рерождение, по своей сути близкое к декадентсдву. Элементы
религиозного отношения к миру, знаменующие собой отказ от
гуманистического символизма, наслаиваются на основные и
первоначальные черты мироощущения Бодлера и подчас основа-
тельно затемняют их.
Религиозная перестройка бодлеровского мироощущения яв-
ляется прямой противоположностью его прежнему богоборчест-
ву, носит характер отчетливо консервативный. Она свидетель-
ствует о явных признаках «поправения» поэта после 1852 года—
года установления Второй империи, о начале его отхода от
прогрессивных и радикальных позиций, о начале его примире-
ния с существующим социальным строем. Недаром 5 марта
1852 г. он пишет Анселю, что государственный переворот Луи-
Наполеона Бонапарта его «физически деполитизировал», и сооб-
щает Пуле-Маласси 20 марта 1852 г., что отныне он решил
остаться «чуждым всякой человеческой полемике», что он решил
отойти от всяких идей, связанных с революционно-демократи-
ческим движением.
Религиозное «обращение» Бодлера выразилось прежде всего
в том, что человек постепенно утрачивает в его поэзии черты
мятежника, смутьяна, настроенного против бога. Поэт осуждает
уже в «Воздаянии гордости» (1850) бунтарство человека, его
богоборчество. Поэт становится у него не противником божест-
ва, как это было в «Мятеже», а рупором и орудием бога.
Он принимает страдание, которое причиняет человеку потусто-
37 Именно эта устойчивость гуманистических и демократических мотивов у
Бодлера 60-х годов заставила некоторых исследователей, например Н. И. Ба-
лашова, даже выдвинуть идею о новом периоде его творческой эволю-
ции (см. цитированную выше статью о Бодлере, стр. 282), который якобы
определяется усилением бунтарских тенденций и «вэзрождением гуманисти-
ческих интересов» после кризисных 1852—1856 гг. Справедливо учитывая
большое значение бунтарских и гуманистических мотивов для Бодлера
конца 50-х — начала 60-х годов, Н. И. Балашов недостаточно, на наш
взгляд, считается с тем, что творчество этого времени включает в себя и
весьма сильные реакционные тенденции, религиозные и декадентские
устремления.
38 Религиозное перерождение бодлеровского отношения к миру, идущее от
середины и конца 50-х к началу 60-х годов, дало возможность толковать его
творчество с точки зрения ортодоксального католицизма. См., например,
выше цитированные работы Руффа, Боргаля.
5 Д. Д. Обломиевский
129
ронний мир, за определенную привилегию поэта («Благослове-
ние», 1857). В «Непоправимом» (1855) он усматривает в чело-
веке существо, «приговоренное» богом к «вечному смеху над
собой». Человек кажется ему существом, которое бог проклял
и осудил на «вечные муки». Человеком движет злой дух, все
время снующий возле него, будто не ощущаемый, не осязаемый
воздух. Дьявол проникает внутрь человека, в его легкие, на-
полняет его преступными желаниями («Благословение», (857).
О «сатанинском», адском начале в человеке Бодлер рассуж-
дает в связи с «Тангейзером» Вагнера (статья о «Тангейзере»,
1861). Композитор, по его мнению, великолепно знаком с «дья-
вольской частью» человека, с «сатанинской щекоткой туманной
любви»; в душе человека композитор усматривает две бесконеч-
ности — неба и ада.
Сатанинской, адской представляется в стихах Бодлера и
любовь. Так она демонстрируется в «Duellum» (1858) и в «Одер-
жимом» (1859). В «Грустном мадригале» (1861) сны возлюб-
ленной отражают ад, она мечтает о ядах и мечах, о порохе и
железе. Очень существенно для Бодлера, как об этом свидетель-
ствует его стихотворение в прозе «Наглый стекольщик», мысль
поэта о немотивированном поступке человека, который часто
действует как жертва какого-то иррационального приступа. Эти
внезапные, порывистые движения человека объявляются Бодле-
ром следствием воздействий «зловредных демонов», которые
«проскальзывают в нас» и заставляют безотчетно следовать их
самым абсурдным повелениям. Медики, заявляет писатель, счи-
тают «истерическими» настроения, толкающие нас на опасные и
неуместные действия. Люди, «думающие лучше, чем медики»,
рассматривают эти настроения не как истерические, а как сата-
нинские.
Очень важно для бодлеровской концепции человека понятие
греха и виновности, о котором поэт пишет в 1856 г. в письме
к Туссенелю. Бодлер утверждает здесь, что «ересь бесконечного
прогресса» и «ересь человека доброго от природы» являются
следствием «главной современной ереси» — отрицания идеи
«прирожденного греха». Об идее греха и вместе с тем о поту-
стороннем мире и боге рассуждает Бодлер и в своей статье
«О сущности смеха» (1855). Смех объявлен по своему проис-
хождению дьявольским. Он связан с грехопадением человека,
с его моральной и физической деградацией. Смех отражает
в себе двойную и противоречивую природу человека, бесконечно
великую в отношении животных и бесконечно низкую отно-
сительно абсолютного существа, т. е. бога. Смех возникает из
столкновения двух бесконечностей, так как животные не знают
превосходства над растениями и неживой природой и поэтому
не знают смеха, а бог столь совершенен в своей полноте, что
ему просто чужда идея смеха.
Интересно у Бодлера рассматривается тема «неумирающего
130
греха» в «Путешествии», где пессимистическая концепция чело-
века доведена до предела. Если в «Предрассветных сумерках»,
в «Душе вина», в «Вине тряпичников», в стихотворениях из
раздела «Бунт» поэт имел дело с униженными, страдающими,
по достойными сочувствия людьми, то в «Плавании» у человека
уже прирожденные «адские» привычки и наклонность к тиран-
ству. У мужчин поэт обнаруживает жадность и скупость, раз-
вращенность и распущенность. У женщин усматривает подлость
и глупость, горделивость и самовлюбленность. Он, правда, упо-
минает в «Путешествии» о тех недостатках, которые происте-
кают из особенностей формы общества. Он говорит о яде вла-
сти, о народе, который обожает кнут. Но эти утверждения не
только не ослабляют, но, напротив, усиливают пессимизм поэта.
В свете религиозного отношения к действительности звезда,
дрожащая в черном колодце истины, рассматривается как ад
ский маяк, как пламя сатанинских прелестей, когда-то соблаз-
нивших лирического героя Бодлера.
Не менее показательно для религиозного перерождения бод-
леровской концепции мира радикальное переосмысление образа
Дьявола. Это становится ясным, если сравнить трактовку Дья-
вола в «Непоправимом», «Неотвратимом», в «ГэаутонтиморуМе-
нос» с трактовкой, принятой в «Литаниях Сатане». Дьявол
утрачивает черты античного Прометея, врага богов, отца
искусств39. Вместо прославления гордого дьявола, выступавше-
го союзником человека против бога, Бодлер выдвигает теперь
образ Сатаны, близкий «средневековой», ортодоксально католи-
ческой трактовке. Дьявол, судя по «Предисловию» и «Разру-
шению»,— лицо, порождающее все пороки людей. Он держит
в руках все нити, движущие людьми-злодеями. Это злой дух и
соблазнитель. Сатана оказывается, судя по «Разрушению», пер-
вопричиной зла, источником такого взгляда на существующее,
который помогает злу утвердиться в мире. Именно дьявол про-
буждает в человеке критический дух, критическое отношение
к действительности, демонстрируя ему негативные стороны су-
ществующего, показывая ему испачканные одежды, открытые
раны, кровавые атрибуты разрушения. Он уводит человека по-
дальше от бога.
Мы уже говорили, что религиозное перерождение первона-
чального мировосприятия Бодлера, наметившееся примерно
в 1851—1852 гг., отчетливо проявившееся в середине 50-х годов,
достигает расцвета на переломе от 50-х к 60-м годам. Именно
в это время (в 1863 г.), судя по «Непредвиденному», доходит
до апогея и развитие новой концепции Дьявола у Бодлера.
Поэт уже не верит, что, принимая страдание, он приближается
к богу, как это представлялось ему еще в «Благословении».
Он относит себя к «жертвам», ставит себя в один ряд со скуп-
ss См. об этом очень правильные соображения у Остена (указ, соч., стр. 134).
131
5*
цом, самовлюбленной женщиной (Селименой), газетчиком и
скучающим сладострастником. Сатана окончательно лишается
здесь своего величия, перестает быть соперником бога, другом
людей. Он способен только на то, чтобы возбуждать в людях
мелкие страсти.
Не надо, однако, думать, что религиозное «обращение» Бод-
лера после 1855—1857 гг. бесповоротно. И в 1859 г., когда
создается «Плавание», Бодлер бывает полон скепсиса по отно-
шению к религии. Автор «Плавания» мечтает погрузиться в i лу-
бокую пучину — будь она хоть адом, хоть раем, лишь бы в ней
было «неизвестное» и «новое».
Уже в XIX в. обращали внимание, что Бодлер не был
склонен полностью относить зло к природе, к человеку. В своей
вступительной статье к переизданию «Цветов Зла» Теофиль Го-
тье удивляется «странной озабоченности» Бодлера дьяволом,
«когти» которого он «видит повсюду», словно человеку недостает
«природной испорченности», чтобы его «толкнуть на зло».
10
Наряду с тенденцией к религиозному пе-
рерождению в творчестве поэта этого времени мы имеем дело
и с прямыми декадентскими чертами, которые также наме-
чаются с начала 50-х годов, но в 60-е годы достигают высшей
точки. Декадентство как определенное мировоззрение отли-
чается двусторонностью. С одной стороны, оно вмещает в себя
предельный, крайний скептицизм и пессимизм в отношении •су-
ществующего. Но пессимизм — пусть самый крайний — еще не
определяет всего декадентства. Он мог быть свойствен и
направлениям принципиально не декадентским. Декадентство
обязательно включает в себя попытки принять существующее,
примириться со злом. Зло представляется присущим данному
обществу. Если существующее признано единственно возмож-
ным, неизбежно и приятие этого зла. Таков ход мыслей, при-
водящий к декадентскому мировосприятию. Отсюда консерва-
тизм и даже реакционность декадентства. Недаром у Бодлера
нарастает отвращение к толпе, ненависть к демократии, о чем
теперь так много рассуждают и которым придают столь большое
значение буржуазные писатели и литературоведы.
Есть тенденция сводить к декадентству три четверти, если не
более, содержания бодлеровской поэзии. Тенденция эта, конеч-
но, неправильна, она упрощает и обедняет поэтический мир
Бодлера, воспроизводит его неточно, затеняя в нем одни сторо-
ны, преувеличивая другие. Ни пессимизм Бодлера, ни его тра-
гическое отношение к миру не имеют, как мы уже говорили
выше, прямого отношения к декадентству, хотя и являются, так
же как декадентство, следствием поражения революции и тор-
132
жества реакции в 1848—1849 гг. Не относится к декадентству
и лесбианская гема, которая вызвала преследование цензурой
сборника «Цветы Зла» в 1857 г. Ибо лесбианская тема, как осо-
бенно убедительно показывает стихотворение «Окаянные жен-
щины. Дельфина и Ипполита», раскрывается у Бодлера не в
плане восхваления аморальных наслаждений, а в трагическом
разрезе. Дельфина и Ипполита бегут, как волчицы, сквозь пу-
стыни, подальше от живых людей. Их бьет ветер. Они живут в
пещерах. Дельфина и Ипполита вызывают, может быть, чувство
жалости, сочувствие,— но уж никак не восхищение. Любопытно
и стихотворение «Лесбос», также запрещенное в 1857 г. цензу-
рой. В нем на первом плане стоит не наслаждение, вовсе не вос-
певаемое здесь, а мрачная легенда, о гибели Сафо. Конечно, эле-
менты декадентства .у Бодлера в какой-то мере являлись резуль-
татом, как мы уже говорили выше, поражения революции
1848 года или, пожалуй, все же не столько результатом этого
поражения, сколько следствием панического преувеличения мо-
гущества реакции, следствием гиперболизации поражения ре-
волюции во всей Европе. Ибо поражение это рассматривается
Бодлером не как временное, а как разгром, бесповоротный и не-
поправимый. Здесь сказываемся, конечно, и то обстоятельство, что
буржуазное общество в эпоху Второй империи утрачивает свое
демократическое содержание. Именно поэтому в основе тенден-
ций декадентства в «Цветах Зла» лежит признание поэтом бес-
смысленным всякое сопротивление злу, ибо зло во много
раз сильнее человека и последний рано или поздно должен при-
мириться с ним.
Декадентские тенденции вовсе не были впервые введены
в искусство Бодлером. Как мы уже говорили во второй главе
настоящей работы, они были весьма заметны еще задолго до
Бодлера, в поэзии Теофиля Готье 30-х и 40-х годов. Ранние
произведения Готье подтверждают мысль о том, что для воз-
никновения декадентства вовсе не обязательна непосредствен-
ная связь с определившимся упадком буржуазного общества.
У Готье оно проявилось в условиях подъема капитализма. Про-
зорливые умы ощущали симптомы упадка. Современник Готье
Бальзак критиковал буржуазный строй с такой беспощадностью,
будто был очевидцем fin du siecle. Но если у раннего и зрелого
Готье декадентство представлено лишь в зародышевой форме,
то в «Эмалях и камеях», создававшихся Готье в 50—70-х годах,
декадентские элементы тяготели к системе. Элементы декадент-
ства существовали и в «Варварских стихотворениях» Леконта
де Лиля, хотя не составляли здесь главного всеопределяющего.
Характерно, что симптомы декаданса стали появляться у Ле-
конта де Лиля в условиях Второй империи, в 50-х и особенно
в 60-х годах, усилившись в 70-х годах; после поражения Па-
рижской Коммуны. Но они не сложились у него в законченную
систему.
133
Законченной системы не образовали элементы декадентства
и у Бодлера. Они как бы накладываются снаружи на миро-
ощущение совсем не декадентское, выступают в «Цветах Зла»
на первый план лишь спорадически, время от времени. Но имен-
но эти элементы получают признание и положительную оценку
в 80—90-е годы — годы начинающегося общего декаданса бур-
жуазной культуры.
Формирование декадентских тенденций, не сложившихся в
«Цветах Зла» в нечто целостное, идет у поэта по нескольким,
во многом разобщенным линиям.
Первая линия образуется из стремлений отказаться от мя-
тежа, учитывая его — как кажется поэту — бесцельность. Поэт
примиряется с существующим, оправдывает Зло, утверждая, что
безобразное может нравиться. Этот оттенок проявляется уже
в самом заглавии сборника стихотворений Бодлера — «Цветы
Зла», ибо очень важно, что Зло (т. е., по определению самого
Бодлера, «преступления и меланхолия», как он говорит в посвя-
щении «Цветов Зла» Теофилю Готье) раскрывается поэтом в ас-
пекте его «красоты», как прекрасный «цветок».
Попытки оправдать Зло, воспеть его40 проступают и в от-
дельных «программных» стихотворениях сборника: в стихотвор-
ном «Предисловии» к «Цветам Зла» (1855), в стихах 1857 г.
(«Игра», «Туманы и дожди», «Неотвратимое», «Отрава») и тем
более в «Пляске смерти» (1859) и «Ужасном соответствии»
(1860). В «Предисловии» Бодлер заявляет, что дорога, по кото-
рой ступает человек, полна грязи. Он шествует к смерти, к аду
сквозь кромешную тьму. Но человек не испытывает никакого
отвращения, идет по грязной и темной дороге весело, Сатана
помогает ему обнаружить и в самых «отвратительных вещах»
«прелести». Он, таким образом, уже здесь склонен приукра-
шивать уродство окружающего. В «Неотвратимом» звезда, дро-
жащая в черном колодце, характеризуется как «маяк», т. е. как
нечто притягивающее, влекущее. Несмотря на то, что звезда
эта рисуется «сатанинской», лирический герой стихотворения
видит в ней «пламя прелестей». В том же «Неотвратимом»
поэт рассказывает об ангеле, которого соблазняет не только
совершенство, но и бесформенность, т. е. не только прекрас-
ное, но и уродливое. В «Игре» также имеются элементы при-
мирения со злом действительности. Любопытно здесь заявле-
ние, что человек готов предпочесть смерти и небытию пресле-
дующие его болезни, скорбь и ад (т. е. адские муки), лишь
бы они были при его жизни, на земле. Человек способен, та-
40 Очень любопытно высказывание Бодлера о Т. Готье в статье 1851 года:
«Счастливый человек, человек, достойный зависти! Он любит только пре-
красное, он не искал ничего другого, кроме прекрасного, и, когда гротескное
или отвратительное предстает перед его взорами, он умеет извлечь из него
таинственную красоту».
134
ким образом, по Бодлеру, принять печали, ад и боль, ллшь бы
существовать и жить 41.
Очень показательны «Туманы и дожди». Их лирический ге-
рой любит и воспевает конец осени и зиму — времена года
усыпляющие, пропитанные уличной грязью. Сердцу поэта прият-
ны безлунные вечера, тусклые сумерки, душа его чувствует себя
лучше осенью и зимой, чем в моменты «теплого обновления
природы».
В «Ужасном соответствии» адское и страшное также кажется
привлекательным, влекущим к себе человека, притягивающим
его к себе. Поэт заявляет здесь, что он не стал бы плакать,
если бы его изгнали, как Овидия, из римского рая, ведь он
ненасытно жаден ко всему «темному». Рассматривая разорван-
ное облако, которое представляется ему «траурным», поэт ут-
верждает, что мерцание облака — отблеск ада и что именно
этот отблеск «нравится» его сердцу.
Что касается «Пляски смерти», в ней еще заметнее стрем-
ление показать красоту Зла. Правда, «Пляска смерти» — про-
изведение не декадентское, а трагическое: здесь смерть совер-
шает насилие над человеком, подчиняет его себе, превращает
в труп, в скелет. Но декадентские мотивы, любование уродли-
вым проскальзывает и здесь, несмотря на основную, трагиче-
скую направленность стихотворения. «Очарование уродства»
действует на поэта «опьяняюще», он признает «несказанное
изящество» человеческого «остова», т. е. скелета. Конечно в
«Пляске смерти» резка критика обывателей, представителей со-
временного буржуазного порядка. Люди, наслаждающиеся этим
строем жизни, все эти «благоразумные танцоры» на балу, «лы-
сые денди», «ловеласы», «опьяненные телом» и «убеленные
сединами», усматривают в скелете только карикатуру и испы-
тывают от «пропасти» его глазниц, от оскала его челюстей
только головокружение и тошноту. Оценить красоту уродливого
могут только «сильные», к которым принадлежит сам поэт и
которые чужды буржуазному укладу (ср. стихотворное «Преди-
словие» к «Цветам Зла»), Декадентский взгляд па мир присущ,
следовательно, уверяет Бодлер, только «сильным», т. е. избран-
ным, немногим. Буржуазность ошибочно отождествляется поэ-
том с массовым, народным. Эзотерическое, предназначенное
для «сильных», для избранных, оказывается антибуржуазным.
Очень большую роль в оправдании Зла, в приукрашивании
уродливого играют, по Бодлеру, вино, табак и прочие нарко-
тики, возбуждающие или усыпляющие. Вино привносит в самую
41 Et mon coeur s’effraya d’envier maint pauvre homme
Courant avec fervour a I’abime beant,
Et qui, soul de son sang, prefererait en somme
La douleur a la mort et 1’enfer au neant!
(p. ПЗ)
135
омерзительную трущобу изумительную роскошь («Отрава»),
Табак очаровывает сердце героя, убаюкивает его душу, т. е.
примиряет его с горем, злом.
При оправдании Зла большую роль играет у Бодлера и
интерпретация смерти как утешения и последнего убежища для
человека. Смерть утрачивает в ряде его стихотворений, точно
так же как у Леконт де Лиля (ср. «Мертвецам», «Последнее
желание», «Холодный ночной ветер»), признаки, характерные
для нее как для проявления Зла. Это уже не опасность для
человека, не угроза, над ним нависшая, а напротив,— нечто
благосклонное к нему. Именно так трактует поэт умирание,
конец жизни в своих стихотворениях, вошедших в раздел
«Смерть» («Смерть любовников», «Смерть бедняков», «Смерть
художника», «Конец дня» и «Плавание»).
Существенное значение для зарождения декадентства, для
реабилитации Зла у Бодлера имеет, наконец, и стремление че-
ловека объявить источником Зла только самого себя, освободив
тем самым, в противовес «Бунту», Зло от мотивов осуждения.
О покаянных настроениях такого рода свидетельствует прежде
всего «Гэаутонтиморуменос», герой которого называет себя
«фальшивым аккордом в божественной гармонии». Бодлер поч-
ти сближается здесь с Ламартином, который тоже истолковы-
вал своего героя как «фальшивый аккорд» в гармонии миро-
здания. Герой уничтожает самого себя, видит в себе не толь-
ко рану, но и нож, не только щеку, но и пощечину, не только
жертву, но и палача42. Главное же, что мир сам по себе как
бы оказывается свободным от Зла. Зло привносится героем —
источником Зла. Что касается действительности, то с ней мож-
но вполне поладить. Тем самым мир лишается и трагичности.
Трагическое лимитируется пределами субъекта.
Не менее значим для элементов дека-
данса в поэзии Бодлера второй аспект: ужасное предстает ко-
мическим, т. е. не опасным, с ним можно в конце концов при-
мириться. Зло — микроскопически мало и столь незначительно,
что оно как будто не способно серьезно угрожать человеку.
Поэт мельчит Зло, рисует его чуть ли не ручным, склонен даже
кокетничать с ним. Герой «Беатриче»43 оказывается жертвой
42 Je suis la plaie et le couteau!
Je suis le soufflet et la joue!
Je suis les membres et la roue,
Et la victime et le bourreau!
Je suis de mon coeur le vampire,
— Un de ces grands abandonnes
Au rire eternel condamnes,
Et qui ne peuvent plus sourire!
4J Некоторые исследователи, например А. Адан, относят его написание пример-
но к 1843 г., полагая, что назвать себя bon vivant поэт мог только в это
время. Нам представляется подобное утверждение не вполне обоснованным.
136
преследования со стороны маленьких демонов, чертенят, похо-
жих на карликов, жестоких и несправедливых. Чертенята изво-
дят героя своими насмешками, издевками, дразнят его. Кари-
катура на Гамлета, бонвиван, бродяга, фигляр, бездельник —
так чертенята называют героя. А тот надеется заинтересовать
песней о своих страданиях орлов, насекомых, журчащие ручьи.
Он обращается к последним, вероятно, потому, что надоел лю-
дям. Смеется над героем и его возлюбленная, царица его серд-
ца, «грязно лаская» при этом чертенят. Симптоматично здесь,
что лирический герой Бодлера сам становится объектом нас-
мешки, а Зло преуменьшено до предела, оно не представляет
уже смертельной опасности для героя.
С таким же уменьшительным оттенком Зла мы сталкиваем-
ся в «Погребении проклятого поэта» (1855). Речь идет здесь
q теле героя, погребенном под кучей старого мусора. Погре-
бенный слышит над собой жалобный вой изголодавшихся кол-
дуний и волков. Он предполагает, что над ним веселятся по-
хотливые старцы и жулики, что пауки плетут над его могилой
паутину, а змея выводит детенышей. Зло перестает здесь быть
угрожающим и опасным. Оно только грязно и непривлекатель-
но, омерзительно и смехотворно. И — главное — отличается осо-
бой измельченностью, стоит на грани фарса. В «Непредвиден-
ном» (1860) 44 Дьявол — существо мелкое, сумевшее подчи-
нить себе лишь Гарпагона, самовлюбленную Селимену, газетчи-
ка, развратника, которые «лобызают его гнусные ягодицы».
Скупец, Селимена, газетчик и развратник тоже мелочны и, кро-
ме того, противны. Они жульничают, рассчитывая получить и
богатство на земле, и место в раю. У Сатаны вместо сердца
кусок копченой ветчины. Гарпагон, стоя у постели отца, раз-
думывает, как бы ему использовать на отцовский гроб старые
доски,, валяющиеся на чердаке.
То же декадентское стремление представить Зло отнюдь не
вредоносным, находит свое выражение и в пристрастии Бод-
лера к мерзкому, в его попытках подменить Зло уродливым,
грозное — грязным, подчеркнуто неприглядным. Это проявляется
уже в первом стихотворении из цикла «Сплин» (1851), где рас-
сказывается о запаршивевшем теле кота, о грязном запахе,
который распространяют игральные карты, а также в «Непопра-
вимом» (1855), где грязно небо, и в «Игре» (1857), где есть
и грязный потолок в игорном доме, и выцветшие кресла, и по-
мятые, накрашенные лица куртизанок. Писатель отмечает в сти-
44 Ж. Прево пишет по поводу «Непредвиденного», что Бодлер выводит здесь
на сцену микеланджеловского «Страшного суда» «вонючих домашних дьяво-
лов» Гойи, явно предпочитая их Люциферу Виньи или Сатане Мильтона и
оставляя от картины Микеланджело лишь ангелов (указ, соч., стр. 128).
Прево верно наметил переход Бодлера от высокого и трагического к коме
дийному и мелкому.
137
хотворении в прозе «Двойная комната» (1862) заплеванную
потухшую печь, покрытые пылью стекла окон, по которым дождь
провел борозды, и, наконец, зловонный запах табака, смешан-
ный с запахом плесени.
Ущербность и неполноценность существующего очень часто
переходит у поэта в уродливость, безобразность. В той же
«Игре» вокруг поэта все причудливо, гротескно, странно. Ему
мерещатся безгубые лица, бесцветные губы, беззубые десны.
Старец, встреченный им на парижской набережной («Семь ста-
риков», 1859), кажется сломанным, ибо его позвоночник согнут
под прямым углом, а палка придает ему вид большого четве-
роногого. Слепые одновременно ужасны и смешны, грязны и
подобны манекенам («Слепые», 1860).
Концентрацию отвратительного мы находим в «Падали».
Внимание поэта сосредоточено здесь на разлагающемся трупе
животного. Поэт подробно описывает, как живое тело превра-
щается в падаль, как его пожирают жужжащие мухи, как от
него распространяется на всю округу жуткий смрад. Но дело
не только в этом описании. Дело в том, что падаль рассмат-
ривается здесь как символ человеческой жизни, что поэт, глядя
на разлагающееся животное, как бы предсказывает будущее
всего органического мира и будущее возлюбленной, которой
суждено умереть, сойти в могилу, быть съеденной червями.
Падаль представлена здесь элементом обычного; это — кругово-
рот природы, нормальное превращение материи, нормальное
возвращение природе того, что было из нее взято.
Неприглядность существующего, его уродство и безобраз-
ность демонстрировали, впрочем, не только декаденты и их
предшественники. Она была хорошо знакома и романтикам,
и эстетике фурьеристов, и критическому реализму. Уродливым
полны драмы Гюго, новеллы и роман Бореля, стихотворения
Сент-Бёва. У Бальзака в «Отце Горио» описание пансиона Воке
и его обитателей пестрит отвратительными и уродливыми обра-
зами, мотивами ветхости и изношенности. Но у Бальзака и
у романтиков отвратительное и уродливое — это только трамп-
лин для мятежа, для бунта против существующего. Для дека-
дентов это начало примирения с действительностью, ибо в по-
следней нет ничего, кроме уродства, нет никаких оснований
для бунта.
л.
Особую — третью — линию декадентских
мотивов у Бодлера образуют мотивы тоски, хандры, сплина, ко-
торые намечались уже в «Кошках» (1847), в «Совах» (1851) и в
«Предисловии» к «Цветам Зла» (1855), а также в «Confiteor ху-
дожника»— стихотворении в прозе, опубликованном в 1855 г.
Полностью развертываются и раскрываются эти темы в произве-
дениях середины и конца 50-х а также в вещах начала 60-х го-
138
дов — ёо втором, третьем и четвертом стихотворениях из цикла
«Сплин» (1857), в «Пейзаже» (1857), в «Осеннем сонете» (1859),
в «Жажде небытия» (1859), в «Парижском сне» (1860), в «Кон-
це дня» (1861) и, кроме того, в ряде стихотворений в прозе,
опубликованных в 1862 г. Существенно для этих произведений
явное снижение активности человека, отдаленность его от внеш-
него мира, рост равнодушия ко всему, что не касается внут-
реннего «я». Речь идет здесь уже не столько о реабилитации
Зла в действительности, отказе от критических мотивов, сколько
вообще об исчезновении двуплановости образа.
Склонность уйти в себя, имеющая явный декадентский при-
вкус, кардинальным образом отлична от напряженного субъекти-
вистского мироощущения, являвшегося основанием для симво-
лизма ранней и зрелой лирики Бодлера. Само по себе подобное
мироощущение,как мы уже говорили об этом в третьем разделе
настоящей главы, не вело к отрицанию объективного мира.
Речь шла лишь об его субъективной деформации. Теперь все
изменилось. Для ряда стихотворений конца 50-х — начала 60-х го-
дов характерно, что в них игнорируется все, лежащее за пре-
делами «я», что объективный мир изгнан из образа. Именно
поэтому героя стихотворения в прозе «Confiteor художника»
(1862) выводит из себя ясность неба, приводит в уныние его
глубина; он кричит от ужаса при виде его красоты.
Стремление уйти в себя ведет прежде всего к опустошению
поэтического мира Бодлера и к устранению из его поэзии и
прозы «чужого» «я», других людей. Если прежде Бодлер был
полон мыслей о толпе, мечтал приобщиться к массе, то главное
для него теперь — уйти От людей, радоваться, что «ночью исче-
зает всякая тирания человеческого лица», что ему можно будет
в ночные часы терпеть только самого себя, обходиться без дру-
гих людей (стихотворение в прозе «В час ночи», 1862).
Показательно для отказа позднего Бодлера от альтруисти-
ческих тенденций, от стремления понять чужое «я» его стихотво-
рение в прозе «Искушение» (1863), герой которого осуждает
желание привлекать к себе другие души, чтобы сливать их со
своей душой,— желание, которым соблазняет его дьявол. «Спа-
сибо,— заявляет последнему лирический герой,-— я не знаю, что
делать с этим хламом (так называет теперь Бодлер души дру-
гих людей.— Д. О.), который без сомнения стоит не более, чем
мое бедное «я».
Первоначально мотивы скуки, хандры, сплина, уныния, как
можно судить по «Предисловию» к «Цветам Зла» (1855), ри-
совались Бодлеру явлениями трагического порядка, враждебны-
ми человеку. Они находили олицетворение в стаях шакалов и
пантер, в образах хрюкающих, завывающих, пресмыкающихся
чудовищ. Скука представляется Бодлеру в то же время самым
злым, самым гнусным из всех пороков, присущих человеку. Она
не кричит, бывает даже «деликатной», но, зевая, мечтает про-
139
глотить всю Вселенную, мечтает об эшафотах, о всеобщем
уничтожении.
Скука и сплин носят отпечаток чего-то враждебного челове-
ку также и в стихотворениях из цикла «Сплин». Но уже в чет-
вертом стихотворении цикла «Сплин» скука существует не толь-
ко вовне, но и в душе героя. Поэт видит в сплине и тоске плод
внутренних пороков самого человека, его апатии, растущего
равнодушия ко всему на земле и в том числе к другим Людям.
Настроения изнутри идущей апатии, «унылого нелюбопытства»,
равнодушия, судя по «Совам», по «Пейзажу», по «Осеннему со-
нету», «Жажде небытия», «Парижскому сну», окончательно по-
беждают душу героя, рассматриваются как проявления его
усталости от жизни.
Любопытно, с другой стороны, обращение Бодлера в четвер-
том стихотворении цикла «Сплин» к образу монарха, который
является центральным. Именно в образе монарха, скучающего,
хандрящего, ни в чем не нуждающегося, всем пресыщенного,
поэт находит олицетворение своего собственного состояния и
настроения. Не менее характерна подчеркнутая антидемокра-
тичность этого образа и образа владетельного князя из стихо-
творения в прозе «Героическая смерть» — человека скучающего,
которому все надоело и который вместе с тем — откровенный
деспот, садист, равнодушный к людям и к морали. Здесь наме-
чается уже с середины 50-х годов отход Бодлера от бунтар-
ских мотивов и симпатий. Монарх равнодушен к народу, уми-
рающему с голоду. Монарха поэт именует «жестоким». Это
человек молодой по возрасту и вместе с тем немощный, дрях-
лый. Это — больной, скелет, отупевший труп, в жилах которого
течет уже не кровь, а желтая вода. Ничто не может его исце-
лить. Уныние, тоска, хандра оказываются органически связан-
ными с деградацией, которая сама, таким образом, как бы
облагораживается, способна вызвать сожаление, если не
восторг.
Тяготение к покою, восхищение неподвижным образом жиз-
ни кажется, на первый взгляд, существенным уже для «Кошек»,
созданных еще до революции 1848 года, в 1847 г. Поэт очарован
стремлением кошек к тишине, к мраку, тем, что они принимают
позы сфинксов, кажутся погруженными в бесконечный сон. Важ-
но, однако, что покой здесь — лишь видимость. Шерсть кошек
полна магических искр, в зрачках их светятся звезды, осве-
щающие все внутренним огнем. Их внешняя неподвижность по-
тенциально полна движения, жажды активности, беспокой-
ства.
Тяготение к покою, выражающее своеобразное состояние
усталости, безоговорочно прокламируется в «Совах» (1851).
Ночные птицы отличаются неподвижностью. Они внушают муд-
рецу, что в этом мире нужно избегать суеты и сумятицы. Че-
ловек, опьяненный проносящейся мимо тенью, стремится всегда
140
переменить место пребывания, убежать куда-то — и несет всегда
за это кару. Заслуживает внимания и стихотворение в прозе
«Уединение» (1855). Бодлер называет здесь «безумцами» тех,
кто ищет счастья в суете, в движении, в «проституции» (так
называет он погруженность «я» во внешний для него мир,
своеобразную «самоотдачу»), которую, как он иронически за-
являет, можно бы именовать и «братством», если говорить на
языке века. Здесь Бодлер говорит как человек контрреволю-
ционных пристрастий, отрекшийся от своих прежних взглядов.
Очень характерна для подобного тяготения к статике и
успокоенности «Осенняя мелодия», в которой как бы отменяется
страстное чувство к возлюбленной. Не менее характерен и его
«Осенний сонет», лирический герой которого ненавидит страсть,
мечтает о том, чтобы возлюбленная только баюкала его. Он при-
зывает любимую женщину, напоминающую ему осеннее солнце
и влекущую своей бледностью, холодностью, помолчать, любить
в тишине и безмолвии.
Особо показательна для бегства от суеты и движения «Жаж-
да небытия» (1859). Поэт обращается здесь к своему уму и
вспоминает, как тот когда-то любил борьбу, как «шпоры надеж-
ды» «разогревали» его. Он считает, что надежда более не хочет
«седлать» его ум, и призывает старого, спотыкающегося на каж-
дом шагу коня улечься. Сердце поэта должно покориться судь-
бе, заснуть, как засыпает грубое животное. Ум поэта представ-
ляется Бодлеру побежденным и разбитым. Он уже не имеет
вкуса ни к любви, ни к «спору», прощается с песнями труб,
со вздохами флейт, отказывается от борьбы и шумной жизни 45.
Думы о весне потеряли для поэта свое благоухание. Время
поглощает разум, как снег — окоченевшее тело.
Существен также для Бодлера конца 50-х годов и его
отказ от любви к путешествиям, которую он прокламировал
ранее. Он осуждает, судя по стихотворению в прозе «Проекты»
(1857), людей, склонных к перемене мест. Он одержим здесь
стремлением к неподвижности. Поэт заявляет в «Проектах»,
что от «путешествия души» он получает такое же удовольст-
вие, как от действительной перемены мест. «Зачем осуждать
проекты,— рассуждает он,— поскольку проекты сами по себе
дают достаточно наслаждения?».
Тема усталости от жизненной борьбы развивается и в «Га-
вани» (1864). Для того, кто более не любопытен и не често-
любив, самое сильное удовольствие заключается в возможности
созерцать движения тех, кто уезжает, и тех, кто возвращается,
’° Esprit vaincu, fourbu! Pour toi, vieux maraudeur,
L’amour n’a plus de gout, non plus que la dispute;
Adieu done, chants du cuivre et soupirs de la flute!
Plaisirs, ne tentez plus un coeur sombre et boudeur!
(p. 90)
141
тех, кто еще хочет Путешествовать, тех, у которых имеются
еще желания.
Очень примечательна в этой связи у позднего Бодлера тен-
денция к освобождению образа от чувственных примет внешнего
мира — тенденция, тоже предвещающая декаданс. Это тесно
связано с апатией героя, со свойственными ему настроениями
равнодушия, с бегством от суеты, с культом молчания и непод-
вижности. Для поэзии Бодлера в целом, поскольку она продол-
жала традиции романтической и парнасской лирики, было ха-
рактерно обилие вещей и тел. Но некоторым его стихотворе-
ниям середины и конца 50-х годов, большинству его произве-
дений 60-х годов, поскольку поэта все более и более захватывает
волна декаданса, свойственна максимальная освобожденность
от предметного мира. Эта освобожденность направлена против
стремления вобрать в себя максимальное количество ощущений
от объективной действительности.
Особо выпукло эти тенденции проявляются в «Парижском
сне» (1860), где выдвигается мечта о мире без солнца, без ра-
стительности и деревьев, о мире из металла, мрамора и воды.
Мечта эта воплощается в образе Вавилонской башни с бес-
численными лестницами и сводами, в образе дворца, окружен-
ного бассейнами и каскадами, низвергающимися в матовое и по-
лированное золото. Отличительным признаком этого идеального
мира является нависшая над ним молчащая вечность, которая
не дает ничего слуху, но все — зрению. Весьма симптоматично
в той же связи бодлеровское стихотворение в прозе «Any Where
out of the World» («Где угодно за пределами мира», 1867).
Писатель обращается здесь к своей бедной охлажденной душе
и предлагает ей отправиться в Лиссабон. Этот португальский
город привлекает его потому, что он построен из мрамора, что
население его до такой степени ненавидит растительность, что
выкорчевывает все деревья. Так создается пейзаж поэту по вку-
су, пейзаж, составленный из камней и света и из воды, кото-
рая их отражает. То же стихотворение в прозе трактует о мо-
нотонной жизни на полюсе, которую писатель именует «полу-
небытием» и которая кажется ему предсмертной!. Именно такая
жизнь привлекает его «оцепеневшую» душу.
С тенденцией к тишине и безмолвию соприкасается и пей-
заж стихотворения в прозе «Безумец и Венера» (1862). День
представляется лирическому герою великолепным, потому что
«всеобщий восторг» вещей не находит себе выражение в шуме,
воды кажутся заснувшими. В отличие от шумных человеческих
праздников здесь царит «оргия молчания». Тенденция к без-
молвию прямо переходит в отказ от борьбы и в «Пейзаже»
(1857): герой запирается у себя в мансарде, закрывает ставни
и не желает подымать голову от письменного стола, хотя за
оконными стеклами «тщетно» бушуют мятежи.
Апология тишины и забвения, безмолвия и успокоения пе-
142
реплетается у Бодлера с темой сна и смерти, которая одна
может принести мир душе. Уже в стихотворении «Лета» (1857)
лирический герой более всего хочет уснуть. Сон привлекает
его гораздо больше, чем жизнь, сон столь же «нежен», как
смерть. Особенно выразительно трактуется эта тема в «Смерти
бедняков» (1857). Смерть ценится поэтом как «утешительница».
Она «переделывает жребий», выпавший бедным и раздетым
людям. Она именуется «кошельком нищих». Это живой свет
на черном горизонте, мерцающий сквозь бурю, снег и измо-
розь. Главная ее ценность в том, что она «подбадривает». Это
постоялый двор для путника, где можно отдохнуть, поесть, по-
спать.
Темы тишины, молчания, ведущие в конце концов к смерти,
мы встречаем и в стихотворении «Конец дня» (1861). Поэт го-
ворит здесь о жизни беззаботной и крикливой. Она бегает,
пляшет, бессмысленно кривляется. А затем приходит ночь, уто-
ляющая все, даже голод, стирающая все, даже бесчестие.
И поэт с облегчением восклицает: «Наконец-то!» Его ум, как
и его спина, взывает к отдыху. Его сердце полно загробных
снов. Он ложится и закутывается в одеяло освежающей тьмы.
▲
Подводя итоги, видим, что в творчестве
Бодлера перед революцией 1848 года, во время нее и непо-
средственно вслед за ней, в ряде произведений середины и вто-
рой половины 50-х годов создавалось символистское искусство.
Вместе с тем в ряде произведений середины и конца 50-х годов,
а в особенности начала 60-х годов поэт все более и более
устремляется в декадентском направлении. Правда, даже в на-
чале 60-х годов в его творчестве отчетливо проявлялись мо-
менты первоначальной манеры. Переходной формой от чистого
символизма к последовательному декадентству явилось у Бод-
лера религиозное перерождение его поэзии, относящееся
к 1860—1863 гг. Параллельно этому развивались и элементы
чистого декадентства, наметившиеся у Бодлера еще в середине
60-х годов. Постепенно, к середине 60-х годов, они вытеснили
из поэтической системы Бодлера почти всё им враждебное.
Глава четвертая
ПОЛЬ ВЕРЛЕН
1
Если Бодлер явился зачинателем симво-
листского движения, то второе место в этом движении принад-
лежит Верлену (Paul Verlaine, 1844—1896), выступившему в пе-
чати, когда Бодлер уже заканчивал свою литературную деятель-
ность. Сопоставляя Верлена с Бодлером, следует отметить, что
Верлен продолжает Бодлера в стремлении расширить границы
поэзии, раздвинуть пределы предмета поэтического изображе-
ния, дополнить объективный мир, введенный в лирику романти-
ками, миром воспринимающего субъекта. Верлен — так же как
Бодлер — один из лидеров символизма, но вариант символизма,
им созданный, существенно отличается от бодлеровского.
Конечно, в ранних своих стихотворениях, включенных в
сборник «Сатурновы стихи» («Poemes saturniens», 1866), кото-
рый создавался начиная с 1861 г. и вышел в свет в 1865 г.,
Верлен частично еще зависит от романтиков, от парнасцев и от
Бодлера, в той мере, в' какой последний был близок к Парнасу,
хотя и весьма приблизительно. К чисто парнасским из «Сатур-
новых стихов» 'относятся «Марко», «Цезарь Борджиа», «Савит-
ри», «Пролог» и «Эпилог», и в первую очередь, пожалуй,
«Смерть Филиппа II». Здесь изобилие вещей, особую роль
играет человеческое тело. Буйство красок, материальный мир
обступают героя и тяготеют над ним. Мы сталкиваемся здесь
с ярким описанием дворца Филиппа II, со скульптурными, фи-
зически ощутимыми образами самого Филиппа II и его духовни-
ка, с красочными портретами цезаря Борджиа и Марко. Очень
характерны в этом отношении такие стихотворения Верлена,
как «Георгины» и «Парижский ноктюрн».(ГЬ «Георгинах» харак-
терна особая плотность и физическая осязаемость цветка. Цве-
ток сравнивается здесь с куртизанкой, обладающей жесткой
грудью и крупным телом, переливающимся как мрамор. Красо-
та георгин — ясная, матовая. Это жирные и роскошные цветы.
Одна из особенностей георгин — отсутствие запаха. Вокруг них,
замечает поэт, не плавает никакого аромата. Они не пахнут
даже плотью, запахом, который выделяют косцы.
144
В «Парижском ноктюрне» обращают на себя внимание экзо-
тические образы рек — Тибра, Миссисипи, Нила, в особенности
образ Ганга, с которым связан в стихотворении совершенно
леконт-де-лилевский образ желто-полосатого тигра, хищно вы-
слеживающего антилопу, готового к прыжку. Стоит отметить и
оораз Миссисипи, которая кажется поэту прекрасной освещен-
ная внезапной молнией, в грохоте и блеске Ниагарского водо-
пада. Отдельные реминисценции парнасского отношения к миру
разбросаны и по другим стихотворениям Верлена этих лет.
Ср., например, «Мистический вечерний сумрак», где яд тяжелых
и горячих испарений, исходящих от цветов, как бы топит в
себе чувства, душу и разум лирического героя стихотворения.
Вспомним также стихотворение «В лесах», где речь идет о горя-
чем и тяжелом ветре, о темной густоте и волшебстве высоких
дубов.
Совсем по-романтически и по-парнасски раскрывается внеш-
ний мир в «Ночном впечатлении». Он представляется лириче-
скому герою как нечто огромное, имеющее несколько планов,
уходящее в глубину, образующее далекую перспективу. Помимо
первого плана, явлений поверхностных и ближайших — ночи,
дождя, тусклого неба,— перед нами второй план •— серая даль,
в которой вырисовывается силуэт города с готическими шпиля-
ми и соборами. Справа и слева от героя — кусты терновника,
остролиста, вызывающие ужас. Вся картина именуется по-жи-
вописному — «наброском».
2
Вместе с тем наряду с реминисценция-
ми парнасской поэзии в тех же «Сатурновых стихах» прояв-
ляются черты, специфические для поэзии Верлена, отличающие
его поэтическую систему и от традиций парнасской поэзии, и от
Бодлера. Верлен отвергает вещественность, _материальность
внешнего_м_ира_.хюдавляюп1ую геро'я, которая была" свойственна
Готье и особенно Леконт де Лилю, а затем была- принята
Бодлером, хотя и основательно трансформирована им.
Новые, отличающие Верлена моменты мы обнаруживаем в
стихотворении «Безропотность», которое открывает собой пер-
вый раздел «Сатурновых стихов», озаглавленный «Меланхолия».
Поэт заявляет здесь, что ребенком он мечтал об экзотике,
о Сардапапале, о крышах из золота и звуках музыки посреди
благоуханий. Он признается вместе с тем, что теперь грандиоз-
ное ускользает от него (la grandiose echappe a ma dent).
Он стал более спокойным, лучше понимает жизнь, зная, что
приходится сдерживать свое, как он выражается, «прекрасное
безумие» (ma belle folie).
У Верлена поэтому изменяется самый характер внешнего
мира, который предстает развеществленным, и если нё" совсем
145
дематериализованным, то во всяком случае материально ослаб-
ленным, дробным, лишенным плотности, сгущенности и весомо-
сти Так, в стихотворении «Спустя три года» поэт обращает
внимание на явления пониженного, ослабленного звучания,
на серебристое журчание фонтана, на старую осину, непрестанно
жалующуюся: ее листья дрожат, колеблемые ветром 1 2. Об еле
слышном шорохе листвы, который поднимается от слегка влаж-
ного ветерка и тотчас же угасает, узнаем мы из «Соловья».
В этом же «Соловье» мы сталкиваемся с тишиной летней ночи,
с послеполуденным небом, с прекрасным днем остывающего сен-
тября. О впечатлении от серого и мертвенного (blafard) рас-
света, когда гаснут далекие звуки рогов и наступает полное
безмолвие, идет речь в «Классической Вальпургиевой ночи».
В «Пастушьем часе» особенно видна статичность пейзажей «Са-
турновых стихов» или, точнее, пониженная их динамичность.
Пейзажам, полным буйных и ярких красок, резких контрас-
тов, Верлен предпочитает приглушенные, смягченные тона —
желтеющий лес, монотонные лучи солнца («Nevermore» из раз-
дела «Меланхолия») или сад, мягко освещенный утренним солн-
цем («Спустя три года»). Заход солнца дается у Верлена как
ослабленный, обессиленный восход. В «Соловье» пейзаж состав-
ляют летняя ночь, пронизанная темнотой, луна, тускло восходя-
щая на небе, и дрожащее дерево. В «Пастушьем часе» ночной
воздух наполняется глухими отблесками (lueurs).
Стоит отметить пристрастие поэта к черному или темно-
бурому небу, которое оставляет его лирического героя в пол-
ном мраке, открывая перед ним окружающие предметы только
на мгновение, во вспышках молний. Так, в «Морском пейзаже»
(«Marine») герой Верлена видит, как темное, бурое небо рассе-
кается светлым зигзагом резкой и мрачной молнии. О темноте,
точнее о черной тишине с еще более черной тенью, падающей
1 Совершенно прав А. Адан, когда он пишет (.4. Adam. Verlaine. L’Homme et
1’oeuvre, P., 1953, p. 73), что стихи Верлена отличают «тонкие нюансы» и
«смягченные контуры». То же наблюдение находим мы у Зайеда (G. Zayed.
Formation litteraire de Verlaine. P., 1962, p. 371), который настаивает, что
поэт предпочитает мимолетные, рассеивающиеся запахи, смягченный свет,
ослабленные краски, расплывчатые контуры, музыку под сурдинку, приглу-
шенные шумы. В том же направлении трактует разуплотненность мира у
Верлена и Надаль (Paul Nadal. Verlaine. Р., 1961), считающий, что поэт—
мечтатель, дематериализующий существующее (стр. 29). Верлен, по сло-
вам Надаля, «покрывает пылью», т. е. лишает яркости и отчетливости, цвета,
запахи у него улетучиваются, шумы заглушаются, краски смягчаются
(стр. 163).
2 Здесь и далее тексты приводятся по изданию: Verlaine Oeuvres poetiques
comletes. P., B’bliotheque de la Pleiade, 1962.
Rien n’a change, J’ai tout revu: 1’numble tonnelie
De vigne Idle avec les chaises de rotin...
I.e jet d’eau fait toujours son murmure argentin
Et le vieux tremble sa plainte sempitemelle.
(«Aprfes trois ans», p. 62).
146
С громадных ветвей в лесу, узнаем мы в стихотворений
«В лесах». В «Пастушьем часе» речь идет о черном воздухе,
который бесшумно гребут своими крыльями проснувшиеся лету-
чие мыши.
Темнота окружает со всех сторон верленовского героя и в
«Ночном впечатлении». Но тусклое небо разрывает здесь на
части уже не молния, а башни и стрелы сквозного силуэта
готического города, который вырисовывается на горизонте. Лю-
бопытна в этом образе и другая особенность верленовского
пейзажа — его отдаленность от героя в пространстве. Готиче-
ский город гаснет в серой дали. С той же далекой дистанцией
мы имеем дело и в «Пастушьем часе», где тополя вырисовы-
ваются вдали, а их прямые силуэты именно поэтому представ-
ляются «неуверенными» (incertains), и в «Классической Валь-
пургиевой ночи», где звучит глухая песня далеких рогов,
и «В лесах», где вечерняя молитва звучит вдалеке и кажется
еле слышным стоном. Мотив темноты и внезапно вспыхиваю-
щего света, на мгновение как бы проявляющего отдельные яв-
ления, существен и для «Кошмара». Отметим в этом стихо-
творении загорающийся и потухающий глаз Кавалера-призрака
из немецкой баллады, которого видит во сне поэт, и затем
возникающую и тут же угасающую вспышку от огнестрельного
оружия, с которой сравнивает поэт глаз Кавалера, а также
сверкнувшие в черной ночи тридцать два зуба призрака.
Темноте, скрадывающей четкие очертания предметов, соот-
ветствует у Верлена и образ густого тумана, который затопляет,
подобно плотному покрову мрака, последние лучи заката, мерт-
венно бледные волны пруда и кувшинки («Сентиментальная
прогулка»). О танцующем тумане, который окутывает дымящий-
ся луг, о красной луне на туманном горизонте читаем мы и в
«Пастушьем часе». С серо-голубым туманом, в котором тает
краснота заката, окрашивающая туман в тона пожара и крови,
мы сталкиваемся в стихотворении «В лесах».
Ту же тенденцию к развеществлению и разуплотнению дей-
ствительности находим мы и во втором сборнике стихотворений
Верлена, создававшемся в 1866—1868 гг., опубликованном в
1869 г. и названном «Изящные празднества» («Fetes galantes»).
Внешний мир, как он рисуется в стихотворениях «На прогулке»,
«Скользя на коньках», «Аллея», «Дитера», «Мандолина», «Под
сурдинку», «На корабле», лишен плотности, тяжести. Недаром
в «Аллее» хрупкая женщина затеряна среди огромных бантов,
хрупки и ее пальцы. Миру, окружающему персонажей Верлена,
свойственны здесь своеобразная зыбкость, его не освещает яр-
кий свет, он как бы покрыт полутенью. Очень любопытно, что
в стихотворении «На прогулке» — небо бледное, а деревья хи-
лые, что солнечный свет в том же стихотворении доходит до
персонажей смягченным тенью низких лип, что он кажется по-
этому синим. В стихотворении «Под сурдинку» поэт и возлюб-
147
ленная окутаны сумерками, которые образованы высокими ство-
лами деревьев и их ветвями. В «Мандолине» персонажи пред-
ставлены в виде синих теней.
Очень симптоматичен для сборника «Изящные празднества»
образ ветра, обычно слабого, нежного и легкого, убаюкиваю-
щего. В стихотворении «На прогулке» ветер только покрывает
рябью покорный водоем, в стихотворении «Под сурдинку» дуно-
вение ветра лишь наводит зыбь на травы газона. Из стихотворе-
ния «Скользя на коньках» мы узнаем о веющем зефире, об осве-
жающих ветерках. В «Мандолине» рассказывается о трепете
ветра, в «Цитере» о легком ветре уходящего лета.
Стремление к разуплотнению внешнего мира — пусть это раз-
уплотнение достигается другими средствами — продолжается и в
третьем сборнике Верлена, в его «Доброй песне» («La Bonne
Chanson»), которая создавалась в 1869 г., а вышла в свет в
1870 г. Окружающее здесь дается в аспекте пониженной интен-
сивности. ДТоэт не допускает в свои стихи ничего яркого, ослеп-
ляющего, ошеломляющего. Солнце тихо греет, утренняя звезда
бледна, бледен и далекий горизонт, дневной свет — теплый, но
не горячий и не холодный; вечерний воздух мягок, он играет,
ласкаясь, с вуалью возлюбленной. Если в «Изящных празднест-
вах» ветер слабый, то в «Доброй песне» ветер становится просто
редким. Все представляется здесь необыкновенно ясным и проз-
рачным, незамутненным и лишенным подвижности. Ласточка
поет в ясном небе, герой встречается с возлюбленной на фоне
ясного летнего дня. Ясный свет распространяется от почвы до
небосвода. Пейзаж первого стихотворения сборника отличается
ясной нежностью. В двадцать первом — воздух вообще неподви-
жен. Очень любопытно также, что многое дается в «Доброй пес-
не» через отражение в воде. Это лишает отражаемое плотности
и четкости. В воде отражается полет птицы, которая несет в сво-
ем клюве соломинку (первое стихотворение). Пруд отражает си-
луэт черной ивы, в которой плачет ветер (шестое стихотворение).
Развеществленность внешнего мира у Верлена дополняется
тем, что он раскрывает этот мир с минимальной детализацией.
Мы нигде не встречаем в «Доброй песне» какого-либо нагромож-
дения вещей, предметных подробностей. Но все явления даются
чрезвычайно скупо, как бы окруженными пустотой Разуплотнен-
ность мира усиливается тем, что Верлен изредка показывает
этот мир, как о том свидетельствует седьмое стихотворение, гля-
дя на него из окна вагона. Видимое, зримое-—поляны, вода, де-
ревья, хлеба, небо, телеграфные столбы, провода — проносится
мимо героя, как бы захваченное жестоким вихрем. Все детали
этого пейзажа представляются неукорененными в действительно-
сти, вырванными из нее, не имеющими реальной почвы. Они по-
глощены единым потоком, превращены в беглые и смутные пред-
ставления о вещах, ибо эти вещи нельзя пристально рассмотреть:
они мелькают перед нашим взором.
148
Своего апогея разуплотненность действительности при отсут-
ствии в ней внутренних закономерностей достигает в «Романсах
без слов» («Romances sans paroles»), написанных в 1872—1873гг.
и вышедших в свет в 1874 г. Очень показателен в стихотворе-
ниях этого сборника преимущественный интерес поэта к тусклым
и промежуточным краскам — розовый и серый вечер (пятое сти-
хотворение из раздела «Забытые песенки»), бегство героя через
розовое и зеленоватое пространство («Брюссель»),
Не менее любопытно пристрастие поэта к эпитетам «хруп-
кий», «ломкий», «мертвенно-бледный», подчеркивающим непроч
ность, неустойчивость, зыбкость явлений. В цикле «Забытые
песенки» хрупким представляется поэту бормотанье лесов, хруп-
кой кажется ему рука играющего на рояле, бледной — любовь,
мертвенно-бледным — странник, который отражается в мертвен-
но-бледном пейзаже. В цикле «Бельгийские пейзажи» мы встре-
чаемся с бледным небом («Брюссель»),
Поэт говорит в цикле «Забытые песенки» об ощущениях пре-
цельно ослабленных, приглушенных. Вечер не жаркий и не душ-
ный, а теплый (первое стихотворение). Герой видит не яркую
луну на безоблачном небе, а месяц, то скрывающийся за тучи,
то вновь появляющийся, то рождающийся, то умирающий (вось-
мое стихотворение).
В сфере слышимого героя не привлекают явления повышен-
ного звучания. В лесах ему чудится не шум урагана, бури, а ше-
пот, шелест, щебетанье, трепет (там же). Звук рояля слаб,
он угасает, долетая до окна (пятое стихотворение). Шум травы,
колеблемой ветром, кажется ему глухим. Жалобы равнины зву-
чат еле слышно (tout bas) (первое стихотворение). Поэту слы-
шится не грохот ливня, а мягкий шум дождя (третье стихотворе-
ние). То же в «Брюсселе»: золото заката обагряется здесь
кровью, но происходит это медленно, тихо, незаметно (douce-
ment). Предмет изображения даже не всегда называется, внима-
ние перенесено с «его самого на его проявление вовне. Если в
«Доброй песне» разряженность предметной сферы не отменяла
ясности и четкости отдельных явлений, то в «Забытых песенках»
явления утрачивают четкость, определенность контуров. У них
расплывчатые, неопределенные, зыбкие очертания. Равнина у
Верлена необъятна, снег «неверный» (incertain). Припев песен-
ки, исполняемой под звуки рояля, отличается переменчивостью
(тоже incertain); поэту чудятся «неуловимые» (subtils) звуки
голосов. Серые зубцы далеких лесов плывут у него подобно об-
лакам, тень деревьев, отраженная в реке, тонет как дым.
От реальных предметов «Забытых песенок» отделяет нас
пелена неясного. Даже близкие дубовые леса видятся как бы че-
рез запотевшее оконное стекло (parmi les buees — восьмое сти-
хотворение) .
Особенно интересуется Верлен в «Забытых песенках» пред-
метами фона, которые как бы просвечивают сквозь явления пе-
149
реДнеГо плана. Так, он говорит, например, о ручье, отмечая бо-
ковую качку (roulis) камешков под журчащей водой, т. е. в глу-
бине, или о забытых голосах, которые он слышит, несмотря на
шепот, доносящийся до него сейчас, или о душе и сердце, сквозь
неясный свет которых он слышит трепещущую песенку, или,/ на-
конец, о бледной любви и будущей заре, которые чудятся поэту
в звуках музыки. Нередко, уклоняясь от прямой характеристики
предмета, даже обозначая его только словом «это» (cela), поэт
как бы ищет явления, которые могли бы напомнить то, что он
хочет изобразить или выразить.
Намеченный еще в «Доброй песне» пейзаж, видимый из окна
вагона, получает в «Романсах без слов» свое развитие. В цикле
«Брюссель» из вагона видны холмы, откосы, закат солнца, обаг-
ряющий кровью золото (лесов), маленькие деревья, у которых
окном срезаны верхушки — приметы осени, убегающие назад,
исчезающие вдали. И все это совмещается одно с другим, как
замечает сам поэт, и как бы приглушается внутривагонным
освещением, полусветом ламп 3. То же в «Шарлеруа» из тех же
«Бельгийских пейзажей» — тут и черная трава, и плач ветра,
и овес на полях, и кустарники, и дома, более похожие на тру-
щобы, и железнодорожные станции, и кузницы, и металл, и ра-
бочие. И все лишено примет, деталей.
3
Развеществленности, ослабленности ма-
териального начала явлений соответствует у Верлена и образ
возлюбленной. Пылкой, страстной, чувственной любви, которую
выдвигал Бодлер, Верлен предпочитает любовь сдержанную,
целомудренную, платоническую. Он воспевает уже в первом
своем сборнике, в «Сатурновых стихах», любимые губы, кото-
рые напоминают ему первые цветы, очаровательный шепот,
первое «да» («Nevermore»), рассказывает в «Желании» о бояз-
ливых ласках, о душевной чистоте, отвергает в «Усталости»
хищную страсть, трубящую в рог из слоновой кости, считает,
что ревнивые объятия и судороги обладания не стоят глубокого
поцелуя. Здесь же он просит возлюбленную немного умерить
свои лихорадочные восторги, ласкать усыпляюще, убаюкивать
взглядом. Он хотел бы, чтобы любимая женщина приложила
свой лоб к его лбу, вложила свою руку в его руку, целовала
3 La fuite est verdatre et rose
Des collines et des rampes
Dans un demi-jour de lampes
Qui vient brouiller toute chose.
L’or sur les humbles ablmes
lout doucement s’ensanglante.
Des petits arbres sans times
Ou quelque oiseau faible chante.
Triste a peine tant s’effacent
Ces apparences d’automne,
Toutes mes langueurs revassent,
Que berce Fair monotone.
(«Bruxelles I», p. 199)
150
его в лоб, как целуют ребенка. В «Привычной мечте» взгляд
возлюбленной напоминает поэту взор статуи, поэт отмечает ее
отдаленность и спокойствие ее голоса. В том же стихотворении
мы читаем, что поэт, видя свою возлюбленную во сне, не знает,
брюнетка ли она, белокурая или рыжая, не помнит ее имени,—
уверен только, что оно нежное и звучное.
Тема пылкой страсти и чувственный образ любимой женщины
оказываются неприемлемыми и в «Изящных празднествах».
Герой стихотворения «Под сурдинку», обращаясь к возлюблен-
ной, призывает ее наполовину закрыть глаза, скрестить руки
на груди и изгнать из засыпающего сердца желания, призы-
вает ее отдаться дуновению ветра и песне отчаяния, которую
поет соловей. Персонажи «Изящных празднеств» — недаром
или марионетки (Скарамуш, Пульчинелла, испанский пират),
или персонажи commedia dell’arte (Коломбина, Арлекин, Пан-
талоне, Пьеро), или, наконец, домашние животные (обезьяна
в «Свите») и рабы, низведенные до полуживотного состояния
(негритенок в том же стихотворении), или, наконец, условные
персонажи (аббат, маркиз в стихотворении «На траве»). Кава-
лер Атис, неблагодарная Хлорис, разнузданный виконт в стихо-
творении «На корабле», Клитандр, Аминта, Тирсис, Дамис в
«Мандолине» — это все существа, лишенные глубоких, длитель-
ных, всепроникающих чувств. Они играют в чувства, в любовь,
в страсть. Они склонны к напускным, театрализованным чув-
ствам, готовы лишь на словах к самопожертвованию, к смерти,
как показывает стихотворение «В гроте», где герой обращает-
ся к любимой им женщине и излагает ей придуманное, но не
пережитое им чувство. Действующие лица стихотворения «На
прогулке» — нежные сердца, избавленные от клятв. Поэт и лю-
бимая («Скользя на. коньках») освобождены от безумных стра-
стей, у них молчит сердце, они беззаботно наслаждаются. Персо-
нажи стихотворения «На прогулке» — изящные обманщики и
очаровательные кокетки. Героиня «Аллеи» жеманно прогули-
вается и похожа на попугайчика. Атис («На корабле»), не испы-
тывая страсти, бросает «страстные» взгляды.
Несерьезность, игривость, с которыми мы встречаемся в
«Изящных празднествах», могут создать ложное впечатление
фривольности, свойственной этому сборнику. Но эта фриволь-
ность при более пристальном рассмотрении оказывается внеш-
ней. В «Изящных празднествах» отсутствует изображение жен-
ского тела. Длинные юбки со шлейфами («Аллея»), складки
тяжелого платья («Свита») скрывают его “от посторонних взо-
ров. Тело скрыто под румянами, красками, оно теряется среди
огромных бантов («Аллея»), Только изредка откроется белая
шея, как бы напоминающая о божественном теле («Свита»),
мелькнет между юбкой и каблуком ножка или блеснет, подобно
молнии, затылок, обычно скрытый высоким воротником («Про-
стушки») .
151
Образ возлюбленной сохраняет те же черты развеществлен-
пости и в «Доброй песне». Здесь, правда, имеется много дета-
лей, связанных с внешним обликом любимой. У нее серо-зеленое
платье со сборками (XIII стихотворение), на ней шелк и атлас
(XIX стихотворение), она появляется перед поэтом улыбающая-
ся, приходит, уходит, вновь возвращается, садится, болтает
(третье стихотворение). Поэт много говорит об ее голосе, в ко-
тором ему слышится изящная музыка. Он отмечает ее малей-
шие жесты и позы. Но в целом, если иметь в виду все 20 сти-
хотворений сборника, отчетливый облик возлюбленной возни-
кает редко, многие ее внешние черты приходят к герою лишь
через его воспоминание о ней.
Очень любопытно для мироощущения героя Верлена его
заявление во втором стихотворении цикла, что ее ангельские
слова умеют пробудить в нем желание поцеловать ее, но поце-
луй, как сам герой подчеркивает, носит нематериальный (imma-
teriel), духовный характер. Не менее интересно XIII стихотво-
рение, в котором герой, не касаясь тела любимой, обращает-
ся непосредственно к ее душе. В этом стихотворении расска-
зывается о беседе, во время которой герой внимательно
прислушивается не к речам возлюбленной, а к их сокровен-
ному смыслу, к их тайне, ибо голос и глаза ее обнаруживают
и выявляют (mettent en plein jour) ее внутреннее существо.
Оттого что глаза возлюбленной так чистосердечны, а ее уста
улыбаются, герой заключает о ее внутреннем состоянии, о ее
радости, о том, что ее, очевидно, занимает какая-то приятная
мысль (пятое стихотворение), в голосе ее он также ощущает
ее веселое, доброе сердце (третье стихотворение).
Любимая женщина рисуется поэту в десятом стихотворении
отсутствующей, напоминая тем самым образ возлюбленной в ли-
рике просветительского классицизма, у Андрэ Шенье, например,
к которому Верлен обращается, как бы минуя традицию роман-
тиков и парнасцев. Поэт не столько видит, слышит, ощущает
возлюбленную, сколько ее воображает, предполагает, что она
в данное мгновение делает, и т. д. Он беседует с ней через
письма, соприкасается с ней через слова и фразы, вспоминает
ее голос, ее взоры, часами разговаривает с ней, оставаясь при
этом один 4.
4 On s’ecrit, on se dit quo Гоп s’aime; on a soin
D’evoquer chaque jour la voix, les yeux, le geste
De 1'etre en qui Гоп met son bonheur, et Гоп reste
Des heures a causer tout seul avec 1’absent.
Mais tout ce que Гоп pense et tout ce que Гоп sent
Et tout ce dont on parle avec 1’absent, persiste
A demeuerer blafard et fidelement triste.
(«La Bonne Chanson». X, p. 148)
152
4
Развеществленность и разуплотненность
действительности в поэзии Верлена, конечно, значительно ослаб-
ляет удельный вес внешнего мира в его поэзии по сравнению,
скажем, с поэзией Бодлера. Но сама по себе эта развеществлен-
ность и разуплотненность для Верлена не самоцель. Она имеет
своей задачей не изгнание материальности, как полагают неко-
торые западные исследователи 5 * * В, а повышение роли лирического
героя.
Если у Леконт де Лиля в его «Варварских стихотворениях»
тенденция к разуплотнению мира, образы пустоты и темноты,
беззвучия и тишины свидетельствовали об уничтожении дейст-
вительности, материи («In excelsis», «Ultra coelos», «Послед-
нее видение», «Последнее воспоминание» и др.), то Верлена
совсем не увлекает само по себе уничтожение мира в поэзии.
Главное для него — в усилении и укреплении субъекта.
Внутренний мир человека, его душа превышают по своему
значению внешний мир, окружающий человека. Верлен — после-
дователь переворота, начатого в поэзии Бодлером; он, так же
как тот,— реформатор и новатор в лирике, создатель гуманисти-
ческого символизма во Франции. Он идет путем, аналогичным
тому, которым следовал Бодлер, расширявший образ за счет
включения в него субъективного лирического момента.
Верлен, подобно Бодлеру, не ставит в то же время своего
лирического героя над миром, как это делали классицисты;
не ищет тайного внутреннего смысла, никому не доступного;
мысль героя — отнюдь не своеобразный финал, итог спора. Вер-
лен располагает сознание героя рядом с другими сознаниями,
рядом с вещами и телами, как нечто равноценное им. Только
Верлен достигает обязательного присутствия субъекта восприя-
тия в образе несколько иными, чем Бодлер, средствами. Он от-
казывается от вещественной наполненности изображения. Он
забывает очень часто о самих вещах и телах, с которыми со-
5 А. Адан, Зайед, Надаль. Адан считает поэзию Верлена совершенно прозрач-
ной (diaphane), т. е. нематериальной, именует ее «чистой духовностью»
(указ, соч., стр. 99), сводит «состояние души» поэта к тоске, к грусти, «почти
молчаливой» и «вздыхающей совсем тихо» (стр. 94), т. е. подчеркивает в
ней малую роль слов и мыслей. Со своей стороны Зайед (указ, соч., стр. 371)
настаивает на том, что ощущения «оторваны» у Верлена от их «источника»,
т. е. от реального мира, и тем самым получают у него самоценное значение.
В том же направлении трактует разуплотненность мира в поэзии Верлена
и Надаль (указ, соч., стр. 101), утверждающий, что поэт, поглощенный зри-
тельными, слуховыми и осязательными ощущениями, отрывает эти ощуще-
ния от их опоры, от их естественного окружения, отнимает у них смысл, их
объективную ценность, чтобы придать им независимое существование. Очень
важно для Надаля, что ощущения у Верлена не ведут к потустороннему
миру (стр. 107). Верлен, склонный к мечтаниям, не выходит, с точки зрения
Надаля, на «простор иного мира» и ие вырывается к духу, или к богу
(стр. 29).
153
прикасается тело и душа его лирического героя, предпочитай
им ощущения человека от этих вещей и тел. Он никогда не
выключает из сферы изображаемого лирического героя, как ма-
териальное существо, человека, имеющего душу и тело.
Акцент на ощущениях, а не на вещах и телах, делает, прав-
да, образ Верлена иногда не столько символистским, сколько
импрессионистическим, утратившим второй, глубинный план
изображаемого. Этого, конечно, нельзя сказать целиком о «Са-
турновых стихах» и «Доброй песне», для которых очень большое
значение имеет мотив воспоминаний, мотив апперцепции.
Но иное дело — некоторые стихотворения из раздела «Офор-
ты» в тех же «Сатурновых стихах» или VI и XIV стихотворения
из «Доброй песни», особенно же «Романсы без слов» 6. В них уси-
ливается акцент на восприятии. Во втором стихотворении разде-
ла «Забытые песенки», например, даны слуховые и зрительные
ощущения, причем поэт особенно настаивает на их смешении и
переплетении, упоминает про контуры голосов, про «музыкаль-
ные отблески», т. е. отблески звука; здесь гораздо больший
удельный вес приобретает непосредственное восприятие вещей.
В «Романсах без слов» порой отсутствует специфический для
символизма двуплановый образ, в котором второй план напол-
нен апперцепцией, прошедшим, объектами воспоминания. Прав-
да, приближение Верлена к позициям импрессионизма с совер-
шенной полнотой раскрывается только в некоторых стихотво-
рениях из «Забытых песенок» или «Бельгийских пейзажей».
Основательно ослаблено это приближение к импрессионистиче-
скому видению мира, например, в разделе «Птицы в ночи»,
цикле «Улицы» или в «акварели» «Жена-ребенок». В целом «Ро-
мансы без слов» никак не могут быть сведены к совокупности
ощущений, к импрессионистскому отношению к миру, которое
проявляется в сборнике лишь спорадически.
Большое значение для символизма Верлена имеет стремле-
ние тюэта уничтожить отчетливые границы между душой лири-
ческого героя и внешним миром. Так, уже в «Мистическом ве-
чернем сумраке» («Сатурновы стихи») бросается в глаза соеди-
ненность в едином поэтическом образе душевного процесса
(воспоминание героя) с впечатлениями от заката, смешение в
одном «огромном обмороке» воспоминаний и реальности7. Поэт
6 Зайед прямо называет «Романсы без слов» сборником субъективных и им-
прессионистских стихотворений, особо отмечая импрессионистичность всех
пейзажей (указ, соч., стр. 356, 370).
7 Le Souvenir avec le Crepuscule
Rougeoie et tremble a 1’ardent horizon
De I’Esperance en flamme qui recule
Et s’agrandit ainsi qu’une. cloison
Mysterieuse ou mainte floraison
— Dahlia, lys, tulipe et renoncule —
S’elance autour d’un trellis, et circule
Parmi la maladive exhalaison
154
рассказывает здесь о прошлом, которое краснеет и дрожит вмес-
те с сегодняшним вечером. Пламенеющий пылкий горизонт он на-
зывает горизонтом надежды: в закате, его охватившем, откры-
вается выход в грядущее, и тем самым поэт от воспоминаний
переходит к мечте.
Характерна в этой связи также и «Сентиментальная прогул-
ка» (из того же сборника), в которой внутренний мир человека
наполнен звуками, доносящимися до него из сферы внешнего
мира. Герой гуляет вечером вдоль пруда, поросшего ивняком.
Вид густого тумана, поднимающегося от пруда, вызывает в
памяти поэта смутный плачущий призрак. Этот призрак плачет
теперь голосом чирков, которые трепещут крыльями в ивняке.
Показателен и «Соловей», где воспоминания поэта, находящего-
ся лунной ночью возле ольхи у пруда, пробуждаются от полета
поющего соловья, который плачет в изнеможении, прославляя
отсутствующую возлюбленную поэта. Соловей именуется здесь
«смятенной птицей». Он когда-то присутствовал при свиданиях
поэта с возлюбленной. Эти воспоминания как бы возвращаются
к поэту и падают вокруг него желтой листвой. Желтеющая
листва дерева и вспоминающее о прошлом сердце поэта трак-
туются здесь как подобия.
Наиболее отчетливо уничтожение границ между внутренним
и внешним мирами проводится в «Классической Вальпургиевой
ночи». Движущиеся призраки, которые заполняют ночью сад,
плавно танцуя, прямо названы здесь мыслями пьяного поэта.
Это или его сожаления, или угрызения его совести.
Субъективное видение мира, или, вернее мир, окрашенный
обертонами, исходящими от лирического героя, создается таким
образом, что зрительные представления о предмете дополняются
ощущениями осязательными, слуховыми, тепловыми. Человече-
ская душа как бы соединяет в одно целое зрительные и звуко-
вые впечатления от окружающего, видит и слышит черную ти-
шину, падающую с ветвей деревьев8.
De parfums lourds et chauds, dont le poison
— Dahlia, lys, tylipe et renoncule —
Noyant mes sens, mon ame et ma raison,
Mele dans une immense pamoison
Le Souvenir avec le Crepuscule.
(«Crdpuscule du solr mystique», p. 70)
Ils sont heureux! Pour mois, nerveux et qu’un remords
Epouvantable et vague affole sans relache,
Par les forets je tremble a la fafon d’un fache
Qui craindrait une embuche ou qui verrait des morts.
Ces grands rameaux jamais apaises, comme I’onde,
D’ou tombe un noir silence avec une ombre encore
Plus noire, tout ce morne et sinistre decor
Me remplit d’une horreur triviale et protonde.
(«II bacio», p. 83)
155
Большое значение для очеловечивания действительности
имеют в «Изящных празднествах» антропоморфические мотивы,
связанные с распространением душевных переживаний персона-
жей на окружающие их неодушевленные вещи. Верлен говорит
здесь о неясном изнеможении сосен, полоненных любовной исто-
мой («На корабле»), о рыдающих фонтанах («Лунный свет»),
об опечаленных ветвях, о мечтающих птицах на ветках («Ал-
лея»), о песне соловья, песне отчаяния («Под сурдинку»).
Песня играющих на лютне и танцующих сливается со светом
луны, одно из ощущений соединяется с другими («Лунный
свет»).
Существенно для очеловечения мира в «Изящных праздне-
ствах», что вещи, явления объективного мира часто подменяют-
ся их красочным, зрительным обликом, на месте предмета ока-
зывается зрительное ощущение от него. Так, в «Сентименталь-
ной беседе» надежда уносится к черному, которое в прошлом
казалось синим. Следует напомнить здесь, что подобное мы
встречали уже в «Сатурновых стихах».
Разуплотненность внешнего мира в «Доброй песне» также
подчинена принципу очеловечения. Она характеризуется тем,
что вещественные детали присутствуют здесь как звенья какого-
либо настроения, охватившего поэта. Воздух, сохранивший ноч-
ную свежесть, сено, на котором еще видна роса, утренняя заря,
которая топит своей лазурью взгляд последней звезды,— все
это отдельные аспекты настроения свежести и бодрости, охва-
тившего поэта ранним утром. В другом случае детали внешне-
го мира передают чувство радости, которое владеет героем и
которое, кажется ему, разлито в воздухе. Именно в аспекте
этой радости он воспринимает хмурый и больной Париж, кото-
рый радушно встречает любовников, протягивает к ним тысячи
рук своих алых крыш как бы для огромных объятий. Радость
воплощается для него, поэта, судя по одиннадцатому стихо-
творению сборника, в виде резвой ласточки, которая запела в
ясном небе.
Итак, детали внешнего мира присутствуют у Верлена не
сами по себе, а большей частью являются лишь символами
настроений лирического героя. Поэтому многие стихотворения
«Доброй песни», вообще не касающиеся внешнего мира, сохра-
няют символистскую двуплановую структуру. Только первым
планом оказываются в них переживания лирического героя,
а второй план занимает покоривший героя образ возлюб-
ленной.
«Добрая песня» — это история внутреннего перерождения
героя, когда омраченная душа становится радостной. Активным
фактором этого перерождения является возлюбленная, душа ко-
торой соприкасается с душой героя. Девушка, любимая поэтом,
существо полное света, излучает ясность любви во мраке печа-
ли (третье стихотворение). В сердце поэта засверкал радост-
156
ный луч, рассеявший мрак: недоверие, сомнение, боязнь
(XII стихотворение). Поэт утрачивает в результате этого пере-
рождения свое прежнее «я», полностью подчиняясь возлюблен-
ной с того самого момента, как ее увидел, его ведут ее глаза,
ее руки. Она отобрала у поэта его душу, ей достаточно одного
движения, одного слова, чтобы погрузить все существо героя
в глубокий траур.
Своего апогея метод очеловечения изображаемого, принцип
уничтожения границ между внешним и внутренним мирами до-
стигает в «Романсах без слов». Предметы повернуты здесь,
судя по циклу «Бельгийские пейзажи», к субъекту восприятия,
они задевают и затрагивают его, как бы все время проходя
мимо него и постепенно удаляясь от него. В «Валькуре» кир-
пичный домик под черепичной крышей представляется герою
только убежищем для любовников, т. е. сам по себе как бы не
существует. Хмель и виноградники, листья и цветы в том же
стихотворении кажутся предназначенными только для посетите-
ля харчевни, путешественника, поэта и даются в одном ряду с
пивом, служанками, пьяными выкриками (clameurs), ближай-
шими станциями, веселыми большими дорогами.
Большую роль в цикле «Забытые песенки» играют паралле-
ли между явлениями материального мира и процессами психи-
ческого порядка. Верлен говорит здесь о любовной истоме и
тут же упоминает об объятиях лесного ветра (первое стихо-
творение). Глядя здесь на лес, на траву, которую колеблет ветер,
на ручей, журчащий по каменистому ложу, поэт ощущает теп-
лым вечером в спящем пространстве человеческую душу, жа-
лующуюся на свою судьбу, т. е. как бы самого себя 9. Поэт не
отличает шума дождя, стучащего по земле и по крышам, от
плача в своем сердце. Для него все это единое и непрерывное
целое. С тем же очеловечением изображаемого имеем мы дело
и в стихотворении «Качели». Не вещи, а субъективные ощу-
щения, зрительные и слуховые, и при том смешанные одно с
другим, проходят здесь перед нами. Поэт говорит о контурах
(зрительный образ) давнишних голосов (образ звуковой), о му-
зыкальных (т. е. звучащих) зарницах (световом явлении), о тре-
пещущей песенке, которую лирический герой слышит через не-
ясный свет души и сердца, о заре, которую он видит в глубине
музыкальных отблесков.
Особое внимание стоит обратить на цикл «Бельгийские пей-
зажи», в первую очередь на «Брюссель II» и «Малин». Здесь
9 C’est 1’extase langoureuse,
C’est la fatigue amoureuse,
C’est tous les frissons des bois
Parmi 1’etreinte des brises,
C’est vers les ramures grises,
Le choeur des petites voix.
Cette ame qui se lamente
En cette plainte dormante
C’est la notre, n’est-ce pas?
La mienne, dis, el la tienne,
Dont s’exhale I’humble antienne
Par ce tiede soir, tous bas?
(«Ariettes oubliees», p. 191)
157
мы сталкиваемся с большим количеством предметов, не только
связанных объективным сосуществованием в одной местности,
но являющихся, кроме того, элементами души человека, его
воспоминаниями. Эти предметы только называются, так как они
сейчас же уступают место другим впечатлениям, которые сме-
няют бесконечно друг друга. Так, в «Малине» перед нами це-
лый вихрь явлений -— и флюгера, и красные кирпичные замки
с голубыми шиферными крышами, и ясени, и поля, покрытые
люцерной и клевером, и быки, и коровы, которые на этих полях
пасутся. То же в «Брюсселе II», где мимо нас проносятся
бледное небо, аллея, деревья, белый замок, заходящее солнце,
поля.
Тенденция к разуплотнению реальности тесно связана с мак-
симальной субъективизацией изображения, она становится глав-
ной темой стихотворения Верлена «Искусство поэзии», написан-
ного в 1874 г., но опубликованного значительно позже, в 1884 г.,
в сборнике «Некогда и недавно» («Jadis et naguere»). «Искус-
ство поэзии» как бы дает теоретическое обоснование тем особен-
ностям поэзии Верлена, которые наметились в «Сатурновых сти-
хах», «Изящных празднествах», получили полное свое осу-
ществление в «Доброй песне» и, особенно, в «Романсах
без слов».
Главное в «Искусстве поэзии» Верлена — призыв к макси-
мальной нюансировке изображения, к демонстрации оттенков.
Вместо красок определенных тонов существенными оказывают-
ся переходы, полутона. Именно отсюда лозунг «Музыка прежде
всего», ибо музыка уничтожает четкость граней в изображае-
мом, а поэт предпочитает все неопределенное, неясное, все, что
растворимо в воздухе (soluble dans fair) 10. Он отрицает все
резко очерченное, все, что имеет четкие контуры, все, что весит
(pese) и является установленным (pose). Он отвергает разум
и остроумие, смех и красноречие. Он считает ценной «песню
под хмельком» (chanson grise), поскольку в ней к точному
обязательно примешивается зыбкое ".
10 De la musique encore et toujoursl
Que ton vers soit la chose envolee
Qu’on sent qui fuit d’une ame en allee
Vers d’autres cieux a d’autres amours
Que ton vers soit la bonne aventure
Eparse au vent crispe du matin
Qui va fleurant la menthe et le thym...
Et tout le reste est litterature.
(«Art poetique»» p. 327)
11 Стихотворение «Искусство поэзии» часто рассматривают как призыв Верле-
на к подчинению поэзии музыке, как манифест, прокламирующий преиму-
щественную музыкальность поэтического искусства. Это обстоятельство не-
редко связывают и с символизмом Верлена, утверждая, что растворение
смысла в музыкальном, в неясном — это, мол, и есть символизм. Лирика Вер-
158
5
Раздумывая над очеловечением мира в
поэзии Верлена, следует всегда твердо помнить о его пределах
и границах, о том, что это очеловечение никогда не перерож-
дается у поэта в солипсическое отношение к миру. Делая образ
не только отражением объективной действительности, но и отра-
жением ее субъективных обертонов, (возникающих в процессе
восприятия этой действительности, включая в образ не только
содержание внешнего мира, но и душевную жизнь восприни-
мающего субъекта, его эмоциональную реакцию на то, что он
видит и слышит, Верлен никогда не отрывает сознание от объек-
тивной действительности. Даже отвергая внутренние закономер-
ности этой действительности, превращая ее в поток явлений,
не связанных между собой (ср. пейзажи «Валькура», «Брюссе-
ля», «Шарлеруа», «Малина»), Верлен вместе с тем нигде не
устанавливает новых, вымышленных связей между этими явле-
ниями.
Даже ослабляя глагольную основу предложений1Z, заме-
няя глагольные связи перечислением, своеобразным каталогом
вещей, попадающим в поле зрения героя, поэт ограничивается
этим перечислением или каталогом и не создает форм, отра-
жающих какие-либо необычные отношения вещей. Верлен не
ставит новой субъективной закономерности на место закономер-
ности объективной. Он всегда имеет дело с реалистической дей-
ствительностью, с телом и духом реального человека. Именно
здесь пролегает существенная граница между символизмом Вер-
лена и декадентством. v
Любопытно в этой связи, что Верлен, во всяком случае Вер-
лен эпохи расцвета, всегда считает обязательным для себя пред-
ставить все то, что он изображает, в материальном облике.
Даже в «Доброй песне», где имеется много стихотворений, в ко-
торых мир как бы совершенно дематериализован, Верлен край-
не нуждается для полноты изображения в материально зримом
облике чувственных восприятий.
Как ни субъективно описываемое Верленом, центр мира по-
эт ищет вне героя, в другом человеке. Это вполне соответствует
лена была, конечно, очень музыкальной, но не в большей степени, чем поэзия
Бодлера. Гюго, Ламартина, Готье. Что касается соотношений между музы-
кальностью и символизмом, стоит вспомнить, что лирика Малларме, которая
большинству западных литературоведов представляется образцом симво-
лизма, была нарочито немузыкальной, так что отождествлять музыкальность
и символизм по меньшей мере неосторожно.
12 Об этом очень правильно пишет А. Адан (указ, соч., стр. 95), замечая, что
Верлен, хотя и не решается еще изъять глагол из фразы, настойчиво упо-
требляет самый незначительный, самый бесцветный, самый «бездеятельный»
глагол — «быть».
159
ч
гуманистическому символизму Верлена, только он раскрывается
в иной форме, чем у Бодлера. Если этой формы гуманистиче-
ского символизма еще не заметно в «Сатурновых стихах» и в
«Изящных празднествах», то она выступает на первый план в
«Доброй песне» 13. Мыслью о девушке, в которую влюблен по-
эт, всегда пронизаны пейзажи, открывающиеся перед нами. По-
эт рассказывает о солнечном утре, о ржи и пшенице, о старых
деревьях, о птицах, пролетающих мимо, но он думает о своей
возлюбленной, его тревожит белое видение, мечта (первое сти-
хотворение). Утреннюю звезду, ласточку, взмывающую к небу,
поля спелой пшеницы, росу на сене видит лирический герой пя-
того стихотворения. Но от всего этого он неоднократно возвра-
щается к любимой, еще погруженный в сон; мысль о ней
составляет как бы второй, глубинный план всего произве-
дения.
Мысль о возлюбленной не покидает поэта и во время поезд-
ки в железнодорожном вагоне, когда он глядит через дверцу ва-
гона на мелькающий перед ним пейзаж. Недаром вслед за опи-
санием этого пейзажа, составляющим первую строфу седьмого
стихотворения, идет вторая строфа, посвященная любимой девуш-
ке, иными словами —появляется второй, глубинный план обра-
за. к грубому ритму колес вагона и мельканию вещей сладост-
но примешивается ее прекрасное, благородное, звучное имя, ее
нежный голос, что-то ему шепчущий. И этот голос, это имя со-
ставляют для поэта основу (pivot), как он сам заявляет, всего
видимого.
В шестнадцатом стихотворении «Доброй песни» мы попада-
ем в мир, несколько необычный для Верлена по своей загромож-
денное™ вещами и телами. Это стихотворение слагается из го-
родских впечатлений. До поэта доносится шум кабака, гульба
на тротуарах. Он видит и платаны, осыпающиеся в черном
воздухе, и рабочих, идущих в клуб и пускающих прямо в лицо
полицейским дым из своих трубок, и мелькающие отвратитель-
ные крыши домов, и их стены, покрытые сыростью, и скользкие
мостовые, разбитый асфальт, и ручьи, наполняющие уличные
канавы. Но все это имеет значение только второстепенное. Это
все лишь сопровождает поэта, спешащего в «рай», т. е. к воз-
любленной, мысль о которой и здесь стоит в центре всего произ-
ведения, образуя его второй, глубинный план.
Тенденция к установлению центра мира вне героя, тенденция,
очень характерная для гуманистического символизма, сохраняет
свое значение и для «Романсов без слов» — сборника, который
часто трактуется как самый субъективистский из сборников Вер-
13 Совсем не случайно в этой связи чрезвычайно пренебрежительное отноше-
ние к «Доброй песне» и резкое третирование ее у буржуазных литературо-
ведов, например у Зайеда (указ, соч., стр. 380—381), у Адана (указ, соч.,
стр. 89).
160
Лена 14. Такая трактовка «Романсов» Не может быть признана
правильной, так как в нем, помимо циклов «Забытые песенки»
и «Бельгийские пейзажи», на которые обычно опираются сторон-
ники такой интерпретации, существуют не менее значительные
разделы «Птицы ночью» и «Акварели». В «Птицах ночью» всё
заполняет собой, как и в «Доброй песне», образ возлюбленной
и переживания героя, связанные с чем-то, находящимся за пре-
делами его души. Это придает мыслям героя совершенно не
субъективный характер. Любимая женщина представляется ге-
рою материально: вот она стоит перед ним в венке из цветов,
в летнем бело-желтом платье; вот он открывает дверь в ее спаль-
ню и застает ее в постели — нагой, заплаканной, а теперь радо-
стной. Герой отмечает ее юность, неопытность и нетерпеливость,
послужившие причиной их разрыва. Измена возлюбленной, явля-
ющаяся основой переживаний героя, составляет вторую тему
раздела и вместе с тем второй, глубинный план изображаемой
действительности. Поэт давно уже, в черные минуты жизни гово-
рил любимой, что глаза ее замышляют измену. Но возлюблен-
ная утверждала в то время, что это ложь.
Говоря о гуманистическом символизме «Птиц ночью», от-
мечая особый характер этого символизма, располагающего
центр жизни вне героя, нельзя забывать о том, что «Птицы
ночью» обращены к прошлому героя, к воспоминаниям. Поэтому
герой гораздо более занят здесь собой, чем в «Доброй песне».
Он расценивает свою любовь и измену любимой женщины с точ-
ки зрения настоящего, когда возлюбленной уже нет, есть только
память о ней.
В ряде стихотворений из раздела «Акварели» сохраняется
структура произведения, принятая в «Доброй песне». В центре
«Зелени», «Сплина», «Улиц», «Жены-ребенка», «Beams» («Оза-
рения») по-прежнему находится образ возлюбленной. В «Спли-
не» очень любопытно, что окружающая обстановка раскрывает-
ся через краски, причем краски и определения предметов в отли-
чие от большинства стихотворений Верлена трактуются как неч-
то экстенсивное, чрезмерное. Розы у него предельно красные,
плющ весь черный, небо слишком голубое, воздух чересчур неж-
ный, море слишком широкое. Но герой именно из-за чрезмерно-
сти качеств окружающих его предметов, которые как бы навя-
зываются, давят на него, заявляет, что он от них устал, как
устал от бесконечной сельской местности, т. е. от природы, во-
обще от всего. В контрасте к этому всему находится в стихотво-
рении образ возлюбленной героя. Если он отвергает все, так как
все его утомляет, то единственное исключение он делает для лю-
бимой женщины. Стихотворение «Улицы. I.» построено на анти-
тезе воспоминаний героя о прошлом и джиги, которая исполняет-
14 Именно так рассматривает этот сборник Адан (указ, соч., стр. 96—97),
6 Д. Д. Обломиевский
161
ся перед его глазами в Лондоне, где он находится. Воспомина-
ние посвящено опять тому, какими были глаза возлюбленной, ее
поцелуи, беседы с нею. Он припоминает и насмешливость ее глаз,
ее поведение, способное огорчить влюбленного; он понимает, что
любовь умерла в его сердце, хотя она и теперь составляет луч-
шее из его сокровищ.
6
Верлен значительно отличается от Бод-
лера своим представлением об объективном мире и стремлени-
ем очеловечить изображаемое. Но минорная тональность, зна-
менуя у Верлена преддекадентские тенденции, сближает его с
Бодлером. Она ощущается уже в «Сатурновых стихах». Герой
послания «Одной женщине» обращается к возлюбленной из глу-
бины своей неистовой тоски. Он так страдает, что стоны челове-
ка, изгнанного из рая, кажутся ему, по сравнению с его мучения-
ми, эклогой. Его преследует кошмар, бешеный и безумный, яро-
стный и ревнивый. Кошмар этот представляется ему стаей вол-
ков, цепляющихся за его судьбу, обагренных его кровью.
В «Желании» мы снова сталкиваемся с печальными настрое-
ниями поэта. Он одинок, исполнен отчаяния, мрачен. Он лишен
у Верлена какой-либо идеализации. В «Серенаде» у него кислый
и фальшивый голос, сравниваемый с голосом мертвеца, который
поет из глубины могилы. У героя «Nevermore» голос напомина-
ет хриплый орган. Это преждевременный старец. В «Осенней
песне» поэт представлен задыхающимся, мертвенно-бледным,
вспоминающим о прежних днях и плачущим. Лирический герой
стихотворения «В лесах» одержим непрестанными и страшными
угрызениями совести. Он завидует людям невинным, «лимфати-
ческим», малокровным, которые находят в лесах очарование
свежих дуновений и теплых запахов, мечтателям, которых ох-
ватывает в лесах мистический ужас.
Зловещ, мрачен и окружающий героя мир. В «Сентимен-
тальной прогулке» на спокойных водах пруда печально блестят
кувшинки. Герой «Соловья» видит над собой грустный блеск лу-
ны. В «Тоске» скорбной объявляется торжественность закатов
солнца. В «Морском пейзаже» упомянуты взоры траурной луны.
Привидения в «Классической Вальпургиевой ночи» танцуют
с жестами, полными разочарования. Для героя «Серенады» грудь
возлюбленной подобна Вечности, в ее темных волосах чудится
ему Стикс. Герой «Nevermore» признает, что у всего в существу-
ющем имеется своя оборотная сторона: червяк прячется внутри
плода, пробуждение подстерегает грезящего во сне, любовь таит
в себе угрызения совести. Он утверждает, что счастье — крыла-
тый путешественник, избегающий встреч с человеком,— прошло
рядом, но мимо него. Зловещая и страшная атмосфера окружа-
ющего усиливается тем, что закат окрашивается в воображении
162
лирического героя стихотворения «В лесах» в цвета пожара и
крови, в ночной тьме ему чудятся убийцы, договаривающиеся о
нападении. Поэт меланхолически бродит летней ночью возле во-
ды сожалений, которая меланхолически течет возле него.
В «Классической Вальпургиевой ночи» охотничьи рожки поют ме-
ланхолическую арию из «Тангейзера»; меланхолическим видит-
ся поэту заходящее солнце.
Тема печали и грусти играет значительную роль и в «Изящ-
ных празднествах». Вспомним хотя бы маски в «Лунном свете».
Танцующие и переодетые в фантастичесие костюмы, они груст-
ны, воспевают любовь в минорном тоне, не верят в свое счастье.
Печально и все окружение персонажа «Изящных празднеств».
Лучи луны, сверху льющиеся на маски в «Лунном свете», не
только прекрасны й спокойны, они еще грустны. Фонтаны возле
масок рыдают. В «Аллее» нарумяненная и накрашенная дама
проходит в парке под опечаленными ветвями. В стихотворении
«Под сурдинку» поэт говорит о голосе отчаяния, которое слы-
шится ему в пении соловья. В «Амуре, на земле» поэту пред-
ставляется печальной упавшая на землю в парке статуя Амура.
Поэту грустно видеть ее. Очутившийся на земле Амур произ-
водит на него скорбное впечатление. В «Коломбине» кортеж,
увлекший и самих Коломбину, Леандра, Пьерро, Арлекина и
многих других, шумит, смеется, поет и танцует. Тем не менее он
напоминает поэту вещий бег светил, пророчащий жестокие бед-
ствия. Иногда колорит грусти, несчастья в настоящем времени
проявляется с особой силой потому, что от него было свободно
всё в прошлом. В «Сентиментальной беседе» прекрасные дни,
несказанно счастливые, оказываются в прошлом, ибо большая
надежда, ныне побежденная, унеслась к черному, которое когда-
то было синим.
Минорная окраска существующего сохраняет свое значение
и для «Доброй песни», которая нередко рассматривается как
самый жизнерадостный из сборников Верлена 15 (см., например,
четвертое стихотворение).
Образ тоскующего героя мы обнаруживаем и в «Романсах
без слов», куда вошел один из самых мрачных стихотворных
циклов Верлена — «Птицы ночью», главной темой которого яв-
ляется разрыв поэта с возлюбленной, ее измена, его разочаро-
вание в ней. Впрочем, и остальные циклы сборника, например
«Забытые песенки», несут в себе сильный меланхолический за-
ряд. Стоит вспомнить, что душа поэта жалуется, герой мечтает
о смерти, сердце героя плачет; на душе — грусть, он безутешен;
надежды то тонут, то печально плачут в лиственной вышине.
15 Так, например, Адан (указ, соч., стр. 89) и Зайед (указ, соч., стр. 251—
252) утверждают, что влияние бодлеровского пессимизма, очень, сильное в
«Сатурновых стихах», ослабляется в «Доброй песне», для которой харак-
терно «примирение с жизнью».
163
6*
Говоря о влиянии пессимизма Бодлера на лирику Верлена,
констатируя в стихах последнего преддекадентские мотивы,
нельзя в то же время преувеличивать зависимость стихов одно-
го поэта от стихов другого. Верлен основательно смягчает бод-
леровский пессимизм, лишает его характерного для Бодлера от-
тенка трагической безысходности. У Бодлера мрачный взгляд на
существующее объяснялся тем, что его лирический герой под-
вергался натиску Зла, иногда натиску, чрезвычайно сокру-
шительному, причем это Зло порой именовалось Дьяволом, а по-
рой представлялось анонимно, некоей стихийной силой, подавля-
ющей человека.
У Верлена, особенно еще в «Сатурновых стихах», мы иногда
встречаемся с образами Зла, агрессивно ведущими себя в отно-
шении героя (ср. послание «К одной женщине»), но в целом ми-
норный тон лирики Верлена сосредоточен на образе героя, на
его настроениях. Пессимизм Верлена носит по преимуществу ли-
рический характер. Окружающее только укрепляет мрачные на-
строения, владеющие самим лирическим героем. Оно не ведет
себя по отношению к герою агрессивно. Оно только мрачно, гру-
стно, меланхолично и соответственно заражает своей грустью
поэта. Мрачные настроения поэта не всегда определяются мрач-
ностью мира. Они коренятся в самом человеке 16. Что же каса-
ется объективного мира, то он в большинстве случаев не обна-
руживает своих внутренних противоречий, будучи скрыт пеле-
ной настроений и впечатлений героя. У Верлена по большей
части отсутствует анализ объективных пороков окружающей дей-
ствительности. Это серьезное отличие поэзии Верлена от бодле-
ровской поэзии 17.
7
Сказать, однако, про Верлена, особенно
про Верлена 60-х — начала 70-х годов, что у него нет попыток
вырваться за пределы своего «я», и тем самым противопоставить
его Бодлеру, было бы далеко не точным. В конце 60-х годов, т. е.
параллельно «Изящным празднествам» и «Доброй песне», Вер-
лен создает цикл стихотворений «Побежденные» (1867—1872),
проникнутый глубоко позитивным, почти одическим пафосом,
сложно переплетающимся в цикле с обличительными мотивами 18.
16 Меланхолия кажется «бьющей ключом» из его души — пишет о Верлене
Зайед (указ, соч., стр. 313).
17 Об отличии Верлена и верленовского пессимизма от пессимизма Бодлера
очень правильно пишет Зайед (указ, соч., стр. 240—241).
18 Западные исследователи, например Зайед, обычно игнорируют или недооце-
нивают сатирические и героические стихотворения Верлена 60-х или начала
70-х годов. Они считают, что «меланхолия поэта», т. е. его неудовлетворен-
ность существующим, принципиально отлична от меланхолии Бодлера и ро-
мантиков, Она свободна якобы от «гордости», религиозного отчаяния, «чрез-
164
Одически обличительный цикл «Побежденные» подготовлен
сатирическими вещами из «Сатурновых стихов». Стоит вспом-
нить, например, образ господина Прюдома из одноименного сти-
хотворения, носящий отчетливо антибуржуазную направленность
и связанный с традициями антибуржуазной французской публи-
цистики эпохи Июльской монархии, в которой образ господи-
на Прюдома занимал весьма значительное место. Прюдом, как
его рисует Верлен,— мэр, отец семейства, поглощенный се-
мейными интересами и недаром фигурирующий у Верлена в до-
машних туфлях. Поэт подчеркивает в нем равнодушие к приро-
де и неравнодушие к карьере. Ему нет дела ни до солнца, ни
до тени деревьев, ни до птиц Он думает только о том, как
бы женить на своей дочери богатого молодого человека, уже ус-
певшего отрастить себе брюшко. Если в зяте г-на Прюдома
нет ничего, что беспокоило бы последнего, что нарушало бы его
привычный, сложившийся образ жизни, то иначе относится он
к поэтам, т. е. к тем людям, к которым причисляет себя сам
Верлен. Прюдом в ужасе от «растрепанных негодяев», от «боро-
датых бездельников», которых он называет «стихоплетами» 19.
Очень любопытен в тех же «Сатурновых стихах» ирониче-
ский образ Знатной Дамы, направленный уже не против буржу-
азии, а против аристократии. Эту Даму отличает патрицианская
красота, величавость походки и бюста, холодные глаза, блеск
кожи, зубов, речь с русским акцентом. Поэт сравнивает ее с кур-
тизанкой. Ее надо, по его словам, или обожать, встав на коле-
ни, или стегать хлыстом по лицу.
Не менее, чем Знатная Дама, поэта раздражают люди, кото-
рых он относит к проводницам религиозных настроений и име-
нует Тартюфами. Эти люди злодейски замыслили гибель поэта
и вместе с тем сокрушаются о душе, читают шепотом молитвы.
Они, смеясь, мучают поэта, превращают пытку в занимательное
зрелище, готовы его убить, но с иронией на устах. Характерам
тартюфов и иезуитов соответствует в «Сатурновых стихах» и
коллективный портрет молодых девушек, которые живут лишь в
романах, никем, кроме них, не читаемых. Поэт издевается над
их лазурными мечтами и пастушьими шляпами, над их будто бы
чистыми мыслями и охотой за бабочками. Ему смешна их све-
мерного возбуждения страстей», от «бунта». Если романтический герой был
близок к самоубийству и преступлению, то для верленовского героя харак-
терно как будто только пассивное восприятие жизни и смиренная поко{
ность (Zayed. Op. cit., р. 372).
19 Avec monsieur Machin, un jeune homme cossu.
Il est juste-milieu, botaniste et pansu.
Quant aux faiseurs de vers, ces vauriens, ces maroufles,
Ces faineants barbus, mal pcignes, if les a
Plus en horreur que son eternel coryza,
Et le printemps en flep; 5 brille sur ses pantoufles.
(«Monsieur Prudhomme», p. 77)
165
жесть и белизна их платьев. Он убежден, что они, несмотря на
то, что им чужды «мирские» мысли, все равно когда-нибудь по-
теряют смиренную внешность и станут обычными соблазненны-
ми любовницами.
Со стихотворениями,- построенными вокруг сатирического
персонажа, перекликаются в тех же «Сатурновых стихах» ин-
вективы «Парижского ноктюрна», вс многом очень близкого бод-
леровской манере. Наступление ночи рассматривается здесь как
апогей преступлений и любви. Прохожие в Париже отяжелели
от сна или от голода. Мечтатели спускаются к Сене из тру-
щоб. Речь идет, наконец, о том, что город «лижет» своих тира-
нов, т. е. пресмыкается перед ними, преследуя свои жертвы.
Инвективы, разбросанные в разных вещах «Сатурновых сти-
хов», заставляют особенно внимательно присмотреться к стихо-
творению «Гротески», имеющему в виду поэтов, которых, как
мы видели выше, столь презрительно третировал г-н Прюцом.
Следуя и здесь за Бодлером (ср. его «Напутствие»), Верлен го-
ворит о поэтах как о существах, подвергающихся преследова-
ниям. Ими возмущаются, их отчитывают мудрецы. Этих отваж-
ных безумцев жалеют глупцы, дети дразнят их, девушки смеют-
ся над ними. К преследователям поэтов присоединяется и при-
рода. Их жжет июль и леденит до костей декабрь, их мучает
лихорадка. Даже вороны отвернутся от их худых и холодных
трупов. Поэты рисуются Верлену неимущими. Они идут босые.
Но их меланхолия горделива, они шагают с гордо поднятой го-
ловой.
К стихотворению «Гротески» тесно примыкает стихотворный
цикл Верлена, озаглавленный «Побежденные», в первом вариан-
те называвшийся «Поэты». Этот цикл (вернее, его первые стихо-
творения) был создан в 1867 г., а в окончательной форме опуб-
ликован лишь в 1884 г. в сборнике «Некогда и недавно» («Jadis
et naguere», 1884). Цикл «Побежденные» описывает людей, ко-
торые, так же как герои «Гротесков», находятся в оппозиции
к обществу и вызывают с его стороны самые яростные преследо-
вания. Но герои «Побежденных» в отличие от «Гротесков» уже
не занимают по отношению к врагам позицию враждебного ней-
тралитета. Они сами наступают на враждебный им порядок. Это
не безоружные бродяги, а воины в латах и с мечами, революци-
онеры, инсургенты, восставшие. Но они — побежденные мятеж-
ники. Он, очевидно, имеет в виду деятелей революции 1848 года,
сломленных политической реакцией, о которых писал и Бодлер.
Победа, заявляет поэт в первом стихотворении цикла, на сторо-
не существующего; идеал, носителями которого являются по-
бежденные,— мертв. Победители изображены поэтом сидящими
на конях и без пощады топчущими его братьев и соратников.
И далее он говорит о преследуемых, о понесших поражение.
У них разбиты ноги, мрачны глаза, тяжелы головы. Они окро-
вавлены, обессилены, покрыты грязью, обесчещены. Они бредут,
166
подавляя глухие стоны, бредут наудачу в зареве лесов, в темно-
те вечеров и дорог, уравненные с убийцами, не имея крыши над
головой. Это сироты, вдовцы, лишенные сыновей, не имеющие
завтра. Поэт признает, что у побежденных нет надежды, что
их усилия тщетны, что они не могут рассчитывать даже на по-
хороны. Все, что им осталось, это умереть безвестно, без шума.
Второе стихотворение открывается пейзажем солнечного вос-
хода, написанного в манере, далекой от Бодлера и скорей напо-
минающей Гюго. Поэт сообщает здесь о слабом свете, который
трепещет на горизонте, о холодной ласке рассвета, которая воз-
рождает, о леденящем ветре, который поднялся к исходу ночи
и вздыбил листву на деревьях и цветы на траве. Восток из ры-
жеватого становится розовым. В золотеющей лазури синеют све-
тила. Поет петух. Пронзительно взлетает ласточка. И, наконец,
возникает сверкающее великолепие утра.
Но описание восхода не ограничивается сферой природы. Он
пробуждает от тяжелого сна побежденных, а вместе с ними и их
гнев, их гордость. И поэт призывает их встать и идти вперед,
к битве: время стыда миновало, прошло и время передышки, от-
дыха.
Третье стихотворение посвящено заключенным в тюрьмах и
закованным в цепи. Они представляются поэту непокоренными
и несмирившимися. В их венах продолжает бурно циркулиро-
вать кровь. Их глаза бодрствуют. Их мозг мыслит. Их челюсти
готовы, если нужно, разорвать на части врага. Поэт уверен, что
цепи упадут под напильником и могут еще быть обращены про-
тив стражи. Побег возможен. И тогда снова ужасная битва и,
может быть, победа.
В четвертом стихотворении, завершающем цикл и написан-
ном, как можно предполагать, в 1869 г., накануне крушения
Второй империи, речь идет о врагах, которые представляются
поэту слабыми, способными испытать поражение. Противник, за-
являет поэт, должен умереть, так как он не заслуживает ника-
кой пощады. Как бы возрождая идейно-художественную мане-
ру революционных од и гимнов 1793—1794 гг., поэт представля-
ет себе врагов уже побежденными и умоляющими о пощаде, ви-
дит кровь противника, которая поит, совсем как в «Марселье-
зе», сухую и бесплодную землю. Он пророчит врагам, что их
трупы будут рвать волки и хищные птицы.
Размышляя о «Побежденных» в целом, нельзя не отметить,
что в оценке революции 1848 года они продолжают Бодлера. Но
продолжают в условиях новой, поднимающейся революционной
волны, подхватывают его традицию в более оптимистичном раз-
резе, без налета трагизма и безысходности, ставя вопрос о но-
вом восстании. Но цикл «Побежденные» среди произведений
Верлена 60-х годов, направленных против режима Второй импе-
рии (если исключить «Гротески»), все-таки довольно одинок.
Преобладающую роль в творчестве Верлена играют совсем не
167
сатирические образы, вроде г-на Прюдома, и тем более не мо-
тивы «Гротесков». Правда, возможно, что стихи, содержавшие
образы и мотивы, близкие к «Побежденным», до нас как раз не
дошли. Нельзя упускать из виду, что над сборником «Побеж-
денные» Верлен продолжал работать в конце 60-х и в начале
70-х годов, рассчитывая добавить другие стихотворения. Однако
ни в середине, ни во второй половине 70-х годов, ни в 80-е
и 90-е годы Верлен не возвращается к аналогичным темам.
Он публикует этот сборник в 1884 г., но традиции «Побежден-
ных» поэтом не были продолжены.
8
Раздумывая над Верленом и его творче-
ством, обязательно следует учитывать, какой ощутимой гранью
в эволюции поэта явились годы 1870—1871, годы франко-прус-
ской войны, крушения Второй империи и Парижской Коммуны.
«Сатурновы стихи», «Изящные празднества» и «Добрая песнь»,
а также современные им «Побежденные», созданы в доперелом-
ные годы. Это время, когда Верлен во многом близок к тради-
ции Бодлера, к агрессивности и смелости его поэзии.
К 1872—1873 гг., а также к более поздним временам относятся
«Романсы без слов», «Мудрость» («Sagesse», опубликовано в
1881) и другие лирические сборники. Его «Романсы без слов»
продолжают и развивают традиции Бодлера в создании новой
лирики, в сфере очеловечения изображаемого. В этом их глав-
ная сила. Однако наряду с этим его стихи, введенные в «Роман-
сы без слов», лишены того пафоса мировой скорби, который был
свойствен бодлеровской поэзии и который связывал ее песси-
мизм с событиями общественного масштаба, с поражением ре-
волюции.
Верленовская лирика целиком устремлена в область частной
жизни и индивидуальной судьбы. Если в «Сатурновых стихах»
чисто лирическая манера Верлена дополнялась сатирическими
вещами, направленными против режима Второй империи, если в
годы создания этого сборника поэт обращался и к событиям, ка-
савшимся всей страны, задумывался над революцией («Побеж-
денные»), если работа над «Побежденными» продолжалась па-
раллельно работе над «Доброй песнью», сборником стихотворе-
ний интимного характера, то сборник «Романсы без слов» тако-
го сопровождения не имеет.
Крушение Парижской Коммуны, в событиях которой Вер-
лен, как известно, принимал довольно большое участие20, по-
20 Верлен не только участвует в деятельности Коммуны, в «Бюро печати», не
только служит в это время в Ратуше. Он поддерживает дружеские связи с
коммунарами и в эмиграции в Лондоне, посещает их собрания и литератур
ные вечера, состоит членом Общества изучения социальных проблем. См. об
168
буждает поэта замкнуться в сфере частной жизни, отдаться пес-
симистическим мотивам, а затем — и это самое главное — отсту-
пить перед декадентскими настроениями. Эти настроения ощу-
щаются очень сильно и пытаются завоевать себе первое место
уже в «Романсах без слов», они полностью торжествуют в «Муд-
рости», правда, осложненные, здесь религиозными устремления-
ми, т. е. устремлениями тоже антигуманистическими и в этом
близкими декадентству.
Конечно в творчестве Верлена и до 1872 года были декадент-
ские мотивы. Как и в поэзию Бодлера (особенно бодлеровские
стихи конца 50-х — начала 60-х годов), эти мотивы проникали
к Верлену из враждебной демократизму духовной атмосферы
Второй империи, хотя поэт к ней в целом относился отрицатель-
но Они были заметны у него уже в «Сатурновых стихах», не
складываясь еще в систему2I. Стремление к очеловечению ми-
ра, свойственное Верлену как символисту, осложнялось уже
здесь тем обстоятельством, что человек, которого Верлен поме-
щал во второй план образа, иногда содержал в себе, между про-
чим, и декадентские, упадочные черты. Показателен в этом отно-
шении герой «Тоски», для которого симптоматичны апатия, рав-
нодушие к миру и к людям. Его ничто не волнует в природе, ни
поля, дающие хлеб людям, ни великолепие восходов, ни торже-
ственность закатов. Он смотрит одинаково на добрых, и на злых,
устав от жизни, хотя в то же время боится смерти. Он смеется
над человеком, над искусством, над песнями, стихами, древне-
греческими храмами, над «вытянутыми» в пустое небо башнями
средневековых соборов. Он отрекается от разума, от всякой
мысли, именует любовь «старинной иронией» и не хотел бы, что-
бы ему о ней говорили. Он кажется самому себе погибшим ко-
раблем — игрушкой приливов и отливов.
Уже в «Сатурновых стихах» поэт иногда акцентирует безво-
лие, пассивность и усталость, утомленность своего героя.
В «Усталости», стихотворении, весьма характерном уже по свое-
му заглавию, ласки возлюбленной усыпляют, ее взгляд укачивает.
В «Осенней песне» ветерок уносит героя то в ту, то в другую сто-
рону, будто имеет дело с мертвым листом. В том же стихотворе-
этом подробнее в главе «Верлен», написанной Н. И. Балашовым (История
французской литературы, т. III, 1959), а также в кн.: Ю. И. Данилин. Поэты
Парижской Коммуны. М., 1966.
21 Западные исследователи явно преувеличивают декадентство «Сатурновых
стихов». Так поступает Мартино (Р. Martino. Verlaine. Р., 1944, р. 152),
подчеркивающий связь меланхолии поэта с «физической усталостью», Кено
(С. Quenot. (.’evolution poetique de Verlaine.— Цнт. no: Zayed. Op. cit.,
p. 373), утверждающий, что «Сатурновым стихам» свойствен «нарцис-
ский солипсизм», что они предвосхищают поэтическую атмосферу 80-х го-
дов, и, наконец, Сурио (Л4. Souriau. Le symbolisme des couleurs. Revue de
Paris, 1895, N 8), считающий, что бледные, неопределенные краски, уми-
рающие . тона соответствуют туманным сожалениям, беспричинной грусти
души ветшающей (decadente) и хилой.
169
пин сердце поэта ранит рыдание осенних скрипок, сообщая ему
монотонную томность (langueur). Лобзание, рейнское вино, му-
зыка утомляют и укачивают героя, понуждают его утратить свою
решительность и смелость («II bacio»). Укачивает сердце героя
и меланхолия заходящего солнца («Закаты»). Он как бы отда-
ется во власть чего-то более сильного, чем он сам. Надо доба-
вить, что укреплению декадентских мотивов в «Сатурновых
стихах» способствовал уже самый характер интерпретации Вер-
леном пессимистического отношения к миру. Ибо это отношение
было в отличие от бодлеровского по преимуществу лиричным,
исходило не от противоречий объективного мира, а от настрое-
ний героя, от его меланхолии, которая недаром казалась ему
самому беспричинной21а.
«Изящные празднества» очень близки декадентскому миро-
ощущению, едва только возникает в них мотив меланхолии и
апатии. «Изящным празднествам» совсем не случайно свойст-
венна склонность к эфемерному, искусственному. Стихотворения
сборника, созданные в манере Ватто, определенно тяготеют к
реабилитации настроений феодального декаданса, выразивших-
ся в художественном направлении XVIII в. рококо. «Изящные
празднества» приближаются к декадентству и из-за весьма важ-
ного для них отрицания разумного начала в человеке, из-за
свойственного им примата чувственности, ничего не выражаю-
щих взглядов, бессознательной горделивости, бессмысленного
плача («Аллея», «Скользя на коньках»).
Еще более значительны декадентские мотивы в «Романсах
без слов», хотя и здесь они все-таки не составляют целого.
Особенно сильна роль декадентских настроений в циклах «За-
бытые песенки» и «Бельгийские пейзажи». Лирический герой
«Брюсселя» характерен своей вялостью и апатией. Он все время
находится на грани яви и сна, ибо все, что он видит, слы-
шит, укачивает его своей монотонностью. В некоторых стихо-
творениях (первое, четвертое, шестое, восьмое) из цикла «Забы-
тые песенки» герой, правда, как бы отсутствует. Их содержание
складывается лишь из того, что он видит и слышит. Но во
втором, третьем, пятом, седьмом и девятом стихотворениях он
появляется и сам Судя по второму стихотворению, это человек,
мечтающий о незаметном исчезновении, о смерти. Герой треть-
его стихотворения испытывает слабость, его сердце изнемогает.
Очень характерен во втором и пятом стихотворениях мотив
качелей, героя укачивает, он отдает себя во власть чего-то на-
ходящегося вне его, что утешает, нежит, ласкает. С темой уста-
лости связан в «Забытых песенках» и принцип непознаваемости,
непроясненности внутреннего мира героя и всего, что его окру-
жает. В третьем стихотворении он не понимает до конца тоску,
которая сжимает его сердце, плачущее беспричинно. Никто не
2,а См. об этом очень интересное суждение Жоржа Зайеда (указ, соч., стр.
372).
170
изменял ему, никто не питает к нему ненависти. А на сердце
тем не менее траур. В пятом стихотворении герой спрашивает, что
означает колыбель, внезапно возникшая перед ним, чего хочет
от него нежная шутливая песенка, которук) он слышит.
Следует здесь сказать, что декадентские мотивы были связа-
ны у Верлена в какой-то степени с общей тенденцией к развеще-
ствлению и разуплотнению вещного мира, тенденцией к демате-
риализации действительности в его стихах. Декадентские моти-
вы были у него в силу этого значительно весомее, чем у Бодле-
ра. Показательно, с другой стороны, что возрастание удельного
веса декадентских мотивов шло и у позднего Бодлера рука об
руку со значительным понижением материальности внешнего
мира.
9
Особое место в творческом наследии
Верлена занимает книга «Мудрость», создававшаяся главным
образом в 1873—1875 гг., отчасти же во второй половине 70-х го-
дов и вышедшая в свет в 1881 г. Сборник «Мудрость» француз-
ские литературоведы, например А. Адан, считают «вершиной»
творческого пути поэта. По мнению Адана, тогда Верленом
созданы «самые лучшие его стихи»22. В 1876 и 1877 гг. Вер-
лен написал, считает Адан, три «великолепных сонета», кото-
рые могут фигурировать среди «образцовых» произведений его
творчества 23. Мнение это, хотя оно и высказано таким блестя-
щим литературоведом, как Адан, создавшим великолепную ра-
боту о французской литературе XVII в. и во многом очень ин-
тересную книгу о Верлене, представляется нам крайне тенденци-
озным и необоснованным.
В сборнике «Мудрость» мы склонны видеть, напротив, пер-
вый шаг поэта к творческому упадку, определенное сужение его
творческого кругозора, отступление от тех высот, которые были
им достигнуты в «Побежденных», в «Доброй песне», «Романсах
без слов».
Для лирического героя и для мира, который его окружает,
в «Мудрости» характерен совершенно декадентский налет устало-
сти и апатии, равнодушия и вялости. Этот налет декадентства
напоминает нам соответствующие декадентские мотивы у Бодле-
ра. В «Мудрости» совершенно явно провозглашается отрицание
земного мира, мира красок и звуков. Поэт рассказывает в пятом
стихотворении части III, как черный сон опускается па его жизнь.
Он больше ничего не видит. В восьмом стихотворении части I
22 Op. cit., р. Ill, 113, 173.
23 Мысли Адана о «Мудрости» как о лучшем произведении Верлена разде-
ляют и другие буржуазные литературоведы (см. J. Richer. Paul Verla ne.
Р., 1962; Е. Lepelletier. Paul Verlaine. P., 1907), считающие сборник «несрав-
ненной книгой», поставившей Верлена в «первый ряд поэтов».
171
поэт призывает замкнуть слух, не прислушиваться к шумам
большого города. В шестом стихотворении из той же части он
утверждает, что все кончилось, все умерло для наших чувств,
все — даже тени. В третьем стихотворении части III окружаю-
щее представляется поэту столь темным, будто он находится в
хлеву, т. е. помещении, лишенном окон, погруженном во тьму.
Стоит отметить и склонность Верлена, автора «Мудрости»,
к блеклым тонам и смягченным краскам: у моря, например, не
только зеленый, но также голубой, розовый, серый тон. Цвет мо-
ря характеризуется к тому же «нежным», деревья и мельницы
кажутся на нежно-зеленом фоне «легкими», барашки морских
волн, в свою очередь, представляются «мягкими, нежными», ко-
локола кажутся поэту флейтами, небо — подобно молоку.
Внешний мир дается в «Мудрости» не только в приглушен-
ном аспекте, но и лишенным движения и борьбы, активности и
возмущения. В шестом стихотворении части III небо над крышей
видится поэту предельно голубым и предельно спокойным. Звук
колокола звучит еле-еле. Дерево укачивает своими ветвями.
Жизнь рисуется поэту спокойной, простой; даже звуки, идущие
из города, кажутся ему мирными. В седьмом стихотворении ча-
сти I поэт отвергает грозу, которая бушевала весь день, побила
виноградники на холмах, уложила на землю колосья в долине,
опустошила голубое небо. Он противопоставляет буре одинокую
фигуру, медленно идущую вдали и как бы в мольбе сложившую
руки. Поэт призывает путника закрыть глаза, вернуться домой
и отдаться молитве 24.
Показательно для образа лирического героя «Мудрости»,
для его апатии и равнодушия ко всему земному седьмое стихо-
творение части III сборника. Его собственный разум представ-
ляется герою в виде ласточки, а в то же время он его именует
желчным. Поэт отмечает, что крылья ласточки беспокойны и бе-
зумны, что она взлетает меланхолически. Ее укачивают все вет-
ры неба, она отдается прихоти ветра, который несет ее нежно,
в мягком полусне. Существен для образа верленовского ге-
роя этот мотив сна. В третьем стихотворении части III поэт ре-
комендует герою спать, предлагает задремать, положив локти на
стол, советует лелеять мечты, посещающие его в минуты досуга.
В пятом стихотворении той же части герой кажется сам себе
колыбелью, которую качает в глубине пещеры чья-то рука25.
Декадентское равнодушие и безразличие к жизни, декадент-
ская апатия уживаются у героя «Мудрости» с оптимистическим
24 Очень интересна интерпретация этого стихотворения у А. Адана (указ,
соч., стр. 114).
25 Je suis un berceau
Qu’une main balance
Au creux d’un caveau:
Silence, silence!
(«Sagesse», HI, 5, p. 279)
172
ожиданием лучшего, с мыслью о надежде. Находясь в темном
хлеву, лирический герой «Мудрости» (III, 3) видит там соло-
минку, освещенную солнечными лучами, которые проглядывают
сквозь дыры в стене. В соломинке сияет ему надежда. Не сто-
ит, впрочем, очень резко противопоставлять оптимистические мо-
тивы «Мудрости», тему надежды, декадентским образам сбор-
ника. Сама надежда пронизана у Верлена настроениями дека-
данса. Ведь именно смерть, как об этом свидетельствует, на-
'пример, 23-е стихотворение первой части «Мудрости», рисуется
«доброй», благосклонной к человеку, успокаивающей и освобо-
ждающей его. Она не вызывает в человеке ужаса и страха, уже
не является для него угрозой, не увлекает с собой в сферу по-
гребального и похоронного, а, напротив, очищает его от греха,
пробуждает к новому существованию. С другой стороны, она
противопоставлена жизни и всему живому, ибо не только успока-
ивает человека, но еще и освобождает его. Сердце, заявляет
здесь поэт, живет только в ожидании «доброй» смерти.
Тесно связано в «Мудрости» с подобной интерпретацией смер-
ти вера в потустороннее существование. Оптимистическое ожи-
дание лучшего, надежда, успокаивающие истерзанного челове-
ка, ведут поэта к богу, к потустороннему миру. В «Мудрости»,
таким образом, не только декадентские элементы в символизме,
как это было в «Сатурновых стихах» и в «Романсах без слов»,
но и своеобразное перерождение самого символизма, который
был у Бодлера и в ранних стихах Верлена гуманистическим, а в
«Мудрости» становится религиозным26. Второй, глубинный
план образа занимает у поэта теперь не душа человека, а бог27.
Сквозь отрицаемый чувственный мир поэт тянется к потусто-
ронним сферам. Отвергая звуки больших городов, он делает ис-
ключение лишь для церковного колокола (восьмое стихотворе-
ние I части). В одиннадцатом стихотворении III части герой
шагает сквозь холодный ветер суровой весны. Но он ощуща-
ет в то же время, как ветер смягчается теплым дуновением вес-
26 Л. Морис, исследовавший религиозные взгляды Верлена, совершенно спра-
ведливо отделяет символизм «Мудрости» от символизма бодлеровского. Он
утверждает, что в «Мудрости» присутствуют «элементы нового символизма»,
что «Мудрость» представляет собой «возрождение средневекового симво-
лизма, вдохновленного христианским духом» (L. Morice. Verlaine. Le drame
religietix. P., 1946, p. 513).
27 Согласно мнению А." Адана, Верлен, создавая «Мудрость», порывает с им-
прессионизмом, переходит к «настоящему символизму», который не является
уже «занимательной игрой» в психологические ассоциации (так Адан ква-
лифицирует гуманистический символизм), а представляет собой «поэзию
невидимого и потустороннего» (des au-dela).— Указ, соч., стр. 107—108.
Адан, впрочем, допускает, что явления, обступившие со всех сторон ли-
рического героя,— подавляющая жара, отсутствие холодной воды, неотвяз-
ное жужжание пчелы, помещение, пересекаемое лучами света, о которых
говорится в одном из стихотворений «Мудрости» (III, 3),— представляют
собой «символы души». Но какой души? — «Раздавленной, углубившейся в
ночь, которую пронизывают лучи надежды» (стр. 110), иными словами,—
души, отвратившейся от реального мира и обращенной к богу.
173
ны, полагает, что сильные холода уже в прошлом, и считает, что
идет к «огромной надежде», к «богу милосердия» 28.
Бог и потусторонний мир явились для Верлена в «Мудрости»
выходом из круга личных интересов, точно так же как в «Доб-
рой песне» и в «Романсах без слов» таким выходом была воз-
любленная, к которой тянулся герой. Но и в «Доброй песне»,
и в «Романсах без слов» любовь к невесте соединялась со своеоб-
разным атеизмом. В четвертом стихотворении «Доброй песни»
поэт прямо заявлял, что ему никого не надо, кроме любимой,
и он не желает другого рая. Иначе обстоит дело в «Мудрости».
От атеизма здесь не остается и следа. В сборнике сохраняется
второй центр, расположенный вне поэта. Но этот центр, или вто-
рой, глубинный план образа, уже переместился из реальной
действительности в потусторонний мир. Он имеет своим содер-
жанием уже не возлюбленную, а бога.
В «Мудрости» чувственный мир оказывается по существу не-
нужным и только тормозящим общение поэта с потусторонним.
Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что красочность ми-
ра утрачивает свою объективную значимость, свой земной ха-
рактер, приобретает эмблематический смысл, становится знаком
добра и зла. Именно в этом аспекте говорится в «Мудрости» о
черной пропасти преступления («Мудрость», II, 1), о черном сне,
который опускается на жизнь поэта (III, 5), о белом грядущем,
которое ожидает его по выходе из мира греха, т. е. из тьмы
(I, 12), о поре возмужания, черной от гроз и ошибок (1,13) 29.
Со всей очевидностью эту отвращенность от земного и об-
ращенность в потусторонний мир демонстрирует цикл из девяти
стихотворений, составляющий основу части II «Мудрости». Цикл
этот представляет диалог героя с богом, происходящий вне ма-
териально-чувственной обстановки. Герой разговаривает с суще-
ством, которого он не видит, которое только слышит. Герой пред-
ставляется себе маленьким и недостойным, трусливым и трепещу-
щим. Это греховное создание, плененное своими пятью чувства-
ми, не осмеливающееся даже целовать следы ног божества. Ге-
рой все время ищет бога, устремлен к нему, но нигде не нахо-
дит его, только предчувствует его появление.
Бог, как его воображает поэт, представляется огромным и мо-
гущественным существом. Он окружен яркой ночью, покоится на
28 Debout, mon ame, vite, aliens!
C’est le printemps severe encore,
Mais qui par instant s’edulcore
D’un souffle tiede juste assez
Pour mieux sentir les froids passes
Et penser au Dieu de clemence...
Va, mon ame, a 1’espoir immense!
(«Sagesse», III, 11, p. 283)
29 Подробнее о живописном аспекте мира у Верлена см. у К, Кнаута
(К. Knauth. Die poetische Bedeutung der Farbe in Verlaines Lyrik. B.,
1966, S. 15).
174
ложе света, покрыт туманом, пронизанным лунным светом. Неод-
нократно и упорно бог призывает героя, чтобы тот полюбил его,
отрекся от своей гордости, согласился на самоунижение, превра-
тился в невинного ребенка, в безгласного агнца, стал часто по-
сещать церковь — дом бога. Он должен подражать Христу, ка-
ким тот был во времена Ирода и Пилата, Петра и Иуды, дол-
жен согласиться на страдания и даже на позорную смерть. Его
сердце получит в таком случае мир, а сам он обретет по-
кой, надежду и полюбит бедность. Герой после долгих коле-
баний и сомнений соглашается на призыв бога, принимает все
его условия, отдается целиком в его власть. Этим завершается
вся беседа с богом и весь цикл стихотворений части II сбор-
ника «Мудрость» 30.
10
Творчество Верлена после «Мудрости»
охватывает время от конца 70-х до 1896 года — года его смерти.
Количественно созданное и напечатанное поэтом за это время
неизмеримо превосходит то, что было им написано и опублико-
вано в течение 60-х и 70-х годов. Творчество Верлена этих лет
носит вместе с тем отчетливые черты все возрастающей деграда-
ции и оскудения. Верлен не написал за это время ничего сколь-
ко-нибудь значительного и равного «Сатурновым стихам» и «Ро-
мансам без слов». Многие его лирические сборники середины и
конца 80-х годов, например сборник «Некогда и недавно» (1884)
или сборник «Параллельно» («Paralleletnent», 1889), включают
к тому же большое количество произведений, написанных им в
60-х и 70-х годах.
Что касается произведений, время написания которых отно-
сится к 80-м и 90-м годам, то из них необходимо прежде всего
выделить стихотворения, составившие сборники «Любовь» («Amo-
ur», 1888) и «Счастье» ‘(«Bonheur», 1891), в которых собраны
произведения Верлена отчасти конца 70-х годов и главным об-
разом начала, середины и конца 80-х годов. Поэт остается пол-
ностью верен в стихотворениях, вошедших в эти сборники, тра-
дициям «Мудрости». В «Любви» по-прежнему сохраняет свое
значение образ униженного и смиренного человека («Утренняя
30 Очень любопытное размышление о том, что «религиозное обращение» Вер-
лена, в отличие от аналогичного «обращения» Бодлера, значительно более
ортодоксально с религиозной точки зрения, находим мы у Зайеда (указ, соч.,
стр. 239). Бодлер, по утверждению Зайеда, недаром придает огромное зна-
чение Дьяволу, воспевает гордость человека, признает привлекательность
Зла и т. п. Правда, все эти черты как раз не типичны для Бодлера 60-х го-
дов, когда и совершается «религиозное обращение» поэта. Однако, несо-
мненно, что у Бодлера и в 60-х годах остается прежнее отношение к миру.
Он и в 60-х годах раздираем внутренними противоречиями. В «Мудрости»
остатки прежнего отношения Верлена к миру исчезают почти бесследно.
175
молитва»), бедного грешника, недостойного и слабого («Новел-
ла»). Поэт говорит о себе как о заблудшей душе (там же). Он
чувствует себя верующим, который находится в морском порту и
готов отправиться в последнее путешествие. Он смотрит на послед-
ние рифы реального мира, приветствуя воспоминания о минув-
ших мгновениях глубокого покоя, о которых напоминает ему парус
на широком и белом горизонте («Послание к Шабрие»).
Тема смирения и покорности побуждает Верлена в «Любви»
утверждать, что поэт предпочел бы быть животным — собакой,
ягненком, рыбой, осленком, поросенком, ибо тогда он был бы
полностью верен богу, следовал бы покорно за ним, служил бы
ему, выполнял бы все его желания («Параболы»), Лирического
героя «Любви» окружает «нечистый мир» («Прощание»), сфера
гордости и хитрости, смеха и усмешек («Новелла»), Он видит
перед собой «ужас насмешливого мира» («Святой Грааль»),
Время, в котором ему довелось жить, представляется ему време-
нем бунта и двуличия («Параболы»), он считает его «постыд-
ным», преследующим его «бездонными бедствиями», готовыми
его «поглотить» («Святой Грааль»), В сердцах его современни-
ков свирепствует буря, град, огонь, они во власти нечисти, за-
были бога. Поэт рассказывает о вымирающем скоте, об опустев-
шем поле, об улетевших птицах.
Большую роль играет в сборнике «Любовь» (особенно ярко
выражено это в стихотворении «There») тема воспоминаний,
мысль о том, каким был лирический герой и каким он стал, ан-
титеза настоящего и прошлого. Многое из того, что герой счита-
ет характерным для окружающего, относится уже к прошлому, к
тому, что человеком уже преодолено, что осталось позади. Он го-
ворит о «преступном прошлом», которое «стучит в виски нудной
скукой», о побежденной, сокрушенной, издыхающей гордости,
которая когда-то им владела («Борнемут»), Он заявляет в «По-
слании Фернанду Ланглуа», что упадок сил кончился, что воз-
вращается мужество, что он пришел в себя после удара грома
(defoudroye), ощущает рождающееся в нем спокойствие.
Очень важно, что преодоление гордости и вместе с тем пре-
одоление страха от соприкосновения с окружающим миром при-
ходит к поэту вместе с его религиозным обращением. Огонь ос-
вежающей реки, поток любви и сладости, утоляющий жажду,
исходит от бога («Святой Грааль»), Он видит свбего лириче-
ского героя в том же стихотворении умирающим; герой проник-
нут горем и в то же время опьянен надеждой. Он воспринима-
ет в «Пейзажах» радугу,‘.пришедшую на смену потоку, как знак
«надежды и пристани», т. е. как нечто дарованное свыше.
Образ бога вообще очень симптоматичен для «Любви».Поэт
постоянно имеет бога в виду, даже когда касается явлений, от
него далеких. Он обращается к богу и в «Параболах», и в «Ут-
ренней молитве», благодарит за то, что тот сделал его христиа-
нином во времена невежественной жестокости и ненависти, про-
176
сит даровать ему силу и смелость, чтобы исполнить свои жиз-
ненные обязанности; знает, что бог подготовил его счастье, пони-
мает, что ему следует быть счастливым и в страданиях, которые
послал ему бог, что он должен быть счастлив и среди жестоких
людей, и во власти сурового закона, что он обязан испытать
сто смертей, если это соответствует намерениям бога.
Именно потому, что в мироощущении человека у Верлена за-
нимает большое место образ бога, так незначительно для это-
го человека все реальное. Правда, судя по «Борнемуту», поэт
еще считается с внешним миром, хотя бы как с красочным по-
лотном. Он замечает красные шале, разбросанные в листве, и бе-
лые виллы, зелень и черноту, свет, пробивающийся сквозь мрак
кладбища и позлащающий его сон. Но разуплотненность, дема-
териализованность мира все же венчает всё. За элементами
красочного следует полная темнота и затухающий звук, бархат
ночи, совершенная тьма. Ночь спускается, сгущается вечер. Пе-
ние колоколов слушает только молчащий лес.
Равнодушие к здешнему миру, устрем-
ленность за пределы реального, правда, несколько ослабены, на
первый взгляд, в центральной поэме сборника «Любовь», в по-
эме «Люсьен Летинуа». Верлен рассказывает в этой поэме о сво-
ем приемном сыне, умершем 20 лет от роду в 1883 г. от тифа.
Он полон воспоминаний о нем, об его красоте и изяществе, ду-
шевной чистоте и невинности, рисует его катающимся на конь-
ках, гибким и ловким, смелым и одушевленным, устремленным
вперед к невидимой цели. Он сидит с воинственным видом вер-
хом на коне, окруженный звучащими трубами, хлопочет вокруг
пушек (Люсьен был одно время на военной службе). Он трудит-
ся в поле, идет за плугом, боронит землю, косит траву. Поэт
страшно мучается, увидев юношу в больнице, умирающим: тот
сжимает его руку и в то же время не узнает его в бреду.
Еще более мучительны похороны, когда Верлен идет за гробом
Люсьена, вспоминает, каким тот был, испытывает глубокую пе-
чаль, ощущает, что ужасный туман окутывает его, ночь сгуща-
ется. Оставшись один после похорон Люсьена, поэт охвачен глу-
боким отчаянием, даже забывает, что находится на земле.
Он резко переживает постигшее его одиночество, ему кажется,
что вокруг нет человеческих следов, что рядом нет ни одного
живого человеческого сердца, пусть даже оно лживо и трусливо,
он ощущает лишь ничем не утолимую жажду и голод.
И вместе с тем эта земная любовь и дружба, забота о Лю-
сьене осложняется у поэта ощущением своей вины. Поэт призна-
ет, что он усыновил Люсьена, не посоветовавшись с небом,
что это усыновление было недостойным поступком, провинно-
стью (demerite), причиной смерти Люсьена и причиной горя,
177
которое теперь сразило поэта. Он осыпает себя обвинениями, мак-
симально унижает себя перед богом, видит в человеке источник
зла, скопище несовершенств и пороков, считает самовольное че-
ловеческое решение и действие проступком, чуть ли не преступ-
лением. Он не имел права вовлекать Люсьена в свое беспокой-
ное существование, должен был знать, что усыновление — «за-
претный плод», должен был оставить Люсьена нищим и веселым
в его «гнезде», там, где с ним встретился, обязан был мужест-
венно переносить муки в изгнании, которое было послано ему
богом.
И он просит бога простить ему самоволие, называет и свое
стремление усыновить Люсьена, и свое желание умереть вместо
Люсьена — «дерзостью». Верлен именует Люсьена человеком,
которого бог избрал среди других смертных, отличил и при-
близил к себе. Он пытается расценить смерть Люсьена как бла-
го. Он хотел бы, чтобы человек забыл о своих «дерзостях», стал
бы смиренным, покорным, вполне зависимым об бога существом.
Провидение, прячущее благо от людских взоров, окутывая его
печалью, чтобы не ослепить их, он считает недаром «растроган-
ным» человеческими несчастиями и «деликатным» в отношении
человека. Если человек полон недостатков и недостоин божест-
ва, то Провидение представляется поэту безупречным и вызыва-
ющим восторг.
Если в «Любви» еще присутствовало материальное начало,
как это характерно для символизма — даже символизма религи-
озного, то в «Счастье» материальное начало оказывается почти
полностью элиминировано, а вместе с ним уходит почва из-под
самого символизма, который окончательно перерождается в по-
следовательно религиозное мироощущение. Здесь уже почти не
встретишь пейзажных стихотворений типа «Борнемут». Здесь
нет портретных зарисовок, как в 9, 10 и 11-й главах «Люсьена
Летинуа». Зато очень усиливается наметившаяся уже в «Мудро-
сти» и «Любви» тенденция к изображению отвлеченных сущно-
стей.
Уже в «Мудрости» появлялись аллегории, например добрый
Рыцарь-Несчастье, который вонзает железные пальцы своей
перчатки в грудь поэта; или добрая Дама в белоснежном оде-
янии, спустившаяся с облаков и обратившая в бегство плоть, чу-
довище, великаншу. Эта Дама — Молитва. В стихотворении «Он
говорит еще» из сборника «Любовь» действовали Гордость, Сла-
дострастие, Долг. Сладострастие шептало что-то лирическому
герою на ухо, Гордость молчала как проклятая, а Долг стучал-
ся в запертую дверь, пытаясь проникнуть в помещение, где на-
ходился герой. Во второй главе «Люсьена Летинуа» лириче-
ского героя окружали и теснили Ненависть, Зависть и Деньги.
Смерть рисовалась в виде роковой Борзой, которая преследова-
ло его — Волка, загнанного, лишенного убежища.
В том же направлении развивается изображение мира в
178
«Счастье». Стихотворение XII посвящено Целомудрию с очень
здоровым, крепким телом. В стихотворении XI фигурируют
Сладострастие, Скупость, Леность, Зависть, Гнев, Чревоугодие,
Гордость и др. Здесь же идет речь о Надежде, о Вере, о Проще-
нии. В стихотворении XIV поэт говорит о Стыдливости, Спокой-
ствии, Уважении, Тишине и Бдительности. В этих стихотворе-
ниях изменяется у Верлена самый состав изображаемого. Лири-
ческий герой «одинок» и окружен абстрактными сущностями.
Очень важно для «Счастья» также то, что эти сущности, симво-
лы идей являются производными бога. Целомудрие прямо по-
слано божеством человеку. Что касается Сладострастия, Скупо-
сти, Лености и других пороков, то человек сопротивляется им,
преодолевает их с помощью Надежды, Веры, Прощения. Потом
его добрая воля становится спокойней, и благородная работа,
предпринятая Прощением, завершается на «последних небесах»,
в вечной жизни.
В «Счастье» много стихотворений посвящено прямому обще-
нию человека с богом, отведено лирическим монологам героя.
Герой рассказывает, как бог пришел на помощь ему, поддержал
его в момент морального падения, вмешался в его судьбу, вло-
жил в его сознание и душу веру. Так из стихотворения XVI мы
узнаем, как бог подвергал человека испытаниям, как он позво-
лял дьяволу соблазнять его, как она карал его плоть болью и
голодом, как самое наказание оказалось на деле «протянутой
рукой помощи» (perche tendue), явилось началом «спасения» для
человека: он утратил трусость, его воля перестала подчиняться
гордости и сладострастию.
11
Наряду с моментами, прямо продолжаю-
щими традиции «Мудрости», традиции религиозного символиз-
ма, мы находим в стихотворениях, написанных в конце 80-х го-
дов и особенно в первой половине 90-х годов, новые мотивы.
Симптоматично тяготение поэта к окружающему, материально-
му, вещественному миру — миру плоти, но снова ограниченное
образом любимой женщины. Об этом свидетельствуют сборник
«Параллельно» (1889), а также небольшие сборники, которые
вышли в 1891—1894 гг.,— «Песни для нее» («Chansons pour El-
ie», 1891), «Оды в ее честь» («Odes en son honneur», 1893),
«В преддверии рая» («Dans les Limbes», 1894) и, наконец, по-
смертный сборник Верлена «Плоть» («Chair», 1896).
Очень важно, что все эти сборники ни в коем случае не
свидетельствуют о каком-либо полном разрыве поэта с традици-
ями «Мудрости». Материальный мир теперь существует уже не
самостоятельно, как раньше, в 1865—1872 гг., и не заменен по-
тусторонним, как в «Мудрости», а присутствует как бы рядом с
179
потусторонним, в тесной и органической соотнесенности с ним,
но лишен его одухотворенности, ибо последняя соотносится
только с миром бога. Поэт не отрицает в этих стихотворениях
возвышенную сферу «Мудрости», как бы просвечивающую через
здешнее, а только дополняет эту сферу. Очень характерно в
этом отношении высказывание, содержащееся в стихотворе-
нии X сборника «В преддверии рая». Поэт заявляет в нем, что
бог — источник бытия, что любовь героя к возлюбленной —ре-
зультат воли божьей, что Иисус, распятый на кресте, как бы
заранее искупил грехи человека и любимой им жен-
щины 31.
Внешний мир сводится в последних сборниках Верлена к
грубой материи именно потому, что он находится вне бога.
Если в «Доброй песне» и в «Романсах без слов» большую роль
играл образ любимой девушки, впоследствии ставшей женой,
если в «Мудрости» и «Счастье» все внимание поэта было погло-
щено образом бога, если в «Любви» образ сына воспринимался
только в соотнесенности с богом, то в стихотворениях последне-
го периода образы бога, земной возлюбленной и сына уступают
место образу женщины как средоточию похоти и сладострастия.
Человеческое ослаблено в поэзии Верлена уже начиная с «Муд-
рости», а у позднего Верлена, т. е. в его сборниках 80-х и
90-х годов, вытесняется животным. Совсем не случайно поэт вы-
двигает в качестве образца для себя и для любимой воробьев и
оленей («Песни для нее», XVII).
В художественной манере, принятой Верленом в последних
сборниках, наряду с религиозным символизмом, характерным
для «Мудрости», проявляются и моменты определенного отхода
от символизма вообще — и религиозного, и гуманистического.
Мир трактуется в этих сборниках по преимуществу одноплано-
во, без включения в образ, в его глубинную часть иного содер-
жания — будь то человеческое сознание, возлюбленная или
бог 32.
Если ранее поэт интересовался женщиной в целом — и ее
внутренним существом, и ее внешним обликом, и ее душой, и ее
телом, то теперь изображение возлюбленной ограничивается вос-
произведением ее тела. Душа просто исчезает. Поэту в общем
все равно: черная или белая, жестокая или добрая душа у лю-
бимой им женщины. Главное для него — это ее кожа цвета слоно-
вой кости, ее плоть, убаюкивающая его плоть; для него и для
его возлюбленной очень важно, что они находятся в здешнем
31 В стихотворении XXV из сборника «Песни для нее» поэт, правда, говорит
о том, что был мистиком в прошлом, а теперь женщина захватила его цели-
ком, стала его господином. Но это стихотворение стоит особняком среди
произведений Верлена 90-х годов.
32 «Символизму нечего делать там, где прославляется только тело» (L. Morice.
Verlaine. Le drame religieux. P., 1946, p. 398).
180
мире, на этом свете (ici bas), на круглой земле, а не на небе
(«Песни для нее», VIII) 33 34.
Женщина здесь, по сути дела,— только приложение к круже-
вам, сквозь которые виднеется ее тело, укрывающим ее «безум-
ным простыням» и лежащим возле нее «колдуньям»-подушкам.
Если поэт в стихотворении «К госпоже» из сб. «Параллельно»
упоминает про улыбку женщины, то только потому, что она об-
нажает при этом зубы, напоминающие ему зубы волка. Телесное
восприятие возлюбленной и ее отношения с лирическим героем
делают понятным и очень существенным для поздней поэзии
Верлена мотив столкновения тел. На смену пассивному и лири-
ческому созерцанию и воспоминанию, которое характерно для
«Доброй песни» и «Романсов’без слов», на место страстных ин-
вектив и обличений из «Сатурновых стихов» и «Побежденных»
приходит тема драк и потасовок. Поэт рассказывает в «Песнях
для нее», как его ударила любимая им женщина, как он ее по-
бил, как на него посыпался град пощечин и оплеух, перемежав-
шихся с поцелуями. В «В преддверии рая» герой и возлюбленная
обмениваются ругательствами и открывают друг другу объятия.
В связи с этим ограничен и образ самого лирического героя по-
следних сборников Верлена. Он признает, что возлюбленная
превратила его в глупца, в цифру, в символ, в дуновение («Cas-
ta piena» из «Параллельно»), Он готов стать вещью («Оды в ее
честь»).
Плоский и вульгарный материализм дополняется в послед-
них сборниках Верлена субъективистским и индивидуалистиче-
ским отношением поэта к миру. Главное в предмете любви — не
эгоистическое наслаждение (ср. «Весну» и «Эти страсти» из «Па-
раллельно» или «Оды в ее честь»), всепоглощающее безумие
страсти (см. «Песни для нее») 3‘. Очень характерно для дека-
дентского или субъективистского равнодушия к людям в произ-
ведениях позднего Верлена XIII стихотворение из «Песен для
нее». Лирический герой этого стихотворения не знает, брюнетка
33 Elie la berce, ma chair folle,
Та folle de chair, ma parole
La plus sacree! — et que done bien!
Et la mienne, grace a la tienne,
Quelque reserve qui la tienne,
Elie s’en donne, nom d’un chien!
34 Ta gorge, tes hanches, ton geste,
Et la reste, odeur et fraicheur
Et chaleur m’insinuent: reste!
Si j’y reste, en ton lit mangeur!
Ta gorge! tes hanches! ton geste!
Quant a nos ames, dis, Madame,
Tu sais, mon ame et puis ton ame,
Nous en moquons-nous? Que non pas!
Seulement nous sommes au monde.
Ici-bas, sur la terre ronde,
Et non au ciel, mais ici-bas.
(«Chansons pour elle"’ XIX». p.»724)
181
или блондинка любимая им женщина, черные или голубые у нее
глаза. Ему нравится «глубокая ясность» ее взоров, он обожает
беспорядок ее волос. Но ему совершенно неизвестно, чувстви-
тельное или насмешливое у нее сердце, мягка или жестока она
по своему характеру. Он радуется только тому, что сердце ее
одержало над ним победу, стало его «господином».
Для стихотворений последнего периода
творческого развития Верлена очень важно не максимальное
расширение, а, наоборот, предельное сужение предмета изобра-
жения и его границ. Уже затронутый в «Мудрости» декадент-
скими и религиозными влияниями, знаменующими в целом нача-
ло дегуманизации, обесчеловечения искусства, предмет изобра-
жения в более поздних сборниках Верлена еще более ограничен
и сужен. Дегуманизация углубляется. Человек сводится у позд-
него Верлена к телу, поэзия замыкается в границы эротики и
по существу исключает какие-либо открытия и новации.
Глава пятая
АРТЮР РЕМБО
1
Артюр Рембо (Arthur Rimbaud, 1854—
1891), тоже один из первых поэтов-символистов, создает свои сти-
хи несколько позже, чем Бодлер и Верлен. Начало их творческой
деятельности относится к 60-м (Верлен) и даже к рубежу
40-х и 50-х годов (Бодлер), Рембо же выступает как поэт в
J самом конце Третьей империи (1870 г.) и во времена Париж-
ской Коммуны (1871 г.). По-настоящему близок к декадентству
он становится лишь в произведениях, написанных после 1871 г.,
в 1872 и 1873 гг., хотя он и продолжает в них многое наметившееся
в творчестве 1870—1871 гг.
Что касается стихотворений Рембо первого периода, то для
них знаменательно их принципиальное отличие от лирики Вер-
лена, который вступает в литературу на несколько лет раньше
и продолжает писать на переходе от 60-х к 70-м годам одно-
временно с Рембо, создавая параллельно с ним «Романсы без
слов» и первые стихотворения «Мудрости».
Рембо отвергает в своих стихах установку Верлена на де-
материализацию, разуплотненность изображаемого. Он раскры-
вает не вереницу мимолетных или более устойчивых впечат-
лений и настроений, а некую совокупность материал ных _яв-
лений. Поэтическая действительность насыщается у него
предметными формами, наполняется телами и вещами, пред-
ставляется максимально уплотненной и материализованной. По
своей утонченности и детализованное™ материальный мир, по-
казанный в стихотворениях Рембо, в какой-то степени напоми-
нает бодлеровскую лирику и даже превосходит ее в этом от-
ношении.
В ранних стихотворениях Рембо, например в его «Офе-
лии» *, мы сталкиваемся, правда, со сниженной интенсивностью
* Void plus de mille ans que ia triste Ophelie
Passe, fantome blanc, sur le long fleuve noir.
Void plus de mille ans que sa douce folie
Murmure sa romance a la brise du soir.
(p. 26)
Стихи Рембо цитируются по изданию: .4. Rimbaud. Poesies. Р., 1963.
183
цвета и звучания, с некоторой замедленностью, приглушенно-
стью, удаленностью всего громкого и ослепляющего. Офелия
бледна, как снег, свои песни она шепчет, она медленно плы-
вет по реке, от прикосновения возлюбленного тает, как снег от
огня. Ветры говорят с ней совсем тихо, ольха возле нее спит,
ночь и кувшинки вздыхают, волна бормочет, из гнезда выры-
вается легкий трепет крыльев, песнь охотников слышна в лесах
лишь издали. Но эта картина не типична для Рембо. В боль-
шинстве своих стихотворений он следует совсем иным прин-
ципам и установкам. Мы встречаемся у поэта прежде всего с
чрезвычайным обилием и дифференцированностью форм расти-
тельного мира. Мы находим у него не только деревья, кустар-
ники и травы вообще. В его стихах говорится об ольхе, об иве,
тополе, ельнике, орешнике, липе, тутовом дереве, о виноград-
никах, тростнике, черемухе, боярышнике, повилике, люцерне,
водорослях, кувшинках, лишайниках, о розе, лилии, фиалках.
Человек показан у Рембо как бы со всех сторон стисну-
\jTbiM разнообразными предметами внешнего мира. Если с Офели-
ей соседствуют у него ночь, звезды, гора, море, реки, ветер,
крылья птиц, птичье гнездо («Офелия»), если небеса в «Пра-
веднике» наполнены у него кометами и светилами, астероида-
ми и метеоритами, то образ работницы Жанны-Марии окружен
алмазами и сигарами, апельсинами и машинами, детским бель-
ем и печами, белилами и румянами, пулеметами и наручни-
ками («Руки Жанны-Марии»). И в других стихотворениях
Рембо человека отягощает масса вещей — лорнетки, брелоки,
табакерки, тромбоны, палки с набалдашниками («Под музыку»),
занавески у постели, белье, развешанное на дворе после стир-
ки, простыни на постели («Первое причастие»), требники, очки,
вязанье, трубки для куренья («Что удерживает Нину?»), тартин-
ки с маслом и ветчиной, головки чеснока, кружка пива («В зе-
леном кабачке»), топоры и пилы («Таможенники»), подушки и
зеркала («Зимние грезы»), парусники, понтоны, корабли, гру-
женные хлопком, вымпелы, якоря, фонари на набережной
(«Пьяный корабль»). Комнаты, в которых живет человек, за-
громождены мебелью. Тут и стенные часы, буфет («Буфет»),
и стулья, столы («Сидящие»), и постели, лари («Что удержи-
вает Нину?»), и столик из красного дерева («Семилетние поэ-
ты»), и табуретки («Приседания»),
Поэт внимателен к человеческому телу, которое игнориро-
валось ранним Верленом. В стихах Рембо говорится о бедрах
и животах разжиревших буржуа («Под музыку»), о темени,
глазах, подбородках, боках, коленях чиновников («Сидящие»),
о животе, ляжках старика («Приседания»). В облике Тартюфа
(«Наказание Тартюфа») описаны рот, ухо, кожа.
На руки, плечи, торс, ноги человека одето огромное коли-
чество платья и обуви — кружева и косынки («Буфет»), вуали
(«Офелия»), манжеты и зеленые козырьки («Сидящие»), сит-
184
цевые платья и панталоны («Семилетние поэты»), корсажи
(«Под музыку») и штаны («Приседания»), ботинки («В зеленом
кабачке»), лохмотья (там же), кофточки и туники («Первое
причастие»).
Стоит отметить точность места действия у Рембо — тропин-
ка в поле («Ощущение»), берег реки («Спящий в ложбине»),
садик за домом, комната в доме, наверху («Семилетние поэ-
ты»), хлев («Что удерживает Нину?»), вагон («Зимние грезы»),
кабачок («В зеленом кабачке»), спальня, отхожее место («Пер-
вое причастие»), хлебопекарня («Завороженные»), церковь
(«Бедняки в церкви»), просторы океана («Пьяный корабль»),
парижские улицы («Парижская оргия, или Париж заселяется
вновь») и т. п„
Заслуживает внимания, наконец, обилие профессий и соци-
альных характеристик, отличающих героев Рембо. Верлен вспо-
минает дйшь немногие виды социального положения человека.
Рембо населяет свои стихи подавальщицами в кафе, булочни-
ками, солдауйми и матерями солдат, генералами, рантье, от-
ставными лавочниками, нотариусами, уличными мальчишками,
кузнецами, священниками, таможенниками, библиотекарями,
рабочими, цирюльниками. Предметы часто повертываются у
Рембо различными своими аспектами и атрибутами. Поэт ви-
дит солому в сиденье стульев («Сидящие»), гвоздь («Таможен-
ники»), обои, покрытые плесенью, лампы, свешивающиеся с
потолка («Семилетние поэты»), шишку на лбу («Семилетние
поэты»), кадык на шее («Сидящие»), ладони, фаланги пальцев
(«Руки Жанны-Марии»), подошвы ног («Ощущение»), Изобра-
женное показано как бы через лупу или микроскоп, внимание
героя сосредоточено на мельчайших деталях и элементах це-
лого. В «Венере Анадиомене» поэт сам заявляет, что он рас-
сказывает об особенностях тела, которые нужно рассматривать
в лупу, а в стихотворении «Что удерживает Нину»?» лириче-
ский герой, опьяненный голубой кровью возлюбленной, теку-
щей под ее кожей, пристально смотрит на синие круги вокруг
ее глаз.
Максимальная приближенность внешнего мира поддержи-
вается тем, что отдельные его явления предстают многоцветны-
ми, полихронными. У Венеры Анадиомены коричневые волосы,
серая шея, красноватая спина. У возлюбленной героя из сти-
хотворения «Что удерживает Нину?» белый халат, бело-розовая
кожа, черные глаза. Многоцветность отличает, впрочем, здесь
не только отдельные явления, но и всю действительность: она
многостороння, многоаспектна. Уже в стихотворении «Солнце
и плоть» мы встречаемся с зеленой почкой, синими волнами,
белым парусом, золотыми бедрами, черной пеной, рыжими
пантерами. В «Пьяном корабле» настоящая оргия красок и от-
тенков, их обилие и неисчерпаемость потрясающи. Тут и алею-
щее небо, и черные морские коньки, и белые глаза птиц,
185
и рыжий цвет любви, и серебряное солнце, и фиолетовые тучи,
и синие потоки воды, и зеленая ночь, и изумрудные или се-
ро-зеленые волны, и ультрамариновые или горящие небеса,
и золотые рыбы. Этой полихронностью как бы подчеркивается
изобилие форм внешнего мира. На черных волнах плывет бе-
лый призрак Офелии. Белизна крыльев лебедя в «Солнце и
плоти» дается на фоне розового лавра. В том же стихотворе-
нии белоснежное тело Киприды купается в черных волнах,
а золотая колесница Лизия разукрашена черным виноградом
и влекома рыжими пантерами. Изобилие красок, подчеркиваю-
щее неисчерпаемость аспектов внешнего мира, связано с тем,
что этот мир как бы демонстрирует свои разные временные мо-
менты. Море в «Пьяном корабле» показано то ночью, когда
фосфоресцируют мельчайшие животные, то во время рассвета,
когда дно напоминает по своей белизне стаю голубей, то днем,
когда все озаряется ярким блеском солнца, когда солнце се-
ребристо, а волны перламутровы.
X
2
Материальность, вещественность, кото-
рую мы обнаруживаем в стихах Рембо, совсем не означает
атомистической раздробленности, внутренней расщепленности
действительности, которая была нам знакома по стихотворе-
ниям парнасцев. Уже в «Солнце и плоти», одном из первых
стихотворений Рембо, прокламируется цельность, органичность,
гармония внешнего мира. Поэт сожалеет здесь о временах ан-
тичности, когда жили сатиры и фавны, когда человек был це-
ломудрен и нежен. Тогда соки земли, воды реки, кровь де-
ревьев как бы вливали всю Вселенную в жилы одного су-
щества —- Пана, отдельные элементы сливались в едином орга-
низме. Предметы устремлялись тогда друг к другу: немые де-
ревья укачивали поющих птиц, а земля убаюкивала человека.
Поэт явно предпочитает, как свидетельствует то же «Солн-
це и плоть»2, Афродиту — воплощение античности— христиан-
ству и «другому богу», который, по его словам, «привязал че-
ловека к своему кресту». Предпочтение это вызвано не только
тем, что античность представляется Рембо прежде всего миром
плоти, мрамора, цветов, царством любви: Афродита заставила
2 Je regrette les temps de 1’antique jeunesse,
Des satyres lascifs, des faunes animaux,
Dieux qui mordaient d’amour I’ecorce des rameaux
Et dans les nenufars baisaient la Nymphe blonde!
Je regrette les temps oil la seve du monde,
L’eau du fleuve, le sang rose des arbres verts
Dans les veines de Pan mettaient un univers!
(p. 21)
186
весь мир трепетать во вселенском лобзанье, внесла в сущест-
вующее гармонию; современность же, поскольку она прониклась
спиритуалистической и аскетической религией христианства,
сделала путь человека горьким. Современный человек, приняв-
ший христианство, стал грустным и некрасивым, загрязнил свое
гордое, божественное, олимпийское тело, дал ему захиреть в
«грязном порабощении»; тело стало уродливым — он начал при-
крывать его одеждами.
Современный человек уверяет, по словам Рембо, что он царь,
бог, что он знает все. И, однако, он шествует по земле, отор-
ванный от природы, скованный невежеством и пустыми мечта-
ми. Он закрыл глаза и уши, ничего не видит и не слышит,
его бледный разум прячет от него бесконечность Вселенной.
В противовес этому современному человеку, который ли-
шился слуха и зрения, углубился в сомнения, Рембо выдвига-
ет героя, который приемлет чувственное богатство материаль-
ного мира, насыщенного звуками, красками, запахами. Он ри-
сует Вселенную в богатстве соответствий и связей, изображает
ее как всеобщее взаимодействие вещей и тел, как космос. Вза-
иморасположенность предметов сменяется у него их взаимо-
проникновением. Он демонстрирует вмешательство одних явле-
ний в другие. Твердые грани между предметами уничтожаются
Возлюбленную героя в стихотворении «Что удерживает Нину?»
лобзает ветер, ей надоедает своими приставаниями розовый
шиповник. Она радостно принимает прикосновения и ветра и
любимого.
В «Реке Касси» ветер погружается в воду и как бы плы-
вет по ней. В «Искательницах вшей» воздух убаюкивает цве-
ты, стоящие на окне. В «Пьяном корабле» судно, покрытое
туманом, пробивает небо как стену, а зеленая морская вода
смывает синие пятна с корабля. В «Офелии» ветер спускается
к героине с высоких норвежских гор, говорит с ней и разве-
вает ее волосы.
Цвет предметов зависит от их воздействия друг на друга.
Кружка пенящегося (т. е. белого) пива оказывается позлащен-
ной лучами заходящего солнца («В зеленом кабачке»), ложби-
на, подобно озеру, пенится от лучей солнца («Спящий в
ложбине»), корабль поглощает зеленое небо и становится мо-
лочно-белым («Пьяный корабль»), золотая колесница Лизия
окрашивает темную пену синих волн в красный цвет («Солнце
и плоть»),
Рембо интересуют не столько формы, сколько цвета, крас-
ки. Многоцветность мира связана у поэта с контрастной ок-
рашенностью рядом лежащих явлений, подчеркивает не столько
границы этих явлений, сколько границы окрашенных плоско-
стей, пределы красочных, цветовых сфер. Так, в «Заворожен-
ных» мальчишки в черном рельефно выступают на фоне снега,
т. е. на фоне белого. Но, кроме снега, здесь и другие пред-
187
меты белых или гюлубелых оттенков — сырое тесто, белый хлеб,
белые руки булочника, замешивающего тесто, а рядом сфера
красного — красные отдушины в печи и розовые мордочки ре-
бят. То же в «Зимних грезах» — розовый вагон, голубые по-
душки, составляющие как бы передний план картины, а за
окнами темнота — черные демоны и черные волки, которых
боится возлюбленная героя. В «Пьяном корабле» обширные
сферы одного цвета или одной раскраски — зеленое небо, зе-
леная вода, зеленая ночь, серо-зеленые, изумрудные волны; по-
том синие потоки воды, фиолетовые туманы, лиловые тучи.
Ср. еще «Голову фавна», где из листвы, которая напоминает
поэту зеленый ларец, украшенный золотом (очевидно, имеются
в виду лучи заходящего солнца, озаряющие зеленую листву),
выглядывает голова фавна, рвущего белыми зубами красные
цветы, причем его губы черны от крови, т. е. сливаются с
красными цветами.
Вещи, определенным образом окрашенные, расцвеченные, яв-
ляются элементами единого полихронного целого, соотносимыми
друг с другом или противопоставленными друг другу. Так, уби-
тый солдат («Спящий в ложбине») покоится среди серебристых
брызг. Он как бы слился с поглотившей его природой, с сине-
зеленой травой и темно-синим берегом, его ласкают волны.
Такую же роль в «Пьяном корабле» играют закатные лучи
солнца, озаряющие лиловые тучи, или ультрамариновые небеса
с раскаленными воронками в них, или, наконец, ослепительные
снега на фоне зеленой ночи. То, что восприятию красок часто
подчинено у Рембо восприятие вещей, особенно ясно видно в
его сонете «Гласные», где предметы объединяются в различные
совокупности в зависимости от их раскраски. Так, заливы тени
соседствуют в сонете с черным бархатным корсетом мух как
элементы черного. А сфера белого образуется из туманов, па-
латок, пиков ледников. В области красного — кровь и губы.
3
Когда мы говорим, что Рембо в проти-
воположность Верлену концентрирует свое внимание на уплот-
ненности мира, это, конечно, не означает, что он, подобно пар-
насцам, принимает всякую материальность, ценит веществен-
ность мира как таковую, выше всего ставя в ней плотность,
прочность, весомость, как, например, Теофиль Готье3. Рембо
3 Направленность поэзии Рембо против парнасцев проявляется и в его стихо-
творении «То, что говорят поэту относительно цветов». Рембо осуждает ук-
рашенность, эстетизированность мира, характерную для Готье. Он выска-
зывается за прозаичность, простоту, даже грубоватость. Глубоко не прав
Кулон (М. Coulon. La vie de Rimbaud et son oeuvre. P., 1929, p. 141—-152).
рассматривающий указанное стихотворение Рембо как преддверие его более
поздних произведений, например «Пребывания в аду», и игнорирующий его
антипарнасскую заостренность.
188
против материи, лишенной движения, косной, статичной. Он ло-
кализует дематериализованное в определенной области, напри-
мер в сфере природы, или раскрывает разуплотненное в схват-
ке с материей и плотью. В стихотворении «Роман» сталкивают-
ся две сферы: с одной стороны, шумное кафе, пивные кружки,
сверкающие люстры, шум города, ужасающий воротничок, ко-
торый носит отец возлюбленной, с другой — совсем маленький
кусочек темного неба, окаймленный ветками. В центре него —
как бы приколотая к нему белая звездочка. Она трепещет и
тает.
В «Искательницах вшей» материальное начало, являющееся
притом сугубо негативным,— тяжелые волосы ребенка, покры-
тые вшами, красный от укусов насекомых, расчесанный лоб —
отнюдь не составляет главного для Рембо. Главное — рой
нежных снов, которые опускаются на чело ребенка, хрупкие,
нежные пальцы, серебристые ногти женщин, которые осво-
бождают его волосы от насекомых, голубой воздух. У женщин,
занятых поисками насекомых, боязливые движения, их губы
производят не шум, а свист или шорох. Они не целуют ребен-
ка, а только желают поцеловать его. Их дыхание пахнет ме-
дом, шорох их ресниц прерывает душистое молчание. И вот
имматериальное, легкое, оказывается более мощным, нежели
тяжелый материальный мир. Оно освобождает волосы ребенка
от насекомых, от грязи, уродства; ему свойственна сила, энер-
гия, динамичность, которых явно недостает тяжелой, неподвиж-
ной материи.
Материальность мира Рембо, в отличие от парнасцев, це-
нит только в том случае, если эта материальность не отвер-
гает движения, если она динамична4. Поэт явно предпочитает
жидкие и воздушные формы материи твердым телам. Это пред-
почтение основано на том, что первые подвижны, текучи, что
они колеблются, переливаются, полны динамики. Типично для
Рембо стихотворение «Спящий в ложбине», в котором статичное
и твердое превращается в жидкое и текучее. Ложбина пред-
ставляется поэту маленьким озером, пенящимся от лучей солн-
ца. Она как бы подчинена реке, которая течет, набрасывая
на траву лохмотья серебра, т. е. осыпая ее брызгами воды.
Свет здесь тоже струится, как дождь. Затылок убитого солдата
купается (baigne) в свежести травы.
Характерна и «Комедия жажды», где восторг поэта вызы-
вают чистое течение воды, море, дикие реки, пруд, поток, те-
кущий во рву вокруг замка; здесь говорится об омытом дож-
дями замке, о снеге, о плавающих бревнах, о холодном поте,
4 Исследователь Верлена Ж. Зайед (G. Zayed. La formation littcraire de Ver-
laine. P., 1962) прямо указывает, что парнасцы не искали «я» вещей, поэто-
му описания у них «холодны, неподвижны, замороженны». У Рембо, про-
должает Зайед, они, напротив, «живы, сверкают» (стр. 355).
189
о цветах на воде, о влажных фиалках, о всякого рода напит-
ках — сухих винах, абсенте, горькой водке, сидре, молоке, чае,
кофе,— о всякого рода сосудах для жидкости; и о чувстве жаж-
ды, о желании ее утолить. Любопытно стихотворение «Празд-
ник голода», в котором лирического героя окружает мир зем-
ли, твердых тел и камней, скал, валунов и гальки, угля и
железа, серых долин, в которых растет хлеб. Это все сфера
ночи, черного воздуха, который как бы держит в плену поэта.
Стихотворение заканчивается появлением на земле органиче-
ского мира — листьев, плодов, фиалок, которые собирает поэт,
освобожденный теперь от статики и неподвижности.
Статика и неподвижность материального мира, близкая пар-
насцам, вызывает резкое сопротивление поэта (см. «Под му-
зыку», «Сидящие», «Приседания»). Рантье, лавочники, удалив-
шиеся на покой, отставные чиновники отяжелели, придавлены
к земле. Они преувеличенно толсты, тучны, у них округлые
бедра, безбрежное брюхо. Они страдают одышкой, пыхтят от
жары, кажутся распухшими. Их толстых жен ведут компаньон-
ки, именуемые проводниками слонов. Все они инертны, не дви-
жутся, а покоятся, пребывают. И это — явление, предельно
враждебное для Рембо 5./Стихотворение «Сидящие»—-посвяще-
но людям, утратившим способность передвигаться. Они сидят
так крепко, что срослись со своими сиденьями. Ноги их пере-
плелись с ножками стульев. В «Сидящих» рассказывается о
мире, в котором стерлась грань между органическим и неор-
ганическим, между одушевленным и неодушевленным. Головы
сидящих напоминают стены, покрытые подтеками сырости, ко-
жа у них высушена солнцем, стала похожа на коленкор.
А стулья, на которых они сидят, и стены, которые их окружа-
ют, стали похожими на человеческое тело и даже испытывают
болезни человека, выглядят так, словно у них проказа или ра-
хит. Части же костюма сидящих одушевлены, например, пу-
говицы уподобляются человеческим глазам. Рембо недаром го-
ворит о черных скелетах стульев. Люди, просиживающие целые
дни у письменных столов, представляются поэту уродливыми,
некрасивыми и вызывают скорее насмешку, чем жалость. У них
распухшие пальцы, покрытые наростами. У них смешные шта-
ны, обвисшие на коленках. Они производят жалкое впечатле-
ние, напоминают то кошек, то побитых собак.
Но их руки способны убивать. Их взгляды источают яд.
Они ненавидят посетителей, обращающихся к ним с какой-либо
просьбой, тех, кто заставляет их подняться, расстаться со
своими сиденьями, утратить неподвижность.
8 Любопытно, что исследователи Верлена видят коренное отличие его поэзии
от поэзии Рембо в том, что герой Верлена всегда сидел и видел вещи «в по-
кое», в то время как герой Рембо обнаруживал сразу все движущимся,
«одушевленным». У него происходило «накопление, собирание, столкновение
чужеродных образов» (см. об этом у Зайеда.— Указ, соч., стр. 363).
190
Принцип неподвижности, статичности — символ враждебного
мира и в стихотворении «Приседания». Стихотворение это рас-
сказывает о монахе Милотии, у которого недаром красный,
подобный полипу, нос, похожий на твердое, каменистое тело.
Самое примечательное в нем — живот, кишки, колени, ляжки,
пальцы ног, нижняя губа, отвисающая чуть ли не до пояса.
У него влажная кожа, на которой растет черная шерсть. Он
живет растительной жизнью. В течение суток, и днем при солн-
це, и ночью при луне, он только и знает, что ест, пьет, греет-
ся у печки на скамейке, валяется на постели под одеялом
или сидит на ночном горшке с задранной рубашкой. Подоб-
но тупому животному, он сопит, его мучает икота. Его голова
начинена всякой ерундой (chiffons), у него рассеянный, как бы
ослепленный взгляд. Он живет в маленькой, жаркой комнатке,
загроможденной мебелью, под хлопьями пыли. Любопытно, что
Милотий сближается с животными, с растительным миром,
с вещами, а мебель кажется одушевленной. У буфета, напри-
мер, огромная глотка, которую он раскрывает во сне, зевая.
Вещи уравнены с человеком и ничуть не менее сознательны,
чем он 6.
4
Мы уже говорили выше, что включение
чувственной, материальной действительности в поэзию Рембо
связано с пантеистическим отношением к миру, с воспомина-
ниями об античности, об единстве человека с природой, об
этом достаточно свидетельствует - уже раннее стихотворение
«Солнце и плоть». Но пантеистические мотивы ощущаются у
Рембо позднее. Пантеизм побуждает Рембо резко различать,
с одной стороны, все близкое к природе, естественное, нор-
мальное и, с другой — всякого рода отклонения от естествен-
ного, от нормы, всякого рода извращения. Это и позволяет
поэту изображать то, о чем обычно не говорится, что вступает
в противоречие с «приличиями», установками принятой в об-
ществе морали, но что на самом деле является нормой. Так, в
стихотворении «Что удерживает Нину?» поэт говорит как о чем-
то само собой разумеющемся об испражняющейся корове,
6 Autour, dort un fouillis de meubles abrutis
Dans des haillons de ciasse et sur de sales ventres;
Des escabeaux, crapauds etranges, sent blottis
Aux coins noirs: des buffets ont des gueules de chantres
Qu’entr’ouvre un sommeil plein d’horribles appetits.
L’ecoeurante chaleur gorge chambre etroite;
Le cerveau du bonhomme est bourre de chiffons.
Il ccoutc les poils pousser dans sa peau moite,
Et, parfois, en hoquets fort gravement bouffons
S’echappe, secouant son escabeau qui boite...
(p. 50)
191
В «Вечерней молитве» упоминает про теплые испражнения в
голубятне, выписывает во всех подробностях героя, орошающе-
го струей мочи гелиотропы. Это все можно воспринять как сни-
жение поэтического, стремление вызвать скандал, эпатировать.
Но Рембо увлекает здесь не столько снижение явлений, сколько
возвращение к норме, ибо все эти «неприличные» подробности
не противоречат природе, а соответствуют естественному ходу
жизни.
В стремлении возвратиться к природе следует видеть смысл
таких вещей, как «Сидящие», «Приседания», «Под музыку»:
поэт отвергает тот материальный мир, который утратил свое
внутреннее содержание, свою душу, отвергает людей, потеряв-
ших свою подвижность, окаменевших, ставших косными. К сти-
хотворениям, обличающим извращения естественного, наруше-
ния природы, относятся и «Зло», «Спящий в ложбине», «Во-
ронье» и другие антимилитаристские стихотворения, в которых
поэт обрушивается на войну, демонстрирует вырождение при-
родного состояния под натиском кровавой цивилизации. В «Во-
ронье» поэт дает пейзаж национального бедствия, пейзаж де-
формированной, изуродованной, опустошенной природы, кото-
рую калечит война. Он говорит здесь об отцветшей природе
(nature defleurie), о пожелтевших реках, о рвах и ямах, изу-
родовавших землю, о холодных лужайках, холодных ветрах, об
уничтоженных деревнях. В стихотворении «Спящий в ложбине»
поэт описывает убитого, неподвижное тело которого — резко
контрастно живой, безмятежной природе. Об убийствах, со-
вершающихся на фоне бесконечного голубого неба, на фоне
лета, травы, радости природы, о превращении сотен и тысяч
людей, сотворенных природой, в дымящуюся груду, рассказы-
вает Рембо в «Зле». Война раскрывается в антитезе к природе,
как ее враг и разрушитель.
Сюда же относятся такие вещи, как «Бедняки в церкви» и
«Первые причастия», где отрицанию подвергается все связан-
ное со спиритуалистической христианской религией, нарушающей
законы природы. Церковь уравнивается с застойным деревен-
ским бытом. Недаром мухи, питающиеся в церкви воском, при-
носят с собой извне запахи постоялого двора и хлева. Поэт
видит в церкви, судя по «Первым причастиям», явление преж-
де всего «глупое»; церковные песнопения и молитвы он име-
нует «болтовней» (babillage); молящиеся в церкви мальчишки
кажутся ему уродливыми, а священники — черными и неуклю-
жими (grotesques).
Религия не только сделала любовь явлением греховным, объ-
ектом стыда, но еще и извратила нормальные инстинкты и
страсти (justes passions). О Христе говорится у Рембо нарочи-
то грубо: он битком набил глотки отвращением (bonda jusqu’a
la gorge de degout). Поэт воспринимает Христа как бога, не-
навидящего человека, и осыпает его за это проклятиями. Хрис-
192
тОС именуется у Него похитителем энергий, т. ё. человеческой
активности. Он лишил активности женщину, пригвоздил ее к
земле, обрек ее на стыд и на болезни, сделал ее бледной,
страдающей. Священники именуются в «Первых причастиях»
«грязными безумцами» (sales fous), которые искажают сущест-
вующее (deforment les mondes), делают души прогнившими
(pourries), в то время как проказа съедает нежные тела людей.
Любопытна для этого стихотворения антитеза черной причуд-
ливости (noir grotesque) религии — ясности солнца, которое
покрывает ребячьи лица загаром.
Принцип противоположности природы и цивилизации, при-
чем к последней у Рембо относятся война и церковь, сохра-
няет свое значение и в «Комедии жажды». Дед и бабушка
предлагают поэту выпить сухого вина, сидра или молока, он
предпочитает всему этому воду диких рек, которую пьют коро-
вы. Та же антитеза природы и цивилизации в стихотворении
«Река Касси». Целительный воздух загородных долин, вороны
и ветер, просеки в лесу и ельник противостоят здесь башням
замка и величественным аркам, вызывающим у лирического
героя воспоминания о мертвых страстях странствующих рыца-
рей, т. е. о средневековье. Любопытно, что пережитки феодаль-
ной эпохи он усматривает и в «хитрых крестьянах».
В одном ряду с башнями замка и парками стоят у него
деревни прошлых времен, окутанные возмутительными тайна-
ми. Он обращается к воронам, представителям природы7,
и просит их изгнать крестьян. Деревня связана в глазах Рембо
с косным и неподвижным, с грудой грязных булыжников, с тя-
желыми хлебами на полях, с охристыми (это слово вместо
«желтый» придает предмету особую тяжеловесность) тропинка-
ми между хлебами, с сожженными солнцем деревьями. Она как
бы подчеркивает косность действительности, ее статичность.
5
То, что в поэзии Рембо проводится рез-
кое различение и разграничение положительного и отрицатель-
ного аспектов мира, его позитивной и негативной сфер, связано
с присутствием в этом мире лирического героя особого типа.
Он в большинстве случаев — бродяга, путешественник, прези-
рающий сидящих людей, как бы окаменевших или прикован-
ных к месту. Именно в лирическом герое воплощено у Рембо
динамическое начало, противопоставленное косности. С героем-
бродягой мы встречаемся в «В зеленом кабачке», где он вытя-
гивает усталые ноги под столом, причем обувь у него разбита
7 В аналогичной функции, враждебной цивилизации и войнам, выступают пти-
цы и в «Воронье». Они охраняют природу от разрушения, именуются «до-
рогими» и «очаровательными».
7 Д. Д. Обломиевский
193
каменистыми дорогами, по которым он бродил. В «Хитрушке»
он шатается по дорогам и, придя в кабачок, шлепается в глу-
бокое кресло. В «Моем бродяжничестве» герой сидит у края
дороги, ощущает капли росы на своем лбу, слушает «нежный
шорох» звезд и считает созвездие Большой Медведицы гости-
ницей, так как привык ночевать под открытым небом. У него
истрепанная одежда, изношенные башмаки.
Образ лирического героя Рембо во многом продолжает уста-
новки Бодлера и Верлена как революционеров и реформаторов
поэзии, зачинателей импрессионизма и символизма во Франции.
Большое значение придается физическому облику человека, его
телу и тому, чем оно укрыто. Герой «Ощущения»8, которое
можно считать программным стихотворением Рембо, ничего не
говорит, ни о чем не думает, даже ни о чем не вспоминает.
Он мнет ногами растения, травы покалывают ступни его ног,
прохлада, ветер освежают его обнаженную голову. Внешний
мир дается, таким образом, через ощущения героя. То же в
«Солнце и плоти». Лирический герой лежит на спине в долине.
Он видит над собой солнце — средоточие нежности и жизни,
вливающее во все пылкую любовь. Он чувствует под собой
землю, зрелую и полнокровную, впитавшую в себя соки и лучи.
Он ощущает всем своим телом, что огромная утроба земли
дышит, подымается, опускается, что в ней кишат и теснятся
эмбрионы, зародыши, что все в ней растет и восходит. Сфера
ощущений занимает огромное место и в других стихотворениях.
Герой обращен к миру всеми своими органами чувств.
В стихотворении «Что удерживает Нину?» влюбленному бьет в
ноздри пьянящий воздух, он купается в голубом утре, его ле-
леют лучи солнца, он пьет запахи малины и земляники. В «Ро-
мане» поцелуи возлюбленной дрожат на его губах, как ма-
ленькие насекомые. Герой находится как бы во власти своего
обоняния, его обступают со всех сторон запахи: столовая,
пропахшая лаком и плодами, в «Хитрушке», аромат, струящий-
ся из открытого буфета, в «Буфете», дневные запахи садика,
которые «вымывает» лунная ночь, аромат восковых свечей в
стихотворении «Бедняки в церкви» или, наконец, запахи молока
и хлеба, которые доносятся из деревни вечером в стихотво-
рении «Что удерживает Нину?» Очень показательна для им-
прессионистического видения мира у Рембо «Слеза».
8 Par les soirs bleus d’ete, j’irai dans les sentiers,
Picote par les bles, fouler 1’herbe menue:
Revcur, j’en sentirai la fraicheur a mes pieds.
Je laisserai le vent baigner ma tete nue
Je ne parlerai pas, je ne penserai rien:
Mais 1’amour infini me montera dans 1’ame,
et j’irai loin, bien loin, comme un bohemien,
Par la Nature,— heureux comme avec une femme.
(P- 16)
194
Но у Рембо, как и у Бодлера или у Верлена, мир не ог-
раничен импрессионистическими моментами. У поэта-символиста
мир не сводится к совокупности ощущений. Значительную роль
играют глубинные слои психики, апперцепция и воображение.
Об этом свидетельствуют прежде всего сонет «Гласные». Здесь
очень большое значение имеет, на первый взгляд, сфера зри-
тельных ощущений. Мир дифференцируется в зависимости от
его цветовой окраски. В нем пять сфер, отличающихся пре-
обладанием черного, белого, красного, зеленого и синего цве-
тов. Но явления, включающиеся в одну из этих областей, под-
чиняются вместе с тем и пяти гласным (а, е, i, и, о), зави-
сят от психологических обертонов, душевных состояний, эмо-
циональных освещений или оценок9. Зонтичные травы попада-
ют в одну сферу с предметами белого цвета из-за дрожания
их при ветре, т. е. из-за того, что и явления белого цвета,
и зонтичные травы, и ледники порождают одинаковое состоя-
ние психики, вернее, вызывают у человека аналогичные реак-
ции, как бы предшествующие предметам внешнего мира. Губы
входят в область красного цвета не только потому, что они
красны, но и потому, что они подчинены гласной «i», что они
способны искривляться в гневе («levres belles dans la colere»),
создавать пронзительные звуки, ассоциироваться со смехом,
с определенным душевным состоянием.
Точно так же к области зеленого относятся не только зеле-
ные цвета моря, но и морщины, бороздящие лбы алхимиков
(«paix des rides que 1’alchimie imprime aux grands fronts
studieux»), поскольку зеленый цвет передает, так же как
гласная «и», состояние покоя, умиротворенности, наступающее
после утомительного и беспокойного труда. Кстати говоря,
пастбища, по которым мирно бродит скот, оказываются в об-
ласти зеленого и символизируются гласной «и», они тоже про-
изводят впечатление покоя.
В область синего или голубого, обозначенную гласной «о»,
входят пронзительные звуки трубы, ибо они распространяются
в небе и тем самым вызывают в памяти по ассоциациям
смежности образ небесной голубизны. В области голубого ока-
зывается и молчание миров и ангелов, ибо миры и ангелы
9 A noir, Е Ыапс, 1 rouge, U vert, О bleu: voyelles,
Je dirai quelque jour vos naissances latentes:
A, noir corset velu des mouches eclatantes
Qui bombinent autour des puanteurs cruelles...
Golfes d’ombre; E, candeurs des vapeurs et des tentes,
Lances des glaciers tiers, rois blancs, frissons d’ombelles,
I, pourpres, sang crache, rire des levres belles
Dans la colere ou les ivresses penitentes...
(P- 71)
195
тоже связаны с небесным пространством, т. е. опять-таки с
голубизной. Любопытно, что к сфере синего и голубого при-
мыкает и образ лилового луча, которым заканчиваются «Глас-
ные». И здесь опять-таки возникает по психологической ассо-
циации картина вечернего неба, в котором фиолетовое вы-
тесняет полуденные голубые краски.
6
Выделенность лирического героя Рембо
из целого, тесно связанная с дифференцированностью поло-
жительного и отрицательного в мире, не ограничивается, одна-
ко, тем, что человек находится в центре этого мира, являясь,
как это было у Верлена, объектом воздействия окружающих
вещей. Лирический герой Рембо ведет себя наступательно, аг-
рессивно в отношении внешнего мира. Это уже не пассивный
созерцатель, пусть даже осмысляющий всю реальную действи-
тельность, как герой Бодлера или Верлена. Это активный де-
ятель, вмешивающийся в действительность, вторгающийся,
вклинивающийся в нее, дифференцирующий в ней положитель-
ное и отрицательное, добро и зло.
От активности лирического героя Рембо зависит сатири-
ческий характер его поэзии, проявляющийся и в «Наказании
Тартюфа», и в «Кузнице», и в «Зле», и в «Парижской оргии»,
и в «Первом причастии», и в «Праведнике». Для сатирического
аспекта поэзии Рембо очень важно прежде всего, что в его
стихах внешний мир не сводится к сфере субъективных ощуще-
ний, как это было во многих стихотворениях Верлена, особен-
но в его «Романсах без слов». В поэзии Рембо, может быть,
в силу ее сатиричности, в какой-то мере выводящей ее за пре-
делы чистой лирики, играет огромную роль объективный внеш-
ний мир, независимый от героя. Лирический герой, имеющий
большое значение для таких стихотворений Рембо, как «Ощу-
щение», «Вечерняя молитва», «В зеленом кабачке» и другие,
уступает место герою эпического склада в «Наказании Тартю-
фа», в «Завороженных», «Сидящих», «Парижской оргии»,
в «Приседаниях», в «Руках Жанны-Марии», «Первом прича-
стии», «Праведнике».
Не менее важен для сатирического характера поэзии Рембо
резко оценочный подход поэта к вещам, явлениям, людям. Одно
вызывает у него унизительное отношение, тенденцию прини-
зить, заклеймить, признать недостаточным, ненормальным, дру-
гое рождает в нем восторг, преклонение или жалость, сочувст-
вие. К последним относятся у него ребятишки из «Заворожен-
ных», ребенок из «Искательниц вшей», матери убитых солдат
(«Зло»), юноша из «Сестер милосердия», революционерка Жан-
на-Мария («Руки Жанны-Марии»), образы революционного Па-
рижа из «Парижской оргии» и революционной толпы («Кузнец»).
196
К другим явлениям Рембо не скрывает своего пренебрежи-
тельного отношения. Он подчеркивает ненормальность, неразум-
ность многих условностей, глупа у него и голова Венеры Лна-
диомены, и вера прихожан в церкви, глупы пустяки (betises),
которые приносят с собой на городской сквер буржуа и чинов-
ники («Под музыку»). Глупым и отвратительным выглядит у
него Праведник, глупый вид имеют фонари на набережной
(«Пьяный корабль»). Он именует «жалкой лужайкой» город-
ской сквер («Под музыку»). Он рассказывает с величайшим
презрением о хоре в деревенской церкви, который горланит в
двадцать глоток ужасающие песни. Он именует церковные пес-
нопения болтовней. Рембо акцентирует неприглядность, некра-
сивость существующего, то обращая внимание на мебель, по-
крытую комьями грязи («Приседания»), то на вывихнутые
лопатки, уродливые груди ковыляющих дурнушек («Мои девчон-
ки»), то на тщедушную детвору, ее гноящиеся глаза, грязные
пальцы, воняющие штанишки («Семилетние поэты»), то на лоб
праведника, покрытый гнидами («Праведник»). Тема уродства
концентрируется в «Венере Анадиомене», где отвергается абст-
рактная красота. Поэт видит здесь безобразное и бесформенное,
«плохо заштопанные» недостатки, язвы на спине богини.
Сатира Рембо 1870—1871 гг. несет оптимистическое восприя-
тие мира, уверенность, что все противоречия жизни могут быть
разрешены. Зло у Рембо снижено, оно смешно, а сама сатира
получает комедийную окраску. Зло у Рембо ослаблено, поте-
ряло свою мощь, представляется побежденным. В то время как
у Верлена (первое стихотворение из цикла «Побежденные»)
мощь утратили союзники положительного героя, у Рембо, на-
против, разгромлен, лишен прерогатив враг. Причем поэта ин-
тересует не результат победы, а процесс борьбы, завершаю-
щийся крушением и разгромом врага. Показателен в этом отно-
шении образ Людовика XVI в «Кузнеце». Король представлен
здесь слабым, жалким, послушным (soumis), как собака, не
сопротивляющимся. Подобно буржуа из стихотворения «Под
музыку», это — толстяк, пузан (ventru). Он шатается, потеет,
бледен. Он совсем ничтожен, особенно потому, что дан рядом
с кузнецом, у которого огромные плечи, широкий лоб, почти
пугающий своим величием.
Характерно для сатиры Рембо его «Наказание Тартюфа».
В начале стихотворения мы видим счастливого и уверенного
в себе Тартюфа. Он облачен в целомудренное черное платье,
на руках перчатки. Сразу проявляется ироническое отношение
поэта. Тартюф ужасающе сладок, желт, у него освященное
(benoi te) ухо, беззубый рот, с его губ течет слюна; у него
влажная кожа. Но поэт не ограничивается иронической харак-
теристикой его внешности. Рядом с ним внезапно появляется
лицо, именуемое «злым человеком». Этот «злой человек» грубо
хватает Тартюфа за ухо, срывает с него платье, обнажая тело,
197
и уносит кружевное жабо, Тартюф бледнеет, хрипит, испове-
дуется во всех своих грехах, молит о пощаде 10 11.
Сатиричность в поэзии Рембо принципиально отлична от
слияния героя с миром, от представления о мире как об ор-
ганическом целом, которое прокламировалось в «Солнце и пло-
ти», ибо сатирический характер поэзии как бы отделяет изоб-
ражаемый объект от субъекта восприятия. Рембо отходит в
своих сатирических стихотворениях, как показывает хотя бы его
«Парижская оргия», от чисто лирических форм, опирающихся
на созерцание и размышление, вводит в поэзию прямую речь,
монолог, элементы действия. В «Парижской оргии» рассказы-
вается о возвращении в Париж после разгрома Коммуны вер-
сальских эмигрантов. Поэт не занимается здесь ни воспоми-
наниями о прошлом, ни созерцанием непосредственной данно-
сти, ее описанием или повествованием о ней. Он активно
изолирует себя от окружающего, обращается к нему с речью,
входит с ним в открытое соприкосновение. Он обличает, поно-
сит, ругает вернувшихся в Париж версальцев, называя их тру-
сами и лакеями, хрипящими идиотами и бандитами, стариками
и сумасшедшими. «Победители» парижских коммунаров пред-
ставляются ему скопищем грязных сердец, вонючих ртов, про-
рвавшихся от стыда животов. Это, по его словам, «прогнившие
сварливцы». Они тупо икают, слюна течет у них изо рта. Па-
риж изображен в «Парижской оргии» обобщенно, резкими и
скупыми штрихами. Он представляется поэту проституткой,
которая содрагается в конвульсиях, сбрасывая с себя налип-
ших на ней после возвращения из Версаля паяцев и королей,
чревовещателей и сифилитиков. Они валяются внизу, у ее ног,
полумертвые, растерянные, стонущие ".
10 Un jour qu’il s’en allait. «Oremus» — un Mediant
Le prit rudement par son oreille benoite
Et lui jeta des nfots affreux, en arrachant
Sa chaste robe noire autour de sa peau moite!
Chatiment! ...Ses habits etaient deboutonnees.
Et le long chapelet des peches pardonnes
S’egrenant dans son coeur, Saint Tartufe etait pale!..
Done, il se confessait, priait, avec un rale!..
L’homme se contenta d’emporter ses rabats...
— Peuh! Tartufe etait nu du haut jusques en bas!
(p. 28—29)
11 Syphilitiques, fous, rois, pantins, ventriloques,
Qu’est-ce que ?a peut faire a la putain Paris,
Vos ames et vos corps, vos poisons et vos toques?
Elie se secouera de vous, hargneux pourrisl
Et quand vous serez bas, geignant sur vos entrailles,
Les fiancs morts, reclamant votre argent, eperdus.
La rouge courtisane aux seins gros de batailles
Loin de votre stupeur tordr a ses poings ardus!
1
198
Сатира не отвергает оптимистического взгляда на сущест-
вующее, и «Парижская оргия» изображает Париж словно су-
щество, устремленное в будущее12. Это существо великолепно
своей красотой и вызывает восторг поэта. Поэт восторгается
Парижем, несмотря на то, что тело столицы, с таким трудом
возвращенное к жизни, покрыто язвами, несмотря на то, что
в нем копошатся мертвенно бледные черви, что по нему шарят
чьи-то холодные пальцы. Он восторгается Парижем, несмотря
на то, что после разгрома Коммуны «общество восстановилось»,
что в публичных домах опять возобновились оргии. Поэт вби-
рает в себя ненависть каторжников, вопли проклятых, как бы
призывая к отмщению. Он видит над столицей бледное, мрачно
сверкающее небо. Он уверен, что черви-вампиры не потушат ог-
ней Парижа, что Париж, пережив бурю, стал священным, пол-
ным поэзии. Его спасло гигантское напряжение сил. Ничто не
может помешать дальнейшему движению к грядущему.
7
Для творчества Рембо имеет исключи-
тельное значение общественно-политическая проблематика про-
грессивного характера, которая прямо следует из неприятия
поэтом сложившихся норм жизни, из сатирической окрашен-
ности его поэзии. Многие стихи Рембо создавались непосред-
ственно перед Парижской Коммуной и во время нее 13. К про-
блематике прогрессивного характера необходимо прежде всего
отнести демократические, революционные и антимилитаристские
мотивы его стихов, антибуржуазные настроения поэта. Поэт не-
даром противопоставляет трусливому, жалкому Людовику XVI
всемогущего, уверенного в себе и бесстрашного кузнеца, вож-
дя народных масс, поднявшихся против «старого режима»
(«Кузнец»). Он разоблачает милитаризм, рисует несчастья вой-
ны, бедствия и разрушения, которые она несет природе, на-
роду, беднякам («Спящий в ложбине», «Воронье»), клеймит и
предает проклятью версальцев, разгромивших Парижскую Ком-
муну («Парижская оргия, или Париж заселяется вновь»),
воспевает революционеров, восставших против прежних общест-
венных устоев («Руки Жанны-Марии», «Военная песнь Пари-
жа», «Павшие в 92-м году»). Он издевается над буржуа и
чиновниками, вышедшими в городской сквер на прогулку, смеет-
12 О cite douioreuse, б cite quasi morte,
La tete et les deux seins jetes vers 1’Avenir
Ouvrant sur ta paleur ses milliards de portes.
(p. 54—55)
” См. об этой проблематике очень правильные и интересные суждения
Н. И. Балашова, у которого особо примечателен его анализ «Рук Жанны-
Марии» («История французской литературы», т. III. М., 1959, стр. 374—377).
199
ся над их тупостью, ограниченностью, карикатурностью («Под
музыку»). В «Пьяном корабле» поэта возмущает необходимость
«склоняться перед надменными флагами» буржуазных государств
и «проплывать перед страшными огнями плавучих тюрем» 14.
Особенно отчетливо оппозиционность Рембо существующему
(очень важная, правда, и для ранних символистов — для Бод-
лера и Верлена) выражается в антирелигиозной, атеистической
направленности его творчества. Именно поэтому в ряду са-
тирических образов Рембо особенно выделяется образ бога в
стихотворении «Зло». Бог смеется от удовольствия при виде
пышных алтарей, которые воздвигаются в его честь, при виде
узорчатых скатертей и золота, которые приносят ему в дар.
Поэт демонстрирует здесь бога как зло, как явление отрица-
тельного порядка.
Образ бога в «Зле», в «Праведнике» и «Первом причастии»,
тема религии в стихотворении «Бедняки в церкви» делают от-
четливей те особенности поэзии Рембо, которые непосредствен-
но вытекают из активного отношения поэта и героя к миру.
Рембо вслед за Бодлером ополчается против потустороннего
мира, против бога. Он отвергает и образ благосклонного к чело-
веку божества, и образ коленопреклоненного перед божеством че-
ловека. Рассказывая о Христе, изображенном на витражах в
церкви, он подчеркивает в нем страшную удаленность от людей,
ненужность религии для человека. В христианстве видит Рембо
основное препятствие к счастью человечества. В «Мишеле и
Кристине» он прямо говорит, что Христос — это конец «идил-
лии», т. е. гармонии, что он мешает осуществлению мечты лю-
дей 15. При этом он противопоставляет богу не дьявола, покро-
вительствующего человеку, как это делал Бодлер, а самого че-
ловека, который страдает и восстает против Провидения, за-
ставляющего erg страдать.
Любопытно здесь и другое. Уже в стихотворении «Бедняки
в церкви» Рембо обращает свой гнев не только против бога,
но и против верующих бедняков, поскольку они приняли рели-
гию, признали бога. Бедняки похожи здесь на побитых собак,
их молитвы смехотворны, их вера глупа и тупа. Бедняки в цер-
кви отождествляются здесь со стадом, загнанным (parque) в
ряды скамеек. Как о стаде поэт говорит здесь и о старухах,
гнусавящих и стонущих в церкви. У них недаром отвисшие,
как у коров, шеи. Среди молящихся не случайно занимают
столь значительное место слепые, эпилептики, паралитики, исте-
кающие, по его словам, молитвой, как слюной (bavent sa foi).
Еще более выразительна раздраженность поэта на людей, ис-
поведующих религиозное отношение к миру, на людей, ставших
14 Прекрасная характеристика «Пьяного корабля» имеется у Н. И. Бала-
шова (указ, соч., стр. 380). .
15 См. об этом у Чадвика (Ch. Chadwick. Etudes stir Rimbaud. P., 1960, p. 60).
200
под эгиду бога в «Праведнике». К этим людям он относит и
Христа, и святых, и Сократа, который, как известно, предпочел
лучше принять яд и умереть, нежели нарушить порядок, уста-
новленный богом. И Христа, и святых, и Сократа Рембо име-
нует «праведниками», причем мозг праведника поэт видит оце-
пеневшим, остановившимся (torpide). Праведник — это пла-
кальщик (pleureur), калека (estropie), трус, т. е. существо
слабое, пассивное, уклоняющееся от борьбы, подчиняющееся, го-
товое подставить свою шею под подошвы ног божества («Пра-
ведник») .
Выше праведника — человек, которого поэт характеризует
как проклятого, пьяного, сумасшедшего, вышедшего за преде-
лы порядка, мятежного, бунтующего, восставшего. Человек этот
не хочет примириться с существующим, не согласен принять
надежду на прощение всех грехов в загробном мире. Он сме-
ется над этим прощением, смеется над милосердием, которое
называет грязным, засаленным (crasseuse), смеется над жа-
лостью, которой прельщает христианство.
8
То обстоятельство, что в поэзии Рембо
явно превалирует изображение внешнего мира, определяет и от-
личие символизма Рембо от бодлеровского символизма. Дву-
плановая структура образа сводилась у Бодлера, а вслед за ним
у Верлена 1866—1872 гг., к тому, что вторую, глубинную часть
образа занимала душевная жизнь человека, лирического героя.
У Рембо символистская структура получает объективный харак-
тер, вырывается из области сознания, психики, освобождается от
обязательной прикрепленности к человеку как субъекту вос-
приятия. Вселенная, гармония, в ней царящая, в стихотворени-
ях Рембо 1870 г. центром своим имела человека. Вокруг цен-
трального образа концентрически располагались другие образы,
направленные, устремленные к центру всей структуры и как бы
нацеленные на него. Символизм системы образов выражался
здесь в том, что центральный образ, не зависимый от воспри-
нимающего субъекта, не являвшийся его составной частью, как
бы просвечивал сквозь все периферийные образы, как бы содер-
жал всю периферию, т. е. все целое. Первый план занимало
конкретное, частное, отдельное явление, второй план—это весь
мир, Вселенная, все, что объемлет, окружает со всех сторон
конкретное и частное.
Именно так строились у Рембо его «Офелия», «Ощущение»,
«Вечерняя молитва», «Голова фавна», «Спящий в ложбине»,
«Искательницы вшей».
Несколько более сложно сконструированы у Рембо его сти-
хотворения сатирического жанра —«Сидящие», «Приседания».
201
Чиновники в «Сидящих» — центр среды, с которой они состав-
ляют единое целое, а им и их окружению противостоит alter ego
автора. Еще сложнее структура «Семилетних поэтов», в которых
объективная символистская структура образной системы сочета-
ется с символистской структурой бодлеровского типа, причем на
помощь автору приходит конкретный герой. Мысль об органиче-
ской связанности всех явлений сосуществует здесь с идеей раз-
двоенности мира, идеей двоемирия. Герой стихотворения — семи-
летний мальчик — окружен людьми и вещами, воздействующи-
ми на его ощущения, вызывающими в нем реакции неудоволь-
ствия или сочувствия: рядом чахлый садик, стены, покрытые
плесенью, соседская девчонка, пробуждающая в нем половой
инстинкт; одетые в старье бедные дети, внушающие ему жа-
лость; надоевшие ему учителя, уроки, тетрадки, отметки; рядом
с ним, наконец, его мать, не понимающая его, чуждая ему. Это
все периферия образа, как бы противопоставленная эмоциям
персонажа, его возможностям, как бы отрицательно отражаю-
щая его душу. Но сознание мальчика, его психика связаны и
с иными, далекими мирами, которые известны ему из романов
и журналов. Он лежит наверху, в темной комнате, сырой, вы-
сокой, синей, с опущенными шторами, читает старые книги и
предается мечтам. Его душа поглощена фантастическими об-
разами тяжелых охровых небес, солнца, саванн, волнующихся
и переливающихся волн, влажных лесов, деревьев, поднимаю-
щихся до звезд. Так в стихотворении за миром повседневной
жизни, представленной очень остро ощутимыми деталями, раз-
вертывается второй план образной системы — далекий и боль-
шой мир экзотических лесов, воссоздаваемый фантазией маль-
чика — лирического героя.
Очень близок к «Семилетним поэтам» по своей внутренней
композиции и «Пьяный корабль». Это также стихотворение с
централизованной структурой, построенное вокруг одного глав-
ного образа — корабля. Против корабля — индейцы, уничтожаю-
щие его матросов, морские волны, срывающие якорь и руль,
проникающие в его корпус, превращающие его цвет в молочно-
белый. Корабль купается в «поэме моря», настаивается на не-
бесных светилах, пожирает зеленое небо. Он бежит, несется по
волнам, танцуя на них, он пробивает дыру в небесах, он те-
ряется в водоворотах, его убаюкивает морской простор, ука-
чивают волны, окрыляют ветры, швыряют ураганы.
В образе корабля, потерявшего управление, представлен
поэт, корабль — символ поэта. Корабль — как бы передний план
этого двупланового образа (недаром корабль видит море, сле-
дит за ним и за небесами, знает о них, замечает их). Поэт
появляется лишь в конце стихотворения, но и корабль, и сам
поэт представлены в резкой антитезе к окружающему.
В ряде других стихотворений Рембо 1871 г. символистская
структура произведения создается несколько иначе. В «Париж-
202
ской оргии», «Первом причастии», «Сестрах милосердия», «Пра-
ведниках», в «Гласных», «Руках Жанны-Марии» структура об-
разуется из двух планов. Передний план составляют непосред-
ственно данные, конкретные явления, окружающие поэта. Со-
держанием второго плана являются огромный мир, Вселенная,
будущее, истинный смысл непосредственно данного. Этот вто-
рой план служит в то же время как бы попыткой истолко-
вания первого. Передний план представляет существующее как
загадку, проблему, второй пытается эту загадку как-то разре-
шить, уводит нас еще глубже в объективный мир, уводит от
близлежащего к дальнему, от настоящего к будущему, от ча-
стного к общему, беспредельно расширяя первоначальный
кругозор лирического героя.
Он размышляет по поводу гласных (в одноименном стихо-
творении), воображает целые сферы далеко от него лежащих
вещей, связанных с ним только через апперцепцию, воспоми-
нание, но в то же время имеющих объективный смысл. Он раз-
мышляет в «Парижской оргии» по поводу увиденного им Па-
рижа после возвращения в столицу версальских «эмигрантов»;
воображает его в будущем, обличает врагов, устремляется ум-
ственным взором в грядущее.
Любопытно в этой связи по своей структуре стихотворение
«Руки Жанны-Марии». Поэт обращается к рукам участницы
революционных событий Коммуны, беседует с ними, высказы-
вает предположения, какой средой они выпестованы; руки дают
представление о целом. Поэт знает, что такие руки не встре-
тишь у женщин экзотических стран, тех, кто делает папиросы
или продает алмазы, таких рук не встретишь у тех, кто при-
вык склоняться у статуй богов. Поэт противопоставляет руки
Жанны-Марии холеным и подлым рукам куртизанок и светских
дам, впитавшим в себя белила и румяна. Он знает, какой фи-
зической мощью обладают руки Жанны-Марии: они способны
свернуть шею куртизанкам и светским красавицам. Поэт отме-
чает, что кожу рук Жанны-Марии выдубило лето, что их обла-
дательница принадлежит к простонародью; эти руки побледне-
ли на бронзе пулеметов в восставшем Париже, их лобзали
гордые мятежники, а теперь они скованы наручниками вра-
гов 16.
16 Се пе sent pas mains de cousine
Ni d’ouvrieres aux gros fronts
Que brule aux bois puant 1’usine,
Un soleil ivre de goudrons.
Ce sont des ployeuses d’ccliines,
Des mains qui ne font jamais mal,
Plus fatales que des machines,
Plus fortes que tout un cheval!
Remnant comme des fournaises,
Et secouant tous ses frissons,
Leur chair chante des Marseillaises
Et jamais les Eleisons!
Elies ont pali, merveilleuses,
Au grand soleil d’amour charge
Sur le bronze des mitrailleuses
A travers Paris insurgel
(p. 57)
203
9
Когда мы говорим о символизме Рембо
и подчеркиваем структурность образной системы его поэзии,
мы никак не имеем в виду ее субъективизм или солипсизм —
нам представляется очень важным поэтому указать, что ника-
кая деформация действительности в его поэзии никогда не оз-
начает отмены объективной закономерности. Это столь же су-
щественно для Рембо, как и для Верлена. Многие персонажи
(«Сидящих», например) даны в сугубо условной, почти фанта-
стической манере. Они находятся в мире, в котором как бы
стерлась грань между органическим и неорганическим, между
одушевленным и неодушевленным. В восприятии лирического
героя многое приобретает гиперболические очертания. Но все
это никак не отменяет закономерностей объективного мира.
Люди уподоблены вещам. Но отношения между вещами не ут-
рачивают своей специфики, вещи не становятся, например, неве-
сомыми, они подвержены воздействию солнца и сырости. Вещи
делаются подобными людям. Но болезни, которыми они страда-
ют, нисколько не выдуманы и лишь заимствованы из круга
человеческих болезней.
Показательно стихотворение 1870 г. «Что удерживает Нину?»
где внешний мир раздроблен, как мы это видели и у Верлена,
на ряд отдельных впечатлений. Существенно при этом, однако,
что эта раздробленность не искажает реальной действительно-
сти. Впечатления отражают не только закономерность психики.
Поэт рассказывает здесь о своей прогулке с возлюбленной по
лесам, по садам в течение одного весеннего дня. Он передает
свое ощущение утреннего леса, оврага, садов, распространяю-
щих аромат яблок. Вечером герой и его возлюбленная прихо-
дят в деревню, которая встречает их запахами молока и на-
воза. Далее идет вереница зрительных и слуховых ощущений:
темный хлев, равномерное дыхание коров, белеющих в полусу-
мраке, старуха в очках, уткнувшая свой длинный пос в треб-
ник, пенящаяся пивная кружка и вокруг неистово дымящие
трубки и губы, хватающие ветчину. Потом снова очертания
фигур теленка и коровы. Толстый теленок со сверкающим и
жирным задком засовывает морду в миску, корова облизывает
его, ласково ворча. Субъективная манера изображения не от-
меняет, таким образом, объективной закономерности мира, не
подменяет ее закономерностью психологической. Образы Рембо
в этом стихотворении, представляя особый способ деформации
изображаемого, не приписывают последнему не свойственных
ему закономерностей, всегда подчиняются логике объективной
действительности.
204
to
Сатирический и атеистический характер
творчества Рембо осложняется в произведениях первых меся-
цев после разгрома Парижской Коммуны отчетливо трагиче-
скими мотивами. Эти мотивы связаны у Рембо с крушением
революционного движения в стране и окрашивают собой сти-
хотворения, созданные им в июне—сентябре 1871 г.: «Правед-
ник», «Сестры милосердия», «Первое причастие», отчасти «Пья-
ный корабль». Существен для всех этих произведений отказ
поэта от мечты о гармоническом единстве человека и природы,
которая была впервые высказана Рембо еще в «Солнце и пло-
ти» (1870), а затем легла в основу других стихотворений
1870 г.— «Офелии», «Ощущений», «Вечерней молитвы», «Иска-
тельниц вшей», «Моего бродяжничества» 17. Она сказалась и в
стихотворениях «Что удерживает Нину?», «Спящий в ложбине»
и даже в «Воронье», которое относится к самому началу
1871 г.
Не следует, впрочем, думать, будто поэзия Рембо первого
периода совершенно не знала трагического отношения к миру.
Нет, трагическое существует даже в «Солнце и плоти» (1870),
но оно допускалось лишь как подчиненное общей оптимисти-
ческой концепции мира. Современный человек, утверждалось в
этом стихотворении, оторвавшись от природы, утратил силу
чувств и интеллекта. Но поэт верит в своеобразное круговра-
щение времен, в возвращение Афродиты и античного миропо-
нимания, в возвращение всеобщей любви и гармонии, гармонии
человека с природой. Поэт предчувствует время, когда воскрес-
нет человек, свободный от всех богов и всякого страха, непри-
емлющий гнет. Тогда на челе человека будет пылать вечная,
непобедимая мысль, все, что есть «божественного» в человеке.
Тогда мысль устремится во внешний мир, будет исследовать
(scruter) небеса, измерит глубину горизонта, обнаружит при-
чины вещей, узнает, откуда явился человек, почему так коротка
его жизнь.
О том, что трагическое существовало в мире Рембо 1870—
начала 1871 г., но существовало лишь как составная часть
оптимистического взгляда на мир, свидетельствует и самый
факт наличия в тогдашней поэзии Рембо сатирических мотивов.
Известные колебания относительно оптимистической концепции
мира ощутимы в стихотворениях «Под музыку», «Сидящие»,
«Приседания», поскольку для них приобрело большое значе-
ние наличие в действительности зла, расщепленность существую-
щего на позитивную и негативную сферу, а также сама об-
ращенность героя против враждебных ему сил в мире. Но зло
17 На чистосердечную и наивную радость «Ощущения», «Офелии», «Моего
бродяжничества» указывает Чадвик (указ, соч., стр. 18).
205
ё этих произведениях рисовалось началом менее сильным, чем
герой.
Заслуживают внимания элементы трагического восприятия
мира в «Завороженных» (1870). В стихотворении этом расска-
зывается о мальчишках, застывших возле хлебопекарни и на-
блюдающих за тем, как булочник печет хлеб. Очень впечат-
ляющ контраст между внешней неподвижностью мальчишек, ко-
торые сидят у окна в булочную, не шелохнувшись, заворожен-
ные, и их мечтаниями о хлебе, о пище, о счастье. Мальчики
восхищены зрелищем выпечки хлеба, ощущают в этот момент
как бы своеобразную полноту жизни (Ils se ressentent si bien
vivre), несмотря на то, что они еле прикрыты лохмотьями, что
под их штанишки и рубашонки пробирается зимний ветер, что
они измучены голодом. Есть в этом стихотворении и второй
смысл. Приоткрывшаяся дверца светящейся печи сравнивается
поэтом с распахнутым небом. Мир, который предстает мальчи-
кам, кажется им очень привлекательным и радостным, веселым
и теплым, совсем не похожим на то, что окружает ребят на
улице. Отдушина печи тепла, корка хлеба ароматна и «поет»,
а вместе с хлебом поет и сверчок. Поет старинную песенку
и булочник, пекущий хлеб 18. И вот увиденное мальчишками в
хлебопекарне «небо» оставляет их голодными. Булки, оказы-
вается, предназначены не для них, но для какой-то «полунощ-
ной трапезы», которую ожидают, очевидно, богачи.
Трагические мотивы имеют большое значение и для «Пьяно-
го корабля». Здесь воспевается преодоление подчиненности, за-
висимости, поскольку корабль считает себя свободным и плыву-
щим по своей воле; он освободился от руля, от якоря; им
уже не управляют, на его палубе нет матросов. Но, освобож-
даясь от гнета людей, он становится игрушкой морской стихии
и ветра. С ним делает что пожелает море, то бросая его на
мель, то заставляя его нестись вперед по волнам.
Трагическое мировоззрение, не составляющее сути таких сти-
хотворений, как «Завороженные», «Спящий в ложбине», «Пья-
ный корабль», находит свое полное воплощение в «Сестрах ми-
лосердия». Основная тема этого стихотворения — разочарование
человека в земных радостях — прямо противостоит гармонии,
которой насыщено «Солнце и плоть». Герой «Сестер милосер-
дия»— юноша, как бы сошедший со страниц «Солнца и плоти»
молодой человек с блестящими глазами, смуглой кожей, пре-
18 Ils ecoutent le bon pain cuire.
Le Boulanger an gras sourire
Grogne un vieil air.
Que ce trou chaud souffle la vie,
Ils ont leur ame si ravie
Sous leurs haillons.
(p. 36)
206
красным телом, который в Персии был бы богом, - удивлен, воз-
мущен, разгневан уродливостью открывшегося перед ним мира.
Он ищет друга и сестру милосердия в женщине. Но не нахо-
дит в ней, самой нуждающейся в поддержке, ни опоры, ни
покровительства. Женщина рисуется ему частью уродливого
мира. В ней прекрасна нежность и жалость, огромные зрачки
и горький взгляд, ее легкие пальцы и пышная грудь. Но глав-
ное в ней все же ее слабость и беспомощность, обмороки и
оцепенение. Она — существо слепое, непробудившееся. И герой
«Сестер милосердия» чувствует, что на него надвигается оди-
ночество. Любовь к жизни, о которой заявлялось в «Солнце
и плоти», в «Вечерней молитве», в «Ощущении», сменяется
культом небытия. Герой призывает смерть, которая и оказы-
вается для него сестрой милосердия 19. Проблема смерти, как
ее трактует здесь Рембо, подводит его вплотную к декадент-
скому мировосприятию, ибо здесь намечается не только тра-
гическое ощущение смерти, но и подлинный культ смерти, как
избавительницы от зла.
Средоточием трагизма у Рембо следует признать его «Пра-
ведника». Ибо для того стихотворения характерен не только
бунт человека против бога, не только то, что человек (а не
дьявол) выступает у него богоборцем и богохульником. Мятеж-
ник ведь здесь абсолютно одинок. Никто не вторит ему, никто
не поддерживает его бунта, никто не подхватывает его проте-
стующий монолог. Праведник молча уходит от него, не отвечая
на его оскорбления и обвинения. Он равнодушно относится к
его инвективам. Возмущенный лихорадочный монолог бунтов-
щика, обращенный против праведника, встречен также молча-
нием, спокойным равнодушием природы, небес, вечного порядка
Вселенной, потоком светил и комет, метеоритов и астероидов.
Именно в силу своего одиночества, отсутствия союзников про-
клятый оказывается не в силах перестроить существующее, на-
рушить его порядок.
11
Особую группу в творчестве Рембо со-
ставляют стихотворения, написанные им в последний период его
творчества, в 1872 г. Стихотворения этого времени, сравнитель-
но малочисленные (их не более 18-ти), во многом продолжают
установки поэзии Рембо 1870—1871 гг.— внимание к матери-
ально-чувственному миру, предпочтение жидкостно-воздушным,
динамичным формам этого мира, враждебность ко всему каме-
нистому, связанному с твердыми телами, неподвижному, ста-
тичному.
19 О проблеме смерти у Рембо, которая может принести мир ч покой, очень
правильно размышляет Чадвик (указ, соч., стр. 18).
207
Наряду с тенденциями, продолжающими прежние установки
Рембо, мы обнаруживаем в последних стихотворениях и новые
черты, не встречавшиеся в его творчестве первого (1870—-
1871 гг.), и второго (середина и вторая половина 1871 г.)
периодов. Из последних стихотворений исчезают активное от-
ношение к миру, агрессивность героя, сатирический характер
поэзии, а вместе с ним и многочисленные образы персонажей.
Сильно трансформируется в последних стихах Рембо и трагизм,
который утрачивает свое объективное содержание и теперь ос-
нован не «а особенностях объективного мира, а на своеобра-
зии самого героя.
Любопытно здесь и другое. Мир природы раскрывается в
цикле «Праздники терпения» (1872) как очень пышный, празд-
ничный, веселый. Весви липы ясны, в листве смородины пор-
хают песни, солнце прекрасно, подобно алмазу («Майские зна-
мена»), Мир природы изображен здесь гармоничным. Виноград-
ные кусты сплетаются друг с другом. Небо и волны объеди-
няются, сливаются в одно целое (communient). То же в третьем
стихотворении цикла, в «Вечности», где речь идет о море, «сме-
шавшемся» с солнцем, о сверкающем дне (jour еп feu), об
ушедшей ночи.
Этому миру, прекрасному, праздничному, противостоит у
Рембо герой с его «потерянной» жизнью, с его страхами и
мучениями («Песнь самой высокой башни»), со страданиями и
огорчениями («Майские знамена»), с жаждой забытья («Песнь
самой высокой башни»). В то время, как у солнца «колесница
счастья» (fortune), у героя только несчастья и неудачи (infor-
tunes). Очень примечательна здесь эта антитеза героя и мира,
считавшаяся невозможной в «Солнце и плоти». Особо следует
отметить меланхолическую атмосферу, отличающую некоторые
стихотворения 1872 г., например «Слезу». Вокруг поэта нет ни «
птиц, ни животных, ни людей. Ни один цветок не украшает «
здесь землю, ни один луч света не проникает через пелену
облаков20. Если же возникает мотив тождества героя и мира
(см. «Комедию жажды»), герой соотносится с самыми жалкими
существами — дрожащими воробьями, с порабощенными (asser-
vis) животными.
Очень большое значение для стихотворений 1872 г. приоб-
ретает тема смерти, которой ранее касался Рембо лишь в сво-
их «Сестрах милосердия». В заключительном стихотворении из
цикла «Комедия жажды» герой желает растаять в облаках,
испустить дух среди влажных фиалок, которыми усеяны утром
леса. Точно так же в «Майских знаменах» он заявляет о сво-
ем желании, чтобы его убила природа (par toi...o Nature...je
meurs), чтобы времена года исчерпали, истощили его. Он падает
ЛК ft
аи См. интересные соображения об этом стихотворении у Чадвика (указ,
соч., стр. 61—62).
208
здесь раненный лучами солнца (rayon me blesse). В «Вечности»
герой заявляет, что у него нет надежд, он уверен, что пред-
назначенной ему казни не избежать. Он хотел бы сгореть, рас-
твориться в природе, в ее пламени (braise). В стихотворении
«Друзья» из цикла «Комедия жажды» он предпочитает вместо
опьянения абсентом, которому предаются его товарищи, гнить
в пруду, похоронить себя под ряской, покрывшей стоячие воды.
Утоление жажды, которую не может погасить абсент, приносит
только смерть 2I.
В стихах Рембо лета 1871 г., таких, как «Праведник», «Се-
стры милосердия», «Первое причастие», речь шла о проблемах,
стоящих перед всем человечеством,— о боге, о религии, о до-
стоинстве человека, об его судьбе. Рембо 1872 г. говорит уже
только о собственной судьбе, о личном несчастье. Объек-
тивный мир все более становится для него абстрактным, лишен-
ным конкретных индивидуальных черт. Красочная, звучащая пе-
лена, на которую обращен его взор, скрывает от него других
людей. Отход от вопросов, связанных с существованием боль-
шого мира, особенно характерен для «Золотого века». Герой
высказывается здесь против проблем (questions), которые бе-
сконечно разветвляются, усложняются и приводят только к опья-
нению или безумию. Он предпочитает им простой веселый мо-
тив, напоминающий о волнах, растениях. «Мир» (monde), т. е.
общество, представляется ему порочным. Поэт предлагает лицу,
к которому он обращается в «Золотом веке», просто безза-
ботно существовать, забыв о темных несчастьях.
Отход Рембо от больших жизненных проблем, сужение кру-
гозора лирического героя приводит поэта в стихах 1872 г. к
импрессионистическому способу изображения, напоминающему
некоторые стихотворения «Романсов без слов» Верлена. В «Брюс-
селе» Рембо — вереница, цепь выхваченных впечатлений от от-
дельных вещей, предметов. Тут и гроздья боярышника возле
Дворца Академии в Брюсселе, и розово-зеленый домик, увитый
лианами, и тенистый балкон с розовым кустом.
Среди стихотворений 1872 г. весьма интересно одно, озаг-
лавленное французским литературоведом Берришоном «Голово-
кружение («Vertige») 22 и свидетельствующее, что Рембо 1872 г.,
абсолютно не принимая существующее, все-таки начинает после
поражения Парижской Коммуны, отходить от революции, от ре-
волюционного преобразования мира 23 к нигилизму и анархизму.
. Любопытна интерпретация стихотворного цикла «Комедия жажды»
у Берришона (Р. Berrichon. Rimbaud le poete. P., 1962).
22 В цитируемом издании стихотворение LXVII нз цикла «Последние стихи»,
начинающееся строкой « Qu’est се pour nous, mon coeur...»
21 Б. Фоидан в своей книге «Рембо-оборванец» справедливо указывает, что
Рембо прокламирует в этом стихотворении не революцию, а конец света
(В. Fondane. Rimbaud, le voyou. P., 1933, p. 248).
209
Поэт пропагандирует в «Головокружении» анархические
идеи всеобщего уничтожения, призывает к сокрушению всякого
порядка, к отмщению и террору. Он мечтает здесь о тысячах
убийств, о громких воплях бешенства, о простынях крови и
огня. Он отвергает господствующие классы общества — про-
мышленников, князей, императоров, сенат. Но отрицание рас-
пространяется вообще на народ, на все народы и республики
мира, в частности на колонов, т. е. на крестьян, так как раз-
рушение должно, по его мнению, охватить всю землю. Он пред-
ставляет себе исчезновение Европы, Азии, Америки, продолжая
традиции леконт-де-лилевского «Solvet seclum», описывает взор-
вавшиеся вулканы, потрясенные океаны, которые сметут чело-
вечество.
12
В стихотворениях 1872 г., наряду с моти-
вами конфликта между великолепием природы и мраком чело-
веческого бытия, намечается тяготение к отказу от трагизма и
бунтарства, тяготение поэта к примирению с существующим;
буре, грозе противопоставлены покой, мир, идиллия (см. «Ми-
шеля и Кристину»), Таковы тенденции, характерные для дека-
дентского мировосприятия, которые срастаются у Рембо, начи-
ная с 1872 г., с символистскими.
Стихотворения Рембо, написанные им в середине и во вто-
рой половине 1871 г., были отмечены чертами глубокого идей-
ного кризиса, выразившимися в торжестве безысходности, но в
то же время были далеки от полного приятия действительности
и, тем самым, от декадентства. В некоторых же стихах 1872 г.
мы обнаруживаем явно декадентские моменты. Они выражают-
ся в стремлении отказаться от борьбы, от столкновения с бур-
ным миром, в стремлении уйти в себя. Объективные законо-
мерности подменяются закономерностью души, психологическим
законам и связям подчиняется все существующее за пределами
психики. Кроме «Мишеля и Кристины», это находит свое
выражение также в стихотворениях «Слеза» и «Воспомина-
ние».
Говоря о декадентском перерождении символизма у Рембо,
нужно отметить и его отличие от перерождения символизма
у Бодлера, и его несходство с аналогичными процессами сра-
стания символизма с декадентством у Верлена. Декадентство
Бодлера было откровенным, ничем не прикрытым. Оно связыва-
лось в сознании поэта с ужасающими картинами действитель-
ности и с критическим освещением безобразного, уродливого,
отвратительного. А вот у Рембо декадентство стало скрытым,
не откровенным. Рембо отвергает в «Мишеле и Кристине» и в
«Воспоминании», в «Слезе» картину безобразного, отказывает-
ся от всякого рода критики действительности и начинает во-
210
обще отрицать действительность ради сознания, очищенного of
связей с реальностью.
Элементы декадентства Рембо свободны от всякой религиоз-
ной окраски, которая имела такое значение для Верлена начи-
ная с 1873 г. (ср. его «Мудрость» и другие лирические сбор-
ники 70—90-х годов). Декадентство позднего Рембо носит, так
же как у Верлена, скрытый характер, уже не выражается в
прямой демонстрации уродливого. Но здесь этот отказ от кри-
тического отношения к реальному основывается уже не на иде-
ализации бога, а на предельном субъективизме, гиперболизации
человеческого сознания. Действительность вообще, по сути дела,
исчезает из творчества Рембо как нечто непосредственно данное.
Поэт касается в «Слезе», в «Мишеле и Кристине» и в «Воспо-
минании» процессов, протекающих в душе героя, устанавливает
связи между представлениями, касается отдельных феноменов
объективной действительности лишь постольку, поскольку они
прорываются в сознание героя из внешнего мира. За пределы
душевной жизни поэт почти не выходит.
Если мы возьмем «Слезу», то в отличие от стихотворения
«Что удерживает Нину?», которое основывалось исключительно
на восприятии окружающего мира, мы обнаруживаем здесь и
психологические ассоциации, опирающиеся на воспоминания.
Вкусовое ощущение от золотистой жидкости, которую пьет ге-
рой, приторной и вызывающей испарину, напоминает ему об
искателе золота или раковин, влечет за собой мысль об этом
искателе, заставляет его воображать себя таким искателем.
И пейзаж вокруг него изменяется, превращается из арденнско-
го в экзотический. Героя окружает в реальности густой вереск,
трава без цветов; над ним нависло пасмурное небо, его оку-
тывает послеполуденный туман, зеленый, нежный. И вдруг во-
ображение поэта переносит его в иной мир — девственные пески,
грозовой ветер, небо, схватывающее льдом воды, черный край
озер, полных рыбы, мелькающие железнодорожные станции,
колоннады под синим небом. Само перемещение героя из Ар-
денн в экзотическую страну никак не фиксируется, переход от
восприятия к фантазии всячески смягчается, затушевывается,
совершается незаметно, будто бы сам собой, ибо он протекает
не в реальном мире, а в пределах сознания, психики.
Еще более отчетливо декадентская манера изображения про-
явилась в стихотворении «Мишель и Кристина», которое от-
крывается картиной грозы и бури (первая строфа). Лучи сол-
нца покидают берега реки, все еще залито светом, но дороги
уже покрываются тенью от тучи, буря бросает первые капли на
ивы.
Затем во второй строфе появляется ряд явлений, не связан-
ных с внешним миром, лежащим перед глазами героя. Эти
явления возникают из его души по психологическим ассоциа-
циям сходства. Тучи напоминают герою шерсть ягпят, которых
211
рядом нет. Отсюда образ белокурых ягнят (вторая строфа),
белокурых стад (третья строфа), черного пса, темного пастыря,
стерегущего ягнят (третья строфа). Ягнята одновременно с
этим (опять-таки по психологическим ассоциациям сходства)
пробуждают (в той же второй строфе) мысль о белокурых
воинах, которых они герою напоминают. Мысль о воинах поро-
ждает дальше (в пятой и шестой строфах) новую цепь образов,
но о ней мы будем говорить позже.
В первый ассоциативный ряд (ягнята, пес), составляющий
своего рода второй ярус картины (первый ярус образуется из
элементов внешнего мира), как бы разрывая его на части, вры-
ваются снова впечатления от внешнего мира. Тут и вересковые
кустарники, которые герой зовет бежать от дождя. Тут и рав-
нина, пустошь, луг, горизонты. Тут, наконец, и отблески
молний, от которых вспыхивают пустошь, горизонты, луг,
равнина.
Далее, в третьей строфе, уже не отличая восприятий от
воспоминаний, герой призывает черного пса бежать от молний,
призывает белокурое стадо скрыться от грозы, спуститься на
безопасные тропы. В четвертой строфе возникает образ крас-
ных оледенелых небес, покрытых бегущими и летящими обла-
ками. В пятой строфе явления видимого и слышимого (град)
как бы включены в первый ассоциативный ряд, рисуются ему
в виде тысячи волков, которые гонятся за ягнятами и черным
псом.
И, наконец (отчасти в той же пятой и полностью в шестой
строфе), перед нами новая вереница феноменов внешнего
мира -— закончившаяся гроза, лунный свет, алеющая степь, чер-
ные небеса. Но они надстраиваются и, тем самым, отодвигаются
в сторону повой чередой образов, которые рождаются и выраста-
ют из первого ассоциативного ряда (ягнята, лес, волки). Эта
новая череда, образующая как бы второй ассоциативный ряд,
намечается много раньше, еще во второй строфе, начинается
там с образа белокурых воинов. Герою кажется теперь, что в
послегрозовом ландшафте ему открылась Европа дальних вре-
мен, может быть, эпохи переселения народов (пятая строфа).
По равнине движутся сотни орд (та же пятая строфа), крас-
ные всадники, бледные кони. Герою слышится, как под ногами
коней гудит булыжник (шестая строфа). Он хотел бы увидеть
желтеющий лес и ясную долину снова освобожденными от ноч-
ной тьмы (седьмая строфа). Он вспоминает (в той же седь-
мой, заключительной строфе) про белого агнца Паскаля (про-
изводное от ряда — ягнята, пес, волки), про св. Мишеля, по-
кровителя галлов24 (производное от ряда — воины, орды, кони,
24 Об этом образе см. любопытные соображения в комментарии Сюзанны
Ьернар к сочинениям Рембо: A. Rimbaud. Oeuvres. Varianies et notes par
Suzanne Bernard. P., Garnier, 1964.
212
булыжник), про Христа (производное от агнца и Кристины,
супруги галла).
Несколько в ином духе, но в той же манере сокрытия объ-
ективного мира за рядом душевных феноменов, возникающих и
следующих друг за другом по психологическому ассоциатив-
ному методу, написано другое стихотворение Рембо 1872 г.,
его «Воспоминание». Стихотворение «Воспоминание» посвящено
реке и солнцу, в реке отражающемуся25 26. Сначала река бела.
Мотив белого, поддерживается белизной тел купающихся в реке
женщин, а также возникающей из апперцепции белизной шелка,
лилий, ангелов, которых напоминают поэту купальщицы. Ясная,
чистая вода сравнивается здесь со слезами детства, с шелком,
причем беловатые тела купальщиц ведут (так представляется
лирическому герою стихотворения) атаку на солнце. Картина
атаки вызывает вереницу новых образов, возникающих не из
восприятия внешнего мира, а из памяти: когда-то на Мёзе,
о которой идет речь в стихотворении, сражался, отстаивая от
врагов город Мезьер, полководец Байард. Это и орифламма
(королевское знамя), и изображение лилии на знамени, и стены
осаждаемой крепости, и девственница (Жанна д’Арк), которая
защищает крепость 2е. Затем в той же первой строфе говорится
о реке как о потоке золота. Она рассматривается уже не сама
по себе, не как стихия белого, а как отражение солнца. Ее
рукава теперь черны от прибрежных трав. В конце же первой
строфы река становится мрачной, так как она оказывается в
тени холма и арки моста, которые служат для нее как бы за-
навесом от солнца.
Во второй строфе появляются образы воспоминания — зе-
леные платья маленьких сестер поэта, возникающие первона-
чально по ассоциации сходства после зеленых ив на берегу
реки. В третьей строфе, вслед за образами девочек, сестер
поэта,' следует образ его матери, которая держит в руках рас-
крытый зонтик, топчет травы этого берега; за нею появляют-
ся сам поэт в прошлом, когда он был еще мальчиком, и его
брат. Оба они заняты чтением книги в красном сафьяне —
яркое пятно на фоне прибрежной зелени, которую видит поэт
теперь, в настоящем.
25 Об этом стихотворении Этьембль и Гоклер в своей книге о Рембо (/?. Eti-
emble, Y. Gaud ere. Rimbaud. Р., 1936) говорят, что поэт постоянно покидает
здесь надоедающие ему предметы, удаляясь от них в область волшебства,
касаясь земли только затем, чтобы с новой силой «отскочить» от нее (указ,
соч., стр. 176—179). Любопытный анализ стихотворения «Воспоминание»
содержится и у Верришона (op. cit., р. 66—71).
26 L’EAU claire; comme le sei des larmes d’enfance,
L’assaut an soleil des blancheurs des corps de femmes;
la soie, en foule et de lys pur, des oriflammes
sous les murs dont quelque pucelle eut la defense.
(p. 86 — 87)
213
Заход солнца й Этой строфе трактуется как расставание
солнца с рекой; солнце обозначает мужа, отца, а река — его
жену, мать. В этой трактовке солнца и реки снова содержится
уход в область апперцепции: лирический герой вспоминает о
разрыве отца с матерью. Солнце, обозначающее отца, удаляет-
ся за гору. Река, теперь холодная и черная, бежит, подобно
матери, за уходящим солнцем. Четвертая строфа посвящена ма-
тери, оплакивающей уехавшего мужа. Она ломает руки, плачет.
На берегах реки не остается ничего, кроме неподвижной лодки.
Река напоминает серую пелену, ничего не отражающую, так как
солнце ее покинуло.
Пятая, заключительная, строфа рисует сумрак, воцарившийся
на реке после захода солнца. На сцене сам герой, рассказы-
вающий о падающих листьях ивы, о розовом кусте, охвачен-
ном темнотой сумерек, о голубых и желтых цветах на реке,
до которых герою не дотянуться, о привязанной лодке, на ко-
торой, именно потому, что она привязана, уже нельзя плыть.
Именно она удерживает героя, не позволяет ему углубиться
дальше, в мир мечтаний.
13
Если все творчество Рембо 1872 г. дви-
жется в сторону от символизма к декадентству, то полностью
декадентская манера изображения вступает в сосуществование
с символизмом в сборнике стихотворений в прозе, озаглавлен-
ном «Озарения» («Illuminations», 1872).
В «Озарениях» мы находим немало моментов, связывающих
эти стихотворения в прозе с творчеством Рембо 1870—1871 гг.
Принцип двуслойной структуры стихотворения, в котором во-
круг центрального образа располагаются образы перифериче-
ские, сохраняет свое значение для самых выдающихся стихо-
творений в прозе из «Озарений». Сюда мы можем отнести «Бо-
розды», «Цветы», «Мистическое», «Зарю», «Детство», «Юность»,
«Фразы», «Царство», «Работников», «Город», «Города», «Обы-
денный ноктюрн» и многие другие. Иногда в центре оказывает-
ся элемент объективного мира, как бы притягивающий к себе
все остальное («Царство», «Работники», «Античное»), но чаще
субъект восприятия, как в «Бороздах», «Цветах», «Мистиче-
ском», «Заре», «Детстве», «Юности», в «Бдениях», Рембо оказы-
вается в этом отношении ближе к позициям Бодлера щотчасти
Верлена, сохраняя и телесность, вещественность лирического
героя (особенно четко в «Заре»), воспеваемую этими поэтами.
К существенным особенностям «Озарений», также связываю-
щим эти стихотворения в прозе с поэзией Рембо 1870—1871 гг.,
относится пространственность, объективность изображаемого,
восходящая к тому же Бодлеру, а также к романтикам и пар-
214
насцам. Очень любопытно, например, для «Озарений» первое
стихотворение в прозе «Города», в котором действительность
раскрывается прежде всего как вертикальное, ступенчатое, иду-
щее вверх целое. Поэт рассказывает здесь о вещах, находя-
щихся «там наверху» или «выше уровня самого высокого греб-
ня», о небе над крышами гостиниц и над мостками, переки-
нутыми через пропасть.
Стихотворение в прозе «После потопа» изображает «боль-
шую грязную улицу» и небо, расположенное над нею как бы
в «верхнем ярусе», там наверху. В «Заре» речь заходит о вер-
шине, к которой подымается дорога. Во втором стихотворении
в прозе «Города» говорится не только о высоте, но и о глу-
бине города, о постройках, которые уходят под землю. Стихо-
творение в прозе «Мистическое» открывает пропасть «там вни-
зу». В «Детстве» речь идет о помещении, которое находится
«очень глубоко под землей», о «подземной гостиной», над ко-
торой в вышине, на огромной дистанции располагаются дома,
концентрируются туманы.
В «Мистическом» и «Бороздах» характерно и горизонтальное
распределение явлений в пространстве. Пространственности
мира в «Озарениях» соответствует его материальная насыщен-
ность, весомость, плотность, напоминающие о «Руках Жанны-
Марии», о «Первом причастии», о «Пьяном корабле», о стихо-
творении «Что удерживает Нину?» Стихотворение в прозе «Цве-
ты» демонстрирует ковры, бархат, шелк, атласную материю, га-
зовую ткань. Здесь фигурируют золото, серебро, агат, красное
дерево, изумрудный купол, рубины, мрамор, хрусталь. В «Мор-
ском пейзаже» — серебро и золото, медь и сталь.
Картину мира в «Озарениях» отличает максимальная кра-
сочность, снова напоминающая многоцветность «Пьяного кораб-
ля», «Солнца и плоти», «Головы фавна», «Гласных». В «Цветах»
настоящая оргия красок. Тут и золотые ступени, и желтые
монеты, и зеленый бархат, и изумрудный купол, и белый ат-
лас, и рубиновые стержни, и серые ткани. В «Варварском»
красные огни осыпаны дождем бриллиантов, огненные костры
борются со шквалами белой пурги. В «Мистическом» пропасти
кажутся голубыми и цветущими, т. е. зелеными. В «Обыден-
ном ноктюрне» все видимое затопляет поток зеленого и темно-
синего цвета27. Полихронности изображения соответствует и его
27 Материальность, пространственность, многокрасочность мира в «Озарениях»
иногда совершенно не учитывают. См., например, книгу о Рембо, написан-
ную Ривьером (У. Riviere. Rimbaud, 1933), который считает Рембо
религиозным поэтом, пытается рассматривать его стихотворения в прозе
как сугубо ирреалистические. Рембо, автор «Озарений», для него мистик,
дематериализующий здешний мир, склонный вытеснять реальное потусто-
ронним. Рнвьер подчеркивает в «Озарениях» тенденцию к исчезновению
и распадению внешнего мира (стр. 144), его обедненность (стр. 218) и пу-
стоту (стр. 142).
215
полифоничность, многозвучность. В первом стихотворении в про-
зе «Города» мы имеем дело и с кратерами вулкана, «реву-
щими» в огне, и с вакханками, которые рыдают, и с ракови-
нами, которые гудят, и с цветами, которые воют
Очень важна для «Озарений»28 крайняя динамичность изо-
браженного, возвращающая нас к «Сидящим» и «Приседани-
ям», к стихотворениям «Под музыку», к «Ощущению», к «Мое-
му бродяжничеству», в которых прокламировалась неприязнь
ко всему статичному, остановившемуся и где героем был бро-
дяга, шатавшийся по большим дорогам, под открытым небом.
Стихотворение в прозе «Мистическое» также не знает остано-
вившихся, успокоенных явлений. Все в нем или поднимается,
движется вверх, или спускается вниз, по откосу, всюду слышен
гул, перемещающийся «гибельный» шум. Земля истоптана нога-
ми убийц или солдат, участников бойни. В «Обыденном нок-
тюрне» все кажется сдвинутым со своих привычных мест, мир
предстает здесь таким, как если бы он виден был сквозь огонь
в камине, если бы он был обнаружен в краснеющем очаге.
В стенах открываются проломы, крыши поворачиваются или
вращаются, окна исчезают. И все это на фоне плещущих вод,
свистящего порывистого ветра.
Представление о мире как о чем-то, сугубо динамическом,
движущемся, текучем имелось, правда, и у романтиков, и у
Бодлера. Но там с этим представлением сосуществовал прин-
цип двоемирия, который у Бодлера представал в форме анти-
тезы движения и покоя, причем последний представлялся иде-
алом.
А вот у Рембо подобное противопоставление, по сути дела,
нигде не имеет места. Его мир лишен покоя и порядка2В.
В тесной связи с динамизмом находится в «Озарениях» из-
вестное нам уже по «Праздникам голода», по «Комедии жаж-
ды», по «Спящему в ложбине» отвращение поэта ко всему тя-
желому, твердому, каменистому, его тяготение к жидким и те-
кучим формам существования. Так для стихотворения в прозе
«После потопа» характерен образ сверкающего, короткого вне-
28 Сестра поэта Изабелла Рембо, ее муж П. Берришон и друг поэта Делаэ
предпринимают попытку трактовать «Озарения» как сборник стихотворе-
ний, вполне согласуемый с религиозной доктриной (см. кн.: И. Рембо. Мой
брат мнстик, 1920; И. Рембо. Реликвии, 1921; Е. Delahaye. Les Illuminations
et Une Saison en Enfer P, 1927; P. Berrichon. Rimbaud le poete. P, 1962;
E. Debahaye. Rimbaud. L’Artiste et 1’etre moderne. P., 1947; а также Эть-
ембль и Гоклер. Указ, соч., стр. 35—36). Если Изабелле Рембо и Беррншо-
ну было трудно найти для своей интерпретации творчества Рембо подтверж-
дение в его стихах 1870—1871 гг., то в «Озарениях» они не находят ничего
враждебного католицизму: «Самая строгая ортодоксия не может ни в чем
упрекнуть «Озарения»,— пишет И. Рембо (цит. по кн.: R. Etiemble, У. Gauc-
lere. Rimbaud. Р., 1936, р. 42).
26 См. подробнее об этом уСАккета (С.-A. Hackett. Le lyrisme de Rimbaud. P.,
1938, p. 27).
216
запного ливня с градом и образ дома с еще струящимися под-
ле дождя оконными стеклами, мотивы молока и крови. Лампы
и ковры в разделе III стихотворения в прозе «Бдения» шу-
мят, как волны, как шуршащие ракушки, они почему-то напо-
минают палубу и корпус корабля. Особенно показательно сти-
хотворение в прозе «Морской пейзаж», где земля, камни, твер-
дые тела рисуются подобными воде, морю. О плугах говорит-
ся так, будто они, вырывая корни кустарников, «вздымают
реку». Поэт говорит о «потоках» степной пустоши. Огромные
колеи, проделанные плугом в земле, представляются ему «выбо-
инами морского отлива» 30.
Восприятие мира как субстанции, находящейся в постоянном
движении, приводит поэта к идее потопа и всемирного катаклиз-
ма. В стихотворении в прозе «После потопа» поэт призывает
волны залить мосты и леса, предлагает черным простыням (так,
очевидно, поэт обозначает грозовые тучи), молниям и громам
подняться и устроить новый потоп. Лирический герой стихотво-
рения в прозе «Исторический вечер» рассказывает про похищен-
ное море, про унесенную планету, про подземные пожары или
взрывы, про последовательное истребление всего живого31.
Динамизм действительности в «Озарениях», ее проникну-
тость движением проявляется и в одушевлении природы, в ее
антимистических образах, в пробуждающихся вещах, освобож-
дающихся от пассивности и неподвижности, скованности. Так,
в стихотворении в прозе «Заря» драгоценные камни рано ут-
ром смотрят на лирического героя, наблюдают за ним; цветок
разговаривает с ним, называет ему свое имя, а сам герой про-
буждает живое и теплое дыхание во всем. В стихотворении в
прозе «После потопа» заяц не только взирает на мир сквозь
паутину, но еще обращается к радуге с молитвой, а в «Бороз-
дах» заря пробуждает ото сна листву на деревьях.
Отказу от всего статичного соответствует тяготение поэта в
«Озарениях» к сатирическим и карикатурным, уродливым обра-
зам. Они ведь являются выражением позиции отрицания и воз-
мущения, которую занял поэт в своих стихотворениях в прозе
и которую он предпочитал занимать и ранее, как это показы-
вало творчество 1870—1871 гг. — «Под музыку», «Сидящие»,
«Приседания», «Зло», «Венера Анадпомена». Об этом свидетель-
ствуют хотя бы стихотворения в прозе «Балаганное представ-
ление» и «Демократия», в которых поэт издевается над като-
30 Les chars d’argent et de cnivre —
Les proiies d’acier et d’argent —
Battent I’ecume,—
Soulevent les souches des ronces.
Les courants de la lande,
Et les ornieres immenses du reflux,
31 Любопытные соображения
Filent circulairement vers 1’est,
Vers les piliers de la foret,—
Vers les lots de la jete,
Dont Tangle est heurte par des
tourbillons de lurruere.
(p. 152 — 153)
лер
(указ, соч., стр. 207),
по этому поводу высказывают Этьембль и Гок-
см. также Ш. Чадвике (указ, соч,, стр. 134).
217
лической церковью и военной службой, высмеивает их, глу-
мится над ними. Он говорит в «Балаганном представлении»,
имея в виду католических священников, о негодяях и плутах,
об их отупевших взорах, об их помятых, побледневших лицах,
об их голосах, наводящих ужас, об их мишурных одеяниях.
Священники эти подобны демонам, молохам, глупцам, гиенам.
В «Демократии» он рассказывает об ужасном пейзаже,
о проституции, об избиении восставших, о чудовищной эксплу-
атации, военной или промышленной, о людях, одержимых же-
стокостью, невежественных в науке. Эти люди рисуются ему
пройдохами, готовыми пойти на все ради удобства и легкой
жизни 32.
С сатирическими, карикатурными образами, знаменующими
в «Озарениях» позицию отрицания, связаны существенные для
этого времени трагические мотивы. Если их совсем нет в сти-
хотворениях «После потопа», «Детство», «Отъезд», «Утро опья-
нения», «Борозды», «Мистическое», «Заря», «Цветы», то мы об-
наруживаем их в «Тоске», где говорится о ранах, пытках, муче-
ниях, которых не избежать лирическому герою. О себе герой
«Жизней» говорит как о «сосланном», о своем существовании
как о небытии, как о чем-то загробном, размышляет о своем
«жестоком скептицизме». При этом очень важно, что печальное
и безнадежное настоящее дается всегда в противопоставлении
прошлому — детству и юности—-времени радостей и иллюзий
Но в «Озарениях» намечаются, пусть очень робкие, слабые,
но все-таки враждебные творчеству 1870—1871 гг. тенденции,
знаменующие процесс нарастающего упадка творчества Рембо.
Это в первую очередь тенденции к успокоенности, к примире-
нию с действительностью в ее наличном состоянии, тенденции
к гармонизации мира, к апологии не движения, а неподвиж-
ности33, напоминающие «Эмали и камеи» Теофиля Готье. Рем-
бо становится здесь уже не противником, а союзником парнас-
цев, не продолжателем, а врагом романтиков и Бодлера. Имен-
но об этом свидетельствует, например, стихотворение в прозе
«Цветы», где речь идет об единстве расположенных рядом друг
с другом статичных явлений. Статичность усугубляется тем,
что цветы изображены как камни, минералы, драгоценности34,
т. е. как нечто весомое, тяжелое. Если судить по стихотворе-
32 Ср. очень интересные в этом плане суждения французского литературоведа
Антуана Адана о «Балаганном представлении» (A. Adam. Les Illuminations
sans methaphysique. Les Lettres franchises, 28/X — 4/XI 1954), а также суж-
дения H. И. Балашова о «Демократии» («История французской литерату-
ры», т. III, стр. 383).
33 Об отходе Рембо в «Озарениях» от сатиричности, об его отказе от социаль-
ных тем см. у Кулона (М. Coulon. Le problerne de Rimbaud, poete maudit.
P., 1923, p. 154, 275) и у Рюшона (F. Ruchon. Jean-Arthur Rimbaud. Sa vie,
son oeuvre, son influence. P., 1929, p. 117). Надо отметить, однако, что оба
исследователя этот отход несомненно преувеличивают и абсолютизируют.
34 Интересное соображение об этом см. у Рюшона (указ, соч., стр. 159, 180).
218
нию в прозе «Тоска», статичностью охвачены теперь даже жид-
костные, текучие формы бытия. Речь идет здесь о безмолвии
вод, о зыбкой тишине воды или моря. Очень любопытен в этой
связи образ закрытого помещения, способного защитить лири-
ческого героя. Оно противоположно всему огромному и беско-
нечному. Поэт говорит в «Озарениях» о павильоне («Варвар-
ское»), об аквариуме («Bottom»), о карете («Обыденный нок-
тюрн»), о подземной гостиной («Фразы») 35.
Те же тенденции к уравновешенности, к спокойствию, пусть
также не преобладающие, но во всяком случае противоречащие
отрицанию иронии, столь существенной для произведений Рем-
бо периода расцвета, обнаруживаем мы в других стихотворе-
ниях в прозе — в «Отъезде», «Царстве», «Мостах», «Бороздах»,
«Заре». Преобладает восторг, пассивное созерцание, погружен-
ность в предмет восприятия. «Мосты» недаром выдержаны в се-
ро-белых и голубых тонах, в тонах спокойствия и равновесия.
Над мостами серое небо, под ними серо-голубая река. С неба
на реку спускается белый луч.
Характерен первый раздел стихотворения в прозе «Бдения».
В нем также торжествует идея отдыха и покоя, отвергается
принцип поисков, исканий. Усталости и пылкости, возбуждению
и слабости предпочитается покой и ровный свет. В «Заре» вни-
мание поэта сосредоточено на застывшей природе, ожидающей
восхода солнца. Все еще находится в этот момент в состоя-
нии покоя. Воды замерли. Тень лежит на лесной дороге.
Намеченная некоторыми стихотворениями в прозе тема спо-
койствия ведет к отрицанию взрыва, катастрофы. Именно с этим
мы сталкиваемся в «Сказании» («Conte»), где отвергается идея
нового потопа или всеобщего разрушения. Князь, герой этого
стихотворения в прозе, убивая здесь всех своих жен, истребляя
всех своих подданных и животных, сжигая свои дворцы, поступал
таким образом напрасно, ибо его жены появляются вновь, под-
данные, как и раньше, следуют за ним; толпа, золотые кры-
ши, животные продолжают существовать и после уничтожения.
Всеобщее разрушение, замечает исследователь Рембо Чадвик,
представляет собой только сон, мечту, рожденную сознанием
поэта.
Появляется в «Озарениях» и тяготение к искажению действи-
тельности. Существующий мир не просто разуплотняется, заме-
няется потусторонним, речь идет о субъективной деформации
действительности. Эта деформация приближает «Озарения» к тем
стихотворениям Рембо, в которых происходило срастание сим-
волизма с декадентством, к «Слезе», «Воспоминанию», «Мише-
лю и Кристине». Она делает весьма значительную часть сти-
хотворений в прозе крайне затрудненной для понимания. Време-
нами затрудненность некоторых образов и целых стихотворений
31 См. об этом подробнее у С. Анкета (указ, соч., стр. 159).
219
в прозе граничит с полной непонятностью, они уже нуждаются
в особом разъяснении, истолковании, интерпретации. Ведь изо-
бражаемое утрачивает в «Озарениях» объективную закономер-
ность и подменяется закономерностью сознания, воспоминаний
субъекта, его мечтаний. И опасность не в самих по себе воспо-
минаниях или мечтаниях, а в том, что они не отделены доста-
точно четко от восприятий внешнего мира. Рембо в «Озарениях»
как бы уничтожает объективную грань между внешним миром
и миром сознания, грань между настоящим и будущим време-
нем. Поэт говорит о своих фантазиях так, будто они уже осу-
ществились, рассказывает о них, не отличая их от реальных
фактов или событий, считая их равнозначными. В «Городах»
возможное, еще не существующее, все время смешивается с
наличным, уже существующим. В «Мистическом» воображаемое
перемешивается с реальным. К зрительным впечатлениям от лу-
гов, от холма, от его склонов и вершин незаметно присоеди-
няется еще «гибельный шум» от битв и массовых избиений
людей — совокупность звуков, которые лирический герой, взи-
рающий на луга и холм, будто бы слышит.
Вслед за гранью между настоящим и будущим, между вос-
приятием и воображением исчезает и грань между настоящим
и прошлым, между восприятием и воспоминанием. Так, стихо-
творение в прозе «Борозды» открывается картиной летнего утра
в парке; направо от поэта — деревья и туман, их окутывающий,
а налево — склоны холмов, покрытые фиолетовой тенью, и доро-
га с тысячами следов от повозок. Реально увиденное: борозды,
рытвины, колеи, следы колес на дороге — все это вызывает
целую вереницу воспоминаний о бродячем цирке, который когда-
то был увиден поэтом в Шарлевиле. Поэт вспоминает о повоз-
ках, крытых полосатой материей, о чучелах животных, на
которых восседали мужчины и дети, разряженные, костюмиро-
ванные, готовые к цирковым представлениям. При этом воспоми-
нания о прошедшем не отделены у Рембо от того, что видит
герой в парке сейчас. О повозках, цирковых актерах, лошадях
рассказывается так, будто они сейчас или только что, этим
летним утром, прошли по дороге, окаймляющей парк, в то время
как на самом деле все они сохранились только в воспомина-
ниях поэта, в его сознании, как явления его душевной жизни.
Вереница повозок бродячего цирка превращается затем в похо-
ронную процессию, в череду гробов под балдахином ночи и
черных, как вороново крыло, султанов. Воспоминание трансфор-
мируется здесь в воображаемое, так как между первым и вто-
рым также нет резких граней.
Устранение границ между воспоминанием и восприятием су-
щественно и для первого раздела «Детства». Вспоминая о
своем детстве, поэт ставит на свое место себя-ребенка и сооб-
щает о своих воспоминаниях так, будто это не воспоминание,
а непосредственное восприятие. То, что когда-то показалось
220
ребенку, то, что когда-то ему почудилось, поэт представляет
реально существующим. Так, он рассказывает об истукане с
черными глазами и желтыми волосами, о девушке с апельсино-
выми губами, о звучащих, вспыхивающих, светящихся цветах.
Он помещает рядом с собой в саду людей умерших или отсут-
ствующих в настоящее время. Он смещает местоположение
реальных явлений, располагает их так, как они связаны друг
с другом в его сознании. Так, он показывает в том же втором
разделе «Детства» умершую молодую женщину; она спускается
по ступеням террасы в сад. Рядом с террасой совсем возле
ступеней сестра поэта, умершая 5 лет тому назад, грудным
ребенком. Поэт переносит в сад розовый куст, виденный им на
кладбище, точнее на ее могиле. Тут же карета его двоюродного
брата, который в момент написания этого произведения нахо-
дится в Индии: брат сразу и в Индии, и здесь в саду, вечером,
перед закатом.
Смену планов душевной жизни, переход от воспоминаний,
от прошлого, к восприятию, к настоящему мы видим и в
«Жизнях». Поэт вспоминает в первом разделе этого стихотво-
рения в прозе о своем чтении вед, о браминах, о своих встре-
чах с подругой в вечерние часы и в солнечное время, чувствует
на своем плече ее руку. И сейчас же, без всякого перехода он
заявляет, что вокруг него шумят взлетевшие ярко-красные голу-
би. В поэтических образах соединяются местности, географиче-
ски далекие друг от друга. Так, во втором стихотворении в
прозе «Города» переплетаются и сочетаются Англия, Индия,
Северный полюс. Поэт упоминает здесь о лондонском утре,
говорит о северных напитках, расценивает их стоимость в ру-
пиях, вспоминает о набобах. При этом воображаемые районы
(Индия, Северный полюс) представляются столь же присут-
ствующими и существующими, как и непосредственно данное
(Англия). В стихотворении в прозе «Дворец высокого мыса»
поэт объединяет в своем сознании места, пространственно да-
лекие друг от друга,— Грецию, Японию, Аравию, Англию, Аф-
рику, Италию, Германию. Он при этом не указывает, не под-
черкивает, что речь идет о предметах воспоминания или вооб-
ражения. Он говорит о карфагенских каналах, о лодках Вене-
ции, об извержении Этны, о немецких тополях, об японских
деревьях, об английском городе Скарборо так, будто они все
присутствуют в данный момент возле него, будто он их видит
перед собой.
«Озарения» затруднительны для понимания и потому, что
пейзажи зависят от ракурса увиденного, от угла зрения, кото-
рый избрал поэт. Ракурс, или угол зрения, определяется позой
человека, который на этот пейзаж смотрит, его положением во
внешнем мире. (При этом о местоположении человека среди
других явлений и вещей нигде прямо не упоминается, как вооб-
ще не говорится об особом ракурсе, угле зрения, в котором
221
даются вещи.) Так, в «Мистическом» изображаемое раскрывает-
ся с точки зрения человека, лежащего на земле навзничь, за-
прокинув голову к небу. Трава и река, окружающие его, свер-
кают от лучей луны, как сталь и изумруды. Над лирическим
героем стихотворения в прозе звездное небо, которое распро-
страняет на землю цветущую нежность (douceur fleurie). И из
образа «цветущей нежности» возникает образ корзины цветов,
спускающейся со звездного неба к герою, который не только
видит окружающее, холм, его склоны, его вершину, не только
обнаруживает слева от себя развороченную землю, но также
воображает и голубое море, представляет себе мраморные тер-
расы, полные роз. Герой «Цветов» лежит в траве возле леса36.
Во втором разделе «Детства» все дается с точки зрения маль-
чика, лежащего в траве на спине и глядящего прямо в небо.
О склонах холма говорится, что они укачивают, о цветах, что
они «жужжат» от садящихся насекомых, о небе рассказывает-
ся как о море, на котором собираются волны-облака и которое
представляется «высоким».
14
Последнее произведение Рембо, его
«Пребывание в аду» («Une saison en enfer»), начатое в июне
1873 г. и законченное в августе того же года, представляет
собой особую форму срастания символизма с декадентством
в творчестве поэта, является особым аспектом декадентского
перерождения его символизма. Как и «Озарения», «Пребывание
в аду» написано прозой. Оно состоит из Вступления, трех лири-
ческих исповедей («Дурная кровь», «Ночь, проведенная в аду»,
«Бред») и четырех стихотворений в прозе («Невозможное»,
«Молния», «Утро», «Прощай»), При этом в лирических испове-
дях, написанных в форме монолога, очень большую роль играет
прямая речь.
«Пребывание в аду» утрачивает присущую «Озарениям» ма-
териальную насыщенность и многокрасочность. Здесь совсем нет
внешнего мира, пейзажей, описаний, натюрмортов, которыми
были наполнены «Озарения». То же самое и в «Пребывании в
аду». Лирический герой «Ночи, проведенной в аду» ощущает
себя как бы «за пределами мира», не слышит никаких звуков,
утратил способность осязать, чувствует себя утомленным, как
бы умирает от усталости. Лирический герой стихотворения в
прозе «Прощай», завершающего весь сборник, призывает в те
дни, когда наступает осень, не жалеть о вечном солнце, ибо
30 См. об этом: Е. Delahaye. Les Illuminations et Une Saison en Enter. P.,
1927, p. 65—66.
222
предпочитает солнцу, реальному явлению,— «божественный
свет», земному миру — потусторонний 37.
Исчезновение материального, объективного усугубляется тем
обстоятельством, что герой его обращается на всем протяжении
книги к чему-то несуществующему, невидимому, только предпо-
лагаемому; он кому-то приказывает, к; чему-то призывает, кого-
то умоляет и упрашивает, кого-то обличает. Неясность и не-
определенность объекта, к которому адресуются речи поэта,
делает образы «Пребывания в аду» иногда вовсе непонятными,
а большей частью столь же затрудненными для понимания,
как и образы «Озарений».
Сосредоточенность лирического героя «Пребывания в аду»
на себе самом ведет к декадентскому перерождению символиз-
ма Рембо, причем это перерождение протекает совершенно в
иной форме, нежели в «Озарениях» или некоторых стихотворе-
ниях поэта, относящихся к 1872 г. Если в «Озарениях» исчезал
двуплановый образ, так как второй его план, связанный с со-
знанием лирического героя, фактически поглощал явления пер-
вого плана, отменял их, то в «Пребывании в аду» второй план
образа очень часто ограничивается прошлым героя, не затраги-
вая реальности настоящего.
При этом прошлое уже не является личным, а родовым,
коренится уже не в биографии лирического героя, не в его
реальном воспоминании, а как бы в подсознании человека, в его
«исторической» памяти. Лирический герой «Дурной крови» мыс-
лит себя, так сказать, в разрезе истории всей страны, в ракур-
се истории Франции, находит в себе гены предков, рассматри-
вает себя как участника крестовых походов, побывавшего в
Византии, у Солимских укреплений, представляет себя прока-
женным, сидящим на разбитых горшках, в крапиве у подножья
стены; ему «вспоминается», как он (или, точнее, его предок)
стоял лагерем в Германии; ему кажется, что у него голубые
глаза и узкий лоб галлов, та же неуклюжесть в движениях.
Ему кажется, что от них у него и идолопоклонство, и склон-
ность к святотатству, и все пороки — раздражительность, сладо-
страстие, лживость, лень («Дурная кровь»). Он воображает,
одним словом, несуществующее и вряд ли даже когда-либо
существовавшее, усматривает в своих реальных особенностях
и чертах следствия никогда не существовавших причин.
Полумистические, декадентские воспоминания лирического
героя о своем существовании до реального рождения, мысли о
себе как о продолжателе рода интересны тем, что они перепле-
таются в «Пребывании в аду» с темой обособления от социаль-
ных верхов, соприкасаются с темой бунтарства, с темами, кото-
37 См. об этом совершенно справедливые суждения Ривьера (указ, соч., стр.
218), который указывает на обедненность видения в «Пребывании в аду»,
на то, что чувственные образы становятся здесь редкими.
223
pbie были свойственны еще стихотворениям Рембо эпохи рас-
цвета его творчества и оказались несколько ослабленными в
«Озарениях». Лирический герой «Дурной крови», вспоминая о
своем прошлом, недаром называет себя «деревенщиной», «му-
жиком» (manant), «грубым животным» (brute). Он объявляет
себя принадлежащим к «низшей расе», напоминает, что никогда
не заседал в «советах вельмож» и в «советах Христа». Раса,
к которой он принадлежит, подвергалась «пыткам и казням»,
причем ее представители во время «мучений», которые они
испытывали, сохраняли присутствие духа и «пели» («Дурная
кровь»). То же сопротивление насилию выказывает и другой
герой «Пребывания в аду»: погибая под выстрелами палачей,
он вцепляется в приклады их ружей, как бы пытаясь вырвать их.
Оппозиционность существующему проявляется в «Пребыва-
нии в аду» также в том, что герой постоянно мыслит себя
«одиноким, без семьи» («Дурная кровь»), не находит возле
себя ни одной дружеской руки, не знает, где искать себе помо-
щи («Прощай»). Это бродяга, напоминающий героя стихотворе-
ний 1870—1871 гг., чаще всего бредущий ночью зимой по доро-
гам, без крова, без теплой одежды, без хлеба, с застывшим от
холода сердцем. Он противопоставляет себя священникам, про-
фессорам, учителям, которые, кстати, предают его правосудию.
Ему враждебны торговцы, генералы, чиновники, императоры.
Это все маньяки, жестокие, скупые («Дурная кровь»).
Оппозиционность лирического героя «Пребывания в аду»
существующему находит выражение и в том, что он противопо-
ставляет себя цивилизации, объявляет себя «негром», который
знает, что белые уже высадились на его родине, что придется
подчиниться им. Отрицая цивилизацию, лирический герой сти-
хотворения в прозе «Невозможное» посылает к черту «славу
мучеников», «свет искусства», «гордость изобретателей», «пыл-
кость хищников». Он порывает с Западом, возвращается к патри-
архальному состоянию, к первоначальной мудрости. Отрица-
ние цивилизации влечет за собой мысль о том, что надо поки-
нуть Европу, переселиться на Восток. Герой «Дурной крови»
не случайно мечтает о путешествиях, о морском воздухе, кото-
рый освежит его легкие и кожу. Освободившись от цивилизо-
ванного мира, он будет плавать, мять траву, охотиться, курить,
пить. У него будут железные мускулы, бешеный взгляд, темная
загорелая кожа. Он мечтает о грубой жизни, о том, чтобы за-
снуть, опьянев, на берегу.
Отрицание цивилизации и обращение к Востоку определяет
и антихристианские выпады автора «Пребывания в аду», во
многом воспроизводящие антихристианские, антицерковные за-
явления поэта в его стихотворениях 1870—1871 гг., теперь
осложненные тем, что он ограничивает христианство Западом
и цивилизацией. Очень характерно в этой связи, что поэт, как
бы вспоминая стихотворение в прозе «Балаганное представле-
224
ние», объявляет «святых» и «анархистов» «актерами», рассмат-
ривает их деятельность как «фарс» и иронически удивляется,
почему Христос привил ему рабские чувства вместо того, чтобы
дать ему «благородство и ощущение свободы» («Дурная кровь»).
Он утверждает далее, что никогда не был христианином, что
всегда был язычником, и видит в этом даже свое преимуще-
ство, так как считает, что Евангелие «устарело» («Дурная
кровь»). Он заявляет, наконец, что попал в ад только потому,
что верил в него, что его пребывание в аду — следствие его
крещения, Родители, допустившие это крещение, сделали его
несчастным, мучеником, рабом. Он надеется, что ад бессилен
что-нибудь сделать с ним, так как не может иметь отношения
к язычнику («Ночь, проведенная в аду») 38.
Очень важно при этом, однако, что антихристианские выпа-
ды не распространяются теперь у Рембо на бога и на религию
вообще. Рембо не создаст уже ничего, равного «Злу», «Пра-
веднику», «Беднякам в церкви», «Первому причастию». «Пре-
бывание в аду» писалось в 1873 г., спустя два года после
поражения Парижской Коммуны, когда у Рембо ослаб скеп-
тицизм по отношению к установленным социальным нормам, ос-
лаб его политический радикализм. Поэт прямо уверяет в «Дурной
крови», что он ждет бога, как «чревоугодник» ждет «лакомство».
Утверждает, что он не является «пленником разума» и именно
поэтому произносит имя «бог». Бог составляет «силу» лириче-
ского героя «Дурной крови», и тот даже поет ему «хвалу».
В той же «Дурной крови» он говорит о «божественной люб-
ви», считая, что именно она и вручает человеку ключи от знания,
подчиняя тем самым науку религии. С понятием бога связывает-
ся теперь для Рембо, как показывает его стихотворение в
прозе «Утро», и будущее человечества, и его прогрессивное
развитие. Он думает, что за пустынями и горами, к которым
устремились люди, их будет приветствовать «новый труд», «но-
вая мудрость», «бегство тиранов», «конец суеверий». Но когда
человек пройдет пустыню и горы, раздастся не только «марш
народов», но и «песнь небес» 39 («Утро»).
33 О богоборческих мотивах «Пребывания в аду» см. у Франсуа Рюшона
(стр. 135).
39 Объясняя религиозные мотивы «Пребывания в аду», Рюшон (указ, соч.,
стр. 107) утверждает, что по смыслу стихотворения в прозе «Прощай» цель
поэта не может быть достигнута через земной прогресс, что «состояние
чистоты», о котором мечтает поэт,— «райское состояние». К Рюшону, в об-
щем довольно беспристрастному исследователю, примыкает целая группа
французских литературоведов вроде Берришоиа, И. Рембо, Ривьера и др.,
которые пытаются превратить «Пребывание в аду» в последовательно ре-
лигиозное произведение, толкуя его как пример религиозного «обращения»
поэта (см. об этом у Этьембля и Гоклера, стр. 35—37). Для этих выводов
есть бесспорные основания. Но это вовсе не значит, что «Пребывание в
аду» лишено антирелигиозных мотивов. ИхП Берришон и другие не хотят
замечать и тем самым фальсифицируют наследие Рембо.
8 Д. Д. Обломиевский
225
Надо отметить здесь к тому же, что тема прогрессивного
развития человеческого рода, его движения вперед, не только
приобретает в «Пребывании в аду» религиозную окраску, но,
кроме того, ’дополняется еще чисто консервативными мотивами,
также характерными для взглядов Рембо после падения Париж-
ской Коммуны. Рассуждая о своем плебействе, о своей при-
надлежности к низшей расе, поэт прямо заявляет тут же, что он
«не понимает бунта». Его раса поднимается, по его мнению,
только для того, чтобы грабить («Дурная кровь»). Восстание
против социальных верхов утрачивает у него революционную
окраску. Когда в ушах поэта начинают звучать песнь небес и
марш народов, он обращается к «рабам», т. е. к людям, еще не
освобожденным от гнета, и призывает их «не проклинать мир»
(«Утро»), Он обнаруживает, что природа не что иное, как «зре-
лище добра». Он готов «благословлять жизнь» и «любить своих
ближних». Дни его будут отныне «легкими», он будет избавлен
от раскаяния, душа его, казалось, умершая для добра, не будет
более испытывать мучения. Он отвергает скептицизм, неверие,
делается спокойным и мирным, признает, что скука уже не явля-
ется для него счастьем; бешенство, буйство, сумасшествие — все
это спадает с него, как тяжелая ноша («Дурная кровь»). Очень
характерно, что, кончая жизнь самоубийством, бросаясь под ноги
лошадей или призывая на себя огонь, он в то же время надеет-
ся, что «привыкнет» и к такого рода мучениям. Так во всяком
случае завершается «Дурная кровь», финал которой знаменует
примирение героя со злом жизни.
Но, признав бога и примирившись с существующим, Рембо
не вычеркивает из «Пребывания в аду» категорию уродливого.
Он допускает существование ада, сатаны, адских мук и страда-
ний. Полное, незамутненное счастье, гармония, блаженство
относятся здесь лишь к прошлому, к юности, которая представ-
ляется герою как бы сплошным «пиршеством», временем, когда
«открывались все сердца», когда лилось вино, а красавицы сиде-
ли у него на коленях (Вступление к «Пребыванию в аду»).
О своей молодости, милой, героической, легендарной, «записан-
ной на золотых листках», он рассказывает и в «Утре». Настоя-
щее в отличие от прошлого рассматривается поэтом как время
бессилия, падения, сна («Утро»), Он сам кажется себе «растя-
нувшимся в грязи» (Вступление к «Пребыванию в аду»). Его
лодку прибило к гавани нищеты, к огромному городу под небом,
отмеченным огнем и грязью. В городе этом герой видит кучи
сгнивших лохмотьев, хлеб, залитый дождем, пьянство. Кожа
героя изглодана грязью и чумой, волосы и подмышки покрыты
червями, а самого большого червя он ощущает в своем сердце
(«Прощай»), Он недаром говорит о себе как о проклятом
(«Дурная кровь»), как об осужденном на адские муки («Ночь,
проведенная в аду»). Несчастье и ненависть, как их представ-
ляет себе лирический герой «Пребывания в аду», ограничены
226
сферой настоящего. Их не знало прошлое, время молодости,
им неподвластно и будущее, которое рисуется герою очищенным
от горя. Герой стихотворения в прозе «Прощай» не случайно
чувствует себя добившимся «победы». А после победы слабее
зубовный скрежет, шипение пламени, вздохи. Стираются ужас-
ные воспоминания, убегают последние сожаления, уходит за-
висть к бродягам, к разбойникам, к «друзьям смерти», т. е.
к людям, решившимся выйти за пределы нормы. В том же сти-
хотворении в прозе «Прощай» герой его предлагает рассматри-
вать сегодняшний день как «канун», советует, вооружившись
«пылким терпением», войти завтра на заре в «пышные» города.
Примирением с существующим определена ограниченная ак-
тивность лирического героя, субъекта восприятия и действия.
Поэт заявляет в «Бреде», что он считал себя раньше, когда
отрицал бога, т. е. когда писал стихотворения 1870—1871 гг.
и «Озарения», властителем всех красок; все живописцы и лите-
раторы казались ему тогда ничтожествами, так как изображали
действительность неизменной. Он, напротив, отдавался галлюци-
нациям, видел мечеть на месте завода, кареты на небесных доро-
гах, гостиную в глубине озера. Он признавал «священным»
«беспорядок» своего ума («Бред»), Теперь поэтическое воз-
буждение прежних лет оценивается как результат своеобраз-
ного самоотравления. Недавно герой творил праздники и побе-
ды, старался изобрести новые цветы, новые светила, новую
плоть, новый язык. Он питал себя ложью. Теперь он должен по-
хоронить свое воображение и свою память, слава артиста и ска-
зочника исчезла, маг и ангел возвратился к почве, к реальности.
(«Ночь, проведенная в аду»). Он готов отказаться от бунта, от
борьбы с врагом, т. е. готов на то же примирение с действитель-
ностью, о котором он говорил уже в «Утре» и в «Дурной крови».
Примирение с существующим нельзя,
впрочем, считать даже в «Пребывании в аду» чем-то окончатель-
ным и дефинитивным. Поэт слишком часто сомневается в конеч-
ной возможности принять сущее. Не может он и спокойно описы-
вать обращение к богу, ибо в его сознании снова и снова возни-
кает атмосфера ада, а она несовместима с радостью. Все это,
таким образом, если не снимает совершенно, то во всяком случае
ослабляет примирение.
8*
Глава шестая
СТЕФАН МАЛЛАРМЕ
1
Если поэзия Бодлера, Верлена, Рембо
остается в своих лучших образцах за пределами декаданса и
приближается к ней лишь в последних своих проявлениях (Бод-
лер в стихах конца 50-х — начала 60-х годов, Верлен в своих
стихотворениях, написанных после 1872 г., Рембо в своих про-
изведениях 1872—1873 гг.), то Малларме (Stephane Mallarme,
1842—1898) основательно затронут декадентскими влияниями
уже в 60-е годы, когда он создает свои первые оригинальные
произведения: «Возвращение весны» («Le renouveau», 1862),
«Звонарь» («Le Sonneur», 1862), «Окна» («Ees fenetres», 1863),
«Лазурь» («E’Azur», 1864), «Цветы» («Ees Fleurs», 1864), «Тос-
ка» («E’Angoisse», 1864) *. 70, 80, 90-е годы лишь завер-
шают его развитие в сторону декаданса, который как бы вби-
рает в себя в это время едва ли не всю его идейно-худо-
жественную систему.
Это не значит, что поэзия Малларме может быть попросту
отождествлена с декадансом, что в ней не было ничего, что
выходило бы за его пределы. Особенно ясно отличие от декадан-
са, связь с явлениями более ранних этапов исторического раз-
вития сказывается в стихотворениях Малларме 60-х годов, хотя
эти стихотворения, будучи сами по себе достаточно значитель-
ными, и не принадлежат к вершинам творческого развития поэ-
та. Как бы то ни было, но в своей поэзии 60-х годов Малларме
является прежде всего учеником Бодлера, продолжателем его
поэтической реформы, последователем его напряженного субъек-
тивизма.
Многое в его творчестве 60-х годов рождается параллельно
стихам Верлена, который также создает свою лирику вслед за
Бодлером. Многое, наконец, возникает у него в это время в
противовес романтической поэзии, в которой на первом месте
всегда находился объективный мир, на втором месте лирический
1 Тексты Малларме приводятся по изданию: St. Mallarme. Oeuvres completes
P., Bibliotheque de la Pleiade, Gallimard, 1945.
228
герой 2, в то время как Малларме, следующий в этом отношении
за Бодлером и развивающийся параллельно Верлену, выдвигает
в центр своих стихов душу героя, оставляя на периферии образа
демонстрацию внешнего мира.
Именно поэтому столь большое значение для Малларме 60-х
годов получает символистская структура образа, двуплановое
его строение, установленное впервые Бодлером и в 60-х годах,
укрепленное Верленом. При этом содержанием второго, глубин-
ного плана образа у Малларме, так же как у Бодлера и Верлена,
становится человек. Так, в «Окнах» первые пять строф стихотво-
рения относятся к первому плану, строятся вокруг фигуры уми-
рающего, который находится в больнице. Последние 5 строф
имеют своим предметом фигуру самого поэта, который, так же
как больной первой половины «Окон», с отвращением относится
к своему окружению и с восторгом к тому, что находится за
окном, в сфере его мечтаний. Видимое, зримое, обоняемое ока-
зывается лишь частью всего существующего, лишь звеном срав-
нения, метафоры; глубинный, подлинный объект находится за
пределами чувственной сферы, в душе поэта.
Точно такова же структура сонета «Звонарь», в котором
объективный мир — фигура звонаря, колокол, птицы, летающие
вокруг колокольни и мешающие звонить в колокол,— переключа-
ется во второй части стихотворения во внутренний мир поэта,
в план его душевного настроения. Поэту надоело тянуть за
канат и приводить в движение колокол, он устал призывать к
идеалу. Ему к тому же мешает «оперение» грехов. И он готов
повеситься на канате, который соединяет звонаря с колоколом3.
Так же как Бодлер'и Верлен, Малларме 60-х годов близок
2 Очень любопытное противопоставление Малларме и романтической лирики
находим мы у Тибодэ (/1. Thibaudet. La pofesie de Mallarme. P., 1913, p. 44),
который считает, что у Малларме не было поэтического чувства природы,
столь характерного для романтиков. Конструированный вокруг природы
романтический лиризм создавался, по словам Тибодэ, в противовес лите-
ратуре классицизма. Малларме как бы возобновляет классицистскую тра-
дицию, для которой главным был всегда человек.
Не менее любопытно противопоставление Малларме и В. Гюго, выд-
винутое Л. Остеном в статье 1956 г., посвященной ученическим годам Мал-
ларме (цит. по: L. Cellier. МаПаггпё et la morte qui parle. P., 1959, p. 44).
Остен утверждает, что поэтика В. Гюго основана на «увеличении» и «пе-
речислении», т. е. что она, можем мы добавить, экстенсивна, центробежна,
в ней преобладает объективный мир, в то время как поэтика Малларме,
напротив, строится на основе «конденсации» и «концентрации», т. е. она,
можем мы опять добавить, интенсивна, центростремительна, в ней преоб-
ладает мир субъекта.
3 Нам представляется, что Тибодэ, утверждающий (указ, соч., стр. 93), что
«Окна» и «Звонарь» не имеют еще отношения к символизму, что они пост-
роены по формуле сравнения, характерного для парнасцев, глубоко неправ.
Парнасцы были склонны сводить всё к закономерностям объективного
мира. Малларме сравнивает материальные явления с душевными феноме-
нами, видит смысл, суть существующего в последних. Это совершенно не-
парнасское отношение к миру.
229
к импрессионистскому восприятию действительности. Он рисует
лирического героя или центрального персонажа своих стихов
как телесное существо. Мир раскрывается в значительной части
стихотворений поэта 60-х годов через зрительные, слуховые, обо-
нятельные, вкусовые и тепловые ощущения. Из его стихов мы
узнаем, например, о белой струе воды («Вздох»), о белизне
лилий, о красных цветах лавра, о голубом фимиаме горизонтов,
о пурпурной реке («Цветы»), о желтом цвете осени, о длинном
луче желтого солнца («Вздох»). Мы слышим, читая стихотворе-
ния Малларме, то щебет птиц («Возвращение весны»), то «яс-
ный голос колокола», то собственный голос поэта, который доно-
сится до него лишь урывками («Звонарь»), Мы обоняем запах
грусти и душистые звезды («Воздух»), Мы узнаем о горьком
поцелуе больного («Окна»), о холодных грехах, которые проно-
сятся вокруг поэта, точно птицы («Звонарь»), о земле, пышащей
зноем (la terre chaude) («Возвращение весны»), о теплой реке,
которая напоминает герою волосы его возлюбленной; в этой
реке он хотел бы утопить свою душу («Летняя грусть», 1864).
Поэт и его центральный персонаж представляется нам и не-
посредственно как тело. На темени лирического героя «Возвра-
щения весны» остывает белый сумрак; его череп сжат железным
обручем. Поэт зевает, чувствуя приближение смерти («Лазурье»),
он зевает, потягиваясь, пытаясь освободиться от физического
утомления («Возвращение весны»). В «Окнах» говорится о ко-
стистой, худощавой фигуре больного, об его седых волосах. Ге-
рой «Летней грусти» пьет тушь, выплаканную ресницами воз-
любленной.
2
Для поэзии Малларме 60 х годов имеет
очень большое значение принцип двоемирия, который восходит
к Бодлеру и романтической лирике. В нем сосредоточено не-
согласие поэта с существующим, его тяготение к оппозицион-
ности, к контрастам и антитезам. Тема двоемирия особенно от-
четливо представлена в «Окнах». Герой этого стихотворения—
скрытный, замкнутый в себе больной, обреченный на смерть,
он поворачивается спиной к печальной и надоевшей ему боль-
нице, где его окутывает «зловонный фимиам», где возле него
находятся лекарственные коробки, распятие и часы, висящие
на стене, «навязанная» ему кровать, где ему угрожает ужас
предсмертного причастия4. Он обращает свои взоры к окну не
4 Las du iriste hopital, et de 1’encens fetide
Qui monte en la blancheur banale des rideaux
Vers le grand crucifix ennuye du mur vide,
Le morribond sournois у redresse un vieux dos...
Jvre, il vit oubliant I’horreur des saintes huiles,
Les tisanes, 1’horloge et le lit inflige.
(p. 32)
230
потому, что ему хочется согреть на солнце «гниль» (pourritu-
ге) своего тела, не для того чтобы «испачкать» (encrasser)
своим прикосновением оконное стекло. Больной тянется к окну,
чтобы увидеть и лучи солнца на камнях, и голубое небо, и
горизонты, залитые светом (1’horizon de lumiere gorg6).
В окнах ему открывается второй, идеальный мир — пурпурная
и благоухающая река, сверкающие молнии, золотые галеры,
прекрасные, как лебеди.
Принцип двоемирия имеет определяющее значение и для
«Тоски» (1864), где поэт и женщина, с которой он состоит в
интимной связи, находятся среди предметов реального мира:
они сидят на кровати, над ними висит занавеска. И вот за
этим материальным окружением обнаруживается глубокий фон
небытия, о котором присутствующая здесь женщина знает, по
словам поэта, больше, чем мертвецы. Та же структура и в
«Цветах». За зримым миром, за сферой цветов — гладиолусов,
лавров, гиацинтов, миртов, роз, лилий — поэту видится мир
«небесных светил» и «голубое небо». Цветы — производные зо-
лотых лавин, спустившихся с неба и возникших из вечного
снега небесных светил. За сегодняшним днем открывается день
творения, день создания Вселенной богом или матерью-приро-
дой, открывается земля, еще юная и девственная, свободная
от катастроф и бедствий, которые ей доведется претерпеть.
Не менее значительную роль, нежели тема двоемирия, в поэ-
зии Малларме 1862—1865 гг. играет органически связанный с
этой темой романтический образ небесной лазури, тоже выра-
стающий из несогласия поэта с существующим, из возражений
поэта окружающему миру. Очень важно, что образ лазури не
имеет у Малларме ничего мистического, не имеет отношения к
потустороннему. Лазурь полностью принадлежит к реальному,
земному. В «Возвращении весны» голубое небо раскрывается не
как нечто чуждое земле, не как сфера, находящаяся по ту сто-
рону реального. Оно объемлет собою здесь все земное — и птиц,
и цветы, и деревья. В «Цветах» голубое небо объявляется источ-
ником чувственного мира. Цветы, украшающие этот мир и со-
ставляющие его элементы,— проявления лазури, ее следствия.
При этом самые цветы представляются лирическому герою яв-
лениями подчеркнуто телесными, весомыми, вызывающими в
человеке чувственные ощущения. Так, цветы лавра, в которых
подчеркивается их красный цвет, сопоставляются с большим
пальцем на ноге ангела, в мирте отмечается его зримый ас-
пект, его сходство с молнией (видимо, потому, что ветер, колеб-
ля цветы мирта, заставляет их временами блестеть), роза упо-
доблена женской плоти. Она, кроме того, напоминает кровь Ио-
анна Крестителя, пролитую Иродиадой. Малларме в этом отно-
шении внешне близок к парнасцам, хотя и отличается от них
по существу, ибо мир плоти и крови не составляет у него глав-
ное в образе.
231
Что касается несогласия с окружением, стремления возра-
жать ему, спорить с ним, заложенного в образ лазури, поскольку
он связан с темой двоемирия, то это стремление уже при первом
появлении лазури в «Возвращении весны» обнаруживает и свою
противоположность романтической интерпретации. В голубом не-
бе видится своеобразная антиромантическая направленность.
Лазурь переосмысляется, раскрывается в аспекте отрицания
идеала. Она характеризуется уже в «Возвращении весны» не как
явление, соответствующее стремлению самого человека, а как
нечто противоречащее его желаниям, враждебное им, как некое
существо, «смеющееся» над ним. Правда, в «Окнах» втором
стихотворении о лазури, голубое небо противостоит в первую
очередь сфере зловонного и грязного—больнице. Глядя в окно
на солнце и лазурное небо, больной рассматривает себя в них,
как в зеркале, и видит себя там ангелом, существом, чуждым
отвратительной больнице. Он не чувствует себя в этот момент
больным, его уже не отягощает, не привязывает к больничной
палате его тело, ставшее «гнилью». Но в «Лазури», в третьем
стихотворении, посвященном голубому небу, романтическая ан-
титеза идеала и реальности снова подвергается отрицанию. Ан-
тиромантическая тема, намеченная в «Возвращении весны», мо-
тив «легкой усмешки», с которой лазурное небо смотрит на че-
ловека, получает углубление и дальнейшее развитие. В «Лазури»
речь идет уже не только о безмятежно-ироническом (sereine
ironie) отношении небосвода к человеку, но и о его прямом
«давлении» на него. Лазурь взирает на человека как «угрызение
совести», его «сразившее», «повалившее его наземь». Она
«пронзает» его мечом 5. О лазурном небе говорится здесь как о
«победителе», которого встречают и приветствуют «звоном коло-
колов» и который внушает страх, «пугает»6. Если в «Возвраще-
нии весны» небосвод еще представлялся в целом благосклонным
к человеку, хотя и свысока взирающим на него, если в «Окнах»
герой заявлял, что власть находится в руках у «этого света»
(ici-bas), а не у лазури, чуждой «этому свету», мерзкому и
грязному, то в «Лазури» врагом героя оказывается и небосвод,
т. е. весь чувственный мир в целом.
5 ...je le sens qui regarde
Avec 1'intensite d’un remords atterrant,
Mon ame vide...
(p. 37)
il... traverse
Ta native agonie ainsi qu’un glaive stir...
(p. 38)
6 ...1’Azur triomphe, et je 1’entends qui chante
Dans les cloches. Mon ame, il se fait voix pour plus
Nous faire peur...
(p. 38)
232
Враждебна человеку не только отвратительная сторона реаль-
ного мира, но и прекрасное в нем. Поэт не знает, куда бежать
от преследующего его голубого неба. Он хотел бы покрыть угне-
тающее его «презрением» небо «лохмотьями густого тумана».
Он призывает туманы, чтобы они «поднялись» и пролили свой
туманный пепел на небеса, чтобы они создали «громадный мол-
чаливый потолок», который «скрыл» бы героя от небес7. Он меч-
тает о том, чтобы «трубы на крышах» «безостановочно дымили»
и чтобы «блуждающая тюрьма из сажи» потушила желтеющее
солнце, уже спустившееся к горизонту.
3
Из возражения против существующего
и в его отвратительном аспекте, и в элементах прекрасного вы-
текает у Малларме 60-х годов его пессимистический, минорный
взгляд на окружающее, также сближающий его поэзию с Бодле-
ром, Верленом, поздним Рембо. Лирический герой стихотворе-
ний Малларме 1860—1865 гг. недаром прежде всего печален сам.
Его душа грустит («Видение»), Его кровь, «ведающая его су-
ществом», уныла («Возвращение весны»). Он заунывно зевает
(«Лазурь»), он опьянен запахом грусти («Видение»). Челове-
ческая плоть представляется поэту грустной («Морской ветер»,
1863). Печально и окружение героя: грустно дымят трубы на
крышах («Лазурь»), печальной кажется герою больница
(«Окна»). Лаская волосы близкой ему женщины, лирический
герой «Тоски» поднимает на голове любимой печальную, как
ему кажется, бурю. Все, что ни делает сам герой или другие
персонажи стихов- Малларме, имеет всегда дополнительный
оттенок грусти или печали. Звонарь с грустью бормочет молит-
вы и приводит в движение канат, привязанный к колоколу.
Весна с грустью прогоняет зиму.
Большое значение получает в этой связи для Малларме мо-
тив плача. Плачут у него и ангелы, рыданья вырываются
Ъ виол, которые ангелы держат в руках («Видение»), Поэт го-
ворит о рыдающей белизне лилий («Цветы»), Солнце примеши-
вает к любовному напитку, который оно готовит для героя и
его возлюбленной, слезы («Грусть лета»).
Из разочарования во всем реальном мире следует у Маллар-
ме тема смерти и мотив самоубийства. Смерть связана с кра-
7 ...Oil fair? Et quelle nuit hagarde
Jeter, lambeaux, jeter sur ce mepris navrant?
Brouillards, montez! Versez vos cendres monotones
Avec de longs haillons de brume dans les cieux
Que noiera le marais livide des automnes
Et batissez un grand plafond silencieux!
(p. 37)
233
сотой и как бы вытекает из нее. Цветы — лилии, гиацинты,
гладиолусы, мирты,— воплощая в себе красоту земного бытия,
одновременно с этим приносят поэту «благоуханную смерть».
В «Звонаре» поэт не видит для себя другого выхода, кроме само-
убийства. Он устал от того, что слишком долго звонил в коло-
кол и призывал к идеалу. Мотив самоубийства завершает и
«Окна». Больной, стоя у окна, мечтает о том, чтобы выдавить
оконное стекло и убежать, причем он понимает, что рискует
разбиться, погибнуть, освобождение тождественно для него са-
моубийству.
Другой аспект разочарования героя Малларме в реальном
мире выражается в теме всеобщей опустошенности, которая оп-
ределяет собой сонет «Ее прозрачные ногти» (1868). Сонет
демонстрирует пустую комнату с зеркалом в золоченой раме и
с открытым окном. Хозяина комнаты нет: он отправился к Стик-
су, «реке забвения», чтобы «почерпнуть» в нем его «плач», т. е.
забвение всех мирских вещей и ценностей. Речь идет здесь о
действительности, освобожденной не только от вещей, но даже
от воспоминаний о людях. В мире по существу осталось толь-
ко зеркало, отражающее через окно ночное небо с семью звез-
дами Большой Медведицы. Главное, как бы утверждается в со-
нете, не земной мир, а неземные просторы, мрак, точнее — не-
бытие. *
4
Малларме 60-х годов рисует лирического
героя своих стихотворений полным отвращения ко всему, что ок-
ружает его, и вообще полным отрицания всего реального мира.
Герой «Окон» поворачивается к жизни спиною. Герой «Лазури»
хотел бы бежать от нее, закрыв глаза. Но этим, по су-
ществу, и ограничивается его враждебная реакция на жизнь в
ее уродливых аспектах и в аспектах прекрасного. Пессимисти-
ческий взгляд на действительность не выливается у Малларме,
в противоположность Бодлеру и Рембо, в протест. Человек,
судя по той же «Лазури», не знает, куда бежать от сущест-
вующего, и считает — это главное, — что бунт (revolte) «не
нужен и порочен» (pervers). Он мечтает о том, чтобы мате-
рия (matiere), т. е. чувственный мир, дала ему возможность за-
быть и об идеале, который именуется им «жестоким», и о грехе.
Герой «Тоски» мечтает не о восстании против зла и уродства,
а о тяжелом сне без сновидений, который дал бы ему возмож-
ность забыться и полностью отрешиться от всего окружающего.
Отказ от мятежа, от борьбы объясняет, почему такое огром-
ное значение, гораздо большее, чем трагедийные мотивы, получа-
ет для Малларме уже в первый период его творчества не только
антиромантическая тема, особенно ясно развернутая в «Лазури»,
но и декадентское отношение к миру. Ибо в поэзии Малларме
234
дело не только в том, что враждебный мир, как показывает
та же «Лазурь», сильнее, могущественнее героя, не только в
том, что последнему именно поэтому как бы противопоказана
борьба с этим миром. Дело в том, что сам герой не способен к
борьбе, к активному сопротивлению злу. Он ведь изображается
уже в одном из первых самостоятельных стихотворений Маллар-
ме, в «Возвращении весны», предельно слабым, бессильным,
а также, судя по «Лазури», бессильным и немощным (impuis-
sant). «Душа у него пуста» — прямо заявляет поэт в той же
«Лазури».
Жизнь сделала человека, как утверждается в «Цветах», блед-
ным, хилым, чахлым (etiole). В «Тоске» речь идет о лириче-
ском герое, бледном, истощенном. Слабость, бессилие человека
подчеркивается его постоянной усталостью, утомленностью. Об
усталом (las) герое говорится уже в «Возвращении весны».
В «Звонаре» поэт изображается существом «утомленным» (fati-
gue). Усталость отличает и героя «Окон»: он устал и от боль-
ницы, от ее «зловонных запахов». Утомленным представляется и
герой стихотворения «Усталый от горького отдыха». Усталый ге-
рой «Лазури» не случайно уныло «зевает». О продолжительной
зевоте, которой одержим утомленный человек, рассказывается в
«Возвращении весны». В стихотворении «Усталый от горького
отдыха» поэт обнаруживает ослабленность, истощенность, ис-
черпанность не только в самом себе, но и в окружающем. Так,
«увядающим» рисуется ему и «диковинный цветок, существова-
ние которого приходит к концу».
Тема увядания, исчерпанности, старости играет значитель-
ную роль и в стихотворениях в прозе Малларме, написанных им
в 60-х годах. Поэт предпочитает, судя по стихотворению в про-
зе «Осенняя жалость», и «томные» дни конца лета, и час дня,
когда солнце отдыхает перед тем, как совсем «исчезнуть», и ли-
тературу последних времен Рима, которую он неслучайно на-
зывает «умирающей», находящейся в «агонии». Поэт заявляет
(стихотворение в прозе «Зимняя дрожь»), что он ставит выше
новых вещей вещи «изношенные» (usees), признается, что его
пугает «кричащая дерзость» новых вещей, что ему не нравится
«активность», «действие». Он демонстрирует «прелесть увядаю-
щих листьев». Поэт говорит в «Грядущем чуде природы» о
бледном небе, о мире, приходящем к своему концу от дряхлости,
о скучающих деревьях, об их листве, побелевшей от возраста.
С мотивом усталости, утомления, увядания, характерным для
декадентского мироощущения, органически связана у Малларме
также чисто декадентская тема патологического, болезненного.
Поэт недаром именует болезненной весну, рассказывает о голов-
ной боли лирического героя, череп которого как бы сжат желез-
ным обручем, подробно останавливается на страданиях умираю-
щего в «Окнах», отмечает в «Лазури» агонию человеческой
души.
235
Очень любопытно в этой связи, что причиной утомленности
лирического героя из «Возвращения весны» является перепол-
ненность действительности вещами, красками, запахами. Бес-
сильный, грустный, усталый герой показан здесь на фоне обиль-
ных полей, щедро политых соком, на фоне земли, с лилиями,
на ней растущими, причем земля пышет зноем, а сила, которой
налиты поля, представляется чванной, спесивой8. Лирический
герой падает на землю от усталости и хватается за нее, будучи
расслаблен запахом деревьев9, будучи не в состоянии вместить
в себя всю полноту и разнообразие мира — щебет птиц, про-
снувшихся и распевающих на солнце, обилие форм растительно-
сти. Та же мысль в «Лазури». Враждебное лирическому герою
голубое небо подавляет его своей яркостью, ассоциируется в его
душе со звоном колоколов 10 11.
Поэт отдает предпочтение зиме перед весной. Основным в зи-
ме, судя по «Возвращению весны», кажется ему то, что она лучи-
ста (lucide) и ясна (sereine). Зимой нет того обилия красок,
той многоцветности, которые свойственны весне. Отсюда и при-
страстие Малларме к белому цвету, т. е. фактически к бесцвет-
ности. Герой его восхищается белыми сумерками («Вздох»), бе-
лым сверканием, исходящим от золота волос возлюбленной, от
солнца и прибрежного песка («Летняя грусть»), белым облаком
на китайской чаше («Усталый от горького отдыха»). Его привле-
кает белизна занавесок в больнице («Окна»), белизна рыдаю-
щих лилий («Цветы»), белые рыдания ангелов («Видение»), Та
же бескрасочность и в «Звонаре», где воздух чист и ясен, во
«Вздохе», где октябрь бледен и чист.
Мы знаем уже, что поэт, судя по его стихотворениям
60-х годов, воспринимает мир через свое тело, через ощущения
и что в его стихах того времени имелось достаточное количе-
ство многокрасочных образов. Но главенствующую роль среди
них остается все же отнести на долю белого цвета. В белом
поэта привлекает его связь с темой отсутствия, которая играет
в его творчестве, по мнению исследователей, большую роль11.
Отсюда и склонность Малларме к показу р азуплотненности и
развеществленности мира, которая у Верлена не обязательно
8 Et, triste, j’erre apres un reve vague et beau,
Par les champs oil la seve immense se pavane.
(p. 50)
9 Puis je tombe enerve de parfunis d’arbres, las,
Et creusant de ma face une fosse a mon rSve
Mordant la terre chaude oil poussent les lilas.
(P. 31)
1U См. об этом: D. Aish. La Metaphore dans 1’oeuvre de S. МаПагтё. P., 1938,
p. 51.
11 О связи белого цвета у Малларме с темой отсутствия см. у Тибодэ (указ,
соч., стр. 198).
236
была связана с образом усталого, утомленного человека и не
всегда носила именно поэтому декадентский отпечаток. Маллар-
ме именно в этом ракурсе изображает идущую под уклон, сни-
жающуюся интенсивность звука и цвета. Недаром в руках у ан-
гелов из «Видения» угасающие виолы. В том же стихотворении
говорится о «побледневших» горизонтах, о цветах, «поддернутых
дымкой», об умирающем, спускающемся за горизонт солнце.
Отсюда же склонность Малларме к замене пейзажа, насы-
щенного многочисленными подробностями и деталями, ланд-
шафтом, который содержит лишь скупые штрихи, как бы выхва-
ченные из реальности памятьюГЗёмля, которую покидает герой
«Морского ветра», отправляющийся в путешествие по морю,
именуется им «старинными садами», «отраженными в глазах»
человека, который их видел. Рассказывая о своей комнате,
поэт упоминает лишь лампу, оконное стекло и утреннюю зарю
(«Стихи, принесенные в дар»).
Стоит отметить в этой связи и восхищение, которое вызы-
вает у Малларме китайская чаша («Усталый от горького отды-
ха»). Поэт обращает внимание на освобожденность пейзажа,
изображенного на чашке, от подробностей, от деталей. Его при-
водит в восторг прозрачность цветов, которыми чашка расписа-
на, тонкость и бледность линий, рисующих на ней озеро, полу-
месяц, который затерялся в белом облаке. Ему нравится, что
тростник представлен лишь в виде трех изумрудных ресниц.
Следует подчеркнуть, наконец, в этой связи и стремление
Малларме отрывать качество от предметов, стремление поэта
придавать этим качествам существование, не зависимое от ве-
щей. Отсюда — частое обращение поэта к отвлеченным сущёст-
вительным, заменяющим глаголы и прилагательные. В «Негри-
тянке» он говорит о «пугливой обнаженности газели», в «Неве-
зении» об «обнаженности» меча, в «Цветах» о рыдающей «белиз-
не» лилий, в «Монологе фавна» о белизне стада.
Все это знаменует собой, между прочим, и явную чуждость
поэзии Малларме манере парнасцев, их вещизму, весомости, ма-
териальности, плотности.
5
Уход из материальной сферы, которая
так привлекала парнасцев, явственно проявляется и в отрывках
из незаконченной драматической поэмы «Иродиада» («НёгосИа-
de», 1867), в «Монологе фавна» («Monologue de faune», 1865),
относящихся к 1864—1867 гг. Для поэмы «Иродиада» очень важ-
но желание героини отрешиться от реального, от людей, от за-
пахов, избежать всякого соприкосновения с жизнью. Собствен-
ные волосы, прикасаясь к ней, раздражают ее. Иродиада запре-
щает своей кормилице дотрагиваться до нее, не разрешает ей
237
поцеловать руку, надушить ароматами волосы, поправить при-
ческу, Она отвергает все разговоры о возможном замужестве,
считая, что живет только для самой себя, что ее красота су-
ществует тоже только для нее самой. Она не хочет ничего че-
ловеческого возле себя и просит кормилицу закрыть ставни, что-
бы в комнату не проникали голубое небо и солнечный свет,
просит зажечь лампы. Любопытно, что ее волосы напоминают
ей не цветы, а «золото», что они лишены запаха и сохраняют в
себе, в своих «жестоких отблесках», в своей матовой бледности
холод металла12. Она предпочитает всему зеркало, которое,
правда, представляется ей водой, жидкостью, чем-то текучим,
движущимся, но вода эта кажется ей в то же время «оледе-
невшей», т. е. остановившейся, утратившей текучесть и подвиж-
ность. Любопытно, что сама Иродиада кажется себе в отраже-
нии этой воды «далекой тенью»13, развеществленной и лишен-
ной материальности.
Для «Монолога Фавна», написанного в 1864—1865 гг., но
в 1876 г. переделанного в «Послеполуденный отдых Фавна», ха-
рактерно заявление героя поэмы, что все на земле «тем-
но» 14. В самой поэме речь идет о таких явлениях внешнего
мира, о которых неизвестно: произошли ли они действительно
или нет. Фавн пытался овладеть одной из нимф, только что по-
явившихся вблизи, оставшись один, он проникается сомнением
(doute), не может решить: в самом деле нимфы были перед ним
или они — только иллюзия его чувств, а он сам — жертва сво-
его желания. Он не уверен даже в том, кто именно убежал от
него — белые лебеди или наяды. Исчезнувшие нимфы кажутся
ему порождением его флейты, чем-то вроде звуков, от нее ис-
ходящих. Он обращается к лесу, к цветам и просит их стать сви-
детелями совершившегося. Но они отвечают молчанием 15.
6
Мы уже говорили о том, что развеществ-
ленность и разуплотненность внешнего мира окрашены у Мал-
ларме, из-за образа его лирического героя и из-за присущих
последнему утомленности и усталости, в декадентские тона,
12 См. об этом также Тибодэ (указ, соч., стр. 57).
13 Неправы исследователи Малларме, в частности Тибодэ (указ, соч.,
стр. 229), считающие, что в «Иродиаде» сохраняются следы парнасских
воздействий. К- Морон (Ch. Mauron. Mallarme 1’obscur. Р., 1968) очень тон-
ко замечает, что драгоценные камни, окружающие героиню Малларме, в от-
личие от драгоценных камней Леконт де Лиля и Т. Готье, не отшлифованы,
не сверкают, а дают только «тусклые отблески» (стр. 75).
14 Tout sur la terre est obscur.
15 Морон (указ, соч., стр. 39) говорит по поводу «Фавна» о реальности,
испаряющейся в музыкально-жидкий, текучий сон.
238
в тона упадка, увядания. Декадентскую окраску получает у Мал-
ларме 60-х годов и отношение его героя к самоубийству, кото-
рое первоначально, в 1862—1863 гг., трактовалось у поэта
(см. «Звонарь» и «Окна») как выход из создавшихся противоре-
чий, хотя выход и печальный, не лишенный трагизма, не свобод-
ный от отчаяния. И вот у Малларме-декадента самоубийство
трактуется как нечто не подходящее характеру его героя. В соне-
те «Тоска» (1864) наиболее ясно проявляется пассивность лири-
ческого героя. В нем же мысль о самоубийстве, об активном вы-
ходе из жизни сменяется страхом смерти. Герой сонета желает
не умереть, а уснуть. В то же время в «Цветах» речь идет о
благовонной (balsamique) смерти. Со смерти снимается ее тра-
гический покров: она как бы исцеляет уставшего, утомченного
жизнью человека от его недугов. Зло в лице смерти оказывает-
ся приукрашенным. Поэт готов оправдать ее и тем самым при-
мириться с нею.
Тот же оттенок примирения со злом, та же попытка устра-
нить отчаяние — в «Морском ветре» (1865). О смерти, точнее, о
возможном кораблекрушении герой, замышляющий путешествие
в далекие страны, размышляет здесь без всякой тревоги, очень
спокойно, как о чем-то само собой разумеющемся. Смерть пред-
ставляется здесь совсем не трагической.
Декадентское отношение к миру у Мал-
ларме 60-х годов усилено антигуманистическими тенденциями,
проявляющимися в ряде его стихотворений. Размышляя, напри-
мер, в «Окнах» над тем, что внешний мир уродлив, что он вы-
зывает отвращение, поэт одновременно с этим заявляет и о своем
отвращении к человеку (degout de 1’homme), живущему в этом
мире. Это резко отделяет Малларме от Бодлера, для которого
гуманизм был принципиально важен и значителен. Бодлер мог
испытывать к человеку сочувствие, сострадание, жалость, но ни-
как не отвращение. Это не менее резко отделяет Малларме и
от Рембо, у которого вызывали отвращение не все люди, не
любой человек, а их определенная категория, относящаяся к
сытым, обеспеченным, стоящим за status quo.
Правда, заявление Малларме в тех же «Окнах» поддается
ограничению, ибо поэта отвращает от себя все-таки не человек
вообще, а люди с черствой (dure) душой, люди купающиеся в
счастье (vautres dans le bonheur). Именно они вызывают у не-
го горечь и заставляют его «затыкать себе нос». Малларме име-
ет в виду, как можно предположить на основании этого выска-
зывания, людей, достигших благополучия, разбогатевших или
принадлежащих от рождения к господствующему классу.
Но это предположение об антибуржуазных позициях поэта
оказывается при ближайшем рассмотрении в лучшем случае не
239
вполне точным. Уже в «Окнах», рассуждая о людях с черствой
душой, поэт отмечает у них и нечистую рвоту глупости (vomis-
sement impur de la Betise), т. e. категорию уже не социаль-
ного порядка, а скорей порядка биологического или психологи-
ческого. Именно это и вызывает у него отвращение. Поэт отде-
ляет себя от других людей, которые рисуются, в противополож-
ность ему самому, низкими и которых он третирует как глупых.
Эта тенденция презрительного отношения к людям имеет место
и в «Лазури», где поэт именует людей «счастливым скотом»
(betail heureux), или в «Тоске», где женщина находящаяся
в интимной связи с лирическим героем стихотворения, высоко-
мерно трактуется им как животное (bdte).
Антидемократическое, высокомерное отношение к другим лю-
дям получает необходимые уточнения и разъяснения в «Нена-
висти бедняка» (1862). Поэт обращается здесь не только про-
тив людей, купающихся в счастье. Он отрицательно восприни-
мает и бедняков, неимущих, которые у Бодлера и Рембо вызы-
вали сочувствие. Тема бедняка, нищего занимает в творчестве
Малларме особенное и совсем не второстепенное место. Она,
как видно, не оставляла поэта в течение 25 лет, заставляя его
возвращаться к стихотворению на эту тему неоднократно. Пер-
вая редакция произведения, озаглавленного «Ненависть бедня-
ка», относится к 1862 г. В 1864 г. Малларме работает над его
вторым вариантом, называя стихотворение «К нищему». В 1866 г.
поэт вновь обращается к стихотворению и перерабатывает
его, озаглавливая на этот раз «Одному бедняку». В 1887 г.
он включает его в сборник своих стихотворений, снова основа-
тельно переделав и окончательно назвав его «Милостыня».
Несмотря на все эти переработки, основным остается в сти-
хотворении желание унизить человека, лишенного материально-
го достатка, показать, что этот человек не заслуживает сочув-
ствия и сострадания. Нищего, человека в дырявых лохмотьях,
как его рисует Малларме, отличает прежде всего низкий и ра-
болепный лоб, ему недостает гордости. Поэт именует его бра-
том собаки, шакалом. Нищий готов, по его мнению, ползать на
брюхе, продавать свои гримасы и слезы, валяться в грязи. Поэт
меньше всего думает о том, что нищему не хватает хлеба. Он
даже запрещает покупать хлеб на те деньги, которые он
ему дал. Поэту не хочется утешить бедняка, помочь ему, на-
против, его искушает желание развить в нищем пороки, еще
более принизить его, превратив окончательно в деклассирован-
ного, в люмпена. Он желал бы сделать его скаредным, приучить
к табаку, к опиуму. На деньги, которые поэт дает бедняку,
тот должен встретиться с проституткой, побывать в ресторане.
Поэту хотелось бы, чтобы нищий в ресторане отнесся свысока к
лакею, берущему чаевые.
Антидемократизм Малларме 60-х годов делает понятной и
своеобразие символистской, двуплановой структуры образа у
240
поэта и ее отличие от аналогичной структуры образа у Бодле-
ра, а отчасти и у Верлена. Ибо если Бодлер и Верлен усмат-
ривают в основе второго плана образа человека вообще, то
Малларме имеет в виду избранную, особенную личность, при-
надлежащую к элите. Содержание понятия «человек» раздвига-
ется у Бодлера и Верлена до пределов всего человечества, в то
время как у Малларме содержание это умещается в мир от-
дельного лица, становится именно ему тождественным, в нем
замыкается, концентрируется. Оно суживается до границ внут-
реннего мира самого поэта, не похожего на других людей.
Из антидемократизма Малларме вытекает и отказ от бун-
тарства, которого держались вслед за романтиками Бодлер,
Верлен, а позднее и Рембо. Малларме не возражает против
несправедливого порядка, угнетающего человечество, говорит не
от имени большинства людей, а от имени избранных, немногих 16.
7
Малларме 60-х годов был поэтом симво-
листом и импрессионистом с очень значительной примесью дека-
дентского мироощущения, примесью гораздо более сильной, не-
жели у Бодлера, Верлена и Рембо. А вот для зрелого и позднего
творчества Малларме, для его так называемой «последней ма-
неры» — после 1872 года, в парижский период его жизни,—
чрезвычайно характерно, что эта манера все более и более
основательно и во многом безоговорочно входит в орбиту дека-
данса или, по крайней мере, непосредственно сближается с
нею.
«Последняя манера» творчества Малларме намечается уже
во второй половине 60-х годов, как о том свидетельствуют «Свя-
16 Тибодэ правильно видит в символизме Малларме «личностный» (individu-
el) символизм (указ, соч., стр. 94), который он, однако, ошибочно ведет
от творчества позднего Виньи («Дом пастуха») и от Бодлера («Плавание»
и «Альбатрос»), Верно и точно определяя символизм Малларме как
«личностный», Тибодэ справедливо говорит о присущем ему солипсизме,
причем в основу этого солипсизма он кладет древнегреческий миф о Нар-
циссе, который в окружающей его действительности видел только отраже-
ния своего «я», обнаруживая в ней лишь самого себя. «Личностный»
символизм, как символизм настоящий, подлинный, Тибодэ противопоставля-
ет символизму «ненастоящему», демократическому, к которому у него от-
носятся Ламартин и В. Гюго. Самую характерную особенность «личностно-
го» символизма Тибодэ видит в том, что поэт постоянно «возвращается к
самому себе», тогда как в романтическом символизме он обращался к че-
ловечеству, человеку вообще, к объективному миру (стр. 93—94). Тибодэ
вместе с тем замалчивает принципиально важное отличие символизма
Малларме от символизма Бодлера. Замалчивает то, что Бодлер выдвигал
в своем творчестве тему мятежа. Искажает он и Малларме, как бы забы-
вая его враждебность бунтарству, ничего не говоря о нем н, видимо, счи-
тая это несущественным.
241
тая» (1865) и сонет «Ее прозрачные ногти» (1868). Но первые
ее проявления относятся лишь к середине 70-х годов (1873—
1877). Это демонстрируют «Надгробный тост» (1873), «Гробница
Эдгара По» (1876) и сонет «Над позабытыми лесами» (1877).
Полностью она проявляется в 80-х и 90-х годах, когда были
созданы 16 сонетов (1885—1895), затем поэма «Проза для Дез
Эсоента» («Prose pour des Esseintes», 1885), «Гробница Бодлера»
и «Гробница Верлена» (1893 и 1897), стихотворения, посвящен-
ные памяти Вагнера и Пювиса де Шаваня (1885 и 1893), поэма
«Бросок игральных костей» (1897) и, наконец, «Стихи на слу-
чай» («Vers de circonstances», 1880—1898).
Приступая к анализу произведений Малларме, созданных
в «последней манере», необходимо учитывать прежде всего,
что среди этих произведений находятся его наиболее содержа-
тельные и выразительные вещи. Следует учитывать, кроме того,
чрезвычайную сложность этих произведений. В них декадент-
ские, иррациональные тяготения сочетаются с атеистическими и
рационалистическими мотивами, явно им противоречащими.
В них господствует затрудненность выражения и затемненность
смысла, резко отличающая их от стихотворений первого пери-
ода, допускающая бесчисленное количество толкований, интер-
претаций и комментариев творчества Малларме 17. В них, на-
конец, нашли свое развитие и завершение тенденции стихотво-
рений 60-х годов, в которых уже было намечено очень многое
из того, что достигло полного расцвета лишь после 1872 года.
Они, таким образом, не только отличаются от стихотворений
1862—1865 гг., но и во многом продолжают их.
Самой важной особенностью поэзии Малларме после 1872 го-
да следует признать ее враждебность культу смерти, с кото-
рым мы имели дело и у Бодлера после его «религиозного
обращения», и у Верлена в период религиозного перерождения
его символизма, и даже у Рембо, судя по его «Сестрам мило-
сердия».
Враждебности «последней манеры» Малларме культу смер-
ти, правда, противоречит, на первый взгляд, обилие похорон-
ных, погребальных мотивов в его стихах 70-х годов, казалось
бы, подчеркивающих устремленность поэта к уходу из жизни,
к смерти, к погребению, к воспоминаниям об умерших. В «Над-
гробном тосте», посвященном воспоминанию о только что скон-
чавшемся Готье, или в «Гробницах», почтивших память Э. По,
Бодлера, Верлена, говорит за себя само заглавие. В сонетах
17 См. комментарии и толкования Тибодэ (Л. Thibaudet. La poesie de Mallar-
me P., 1913), Морона (Cft. Mauron. Mallarmfi, 1’obscur. P,, 1968), Сула
(C. Soula. Gloses sur Mallarme. P., 1945), Mhuio (G. Michaud. МаПагтё,
1’homme et Г oeuvre. P„ 1953), Булэ (D. Boulay. L’obscurite esthetique de
Mallarme et la Prose pour des Esseintes. P., 1960), Ришара (J.-P. Richard.
L’univers imaginaire de МаПагтё, 1961), Бальцера (P.-О. Walzer, Essai sur
Mallarme. P., 1969).
242
«Над позабытыми лесами» и «Когда тень угрожала» расска-
зывается о только что умершей жене одного из друзей Мал-
ларме, потом о самом моменте человеческого существования,
когда человеку предстоит расстаться с жизнью, когда тень,
т. е. смерть, ведет его к гибели по «фатальному закону». По-
казателен для содержания многих стихотворений Малларме 70—
90-х годов их предметный инвентарь, набор характерных для них
вещей, создающий их неповторимый колорит. В «Надгробном
тосте» упоминается монумент, гробница из порфира, ее желез-
ные двери, пепел, траурные доспехи, развешанные по стенам
склепа. В «Гробнице Эдгара По» рассказывается о могиле,
о надгробном барельефе — гранитной скале надгробья. В сонете
«Над позабытыми лесами» речь идет о склепе, о букетах, ук-
рашающих могилу, о надгробной плите. В «Гробнице», посвящен-
ной памяти Верлена, говорится о кладбище, о трауре, о траве,
покрывающей могильный холм, о ручейке возле него.
Но надгробные и погребальные мотивы, представляющие
очень существенную часть поэтического вйдения мира позднего
Малларме, не покрывают всего содержания его поэзии этого
времени. Рядом с этими мотивами в тех же его стихах при-
сутствуют тема отрицания смерти и тема бессмертия, причем
эти темы интерпретируются поэтом в аспекте смягчения той
грозной опасности, которой смерть казалась раньше. Поэт про-
никается теперь убеждением, что смерть не так уж страшна,
как это представлялось ему, судя по «Звонарю», по «Лазури»
и по другим его стихотворениям 60-х годов. Правда, уже в то
время намечалась у него в некоторых его вещах (например,
в «Цветах» или «Морском ветре») противоположная точка зре-
ния па смерть, на ее отношение к жизни человека. Но эта
точка зрения во всяком случае никоим образом не была господ-
ствующей.
Как бы то ни было, но поэт занят в «Надгробном тосте»
и в других стихотворениях 70-х годов не столько самой смертью,
сколько тем, что после нее останется. Смерть — это он принима-
ет теперь твердо и безоговорочно — не делает существование
человека сколько-нибудь трагичным и тем более безысходным.
Поэт отвергает, по сути дела, страх перед смертью, не видит
в ней больше угрозы для человека.
Принципу отрицания смерти соответствует у позднего Мал-
ларме и осуждение им христианской религии с ее верой в за-
гробный, потусторонний мир, в жизнь человека после смерти.
Поэт отвергает всякое мистическое истолкование событий и
явлений реальной действительности. В своем отрицании бога
Малларме, кстати, продолжает богоборческие мотивы поэзии
Бодлера, а также атеизм творчества Рембо до его последней
книги «Пребывание в аду», и резко расходится с символизмом
Верлена после 1872 г. Поэт недаром призывает людей в «Над-
гробном тосте», чтобы они забыли о «мрачном вероисповеда-
243
ййи» 1S, как он йазывает христианство. Он неслучайно также
именует веру в загробную жизнь «ложной гордостью» (faux
orgueil). Лирический герой «Надгробного тоста» не допускает
самую возможность появления среди живых призрака покойни-
ка, выходца из загробной сферы. Он уверен, что «могила» или
«гробница», представляющая собой прекрасный памятник усоп-
шему и воспевающая поэта, который «отсутствует», «включает
в себя всего человека» 19, а не только его тело. Он убежден,
что человек не оставляет после своей смерти бесплотный дух,
который мог бы стать частью потустороннего бытия. В «прочной
гробнице» остаются уста покойного, не способные уже произно-
сить слова и именуемые поэтому «скупым молчанием», в гроб-
нице остаются также и его глаза, которые перестали видеть
и которым жизнь теперь представляется «плотной ночью»2й.
Поэт, в данном случае Готье, разделяет судьбу всех людей,
ожидающих «общий и подлый час», час физической смерти, ко-
торый не случайно обозначается в «Надгробном тосте» как «час
пепла» или «праха»21.
Лирический герой сонета «Когда тень угрожала» (1883) так-
же высказывается против христианского учения о бессмертии
души, о чем, по его словам, мечтают многие люди. Ночное
небо, полное звезд, как бы предвещающее потусторонний мир,
пространство, которое «несется», окруженное «светилами», у ли-
рического героя сонета вызывает только «скуку» (ennui). Оно не
в состоянии пробудить в людях восхищение, восторг. Велико-
лепие черного ночного неба, сияние звезд представляются поэ-
ту обманом. Рисуя ночь, ночное звездное небо в виде «велико-
лепного зала» с черным потолком, со стенами из эбенового де-
рева, которые украшены «праздничными гирляндами», т. е.
созвездиями, способными соблазнить даже какого-нибудь царя,
он одновременно с этим объявляет пышную залу «горделивой
ложью», которую «изрекла тьма», а праздничные созвездия пред-
ставляются ему «корчащимися в агонии».
Иллюзии, которые строит человек в отношении свого буду-
щего, своего существования после смерти возможны только по-
18 О vous tous, oubliez une croyance sombre.
(p. 55)
18 Et on ignore mal, elu pour notre fete
Tres simple de chanter i’absence du poete
Que ce beau monument 1’enferme tout entier.
(p. 54)
20 Le sepulcre solide ou git tout ce qui nuit
Et i’avare silence et la massive nuit.
21 Jusqu’a 1’heure commune et vile de la cendre.
244
тому, Что этот человек, именуемый в том же сонете «одиночкой»,
«ослеплен верой» 22.
Отрицанию потустороннего мира и призраков, выходцев из
этого мира, противоречит, на первый взгляд, сонет «Над по-
забытыми лесами», в котором рассказывается о свидании героя
(живого человека) с усопшей возлюбленной. Но в сонете идет
речь не о событиях, которые произошли в пределах объектив-
ного мира, находящегося за пределами сознания, а лишь о том,
что думает, что вспоминает, что воображает человек, т. е. о том,
что происходит в его душе. Изображение потусторонней сферы
как чего-то объективного здесь отсутствует.
Но если отрицанию у Малларме подвергается бестелесный,
потусторонний мир, пропагандируемый религией, то совсем иную
позицию занимает поэт в отношении земного бытия. Любопыт-
но, что лирический герой сонета «Когда тень угрожала» видит
в нашей планете в первую очередь небесное светило, на кото-
ром «воссиял человеческий гений»: оно распространяет вокруг
себя в «ночной дали» «бескрайнее сверкание необычайной
тайны».
Своеобразный гуманизм Малларме 70—90-х годов и культ
человеческого сознания в его поэзии этого времени, конечно,
нельзя никоим образом сбрасывать со счетов, нельзя недооце-
нивать и предельный атеизм поэта, вытекающий из этого гу-
манизма и из культа человеческого сознания. Атеизм Малларме,
еще никак не проявившийся в 60-х годах, теперь, в парижский
период творческого развития поэта, обретает полную силу и,
кстати, подчеркивает решительное превосходство зрелого твор-
чества поэта над религиозным символизмом Верлена. Атеизм
определяет значительность поздней поэзии Малларме, до сих
пор не утратившей в этом отношении своей поэтической силы,
и дает возможность стихам поэта преодолевать время, суще-
ствовать и за пределами эпохи, когда они были созданы, жить
и в наши дни.
8
И вместе с тем культ человеческого соз-
нания у Малларме не должен вводить нас в заблуждение. Его
невозможно переоценивать. Человеческое сознание присутствует
у поэта не как следствие материального мира, не как итог его
развития, не как вершина, апогей последнего. Он существует
не только независимо от материи, но даже в антитезе к ней.
Любопытно, что уже в сонете «Когда тень угрожала» имеется
противопоставление земли, на которой «празднично зажегся
свет» человеческого «гения», и всех прочих «несущихся в про-
22 Vous n’dtes qu’un orgueil menti par les tencbres
Aux yeux du solitaire ebloui de sa foi.
(p. 67)
245
странстве» небесных «светил», на которых сознание отсутству-
ет и которые именно поэтому характеризуются как низшие,
«презренные» (vils). Среди небесного пространства, заполнен-
ного этими светилами и составляющего царство материи без
духа, недаром царствует «уныние» 23.
Нельзя забывать и того, что земной мир обладает, с точки
зрения поэта, правом на бессмертие, становится по-настоящему
прочным и несокрушимым лишь в том случае, если он прев-
ращается в объект художественного изображения, если он будет
закреплен в образе, если его воспоет, даст ему имя поэт, т. е.
если этот мир пройдет через сознание человека. Единственное,
что остается от поэта после его смерти, читаем мы в «Надгроб-
ном тосте»,— это его творчество, «слава ремесла», слова песни
или стихов, «проносящиеся в воздухе» и превращающие дождь
в алмазы, а «яркие чашечки цветов» — в «пьянящий пурпур»,
В поэте особенно примечателен для Малларме его «ясновидящий
взор», делающий все «прозрачным». Этот взор «изолирует» или
абстрагирует явления от «часа дневных лучей», т. е, от кон-
кретной среды, от физического времени и пространства. Он дела-
ет явления независимыми от среды, трансформирует цветы так,
что они становятся «невянущими», т. е. бессмертными 24.
В ряде стихотворений середины 70-х годов, например в том
же «Надгробном тосте» и в «Гробнице Эдгара По», антитеза
духа и материи, столь ясно выраженная в сонете «Когда тень
угрожала», переносится в сферу общества и приобретает имен-
но поэтому откровенно антидемократический25 характер, Мал-
23 L’espace...
Roule dans cet ennui des feux vils pour temoins.
(p. 67)
24 De paroles, pourpre ivre et grand calice clair,
Que, pluie et diamant, le regard diaphane
Reste la sur ces fleurs dont nulle ne se fane,
Isole parmi 1’heure et le rayon du jour,
(p. 55)
23 Антидемократической направленности творчества Малларме противоречит
его статья 1895 г. «Конфликт», о которой совершенно справедливо и убе-
дительно пишет Н. И. Балашов в томе III «Истории французской литера-
туры» (М., 1959, стр. 367—368). Поэт выражает желание в своей статье
«приблизиться к пролетариату», с большим почтением говорит о рабочих,
которые возводят акведуки, распахивают пустыни, строят дороги, и огор-
чается, что его стихи остаются для рабочих «по самой своей сущности
бесплодными, как облако в сумерках или звезды». К сожалению, однако,
эта статья остается среди стихотворений и других статей Малларме в
высшей степени одинокой. Она, возможно, и свидетельствует о недоволь-
стве поэта в середине 90-х годов тон позицией, в которой он пребывал на
протяжении всей своей жизни. Но пути к выходу из этого положения
оставались, видимо, для Малларме крайне не ясными. Смерть поэта, на-
ступившая через три года после напечатания «Конфликта», помешала реа-
лизации желаний, высказанных в статье.
246
ларме продолжает и углубляет здесь, таким образом, свои пер-
воначальные антидемократические взгляды, суживающие и огра-
ничивающие теперь его гуманизм. Взгляды эти, как мы знаем,
судя по «Окнам», «Лазури», «Тоске» и, особенно, «Милостыни»,
наметились еще в 60-х годах. Теперь они только укрепились и
приобрели значение системы. Недаром рядом с образом ясно-
видящего, всепроницающего поэта, носителя высшей мудрости,
который прямо именуется в «Гробнице Эдгара По» «ангелом»,
располагается в «Надгробном тосте» образ дикой толпы, а в
«Гробнице Эдгара По» — образ «гидры», противопоставленный
«ангелу» и состоящий из обыкновенных людей. Поэту Малларме
взирает свысока на этих обыкновенных людей, составляющих
большинство человечества, но не способных овладеть видением
мира, которое свойственно лишь одному поэту или же элите,
избранным душам, близким к нему. Поэтическое видение мира
кажется обыкновенным людям «колдовством» (sortilege) или
результатом опьянения «черной смесью» (noir melange), т. е.
алкоголем. Не случайно обыкновенные люди «пугаются» поэта
и осыпают его «проклятиями», из-за них «враждебны» (hosti-
les) поэту небо и земля («Гробница Эдгара По»). Поэт в свою
очередь потешается в «Надгробном тосте» над «ложной гор-
достью дикой толпы», которая вообразила, будто ей обеспече-
на «посмертная жизнь» в виде бестелесных существ, «будущих
призраков»26. Ему смешны все эти слепые, немые и в то же
время «горделивые прохожие», «гости своих саванов», посколь-
ку они исполнены «посмертных ожиданий» и мечтают превра-
титься после смерти в героев. Людей этих отделяет от поэта
непроходимая грань, ибо они оказываются неспособны оценить
совершенство существующего и постигнуть прекрасн'ое в нем,
открывающееся только поэту или близким ему людям, если они
не «глухи к поэзии».
9
Антидемократизм Малларме, его презри-
тельное отношение к низам общества, его мысль о том, что
поэзия недоступна большинству людей, что поэзия существует
только для избранных, находит свое полное и законченное
выражение в поэме «Проза для Дез Эссента», опубликованной
в 1885 г. Очень важную роль в «Прозе» играют образы Памя-
ти (Memoire) и Гиперболы (Hyperbole), о которых говорится
уже в первой стихотворной строке поэмы. Малларме извлекает
образы произведения из глубин своего внутреннего мира, из
накопленного памятью материала прежних восприятий. Но в от-
26 Cette foule hagarde! elle аппопсе: Nous sommes
La triste opacite de nos spectres futurs.
(p. 54)
247
личие от Бодлера и Верлена он не только ничего не говорит
об этих прежних восприятиях и о том, что сопоставляет Па-
мять с существующим миром; она как бы вполне самостоя-
тельна. Еще более отрывает он ее от мира, подчиняя ее
Гиперболе, которая, по его мнению, обязательно преобразует
данные памяти и только таким способом делает их содержанием
образа.
В «Прозе для Дез Эссента» в очень сложной и иносказа-
тельной форме рассказывается о том, как поэт и его подруга,
которую он называет «сестрой» 27, находясь где-то за городом,
взирали на многочисленные прелести природы, как волны реки
расступились перед ними, как они оказались на каком-то чу-
десном острове и как в видении поэта произошла радикальная
трансформация всего, что он увидел на этом острове. Впечат-
ления поэта от окружающих явлений превратились в элементы
его сознания, в вечные, неподвижные, вневременные идеи этих
явлений. Подчеркивая «прелесть», очарование окружающего,
поэт отвергает здесь, как и ранее в «Надгробном тосте», всякое
описание действительности, освобождает изображаемое от под-
робностей, от мелочей, от красок, имеет дело лишь с «пейза-
жем», как он называет суммарно все видимое. Элементы окру-
жающего реального мира обобщенно именуются также цвета-
ми, «лилиями», «ирисами». Поэта интересует самый процесс
преобразования объекта в представление о нем, самая транс-
формация реальности в идею. Он повествует здесь о том, как
цветы, превратившись в идеи цветов, выросли, стали более
объемными, сделались «огромными», гигантскими, приобрели
«лучезарные очертания» или нимбы и отделились этими нимбами,
как своеобразными «пробелами», от «садов» 28. Поэт называет
здесь «садом» весь зримый, слышимый, -ощущаемый мир. Изо-
ляция вещи от целого реальной действительности является
решающей стороной процесса превращения реальности в
идею.
И здесь возникает уже известное нам по «Надгробному тосту»
антидемократическое различение двух сознаний — сознания поэ-
та и сознания обыкновенного человека, различение предмета
высокого сознания — созерцаемого — и предмета обыкновенного
27 Некоторые исследователи Малларме, например Булэ (D. Boulay. L’obscti-
rite esthetique de Mallarme et la «Prose pour des Esseintes», P., 1960), счи-
тают, что Сестра — это и есть олицетворение Памяти. Это утверждение не-
точно, тем более что начиная с девятой строфы поэмы Сестра поэта воз-
ражает против Памяти и даже Гиперболы и во всяком случае всемерно
ограничивает их значение.
28 Toute fleur s’6talait plus large
Sans que nous en devisions.
Telles, immenses, que chacune
Ordinairement se para
D’un lucide contour, lacune,
Qui des jardins la зёрага.
(p. 56)
248
Сознания — «зримого» 29. Подчеркивается снова, что вйдение ми-
ра сверх реальной сферы, сферы идей, доступно лишь носите-
лям высокого сознания и совсем не досягаемо для людей обык-
новенных. Поэма «Проза для Дез Эссента» недаром предназна-
чается для героя романа Гюисманса «Наоборот» (1884) 30, чело-
века предельно рафинированной души. Она не случайно в то
же время именуется «прозой», ибо то, что недоступно обыкно-
венным людям, человеческому большинству, представляется ес-
тественным и прозаичным для немногих. Оно не случайно, на-
конец, начинается с обращения к гиперболе, так как именно
преувеличение, выход за пределы привычных, принятых ощуще-
ний и вещей является, по мысли поэта, главным отличием вы-
сокого сознания, принадлежащего только поэту и непонятного
простым смертным.
С точки зрения простых смертных, не проникших на ост-
ров и оставшихся на другом берегу (поэт не один раз высоко-
мерно или саркастически говорит о них), открытый поэтом ост-
ров — «местопребывание ста ирисов» — просто «не существует»,
не имеет имени, его невозможно локализовать в реальном мире,
лежащем под солнцем. Обыкновенная точка зрения на вещи вы-
зывает высокомерное отношение к себе со стороны поэта имен-
но потому, что она не в состоянии вместить в себя гигантское
потенциальное содержание вещей, гиперболическое «разрастание
стеблей лилии», на острове. Это разрастание непостижимо для
обыкновенного человеческого «рассудка» 31.
Малларме, впрочем, как об этом свидетельствует и цитиру-
емая выше строфа X поэмы и последние ее строфы (XIII—
XIV), допускает в «Прозе для Дез Эссента» и некоторые
уступки в отношении реальности и обыденного сознания. Он
учитывает, что без реальности, как отправного пункта мысли-
тельных операций, невозможно и проникновение в идеальное,
ибо последнее все же не является для него сферой потусто-
роннего, божественного. В сверхчеловеческое он не верит, прос-
то его не допускает. Идеальное — это лишь область индивиду-
ального сознания, сознания человека, трансформирующего в сво-
ей душе реальность, но в то же время не порывающего пол-
ностью с реальным миром. Подруга поэта, «умная и нежная»,
не случайно «не углубляется далее в увиденное» ими на ост-
рове, а рекомендует довольствоваться тем, что открылось им,—
2Э Oui dans-une tie que Pair charge
De vue et non de visions...
(p. 56)
35 Написанная Малларме по просьбе Ж--К. Гюисманса, она была включена
в четырнадцатую главу романа Гюисманса «Наоборот».
31 Que de lis multiples la lige
Grandissait trop pour nos raisons.
(p. 57)
249
удивляться этому И наслаждаться этим Более глубокое про-
никновение в объект, с точки зрения подруги поэта,— а с этой
точкой зрения согласен сам поэт — противопоказано не только
обыкновенному человеку, но и носителю высокого сознания, на-
ходится вообще за пределами человеческих возможностей. И по-
друга побуждает поэта покинуть мир грез, пробудиться от них,
не покидать совсем обыденную жизнь.
Однако она не рекомендует ему при этом оставить в идеаль-
ном, абстрагированном мире, существующем вне конкретного
времени года, гробницу с именем Высшей Красоты, на ней на-
чертанным. Эту гробницу от обыкновенных людей, от толпы бу-
дет скрывать «слишком большой», пышно разросшийся гла-
диолус 32 33. Малларме, таким образом, в конце своей поэмы сно-
ва напоминает о том, что существуют два сознания и что от
одного из них — сознания «толпы» — красота скрыта. Он под-
черкивает тем самым антидемократический характер искусства
и зовет искать красоту, предназначенную не для всех, а лишь
для избранных.
10
Различение двух сознаний, противопос-
тавление высокого сознания и поэзии обыкновенному сознанию
и повседневной реальной жизни определяет самую суть «по-
следней манеры» Малларме, которая заключается прежде всего
в специальном отборе средств словесного выражения. Эти сред-
ства создают чрезвычайную затрудненность восприятия, затем-
ненность смысла, порождающую порой даже мысль об алогич-
ности стихотворений позднего Малларме, об их заумности и
полной непонятности 34. Затрудненность восприятия и затемнен-
ность смысла у Малларме непосредственно вытекает из того,
что он предназначает свое искусство не для массовой аудито-
рии, а для немногих и всячески затрудняет доступ к своим
стихам всем непосвященным, или, иными словами, всем носите-
лям обыденного сознания.
Отбор средств словесного выражения, характерный для «по-
следней манеры» поэта, нельзя признать случайным также по-
тому, что он определяется декадентскими тенденциями творче-
ства Малларме, сильно возросшими в парижский период его
32 Любопытно, что Булэ (в работе, специально посвященной «Прозе для
Дез Эссента»,— см. указ, соч.) не желает учитывать этот смысловой отте-
нок поэмы, так как он представляется ему, видимо, противоречащим идеа-
лизму Малларме (р. 43—44).
33 СасИё par le trop grand glaiettl
(p. 57)
34 Французские исследователи Малларме называют эту «заумность» и непо-
нятность его стихов «герметнзмом».
250
жизни, обусловливается декадентским перерождением симво-
лизма в его поэзии, принципиальным изменением двупланово-
сти образа, характерной для символизма в эпоху его расцве-
та, т. е. в 50—70-х годах, У Бодлера, у Верлена, у Рембо,
пока их символизм еще не подвергался перерождению, в этой дву-
плановости образа выражались отношения ряда объективных
явлений между собой, или же отношение субъективного мира с
объективной действительностью, или, наконец, отношения внут-
ри душевной жизни между непосредственным восприятием и
апперцепцией, причем и восприятие и апперцепция в конечном
счете опирались на реальный мир. А вот у Малларме первым
планом образа становится сфера словесного выражения, глу-
бинный же план отводится душевной жизни героя и его со-
знанию, При этом сфера словесного выражения, поскольку она
пренебрегает закономерностью объективной действительности,
поскольку она отказывается считаться с этой закономерностью,
замыкается в свою очередь во внутреннем мире поэта. Объектив-
ная действительность, имевшая огромное значение для Бодле-
ра, Верлена, Рембо, вообще исчезает из образа. Символ, дву-
плановость образа окончательно перестают связывать субъек-
тивность переживания с объективностью реального мира.
Главным здесь становится преодоление словесной ткани и
непосредственных данных душевной сферы, проникновение за
их пределы в область духовных контактов, идей, отвлеченных
суждений субъекта (как это мы видим в «Прозе для Дез Эс-
сента» и в «Надгробном тосте») или в круг нарочито туман-
ных представлений лирического героя о мире, т. е. в сферу
опять-таки субъективного порядка (сонеты 80-х и 90-х годов).
Словесная ткань, ее «непонятность», ее затрудненность делает-
ся, таким образом, необходимой составной частью образа, хотя
бы в качестве его переднего плана.
То, что затрудненность смысла образов Малларме вытекает
из оторванности этих образов от объективной закономерности
мира, выражается в первую очередь в том, что основная функ-
ция слова — изображать действительность — зачастую оттес-
няется на второй план его дополнительной функцией, за-
дача которой передавать отношение к миру со стороны субъек-
та восприятия. Поэзия не только отменяет объективную законо-
мерность внешнего мира. Она выражает закономерности мира
внутреннего, ставя на место связей между явлениями внешнего
мира связи между смутными представлениями об этом мире.
Впервые Малларме применяет свой способ изображения, ос-
нованный на разрушении объективных связей между явлениями
и на установлении чисто психологических закономерностей в сти-
хотворении «Святая» (1865). В нем рассказывается о цер-
ковном витраже, о картине на оконном стекле, изображаю-
щей св. Цецилию, которая играет на виоле и держит перед
собой молитвенник. Поэт замечает, что с сандалового дерева,
251
из которого сделана виола, сошла позолота, ибо дерево это очень
старое35. Мысль о возрасте виолы переводит повествование из
изобразительного плана в план воспоминания. Поэт пронизы-
вает существующее в данный момент тем, что ему как будто
слышится,— звуками «оркестра», в котором когда-то участвова-
ла и виола, и флейта, и мандора. Он присоединяет далее к
существующему и «песнопения», обращенные к богоматери, ко-
торые когда-то раздавались здесь же в церкви, параллельно
сопровождавшим их звукам оркестра. Но объект своего воспо-
минания (флейта, мандора, песнопения) поэт не отделяет от
объекта восприятия (витраж, св. Цецилия, виола, молитвенник).
Переход от восприятия настоящего к воспоминаниям о прошлом
совершается незаметно, как бы даже отсутствует, потому что
отражает не явления внешнего мира, а процессы, протекающие
в душе лирического героя. Таково содержание двух первых строф
сонета, в которых образы восприятия — молитвенник и вио-
ла— дополняются образами, относящимися к содержанию со-
знания, к апперцепции.
В третьей и четвертой строфах сонета реальные вещи (ви-
ола, молитвенник) совсем исчезают. Их место занимает крыло
ангела (предмет воображения), которое св. Цецилия использу-
ет в качестве арфы36. Здесь мы имеем дело, так же как в
первых двух строфах сонета, опять-таки с содержанием души
субъекта восприятия, с содержанием его сознания, с процесса-
ми обобщения и абстрагирования (крыло как символ любого
музыкального инструмента оказывается на месте конкретного
музыкального инструмента — виолы), с процессами устранения
вещных деталей, протекающими внутри сознания. Только мы
углубляемся уже не в прошлое, не в область воспоминаний,
как в первой и второй строфах, а в сферу вымысла, в область
воображаемого.
Другой формой вытеснения из образа внешнего мира и ут-
верждения в нем закономерности психологического порядка яв-
ляется у Малларме имманентное развитие образа, развитие че-
рез ассоциативные психологические связи, причем эти связи как
бы накладываются в качестве верхнего плана на явления, при-
надлежащие реальности. Мы уже знакомы с такого рода компо-
зицией стихотворения Рембо (например, по его «Мишелю и
Кристине»). Элементы имманентного развития образа заметны у
Малларме в отдельных стихотворениях его «первой манеры»,
35 A la fenetre recelant
Le santal vieux qui se d&dore
De sa viole etincelant
Jadis avec flute ou mandore...
(p. 53)
36 Sur le plumage instrumental,
Musicienne du silence.
(p. 54)
252
например в «Звонаре». В первой части стихотворения поэт
рассказывает о звонаре, который звонит без устали в колокол
и до которого еле доносится снизу пение молитв, а сверху звон
колокола. Его окружают птицы, разбуженные звуком колокола,
которые носятся вокруг него. Во второй части сонета речь идет
о поэте, с которым сравнивается здесь звонарь, причем элемен-
ты первого образа (звонарь) переходят и во второй образ
(поэт), как бы накладываясь на него. Поэт имеет дело не с ко-
локолом, а с идеалом. Его окружают не птицы, а грехи, но у
грехов имеется «оперение», как будто это птицы.
Имманентное развитие образа, протекающее через цепь пси-
хологических ассоциаций, становится почти обязательным в сти-
хотворениях «последней манеры», где это развитие образует как
бы верхний план стихотворения, наложенный на его реальный
план, основательно деформируя и затрудняя восприятие всего
стихотворения. Верхний план уже не отделен от реального и
композиционно. Он сопровождает и деформирует нижний план
на протяжении всего стихотворения, существуя и развиваясь
параллельно восприятию лирическим героем реальных явлений.
Так, в сонете «Шевелюра» в первом плане образа идет речь
о волосах лежащей женщины, которые разметались вокруг ее
головы, и о лирическом герое, нежном и обнаженном, который
склонился над нею. Во втором плане мы имеем дело уже не
с воспринятыми реальными предметами, а с ассоциативными
психологическими связями, на которых строятся сравнения пред-
ставлений с вещами и представлений с представлениями. При
этом представления, возникающие по ассоциации с вещами, как
бы налагаются на нижний план и местами оттесняют или со-
вершенно устраняют его. Так возникает сперва в первом сти-
хе «пламя» (flamme), с которым сравниваются женские волосы,
затем образ пламени в свою очередь рождает в четвертом сти-
хе мысль об «очаге», в шестом стихе образ «огня» (1’ignition
du feu), в десятом — мысль о «небесном светиле» (astre) и,
снова об огне, в 12-м стихе образ «яркого блеска» (figura-
tion) и, наконец, в 14-м стихе мотив «факела» (torche).
Одновременно с этой первой нитью образов и параллельно
ей развертывается вторая нить, возникающая также из мысли
о шевелюре возлюбленной — в третьем стихе «диадема», лежа-
щая на голове, в четвертом — «коронованный лоб», в вось-
мом— «драгоценности», в 13-м стихе — «рубин»—драгоценный
камень. Эти образы не только продолжают как бы параллельно
существовать с образами первой вереницы (пламя, очаг, огонь
и т. д.) и с образами основного плана (волосы, лоб, глаза и др.),
они вклиниваются в первый ассоциативный ряд и в реальный
план, постепенно сливаясь с ним в одно целое, уводят мысль
поэта в сторону.
Точно так же обстоит дело в сонете «Кружево». Кружевная
занавеска на окне порождает мысль о кружевной накидке на
253
постели, образ постели, которой нет в комнате. Затем взор
лирического героя сонета снова обращается к «мертвенно блед-
ному стеклу», через которое просвечивает утро, и тогда в го-
лове героя рождается образ дремлющей мандоры, обращенной
к окну. Одновременно с этим из прежней мысли об отсутст-
вующей постели и через опущенную в стихотворении мысль о
женщине, которая также отсутствует, возникают образы чрева и
рождения, перекрещивающиеся с образом мандоры, с ее полым
нутром, полным звуков (creux musicien), которые она может
родить.
Совершенно таким же образом в сонете «Вся гордыня...»
из образа дымящейся, исходящей в дыме человеческой горды-
ни рождается уже в первой строфе мотив «факела», затем во
второй — мысль о «нетопленой» комнате и, наконец, в четвер-
той строфе — образы огня и сверкающей консоли. Также в «Бро-
ске игральных костей» слово «помещичий», принадлежащий
сеньору, вызывает при упоминании о скале, утесе (гос) слово
«замок» или «поместье» (manoir).
Всего отчетливее имманентное развитие образа проводится
в стихотворении «Салют» (1893). Образ возникает здесь из
«ничего», из «пены» шампанского, бокал которого поднимает
поэт, приветствуя и напутствуя своих друзей, а далее — в стихах
3, 4, 5, 6 — рождаются мысли о «стае сирен», о мореплава-
нии, о «корме корабля», а в строках 10 и 14 — о «килевой качке»
и о парусе. А параллельно идут образы, отражающие реальную
ситуацию провозглашения тоста. Это во второй строке образ
«чаши», которую поднимает поэт, это в пятой и шестой строках
образ «многих друзей», к которым он обращается, это в девя-
той строке мотив «опьянения», которое испытывает поэт, вы-
пив вина и покачиваясь на корме корабля от «килевой качки»,
это в 11-й строке мысль о «приветствии», которое он произно-
сит, и это, наконец, в строках 12 и 14 образы «одиночества»,
«цифа», «звезды» как предметов поэтического вдохновения, об-
раз «паруса».
Следует отметить, что образы «опьяненного» и пытающегося
держаться «прямо» поэта, образы «рифа» и «паруса» создаются
и под влиянием ассоциативного ряда, связанного с морем («река»,
«сирены», «корма», «килевая качка»).
Третья форма утверждения психологиче-
ской закономерности изображаемого заключается в том, что
Малларме часто как бы непосредственно воспроизводит в своих
стихах жизнь человеческой души, непрерывный поток мыслей
и психологических ассоциаций, составляющих содержание это-
го потока. Поэт совершенно не считается при этом с коммуни-
кативной функцией речи, с обязательной обращенностью моно-
254
лога к собеседнику, о котором поэт начисто забывает. Маллар-
ме дает не итоговую формулу, к которой человек приходит в
результате своих размышлений, а самый ход этих размышлений,
в его, так сказать, сыром, неоформленном виде. Главная мысль
именно поэтому часто перебивается в стихах Малларме допол-
нительными соображениями, возникающими в сознании человека
еще до того, как главная мысль закончилась, а иногда еще
до того, как начался процесс ее формирования.
Так, во второй строфе «Надгробного тоста», вернее в шести
последних стихах этой строфы, представляющих законченное
грамматическое продолжение, Малларме рисует разговор Небы-
тия с умершим человеком. Сначала в первом — втором стихах
этого отрывка дана характеристика Небытия как некоей обшир-
ной бездны, принесенной в скоплении тумана раздраженным вет-
ром невысказанных слов:
Vaste gouffre apporte dans 1’amas de la brume
Par 1’irascible vent des mots qu’il n’a pas dits.
Затем в третьем стихе уже прямо говорится об обращении Не-
бытия к покойнику:
Le neant a cet Homme aboli de jadis.
В четвертом стихе приводятся слова этого обращения:
«Souvenirs d'horizons, qu’est-ce, б toi, que la Terre?»
И только в пятом стихе впервые возникает речь о самом «во-
ющем» призраке, который эти слова произносит:
Hurle се songe.
Точно так же главная мысль второй половины третьей стро-
фы «Надгробного тоста» начинается в восьмом стихе строфы
со слова «moi», но ограничивается этим словом, чтобы сейчас
же исчезнуть, будучи вытесненной в середине того же стиха
дополнительными соображениями об «озабоченности» поэта чу-
жими «желаниями»:
Moi, de votre dfesir soucieux
Затем в конце того же восьмого стиха и в начале девятого
стиха главная мысль продолжается: лирический герой желает
видеть то, что было раньше.
Но тут же в эту главную мысль вклинивается новая дополни-
тельная тема, новое отступление, касающееся особого «долга»
поэта, который внушают ему «сады этого светила»:
...dans le devoir
Ideal que nous font les jardins de cet astre.
255
Эта новая дополнительная тема позволяет главной мысли сно-
ва появиться только в 11—12-м и в начале 13-го стиха:
Survivre pour 1’honneur du tranquille desastre
Une agitation solennelle par 1’air
De paroles...
Но в середине 13-го стиха центральная тема опять отодвигает-
ся на задний план новой, уже третьей по счету, дополнительной
темой, которая вводит «яркую чашечку цветка» и «дождь»,
превращаемые поэтом в «пьянящий пурпур» и в «алмазы»:
pourpre ivre et grand calice clair,
Que pluie et diamant...
Главная мысль, имеющая своим содержанием «прозрачный
взор», который «остался» здесь, на этих «невянущих цветах»,
и который «изолирует» их от «часа дневных лучей», т. е. пре-
вращает их в образы, появится только в конце 14-го стиха и в
15—16-м стихах:
le regard diaphane
Reste la sur ces fleurs dont nulle ne se fane
Isole parmi 1’heure et le rayon de jour!
Стремление воспроизвести жизнь челове-
ческой души в ее непосредственном, так сказать «сыром» виде
находит свое выражение и в том, что поэт избегает во многих
своих произведениях пунктуации, представляя их как непрерыв-
ный поток слов, часто грамматически не связанных друг с дру-
гом. Именно так строится у Малларме его последняя поэма
«Бросок игральных костей», представляющая собой бесконечно
длящуюся фразу, одно предложение, развертывающееся на про-
тяжении нескольких страниц. Желание передать состояние души
в ее неупорядоченном виде объясняет и огромную роль, кото-
рую играют в «последней манере» Малларме многочисленные
инверсии, переносы отдельных частей речи и членов предложе-
ния (подлежащих и сказуемых, существительных и прилагатель-
ных, наречий и глаголов), причем из-за этого делается не всег-
да ясным, к какому именно существительному имеет отношение
данное прилагательное, к какому именно подлежащему относит-
ся данное дополнение. Инверсии отдельных слов сопровождаются
инверсиями целых фраз и даже стихов (см. сонет «Вся горды-
ня», «Кружево»).
▲
Темнота и трудность понимания стихов
Малларме «последней манеры» проистекает и из противополож-
ного стремления поэта — стремления отрешиться от противоре-
256
чивости, сложности и запутанности реального мира, из стремле-
ния поэта освободить образ от второстепенного, очистить его от
деталей и подробностей, поскольку и непосредственная жизнь
человеческой души представляется ему временами эмпирией, по
сравнению со сферой сознания, идей, отвлеченных принципов.
Поэт, часто переходя в ассоциативном ряду от одного образа
к другому, опуская отдельные звенья этого ряда, как бы пере-
прыгивает через них и дает только его первичное и заключи-
тельное звено.
Так, в сонете «Кружево» опущенным оказывается образ
кружевного покрывала на постели, который должен был следо-
вать за мыслью о кружевной оконной занавеске. Образ «вечного
отсутствия постели» (absence eternelle du lit) остается из-за
этого не вполне понятным. Точно так же опускается в том же
сонете мысль о женщине, отсутствующей в комнате и, может
быть, покинувшей лирического героя стихотворения, мысль, ко-
торая должна была следовать за образом отсутствующей по-
стели. Опуская мысль об этой женщине, поэт прямо переходит
к образам чрева и рождения, что делает не вполне ясными
эти образы, завершающие сонет.
Огромную роль в усилении темноты и непонятности стихов
играет и наличие в поэзии Малларме многочисленных сокраще-
ний, стесненных, усеченных выражений, наличие в ней словосо-
четаний, смысл которых объясним лишь из всей совокупности
миропонимания поэта. Так, христианскую веру в потусторонний
мир в «Прозе для Дез Эссента» Малларме именует «темным
поверьем» (croyance sombre), веру в личное бессмертие челове-
ка, в его жизнь после смерти в «Надгробном тосте» называет
«посмертным ожиданием» (attente postume), обязанность поэта
раскрывать земной мир в образах, превращать ощущения и ве-
щи в идеи он определяет в том же «Надгробном тосте» как
«долг идеализации».
11
Своеобразие поэзии Малларме 70—90-х
годов обусловливается не только отбором средств словесного
выражения, но также отбором самих предметов изображения,
выбором психологических состояний и настроений лирического
героя, поэтических тем и мотивов. Именно этот выбор опреде-
ляет близость Малларме 70—90-х годов к декадансу, декадент-
ский характер его поэзии этого времени.
У зарубежных исследователей творчества Малларме 70—90-х
годов мысль о декадентстве, впрочем, вообще даже не возника-
ет. Это объясняется тем, что они, видимо, связывают декадент-
ство какого-либо поэта с наличием уродливого в его произве-
дениях, с оправданием уродливого, с любованием им. Малларме
же «парижского периода» вообще не допускает в свои стихи
9 Д. Д. ОСломиевский
257
стихию уродливого, которая имелась и в стихотворениях позд-
него Бодлера, и у позднего Верлена, а также в стихах самого
Малларме, созданных им в 1862—-1865 гг. Правда, уродство
мира уже в 60-х годах представлялось поэту явлением второ-
степенным, подчиненным.
Декадентство имело у Малларме 60-х годов преимуществен-
но лирический характер. Первоочередным для него, как для
декадента, являлся образ уставшего, утомленного лирического
героя. В «последней манере» Малларме образ уродства и не-
совершенства мира, как обязательная основа всякой критики
и протеста вообще, исчезает. Поэт делает вид, что зла в мире
вообще не существует, оправдывает действительность уже по-
стольку, поскольку она приносит наслаждение и утешение не-
которым людям, поскольку она предоставляет убежище некото-
рым категориям людей. Поэт оставляет в стороне вопрос об
отрицательных свойствах существующего. И тем не менее де-
кадентские тенденции присутствуют в поэзии позднего Маллар-
ме. Они только концентрируются уже не в этическом, не в объ-
ективном, а окончательно приобретают лирический, субъектив-
ный характер. Они выражаются прежде всего в опустошен-
ности и ущербности изображаемого. Вещественный мир,
представленный пусть не очень богато и щедро в стихах 1862—
1865 гг., рассматривается теперь как нечто предельно несу-
щественное и незначительное. Об изображаемом говорится очень
общо и суммарно. Все воспроизводится издалека, как бы сквозь
ночь, как будто из-за пределов земли, неосвещенным, с дета-
лями, доведенными до минимума 37 .
Если в своих произведениях 60-х годов Малларме считался
с чувственным миром героя, с его зрительными, 'слуховыми,
тепловыми, обонятельными, вкусовыми ощущениями, то в произ-
ведениях «последней манеры» исчезают ощущения цвета, звука,
тепла, сами вещи. В «Триптихе сонетов» перед нами только три
предмета — консоль, которая поддерживает мраморную доску,
люстра, один из рожков которой напоминает цветочную вазу,
и, наконец, кружевная занавеска на окне 38. Обстановка сонета
«Какой шелк...» сводится к зеркалу в комнате и шелковым
знаменам на улице, за окном. В сонете «Победоносно бежит...»
состав материального мира сводится к подушкам на диване или
на кровати и к заходящему солнцу за пределами комнаты.
Все остальное, если не считать, конечно, лирического героя и
его возлюбленной, относится к воспоминаниям и воображению
этого героя.
37 Морон (указ, соч.) пишет о том, что Малларме в своих стихах 70—90-х го-
дов пытается растопить реальность, заставить ее «испариться» (стр. 37).
38 Тибодэ (указ, соч.) очень верно противопоставляет третий сонет из трип-
тиха сонетов Малларме — «Симфония в белом мажоре» — Т. Готье. Сим-
фония эта, по его словам, перегружена пластической материальностью, от-
сутствующей у Малларме.
258
Мы недаром настаиваем на своеобразной суммарное™ и аб-
страктности изображаемого у Малларме в 70—90-х годах. О ви-
димой поверхности земного шара в «Надгробном тосте», напри-
мер, действительно говорится как о «садах этого небесного све-
тила», как о «дождях», о «рощах» вообще. Вся земная расти-
тельность рисуется крайне обедненной. Она сведена к розам,
к лилиям, к гладиолусам. Количество растений, которое у Рем-
бо характеризовало неисчерпаемость реального мира, оказыва-
ется у Малларме сведенным до миниума.
Вся земля раскрывается так, как она могла бы остаться
в воспоминаниях давно скончавшегося, умершего человека, как
«память о горизонтах» (souvenirs d’horizonts).
Слово «горизонты» не случайно. Оно вызывает мысль о бес-
предельном пространстве, которое было известно нам по роман-
тической поэзии, по Бодлеру, по Рембо, и которое предстает
у Малларме до предела абстрагированным, сведенным к идее,
очищенным от всего конкретного. О «несущемся» пространстве
идет речь и в сонете «Когда тень угрожала». Здесь же расска-
зывается о небесных телах, о маяках, светящихся в небе,
о гирляндах созвездий. Один из персонажей «Надгробного то-
ста» ведет диалог с Небытием, которое изображается в виде
«бездны, принесенной ветром в нагромождении тумана».
Пейзаж космических или по крайней мере вселенских масш-
табов, которого не знал Верлен и к которому обращались, прав-
да редко, Бодлер («Маяки») и Рембо («Праведник»), особенно
впечатляющ в «Гробнице Эдгара По». Утес, воздвигнутый над
могилой поэта, представляется лирическому герою сонета воз-
никшим из космической дали, рисуется ему производным «тем-
ной катастрофы».
Беспредметность и развеществленность, опустошенность и
ущербность мира Малларме подчеркивается тем, что телесность,
вещественность явлений трактуется поэтом как их негативная сто-
рона, как их деградация, их испорченность. Так, человеческие
тела в «Надгробном тосте» рассматриваются как «замутненные
призраки», которыми люди станут после своей смерти, в буду-
щем (opacite de nos spectres futurs). Предметная опустошен-
ность стихотворений зрелого и позднего Малларме, намечен-
ная, впрочем, в его стихах 60-х годов, тесно связана с их бее-
красочностью или с особой ролью в них белого цвета. Мир
Малларме 1862—1865 гг. отличался многоцветностыо, пусть пре-
обладающим в нем являлось белое. Поэзия Малларме после
1872 г. вообще бескрасочна; единственное, что в нее допускает-
ся,— это белый цвет. Лилия, лебедь, снег, иней, лед, т. е. яв-
ления белого цвета,—вот что является для поэта, судя по со-
нету «Лебедь» (1885), наиболее важным в существующем.
Правда, судя по сонетам «Шевелюра» или «Победоносно
бежит...», Малларме делает еще исключение для красного цве-
та, который занимает в этих сонетах довольно значительное
259
9*
место. Но при этом речь идет в сонете «Победоносно бежит...»
о явлениях отрицаемых, отодвинутых на задний план, отстав-
ленных. А кроме того, мы имеем дело и в «Победоносно бе-
жит...» и в «Шевелюре» не прямо с цветом, как это было у
Рембо (в данном случае с красным цветом), а с вещами, ок-
рашенными в этот цвет, с вещами, в которых цвет не подчерк-
нут,— с факелами, кровью, розой, пламенем, огнем, западом
(как стороной неба, где заходит солнце), рубином.
Дематериализации действительности у Малларме, как пока-
зывает особенно четко триптих сонетов 1887 г., способствует
также то, что для его поэзии приобретает известное значение
момент движения39, всякого рода динамические образы. Од-
нако, в отличие от Рембо, у которого мы также встречали, и
притом в огромном количестве, образы движения, динамика мира
интересует Малларме не сама по себе, а как нечто дополни-
тельное к дематериализации мира, как нечто усиливающее эту
дематериализацию. Движение у него трактуется как «слегка на-
меченное колыхание, трепет, колебание явлений», особенно от-
четливое в третьем сонете из триптиха сонетов (образ кружев-
ной занавески на окне). Динамичность у него, по сути дела,
- чисто внешняя, обманчивая, кажущаяся. Это даже не движение,
а его видимость. Недаром исследователи творчества Маллар-
ме—Тибодэ, Руайер, Морон, Шерер40 — обращают внимание на
то, что в языке поэта преобладают существительные, а глаголы
исчезают как «ненужные», и что даже в тех случаях, когда гла-
гольные формы сохраняются, Малларме отдает предпочтение не
личным категориям, а инфинитивам, отражающим идею движе-
ния, но не связанным с данным, конкретным движением.
12
Декадентский аспект, в котором раскры-
вается у Малларме 70—90-х годов вещественный мир, выражает-
ся, впрочем, не только через его имматериальпость и раз-
веществленность, его опустошенность и ущербность. Он обнару-
живается — как это, на первый взгляд, ни странно — и через
своеобразный оптимизм поэзии Малларме 80—90-х годов, через
преодоление критического отношения к действительности, кото-
См. об этом очень правильные суждения у Тибодэ (указ, соч.), а также у
Л. Моравской (£. Moravska. L’adjectif qualificatif dans la langue des sym-
bolistes fran^ais. Poznan, 1964). Любопытно, что исследователь Малларме
Ж- Руайер {J. Royere. Mallarme. Р., 1927, р. 64) утверждает на основании
«Послеполуденного отдыха Фавна», что всякая материя, плоть, существу-
ет в поэме лишь «украдкой», что поэт более всего ценит не материю,
а движение, не голубей, например, а их полет.
40 Например, Тибодэ (указ, соч., стр. 232—233) и Шерер (J. Scherer, L’expres-
sion litteraire dans 1’oeuvre de Mallanne. P., 1947, p. 105—106).
260
рое намечалось в его стихах 60-х годов, путем преодоления
отрицания. К этому оптимизму ведут в первую очередь тема
отказа от смерти и тема утверждения жизни, о которых мы го-
ворили выше и которые снимают с мира покров печали, гру-
сти, пессимизма. В сонетах Малларме, созданных им в 1885 и
1887 гг., нам открывается прямой призыв уже не к отрицанию
существующего, а к его признанию и наслаждению им 41. Мал-
ларме видит теперь главное в оправдании действительности со
всеми ее оборотными сторонами, со всем злом и уродством, в
ней заключенными, усматривает основное в примирении с ней.
Крайне симптоматичным для Малларме после 1872 года яв-
ляется то, что изображаемое утрачивает теперь у поэта, как
пишет Морон, «скованную, мерцающую, ледяную атмосферу» 42,
столь характерную для «Иродиады», созданной в 1864 г. В ми-
ре, окружающем лирического героя 70—90-х годов, уже не най-
дешь ни характерного для «Иродиады» «жестокого снега», ни
«холодной ночи, белой от льдин». Поэзия Малларме не знает
теперь, по словам Морона, «жестокости» и «девственности»,
которые были присущи его драматической поэме 1864 г. Окру-
жающую человека действительность, которую создает поэт в
произведениях «последней манеры», отличает теперь, как пишет
тот же Морон, «надушенная атмосфера — умиротворенная, чув-
ственная и пронизанная эротикой»43.
Для поэзии Малларме «последней манеры», поскольку очень
существенным для нее оказывается теперь примирение с дейст-
вительностью, характерен прежде всего сонет «Победоносно бе-
жит...» В центре его находится тема преодоления отчаяния,
прощание с самоубийством, решение, подсказанное лирическому
герою, с одной стороны, героикой жизни, славой, победой, и
в то же время мыслями о могиле. Отчаяние и слава «торжест-
венно» отходят от героя, покидают его, «бегут» от него вместе
с заходящим солнцем. Примечательно для сонета и «отсутствие
могилы». Герой стихотворения находит утешение и прибежище
в ласках возлюбленной, в ее «ласкающей лени», в «над-
менном сокровище» ее волос, разметавшихся на подушках.
Шевелюра любимой женщины как бы замещает здесь заходящее
солнце с его лучами, ушедшую славу, победу, бурю. Она остается
наедине с героем, когда исчезает вечернее небо, а вместе с небом
и атрибуты смерти — царственная могила, роскошное пурпуро-
вое покрывало, на ней лежащее.
41 См. об этом у Морона (указ, соч., стр. 37).
42 Там же.
43 Там же. Реальность, пишет Морон о Малларме 70—90-х годов, утрачи-
вает теперь свой «гнусный характер», перестает давить человека. Плоть,
которую поэт считал даже «грустной» (см. стихотворение «Усталый от
горького отдыха»), представляется ему теперь «веселой» и «отнюдь не гре-
ховной» (стр. 45). «Мучительная одержимость» остается и после 1872 г.,
но из «тягостной» становится теперь приятной (стр. 48).
261
О том же утешении героя, о тех же волосах возлюблен-
ной, как убежище для него, идет речь и в сонете «Шевелюра»
(1887). Любимая женщина, вернее ее волосы, которые рисуются
распластанными вокруг ее головы, напоминают и здесь зашед-
шее солнце и его лучи. Волосы превращаются здесь в «факел,
радостный и охраняющий». Они «осыпают» «драгоценными кам-
нями сомнения» лирического героя. Они смягчают и снимают
эти сомнения, это отчаяние, «сдирают с них кожу», утешают
человека, примиряют его с жизнью.
Ту же роль убежища для героя играют волосы возлюблен-
ной в сонете «Какой шелк в утешение...» (1885). Лирический
герой прикасается здесь устами к любимой женщине, кусает
ее губы, «прячет» в шевелюре возлюбленной свои «довольные
глаза» 44, готов растворить и заглушить в «огромной пряди» ее
волос «клики славы» 45, которые раньше его привлекали к себе.
У наслаждения существующим, близким, которому предается '
в этих сонетах лирический герой, есть и своя оборотная сторо-
на, подчеркивающая ущербность этого наслаждения. С ней не-
обходимо считаться при анализе этих стихотворений. Любимая
женщина подменяется у Малларме ее волосами, как бы даже
отождествляется с ними. В ней выдвигаются на первый план
ее волосы, ее тело, а не ее глаза, не ее душа. Это ставит
возлюбленную в ряд предметных явлений, превращает ее в вещь.
Она как бы утрачивает свое субъективное, психологическое
начало, столь сильное, например, в «Доброй песне» Верлена,
и приближается, с другой стороны, к эротике позднего Верлена-
декадента, в той мере, как эта эротика выразилась в «Парал-
лельно», в «Песнях для нее», в «Одах в ее честь» и в других
аналогичных сборниках. Чувство лирического героя Малларме
становится очень узким, личным, эгоистичным. Он оказывается
неспособным проникнуться уважением к любимому существу, не-
способным признать его глубокое внутреннее содержание, видит
в нем лишь объект наслаждений.
Любопытно здесь и другое: возлюбленная как бы сокращает
до минимума широкие горизонты действительности, в которой
находится герой, она как бы уводит его в комнатную обста-
новку. В сонете «Мэри без излишней горячности» (1887) поэт
отвергает бурное беспокойство большого мира — «грозовое небо»,
«морской ветер». Он не желает, чтобы чувство, «живущее день
ото дня», чувство, «простое» и каждодневное, «получило прост-
14 Moi, j’ai ta chevelure nue
Pour enfouir mes yeux contents.
(P- 75)
45 Dans la considerable touffe
Expirer, comme un diamant,
Le cri des Gloires qu’il etouffe.
(P- 75)
262
ранство», т. е. беспредельно разрослось, увеличилось за счет
этого пространства. Он хотел бы только, чтобы у людей вновь
и вновь, «ежегодно», рождалась «на челе» «неожидаемая
прелесть», которая «оживляла» бы их «монотонную дружбу»
«небольшим волнением» чувства. Он сравнивает это волнение
с «дуновением», исходящим от «веера, освежающего воздух
комнаты».
Очень выразителен в этом отношении и сонет «Какой шелк
в утешение...»: торс возлюбленной, ее волосы, зеркало, в кото-
ром она рассматривает себя, противопоставлены здесь улице,
демонстрации, знаменам. Герой отворачивается от «шелка про-
дырявленных задумчивых знамен», которые проносят за окном 46.
Он предпочитает им шевелюру возлюбленной и находит убежи-
ще в ней не только от зла мира, но вообще от других людей,
от их радостей и ликований, от их протестов, борьбы, замы-
кается в личном счастье. Так проявляется ущербность приме-
рения с существующим, которое прокламирует Малларме в со-
нетах 1885—1887 гг. Так становится явной сущность этого при-
мирения, отвергающая борьбу со злом и вообще наличие зла
в мире.
13
То обстоятельство, что Малларме в сво-
их траурных, загробных стихах 70—90-х годов воспевал земное
бессмертие и отвергал смерть, небытие, потусторонний мир, что
в ряде сонетов 1885—1887 гг., о которых говорилось выше, поэт
призывал к примирению с существующим, к наслаждению
жизнью, определенно смягчает трагизм существования и в дру-
гих его стихотворениях этого времени, обнаруживает тяготение
поэта и в этих стихотворениях к концепции, отвергающей дина-
мику жизни и вместе с тем ее критику. Поэт приближается
и в этих своих вещах к декадентскому мироощущению. Это
проливает свет и на сонет «Лебедь» («Levierge, le vivace etlebel
aujourd’ hui»), опубликованный в 1885 г., на триптих сонетов
(1887).
Что касается сонета «Лебедь», основной пафос его состоит
в нейтрализации трагизма, во власти которого уже не нахо-
дится, по мнению поэта, весь мир. Зло исходит не от законов
действительности, а от самого человека, который олицетворен
в лебеде. Оно представляется тем самым герою не внешним,
не чуждым. Зло органически входит в существующее, так что
действительность кажется немыслимой без него. Правда, эта
смягченность трагизма, это оправдание зла проступает в сонете
46 Les trous de drapeaux meditants
S’exaltent dans notre avenue...
(p. 75)
263
еще на фоне последовательно трагического мировоззрения, на-
поминающего об отношении к миру Бодлера, отчасти Верлена.
В сонете рассказывается о лебеде, замерзающем на озере,
которое сковал лед. С одной стороны, речь идет о гибели, о ка-
тастрофе, которую ничем не смягчить. Тут налицо, кроме того,
антитеза прекрасного лебедя, который пытается разбить крылом
лед застывшего озера, и агонии в холодной атмосфере надвига-
ющейся зимы (тема Бодлера). С другой стороны, здесь уже нет
одной враждебной силы, наседающей на героя извне, как в
«Окнах» или в «Лазури». Речь идет не только о чужой силе,
которая нависла над лебедем и против которой он беззащитен.
Вина в случившемся падает не только на эту враждебную силу,
но и на самого лебедя. Прозрачный лед озера как бы концен-
трирует в себе неосуществленные мечты самого же лебедя, ибо
и сам лебедь виноват в своей гибели, так как не улетел до
зимы, сковавшей почву, до наступления «зимней скуки», в теп-
лую страну, где мог бы жить и во время холодов. Он стал
пленником собственной мечты, давно окаменевшей вокруг него.
Он презирает себя за свое собственное бессилие.
Стремление преодолеть трагизм и призыв к признанию су-
ществующего, к наслаждению им во что бы то ни стало прояв-
ляется еще более отчетливо в триптихе сонетов 1887 г. Трип-
тих подводит итог поэзии Малларме 80-х годов, его мыслям о
небытии, о всеобщей опустошенности, о полном мраке и безна-
дежности. Так, в первом сонете «Вся гордыня...»47 рассказы-
вается о том, как человеческая «гордыня» «исходит дымом»,
испаряется, подобно иллюзии.
Речь идет о холодном помещении, о «потушенном» и уже
«дымящемся факеле»48, об атмосфере грусти и забвения, рас-
пространяющейся от заброшенной комнаты, хозяин которой уе-
хал. Психологическое состояние, о котором сообщается в соне-
те, относится к вечеру, к исходу дня, к моменту угасающего
света, что еще более усугубляет и поддерживает эту атмосфе-
ру. Стоит отметить здесь и состояние ожидания, которое испы-
тывает лирический герой сонета, допускающий, что хозяин еще
может «вернуться» и войти в «нетопленую комнату».
Не меньшее значение, чем тема отсутствия, имеет для сонета
тема пустоты. В комнате нет не только людей, но и вещей
обстановки. В ней, правда, имеются «богатые трофеи», служа-
щие напоминанием о славном прошлом хозяина комнаты или
его предков, «наследником» которых он является. Но об этих
*' Любопытные анализы триптиха сонетов см. у Тибодэ (указ, соч., стр. 47),
у Ришара (указ, соч., стр. 258—263) и у Морона (указ, соч., стр. 139—
144), у Сула (указ. соч.).
48 Tout Orgueil lume-t-il du soir,
Torche dans un branle etouffee...
(p. 73)
264
«трофеях» только упоминается; они не даются через описание,
остаются как бы невидимыми. Несколько более подробно демон-
стрируется только консоль, столик с отполированными ножками,
увенчанный тяжелой мраморной доской49, которая наводит
на мысль о «гробнице», мысль, еще раз подчеркивающую, что
жизнь в комнате кончилась, что все для нее и ее хозяина в
прошлом, что отсутствие людей и вещей непоправимо и неуст-
ранимо. Богатые трофеи недаром относятся не к настоящему
времени, они «опали», как листья осенью, они свидетельствуют
о том, что слава хозяина комнаты пришла к концу.
Во втором сонете триптиха «Возникнув...» снова изобража-
ется пустая, холодная комната, к тому же еще поглощенная
тьмой. Тема отсутствия, столь существенная для первого сонета
из триптиха, но выражавшаяся в нем через отсутствие огня,
тепла, теперь проявляется и через отсутствие света. По своему
времени состояние, о котором рассказывается во втором сонете,
относится к ночи. В комнате, однако, можно различить люстру,
рожок которой напоминает поэту по своей форме вазу, и еще
плафон с нарисованной на нем фигурой сильфа, духа воздуха.
В третьем сонете «Кружево», составляющем финальную часть
триптиха, мы опять-таки имеем дело с мотивом отсутствия.
Атмосфера опустошенности и одиночества, тщательно разра-
ботанная в триптихе, оказывается тем не менее — ив этом ос-
новное его своеобразие-—далекой от какого бы то ни было тра-
гизма, не способной привести к отчаянию, ибо помимо объектив-
ной действительности в триптихе присутствует еще внутреннее
состояние лирического героя, сглаживающее и смягчающее тра-
гизм бытия, делающее его не столь острым и безнадежным.
Уже в первом сонете, помимо ощущений опустошенности и от-
сутствия, порожденных обстановкой комнаты, присутствует
мысль о камине, который мог бы находиться под мраморной
доской консоли, мысль об огне, который мог бы вспыхнуть и
мог бы озарить мрак. В конце сонета каминный огонь, и прав-
да, загорается, но лишь в воображении лирического героя. Кон-
соль кажется ему, несмотря на мрак, окутывавший все в ком-
нате, святящейся или сверкающей.
Во втором сонете ощущение пустоты и одиночества также
не является дефинитивным, окончательным. В дополнение к пус-
тоте комнаты здесь, правда, пуста и ваза, в ней нет воды для
цветов. Но ваза вместе с тем не только подчеркивает опусто-
шенность окружения лирического героя. Она предвещает, как.
кажется ему, несмотря на тьму, его окружающую, розу — цветок,
которого ей, по его мнению, не хватает. Обостренность поло-
49 Sous un marbre lourd qu’elle isole
Ne s’allume pas d’autre feu
Que la fulgurante console.
(P. 73)
265
жения здесь, таким образом, сглаживается,—правда, как и в
первом сонете, не в реальности, а лишь в душе героя50.
Всего отчетливее стремление разрядить напряженность ситу-
ации ощущается в третьей части триптиха. Мы находим в ней
уже не вечер, как это было в первом сонете, не ночь, как
во втором, а утро, рассвет. Внимание лирического героя, одна-
ко, сосредоточено уже не на консольном столике и не на люстре,
а на окне и на кружевной занавеске, через которую в комнату
просачивается утренний свет. Про занавеску, кроме того, что
она напоминает поэту об отсутствии возлюбленной и об одино-
честве, говорится еще, что она не может «укрыть» героя «в мо-
гиле» sl, в то время как тяжелая мраморная доска в первом
сонете наводила на мысль о «гробнице». Занавеска, таким об-
разом, вовсе не углубляет отчаяния героя, а, напротив, смягчает
его, ибо «развевается... рвется к окну», напоминает о заоконном
пространстве, пробуждает какие-то надежды и мысль о буду-
щем, о возможном рождении нового. Именно так следует
понимать и возникающий в памяти лирического героя образ
мандоры, музыкального инструмента, который как бы «береме-
нен звуком». В конце сонета недаром упоминается о «чреве»
мандоры, по отношению к которому звук является «дочерним»,
а также о «рождении» Б2.
Говоря о признании существующего должным и рассуждая
тем самым о своеобразных элементах оптимизма, пробивающих-
ся сквозь мрак отчаяния, которым окутан триптих, следует на-
помнить еще раз, что этот оптимизм никоим образом не выте-
кает из самой действительности, остающейся по-прежнему мрач-
ной и трагической. Выход из нее намечается только в сознании
героя, в его внутреннем мире.
14 .
Особое место среди произведений второ-
го периода творческого развития Малларме, точнее среди про-
изведений 90-х годов, занимает цикл стихотворений, посвящен-
ных морю, мореплаванию, кораблекрушению, и среди них его
50 ...annon^ant
Une rose dans les tenebres.
( p. 74)
51 Enfui contre la vitre bleme
Flotte plus qu’il n’ensevelit.
(P- 74)
52 Tristement dort une mandore
A creux neant musicien
Telle que vers quelque fenetre
Selon nul ventre que le sien.
Filial on aurait pu naltre.
(P 74)
266
поэма «Бросок игральных костей» («Un coup de des jamais
n’ablira le hasard»), законченная в 1897 г., за год до смерти.
Что касается стихотворений «К тягостному облаку...», «При
одной мысли о путешествии», «Приветствие» и других, то они по
своей направленности решительно отличаются от сонетов 80-х го-
дов 53, для которых была характерна камерность, стремление
уйти из большого мира, уединиться в комнате, загородиться
ее стенами от больших событий, спрятаться в объятиях воз-
любленной, в ее шевелюре. Если так обстояло дело в сонетах
80-х годов, то в стихотворениях 90-х годов, группирующихся
вокруг «Броска игральных костей», существенна, напротив, уст-
ремленность лирического героя в большой мир, в море и мор-
ские просторы, «за пределы Индии», его поглощенность мор-
скими пейзажами, сиренами, курсом корабля, килевой качкой.
Герой видит парусное судно, корму, штурвал, реи, морские вол-
ны, морскую пену, мачту, с которой буря сорвала паруса, ко-
раблекрушение.
Переходя к анализу «Броска игральных костей», следует
прежде всего напомнить, что эта поэма как сонет о лебеде,
как триптих сонетов 1887 г., носит отчетливый трагический от-
печаток. Она недаром посвящена рассказу о катастрофе в море,
о кораблекрушении, рассказу о том, как человека и его корабль
поглотили морские волны. И в тоже время она, следуя и в этом
отношении «Лебедю» и триптиху сонетов, провозглашает прими-
рение с существующим, оправдание его, т. е. преодоление тра-
гизма и отчаяния, отказ от бунта и от восстания, о чем сви-
детельствует больше всего мотив созвездия в последней части
поэмы. При этом, по сравнению с сонетами 80-х годов, акцент
в «Броске игральных костей» все-таки перемещается с прими-
рения на трагизм. В этом смысле в «Броске игральных костей»
даже намечается возврат к настроениям 60-х годов, когда были
созданы «Окна», «Лазурь», «Звонарь», «Цветы», «Усталый от
горького отдыха» и другие стихотворения, пронизанные мотивом
безысходности Б4.
Правда, этот возврат остается только намеченным и полно-
стью не осуществляется. Именно поэтому «Бросок игральных
костей» не открывает новый период в развитии поэта, как по-
лагают некоторые исследователи55, а только подводит итоги
43 О лирических стихотворениях Малларме 90-х годов, посвященных морским
просторам, см. у Мишо (указ, соч.) и у Бальцера (указ. соч.).
44 Морон (указ, соч.) видит в содержании поэмы борьбу героя против «очень
могущественного врага», которого нельзя победить. Именно так он трак-
тует мотив «случая» и тему «бурных вод», считая, что Малларме в даль-
нейшем, если бы он остался в живых, пошел бы окончательно назад, к
€0-м годам. Он как бы возобновил в «Броске игральных костей» свое сти-
хотворение в прозе 1870 г.— «Igitur».
45 Например, Н. И. Балашов. См. его статью о Малларме в Краткой литера-
турной энциклопедии, т. 4 (М., 1967, стр. 546). В переводе Н. И. Балашова
поэма названа «Удача никогда не упразднит случая».
267
предшествующему этапу, как бы завершая его на более слож-
ной основе, с учетом противоречивости существующего.
Ведущее положение в поэме занимает образ Бездны, Пучи-
ны (L’Abime), которая олицетворяет собой материю, стихию,
случай (le Hasard). Бездна увлекает за собой Парус, всплыв-
ший над разбушевавшимися волнами, и приводит к корабле-
крушению. Пучина изображается в поэме побелевшей от бе-
шенства, она то вздымает кверху брызги, то совершает прыжки,
то расстилается перед парусом и, в конце концов, заталкивает
его в раскрывшуюся, зияющую глубину.
Бездне, пучине противостоит у Малларме Повелитель (1е
Maitre), который, видимо, олицетворяет собой человека. Образ
этот внезапно возникает из волн и пытается подчинить себе
стихию. Очень важно, что Повелитель (т. е. Человек) изобра-
жен в поэме стариком: он покрыт сединой, дряхл, скоро станет
трупом. В позабытом прошлом (1’age oublie), когда человек умел
«хвататься за штурвал» (empoignait la Ьагге) и взирать сверху
на всеобщее волнение стихии, он справлялся со стихией.
Теперь ему остается только грозить кулаком судьбе и ветрам.
Буря покрывает волнами его голову, вода стекает по его «под-
чинившейся бороде» (barbe soumise). Он побежден стихией, гиб-
нет в волнах, в кораблекрушении.
Лишь сжатая рука человека поднимается над водной по-
верхностью океана. Это залог того, что от человека, даже если
он погибнет, останется его Дух, Сознание (Esprit), Число (Nom-
bre), которому должна стать подвластна материя, стихия, слу-
чай 56. Если человек исчезнет, сохранится нетронутым плыву-
щее, кружащееся в воде одинокое перо на бархатной шляпе
принца Гамлета57. Перс это летит над бездной, не касаясь
ее, т. е. сохраняя свою независимость от нее.
Но Малларме все же скептически расценивает возможности
Духа, ибо Дух, Сознание — это только ребяческая тень человека,
Среди исследований, посвященных «Броску игральных костей», следует от-
метить «Элементы поэтики Малларме» К. Руле (С. Roulet. Elements de
Poetique mallarmeenne, 1947). В книге изложена любопытная религиозная
интерпретация поэмы Малларме, трактующая Повелителя как бога-отца,
а Число — как Христа. Эта концепция страдает одним существенным не-
достатком. Автор ее забывает или делает вид, что забывает, про атеизм
Малларме. Малларме, как известно, не верил в существование потусторон-
него мира. Об этом свидетельствует подавляющее большинство его произ-
ведений. Руле же рассуждает о нем так, будто он был верующим. Как бы
то ни было, но усматривать в Числе олицетворения Христа, тогда как Мал-
ларме видел в нем только Сознание, или Дух, человека, по меньшей мере
не точно.
57 Нам представляется, что исследователи вроде Тибодэ (указ, соч.) или
Кона (/?. Cohn. L’oeuvrc de Mallarme. Un coup de Lies. P., 1951), сводящие
проблематику «Броска игральных костей» к вопросу об искусстве, о теат-
ре, о художнике, очень суживают содержание поэмы, в котором — человек,
природа, материя, случай, т. е. круг вопросов гораздо более широкий.
268
только рассеявшаяся галлюцинация его агонии (hallucination
eparse d’agonie), только перо от его шляпы, только простой «на-
мек, пронизанный ироническим молчанием».
Тема дематериализации, разуплотнения, отрицания бытия,
определяющая и тему утеса и образы тени, галлюцинации, на-
мека, призрака, пронизанного молчанием, получает особое раз-
витие в предпоследней части поэмы, где надо всем господствует
«ничто» (rien), к которому всё возвращается после бурного
начала поэмы и после «пустого действия» (acte vide), к которо-
му привело это бурное начало. Если в начале поэмы речь шла
о пустоте, в которую были брошены игральные кости, брошен
жребий, с чего началось действие, что повлекло за собой бурю,
бешенство волн, кораблекрушение, то здесь ничего не осталось
от «бурного критического события», о котором рассказывалось
на первых страницах поэмы. Подъем (Elevation) привел к «от-
сутствию» (absence), буря свелась к плеску волн, реальность
(realite) растворилась в водном пространстве («se dissout dans
ces parages de vagues»). Это водное пространство заполнило
собой и Дух, и Число.
Дух, Число, Сознание может сохранить независимость от
бытия, от материи, но в то же время не в силах подчинить
себе эту материю здесь на земле, так как оно не может «уп-
разднить случай» (abolir le hasard) 58. Таков трагический, каза-
лось бы безысходный, пусть еще не окончательный вывод, к ко-
торому приходит Малларме в предпоследней части своей поэмы.
Но как «исключение» из общего правила, ослабляющее и
смягчающее безысходность итога, в финале произведения возни-
кают образы ночного неба, «высоты», «созвездия, холодного
от забвения и устарелости». В Созвездии, за границами реаль-
ного и ближайшего окружения поэта, проявляет себя власть
Числа, всемогущество Духа, бдящего и сомневающегося (veil-
la nt et doutant), сверкающего и размышляющего (brillant et
meditant). Число, Дух, конечно, ограничивается тем самым
в своем значении, в своей силе определенным кругом явлений,
которые находятся только в «высоте», в ночном небе, за преде-
лами непосредственной реальности, за пределами земли. Но все-
таки Число, Дух не исчезает совсем, не погибает совершенно.
В мысли, а не в «случае», не в стихии видит поэт начало всего.
Среди исследований, посвященных «Броску игральных костей», следует
также отметить седьмую главу книги Бальцера о Малларме (P.-О. Walter.
Essai sur Mallarme. P., 1969).
Глава седьмая
МАЛЫЕ СИМВОЛИСТЫ
Декадентское перерождение символизма
определилось еще яснее у поэтов, которые вступили в литера-
туру позже Малларме, в 80-х годах, и образовали литератур-
ное движение «символизм»,— у Ж. Мореаса, Г. Кана, А. Самэна,
Ф. Вьеле-Гриффена, Л. Тайяда, А. де Ренье, Ле Кардонеля,
Ж- Лафорга, Ф. Жамма, С. Мерриля и других. Именно этих
поэтов буржуазное литературоведение (Мартино, Шарпантье,
Ж- Мишо, Барр и др.) 1 считало и считает вершиной симво-
лизма, рассматривая Бодлера, Верлена, Рембо лишь как их
предшественников или предтеч, делая в этом отношении исклю-
чение только для одного Малларме.
Для Жана Мореаса (Jean Moreas, 1856—1910), чрезвычайно
видной фигуры в символистском движении 80-х годов, одного из
лидеров этого движения (впоследствии, правда, отошедшего и
отмежевавшегося от символизма), очень характерно, что он в
своем первом, самом символистском сборнике «Сирты» («Les
Syrtes», 1884) оказывается весьма близок к парнасцам, к твор-
честву Т. Готье и раннего Леконт де Лилля, хотя и Бодлер,
и Верлен, и Рембо строили свою лирику именно в противовес
парнасцам. Мореас как бы возвращается в ряде своих стихо-
творений к изображению вещей и вообще материального мира,
причем вещи даются у него в гармонической, успокоенной фор-
ме, как проявление прекрасного. Поэт недаром говорит о кру-
жевах и гипюре, о батистовых рубашках («Воспоминания»),
о пеньюаре со сборчатой отделкой («Карменсита»), о старинных
коврах, которые отливают серебром и темным золотом («Твои
руки»), о сервизе из севрского фарфора, о самосских чашах
с вином, в котором можно смочить губы («Чувственность»). Он
недаром высказывается против «угрюмого воздержания», пред-
лагает срывать лепестки роз Шираза, восторгается кладовой
солнца — сапфирами и рубинами, сравнивает любовь с подсла-
щенным вином (там же). Очень характерно, что героя Мореаса
1 Например, Р. Martino. Parnasse et symbolisme. P., 1928; G. Michaud. Mes-
sage poetique du symbolisme, t. 1—3. P., 1961.
270
окружают цветы — белые и лиловые лилии, вьющийся плющ, гли-
циния, шпажник,— которые Рембо отвергал и увлечение которы-
ми он высмеивал. Очень важен в этой связи чуждый первым
символистам мотив наслаждения, существенный, кстати, и для
Малларме. Лирический герой Мореаса призывает к наслажде-
нию рыжими волосами, которые украшены цветами и драго-
ценными камнями, упоминает про изысканные яства, про глубо-
кие диваны, в которые погружается тело (там же).
«Парнасство» Мореаса и его призыв к наслаждению сущест-
вующим делают понятным и камерность его поэзии. Недаром
главной и почти единственной темой его стихов является лю-
бовь. «Сирты» Мореаса неслучайно открываются рассказом о
поэте, сидящем у камина с черными головешками и розовым
пламенем. Возле поэта — кот. Занавески на окне отделяют поэта
от угрюмых ветров дурного времени года, которые ревут за
порогом дома.
Следует отметить здесь же, что внешняя близость образов
Мореаса в первбм стихотворении его сборника к бодлеровским
образам (кот, камин, ветер) совершенно не отменяет их раз-
личия и только подчеркивает принципиальное несходство. Герой
Бодлера (а вместе с ним и герой Верлена, и еще более герой
Рембо) не довольствовался камерным миром, постоянно выхо-
дил за пределы комнаты на широкие просторы общественной
жизни и Вселенной.
Но и для Мореаса его «парнасство», вызванное стремлением
уйти от жизненных противоречий в условный, гармонизирован-
ный мир, не исчерпывало всего содержания его поэзии. Гораздо
более существенными для него, как для поэта-символиста, были
не призывы к наслаждению существующим и не его внима-
тельность к внешнему миру, а основная категория символиз-
ма — двуплановость образа, трактовавшаяся им, однако, отлично
от символистов эпохи расцвета, совсем по-иному, чем это де-
лал Бодлер или Верлен. Основное в двуплановости образа для
Бодлера, например, заключалось в том, что лирический герой
выходил таким образом за пределы непосредственно данного,
в момент воспоминания он как бы наливался энергией, расши-
рял свое «я» до пределов большого мира. И, напротив, для
Мореаса основное в двуплановом образе сводилось к тому, что
воспоминание успокаивало героя, делало ненужной его актив-
ность и энергию, примиряло его с действительностью.
Конечно, какие-то связи с Бодлером остались. По-прежнему
большую роль играло воспоминание. Мореас не случайно рас-
сказывал в своих стихах и о воспоминании в обычном смысле
(Souvenir), и о воспоминании далеком, смутном (Souvenance),
и о воссоединении элементов прошлого в сознании (remembran-
ce). Он почти никогда к тому же не склонялся к импрессио-
нистскому вйдению мира, т. е. не ограничивал его пределами
перцепции, непосредственно данного. Прошлое было резко отде-
271
лено у него, как и у Бодлера, от всего настоящего, сегодняш-
него. Но главное здесь было все-таки уже не в обогащении,
не в расширении внутреннего мира за счет прошлого, а в том,
что воспоминание уводило лирического героя от борьбы, от
•схватки, от тревог сегодняшнего дня, в том, что оно, судя по
«Доброму воспоминанию», убаюкивало сердце человека, укачи-
вало его, врачевало смертельные раны, придавало цвета радуги
«серому небу» наших «угрюмых» мыслей, т. е. приукрашивало
существующее.
Если Мореас по-новому, по-декадентски трактует принцип
воспоминания, принцип двуплановостп образа, то иной характер
приобретает у него и тема разуплотнения мира, столь сущест-
венная для Верлена. У последнего, судя по его «Сатурновым
стихам» и отчасти по «Романсам без слов», тема дематериали-
зации мира сочеталась с образом активного героя, знаменовала
собой вытеснение объективного мира субъектом воспоминания.
У Мореаса, так же как у Малларме, активный герой, или по-
груженный в себя и отвернувшийся от действительности, или
прямо выступающий против этой действительности, исчезает.
Поэт недаром упоминает в стихотворении «Среди каштанов» об
«усталых сердцах», т. е. о людях, утомленных жизнью и борь-
бой, а в «Далекой музыке» — об «увядшей томности», т. е. о пас-
сивной отдаче себя впечатлениям.
Надо помнить к тому же, что разуплотненность мира у Мо-
реаса служила той же цели, что материалпзованность сущест-
вующего у парнасцев; в ней проявлялось тяготение к миру ус-
покоенному, безмятежному, отрешенному от беспокойств и про-
тиворечий реальной действительности, к миру, в котором все
смягчено, где нет ничего резкого и дисгармоничного. Он неда-
ром восхищенно рассказывает о затухающих звуках скрипок
(«Доброе воспоминание»), о смолкнувших флейтах и песнях
(«Затишье»), о побледневших розах («Желтые розы»), о поб-
лекших розах («Рассказ о любви»), о слабом свете луны («Жел-
тые розы»), о бледном озере, о любви с бледным челом («Рас-
сказ о любви»). Поэт призывает пламя «потухнуть», требует
от жизни, чтобы она смолкла, чтобы смолкли вожделения и
желания в его душе («Затишье»). Мир представляется поэту
обеззвученным, лишенным движения, статичным. В «Желтых
розах» отмечается, что в воздухе нет взмаха крыл, нет дуно-
вения ветра. В «Далекой музыке» речь идет о глухих стенах.
В стихотворении «Среди каштанов» повествуется о «медленном
изнеможении ласк».
Разуплотненность мира, присутствующая у Мореаса в тесной
переплетенности с образом пассивного, слабого, усталого героя,
связана у него с пессимистическими мотивами, подчеркивающи-
ми всеобщий упадок существующего, имеющий значение и для
объективного мира, и для лирического героя. Стихотворение,
открывающее собой «Сирты», недаром заканчивается тем, что
272
в камине погасает розовое пламя, кот уже не трет спину о
занавес с разводами. Остается только угрюмый вой ветра
(«Доброе воспоминание»).
Поэт изображает любовь грустной, полной рыданий, плача и
сожалений. Он говорит о рыдающем ветре, о жалобных тисовых
деревьях, о звуках меланхолических рогов («Рассказ о любви»),
об угрюмых мыслях («Доброе воспоминание»). Он продолжает
тот же мотив в «Кантиленах» («Cantilenes», 1886), упоминая в
разделе «Похороны» о грустной и медленной песне. С тем же
кругом мотивов связана у Мореаса мысль о нигилизации, об
уничтожении всего существующего, обо всем исчерпавшем себя,
пришедшем к концу. Речь идет в книге «Сирты» о потухшем
солнце («Доброе воспоминание»), о поблекшем сердце, о поб-
ледневшем небе, о побледневшем челе («Рассказ о любви»).
Именно отсюда и пристрастие Мореаса ко всему осеннему,
причем осеннее трактуется им как аналогичное грустному. Лю-
бовь представляется ему грустной, как осеннее небо. Об осени,
о монотонном времени, которое как бы накладывается и на
цветы, и на наше сердце, говорит Мореас и в своем втором
сборнике — «Кантилены».
Общий пессимистический взгляд Мореаса на существующее
подкрепляется его частными наблюдениями над этим существую-
щим. Мир недаром рисуется ему безобразным и уродливым.
Он наполнен у него суккубами, совами, колдуньями, проститут-
ками («Homo, fuge»), «эпилептическими» ужасами («Демониче-
ское»). В нем можно обнаружить и нездоровые ночи, полные
преступлений, и тусклые притоны, и жестокие кошмары, и кры-
латых коней зла. Сердце человека подобно кусту роз, выросше-
му на навозе («Затишье»),
Но все эти мотивы и темы перекрываются у Мореаса общей
тенденцией его поэзии к примирению с действительностью, о ко-
тором мы уже говорили. Это примирение находит свое выраже-
ние в темах и образах покоя и гармонии, темах и образах
отказа от мятежа. Любопытно, что одно из стихотворений сбор-
ника «Сирты» прямо озаглавлено «Быть безмятежным». Герой
его хотел бы не жить, не существовать, хотел бы сделать свои
глаза слепыми даже для красоты внешнего мира, для его со-
кровищ — жемчуга, золота. В стихотворении «Homo, fuge» Мо-
реас прямо говорит о «напрасно взбунтовавшемся» человеке.
Так приоткрывается самое сокровенное в поэзии Мореаса. От
этого стихотворения не отказались бы и парнасцы.
Не менее характерны для позднего, де-
каденствующего символизма «Кочующие дворцы» («Les palais
nomades») Гюстава Кана (Gustave Kahn, 1859—1936). В поэзии
Кана основным является дематериализация изображаемого при
1 э Д. Д. Обломиевский
273
неопределенности и туманности, бесформенности и пассивности
лирического героя стихотворений. Ибо последний проходит через
все его окружающее, как сквозь мираж, марево (раздел «Ин-
термедии»), ощущает в себе и в окружающем слабость и изне-
можение (раздел «Тема и вариации»), говорит об обессиленном
теле, об усталости, укачивающей и тело возлюбленной, желает
«раствориться в водовороте» («Интермедии») или растаять
(раздел «Речитативы»).
Разуплотнению у Кана подвергается прежде всего видимое.
Он говорит о бледном лице возлюбленной, о бледнеющем нечто
(quelquechose— «Речитативы»), о побледневших лилиях («Ин-
термедии»). Он имеет дело с сероватым, уходящим («Речитати-
вы»), Бледное сменяется чернотой. Героя у Кана окружает не-
прозрачное, темное (opacite — «Интермедии»), Темнота завола-
кивает очертания факелов («Речитативы»), все убегает и ста-
новится тенью («Интермедии»), Далее следует максимальное
ослабление звуков. Медленно поднимается темнота и как бы
отпугивает шумы, все вокруг становится глухим («Речитативы»),
Все наполняется приглушенным шепотом шуршаний («Голоса в
парке»).
Поэт предлагает напевать вполголоса, очень тихо. Тихо
плачет сердце («Речитативы»), все кажется находящимся как
бы на грани яви и сна. Тут и засыпающий замок, и дремота
ветвей, и желание поэта заснуть самому («Интермедии»), Сни-
жаются, уменьшаются звуки, запахи, ароматы. Сильный запах
умирает, исчезает. Герой желает, чтобы цветы и запахи замолк-
ли («Речитативы»), Разреженность ощущений соответствует тен-
денции к уничтожению всего материального. Поэт говорит об
испорченных плодах («Тема и вариации»), о фонарях, погасших
в порту. Он констатирует уничтожение времени и движения.
Речь идет в его стихах о том, что нет ничего в прошлом, нет
ничего в будущем, о том, что время исчезло («Речитативы»),
Утро представляется ему белым и спокойным, т. е. невозмути-
мым, вечера и утра обладают в его глазах розовым спокой-
ствием, т. е. умиротворенностью. Он наслаждается ритмом спо-
койно покачивающихся пальм («Интермедии»),
В поэзии Кана гораздо отчетливее, чем у Мореаса, осуще-
ствляется принцип ограничения изображаемого внутренним ми-
ром, что, кстати, вытекает из антипарнасской направленности
доктрины символизма. Кан более всего говорит о человеческой
душе, о чувствах и мечтах героя. Он значительно реже, чем
Мореас, допускает в свои стихи даже упоминание деталей ок-
ружающей обстановки. Внешний мир представляется поэту не-
расчлененным нагромождением тел, скопищем цветов, собрани-
ем отдельных звуков органа и криков птиц.
Сосредоточенность на внутреннем мире приводит Кана, как
и Малларме, к устранению двупланового образа за счет сферы
ощущений и вещей. При этом если у Малларме круг вещей и
274
ощущений образовывал единое целое через взаимные связи этих
ощущений, через превращение их в звенья развернутой мета-
форы, то у Кана, если и появляются такие явления, как
крыльцо, с которого «спускаются вещи» — колокола, фонари
ночи, рога, вздыбленные кони, то они существуют в его поэзии
не как часть развернутой метафоры, а как члены сравнения,
вырванные из целого. Именно так поэт говорит о крыльце души
(«Интермедии»), о колоколах воспоминаний, о рогах или вздыб-
ленных конях желаний, о фонарях, которые зажигает возлюб-
ленная в темной ночи героя («Песня краткого безумия»).
Приоритет духовного над материальным сопровождается в
поэзии Кана резким и пронзительным пессимизмом, с которым
мы уже, впрочем, сталкивались у Мореаса. Конечно, у Кана
мы не имеем дело с уродством или безобразием изображаемого.
Все тает у него в субъективации и абстрагировании того, что
видит герой. Тем не менее он не забывает упомянуть и о веч-
ном горе, и о тусклой грусти медленных мыслей, и о грустно
плачущем сердце («Речитативы»), и о тоске, которая пробужда-
ется в хмуром одиночестве, и о сердце, которое разрывается
от печали, и о душе, впавшей в скорбь («Тема и вариации»).
В том же направлении, что поэзия Кана,
развертывается поэзия А. Самэна (Albert Samain, 1858—1900),
если судить о ней по сборнику стихотворений «В саду инфан-
ты» («Au jardin de 1’infante», 1893). Самэн, как и Кан, наи-
большее внимание концентрирует на чрезвычайной утомленности
человека. Он рассказывает об усталой душе героини («В саду
инфанты»), об усталой душе лирического героя, о состоянии
«несказанной утомленности», которую испытывает поэт (Event
Tide), о том, что он устал шагать по «дорогам», т. е. по жизни
(«Элегия»). С усталостью и утомленностью тесно связано у
Самэна состояние изнеможения, томности. Герой испытывает от
жаркого, опьяняющего дня изнеможение, слабость («Счастли-
вый остров»), он ощущает то же состояние, плывя на лодке
по озеру, причем одним из весел у него является «томность».
Изнеможение, томность, слабость поэт усматривает и во внеш-
нем мире. Он упоминает о цветах, которые вечером изнемогают,
об изнеможении глухих садов («В саду инфанты»), о томной
комнате, о томности, которая опьяняет ночь («Звезды над во-
дой») .
Так же как у Кана, большое значение для Самэна получает
принцип имматериализации, в первую очередь бескрасочность.
Он говорит о бледной возлюбленной («Элегия»), об ее блед-
ности («Белая ночь»), об ее бледно-розовых губах («Пределы»).
Он говорит также про бледную воду («В саду инфанты»),
про бледную осень («Осень»), про бледные розы («Эрмиона»).
276
1 0*
Бледности сопутствует прозрачность, которая одновременно с
бескрасочностью подчеркивает бесплотность, просвечиваемость.
У Самэна мы встречаем прозрачный сад («Счастливый остров»),
прозрачный вечер, прозрачный запах гелиотропов («Пригла-
шение») .
Бескрасочности соответствует беззвучность. Самэи не терпит
громких, бурных звучаний. Ему кажется, что всюду царит полу-
тишина («Счастливый остров»), луна у него слушает тишину
(«Сопровождение»), тихий час удаляется, едва касаясь ногами
мха («Счастливый остров»). Героиня поэмы «В саду инфанты»
бесшумно открывает и закрывает двери; она бесшумна в своих
рыданиях. Бесшумность и тишина очень часто выражаются че-
рез безмолвие, неслышимость. Мы читаем у Самэна и о безмолв-
ном воздухе («Безразличный»), и об осыпающихся розах, кото-
рых не слышно («Пределы»), Молчание господствует и в отно-
шениях героя и возлюбленной. Герой слушает игру возлюблен-
ной на рояле и молчит («Белая ночь»). Он и она торжественно
молчаливы («Элегия»), между ними как бы проносится «крыло
молчания» («В саду инфанты»). Тишину, молчаливость подкреп-
ляет мотив сна, усыпления. Мы сталкиваемся у Самэна с сине-
вой уснувшего парка («Слезы»), с засыпающим небом («Осень»),
с «заснувшим озером» («Элегия»), со спящими цветами («В са-
ду инфанты»).
Развеществленность мира поддерживается у Самэна и час-
тыми наблюдениями, обнаруживающими невесомость, «воздуш-
ность», эфемерность среды, которая окружает героя. Поэт заме-
чает, например, что небесная лазурь растаяла в озере («Про-
гулка у пруда»), что летняя ночь наполняет ароматом горное
озеро («Сопровождение»), что сумерки затопляют в комнате
профиль возлюбленной («Нежная любовь»). Скользя по водам
озера в лодке, герой одновременно с этим скользит по сну и
по небу («Сопровождение».) Развеществленности, устранению
всего тяжеловесного, плотного содействует представление о
хрупкости. Хрупка у Самэна вода в бассейне («В саду инфанты»),
гондола («Зима»), лицо возлюбленной («Эрмиона»). Герой его
прямо заявляет о том, что он любит хрупкие звуки, краски —
всё, что «дрожит, колеблется, трепещет, переливается всеми
красками», он предпочитает всему «духовность» тщедушных или
тонких (freles) форм. С этим же связано у поэта тяготение к
нечеткости, неопределенности, неясности явлений. Поэт обожает
смутное (Findecis), ему нравится, когда линии, краски, звуки
становятся неясными (vagues), утрачивают отчетливость («Эле-
гия»). Он рассказывает о неясной долине («Прогулка у пру-
да»), о неясном дне («Счастливый остров»), неясной (indefinie)
музыке. Он предпочитает близкому, подробному — далекое и не-
различимое в деталях: туманную даль, излучающую звуки, му-
зыку («Звуки над водой»), туманную даль, в которую отступал
город («Элегия»), парк, подернутый дымкой («Безразличный»).
276
Развеществленность, дематериализованное™ мира сопро-
вождается в стихах Самэна, так же как мы это наблюдали у Ка-
на и у Мореаса, установкой на успокоенность изображаемого, ко-
торая была чужда и Бодлеру, и Рембо, но которая сближает позд-
них символистов. Самэн отмечает спокойное лицо возлюбленной
(«Элегия»), спокойствие воздуха, садов («Прогулка у пруда»).
Поэт особенно акцентирует внимание на отсутствии в мире бы-
стрых темпов, бурного движения, резких сдвигов, на наличии
в нем медленности, постепенности. Листья осенью медленно па-
дают на траву («Осень»), в небе медленно поднимается луна,
подобная серебристому светилу («Белая ночь»), в городе посте-
пенно угасает гул («Элегия»), Спокойствие, умиротворенность,
безнадежность определяют и внутренний мир персонажей. Ге-
роиня поэмы «В саду инфанты» покорна, тиха, а когда в ней
просыпается гордость, она усмиряет ее.
Для развеществленности изображаемого у Альбера Самэна
очень характерно, что динамика, процессы движения даются в
аспекте понижения, деградации, через убывающую интенсив-
ность звука или цвета, так сказать, de-crescendo. Он пишет про
угасающий гул города («Элегия»), про затихающий морской
шум («Счастливый остров»), про рыдания охотничьего рога, по-
терявшегося в прудах («Эрминия»), про замирающий звук
смычка («Пределы»), Он рассказывает, как угасает последний
луч солнца («Элегия»), как бледнеет небосвод («Безразличный»)
и увядает свет, как блекнет небо («Элегия»), Он улавливает
снижение интенсивности и душевных процессов, и впечатлений
от внешнего мира, говорит про угасающее сердце («Звуки над
водой»), угасающие веера («Ноктюрн») и угасающие сплетения
ветвей над водой («В саду инфанты»).
Очень существенна для Самэна сближающая его с Море-
асом и с Капом и в какой-то степени восходящая к Верлену
пессимистическая настроенность его поэзии. При этом, не выде-
ляя особенно сумрачность героя или героини (правда, не забы-
вая отметить, что душа героя «Счастливого острова» в мелан-
холии, что героиня поэмы «В саду инфанты» усмиряет свое
возбуждение грустной улыбкой, что она рыдает), поэт концент-
рирует атмосферу грусти на внешнем мире,— говоря о меланхо-
лии лесов («Осень»), скорбных лесах («Слезы»), о парке, кото-
рый печален, как бездна («В саду инфанты»), о грустном воз-
духе («Осень»), грустных сумерках («Счастливый остров»),
грустных запахах, которые ночь льет на небосвод («Элегия»),
Атмосфере грусти соответствует мотив плача. Плачет вода в
бассейне («В саду инфанты»), небо омывает слезами дали
(«Зима»,) дрожит от плача рояль («Белая ночь»). Атмосфера
грусти поддерживает аспект осени, листопада, конца, в котором
воспринимается все у Самэна. Он недаром рассказывает о
луне, которая осыпается в озеро («Сопровождение»), о розах
заката, которые осыпаются в реку («Event Fide»). Об осыпаю-
277
щихся золотых часах, т. е. об убегающем времени («Пределы»),
и даже о душе героя, которая осыпается («Сопровождение»).
В поэзии Самэна, наряду с развеществлением мира и с пес-
симистическим его восприятием, проявляется и третья черта
символизма — его сосредоточенность на внутреннем мире поэта,
его напряженный психологизм или даже спиритуализм. Мир
души существует в его стихах как бы независимо от матери-
альной среды, которая его окружает, как бы самостоятельно и
порой даже вопреки ей, как бы образуя особую сферу, иногда
принимающую даже фантастические очертания. Душа героя ук-
рывается в глазах возлюбленной («Звуки над водой»), изли-
вается в губы ночи. Герой пьет из души возлюбленной («Про-
гулка у пруда»), слезы возлюбленной стекают в его душу
(«Элегия»). Возлюбленная героя рисуется одетой в платье своей
души. Она — это его мечта, закутанная в женское покрывало
(«Эрмиона»), Душа человека умирает подобно увядшей розе.
Она склоняется под тяжестью наслаждений («Нежная любовь»).
Слово — это «непрочный мост», связывающий души («Элегия»),
это соприкосновение душ, скрестившихся в долгих взглядах
(«Эрмиона»).
Здесь, кстати, проявляется основное отличие Самэна от вели-
ких символистов, которые никогда не выделяли душевный мир
из окружающей его действительности, не видели в нем особой
закономерности, не придавали ему самостоятельного значения,
не допускали его фантастичности. Характерной особенностью
поэзии Самэна, по сравнению с Бодлером и Верленом, следует
признать и полное отсутствие в ней темы воспоминаний, которые
еще играли какую-то роль у Мореаса. Герой остается у него,
по сути дела, всегда в настоящем, в атмосфере впечатлений
и ощущений от непосредственно данного. Он не пытается выр-
ваться из окружающего, преодолеть его, расширить его, выйти
в большой мир. Он, по существу, удовлетворен наличным. Если
он и грустит, то весьма робко, не сомневаясь в наличном, не
находя ни в нем, ни в себе основы для протеста.
Не менее существенно для Самэна, вообще для позднего
символизма, дистанцированность его поэзии от реальности, уда-
ленность от нее, которой не знали ни Бодлер, ни Верлен, ни
Рембо. Поэт прямо заявляет в «Звездах над водой», что душа
его далека от мира. Герой одного из стихотворений сборника
«В саду инфанты» хотел бы остаться «висящим над землей»,
которая представляется ему «иронической и грубой», хотел бы
ничего о ней не знать, ничего не видеть. Героиня поэмы «В саду
инфанты» опасается толпы, ее сумятицы и только издалека
прислушивается к жизни, как будто к морю. Очень характерен
для всего сборника образ города, который отодвинут в глубокий
фон изображаемого, откуда доносится на авансцену только шум,
гул, замирающий, затихающий в складках тяжелых портьер
(«Октябрь»).
276
Этой изоляции от реальной жизни соответствует тяготение
к обстановке, отличающейся своей праздничностью, богатством,
рафинированностью, которая приближает поэзию Самэна, как и
поэзию Мореаса, к парнасцам, особенно к Т. Готье. Поэт не
случайно помещает в ближайшее окружение, судя по поэме
«В саду инфанты», по «Счастливому острову», по «Ноктюрну»,
драгоценности, старые зеркала, парчу, тарелки севрского фар-
фора, чашки из тонкого золота, веера из страусовых перьев,
вспоминает о временах Регентства, о пастушках и маркизах,
о гавотах и мадригалах.
У Л. Тайяда (Laurent Tailhade, 1854—
1919), как и у Самэна и Кана, мы находим пристрастие
к эпитетам и существительным, подчеркивающим белизну, блед-
ность, нежность, прозрачность. Мы обнаруживаем у него белый
пух на солнце, бледный день («Пасхальный понедельник»), бе-
лые равнины («Ноябрь»), бледную луну («Остров Просперо»),
перламутровую бледность луны, бледность последнего прощания
(«Второй ноктюрн»), побледневшее солнце («Седьмой сонет»),
побледневшие небеса («Ноябрь»), бледнеющие солнечные лучи
на волосах возлюбленной, побледневшие взгляды («Покорность
судьбе»). То же значение имеют у Тайяда прозрачная река («Пер-
вый сонет»), неясная лазурь («У дверей церкви), угасающие пос-
ледние лучи солнца и нагоняющее грусть отсутствие огней в окнах
вечером («Первый ноктюрн»). Характерен для Тайяда образ хол-
мов, окутанных дымкой и мягко стирающиеся в томной лазури их
лиловые вершины. Не менее характерен для поэта образ бледного
дня, более нежного, нежели пламень свечи («Пасхальный поне-
дельник») .
Тайяд вслед за Самэном и Каном отдает явное предпочте-
ние эпитетам, существительным и глаголам, подчеркивающим
беззвучность, бесшумность, тишину видимого. Поэт недаром го-
ворит о приглушенных шагах, об оркестре, который смолкает
(«Под звуки жалобного вальса»), о молчаливых ветерках
(«Первый ноктюрн»), о безмолвном пруде («Senscant moon»),
о шепоте арф молчания («Остров Просперо»), о том, что в
окружении героя нет ни одного шороха, ни одного вопля («Sens-
cant moon»). Он обращает особое внимание на заснувшее, усып-
ленное, на мотив сна, грез. Речь идет у него о земле, которая
засыпает и спит («Ноябрь»), о заснувшем солнце («Второй
сонет»), о спящей простыне растении на пруду («Остров Про-
сперо»), о сне полей и леса («Первый ноктюрн»), о земле,
которая грезит («В торжественной лазури»), о ночи, которая
усыпляет слабый шум («Первый ноктюрн»), о розах, усыпля-
щпх сердце героя и его возлюбленной, о розах, укачивающих
279
их души («Остров Просперо»), о возлюбленной, которая баюка-
ет героя на своих руках («Второй сонет»).
В соответствии с установкой на развеществленность мира все
представляется Тайяду непрочным, неустойчивым, преходящим,
обреченным на исчезновение. Он рассказывает об убегающей,
уносящейся сонате Шуберта («Элегические стихи»), об исчез-
нувших ангелах («Первый сонет»), об изгладившихся в памяти
веснах, об исчезнувшем счастье, о прошедшей любви («Шестой
сонет»). Всего полнее тема развеществленности воплощается в
образе томности, изнеженности, ослабленности. Аромат осени
купает в своей томности патетические закаты («Седьмой со-
нет»), Томно распространяет в тумане вальс свои последние
аккорды («Элегические стихи»). Томными становятся розы, за-
хваченные врасплох блеском солнца и сбрасывающие ночью
свои сверкающие одеяния («Октябрь»),
Томности, изнеженности, ослабленности соответствует и об-
раз лирического героя, сникшего («Первый сонет»), представ-
ляющего себя в виде усталого путника («Третий сонет») или
человека, которого заражает своей пленительной апатией, вя-
лостью его возлюбленная («Четвертый сонет»).
Развеществленность изображаемого, представление о мире
как о чем-то спускающемся от апогея к закату, как о какой-то
затухающей кривой сочетается с минорным, печальным аспек-
том, которым оказывается пронизано изображаемое. Поэт пря-
мо заявляет, что радость не поселяется надолго в здешнем
мире, что она цветет в наших сердцах всего один час, причем
сами сердца эти уподоблены каменным глыбам («У врат церк-
ви») .
Поэт рассказывает о жалобном вальсе («Элегические сти-
хи»), о горестной жалобе, которую бросает на ветер осень
(«Седьмой сонет»), упоминает про жалобу роялей («Восьмой
сонет»), про цветы отчаяния («Седьмой сонет»), представляет
своего героя грустным («Третий сонет»), У него разбитое
сердце, страдающее в тишине («Покорность судьбе»), В стихах
Тайяда в соответствии с общей печальной, скорбной атмосферой
много плача и слез: рыдают, плачут у него виолончели («Эле-
гические стихи»), воспоминания («Второй сонет»), плачет лири-
ческий герой шестого сонета. В слезах у него муза («Покор-
ность судьбе»), плачет серебристыми слезами колокол («Восьмой
сонет»), льет слезы герой «Покорности судьбе».
Минорному, печальному аспекту, в котором представляется
герою жизнь, соответствует и тема смерти, умирания, присут-
ствующая в лирике Тайяда, Она проявляется и в образе роз,
которые умирают, источая аромат («Первый сонет»), и в уми-
рающем солнце, которое пьет запах лилий («Седьмой сонет»),
и в поцелуях смерти, аромат которых герой пьет каплю за
каплей («Грустная серенада»), и в фигуре самой смерти, кото-
рая стучится у ворот лета, возвещая осеннее умирание («Седь-
280
мой сонет»), или распространяет в небе тучи-лавины, в которых
солнце кажется погребенным («Ноябрь»).
Большое значение для лирики Тайяда, как и вообще для
поэзии позднего символизма, имеет также антитеза поэзии и
реальной жизни. Враждебная, чуждая поэту реальность харак-
теризуется Тайядом как атмосфера гнусности и жестокости, при-
чем решающим для этой атмосферы является грубый и безум-
ный народ («Пятый сонет»), толпа и ее простонародный дух
(«Рифмы веера»). Поэта, носителя красоты, удушает «нечистый
воздух отвратительного времени», это «время» отождествляется
с «землей», т. е. вообще с чувственным, реальным миром. В ином
плане антитеза поэзии и действительности развертывается в сти-
хотворении Тайяда «Уличные гитаристы». «Истощенные», одетые
в лохмотья уличные певцы, не имеющие постоянной родипы и
постоянного местожительства, противопоставлены «грохоту от-
вратительных городов», через которые проходят эти «незаметные
мученики», забывающие все: нищету, позор, оскорбления ради
сокровищ, которые разбрасывает перед ними муза («Уличные ги-
таристы») .
▲
Более сложной по своему характеру, не-
жели поэзия Кана, Самэна, А. де Ренье или Тайяда, является
лирика Ф. Вьеле-Гриффена (Francis Viele-Griffin, 1864—
1937), если судить по стихотворным сборникам поэта «Апрель-
ский сбор плодов» (1885), «Лебеди» (1887), «Радости» (1889).
Лирика Вьеле-Гриффена во многом повторяет и продолжает то,
что мы уже знаем по стихам Кана, Самэна, отчасти Мореаса,
подхватывает, в частности, характерную для них установку на
развеществление мира, на изображение ослабленного звука и
света. Недаром лилии у поэта рисуются хрупкими («Посвяще-
ние» в «Радостях»), хрупким представляется ему поцелуй («Ав-
рора»), хрупкой называет он грезу, мечту своегб лирического
героя («Цветущий май»). Он рассказывает о шепчущихся трост-
никах («Эвфонии»), шепчущихся губах («Рондо северных коло-
колов»), о тишине на берегу реки, где не слышно ничего, кроме
отдаленного грохота повозок («Мистический час»), о легком
ветре, столь легком, что он едва касается волны («Эвфонии»),
Поэт предлагает человеку раствориться в пространстве, как дым,
рекомендует ему закрыть глаза так, чтобы только веки про-
свечивали розовым («Мистический час»).
В то же время у Вьеле-Гриффена мы обнаруживаем пред-
меты, темы и мотивы, далекие от Кана и Самэна, Тайяда и
Ренье, мотивы, скорее напоминающие о романтических тради-
циях. Вьеле-Гриффен описывает в «Прелюдии» к «Carmen рег-
petuum» несокрушимый, колоссальный утес, который стоит над
пропастью, и головокружительный поток, который уносит с со-
бой камни и смывает людей, ставших его добычей, в море. Он
281
изображает в «Поэме о море» зловещий грохот волн, бешен-
ство воющего ветра. Он советует океану опустошить мир и
уничтожить лес, смыть с лица земли общество, в котором су-
ждено жить герою поэмы.
Второе серьезное отличие поэзии Вьеле-Гриффена от других
поэтов позднего символизма заключается в настроениях, кото-
рые испытывает его лирический герой. У Мореаса, Кана, Са-
мэна, Тайяда, вслед за Бодлером и отчасти вслед за Верле-
ном, господствующим является декадентское настроение грусти,
печали, меланхолии. Герой Вьеле-Гриффена проникнут, напро-
тив, состоянием веселья, радостью. Поэт недаром называет пер-
вый сборник своих стихов «Апрельский сбор плодов»,ч а тре-
тий — «Радости». Он рассказывает не об осени, не о дожде и
холоде, а о весне, о пробуждении природы, о распускающихся
цветах, о начинающих зеленеть полях и лесах, о веселом утре,
об атласной листве («Апрельское рондо»), о траве, напудрен-
ной белыми лепестками, которые сеются с деревьев, о букетах
цветов, поднятых как факелы («Майское рондо»).
Мир кажется лирическому герою стихотворений Вьеле-Гриф-
фена праздничным и принаряженным («Апрельское небо»). Поэт
украшает свое «царство» лилиями, драпирует небо шелками,
опьяняется жасмином («Посвящение» в «Радостях»), Мир ри-
суется герою прежде всего исполненным радости, которую он
усматривает и в ясной листве, и в голубой улыбке озера, и в
величественной равнине («Птица пела»). Поэт пишет в «Мисти-
ческом часе» об очарованных вздохах людей, о людях, пьяных
от лазури неба, об утренней великолепной равнине, о дне, ко-
торый расцветает утром золотисто-розовый, поющий и звуча-
щий. В «Апрельском рондо» идет речь об ярком солнце, о свет-
лых песнях, о светлом смехе.
Тема смеха в поэзии Вьеле-Гриффена вообще очень значи-
тельна. В «Майском рондо» играет флейта и смех кружится
на ветру, как листья. В «Цветущем мае» поэт призывает к
смеху и веселью. В «Рондо северных колоколов» подчеркивает-
ся радостный шаг возлюбленной и ее смех; ее речь оказывается
слаще, чем смех волны. К теме смеха присоединяется у Вьеле-
Гриффена мотив танца. В «Майском рондо» поэт призывает
целовать женщин, танцующих в хороводе, говорит о движениях
танца. В «Рондо северных колоколов» упоминается про музыку
смеха, шагов и платьев, про стук вееров, за которыми скрыты
улыбки.
Все это не выводит, впрочем, Вьеле-Гриффена за пределы
позднего символизма, не делает его совершенно чуждым Кану,
Самэну, Ренье. Прежде всего, допуская в свои стихи объек-
тивный мир с его безграничностью и безбрежностью, поэт не
отказывается вместе с тем от дематериализованных пейзажей,
сохраняя их рядом с материально насыщенными образами. Не
забывает поэт и об ущербности, обреченности мира. Судя по
282
«Рондо северных колоколов», окружающее видится ему в ко-
нечном счете «пустым», самого лирического героя ожидает
смерть. В «Цветущем мае» герой говорит о мечте как о глу-
пом, детском сне, который нужно отвергнуть. Греза, судя по
«Эвфониям», характеризуется как трусливая и лживая, клятву
в любви поэт определяет как трусливую и безумную.
Подчеркивая жизнерадостность лирического героя, внутрен-
нюю веселость, его пронизывающую, Вьеле-Гриффен не отказы-
вается от мысли, что эти веселье и радость преходящи, что
состояние радости занимает все-таки подчиненное место во внут-
реннем мире героя, ибо смех порой оказывается у него, судя
по «Месту остановки» из «Лебедей», испорчен рыданием, а на-
слаждение отождествляется со слезами и плачем. Рядом с об-
разом весны, порождающей веселье, существуют у него и образы
стонущих сосен, ревущего ветра, темной ночи, рассеивающихся
клочьев снега, а также обезумевших и качающихся флюгеров
(«Бледность девственниц»). О завывающем ветре, о снеге, па-
дающем на сердца, мы узнаем и из «Рондо северных колоко-
лов». Вечера представляются лирическому герою стихотворения
«Птица пела» «увядшими», как цветы. В «Мистическом часе»
поэт повествует о медленно скрывающемся вечернем небосводе,
о мучительном часе, когда земля покрывается мраком и ее
охватывает сожаление без надежды, ночь без звезд, а темнота
повисает над ней как порицание. В «Рондо маргариток» серые
глаза возлюбленной кажутся поэту «грустными». Поэт и сам
бывает грустно настроен; он боится умереть, чувствует, что тень
смерти нависла над его жизнью, подобно хищной птице («Место
остановки»). Душа поэта рисуется грустной и в «Мистическом
сне», по вечерам его сердце мучит тоска, навевая мысли о
катафалке, о свечах, о трауре, о звуках органа.
Рядом с поверхностной красивостью внешнего мира поэт ви-
дит и вечность: стоит только ему закрыть глаза днем, чтобы
увидеть вечную ночь («У порога» из сборника «Лебеди»).
Но мысль о вечности приводит Вьеле-Гриффена на чисто де-
кадентский путь оправдания смерти. В том же стихотворении
«У порога» поэт объявляет, что все в мире тщетно, что пре-
красна в нем одна лишь смерть. В «Эвфониях» люди рождают-
ся из «неисчерпанной тени», возникают из небытия и стремятся
к вечной смерти, к «другому небытию».
Близость Вьеле-Гриффена к позднему символизму, а тем са-
мым и к декадентству укрепляется тем, что мир, изображенный
в его стихах, оказывается противопоставлен реальной жизни,
которая раскрывается в «Поэме о море» как нечто неустойчи-
вое, колеблющееся и загнивающее, персонифицируется в мертвом
лесе и одиноком бесплодном дереве. Реальность кажется по-
эту каким-то противоестественным кишением существ, которое
лишено добродетели и пронизано продажной славой. В «Мисти-
ческом часе» поэт соглашается с мудрецами, которые презира-
283
ли землю и рассматривали влечение к земному, как тяжкий
грех. Он говорит здесь же о банальности вещей и людей,
о клоаке, в которую погружается его бедное сердце (прибли-
жаясь к реальной жизни), о том, что мир, несмотря на свои
горизонты, на свою зарю и море, мало что значит.
Он надеется когда-нибудь почувствовать, как внутри его «от-
вратительного существа», принадлежащего к той же реальности,
пробуждается «ангел», как его душа становится «белой», как
перед ним на мгновение открывается небо. Именно из отвраще-
ния к земному возникают у Вьеле-Гриффена религиозные и
даже церковные мотивы, образ дарохранительницы (ciboire),
агнца, мессы; мотивы смирения и коленопреклонения, мысли о
«других розах» и «другом апреле», очевидно, об явлениях поту-
стороннего мира, мысли, порожденные реальными «розами на
дороге» и реальным «бурным апрелем» («Мистический час»).
Следует добавить, впрочем, что и эти религиозные настроения
у Вьеле-Гриффена также неустойчивы, непрочны. Параллельно
им в его поэзии, в том же «Мистическом часе», встречаем слова
о том, что нужно разбить распятие, что вера умерла, что небо
безучастно, а молитва абсурдна.
Единственным выходом лирическому герою Вьеле-Гриффена
представляется безвольное и растительное существование, отказ
от действия, полная отдача себя во власть какой-либо посторон-
ней силы. Поэт рекомендует человеку в «Эвфониях» вычеркнуть
надежды, грезы, так как под лазурной кровлей, под небом нет
ничего существенного. Поэт хотел бы только успокоения, же-
лал бы лишь, чтобы его душа заснула, чтобы теплый голос
укачивал бы его, как океан («Эвфонии»). В «Прелюдии» к
«Carmen perpetuum» он высказывает и другие пожелания. Ему
хотелось бы блуждать по безымянной стране, посреди цветов,
ни о чем не мечтая и не вспоминая, ощущая лишь ребяче-
скую радость, смеясь от звуков и красок. Поздний символизм
сближает здесь и Вьеле-Гриффена с традициями парнасцев.
Своеобразие поэзии Жюля Лафорга (Ju-
les Laforgue, 1860—1887), особенно отчетливо выраженное в
первом сборнике его стихотворений «Рыдания земли», заклю-
чается прежде всего в ее космическом характере, в том, что
поэт, в отличие от других поздних символистов — от Мореаса,
Самэна, Кана, Вьеле-Гриффена, отвергает изображение непо-
средственно данной действительности, открывающейся человече-
скому восприятию через зрение, слух, обоняние и другие ощу-
щения. Мир, как он изображается в «Рыданиях земли», в пер-
вую очередь огромен, колоссален, безмерен, недоступен в своей
полноте для человеческого восприятия. Поэт говорит в «Апо-
феозе» о связках золотых светил, которые ведут за собой стаю
284
тяжелых цветущих шаров — планет. Лазурное небо кишит ста-
дами солнц, каждое из которых влечет за собой обитаемые
миры («Мимолетная шутка»). Лирический герой «Сумерек лет-
него воскресенья» думает о «реке хаоса», о «матери тумана»,
из которого вышло солнце — «могущественный отец» человека.
Земля при этом раскрывается в антитезе к огромному це-
лому. Земля — это глыба, затерянная, как атом, в бесконечном
пространстве Вселенной. Она плавает никому не известная, оди-
нокая в огромных глубинах («Посредственность»). Солнечная
система кажется лирическому герою только «уголком беспре-
дельного пространства», а Париж, в котором живет герой,—
лишь «желтой точкой» («Апофеоз»). Очень важно, что явлени-
ем микроскопического порядка оказывается для Лафорга и че-
ловек. Если земля — это «маленький холмик», то человек, жи-
вущий на этом холмике, напоминает поэту «мечтательную бло-
ху» («Мимолетная шутка»).
Представление о человеке как о существе микроскопическо-
го порядка тесно связано у Лафорга с неверием поэта в мо-
гущество и силу человека. Поэт уверен, что на земле не оста-
нется и следа от всех человеческих радостей и страданий,
от слез и смеха, от «трубных звуков гордости», которые в исто-
рии представлены в лице Вавилона, Мемфиса, Бенареса, Фив,
Рима. Все это теперь только развалины, на которых ветер сеет
цветы («Карнавальный вечер»). Мысль о ничтожности челове-
ского существа выражается и в том, что «бедные дети зем-
ли», в представлении поэта, бледны, лихорадочно возбуждены
(«Посредственность»), хрупки, лысы, мертвенно бледны, дрожат
от холода («Зимний закат»), что они потрясающе ограничены
в своем понимании мира, живут и умирают, не подозревая об
истории земли, ничего не зная о грядущей кончине солнца.
Многие уходят из жизни, даже не ознакомившись со своей
планетой, не посетив всех частей света («Посредственность»),
Неверие в человека и его возможности переходит у Лафорга
в абсолютный скептицизм, сочетается у поэта, в отличие от дру-
гих поздних поэтов-символистов — Самэна, Тайяда, Кана и осо-
бенно от Ле Кардонеля, Жамма, отчасти Вьеле-Гриффена,—
с его безбожием, атеизмом. Поэт не верит в бога, отвергает
его, не видит в нем идеала. Он знает, что бог никогда не
освободит человека из царства небытия, если ему суждено по-
пасть туда после смерти («Карнавальный вечер»). Неверие в бога
означает для Лафорга и неверие в потусторонний мир. Поэт
издевается над теми из живущих, что верят в потустороннее
существование; он называет их, вслед за Малларме, «будущими
скелетами». Он издевается над раем, в котором, по его мне-
нию, перемешаны танцующие в фантастическом вальсе слоны с
тысячами комаров («Сигарета»). Безбожие и атеизм Лафорга
выражаются у него и в богоборчестве. Свое «Miserere», которое
он запоет после того, как умрет его возлюбленная, поэт счи-
285
тает своеобразным вызовом богу и ждет, что за этим вызовом
должен последовать ответ бога («Сожаления органиста из собо-
ра Богоматери в Ницце»). В «Молнии из бездны» он прямо
обращается к богу, называет его «вечным свидетелем» челове-
ческих страданий и требует, чтобы бог показался, явился лю-
дям, сказал бы, зачем существует человек. Богоборчество при-
нимает временами у Лафорга почти хулиганский характер. Он
показывает кулак бесчувственной небесной лазури («Мимолет-
ная шутка»), В ожидании смерти лирический герой «Сигареты»
курит под носом у бога.
Из атеизма Лафорга, из его безбожия вытекает свойствен-
ное ему отрицание культа смерти. Его лирический герой не
видит в смерти избавительницу, которая могла бы обеспечить
ему переход в потусторонний гармонический мир. Смерть для
него означает полное уничтожение, переход в небытие. В «Не-
возможном» он так рисует себе конец жизни: ливни, ветры,
солнце разбрасывают повсюду части его сердца, нервов, ко-
стного мозга. Он боится умереть, в ужасе подсчитывает, сколь-
ко ему осталось еще жить, бросается на землю и кричит, тре-
пеща перед небытием, которое ему угрожает. О том, что ему
не хочется умирать, что он не хотел бы превратиться в ничто
и войти в тишину, он заявляет и в «Перемещенных редкостях».
В «Молнии из бездны» он восклицает: «Я не хочу умереть,
бесповоротно превратиться в ничто».
Из атеизма Лафорга, а также из его идеи неполноценности
человека следует не только отрицание культа смерти, но и его
гипотезы о возможном существовании более счастливой жизни
за пределами Земли, на других планетах. Мысли эти как бы
заменяют идею потустороннего гармонического мира. Они как бы
подчеркивают в то же время, что прекрасное, гармоническое
находится все же за пределами Земли, что люди сами не в со-
стоянии создать что-либо совершенное. И в «Фантазии», и в
«Перемещенных редкостях», и в «Сумерках летнего воскре-
сенья», и в «Невозможном» Лафорг рассказывает о «юных
братьях», протягивающих людям руки в тишине ночи. Он уве-
рен, что человечество прорвется в конце концов к другим оби-
тателям Вселенной, которые услышат людей, отзовутся на их
крики, их сигналы, унесут людей на «праздник любви».
Второе существенное отличие поэзии Лафорга, заметное в
его первом сборнике «Рыдания земли», заключается в том, что
непосредственно данное, раскрывавшееся у Самэна, Кана, Тайя-
да в аспекте разуплотнения, снова обретает у Лафорга мате-
риальную насыщенность. Как бы возвращаясь на позиции Бод-
лера и Рембо, Лафорг дает мир через чувственное, через детали,
подробности, через вещи. В «Карнавальном вечере» Лафорг рас-
сказывает о «галдящем» (chahutant) вечером Париже, о свете
газа. В «Вечном отдыхе» он говорит о белом июльском солнце,
которое размягчает тротуары столицы, в «Сожалениях органи-
286
\
ста Дз собора Богоматери в Ницце» — о звучных шагах мертвецки
пьянрго рабочего, который возвращается с праздника домой.
Лирический герой «Сумерек летнего воскресенья», входя к себе
домой, стирает носовым платком пыль со своей обуви. «Пер-
вая ночь» повествует о Париже публичных домов, выбрасы-
вающем па тротуары под тусклый свет газа проституток. О га-
зовом свете бульваров упоминается и в «Зимнем закате».
Очень важно вместе с тем, что чувственный, материальный
мир изображается у Лафорга, точно так же как у Мореаса,
Самэна, Тайяда, Кана, в сугубо мрачном, печальном освещении.
Жизнь, судя по «Карнавальному вечеру», предстает «слишком
печальной, неисправимо скорбной», лирический герой видит в
ней лишь суету. Бой часов в «Карнавальном вечере» напоми-
нает похоронный звон. Вороны монотонно распевают псалмы
(«Сожаления органиста»). Желтый, сумрачный взгляд бульваров
характеризуется как умирающий («Зимний закат»). Поэт дваж-
ды говорит о мертвом лесе («Сероватые размышления» и «Зим-
ний закат»), упоминает про близкую кончину солнца, про близ-
кий конец возлюбленной, включает в «Рыдания земли» —
«Похоронный марш на смерть земли». Не менее показательно
для пессимистического освещения действительности у Лафорга
также то, что интеллектуальные поиски героя оканчиваются всег-
да неудачей. Герой Лафорга занимает позицию человека ищу-
щего, пытающего разгадать загадку бытия, открыть истину.
И вот все искания не приводят ни к чему. Человек забрасывает
всех вопросами и не получает на них никакого ответа, ждет,
но обнаруживает в конце концов, что ждать нечего. Он чув-
ствует, что скоро умрет, должен будет уйти из жизни так ничего
и не открыв («Перемещенные редкости»).
Печальный облик действительности усугубляет ее непригляд-
ность, уродливость. Поэт пишет в «Цветном витраже» о раз-
лагающихся, тронутых порчей цветах, о гниющих черных и жел-
тых лилиях, об опаловых плевках. В «Зимнем закате» он упо-
минает о «чахоточном» окружении заходящего солнца, в «Серо-
ватых размышлениях» — о затопленном грязной дымкой
дождливом небе. Мы узнаем из «Литании нищеты» о мертво-
рожденных детях, о детях, умирающих младенцами в нищете,
о женщинах, которые плачут ночами, корчатся от боли, кусают
свои простыни, чтобы произвести детей.
Беременные женщины, безобразно выпячивающие при ходьбе
животы, описаны в «Зимнем закате». Если Лафорг и не гово-
рит всегда прямо об отталкивающем, то он охотно подчерки-
вает монотонность, серость существующего. Он отмечает все
неяркое — зеленоватое, блекло-лиловое,серо-свинцовое, бледное,
мертвенно-бледное, тусклое («Цветной витраж»).
Минорный аспект существующего, в отличие от Бодлера, от
Рембо, отчасти от Верлена, не приводит ни Лафорга, ни дру-
гих поэтов-символистов 80-х годов к протесту, к бунту, к мя-
287
тежу, к восстанию против этого существующего. Лафорг сле-
дует в этом отношении за поздним Бодлером. Пессимистиче-
ское восприятие изображаемого становится у него основой для
примирения с действительностью, получает декадентскую окрас-
ку. Эта окраска как бы подготавливается «Сонетом веера». Со-
нет начинается с утверждения лирического героя, что на земле
все плохо. Далее в том же сонете герой замечает, что люди
напрасно ищут сердце Вселенной. Он как бы оспаривает свои
же замечания из «Карнавального вечера», «Песни маленького
гипертрофика», «Цветного витража». Он как бы запрещает себе
всякую активность, всякие поиски, всякие попытки вырваться
из сферы зла, обнаружить радость хотя бы за пределами Зем-
ли. И, наконец, герой того же сонета прямо заявляет, что
«с огромной загадкой», которую представляет для него Вселен-
ная, «нужно смириться».
Примирение с существующим выражается, судя по «Карна-
вальному вечеру», прежде всего в том, что поэт освобождает
это существующее от его трагической сути, объявляет трагиче-
скую суть действительности ее внешней оболочкой. Поэт воскли-
цает здесь: «Пойте! Танцуйте!»,— призывает к веселью и радо-
стям, исходя при этом из уверенности, что жизнь «коротка»
и что в ней «много грустного». О том, что «все смешно», он
говорит и в «Сумерках летнего воскресенья». Наконец, в «Цвет-
ном витраже» он заявляет, что все человеческое существование,
поглощенное непрестанным трудом и лишь изредка перемежаю-
щееся праздниками,— нудная комедия.
Для комедийной интерпретации существующего очень боль-
шое значение имеет то обстоятельство, что о печальном, груст-
ном, трагическом поэт, судя по «Песне маленького гипертрофи-
ка», сообщает весело, бездумно. О болезни сердца, от которой
умерла мать лирического героя этого стихотворения, он вспоми-
нает без малейшей скорби, даже напевая при этом: тир-лен-
лэр! Мальчик весело, небрежно говорит и о том, что сам скоро
присоединится к матери, т. е. уйдет из жизни.
Примирение с действительностью, декадентское освещение
изображаемого торжествует в следующем стихотворном сбор-
нике Лафорга «Жалобы» («Les complaintes», 1885). «Жалобы»
совершенно утрачивают свойственный «Рыданиям земли» кос-
мический характер. Грандиозное, космическое превращается в
явления обыденного мелкого порядка. Луна именуется то «мам-
зелью», то «доброй старушкой». В «Жалобе больших сосен»
у хаоса — приступы кашля. Космическое, грандиозное, высокое
снижается, оборачивается уродливым. Звезды именуются в
«Жалобе доброй луны» «потаскушками», которые зазывают в
притоны, луна — госпожой пьяниц и мошенников, земля — «пле-
вательницей» («Жалоба на исходе дней»).
Лирика Лафорга при переходе от «Рыданий земли» к «Жа-
лобам» утрачивает свой космический характер, порывает связь
288
с грандиозным, вернее космическое, грандиозное становится бы-
товым и даже уродливым. Одновременно обыденное, бытовое
заполняет в «Жалобах» вообще весь мир, выдвигается на пер-
вый пл(ан изображаемого и в своей непосредственной форме.
Обыденное, впрочем, играло значительную роль уже в «Рыда-
ниях земли». В «Жалобах» оно становится главным и единст-
венным. Стоит вспомнить в этой связи хотя бы лирического
героя «Жалоб Пьеро», который собирается провести ночь в
поезде: на окне сушатся белые гетры, так что герой как бы
сквозь них видит расстилающийся за окном пейзаж («Еще одна
воскресная жалоба»).
Показательны в «Жалобах» и угол прачечной с грязной че-
репицей на крыше, и голый, лишенный растительности пейзаж
(«Еще одна воскресная жалоба»), и похоронная процессия, ко-
торая шлепает под проливным дождем через грязь и ухабы,
и могила, в которую опрокидывают покойника, и то, что эта
могила называется просто «ямой» («Жалоба неисцелимого анге-
ла»), и грубая постель в безвкусной комнате гостиницы («Жа-
лоба больших сосен»), и мельница с костлявой рукой («Жало-
ба неисцелимого ангела»).
Говоря об уродливости, неприглядности, неуютности мира
«Жалоб», следует обратить внимание на образы осеннего дож-
дя, потеющего неба («Жалоба монотонной осени»), моросящей
ночи («Жалоба на тоску по далекому прошлому») и ветра,
через который воспринимается героем многое в мире. Порывы
ветра раскачивают деревья, а глицинии становятся жертвой этих
порывов («Еще одна воскресная жалоба»). Ветер пляшет и
неистовствует на крыше («Жалобы ветра, которому скучно»),
он несется вскачь во весь опор («Жалоба на некоторое смеще-
ние времен»). Из аксессуара пейзажа ветер превращается в
активного персонажа, воздействующего на героя, мучающего
окружающих. Он форменным образом избивает лирического
героя («Жалоба больших сосен»), выворачивает зонтики, под-
гоняет похоронную процессию («Жалоба монотонной осени»),
принимает обличье человека — надсаживается от крика («Жа-
лоба монотонной осени»), дрожит от холода у дверей («Жалоба
больших сосен»), изнурен кашлем («Жалоба неисцелимого анге-
ла»), не устает гневаться всю ночь до утра («Жалоба больших
сосен»).
Уродливость мира временами оказывается у Лафорга на
грани патологии. Закат не только мертвенно-бледный, но еще
гноящийся; деревья, раскачиваемые порывами ветра, напоми-
нают лирическому герою мертвенно-бледные бинты; глицинии
на веревках кажутся ему скрючившимися в агонии («Еще одна
воскресная жалоба»). Поэт хотел бы, чтоб возлюбленная, от-
вергшая его, стала в 20 лет старой и лысой, чтобы она попала
в сумасшедший дом, чтобы ее кормили там через нос при по-
мощи зонда, чтобы зонд попал ей по ошибке в дыхательное
289
горло и чтобы она от этого задохнулась («Жалоба забаллоти-
рованных») . /
В «Жалобах» определенно укрепляется тема примирения с
действительностью, уже ясно намеченная в «Сонете веера» из
«Рыданий земли». В «Еще одной жалобе шарманки» поэт при-
знает, что у него нет основания для того, чтобы покончить с
собой. В «Жалобах неисцелимого ангела» любить наших девиц
и «жить с волками», «пожимать руки, грязные от посуды, за-
литой соусом»,— одно и то же. При этом герой признает, что
все это «еще лучший выход».
Примирение с существующим находит свое выражение и в
иронической, насмешливой интерпретации изображаемого. Мно-
гое дается именно поэтому у Лафорга не всерьез, с некоторым
снижением остроты, снятием трагического колорита. Звезды в
«Жалобах» недаром пляшут («Жалоба доброй луны»), поэт при-
зывает людей плясать и бражничать, так как все на земле
грустно и покрыто тайной («Жалоба вечером на сельскохо-
зяйственном празднике»), В том же стихотворении говорится о
безумной потребности людей плясать, несмотря на то, что они
находятся на земле, брошенной в неизвестное. Герой рекомен-
дует людям жонглировать, показывать фокусы с сущностью бы-
тия («Жалоба Пьеро»), т. е. шутя относиться к самым серьез-
ным вещам в мире.
Примирение с существующим, комедийная интерпретация зла
находит свое выражение и в том, что поэт с припевами, в пля-
совом ритме рассказывает о мертвецах («Жалоба на забвение
покойников»). Мир мертвецов обрисован здесь как нечто до-
машнее, будничное, повседневное. Могильщик запросто стучит
в дверь дома, в котором живут живые — дедушка, сестра,
мать. Поэт спокойно обещает живым, что, как только они умрут,
могильщик выбросит их из дома и потащит на кладбище.
Примирение со злом особенно выразительно представлено в
«Жалобе бедного молодого человека». Герой этого стихотворе-
ния, бедняк, придя к себе домой, обнаруживает, что его жена,
покончив с собой, угорев, не оставила ему при этом углей, чтобы
и он сделал то же самое. Тогда он выхватывает из ножен
кинжал и закалывается. Факельщики, застав его мертвым, не
выражают никакого изумления. Обо всем этом говорится как об
обычном и повседневном, далеком от какой-либо исключитель-
ности. Рассказ о самоубийстве бедняка ведется очень весело,
как бы с улыбкой и сопровождается легкомысленным припевом
не раз прерывающим основное повествование.— «динь, дон-дон,
диг, дон-дон!» Весело, с радостными припевами и прибаутками
рассказывает поэт в «Жалобе на слово «фонарь» и о старушке,
скрюченной под тяжестью вязанки хвороста, которую она тащит
себе домой из лесу под дождем, надеясь разогреть при помощи
этого хвороста себе еду. Старушка не вызывает у поэта ни
малейшего сочувствия, ни капли жалости.
290
Особое место занимает в позднем симво-
лизме Луи Ле Кардонель (Louis-Pierre-Philippe Le Cardonnel.
1862—1936). Он близок и к Мореасу, и к Кану в своем стрем-
лении максимально дематериализовать изображаемое. Он пишет
в «Певце» о легких звуках, слабом ветре, о шуме затеряв-
шихся ручьев, об эльфах, лишь касающихся лепестков розы,
о шорохах. В «Мертвом городе» поэт рассказывает о медлен-
ном и глухом звоне колокола, приглашающего к вечерне, в
«Фортепьяно» сообщает о монотонных музыкальных фразах,
производимых инструментом. Он предпочитает молчаливую ли-
ству, свободную от птиц («Летняя грусть»), безветренный воздух
(там же), лес, не тронутый ветром («В лесу»). Он боится резких
и отчетливых красок, подчеркивает серые деревья («Мертвый
город»), тусклое закатное небо («Фортепьяно»), отсветы берез,
пятнающих серый мох («Певец»). Его внимание обращает на
себя белое белье, оставленное на морозе, покрытое инеем, т. е.
явления прежде всего бесцветные, лишенные красок («Мертвый
город»). Большую роль у Ле Кардонеля играет мотив сна.
грезы: в тишине спит лес («Волшебный лес»), дремлет вода
(«Усталость»), поэта охватывает дрема («Волшебный лес»), он
полон сна («Летняя грусть»), засыпает («В лесу»).
Не меньшее значение для поэта имеет тема спокойствия и
ясности, прозрачности и уравновешенности, возникающая из
утомления и тесно связанная с ним. Именно об этом состоянии
он рассказывает в «Усталости». Нельзя не отметить, наконец,
и пессимистические мотивы, свойственные Ле Кардонелю в не
меньшей степени, чем Мореасу, Кану и другим символистам.
Речь идет в его стихах о печальном доме на пустынной на-
бережной («Фортепьяно»), об отраженной в глубоких водах грус-
ти дубов ,(«Летняя грусть»), о мечтателе, заблудившем-
ся в своих печалях («Волшебный лес»). Он недаром дает своим
стихотворениям названия «Летняя грусть», «Осенняя жалоба»,
«Траур в ноябре».
Все это, однако, осложняется у Ле Кардонеля тем, что он
не ограничивается созданием в своих стихах атмосферы непроч-
ности бытия, настроений печали и грусти. Признаваясь, что его
пугает монотонный ужас бесконечной пустоты («Фортепьяно»),
заявляя, что жизнь вызывает у него отвращение («Похвала
сну»), он находит утешение в признании бога и ирреального
мира, который якобы возмещает неполноценность и несовер-
шенство окружающего. Лирического героя в «Летней грусти»
не случайно терзает глухая тоска оттого, что он все еще нахо-
дится на земле. До него доносится медленное дуновение, иду-
щее с «той стороны», из потустороннего мира. Это дуновение
представляется ему призывом, обращенным к его одинокой
душе, призывом удалиться в «другие области» бытия, призывом
торжественным, медленным, проникновенным. Облака, надув-
291
шиеся паруса, плывущие по головокружительной голубизне неба,
также зовут душу героя улететь в направлении «второй жизни».
Душа героя, ясная и слегка утомленная, как бы отдаваясь чему-
то (s’abandonnant), уходит «по ту сторону мира» и в стихотво-
рении «Усталость». В «Осенней жалобе», когда поднимается
ветер, поэту кажется, что до него доносится «стук дверей, за-
крывающихся рам». Герой стихотворения «В шуме» рассказы-
вает о далеких небесных светилах, которые кажутся ему «ви-
дениями» собственной души и блещут в глубокой ночи. Раз
герой видит эти светила, значит ему обеспечено существование
после физической смерти, значит «слепая смерть» никогда не
заставит «умолкнуть» его душу. Религиозная окрашенность сим-
волизма Ле Кардонеля отделяет его от других поэтов-сим-
волистов, вроде Мореаса, Кана, Лафорга, и в то же время свя-
зывает его с символистами религиозного толка вроде Франсиса
Жамма2.
2 На этом рукопись книги обрывается. Задуманные портреты Франсиса Аам-
ма, Анри де Ренье, Стюарта Меррил я Д. Д. Обломиевский написать не успел.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги всей работы, считаем не-
обходимым остановиться еще раз на задачах, которые мы ста-
вили перед собой, а также считаем небесполезным отметить ряд
обстоятельств, симптоматичных для посмертной судьбы поэтов,
творчество которых подвергалось здесь анализу.
Следует прежде всего напомнить, что из четырех знамени-
тых французских поэтов-символистов, имевших отношение к де-
кадентской поэзии, полностью входил в ее орбиту лишь один —
Малларме. Бодлер, Рембо, Верлен находили в себе силы прео-
долевать влияние декадентства. Бодлер стал декадентом только
в конце 50-х и 60-х годах, когда его творческое развитие ми-
новало свой апогей. Пути творчества Верлена скрещивались с
путями декаданса, но только иногда совпадали с ними. Так во
всяком случае обстояло дело до 1872 г. Что касается Рембо,
его поэзия стала декадентской только в 1872 г., будучи в 1870—
1871 гг., когда он начал писать стихи, гуманистической. Решаю-
щим для победы декаданса явилось поражение революцион-
ного движения, и в первую очередь поражение Парижской
Коммуны.
Нельзя забывать и о том, что Бодлер, Верлен, Рембо, не
будучи представителями декаданса в поэзии, не были и эпиго-
нами предшествующих поэтических систем, а, напротив, явля-
лись новаторами, революционерами в лирике. [Творчество их
образовало совершенно новый этап во французской поэзии, а мо-
жет быть, и в поэзии мировой, недаром их влияние на поэзию
русскую, немецкую, итальянскую, польскую было так велико^
К чему, однако, сводилось в самых общих чертах новаторство
Бодлера, Верлена, Рембо и, в некоторой степени, Малларме?
К тому, что они ввели в лирику коренным образом преобразо-
ванный субъективный фактор.
Принято считать, что субъективный фактор был внесен в
поэзию еще романтиками, ибо именно они направили, казалось
бы, особое внимание на «я» человека, на его внутренний мир,
на ту его часть, которая оставалась в пренебрежении у клас-
293
сицистов, интересовавшихся в первую очередь сознанием чело-
века (ср. оды Малерба, сатиры Буало, послания и оды Воль-
тера). Но фактически дело обстояло не совсем так. Душевную
жизнь человека, его эмоции, чувства, переживания сделал пред-
метом художественного изображения уже Расин (правда,только
в области драматургии). Но Расин оставил иррациональную
стихию под неослабным контролем разума, требуя, чтобы стра-
сти его положительных героев были просветленными.
Окончательно освободили иррациональное как предмет ху-
дожественного изображения из-под контроля сознания Руссо и
его ученики, заслужившие имя лидеров предромаптизма. Ро-
мантики лишь перенесли завоевания Руссо, разрабатывавшего
жанры прозы, в поэзию. Предшественником романтического ир-
рационализма в лирике явился, правда, один из представителей
просветительского классицизма, испытавший, впрочем, и влия-
ние Руссо — Андре Шенье (показательны в этом отношении вы-
сказывания Сент-Бёва в его «Жизни Жозефа Делорма»), Но у
него, как классициста, контроль сознания над сферой иррацио-
нального был еще весьма высок.
Главное внимание романтиков (Ламартина, Виньи, Мюссе)
было сосредоточено все же на внешнем мире, в который герой
погружался. Более того, лирика В. Гюго, Барбье, Сент-Бёва
показывает, что внимание романтиков привлекали материаль-
ные вещи.
Именно в этой плоскости лежало новаторство роман-
тической лирики. Намеченное романтиками в этом отношении
было поддержано и развито парнасцами.
А вот Бодлер, Верлен, Рембо, отчасти Малларме стали рас-
сматривать субъективный фактор не в качестве элемента со-
держания лирики, как это мыслили А. Шенье, романтики, поэ-
ты-парнасцы, а в качестве элемента внутренней формы. Они
стали изображать внешний мир через душу и тело лирического
героя, сквозь его ощущения. Они придали изображению дей-
ствительности как бы дополнительное измерение, основанное на
отношении субъекта к объекту. Образы получают у них (преж-
де всего у Бодлера) двуплановую структуру, причем явления
эмпирического мира, сферы ощущений и вещей становятся пер-
вым планом образа, символом чего-то стоящего за ним, т. е.
символом внутреннего мира, души человека. Именно в этом
смысл терминов «символ» и «символизм», если их применять
к творчеству таких поэтов, как Бодлер, Верлен, Рембо, в какой-
то степени Малларме (у Малларме, в отличие от последователь-
ных символистов, внимание было сконцентрировано не на сим-
воле, в нашем понимании этого слова, а на душе человека
как таковой и к тому же оторванной от материального). Как бы
в противовес всей предшествующей лирике — и парнасской, и
романтической, и руссоистской (А. Шенье), и классицистской —
символисты поставили своей задачей создание двупланового об-
294
раза (у их предшественников образ был по сути дела как бы
плоскостным); причем суть двупланового образа заключалась
в том, что он допускал как бы «просматривание» за данным
явлением чего-то другого, за ним стоящего, стал превращать
черты какого-либо феномена в символ чего-то иного.
В том, что образ символистской поэзии двупланов, следует
видеть его преимущество перед структурой романтического или
классицистского образа. Но это преимущество совмещалось в
символистском образе с известными потерями и утратами, ко-
торых не знала ни романтическая, ни классицистская лирика,
развивавшиеся в условиях прогрессивных социально-историче-
ских формаций. В символистской поэзии эта способность к пе-
рерастанию в образ декадентского характера явилась весьма
существенной особенностью, связанной с повышенной ролью,
которую стал играть в ней субъективный фактор, превращав-
шийся в декадентстве в основу субъективизма или солипсизма.
Дело здесь было в том, что в символистском образе гораздо
большую роль, нежели в других поэтических системах, стали
играть субъективные психологические ассоциации. Пока они
не разрушали объективную закономерность, затрагивая лишь
плоскость восприятия (ср. железнодорожные пейзажи Верлена
или «Что удерживает Нину?» Рембо), образ оставался симво-
листским. Но когда эти ассоциации доминировали и как бы вы-
ходили из плоскости восприятия в план —говоря философским
языком—онтологический, начиналось декадентское перераста-
ние образа.
Отрыв сознания от действительности приводит — особенно
отчетливо в лирике Малларме и отчасти у позднего Бодлера —
к отказу от критического отношения к внешнему миру, к устра-
нению бунтарства, которое отличало поэзию Бодлера, раннего
и зрелого периодов, а также поэзию Рембо, Верлена; приводит
к примирению с существующим, и это становится характерной
чертой декадентской поэзии. Поэт, отрываясь от окружающего
его объективного мира, как бы замыкается в себе и вместе с
тем или, вернее, тем самым перестает наблюдать и критически
осмыслять существующее, фактически примиряясь с ним. Отказ
от бунтарства, устранение критического отношения к действи-
тельности влечет за собой темы усталости и утомленности, апа-
тии и пассивности, безволия лирического героя. Победа этих
тенденций означает, по сути дела, конец символизма.
Усиление декадентских тенденций протекает, впрочем, и в
другой форме, в форме перерастания символистской поэзии в
поэзию религиозного толка. Второй глубинный план образа на-
полняется в таком случае потусторонним содержанием вещи, и
ощущения становятся символом потустороннего. Именно в таком
направлении развивается после 1871 года творчество Верлена.
Уже не человек и его душа, а бог становится здесь содержа-
нием глубинного плана символистского образа, человек жескло-
295
няется перед божеством, отказывается от бунтарства, делается
пассивным, безвольным, апатичным по отношению к другим лю-
дям и вещам.
▲
Вторым не менее существенным вопро-
сом, который следует поставить в заключении — ибо он многое
проясняет в поэзии Бодлера, Верлена, Рембо, Малларме,— яв-
ляется вопрос о посмертной судьбе этих поэтов. Здесь следует
сразу же начать с того, что подавляющее число монографий,
относящихся к поэтам-символистам, во французском литерату-
роведении приходится на долю Малларме, затем уже следуют
работы о Рембо. Некоторое внимание, но значительно меньшее,
уделяется Верлену, и, наконец, еще меньше книг, если срав-
нить с тем, что написано о Верлене, Рембо и, в особенности,
о Малларме, написано во Франции о Бодлере.
Повышенное внимание к Малларме и относительное невни-
мание к Бодлеру несомненно показательно. Западные исследо-
ватели явно ценят Малларме, поскольку он был ближе других
к декадансу. Они проявляют интерес к Рембо отчасти из-за
его редкой судьбы (он перестал заниматься литературой, едва
достигнув 19 лет, и провел остальные 18 лет своей жизни, не
возвращаясь ни к стихам, ни к прозе); главным же образом
из-за того, что его стихи и проза последних лет были последо-
вательно декадентскими. Западные исследователи проявляют
значительно меньший интерес к Бодлеру именно потому, что
он менее всего был декадентом.
Подчеркнутому вниманию современных буржуазных литера-
туроведов к Малларме соответствует и особая интерпретация
термина «символизм» у литературных критиков конца прошло-
го века и у современных исследователей этого литературного
направления. Надо прямо сказать, что литературные критики
и исследователи создали своего рода «легенду о символизме»,
очень далекую от действительного хода вещей и стирающую
грани между декадентским и подлинным символизмом.
Основу символизма буржуазные исследователи усматривают
совсем не в его содержании и даже не в структуре симво-
листского образа, не в том, что вещи и ощущения представ-
ляются поэту-символисту символами души человека, ее аппер-
цепции, воспоминаний и мечтаний. Основу символизма они видят
в отказе поэта от прямого изображения явлений реального
мира, т. е. в бегстве от реальной действительности, от ее за-
кономерностей, в подмене последних закономерностью человече-
ской души. Символистом они признают только того поэта, ко-
торый избегает прямо касаться вещей и предпочитает этому
косвенное, непрямое соприкосновение с ними. Именно этот
смысл имеет понимание символа как намека, не отражающего
действительность, а только как бы ссылающегося на нее. Так
296
как творчество Бодлера менее всего подходит по своему со-
держанию к такого рода интерпретации символизма и символа,
то его поэзию буржуазные исследователи выводят за пределы
символизма. Символистами, но символистами меньшего масштаба
считают литературоведы, занимающиеся символистским направ-
лением, Верлена и Рембо (главным образом Рембо позднего).
Главой символизма pur sang объявляется Малларме, причем
особо акцентируются в его поэзии ее чрезвычайные затруднен-
ность и темнота, способствующие, по мнению исследователей,
максимальному отдалению образов от реальной действительно-
сти, превращению символа в нарочитый намек на что-то сугубо
неясное и туманное.
Символизм тем самым освобождается этими исследователя-
ми от своего действительного содержания и, по существу, отож-
дествляется с декадентством. В результате невозможно понять
новаторство символизма, его роль в восходящем развитии ми-
ровой поэзии.
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Адан Антуан (Adam Antoine) 137, 146,
153, 159—161, 163, 171—173, 218
Аккет Сесиль-Артур (Hackett Cecil-
Arthur) 216, 219
Ансель Нарцис-Дезире (Ancelle Nar-
cisse-Desire) 129.
Байрон Джордж-Гордон (Byron Geor-
ge-Gordon) 25, 26, 65
Балашов Николай Иванович 89, 95,
129, 169, 199, 200, 218, 246, 267
Бальзак Оноре де (Balzac Honore de)
111, 112, 133, 138
Барбье Огюст (Barbier Auguste)
15, 23, 40, 47—52, 54, 56, 57, 59,
74, 78—80, 87, 97, 109, 124, 127, 294
Барр Аидре (Barre Andre) 270
Бериар Сюзанна (Bernard Suzanne) 212
Берришон Патерн (Berrichon Paterne)
209, 213, 216, 225
Блэн Жорж (Blin Georges) ИЗ
Бодлер Шарль (Baudelaire Charles)
И, 12, 60, 89—145, 150, 153, 159, 160,
162, 164—171, 173, 175, 183, 194—
196, 200, 201, 210, 214—216, 218,
228—230, 233, 234 , 239—242, 248,
251, 258 , 259 , 264, 270—272, 277,
278, 282, 286—288, 293—297.
Боргаль Клеман (Borgal Clement)
118, 129
Борель Петрюс (Borel Petrus) 138
Буало Никола (Boileau-Despreaux
Nicolas) 14, 23, 48, 294
Булэ Даниель (Boulay Daniel) 242,
248, 250
Буше Франсуа (Boucher Francois) 97
Вагнер Рихард (Wagner Richard) 92,
93, 130, 242
Вальдес Леаль Хуан де (Vaides Leal
Juan de) 124
Вальцер Пьер-Оливье (Walzer Pierre-
Olivier) 242, 267, 269
Ватто Антуан (Watteau Antoine) 170
Верлен Поль (Verlaine Paul) 11, 12,
60, 144—184, 190, 194—197, 200, 201,
204, 209—211, 214, 228, 229, 233,
236, 241—243, 245, 248, 251, 258,
259, 262, 264, 270—272, 277, 278,
282, 287, 293—297
Виньи Альфред де (Vigny Alfred de)
14, 15, 17, 19, 23, 28—34, 36, 37, 39,
40, 41, 43, 47—49, 52, 61, 63, 64,
78, 80, 81, 124, 125, 127, 137, 241,
294
Вольтер Франсуа-Мари (Voltaire
Franfois-Marie) 14, 23, 48, 294.
Вьеле-Гриффен Франсис (Viele-Grif-
fin Francis) 270, 281—285
Гойя Франсиско (Goya у Lucientes
Francisco) 137
Гоклер Ясею (Gauclere Yassu) 213, 216,
217, 225
Готье Теофиль (Gautier Tfeophile)
60—75, 78, 80, 85, 90, 91, 97, 108,
115, 118, 123—125, 132—134, 145,
159, 188, 218, 238, 242, 244, 258,
270, 279.
Гюго Виктор (Hugo Victor) 16—18,
20—23, 37—49, 52—59, 61, 63, 64,
66, 68, 70, 74, 75, 78—81, 89, 93, 97,
98, 109, 125, 127, 138, 167, 229,
241, 294
Гюисманс Жорис-Карл (Huysmans
Joris-Karl) 249
Данилин Юрий Иванович 169
Данте Алигьери (Dante Alighieri)
65, 124
Декон Люк (Decaunes Luc) 95, 114
Делакруа Эжен (Delacroix Eugene)
111, 124
Делаэ Эрнест (Delahaye Ernest) 216,
222
Делиль Жак^(ОеН1е Jacques) 18
Дюваль Жанна (Duval Jeanne) 95, 98
Дюпон Пьер (Dupont Pierre) 90, 114
Дюрер Альбрехт (Diirer Albrecht) 65
Жамм Франсис (Jammes Francis)
И, 270, 285, 292
298
Зайед Жорж (Zayed Georges) 146Д153,
154, 160, 163—165, 169, 170, 175,
189, 190.
Кан Гюстав (Kahn Gustave) 11, 270,
273—275, 277, 279, 281, 282, 284,
285, 286, 287, 291, 292
Кено (Quenot С.) 169
Кнаут Карл (Knauth Karl) 174
Кон Робер (Cohn Robert) 268
Коро Камиль (Corot Camille)T97
Кулон Марсель (Coulon Marcel) 188,
218
Ламартин Альфонс де (Lamartine Al-
phonse de) 14, 15, 17, 19, 23—28,
32—34, 36—41, 44, 47—49, 52,
61, 63, 64, 78, 80, 81, 93, 98, 125,
136, 159, 241, 294
Лафорг Жюль (Laforgue Jules) 270,
284—290, 292.
Ле Кардонель Луи (Le Cardonnel
Louis) 11, 270, 285 , 291, 292
Лебрен Экушар (Lebrun Ecouchard)
50, 56
Леконт де Лиль Шарль-Мари (Leconte
| - de Lisle Charles-Marie) 60, 74—88, 93,
97, 109, 112, 123—125, 128, 133,
136, 145, 153, 238, 270.
Лепелетье Эдмон де (Lepel letter Ed-
mond de) 171
Малерб Франсуа (Malherbe Francois)
14, 48, 294
Малларме Стефан (Mallarme Stepha-
ne) 11, 12, 60, 112, 159, 228—272,
274, 285, 293—297
Марешаль Пьер-Сильвен (Marechai
Pierre-Sylvain) 37
Мартино Пьер (Martino Pierre) 169, 270
Мерриль Стюарт (Merrill Stuart) 11, 270
Местр Жозеф де (Maistre Joseph de)
114
Микеланджело Буонарроти (Michel-
angelo Buonarroti) 137
Мильтон Джон (Milton John) 137
Мишо Жозеф-Франсуа (Michaud Jo-
seph-Franfois) 242, 267, 270
Моклер Камиль (Mauclaire Camille) 93
Моравская Людмила (Moravska Lud-
mila) 260
Mopeac Жан (Moreas Jean) 11, 270—
275, 277—279, 281, 282, 284, 287,
291, 292
Морис Луи (Morice Louis) 173, 180
Моро Эжезип (Moreau Hegfesippe) 260
Морон Шарль (Mauron Charles) 238,
242, 258, 261, 264, 267
Мюссе Альфред де (Musset Alfred de)
294
Надаль Поль (Nadal Paul) 146, 153
Остен Ллойд-Джеймс (Austin Lloyd-
' James) 92, 98, 102, 103, 107, 113,'118,
131, 229
Петрарка Франческо (Petrarca Fran-
cesco) 67
По Эдгар-Аллан (Poe Edgar-Allan)
242, 243, 246, 247, 259
Порше Франсуа (Porche Francois)
95, 102, 118
Прево Жан (Prevost Jean) 93, 102, 111,
114, 116, 118, 120, 137.
Пруст Марсель (Proust Marcel) 114
Пуле-Маласси Огюст (Poulet-Malassis
Auguste) 129
Пювис де Шаван Пьер (Puvis de Cha-
vannes Pierre) 242
Расин Жан (Racine Jean) 294
Рембо Артюр (Rimbaud Arthur) 11, 12,
60, 112, 183—228, 233,234,239—242,
251, 252, 259, 250, 270, 271, 277,
278, 286, 287, 293—297
Рембо Изабелла (Rimbaud Isabella)
216, 225
Рембрандт Харменс ван Рейн (Rem-
brandt Harmensz van Rijn) 124
Ренье Анри де (Regnier Henri de)
270, 281, 282
Ривьер Жак (Riviere Jacques) 215,
223, 225
Рише Жан (Richer Jean) 171
Ришар Жан-Пьер (Richard Jean-Pier-
re) 242, 264
Руайер Жан (Royere Jean) 260
Рубенс Петер-Пауль (Rubens Peter-
Paul) 99, 110
Руже де Лиль Клод-Жозеф (Rouget
de Lisle Claude-Joseph) 50, 56
Руле Клод (Roulet Claude) 268
Руссо Жан-Жак (Rousseau Jean-Jac-
ques) 294
Руссо Теодор (Rousseau Theodore) 97
Руфф Марсель (Ruff Marcel), 102,
118—120, 129
Рюшон Франсуа (Ruchon Francois)
218, 225.
Сабатье Аполлония (Sabatier Apollo-
nie) 95, 98
Самэн Альбер (Samain Albert) 270,
275—279, 281, 282, 284—287
Сартр Жан-Поль (Sartre Jean-Paul)
113, 114
Селье Леон (Cellier Leon, 229
Сент-Бёв Шарль-Огюстен де (Sainte-
Beuve Charles-Augustin de) 14,15,17,
200
22, 23, 32- 37, 39—41, 47, 49, 52,
69, 78—80, 90, 91 97, 98, 109, 124,
125, 127, 138, 294.
Сеше Леон (Seche Leon) 108
Сула Камиль (Soula Camille) 242, 264
Сурбаран Франсиско (Zurbaran Fran-
cisco) 67, 68, 124
Сурио Морис (Souriau Maurice) 169
Сэйер Эрнест (Seilliere Ernest) 118
Тайяд Лоран (Tailhade Laurent) 270,
279—282, 285, 286
Тибодэ Альбер (Thibaudet Albert) 229,
236, 238, 241, 242, 258, 260, 264, 268
Туссенель Теодор (Toussenel Theodore)
130
Флобер Гюстав (Flaubert Gustave) 111
Фондан Бенжамен (Fondane Benjamin)
Фурье Шарль (Fourier Charles) 74, 138
Чадвик Шарль (Cha dwick Charles
200, 205, 207, 208, 217, 219
Шарпантье Джон (Charpentier J ohm
270
Шатобриан Франсуа-Рене де (Chateau-
briand Francois-Rene de) 34, 65
Шекспир Вильям (Shakespeare Wil-
liam) 124
Шенье Андре (Chenier Andre) 14, 18,
23,24,33,36, 48, 107, 125, 152,
294
Шенье Мари-Жозеф (Chenier Marie-
Josephe) 50, 56
Шерер Жак (Scherer Jacques) 260
Шуберт Франц (Schubert Franz) 280
Эпикур 27
Этьембль Реие (Etiemble Rene) 213,
216 217 225
Эш Дебора (Aisb Deborah) 236
ОГЛАВЛЕНИЕ
ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ ОБЛОМИЕВСКНЙ 5
(1907—1971). Ф. С. Наркирьер
ТРУДЫ Д. Д. ОБЛОМИЕВСКОГО 10
ВВЕДЕНИЕ И
Глава первая
РОМАНТИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ ВО ФРАНЦИИ 13
Глава вторая
ПОЭТЫ-ПАРНАСЦЫ 60
Глава третья
VШАРЛЬ БОДЛЕР 89
/ Глава четвертая
* ПОЛЬ ВЕРЛЕН I44
Глава пятая
ч| АРТЮР РЕМБО 183
Глава шестая
СТЕФАН МАЛЛАРМЕ 228
Глава седьмая
МАЛЫЕ СИМВОЛИСТЫ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
270
293
298