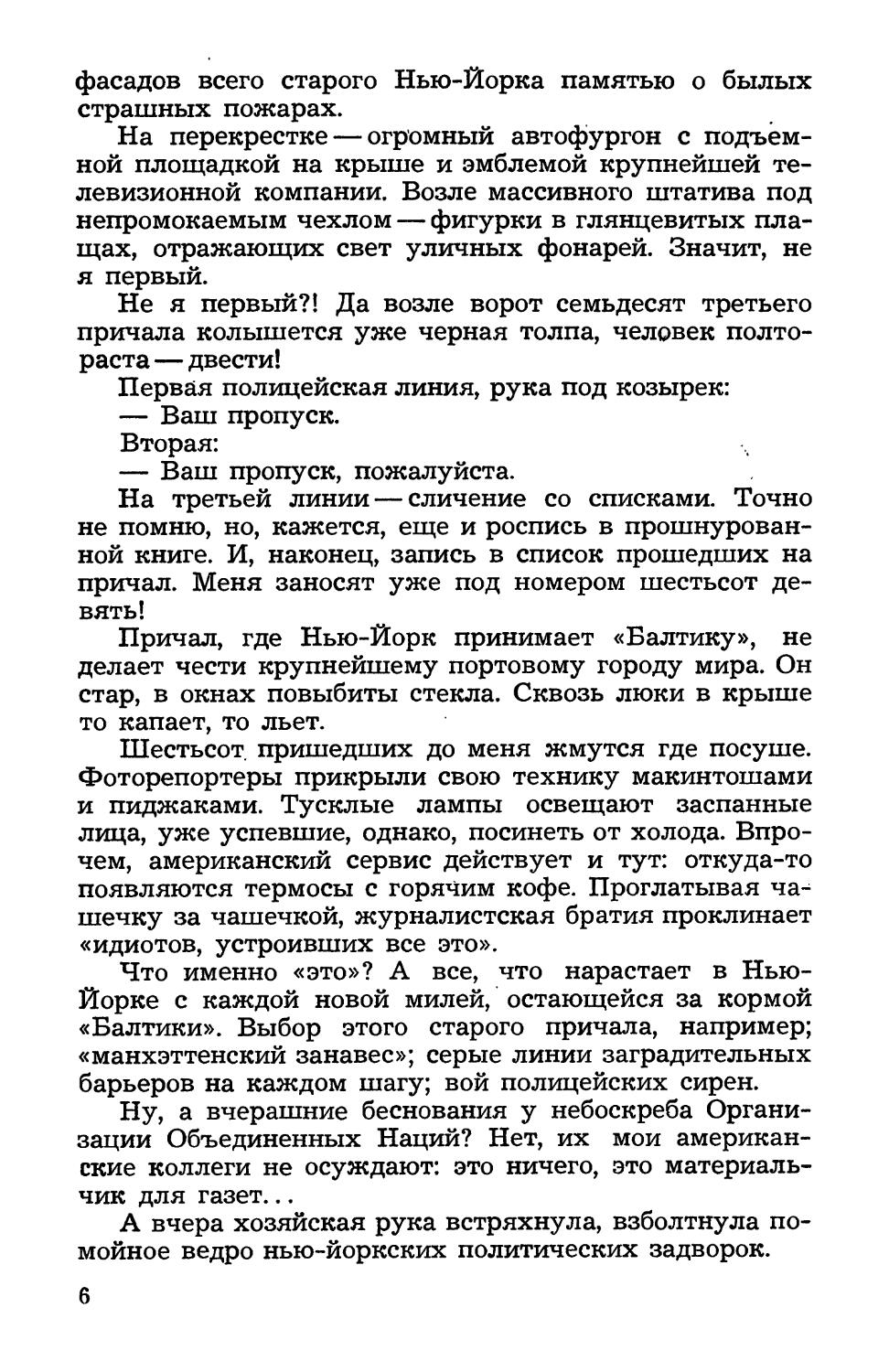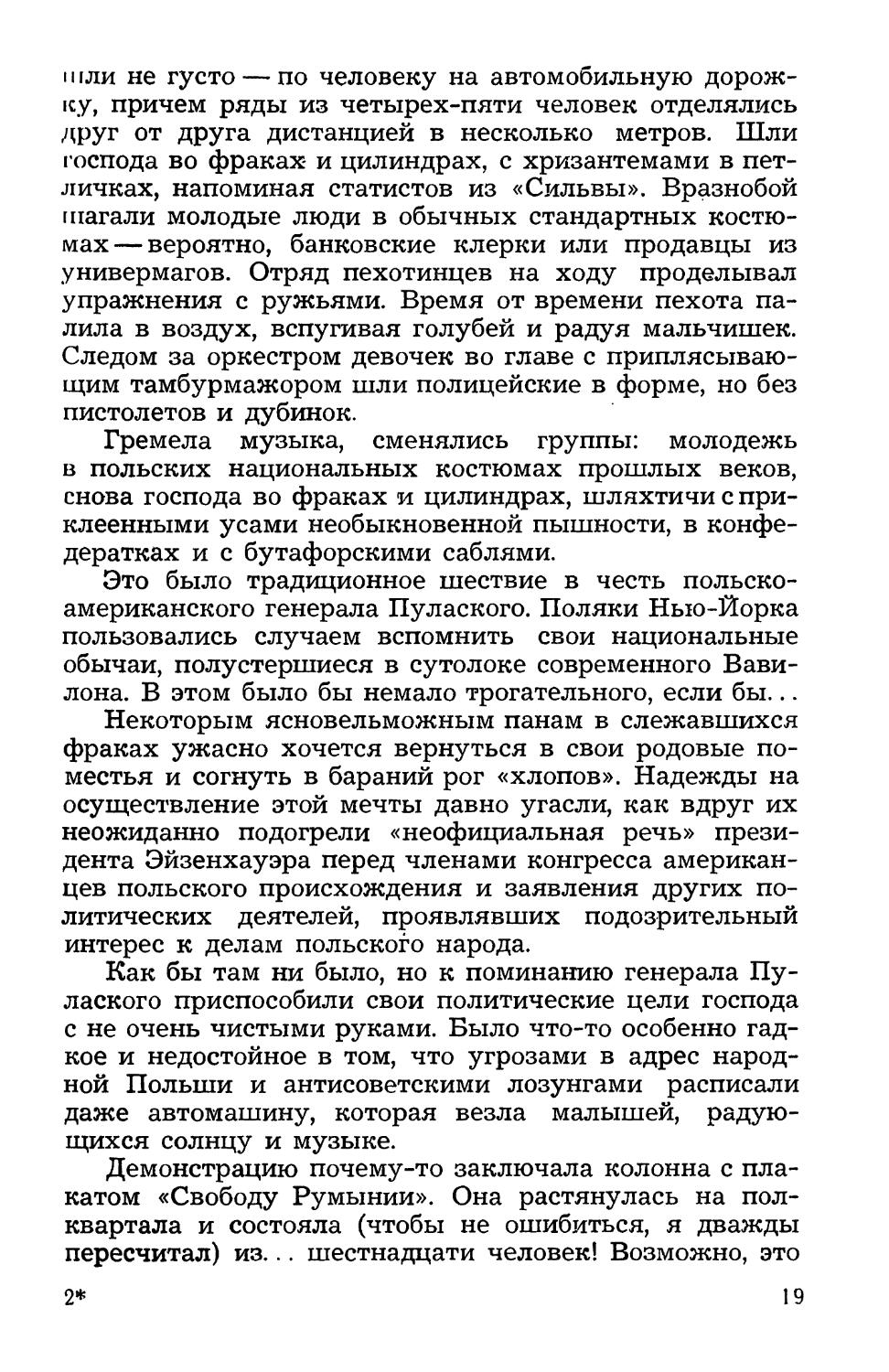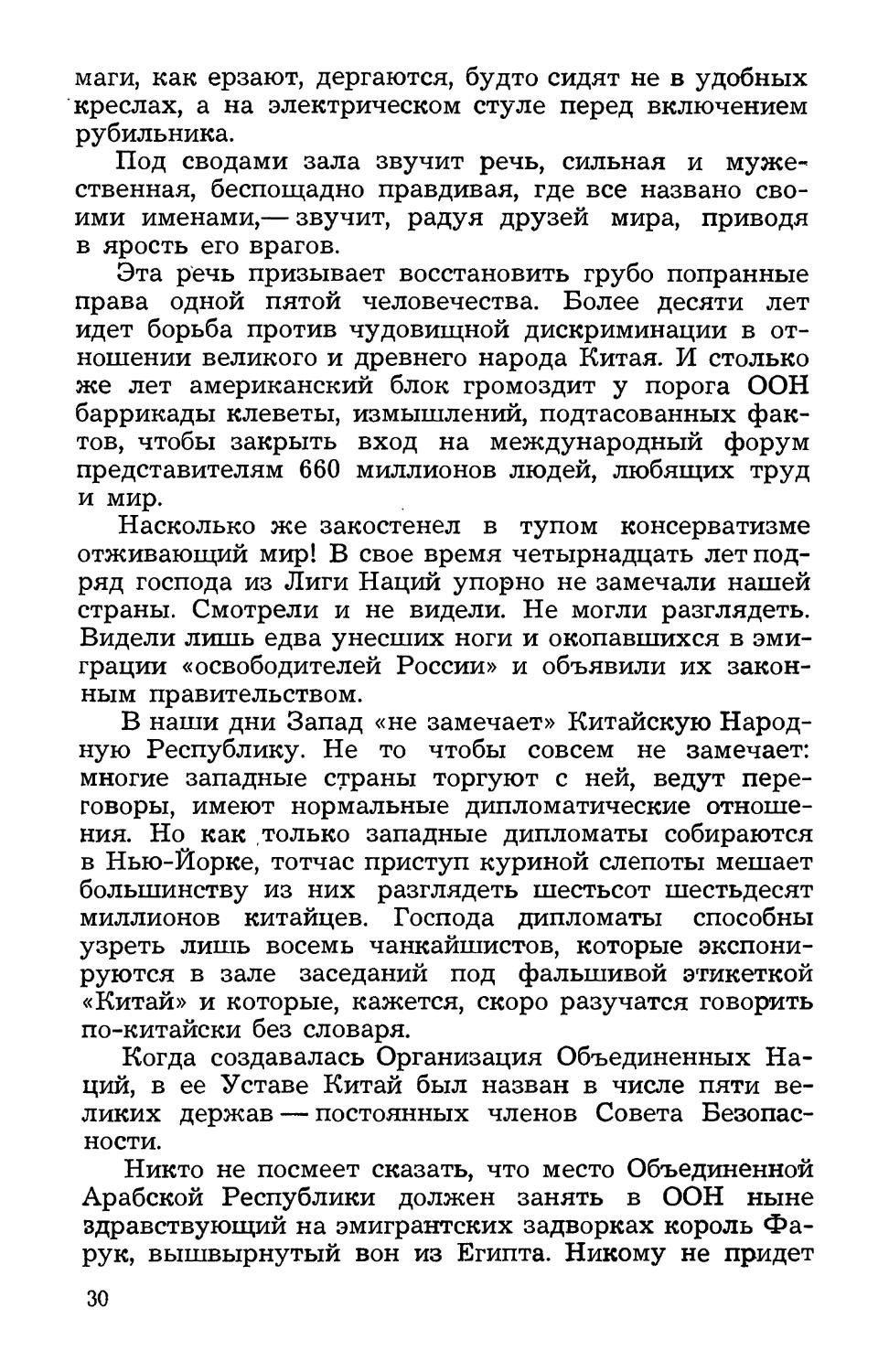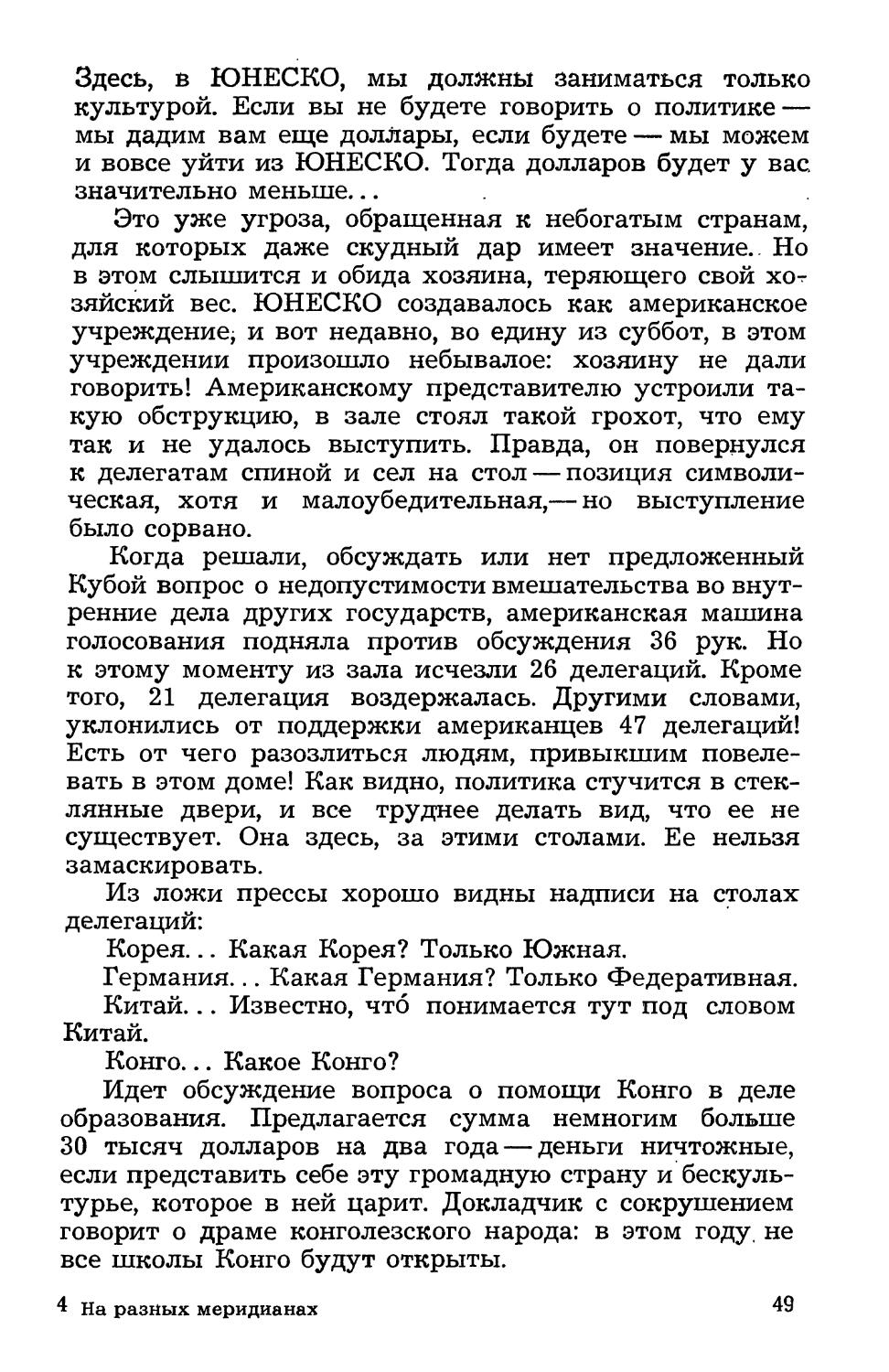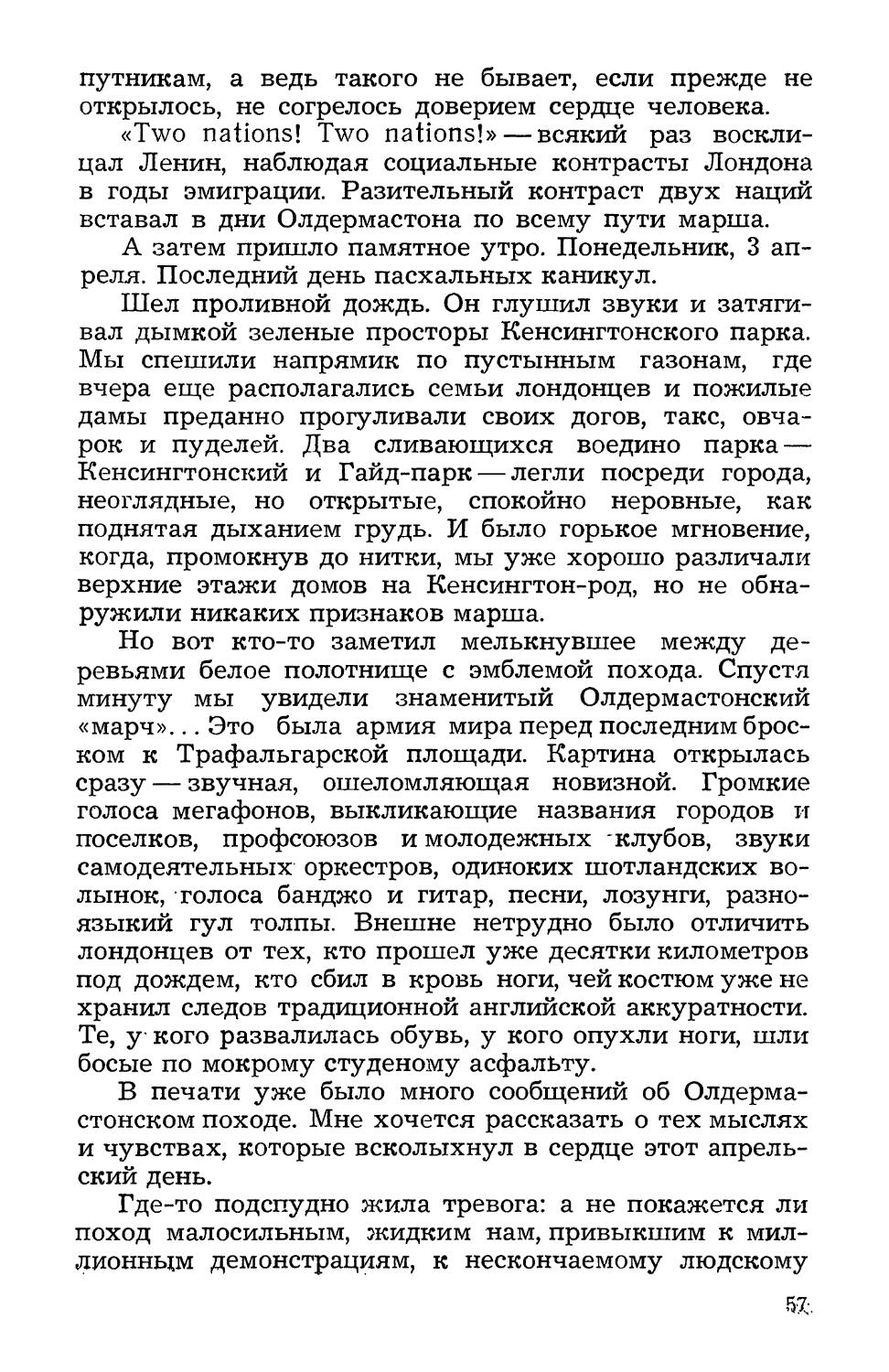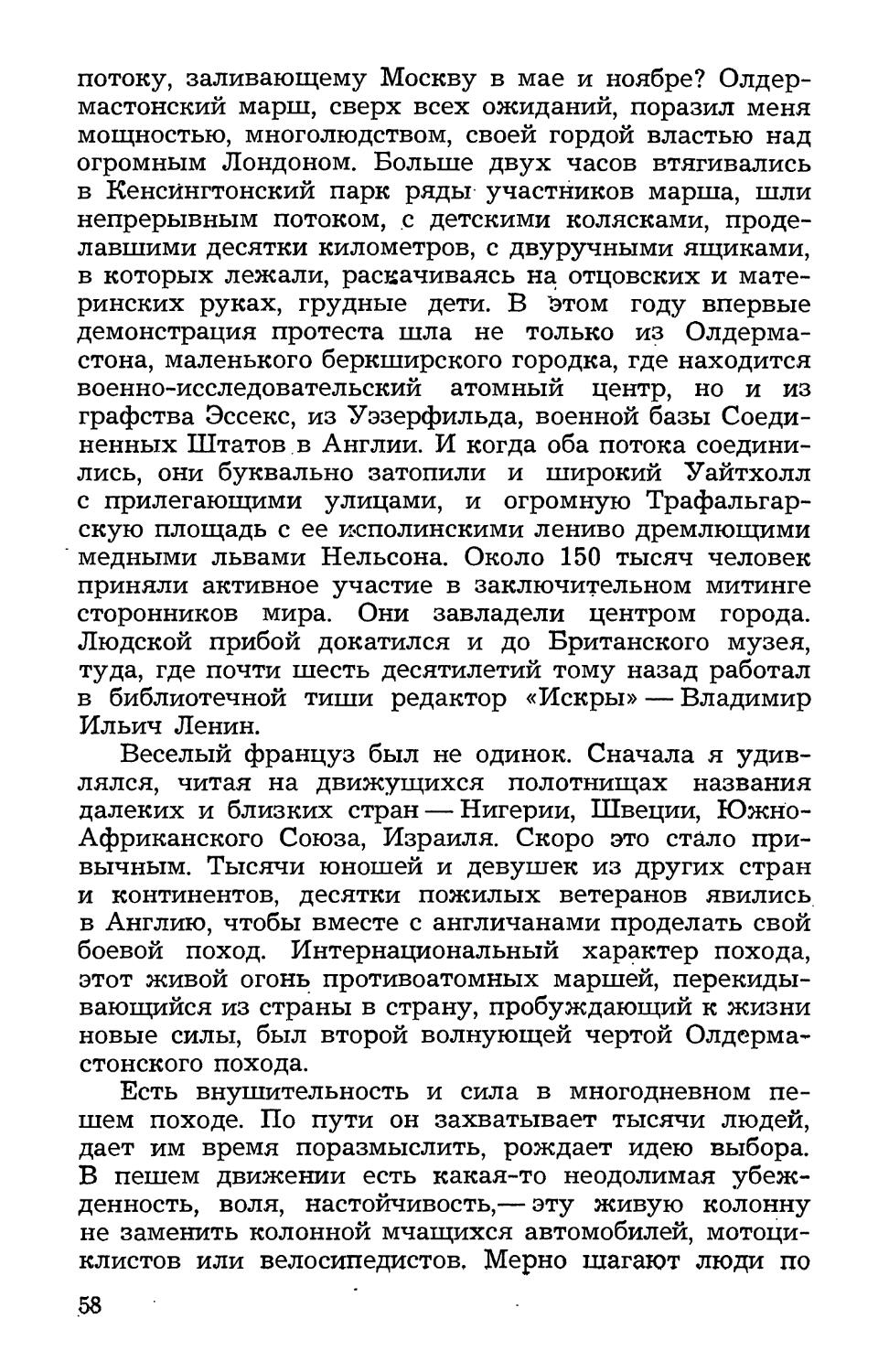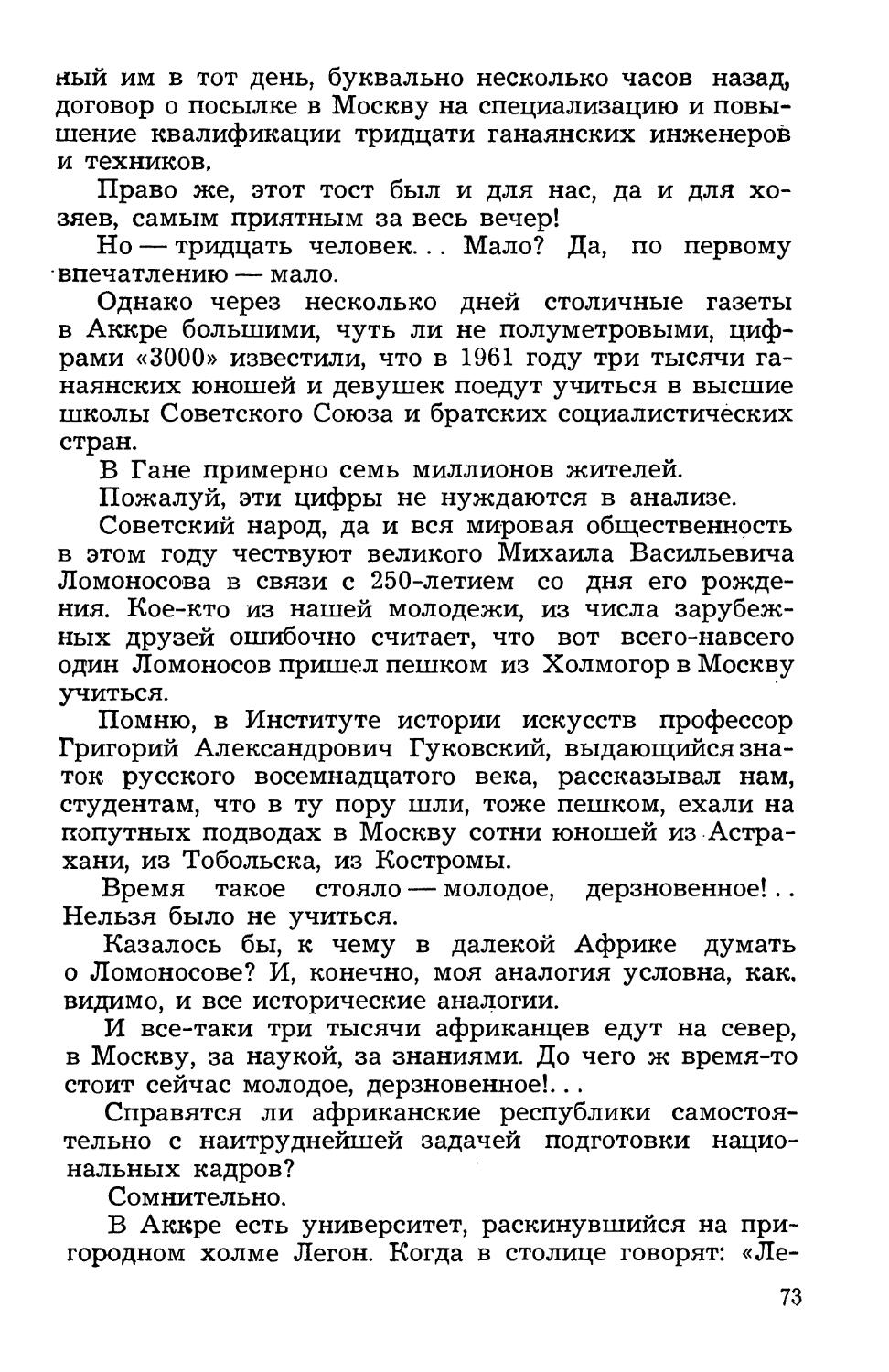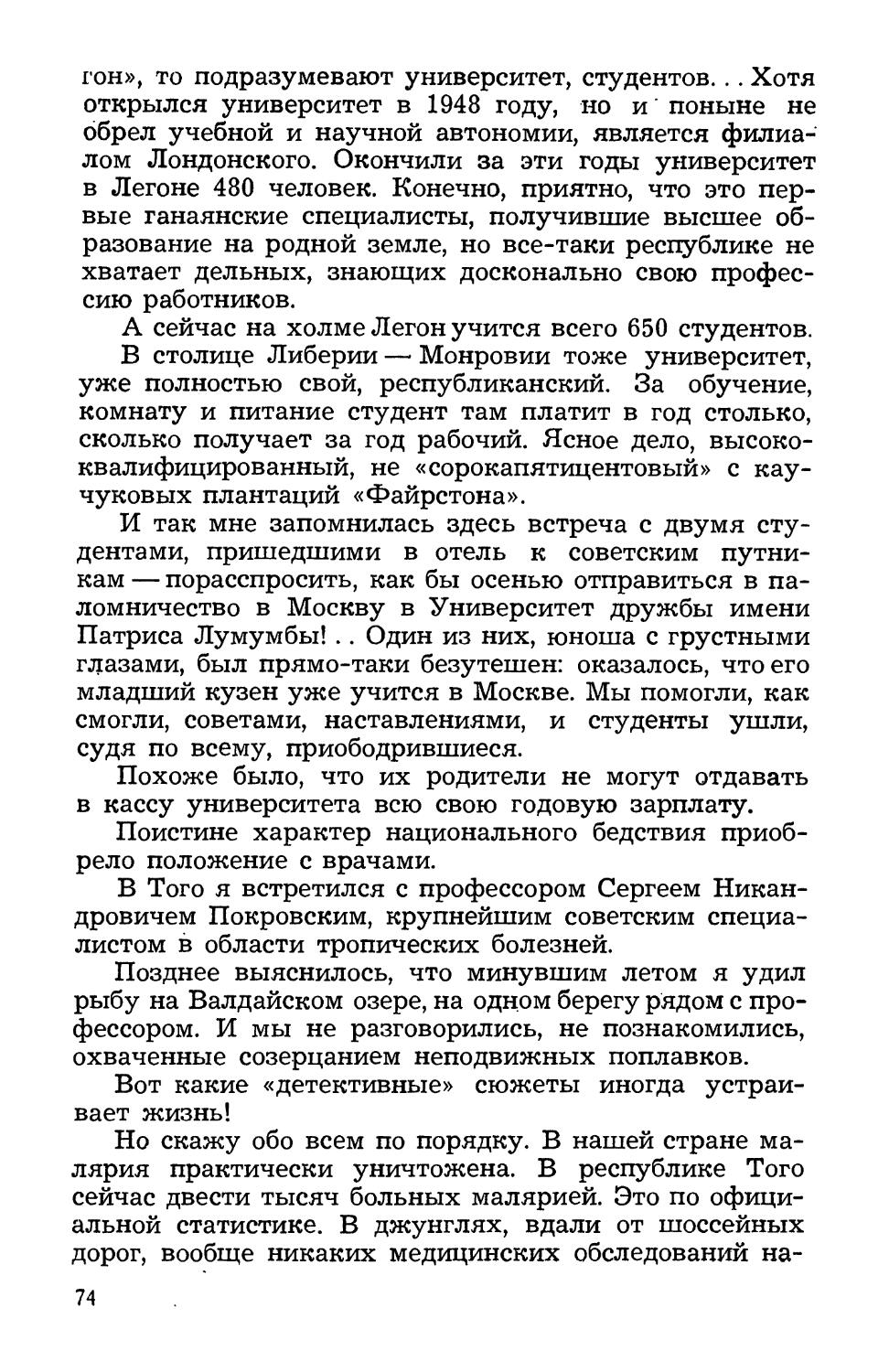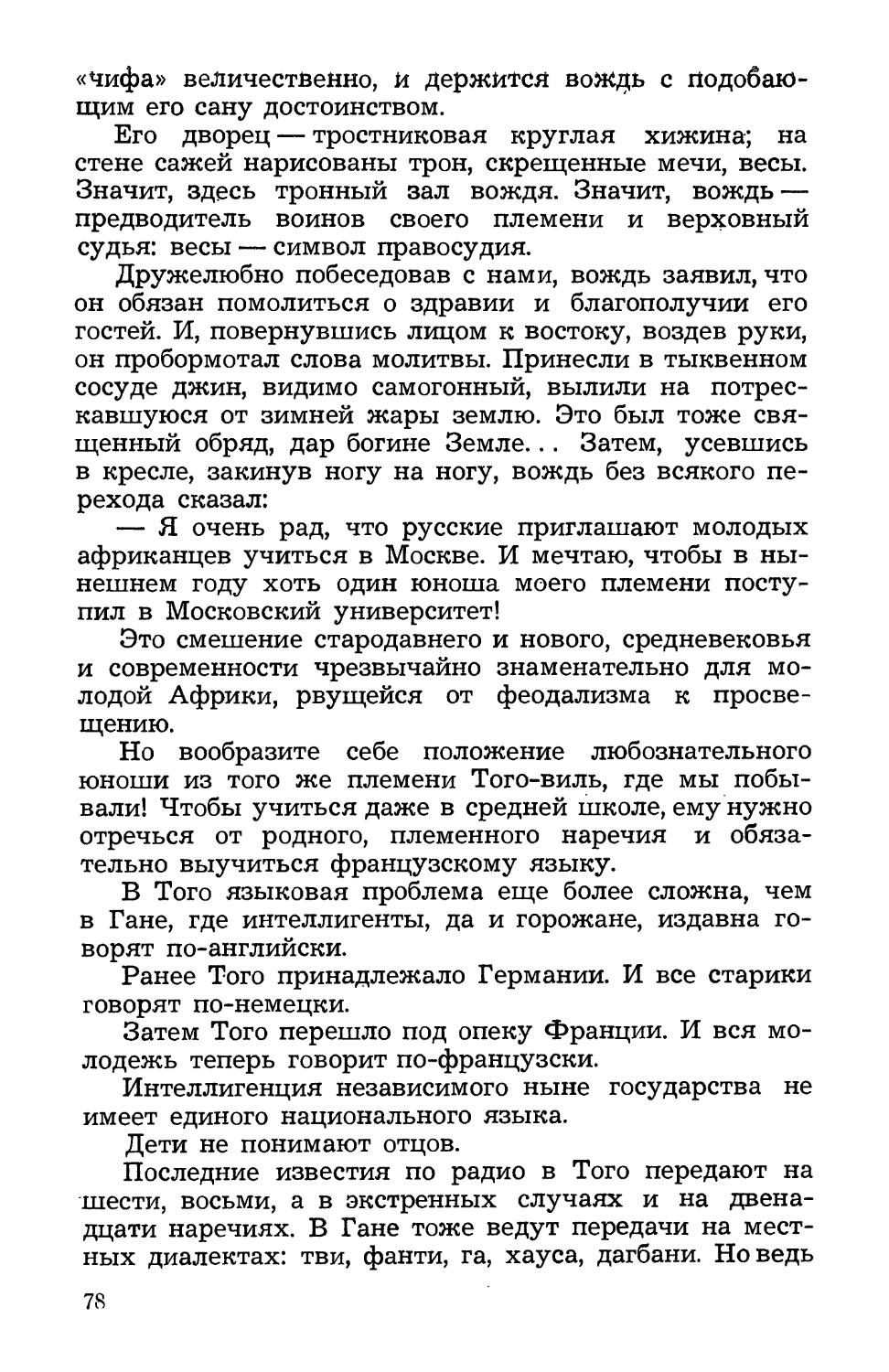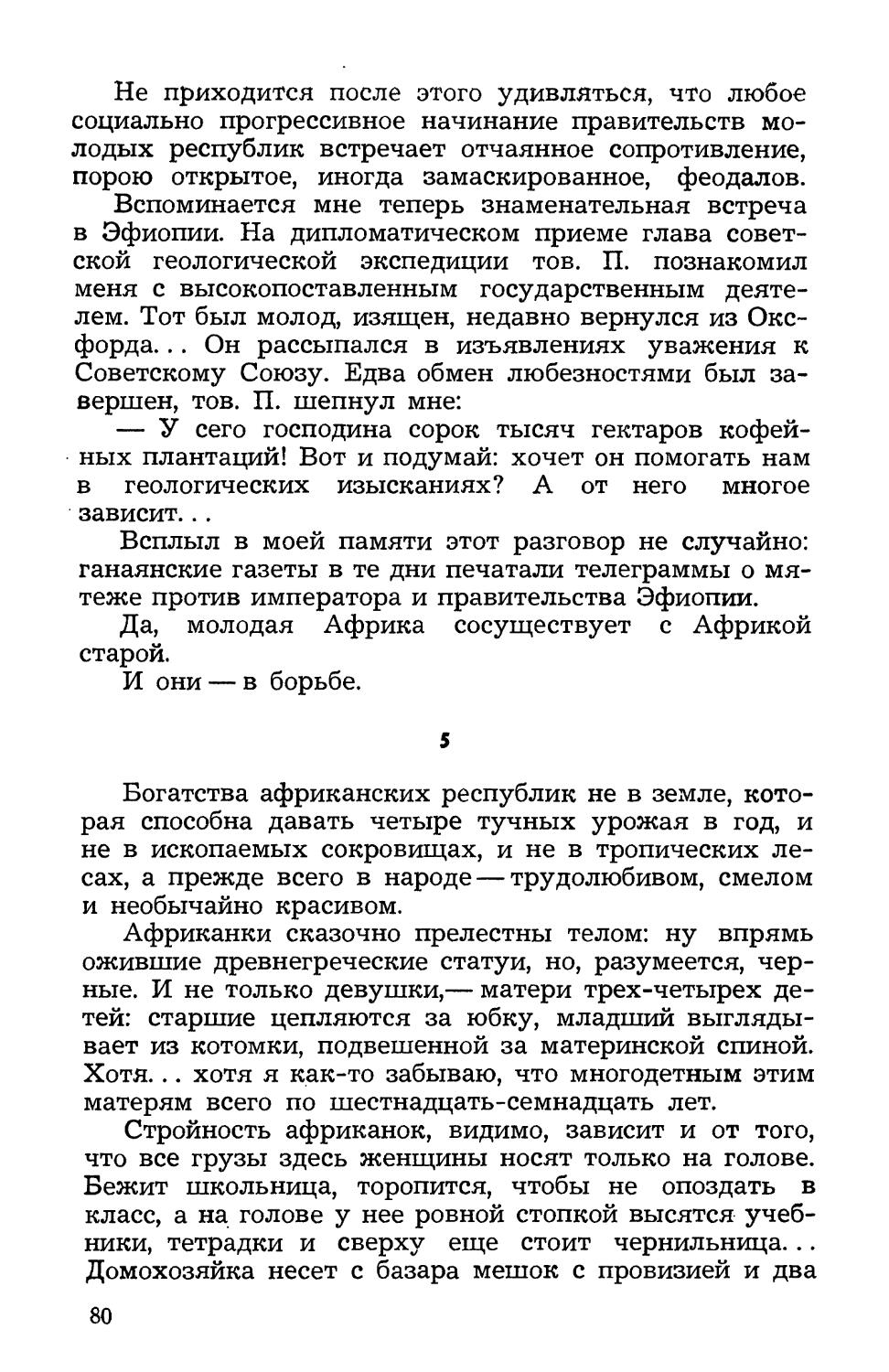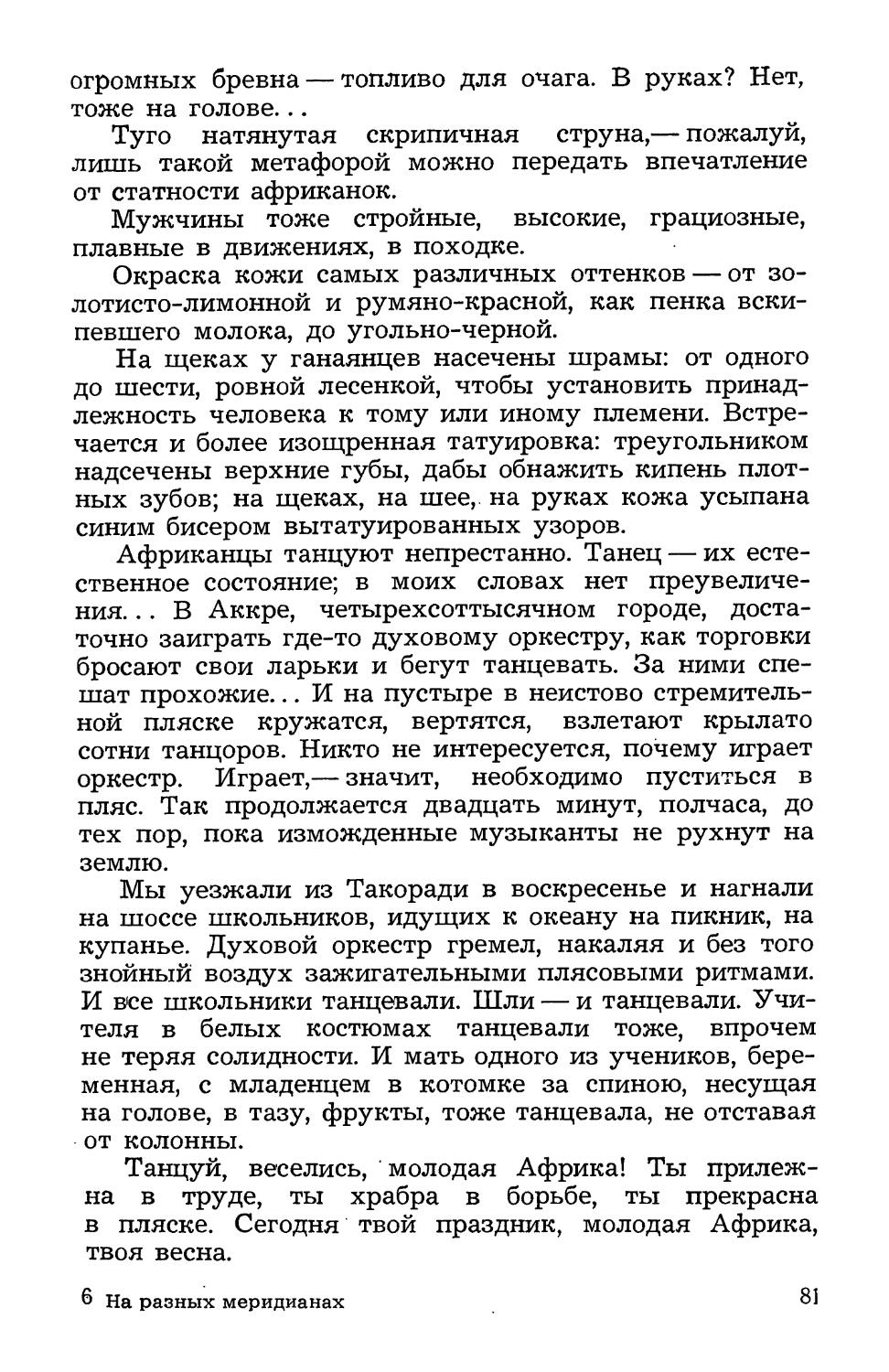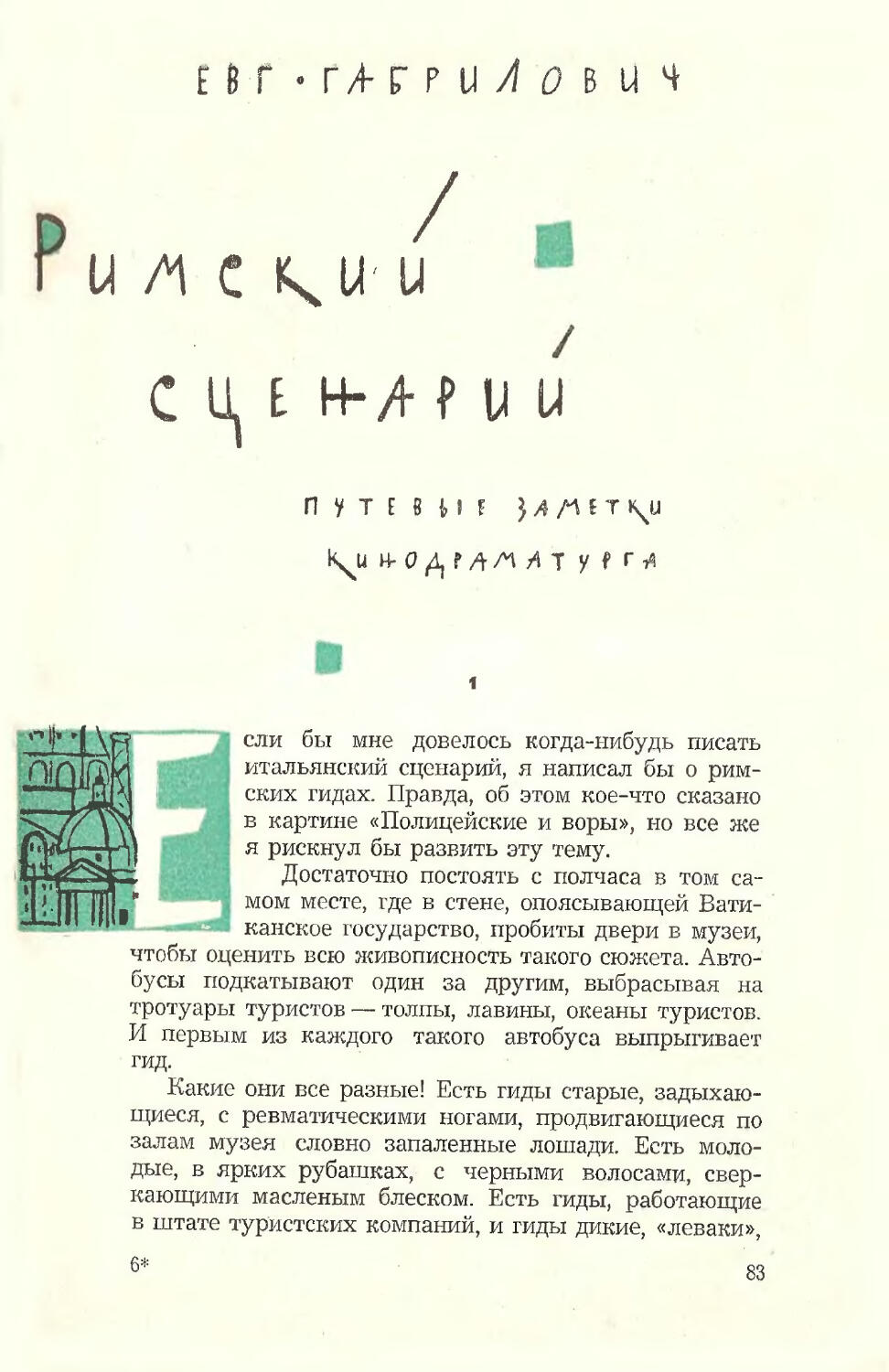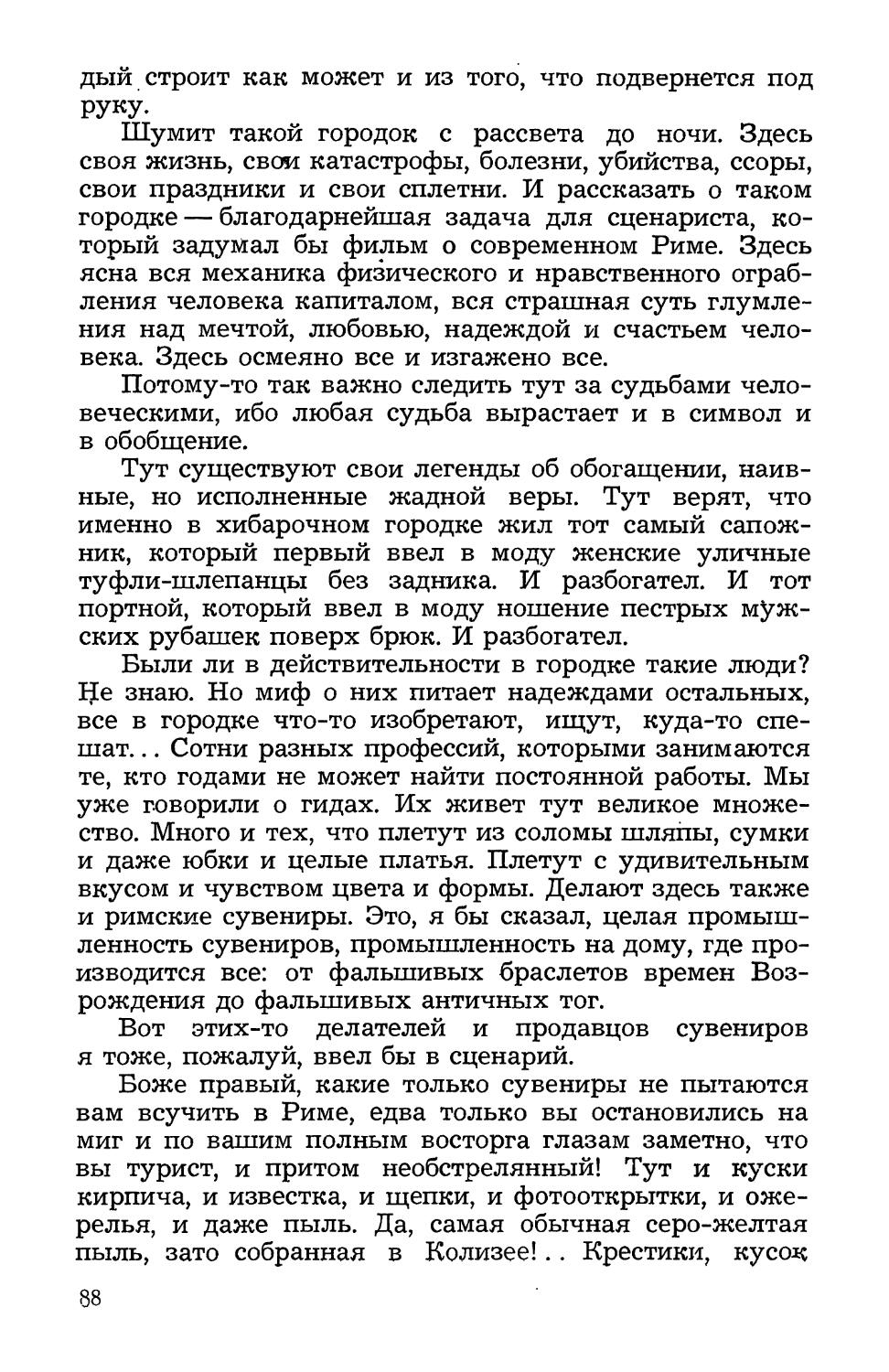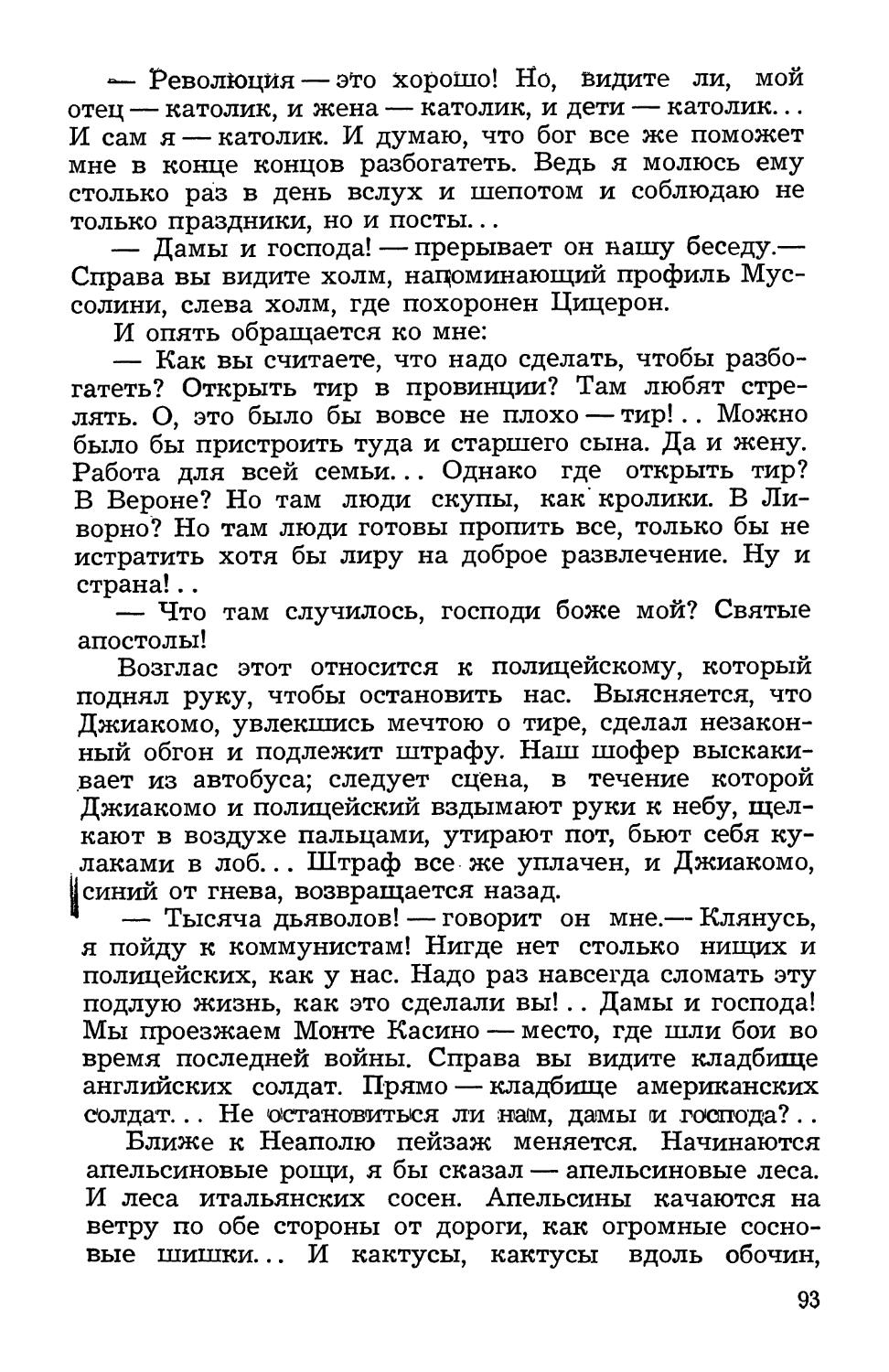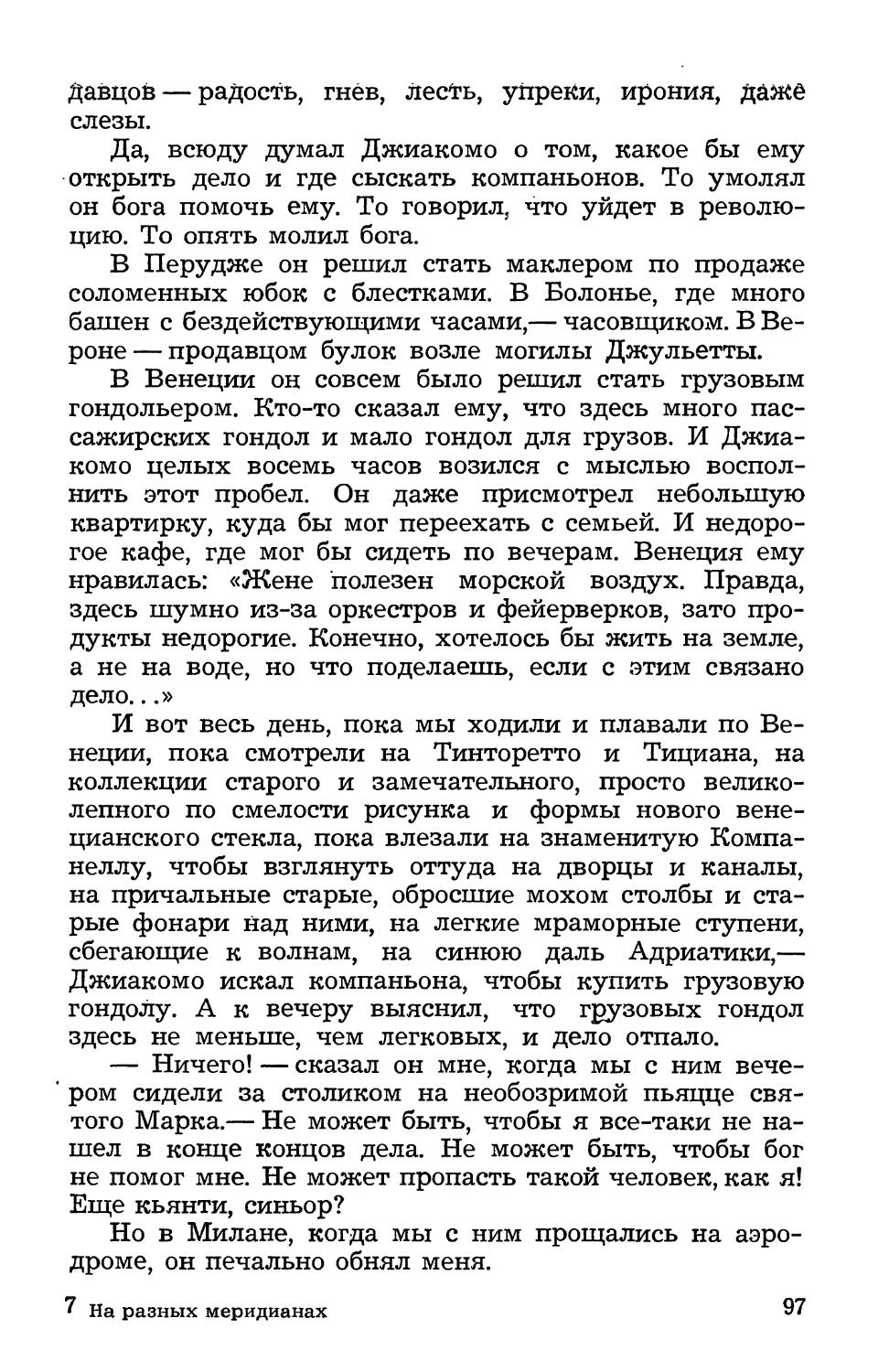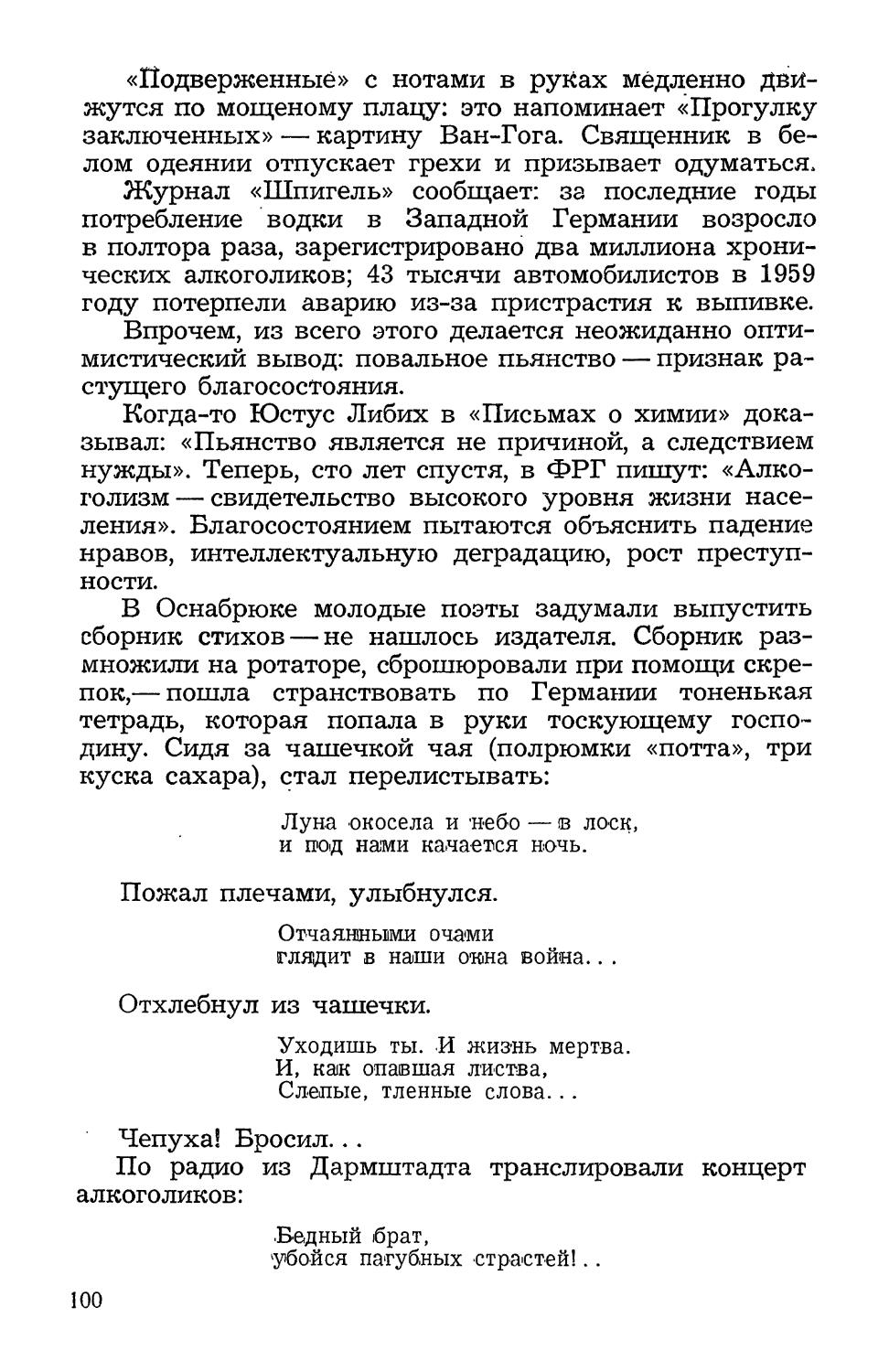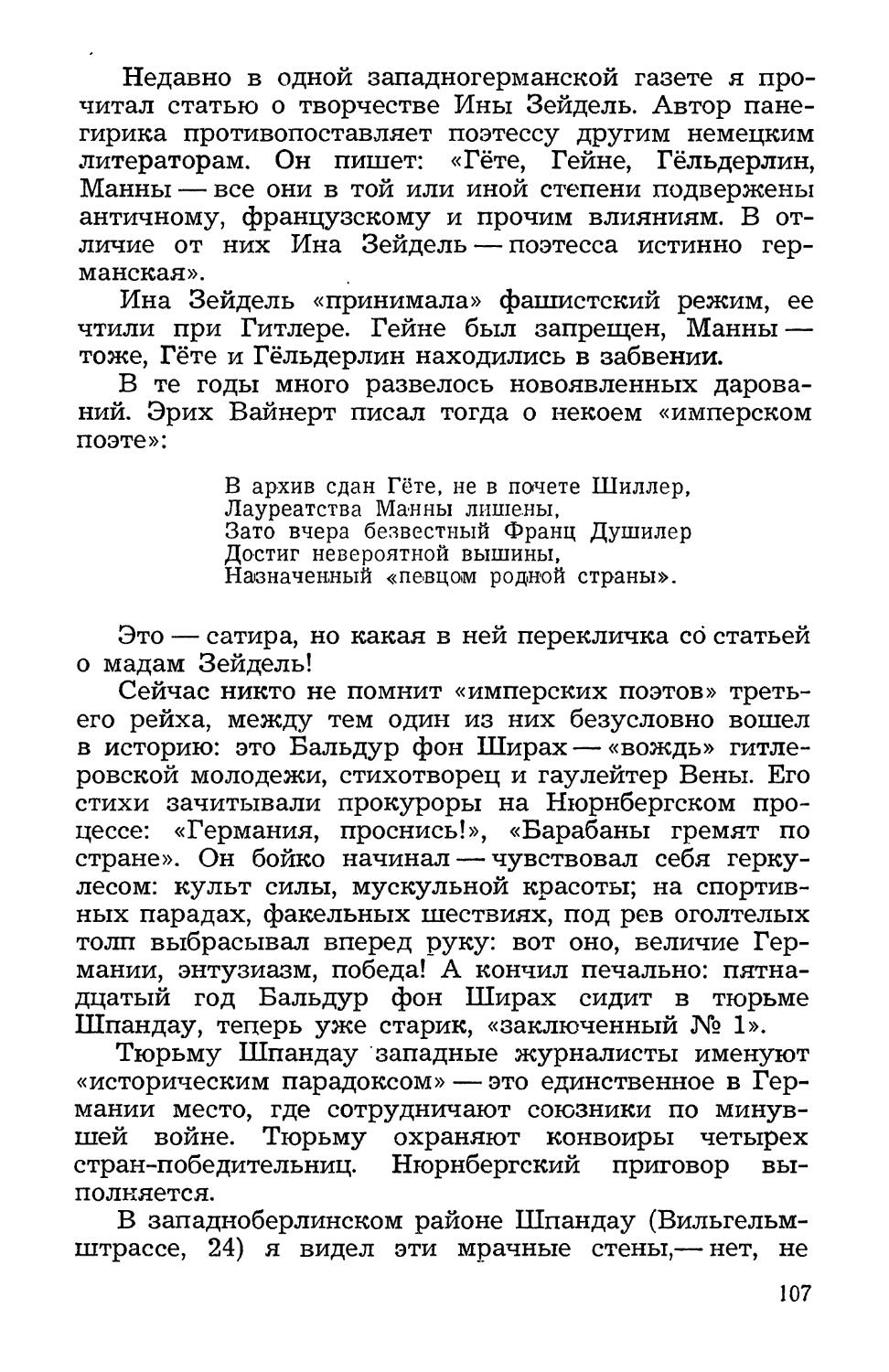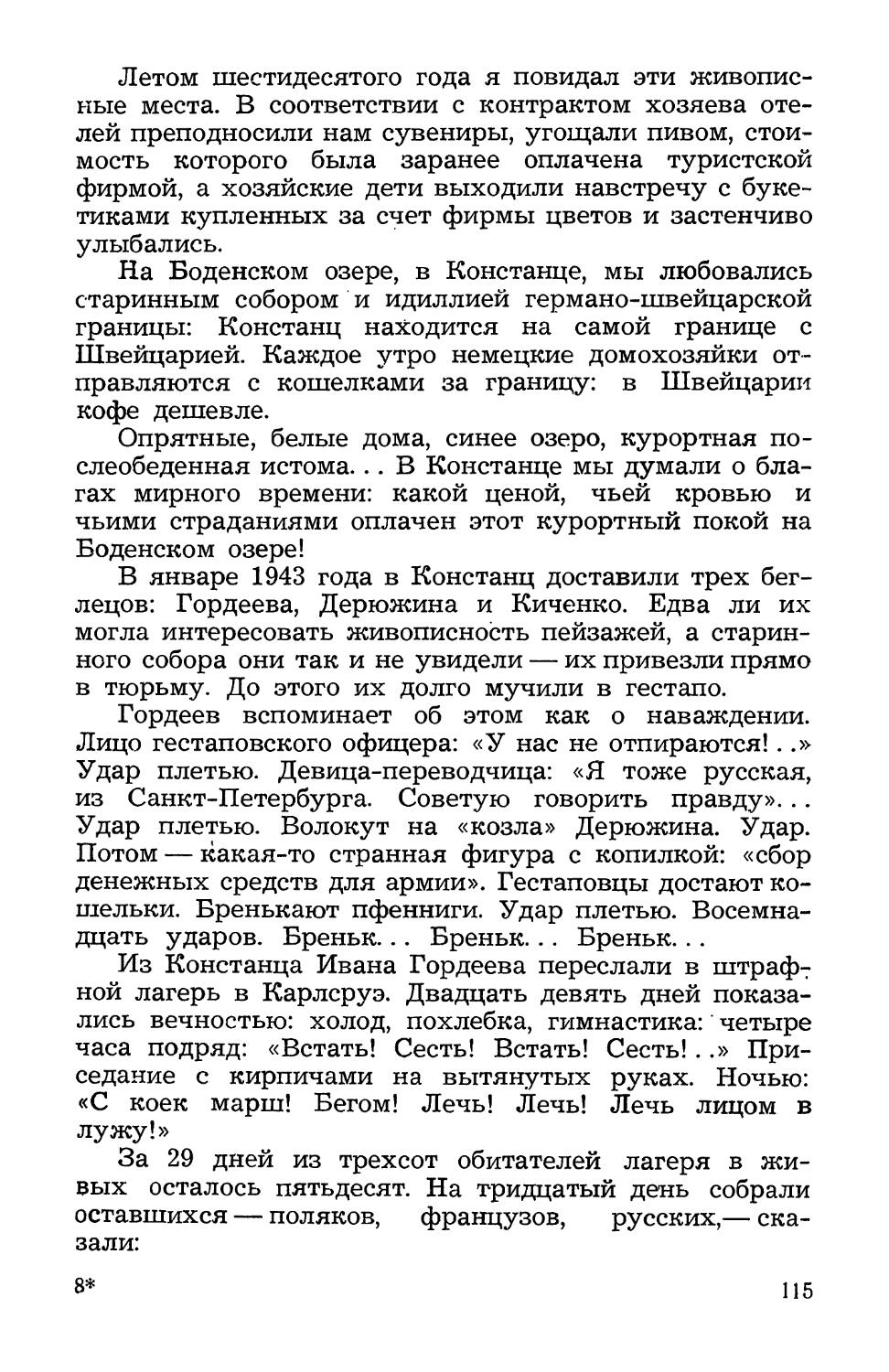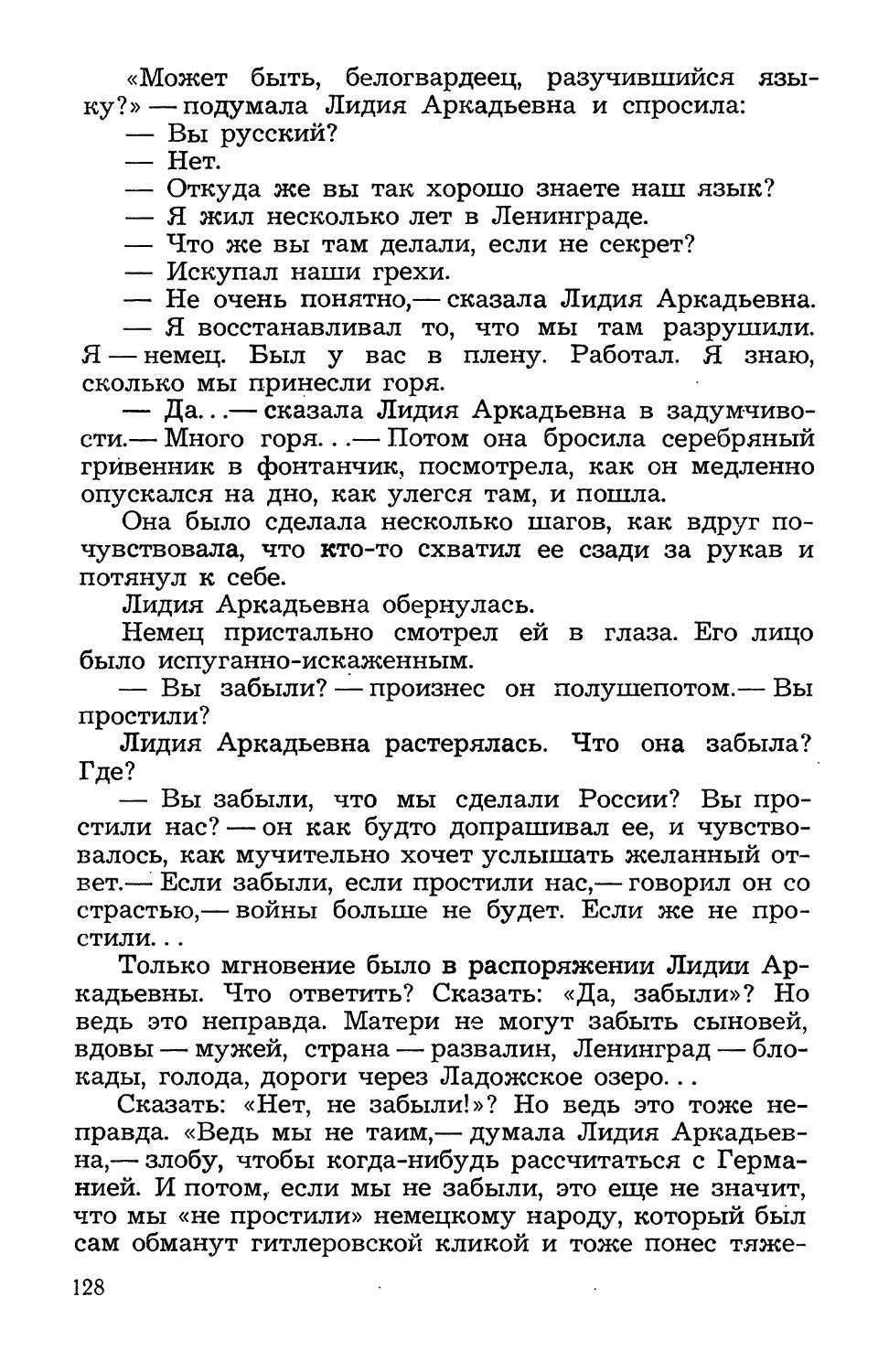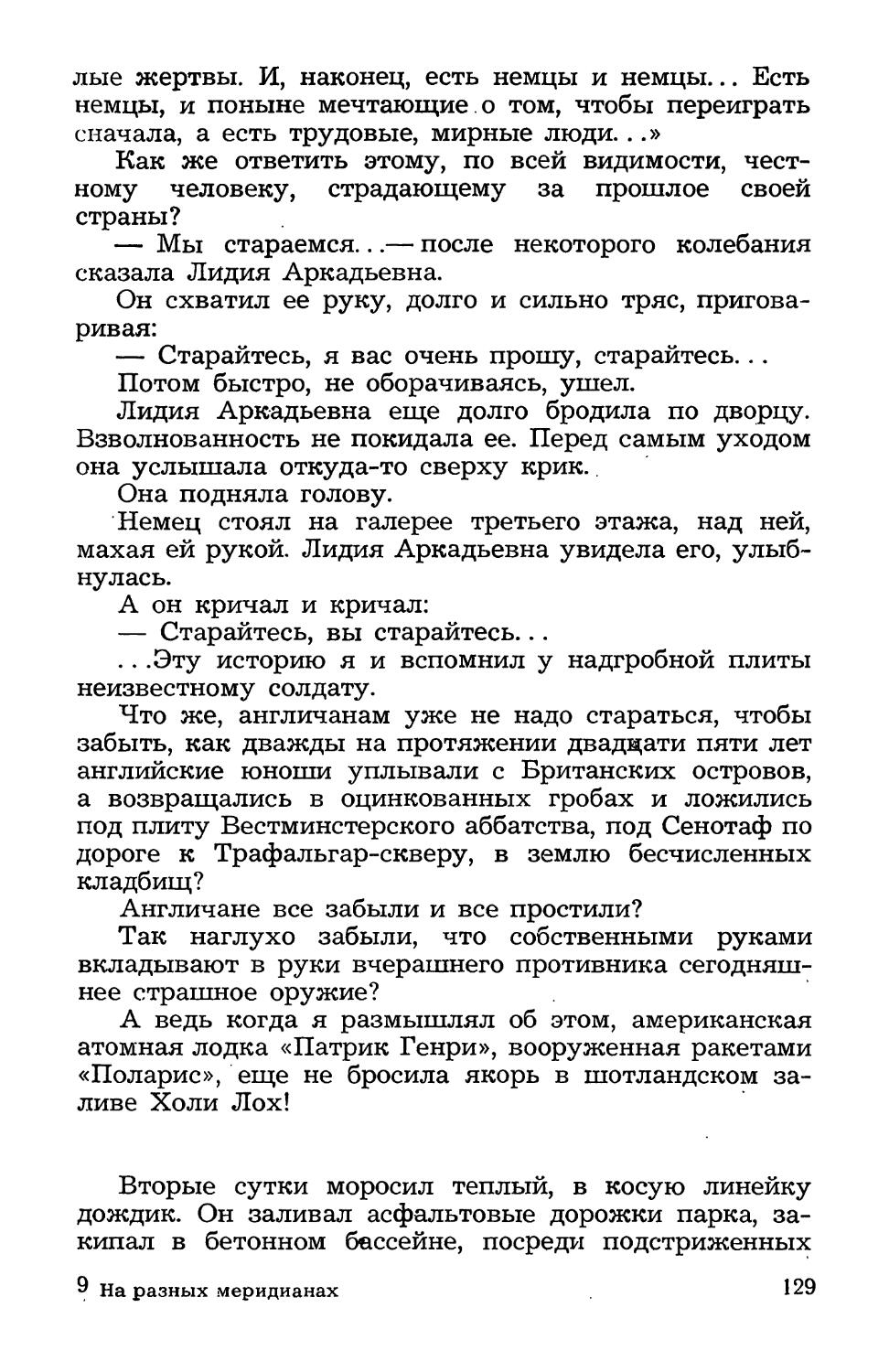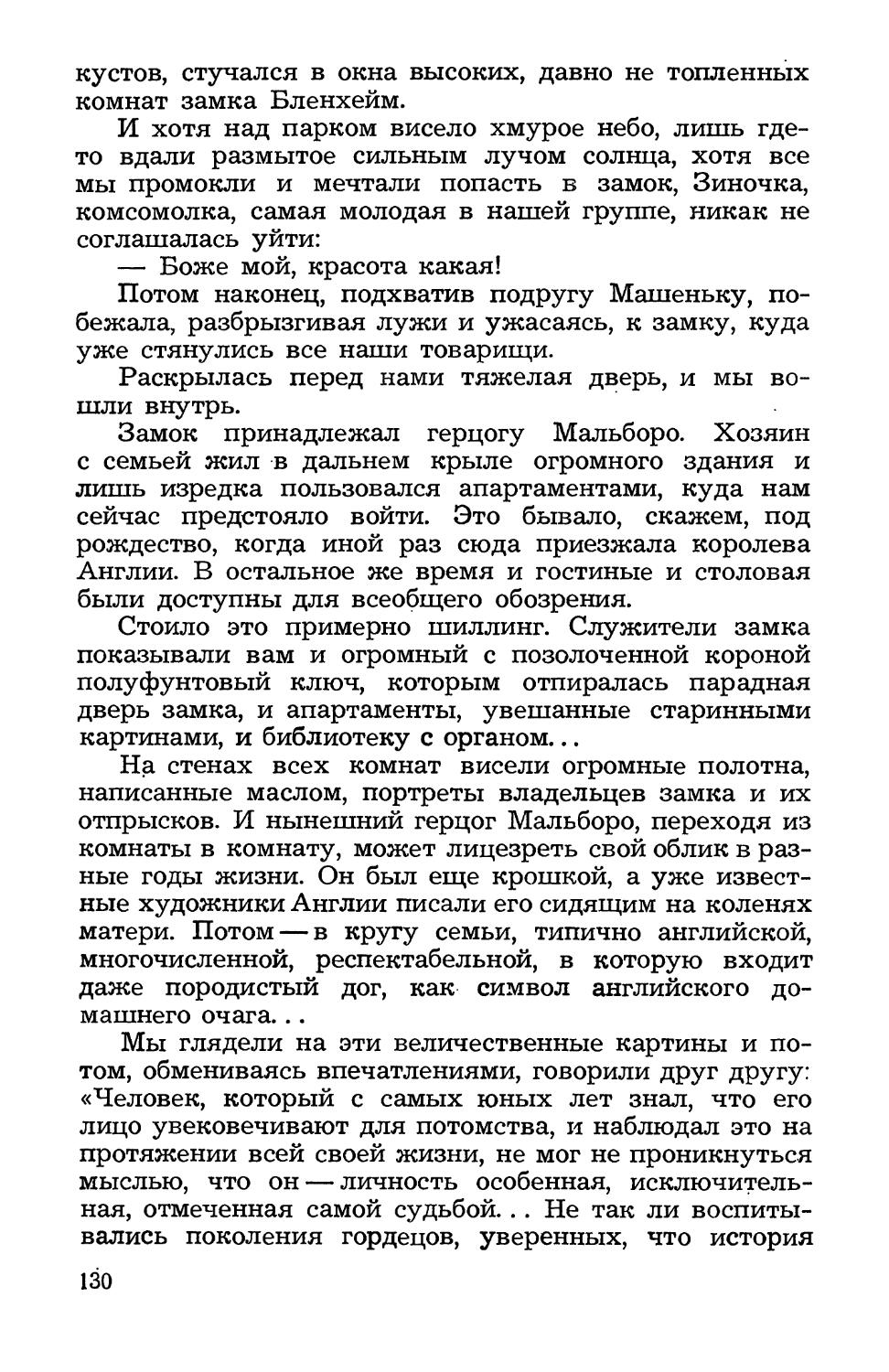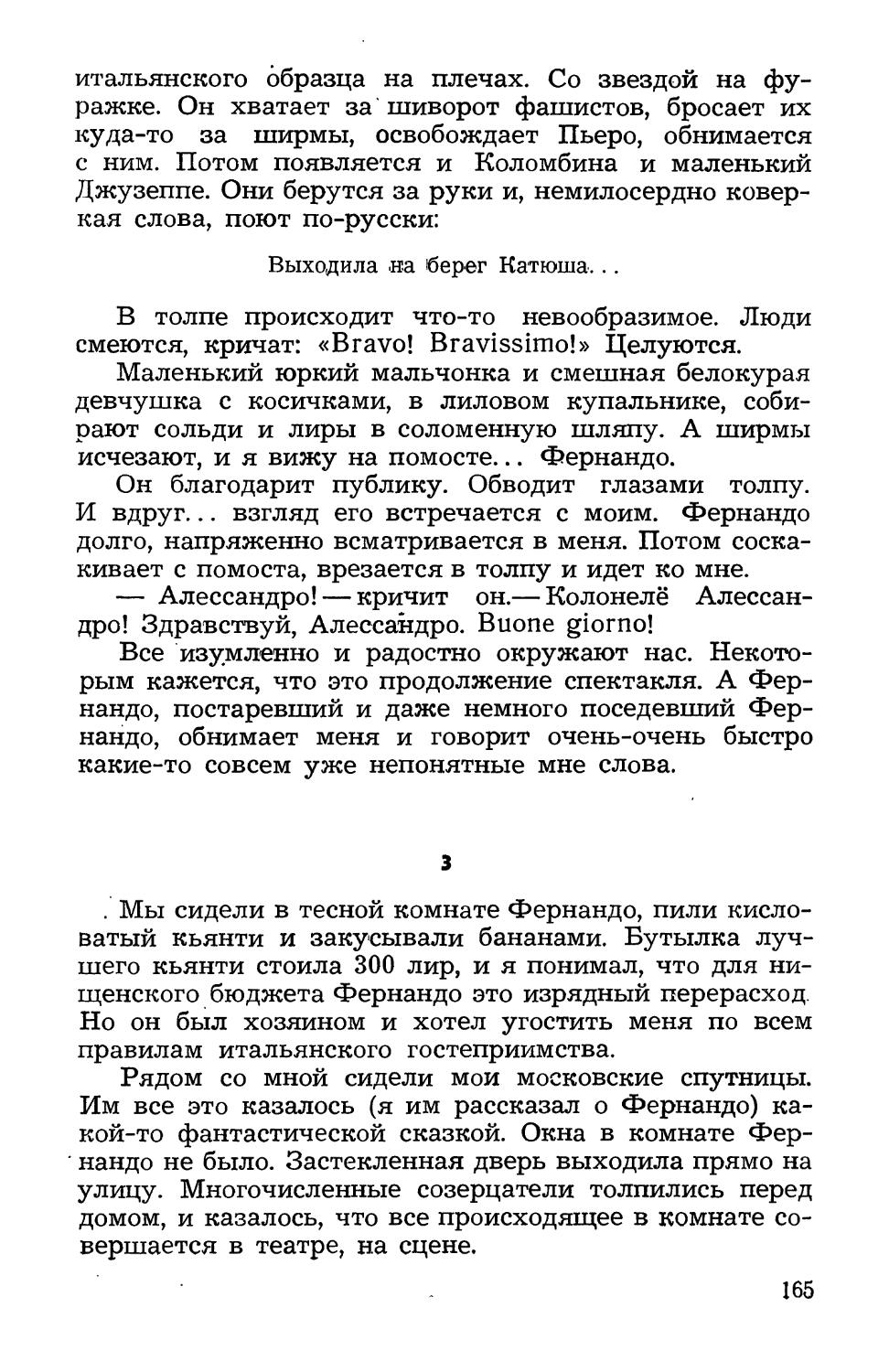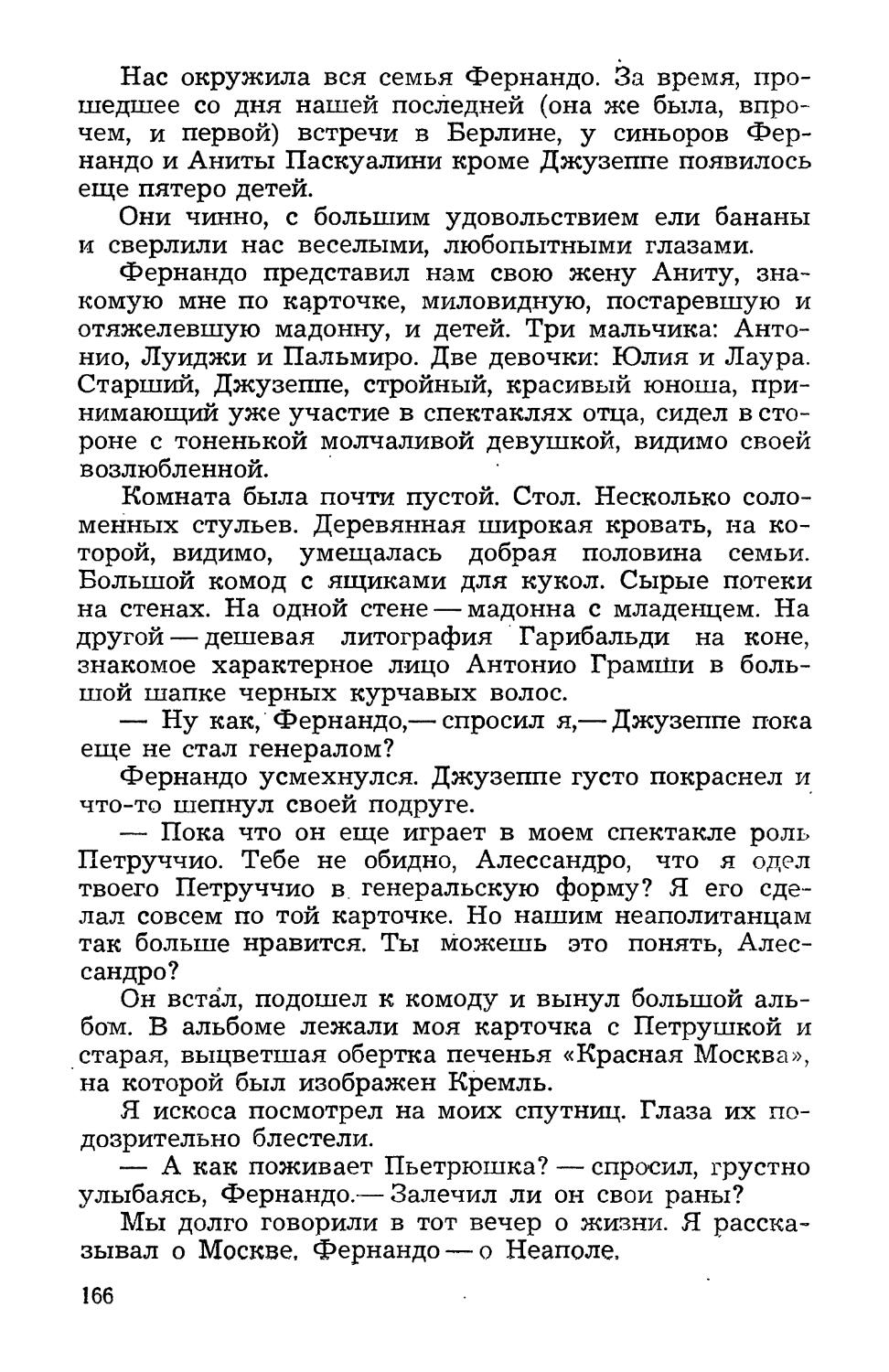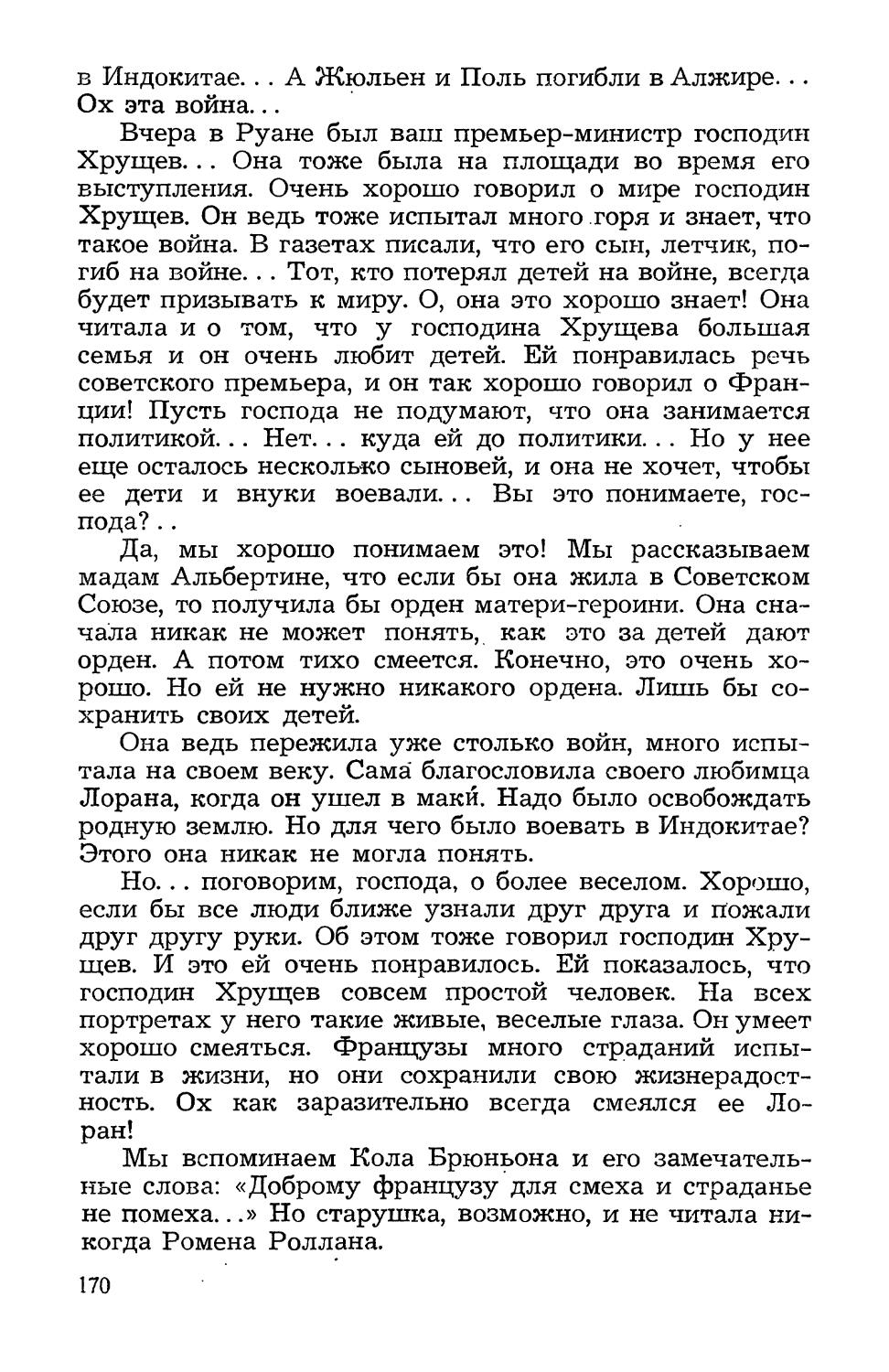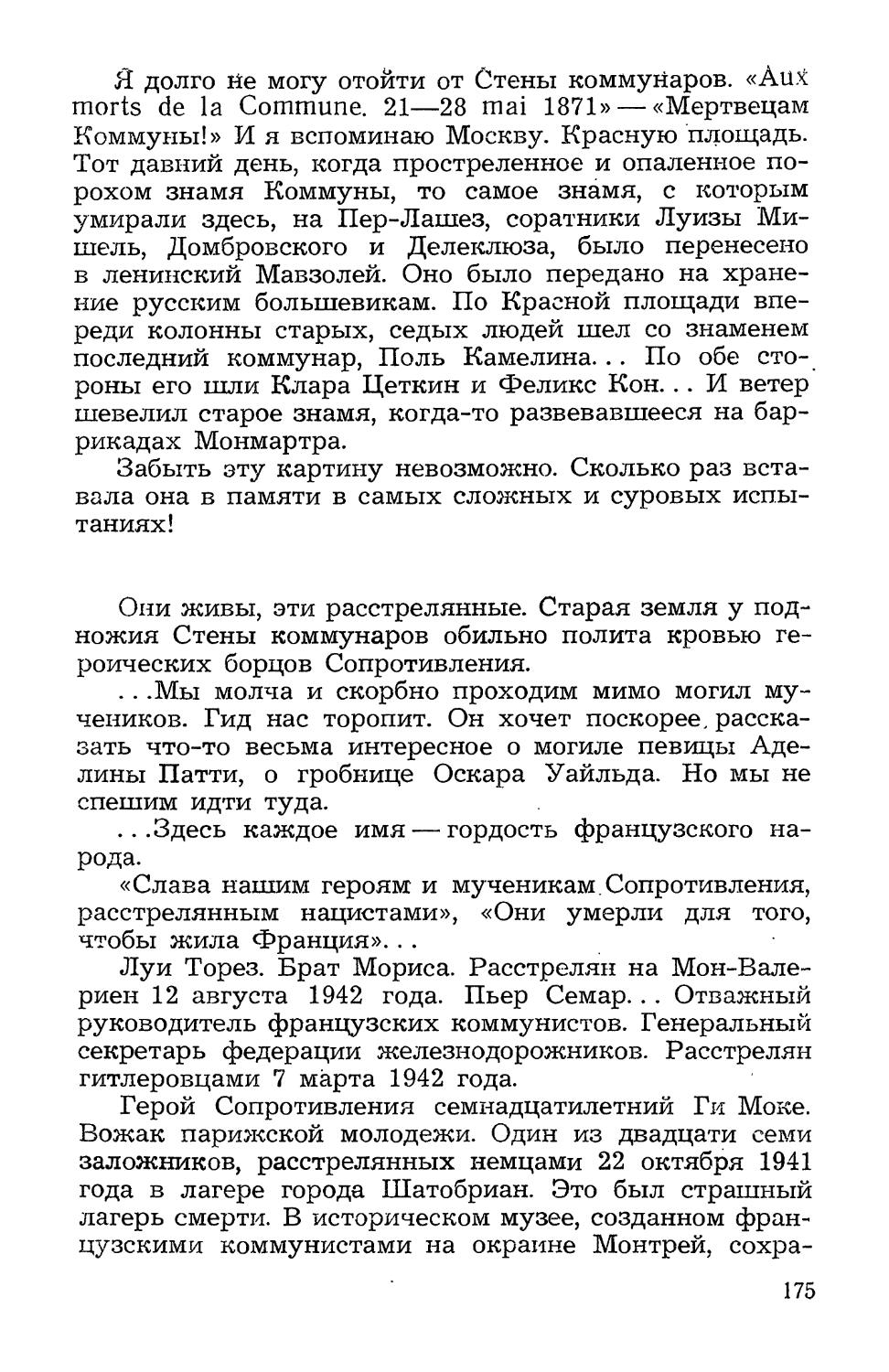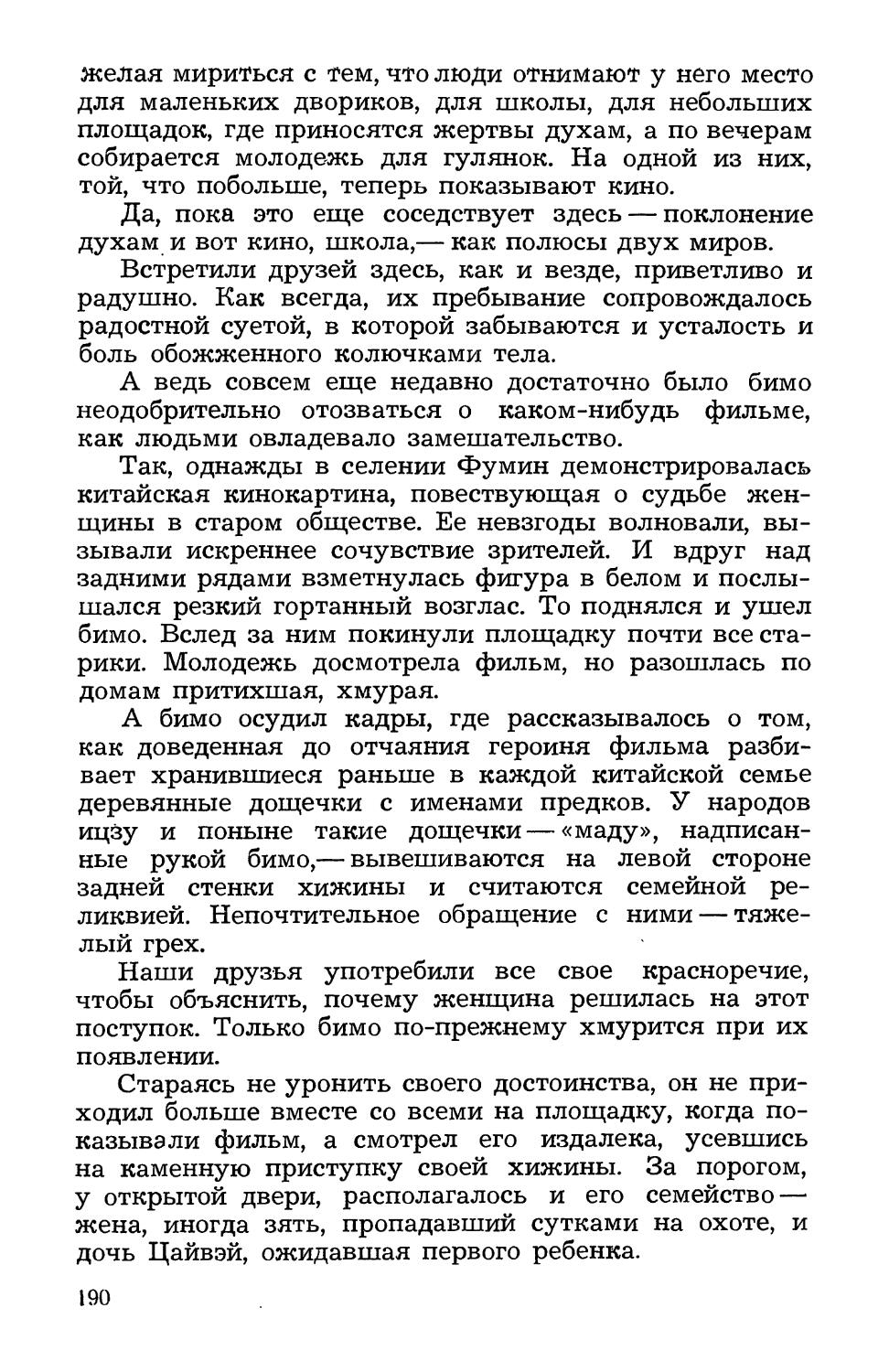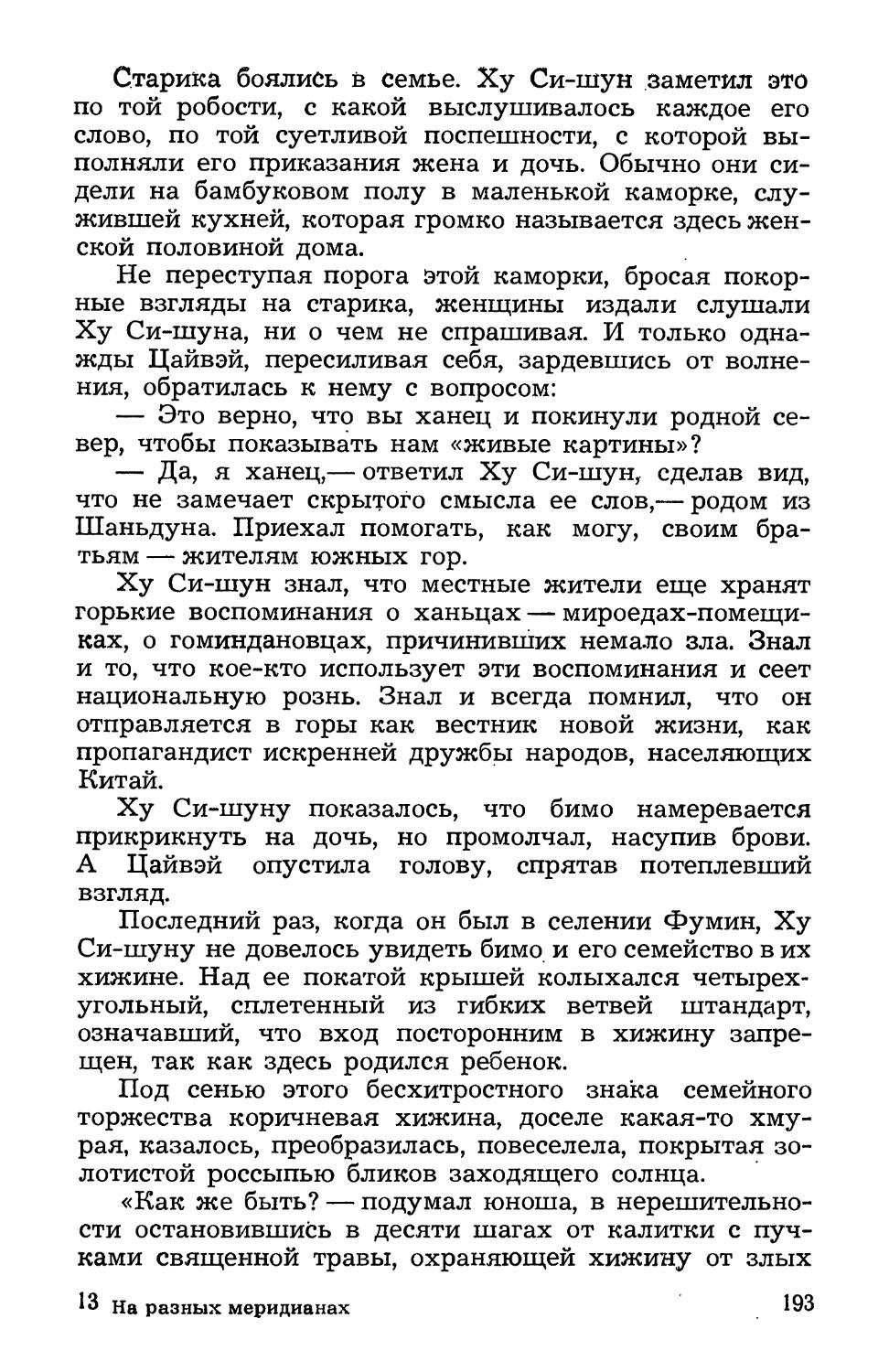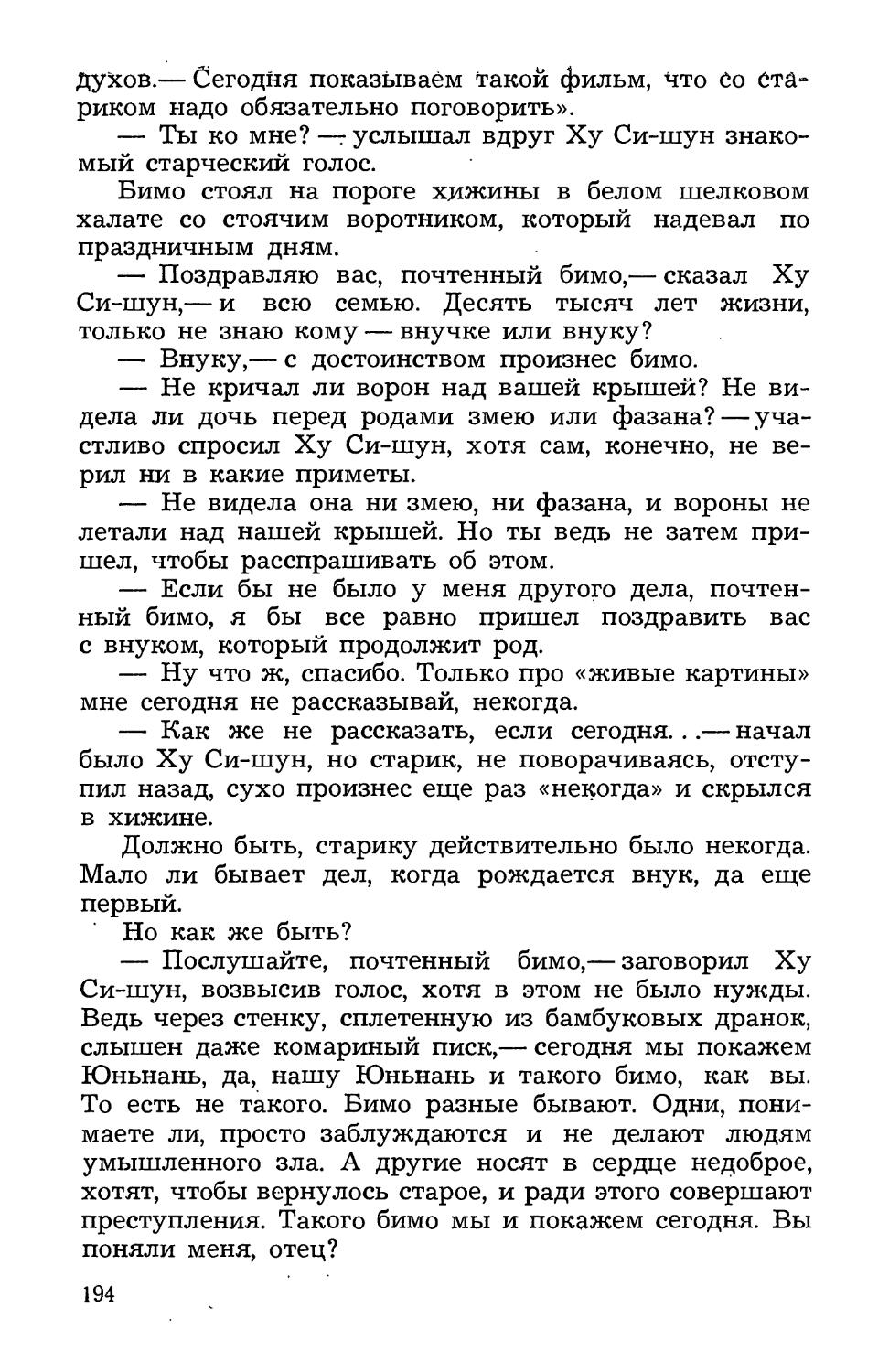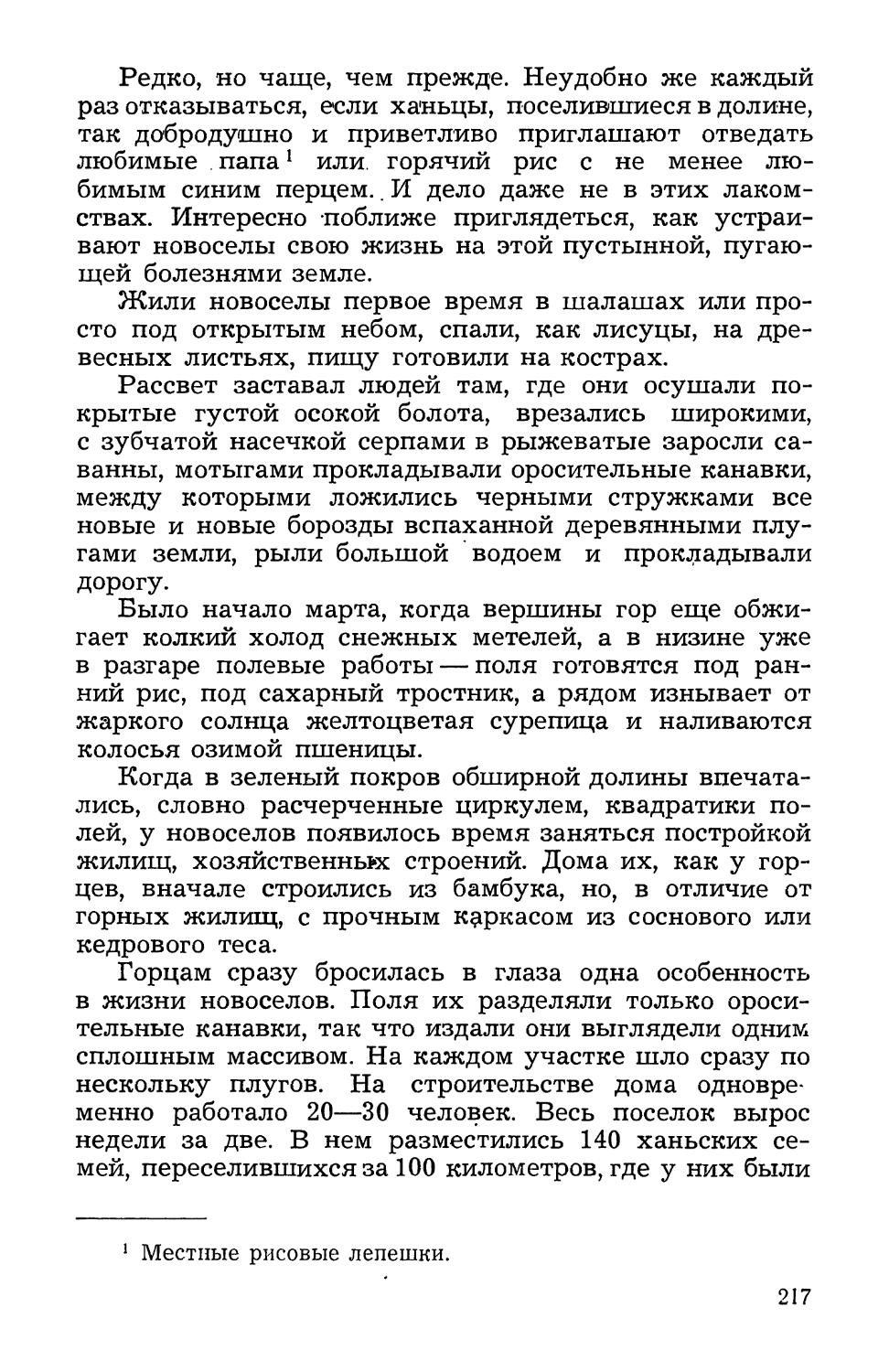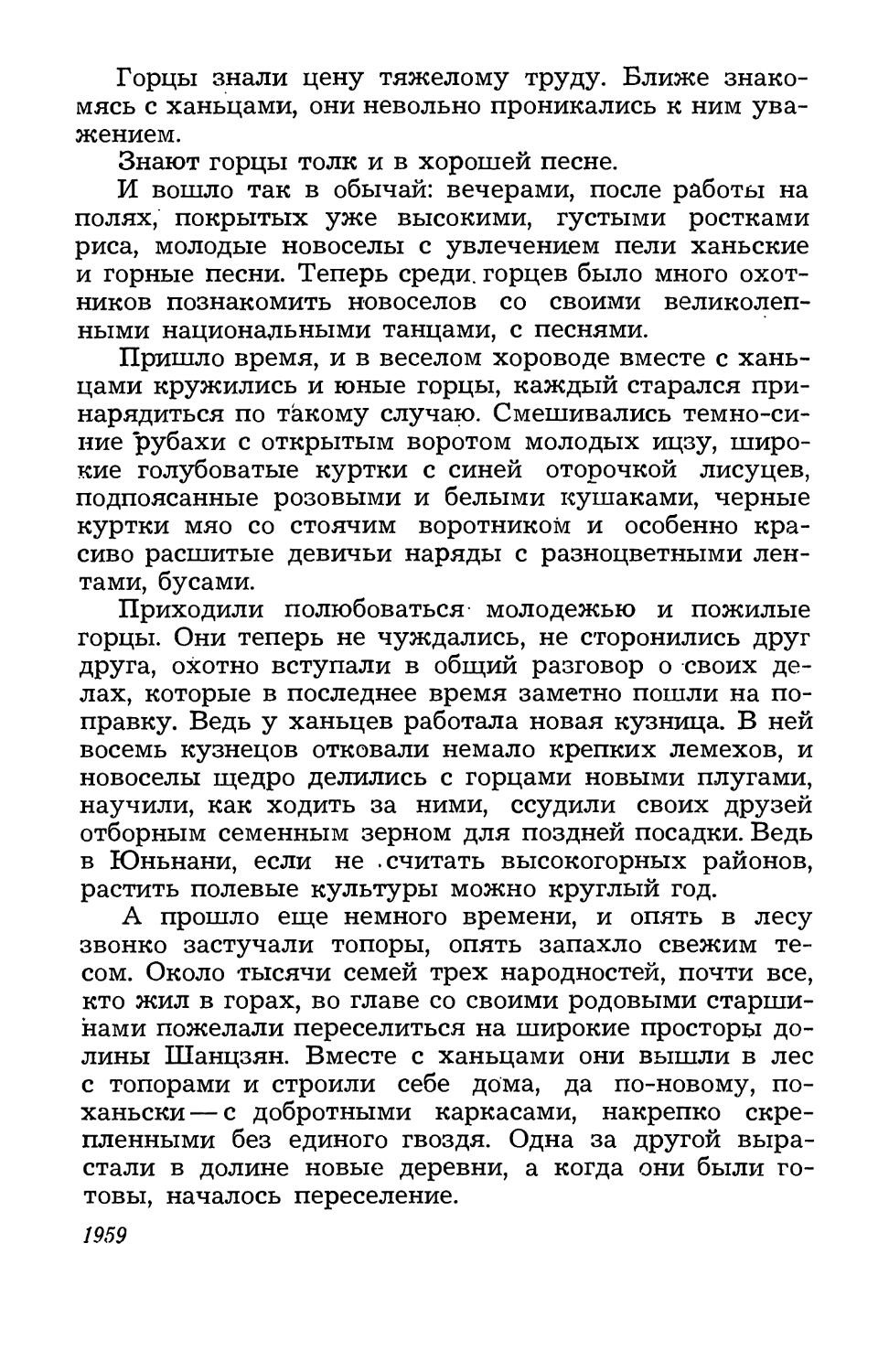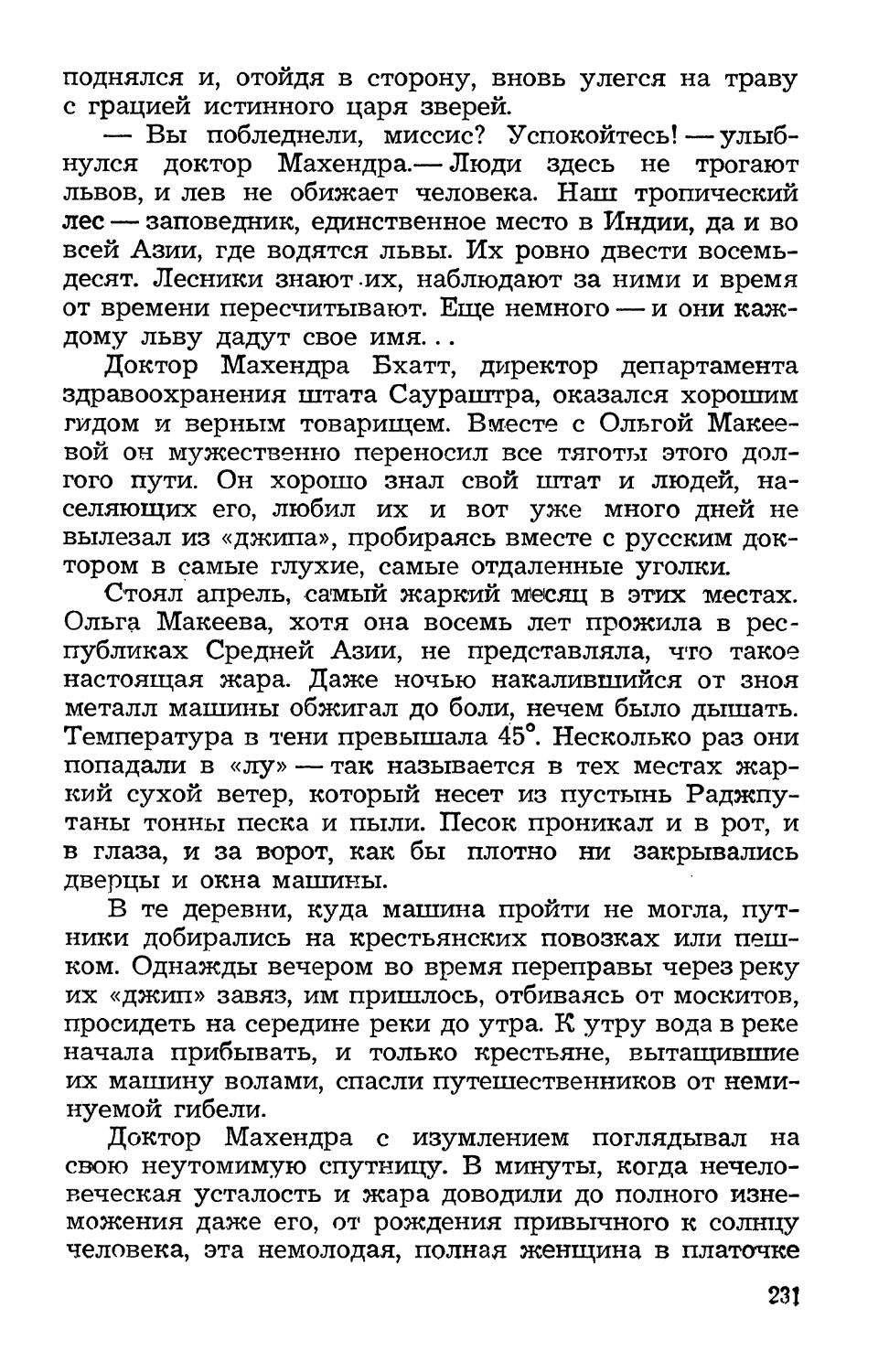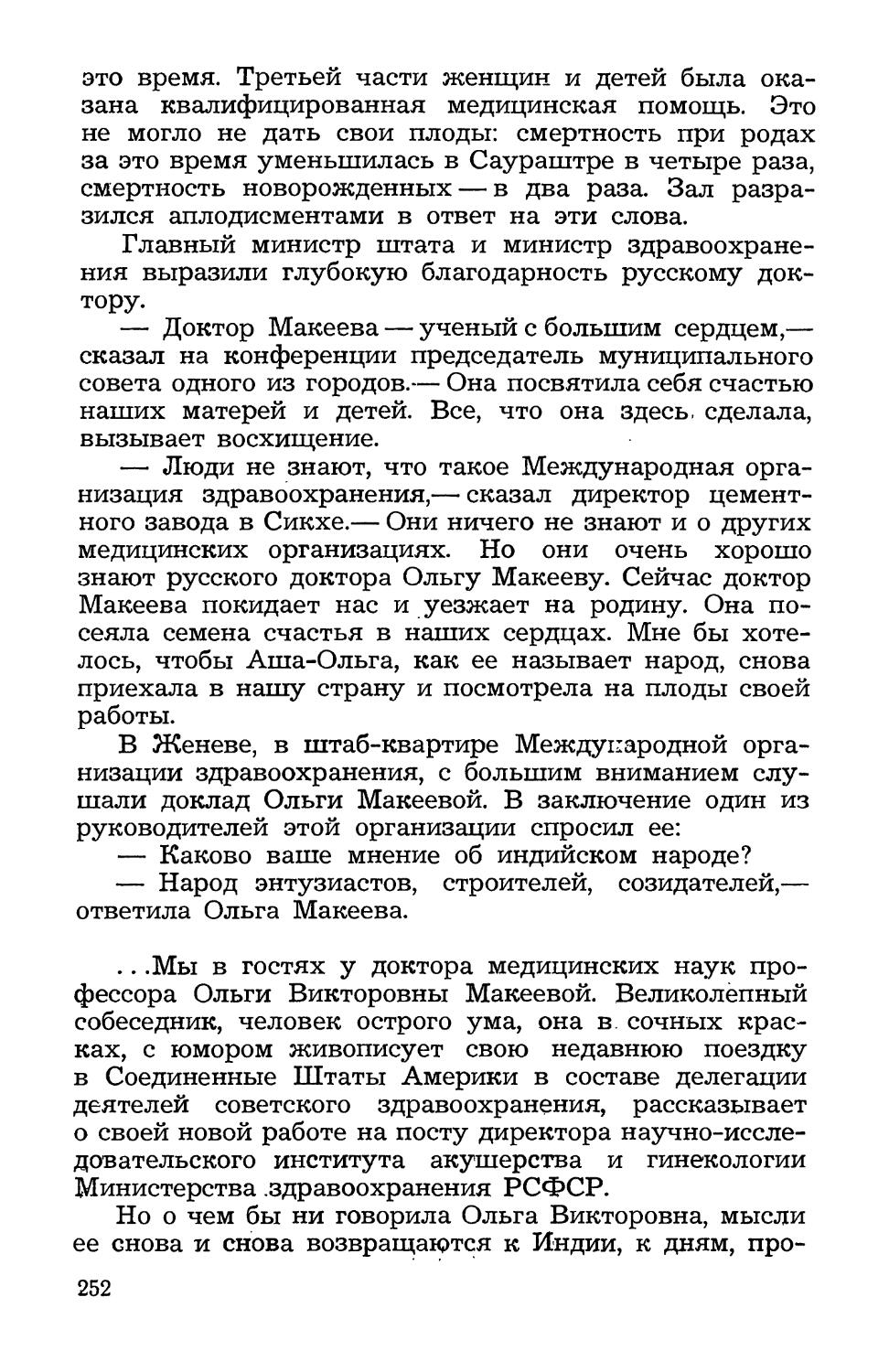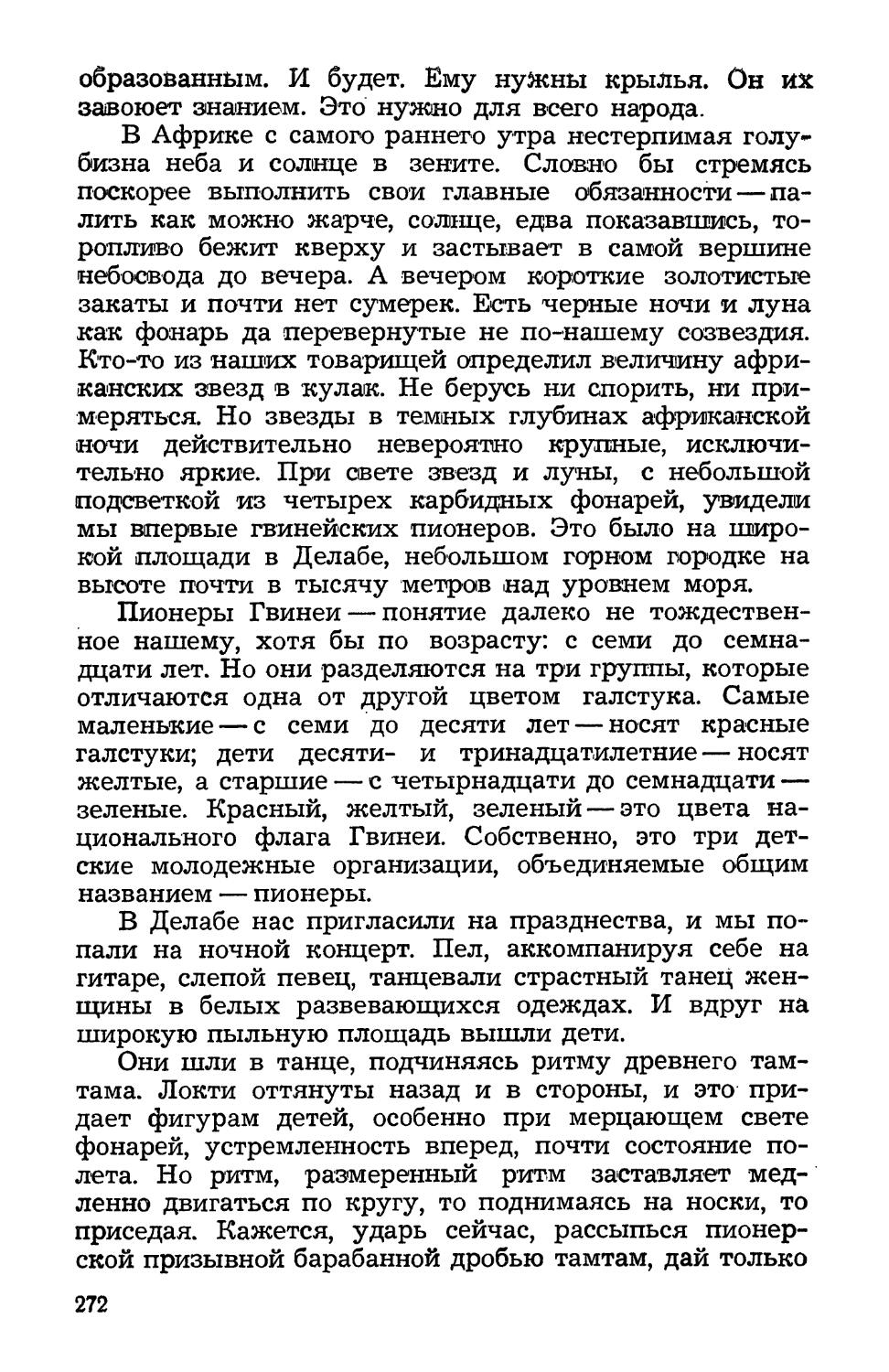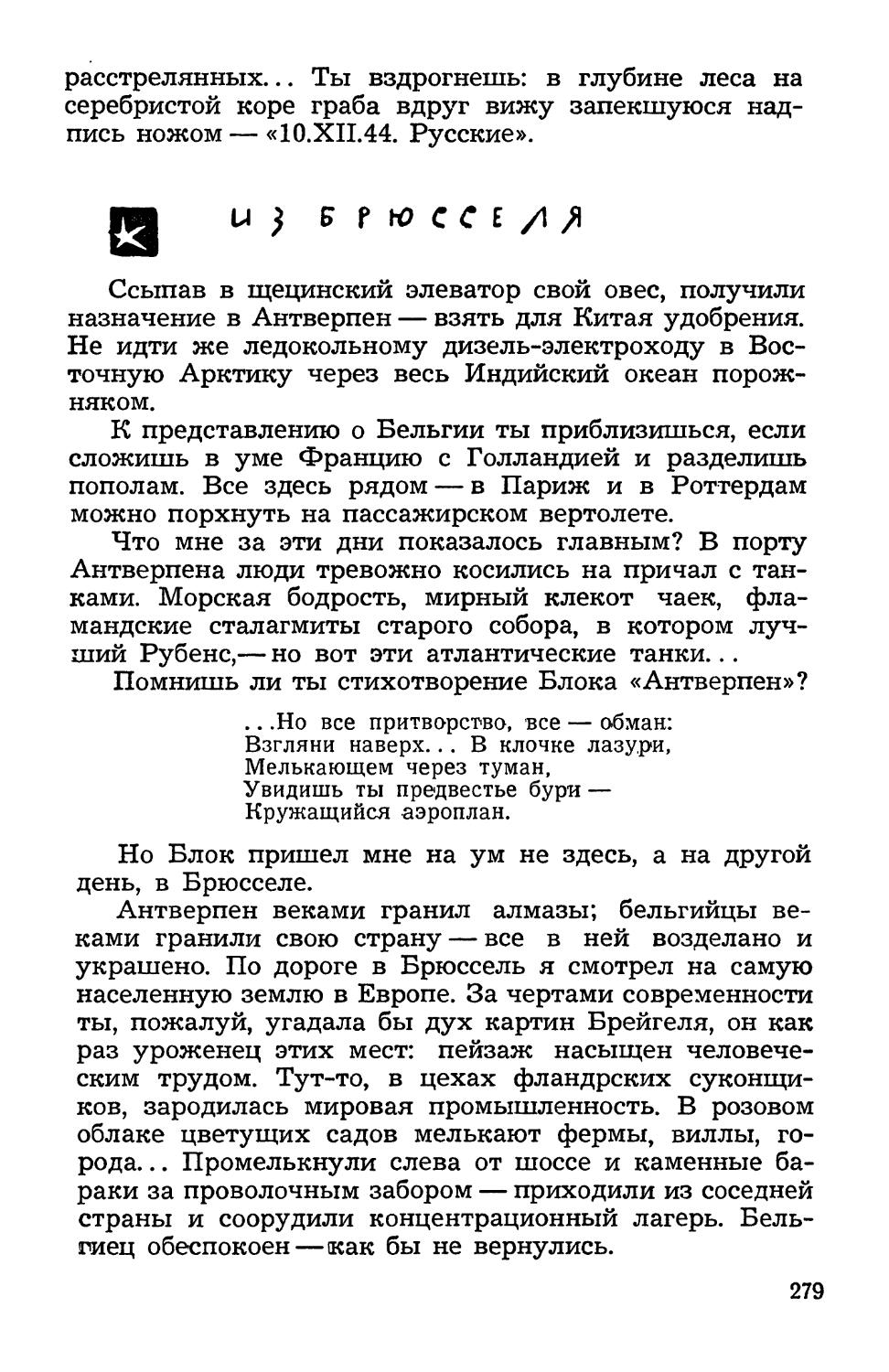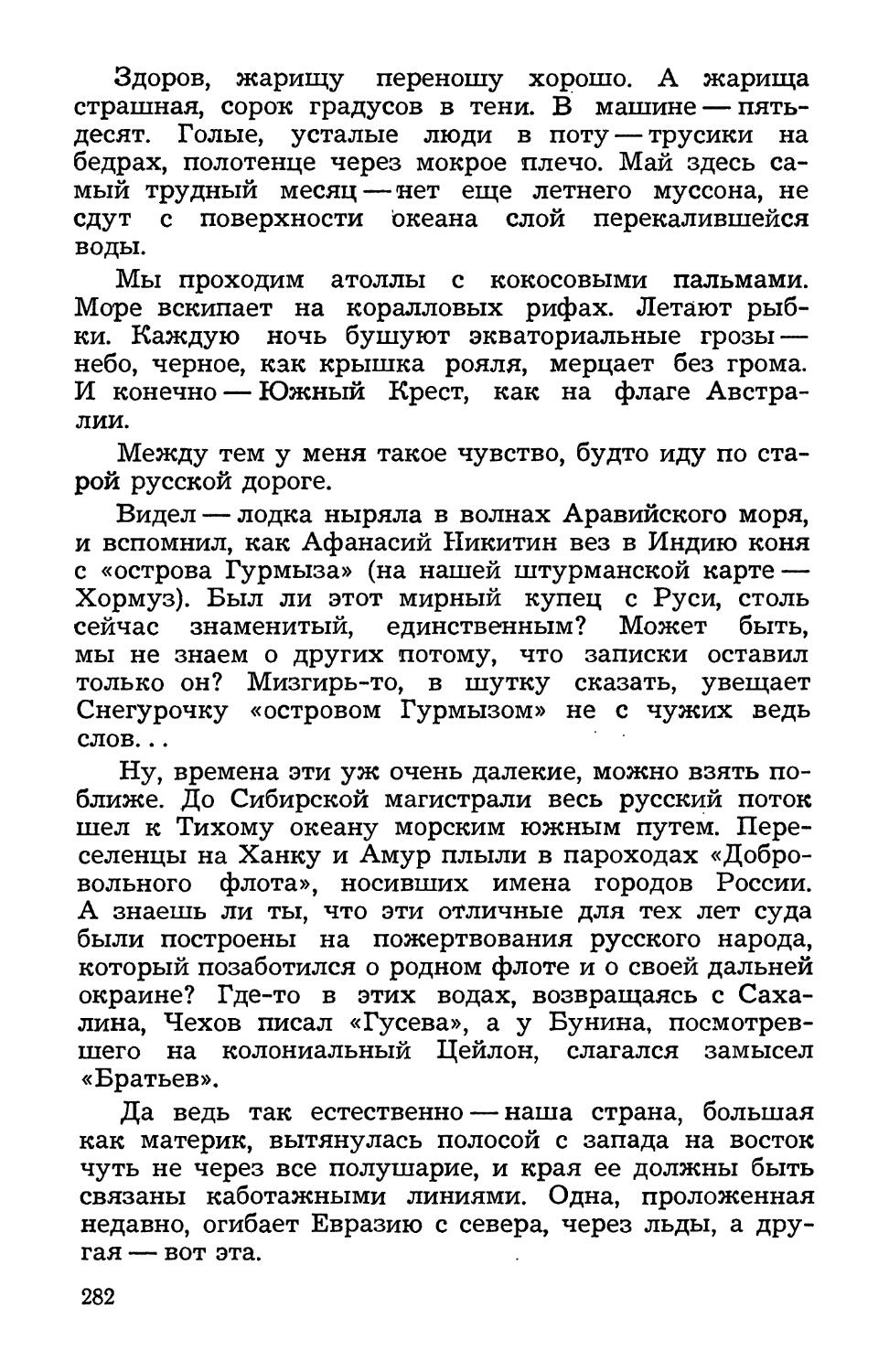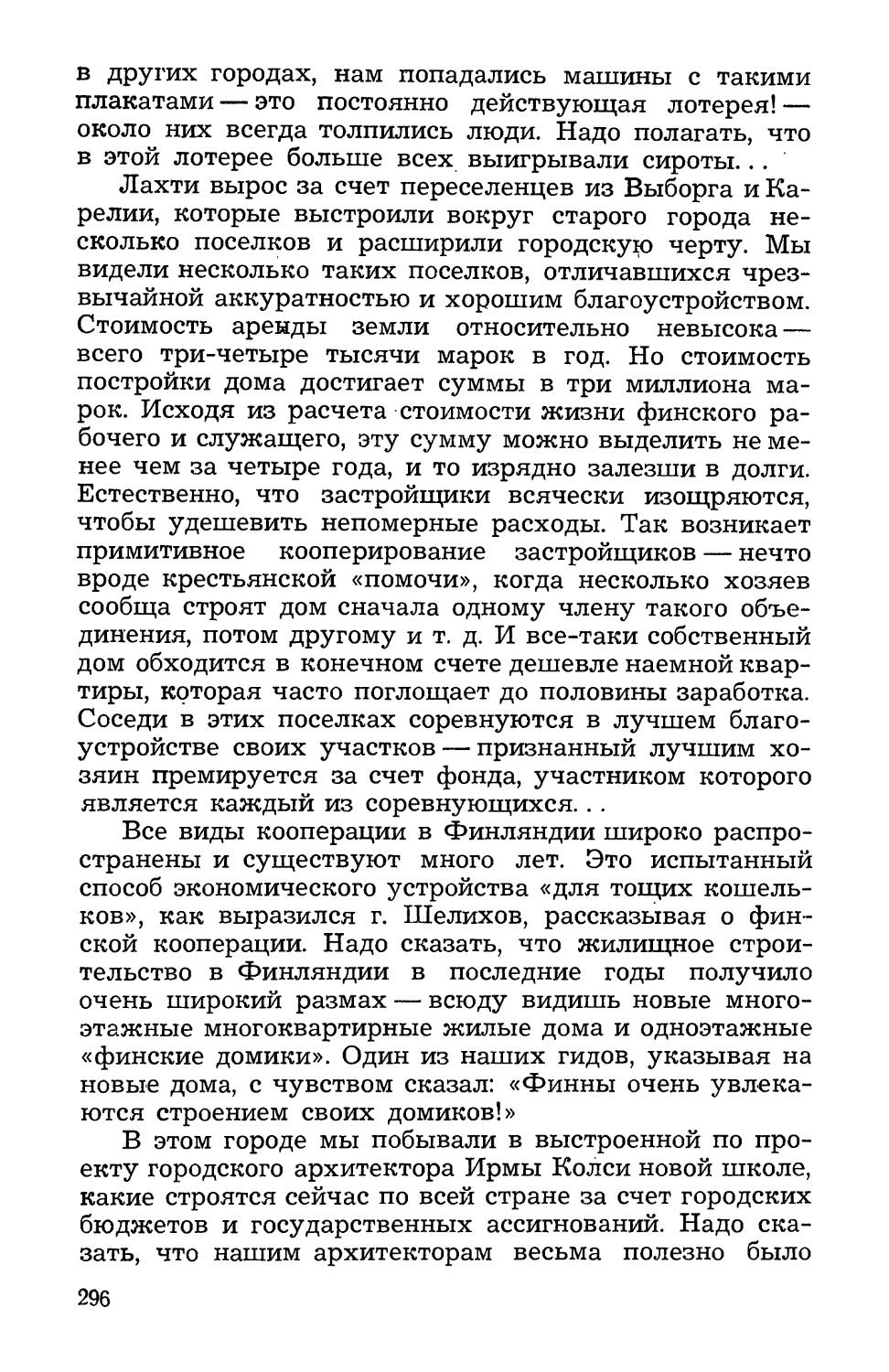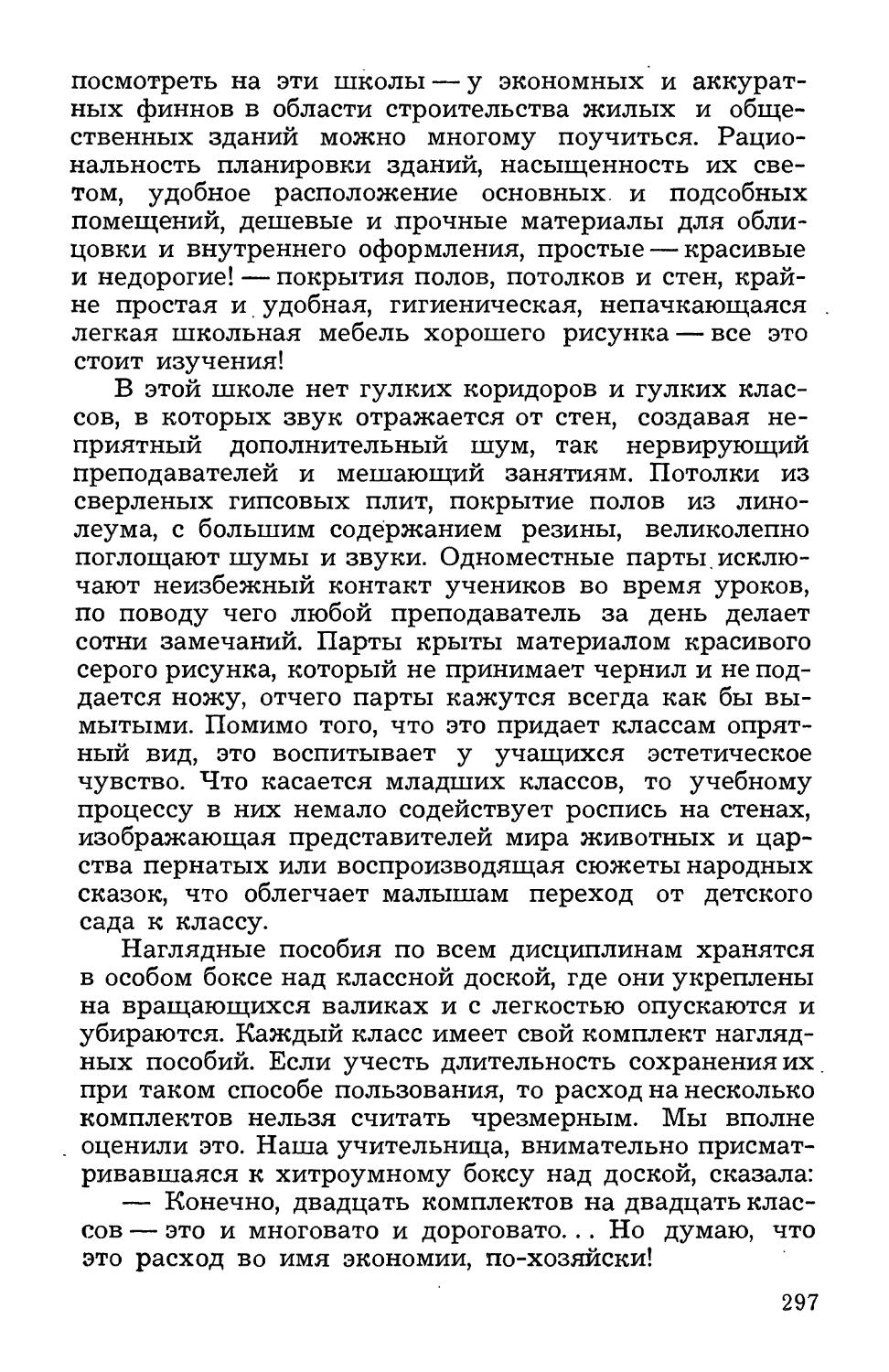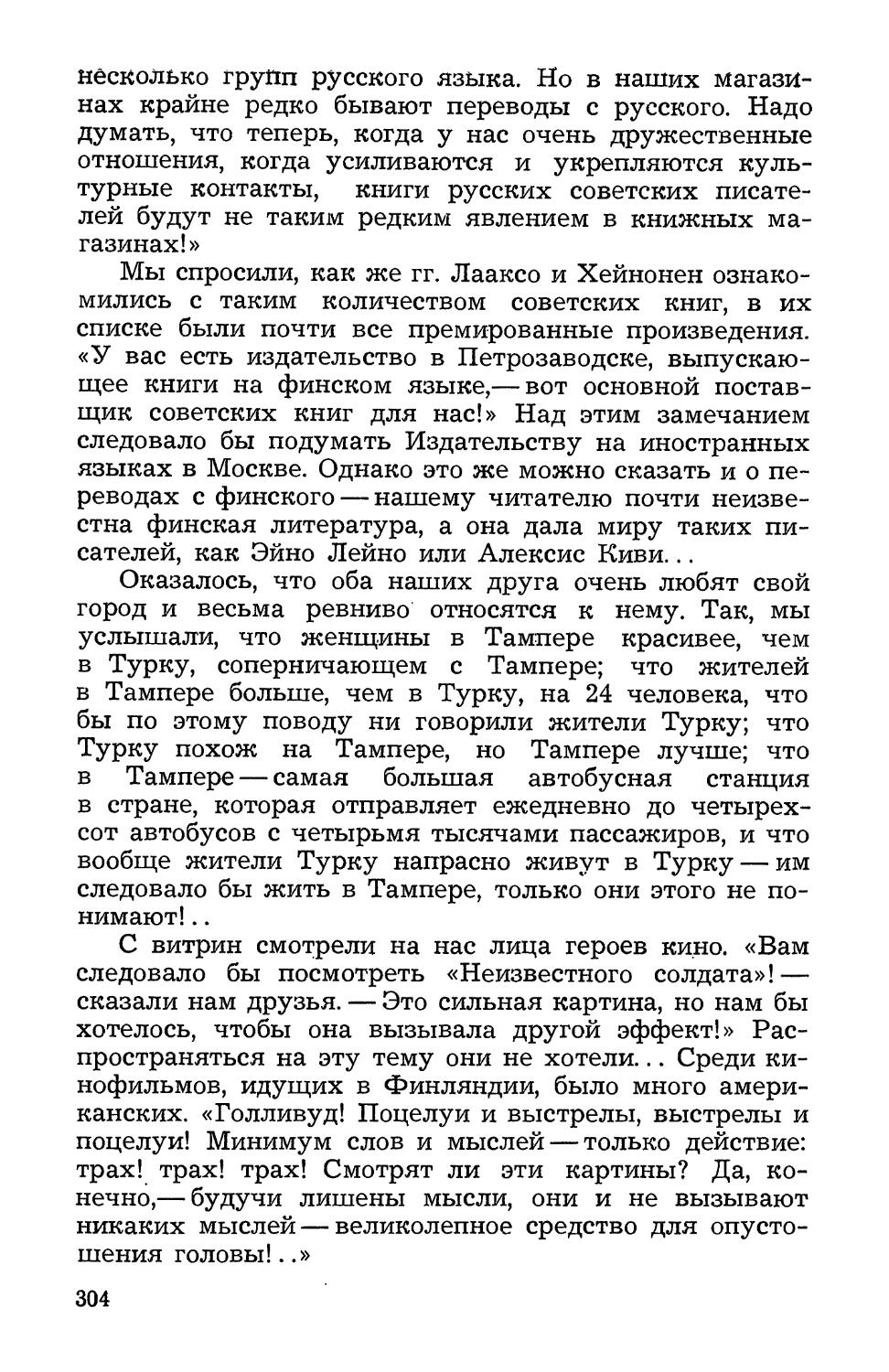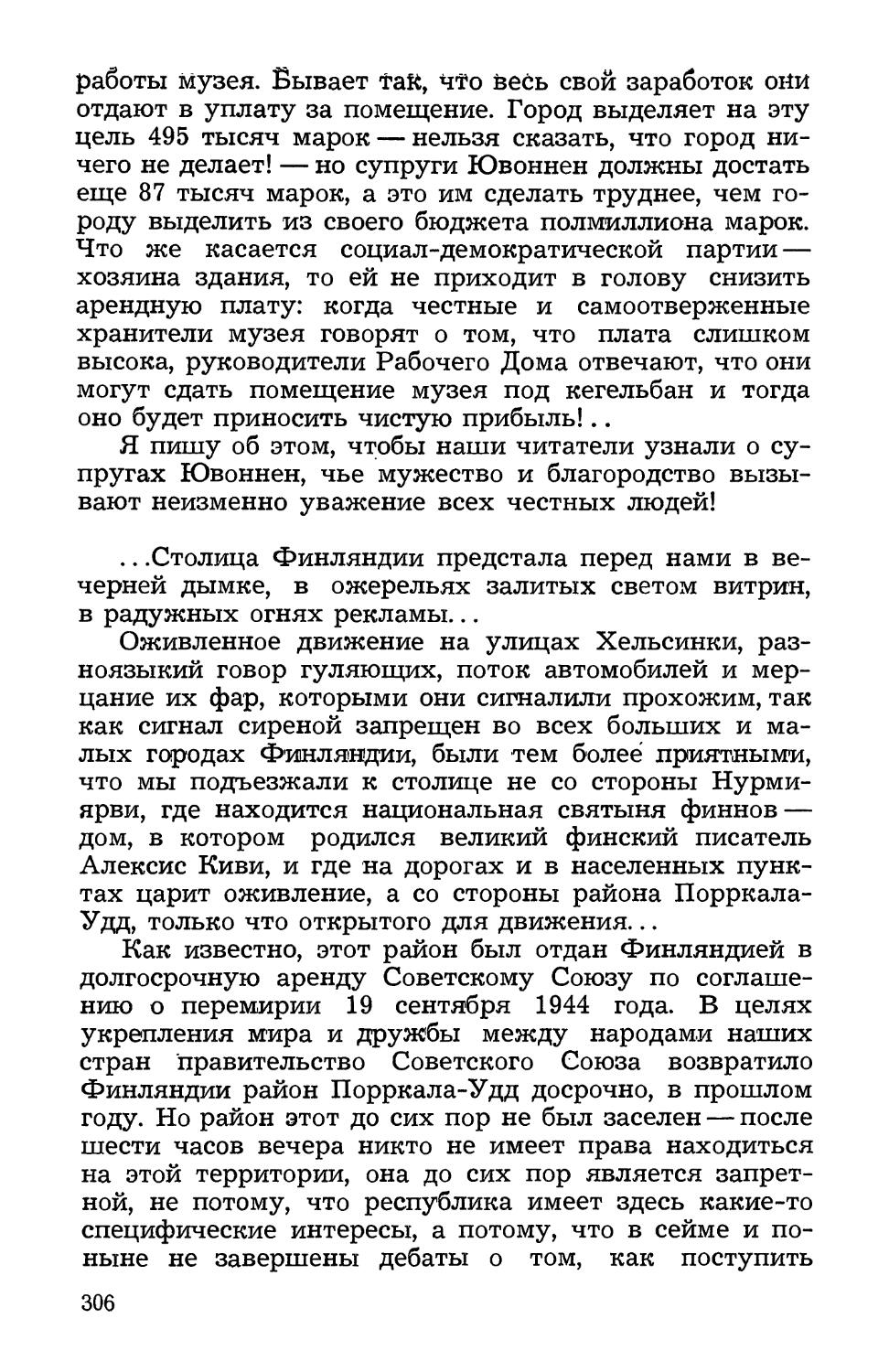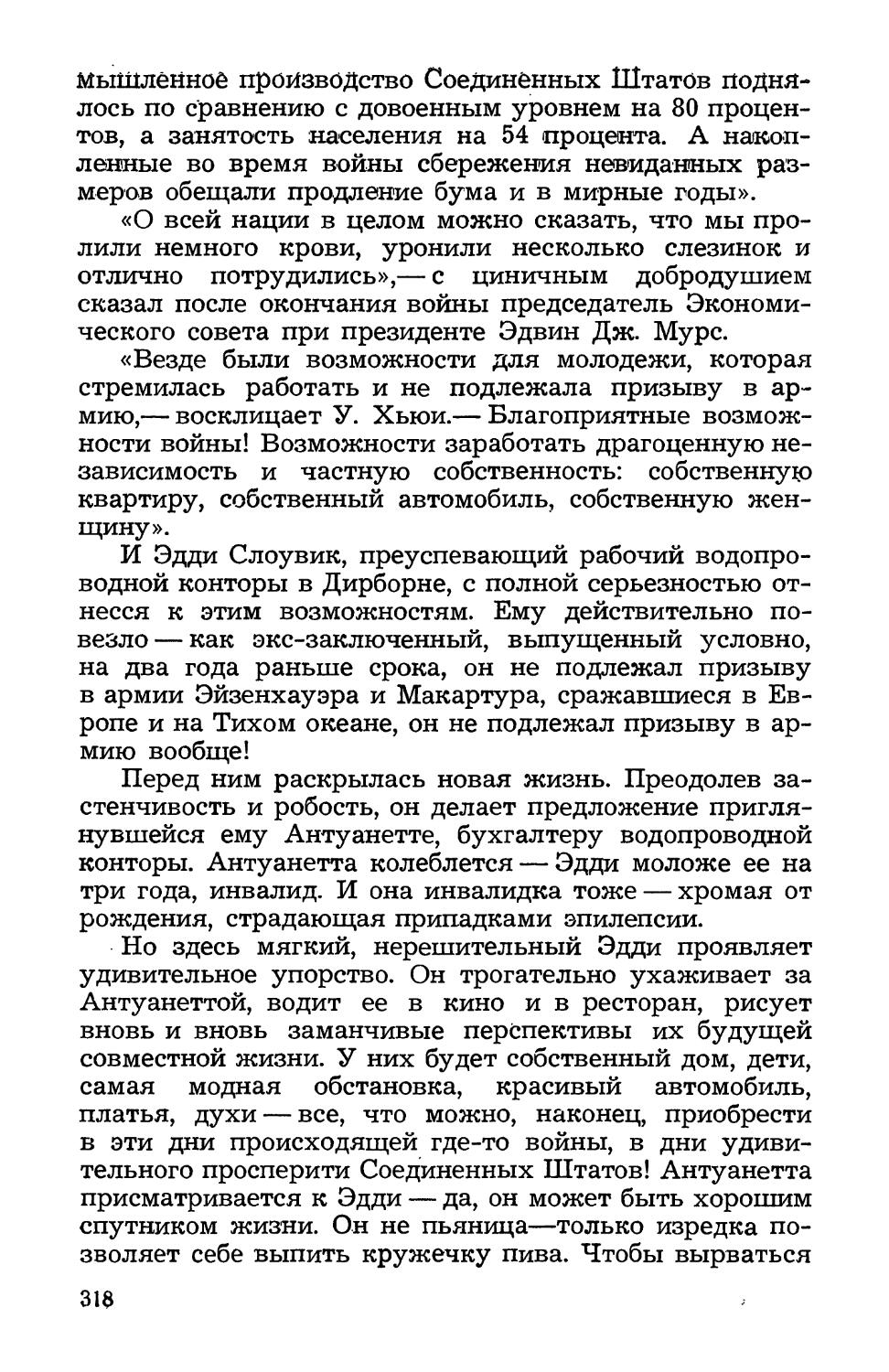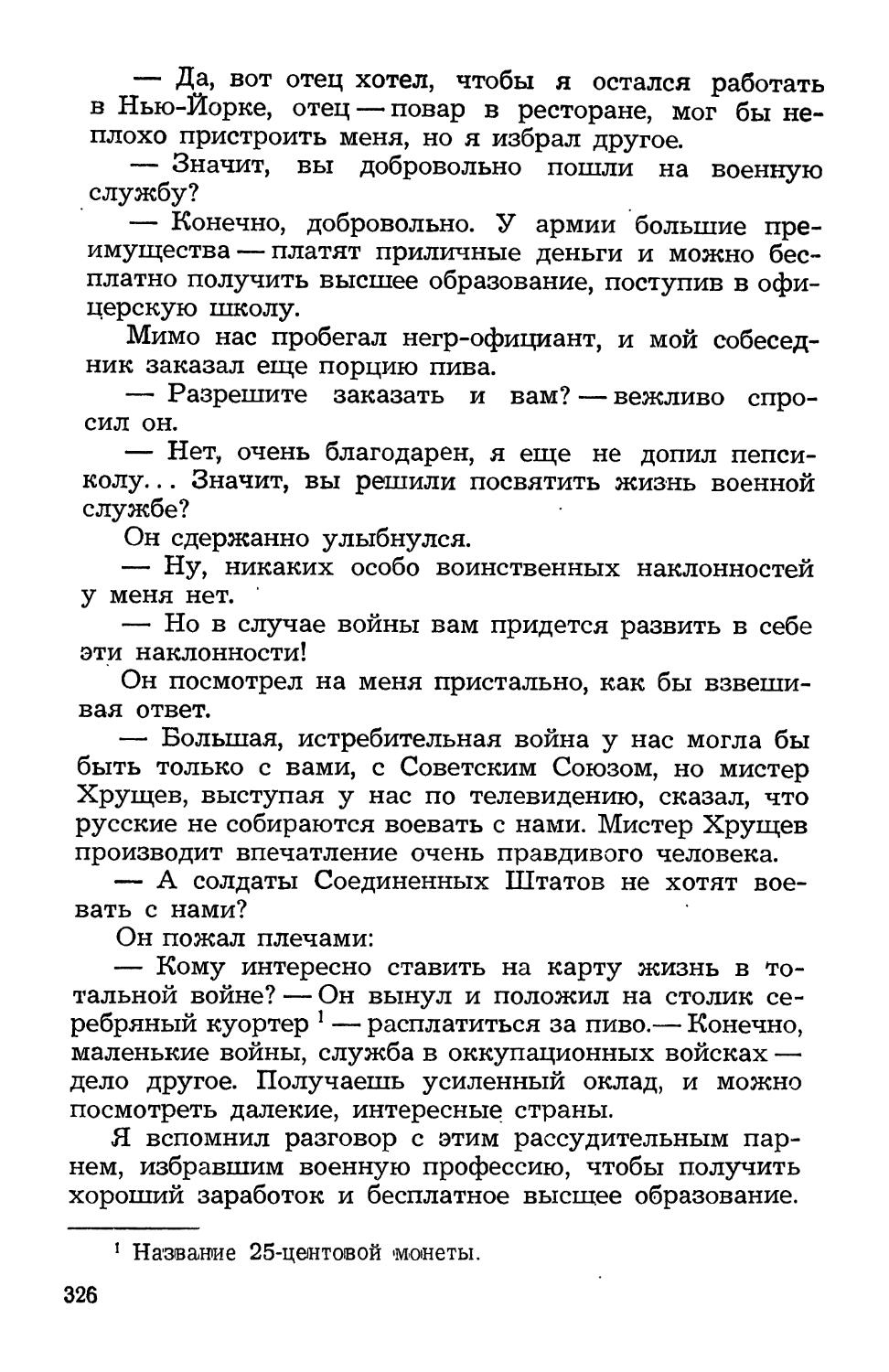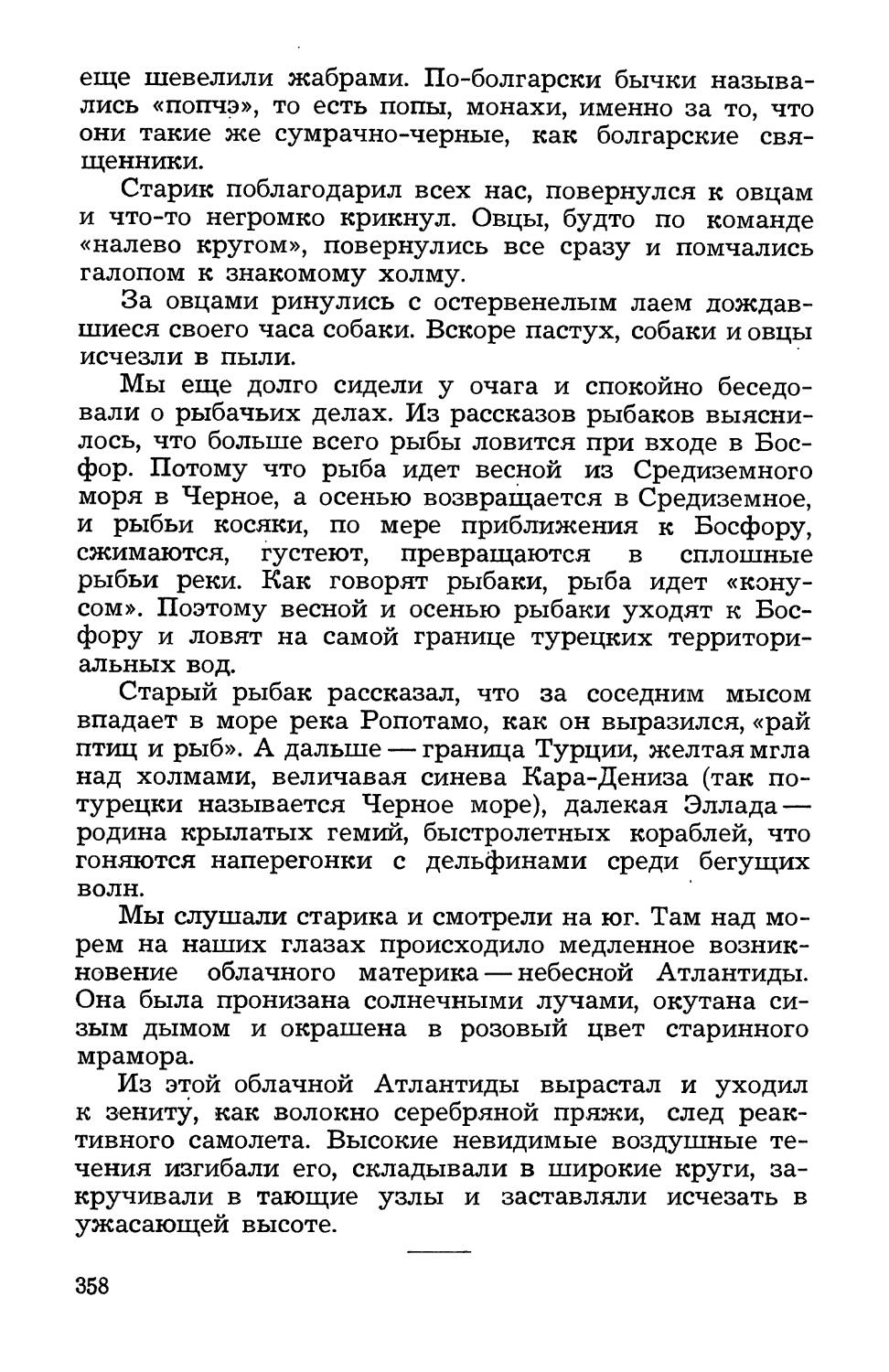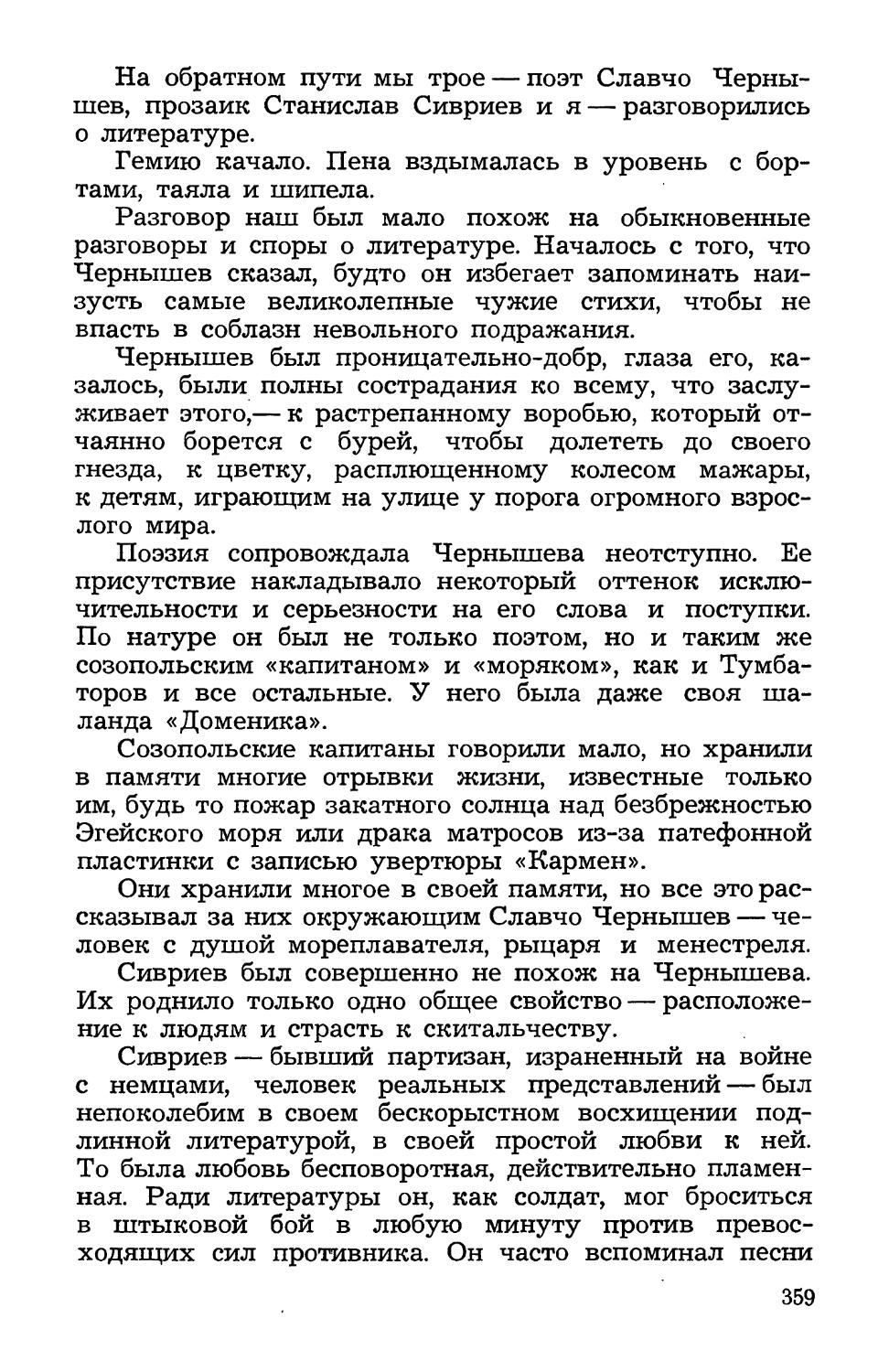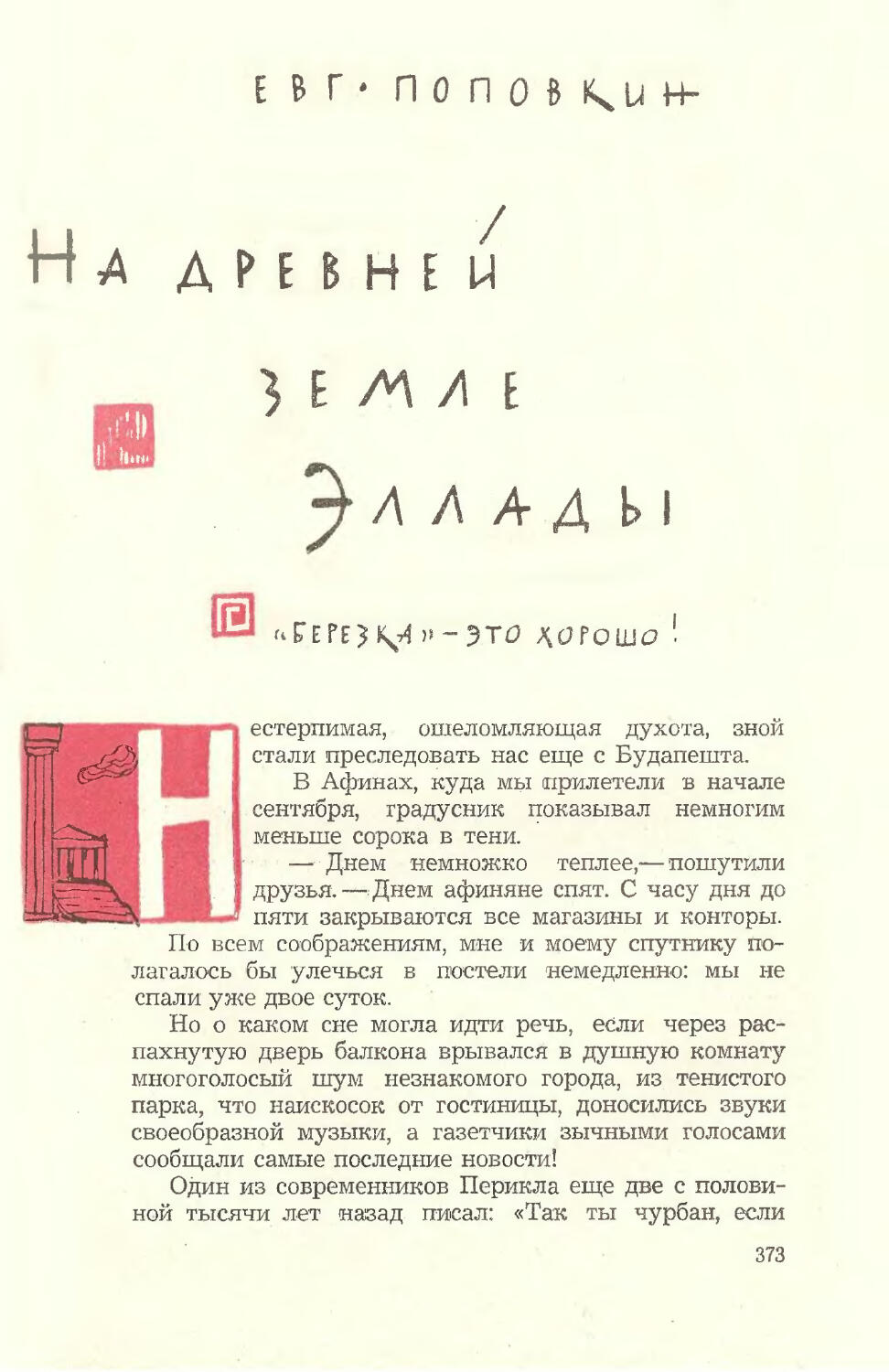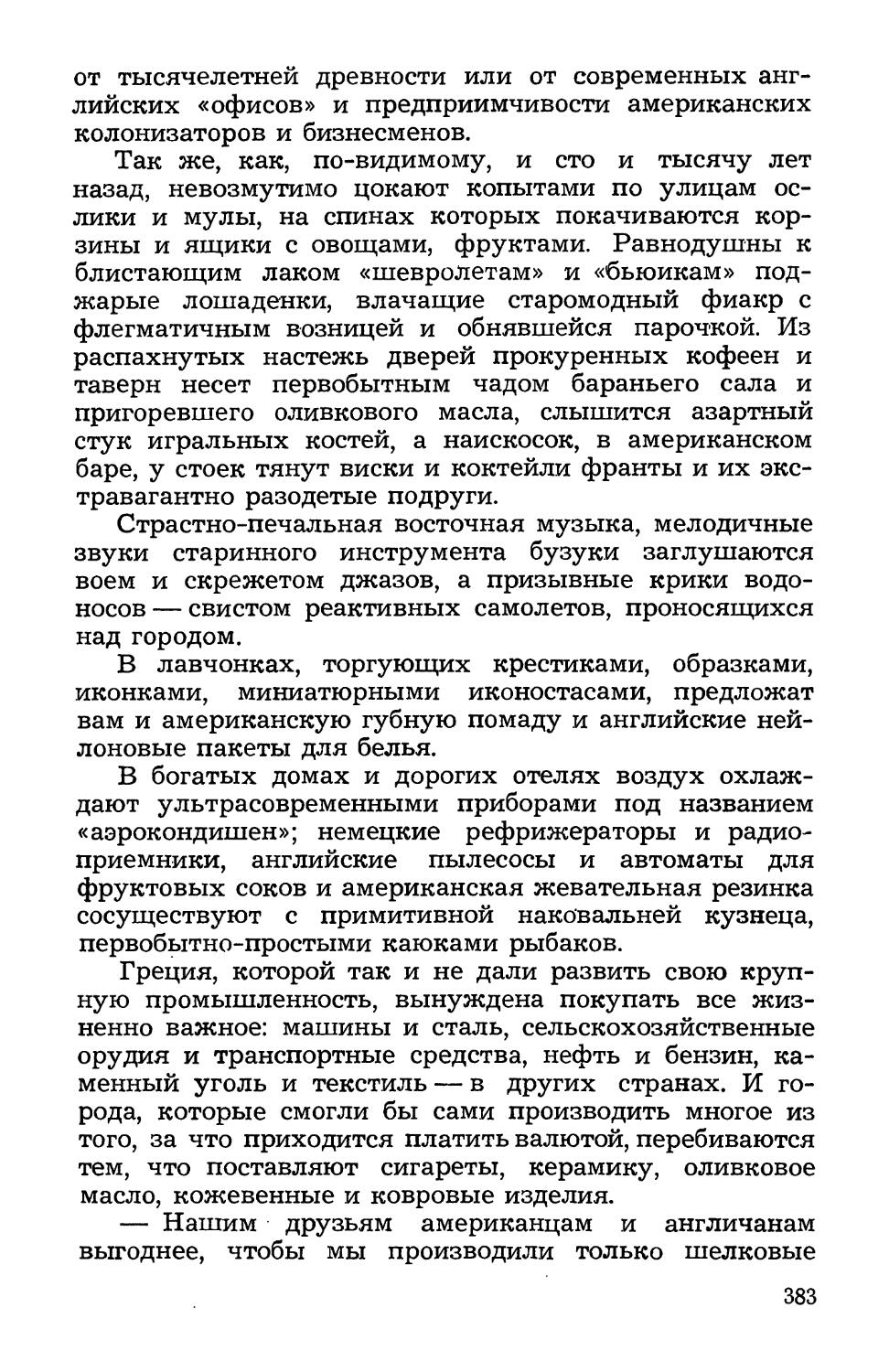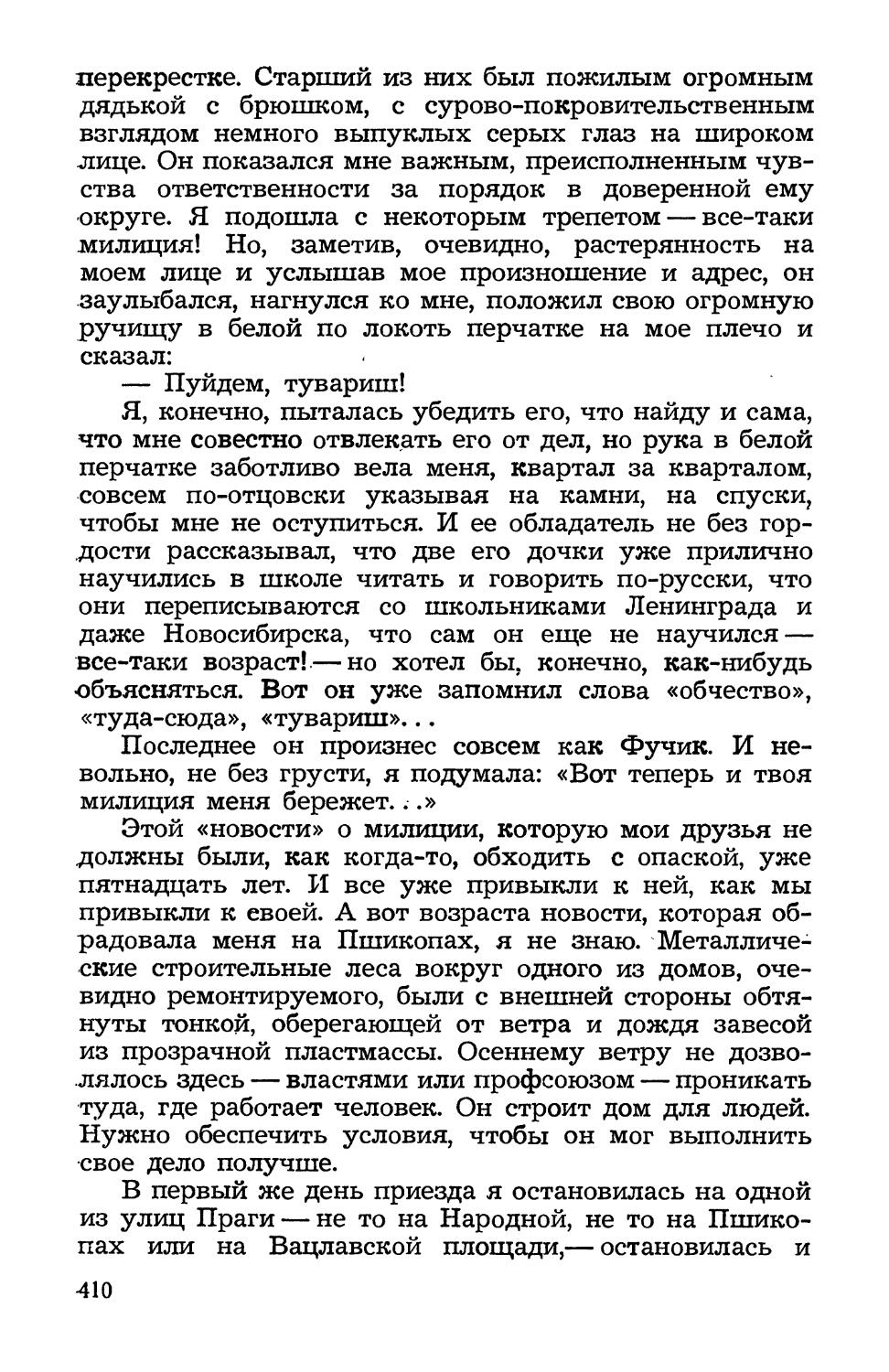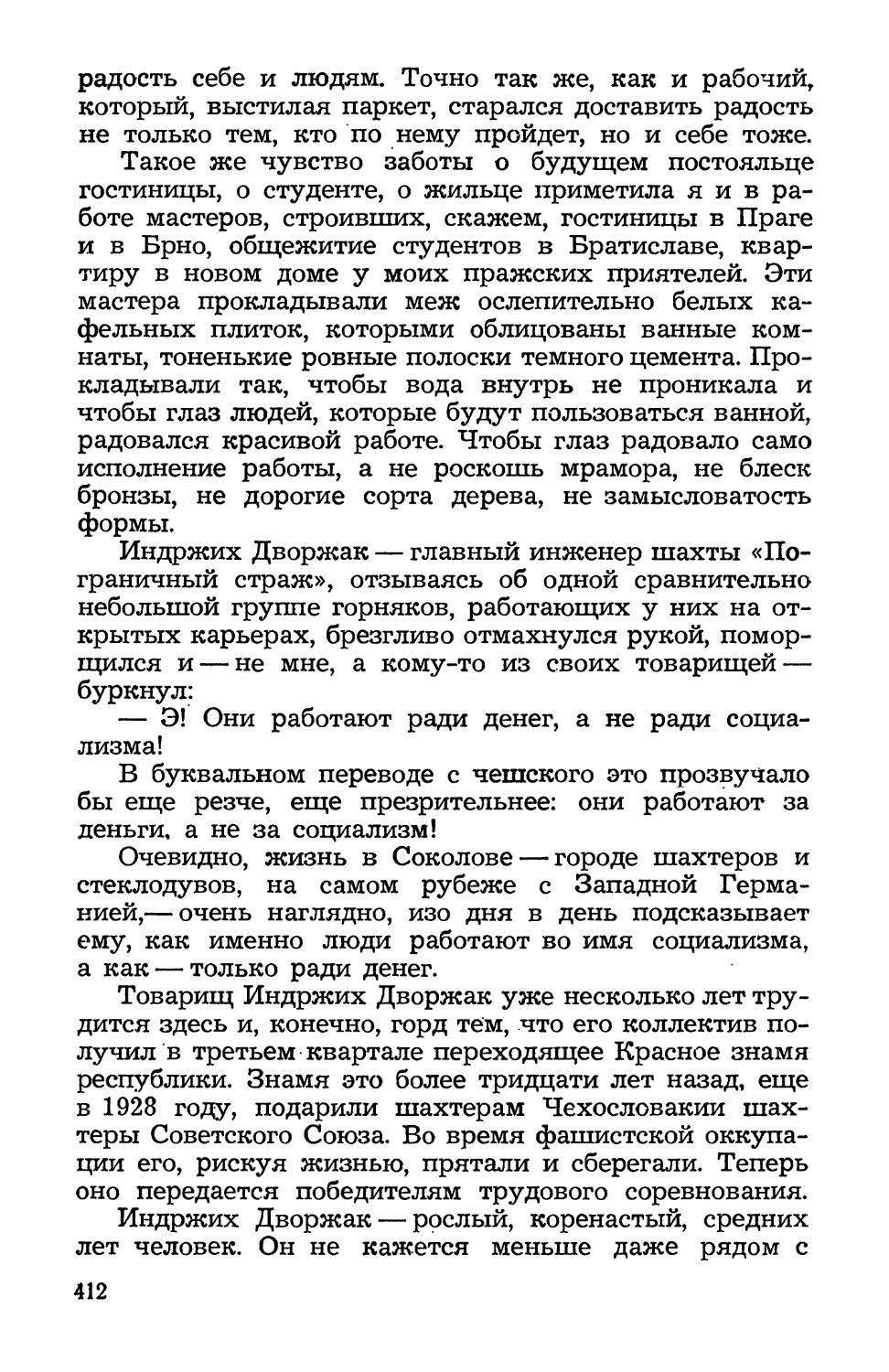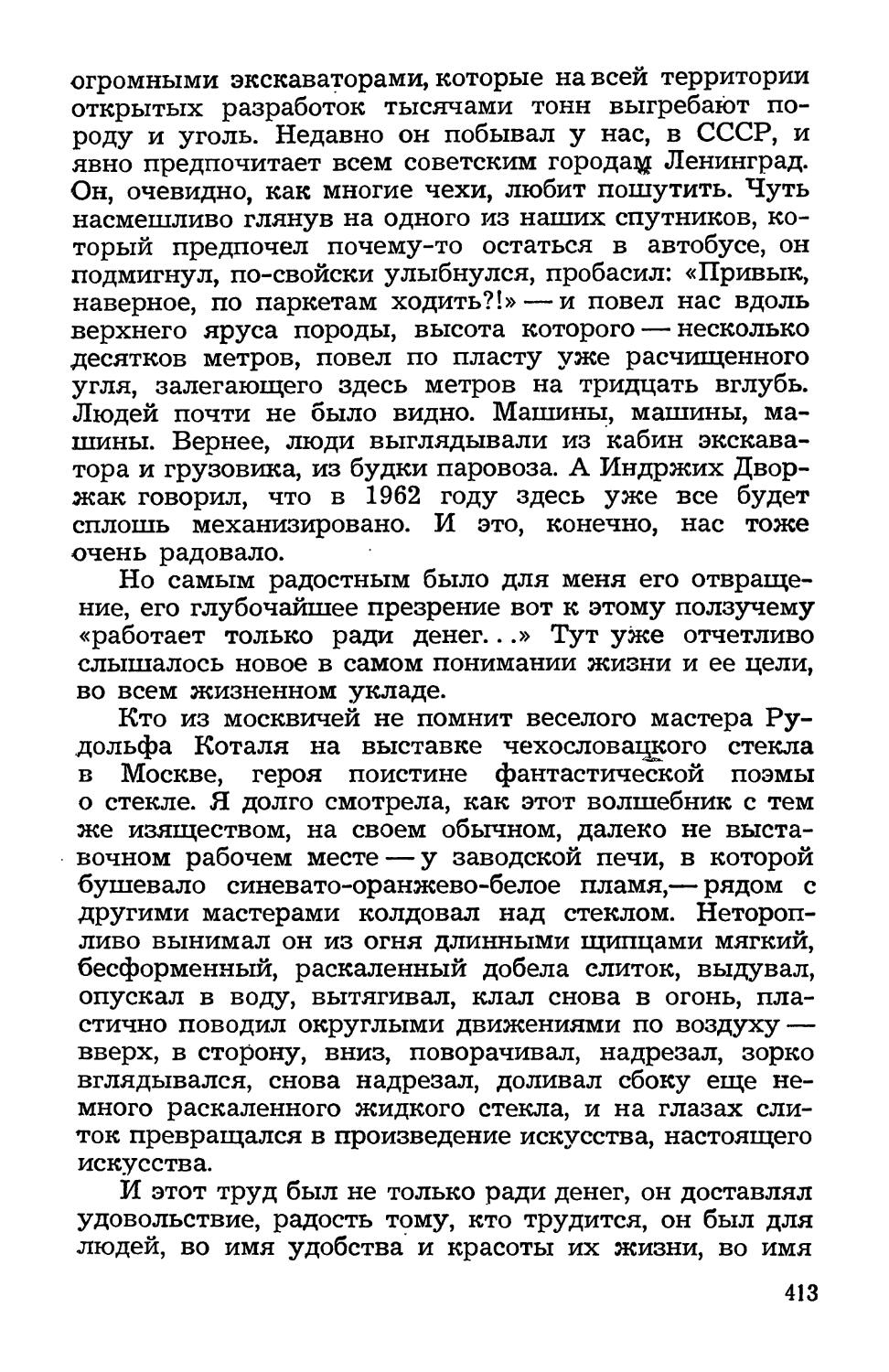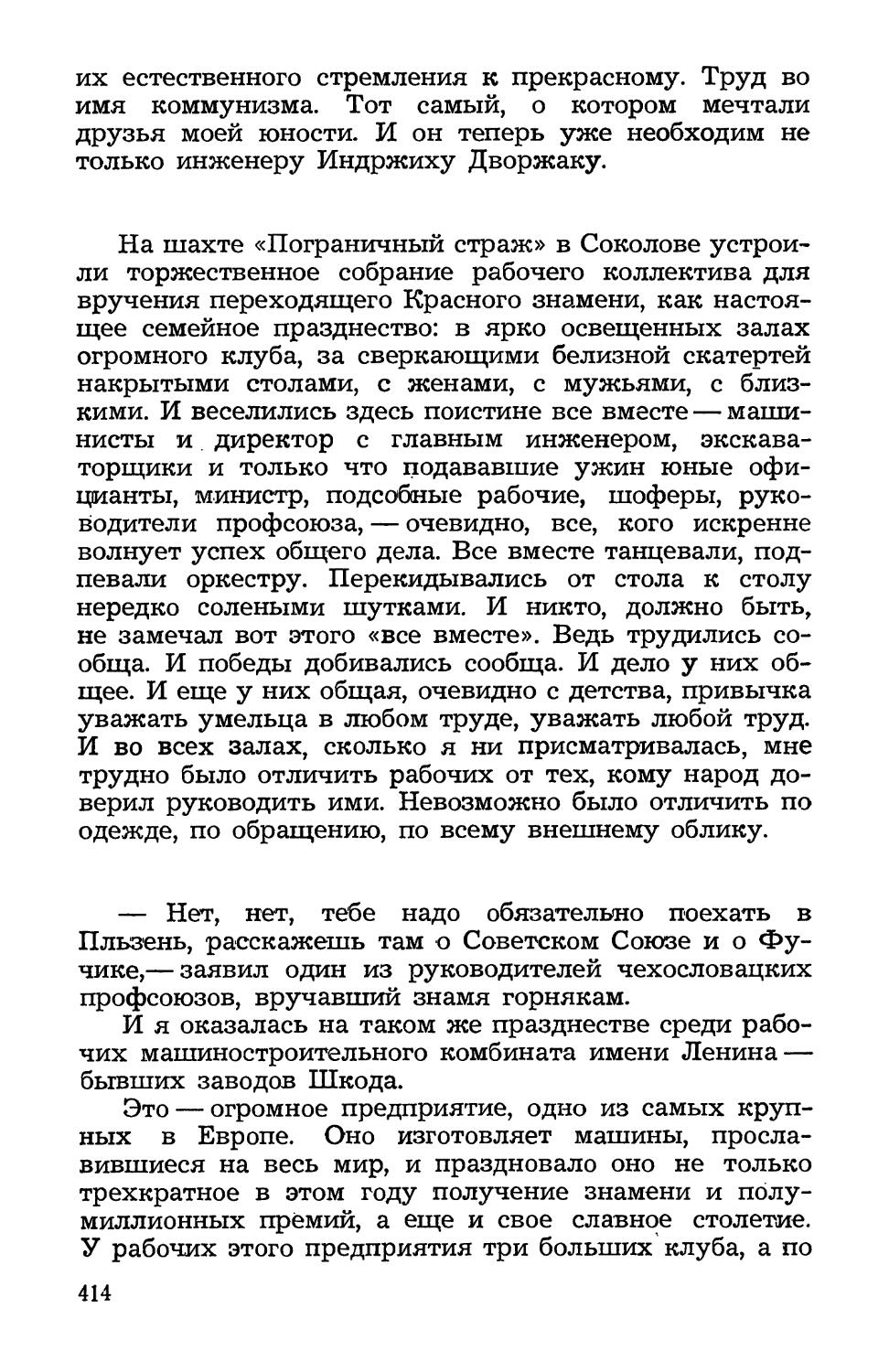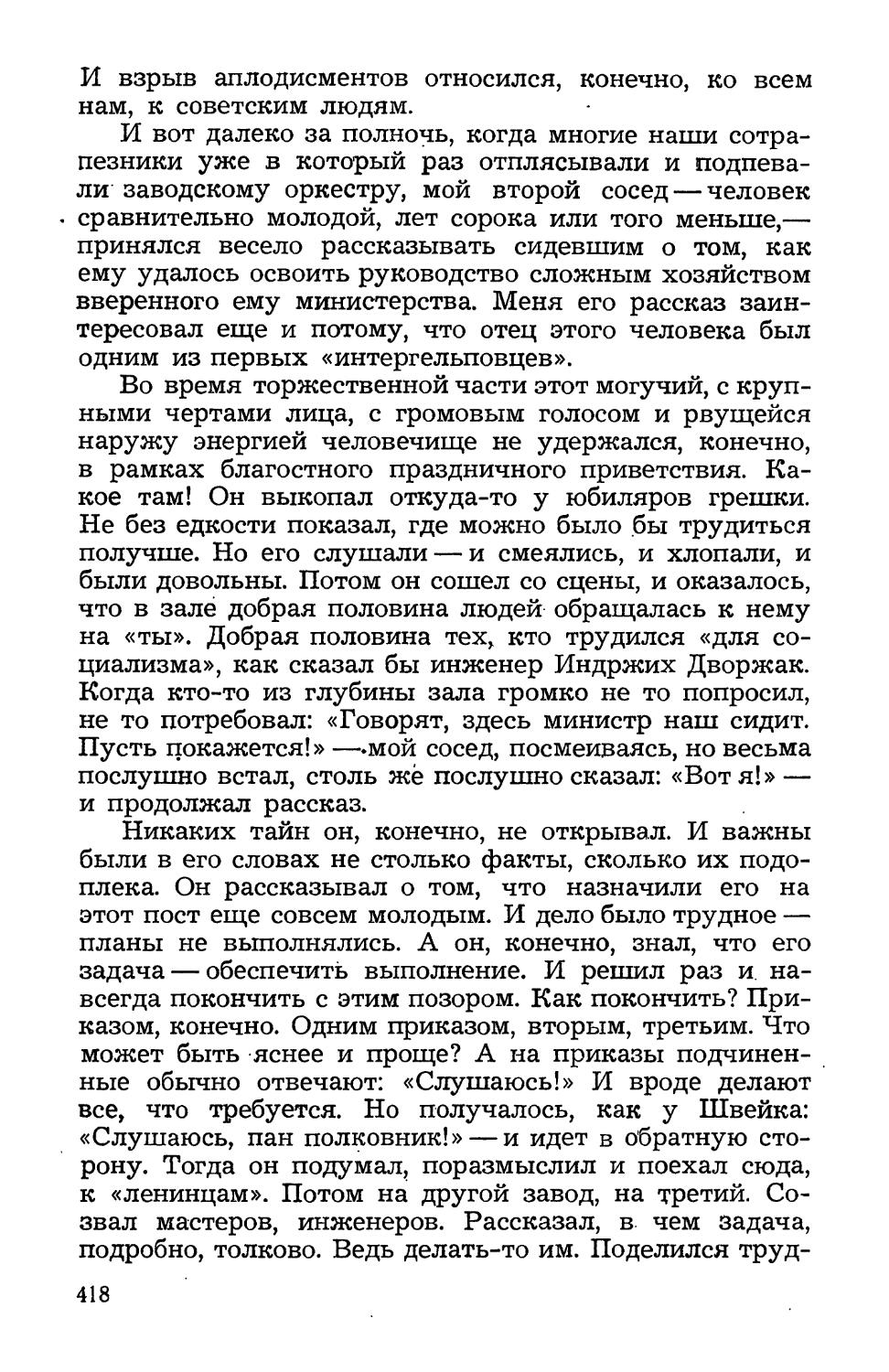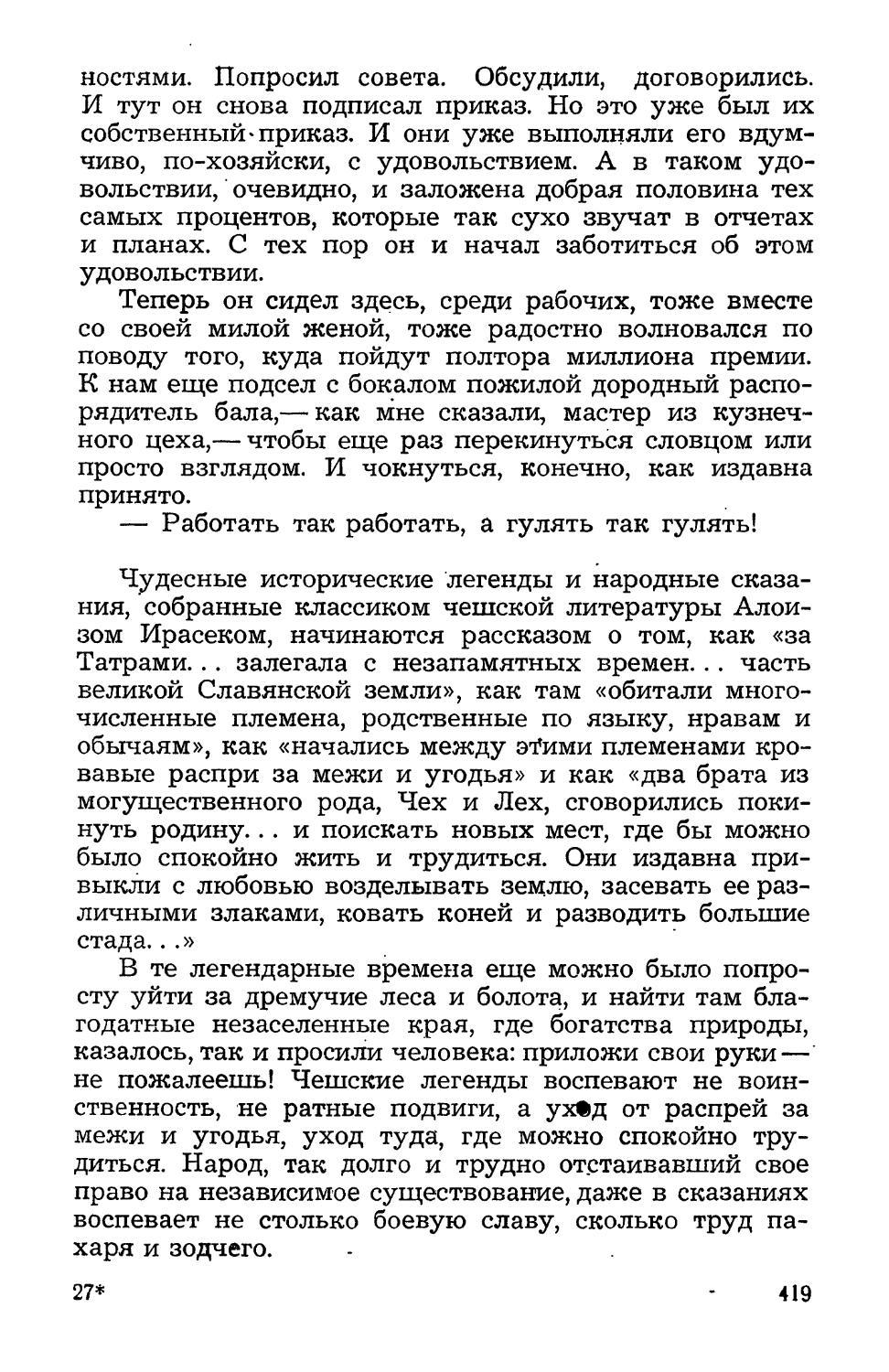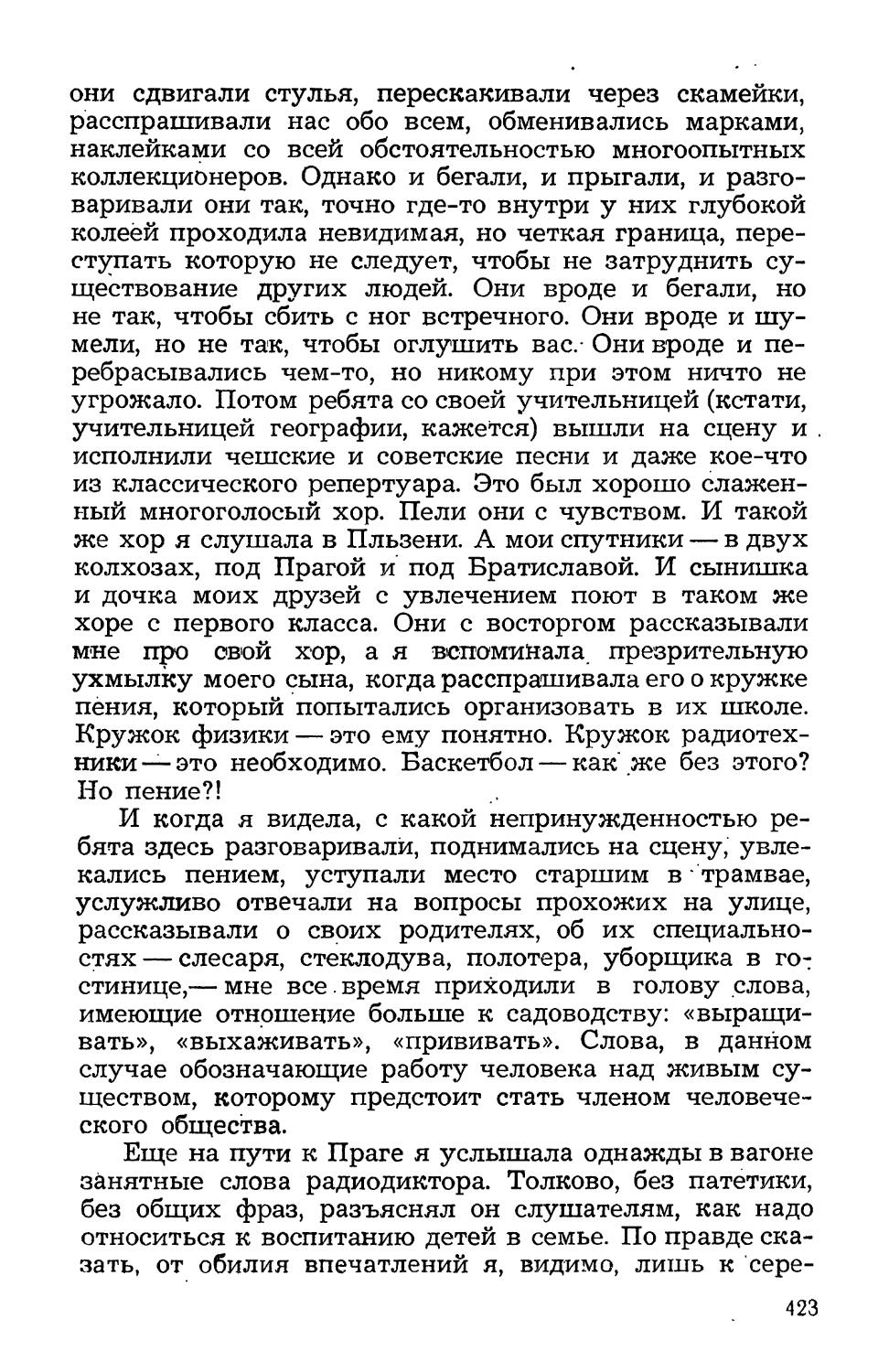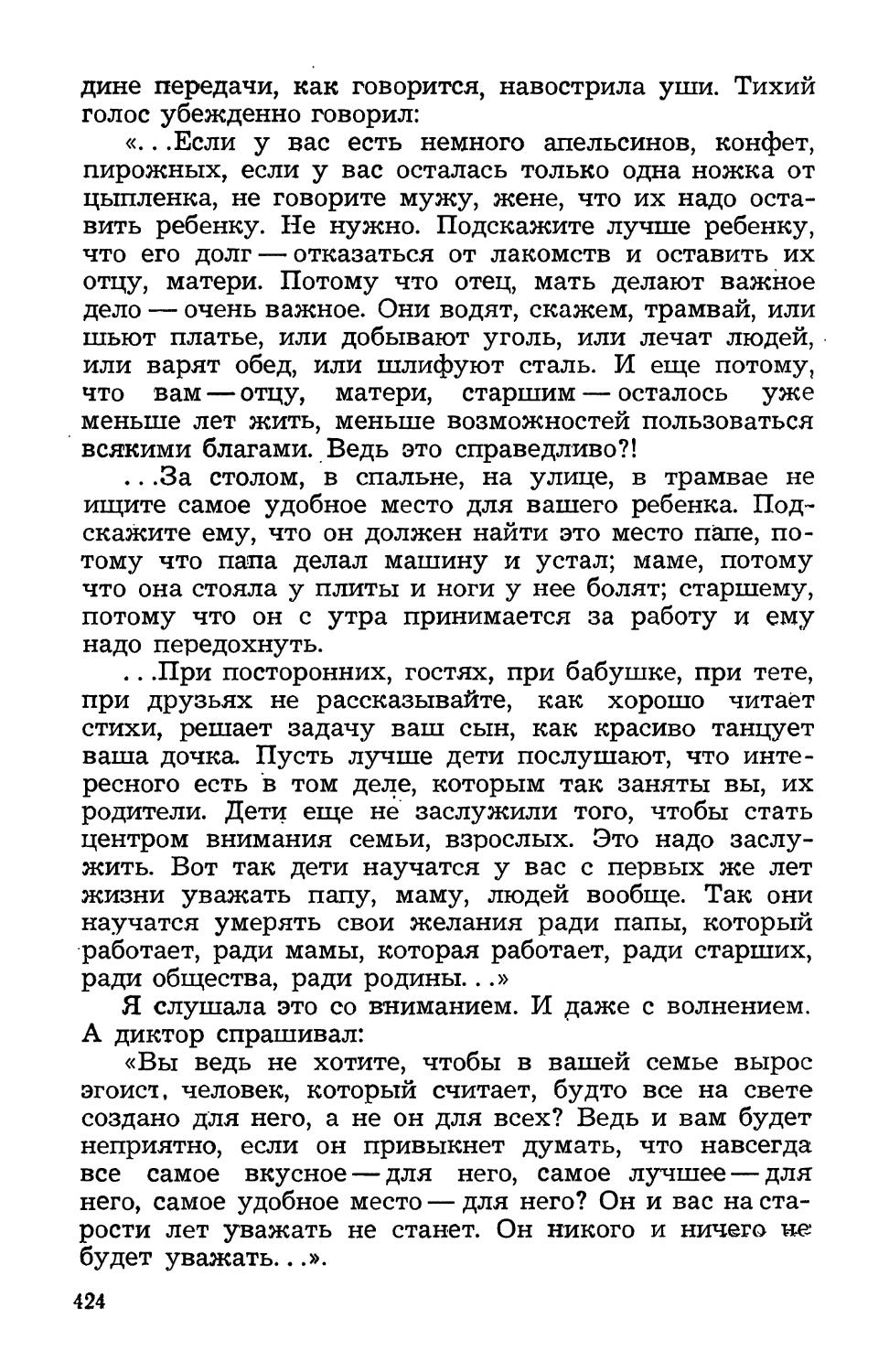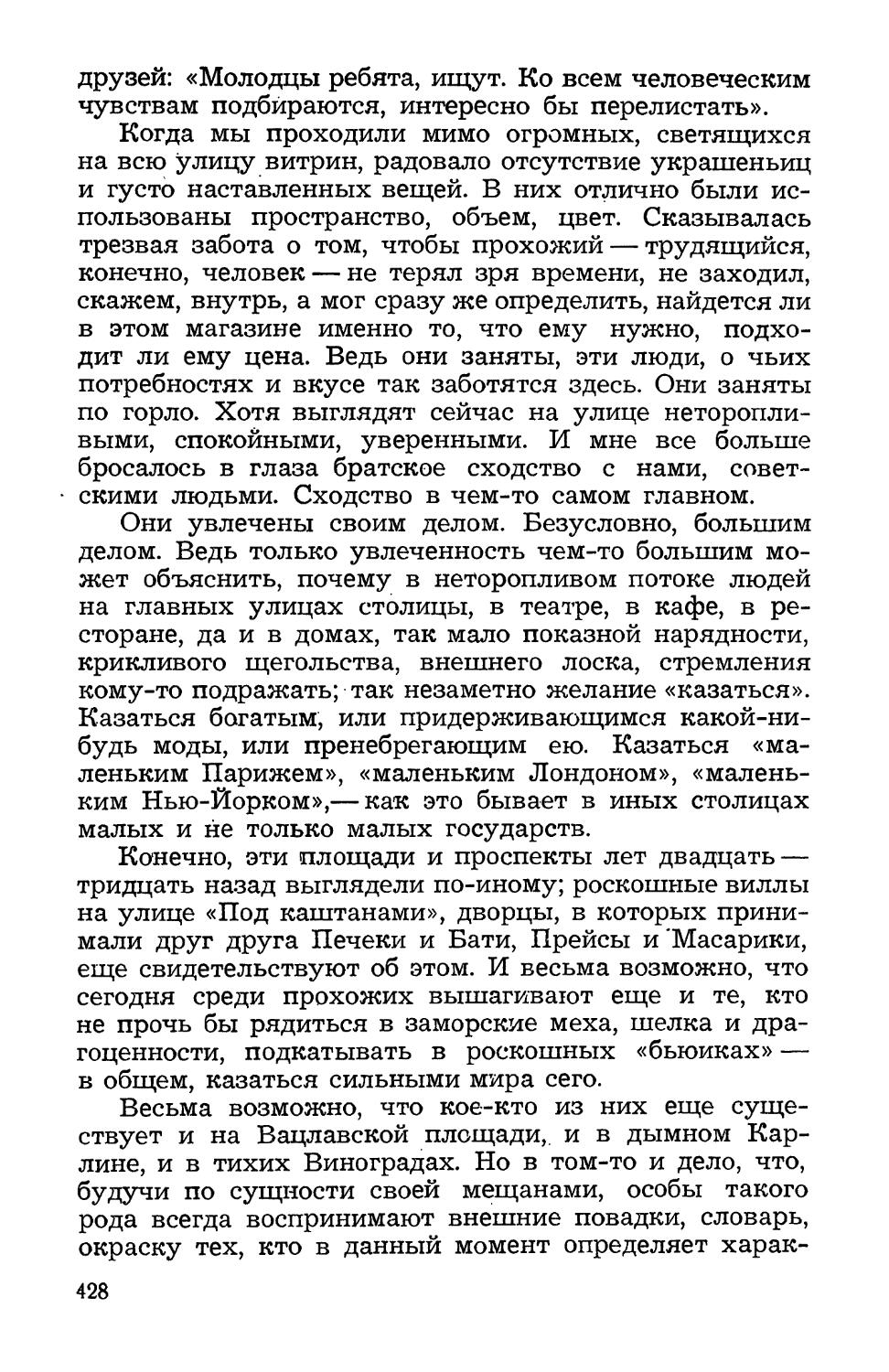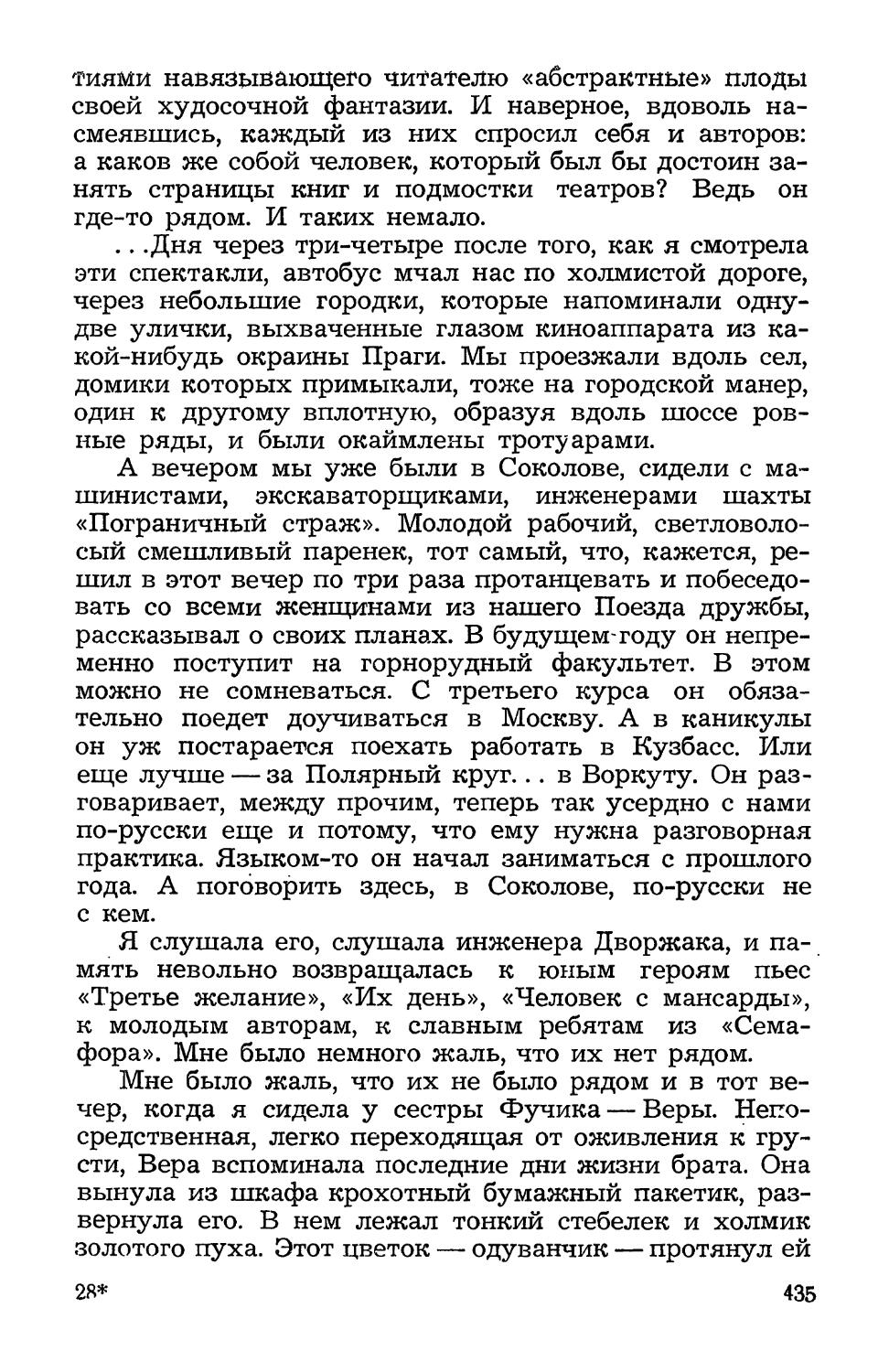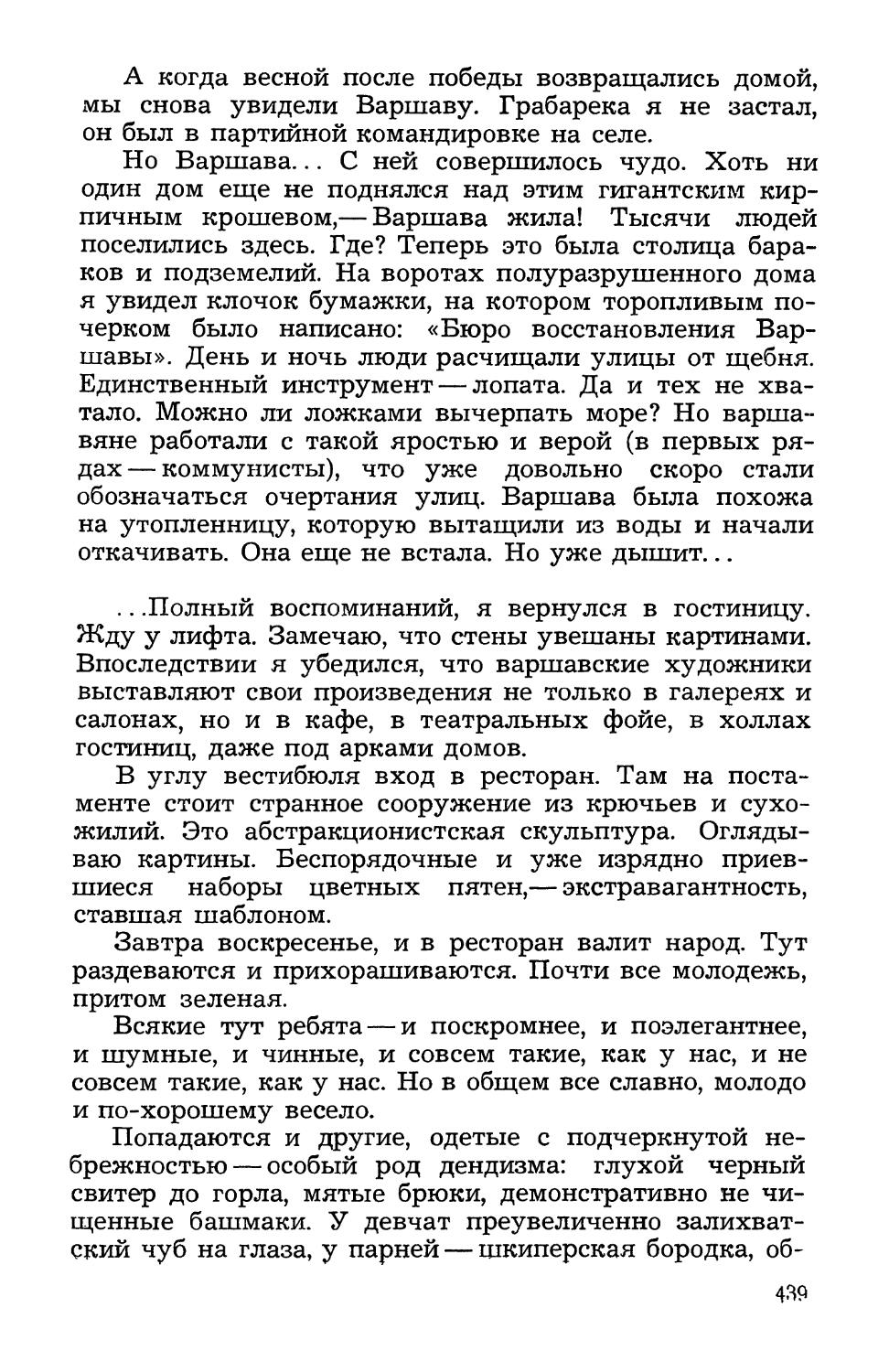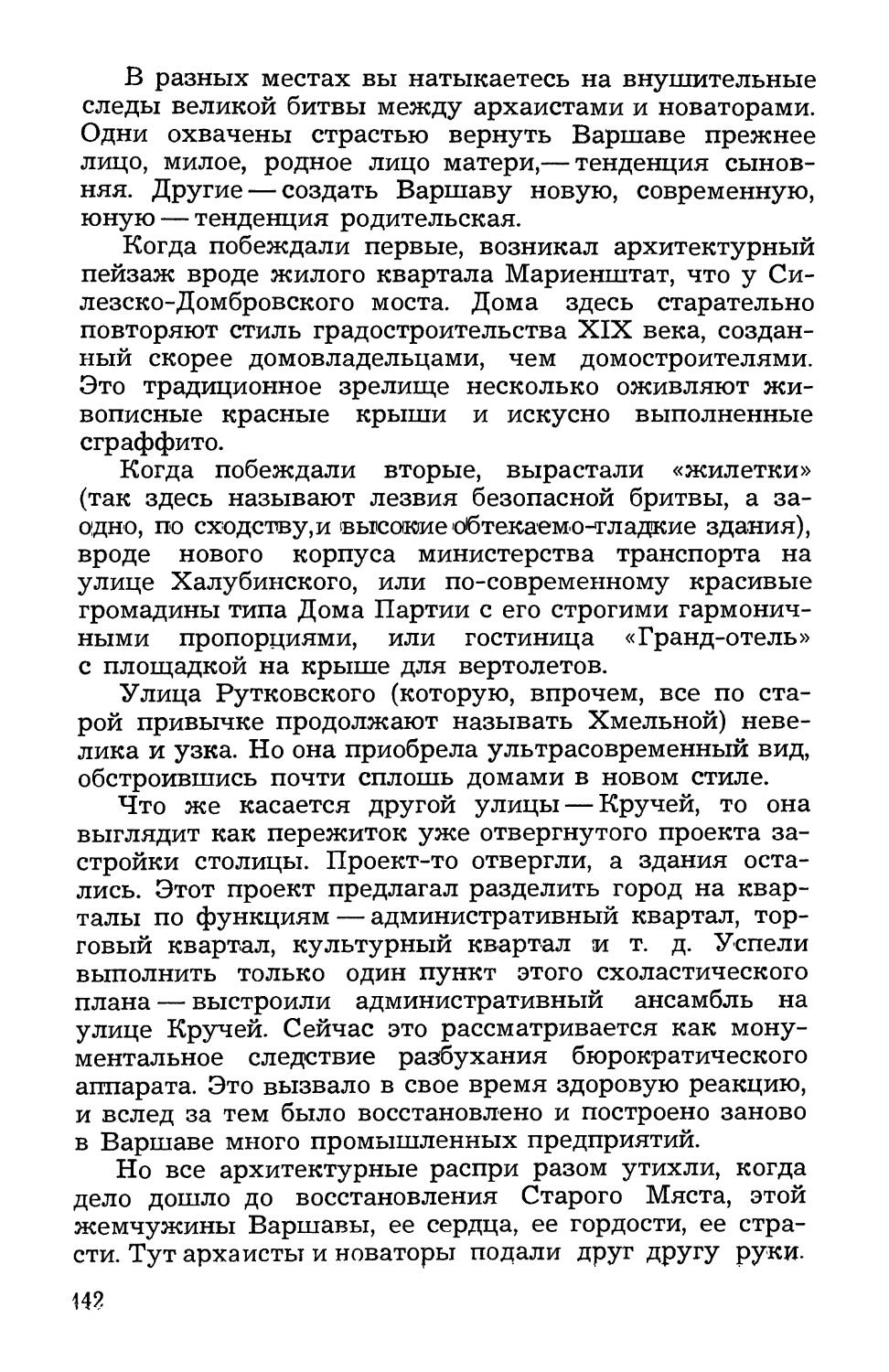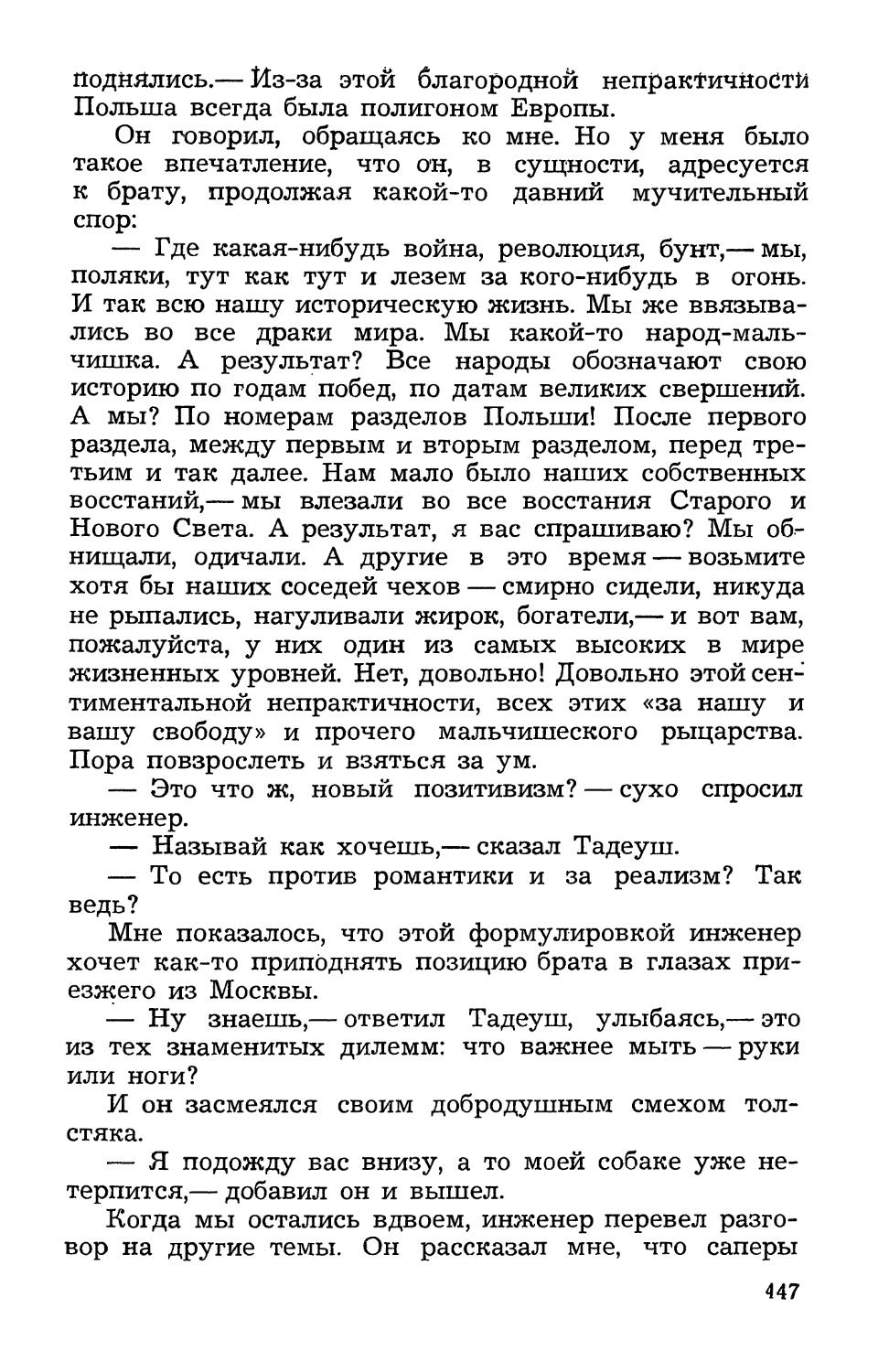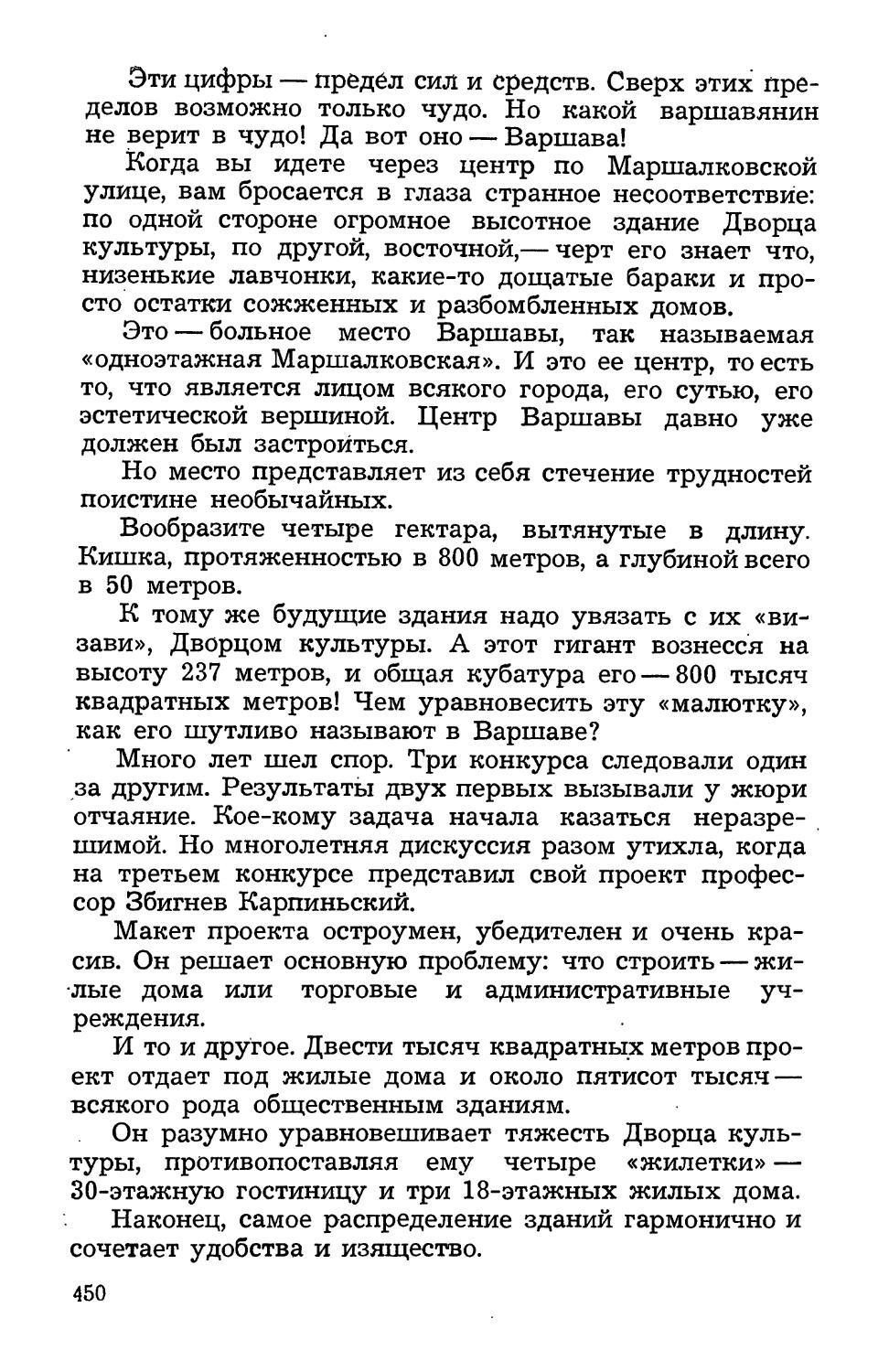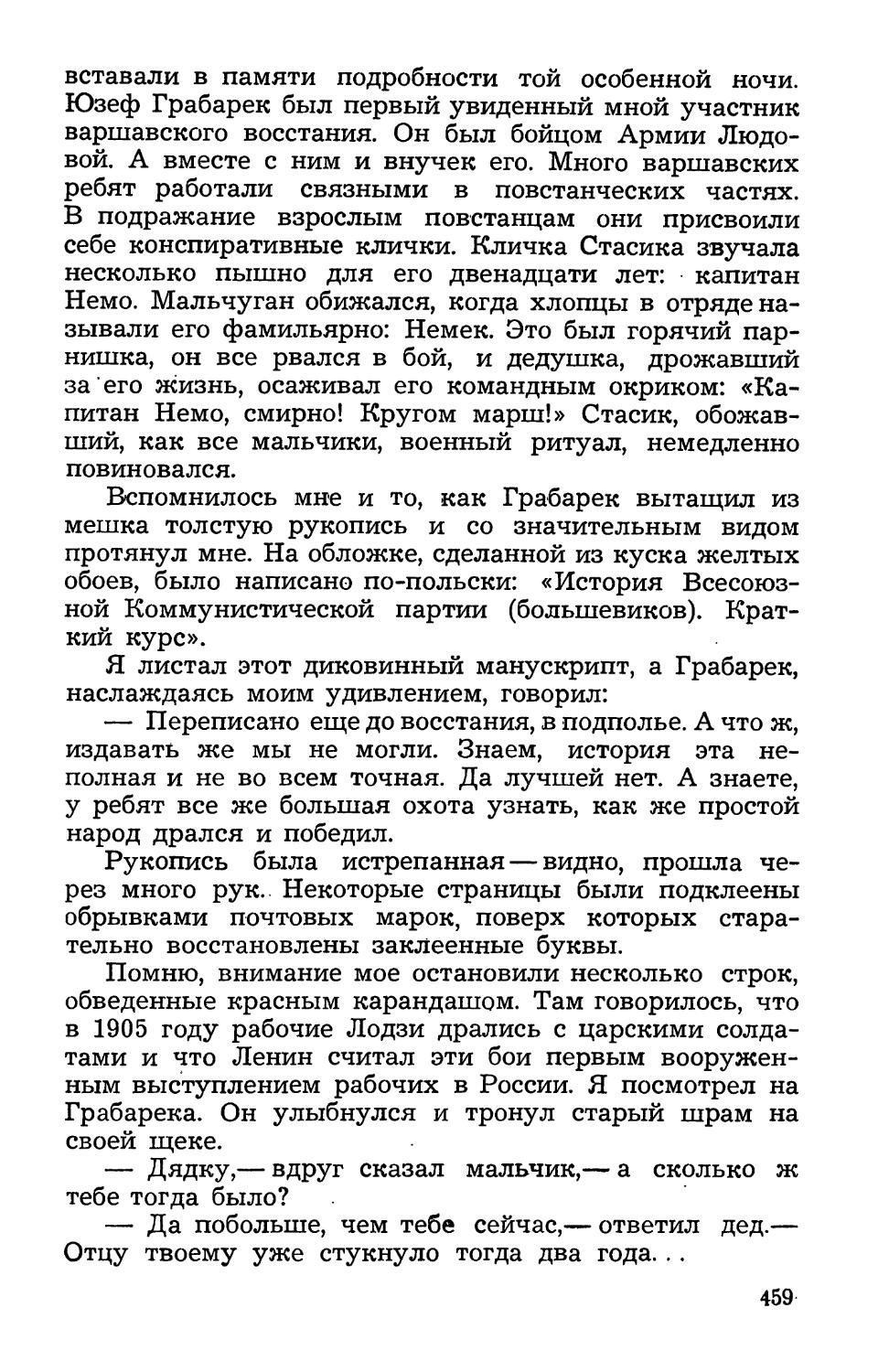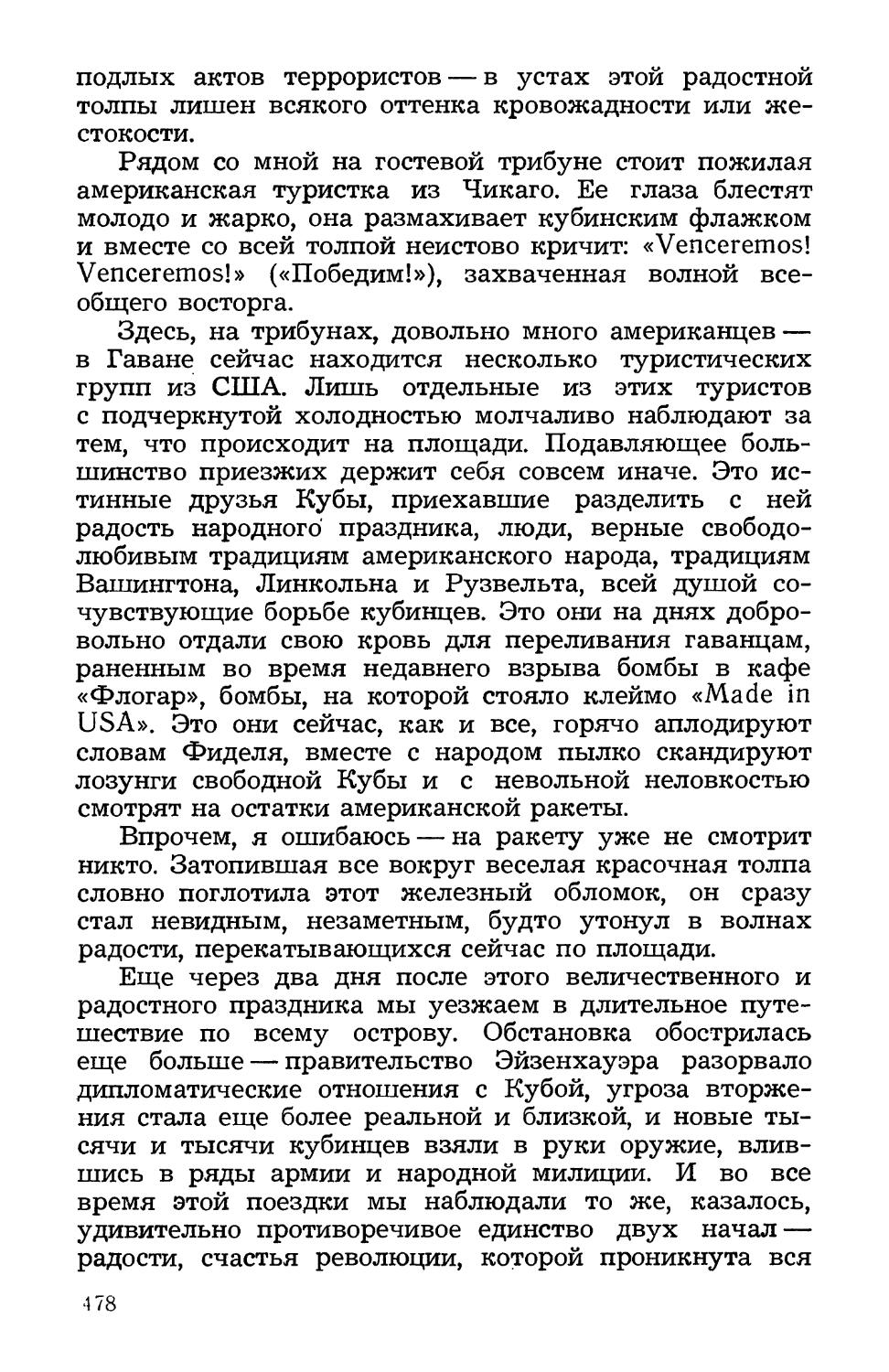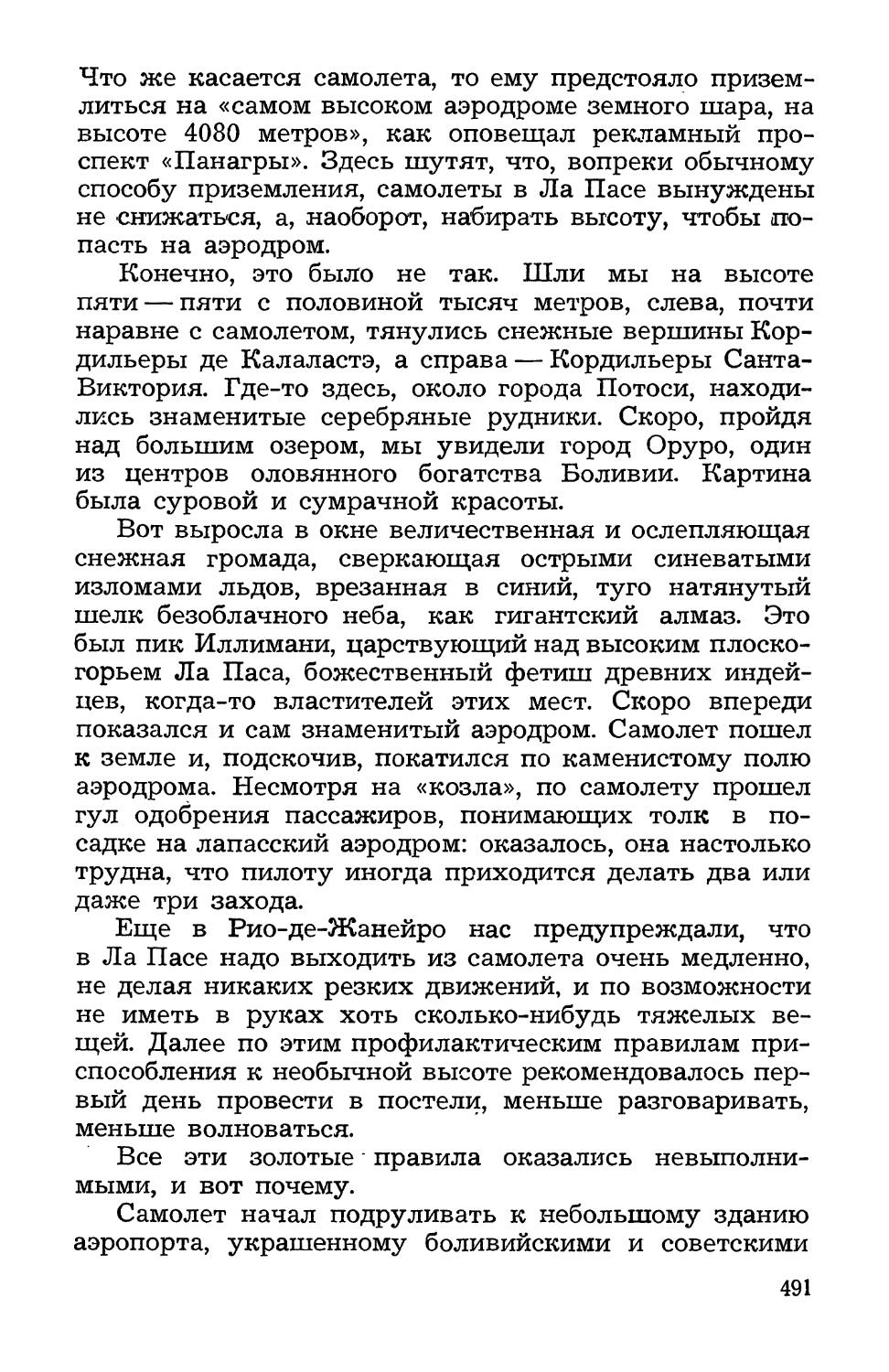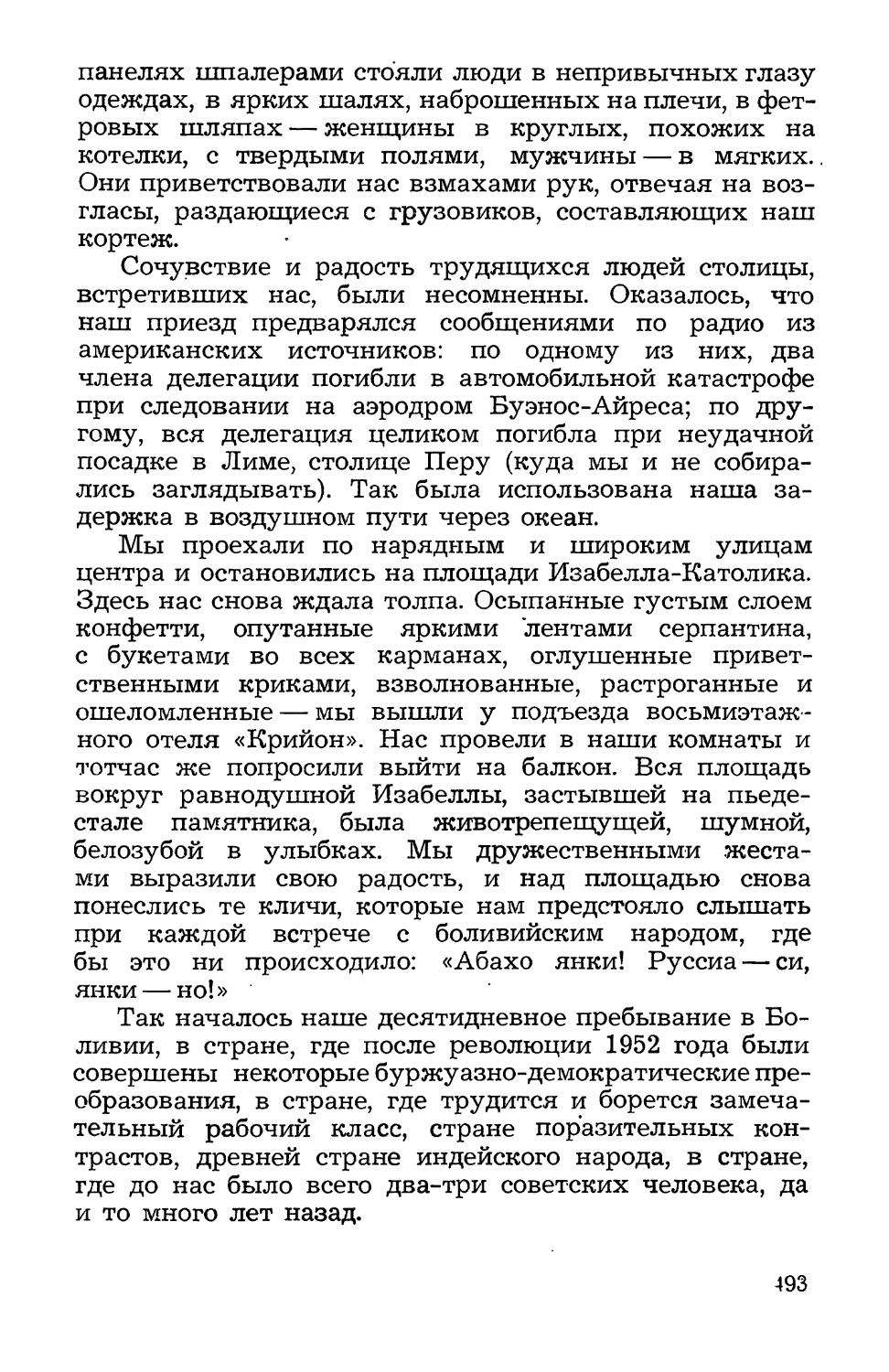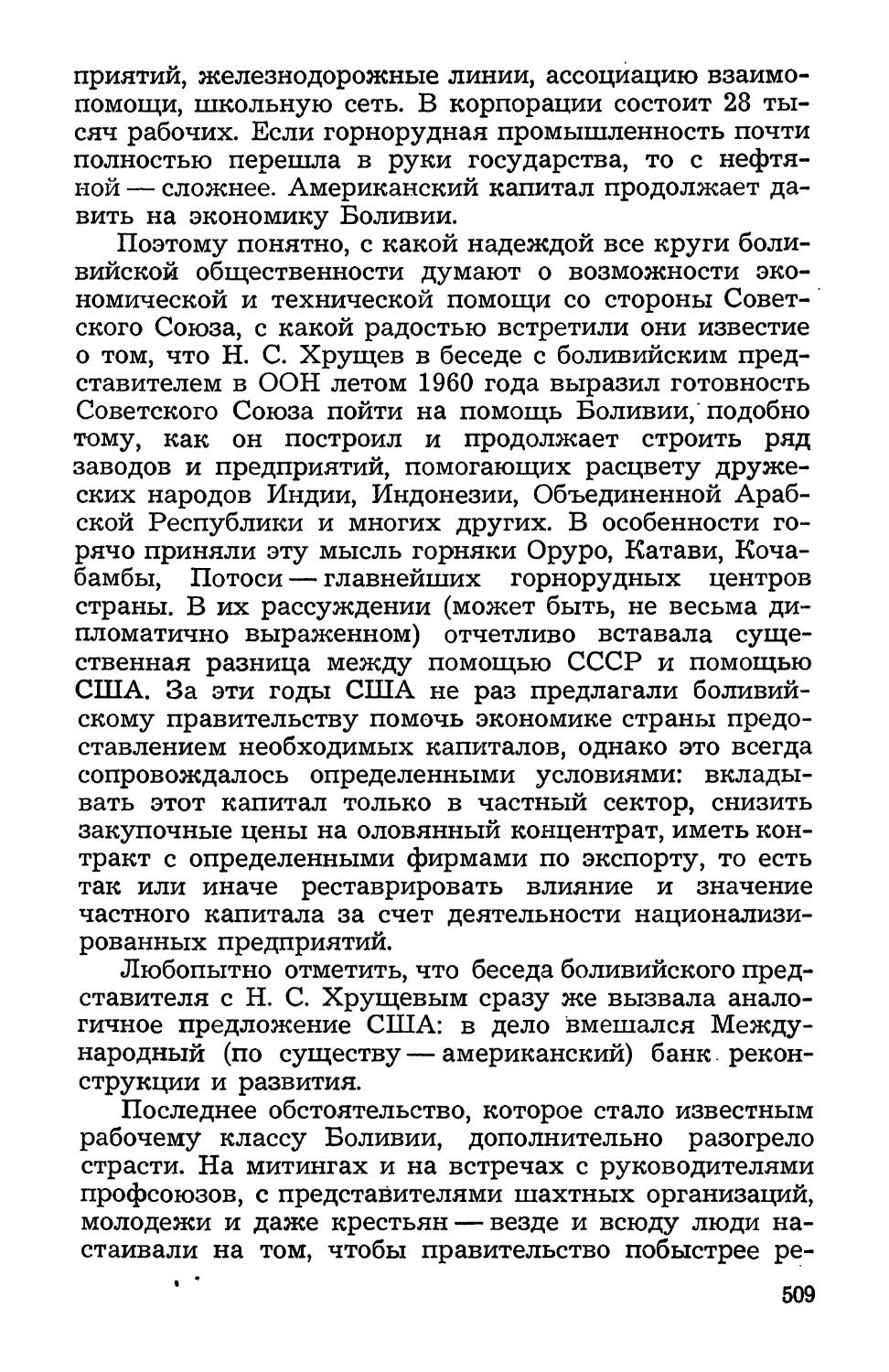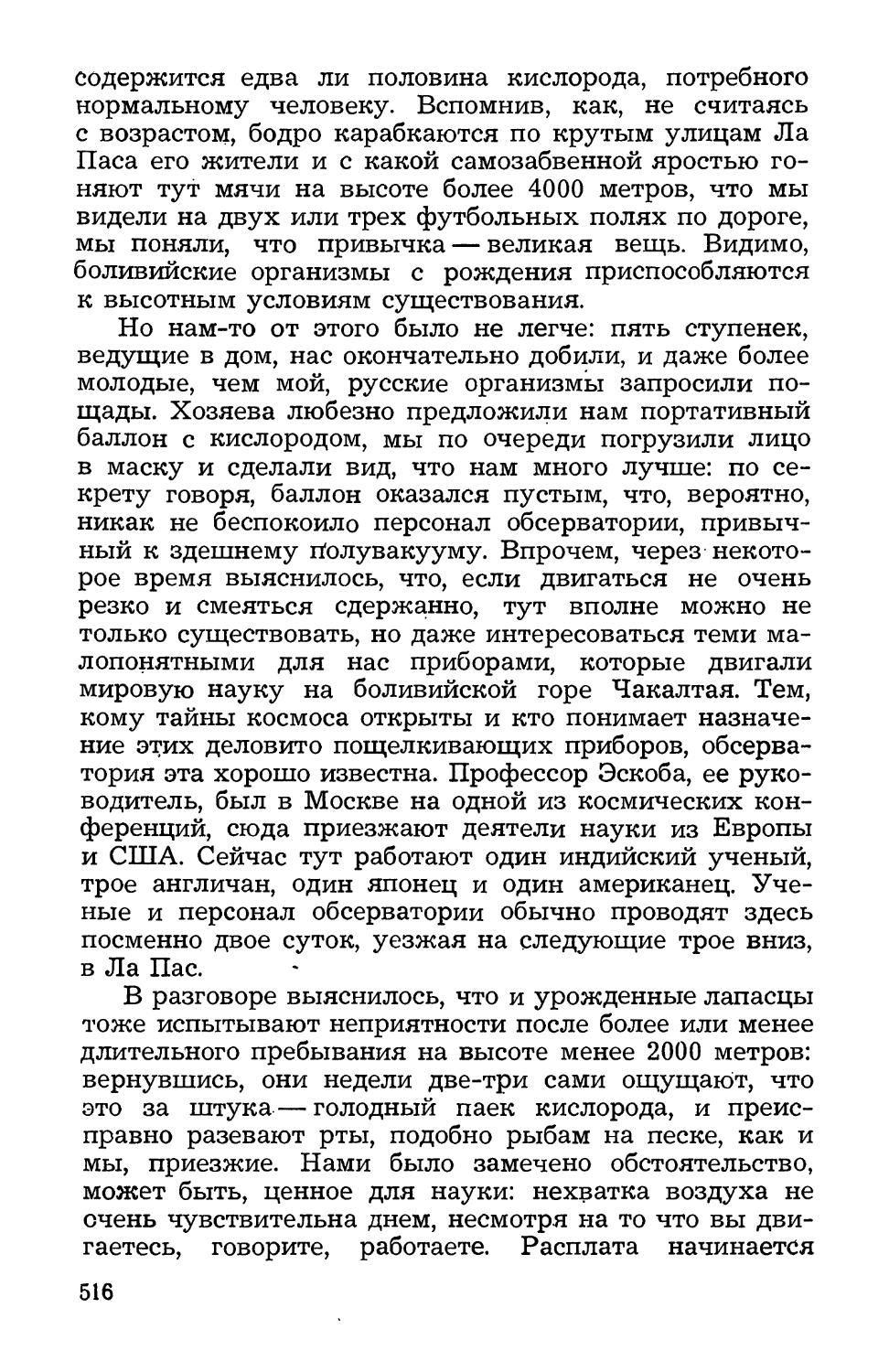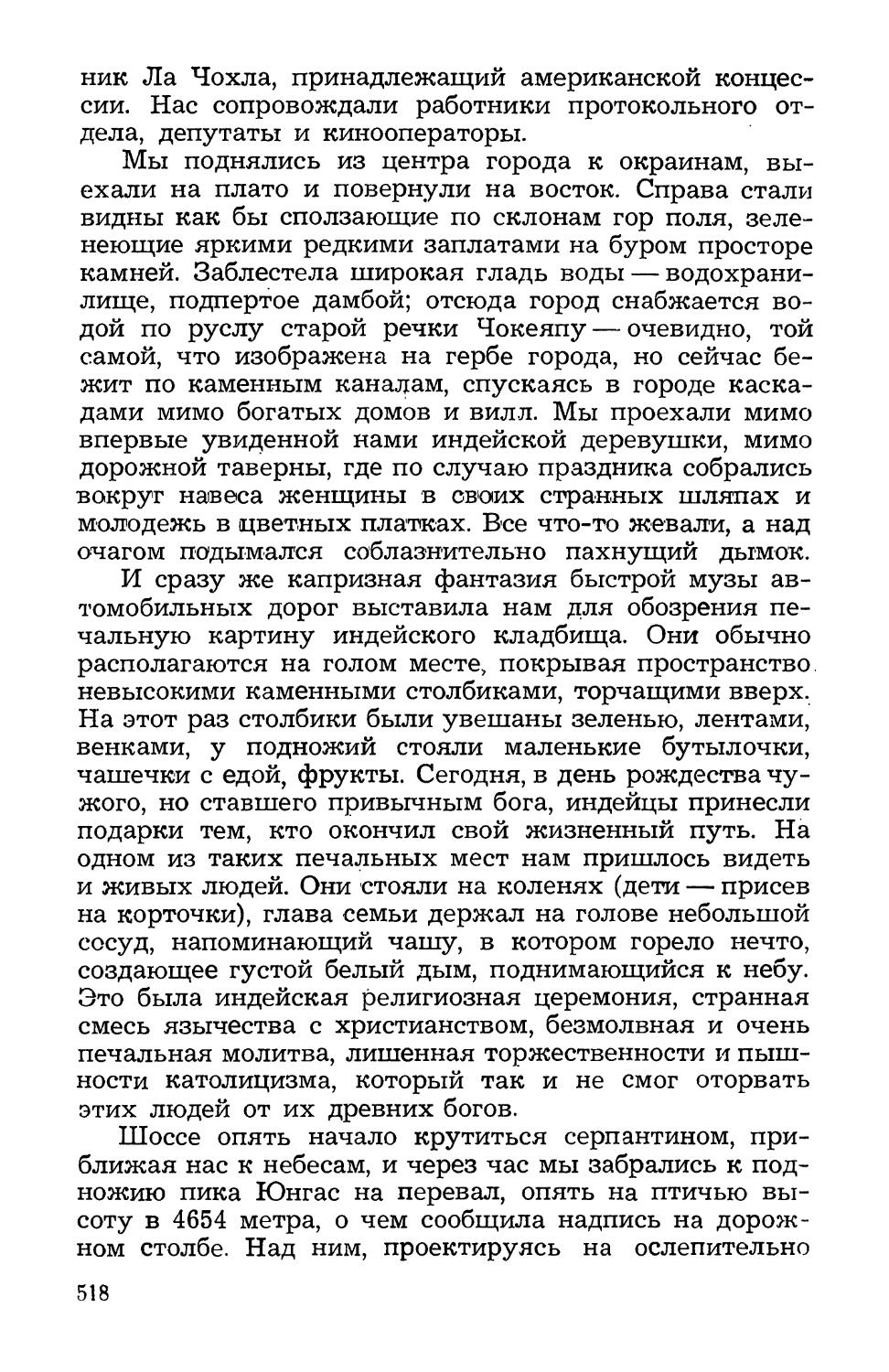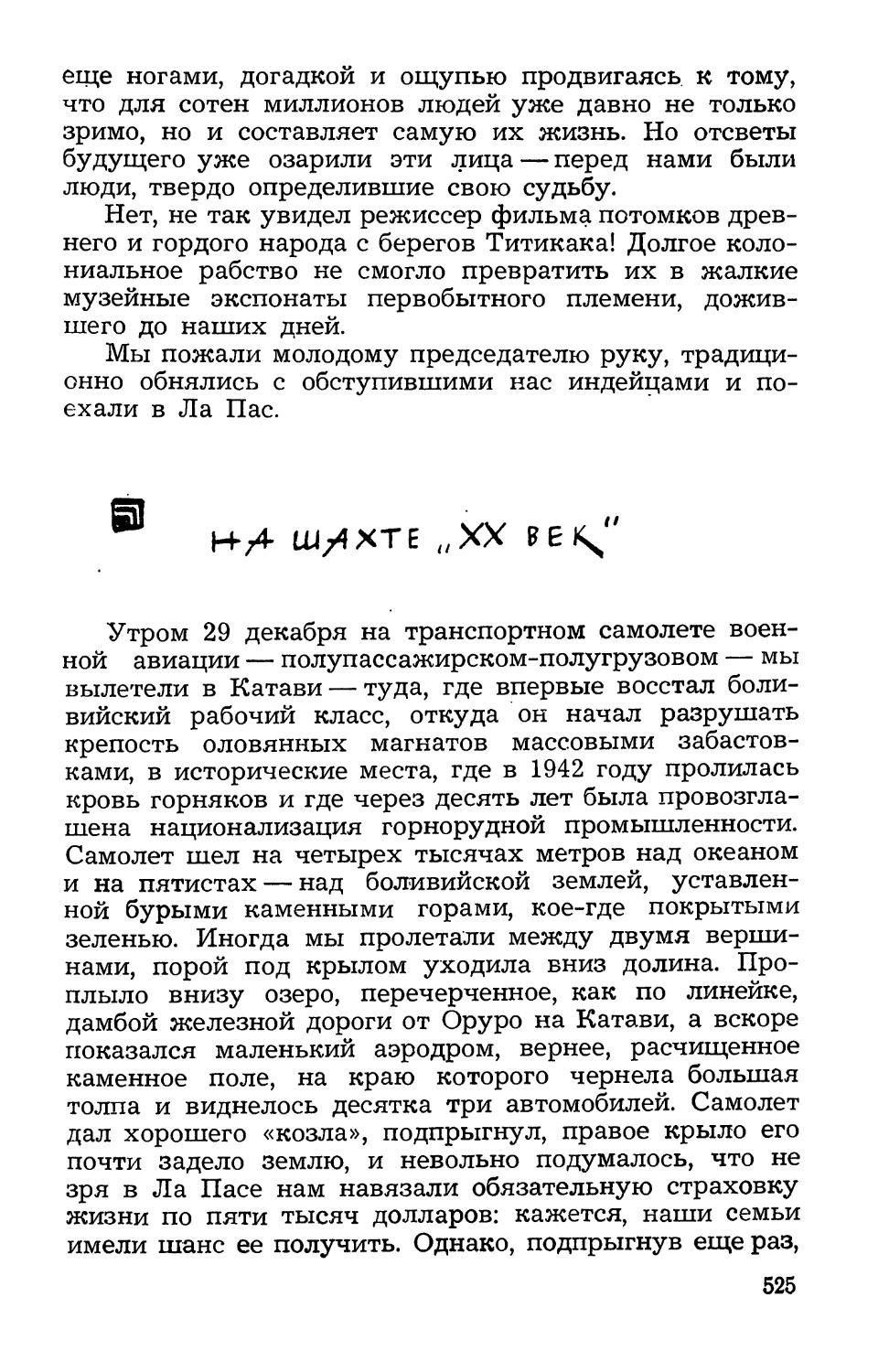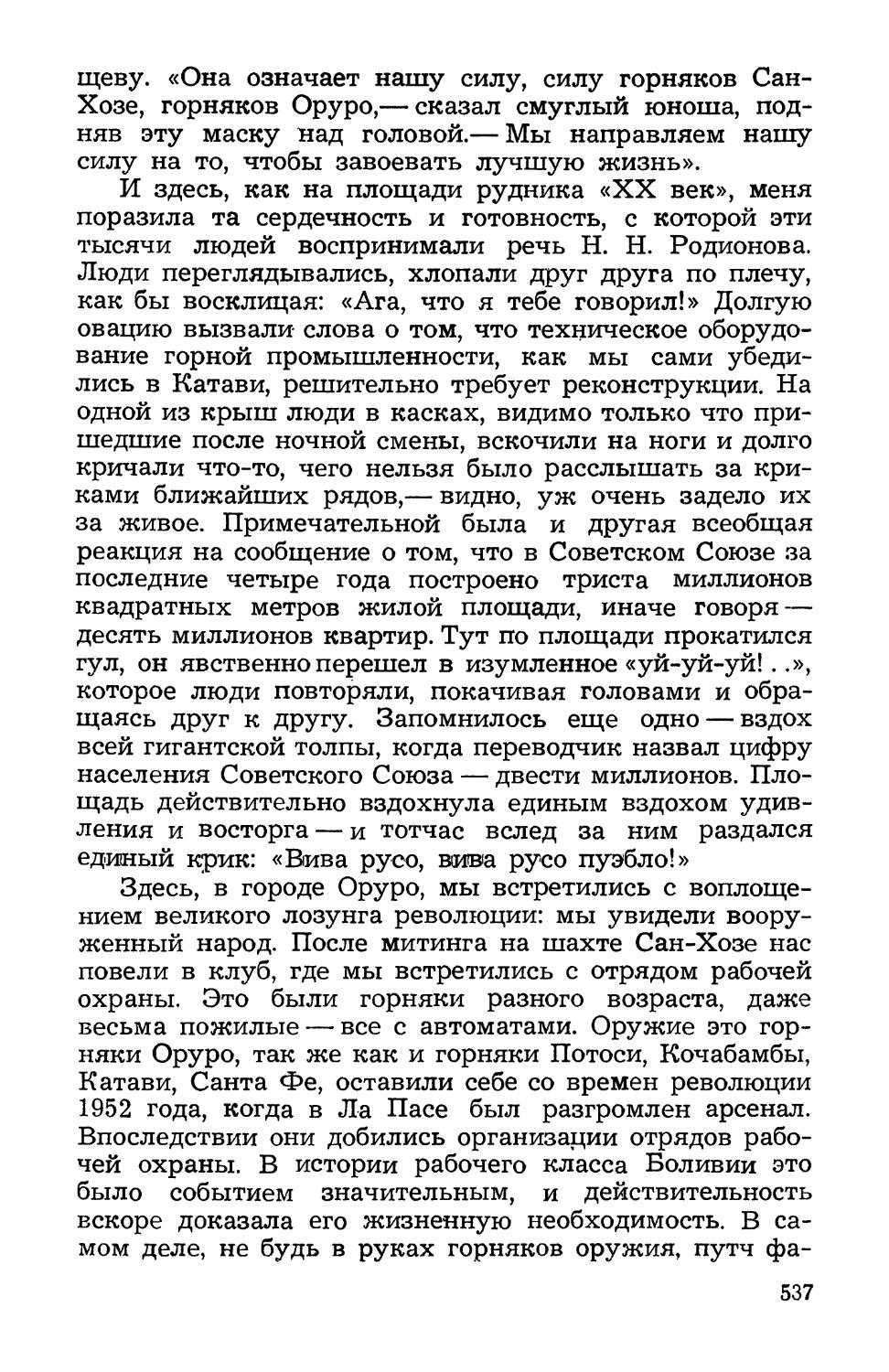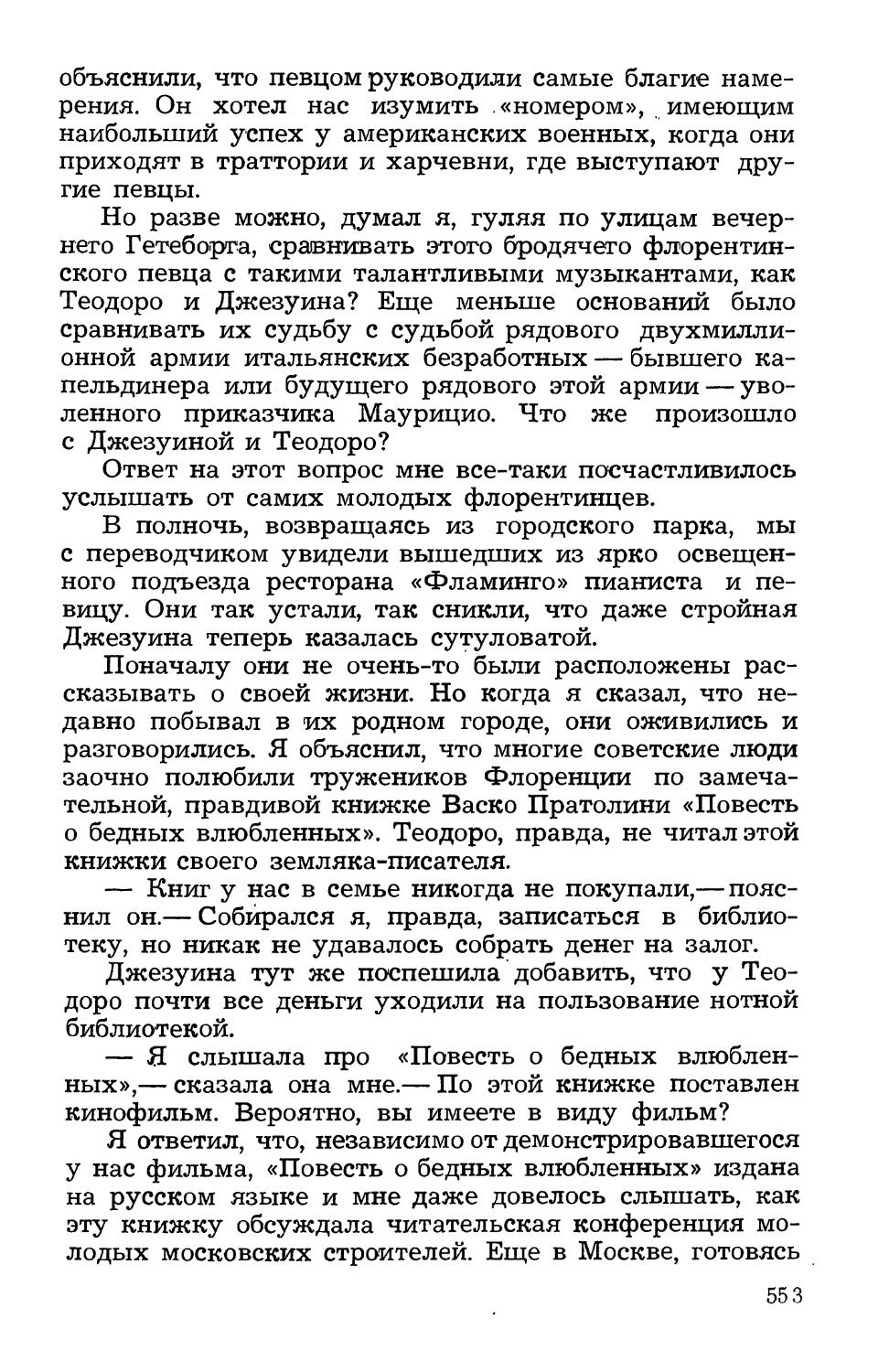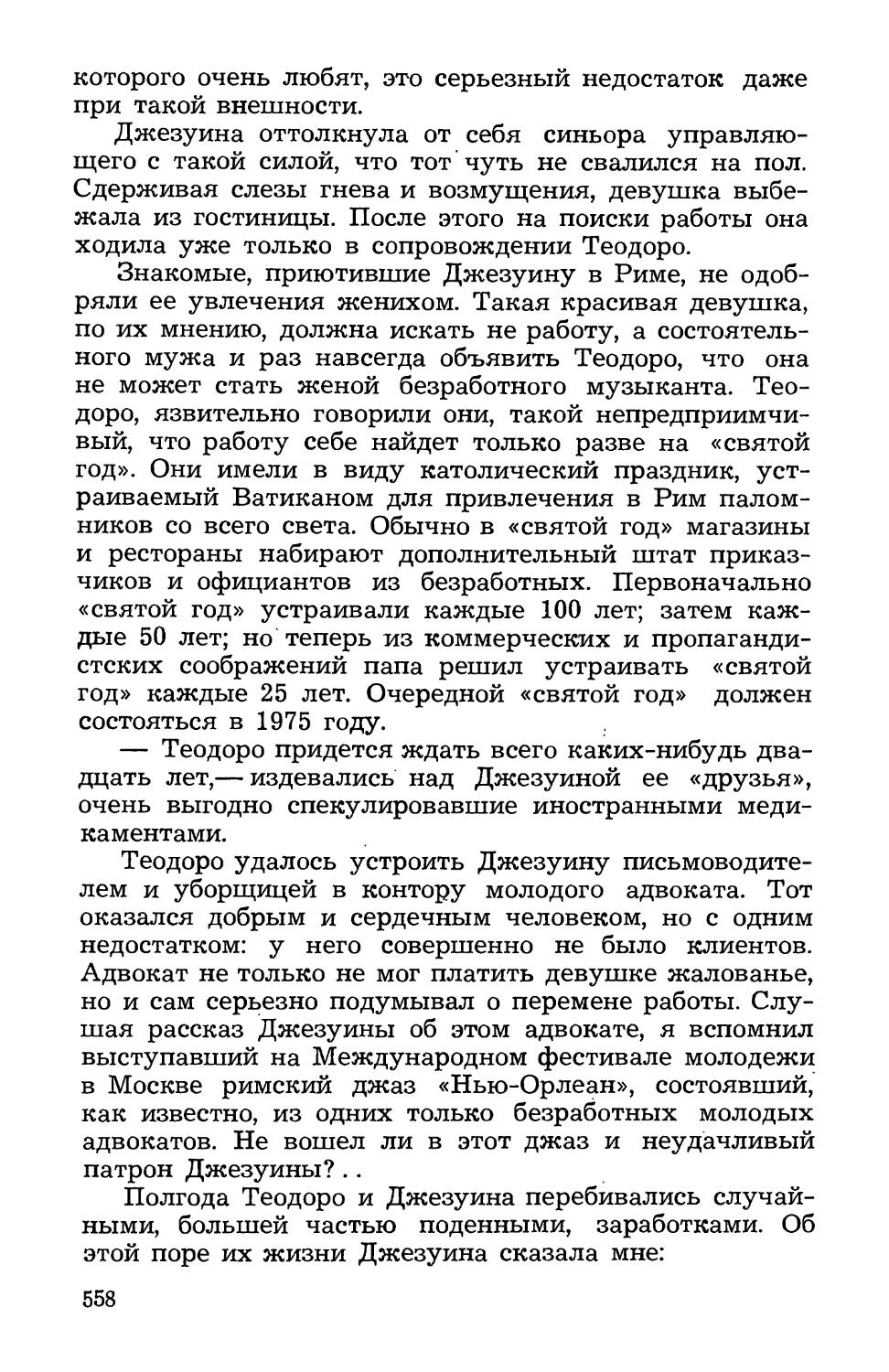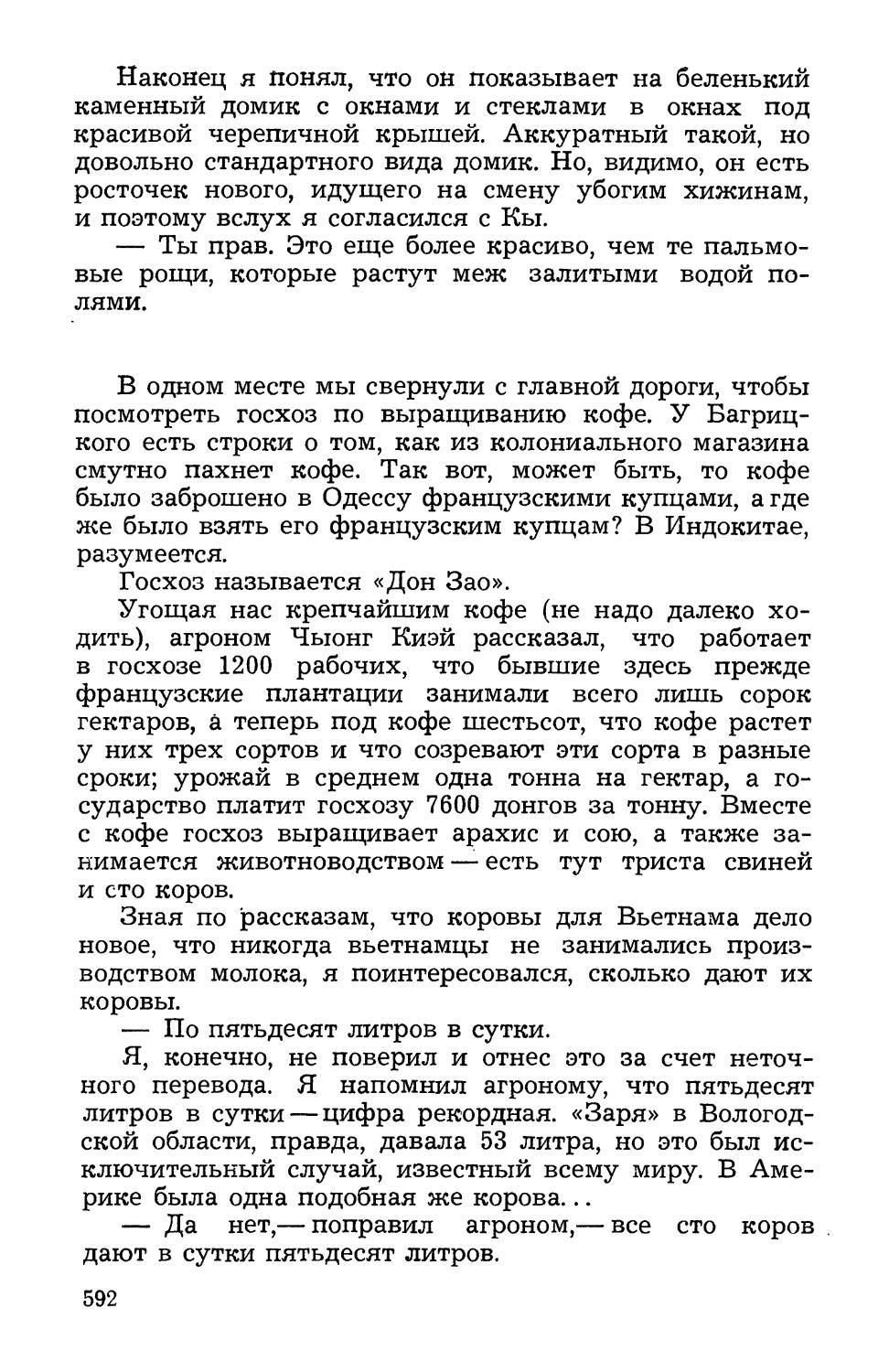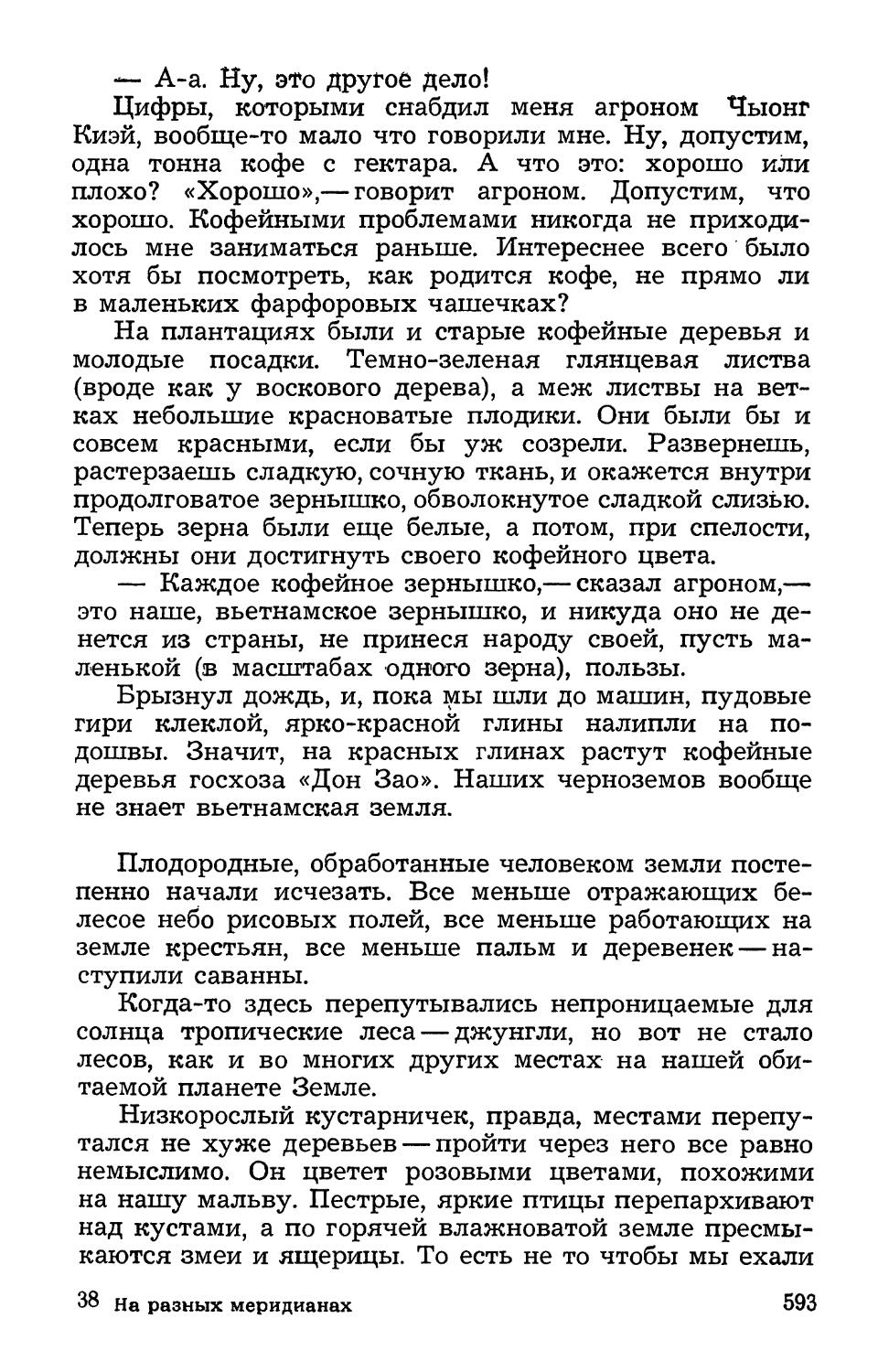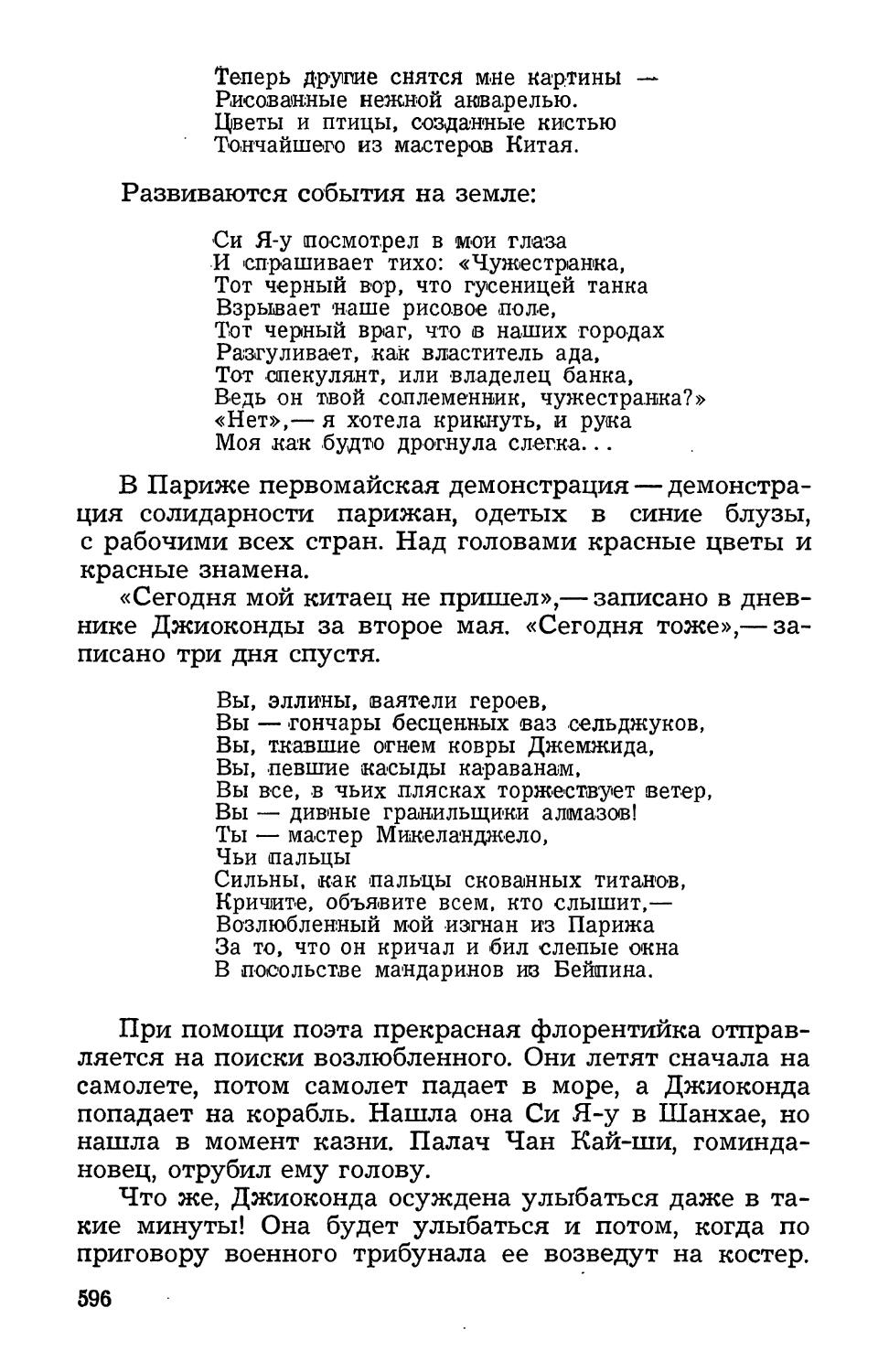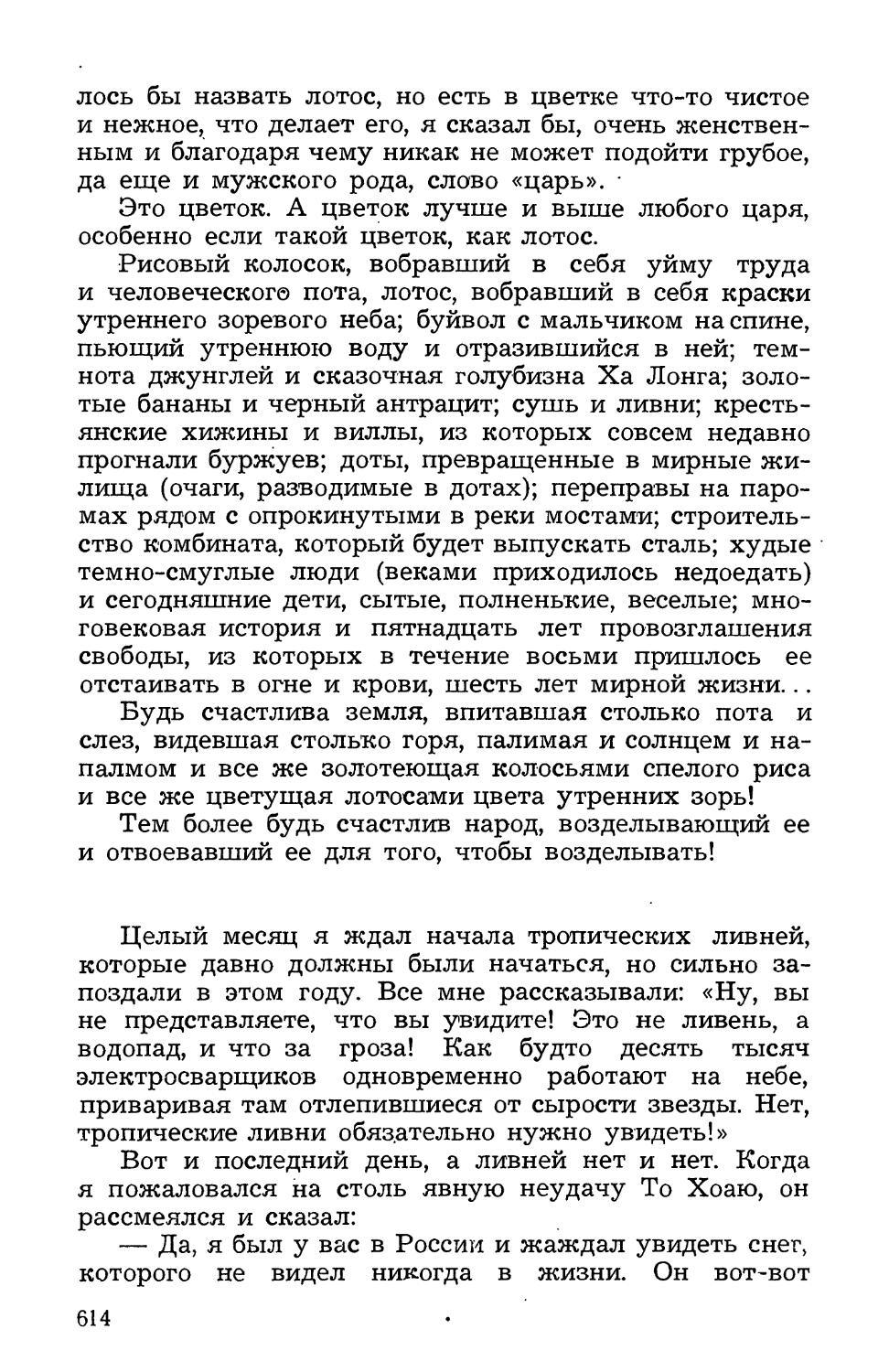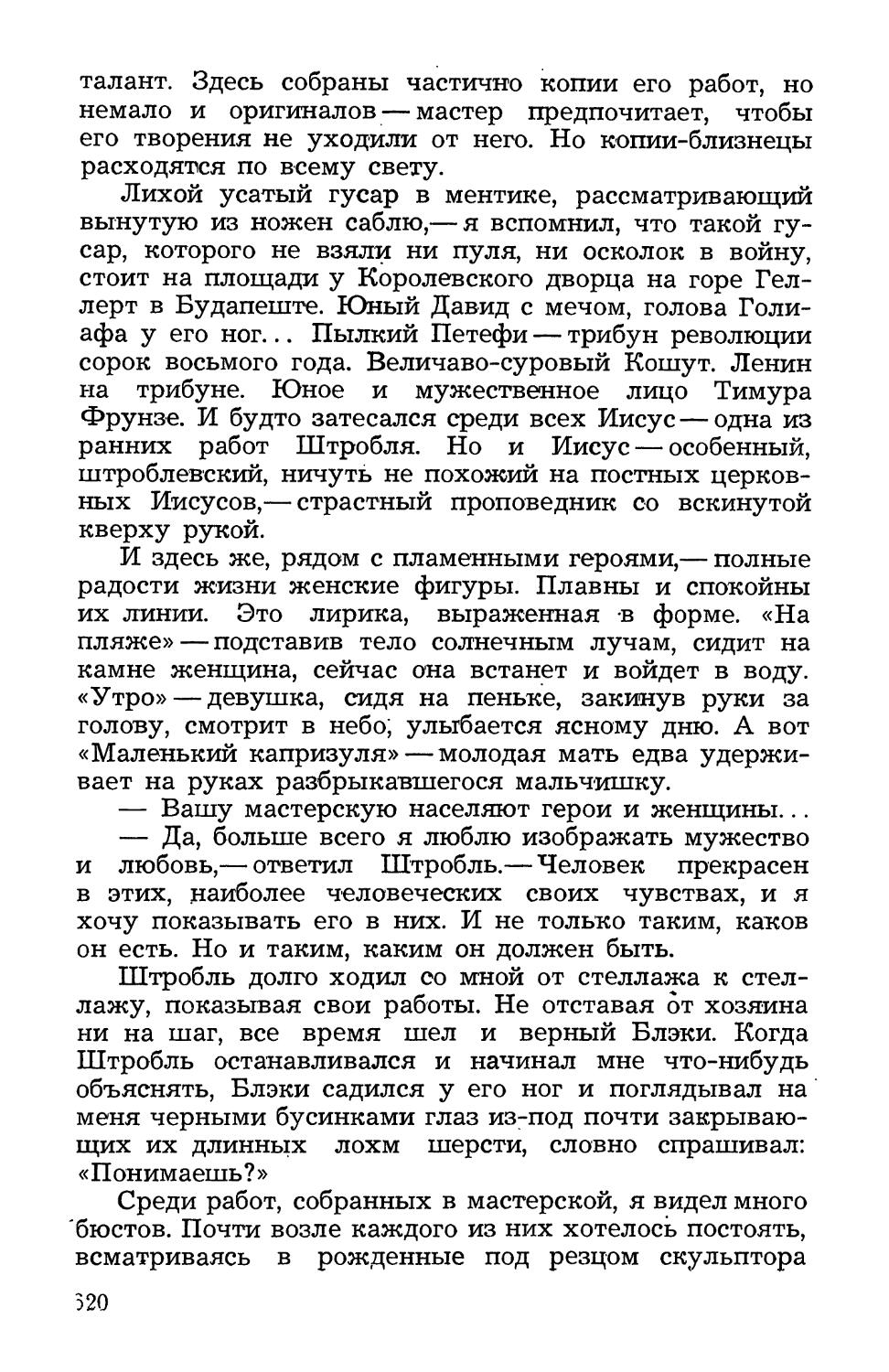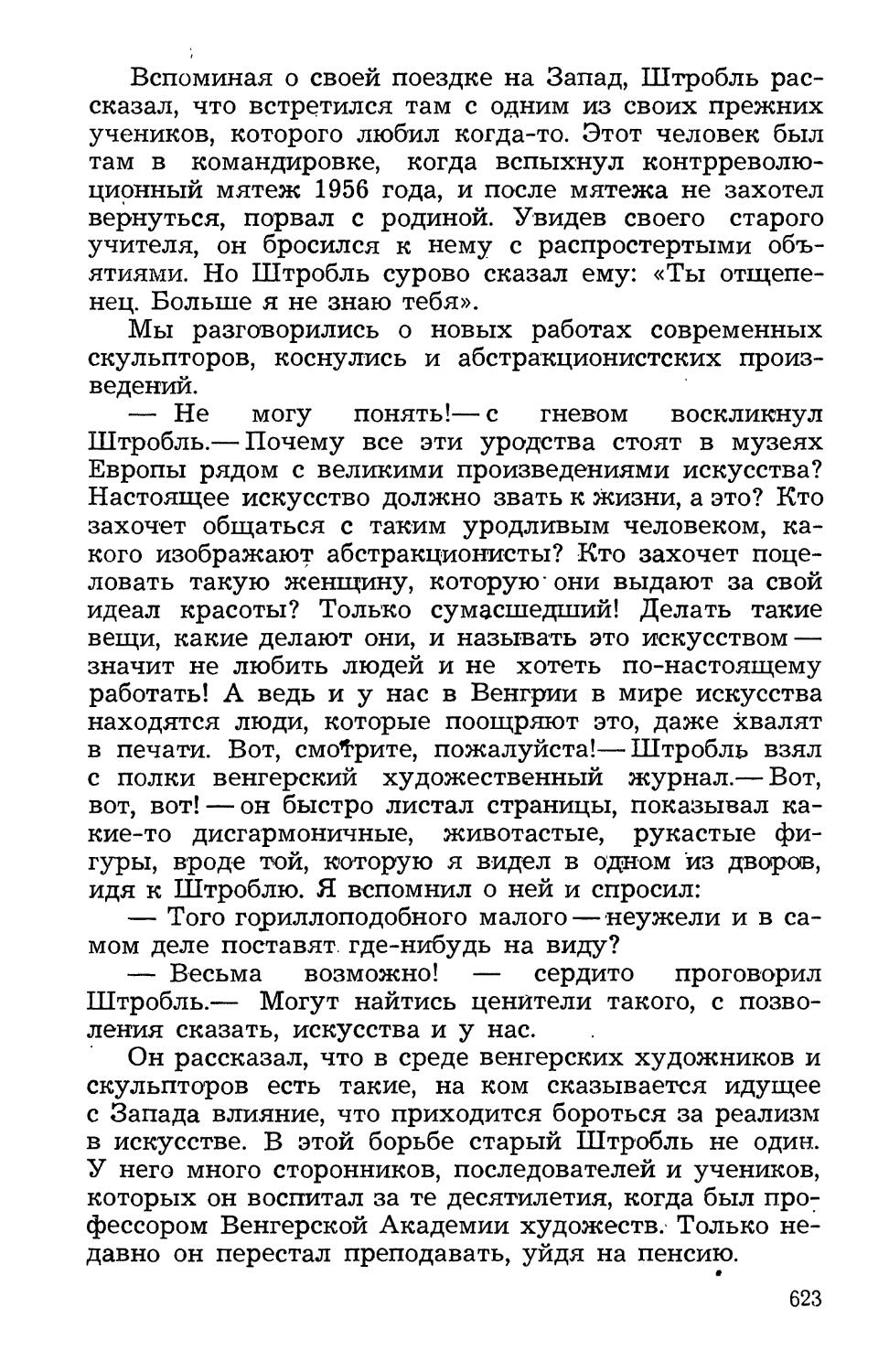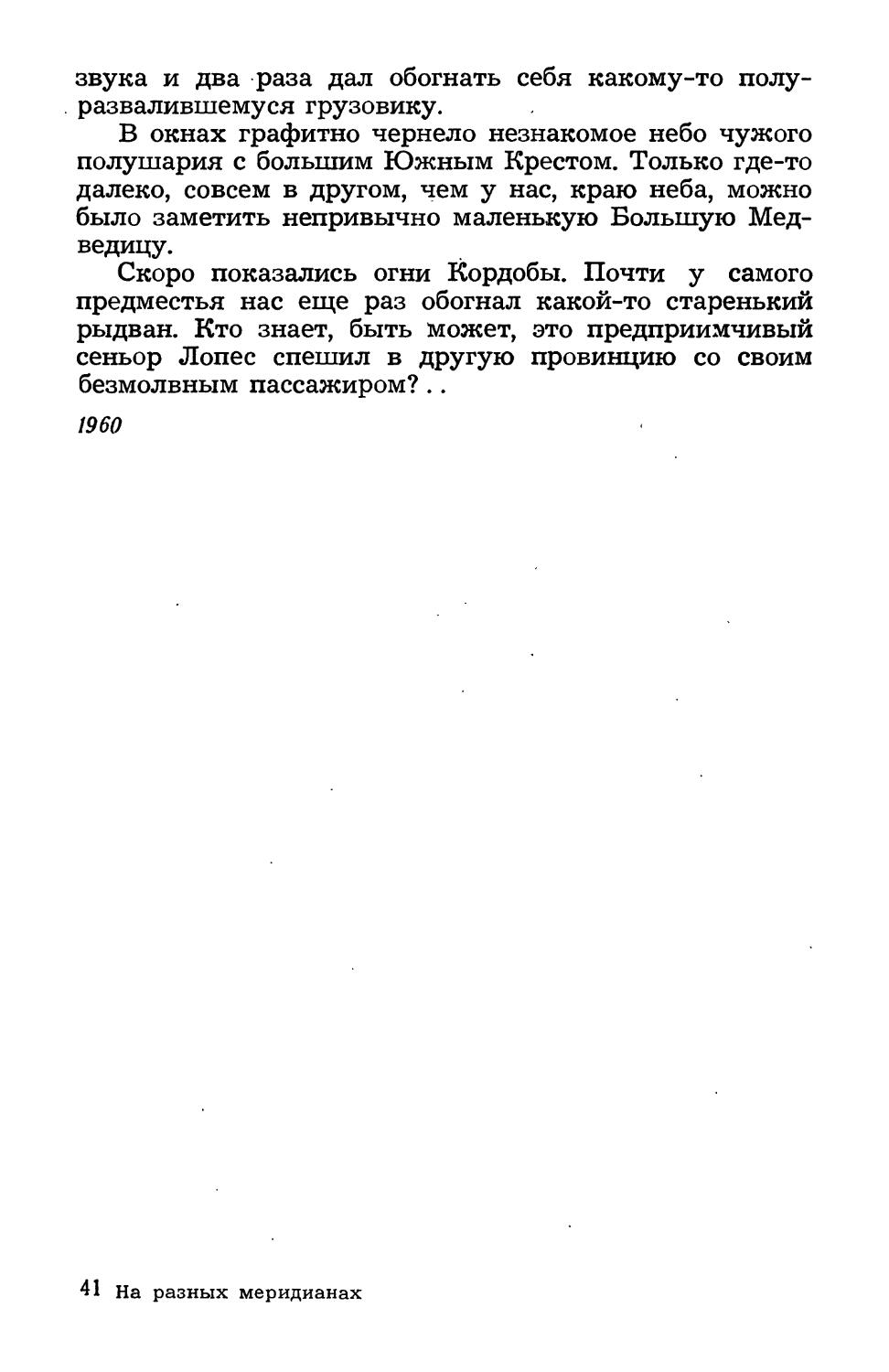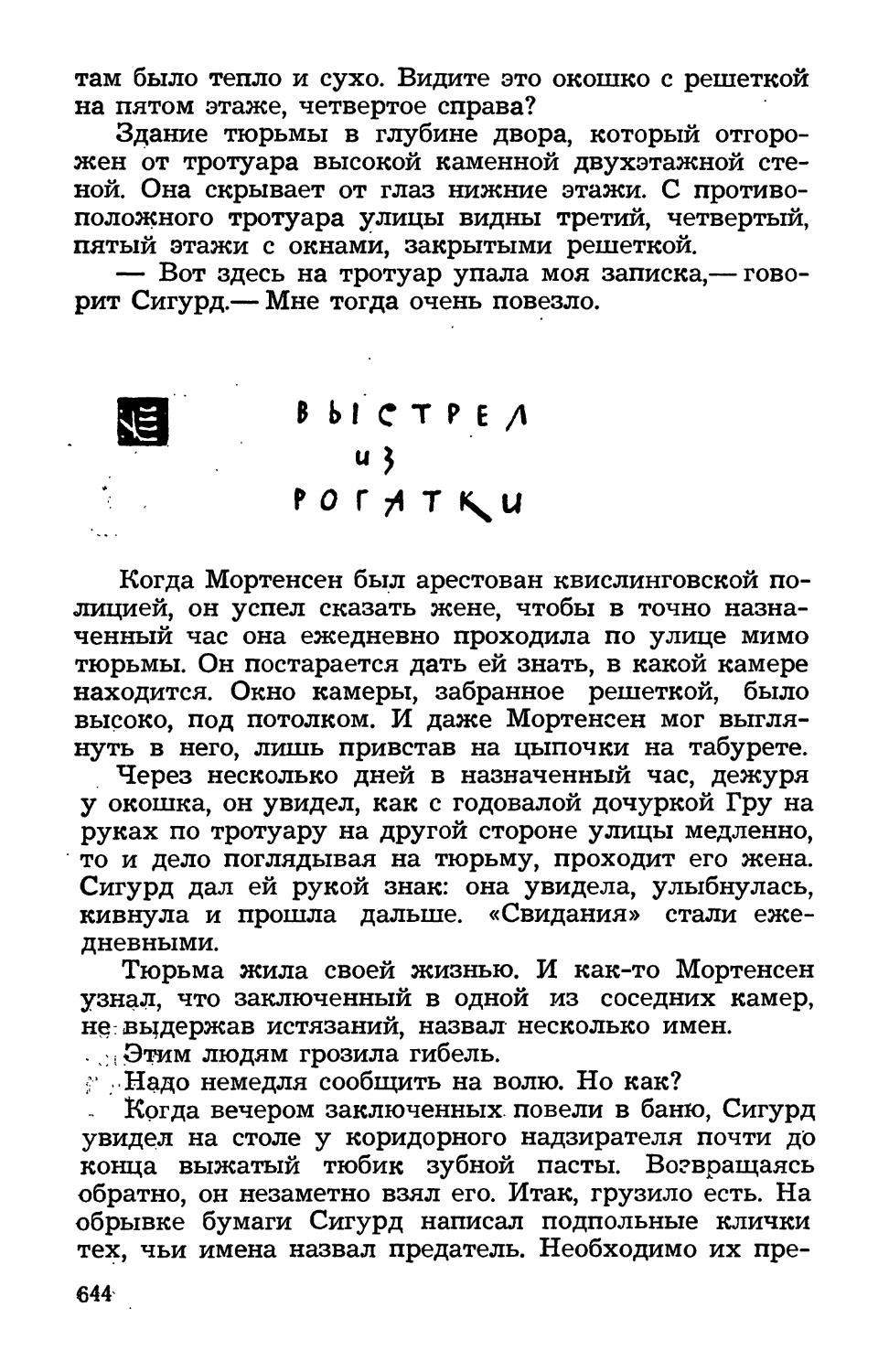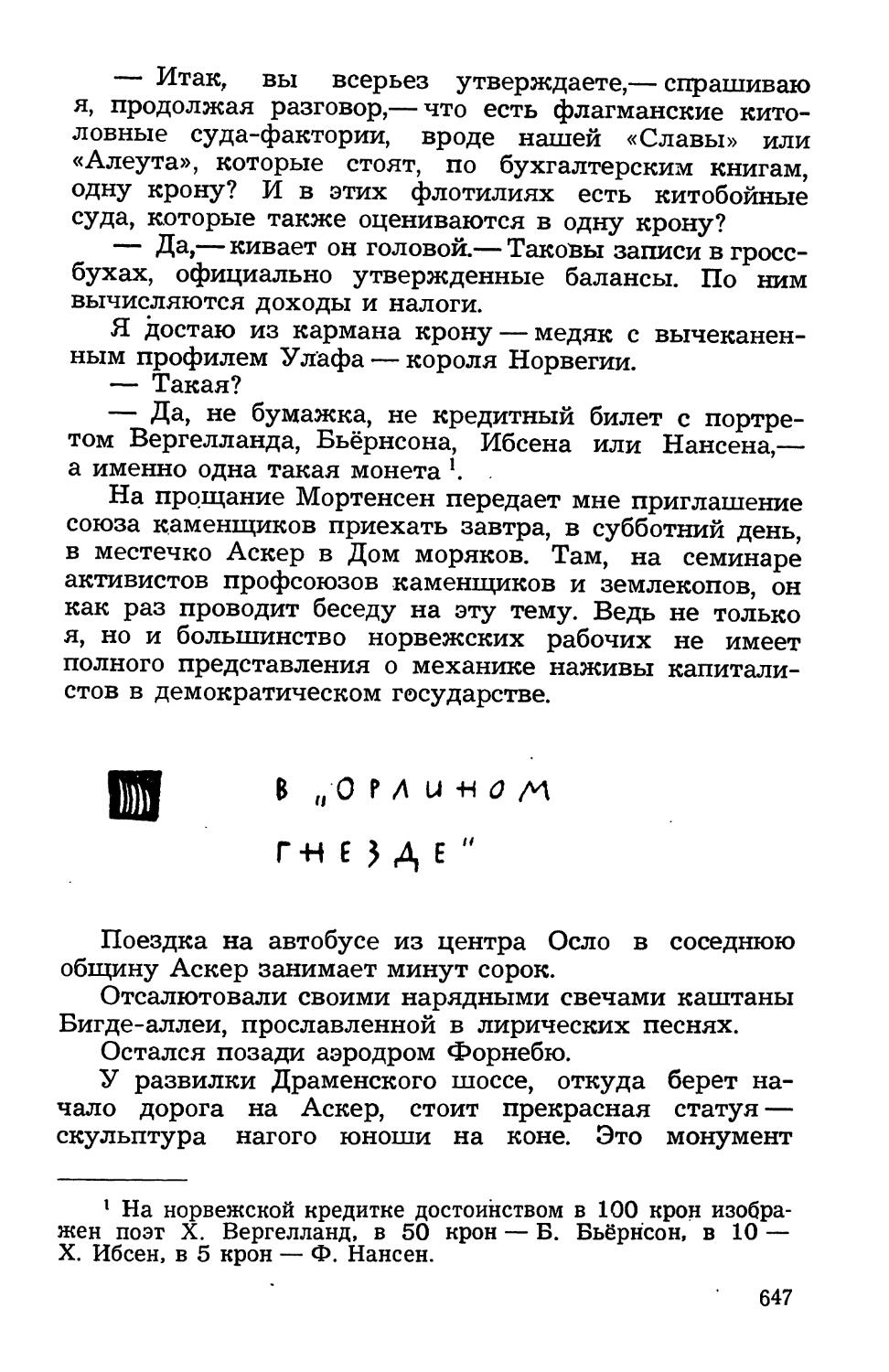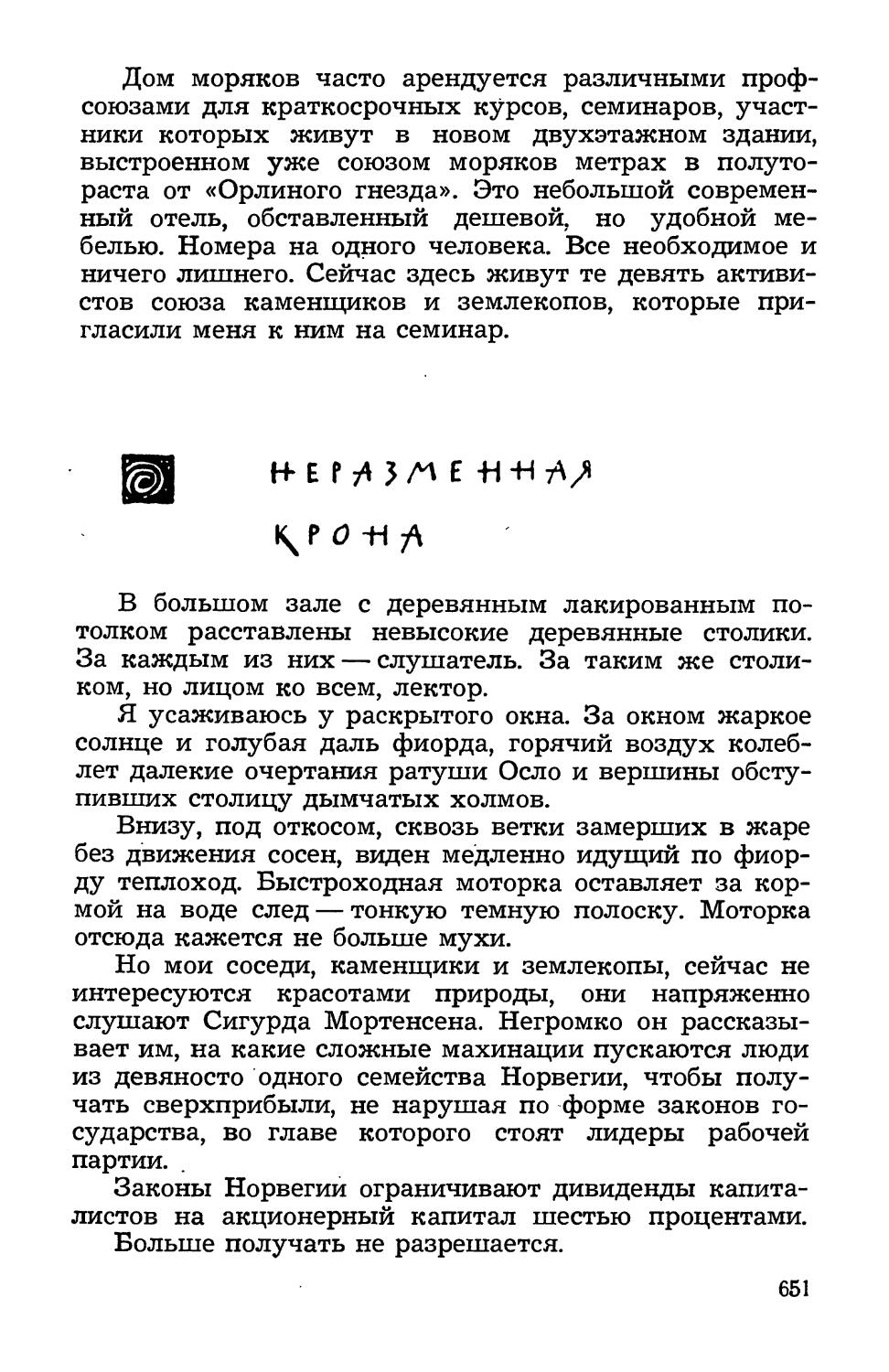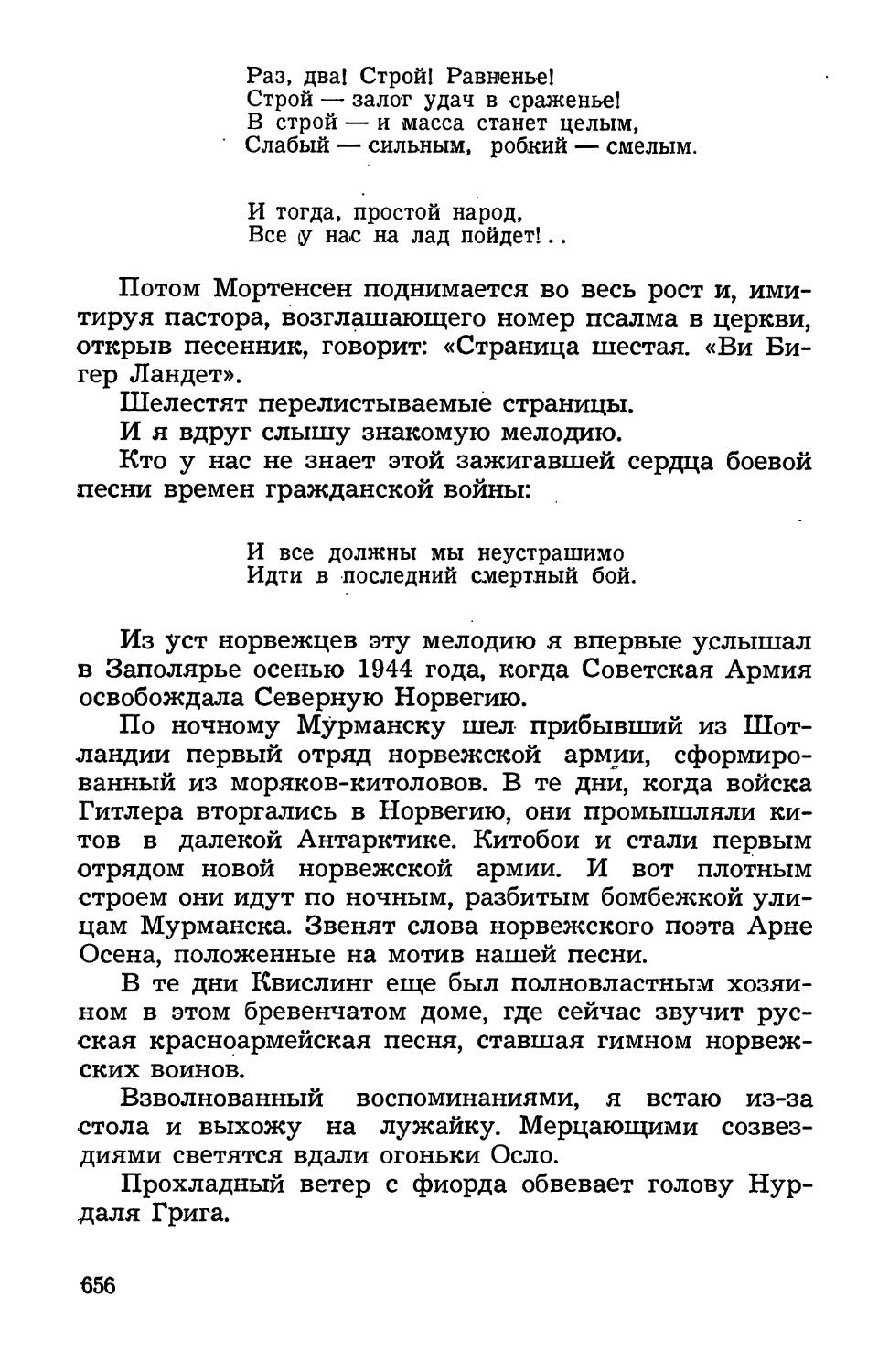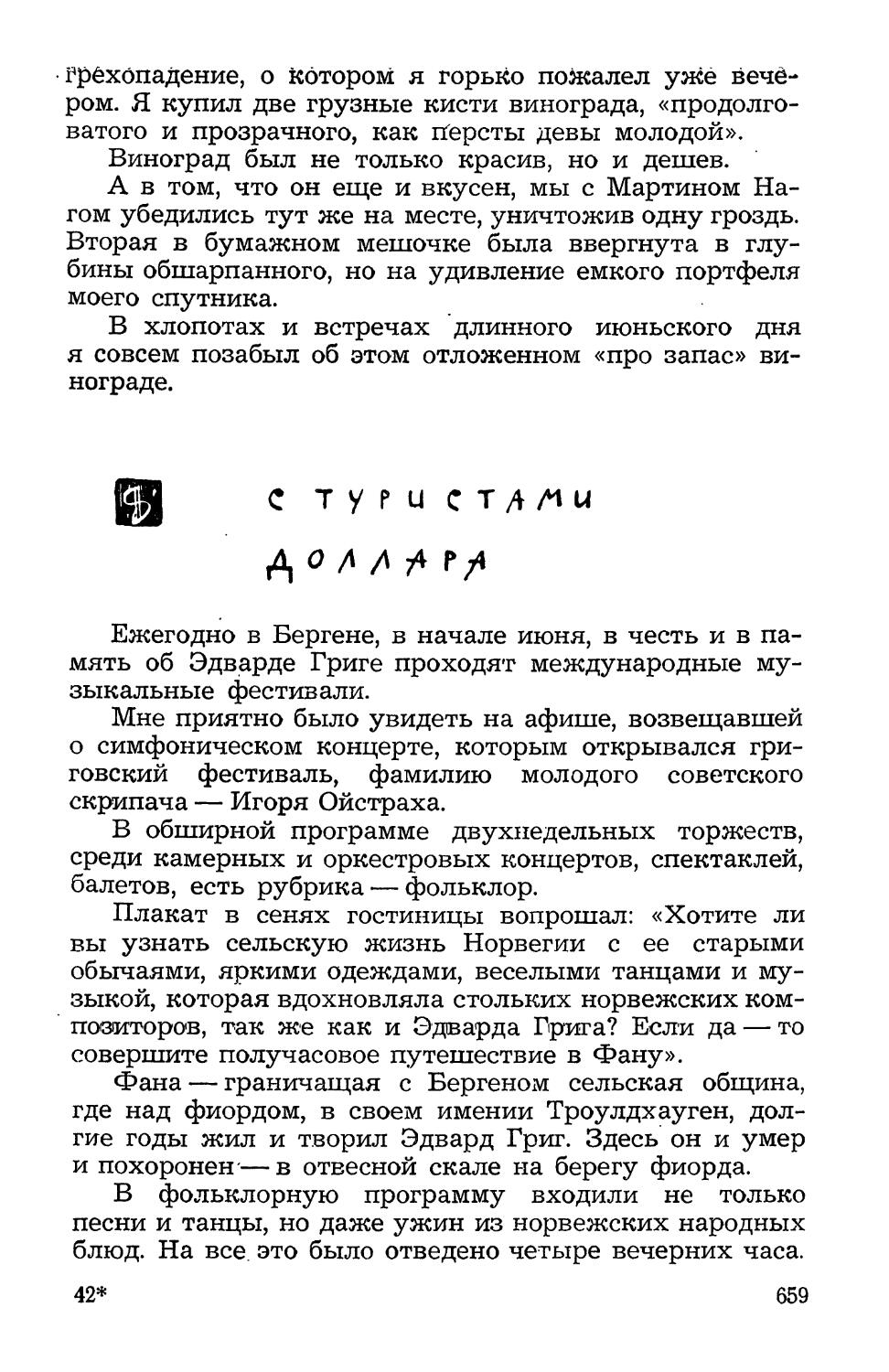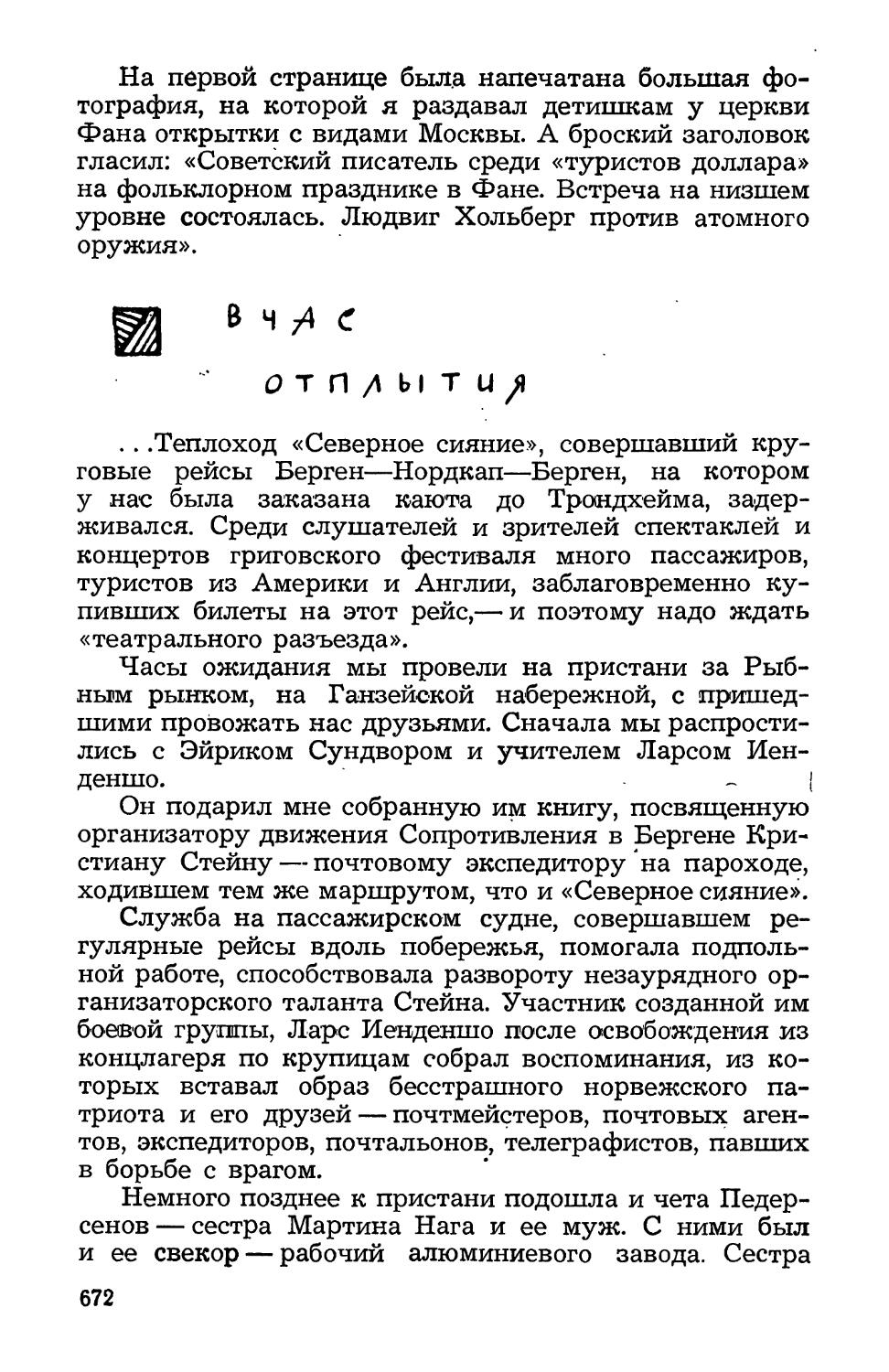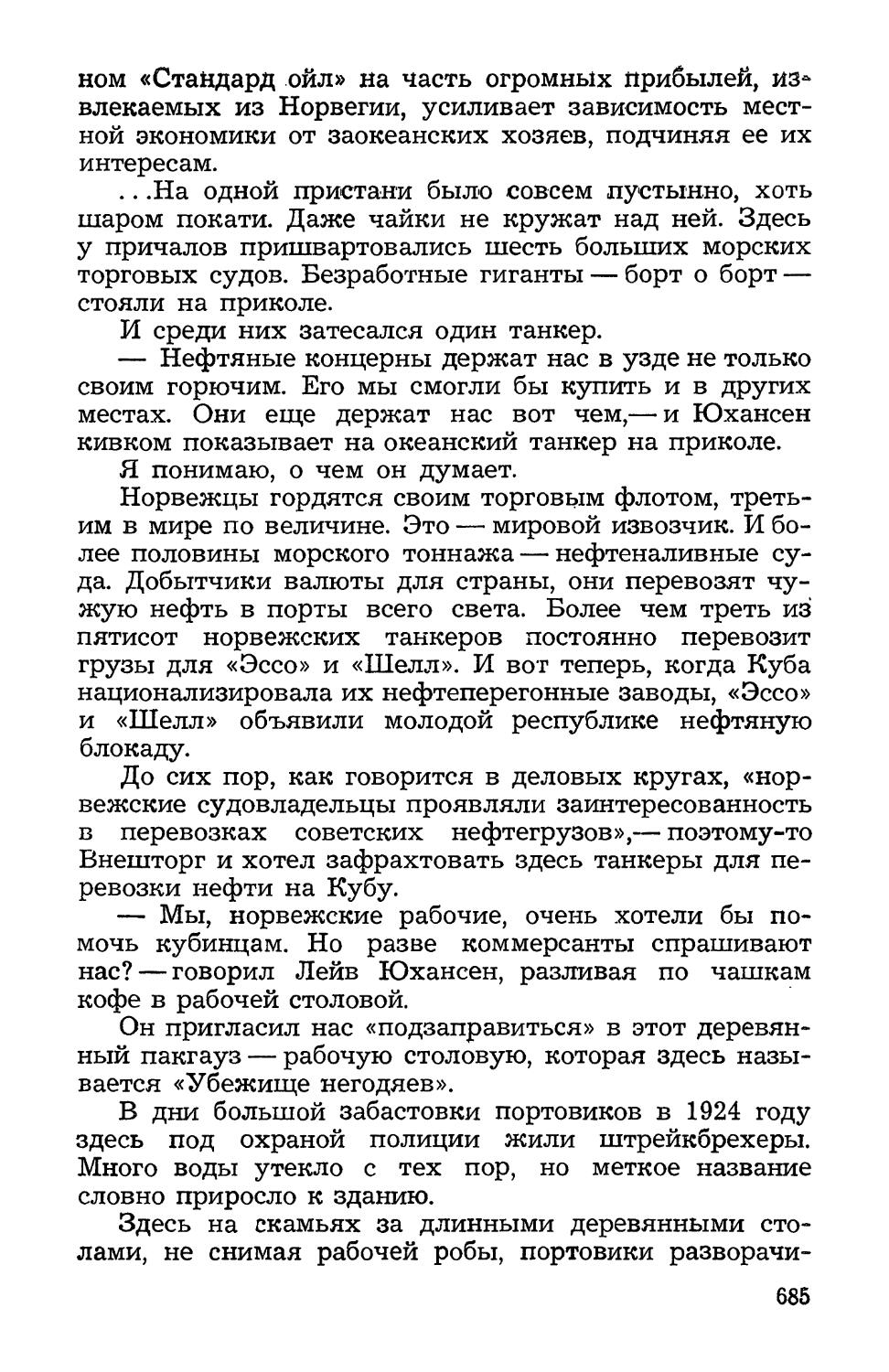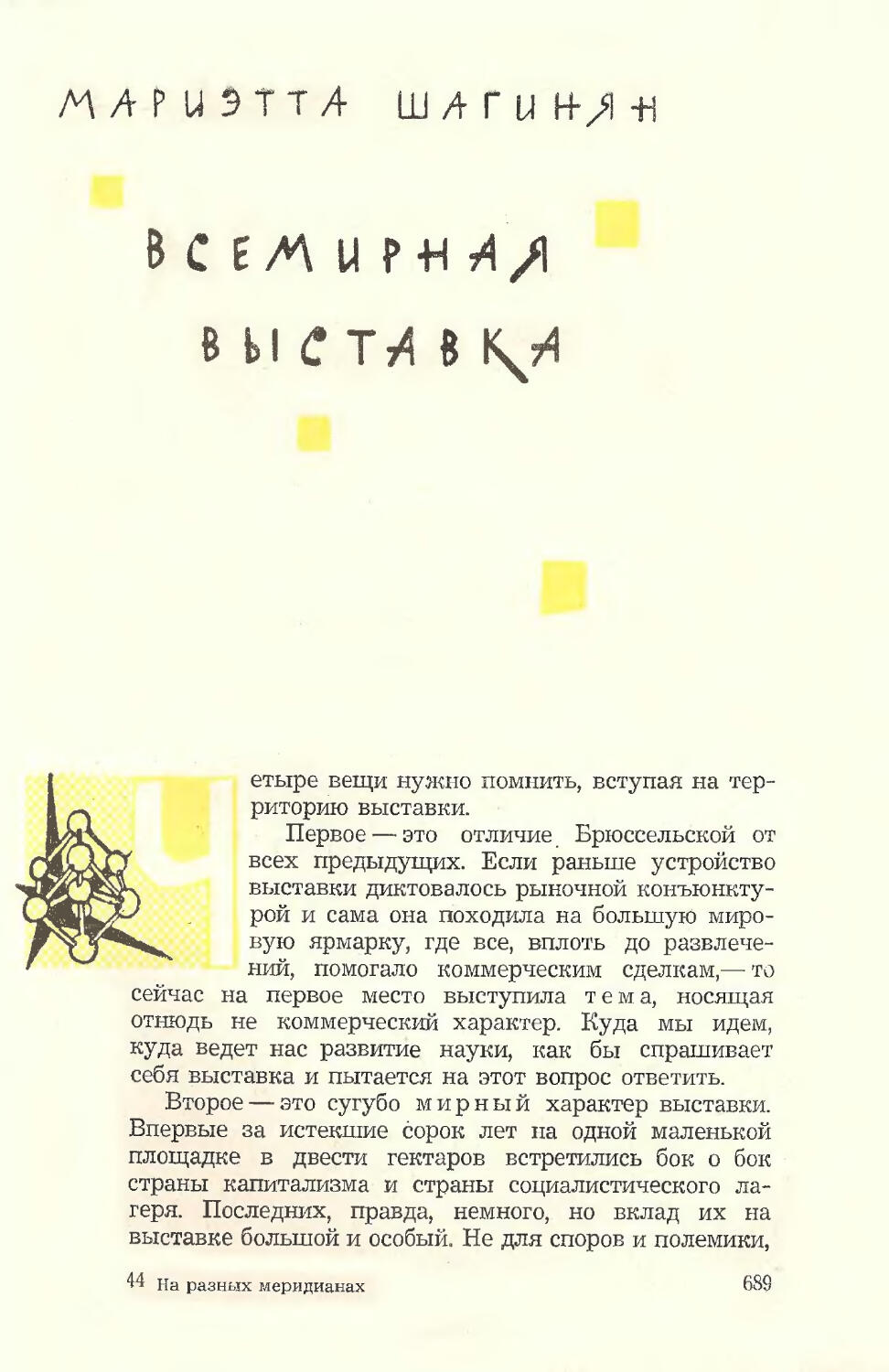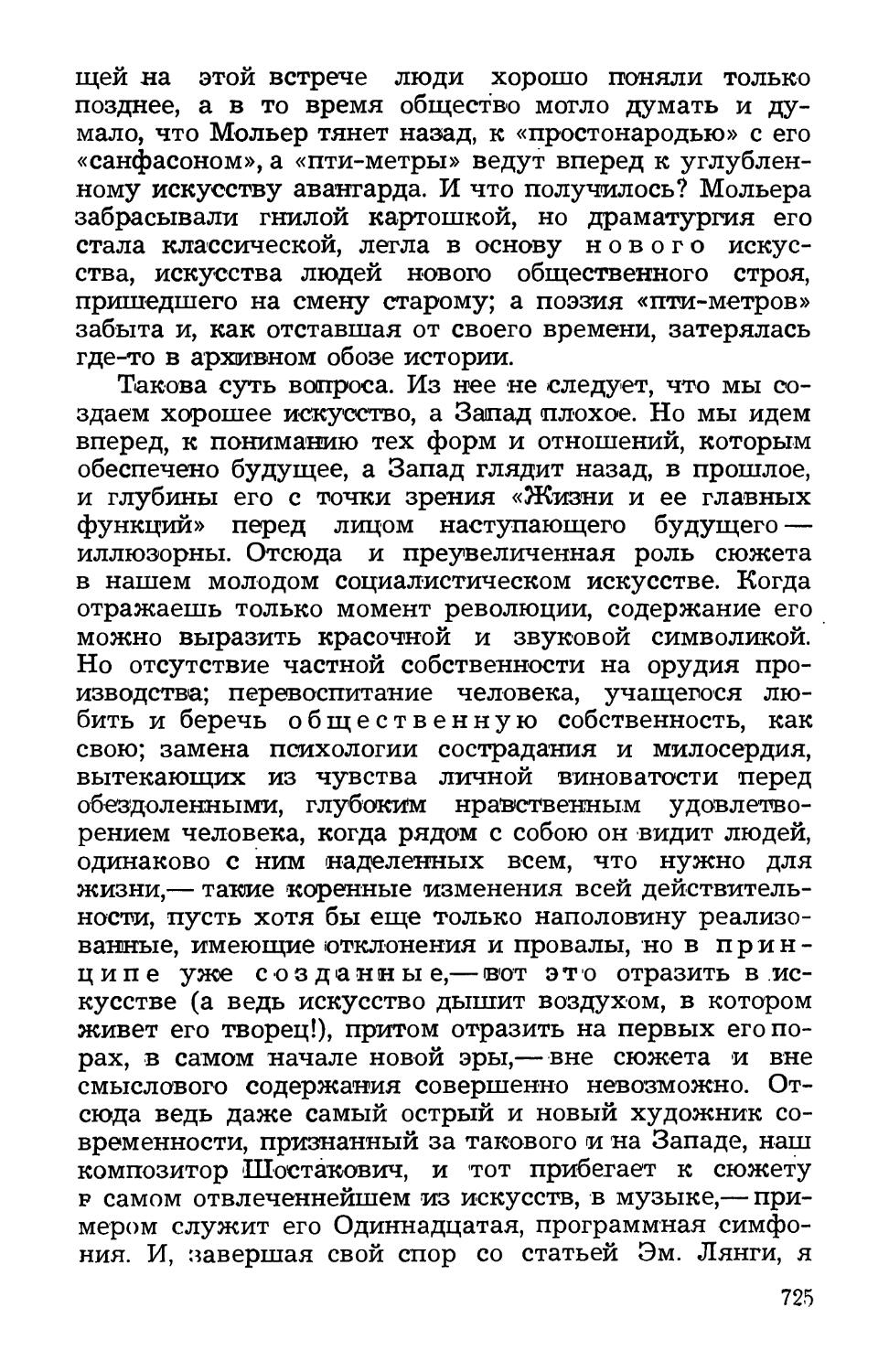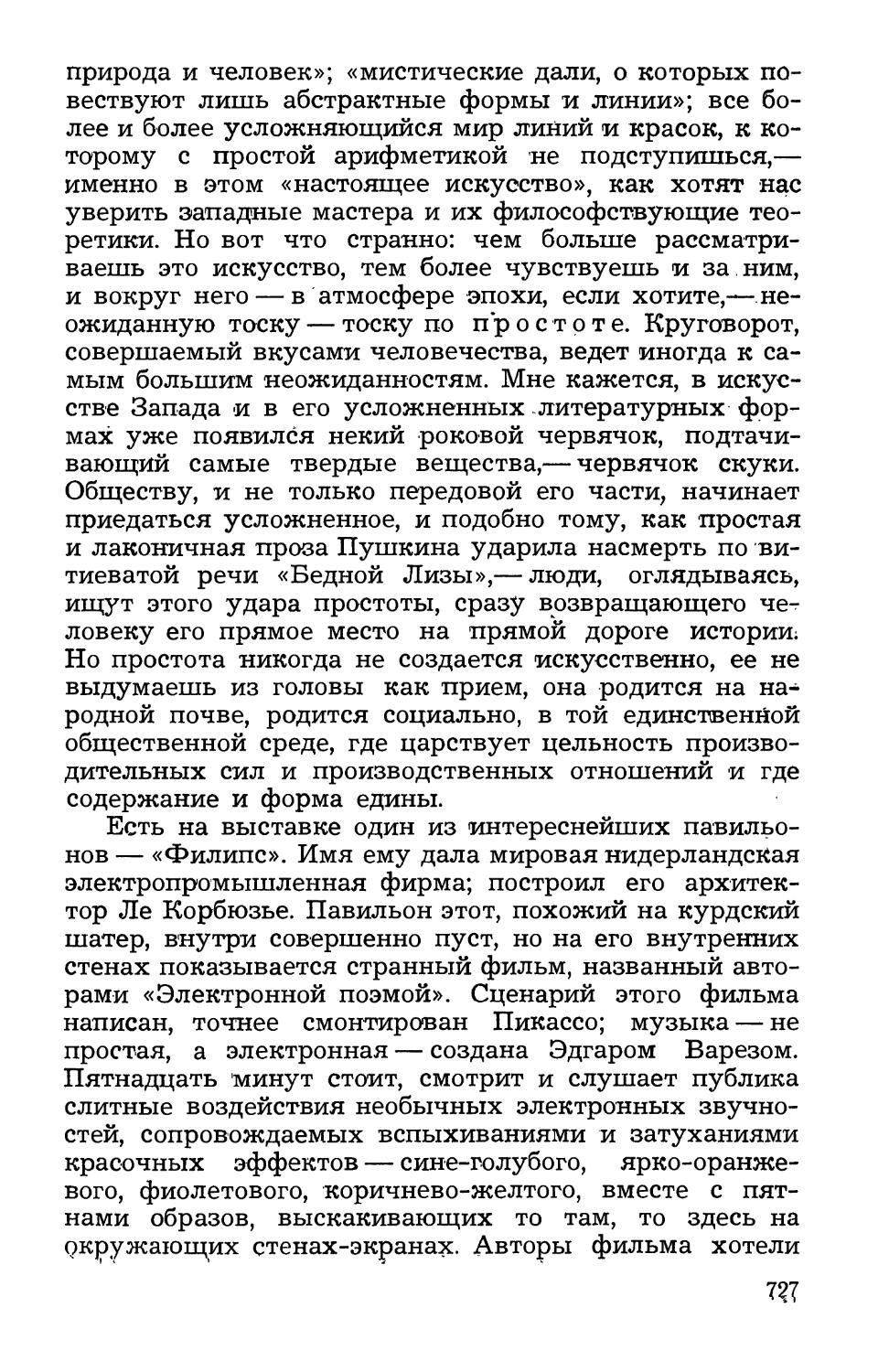Текст
Scan Kreyder - 29.06.2014 STERLITAMAK
Н И
Р/В н ых
MEPU4U/WX
о в
£00 ETC U И Л U С А Т f л »
За последние годы многие литераторы побывали за рубежами нашей страны, на всех меридианах и параллелях. Они познакомились с жизнью и бытом многих народов нашей планеты, народов Европы, Азии, Америки, Африки. Зоркий глаз писателя увидел своеобразие обычаев и нравов многих стран мира. О наших друзьях и врагах за рубежом, о строителях социализма и борцах с капитализмом рассказывает эта книга.
Сборник составлен по инициативе секции прозы Московского отделения Союза писателей. В него включены путевые заметки и очерки московских писателей, которые не выходили отдельными книгами.
Составители:
Я. Борисов, А. Исбах, Н. Панов, Г. Фиш
Г. F/ LI Ц KU И
Ш ЕСТ ИДЕ СОТОГО
акой уж тут сон!
Сирены выли всю почв. Сначала, с непривычки, я вскакивал и бежал к окну: не горим ли? В глубине уличного ущелья мчались черные автомобили. Красные огни тревожно пульсировали на их кузовах. Вой сирен был слышен еще несколько минут, затем раство-ругих ночных шумах этого никогда не мол-
ряла чащего города.
Нет, все равно не заснешь. Так, может, пойти к причалу, занять лучшее место?
Улица безмолвна: начало шестого, да и по специальному заказу госдепартамента.
Иду. Льет дождь. Нудный, осенний. В
асфальте — радужные масляные пятна. Берег Ист-Ривера закрыт мокрыми складами, заборами, кирпичными хмурыми домами. Железные наружные лестницы бросают тени на окна. Лестницы змеятся вдоль
не спеша
погода как
лужах на
5
фасадов всего старого Нью-Йорка памятью о былых страшных пожарах.
На перекрестке — огромный автофургон с подъемной площадкой на крыше и эмблемой крупнейшей телевизионной компании. Возле массивного штатива под непромокаемым чехлом — фигурки в глянцевитых плащах, отражающих свет уличных фонарей. Значит, не я первый.
Не я первый?! Да возле ворот семьдесят третьего причала колышется уже черная толпа, человек полтораста — двести!
Первая полицейская линия, рука под козырек:
— Ваш пропуск.
Вторая:
— Ваш пропуск, пожалуйста.
На третьей линии — сличение со списками. Точно не помню, но, кажется, еще и роспись в прошнурованной книге. И, наконец, запись в список прошедших на причал. Меня заносят уже под номером шестьсот девять!
Причал, где Нью-Йорк принимает «Балтику», не делает чести крупнейшему портовому городу мира. Он стар, в окнах повыбиты стекла. Сквозь люки в крыше то капает, то льет.
Шестьсот пришедших до меня жмутся где посуше. Фоторепортеры прикрыли свою технику макинтошами и пиджаками. Тусклые лампы освещают заспанные лица, уже успевшие, однако, посинеть от холода. Впрочем, американский сервис действует и тут: откуда-то появляются термосы с горячим кофе. Проглатывая ча-^ шечку за чашечкой, журналистская братия проклинает «идиотов, устроивших все это».
Что именно «это»? А все, что нарастает в Нью-Йорке с каждой новой милей, остающейся за кормой «Балтики». Выбор этого старого причала, например; «манхэттенский занавес»; серые линии заградительных барьеров на каждом шагу; вой полицейских сирен.
Ну, а вчерашние беснования у небоскреба Организации Объединенных Наций? Нет, их мои американские коллеги не осуждают: это ничего, это материальчик для газет...
А вчера хозяйская рука встряхнула, взболтнула помойное ведро нью-йоркских политических задворок.
6
На углу Сорок Второй улицы, неподалеку от здания Организации Объединенных Наций, появились юркие молодые люди. Они всовывали прохожим изящный, вдвое сложенный лист белейшей бумаги и художественно исполненный значок с надписью «Долой Кастро».
На листе — целое воззвание «революционно-демократического фронта», который вот-вот, не сегодня-завтра, самым наидемократическим способом вернет Кубу «под сень свободы»! Воззвание подписано экспремьер-министром, просто экс-министром, экс-президентом банка, экс-лейтенантом войск кубинского диктатора Батисты, еще какими-то эксами и профессором католического университета. Из адреса на воззвании следовало, что до поры до времени сей «фронт» окопался на Бродвее.
В глазах реакционных репортеров юркие молодые люди удваивались, учетверялись, удесятерялись и в газетных отчетах выглядели уже антикастровской демонстрацией едва ли не половины населения Нью-Йорка. ..
Нежирные хозяйские харчи отрабатывали и другие «мощные демократические силы». Какой-то потертый господинчик развернул перед зданием советского представительства рукодельный плакат: «Освободим Украину от большевиков». Косясь на окна, он засеменил вдоль строя величественно-равнодушных полицейских, чтобы газеты имели повод сообщить о новых требованиях массы украинских патриотов к «безбожному Хрущеву». Думаю, что если бы в Москве перед посольством США появился некто с плакатом «Освободим Соединенные Штаты Америки от капиталистов», его бы вежливо, но настойчиво препроводили в психиатрическую лечебницу. Здесь же — ничего, и не к такому привыкли.
А вот сценка с участием солистов антисоветской самодеятельности. Двое в сшитых из матрацной ткани балахонах, защелкнув наручники (благо, этого добра здесь хватает), приковали себя к уличному фонарному столбу. Это, видите ли, «рабы коммунизма»! У «рабыни» накрашенные модной лиловой помадой губы, «раб» шевелит усиками, словно приклеенными к тусклому лику завсегдатая баров.
7
Высокую миссию освобождения «рабов» пришлось выполнить постовому полицейскому. Ключ от наручников «рабы» забросили подальше, но многоопытный служака сходил в магазин и взял там ножовку для металла. Визг пилы аккомпанировал истерическим возгласам леди:
— Хрущев закует всех вас!
Глупо? Но вокруг подобных любительских водевилей поднимается шум, и вопли шизофреничек выдаются чуть .ли не за глас встревоженной прогрессивной интеллигенции.
Состоялось и массовое действо по заранее разработанной и, вероятно, утвержденной «соответствующими инстанциями» программе. Это так называемая авто-када. Имеющие автомобиль зазывали не имущих оного на бесплатную прогулку. Приглашались преимущественно «перемещенные лица». Автомобили размалевали грязными карикатурами и украсили звездными флагами. Под непрерывное гудение сигналов пуришке-вичи на «кадиллаках» орали «долой» и грозили из машин кулаками зданию ООН.
Это было вчера. Сегодня кое-кто из этих господ здесь, у причала. Им заботливо отвели изрядный загон напротив выхода. Всех прогоняли, а этим — честь и место. Черные зонтики колышутся над загоном. Пока там не орут, боятся осипнуть до прихода «Балтики». Плакатишки намалеваны несмываемыми красками: должно быть, пикетчиков предупредили о возможности осадков в виде дождя и плевков.
Мутный рассвет занимается между тем над Ист-Ривером. Проплывает мимо громада плавучего крана. Подмигивают с небес красные огоньки полицейского вертолета. Ленивые чайки выныривают на мгновение из тумана и снова растворяются в нем.
Нас, советских,— кучка, затиснутая полицией и международной прессой. Пролет, где спустят трап, взят под прицел сотен объективов. Пол скрыт переплетением толстых кабелей и шнуров. Тут и там проверяют магнитофоны, телекамеры, ссорятся, карабкаются на ящики из-под аппаратуры, на портативные раздвижные лестницы...
«Балтика» подошла в начале десятого. Дождь лил по-прежнему. Вспыхнули прожекторы, пробежали с
я
букетами дети, заулыбались люди, и кто-то крикнул восторженно:
— Да вот же он!
Никита Сергеевич, бодрый, загоревший в океанском рейсе, быстро спустился по трапу. Здороваясь, он бросал короткие взгляды вокруг, замечая, кажется, каждую мелочь на этом непривлекательном, сером причале. Тонкая усмешка пробежала по лицу гостя. Он очень спокойно подошел к микрофону, мельком взглянул на мокрый пол, на черную стену блюстителей порядка, снова чуть заметно улыбнулся и вынул из кармана текст заявления.
Никита Сергеевич говорил о том, что после темной ночи наступает рассвет, что, как бы ни старались злые силы, которые хотят накалить атмосферу в отношениях между нашими странами, они непременно потерпят крах.
— Придут добрые времена теплых, дружественных отношений между нашими народами, между нашими правительствами!
Я не знаю имени чиновника, который, по-видимому, был одним из главных в группе, присланной для встречи. Он слушал, опустив глаза. Возможно, ему было стыдно — я хочу верить, что это было так,— стыдно за полицейское гостеприимство, за мелкую мстительность, за булавочные уколы, недостойные не только великого народа, но даже чиновника, которому поручены обычные нехитрые обязанности официального лица при встрече гостя...
Я минутл РЯ5/Ч ЫШ/1 E+ILyi
Здесь есть все — знай только работай!
Тихие кабинеты. Бесшумные лифты. Удобнейшие кресла. Эмблемы и рисунки, настраивающие человека на самые миролюбивые мысли: голуби, колосья, дети, труд. Спокойные цвета. Идеальная чистота и вентиляция. Просторнейшие залы заседаний, -где у каждого места — наушник с переключателем на любой из пяти официальных языков, принятых в ООН. Наш — под
9
цифрой «4». Остальные — английский, французский, испанский, китайский.
Это внутри. А снаружи — врезанный в небо гигантский прямоугольник стекла, разлинованный темными переплетами,— секретариат с примыкающими к нему веерообразным зданием Генеральной Ассамблеи и плоским зданием конференций.
Рядом шумит, грохочет поперечная Сорок Вторая улица, ведущая к Бродвею. С тыла — серые воды протока Ист-Ривер, с фасада — Первая авеню.
Перед фасадом восемьдесят два полотнища. Сбоку шестнадцать пока пустых флагштоков; здесь поднимут флаги молодых государств, которые должна принять в Объединенные Нации нынешняя сессия.
В цветах полотнищ, в эмблемах и символах — новая география планеты второй половины века, крушение империй и обретенные надежды народов, победа нового, молодого и не подлежащий обжалованию приговор истории чудовищному злу колониализма.
Казалось, еще совсем недавно представитель США, направляясь к подъезду ООН, мог, например, со спокойным удовлетворением обозревать кубинский флаг. Батиста был своим человеком в Гаване, на которого всегда можно было положиться. Теперь флаг Кубы вызывает у некоторых конгрессменов предынфарктное состояние.
Но флаги у здания ООН отражают не только знаменательные перемены. Есть и напоминающие о живучести, сопротивляемости старого, отжившего. Вот флаг, который у нас в стране, наверное, никто не опознает. Между тем, как уверяют американские гиды, это флаг одной из пяти великих держав. Вы догадались— то тряпка чанкайшиста, вздернутая на флагшток вместо флага великой Китайской Народной Республики. ..
Перед открытием сессии в доме на Ист-Ривер введены необычные строгости. Гостей не пускают вообще. Журналистам выданы две карточки. Одна — белая лакированная с голубой эмблемой ООН. Вторая — серая, по форме напоминающая средневековый рыцарский щит. На ней пёчать департамента полиции. Сказано, что обладатель этой карточки может проходить через
10
полицейские линии и линии огня, но при этом ответственности за его жизнь и здоровье полиция не несет. На обороте карточки — графы: вес, рост, цвет глаз, цвет волос.
Карточки нужны уже на дальних подступах к зданию. Кроме них на каждое заседание выдается еще один, оранжевый, пропуск. При входе не то чтобы обыск, но нечто похожее: смотрят, не оттопыриваются ли карманы, открывают папки, вывинчивают объективы фотоаппаратов. Севшие на места находятся под неусыпным наблюдением господ в штатском, которые стоят в проходах спиной к трибуне и не спеша изучают ваши лица...
Есть разумные меры безопасности, необходимые в стране, где недурно себя чувствуют как обыкновенные гангстеры, так и их политические собратья. Один дипломат был, например, ограблен среди бела дня в Центральном парке, само название которого показывает, что он расположен отнюдь не на окраине.
Но многие тысячи полицейских, стянутые к приезду гостей,— это уж слишком! Даже видавшие виды ньюйоркцы удивились, прочтя в газетах: «С раннего утра Первая авеню между 42-й и 46-й улицами, где находится здание Объединенных Наций, напоминала военный лагерь; на этом сравнительно небольшом расстоянии сосредоточены 500 полицейских, 1000 детективов и множество федеральных агентов. Весь район оцеплен, уличное движение прекращено».
В общем, было ясно, что кому-то очень хотелось создать обстановку истерии, нервозности, полицейского бума.
Баталии вокруг мест в зале заседаний длились не один день. Мне повезло. За два часа до открытия я уже сидел в глубоком кресле на балконе.
Около двух тысяч представителей великой армии прессы, не получивших заветного оранжевого кусочка картона, теснились возле телевизионных экранов в холлах и коридорах.
— Он придет последним, вот увидите,— уловил я в разговоре соседей.
Не нужно было спрашивать, кто это «он». Еще накануне вечером некоторые газеты вышли с афишными заголовками: «Он здесь!», «Он приехал!»
11
Я думал, что все будет как-то необыкновенно торжественно. А было довольно буднично. В слабо освещенный зал, куда до начала заседания пустили фотокорреспондентов, входили люди, одетые кто как: ни мундиров, ни смокингов, костюмы и серые, и синие, и в легкомысленную клеточку. Входили, осматривались, здоровались, клали портфельчики на столы, шли курить.
Вдруг вспыхнул свет, замелькали вспышки, фотографы бросились к боковым дверям.
Никиту Сергеевича не ждали так рано. Он улыбался, жал отовсюду тянущиеся руки, жмурился от вспышек. Прошел к своему месту, огляделся и направился к фойе. Ком корреспондентов выкатился следом за ним, зал опустел, и только некоторые очень важные господа делали вид, что они вообще не замечают происходящего.
Никита Сергеевич вскоре вернулся. Он прошел в дальний угол, а навстречу поднималась уже могучая фигура Фиделя Кастро. Они обнялись крепко, по-братски.
Открытие было назначено на 15 часов. Какое там! Уже истрачены десятки километров пленки, а кинокамеры все жужжат и жужжат, заглушая нетерпеливый стук председательского молотка.
Наконец прессу выдворили. Тишина.
Председатель по традиции приглашает соблюсти минуту молчания, посвященную размышлению или молитве.
Пожалуй, размышлению не грех было бы отвести и побольше времени. Это XV Генеральная Ассамблея. Заседание, открывшее ее,— восемьсот шестьдесят четвертое по счету. Восемьсот шестьдесят четвертое пленарное, а если взять заседания многочисленных и многолюдных комитетов, то, вероятно, счет давно перевалил за десятки тысяч.
Сколько добрых надежд было порождено в этом удобном для заседаний доме, и как иной раз по-плюшкински скупились тут на практические дела для оправдания этих надежд!
По строкам несчетных газетных колонок, посвященных деятельности ООН, читатель нередко скользил с привычным чувством недоумения и разочарования.
12
Он качал головой, видя, как здравый смысл и ясность цели иной раз тонут в оговорках, проволочках, процедурных закорючках. Он уже не удивлялся, когда господа, косящие глаза на стол делегации США, покорно ставили штамп с голубой эмблемой ООН на творения лучших умов госдепартамента. И моя память, как, наверное, и ваша, читатель, хранит классический случай: американский представитель, заговорившись с соседом о погоде, невпопад проголосовал «за» вместо «против», а неусыпно смотревший ему в рот чанкайшист автоматически повторил ошибку своего рассеянного хозяина. ..
Но ведь были же другие времена, когда рождались первые строки Устава ООН:
«Мы, народы Объединенных Наций, преисполненные решимости избавить грядущие поколения от бедствий войны... проявлять терпимость и жить вместе в мире друг с другом, как добрые соседи...»
Эти строки были продиктованы волей народов. В бомбоубежищах обреченного Берлина еще агонизировал гитлеризм, когда три удара председательского молотка открыли в Сан-Франциско конференцию Объединенных Наций: надо было думать о послевоенной жизни на израненной земле.
Газеты с сообщениями об открытии конференции печатались в еще затемненной Москве. Газеты, описывавшие первый этап ее работы, вышли в Москве, живущей ожиданием вести о красном флаге над рейхстагом. Газеты с сообщением о решениях конференции расхватывались в Москве, уже отпраздновавшей День Победы.
В знак мирового исторического значения Устава Организации Объединенных Наций делегаты голосовали за его принятие, вставая со своих мест так, как встают при исполнении национального гимна.
С того дня — девятая сотня заседаний за пятнадцать лет и по-прежнему нерешенный вопрос вопросов — о предотвращении опасности новой войны.
Швейцарские ученые насчитали в истории человечества 15 513 больших и малых войн. Это лишь с той поры, когда за 3200 лет до нашей эры началась их более или менее достоверная летопись. Из пяти тысЯче
13
летий на долю человечества пришлось всего 292 мирных года! Но и неполные три века затишья слагались из множества коротких передышек, отравленных страхом и приготовлениями к новым войнам.
И вот после пяти тысячелетий пришло время, когда войны перестали быть неизбежностью. Их возможность еще не исключена полностью. Но могучие выросшие силы мира уже сделали возможным их предотвращение.
Поджигатели войны не исчезли. События весны и лета шестидесятого года снова напомнили об этом. Надо было еще раз перед лицом стран и народов смело, прямо, полным голосом сказать на международном форуме о тех, кто мешает людям планеты жить в мире.
И может быть, в минуту размышления перед открытием этого форума стоило бы вспомнить слова двух политических деятелей.
Один из них сказал о всеобщем мире:
— Мы можем обеспечить такой мир только до тех пор, пока останемся сильными... Мы намереваемся выполнить наши обязательства в соответствии с Уставом Объединенных Наций, опираясь на всю мощь, которой располагаем... Эта мощь нужна для защиты нашего побережья и для того, чтобы отбить любую атаку и дать нам возможность двигаться вперед и сбрасывать бомбы на территорию нашего врага.
— Я снова заверяю конгресс,— сказал второй деятель,— что военная мощь нашей страны не имеет себе равной в мире и это положение будет обеспечиваться и впредь.
Первым деятелем был Трумэн. Американский президент говорил о бомбах в те самые часы, когда государственный секретарь Бирнс торжественно ставил подпись под Уставом ООН.
Вторая тирада была произнесена пятнадцать лет спустя президентом Эйзенхауэром.
Пятнадцать лет «все в той же позиции»! Вот о чем стоило бы подумать в минуту размышления американским делегатам. Но, тсс, не мешайте! Они молитвенно сложили руки...
14
• rtf/IJC/f — /ИиРЛ
Я не буду напоминать в своем репортаже ни повестки дня Ассамблеи—ее основные вопросы всем памятны,— ни последовательности их обсуждения и ограничусь лишь зарисовками отдельных эпизодов.
Шел третий день сессии. Началась общая политическая дискуссия.
На трибуну упругим шагом военного поднялся человек в темно-сером костюме. Он давно примелькался на фотографиях в иллюстрированных журналах: великолепная оптимистическая улыбка, поднятая вверх рука. Вариант: великолепная оптимистическая улыбка, в пространство простерты обе руки. Еще вариант, с обложки журнала «Америка»: великолепная оптимистическая улыбка крупным планом.
На этот раз улыбок не было. Ровным голосом президент прочел речь, призвал «идти вместе», поблагодарил за внимание и закончил речь словами: «благослови вас бог». Проводили его менее продолжительными аплодисментами, чем встретили. Через минуту после окончания речи он покинул здание, сел в машину и, окруженный полицейскими на мотоциклах, умчался в фешенебельный отель «Уолдорф-Астория».
Журналистский балкон снял наушники и закрыл блокноты. Ну что ж, речь была, в общем, сдержанной... Президент почему-то выразил особую озабоченность делами в космосе, который-де может стать ареной гонки вооружений. Но кто собирается тащить в космос заявочные столбы на военные базы? Белка и Стрелка летали ведь без ядерных боеголовок. Оставалось предположить, что господин президент был серьезно озабочен сообщением обозревателя Хогеленда о том, что американская армия готовит программу своих сооружений на Луне...
А спустившись из космоса на грешную Землю, президент расплывчатыми формулировками постарался скрыть то обстоятельство, что ему нечего сказать по существу вопроса, волнующего три миллиарда жителей Земли.
Нет, не такой речи ждали от г-на Эйзенхауэра!..
15
Выступление Никиты Сергеевича ожидалось в полдень 23 сентября. Уже с восьми часов утра в здании ООН, особенно у кабинетов, где выдавались пропуска в зал, началась нервная горячка. В этот день возле столов, где можно взять тексты речей и где обычно все происходит чинно и благородно, слышались возгласы перепуганных чиновников:
— Господа, прекратите драку! Мы располагаем достаточным количеством экземпляров! Господа, помните, где вы находитесь!
В сентябре 1959 года Никита Сергеевич прошел к трибуне Генеральной Ассамблеи как почетный гость Соединенных Штатов Америки. Теперь он поднялся на нее с места главы делегации великого миролюбивого государства.
Если бы отношения между народами за истекший год определялись лишь высокими принципами резолюции о всеобщем и полном разоружении, принятой XIV Ассамблеей после памятного выступления Никиты Сергеевича, то XV Ассамблея могла бы торжественно отметить начало новой эры: эры мира без оружия. Она могла бы обсудить, как лучше использовать первые миллиарды долларов, высвобожденные отказом от гонки вооружений, для первых, поистине всемирных битв против голода, нищеты, отсталости. Да, так могло бы быть...
Чтобы понять, почему так не было, достаточно вспомнить события, предшествовавшие нынешним выступлениям с трибуны ООН представителей двух сильнейших держав планеты.
Для президента США шестидесятый год был самым мрачным из восьми, проведенных в Белом доме: публичное оправдание шпионажа, ответственность перед народами за срыв совещания в Париже, скандальный провал дальневосточной поездки, отмена приглашения посетить Советский Союз, падение марионеток, которых Белый дом многие годы опекал, лелеял и на которых надеялся.
Несколько лет назад появление Эйзенхауэра в Белом доме было отмечено грандиозным парадом и двумя блестящими балами. В начале 1960 года президент, вспоминая эти времена, сказал: «Я настойчиво стремился тогда и столь же настойчиво стремлюсь те
16
перь к тому, чтобы Соединенные Штаты становились все более мощным фактором дела мира...» А четыре месяца спустя был провокационный полет Пауэрса!
Глава Советского правительства в шестидесятом году по-прежнему много, неутомимо, плодотворно трудился для дела мира, показывая пример ленинского единства слова и дела. Триумфальной была его поездка по странам разбуженного Востока. Ранней весною добрых надежд его встречала Франция. Когда после полета «У-2» грозовым летом особенно сгустились тучи, Никита Сергеевич направился с миссией дружбы в Австрию, где народ принял его сердечно и гостеприимно. И, наконец, вопреки предостережениям о провокациях, несмотря на поразительно бестактный «манхэттенский занавес», ограничивающий передвижение главы делегации одним районом Нью-Йорка, Никита Сергеевич приехал за океан, чтобы продолжать борьбу за мир и человеческое счастье.
И вот он2— на трибуне.
Как и год назад, его речь была посвящена самым острым проблемам современности и намечала пути решения этих проблем. Свобода и независимость всем колониальным народам, всеобщее разоружение — таким был стержень замечательной речи страстного борца за мир, произнесенной 23 сентября 1960 года.
После выступления Никиты Сергеевича нашлись, конечно, журналисты, которые говорили: да, речь интересна, но не сенсационна — Хрущев снова выдвинул план всеобщего и полного разоружения.
Однако ведь в этой последовательности, настойчивости как раз и сила советских предложений! Идея всеобщего и полного разоружения принадлежит к числу идей, ныне главенствующих в сознании народов. Она устареет не раньше, чем будет полностью осуществлена.
После речи Никиты Сергеевича даже самые проворные, самые ловкие журналисты на какое-то время растерялись: правда как будто сбила их с ног. Но прошли первые часы — и глядь, ряды уже перестроены, началась атака с фланга.
Обратите внимание, говорили журналисты своим читателям, какой сдержанной была речь нашего Айка. Какая в ней спокойная ясность, какие возвышенные и
2 На разных меридианах
17
Конструктивные предложения! А в выступлении Хрущева не было и следа дружественного тона в отношении Эйзенхауэра и США. А значит... А значит, сделала вывод газета «Нью-Йорк джорнел Америкен», нам «сейчас более чем когда-либо ясна необходимость военной готовности и мощных ядерных сил сдерживания».
До чего знакомые слова и как набили они оскомину!
Хотелось спросить у американских коллег: позвольте, господа, как же так? Вы хвалите господина президента за сдержанность. Господин президент действительно был так «великодушен», что не стал упоминать хотя бы единым словом о полете «У-2». Но логично ли на этом основании требовать от главы советской делегации дружественного тона по отношению к президенту? Что сказали бы вы о главе правительства страны, которая засылала бы к вам непрошеных воздушных гостей?
Что же касается дружественных слов по отношению к Соединенным Штатам, то вы просто пропустили их мимо ушей, господа. С трибуны Ассамблеи глава Советского правительства сказал, что, несмотря на все, что произошло между Соединенными Штатами и Советским Союзом за последние месяцы, его убеждение в том, что наши страны могут идти рука об руку во имя упрочения мира и установления действительно международного сотрудничества всех государств, не поколебалось.
Не поколебалрсь!
Ъ-А РДРЬЕРО/И
Воскресенье. В здании ООН — пусто и тихо. С утра пусто и на улицах.
Где-то около полудня со стороны Пятой авеню послышалась музыка, потом громыхнул залп. Я поспешил туда.
Пята:я авеню была закрыта для автомобильного движения. Во всю ширину разлинованной белыми и желтыми полосами улицы двигалось шествие. Люди
18
111ли не густо — по человеку на автомобильную дорожку, причем ряды из четырех-пяти человек отделялись друг от друга дистанцией в несколько метров. Шли господа во фраках и цилиндрах, с хризантемами в петличках, напоминая статистов из «Сильвы». Вразнобой гпагали молодые люди в обычных стандартных костюмах— вероятно, банковские клерки или продавцы из универмагов. Отряд пехотинцев на ходу проделывал упражнения с ружьями. Время от времени пехота палила в воздух, вспугивая голубей и радуя мальчишек. Следом за оркестром девочек во главе с приплясывающим тамбурмажором шли полицейские в форме, но без пистолетов и дубинок.
Гремела музыка, сменялись группы: молодежь в польских национальных костюмах прошлых веков, снова господа во фраках и цилиндрах, шляхтичи с приклеенными усами необыкновенной пышности, в конфедератках и с бутафорскими саблями.
Это было традиционное шествие в честь польско-американского генерала Пулаского. Поляки Нью-Йорка пользовались случаем вспомнить свои национальные обычаи, полустершиеся в сутолоке современного Вавилона. В этом было бы немало трогательного, если бы...
Некоторым ясновельможным панам в слежавшихся фраках ужасно хочется вернуться в свои родовые поместья и согнуть в бараний рог «хлопов». Надежды на осуществление этой мечты давно угасли, как вдруг их неожиданно подогрели «неофициальная речь» президента Эйзенхауэра перед членами конгресса американцев польского происхождения и заявления других политических деятелей, проявлявших подозрительный интерес к делам польского народа.
Как бы там ни было, но к поминанию генерала Пулаского приспособили свои политические цели господа с не очень чистыми руками. Было что-то особенно гадкое и недостойное в том, что угрозами в адрес народной Польши и антисоветскими лозунгами расписали даже автомашину, которая везла малышей, радующихся солнцу и музыке.
Демонстрацию почему-то заключала колонна с плакатом «Свободу Румынии». Она растянулась на полквартала и состояла (чтобы не ошибиться, я дважды пересчитал) из... шестнадцати человек! Возможно, это
2*
19
был неполный состав оркестра из ресторана на Бродвее.
Демонстранты еще расходились по домам, когда неподалеку от Пятой авеню, на Таймс-сквере, раздался сильный взрыв. Завыли сирены машин «скорой помощи», отвозя пострадавших. Полицейский чин, осматривавший воронку, заявил, что, по-видимому, взорвалась не бомба, а коробка со взрывчаткой. В вечерних выпусках газет появились сообщения: взрыв — дело рук двух подростков, участвовавших в демонстрации на Пятой авеню. Поджигательские призывы дали первые результаты...
День спустя я видел другую демонстрацию. Для нее не расчищали людных магистралей. Ее участникам отвели узкий тротуар. Он был отгорожен серыми барьерами с надписью: «Полицейская линия». Живой барьер рослых «бобби» образовал вторую линию. Они молча показывали прохожим: проходите, не задерживайтесь!
Сознаюсь, вначале это было маловнушительное зрелище: горстка людей, медленно шагавших вдоль отсыревшей кирпичной стены. Всего полторы сотни человек в узкой полутемной улочке на город с восьмимиллионным населением! Больше пожилых, чем молодежи. Ни цилиндров, ни маскарадных костюмов: рабочие кепки, фланелевые рубашки:, разношенные башмаки. Строгие, суровые лица.
Люди шагали с плакатами, оторванными от палок: так потребовала полиция. На многих плакатах были написаны, казалось, те же слова, которые встречаются и в речах государственных деятелей США. Я сам слышал, как подобные высокие слова произносил с трибуны Генеральной Ассамблеи президент Эйзенхауэр. То были слова о мире. Но только здесь они звучали по-настоящему: «Мировой войне — нет!», «Мы хотим мира!», «Мы за мирное сосуществование!»
Тут не хотели ограничиваться общими благочестивыми призывами, а требовали практических 'шагов: «Торговля Востока и Запада — работа для тех, кто не имеет ее».
Здесь отбрасывали предвзятость и честно оценивали усилия истинных друзей мира: «Нью-йоркские профсоюзы приветствуют приезд Хрущева!»
20
И этих лозунгов оказалось достаточно для того, чтобы прислать грузовик с барьерами и устроить полицейский заслон!
На другой стороне улицы, у подъезда отеля, какой-то розовощекий господин, прогуливавшийся с пуделем, вдруг завизжал неожиданно пронзительным голосом:
— Эй, вы, сколько среди вас «товарищей»?
Ему что-то ответили. Он побагровел и, размахивая рукой, кричал до тех пор, пока встревоженный пес не залаял в унисон с хозяином.
Вдоль кирпичной стены, где ходили демонстранты, росли платаны. Хилые, почти лишенные света, они были уже тронуты осенней желтизной. Деревья стояли далеко друг от друга, и как раз возле первого платана полицейские поставили поперечный барьер — я хорошо его запомнил.
Четверть часа спустя барьер передвинулся к третьему дереву. Ряды стали гуще, плотнее. Каждый чувствовал теперь локоть соседа. Чем внушительнее становилась демонстрация, тем меньше интересовала она репортеров и тем больше — полицию. Детективы топтались вдоль внешней стены барьера, приглядываясь, запоминая. Но демонстранты не скрывали ни лиц, ни имен. Это были смелые, настоящие люди, знавшие, какой ценой приходится иногда расплачиваться за такое. ..
— Сюда идут прямо из работы. Их не совсем пускают. Там, у совбея (нью-йоркское метро), тоже полиция, но они все равно придут.
Это сказала на полузабытом ею русском языке женщина в мятой соломенной шляпке. В 1913 году ее родители приехали сюда из Минска...
Когда я уходил, барьер уже передвинулся к пятому платану, и все громче, все сильнее, все тверже сотни голосов скандировали: «Мы за мир!», «Мы хотим мира!»
Короткие тенденциозные заметки об этой демонстрации затерялись в газетах среди интервью с восьмидесятилетней старухой О’Нейл, которая не спасовала в схватке с двумя бандитами, но заявила, что не желает больше жить в Нью-Йорке, где порядочную женщину грабят по дороге из церкви. Газетные колонки были заняты скандальным делом биржевика Гольдфайна, дружившего с одним сотрудником Эйзенхауэра и по
21
павшегося на крупном мошенничестве, подробностями налета гангстеров на автобусную кассу...
В таких случаях принято говорить: жизнь идет своим чередом.
И на фоне этой пестрой, горячечной, не всегда понятной нам жизни — смелые люди у чахлых платанов, верящие в торжество человеческого разума.
® /1 ЮД 14 u U Д Е и
Уже больше недели на трибуне под эмблемой Объединенных Наций — материки земного шара в обрамлении оливковых ветвей мира — сменяются ораторы и идеи.
Помните, как менялся тон западных газет, обсуждавших наши предложения о приезде на Ассамблею глав государств и правительств?
— Никто не поедет, и сам Хрущев откажется от своей затеи.
— Пожалуй, Хрущев все-таки поедет.
— Хрущев определенно собирается поехать, и главы государств советского блока — тоже.
— Получены сообщения, что готовятся к поездке в Нью-Йорк главы ряда нейтральных государств.
— Хрущев едет — разумно ли деятелям Запада отсиживаться дома? ..
Так сменялись вехи. Уже на открытие Генеральной Ассамблеи собралось много выдающихся политических деятелей. С тех пор не проходило дня, чтобы фотокорреспонденты не бросались навстречу новым и новым гостям. За столом делегации Индии белеет известная по множеству снцмков конгрессистская шапочка Неру. Приехал президент Насер. В день открытия Ассамблеи министр иностранных дел Великобритании лорд Хьюм сказал, что английский премьер-министр еще не решил, поедет ли он в Нью-Йорк. Но вот и Макмиллан за столом английской делегации. Закинув ногу на ногу и глубоко погрузившись в кресло, он одновременно слушает ораторов и листает кипу бумаг.
.. .На трибуне сменяются люди и идеи. И какие это разные люди!
22
Ассамблея слушала Фиделя Кастро.
— У нас имеется возможность высказать правду,— так начал он.
Фидель Кастро ушел с трибуны четыре с половиной часа спустя, оставив зал взбудораженным, взволнованным, восхищенным, озлобленным — каким угодно, только не усталым и не равнодушным.
У него не было написанного текста речи. Он открывал папку лишь для того, чтобы быть точным в передаче заявлений американских деятелей, грозящих Кубе. В сравнении с давно примелькавшимися на трибуне признанными златоустами его нельзя было бы назвать «блестящим оратором»: страстная увлеченность, ломающая плавный ход речи, никаких эффектных пауз, слишком резкие, какие-то мятущиеся жесты.
Сила Фиделя Кастро не в красноречии, а в правде. Сила — в его нравственной чистоте, в преданности своему народу, если хотите — в подлинно революционной романтике, окрыляющей людей.
Казалось, сама кубинская революция отчитывается перед общественностью мира. На суд народов и правительств Фидель Кастро вынес только факты.
На одной чаше весов была аграрная реформа, вернувшая кубинцам захваченную монополиями и латифундистами землю, 10 тысяч школ, открытых за два неполных года революции, превращение военных крепостей в общежития для учащихся, 25 тысяч новых жилищ для трудового люда, восстановление попранной независимости, планы дальнейшего переустройства жизни, разработанные при участии народа и для народа.
На другой чаше весов — злобствующий в эмиграции Батиста, палачи, успевшие удрать, кучка обиженных помещиков, сколотивших всяческие контрреволюционные «фронты» и «комитеты», падение прибылей американских сахарных монополий и полные угроз ноты госдепартамента. А в довесок к этим нотам, к злобному вою эмигрантов на чашу весов легли бомбы, сброшенные «неизвестными самолетами», поджоги плантаций сахарного тростника и сахарных заводов, взрыв в порту Гаваны парохода «Ла Кувр», унесший десятки жизней.
Те аплодисменты, которые много раз прерывали речь Фиделя Кастро, показывали убедительнее всего, какая чаша перевешивает.
23.
Генеральная Ассамблея услышала голос кубинской революции — сильный и мужественный. И, конечно, вскоре оправдалась поговорка: правда глаза колет. На трибуне появился лысеющий, пухлощекий господин. Шурша исписанными страницами, он выпустил автоматную очередь прилагательных: жестокий, зловещий, драматический; священный, благородный, демократический. Первые относились к Кубе, вторые — к положению в стране, которую имел честь представлять господин. Господин кричал о том, что Куба попала в советскую орбиту. Он уверял, будто располагает неопровержимыми данными, что в провинции Камагуэй на Кубе уже подготовлена ровно тысяча коммунистов, которые готовятся напасть на его мирную свободную страну, пьющую к тому же не советский боржом, а чистую воду из светлого источника американской демократии!
Да из какого же демократического рая выпорхнул на трибуну этот господин? — спросите вы. Имя господина— Хесус Мурильо, министр иностранных дел несчастной Гватемалы. А говорят еще, что есть предел цинизму!
Господин Мурильо — пешка. Но вот на трибуне появилась фигура поважнее: король. Король, хилый и тщедушный, был в модном пиджаке. Рядом почтительно застыл гигант с золотыми аксельбантами. Его величество молодой иорданский монарх Хусейн, видите ли, соизволил прибыть в Нью-Йорк потому, что его обеспокоили советские попытки разрушить ООН. Он предпринял дальний вояж также с целью точно установить, где место его подданных в современном конфликте. Наконец, монарх почел долгом поделиться с молодыми государствами своим опытом. .. в сохранении демократических свобод!
Все это было сказано без тени улыбки. Королю вяло похлопали.
— Я поддерживаю меры г-на Хаммаршельда в Конго,— величественно сказал король.
Тут уж и ленивый не мог устоять: шутка ли, сам Хусейн поддерживает г-на Хаммаршельда!
— Мы отвергаем коммунизм! — воскликнул ободренный король.— В борьбе с коммунизмом нельзя быть нейтральным.
24
Расправившись с коммунизмом, король обрушился на «нашу сестру, которая хочет нас уничтожить». Оказалось, что «наша сестра» — это Объединенная Арабская Республика. Распалившись, его величество бухнул, что тактика ОАР — это тактика.. . коммунистов! Всюду коммунисты, всюду их злонамеренные козни, но:
— Мы верим в бога и молимся богу.
Король не сказал, о чем именно он молит бога. Пожалуй, ему стоило бы помолиться о даровании разума политически малограмотному отроку Хусейну. , .
ft )АГАД\и СЕКРЕТЛГЫЛТЛ
Я думал сначала, что врезанная в серую стену осеннего неба оконная рама секретариата ООН — здание для Нью-Йорка уникальное. Но, оказывается, есть другие, пониже и, возможно, повыше, тоже из стекла, разделенного переплетами этажных перекрытий. Только другие теряются в толпе каменных громад более привычных очертаний, а тридцатидевятиэтажный прямоугольник секретариата одиноко вырвался на простор к водам Ист-Ривера.
Сходство у здания секретариата с другими небоскребами-прямоугольниками не только, так сказать, фасадное. Все они похожи и внутри. Международный характер секретариата не бьет в глаза. Здесь несколько просторнее, чем в офисе процветающей компании, и немного теснее, чем в приемной правления крупного банка. Правда, тут можно встретить людей со всевозможными оттенками кожи и уловить различные акценты. Но это довольно обычно и для других учреждений в городе, где живет больше ирландцев, чем в Дублине, исландцев больше, чем в Рейкьявике, а евреев больше, чем в Тель-Авиве.
Из подземных гаражей здания секретариата растекается поток машин. Лифты бесшумно падают и возносятся с переполненными кабинами. Сто сорок штатных полицейских службы безопасности секретариата оглядывают недреманным оком входящих и исходящих. Собственная почта секретариата продает собственные почтовые марки ООН. Собственная радио
25
станция секретариата вещает на двадцати семи языках. Сводный полк машинисток стучит на сотнях машинок с пятнадцатью наборами шрифтов. Одним словом, на всех этажах кипение жизни.
В обеденные часы возле кафетерия на четвертом этаже выстраивается длинный хвост, обсуждающий последние новости,— например, подробности ареста г-на Николаса Куматоса, чиновника секретариата, обвиненного в воровстве и мошенничестве.
В просторном вестибюле люди толпятся у объявлений множества клубов, организованных специально для служащих секретариата. Вот яркая афиша, похожая на те, что расклеиваются в витринах Бродвея, и несколько неожиданная в столь высоком учреждении:
«ДОКТОРА РЕКОМЕНДУЮТ
ТАНЦЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ВСТУПАЙТЕ В ТАНЦКЛУБ — ВЫ НАУЧИТЕСЬ ТАНЦЕВАТЬ, А ТАКЖЕ ПОЛУЧИТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ НАШИХ ВЕЛИКОЛЕПНЫХ ВЕЧЕРИНОК»
В комнатах отдыха на пятом этаже играют в карты, в шахматы. Некоторые заняли позиции в уютных мягких креслах, иллюстрируя известное изречение: «Не движась, я смотрю на суету мирскую и философствую сквозь сон»...
Я бесконечно далек от мысли, что служащие секретариата проводят время в праздности. В конце концов, каждый волен использовать свободное время, как ему заблагорассудится: один предпочитает бридж, другой гольф (кстати, при секретариате созданы клубы любителей того и другого). Я просто хотел нарисовать картину с натуры, может быть в подкрепление той истины, что все мы — только люди.
А желание нарисовать подобную картину возникло после прочтения статьи, опубликованной в популярном журнале. Она называлась: «Секретариат — загадка ООН».
Автор писал, что секретариат «приобрел символическое качество, как видение того, каким мог бы быть мир»; секретариат, утверждалось далее в статье, «выработал под руководством своего великого генерального секретаря такую огромную и такую блестящую таинственность», что критика в его адрес кажется многим «нападением на сам Дух Закона».
26
Так вот, захотелось побольше узнать о тех, кто трудится на тридцати девяти этажах здания, подчиняясь «великому генеральному секретарю».
Информация в секретариате поставлена отлично. Вы очень быстро получаете справку: аппарат секретариата— 3864 человека. В библиотеке есть полный список. Он немного устарел, поскольку люди, увы, смертны, но общая картина изменилась мало...
В списке — должность, имя, гражданство, индекс, определяющий положение на чиновничьей иерархической лестнице. Если индекс не проставлен, значит, человек занимает высокий пост вице-секретаря. Д-2 — высший чиновник, Д-1 — старший чиновник, Р-5 — старший специалист и т. д.
Начинаешь листать список — что за наваждение, чуть не в каждом отделе либо против Д-2, либо против Д-1 обязательно проставлено: «США». Если директор не американец, то, за небольшим исключением, уж заместитель или старший специалист — непременно американцы. Две трети секретариата ООН являются гражданами США или союзных им государств по военным блокам, в то время как граждане СССР и других социалистических стран составляют в общем аппарате всего несколько процентов.
Вот поистине одна из «загадок» секретариата!
Загляните в административную канцелярию самого генерального секретаря: американцев — 32, французов— 11, англичан — 8, чанкайшистов — 5, канадцев — 4, бельгийцев — 4. Все социалистические страны представлены тремя работниками, Африка — двумя, но это белые из Южно-Африканского Союза.
В день открытия сессии только что избранный председатель г-н Генри Болэнд, взволнованный и красный, занял место в центре председательского стола. Генеральный секретарь скромно сел справа от него. На стул слева привычно, по-хозяйски опустился господин, лицо которого показалось мне знакомым.
— Кто это? — спросил я.
— Андрэ Кордье, американец...
Кордье что-то зашептал на ухо Болэнду. И потом на других заседаниях я много раз видел его в той же позе: склонится и шепчет, шепчет* шепчет. . .
27
А запомнил я его, оказывается, по снимку в архиве ООН. Снимок был сделан в 1949 году и изображал закладку здания секретариата. Председательский стол стоял под открытым небом. Справа восседал генеральный секретарь Трюгве Ли, в центре — председатель Ассамблеи Карлос Ромуло, слева — склонившийся к нему Андрэ Кордье, помощник по административной части.
Председатели и генеральные секретари приходили и уходили, а г-н Кордье, знаток процедур и закулисных интриг, оставался и все шептал, шептал, шептал. . .
Старая поговорка утверждает, что каков поп, таков и приход. В приходе генерального секретаря благодать раздавалась преимущественно высокопоставленным господам американского или английского происхождения. Они занимали более 90 высших постов в секретариате! А такие страны, как Индонезия или Объединенная Арабская Республика, не имели на подобных постах ни одного представителя.
«Видение того, каким мог бы быть мир»?! Если секретариат и «видение», то лишь странного, искаженного мира. Такой мир может мерещиться чиновникам госдепартамента в их сладких грезах: географически в секретариате преобладают Северная Америка и Западная Европа, политически — представители государств, связанных в агрессивные блоки.
Между тем Устав предлагает уделять внимание подбору персонала на возможно более широкой географической основе.
Почему же это не делается? Генерального секретаря спросили, и он ответил: «Некоторые государства, особенно страны, недавно ставшие независимыми, не всегда могут предоставлять подготовленных и опытных сотрудников... В некоторых случаях правительства определенно заявляют, что в данное время не имеют возможности уделить лиц требуемого типа и калибра».
Неужели лица требуемого для работы в секретариате «типа и калибра» формируются только в странах НАТО?
Позвольте представить вам одну из персон «подходящего калибра». Это «старина Пэлт», имеющий солидный опыт управления в колониальной администрации. Конечно же не нашлось кандидатов лучше его для на
28
значения на пост специального консультанта генерального секретаря в Гвинее! Пэлт должен был там «координировать помощь». Начал он с того, что набрал штат и купил «кадиллак». Персона подходящего калибра израсходовала около сорока тысяч долларов и затем заявила, что Гвинея вообще якобы не нуждается в особой помощи. После этого «старина» временно исчез с политического горизонта. Где-то он вынырнет снова?
Да, немало «загадок» таит стеклянный прямоугольник секретариата! Сын шведского премьер-министра, финансист и дипломат, бывший председатель правления банка Даг Хаммаршельд верой и правдой служил классу, которому принадлежал, разделяя его мораль, философию, политические идеалы.
И боже мой, какой шум поднялся после того, как Никита Сергеевич предложил изменить, улучшить структуру секретариата! «Караул! Хрущев объявил войну ООН!» — завопили газетные заголовки. Так было хорошо, удобно — и вдруг предлагают власть генерального секретаря разделить между представителями, отражающими интересы не одной, а трех групп государств!
.. .Год спустя, в канун открытия XVI сессии Генеральной Ассамблеи, Даг Хаммаршельд трагически погиб в Африке. Соболезнуя семье покойного, многие люди на разных материках понимали, что в политическом смысле он, как генеральный секретарь международной организации, погиб в глазах общественного мнения гораздо ранее своей физической смерти...
В в ЗИ циту Л РУ» ВА , В 3 А Щ иту Д Р УГу»
Снова в зале бушуют страсти. Шквалы аплодисментов то и дело врываются в глуховатый гул раздражения.
Достаточно взглянуть на выражение лиц, на руки людей, иногда сидящих за соседними столами, но разделенных пропастью. Перед нашей делегацией — места эмиссаров Франко. Как нервно перекладывают они бу-
29
маги, как ерзают, дергаются, будто сидят не в удобных креслах, а на электрическом стуле перед включением рубильника.
Под сводами зала звучит речь, сильная и мужественная, беспощадно правдивая, где все названо своими именами,— звучит, радуя друзей мира, приводя в ярость его врагов.
Эта речь призывает восстановить грубо попранные права одной пятой человечества. Более десяти лет идет борьба против чудовищной дискриминации в отношении великого и древнего народа Китая. И столько же лет американский блок громоздит у порога ООН баррикады клеветы, измышлений, подтасованных фактов, чтобы закрыть вход на международный форум представителям 660 миллионов людей, любящих труд и мир.
Насколько же закостенел в тупом консерватизме отживающий мир! В свое время четырнадцать лет подряд господа из Лиги Наций упорно не замечали нашей страны. Смотрели и не видели. Не могли разглядеть. Видели лишь едва унесших ноги и окопавшихся в эмиграции «освободителей России» и объявили их законным правительством.
В наши дни Запад «не замечает» Китайскую Народную Республику. Не то чтобы совсем не замечает: многие западные страны торгуют с ней, ведут переговоры, имеют нормальные дипломатические отношения. Но как только западные дипломаты собираются в Нью-Йорке, тотчас приступ куриной слепоты мешает большинству из них разглядеть шестьсот шестьдесят миллионов китайцев. Господа дипломаты способны узреть лишь восемь чанкайшистов, которые экспонируются в зале заседаний под фальшивой этикеткой «Китай» и которые, кажется, скоро разучатся говорить по-китайски без словаря.
Когда создавалась Организация Объединенных Наций, в ее Уставе Китай был назван в числе пяти великих держав — постоянных членов Совета Безопасности.
Никто не посмеет сказать, что место Объединенной Арабской Республики должен занять в ООН ныне здравствующий на эмигрантских задворках король Фарук, вышвырнутый вон из Египта. Никому не придет 30
в голову посадить на места делегации Ирака трупы казненных народом короля Фейсала и предателя Нури Саида. Но политические трупы отвергнутых народом чанкайшистов рассажены для всеобщего обозрения за чужой табличкой, возле самой трибуны Генеральной Ассамблеи!
И на этот раз представитель США г-н Уодсворт, прозванный за 240 фунтов своего живого веса «господином слоном», пытался спрыскивать их живой водой. Он уверял, что именно эти мертвецы и есть «истинные представители китайской культуры», носители идеалов свободы и миролюбия. Должно быть, готовя речь, «господин слон» не успел заглянуть в газеты: в этот день сообщалось о совещании «миролюбивого» Чан Кай-ши с лидерами Гоминдана по поводу... отвоевывания континентального Китая!
Затем американский представитель стал всячески поносить Китайскую Народную Республику. Он поставил ей единицу за поведение. Он цитировал высказывания китайских деятелей, обвиняющих Соединенные Штаты в империализме. Он пугал Африку: смотрите, если мы примем коммунистический Китай, он подорвет нашу организацию и навяжет африканцем новый колониализм!
Никита Сергеевич взял слово сразу за Уодсвортом. Великая миролюбивая держава, которая была одним из инициаторов провозглашения пяти принципов мирного сосуществования и активно выступает за создание зоны мира в Азии,— разве не достойна она занять свое законное место в семье наций? Кто, как не Китай, предлагает заключить мирный договор о ненападении со всеми странами Азии и Тихоокеанского побережья, в том числе с Соединенными Штатами Америки? Да, в Китае называют империалистической державой страну, которая захватила часть территории народного Китая и создала вдоль его границ военные базы.
— Но разве это открытие, господа? Ведь весь мир знает, что самая империалистическая держава, которая поддерживает колониальные режимы, это Соединенные Штаты Америки. Об этом все воробьи на крыше чирикают.
31
Отложив в сторону исписанные листки, Никита Сергеевич говорил в той простой сильной манере, которая полюбилась нашему народу.
Речь, где животрепещет каждое слово, верно найденное и метко разящее, то и дело прерывалась аплодисментами. Возможно, что она не ласкала изысканный слух профессиональных дипломатов. Но ведь не только к ним и обращался оратор...
— Вам ли, господа из Соединенных Штатов, говорить, что такое демократия?
В голосе Никиты Сергеевича звучал справедливый гнев. Человек из народа, коммунист и советский гражданин, он не мог оставаться равнодушным, говоря о расовой дискриминации. Он не мог спокойно говорить о Франко — палаче испанского народа.
И в этот момент председатель потянулся к молотку.
— Я прошу вас сотрудничать с председателем.. . Я просил бы Председателя Совета Министров Советского Союза быть столь любезным. . . В предыдущем случае я уже говорил, что оскорбление главы государства... Непарламентские слова не могут быть занесены в официальный протокол...
Фразы председателя были изысканно вежливыми, но существо дела от этого не менялось: второй раз (первый раз это было во время речи Фиделя Кастро) г-н Болэнд брал под защиту Франко.
— Почему вы не остановили представителя Соединенных Штатов, когда он клеветал на великий Китай? — повернулся Никита Сергеевич к председателю.— В Организации Объединенных Наций должны быть равные условия для всех государств, и, если вы допускаете оскорбления в отношении социалистических стран, мы этого не потерпим. Я отвергаю такие замечания. Мы здесь не просители, а представители великой нации, великого социалистического государства, и мы защищаем нашего друга — Китайскую Народную Республику, ее режим, ее законы!
И в одиннадцатый раз аплодисменты прервали эту речь борца и трибуна.
Журналистский коридор на третьем этаже, заставленный столами с пишущими машинками, гудел, спорил, ссорился. Так бывало всегда после выступлений Никиты Сергеевича.
32
— Хрущев, возможно, снова прав,— сказал московский корреспондент крупнейшего американского агентства, хорошо говорящий по-русски.— Но он слишком резок.
— Правдив, хотите вы сказать?
— Он слишком резок, резок до грубости,— упрямо повторил американец.— Здесь это вносит диссонанс: здесь дипломаты, если хотите — традиции джентльменской благовоспитанности, гибкий парламентский язык...
— Удобный для пустых словопрений? — перебил один из советских журналистов.
— Ну вот, и вы туда же...— поморщился американец.— Я знаю, вы враги всяких традиций.
— Не всяких,— возразил тот же журналист.— У Хрущева — традиция. Это традиция «Коммунистического манифеста». Там сказано, что коммунисты считают презренным делом скрывать свои взгляды и намерения. Значит, им не нужен язык буржуазных парламентариев.
Спор разгорелся с новой силой — спор о традициях, международном праве, новаторстве в дипломатии.
Последующие дни продолжалась дискуссия и в зале. Она была острой, жаркой и принесла немало огорчений американскому блоку.
В 1950 году только семь делегаций спорили с этим блоком.
В 1959 году спорящих стало уже двадцать девять.
В 1960 году — тридцать четыре!
И хотя как будто победа при голосовании — с перевесом всего в восемь голосов — осталась за американским блоком, западная печать не била в литавры. Ведь большой разговор о Китае на Генеральной Ассамблее все-таки состоялся, хотя формально это было лишь обсуждение того, следует ли обсуждать вопрос... И главное, стало ясным, что в скором времени к нескольким миллионам американских безработных прибавятся восемь господ, имеющих большой практический стаж сидения на чужом стуле. Впрочем, может быть, их возьмут из жалости в провинциальный театр марионеток...
3 На разных меридианах
33
«ЭТ0 СТРДШ-НА^ BE
В начале работы Генеральной Ассамблеи пресса и радио, казалось, вообще забыли о приближении «первого вторника после первого понедельника ноября високосного года» — дня президентских выборов. «Нью-Йорк миррор» поместила карикатуру: первая страница газеты, целиком занятая Хрущевым, и двое рассерженных мальчуганов, тщетно пытающихся найти на ней местечко и для себя. Один, мрачноватый, размахивал микрофоном, другой, вихрастый, зажал под мышкой телевизор с надписью на экране: «Великие дебаты». Не требовалось подписей, чтобы опознать обоих кандидатов в президенты.
«Великие дебаты», как выспренне были названы заранее разрекламированные совместные выступления по телевидению Никсона и Кеннеди, начались на редкость вяло. И хотя печать, пользуясь жаргоном боксерского ринга, подсчитывала очки после каждого раунда, особенного накала и азарта не чувствовалось: вторую передачу, например, смотрело уже на девять миллионов зрителей меньше, чем первую.
Я был неискушенным новичком, каких презирают настоящие болельщики. Меня поставило, например, в тупик уже начало «великих дебатов». На экране мелькнул г-н Никсон, спрашивающий, не лучше ли ему побриться. Но тут появилось женское лицо, и нежный голос прощебетал:
— Он находит вас более чудесным, чем когда-либо.
Я счел это комплиментом г-ну Никсону, но оказалось, что просто студию включили раньше, чем нужно, а реплика ворвалась из другой программы, передававшей популярную пьесу «Отец знает лучше».
Когда с техникой уладилось, зрители увидели кандидатов. Г-н Никсон выглядел усталым, и позднее газеты объяснили это плохим гримом (в Америке гримируют перед выступлением не только кинозвезд). Г-н Кеннеди был, напротив, в лучшей форме, но великодушно не воспользовался преимуществом.
Кивки головой в знак согласия с противником в этом раунде преобладали над легчайшими ударами.
34
Раунд завершило признание, что цели у кандидатов, в сущности, одинаковые, разница лишь в методах.
Второй раунд прошел куда бойчее. Г-н Никсон решил на этот раз олицетворять энергию, волю, натиск. Он ни разу не улыбнулся, ни разу не позволил себе отнять руки от края трибунки и, кажется, ни разу не взглянул в сторону соперника.
Г-н Кеннеди держался естественнее: я бы сказал, что жестикулировал он с хорошо рассчитанной «про-стецкостыо». Внешне «на миллион долларов» выглядел как раз не миллионер Кеннеди, а Никсон, хотя о Никсоне газеты с умилением писали, что он в одном из городов одолжил у своих охранников 2 доллара 50 центов на завтрак. Говорят, что в среде американских миллионеров модно разыгрывать неосвобожденных членов профсоюзного комитета и вообще славных парней, искренне сожалеющих, что судьба-злодейка обременила их капиталами.
«Великие дебаты» сначала пытались сравнить чуть ли не с бывшими сто лет назад семью знаменитыми диспутами между Линкольном и Дугласом. Но потом в ход пошло выражение из эзоповской басни о горе, родившей мышь...
По мере приближения дня выборов в Нью-Йорке стали размножаться с удивительной быстротой, несвойственной этим животным, ослы и слоны. Они лягались, они размахивали хоботами и на газетных страницах и за стеклами магазинных витрин. Они попадались на глаза везде и всюду, эти эмблемы двух основных партий.
Была выпущена новинка, темные носки: для демократов — с белым ослиным профилем, для республиканцев — с белой слоновьей тушей. Тем самым значительно облегчалось определение политических симпатий джентльменов, имеющих устойчивую привычку класть ноги на стол. Поступили в продажу галстуки из недорогой ткани с набивным рисунком: слон, стоящий на задних ногах, как в цирке у Дурова, и осел в цилиндре «дяди Сэма». На первых было написано: «Никсона — в президенты!», на вторых: «Кеннеди — в президенты!»
Внесло свою лепту в избирательную кампанию и искусство. «Радио Сити холл» показывал слонов и
3*
35
ослов в специальной программе. Под звуки «Янки дудль» они обнимались в знак двухпартийной гармонии. У гигантского вопросительного знака исполнялись куплеты, утверждающие, что президент — кто сядет в Белый дом, это еще вопрос! — все равно «пойдет вперед». А то, что один может при этом отклоняться немного влево, а другой — немного вправо,— уж не столь существенно...
Америка тратит на рекламу свыше десяти миллиардов долларов в год. Что такое американская реклама? «Печатное, рукописное, устное или графическое осведомление о лице, товаре, услугах или общественном движении, открыто исходящее от рекламодателя и оплаченное им с целью увеличения сбыта, расширения клиентуры, получения голосов или публичного одобрения» — таково определение рекламы, получившее первую премию на всеамериканском конкурсе.
Вдумайтесь: общественное движение ставится в один ряд с новым сортом мыла, плата ради получения голосов считается столь же естественной, как и рекламные расходы для ускорения распродажи партии автоматических крысоловок! И в этом премированном определении — ключ к пониманию даже внешних особенностей американской предвыборной кампании.
Как-то по дороге в ООН я видел выход г-на Никсона из отеля «Коммодор». Против дверей ждал белый кабриолет. На плакатах, с которыми выстроились у подъезда шустрые девицы, красовались уменьшительные имена кандидата и его супруги. Почти все плакаты были написаны одной краской и одной уверенной рукой: оплата труда художника, по-видимому, производилась по общему счету. Я переписал некоторые лозунги: «Ура Никсону, врагу красных!», «Эй, Пэт, мы за тебя!», «Пэт — первая леди Америки», «Для работы и удовольствия выберем Никсона!», «Мы хотим Никсона».
Г-н Никсон с супругой появился в дверях, девицы завизжали, кинохроникеры вскочили в одну машину, детективы и телохранители — в другую, полицейские оседлали мотоциклы — и через минуту кавалькада помчалась по Нью-Йорку...
А подле отеля уже совали в руки листовку: «Дайте мне по десять минут в течение нескольких дней, и я 36
научу вас, как мы, демократы, можем завоевать Нью-Йорк для Кеннеди и Джонсона».
Боссам избирательной кампании не понравилось, что глава Советского правительства с трибуны Генеральной Ассамблеи клеймит расизм в США. Они твердят: расизм идет на убыль. Сенатор-республиканец Джавите опубликовал книгу, в которой допускает даже, что в Соединенных Штатах когда-нибудь будет черный президент. Он обнадеживает обитателей негритянских гетто Нью-Йорка, утешает правнуков «дяди Тома» с берегов Миссисипи: потерпите, будет и на вашей улице праздник.
А долго ли терпеть? О, самый пустяк: до XXI века. Но осторожности ради сенатор, назвав этот срок, оговаривается: «Возможно, я буду обвинен в чрезмерном оптимизме»...
Многое кажется нам странным в американских выборах. Ну как, например, может трудовой человек отдать голос миллионеру?
Но мы забываем о культе доллара, о хитроумном маскараде «народного капитализма», о гигантской пропагандистской машине, с детских лет вдалбливавшей американцу, что «делать деньги» — это благородно, это придает смысл жизни, это возвышает человека. Мне кажется, что в свое время Ильф и Петров точно подметили растлевающее влияние культа доллара на психологию американца. Помните человека, который требовал:
— Надо отобрать у богатых людей их богатства... Отобрать деньги и оставить им только по пять миллионов!
Зачем же оставлять пять миллионов? Оказывается, в глубине души этот американец надеялся, что сам когда-нибудь станет миллионером,— так пояснил писателям их спутник м-р Адамс и добавил: «Американское воспитание — это страшная вещь, сэры!»
У каждого народа свои традиции. Дело американцев — как выбирать и кого выбирать. Но за рекламной шумихой, за криками плакатов чувствовалось желание боссов избирательной кампании отвлечь внимание людей от главных политических проблем, которые обсуждались в это время Генеральной Ассамблеей.
37
Я В-НУК11 \оголд
ДЕО ПОД ЬД-Л
— Необходимо покончить с колониализмом раз и навсегда, выбросить его в мусорную яму истории... Советское правительство считает, что наступило время поставить вопрос о полной и окончательной ликвидации колониального режима управления во всех его видах с тем, чтобы покончить с этим позором, варварством и дикостью.
Так прямо, твердо, решительно определил Н. С. Хрущев отношение нашего народа и правительства к тяжелейшему бремени прошлых веков, ярмом раба пригибающему к земле миллионы людей. Он вынес на рассмотрение Генеральной Ассамблеи проект Декларации, в которой торжественно провозглашались требования ликвидации колониального режима.
Даже самые заядлые поборники колониализма не рискнули открыто атаковать этот проект. Им нужно было что-то срочно придумать, выработать обходный маневр. И они придумали!
Вернее, не придумали, а просто прибегли к старому как мир приему.
В биографии господина Уодсворта упоминалось, что он играет на гитаре. Сессия получила возможность убедиться в более разносторонней музыкальной одаренности «господина слона»: он дирижировал исполнением увертюры и вариаций на тему: «Ищите колониализм и империализм в Москве».
Сразу вступили барабаны и медные тарелки американской прессы. Выяснилось, что Чехословакия — русская колония, что Полтавская губерния — русская колония, что Тмутараканское царство — русская колония. ..
Следом за ударными инструментами .вступили солисты. Кажется, партию первой скрипки взял на себя канадский премьер-министр господин Дифенбейкер. Он начал в светлых, мажорных тонах. Он восхвалял полную свободу, полученную колониями «в рамках Британского содружества наций». Он утверждал, что большинство колониальных народов добилось свободы
38
вовсе не путем многолетней тяжелой борьбы, а «с одобрения, при поощрении и под руководством Соединенного Королевства, Британского содружества наций и Франции». Правда, г-н Дифенбейкер почему-то воздержался от иллюстрации видов этого поощрения, скажем, примерами из жизни Алжира... Смазанный елеем вместо канифоли, смычок г-на Дифенбейкера долго извлекал фальшивые звуки к удовольствию дирижера и части слушателей.
Перед высоким собранием выступил и господин, которого на манер чеховского «ваше местоимение» хотелось титуловать «вашим благолепием». Ни резких слов, ни резких жестов. Поток слов о гармонии, идеалах, единственной в мире структуре своего государства. Господин признавал, что его страна имеет «заморские территории», но...
— Идеал, вдохновлявший всегда мою страну,— распространение христианства и цивилизации... Мы всюду создавали атмосферу братства и уважения. Велением судьбы мой народ образовал единую семью с народами за морем. Если уважаемое собрание мне позволит... вот королевский указ семнадцатого века, где об этом сказано (читает). Глава государства Гана — но, может быть, ему угодно было шутить — говорил, что в наших заморских владениях — принудительный труд. Это не так. Позвольте мне в доказательство сослаться на статью в «Нью-Йорк тайме» (читает). Что касается нашей территории Кабинды, то там очень густые леса и, возможно, она развивается недостаточно быстро. При всем уважении к уважаемому представителю Индии я должен заметить... и т. д. и т. п.
Я постарался сохранить стиль речи «его благолепия» г-на Васко Гарина. Этот стиль лучше всего объясняет поговорка: знает кошка, чье мясо съела. Медоточивый господин, выступивший на сессии, был министром иностранных дел Португалии. Той Португалии, которая эксплуатирует народы и природные богатства своих колоний от Мозамбика до Анголы, той, которая вцепилась в Гоа, той, где властвует Салазар, один из претендентов на мировой рекорд диктаторства!
Но в выступлении «его благолепия» были не только лошадиные дозы лицемерия. В нем сквозил страх.
39
Господина министра пугало выражение лиц сидящих в зале африканцев и азиатов. Дед г-на министра мог без суда застрелить предка нынешнего главы государства Гана. Г-н Гарин-внук не решался нападать на Кваме Нкрума даже словесно. Представитель колониального государства не рисковал открыто защищать колониализм. Он лишь густо накладывал на его звериную морду грим ангела-хранителя...
Итак, с больной головы на здоровую, называть белое черным и черное белым. Кто, например, облагодетельствовал Конго? Бельгия! Только она, честное благородное слово! Об этом с подкупающей искренностью заявил бельгийский представитель г-н Виньи:
— Мы дали независимость Конго, мы! И вот теперь моя страна стала предметом нападок, несправедливых и клеветнических!
Мне показалось, что я уже где-то читал об этом — о клеветнических нападках на бедную Бельгию, так много сделавшую для Конго. Да вот где — во впервые опубликованном недавно «Монологе короля Леопольда в защиту его владычества в Конго».
В этом монологе бельгийский король Леопольд жалуется, что печать клевещет на него, утверждая, что он выручает деньги от перегонки крови туземцев, и обвиняя его в том, что за двадцать лет бельгийского владычества число жителей Конго сократилось с 25 до 15 миллионов человек. Печать не замечает, сколько трудов он, Леопольд, положил на внедрение в Конго религии.
— В газетах — ничего, кроме клеветы, оголтелой клеветы,— восклицает король.— Даже если все и правда — все равно это клевета, раз направлено против монарха!
Сатирический монолог Леопольда написал великий Марк Твен. Духовные внуки Леопольда повторяли зады своего наставника: правда о колониализме — клевета, раз она направлена против колониализма!
Некогда, по свидетельству Марка Твена, янки первыми признали пиратский флаг Леопольда в Конго. И вот соотечественникам Линкольна и Твена выпала сомнительная честь стать в ряды последних защитников колониализма!
40
После долгих прений Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам была принята Генеральной Ассамблеей.
В час голосования даже наиболее яростные защитники колониализма не посмели открыто сказать «нет» Декларации: они воздержались.
Народы, недавно сбросившие ярмо колониализма, народы, впряженные в это позорное ярмо еще и сегодня, навсегда запомнят девятку воздержавшихся, не пожелавших присоединиться к большинству человечества в деле великом, гуманном, неотложном. Они воздержались, чтобы иметь руки развязанными. Позорное дело защиты колониализма объединило английских консерваторов и фашистский режим Франко, французских «ультра» и злобствующих расистов Южно-Африканского Союза, бывших бельгийских «владык Конго» и приверженцев португальского диктатора Салазара, австралийских монополистов и душителя доминиканского народа Трухильо. А во главе этой бесславной когорты — США!
Девять государств во главе с США воздержались,— народы, будьте бдительны!
ПРи ДЕТ ВЕС-НЛ’.
Пришел час, когда на аэродроме под Нью-Йорком стали готовить к взлету межконтинентальный корабль. После недолгих часов полета над осенним взбаламученным океаном — родная земля, отчет перед народом еще об одной из тех миссий, в которых, по выражению самого Никиты Сергеевича, «бывает всякое — и хорошее, и чертовски трудное».
Вероятно, в заокеанской поездке осенью шестидесятого года «чертовски трудного» было много больше, чем в других поездках. Политическая погода этой осени не баловала народы. Ветры «холодной войны» снова нагнали хмурые тучи, массы арктического воздуха оттеснили фронт потепления. Но погода все же была не так мрачна, как предсказывали синоптики госдепарта
41
мента, и уж наверняка не так плоха, как хотелось бы Пентагону и монополиям, жиреющим от военных заказов.
О теплой осени в Америке говорят: «индейское лето». Что же, наверное, и мы и американцы предпочли бы тринадцать дней сентября, «индейское лето» пятьдесят девятого года, богатой штормами осени шестидесятого.
Но ведь и в пору «индейского лета» шла борьба. Капиталисты и милитаристы Соединенных Штатов не перестают быть таковыми при любой погоде!
Вспомните, в сентябре пятьдесят девятого, в канун приезда гостя, вице-президент Никсон за неимением другой аудитории выступил перед ассоциацией зубных врачей и призвал скромных тружеников бормашины не доверять словам Хрущева. И пикетчики с антисоветскими плакатами были, и полицейские заслоны, и за час до приезда гостя Нью-Йорк завыл сиренами воздушной тревоги, и от г-на Лоджа требовали «переспорить Хрущева или умереть».
Но не это было главным в пятьдесят девятом, не стало главным в шестидесятом и не будет главным никогда. «Индейским летом», вопреки всем препятствиям, состоялась встреча лицом к лицу не только с Америкой Белого дома, банкетных залов, фешенебельных отелей, но и с многомиллионной Америкой трудового люда. Американский народ услышал правду о стране социализма и в массе своей, думается, понял, что его великий сосед — за мир. Может быть, ничто не напугало так провокаторов войны, как это прозрение, этот поистине исторический результат исторической миссии.
В шестидесятом году те люди, которые посылали «У-2», опустили перед посланцами мира «манхэттенский занавес». Между главой советской делегации и любым нью-йоркским прохожим выросла живая стена полицейских мундиров.
«.. .Мы верим,— с иронией писал американский журналист Джонсон о Никите Сергеевиче,— что если ему дать возможность посмотреть в глаза среднему американцу, то последний может превратиться в коммуниста. Или, по крайней мере, создается впечатление, что мы верим этому».
42
И все же встреча лицом к лицу состоялась снова. Пусть не такая, как хотелось бы. Пусть лишь немногие из развеваемых холодными ветрами семян правды достигли почвы, но это была почва, тронутая плугом в сентябре пятьдесят девятого.
Госдепартамент был бы не прочь установить свои заслоны в эфире и поставить барьеры перед экранами телевизоров. Ведь таков был смысл его неофициального обращения к крупнейшим телевизионным компаниям с «надеждой», что «домашние экраны не превратятся в трибуну для пропаганды премьера Хрущева».
Когда было объявлено, что незадолго до отъезда из Нью-Йорка все же состоится выступление Никиты Сергеевича по телевидению, знакомый журналист многозначительно сказал мне:
— Вы не знаете Дэвида Саскайнда, который будет вести передачу. Кроме того, по условиям, ваш премьер до последней минуты не будет знать вопросов, которые ему зададут. Говорят, эти вопросы готовили двести человек, и я не поручусь, что они — пламенные поклонники г-на Хрущева.
Читатели, разумеется, помнят содержание этой телевизионной передачи. Я позволю поделиться лишь личными впечатлениями. Когда на голубоватом стекле появилась студия и дымящий сигаретой г-н Саскайнд, непринужденность манер которого граничила с развязностью, когда зрителям показали готовых к яростной словесной атаке комментаторов,— тогда за моей спиной кто-то тихо сказал:
— Западня...
Никита Сергеевич остро, испытующе поглядывал на Саскайнда, который стал выкладывать вопрос за вопросом. Было похоже, что двести советников избрали тактику — сразу же попытаться накалить атмосферу, или, проще говоря, рассердить гостя.
Никита Сергеевич тотчас разгадал этот прием. Вежливо, но твердо он поставил г-на Саскайнда на место:
— Прошу задавать такие вопросы, которые помогут улучшить наши отношения...
Через несколько минут стало ясно: программу ведет уже не г-н Саскайнд, а гость. «Нью-Йорк тайме» наутро призналась: «Было неприятно смотреть, как со
43
ветский руководитель, по существу, играл со своим противником».
Никакой газетный отчет, даже звукозапись программы не передают достаточно полно ощущения провала тщательно разработанного г-ном Саскайндом и его коллегами действа — всех этих рассчитанных на зрителя улыбок, пожиманий плечами, хитроумных технических приемов с выбором невыгодных ракурсов. Это было настолько мелко, что, когда в так называемых рекламных паузах на экране вдруг провокационно замельтешили моськи и шавки радиостанции «Свободная Европа», возникло лишь ощущение гадливости.
Саскайнд нервничал все заметнее, дымом сигарет окутывая собеседника. Временами казалось, что сам г-н Саскайнд эфемернее дыма и вот-вот растает, сгинет на экране. И еще казалось, что не с ним говорил Никита Сергеевич. Из тесного мирка студии гость как бы прямо, непосредственно отвечал на те вопросы, которые могли волновать людей, собравшихся в этот час у телевизоров. Он обращался к трудовому люду Америки от имени советских людей:
— Давайте дружить, давайте не будем вредить друг другу, давайте не нарушать суверенитет других стран. Мы ведь хотим жить в дружбе и братстве с американским народом, жить в дружбе с американским правительством. .. И мы очень хотели бы видеть взаимность со стороны американского народа и американского правительства. Я думаю, что рано или поздно наступит такое положение, когда мы будем дружить...
Да, новая встреча с Америкой все же состоялась — такая встреча, какую позволяла политическая погода осени шестидесятого.
Сильный, мужественный голос правды не раз звучал той осенью на берегах Ист-Ривера. Он укреплял в людях веру: правда победит. За осенью придет весна.
Нью-Йорк, сентябрь — ноябрь 1960 г.
А Г А П О В
В СТРАНУ
ЮНЕСКО
так, читатель, мы с вами летим в Париж. Вероятии, у вас, как и у меня, ломит уши, пока «ТУ-104» пробивает первое, и второе, и третье перекрытия облаков и белая стрелка альтиметра перед нашими креслами крутится по черному циферблату быстрее секундной. Тысяча, две тысячи, три... девять тысяч двести пятьдесят мет
ров. Чудовищные пульверизаторы двигателей чуть изменяют свой звук, и корабль идет горизонтально. В целлофановых конвертах, куда положены авторучки, растеклась чернильная лиловость, и такой же лило-востью залит зенит, мы висим, подвешенные к нему, как бы неподвижно, и в круглый иллюминатор видим неизвестную планету, какой видят ее марсиане, если они существуют.
Широкие долины, горные хребты, темные ущелья, иногда озера, покрытые туманом... Вдали, у горизонта, тонкие розовые нити висят над свинцовой темнотой безымянного моря.
45
Скалы и горы не сглажены миллионами лет — они из облаков, они родились только что, они набросаны неровной кистью, взбаламучены, взбиты. Какая безжизненность! Только иногда посреди равнины стоит слон араратских размеров или рояль, раскрытый для гиганта.
Безграничная горная страна, сложенная только одним минералом — водой!
Мы мчимся над ней—несколько иностранных туристов, иностранный дипломат, мадемуазель Газан, деятельница научного кино, поэты Евтушенко и Долматовский, писатель Василевский, художница Мирель Шагинян, которые отправляются в Африку, и две жилистые литовские старухи крестьянки, решившие проведать родственников в Канаде.
Бережно и надежно несут нас чьи-то руки, сработавшие эти двигатели, монотонно бушующие под крыльями...
.. .Вот и аэродром Бурже.
Я не знаком с теми людьми, которые создали дом ЮНЕСКО на месте старых казарм возле площади Фон-тенуа. Но я их люблю. Большинство из них — старики, мои ровесники, и я хотел бы быть таким же мальчишкой, как они!
Я согласен с Генри Муром, что красота и искусство далеко не всегда совпадают; но в его «Полулежащей фигуре», которая поставлена перед домом, я вижу элементы, вредящие его же замыслу, как бывают в литературе слова, по смыслу подходящие, а по ассоциациям, которые они порождают,— токсичные, вредящие целям автора. Голова этой фигуры вполне похожа на головку солитера, что, конечно, не могло входить в расчеты скульптора!
Я согласен, что художник имеет право рисовать не только то, что он видит, но также то, что он знает, как утверждает Пикассо. Такая позиция тоже возможна. Но я не согласен с Тамайо, когда он в своей фреске над входом в зал заседаний изобразил человечество в позе покорного ожидания перед Прометеем, от которого оно должно получить огонь. Ведь человечество само зажгло этот огонь творчества! Нет дающих и получаю
46
щих, нет благотворящих и благотворимых: есть творцы.
Я согласен с архитекторами, проектировавшими это красивое и гармоничное здание, которое утверждает новые возможности архитектуры, но... Впрочем, об этом «но» я скажу позже.
.. .Мы входим в стеклянно-бетонную столицу страны ЮНЕСКО. Пол нижнего этажа вымощен камнем и неудобен для ходьбы: нога скользит, обувь стучит, а шпильковые каблучки женщин делают их походку здесь особенно осторожной и совсем неестественной. Но пол красив, как красивы и могучи наклонные устои из бетона, несущие всю легкую громаду семи этажей.
Здесь почти нет прямых углов, здесь глаз не может найти осей симметрии, здесь материалы разнообразны, фактура дерева, камня, бетона естественна, и все это вместе создает ощущение свободы,, неофициальности, удобства. Архитектура ничего не требует от вас — ни почтительности, ни чопорности, ни галантности... Она поставила своею целью предложить вам условия для работы, для бесед, для отдыха...
Войдем в зал, где идет заседание. Какой удобный зал, какое уютное кресло, какой хороший блокнот приготовлен для вас! Вы надеваете наушники и включаете русский перевод.
Да, это русские слова, хотя и произносимые с иностранной интонацией, однако долгое время вы не можете понять, о чем же, собственно, идет разговор.
— Великие цивилизации прошлого...
— Единство христианской и мусульманской культур. ..
— Прометеев огонь просвещения...
— Я в восторге от деятельности генерального директора. ..
— Гёте сказал...
— Данте сказал...
А что сказал оратор?
Так вы сидите час, так вы сидите день и другой... Ох уж это красноречие, исполненное пафоса, намеков и комплиментов! Как мы отвыкли от стиля присяжных поверенных!
47
Постепенно вы начинаете понимать.
Ваши противники хотят убедить всех, что мир так же удобен, как кресло, и благополучен, как этот дом.
В этом мире есть только одно неудобство, причина всех неприятностей: коммунизм. Он источник беспокойства. Если его нельзя уничтожить, надо его обойти. Это говорится намеками. Но это понятно для всех.
Целый месяц шли дискуссии на генеральной конференции ЮНЕСКО — на пленарных заседаниях, в комиссиях. .. Вместе с тем это был месяц кровавых событий в Лаосе, в Конго, в Алжире, месяц вторжения вооруженных реваншистов Аденауэра на территорию Франции, месяц гигантских затрат на вооружение... Американские представители пытались увести дискуссию в сторону от важнейших проблем наших дней. Они хотели превратить стеклянно-бетонный дом в непроницаемый колпак, наглухо отгораживающий участников конференции от дыхания жизни. Это не удалось. Делегации Советского Союза, других стран социалистического лагеря, Кубы, государств Азии и Африки полным голосом сказали то, о чем нужно было сказать: сегодня нельзя обсуждать проблемы развития науки и культуры вне борьбы за мир, за мирное сосуществование, за разоружение, ибо война угрожает всему человечеству.
Многие сотни миллионов людей на земле живут вне культуры, поставленные в условия чуть ли не каменного века,— живут без одежды, без грамоты и умирают, не доживая до тридцати пяти лет! Страшный и позорный бич колониализма хлещет по голым спинам ста миллионов людей.
— Теперь это уже не так! — говорят американцы.— Колониализм сейчас — это уже только призрак, никому не опасный!
— Да и в прошлом он был совсем иным, чем его хотят изобразить некоторые,— говорят англичане.— Он принес культуру диким народам. Он воспитал их, подготовил к независимости.
Выступления делегатов СССР, Украины, Белоруссии не оставили камня на камне от этих лицемерных разглагольствований.
— Оставим политику, к которой нас тянут некоторые,— говорят американцы.— Политика — дело ООН.
48
Здесь, в ЮНЕСКО, мы должны заниматься только культурой. Если вы не будете говорить о политике — мы дадим вам еще доллары, если будете — мы можем и вовсе уйти из ЮНЕСКО. Тогда долларов будет у вас значительно меньше....
Это уже угроза, обращенная к небогатым странам, для которых даже скудный дар имеет значение. Но в этом слышится и обида хозяина, теряющего свой хо-зяйский вес. ЮНЕСКО создавалось как американское учреждение; и вот недавно, во едину из суббот, в этом учреждении произошло небывалое: хозяину не дали говорить! Американскому представителю устроили такую обструкцию, в зале стоял такой грохот, что ему так и не удалось выступить. Правда, он повернулся к делегатам спиной и сел на стол — позиция символическая, хотя и малоубедительная,— но выступление было сорвано.
Когда решали, обсуждать или нет предложенный Кубой вопрос о недопустимости вмешательства во внутренние дела других государств, американская машина голосования подняла против обсуждения 36 рук. Но к этому моменту из зала исчезли 26 делегаций. Кроме того, 21 делегация воздержалась. Другими словами, уклонились от поддержки американцев 47 делегаций! Есть от чего разозлиться людям, привыкшим повелевать в этом доме! Как видно, политика стучится в стеклянные двери, и все труднее делать вид, что ее не существует. Она здесь, за этими столами. Ее нельзя замаскировать.
Из ложи прессы хорошо видны надписи на столах делегаций:
Корея... Какая Корея? Только Южная.
Германия... Какая Германия? Только Федеративная.
Китай... Известно, что понимается тут под словом Китай.
Конго... Какое Конго?
Идет обсуждение вопроса о помощи Конго в деле образования. Предлагается сумма немногим больше 30 тысяч долларов на два года — деньги ничтожные, если представить себе эту громадную страну и бескультурье, которое в ней царит. Докладчик с сокрушением говорит о драме конголезского народа: в этом году, не все школы Конго будут открыты.
4 На разных меридианах
49
Так вот в чем драма народа Конго! Оказывается, она отнюдь не в том, что колонизаторы пытаются снова бесстыдно сесть на шею народу Конго. Не в том, что избранный народом глава правительства, со скрученными за спину руками, избит и брошен в карцер. И не в том, что бесчинства бандитов грозят гибелью не только школам, но и детям. Но ведь преступления мятежников — это уже политика, а политики приказано не касаться. Поэтому отдадим 30 тысчонок Мобуту!
.. .Представитель Великобритании поднимается на трибуну. Он долго и пространно разъясняет, почему не будет голосовать за резолюцию, осуждающую колониализм. По его словам, Соединенное Королевство в течение двухсот лет несло трудное бремя воспитания отсталых народов. Эти народы не могли, не умели управлять собой, и Королевство терпеливо учило их. Оно строило им дороги и фабрики, оно несло им просвещение. И по мере того, как эти дикие народы приобщались к культуре, Королевство предоставляло им самостоятельность. ..
В притихшем зале раздаются эти слова, они обращены к людям, многие из которых приехали оттуда, где имела место и продолжается эта идиллия. Из тех благотворительных воспитательных заведений, к числу которых недавно относилась Индия и в число коих сейчас входит Южно-Африканский Союз...
Представитель Великобритании кончает речь и прогулочным шагом возвращается к своему месту в гробовой тишине зала. Стыдно ли ему за его слова? Я не думаю: привычка!
И вот стройная, тонкая фигура спокойно поднимается на трибуну. Складки шелкового покрывала ниспадают до полу, гордая голова поднята, глаза как будто вглядываются в то далекое, что было на ее родине совсем недавно.
— Я знаю,— тихо говорит Индира Ганди,— я знаю, что такое тюрьма и что такое стрельба. Это случайность, что я жива, что я говорю с вами.
Она умолкает на несколько секунд, вспоминая, потом продолжает.
— Я хотела бы сказать,— произносит она,— что наш народ очень много работал, чтобы построить дороги, школы, фабрики в нашей стране.
50
Она не обращается к британцу, она говорит всем делегатам, а может быть — всем людям земного шара.
— И еще я хочу сказать,— заключает она,— что за короткое время существования независимой Индии мы сделали больше, чем англичане за два столетия колониального господства.
Она умолкает и несколько мгновений стоит на трибуне неподвижно — гордая и неумолимая, как совесть.
Медленно сходит Индира по ступеням, и тут начинаются аплодисменты. Она идет, а они грохочут все сильнее, они превращаются в овацию, люди срывают наушники, чтобы не оглохнуть, там и тут встают со своих мест и аплодируют, высоко поднимая руки...
Это — нечто новое в стране ЮНЕСКО. Это уж совсем не похоже’ на американский офис. Уж который раз я слышу здесь, в стеклянно-бетонном аквариуме, крики, грохот рукоплесканий, нарастающий гул. Как будто где-то, глубоко под землей, под каменным полом, под холеным холлом, гудит вулкан.
Теперь я понимаю еще кое-что очень важное. Машина голосования пока еще может действовать в пользу империалистов, еще многие не решаются голосовать против их диктата, но сердце многих уже не принадлежит диктаторам.
И глухие раскаты подземных гулов, могучее содрогание огромных народных масс — голодных, неграмотных, голых, бездомных, ненавидящих свое унижение и начинающих осознавать, кто повинен в их нищете,— докатываются до этих удобных кресел, колеблют бетонные устои, волнами проходят по фрескам и мозаикам милых моему сердцу Пикассо, Тамайо, Матта...
Резолюция против колониализма «во всех его формах и проявлениях», внесенная по инициативе Советского Союза, принимается. Колониалисты остались в меньшинстве, не посмели голосовать против и воздержались от голосования.
Можно ли назвать это победой прогрессивных сил? Да, это можно назвать большим шагом к победе.
Это — одно из многих значительных событий, что произошли в течение месяца разговоров в стекляннобетонном доме.
Красивый, нарядный дом!
4*
51
Его проектировали и украшали художники, мечтатели, новаторы, юные старики, которые верят, что живописью и архитектурой можно установить счастье на земле.
Вот тут я и позволю себе вернуться к тому «но», что оставил в начале этого очерка. Оказывается, летом в этом стеклянном раю рыщут тигры. Желто-черные полосы тигровых шкур появляются на полированных столах, у полированных дверей... Женщины кричат и падают в обморок. Это галлюцинации. Строители забыли, что кроме мыслимого, абстрактного солнца, которое изобразили на своей фреске Миро и Артигас, есть самое настоящее — жгучее, беспощадное солнце. Солнце, от которого надо защищаться. Солнце — тигр. Они забыли о реальности — милые моему сердцу старики!
Им дали возможность, и они радостно возвели против военной школы на площади Фонтенуа прозрачновоздушное нечто, пленяющее глаз, как та страна из водяного пара, которую мы видели с вами, читатель, когда летели в Париж.
Не относится ли это и к стране ЮНЕСКО?
Абстрактная живопись и абстрактная деятельность!
А жизнь, обычная, человеческая, очень трудная жизнь огромных масс народа за пределами этих холлов, где пахнет отличным кофе и табаком «Данхилл»,— эта жизнь идет иными путями и сложена из иных материалов.
Можно ли совместить построения высокого разума и реальность?
Вдохновение художника и нелегкие будни народов?
Высокий идеал сотрудничества всех культур и остроту противоречий в нынешнем человечестве?
Будем верить, что можно!
Париж, 16 декабря 1960 г.
/• S о P Щ/ Г О В С U
Н О В Ь1 Е
Т м д и ц и U
въезда в Виндзорский замок толпа зевак, кинооператоры и репортеры. У ворот стража — рослые парни в медвежьих, нахлобученных на глаза шапках. Под косматым мехом молодые лица, и они— если всмотреться — разрушают средневековый маскарад. Но в них мало кто вглядывается.
Объективы нацелены на каменную ограду, ведущую к боковым воротам замка. Ее зачем-то разбирают. Гранитные блоки сваливают на расстеленный брезент. Здесь мэр Виндзора, придерживающий рукой золоченую цепь, и еще какой-то господин: высокий, рыжеватый, опирающийся на палку. Англичане шепчутся: смотрите, сам Гарольд Уоткинсон... Встаньте к нему поближе, и через час-другой вы попадете на экраны всех телевизоров Англии.
Уоткинсон? Да ведь это министр обороны Великобритании! Именно тот, кто с полуиздевкой и полуугро-
53
зой высказался об англичанах, выступающих против атомного вооружения. Зачем он здесь, в пыли рушащейся стены, среди толпы, ожидающей приезда королевы в Виндзор? Мне этого не понять. Вероятно, какой-то ритуал, традиция, а традиция в Англии — непререкаемый оракул..
Когда идет традиционная, уже семисотлетней давности, церемония передачи ключей в ночном Тауэре, тени шекспировских героев незримо обступают тебя. Но когда бравые гвардейцы после смены караула шагают по солнечному бульвару от Сен-Джемского дворца в сторону Букингемского под музыку из «Май фер леди», весь их марш в сопровождении нарядной толпы и брезгливо переступающих пуделей кажется только частью пусть традиционно, но банально поставленного опереточного спектакля.
В Англии преследуется нищенство. Это давняя традиция. Нельзя появиться на улицах Лондона с протянутой для подаяния рукой. Нищий художник рисует цветными мелками на тротуаре торопливые пейзажи и натюрморты и кладет рядом свою шапку. Он рисует обыкновенный хлеб и пишет на асфальте отчетливо: «Его легко нарисовать, но заработать очень трудно». А бывшие подчиненные бывших гарольдов уоткинсо-нов, инвалиды войны, собирают подаяние на другой манер. Маленький оркестр из четырех-пяти музыкантов движется вдоль панели, оглашая Пикадилли или Оксфорд-стрит бравурными звуками маршей, мелькают барабанные палочки, привязанные к кистям ударника-виртуоза, одноногий инвалид, передвигаясь на костылях, протягивает прохожим кружку.
В Гринвиче на огромном зеленом поле устраиваются традиционные пасхальные аттракционы, лотереи и карусели, описанные еще классиками. И когда тебе начинает казаться, что ты и сам очутился в прошлом веке среди праздной ярмарочной жизни, твой взгляд неожиданно падает на длинный-длинный серый забор. Гам полу смытые зимними дождями надписи: «Vive Lumumba» и «Close US base». Это голоса новой Англии, свидетельство другой, вполне современной жизни.
Специальный гид, который водит туристов по Вестминстеру, подтянут и строг. Он словно бы и сам причастен к традиционной парламентской процедуре. Но .54
за несколько минут до начала обхода гид дотошно расспрашивает нас о двух русских лошадях, которые будут участвовать в лондонских скачках. Не знаем ли мы, какие у них шансы? Можно ли на них ставить? Он был бы очень благодарен за совет. Так предприимчивость оказывается сильнее традиционной чопорности. ..
Улетая из Москвы, я твердо решил не писать об Англии. Здесь годами жили русские люди, они оставили нам проницательные описания Лондона, меткие, справедливые характеристики англичан. А беглые восприятия всегда субъективны. Принято, например, иронизировать над ораторами Гайд-парка, а мне, не скрою, пришлись по душе та спокойная страстность, то умение слушать, которое обнаруживают многие участники импровизированных митингов на углу «спикеров». И собираются там отнюдь не «пикейные жилеты», а люди молодые, здравые, ищущие ответа на острые вопросы окружающей их жизни. А в Вестминстерском аббатстве, где в тиши и почете покоятся князья мирские и духовные, в том числе и те, кто памятен народу только пролитой кровью, стулья прихожан расставлены прямо по надгробным плитам великих мыслителей и художников страны. Верующие преспокойно попирают ногами вырезанные в камне священные имена. Мне трудно с этим примириться, трудно это понять, а не поняв, невозможно и объяснить это читателю.
И я не брался бы за перо, если бы не одно поразительное событие, которое оказалось сильнее, куда сильнее злой иронии и угроз Гарольда Уоткинсона, человека с недобрым и раздражительным лицом. Событие — это неточно сказано. В слове «событие» что-то от происшествия, в нем краткость и обидная однозначность. Речь идет о важном движении современности, которое все больше овладевает умами англичан, захватывает молодую Англию и создает новую традицию.
Уже за несколько дней до того, как десятки тысяч противников атомного вооружения заполнили Трафальгарскую площадь, Уайтхолл и прилегающие улицы, газеты Англии начали писать об Олдермастон-ском марше. Я имею в виду не только «Дейли уор-кер», этого доброго друга трудящихся, газету умную,
55
содержательную, не погрузившуюся в рекламную трясину. О марше писали повсюду. В правых газетах и чуть полевее. В столице и в провинции. Помещали снимки марша, иронические заметки и злобные карикатуры. В конкурентной борьбе с Би-Би-Си коммерческая телепрограмма организовала специальные репортажи. В зазорах рекламы, в антрактах спортивных передач между регби и боксом на экранах возникали серьезные и веселые, тогда еще не усталые лица участников похода. Репортер телевидения интересовался больше экзотикой — восьмидесятичетырехлетним шведом, который начал марш в самом Олдермастоне в пятидесяти трех милях от Лондона, матерью, шагавшей в сопровождении трех детей с четвертым на плечах, что-то весело насвистывающим французом. «Вы англичанин?» — спросили у него. «Нет, француз».— «И специально приехали в Англию?» Юноша кивнул. «Не лучше ли было бы вам маршировать во Франции?» — «Там сейчас погода неподходящая», — ответил, смеясь, француз.
Олдермастонский марш этого года — четвертый по счету, тоже, можно сказать, традиционный. Памятуя серьезность прошлогодней демонстрации, даже бульварные газеты не решались утверждать, как прежде, что марш растает по пути, рассосется, что только жалкие кучки противников атомных бомб добредут до Лондона. Была пущена в ход более эластичная формула— марш, дескать, «идет на убыль». О чем только не толковал английский-мещанин, вооруженный линотипом! Иной раз могло показаться, что среди участников марша остались одни влюбленные, . вкушающие в индивидуальных палатках радости жизни.
Но пока газеты занимались наветами и пустяками, враги Олдермастона делали все, чтобы помешать походу. В иных местах городские власти и частные лица заламывали за ночлег такие суммы, которые заставили бы покраснеть и Шейлока. На помощь участникам марша пришла простая Англия, та Англия, которую можно уверенно назвать двухэтажной. Жители небольших городов открывали двери своих домов женщинам и детям. Так Олдермастонский марш внес поправку в традиционное представление о доме англичанина как об его крепости. Яркие цветные двери коттеджей душевно распахивались навстречу незнакомым 56:
путникам, а ведь такого не бывает, если прежде не открылось, не согрелось доверием сердце человека.
«Two nations! Two nations!» — всякий раз восклицал Ленин, наблюдая социальные контрасты Лондона в годы эмиграции. Разительный контраст двух наций вставал в дни Олдермастона по всему пути марша.
А затем пришло памятное утро. Понедельник, 3 апреля. Последний день пасхальных каникул.
Шел проливной дождь. Он глушил звуки и затягивал дымкой зеленые просторы Кенсингтонского парка. Мы спешили напрямик по пустынным газонам, где вчера еще располагались семьи лондонцев и пожилые дамы преданно прогуливали своих догов, такс, овчарок и пуделей. Два сливающихся воедино парка — Кенсингтонский и Гайд-парк — легли посреди города, неоглядные, но открытые, спокойно неровные, как поднятая дыханием грудь. И было горькое мгновение, когда, промокнув до нитки, мы уже хорошо различали верхние этажи домов на Кенсингтон-род, но не обнаружили никаких признаков марша.
Но вот кто-то заметил мелькнувшее между деревьями белое полотнище с эмблемой похода. Спустя минуту мы увидели знаменитый Олдермастонский «марч»... Это была армия мира перед последним броском к Трафальгарской площади. Картина открылась сразу — звучная, ошеломляющая новизной. Громкие голоса мегафонов, выкликающие названия городов и поселков, профсоюзов и молодежных клубов, звуки самодеятельных оркестров, одиноких шотландских волынок, голоса банджо и гитар, песни, лозунги, разноязыкий гул толпы. Внешне нетрудно было отличить лондонцев от тех, кто прошел уже десятки километров под дождем, кто сбил в кровь ноги, чей костюм уже не хранил следов традиционной английской аккуратности. Те, у кого развалилась обувь, у кого опухли ноги, шли босые по мокрому студеному асфальту.
В печати уже было много сообщений об Олдерма-стонском походе. Мне хочется рассказать о тех мыслях и чувствах, которые всколыхнул в сердце этот апрельский день.
Где-то подспудно жила тревога: а не покажется ли поход малосильным, жидким нам, привыкшим к мил-лионньхм демонстрациям, к нескончаемому людскому
%.
потоку, заливающему Москву в мае и ноябре? Олдермастонский марш, сверх всех ожиданий, поразил меня мощностью, многолюдством, своей гордой властью над огромным Лондоном. Больше двух часов втягивались в Кенсингтонский парк ряды участников марша, шли непрерывным потоком, с детскими колясками, проделавшими десятки километров, с двуручными ящиками, в которых лежали, раскачиваясь на отцовских и материнских руках, грудные дети. В этом году впервые демонстрация протеста шла не только из Олдерма-стона, маленького беркширского городка, где находится военно-исследовательский атомный центр, но и из графства Эссекс, из Уэзерфильда, военной базы Соединенных Штатов в Англии. И когда оба потока соединились, они буквально затопили и широкий Уайтхолл с прилегающими улицами, и огромную Трафальгарскую площадь с ее исполинскими лениво дремлющими медными львами Нельсона. Около 150 тысяч человек приняли активное участие в заключительном митинге сторонников мира. Они завладели центром города. Людской прибой докатился и до Британского музея, туда, где почти шесть десятилетий тому назад работал в библиотечной тиши редактор «Искры» — Владимир Ильич Ленин.
Веселый француз был не одинок. Сначала я удивлялся, читая на движущихся полотнищах названия далеких и близких стран — Нигерии, Швеции, Южно-Африканского Союза, Израиля. Скоро это стало привычным. Тысячи юношей и девушек из других стран и континентов, десятки пожилых ветеранов явились в Англию, чтобы вместе с англичанами проделать свой боевой поход. Интернациональный характер похода, этот живой огонь противоатомных маршей, перекидывающийся из страны в страну, пробуждающий к жизни новые силы, был второй волнующей чертой Олдерма-стонского похода.
Есть внушительность и сила в многодневном пешем походе. По пути он захватывает тысячи людей, дает им время поразмыслить, рождает идею выбора. В пешем движении есть какая-то неодолимая убежденность, воля, настойчивость,— эту живую колонну не заменить колонной мчащихся автомобилей, мотоциклистов или велосипедистов. Мерно шагают люди по
58
земле, где может быть построена счастливая жизнь, а может лечь стронциевый пепел. Бой идет за самое жизнь, за первородное, и самый верный путь — это путь шагающей колонны. Его нельзя считать медлительным даже в век космических скоростей.
В одном карикатуристы из бульварных газет не обманули нас: среди марширующих действительно было много влюбленных. Их легко можно было узнать в толпе, даже тогда, когда они не шли обнявшись или взявшись за руки, а только нежно касались друг друга плечом. Но стоит ли над ними смеяться? Если бы авторы карикатур задумались, они поняли бы, что атомным пророкам, может быть, более всего следует опасаться влюбленных. Ведь принято считать, что любовь эгоистична, что она хоть на время отгораживает человека от мира, дает ему счастье или иллюзию счастья, что отец и мать нежно склоняются над колыбелью первенца, закрывая его не только от горестей и ненастья, но и от «дурного глаза». И когда сотни влюбленных идут в такой поход, когда любящие родители четыре долгих ненастных дня несут на руках своих детей, когда ими движет разум, а не религиозный фанатизм,— это значит, что они глубоко убеждены в своей правоте и уже не отделяют свою судьбу и судьбу своих детей от общего дела.
Я боюсь ошибиться в подсчете, но думаю, что больше девяти десятых участников похода была молодежь в возрасте от шестнадцати до двадцати пяти лет.. Немалая часть этой молодежи из тех, кого иные верхогляды по одной только одежде или прическе готовы причислить к стилягам, кого английский буржуа с презрением противопоставляет элегантным воспитанникам привилегированных колледжей или мелькающим на улицах Лондона молодым старикам, облаченным в старомодные одежды, в котелки и при непременном зонтике.
Шла молодежь, которая не испытала на себе ужасов войны. Это резко выделяет Олдермастонский поход из целого ряда демонстраций, которые мне приходилось наблюдать в ряде скандинавских стран, где большинство участников были люди пожилые, на собственном опыте испытавшие, что такое война и фашизм.
59
Надо иметь в виду английские традиции. Здесь демонстрации регистрируются в полиции, то есть проходят с ее разрешения. «Стороны» взаимно вежливы и движутся, так сказать, по касательной. Правда, и полиция не вправе запретить мирную демонстрацию. Несколько месяцев назад, когда сидячая демонстрация против атомных баз блокировала военное министерство и лорд Рассел вооружился молотком и гвоздями, чтобы прибить к дверям листок с пунктами требования, чиновник министерства любезно предложил ему клейкую бумагу вместо гвоздей, чтобы не испортить двери. Едва лорд Рассел спустился с крыльца, как чиновник сорвал приклеенный листок. Рослые «бобби» с ухмылкой наблюдали за всем происходящим: право демонстрантов прикрепить петицию, право королевских чиновников сорвать ее!
Олдермастонский «марч» тоже был зарегистрирован в полиции и, вероятно, имел свой номер. Но на этот раз потребовалось так много «бобби» — пеших и на мотоциклах— для лондонских улиц, что полиция потеряла равновесие. Вероятно, полиция, по обыкновению, позвонила на Гровенор-сквер в американское посольство и любезно справилась: пропустить ли к зданию посольства демонстрантов для двухчасовой сидячей забастовки или не пропускать? Таково традиционное правило лондонской полиции. Об ответе американского посольства не может быть двух мнений: к четырем часам посольский квартал был оцеплен полицейскими, были поставлены козлы и барьеры и перекрыто движение. Сотни демонстрантов после окончания митинга на Трафальгарской площади сели или легли ничком на асфальт против посольства США/ И здесь нервы «бобби» сдали, больше тридцати человек были брошены в полицейские машины и арестованы.
За несколько дней до марша драматург С. Алешин и я беседовали с Полом Скофилдом в его актерской уборной после спектакля, в котором он с присущим ему тонким умом, грустью и пластической выразительностью сыграл роль Томаса Мора в исторической пьесе. Я удивился тому, что пьеса старательно обходит существо политических и философских взглядов Мора, объясняя его казнь только отказом принести присягу, которая шла вразрез с религиозными убеждениями ве-
60
ликого философа-утописта. Умная, обаятельная улыбка осветила лицо Скофилда. «Именно такого Мора,— сказал он,— примет каждый англичанин. Речь идет о святости и неприкосновенности позиции, о праве на свой взгляд и о мужестве, с которым этот взгляд отстаивается даже перед лицом смерти. Ведь пьеса так и называется: «А Man of all Seasons».
Я вспомнил об этих словах, когда участники похода шли через Кенсингтонский парк. Шли люди самых различных политических убеждений и верований, католики и атеисты, квакер из Филадельфии, заявивший, что «мало ненавидеть атомные бомбы, каждый должен что-то сделать против них», шли молодые коммунисты и молодые социалисты, пацифисты и антифашисты, ирландские националисты и испанские девушки, приехавшие на пасхальные каникулы, чтобы здесь, на улицах Лондона, высказать свое презрение и ненависть к фашистскому диктатору Франко. Услышав русскую речь, они бросились к нам и звали в Испанию в гости. «Это будет, мы верим,— говорили они, торопливо пожимая руки, чтобы не потерять из виду в толпе своих,— вы непременно приедете гостями в Испанию, а Франко там не будет»... Такое не забывается, не стирается в памяти сердца.
У полицейской традиции — предварительно регистрировать марши и демонстрации — есть свой резон. Она словно бы делает ручными все проявления народного протеста. Все, так сказать, упрятано в большой накладной карман «бобби». Знаем, дескать, сами разрешали!
Олдермастонский поход против атомного вооружения разрушил эту иллюзию. Оформленный по всем существующим правилам, он вылился в грозную, захлестнувшую полицейские кордоны мирную демонстрацию. Он был мощным, независимым и справедливым. Англия 1961 года может гордиться этой самой значительной за последние десятилетия политической демонстрацией.
А смысл ее в немногих, но полных большого значения словах Бертрана Рассела: «Надо заставить изменить курс, пока не поздно».
Пока не поздно!
1961
М О А ОД ЛА
И Ф Р II 7^"
ынче в Африке — весна.
Весна политического освобождения. Весна национального ренессанса. На географической карте появились имена молодых африканских республик. В небе Африки вольно вьются государственные флаги молодых республик. И вся Африка — молодая!
Государственный флаг Ганы ликующе и, я бы сказал, величаво реет над резиденцией первого президента республики Кваме Нкрума.
Зеленая полоса флага символизирует вечнозеленые тропические леса и холмы, желтая — золото (раньше республика называлась Золотым Берегом!). А красная полоса — кровь, пролитая бесстрашными борцами за
62
независимость. Черная пятиконечная звезда посредине знамени — знак единства африканских народов.
Внешне резиденция Кваме Нкрума благородно скромна: это ансамбль одноэтажных легких домиков, соединенных крытыми переходами.
Эта резиденция — временная.
Сейчас дворец президента строится на окраине столицы, в форту Христианберг. Эту цитадель владычества своего воздвигли датчане в 1657 году. И до сих пор на крепостных стенах красуются датские пушки — теперь уже музейные экспонаты. Затем фортом завладели англичане. Сюда, в кладовые, стекалось золото,— не зря же колонию прозвали Золотым Берегом. .. Сюда, в подземелья, стекалось черное золото — караваны невольников. Корабли работорговцев, подплывали в час прилива вплотную к стене форта: по каменной трубе, ползком, невольники выталкивались, как фарш из мясорубки, в трюмы и увозились за океан, туда, где и поныне черный цвет кожи клеймит человека, обрекая его на пожизненные унижения.
До провозглашения независимости Ганы в форту Христианберг проживал английский генерал-губернатор.
Выбор места для постоянной резиденции первого президента свободной Ганы, как вы видите, знаменательный. ..
Адъютант с красными аксельбантами, но в коротеньких брюках-шортах провел нас, делегатов Ассоциации обществ дружбы с народами Африки, в затененный, прохладный из-за искусственного охлаждения кабинет президента.
Если попытаться немногими словами охарактеризовать Кваме Нкрума, то достаточно сказать — неукротимая воля. Его сильное, с крупными чертами лицо выражает величайшую сосредоточенность. Движения быстры. Речь предельно скупа, напоминает телеграфный код — ни единого лишнего или повторного слова. Взгляд проницательный, зачастую обжигающий задором.
Народ крепко любит своего президента.
Это и понятно: Кваме Нкрума всю жизнь самоотверженно борется за освобождение, за процветание Ганы. Его преследовали, травили, загоняли в под
63
полье. Его бросали в тюрьму те самые люди, которые затем с вымученными улыбочками поздравляли его с восшествием на высокий пост президента.
Наша встреча была сердечной. Президент горячо говорил о дружбе правительства и народа Ганы с Советским Союзом. Он с глубоким уважением отозвался о великой миротворческой миссии Н. С. Хрущева. И в заключение беседы президент с удовлетворенной улыбкой сказал, что только что подписан договор о строительстве советскими внешнеторговыми организациями гидростанции на реке Черная Вольта.
Подарки, поднесенные нами президенту, были непритязательными, но душевными...
Через несколько минут после встречи Кваме Нкрума покинул свою резиденцию: он уезжал в. северные провинции страны.
Тяжелый, блестящий, как зеркальный шкаф, автомобиль стоял у подъезда. Кортеж мотоциклистов окружал машину. Взвод гвардейцев выстроился почетным караулом. На мотоциклистах были черные мундиры, на гвардейцах — алые. Несколько дней назад в Лондоне я видел часовых Букингемского дворца в таких же алых мундирах.
Это в жару-то — суконные мундиры!
А жара здесь иссушает своим постоянством: комнатная температура в декабре круглые сутки 25 градусов. На солнцепеке, ясное дело, еще жарче. Но и к этому можно б привыкнуть, если бы влажность воздуха не доходила до 84 процентов. Тугая пленка пота-залепляет кожу путника. Даже горячий, крутым кипятком, душ сдирает эту коросту лишь на мгновение: выйдешь на улицу — и опять весь в поту.
Термосы здесь покупают, чтобы хранить лед и холодную воду...
И вот в эдаком-то, напоминающем русскую парную баню, климате на гвардейцах парадные мундиры.
Но этот чуть-чуть наивный нашему глазу церемониал исторически вполне объясним: молодая республика хочет обладать всеми атрибутами суверенного государства.
Президент шел быстрыми твердыми шагами. Гвардейцы вскинули карабины «на-краул». Взревели моторы мотоциклов. Радушно простившись, с советскими
64
гостями, Кваме Нкрума сел в автомобиль. Толпы прохожих на улицах бурно приветствовали своего лидера.
Да, его здесь любят.
Это выражается и в том, что перед зданием парламента в Аккре стоит памятник президенту. И в том, что подростки и юноши носят блузы с портретом Кваме Нкрума на спине. Для нас, что и говорить, такой знак почитания кажется странным.
Но в Африке вообще много удивительного глазу путника. И справедливо сказано, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят... Африканцы вкладывают в свои ритуалы столь светлое, столь непосредственное чувство, что некоторые наши этические мерки становятся необязательными.
Но меня растрогал и взволновал совсем иной случай. Мы возвращались из Кумаси в Аккру, и по этой же дороге позднее, вечером, должен был проследовать президент.
На протяжении двухсот семидесяти километров вдоль шоссе, и у деревень, и в джунглях сплошной шеренгой стояли празднично одетые жители, с флажками, со знаменами — черная звезда на зелено-желто-алом полотнище.
Пылали высокие костры. Гремели барабаны. Детишки сидели верхом на плечах родителей. Школьники в форме, с учителями застыли в стройных рядах. Из джунглей вышли целые деревни, со стариками, со старухами... Так стояли люди час, два, весь вечер, чтобы радостными возгласами, взмахами флагов, громом барабанов почествовать молниеносно промчавшегося в машине с кортежем мотоциклистов своего президента.
2
К востоку от столицы лежит провинция Транс-Вольта-Трго, как здесь сокращенно говорят, Ти-Ви-Ти.
Тут впадает в океан самая крупная река Ганы — Вольта, широкая, но мелкодонная, с плавным, ленивым течением. Низкие зеленые острова напоминают бросившие якорь корабли с зелеными парусами. И берега — тоже зеленые, крутые, обрывистые. Здесь удобно, выгодно построить гидростанцию.
5 На разных меридианах 65
Река кишит крокодилами, и путникам купаться не рекомендуется. И если б я сказал, что видел снующих в воде короткорылых гадин, похожих на изготовленные школьниками модели эсминцев, то вы бы мне поверили. .. Но крокодилы, как назло, не показывались: то ли от жары, то ли по какой-то другой причине.
Я не случайно упомянул, что здесь удобно строить гидростанцию,— это видно даже не специалисту.
И верно, еще в 1951 году международный концерн банков заключил с министерством колоний Великобритании договор о строительстве на Вольте гидростанции. Однако зарубежные гидростроители не торопились: десять лет ухлопали на геологические изыскания. .. И лишь когда друзья, очень географически далекие, но сердцем-то близкие, открыто сказали правительству республики, что они умеют возводить самые могучие и самые экономичные гидростанции мира,— концерн забеспокоился и приступил к работам.
Я был в 1929 году на Днепрострое, и вот тут, на берегах Вольты, все мне казалось, что я совершаю какое-то удивительное путешествие в прошлое. И я повторял вполголоса строки Маяковского:
Я стремился
за 7000 верст вперед, а приехал
на 7 лет назад.
Так вот, в декабре 1960 года под небом Африки я вернулся в двадцать девятый год и увидел десяток грузовичков, два-три маломощных экскаватора и ручные тачки, кирки, лопаты. Между прочим, первые строители Днепрогэса, густо запорошенные пылью, обожженные украинским солнцем, были тоже смуглые. .. То, что для нас стало историей,— если вспомнить латинскую грамматику, плюсквамперфектум — давнопрошедшим временем,— здесь творится наяву. Строятся бараки для рабочих, конечно без всякого комфорта, прокладываются дороги, возводятся аккуратные, даже с искусственным охлаждением воздуха особняки для иностранных специалистов.
Самое величественное здание на холме — контора. Едва мы вышли на балкон, козырьком нависший над обрывом, дух захватило от простора реки, и без труда
66
можно было отсюда Представить себе радугу-Дугу плотины, и огромное море — море Вольта, и здание гидростанции— словом, то, что так привычно любому советскому человеку, но остается пока диковинкой любому африканцу.. .
Сейчас наивно гадать, как сложится судьба этой стройки.
Во всяком случае, недавно правительство Ганы выкупило у государства Израиль акции пароходной компании и преобразовало ее в целиком свою, республиканскую, ганаянскую.
Рядом с нами, на балконе, сосредоточенно завтракали иноземные инженеры; час второго завтрака — ленча — священен: что бы ни содеялось на стройплощадке, а в предназначенный трапезе срок здесь садятся за стол. Инженеры отнеслись к путникам так, как, вероятно, и положено: сделали вид, что нас не заметили, русской речи не услышали.
Ох, до чего смешное притворство!
Уж инженеры-то знали, что на севере страны, на Черной Вольте, отделяющей Гану от Берега Слоновой Кости, тоже началось строительство гидростанции мощностью двести тысяч киловатт. Ведь все местные газеты писали... А нам об этом сказал президент Кваме Нкрума. И возводят ее советские инженеры и организации в счет стошестидесятимиллионного кредита, предоставленного Гане Советским Союзом.
В декабре прошлого года, когда мы были в Аккре, туда приезжала группа советских специалистов во главе с Г. Н. Шевяковым — членом Государственного комитета Совета Министров СССР по внешним экономическим связям.
И сразу же началась практическая работа. Было выбрано место станции: селение Буи, пока что не отмеченное на карте. И уже геологи полетели к Черной Вольте на вертолетах,— дороги-то в джунглях еще не проложены.. . Думается, что геологическая разведка продлится месяцы — не десятилетие, как это произошло у международного банковского концерна на Вольте.
Двести тысяч киловатт! Ровно в два раза больше мощностей всех нынешних электростанций республики. Техническая помощь нашей страны Гане благотворна еще и потому, что она имеет комплексный ха
5*
67
рактер. Берега Черной Вольты богаты золотом, алмазом, бокситами. И советские инженеры уже проектируют рудники, заводы, линию электропередачи длиной 250 километров. Таким образом, скоро здесь возникнет колоссальный промышленный комбинат.
Скоро? Да, скоро, ибо панорама стройки на Черной Вольте не будет напоминать исторические картины образца двадцать девятого года,— победителям Ангары не трудно совладать с Черной Вольтой.
Значение этих уже начавшихся работ необозримо. Политическое освобождение молодых африканских республик нужно закрепить экономическим освобождением. Надо в кратчайшие сроки воздвигнуть крепость индустрии, ибо только в ней залог подлинной независимости.
До сих пор зарубежные купцы вывозят из африканских республик все баснословные дары природы, все сокровища недр в сыром виде. И платят за сырье, разумеется, гроши...
Это особенно ярко видно в Такоради — единственном пока что глубоководном порту Ганы. Здесь начинаются убегающие в глубь страны железные дороги. Сюда везут сырье — бокситы, марганец, бобы какао, кофейные зерна, лес.
На месте ничего не перерабатывают — заводов-то нету.
И ганаянские интеллигенты с невеселой улыбкой говорили мне, что африканцы вообще не ведают вкуса шоколада,— ведь бобы какао до обработки несладкие.
Даже лес, первосортный, ценящийся на мировом рынке чуть не на вес золота,— дерево палисандровое, черное, красное — вывозят бревнами, кругляком,— не пилят.
Ночным рейсом мы летели из Барселоны в Аккру, и уже грудной ребенок сладко уснул в подвешенной к потолку люльке, и уже стюардессы обратились к нам с традиционным вопросом: «Что вы станете пить?», и пассажиры кутали ноги пледами, готовясь вздремнуть в откидных креслах... Моим соседом был светловолосый, с белыми ресницами молодой мужчина, по виду — почти юноша. Разговорились. Оказалось, что соседу всего 25 лет, но он уже коммерческий директор фирмы в Гамбурге, ведет торговлю с Ганой, вывозит оттуда
68
палисандровое, красное, черное дерево-кругляк, а обратно везет, продает дешевенькую фанеру.
— Немецкие юноши вообще сейчас увлекаются коммерцией,— веско заметил сосед.
Ганаянский лес идет на внутренний западногерманский рынок, на отделку особняков миллионеров,— это не хлесткая метафора, а товарная спецификация, но вот моему соседу удалось недавно побывать в Венгрии, и он выгодно продал там, точнее, перепродал партию африканского кругляка. Спекульнул!
— Гешефт есть гешефт,— молодой коммерсант усмехнулся чуть-чуть плутовски.
Не чурается он и торговых связей с Германской Демократической Республикой, посещает исправно Лейпцигскую ярмарку, но летит туда самолетом обычно. .. через Амстердам. Для маскировки, видимо.
Случайная беседа в ночном самолете чрезвычайно красноречива.
В африканские республики, в Гану, в Того, в Либерию, где я побывал, ввозят консервированное молоко и сливочное масло из Дании. И мясо из Австралии. И пиво, тоже консервированное, из Голландии. Магазины, базарные лотки завалены исключительно иноземными товарами, не шибко добротными, но нагло яркой окраски.
Помнится, в позапрошлом году в Эфиопии, совсем в другом краю Африки, я видел такую же картину. Мы ехали в древний Харар из Деридава по извилистой, как перепутанный котенком моток ниток, горной дороге и в пути непрерывно обгоняли торговые караваны осликов, верблюдов. Ослики были по-всегдашнему деловиты, прилежны, не глазели по сторонам, сосредоточенно отстукивали копытцами каждую пядь. Верблюды, заслышав зычный гудок автомобиля, возмущенно шипели и плевались. И на верблюдах и на ослах были навьючены ящики, тюки с пестрыми заграничными этикетками.
И в Хараре, на базаре за старинными крепостными стенами, я увидел, что своего, эфиопского-то, здесь лишь терриконы фруктов: апельсинов, бананов, яблок, обломков сахарного тростника... И еще я подметил, что крестьяне на базаре чаще покупали муку, просяные лепешки, кукурузу, чем сами продавали что-либо
69
съедобное. Стояла эфиопская зима, и, как видно, запасов уже не хватило: за аренду помещичьей земли крестьяне здесь платят до трех четвертей урожая...
Да, однобокое сырьевое развитие экономики все еще мешает молодым африканским странам обрести подлинную самостоятельность, поднять жизненный уровень народа.
Не удивляйтесь, но жалованье иностранного рабочего в Гане все еще в десять раз выше, чем зарплата равного ему по квалификации рабочего-ганаянца.
Казалось бы, как может мириться с такой несправедливостью республика? Но своих рабочих не имеется. Вовсе нету! А иностранцы не жаждут окружать себя прилежными учениками, так сказать, будущими «конкурентами»: как бы щедрого жалованья не лишиться.. .
В Такоради перед воротами морского порта каждое утро собирается многотысячная толпа грузчиков. Придет заграничный «купец» или нет?. . Будет работа или придется уйти несолоно хлебавши? Грузы с пароходов, конечно, здесь носят на спине, как наши волжские «крючники» носили лет тридцать — сорок назад. До механизмов дело не дошло... А за такую работу дорого не платят.
Но и в Эфиопии, в Массауа, плоском грязном городке, прижавшемся к морю, я видел тоже толпы безработных грузчиков, скучающих в ожидании очередного парохода.
На здешнем соляном заводе, по словам директора-иностранца, дневной заработок рабочего-туземца,— он так и сказал: «туземца»,— два эфиопских доллара, а рабочего, приехавшего из-за рубежа,—15 долларов.
Директор слезливо жаловался, что чрезмерно велики производственные издержки: соль быстро разъедает покрышки самосвалов, кожаные и брезентовые ремни и даже металлические детали машин.
А рабочие — эфиопы, арабы — работают босиком и в трусиках: их кожу, видимо, соль не разъедает...
Поедем отсюда на запад Африки, в Либерию, в Гану,— там положение рабочего-африканца тоже все еще остается тяжким. Да оно — добавлю — и будет таким, пока не возникнет своя государственная промышленность, не появятся в деревне кооперативы.
70
Четыреста тысяч га каучуковых плантаций, отданных правительством Либерии в не ограниченное законами властвование американской «Файрстон раббер компани», из года в год обогащают заокеанских монополистов и обрекают, тоже из года в год, африканских рабочих на полуголодное существование.
Нет, здесь давным-давно не свистит бич надсмотрщика, все выглядит благопристойно, чуть ли не патриархально: плетенные из тростника хижины батраков, и сладкий дым очага, и бегающие нагишом в зарослях ребятишки... К каждому каучуковому дереву прикреплена чашечка с непременной надписью «Файрстон», и туда стекает липкий белый сок, и дважды в сутки рабочий с жестяным ведром обходит плантацию, опорожняет и вновь подвешивает чашечки.
Его дневной заработок — 45 американских центов.
А ведь надо дважды в сутки — круглый год, без праздников, без выходных — подойти к каждому из 450 деревьев, таков участок батрака, и снять каждую чашечку, и ножом сделать новый надрез, дабы ранить дерево, заставить его плакать клейкими, белыми, как сгущенное молоко, каучуковыми слезами, и отнести полное ведро с надписью по ободку «Файрстон» на шоссе, где его заберут шоферы грузовиков с непременным напоминанием крупными буквами по борту: «Файрстон».
Сорок пять центов!
За сутки в чашечках накопится 800—1000 граммов сырого каучука, а дерево живет двадцать два года,— подсчитайте же, сколько одно дерево даст за эти двадцать два года прибыли «Файрстону».
Сорок пять центов!
Государственный чиновник, получающий 55 ганаян-ских фунтов в месяц — жалованье приличное,— сказал мне, что имеет с братом плантацию какао. Брат постоянно живет в джунглях — хозяйничает там.
— А кто же работает на плантации? — В устах советского путника такой вопрос звучит вполне естественно.
— У меня на плантации четыре семьи батраков.— Улыбка государственного деятеля кроткая, я бы сказал, нежная.— Я им построил хижины, бесплатно кормлю их весь год. Конечно, работает вся семья:
и рабочий, и жена, и дети-подростки... Но когда приходит срок детишкам идти в школу, я дарю им форму. Бесплатно!
— Гм, а зарплата?
— Раз в год, за два дня до рождества, я выплачиваю рабочему двадцать пять фунтов!
Таким образом, он половину своего месячного жалованья раз в год «дарует» даже не рабочему — семье, целой группе батраков, в том числе и малолетних.
з
На официальном приеме, «коктейле», как здесь говорят, в садике, где деревья, словно рождественская елка, были увешаны разноцветными лампочками, под открытым иссиня-черным небом мы беседовали с двумя министрами Ганы.
Министры были очаровательно молоды; их величавость была скромной, их скромность была достойной положения и чести республики.
На них были национальные костюмы — кенте. Это хитон из цельного куска ярко-пестрой материи, напоминающий римскую тогу; правое плечо и правая рука обнажены. Конечно, работать и даже ходить пешком в этом костюме невозможно. Тяжелые складки кенте рельефно драпировались вокруг юношески стройных, мускулистых торсов министров.
Кустарной выделки кенте стоит шестьдесят фунтов стерлингов.
Кстати, шестьдесят фунтов стерлингов — годовая зарплата квалифицированного ганаянского рабочего...
А дамы были в европейских платьях, но с турнюрами конца девятнадцатого века, времен Золя. Их лица в освещении многокрасочных лампионов были прекрасны.
Но я рассказываю о садике в ожерелье елочных лампочек, о молодости министров, о том, что «коктейль» проходил, как все «коктейли» (толпились у стола с напитками всевозможной крепости, была даже «Смирновка» из Нью-Йорка, так, русскими буквами, и напечатано на этикетке: «Смирновка»),— только потому, что один из министров поднял тост за подписан
72
ный им в тот день, буквально несколько часов назад, договор о посылке в Москву на специализацию и повышение квалификации тридцати ганаянских инженеров и техников,
Право же, этот тост был и для нас, да и для хозяев, самым приятным за весь вечер!
Но — тридцать человек. . . Мало? Да, по первому впечатлению — мало.
Однако через несколько дней столичные газеты в Аккре большими, чуть ли не полуметровыми, цифрами «3000» известили, что в 1961 году три тысячи ганаянских юношей и девушек поедут учиться в высшие школы Советского Союза и братских социалистических стран.
В Гане примерно семь миллионов жителей.
Пожалуй, эти цифры не нуждаются в анализе.
Советский народ, да и вся мировая общественность в этом году чествуют великого Михаила Васильевича Ломоносова в связи с 250-летием со дня его рождения. Кое-кто из нашей молодежи, из числа зарубежных друзей ошибочно считает, что вот всего-навсего один Ломоносов пришел пешком из Холмогор в Москву учиться.
Помню, в Институте истории искусств профессор Григорий Александрович Гуковский, выдающийся знаток русского восемнадцатого века, рассказывал нам, студентам, что в ту пору шли, тоже пешком, ехали на попутных подводах в Москву сотни юношей из Астрахани, из Тобольска, из Костромы.
Время такое стояло — молодое, дерзновенное! .. Нельзя было не учиться.
Казалось бы, к чему в далекой Африке думать о Ломоносове? И, конечно, моя аналогия условна, как, видимо, и все исторические аналогии.
И все-таки три тысячи африканцев едут на север, в Москву, за наукой, за знаниями. До чего ж время-то стоит сейчас молодое, дерзновенное!...
Справятся ли африканские республики самостоятельно с наитруднейшей задачей подготовки национальных кадров?
Сомнительно.
В Аккре есть университет, раскинувшийся на пригородном холме Легон. Когда в столице говорят: «Ле-
73
гон», то подразумевают университет, студентов... Хотя открылся университет в 1948 году, но и поныне не обрел учебной и научной автономии, является филиалом Лондонского. Окончили за эти годы университет в Легоне 480 человек. Конечно, приятно, что это первые ганаянские специалисты, получившие высшее образование на родной земле, но все-таки республике не хватает дельных, знающих досконально свою профессию работников.
А сейчас на холме Легон учится всего 650 студентов.
В столице Либерии — Монровии тоже университет, уже полностью свой, республиканский. За обучение, комнату и питание студент там платит в год столько, сколько получает за год рабочий. Ясное дело, высококвалифицированный, не «сорокапятицентовый» с каучуковых плантаций «Файрстона».
И так мне запомнилась здесь встреча с двумя студентами, пришедшими в отель к советским путникам — порасспросить, как бы осенью отправиться в паломничество в Москву в Университет дружбы имени Патриса Лумумбы! .. Один из них, юноша с грустными глазами, был прямо-таки безутешен: оказалось, что его младший кузен уже учится в Москве. Мы помогли, как смогли, советами, наставлениями, и студенты ушли, судя по всему, приободрившиеся.
Похоже было, что их родители не могут отдавать в кассу университета всю свою годовую зарплату.
Поистине характер национального бедствия приобрело положение с врачами.
В Того я встретился с профессором Сергеем Никан-дровичем Покровским, крупнейшим советским специалистом в области тропических болезней.
Позднее выяснилось, что минувшим летом я удил рыбу на Валдайском озере, на одном берегу рядом с профессором. И мы не разговорились, не познакомились, охваченные созерцанием неподвижных поплавков.
Вот какие «детективные» сюжеты иногда устраивает жизнь!
Но скажу обо всем по порядку. В нашей стране малярия практически уничтожена. В республике Того сейчас двести тысяч больных малярией. Это по официальной статистике. В джунглях, вдали от шоссейных дорог, вообще никаких медицинских обследований на
74
селения не проводилось. Значит, на деле-то больных еще больше... А всего жителей в стране миллион двести тысяч.
Правительство Того пригласило профессора Покровского и грузинского ученого Г. И. Канчавели приехать на продолжительный срок в Африку, изучить распространение малярии и прочих тропических болезней, подсказать эффективные меры борьбы с ними.
Что же выяснилось? В Того всего сорок два врача; двадцать из них живут в столице и занимаются преимущественно частной практикой. Чиновники, зажиточные африканцы и, разумеется, все европейцы имеют своих домашних, личных врачей. В государственную поликлинику пробиться невозможно: там за день доктор принимает 1500 больных. Не понимайте это буквально: в статистическом бюро число обратившихся за помощью больных разделили на количество врачей, вот и получилось— 1500... На деле «маляриков» даже не осматривают, а регистрируют и суют им лекарства.
Сорок два врача в республике!
В Валдайском районе Новгородской области, где прошлым летом профессор Покровский и я вдохновенно занимались рыболовством, тоже сорок два врача.
Деревня Того обходится знахарями, колдунами.
Оспа здесь считается «священной болезнью», своего рода благоволением божьим, и больного старательно прячут от чужого глаза, а если он скончался, в рай попал, то радуются за его счастливую долю и одежды его раздают исключительно родственникам, ибо.и на этом тряпье почиет благодать всевышнего.
Жизнь республики Того только начинается. Еще не создана и не утверждена конституция, и потому нет президента — премьер выполняет обязанности главы государства. В казне денег не так-то много... Газеты здесь печатаются на ротаторе, это, в сущности, бюллетени, выходящие ничтожными тиражами, нерегулярно. Лишь в январе, уже после нашего отъезда, начал работать правительственный радиокомитет, а при нас частная радиостанция оглушала слушателей рек
75
ламой заграничных товаров и танцевальной музыкой самого разухабистого американского пошиба.
И на борьбу с малярией тратится лишь пять процентов бюджета.
Ясно, что своими силами республика никогда с этим бедствием не справится.
Недавно, уже в Москве, я видел профессора С. Н. Покровского. Он и профессор Канчавели сделали сообщение о своей поездке в Того на коллегии Министерства здравоохранения СССР. Принято решение уже этой весной учредить в Того советскую научную противомалярийную станцию, послать туда группу врачей, медикаменты и. .. вертолеты. Ибо без вертолета в джунгли не добраться.
Но, вероятно, и тридцать советских врачей-энтузиастов с малярией не управятся. Выход один: посылать в медицинские институты СССР юношей и девушек Того, создавать свои национальные кадры врачей.
И молодая республика с доверием устремляет взор на Москву, знает, что Москва поможет.
Чрезвычайно показательно, что местные журналисты говорили мне: в Того богатейшие залежи фосфатов, к разработке их не приступали, да и приступать не собираются, пока не приедут советские консультанты. ..
Героические усилия по ликвидации поголовной неграмотности предпринимает Гана.
Правительство решило за десять лет, к 1970 году, обучить грамоте всех без исключения жителей, и старых и малых. В деревнях, где еще поклоняются идолам, строят школы. Правда, строить школы здесь легко: возводят навес, прикрывают его пальмовыми листьями, учитель и ученики располагаются прямо на земле, ветерок продувает — свежо... Но все-таки это школа, государственная школа, и ничто иное,— колонизаторы и ее не хотели иметь.
При университете Аккры действует Ассоциация образования народа, типа наших народных вечерних университетов. Она устраивает циклы лекций повеем отраслям знаний для взрослых ганаянцев, обладающих опытом практической работы, но не имеющих законченного образования. В каждой из пяти провинций Ганы университет держит тютора — попечителя, орга
76
низующего вместе с Ассоциацией лекционную дея-г тельность.
И все-таки Кваме Нкрума, правительство республики отчетливо сознают, что и этого недостаточно для резкого поднятия культуры народа.
Потому-то три тысячи ганаянцев этим летом и поедут учиться к нам.
4
Граница между Ганой и Того — условная.
Правда, пограничники обеих республик рачительно изучали советские паспорта, заставили нас заполнить анкеты... Но местные жители относятся к границе без должного почтения — перелезают через ограду, проходят, согнувшись, под шлагбаумом: документов-то ни у кого нету... Подъехал белесый от пыли автобус из Ломе; с задорными восклицаниями из него высыпали кочующие по базарам юные танцовщицы. Это были прелестные четырнадцатилетние девочки, голые до пояса, с твердыми коричневыми, как кокосовые орехи, грудями. Содержательница этого то ли ансамбля национальной пляски, то ли бродячего публичного дома, дама весьма почтенная, разрешила путешественникам фотографировать ее воспитанниц,— ясно, за соответствующую мзду... На шоссе, в кругу мгновенно сбежавшихся зрителей, танцевали девочки, а затем ящерицами шмыгнули под шлагбаум — и очутились в Гане.
Но между Ганой и Того пролегает незримая, однако прочная граница — языковая.
В Гане государственный язык — английский, в Того — французский.
Почему суверенные республики не обладают национальными языками? Да потому, что они населены племенами, зачастую крайне малочисленными, и у каждого племени свое наречие, свой диалект.
Возглавляют племена, как здесь говорят, «чифы» — короли, вожди, князья.
Мы посетили вождя племени Того-виль. Племя бедное, люди живут рыболовством, свиноводством. Саманные, тростниковые хижины крыты пальмовыми листьями. Но кенте драпируется на могучем теле
77
«Чифа» величественно, и держится вождь с подобающим его сану достоинством.
Его дворец — тростниковая круглая хижина; на стене сажей нарисованы трон, скрещенные мечи, весы. Значит, здесь тронный зал вождя. Значит, вождь — предводитель воинов своего племени и верховный судья: весы — символ правосудия.
Дружелюбно побеседовав с нами, вождь заявил, что он обязан помолиться о здравии и благополучии его гостей. И, повернувшись лицом к востоку, воздев руки, он пробормотал слова молитвы. Принесли в тыквенном сосуде джин, видимо самогонный, вылили на потрескавшуюся от зимней жары землю. Это был тоже священный обряд, дар богине Земле... Затем, усевшись в кресле, закинув ногу на ногу, вождь без всякого перехода сказал:
— Я очень рад, что русские приглашают молодых африканцев учиться в Москве. И мечтаю, чтобы в нынешнем году хоть один юноша моего племени поступил в Московский университет!
Это смешение стародавнего и нового, средневековья и современности чрезвычайно знаменательно для молодой Африки, рвущейся от феодализма к просвещению.
Но вообразите себе положение любознательного юноши из того же племени Того-виль, где мы побывали! Чтобы учиться даже в средней школе, ему нужно отречься от родного, племенного наречия и обязательно выучиться французскому языку.
В Того языковая проблема еще более сложна, чем в Гане, где интеллигенты, да и горожане, издавна говорят по-английски.
Ранее Того принадлежало Германии. И все старики говорят по-немецки.
Затем Того перешло под опеку Франции. И вся молодежь теперь говорит по-французски.
Интеллигенция независимого ныне государства не имеет единого национального языка.
Дети не понимают отцов.
Последние известия по радио в Того передают на шести, восьми, а в экстренных случаях и на двенадцати наречиях. В Гане тоже ведут передачи на местных диалектах: тви, фанти, га, хауса, дагбани. Но ведь
78
такие информационные передачи длятся десять—пятнадцать минут. И снова в радиоприемнике слышится чужеземная речь.
Теперь вы поняли, как мешает языковая разобщенность, раздробленность молодым африканским республикам в создании национальной культуры.
Не забудьте, что в многострадальном Конго свыше пяти тысяч племен, свыше пяти тысяч совершенно различных наречий...
Но зло феодализма выражается не только в языковом хаосе.
Конечно, весы — символ правосудия, но если в некоторых племенах «чиф» имеет право вынести своему подданному смертный приговор и этот приговор незамедлительно приводится в исполнение, не подлежит обжалованию, то ясно, что жители племени являются и поныне доподлинными рабами.
«Чифы» самостоятельно собирают с подданных налоги и уделяют толику денег в общегосударственную казну.
Конечно, в их карманах оседают несметные сокровища. Чем многолюднее племя, тем богаче вождь.
В Гане мы нанесли визит королю одного из племен. Вот это король так король! .. Он восседал на троне, главу его венчала корона из чистого золота. Да, не случайно Гана именовалась Золотым Берегом!.. Вокруг трона стояли шесть телохранителей; на их жезлах красовались фантастические, тоже золотые, птицы и рыбы. Церемониймейстер распоряжался раз и навсегда, с незапамятных времен установленным порядком королевского приема... Когда король шествовал во дворец — тростниковую хижину, то над ним несли зонтик, дабы солнечные лучи не обожгли его лик.
Дети короля, как нам сказали, учатся в Англии в аристократических колледжах...
«Чифы» бесконечно богаты, они и сейчас, и в республиках, скупают оружие, чаще всего — контрабандное, держат дружины вышколенных, готовых на любое преступление воинов.
Капиталисты, и английские и французские, десятилетиями подкармливали «чифов», баловали их подарками, благословляли королей на беспощадное ограбление подданных.
79
Не приходится после этого удивляться, что любое социально прогрессивное начинание правительств молодых республик встречает отчаянное сопротивление, порою открытое, иногда замаскированное, феодалов.
Вспоминается мне теперь знаменательная встреча в Эфиопии. На дипломатическом приеме глава советской геологической экспедиции тов. П. познакомил меня с высокопоставленным государственным деятелем. Тот был молод, изящен, недавно вернулся из Оксфорда. .. Он рассыпался в изъявлениях уважения к Советскому Союзу. Едва обмен любезностями был завершен, тов. П. шепнул мне:
— У сего господина сорок тысяч гектаров кофейных плантаций! Вот и подумай: хочет он помогать нам в геологических изысканиях? А от него многое зависит...
Всплыл в моей памяти этот разговор не случайно: ганаянские газеты в те дни печатали телеграммы о мятеже против императора и правительства Эфиопии.
Да, молодая Африка сосуществует с Африкой старой.
И они — в борьбе.
5
Богатства африканских республик не в земле, которая способна давать четыре тучных урожая в год, и не в ископаемых сокровищах, и не в тропических лесах, а прежде всего в народе — трудолюбивом, смелом и необычайно красивом.
Африканки сказочно прелестны телом: ну впрямь ожившие древнегреческие статуи, но, разумеется, черные. И не только девушки,— матери трех-четырех детей: старшие цепляются за юбку, младший выглядывает из котомки, подвешенной за материнской спиной. Хотя. .. хотя я как-то забываю, что многодетным этим матерям всего по шестнадцать-семнадцать лет.
Стройность африканок, видимо, зависит и от того, что все грузы здесь женщины носят только на голове. Бежит школьница, торопится, чтобы не опоздать в класс, а на голове у нее ровной стопкой высятся учебники, тетрадки и сверху еще стоит чернильница... Домохозяйка несет с базара мешок с провизией и два
80
огромных бревна — топливо для очага. В руках? Нет, тоже на голове...
Туго натянутая скрипичная струна,— пожалуй, лишь такой метафорой можно передать впечатление от статности африканок.
Мужчины тоже стройные, высокие, грациозные, плавные в движениях, в походке.
Окраска кожи самых различных оттенков — от золотисто-лимонной и румяно-красной, как пенка вскипевшего молока, до угольно-черной.
На щеках у ганаянцев насечены шрамы: от одного до шести, ровной лесенкой, чтобы установить принадлежность человека к тому или иному племени. Встречается и более изощренная татуировка: треугольником надсечены верхние губы, дабы обнажить кипень плотных зубов; на щеках, на шее, на руках кожа усыпана синим бисером вытатуированных узоров.
Африканцы танцуют непрестанно. Танец — их естественное состояние; в моих словах нет преувеличения. .. В Аккре, четырехсоттысячном городе, достаточно заиграть где-то духовому оркестру, как торговки бросают свои ларьки и бегут танцевать. За ними спешат прохожие... И на пустыре в неистово стремительной пляске кружатся, вертятся, взлетают крылато сотни танцоров. Никто не интересуется, почему играет оркестр. Играет,— значит, необходимо пуститься в пляс. Так продолжается двадцать минут, полчаса, до тех пор, пока изможденные музыканты не рухнут на землю.
Мы уезжали из Такоради в воскресенье и нагнали на шоссе школьников, идущих к океану на пикник, на купанье. Духовой оркестр гремел, накаляя и без того знойный воздух зажигательными плясовыми ритмами. И все школьники танцевали. Шли — и танцевали. Учителя в белых костюмах танцевали тоже, впрочем не теряя солидности. И мать одного из учеников, беременная, с младенцем в котомке за спиною, несущая на голове, в тазу, фрукты, тоже танцевала, не отставая от колонны.
Танцуй, веселись, молодая Африка! Ты прилежна в труде, ты храбра в борьбе, ты прекрасна в пляске. Сегодня твой праздник, молодая Африка, твоя весна.
На разных меридианах 81
Эта весна, правда, омрачается многими ненастьями, бурями. Но ведь так бывает всегда...
В Такоради я видел, с каким упоением полуголые, всего повязка на бедрах, грузчики разгружали советский пароход, несли на спинах мешки с советским цементом. Я сказал — с упоением. Не увлекся ли? Да нет, это было взаправду трудовое упоение, ибо грузчики знали: чей цемент, на какую стройку пойдет цемент. .. И они уже выучили русское слово: спа-си-бо!
Наши спутники, ганаянские интеллигенты, тотчас объяснили, что только советские матросы благодарят африканских грузчиков за работу, за помощь:
— Спасибо!
И, глядя на океан, выбрасывавший из глубины могучий литой вал прибоя высотою два-три метра и с пушечным грохотом обрушивавший его на берег, на родное, столь близкое сердцу красное знамя на мачте парохода, я сказал себе, что груз советского корабля — символический, что этот цемент первыми кубометрами ляжет в фундамент молодой Африки, которая преодолевает все невзгоды, которая — победит.
Март 1961
Е В Г • Г Л Г Р U Л О В U Ч
П у Т Е 8 и f } А /Л £ Т \ и
ели бы мне довелось когда-нибудь писать итальянский сценарий, я написал бы о римских гидах. Правда, об этом кое-что сказано в картине «Полицейские и воры», но все же я рискнул бы развить эту тему.
Достаточно постоять с полчаса в том самом месте, где в стене, опоясывающей Ватиканское государство, пробиты двери в музеи,
чтобы оценить всю живописность такого сюжета. Автобусы подкатывают один за другим, выбрасывая на тротуары туристов — толпы, лавины, океаны туристов. И первым из каждого такого автобуса выпрыгивает гид.
Какие они все разные! Есть гиды старые, задыхающиеся, с ревматическими ногами, продвигающиеся по залам музея словно запаленные лошади. Есть молодые, в ярких рубашках, с черными волосами, сверкающими масленым блеском. Есть гиды, работающие в штате туристских компаний, и гиды дикие, «леваки», 6* 83
Хйатающие клиентов за пиджаки у дверей музеев и храмов или возле бессмертных римских руин. Есть гиды солидные — их речь спокойна, замедленна и украшена множеством сведений, дат и цитат. И есть гиды яростные, страстно вопящие, восполняющие отсутствие сведений и цитат ураганной жестикуляцией и сверканием глаз. Есть гиды, так сказать, персональные, их нанимают богатые туристы, которых обслуживают по особой таксе: личный автомобиль и чичероне с высшим образованием. И есть чичероне массовые — для студентов, мелких рантье, бизнесменов средней руки, небогатых чиновников и небогатых вдов, стекающихся со всех концов света в Рим. Эти гиды бегут впереди туристских стад, бросая короткие объяснения, останавливаясь перед скульптурами и картинами прославленных мастеров на миг, как курьерский поезд, чтобы причмокнуть от восторга губами и сделать пальцами жест, выражающий преклонение перед шедевром.
Бывают, наконец, гидами и девицы. Они сидят, эти дневные дамы, в тени руин, ожидая туриста. Студенты, которые бродят пешком из города в город, не без охоты пользуются их услугами. Девицы-гиды не обременяют их объяснениями, касающимися Капитолийского холма, но зато доставляют им много добавочных радостей за ту же плату, которую без всяких дополнительных удовольствий требует гид-мужчина.
Да, я написал бы сценарий о гидах! И в качестве места для одной из основных сцен я избрал бы Сикстинскую капеллу.
Вот где великий базар, Вавилон туризма! Шум, гомон, шарканье. Выкрики гидов на всех языках нашей грешной земли. Капелла набита людьми — не двинешься, не продохнешь. Сотни пар глаз взирают на стену, где возвышается «Страшный суд» Микеланджело, и добрая сотня экскурсоводов кричит одновременно о великом творении, о гамме сумрачных красок в изображении ада, о серо-зеленом тоне, которым написаны воды Стикса, о праведниках, окружающих Христа, о святом Бартоломее, держащем в руке кусок содранной с него кожи (святому Бартоломею придал Микеланджело свой собственный облик). И далее я продолжил бы эту сцену в других ватиканских залах, где гиды размахивают над головой флажками
84
своих фирм, чтобы не потерялись и не заблудились отставшие клиенты; в узких проходах, где протискиваешься, словно в трамвае; в ватиканских лифтах, таких огромных, что в них поднимаются разом целые роты туристов; на ватиканских двориках со швейцарскими гвардейцами папы у ворот...
И снова туристский автобус, мелькание улиц, кафе, магазинов... И голос гида, держащего в руках микрофон:
— Сейчас, господа, мы въезжаем на Виа Национале. .. Перед вами — площадь Республики. Справа — термы Диоклетиана, слева — недорогой и очень хороший американский бар... Взгляните, сколько табличек на этой стене. Они вмурованы теми, кто исцелен чудотворной иконой, да минуют нас все болезни!.. Хорошо ли вам видно, мадемуазель? Благодарю вас... Из этого магазина бандиты похитили недавно колье ценой в триста миллионов лир... Виа Барберини. Взгляните на чисто римские линии этих крыш. Благодарю вас... Площадь Испании! На ступеньках этой лестницы когда-то сидели натурщицы, и художники выбирали их себе здесь по вкусу... Фонтан Треви. Остановка на пять минут. Прошу вас бросить в воду фонтана монету: есть примета, что тогда вы снова вернетесь в Рим. Надеюсь, что в этом случае вы опять обратитесь к услугам нашей компании! ..
И вот этак по два, а то и по три рейса в день —1 сперва Ватикан, собор св. Петра («Дамы и господа, это самый большой христианский храм, построенный императором Константином на могиле святого Петра, который здесь перенес последние свои муки...»), потом прогулка по городу — Колизей, Форум и Палатинский холм, Пантеон, вокзал Термини, форо Италика...
Потом, часов в пять, когда трудовой день туристского Вавилона завершен, усталый гид, едва волоча ноги, отправляется в трамвае домой — туда, где, притулившись к развалинам древнего римского акведука, стоят лачуги и бараки, населенные бедняками.
Показ этих лачуг не входит в списки ни одной из туристских программ, а между тем их стоит посмотреть. Сотни хижин, сбитых из досок, покрытых досками и брезентом, палатки, сарайчики, крохотные терраски, заставленные корытами, кастрюлями, немытыми
85
тарелками, цветочными горшками, продавленные кровати под пиниями, множество кошек, отхожие места под сенью глициний. И куда ни глянь — дети. Просто удивительно, сколько их тут!
И весь этот лачужный городок стряпает, мастерит что-то, строгает, паяет, стирает, яростно жестикулирует, смеется, поет и посылает проклятья... А мимо него, метрах в двухстах, бегут машины из аэропорта Чиампино в город по автостраде, усеянной бензоколонками разных фирм, белыми до стерильности, похожими на некие амбулатории.
Разве же это не любопытное место действия для многих опорных сцен фильма о римском чичероне?
Однако вернемся к нему самому.
Итак, наш гид пришел домой, в свой хибарочный городок, съел (или, вернее, всосал) целую миску спагетти, запил их вином фраскаттщ отшлепал детей, посвистел, почистил себе ботинки, поругался с женой, накричал на соседей, чтобы они держали своих кур взаперти, завернул себе бутерброд на ужин, огрызнулся на то, что сын без спроса взял у него сигареты, нежно обнял жену и опять отправился в город. На этот раз — в качестве гида по злачным местам.
Да, есть и такие гиды! Они показывают туристам ночи великого города, в отличие от гидов дневных, показывающих его музеи. И эти ночные экскурсии совершаются уже не под маркой туристских компаний, а на свой собственный страх и риск.
Если вы видели кинофильм «Римские каникулы», то вам, вероятно, запомнилась сцена драки с полицией на плоту. Плот этот — ночной ресторанчик, и находится он у подножия замка св. Ангела. И если дневной чичероне, водя свое стадо по этим местам, говорит: «Замок св. Ангела, ранее мавзолей императора Адриана, был одно время местом собрания кардиналов для выбора пап, убежищем для святого отца во время войны, а также тюрьмой», то ночной чичероне говорит так: «Ночной ресторан «Возле Ангела». Лучшие вина. Танцы всю ночь. Ночь на Тибре, под сводами знаменитой тюрьмы. Цены умеренные. Зайдем, господа?»
Если дневной гид возглашает: «Посмотрите на этот старинный дом. Оцените овал его окон, лепку фасада, изящный взлет крыши»., Это дом, где жил Данте.,.», S6
то его полуночный коллега говорит об этом же доме так: «Ночной клуб в гостинице, где жил Данте. Танцы. Рулетка. Спиртные напитки. Ну как, господа?»
Дансинги у стен Колизея. «Голое кабаре» на Капитолийском холме, недалеко от клетки живой волчицы. Римская проституция удивительным образом вплелась в древние памятники и музеи,. образуя тот Рим для туристов, где гиды дневные возвещают о Микеланджело, Браманте, Бернини, о Пантеоне с вмурованной в нем доской: «Здесь покоятся кости и прах Рафаэля», а гиды ночные — о ценах на вина, карты и женщин в различных домах: в том, где некогда жил Гарибальди, и в том, где умер английский поэт Китс...
Впрочем, ночные гиды только водят туристов в римской ночи, самих же их в дорогие кабаре и клубы обычно не пускают. И они целыми группами сидят возле входов, ожидая своих клиентов и судача о ценах на мясо и артишоки, о росте квартирной платы, о бездельниках детях, о международной политике и болезнях жен.
Да разве же это не сцена для киносценария — этот чудеснейший эпизод, происходящий под звуки джаза, под вопли веселых девиц, гонимых полицией, на фоне римского Форума или древних бань императора Каракаллы?!
2
Хибарочный городок, о котором я уже говорил, выражает собой все то, что гнетет Италию, как затяжная и неизлечимая болезнь. Бесконечная безработица, когда для многих даже самых квалифицированных рабочих и отличнейших инженеров нет места на предприятиях. Бездомность наряду с тем, что на лучших и порой удивительных по современной своей красоте домах висят по всему фасаду полотнища: «Квартиры сдаются внаем».
Нет денег на эти квартиры! Пустуют, годами пустуют они — темные окна безлюдных этажей просто бросаются в глаза по вечерам в Риме. А люди живут либо в набитых жильцами помещениях с грязными лестницами, столь знакомыми нам по неореалистическим фильмам, либо в хибарочных городках, где каж-
87
дыи строит как может и из того, что подвернется под Руку.
Шумит такой городок с рассвета до ночи. Здесь своя жизнь, свои катастрофы, болезни, убийства, ссоры, свои праздники и свои сплетни. И рассказать о таком городке — благодарнейшая задача для сценариста, который задумал бы фильм о современном Риме. Здесь ясна вся механика физического и нравственного ограбления человека капиталом, вся страшная суть глумления над мечтой, любовью, надеждой и счастьем человека. Здесь осмеяно все и изгажено все.
Потому-то так важно следить тут за судьбами человеческими, ибо любая судьба вырастает и в символ и в обобщение.
Тут существуют свои легенды об обогащении, наивные, но исполненные жадной веры. Тут верят, что именно в хибарочном городке жил тот самый сапожник, который первый ввел в моду женские уличные туфли-шлепанцы без задника. И разбогател. И тот портной, который ввел в моду ношение пестрых мужских рубашек поверх брюк. И разбогател.
Были ли в действительности в городке такие люди? Це знаю. Но миф о них питает надеждами остальных, все в городке что-то изобретают, ищут, куда-то спешат. .. Сотни разных профессий, которыми занимаются те, кто годами не может найти постоянной работы. Мы уже говорили о гидах. Их живет тут великое множество. Много и тех, что плетут из соломы шляпы, сумки и даже юбки и целые платья. Плетут с удивительным вкусом и чувством цвета и формы. Делают здесь также и римские сувениры. Это, я бы сказал, целая промышленность сувениров, промышленность на дому, где производится все: от фальшивых браслетов времен Возрождения до фальшивых античных тог.
Вот этих-то делателей и продавцов сувениров я тоже, пожалуй, ввел бы в сценарий.
Боже правый, какие только сувениры не пытаются вам всучить в Риме, едва только вы остановились на миг и по вашим полным восторга глазам заметно, что вы турист, и притом необстрелянный! Тут и куски кирпича, и известка, и щепки, и фотооткрытки, и ожерелья, и даже пыль. Да, самая обычная серо-желтая пыль, зато собранная в Колизее!.. Крестики, кусок 88
кожи от чьих-то святых сандалий... Капля чьей-то святой крови, заключенная в перстень, руководство для молодоженов с рисунками и даже бумага для туалета с изображением колонны Траяна.
Целые армии продавцов сувениров дремлют в тени, где-нибудь на приступочке церкви святых Вериг,— здесь находится «Моисей» Микеланджело. Сквозь полузакрытые веки сонно следят они за прохожими — за чиновниками, пробегающими с портфелями, за детьми, играющими в футбол, за монахом с папироской во рту, за кумушками, шумно развешивающими белье по всему фасаду какого-нибудь средневекового дома, за монашкой-шофером у руля автомашины. Но едва останавливается туристский автобус и гид успевает проговорить: «Прошу уважаемых дам прикрыть обнаженные плечи, иначе вход воспрещен», как суве-нирщики бросаются в атаку. Сотни рук вздымаются над туристами — не то в восторге, не то с проклятиями. В воздухе — перстни, известка, иконы, пузырьки, браслеты и туалетная бумага. «Купите, купите, купите! .. Не хочет ли синьор осколок ребра святого Павла? Или картину Джотто, еще не известную миру? Кинжал Борджиа? Кусок кружева с лифа Сильваны Пампа-нини? Юбку Лючии Бозе? Бархат от туфли папы? Запонки Массимо Джиротти? Кисть, которой писал Рафаэль? Шпагу Гольдони? Подтяжки Де Сика? ..»
При всем этом обладатель столь громкого ассортимента товаров счастлив, если ему удастся всучить туристу хотя бы самую захудалую открытку с видом на купол св. Петра.
Безработица рождает здесь сотни самых удивительнейших профессий. Что бы вы сказали о профессии человека, который зарабатывает на хлеб тем, что открывает и закрывает двери автомашины во время разъезда из театра? Или о человеке, который за несколько лир, брошенных в его ладонь, укажет путь в общественную уборную туристам, истомленным осмотром древностей? Или о том, кто дает в аренду свой зонт при внезапном дожде? Или о тех, кто носит по залам музеев американских старух на паланкинах?
Все это — тоже в сценарий!
Однако какой же все-таки выбрать сюжет для сего воображаемого сценария? Разверните любую римскую
89
газету, отдел происшествий — и материала хоть отбавляй. Например.
Семья. Он — гид, гид-одиночка, левак... Она — стряпает, следит за детьми, стирает. Живут в хибароч-ном городке и очень любят друг друга. Очень бережливы. Очень нравственны. И только иногда, в час особой нужды в деньгах, жена отправляется в город на не очень-то нравственный промысел.
И вот — случается же такое в жизни! — на промысле, римской ночью, жена встречает какого-то иностранного парня-туриста и так ему нравится, что он отваливает ей немалую сумму. И они уславливаются встретиться еще раз. Любовь разгорается. Словно вновь вернулись к супруге гида молодые дни, будто опять пришла весна. Влюбленные ходят по городу, смеются, целуются, поют, заходят в кафе, пьют «мартини», сидят на бульварах. И только глубокой ночью отправляются в гостиницу. И опять хорошая плата. И снова, и снова... Жена начинает скрывать от мужа полученные ею деньги, потому что хочет купить себе платье. Прячет деньги под раму святой Цецилии. И все же муж обнаруживает их. Следует дикая сцена. Не сцена ревности, как вы, наверное, подумали. Нет, просто муж хочет взять эти деньги, чтобы купить себе костюм. Жена не дает. Скандал. Муж-гид хватает стул и ударяет им жену по голове.
Долгие месяцы лежит она в больнице. Влюбленный турист уехал, послав в больницу розу, которую она высушила и хранит на груди. Мужа судили. И оправдали, так как действовал он, по определению суда, из ревности и был невменяем. Теперь они снова вместе. Хорошая, крепкая семья. Очень любят друг друга. Бережливы. ..
И только одна неприятность. Теперь, когда муж выходит на свой промысел, конкуренты-гиды кричат туристам: «Не берите его, он убил жену!..» И туристы в ужасе шарахаются от него. И он почти всегда без работы.
Мелкий сюжет? Не думаю... Ну, а если развернуть его на фоне всего того, что ты видишь в Риме? .. Мощь этих площадей, по которым прошли века,— и рекламы чулок и искусственных женских грудей над ними, 90
Римский Форум, подсвеченный для красоты разноцветными фонарями, жертвенник, на котором сожжен труп Цезаря,— и неон ночных клубов. Иконы мадонны-целительницы— и изображение кинозвезд с задранными к небу ногами. Биржи, банки, скандальные спекуляции, гигантские состояния — и трупы нищих-самоубийц, вылавливаемые каждодневно из Тибра. Шедевры новой архитектуры, кальсоны, развешанные тут же рядом на стенах домов,— и американские военные самолеты в синем, залитом солнцем небе, над старой Аппиевой дорогой...
3
Ранним утром мы выезжаем из Рима. После душной ночи — прохладно. Это тот редкий час, когда все в городе закрыто — и магазины и даже кафе. Пусто. Вдоль тротуара, мимо густых верениц машин, оставленных на ночь под открытым небом, едет на велосипеде полицейский, останавливаясь возле банковских контор и ювелирных магазинов. Он сходит с велосипеда и неторопливо, с сигаретой в зубах, проверяет целость замков и витрин — усилился бандитизм, сообщениями об этом пестрят газеты.
Наш автобус жужжа ползет вверх, взбираясь на холм. Солнце только взошло, и все, что осталось от бурного вечера и не менее бурной ночи, еще валяется на тротуарах в полной неприкосновенности: окурки, обрывки газет, какой-то бинт, апельсинная шелуха, увядшая роза, осколки стекла и даже сломанный вдребезги темно-зеленый стул возле бара.
Первые, омытые утренней росой римские трамвайчики: это едет рабочий люд — в пестрых фуфайках, каскетках, сандалиях и ярких нашейных платках. На разноцветных скамейках садов, под сенью фонтанов и пальм, ночуют бездомные, а также гуляки, которым жутковато вернуться домой.
Прощай, Рим! Наш шофер напоследок везет нас мимо дворцов и памятников Вечного города. Вот парк Боргезе, розовые фламинго над прудом, старинные водяные часы, где струйка воды, наполняя переворачивающийся ковшик, ведет счет времени, терраса Пин-чио, откуда туристы смотрят в подзорную трубу на
91
Рим, собор св. Петра, на выстиранное белье, развешанное — насколько хватает глаз — вдоль громоздящихся по холму фасадов, на Тибр, радиомачты и телеантенны Ватикана. Площадь Бразилии, площадь Испании и дальше, вниз, по Виа Систина (здесь жил Н. В. Гоголь) к дворцу Кривинал, где некогда жили папы, а нынче живет синьор президент.
Мы едем и едем через весь город, на юг, мимо бань Каракаллы, где на открытом воздухе среди развалин даются оперные спектакли, на старую Аппиеву дорогу с ее надгробиями и катакомбами... Шоссе на Неаполь. Шофер останавливает машину, и мы в последний раз смотрим на Рим, громоздящийся вдалеке, и видим крыши и купола в серой и знойной дымке.
— Вперед, синьоры! — говорит нам шофер, наш Джиакомо.— Навстречу солнцу и югу!
Занятнейший человек этот Джиакомо! В молодости он работал батраком у помещика, на апельсиновой плантации близ Сорренто. Во время войны был отправлен на русский фронт. Там он сразу же попал в плен и пробыл почти три года в Советской стране. Немного знает русский язык. Научился в плену шоферскому делу и, вернувшись на родину, служил в таксомоторной компании. Уволен четыре года назад за призыв к забастовке. С тех пор безработный. Дело было бы вовсе гиблое, но выручает знание русского языка. Туристская компания нанимает его порой дней на десять — двенадцать для сопровождения советских туристов. При этом в дороге он часто (как и с нами сейчас) выполняет две роли — шофера и гида... Впрочем, мы не в претензии. Благодаря Джиакомо нам удается подчас видеть то, что вовсе не входит в официальный маршрут.
— Русский — хорошо! — говорит он.— Москва — хорошо! Донец (он был взят в плен в Донце) — хорошо! Италия — хорошо!
Русских слов ему не хватает, и он перемежает их итальянскими, немецкими и французскими. Но так как русских слов все же больше, то я понимаю его.
И вот теперь, когда мы едем на юг, в Неаполь, и мимо проносятся виноградники, оливковые деревья, заросли кактусов, серых от пыли, и бензоколонки, Джиакомо ведет со мной такой разговор:
92
— Революция — 31*0 хорошо! Но, видите ли, мой отец — католик, и жена — католик, и дети — католик... И сам я — католик. И думаю, что бог все же поможет мне в конце концов разбогатеть. Ведь я молюсь ему столько раз в день вслух и шепотом и соблюдаю не только праздники, но и посты...
— Дамы и господа! — прерывает он нашу беседу.— Справа вы видите холм, напоминающий профиль Муссолини, слева холм, где похоронен Цицерон.
И опять обращается ко мне:
— Как вы считаете, что надо сделать, чтобы разбогатеть? Открыть тир в провинции? Там любят стрелять. О, это было бы вовсе не плохо — тир! .. Можно было бы пристроить туда и старшего сына. Да и жену. Работа для всей семьи... Однако где открыть тир? В Вероне? Но там люди скупы, как* кролики. В Ливорно? Но там люди готовы пропить все, только бы не истратить хотя бы лиру на доброе развлечение. Ну и страна!..
— Что там случилось, господи боже мой? Святые апостолы!
Возглас этот относится к полицейскому, который поднял руку, чтобы остановить нас. Выясняется, что Джиакомо, увлекшись мечтою о тире, сделал незаконный обгон и подлежит штрафу. Наш шофер выскакивает из автобуса; следует сцена, в течение которой Джиакомо и полицейский вздымают руки к небу, щелкают в воздухе пальцами, утирают пот, бьют себя кулаками в лоб... Штраф все же уплачен, и Джиакомо, | синий от гнева, возвращается назад.
’ — Тысяча дьяволов! — говорит он мне.— Клянусь,
я пойду к коммунистам! Нигде нет столько нищих и полицейских, как у нас. Надо раз навсегда сломать эту подлую жизнь, как это сделали вы!.. Дамы и господа! Мы проезжаем Монте Касино — место, где шли бои во время последней войны. Справа вы видите кладбище английских солдат. Прямо — кладбище американских солдат... Не остановиться ли на(м, дамы и господа?..
Ближе к Неаполю пейзаж меняется. Начинаются апельсиновые рощи, я бы сказал — апельсиновые леса. И леса итальянских сосен. Апельсины качаются на ветру по обе стороны от дороги, как огромные сосновые шишки... И кактусы, кактусы вдоль обочин,
93
словно пыльные сорняки. Один за другим мелькают придорожные городки: дома обветшалые, почти развалившиеся, и рядом же изящные, превосходные, построенные по последнему слову новой архитектуры; кафе, где играют в карты; витрины портных и модисток, аптекарский магазин, альберго (гостиница), площадь с фигурой святого с молитвенно сложенными ладонями и с неоновым нимбом вокруг головы; овощные ларьки с бананами, кокосовыми орехами, артишоками; ночной ресторан, снова альберго, еще раз ночной ресторан, еще раз альберго...
— Взгляните на этот амулет,— говорит мне Джиа-комо, расстегивая сорочку.— Мне его дал наш священник в день моего совершеннолетия. Очень знающий священник. Вначале амулет мне хорошо помогал. Я женился на доброй девушке из хорошей семьи — ее отец имел у нас дело по починке старых кастрюль. Родились два отличных бамбино. Я взял в долг деньги у тестя, купил лодку и начал возить туристов в Голубой грот на Капри. О, синьор! Вы не были там? Бог мой, в Италии есть только две вещи, которые действительно стоит посмотреть: пасхальная ночь в соборе Петра и Голубой грот... Это неописуемо! Все ложатся в лодку — да, да, именно ложатся, а не садятся, синьор! — и въезжают сквозь узкий пролом в грот, где все голубое — и стены, и люди, и вода. Лодочники поют, кричат и взбивают воду веслами, и все становится от этого еще голубей, даже деньги... О, как прекрасна наша Италия! Вы еще больше полюбите нашу страну, если увидите Голубой грот... Все шло отлично, я зарабатывал на хлеб и даже на кьянти, синьор, но потом лодочники сломали мне лодку, чтобы я не делал им конкуренции. Злой народ, синьор, скверный народ! .. Я остался без средств с моей дорогой женой и моими дорогими бамбино, которые все росли и росли и требовали все больше денег. Ну скажите, как жить в этой треклятой стране честному человеку? Только лишь революция может все это изменить, клянусь пречистой мадонной!.. Дамы и господа! Мы подъезжаем к Неаполю. Там, вдали, остров Капри, где жил ваш Горький, напротив — Везувий. На картинках он с дымом. Но дыма сейчас над ним нет. И, вероятно, долго не будет.
94
4
В Неаполе, когда другой, уже вполне квалифицированный гид показывал нам дворец неаполитанских королей и городской музей, Джиакомо вдруг сказал мне:
— Бросьте это! Хотите, я покажу вам настоящий Неаполь?!
И мы — мимо острова Санта Лючия с его башенкой, над которой колышется итальянский флаг, мимо бесчисленных ресторанчиков, где специально для иностранных туристов играют неаполитанские мандолины и подают лангустов в белом вине и специально же для туристов официанты повязывают головы лихим неаполитанским узлом, мимо нефтеперегонных заводов и грузовых причалов — идем в порт, в портовые улочки.
Ну и тесны же эти улочки — два шага в ширину! Поперек их, над мостовой, протянуто из окна в окно выстиранное белье, полощущееся на ветру. И кошек здесь не меньше, чем в Колизее. Кошки на крышах, на лестницах, на помойках, под олеандрами, розами, банановыми пальмами, среди дворов, жаровен, балконов, увитых глицинией. Об этих неаполитанских балконах следует написать особо. Дома набиты битком, их население не умещается под крышей и выплескивается на балконы. На балконах живут. Здесь стоят кровати, умывальники, ночные горшки и детские люльки. Здесь и стирают, и стряпают, и переругиваются — порой в этой шумной и звонкой перебранке принимает участие (с балконов) вся улица. На балконах едят, спят, плодят детей, умирают. Здесь поют под гитары, дуются в карты, дерутся и молятся. И все это — грязь, помойные ведра, корыта, кастрюли, чад, крики, пеленки — под гроздьями роз, на фоне солнечных далей прославленного залива, на фоне Везувия.
— Святая Екатерина! — восклицает Джиакомо.— Теперь вы видите настоящий Неаполь, будь проклят гид, который показывает вам комнаты королей!.. Бог всевечный, сколько здесь горя! Я слышал, что вы работаете в «чинема» (кино) и вам нравится наш господин Де Сантис. Так все, что он накрутил,— это фруктовый суп в сравнении с тем, что вы увидите здесь...
95
Нет, только восстание может все это изменить, одна революция!
Он вдруг останавливается и долго смотрит на женщин, стирающих на балконах белье, смотрит, как человек, которого вдруг осенила внезапная и удивительная идея.
— А что, если открыть здесь дешевую прачечную, а? — спрашивает он.— Самую дешевую во всей Италии? Если зарабатывать на каждой паре белья хотя бы десятую долю лиры, то можно стать богатым через пять лет. Да, можно жить! Вот только где найти компаньона, чтобы купить оборудование? О мощи святых апостолов!
И дальше, по дороге в Венецию, он все думал и думал о том, где найти компаньона. Он думал об этом в Помпеях, среди мертвых, пепельно-серых, усыпанных ящерицами домов, в то время как мы бродили по древнему амфитеатру или осматривали античные фрески, которые вследствие их игривого содержания показывают только мужчинам. Однако на сей раз он думал о компаньоне для продажи в Помпеях воды и фруктовых соков — такая идея возникла в его. мозгу, когда он увидел табун туристов, изнывающих от жары.. . Десятки новых и новых идей рождались в нем, в то время, как он сидел за баранкой руля и, насвистывая, вел наш автобус. Не хватало ему одного — компаньона. Он думал о компаньонах в Умбрии и в Тоскане, когда автобус бежал среди округлых высоких холмов с их пиниями, кипарисами, башнями старых замков, стрельчатыми крышами городов, карабкающихся вверх по склонам,— пейзаж великих художников Возрождения. И во Флоренции, когда мы взирали на дворец Медичи и бело-зеленый мрамор собора Санта Мариа дель Фьоре, на эти улицы, зеленые ставни, узорчатые двери, резные фонтаны — на весь этот флорентийский архитектурный ансамбль, неповторимый по силе, фантазии, строгости и вдохновению. И на флорентийском базаре, влепившемся в один из таких неповторимых ансамблей, на неописуемом итальянском базаре, где продавцы горшков, старья и соломенных шляп взывают к господу богу и к покупателям голосами и повадками трагических актеров. Здесь продают, словно играют на сцене. На лицах про-
96
Давцов — радость, гнев, лесть, упреки, ирония, даже слезы.
Да, всюду думал Джиакомо о том, какое бы ему открыть дело и где сыскать компаньонов. То умолял он бога помочь ему. То говорил, что уйдет в революцию. То опять молил бога.
В Перудже он решил стать маклером по продаже соломенных юбок с блестками. В Болонье, где много башен с бездействующими часами,— часовщиком. В Вероне— продавцом булок возле могилы Джульетты.
В Венеции он совсем было решил стать грузовым гондольером. Кто-то сказал ему, что здесь много пассажирских гондол и мало гондол для грузов. И Джиакомо целых восемь часов возился с мыслью восполнить этот пробел. Он даже присмотрел небольшую квартирку, куда бы мог переехать с семьей. И недорогое кафе, где мог бы сидеть по вечерам. Венеция ему нравилась: «Жене полезен морской воздух. Правда, здесь шумно из-за оркестров и фейерверков, зато продукты недорогие. Конечно, хотелось бы жить на земле, а не на воде, но что поделаешь, если с этим связано дело...»
И вот весь день, пока мы ходили и плавали по Венеции, пока смотрели на Тинторетто и Тициана, на коллекции старого и замечательного, просто великолепного по смелости рисунка и формы нового венецианского стекла, пока влезали на знаменитую Компа-неллу, чтобы взглянуть оттуда на дворцы и каналы, на причальные старые, обросшие мохом столбы и старые фонари над ними, на легкие мраморные ступени, сбегающие к волнам, на синюю даль Адриатики,— Джиакомо искал компаньона, чтобы купить грузовую гондолу. А к вечеру выяснил, что грузовых гондол здесь не меньше, чем легковых, и дело отпало.
— Ничего! — сказал он мне, когда мы с ним вече-‘ ром сидели за столиком на необозримой пьяцце святого Марка.— Не может быть, чтобы я все-таки не нашел в конце концов дела. Не может быть, чтобы бог не помог мне. Не может пропасть такой человек, как я! Еще кьянти, синьор?
Но в Милане, когда мы с ним прощались на аэродроме, он печально обнял меня.
7 На разных меридианах
97
— О милый синьор! Мне уже начинает казаться, что такой человек может все же пропасть... Ей-богу, пора сломать шею тем, кто мешает жить таким людям, как я! Жизнь надо перевернуть. И построить все заново. .. Но господь не любит бунтовщиков. А я — хороший католик. И жена — католик. И дети — католик. Прощайте, синьор. Не забывайте меня.
И я не забыл его. Не могу забыть этого человека, стоящего на полпути между богом и революцией, между ненавистью к богатым и поиском компаньона для продажи воды и фруктовых соков. И если бы мне довелось писать сценарий по материалам моего путешествия, я конечно бы написал и о нем.
И, как мне кажется, это был бы тогда сценарий об очень серьезном и важном.
1961
/ЕВ rU-H 3 F У Р Г
U /И HU Е В РА5/Л Ы Ш/1ЕН-U/
Аугсбурге зарезали Элизабет Баумейстер и ее пятилетнего сына. Полиция ищет убийцу — человека в коричневом дождевике, разъезжающего на голубом велосипеде. Об этом сообщает западногерманская пресса. Газеты грустят: зима, зябко, у людей расшатались нервы. В качестве лекарства предлагается коньячок «Потт 54». Я видел рекла-
му — «Высокое искусство уюта». Тоскующий господин, сидя в кресле, попивает из чашечки чай. Рецепт: три куска сахара, средней крепости заварка, полрюмки доброго, старого «потта». Так достигается нирвана... .. В пригороде Дармштадта, во дворе евангелической лечебницы для пьяниц, звучит антиалкогольный псалом:
Бедный брат, убойся пагубных страстей!
Брось вино, беги от дьявольских сетей!
7
99
«Подверженные» с нотами в руках медленно движутся по мощеному плацу: это напоминает «Прогулку заключенных» — картину Ван-Гога. Священник в белом одеянии отпускает грехи и призывает одуматься.
Журнал «Шпигель» сообщает: за последние годы потребление водки в Западной Германии возросло в полтора раза, зарегистрировано два миллиона хронических алкоголиков; 43 тысячи автомобилистов в 1959 году потерпели аварию из-за пристрастия к выпивке.
Впрочем, из всего этого делается неожиданно оптимистический вывод: повальное пьянство — признак растущего благосостояния.
Когда-то Юстус Либих в «Письмах о химии» доказывал: «Пьянство является не причиной, а следствием нужды». Теперь, сто лет спустя, в ФРГ пишут: «Алкоголизм — свидетельство высокого уровня жизни населения». Благосостоянием пытаются объяснить падение нравов, интеллектуальную деградацию, рост преступности.
В Оснабрюке молодые поэты задумали выпустить сборник стихов — не нашлось издателя. Сборник размножили на ротаторе, сброшюровали при помощи скрепок,— пошла странствовать по Германии тоненькая тетрадь, которая попала в руки тоскующему господину. Сидя за чашечкой чая (полрюмки «потта», три куска сахара), стал перелистывать:
Луна окосела и небо — в лоск, и иод нами качается ночь.
Пожал плечами, улыбнулся.
Отчаянными очами глядит в наши окна война.. .
Отхлебнул из чашечки.
Уходишь ты. И жизнь мертва. И, как опавшая листва, Слепые, тленные слова...
Чепуха! Бросил...
По радио из Дармштадта транслировали концерт алкоголиков:
Бедный брат, убойся пагубных страстей!..
100
Тоскующий господин встал, выключил радио, надел коричневый дождевик и вышел со своим голубым велосипедом на улицу...
Сын гитлеровского военного преступника Рудольфа Гесса — двадцатитрехлетний Вольф Гесс отказался служить в бундесвере. Он сделал это не из пацифистских убеждений и не потому, что учел горький опыт отца. Вольф Гесс набивает себе цену и капризничает: «Где гарантия,— пишет он в своем заявлении,— что и меня не будут судить?» Вольф Гесс осыпает проклятиями победителей: он требует реабилитации папаши.
Знакомые успокаивают волчонка: все будет хорошо, учитесь выдержке у вашей матери.
.. .В небольшом селе, на юге Германии, проживает женщина — она именует себя на странный манер: «фрау Рудольф». Это — фрау Ильза Гесс, супруга Рудольфа Гесса и матушка Вольфганга. У нее занятная судьба: с 1927 года — член нацистской партии, обладательница золотого партийного значка, гранддама третьего рейха. После войны фрау Гесс предстала перед судом, ее оправдали, назвав всего-навсего безвинной «попутчицей». Она удалилась в деревню, занялась огородничеством, но под капустными листьями лежала у нее рукопись книги о «мученике»-муже и любимом фюрере. Рукопись увидела свет: ее издал бывший заместитель руководителя имперского ведомства прессы Зюндерман. Начались протесты, общественность потребовала изъятия подлой книжонки, но «высокий суд» не увидел в писаниях фрау Рудольф ничего противозаконного.
В 1955 году госпожа Гесс открыла пансион «для знакомых и незнакомых друзей». Со всех концов съезжаются в пансион зловещие постояльцы. Здесь не просто вспоминают прошлое. Здесь думают о будущем, оценивают настоящее. Недавно «знакомые и незнакомые друзья» г-жи Рудольф Гесс выпустили прокламацию, манифест, в котором призвали к созданию неонацистской партии. Среди подписавших манифест — бригаденфюрер СС Карл Церф, один из руководителей «Гитлерюгенд»...
Комплект «Дейче зольдатенцейтунг» за 1960 год. У газеты один лейтмотив: нас обижают. Перед читате
Ю1
лем предстают обездоленные эсэсовцы, страдающие генералы, «герои» войны, которых забыли неблагодарные соотечественники. И при этом не стесняются, прямо говорят: «Лидице — это хорошо, Дахау — тоже хорошо, воздушная операция против Англии была гениальной».
И уже вновь звучат слова: «Ночь над Германией». Во Франкфурте с большим рефератом под таким названием выступил Зигфрид Эйнштейн. Он читал стихи.’
Пройдем по немецкой стране
Сквозь сумрак немецких ночей.
Вот ветер ударил в стекло, Вот всхлипнул в испуге мертвец. Ах, кровью живой истекло Так много прекрасных сердец...
Потом сказал — уже в прозе:
— Фашизм жив. Он живет в солдатских газетах, в подстрекательских листках милитаристов, в грохоте реваншистских барабанов — «сладко умереть за отчизну!». Замалчивают ужасную правду,— фашизм жив. Сегодня на самом деле рискованно назвать эсэсовского убийцу — убийцей, войну — преступлением, а гитлеровского генерала — врагом человечества... Ночь над Германией. Над Западом.
И опять сквозь ночь смотрят на меня печальные глаза Анны Франк. Она перешагнула рамки своего дневника; теперь мы знаем о ней гораздо больше,— знаем, как жила она, как погибла. На сцене это выглядит слишком театрально: шаги на лестнице, грохот прикладов. Все было проще: г-н Франк готовил с детьми уроки, они писали под диктовку, г-жа Франк собирала ужинать. В нижнем этаже к хозяину склада явился человек в шляпе, надвинутой на уши, за ним — трое полицейских. Человек в шляпе сказал: «Мы хотим осмотреть помещение». Они ничего не нашли и уже собирались уходить, но вдруг решили подняться наверх, на чердак, и человек в шляпе вынул револьвер. Хозяин прошел вперед, подталкиваемый полицейскими, и, когда он очутился на пороге комнаты, те, кто скрывались на чердаке, еще ничего не подозревали.
Хозяин увидел, как г-жа Франк накрывает на стол, и виновато сказал:
102
— Пришли из гестапо. Вот так...
Но г-жа Франк ничего не ответила. Человек в шляпе подошел к.г-ну Франку, и тот поднял вверх руки.
А потом их увели и повезли всех вместе в Вестер-борк, повезли в пассажирском вагоне, и Анна не отрываясь смотрела в окно, на веселые пейзажи Голландии, и это была встреча со свободой, приобщение к жизни, и Анна была счастлива, потому что целых два года не видела ничего, кроме мрачного чердака в Амстердаме.
Разлучили их только в Освенциме, когда Анне, ее сестре и матери приказали идти налево, а отцу — направо.
Из рассказов очевидцев мы знаем теперь о том, как жила Анна Франк в Освенциме. Ее содержали в 29-м блоке. Была осень 1944 года. Чувствовалось приближение конца, и комендант, эсэсовская охрана, старосты спешили завершить «ликвидацию». Печи лагерного крематория дымили день и ночь. Худая большеглазая девочка из 29-го блока еще замечала, что происходит вокруг. Она сохранила способность улыбаться. У нее не было чулок, и как-то ей удалось раздобыть старые мужские кальсоны. Этот наряд показался ей нелепым, и, оглядывая свои ноги, она улыбнулась.
Она сохранила способность плакать. Однажды, стоя на пороге барака, она увидела, как дожидаются очереди в газовую камеру дети из Венгрии. Голые, под дождем, они стояли по нескольку часов — очередь двигалась медленно, дети дрожали от холода, и, не выдержав, Анна заплакала в отчаянии от собственной слабости. И еще она плакала, когда мимо нее провели в крематорий девочек-цыганок, тоже голых и остриженных под машинку.. .
А потом был Берген-Бельзен, последний этап. Они должны были умереть, потому что были евреями. Принадлежность к евреям определяли законы, принятые в городе Нюрнберге.
Анну Франк убили эти законы. А Ганс Глобке жив. Он составлял и комментировал нюрнбергские законы. Теперь Глобке — статс-секретарь при Аденауэре... Канцлер Аденауэр сказал о нем: «За всю мою многолетнюю деятельность я почти не встречал людей, более преданных долгу и более добросовестных, чем господин Глобке».
103
Анну Франк не успели сжечь, она умерла в концлагере Берген-Бельзен за несколько дней до освобождения.
Школьная подруга, которая случайно встретилась с ней в лагере, рассказывает:
— Она была в лохмотьях. В темноте, за колючей проволокой, я увидела ее худое, осунувшееся лицо. У нее были очень большие глаза. Мы расплакались, и я рассказала Анне, что моя мать умерла... И все-таки мне жилось лучше, чем Анне. Меня поместили в блок, где иногда выдавали пакеты. У Анны не было ничего. Она мерзла, и голод сводил ее с ума. Я крикнула:
— Я посмотрю, Анна, может быть... Приходи завтра!
И Анна ответила:
— Хорошо, я приду.
Но она не пришла.
И г-жа Л. из Амстердама тоже рассказала о том, как умерла Анна Франк. Два года назад с г-жой Л. встретился западногерманский журналист Эрнст Шнабель. Он писал книгу об Анне — «По следам одного ребенка» — и хотел знать подробности. Г-жа Л. спросила: из какой Германии г-н Шнабель приехал? И когда узнала, что из Западной,— прервала свой рассказ:
— К чему вам все это? Ведь у вас этому не верят, я ничего вам больше не стану говорить...
И все же Эрнст Шнабель собрал материал и написал свою книгу. Теперь мы знаем, как умерла Анна Франк.
В 1961 году в Иерусалиме судили Адольфа Эйхмана. Было оборудовано специальное здание. Во время процесса Эйхмана держали под колпаком из непробиваемого стекла. В Израиль из города Кёльна прибыл адвокат Серватиус — тот, который на Нюрнбергском процессе защищал Фрица Заукеля. Серватиус встретился со своим новым клиентом, разработал план защиты: Эйхман выполнял приказы вышестоящих лиц и действовал в соответствии с законами, существовавшими в тогдашней Германии.
Эти нехитрые аргументы никого бы не озадачили, если бы не доктор Ганс Глобке. Вот один из парадоксов нашего времени: один преступник — на скамье подсудимых, другой — в министерском кресле! Можно
104
представить себе досаду Эйхмана: где справедливость? Д-р Глобке с его законами так же виноват в уничтожении шести миллионов человек, как и он, Эйхман.
За ведение дела Эйхмана адвокат Серватиус запросил неслыханный гонорар — сто тысяч западногерманских марок. Деньги нашлись. Американский журнал «Лайф» собрался печатать воспоминания палача. Эйхман писал их, скрываясь в Аргентине, в присущем ему канцелярско-бюрократическом стиле, словно составлял очередной отчет вышестоящему начальству...
Перед началом суда некоторые западные газеты провели среди читателей опрос: что сделать с Эйхманом? Одни предлагали повесить, другие — четвертовать, а некая экспансивная актриса — зажарить живьем. Но у Эйхмана есть влиятельные заступники.
Доктор Ганс Глобке жив, он — статс-секретарь при Аденауэре...
И опять сквозь ночь смотрят печальные глаза Анны Франк.
В окрестностях города Касселя на огромной высоте возвышается гигантская фигура Геркулеса. Античный герой стоит на фоне искусственных развалин: в 1702 году эти развалины построил местный ландграф, на это ушли немалые средства — развалины в те времена считались роскошью. Двести сорок один год спустя весь Кассель превратился в груду щебня: в редкость были не развалины — жилые дома. Но искусственные руины чудом уцелели, и теперь вместе с Геркулесом они составляют гордость города, романтический заповедник, куда привозят жадных до «красоты» экскурсантов. Гиды поясняют: нога у Геркулеса — столько-то метров, рука — столько-то. Сам он величиной в три этажа.
Это — печальное зрелище: титан в плену у филистеров, у того самого «немецкого убожества», о котором писал еще Энгельс.
Уроки прошлого не всем пошли впрок. В Западной Германии вновь увлекаются показной грандиозностью, мнимым величием. Из глубины истории вытаскивают битву при Танненберге, вспоминают Фридриха, поют «патриотические» гимны: Германия превыше всего!
Учитель говорит детям:
— Мы великий народ, мы выиграли тысячи битв...
105
У подножия Геркулеса собираются кассельские патриоты. Они с вожделением поглядывают на нелепую статую: нам нужна сила!
Генералы бундесвера обращаются к правительству:
— Отсутствие ядерного оружия для нас унизительно. Величие Германии — в атомной бомбе.
Правительство требует от западных союзников:
— Мы хотим атомного равноправия. Дайте нам ракеты «Поларис»!
В Касселе помимо Геркулеса имеется другая достопримечательность — «Голова старика» работы Рембрандта. Этот небольшой по формату портрет одиноко висит в местном музее. У старика — высокий лоб и глаза, которые запомнишь на всю жизнь: глубокий внутренний свет, доброта, вера.
В музей явился господин Шнурре — владелец аптеки, бывший офицер. Он посмотрел на старика и откровенно сказал:
— Голова как голова. Из-за чего столько шума, не могу понять. Правда, лысина сделана очень естественно.
Господин Шнурре обожает все грандиозное. Во время войны он завоевывал «жизненное пространство» для «великой Германии». Он вернулся без правой руки, довольный тем, что осталась хотя бы левая, но привязанности к «великому» все еще не утратил. Дважды в месяц он отправляется на встречу «фронтовиков». Отставные штабисты, интенданты и писаря вспоминают боевые походы и призывают «готовиться». Они говорят о том, что воевали не зря. Вот — дословно:
«Мы не смели бы и мечтать о нашем нынешнем благополучии, если бы германский солдат второй мировой войны не вымотал душу большевизму своей отчаянной и героической борьбой за каждую пядь немецкой и европейской земли».
Что г-ну Шнурре и его воинственным коллегам голова старика? С высоты Геркулеса они готовы обрушить шквал огня на миллионы голов...
В Касселе я подумал о том, что существуют две эстетики: эстетика рембрандтовского «Старика» и эстетика кассельского «Геркулеса». Войну обслуживают не только военные. У нее есть свои художники, скульпторы и стихотворцы.
106
Недавно в одной западногерманской газете я прочитал статью о творчестве Ины Зейдель. Автор панегирика противопоставляет поэтессу другим немецким литераторам. Он пишет: «Гёте, Гейне, Гёльдерлин, Манны — все они в той или иной степени подвержены античному, французскому и прочим влияниям. В отличие от них Ина Зейдель — поэтесса истинно германская».
Ина Зейдель «принимала» фашистский режим, ее чтили при Гитлере. Гейне был запрещен, Манны — тоже, Гёте и Гёльдерлин находились в забвении.
В те годы много развелось новоявленных дарований. Эрих Вайнерт писал тогда о некоем «имперском поэте»:
В архив сдан Гёте, не в почете Шиллер, Лауреатства Манны лишены, Зато вчера безвестный Франц Душилер Достиг невероятной вышины, Назначенный «певцом родной страны».
Это — сатира, но какая в ней перекличка со статьей о мадам Зейдель!
Сейчас никто не помнит «имперских поэтов» третьего рейха, между тем один из них безусловно вошел в историю: это Бальдур фон Ширах—«вождь» гитлеровской молодежи, стихотворец и гаулейтер Вены. Его стихи зачитывали прокуроры на Нюрнбергском процессе: «Германия, проснись!», «Барабаны гремят по стране». Он бойко начинал — чувствовал себя геркулесом: культ силы, мускульной красоты; на спортивных парадах, факельных шествиях, под рев оголтелых толп выбрасывал вперед руку: вот оно, величие Германии, энтузиазм, победа! А кончил печально: пятнадцатый год Бальдур фон Ширах сидит в тюрьме Шпандау, теперь уже старик, «заключенный № 1».
Тюрьму Шпандау западные журналисты именуют «историческим парадоксом» — это единственное в Германии место, где сотрудничают союзники по минувшей войне. Тюрьму охраняют конвоиры четырех стран-победительниц. Нюрнбергский приговор выполняется.
В западноберлинском районе Шпандау (Вильгельм-штрассе, 24) я видел эти мрачные стены,— нет, не
107
исторический парадокс, а историческое возмездие, напоминание о том, что зло наказуемо.
Проходят по Вильгельмштрассе люди — среди них, может быть, и те, кто вновь хотел бы, чтобы по стране «гремели барабаны»,— и вдруг глянут на высокий забор, на железные ворота тюрьмы. Что там, за теми воротами?..
А там их осталось всего трое — Гесс, Ширах и Шпеер. Три тени «тысячелетнего рейха», призраки в черных шинелях и арестантских фуражках, некогда могущественные — повелители, хозяева над жизнью и смертью миллионов людей. Они мечтали о мировом господстве, хотели подчинить себе все человечество. Их обезвредили и подчинили строгому тюремному режиму: в 6 — подъем, в 7.30 — уборка камер, с 8 до 11.45 — работа в саду и так далее... Так, во всяком случае, сообщается в книге Хейдекера и Лееба «Нюрнбергский процесс».
Дважды я был в Нюрнберге, перед зданием Трибунала меня охватывал трепет: здесь осуществилась всемирная справедливость, трубный голос приговора заклеймил жестокость, войну, мракобесие. Человечество познало тогда сладость справедливого возмездия. Сохранились воспоминания о том, как плакался перед смертью Ганс Франк, как «несгибаемый» Кейтель умолял тюремного органиста не играть детскую песенку «Спи, дитя мое, усни».
Судебный психолог Жильбер регистрировал тогда в своем дневнике: «У Геринга — нервный припадок... Судорожно сжатые руки Кальтенбруннера выдают его страх... Хуже всех воспринял смертный приговор Заукель».
Они страшились расплаты — плевать им было на все: спастись бы, вырваться из петли, выжить...
Юлиуса Штрейхера повели на виселицу в кальсонах: у него не хватило самообладания, чтобы надеть штаны. Геринг принял яд. Зейс-Инкварт находился в прострации. Риббентроп лепетал что-то о «крови агнца»...
Прошло четырнадцать лет. 1960 год. В Леверкузене испытывают газы, воздействующие на нервную систему человека. Руководит испытаниями д-р Шрадер — 108 .
Создатель газов «Ёладан» и «Табун», которые применились в лагерях уничтожения.
В Западном Берлине председатель местного отделения Немецкой партии Вольфрам фон Гейниц выступает с речью:
— Мемель, Кенигсберг, Катовицы, Карлсбад при всех обстоятельствах должны вновь стать немецкими. Пора наконец перейти от слов к делу и двинуться на Восток...
Газета «Дейче зольдатенцейтунг» проделала историческое изыскание: кто виноват во второй мировой войне? Вот что говорится о захвате Австрии:
«Подавляющее большинство австрийцев желало «аншлюса» и горячо стремилось к воссоединению с рейхом. .. Даже та часть населения, которая была против национал-социализма, не противилась «аншлюсу», нет, она от всего сердца хотела воссоединиться...»
Я видел карикатуру, которую распространили западногерманские сторонники мира: в аду Гитлер, Геринг и Гиммлер, поглядывая. на «продолжателей» их дела, перешептываются: не так уж все плохо, зря мы поспешили покончить с собой.
Я хочу рассказать об одном удивительном случае. Впрочем, однажды я уже писал о нем: в 1958 году был напечатан мой очерк «Преступление генерала Симона». Там говорилось о том, как в последние дни войны в районе Бреттгейма крестьяне Ганзельман и Уль разоружили двух гитлеровских солдат. Крестьян решено было судить, но судьи — бургомистр Бреттгейма Гакштаттер и чиновник Вольфмейер — были честными людьми. Они знали, что Ганзельман и Уль действовали как патриоты, и оправдали обвиняемых. Тогда в дело вмешался командир 13-го корпуса войск СС генерал Макс Симон. Он приказал повесить Гакштаттера, Вольфмейера и Ганзельмана (Уль успел скрыться), и на бреттгеймском кладбище состоялась эта казнь — одна из самых последних и, может быть, одна из самых подлых казней в гитлеровской Германии.
В то далекое апрельское утро 1945 года на бретт-геймское кладбище пригнали местных жителей, жен и детей осужденных. Оцепеневшие от ужаса люди увидели, как вздернули их земляков на старых кладби
109
щенских липах, под которыми покоится прах многих поколений бреттгеймцев. Затем эсэсовцы извлекли из своих шинелей губные гармошки и сыграли потешную песенку — «Ах, мой милый Августин». На всех домах Бреттгейма были расклеены подписанные генералом Симоном воззвания: «Германский народ полон решимости с еще большей суровостью выкорчевывать из своей среды малодушных себялюбцев...»
Тринадцать лет спустя Макс Симон предстал перед западногерманским судом. Это было в какой-то степени неожиданным: в Федеративной Республике Германии редко судят военных преступников. Но дело кончилось ничем: Симона оправдали, а возмущенным родственникам бреттгеймских патриотов объяснили, что Симон — всего-навсего добросовестный служака, исполнитель уставов. Не ему отвечать за то, что эти уставы были преступными.
Так в 1958 году западногерманский суд выгородил генерала-убийцу.
Едва ли кто-нибудь предполагал, что у этой истории будет продолжение.
В 1960 году Симон вновь предстал перед судом и вновь был оправдан. Но на этот раз его не просто «реабилитировали». Казнь трех жителей Бреттгейма была поставлена генералу в прямую заслугу, а Гакштат-тера, Вольфмейера и Ганзельмана объявили изменниками, как тогда, при Гитлере.
Вот что пишут в своей прессе реваншисты: «Мы ни в коей мере не можем согласиться с точкой зрения, согласно которой три жителя Бреттгейма, приговоренные к смерти, поступили правильно».
И дальше — издевательская оговорка, инструкция будущим карателям: «Вешать изменников на деревьях было возможно только во времена третьего рейха. Нашей военной традиции более соответствует расстрел, чем повешение».
Вдумаемся в эти строки. В них многое сказано. В них — суть «демократических преобразований», осуществленных в Западной Германии. Господа, оправдавшие Симона, считают, что они не эсэсовцы. Что у них общего с Гитлером? Тогда патриотов вешали и сжигали в печах. Они вешать не будут, они будут расстреливать. Человечество может не волноваться.. .
НО
И все же человечество волнуется. В тихом Бретт-гейме земляки бургомистра Гакштаттера в ноябре 1960 года устроили демонстрацию. Они пришли на кладбище, к трем могилам, чтобы почтить память погибших и заклеймить убийц.
Однажды корреспондент газеты «Тат» беседовал с земляками казненных. Крестьянин Аккерман вспо*-мнил апрель 1945 года: он был свидетелем казни.
Аккерман сказал:
— Здесь, в Бреттгейме, все удручены оправданием генерала Симона. Я простой человек и не разбираюсь в судебных процедурах, но я знаю, что такое правда, а что — нет. Этот приговор я считаю несправедливым. ..
Сын казненного Ганзельмана сказал:
— Дело не в том, чтобы упрятать кого-то в тюрьму. Но, оправдав эсэсовского генерала, судьи как бы вместе с ним во второй раз засудили моего отца...
Пятнадцать лет назад в маленьком безвестном городке Бреттгейме вспыхнуло пламя сопротивления злу. Это пламя не угасло. Традиции продолжаются. У борцов есть наследники.
Наследниками бывают не только дети.
В 1943 году в Мюнхене казнили Ганса и Софью Шолль — студентов университета. Они распространяли листовки: «Час расплаты настал! .. Пора положить конец нацистскому рабству!» Это было после битвы на Волге.
В наши дни городские власти Мюнхена присвоили имя Шоллей площади перед университетом. Но героям нужны не столько посмертные почести, сколько уважение к делу, которому они отдали жизнь. Едва ли Софья и Ганс согласились бы на то, чтобы по площади, носящей их имя, свободно разгуливали генерал Симон и господин доктор Глобке. Будь они живы, они возразили бы против многих вещей: против атомной бомбы, против вооружения бундесвера, против преследования сторонников мира...
Может быть, они вновь распространяли бы «возмутительные» листовки и вновь очутились бы в камерах тюрьмы «для политических».
Но Софьи и Ганса Шолль давно уже нет в живых, и вместо них действует их наследник. Это — их отец,
1.11
бургомистр в отставке Роберт Шолль. Он унаследовал от своих детей честность и бесстрашие. Он разъезжает по стране с требованием отказа от политики «атомной смерти», выступает за разоружение, за мирный договор с Германией. Он знает, кем он уполномочен. На него обрушился град обвинений со стороны тех самых господ, которые лицемерно говорят о «прекрасном подвиге брата и сестры Шолль». Но г-н Шолль гордо несет свое бремя. Он не может отступить, сдаться, пойти на сделку с врагами своих детей: он их наследник.
Отцы и дети...
Мне известна судьба другого наследника — сына Георга Шумана, коммуниста, возглавлявшего в Лейпциге боевую подпольную группу. Сын Георга Шумана— Хорст — поклялся продолжать дело отца. Но для того, чтобы выполнить клятву, ему не пришлось подвергаться травле и полицейским преследованиям. Хорст Шуман живет в Германской Демократической Республике — там дело Георга Шумана продолжает весь народ, рабоче-крестьянское государство. Я бывал в Лейпциге, в городе социалистической промышленности и социалистической культуры: мне вспоминались виденные в музее оттиски листовок. Группа Шумана действовала до 1944 года — она вела свою работу на предприятиях Лейпцига, в одной из листовок была напечатана программа: «Свержение нацистского режима. .. Создание народного правительства... Окончание войны».
Группа Шумана называлась «Георг Шуман и его товарищи». Товарищей было немного. Теперь их — миллионы. Они создали народное правительство, осуществили важнейшие реформы. Германская Демократическая Республика связана братским союзом со всем социалистическим лагерем.
Среди молодых строителей новой жизни выделялся Хорст Шуман. В нем узнавали черты отца: убежденность пролетарского революционера, целеустремленность, волю к победе. Его выбрали первым секретарем центрального совета Союза свободной молодежи не ради громкого имени, а потому, что он оказался достойным наследником.
112 '
Я пишу о Хорсте Шумане и знаю, что все, сделанное и созданное им и его друзьями в Германской Демократической Республике, вселяет бодрость и веру в тех, кто в Западной Германии считает себя наследниками борцов против фашизма...
Мы говорим о перекличке поколений. Газета «Дас андере Дейчланд» («Другая Германия»), которую издают в Ганновере супруги Кюстер, напечатала вехи биографий трех немцев: деда, отца и сына. Это — тоже вопрос о «наследстве». Дед жил при Вильгельме. В 1913 году его призвали в армию, в 1914 — послали на фронт, в 1917 он был ранен, в 1918 попал в плен; вернулся домой в 1921 году и умер в 1925 году от последствий ранения. Отец — при Гитлере был призван в вермахт в 1938 году, в 1939 году отправлен на фронт; в 1944 — во время бомбежки погибла его жена, а дом был разрушен. Отец так и не вернулся с войны. Сын живет при Аденауэре — в 1957 году он мобилизован в бундесвер. Печальное продолжение следует...
Газета «Дас андере Дейчланд» взяла на себя роль колокола: она будит спящих. Из номера в номер она печатает острые, разоблачительные заметки о действиях реваншистов, развенчивает демагогов, поджигателей войны. В газете публикуется объективная информация о жизни в Германской Демократической Республике, в Советском Союзе и странах народной демократии. Особое место занимают очерки, посвященные истории антифашистского сопротивления.
Надо отдать должное супругам Кюстер. Им нелегко. Против них не только полицейская система, но и сложная правительственная демагогия, клевета, равнодушие. Такую стену трудно пробить. Но супруги Кюстер продолжают борьбу. Вдвоем выпускают они свою газету, не рассчитывая на субсидии филантропов, опираясь только на энтузиазм и доверие читателей.
Зима 1960 года. Рождество — праздник умиротворения, благорастворения: в церквах проповедники говорят о любви к ближнему, по радио вперемежку с последними известиями транслируются псалмы: «Stille Nacht, heilige Nacht» (тихая ночь, святая ночь).
8 На разных меридианах 113
В «тихую, святую ночь» кому охота вспоминать злое прошлое? В конце концов, все не так уж страшно: светятся огни елок, на столе рождественский гусь, вся семья в сборе...
Близ Мюнхена, в городишке Дахау, бургомистр г-н Цаунер покупает для своих внучат шоколадных гномов.
Дахау — неплохой городок, здесь есть на что посмотреть. В местном музее — старинные изделия из стекла, традиционные костюмы баварских крестьян, коллекция амулетов. Любители архитектуры могут ознакомиться с дворцовым парком. Но почему-то приезжих тянет на дальнюю окраину города, где нет ни дворца, ни парка, ни даже музея, а стоят унылые бараки и крематорий с кирпичной трубой.
Г-н Цаунер удивляется: что там интересного? Ах эти смутьяны! Для них Дахау — все еще «лагерь смерти», они требуют обелисков, траурных манифестаций, никак не хотят успокоиться. Корреспонденту английской газеты «Санди экспресс» г-н Цаунер сказал:
— Не забывайте, что в Дахау содержалось много уголовников и гомосексуалистов. Неужели мы должны воздвигать этим людям памятники?
Я познакомился с Иваном Ивановичем Гордеевым — крепким, веселым человеком из Караганды. У него славная должность: командир горноспасательного взвода. Когда на руднике беда — обвал или отравление газами, Иван Иванович вместе со своими бойцами спешит горнякам на выручку.
Вот этого Ивана Ивановича должны были убить: сжечь живьем, отравить «моноксидом» или уморить голодом. В 1941 году в районе Кировограда он попал в окружение, а затем в плен. Его привезли в Штутгарт, и в литейном цехе завода компании «Роберт Бош» советскому лейтенанту Ивану Гордееву приказали работать на гитлеровскую Германию. Но лейтенант Гордеев не был предателем — он бежал на юг, к Боденскому озеру, по тому самому маршруту, по которому теперь возят туристов, желающих ознакомиться с красотами немецкой природы.
114
Летом шестидесятого года я повидал эти живописные места. В соответствии с контрактом хозяева отелей преподносили нам сувениры, угощали пивом, стоимость которого была заранее оплачена туристской фирмой, а хозяйские дети выходили навстречу с букетиками купленных за счет фирмы цветов и застенчиво улыбались.
На Боденском озере, в Констанце, мы любовались старинным собором и идиллией германо-швейцарской границы: Констанц находится на самой границе с Швейцарией. Каждое утро немецкие домохозяйки отправляются с кошелками за границу: в Швейцарии кофе дешевле.
Опрятные, белые дома, синее озеро, курортная послеобеденная истома. .. В Констанце мы думали о благах мирного времени: какой ценой, чьей кровью и чьими страданиями оплачен этот курортный покой на Боденском озере!
В январе 1943 года в Констанц доставили трех беглецов: Гордеева, Дерюжина и Киченко. Едва ли их могла интересовать живописность пейзажей, а старинного собора они так и не увидели — их привезли прямо в тюрьму. До этого их долго мучили в гестапо.
Гордеев вспоминает об этом как о наваждении. Лицо гестаповского офицера: «У нас не отпираются!..» Удар плетью. Девица-переводчица: «Я тоже русская, из Санкт-Петербурга. Советую говорить правду». .. Удар плетью. Волокут на «козла» Дерюжина. Удар. Потом — какая-то странная фигура с копилкой: «сбор денежных средств для армии». Гестаповцы достают кошельки. Бренькают пфенниги. Удар плетью. Восемнадцать ударов. Бреньк... Бреньк... Бреньк...
Из Констанца Ивана Гордеева переслали в штраф7 ной лагерь в Карлсруэ. Двадцать девять дней показались вечностью: холод, похлебка, гимнастика: четыре часа подряд: «Встать! Сесть! Встать! Сесть! ..» Приседание с кирпичами на вытянутых руках. Ночью: «С коек марш! Бегом! Лечь! Лечь! Лечь лицом в лужу!»
За 29 дней из трехсот обитателей лагеря в живых осталось пятьдесят. На тридцатый день собрали оставшихся — поляков, французов, русских,— сказали:
8*
115
— Лагерь расформировывается. Пойте!
16 марта 1943 года Иван Иванович Гордеев прибыл в Дахау. Мне он рассказывал:
— Как подвезли к лагерным воротам, я сразу подумал: «Где-то я такие ворота видел?» Потом догадался: в кино. Показывали у нас до войны фильм «Болотные солдаты» про немецких антифашистов. И песня там была:
Болотные солдаты, Мы выйдем из проклятых Болот...
Выйдем ли?
Попал я поначалу в карантинный блок номер девятнадцать. Из нашего блока десять человек выбрали на эксперименты по замораживанию. Был у нас такой паренек — Николай. Он выдержал двенадцать экспериментов. За это была ему от начальства награда — разрешили волосы носить, ходил он по лагерю с чубом. ..
Из карантинного блока перевели меня в команду по уборке крематория. Много чего насмотрелся, страшные вещи видел. Но я сейчас о другом хочу рассказать. О болотных солдатах. Там, в Дахау, я, как говорится, на практике убедился в том, что человек, который верит в свое правое, рабочее, партийное дело,— непобедим! Познакомился я с одним узником — немцем. Звали его Бернгард Квандт. Бывало, грызет тебя тоска, невмоготу становится, тошнит от голода, от усталости, от трупного запаха, а Бернгард Квандт подойдет, положит на плечо руку и говорит: «Ничего. Мужайся, товарищ! Мы же с тобой — революционеры!»
Много он мне рассказывал: о немецком революционном движении, о братстве русских и немецких рабочих, о том, как борются против Гитлера немецкие коммунисты.
«Понимаешь, Иван,— говорил Бернгард Квандт>— они могут убить меня, тебя, тысячи таких, как мы. Но они не в состоянии уничтожить веру в коммунизм. Ничего у них с этим не выйдет!»
И я слушал его, и мне становилось как-то удивительно легко на душе. Ведь вот, думал я, сколько 116
лет свирепствуют в Германии фашисты; кажется, всех они запугали, одурачили, всем заткнули рты. А оказывается — нет! Жива пролетарская совесть — и не где-нибудь, а даже здесь, в этом ужасном лагере смерти, который для того и создан, чтобы убить человеческую душу, веру в людей.
Так, в Дахау, узнал я, что существует другая Германия. А когда много лет спустя получил письмо из Шверина от секретаря окружкома Социалистической единой партии товарища Квандта — понял, что эта, победившая фашизм «другая Германия» находится в верных руках.
.. .Вот что рассказал командир горноспасательного взвода из Караганды Иван Иванович Гордеев. Его рассказ многое мне объяснил. Почему нынешний бургомистр Дахау г-н Цаунер так не хочет вспоминать печальную историю своего города? Почему в ФРГ боятся правды о гитлеровских лагерях смерти? Дело не только в том, что эта правда разжигает в людях ненависть к фашизму. Есть еще и другая причина: там, в лагерях кошмара, в скорбных бараках и каменоломнях, рождалась пролетарская солидарность, формировались отряды борцов против фашистского рабства, выковывались те самые кадры, которые создали наконец «другую Германию» и уверенно повели ее вперед, к социализму. ..
Стоит ли об этом думать?
Ни в одном учебнике современной истории, изданном в ФРГ, ни в одной школьной хрестоматии вы не найдете упоминания о Тельмане, о Джоне Шеере, о Вальтере Хуземане, о героях Бухенвальда и Дахау. В ранг «антифашистов» возведены гитлеровские генералы, нацистские чиновники, немногие представители духовенства. А что касается зверств, то их «было не так уж много», все это «сильно преувеличено», и вообще, давайте поговорим о чем-нибудь другом...
Я видел города Западной Германии: там горькую быль мог бы рассказать каждый камень. Но камни вычищены, вылизаны, обсажены розами. На крови и пепле стоят нарядные дома, и уютно в квартирах. Разве могут проникнуть сюда тени замученных?
117
Может быть, все это — не больше чем мистика? Пепел, снег, неясные очертания каких-то фигур: Анна Франк, Ганс и Софья Шолль, Ганзельман, Гакштаттер. ..
Просим не мешать празднику!
В Дахау бургомистр г-н Цаунер обнимет внучат: — Сейчас я вам расскажу сказочку...
Усядется за праздничный стол Макс Симон, оботрет платком лысину: слава богу, 1960 год закончился благополучно...
В Бонне статс-секретарь д-р Глобке произнесет торжественный спич:
— В этот святой праздник еще раз поклянемся в верности нашим принципам...
В Касселе бывший офицер, а ныне владелец аптеки г-н Шнурре, нацепив на елку марципанового «Геркулеса», предастся сладостным воспоминаниям:
— Было рождество тысяча девятьсот сорок первого года. И стояли мы тогда под самой Москвой..,
«Тихая ночь, святая ночь». Весело светятся огни елок. И все же у Симонов, глобке, цаунеров неспокойно на душе.
Кто там за окном? Призраки? Тени? Нет. Это — живые люди, которые ничего не простили, ничего не могут забыть.
За этими людьми огромная сила: свобода существует теперь не только в подпольных кружках, она обрела свое отечество, говорит полным голосом, дыхание ее прорвалось в самые затхлые уголки, туда, где прежде о ней и понятия не имели.
В эти дни прозвучали слова исторического Заявления коммунистов мира: «Боннское государство стало главным врагом мирного сосуществования, разоружения и разрядки напряженности». Германская Демократическая Республика названа в этом заявлении форпостом социализма в Западной Европе, подлинной выразительницей миролюбивых стремлений германского народа. Симоны и глобке встревожены: форпост — совсем рядом, из-за Эльбы доносится вызов западногерманской ночи:
Как жизни утвержденье, Шаги друзей звучат: «Вы — смерть, а мы — рожденье, Мы — утро, вы — закат!»
118
Этими строками Иоганнеса Бехера о великой немецкой весне, об утре, которое торжествует над силами ночи, я хотел бы закончить свои «зимние размышления» на западногерманскую тему.. .
«Зелье, заело, зело—Зееловские высоты..,» Он лежал на спине в набухшей от сырости шинели, умирал — осколком пробило голову, взгляд, стекленея, цеплялся за детали пейзажа: поросшие вереском небольшие холмы, криволапое дерево,— соскользнул вниз: поле, берег реки, в ржавой траве — слетевшая с головы фуражка. Было утро, звенел дождь. Действительно, почему Зееловские? Его занимала магия звуков: заело — зело,— так и не успел додумать.
. . .Я не знаю, кто он. Но я видел его могилу. В апреле сорок пятого Зееловские высоты были последней естественной преградой на пути к Берлину. С них начался штурм.
.. .На рассвете 16 апреля в городе Фюрстенберге артиллерия снесла кирпичную башню, воздвигнутую в честь германских завоеваний на Востоке. Фюрстенберг лишился единственной своей достопримечательности. Это был захолустный приодерский городок, с золотушными особнячками, кирхой и ратушей. Издавна его население составляли корзинщики, стеклодувы, мелкие ремесленники и торговцы.
Когда у Зееловских высот началось наступление русских, Фюрстенберг оцепенел от ужаса. Но война ненадолго задержалась на его улицах: вышибла стекла, сожгла несколько домов и покатилась дальше, к Берлину. ..
В город Арзамас (а может быть, в Чистополь, в Москву, в Тулу) пришла похоронная. Это извещали о смерти того, чей памятник я видел впоследствии...
На восток, за Одер, везли пленных немцев. К пожилому ефрейтору подсел совсем еще юный солдат, вынул фотографическую карточку: девушка в клетчатом платье. Ефрейтор лениво повертел карточку в руках, вернул владельцу:
— Забудь... Кончено...
119
. . .8 мая капитулировала гитлеровская Германия. 8 мая у немцев праздник: День Освобождения.
9-го у нас — День Победы.
9-мая 1945 года — рубеж, отделивший одну эпоху от другой. Это исходный рубеж, на который наша победа вывела все человечество.
Каждая страна, каждый народ и каждый человек в отдельности ощутили величие происшедшей перемены. Одних охватила жажда строительства, других — радость, третьих — злоба или отчаяние.
Но приодерский городок Фюрстенберг не радовался, не отчаивался, не злобствовал и ни о чем не мечтал. Он хотел одного: спать.
В особнячках взбивали пуховики. В старую кирху вновь потянулась сонная паства. В засиженном мухами кафе дремали городские сплетницы. У Менке-мана, в пивной, вымочив в пене усы, покряхтывали завсегдатаи.
Это был тот самый старонемецкий «растительный сон», который приводил в бешенство Генриха Гейне.
Но спать Фюрстенбергу так и не дали...
.. .У подножия Зееловских высот, на берегу Одера, там, где, умирая, советский солдат в последний раз увидел холмы, поросшие вереском, выстроен первый в Германии социалистический город — Айзенхюттенштадт. От Фюрстенберга его отделяют несколько километров, вернее, он продолжение старого города, окраина, которая переросла центр.
Шахматными ладьями вздымаются башни металлургического комбината. Среди зелени разноцветные новостройки. Улицы: имени Ленина, имени Комсомола, имени Клары Цеткин. Ресторан «Активист».
Город пахнет известкой (строительство продолжается) и цветами. Ветер с Одера, образуя барьер между комбинатом и городом, закрывает отработанным газам доступ в жилые кварталы.
Айзенхюттенштадт называют прообразом города будущего.
Он построен теми и для тех, кто трудится в нем, построен удобно, изящно, прочно.
120
У социалистического города — гигантские перспективы развития, грандиозные дела и задачи, но ему глубоко чужда казенщина и официальная торжественность. В четырехэтажных домах светлые небольшие квартиры, на фасадах остроумные фрески: храбрый портняжка, Ганзель и Гретель — герои народных сказок.
Каждый рядовой житель — хозяин и «отец» города. Этим «отцам» не исполнилось еще и тридцати. Средний возраст населения города металлургов — 26 лет.
В этом городе часты помолвки, свадьбы, рождения и, кажется, еще не было похорон. В нем много школ, детских садов, яслей, но нет ни тюрьмы, ни кирхи.
Что такое социализм?
Я не стану рассказывать про здешние поликлиники, дома культуры и о том, как распределяется среди рабочих жилплощадь: достаточно заглянуть в любой фотоальбом, где изображены младенцы, купающиеся в кафельных ваннах, пациенты перед рентгеновскими аппаратами и одетые в народные костюмы плясуны из ансамблей заводской самодеятельности.
Расскажу лучше о другом.
На металлургическом комбинате, в бригаде имени Филиппа Мюллера, я видел, как пробивает лётку горновой Гюнтер Прильвиц. Он делал это уверенно, привычно, без всякого напряжения. Это был могучий парень, с огромными руками — настоящий хозяин печи. Однако через несколько минут этот же Прильвиц с сосредоточенным, смущенным лицом выслушивал, словно школьник учителя, указания главного инженера: очевидно, Прильвиц допустил какие-то неточности. В конце концов, он был простой рабочий — не выдающийся новатор, о котором пишут в газетах.
Вот этого самого Прильвица 7 мая 1959 года рабочие города послали в Женеву на конференцию министров иностранных дел для того, чтобы он от имени трудящихся республики потребовал заключения мирного договора с Германией.
Прильвиц снял спецовку, надел воскресный костюм и отправился за границу. Выполнив поручение, он вернулся на свой завод, отчитался перед бригадой и вновь занял пост у доменной печи. Все это было в порядке
121
вещей, никого не удивляло и не вызывало никакого умиления.
Позднее я встретил Прильвица в библиотеке. Нагруженный книгами, он спускался по лестнице, спешил домой: надо было готовиться к экзаменам. Приль-виц не только горновой, но и студент-заочник.
И это тоже считается рядовым, привычным явлением, описывать в очерке которое — банальность...
На улице Гейне я побывал в средней школе. Яркой расцветки мебель, керамика, зелень. В коридоре стенд «Наши добрые поступки», под стеклом — вышивки, модели, столярные и слесарные изделия. На доске обязательств прочел: «К десятилетию республики обещаю исправить плохие отметки и собрать три кило желудей. Хагеман Отто».
Я вспомнил старую немецкую школу, известную хотя бы из «Учителя Унрата» Генриха Манна: педелей, фискалов, тупиц, выскочек — и понял, что все увиденное мной здесь, у подножия Зееловских высот,— величайшее оправдание гибели того солдата, которым по чистой случайности не оказались вы или я...
У входных дверей школы висел плакат: «Герб нашей школы — спутник» — и изображение краснозвездной ракеты. Прозвенел звонок. На перемену высыпали дети: опрятные немецкие школьники в гольфах, в синих галстуках.
Они пели песню: «Мы — юные ленинцы...»
Это происходило в пятнадцати минутах от Фюрстенберга и в пятнадцати годах от фашистского режима, от битвы за Берлин, от 9 мая.
Мастер Гейнц Рейснер рассказывал:
— Новый город мы решили строить на третьем съезде СЕПГ в тысяча девятьсот пятидесятом году. Стройка преследовала не просто хозяйственные цели. Это был вызов старому Фюрстенбергу, вызов косности, мещанству, наследию прошлого. Тяжелая индустрия должна была преобразить сознание людей. Мы начали с металлургического комбината. Легко сказать: «начали». У нас не было ничего: ни руды, ни кокса, ни опытных специалистов,— одно желание.
В Руре прославленные инженеры, читая наши обязательства, пожимали плечами. Самые объективные подсчеты доказали, что создать металлургическую 122
базу на Одере можно не быстрее чем за два года, и то при наличии благоприятных условий.
Промышленные магнаты Запада глумились: Марк-Бранденбург, задворки Германии, большевики хотят превратить в новый Рур! Авантюристы!
Они знали все наши минусы, но понятия не имели о наших плюсах. В их сознании никак не могли уложиться такие факторы, как социалистическое братство трудящихся, воля рабочего класса и то обстоятельство, что 9 мая 1945 года Советский Союз не просто победил гитлеровскую Германию, но и освободил немецкий народ. Между тем все эти факторы действовали. Советский Союз прислал инженеров, техников, специалистов по доменному производству. Из Польши приехали каменщики, мастера стройки, накопившие богатый строительный опыт на восстановлении разрушенной фашистами Варшавы. Польша дала кокс, Россия — руду. Так 19 сентября 1951 года — через девять месяцев после начала строительства — в изложницы пошел первый металл...
.. .Что сталось с тем пленным немецким солдатом, которого в апреле сорок пятого везли на восток, за Одер? Какова судьба пессимиста-ефрейтора?
Меня познакомили с директором здешнего металлургического завода товарищем Бруно Тайхманом. Это настоящий командир производства, энергичный, решительный и веселый. Он — бывший кузнец, во время войны был в армии ефрейтором. Я спросил Тайхмана, где он получил образование и приобрел опыт. Директор сказал:
— На курсах, потом в институте. Но жить и работать я научился у вас в Ярославле.
— Были на практике?
— Да.— Усмехнувшись, он добавил:—В плену...
В ГДР живут тысячи людей, которые побывали в нашем плену. С оружием -в руках пришли они на советскую землю — ослепленные, обманутые, сбитые с толку. Они пришли к нам врагами, а уезжали от нас как друзья.
123
Во время моих поездок я разговаривал со многими из них. Никто не вспоминал Россию дурным словом, их связывали с нашей страной трогательные, я бы сказал, даже лирические воспоминания. Они говорили о доброте русских людей, о человечности и великодушии и о том, что только в плену научились по-настоящему любить Германию: именно здесь они впервые услышали о великих немецких писателях, приобщились к вершинам гуманистической немецкой мысли, встретились с немцами — героями антифашистской борьбы, которые жили в Советском Союзе в эмиграции.
.. .В молодом городе металлургов у Зееловских высот стоит памятник. На мраморном обелиске слова:
«Четырем тысячам советских граждан, зверски замученным здесь на фашистской каторге.
Советским воинам-освободителям, павшим в боях против гитлеризма».
Этот памятник воздвигли немцы. Наши друзья. Наши братья.
1959—1961
U • Г О ? Е Л U к
К?
И 5
ДНЕ В Н U »
епосредственно к парламенту примыкает Вестминстерское аббатство, такая же достопримечательность, как сам парламент, или замок Тауэр, или собор святого Павла. Снова история разговаривает здесь с современностью.
История лежала под нашими ногами. Сделав шаг в любую сторону, вперед, влево или
вправо, вы тотчас оказывались либо перед гробницей выдающегося деятеля, либо у плиты, под которой покоился прах человека, оставившего след в летописи Англии.
За высокой решеткой — могила Марии Стюарт. Казненную в 1587 году, ее похоронили сначала в Пи-терборроуском кафедральном соборе, затем, по приказу короля Джеймса I, ее прах перенесли в Вестминстерское аббатство.
125
Вот скромная плита. И лаконичная надпись: Чарльз Диккенс
Родился 7 февраля 1812
Умер 9 июля 1870
Плита, под которой хранится прах Китса... Останки Шелли.. . Прах Вальтера Скотта. Плита, под которой останки Редьярда Киплинга. Мальчики всех стран мира когда-то зачитывались его романами. В них прославлялась британская колониальная экспансия. Романтика завоеваний, презрения к смерти, гимн белым, несущим цивилизацию в некультурные страны Азии и Африки. Современные мальчики предпочитают книги о том, как черные люди в Конго, в Алжире, в Анголе прогоняют тех, кого воспевал Киплинг. Что ж поделаешь! Sic transit gloria mundi! (Так проходит слава мира!)
А вот под этой плитой нет фамилии. Это могила неизвестного солдата первой мировой войны. «Greater love hath no man than this»,— гласит траурная надпись по краям мраморной плиты. Это первая половина евангельской фразы от Иоанна, глава 15, стих 13: «Больше сея любви ничтоже имать, да кто душу свою положит за други своя». Может быть. Может быть, и нет большего проявления любви к солдатам,, погибшим в двух последних войнах, чем памятник Сенотаф, поставленный на широкой улице, между Вестминстером и Тра-фальгар-сквером. Но памятники нужны покойникам, если им только что-нибудь вообще нужно. Человеку нужна жизнь. И любовь нужна прежде всего живым.
В Вестминстерском аббатстве было тихо. У плиты неизвестному солдату, рядом с нами стояли в раздумье лондонцы и приехавшие из провинции англичане. Никто не проронил ни слова.
В тишину аббатства не врывался с улицы противный свистящий звук реактивного самолета. Сегодня утром, когда мы выходили из гостиницы «Квинсвей», он снова взмыл в небо и чертил там белесым шлейфом замысловатые узоры. Его все видели сегодня, и вчера, и позавчера. Самолет этот не был немецким. Он принадлежал американцам и поднимался с американ-
126
ской военной базы. Но кто же не знает, что американцы вооружают Германию, дают ей ракетное оружие, ставят немецких генералов во главе войск НАТО? Кто не знает, что все это — против нас, против советских людей?
Неизвестный человек, лежащий под плитой, был убит немецким солдатом.
И люди, в память которых стоит Сенотаф на одной из лучших улиц Лондона, были убиты немецкими солдатами.
Почему же американцы, при абсолютном согласии государственных деятелей Англии, вооружают немецких солдат против русских?
Вот о чем я размышлял перед могилой неизвестного солдата в Вестминстерском аббатстве. Думали ли об этом англичане, стоявшие рядом со мной?
Я не посмел их спросить.
И тут мне припомнился рассказ моей знакомой, недавно вернувшейся из поездки в Италию.
Группа советских туристов разбрелась по Дворцу дожей.
Случилось так, что Лидия Аркадьевна оказалась перед фонтанчиком, в который туристы всех стран обычно бросают серебряную монетку,, чтобы, согласно поверью, вернуться в этот красивый город.
Глядя на падающую, тихо шелестящую воду, Лидия Аркадьевна, думая, что за спиной ее товарищи, шутя сказала:
— А если я брошу нашу монетку, как вы думаете, она сработает?
— Сработает, сработает, бросайте.. .— раздался за ее спиной голос.
Лидия Аркадьевна обернулась. Никого из ее товарищей по туристской группе не было. А на нее смотрел незнакомый человек. Он улыбался и повторял:
— Конечно, сработает.. .
Он был одет не как русские люди: в клетчатых гольфах, фетровой тирольской шляпе, фотоаппараты разных марок висели на груди и на бедре. Говорил он по-русски почти правильно, вернее, так правильно, тщательно выговаривая каждое слово, что это немедленно выдавало его нерусское происхождение.
127
«Может быть, белогвардеец, разучившийся языку?»— подумала Лидия Аркадьевна и спросила:
— Вы русский?
— Нет.
— Откуда же вы так хорошо знаете наш язык?
— Я жил несколько лет в Ленинграде.
— Что же вы там делали, если не секрет?
— Искупал наши грехи.
— Не очень понятно,— сказала Лидия Аркадьевна.
— Я восстанавливал то, что мы там разрушили. Я — немец. Был у вас в плену. Работал. Я знаю, сколько мы принесли горя.
— Да...— сказала Лидия Аркадьевна в задумчивости.— Много горя...— Потом она бросила серебряный гривенник в фонтанчик, посмотрела, как он медленно опускался на дно, как улегся там, и пошла.
Она было сделала несколько шагов, как вдруг почувствовала, что кто-то схватил ее сзади за рукав и потянул к себе.
Лидия Аркадьевна обернулась.
Немец пристально смотрел ей в глаза. Его лицо было испуганно-искаженным.
— Вы забыли? — произнес он полушепотом.— Вы простили?
Лидия Аркадьевна растерялась. Что она забыла? Где?
— Вы забыли, что мы сделали России? Вы простили нас? — он как будто допрашивал ее, и чувствовалось, как мучительно хочет услышать желанный ответ.—: Если забыли, если простили нас,— говорил он со страстью,— войны больше не будет. Если же не простили. . .
Только мгновение было в распоряжении Лидии Аркадьевны. Что ответить? Сказать: «Да, забыли»? Но ведь это неправда. Матери не могут забыть сыновей, вдовы — мужей, страна — развалин, Ленинград — блокады, голода, дороги через Ладожское озеро...
Сказать: «Нет, не забыли!»? Но ведь это тоже неправда. «Ведь мы не таим,— думала Лидия Аркадьевна,— злобу, чтобы когда-нибудь рассчитаться с Германией. И потом, если мы не забыли, это еще не значит, что мы «не простили» немецкому народу, который был сам обманут гитлеровской кликой и тоже понес тяже-
128
лые жертвы. И, наконец, есть немцы и немцы... Есть немцы, и поныне мечтающие , о том, чтобы переиграть сначала, а есть трудовые, мирные люди...»
Как же ответить этому, по всей видимости, честному человеку, страдающему за прошлое своей страны?
— Мы стараемся...— после некоторого колебания сказала Лидия Аркадьевна.
Он схватил ее руку, долго и сильно тряс, приговаривая:
— Старайтесь, я вас очень прошу, старайтесь...
Потом быстро, не оборачиваясь, ушел.
Лидия Аркадьевна еще долго бродила по дворцу. Взволнованность не покидала ее. Перед самым уходом она услышала откуда-то сверху крик.
Она подняла голову.
Немец стоял на галерее третьего этажа, над ней, махая ей рукой. Лидия Аркадьевна увидела его, улыбнулась.
А он кричал и кричал:
— Старайтесь, вы старайтесь...
. . .Эту историю я и вспомнил у надгробной плиты неизвестному солдату.
Что же, англичанам уже не надо стараться, чтобы забыть, как дважды на протяжении двадцати пяти лет английские юноши уплывали с Британских островов, а возвращались в оцинкованных гробах и ложились под плиту Вестминстерского аббатства, под Сенотаф по дороге к Трафальгар-скверу, в землю бесчисленных кладбищ?
Англичане все забыли и все простили?
Так наглухо забыли, что собственными руками вкладывают в руки вчерашнего противника сегодняшнее страшное оружие?
А ведь когда я размышлял об этом, американская атомная лодка «Патрик Генри», вооруженная ракетами «Поларис», еще не бросила якорь в шотландском заливе Холи Лох!
Вторые сутки моросил теплый, в косую линейку дождик. Он заливал асфальтовые дорожки парка, закипал в бетонном бассейне, посреди подстриженных 1
9 На разных меридианах 129
кустов, стучался в окна высоких, давно не топленных комнат замка Бленхейм.
И хотя над парком висело хмурое небо, лишь где-то вдали размытое сильным лучом солнца, хотя все мы промокли и мечтали попасть в замок, Зиночка, комсомолка, самая молодая в нашей группе, никак не соглашалась уйти:
— Боже мой, красота какая!
Потом наконец, подхватив подругу Машеньку, побежала, разбрызгивая лужи и ужасаясь, к замку, куда уже стянулись все наши товарищи.
Раскрылась перед нами тяжелая дверь, и мы вошли внутрь.
Замок принадлежал герцогу Мальборо. Хозяин с семьей жил в дальнем крыле огромного здания и лишь изредка пользовался апартаментами, куда нам сейчас предстояло войти. Это бывало, скажем, под рождество, когда иной раз сюда приезжала королева Англии. В остальное же время и гостиные и столовая были доступны для всеобщего обозрения.
Стоило это примерно шиллинг. Служители замка показывали вам и огромный с позолоченной короной полуфунтовый ключ, которым отпиралась парадная дверь замка, и апартаменты, увешанные старинными картинами, и библиотеку с органом...
На стенах всех комнат висели огромные полотна, написанные маслом, портреты владельцев замка и их отпрысков. И нынешний герцог Мальборо, переходя из комнаты в комнату, может лицезреть свой облик в разные годы жизни. Он был еще крошкой, а уже известные художники Англии писали его сидящим на коленях матери. Потом — в кругу семьи, типично английской, многочисленной, респектабельной, в которую входит даже породистый дог, как символ английского домашнего очага...
Мы глядели на эти величественные картины и потом, обмениваясь впечатлениями, говорили друг другу: «Человек, который с самых юных лет знал, что его лицо увековечивают для потомства, и наблюдал это на протяжении всей своей жизни, не мог не проникнуться мыслью, что он — личность особенная, исключительная, отмеченная самой судьбой... Не так ли воспитывались поколения гордецов, уверенных, что история
130
предназначила им править, править миром, где все должно быть устойчиво, надежно, удобно для тех, кого великие художники пишут на огромных полотнах замков?»
Сопровождаемые служителем замка, мы переходили из гостиной в гостиную, пока не очутились в комнате, где родился сэр Уинстон Черчилль, троюродный брат герцога Мальборо.
Служитель показывал постель, на которой, по преданиям, родился Черчилль, колыбельку, в которой его баюкали, картину «Вид на замок Бленхейм», написанную юным Уинстоном, и другие реликвии, связанные с детством бывшего премьера Англии.
Служитель .говорил обстоятельно, чуть торжественно, а я уже ничего не слышал,— внезапно я увидел знакомое лицо. Оно было изображено на фотографии, висевшей в рамке на стене.
Самая обыкновенная фотография: высокая дама в нарядном до полу платье и рядом еще более высокий господин, ее муж.
Узкие его плечи облегал темный узкий сюртук; узкую шею, вытянутую в виде цилиндра, венчало узкое лицо с тяжелым, удлиненным подбородком. Цилиндр на голове. Монокль на черном шнурке.
Фотография слегка выцвела от времени, и на блеклом паспарту выцветшими чернилами было написано, кто здесь изображен.
Мне не нужно было читать надписи. Я хорошо был знаком с этим человеком, как знали его миллионы людей моего поколения.
Это был сэр Остин Чемберлен.
На какое-то мгновение совершенно исчезло сознание, что я нахожусь в Великобритании, в замке герцога Мальборо, чьим другом, а может быть, родственником был сэр Остин Чемберлен, что где-то за спиной — мои московские товарищи... Вспомнилась собственная юность, двадцатые годы нашего столетия. Киев, где я жил и стал комсомольцем, рабочая Шу-лявка — район, где работал.. .
Кажется, не было в нашей стране человека, которого не выплеснуло бы в те февральские дни двадцать седьмого года на улицы и площади негодование. Суровые, разгневанные, полные решимости, шли. мы по
9*
131
улицам, неся плакаты... Война вплотную подошла к нашему порогу — сэр Остин Чемберлен, министр иностранных дел Англии, прислал свой знаменитый ультиматум, угрожавший разрывом дипломатических и торговых отношений.
А над нашими головами возвышались поднятые на древках деревянные фигуры сэра Остина Чемберлена. Он был изображен точно таким, как на этой фотографии в замке Бленхейм. Та же длинная шея, тот же тяжелый подбородок, тот же цилиндр и тот же монокль.
И, как на фотографии, монокль держался на черном тонком шнурке, но на снимке монокль был неподвижен, а тогда он то и дело срывался и падал в руки насмешливых комсомольцев.
На следующий день газеты открыли сбор пожертвований на постройку эскадрильи «Наш ответ Чемберлену». «Я, Иван Сергеевич Воронцов, вношу семь рублей на постройку эскадрильи и вызываю на такую же сумму...» — сотни подобных объявлений заполняли столбцы газет. Сначала большими буквами, потом петитом, потом мельчайшим шрифтом, нонпарелью,— на полосах не хватало места.
Плакаты на заборах, этикетки на спичечных коробках изображали самолет, сквозь который прорывались пальцы, сжатые в кулак: «Наш ответ Чемберлену!»
Сэр Остин Чемберлен! Кто из людей моего поколения не запомнил на всю жизнь его холодное, надменное лицо, его цилиндр, монокль, узкую черную Фугуру?!
Много лет прошло с тех пор, и, стоя перед фотографией Чемберлена в замке Бленхейм, я, разумеется, не помнил дословно его грозного ультиматума, но смысл и факты, изложенные в нем, не выветрились из памяти.
А в ноте (вернувшись домой, я нашел в своих книгах полный текст) в числе других наших «проступков», которые сэр Чемберлен считал антибританской пропагандой, приводились и слова, сказанные кем-то из советских руководителей: «В случае дальнейшего победного продвижения кантонских армий не будет утопией утверждать, что победоносная китайская революция
132
найдет немедленный отклик в соседних колониальных странах: Индии, Индонезии и Голландской Индии...»
Вот какая фраза до ужаса разгневала сэра Остина Чемберлена.
.. .Все это возникло перед глазами, едва я приблизился к выцветшей фотографии на стене замка Бленхейм.
И тотчас же возникла мысль: боже мой, как переменилось время! И что есть утопия? Индия и Индонезия больше не колонии. Всего лишь за три с половиной часа самолет «ТУ-104» перенес нас из Москвы прямо в лондонский аэропорт. Под высокими сводами замка Бленхейм звучит русская речь, и никого это не удивляет. И так же привычно слышать английскую речь на мостовых Кремля, в фойе и зале Большого театра. .. И, право, лучше чувствовать себя гостем в именитом доме (пусть даже за шиллинг!), чем идти на улицу протестовать, неся над головами негодующих демонстрантов фигуру другого гостя этого же дома, фигуру дергающуюся, теряющую монокль, нисколько не страшную, несмотря на все угрозы. ..
Я оглянулся. В комнате никого не было. Надо было догонять свою группу. И в эту минуту Зиночка и Машенька прибежали за мной.
— Что же вы задержались? Мы уже кончаем осмотр. . . Кто это? — спросила Зиночка, уставясь на фотографию сэра Остина Чемберлена.
А Машенька добавила:
— Видели локоны Черчилля? Вон они. . . Ему тогда было пять лет...
Локоны лежали под стеклом. Мягкие детские волосы. ..
Мы пошли к выходу.
Служитель почтительно проводил нас взглядом.
А теплый осенний дождик все падал и падал на мокрый асфальт, на подстриженные, вечнозеленые кусты парка и стекал по табличке у левого подъезда замка: «Вход воспрещен. Личный вход герцога Мальборо».
1961
Е В Г - Д о /1 /и л-т о ьс KU U
Дни, ||
\отоР Ы X X Д 4 И U С Т О л Е Т
сбывав однажды в Африке, уже нельзя забыть ее. Больше того, где бы ты ни был, что бы ты ни делал, всегда в тебе, всегда с тобою такое чувство, будто вдали есть земля твоего сердца, места, которые ты не оставил, но увез с собою. Такое ощущение я уже испытывал когда-то, когда приезжал из-под Сталинграда или из-под Берлина ненадолго
в дорогую Москву. Все было хорошо, но не оставляло ни на минуту ощущение — тебя ждет далекий и трудный фронт.
Нечто подобное испытал я, побывав весной 1960 года в Гвинее. Вернувшись из Африки, написав цикл стихов о виденном и пережитом там, я не мог освободиться от чувства, близкого чувству долга: я не видел еще самого главного в жизни сегодняшней Африки— момента провозглашения независимости и поднятия национального флага.
134
Лето 1960 года было удивительным и необычайным. Одна за другой объявляли свою независимость африканские страны. Ежедневно, открывая утреннюю газету, я ощущал себя безнадежно опоздавшим. 20 июня оказалось, что я опоздал в Мали, 1 июля — в Сомали. 30 июня поднялся в небо синий флаг Конго, 1 августа была провозглашена независимость Дагомеи. Я не буду перечислять всех своих радостей, бывших в то же время и огорчениями: я там не был в этот знаменательный час.
Если учесть сложность получения виз, мне оставалось надеяться, что я сумею побывать в Нигерии, провозглашающей независимость 1 октября. Я довольно легко нашел мецената — «Литературная газета», согласна послать корреспондента! Сложнее получилось с визой: оказалось, что до 1 октября визу на въезд в Нигерию дает Великобритания. Запрошенная виза так и не пришла в сентябре. Вот уже 23 сентября, сегодня вылетает в Нигерию советская правительственная делегация. Но корреспонденты и кинооператоры сопровождать делегацию не могут. Виз нет. Опять я опоздал.
Всю ночь накануне вылета делегации мы перезванивались по телефону с кинорежиссером Владимиром Ешуриным. Положение наше было столь неопределенным— билет на самолет в кармане, чемодан собран, а лететь нельзя,— что нам не оставалось ничего другого, как заниматься воспоминаниями: а помнишь, как мы встретились в 1939 году на льду Финского залива, под Выборгом?.. А помнишь, как неожиданно оказались вместе на бетонной башне — одном из быков плотины Братской ГЭС? ..
Оставалась надежда — утром получим британские визы. Но вот уже день, надежда рушится. Ешурин предлагает последний шанс: попросим транзитную визу у Республики Гана. Оттуда близко до Нигерии, будем ждать визу в Аккре,— может, не опоздаем к торжествам. В два часа дня мы получаем визы посольства Ганы, а в два часа тридцать минут рейсовый «ТУ-104» улетает в Лондон. Мчимся на аэродром. Наша поездка приобретает характер того мальчишеского путешествия в Африку, которое снится каждому школьнику: только там — без маминого разрешения, а тут — без виз.
135
i
Злостно нарушив все правила уличного движения, мы приехали в Шереметьево тогда, когда самолет должен был выруливать.
А все-таки мы летим в Африку!
В Лондоне мы расстались с товарищами Арушаня-ном и Маликом — делегация через два дня полетит прямо в столицу Нигерии — Лагос. А нам остается лететь в Аккру.
Рим, Триполи, полет над Сахарой. Утром мы в столице Ганы.
Здесь остро чувствуется все, что происходит в Конго. На стволах деревьев — плакаты-фотографии: ганаянские войска в Леопольдвиле. Встречаем летчиков, наших аэрофлотских, из Внукова, доставивших в Леопольдвиль советских врачей, продукты.
В течение суток мы безрезультатно звоним в Лагос: высокое лицо, от которого зависит выдача виз, отсутствует. Ладно, летим в Лагос. Старый самолет «Дуглас» тянется над берегом океана, дребезжа, ныряя в воздушные ямы и вновь, взмывая вверх, словно в удивлении — а ведь не развалился. Вдобавок появляется туча, чернее которой я в жизни не видел. Вместе со сплошным тропическим ливнем мы сваливаемся на лагосский аэродром. Прыгаем из самолета как в реку.
Сквозь воду видны разноцветные лампочки гирляндами — Лагос встречает делегации. Но мы остаемся одни на аэродроме. Полицейский, взявший наши паспорта, через час появляется откуда-то из мокрой темноты и говорит, что паспортов нам отдать не может, они отправлены в город, в полицию. Другой полицейский смотрит на ящики с кинопленкой и киноаппаратами и орет: «А ну, показывайте оружие!» Мне остается только помахать перед его носом вечной ручкой — вот мое оружие. Мне обидно за этого черного полицейского. Пожалуй, в Москве и не поверят, что есть такие. После нашего протеста полицейский извиняется, тащит наши чемоданы до автомобиля. Нас везут куда-то, оказывается — в гостиницу, расположенную во дворе полицейской части. Нет, мы поедем только туда, где находятся и другие корреспонденты.
Уже ночь, но город не спит. Дождь кончился, и сразу не осталось ни лужицы. Перед каждым домом 136
горят коптилки, сидят люди. Длинный-длинный город— улица километров в пятнадцать.
Пресс-центр расположен в гостинице «Мейнланд». Два англичанина в белых штанишках-шортах, с трубками в зубах — они называются пресс-офицерами — показывают нам списки корреспондентов. Целые страницы занимают фамилии американских корреспондентов. Масса репортеров из ФРГ, меньше, но тоже много— из Англии и Франции. Для советской прессы выделено лишь два места. Впрочем, пресс-офицеры аккредитуют нас, выдают нам роскошные пластмассовые портфели, набитые рекламной литературой, и бумажники с корреспондентской карточкой и программой празднеств. Программа называется «Провозглашение независимости и пребывание принцессы Александры Кентской в Нигерии». Впрочем, если разобраться, это главным образом программа пребывания принцессы: принцесса присутствует при таком-то представлении, на такой-то церемонии...
В первую ночь, как, впрочем, и в последующие, мы мало спим в номерах отеля «Мейнланд». Шумит холодильная установка, а за стеной — на открытой площадке ресторана — очередной банкет. По случаю провозглашения независимости каждый день устраивали банкеты европейцы — поочередно миссионеры всех разновидностей церкви, имеющихся здесь, купцы, военные.
На следующий день прилетела советская правительственная делегация. Мы сопровождали наших товарищей при вручении ими письма Никиты Сергеевича Хрущева о признании Федерации Нигерии премьер-министру Абубакару Тафава Балева.
Премьер в длинном синем одеянии — кенте, воротник которого вышит тусклой парчой. На голове его — красная феска. Он в длинноносых белых туфлях без задников.
У него скуластое — если бы не кожа, показавшееся бы монгольским — лицо, редкая и короткая серебряная бородка. С ним рядом, тоже в национальных костюмах, министр армии и министр Лагоса. Принимая послание, Балева сказал, что без Советского Союза провозглашение независимости Нигерии не было бы возможно.
137
Меня ни на минуту не оставляло ощущение, что в разукрашенном гирляндами бумажных цветов Лагосе одновременно проходят два праздника, два празднования провозглашения независимости: один праздник расписан по часам и минутам в отпечатанных на глянцевой бумаге программах, розданных делегациям, гостям и корреспондентам. Это бесконечные приемы («просьба явиться в белых смокингах», «просьба явиться в черных смокингах»), церемонии («ее величество прибудет в 9 ч. 02 м.»), рауты и коктейли.
Другой праздник — на улицах и уличках города, в домиках и магазинчиках, во дворах, являющихся основным местом пребывания горожан. Я заметил одну интересную подробность — в залах официальных приемов на столах стояли вазы с очень красивыми цветами. Я однажды попробовал понюхать их и, к огорчению своему, обнаружил, что эти яркие и изящные цветы не пахнут. При ближайшем рассмотрении они оказались сделанными из нейлона — розы, хризантемы, гвоздики, лилии. Зато в домах нигерийцев, в жестких волосах танцующих на улицах девушек всегда были настоящие, яркие и большие африканские цветы.
Я был бы неточен, если бы не вспомнил, что в официальную программу были включены и мероприятия, которые у нас были бы названы массовыми.
Черной-пречерной ночью на освещенном прожекторами стадионе проходил конкурс красавиц. Предварительный отбор состоялся в восемнадцати городах. Восемнадцать девушек выходили под скрещивающиеся лучи, застенчиво оглядывались. Одна из них была признана победительницей и получила чересплечную ленту — зелено-бело-зеленую (это цвета национального флага)—и звание «мисс Независимость». Очень серьезное, ни разу не улыбнувшееся жюри сочло ее главной красавицей страны. Я не берусь полемизировать с жюри, лицо девушки действительно было прекрасным. Но я видел и на этом стадионе и в нигерийских деревнях еще тысячи прекрасных лиц, полюбил африканскую красоту — яркую и скромную.
На следующий день «мисс Независимость» раздавала автографы, давала интервью. Около нее уже ви
138
лась американская дама — мулатка, которая называла себя журналисткой-косметичкой.
Несколько представлений состоялось на ипподроме. Сначала происходила церемония появления принцессы Александры. Эта двадцатитрехлетняя девушка, весьма кокетливая, постоянно менявшая туалеты, приезжала в сопровождении фрейлины и конюшего, ну и, конечно, генерал-губернатора. Генерал-губернатор сэр Джеймс Робертсон — гигантского роста, пожилой краснолицый мужчина. Он появлялся то в шляпе с плюмажем, при орденах и шпаге, то в сером цилиндре и сером фраке. Еще дед его служил в Индии. Сэру Робертсону предстояло 1 октября сдать свой пост первому черному генерал-губернатору Ннамди Азикиве, лидеру партии «Национальный совет Нигерии и Камеруна». Газеты писали, что 1 октября Робертсон вернется в Шотландию, но перед самым Днем Независимости сообщили, что он останется еще на полтора месяца. Не так-то легко, очевидно, покидать колонии!
Лишь после того как принцесса и генерал-губернатор объедут трибуны, сопровождаемые всадниками народа хауза, специально привезенными из прилегающих к Сахаре северных районов Нигерии, начнется представление.
Получив программу представления «Песня о Нигерии», мы побежали на ипподром, боясь опоздать к началу этого многообещающего по названию зрелища.
Но спектакль «Песня о Нигерии», происходивший на открытой площадке перед десятками тысяч зрителей, в экспансивности которых невозможно усомниться, прошел безо всякого успеха и в удивительной для африканской аудитории тишине.
На помост вышел человек с побеленной кожей лица и рук (в программе он назывался «Британское управление»). Перед нами развернулись три свадебные церемонии: британец женился на трех девушках, символизировавших Северную, Восточную и Западную провинции. Каждый из обрядов был точно воспроизведен соответственно обычаям племен хауза, ибо и йоруба. Каждая из жен захотела быть главной в доме, но муж советует женщинам объединиться для укрепления дома, повиноваться ему и жить в согласии. Согласие
139
достигнуто, но жены настаивают, чтобы муж не вмешивался в их повседневные дела и, как говорится, «осуществлял общее руководство». Эта пантомима с танцами закончилась исполнением нового национального гимна.
Я не знаю, какое впечатление произвел спектакль на знатных гостей и делегатов, восседавших в ложах. По трибунам, как ветер, ходило ощущение неловкости: неудобно перед гостями, чтобы спектакль провалился, и в то же время стыдно за этот спектакль.
Я возвращался с ипподрома пешком, мне предстояло пройти до гостиницы несколько миль. Я все время попадал в людские заторы — на улицах происходили маленькие импровизированные представления с обязательными танцами и барабанами. Это были веселые сценки, шуточные пантомимы, вызывавшие бурный восторг набежавших со всех сторон зрителей.
Честно говоря, после этого спектакля, пьеса которого была написана английским сочинителем, я до самой ночи под первое октября больше не ходил на ипподром, хотя представления там шли ежедневно.
Мы выехали в глубь страны. Отправляясь в автомобильное путешествие по Нигерии, я взял с собой только что вышедший номер американского журнала «Ньюсуик». Выступая от имени Запада, журнал приветствовал независимость Нигерии, «учитывая ряд характерных черт», таких, как «умеренное прозападное правительство» и «здоровая экономика».
«Ньюсуик» отметил, что Нигерия по территории больше Франции и Великобритании, вместе взятых, что англичане подготовили 845 врачей из местного населения. (По данным журнала, в Нигерии 38 миллионов жителей.) Это за сто лет—845 врачей!
Я оторвался от страниц журнала. По обеим сторонам дороги стеной стояла переплетающаяся и извивающаяся темно-зеленая стена джунглей. Если приглядеться, видно, что деревья стоят по колено в черной болотной воде. Реки текут среди болот, то разливаясь и образуя озера, то неожиданно иссякая.
Шофер-нигериец показал нам на ржавые крыши под пальмами. По узеньким дамбам и мосткам он привез нас в рыбацкий поселок на реке Огун. Дома, стоящие на сваях, кажутся покинутыми — в них нет ника
140
кой мебели. Но на циновках лежат и полулежат люди, ползают дети. Я не встретил здесь стариков, хотя все взрослые жители деревни казались престарелыми. Здесь не доживают до старости. Лишь восемь процентов нигерийцев достигают пятидесяти лет. Я никогда не видел таких желтых, ярко-желтых глаз, налитых лихорадкой.
По-видимому, ни один из 845 врачей, о которых сообщает «Ньюсуик», не добрался до этой деревни.
А неподалеку от этого первобытного поселка с долблеными пирогами, присосавшимися к берегу,— высокая ажурная мачта радиорелейной линии из города Ибадана. Но здесь, в поселке, уж наверное не смотрят телевизионных программ. Я не могу перечислить, что есть и чего нет у этих людей. У них просто ничего нет.
Деревня на реке Огун — страшное свидетельство колониального господства. Убийственная нищета на богатейшей земле, в роскошных лесах, под сенью телевизионной мачты...
Едем в другую деревню. Она стоит на возвышенности и окружена плантациями какао. Здесь — глинобитные дома, глухие дворы мусульман. Около каждого дома — могилы предков... На циновках сушатся зерна какао. Циновки с зернами повсюду — и на дороге, и на камнях могил, и на крышах домов. Еще бы — Нигерия занимает третье место в мировом экспорте какао. А в хижинах — лишь зловещая пустота.
Я спросил старика, вернее, мужчину, казавшегося стариком, вкусное ли здесь какао.
Он посмотрел на меня долгим, печальным, изумленным взглядом и ответил:
— Я не знаю. Я его не пробовал...
В этой деревне мы узнали и о том, что урожаи какао, ямса, бананов, кукурузы с каждым годом все беднее. И это «Ньюсуик» называет «здоровой экономикой»! Журнал подсчитал, что за последние десять лет экспорт из Нигерии вырос в два раза. Но даже в официальных справочниках указывается, что средний доход на душу населения в Нигерии в 14 раз меньше, чем в Англии.
«Нигерия,— с нескрываемым вожделением восклицает «Ньюсуик»,— является магнитом для западных капиталовложений». Вряд ли ведь Нельсон Рокфеллер
141
прибыл в эти дни в Лагос только для того, чтобы присутствовать на спектакле «Песня о Нигерии»! Нигерийская земля богата железом, свинцом, цинком, оловом, колумбитом, вольфрамом, золотом, углем и нефтью. Английские монополии только за последние пять ле.т вложили в Нигерию около миллиарда долларов. Уоллстрит торопится догнать Сити. По стране шныряют также ловкие эмиссары западногерманских фирм...'
Город Икороду встретил нас оглушительным громом тамтамов. Все население — на улицах. Женщины с детьми, привязанными на спине, кружатся, кружатся в танце. В каждой группе танцующих — сто, двести, триста человек. Толпа окружила нас, мы попали в ее плотный поток и слились с ней. Шофер громко говорил танцующим вокруг нас людям: «Это друзья, это друзья».
Я не умею танцевать, но, оттертые друг от друга, мы, два советских корреспондента и кинооператор, радостно переглядывались. Да, мы празднуем вместе с нигерийцами, вместе с ними встречаем независимость их страны.
Кое-как выбравшись из толпы, мы проехали на тихую окраинную улицу. Здесь, в маленьком кафе, за столиком сидел мрачноватый человек в синем одеянии и красной парчовой шапочке. Нас познакомили. Одинокий мужчина, тянувший из бутылки с этикеткой «Независимость» пиво через соломинку, оказался местным «принцем» Адиджи Окойя. «Принц» угостил нас пивом и грустно сказал, что жалеет об уходе англичан. «Королева Виктория,— говорил он,— освободила нас от рабства. Пришельцы не обижали феодальных князей. Но ничего не поделаешь. Все в мире изменяется. Люди услышали, что Россия независима, и тоже хотят получить независимость». Не один «принц» Адиджи Окойя грустит по поводу предоставления Нигерии независимости. При англичанах феодальные князьки — эмиры, племенные вожди, старшины — чувствовали себя увереннее. Это на них опирались колонизаторы.
Мы вышли с «принцем» на улицу, где стояла его малолитражка с помятыми боками и короной, аляповато нарисованной на заднем стекле. Грузная фигура «принца» как бы олицетворяла собой одиночество...
Чтобы не бросить тень на «принца» Адиджи Окойя,
142
замечу, что он не отпустил нас до тех пор, пока мальчик, вертевшийся у его ног, не сбегал в лавочку (эта лавочка принадлежит «принцу») и не принес две пачки английских галет, которые были нам подарены в качестве сувенира и вообще на дорогу.
Мы вернулись в Лагос. Первое октября приближается. Последний день сентября, последний день британского владычества. Утром к нам в отель явился полицейский с пакетами, запечатанными и прошитыми нитками. Это нам возвращались наши паспорта. На одной из страниц мы прочитали запись, сделанную, по-видимому, на аэродроме: «Выслать в двадцать четыре часа». Но тут же стоял штамп, разрешающий нам трехнедельное пребывание в Нигерии. Так что в независимой Нигерии мы будем уже на законных основаниях. И ничего, что в колонии мы доживали ее век «на птичьих правах».
Итак, исторический рубеж в жизни Нигерии — ночь на 1 октября 1960 года.
Для того чтобы попасть на ипподром, где состоится подъем национального флага, я вынужден пройти около шести миль по улицам города. Проехать к ипподрому невозможно. Все улицы Лагоса запружены, и трудно сейчас разобраться — то ли автомобили создают заторы для людских толп, то ли людские толпы преграждают путь транспорту.
Людской поток выносит нас на набережную одной из лагун. В лагуне, освещенный прожекторами, красуется британский крейсер. Он прибыл специально на эти дни празднования. Британия хочет вновь показать нигерийцам, что она «владычица морей». Матросы в белых трикотажных рубашечках с короткими рукавами ходят по городу по двое, по трое, и трудно понять, то ли они патрулируют здесь, то ли гуляют.
На всех улицах — наряды полиции. Неужели в Лагосе тысячи полицейских? Впрочем, когда я спросил одного из них, как пройти, на телеграф, он ответил:
— Простите, я не знаю. Я с севера, из сельской местности. Нас привезли сюда на случай, если начнутся беспорядки..
Беспорядка на улицах Лагоса много, но беспорядков нет. Кажется, последние старания британской администрации были напрасны.
143
К девяти часам вечера не только трибуны ипподрома, но и все прилегающие к нему улицы заполнены народом. В правительственной ложе несколько рядов кресел. Конечно, в центре — принцесса и генерал-губернатор.
Деятели нового государства подъезжают к трибунам на машинах, выкрашенных в цвета национального флага: зеленый и белый, по борту большими печатными буквами написано, кому какая принадлежит.
По-разному приветствуют африканских лидеров. Наиболее восторженный прием оказывают доктору Ннамди Азикиве. В сегодняшней газете напечатана громадная фотография — Азикиве танцует с принцессой Александрой. Газета отмечает, что, если бы Азикиве хотел завести гарем, все женщины Нигерии с удовольствием поступили бы туда.
«Ньюсуик» тоже проявил внимание к нигерийцу, который завтра станет генерал-губернатором. В журнальчике написано: «Молодым человеком «Зик» работал в США на угольных шахтах и был одно время так резко настроен против белых, что предсказывал «уничтожение Нью-Йорка и Лондона воздушным флотом чернокожих». В настоящее время он более умеренно и дружески относится’ к Западу».
«Зик» — прозвище, данное Азикиве народом. Он пользуется большой популярностью. В шахтерском поселке Знугу ему поставлен памятник, который будет открыт в первые дни независимости.
Я вижу на центральной трибуне Балеву и «лидера лояльной оппозиции ее величества» Обафеми Аво-лово — премьера Западной провинции. Рядом с ними Аль-Хаджи Ахмаду Белло, премьер-министр Северной провинции, имеющий мусульманский титул сар-дауна.
Бывшие хозяева, понимавшие, что их владычеству приходит конец, уже несколько лет «готовили» по своему вкусу предстоящее провозглашение независимости. Каждая из трех провинций Федерации имеет свое представительство в Лондоне. В каждой провинции сильна какая-либо одна партия, преобладает какая-либо одна религия. Таким образом, провинции противостоят друг другу, объединенные в одно государство. Очень хотелось бывшим хозяевам, чтобы
144
Нигерия не была сплоченной и сильной. Разделяй и властвуй — старое английское правило.
Вот появился гость — невзрачный мужчина Нельсон Рокфеллер. (Вчера одна из лагосских газет напечатала портрет Эйзенхауэра и подписала, что это Рокфеллер. Сегодня газета дала поправку.)
«Москва, Москва!» — кричат в толпе, приветствуя машину с красным флагом на радиаторе. Это едет советская делегация.
На поле выходит военный оркестр нигерийцев. Оркестранты в красных камзолах, а у барабанщика поверх камзола наброшена еще и шкура леопарда. Дирижер оркестра — англичанин, сухопарый, как все офицеры в колониях. На поле ипподрома выходят войска. На арабских скакунах, в кольчугах, с копьями и луками гарцуют воины народа хауза. Сейчас состоится военная игра, в которой принимает участие (кроме нигерийских вооруженных сил) подразделение колониальных войск, прибывших из Родезии и Ньясаленда, то есть из краев, до сих пор остающихся колониями.
Эта традиционная игра в английском стиле — «тото». Раздаются взрывы, по зеленому полю носятся неуклюжие броневички. Бежит в атаку пехота, с воинственными воплями несутся на своих чудесных конях северные всадники.
Но зрители с несвойственным африканцам спокойствием наблюдают это зрелище. Как-то странно и ни к чему проводится эта военная игра в момент, когда весь мир говорит о разоружении и вся Нигерия — о независимости. Что это за спектакль, зачем он?
Ровно в полночь на ипподроме погасли прожекторы. Ветер с океана быстро развеял дым, клубившийся после взрывов военной игры. В этой кромешной африканской темноте, с мачты, возвышающейся в центре поля, быстро и как бы украдкой сбежал вниз британский флаг с лучеобразными красными и синими полосами. Прожекторы зажглись снова, и тысячи людей, десятки тысяч людей, расположившихся на трибунах и прилегающих улицах, увидели, как энергично поднимается вверх по мачте зелено-бело-зеленый флаг Федерации Нигерии.
Что тут началось на трибунах! Вот где во всю свою силу и мощь проявился африканский темперамент.
Ю На разных меридианах
145:
Когда нигерийский оркестр с английским дирижером исполнял «Правь, Британия», музыки почти не было слышно. Ее заглушали крики: «В последний раз, в последний раз!»
Нигерийский гимн пришел на смену английскому, и, не очень точно соблюдая ритм, тысячи губ повторяли: «Нигерия, приветствуем тебя». Вскочив на скамьи, мужчины в своих широких одеждах и женщины в пестрых платках размахивали руками и кричали: «Мы свободны, да здравствует Нигерия! Независимость! Слава народу!»
В небо устремились ракеты фейерверка и, достигнув своей высшей точки, рассыпались, образуя золотые движущиеся изображения пальм. Все новые и новые золотые пальмы вырастали над нами, выхватывая из тьмы возбужденные черные лица и пылающие глаза.
Все захлопали в ладоши, но мне не удалось поаплодировать в этот торжественный момент и вот по какой причине: на скамейке передо мной сидели две женщины с младенцами за спиной — так обычно носят малышей в Африке. Еще когда гремели выстрелы военной игры, малыши проснулись и стали озираться по сторонам. Может быть, они испугались, но не кричали и не плакали. В Африке дети вообще не плачут— ни в Гвинее, ни в Гане, ни в Нигерии я ни разу не слышал детского крика. Я протянул малышам руки, и они крепко схватили меня за мизинцы своими черными нежными лапушками.
Так я был лишен возможности аплодировать подъему флага. Я до сих пор ощущаю ласковое рукопожатие двух маленьких нигерийцев, которые, к их счастью, лишь пять или шесть месяцев из своей жизни провели в колонии и будут жить и расти в свободной и независимой стране.
Лишь под утро мне удалось добраться до отеля, а через несколько часов нас вновь разбудили тамтамы. Мы вышли на берег лагуны, намереваясь направиться через мост, к центральным островам и полуостровам Лагоса. Нам навстречу попался знакомый корреспондент из ФРГ. Он хорошо говорит по-русски, потому что после Сталинграда несколько лет провел в плену.
146
— Куда вы собрались? — спросил нас корреспондент.— Сегодня ходить по городу опасно, они получили независимость. Мало ли что может случиться здесь сейчас с белым человеком.
— Однако вы вчера называли нас не белыми, а красными,— возразили мы ему.— Значит, нам нечего волноваться.
Весь день мы провели на ликующих улицах Лагоса. Я не могу сказать точно, сколько в Лагосе жителей, но сто тысяч барабанов наверняка гремело в этот день на улицах. Нам несколько раз приходилось слышать: «Англичане, ступайте домой» (гоу хом), и не всегда удавалось объяснить, что обращение это — не по адресу. Я был бы неточен, если бы не отметил, что немало нигерийцев вообще ничего не знают о существовании Советского Союза и других стран и каждый белый человек рассматривается ими как англичанин. Им и невдомек, например, что в последнее время в Нигерию устремились сотни американских и западногерманских купцов и промышленников.
На одном из приемов я с бокалом в руке оказался лицом к лицу с высоченным детиной, хлопавшим весело по плечам своих соседей. Вел он себя как американец, но оказался немцем из Штутгарта. Я спросил его, что он делает здесь, в Африке. И немец заговорил прямо-таки в восторженных выражениях:
— У меня здесь гешефт, я уже немало вложил сюда денег. А как заработал! Это чудесные места, поверьте, сырье валяется прямо на земле, рабочая сила стоит пфенниги. Нигде в мире сейчас не разбогатеешь так легко, как в Африке.
Мне еще не приходилось никогда слышать такую откровенную и циничную исповедь капиталиста. Узнав, что я из Советского Союза, мой случайный собеседник рассказал мне историю, показавшуюся ему очень смешной. Немец хохотал и размахивал руками.
— Тут был один мой коллега, имел несколько фабрик. Он — военный в прошлом, как у вас говорят— военный преступник. Фамилия его Шпанаус. (Мой собеседник не понял, почему я улыбнулся, услышав звучание, имеющее такое определенное значение в русском языке.) Когда Шпанаус узнал, что приезжает советская делегация, он очень разволновался.
10*
147
А потом он услышал, что советские делегаты встречаются с нигерийскими рабочими, побывали на фабриках. Тут Шпанаус не выдержал, спешно собрал кое-какие вещички и скрылся. Кажется, он улетел в Южную Америку.
Конечно, советские гости не представляли опасности для господина Шпанауса. Другие шпанаусы остались в Лагосе.
Я побывал на промышленной выставке, развернутой по случаю торжеств на одном из островов, составляющих столицу Нигерии. Лишь над четырьмя павильонами — флаги Нигерии: это павильоны трех провинций и общий павильон, по фронтону которого большими буквами написано: «Сделано в Нигерии». Содержимое этих павильонов, образцы изделий, минералов, продуктов сельского хозяйства убедительно говорят о том, что Нигерия может производить все, что нужно человеку, все, что нужно людям для благополучной жизни. Но четыре нигерийских павильона как бы взяты в окружение тесными рядами других павильонов, где выстроились в ряды магнитофоны, радиоприемники и телевизоры «Грундик», где поблескивают лаком новейшие модели «роллс-ройсов», где стоят экскаваторы и бурильные станки, лежат инструменты и строительные материалы. Это павильоны западных фирм, и при всей пышности рекламы ничто не напомнит вам о том, что шины сделаны из нигерийского каучука, а обивка — из нигерийского хлопка, что нигерийский уголь вернулся к родным берегам в виде пестрого нейлона, что за станки, которые она может производить сама, Нигерия платит своим золотом, своим какао, своим пальмовым маслом.
Высшая точка нигерийских празднеств была, конечно, в ночь на первое октября. Но в те дни октября, когда я еще был в Лагосе, празднества продолжались.
Состоялось заседание парламента, проведенное на английский манер. Все ждали появления принцессы. Но вот отворилась дверь, и в зал вошел могучий африканец в длинной одежде, кончавшейся шлейфом. Шлейф несли четыре озорных мальчугана, веселившихся и показывавших языки и депутатам и гостям. Африканец — это был министр финансов — шел очень торжественно, надвинув шляпу-канотье, украшенную 14$
павлиньими перьями. Он раскланивался. Проследовав на свое депутатское место, он воссел в кресло, а озорные мальчишки убежали. Через несколько минут вновь раскрылись двери, но появление принцессы уже не произвело никакого впечатления. Демонстрация, устроенная министром финансов, была понята: знай, мол, наших!
Премьер-министр Балева, окруженный судьями в белых курчавых париках, передал принцессе текст своей речи, зачитав которую девица покинула зал. Гораздо более торжественно, чем она, выходил из парламента министр финансов со своими, вновь откуда-то вынырнувшими мальчуганами.
Группа нигерийских юношей окружила меня на улице.
— Вы из Москвы? Нам очень хочется побывать в Москве, а пока это труднодостижимо, и мы просим Москву побывать в нашем доме,— сказал один из них по-французски.
Я с радостью принял приглашение. Ночь, как всегда, наступила рано, в окнах многих домов мерцали желтые язычки коптилок.
Заметив разветвленные провода, я спросил, почему не везде горит электричество. Может быть, перегорели пробки и нет электрика?
— Нет, пробки в порядке, но освещение стоит дорого, люди экономят на электричестве, пользуясь коптилками и плошками.
По случаю прихода советского гостя в доме Кола-воле Аделайя зажгли свет. Лампочка осветила чистую побеленную комнату с одной кроватью, на которой спало трое детей, кривым столиком и табуреткой. Из-за отсутствия мебели этот дорогой моему сердцу прием проходил так же, как официальные ритуалы: хозяин и гости стоя пили пальмовое вино, ели жареные бананы и пресное домашнее печенье.
Моими собеседниками оказались рабочие цементного завода и портовые грузчики. Конечно, наш затрудненный слабым знанием языка разговор касался единственной темы — независимости.
— Теперь мы будем учиться. Ведь каждому из нас пришлось бросить школу и пойти работать. Лишь одна двадцатая часть нигерийцев грамотна. Лишь один из
149
шестидесяти окончивших начальную школу попадает в школу второй ступени. Тысячи учителей преподают в школах, не имея никакой специальной подготовки.
Я спросил друзей Аделайи, кем они хотят стать. Один сказал, что хочет быть инженером. Надо изучить медицину, ответил другой. В этой огромной стране больных лечат главным образом колдуны и знахари.
Нигерийские парни повели меня на рынок, показали ряд, где совершенно всерьез, по-деловому продаются предметы колдовства «джу-джу»: копченые обезьяньи головы, куски змеиных кож и обработанные муравьями позвоночники кобр, медные фигурки людей, петушиные лапы и прочие вещи, предназначенные для исцеления больных. Единственным более или менее медицинским предметом была клизмочка, сделанная из высушенной тыквы.
Продавец всего этого товара дал нам объяснение, какие болезни лечить кошачьим хвостом, а какие — протухшей обезьяньей головой. За свои медицинские советы продавец потребовал три шиллинга, которые нам и пришлось тут же выложить.
Мои спутники чувствовали себя как-то неловко. Мы ушли с рынка, и ребята перевели разговор на другую тему.
Я спросил у них, какова численность населения Нигерии. В разных книгах, газетах и публикациях мне приходилось видеть противоречивые цифры — тридцать миллионов, тридцать пять, сорок. Мои новые друзья объяснили, что во многих колониях существует подушный налог, и, опасаясь его, люди скрывают, сколько у них детей. Кроме того, многие деревни и поселки расположены в глубинах джунглей или в пустыне, и рука управления никогда не доходила до них.
— Независимая Африка сосчитает своих детей, и тогда все увидят, как нас много.
В Лагосе, Ибадане и других городах Нигерии я с особым вниманием смотрел потом на школьников — главную надежду страны.
На улицах Лагоса я встретил колонну мальчишек. Они бойко распевали по-английски:
Народ — творец судьбы своей На солнечном материке.
150
Обломки вековых цепей Лежат на золотом песке.
Писатель Кипириан Экуенси рассказал мне историю этой песни. Ее сочинил Деннис Осадебе, писатель и «чиф» (вождь) одного из малых племен. Осадебе — юрист, литература — его вторая (не приносящая никаких доходов) профессия. Он сочинил песню в противовес нигерийскому гимну, подаренному двумя английскими дамами молодой стране. Текст написан чиновницей колониальной администрации, музыка — пианисткой из школы классического балета в Лондоне. Гимн есть гимн, и я не собираюсь его критиковать. Е?о критикует своей песней — боевой и призывной — нигериец Деннис Осадебе. Молодежь ходит с этой песней по улицам — это высокая награда для автора.
Я пробыл в независимой Нигерии лишь неделю, когда еще не утихли торжества, еще не были сняты с фонарей и столбов бумажные гирлянды и огромные клетки с чучелами попугаев, когда еще гремели барабаны и люди танцевали на улицах. За советской делегацией прилетел наш «ТУ-104», на котором президент Гвинейской Республики Секу Туре облетал полмира. Ранним утром мы поднялись с лагосского аэродрома, чтобы лететь через Сахару.
Последний раз взглянув на зеленую кипень нигерийских джунглей, я повторил про себя строки из песни Денниса Осадебе:
Великий ветер перемен Колонизаторов сметет.
Трудный путь открылся перед Нигерией. За праздником придут будни. Борьба за независимость не закончилась 1 октября 1960 года. Эта борьба сейчас в разгаре.
1961
И- • U с F Tf- X
Eepontuew ТЕТМДЬ
Пепе/
то было в Антверпене. Мы бродили по старому фламандскому городу и говорили о Тиле Уленшпигеле и громко скандировали полные солнца стихи Эмиля Верхарна. А я вспомнил любимые строчки самого фламандского из наших поэтов Эдуарда Багрицкого и со вкусом прочел их в одном из переулков, к удивлению антверпенских прохожих.
Я — Уленшпигель. Нет такой деревни, Где б не был я; нет города такого, Чьи площади не слышали б меня.
И пепел Клааса стучится в сердце, И в меру стуку этому протяжно Я распеваю песни...
К сожалению, никто из антверпенцев не знал имени не только Багрицкого, но и Шарля де Костера. А наши попытки выяснить их отношение к подвигам древних гезов и пеплу Клааса кончились безрезультатно,
152
вызвав только настороженное внимание бравого усатого полицейского в каске.
Нет... Видимо, пепел Клааса не стучал больше в сердце мирных бюргеров Антверпена, старого города Анвера.
На центральных улицах царило оживление. Последние предпасхальные дни. Святая неделя. В окнах магазинов целые пирамиды затейливо раскрашенных яиц всех размеров. В витринах универмагов пестрые ткани. Манекены с необычайными прическами, раскрашенными во все цвета радуги. Впрочем, подобные же высокие шиньоны украшают и головы многих жительниц вольного города гезов.
За стеклом огромного ателье нескончаемой вереницей проходят обольстительные манекенщицы, сменяя один модный туалет за другим. Они тоже мало похожи на нашу старую приятельницу, голубоглазую Нёле, верную подругу Тиля. У витрин толпа. А в магазинах пусто. Видимо, не так легко достаются обитателям; города бельгийские франки.
Чинной походкой шествует целая стайка учениц католической монастырской школы имени святой Урсулы. Учительницы-монахини с сухими пергаментными лицами, в строгих черных платьях, оттеняющих белизну пышных белых головных уборов, увенчанных накрахмаленными крыльями вразлет, стараются уберечь своих воспитанниц от нескромного взора прохожих. Католические аббаты в черных сутанах с крестами. Многие из них — упитанные, краснощекие, с изрядными брюшками. Они кажутся переодетыми, постриженными в монахи Ламме Гудзаками.
Советские туристы мало интересуют их.
Мы движемся к порту. Воздух пахнет солью, водорослями, нефтью. И... дешевой косметикой.
Многочисленные кафе в портовых улицах и узких переулках. Слышится веселая музыка. Топот танцоров. Из одного кафе в другое перебегает целый замаскированный карнавал. Пьяные апостолы. Дьяволы, ангелы и чертенята. Ничего не поделаешь. «Святая неделя».
А в переулке, выходящем к морю, рядом с церковью святой Урсулы, куда монашенки ведут своих учениц, расположены кельи совсем иного порядка. У открытых дверей или окон сидят толстые и изможденные, дебе
153
лые и совсем юные девицы. Они окидывают вас томными и весьма откровенными взорами. Они нечаянно распахивают свои кричаще пестрые халаты... О... святые девы, скорее уведите отсюда своих юных урсулинок. Порок соблазнителен...
.. .И пепел Клааса стучится в сердце, И сердце разрывается, и песня Гремит грозней. Уж не хватает духа, Клубок горячий к языку подходит,— И не пою я, а кричу, как ястреб: «Солдаты Фландрии, давно ли вы Коней своих забыли, оседлавши Взамен их скамьи в кабаках? Довольно Кинжалами раскалывать орехи И шпорами почесывать затылки, Дыша вином, у непотребных девок! Стучат мечи, пылают города. Готовьтесь к бою! Грянул страшный час».
.. .Так мы и не встретили в городе ни одного Тиля Уленшпигеля.
И вдруг в самом порту, на причале, нас окружили грузчики. Они были в брезентовых, измазанных дегтем робах. Разгоряченные лица покрыты густой цементной пылью и мокры от пота. Они молча, жадно смотрели на нас.
— Моску... Карашо,— сказал широкоплечий немолодой грузчик с резкими чертами лица. Этим, видимо, исчерпался весь запас его русских слов, и он только покачивал головой в знак привета.
Мы ничего не спрашивали у них о Шарле де Костере и Эмиле Верхарне. Они говорили по-фламандски, и плохо понимали французский язык. Откуда-то сбоку появились три ажана и демонстративно прошли между нами и грузчиками.
Из группы грузчиков вынырнул совсем молодой парень. Он был полуобнажен, мускулист. Казалось,. знаменитая скульптура Константина Менье ожила перед нами.
Юноша быстро подошел ко мне и всунул в руку какой-то предмет, завернутый в промасленную тряпку.
— Сувенир,— сказал он чуть слышно.
В этот момент вернулись полицейские, и я не мог рассмотреть подарок.
154
Полицейские оттеснили грузчиков и хмуро попросили нас подняться к себе на теплоход.
Я не мог ничем отблагодарить юношу за подарок и старика за добрые слова.
Но на теплоходе у меня была модель спутника. Над блестящим никелевым земным полушарием на тонком штырьке вздымался деревянный шарик. На цоколе модели надпись: «Paix» (Мир).
Я поспешил в каюту, достал модель и выбежал на палубу. Грузчики молча, плечо к плечу стояли у самого края причала.
Я показал им модель и швырнул ее через борт. Старик ловко подхватил ее на лету.
Все взволнованно стали рассматривать сувенир. Опять показались полицейские. И вдруг головка спутника соскочила со штырька и покатилась к краю причала.
Старик бросился за ней. Но не успел поймать. Она скатилась в воду. Расстроенный грузчик наклонился над водой; он уже перешагнул барьер. Но тут юноша резко отстранил его и прыгнул в воду. Это был отчаянный поступок. Высота причальной стенки не меньше пяти метров. В расстоянии десяти — двенадцати метров — корпус теплохода. У меня замерло сердце.
Но через минуту юноша вынырнул. В руке он держал шарик спутника и радостно улыбался во весь белозубый свой рот.
Он ловко поднялся на причал. Вода стекала с него потоками. Старик обнял его.
Грузчики безмолвно подняли вверх руки, сжатые в кулаки. И опять это напоминало знаменитые барельефы Менье. Но это было гораздо значительнее скульптур знаменитого мастера.
А полицейские были уже на своем посту. Они хотели отнять советский сувенир у грузчиков. Но те не отдавали спутник. Тогда ажаны взяли в кольцо старика и юношу и повели их к дому портовой конторы.
Уже в дверях юноша обернулся, высоко поднял руку с моделью спутника и приветственно помахал в нашу сторону.
Полицейские разогнали грузчиков. Я так и не узнал имени людей, которые стали мне так дороги и памятны.
155
Теплоход был уже в открытом море, когда я размотал тряпку, окутывавшую полученный мною сувенир. ..
Это была маленькая, искусно вырезанная из дерева бригантина с латунными развевающимися парусами. На корме была надпись: «Flandria» (Фландрия).
На таком корабле ходили в море гордые гезы. На таком корабле пел свои вольные песни Тиль Уленшпигель.
.. .Пепел Клааса стучит в мое сердце... Пепел Клааса...
/И о и д ру г
? И А НД О
Когда моему старшему сыну исполнилось пять лет, я купил ему Петрушку. Это была уморительная кукла в голубом платье, усыпанном большими фиолетовыми звездами. Внешность у Петрушки была очень осмысленной и привлекательной.
Простецкое широкое лицо, жесткий черный чубчик на лбу, и в глазах лукавинка. Руки широкие, короткопалые. Когда я просовывал три пальца под платьем в Петрушкину голову и руки и заставлял его кланяться, жестикулировать и разыгрывать целые представления, маленький Митяй приходил в восторг и долго не мог успокоиться, требуя все новых и новых номеров.
Постепенно пополнялся наш домашний кукольный театр. Мы сами сочиняли целые программы, писали детские пьесы. В спектаклях принимали участие специально приспособленные лиса, поросенок, медведь, старая бабушка.
Но главную роль всегда играл любимец Митяя, простоватый и хитрый Петрушка. Когда я уезжал на фронт, сыну было девять лет. Он был учеником
156
третьего класса, и книги постепенно занимали место игрушек в его маленькой жизни.
Но с Петрушкой он любил забавляться по-прежнему. Петрушка, немного потрепанный и облинявший, жил, ввиду особого моего расположения, в кабинете на диване, под охотничьим ружьем и старой ржавой рапирой.
— Папа,— сдержанно и очень серьезно сказал Митяй, прощаясь со мной,— знаешь что? Если ты не можешь взять меня на войну, возьми с собой Петрушку. Пусть он тебя охраняет. Я ему скажу. А потом вы мне будете вместе писать письма с фронта. Ладно?
Предложение Митяя понравилось мне, и я взял Петрушку с собой на фронт. Он жил в широком кармане моей походной шинели, в небольшой металлической коробке. Он сопровождал меня во всех фронтовых странствиях. Когда я писал письма сыну, Петрушка сидел передо мной на снарядном ящике и, как всегда, лукаво поглядывал на меня.
Батальон, с которым мне пришлось участвовать в одной боевой операции, тоже узнал и полюбил нашего Петрушку.
В один из спокойных вечеров, какие случаются порой на фронте, мы с Петрушкой разыграли в землянке маленькую сценку. Петрушка изображал фашистского солдата, сначала нагло шагающего к Москве, а потом попадающего в плен. Среди гостей-зрителей были почти все полковые разведчики. Они смеялись и хлопали. Начальник штаба батальона даже обеспокоился — не услышал бы противник.
В последние апрельские дни сорок пятого года, продвигаясь к центру Берлина, мы остановились неподалеку от реки Шпрее. Наш командный пункт разместился на станции неглубокой берлинской подземки. Из домов, расположенных на другом берегу реки, фашисты еще вели огонь. Немало наших солдат и офицеров погибло в самом преддверии победы на берлинских улицах и площадях.
Но мы неустанно, шаг за шагом продвигались среди дымящихся развалин по улицам большого города, ставшего последним прибежищем Гитлера.
157
В какой-то подворотне предприимчивый берлинец уже торговал эрзац-пивом.
А в конце Франкфуртской улицы, на перекрестке, стояла регулировщица нашей дивизии Галина Зави-’ дова. В защитной плащ-палатке с сержантскими лычками на погонах, с жезлом в руке.
Сотни людей, освобожденных нашими войсками из лагерей и застенков, подходили к ней и на всех языках мира спрашивали о нужных путях-дорогах.
Немцы с велосипедами и детскими колясками, военнопленные французы, цыгане... Всем этим людям комсомолка из Рязани давала направление, означающее начало их нового жизненного пути.
В моей полевой сумке лежал последний номер дивизионной газеты, в котором о сержанте Галине За-видовой было сказано немало хороших слов. Я направился прямо к сержанту, чтобы передать газету.
К тому же меня особенно заинтересовала группа очень темпераментных черноволосых людей с яркими самодельными галстуками, пестревшими на лохмотьях. Они тащили за собой изможденную лошадь, впряженную в какой-то старинный шарабан. Окружив девушку, они, перебивая друг друга, оживленно тараторили, размахивали руками и часто повторяли: «Наполи. .. Наполи...»
Галина Завидова увидела меня и знаком попросила о помощи. Я с трудом установил, что это солдаты войск Бадольо, находившиеся в одном из лагерей под Берлином.
Почти все они из Южной Италии. Сейчас, раздобыв лошадь и фургон, они собираются прямехонько через всю Европу в Неаполь. Они очень торопятся и спрашивают кратчайший путь...
Только я хотел подробно расспросить их о настроениях, жизни в лагере, планах, о том, читали ли они Данте и Пиранделло (нелепый и обязательный почти для всех корреспондентов вопрос, помогающий выяснить для очерка уровень культуры пленных...),— неподалеку разорвался фауст-патрон, что-то толкнуло меня в бок, и я упал на мостовую.
Очнувшись, я увидел над собой знакомое сероглазое встревоженное лицо Галины. Она растерянно держала 158
в руках моего Петрушку. Я быстро вскочил на ноги. Ныла грудь, но никаких следов крови не было, хотя пола и карман шинели были разорваны. Осколок, видно, был уже на излете. Я отделался легкой контузией.
Но Петрушка, милый мой, родной Петрушка, был ранен в голову. Осколок, пройдя сквозь стенку металлической коробки, пробил его левую щеку и, пропоров густую, жесткую шевелюру Петрушки, ударился о заднюю стенку коробки и застрял здесь, потеряв всю свою силу. Так Петрушка спас меня от ранения.
Однако сам он был, несомненно, жив. Глаза его улыбались по-прежнему озорно, хотя продавленная щека придавала улыбке немного страдальческий вид.
Рядом с Галиной стоял очень худой, маленький итальянец с пунцовым изорванным шарфом на шее. Он удивленно, грустно и ласково смотрел на Петрушку огромными глазами-маслинами.
Заметив, что я пришел в себя, итальянец оживился, ткнул себя в грудь и сказал: «Паскуалини. Фернандо Паскуалини»— и затрещал так быстро, что я при своем весьма ограниченном знании итальянского языка сначала ничего не мог понять.
Мы отошли под прикрытие большого дома, и вскоре я уже сумел разобрать, что мой неожиданный собеседник был уличным артистом, «кукольником», «петрушечником». Что его ждут в Неаполе жена Анита («Ее зовут, как жену Гарибальди... О... Вы знаете, кто такой Гарибальди!») и сын, которого назвали Джузеппе, в честь Гарибальди. Он вынимает откуда-то из лохмотьев маленькую выцветшую карточку: милое доброе лицо совсем юной женщины с мальчиком на руках. Мадонна с ребенком. Далеко не красавица.
Когда Фернандо ушел на войну, Джузеппе было три года, у него был деревянный конь и сабля, он мечтал стать генералом, как Гарибальди. И еще его ждут Пьеро и Арлекин и Коломбина и Пиноккио. Если, конечно, жена не продала их в кукольный театр, чтобы прокормить Джузеппе. У Аниты был замечательный голос-колокольчик, но очень короткие, маленькие пальцы. Она только говорила за ширмами голосом кукол, а управлять ими не могла...
159
Фернандо очень волновался, спешил, его ждали друзья с лошадью и шарабаном, и я не улавливал половины его возбужденной речи. Но все же я понял, что он очень поражен, удивлен и обрадован встречей с русским Пьеро на улицах Берлина... Он расскажет об этом в Неаполе... И не могу ли я ему подарить Петрушку. Он так и сказал «Петруччио», «Пьетрюшка». Он, оказывается, знал, как называется Пьеро в России. Джузеппе будет так смеяться, а Анита будет счастлива.
Он умоляюще смотрел на меня. Но я ведь обещал Митяю, что мы вернемся с войны вместе с Петрушкой. Я не мог отдать итальянцу своего раненого друга...
Конечно, все это было трудно объяснить Фернандо. Но мне показалось, что он кое-что понял из моих рязанско-неаполитанских объяснений.
Он грустно развел руками, погладил Петрушку по вспоротому жесткому чубчику. Тут я вспомнил, что у меня в сумке имеется снимок. Наш знаменитый фронтовой фотограф снял меня с Петрушкой на руке в ходе спектакля.
Я достал фотографию и подарил ее Фернандо. Он признательно улыбнулся. Я подарил ему еще бутылку вина и пачку печенья «Красная Москва».
Лицо неаполитанца стало пунцовым, как его шарф.
— О, Алессандро! — воскликнул он (он уже знал мое имя и не называл меня, как раньше, «синьоре ко-лонелё).— О, Алессандро...
Товарищи настойчиво звали его. Он крепко, с неожиданной силой пожал мне руку.
— А ревидерчи, Алессандро,— сказал он очень взволнованно.
Около шарабана он еще раз обернулся, помахал своими длинными выразительными пальцами и еще раз крикнул:
— А ревидерчи. Ин Наполи...
— До свиданья... — усмехнулся я, укладывая перевязанного Петрушку в его коробку.— Что ты скажешь, старый бродяга, о свидании в Неаполе?..
Петрушка удрученно и недоверчиво молчал.
160
2
Через пятнадцать лет я приехал в Неаполь.
Не буду говорить о красоте Неаполитанского залива. Она отражена уже в тысячах полотен великих художников. Мне трудно прибавить что-нибудь к пейзажам, запечатленным знаменитыми писателями всего мира. И все же мне кажется, что никто еще не сумел передать ни в живописи, ни в музыке, ни в литературе ощущения того находящегося за пределами наших пяти чувств мгновения, когда выходишь ранним утром, на заре, на берег залива и видишь, как море сливается с небом на горизонте, а в далекой дали выступают из тумана очертания Везувия. Но и я, конечно, не в силах воплотить в словах это мгновение. И я не хочу оскорблять его мишурой стертых метафор. Лучше я продолжу свой рассказ о Фернандо.
В тот день мы долго бродили по Неаполю. Мы видели все, что показывают туристам. Неаполитанский собор. Площадь Четырех Дворцов. Многочисленные статуи Аполлонов и Венер в музее. И замечательные, никогда не умирающие творения мастеров античного мира, и копии, довольно посредственные, очень похожие, но из-за отсутствия каких-то неуловимых линий потерявшие всякое обаяние оригинала.
И улица Торкватто Тассо... И дворец Джакомо Леопарди. И тенистый парк для влюбленных. И аллея Позилиппо, окаймленная высокими стволами могучих обнаженных пиний, увенчанных пышными, царственными кронами. Аллея Позилиппо... Две. мраморные колонны. Здесь творил Виргилий. Отсюда он смотрел вниз, на город, на море, на заходящее солнце. Здесь рождались пережившие столетия созвучия мудрого поэта, который помог Данте пройти сквозь все круги ада и рая и разобраться в сложных переживаниях праведников и грешников.
Впрочем, с этими кругами можно познакомиться и в современном Неаполе.
Улица миллионеров. Многочисленные памятники королям. Дворцы. Сверкающие по вечерам огнями витрины. Гастрономия. Набор водок (8000 лир. Канадское виски. «Мартель». И водка (Vodka) Дмитрия Романова). Рекламы вермута «мартини» и вездесущей
И На разных меридианах
161
кока-колы. Полное изобилие. Итальянки с высокими шиньонами, похожие на Джину Лоллобриджиду и Сильвану Пампанини. Грузные американцы и матросы с наглыми глазами завоевателей. И аббаты с аккуратными круглыми тонзурами. И монашенки в роскошных белых уборах, расходящихся над головой, как крылья исполинских чаек.
И сразу же уходящие в стороны от главной улицы, точно худосочные ветки от мощного ствола, узкие маленькие улички и тупики нищеты. Такой откровенной нищеты, какой мы не видели ни в одном городе, кроме Неаполя, города миллионеров. И вместе с тем веселой нищеты.
Узкие улички уходят вверх, в гору. На каждом углу открытые лавчонки фруктов и рыбы. Длинные связки бананов. Ветки со свисающими лимонами. Груды морских ракушек, благоухающие неповторимым соленым с гнильцой ароматом.
Через каждые два дома ниша. Статуэтка мадонны с младенцем. Образ св. Николая, покровителя Неаполя.
Машинам здесь не проехать. И все-таки они проезжают, с треском и грохотом, рискуя раздавить вас и обдавая облаками паров бензина. Через улицу перекинуты веревки, на них сушится белье, поражающее, невообразимыми расцветками, точно взятыми с палитры самого взыскательного художника-колориста. Кажется, что здесь происходит конференция Организации Объединенных Наций, водрузивших над уличным ущельем флаги. И конференция действительно происходит: из окон высовываются синьоры и синьорины, костлявые и дебелые, безобразно усатые и очаровательные, как мадонны. Певучая, чуть гортанная речь. Крики. Споры. Сплетни. Темпераментная оценка событий и новостей, не менее важных, чем те, которые обсуждаются в кулуарах международной ассамблеи.
А на мостовой играют сотни полуодетых бамбино, ребятишек, мальчиков и девочек всех возрастов, черноглазых, черноволосых, шумливых, веселых. Играют в те же детские игры, что и на бульварах Москвы или Парижа. Скакалки. Чехарда. Классы. Палочка-выручалочка, выручи меня.
162
Взрослые не обращают на них никакого внимания. Стремительно проносится (кажется, прямо сквозь кучу детей) мотоцикл. Худенькая Джульетта с развевающимися смоляными кудрями обняла своего Ромео, гонящего машину вниз с горы со смертельной скоростью, ухитряющегося каким-то чудом объезжать ребятишек, оборачиваться и целовать свою возлюбленную и напевать во весь голос знаменитую неаполитанскую серенаду. Серенада на мотоцикле.
Увидев нас, ребятишки сбегаются со всего квартала. Они повисают на нас, теребят звонкими голосами, требуют сольди.
— Испанец? — спрашивает меня дочерна загорелый крепыш, щеголяющий немыслимо оранжевого цвета трусами.
— Француз? Немец? Грек? .. Руссо? .. О, руссо... Копейка...
Я даю ему значок с изображением голубя, гривенник, копейку.
Но ему мало. Все мало!
— Еще для младшего брата... Пикколо. Совсем пикколо, — он показывает рукой почти до земли. Ему понравилась заколка моего галстука, и он твердо намерен выпросить ее.
Раздав все значки и монеты, окруженные легионом ребят, нарастающим с чудовищной быстротой, мал мала меньше, пикколо и пикколиссимо, мы сквозь сеть переулков выбираемся на какую-то площадь. И сразу замираем.
Толпа неаполитанцев. Мужчины. Женщины. Дети. Прямо на мостовой воздвигнут небольшой помост. На помосте ширма.. Звонкий детский голос объявляет, что сейчас начнется представление кукольного театра, замечательного кукольного театра, лучшего театра на всем побережье, лучшего театра в Италии.
Маленькие попрошайки сразу покидают нас и пробираются сквозь толпу в первые ряды.
Над ширмами показывается кукла. Пьеро. Он тащит на себе деревянную лошадь и большую жестяную саблю. Он собрал немного денег и купил подарок своему маленькому Джузеппе. Джузеппе хочет быть генералом, как Гарибальди.
11*
163
Какие-то нотки в голосе Пьеро кажутся мне очень знакомыми. Зрители слушают с напряженным вниманием, заразительно смеются при каждой шутке, смысл которой не всегда доходит до меня, хотя я пытаюсь переводить своим двум спутницам, инженерам московского завода.
Видимо, спектакль показывается не первый раз, но интерес к нему у зрителей не иссякает.
Появляется Коломбина с маленьким Джузеппе. Малыш влезает на коня и машет саблей. Куклы сделаны довольно искусно. Движения легки, разнообразны, непосредственны.
В мирный домашний уют Пьеро врываются злые силы. Два солдата, один в черной рубашке, похожий на Муссолини, другой в коричневой, с гитлеровскими усиками. Они забирают саблю у Джузеппе и ломают ее. Они грубо хватают Пьеро и уводят его. Куда? На войну!..
Спектакль очень прямолинеен, сюжет примитивен. Но я вижу слезы в уголках глаз некоторых итальянок. Я слышу, как кто-то сквозь зубы цедит:
— Porca madonna...
Пьеро не хочет воевать. Его бросают в тюрьму. Острый нос его просовывается сквозь решетку. Он поет, поет песни. Мелодичные, издавна знакомые неаполитанские песни. «О Sole mio,,,», «Санта Лючия». И ту песню о любви, которую только что пел мотоциклист. Неожиданно он запевает «Бандьера росса» — «Красное знамя»: «Avanti popolo.,,» Врываются те же два солдата-фашиста и избивают его...
Возмущение в толпе зрителей все растет. Эти немолодые уже, видимо много испытавшие, итальянцы кажутся совсем детьми в своей непосредственности восприятия... Да и нас эта непосредственность начинает заражать.
А действие обостряется сцена за сценой. В конце спектакля над ширмами внезапно появляется... Петрушка. Я взволнованно замираю на полуслове, и мои спутницы с удивлением смотрят на меня.
Родной брат моего старого Петрушки смотрит на меня с помоста сцены. Только он не в голубом платье, а в красной рубашке... С генеральскими погонами
164
итальянского образца на плечах. Со звездой на фуражке. Он хватает за шиворот фашистов, бросает их куда-то за ширмы, освобождает Пьеро, обнимается с ним. Потом появляется и Коломбина и маленький Джузеппе. Они берутся за руки и, немилосердно коверкая слова, поют по-русски:
Выходила на берег Катюша...
В толпе происходит что-то невообразимое. Люди смеются, кричат: «Bravo! Bravissimo!» Целуются.
Маленький юркий мальчонка и смешная белокурая девчушка с косичками, в лиловом купальнике, собирают сольди и лиры в соломенную шляпу. А ширмы исчезают, и я вижу на помосте... Фернандо.
Он благодарит публику. Обводит глазами толпу. И вдруг... взгляд его встречается с моим. Фернандо долго, напряженно всматривается в меня. Потом соскакивает с помоста, врезается в толпу и идет ко мне.
— Алессандро! — кричит он.— Колонелё Алессандро! Здравствуй, Алессандро. Buone giorno!
Все изумленно и радостно окружают нас. Некоторым кажется, что это продолжение спектакля. А Фернандо, постаревший и даже немного поседевший Фернандо, обнимает меня и говорит очень-очень быстро какие-то совсем уже непонятные мне слова.
з
. Мы сидели в тесной комнате Фернандо, пили кисловатый кьянти и закусывали бананами. Бутылка лучшего кьянти стоила 300 лир, и я понимал, что для нищенского бюджета Фернандо это изрядный перерасход. Но он был хозяином и хотел угостить меня по всем правилам итальянского гостеприимства.
Рядом со мной сидели мои московские спутницы. Им все это казалось (я им рассказал о Фернандо) какой-то фантастической сказкой. Окна в комнате Фернандо не было. Застекленная дверь выходила прямо на улицу. Многочисленные созерцатели толпились перед домом, и казалось, что все происходящее в комнате совершается в театре, на сцене.
165
Нас окружила вся семья Фернандо. За время, прошедшее со дня нашей последней (она же была, впрочем, и первой) встречи в Берлине, у синьоров Фернандо и Аниты Паскуалини кроме Джузеппе появилось еще пятеро детей.
Они чинно, с большим удовольствием ели бананы и сверлили нас веселыми, любопытными глазами.
Фернандо представил нам свою жену Аниту, знакомую мне по карточке, миловидную, постаревшую и отяжелевшую мадонну, и детей. Три мальчика: Антонио, Луиджи и Пальмиро. Две девочки: Юлия и Лаура. Старший, Джузеппе, стройный, красивый юноша, принимающий уже участие в спектаклях отца, сидел в стороне с тоненькой молчаливой девушкой, видимо своей возлюбленной.
Комната была почти пустой. Стол. Несколько соломенных стульев. Деревянная широкая кровать, на которой, видимо, умещалась добрая половина семьи. Большой комод с ящиками для кукол. Сырые потеки на стенах. На одной стене — мадонна с младенцем. На другой — дешевая литография Гарибальди на коне, знакомое характерное лицо Антонио Грамши в большой шапке черных курчавых волос.
— Ну как, Фернандо,— спросил я,— Джузеппе пока еще не стал генералом?
Фернандо усмехнулся. Джузеппе густо покраснел и что-то шепнул своей подруге.
— Пока что он еще играет в моем спектакле роль Петруччио. Тебе не обидно, Алессандро, что я одел твоего Петруччио в генеральскую форму? Я его сделал совсем по той карточке. Но нашим неаполитанцам так больше нравится. Ты можешь это понять, Алессандро?
Он встал, подошел к комоду и вынул большой альбом. В альбоме лежали моя карточка с Петрушкой и старая, выцветшая обертка печенья «Красная Москва», на которой был изображен Кремль.
Я искоса посмотрел на моих спутниц. Глаза их подозрительно блестели.
-— А как поживает Пьетрюшка? — спросил, грустно улыбаясь, Фернандо.— Залечил ли он свои раны?
Мы долго говорили в тот вечер о жизни. Я рассказывал о Москве, Фернандо — о Неаполе,
166
Он очень удивлялся, что мои молодые спутницы — инженеры, строят автомобили и даже руководят цехами.
— Femmina — инженер. Ты понимаешь, Анита... Femmina — инженер... А у нас женщины ничего не понимают. Им тоже дали право голоса, а они голосуют за католиков. За папу. Да. Наш Неаполь красив, и мы очень любим его. Но красота эта больше для тех, кто имеет хлеб. А папа и санта-мадонна не дают хлеба. Его надо заработать тяжелым трудом. А работы тоже нет, и ее дают больше католикам. Вот его ближайший друг грузчик Сальваторе громко говорил обо всем этом. И его бросили в тюрьму. Как Пьеро... Ты видел, Алессандро, весь мой спектакль?.. Да? Я еще покажу, как освобождают Сальваторе... Ты не думай, что я только нелепый детский кукольник, только забавник. Мои куклы тоже умеют громко говорить... Я еще создам такой спектакль!.. Но наш народ, Алессандро, не любит грустить. ..Ия хочу доставить ему немного веселья, радости. Ты это можешь понять, Алессандро? . .
Он замолчал, задумался. Потом вне всякой видимой ассоциации с предыдущим опять воскликнул:
— Femmina — инженер!.. Подумать только... Femmina— инженер...
Нас провожала поздним вечером вся семья. Фернандо. Анита. Джузеппе со своей милой. Антонио. Луиджи. Юлия. Лаура. И маленький, очень забавный востроносый Пальмиро в коротких новых фиолетовых трусиках.
Над Неаполитанским заливом висела круглая, добродушная луна. Откуда-то доносились звуки серенад. На набережной стояли подзорные трубы, в которые можно было хорошо увидеть все звезды, если только бросить в щель автомата пятьдесят лир.
Фернандо зарабатывал только двести лир в день, и его дети никогда не смотрели на звезды в подзорную трубу. Мы устроили для них праздник, и они были счастливы. Маленький Пальмиро хотел совсем забрать трубу, но это было вне пределов нашей возможности и наших капиталов. В конце концов, можно хорошо видеть звезды и без подзорной трубы,
167
— Ты спрашивал,— сказал мне, прощаясь, Фернандо,— стал ли Джузеппе генералом. Нет, он не стал генералом. Но мой маленький, мой Пальмиро (ты понимаешь, что такое Пальмиро?!), еще будет генералом. Поверь мне, Алессандро. И приезжай еще через пятнадцать лет...
Он замолчал, остановился и торжественно вынул из кармана своего комбинезона (в его старом, заплатанном синем комбинезоне была по меньшей мере дюжина всяких карманов), вынул из самого большого кармана куклу. Пьеро.
— Вот, Алессандро...— сказал он мне торжественно, точно произносил речь с помоста.— Передай привет моему старому другу, Пьетрюшке. Я не имею возможности навестить его. Так пусть этот маленький Пьеро поедет к нему послом от всей нашей семьи. И ты иногда посмотришь на этого Пьеро, и вспомнишь о том, что у тебя в Неаполе есть хороший друг, Фернандо, и расскажешь своим товарищам обо мне, и о моей Аните, и о Джузеппе, и о маленьком Пальмиро, самом младшем в знатном роде кукольника Паскуалини. Ну что, Алессандро,— закончил он немного дрогнувшим голосом,— разве я не умею красиво говорить? ..
4
Я бережно храню сувениры, привезенные из разных городов и разных стран. Кусок проволочного заграждения, окружавшего доты линии Маннергейма... Хрусталик люстры из подземной канцелярии Гитлера. .. Осколок мины, разрушившей наш блиндаж под Белостоком... Обломок скалы с Шипкинского перевала. .. Деревянный блокнот из иркутской тайги и валун из реки Ангары... Пальмовый лист с виллы Горького в Сорренто... Кусок лавы Везувия... Шишка с пинии, вздымающейся на том месте, где любил творить Виргилий...
Но самый дорогой сувенир в моем музее — широколицый, простодушный Пьеро-Петруччио в красной рубашке, которого подарил мне Фернандо Паскуалини, мой добрый друг из далекого, солнечного Неаполя.
168
4
Пл-PUXCKUE
В С Т Р Е М U
/Н А Д АЛ\
А Л tPEpTU-НЛ ПЛО^-
Она села в наш вагон в Руане. Вдали, за городом, сквозь редкую дымку тумана возникали контуры Руанского собора. Мы говорили о Жанне д’Арк, сожженной на костре в этом городе, о Флобере. Казалось, вот сейчас откроется дверь вагона и войдет торопливо и смущенно мадам Бовари^
И дверь действительно открылась... Но вошла не Эмма Бовари, а маленькая, очень подвижная и оживленная старушка с большой старомодной сумкой — ридикюлем. Увидев в вагоне иностранцев, она тревожно и несколько беспомощно оглянулась, поцяти-лась назад, к двери. Но мы любезно пригласили ее в купе, уступили лучшее место.
Через несколько минут мы уже знали, что ее зовут мадам Альбертина Плон, что она бывшая портниха, а сейчас живет на средства своих детей и внуков.
Да... У нее одиннадцать детей... а внуков не сосчитать. Постоянная ее квартира в Париже... Вы знаете Фонтенбло? .. О.. . А сейчас она гостила у дочери в Руане.
А еще через несколько минут мадам Альбертина уже извлекла из ридикюля пожелтевшие и потускневшие от времени карточки всех своих детей, и мы внимательно и сочувственно вглядывались в лица мальчиков и девочек. Вот это Морис. .. а вот это Жан. . . Марселина.. . О, это была ее любимица! А теперь у нее у самой свои Жак и Иветта... А вот это Гастон... Он был очень озорным ребенком.. . был. .. Да, он погиб
169
в Индокитае.. . А Жюльен и Поль погибли в Алжире... Ох эта война...
Вчера в Руане был ваш премьер-министр господин Хрущев. . . Она тоже была на площади во время его выступления. Очень хорошо говорил о мире господин Хрущев. Он ведь тоже испытал много горя и знает, что такое война. В газетах писали, что его сын, летчик, погиб на войне. . . Тот, кто потерял детей на войне, всегда будет призывать к миру. О, она это хорошо знает! Она читала и о том, что у господина Хрущева большая семья и он очень любит детей. Ей понравилась речь советского премьера, и он так хорошо говорил о Франции! Пусть господа не подумают, что она занимается политикой... Нет. . . куда ей до политики. . . Но у нее еще осталось несколько сыновей, и она не хочет, чтобы ее дети и внуки воевали. . . Вы это понимаете, господа? ..
Да, мы хорошо понимаем это! Мы рассказываем мадам Альбертине, что если бы она жила в Советском Союзе, то получила бы орден матери-героини. Она сначала никак не может понять, как это за детей дают орден. А потом тихо смеется. Конечно, это очень хорошо. Но ей не нужно никакого ордена. Лишь бы сохранить своих детей.
Она ведь пережила уже столько войн, много испытала на своем веку. Сама благословила своего любимца Лорана, когда он ушел в маки. Надо было освобождать родную землю. Но для чего было воевать в Индокитае? Этого она никак не могла понять.
Но. .. поговорим, господа, о более веселом. Хорошо, если бы все люди ближе узнали друг друга и пожали друг другу руки. Об этом тоже говорил господин Хрущев. И это ей очень понравилось. Ей показалось, что господин Хрущев совсем простой человек. На всех портретах у него такие живые, веселые глаза. Он умеет хорошо смеяться. Французы много страданий испытали в жизни, но они сохранили свою жизнерадостность. Ох как заразительно всегда смеялся ее Лоран!
Мы вспоминаем Кола Брюньона и его замечательные слова: «Доброму французу для смеха и страданье не помеха...» Но старушка, возможно, и не читала никогда Ромена Роллана.
170
Нет, оказывается, читала... И не только Роллана. Она знает, конечно, и Флобера. И Золя, и Мопассана. . . И даже современных, Мориака и Арагона...
Она с детства любит искусство. Много лет назад она плакала в театре, растроганная игрой Сары Бернар.
И. . . должна признаться, что приносила скромные букеты ландышей молодому Жану Габену. Вы знаете Жана Габена?..
Да, мы знаем седого Жана Габена.. . Мы недавно восхищались его игрой в фильме «Сильные мира сего».
Друзья давно уже подшучивают надо мной. .. Они знают, что я всех встречных на французской земле «допрашиваю» (в большинстве случаев безрезультатно) о знакомстве их с русской и советской литературой.
Пора уже спросить у мадам, читала ли она Достоевского.
На этот раз я торжествовал победу. . . Мадам Альбертина не только читала Достоевского... Она тут же извлекла из своего ридикюля потрепанный французский томик. «Вечный муж» Федора Достоевского.. . Этой повести не читало большинство моих ехидных друзей. ..
А старушка уже рассказывает о том, как она смотрела в Париже «Вишневый сад» Чехова. О, Чехов! . . Он был немного грустный писатель. Но как он хорошо понимал людей...
. . .Мы подъезжаем к Парижу. Вдали чуть намечаются контуры Мон-Валериена.
Оживленная, раскрасневшаяся мадам Альбертина внезапно грустнеет.
— Вот там,— говорит она, тихо указывая рукой в туманную даль за окном,— там был расстрелян мой Лоран.. . Говорят, господин Хрущев возложил венок на могилу расстрелянных. Это был венок и моему Лорану.
. . .Прощаясь, мы почтительно и нежно целуем маленькую, сухую, почти восковую руку мадам Альбертины, исколотую за долгие годы жизни сотнями иголок. Она приглашает нас в гости к себе, в Фонтенбло, дает свой адрес.
171
— Я люблю дружить с людьми,— растроганно говорит она,— я очень рада, что у меня теперь будут русские друзья.
. . .Поезд входит под своды вокзала Сен-Лазар. Париж...
№
+4 Е U } В Е С Т -Н Ы Е
Триумфальная арка. Прекрасные барельефы скульптора Рюда, которые высоко ценил Роден. «Марсельеза». Вся устремленная вперед женщина с мечом в руке вдохновляет на бой солдат революции. Напоминает знаменитую картину Делакруа, но, пожалуй, лучше Делакруа. Суровые воины-бородачи, похожие на грубоватых, прошедших огонь и воду солдат Барбюса. Прекрасно в этом барельефе сочетание порыва, движения и мужественного, строгого реализма солдатских образов.
Руже де Лиль, автор «Марсельезы», родился двести лет тому назад. Он был бы доволен скульптурным воплощением своей бессмертной песни.
У Триумфальной арки, средь бронзовых плит,— могила Неизвестного солдата. Неугасаемый огонь.
Вчера Никита Сергеевич Хрущев возложил на могилу венок из красных гвоздик. Вот они пламенеют, эти цветы, еще не потерявшие своего аромата.
Кто был этот солдат? Имя его неизвестно. Но он не походил на романтических мушкетеров Дюма. Он был, несомненно, одним из суровых барбюсовских пуалю с барельефа Рюда.
Из тех, которых упоминают на мемориальных досках вслед за громкими именами прославленных полководцев:
...ис ними погибло нижних чинов 526. .. Или 734. . .
Сколько таких мемориальных досок разбросано по Европе!..
В Париже создан комитет огня. Каждый вечер несколько десятков ветеранов приходят сюда, к Триум-172
фальной арке, как бы для того, чтобы поддержать огонь на могиле Неизвестного солдата.
Это хорошая символика.
— Он был одним из наших парней,— сказал мне старый, морщинистый комбатант. Густая щетка усов, желтых с проседью, делала его очень схожим с Марселем Кашеном. Я потом заметил, что на Марселя Кашена походили многие французские ветераны. На видавшем виды пиджаке ветерана в два ряда на выцветших ленточках висели боевые ордена и медали.
Он был участником многих сражений. Он помнил еще Верден, форт Дуомон, высоту Круи 119. А через много лет, испытав всю горечь поражения, он участвовал в партизанских боях за освобождение Парижа от немцев. Он знал легендарного полковника Фабьена. . .
Вокруг могилы Неизвестного солдата бронзовые плиты с высеченными на них надписями, посвященными солдатам, погибшим за родину.
И плиты эти как бронзовые страницы большой, еще не написанной эпопеи. На арке перечень десятков сражений, где неизвестные солдаты сложили свои головы.
«Здесь летит французский солдат, умерший за родину
(1914—1918 гг.)»
«В честь возвращения Эльзаса и Лотарингии».
«Бойцам Сопротивления».
«Бойцам-освободителям—благодарная родина».
И тут же рядом:
«Бойцам, погибшим в Индокитае...»
Они все равны здесь перед лицом смерти, освещенные вечным, неугасимым: огнем. И те, кто погиб в борьбе против фашизма, и те, кто был послан на грязную бойню во Вьетнам наследниками Галифе и Кавеньяка.
Но те, кто остался жить, начинают глубже понимать разницу между войной за освобождение своей родины и войной за порабощение чужой.
173
Я подошел к группе ветеранов, во главе которой стоял старик, похожий на Кашена. Рядом с ним молодой человек, тоже с цепочкой медалей на груди.
— Вы ветераны? — спросил я.
— Да,— ответил старик.
— Вы участники Сопротивления?
- Да.
— Вы боролись с фашизмом?
— Да.
— Вы коммунисты?
— Мы французы.
Он оказался католиком. Он был одним из тех, кто еще «верит в небо». Но он говорил мне с такой же ненавистью о генерале Шпейделе, снова разъезжающем в роскошной машине по Елисейским полям, как и его товарищ — коммунист, бежавший из лагеря в Равенс-брюке и сражавшийся в партизанском отряде имени Виктора Гюго.
Общая ненависть к фашизму, ко всем предателям объединяла их.
ПЕР -/1И Ш Е }
В тот же день мы были на кладбище Нер-Лашез. Здесь неподалеку от могилы Бальзака сражались с версальцами последние храбрецы Коммуны. Мы долго стояли, перед знакомой по многим снимкам с юношеских лет, иссеченной осколками стеной 76-го дивизиона, у которой были расстреляны коммунары 27 и 28 мая 1871 года. С тех пор эту стену называют Стеной коммунаров. Перед стеной всегда живые цветы. И наш венок лег среди благоухающих роз и гвоздик.
Скульптор Моро-Вотье создал замечательный памятник-барельеф, на котором запечатлена расправа версальцев с коммунарами. Сейчас этот барельеф вмонтирован во внешнюю ограду кладбища. Скульптурная трагическая и вдохновенная фигура женщины на барельефе сродни рюдовской «Марсельезе». История продолжается. История революционной борьбы французских «непокоренных».
174
Я долго не могу отойти от Стены коммунаров. «АиХ morts de la Commune. 21—28 mai 1871» — «Мертвецам Коммуны!» И я вспоминаю Москву. Красную площадь. Тот давний день, когда простреленное и опаленное порохом знамя Коммуны, то самое знамя, с которым умирали здесь, на Пер-Лашез, соратники Луизы Мишель, Домбровского и Делеклюза, было перенесено в ленинский Мавзолей. Оно было передано на хранение русским большевикам. По Красной площади впереди колонны старых, седых людей шел со знаменем последний коммунар, Поль Камелина. . . По обе стороны его шли Клара Цеткин и Феликс Кон. . . И ветер шевелил старое знамя, когда-то развевавшееся на баррикадах Монмартра.
Забыть зту картину невозможно. Сколько раз вставала она в памяти в самых сложных и суровых испытаниях!
Они живы, эти расстрелянные. Старая земля у подножия Стены коммунаров обильно полита кровью героических борцов Сопротивления.
. . .Мы молча и скорбно проходим мимо могил мучеников. Гид нас торопит. Он хочет поскорее, рассказать что-то весьма интересное о могиле певицы Аделины Патти, о гробнице Оскара Уайльда. Но мы не спешим идти туда.
...Здесь каждое имя — гордость французского народа.
«Слава нашим героям и мученикам.Сопротивления, расстрелянным нацистами», «Они умерли для того, чтобы жила Франция». . .
Луи Торез. Брат Мориса. Расстрелян на Мон-Вале-риен 12 августа 1942 года. Пьер Семар. . . Отважный руководитель французских коммунистов. Генеральный секретарь федерации железнодорожников. Расстрелян гитлеровцами 7 марта 1942 года.
Герой Сопротивления семнадцатилетний Ги Моке. Вожак парижской молодежи. Один из двадцати семи заложников, расстрелянных немцами 22 октября 1941 года в лагере города Шатобриан. Это был страшный лагерь смерти. В историческом музее, созданном французскими коммунистами на окраине Монтрей, сохра
175
нилось несколько досок, вырванных из стен деревянного барака. На досках надписи, сделанные узниками перед казнью. «Товарищи, остающиеся здесь,— написал Ги Моке,— будьте достойны нас, двадцати семи, уходящих на смерть!»
Люсьен Сампо; философ-марксист Соломон, замученный в Освенциме. Его боевые друзья и сорат-, ники.
«Они умерли в Освенциме от рук фашистских варваров. Они страдали, они боролись сколько могли. . . Для того, чтобы другие больше не страдали. Они должны быть отомщены».
Амбруаз Круаза — член ЦК.
Могила героев Равенсбрюка... Памятник. На пьедестале две могучие заломленные руки. Мускулистые, живые, напряженные, взметенные в небо. . .
Пьер Жорж — полковник Фабьен — легендарный вожак Сопротивления. Он пал в борьбе за свободу накануне рассвета, как молодой Сен-Жюст, закинув якорь в будущее, на самой заре своей жизни. Ему было 24 года. «Победить и жить»,— начертано на его могиле. Это был девиз Фабьена.
Памятник жертвам лагеря Маутхаузен.
Строгая лестница, уходящая ввысь. Серый гранит. Полуобнаженный узник, сгибаясь под тяжестью, несет-огромный камень. И треугольник. Опознавательный знак узников Маутхаузена. «Помните о них!»
И скромная могила певца Сопротивления, прекрасного французского поэта Поля Элюара. Мох... Вереск. Ранние весенние цветы.
А совсем рядом, среди своих близких друзей, среди могил Марселя Кашена и Поля Вайян-Кутюрье, покоится наш верный друг Анри Барбюс.
Обелиск из розового мрамора, присланный с Урала. Бронзовые лавры.. .
Он умер поздним летом 1935 года в Москве. И мы провожали его в последний путь в Париж. Среди друзей, которые несли его гроб к Белорусскому вокзалу, был секретарь Московского комитета партии Никита Сергеевич Хрущев.
А потом перед гробом Барбюса открылись ворота Пер-Лашез. Париж не видел такого количества народа на улицах со времени смерти Виктора Гюго.
176
Он занял свое место у Стены коммунаров... „Мертвецам Коммуны!"
Нет... Они по-прежнему живы в сердцах миллионов.
Коммунары... И Барбюс... И Элюар... Полковник Фабьен. И узники Равенсбрюка. Борьба продолжается. ..
Я вспомнил последние встречи с Барбюсом, и последние его минуты, и последние слова о том, что надо бороться, надо спасать мир.
Мы не пошли к могилам Оскара Уайльда и Аделины Патти. Я не видел знаменитой ивы, посаженной над прахом Альфреда де Мюссе. У меня не осталось времени...
В
РОДНЫЕ еЕРДЦЛ
В XVIII веке знаменитый садовод Ленотр создал декоративные перспективы обширного Версальского парка, украшенного многочисленными фонтанами и скульптурными изваяниями.
Мы не раз вспоминали имя Ленотра, проходя по аллеям Версаля. Его имя принадлежит истории.
Но вот мы встретились с другим садоводом, и имя Ленотра отодвинулось в глубь времен.
В рабочем предместье Парижа Малахов нас встретил восьмидесятивосьмилетний ветеран, участник Сопротивления, старый садовник Жюль Леффрик. Седая голова. Подстриженные усы. И мне снова показалось, что Марсель Кашен выходит нам навстречу... Предместье Малахов находится на той же дороге, что и Лонжюмо. Пятьдесят лет назад по обочине этой дороги на потрепанном велосипеде ездил каждый день Владимир Ильич Ленин. Здесь, в этих местах, он готовил большевистские кадры, обучал великому искусству Революции. Но... об этом я расскажу отдельно.
Предместье Малахов (34 тысячи жителей) входит в так называемое Красное кольцо, красный пояс Па
12 На разных меридианах
177
рижа. Это небольшой промышленный городок. Заводы телевизоров, грампластинок, радиоаппаратов. Мэр и все тридцать советников мэрии — коммунисты.
Малахов — город революционных традиций. Здесь жил юноша Ги Моке, узник лагеря в Шатобриане, вожак молодежи, могилу которого мы видели на Пер-Лашез. Здесь нет памятников маршалу Фошу.
Улица Жан-Жака Руссо. Улица Виктора Гюго. Бульвар Габриэля Пери. Улица Вайян-Кутюрье. Улица Ги Моке... В названиях улиц возникает история французской революции.
Но вот уже перед нами славные участники многих боев за свободу. И сразу теплая волна дружеских приветствий окатывает нас. Мы попали в гости к родным людям. Мы слышим, как бьются их сердца, когда они обнимают нас.
На улицах висят номера «Юманите», приветственные плакаты, транспаранты. Знакомая улыбка Хрущева. «Привет Никите Хрущеву». Порой кажется, что мы попали на Красную Пресню... Что же, Малахов, Иври — города Красного кольца — это Красная Пресня Парижа.
Хозяева города, советники мэрии, показывают нам свои достижения. Стадион. Детский сад. Новые рабочие кварталы. Луи Жуйе, заместитель мэра, коренастый человек в очках, похожий на ученого, рассказывает, как строится бюджет города, как мэрия помогает населению, удовлетворяет его нужды.
Гордостью коммунистической мэрии является поликлиника.
Она снабжена новейшими инструментами, ее обслуживают прекрасные врачи-энтузиасты.
На фасаде поликлиники плакат: «Привет советским гостям».
В вестибюле большой портрет основателя поликлиники.
Красивое молодое лицо. Доктор Морис Талин. Он был расстрелян немцами в том же лагере Шатобриан. Может быть, они стояли рядом, не дрогнув перед дулами фашистских автоматов, Морис Талин и Ги Моке.
178
Мы обходим сверкающие белизной лаборатории, кабинеты, гимнастические залы. Новейшая аппаратура. Рентгеновские кабинеты. Особенное внимание уделяется здесь детям. Специально изолированные залы для грудных ребят. Консультации врачей. Не всегда мэрия находит нужную поддержку в правительстве, в министерстве. Но крепкий, дружный коллектив не падает духом. Надо показать, что могут сделать коммунисты для народа, который доверил им власть в этом городе.
Пациенты оплачивают сами только двадцать процентов оказываемой им медицинской помощи. Шестьдесят процентов медикаментов тоже бесплатны.
Добились этого с трудом. Ведь лекарства очень дороги во Франции. В штате поликлиники двадцать пять человек; пять врачей — женщины.
Беседуем с доктором Морисом Остером. Он гордится достижениями коммунистической мэрии. Он энтузиаст своего дела.
Разговор переходит с медицинских на политические, литературные темы. О миссии мира, с которой приехал Хрущев. О Роже Мартен дю Таре и правдивости образа врача Антуана Тибо. О мужестве профессора Жолио-Кюри. Он собирается посетить Советский Союз, доктор Морис Остёр...
Мы обмениваемся адресами. Теперь у меня еще один друг во Франции. В предместье Малахов. На улице Вайян-Кутюрье.
Я рассказываю доктору, что был знаком с Полем Вайян-Кутюрье, и он удивленно улыбается.
Мог ли думать тридцать четыре года назад я, курсант полковой школы, приветствуя Поля Вайян-Кутюрье в красном уголке Московского полка, что буду проезжать по улице его имени в предместье Парижа и что на этой улице найду нового товарища? ..
Мы дружески прощаемся с доктором Остером. Совершаем прогулку по чистенькому городку с новыми домами, бассейнами, детскими парками.
На домах развеваются французские и советские флаги. Школьники окружают нас. Хорошо, что я захватил вдоволь значков с изображением голубей мира.
Прием в мэрии тронул нас до глубины сердца. На столах советские и французские флажки. Целое море
12*
179
цветов. Горячие речи друзей и соратников. Объятия. Обмен памятными значками и адресами.
Сколько новых друзей приобрели мы в этом городе! Сколько новых адресов записали в свои книжки!
Первый заместитель мэра — Рино Сколари — тоже бывший узник лагеря Шатобриан. Он знал Ги Моке. Ему удалось бежать до расправы, и он воевал в маки.
Весьма солидная, но подвижная и экспансивная Симона Пуазеле, бывшая заключенная Равенсбрюка, лейтенант войск Сопротивления.
— Да... лейтенант...— усмехнулась она, заметив мой удивленный взгляд,— я была тогда несколько более грациозной...
Старый комбатант, восьмидесятивосьмилетний Жюль Леффрик, о котором я уже говорил. Он растил цветы. И он боролся с теми, кто их выжигал и вытаптывал.
Молодая швея Жанна Лаброш. Она подарила мне голубку, украшенную сверкающими камешками,— сувенир Союза французских женщин, а я ей в ответ — московского голубя на фоне небесно-голубой эмали.
Школьница Клод Ребо, которая приветствовала нас на русском языке... Она не побоялась произнести по-русски целую речь. И я уже не мог не ответить по-французски. Седой коммунист Антуан Лежандр — сотрудник марксистской библиотеки, созданной Центральным Комитетом Французской компартии в Париже. Он мне рассказал о недавно найденных записках Ленина и о новых материалах, связанных с теми годами, когда Владимир Ильич жил на улице Мари-Роз, преподавал в Лонжюмо.
Рабочий поэт Морис Гюаде. Он подарил нам книжку своих стихов. Я прочел их позже. Эти стихи вполне достойны того, чтобы быть переведенными и изданными у нас. Они передают мысли и чувства народа Франции. Вот отрывок из поэмы Гюаде в переводе Г. Русакова.
ЕСЛИ ТЫ КОММУНИСТ... »
Если ты коммунист,
Мой друг,
Для тебя — 'забастовок вскипающий гул. ‘Свист в лицо. Улюлюканье вслед.
180
Увольненья. Локауты. Волчий билет.
Комитеты борьбы: «Нет (дороги войне!» И шуршанье листовок на темной стене.
.. .Если ты коммунист,
Мой друг,
Для ;тебя — торопливый обед на ходу, Распродажа «Юма» дотемна, И привыкшая ждать вечерами жена, И в прокуренных комнатах яростный спор, И заря за окном, и вопросы в упор...
Если ты коммунист, Мой друг,
Ты не можешь упасть, коль на плечи твои Башней Эйфеля рухнут дела.
Видишь — крылья Республике ложь оплела.
Видишь —снова сустели идут по стране... Передышек — не будет. Покоя нам — нет.
Но,
Если ты коммунист,
Мой друг,
Среди зависти, рева глупцов, клеветы, Поражений, побед и боев
Суждено тебе трудное счастье твое: И в удаче исканий, и в горечи бед Ты теплом своей Партии будешь согрет.
Но,
Если ты коммунист,
Мой друг,
Суждено тебе трудное счастье узнать, Цену братства и дружбы права, Дать прозренье слепым и молчащим слова,— Чтобы вера твоя им сердца обожгла, Чтобы гордость твоя с ними рядом пошла.
.. .Нам не хотелось уезжать из Малахова... Без всяких преувеличений — это был один из тех дней, которые запоминаются на всю жизнь. Всегда буду вспоминать я о друзьях: ученом, марксисте Антуане Лежандре, Рино Сколари, маленькой швее Жанне Ла-брош, докторе Морисе Остёре, дородном лейтенанте войск Сопротивления Симоне Пуазеле, светлоглазой школьнице Клод Ребо, старом садовнике-ветеране, по
181
хожем на Кашена. .. Я счастлив, что они живут в Красном кольце старого Парижа.
.. .Прощаясь, я от лица всех советских товарищей поднял тост: за труд... За борьбу... За все цветы, которые вырастил в своей жизни наш друг Жюль Леф-фрик...
у/ии,И /ИИ РИ'РО}
В знаменитом Латинском квартале, увековеченном в сотнях произведений французского искусства, квартале, где зарождалась слава многих замечательных мастеров литературы и живописи,— зеленый оазис. Маленький бульвар, называемый парк Монсури. В конце первого десятилетия нашего века сюда часто приходил с книгой в руках невысокий, коренастый иностранец. Когда он снимал шляпу, обнажался высокий лоб мыслителя. Иностранец садился на скамью, читал. Вставал и энергично, быстрой походкой шагал по аллеям сада. Иногда его сопровождала женщина с очень добрыми, близорукими глазами.
Обычные посетители парка Монсури привыкли к этим людям. Иностранцы, видимо, любили детей, следили, улыбаясь, за их играми.
Они жили неподалеку от парка Монсури, в скромной, двухкомнатной квартире на улице Мари-Роз, 4. Соседи мало знали об их профессии, заработках. Знали только, что хозяин квартиры — русский. Его фамилия Ульянов. Жену его зовут Надя, а тещу — мадам Элизабет.
К ним часто приходят гости. По виду — ученые, литераторы, рабочие. Они просиживают у Ульяновых часами. Но никакого шума, типичного для ателье и мансард Латинского квартала, не доносится из окон квартиры Ульяновых.
Иногда лишь поют мелодичные русские песни. Соседи знали только, что вечерами, когда приходят гости, на столе водружается знаменитый русский самовар.
А по утрам господин Ульянов выкатывал старенький, видавший виды велосипед. Велосипед уже давно
182
дышал на ладан. И, к удовольствию ребятишек, у которых было мало развлечений на этой тихой улице, этот серьезный, немолодой велосипедист частенько тут же, засучив рукава, ремонтировал свою дребезжащую машину...
Велосипед особенно беспокоил домовладельцев. Никто из солидных, кредитоспособных людей не ездил на подобных машинах. На какие деньги живет этот господин Ульянов? Сумеет ли он регулярно оплачивать квартиру? И вообще чем он занимается? ..
Один из друзей Ульянова, веселый печатник, успокоил домовладельца.
— Это очень богатый человек,— объяснил он,— он большой чудак и живет в Париже инкогнито. У него огромное состояние в России и большой счет в банке «Лионский кредит».
Это произвело впечатление, и доброе имя жильца было утверждено.
.. .Владимир Ильич Ленин много работал в те дни, кропотливо изучал материалы, посещал книгохранилища Сорбонны, библиотеки святой Женевьевы, Арсенала, Французскую национальную библиотеку.
На своем испытанном велосипеде он ездил в деревню Лонжюмо читать лекции в школе по подготовке партийных кадров, которую он создал. В школе учились такие замечательные люди, как Серго Орджоникидзе.
Большинство слушателей приезжало из России после опасной подпольной работы. Обитателям квартала, где находилась школа, как рассказывает старый французский коммунист Флоримон Бонт, казались странными эти «сборища». И Ленин объяснил им, что жившие коммуной слушатели — русские учителя. Что они проходят здесь теоретическую подготовку.
Французы верили и не верили. «Странные они все же люди, ваши «учителя»,— не раз говорил Ленину местный врач.
Ленин усмехался.. .
.. .На мою долю выпало большое счастье несколько раз беседовать с Надеждой Константиновной Крупской, выслушать рассказ ее об их парижской жизни, о том, что читал Ленин, кого любил qh из французских писателей.
183
Особое место в рассказах Надежды Константиновны всегда занимала любовь Ленина к народной французской песне.
Об этом не раз писала Надежда Константиновна и в своих воспоминаниях:
«Охотно ходил Ильич в разные кафе и пригородные театры слушать революционных шансонетчиков, певших в рабочих кварталах обо всем,— и о том, как подвыпившие крестьяне выбирают в палату депутатов проезжего агитатора, и о воспитании детей, и о безработице и т. п. Особенно нравился Ильичу Монте-г ю с. Сын коммунара, Монтегюс был любимец рабочих окраин. Правда, в его импровизированных песнях—-всегда с ярко бытовой окраской, не было определенной какой-нибудь идеологии, но было много искреннего увлечения. Ильич часто напевал его привет 17-му полку, отказавшемуся стрелять в стачечников: «Salut, salut a vous soldats du 17-me» («Привет, привет вам, солдаты 17-го полка»). Однажды на русской вечеринке Ильич разговорился с Монтегюсом, и странно, эти столь разные люди — Монтегюс, когда потом разразилась война, ушел в лагерь шовинистов— размечтались о мировой революции. Так бывает иногда — встретятся в вагоне мало знакомые , люди и под стук колес вагона разговорятся о самом заветном, о том, чего бы не сказали никогда в другое время, потом разойдутся и никогда больше в жизни не встретятся. Так и тут было. К тому же разговор шел на французском языке,— на чужом языке мечтать вслух легче, чем на родном».
Надежда Константиновна рассказывает в своих воспоминаниях и о том, как любил Ленин в свободные часы бродить по предместью Парижа, чтобы лучше узнать парижских рабочих, узнать их мысли, чувства, переживания, что волнует их, что радует и что тревожит.
Вспоминая о жизни в Париже, Надежда Константиновна приводит новые подробности:
«К нам приходила на пару часов француженка-уборщица. Ильич услышал однажды, как она напевала песню. Это — эльзасская песня. Ильич попросил уборщицу пропеть ее и сказать слова и потом нередко пел сам ее. Кончалась она словами:
184
Vous avez pris 1’Alsace et la Lorraine, Mais malgre vous nous resterons frangais, VoUs ayez pu germaniser nos plaines, Mais notre coeur — vous ne 1’aurez jamais!
(«Вы взяли Эльзас и Лотарингию, но вопреки вам мы остаемся французами; вы могли онемечить наши поля, но наше сердце — вы никогда не будете иметь!»)1.
Был это 1909 г.— время реакции, партия была разгромлена, но революционный дух ее не был сломлен. И созвучна была эта песня с настроением Ильича. Надо было слышать, как победно звучали в его устах слова песни:
Mais notre coeur — vous ne 1’aurez jamais!»
.. .Улица Мари-Роз, 4...
После освобождения Франции от немецких оккупантов в апреле 1945 года, в день рождения Ленина, здесь был открыт французскими коммунистами музей Ленина.
На стене серого семиэтажного дома — мраморная мемориальная доска. Барельеф Ленина.
«Ленин (22 апреля 1870—21 января 1924) жил в этом доме с июля 1909 — до июня 1912».
.. .Необычайное волнение испытываешь, открывая входную дверь. Крутая винтовая лестница. Площадка. Третья дверь слева — квартира Владимира Ильича. Музей.
Две небольшие комнаты.
В квартире не сохранилось старой обстановки. Но... по этим комнатам ходил Ленин. Здесь он жил... На стене в рамке оттиск первого номера «Рабочей газеты», которую Ленин выпускал в Париже.
Над заголовком лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь! »
Номер от 12 ноября (30 октября) 1910 года.
Статья «Уроки революции». Внизу — объявление: «На газету можно подписаться на ул. Мари-Роз, 4, у господина Ульянова».
1 В статье «Цаберн» (Сочинения, изд. 4-е, т. 19, стр. 464) В. И. Ленин цитирует конец этой песни в своем переводе: «Вы взяли наш Эльзас, нашу Лотарингию, вы можете германизировать наши поля, но вы никогда не овладеете нашим сердцем,— никогда».
185
Тут же, под стеклом, в витринах первые номера «Юманите».
Фотокопия первого номера газеты «Искра». Портреты Ленина в разные годы его жизни. Среди них известный снимок Ильича с группой членов «Союза борьбы за освобождение рабочего класса».
Снимок дома в Лонжюмо (где жили Ленин и Крупская в 1911 году) и столярной мастерской, где помещалась знаменитая партийная школа.
Фотографии и подлинники других ценнейших исторических документов. Французские коммунисты любовно сберегли их.
История и современность нерасторжимы.
Тысячи французов наводнили сегодня улицы Латинского квартала, переполнили улицу Мари-Роз.
На пороге ленинской квартиры Никита Сергеевич Хрущев встретился с Морисом Торезом и другими руководителями Французской коммунистической партии. Здесь был Жак Дюкло. Жаннета Вермерш. Вальдек Роше. Бенуа Фрашон. Этьен Фажон. Раймон Гюйо. Ги Бесс.
Борцы. Философы. Литераторы. Депутаты-коммунисты и советники парижского муниципалитета. Ветераны. Боевые участники Сопротивления. Ленинцы.
Они преподнесли Хрущеву протоколы Парижской коммуны.
— Это место,— сказал Торез,— священно в равной мере и для вас, советских людей, и для нас, французов. То, что совершил Ленин, работая в этих стенах, было великим вкладом в борьбу за счастье людей.
— Целиком согласен с вами,— ответил Хрущев. Они крепко обнялись и расцеловались.
.. .Они вместе обошли музей Ленина. Окна квартиры были распахнуты. Гул толпы. Громкие приветственные крики. Знамена с портретами Ленина. Плакаты: «Мир — дружба». Хрущев подошел к окну. Он поднял руки. И сердце его, сердце русского шахтера, верного ленинца, было полно любви к этим людям, товарищам, друзьям, соратникам.
.. .Это было в Париже, в Латинском квартале, на улице Мари-Роз, 4, 25 марта 1960 года.
1960
/
И Л Е К С Е U
КО X U н-
Е С Н U
В ГОРАХ
*’ 44 О В О Е В Р Е/И/
99 С ГОР
маленьком городке провинции Юньнань Ся-гуани я познакомился с людьми, чей нелегкий, скромный и благородный труд послужил материалом для этого рассказа.
Как-то холодновато звучит в применении к ним слово «киномеханики». Вместо него хочется написать какое-нибудь другое слово, которое будет ближе к существу того, что
делают люди, исколесившие многие сотни — да нет,
теперь уже тысячи километров — по горам и долинам, сквозь потоки тропических ливней, под палящими лучами солнца, чтобы шире распахнуть окно в новый, чудесный мир перед теми, кто еще недавно и не подозревал о его существовании.
За лошадью, шагах в пяти от нее, идут двое юношей лет двадцати трех или немногим больше. Оба в белых помятых, но чистых рубахах, синих хлопчатобумажных брюках и в конических крестьянских шляпах.
187
У Ху Си-шуна и его спутника — шагающего рядом Ма Лин-фана — сегодня особенно хорошее настроение.
Молодые путники оживленно беседуют, вспоминая встречи, разговоры с людьми, вновь подмеченные подробности их быстро изменяющейся жизни. Особенно часто упоминается в их разговорах селение Фумин народности ицзу, где они побывали дней десять назад.
В Китае живут 3 миллиона 200 тысяч человек народности ицзу. Они обитают главным образом в районах Даляншань и Сяоляншань, на стыке провинций Сычуань и Юньнань, а также в других районах Юньнани и в западной части провинции Гуйчжоу.
К моменту освобождения страны здесь еще сохранилось рабство со всеми его атрибутами, существовали невольничьи рынки, где рабы, так называемые «белые ицзу», продавались и покупались рабовладельцами («черными ицзу») за соль и серебряные слитки. Рабов клеймили, держали в цепях, полностью лишали свободы.
Общественной организацией у ицзу была семейная ветвь, или род, составляющий, по существу, классовую группировку. Каждая такая родовая ветвь, не допуская внутри себя браков, составляла одну фамилию и делилась, в свою очередь, на малые семейные ветви, а те — на несколько «домов», дома — на индивидуальные «дворы», составляющие первичные хозяйственные единицы.
Род «черных ицзу», как правило, имел определенный район, отделенный от места, где жил другой род, естественной границей. Каждый род, каждая семейная ветвь имели главу.
Любой принадлежащий к данному роду состоятельный человек, отличавшийся красноречием, мог быть признан главой рода.
Между родами и даже между дворами одной ветви шла постоянная борьба за рабов, за землю, имущество, порождающая вооруженные конфликты, в которых участвовали и рабы.
По не изжитым до конца еще и теперь представлениям людей народности ицзу, мир населен множеством духов. От них зависит благополучие человека. Поэтому
188
здесь понемногу сложилась целая «наука» общения с духами, умиротворения их.
Занимаются этим местные колдуны, гадатели, знахари. У народности ицзу имеется два вида их — «бимо» и «суи», причем бимо рангом постарше.
Конечно, нечего было и думать о том, чтобы сразу изменить весь строй жизни народности ицзу. Посланцы партии, ханьские товарищи, постепенно, шаг за шагом, завоевывали расположение вождей, крупных рабовладельцев, нейтрализовали тех из них, которые оказывали сопротивление, и только после этого начинали здесь социальную ломку, ликвидацию рабства, вводили демократические преобразования.
В январе 1957 года в автономном округе Ляншань, где рабовладельческий строй был особенно силен, в большинстве районов десятки тысяч рабов получили свободу. А всего здесь более 600 тысяч рабов, полурабов и-крестьян, не имевших земель, получили от одного до трех му Рабовладельцы лишены права владеть землей, им даны наделы наравне со всеми. В районах, населяемых ицзу, началось кооперирование сельского хозяйства. У других национальных меньшинств оно началось раньше.
Многие вожди, правильно определившие свое место в новой жизни, помогавшие ее развитию, привлечены к работе в местные административные органы.
Суи и бимо не лишались права и возможности исполнять древние религиозные обряды, но их влияние быстро ослабевает под живительным воздействием нового.
В СЕ/1 Е-Н U U cpi/AW-H
Селение Фумин расположено в центре небольшого горного плато, густо поросшего девственным лесом, скрывающим бамбуковые крыши. Хижины здесь — а они без труб — отапливаются по-черному. Густой кустарник подступает к плетеным заборам, словно не
1 Vis часть гектара.
189
желая мириться с тем, что люди отнимают у него место для маленьких двориков, для школы, для небольших площадок, где приносятся жертвы духам, а по вечерам собирается молодежь для гулянок. На одной из них, той, что побольше, теперь показывают кино.
Да, пока это еще соседствует здесь — поклонение духам и вот кино, школа,— как полюсы двух миров.
Встретили друзей здесь, как и везде, приветливо и радушно. Как всегда, их пребывание сопровождалось радостной суетой, в которой забываются и усталость и боль обожженного колючками тела.
А ведь совсем еще недавно достаточно было бимо неодобрительно отозваться о каком-нибудь фильме, как людьми овладевало замешательство.
Так, однажды в селении Фумин демонстрировалась китайская кинокартина, повествующая о судьбе женщины в старом обществе. Ее невзгоды волновали, вызывали искреннее сочувствие зрителей. И вдруг над задними рядами взметнулась фигура в белом и послышался резкий гортанный возглас. То поднялся и ушел бимо. Вслед за ним покинули площадку почти все старики. Молодежь досмотрела фильм, но разошлась по домам притихшая, хмурая.
А бимо осудил кадры, где рассказывалось о том, как доведенная до отчаяния героиня фильма разбивает хранившиеся раньше в каждой китайской семье деревянные дощечки с именами предков. У народов ицзу и поныне такие дощечки — «маду», надписанные рукой бимо,— вывешиваются на левой стороне задней стенки хижины и считаются семейной реликвией. Непочтительное обращение с ними — тяжелый грех.
Наши друзья употребили все свое красноречие, чтобы объяснить, почему женщина решилась на этот поступок. Только бимо по-прежнему хмурится при их появлении.
Стараясь не уронить своего достоинства, он не приходил больше вместе со всеми на площадку, когда показывали фильм, а смотрел его издалека, усевшись на каменную приступку своей хижины. За порогом, у открытой двери, располагалось и его семейство — жена, иногда зять, пропадавший сутками на охоте, и дочь Цайвэй, ожидавшая первого ребенка.
190
С его появлением на свет и совпало последнее посещение Ху Си-шуном и Ма Лин-фаном селения Фумин. Они пришли сюда по узкой просеке, прорубленной жителями в непроходимых зарослях густого бамбукового леса специально для них, когда выяснилось, что так можно хоть немного сократить путь.
Пришли и, по обыкновению, сразу принялись за дело. О, дел у них бывает много еще до того, как проектор осветит экран. Надо же рассказать, что произошло за последнее время на белом свете, в стране, о том, что уже соединились огромным мостом берега Янцзы, а в верховьях этой реки скоро начнется постройка крупной электростанции. О том, что стальные птицы, проплывающие иногда высоко-высоко над селением Фумин, теперь уже делаются на китайских заводах. О том, что автомашины, еще недавно вызывавшие переполох тем, что мчались с экрана прямо на зрителей, также создаются в китайском городе Чунцин.
Надо побывать на маленьких лесных прогалинах и убедиться, что рассада риса высажена, как советовали киномеханики (здесь впервые стали выращивать рассаду); надо помочь проложить трассу небольшого канала, который подведет воду к полям от горной реки.
Много у юношей дел, но много и помощников. Самые первые из них — дети. Раньше они были просто зрителями — самыми шумными, восторженными и пытливыми. В пылу восторга они быстро забывали, что такое «живые картины», и после сеанса вместе со взрослыми рыскали в соседних кустах, надеясь увидеть тех, кого только что смотрели на экране, и искренне огорчались бесплодностью поисков.
Особенно огорчались они в канун одного жертвенного праздника, каких бывает много у народности ицзу. Ну, посудите сами, вождь деревни после просмотра фильма «Лян Шан-бо и Чжу Ин-тай», выставив сучковатый посох — символ своей власти, попросил позаимствовать всего лишь на день те самые старинные, многоцветные одежды, которые все видели на экране.
Оказалось, что гости рады бы уважить просьбу, но не могут. Вождь попросил открыть железный ящик, где лежат киноленты. Действительно, костюмов не было. То-то смеху было потом, когда люди поняли
191
тайну невиданных чудес, доставленных но горным тропинкам в их лесную глухомань.
Теперь школьники помогают предварительно ознакомить взрослых с содержанием фильма, чтобы все в нем было ясно и правильно истолковано. Сами-то они знакомятся с ним в школе.
Школу в селении Фумин недавно соорудили из лучших сортов бамбука, с покатой крышей, с широкой прорезью в передней стенке вместо окон. Хорошо утрамбовали земляной пол, вбили в него обтесанные мечами колья для скамеек и поставили перед ними маленькие самодельные столики, только не нашли, чем их покрасить.
Поэтому на столиках отчетливо видны следы первых ученических опытов — чернильные пятна, красные, фиолетовые, но больше всего синие — цвета индиго. Первое время в деревне не было настоящих чернил, и в ход пошла краска, предназначенная для одежды.
И вот детвора, живые, непоседливые галчата, старательно выводит: «О чем рассказывается в сегодняшнем фильме». После занятий в школе то там, то здесь можно увидеть: вокруг мальчонки собралась вся семья и со вниманием слушает то, что рассказывает он, заглядывая в тетрадь.
£ ц Л1 О Х/Ч У Р и т с Я
Пропагандой фильма заняты киномеханики и молодой учитель, местный житель, недавно окончивший Академию национальных меньшинств.
Они беседуют с вождем селения и особенно с бимо, который очень доволен тем, что его не обходят вниманием. Он степенно отвечает на приглашение еле заметным кивком головы, покрытой шубо — черной шляпой, какие носят местные колдуны. У него немудреная крестьянская бородка, сквозь которую просвечивает дряблая кожа, полузакрытые колкие глаза с наплывшими, как у Будды, веками.
192
Старика боялись в семье. Ху Си-шун заметил это по той робости, с какой выслушивалось каждое его слово, по той суетливой поспешности, с которой выполняли его приказания жена и дочь. Обычно они сидели на бамбуковом полу в маленькой каморке, служившей кухней, которая громко называется здесь женской половиной дома.
Не переступая порога этой каморки, бросая покорные взгляды на старика, женщины издали слушали Ху Си-шуна, ни о чем не спрашивая. И только однажды Цайвэй, пересиливая себя, зардевшись от волнения, обратилась к нему с вопросом:
— Это верно, что вы ханец и покинули родной север, чтобы показывать нам «живые картины»?
— Да, я ханец,— ответил Ху Си-шун, сделав вид, что не замечает скрытого смысла ее слов,— родом из Шаньдуна. Приехал помогать, как могу, своим братьям — жителям южных гор.
Ху Си-шун знал, что местные жители еще хранят горькие воспоминания о ханьцах — мироедах-помещиках, о гоминдановцах, причинивших немало зла. Знал и то, что кое-кто использует эти воспоминания и сеет национальную рознь. Знал и всегда помнил, что он отправляется в горы как вестник новой жизни, как пропагандист искренней дружбы народов, населяющих Китай.
Ху Си-шуну показалось, что бимо намеревается прикрикнуть на дочь, но промолчал, насупив брови. А Цайвэй опустила голову, спрятав потеплевший взгляд.
Последний раз, когда он был в селении Фумин, Ху Си-шуну не довелось увидеть бимо и его семейство в их хижине. Над ее покатой крышей колыхался четырехугольный, сплетенный из гибких ветвей штандарт, означавший, что вход посторонним в хижину запрещен, так как здесь родился ребенок.
Под сенью этого бесхитростного знака семейного торжества коричневая хижина, доселе какая-то хмурая, казалось, преобразилась, повеселела, покрытая золотистой россыпью бликов заходящего солнца.
«Как же быть? — подумал юноша, в нерешительности остановившись в десяти шагах от калитки с пучками священной травы, охраняющей хижину от злых
13 На разных меридианах
193
духов.— Сегодня показываем такой фильм, Что Со Ста-риком надо обязательно поговорить».
— Ты ко мне? — услышал вдруг Ху Си-шун знакомый старческий голос.
Бимо стоял на пороге хижины в белом шелковом халате со стоячим воротником, который надевал по праздничным дням.
— Поздравляю вас, почтенный бимо,— сказал Ху Си-шун,— и всю семью. Десять тысяч лет жизни, только не знаю кому — внучке или внуку?
— Внуку,— с достоинством произнес бимо.
— Не кричал ли ворон над вашей крышей? Не видела ли дочь перед родами змею или фазана? — участливо спросил Ху Си-шун, хотя сам, конечно, не верил ни в какие приметы.
— Не видела она ни змею, ни фазана, и вороны не летали над нашей крышей. Но ты ведь не затем пришел, чтобы расспрашивать об этом.
— Если бы не было у меня другого дела, почтенный бимо, я бы все равно пришел поздравить вас с внуком, который продолжит род.
— Ну что ж, спасибо. Только про «живые картины» мне сегодня не рассказывай, некогда.
— Как же не рассказать, если сегодня...— начал было Ху Си-шун, но старик, не поворачиваясь, отступил назад, сухо произнес еще раз «некогда» и скрылся в хижине.
Должно быть, старику действительно было некогда. Мало ли бывает дел, когда рождается внук, да еще первый.
Но как же быть?
— Послушайте, почтенный бимо,— заговорил Ху Си-шун, возвысив голос, хотя в этом не было нужды. Ведь через стенку, сплетенную из бамбуковых дранок, слышен даже комариный писк,— сегодня мы покажем Юньнань, да, нашу Юньнань и такого бимо, как вы. То есть не такого. Бимо разные бывают. Одни, понимаете ли, просто заблуждаются и не делают людям умышленного зла. А другие носят в сердце недоброе, хотят, чтобы вернулось старое, и ради этого совершают преступления. Такого бимо мы и покажем сегодня. Вы поняли меня, отец?
194
Юноша смолк и прислушался. Плавно шелестели высокие кедры. В чаще их, охорашиваясь, хлопала крыльями неведомая птица с оранжевым хвостом, неистово трезвонили цикады. А в хижине было тихо.
Эта тишина заронила в сердце юноши смутное беспокойство.
Когда стемнело, луч света упал на экран, погасил голоса людей, поспешно усевшихся на площадке. Послышалось привычное стрекотание аппарата. И в то же время Ху Си-шун увидел, как с пригорка, где стоит хижина бимо, к площадке скользнула сначала одна человеческая фигура, потом другая.
Первая была выше, тоньше, вторая — с белой повязкой на голове.
«Не бимо,— сразу определил Ху Си-шун.— Но кто же? Неужели его дочь и зять?» В это трудно было поверить.
И все же в груди юноши шевельнулось радостное чувство. А через несколько секунд Ху Си-шун вновь ощутил беспокойство. Он увидел еще одного человека, спускающегося с пригорка. Это был бимо. Юноша узнал его сразу, хотя старик шел какой-то изменившейся, семенящей походкой.
Л- ч ж и
Когда рассвет снимает с гор густой покров ночи, местных жителей будят голоса невидимых павлинов.
Вскоре женщины начинают толочь рис в больших, стоящих под навесом дворов каменных ступах. Занятие это утомительное и, главное, длится долго, поэтому его заканчивают, как только очищенного риса бывает достаточно, чтобы прокормить семью до следующего утра.
Появление женщин у ручных крупорушек означает начало трудового дня. Киномеханики трогаются в дальнейший путь еще до того, как неутомимые труженицы принялись за привычное дело, но многие в селении уже на ногах.
13*
195.
Надо проводить Дорогих гостей до околицы, Пожелать им доброго пути, дать последние наставления, как лучше выбраться на большую дорогу, убедиться, что юноши хорошо подкрепились.
В их мешках — угощение: копченная на медленном огне свиная голова — самое лучшее здесь лакомство. После того как свинью съедают, голову отдают гостям на дорогу.
Провожают друзей и дети в трусишках, и их отцы в коротких самотканых рубахах и широких штанах, напоминающих снизу матросский клеш, и степенные старики в черных или белых ошо — больших тюрбанах, похожих на шапочки грибов, и женщины в коротких кофточках, пожилые в темных, а молодые в голубоватых, бледно-синих, розовых, цвета дозревающей вишни (у ицзу предпочитают такие цвета), и в очень длинных, широких трехцветных юбках со множеством складок. В ушах — большие, чуть ли не до плеч, серьги. Те, кто побогаче, носят серьги из дорогих камней, серебра, у других вместо серег — зубы тигра.
Женщины идут, как предписывает обычай, последними, тихо переговариваясь между собой.
С гостями разговаривают преимущественно старики. Это знак их расположения.
Чаще всего повторяются одни и те же слова: «Цзу бе-бе?» и «Айза изабо», что в переводе означает: «Все ли у вас хорошо?» и «Не спешите в дороге, чтобы не устать».
Как требует местный этикет, гости почтительно отвечают:
— Эйза иза нило. (Не провожайте больше, возвращайтесь домой, отдыхайте.)
У маленького плато, где начинается спуск с горы, густо поросшей лесом, жители селения и их гости расстанутся до новой встречи.
Ближе к плато, на холме стоит фасадом на юг хижина бимо. У калитки появляются Цайвэй, ее муж и бимо.
Может, потому, что на голове бимо сегодня такое же, как у других, ошо, лицо его утратило холодные черты напускной важности. Оно простое, стариковское, с всклокоченной, смятой бородкой.
Цайвэй, скрестив руки на животе, держит ребенка.
196
Она стоит впереди в белой атласной юбке с зеленой каймой внизу, какие носят молодые женщины ицзу по торжественным дням, потому что белый цвет считают самым красивым и благородным. Ее розовая куртка со стоячим воротником обтягивает гибкую, стройную талию. Цветистые змейки узорчатой вышивки похожи на гирлянды живых цветов.
Особенно много вышито на курточке Цайвэй пионов и роз, самых любимых цветов у ицзу. Пион считается здесь царицей цветов и символизирует счастье, а роза— женское достоинство и красоту. Весь наряд Цайвэй подчеркивает прелесть ее девически округлого лица с двойными тонкими линиями верхних век, опушенных длинными ресницами. В чуть изогнутых уголках четко очерченного рта теплилась спокойная, горделивая улыбка.
Ху Си-шун, его товарищ и все, кто шел с ними, невольно остановились. Цайвэй словно ждала этого, словно знала, что они остановятся, потому что нельзя же пройти мимо, когда она впервые вынесла показать солнцу, розовеющим в его лучах горам, людям своего сына.
Она не спеша сделала шаг, другой, сверкнув колыхающимися у смуглой шеи длинными серебряными серьгами, и сказала так, как будто не раз уже повторяла про себя эти слова, стараясь вложить в них как можно больше чувства:
— Ханьский брат, дай имя моему сыну.
Ху Си-шун не сразу понял, к кому она обращается, оглянулся кругом и увидел, что взгляды всех обращены к нему — хорошие, добрые, ждущие взгляды. Юноша посмотрел на бимо. Старик стоял позади дочери, смиренный, немножко жалкий, теребил бородку и тоже ждал.
— Тебя прошу, ханьский брат,— мягко повторила Цайвэй,— дай имя сыну, будь ему ачжи.
Ачжи на языке ицзу — названый отец. Таков древний обычай. Он состоит в том, что семья заранее выбирает день, когда мать новорожденного рано утром выходит за порог своего дома и одного из тех, кого первым видит (будь то односельчанин или пришелец из других мест), просит дать имя ребенку. После этого ачжи становится как бы членом этой семьи, приносит
197
или присылает своему крестнику подарки, а он, как только подрастет, называет его ада — отцом.
Обычай! Обычай ицзу предписывает называть младенца именами, из которых Ху Си-шун не может подобрать ни одного. Веками тут живет поверье: если назовешь ребенка каким-нибудь красивым, звучным именем, оно привлечет внимание злого духа, и не оберешься тогда напастей.
Поэтому ачжи стараются подбирать имена поскромнее, а так как именами здесь служат слова, обозначающие многое из того, что окружает, то детей часто называют: муравей, мышь, кошка, червячок. Незаметные все существа, злой дух не обратит на них внимания. И лишь когда ребенок становится старше, ему дается другое имя, например Ламо (смелый тигр), а старое забывается.
— Цайвэй,— говорит Ху Си-шун, сняв соломенную шляпу,— мне очень радостно, что я стал ачжи для твоего сына. Спасибо тебе за большую честь, а ему желаю прожить десять тысяч лет и быть таким же мудрым, как самые мудрые люди ваших гор, таким же смелым охотником, как его отец, таким же... как ты, Цайвэй.
Он хотел сказать «красивым», но вспомнил, что здесь не принято говорить женщине о том, что она красива.
— Только позволь, Цайвэй,— продолжал юноша, слегка возвысив голос,— позвольте и вы, почтенные люди, назвать ее сына по-своему. Вы теперь знаете, что злые духи не такие уж всесильные.
— Говори, говори! — послышались голоса.
Ху Си-шун перевел дыхание, взглянул на огненный шар солнца, уже рассеявшего туман, запавший лишь в глубоких впадинах гор, на озаренные его светом обветренные, мужественные лица окружающих людей, на Цайвэй, на ее ребенка и сказал:
— Мне хочется назвать его Шаньгу ан L
Цайвэй слегка наклоняет голову и произносит тихо:
— Спасибо. И пусть это имя останется за ним навсегда.
1 Свет в горах.
198
II
ucmejhwt духи
что /исж-но и чего -не/ь^я
Из округа Дали мы отправились той же дорогой Куньмин — Бирма на запад. Миновав глубокое ущелье, именуемое Воротами духов, и следуя течению быстрой и сравнительно широкой реки Янби, прибыли в уезд Баошань с его полумиллионным населением, среди которого есть самые разные национальные меньшинства.
Мы увидели в Баошане то, чего недавно еще не было в окраинных национальных районах: промышленные стройки, предприятия. Здесь не только плавится металл, куются плуги, выпускаются ткани, химические удобрения, но и растут, воспитываются многочисленные отряды рабочего класса из числа людей, вчера еще не имевших ни малейшего представления даже о простейших механизмах.
Колдуны, заклинатели, предсказатели судеб — со всем этим в разной степени мы встречались в каждой деревушке округа Баошань.
Вера в духов пронизывала весь уклад жизни, быт людей, подчиняла прочным устоям, ломка которых представляет собой одну из самых важных и сложных задач в преобразовании жизни национальных меньшинств Китая.
К таким устоям относится и обширный перечень так называемых «табу» — запретов, разных примет, не только безобидных, но и таких, что приносили еще значительный ущерб, мешали в полную силу трудиться, воспринимать новое.
Например, у кава — пожалуй, самой отсталой из всех малых народностей Китая, еще совсем недавно приносившей человеческие жертвы духам,— существовал запрет на охоту в лесах, где растут «священные» деревья. К этим деревьям привязывались головы людей, принесенных в жертву духам в дни, предшествовавшие уборке урожая. Люди кава не выходили из дому, если по утрам слышали пение птиц, считающихся вестниками злых духов.
199
У народности хани обычай запрещал мужчинам и женщинам вместе трудиться в поле, вместе питаться, женам есть то, что приносят с охоты мужья. Первое и пятнадцатое числа каждого месяца здесь считались днями, не пригодными для полевых работ, и еще недавно в эти дни даже в страдную пору поля пустовали.
Такие дни имелись почти у всех национальных меньшинств. У народности тай три месяца в году отводилось поклонению Будде. В каждом из этих месяцев восемь дней предназначены только для молитв.
Много времени и средств отнимают жертвоприношения духам. Раньше в жертву им часто приносили самое ценное — буйволов. И теперь их еще кое-где обезглавливают священными мечами, а черепа вывешивают на воротах, у дверных проемов хижин. При образовании сельскохозяйственных кооперативов у некоторых национальных меньшинств обобществлялся не весь рогатый скот. Часть его оставляли в личном пользовании крестьян для того, чтобы они могли выполнять эти обычаи. Словом, ущерб хозяйству бывает еще немалый.
Здесь существовали и другие способы умилостивить духов. Пробираясь горными тропами в глухие селения, я в нескольких местах видел листки бумаги, висящие на сучках деревьев, с такой примерно надписью: «Прохожий! Наш ребенок занемог, кричит по ночам. Прочти эти строки, и ему станет легче».
На вершине горы, где стоят вразброс несколько глинобитных домиков народности хуан, мне довелось наблюдать, как один из них поспешно разбирали. Семья, обитавшая в домике, по частям переносила жилье на новое место. Недавно здесь умер ребенок, и люди предположили, что несчастье произошло потому, что на прежнем месте обитает злой дух, и решили избавиться от него.
Духовное порабощение национальных меньшинств усиливалось американскими, английскими, французскими миссионерами, проповедовавшими христианство и католичество. Проповедники слова божьего проникали в самые глубинные районы Юньнани, стараясь подчинить своему влиянию жителей края, который империалистические державы стремились превратить в опорную базу агрессии не только против Китая, но
200
и против сопредельных с ним стран Юго-Восточной Азии.
Обо всем этом я рассказываю, чтобы легче было представить, сколько усилий, гибкости, осторожности, такта потребовали ломка старого, каждый шаг ханьских товарищей, пришедших в джунгли помочь национальным меньшинствам строить новую жизнь.
Они делают это, ничего не навязывая местным жителям, убеждают их словами и фактами настойчиво, терпеливо.
Ханьским товарищам помогает умелое использование своеобразия местной обстановки. Они смело применяют самые разные средства борьбы с суевериями, нередко помогают освобождаться от влияния гадателей с помощью. .. самих же гадателей.
8
М Ч ?т0
У многих народностей Юго-Западного Китая бытует заимствованное у ханьцев предание о Пангу, вышедшем из хаоса для того, чтобы положить начало вселенной.
Пангу — сверхъестественное существо, наделенное разумом и колоссальными размерами. Восемнадцать веков трудился он молотом и резцом, создавая первоначальные контуры мироздания, а затем умер. После смерти Пангу его дыхание стало ветром, голос — громом, борода — звездами, голова превратилась в горы, а исполинская грудь — в ровные, как гладь озер, долины.
По местному преданию, Пангу позаботился о том, чтобы выбрать в хаосе самые ценные, плодородные вещества для тех мест, где впоследствии образовались долины.
Юньнаньские долины, называемые «ба» и занимающие, как правило, большие пространства земли, очень красивы, особенно когда смотришь с горной вершины.
Новые домики в долинах заметно отличаются белизной теса, бамбуковых жердей, из которых они
201
сложены. То там, то здесь видны срубы будущих жилищ, хозяйственных построек.
Осваивать, «обживать» юньнаньские долины стали главным образом в последние годы. Раньше они отпугивали губительным дыханием малярии — извечного врага местных жителей.
Они приписывали эту болезнь воздуху, который якобы отравляют лягушки, выпускающие изо рта при участии, разумеется, злых духов зеленый туман.
Особенно свирепствовала малярия с августа по ноябрь. На тех, кто уходил в долину в эти месяцы, смотрели как на обреченных. И многие действительно не возвращались домой.
Плодородные земли становились кладом за семью печатями. Но вот пришло время, и местные жители перестали уповать на духов и поднялись на борьбу с «дурным воздухом».
Как-то поздним вечером у хижины «пляшущего бога» Ма Ляна, что живет в селении Янлу, неистово залаяла спущенная на ночь с веревки собака. «Кого это дух принес в такую пору?» — насторожился старик, поднимая голову с бамбукового обрубка, покрытого тигровой шкурой.
Отбиваясь от собаки, кто-то торопливо подошел к дверному проему, обшарил его края желтым лучиком ручного фонаря. Перед хозяином появился худенький, невысокий паренек в промокшей от вечерней росы одежде (значит, долго шел по лесу), с пухлой новенькой брезентовой сумкой и свернутой циновкой, прикрепленной на боку.
Он зябко тряхнул плечами, отвесил Ма Ляну глубокий поклон и сказал грудным, простуженным голосом:
— Почтенный Ма Лян, вы не узнаете меня? Я был в вашем селении накануне минувшей ярмарки, хотел лечить от «дурного воздуха». Меня зовут Фын Шао-ган. Я из уездной больницы.
— A-а, вон ты кто, ночной гость!—При свете коптилки старик и впрямь не узнал его.
Прошлый раз он видел Фын Шао-гана только издали, когда тот переходил из одной хижины в другую, а потом встретился с ним в сумерках. Фын Шао-ган покидал селение.
202
— Ну что, прогнал «дурной воздух»? — спросил его тогда старик с усмешкой, скрестив перед собой на посохе сморщенные руки.
Юноша сделал над собой усилие, чтобы голос его прозвучал как можно спокойнее, и ответил:
— Нет, не прогнал.
— Та-а-ак,— многозначительно протянул «плящу-щий бог».— Не можешь, значит?
— Могу,— так же спокойно возразил Фын Шао-ган,— но ведь вы сказали больным, почтенный отец, чтобы они не принимали моих лекарств, потому что самое лучшее лечение от «дурного воздуха» — моление духам.
Старик прижал к груди посох, словно кто-то собирался отнять его, и спросил строго:
— А разве это не правда?
— Видите ли,— устало ответил Фын Шао-ган,— никто не запрещает вам верить в духов и приносить жертвы, но вы же знаете, что они плохие помощники. Почти у каждой хижины висят в Янлу воловьи черепа, но каждый третий из жителей лежит сейчас в жару.
— Послушай! — сказал «пляшущий бог» громко и внушительно, точно собираясь произнести одно из своих заклинаний.— Духи не отвечают милостью на каждое наше моление. Ты должен знать, что они могут не только миловать, но и карать людей за проступки, которых мы можем даже не знать. Но больше всего за неверие в их силу.
Старый Ма Лян поднял правую руку, вытянул ее, точно собирался погрозить небу, и принялся перечислять все возможные беды, которые становятся уделом тех, кто не верит в духов.
Рука его как бы впечаталась в розовеющий небосклон, разорванный в клочья темными силуэтами стоящих в отдалении деревьев. Он попытался вызвать в себе привычное состояние экстаза, которое всегда так устрашающе действует на окружающих, но ясный, невозмутимый и твердый взгляд пришельца погасил в нем этот порыв. Юношу явно не страшили кары духов, не смущала близость исполнителя их воли, словно этот паренек сам обладал таинственной силой, способной оградить его от всяких опасностей.
203
Наконец старик опустил руку и шагнул в сторону, что означало: нам не о чем больше говорить, иди, откуда пришел, и оставь нас в покое.
— Эх, почтенный «пляшущий бог»,— произнес Фын Шао-ган на этот раз с досадой,— придет время, и вы поймете, что человек сильнее всех духов. Теперь же нужно понять немногое: то, что мои лекарства не разгневают духов, не помешают верить в них, а помогут людям избавиться от болезней.
И он ушел, сминая худенькой рукой поля соломенной шляпы, которую забыл надеть, чуть ссутулясь, словно сгибаясь под тяжестью сумки, в которой было столько же лекарств, сколько принес он в селение три дня назад. Он шел, не замечая колючих кустарников, путаясь в скользких сетях лиан, и скоро лучик света карманного фонаря, то расплываясь, то собираясь в яркий пучок, повел его сквозь лесные чащи.
К исходу следующего дня юноша появился в уездной больнице.
Главврачу Го Чан-юй не надо было расспрашивать, как встретили Фын Щао-гана в селении Янлу. Об этом красноречиво говорило осунувшееся лицо юноши, его запавшие глаза. Когда разговор подходил к концу, Го Чан-юй спросила:
— Так вы говорите, что «пляшущий бог» упрям и несговорчив?
— Да.
— Так вот, с него и начните.
— С него? — удивился Фын Шао-ган.
— Да, с него. Переубедить его сразу, конечно, не удастся, а расположить к себе надо. И в то же время почаще встречайтесь с бедняками. Они ваша главная опора.
.. .Через несколько дней Фын Шао-ган опять отправился в Янлу. И вот он стоит на пороге хижины «пляшущего бога». Глаза лихорадочно блестят. Ведь его могут встретить по-всякому.
— Простите, отец, — говорит юноша, облокотившись рукой о край дверного проема, как бы в знак того, что он не ступит дальше ни шагу без разрешения,— за поздний приход, за нарушение покоя. Я пришел в Янлу, чтобы прожить здесь некоторое время. У вас просторная хижина, не могли бы вы приютить меня? *
201
Старик смотрел на гостя, как человек, который силится и никак не может понять, что от него хотят.
Но вот глаза его ожили, он поднял повыше светильник, пристально вглядываясь в гостя, и спросил:
— А ты не боишься жить здесь? ‘
— Чего же я должен бояться?
— Гнева духов. Мы поклоняемся им, а ты в них не веришь.
— Вы, отец, молите духов, чтобы они помогли людям. И я пришел сюда, чтобы тоже помочь людям. За что же им гневаться на меня?
И Фын Шао-ган слабо улыбнулся.
— Ну что ж, проходи.
Ведь Ма Лян был не только «пляшущим богом», но и человеком народности ицзу, для которой законы гостеприимства священны.
Показав место в углу хижины, подальше от дощечек с именами предков, и положив обрубок бамбука, заменяющий подушку, «пляшущий бог» погасил коптилку, улегся, но долго еще не мог заснуть.
Мысли его путались, как клочья тумана в ущельях гор: как же можно не бояться духов, постоянно напоминающих о себе всей загадочной жизнью непроходимых джунглей — грозовыми раскатами бурь, зажигающих пожары, неудержимыми потоками вешних вод, превращающих в жидкое месиво клочки полей, ревом тигров в ночной тишине, вещими криками птиц, невидимых в кронах деревьев, и вот немощью человеческих тел, отравленных ядовитым дыханием зеленых туманов?
Вначале он рассчитывал, что Фын Шао-ган поживет в Янлу, как и первый раз, дня три, а потом опять уйдет ни с чем, и это послужит еще одним подтверждением мудрости «пляшущего бога». В глубине души он рассчитывал, что его авторитет еще больше поднимет то обстоятельство, что он приютил у себя юношу. Пусть все видят, что старый Ма Лян уверен: никто не поколеблет веру и его и односельчан в таинственную силу духов.
А Фын Шао-ган, зажив под одной крышей с «пляшущим богом», пока и не разуверял его в этом. Вечером он попросил разрешения посыпать уголок, отведенный ему для ночлега, порошком, отпугивающим
205
комаров. Старик согласился. Комары и ому не давали покоя. В тот же вечер он, к немалому своему удивлению, убедился, что порошок действительно обладает каким-то волшебным свойством. В хижине теперь слышался лишь одиночный, отчаянный комариный писк, тогда как обычно с вечера комары кружили в хижине, как осы в липовых рощах.
— Это что за зелье такое? — полюбопытствовал «пляшущий бог», вдыхая незнакомый терпкий запах.
— Порошок «три шесть» 1 делается на наших фабриках для уничтожения вредных насекомых. А можно мне предложить его другим людям?
Подумав немного, Ма Лян ответил:
— Нет, нельзя. Духи могут разгневаться.
— Но в своей хижине вы разрешили посыпать.
— Здесь можно, духи меня уважают. Я, как и мои предки, ничем не прогневил их.
Через несколько дней Фын Шао-ган обратился к «пляшущему богу» с новой просьбой — дать согласие засыпать небольшое болото, темнеющее неподалеку на прогалине леса.
Юноша высказал эту просьбу, поставив у порога хижины два бамбуковых жбана с водой. Он делал по хозяйству многое — ходил за водой, приносил хворост, караулил поле старика от обезьян, желающих полакомиться дозревающей кукурузой, чистил буйволиное стойло — и все это с хорошей крестьянской сноровкой, с мальчишеским рвением. Помощь его пришлась кстати Ма Ляну.
Может быть, поэтому теперь он не отказал в просьбе, только недоверчиво спросил:
— Зачем это?
— В болоте комары,— пояснил Фын Шао-ган. — А они разносят болезнь, которую вы приписываете зеленому туману.
— Ты опять за свое,— «пляшущий бог» нахмурился, но потом примирительно сказал: — Ладно, засыпай и увидишь, что ты ошибаешься.
Фын Шао-ган обошел несколько хижин, приглашая желающих взяться за дело. Но таких не нашлось.
1 Порошок типа «ДДТ».
206
Люди отговаривались тем, что начинается уборка. Помогать взялась только что прибывшая в Янлу рабочая бригада укома партии — все штатские люди, но многие в выгоревших солдатских гимнастерках с темнеющим пятнышком над левым карманом. Недавно еще здесь был пришит знак воина НОА.
Поначалу они, как и молодой фельдшер, показались жителям Янлу какими-то чудаками. Привели с собой большой караван, навьюченный тюками с солью, иголками, порохом, керосиновыми фонарями, бидонами с керосином, ящиками с яркими лентами, стеклянными бусами, и продают все это без барыша для себя, а тем, у кого нет денег, охотно дают взаймы без процентов.
Шкуры же тигров, медведей, оленей скупают по такой выгодной для охотников цене, какой не бывало.
Гости роздали жителям Янлу заводские лопаты, серпы, мотыги крепкого закала. И тоже бесплатно. Обещали к новому севу металлические плуги привезти, стали поговаривать о том, что хорошо бы такими плугами поля обрабатывать не каждому свое, а всем вместе, так же как ходят вместе жители Янлу на большую охоту — на тигров. Хороший, мол, урожай собрать— все равно что на тигра облаву устроить — в одиночку не справишься.
Живут парни из рабочей бригады в крестьянских хижинах. В домашних делах никаких помех, только подспорье. И за все берутся в охотку, играючи, словно в свои семьи вернулись на побывку.
Вскоре на рыжеватых лоскутах полей с коричневыми следами огня по краям началась уборка урожая. И все-таки по вечерам многие горцы, особенно молодежь, находили время, чтобы вместе с бригадой поработать на засыпке поросшего осокой болота. Когда тело просило короткого отдыха, опершись на черенки лопат, они с вниманием слушали слова Фын Шао-гана с том, почему надо уничтожить комаров — возбудителей малярии, как современная медицина помогает излечивать людей от этого недуга.
Но лекарство, что принес с собой в Янлу Фын Шао-ган, никто из больных еще не принимал, потому что не было на то благословения «пляшущего бога».
207
a
С ч с т b f
Старый Ма Лян продолжал, как обычно, выполнять священные обряды служения духам, внушавшие благоговейное почтение к его колдовской силе.
Он делал свое дело с прежним рвением, пунктуально и неуступчиво. Но однажды немного отошел от привычной церемонии моления, и весть об этом сразу облетела Янлу. Тогда односельчане стали поговаривать о том, что вообще Ма Лян как-то изменился за последнее время — появляется на сельских сходках, которые созывает рабочая бригада, тогда как раньше обходил их стороной, реже спорит со своим молодым постояльцем, а больше прислушивается к его словам — внимательно, с интересом.
А все произошло так.
Ма Лян вошел в полутемную закопченную хижину соседа, только что испытавшего мучительный приступ лихорадки.
В одной руке старика — небольшое копье с красной ленточкой на древке, а в другой — металлический круг с нанизанными на него жестянками. При каждом движении жестянки дребезжат.
Вместе с «пляшущим богом» в хижину входит его помощник.
Он ставит на пол заранее приготовленную хозяйкой дома чашку риса и втыкает туда три зажженные ароматные палочки. Они сразу наполняют хижину терпким запахом благовоний.
У помощника есть еще одна важная обязанность: переводить бессвязное бормотание «пляшущего бога» на обычный человеческий язык. Переводить надо только главное: какой дух вселился в тело больного, какие жертвы нужны, чтобы упросить дух сменить гнев на милость и удалиться.
Итак, какой же дух терзает тело больного соседа, дрожащего на полу под лохмотьями? Ответить на вопрос не так-то просто. Старик простирает кверху руки, потрясает копьем и металлическим кругом с жестянками. Потом берет глиняный сосуд с куриным яйцом и привычным движением разбивает яйцо деревянной палочкой.
208
Бормотание становится торопливее. Хорошо, если «пляшущий бог» сразу найдет в желтом месиве (по его линиям и оттенкам) ответ на первый вопрос, не то придется прибегать к другим средствам,— например, брать пучок волос больного, обломки черепицы, пепел домашнего очага и нести все это на соседнюю гору или связывать несколько веток пучками соломы, идти с ними туда же продолжать ворожбу.
На этот раз дело ограничилось яичным желтком. «Пляшущий бог» передает глиняный сосуд помощнику, и начинается священная пляска, послужившая источником самого названия «пляшущий бог».
Напряженное внимание написано на лицах больного, сидящей у его изголовья жены, их детей.
И вот помощник торжественно переводит слова колдуна:
— Тело больного стало вместилищем горного духа уншена. Велик и всемогущ уншен, священна воля его. Я, ничтожный слуга духа, осмеливаюсь спросить, какой жертвы ждет уншен, чтобы покинуть тело больного?
Вот именно, какой жертвы? Это очень важно узнать, ибо при всей своей готовности жертвовать люди всегда чувствительны к хозяйственному урону, особенно бедняки.
Ответ получен сразу.
— Уншен, может быть, согласится уйти, если ему принесут в жертву буйвола.
Из глубины хижины вдруг доносится робкий, умоляющий голос женщины:
О уншен, у нас нет буйвола!
Голос женщины не вяжется с наигранной искусственностью колдовской церемонии и как бы разрушает атмосферу ее торжественной таинственности.
— Надо занять и купить буйвола, если требует могучий уншен! — сердито кричит помощник «пляшущего бога».
Женщина расправляет пальцы правой руки, поднимает ее над головой и на этот раз громко, с отчаянием восклицает:
— Вот сколько ярмарок прошло с тех пор, как болеет мой муж, а скоро ли уйдет из его тела уншен, ни-
14 На разных меридианах 209
Rto не знает. Как расплатиться с долгами? Йадо попросить хорошенько уншена — может, достаточно зарезать свинью?
Помощник ошеломлен и разгневан просьбой женщины. Этого еще не хватало! Ну и задаст теперь Ма Лян хозяйке за такие слова. Но вопреки ожиданию ее слова производят на старика иное действие.
Положены на пол копье с красной лентой и металлический круг с жестянками. Старик подходит к изголовью больного и, вместо того чтобы с важным видом покинуть хижину, как обычно бывает сразу после гадания, садится, поджав под себя ноги, и расслабленным голосом говорит:
— Можно, соседка, можно.
— Что можно? — не понимает та.
— Можно и свинью и даже маленького поросенка. Это дух уншен сказал мне, что можно. Он стар стал, как я, а много ли надо старому духу? Он стар стал и добр, наш уншен, но уйдет ли он из этой хижины, не знаю.
Странно, «пляшущий бог» никогда еще не говорил так. Уншен —главный дух гор. Ему всегда приносили в жертву только буйволов.
На несколько минут в хижине воцаряется тишина, нарушаемая лишь шумным, прерывистым дыханием больного и еще негромкими звуками чьей-то песни, принесенной знойным ветерком с пологой прогалины леса.
— У нас сегодня ваш постоялец был, почтенный Ма Лян,— говорит больной и смотрит на старика, не поворачивая головы, внимательно и пытливо.
— Знаю,— отзывается Ма Лян.
— Он часто бывает у меня.
— И это знаю.
— Про мою болезнь рассказывал,— продолжает больной,— про лекарства свои да еще про то, что скоро, наверное, вы, почтенный Ма Лян, согласитесь с тем, чтобы больные в Янлу принимали эти лекарства. Как вы думаете?
Старый Ма Лян отводит глаза в сторону, туда, где в дверном проеме зеленеет лес, и молчит.
210
Прошло четыре года после первой встречи Фын Шао-гана с «пляшущим богом» селения Янлу. Очень многое изменилось с тех пор и здесь и в соседних селениях, где появились кооперативные хозяйства, клубы, школы, фельдшерские пункты.
Мы сидим с Фын Шао-ганом в небольшой уютной комнате уездного народного комитета, и он, охваченный нахлынувшими воспоминаниями, рассказывает мне об этой встрече, о первых шагах, сделанных им на большом и трудном пути, о преобразовании края, о его людях, о том, как меняются их судьбы.
Фын Шао-ган по-прежнему работает здесь фельдшером, не расстается со своей изрядно выгоревшей брезентовой сумкой, исхаживает сотни километров по лесным и горным тропам, по-прежнему лечит людей от физических недугов и суеверий.
Между прочим, в селении Янлу избавляться от суеверия активно помогает заместитель председателя волостного народного комитета Ма Лян.
— Нет, это он самый,— отвечает Фын Шао-ган, когда я спрашиваю, не однофамилец ли это того Ма Ляна, который был здесь «пляшущим богом».
Оказывается, недолго еще служил старый Ма Лян своим духам после того, как в его хижине поселился молодой фельдшер. Старик на себе испытал чудодейственную силу лекарств, принесенных Фын Шао-ганом, Избавившим его от малярии. После этого «пляшущий бог» махнул рукой на все свои запреты, зачастил на крестьянские сходки, а когда стали проводить в их округе земельную реформу, пришел . к коммунистам и сказал: «Не могу ли я чем-нибудь вам помочь?» Помощь его пришлась очень кстати. За активное участие в строительстве новой жизни односельчане единогласно избрали Ма Ляна в состав - волостного народного комитета.
— Да, да, это он самый,— повторяет Фын Шао-ган, и мягкая улыбка озаряет его еще очень юное, худощавое лицо.
14*
люди СПУСКАЮТСЯ С го?
ев был человг\у враг
Когда в Баошане я первый раз услышал название Шанцзян, оно было для меня лишь отвлеченным понятием. Потом это слово как бы наполнилось живыми красками — дымчатой синевой высоких угловатых гор, веселым дымком крестьянских хижин, разлинованной, хорошо укатанной дорогой, принарядившей себя молодыми банановыми и кофейными рощами, тучными полями дозревающего риса.
Совсем недавно долина Шанцзян отпугивала не только своей неприязнью к людям, смертоносным дыханием «дурного воздуха». Землю ее не укрывали леса, а значит, люди оставались бы здесь без привычной защиты друг от друга. Веками разделялись невидимыми строгими границами леса и складки гор, отделявшие людей одной народности от другой, всегда готовых встретить иноплеменных смертоносным ядом отравленных стрел и огнем самодельных кремневых ружей.
Эту вражду, сохранявшуюся с древних времен, позднее искусственно раздували те, кому она была выгодна,—помещики, объявившие горы своей собственностью. И до самого недавнего времени горы эти были разделены на три соседствующих, но враждующих между собой мира.
На вершинах обитали люди народности лису — одной из самых древних и обездоленных. Для полей им оставались лишь крутые склоны горных вершин. Местные жители говорили: наши поля висят на стене. Древесная зола заменяла им соль. И теперь тут поется старая песня о человеке, который перед смертью захотел отведать самое желанное — щепотку соли.
Жили лисуцы в строениях, похожих на шалаши. Спали на зеленых древесных ветвях. Самым дорогим предметом в каждой семье был, да и теперь остается у многих, чугунный треножник. Он передавался из поколения в поколение и служил не только предметом домашнего обихода, но и священным амулетом, храни
212
телем семейного очага. Переселяется семья — первым ставится на новом месте треножник, а уж потом над ним сооружается хижина.
До самого недавнего времени сохранялись у лису-цев трудовые отношения первобытной общины, хотя окружающие леса и земли находились во владении помещиков.
Люди сообща возделывали поля, огнем и мечом отвоевывая их у девственного леса, делая деревянными палками неглубокие лунки для кукурузных семян. * Кукурузы, за вычетом того, что отдавалось помещику, хватало на три-четыре месяца в году. Остальное время питались дикими плодами, занимались подсобным промыслом — плели корзины, сбывали их раз в неделю на ярмарках.
Охотились тоже сообща. В колчане обычно три-че- ’ тыре отравленных стрелы. Бьют зверя без промаха, чаще с короткого расстояния, шагов с двадцати — тридцати, но бывает — шагов и с трехсот.
Малейшей царапины отравленной стрелой достаточно, чтобы свирепый леопард или тигр, медведь или быстроногий олень свалились замертво. Так быстро действует этот яд. Его добывают из клубней низкорослого растения. Называется оно здесь «черная голова», должно быть потому, что сок, выжатый из его клубней, черного цвета.
Мясо зверя по-братски делится между всеми жителями деревни, и только шкура да голова принадлежат тому, кто его убил. Череп вывешивается у входа в хижину, и никто из посторонних не должен дотрагиваться до него рукой.
Я видел немало таких черепов, украшающих бамбуковые хижины горных деревень. Это знак охотничьей доблести. Нередко на вершинах гор раздавался звук трубы, сделанной из обычных рогов. По этому сигналу жители брались за луки, за мечи, за кремневые ружья. Лисуцы видели врага в каждом, кто обитал на нижних склонах гор, у их подножия.
Среднюю часть гор обжили люди народности мяо, ниже их — ицзу.
Повод для ссор находился всегда. Выследил оленя охотник народности мяо, натянул уже тугую тетиву лука, но олень, почуяв недоброе, поднимается на гор
213
ную кручу,и падает* сраженный стрелой другого охотника, живущего на вершине горы. Вот уже и возникла ссора. Лисуцы любят жевать бетел, а деревья с листьями, с которыми, его приготовляют, растут в низине. Спустятся тайком, приблизятся к этим деревьям, и вот уже слышен воинственный клич на языке ицзу. Опять хватаются люди за мечи, за луки.
На ночь жители частенько окружали свои хижины «ловушками» из луков с натянутой тетивой. От лука тянется бечева. Задел ее непрошеный гость, и его поражает стрела.
Чаще всего натравливают людей друг на друга помещики и их прихвостни.
После разгрома гоминдановцев здешние помещики почли за лучшее бежать в Бирму. Что и говорить, ничего хорошего не сулила им встреча с бедняками, почувствовавшими' крепкую опору народной власти.
/М U f-НтАЯ
0
ВСТРЕЧ^
©
Когда шел раздел помещичьей земли, самые старые, почтенные жители гор спустились к подножию одной из них, чтобы сообща решить, как справедливее это сделать.
Собрание вел секретарь партийного комитета 14-го района, куда входит долина Шанцзян, хорошо знакомый горцам человек — Хэ Ань. Он, как и они, сидел на земле, поджав под себя ноги, обутые в матерчатые тапочки.
Заходящее солнце, озаряло загорелое лицо с глубоко запавшими глазами.
Хэ Ань научился уже в остром прищуре старческих глаз, в том, как молча переглядываются горцы или передают друг другу большие трубки, сделанные из обрубков тонкого бамбука, различать еле уловимые оттенки их настроений.
Опыт партийного агитатора и новый жизненный опыт помогали ему в этом.
Хэ Ань обратился к старикам с просьбой не только дать совет, как лучше распорядиться помещичьей зем-
214
леи, но и помочь привлечь к разделу земли всех жителей их селений.
Секретарь райкома с первых встреч расположил к себе старых горцев тем, что всегда прислушивался к их слову, дорожил их советом. Им пришлось по душе, что и теперь Хэ Ань прибегает к их помощи, да еще в таком важном деле.
Их совета просили и в том, как лучше распределить буйволов, одежду, рис, все то, что безвозмездно предназначалось народной властью для неимущих людей.
Слова Хэ Аня переводили три переводчика на языки ицзу, лису и мяо.
Это была первая мирная встреча враждующих людей. Хэ Ань не был уверен, что все они придут. Ведь еще вчера каждый из них счел бы для себя зазорным встретиться вот так с иноплеменниками. Но пришли все, кого он приглашал. Очень уж большим, важным было дело, требовавшее их участия. Самые насущные жизненные интересы горцев были связаны с ним.
Будоражащая радостью новь заглушила вековые предрассудки. Но разве могут они сразу исчезнуть? Чутье подсказало Хэ Аню, что, распределяя между селениями склоны гор, пастбища, надо оставить пока нетронутыми незримые границы, разделяющие людей разных народностей. Слушая его, старики одобрительно кивали головами.
— Ну, а как быть с землей в долине? — спросил Хэ Ань.— Вон ее сколько! Если всем вместе взяться за дело, много целины можно поднять.
Старики помолчали. Старшина селения лисуцев ответил уклончиво:
— .Нам далеко спускаться к этой земле.
— Да ведь спуститься надо только раз. Построим в долине хижины и будем здесь жить.
— А еще кто будет там жить?
— Все, кто пожелает, и из мяоских, ицзуских деревень.
Послышался приглушенный шепоток. В задних рядах лисуцев раздался чей-то глуховатый голос:
— Ворона вьет гнезда на дереве, лисуцы живут и будут жить на вершинах гор.
— И пусть * живут,— спокойно ответил Хэ Ань.— Никто никого не заставляет спускаться против воли.
?Ь5
Я заговорил об этом потому, что самый простой расчет показывает: здесь можно собирать урожай в пять-шесть раз больший, чем на горах. Там есть свои богатства, и они будут в ваших руках. Надо только браться за дело сообща, а не порознь.
Но в долине надо растить поливной рис, сахарный тростник,— вступил после некоторой паузы в разговор родовой старшина народности ицзу, крепкий, коренастый, как и многие его соплеменники, Мао Чжао-па.— А нам такое совсем незнакомо.
— Научитесь.
— У кого?
— У ханьских крестьян. Они охотно помогут и тоже поселятся в долине, если на то будет ваше согласие.
Перспектива трудиться в долине вместе с ханьскими крестьянами, кажется, не очень-то обрадовала Мао Чжао-па, да и других участников беседы.
— А пока научимся,— осторожно спросил Мао Чжао-па,— не придется ли нам опять кормиться травой?
Для Хэ Аня было ясно, что в этих опасениях сказывается рожденная национальной враждой тяга к вековой обособленности. Жители гор сторонились не только друг друга, но и ханьцев, о которых раньше судили по тем из них, кто носил гоминдановские мундиры да являлся с наказами от помещиков.
Дальнейший разговор о долине отложили. «Нужно время,— подумал секретарь райкома,— время и новые усилия, чтобы сегодняшние недруги завтра стали братьями».
Возвращались горцы домой так же, как сидели, тремя группами, и так же порознь исчезли в лесной чаще, покрывающей соседнюю гору.
в первые «новоселы
Прошел год после этой встречи. Полутропический лес с его густыми, пахнущими прелью и сыростью чащами, прямыми как стрела колоннами кедровых и сосновых стволов, а в низине со стрельчатыми кружевами вечнозеленого бамбука по-прежнему очерчивал границы, за которые жители гор редко переступали.
216
Редко, но чаще, чем прежде. Неудобно же каждый раз отказываться, если ханьцы, поселившиеся в долине, так добродушно и приветливо приглашают отведать любимые папа1 или. горячий рис с не менее любимым синим перцем.. И дело даже не в этих лакомствах. Интересно поближе приглядеться, как устраивают новоселы свою жизнь на этой пустынной, пугающей болезнями земле.
Жили новоселы первое время в шалашах или просто под открытым небом, спали, как лисуцы, на древесных листьях, пищу готовили на кострах.
Рассвет заставал людей там, где они осушали покрытые густой осокой болота, врезались широкими, с зубчатой насечкой серпами в рыжеватые заросли саванны, мотыгами прокладывали оросительные канавки, между которыми ложились черными стружками все новые и новые борозды вспаханной деревянными плугами земли, рыли большой водоем и прокладывали дорогу.
Было начало марта, когда вершины гор еще обжигает колкий холод снежных метелей, а в низине уже в разгаре полевые работы — поля готовятся под ранний рис, под сахарный тростник, а рядом изнывает от жаркого солнца желтоцветая сурепица и наливаются колосья озимой пшеницы.
Когда в зеленый покров обширной долины впечатались, словно расчерченные циркулем, квадратики полей, у новоселов появилось время заняться постройкой жилищ, хозяйственных строений. Дома их, как у горцев, вначале строились из бамбука, но, в отличие от горных жилищ, с прочным каркасом из соснового или кедрового теса.
Горцам сразу бросилась в глаза одна особенность в жизни новоселов. Поля их разделяли только оросительные канавки, так что издали они выглядели одним сплошным массивом. На каждом участке шло сразу по нескольку плугов. На строительстве дома одновременно работало 20—30 человек. Весь поселок вырос недели за две. В нем разместились 140 ханьских семей, переселившихся за 100 километров, где у них были
1 Местные рисовые лепешки.
217
обжитые, но неплодородные земли. Сообща построили новоселы и просторные помещения для школы, медицинского пункта, кузницы и агрономической станции, высадили вокруг саженцы апельсиновых и кофейных деревьев.
На огромном пространстве пустынной земли поселок этот и возделанные поля казались островком, но его появление сразу преобразило долину.
Сдержанные, скупые на похвалы горцы, встречаясь с ханьцами, не скрывали своего одобрения тем, как споро, ладно обживаются они на новом месте.
— А зачем вам такая большая кузница? — спрашивали они.
— Будем лемехи ковать для себя и для тех из вас, кто захочет землю не палкой ковырять, как сейчас, а пахать плугом у себя или здесь, в долине. Скоро железные плуги получим, заводские бороны, сеялки, ремонтировать их будем сами.
— Что такое бороны, сеялки?
Объяснили и это.
— А такое у нас будет? — спрашивал осторожно иной гость с горы, дотрагиваясь рукой до марлевого полога.
— Обязательно будет. В долине пока без этого нельзя. Каждой семье, что решает поселиться здесь, уездный народный комитет дает марлевый полог бесплатно. А потом они будут здесь не нужны. Всех комаров уничтожим.
Многое у новоселов было герцам по душе. Пришлось им по душе и то, что ханьцы поселились в долине, как и говорил Хэ Ань, с их согласия. Хэ Ань побывал для этого в каждом горном селении, потолковал с родовыми старшинами, со всеми горцами и убедил в том, что соседство с ханьцами будет полезным для тех и других.
По душе было горцам и то, что деревья для стройки ханьцы рубили тоже с их ведома, признавая тем самым в них исконных хозяев здешних мест. Горцы не остались в долгу и охотно помогли новоселам выбрать самые крепкие, стойкие стволы бамбука, ну, а в кедрах и в соснах ханьцы разобрались и сами.
Правда, не обошлось без одного досадного недоразумения.
218
Строительство поселка было окончено, и вот новоселам понадобилось дерево, чтобы, обшить тесом колодец. Приглянулся им большествольный крепкий кедр, росший неподалеку на склоне горы.
Когда вздрогнула от звонких ударов топора крона кедра, рядом появились жители соседней деревушки народности ицзу. Сразу невозможно было понять, почему так хмуры их лица, о чем так громко и гневно говорят они.
Но вот к дровосекам приблизился человек с черной повязкой на голове — родовой старшина, знающий ханьский язык. И тут выяснилось, что ханьцы начали рубить дерево, которое местные жители считают священным. Срубить такое дерево — значит навлечь несчастья.
Можно представить себе, как смущены и подавлены были ханьские дровосеки своей оплошностью. Все, что творилось в их душе, можно было прочитать на растерянных лицах, когда они тут же направились в селение ицзу и принесли его жителям самое глубокое извинение. Помогло делу и появление Хэ Аня, который сразу объяснил горцам, что произошло недоразумение.
Дружественные отношения были восстановлены. Но для себя новоселы извлекли из этой истории большой урок.
О том, что в общении с горцами нельзя ущемлять их национальные, чувства, нарушать их обычаи, Хэ Ань напоминал новоселам не раз. Но одних напоминаний мало. Нужно знать эти обычаи, чтобы уберечь себя от неосторожного шага.
-Н О 8 Ы Е ПЕС-HU
Желающих поближе познакомиться с тем, как устраиваются новоселы, становилось все больше. Внимательно наблюдали горцы за тем, как смачивают ханьцы в глиняных чанах рисовые семена, а затем вразброс высеивают их’ на хорошо взрыхлённые, увлажненные участки земли, предназначенные для рассады. А позже пересаживают рассаду на поля, словно покрывая их зеленым бархатным ковром, заботливо холят каждый росток, обильно питая его удобрениями и влагой.
219
Горцы знали цену тяжелому труду. Ближе знакомясь с ханьцами, они невольно проникались к ним уважением.
Знают горцы толк и в хорошей песне.
И вошло так в обычай: вечерами, после работы на полях, покрытых уже высокими, густыми ростками риса, молодые новоселы с увлечением пели ханьские и горные песни. Теперь среди, горцев было много охотников познакомить новоселов со своими великолепными национальными танцами, с песнями.
Пришло время, и в веселом хороводе вместе с ханьцами кружились и юные горцы, каждый старался принарядиться по такому случаю. Смешивались темно-синие рубахи с открытым воротом молодых ицзу, широкие голубоватые куртки с синей оторочкой лисуцев, подпоясанные розовыми и белыми кушаками, черные куртки мяо со стоячим воротником и особенно красиво расшитые девичьи наряды с разноцветными лентами, бусами.
Приходили полюбоваться молодежью и пожилые горцы. Они теперь не чуждались, не сторонились друг друга, охотно вступали в общий разговор о своих делах, которые в последнее время заметно пошли на поправку. Ведь у ханьцев работала новая кузница. В ней восемь кузнецов отковали немало крепких лемехов, и новоселы щедро делились с горцами новыми плугами, научили, как ходить за ними, ссудили своих друзей отборным семенным зерном для поздней посадки. Ведь в Юньнани, если не .считать высокогорных районов, растить полевые культуры можно круглый год.
А прошло еще немного времени, и опять в лесу звонко застучали топоры, опять запахло свежим тесом. Около тысячи семей трех народностей, почти все, кто жил в горах, во главе со своими родовыми старшинами пожелали переселиться на широкие просторы долины Шанцзян. Вместе с ханьцами они вышли в лес с топорами и строили себе дома, да по-новому, по-ханьски— с добротными каркасами, накрепко скрепленными без единого гвоздя. Одна за другой вырастали в долине новые деревни, а когда они были готовы, началось переселение.
1959
1\Р И В И Ц\1И<
Два полета
УХЛ Р ЕСТ
етонное поле Бэнясы. Мелькнуло белое здание аэропорта, а самолет еще катился по земле и.пилот рулил к другому зданию, гораздо более внушительному по размерам. Но я резко и отчетливо вспомнил, узнал то невысокое строение, мимо которого сию минуту пронесся наш ревущий самолет. Вспомнил утро, когда шел к этому дому, сжимая
в руке пистолет.
Сейчас, сегодня я знаю — нас встретят друзья. Уже вижу за оградой летного поля своих бухарестских знакомых. Вот они машут руками, улыбаются. А тогда, в то утро, выпрыгнув из самолета, я спустив предохранитель револьвера, мои спутники сделали то же самое, и мы, тяжело ступая затекшими ногами по серым плитам аэродрома, двинулись к тому невзрачному белому зданию, у которого густо пестрела безмолвная цепь вооруженных людей. Кто были они, друзья или враги,— мы не знали.
221
Но, может быть, рассказать эту историю по порядку?
Однажды после полуночи меня вызвал генерал, редактор военной газеты «Красная звезда», где я работал в ту пору. Приказ был коротким. Немедленно вылететь в Бухарест,- куда утром должны вступить наши войска. Вечером того же дня вернуться обратно в Москву, явиться в редакцию и написать очерк о том, что я увижу и услышу за несколько часов пребывания в столице Румынии. Место в очередном номере оставлено.
Еще медлил рассвет, а мы уже неслись на запад в черных провалах неба. Скоростной бомбардировщик принял на свой борт маленькую группу военных журналистов и фотокорреспондентов центральных газет. Картина в фюзеляже машины, куда мы втиснулись, сразу приобрела сходство с внутренностью консервной банки. Ноги корреспондента «Правды» Л. Огнева стойко упирались в мой живот, и за весь путь до Бузэу эта ситуация не изменилась. Короткая остановка, и мы снова в воздухе. Больше всего мы боялись опоздать к моменту вступления наших войск в город.
Но произошло совсем другое.
Когда самолет коснулся посадочной дорожки и мы выскочили из него на аэродромное поле, то сразу увидели в трехстах метрах от себя то невысокое белое здание, которое сейчас мелькнуло в моих глазах виденьем прошлого.
Возле здания стояла большая группа вооруженных людей в военной форме. Нельзя было только различить точно, гитлеровцы это или румыны. Можно было лишь твердо поручиться — это не были советские военные. Мы знали, что наши войска разгромили группировку немецких войск в районе Плоешти и южнее Плоешти. Знали, что режим Антонеску рухнул. Мы понимали, что если на аэродроме нас не встречают свои, то это какое-то недоразумение..; У нас были автоматы и пистолеты, и нам оставалось только выяснить, в чьих руках находится в данный момент аэродром— друзей или врагов. Сделать это можно было только одним путем — идти к белому зданию навстречу неизвестному. Первый выстрел с той стороны разрешит наши сомнения.
222
Сблизившись на звук человеческого голоса с группой вооруженных людей, среди которых теперь можно было различить и штатских с нарукавными повязками, мы кое-как объяснились, то по-русски, то по-французски, и установили, что перед нами румынские солдаты и офицеры, настроенные вполне миролюбиво.
Дело же было в том, что мы свалились на аэродром Бэнясы несколько раньше того момента, когда в центральных районах Бухареста появились наши войска. Город был окружен, все военные полевые аэродромы находились в руках Советской Армии, положение было ясным. Оно стало еще более ясным, когда мы узнали, что люди с нарукавными повязками, обращавшие на себя внимание решительным видом, были ра-бочегвардейцы — герои бухарестского восстания 23 августа. Нам одолжили грузовик, и мы понеслись в центр города.
По улице Бонапарта катились гигантские самоходные пушки, серые бронетранспортеры, грохотали тяжелые оливковые танки, вихрем проносились мотоциклы. Казалось, не будет конца этому грозному потоку. В столицу Румынии как бы шагнул седой Урал. Мчались широкие машины с мотопехотой. Был розовый безоблачный день, и тысячи крохотных солнц сияли на касках бойцов.
И эта картина безостановочного движения войск в блеске нарядного дня, в рычании и голубом угаре моторов, в грохоте гусениц, в цветах, украшавших зеленые машины, в басовых гудках, в военном громе и мирном солнце — эта картина была поистине триумфальной. С восторгом встречал Советскую Армию Бухарест.
На улице принцессы Элизабеты мы встретили двух юношей в изрядно потрепанной, но чисто выстиранной форме американских летчиков. У них были исхудалые, бледные лица. Двое парней оказались членами экипажа американского бомбардировщика, бомбившего в июле Плоешти. Их самолет был сбит, и они попали в плен. Немцы держали их в бухарестской тюрьме. Парни знали, кому они обязаны свободой. Один из них,
223
Вальтер Хьюз,— уроженец Нью-Йорка, другой, Поль Блэк, родился и жил в Цинциннати.
Мы зашли с летчиками в кафе и распили бутылку ледяного «пуи». Мы долго говорили, окруженные вставшими из-за своих столиков румынами. Расспрашивали, зачем американцы бомбили Плоешти — нефтяные промыслы, богатства Румынии, когда в этом уже не было военной нужды. .. О многом шла тогда речь. Грустноватый Блэк с глазами, полными живого ума, сказал: «Так вот какие вы, красные! Мы будем дружить, правда же?» И долговязый Хьюз подтвердил это желание молчаливым кивком. Где сейчас эти летчики, что с ними стало? Служат ли они в той же авиагруппе, где служил Пауэрс, или давно занялись мирным делом и, возмущенные его диверсионным полетом, пишут письма в «Нью-Йорк тайме»? Кто знает...
Во вторую половину дня, когда наши войска прошли Бухарест и двинулись в западном направлении, преследуя остатки разгромленных немецких полков и дивизий, город начал принимать свой обычный вид. Уже можно было проехать по улицам — схлынули толпы людей.
Но надо спешить обратно в Москву. Ого, я, кажется, опаздываю. Когда взмокший корреспондент примчался на аэродром, оба мотора самолета уже ревели. Трап был убран. В этом углу летного поля — ни души. Наш бомбардировщик вот-вот взлетит.
Что же будет с очерком о Бухаресте? Тень грозного редактора внезапно заслонила передо мной сияющий горизонт, и я в отчаянии нырнул под брюхо самолета. Какое счастье — створки бомболюка распахнуты.
Я полез в неширокое отверстие и поставил ноги на узенькую планку, укрепленную в неизвестных мне целях между шпангоутами. Стоять можно было только вдоль этой планки, притиснув носок одной ноги к пятке другой. Фйгура моя сразу же приобрела плоскостное выражение — я стал похож на одного из тех однолинейных человечков, каких наплодила настенная живопись древних египтян. В этом положении главная 224
задача оставалась неизменной: сохранить равновесие. Достичь этого можно было, только ухватившись за один из загадочных тросиков, натянутых в разных направлениях люка. Но за какой именно? Не зная, где берет начало каждый из них и куда ведут их концы, трудно было отдать предпочтение.
Пока я размышлял над этой проблемой, самолет вздрогнул и, наращивая скорость, покатился вперед. Раздумья кончились — я судорожно уцепился за первый попавшийся тросик, и вовремя: бомбардировщик уже зашвырнул себя в воздух, а между тем створки бомболюка были по-прежнему распахнуты. Я висел между небом и землей на вполне приличной высоте в 1000 метров, и опорой мне служила узенькая тоненькая дощечка, за которой, куда ни глянь, виднелись розовые в вечерней заре облака — и ничего больше, ни одного твердого предмета на всем расстоянии от этой дощечки до земли.
Убедившись, что натяжение тросика не вызвало пока ощутимой аварии самолета, я решительно перенес центр опоры на руки. Тросик резал ладони, но выдерживал вес моего тела, смягчая рабскую зависимость «специального корреспондента» от предательски хрупкой дощечки. Завороженно я смотрел вниз, в немоту розово-серого пространства, и, ужасаясь до холодного пота, не мог отвести глаз от раскрытых створок бомболюка. Они были распахнуты так точно и под таким целесообразным углом, словно приглашали, гипнотически молили меня спрыгнуть, скользнуть между ними вниз, в бездну, и бешено устремиться к земле, чтобы безошибочно накрыть цель. С этим приглашением уже становилось трудно бороться. Удерживало меня убеждение в том, что я начинен не тротилом, а всего лишь ненаписанным очерком и что единственное место, где я обязан взорваться,— это третья страница завтрашнего номера газеты.
Однако положение не менялось, и, когда я уже начал думать о себе с нежностью, с какой обычно никогда не думал, створки неожиданно и очень медленно, как бы нехотя, но понимая, что у них ничего не вышло, сомкнулись — бомболюк разочарованно поджал губы. Остаток пути до Бузэу я проделал, наслаждаясь комфортом и безопасностью. А в Бузэу выскочил из 15 на разных меридианах 225
бомболюка, как черт из табакерки, и виновато занял свое законное место в самолете
Очерк о вступлении советских войск в Бухарест был напечатан в завтрашнем номере газеты.
А теперь я хожу по улицам румынской столицы, напевая популярную в Москве песенку: «Никогда не бывал я в Бухаресте»,— и думаю ей в такт: «Нет, бывал, бывал я в Бухаресте».
Ветер сдувает пылинки с позолоченных солнцем каменных громад великолепных ансамблей. Тогда, в тот день, еще чернели обугленные руины Национального театра на месте, где сейчас разбит сквер и каменные ступени сбегают к площади. Помню рваную рану, пересекавшую весь купол и массивный фасад Атенеума— филармонии. Вчера я слушал в этом здании новую симфонию Альфреда Мендельсона, посвященную событиям той памятной осени.
Помню район Флоряска, убогие, жалкие лачуги — норы, как их называл Маркс, в которые буржуазия повсюду на земле загоняла людей рабочего класса. Мой бухарестский товарищ долго уверяет, что место, где мы сейчас находимся,— это и есть Флоряска. А я стоял, удивленный, средь четких кварталов новых домов из стекла и бетона, окутанных вечерней тишиной и спокойно созерцающих свое отражение в зеркальных водах знаменитых озер.
В Музее истории Бухареста я видел макет планировки площади Республики. Вот отель «Атене-палас», где я живу. Он раздался на целый квартал. Налево открывается бульвар, которому еще нет названия. Говорят, что у родителей не бывает большего счастья, чем давать имя новорожденному. Может быть, бульвар, обозначенный еще только в проекте, назовут бульваром Радости, а быть может, иначе, но уже выросли
1 Тогда не было времени раздумывать над этой историей. Но спустя много лет, вспомнив свои злоключения, я спросил летчика-испытателя Героя Советского Союза М. Галлая, как он объясняет происшествие со створками. Он ответил: «Очень просто. Очевидно, штурман забыл на старте закрыть створки, а потом, уже в воздухе, пилот, чутко ощущающий поведение самолета, возможно, осведомился: «Люк закрыт?» И штурман, вероятно, только в этот момент нажимая кнопку, ответил: «А как же!»
226
сыновья и дочери рабочегвардейцев 23 августа, Которые пойдут на свое первое свидание под шумящую листву этого молодого бульвара.
А дальше я вижу здание Дворца Республики, перекрытое в один взмах как бы висящим в воздухе металлическим ковром. Это здание по проекту находится в центре парка. А вокруг этих главных строений, образующих площадь Республики, теснится ансамбль жилых домов. На схеме планировки они стоят еще без окон и дверей, очерченные одним непрерывным движением карандаша. Но кажется, будто уже слышишь в их стенах смех новоселов, ощущаешь на своем лице отсвет разноцветных ламп, зажженных вечерами на всех этажах.
А за спиной этих домов возвышается небоскреб. Такое впечатление, что это просто один из домов, такой же, как и все остальные, но только очень любопытный, встал на цыпочки, чтобы посмотреть: «А что там происходит на площади? Ах, как интересно!»
Я выхожу из музея и, пройдя несколько шагов, оглядываюсь по сторонам... Есть такая ходкая пословица: «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается». Устарела она в социалистическом мире. Я оглядываюсь по сторонам и узнаю летящий ковер — крышу Дворца Республики.
Центр города — в лесах. Известковая пыль, словно благородная седина испытанного бойца, оседает на лицах рабочих-строителей. Там, в тишине музея, висит проект, а здесь, в нескольких шагах от схемы планировки, идет бурный процесс преображения ее в живую действительность. Да, скоро делается дело в новом Бухаресте! Город живет, он много работает, но всегда заразительно улыбается. Вечером я сижу с друзьями в пропахшем бараниной подвале «Телеги с вином». Кто-то за соседним столиком кричит скрипачу, играющему на эстраде:
— Базарка, играй, как в Плоешти!
Это компания рабочих-нефтяников, приехавших в столицу на совещание.
И Базарка играет, как в Плоешти, — огненно и страстно! Все подхватывают мелодию, улыбаются и скрипачу, и рабочим ребятам, и все знают, что вокруг шумит, отдыхает новый Бухарест...
15*
227
Случилось так, что я в один и тот же день побывал в Доме-музее д-ра Минович и на выставке образцов промышленного производства. Над этим невольным совпадением нельзя было не задуматься. Конечно, в пору, когда румынский король из большеротой семейки Гогенцоллернов не мог изъясняться на языке народа, которым он правил, возникновение дома, где были собраны предметы национального искусства, утвари и мебели, имело прогрессивное значение. В обществе, где торжествовал «нечистый дух слепого подражанья» космополитической культуре Запада, люди, которые отстаивали хотя бы национальный орнамент кувшина, делали хорошее дело.
Но разве это могло удовлетворить новую Румынию? Ныне она прорывается к мировым высотам во всех областях жизни. И на выставке оборудования и машин, которые производит страна в 1960 году, затея д-ра Минович показалась мне трогательным донкихотством.
На путях технического прогресса утверждает ныне мир социализма основу национального достоинства каждой страны.
Нет слов, хороши чешские мотоциклы и мотороллеры, но мои друзья чехи не обидятся, если я скажу, что испытал чувство огромной радости, увидев модели прекрасных румынских мотороллеров, которые скоро помчатся по улицам Бухареста.
.. .Я останавливаюсь на Каля Виктории, заглядываю в один переулок, в другой. Извлекаю из бумажника выцветшую старую фотографию. Она хранилась в моем журналистском архиве. Разглядываю ее и сверяю очертания жилых домов с теми, которые запечатлены на фотоснимке. Хочу найти место, где в тот памятный день я сбрасывал с грузовика листовки и пожимал руки окружившим нас жителям румынской столицы. Мой спутник-фоторепортер незаметно «щелкнул» тогда этот кадр, и сейчас я держу в руках снимок давнего-давнего времени.
Сумерки скрадывают очертания домов. Нет, сегодня мне уже не найти этот переулок возле большой площади, пора возвращаться в отель. И я вновь вспоминаю прошлое: взбудораженный Бухарест 1944 года, 228
войну, милых моих товарищей, не вернувшихся из ее пекла. Их нет и не будет никогда. Человек не в силах примириться с этим страшным законом. Одно лишь служит утешением. Они желали человечеству добра и погибли за то, чтобы оно шло к коммунизму. Забыть их нельзя! Не зря они жили, не зря сложили свои головы— расстались с белым светом. Время летит вперед, и дела человечества идут хорошо!
История то замедляет, то убыстряет бег. Но никогда еще жизнь не текла так бурно, как в наши дни. Прошло всего лишь полтора десятка лет с той поры, когда Советская Армия выбросила гитлеровцев из Бухареста. И вот Румыния вступает в период завершения строительства социализма, и Никита Сергеевич Хрущев стоит на трибуне перед делегатами съезда Румынской рабочей партии и говорит:
«Ваши перспективные планы, цифры шестилетнего плана — это симфония».
Бывает, скажет человек: «Эх, почему я не родился раньше на двадцать лет», или: «Хорошо бы появиться в этом мире годков этак на пятнадцать позже». Но высшее счастье человека не в том ли, что в отпущенный ему срок он может связать начала и концы своего дела на земле. Сколько людей ушло из жизни, так и не увидев хотя бы приближения той зари, навстречу которой они протягивали свои руки. Так бывает в глухие годы истории. Нашему поколению выпало узреть и рассвет и солнечное утро своего века. Это и есть подлинное счастье!
1961
к У } Н- Е Ц О В
и $
/И о с
В ЬI
ьвы!.. Проснитесь, миссис Ольга, перед нами— львы!доктор Махендра Бхатт тронул Ольгу Макееву за плечо.—- Смотрите, смотрите!..
Ольга Макеева попыталась изобразить на лице удивленную улыбку:
— Львы? Здесь?
Однако улыбки почему-то не получилось.
Впереди, шагах в десяти от машины, дорогу, проло-
женную сквозь заросли тропического леса, пересекало несколько львов. Была лунная ночь, и Ольге Макеевой показалось даже, что один из них скосил глаза в сторону машины и притихших людей.
Львы прошли стелющейся, мягкой походкой, шофер сразу дал газ и тронул машину. Через сотню метров они снова увидели огромного зверя, который мирно спал, положив голову на лапы. Когда машина приблизилась и яркий свет фар ударил в глаза, он медленно
поднялся и, отойдя в сторону, вновь улегся на траву с грацией истинного царя зверей.
— Вы побледнели, миссис? Успокойтесь!—улыбнулся доктор Махендра.— Люди здесь не трогают львов, и лев не обижает человека. Наш тропический лес — заповедник, единственное место в Индии, да и во всей Азии, где водятся львы. Их ровно двести восемьдесят. Лесники знают их, наблюдают за ними и время от времени пересчитывают. Еще немного — и они каждому льву дадут свое имя...
Доктор Махендра Бхатт, директор департамента здравоохранения штата Саураштра, оказался хорошим гидом и верным товарищем. Вместе с Ольгой Макеевой он мужественно переносил все тяготы этого долгого пути. Он хорошо знал свой штат и людей, населяющих его, любил их и вот уже много дней не вылезал из «джипа», пробираясь вместе с русским доктором в самые глухие, самые отдаленные уголки.
Стоял апрель, самый жаркий месяц в этих местах. Ольга Макеева, хотя она восемь лет прожила в республиках Средней Азии, не представляла, что такое настоящая жара. Даже ночью накалившийся от зноя металл машины обжигал до боли, нечем было дышать. Температура в тени превышала 45°. Несколько раз они попадали в «лу» — так называется в тех местах жаркий сухой ветер, который несет из пустынь Раджпу-таны тонны песка и пыли. Песок проникал и в рот, и в глаза, и за ворот, как бы плотно ни закрывались дверцы и окна машины.
В те деревни, куда машина пройти не могла, путники добирались на крестьянских повозках или пешком. Однажды вечером во время переправы через реку их «джип» завяз, им пришлось, отбиваясь от москитов, просидеть на середине реки до утра. К утру вода в реке начала прибывать, и только крестьяне, вытащившие их машину волами, спасли путешественников от неминуемой гибели.
Доктор Махендра с изумлением поглядывал на свою неутомимую спутницу. В минуты, когда нечеловеческая усталость и жара доводили до полного изнеможения даже его, от рождения привычного к солнцу человека, эта немолодая, полная женщина в платочке
23J
давала ему уроки воли и выдержки, сохраняя уверенность и подчеркнуто бодрый вид.
Временами, в особенно трудные минуты, у нее появлялась необычная для ее возраста и положения улыбка — озорная и жизнерадостная,— и она спешила рассказать своему спутнику какую-либо историю, касающуюся ее лично или кого-то из ее многочисленных друзей и знакомых. Истории показывали, как вел себя человек в трудном для него положении. Рассказывая, Ольга Макеева, как заметил про себя индийский доктор, подбадривала себя и его.
— Я перепугалась сегодня так, как однажды в Узбекистане,— сказала она, когда машина миновала тропу, по которой львы следовали на водопой.— Мне было тогда немногим больше двадцати лет. Я только что окончила в Москве институт и приехала на работу в кишлак Каттаминг, что означает «Большая тысяча». По-узбекски я не знала ни одного слова. В районном центре мне помогли сесть на лошадь, объяснили, как проехать в Каттаминг: восемь километров прямо, потом будет развилка, около нее — чайхана. Там должны быть люди. Надо спросить: «Каттаминг касси юль?» (где дорога в Каттаминг?) Тебя спросят: «Сиг ським?» (ты кто?) Ответ им: «Ман доктор» (я доктор).
Если тебя спросят: «Машина бар?» (машина есть?),— достань стетоскоп и покажи. Он тебе будет проводником.
Все произошло именно так. Стетоскоп оказал волшебное действие. В районе Каттаминга, расположенном на острове, покрытом густыми и высокими зарослями джунгара, свирепствовали малярия, трахома и другие болезни. На всю округу радиусом 50—60 километров не было ни одного врача. Я носилась по району верхом на лошади — лечила малярию и принимала детей. Поднималась до рассвета, возвращалась домой поздно вечером. Однажды путь мне в зарослях джунгара с гиканьем и свистом преградили какие-то неизвестные люди. «Наверно, басмачи...» — подумала я. Главный из них, взяв под уздцы мою лошадь, спросил:
«Женщина, ты кто?»
Я ответила, что доктор.
«Машина есть?»
«Есть»,— достала я стетоскоп.
232
«Тогда послушай мою голову»,— обратился вдруг с просьбой главарь.
«То, что я услышала, говорит мне, что ты самый умный человек,— сказала я, приложив стетоскоп к его лбу.— Отпусти меня!»
Когда они ускакали, я почувствовала, что сил, чтобы ехать дальше, у меня нет...
Доктор Махендра внимательно слушал ее. Он пытался понять эту женщину, расспрашивал ее о прошлом. Ольга Макеева рассказывала ему,’ как врачевала людей в республиках Средней Азии, как возглавила военный госпиталь в войну, как организовывала охрану материнства и младенчества в Москве. Махендра Бхатт живо представлял себе ее — энергичную, целеустремленную, увлеченную делом. Это было понятным: она трудилась ради блага своего народа.
Но что заставляло ее работать до изнеможения здесь, в Индии, куда она приехала в качестве эксперта ООН? Что движет ею, когда утром ни свет ни заря она будит своего спутника: пора, доктор, у нас долгий путь!
Махендра Бхатт вспоминал, .как в штате работали над составлением проекта, по которому нужно было организовать определенное число здравпунктов и родильных домов, подготовить акушерок и в какой-то, хотя бы незначительной степени улучшить медицинское обслуживание женщин и детей. Вначале думали осуществить проект только своими силами, потом решили через министра здравоохранения Индии обратиться в Международную организацию здравоохранения при ООН — пусть пришлют эксперта, советника, который будет помогать, подсказывать, советовать. Они долго ждали эксперта, тщательно готовились к его приезду, освободили даже часть бывшего губернаторского дворца — лучшего здания в городе. Они ждали важную персону — американца или англичанина. Конечно, он будет смотреть на них свысока, но что делать, надо терпеть!
Велико же было их изумление, когда с самолета сошла вот эта скромная, немолодая женщина в простом белом костюме. Она представилась:
— Старший эксперт ООН, русский доктор Ольга Макеева.
2 33
Русская чуть-чуть улыбнулась, когда ей сказали, что жить она будет в бывшей резиденции английского губернатора — огромном доме, во дворе которого цветут олеандры, бьют фонтаны и гуляют священные птицы павлины.
По счастливому совпадению Ольга Макеева приехала в Саураштру 8 марта, в Международный женский день. Но праздновать его было некогда.
Изучив проект, она сказала доктору Бхатту:
— Один из руководителей организации Здравоохранения дал мне совет, когда я ехала к вам: «Вы — советник, эксперт. Вы и должны советовать, высказывать мнение, вести же работу в районах будут местные врачи». Я не могу послушать такого совета. Я хочу вместе с вами работать. Для начала я прошу вас дать мне машину и провожатого. Прежде чем проводить проект в жизнь, я хочу объехать штат и познакомиться с состоянием здравоохранения.
Доктор Бхатт предоставил гостье машину. В провожатые напросился сам. Его интересовало: что заставило русского доктора начать свою службу в штате та^им вот образом — отправиться в невыносимо трудную для белого человека поездку, по самым глухим деревням? Может быть, ее интересуют «чудеса» Индии, страны факиров и йогов, львов и слонов? Чтобы доставить ей приятное, доктор Махендра повез* ее ночью через тропический заповедный лес в надежде показать львов. В другой раз он привез ее на праздник, где выступали учащиеся местной школы йогов...
Каждый день путешествия жизнь таинственной Индии оборачивалась для Макеевой какими-то неожиданными, неизвестными ей сторонами. Однако доктор Махендра скоро понял, что в этой трудной поездке доктора Ольгу интересуют не йоги, не львы, а жизнь и быт народа, крестьян. Он видел, что в ее представлении настоящая, подлинная Индия — это не джунгли, не слоны, не львы, не экзотика, а вот эти морщинистые, коричневые от загара люди, в белых повязках, прикрывающих бедра, с черными, мозолистыми, скрюченными руками, руками крестьян. Путешествуя по деревням, она спала на глиняном полу в деревенских мазанках вместе с крестьянами, ела их пищу, острую настолько, что захватывало дух, ела так же, как и
234
они,— руками. Бедность индийских крестьян была потрясающа. Многие из них говорили: «ем один раз» или «ем два раза». Два раза в день питались лишь более или менее зажиточные люди. Бедняки — раз в день. Что они ели? Черную лепешку и чай — утром, немного овощей, чуть-чуть риса и чашечку постного супа — днем.
Жилища крестьян поражали своей бедностью и убожеством. Это были чаще всего глиняные мазанки с полом, покрытым сушеным коровьим навозом, с крышей из соломы или пальмовых листьев. В доме, как правило, отсутствовала мебель. Тут же, под одной кровлей с людьми, находился и скот.
— Саураштра в переводе означает «прекрасная страна»,— с горечью говорил ей доктор Бхатт.— Это звучит издевательством. Магараджи до недавнего времени владели всей этой землей. Магараджа, что дословно означает «великий царь», был самодержавным феодалом, вольным над жизнью и смертью своих подданных, имевшим право самолично осудить, конфисковать имущество, наложить штраф или бросить в тюрьму любого. Когда магараджа следовал по своим владениям, подданные падали перед ним ниц. Если ему нравилась встречная девушка—ее водворяли в княжеский гарем. И тем не менее, несмотря на богатство и власть, настоящими «великими царями» княжеств были не магараджи, а английские «резиденты». Двойной гнет лежал на подданных «прекрасной страны»: гнет англичан и своих властителей.
Много печального и поучительного узнала Ольга Макеева за время этой поездки. Доктор Бхатт рассказал ей, что большинство индийцев свято относится ко всему живому. Многие из них не едят не только мяса, но даже яиц, потому что в них жизнь. Джайны — одна из религиозных сект — закрывают рот повязкой, выбирают, куда ступить, чтобы ненароком не проглотить мушку или не растоптать червяка. Когда в 1951 году на поля налетела саранча, крестьяне некоторых областей не только отказывались уничтожать ее, но даже сооружали мостики через реки, чтобы она не тонула в воде и могла продолжать свой путь.
Всякая жизнь священна для индийца, только жизнь самого индийца долгие века английского владычества
235
не стоила ровно ничего. Лишь в течение второй половины прошлого века голод, двадцать четыре раза посетивший Индию, унес двадцать миллионов жертв. Во время страшного голода в Бенгалии в 1943 году шакалы рвали умирающих от голода людей прямо на улицах селений и городов. Рядом с голодом шли болезни и эпидемии, которые буквально косили людей.
— Еще и сегодня в нашем штате всего одна акушерка на сто тысяч человек населения, одна койка для рожениц на тринадцать тысяч жителей, да и те главным образом в пяти больших городах,— рассказывал доктор Махендра.— Ну, а в деревнях — там по-прежнему царствуют повивальные бабки и знахарки, единственный хирургический инструмент которых — серп или кухонный нож...
В одной из деревень русского доктора попросили пройти к роженице. То, что она увидела, ужаснуло ее. Рядом с коровой, на грязной половине дома, лежала женщина в темном от грязи поношенном сари. Роды кончились благополучно: около матери пищало красное, сморщенное существо. Над ним склонилась древняя старуха, которая только что обрезала ему серпом пуповину и присыпала ранку пеплом.
Уныние было написано на лицах людей, окружавших новорожденную. Горе их, оказывается, объяснялось тем, что родилась девочка, а это — несчастье в семье. По обычаю, после того, как родится девочка, вся семья должна три дня голодать. Если же родится мальчик,— наоборот, в течение трех-четырех дней отмечают этот праздник «большой едой».
— Родиться существом женского пола,— говорил Ольге Макеевой доктор Бхатт,— считается наказанием за грехи, совершенные в прошлой жизни. Ранее существовал даже обычай, по которому некоторые секты убивали новорожденных девочек. И поныне многие женские имена несут на себе печать пренебрежения: Кхаюто — «конец», Арна — «хватит», Гхирна — «презренная».
Особенно тяжело положение вдов. После смерти мужа им запрещалось вторично вступать в брак. Вдова должна брить голову, выполнять самую черную работу, быть человеком «второго сорта». В прежние времена многие вдовы, в страхе перед ожидавшей их участью,
236
приносили жертву «сати», сжигая себя на костре вместе с трупом мужа. Тяжесть вдовства усугублялась древним индийским обычаем помолвок и бракоов в раннем, детском возрасте. Во время своих поездок Ольга Макеева встречала иногда вдов, потерявших мужей еще в детстве.
Теперь ранние браки, так же как и жестокое отношение к вдовам, запрещены законом Индийской Республики. Но традиции сильны. Бороться с ними не так-то легко. Когда в 1951 году проводили перепись населения, то оказалось, что женатых мальчиков в возрасте до четырнадцати лет было два миллиона восемьсот тридцать три тысячи, а замужних девочек в том же возрасте — шесть миллионов сто восемнадцать тысяч. Овдовевших мальчиков насчитывалось шестьдесят тысяч, а вдов-девочек сто тридцать тысяч. Все эти вдовы обречены на унизительную, неравноправную жизнь...
Тяжела жизнь индийских женщин, вот почему не было радостных улыбок на лицах тех, кто принял только что появившегося на свет малыша.
.. .Осмотрев новорожденную и ее мать, Ольга Макеева познакомилась с повивальной бабкой — «даей», как зовут их здесь. Доктор спросила женщину, давно ли она занимается своим ремеслом, моет ли руки перед тем, как принимать роды, прокипячен ли в горячей воде ее серп. Савитра (таково было имя женщины) ответила, что ремесло ее — наследственное, что и бабка ее и мать принимали детей, что руки она иногда моет, а иногда не моет, что серп в горячей воде не кипятит.
Крестьяне, слышавшие эту беседу, были явно изумлены тем, что белая женщина разговаривает с даей. Как оказалось, повивальные бабки принадлежат в этом штате Индии к касте неприкасаемых, к той ее ветви, которая занимается обдиранием шкур с павших коров и буйволов. Эти-то невежественные, грязные дай были единственными представителями медицины в большинстве деревень, в которых побывала Ольга Макеева.
Путешествуя по деревням Индии, размышляя о жизни и быте индийских крестьян, Ольга Макеева все чаще и чаще возвращалась мысленно к тем временам, когда она работала в Узбекистане, по-новому
237
осмысливала опыт организации здравоохранения в родной стране. Она подробно рассказывала доктору Бхатту о советском здравоохранении, о том, как поставлена в СССР охрана материнства и младенчества. Однажды она прочитала ему первый декрет советской власти об охране материнства и младенчества.
— «Два миллиона едва затеплившихся на земле младенческих жизней ежегодно гасли в России от темноты и несознательности угнетенного народа, от косности и равнодушия классового государства,— читала по памяти она.— Два миллиона страдалиц-матерей обливали ежегодно горькими слезами русскую землю, засыпая мозолистыми руками ранние могилки бессмысленно погибших невинных жертв уродливого государственного строя. Веками искавшая пути человеческая мысль выбилась, наконец, на простор лучезарной, светлой эпохи свободного строительства руками самого рабочего класса тех форм охраны младенчества, которые должны сохранить ребенку мать и матери ребенка...
,. .Вас, работницы, трудящиеся гражданки-матери, с вашим чутким сердцем, вас, смелые строители новой общественной жизни, вас, идейные педагоги, детские врачи, акушеры,— всех вас зовет теперь новая Россия слить ваши ум и чувства в строительстве нового здания социальной охраны грядущих поколений...»
Декрет тронул доктора Бхатта до слез.
— Его надо выбить на скалах, как выбиты мудрые указы царя Ашоки,— сказал он.
В рассказах Ольги Макеевой доктора Бхатта удивляло все — и то, что в СССР бесплатное медицинское обслуживание (в Индии, так же как и в Америке, где учился доктор Бхатт, медицинское обслуживание стоит пока еще дорого), и количество врачей, и то, что в Советском Союзе почти ликвидированы эпидемии.
Особенно глубокое впечатление произвела на доктора Бхатта организация охраны материнства и младенчества в СССР.
— Нам об этом можно только мечтать,— сказал доктор Бхатт.— Ведь мы начинаем с нуля.
— Мы тоже начинали с нуля,— возразила ему Ольга Макеева.— Бывая в ваших деревнях, я чувствую себя почти так же, как когда-то в Узбекистане в первые годы советской власти.
238
Долгие беседы вели они в машине. К концу путешествия русский и индийский коллеги стали друзьями. Доктор Бхатт перестал удивляться поведению Ольги Макеевой. Ему казалось даже, что он понял Ольгу Макееву. Однажды доктор Бхатт поделился с ней своими размышлениями:
— Вы, русские, создали новое общество. Вы дали людям бесплатную медицинскую помощь и бесплатное всеобщее образование. Вы создали спутники и ракеты. Но, наблюдая впервые в жизни русского человека, беседуя с вами, работая рядом, я понял еще одно: вы переделали самих себя, вы стали великими гуманистами. Русские люди бескорыстны и деловиты. И ответственны перед людьми. Перед простыми людьми. Горе индийских крестьян — это ваше личное горе, дело индийского народа — это ваше родное дело.
Доктор Махендра был прав. Горе индийских крестьян было личным горем Ольги Макеевой, дело индийского народа стало ее родным делом. Она видела, что опыт организации советского здравоохранения, приемы и методы работы, выработанные в СССР, принесли бы много пользы и здесь. Она понимала, что формальная организация в штате трех десятков врачебных пунктов мало что даст крестьянам. Здравпунктов можно и нужно открыть гораздо больше. Но и не в этом главное. Необходимо изменить отношение крестьян к таким сторонам жизни и быта, как санитария, чистота, медицинское обслуживание.
В одном из селений она посетила здравпункт, открытый несколько лет назад. Их встретила акушерка, молодая девушка.
— Сколько родов в этом году вы приняли? — спросила ее Ольга Макеева.
— Восемь.
— Почему же так мало?
— Ко мне не обращаются, все идут к дае,— сконфуженно ответила девушка.
Из разговоров с жителями деревни Ольга Макеева поняла, что многие даже не знали о существовании здравпункта. Нужны были какие-то революционные меры, чтобы крестьяне сами поднялись на борьбу с грязью, антисанитарией, чтобы они охотно обращались за помощью в здравпункты, требовали создания
239
их. И здравпунктов и родильных домов нужно было открыть во много раз больше, чем это предполагалось по проекту. Только тогда дело охраны здоровья женщин и детей могло дать какой-то заметный результат. Нужны были помещения, деньги, а главное — люди. Где их взять? ..
Много сил потратила Ольга Макеева, чтобы найти ответ на эти, казалось бы, неразрешимые вопросы. И все же ответ был найден. Поездка по деревням штата вместе с доктором Махендрой Бхаттом помогла ей ясно представить, что нужно сделать, чтобы проект организации охраны материнства и младенчества в штате Саураштра был осуществлен.
Впечатления, полученные во время поездки, беседы с крестьянами, с местными руководителями здравоохранения помогли ей правильнее разработать детальную программу действий, составить продуманный план.
2
Доктор Макеева изложила свою программу директору департамента здравоохранения доктору Бхатту в присутствии руководителей здравоохранения пяти областей штата. Здесь же присутствовали ее помощницы, члены группы экспертов ООН, которую она возглавляла,— индийский врач мисс Маргарэтт Мамгуайн и английский доктор мисс Кетрин Уолш. Это была первая встреча Макеевой с местными руководителями здравоохранения, и поэтому вначале добрых два часа ей пришлось отвечать на вопросы о России. Когда же перешли к основному вопросу, то Ольга Макеева сказала, что темпы развития здравоохранения штата, предусмотренные в проекте, и за десятилетия не дадут ощутимых результатов. Она предложила открыть в штате в несколько раз больше здравпунктов, чем предполагалось по проекту.
— Да, но где же мы возьмем такое количество медицинских работников? — усомнилась индийская помощница Ольги Макеевой мисс Маргарэтт Мамгуайн.
— Выход есть,— ответила Ольга Макеева.— Там, где не хватает акушерок, будут работать дай, потом-240
ственное ремесло которых — принимать детей. Надо привить им необходимые навыки санитарии и гигиены, дать спецодежду и медицинский инструмент. Надо организовать широкое обучение повивальных бабок, ведь, к сожалению, во многих деревнях еще долгое время детей будут принимать они.
Это было новшество. Оно шло вразрез с первоначальным проектом. Английский врач мисс Кетрин Уолш, работавшая под началом Макеевой, сразу встретила его в штыки.
— Следовательно, вы хотите создавать для Индии третьеразрядные врачебные пункты?
Вопрос был явно провокационный. Всем было ясно, что доктор Макеева, так же как и доктор Уолш, стояла за перворазрядные врачебные пункты, укомплектованные высококвалифицированным персоналом. Таких пунктов в штате можно открыть десять — двадцать. Но разве даже сорок дополнительных пунктов, где будут работать люди, хоть в какой-то степени знакомые с санитарией и гигиеной,— не помощь индийским крестьянам, вообще лишенным медицинского обслуживания? В таком духе и ответила Ольга Макеева мисс Кетрин Уолш, вызвав ее раздраженный взгляд.
Не согласилась Кетрин Уолш и с программой действий русского врача.
Первое, что предложила Ольга Макеева своим коллегам,— это осуществлять проект на основе самого широкого привлечения народных масс.
— Без их участия мы не выполним наш проект,— заявила Макеева.— Сделаем открытие здравпункта в деревне праздником для крестьян. И обставим его как праздник. Пусть он будет называться «Днем здоровья» и запомнится надолго.
Ольга Макеева предложила каждому работнику здравпункта взять на учет всех маленьких детей, чтобы каждая беременная женщина, каждый новорожденный ребенок были под контролем, чтобы ни одни роды в деревне, где имеется здравпункт, не обходились без врачебной помощи.
— Так сделано у нас в стране,— объяснила Макеева.
— Индия — не коммунистическая страна,— заявила в ответ на это Кетрин Уолш.— Зачем вы привезли
На разных меридианах
241
сюда свои коммунистические планы?— раздраженно заявила она.
В спор был вынужден вмешаться доктор Бхатт.
— Индия действительно не коммунистическая страна,— сказал он,— но, как известно, она планирует свою экономику. И идею планирования мы взяли у коммунистической России. В России мы найдем много полезного для себя, многому можем поучиться. Что касается существа вашего спора, то мы вынесем его на обсуждение общественности.
Первое собрание медицинской общественности области Соракх состоялось в маленьком городке Манова-дар. С утра на машинах, поездах, на волах, пешком сходились и съезжались сюда люди — работники муниципалитетов, панчаятов (органов сельского самоуправления), врачи, дай. Здесь во дворце магараджи, сбежавшего в Пакистан, и состоялось это первое в штате областное совещание по охране здоровья женщин и детей.
Весть, что на этом совещании выступит русский доктор, быстро распространилась по округе и привела сюда всех, кто имел хоть какое-то право и основание присутствовать на этом собрании.
Зал дворца был украшен цветами, коврами, вышивками, флагами. На стене висела огромная карта области. Вверху на карнизе мирно ворковали голуби.
Голубка вывела голубят и заботливо кормила их. Они пищали, ворковали, и вдруг двое из них подрались. Весь зал с любопытством смотрел на голубей, никто не слушал оратора.
Но когда вышла на трибуну Ольга Макеева, в зале установилась тишина.
Ольга Викторовна долго думала, как начать свой доклад, первое свое выступление перед индийской аудиторией. Она понимала, что от этого разговора зависит очень многое, и прежде всего доверие вот этих людей к ней, русскому доктору. Еще сегодня утром, уже здесь, в Мановадаре, она снова поссорилась со своими помощницами. Англичанка уверенно заявила, что индийцы не поддержат ее. Ольга Викторовна ушла из
242
дома, чтобы побыть одной и подумать, долго бродила в утреннем тумане, потеряла дорогу, даже поплакала: почему ее мысли, ее искреннее, бескорыстное желание помочь людям встречаются так враждебно?
И вот она на трибуне. Сотни глаз пристально смотрят на нее. В них надежда, желание знать, что думает русский доктор, и первые слова вырвались сами собой:
— Друзья мои! Последние недели я много ездила по деревням. Меня мучает вопрос: как долго еще будут умирать в молодые годы наши женщины, гибнуть наши дети?..
Она почувствовала, как вздохнул согласно с ней зал, ее слова — искренние, страстные — западали в душу слушателей. Она говорила с энергией и силой внушения человека, убежденного в своей большой правоте, говорила о том, что видела в деревнях, и не берегла при этом самолюбия своих слушателей, говорила, что проект охраны материнства должен быть осуществлен значительно раньше срока и сделать это должны они, люди, которые пришли сюда ради жен и детей своих, ради близких своих. Она говорила так, как когда-то в Узбекистане, перед дехканами, и люди видели, чувствовали, что дело, о котором она говорит, касается не только их, но в равной мере ее. Она отдается этому делу со всей силой, со всей страстью своей натуры.
Ее доклад вызвал дружные аплодисменты. Министр здравоохранения штата долго тряс ей руку и взволнованно повторял: «Как вы замечательно это сказали: «наши дети», «наши женщины». Значит, вы тоже наша?..»
Совещание продолжалось долго. Выступавшие полностью поддержали Ольгу Макееву во всех ее предложениях и планах. Один из выступавших, профессор Баруча, сказал:
— Я убежденный холостяк и, очевидно, останусь холостяком, но доктор Макеева так взволновала меня, что я обещаю собранию все свои силы отдать теперь этому великому и гуманному делу: здоровью наших матерей и детей.
Так в штате Саураштра началось это замечательное движение в защиту здоровья женщин и детей, дви-
16*
243
жение, о результатах которого через два года знала вся Индия.
Кетрин Уолш даже не рискнула выступить на этом совещании. Но она честно и добросовестно работала после этого на своем посту, и расстались они с доктором Макеевой друзьями.
Подобные совещания прошли во всех пяти областных городах штата, а после этого движение за здоровье женщин и детей перекинулось в села и деревни штата.
Один за другим открывались предусмотренные проектом здравпункты, и происходило это так, как предложила Ольга Макеева.
Большое село Панель. .. Тысячи маленьких глинобитных хижин с узкими кривыми уличками, обнесенные высокой крепкой стеной с башнями на углах. Здесь живет десять тысяч крестьян — и ни одного врача, ни одной акушерки, даже ни одной медсестры. Только дай и суяни — местные знахарки — пользуют население.
По проекту организации охраны материнства и младенчества в штате Саураштра в селе ничего открывать и не предполагалось. Но по совету Ольги Макеевой местный панчаят решил иначе. Была приглашена акушерка, найдено помещение для маленького родильного дома, открыт здравпункт.
В день новолуния (в этот день крестьяне Индии не работают) в селе состоялся Праздник здоровья. К празднику готовилось все село. Улицы, дома украшались разноцветными флагами, гирляндами цветов. С раннего утра на центральную площадь, к основанию огромного дерева баньян, стекался народ.
Праздник открылся торжественной процессией. Впереди важно шествовали музыканты. Их сопровождал почетный эскорт из пяти юношей с винтовками. Вслед за ним в белоснежных сари шла колонна девочек. На голове каждая из них несла начищенный до блеска медный поднос с кокосовыми орехами, обшитыми бисером и украшенными листьями. Замыкала процессию Ольга Макеева вместе с другими почетными гостями празднества. Она была обвешана гирляндами цветов, лоб ее в знак приветствия был украшен красным пятнышком, к которому было приклеено несколько крупинок риса.
244
Ровно в двенадцать часов раздался приветственный залп из винтовок, и самый старый человек в деревне разрезал ленточку в дверях здравпункта.
Тут же на площади начался митинг, на котором присутствовало почти все взрослое население села — несколько тысяч человек. Все сидели на земле. Ольга Макеева взяла за руки юную акушерку, только что закончившую школу, и вывела ее на помост.
— Мы привезли вам нашу любимую дочь. Она призвана заботиться о вашем здоровье, о здоровье ваших женщин и детей, а вы должны относиться к ней, как к своей матери, и заботиться, как о родной дочери.
Ольгу Макееву встретили аплодисментами. Она говорила просто и понятно об элементарных вещах: о кипяченой воде, о том, что надо чаще мыть руки, о чистоте дома и улицы. Она говорила, что девушка-акушерка — совсем еще юная, но ученая, в ее голове — мудрость многих людей, и потому ее надо любить, беречь ее и верить ей.
Ее слушали как зачарованные. Она говорила о том, о чем крестьянам никто никогда не говорил.
После ее речи представитель панчаята и областного департамента здравоохранения под музыку вручил крестьянам подарки и призы. Эти призы вручались по самым различным поводам: за самый чистый дом, за самого здорового ребенка, за самый опрятный двор и т. д. Перед праздником специальные комиссии ходили по дворам и решали, кому дать призы. И теперь счастливая мать, у которой, по мнению комиссии, самое хорошее дитя, смущаясь, подымала его над головой, показывая всему собранию. А потом, ловко посадив малыша на бедро и подхватив его снизу правой рукой (так индийские женщины носят своих детей), забирала приз — большой медный таз — и, пунцовая от радости и смущения, под громкие крики одобрения исчезала в толпе.
А в здравпункте уже составлены списки всех женщин деревни, которые ждут детей, и всех детишек до пяти лет. Составлено расписание, кому в течение первых двух недель необходимо посетить здравпункт. Нет сомнения, что женщины в назначенные дни придут сюда,— о Празднике здоровья долгие годы будет помнить все село:
245
Так было в каждой деревне, в каждом селении, где открывался здравпункт. На митинги в честь открытия здравпункта стекалось иногда до трех — пяти тысяч человек.
Большую часть каждого месяца проводила Ольга Макеева в поездках, организуя здравпункты, детские ясли и родильные дома, выступая на Праздниках здоровья, на митингах и собраниях крестьян.
Довелось ей встретиться и со старой знакомой — с даей Савитрой. Это была радостная встреча. Савитра была одета в ослепительно белое сари, за спиной у нее был ранец, в котором хранились аптечка и медицинские инструменты. Окончив ускоренные акушерские курсы, она стала в деревне Банват хозяйкой одного из лучших медпунктов.
Открытие здравпунктов и родильных домов не всегда проходило легко. Не хватало помещений, оборудования, средств. В этих случаях Ольга Макеева обращалась за помощью к муниципалитетам городов, пан-чаятам деревень, общественным организациям и всегда находила поддержку.
Ну, а если уж не помогали силы земные — в дело вступали силы небесные в лице многочисленных индусских богов. Однажды произошел такой случай. В глухой и бедной деревеньке Сора не оказалось помещения, где можно было бы открыть медицинский пункт. Крестьяне сказали русскому доктору, что единственным местом, пригодным для этой цели, был храм, но, когда несколько лет назад они попросили хранителя храма хоть немного потесниться, чтобы открыть здесь школу, брамин ответил, что советовался с богиней — покровительницей храма — и богиня отказала им в просьбе.
— Проводите меня к брамину,— попросила Ольга Макеева.
После церемонии приветствия она объяснила цель своего прихода и сказала представителю богини на земле:
— Попросите богиню от моего имени, от имени русской женщины. Ведь богиня тоже женщина, и не может быть, чтобы она не согласилась помочь женщинам индийской земли. ’
Долго совещался брамин с богиней.
246
Наконец двери храма открылись, и под звуки барабанов и гонга с гирляндами цветов в руках вышел брамин.
— Ты счастливая,— торжественно сказал брамин.— Богиня благословляет тебя и отдает это здание...
Она вспомнила эти слова, когда приехала на цементный завод в городе Сикхе. Это было единственное крупное промышленное предприятие в штате Са-ураштра.
Макеева захотела осмотреть город. Ее встретили очень приветливо и даже предложили морскую прогулку, чтобы полюбоваться красотами побережья Аравийского моря. Прогулка была чудесной. И вдруг Ольга Макеева изъявила желание побывать на одном из прибрежных островков, которые виднелись вдали.
Приехав на этот остров, она поняла, почему директору завода не очень хотелось пускать ее туда. На этом острове, где не росло ни травинки и был только белый сыпучий песок, жило три тысячи рабочих завода, которые добывали и грузили в баржи песок для цементного завода. Жильем для рабочих служили хижины из старого, поржавевшего гофрированного железа. Вход в эти хижины закрыт грязной мешковиной. Днем при сорокапятиградусной жаре находиться в них просто невыносимо: сверху, сбоку — раскаленное железо, внизу — горячий песок. В поселке не было ни школы, ни врача, ни' магазинов, даже воду туда доставляли баржей.
Ольге Макеевой сказали, что при заводе есть ясли. Она захотела осмотреть их. Ей показали душную, темную комнату, где на железном шесте, закрепленном на двух металлических перекладинах, висели рваные мешки, и в них лежали покрытые мухами, истоплю кричащие младенцы. Около «люлек» сидели дети постарше, восьми—двенадцати лет, и раскачивали их.
«Эти дети не очень счастливы,— подумалось ей.— Богиня, очевидно, не часто оделяет людей своим благословением».
Тщательно скрывая прорывавшийся гнев, она долго говорила с директором завода.
— Очень стыдно показывать вам, представителю СССР, наши ясли,— сказал директор завода под конец.— Помогите нам организовать лучшие.
247
Через несколько месяцев на заводе был открыт врачебный пункт, родильный дом на десять коек и построены хорошие детские ясли на пятьдесят мест. День открытия родильного дома и детских яслей был большим праздником для рабочих завода. Более получаса они дружно скандировали: «Хинди — руси бхай-бхай!» и «Да здравствует Ольга!» Был открыт специальный здравпункт и на острове, где добывался для завода песок. Заводской врач получил указание еженедельно бывать там.
з *
Слава о добром русском докторе, приехавшем в Са-ураштру, чтобы посвятить себя охране здоровья и счастья индийских женщин и детей, быстро распространилась по стране. Страстная в работе, непритязательная в быту, предельно простая, добрая и открытая душой в обращении с людьми, Ольга Макеева покорила индийцев. Ее не считали иностранкой и вместе с тем ни на минуту не забывали, что она — русская, представительница великого и дружественного советского народа, к которому все, с кем она встречалась, проявляли любовь и дружелюбие. В ее характере, в ее доброте, в ее отношении к простым людям, в ее методах работы они видели характер, доброту, отношение к людям и к работе, присущие советскому человеку.
На одном из собраний седой как лунь, древний старик сказал ей:
— Мы жили при англичанах и воспитывались так: то, что дает бог, это хорошо, а не дает — тоже хорошо, он лучше знает. Ты приехала к нам и научила нас тому, чтобы делать все самим. Как это замечательно, что мы имеем эксперта из Советской страны! Вот сегодня ты нам сказала очень много хороших слов на английском языке. Скажи нам все это по-русски. Мы ничего не поймем, но мы услышим, как звучит твоя родная речь.
Популярность русского доктора выросла еще боль-1пе, когда крестьяне узнали, что Ольга Макеева не “только заботится о здоровье детей и женщин, но и бесплатно лечит, оперирует больных. Свою первую 248
операцию ей пришлось делать в госпитале города Ехав -нагара, где молодой хирург Дастур попросил ее проконсультировать одну тяжелую больную. Макеева поставила диагноз. Дастур сказал: надо срочно отправлять больную в Бомбей, у нас нет хирурга, чтобы сделать столь сложную операцию.
— Я в Москве делала эти операции,— сказала Ольга Макеева.
Войдя утром в операционную, она остановилась в недоумении: двенадцать хирургов Бхавнагара — весь частнопрактикующий хирургический корпус города — пришли сюда, чтобы посмотреть, как русский доктор будет делать столь сложную операцию. Операция прошла успешно. С тех пор она оперировала регулярно. Это очень удивляло индийских врачей. Они знали Ольгу Макееву как великолепного организатора здравоохранения и не могли поверить, что она одновременно и первоклассный хирург. Индийские врачи не знали, что, занимаясь организацией здравоохранения, Ольга Макеева никогда не оставляла врачебной практики и до поездки в Индию была ведущим хирургом одной из московских клиник.
Врачей и пациентов удивляло также и другое: то, что, оперируя больных, Ольга Макеева не брала за это денег.
Пример Ольги Макеевой заставил медицинскую ассоциацию частнопрактикующих врачей города Бхавнагара даже принять такое решение: каждому из членов этой ассоциации взять на себя бесплатное медицинское обслуживание пяти-шести бедных семей.
Во всех областных центрах штата Ольга Макеева организовала бесплатные курсы усовершенствования для практикующих акушерок и врачей, где учила их принимать роды. Ее первой пациенткой, у которой она приняла роды без боли, была Дивия Бхатт, жена доктора Бхатта. Дивия Бхатт стала яростной пропагандисткой этого метода. Свою дочку она назвала в честь русского доктора Притти Оля.
Много вечеров йровеЛа Ольга Макеева с Дивией, составляя «советы матерям» — первое пособие такого рода на гуджератском языке.
Она очень подружилась не' только с Дивией Бхатт и ее мужем, но и со всей их . семьей — с отцом Ма
249
хендры Бхатта Джи Бхаттом — суровым, неразговорчивым стариком, профессором физиологии в отставке, его женой Лакшми, с братьями и сестрами Махендры.
В самый разгар работы в штате Саураштра Ольгу Макееву настигло большое горе. Ее известили, что тяжело заболел муж. Ей пришлось срочно выехать в Москву.
Горе Ольги Макеевой стало горем всей семьи Бхаттов. Вся семья Бхаттов писала ей в Москву теплые, трогательные письма со словами поддержки и любви. Особенно запомнилось ей письмо старшего брата, Упендры. Он писал, что «каждого человека периодически настигает горе и несчастье, но горе нести легче, если его разделить с близкими. Мы все несем вместе с вами горечь вашей утраты, и после этого письма вам будет лучше. Если вы найдете мужество и силу вернуться в Индию, где вы очень нужны, и продолжить дело, которое начали, мы примем вас в свою семью и будем все служить вам как самому близкому члену нашей семьи».
И Ольга Макеева вернулась в Индию, чтобы продолжить свою работу. Она приехала прямо к старикам Бхаттам. Старая Лакшми Бхатт, которая почти не говорила по-английски, крепко обняла ее, и они долго вместе плакали, обнявшись.
«Моя дикри (дочка), я буду твоя мама, вот это — твой отец»,— говорила Лакшми. Старик молчал. Потом подошел и по индийскому обычаю, тронув рукой, благословил ее...
Есть день, когда все члены семьи Бхаттов, как бы они ни были далеко, съезжаются в дом своего отца. Этот день бывает в праздник Дивали, когда двери, окна, веранды, крыши сверкают и переливаются тысячами разноцветных огней, когда дома украшаются гирляндами цветов. На каждом углу — шипение и треск тысяч хлопушек. На улицах сияют фейерверки и бенгальские огни.
В праздник Дивали — праздник огней — Ольга Макеева была удочерена Бхаттами. Выполнив принятый традицией обряд, брамин дал русскому доктору имя Аша, что значит Надежда. С тех пор Ольгу Макееву стали звать Аша-Ольга.
250
Теперь, когда бы она ни приехала в город, где жили старики Бхатты, ее ждал свой дом, своя комната. Утром, садясь в машину, чтобы ехать по деревням, как бы рано она ни поднималась, Аша-Ольга всегда находила на сиденье маленькую корзиночку, где лежали фрукты и лепешки, приготовленные заботливой матерью. Если кто-нибудь из детей посылал старикам посылку — в ней всегда лежал подарок и для Апти-Ольги. Если к празднику старый Джи дарил своим дочкам новые сари — новое сари получала и Апти-Ольга.
Аша-Ольга приобрела второй дом — и этим домом стала для нее вся Индия. Когда она уезжала домой, Махендра Бхатт сказал: «Ваша помощница Кетрин Уолш приехала в нашу страну иностранкой и уезжает иностранкой, а для вас наша страна стала домом». Перед ее отъездом три брамина отслужили молебен в храме в честь Ольги Макеевой. Они сказали: «Ты не веришь в нашего бога, но мы хотим помолиться о твоем здоровье в знак благодарности за то, что ты сделала для наших женщин».
4
Итоги работы по осуществлению проекта охраны материнства и младенчества в Саураштре подводились на большой конференции в Раджкоте. К тому времени, в связи с укрупнением штатов, Саураштра вошла на правах области в штат Бомбей. Конференция в Раджкоте была первой конференцией по охране материнства и младенчества в этом штате.
На стене зала, где проходило собрание, висели две карты. На одной из них горело несколько лампочек — это была карта Саураштры, которая показывала медицинские учреждения на территории штата до осуществления проекта. Когда засветилась разноцветными огнями вторая карта — карта Саураштры после осуществления проекта,— зал ахнул.
Ольга Макеева делала основной доклад на конференции. Около ста двадцати медпунктов по охране материнства и младенчества было открыто в Саураштре на протяжении двух лет. Восемьсот коек для рожениц и сто коек для детей получили жители Саураштры за
251
это время. Третьей части женщин и детей была оказана квалифицированная медицинская помощь. Это не могло не дать свои плоды: смертность при родах за это время уменьшилась в Саураштре в четыре раза, смертность новорожденных — в два раза. Зал разразился аплодисментами в ответ на эти слова.
Главный министр штата и министр здравоохранения выразили глубокую благодарность русскому доктору.
— Доктор Макеева — ученый с большим сердцем,— сказал на конференции председатель муниципального совета одного из городов.— Она посвятила себя счастью наших матерей и детей. Все, что она здесь, сделала, вызывает восхищение.
— Люди не знают, что такое Международная организация здравоохранения,— сказал директор цементного завода в Сикхе.— Они ничего не знают и о других медицинских организациях. Но они очень хорошо знают русского доктора Ольгу Макееву. Сейчас доктор Макеева покидает нас и уезжает на родину. Она посеяла семена счастья в наших сердцах. Мне бы хотелось, чтобы Аша-Ольга, как ее называет народ, снова приехала в нашу страну и посмотрела на плоды своей работы.
В Женеве, в штаб-квартире Международной организации здравоохранения, с большим вниманием слушали доклад Ольги Макеевой. В заключение один из руководителей этой организации спросил ее:
— Каково ваше мнение об индийском народе?
— Народ энтузиастов, строителей, созидателей,— ответила Ольга Макеева.
.. .Мы в гостях у доктора медицинских наук профессора Ольги Викторовны Макеевой. Великолепный собеседник, человек острого ума, она в. сочных красках, с юмором живописует свою недавнюю поездку в Соединенные Штаты Америки в составе делегации деятелей советского здравоохранения, рассказывает о своей новой работе на посту директора научно-исследовательского института акушерства и гинекологии Министерства .здравоохранения РСФСР.
Но о чем бы ни говорила Ольга Викторовна, мысли ее снова и снова возвращаются к Индии, к дням, про
252
веденным ею в этой далекой и такой близкой для нее стране. Комната, где идет беседа, дышит Индией. На стене — огромная шкура тигра, подаренная ей индийскими друзьями, яркие картины, расписанные индийскими мастерами. На письменном столе, на тумбочке— различные сувениры и амулеты, подарки и знаки памяти индийских друзей.
Она показывает альбомы, где вперемежку с видами на «Гирнер-Темпл» — чудесное архитектурное сооружение, группа храмов, раскинувшихся на семи горах,— скромные любительские фотографии о жизни и труде Ольги Викторовны Макеевой в области Саураштра. И на каждой фотографии она окружена дружески улыбающимися людьми — простыми людьми Индии. Мы разворачиваем индийские газеты с фотографиями Ольги Макеевой и с прочувствованными словами благодарности, посвященными ей. «Русский доктор Ольга учит Индию гигиене под музыку»,— так писал один французский журналист, побывавший в Саураштре, в парижской газете «Франс суар».
Но самое большое богатство Ольги Макеевой — это письма, которые она получает из Индии, письма от друзей, от членов ее новой семьи. И хотя время и расстояние разделили Ашу-Ольгу и ее индийских родных, эти письма, нежные, дружественные, внимательные, говорят, что она по-прежнему дорога и очень нужна им.
Письма идут не только из Индии, но и из Афганистана. Дело в том, что доктор Махендра Бхатт, проработав два года вместе с Ольгой Макеевой, передает теперь приобретенный им опыт организации здравоохранения своим афганским коллегам. Он—эксперт Организации Объединенных Наций по охране здоровья женщин и детей в одной из областей Афганистана. И как благодарен доктор Бхатт судьбе за то, что имеет такого мудрого советчика, как Аша-Ольга, его названая сестра!
Аша-Ольга, что значит Надежда-Ольга,— под таким именем живет в сердцах индийцев чудесный русский доктор Ольга Викторовна Макеева, доктор из Москвы.
1960
U р и -ни
/1 Е 8 Ч t Я к О
ФР u
К 71-
ЭТО F/l U$ КО
ЦВЕТ ПОМЫСЛОВ СЕГ&ЦА
ние годы терах.
а окном самолета неправдоподобно огромная желтая луна. При щедром свете ее, хотя до земли добрых четыре тысячи метров, отчетливо видны и океан, и застывший белый рюш прибоя, и земля — желтая, как и сама луна. Летим над Сахарой, по самой кромке Атлантического океана. Пески внизу похожи на ставший таким знакомым за послед-рельеф луны —в складках, рытвинах, кра-
Смотрю час, другой и не могу насмотреться на этот замерший очарованный желтый мир под крылом самолета. Сахара и океан. Каждый невольно вызывает чувство благоговейного почтения — могучая водная стихия и не менее грозные и необъятные пески. Но в наше время мир устроен так, что нельзя, абстрагируясь от событий его, просто вот так сидеть в ночном самолете и любоваться природой. Нельзя. Потому что где-то в этой вот самой Сахаре совсем недавно вздыби-
254
лись в небо желтые пески. Термоядерная бомба, безумный взрыв. Буря, смерч. Он пока не погубил никого, разве только извечных жителей пустынь — огромных чешуйчатых ящериц. Но в нем отзвук массовой смерти людей,— не от стихии, от руки человеконенавистников. Падают желтые песчинки, каждая — смерть. Миллионы смертей. Желтый дождь гибели, уничтожения. ..
Африка. Мало тебе крови, пролитой за сотни лет рабства, колониального гнета. Тебя превращают в полигон для испытания оружия массового уничтожения людей, и белых и черных. Сыны твои сегодня говорят НЕТ колониализму, НЕТ атомной бомбе, твердое ДА миру, светлому завтра, дружбе народов Севера, Запада, Востока и Юга.
И опять вспоминается Вена, Всемирный фестиваль молодежи. Мне пока не довелось много ездить, и в Вене для меня была самая моя главная встреча со всем миром сразу. И об этой встрече нельзя забыть.
Как можно забыть горячую речь молодого африканца на одной из пресс-конференций в Пратере, в Вене. «Мы боремся за свободу и независимость,— говорил он,— нам нужна помощь других народов. Если ее не будет — в Африке может создаться положение, когда будут ненавидеть всякого человека белой кожи. Мы не хотим этого. Мы знаем, кто друг, кто враг. Мы умеем отличить врага от друга. Мы знаем, есть белые и белые. Дело не в цвете кожи, дело в цвете помыслов сердца!»
Цвет помыслов сердца! Те, кто силой атомного взрыва вздымает в синее небо Африки желтые пески Сахары, кто наделяет смертельной радиоактивностью -каждую песчинку,— это люди с черным сердцем, с черными помыслами. Это их предки ради легкой наживы, ради богатств африканского континента, за золото, алмазы, слоновую кость, за рынки сбыта дешевых товаров по дорогой цене уничтожали миллионы людей, истинных хозяев богатств своей родины.
Поработив народы Африки, колонизаторы изо всех сил старались держать их в темноте и невежестве и оклеветали их, представив перед всем миром людей
255
с черной кожей как низшую расу. Шестьдесят лет колониального владычества в Гвинее — это только один из этапов порабощения. Все началось гораздо раньше, когда на берегах Африки «высшая раса», белокожие купцы хватали черных рабов и набивали живым товаром трюмы каравелл и бригантин. Культурное развитие африканских народов искусственно задерживалось— с твердым, далеко идущим злым умыслом.
Африканцы добрые и приветливые люди, они дорого поплатились за свою доверчивость и чистоту своей души. И пусть не удивляются теперь колонизаторы, столкнувшись лицом к лицу с разгневанной Африкой. Это святой и справедливый гнев. Одна за другой освобождаются от иноземного «покровительства» страны Африки. Полтора года назад подняла свой красно-желто-зеленый флаг независимости Республика Гвинея. И вот мы в гостях у свободного народа. Завоевав независимость, гвинейцы особенно ярко проявляют все свои высокие и благородные душевные качества. Сколько искреннего гостеприимства, тепла и ласки ощущают те, кто прямодушно, с открытым сердцем приходит на помощь молодой республике или даже просто в гости.
«Нам нужна помощь других народов»,— слышится мне страстный голос молодого африканца. В борьбе своей за свободу народы Африки имеют эту помощь. Я знаю, я верю, что и африканцы знают и верят — светлых сердец в мире неизмеримо больше, чем темных.
Простые люди Гвинеи на практике жизни, новой своей жизни познают истинных друзей. Мы приехали в город Маму. Большой город для этих мест — шесть тысяч жителей. И все они вышли в праздничных одеждах с песнями и танцами, с развернутыми национальными знаменами встречать нас, советских людей. Мы даже не официальная делегация, просто туристы. Но город все равно вышел встречать. У нас лучшие в мире верительные грамоты — паспорта граждан Советского Союза. Привокзальная площадь заполнена народом. Пестрые платья женщин словно соревнуются по яркости и сочности красок с роскошными африканскими цветами на деревьях. На высоченной пальме алый со
256
ветский флаг. Спрашиваем коменданта (так называется в Гвинее глава управления города), первые ли мы в Маму советские люди.
— Нет. Советский флаг развевается в Маму второй раз. Недавно к нам приезжали специалисты из СССР по поводу строительства консервного завода. Будут помогать нам строить свою промышленность. Хорошие люди, ученые, знающие.
Мы проходим вдоль плотных шеренг: добрые лица, приветливые глаза — черные блестящие зрачки и ослепительно белые белки,— светлые улыбки. Пожимаем тысячи рук. Гвинейцы протягивают руку для рукопожатия неловко, неумело, лодочкой, с любопытством и веселым удивлением. Раньше-то никто не протягивал руку африканцу, никакой белый не говорил африканцу «вы». Разве только англичане, да и то в силу грамматических особенностей языка. Об англичанах говорят, что они даже кошку называют на «вы», нет «ты» в лексиконе.
Старая женщина подвела ко мне шести-семилет-него мальчика. Приходится прибегать к сложному переводу. Женщина говорит на языке сусу, молодой африканец, как оказалось учитель местной школы, переводит с сусу на французский, и только тогда я получаю возможность пользоваться услугами переводчика.
— Пожмите руку моего внука,— говорила старая африканка.— Он будет расти и жить в свободной стране. Пусть привыкает к дружбе рук.
Дружба рук, рабочих рук! Африка уже узнала, что это такое. В столице Гвинейской Республики, в Конакри, среди старых хижин с конусообразными крышами из потемневшей травы, неподалеку от «европейского» района города, стоит в лесах будущее здание национальной типографии. Мы видели на этом строительстве и африканцев и белых, русоголовых. Гвинейцы строят типографию с помощью немцев из ГДР.
В те дни, когда мы были в Гвинее, всякий, кто въезжал в город, с удивлением видел среди пальм, почтительно склонившихся к океану, чехословацкий национальный флаг. Это промышленная выставка Чехословакии. Днем территория выставки заполняется
17 На разных меридианах
257
шумливыми любознательными экскурсантами. Это школьники. По вечерам на выставку приходят более степенные посетители — взрослые. Мужчины особенно интересуются сельскохозяйственными машинами. Женщины— кухонной утварью и, конечно, нарядами. Но не только на выставке можно увидеть в Гвинее продукцию с маркой Чехословакии. Рядом со старенькими французскими «пежо» блестят лаком новенькие «татры». Неплохо прижились под пальмами и наши юркие «москвичи». На прилавках магазинов яркие ткани, привычные для африканского глаза, способные удовлетворить вкус любой белозубой, быстроглазой модницы. Они тоже из Чехословакии. И стоят недорого.
Мы заходим в здание суда. Гвинейцы решили: суд свободной страны должен стать товарищем, помощником и другом в деле воспитания людей. Идет судебное заседание.
Черные лица судей сливаются с черными мантиями. Неожиданно замечаем на адвокатском месте в такой же черной мантии белокурую голубоглазую женщину. Конечно же мы подошли к ней, едва она освободилась.
Голубоглазого адвоката зовут Бланш, она француженка. В годы оккупации Франции Бланш мужественно боролась с фашистами в рядах Сопротивления. На ее черной мантии блестит боевой орден борца. После провозглашения Гвинейской Республики Бланш приехала в далекую африканскую страну, чтобы отдать свои знания юриста, горение своего сердца на защиту прав свободного человека. Бланш строга и беспощадна к ворам, к нарушителям общественной морали. Вместе со своими африканскими коллегами она борется за очищение новой Гвинеи от пережитков прошлого. В Гвинее уважают белокурого адвоката. Это друг — у нее чистое сердце, светлые помыслы.
Мы встречали и других французов-энтузиастов, оставшихся добровольно в республике, и таких, как Бланш, приехавших совсем недавно. Это педагоги в колледжах и лицеях. Глотая хинин,— тропическая малярия беспощадна — эти люди самоотверженно работают в самых отдаленных уголках Гвинеи.
В городе Канкане, там, где кончается саванна и на
258
чинаю'Гся непроходимые тропические леса, живут и здравствуют два венгерских спортсмена: футболист и баскетболист. Скучать по родному Будапешту некогда. Разве только что по его роскошному стадиону. Оба юноши организовали и тренируют сразу по две гвинейские команды — футбольные и баскетбольные. А мечта о настоящем стадионе скоро сбудется: с помощью Советского Союза в Гвинее будет построен большой, отвечающий всем современным требованиям стадион. Строительство стадиона предусмотрено в соглашении между СССР и Гвинеей. В том же соглашении говорится о помощи гвинейцам в организации рисового госхоза на площади в семь тысяч гектаров. В Канкане* уже работает группа советских специалистов-рисоводов. Товарищи из этой группы рассказали нам: «Приехали мы, жара, парко. День такой выдался — особенно тяжелый. Как в пекло попали. До Канкана добрались совсем вареные. Приехали — к коменданту. Гвинейцы, как узнали, что мы русские, советские, так заулыбались радушно, что с нас половину усталости как рукой сняло. Обращаются с нами тепло, даже нежно. За месяц жизни и контактов мы ни разу не ощутили даже слабого холодка. У гвинейского народа большой энтузиазм. С африканцами приятно работать. Все, как один, патриоты и готовы к труду и умеют работать. Ну, а мы тоже не из ленивых — старые работяги. Мы еще покажем гвинейцам не только как хорошенько да умело разводить рис, но и что из него можно приготовить. Можете поверить. Среди нас есть серьезнейшие специалисты по плову».
Нет, никогда в Африке не будет такого положения, чтобы возникла ненависть ко всем белокожим. Ты прав, мой незнакомый африканский друг: дело не в цвете кожи, дело в цвете помыслов сердца. И гвинейцы отлично разбираются в этих оттенках: темного и светлого. Разве не об этом сказал Синкон Каба, комендант города Лабе, на многотысячном митинге в честь приезда советских туристов: «Мы — свободная и независимая страна. Мы дружим со всеми, кто за мир. Мы приветствуем Советский Союз. Передовая страна Африки приветствует передовую страну всего мира!»
17*
259
Африку -НЕ ПЛИ-ЧЕТ, й Ф Р И & Of ЕТС Я
Мы в Гвинейской Республике. Африка. Настоящая Африка. Удивительная страна.
Сколько пройдено по твоим дорогам вместе с героями разных книг. Кто из нас не мечтал с детства о путешествиях, и особенно в далекую, таинственную Африку! Теперь — вот она, ее можно пощупать, рассмотреть. Впрочем, рассмотреть не так уж просто. Попробуй разгляди баобаб. В Конакри есть несколько восьми-десятиэтажных домов — баобаб склоняется над их крышами. Деревья эти так высоки, что для их поддержки природа выработала особые приспособления в виде корней-подпорок, сросшихся с толстым стволом,— этих корней-подпорок несколько, и рядом с ними легковой автомобиль кажется беспомощной букашкой. Не менее величественна сейба. На мой непросвещенный взгляд (да простят мне специалисты), сейба — это тот же баобаб, только баобаб в марте стоит без листвы, а у сейбы пышная зеленая крона. Тенистая зелень сейбы привлекает к себе соловьев. Да, да, наших родных соловушек. Каких мы наслушались роскошных концертов в исполнении сводного хора курских соловьев! Еще бы не петь хором — одна сейба по соловьиной жилплощади, пожалуй, равняется курской роще.
А вот аллея манговых деревьев. Следует оговориться: деревьями здесь называется все то, что имеет могучий, не в обхват, а в обход, ствол, высоту в тридцать—сорок метров и окружность кроны, исчисляемую десятками метров. Те, что с голым стволом и коронкой листвы в вышине,— пальмы. Пяти-десятиметровые деревья, по-африкански,— цветы. К чему отнести бананы в два человеческих роста с пудовыми гроздьями плодов, я и не знаю,— не кустарник же.
Из путаницы темно-зеленых листьев манго, жестких, длинных и острых, на тонких нитях свисают 260
крупные, с добрый кулак, плоды. Как игрушки на елке. Манго очень вкусные. Сравнить с чем-нибудь знакомым трудно. Просто вкусные. На высоких пальмах, не сочинских или сухумских декоративных,— настоящих, живущих здесь у себя дома, гнездятся кокосы. Смотришь снизу вверх, и чудится, будто это гнездовище наших простых орешков. Только берегись: упадет такой орешек на голову — несдобровать.
Дынная пальма похожа на шею жирафа. Длинная, тонкая, чешуйчато-пятнистая, с маленькой головкой в два-три листа, и под ними длинные, зеленовато-желтые висюльки — пальмовые дыни.
Богата, роскошна природа Африки, обо всем не расскажешь, всего не опишешь, да и не все понятно — о многом никогда и не слышали в жизни. О непонятном спрашиваем наших товарищей по группе, очень милых и очень ученых женщин-географов. Наши ученые географы, едва ступив на африканскую землю, превратились в восторженных и юных девчонок. Собирают листики, засушивают цветы, даже просверлили дырку в корне какого-то необыкновенного каучуконоса. Еще бы — настоящее хлебное дерево — их хлеб: всю жизнь читают лекции по Африке. Мы искренне завидуем студентам, ожидающим в Москве возвращения своих педагогов. Вот будут увлекательные лекции!
«А вы изучайте географию и ботанику наглядным способом»,—отмахиваются от наших вопросов ученые географы. Мы и изучаем. Вот фикус. Тот самый, что стоит у бабушек в комнатах. Только чуть-чуть побольше— раз в сто. В общем, дерево, то есть, как я уже говорила, метров в тридцать. И на нем огромные оранжевые, как апельсины, плоды, съедобные и вкусные. Все, не сговариваясь, берем с собой по одному — надо привезти домой, иначе никто не поверит: бабушкин пыльный фикус — и так вкусно. Дерево какао. Черные смородинные бусины под широким листком — кофе. А вот и лианы. «Ничего подобного,— говорят географы,— это гвинейский перец». Красно-бурые кисточки-гроздья как сморщенная красная смородина. Что ж — перец так перец. Значит, так надо.
И цветы. Удивительные африканские цветы: жгуче-алые, ярко-фиолетовые, нежно-розовые, желтые, опять
261
лиловые и всех оттенков красного. И все на деревьях, ну таких, как у нас в России липы.
В нашей группе есть художник. Он не расстается с этюдником. Но первые шаги, вернее, штрихи его в Африке несколько неуверенны: слишком все ярко, определенно, никаких привычных полутонов. Наконец он махнул на все рукой и кинулся, как в омут, в мир сочных, живых красок. Мы могли сравнивать его этюды с натурой — здорово получилось.
«Изучайте географию и ботанику наглядным способом»,— твердят нам наши географы. Изучаем. Едем в глубь страны. Пальмы, пальмы, огромные рощи, леса из пальм. Роскошные акации, родные сестры наших, усыпаны желтыми, лиловыми кистями цветов в двадцать—тридцать сантиметров каждая. Какие вы маленькие, северные сестры!
Дорогу перебегает стадо обезьян. Сказать по правде, обезьяны — это единственные представители фауны Африки, которых нам удалось видеть. Некоторые из наших товарищей уверяют, что видели крокодила. Лежит, дескать, в реке, как бревно. Не знаю, не видела, может, не разглядела, а может, это и правда было бревно...
Красная земля, красная пыль. Высокая, в ней легко скроется человек, желтая, похожая на трости, трава. Из нее делаются крыши хижин. Ее же безжалостно сжигают. Ночью особенно хорошо видно разгорающееся пламя пожаров — горит саванна. Там борются со змеями — выжигают огнем. Трава горит быстро, огонь не успевает охватить попадающиеся на пути пожара деревья. И еще пепел удобряет почву. Скоро, через месяц-полтора, начнется период дождей, а после—пора нового цветения, тогда и пригодится удобрение. Бананы, бананы, бананы. Куда ни кинь взгляд — широкие зеленые полотнища банановых листьев и среди них тяжелые многоярусные гроздья. И вдруг — столбик, простая дощечка, как указка на военных дорогах, и на ней: «Плантация. Принадлежит такому-то».
Стоп. Тут кончается физическая география. Это уже не флора и не фауна. И красная земля, красная пыль на бананах вызывают содрогание. «Плантация принадлежит такому-то»... Я нарочно не называю имени.
262
Одна частная фамилия плантатора ничего не дает — есть более общее и страшное имя — колониализм.
Красная пыль на зеленых листьях — уж не кровь ли тех, кто за гроши под палящим солнцем обрабатывали плантацию «такому-то»?
В памяти встают картины одна страшнее другой и мрачнее: грозный плантатор в пробковом шлеме с бичом в руке. Скорбная вереница людей — ссутуленные, черные, лоснящиеся от пота спины. На одну из них опускается бич, набрякший рубец, кровь...
Я спорю с навязчивой памятью. Не надо, не надо. Это все из книг. Старых книг, когда-то так было. Очень давно. Теперь нет ничего подобного. Плантация есть, есть и плантаторы. Пока еще есть. Но плантатор платит налог государству, а государство — республика свободных гвинейцев. Люди работают на плантациях, они рабочие, но не рабы. И нет больше согбенных черных спин. Впрочем, не верится, что они когда-нибудь были вообще. Более величественной, плавной и гордой походки, чем у гвинейцев, мне не приходилось видеть.
Может быть, твердое и окончательное НЕТ, сказанное гвинейцами полтора года назад колониализму, выпрямило спины, сделало такой гордой, независимой, почти царственной походку и женщины в ярком желто-красном платье с ребенком, привязанным платком из такой же ткани за спиной, и босоногого мальчишки, бегущего в школу с портфелем на голове,, и даже рыночного продавца под черным зонтом. Зонт не для него. Он не боится солнца. Но на голове он несет огромный из выдолбленной тыквы жбан с простоквашей...
Нынешних плантаторов мы тоже повидали. В маленьком отеле, на перекрестке дорог, ведущих в небольшой горный городок. Был воскресный вечер. Европейцы съехались на отдых. Короткие трусы, белые анемичные рыжеволосатые ноги — какие-то немощные и пришибленные рядом с гордыми, стройными, полными силы африканцами. До часа ночи из ресторана раздавались звуки рок-н-ролла. Тощих девиц с осиной талией, тонкими стрекозьими ногами и остро выступающими ключицами цивилизованный танец рок-н-ролл бросал из стороны в сторону, трепал до изнеможения, ставил на голову. Уже поздно ночью одного из «отдыхающих», изрядно упившегося, отливали на
263
обеденном столе водой со льдом. Кусочки льда шлепали по щекам, размякшим, расшлепанным губам. Тут же рядом, в походной соломенной люльке, зашелся в отчаянном плаче ребенок. Это был первый и единственный случай, когда мы услыхали детский плач.
Африканские дети удивительно спокойны. До тех пор, пока ребенок не станет твердо на ножки, мать носит его за спиной. И не перестаешь восхищаться прелестными большеглазыми мордашками, очень осмысленно смотрящими из-за спин матерей на мир, совсем крохотных ребятишек. Потом малыш подрастает, бегает, по-ребячьи серьезно копается в земле, занимается своими важными ребячьими делами. И никаких слез или капризных воплей. Во взгляде спокойных, изучающих, по-взрослому серьезных детских глаз — не присущая неграм (как пишут некоторые западные авторы) привычная терпимость к нужде, притеснению, горю. О нет, в них то, чего эти авторы не допускали,— огромная внутренняя сила народа.
Африка не плачет, Африка борется. Африка строит новую жизнь. Мы видели другие плантации. К ним не вели указки: «Принадлежит такому-то». Эти плантации принадлежат народу. За полтора года существования республики посажено 30 700 деревьев, создано 67 коллективных плантаций. Все это принадлежит народу Гвинеи, новой Гвинеи, Республики Гвинеи.
Еще много трудностей предстоит преодолеть тем, кто строит новую, свободную жизнь на красной африканской земле под сенью роскошных баобабов, пальм и необыкновенных фикусов с сочными, вкусными плодами.
МЫС/EU
U ПРИВЫЧЕК^
Все удивительно в Гвинейской Республике. Все, что видишь,— все впервые. Но, встретившись с жизнью народов этой далекой страны, наблюдая становление новой жизни, невольно замечаешь черты схожести 264
с тем, что душевно, сердцем, и рассудком понятнее тебе, советскому человеку. Должно быть, борьба народов за свою свободу и независимость, строительство новой жизни при всех сугубо специфических (исторических, этнографических, географических — каких хотите!) особенностях не может не иметь схожих черт.
Строить, строить, поскорее строить. Своими руками для себя, на благо своей родины! Гвинейцы строят. В республике очень развито так называемое народное строительство. Необходимые и наиболее дефицитные материалы дает правительство. Кирпичи делаются на местах, вручную, благо песок, гравий и глина есть повсюду. Само же строительство ведется как бы на субботниках. Только если применять это знакомое нам понятие, то обязательно надо помнить, что в Гвинее суббот у добровольных строителей — семь в неделю. Впрочем, дело не в названии. Главное в том, что строится все руками мужчин, женщин, стариков и детей с большим энтузиазмом и безвозмездно, бесплатно. Гвинейцы называют это «человеческим капиталовложением».
Мадам Соба—председатель женского комитета района Кисидугу. С ней познакомила меня Андрэ Секу-Туре — жена президента республики. Она же, прелестная и образованная молодая женщина, служила нам переводчиком: мадам Соба говорит только на языке своего племени. Так вот, мадам Соба рассказала об огромном подъеме «неуклонного и свободного духа» женщин Гвинеи. Все женщины Гвинеи объединены в комитеты. Женские комитеты есть в селах, в каждом районе города, общегородские и общеокружные. Женский комитет — один из органов самоуправления, и очень важный в культурном отношении.
Женщины поднялись на борьбу за чистоту жизни, за светлое завтра своих детей.
«Женщины Гвинеи,— сказала мадам Соба,— женские организации у нас становятся ведущей силой в борьбе за новый быт, за образование, за организацию лечения больных и главное — о чем никогда и не мечталось— за профилактику болезней».
Во все вникают женские комитеты. Уже взят под контроль общественности размер выкупа за невесту.
265
Но какой бы богатый выкуп ни давал жених, свадьба теперь может состояться только при согласии невесты. А молодые девушки уже не хотят выходить замуж, чтоб стать третьей, седьмой женой. Женские комитеты восстали против многоженства. «Правда, мужчины обижаются,— улыбнулась мадам Соба,— но мы им говорим: когда у тебя много жен, ты делишь свое сердце на несколько частей, и от этого всем недостает его тепла. Мы, женщины, отдаем мужу свое сердце целиком, весь его жар и хотим получать такое же полноценное сердце».
И еще мужчины обижены на женские организации за то, что те поставили вопрос о перераспределении труда. Раньше всю самую тяжелую работу делали женщины, мужчины — ту, что полегче.
— Вы знаете,— смеялась мадам Соба,— у нас просто государственная проблема — борьба с мужской ленью.
Каждый четверг в Гвинее женский день. В этот день заседают женские комитеты, обсуждают сделанное, составляют план на будущую неделю. И горе тому мужчине, который в течение прошлой недели погрешил против равноправия женщин. Его вызывают на комитет.
— Вы не думайте, мы не стремимся намеренно обижать наших мужчин,— вдруг испугавшись, что ее неправильно поймут, поспешно проговорила мадам Соба.— Так уж у нас получилось, что женщины в культуре быта, да и вообще во многом стали у нас ведущей силой. Видите ли, женщины при колониализме были в двойном рабстве. Теперь освободились от обоих разом— от колониализма и от мужского угнетения. Но мы стараемся направлять наших мужчин и на безвозмездное строительство, и на получение образования, и на привычку к тяжелой работе,— так, чтобы они думали— это они, мужчины, все так хорошо придумывают. Пусть подчиняются, не зная об этом.
— Ну, в этом отношении мы как будто достигли того же равноправия мужчин и женщин, что и в Европе,— шуткой закончила нашу беседу Андрэ Секу-Туре.
Есть в молодой свободной африканской республике замечательный лозунг: «Деколонизация мыслей и при-266
вычек». В это понятие входят и демократизация управления: комитеты крестьянские, женские, молодежные в каждом селе, городе и районе; и борьба с хищением и воровством: воров публично секут на площади; и улучшение быта: надо жить красивее, лучше, надо быть образованным; и конечно же коллективный труд свободных людей, жизнь и труд единой семьей: возделываются коллективные поля, пока еще не в каждой деревне, но их уже более двух тысяч. Правительство предоставляет значительные кредиты, которыми распоряжается «Общество взаимопомощи для развития сельского хозяйства». Это же общество занимается справедливым распределением продуктов в голодное время дождливого периода.
Встречи, вопросы, ответы, длинные — за полночь — и короткие — на ходу — разговоры. Но даже самые коротенькие встречи полны глубокого обоюдного познавательного значения.
— Скажите, что сфотографировали на той, другой стороне Луны? Зачем это нужно? А как себя чувствует спутник? Что такое колхоз? Что такое снег?
Мы едва успеваем выбраться из кучи вопросов, как снова наваливается гора их: а дома у вас большие? А дети все учатся в школе? А бананы у вас растут? И даже: что кушают в России?
Здесь, в Лабе, в небольшом городке в глубинах Африки, мы — первые советские люди. Нас встречают как самых желанных гостей, как самых больших друзей. И все — взрослые, дети — хотят поскорее узнать как можно больше о нашей родине — великой стране свободного народа.
Я в плену у школьников. Плотное кольцо белых полотняных костюмов — френчи и длинные брюки,— черных любопытных мордашек, черных блестящих глаз — в каждой паре сотня вопросов.
Я уже приготовилась рассказывать о спутниках, о Луне, как вдруг, словно на уроке, поднял руку коренастый мальчуган лет десяти:
— А скажите, в Советском Союзе в школах есть уроки по оказанию первой помощи?
Чем-то очень теплым и милым — ветерком воспоминаний детства повеяло от этого неожиданного вопроса черноглазого мальчугана из африканских саванн.
267
Далекие школьные годы. Кружки ГСО, сандружина... Помнится, еще ученицей седьмого класса вела я кружок в четвертом. Был у меня один очень непокорный кружковец — вот такой же, как этот африканец, только разве что беленький и розовощекий. Кстати, теперь он врач, и весьма уважаемый, а тогда, в свои десять лет, только и твердил: ваша санитария — девчачья игра...
Я погладила жесткие завитушки на голове маленького африканца и, как когда-то тому — белокурому из моей юности, стала объяснять гвинейскому мальчишке, что знать основы первой помощи хорошо и девчонкам и мальчишкам. Что в школах уроков у нас специальных нет, но дети, все, кто хотят, учатся в кружках.
— А все хотят? — перебил меня мальчишка.
— Ну, не все, конечно, но многие...— я замешкалась, отыскивая подходящее оправдание для тех, кто не хочет, но мальчишка не стал дожидаться.
— Это неправильно, что кто как хочет. Должны учиться все. Как у нас — на уроках, обязательно.
Мальчик говорил убежденно, взволнованно:
— Может, не знаю;.. Может, в большом городе не так нужно. У вас разве одни города? В деревне никак нельзя без медицинских знаний. А змеи, а колючки, а солнце? Как можно быть необразованным? Как так— кто как хочет? Все должны быть культурными и помогать друг другу. Это нужно для всего народа — учиться.
Не берусь судить, надо ли вводить в советских школах обязательно уроки медико-санитарных знаний. Как знать, может быть, и следовало бы...
Разговор с гвинейским школьником очень характерен для того большого и нового, что происходит в жизни молодой африканской страны, всего полтора года назад сбросившей иго колониализма.
Как жили веками? Строили хижины: глинобитное кольцо — стена высотой метра в полтора, не больше, сверху опрокинутый конус из прутьев, покрытых травой. Вот и все строительство. Дом готов. В таком доме тесно, душно. Он, собственно, служил укрытием для семьи в периоды дождей. В сухое время вся жизнь семьи на улице. Тут подле хижины — очаг для приго-
268
тойления пищи. В огромных, долбленных из цельного куска дерева ступах толкут рис, маис, сушеные бананы. Это очень тяжелая работа. Тут же происходит постоянная, повседневная стирка. Белье не трут, его безжалостно избивают о камень и сушат, разложив на земле. В Гвинее большой процент влажности. На веревке белье долго сохнет и преет. На земле быстро — горячая. Подле хижины несколько кокосовых пальм, бананы да дынное дерево, похожее на шею жирафа — длинная пятнистая шея и маленькая головка: листва и плоды,— все это, так сказать, приусадебный участок. И непременно чуть поодаль у каждого хозяина есть тростниковый загончик — мусорная яма и уборная. Это все вранье — про африканскую грязь. Колонизаторы нарочно старались держать африканские народы в трудных условиях быта и, наверное, не случайно клеветали на добрых людей — дескать, дикие, грязные. Все неправда. Нищета здесь была ужасная. Но грязь? Это неверно. Стирка белья, личная гигиена возведены у гвинейцев чуть ли не в ранг культа. И все-таки процент заболеваемости страшными, тяжелыми болезнями очень велик. Это — наследие колониального режима, большой скученности, отсутствия необходимой медицинской помощи. Народ, сказав свое твердое НЕТ колониализму, сбросив цепи рабства, решил: надо жить лучше, красивее, культурнее.
Народ хочет быть свободным и от болезней и от душных хижин. В Гвинее, даже в самых глубинных районах страны, мы видели строительство новых домов. Если это и хижины, то при внешней схожести — та же кольцевая стена и тростниковый конус-крыша — это принципиально новые хижины. Они и выше и просторнее. В них появились окна. В хижинах стоят кровати, в одной мы видели даже красивый трельяж. Эти хижины напоминают чистенькие украинские мазанки.
Но новые хижины — это еще не главное. Главное — комфортабельные дома из двух-трех комнат с кухней и душем. «Мы учимся жить в домах,— сказала мне председательница женского комитета рыбацкой деревни.— Так правильнее и чище».
«Это нужно для всего народа,— запомнились мне слова десятилетнего гвинейского школьника.—Нельзя быть необразованным».
269
«В первую очередь мы стали строить Школы. Свободный народ должен быть образованным. Тогда у него прибавятся новые силы. Они будут как крылья и поднимут наш народ высоко к счастью»,— сказал нам Фо-фона Альколи, старый каменщик из города Лабе. Мы разговаривали с ним непосредственно на строительной площадке, где подводится под крышу будущая столовая колледжа. Из открытого окна классного здания доносился звонкий детский голос, воспитанник колледжа отвечал урок. Колледж — это среднее учебное заведение. Это, так сказать, школа продленного дня, здесь дети учатся, делают уроки, питаются,— только спят дома. Завоевавший независимость народ молодой республики устремился к знанию и свету. И забота об образовании подрастающего поколения сейчас одна из главных задач Гвинейской Республики. Строятся школы, открываются колледжи и лицеи. Пока что обучением в школах охвачено пятнадцать процентов детей. Это очень мало и очень много, если вспомнить, что приходилось начинать почти с нуля.
Мы побывали и в лицее. Тут же на окраине Лабе. Поистине этот город глубинного района Гвинеи становится серьезным культурным центром республики.
Лицей занимает огромную площадь. Тут и удобные классные помещения — у каждой группы свой класс. И просторные и прохладные, сияющие чистотой дортуары. И столовая, где у каждого ученика свое место за столиком со светлым гигиеническим покрытием. Классы, спальное помещение, столовая образуют квадрат, в центре которого баскетбольная, волейбольная площадки, турник, кольца. Молодая смена должна быть здоровой, сильной, образованной. Даже не верится, что все это построено всего только за год, что здесь, на недавнем пустыре, в благоустроенных, сытых условиях, на средства государства живут и учатся дети тех, кто очень хорошо знает, что такое колониализм, рабство, унижение человека.
Окончание колледжа дает право преподавания в младших классах, окончание лицея — в средней школе. Через несколько лет подрастут молодые национальные кадры педагогов. Можно будет открыть еще много школ. Интересно, что при каждом учебном заведении 270
непременно открывается медицинский пункт. Он обслуживает не только учеников, но и всю округу. Школа становится центром, к которому тянутся взрослые и дети за знанием и за врачебной помощью. Пока что республика остро нуждается в культурных кадрах. С нетерпением ждут возвращения на родину студентов, уехавших учиться в другие страны. Здесь, в Лабе, к нам подошла красивая статная женщина, член женского комитета Дюэй Соу. Она спросила: очень ли мы тяжело переносим африканскую жару? Думая, что это вопрос вежливости, и стремясь не отстать, мы наперебой стали заверять ее, что совсем даже не очень и вообще нам просто тепло. Оказывается, вопрос был задан неспроста. По тому, жарко ли нам, москвичам, в Африке, Дюэй Соу пыталась определить, не холодно ли ее сыну Полю в Москве.
Поль — студент. «Он будет инженером-строителем. Будет строить для народа,— с гордостью говорит мать.— Поль живет на Пятой Черемушкиной улице, передайте ему привет».
А нас самих овеяло ласковым приветом с родины от произнесенного красавицей негритянкой трудного для нее названия московской улицы. По приезде в Москву я тут же поехала на Пятую Черемушкинскую. Видела Поля, его товарища Маки (тоже из Лабе), передала материнский привет. Поль и Маки занимались черчением. «Чертить не трудно, русский язык трудно,— смеясь говорят студенты и тут же торопливо поправляются: — Ничего не трудно. Когда очень хочешь учиться, когда должен учиться».
Оба они еще первокурсники. Впереди годы учебы, но и Поль и Маки и еще десятки гвинейских студентов, обучающихся в наших институтах, уже сегодня мечтают о том дне, когда они вернутся на родину и привезут свои знания, так необходимые ей. Впрочем, еще в этом году, в месяцы каникул, все студенты у себя дома будут вести занятия в школе взрослых. Мало дать образование детям, надо ликвидировать неграмотность среди взрослых. Этим занимаются молодежные организации Гвинеи.
В Гвинейской Республике в области образования за один год сделано больше, чем за шестьдесят лет колониального режима. Свободный народ должен быть
271
образованным. И будет. Ему нужны крылья. Он их завоюет знанием. Это нужно для всего народа.
В Африке с самого раннего утра нестерпимая голубизна неба и солнце в зените. Словно бы стремясь поскорее выполнить свои главные обязанности — палить как можно жарче, солнце, едва показавшись, торопливо бежит кверху и застывает в самой вершине небосвода до вечера. А вечером короткие золотистые закаты и почти нет сумерек. Есть черные ночи и луна как фонарь да перевернутые не по-нашему созвездия. Кто-то из наших товарищей определил величину африканских звезд в кулак. Не берусь ни спорить, ни примеряться. Но звезды в темных глубинах африканской ночи действительно невероятно крупные, исключительно яркие. При свете звезд и луны, с небольшой подсветкой из четырех карбидных фонарей, увидели мы впервые гвинейских пионеров. Это было на широкой площади в Делабе, небольшом горном городке на высоте почти в тысячу метров над уровнем моря.
Пионеры Гвинеи — понятие далеко не тождественное нашему, хотя бы по возрасту: с семи до семнадцати лет. Но они разделяются на три группы, которые отличаются одна от другой цветом галстука. Самые маленькие — с семи до десяти лет — носят красные галстуки; дети десяти- и тринадцатилетние — носят желтые, а старшие — с четырнадцати до семнадцати — зеленые. Красный, желтый, зеленый — это цвета национального флага Гвинеи. Собственно, это три детские молодежные организации, объединяемые общим названием — пионеры.
В Делабе нас пригласили на празднества, и мы попали на ночной концерт. Пел, аккомпанируя себе на гитаре, слепой певец, танцевали страстный танец женщины в белых развевающихся одеждах. И вдруг на широкую пыльную площадь вышли дети.
Они шли в танце, подчиняясь ритму древнего тамтама. Локти оттянуты назад и в стороны, и это придает фигурам детей, особенно при мерцающем свете фонарей, устремленность вперед, почти состояние полета. Но ритм, размеренный ритм заставляет медленно двигаться по кругу, то поднимаясь на носки, то приседая. Кажется, ударь сейчас, рассыпься пионерской призывной барабанной дробью тамтам, дай только
272
сигнал — и вырвется сдерживаемая энергия юных душ и тел.
И тамтам ударил. И дети запели... И мы замерли завороженные, забыв в первую минуту, что мы в Африке, охваченные воспоминаниями своих, уже теперь далеких пионерских лет. Вспомнились пионерские костры таким же темным вечером и наши песни, которые поют сегодня советские пионеры: «Взвейтесь кострами, синие ночи, мы пионеры — дети рабочих. Близится эра светлых годов. Клич пионера: всегда будь готов!». . .
А на пыльной площади ночного африканского города, подчиняясь древнему ритму тамтама, двигались по кругу, пританцовывая, дети Гвинеи и пели:
Мы лройдем до края земли, Пионеры не отступают. Мы пойдем против ветра Бороться за свободу.
Да, да, да, пионеры впереди, Родина не погибнет.
Мы мечтали об одном — чтобы это как можно дольше не кончалось. Казалось, можно бы так стоять и слушать и день и ночь чистые голоса юной Африки. На наше счастье, концерт был большой, и каждое выступление неизменно поражало. Вот разыгрывается сценка. Мальчик жалуется матери на то, что у него болит голова. С песней в плавном ритмичном танце окружают заболевшего мальчика несколько ребят. Они говорят ему, что голова болит только у лодырей и у тех, кто одинок. Мальчик поднимается и включается в поющую группу. Он выздоровел. Его вылечил коллектив. А вот вторая сценка. Это уже не танец, это скорее пантомима, которая включает в себя и диалог. Следом за мальчиком ходит закутанная в покрывало фигура. Мальчик встречается со своими товарищами, что-то рассказывает им, и, когда в рассказе его появляется ложь, эта фигура — его совесть — больно бьет его по спине, под ребро, по затылку. Наконец мальчик перестает получать побои, он никогда больше не будет лгать. А закутанную фигуру он передает своему товарищу. Пусть тот излечится от лжи.
18 На разных меридианах
273
И опять звучат тамтамы и пионеры идут по кругу, они поют песню победы:
(Победа для нас, победа для нас. В борьбе за родину-мать •Пионеры впереди, Никогда не отстают В борьбе за родину-мать. Победа для нас, победа наша.
В городе Лабе пионеры встретили нас большим плакатом, на котором по-русски было написано: «Привет СССР. Дружба и братство».
В Лабе я познакомилась с автором уже известной, так поразившей нас в Делабе пионерской песни. Оумару пятнадцать лет, он учится в лицее и руководит пионерским ансамблем своего города. Я попросила мальчика записать песню мне на память. Оумар охотно записал песню в моем блокноте.
— А музыку?
Мальчик недоуменно пожал плечами:
— Музыку не пишут, музыку поют.
— Расскажи, пожалуйста, как ты сочинил свою песню.
Мальчик задумался.
— Не знаю,— сказал он наконец,— я не сочинял. Я просто жил и дышал, и песня пришла ко мне вместе с жизнью и вышла, как дыхание.
Музыка Гвинеи очень своеобразна и выразительна. Ее никто не записывает, потому что нотная грамота здесь никому не известна, ее передают устно народные певцы и музыканты. И очень интересно, что пионерские песни мы слышали одни и те же в различных и удаленных друг от друга районах республики. Песни, о которых я рассказала, можно, пожалуй, отнести к боевым пионерским песням, но мы слышали и другие. Чаще всего это сочетание песни, танца, пантомимы, и они неизменно связаны с трудовыми процессами. Очень интересен танец гребцов и рыболовов. Мужественный и лирический. В другом люди убирают бананы, работают в поле или разоблачают колдуна. О колдуне — это уже почти балет. Он имеет и либретто, и различные музыкальные образы: колдуна, врача, крестьян. Вот этот танец. Крестьяне работают в поле. Одного из них внезапно жалит змея. В отчая-г
274
нии его товарищи призывают колдуна. Он приходит в страшной маске, с дикими завываниями, долго и тщетно прыгает вокруг больного, размешивает в миске какое-то снадобье. Колдун требует, чтобы вместе с ним, во имя спасения товарища, кружились в танце крестьяне. Но больному только хуже, он изнемогает, он на пороге смерти. И тогда колдуна прогоняют и зовут доктора. Облик доктора спокоен, человечен и прост. Он вооружен знаниями и бутылочкой с лекарством, а не заклинаниями, и человек спасен, и все славят врача.
О колдуне — это уже не пионеры, это взрослый ансамбль, народный ансамбль Гвинейской Республики. Есть у этого музыкального коллектива еще один замечательный танец. Настоящий лирический и трагический балет в трех действиях. Коротко, как пишут в театральных либретто, а значит, не самым лучшим образом, я все-таки расскажу об этом балете.
Девушка и юноша любят друг друга. Юноша уже приготовил выкуп, он не богат, но родители невесты согласны и на малое, покоренные большой любовью. Подруги уже славят жениха и невесту, но красавица не ко времени попалась на глаза «вождю». Надо оговориться, что так называемые вожди в деревне были ставленниками колонизаторов и, пользуясь их поддержкой, проявляли жестокое своеволие. Вот такой «вождь» решил взять к себе очередную жертву — юную красавицу невесту.
Девушка в отчаянии, плачет, грозится убить себя. Тогда «вождь» задумывает погубить ее жениха. Он подбрасывает в хижину юноши пистолет и сообщает колониальным властям, что тот задумал убить кого-то из белых. Юношу хватают, безжалостно избивают и расстреливают. Девушка в отчаянии закалывает себя кинжалом на его могиле.
В зале, где шел этот концерт, сидели серьезные мужи, руководители государства, ответственные лица из районов. Они мужественны, эти люди. Они не пролили ни одной слезы в те жестокие времена, когда это было еще жизнью, а не балетом. А здесь зал рыдал, не стыдясь слез. Слишком недавно все это было наяву. Слишком много горя испытал народ Гвинеи. А для других африканцев в тех краях, где «вход в колонии
18*
275
посторонним воспрещен», это и сегодня является действительностью.
В народном искусстве Гвинеи нет пока четкого разделения на балет, пение и драматургические сцены. Тут все вместе. И если исполняется танец, даже без пения, то все равно в нем присутствует очень выразительная сюжетная пантомима. Это еще не театр, но это скоро станет театром.
Я намеренно так подробно останавливаюсь на описании танцев, виденных мною в Гвинее. В Гвинее говорят: надо различать наше искусство по трем периодам— до колониализма, при колониализме и после освобождения. Колониализм принес в Африку свою культуру, но это была цивилизация порабощения, сейчас народ возрождает древнюю африканскую культуру, привнося в неё то новое, что дает, что несет с собой новая жизнь свободного народа. Мне думается, что достаточно приведенных примеров, чтобы с уверенностью сказать: искусство свободного народа стремится к отображению жизни такой, как она есть и в ее развитии. Искусство свободного народа реалистично.
Африка. Настоящая Африка. Новая Гвинея — удивительная страна.
Мне не хочется перечитывать старые, известные с детства книги. Африка в них — чужая и непонятная. Та, что мне довелось увидеть,— понятнее, ближе и дороже сердцу.
Март 1960 г.
Ж Л OP П MTb
ПИСЬМО
u 3 1Д E 11 u H A
редставь себе — в тропики пришлось ломиться сквозь льды. В апреле из Ленинградского порта иначе не выйдешь. У причала ты видела чистую воду, а уже возле Котлина корабль с гулом и дрожью полз по снежному полю. И чайки, выклевывая рыб из-под кормы, вились над свежей прорубью, как грачи над бороздой.
Изо льда выпутались у Готланда, но зима надломилась лишь в Польше. Шуршат плащи, пестреют косынки. С неба срываются снежные вихри, но сады затоплены ярко-желтыми лепестками форсиции, по-польски— «золотым дождем». «Zloty deszcz...» Снова дорога, снова это упоение своеобразием в пейзаже, в чертах лица, в звуках речи. Славянские струны души отзываются на шипучий милый говор.
С кручи над Одрой возносит восьмигранные башни древний Пястовский замок. Возвышенно-строгий, он
277
сохранился среди позднейших построек Штеттина, перегруженных прусской пышностью. Но стены его исцарапаны осколками бомб. Поломаны солнечные часы с лазоревой каемкой. Померкли львы на рыцарском гербе.
Город разбит. Немало кварталов, сплошь засыпанных щебнем и заросших репейником. Обломки постепенно убирают, возводят дома. Строят новый мост. Кроме металла и бумаги впервые производят мотоциклы. Углубляют подходы к порту. Расширяют судоверфь. Не скажешь с Маяковским: «цепенеют верфи на Одере...»
Хотят поставить памятник Монюшко, а по сути — польской песне, одухотворявшей национальные традиции на западных землях.
Как и в каждом польском городе, здесь много тонких ценителей музыки. Вчера был на вечере в клубе «13 муз». Играл квартет имени Бородина из Москвы. Как радостно было видеть: музыканты, покидая эстраду, едва удерживали в пальцах правой руки смычок вместе с букетами цветов.
Квартет играл Бетховена и Бородина, соседей Польши с запада и востока — будто недоумевал: почему реки должны разъединять? Из своего иллюминатора я вижу, как плывут на самоходных баржах по Одре через Польшу к Балтике чехословацкие тракторы, глянцевито-зеленые, с желтыми колесами. В порту у элеватора встретил товарные вагоны с буквами «DDR» — из Германской Демократической Республики. В цехе на верфи заметил полку с технической литературой, где польские книги перемешаны с русскими.
Кстати о русских. Ездил на машине за город с первым помощником капитана Шлячковым — он был артиллеристом, форсировал Одер. Захотели взглянуть, что стало с полем битвы. Автострада, перемахивающая через села с черепичными крышами, на деревьях — белые пятнышки от спиленных сучков, пахарь на весеннем просторе — и фабричная труба, пробитая знакомым снарядом.
Завернули в урочище, укрытое холмами и лесом,— говорят, там на исходе войны была ставка Геринга. Ее оборудовали руками военнопленных, после работы
278
расстрелянных... Ты вздрогнешь: в глубине леса на серебристой коре граба вдруг вижу запекшуюся надпись ножом — «10.XII.44. Русские».
U ) S f Ю СС I /\
Ссыпав в щецинский элеватор свой овес, получили назначение в Антверпен — взять для Китая удобрения. Не идти же ледокольному дизель-электроходу в Восточную Арктику через весь Индийский океан порожняком.
К представлению о Бельгии ты приблизишься, если сложишь в уме Францию с Голландией и разделишь пополам. Все здесь рядом — в Париж и в Роттердам можно порхнуть на пассажирском вертолете.
Что мне за эти дни показалось главным? В порту Антверпена люди тревожно косились на причал с танками. Морская бодрость, мирный клекот чаек, фламандские сталагмиты старого собора, в котором лучший Рубенс,— но вот эти атлантические танки...
Помнишь ли ты стихотворение Блока «Антверпен»?
.. .Но все притворство, все — обман: Взгляни наверх... В клочке лазури, Мелькающем через туман, Увидишь ты предвестье бури — Кружащийся аэроплан.
Но Блок пришел мне на ум не здесь, а на другой день, в Брюсселе.
Антверпен веками гранил алмазы; бельгийцы веками гранили свою страну — все в ней возделано и украшено. По дороге в Брюссель я смотрел на самую населенную землю в Европе. За чертами современности ты, пожалуй, угадала бы дух картин Брейгеля, он как раз уроженец этих мест: пейзаж насыщен человеческим трудом. Тут-то, в цехах фландрских суконщиков, зародилась мировая промышленность. В розовом облаке цветущих садов мелькают фермы, виллы, города. .. Промелькнули слева от шоссе и каменные бараки за проволочным забором — приходили из соседней страны и соорудили концентрационный лагерь. Бельгиец обеспокоен—как бы не вернулись.
279
Нарядный Брюссель сейчас разрыт — строят подходы к Всемирной выставке 1958 года, поднимают улицы на виадуки и опускают в тоннели, а заодно приглаживают город. Ждут пятьдесят миллионов иностранных посетителей. На выставке хотят провести высокую идею: «Весь мир—для человеческого счастья». Но вот я вышел на тихую старинную площадь Grand’Place. Тут сложил голову Эгмонт. Передо мною ажурная позолоченная готика. Шпиль ратуши с архангелом на острие, гильдейские дома, кабачок с пылающим очагом. Млеют туристы. И вдруг глубину синего неба и все эти шпили перечеркивает белый след реактивного самолета. Вот тут-то я и вспомнил стихотворение Блока, написанное в 1914 году.
Бельгиец едет за южную окраину Брюсселя, поднимается по лестнице на насыпной холм к бронзовому льву и бросает взгляд на окрестные поля. Не утешают его ни песня жаворонка, ни блистание стрекоз, которые садятся отдохнуть на львиную гриву. Это равнина Ватерлоо. Бельгийская земля была безжалостно истерзана в кровавой схватке.
Бельгия не хочет войны, это ясно. Но ведь вот какая странность — подчиняясь чужой воле, она сама помогает вскармливать того, кто ей единственно опасен, кто только что вторгался сюда дважды.
ЦЦ U у С У ? Ц ?4
Вчера на рейд Порт-Саида вместе с «Ангарой» встал финский танкер. Первый же египтянин на берегу (разве я похож на фйнна?) спросил меня:
— Финляндия?
— Нет,— ответил,— русский.
Он — жать мне руки;
— Русский! Друг! Ультиматум!
«Ультиматумом» в Египте зовут решительное слово, послужившее к прекращению агрессии в ноябре прошлого года.
После тумана в Ла-Манше, качки в Бискае, сквозняка в Гибралтарском проливе и лазурного блеска в Средиземном море — Египет появляется сначала
280
мутью излившегося Нила, потом бахромой финиковых пальм на песчаном берегу, плоскими крышами Порт-Саида и пустыми пьедесталами. На одном виднелись подошвы француза Лессепса, на другом — копыта каких-то британских коней. С набережной, вздымая сцепленные руки, на нас смотрели лодочники, грузчики, шоферы, рыбаки, носильщики, бродячие парикмахеры, продавцы воды.
В Порт-Саиде ураган бомб снес целые кварталы. Египтяне ответили с удивительной силой — мигом возвели на месте руин новый город. Я ездил смотреть: за четыре месяца— 130 чётырехэтажных зданий.
Сегодня в караване судов идем по Суэцкому каналу. Он восстановлен, я бы сказал, даже с некоторым шиком. Если бы ты видела, какие цветники разведены у сигнальных станций среди раскаленной пустыни! Да, Восток держится гордо.
А нелегко ему сразу выбраться из тягот прошлого, это надо понимать. Увязая ногами в песке, три араба тянут тяжелую фелюгу. На солнцепеке разбит жалкий кочевой шатер, пастух в чалме оперся о посох, босая женщина, вся в черном, с серебряными подвесками у подбородка, несет кирпичный кувшин на голове. Вспомнил я старую Среднюю Азию, дервиша в рубище, пыль от первых грузовиков, одиннадцатизарядку в руке басмача и то далекое лето, пение свирели над глиняным дувалом, запах прелых листьев в арыках и все, что ушло в дымке нашей молодости и сменилось зрелостью.
Уже видны густые клубы над нефтеперегонным заводом в Суэце. Проплыл обелиск с двумя нубийскими львами. Забрать лоцмана бежит катер, кончаю...
С и н-д Ы U с К0 ГО о v и *н и
Тянулись долгие, долгие дни в пылающем океане, и вот узнаем, что встречным курсом приближается советский пароход, идет из Владивостока в Одессу. Как принято, обменяем фильмы, пошлем письма.
281
Здоров, жарищу переношу хорошо. А жарища страшная, сорок градусов в тени. В машине — пятьдесят. Голые, усталые люди в поту — трусики на бедрах, полотенце через мокрое плечо. Май здесь самый трудный месяц—нет еще летнего муссона, не сдут с поверхности океана слой перекалившейся воды.
Мы проходим атоллы с кокосовыми пальмами. Море вскипает на коралловых рифах. Летают рыбки. Каждую ночь бушуют экваториальные грозы — небо, черное, как крышка рояля, мерцает без грома. И конечно — Южный Крест, как на флаге Австралии.
Между тем у меня такое чувство, будто иду по старой русской дороге.
Видел — лодка ныряла в волнах Аравийского моря, и вспомнил, как Афанасий Никитин вез в Индию коня с «острова Гурмыза» (на нашей штурманской карте — Хормуз). Был ли этот мирный купец с Руси, столь сейчас знаменитый, единственным? Может быть, мы не знаем о других потому, что записки оставил только он? Мизгирь-то, в шутку сказать, увещает Снегурочку «островом Гурмызом» не с чужих ведь слов...
Ну, времена эти уж очень далекие, можно взять поближе. До Сибирской магистрали весь русский поток шел к Тихому океану морским южным путем. Переселенцы на Ханку и Амур плыли в пароходах «Добровольного флота», носивших имена городов России. А знаешь ли ты, что эти отличные для тех лет суда были построены на пожертвования русского народа, который позаботился о родном флоте и о своей дальней окраине? Где-то в этих водах, возвращаясь с Сахалина, Чехов писал «Гусева», а у Бунина, посмотревшего на колониальный Цейлон, слагался замысел «Братьев».
Да ведь так естественно — наша страна, большая как материк, вытянулась полосой с запада на восток чуть не через все полушарие, и края ее должны быть связаны каботажными линиями. Одна, проложенная недавно, огибает Евразию с севера, через льды, а другая — вот эта.
282
Я стерег все закаты и дождался наконец зеленого луча. Расплавленный шар, окунувшись, брызнул вверх густо-зеленым сиянием.
А на соседнем океане была другая вспышка — англичане взорвали на острове Рождества водородную бомбу.
Щ и 3 п е к и -н и
Японские острова Рюкю были задернуты сетью обложного дождя; изнуренные тропическим зноем, мы жадно вдыхали сырую прохладу — и вдруг слышим по радио: токийский профессор-метеоролог установил, что вредоносная радиоактивная пыль от взрыва английской водородной бомбы в середине Тихого океана уже достигла островов Японии и проливается с дождем. ..
Пишу из китайской столицы. Побуду здесь, пока в Синьгане разгружают корабль. В Китае мирно сияет солнце.
К Синьгану по незнакомому мелкому Чжилийскому заливу плыли без подробных карт. Качарава чутьем бывалого капитана вышел прямо к плавучке. Это маяк вроде буя. Там нас встретил лоцман.
Синьган — порт новый, только строится. Когда подошли, сладко кольнуло что-то родное, хотя языка не понимаю. Догадался: свежие котлованы на пустыре, опалубка, воздух первых пятилеток. Необыкновенная жизнь, и я ее прожил.
У китайцев-грузчиков тоже запас русских слов невелик. Подавали с одновесельной шлюпки канат — и, слышу, окликают матроса:
— Эй, дружба!
В Пекине сразу попал в старые храмы и дворцы. Разноцветная глазурь, загнутые крыши, золотые иероглифы — я был потрясен, особенно в Храме Неба, где к неописуемой зрительной красоте еще добавляется едва уловимый аромат многовековых кипарисовых колонн. Но, знаешь, человек, у которого белая голизна псковских построек может прошибить слезу, подивился — и отвлекся мыслями к другому.
283
Как здесь работают! Наши трюмы разгружались подобно волжской барже в «Моих университетах» — трудовой незатухающий вихрь. Ни один грузчик ни на миг не остается в стороне и не медлит. Они весело налетают — и рвут работу в клочья.
Какое непоказное благожелательство друг к другу и к нам! Не сразу выяснилось, что морской агент Чу Та-шоу взялся дежурить вторые бессонные сутки, чтобы его сменщик Чень Шо-юань, знающий русский язык, смог проводить советского литератора в Пекин.
Какая тонкая, издалека идущая культура! В деревне возле захолустной станции заглянул в первый попавшийся дом — справляют поминки по писателю Цюй Юаню, жившему более двух тысяч лет тому назад.
Какое чувство дисциплины! На перроне полустанка до прихода поезда люди разбились на очереди к несуществующим вагонам; когда поезд остановился,— а стоянка минута,— полезли без малейшей суеты, не обгоняя друг друга.
Как мало формального! В дороге случай скрестил нас с составом, который куда-то вез строителей,— и дикторша, обязанная лишь объявлять остановки, обратилась с приветствием к соседнему поезду, пожелала рабочим людям счастливого пути...
Владивосток — через неделю.
В Финском заливе передо мною реяли паруса буеров — плоский треугольник острием вверх. Потом видел паруса у арабов — выпуклый треугольник острием вниз. На судах в Индонезии полотнище трапецией, сверху скошено. Наконец — высокие прямоугольные ветрила Китая...
Полшара прошло. «Человек довольствует вожделения свои на обоих краях земного круга. . .» Какие у меня вожделения? Видеть, видеть, видеть.
1957
Д UTP U U Н-Л-Г U Ш KW M
осна и береза плывут за окнами вагона — то сплошными массивами, в которых совершенно сливаются их очертания и уже трудно разобрать, где кончается сосна и начинается береза, то разбегаясь по частым взлобкам нестройною толпой. Голубая красавица ель то и дело подступает к самой дороге, и ее мохнатые ветви тянутся нам навстречу. Мхи и
лишайники выстилают подножья деревьев и покрывают толстым зелено-бурым ковром финскую землю. Но тут и там из-под зеленого покрова плодородного слоя этой земли проступают суровые серые и красные граниты: они всюду — вот поезд проскакивает каменную выемку, и сбросы и спады вековых пород мельтешат в глазах, а вот — среди темно-зеленого моря дерев — угрюмый голец вздымает свою сивую голову с упрямым лбом, подставленным морскому ветру... Вот валуны, когда-то принесенные движущимися ледниками, молчаливой семьей расположились в самой чаще
28 5
сосен, и видно, как рвались к солнцу эти неприхотливые деревья, придающие столько прелести окрестному пейзажу: огибая валуны, мешающие им, они искривлены в своем основании, но дальше опять стройными становятся их стволы, и могучая сила и красота их радует глаз.
Снег еще лежит на полях Финляндии, но майское солнце щедро льет свои живительные лучи на землю, и под покровом снега зеленеют озимые хлеба...
Среди поля — деловито оглядывает окрестность чернохвостый аист со своей аистихой. Эта длинноногая и длинноносая супружеская чета не спеша шагает по полю, осторожно погружая сухие черные ноги в белый снег. В прогалинах они нацеливаются на какую-то живность в черной талой земле, а со стороны кажется, будто хозяин вышел в поле поглядеть, не пора ли бросить в землю зерно будущего урожая...
Красный трактор, точно божья коровка, ползет по черному полю в распадке между двумя холмами, где солнце уже растопило снег. А там, немного дальше, между деревьями и сопочками — такими же, как в нашем Забайкалье,— и справа, и слева, и спереди, и сзади — голубыми очами глядятся в небо озера — одно, второе, третье, десятое, сотое...
Вайниккала встретила нас веселым посвистом маленьких паровозиков, дизельной дрезиной, которая покрикивала на пассажиров первым дискантом, и светлыми домиками, сверкавшими на солнце, как маслята после дождя.
По пустынной дороге, наперегонки с нашим поездом, катил на дамском велосипеде мальчуган лет шести. Сиденье было слишком высоким для него, и он нажимал на педали стоя, отчего его маленькая фигурка то поднималась, то опускалась на раме машины, а он все катил и катил, совсем не замечая неудобства своей позы, и самозабвенно пел что-то, как галчонок, широко разевая рот. «Какой хорошенький финик!» — растроганно сказал редактор, вспомнив и своих малышей. Позже мы видели множество «фиников» на велосипедах и без них, видели также и множество велосипедов,
286
ожидающих своих хозяев в особых станках и на заводских дворах или у контор или просто стоящих у обочины дороги в ожидании своих владельцев, загостившихся у друзей, но они уже не производили такого впечатления, как этот веселый крошечный «финик». Кстати, слово это тотчас же вошло в наш обиход, послужив предлогом для основания премиального фонда за лучшую остроту и меткое словцо, часто скрашивающие дорожные неудобства,— так возникли «переходящие красные тридцать копеек», которые во время нашего пути не раз вознаграждали острословов...
Пограничник и таможенник скрылись в помещении таможни — маленьком деревянном домике, материал которого с успехом выдержал архитектурные выкрутасы стиля «модерн». Вскоре они вышли оттуда, но уже в штатском платье. «Мы сегодня хорошо поработали! — сказал по-русски таможенник.— Благодарю вас!» И он удалился в сторону леска, где виднелись разноцветные крыши Вайниккалы, чтобы насладиться заслуженным отдыхом.
Теперь и мы высыпали на перрон — как-никак, а ведь это первая финская станция на нашем пути.
Тотчас же в руках туристов появились фотоаппараты, которые, соскучившись лежать в своих тесных футлярах, потащили своих хозяев всюду, куда только можно было, и заставили снимать все, что стоило и чего не стоило увековечивать.
Вывеска таможни и чиновник, идущий вкушать свой законный отдых, газетный киоск с журналами, на многих из которых красовались более или менее раздетые девицы, и с книгами, обложки которых очень живо напомнили мне похождения Ната Пинкертона; реклама фирмы «Зингер», не виденная мною уже более тридцати лет; и «финики», что стояли со своими велосипедами на перроне й усиленно делали вид, что наше присутствие совсем не интересует их; наш вагон с табличкою «Москва — Хельсинки», — все это было заснято в двадцати видах и так, чтобы в кадр обязательно попало «местное население», очень вежливо не обращавшее на нас внимания, но тем не менее не уходившее со станции...
Горячее солнце припекало не на шутку. Несмотря на то что вокруг еще лежал снег, финны были одеты
287
очень легко, в светлые полупальто с погончиками, спортивные курточки разных фасонов и расцветок, яркие жакеты с металлическими застежками. Одежда эта не стесняла движений и имела нарядный вид, и жители Вайниккалы выглядели весьма живописно.
Раздался звон колокола — это подошел паровоз, который сменил наш локомотив. Мы полезли в свой вагон. Без свистка кондуктора, без гудка, лишь по знаку дежурного начальника станции/ наш поезд тронулся под этот звон колокола, которым машинист предупреждал о прохождении состава. Наш молчаливый сопровождающий сдержанно заметил, что поезда на финских дорогах приходят и уходят по стрелке часов, едва указывает она нужное время,— железные дороги Суоми работают очень четко и слаженно, несмотря на то что среди подвижного состава есть немало современников самоопределения Финляндии, ровесников Фридриха-Карла Гессенского — неудавшегося короля Финляндии. . . Наряду с новенькими дизель-поездами в пути нам то и дело попадались «годки» романовских дорог — вагоны в 16 тонн.
Теперь мы ехали на запад. Мимо нас пролетали леса и перелески, поля и озера, озера, озера и извилистые дороги, словно задавшиеся целью закружить голову путнику или автомобилисту. Среди сосновых рощ и березняка тут и там виднелись выработанные участки, а кое-где и раскорчевки, откуда тянуло едким дымком. Позже мы узнали, что государство поощряет землевладельцев, поднимающих новые земли. Небольшие усадьбы в три-четыре дома с высокими, ладными скотными дворами, часто сложенными из того камня, который был выбран из этой земли, чтобы сделать ее плодородной, проносились справа и слева от нас и угадывались по сизым дымкам над соснами, вдали от дороги.
Так подлетели мы к узловой станции и городку Ко-увола.
Тут поразило нас обилие детективов в книжных и газетных киосках — с их обложек глядели на нас напряженные лица убийц, заносивших руки над ничего не подозревавшими жертвами, или лица этих жертв, перекошенные гримасой ужаса или застывшие в вечном безмолвии. «Ночной убийца», «Улыбка смерти», 288
«Преступление не раскрыто», «Черная смерть», «Кровавый дождь» — эти, или подобные им, названия буквально вопияли о зверских преступлениях. Впрочем, не надо думать, что именно город Коувола отличается особой кровожадностью,— впоследствии мы убедились, что такого рода литература захлестывает прилавки и витрины всех книжных магазинов. Достижением финской культуры это не назовешь!
Гораздо более привлекла наше внимание красочная схема — план городка — на стене вокзала, такая наглядная, что, посмотрев на нее, приезжий уже не вспоминает о языке, который до Киева доведет, а просто шагает себе да и шагает до нужного места. Очень удобно. Следует отметить также, что дежурный по станции и кассир давали все справки, не отговариваясь тем, что они не справочное бюро и что «вас много, а я один!», а также и то, что вокруг было очень мало различных надписей — их заменяли рисунки, одинаково понятные и неграмотному, и ребенку, и иностранцу: синяя стрела указывала на урну, в которую следовало бросать окурки и использованные билеты, рисунок автобуса показывал место остановки машины. Фигурки мальчика и девочки указывали те необходимые учреждения, без которых трудно обойтись.
В Коуволе в наш вагон сел высокий, хорошо подсушенный, немолодой уже человек в серой шляпе, синем поношенном пальто с погончиками, с чемоданом, на своем долгом веку видавшим всякие виды. Он учтиво снял шляпу. Это оказался уполномоченный фирмы «Суомен матка тоймисто» — Финляндского бюро путешествий — Леонид Леонидович Шелихов, отныне и до конца пути наш переводчик. Мы обрадовались тому, что переводчик — русский, но он привез нам огорчительное известие о том, что наш маршрут меняется и что в столицу Финляндии мы прибудем не в начале пути, то есть сегодня к ночи, как значилось в нашем «туре», а в конце нашего путешествия, через неделю.
На мой взгляд, было все равно, с какого пункта начинать наше путешествие, как все равно — с головы или с хвоста есть рыбу,— но этой переменой наши туристы были недовольны. Один из архитекторов — молодой человек с меланхолическим складом характера
19 На разных меридианах
289
и несколько кисловатым выражением смуглого лица, которое не менялось с тех пор, как он вошел еще в Риге в наш вагон,— сказал решительно: «Я еду не на прогулку. Я еду для того, чтобы изучить опыт финских архитекторов в школьном строительстве! И вот — я буду кататься по провинции?» Архитектора поддержал юрист. Уполномоченный вежливо ответил: «Я снесусь с фирмой!» На этом и кончился разговор, тем более что поезд уже покинул станцию Коувола и тащил нас в новом направлении.
Поздним вечером мы подъехали к Лахти.
Удобный автобус финского производства гостеприимно принял нас в свои мягкие красные кресла. Нельзя было не обратить внимания на весьма рациональную конструкцию этих кресел, спинки которых были разрезаны и поставлены под разными углами, что позволяло соседям не тыкать друг друга локтями, если уж пришлось сидеть рядом. При небольших своих размерах, автобус отличался вместительностью и удобствами— он был радиофицирован, над каждой парой кресел в стене была скрыта лампа рассеянного мягкого света, на спинках — карман, куда можно было положить газету, сумку, термос, над креслами — багажные сетки...
Об этом автобусе хотелось бы рассказать подробнее, но, пока мы разглядывали автобус, он привез нас в ресторан «Сеурагуонне», где нас ожидал, как обещано было в проспекте, «легкий чай». Нельзя сказать, чтобы нас устраивал чай, к тому же «легкий»,— обедали мы еще в Выборге, но выбирать было не из чего, и мы отправились в зал, где были сервированы столы для нас. К счастью, заботливая фирма включила в понятие «легкий чай» такое количество бутербродов и отличного молока, что это вполне удовлетворило наши здоровые желудки, уже давно заявлявшие о себе. А крохотные — советские и финские — флажки на столах, знак внимания к нашей родине, создали даже ощущение некоторой торжественности.
Переводчик наш, родившийся в Финляндии и проживший здесь всю свою жизнь, с каким-то странным выражением некоторого смятения на лице прислуши-290
вался к нашим разговорам и Фо и Дело улыбался. «Финская речь очень красива! — сказал он.— Но звуки русского языка создают у меня ощущение какого-то праздника! Да и народ вы очень компанейский, остроязыкий! Я впервые взялся за эту работу — чем только русскому в Финляндии не приходилось заниматься! Но если и остальные советские — такие же, я буду держаться за эту работу!» Заметив, что воскресный, свободный день нас немного тяготит, он с приятной улыбкой возгласил:
— Сейчас мы посетим санаторий для ревматиков в городе Хейнола! Вернемся к обеду, а там — по маршруту!
Текстильщица и учительница, сдружившиеся за время совместного путешествия, в один голос сказали: «Зачем? Что мы, санаториев не видали?» Журналист не без ехидства улыбнулся. Стоматолог и педиатр согласно заявили: «Вот это правильно! Не знаем как кто, а мы обязательно поедем!» Писатели переглянулись: «Смотреть так смотреть!» Текстильщица и учительница сдались: «Ну, если едут все — так и мы поедем!» — и единодушие было восстановлено.
Мы поехали. Дорога и днем всячески изощрялась в том, чтобы вывернуть нас из автобуса на валуны, которые жадно выглядывали из зелени. Автобус летел вперед и принимал самые неожиданные и рискованные положения, так что я вспомнил свои занятия парашютным спортом в дни юности. Две наших туристки — служащая и архитектор, похожая на плюшевого медвежонка,— существа с очень тонкой организацией, не приспособленные . к высшему пилотажу,— должны были занять места впереди, под воздушным люком, чтобы избавиться от морской болезни... Что же касается шофера, то он то и дело козырял встречным водителям машин — таким же «летучим голландцам», как и он сам,— которые гнали машины со скоростью 75—80 километров в час, не сбавляя ее даже на очень крутых поворотах. «Все три талона!» — сказал инженер-наладчик, не очень весело улыбаясь, а мы вспомнили нашу бдительную автоинспекцию. Шофер в это время делал ручкой очередному приятелю, чья машина с ревом неслась вверх по косогору, тогда как наша входила в пике...
19*
291
.. .Одиннадцать этажей санатория для ревматиков показались нам несколько излишними, и наши архитекторы нашли «монолитное решение» этого «массива» не соответствующим цели его назначения. Но осмотр помещений — палат, аптек, лабораторий, лечебных кабинетов, процедурных, столовой, кухни, гимнастических залов, холлов, библиотек, читальни и различных мастерских для послеоперационных больных, где они добиваются максимальной подвижности оперированных органов (например, больные с ограниченной подвижностью кисти руки плетут красивейшие корзины), блестевших чистотой и насыщенных светом,— оставил у нас очень хорошее впечатление. Благодаря любознательности наших врачей и любезности экскурсовода одиннадцать этажей санатория превратились, по крайней мере, в тридцать, так часто мы поднимались и опускались, когда очередной вопрос стоматолога, или педиатра, или журналиста кидал нас из одной части здания в другую, а экскурсовод хотел, чтобы мы во всем убеждались лично.
— Ревматизм — это национальная проблема Финляндии! — сказали нам здесь... Прекрасные озера Суоми выделяют в воздух слишком много влаги. Государство борется с ревматизмом, но эта борьба только начата. Ее можно будет считать развернутой, когда все дети будут учиться в новых школах, построенных по последнему слову техники и гигиены (а эти школы, надо сказать, растут повсюду), и когда страна покроется сетью учреждений, подобных тому, в котором мы были. Единственное учреждение такого рода, на 317 мест, конечно, не может охватить не только всех нуждающихся в лечении, но и желающих,— больные месяцами ждут своей очереди попасть в этот санаторий-клинику. Но дело не только в числе мест: 1000 марок в день, даже если тридцать процентов этой суммы доплачивает за больного коммуна,— это очень дорого! «Не болейте, а особенно в Финляндии!» — с бледной улыбкой пожелала нам экскурсовод.
— Нам нужен свет, много света, и сухой воздух! — услышали мы здесь. И тогда стали обращать внимание на некоторые особенности финского строительства жилищ — они расположены обычно на пригорках, фасадами на юго-восток, их широкие окна, позволяющие со 292
всех сторон просвечивать весь дом, берут максимум света. «Финские домики» — с удобной планировкой и обилием света и воздуха — порождены этой «национальной проблемой». Архитектор в Суоми.— очень видная фигура, он отвечает не только за проекты жилищ!
Завтра — Первое мая!
На этот раз мне и моим товарищам приходилось встречать этот весенний праздник вне пределов Советского Союза, вдали от родных.
До утренней зари в канун Первого мая веселились студенты города Лахти. День международного праздника трудящихся совпадает в Финляндии с национальным «Праздником студентов». Гремела музыка, отовсюду слышались песни, и среди них — торжественная «Гаудеамус игитур», песня университетов всего мира. Студенты пели и танцевали — в квартирах, в ресторанах и на улицах. Городские улицы в эту ночь принадлежали безраздельно студентам. Полька сменялась кадрилью, и кадриль сменялась бурным вальсом. Всюду— во всех этажах нашего отеля, в коридорах и на лестничных площадках, на улицах — виднелись фигуры в белых студенческих фуражках, просто с кокардой и с длинной и толстой черной шелковой кистью — отличительным признаком Политехнического института. Но под фуражками виднелись не только молодые лица — тут были и седовласые старцы и матроны, очень давно встретившие свою двадцатую весну. Каждый, кто учился или когда-нибудь закончил высшее учебное заведение, имел право носить фуражку студента, особенно в этот день. И три золотые ласточки — скульптура на городской площади — тоже были увенчаны этим знаком непреходящей молодости.
Так в шумном веселье короткая майская ночь незаметно перешла в ясное утро. К девяти часам горожане собрались на небольшой митинг возле ратуши, где приняли официальное поздравление с праздником. В этот день финны отмечали пятидесятилетие празднования Первого мая, и всюду — в петлицах пиджаков, на шапках и жакетах — видны были выпущенные в честь этого события значки — красные бантики с датой «1906—1956».
293
После митинга у ратуши колонны правого крыла социал-демократической партии, играющей видную роль в общественной жизни Финляндии, отправились по домам вкушать праздничную трапезу. А на городскую площадь, к трем ласточкам, лихо надевшим в этот день студенческие фуражки, проследовали колонны Демократического союза народа Финляндии, Демократического союза молодежи, Демократического союза женщин, Коммунистической партии, комсомола, левого крыла социал-демократической партии, рабочие и крестьянские спортивные организации со своими знаменами, эмблемами, оркестрами... Впереди колонн, охраняя порядок, в своей синей форме, напоминающей морскую, в белых перчатках и фуражках с белым верхом — шли рослые финские полицейские...
У импровизированной трибуны из двух грузовиков с откинутыми бортами собралось до четырех тысяч рабочих и служащих. Эти люди вместе бастовали, вместе и праздновали Первое мая. Разноголосый шум улицы, еще наполненной остатками ночного веселья студентов, не мешал ни ораторам, ни ребятам из агитбригады, исполнявшим какие-то злые и острые куплеты, на которые собравшиеся на площади люди отвечали смехом и оживленными возгласами, ци маленькому музыканту с аккордеоном, которому подпевала вся площадь...
Над толпой плавали огромные замысловатые воздушные шары, пищали финские «уйди-уйди», то и дело взлетали бумажные разноцветные метелки, которыми молодые люди беззастенчиво хлестали девиц по ногам, наподобие того, как это делают у нас в вербное воскресенье или в Латвии в день Лиго; всюду красовались фантастические карнавальные шапки, и каждый веселился как мог.
А ораторы на площади говорили о том, что всеобщая забастовка 1956 года была великолепным боевым испытанием сплоченности трудящихся в борьбе за будущее, и о том, что борьба эта не кончена... Большой транспарант с надписью «40 марок!» напоминал каждому о ближайшей задаче, которую следовало выполнить,— то есть добиться повышения зарплаты на сорок марок в час!
Дружелюбными возгласами встретила площадь появление на трибуне известного в городе деятеля проф-294
союзного рабочего движения — маляра по профессии, который говорил не торопясь, негромко, но с юмором и страстью. «Сорок марок — это немного! — сказал он.— Но их легче истратить, чем заработать. Не так ли, товарищи хозяйки? А потому — будем воевать! — Он усмехнулся, подмигнул и добавил, вызвав оживление: — Надо напомнить нашим товарищам в правительстве и в сейме, что это мы — народ! — выбирали их. Пусть пошевеливаются поживее, чтобы не заплыть жирком! Ведь наши голоса принадлежат нам, и мы не отдадим их тому, кто не умеет работать!»
Оратор обнажил голову. Самодеятельный оркестр на трибуне взялся за инструменты, и тотчас же над площадью поплыли родные, такие близкие звуки... Демонстранты, запели «Интернационал», и их пение заглушило и треск машин на улицах, и говор гуляющих. Пели ораторы, пели ребята из агитбригады, пел маленький музыкант, пели знаменосцы, и красные блики от развевающихся знамен играли на их лицах. Пели мужчины и женщины, юноши и девушки — они хорошо знали слова «Интернационала»... Потом оркестр заиграл похожий на ноктюрн государственный гимн Суоми. Полицейские поднесли руки к козырькам своих капитанских фуражек. Солдаты, которых в толпе было очень много, застыли по стойке «смирно». Мужчины сняли кепи, шляпы, фуражки и карнавальные шутейные головные уборы. Движение на тротуарах затихло. . .
Гулянье на площади продолжалось до поздней ночи.
Разукрашенные киоски бойко торговали всякой снедью и забавной мелочью. Тут же стояли автомобили— чешская «Татра», итальянский «Фиат», немецкий «БМВ», советская «Победа». Над машинами были укреплены плакаты: «Почему вы медлите??? Покупайте билеты и забирайте свою машину!!! Каждый может выиграть этот автомобиль! Каждый!!!» В машинах сидели господа или дамы, продававшие билеты благотворительной лотереи в пользу сирот. Они же выдавали выигрыши — от пачки жевательной резинки или лакричной палочки в виде зубной щетки, которую тут же можно было съесть, до упомянутых автомобилей. Справедливость, правда, требует отметить, что резинку и лакрицу господа выдали всю, а на автомобилях, с наступлением темноты, уехали сами. И позже,
295
в других городах, нам попадались машины с такими плакатами — это постоянно действующая лотерея! — около них всегда толпились люди. Надо полагать, что в этой лотерее больше всех выигрывали сироты...
Лахти вырос за счет переселенцев из Выборга и Карелии, которые выстроили вокруг старого города несколько поселков и расширили городскую черту. Мы видели несколько таких поселков, отличавшихся чрезвычайной аккуратностью и хорошим благоустройством. Стоимость аренды земли относительно невысока — всего три-четыре тысячи марок в год. Но стоимость постройки дома достигает суммы в три миллиона марок. Исходя из расчета стоимости жизни финского рабочего и служащего, эту сумму можно выделить не менее чем за четыре года, и то изрядно залезши в долги. Естественно, что застройщики всячески изощряются, чтобы удешевить непомерные расходы. Так возникает примитивное кооперирование застройщиков — нечто вроде крестьянской «помочи», когда несколько хозяев сообща строят дом сначала одному члену такого объединения, потом другому и т. д. И все-таки собственный дом обходится в конечном счете дешевле наемной квартиры, которая часто поглощает до половины заработка. Соседи в этих поселках соревнуются в лучшем благоустройстве своих участков — признанный лучшим хозяин премируется за счет фонда, участником которого является каждый из соревнующихся. . .
Все виды кооперации в Финляндии широко распространены и существуют много лет. Это испытанный способ экономического устройства «для тощих кошельков», как выразился г. Шелихов, рассказывая о финской кооперации. Надо сказать, что жилищное строительство в Финляндии в последние годы получило очень широкий размах — всюду видишь новые многоэтажные многоквартирные жилые дома и одноэтажные «финские домики». Один из наших гидов, указывая на новые дома, с чувством сказал: «Финны очень увлекаются строением своих домиков!»
В этом городе мы побывали в выстроенной по проекту городского архитектора Ирмы Колеи новой школе, какие строятся сейчас по всей стране за счет городских бюджетов и государственных ассигнований. Надо сказать, что нашим архитекторам весьма полезно было 296
посмотреть на эти школы — у экономных и аккуратных финнов в области строительства жилых и общественных зданий можно многому поучиться. Рациональность планировки зданий, насыщенность их светом, удобное расположение основных, и подсобных помещений, дешевые и прочные материалы для облицовки и внутреннего оформления, простые — красивые и недорогие! — покрытия полов, потолков и стен, крайне простая и удобная, гигиеническая, непачкающаяся легкая школьная мебель хорошего рисунка — все это стоит изучения!
В этой школе нет гулких коридоров и гулких классов, в которых звук отражается от стен, создавая неприятный дополнительный шум, так нервирующий преподавателей и мешающий занятиям. Потолки из сверленых гипсовых плит, покрытие полов из линолеума, с большим содержанием резины, великолепно поглощают шумы и звуки. Одноместные парты, исключают неизбежный контакт учеников во время уроков, по поводу чего любой преподаватель за день делает сотни замечаний. Парты крыты материалом красивого серого рисунка, который не принимает чернил и не поддается ножу, отчего парты кажутся всегда как бы вымытыми. Помимо того, что это придает классам опрятный вид, это воспитывает у учащихся эстетическое чувство. Что касается младших классов, то учебному процессу в них немало содействует роспись на стенах, изображающая представителей мира животных и царства пернатых или воспроизводящая сюжеты народных сказок, что облегчает малышам переход от детского сада к классу.
Наглядные пособия по всем дисциплинам хранятся в особом боксе над классной доской, где они укреплены на вращающихся валиках и с легкостью опускаются и убираются. Каждый класс имеет свой комплект наглядных пособий. Если учесть длительность сохранения их при таком способе пользования, то расход на несколько комплектов нельзя считать чрезмерным. Мы вполне оценили это. Наша учительница, внимательно присматривавшаяся к хитроумному боксу над доской, сказала:
— Конечно, двадцать комплектов на двадцать классов — это и многовато и дороговато... Но думаю, что это расход во имя экономии, по-хозяйски!
297
Кто-то из туристов добавил, что если этот комплект принадлежит только этому классу, то нетрудно сообразить, как упрощается задача его сохранности,— не на кого'отнести вину за возможную порчу пособий: виноваты те, кто занимается в этом классе! — весьма дисциплинирующий фактор.. .
Многое в этой школе оказалось привлекательным для наших туристов — людей живых, умеющих видеть и по достоинству ценить то, что действительно хорошо. Однако санитарно-гигиеническое оборудование школы вызвало самое большое число откликов, самое большое число комплиментов и по адресу архитектора, и по адресу органов народного образования. И в самом деле, что хорошо — то хорошо! Достаточно сказать, что в каждом классе и всюду в коридорах размещены питьевые фонтанчики, очень удобные в пользовании. В каждом классе — у входа, возле доски, у задней стены и у выхода — размещены красивые небольшие металлические умывальники. Десять умывальников на класс! Двести умывальников на тысячу человек! Возможность в любой момент вымыть лицо и руки, где бы ни находился учащийся, в классе или в коридоре,— великолепное средство воспитания опрятности. К этому надо добавить, что школа имеет душевые павильоны, «финскую баню» для любителей попариться, особое помещение для мытья ног, где расположено невысокое кафельное сиденье перед кафельной же проточной канавкой, омываемой теплой водой, и, наконец, десяти-и двадцатиметровые бассейны для плаванья, где ученики, не выходя из школы, учатся плавать. ..
Остается еще упомянуть, что учащиеся пользуются физкультурным залом, который при нужде соединяется раздвижной стеной со столовой и превращается в поместительный зрительный зал.
Все это оставляет очень хорошее впечатление. И я был полностью удовлетворен, когда увидел, что наш меланхоличный архитектор тратит уже вторую кассету в своем фотоаппарате и его смуглое лицо порозовело от искреннего оживления, с которым он придирчиво, хозяйским глазом осматривал все устройство школы, вникая во все мелочи, снимая и мебель, и интерьеры, и роспись, и раздвижные стены, и умывальники, и. . . впрочем, невозможно перечислить все, что 298
сегодня запечатлел его внимательный глаз. Надо думать, что в проекте школьного здания, над которым он работает, он дружески учтет положительный опыт наших северных соседей; для кого другого, а для него эта поездка не будет пустым времяпрепровождением — он парень не из тех, кто тратит время зря, и теперь я понимаю его прежнее, раздражение...
Напоследок он сфотографировал окна школы с их идеально простым устройством — сплошное стекло на три четверти окна и вертикальная фрамуга на одну четверть, вместо форточки, принятой у нас. Такое окно пропускает девяносто процентов светового потока в комнаты. Это очень рациональное окно — не нужно никаких шпингалетов, истончающих переплеты и потому ведущих к увеличению объема рам, не нужны поперечные переплеты, увеличивающие расход дерева на рамы, не нужна форточка, еще более уменьшающая световой поток! .. .И тут начался длинный и продуктивный разговор о смелости архитектора, о его роли и значении в жизни общества, о необходимости «драться» за «свой» проект, о неустанном движении вперед архитектурной мысли, о поисках нового, лучшего, о контактах творческих работников разных стран для обмена опытом.
Наши гиды не давали нам покоя, и мы в тот же день осмотрели частно-государственный Институт ручного труда, что-то вроде школы трудовых резервов в финском варианте. В новых многоэтажных зданиях размещаются три технические школы, деревообделочная и торговая. Они готовят квалифицированных рабочих многих специальностей: деревообделочников, краснодеревщиков, электриков, строителей, металлообра-ботчиков, автомобилистов, мастеров обивки и окраски (обойщиков, драпировщиков, маляров). Обучение и стол — бесплатные, учащийся обязан только иметь свой рабочий костюм, портфель или ящик для инструментов. Этот институт имеет интернаты для иногородних, превосходно оборудованные мастерские с отдельными рабочими местами и комплектом инструментов для каждого учащегося, вагранки, некоторое количество старых машин, на которых автомобильные рабочие учатся ремонту автомобилей... Столовые могут одновременно обслужить 600 человек. Институт имеет
299
спортивные залы, бассейн для плавания, просторные классы. И опять мы не могли не отметить одной интересной особенности организации учебного процесса в обучении молодых рабочих — каждый учащийся имеет право в течение 50 дней изучать каждую профессию, пока не изберет себе профессию по душе и будет в ней совершенствоваться, пока не выйдет с дипломом мастера. Институт ручного труда связан с многими производствами и учреждениями — в процессе обучения тем или иным ремеслам учащиеся выполняют многие заказы города. Это единственное учреждение такого рода в Финляндии, где дело поставлено так широко и на деловой основе. Естественно, что приток учащихся в этот институт довольно велик — сюда едут со всех концов страны. До 1956 года институт принимал только мальчиков, но с этого года открыт прием и девочек.
Признаться, для нас сюрпризом и неожиданностью оказались эти отлично организованные учебные заведения. Мы не ожидали в маленьком городке столкнуться с ними, и кто-то из нас неуверенно сказал, что существуют эти учреждения, видно, «для туристов». Впрочем, арифметическая выкладка на тему о том, что если из семи тысяч учащихся города две тысячи учатся в этих школах, то это уже не «для туристов», заставила замолкнуть скептиков.. .
Третий по величине город Финляндии — Тампере — финны называют «финским Манчестером» не столько для того, чтобы сравнить его с текстильной цитаделью туманного Альбиона;, сколько для того, чтобы подчеркнуть направление его промышленного развития. Нельзя к этому не добавить, что за последнюю четверть века текстильная промышленность Тампере заметно потеснилась, освобождая место другим отраслям финской индустрии.
Сейчас это центр судостроительной, бумагоделательной, легкой, машиностроительной, льнообрабатывающей и текстильной промышленности страны.
Несмотря на развитую промышленность, а может быть, именно поэтому, Тампере — зеленый город. И многим следовало бы поучиться тому, как защищать
300
города от пыли и копоти, у тамперцев. Весь Тампере утопает в садах и парках. Большие и малые — они обступают зеленым кольцом корпуса фабрик и заводов. Массивы домов перемежаются садами, и воздух в городе всегда свежий, пахнущий морем.
.. .Курятся чуть заметные светлые дымки над двадцатью пятью трубами крупных заводов, вынесенных за городскую черту, среди них — труба завода Тампелло, достигающая высоты в 115 метров; она считается городской достопримечательностью, и не раз в годы революционного подполья на этой трубе алели красные флаги, водружаемые рукой отчаянных смельчаков. Виден отсюда памятник Труду на центральной площади. Земля Суоми сурова, и художники невольно воздают в своем искусстве должное тем, кто неимоверным трудом сделал ее пригодной для жизни человека.
Тампере лежит между двумя озерами — Пюгаярве и Насиярве. Из них первое — Святое озеро — расположено на пятнадцать метров выше второго. Озера соединены полуторакилометровым каналом, на котором стоит электростанция, отлично вписанная в городской рельеф и образующая единое целое с мостом Хямеен-силта, переброшенным через канал и украшенным четырьмя скульптурами знаменитого финского мастера монументальной скульптуры — Вяйнё Аалтонена: «Купец», «Охотник», «Сборщик налогов» и «Финляндия»; их не совсем анатомически правильные фигуры — с развитыми чрезмерно мышцами и крупной головой,— несколько напоминающие Бурделя или Майоля, оставляют ощущение подлинной мощи.
.. .Легкая линия светлого горизонта сливается тут с зеркалом озер справа и слева. Множество островов — в летнее время прибежище жаждущих отдыха и уединения тамперцев — пестрой стайкой разбегается по глади озер. Лес взбегает на семь холмов Тампере зеленой волной, из которой поднимаются, точно омытые этой буйной растительностью, городские строения, радующие глаз своими формами и расцветками,— за послевоенное десятилетие в Тампере выстроено свыше семи тысяч квартир. И это — лучшие дома в городе, предмет гордости Тампере, как предметом гордости его является то, что он расположен на семи холмах.
301
«Как был расположен Рим!»—-замечает гид, делая многозначительную паузу...
Что .касается квартир в домах, о которых идет речь, выстроенных по проекту архитектора Брюкмана, то они оставляют очень хорошее впечатление своей планировкой и благоустройством.
Квартиры невелики по объему — стоимость жилищной площади довольно высока, в эту стоимость включается и вся нежилая, вспомогательная квадратура! Обычно одна комната с альковом и кухней, реже — две комнаты. Крохотная прихожая вмещает в себя и платяные шкафы и помещение для холодильника, а также и чуланчик для хранения временно ненужных вещей. Сюда выходит и дверь в комнату, совмещающую ванну (для мытья сидя!) и уборную с умывальником. Одна из стен жилой комнаты является, по существу, комбинацией различных шкафов: для книг, белья, одежды и кровати (когда кровать откинута, дверцы этого шкафа становятся спинками кровати!). Письменный стол также скрыт в стене и выдвигается только при необходимости. Все шкафы снабжены холодной или теплой вентиляцией. Ниша, примыкающая к входу в жилое помещение, скрывает в себе электрическую плиту с четырьмя конфорками и духовкой, специально устроенный кухонный столик, являющийся одновременно и шкафом для посуды и всяких продуктов или специй,— все это монтируется с двумя раковинами, в которые открывается проток холодной и горячей воды... В спальню комната превращается только к ночи, а днем походит на гостиную или кабинет, в которых ничто не напоминает о ночлеге. Нет нужды говорить о том, какое бремя снимается с бюджета любой семьи, когда такая встроенная мебель избавляет от необходимости приобретать многие вещи. Естественно также, что такая квартира, не загроможденная всевозможной мебелью, имеет очень опрятный вид и в ней легко поддерживать чистоту, чему немало способствуют централизованные вентиляция и пылесосное устройство и мусоропроводы в доступных и удобных местах. Этот тип квартир и домов очень распространен сейчас в Финляндии.
Несколько таких домов имеют одну — общую — котельную, что позволяет использовать освободившуюся 302
емкость цокольных помещений здания для устройства душевых павильонов, бань, которые так любят финны, прачечных, парикмахерских, кегельбана, библиотеки-читальни, клубного зала и так далее...
Мы остановились в отеле «Госпитс Эммаус», принадлежащем не то какому-то библейскому обществу, не то Армии Спасения, что, в общем, по своему ханжескому основанию, не лучше первого. Живя в этом отеле, мы могли быть уверены в том, что хозяева заботятся о телах, душах и политических запросах своих гостей: в каждом нбмере в тумбочке содержалась ночная посуда, на столиках лежала Библия, а на стенах висел портрет барона фон Маннергейма, в полной маршальской форме — с жезлом и кистью на боку, с таким количеством орденов на груди, что каждый финн может быть уверен, что именно господин Маннергейм есть наилучший вояка во всем свете.
Профессиональных гидов в Финляндии нет — их функции, за соответствующее вознаграждение от фирмы «Суомен матка тоймисто», несут люди, хорошо знающие тот или иной город. Наш гид по Тампере оказался человеком очень занятым и, выстрелив в нас всем тем, что он знал о своем городе, исчез из поля нашего зрения с быстротой падающей звезды. И так как он был столько же вежлив, сколько холоден, мы не пожалели о нем, тем более что в этот же день обрели друзей, которые рассказали нам о Тампере гораздо больше, чем г. Нориллё.
В этот день до позднего вечера мы бродили по Тампере в сопровождении искренних друзей Советского Союза и советских людей — гг. Антти Хейнонена, председателя общества «Финляндия — СССР», и Арви Ла-аксо, председателя общества «Финляндия — Румыния», которое в этот день отмечало свое пятилетие...
Мы останавливались, перед витринами магазинов, рассматривали рекламы кино и театров, разговаривали о литературе, о ценах, о дружбе, о квартирах, о заработке— в другой стране все интересно. Собеседники наши внимательно следили за советской литературой и хорошо знали многие книги советских писателей. «Нет, конечно, далеко не каждый член нашего общества знает русский язык, хотя тяга к его изучению есть, и немалая,— в Рабочем Доме Тампере занимается
303
несколько групп русского языка. Но в наших магазинах крайне редко бывают переводы с русского. Надо думать, что теперь, когда у нас очень дружественные отношения, когда усиливаются и укрепляются культурные контакты, книги русских советских писателей будут не таким редким явлением в книжных магазинах!»
Мы спросили, как же гг. Лааксо и Хейнонен ознакомились с таким количеством советских книг, в их списке были почти все премированные произведения. «У вас есть издательство в Петрозаводске, выпускающее книги на финском языке,— вот основной поставщик советских книг для нас!» Над этим замечанием следовало бы подумать Издательству на иностранных языках в Москве. Однако это же можно сказать и о переводах с финского — нашему читателю почти неизвестна финская литература, а она дала миру таких писателей, как Эйно Лейно или Алексис Киви...
Оказалось, что оба наших друга очень любят свой город и весьма ревниво относятся к нему. Так, мы услышали, что женщины в Тампере красивее, чем в Турку, соперничающем с Тампере; что жителей в Тампере больше, чем в Турку, на 24 человека, что бы по этому поводу ни говорили жители Турку; что Турку похож на Тампере, но Тампере лучше; что в Тампере — самая большая автобусная станция в стране, которая отправляет ежедневно до четырехсот автобусов с четырьмя тысячами пассажиров, и что вообще жители Турку напрасно живут в Турку — им следовало бы жить в Тампере, только они этого не понимают! ..
С витрин смотрели на нас лица героев кино. «Вам следовало бы посмотреть «Неизвестного солдата»! — сказали нам друзья. — Это сильная картина, но нам бы хотелось, чтобы она вызывала другой эффект!» Распространяться на эту тему они не хотели... Среди кинофильмов, идущих в Финляндии, было много американских. «Голливуд! Поцелуи и выстрелы, выстрелы и поцелуи! Минимум слов и мыслей — только действие: трах! трах! трах! Смотрят ли эти картины? Да, конечно,— будучи лишены мысли, они и не вызывают никаких мыслей — великолепное средство для опустошения головы!..»
304
Мы ходили по широким, красивым, зеленым улицам Тампере, и он все больше нравился нам. Не знаю, который из городов заслужит пальму первенства в том соперничестве, что возникло между Турку и Тампере, но последний располагал таким учреждением, которого в Турку нет и которое является святыней многих трудящихся Финляндии. Здесь находится Музей В. И. Ленина.
Музей расположен в Рабочем Доме, принадлежащем правлению Финской социал-демократической партии. В этом доме происходила Таммерфорская конференция РСДРП. Сюда привезена также обстановка из квартиры по улице Теле, 4, в Хельсинки (Гельсингфорс), где в 1917 году скрывался от преследований Временного правительства В. И. Ленин...
Музей невелик и небогат, но невольно благоговейное чувство охватывает посетителя — этих вещей касался Ленин, они хранят следы его прикосновений; сидя за этим столом, он работал, мыслью своей проникая в будущее, прозревая его в бурях революции, уничтожившей царскую Россию — тюрьму народов... Имя великого вождя пролетарской революции и основателя нашего государства витает в этих стенах, и горячие — от чистого сердца — надписи в книге отзывов, говорящие о верности делу Ленина, о верности делу рабочего класса и о братских чувствах простых людей Финляндии к Советскому Союзу, надолго остаются в душе. Любовно собраны не только вещи, когда-то принадлежавшие В. И. Ленину,— музей является своеобразным памятником великому делу Ленина, он показывает историю и современность Советского Союза — здесь фотографии строек нашей страны, книги и альбомы, картины, письма советских людей трудящимся Суоми...
Говоря об этом музее, нельзя не сказать о двух финских гражданах — супругах Ювоннен, которые всю свою жизнь посвятили делу создания и сохранения этого музея. Это был настоящий подвиг, растянувшийся на десятилетия и особенно опасный в годы разгула лапуасской реакции и маннергеймовской диктатуры. С горечью можно сказать, что испытания Иоганнеса и Иоганны Ювоннен и сейчас еще далеко не кончены, и ныне часто все их средства уходят на обеспечение
20 На разных меридианах
305
работы музея. Бывает так, что весь свой заработок они отдают в уплату за помещение. Город выделяет на эту цель 495 тысяч марок — нельзя сказать, что город ничего не делает! — но супруги Ювоннен должны достать еще 87 тысяч марок, а это им сделать труднее, чем городу выделить из своего бюджета полмиллиона марок. Что же касается социал-демократической партии — хозяина здания, то ей не приходит в голову снизить арендную плату: когда честные и самоотверженные хранители музея говорят о том, что плата слишком высока, руководители Рабочего Дома отвечают, что они могут сдать помещение музея под кегельбан и тогда оно будет приносить чистую прибыль!..
Я пишу об этом, чтобы наши читатели узнали о супругах Ювоннен, чье мужество и благородство вызывают неизменно уважение всех честных людей!
.. .Столица Финляндии предстала перед нами в вечерней дымке, в ожерельях залитых светом витрин, в радужных огнях рекламы...
Оживленное движение на улицах Хельсинки, разноязыкий говор гуляющих, поток автомобилей и мерцание их фар, которыми они сигналили прохожим, так как сигнал сиреной запрещен во всех больших и малых городах Финляндии, были тем более приятными, что мы подъезжали к столице не со стороны Нурми-ярви, где находится национальная святыня финнов — дом, в котором родился великий финский писатель Алексис Киви, и где на дорогах и в населенных пунктах царит оживление, а со стороны района Порркала-Удд, только что открытого для движения...
Как известно, этот район был отдан Финляндией в долгосрочную аренду Советскому Союзу по соглашению о перемирии 19 сентября 1944 года. В целях укрепления мира и дружбы между народами наших стран правительство Советского Союза возвратило Финляндии район Порркала-Удд досрочно, в прошлом году. Но район этот до сих пор не был заселен — после шести часов вечера никто не имеет права находиться на этой территории, она до сих пор является запретной, не потому, что республика имеет здесь какие-то специфические интересы, а потому, что в сейме и поныне не завершены дебаты о том, как поступить
306
с Порркала-Удд... В 1944 году, при отчуждении недвижимого имущества и земельных владений, государство выплатило собственникам крупную компенсацию. Теперь хозяева — новые или старые — хотели бы получить эти земли по дешевке, на чем настаивают представители частновладельческих кругов... Пока же — хлопают плохо закрытые двери в домах и ветер гуляет здесь полновластным хозяином, стуча ставнями и гудя в трубах, из которых не подымется ни один дымок, веселящий душу,— и так на протяжении тридцати километров...
.. .Широкие улицы Хельсинки и строгая планировка, «садовое кольцо», сообщающее такую живость каменным массивам жилых и общественных зданий, дома, многие из которых сделали бы честь любой столице мира, озера, что вторгаются в городскую черту на северной окраине, шумный порт на южной окраине, в котором вы встретите корабли из Порт-Саида и Александрии, Сиэтла и Бергена, Портсмута и Салоник, Гамбурга и Лиона,— все это придает финской столице большое своеобразие и неповторимость. У нее своя физиономия, свой характер, свой ритм жизни.
Туристу здесь есть что посмотреть.
Кафедральный собор, сооруженный по проекту архитектора Энгеля в 1818—1845 годах, как бы поднят ввысь самой землей, автор сумел использовать рельеф местности блестяще, с тонким чувством композиции. Собор выходит на площадь с монументом Николаю Первому, на которой до двух часов дня шумит и волнуется обширный зеленной рынок, бесследно исчезающий после этих часов... И здесь, как во многих городах, высится фонтан, украшенный скульптурой обнаженной женщины. Зачесть надеть на нее студенческую фуражку в ночь на Первое мая здесь затеваются нешуточные свалки, тем более занимательные, что счастливец должен преодолеть трехметровый бассейн фонтана, чтобы добраться до студенческой избранницы, хранящей на своих устах вечную улыбку...
Остается в памяти и несколько мрачноватое, вызывающее представление о финских валунах здание Центрального вокзала с четырьмя мощными каменными изваяниями у входа, символизирующими финские народные промыслы.
20*
307
Примечательно и здание финского сейма: величественное, в стиле неоклассицизма, оно со своими четырнадцатью двадцатипятиметровыми колоннами и ста ступенями к ним как бы венчает всю прилегающую часть города, являясь видным центром архитектурного ансамбля ее.
Современная архитектура представлена в Хельсинки конструктивистским зданием Главного почтамта, с хорошо найденными, гармоническими пропорциями, а также зданиями фирмы «Стокманн», кооперативов «Эланто», «Сокос» и отелем «Палас», на седьмом этаже которого расположена «финская баня» — зимой любители этой бани бегают по крыше «Паласа» в чем мать родила и прямо из парного отделения кидаются в сугробы снега, совсем по-сибирски! Пусть не удивляются этому советские читатели — таких голышей мы уже видели в том фильме, который крутил нам интендант института в Виерумякки. Такие «ню» совсем не коробят финнов, где в скульптуре царствует обнаженная натура, независимо от того, насколько это согласуется с темой тех или иных произведений: памятник Освободителю в Турку представляет собой изображение обнаженного человека с мечом, скульптуры на мосту Хямеенсилта в Тампере тоже обнажены, памятник Труду в Хельсинки дает обнаженных кузнецов и так далее. Во всех монументах, трактующих трудовые темы, изображаются обнаженные люди, и лишь с помощью орудий труда, которые художники вкладывают в их руки, можно понять, чему посвящен, что выражает памятник. Даже на кредитных билетах достоинством в тысячу марок изображена группа обнаженных мужчин и женщин, идущих по берегу моря навстречу солнцу,— мощный взлет фантазии автора этого рисунка так и не дошел до нас.
В эти дни город был переполнен любителями спорта, которые прибывали в Хельсинки со всех концов страны, а также из Бельгии, Норвегии, Швеции, Дании, Германии. 10 мая здесь открывались международные автомотогонки. Пресса оживленно обсуждала шансы отдельных гонщиков, а нефтяные фирмы — «Эссо», «Шелл», «Гульф», «Мобиль» — засыпали весь город своей рекламой, билеты брались нарасхват, и несмотря на высокую стоимость — 400 марок за стоя-308
чее место! — гонки собрали свыше двухсот тысяч зрителей. ..
О напряжении, которое было вызвано всей этой шумихой, можно судить по тому, что один из гонщиков, финн по национальности, умер от разрыва сердца во время тренировки за три дня до гонок, сбив своей машиной две пассажирских и покалечив их владельцев. «Это не была ошибка в машине! — объяснила нам с прелестной улыбкой наш новый гид, г-жа Козловская.— Это был просто разрыв сердца...»
Нельзя не отметить, что радиокомментатор, информировавший публику о ходе состязаний, использовал одну из пауз в интересах собравшихся, сказав следующее: «Вы видите, господа, как лихо мчатся эти гонщики! Мы не можем не восхищаться их смелостью и риском. Но вы, господа, не должны ездить так же! За пять месяцев этого года в Хельсинки произошло сто тридцать катастроф, сопровождавшихся человеческими жертвами. Подумайте над этим! Когда вы мчитесь в своем автомобиле, то думайте больше о детях, которые ждут вас дома, чем о друзьях, к которым вы спешите!»
Возвращаясь со стадиона, мы не раз вспомнили наставление радиокомментатора. Да, в Хельсинки автомобилист должен думать о своих детях больше, чем о своих друзьях,— на протяжении трех или четырех километров по главной улице, Маннергеймкату, мы увидели всего двух регулировщиков в белых крагах и в белой амуниции, которые, стоя на высоких, похожих на трибуны, подмостках, не столько регулировали, сколько наблюдали за потоком машин. Их олимпийское спокойствие, даже некоторое равнодушие немало удивили нас. Они поднимали руку и брали власть над движением машин только тогда, когда образовывался слишком заметный затор или какой-нибудь зазевавшийся владелец машины переставал думать о своих детях и втыкался радиатором в буфер передней машины. Регулировщик останавливал все движение, а водители сами разбирались, кому и куда надо ехать или поворачивать. Однако еще более сильное впечатление на нашего инженера-дорожника произвело не это, а стоянка машин на середине улицы, между движущимися машинами, на красной линии правого и левого движения...
309
Среди пролетавших мимо нас машин то и дело мелькали советские машины «Победа» и «Москвич», прочно завоевавшие спрос у автомобилистов нашей соседки. Почти весь парк такси и радиотакси состоит из советских машин. Мы разговорились с одним водителем такси. «Очень хорошая, надежная машина! — сказал он, похлопывая дружески «Победу» по кузову.— Моя прошла уже двести сорок тысяч, но еще совсем молодец! Я продам ее за половину цены, а покупать буду только «Победу»!» Мы не стали огорчать его известием, что эта машина снимается у нас с производства (к великому сожалению всех, кто успел полюбить эту действительно хорошую машину!). Он хотел что-то еще сказать, но тут загудела его рация — диспетчер вызывал его по радио,— водитель заторопился и тотчас же сел за руль.
«Москвич» стоит здесь 315 тысяч марок. «Это дешевка!»— сказал нам Шелихов, и тут завязался разговор о ценах. Булка хлеба стоит от 150 марок до 400. «Дорого!» — сказал Шелихов. И у нас перепутались понятия «дешево» и «дорого»: билет в кино —150 или 300 марок, холодильник — 68 тысяч марок, апельсин —120 марок, дамское пальто — 8000, ручка «Паркер» — 9500 марок, а один кубометр здания Концертного зала в Турку — 8600 марок. Дамские шерстяные трусики с начесом — 485 марок, а килограмм яблок—150 марок. «Ах,— сказал наконец наш сопровождающий,— зачем спорить на эту тему? Надо исходить из того, какой возможностью приобретать все это располагает человек, получающий в месяц двадцать пять тысяч марок. Тогда <все станет понятно». И спор наш иссяк. Правда, оставалась еще одна неясность: «Как это апельсины стоят дешевле хлеба?» Тут вмешался опять Шелихов и сказал, что государство дает импортерам фруктов крупную дотацию с тем, чтобы они могли продавать витаминозные продукты по цене, доступной каждому...
На улицах Хельсинки мы встретили знакомые лица: с киноплакатов нам мило улыбалась Зигрида Стунгуре, героиня латышского фильма «Весенние заморозки», только что с успехом прошедшего в Москве и теперь принятого финским зрителем; виднелся застывший в трагическом повороте Борис Годунов из оперы-кинофильма.
310
Но среди объявлений о советских, шведских, американских кинокартинах всюду мы видели фото финских солдат — не тех чистеньких, как ученики воскресной школы, финских солдат спортивного сложения в недорогой форменной одежде, которую они носят с большим достоинством и которые попадаются везде — в кино, в парках, на улицах, так как их рабочий день, видимо, кончается рано, — а заросших многодневной щетиной, в расстегнутых или разорванных мундирах, с неутолимой яростью рвущихся в бой или с проклятиями на искаженных устах падающих на каменистую, заснеженную землю. Это были киноплакаты и рекламные кадры финского фильма «Тунтёматон Сотилас» — «Неизвестный солдат», поставленного по одноименному роману Вяйнё Линна. Фильм шел в Хельсинки уже двадцатую неделю (!). Этот фильм и есть урок, данный писателю жизнью,— если в книге он стихийно выражал свой протест простого человека против войны, рисуя ее ужасы, то фильм весьма далек от пацифизма. Хотя формально сюжет сохранен, кинофильм вызывает совсем не те чувства, которые хотел пробудить Вайнё Линна своей книгой. И даже не те, которые вызывают в сердце каждого финна мемориальные доски с надписью «Пар патриа» («Ради отечества»), что воздвигнуты всюду — в театрах, кино, заводах, учреждениях, в школах и кирках — и хранят память о погибших за родину, а чувства реваншистские, шовинистические. Успеху этого фильма не может радоваться писатель, но, надо думать, радуется Вайнё Таннер, недавно выпустивший книгу «Будни Финляндии», в которой он оправдывает «зимнюю войну» 1939—1940 года и «продолжение войны» (1941— 1944 гг.) и свою политику тех лет, за которую он, как военный преступник, был осужден на тюремное заключение сроком на 5 лет и 9 месяцев, каковые и отбыл, работая над этой и другими такого же рода книгами. ..
Вяйнё Таннер, «злой гений» мирных переговоров 1939 года, до сих пор является заметной фигурой в Финляндии. Он — председатель многих юношеских спортивных, явно националистического толка, организаций, он председатель Финского общества трезвости и одновременно — председатель акционерного обще
311
ства «Алкоголлиике», имеющего монополию на про* дажу крепких спиртных напитков и располагающего широкой сетью винных магазинов по всей Финляндии. Он возглавляет также правое крыло социал-демократической партии Финляндии...
Кстати сказать, винная монополия «Алкоголлиике»— учреждение весьма видное в финской жизни. Паспортов в Суоми нет, но каждый, достигающий возраста в 21 год, получает «Удостоверение на право покупки спиртных напитков», снабженное фотографией владельца, его личной подписью и дактилоскопическим оттиском. Это удостоверение может служить видом на жительство. К этому документу прилагается заборная карточка на покупку спиртных напитков. «Норма» вполне удовлетворительная — две полбутылки на день. Казалось бы, все население должно было бы ходить вполпьяна... Но тут вступает в действие Общество трезвости — два-три дня потребителю, если он целиком выбирает свою «норму», продавец отпустит требуемое, но на третий-четвертый день заметит: «Вы слишком много пьете, господин! Я вам больше не отпущу!» Так как талоны на горячительные напитки датированы, то идти в другой магазин бесполезно.
Нельзя считать, что эта система полностью уничтожает пьянство как явление общественной жизни, но она является инструментом очень жесткой регуляции его. Наказание для тех, кто «в подпитии» нашумел или своим видом оскорбляет эстетические и этические чувства прохожих, очень своеобразно — полицейский отбирает у провинившегося упомянутое удостоверение, которого он может быть лишен на срок от одной недели до полугода, чтобы иметь возможность подумать над своим поведением со свежей головой...
1956
-н u i<o/1 л-u
п д н-0 в
Д в -А
Л- /Л Е Р И Н- Ц А-
ысли о жизни и гибели двух молодых американцев не дают мне покоя.
Где услыхал я впервые имя Эдди Слоуви-ка — этого «'самого неудачливого в мире парня», как говорят о нем знавшие его? Разговор о нем зашел на широкой, зеленеющей травяными площадками улице Дирборна, между рядами двухэтажных, обсаженных деревьями
домов, построенных компанией Форда, чтобы, по замыслу Генри Форда, отгородить рабочих «от пьянства, коммунистической пропаганды и прочих зол», создав для них идеальный загородный город.
Мы приехали в Дирборн весенним вечером 1960 года и, оставив чемоданы в отеле,—таком же провинциально-респектабельном, отнюдь не поражающем масштабами, как и окружавшие его дома,-— вышли побродить по улицам, предназначенным для «рабочей аристократии» Детройта.
313
Дирборн не слишком ярко иллюминированный город — только в самом центре его сияют ряды магазинных витрин. За зеркальными стеклами медленно вращаются, отливая вишневым, черным, белым и кремовым лаком, новые образцы выпускаемых компанией Форда машин. Рядом мебельные магазины демонстрируют гарнитуры гостиных и спален, в окнах универмагов сверкают белизной нейлоновые рубашки «уош энд вир» — «мой и носи»,— белье, не нуждающееся в глажении, как настойчиво сообщают развешанные повсюду рекламы. А дальше уходят линии однообразных жилых кварталов — уютных двухэтажных домов, с окнами, мерцающими мягким электрическим светом. Балкончики виднеются на уровне вторых этажей.
— Такой вот дом убил Эдди Слоувика,— сказал один из двух наших спутников—американцев, которые познакомились с нами в вестибюле отеля и радушно предложили показать нам городской центр.
— Его убил не дом, его убил Айк, вместе с вояками из Пентагона,— запальчиво возразил второй.— Нельзя было казнить этого самого неудачливого в мире парня.
— Нет, Эдди виноват сам, он хотел перехитрить Соединенные Штаты. Соединенные Штаты послали его в Европу не для того, чтобы он носил в патронташе любовные письма, в то время как другие умирали в боях...
Тогда я с трудом уловил смысл этого разговора. Местные жители спорили о чем-то хорошо им знакомом, потом разговор перешел на другое, и я не успел расспросить, кто такой Эдди Слоувик, хотя имя запомнилось мне.
На следующее утро туристский автобус повлек нас мимо двухэтажных домов и забитых машинами автомобильных стоянок, мимо свалок старых автомобилей, темнеющих сотнями раздавленных остовов и порванных шин, в сторону мостов, туннелей и небоскребов третьего по величине города Соединенных Штатов — Детройта.
— Кто такой Эдди Слоувик? — спросил я представителя туристского агентства, прогуливаясь перед железными воротами «Форд мотор компани». Заполнив небольшие изящные карточки — личные обязательства, что не будем предъявлять компании никаких 314
претензий при любой постигшей нас катастрофе на территории завода, мы ждали разрешения начать осмотр цехов.
— Эдди Слоувик? В первый раз слышу! — ответил наш гид. Потом глаза под полями шляпы затуманились — он, видимо, почувствовал, что его репутация всезнающего представителя лучшего в мире туристского агентства стоит под угрозой.— Впрочем, уточним. Кто этот Эдди — конгрессмен, промышленник, гангстер, киноартист?
— О нем говорили, что он самый неудачливый парень в мире,— сказал я.— По-видимому, он житель Дирборна и сражался на театре европейских военных действий.
— Прекрасно,— веско сказал наш гид.— О’кэй... Вы задали агентству вопрос — вы получите исчерпывающий ответ.
О заводах Форда очень много писали — поэтому, возможно, процесс сборки автомобилей не произвел на меня значительного впечатления. Запомнились второстепенные детали, например протянутые над головами огромные надписи: «Accidents don’t* pay» — «Несчастные случаи не оплачиваются». .. Или скопление бесчисленных авто — как пестрая скорлупа, покрывшая просторную площадь перед входом в цехи. Нам сказали, что эта площадь вмещает 24 тысячи машин, на которых рабочие и служащие компании приезжают на работу.
Когда мы пробегали вдоль конвейера сборки — именно пробегали: вся экскурсия по цехам протекает в темпе бодрой, почти не прекращающейся рыси,— привлекло внимание, что рабочие, стоявшие по двое на сборке, странно молчаливы. Только изредка обмениваются они между собой знаками — как глухонемые.
Гид с готовностью объяснил, что для большей продуктивности труда здесь, как правило, ставят рядом людей разной национальности. Если люди не владеют общим языком, они не будут заниматься пустой болтовней.
А когда, влившись в неиссякаемый поток американских экскурсантов, школьников, студентов, приезжих из дальних штатов, мы пробегали по верхним га
315
лереям сталеплавильного, прокатного, штамповочного цехов,— эти цехи и вовсе не запомнились мне. Может быть, потому, что неоднократно бывал в гигантских, величаво прекрасных сталеплавильных и прокатных цехах Магнитогорского металлургического комбината, сравнение с которым показалось не в пользу завода Форда.
Когда, закончив осмотр, мы обедали в кафетерии близ завода, наш гид остановился возле меня, держа на пластмассовом подносе выбранные им блюда — жареного цыпленка, салат, стакан апельсинового сока.
— Кстати о Слоувике,— сказал он.— Не знаю, кто мог вам рассказать об этом джентльмене. Это бывший житель Детройта, воришка, расстрелянный в Европе по приговору военного суда.
Он мгновение поколебался, ставя поднос на стол.
— Впрочем, о нем, как это ни странно, написана целая книга. Вот ее название. — Он протянул мне вырванный из блокнота листок. Его одутловатое лицо озарилось самодовольной улыбкой.— Как видите, наше агентство дает ответы на любые вопросы.
И вот она передо мной, эта книжка. На лакированной полукартонной обложке шеренга стройных солдат в стальных шлемах, в зимней защитной форме целится в привязанную к столбу маленькую фигурку. Расстреливаемый стоит на снегу, его лицо закрыто черным глухим капюшоном. «Они приставили Слоувика к стене и расстреляли его — почему?» — бежит по верху обложки крупная надпись. А на оборотной стороне книги мы видим самого Слоувика — прямо глядящего на нас, застенчиво улыбающегося парня в армейской пилотке. Над его головой — фотоснимок прямоугольной могильной плиты, с номером, заменившим для Слоувика обычную надгробную надпись.
История рядового Слоувика вся состоит из документов, из подлинной переписки Эдди с женой. Эта документальная повесть тщательно составлена военным журналистом Уильямом Хьюи и опубликована с разрешения Пентагона.
«Книга, параграф за параграфом построенная на изложении фактов, долгое время бывших военной тайной. Правда о мрачном, но показательном эпизоде в истории нации» — так характеризует Хьюи результат проделанной им кропотливой работы
31А
Эдди Слоувик родился в Детройте, в беднейшем рабочем районе, в семье штамповщика автомобильных деталей. Он родился в двадцатом году. Уже одиннадцати лет, в дни промышленного кризиса, который потряс заводы Детройта, выбросил на улицы десятки тысяч безработных, Эдди должен был поступить на работу к булочнику. Двенадцати лет он был впервые предан суду за кражу у хозяина пирожных и хлеба.
Он жил в окружении вечно голодной детворы, ютящейся в грязных развалинах трущобных районов Детройта. Семнадцати лет его вновь привлекли к суду, присудили к тюремному заключению от шести месяцев до десяти лет (в зависимости от поведения в тюрьме). Работая продавцом в аптеке, Эдди тайком уносил домой сласти, жевательную резинку, сигареты — похитил товаров на общую сумму 59 долларов 60 центов, как тщательно подсчитал суд, вынося ему приговор.
«Он был дружелюбным, мягкосердечным парнем,— свидетельствует надзиратель тюрьмы, в которой отбывал свой срок Слоувик.— Слабовольный, пугливый, неуверенный в себе, он имел все же жизненные шансы, потому что у него не было ненависти ни к кому». Эдди усердно работал в тюрьме, хотя родился с физическим недостатком — у него были искривленные ноги, это мешало ему много ходить, причиняло по ночам сильные боли. Но он старался изо всех сил, изучил ремесла водопроводчика и деревообделочника. Он был счастлив, когда, отбыв пятилетнее заключение, сразу смог получить хорошо оплачиваемую работу.
Он вышел на свободу в 1942 году — в дни бурного военного процветания Соединенных Штатов.
«Новым чудом света в тридцатых годах явилась невиданная по своей глубине депрессия, охватившая Америку, вызвав жестокие страдания масс в богатейшей стране мира,— пишет американский публицист Гентер Стейн.— Все это продолжалось до тех пор, пока война опять не пришла на помощь свободному предпринимательству и не открыла новый цикл оживления. Про-
317
МыШлённоё производство Соединённых Штатов поднялось по сравнению с довоенным уровнем на 80 процентов, а занятость населения на 54 процента. А накопленные во время войны сбережения невиданных размеров обещали продление бума и в мирные годы».
«О всей нации в целом можно сказать, что мы пролили немного крови, уронили несколько слезинок и отлично потрудились»,— с циничным добродушием сказал после окончания войны председатель Экономического совета при президенте Эдвин Дж. Муре.
«Везде были возможности для молодежи, которая стремилась работать и не подлежала призыву в армию,— восклицает У. Хьюи.— Благоприятные возможности войны! Возможности заработать драгоценную независимость и частную собственность: собственную квартиру, собственный автомобиль, собственную женщину».
И Эдди Слоувик, преуспевающий рабочий водопроводной конторы в Дирборне, с полной серьезностью отнесся к этим возможностям. Ему действительно повезло— как экс-заключенный, выпущенный условно, на два года раньше срока, он не подлежал призыву в армии Эйзенхауэра и Макартура, сражавшиеся в Европе и на Тихом океане, он не подлежал призыву в армию вообще!
Перед ним раскрылась новая жизнь. Преодолев застенчивость и робость, он делает предложение приглянувшейся ему Антуанетте, бухгалтеру водопроводной конторы. Антуанетта колеблется — Эдди моложе ее на три года, инвалид. И она инвалидка тоже — хромая от рождения, страдающая припадками эпилепсии.
Но здесь мягкий, нерешительный Эдди проявляет удивительное упорство. Он трогательно ухаживает за Антуанеттой, водит ее в кино и в ресторан, рисует вновь и вновь заманчивые перспективы их будущей совместной жизни. У них будет собственный дом, дети, самая модная обстановка, красивый автомобиль, платья, духи — все, что можно, наконец, приобрести в эти дни происходящей где-то войны, в дни удивительного просперити Соединенных Штатов! Антуанетта присматривается к Эдди — да, он может быть хорошим спутником жизни. Он не пьяница—только изредка позволяет себе выпить кружечку пива. Чтобы вырваться 316
из прежнего окружения, ой перебрался из грязного и шумного Детройта в респектабельный, тихий Дирборн. Эдди трудится самозабвенно, чтобы скопить денег к свадьбе. Работая водопроводчиком, отделывает в свободное время витрины магазинов, натирает полы. Его заработная плата увеличивается каждые две-три недели.
И Антуанетта решилась — 7 ноября 1942 года она и Эдди справляют торжественную свадьбу в одной из тысячи ста церквей города Детройта. Бракосочетанию предшествовало посещение призывного пункта, где Антуанетте подтвердили, что она может быть спокойна — Слоувик не подлежит военному призыву.
Вот он стоит — сияющий голубоглазый блондин, полноправный гражданин Соединенных Штатов, в новом черном костюме и белом галстуке бабочкой,— а рядом с ним она, с фатой на голове, с прижатым к груди большим букетом цветов. Эта фотография помещена в повествующей об их судьбе книге. Но с соседней страницы угрюмо смотрит из-под козырька генеральской фуражки Дуайт Д. Эйзенхауэр — тот, кто через два с небольшим года лично санкционировал приговор военно-полевого суда о казни рядового Слоувика.
3
Как это произошло? Почему был расстрелян за дезертирство не подлежавший призыву в армию, «самый неудачливый в мире парень»?
Дезертир — тот, кто предал свою родину, бросил оружие в дни великой войны с гитлеризмом,— не может не вызвать презрения и осуждения, особенно в условиях нашего общественного строя. Но самое характерное в истории Эдди Слоувика — полное отсутствие сознания долга перед родиной у этого молодого американца, целиком захваченного стремлением добиться личного благополучия в дни трагичнейшей из потрясавших человечество войн.
И разве не типично отсутствие патриотических чувств у Слоувика — жертвы пресловутого «американского образа жизни», движущий принцип которого — страсть к стяжательству, ожесточенная борьба каж
319
дого против всех, за создание своего крошечного буржуазного счастья?
На судебном процессе Френсиса Пауэрса — «небесного шпиона», засланного к нам из Соединенных Штатов,— цитировалась американская поговорка: «Деньги— это бездонное море, в котором тонут правда и честь». Главной целью жизни Пауэрса было получить любую высокооплачиваемую работу, хотя бы работу шпиона-диверсанта. Слоувик погиб в тщетных попытках удержаться на уровне мещанского благополучия, которое предоставляли годы военного просперити молодым американцам, избежавшим отправки на фронт. ..
Когда через восемь лет после окончания войны писатель У. Хьюи разыскал вдову Слоувика и, впервые от него, Антуанетта узнала о казни Эдди, Антуанетта сказала:
— Восемь лет я не знала почти ничего. Я получила лишь телеграмму, что Эдди «умер на театре Европейских операций». Позже, когда я хотела получить страховку за его жизнь, мне сообщили, что деньги не будут уплачены, так как мой муж умер «при бесчестящих его обстоятельствах». Я дам вам его письма, его фотографии, мои воспоминания о нем. Если люди Соединенных Штатов убили его, я хочу, чтобы они знали, кого они убили и как тяжела была наша борьба за жизнь...
.. .Первым их приобретением после свадьбы была спальная обстановка, «вся из прямых линий, самая модная, светлого красного дерева», как вспоминает Антуанетта. .. «Образцы такой обстановки можно увидеть в рекламах лучших мебельных магазинов... Образцы такой обстановки мы с Эдди видели в кино...»
Почти тотчас же они купили подержанный автомобиль «понтиак». Через восемь месяцев после свадьбы была приобретена обстановка столовой — тоже самого модного фасона. Все было куплено в рассрочку, но С л оу вики зарабатывали хорошо и уже считали все эти вещи своими.
Осенью 1943 года Антуанетта и Эдди добились своего величайшего успеха — они арендовали верхний этаж двухквартирного дома в Дирборне за тридцать восемь долларов в месяц и купили в рассрочку модную обстановку гостиной и кухни.
320
Седьмого ноября в девять часов утра они переехали на новую квартиру, и тут же подоспел грузовик из мебельного магазина с обстановкой для гостиной и кухни. Антуанетта вспоминает:
«Гостиная была нашей гордостью и счастьем — с четырьмя большими окнами, со стеклянной дверью, выходящей на солнечный балкон. И каждый предмет обстановки новый и модный, красного дерева, из прямых линий — совсем как мебель, которую мы видели в кино!
Столовая была почти такой же величины, и наша мебель прекрасно уставилась в ней. Кухня была прелестна — очень много света. Ванная безупречная. Спальня располагалась в глубине — тоже с дверью на балкон. Этот балкончик был меньше фасадного, но достаточен, чтобы Эдди мог сидеть на нем после работы и кормить своих любимых воробьев».
Сумма предстоявших им ежемесячных выплат была пугающе велика: тридцать восемь долларов — взносы за квартиру, семьдесят — за обстановку, семнадцать долларов и семьдесят пять центов — за автомобиль. Но они старались не думать об этом в радостный день новоселья. Ведь они оба работают изо всех сил. Им, конечно, удастся справиться с долгами...
«Около семи часов вечера,— вспоминает Антуанетта,— я жарила для Эдди яичницу в нашей новой кухне, когда пришла моя сестра Элен. Мы оба бросились ей навстречу — похвалиться квартирой и новой обстановкой. Но она протянула нам письмо, полученное по старому адресу Эдди. Я никогда не забуду выражения лица моего бедного мужа, когда он прочел письмо. Он не мог говорить. Он просто протянул его мне с полными слез глазами. Соединенные Штаты решили переменить категорию его отношения к воинской службе — его призывали в армию и предписывали явиться для медицинского осмотра.
Несколько минут мы просидели в молчании, смахивая слезы. Потом Эдди сказал: «Нужно же им было дождаться этого момента! Восемнадцать месяцев тому назад, когда я вышел из тюрьмы, был одинок, они не хотели иметь со мной никакого дела. Теперь, когда я женат, когда мы ожидаем ребенка и на мне все эти долги,— теперь они хотят отправить меня на фронт».
2V На
разных меридианах
321
4
Его признали годным к отправке на фронт, несмотря на больные ноги. Молодому рабочему из Дирборна не удалось уклониться от призыва, как уклонялись сотни тысяч более ловких, имеющих связи американцев. «Из молодежи, призванной в американскую армию за годы второй мировой войны,— с горечью пишет Уильям Хьюи,— кроме освобожденных медицинскими комиссиями по состоянию здоровья, миллион пятьсот тридцать две тысячи пятьсот человек избежали посылки на фронт по причинам временной неустойчивости, плохой приспособляемости, чрезмерной нервозности и половых извращений». Ни одного из этих пороков не обнаружили у Слоувика осматривав-.шие его врачи. Он был отправлен в военный лагерь для боевой подготовки, а в августе 1944 года — в Европу, на передовую линию фронта.
С момента призыва до казни — за 372 дня — он написал жене 376 писем, иногда отправлял по 4 письма в день.
Сразу же после отъезда Слоувика начались несчастья Антуанетты. Ее мучили эпилептические припадки, ребенок родился мертвым. Она потеряла работу.
«У меня было до семи приступов эпилепсии в некоторые дни,— вспоминала впоследствии Антуанетта.— Я не могла ходить на работу, вместе со всеми другими трудностями явилась трудность передвижения. Все мое тело иногда казалось парализованным. Доктор советовал лечь в больницу, но у меня не было для этого денег. И последний удар судьбы — мое зрение стало ухудшаться. Но если бы я даже продала все, принадлежавшее мне и Эдди, у меня не хватило бы денег для больницы. Я жила в тоске: болезни, безработица, долги и ничего, кроме Эддиных пятидесяти пяти долларов в месяц. Сначала я пробовала скрывать все от Эдди, но он узнал правду от телефонистки конторы, где я перестала работать...»
Антуанетта пробовала обратиться в Красный Крест, но встретила холодный прием. Ей рекомендовали отказаться от выплат за обстановку и переехать на более дешевую квартиру. Эдди хлопотал о демобилизации по 322
болезни жены, но не добился успеха. И все же они цеплялись за квартиру и обстановку, цеплялись, несмотря ни на что, как за единственную возможность удержаться на уровне, достигнутом тяжелым трудом.
«Я тоже писала ему иногда по четыре письма в день,— вспоминает Антуанетта.— Когда я болела и не могла заниматься ничем иным — я боролась с одиночеством при помощи писем к Эдди. Однажды я написала ему письмо на двадцати семи страницах. Он жил только для меня, а я — только для него».
Когда рядовой Слоувик, 36896415 1, перед отправкой за океан прибыл домой в краткосрочный отпуск, все дни отпуска он проработал водопроводчиком, чтобы расплатиться хоть с частью долгов. Антуанетта заложила свои часы, чтобы иметь возможность сходить с Эдди в кино, в ресторан, приготовить его любимые блюда. Он приехал в отпуск летом, а она не работала уже с февраля. Мебельный магазин требовал взносы за обстановку, домовладелец ждал платы за квартиру. В эти дни Эдди впервые увидел воочию, что такое эпилептические припадки. Он понял, что его жена очень тяжело больной человек.
Они расплатились с частью долгов, и он уехал на деньги, полученные под заклад обручального кольца Антуанетты. Перед погрузкой на транспорт Слоувик писал: «Ах, дорогая, они доводят меня до безумия,— кажется, я готов на все. Не понимаю — как можно дойти до такой низости. Они берут честного человека и заставляют его служить и третируют, как цепную собаку. Я начинаю напоминать сам себе измученного пса, который может начать кусаться. Но им, кажется, нет до этого никакого дела».
В августовский день 1944 года транспорт «Аквитания» отошел от нью-йоркского пирса с семью тысячами «собачьих морд», набитых между его бортами, как сельди в бочке. «Собачьими мордами» называли в дни войны в Соединенных Штатах солдат пополнения, отправляемых в армии за океан. 14 августа Слоувик был высажен в шотландском порту и после нескольких дней тренировок направлен во Францию.
1 Каждому солдату присваивается в армии США порядковый номер.
21* 323
В ночь на 26 августа новобранцы попали под жестокий артиллерийский обстрел, и Эдди, забравшись в какую-то щель, просидев там целую ночь, отбился от своего взвода. Утром он, вместе с другим рядовым, явился в расположение отряда канадской полевой полиции, так как солдаты, с которыми он прибыл во Францию, не дождавшись его, отправились дальше.
Слоувик провел с канадцами почти две недели, скитаясь по дорогам Франции и Бельгии, пока его не доставили наконец в часть, к которой он был приписан. А на следующий день он подал командиру роты письменное заявление с просьбой перевести его в тыл, обвинив сам себя в трусости и дезертирстве и угрожая дезертировать снова. Он был арестован и предан военно-полевому суду.
Что заставило Слоувика написать это заявление, ставшее для него смертным приговором? Слоувик попал в Европу, когда, по существу, над Германией уже была одержана победа. 25 августа французские войска вступили в освобожденный Силами Внутреннего Сопротивления Париж. Советские войска один за другим освобождали города Польши, подошли к германской границе. Не было ли основным стремлением Эдди, пока еще продолжается военный бум, во что бы то ни стало вернуться домой, хоть частично выплатить долги, постараться скопить что-нибудь на черные дни послевоенной депрессии,— он-то знал, что представляют из себя эти черные дни!
Дезертирство из американской армии достигло к тому времени устрашающих размеров. Не так трудно было отбиться от своей части, купить подложные документы в Париже, добраться через Лондон обратно в Соединенные Штаты. Сорок тысяч человек дезертировали в годы второй мировой войны из армии США, и только две тысячи восемьсот сорок четыре были судимы военно-полевыми судами и присуждены к разным срокам заключения. И простодушный, измученный мыслями о долгах и о болезни жены Слоувик решил предстать перед военно-полевым судом. Он был уверен — его продержат некоторое время в тюрьме, а потом отправят домой.
За все время пребывания во Франции и в Бельгии его патронташ был набит вместо боезапаса почтовой 324
бумагой. В одном из последних писем жене он писал: «Пожалуйста, мамочка, жди меня. Я сразу дам тебе знать, на какой срок меня осудили. Если на слишком долгий срок — я дам тебе развод». Но его присудили не к заключению, как других дезертиров,— а к смертной казни, в назидание всем остальным.
5
В поезде Пенсильванской железной дороги у меня произошел любопытный разговор с молодым солдатом армии Соединенных Штатов.
Он вошел в вагон-бар, продуваемый струйками искусственной вентиляции, уставленный круглыми низкими столиками, за которыми пассажиры пили виски, пиво, соки, пепси-колу, и присел на один из протянутых вдоль вагонных окон диванов. Он был одет в щегольски подогнанную военную форму. С чисто выбритого лица серьезно й несколько настороженно смотрели бледно-голубые глаза. Я сел рядом с ним. Ему подали пиво в раскупоренной узкой жестянке, я заказал пенистую, темно-коричневую пепси-колу, с кусочками льда вокруг соломинки, торчавшей над толстым стеклом стакана.
Разговор завязался непринужденно, как обычно в часы поездных путешествий. Несколько раз зажегшийся любопытством взгляд скользнул по круглой темно-синей с золотом эмали на лацкане моего пиджака— по изображению спутника, летящего вокруг земного шара. Я протянул ему значок.
— Сувенир, для вас,— сказал я.
— Сохраню на счастье,— серьезно, почти торжественно ответил он, опуская значок в карман.
Прихлебывая пиво из стакана, он смотрел теперь на меня потеплевшим, дружеским взглядом. Он сказал, что едет в свою часть после побывки у родных, в Нью-Йорке.
— Вы долго были в Нью-Йорке? — спросил он.
Я сказал, что провел там несколько дней.
— Несколько дней — хорошо, а вообще для иностранца, наверное, слишком шумный город.
— Шумноватый,— согласился я.
325
— Да, вот отец хотел, чтобы я остался работать в Нью-Йорке, отец — повар в ресторане, мог бы неплохо пристроить меня, но я избрал другое.
— Значит, вы добровольно пошли на военную службу?
— Конечно, добровольно. У армии большие преимущества— платят приличные деньги и можно бесплатно получить высшее образование, поступив в офицерскую школу.
Мимо нас пробегал негр-официант, и мой собеседник заказал еще порцию пива.
— Разрешите заказать и вам? — вежливо спросил он.
— Нет, очень благодарен, я еще не допил пепси-колу. .. Значит, вы решили посвятить жизнь военной службе?
Он сдержанно улыбнулся.
— Ну, никаких особо воинственных наклонностей у меня нет.
— Но в случае войны вам придется развить в себе эти наклонности!
Он посмотрел на меня пристально, как бы взвешивая ответ.
— Большая, истребительная война у нас могла бы быть только с вами, с Советским Союзом, но мистер Хрущев, выступая у нас по телевидению, сказал, что русские не собираются воевать с нами. Мистер Хрущев производит впечатление очень правдивого человека.
— А солдаты Соединенных Штатов не хотят воевать с нами?
Он пожал плечами:
— Кому интересно ставить на карту жизнь в тотальной войне? — Он вынул и положил на столик серебряный куортер 1 — расплатиться за пиво.— Конечно, маленькие войны, служба в оккупационных войсках — дело другое. Получаешь усиленный оклад, и можно посмотреть далекие, интересные страны.
Я вспомнил разговор с этим рассудительным парнем, избравшим военную профессию, чтобы получить хороший заработок и бесплатное высшее образование.
1 Название 25-центовой «монеты.
326
Я думаю — как поступил бы он, если бы очутился в положении Слоувика, если бы осознал страшную реальность, что война — это не только возможность получить хорошую работу, обзавестись модной обстановкой и хорошей квартирой, но и необходимость, если этого потребует страна, пожертвовать своей кровью и жизнью!
6
Здесь не могу я не обратиться к вам, Уильям Б. Хьюи, мой заокеанский коллега, книжка которого помогла мне яснее понять драму Слоувика — историю, мельком услышанную в Соединенных Штатах. Собирая и систематизируя документы о жизни и гибели Эдди, вы стремились доказать, что гражданин Соединенных Штатов не должен оставаться нейтральным в дни войн, ведущихся его страной. Вы убедили деятелей Пентагона, что книга о трагической судьбе рядового Слоувика будет хорошим уроком для молодых американцев. Вы цитируете афоризм командира полка, солдатами которого был казнен Эдди: «Американец, пригодный к военной 'службе и не желающий сражаться за свое государство, не имеет права на жизнь».
С жестоким реализмом вы описали расстрел Слоувика в маленьком городке Восточной Франции. Его казнили в присутствии сорока восьми свидетелей — генералов и офицеров армии США.
Социальный протест не мог не проявиться в этом сыне рабочего, с раннего детства испытавшего лишения безработицы и нищеты. Когда Слоувик стоял невдалеке от солдат, выделенных для расстрела, сержант военной полиции, доставивший его к месту казни, сказал:
— Постарайся не очень нервничать, Эдди. Постарайся для себя и для нас.
— Не беспокойтесь обо мне,— сказал Слоувик. Этот мягкий, слабовольный парень оказался, по словам очевидцев, выдержанней всех участников омерзительной церемонии.— Я о’кэй! Они расстреливают меня не за дезертирство — тысячи парней безнаказанно бежали из армии Соединенных Штатов. Они расстреливают меня
327
за хлеб, который я украл, когда мне было двенадцать лет!
Ему связали ноги и руки, прикрутили нейлоновой веревкой к столбу, и католический священник, провожавший его в последний путь, сказал перед тем, как на голову Эдди надели черный колпак:
— Эдди, когда ты будешь на небесах, помолись и за меня тоже.
— О’кэй, отец. Я помолюсь, чтобы вы не последовали за мной слишком быстро,— ответил Слоувик.
Взвод снайперов, собранных из разных подразделений, стрелял в сердце Эдди с расстояния в двадцать шагов — и не смог поразить его насмерть с первого залпа.
Солдаты слишком волновались, выполняя работу палачей. . . Портрет одного из них, юноши с беспощадным, острым взглядом, помещен в вашей книге. Бывший рядовой Моррисон сказал через восемь лет после казни: «Слоувик был наглецом. Трудно понять, почему мужчина, который так вел себя перед расстрелом, не хотел сражаться плечом к плечу с нами. Я уверен и сейчас — он надеялся, что его не казнят, а уволят из армии, разжаловав приговором суда. . . Я жалею Слоувика, но продолжаю утверждать — он получил по заслугам».
Вы описываете красочно и с большим чувством посещение военного кладбища в Иль-де-Франс, где похоронен рядовой Эдди Слоувик. «Это травянистый прямоугольник— ни монументов, ни надписей, ни имен. Один голый мраморный крест на четыре ряда могил. На каждой могиле — только номера, окрашенные черным на белых каменных плитах. Потому что Соединенные Штаты стыдятся этой секции кладбища американских военных. Это место погребения девяноста шести солдат, казненных на Европейском театре военных действий в течение второй мировой войны. Девяносто пять из этих преступников повешены за убийства, изнасилования, ограбления мирного населения, девяносто шестой — Эдди Слоувик — расстрелян за дезертирство».
Тут же вы даете понять, насколько бы лучше и достойнее было, если бы прах Слоувика покоился на одной из других, не засекреченных секций кладбища— 328
где колышутся в небе звезды и полосы национального флага, где на торжественных аллеях, над белизной крестов и надгробий — богатое разнообразие надписей — имен, дат рождения и смерти. Здесь, на вершине каменной полукруглой стены, сделана полуметровыми буквами надпись: «Эти вынесли все и отдали все, что может требовать справедливость и честь, чтобы человечество наслаждалось свободой и миром». А в часовне над алтарем надписи на французском и английском языках: «В священном сне они отдыхают».
Но, мистер Хьюи, вы же знаете, что именно в такой почетной обстановке, только не во Франции, а в Вашингтоне, покоится тело другого рядового армии Соединенных Штатов, прославленного Айры Хейса. Вы знаете, что этого национального героя, увековеченного в бронзе на памятнике Морской Пехоте, убил также социальный строй вашей страны. Хейс умер в отчаянии и в нищете, хотя не щадил своей жизни, надеясь, что победа американского оружия вернет гражданские права его великому, древнему, обманутому и угнетенному народу.
Нет, Айра Хейс не уклонялся, подобно Эдди Слоу-вику, от участия в боях. В дни, когда Слоувик ждал ответа Эйзенхауэра на ходатайство об отмене смертного приговора, когда полк, к которому был приписан Эдди, попал под удар бронированных дивизий фон Рундштедта, начавших стремительное наступление в Арденнах, и советские войска, в ответ на отчаянный призыв союзников о помощи, пересекли границу Германии, форсировали Одер,— в эти дни морской пехотинец Хейс готовился к штурму тихоокеанского острова Иво Дзима — к штурму, который американские историки считают одной из кровопролитнейших битв второй мировой войны.
7
Я сидел на восемнадцатом этаже отеля «Гувернор Клинтон», высоко возносившегося над Бродвеем громадой железобетонных граней. Я включил телевизор, стоящий возле кровати, и по экрану побежали бледные световые волны, раздвинулся зыбкий занавес, затанцевали на тонких ножках бутылки кока-колы. Я вращал
329
рукоять, ища что-нибудь значительное среди передаваемых параллельно двенадцати телевизионных программ, увидел ряды мужчин и женщин, поющих церковный гимн, увидел ринг с двумя бородачами, выдавливающими друг другу глаза... И вдруг на трепещущем, тусклом экране возникли солдаты в низко надвинутых шлемах. Они карабкались по изрытой трещинами, затянутой дымом горе. Они бежали и падали, хлестали скалы дымным пламенем огнеметов, с трудом вытягивали ноги из рыхлого черно-серого грунта. И вот возникла усеченная, покрытая песчаными волнами вершина, и смуглый, исхудалый, восторженный человек высоко взметнул древко знамени Соединенных Штатов, вонзая его в грунт.
Но тут действие оборвалось. Бутылка кока-колы, приплясывая, снова вбежала на экран, прекрасным женским голосом запела какую-то трогательную песню. Через экран полилась струя кофейных зерен, на фоне кофе возникли два белозубых лица. Молодой человек и девушка, счастливо улыбаясь, смаковали за столом дымящийся напиток. Девушка убежденно заговорила, упрашивая жениха всегда покупать кофе только этого, лучшего в мире сорта...
Я выключил телевизор. За несколько дней пребывания в Нью-Йорке меня уже начало тошнить от безудержного, бестактного наступления телевизионных реклам. И только впоследствии я пожалел, что не досмотрел прерванный рекламными вставками телефильм об Айре Хейсе.
Об Айре Хейсе я услыхал впервые немного позднее, в Вашингтоне, когда наш туристский автобус остановился в виду Капитолия, задернутого игольчатой завесой дождя. Мои спутники по поездке, шурша плащами и щелкая футлярами фотоаппаратов, бегом, как всегда, помчались через парк к белому куполу здания, полузакрытого кронами деревьев.
С утра была солнечная погода, и, выходя из отеля, я не захватил с собой плащ. Я решил переждать дождь в автобусе. Я подсел к шоферу, застывшему в привычном ожидании, чуть склонив над рулем узкое, морщинистое лицо.
— Ду ю лайк рашн папироса? — спросил я его на своем чудовищном английском языке. .Единственное, 330
что мирило меня с моим произношением,— это то, что меня все же понимали американцы, с которыми доводилось вступать в разговор.
— О, рашн сигарет... Мэни фэнкс! — он взял папиросу узловатыми пальцами красно-бурой руки, помедлил, опустил в нагрудный карман своей серой форменной куртки.
— Закурю после обеда...
Его манера говорить отличалась чем-то от речи других американцев. Отнюдь не в образе героя наших детских игр — воина в пестром убранстве, с орлиными перьями на голове — предстал передо мной индеец из племени тускарора, каким оказался этот шофер. Он был в аккуратно застегнутой куртке и в фуражке с кокардой.
— Были военным моряком? — спросил я, увидев на его руке татуировку — бледно-голубой якорь.
— Нет, в морской пехоте. Как... — он невнятно произнес чье-то неизвестное мне имя.
— Как кто? Пожалуйста, повторите яснее...
— Как Айра Хейс,— раздельно сказал он.— Тот, кто стоит на памятнике Иво Дзима. Не видели? Обязательно посмотрите этот монумент.
Он вынул и развернул сложенный вчетверо листок. «Карта Национального кладбища в Арлингтоне»,— было напечатано сверху. Концентрическими кругами вились жирные линии аллей: «Дорога Вильсона, дорога Гранта, дорога Линкольна»,— прочитал я. В центре карты — два венцеобразных кружка с надписями: «Памятник-амфитеатр» и «Могила неизвестного солдата».
Шофер поставил автоматическим карандашом крестик невдалеке от этих кружков. «Айра Хейс»,;— написал он старательным почерком внизу карты, поставив такой же крестик. И рядом: «Иво Дзима».
— Читали заявление Ассошиэйтед Пресс? — спросил он, как бы вне всякой связи с предыдущим, и вдруг подмигнул своим черным, пристальным глазом.
Разговор прервали возвратившиеся туристы. Я протянул карту шоферу, но он легонько отвел ее рукой:
— Фор ю иф ю плиз \— сказал он.
1 Для вас, если хотите.
331
Так и лежит у меня в столе этот странный подарок среди привезенных из-за океана ярких проспектов чикагских и нью-йоркских отелей и реклам автомашин фордовского производства.
Но если бы не еще одна встреча, имя Хейса, вероятно, не приобрело бы для меня никакого особого смысла.
8
Мы возвращались в Нью-Йорк с Ниагарского водопада. Найагара Фоллс, зовут его американцы. По-индейски «Найягара» — значит «Гремящая вода». За широкими, покрытыми пленкой пыли и копоти стеклами вагона проносились, кружась, смотрящиеся в голубизну узких заводей березовые рощи, высокие груды железного лома, фермерские домики и вновь березки над водой, проплывающие мимо вагона. Мы проезжали район Великих Озер.
Я не спеша прошел по вагону — присматриваясь, с кем из пассажиров можно завязать интересный разговор. Большую часть путешествия по Америке мы провели в поездах — нет лучшей обстановки для быстрого завязывания знакомств! У одного из окон сидел пожилой американец, у него на коленях лежал раскрытый покэт-бук. Соседнее место было свободно.
По обложке книги бежали крупные буквы: «Джон Кольер. Американские индейцы».
Мой сосед оказался учителем из Чикаго. Разговор, как обычно, начался с отрывочных вопросов и реплик. Вы советские туристы? Давно у нас? Где успели побывать? Жаль, что уже были в Чикаго, вам нужно было посмотреть нашу школу. К сожалению, мы мало знаем друг друга. Правда, поездка Никиты Хрущева на многое открыла нам глаза. Он очень дружески выступал по телевидению, очень — и в то же время никому не дал сбить себя с толку. . . Между прочим, вы знаете, что сейчас проезжаем исторические места? Здесь сражались наши предки-пионеры с воинами Лиги Шести Племен.
— С индейцами? — спросил я.
— Да, с индейцами. Здесь, где мы проезжаем, в основном жили ирокезы — к югу от озера Онтарио, к во-332
стоку от Эри. . . Впрочем,— он грустно улыбнулся,— индейцы, вероятно, интересуют вас меньше всего. А я как раз нахожусь под впечатлением читаемой сейчас книги.
Я вспомнил разговор с вашингтонским шофером.
— Представьте себе — как раз увидев эту книгу, я решил познакомиться с вами. Мне хотелось задать один вопрос. ..
Но он перебил меня, сразу взволновавшись:
— Так вы читали Джона Кольера? Нет? Рекомендую прочесть! Много знаменательных фактов. Вот сейчас мы много говорим о мире, а как раз в этих местах, согласно преданию, зарыто оружие Шести Великих Племен — как знак заключения вечного, нескончаемого мира.
Он волновался все больше. Во всяком случае, его речь очень убыстрилась, стала для меня почти непонятной.
— Пожалуйста, говорите медленней. Я, видите ли, плохо понимаю живую английскую речь,— сказал я.
— Пес? Индиид? 1 — он заговорил медленно и раздельно.— Вам полезно услышать это поэтическое предание. .. Приблизительно в семнадцатом веке, когда еще только первые европейские поселенцы проникали на этот принадлежавший индейским племенам континент, а Нью-Йорк был еще маленьким голландским поселением, великий пророк Деганавида уговорил воинов шести ирокезских племен, самых значительных в этой стране, заключить между собой союз вечного мира.
— У Кольера есть об этом? — спросил я.
— Ну да, я пересказываю написанное в книге. ..
Он понимающе улыбнулся.
— Вам проще, вероятно, усваивать печатный текст? Читайте.
Я стал читать раскрытую им страницу.
— «Этот Деганавида (который страдал заиканием, хотя происходил из рода великих ораторов) обратился к Шести Племенам с предложением найти пути к счастливому взаимопониманию людей. Была создана Конфедерация, чтобы устоять во всей своей гармонии и
1 Да? В самом деле?
333
мощи в течение двух штормовых столетии, а потом существовать вечно в качестве одной из светлых человеческих идей.
Закон Конфедерации гласил: «Я, Деганавида, и вожди Конфедерации вырыли с корнем высочайшую сосну и побросали в ту яму орудия войны. В недрах земли, на глубине подземных ручьев, текущих в неведомые дали, сложили мы оружие раздоров. Мы скрыли оружие от глаз людских и посадили сосну на старом месте. Пусть будет таким образом учрежден Вечный мир».
— Не правда ли, звучит очень современно? — сказал следивший за моим чтением учитель.— А дальше —: посмотрите, что пишет Кольер. «Но белые пришельцы разрушили Великую Лигу. Голландцы, французы, англичане соблазняли членов Конфедерации подкупами, натравливали одно племя на другое. Вместо закопанных луков и томагавков белые пришельцы продавали ирокезам ружья и порох. Конфедерация, задуманная как орудие всеобщего мира, стала средством объединения боевых сил». Обязательно прочтите эту книгу.
— Непременно прочту,— я положил покэт-бук на колени.— Но я хотел вам задать один вопрос. Кто такой Айра Хейс?
— Айра Хейс? Герой Иво Дзимы? — спросил американец.
Я кивнул. Он помолчал с минуту.
— Ну что же, я расскажу вам о нем...
9
Он родился в Аризоне, среди остроскалых гор и каменистых, пропитанных солнцем плато, где земля плодородна, но не хватает влаги для орошения,— здесь покупают воду, привезенную издалека. Айра был родом из племени пима — индейцы пима занимали когда-то области Северной Мексики и Калифорнии, но потом их оттеснили в глубину Аризоны, загнали в резервацию, созданную там.
У Хейсов не было денег для покупки воды, и Айра стал сборщиком хлопка для белого плантатора. Он ра
334
ботал все дни недели, по двенадцати часов в день, получал три доллара за сто фунтов собранного хлопка.
Все индейцы пима собирали хозяйский хлопок — приходили на рассвете и работали до глубокой темноты. Знаете ли вы, что значит собрать сто фунтов хлопка вручную? Сборщик ползет вдоль грядок, среди хлопковых стеблей, у него к поясу привязан мешок, сборщик тщательно вынимает из коробочек почти невесомую вату. Айра мог бы собирать свои сто фунтов быстрее, но индейцы пима привыкли работать тщательно, неторопливо. Он зарабатывал всего пятьдесят— шестьдесят центов в день.
Целые дни проводить на коленях, на четвереньках, ползком, чтобы получить полдоллара на себя и семью! Но «краснокожим этого хватает,— решили в Бюро трудового устройства индейцев,— их потребности невелики, в основном они питаются бобами». Айра мечтал работать на собственном поле, хотел научиться у стариков делать корзины для продажи — индейцы пима непревзойденные мастера выделки глиняных узорчатых корзин. Но Хейсов душили долги. Вокруг их хижины была лишь крошечная, выжженная солнцем площадка — вся вода шла на орошение хозяйских полей.
Пришла война, и Айра записался в морскую пехоту.
Не только Хейс, много индейских юношей — граждан Соединенных Штатов — охотно шли на войну в Европе и в джунглях, на островах, затерянных в Тихом океане. Ведь после победы, не раз говорили им, все пойдет по-другому. Все пойдет по-другому, когда жадных джапсов1 загонят обратно в Японию, когда будет отомщен Пирл Харбор, когда американские герои водрузят флаги демократии на захваченных фашистами островах.
Айра плыл из одного полушария в другое, его подстерегали фашистские подводные лодки, на него пикировали камикадзе1 2, но Хейс с друзьями отбил все нападения, он научился отлично стрелять, владеть штыком, огнеметом, мачете — кинжалом, похожим на широкий мясницкий нож. Он, привыкший ползать
1 Так называли в Америке японцев.
2 Японские летчики-самоубийцы.
335
среди хлопковых гряд, ловчей других переползал от укрытия к укрытию.
Привыкнув питаться одними бобами, он не боялся никаких походных лишений.
Настали последние месяцы борьбы с империалистической Японией за господство на Тихом океане. Самурайская страна Восходящего солнца выдохлась за четыре года этой войны, истекла кровью в попытках удержать огромные пространства вновь завоеванных колоний — от Аляски до Новой Гвинеи, от Филиппин до Гавайских островов. Военная машина Соединенных Штатов, подтягивая авиацию и флот, двинув основные силы армии для битвы за острова, выбрасывала Японию из джунглей, с коралловых островов, одну за другой отвоевывала морские и авиационные базы.
И вот начало боев за Иво Дзиму, за остров — потухший вулкан, на сотни миль кругом окаймленный бушующей океанской водой. Это один из последних японских форпостов, отсюда авиация джапсов вылетает на бомбежку кораблей и баз Соединенных Штатов. Три дивизии американских парней высаживаются на берег. Каждый дюйм Ива Дзимы простреливается из бесчисленных вражеских траншей и укрытий, из танков, закопанных в черный вулканический песок, с высоты вулкана Сурибахи, превращенного японцами в неприступную естественную крепость.
Но морские пехотинцы зацепились за берег, хотя над ними бушует огненный смерч, хотя кругом — разрывы снарядов и мин, а из каждой щели стреляют японцы, давшие «Торжественную клятву воинов» защищаться до последнего человека.
Пятнадцать американских линкоров, двадцать восемь авианосцев и сто двадцать крейсеров и эсминцев поддерживают наступление пехоты. Двести танков-амфибий вылезают на берег из воды, морская пехота (и Айра Хейс впереди) бежит вслед за танками, сквозь серные испарения вулкана, по колени проваливаясь в пепельный грунт. Они сжигают врага дымным пламенем огнеметов, выковыривают штыками из скалистых расселин.
И вот на четвертый день боя достигнута высшая точка острова — плоский пик вулкана Сурибахи. Невозможно припомнить, кто первый добрался сюда, во
336
ткнул в расселину скалы древко флага и тут же упал, рассеченный очередью пулемета.
Сурибахи очищен от врага, бой перешел в другой район Иво Дзимы. Участники взятия Сурибахи — между ними Айра Хейс — отдыхают посреди пыльных каменных плит. Вдруг приказ — шестерым солдатам морской пехоты подняться на вершину вулкана. Ребята, приехал фотограф из агентства Ассошиэйтед Пресс, хочет снять подъем флага в бою. Солдаты смеются— опоздал немного к концу мясорубки. Но начальство приказало... С руганью — ноги отказываются идти — шестеро, и среди них Айра, взбираются наверх, скользя по осколкам лавы.
Там уже суетится человек с фотоаппаратом, древко с флагом лежит на камнях.
Станьте вот так, поднимайте знамя, крепче держитесь за древко. Помните, ребята, вы в бою, вокруг вас свистят пули. Где вы слышите свист пуль, мистер, это бурлит у вас в животе от страха. Это сказал, конечно, не Айра, Айра молчаливый, серьезный парень. Ну вот вы, передний, вскидывайте флаг выше, наклоните голову, надвиньте на глаза шлем. Так, хорошо, ребята, сейчас сниму с другой точки. Это будет сенсационный снимок.
Фотограф записывает их фамилии.
— Айра Хейс? Слушайте, Хейс, какой у вас превосходный загар.
— Это не загар, мистер, мы еще не отмылись от копоти и пепла.
— Он индеец, потому у него такой цвет кожи.
— Индеец? Но это же превосходно!
Репортер уже предвкушает подпись под снимком: «Индеец. Борясь за Свободный Мир, поднял Звезды и Полосы в Кровавой Мясорубке Иво Дзимы».
Солдаты смеются:
— Айра, все белые девушки в Штатах сойдут по тебе с ума, когда увидят такую фальшивку. А этот ублюдок-корреспондент — повисел бы он на колючей проволоке, поддерживая выпавшие кишки,— не стал бы фотографировать подъем флага в бою на следующий день после боя...
Они готовятся к новым походам, они зашивают гимнастерки и точат ножи, есть слух — теперь при
22 На разных меридианах
337
дется брать Окинаву. Но Айру неожиданно вызывают к начальству. Собирайся, Хейс, ты едешь в Штаты. Черт возьми, тебе, кажется, очень повезло, что подвернулся под руку, когда фотографировали Полосы и Звезды.
ю
И вот они в Соединенных Штатах. Хейс морской пехотинец, Морская Пехота Делает из Человека Мужчину L Он наш Герой, он один из шестерых, кто поднял Национальное Знамя на Вершине Сурибахи, Увлекая в Бой Остальных. Один из тех, кто изображен на знаменитой фотографии Джо Розенталя, нашего тихоокеанского корреспондента.
Айра Хейс — любимец нации. Его возят по городам, под звуки оркестра он продает облигации военного займа. Штаты еще воюют, Нам нужны Деньги для Победы. Облигации продает прославленный герой Иво Дзимы.
Он выступает на митингах и на банкетах, он рассказывает о том, что действительно пережил в горах и джунглях тихоокеанских островов. Он пытается говорить и о правах своего народа. Он неплохо говорит, этот Айра, он замечательный малый, он из хороших индейцев, из тех, кто по-настоящему любит Штаты... Хейс устал от митингов и переездов, но он верит — это нужно для победы, после которой и для его племени начнется счастливая жизнь.
Кончилась война — и еще один торжественный праздник: в Фениксе, главном городе Аризоны, куда возвращается знаменитый гражданин штата — Айра Хейс. Что теперь будет делать Наш Герой? Но, джентльмены, он всего-навсего индеец, его место в резервации, по закону штата Аризоны он не имеет избирательных прав. Он едет к своим соплеменникам в горы и видит — они несчастны по-прежнему. Он, проклятый нахал, заявил репортерам, что, по его мнению, они стали еще беднее и несчастнее, чем раньше! Тот же беспросветный труд на хлопковых плантациях, так же им не дают возможности возделывать их собственную
1 Текст одного из американских вербовочных плакатов.
338
землю. Но что вы хотите, во-первых, они, по существу, не американцы, закон штата Аризоны даже не предоставил им избирательных прав. А во-вторых, в Аризоне вода дороже денег, кто даст бесплатно воду на землю резервации?
Мой собеседник оборвал свой * рассказ. Мы оба устали. Ему было нелегко говорить, отчеканивая каждую фразу, стараясь донести до меня все, вплоть до горькой иронии, вложенной в его слова. Мне, может быть, не менее трудно вслушиваться в чужой язык.
В вагон вошел седоволосый негр в хорошо сшитом, темном костюме, с перекинутым через руку пальто. Увидев свободное место у окна, он положил пальто в сетку, неторопливо сел в кресло, стал читать вынутую из кармана газету.
— В Южных штатах ни один цветной джентльмен не решился бы сесть вот так, среди белых,— вполголоса сказал учитель из Чикаго.— Но я хочу досказать историю Хейса. Вы знаете, когда я встречаюсь с индейцами, мне стыдно смотреть им в глаза. Ведь мы живем на их земле, мы пользуемся всем, что бог и природа предоставили им — коренным обитателям континента. Мы отняли у них все, хитростью и обманом, с какой-то утонченной жестокостью угнетаем их и сейчас. Вы слышали, как наши торговцы кожей истребили в прериях неисчислимые стада буйволов, тем самым обрекли индейских охотников на голод? Слышали, как наши предприниматели спекулировали, индейской землей? Это не анекдот, что Манхэттен был в свое время куплен за семнадцать долларов у доверчивых индейцев — тогдашних хозяев земель, называемых теперь штатом Нью-Йорк...
Один раз мне самому довелось увидеть Хейса. Это было вскоре после окончания войны. Я поехал в экскурсию с детьми в Вашингтон, и мальчики узнали нашего национального героя. Я удивился — какой у него больной, усталый и сумрачный вид, каким старым и высохшим выглядит он в своем поношенном военном костюме. А ему тогда было, наверное, меньше тридцати лет...
Вот конец истории Хейса, рассказанной мне учителем из Чикаго.
22*
339
Конечно, Айра мог бы неплохо ясить и в послевоенные годы. У Айры была слава, представлялась возможность превратить славу в доллары — теперь уже не в военный заем, а на собственную пользу. Дельцы из Голливуда предложили ему одну из ролей в картине «Иво Дзима»: Голливуд решил поднять интерес публики к военным фильмам — мысли о войне поддерживают деловую активность.
И Айра играет в этом фильме самого себя. Он снова поднимает древко флага над пыльным макетом вулкана Сурибахи. Но он не может жить на обмане, недаром в Америке есть поговорка: «Правдив, как индеец». Он испортил весь успех снятого боевика — он заявил репортерам, что ненавидит этот фильм, все здесь фальшиво, все на фронте происходило не так, как показано на экране, не так был поднят флаг над Сурибахи.
Айра начинает пить (а может быть, его спаивают нарочно?), в то время как агентство Ассошиэйтед Пресс торжественно опровергает его скандальное заявление. «Вторичный подъем флага на Иво Дзиме,— говорится в опровержении,— состоялся, когда пули свистели над вершиной Сурибахи...» Хейс хочет забыться, он бессилен помочь своему племени, он пьет на доллары, полученные в Голливуде. Он посажен за пьянство в тюрьму, а затем переведен в лагерь для алкоголиков, затерянный в Аризонской пустыне.
Знал ли Айра, что его фигура, отлитая из металла, встала к тому времени над национальным кладбищем в Арлингтоне? Скульптор Феликс де Велдон создал памятник «Иво Дзима» на основе знаменитого снимка Джо Розенталя.
Знал ли Хейс, что 23 октября 1950 года делегация индейских вождей передала Ассамблее Объединенных Наций многостраничную жалобу на дискриминационные действия американских властей?
«Несколько лет тому назад,— прочел в этой жалобе представитель Соединенных Штатов в ООН,— вы выиграли великую войну. Мы сражались на стороне ваших генералов. Нам говорили, что мы сражаемся за демократию, за права малых народов. Кровь индейских воинов пролилась на полях сражений Франции, 340
Германии, Японии — за демократию, как нам говорили. Почему же вы хотите порвать священное соглашение между вашей страной и Шестью Племенами? Наши священные договоры ломаются, как ветви молодого деревца, ваши торговцы землей приходят, чтобы обмануть нас, ваших давних покровителей, бывших когда-то великим и сильным народом.; .»
Нет, Айра едва ли знал об этой жалобе, похороненной в архивах ООН. Он умер в январе 1955 года, через десять лет лосле штурма Иво Дзимы. Его тело выставили в Капитолии города Феникс — для прощания с народом, а потом перевезли в Вашингтон.
Он лежит — почти всеми забытый — под одним из бесчисленных надгробий военных могил Арлингтона и в то же время сурово стоит, воплощенный в бронзу, в шлеме, надвинутом на глаза. Знамя Соединенных Штатов поднимает индеец, обманутый и сокрушенный страной, для победы которой отдавал свою, кровь.
11
Накануне нашего отлета из Нью-Йорка пришли к нам в отель новые наши друзья—студенты Бартон Вольф, Брюс Харроде и профессор-ассистент государственного права Джемс Кроун.
Они принесли номера студенческой газеты «Хейгст Дейли Ньюс» с отчетом о посещении Нью-Йоркского университета группой советских туристов.
Вот лежит передо мной эта четырехполосная многотиражка, сверстанная по образцу обычных американских газет — с броскими рекламами сигарет и спиртных напитков «лучших марок», вторгшимися в текст статей и заметок. Но на первой полосе газеты — большой групповой снимок: советские туристы на фоне белых колонн университетской библиотеки. На лацканах наших пиджаков — большие карточки . в целлофане. Эти карточки с нашими фамилиями, написанными крупным шрифтом, роздали каждому из нас при выходе из автобуса организаторы встречи. Такие же карточки, с фамилиями американских участников встречи, студенты и профессора университета прикололи к своим пиджакам и курткам.
34!
Встреча в Нью-Йоркском университете — одно из самых светлых воспоминаний, связанных с нашей двухнедельной поездкой за океан.
Отчетливо помню, как большая толпа собравшихся перед библиотекой юношей и девушек встретила нас выжидательным, напряженным молчанием. Мы дружески приветствовали студентов, мы пожимали им руки, раздавали нарядные эмалированные значки с надписью «мир». И на лицах студентов выражение недоверчивости и замкнутости сменилось добрыми улыбками, они прикалывали значки к своим грубошерстным курткам, забрасывали нас вопросами о нашей родине, строящей коммунизм. «Мир» — это слово, произносимое на двух языках, стало самым частым в завязавшемся сердечном разговоре.
Вот что сообщает студент-журналист Брюс Харрис в отчете о встрече, напечатанном в «Хейгст Дейли Ньюс».
«Большая толпа любопытных студентов приветствовала делегацию. Толпа стала еще гуще и дружелюбнее, когда русские стали раздавать сувениры. Среди сувениров — нагрудные значки, почтовые марки и всякая мелочь, включая духи и деревянные ложки...
После сердечной встречи русские были проведены в библиотеку. Они спросили, есть ли в библиотеке русские периодические издания, и получили отрицательный ответ. Они были удивлены, что в библиотеке вообще, как правило, отсутствуют издания на иностранных языках.
Осмотрев библиотеку, русские посетили электроин-женерные лаборатории. Туристы-ученые были очень заинтересованы разными машинами и счетно-решающими устройствами. Однако не было сделано никаких одиозных сопоставлений.
Затем прошли в факультетский клуб. Здесь русские, беседуя со студентами, разбились на мелкие группы. Не было официальных тем дискуссий. Гости казались счастливыми, что могут свести индивидуальные знакомства, вместо произнесения официальных речей. Завтрак был подан в студенческой столовой. Толпа окружала завтракающих плечо к плечу, в атмосфере растущей общительности».
342
Во время завтрака я подарил сидевшим рядом со мной студентам захваченную с собой книгу своих стихов. Студенты вскоре куда-то исчезли и, вернувшись, положили передо мной стопку «покэт-буков».
Я вижу их в своем книжном шкафу — эти подаренные мне книги. На каждой написано: «Хорошему другу, мистеру Панову. В память о нашей встрече в Нью-Йоркском университете. С горячими пожеланиями счастья, с надеждой на дружбу наших народов. Бартон Вольф. Брюс Харрис».
Это: «Сто американских стихотворений», «Три пьесы» Юджина О’Нейла, «Охота на ведьм» Артура Миллера, «Ловец во ржи» Сэлинджера — любимые произведения подаривших мне их студентов.
Как сейчас вижу серьезные, ясноглазые лица окружившей нас молодежи. Было радостно смотреть, как, разговаривая со мной, Бартон Вольф положил дружеским жестом руку на плечо другого участника встречи — негра Джима Хиллмана.
— О, мы с Джимом большие друзья, мы учились в одной школе,— сказал Вольф, когда я фотографировал его рядом с Хиллманом на университетском дворе.— Мы Оба очень л^Обим искусство: я увлекаюсь живописью, а Джим — музыкой.
Мне хочется знать, как продолжится дружба этих юношей, только начавших свой жизненный путь. Как сложится жизнь тысяч других молодых граждан Соединенных Штатов, не знавших фронтовых испытаний, думающих о второй мировой войне уже как о далеком, историческом прошлом. Я спрашивал не раз, в мимолетных разговорах с молодыми американцами, слышал ли кто-нибудь из них о Слоувике или Хейсе,— и неизменно получал отрицательный ответ. Книга о Слоувике опубликована массовым тиражом английским, а не американским издательством, а Хейс для встречавшейся мне молодежи лишь безымянная деталь одного из памятников в Вашингтоне.
Я хотел продолжить общение со студентами, подарившими мне свои любимые книги. Вернувшись в Москву, я послал Вольфу и Харрису, как ответный подарок, альбом репродукций картин Русского музея и Третьяковской галереи, но не получил подтверждения, что альбомы достигли адресатов.
343
Пришли ли бандероли по назначению или задержаны Департаментом почт города Нью-Йорка? Ведь, по сообщению корреспондента «Известий», адресатам в Соединенных Штатах не было доставлено в 1960 году 15 миллионов экземпляров газет, журналов и книг, поступивших из Советского Союза и других социалистических стран! 1
И, стремясь глубже проникнуть во многое из того, что я увидел за океаном лишь поверхностно, мельком, не могу не рассказать о наиболее поразившем меня: об Эдди Слоувике и Айре Хейсе, трагические судьбы которых легли тенью на дни моего кратковременного пребывания в Соединенных Штатах.
1961
1 И. Карев, «Джон кивает на Дика». «Известия», 1 марта 1961г,
KOWCMH-TU-H гмустоьскии
ФОРА
есколько дней я прожил в болгарском рыбачьем порту Созополе, бывшей Аполлонии. Там поэт Славно Чернышев подарил мне греческую амфору. По его словам, амфоре было две с половиной тысячи лет. Созопольские рыбаки вытащили ее сетью с морского дна во время зимнего лова. Чернышев ходил тогда с рыбаками в море, и они отдали ему амфору
в знак своего расположения к поэзии. Когда амфору подряди из воды, она походила на большой шар, слепленный из раковин-мидий. Но как только амфора
начала высыхать, мидии стали отваливаться пластами и вскоре отвалились все. Тогда амфора предстала во всей своей стройности и чистоте. Но все же -на слегка шершавой ее поверхности остался беловатый узор — следы отвалившихся мидий.
Славно Чернышев говорил, что древние эллинские мореплаватели выбросили эту амфору за борт корабля
345
во время свирепого «греуса» — черноморского норд-оста. Он бушевал и в те давние времена над Черным морем с такой же силой, как и сейчас. Чернышев называл греус «трагическим ветром».
Амфору выбросили в качестве жертвы, чтобы умилостивить бога морей Посейдона и остановить бурю. Она захватила корабль вдали от берегов. В таких случаях всегда бросали в море жертвенные амфоры с оливковым маслом.
О том, что амфора была жертвенная, свидетельствовала черная пленка окаменелого масла на ее дне.
Таким образом, древность амфоры была установлена. Чтобы окончательно убедиться в ее возрасте, Чернышев повел меня в заброшенную базилику. Там он вместе с созопольским художником Яни Хрисопу-лосом устраивал местный музей.
Пока что в музее были одни амфоры. Рыбаки время от времени вылавливали их и сдавали в музей. Однообразие экспонатов ничуть не смущало ни Чернышева, ни Яни. Тем лучше! Не часто встречается на свете такое большое собрание амфор разных веков и форм.
Изучение и сравнение амфор вызывало у художника и поэта мысли о баснословных временах. Мифы, легенды, архаические предания легко рождались в присутствии этих амфор и переносили любителей-археологов в мглистую, плохо разборчивую даль истории.
К железному кольцу в дверях базилики кто-то привязал пожилого пыльного осла. Он не давал нам пройти. Чернышев хотел отвязать осла, но тот начал бессмысленно сопротивляться. При этом с него густо полетела рыжая шерсть.
Мы долго возились с ослом, пока нам не удалось оттащить его от дверей базилики и привязать к соседней акации.
Тогда прибежала запыхавшаяся хозяйка осла, старая Живка. И хотя осел уже нам не мешал, она все же подскочила к нему и громко ударила его сухой палкой по крупу. Осел зарыдал.
Мы вошли в гулкую базилику. В ней сохранилась прохлада, должно быть, еще от прошлой зимы. Со сводов осыпалась крошечными лавинами известковая пыль.
346
Вдоль стен базилики и на возвышенном алтаре стояли и лежали десятки амфор. Они были разложены по возрасту. Века были помечены черной краской на стенах.
Чернышев подвел меня к группе амфор, таких же, как та, которую он мне подарил. То были амфоры-сестры. Он показал мне на цифру на стене: «4500 лет до нашей эры».
— Це-це! — сказала бабка Живка и на всякий случай перекрестилась.— Ты, Яни-сынок, постарайся поскорее их освятить.
— Это зачем? — недовольно спросил Яни.
— Тогда их можно будет отнести в нашу церковь к отцу Мавренскому вместо ваз для цветов.
Живка произнесла речь о скудости современного богослужения и ушла. Мы остались одни. Кусок осеннего неба за окном был таким струящимся и синим, будто снаружи еще сияло лето. Солнце, слившись с этой синевой, падало на амфоры и оживляло их.
Славчо Чернышев сказал, что амфоры похожи на молодых женщин. Очевидно, самую форму амфор древние гончары заимствовали у женского тела, узкого в талии и широкого в бедрах, уходящих книзу стройными смыкающимися линиями.
Мы вышли из базилики и сели на ступенях паперти. Мы сидели под солнцем и говорили о прошлом и будущем. Нам не хотелось двигаться. Невдалеке шумело прохладное море, окатывая с головой старые скалы. Кончался октябрь.
И мы говорили о том, что чистое, почти священное ощущение земли, воздуха, неба, рощ и тихо шумящих морей, свойственное древней Элладе, мы должны целиком взять себе для обогащения нашей культуры.
В таком несколько лирическом состоянии мы пошли выпить кофе в портовую таверну. Она почему-то называлась «Казино».
В низком зале висела под потолком и слегка вертелась, как компас, высушенная лазоревая рыба — «мор-ска лястовичка». Она должна была приносить счастье посетителям.
В «Казино» заседали обветренные до красноты созо-польские «капитаны» — командиры рыболовных ко
347
раблей—«гемий». Капитаны пили «мозел» — белое местное вино с легкой позолотой, крепкую водку «ра-кию», ели жареную ставриду—«сафрит» и обменивались новостями.
За широким окном «Казино» был виден в одну сторону чистый маленький порт, а в другую — часть города. Целиком весь город можно было увидеть только с самолета — так неожиданно он был разбросан среди островов, скал, бухт и каменных мысов.
Город строился, должно быть, так, как рисуют дети. Они любят добавлять к готовому рисунку разные подробности. От этого рисунок запутывается, но вместе с тем делается очень живописным.
Созополь был похож на эти рисунки. В нем было множество всяческих пристроек, переходов, поворотов, остатков византийских базилик, домов со вторыми этажами, нависающими над улицей на дубовых подпорках— «эркерах», перил с балясинами, сточенными временем до толщины свечи, обломков мраморных греческих колонн, пыльных маслин за низкими оградами и смоковниц с крупными шероховатыми листьями.
При описании Созополя придется еще раз сослаться на детёй. Бывает, что дети, построив город из кубиков, вдруг сдвигают из озорства все кубики вместе. Так выглядел и Созополь. Дома были тесно придвинуты друг к другу, и крыши кое-где цеплялись за соседние крыши. Улицы были вымощены каменными плитами, похожими на жернова,— звонкими и скользкими.
. Морской ветер продувал город насквозь и подымал занавески на окнах. Тогда перед глазами открывался тесный мир созопольских жилищ.
В живописности этих жилищ было тоже что-то от детских рисунков. Прежде всего, в жилищах было множество подробностей. Эти жилища, как и детские картинки, надо было долго рассматривать.
Нас пригласили в один из домов выпить кофе. Дом этот громко назывался «Замок графини Елены Ба-тиньоти», по имени пожилой и красивой гречанки, его владелицы. Но она была вовсе не графиня, а превосходная созопольская портниха. А замок был просто старым-престарым домом, просолившимся от морских ветров.
348
c/тот Дом невозможно описать коротко. На его описание надо потратить не менее тридцати — сорока страниц. Такие пространные описания немыслимы даже в самых раздражающе медленных романах. Поэтому придется рассказать об этом доме в общих чертах, помня, что он является как бы представителем многих созопольских домов.
Итак, это было прежде всего нагромождение коротких деревянных лестниц, мешающих друг другу. Куда они вели? В косые комнаты, в коридоры, в нижние полуподвальные кухни с очагами, на крошечные антресоли и еще в какие-то комнатушки, может быть в тайники.
Чтобы вернуться, например, на кухню за забытой солью (соль забывают чаще всего) и не идти второй раз по своим следам, так как это считается дурной приметой, можно занести ногу через низкие перильца одной лестницы и переступить на другую — она тоже ведет в кухню, но откуда-то с чердака или с крыши.
Все эти лестницы почернели от старости, весь день скрипели сами по себе и пахли кипарисом.
Ходить по этим лестницам надо было осторожно, но не из-за их ветхости (они простоят еще сотню лет), а потому, что всюду на ступеньках стояли вазоны с цветами, главным образом с пеларгонией.
Столы, стулья, кресла, скамейки, диванчики, кровати и комоды были сдвинуты так тесно, что оставались только узкие проходы для людей.
Отовсюду неосторожному или близорукому гостю грозили ударом острые наросты на створках тяжелых розовых раковин с островов Меланезии или зеленоватые пики сухой иглы-рыбы.
Раковины лежали повсюду. Когда «графиня» Ба-тиньоти уходила в город, то в тесных комнатах становилось слышно, как печально и тихо, вспоминая океан, гудят эти раковины.
Над раковинами висели пожелтевшие кружева, а в иных местах — гирлянды белых, как снежинки, цветов. Цветы свешивались из глиняных плошек, подвешенных к потолку.
Удивительно, что эти плошки — жилища цветов — совершенно походили на жилища созопольских людей. В старой садовой земле этих плошек виднелись поломанные клешни крабов и блестящие камешки. Тут же
349
маленький цветок-приемыш вылезал из плошки и тянулся к солнцу.
Рядом с плошками висели модели гемий и ветряных мельниц. Enje недавно, в половине XIX века и даже позже, Созополь был опоясан по прибрежным скалам ветряными мельницами. Полотняные их крылья напоминали кливера.
В шкафах, столах и даже в деревянных стенах было много ящичков. Один из них был случайно открыт, и я увидел пучок маленьких птичьих перьев, связанных шерстинкой. Должно быть, это были перья колибри или попугая. Они переливались разными красками. Рядом с ними лежал оловянный наперсток.
Все жилища пропитал вечный запах кофе. Действительно, вечный. Он пережил века, поколения, гибель и возрождение государств, пиратские набеги и войны.
Всегда среди вещей выделяется одна, любимая хозяйкой. То это портрет поэта Яворова, то серебристопрозрачный бокал. В нем подают гостю ледяную воду с засахаренными смоквами.
Кроме таких тесных и сложных жилищ, есть вСо-зополе и другие — беленые пустые комнаты, где ветер качает на стене былинки лаванды. Это жилища одиноких старых рыбаков и рыбачьих вдов — суровые жилища на окраинах городка. •
Да, но вернемся к созопольской таверне. Слово «таверна» итальянское. Оно означает небольшой кабачок.
Таверны до сих пор входят в романтический реквизит нашей действительности. Конечно, о старых тавернах нет и речи, о тех тавернах, где
.. .От заката до утра
Мечут ряд колод неверных Завитые шулера.
Созопольская таверна — это шумное и уютное помещение, где можно сидеть до ночи за бутылкой вина или писать за столиком свободный роман.
Персонажи этого романа — капитаны гемий — присутствуют тут же. Они размеренно поют, будто в такт ударам весел:
Капитане, капитане, хэмуэлла!
Ми агапинэ фортуна пуперна...
350
Чернышев перевел мне эту песню на русский, и я с изумлением узнал, что слово «фортуна», которое мы всегда понимали как «судьба», у греческих моряков означает «волна». Действительно, в волне очень часто заключается фортуна — судьба моряка.
В переводе эта песня звучит примерно так:
«Днем и ночью капитан борется с морем и ищет успокоения в плавании. Но как бы далеко он ни уплыл, его сердце крепко заякорено любовью на родном берегу. Руки его сжимают рукоятки штурвала, и корабль его летит, как гларус (буревестник)».
В «Казино» я познакомился с двумя капитанами гемий — Георгием Тумбаторовым и Георгием Каран-ковым.
Они медленно пили белое вино и почтительно, но с достоинством беседовали с Чернышевым и со мной о литературе. Они понимали ее как многоопытную направляющую руку хорошего человека — писателя и как прославление мужества морских людей.
Вот, говорят, один американец написал целую книгу об одиноком старом рыбаке, которого меч-рыба таскала по океану несколько дней. Всякое бывает! У нас в соседнем городке Несебре тоже один старый рыбак попал этой зимой на своей старой лодке-сеферке в полный шторм и пропадал в море пять дней без еды. И тоже спасся.
Один из капитанов рассказал об удивительном случае в Созополе. Он рассказывал и улыбался: понимал, очевидно, что этот случай с писательской точки зрения хорош. Он как бы дарил его нам.
В Созополе жил перед последней мировой войной богатый рыбопромышленник по имени Кристо. Рыбаки работали на его гемиях неохотно: Кристо никогда не выплачивал вовремя заработанные деньги. Он всегда тянул. Как будто от этих оттяжек деньги сами могли размножаться!
Однажды был случай, когда рыбаки пришли к дому Кристо с тяжелыми веслами и хотели избить его и разгромить его дом, если он тут же не заплатит им долг.
В конце войны, когда к Бургасу приближались советские войска, Кристо решил бежать в Турцию. Как раз в порту остановился итальянский пароход. Он через несколько часов отходил в Стамбул.
351
Кристо перевез на него свои вещи, поручил одному из рыбаков сторожить оставленные гемии и напоследок зашел в «Казино».
Созопольцы были убеждены, и, кажется, совершенно справедливо, что никто в мире не готовил такой крепкий, душистый и освежающий кофе, как тогдашний хозяин «Казино» старый Димитро. Моряки, побывавшие во всех странах света, утверждали, что это было именно так.
Недаром молчаливый Димитро любил повторять, что «кофе — это большая работа».
Вскоре выражение Димитро по поводу кофе обошло весь город. Люди начали применять его к самым разным обстоятельствам жизни и говорили: «Семья — это большая работа», «Море — это большая работа» и даже «Вранье — это большая работа».
За полчаса до отвала парохода Кристо зашел в «Казино» выпить последнюю чашку кофе на родной земле. Димитро старался и особенно долго готовил этот кофе. Кристо нервничал и торопил старика.
До отвала парохода оставалось несколько минут. Пароход уже дал третий гудок. Пароконный извозчик ждал Кристо у дверей «Казино». Кристо больше не мог ждать. Он выбежал, сел в фаэтон, но в это время старый Димитро догнал его с чашкой дымящегося кофе на подносе. Весь Созополь наполнился кофейным благоуханием.
Кристо не выдержал, взял с подноса чашку кофе, выпил его и бросил чашку о мостовую.
Но он, конечно, опоздал и увидел только грязную корму уходящего парохода и его истрепанный итальянский флаг.
Грузчики-барабы стояли толпой на молу и смотрели вслед пароходу.
Кристо крикнул им, что дает большие деньги — тысячу турецких лир! — за то, чтобы они своим дружным криком остановили пароход.
Грузчики закричали раз, потом два, потом три. Но на пароходе не услышали этот крик. Он продолжал уходить дальше, волоча по волнам жирный дым из старой трубы. На море уже спускался пронзительный вечер.
352
Кристо наотрез отказался заплатить грузчикам обещанную тысячу лир.
— Вы слишком тихо кричали, мерзавцы! — сказал он.— Вы нарочно тихо кричали, чтобы погубить меня. А еще просите денег, нахальные банабаки.
Кристо вернулся в «Казино», сел за стол, обхватил голову руками и заплакал. Так он сидел до тех пор, пока не вбежал смотритель порта и не крикнул, что за Масляным мысом полосой пронесся внезапный ураган, ударил дряхлый итальянский пароход о скалы и тот пошел ко дну со всеми пассажирами и командой. Никто не спасся. Пассажиров было двести человек.
Кристо вскочил. Он бросился в порт. Грузчики еще не разошлись и, собравшись толпой, ругали Кристо «иродом» и «иудой».
Но Кристо ничего не слышал. Он захохотал и крикнул грузчикам:
— Бравое, ребята!
Потом он швырнул им не тысячу, а две тысячи лир.
— За что? — спросили грузчики.
— За то, что вы тихо кричали,— ответил Кристо.— Хорошо кричали, банабаки! На пароходе не услышали вашего крика и не вернулись за мной. Из двухсот его пассажиров остался живым только я! Я один! Бравое, ребята!
И он снова захохотал как сумасшедший. Он позвал грузчиков в «Казино», угостил их вином и кофе и так радовался, что упал головой на стол и умер.
Грузчики сняли каскетки. Пришла, как всегда в таких случаях, полиция. На вопрос полицейского, отчего умер Кристо, самый старый грузчик ответил:
— От злой радости.
За окнами «Казино» в гладкой воде порта стояли у причалов белые рыболовные корабли — гемии. Они держали равнение, подобно солдатам, и совершенно не шевелились.
Одна из этих гемий должна была через полчаса отойти на рыбачий стан у Масляного мыса, чтобы забрать улов.
Мы пошли на этой гемии на мыс. Он как бы плавал, а временами и совсем тонул в синем или, вернее, 23 На разных меридианах 353
в лазоревом тумане и казался воздушным. Такими всегда возникают перед нами в солнечные дни легендарные мысы южных морей.
Всегда ждешь, что за этими мысами покажутся новые моря — небывалые по своему индиговому цвету и по громадам снеговых гор на берегах.
Горы отражаются в морской поверхности. Это создает живую игру морских волн и отражений. Вы никак не можете вспомнить: что же это за горы? Их как будто не было на карте. Но, всмотревшись, вы наконец догадываетесь, что это не горы, а многоярусные облака. И вы уже замечаете, что вершины этих облаков не совсем белые, а покрыты желтоватым налетом— теплым, мягким, предвещающим бесконечное лето. И где-то там, в их огромной облачной глубине, время от времени рождаются таинственный блеск и грохот.
Чуть качало. Над покатыми верхушками волн взлетали глянцевитые дельфины. Дрожание мачты переходило в звук, похожий на звон. Давно замечено поэтами, что морская даль звенит. Мачта только повторяла этот звук. Чем объяснить этот звон, якобы исходящий от морской поверхности, я не знаю. Будь я ученым, я изучил бы это явление и, может быть, даже нашел ему объяснение.
Гемия шла по свежей зыби, небрежно отшвыривая от себя полосы пены. Из глубокой воды подымались шесты с прикрепленными к ним сетями. То были опасные и сложные ловушки-лабиринты для рыбы. Их насчитывалось несколько видов, этих лабиринтов, и назывались они у здешних берегов так же, как и у нас,— тальянами и алломанами.
Я как-то упомянул об этих тальянах в небольшом очерке о болгарских рыбаках. Вскоре после напечатания этого очерка я получил письмо от молодого советского ученого, работавшего на нашем Севере.
Он писал, что на берегах Белого моря и Мурмана часто попадаются в полях причудливые лабиринты, слеженные из больших камней. До сих пор происхождение этих лабиринтов остается тайной. Иные считают их остатками каких-то религиозных обрядов, другие связывают их с погребением умерших.
Молодой ученый долго изучал эти лабиринты.
354
Больше всего они были похожи на таинственные чертежи.
И вот молодой ученый догадался: то были наглядные каменные чертежи рыболовных лабиринтов. По этим чертежам одно поколение рыбаков за другим строило и ставило свои сети.
Вечен труд рыбаков, и потому в нем, в рыбацких навыках есть что-то утвержденное столетиями, устойчивое, библейское.
Рыбацкий стан — низкий, вросший в землю дом из дикого камня — стоял на мысу и был открыт всем ветрам. Пожелтевшая трава шелестела вокруг. От седой полыни першило в горле. Вдали подымались пологие холмы — отроги Балкан, отроги Планины. Цвет их был охряный, как шерсть верблюда.
На далеком склоне холма виднелся старец с посохом. Он сторожил большую отару овец.
Рыбаки — застенчивые и любезные — тотчас же начали жарить для нас «сафрид на скара» — ставридку в собственном жиру. Один из рыбаков был очень стар, сильно морщинист и бесконечно добродушен. Он назвал мне все ветры, которые дуют на этих берегах.
— Рыбак,— сказал он,— всегда должен знать, какой дует ветер, даже во сне. Пойдемте!
Он провел меня внутрь дома. В большой комнате-спальне была корабельная чистота. Шест, на котором снаружи был прикреплен флюгер, проходил через крышу дома до самого пола. На полу он был укреплен таким образом, что легко вращался. На шесте в метре от пола был прилажен второй флюгер. Он показывал рыбакам даже ночью, какой дует ветер. Для этого не надо было выходить наружу. Стоило, проснувшись, открыть глаза и посмотреть на флюгер при свете керосинового фонаря.
— Хо!—сказал старик и засмеялся.— Мы живем в двадцатый век. Мы тоже не отстаем от света.
Мы вернулись к очагу. Там сидели остальные рыбаки. Старик начал называть мне все ветры.
У наших ног лежали косматые собачки, белая и рыжая. Глаза у собачек были прищурены, как и у рыбаков, очевидно от постоянного вглядывания в море.
23*
355
Старик поднял сухую руку, обвязанную от ревматизма красной ниткой, показал на север и сказал:
— Драмудан!
В этом названии слышалась итальянская трамонтана— ветер, дующий с севера, через горы, через Альпы. У нас на Азовском море северный ветер тоже зовут «трамонтаном».
Старик показал на северо-восток. То был опасный, ненавистный рыбакам край горизонта.
— Греус! — сказал старик.
«Греус» — это наш норд-ост, наша бора. Ветер бешеный, беспощадный, мрачный, как предупреждение о смерти.
Так мы обошли со стариком весь горизонт. Он называл мне ветры и следил, чтобы я правильно записывал названия. Он требовал, чтобы я перечитывал ему эти названия, и отрицательно покачивал головой из стороны в сторону. Я смутился. Я забыл, что по-болгарски этот жест означает согласие и одобрение. Если же болгарин кивает головой сверху вниз, то это, наоборот, означает полное отрицание. Я долго не мог привыкнуть к этим жестам. Они были причиной нескольких легких недоразумений.
Юго-восточный ветер назывался «серекос». В наименовании этого сухого ветра узнаешь знакомое слово «сирокко». А летом этот ветер называется по-иному, и притом так, что имя его вызывает невольную улыбку. Он знаком нам с детских лет, этот ветер, знаком еще по стихам Пушкина, и потому кажется особенно милым. Потому что летом этот ветер называется.. . «зефир».
— Летом часто дуют зефиры,— сказал старый рыбак.— Дуют они не только с юго-востока, но и с других мест. Это очень мягкие, тихие, ласковые ветры. Зовут их также «мельтемиями». Они не бьют по лицу, как грубые ветры, а ласкают его, будто машут большими веерами.
Я подивился живучести некоторых слов. «Зефир» живет сотни лет, а «борей» давно умер. Причины этого не разгадает ни один лингвист.
Ветер с северо-запада называется «маиструс». Не пришло ли сюда это название из далекого Прованса? Там по осеням и зимам дует знаменитый .мистраль...
356
Мистраль качает ставки целый день. Мороз, как соль, лежит по водоемам...
Восточный ветер называется «леванти», южный — «лодос», а западный — «боненти», или «караэл» («черный ветер»). Действительно, это большей частью сырой и теплый ветер, несущий обложные дожди и покрывающий землю сумраком.
— А как по-вашему «штиль»?—спросил я старика.
— Так и будет — «штил».
Он выговаривал это слово твердо, без мягкого знака.
— Но есть еще полный штил. Он называется у нас «бунаца лада». Тогда море тяжелое и гладкое, как оливковое масло. Как оливковое масло,— повторил старик и, заслонив ладонью глаза, посмотрел на холмы — последние отроги Балкан. Оттуда на нас двигалась, подымая пыль, огромная отара овец. Старик усмехнулся.— Старый пастух Иордан увидел, что у нас гости, и погнал сюда овец. Ему же надо взглянуть на вас и послушать, о чем мы говорим. Ему все надо!
Рыбаки снисходительно улыбнулись. Косматые собачки начали трястись от негодования и повизгивать.
— А ну! — крикнул начальник стана — кроткий низенький рыбак в артистически залатанных широких штанах. Он не успел сменить их по случаю нашего приезда. Собачки стихли.
Овцы неслись прямо на нас. Они были уже совсем близко. Вот-вот они должны были смять нас и собак и повалить треножник с жарящейся ставридой. Был слышен дробный гул овечьих копыт.
— Сидите,— сказал мне начальник стана.— Не беспокойтесь.
Старый Иордан что-то крикнул, и вся отара вдруг остановилась в двадцати шагах от нас, будто наткнулась на проволочное заграждение. Собачки стонали внутренним сипом и клокотали от сдержанной ярости.
А старый Иордан подошел к нам и торжественно обнес всех нас (иного выражения я не могу подобрать) своей черной сухой ладонью. Мы пожимали ее, а он бормотал что-то приветственное и внимательно смотрел нам в глаза.
Рыбаки подарили Иордану плетеную корзинку с недавно пойманными бычками. Бычки были мрачные и
357
еще шевелили жабрами. По-болгарски бычки назывались «попчэ», то есть попы, монахи, именно за то, что они такие же сумрачно-черные, как болгарские священники.
Старик поблагодарил всех нас, повернулся к овцам и что-то негромко крикнул. Овцы, будто по команде «налево кругом», повернулись все сразу и помчались галопом к знакомому холму.
За овцами ринулись с остервенелым лаем дождавшиеся своего часа собаки. Вскоре пастух, собаки и овцы исчезли в пыли.
Мы еще долго сидели у очага и спокойно беседовали о рыбачьих делах. Из рассказов рыбаков выяснилось, что больше всего рыбы ловится при входе в Босфор. Потому что рыба идет весной из Средиземного моря в Черное, а осенью возвращается в Средиземное, и рыбьи косяки, по мере приближения к Босфору, сжимаются, густеют, превращаются в сплошные рыбьи реки. Как говорят рыбаки, рыба идет «конусом». Поэтому весной и осенью рыбаки уходят к Босфору и ловят на самой границе турецких территориальных вод.
Старый рыбак рассказал, что за соседним мысом впадает в море река Ропотамо, как он выразился, «рай птиц и рыб». А дальше — граница Турции, желтая мгла над холмами, величавая синева Кара-Дениза (так по-турецки называется Черное море), далекая Эллада — родина крылатых гемий, быстролетных кораблей, что гоняются наперегонки с дельфинами среди бегущих волн.
Мы слушали старика и смотрели на юг. Там над морем на наших глазах происходило медленное возникновение облачного материка — небесной Атлантиды. Она была пронизана солнечными лучами, окутана сизым дымом и окрашена в розовый цвет старинного мрамора.
Из этой облачной Атлантиды вырастал и уходил к зениту, как волокно серебряной пряжи, след реактивного самолета. Высокие невидимые воздушные течения изгибали его, складывали в широкие круги, закручивали в тающие узлы и заставляли исчезать в ужасающей высоте.
358
На обратном пути мы трое — поэт Славно Чернышев, прозаик Станислав Сивриев и я — разговорились о литературе.
Гемию качало. Пена вздымалась в уровень с бортами, таяла и шипела.
Разговор наш был мало похож на обыкновенные разговоры и споры о литературе. Началось с того, что Чернышев сказал, будто он избегает запоминать наизусть самые великолепные чужие стихи, чтобы не впасть в соблазн невольного подражания.
Чернышев был проницательно-добр, глаза его, казалось, были полны сострадания ко всему, что заслуживает этого,— к растрепанному воробью, который отчаянно борется с бурей, чтобы долететь до своего гнезда, к цветку, расплющенному колесом мажары, к детям, играющим на улице у порога огромного взрослого мира.
Поэзия сопровождала Чернышева неотступно. Ее присутствие накладывало некоторый оттенок исключительности и серьезности на его слова и поступки. По натуре он был не только поэтом, но и таким же созопольским «капитаном» и «моряком», как и Тумба-торов и все остальные. У него была даже своя шаланда «Доменика».
Созопольские капитаны говорили мало, но хранили в памяти многие отрывки жизни, известные только им, будь то пожар закатного солнца над безбрежностью Эгейского моря или драка матросов из-за патефонной пластинки с записью увертюры «Кармен».
Они хранили многое в своей памяти, но все это рассказывал за них окружающим Славчо Чернышев — человек с душой мореплавателя, рыцаря и менестреля.
Сивриев был совершенно не похож на Чернышева. Их роднило только одно общее свойство — расположение к людям и страсть к скитальчеству.
Сивриев — бывший партизан, израненный на войне с немцами, человек реальных представлений — был непоколебим в своем бескорыстном восхищении подлинной литературой, в своей простой любви к ней. То была любовь бесповоротная, действительно пламенная. Ради литературы он, как солдат, мог броситься в штыковой бой в любую минуту против превосходящих сил противника. Он часто вспоминал песни
359
родопских горцев, песни своей прелестной родины, был строг в делах и нежен с любимыми, как ребенок.
Мы, конечно, не говорили о литературе в том узком, сугубо профессиональном смысле, как у нас в последнее время повелось. Такой разговор был бы просто невозможен перед лицом моря, занявшего половину горизонта своей взволнованной синевой.
Мы начали вспоминать отдельные, оборванные строки из разных поэтов. Чернышев неожиданно сказал: «Красивое имя — высокая честь!» Чернышев любил Михаила Светлова, настойчиво расспрашивал меня о нем, мечтал выпить когда-нибудь со Светловым «ясного» созопольского вина и поговорить о поэзии.
— Когда человек думает о поэзии,— сказал Чернышев,— то почти всегда вспоминает запавшие в сердце стихи. Они наполняют его тревогой и благоговением. В такие минуты человек чувствует собственный рост — именно то, что не дано еще чувствовать растениям и животным.
Он помолчал и спросил меня:
— Что вы чаще всего вспоминаете?
Мне было трудно ответить на этот вопрос. Дело в том, что я часто вспоминал многие стихи не только разных, но порой и враждебных друг другу поэтов. Это свойство смущало меня самого. К тому же я заметил, что в разное время память извлекает из своих тайников совершенно разные стихи.
Вот сейчас, среди этого лиловеющего темного моря под куполом спокойного солнечного света, мне вспомнилось много стихов. Я не знал, что выбрать. В таких случаях надо отпускать поводья у своей памяти, как мы отпускаем поводья у коня на незнакомой, опасной дороге.
Я целиком положился на память, и она принесла мне недавно прочитанные стихи. Они подходили к со-зопольской жизни:
Скопление синиц здесь овищет на рассвете.
Тяжелый виноград прозрачен здесь и ал.
Здесь время не спешит, здесь собирают дети Чебрец — траву степей — у неподвижных скал.
Это были стихи Заболоцкого — прекрасного и горестного поэта, умершего два года назад. Недавно еще 360
я приходил к нему в провинциальный тарусский домик с бегонией на подоконниках. За распахнутым окном стояло легкое летнее небо в пышно сбитой облачной пене и спокойно дожидалось вечера.
Я рассказал Чернышеву и Сивриеву о Заболоцком. Я вспомнил о нем и вдруг понял, что воспоминания не считаются ни с временем, ни с пространством.. Кто знает, где в это время кто-то другой вспоминал о Заболоцком? Может быть, в дождливый вечер где-нибудь в Каргополе, может быть, у окна поезда, рассекающего дымные дали херсонских степей.
Остальную часть пути мы молчали. Каждый думал о чем-то своем.
Рыбаки несли на плечах свернутую коричневую сеть длиной, должно быть, в двести метров.
Улицы городка были кривые, короткие, угловатые и удивляли приезжих своими неожиданными поворотами. Поэтому сеть, переползавшая, как удав, по городу, остановила движение. Оно было почти целиком пешеходное. Машины не любили заходить в Созополь. Им негде было развернуться в этой тесноте.
Мы остановились, чтобы пропустить сеть. Буревестники (гларусы) низко проплывали над сетью и недовольно покрикивали. Они привыкли выклевывать из мокрых сетей мелкую рыбешку и скарид — креветок, а теперь сеть уносили, и это беспокоило буревестников.
Переноска сети походила на медлительный и важный танец. Дети бежали около сети и держались за ее теплые тонкие нити. И снова привязанный к дверям базилики пожилой пыльный осел упрямой бабки Жив-ки, увидев сеть, начал в ужасе пятиться и рыдать.
В ответ ему зарыдали все ослы в Созополе, засмеялись рыбаки и, покачиваясь, запели знакомую песню:
Капитане, капитане, хэмуэлла!
Ми агапинэ фортуна пуперна...
Мы встретили в толпе молодого болгарского кинорежиссера Вылчанова — талантливого и решительного человека. Он сказал, что хорошо бы начать кинофильм с этой сети, плывущей, извиваясь, через древний город.
361
Он уже видел, как это будет выглядеть на экране, и даже кричал рыбакам:
— Шаг на месте на поворотах! Шаг на месте!
Но рыбаки и без этого напоминания замедлили шаг и временами целую минуту топали ногами, не двигаясь, чтобы дать передним осторожно пронести сеть за крутой поворот. После короткой заминки сеть снова двигалась размашистым шагом вперед, и возникала вторая строфа рыбачьей песни:
Ми нафинис стезоисо .ми капелла! Тет-емони тезоис накиверна!
Что происходило около нас? Простая работа — переброска рыбачьих сетей. Но это зрелище привлекло зрителей. Среди них я заметил «графиню» Елену Ба-тиньоти, добродушного художника Яни Хрисопулоса и многих других.
Рыбаки пронесли сеть, и снова тишина и пустынное небо воцарились над городком. Только около так называемой «Виллы писателей» — маленького двухэтажного дома, где мы жили,— продолжал восторженно кричать осел Панчо — приятель осла старой Живки.
Бесхитростная история этого осла была нам уже известна. Мы, конечно, сочувственно относились к злоключениям Панчо. Дело в том, что он сбил себе подковой бабку на ноге, и хозяин привязал его, пока бабка не заживет, к дереву на сухом холме около «Виллы писателей».
И вот Панчо невольно превратился в добросовестного городского глашатая. Панчо было скучно стоять без дела на пустом холме и смотреть на море. Сколько ни смотри, хоть тысячу лет, а оно всегда будет большим и не сдвинется с места. Поэтому Панчо придумал себе развлечение — он приветствовал оглушительными криками все события, выходившие за рамки созополь-ского однообразия: появление красного автобуса из Бургаса, скачущую несвойственным ей галопом мажару, сивых быков с лирообразными рогами и глазами такими синими и влажными, что им могли позавидовать женщины, тяжелый, как жук, самолет, летевший из-за гор в сторону Дуная,— одним словом, каждое событие в городе, независимо от того, значительно оно или ничтожно.
362
Когда Панчо долго не кричал, то какое-то непонятное беспокойство закрадывалось в сердце.
Если же Панчо кричал слишком сильно, то застенчивый и вежливый маленький пес при «Вилле писателей» Боба смущался и начинал извиняться за осла. Боба подползал к нашим ногам и пылил хвостом. Очевидно, Боба считал крики Панчо невежливыми и даже неприличными, особенно по отношению к русским гостям.
На молу, у самого его корня, стоял маленький дом. Жил в этом доме корабельный мастер, приятель Чернышева.
Мы пошли к нему однажды вечером. Когда мастер открыл нам дверь, свет из комнаты упал полосой в шумную темноту и осветил волны, бившие о мол. Они казались серыми от пены.
В доме пылали лампы (это выражение можно вполне применить и к электрическим лампам, а не только к керосиновым). На столе лежал желтоватый холодный виноград. Плющ за окном качался от ветра, и тени от его листьев бегали по полкам с книгами. Бутылки с белым вином чуть поблескивали на столе, как бы улыбаясь гостям. Гостей собралось довольно много. Пришел режиссер Вылчанов, молоденькая, страшно застенчивая киноактриса и несколько рыбаков — родственников мастера.
От света, тепла, от того, что рядом с дверью гремел тысячами тонн воды настойчивый прибой, а иной раз до окон долетали брызги, в доме казалось особенно уютно и тепло.
Мы пили, пели и болтали. Только мастер молчал и улыбался, прислушиваясь к общему говору.
И еще один человек молчал — молоденькая киноактриса. Она сидела, опустив глаза. Плечи ее слегка вздрагивали при сильных ударах волн. Голубая жилка проступала у нее на влажном виске, глаза были спрятаны за опущенными ресницами.
Ее попросили спеть. Она кивнула головой, как будто проглотила слезы, и запела тихо, почти речитативом, английскую песенку о Мэри.
Я неясно понимал содержание этой песенки, но почему-то был уверен, что это «Песня о Мэри» Александра Блока, переведенная на английский язык.
363
Вон о той звезде далекой, Мэри, спой.
Спой о жизни одинокой Прожитой.
Тихо пой у старой двери.
Нежной пеане мы поверим.
Погрустим с тобою, Мэри. ..
Девушка замолчала, сильно сжала веки, и на них блеснула слеза. Все молчали. Глухо и тяжело жаловалось море. Потом режиссер и Сивриев во весь голос запели болгарские песни. Звякнули стаканы, в лицо пахнуло терпким вином, и прибой, как бы подчиняясь общему настроению, широко раскатился по молу во всю его длину.
Я благословил в душе этот простой вечер в чужой стране, благословил заодно и скитания, полные светлых случайностей — таких, как эта тихая песня.
Я был уверен, что девушка пела о любимом. Я, конечно, давно знал, что каждому возрасту даны свои печали и радости и что для людей моего поколения девичьи слезы давно ушли в туманную даль, а может быть, и совсем иссякли. И мне захотелось склониться перед- этими почти детскими слезами, как перед маленькой святыней.
Когда мы вышли, порт был сильно освещен неоновыми фонарями. Начинался ветер. Он качал этот свет, и в его мигающем блеске отчаливали и уходили в море одна за другой белые безмолвные рыбачьи гемии.
Мы долго шли по спящим улицам Созополя. Маленькие эти улицы звенели и гремели от наших шагов. И отовсюду: из каждого дома, двора, из каждой руины и переулка — бежало навстречу нам эхо.
Неожиданно молоденькая киноактриса засмеялась и звонко крикнула какое-то слово. Эхо тотчас удесятерило его и вернуло нам. Мне сказали, что девушка крикнула по-болгарски: «Где мы?» И тотчас все дома, закоулки и камни мостовой повторили, перекликаясь, ее крик и спрашивали уже нас, людей: «Где мы?».
Неоновый свет в порту погас. Темнота усиливалась с каждой минутой. Казалось, ветер смешал этой ночью мрак всех времен — от древней и тяжкой Византии до нашего бурного века — и старается нас напугать.
364
Только когда мы пересекали переулки, идущие к морю, вдали открывался мигающий багровый свет маяка. И было почему-то страшно за маленькие рыболовные гемйи, ушедшие в эту ночь.
На следующий день я уезжал из Созополя. Я прожил в нем всего пять дней, но их оказалось достаточно, чтобы полюбить этот городок.
С дальнего холма я увидел, как в последний раз синим крылом махнуло Черное море. Скромная и прекрасная болгарская земля вскоре ушла в туманы и дожди. Погода переломилась. Дождь шел до самой границы.
Амфора стоит сейчас в Москве среди книг. У всех, кто ее рассматривает, она вызывает главным образом мысли об Одиссее и Эгейском море. У некоторых веселые, как у Заболоцкого в его стихах:
Шумело Эгейское море, Коварный туманился вал. Скиталец в пернатом уборе Лежал на корме и дремал...
У других она вызывала мысли торжественные, проступающие из гомеровской мглы, или радостные, как у Луговского:
Гребите, греки! Есть еще в Элладе Огонь, и меч, и (песня, и любовь... *
Что касается меня, то при взгляде на амфору я представляю себе гончарную мастерскую на скалистом берегу Аттики, синий воздух, старого гончара, шлифующего сырую глиняную вазу. Я вижу, как в простом этом мире, на щебенчатой земле, под нестерпимый блеск моря делается скромная амфора. Но создатель ее не подозревает, что совершенство ее формы переживет века и наполнит нас, потомков, гордостью и удивлением перед талантливостью человека.
Осень, 1960
Б • П о Л Е В О И
/1 Ь Б А" "•
— Р Е 14 Л /М О С 14 В И —
ервое впечатление самое памятное. Вероятно, поэтому, когда друзья просят меня рассказать об американцах, я прежде всего вспоминаю не о тех интересных людях, с которыми мне довелось прознакомиться и дружить во время моих путешествий по Соединенным Штатам, а о первой встрече с американцами далеко от моего и от их дома, на чужой и мне и им земле.
Я вспоминаю прохладное, ясное, пахнущее черемухой и гарью пожаров утро, когда передовые части нашего фронта, продолжая наступление, прорвались на берег Эльбы. Прорвались и остановились, замаскировавшись в прибрежных кустах, ибо река была разгран-линией и за ней начиналась уже зона действия союзников. И когда над закопченными руинами города Торгау, который возвышался на противоположном, крутом берегу, поднялось будто только что умывшееся в
366
холодной воде, крепко вытершееся мохнатым полотенцем, румяное весеннее солнце, наблюдатели донесли: за водной преградой появились военные. Мы приникли к биноклям и разглядели мохнатый от пыли «джип», а возле него крепких ребят в еще не знакомой нам форме защитного цвета, в касках, обтянутых маскировочной сеткой. И сразу поняли: американцы.
Что тут только поднялось!
Вмиг пойма покрылась людьми. Сложив рупором ладони, на тот берег кричали:
— Здравствуйте, ребята! .. Давайте к нам.
На той стороне тоже что-то кричали, тоже махали руками. Потом американцы сбежали к воде, отыскали какую-то ветхую ладью и, за неимением весел гребя досками от скамеек, стали пересекать быстрое вешнее течение. Вскоре мы принимали в объятия этот первый дружественный десант, отважно форсировавший на дырявой, полу затону вшей лодке столь серьезный Годный рубеж.
Сразу же были забыты все правила воинского этикета. Объятия, поцелуи, дружественные тычки в грудь, звонкие шлепки по спине, от которых шатало дюжих парней. Водка в самодельных кружках, во множестве изготовленных ротными умельцами на длинном пути до Эльбы, солдатская походная закуска, извлеченная из заплечных мешков. Шумные беседы с помощью нескольких взаимно известных русских и английских слов и мимических знаков, среди которых преобладали два — поднятый вверх большой палец, что, как известно, означало у наших солдат «отлично», и сложенные в бараночку большой и указательный пальцы, что означало у американской стороны «о’кэй» и по смыслу было тем же самым.
И, конечно, гармонь, и, конечно, песни, и, конечно, пляс, такой пляс, что, казалось, от топота оба берега так и вздрагивают, точно во время бомбежки.
Чувствовалось — происходящее на Эльбе означает нечто большее, чем оперативное соприкосновение двух союзнических армий, давно с трудными боями двигавшихся навстречу друг другу.
Встреча на Эльбе символизировала сокрушение гитлеризма, которого так жаждали народы. В солдатских
367
рукопожатиях, в совместно распитых чарках, в этом не очень стройном плясе, где какой-нибудь тверской парень соревновался в искусстве танца с парнем из Тексаса, находило, как мне кажется, выражение давнее взаимное уважение двух народов, живущих на разных концах земли, народов, которые за всю свою историю никогда между собой не воевали, относились друг к другу с интересом и походили один на другой своей талантливостью, изобретательностью, энергией.
Это последнее заключение не мое. Его сделали два хороших человека — русский и американец — еще в прошлом веке.
Между Россией и Америкой «целый океан соленой воды, но нет целого мира застарелых предрассудков, остановившихся понятий, завистливого местничества и остановившейся цивилизации... Обе страны переизбыточествуют силами, пластицизмом, духом организации, настойчивостью, не знающей препятствий...» Это писал в 1858 году великий русский революционный философ, пламенный борец с царизмом Александр Герцен.
«Вы — русские, а мы — американцы. Россия и Америка такие далекие, такие несхожие с первого взгляда! Ибо так различны социальные и политические условия нашего быта!.. И все же в некоторых чертах, в самых главных, наши страны так схожи». Это написал в 1881 году великий певец американской демократии Уолт Уитмен, закончивший это свое обращение к народам России словами: «Сердечный салют с наших берегов от имени Америки!»
. Это взаимное уважение, это ощущение взаимной схожести, так хорошо выраженное Герценом и Уитменом, всегда жило в народе России, в его интеллигенции. В наше, советское время оно еще более углубилось в эпоху Франклина Д. Рузвельта. В войну оно было обогащено чувством братства по оружию. И вот теперь так выразительно выплеснулось в весеннее утро на Эльбе.
Позади была гигантская страшная война, которая была выиграна. Позади были годы, когда люди в Соединенных Штатах с волнением ловили каждую добрую весть, доносившуюся с Восточного фронта. А впереди
368
была уже близкая в те дни победа, добытая ценою стольких жертв и таких гигантских усилий. Советские солдаты, вынесшие на своих плечах основные тяготы борьбы с армиями гитлеровской коалиции, были общепризнанными героями, спасшими мир от фашизма.
• И вот, встретившись на Эльбе, американские и советские солдаты как бы давали друг другу клятву не забывать этой встречи, в мирные дни крепить дружбу, сложившуюся на войне, а главное — не допускать войны новой.
Сколько испытаний предстояло выдержать этой солдатской клятве. Войны горячие и холодные потрясали земной шар. Недавние союзники в общей борьбе с нацизмом, разуму вопреки, оказались разделенными ледяными редутами холодной войны. Но тепло давних солдатских рукопожатий не остыло. Встреча на Эльбе не была забыта ни советскими, ни американскими ее участниками.
В десятую годовщину этой встречи организация американских ветеранов Эльбы прислала в Советский Союз свою делегацию, возглавляемую секретарем этой организации, чикагским шофером Джозефом Полов-ским.
Я хорошо помню и эту вторую встречу, происшедшую уже на Москве-реке. Десять лет, штатская одежда — все это, что там греха таить, изрядно поизме-нило нашу внешность, и все же некоторые из прилетевших и встречавших узнали друг друга. Объятия на Внуковском аэродроме были не менее горячи, чем на берегу чужой,- немецкой реки.
Но все же мы заметили тогда, что гости наши держат себя как-то связанно, настороженно, и это нас немного озаботило: в чем дело, — может быть, им не нравится наш прием? И лишь за обедом, когда дружеская чарка вина обошла стол и все разговорились, выяснилось, что гости, вняв россказням газет тех дней, опасаются, как бы кто-нибудь из советских людей, узнав на улице, что они американцы, не оскорбил, не обидел их страну и чтобы миссия дружбы, с которой они прилетели, не послужила бы на руку мастерам холодной войны.
24 На разных меридианах
369
Узнав об этом, мы рассмеялись. В шутку я предложил любому из гостей пари: мой годовой заработок против пуговиц от костюма любого из них, если они, американцы, не только услышат обидное слово, но хотя бы просто ощутят чью-нибудь неприязнь. Один из гостей принял вызов.
Признаюсь, я забыл об этом, но американский друг, по профессии мастер-текстильщик из Южной Каролины, отнесся к пари серьезно и во время заключительного обеда у начальника Генерального штаба Советской Армии неожиданно отрезал свои пуговицы и на тарелке протянул их мне через стол, заявив во всеуслышание:
— Ваш выигрыш. Нас везде встречали исключительно дружески. Отдаю все мои пуговицы, за исключением брючных. А то мне пришлось бы, летя от вас в свой далекий штат, долго держать штаны руками. А это, как вы сами понимаете, не очень легко.
И слышавший все это мой друг Джо Половский заметил:
— Когда прилетите к нам на следующую встречу на американской реке Потомак, не советую и вам заключать пари подобного рода. Проиграете. Вас, русских ветеранов, Америка встретит не менее тепло.
И вот весной 1958 года состоялась эта новая, третья встреча уже в Вашингтоне. Мы — Алексей Маресьев, барражировавший когда-то на своем боевом самолете над Эльбой, Александр Гордеев, полк которого первым прорвался тогда к реке, Иван Сам-чук, служивший в те дни начальником штаба корпуса, солдаты которого встретились с американцами, и самый молодой среди нас, Юрий Вольский, бывший в те дни старшим сержантом,— все мы пятеро можем засвидетельствовать, что объятия на реке Потомак были не менее дружественные, чем на Эльбе и реке Москве.
Встречаясь не только со старыми друзьями эльбин-цами, но с представителями других, более массовых американских организаций ветеранов, мы с волнением и радостью убеждались, что ничто не убило в них, как и в нас, то, что там называлось духом Эльбы. Мы, пятеро простых советских людей, оказавшись в дале-370
кой стране, то и дело наблюдали многочисленные и самые трогательные проявления этого духа, выражение стремления к миру и сосуществованию.
Разве забудешь, например, как на аэродроме седая женщина торопливо подошла к нам и, ничего не говоря, сунула каждому из нас в петлицу по скромному белому цветку. Оказывается, это мать, у которой в последних боях с нацистскими полчищами погиб единственный сын.
Разве забудешь, как в час, когда мы приехали на кладбище, чтобы возложить скромный воинский венок на могилу Неизвестного солдата, мы увидели, что площадь перед ней полна народу. Дело было в рабочее время, в обычный будний день, и все же многие американцы, узнав из газет о предстоящем событии, приехали посмотреть, как русские союзники отдают дань воинского уважения могиле Джи Ай.
Разве забудешь, как на столичном стадионе «Грифит» в разгар финального матча между знаменитыми бейсбольными командами «Сенатор» и «Янки» десятки тысяч людей, узнав, что на стадионе присутствуют пятеро простых советских ветеранов, поднялись и долго приветствовали нас дружными аплодисментами.
И все мы понимали — приветствуют не нас, ничем особенно не выдающихся советских людей. Приветствуют великий наш народ, приветствуют политику миролюбия и дружелюбия, проводимую его правительством.
Нет, если бы кто-нибудь из нас допустил опрометчивость и заключил пари, подобное тому, что было когда-то заключено в Москве, быть бы ему без пуговиц, ибо до последнего дня наша ветеранская делегация чувствовала себя среди друзей.
А встречи продолжались.
Еще через год американские ветераны, приехавшие в «день Эльбы» в Москву с визитом, ставшим уже традиционным, привезли Н. С. Хрущеву, тоже ветерану второй мировой войны, дорогой подарок — старую военную карту района Торгау, по которой когда-то командир американского авангарда вывел разведку к рубежу исторической встречи.
24*
371
Никита Сергеевич тепло принял их. В дружеской беседе с руководителем Советского государства наши американские гости смогли еще раз убедиться, что в Советской стране былое братство по оружию не забыто, что сердца советских людей по-прежнему открыты для дружбы и что то, что американские ветераны зовут «духом Эльбы», поддерживается у нас не только любым советским гражданином, но и руководителями нашего правительства!
Торжество «духа Эльбы» — заветная мечта всех, кто сохранил разум и добрую волю.
Мы верим в него.
1961
Е В Г *
п о п о в н-
Н А ДРЕВНЕМ
ИО
3 Е Л\ / Е
Л
Л А Д Ь I
«ГЕРЕ) »- это \о?ошо
। естерпимая, ошеломляющая духота, зной стали преследовать нас еще с Будапешта.
В Афинах, куда мы (прилетели в начале сентября, градусник показывал немногим меньше сорока в тени.
|- — Днем немножко теплее,— пошутили
друзья. — Днем афиняне спят. С часу дня до пяти закрываются все магазины и конторы.
По всем соображениям, мне и моему спутнику полагалось бы улечься в постели немедленно: мы не спали уже двое суток.
Но о каком сне могла идти речь, если через распахнутую дверь балкона врывался в душную комнату многоголосый шум незнакомого города, из тенистого парка, что наискосок от гостиницы, доносились звуки своеобразной музыки, а газетчики зычными голосами сообщали самые последние новости!
Один из современников Перикла еще две с половиной тысячи лет назад писал: «Так ты чурбан, если
373
не видел Афин; осел, если видел их и не восторгался; а если по своей охоте их покинул, то ты — верблюд».
Мы стали умываться и переодеваться.
Смуглый рослый официант, принесший из буфета содовую воду со льда и такой же ледяной газированный апельсиновый сок, именуемый здесь «портокала-дой», сказал, ставя бутылочки на стол:
— Добра утра! — и, смущенно улыбаясь, поправился:— Добра ночи! «Берьозка»... хорошо!
Оказывается, незадолго до нас в отеле «Акрополь-палас», обычно заполненном туристами из Англии, Америки, Франции, жили артисты «Березки», и мы имели возможность еще не раз убедиться в том, как полюбился грекам этот советский ансамбль и какую добрую память о нем сохраняют афиняне.
Было необычайно приятно в первые же минуты почувствовать, как радушно относятся в Греции к советским людям.
Забегая несколько вперед, замечу, что неподдельный, живейший интерес к советскому народу наблюдался нами всюду.
Нечего таить, в Греции далеко не всем это нравится. Скажу больше, кое у кого сближение советского и греческого народов вызывает раздражение и плохо скрываемое недовольство.
Но, обмениваясь дружескими рукопожатиями с простыми тружениками, мы неизменно слышали:
— Как замечательно, что можем видеть у себя русских!
За месяц с лишним нам удалось объездить многие уголки этой солнечной, изумительной по красоте древней земли.
И всюду, была ли это овощная лавчонка или опрятный домик фольклориста из Волоса, закопченная мастерская чеканщика церковной утвари в старом уголке Афин Монастираки или скромная соломенная овчарня фессалийского влаха,— мы на каждом шагу ощущали горячее желание греков дружить, торговать, обмениваться культурными ценностями и достижениями науки с Советским Союзом.
Однажды, собираясь уже расставаться с гостеприимной страной, мы зашли в первый попавшийся на пути магазинчик сувениров. Хозяин дремал, прикрыв-
374
шись газетой. Судя по всему, коммерческие дела шли у него неважно.
Догадаться об этом было нетрудно по той стремительности, с какой он, отшвырнув газету, разложил на прилавке свои грошовые драгоценности.
Мы купили кое-какую мелочь.
— Америкен? — осведомился продавец.— Инглиш?
— Россико,— сказал я, храбро произнеся одно из немногих ставших здесь знакомыми слов на греческом языке.
— Ленинград?!—воскликнул владелец сувениров, глядя на нас во все глаза и возбужденно причмокивая.— Севастополь!
Этими словами, по-видимому, исчерпывались и его познания в незнакомом ему языке. Но нашему собеседнику очень хотелось сказать что-нибудь еще. Наморщив лоб, порозовев, он вдруг воскликнул:
— «Берьозка»! Это хорошо!
ПРОБИВ ЦЫ /ЮТЕРЕИ'-НОГ#
СЧЕСТЬ/!
Итак, мы выбрались на шумные улицы Афин.
Было уже близко к полуночи, но казалось, город лишь недавно проснулся и никто и не помышлял покинуть его улицы, площади, скверы. Потоки гуляющих текли друг другу навстречу так же густо, как и идущие впритирку к узким тротуарам косяки разноцветных автомобилей, троллейбусов.
В Афинах водители не пользуются сигналами, но тише от этого не становится. Разве могли бы клаксоны состязаться с хорошо поставленными, но к ночи уже сипящими голосами неугомонных чистильщиков обуви, энергичных продавцов вечерних газет, фисташек и жареных кукурузных початков!
В Греции любят и умеют торговать. В этом мы убедились в первый же вечер, прогуливаясь по афинским улицам.
Магазины были уже закрыты, но чем только не торговали прямо на тротуарах! Киоски, расположенные
375
в нескольких десятках метров друг от друга,— это, по существу, маленькие универмаги. Увешав киоск сверху донизу иллюстрированными журналами и газетами или гирляндами дешевых ювелирных изделий, торговец бодрствует за своим окошечком, пока улицы совсем не опустеют. У него есть все: сигареты и шоколад, бритвенные лезвия и жевательная резинка, Венеры из мраморной прессованной крошки и бензин для зажигалок, темные очки и нейлоновые зубочистки, дамские чулки и непременно содовая вода и холодный лимонад...
Не станем здесь задерживаться.
Нас уже экспансивно атакует громкоголосый, загоревший до черноты пожилой мужчина с усталыми, добрыми глазами. В руках у него длинный шест, весь утыканный лиловыми бумажками.
Мужчина обещает кучу богатств: чудесную виллу, автомобиль, удобную квартиру, мотоцикл, чековую книжку. Надо только не пожалеть нескольких драхм и приобрести у него лотерейный билетик. И так как этот лиловый лоскутик бумаги пока, пожалуй, единственный доступный всем способ стать в одно прекрасное рождественское утро богатым человеком, возле продавца лотерейного счастья долго и задумчиво стоят скромно одетые молодые люди и озабоченные женщины.
Грустно вздохнув, они шагают потом дальше, мимо зеркальных витрин, за которыми отливают лаком не призрачные, а самые настоящие новенькие лимузины и мотоциклы, лежат груды дорогих восточных сластей, красуются отсвечивающие никелем холодильники и радиолы; шагают мимо магазинов готового платья с отлично сидящими на манекенах демисезонными пальто, плащами, ультрамодными костюмами.
L Ш U 8 АЯ /ИОН-ЕТ/1»
Излюбленное и, что еще важнее, доступное вечернее развлечение афинян — посидеть за столиком в кафе или в таверне, которые подчас занимают весь тротуар квартала. Спросить свежую газету, чашечку
376
кофе или бокал обыкновенной холодной воды. Не торопясь перелистать правую газету «Акрополис» или демократическую «Авги», в зависимости от симпатии и укоренившейся привычки... В Афинах пятнадцать газет, тысяча двести профессиональных журналистов.
Можно, вернув гарсону газету, просто смотреть на толпу гуляющих.
Что ж, присядем и мы. Спросив разрешения у одиноко коротавшего свой досуг пожилого мужчины, мы устроились за его столиком.
Мимо, обдавая нас запахом отработанного бензина и нагретой резины, проносились «шевролеты», «бьюики», «паккарды», «форды». Медленно прохаживались парочки. Коротко подстриженные черноволосые и смуглые красавицы с узкими, как у балерин, талиями, в пышных ярко-зеленых или ярко-красных юбках и белых блузках, с неизменным крестиком на груди. Такие же черноволосые, с тёмно-оливковым от солнца лицом мужчины, в узеньких брюках и элегантных пиджаках. Американские патрули с пистолетами в кобуре на животе. Уличные фотографы с блицаппаратами через плечо. Полицейские в шлемах и белых нагрудных перевязях на мундирах. Американские солдаты и матросы в штатском; их здесь сразу распознают по цветастым, пестро разрисованным ситцевым рубашкам и развязным манерам.
Сосед по столику некоторое время внимательно прислушивался к нашему разговору, затем неожиданно спросил:
— Москва?
— Да, из Москвы.
— Поли кала!
Наш московский друг, давно живущий в Греции, перевел: «Очень хорошо!»
Мы с этим согласились.
— Зимой у нас лучше,— немного помолчав, сказал мужчина.— Тогда, горы и деревья зеленые. Все цветет. .. Сейчас выгорело...
Не ожидая ответа, он вдруг приблизил к нам худое коричневое лицо и, поглядывая то на переводчика, то на нас, перейдя на конфиденциальный шепот, доверительно сказал:
377
— Если у вас есть капитал, мы можем вместе начать выгодное дело. Я давно намерен открыть свой большой магазин.
Мы улыбнулись и ответили, что коммерцией нам как-то заниматься не приходилось и компаньонами мы оказались бы плохими.
— Тогда одолжите мне денег, если располагаете, и я вам помогу заработать,— внес энергичное предложение будущий владелец магазина.— На процентах...
— А чем, если это, разумеется, не составляет тайны, вы занимаетесь сейчас? — поинтересовался я.
— Пока работаю дворником в мэрии,— охотно сообщил наш собеседник.— Там заработки низкие. Видите, я даже не могу позволить себе чашечки кофе. Она стоит две драхмы, а это половина моего дневного заработка. Я так люблю кофе!
В памяти у меня возникло все, что я видел в греческом фильме «Фальшивая монета». Ведь это скромный, честный и талантливый гравер Анаргир, втянутый в авантюру и потерявший свои небольшие сбережения, печально воскликнул: «Как я мечтал пить свой кофе!»
И слепого скрипача мы видели только что на перекрестке оживленных улиц. Он не столько водил смычком, сколько прислушивался к звяканью монет о дно жестяной кружки.
И подозрительно густо накрашенных женщин успели мы заметить на тротуаре у отеля «Гранд Бретань».
Наш собеседник торопливо порылся в карманах старомодного, выцветшего, но опрятного пиджака и извлек потертую на сгибах газету «Элефтерия».
— Вот! — Он развернул газетный лист и ткнул пальцем в карандашную пометку.— Вы непременно прочитайте!
Нетрудно было заметить, как волнует его начатый разговор.
— Я вам сам прочитаю,— поспешно сказал он.— «.. .Около тридцати процентов живущих в нашей стране людей, которых мы хотим видеть здоровыми, гордыми, послушно выполняющими законы, честными патриотами, готовыми на любые жертвы, и фанатиками — защитниками греко-христианской культуры, имеют в день дохода на душу меньше чем четыре
378
драхмы.— Он перевел дух и, убедившись, что мы слушаем переводчика очень внимательно, продолжал:—На них они должны питаться, одеться, заплатить за квартиру. Шесть процентов жителей Греции имеют в день дохода четыре-шесть драхм...»
Наш собеседник, не дочитав, уныло махнул рукой и, отдав нам зачем-то газету, добавил:
— Единственный выход для меня — открыть магазин. Ни фальшивые, ни честные деньги на тротуарах не валяются. А лучше ни о чем этом не думать!
® ,4? Е ВНЯЛ
В школьные и студенческие годы мы восхищались репродукциями мраморных колонн Парфенона и руин афинского Одеона, храмов Зевса Олимпийского и Посейдона. Нас не могли не волновать изваянные две тысячи с лишним лет назад статуи Геры и Афины Девы, Аполлона или мироновского Дискобола.
И каждому, кто впервые приезжает в Грецию, конечно, хочется прежде всего увидеть воочию овеянные многовековой славой древние классические памятники.
Я увидел Акрополь совершенно неожиданно, с балкона нашего отеля на улице Патиссия. Предрассветное небо над Афинами было не алым и не светло-голубым, а почему-то неправдоподобно желтым, каким его любят изображать на картинах из библейской жизни. Прозрачность этого удивительно яркого небосклона подчеркивали черные, словно нарисованные тушью, силуэты гор, окаймляющих город с востока.
Высокий, видный издалека акропольский холм еще лежал в тени, а Парфенон был уже освещен первыми солнечными лучами. И это утреннее волшебство светотеней создавало чудесную иллюзию. Казалось, весь многоколонный храм сооружен из слоновой кости и озарен каким-то внутренним золотистым светом, праздничным и жизнерадостным.
Позже я видел Парфенон и днем, и в сумерки, и при лунном свете. Видел в те часы, когда его подсвечивали снаружи прожекторами в честь какого-либо праздника или большого события. Он всегда неповто-
379
рим и всегда по-разному прекрасен. Мне удалось повидать замечательные памятники еще более древних веков: акрополи Коринфа, Аргоса, Микен. Но ничто не могло затмить первого и наиболее сильного впечатления, какое произвел афинский Акрополь — один из совершеннейших в мире архитектурных ансамблей.
Трудно, не зная истории таких сооружений, как афинский Акрополь, постичь дух народа, создавшего его в свой «золотой век», названный Марксом эпохой высочайшего внутреннего расцвета Греции.
Гиды, сопровождающие советских туристов к Акрополю, рассказывают обо всем скороговоркой: за три-четыре часа надо еще показать другие достопримечательности: Национальный археологический музей, Академию наук, Афинский университет, древние театры и храмы, Национальную библиотеку, стадион и развалины храма Зевса Олимпийского, Королевский дворец, памятник Неизвестному солдату...
Греческие экскурсоводы торопливо сообщают, что Парфенон построен из пентелийского мрамора выдающимися архитекторами Интином и Калликратом; что Калликратом воздвигнут и вот этот маленький храм Ники Аптерос («Бескрылой Победы»); что Пропилеи — ворота в Акрополь — строил другой талантливый архитектор— Мнесикл; что завершающий архитектурный ансамбль храм Эрехтея — «Эрехтейон» — построен в ионическом ордере за четыре столетия до нашей эры.
Напомнит гид своим слушателям и о том, что хри-соэлефантичная статуя Афины Девы из слоновой кости и золота сделана первым скульптором Эллады, Фидием, и что он же руководил восстановлением Акрополя после разрушений военных лет. Наконец, нетерпеливо поглядывая на часы, гид добавит, что в семнадцатом веке, во время войны турок с венецианцами, здание Парфенона снова сильно пострадало.
Все это интересно, важно. Но вам, естественно, хочется знать гораздо больше.
Смотришь на скользкие плиты Пропилей, отшлифованные ногами многих поколений, на мрамор статуй и порталов, могучих желобчатых столпов, изъеденных ветрами, солнцем, временем, но донесших до нас сквозь тысячелетия живую и талантливую мысль мастеров прошлого; любуешься изяществом кариатид, художе-380
ственной гармонией зданий и невольно думаешь: какая всепреодолевающая энергия, какое неукротимое стремление к совершенству владели легионами каменщиков, землекопов, орнаментовщиков, литейщиков, чеканщиков, создавших эти жизнеутверждающие, вечно юные памятники!
. . .Как-то в знойный полдень среди немногих туристов, отважившихся подняться на Акрополь, я увидел надменную белесую особу в пестрых коротких брючках и такой же размалеванной мужской сорочке, с американским фотоаппаратом через плечо. Сделав несколько шагов по накаленным ступенькам, она поспешила в тень, бросив с брезгливостью:
— Чем тут восхищаться?! Камни как камни... Да еще такая жара...
Для нас древние памятники Греции не мертвые камни, а живые страницы истории народа, чьи свободолюбивые и демократические традиции, уходящие корнями в глубь веков, поднимали греческих патриотов на борьбу за независимость и в прошлом веке и во времена минувшей войны.
Весной сорок первого года в Грецию ворвались гитлеровские оккупанты. Сорок три месяца они бесцеремонно хозяйничали в стране: вывозили промышленное оборудование, сырье, топливо, транспортные средства, скот, продовольствие. Десятки городов и сел были варварски разрушены, тысячи греческих патриотов заточены в тюрьмы и концлагеря, расстреляны и повешены.
В десяти минутах езды от Акрополя, близ рабочих кварталов Пирея, на кладбище Кокинья, погребен один из сынов греческого народа, Никос Белояннис. Мы разыскали его могилу ранним утром, когда кладбищенские служители подметали дорожки и поливали цветы.
— Фотографировать нельзя! -г— предупредил один из них.
— Его боятся и мертвого,— тихо сказала старая женщина в черном платье, приводившая в порядок соседнюю могилку.
Молча стояли мы у мраморной плиты, на которой была выбита надпись:
Никос Белояннис
27/Х 1915—30[Ш 1952
381
На мраморе алели красные гвоздики. Чья рука любовно положила их — неведомо. Мы узнали, что свежие цветы приносят на могилу Никоса каждый день — в память о том, что на суде, приговорившем Белоян-ниса к казци, в петлице его пиджака была скромная гвоздика.
У могилы народного героя не могли нам не вспомниться имена многих других греческих патриотов, самоотверженно боровшихся за свободу и независимость острова. Кипр, который долгие годы находился под владычеством англичан. В каком бы уголке Греции нам ни доводилось бывать, мы слышали, с какой горячей любовью произносятся имена казненных молодых киприотов Караолиса и Димитриу, с какой жгучей ненавистью говорят свободолюбивые греки об английских колонизаторах, превративших греческий остров Кипр в лагерь смерти.
В самые тяжкие дни, когда кровавый фашистский террор особенно свирепствовал в стране, с Акрополя, охраняемого эсэсовцами, был сорван флаг с фашистской свастикой. Это сделал двадцатилетний греческий патриот Манолис Глезос. Только чудом он не был схвачен гестаповцами.
Мы стоим на этой вышке. Под нами совершенно отвесная циклопическая каменная стена. Далеко внизу, сколько охватывает глаз, бесконечные кровли огромного города, что раскинулся между выцветшими от зноя горами и бирюзовой водной ширью. Крыши — то белые и плоские, то черепично-оранжевые, конусообразные; спокойная гладь Эгейского моря, очертания островов в туманной дымке. Пирейский порт, залив с рыбачьими фелюгами, парусниками и катерами... И снова несчетные крыши домов и зданий, приземистых храмов, окруженных серебристо-пыльными оливками и синими кипарисами, прямые и длинные улицы с конторами агентств, торговых и туристских фирм, бетонно-зеркальными громадами магазинов и банков, запутанные переулочки с допотопными мастерскими ремесленников, просторные парки и тесные рыночные площади...
В современных Афинах, греческой столице с почти миллионным населением, столько контрастов, что новому человеку не сразу разобраться, больше ли здесь
382
от тысячелетней древности или от современных английских «офисов» и предприимчивости американских колонизаторов и бизнесменов.
Так же, как, по-видимому, и сто и тысячу лет назад, невозмутимо цокают копытами по улицам ослики и мулы, на спинах которых покачиваются корзины и ящики с овощами, фруктами. Равнодушны к блистающим лаком «шевролетам» и «бьюикам» поджарые лошаденки, влачащие старомодный фиакр с флегматичным возницей и обнявшейся парочкой. Из распахнутых настежь дверей прокуренных кофеен и таверн несет первобытным чадом бараньего сала и пригоревшего оливкового масла, слышится азартный стук игральных костей, а наискосок, в американском баре, у стоек тянут виски и коктейли франты и их экстравагантно разодетые подруги.
Страстно-печальная восточная музыка, мелодичные звуки старинного инструмента бузуки заглушаются воем и скрежетом джазов, а призывные крики водоносов — свистом реактивных самолетов, проносящихся над городом.
В лавчонках, торгующих крестиками, образками, иконками, миниатюрными иконостасами, предложат вам и американскую губную помаду и английские нейлоновые пакеты для белья.
В богатых домах и дорогих отелях воздух охлаждают ультрасовременными приборами под названием «аэрокондишен»; немецкие рефрижераторы и радиоприемники, английские пылесосы и автоматы для фруктовых соков и американская жевательная резинка сосуществуют с примитивной наковальней кузнеца, первобытно-простыми каюками рыбаков.
Греция, которой так и не дали развить свою крупную промышленность, вынуждена покупать все жизненно важное: машины и сталь, сельскохозяйственные орудия и транспортные средства, нефть и бензин, каменный уголь и текстиль — в других странах. И города, которые смогли бы сами производить многое из того, за что приходится платить валютой, перебиваются тем, что поставляют сигареты, керамику, оливковое масло, кожевенные и ковровые изделия.
— Нашим друзьям американцам и англичанам выгоднее, чтобы мы производили только шелковые
383
коконы и овечий сыр,— сказал с горькой усмешкой греческий коммерсант, с которым я познакомился на одном из табачных складов Пирея.
Чтобы свести концы с концами, в Греции стараются побольше сажать и побольше продать за границу табака, винограда, оливок, лимонов. Заграница стала меньше предъявлять спроса, скажем, на сушеную коринку, морские губки, и это уже вызывает тревогу.
Когда-то, в лучшие времена, большой доход приносил стране туризм. Тут вспоминают, что в 1937 году Грецию посетило около полутораста тысяч иностранных туристов. А в 1947 году их было всего четырнадцать тысяч.
Правда, в последнее время поток туристов снова увеличился. В благоприятном для греческого туризма 1955 году здесь, как с удовлетворением сообщала газета «Этнос», побывало иностранцев даже больше, чем накануне войны,— около двухсот тысяч. Но в силу некоторых обстоятельств англичане, например, которые, по словам той же газеты, были «королями туризма», стали ездить в Грецию значительно меньше, как, к слову сказать, и меньше покупать у греков сушеной коринки и табака.
Мы зашли в знакомое советским путешественникам туристское бюро братьев Караяниди на улице Ста-диу, 58.
— Знаете, к вам в СССР уже выехала первая группа греческих туристов,— сообщили нам с нескрываемой радостью.— Врачи, адвокаты, кустари. Посмотрят Москву, Киев...
В конторе было многолюдно, оживленно, шумно, как и обычно в горячие для туризма летние дни. Но хозяева, отложив дела, принялись тщательно подбирать для нас маршруты, проспекты, справочники.
— Пожалуйста, поезжайте по нашим историческим местам,— сказали нам.— Будем довольны, если вы увидите землю Эллады, какой она есть. И расскажите своим землякам, что их здесь ждут всегда с наилучшими чувствами.
По территории Греция не так велика — около 133 тысяч квадратных километров. Она почти в четыре раза меньше, например, нашей Украинской республики. Пятую часть греческого континента занимают
384
острова: Крит, Эвбея, Ионические, Киклады, Додеканес, Лесбос, Самофракия и множество других. Крупнейший греческий остров Кипр с полумиллионным населением, как известно, почти восемьдесят лет оккупировался английскими колонизаторами. Англия всеми силами старалась удержать этот остров за собой, ибо здесь была ее стратегическая база в Средиземном море, здесь находился плацдарм против стран Ближнего Востока и Африки. Именно отсюда, с английских авиационных и морских баз на Кипре, наносились удары по Египту.
В Греции есть парламент, но исполнительная власть осуществляется королем через назначенных им министров.
Уже в Греции нам рассказали, что здесь насчитывается более тридцати политических партий, имеются десятки газет — и крайне правого, реакционного, и демократического направления, есть оппозиционно настроенные к правительству члены парламента. Но фактическим хозяином в стране, как мы могли убедиться, является греческая плутократия.
«Наш народ,—-говорится в Программной декларации, принятой расширенным пленумом ЦК Коммунистической партии Греции,— боролся всеми силами, чтобы стать хозяином своей орошенной кровью земли, однако теперь он снова закован в тяжелые цепи иностранной кабалы...
Народ все больше убеждается в том, что нынешний тупик является непосредственным результатом зависимости от иностранцев — политики национального подчинения иноземным империалистам».
Плутократическая олигархия по самой своей социальной природе чужда демократии. Член парламента Греции Илиас Бредимас рассказал об этом в печати.
«В Греции,— писал он,— налицо имеются признаки серьезного нарушения демократических порядков. Внешне демократия в Греции существует. Но в то же время внутри страны с жестокостью действуют силы, совершенно несовместимые с подлинно демократическим строем. Если какой-нибудь профсоюзный деятель поднимает голос на каком-либо, пусть даже закрытом, собрании в защиту попранных прав рабочих и служащих, его ждут преследования...»
25 На разных меридианах
385
«Я вспоминаю,— писал далее Илиас Бредимас,— что, когда я выступил с трибуны Конгресса Мира в Хельсинки и заявил о стремлении большинства греков к миру и к запрещению средств массового уничтожения, я был встречён в Греции потоком ругани и неоправданных обвинений сторонников американской ориентации. Потребовалось много труда и много старания, чтобы моими статьями в газетах и выступлениями на собраниях нейтрализовать нависшую надо мной угрозу быть привлеченным к чрезвычайному суду за измену... греческим интересам! ..»
Но вернемся к рассказу о том, как живут сейчас простые труженики.
По официальным данным, трудящиеся Греции получают двадцать пять процентов дохода, работодатели — семьдесят пять. На каждом шагу в Афинах и в других городах можно услышать фамилии крупнейших греческих промышленников: Бодосакиса, Папа-стратоса, Илиопулоса.
Чаще всего, пожалуй, встречалась нам фамилия Папастратоса. Ее можно было увидеть на внушительных, во всю ширину многоэтажных зданий, вывесках, на киосках, грузовых автомобилях, на обтянутых целлофаном коробочках с сигаретами.
Табачная фабрика Папастратоса — одна из крупнейших, если не самая крупная в Греции. Ее продукция составляет не менее трети всей продукции страны. Здесь постоянно работает три тысячи человек, преимущественно женщин.
Мы осматривали фабрику вместе с сотрудниками торгпредства и советскими экспертами по табаку.
На стене комнаты — портреты короля Павла и королевы Фредерики.
Директор фабрики, высокий мужчина с властным тембром голоса и холодноватыми глазами, учтиво осведомляется, какие у гостей есть вопросы.
— Сколько лет существует фабрика?
— Основана в тысяча девятьсот тридцатом году.
Директор добавляет, что фирма Папастратоса выпускает пять сортов сигарет: от высшего — «Люкс», стоимостью семь драхм, до так называемых «народных» — по три с половиной драхмы пачка.
386
—- Дороговато? Возможно... Если удастся поднять урожай табака в стране до ста тысяч тонн, будет дешевле.
Сейчас собирают девяносто тысяч тонн.
Мы идем в цехи, занимающие три этажа огромного корпуса. Размеренный гул станков, сосредоточенные лица работниц.
Ни на мгновение не прерывая работы, они с любопытством, исподтишка поглядывают на нас.
Очень хочется поговорить с ними, но шагающий все время за нами заведующий цехом в белом, безукоризненно отутюженном халате корректно предупреждает:
— Ваши коллеги ушли вперед.
Все же, пока наши специалисты обстоятельно знакомятся с технологическим процессом, я, испросив разрешения, подхожу к пожилой работнице. Она не так занята, как другие, и, к счастью, знает немного русский язык.
Ох как сложно завязать разговор, когда десятки пытливых глаз устремлены и на тебя и на твою собеседницу, а представитель администрации, вежливо улыбаясь, поминутно поглядывает на ручные часы!
Но женщина бойка, словоохотлива и сама выводит нас из затруднения.
— Варвара Эфедиян. Нет, не гречанка, а армянка,— весело и скороговоркой сообщает она и сама спрашивает: — Вы из России? Очень приятно! Мои родственники оттуда. Будете покупать наши изделия?
На минуту отвлекшись, Варвара Эфедиян наклоняется к ящику с измельченным табаком, поднятому лифтом откуда-то снизу, и снова обращает к нам приветливое лицо с сеточкой морщинок вокруг черных больших глаз.
— Давно ли работаю? С тысяча девятьсот двадцать второго. Тридцать четыре года,—добавляет она таким тоном, словно сейчас только подсчитала и неожиданная цифра удивила ее.
— Как заработки?
— Неплохо!—Женщина даже встряхнула головой. — Совсем неплохо! .. Тридцать девять — сорок драхм в день... Хватает! Новички получают меньше. Им платят тридцать две с половиной драхмы. Но я не новичок.
25*
387
Новичком в этом цехе оказалась Ирина Тахтиаки, миловидная полная женщина лет тридцати. Она делает картонные коробки для сигарет.
На фабрике Папастратоса она недавно, до этого работала на заводе коринки. Мать Ирины тоже табачница, получает столько же: тридцать две драхмы и пятьдесят лепт.
— Семья большая?
— Нет, я не замужем. Это так трудно, найти мужа,— доверчиво говорит женщина и машинально вертит меж пальцев крестик на позолоченной цепочке.
Ирина так подкупающе непосредственна, с такой ласковой готовностью рассказывает о себе, о матери, о работе, что, кажется, мы давно с ней знакомы.
— Словом, зарплаты хватает? — подсказываю я.
Ирина горько усмехается и выразительно покачивает головой. Но тотчас же задорно восклицает:
— Эн такси! Все в порядке! — Она оглядывается на рабочего, молчаливо стоящего рядом, и шепотом спрашивает: — Неприятностей не будет мне?
— Нет, не будет,— заверяет рабочий.
Когда мы, попрощавшись с работницами, идем дальше, он ведет нас в соседний цех, где смешивают табаки, и по собственной инициативе подводит к высокой грохочущей машине, над широким деревянным раструбом которой склонилась худенькая седая женщина.
— Антония! — окликает ее наш проводник.
Кто-то становится на место седой женщины, и мы можем побеседовать с ней не спеша.
Антония Морфта работает здесь уже тринадцать лет. Зарабатывает по тридцать три драхмы.
— Что-то не получается у меня иначе,— с виноватой улыбкой говорит женщина, и на лбу ее залегает резкая складка.— Надо бы больше... Четверо детей, а я одна.
— Дети не работают?
— Старший сын в армии. Ему двадцать лет. Дочери двадцать два, не может устроиться на работу. Меньший сын и дочь тоже дома.
— Учатся?
— Охи. Нет. Средств у нас таких нет. Раньше я стирала, сейчас уже не могу.
388
Антония Морфта коротким движением рук поправляет платочек на голове и простодушно добавляет:
— В общем я довольна. Ни на что не жалуюсь. Слава богу, живем в квартире, которую получили до оккупации. Она много дешевле. Если не будет войны, всем станет лучше.
Мы беседуем еще с несколькими рабочими. «Эн такси! Все в порядке!» Ни слова о недавних голодных забастовках, о том, что цены на хлеб, оливковое масло, мясо, фасоль, мыло стремительно поднимаются.
Надо отдать должное скромности, гордости, что ли (затрудняюсь, как это назвать), свойственным греческому труженику. Он не привык жаловаться на житейские трудности и неурядицы, не покажет виду, что у него нет драхмы на обед...
Это умение при всех превратностях судьбы оставаться хотя бы внешне бодрым и независимым показалось мне примечательной чертой характера грека-труженика.
.. .Во время обеденного перерыва мы зашли в рабочую столовую. Одна смена кончала свой обед, а в обширный зал прямо из душевой, отирая на ходу влажные разрумянившиеся лица и кое-как причесавшись, уже устремились с неимоверным гамом и визгом работницы очередной смены.
Если бы Проспер Мериме не создал свою «Кармен» раньше, он, думается, непременно написал бы ее, побывав в столовой на пирейской табачной фабрике. Именно в столовой! Спустя сорок пять минут в цехах вновь воцарится строгая тишина, задорные табачницы будут опять смиренно и прилежно сортировать и крошить табак, молча перетаскивать ящики.
А сейчас обеденный перерыв, и работницы, перекликаясь, стуча тарелками и кружками, заполняют все места за столом.
Обед стоит сравнительно недорого, но многие женщины приносят еду из дому: горстка маринованных оливок, салат из помидоров или две-три рыбешки обходятся все же дешевле.
В конце длинного стола становится вдруг особенно шумно и оживленно. Что такое? Оказывается, советский эксперт, главный инженер Ростовской табачной фабрики Болдырев, заинтересовался меню столовой.
389
В ту же минуту десятки рук протянули ему на тарелочках снедь. Настойчиво и гостеприимно — совсем так, как умеют это наши радушные украинки и сибирячки,— женщины упрашивают советского гостя отведать хоть чего-нибудь.
Несколькими днями позже мы побывали в Драпе-цоне, рабочем районе Пирея. Здесь живут семьи многих, с кем мы встречались на фабрике.
Часы показывали полдень, и нас вначале удивило многолюдье тесных и пыльных улочек. Сидели на ступеньках домиков мужчины, балагурили возле водопроводных колонок, у овощных и мясных лавчонок женщины. Между тем никакого праздника в этот день по календарю не значилось.
Впрочем, нетрудно было догадаться, что люди остались в будничный день дома вовсе не по своему желанию. Просто не улыбнулось каверзное счастье и не удалось получить работу в порту — на разгрузке парохода, или на вокзале, или в одном из многочисленных магазинов, занимающих целые кварталы.
.. .Не успели мы поставить «Победу» в тень, как нас окружили вездесущие мальчишки, чумазые и босоногие.
— Россико-о! — воскликнул один из них и вихрем понесся куда-то по улочке, отчаянно размахивая руками и взбудораженно вопя:—Раше-ен!.. Россико-о!
Спустя две-три минуты у советской машины собирается пестрая и возбужденная толпа.
Смуглый курчавый мальчик лет десяти горящими глазами разглядывает машину, осторожно прикасаясь к ней пальцами. На его желтой майке изображения казненных весной молодых кипрских патриотов Ка-раолиса и Димитриу.
— Как тебя зовут? — спрашивает переводчица.
— Евангелос.
— Учишься?
— Немножко,— смущенно отвечает паренек.— Когда у матери есть деньги.
Я прошу его показать, где можно было бы попить воды, и Евангелос торопливо ведет меня и переводчицу вниз по улочке к невысокому домику.
390
С порога поднимается немолодой коренастый мужчина с глубоким шрамом на щеке над черными усами.
Обменявшись с переводчицей несколькими фразами, мужчина пристально глядит на меня и снова говорит что-то.
— Очень рад русскому гостю и приглашает зайти в дом,— объясняет переводчица.
— Американцы — это воевать, русские—торговать, работать, дружить,—говорит хозяин, когда мы садимся у стола, на котором появился графин с холодной водой.
Да, он воевал. С немецкими фашистами. Воевал мужественно. Потерял семью. С него хватит! Американцы и англичане не любят слишком заботиться о таких, как он.
— Мы для них военная база,— резко продолжает наш собеседник, и густые брови его сдвигаются.— Больше половины нашего бюджета идет на военные расходы. Десятая часть всего национального дохода! Об этом вслух говорят в парламенте. Вы видели, сколько военных кораблей пригнали в Пирейский порт? Весь шестой американский флот. Сколько самолетов летает над нами! Это для чего?
Хозяин дома потягивает воду из стакана и хмуро разглядывает свои огромные, испещренные жилами кисти рук.
— Парфенон, Зевс... Все это хорошо,— роняет он.— А дальше что? Только и можем похвастаться: Акрополь, театр Ирода Аттика... Это сделали за тысячи лет до нас. А мы?
Трудно было ответить на это.
— Я хоть и не полную неделю, но работаю,— переменил разговор мой собеседник.— А сколько молодых,, здоровых годами смотрят на ИКА! Есть такая страховая касса.
Он вдруг спохватился:
— Может быть, заглянем в таверну? Мне нечем угостить.
Надо было возвращаться к своим спутникам, и я, поблагодарив, стал прощаться.
— Передайте привет русским,— сказал хозяин, поднимаясь и крепко пожимая руку.— Мы вас любим! За мир, за труд. За уважение к простым рабочим.
Я пообещал исполнить его просьбу.
391
Я в ГОрА-Х ЭЛЛАДЫ
В конце августа, когда купцы скупают табак, в небольшой деревушке Ано Валтас произошел такой случай.
Агенты одного из купцов заявили крестьянам, что снизят плату за табак по сравнению с прошлым годом на 15 драхм. Они хотели присвоить урожай за бесценок. Крестьяне с яростью выгнали агентов и колокольным звоном собрали всю деревню на демонстрацию протеста. Затем послали петицию парламенту.
О случившемся сообщила газета «Авги».
«Крестьяне-табачники,— заключила она,— находятся в плачевном положении, ибо не могут реализовать табак».
Газетная заметка вспомнилась нам, когда мы подъезжали к селению Ксилокастро, невдалеке от Коринфа.
Ксилокастро, как нам пояснили,— одно из курортных местечек Пелопоннеса, а в его окрестностях и в горах вокруг раскинулись лимонные и виноградные плантации.
— Учтите,— предупредил господин Франгистас, коммерсант, сопровождавший нас в поездке,— тут живут сравнительно зажиточные земледельцы. Другие деревни намного беднее.
Прежде чем отправиться в одну из горных деревушек, заходим в правление крестьянского кооператива.
Председатель кооператива, или президент, как его здесь именуют, Алькивиадас Ботсос — здоровяк, с загорелым лицом и смуглым румянцем, кряжистый и крепкий.
— А это директор кооператива,— представляет он.
Директор Антониос Сотиропулос — платный служащий. Президент — должность общественная, выборная.
Руководители кооператива явно довольны тем, что у них гости из Советской страны. Торговля с СССР, солидным и надежным покупателем, поправляет дела. Кооператив за год уже продал в Советский Союз четыре тысячи шестьсот тонн лимонов.
— Года через три сможем дать вдвое больше,— сообщает Ботсос.— У меня у самого плодоносят двести пятьдесят деревьев, а я посадил еще семьсот пятьдесят. /
392
Кооператив объединяет шестьдесят деревень — пять тысяч хозяйств... Есть свой устав, пайщики платят членские взносы. По двенадцати драхм в год.
— А какая помощь оказывается членам кооператива?
— Даем авансы под урожай. Снабжаем удобрением, машинами. В кредит, конечно. Ну, а главное, отстаиваем интересы пайщиков перед покупателями.
— Был случай,— вступает в разговор директор.— Чтобы поднять цены на лимоны и апельсины, крестьяне оставили их на деревьях. Ну и что ж? Сгнили! Пришлось выбросить в море. Вся вода у берега стала желтой. Мимо как раз плыл на яхте король и увидел. Неприятности! Кооператив добивается, чтобы такого не было.
Дорога в деревушку Земено, куда нам надо попасть, сразу начинает кружить, и шофер местного такси, инвалид с протезом, заменяющим ему ногу, едет по крутому пыльному подъему с необычной для греческих водителей медлительностью.
Навстречу спускается верхом на мулах и куцехвостых лошадках группа туристов.
— Америкен! —не очень дружелюбно роняет шофер.
Воздух становится все чище, свежее, запахло хвоей, и, когда мы, благополучно проскочив головокружительные ущелья и котловины, перебравшись через утлый мостик над зияющей пропастью, въезжаем в Земено, не ощущается уже ни зноя, ни одуряющей духоты.
Деревня прилепилась к самому гребню горы. Ее дома из грубого серого камня, узкие и высокие, как крепостные сооружения, винодельни и стойла с задумчивыми осликами разбросаны кое-как, между каменными уступами и узкими тропками, гигантскими платанами, соснами и пихтами.
— Первый раз видим у себя русских гостей,— говорит встретивший нас статный седой мужчина в коричневом пиджаке.
Это председатель деревенского кооператива Димит-рис Зарис.
Он приглашает зайти в кофейню отдохнуть, но под сенью дуба так прохладно, воздух, полный смолистого аромата, так легок, что уходить никуда не хочется, и мы рассаживаемся на камнях.
393
— Чем занимаемся?— переспрашивает председатель, искоса поглядывая на старенький грузовик, возле которого возились два дюжих парня.— Сажаем виноград, оливки, сушим коринку. Делаем вино. Смолу добываем. Потом пропускаем через нее вино. Пробовали мастику? Можем угостить.
В кооперативе состоят все сто двадцать пять семейств деревни. Шестьсот двадцать пять жителей, старых и малых.
— Доходы? У каждого разные...
В собственном владении Зариса пятьдесят стрем земли, и он в прошлом году заработал около двадцати тысяч драхм. Стрема — одна десятая гектара,— участок у Зариса немалый.
— Ав общем дела у крестьян неважные,— неожиданно вмешивается в разговор пожилой мужчина с угрюмо-насмешливыми глазами.— Посудите сами. Средний надел — восемь—десять стрем. Да и тот все время уменьшается... Население растет. . . Куда-то девать его надо.
Димитрис Зарис кивает головой:
— Да, так и есть. Маловато земли.
Греческие экономисты давно уже бьют тревогу по этому поводу. Страна с ее ста тридцатью тремя тысячами квадратных километров земли имеет пригодной для обработки всего тридцать три тысячи квадратных километров — лишь одну четвертую часть всей поверхности. Население в селах растет, и крестьяне вынуждены покидать родные деревни и уходить в поисках средств существования в город.
Мы идем на виноградник.
Несколько мужчин и две женщины срезали, бережно укладывали в ящики и подносили к тропинке янтарные кисти «султанины», сладчайшего бескосточкового винограда.
— Наш виноград продается только в лучших афинских магазинах,— с нескрываемой гордостью сказал смуглый красивый грек, присаживаясь на пустой ящик.
Его зовут Николос Гинис. Он недавно вернулся из армии.
Мы беседуем с ним о различных методах посадки и о сортах винограда, я рассказываю о крымском мастере урожаев Марии Брынцевой. В глазах Гиниса сперва не
394
доверие: возможно ли собрать с гектара триста центнеров! Его семья с трудом получает со стремы девять центнеров...
— Никаких машин, ослик и. . . вот эти руки!
Перед нами далеко внизу, в золотистой дымке, силуэты гор с предвечерними мягкими тенями во впадинах. Горы тянутся по всему горизонту, и между их отрогами то там, то здесь белеют кубики каких-то селений. Неистово звенят цикады.
И вдруг на ясном и чистом фоне голубого неба возникают черные точки самолетов.
Я вспоминаю, что в Греции начались крупные военные маневры воздушных сил НАТО. «Мощное бичевание»,— называли их рвущиеся к новому кровопролитию генералы.
Николос Гинис, провожая потемневшими глазами черные точки, говорит:
— Никто ведь не хочет войны. Разве только американцы и англичане.
Наш разговор с крестьянами продолжается в деревенской кофейне. На террасе, увитой кроваво-красными листьями винограда, за столиком с чашечками кофе, фруктами, «Султаниной» сидят старики и молодые парни.
— А как у вас живут крестьяне? — спрашивают нас.
Мы рассказываем. Сыплются новые вопросы:
— Могут ли крестьянские дети поступить в высшую школу? И сколько надо платить?
— Есть ли машины, которые облегчают труд в горах?
В свою очередь, мы интересуемся, что удалось кооперативу построить после войны.
— Собрали тридцать тысяч долларов на церковь,— сообщает Димитрис Зарис.— Скоро достроим.
— Электростанцию свою не собираетесь ставить?
— Дорого. Хотя пятнадцать тысяч уже приготовлено.
— Вот добыть бы денег, послать несколько человек в Россию,— мечтает кто-то вслух.— Посмотрели бы, потом рассказали... К нам вот ездят.
Мы прощаемся. Надолго останутся в нашей памяти и эти простые трудовые люди, и их понятное и близкое нам стремление к дружбе, взаимному уважению.
395
® „ГО Г tt bl Е
•Н Е t О/ Т С Л
/ Ю Д и С Н- Е ГД"
Нигде не воспринимаешь так остро каждое слово о своей родине, о соотечественниках, как на чужбине.
Один из лучших поэтов современной Греции, Янпис Рицос, побывал в Москве, Ленинграде, Риге. Какие же впечатления сложились у него?
Час, когда Яннис Рицос располагал досугом, был довольно поздним: поэт вынужден прирабатывать корректурой.
К слову сказать, почти никто из греческих писателей не в состоянии прожить на литературные доходы. Издать книгу здесь дело нелегкое. Чтобы опубликовать свои произведения, автор должен располагать средствами или найти издателя, который пойдет на такой риск. Тиражи, как правило, мизерны. Совершенно не оплачиваются писателям их произведения, когда они переводятся на другие языки.
Рицосу приходится вставать очень рано, чтобы до службы успеть хоть что-нибудь написать, а ночами он, тоже ради заработка, занимается переводами.
— Когда же вы успеваете писать? — спросил я.
— За счет отдыха, сна, развлечений,— ответил Рицос и, улыбнувшись, добавил: — И за счет любви.
Рицос — спокойный и корректный, с внимательным взглядом несколько усталых темных глаз человек. Несмотря на суровые испытания, которые выпали на его долю,— четыре года каторги на острове Макронисос,— он выглядит совсем молодо.
Я спросил, сколько им написано книг.
— Около пятидесяти.
— Не так мало!
Тонкое лицо его с коротко подстриженными черными усами тронула еле заметная усмешка.
— Если бы все удалось издать,— сказал он,— мне хватило бы денег примерно... на год. Но свет увидели только одиннадцать моих книжек.
В заточении на острове Макронисос поэт не прекращал писать. Он прятал рукопись в бутылке, затем од-396
ному из его друзей удалось вынести исписанные листки из тюрьмы.
— Это подвиг,— сказал мой товарищ.
Рицос пожал плечами:
— Конечно, приходилось трудно. Выжили не все. Некоторые сошли с ума. Меня поддерживали в заточении мысли о Советской стране. Мысли о мужестве вашего народа.
Некоторые книги Рицоса были запрещены цензурой. Такая участь постигла его сборник «Трактор» с поэмой об СССР и о Карле Марксе, книжки «Пирамиды» и «Эпитафия».
Поэма «Эпитафия», вызвавшая недовольство цензуры, посвящена забастовке рабочих в Салониках. Убит один из бастующих. Его оплакивает мать. Затем она берет винтовку и вместе с друзьями сына борется за справедливость.
У Рицоса есть поэма о Белояннисе — «Человек с цветком», еще одна поэма, «Приветствую Маяковского!», томик стихов «Бдительность».
— Обидно, что нам трудно знакомиться с вашей современной поэзией,— посетовал Яннис Рицос.— Твардовского, например, мне удается читать только на французском языке. Хорошо бы создать группы опытных переводчиков. Это очень, очень важно!
Я прошу Рицоса рассказать о его поездке в СССР.
— Прогресс в вашей стране так велик, что все прочитанное мной до поездки кажется написанным полвека назад... После возвращения депутатов греческого парламента из СССР о вашей стране пишется много. Каждая газета стремится опубликовать репортаж побывавшего в России. И тираж газеты сразу повышается.
Мы спросили, * получает ли Рицос на свои очерки отклики читателей: до нашей встречи с ним он уже опубликовал в газетах двадцать четыре большие корреспонденции об СССР.
— Мне нужно еще столько рассказать! — живо проговорил Рицос.— Есть, разумеется, за что и покритиковать вас. Но даже «правые» вынуждены признать успехи социалистического строительства. Что касается откликов, то их очень много, и самые различные. Вот, например: «Я плакал, как ребенок». А то просто:
397
«Я вас целую». Или: «Если СССР таков, как вы пишете, я преклоняюсь перед ним». Особенно всех поражает и восхищает новый человек в Советской стране. Как много ему уделяется у вас внимания!
— Кое-кому не нравится сближение наших народов,— сказал я.— Не доставят ли вам очерки об СССР неприятности?
Рицос задумчиво посмотрел на кончики своих длинных, тонких пальцев. Потом усмехнулся:
— Возможно. Но у меня все равно репутация прогрессивного. А у нас есть поговорка: «Горные люди не боятся снега».
-Н/4 с ЦЕ-HF
Туристам, осматривающим афинский Акрополь, гиды показывают после Парфенона и других памятников эллинского зодчества античные театры — Диониса и Ирода Аттика. Руины их расположены тут же, на склонах холма.
Днем, при ярком солнечном освещении, оба сооружения не столько поражают своим былым величием, сколько угнетают музейной безжизненностью. Все здесь — и останки могучих стен, и массивные, поросшие травой каменные плиты, и мраморные скамьи, изъеденные временем,— наводит на мысль о страшной отдаленности «золотого века» греческого театра от наших дней.
В Эпидавре, куда мы съездили, чтобы взглянуть на один из самых больших амфитеатров древней Эллады, видишь еще раз, с какой любовью относились в эпоху афинской демократии к театру, сколько труда, таланта вкладывалось в каждое театральное здание, когда его возводили.
«Эпидавр», вмещающий четырнадцать тысяч зрителей, расположен, как и все древние театры Эллады, у подножия высоких живописных холмов, под открытым небом, без крыши. И сейчас дивишься красоте, совершенству его архитектурных форм и чудеснейшей акустике: шелест бумаги в одном конце театра яв
398
ственно слышен во всех уголках колоссального амфитеатра.
Время от времени сюда, в «Эпидавр», где, кстати сказать, стоит и памятник богу врачевания Эскулапу, съезжаются на фестивали древнегреческих трагедий десятки тысяч зрителей из Афин, Коринфа и других городов.
С чувством большого уважения и признательности рассказывали нам афиняне о тех прогрессивных деятелях современного греческого театра, которые, не поддавшись увлечению «модными» поделками западной драматургии, возрождают античный театр.
В афинском «Одеоне», театре, построенном Иродом Аттиком более полутора тысяч лет назад, снова идут произведения великих трагиков Греции — Софокла, Эврипида, Эсхила, комедиографа Аристофана.
Испытываешь вполне понятное волнение, собираясь посмотреть постановку, премьера которой, выражаясь современным языком, состоялась двадцать три столетия назад. И посмотреть не где-нибудь, а у акрополь-ских холмов, видавших и молитвы, и песни в честь бога виноделия Диониса, и культовые пляски под звуки бубнов, флейт, свирелей и тимпанов.
Покупая билеты на «Антигону» Софокла, которую снова стали играть в «Одеоне», мы, откровенно говоря, опасались: не скажутся ли на нашем восприятии спектакля незнание греческого языка и непривычные для нас условности античного театрального искусства?
Разглядывая в знойный день пустынный «Одеон», вмещающий несколько тысяч человек, мы с трудом представляли его заполненным зрителями. Уже не первый год ставятся здесь «Антигона», «Царь Эдип» Софокла, «Медея» и «Гекуба» Эврипида. Оказалось, однако, что посещается театр очень хорошо, купить билеты, несмотря на довольно высокую стоимость их, не всегда легко.
Необычайно празднично и эффектно выглядит «Одеон» вечером, во время спектакля. Полуразрушенные стены его, словно выписанные рукой искусного декоратора на фоне темного акропольского холма, с огромными, озаренными изнутри окнами; нарядные толпы афинян у входа; ярко освещенные прожекто
399
рами Пропилеи и Парфенон — все казалось поистине сказочным.
Театр был переполнен. Где-то далеко вверху, за легкой изгородью, окаймляющей амфитеатр, виднелись в полумраке зрители, у которых, видимо, не было двадцати драхм на билет.
Действие продолжается два с лишним часа без антрактов. Можно курить, но это не доставляет удовольствия: соседи неприязненно косятся, как только чиркнешь спичкой. Перешептывание — и вовсе кощунство. Нет, никогда нам не доводилось раньше видеть такой тишины, в какую погрузился огромный амфитеатр, едва появился на возвышении, заменяющем сцену, первый актер.
Оркестр скрыт от зрителей, и музыка доносится словно из-под земли.
.. .Фиванцы с посохами, в одеяниях и постолах времен Перикла. Появившись, они не уходят со сцены, а лишь меняют места. Текст декламируется хором.
Разгневанный неповиновением дочери Эдипа, Антигоны, царь Фив Креонт.
Женственная и в то же время отважная Антигона.
Как далеки от нас события, о которых повествуют актеры! Но на лице девушки, сидящей рядом, я замечаю слезинки. Вижу, как пожилой мужчина смотрит на стражей, ведущих Антигону на казнь, потемневшими немигающими глазами. Да и мы сами захвачены тем, что происходит на сцене.
Вот тебе и седая древность! Нет, только подлинное искусство, гениальность драматурга, талантливость актеров могут так загипнотизировать и пленить зал.
Афиняне любят не только свое национальное, но и всякое подлинно народное искусство. В этом убеждаешься и в те минуты, когда смотришь вместе с ними постановки античного театра, и когда видишь, как неприветливо относятся многие греки к ущербному модернистскому «искусству», импортируемому с Запада и из-за океана.
В Афины приехал американский балет. Видимо, не очень веря в рентабельность этого предприятия, фирма, пригласившая артистов из-за океана, рекламировала их довольно своеобразно. На щите мы прочитали: «Театральное и кинематографическое общество
400
Орфевс, которое с блестящим успехом провело гастроли русского ансамбля «Березка», в ближайшее время приглашает американский балетный ансамбль».
Невинный прием находчивого импресарио раскрывался просто. Русский балет покорил всех греков. Ансамбль «Березка» был приглашен в Афины на восемь концертов, а должен был дать двадцать шесть. В Салониках ожидалось два выступления советских танцовщиц, но их не отпустили, пока они не дали десять концертов.
Мы побывали в американском балете. Хорошие танцовщицы и превосходные танцоры. Но было как-то неловко смотреть на талантливую прима-балерину, когда она, выполняя замысел постановщика, носилась по сцене в окровавленной одежде с топором в руках, раскалывая черепа своим родственникам.
Кое-кому из сидевших в зале театра «Рекс», где выступали американцы, это понравилось, и они аплодировали. Большинство зрителей сидели потупив глаза.
В Греции три государственных театра. Два из них находятся в Афинах: Национальный драматический и оперный «Лирики скини». Актеров же — квалифицированных, способных — значительно больше, чем могут занять театры.
Об этом с грустью рассказывали нам деятели культуры и сами актеры.
Немало любопытного о театральной жизни страны услышали мы, беседуя с одной из греческих актрис — Аспасией Папафанасиу.
Худенькая, похожая на девушку и по-девичьи влюбленная в свою профессию, Аспасия Папафанасиу оказалась уже довольно опытным и, как нетрудно было убедиться, энергичным работником сцены. Когда-то она имела небольшую труппу, ставила пьесы Леонова и Арбузова.
— Решила снова открыть свой театр в Пирее,— сообщила нам Папафанасиу.— Думаю ставить классические пьесы. Если удастся, хочу побывать с театром у вас в России.
— Во сколько обходится вам создание своего театра?
26 на разных меридианах
401
Актриса ответила охотно:
— Нужно семьдесят тысяч драхм. С меньшей суммой и затевать ничего нельзя.
Средства для актера не маленькие. Папафанасиу пояснила:
— Деньги раздобыл муж. Он инженер.
— И уже подыскали актеров?
— Это нетрудно. Вернее, не самое трудное,— ответила наша собеседница.— Свободных артистов много.
Выяснилась характерная подробность. Актеров в Греции приглашают на одну постановку, затем они вынуждены снова подыскивать себе работу, причем обувь, одежду, грим для спектаклей они приобретают на личные средства.
— Как же существуют те, кому не найдется роли? — спросил я.
Аспаеия Папафанасиу развела руками:
— О, это плохо! Кому повезет, снимаются в кино. Некоторые зарабатывают на радио, помогают рекламировать товары или поют в ресторанах и тавернах. И у вас так?
Пришлось обстоятельно рассказать о наших театрах.
— Есть постоянные труппы? — переспросила Папафанасиу с заметным недоверием.— И платят актерам даже тогда, когда они не заняты в спектакле?
Она продолжала допытываться обо всем с такой жадностью, характер вопросов был таким, что мы поняли: осведомленность греческой артистки о жизни советского театра равна нулю.
Впрочем, кое-что Папафанасиу было известно. Она слышала о системе Станиславского. Бывший директор Королевского театра Димитрис Рондирис много рассказывал актерам о Станиславском, прививал вкус к классической драматургии.
— Сейчас в этом направлении работает ученик Рондириса Алексис Минотос,— добавила Аспасия Папафанасиу.
Снова заговорили о Москве, о Большом и Малом театрах. Глаза нашей собеседницы потеплели.
— Это хорошо. Так хочется все посмотреть самой! — И со вздохом добавила: — У нас пока все иначе.
402
И /ИИ T E /1Ю FU/M/
Л PE СН-Л/1
Для многих туристов Греция — это лишь страна древних храмов и разрушенных крепостей, потемневших от времени руин, порталов и колонн; это туманно-голубая даль морей, ослепительная синева неба, экзотические ослики на горных тропках и идиллическое пение цикад в садах и виноградниках.
Для советских людей Эллада — живой мир замечательного, мужественного народа с его горестями и радостями.
Мы были здесь не досужими туристами. Правда, за тридцать два дня в чужой стране, да еще такой, как Греция, с ее многовековой историей, тысячелетними традициями, многогранной культурой, постигнешь далеко не все. Но самое важное, что мы увидели и что особенно дорого,— это то, что простой народ Греции за мир и за дружбу, за деловые и культурные связи с советским народом.
С явной и неприкрытой злобой встречают это агрессивные круги Запада. Они лезут из кожи вон, чтобы окутать нашу страну туманом лжи, посеять у греков недоверие к советским людям.
По приглашению Верховного Совета СССР в Советской стране побывала парламентская делегация Греции. Ездили в СССР и другие греческие деятели. По возвращении на родину один из них, П. Палеологос, писал в газете «Вима»:
«Идем по городу... Гид объясняет: «Театральная площадь», «Кремль»... Но мое внимание привлекают не они... Важнее — улица, люди, атмосфера, в которой идет жизнь... Будут ли они оборванцами, запуганными, печальными? Я ищу, чтобы потом рассказать о них... Ищу, и прилежно...
Приверженцы правой ортодоксальности, пусть они мне простят, если я не преуспел в поисках. Я думаю, что это не ошибка искателя. Ответственность ложится на нелепую пропаганду, которая годами говорит об обнищании народа, оставаясь безразличной к тому, что когда-то настанет час, когда ложь будет разоблачена».
26*
403
За два дня до отъезда из Греции нас познакомили с членом парламента, лидером аграрной партии г-ном Балтаджисом. Он только что вернулся из СССР.
Подвижный и необычайно энергичный, Балтаджис встретился с нами в помещении парламента. Пока разливали в чашечки традиционный кофе, господин Балтаджис, свободно владеющий русским языком, спросил:
— Как вам понравилась наша страна?
Мы рассказали о том, что произвело на нас наибольшее впечатление.
— А что вы увидели в нашей стране? — задал я вопрос.
— Увидели мы много,— сказал Балтаджис.— Но я скажу о главнейшем: меня покорили душевная доброта и радушие, гостеприимство русского народа. Это мы ощущали, встречаясь и с руководителями государства и с простыми людьми. Я не заметил у государственных деятелей честолюбия, но увидел стремление поднять благосостояние всего народа. И где бы я с моими друзьями ни был — в Москве, на заводах и улицах Челябинска, в колхозе,— всюду я видел, что все люди работают. Это очень, очень важно! В вашей стране сделано все, чтобы человек был на высоте своего назначения.
Беседовать с господином Балтаджисом, одним из общественных деятелей, организатором и руководителем кооперативного движения в Греции, было весьма интересно. Но мы уже готовились к отъезду/
— Э, нет! — сказал Балтаджис.— Вы должны принять на себя хоть часть той теплоты, которую мы испытывали в вашей стране!
И он настоял на том, чтобы мы побывали на кооперативных предприятиях в Афинах.
В течение нескольких часов неутомимый и необычайно гостеприимный Балтаджис показывал Нам склады фирмы «Кидеф», закупающей у крестьян сельскохозяйственную продукцию, повез нас в главное управление фирмы, затем представил руководителям «Пансеес» (Всегреческой федерации земледельческих кооперативов, охватывающей шестьсот тысяч семейств), показал магазины кооперативов.
404
Везде мы встречались с самым доброжелательным отношением к нашей стране.
— Нам хочется расширить связи с Советским Союзом,— говорили греческие кооператоры.
.. .Сейчас, когда прошло уже некоторое время после нашей поездки в Грецию, я перебираю в памяти все встречи и думаю о том, что там, в далекой Элладе, у нас осталось много хороших, искренних друзей.
Мы искренне любим вас, друзья! Любим прекрасную Элладу и ценим ваши горячие симпатии к нашей стране!
1957—1961
иди РДД 6 0/1 UH-А-
’tEXOC/IOIAKUW
бродила по Праге в эти дни не впервые. Я уже знала ее — весной и осенью, летом и зимой. Подобно многим пражанам и, конечно, приезжим, я останавливалась перед средневековой ратушей и дожидалась, пока пройдут положенный круг двенадцать апостолов. Столетиями уже равнодушно взирают они на дивящийся внизу люд. Легенда о созда-
теле знаменитых пражских часов удивительно напоминает легенду о создателе храма Василия Блаженного в Москве: хозяева города тоже выкололи глаза мастеру, сотворившему это чудо, чтобы он — упаси бог! —не смог сделать такое же для кого-нибудь еще.
Я уже не раз бывала и в храме св. Вита и в град-чанских дворцах, не раз поднималась на стену Выше-града. Но тогда, в предвоенные годы, меня доставляли в Прагу не поезд и не воздушный корабль. Я добиралась сюда без визы и паспорта на ковре-самолете во-
406
обряжения, разбуженного рассказами двух молодых людей, по-рыцарски влюбленных в этот город и в буквальном смысле слова верных ему до гроба. Это были корреспондент чехословацкой коммунистической газеты «Руде право» Юлиус Фучик и его друг — югославский коммунист, получех, полухорват, бывший студент архитектурного факультета пражской «Техники» Драган Озрин. С ними мне, тогда совсем молоденькой московской комсомолке, посчастливилось долго вместе работать. И дружить. Оба они впоследствии без оглядки отдали свои еще молодые жизни за то, чтобы Прага, Белград, Москва стали жить братской социалистической семьей. И оба они рассказывали о Праге так, как может это делать пылкий юноша — художник или поэт,— разлученный со своей любимой. Глубоко уверенные в ее исключительности, они говорили о ней не без трогательной сентименталинки, горячо и поэтому заражающе.
Однажды вечером, в те далекие времена, когда опушенные инеем деревья и строения Москвы казались в густой морозной синеве сумерек особенно сказочными, Фучик, только что восторгавшийся величественными очертаниями Красной площади, богатырской осанкой москвичей, облаченных в тулупы, шубы, валенки, ушанки, и даже скрипом снега под их ногами, вдруг воскликнул с каким-то ревнивым чувством:
— Подожди, вот мы победим — приедешь в Прагу. Я тебе покажу, какая она! Увидишь, наших людей. Уехать не захочешь!
Эти слова и потом не раз приходилось слышать от него.
— Подождите, победим — я повезу вас в Пльзень, «Шкодовку» покажу. Еще соревноваться с ней будете,—говорил он в подмосковном доме отдыха завода «Фрезер».
— Подождите, победим — приедешь с женой к нам в Татры. Не работать, нет. На лыжах побегаем!—говорил он инженеру Магаршаку, строителю Памирского тракта на одном из перевалов Тянь-Шаня.
— Подождите, победим — приедете в Прагу, пойдем в мою «винарню». Там подают такой татарский бифштекс, о каком в вашей Казани слыхом не слыхали. ..— обещал он нам совершенно серьезно неза
407
долго до отъезда и тут же сокрушенно вздыхал: — Эх, оставили бы меня еще на годик здесь. Ну, хоть бы просто рабочим на «Фрезере» или в Метрострое. Я бы такую книгу написал — во!
И он совсем по-московски оттопыривал большой палец левой руки, присыпал воображаемым перчиком, а в глазах его отражалась вся желанность и несбыточность этой мечты.
И вот я собственными ногами меряю улицы Праги, Брно, Братиславы и Пльзени. Чехословацкая Социалистическая Республика уже готовится отметить свое пятнадцатилетие. И старая «Шкодовка» — теперь мощный машиностроительный комбинат имени Ленина — действительно уже соревнуется если не с «Фрезером», то с Уралмашем, более близким ей по профилю. И сестра Юлиуса, которая живет теперь на улице Фучика, подвела ко мне свою дочку-пионерку, такую же смуглую и светлоглазую, как ее дядя. Только показывал мне Прагу и Пльзень не он, а его друзья. И они не забывали каждый раз напомнить: вот здесь Юлек жил; здесь учился; здесь работал; здесь скрывался; здесь его пытали... И эти же друзья то и дело указывали: вот здесь новый клуб, а тут новый завод, а там мы строим дома для рабочих... А здесь обычно гуляют влюбленные... А сюда заходят после театра... А сюда приходят регистрировать браки...
И мы с улыбкой смотрели на одну, другую, третью, четвертую пару,- выходившую из старинной пражской ратуши, на торжественных родителей, на хорошеньких девушек в строгих костюмах и с веточкой флердоранжа в волосах, на посерьезневших юношей.
С башни пражской ратуши лучше всего впервые всмотреться в неповторимую красоту этого города. Удивительную красоту. Отсюда видно, как громоздятся, набегая друг на друга, красноватые, зеленые крутые скаты то чешуйчатых, то волнистых черепичных крыш, из-под которых поглядывают на мир любознательными глазищами полукруглых окон тысячи и тысячи мансард. То тут, то там стремительно вонзаются в небо темные острия готических храмов. Дома здесь плотно прижимаются друг к другу. Смотришь и представляешь себе: именно так когда-то жался человек к человеку, чтобы выстоять перед угрозой вра
408
жеских набегов и стихийных бедствий. А по ущельям затененных, таинственных улочек Старого города энергично шагают люди. Совсем сегодняшние люди, с портфелями, сумками, детскими колясками.
Идешь по узорно выложенному мелким булыжником тротуару Старого города и, хотя дома здесь красивы каждый по-своему, улицу воспринимаешь как единое целое. Порой она напоминает театральную декорацию. Особенно в сумерки. Но вот в одном, другом, третьем окне зажигается свет, и она оживает. Неожиданно раздается смех, и нас обгоняет гурьба молодежи— возвращаются из кино или тоже, как и мы, бродили, любовались городом.
Рано утром выхожу на набережную Влтавы. Отсюда особенно хорошо видно, как близко друг от друга пролегли над рекой прямые и легкие мосты — один, второй, третий, четвертый, соединяя, сближая людей дружелюбной, располагающей к человеческому общению Праги.
Потом до бесчувствия колесим по городу.
Новое здесь уже вросло и продолжает врастать в обжитое, традиционное, как врастает в почву молодой дуб — корнями поглубже, поближе к сокам земли.
Конечно, многое из того, что бросилось мне в глаза, для чехов уже перестало быть новым.
Когда-то в Москве Фучик не раз при случае мечтательно говорил:
— Эх, когда уж и у нас будет: «Моя милиция меня бережет»?!
Он очень не любил полицейских, которые не раз таскали его в участок. Зато в Москве он нарочно — о ужас! —улицу Горького переходил наискосок от тротуара к тротуару, с лукавым смирением протягивал штраф — три рубля — и начинал обстоятельный разговор о жизни с представителем оберегавшей его милиции.
После того как в пражском трамвае разгорелся спор, где мне лучше сойти, чтобы кратчайшим путем добраться до нашего посольства, после того как с числом озабоченных советников все возрастало и возрастало число возможных вариантов маршрута, я сошла и на всякий случай решила спросить еще совета у одного из милиционеров. Они стояли вдвоем на
409
перекрестке. Старший из них был пожилым огромным дядькой с брюшком, с сурово-покровительственным взглядом немного выпуклых серых глаз на широком лице. Он показался мне важным, преисполненным чувства ответственности за порядок в доверенной ему округе. Я подошла с некоторым трепетом — все-таки милиция! Но, заметив, очевидно, растерянность на моем лице и услышав мое произношение и адрес, он заулыбался, нагнулся ко мне, положил свою огромную ручищу в белой по локоть перчатке на мое плечо и сказал:
— Пуйдем, тувариш!
Я, конечно, пыталась убедить его, что найду и сама, что мне совестно отвлекать его от дел, но рука в белой перчатке заботливо вела меня, квартал за кварталом, совсем по-отцовски указывая на камни, на спуски, чтобы мне не оступиться. И ее обладатель не без гордости рассказывал, что две его дочки уже прилично научились в школе читать и говорить по-русски, что они переписываются со школьниками Ленинграда и даже Новосибирска, что сам он еще не научился — все-таки возраст! — но хотел бы. конечно, как-нибудь объясняться. Вот он уже запомнил слова «обчество», «туда-сюда», «тувариш»...
Последнее он произнес совсем как Фучик. И невольно, не без грусти, я подумала: «Вот теперь и твоя милиция меня бережет...»
Этой «новости» о милиции, которую мои друзья не должны были, как когда-то, обходить с опаской, уже пятнадцать лет. И все уже привыкли к ней, как мы привыкли к евоей. А вот возраста новости, которая обрадовала меня на Пшикопах, я не знаю. Металлические строительные леса вокруг одного из домов, очевидно ремонтируемого, были с внешней стороны обтянуты тонкой, оберегающей от ветра и дождя завесой из прозрачной пластмассы. Осеннему ветру не дозволялось здесь — властями или профсоюзом — проникать туда, где работает человек. Он строит дом для людей. Нужно обеспечить условия, чтобы он мог выполнить свое дело получше.
В первый же день приезда я остановилась на одной из улиц Праги — не то на Народной, не то на Пшикопах или на Вацлавской площади,— остановилась и
410
долго с удовольствием смотрела через стекло витрины, как, сидя на полу, выкладывает паркет грузный большелицый человек лет тридцати. Вот он взял одну дощечку, осмотрел со всех сторон, обмахнул ее щеткой, протер розовой губкой, сдул с нее пылинки, снова поглядел, плотно уложил рядом с той, что уже лежала, наклонил слегка голову набок, глянул еще раз, поправил и взял следующую. Он работал умело, спокойно и... быстро. И норму наверняка выполнял. Но его душе, именно душе, необходима была еще и красота в работе.
И еще. После долгого дня хождений, когда уже и глаза больше не глядели и ноги не держали, мы зашли в столовую — в первую попавшуюся из сотен разбросанных на старых и новых улицах города. Это даже была скорее небольшая кофейня, столиков на восемнадцать—двадцать. И тут успокаивающе тихо играла музыка. Мягкий свет располагал к отдыху, к душевному разговору. С приветливой улыбкой и вместе с тем с чувством собственного достоинства подошел один из двух молодых людей, обслуживающий правую половину столиков. Внимательно, спокойно спросил он, чего бы нам хотелось, что-то посоветовал, буквально через пять минут принес, подал счет и сказал еще нам «спасибо». Точно так же подошел он к столику рядом, где сидели две девушки и двое молодых мужчин. Они, очевидно, зашли в обеденный перерыв перекусить. Официант подходил и к тем, кто сидел дальше.
За рубежом обычно больше и внимательнее ко всему прислушиваешься и присматриваешься. Присматривались и мы. Право же, этот официант делал свое дело спокойно, быстро, с какой-то, я бы сказала, красивой приветливостью. Посетителю, который сидел у самой стены и писал что-то, отхлебывая из чашечки кофе, он принес чернила и газету. И когда кто-то из вновь вошедших направился было на свободное место рядом с пишущим, официант мягко, любезно, но настойчиво предложил ему другое.
В каждом его движении чувствовалось уважение к своему труду, к себе, к посетителю, ощущалось желание доставить удовольствие тому, кто его трудом воспользуется. Ему, наверное, хотелось бы, чтобы об этом обеде хорошо отозвались. И он хотел доставить
411
радость себе и людям. Точно так же, как и рабочий, который, выстилая паркет, старался доставить радость не только тем, кто по нему пройдет, но и себе тоже.
Такое же чувство заботы о будущем постояльце гостиницы, о студенте, о жильце приметила я и в работе мастеров, строивших, скажем, гостиницы в Праге и в Брно, общежитие студентов в Братиславе, квартиру в новом доме у моих пражских приятелей. Эти мастера прокладывали меж ослепительно белых кафельных плиток, которыми облицованы ванные комнаты, тоненькие ровные полоски темного цемента. Прокладывали так, чтобы вода внутрь не проникала и чтобы глаз людей, которые будут пользоваться ванной, радовался красивой работе. Чтобы глаз радовало само исполнение работы, а не роскошь мрамора, не блеск бронзы, не дорогие сорта дерева, не замысловатость формы.
Индржих Дворжак — главный инженер шахты «Пограничный страж», отзываясь об одной сравнительно небольшой группе горняков, работающих у них на открытых карьерах, брезгливо отмахнулся рукой, поморщился и — не мне, а кому-то из своих товарищей — буркнул:
— Э! Они работают ради денег, а не ради социализма!
В буквальном переводе с чешского это прозвучало бы еще резче, еще презрительнее: они работают за деньги, а не за социализм!
Очевидно, жизнь в Соколове — городе шахтеров и стеклодувов, на самом рубеже с Западной Германией,— очень наглядно, изо дня в день подсказывает ему, как именно люди работают во имя социализма, а как — только ради денег.
Товарищ Индржих Дворжак уже несколько лет трудится здесь и, конечно, горд тем, что его коллектив получил в третьем квартале переходящее Красное знамя республики. Знамя это более тридцати лет назад, еще в 1928 году, подарили шахтерам Чехословакии шахтеры Советского Союза. Во время фашистской оккупации его, рискуя жизнью, прятали и сберегали. Теперь оно передается победителям трудового соревнования.
Индржих Дворжак — рослый, коренастый, средних лет человек. Он не кажется меньше даже рядом с
412
огромными экскаваторами, которые на всей территории открытых разработок тысячами тонн выгребают породу и уголь. Недавно он побывал у нас, в СССР, и явно предпочитает всем советским города^ Ленинград. Он, очевидно, как многие чехи, любит пошутить. Чуть насмешливо глянув на одного из наших спутников, который предпочел почему-то остаться в автобусе, он подмигнул, по-свойски улыбнулся, пробасил: «Привык, наверное, по паркетам ходить?!» — и повел нас вдоль верхнего яруса породы, высота которого — несколько десятков метров, повел по пласту уже расчищенного угля, залегающего здесь метров на тридцать вглубь. Людей почти не было видно. Машины, машины, машины. Вернее, люди выглядывали из кабин экскаватора и грузовика, из будки паровоза. А Индржих Дворжак говорил, что в 1962 году здесь уже все будет сплошь механизировано. И это, конечно, нас тоже очень радовало.
Но самым радостным было для меня его отвращение, его глубочайшее презрение вот к этому ползучему «работает только ради денег...» Тут уже отчетливо слышалось новое в самом понимании жизни и ее цели, во всем жизненном укладе.
Кто из москвичей не помнит веселого мастера Рудольфа Коталя на выставке чехословацкого стекла в Москве, героя поистине фантастической поэмы о стекле. Я долго смотрела, как этот волшебник с тем же изяществом, на своем обычном, далеко не выставочном рабочем месте — у заводской печи, в которой бушевало синевато-оранжево-белое пламя,— рядом с другими мастерами колдовал над стеклом. Неторопливо вынимал он из огня длинными щипцами мягкий, бесформенный, раскаленный добела слиток, выдувал, опускал в воду, вытягивал, клал снова в огонь, пластично поводил округлыми движениями по воздуху — вверх, в сторону, вниз, поворачивал, надрезал, зорко вглядывался, снова надрезал, доливал сбоку еще немного раскаленного жидкого стекла, и на глазах слиток превращался в произведение искусства, настоящего искусства.
И этот труд был не только ради денег, он доставлял удовольствие, радость тому, кто трудится, он был для людей, во имя удобства и красоты их жизни, во имя
413
их естественного стремления к прекрасному. Труд во имя коммунизма. Тот самый, о котором мечтали друзья моей юности. И он теперь уже необходим не только инженеру Индржиху Дворжаку.
На шахте «Пограничный страж» в Соколове устроили торжественное собрание рабочего коллектива для вручения переходящего Красного знамени, как настоящее семейное празднество: в ярко освещенных залах огромного клуба, за сверкающими белизной скатертей накрытыми столами, с женами, с мужьями, с близкими. И веселились здесь поистине все вместе — машинисты и директор с главным инженером, экскаваторщики и только что подававшие ужин юные официанты, министр, подсобные рабочие, шоферы, руководители профсоюза, — очевидно, все, кого искренне волнует успех общего дела. Все вместе танцевали, подпевали оркестру. Перекидывались от стола к столу нередко солеными шутками. И никто, должно быть, не замечал вот этого «все вместе». Ведь трудились сообща. И победы добивались сообща. И дело у них общее. И еще у них общая, очевидно с детства, привычка уважать умельца в любом труде, уважать любой труд. И во всех залах, сколько я ни присматривалась, мне трудно было отличить рабочих от тех, кому народ доверил руководить ими. Невозможно было отличить по одежде, по обращению, по всему внешнему облику.
— Нет, нет, тебе надо обязательно поехать в Пльзень, расскажешь там о Советском Союзе и о Фучике,— заявил один из руководителей чехословацких профсоюзов, вручавший знамя горнякам.
И я оказалась на таком же празднестве среди рабочих машиностроительного комбината имени Ленина — бывших заводов Шкода.
Это — огромное предприятие, одно из самых крупных в Европе. Оно изготовляет машины, прославившиеся на весь мир, и праздновало оно не только трехкратное в этом году получение знамени и полумиллионных премий, а еще и свое славное столетие. У рабочих этого предприятия три больших клуба, а по 414
случаю праздника был снят еще и Пльзенский городской театр оперы, где в этот вечер ставили для юбиляров «Проданную невесту». Всюду — и в театре и во всех трех клубах — мой спутник обязательно хотел побывать.
Удивительно, как любят этого человека рабочие и как он раскрывается, становится естественнее, общительнее, по-родному непосредственнее именно здесь, в этой среде!
Оживленный, с озорным огоньком в глазах, входит он в зал. Едва он успевает появиться в дверях, как его тут же окружают, на радостях по-мужски тычут локтем в бок, потом то один, то другой, положив широкие ладони на плечо, отводит его в сторону, чтобы о чем-то с хохотом рассказать, что-то спросить. До самого утра его угощают, не отпускают с праздника. Какая уж тут официальная торжественность или почтительность к начальству! Хотя он-то как раз и есть профсоюзный руководитель и депутат от Пльзени в Национальном собрании.
Но прибыл он сюда вовсе не с официальной миссией. Нет, приветствовать завод должен другой товарищ. А он попросту примчался на свое семейное торжество. К сожалению, жена заболела, иначе и она была бы вместе с ним и радовалась. Ведь он бывший шкодовец. Еще тридцать лет назад он работал здесь, как все эти люди, у станка. Был отличным мастером своего дела. И товарищи уважали его, как принято уважать,— не за слова, а за дела. Но он увлекся коммунизмом, тем самым конкретным, справедливым коммунизмом, который заставит работать всех и даст каждому, чего только душа его ни пожелает. Он научился увлекать этим коммунизмом своих друзей. И не раз становился поперек дороги бывшему хозяину завода.
Он, очевидно, был порядочным заводилой, этот мой спутник, что можно и сейчас представить себе по его молодой подвижности, по озорному и острому взгляду светлых, все время чем-то заинтересованных глаз. В 1930 году его избрали членом ЦК КПЧ. Это, очевидно, совсем уже вывело из себя хозяев. Его вызвали в дирекцию. Не кричали, нет. Решительно предупредили, что коммунистическая деятельность несовместима
415
с работой на таком предприятии. Быть может, пытались напомнить о семье, о будущем. Но разве такого переубедишь? Он и по сей день бессменный член Центрального Комитета. В течение тридцати лет. А с завода тогда, в тридцатом, его выставили.
Хозяина можно понять. Зачем ему нужен был в цехах энергичный человек, который столь решительно намеревался отнять у него завод и, не интересуясь личными выгодами, попросту отдать его вот этим мастеровым!
Да, хозяина можно было понять. Но еще больше можно было понять рабочих старой «Шкодовки», которые теперь уже окончательно поверили своему заводиле и крепко полюбили его.
О его жизни хотелось бы рассказать поподробнее: о его умении оставаться всегда «своим», отзывчивым, сердечным. О его изобретательности в страшные годы фашистской оккупации, подполья — ведь он работал все время и не попался. О том, как после победы, став секретарем обкома, он вдруг понял: если до сих пор привычнее было воевать с хозяевами, ставить им палки в колеса, ломать их волю, то теперь следует научиться не только чувствовать себя хозяевами, но и быть ими. А это значит — себя, то есть рабочих, не давать в обиду и себя же, то есть хозяев, не только не обижать, но еще и обогащать.
Хотелось бы еще рассказать, как он один, а то и с женой, с дочкой, старается провести каждый свободный день среди своих избирателей, своих земляков. Чтобы выслушать просьбы, жалобы, чтобы сердечно поговорить и, конечно, помочь. Если надо — через профсоюзы. Если надо — через Национальное собрание. Обязательно помочь. И еще — просто отвести душу. А душа его, конечно, тянется в Пльзень.
И сейчас, на празднестве, до чего же приятно и ему и председателю завкома видеть радость на лице советской гостьи, особенно когда она слышит, что полтора миллиона крон премии пойдут на новое жилье для рабочих комбината, на новый дом отдыха для них же в Железной Руде, на новую заводскую больницу, на три стационарных пионерских лагеря. И недаром он так торопится пояснить, что семь стационарных лаге
416
рей для детей рабочих и служащих завод уже давно построил. И отличных лагерей. Он там бывал. И мало ли что может себе еще разрешить такой богатый хозяин, как «наши ленинцы»!
Нет, не зря так спешил сюда мой спутник. Стоило ему появиться в дверях одного, другого, третьего праздничного зала, как из-за десятков столиков почти в один голос раздавалось: «Вацлав, сюда!», «Вашек, сюда!», «Старина, сюда!» Каждая нотка его голоса, каждый мускул на его лице говорили, что он здесь среди своих. И веселился он, как веселится школьник или студент, когда на каникулы приезжает домой. И его неувядающая молодость тоже, вероятно, была отсюда.
Об этих людях радостно писать. Хочется передать всю теплоту, почти интимность их праздника, чтобы каждый увидел себя в этих пляшущих и поющих залах, уже порядком желто-сизых от дыма, чтобы видел, как тянутся и к нему руки с бокалами — за дружбу, конечно! — чтобы чувствовал себя немного смущенным от обилия тепла и внимания, которое все стараются выразить советскому человеку.
Ничего не поделаешь, такова уж участь любого из тех, кто приезжает сюда из нашей страны. В нем перестают видеть просто Иванова, «Смирнова, Сидорова, а обязательно видят представителя нашей великой державы. Порой это порождает немало затруднительного. Иногда приводит к смешному. И главное — возлагает на тебя ох как много ответственности!
Хотелось бы, чтобы каждый у нас поближе узнал людей, которые сидели там рядом со мной, чтобы увидел, какие они на отдыхе и в труде. Может быть, завтра кто-то из них приедет к нам, в Москву, в Новосибирск, в Братск. И чем-то нашим заинтересуется или что-то нам посоветует. Они нам не просто друзья, давние и настоящие. Они еще ближе. Когда во время торжественной части мне довелось от имени советских людей, прибывших с Поездом дружбы, произнести несколько приветственных слов и среди них были сказаны отнюдь не блещущие новизной: «Ваша гордость работой — это наша гордость; ваша радость победы — это наша радость...» — видно было, как у многих, особенно у людей пожилых, заблестели на глазах слезы.
27 На разных меридианах
417
И взрыв аплодисментов относился, конечно, ко всем нам, к советским людям.
И вот далеко за полночь, когда многие наши сотрапезники уже в который раз отплясывали и подпевали заводскому оркестру, мой второй сосед — человек . сравнительно молодой, лет сорока или того меньше,— принялся весело рассказывать сидевшим о том, как ему удалось освоить руководство сложным хозяйством вверенного ему министерства. Меня его рассказ заинтересовал еще и потому, что отец этого человека был одним из первых «интергельповцев».
Во время торжественной части этот могучий, с крупными чертами лица, с громовым голосом и рвущейся наружу энергией человечище не удержался, конечно, в рамках благостного праздничного приветствия. Какое там! Он выкопал откуда-то у юбиляров грешки. Не без едкости показал, где можно было бы трудиться получше. Но его слушали — и смеялись, и хлопали, и были довольны. Потом он сошел со сцены, и оказалось, что в зале добрая половина людей обращалась к нему на «ты». Добрая половина тех, кто трудился «для социализма», как сказал бы инженер Индржих Дворжак. Когда кто-то из глубины зала громко не то попросил, не то потребовал: «Говорят, здесь министр наш сидит. Пусть покажется!» —.мой сосед, посмеиваясь, но весьма послушно встал, столь жё послушно сказал: «Вот я!» — и продолжал рассказ.
Никаких тайн он, конечно, не открывал. И важны были в его словах не столько факты, сколько их подоплека. Он рассказывал о том, что назначили его на этот пост еще совсем молодым. И дело было трудное — планы не выполнялись. А он, конечно, знал, что его задача — обеспечить выполнение. И решил раз и навсегда покончить с этим позором. Как покончить? Приказом, конечно. Одним приказом, вторым, третьим. Что может быть яснее и проще? А на приказы подчиненные обычно отвечают: «Слушаюсь!» И вроде делают все, что требуется. Но получалось, как у Швейка: «Слушаюсь, пан полковник!» — и идет в обратную сторону. Тогда он подумал, поразмыслил и поехал сюда, к «ленинцам». Потом на другой завод, на третий. Созвал мастеров, инженеров. Рассказал, в чем задача, подробно, толково. Ведь делать-то им. Поделился труд-418
ностями. Попросил совета. Обсудили, договорились. И тут он снова подписал приказ. Но это уже был их собственный'приказ. И они уже выполняли его вдумчиво, по-хозяйски, с удовольствием. А в таком удовольствии, очевидно, и заложена добрая половина тех самых процентов, которые так сухо звучат в отчетах и планах. С тех пор он и начал заботиться об этом удовольствии.
Теперь он сидел здесь, среди рабочих, тоже вместе со своей милой женой, тоже радостно волновался по поводу того, куда пойдут полтора миллиона премии. К нам еще подсел с бокалом пожилой дородный распорядитель бала,— как мне сказали, мастер из кузнечного цеха,— чтобы еще раз перекинуться словцом или просто взглядом. И чокнуться, конечно, как издавна принято.
— Работать так работать, а гулять так гулять!
Чудесные исторические легенды и народные сказания, собранные классиком чешской литературы Алоизом Ирасеком, начинаются рассказом о том, как «за Татрами... залегала с незапамятных времен... часть великой Славянской земли», как там «обитали многочисленные племена, родственные по языку, нравам и обычаям», как «начались между эт*ими племенами кровавые распри за межи и угодья» и как «два брата из могущественного рода, Чех и Лех, сговорились покинуть родину... и поискать новых мест, где бы можно было спокойно жить и трудиться. Они издавна привыкли с любовью возделывать землю, засевать ее различными злаками, ковать коней и разводить большие стада...»
В те легендарные времена еще можно было попросту уйти за дремучие леса и болота, и найти там благодатные незаселенные края, где богатства природы, казалось, так и просили человека: приложи свои руки — не пожалеешь! Чешские легенды воспевают не воинственность, не ратные подвиги, а ух®д от распрей за межи и угодья, уход туда, где можно спокойно трудиться. Народ, так долго и трудно отстаивавший свое право на независимое существование, даже в сказаниях воспевает не столько боевую славу, сколько труд пахаря и зодчего.
27*
419
Пожалуй, лучше всего эту национальную черту выразил замечательный чешский поэт и прозаик прошлого века Сватоплук Чех. Он писал:
.. .Давил кулак .державный год за годом
Бесправный люд.
Пока не грянул первый клич свободы: Будь славен труд!
И что осталось от державной славы?
Лохмотья, плесень — вот ее плоды!
Но скромный труд, стирая пот кровавый,
Возделал пашни, вырастил сады,
Настроил города, где пред дворцами
Фонтаны бьют
И где кричит строенья каждый камень: Будь славен труд!
.. .Будь славен труд, в поту творящий благо!
Бей молотом, направь на пашни плуг, Вяжи снопы, бери перо, бумагу. Ваяй, твори не покладая рук!
Ты победишь трусливых трутней касту, И меч, и кнут.
В тебе равны кирка, перо и заступ.
Будь славен труд!
.. .Утихнет спор религий и сословий, И успокоится вражда племен.
Умолкнет бой и бранные фанфары,
Мечи падут, Но будет все звучать, как в песне старой: Будь славен труд! . .*
И народный поэт Ян Неруда мечтал: «О, если бы мне получить десяток жизней, чтобы все их отдать на благо чешского труда и чешских мастеровых! ..»
Характер каждого народа, как и характер человека, своеобычен. Особенно малого народа, вынужденного из века в век вести борьбу, отстаивать свой язык, свою культуру, свое право распоряжаться собственной судьбой.
Народ немногочисленный, но сильный духом, убежденный в своей конечной победе, сопротивляется, восстает. Но он избирает еще и такой путь борьбы: из поколения в поколение он совершенствует сноровку своих умельцев, искусство своих мастеров, он воспитывает в каждом своем сыне стремление — уметь,
1 Перевод М. Павловой.
420
уметь и еще раз уметь. Именно умением вынуждает он не только своего поработителя, но и весь мир понять и признать его достоинства. Он вроде и подчиняется, но, подобно гашековскому Швейку, делает все по-своему. С практической трезвостью он шаг за шагом, дружными усилиями людей труда добивается признания своей полноценности, нужности и самостоятельности в полном смысле этого слова. Он верит в труд. Он вроде и не прочь овладеть языком и всем ценным в культуре победителя, приобщить это к своим собственным накоплениям. Но каждый сельский учитель знает и из поколения в поколение передает: учи детей откровениям мирового опыта, но капля за каплей вливай в них обогащающие соки своих народных сказаний, своего народного творчества, сделай так, чтоб и Ян Гус и Ян Жижка повседневно жили рядом с ними. Лепи из ребенка Человека, прежде всего Человека, и это укрепит в нем чеха, словака, знающего и любящего историю своего народа, его традиции.
.. .В каждом городе, на каждой остановке первыми горячо приветствовали нас дети, пионеры. Они хлопали в ладоши, кричали что-то, пока наш поезд или автобус замедлял свой ход. Потом окружали вагоны, подбегали к каждому из нас, прикалывали значки, дарили открытки, сувениры, и начинался оживленнейший разговор. До чего же радовались ребята разным безделушкам, наклейкам от спичечных коробков, маркам, значкам со спутником или с крохотным барельефом Ленина! Но вот в конце нашего путешествия, в Братиславе, к нам подошли на улице три мальчика. Они. спросили, есть ли у нас значки. И когда мы с сожалением продемонстрировали, что карманы уже пусты, что все роздано, они с бескорыстной щедростью нацепили моему спутнику и мне на пальто по три своих значка и долго шарили у себя в карманах, отыскивая что-нибудь еще. Им явно казалось, что подарок далеко еще не выразил всей силы их симпатии к нам.
Пожалуй, половину моего чемодана заняли эти сувениры: брикет угля с зелено-бело-красной надписью «Пограничный страж», кувшинчик со скрещенной киркой и молотком и надписью «Соколов», куколки, открытки с адресами, значки. Одну из куколок, самодельную, крохотную, с растерянными глазенками и зо-
421
лотыми косичками, торчащими в разные стороны, подарила мне пионерка из Карловых Вар. Она смотрит и сейчас на меня с книжной полки. А открытки — их целая гора! Вид рабочего поселка, и на обороте надпись: «Дольный Вихнов — ив нем — на память о Власте Маеровой. Здравствуйте! Соколов». (Слово «здравствуйте» здесь совершенно буквально понималось как пожелание быть здоровым.) Вот цветная, яркая: «На память о встрече с Поездом дружбы. Наш адрес: «Сватова и Ростислав Долежиловы. Улица Веверкова, 10. Оломоуц».
Сватова и Ростислав... Они мне хорошо запомнились. Сестра и брат. Ей лет четырнадцать-пятнадцать, а ему семь-восемь. Она подошла ко мне на перроне. Высокая, худенькая, мягковолосая, со вздернутым носиком. Смущенно познакомилась, сказала брату, чтобы тоже подал руку, порозовела от радости, когда услышала, что моя дочка, почти ее ровесница, с удовольствием познакомилась бы с ней. Потом она вошла в вагон, придерживая брата за руку, и раз десять переспросила: «Ваша дочка напишет мне первая? Правда, напишет?» За братишкой она все время наблюдала, как это делают взрослые. Рассказывала о своей школе, расспрашивала о том, какой язык учат в школе у дочки и у сына, и замечала, что надо поправить шарфик на шее у брата, застегнуть ему пуговицу, привести в порядок шнурок.
Я спросила Сватову, каковы ее обязанности в семье. Она рассказала, что помогает маме убирать, штопать, покупать и, конечно, присматривать за братом. А вот он никак не приучится к порядку. В голосе ее звучало искреннее возмущение и вполне осознанное чувство ответственности.
И она, и ее братишка, и другие ребята, которые окружали нас на станциях, подходили к нам на улице, которых я наблюдала в пражской школе, куда заглянула в один из своих походов по городу, в клубе стекольного завода в Дольном Вихнове,— все они были, конечно, озорными шалунами, как и' положено быть ребятам этого возраста. Но в их движениях заметно было что-то такое, что заставляло задуматься. В Дольном Вихнове, например, они превесело бегали по клубному залу, пока взрослые собирались на свой вечер, 422
они сдвигали стулья, перескакивали через скамейки, расспрашивали нас обо всем, обменивались марками, наклейками со всей обстоятельностью многоопытных коллекционеров. Однако и бегали, и прыгали, и разговаривали они так, точно где-то внутри у них глубокой колеёй проходила невидимая, но четкая граница, переступать которую не следует, чтобы не затруднить существование других людей. Они вроде и бегали, но не так, чтобы сбить с ног встречного. Они вроде и шумели, но не так, чтобы оглушить вас.- Они вроде и перебрасывались чем-то, но никому при этом ничто не угрожало. Потом ребята со своей учительницей (кстати, учительницей географии, кажется) вышли на сцену и . исполнили чешские и советские песни и даже кое-что из классического репертуара. Это был хорошо слаженный многоголосый хор. Пели они с чувством. И такой же хор я слушала в Пльзени. А мои спутники — в двух колхозах, под Прагой и под Братиславой. И сынишка и дочка моих друзей с увлечением поют в таком же хоре с первого класса. Они с восторгом рассказывали мне про свой хор, а я вспоминала презрительную ухмылку моего сына, когда расспрашивала его о кружке пения, который попытались организовать в их школе. Кружок физики — это ему понятно. Кружок радиотехники—это необходимо. Баскетбол — как же без этого? Но пение?!
И когда я видела, с какой непринужденностью ребята здесь разговаривали, поднимались на сцену, увлекались пением, уступали место старшим в трамвае, услужливо отвечали на вопросы прохожих на улице, рассказывали о своих родителях, об их специальностях— слесаря, стеклодува, полотера, уборщика в гостинице,— мне все. время приходили в голову слова, имеющие отношение больше к садоводству: «выращивать», «выхаживать», «прививать». Слова, в данном случае обозначающие работу человека над живым существом, которому предстоит стать членом человеческого общества.
Еще на пути к Праге я услышала однажды в вагоне занятные слова радиодиктора. Толково, без патетики, без общих фраз, разъяснял он слушателям, как надо относиться к воспитанию детей в семье. По правде сказать, от обилия впечатлений я, видимо, лишь к сере
423
дине передачи, как говорится, навострила уши. Тихий голос убежденно говорил:
«.. .Если у вас есть немного апельсинов, конфет, пирожных, если у вас осталась только одна ножка от цыпленка, не говорите мужу, жене, что их надо оставить ребенку. Не нужно. Подскажите лучше ребенку, что его долг — отказаться от лакомств и оставить их отцу, матери. Потому что отец, мать делают важное дело — очень важное. Они водят, скажем, трамвай, или шьют платье, или добывают уголь, или лечат людей, или варят обед, или шлифуют сталь. И еще потому, что вам — отцу, матери, старшим — осталось уже меньше лет жить, меньше возможностей пользоваться всякими благами. Ведь это справедливо?!
.. .За столом, в спальне, на улице, в трамвае не ищите самое удобное место для вашего ребенка. Подскажите ему, что он должен найти это место папе, потому что папа делал машину и устал; маме, потому что она стояла у плиты и ноги у нее болят; старшему, потому что он с утра принимается за работу и ему надо передохнуть.
.. .При посторонних, гостях, при бабушке, при тете, при друзьях не рассказывайте, как хорошо читает стихи, решает задачу ваш сын, как красиво танцует ваша дочка. Пусть лучше дети послушают, что интересного есть в том деле, которым так заняты вы, их родители. Дети еще не заслужили того, чтобы стать центром внимания семьи, взрослых. Это надо заслужить. Вот так дети научатся у вас с первых же лет жизни уважать папу, маму, людей вообще. Так они научатся умерять свои желания ради папы, который работает, ради мамы, которая работает, ради старших, ради общества, ради родины...»
Я слушала это со вниманием. И даже с волнением. А диктор спрашивал:
«Вы ведь не хотите, чтобы в вашей семье вырос эгоист, человек, который считает, будто все на свете создано для него, а не он для всех? Ведь и вам будет неприятно, если он привыкнет думать, что навсегда все самое вкусное — для него, самое лучшее — для него, самое удобное место — для него? Он и вас на старости лет уважать не станет. Он никого и ничего не будет уважать...».
424
Голос диктора еще звучал. Спокойно, просто, доказательно. Примерно так, как здесь изложено. Но поезд наш снова замедлил ход. И уже слышались веселые голоса ребятишек. А в окнах мелькали нестерпимо любознательные разгоряченные лица.
Новым ли было для меня, для нас то, что говорил диктор? Нет, не новым. Я вспомнила своего старого друга, работницу трикотажной фабрики в Харькове. Она всегда старалась отдать лучший кусок, лучшее место, все лучшее своим детям. Поступать иначе — да она и представить себе этого не могла и не хотела. Ведь ей-то в детстве это лучшее было недоступно. А дети — они привыкли принимать все как должное. Привыкли к тому, что первое место — им, что внимание— им. И выросли эгоистами. К стыду своему, они слишком поздно оценили самоотверженность своей матери.
Мне вспомнилось и другое: какой гордостью на миг блеснули глаза старого слесаря, отца моих друзей, когда его сын, Герой Советского Союза, немолодой уже человек, сражавшийся и в Испании и. на фронтах Отечественной войны, входя в его комнату, бросил недокуренную папиросу и ждал, пока отец первым скажет слово, пока отец первым сядет к столу, пока отец первым положит себе на тарелку еду. Это была традиция потомственной рабочей семьи.
Я слушала чешского диктора и думала о том, как хорошо было бы, если бы люди пристальнее приглядывались к жизни других людей на земле, к их поискам нового и еще к тому, что они сочли нужным сохранить от старого. Ведь так человек лучше видит и свою собственную жизнь, внимательнее приглядывается к историческому опыту своего собственного народа.
.. .Нам посчастливилось видеть одно из замечательнейших зрелищ Праги — «Латерна магика». Посчастливилось — потому что уже несколько месяцев, с тех пор как «Латерна магика» награждена была Золотой медалью на Всемирной выставке в Брюсселе, билеты на это зрелище получить было почти так же трудно, как у нас, скажем, на выступления Вэна Клайберна. Еще за квартал до входа пожилые люди и молодежь то и
425
дело останавливали нас и спрашивали: «Нет ли билетика?», а когда мы вошли в зал, то он был битком набит.
«Латерна магика» расшифровывается просто: «волшебный фонарь». Волшебства здесь действительно много, но совсем современного.
Иначе как все вмещающим, емким словом «зрелище» «Латерна магика» и не назовешь. Режиссерам и художникам, писателям и музыкантам удалось здесь, на небольшой сцене, удивительно органически слить воедино цветное кино, полиэкран и живых актеров обычного театра; сочетания звуков и световых эффектов, привлеченных из опыта полувековых поисков абстрактного искусства, и монументальный реализм кинодокумента; публицистику, чистейшую публицистику, даже с цифрами, и мягкий доверительный голос рассказчика-девушки. Эта девушка с трех экранов на трех языках и в дополнение точно выхваченная лучом прожектора и заботливо выведенная с полотна вперед — теперь живая — непосредственно, тихо,* почти интимно рассказывает вроде только вам, лично вам, как прекрасна Чехословакия. Она не прочь шутливо поспорить с собой тут же на экране. Она поясняет только что сказанное ею на другом экране. Она дополняет то, что позади широко и живописно показывает цветной кинорассказ. Она помогает воображению соединить тех, кто умелой рукой управляет мощным краном, тех, кто разливает потоки искрящейся раскаленной стали, тех, кто отплясывает внизу огневую словацкую польку, и тех, кто лечит людей, обучает детей, сеет хлеб, добывает уголь, в. единый народ Чехословакии. И вот эта изящная девушка во всех четырех ее ипостасях очень настойчиво и вместе с тем без голосового нагнетания, подчеркнуто, но не силой голоса, а убежденностью, рассказывает вам, что вот Амундсен первым проник к Южному полюсу, что Эйнштейн первым постиг принцип относительности, Галилей — законы вселенной, Менделеев — внутренние законы химических элементов. А Ян Коменский — он первый проник в душу ребенка.
Девушка продолжает говорить о том, что Ломоносовым гордимся мы, Эдисоном — Америка, Эйфелем — Франция; за ее спиной на цветном экране гигантские
426
машины одного из чехословацких заводов уверенно зажимают в своих лапищах глыбы раскаленного металла, спокойно обнимают, поворачивают пышущую жаром махину, придавая ей именно ту форму, которая, нужна
, человеку; а со всех трех экранов в это время вовсе неспроста подчеркивается:
— А у нас — Коменский!
Великий педагог Коменский, который еще в XVII веке мечтал о воспитании гармонического человека-гражданина, человека для людей, который считал, что для людей всех сословий как труд, так и образование обязательны, который считал, что школа должна быть «мастерской гуманности...», «должна вести умы через вещи таким образом, чтобы везде соблюдалась польза и предупреждалось злоупотребление.. .», который ставил себе задачей «образовать людей, знающих вещи, * опытных в деятельности, мудрых в использовании знания. ..».
— ...А у нас Коменский. ..— чуть лукаво повторяла девушка из «Латерна магика» и рассказывала о школах, о заводах, об -игрушках, о машинах и наталкивала на мысль о том, что и сегодняшний день ставит вопрос о воспитаний человека — нового человека социалистического общества, его морали, его поведения среди людей, его отношения к людям и к труду. К труду во имя социализма, как сказал бы все тот же инженер с шахты «Пограничный страж». К труду во имя людей.
.. .Мы шли из «Латерна магика» заинтересованные и, я бы сказала, подзадоренные. Радовались находчивости, удаче, таланту, молодому озорству создателей этого необычного театра. И, как уже повелось здесь, в Праге, память сердца завела свой привычный разговор с друзьями моей юности, с теми, кто так счастлив был бы шагать сейчас с нами по улице Юнгмана, по Пшико-пам, по Вацлавской. Когда глаз останавливался на пестрых, веселых окнах книжной лавки и задерживался, скажем, на явно желающих привлечь к себе внимание— рисунком, цветом, формой — брошюрках молодежного издательства с броскими заголовками: «Хотите ли вы нравиться?», «Политическая азбука», «Человек среди людей», «Книжка о вкусе», «Интимное слово о любви»,— я, кажется, слышала голоса моих
427
друзей: «Молодцы ребята, ищут. Ко всем человеческим чувствам подбираются, интересно бы перелистать».
Когда мы проходили мимо огромных, светящихся на всю улицу витрин, радовало отсутствие украшеньиц и густо наставленных вещей. В них отлично были использованы пространство, объем, цвет. Сказывалась трезвая забота о том, чтобы прохожий — трудящийся, конечно, человек — не терял зря времени, не заходил, скажем, внутрь, а мог сразу же определить, найдется ли в этом магазине именно то, что ему нужно, подходит ли ему цена. Ведь они заняты, эти люди, о чьих потребностях и вкусе так заботятся здесь. Они заняты по горло. Хотя выглядят сейчас на улице неторопливыми, спокойными, уверенными. И мне все больше бросалось в глаза братское сходство с нами, совет-* скими людьми. Сходство в чем-то самом главном.
Они увлечены своим делом. Безусловно, большим делом. Ведь только увлеченность чем-то большим может объяснить, почему в неторопливом потоке людей на главных улицах столицы, в театре, в кафе, в ресторане, да и в домах, так мало показной нарядности, крикливого щегольства, внешнего лоска, стремления кому-то подражать; так незаметно желание «казаться». Казаться богатым, или придерживающимся какой-нибудь моды, или пренебрегающим ею. Казаться «маленьким Парижем», «маленьким Лондоном», «маленьким Нью-Йорком»,— как это бывает в иных столицах малых и не только малых государств.
Конечно, эти площади и проспекты лет двадцать — тридцать назад выглядели по-иному; роскошные виллы на улице «Под каштанами», дворцы, в которых принимали друг друга Печеки и Бати, Прейсы и 'Масарики, еще свидетельствуют об этом. И весьма возможно, что сегодня среди прохожих вышагивают еще и те, кто не прочь бы рядиться в заморские меха, шелка и драгоценности, подкатывать в роскошных «бьюиках» — в общем, казаться сильными мира сего.
Весьма возможно, что кое-кто из них еще существует и на Вацлавской площади, и в дымном Карлине, и в тихих Виноградах. Но в том-то и дело, что, будучи по сущности своей мещанами, особы такого рода всегда воспринимают внешние повадки, словарь, окраску тех, кто в данный момент определяет харак-428
тер жизни страны. Они приспосабливаются, чтобы полегче было втереться в доверие к власть имущим, чтобы поближе стать к хранилищам благ. И если даже представить себе, что кое-кто из них остался здесь, то еще виднее становится, насколько характер жизни Праги, Пльзени, Братиславы и Брно определяет теперь, конечно, рабочий человек. Мне вспоминается при этом токарь с завода имени Ленина — хорошо одетый, веселый шутник. Он отлично танцевал, остроумно высмеивал бюрократов. И он же рассказывал нам, как легко удалось ребятам наладить связь и оперативный обмен опытом с коллегами с Уралмаша. Прехитро улыбаясь, он говорил: «Не-ет, нам для этого министерство не понадобилось...»
Характер нынешней жизни страны определяет и этот токарь, и машинист'с шахты «Пограничный стаж» в Соколове, который, сидя за праздничным столом с женой и сыном, заставил нас выпить уже не один бокал вина за дружбу и за то, чтобы его шахта в будущем году снова заняла первое место. Тогда они втроем обязательно поедут туристами в Москву.
Характер ее определяют и такие люди, как инженер Индржих Дворжак. Увлеченный огромным размахом работ, мощностью новейших машин, гигантскими планами, он не в силах скрыть своего, возможно слишком непримиримого, отношения к тем, кто работает пока только ради денег.
Люди труда, именно они определяют теперь характер жизни страны. Недаром им в смутные дни октября— ноября 1956 года, когда у чехословацкой границы подняла голову реакция, народное правительство вручило винтовки и автоматы, в буквальном смысле слова вооружило их, чтобы они сами охраняли свою власть. В те месяцы, когда подонки, скопившиеся за рубежом, закопошились было, взбодренные попыткой венгерских фашистов захватить власть, рабочие Чехословакии с винтовкой отправлялись на завод, с винтовкой патрулировали по городу, с винтовкой шли домой. И они остались хозяевами своей страны.
Они, эти труженики, все больше пользуются благами и ценностями, в создании которых участвуют. Все больше у них удобных квартир, уютной мебели и красивой одежды. Они могут приобрести за свой хорошо
429
оплачиваемый труд красивые и полезные вещи,. И вещи служат им, не становясь самоцелью. Это, как мне кажется, и определяет сейчас внешний вид улицы, по которой мы идем.
Но бывает порой так, что у человека, приехавшего из-за рубежа и полного самых добрых чувств к этой стране и ее людям, недостаточность знаний может невольно привести к поспешным обобщениям^ излишней восторженности. И от этого снова предостерегают друзья моей юности — они ведь все время идут со мной рядом. Я вспоминаю вдруг давно слышанный разговор об одном рабочем пареньке с какого-то пражского завода, который женился и сначала по настоянию жены принялся обзаводиться всем, что полагается в подобных случаях, а потом так увлекся этим обзаведением, что перестал ходить на собрания, отказался участвовать в забастовке и был потерян для партии, для народа.
Да, но ведь теперь вещи стали доступнее каждому, вступаю я в спор с ними и с самой собой. Безработицы нет. На черный день откладывать не приходится.. . Однако тут же появляется и возражение: ничего. не поделаешь, моль мещанская живуча! Наверное, у сверкающих витрин останавливается и сейчас некая толика людей — не врагов, нет! — но просто тех, для которых квартира, обставленная полированной мебелью, стол, сервированный черно-белым фарфором, платье, приобретенное в Доме мод,— главное содержание их жизни. Для них комфорт, покой превращаются в культ.
А ведь это и есть мещанство. И когда оно становится воинствующим, когда оно стремится прокрасться поближе к благам жизни, оно особенно каверзно и опасно. Мещанин умеет говорить голосом и словами хозяина! Он умеет создавать видимость усердия и активности, умеет громче всех кричать о своей верноподданности новым принципам жизни, умеет льстить и — ох как старательно! — доводить до абсурда любое желание хозяина. Иногда из медвежьей услужливости: Иногда из хорошо рассчитанной угодливости. А чаще — из ненависти.
«Люди, я любил вас! Будьте бдительны!» Эти слова Фучика были, как мне кажется, итогом размышлений над судьбами простых людей, которых только боль-430
шая цель, беззаветная преданность этой цели — освобождению народа,— вырвали из плена повседневных забот и сделали героями. Эти слова Фучика, как мне кажется, подводили итоги его многомесячному общению с одной из разновидностей воинствующего мещанина, дорвавшегося до власти над людьми, с бывшим лакеем пражского кафе гестаповцем Бемом. Эти слова были итогом его размышлений над судьбой бывшего коммуниста, который отдался во власть эгоистической заботы о собственном «я», убил в себе человека и стал предателем.
О мещанстве, конечно не столь угрожающего масштаба, просто о маленьком человеке, для которого большие цели еще не стали «своими», не стали делом собственной жизни, заговорил в пьесе «Третье желание» современный чешский драматург Вратислав Бла-жек. Я смотрела ее в Пражском театре комедии.
Вратислав Бражек — драматург сравнительно молодой. Его пьесы появились на сцене и на радио после освобождения страны. Это художник с явной склонностью к сатирическому изображению. Его глаз нацелен на те затхлые углы, где обычно заводится моль мещанства и куда еще не дотянулась заботливая рука хозяина, вернее сказать, пером автора водит естественное для писателя социалистической страны стремление смотреть на жизнь глазами именно этого хозяина, глазами народа.
Сюжет пьесы «Третье желание» прост и остроумен.
Живет в наши дни и трудится в меру своих сил молодой человек. С женой/ с ребенком, с родителями. Тесновато им. Не хватает удобств. Жене — юной, привлекательной женщине — хотелось бы платье понарядней, а зарплата не позволяет; заботы, ропот, споры, упреки — все это сыплется на голову молодого человека. И все это так обычно, буднично.
Но вот едет он однажды в трамвае. И по выработанной с детства привычке он уступает место какому-то старику. А тот оказывается... волшебником. И, как положено волшебникам, обещает молодому человеку исполнить три его . желания.
Молодой человек вполне современен. Он, конечно, не верит в волшебство. Но на всякий случай решает испытать старика и шутки ради просит сделать так,
431
чтобы его учреждение, скажем, завтра не работало и чтобы он мог провести день на воздухе. Он просит еще — тоже, конечно, шутя,—чтобы в тире все его пули попадали в цель. И — о, удивление!—желания его исполняются. Растерянный, с целой охапкой кукол и медвежат — премий за точность попадания,—в таком виде появляется он впервые перед зрителем. И учреждение его в этот день действительно оказалось закрытым. Все сотрудники отправились помогать сельхозкооперативу. Как видим, среди аксессуаров волшебника нет больше ни скатерти-самобранки, ни ковра-самолета. Он предпочитает пользоваться плодами цивилизации, а свое могущество обращает на благо народной власти.
Но, как это ни печально, две возможности исполнения желания истрачены молодым человеком впустую. Исполнение третьего желания должно возместить все. Жизнь его полна треволнений, и больше всего ему хочется покоя. А это значит, надо получить у доброго волшебника квартиру, достаток, автомобиль.
И все сбывается — маленькие мечты маленького человека, который думал, что ему только этого и надо, что это принесет ему покой и счастье.
Чудо совершается тоже именно так, как это может произойти сегодня. Старичок волшебник появляется перед молодым человеком по сигналу подаренного им звонка то с жаровней продавца сосисок, то в облике газовщика. Он говорит простые, человеческие слова. И квартиру молодой человек получает потому, что нежданно-негаданно подошла его очередь в жилищном отделе. А машину, обстановку, дорогие платья для жены принесла облигация государственного займа, на которую вдруг пал крупный выигрыш.
На этом кончается сказка и начинается то, ради чего написана пьеса. Начинается разговор о мещанстве.
Мелкие карьеристы из учреждения, где работает молодой человек, прослышали, будто успехи его вызваны не чем иным, как дружбой с министром: с ним он якобы вместе ездит на охоту. А это уж кое-что да значит! Это уже повод, чтобы на всякий случай и самим обхаживать его, поощрять, выдвигать. И они рады стараться! А друг нашего героя, тоже небольшой работник, осмелился во всеуслышание высказаться против
432
бюрократов. И эти же усердствующие карьеристы спешат его наказать, уволить, убрать с дороги.
Молодой человек мог бы вступиться за друга, защитить справедливость, но он этого не делает — боится потерять место маленького начальника, на которое его уже успели назначить, боится расстаться с благами жизни. Его мучит совесть, он порывается защитить товарища, но... так и не отваживается. Он становится раздражительным. Назревает разлад в семье. Каждая его попытка поделиться с близкими тайной о незаслуженности оказываемого ему предпочтения воспринимается как безумие, старичок волшебник насмешливо поглядывает на него, подзадоривает и ждет. Надо выбирать: чистая совесть или покой, любой ценой.
Зритель смеется над шутками, над иносказаниями старика волшебника. Смеется и задумывается. Зритель понимает, как хотелось бы и старому волшебнику, и автору, и, конечно, ему самому, чтобы в молодом человеке проснулось достоинства, чтобы он расправился с молью, которая забралась в складки его одежды, размножается в ней и разъедает его самого. Волшебник, автор и зритель верят, что молодой человек вот-вот сделает выбор и что в нем восторжествует совесть.
Но какая совесть?
Совесть человека труда? Или совесть человека, чья «хата с краю»? Или то, что называет «совестью» собственник? Ведь они разные — эти совести. Вот это, пожалуй, автор мог бы сказать яснее.
Размышлениями о морали человека социалистического общества нас уже заинтересовал однажды чешский писатель Павел Когоут в своей талантливой пьесе «Такая любовь». Второй год собирает она полные залы в нескольких десятках советских театров.
Моральный облик человека социализма, его психология, его поведение среди людей, его целеустремленность волнуют чешских писателей. И понятно. Ведь еще несколько десятков лет — и ему, этому человеку, коммунистическое общество обеспечит все по потребностям. Каковы же будут его потребности? Как помочь ему нащупать ахиллесову пяту мещанина, разоблачить его низкую душонку? Как помешать ему воспользоваться прикрытием из правильных слов о нашей общей высокой цели? Ведь мещанину ничего не
28 На разных меридианах
433
стоит столкнуть, затоптать человека, если тот окажется на его пути к благам. Как найти пути становления характеров теперешних молодых людей? Речь идет о том, что только большая цель единственно способна сделать человека большим.
Такими поисками здесь увлечены и писатели, и режиссеры, и, конечно, зрители. В одном из переулков, прилегающих к Вацлавской площади, в маленьком зрительном зале, расположенном в подвале, люди сидели впритирку друг к другу, стояли у стен, в дверях, заглядывали через головы более удачливых соседей. Молодой полулюбительский театр малых форм «Семафор» давал представление пьесы «Человек с мансарды». Представление это по форме иногда напоминало театр Верйха и Восковца, иногда — Брехта, и еще чем-то было схоже с ленинградским Театром рабочей молодежи — ТРАМом, который так радовал зрителей в тридцатых годах. Пьесу написал молодой драматург Иржи Сухий. Играли, несомненно, талантливые девушки и юноши, которые еще не научились сдерживать улыбку, слыша смешные реплики партнеров. И все они вместе с молодым композитором Иржи Шлитером ратовали за нового героя, за подлинно жизненного героя новой литературы и искусства. А человека с мансарды, этого бездарного писаку, любящего пожить на чужой счет и прикрывающего свое невежество снобистскими рассуждениями, они выставили на осмеяние публики. И к несомненному ее удовольствию.
В предлагаемой зрителям программе театр сообщил: «Эта пьеса посвящается всем молодым художникам, которые думают, что открывают новое, а возвращаются при этом к двадцатым годам. Мы пожелали бы им лучше думать о том, что они возвращаются к двадцатым годам, а открывать при этом новое».
В этой же программе говорится, что театр поставил себе целью «с малой сцены, малыми формами — ведь и песенкой можно пробуждать любовь к жизни — заговорить о большом; повести серьезный разговор с молодыми людьми, используя все жанры и виды искусства. Без указующего перста. Вдумчиво. Иногда шуткой: как равные с равными».
Мне кажется, что зритель действительно искренне смеялся над изворотливостью щелкопера, десятиле-434
тиями навязывающего читателю «абстрактные» плоды своей худосочной фантазии. И наверное, вдоволь насмеявшись, каждый из них спросил себя и авторов: а каков же собой человек, который был бы достоин занять страницы книг и подмостки театров? Ведь он где-то рядом. И таких немало.
.. .Дня через три-четыре после того, как я смотрела эти спектакли, автобус мчал нас по холмистой дороге, через небольшие городки, которые напоминали одну-две улички, выхваченные глазом киноаппарата из какой-нибудь окраины Праги. Мы проезжали вдоль сел, домики которых примыкали, тоже на городской манер, один к другому вплотную, образуя вдоль шоссе ровные ряды, и были окаймлены тротуарами.
А вечером мы уже были в Соколове, сидели с машинистами, экскаваторщиками, инженерами шахты «Пограничный страж». Молодой рабочий, светловолосый смешливый паренек, тот самый, что, кажется, решил в этот вечер по три раза протанцевать и побеседовать со всеми женщинами из нашего Поезда дружбы, рассказывал о своих планах. В будущем'году он непременно поступит на горнорудный факультет. В этом можно не сомневаться. С третьего курса он обязательно поедет доучиваться в Москву. А в каникулы он уж постарается поехать работать в Кузбасс. Или еще лучше — за Полярный круг... в Воркуту. Он разговаривает, между прочим, теперь так усердно с нами по-русски еще и потому, что ему нужна разговорная практика. Языком-то он начал заниматься с прошлого года. А поговорить здесь, в Соколове, по-русски не с кем.
Я слушала его, слушала инженера Дворжака, и память невольно возвращалась к юным героям пьес «Третье желание», «Их день», «Человек с мансарды», к молодым авторам, к славным ребятам из «Семафора». Мне было немного жаль, что их нет рядом.
Мне было жаль, что их не было рядом и в тот вечер, когда я сидела у сестры Фучика — Веры. Непосредственная, легко переходящая от оживления к грусти, Вера вспоминала последние дни жизни брата. Она вынула из шкафа крохотный бумажный пакетик, развернула его. В нем лежал тонкий стебелек и холмик золотого пуха. Этот цветок — одуванчик — протянул ей
28*
435
в одно из свиданий брат. Он и в заключении, зная уже о приговоре, не забыл, что сестра любит цветы. И только позднее Вера узнала, как жестоко избили его тут же, во дворе тюрьмы, за то, что он во время прогулки на миг выбежал из цепочки, нагнулся за одуванчиком, которому бог весть какая сила помогла пробиться среди камней и бетона.
В последний день пребывания в Праге, рано утром, меня потянуло вновь на Петржин. Отсюда хотелось попрощаться с городом. Ощутить его вновь как единое целое. Ведь за дни своей пражской жизни я уже понемногу привыкла к районам, улицам — к Старомест-ской площади, где рядом с ратушей живут мои приятели, к набережной у Карлова моста, где приятели работают, к переулку возле Вацлавской площади, где зарождается занятный театр...
Я поднялась на вершину холма. И кажется, в первый раз за все дни нашего пребывания здесь раздвинулась серовато-белесая завеса облаков. Выглянуло солнце. Конечно, осеннее, скупое, но все-таки солнце. В розоватой дымке утреннего тумана Прага была удивительно хороша. И хотя пражане часто сожалели о том, что мы приехали поздней осенью, когда ее лучшее украшение — ее сады оголились, что мы не увидим ее во всей красе, трудно было согласиться с ними. Прага и в пасмурные дни была прекрасна. Мне почему-то особенно часто вспоминались здесь слова знакомого скульптора. Он говорил, что определить, действительно ли красив человек, можно лишь после того, как ему исполнится лет тридцать,— когда облетит нежный пушок юности, а характер и жизнь долепят то, что начала лепить природа. Весеннее цветение садов встречаешь везде. А Прага — она единственная. И, может быть, осенью она виднее.
И эта Прага лежала теперь передо мной. Она была знакомее, ближе и роднее. Хотелось еще многое досмотреть в ней. Еще о многом услышать от пражан. Кое о чем доспорить. Но черные ветвистые силуэты деревьев и изгибы черепичных крыш проступали все четче в прохладно-чистом воздухе. А это значило — приближался час, когда наш Поезд дружбы отправлялся дальше, по своему маршруту, домой.
i960
/I Е В С / И В U -Н
ПЕРВЫЕ МУ Н у Т М
ортье вручил мне ключ. Шел дождь, и было уже поздно. Но это не остановило меня. Я бросил в номер чемодан и выбежал на улицу. Так вот она наконец, Варшава, о которой я так долго мечтал, которую так кропотливо изучал по фотографиям и планам и которую давно уже населил героями своего воображения.
Сияющие стены витрин. В лужах кровавые отблески неоновых реклам. Щегольские автомобили шипят шинами по черному от дождя асфальту. Стараюсь разглядеть дома, но они уходят в вышину, во мрак. Только здесь, внизу, над тротуарами'—праздничное зарево люминесцентных фонарей. Маршалковская... Аллеи Ерозолимские... Новый Свят... Я читаю названия улиц, как страницы романа.
Вероятно, я сейчас не воспринимал бы Варшаву так остро, если бы я до того никогда в ней не был.
437
Но я помню среду 17 января сорок пятого года, день освобождения Варшавы. На броне самоходного орудия мы пересекли Вислу.
Перед нами простирался необозримый каменный хаос.
В войну случалось мне видеть разрушенные города. Но то были разрушения, сделанные в пылу боев.
А здесь перед нами было зрелище педантичного уничтожения дом за домом большой европейской столицы. Мы бродили по этому пустынному бывшему городу, изведенному по разверстке. Местами нужна была сноровка альпиниста, чтобы брать обрывистые склоны гор из битого кирпича.
Города похожи на людей. Они шумят, растут, болеют, выздоравливают. О Варшаве в тот день нельзя было сказать, что она больна. Она была мертва. Прах. Сплошной каменный прах.
Я помню газету «Жице Варшавы» тех дней. Она выходила по ту сторону Вислы, в Праге-Варшавской. Она выпустила номер (он сохранился у меня) с лозунгом: «Варшава освобождена!» А на следующий день она сообщала: «Варшава мертвый город»...
Но в этот труп столицы отовсюду устремились люди. Это было изумительное зрелище, похожее на звездный пробег. По всем дорогам ехали и шли уцелевшие варшавяне, нагруженные мешками, чемоданами, узлами.
Ненадолго мы тогда задержались здесь. Переночевали в одном из немногих сохранившихся домов. Нас приютил вернувшийся в тот день в Варшаву старый рабочий Юзеф Грабарек, дюжий мужчина с длинным суровым лицом, одетый в кожаную жилетку и холщовые штаны. Левую щеку его пересекал шрам. Мы так и не заснули в ту ночь. Единственным слушателем нашим был белобрысый мальчуган с презрительно оттопыренной нижней губой, внук Грабарека. Он один выжил из всей его обширной семьи. Посреди ночи он заснул тут же за столом. А мы со стариком проговорили до утра. Было о чем — какие годы! А чуть свет, расцеловались, дали друг друг слово непременно свидеться, немного покатали мальчика на самоходке и пошли дальше на запад.
438
А когда весной после победы возвращались домой, мы снова увидели Варшаву. Грабарека я не застал, он был в партийной командировке на селе.
Но Варшава... С ней совершилось чудо. Хоть ни один дом еще не поднялся над этим гигантским кирпичным крошевом,— Варшава жила! Тысячи людей поселились здесь. Где? Теперь это была столица бараков и подземелий. На воротах полуразрушенного дома я увидел клочок бумажки, на котором торопливым почерком было написано: «Бюро восстановления Варшавы». День и ночь люди расчищали улицы от щебня. Единственный инструмент — лопата. Да и тех не хватало. Можно ли ложками вычерпать море? Но варшавяне работали с такой яростью и верой (в первых рядах— коммунисты), что уже довольно скоро стали обозначаться очертания улиц. Варшава была похожа на утопленницу, которую вытащили из воды и начали откачивать. Она еще не встала. Но уже дышит...
.. .Полный воспоминаний, я вернулся в гостиницу. Жду у лифта. Замечаю, что стены увешаны картинами. Впоследствии я убедился, что варшавские художники выставляют свои произведения не только в галереях и салонах, но и в кафе, в театральных фойе, в холлах гостиниц, даже под арками домов.
В углу вестибюля вход в ресторан. Там на постаменте стоит странное сооружение из крючьев и сухожилий. Это абстракционистская скульптура. Оглядываю картины. Беспорядочные и уже изрядно приевшиеся наборы цветных пятен,— экстравагантность, ставшая шаблоном.
Завтра воскресенье, и в ресторан валит народ. Тут раздеваются и прихорашиваются. Почти все молодежь, притом зеленая.
Всякие тут ребята — и поскромнее, и поэлегантнее, и шумные, и чинные, и совсем такие, как у нас, и не совсем такие, как у нас. Но в общем все славно, молодо и по-хорошему весело.
Попадаются и другие, одетые с подчеркнутой небрежностью— особый род дендизма: глухой черный свитер до горла, мятые брюки, демонстративно не чищенные башмаки. У девчат преувеличенно залихватский чуб на глаза, у парней — шкиперская бородка, об
439
нимающая лицо узкой рамкой. Лица разочарованные, походка развинченная. Ни следа польской г ж е ч н о -ст и1. Выражение разочарованности тоже входит в набор этого вывороченного наизнанку шика. Возраст — от силы двадцать лет.
«Бог ты мой!—подумал я. — Я же видел этих модников зимой сорок пятого. Это были истощенные младенцы в лохмотьях...»
Я поднялся к себе на четырнадцатый этаж и распахнул окно. Тепло. Дождь прошел. Варшава мигает огнями до самого горизонта. Я долго смотрел на это море огненных многоточий, прорезанное прямыми магистралями, похожими на каналы, текущие светом, он полыхает, переливается через край. Вдруг в нос мне шибанул сухой и пыльный, хватающий за горло запах битого кирпича, преследовавший нас здесь шестнадцать лет назад.
Контраст двух Варшав, той и этой, не покидал меня и в последующие дни. И только постепенно военные воспоминания стали блекнуть и отступили в сны, полные рассыпанных алогичных видений, похожих на лопотанье испорченной кибернетической машины.
СИ о ал н-л
Поутру Варшава показалась мне совсем другой — деловитой, подтянутой, энергичной. И кирпичный запах отнюдь не ночная галлюцинация, а реальнейший дух, излучаемый многочисленными варшавскими стройками.
На перекрестке двух оживленнейших улиц, Аллей Ерозолимских и Нового Свята, стоит дом (конечно, новый, как и все в Варшаве) «Клуба международной прессы и книги». На фронтоне его я прочел слова: «Весь народ строит свою столицу». Не на плакате эти слова, не на бумажной ленте, а врезаны в камень,— стало быть, на годы.
Действительно, очень скоро начинаешь понимать,
1 Вежливости.
140
что это значит для поляков — воссоздание Варшавы. Я даже встречал людей, которые склонны считать его самым крупным и главным делом в сегодняшней Польше. Разумеется, это — преувеличение, рожденное чисто варшавским патриотизмом. Достаточно сказать, что в минувшем году польские строители ежедневно сдавали пятьсот жилых помещений, а каждые три дня по два новых промышленных объекта. Так что не только Варшава — вся Польша меняется буквально что ни день. Но несомненно, возрождение столицы— один из грандиозных подвигов польского народа. Притом такой, который длится и сейчас, ибо и сегодня еще Варшава остается гигантской строительной площадкой и останется ею, по-видимому, еще долго. Когда вы узнаете, что в нынешнем году только на отрезке Аллей Ерозолимских от Маршалковской до Нового Свята будет проложено двадцать километров новых мостовых и семнадцать с половиной километров новых тротуаров, то вам становится ясно, что даже центр ее еще далеко не приобрел завершенного облика.
— Какой вам кажется Варшава? — спросили меня в первый же день.
— Очень новенькая,— сказал я. — Дома как на витрине.
— Вот все приезжие так говорят,-—заметил мой собеседник с некоторой грустью.
Но действительно есть в первом впечатлении от Варшавы какое-то ощущение нарисованности, едва ли не макетности. Это, конечно, от обилия новизны, от воспоминаний о сорок пятом годе и от сказочной быстроты, с какой возродилась польская столица.
Со временем это чувство исчезает, и вы даже начинаете различать в облике Варшавы смену стилевых увлечений.
Вот «эпоха» архитектурных излишеств, громоздкие аркады, под которыми вечный полумрак. Они выглядят так, словно сами стыдятся своей неуклюжести посреди современных, хоть и многоэтажных, но стройных и легких домов. Возникшие как следствие неправильно понятой монументальности, аркады непроизводительно поглотили уйму труда и материалов. Правда, под ними можно укрыться от дождя. Но дешевле купить зонтик.
441
В разных местах вы натыкаетесь на внушительные следы великой битвы между архаистами и новаторами. Одни охвачены страстью вернуть Варшаве прежнее лицо, милое, родное лицо матери,— тенденция сыновняя. Другие — создать Варшаву новую, современную, юную — тенденция родительская.
Когда побеждали первые, возникал архитектурный пейзаж вроде жилого квартала Мариенштат, что у Си-лезско-Домбровского моста. Дома здесь старательно повторяют стиль градостроительства XIX века, созданный скорее домовладельцами, чем домостроителями. Это традиционное зрелище несколько оживляют живописные красные крыши и искусно выполненные сграффито.
Когда побеждали вторые, вырастали «жилетки» (так здесь называют лезвия безопасной бритвы, а заодно, по сходству,и высокие обтекаемо-гладкие здания), вроде нового корпуса министерства транспорта на улице Халубинского, или по-современному красивые громадины типа Дома Партии с его строгими гармоничными пропорциями, или гостиница «Гранд-отель» с площадкой на крыше для вертолетов.
Улица Рутковского (которую, впрочем, все по старой привычке продолжают называть Хмельной) невелика и узка. Но она приобрела ультрасовременный вид, обстроившись почти сплошь домами в новом стиле.
Что же касается другой улицы — Кручей, то она выглядит как пережиток уже отвергнутого проекта застройки столицы. Проект-то отвергли, а здания остались. Этот проект предлагал разделить город на кварталы по функциям — административный квартал, торговый квартал, культурный квартал и т. д. Успели выполнить только один пункт этого схоластического плана — выстроили административный ансамбль на улице Кручей. Сейчас это рассматривается как монументальное следствие разбухания бюрократического аппарата. Это вызвало в свое время здоровую реакцию, и вслед за тем было восстановлено и построено заново в Варшаве много промышленных предприятий.
Но все архитектурные распри разом утихли, когда дело дошло до восстановления Старого Мяста, этой жемчужины Варшавы, ее сердца, ее гордости, ее страсти. Тут архаисты и новаторы подали друг другу руки.
142
Наибольшему уничтожению подверглись два очень непохожих друг на друга района Варшавы — Старое Място и гетто. Оба они долго и яростно бились с гитлеровцами, и в этом причина их полного исчезновения с лица земли.
Гетто занимало одну двадцатую часть Варшавы. На этом клочке земли было заключено полмилЛиона евреев. За два года гитлеровские палачи довели это число до сорока тысяч.
18 апреля 1943 года отряды эсэсовцев, а также армейские части, пехотные и танковые, вступили в гетто для того, чтобы вывезти уцелевших жителей в лагеря уничтожения. Немцев встретил огонь. Гетто восстало. Эти истощенные люди, вооруженные самодельными гранатами, обратили в бегство регулярные фашистские части. Восстание длилось почти полтора месяца.
Одержав наконец при помощи тяжелой артиллерии и бомбардировочной авиации победу над гетто, немцы взорвали его минами, сожгли огнеметами и перемололи бульдозерами. Средствами новейшей техники они ввергли этот район в первобытность.
Сейчас здесь большой жилой поселок Муранув. Возведение его было трудной технической задачей. Территория гетто была завалена щебнем, высота которого достигала четырех метров! Удаление этих трех миллионов кубических метров щебня потребовало бы трехлетней работы семи поездов и десяти тысяч человек с соответствующим количеством инвентаря. Пришли к смелому решению: строить на щебне.
Эксперимент удался, и сейчас 60 тысяч человек живут в отличных, хотя и разностильных домах над прахом гетто.
Время идет, и в самом Мурануве уже выросло счастливое поколение, которое не слышало разрывов фугасок и не видело крови. И только необычно высокое положение домов по сравнению с улицами, которые остались на старом уровне, напоминает о происшедшей здесь когда-то трагедии.
Нет, не только это! Здесь стоит памятник героям восстания в гетто. Он изображает повстанцев, на лицах которых — обреченность и мужество. Он сделан из гранита, который немцы заготовили для памятника Гитлеру...
443
стя Р У в
Восстановление Старого Мяста, или, как ласково называют его варшавяне, Старувки, конечно, не имеет прецедента в истории мировой культуры.
Оно восстановлено все, со своими готическими и ренессансными домами, и шатровыми черепичными крышами, и золочеными сграффито на стенах, и чугунными фонарями на витых кованых кронштейнах, и старопольскими горницами с резьбой и росписью на плафонах, со всеми своими порталами, фризами, барельефами, нишами, решетками, мадоннами и василисками, гербами и дверными молотками.
Старувке недостает только одного: налета времени, пыли веков. Придет!
Впрочем, кое-где можно заметить облупившиеся стены. Но даже это воспринимается как реставрация живописного средневекового пятна, а не как дурное качество современной штукатурки.
С такой же скрупулезной достоверностью воссозданы примыкающие к Старувке Новое Място и начало старого варшавского тракта — улицы Краковское Предместье и Новый Свят.
Тот, кто видел картины венецианца Каналетто, помнит эти улицы такими, какими они изображены на его полотнах XVII века. Но если бы Каналетто воскрес сейчас, он и не заметил бы, что эти излюбленные им места отстроены заново. Реставраторам очень помогли его картины. Их точный и верный рисунок послужил современным варшавским архитекторам документом, по которому они воссоздали исторический облик старых варшавских улиц.
В этой воскресшей старине Старого Мяста есть новая деталь: стайка голубей, лепящаяся над порталом на Пивной улице. Происхождение этой скульптуры трогательно. В 1946 году в развалинах Старого Мяста поселилась одинокая старушка. Она взяла на себя заботу о немногих уцелевших в Варшаве диких голубях, кормила и поила их. Благодарное государство вскоре сумело предоставить ей комнату и пенсию. А когда она
444
умерла, увековечило ее скромный подвиг таким своеобразным памятником.
Я посетил одну из квартир этого прелестного района. Она помещается на небольшой площади, которая называется Рынок Старого Мяста. Он окружен живописными барочными домами, похожими на театральные декорации. Пересекая площадь, я подумал, что на фоне их, пожалуй, действительно можно было бы поставить романтическую сказку, например «Три толстяка» Юрия Олеши. И когда я входил в квартиру, у меня было такое чувство, как будто я вхожу за кулисы театра.
Конечно, строители сохранили средневековье только снаружи. Внутри — вполне современные квартиры. Варшава, вероятно, единственный город в мире, где старина и современность одного возраста.
Хозяин, пожилой инженер с худым, решительным, немного желчным лицом, продемонстрировал мне квартиру, действительно очень удобную, а потом потчевал меня кофе, которым здесь угощаются по каждому поводу, а если такового нет, то и без повода.
В ответ на мои восторженные отзывы о Старом Мясте, он признательно поклонился и сказал:
— А знаете ли вы, что, гуляя по Старувке, вы, в сущности, ходите по полю сражения? Да какого!
— В сорок четвертом?
— Да. Здесь был сильнейший пункт сопротивления. Вы видите: что ни дом — произведение искусства. И немцы били по ним с особым ожесточением. Тут было пекло!
— Вы были здесь тогда?
— Я защищал Старувку, и я же ее восстанавливал. Я хочу рассказать кое-что. Может быть, вам это пригодится.
Он уже знал, какое дело привело меня в Варшаву.
В это время в комнату вошел высокий полный мужчина с открытым веселым лицом. Это был брат хозяина, тоже инженер. Он вел на поводке маленькую собачку из породы тех лохматых существ, о которых, как и о современных автомобилях, не сразу скажешь, где у них передок и где задок. Он предложил нам пойти погулять.
445
— Подожди, Тадеуш,— нетерпеливо сказал хозяин.— Слушайте. В ночь на второе сентября мы покинули Старое Място. Канализационными туннелями мы перешли в Центр. Так что, вы думаете, сделали гитлеровцы, войдя в Старувку? Они продолжали разрушать ее. Для чего?
-— Бессмысленная страсть разрушать,— сказал Тадеуш, лаская собачку.
— Нет! — почти крикнул инженер.
Его худое сильное лицо подергивалось от волнения.
— Нет! Зачем они сожгли единственный уцелевший здесь дом Барычков с ценнейшими музейными коллекциями?
— Маньяки,— отмахнулся Тадеуш.
— Нет! Будь это бессмысленная страсть разрушать— что поделаешь! Варварство, но стихийное. А тут был расчет. Да! Сознательное, по плану, истребление польской культуры. Они, видите ли, считали так: будущее мы у поляков отняли,— мы их поголовно стерилизуем, они не дадут потомства и вымрут. Настоящего у них уже нет — вместо Польши немецкая земля Вартеланд. Единственное, что у них осталось,— это прошлое, и они за него цепляются. Так вот мы у них отнимем и прошлое тоже.
Тадеуш начал что-то говорить, но инженер перебил его:
— Вот почему варшавяне с такой страстью восстанавливали лицо Старувки, ее настоящее лицо, подлинное до мелочей, каким оно всегда было. Это протест, понимаете? Грандиозный всенародный протест против фашистского похода на душу польского гения!
Тадеуш добродушно улыбнулся.
— Ну что же, честь и хвала,— сказал он.— Пошли пройтись.
— Кому это, собственно, честь и хвала? — подозрительно спросил инженер.
, — Великому духу польской непрактичности,— сказал Тадеуш, засмеявшись. Инженер молчал.
— Непрактичность в известном смысле черта благородная,— осторожно заметил я.
— Вы думаете? — Тадеуш повернулся ко мне всем своим объемистым телом, брови его иронически при-
446
Поднялись.— Из-за этой благородной непракТичйобтй Польша всегда была полигоном Европы.
Он говорил, обращаясь ко мне. Но у меня было такое впечатление, что он, в сущности, адресуется к брату, продолжая какой-то давний мучительный спор:
— Где какая-нибудь война, революция, бунт,— мы, поляки, тут как тут и лезем за кого-нибудь в огонь. И так всю нашу историческую жизнь. Мы же ввязывались во все драки мира. Мы какой-то народ-мальчишка. А результат? Все народы обозначают свою историю по годам побед, по датам великих свершений. А мы? По номерам разделов Польши! После первого раздела, между первым и вторым разделом, перед третьим и так далее. Нам мало было наших собственных восстаний,— мы влезали во все восстания Старого и Нового Света. А результат, я вас спрашиваю? Мы обнищали, одичали. А другие в это время — возьмите хотя бы наших соседей чехов — смирно сидели, никуда не рыпались, нагуливали жирок, богатели,— и вот вам, пожалуйста, у них один из самых высоких в мире жизненных уровней. Нет, довольно! Довольно этой сентиментальной непрактичности, всех этих «за нашу и вашу свободу» и прочего мальчишеского рыцарства. Пора повзрослеть и взяться за ум.
— Это что ж, новый позитивизм? — сухо спросил инженер.
— Называй как хочешь,— сказал Тадеуш.
— То есть против романтики и за реализм? Так ведь?
Мне показалось, что этой формулировкой инженер хочет как-то приподнять позицию брата в глазах приезжего из Москвы.
— Ну знаешь,— ответил Тадеуш, улыбаясь,— это из тех знаменитых дилемм: что важнее мыть — руки или ноги?
И он засмеялся своим добродушным смехом толстяка.
— Я подожду вас внизу, а то моей собаке уже не-терпится,— добавил он и вышел.
Когда мы остались вдвоем, инженер перевел разговор на другие темы. Он рассказал мне, что саперы
447
(главным образом советские) извлекли из развалин Варшавы 98 778 мин. Он показал мне приказ Гимлера от 11 октября 1944 года, где значатся слова: «сровнять Варшаву с землей». Зная о моем интересе к этой эпохе, он старался сообщить мне важные и точные сведения. Он поразил меня, рассказав, что еще в оккупированной Варшаве в сорок втором и в сорок третьем годах группа архитекторов в подполье работала над проектами восстановления столицы. Он был в этой группе. Не менее интересный факт: оказывается, в это же время группа немецких инженеров разрабатывала проект уничтожения Варшавы и создания на ее территории небольшой военной резиденции для управления покоренной Польшей.
Когда мы с инженером спускались на улицу, он сказал мне словно между прочим:
— Тадеуш был одним из храбрейших командиров восстания. Да и сейчас неплохо работает. Но вот этот вот уход от идейности.. . «Позитивизм» — он это называет. А по-русски есть такое слово?
— «Делячество» сказали бы у нас.
— Ис чехами он неправ,— с досадой проговорил инженер.
Он задумался. Потом сказал:
— Знаете, люди редко бывают больше самих себя. Чаще они бывают самими собой. Но иногда — меньше самих себя...
в
Е U1E +4Е/МН-ОГО
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В некоторых странах существует обычай ежегодно выбирать красивейшую девушку города. Победительница конкурса красоты получает титул — мисс Лондон, или мисс Токио, или мисс Копенгаген и т. д.
Когда мне сказали, что в Варшаве ежегодно выбирают не мисс, а мистера Варшаву, я удивился:
— Неужели красивейшего юношу столицы? — Нет: красивейший дом столицы.
4 48
То есть самый интересный, самый удобный, самый изящный, самый современный из построенных в этом году.
Конкурс этот организовала газета «Жице Варшавы», и он здесь очень популярен.
Я видел двух «мистеров Варшава».
Победитель состязания 1959 года — дом на Кредитовой улице, спокойный, элегантный, с красивыми глубокими лоджиями, выгодный в пользовании. Мне сказали, что в строительстве его удалось достигнуть большой экономии средств, и это тоже сыграло известную роль в его победе над соперниками. К дому прикреплена доска с именами создавших его трех архитекторов, К. Клышевича, Е. Мокжиньското и Е. Вежбиц-кого. Кстати, это та же тройка, которая возвела Дом Партии.
«Мистер Варшава» 1960 года выстроен в районе Му-ранув. Инженер-архитектор Вацлав Эйтнер сумел соединить в своем творении красоту пропорций с простотой и монументальным изяществом.
Когда в городе много строят, это, может быть, не очень удобно для прохожих — леса отжимают их с тротуаров на мостовые, на головы оседает строительная пыль. Но стройки вносят в облик города черту бодрости и веселого мужества. Варшава — старый борец. Она борется и сейчас. Да, это бой с разрушениями, с бытовыми неудобствами, с жилищным... нет, уже не голодом, но все еще недоеданием.
В самом деле, до второй мировой войны в Варшаве было около 600 тысяч комнат. Сейчас их уже больше — около 660 тысяч. А живет сейчас в Варшаве тысяч на двести человек меньше, чем до войны. Но примите во внимание, что основной тип жилья сейчас — двухкомнатная квартира с кухней. Чтобы изжить жилищную тесноту, варшавянам не хватает примерно еще 50 тысяч жилищ. За 1961 год не удается покрыть этот дефицит. Будущий год принесет Варшаве только около 33 тысяч комнат. Можно и больше, но ведь немалую долю труда и материалов отберет ремонт 22 тысяч комнат. Кроме того, столица столицей, но ведь вся Польша требует жилищ. И нынешняя пятилетка должна дать городам два миллиона комнат и деревне один миллион двести тысяч.
29 На разных меридианах
449
Эти цифры — предел сил и средств. Сверх этих пределов возможно только чудо. Но какой варшавянин не верит в чудо! Да вот оно — Варшава!
Когда вы идете через центр по Маршалковской улице, вам бросается в глаза странное несоответствие: по одной стороне огромное высотное здание Дворца культуры, по другой, восточной,— черт его знает что, низенькие лавчонки, какие-то дощатые бараки и просто остатки сожженных и разбомбленных домов.
Это — больное место Варшавы, так называемая «одноэтажная Маршалковская». И это ее центр, то есть то, что является лицом всякого города, его сутью, его эстетической вершиной. Центр Варшавы давно уже должен был застроиться.
Но место представляет из себя стечение трудностей поистине необычайных.
Вообразите четыре гектара, вытянутые в длину. Кишка, протяженностью в 800 метров, а глубиной всего в 50 метров.
К тому же будущие здания надо увязать с их «визави», Дворцом культуры. А этот гигант вознесся на высоту 237 метров, и общая кубатура его — 800 тысяч квадратных метров! Чем уравновесить эту «малютку», как его шутливо называют в Варшаве?
Много лет шел спор. Три конкурса следовали один за другим. Результаты двух первых вызывали у жюри отчаяние. Кое-кому задача начала казаться неразрешимой. Но многолетняя дискуссия разом утихла, когда на третьем конкурсе представил свой проект профессор Збигнев Карпиньский.
Макет проекта остроумен, убедителен и очень красив. Он решает основную проблему: что строить — жилые дома или торговые и административные учреждения.
И то и другое. Двести тысяч квадратных метров проект отдает под жилые дома и около пятисот тысяч — всякого рода общественным зданиям.
Он разумно уравновешивает тяжесть Дворца культуры, противопоставляя ему четыре «жилетки» — 30-этажную гостиницу и три 18-этажных жилых дома.
Наконец, самое распределение зданий гармонично и сочетает удобства и изящество.
450
Когда проект профессора КарпиПьского и его группы будет осуществлен (а сейчас уже сносят «одноэтажную Маршалковскую»), в центре Варшавы в ближайшие годы вырастет архитектурный ансамбль, достойный столицы народной Польши.
Вопрос, который мне задали в первый же день моего приезда: «Что вам больше всего понравилось в Варшаве?» — я услышал и на второй день, и на пятый, и на тридцатый. И я уже привык к тому, что каждый новый • знакомый в Польше задавал мне этот вопрос.
Я отвечал:
— В Варшаве больше всего мне понравилась Варшава. Самый факт ее существования.
Разумеется, этот вопрос задавали многим приезжим. Особенно — иностранным градостроителям, в том числе и тем, которые в сорок пятом году отрицали возможность воскрешения Варшавы и советовали построить польскую столицу в другом месте.
Было и такое мнение, что ввиду того, что Варшава явно невосстановима, то благоразумнее перенести столицу в Краков или в Лодзь. Но победило неблагоразумное романтическое решение. Оно-то и оказалось самым реалистическим.
Конечно, прелестна Старувка, и радуют глаз новые мосты на Висле, и отрадно смотреть с Замковой площади на могучую перспективу трассы Восток—Запад. Но больше всего Варшава поражает как деяние, как подвиг, как колоссальное материальное выражение воли народа.
К 1965 году должна исчезнуть последняя варшавская руина.
Много ли их еще осталось в Варшаве?
Этот вопрос я задал себе, когда по совету знающих людей отправился на север Варшавы, где, по их словам, новые дома возникают на девственных территориях.
Я решил начать с Бёлян. Когда-то это были окрестности Варшавы, притом не самые близкие. Сейчас трамвай № 15 доставляет вас к. самым воротам Белянского парка культуры и отдыха.
Район этот примыкает к лесному массиву. И это соседство, и самые дома, многоэтажные кубы в самых
29*
451
различных стадиях готовности, обилие кранов, общий вид большой оживленной стройки напоминает московский Юго-Запад.
Руин здесь не видать. Старший каменщик со стройки высокого белого дома объяснил мне, что Варшава строилась от окраин к центру. Впоследствии я убедился, что это не совсем так.
Раньше, несколько лет назад, Варшава росла неравномерно, угловато, как подросток,— то ноги вытянутся, то шея. Сил неокрепшего организма хватало на что-нибудь одно.
Теперь Варшава формируется равномерно, как юноша в цвету, гармонично преображаясь в мощного мужа. Одновременно возводятся ансамбли зданий и в Белянах, и на Саской Кемпе, и в самом центре города, в тылу Дворца культуры, на тех пустырях, которых варшавский юмор уже успел окрестить «Диким Западом».
Ох этот варшавский юмор!
Ю/ИОР В XU^H-U
Ы -Н/+ С ЦЁ-Н Е
Почти каждый варшавянин помимо того, что делает какое-то свое дело, делает еще что-то и для Варшавы — строит ее или украшает, озеленяет, совершенствует, пишет ее историю, планирует ее будущее. Приезжих не может не трогать эта верность варшавян своему чудесно спасенному городу.
Но при всем том варшавский юмор, порой добродушный, порой с примесью горечи, иногда не совсем приличный, но даже и в грубоватости своей сохраняющий грацию, не щадит никого, и прежде всего саму Варшаву.
Грузное здание бывшей конторы мыловаренной фирмы Шихта (сейчас здесь профсоюзное учреждение) — одно из немногих уцелевших в разрушенной Варшаве. Ойо стоит у Вислы возле трассы Восток —
452
Запад на улице Новый Зъязд и огромной безобразной кляксой пятнает этот чистый, воздушный пейзаж. Вздыхая, варшавянин отпускает мрачно-ироническую сентенцию: «Разрушали Варшаву, так уж надо было и эту красотку взорвать! . .»
Когда вы спрашиваете, как вам лучше всего связаться с человеком, живущим на отдаленной улице, вы можете услышать и такой ответ:
— Если хотите побыстрее, идите туда пешком. Если не очень торопитесь, попробуйте поехать троллейбусом. А если у вас вообще время не ограничено, попытайтесь дозвониться по телефону.. .
В Варшаве образовалось несколько десятков новых улиц. Варшавянам наскучило давать им невыразительные служебные названия. И на перекрестках появились таблички: УЛИЦА УТКИ-ЧУДАЧКИ (это персонаж широкоизвестного стихотворения Бжехвы), УЛИЦА ОСЛИКА ПОРФИРИЯ (которого все поляки знают по юмористическому роману Галчинского «Клуб святотатцев»), УЛИЦА ЛОХМАТОГО ЯШКИ (имя медвежонка из популярной сказки Милна, у нас она вышла под названием «Виннипух»), УЛИЦА БЫЧКА ФЕРНАНДО (тоже сказочный персонаж, хорошо известный польским детям по сказке Мунро Лифа в переделке Ирены Тувим).
Увидев, что я записываю эти названия, Тадеуш недовольно поморщился. Он находит, что и в этих названиях проявился столь осуждаемый им мальчишеский нрав поляков.
Но в гораздо большей степени здесь проявилась забота о детях. На некоторых из новых улиц помещаются детские сады. И вы представляете себе, как прй-ятно и весело ребятам ходить по улицам, окрещенным именами героев их любимых сказок.
Появилась в Варшаве УЛИЦА РОМЕО и ДЖУЛЬЕТТЫ. Я, правда, не проверял, много ли туда стекается влюбленных. А в районе Вавера я как-то забрел на УЛИЦУ БАХУСА. Не знаю, чем она заслужила это название. Но на него не без успеха могут претендовать по крайней мере еще несколько варшавских улиц. И, в частности, улица Ясная, где у ресторана «Столица» по вечерам нетрудно заметить граждан, не всегда сохраняющих строго вертикальное положение.
453
В том же Вавере я обнаружил УЛИЦУ ГНОМОВ (по польски — Краснолюдков) и УЛИЦУ ЭЗОПА.
Маленький подвальчик СТС мне рекомендовали как сценическое воплощение варшавского юмора. СТС — это Студенческий Театр Сатириков. Программа, которую я посмотрел, называется: «Часть художественная». По жанру это довольно обычная форма самодеятельных интеллигентских ансамблей, распространенных и в Москве. Некоторые номера очень удачны, например песенка «Мы» 3. Федецкого, отмеченная хорошим вкусом и подлинным остроумием, сатирический номер «Плывет Висла» А. Дравича и пародия А. Ярецкого «Второй день свободы».
Вообще же программа явно страдала переизбытком музыкальных номеров. Это говорило о нехватке чисто литературного материала.
Правда, небольшой погребок СТС был переполнен зрителями. Как-никак премьера, да и вообще варшавяне все еще больше театралы, чем киноманы.
Однако, как мне рассказали, СТС уже не тот, что был. Ныне тематика измельчала, сбилась на довольно банальное обшучивание бытовых мелочишек. Да простит мне талантливая СТСовская молодежь, но иные номера были похожи не столько на яркий варшавский юмор, сколько на обывательское хихиканье. Все ведь зависит от позиции наблюдателя, или, как говорят физики, от точки отсчета. И поистине будет жаль, если СТС сменит свой зоркий и острый взгляд сатирика на подслеповатый глаз сплетника, прильнувшего к замочной скважине.
Один из друзей этого театра в разговоре со мной предложил довольно оригинальное объяснение того, почему измельчал репертуар СТС.
— Это отрадный показатель,— говорил он,— упорядочения общественной и государственной жизни, излечения от мещанских настроений и бюрократических язв. Отсюда нехватка поживы для сатирической эстрады. И это закономерно, потому что само время окунает писателя в чернила и им пишет.
Это верно. Социалистическая законность, рост народного хозяйства, упорядочение существования создали устойчивое благополучие. Но разве окончательно изгнаны карьеризм, жажда наживы, безыдейность и
45^1
другие тени старого быта, достойные сатирического осмеяния?
Ответ на языке искусства я получил, посетив спектакль «Кугляже» на Камерной сцене Польского театра в Варшаве.
Конечно, большая форма дает больше простора для сатирического пера. Впрочем, автор Здислав Сковронь-ский назвал свою пьесу комедиофарсом, застолбив таким образом свое право на гротесковые преувеличения. Разоблачить эластичность обывательской морали — вот задача, которую он, по собственным словам, ставил перед собой в пьесе «Кугляже». Слово это в первоначальном смысле означает: фокусники. А в переносном — ловчилы, «блатмейстеры».
Пьеса идет с большим успехом не только благодаря отличной игре актеров и обилию смешных положений. Смех в зрительном зале раздается так часто, что автор вдруг усомнился в себе: «Не забивает ли смех в моей пьесе ее идею?» Нет, конечно. Главный успех спектакля в той остроте, с какой он разоблачает приспособленцев и комбинаторов формации 1960 года.
В «Современный театр» я пошел нехотя. Меня совсем не привлекала старая и довольно пустая комедия Жюля Ромена «Кнок, или Торжество медицины». Но со всех сторон мне усиленно советовали посмотреть актера Казимежа Рудзкого, играющего главную роль.
Я не пожалел. Я испытал то высокое и довольно редкое наслаждение, которое доставляет игра первоклассного комедийного актера.
Рудзкий ни на кого не похож. Это художник совершенно своеобразный. Манера играть — четкая, сухая, отточенная. Худое горбоносое лицо его почти неподвижно, сохраняя чуть брезгливую гримаску. Жест изящен, исполнен достоинства. Это — воплощение приличия. Но в каждом его взгляде, устремленном на собеседника с каким-то надменным недоумением, в каждой его интонации, обдающей партнера ледяным холодом, в каждом движении его сухопарого гибкого тела столько внутренней издевки, почти клоунского эксцентризма и в то же время жизненной типичности; что в результате перед вами встает, можно скафть, эпический образ шарлатана и лицемера.
455
Я загорелся желанием посмотреть Рудзкого в других ролях. Увы! Мне сказали, что Кнок его единственная крупная роль, что он вообще предпочитает роли второстепенные, превращая их, правда, в маленькие шедевры, что он превосходный конферансье на актерских капустниках й т. д.
А между тем какой бы это мог быть Тартюф! Какой Глумов!
Н-ЕСЧО/lbKO С/1ОВ О ХУДОЖНИКАХ
В прославленном кукольном театре «Лялька» давали «Волшебного коня». Я готовился увидеть спектакль. А увидел художника.
Старую сказку Болеслава Лесмяна приспособил для сцены и поставил Збигнев Копалко. Какие бы ни делал этот спектакль заявки на драматизм действия и фееричность постановки, здесь торжествует художник Адам Кильян. Все определила его удивительная работа— маски, костюмы, оформление.
Постановка была рассчитана на то, чтобы вызывать в зрителе некий трепет перед кознями злодеев, заставлять тревожно биться маленькие сердечки. Но так как в художественном темпераменте Адама Кильяна ведущей чертой является доброта, то и спектакль получился глубоко человечный.
Это спектакль масок, то есть на сцене не куклы, а актеры. Невозможно описать очарование масок и костюмов, созданных душевной фантазией художника. Они сделаны из ивовых прутьев. Эти комбинации из корзин одновременно неуклюжи и воздушны, фантастичны и необыкновенно выразительны. Добродушный юмор их присолен некоторой долей лукавства.
Кильян, конечно, один из интереснейших польских театральных художников и графиков. Я совершенно согласен с Зенобиушем Стжелецким (тоже весьма ин
456
тересным мастером), который в своей содержательной статье «Полвека польского театрального оформления» (журнал «Проект» № 4 за 1960 г.) справедливо сетует на недооценку замечательной работы польских театральных художников. Не знаю, почему так получилось, что в польском изобразительном искусстве линия возобладала над цветом, акварель над маслом, рисунок над фактурой. Но польский плакат, польская книжная графика, польское театральное оформление стоят сейчас очень высоко и, по-видимому, опередили польскую живопись.
Художественные выставки в Варшаве весьма распространены. Вы просто натыкаетесь на них повсюду, я уже упоминал об этом. Заслуживает одобрения обычай устраивать выставки на предприятиях. Здесь только как исключение можно, увидеть работы абстракционистов. Между тем абстрактная живопись в Польше отнюдь не запретный плод. Их странные (но не из самых странных) работы висят даже в Национальном музее в Варшаве. Но персональная выставка на заводе лицом к лицу со здравым смыслом и еще не подпорченным эстетическим чутьем простого человека дело совсем другое.
Художники-реалисты даже эксцентрического направления обычно все же исходят от жизни. Абстракционисты большей частью эпигоны друг друга. Это напоминает старинную детскую игру в «испорченный телефон». Даже лучшие их произведения, наиболее счастливо использующие игру геометрическими формами или цветовыми массами, будучи заключены в четырехугольник рамы, еще не приобретают от этого эмоциональной силы. Наоборот, они только теряют, расставшись с естественным для них состоянием ковра или набойки. Что же касается портрета, цель которого вскрыть существо модели, то сделать это путем перемещения глаза на коленную чашечку или уха на копчик не удавалось даже такому замечательному мастеру, как Пикассо. Его земляк Веласкез достигал этого без применения вивисекции.
Юзеф Шайна — выдающийся театральный художник Польши. Но когда я увидел его станковую живопись, она вызвала во мне горестное удивление. Это были прилепленные к холсту или к фанере куски чего-
457
то черного, кажется угля, а может быть, дегтя. Применив метод «испорченного телефона», я без труда определил родословную этих картин. Так работает итальянец 'Бурри — только не углем, а еще скандальнее — гвоздями, тряпками, обрывками одежды. Таким образом, Ю. Шайна выступает тоже как скандалист, но застенчивый.
Никак не пойму, зачем этот высокоодаренный художник занимается игрой в какие-то неопрятные ребусы? Что это — боязнь прослыть отсталым? Дескать, пусть дурная, но все же мода. К сожалению, Шайна не единственный талантливый художник, поспевающий вприпрыжку за любым болотным поветрием, лишь бы оно шло с Запада.
Вот выставка Марка Оберлендера в фойе одного из варшавских театров. Тут есть превосходные работы, например портрет Гарсиа Лорки, или акварель «Птицы», или драматический цикл автолитографий, изображающих варшавское гетто. А рядом — абстракционистские композиции, лучшие из которых достигают художественного уровня орнаментов из детской игрушки — калейдоскопа — или узоров для текстильных изделий. И именно эти вещи датированы последними годами — грустное свидетельство заблуждений большого таланта.
ВЫРОСЛИ
В одно из воскресений я отправился на поиски Юзефа Грабарека, старого рабочего, у которого я ночевал в первую ночь освобожденной Варшавы.
Название улицы за пятнадцать лет безнадежно выветрилось из моей памяти. Помнится, было это где-то за площадью Трех Крестов. Хорошо помню деревянные массивные красные ворота. Рядом был разбомбленный дом, от которого остался один первый этаж. (Когда я в том же году снова проездом был в Варшаве, в этот обломок дома уже внедрился какой-то предприимчивый лавочник). По мере того как я углублялся в переплетение улиц за площадью Трех Крестов, все более
458
вставали в памяти подробности той особенной ночи. Юзеф Грабарек был первый увиденный мной участник варшавского восстания. Он был бойцом Армии Людо-вой. А вместе с ним и внучек его. Много варшавских ребят работали связными в повстанческих частях. В подражание взрослым повстанцам они присвоили себе конспиративные клички. Кличка Стасика звучала несколько пышно для его двенадцати лет: капитан Немо. Мальчуган обижался, когда хлопцы в отряде называли его фамильярно: Немек. Это был горячий парнишка, он все рвался в бой, и дедушка, дрожавший за его жизнь, осаживал его командным окриком: «Капитан Немо, смирно! Кругом марш!» Стасик, обожавший, как все мальчики, военный ритуал, немедленно повиновался.
Вспомнилось мне и то, как Грабарек вытащил из мешка толстую рукопись и со значительным видом протянул мне. На обложке, сделанной из куска желтых обоев, было написано по-польски: «История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс».
Я листал этот диковинный манускрипт, а Грабарек, наслаждаясь моим удивлением, говорил:
— Переписано еще до восстания, в подполье. А что ж, издавать же мы не могли. Знаем, история эта неполная и не во всем точная. Да лучшей нет. А знаете, у ребят все же большая охота узнать, как же простой народ дрался и победил.
Рукопись была истрепанная — видно, прошла через много рук. Некоторые страницы были подклеены обрывками почтовых марок, поверх которых старательно восстановлены заклеенные буквы.
Помню, внимание мое остановили несколько строк, обведенные красным карандашом. Там говорилось, что в 1905 году рабочие Лодзи дрались с царскими солдатами и что Ленин считал эти бои первым вооруженным выступлением рабочих в России. Я посмотрел на Грабарека. Он улыбнулся и тронул старый шрам на своей щеке.
— Дядку,— вдруг сказал мальчик,— а сколько ж тебе тогда было?
— Да побольше, чем тебе сейчас,— ответил дед.— Отцу твоему уже стукнуло тогда два года. . .
459
.. .Я сразу узнал старый дом с деревянными трехстворчатыми воротами. Даже сердце екнуло. Место несколько изменилось. Рядом вместо разбомбленной руины с лавочником — новое четырехэтажное здание. Но старый дом нисколько не изменился. Даже вмятины от осколков по-прежнему зияли на фасаде.
Волнуясь, я поднялся на второй этаж и позвонил.
Пожилая женщина в переднике, открывшая мне дверь, в ответ на мой вопрос грустно покачала головой:
— Он умер два года назад...
Умер. . . Почему-то это предположение ни разу не пришло мне в голову. А ведь Грабареку было бы сейчас под восемьдесят. Но в нем было столько жизненной силы...
— А мальчик?
— Какой мальчик? — удивилась женщина.
— Внук его.
Она всплеснула руками. На левой руке возле локтя я заметил вытатуированный номер — след пребывания в освенцимском аду.
— Боже милый, какой же он мальчик? — сказала она.— Я могу дать вам адрес пана Станислава.
В тот же день я увидел его.
— Я бы вас сразу узнал,— заявил он мне.
— А я бы вас не узнал, капитан Немо,— сказал я.
Мы рассмеялись. Все же какие-то черты варшавского сорванца еще сохранились в этом высоком статном мужчине.
— Значит, вы строите Варшаву?
— Да,— подтвердил он.— А она — нас.
Он рассказал мне, что сейчас на некоторых предприятиях уже не принимают рабочих с образованием ниже семи классов. И вообще крупнейшие индустриальные центры Польши сами становятся мощными узлами просвещения.
Он сообщил мне цифры, которые поразили меня.
— Вы знаете, сколько сейчас в Польше инженеров?
— Сколько?
— Сто тысяч!
— А было?
— В сорок пятом году семь тысяч.
460
•— Это точно? — усомнился я.
— Слушайте! — взволновался Станислав.— За годы оккупации в Польше погибло около семисот профессоров и работников высшей школы и около пяти тысяч учителей средней школы.
Он продолжал, распаляясь:
— А вы учитываете, что за те же шесть лет у нас не появилось ни одного квалифицированного работника ни в одной области знания!
— Я записываю: сегодня сто тысяч инженеров.
— И добавьте, что девяносто процентов из них по--лучили образование в народной Польше и что доброй половине этих инженеров еще нет тридцати трех лет.
— А как обстоит дело с гуманитарной интеллигенцией?
— Учителей еще не хватает. В Цбщем, я считаю, что новая польская интеллигенция — это главным образом техническая. И это к лучшему.
— Ох, нет вашего дедушки, чтобы он скомандовал вам, как тогда: «Капитан Немо, смирно! Кругом марш!»
Молодой инженер рассмеялся, но не отступал., Я увидел в нем черты некоторой технической заносчивости, признаки которой изредка вспыхивают и у нас в Советском Союзе. Вспомните спор «физики или лирики». ' j
Оказалось, что Грабарек наслышан и об этом. И даже, узнав о моих планах, осведомился с лихостью бывшего варшавского «гавроша», не согласен ли я,, что мы присутствуем при отмирании жанра романа.
Я ответил, что под влиянием поразительных научных и технических успехов нашей эпохи действительно время от времени возникают наскоки на искусство. Попытка технократически настроенных инженеров противопоставить науку искусству так же нелепа, как попытка эстетствующих литераторов противопоставить искусству политику. В обоих случаях сказывается стремление, иногда неосознанное, оторвать искусство от жизни.
Что же касается гибели романа, то это скудное соображение родилось, надо полагать, в деловых бюро бизнесменов, которым просто некогда читать книги.
461
Роман является не менее гениальным изобретением человечества, чем расщепленный атом.
— А что касается популярности этого жанра, то вот вам лучшее доказательство...
И я указал на лежавший на диване раскрытый роман Казимежа Брандыса «Непокоренный город».
Грабарек рассмеялся и махнул рукой в знак того, что попался.
Потом мы перешли на воспоминания. Станислав извлек из письменного стола старые газеты, листовки, фотографии, нарукавный знак с буквами А. Л. (Армия Людова). Среди этих реликвий была истрепанная рукопись.
— Все собираюсь сдать ее в музей. ..
— В музей истории Варшавы?
— Пожалуй, нет... Знаю, что сейчас есть новая, более полная и совершенная история партии... Знаю, что в старой есть ошибки, и умолчания, и культ личности... А все же и она помогала нам драться. В музее Войска Польского есть зал, где выставлено оружие повстанцев. Думаю, что там для нее подходящее место.. . А? Ваше мнение?
— Что ж,— сказал я,— что было, то было...
Вскоре после этой встречи мне случилось познакомиться, с небольшой группой молодых инженеров. Это произошло в Сверке, польском атомном центре. Если по одному подразделению можно судить о духе всей армии, то следует сказать, что молодые польские инженеры — это армия энтузиастов.
Атомный котел, он же реактор, велик, как дом. Он стоит посреди огромного зала, щедро залитого дневным светом. Мы взобрались на крышу реактора по трапам и мостикам, придававшим ему сходство с кораблем.
Странное это было чувство — сознавать, что под твоими ногами происходит расщепление первозданной материи, из которой и ты сам сделан. К этому примешивалось сознание, что достаточно нейтронам вырваться из адских недр этого котла и, пробившись сквозь бетонную защиту, вспрыгнуть на тебя, как ты из высокоорганизованного существа с мыслями, страстями, надеждами, семьей, паспортом обратишься в хаотическую пляску радиоактивных изотопов.
462
Но дозиметры утешительно молчали, покоясь в карманчиках наших белых халатов.
Реактор показался большим только нам, профанам. Начальник его эксплуатации Ежи Александрович, молодой, сохраняющий восторженное отношение к своему делу инженер, рассказал нам, что этот реактор уже не покрывает запросы промышленности и медицины. Расщепленный атом стал так же необходим в современной индустрии, как вода, газ, электричество.
Мал этот реактор и по сравнению с масштабами научных работ. У его выводящих каналов образовалась своего рода очередь физиков, которые, фигурально выражаясь, дерутся за место у атома, как прохожие в часы «пик» на трамвайной остановке.
Скоро приступят к постройке еще большего реактора, на этот раз по польским проектам и из польских материалов (этот создан советскими специалистами).
Мы осмотрели пульт управления, спектрометр нейтронов, подземные переходы, похожие на отсеки подводной лодки, научные кабинеты, чью деловую сухость смягчают цветы и гравюры, подобранные с хорошим вкусом. Мы долго наблюдали умную работу механических рук — роботов, манипулирующих там, куда человеку нет доступа.-
Потом мы вышли наружу. Ветер едва не сбил нас с ног. Налетела буря. Она гнула, как хлыстики, высокие ели, от которых это место и получило свое имя («сверк» — по-польски ель). В низком небе ходили тяжелые иссиня-серые тучи. Вдруг блеснула разлапистая молния, и почти без паузы — пушечный удар грома.
Я услышал, как спутник мой, молодой историк, прошептал: .
— А все-таки у природы есть власть над человеком. ..
Сказать так в двух шатах от реактора, где человек взял в упряжку самые сокровенные силы природы!
— Только поэтическая! — сказал я.
Историк улыбнулся моему возмущению.
— Именно это я и думал,— мягко ответил он.
Опять! Опять я обидел его. В первый раз это случилось, когда я спросил его, верующий ли он. Он долго не мог успокоиться и все посматривал на меня недо-
463
умейно и даже огорченно: кай это я мог заподозрить его в подобном!
Он ровесник инженера Грабарека и несколько моложе инженера Александровича. Они чужие друг другу, и все же их объединяет какое-то родство. Нет, не молодость. Чем больше знакомился я в Польше с поколением выросших внуков, тем более убеждался в существовании у них того, что можно назвать чертами социалистического сознания.
Юлиан Маслянка и Валерий Писарек — работники Дома культуры, один —заместитель директора, другой — заведующий художественным отделом. Своим процветанием этот интересный клуб, весьма популярный в Новой Хуте благодаря своей содержательной, разносторонней деятельности, в немалой мере обязан энтузиазму этих двух молодых людей.
Окончив краковский Ягеллонский университет по факультету польской филологии, они пошли работать в самую гущу рабочего класса.
Писарек сумел организовать среди новохутинского пролетариата широкий и увлекательный конкурс на лучшее описание жизни в этом новорожденном рабочем городе. Юлиан Маслянка совмещает с активной клубной работой серьезные научные занятия. Они, кстати сказать, окрашены явным интересом к русской литературе.
Несколько лет назад Маслянка опубликовал и прокомментировал найденное им в государственном архиве в Вавеле неизвестное дотоле письмо Пушкина. А сейчас он увлечен работой над биографией известного славянского этнографа и фольклориста прошлого столетия Ходаковского, которого, между прочим, весьма ценил Гоголь (см. его письмо к Максимовичу: «.. .Я очень порадовался/ услышав от вас о большом присовокуплении песен из собрания Ходаковского»). А Пушкин увековечил его в строфе:
Но каюсь: новый Ходаковский, Люблю от бабушки московской Я -слушать толки о родне, Об отдаленной старине.
А вообще об интересе к русской культуре напоминает довольно выразительная цифра: за время суще
.464
ствования народной Польши там было издано 123 с половиной миллиона экземпляров книг русской, в том числе советской литературы. Для общего же роста просвещения в современной Польше характерно такое сопоставление: в 1950 году населением было куплено 49,5 миллиона экземпляров книг, в 1959 году — 80,2 миллиона книг.
Я вспомнил пылкие речи инженера Грабарека о высшем образовании и заинтересовался: сколько же было студентов в довоенной Польше? Вот цифра: 48 тысяч. И это тогда считалось непозволительной роскошью для такой бедной страны, как буржуазная Польша. Газеты вопили о «перепроизводстве интеллигенции».
Сразу же после освобождения распахнулись двери университетов и институтов. Лекции читали немногие уцелевшие профессора в полуразрушенных помещениях при свете огарков. В сорок пятом году было 35 тысяч студентов. Сейчас же в народной Польше около 200 тысяч студентов.
Принято говорить, что молодежь — это наше будущее. Но почему только будущее? Почему не настоящее? Особенно в стране с таким высоким процентом молодых возрастов, как Польша! Из тридцати миллионов поляков десять миллионов родились и выросли в народной Польше и еще десять миллионов родились перед войной или во время войны.
Нет, не новый позитивизм, вопреки уверениям Тадеуша, характерен для молодых поколений в Польше, а скорее новый романтизм. Это не значит, что не народилось и новое мещанство. Они живучи, эти мещанские навыки. Все это — безыдейность, религиозный фанатизм, крестьянская ограниченность, жажда наживы, провинциальный снобизм — сгорает на огромном костре новых, социалистических отношений. Но, сгорая, все еще чадит, чадит...
Процесс этот, разумеется, протекает не только в Польше. Но здесь он выражен с особенной отчетливостью, может быть благодаря некоторым особенностям национального характера. Не раз отмечалось, что поляк не знает середины. И не только в увлечениях своих. Самая природа его есть воплощение крайностей.
30 На разных меридианах
465
Уж если поляк темен, то это не сумерки, а ночь. Но если светел, то это такое сияние, такая прелесть, такая чистота! Я не считаю себя особенно везучим. Но уж если мне на моем недолгом пути в Польше встретилось столько людей такого высокого идейного и морального обаяния, значит, немало их в Польше. И это не просто хорошие люди. Это новые люди. Это люди с чертами нового, социалистического сознания. Это, если хотите, групповой портрет поколения.
И
С-ном• в в/иимве.
Когда из поездки по стране я вернулся в Варшаву, осень была в полном цвету. Иногда небо хмурилось, и тогда Дворец культуры вонзал свою иглу в тучи. Но большей частью было солнечно, и мы упивались очарованием варшавской осени.
Легкое небо, невдалеке голубеет Висла, на всех перекрестках горы яблок и груш. Их было так много и они были так дешевы, что на ночь их не убирали, и, шагая по ночной Варшаве, вы всюду видели эти никем не охраняемые желтые, коричневые, золотые холмы плодов, над которыми витал тонкий, чуть пряный запах.
И цветов было много. Любимые цветы варшавян — розы и гвоздики. Но в эти дни было больше всего астр и хризантем.
А в центре города, на улице 1-й Польской Армии, как в дубраве, под ногами валялись желуди. Эта короткая широкая улица, обсаженная дубами, была бы прелестна, если бы не горькие мысли, которые она возбуждала. Здесь помещалось гестапо. Аллеей Шуха называлась раньше эта улица. Все дома здесь сохранились, потому что немцы уходили отсюда в последний момент и не успели ничего разрушить. В министерстве народного образования (оно и сейчас здесь) был застенок. Он превращен в музей фашистской жестокости и польских мук.
466
На Аллеях Уяздовских ветер гонит по тротуару лапчатые листья каштанов. В Лазенковском парке разлив красок, деревья в желтом, красном, багряном, алом, пурпурном, карминном, рубиновом цвету. Убор их еще пышен, но дорожки уже застланы палым листом, от него несет ароматным, чуть горьковатым запахом винного погреба. За прудом, глядясь в воду, белеет «роко-кошный» дворец короля Станислава-Августа Понятовского, восстановленный, как и все варшавские древности, с педантичной тщательностью. Плывут раскормленные лебеди, в каштанах прыгают белки. Дети, с веселыми криками мелькающие меж деревьев, студенты, дремлющие над курсом лекций, стайки пенсионеров, азартно обсуждающие мировые дела,— все это необыкновенно мирно в ласковой рамке осени.
Так же мирно на Костюшковской набережной, по которой я, сделав солидный крюк, возвращаюсь к себе. Широко, покойно течет Висла. Против течения, посапывая, ползет белый колесный пароходик, точно выезжающий прямо из повестей Марка Твена. Чайки косо скользят на распластанных крыльях. Шелестят каштаны. Чугунная Сирена, монументальная эмблема Варшавы, величественно озирает свой город. Все так безмятежно.
Но неусмиренное воображение выуживает из недр памяти другую Вислу. Лед. Пробоины от снарядов. Быки взорванных мостов. И мы на броне самоходки мчимся в варшавский хаос по какой-то гористой извилистой улице. Может быть, по этой, по Лещинской, которую я сейчас медленно одолеваю? Потом по петлистой поэтической Каровой улице выхожу на Краковское Предместье.
Иногда я уходил в Саксонский сад ловить уходящую осень. А она медлила, не хотела расставаться с Варшавой. Саксонский сад далеко не так цел, как Лазенки. Павильон над могилой Неизвестного солдата полуразрушен и намеренно не восстанавливается, ибо разрушенное — это тоже памятник. Гитлеровцы вырубили здесь восемьдесят процентов деревьев. Решетки вокруг сада нет — той самой, на которую опирался когда-то Александр Блок. И потом писал в планах поэмы «Возмездие»:
30*
467
«Я стою ночью у решетки Саксонского сада и Слышу завывание ветра, звон шпор и храп коня. Скоро все сливается и вырастает в определенную мазурку. Над Варшавой порхают боевые звуки...»
Много боевых звуков слышала с тех пор Варшава. Но прошли годы, и снова выросли деревья в Саксонском саду, и мифологические богини снова глядят со своих пьедесталов на детей, играющих у могилы Неизвестного солдата, в войну.
Могилы павших в бою с фашизмом разбросаны по всей Варшаве. Над ними огни, цветы, памятные доски. В назначенные дни здесь стоят в почетном карауле не только солдаты, но и юные пионеры. Так сызмала воспитывается уважение к старшим поколениям, положившим жизнь за рвободу, за счастье родины. Это хороший обычай, он достоин подражания.
Ночью Варшава светла. В среднем житель Польши, так называемый «статистический поляк», сейчас потребляет в девять раз больше электроэнергии, чем до войны. Очень ярки (на мой взгляд, ярче, чем в Москве, и более приятного для глаза оттенка) газосветные уличные фонари. Много света прибавляют неоновые рекламы, хотя надо сказать, что иногда они впадают в безвкусицу, как, например, огромные бесформенные неоновые цветы над цветочным магазином на перекрестке улиц Круча и Аллеи Ерозолимские. В Катови-цах рекламные огни гораздо изящнее и изобретательнее.
В Варшаве множество кафе. В редакции одного журнала я познакомился с литератором, который оказался великим знатоком варшавских кафе, а также баров, винных лавок и ресторанов. Он вызвался познакомить меня с этой стороной Варшавы. Он рассказывал о ней очень увлекательно, почти вдохновенно, с большим знанием дела, с экскурсами в область истории, даже с цитатами из классиков. Но мне не пришлось пройти по этому пути. Не потому, что я им пренебрегаю. Но я приехал в Польшу всего на один месяц, и более могущественные интересы владели моим временем. Поэтому я почти ничего не могу рассказать о варшавских кафе, барах, винных лавках и ресторанах.
468
Население Варшавы уже перевалило за миллион. Быть может, для европейской столицы это не так уж много. И это меньше, чем жило в Варшаве до войны. Но какая еще европейская столица была сметена с лица земли? 835 тысяч жителей Варшавы были арестованы и вывезены в лагеря, тюрьмы и на принудительные работы. 165 тысяч варшавян были ранены в боях и изувечены в пытках. И 700 тысяч варшавян были убиты.
И вот этот опустошенный и уничтожённый город стал наполняться людьми в поразительных темпах. Утром 17 января Варшава была пуста. Через две недели здесь уже жило 174 тысячи человек. Через месяц — 241 тысяча. Через год — 486 тысяч. Через четыре года — 605 тысяч. А сейчас вдвое больше—1200 тысяч. Прописанных!
Этот чудесно возрожденный город вызывает острый интерес во всем мире. В Варшаве всегда много иностранных туристов. А среди этих иностранцев немало поляков, живущих за границей. Любопытство и тоска влекут их на старую родину. Польское население за границей велико. В США живет около шести с половиной миллионов поляков, во Франции около 750 тысяч, в Бразилии около 400 тысяч, в Канаде свыше 250 тысяч и т. д.
Мне как-то показали в Варшаве старого поляка, туриста из Америки. Это было возле площади Трех Крестов у стоянки конных экипажей (их еще с десяток-другой наберется в Варшаве). Старый американский поляк уселся в высокий фаэтон с кожаным верхом и медными фонарями по бокам и заказал прокатить себя по улицам, восстановленным в староваршавском облике. Возница, такой же старый, как и пассажир, залихватски гикнул дребезжащим' голосом, и ревматический одер поплелся по польской столице. Проезжая мимо разрушенных домов или, наоборот, мимо новых, бывший поляк зажмуривал глаза. Это было путешествие в прошлое. Извозчик был использован как машина времени.
Варшава растет, словно ее подкармливают пищей богов, как в романе Уэллса, то есть фантастично. Невозможно сомневаться, что Варшава будет прекрасна. Но уже и сейчас в этом городе, недостроенном, еще
469
как следует не слепленном, с лицом переменчивым, в котором не все черты еще ясны, есть неотразимое очарование.
В чем оно?
Самое трудное (и в человеке тоже) определить природу обаяния.
Все же я думаю, что в облике Варшавы нас привлекает и ее героическая история, и прелесть ее черепичных крыш, новостроек, дворцов и каштанов, и весь этот сплав гордости и горечи, отваги и юмора, упорства, изящества и революционного пыла, которые и есть судьба и нрав Варшавы.
1961
о с* с м и р н- о в
п
5 *
? Т U
Д -Н U
•1.
еч/етье революции
сный, полный тепла и солнца день 31 декабря, последний день уходящего 1960 года, начался в Гаване, казалось, весьма мрачно. Утренние газеты вышли под большими тревожными заголовками: «Американское вторжение неизбежно!» Были получены сведения о том, что правительство Эйзенхауэра, доживающее свои последние дни, собралось, ухо-
дя, «хлопнуть дверью» и начать вооруженную интервенцию на Кубе. Правительство Перу, верный слуга американских монополий, поспешило сделать «первый выстрел» и разорвало дипломатические отношения с Кубинской Республикой. В ближайшие дни, если не часы, могли произойти грозные события, и над островом, поднявшим знамя свободы, нависла тяжелая опасность.
С балкона нашего номера на пятнадцатом этаже небоскреба отеля «Habana ПЬге» («Свободная Гавана») было видно, как на крышах некоторых зданий по со-
471
седству с нами возятся солдаты, устанавливая зенитные пулеметы. Днем мы проезжали по набережной. Там тоже стояли пулеметы, направленные в сторону океана, и солдаты таскали мешки, набитые песком, обкладывая ими пулеметные гнезда. Два молоденьких бойца — негр и белый, по-медвежьи обхватив друг друга, боролись у кучи мешков, а потом с громким хохотом приятельски хлопали один другого по плечу, и их веселая возня как-то странно не вязалась с тревожным смыслом их работы.
После полудня мы оказались в районе железнодорожного вокзала, куда нас привез наш друг и гостеприимный хозяин, известный кубинский поэт Николас Гильен.
Проведя в эмиграции много лет, Гильен лишь после революции получил возможность вернуться на родину, с восторгом встретившую своего любимого поэта. Этого уже седого, но еще полного энергии кряжистого человека, со смуглым лицом мулата, с широким, чуть приплюснутым носом и горячими, живыми глазами, знают в Гаване буквально все. Чуть ли не каждый прохожий на улице здоровается с ним или, улыбаясь, оглядывается ему вслед. Проезжает мимо рейсовый автобус, и водитель машет рукой из открытого окна кабины: «Привет, Николас!» Проходим мимо стройки, и рабочие в комбинезонах кричат с лесов: «Добрый день, Гильен!»
Николас привел нас на вокзал, чтобы показать выставленный здесь паровоз, который в середине прошлого века ездил по первой железной дороге Кубы. Мы рассматривали старенький, иллюминированный разноцветными лампочками локомотив, а Гильена тотчас же окружили десятка полтора железнодорожников, среди которых нашлось немало его старых друзей.
Потом мы вышли на площадь, и тут же, неподалеку от вокзала, Гильен показал нам остатки старой каменной стены, окружавшей когда-то Гавану. Но и мы и он сам лишь мельком взглянули на эту древность — наше внимание привлекло другое.
Тут, рядом с вокзалом, собралось несколько сот мужчин в гимнастерках народной милиции. Каждый был с туго набитым вещевым мешком за плечами, все — с автоматами или винтовками; видимо, здесь на
472
ходился их сборный пункт. Они тесно набивались в открытые приземистые «джипы», и машины одна за другой покидали площадь. Мы успели на ходу сделать несколько фотографий и при этом невольно заметили, что лица людей были отнюдь не суровыми, не тревожными, а веселыми, улыбающимися, словно ехали они на праздничную загородную прогулку, а не на позиции, в окопы, где их, быть может, ждал вскоре тяжелый и смертный бой. Нет, поистине никакая тревога, никакая опасность не в состоянии были омрачить того особого радостно-счастливого настроения, в котором вот уже два года живет этот народ. Вместе с завоеванной свободой к нему пришло волнующее ощущение своих сил, раскованных творческих возможностей, своей бьющей ключом революционной, преобразующей энергии. Отсюда и радость, и счастье, и удивительный энтузиазм революции, пронизывающий собой всю жизнь народа.
Этот последний день старого года, начавшийся тревожными заголовками газет и пулеметами на набережной, закончился веселым, радостным новогодним праздником в пригороде Гаваны.
В эту ночь Фидель Кастро и другие руководители революционного правительства Кубы встречали наступающий год в компании двух тысяч иностранных гостей и десяти тысяч молодых кубинских учителей.
Если прошлый год назывался на Кубе «годом аграрной реформы», то нынешний, 1961 год зовется там «годом образования». Революция, в течение двух лет осуществлявшая коренные экономические преобразования в стране, на третий год своей истории решила нанести главный удар на фронте культуры и победить такого страшного врага, как неграмотность. Подготовлена огромная, многотысячная армия учителей, вооруженная специально изданными учебниками и пособиями, которая двинется в наступление во все города и села страны, и нет сомнения в победоносном исходе этой борьбы. Недаром в своей новогодней речи Фидель Кастро сказал, что если понадобится, то к каждому неграмотному будет прикреплен отдельный учитель.
Незабываемое зрелище представлял этот ночной праздник. Под теплым звездным небом протянулись длинные ряды дощатых столов и скамеек, врытых в землю. Яркие лучи прожекторов освещают тысячи
473
молодых лиц — белых, черных, смуглых, блестят улыбки, сверкают веселые глаза. Около каждого из приглашенных картонная коробочка с уже расфасованной и—могу заверить — довольно вкусной закуской, такая же картонная белая тарелочка, бутылка с минеральной водой и маленькая бутылочка хорошего кубинского вина. Рядом — целый набор игрушек: какая-то жуж-жалка, бумажная шапочка, клубки серпантина и кубинские национальные флажки. И наконец, как символ наступающего «года образования» всем гостям вручались только что изданное пособие для ликвидации неграмотности и карандаш.
Над столами стоял веселый шум, звучали тосты, время от времени все начинали хором выкрикивать любимый кубинский лозунг «Patria о muetre!» («Отечество или смерть!») или скандировать «Фи-дель, Фидель!», приветствуя вождя революционного правительства, могучая фигура которого выделялась на возвышении, где находились почетные гости.
А когда Фидель Кастро, поднявшись из-за стола, вышел на трибуну, его встретили взрывом веселого восторга. Все вскочили на скамьи, размахивая флажками, шляпами, разноцветными шарфами, бросая яркие ленты серпантина; взмыла вверх и закружилась над толпой в лучах прожекторов пестрая стая голубей. И вдруг кто-то запустил в воздух картонную тарелочку, стоявшую перед ним на столе. В одно мгновение тысячи тарелочек полетели вслед за первой. Белые диски с сумасшедшей быстротой замелькали вверх и вниз; падая, они иногда могли довольно чувствительно стукнуть ребром, и женщины прикрывали головы сумочками, мужчины — руками, но все с шумом, криком, хохотом продолжали снова и снова швырять тарелочки. Столько неудержимой, всеобщей, заразительной радости было в этой сцене, что нелепой и чуждой казалась мысль о тревожной опасности, нависшей над счастливым, теплым и зеленым островом, о том, что в это самое время притаились в темном океане полные напряженного ожидания сторожевые суда береговой охраны и на набережных Гаваны в чуткой готовности стоят у пулеметов боевые расчеты.
День спустя нам довелось присутствовать на большом военном параде, которым кубинский народ отме-474
чал вторую годовщину своей славной революции. И хотя обстановка была такой же тревожной, а люди маршировали по площади с боевым оружием и их торжественные лица выражали готовность бороться до конца и, если понадобится, умереть за свою свободу, все же не военная суровость, а радостное ощущение бьющих через край молодых сил революции озаряло этот боевой смотр, и не мрачная решимость в канун грозных событий, а юное веселье уверенного в своем светлом будущем народа царило в тот день на широком пространстве Пласа Сивика (Гражданской площади) в Гаване.
В гуле жарких аплодисментов шли мимо трибун пехотные батальоны армии, медленно тянулись за грузовиками минометы и пушки, громыхали танки, и их железный рокот заглушался восторженным ревом толпы. А потом непрерывно в течение пяти часов проходили через площадь отряды народной милиции — основа вооруженных сил Кубы, сам народ, взявший в руки оружие,— рабочие и крестьяне, студенты и служащие, негры, белые и мулаты, мужчины и женщины, юноши, девушки и старики.
Молодой бородатый Фидель в берете цвета хаки стоит в центре правительственной трибуны, время от времени поглядывая в бинокль и обмениваясь замечаниями со своим соседом — президентом Кубы Дор-тикосом. Рядом, прямо на парапете трибуны, сидят молодые люди в гимнастерках армии или народной милиции. Они весело перебрасываются шутками, запрокинув голову, пьют прямо из бутылок фруктовый сок. Это — министры революционного правительства. Внизу степенно беседуют двое военных — старик с окладистой седой бородой, похожий на Карла Маркса, и мальчик лет десяти — двенадцати в армейской гимнастерке и каскетке. Негритянка в форме народной милиции держит на руках черного грудного младенца, завернутого в ослепительно белую отороченную кружевом простынку, и голые ножки ребенка свешиваются прямо на рукоять большого пистолета, висящего у пояса матери.
Подходит молодая пара с автоматами за плечами. Красивая девушка в солдатской гимнастерке и в берете, из-под которого густые волнистые волосы падают
475.
ей на погоны, отдает оружие своему спутнику — высокому парню студенческого вида — и берет у него фотоаппарат. С помощью парня она влезает на каменную тумбу около правительственной трибуны и нацеливается аппаратом на Фиделя. Но тот как раз отвернулся, разговаривая с Дортикосом, и девушка капризно и нетерпеливо топает ножкой и требовательно кричит: «Фидель! Ну, Фидель! Повернись, Фидель! Фидель, слышишь, что я говорю!» И когда он наконец, услышав ее настойчивые окрики, оборачивается, девушка щелкает затвором фотокамеры и, кокетливо «сделав ручкой» премьеру, довольная спрыгивает на землю.
Уже в сумерки заканчивается шествие отрядов народной милиции. Вспыхивают прожекторы, и по радио объявляют, что сейчас на площадь будут доставлены остатки американской ракеты, упавшей на территории Кубы. Это была одна из тех ракет, что, взлетая с мыса Канаверал, частенько взрываются в воздухе, обрушиваясь z обломками в океан. На этот раз такой американский «небесный гостинец» угодил на кубинскую землю, убив при падении крестьянскую корову, тушу которой, как нам рассказывали, гаванские студенты притащили потом к зданию посольства США, вдоволь пошумев под его окнами.
Издали слышится нарастающий рев толпы, и на площадь медленно въезжает тяжелый грузовик, натужно таща за собой длинную платформу, на которой лежит массивное и изрядно помятое цилиндрическое тело. Внизу под всей платформой протянуто красное полотнище с надписью: «Убийцы коров из Пентагона».
Вот она, ракета, или, вернее, то, что от нее осталось. И хотя она окрашена в этакий невинный белый цвет, мы все, собравшиеся здесь, на площади и на трибунах, необычайно остро ощущаем ее действительный черный смысл, невольно наводящий на мысль о новых Хи-росимах и Нагасаки, о страшных грибах атомных и термоядерных взрывов.
И вдруг тут, на площади, на наших глазах происходит другой взрыв, взрыв радости, народного ликования, разом сметающий все мрачные мысли и чувства, вызванные обломком американской ракеты. Едва грузовик с платформой останавливается под лучами прожекторов против правительственной трибуны, как
476
огромная площадь у памятника Хосе Марти, опустевшая после прохождения войск, внезапно сразу преображается. Мы видим, как слева и справа от площади из примыкающих к ней улиц с шумом катятся навстречу друг другу два темных людских вала. Это толпы народа, стоявшие по всему пути проходивших войск, теперь устремились сюда, на площадь. Цепочки солдат и народных милиционеров, стоящие в несколько рядов, под напором тысяч людей рвутся одна за другой, как тонкие нитки. Эти два стремительных потока встречаются в центре площади, широко разливаются вширь и вдаль, доплескиваются до самого подножия трибуны и здесь наконец останавливаются.
И то, что издали казалось темными толпами, в свете прожекторов, заливающих площадь своими лучами, мгновенно превращается в огромное, необычайно красочное людское море, море светлых, смуглых и темных лиц, белозубых улыбок, пестрых шляп и шарфов, флажков и плакатов. Удивительно живописное это море бурлит и кипит, охваченное веселой бурей, и шумит оглушительно и нестройно, пока мало-помалу в этом беспорядочном гуле не рождается возглас, который поглощает все остальное, подчиняет все звуки своему победному железному ритму и слитно гремит над площадью, как удары могучего колокола:
— Фи-дель! Фи-дель!
А Фидель уже у микрофона, и первые фразы его речи, как всегда пламенные и страстные, звучат над толпой. Он превосходный оратор, этот молодой вождь кубинской революции, но и аудитория у него такая, что ей может позавидовать любой государственный деятель. Пылкие, темпераментные кубинцы очень чутко и остро реагируют на каждую фразу, на каждую мысль Фиделя, и его речь всегда является своеобразным диалогом между ним и слушателями.
Он говорит о завоеваниях кубинской революции, и толпа в радостном упоении скандирует свое неизменное «Patria о muerte». Он упоминает о политике США, и площадь отвечает: «Cuba si, yankis по» — возгласом, в котором звучит не столько вызов, сколько счастливое ощущение своей свободы, и самостоятельности, и своих сил, способных отстоять эту свободу. Даже грозное «Pareddn» — «К стенке!»—возглас гнева против
477
подлых актов террористов — в устах этой радостной толпы лишен всякого оттенка кровожадности или жестокости.
Рядом со мной на гостевой трибуне стоит пожилая американская туристка из Чикаго. Ее глаза блестят молодо и жарко, она размахивает кубинским флажком и вместе со всей толпой неистово кричит: «Venceremos! Venceremos!» («Победим!»), захваченная волной всеобщего восторга.
Здесь, на трибунах, довольно много американцев — в Гаване сейчас находится несколько туристических групп из США. Лишь отдельные из этих туристов с подчеркнутой холодностью молчаливо наблюдают за тем, что происходит на площади. Подавляющее большинство приезжих держит себя совсем иначе. Это истинные друзья Кубы, приехавшие разделить с ней радость народного праздника, люди, верные свободолюбивым традициям американского народа, традициям Вашингтона, Линкольна и Рузвельта, всей душой сочувствующие борьбе кубинцев. Это они на днях добровольно отдали свою кровь для переливания гаванцам, раненным во время недавнего взрыва бомбы в кафе «Флогар», бомбы, на которой стояло клеймо «Made in USA». Это они сейчас, как и все, горячо аплодируют словам Фиделя, вместе с народом пылко скандируют лозунги свободной Кубы и с невольной неловкостью смотрят на остатки американской ракеты.
Впрочем, я ошибаюсь — на ракету уже не смотрит никто. Затопившая все вокруг веселая красочная толпа словно поглотила этот железный обломок, он сразу стал невидным, незаметным, будто утонул в волнах радости, перекатывающихся сейчас по площади.
Еще через два дня после этого величественного и радостного праздника мы уезжаем в длительное путешествие по всему острову. Обстановка обострилась еще больше — правительство Эйзенхауэра разорвало дипломатические отношения с Кубой, угроза вторжения стала еще более реальной и близкой, и новые тысячи и тысячи кубинцев взяли в руки оружие, влившись в ряды армии и народной милиции. И во все время этой поездки мы наблюдали то же, казалось, удивительно противоречивое единство двух начал — радости, счастья революции, которой проникнута вся
4 78
жизнь народа, и суровой готовности встретить мрачную опасность нападения, нависшую над островом свободы. Но в этом единстве преобладала и побеждала всегда радость.
Наша машина, резко притормаживая, осторожно объезжала работавшие на шоссе команды саперов, долбивших в асфальте лунки для противотанковых мин. А немного подальше, у ближайшей школы, под пальмами, со звонким хохотом бегали и шумели белые и черные ребятишки, вышедшие из классов на перемену. У каждого моста нас останавливали для проверки настороженные патрули с автоматами, а час спустя в ближайшем сельскохозяйственном кооперативе крестьяне с радостной гордостью показывали нам свой новый строящийся поселок — ряды весело окрашенных и благоустроенных домиков, заменяющих собой прежние деревенские хижины, темные и неуютные, кое-как сколоченные из досок и крытые пальмовыми листьями.
Мы включали автомобильный радиоприемник и слышали призыв диктора к народу следить непрерывно за передачами (в связи с опасностью радиостанции Кубы перешли на круглосуточную работу). Каждые 15—20 минут передачи прерывались, и на фоне яркой мелодии «Гимна 26 июля» звучал страстный, полный глубокого чувства голос «кубинского Левитана», самой популярной на Кубе женщины — диктора Виолеты Касальс:
— Братья Америки, свободные люди всех континентов! Куба не сдастся! Куба не подчинится!
А затем снова из репродуктора лились чудесные народные песни Кубы, ее новые революционные мелодии — победная, радостная музыка счастливого народа.
Мы видели колонны грузовиков с боеприпасами в предместьях Сантьяго де Куба и беспечную, веселую толпу на центральных улицах этого большого красивого города. Мы видели неподалеку оттуда пушки и пулеметы на высоком скалистом берегу над океаном и рядом группу солдат с учебниками для ликвидации неграмотности. Недавние крестьяне, они, надев в эту тревожную пору солдатские гимнастерки, стали не только защитниками родины, но и учениками той
479
Многотысячной школы, в которую Превратилась сейчас вся Куба, вступившая в свой «год образования».
И если суммировать кратко то, что мы видели за все это тревожное и полное незабываемых впечатлений время, хочется сказать одно: мы воочию убедились на примере Кубы, что революция, сметающая колониализм, свергающая чужое, тягостное господство, приносит с собой огромную радость, истинное счастье народу. Революции чужды кровь и смерть. Она пишет на своем знамени радостные слова «Мир и труд». Если же революция берется за оружие, то только потому, что ее вынуждают к этому враги, те, кто бесплодно старается повернуть историю вспять. И если на колесе истории остаются следы их крови,— это вина самих безумцев, пытающихся остановить его могучий и радостный ход.
II.
в гостл X
Ч РЛУЛЯ БИСТРО
В большой портовый город Кубы Сантьяго — столицу восточной провинции Ориенте — мы попали в самый разгар тревожных событий. За несколько дней до этого правительство США разорвало дипломатические отношения с Кубинской Республикой. Над революционным островом нависла угроза вооруженного вторжения. Опасность была чрезвычайно велика. Армия и народная милиция Кубы были приведены в боевую готовность, и многие тысячи мирных кубинцев в эти дни вступили в ряды вооруженных сил, готовясь защищать свою свободу.
Провинция Ориенте оказалась наиболее угрожаемой, и положение тут было особенно напряженным. Ведь именно на ее территории в нескольких десятках километров от Сантьяго находится американская военная база Гуантанамо, откуда прежде всего можно было ждать нападения. Поэтому мы нисколько не удивились, когда узнали, что именно здесь, в Сантьяго, находилась в то время резиденция министра обороны 480
Кубы, одного из вождей и героев кубинской революции Рауля Кастро.
Мы понимали, какой трудный момент переживает Куба и как сильно должен быть занят министр обороны. Но, как литераторы и журналисты, мы не могли упустить возможность такой интересной встречи и попросили наших хозяев из Кубинско-Советского общества дружбы выяснить, не сможет ли министр хоть ненадолго принять нас. К нашему удовольствию, одного телефонного звонка оказалось достаточно, чтобы получить согласие Рауля Кастро.
Еще до полудня мы подъехали к небольшому двухэтажному дому, одиноко стоящему на вершине холма в окрестностях Сантьяго. В прохладной, затененной комнате, где не было ничего, кроме рабочего стола в углу да стульев, навстречу нам поднялось несколько офицеров. Широко и радушно улыбаясь, Рауль Кастро пожал нам руки и пригласил садиться.
Мы помнили его по фотографиям, печатавшимся в наших газетах, когда он приезжал в Москву. Москвичи и тогда поражались молодости этого министра, а сейчас, при личной встрече, он казался нам удивительно, просто невероятно молодым. Синий берет, по-юношески надетый набекрень, темный пушок усов, которые, казалось, только начинают пробиваться у него, широко расстегнутая на груди защитная гимнастерка, веселое лицо, живые, быстрые глаза, порывистые молодые движения. Внешность, по нашим представлениям, характерная для вчерашнего выпускника офицерского училища — командира взвода или роты. Но мы знали, что перед нами сидит не только министр, руководитель вооруженных сил страны, носящий высшее в кубинской армии звание майора, но и закаленный в боях полководец, прошедший через испытания революционной войны, командующий фронтом, один из организаторов победы, а теперь видный государственный деятель Кубы. Богатая биография, хоть и принадлежит она очень молодому человеку! Впрочем, по мере того как мы присматривались к нему, за этой молодой внешностью все больше ощущался многоопытный, уверенный в себе человек со зрелым, недюжинным характером, с твердой волей. Он был, пожалуй, младше всех офицеров, находившихся здесь
На разных меридианах
481
в комнате, но то уважение, та почтительность, лишенная всякого оттенка подобострастия, которые они проявляли в отношениях со своим начальником, явно были следствием не столько высокой должности, сколько личных качеств министра.
Рауль Кастро с несомненным удовольствием стал вспоминать о своей недавной поездке в Москву. Он сказал, что мечтает снова побывать в нашей столице, поездить по стране, но уже не с официальным визитом, не в качестве министра, а «просто так, чтобы без всякого протокола», смеясь пояснил он.
Мы спросили, чем живет сейчас кубинская армия, каково настроение солдат, поинтересовались принципом комплектования войск.
— Вы, вероятно, знаете, что армия на Кубе комплектуется по принципу добровольности,— ответил Рауль Кастро.— И хотя у нас нет недостатка в энтузиастах, желающих служить в войсках, армия наша даже в эти беспокойные дни сравнительно невелика, а основу вооруженных сил составляет сам народ, взявший оружие,— отряды народной милиции. Вы спрашиваете, чем живет сейчас наша армия? Она приготовилась к боям на случай вторжения, она строит оборону, но главное — она учится. Учатся все — от солдат до высшего командного состава. Мне тоже приходится каждый день несколько часов заниматься своим военным образованием. Ведь в нашей армии практически нет ни одного офицера, окончившего академию,— все старые офицеры были приспешниками Батисты. А мы, может быть, хорошие партизаны, но нам еще многого не хватает, чтобы стать настоящими офицерами регулярной армии. У нас было мало времени, но мы стараемся не терять его.
И Рауль Кастро со смехом рассказал нам, как накануне, будучи в одной из частей близ Сантьяго и инспектируя оборонительные позиции, он обратил внимание на плохо замаскированные, заметные издали окопы, около которых сидела, отдыхая, группа солдат. Министр решил пробрать их за небрежность и, подойдя, сделал строгое замечание. К его удивлению, солдаты в ответ на замечание дружно захохотали, и министр долго не мог понять, в чем дело. Наконец выяснилось, что это ложные окопы, вырытые спе-482
циально для того, чтобы ввести в заблуждение противника, а настоящая линия обороны находилась позади, и там все было хитро и тщательно замаскировано по всем правилам военно-инженерного искусства. Солдаты пришли в восторг оттого, что им удалось обмануть самого министра, а ему оставалось только похвалить и поблагодарить их.
Подали кофе, и все выпили по рюмке кубинского рома с традиционным тостом за дружбу наших народов. Прошло уже около часа, и мы забеспокоились, что отнимаем у министра слишком много дорогого ему времени. Но Рауль Кастро запротестовал.
— Я рад воспользоваться приездом гостей, чтобы немного отдохнуть,— признался он и тут же предложил: — Давайте поедем сейчас, я покажу вам старинную испанскую крепость, она здесь недалеко.
Крепость оказалась всего в нескольких минутах езды и была действительно очень живописной, построенная на высокой скале над океаном. Мы прошли висящий на цепях подъемный мост, поднялись по старым узеньким лестницам и попали на верхнюю крепостную террасу. Отсюда, с большой высоты, открывался чудесный вид на залитый солнцем океан, на бухту Сантьяго, на город, раскинувшийся вдали.
Рауль был переполнен стремительной, молодой энергией. Он ни на минуту не оставался в покое — то с юношеской легкостью взбегал по крутым лестницам, то вспрыгивал на парапет крепостной стены и, стоя на краю обрыва, с жаром рассказывал нам историю этой крепости, существующей уже более трехсот лет.
При Батисте ею никто не интересовался, и крепость стояла разрушенная и запущенная. Сейчас ее восстанавливают, и тут работает несколько десятков солдат из соседней воинской части.
Мы решили сначала, что крепость восстанавливается как военный объект. Но это было не так. Оказалось, что ее готовят не для армии, а для туристов, приводят в порядок просто как исторический памятник, и даже в это тревожное для страны время работы здесь не прекращаются. Нас особенно поразило, с каким уважением и любовью к своей старине показывали нам работавшие тут солдаты различные древние предметы, найденные ими при разборке развалин,—
31*
483
красивое деревянное распятие XVI века, резные скамьи, старинные чернильницы. Нас повели к зарешеченной подземной темнице, где, говорят, было найдено много костей узников, умерших здесь голодной смертью. Потом показали глубокий колодец, пробитый сквозь всю скалу до самой поверхности моря. Сюда испанские завоеватели сбрасывали непокорных кубинцев, приговоренных к смерти, а там внизу свою жертву уже ждали акулы, которыми кишат здесь воды океана.
— А теперь спустимся вниз,— сказал Рауль Кастро.— Я хочу показать вам бухту Сантьяго.
Внизу у дощатого причала уже стоял маленький белый глиссер. Министр сам сел за руль, а на корме поместился один из сопровождавших его солдат с автоматом. Широко распуская пенистые белые усы, наш глиссер стремительно понесся по голубым волнам бухты.
Мы объехали вокруг маленького, густо застроенного островка, где живут рыбаки Сантьяго, побывали в порту, где стояли под разгрузкой японский и норвежский пароходы, полюбовались панорамой города. И когда час или полтора спустя глиссер, прервав свой стремительный полет, плавно остановился у того же причала, мы, поблагодарив Рауля за приятную морскую прогулку, шутя сказали ему, что если он управляет своим министерством так же искусно, как глиссером, то Куба явно непобедима. Он рассмеялся и ответил, что, к сожалению, министерством управлять куда труднее, но в том, что Куба непобедима, он глубоко уверен.
— Пора обедать,— сказал он, взглянув на часы.— Едем к вам в отель и пообедаем вместе.
Превосходный, благоустроенный отель «Версаль», построенный уже после революции, находился за окраинами Сантьяго. В это утро туда приехала большая группа американских туристов, и, когда мы вышли во дворе отеля из машин, гости из США сразу же узнали и окружили Рауля Кастро. Завязался разговор.
— Мы рады вас видеть на Кубе,— сказал им Рауль.— Хотя ваше правительство разорвало дипломатические отношения с нами, вы можете приезжать сюда когда захотите. Как вы себя чувствуете у нас?
484
— Свободнее, чем в Соединенных Штатах,— быстро и тихо сказал кто-то рядом со мной.
Я обернулся. Это была уже немолодая американка в широкополом кубинском сомбреро. Она стояла совсем близко от Рауля и бросила ему эту фразу так, чтобы не услышали ее спутники. Но Рауль услышал и дружески, понимающе кивнул ей. И хотя почти все эти туристы из США были настоящими друзьями свободной Кубы, судя по тому, как искренне они приветствовали Рауля Кастро и с каким сочувствием говорили о борьбе кубинского народа, все же американка, видимо, не зря была такой осторожной. Одна из группы, молодая туристка, с лохматой модной прической, с явным холодком (И даже с неприязнью смотрела на Рауля, а потом, поджимая губы, не без враждебности спросила:
— Собирается ли Куба платить свои долги Соединенным Штатам?
— Почему же нет? — спокойно возразил министр.— Только давайте соберемся и вместе подсчитаем, что мы вам должны и что вы нам. И если, окажется, что долг за Кубой,— мы заплатим. Наша страна гораздо беднее и меньше вашей, но мы не хотим чужого. Мы ведь недавно обратились к вашему правительству с предложением обсудить вслух, на страницах печати, наши обоюдные претензии. Спросите в Вашингтоне, почему они отказались.
Американцы дружно засмеялись — ответ понравился им. Лохматая туристка была, несомненно, исключением среди них — она состроила полупрезрительную гримасу и передернула плечами, но возразить не сумела.
За обедом Рауль рассказывал много интересного, то вспоминая героические дни революционной войны, то обращаясь мыслями к трудному для молодой республики 1959 году, когда положение страны было особенно тяжелым, а контрреволюция плела один заговор за другим, стараясь любой ценой вернуть Кубу под господство империалистов.
Поднялись из-за стола, когда день уже клонился к вечеру. Готовясь распрощаться с нашим хозяином, мы шутя сказали ему, что нас будет мучить совесть, так как мы, наверно, серьезно подорвали сегодня
485
обороноспособность Кубы, отняв столько времени у министра обороны. Но Рауль еще не собирался отпускать нас.
— В моем штабе знают, где я, и, если понадобится, я тотчас буду на месте,— сказал он.— Вам надо посмотреть еще одну здешнюю достопримечательность. Я повезу вас в поселок, который мы построили для безработных.
Долгие годы на окраине Сантьяго существовал страшный по своей бедности поселок. Мы видели его остатки, и зрелище это поистине угнетающее. Узенькие улочки, полные грязи, по которым невозможно было проехать ни летом, ни зимой, непросыхающие зловонные лужи. А по обеим сторонам этой грязной дороги, построенные вкось и вкривь, тесно привалились друг к другу жалкие низкие и темные лачужки, кое-как сколоченные из обломков дерева, из обрезков жести или даже из кусков картона,— жилища, которые нередко рушились во время сильных ливней.
Жили тут совершенно нищие, безработные люди, главным образом негры и мулаты, добывавшие себе средства к существованию на помойках, на мусорных свалках.
Нищета, голод, болезни, высокая смертность были уделом этих людей. Казалось, не на что было надеяться им и они навечно обречены на свое беспросветное существование. Но пришла революция, и судьба их переменилась. Большинство из них получило работу, другие — пособия. Однако условия их жизни все еще оставались очень тяжелыми, и тогда правительство решило построить для них новый поселок, точно такой же, какие сейчас повсеместно строятся на Кубе для крестьян, вступивших в сельскохозяйственные кооперативы.
Этим людям нечем было заплатить за будущее жилье, и их лишь обязали работать на стройке. И поистине им казалось сказкой, когда взамен этого труда каждая семья безвозмездно получила в полную собственность чудесный новенький отдельный дом из нескольких комнат со всеми удобствами — электричеством, газом, водопроводом, канализацией. К тому же каждый дом был полностью меблирован — ведь не та
486
щить же нищенские пожитки из старых лачуг,— и мебель эта тоже была дана им бесплатно.
Нужно было не только построить этот поселок, который назвали «Nueva vista allegre» («Новый веселый вид»), в отличие от другого квартала Сантьяго — «Vista allerge», где живут местные богачи. Нужно было научить всех этих людей пользоваться коммунальными удобствами, которые они впервые в жизни получили в свое распоряжение. Нужно было организовать перед вселением поголовную санитарную обработку, провести большую воспитательную работу с людьми.
Узнав историю этого нового поселка, мы с особенным волнением смотрели на его чисто выметенные асфальтовые улицы, на ряды разноцветных, весело окрашенных домиков с большими окнами, с открытыми террасами, на которых в креслах-качалках кое-где отдыхали старики, на большое сверкавшее зеркальными стеклами здание школы с широким двором, где бегали веселые стайки чистых ребятишек. И невольно думалось о том, что должны чувствовать эти люди, которым революция впервые дала возможность ощутить себя людьми, а не отбросами общества, так резко переменив всю их жизнь.
Впрочем, то, что чувствуют эти люди, мы поняли с первых минут приезда. Едва успели мы выйти из машины, как из конца в конец по всему поселку пронесся крик:
— Рауль приехал! Рауль здесь!
Первыми примчались со всех сторон быстроногие мальчишки и девчонки всех цветов и оттенков кожи. Они подняли веселый гвалт и, окружив Рауля, смотрели на него восторженными, влюбленными глазенками. За ними стали отовсюду сбегаться мужчины, женщины с детьми на руках, старики, и толпа вокруг нас росла с каждой секундой.
Кубинцы вообще непосредственный и шумный народ. Здесь же шум стоял такой, что его, казалось, должен слышать весь Сантьяго. Толпа бурлила, каждый норовил протиснуться поближе к Раулю, женщины протягивали к нему своих детей, люди пожимали ему руки, похлопывали по плечу, старались обнять.
— Спасибо за все Фиделю, правительству!
— Благослови тебя бог!
487
— Рауль, береги себя!
Эти возгласы, слова благодарности сыпались со всех сторон, и Рауль не успевал отвечать на них.
Я видел, как высокая молодая мулатка в спортивной кофточке и брюках энергично пробиралась к нему сквозь толпу. Ей удалось наконец протолкаться, и она счастливо прижалась лицом к его плечу, а потом умоляюще стала просить дать ей что-нибудь на память. Он достал из кармана носовой платок со своими инициалами, и она выхватила этот сувенир из его рук, радостно смеясь.
— Смотри не потеряй! — шутливо наказал Рауль.
— Да что ты! Я буду хранить его всю жизнь! — закричала она в ответ, зажав свою «добычу» двумя руками.
С трудом пробираясь через это шумное скопище людей, мы зашли в ближайший домик. Здесь жила негритянская семья — десять человек. В доме были четыре просторные спальни, большая столовая и кухня. В комнатах чисто и нарядно. Семья с восторгом встретила Рауля — видно было, что это посещение будет предметом их гордости много лет. Вслед за нами в открытые двери лился поток людей, и вскоре в домике стало тесно.
В первой комнате на низеньком стульчике сидела девочка-негритянка лет двенадцати. У нее были широко открытые незрячие глаза и бессильные парализованные ноги,— видимо, это было следствием какой-то тяжелой болезни, может быть полиомиелита. Не понимая причины этого шума, вдруг заполнившего весь дом, она взволнованно вертела головой, стараясь догадаться, в чем дело. Кто-то сказал ей, что к ним приехал Рауль Кастро.
Казалось, удар тока потряс девочку.
— Рауль? Где Рауль? Здесь Рауль? Это правда? — задыхаясь, твердила она. Ее руки и губы дрожали, и она в лихорадочном волнении шарила в пространстве своим невидящим взглядом.
Рауль подошел и, положив руку на ее жесткие курчавые волосы, склонился к ребенку, что-то тихо говоря ей. Девочка порывисто схватила обеими руками его руку, и вдруг такое сверкающее, пронзительное дет
488
ское счастье засияло на ее темном лице, что мы, взволнованные до глубины души, разом отвернулись.
Когда мы выходили из этого домика и хозяева провожали Рауля возгласами благодарности и своими благословениями, я увидел снаружи на дверях дома надпись. Эта надпись была короткой, но полной такой же силы, как и радость искалеченной негритянской девочки. На дверях дома было написано:
«Этот дом — мой! Мне дала его революция. Чтобы отнять его у меня, меня надо убить!»
И я подумал, что в эти дни все кубинцы — от последнего бедняка Сантьяго до этого молодого министра, до его брата, вождя революции Фиделя Кастро,— весь народ, как один человек, мог бы, перефразируя гордые слова бывшего нищего, написать на дверях своей свободной солнечной Кубы:
«Эта страна — моя! Мне дала ее революция. Чтобы отнять ее у меня, меня надо убить!»
Но народ нельзя убить, народ бессмертен. Именно поэтому Куба непобедима. Именно поэтому она выстояла в те опасные дни и сейчас уверенно шагает в свое будущее по широкому пути, открытому для нее революцией.
3 марта 1961 г.
/ Е О Н U Д
СОБОЛЕ &
О /I U в U U
ИИ -пи с...
ечером выяснилось, что самолет на Ла Пас нам обеспечен. Это оказался четырехмоторный самолет американской компании «Па-награ». 21 декабря мы поднялись и пошли на небольшой — тысяч на пять метров — высоте над равнинами Аргентины. Потянулись зеленые квадраты с редкими домиками в центре, расчерченные каналами и прямыми
дорогами. Затем земля начала буреть по цвету и бугриться по рельефу и постепенно приближаться снизу к самолету: это началась Боливия, начался подъем земной поверхности к гигантскому хребту Анд, вставшему могучей стеной вдоль побережья Тихого океана. Мы шли без посадки в Ла Пас, расположенный на высотах плоскогорья, неподалеку от самого высокого в мире озера Титикака. Мы приближались к удивительной высотной стране, сама столица которой находится на высоте 3800 метров.
490
Что же касается самолета, то ему предстояло приземлиться на «самом высоком аэродроме земного шара, на высоте 4080 метров», как оповещал рекламный проспект «Панагры». Здесь шутят, что, вопреки обычному способу приземления, самолеты в Ла Пасе вынуждены не снижаться, а, наоборот, набирать высоту, чтобы попасть на аэродром.
Конечно, это было не так. Шли мы на высоте пяти — пяти с половиной тысяч метров, слева, почти наравне с самолетом, тянулись снежные вершины Кордильеры де Калаластэ, а справа — Кордильеры Санта-Виктория. Где-то здесь, около города Потоси, находились знаменитые серебряные рудники. Скоро, пройдя над большим озером, мы увидели город Оруро, один из центров оловянного богатства Боливии. Картина была суровой и сумрачной красоты.
Вот выросла в окне величественная и ослепляющая снежная громада, сверкающая острыми синеватыми изломами льдов, врезанная в синий, туго натянутый шелк безоблачного неба, как гигантский алмаз. Это был пик Иллимани, царствующий над высоким плоскогорьем Ла Паса, божественный фетиш древних индейцев, когда-то властителей этих мест. Скоро впереди показался и сам знаменитый аэродром. Самолет пошел к земле и, подскочив, покатился по каменистому полю аэродрома. Несмотря на «козла», по самолету прошел гул одобрения пассажиров, понимающих толк в посадке на лапасский аэродром: оказалось, она настолько трудна, что пилоту иногда приходится делать два или даже три захода.
Еще в Рио-де-Жанейро нас предупреждали, что в Ла Пасе надо выходить из самолета очень медленно, не делая никаких резких движений, и по возможности не иметь в руках хоть сколько-нибудь тяжелых вещей. Далее по этим профилактическим правилам приспособления к необычной высоте рекомендовалось первый день провести в постели, меньше разговаривать, меньше волноваться.
Все эти золотые правила оказались невыполнимыми, и вот почему.
Самолет начал подруливать к небольшому зданию аэропорта, украшенному боливийскими и советскими
491
флагами. Множество таких же флажков алело и пестрело зелено-желто-красными полосами в руках людей, которые огромной толпой залили все пространство перед зданием аэровокзала и, едва самолет остановился, двинулись к нему, крича, улыбаясь, размахивая флагами, вздымая руки. С трудом удалось подкатить трап. Первым спустился руководитель делегации Н. Н. Родионов,— его тут же осыпали конфетти, серпантином, цветами, подхватили на руки и понесли к машине. Многоголосый гул стоял над полем. Можно было различить слова: «Вива Унион Совьетика! Абахо янки! . . (долой американцев! . .) Руссиа — си, янки — но! . .» Так же подхватывали на руки каждого из нас, а заодно и нескольких пассажиров самолета. Один из них яростно отбивался и доказывал, что он американец; как только это выяснилось, все руки, несшие его, мгновенно разнялись, и он шлепнулся на землю, не представляя более интереса для встречающих, о чем с огорчением сообщила потом католическая газета.
Завладевшая мною группа молодежи, не смутясь ни возрастом моим, ни весом, понесла меня в сторону от автомобилей, предназначенных для делегаций, и засунула в маленький «джип». Я никогда бы не поверил, что он может вместить в себя столько людей: на переднем сиденье нас было трое, сзади — семеро (причем один с автоматом), с боков заглядывало под парусиновый верх еще шестеро, прицепившихся к крыльям, а впереди, на капоте, сидело еще пять молодых людей. Как мог шофер вести машину — было непонятно. Однако, изгибаясь и глядя в просветы между спинами, он обгонял на полном ходу караван грузовиков, забравших тех, кто нас встречал. Оливково-смуглый юноша, сидевший сзади, похлопал меня по плечу, ткнул пальцем в свой автомат и сказал: «Хуан. . . Гуарда персонал! ..», а потом в меня: «Компаньеро!»—и все было совершенно понятно. Я достал из кармана значок и протянул ему назад. Тотчас темперамент боливийской молодежи пришел в свое опасное действие, все руки протянулись ко мне, даже шофер оставил на руле только левую руку. Я поспешил отдать ему первый же значок.
Скоро, спустившись по крутым зигзагам дороги, мы въехали в узкие улицы, круто спускающиеся вниз. На 492
панелях шпалерами стояли люди в непривычных глазу одеждах, в ярких шалях, наброшенных на плечи, в фетровых шляпах — женщины в круглых, похожих на котелки, с твердыми полями, мужчины — в мягких., Они приветствовали нас взмахами рук, отвечая на возгласы, раздающиеся с грузовиков, составляющих наш кортеж.
Сочувствие и радость трудящихся людей столицы, встретивших нас, были несомненны. Оказалось, что наш приезд предварялся сообщениями по радио из американских источников: по одному из них, два члена делегации погибли в автомобильной катастрофе при следовании на аэродром Буэнос-Айреса; по другому, вся делегация целиком погибла при неудачной посадке в Лиме, столице Перу (куда мы и не собирались заглядывать). Так была использована наша задержка в воздушном пути через океан.
Мы проехали по нарядным и широким улицам центра и остановились на площади Изабелла-Католика. Здесь нас снова ждала толпа. Осыпанные густым слоем конфетти, опутанные яркими лентами серпантина, с букетами во всех карманах, оглушенные приветственными криками, взволнованные, растроганные и ошеломленные — мы вышли у подъезда восьмиэтажного отеля «Крийон». Нас провели в наши комнаты и тотчас же попросили выйти на балкон. Вся площадь вокруг равнодушной Изабеллы, застывшей на пьедестале памятника, была животрепещущей, шумной, белозубой в улыбках. Мы дружественными жестами выразили свою радость, и над площадью снова понеслись те кличи, которые нам предстояло слышать при каждой встрече с боливийским народом, где бы это ни происходило: «Абахо янки! Руссиа — си, янки — но!»
Так началось наше десятидневное пребывание в Боливии, в стране, где после революции 1952 года были совершены некоторые буржуазно-демократические преобразования, в стране, где трудится и борется замечательный рабочий класс, стране поразительных контрастов, древней стране индейского народа, в стране, где до нас было всего два-три советских человека, да и то много лет назад.
493
ГОРОД -НАОБОРОТ
Походило на то, что здесь все было наоборот: на юге — холод, а на севере — зной, молодой месяц висит рожками вниз, солнечная тень прячется под ноги, гигантские озера стоят не в долинах, а на высоченных плато под самыми облаками, новый год начинается летом, женщины носят мужские шляпы, а мужчины — пестрые шали.
«Городом наоборот» показался мне и Ла Пас.
Хотя он известен как самая высокая в мире столица, попасть в него можно не снизу, а только сверху — с того плато, куда сбегаются все шоссе и где находится аэродром и, чуть ниже, вокзал железной дороги. Высокая арка с радушным приветствием «Bien-venido a la Paz» и с надоевшей рекламой вездесущей кока-колы открывает спуск в город,— и перед вами развертывается картина необычайная. На вечно синем ярком небе вечными снегами сияет величественная корона Иллимани. Огромная котловина, вся в складках и в острых ребрах красных скал, уходит глубоко вниз. По крутым ее склонам лепятся бесчисленные крыши невысоких домов, образуя пестрые уступы, по которым сбегают извилистые ручейки узких улиц, стремительными водопадами вливаясь в плавные реки широких «авенида» — проспектов. Там, окруженная пышным барокко вычурных домов испанских завоевателей и кварталами современных зданий, взлетающих порой до двух десятков этажей, находится древняя башня собора святого Франциска — центр города.
Это и есть здешнее «наоборот»: обычно город разрастается в веках вокруг холма с крепостью, подобной пражским Градчанам, московскому Кремлю, таллинскому Вышгороду, а окраины его распространяются по низинам. Здесь же центр города находится на четыреста метров ниже его окраин, а виллы богачей спрятались еще ниже — на самом дне котловины, как бы стараясь дать своим владельцам наибольшее количество дефицитного кислорода, нехватка которого в этом раз
494
реженном горном воздухе заметнее с каждой лишней сотней метров.
Город этот очень красив весьма своеобразной красотой. Окружающие его массивы гор с видимой отовсюду белой шапкой Иллимани — безлесны и не покрыты травами, и вид стихийного нагромождения первобытного камня — голого, твердого, бурого, иногда переходящего в кровавый цвет — придает красоте города черты суровости. Но всегда безоблачное небо и яркий слепящий свет солнца смягчают жизнерадостным буйством красок эту суровость. Синяя тьма глубоких теней, которые солнечные лучи создают возле всех выступов, начиная с оконных проемов и кончая кварталами, отчетливо выделяет все объемы зданий и резко отмечает щели узких улиц. Из тяжелой каменной резьбы старинных испанских дворцов и церквей этот скульптурный свет создает легчайшее кружево орнаментов и узоров, он заставляет висеть в воздухе резные балконы, а там, где ютятся старые лапасские дома и современные хижины бедноты, волшебная игра светотени украшает любую развалину, будь то заповедник прошлых веков или свидетель не устроенного еще городского жилья освобождающейся страны.
Широкие авенида и небольшие площади с зеленью скверов и с обязательным памятником — или легендарному Боливару, или его генералу Сукре, или президенту Вильяроэлю, пышные правительственные здания Конгресса и мэрии, гигантские светлые кубы и параллелепипеды зданий недавней постройки — университет Сан-Андрэ, здание Нефтяной корпорации, посольство США, некоторые банки и бывшие храмы оловянных компаний — придают городу ту парадность, которая необходима столице. А карабкающиеся ввысь кварталы, изрезанные узкими улочками, по которым не могут ходить автобусы, зигзаги пешеходных троп, отчетливо заметных на склонах и ведущих к маленьким домикам, забравшимся к самому плато, лучше всяких диаграмм доказывают, как бездушная логика международного капитала, который долгие столетия был подлинным хозяином и этой страны и ее столицы, планировала рост города.
Все авенида, улицы и улочки полны народа. Как и в архитектуре города, здесь можно встретить два
495
разных стиля: привычные взгляду костюмы и платья, которые вы видите в любом другом городе, и экзотические индейские цветные шали. Точно так же рядом с широковитринными магазинами раскидывается на панели рынок, где на лотках, на столиках и просто на расстеленных шалях лежат в широких лукошках, ящиках, кадушечках фрукты, овощи, мясо, привезенные в Ла Пас из дальних деревень. Сам город может произвести лишь пять процентов того, что ему надо съесть. По окончании торговли грузовики развозят в индейские деревни пустую тару и людей, напихав их вместе без разбора на платформы грузовиков, а назавтра опять везут сюда плоды трудов далеких кормильцев столицы.
Все наше время в Ла Пасе было занято встречами с государственными и общественными деятелями, и нам так и не удалось как следует ознакомиться с городом, побывать в музее, посетить университет, осмотреть исторические памятники архитектуры, побывать в театре (впрочем, театра в Ла Пасе не оказалось — сюда изредка наезжают гастрольные труппы).
Лишь случайно, и то во время деловых встреч, мы увидели интереснейшие образцы современной боливийской живописи.
Это были громадные панно во дворце президента и в современном здании ЯПФБ (корпорация Боливийских государственных нефтяных месторождений) и такая же гигантская картина на торцовой стене какого-то дома на одном из проспектов. Живопись эта монументальна и аллегорична. Так, например, панно на парадной лестнице дворца изображает боливийскую революцию 1952 года: в мощных композиционных узлах торжествуют победители — люди труда, извиваются змеи, чудовища, химеры — воплощения социальных врагов. Так же трактуется эта же тема на громадной картине на стене дома. На обширном панно художника Мигеля Аландиа Пантоха в нижнем холле здания ЯПФБ весьма убедительно выражена история нефтяной промышленности Боливии, война за Чако, борьба партии МНР 1 и ее апофеоз — вышки, нефтепровод, гигантские
1 Национально-революционное движение.
496
заводы. Но аллегория настолько сложна, что понять ее и по существу оценить выразительную кисть художника нам помогли лишь объяснения председателя ЯПФБ, Хозе Пас Эстенссоро, младшего брата президента республики. В его кабинете находится еще одна картина того же жанра — художника Солоно Ромеро. Она выполнена в той же живописной манере — весьма выпуклой по объемам, очень мрачной по краскам, которые оживляются световыми бликами на фигурах, долженствующих выразить мысль аллегории. Сюжет этой картины, занимающей весь угол кабинета и освещенной специальными лампами,— тоже борьба за нефть. Запомнилась могучая труба нефтепровода, которую прокладывают рабочие в прозодежде, поблескивающей складками. Труба придавила извивающееся чудовище, уже захлебывающееся в светло-маслянистом потоке нефти, бурно льющейся из трубы. Эти образцы современной боливийской живописи показали нам ее своеобразие, и было очень жаль, что не пришлось повидать его в других картинах в музее.
,ЧЕТЦ РЕ В Е 1\А С Ч о р f и
Название Ла Пас означает «мир». Это подчеркивает и сам герб города, где под шлемом, на котором уселся голубь с оливковой ветвью в клюве, изображена гора Иллимани, речка и на берегах ее — лев и овца, мирно взирающие друг на друга. Девиз герба гласит: «Раздоры на согласие сменили и город мира создали, чтобы мир и любовь их навеки соединили». Это случилось в 1548 году, но вовсе не в ознаменование дружбы с индейцами селения Чокеяпу, как это можно было бы подумать, а в память примирения двух испанских конквистадоров, не поладивших при разделе добычи. От прошлого тут остались лишь громадные каменные
32 на разных меридианах
497
идолы, перевезенные из раскопок вблизи Ла Паса. Теперь в этом городе, насчитывающем 400 тысяч жителей, вы встретите не так уж много прежних властелинов страны. В основном все три древних народа, составляющие более двух третей населения страны, предпочитают по-прежнему жить на «альтиплано» — обширном горном плато, расположенном выше 2500 метров; здесь расселилось полтора миллиона индейцев народности кечуа и свыше миллиона индейцев народности аймара. Лишь четверть миллиона индейцев народности гуарани спустились на низины восточной части Боливии.
Страшна судьба этих древних индейских народов. Испанские конквистадоры и рыцари наживы разных наций, ринувшиеся вслед за ними, четыре столетия грабили эту обширную страну, совершая неслыханные насилия, жестокости, массовые убийства. Неизвестно, сколько было уничтожено индейцев при завоевании нового континента. Но известно, что за одно только восемнадцатое столетие на серебряных рудниках погибло восемь миллионов индейцев — почти в три раза больше того, что осталось в стране сейчас! До самого последнего времени продолжительность жизни индейского горняка на шахтах оловянных компаний выражалась трагической цифрой — 25 лет. Только полтора десятка лет тому назад в рудниках были даны горнякам кислородные маски и респираторы. «Оловянная болезнь», неизбежный спутник высотных рудников, создала вокруг них обширнейшее кладбище; похоже, что здесь содержание человеческих костей в породе выше содержания самого олова. Не легче было в деревне. До аграрной реформы 1953 года работавшие на помещичьих землях индейцы не получали платы за 120 видов различных работ, порой тяжелых, что означало полную нищету и бесправие. Людей держали в состоянии первобытности, следствием чего является поразительная цифра: в деревнях в наши дни только три процента грамотных.
Не надо приводить ни цифр, ни статистики, достаточно взглянуть на походку индейских женщин, старух или молодых, девушек или маленьких девочек — безразлично. Они идут мелкими трудными шагами на прямых ногах, наклонившись вперед, словно на спине 498
у них невидимый, но тяжелый груз. Это как бы походка грузчика, а не женщины. Так оно и есть: традиционная индейская шаль завязывается концами на груди под горлом, образуя на спине довольно просторный мешок, в котором помещаются самые разнообразные вещи. Тут может быть и топливо для очага, и собранные на полях початки маиса (кукурузы), и ляжка прирезанной на пастбище хромой овцы, и громадный пук сена, и больной ягненок, и собственный сын или брат, и товар для продажи на рынке — так или иначе, на женской спине обязательно есть какой-то груз. А руки при этом либо крутят веретено и прядут шерсть, либо вяжут из нее шапку или шарф. Так и ходит индейская женщина с малых лет — на прямых напряженных ногах, удерживая усилием мускулов всего тела тяжесть на стройной своей спине, которая быстро деревенеет и заставляет женщину сгибаться, привычно мельчить шаг и переваливаться как утка, хотя в платке, может, и нет ничего.
В первый же вечер нам показали два документальных цветных фильма о Боливии, не знаю, какой фирмы. Один запомнился мне более: это был фильм об озере Титикака. Индейцы, живущие на берегах этого самого высокого в мире озера, расположенного на высоте 3800 метров,— потомки самого древнего народа Америки. Это их храм, построенный около десяти тысяч лет тому назад, встает сейчас из-под земли на раскопках в Тиауанаку между Ла Пасом и Титикака. Снята картина очень хорошо, с превосходными пейзажами, с прекрасно выполненными портретами.
Но странное и тяжкое впечатление произвела на меня она.
На экране перед вами проходят лица стариков и старух, молодых женщин и юношей, подростков и детей— одно выразительнее другого. Но все больше и больше эти лица теряют человеческие признаки, какое-то почти музыкальное нарастание темы уводит вас в первобытность, проявляя в этих лицах черты дикие, почти животные, пока, наконец, весь экран не заполняет темно-красное, сморщенное, изрезанное сетью густых мелких морщин, беззубое и почти безглазое лицо безволосой старухи. Цветное кино со всем своим техническим мастерством передает это жуткое лицо,
32*
499
более похожее на обезьянье. И это жалкое, подергивающееся какой-то судорогой существо говорит — нет, не говорит, а бормочет — отрывистые слова на неведомом языке. Шестым чувством вы ощущаете какую-то страшную скорбь, какое-то мистическое отчаяние, безнадежную обреченность этих непонятных слов, сопровождающихся нечеловеческими, но ранящими душу гримасами, взглядами крохотных слезящихся глаз. Тут бы музыку, которая одна, кажется, могла бы выразить всю скорбь тысячелетий, рвущуюся с экрана! .. Но спокойный и мягкий голос диктора объясняет по-английски, что вот, мол, таковы живые предки американских индейцев, которые живут теперь вместе с нами, сохраняя привычные им обычаи и верования. ..
Я бы хотел ошибиться, но философский настрой фильма поразил меня. Трудно было отделаться от ощущения, что кому-то понравилась мысль показать отсталость, умственную и духовную нищету прежних властителей страны, первобытный уклад их жизни, примитивный быт и непосильный труд. Не скорбь о гибнущем народе, не сочувствие ему, а высокомерное торжество завоевателей над туземцами ощущается в фильме. «Вот посмотрите,— как бы говорит он,— разве между этими законными наследниками страны и нами — пришлыми людьми, цивилизовавшими ее,— не зияет пропасть? Взгляните, как в наш век полимеров и реактивных самолетов эти вымирающие люди строят лодки из крученных вручную камышовых жгутов, словно тысячи лет назад, как ткут из грязной шерсти ламы грубую одежду! Взгляните, как живут они в хижинах без окон и огня, как едят без посуды, как по-язычески молятся Христу, как равнодушно закапывают без гробов своих покойников!..»
Нет, такое сознательное принижение несчастного народа никак не походило на сочувствие к его современной судьбе. И я очень благодарен тому, что в первый же вечер пребывания в Боливии мне пришлось увидеть этот фильм. Мне стало ясно, что я попал в страну, где легко ощутить сердцем весь длительный ужас, всю вековую трагедию, которые несет с собой повсеместно то наглое уродство человеческой истории, которое мы зовем словом «колониализм».
500
«H-UU| u u . .
Hy* >0/1 ОТ ОTM-Hf”
В разговорах с боливийцами я заметил, что одно упоминание этого проклятого слова «колониализм» для них оскорбительно, и я вполне понимаю это. Вот уже полтораста лет, как Боливия завоевала государственную независимость, перестав быть чьей бы то ни было колонией. Республика уже десятый год живет в условиях значительных побед национально-революционного движения. В Боливии нет индейских резерваций, этой позорной изоляции вымирающего народа, здесь индейцы — полноправные граждане республики, которые имеют политические права и начинают получать права экономические. Казалось бы, с колониализмом давно покончено. Все это так. Но ведь человек забывает, что на лице его — рябины, которые, однако, говорят другим о том, что он перенес опаснейшую болезнь. Так и мне, постороннему наблюдателю, мрачные последствия колониализма, который, как известно, имеет множество форм и градаций, были видны во многих явлениях.
Трагедия древних. народов Южной Америки достаточно известна и не раз описана в литературе. Но одно дело — читать об этом в старых романах или современных пламенных статьях, и совсем другое — ступать по земле, пропитанной кровью собственных ее хозяев, видеть развалины национальной культуры, жестоко остановленной в своем развитии, на каждом шагу сталкиваться с тем или иным последствием многовекового грабежа, начиная от печального зрелища голодных и оборванных детей, не имеющих школы, или темной норы, называемой в Катави жильем горняка, и кончая неосуществимой мечтой о своем, боливийском, нефтепроводе или своей, боливийской, оловоплавильной печи, которые могут дать богатство стране. Это наводит на особые размышления и рождает чувства совсем особые. События и люди, беседы и наблюдения, встречи и даже самый пейзаж — все приобретает в ваших глазах особую окраску. В вашем сознании возникает тревожное «мементо!» — «помни!».
50|
Помни, как могло бы здесь все быть, если бы люди были свободными. Помни, как бы они жили, если бы не знали четырех веков ужасного гнета чужой силы и чужих денег. Помни, что делают деньги, которые неисчислимо размножаются на крови, на поте, на слезах, на трупах народов.
В тридцатых годах мне посчастливилось провести лето в Казахстане. В те годы Казахстан находился еще на самой первой ступени своего расцвета, и мне (как и многим другим) казалось, что путь этого народа лежит в степях, где есть возможность разводить бесчисленные стада и поднять землю под пашни. Тем более поразительным оказалось для меня знакомство с гигантскими возможностями Казахстана в эксплуатации его недр. Я уже не раз с благодарностью вспоминал в печати о тех трех часах, которые мы провели перед геологической картой Казахстана в краевом комитете Коммунистической партии, когда недра степи и гор как бы обнажились, когда перед нами вдруг встало все то разнообразное богатство, которое с сотворения мира лежало здесь под ногами людей. Эта беседа перевернула все мои представления о Казахстане: оказалось, тут залегли все металлы, перечисленные в менделеевской таблице элементов, и первая моя статья так и называлась: «Кладовая социалистических богатств».
За четверть века, которую Казахстан провел с тех пор в семье социалистических республик Советского Союза, неузнаваемо изменилась и самая эта страна и судьба ее народа. Только четверть века — но в каких условиях? В условиях небывалого в истории человечества многомиллионного движения людей к ясно видимой ими цели существования. Только четверть века — и кладо"вая социалистических богатств распахнула все свои двери, открыла все тайники, все свои волшебные сундуки, и благодаря этим богатствам сказочно изменилась страна.
До революции в Казахстане, как и в Боливии сейчас, лишь четыре процента казахов были грамотными. В те годы в Казахстане, как и в Боливии недавно, коренное население страны жило в условиях если не первобытных, то феодальных. Четыре с половиной десятка лет назад Казахстан, как и вся Южная Америка в свое время, тоже находился под пятой колониа-502
лизма — царской России. И не произойди в 1917 году революции, была бы эта богатейшая страна трагической ареной грабежа и рабства, и жил бы казахский народ в условиях существования, близких древним кочевникам, и какой-нибудь оператор снимал бы, может быть, первоклассной американской кинокамерой быт и труд людей на берегах озера Балхаш, подобно тому как снимал он это на берегах озера Титикака.
Но не надо углубляться в бред, который и не мог осуществиться. Все, что миллионы лет хранили казахские степи и горы, все это добыл сам советский народ, как может добыть из-под своих ног и народ Боливии.
Может... А пока — «хотя Боливия безмерно богата своими природными ресурсами, среди всех американских народов ее народ — самый бедный»,— пишет автор книги «Боливийская национальная революция» Роберт Дж. Александер. «Боливийцы долгое время называли свою страну «нищий на золотом троне», — сообщает он.
В самом деле, эта обширная страна, величиной более половины Казахстана (а если равнять по Европе, то вмещающая в себя Францию и Испанию), обладает богатствами неисчислимыми — как в своих недрах, так и на благодатной поверхности тропических низин. Весь ее западный высокогорный край, который гигантским хребтом Анд вздымается к самым облакам, битком набит рудами. От этой библейской пустыни по отрогам, покрытым зеленью и лесами, скатываются к востоку годные для скотоводства и для посевов просторы, все пышнее становится растительность, все плодороднее земля, все благодатнее климат. И везде — ив горах, и на плато, и в долинах — лежат под ногами людей неисчислимые богатства.
Здесь — третье в мире количество запасов олова. Здесь — железная руда, которой больше, чем во всех Соединенных Штатах Америки, и по меньшей мере треть которой содержит 50 процентов металла. Здесь в высыхающих озерах 98-процентный раствор серы. Здесь гигантское количество нефти, не меньше, чем в Венесуэле. Здесь — наибольшие в мире запасы сурьмы, здесь вольфрам, свинец, висмут, цинк, медь, серебро. Предгорья и низины могут давать народу рис и сахар, кофе и какао, миндаль и бананы, апельсины
503
и кока, ценную древесину, каучук и хину. Кукуруза может созревать здесь круглый год — ее сеют каждые пятнадцать дней. Здесь во времена своего владычества испанцы имели до пяти миллионов голов крупного скота: его разводили только для шкур, мясо пропадало — не на чем было вывозить. Здесь своя энергетика: множество горных речек имеет такой высокий перепад воды, что на каждой можно строить электростанцию, не говоря уже о колоссальной мощности высокогорного озера Титикака.
69
Н/- HOW/Ч пути.
В Ла Пасе у нас было много бесед, начиная со встречи с президентом республики Виктором Пас Эстенссоро. Нашу делегацию принимали председатель Сената Рубен Хулио Кастро и председатель Палаты депутатов Айала Меркадо, министры просвещения, экономики, труда, горной промышленности, председатели обеих Федераций, управляющих национализированными предприятиями олова й нефти, руководители профессиональных отделов ЦК партии Национальнореволюционного движения, префект департамента Ла Пас и алькальд (мэр) столицы, ряд сенаторов и депутатов, деятели профсоюзов, члены Общества дружбы Боливия — СССР, горняки, крестьяне, молодежь. Каждая из этих встреч по-своему освещала для нас современное положение в Боливии. <
Его невозможно понять, если не обратиться к истории хотя бы недавних лет.
Решающей экономической силой страны было олово, экспорт которого достигал 98 процентов всего бюджета Боливии, а оно было в руках трех компаний: Симона Патиньо (50 процентов всей добычи руды), немца Хохшильда (26 процентов) и боливийца Арамайо (10 процентов). Они и были подлинными хозяевами страны. Что касается американского капитала, то он проникал решительно во все отрасли экономики Боливии, контролируя своими компаниями и организациями крупнейшие дела. Закупка олова, закупка вольфрама, постройка и работа гидроэлектростанций,
504
счетоводство и балансы, машинное оборудование, разведка железорудных месторождений, проектирование и строительство нефтепровода, технические и смазочные масла — вот неполный перечень действий американского капитала в том или ином его обличии. Сюда следует добавить «Межамериканскую сельскохозяйственную службу» и пресловутые организации «Международного сотрудничества с США» — по нефти, по горному делу, по шинам, по железным дорогам. Любопытно, что лишь две английские и две немецкие компании сумели ухватить свой кусок.
В беседе с нами президент доктор Виктор Пас Эстенссоро сказал, что до революции 1952 года в Боливии существовал «контроль экономики над политикой». Справедливость этих слов подтверждается тем историческим фактом, что в течение двенадцати лет ^до революции в Боливии сменилось восемь президентов — ставленников различных империалистических кругов, которые устраивали и перевороты и «выборы». Так, проанглийские компании свергли проамериканского президента Пеньяранда, а убийство президента Вильяроэля было организовано проамериканскими кругами.
Формально Боливия освободилась от иностранного (тогда испанского) владычества еще в начале прошлого века, после победы колумбийской армии Симона Бо-лйвара, легендарного героя южноамериканских народов, по имени которого и была названа часть Верхнего Перу, образовавшая новую республику. Но эта независимость никак не означала независимости экономической. В конце прошлого века обнаружившийся в горах Боливии «металл дьявола» (так назвали боливийцы свое олово) усилил жестокий интерес североамериканского капитала, который уже целиком подчинил себе экономику республики. И до сих пор еще прогрессивные силы страны не сумели добиться окончательного освобождения ее от современных колонизаторов — капиталистических компаний и акционерных обществ.
Революционное брожение в народе и среди интеллигенции начало резко возрастать с 1935 года, после войны с Парагваем из-за нефтеносной области Чако во имя интересов американской монополии «Стандард ойл». Но попытки борьбы с иностранным капиталом и
505
своей финансовой олигархией ни к чему еще не приводили. Любопытно отметить, что оба президента Боливии, которые пытались бороться против оловянных магнатов (а следовательно, против иностранного капитала), были физически уничтожены. Одного из них — Германа Буша — в августе 1939 года нашли во дворце с проломленным черепом (что не помешало официальной версии о самоубийстве), второго же — полковника Гуальберто Вильяроэля—в июле 1946 года убила обманутая демагогией уличная толпа. Двух этих боливийских президентов никак нельзя назвать революционерами. Но оба пытались бороться против североамериканского капитала, и оба были убиты.
После убийства президента Вильяроэля в 1946 году к власти пришла Хунта (комитет) из ставленников оловянных компаний. Если напомнить, что тогдашний государственный секретарь США Уэллес объявил их «молодыми демократами, творцами рабоче-крестьянской революции», то истинная подоплека переворота 1946 года с его мрачным злодеянием станет ясной.
За время правления Хунты вся обстановка в стране весьма содействовала развитию и укреплению партии МНР. Один из ее лидеров, доктор Виктор Пас Эстенс-соро, был в правительстве Вильяроэля министром финансов и во время расправы с ним спасся от гибели, укрывшись в одном из посольств, после чего эмигрировал в Аргентину. В Боливии появились марксистские группы, стало расти рабочее движение. В центре оловянной промышленности Катави в 1942 году возникла крупная забастовка горняков, подавленная президентом Пеньяранда только при помощи военной силы. Теперь, во времена Хунты и сменившего ее президента Эрсога, участились забастовки горняков, правительство дважды вводило осадное положение, а в начале 1948 года — небывалая вещь! — вспыхнули два больших восстания крестьян-индейцев, для подавления которых правительству не хватило собственной военной силы: помогли... американские самолеты. И, наконец, в апреле 1952 года в Ла Пасе произошла буржуазно-демократическая революция, почти бескровная, ибо армия сразу же «повернула фуражки козырьком назад». Президентом был избран доктор Виктор Пас Эстенссоро. Подпольный знак двумя 506
растопыренными пальцами — буква «V», который означал слова «volveremos, venceremos, vengaremos» (вернемся, победим, отомстим), стал теперь означать слово «victoria» (победа) и имя президента.
Боливийская революция имеет свое место во всем ходе освободительного движения народов Латинской Америки — Гватемалы, Мексики, Кубы. Разные страны идут своими разными путями, но выражают один исторический процесс: высвобождение из-под гнета империализма, уничтожение остатков колониализма. Революция 1952 года обусловила три весьма существенные реформы, определившие пути развития жизни боливийского народа: это национализация горнодобывающей промышленности; аграрная реформа, раздача помещичьих земель крестьянам и кооперативам; реформа народного образования для создания своих технических кадров.
Эти действия нового правительства, обусловленные давлением народных масс, вызвали сопротивление определенных кругов США, которые всегда поддерживали оловянных магнатов. Капиталисты применили санкции: международный рынок был закрыт для боливийского олова, вместо него в продажу пошли излишки металла, имевшиеся в США. Боливия была вынуждена продавать олово ниже себестоимости — за девяносто центов вместо двух долларов за фунт. Ярость дельцов США понятна: национализация горной промышленности нанесла решающий удар не только владычеству оловянных магнатов, один из которых — Симон Потиньо — после первой мировой войны располагал капиталом, превышающим бюджет всей республики, но и всему тому порядку финансового и экономического владения страной, в котором были кровно заинтересованы многие североамериканские компании и финансисты.
Переход горной промышленности в руки государства сопровождается громадными трудностями. Одна из них — полный износ механизмов как в шахтах, так и на обогатительных фабриках, где компании давно перестали вкладывать капиталы в оборудование. Вторая — хищническая эксплуатация народных богатств оловянными магнатами, которые добывали их со стихийной алчностью, поверхностно, варварски. Третья —
507
проблема национально-технических кадров в стране, которая получила в наследие от прошлого «монокультурность», то есть однобокость высшего образования. Как правило, школы готовили молодежь для гуманитарных специальностей — для профессий адвоката, врача, педагога, чиновника. Но 96 процентов окончивших школы поступать в университеты не могли, и их гуманитарная подготовка оставалась бесполезной для общества. Наследие полуфеодальной эксплуатации выражается еще и в том, что население страны и сейчас на 74 процента неграмотно. Даже в городах 26 процентов неграмотных, так как школ на всех не хватает: в 1960 году двенадцать тысяч детей в . городах лишены возможности обучаться, как сообщил нам министр просвещения.
Исторически экономика Боливии развивается на плато выше трех тысяч метров, где сосредоточились важнейшие ископаемые и где живет четыре пятых всего населения страны. Но вместе с тем народное хозяйство имеет неограниченные возможности для развития и в остальных районах страны, обладающих громадными сельскохозяйственными ресурсами и запасами нефти, которая способна вывести Боливию в разряд мировых экспортеров горючего. Но все это требует денег, денег и денег. Одна лишь модернизация шахт обойдется в 100 миллионов долларов. Продажа металла во много раз выгоднее продажи концентрата, но для этого нужно построить оловоплавильную печь (которой хозяева шахт не интересовались), а для этого тоже требуются немалые деньги. Нужно построить нефтепровод, который доставлял бы нефть к океану и в соседние страны; кроме Аргентины, они своей нефти не имеют, и одна лишь Бразилия тратит на импорт нефти триста тысяч долларов в сутки. Нефть — это будущее Боливии; ее экономические возможности в полтора раза больше, чем у олова.
Правительство создало две корпорации по управлению национализированной промышленностью. Это КОМИБОЛ («Корпорасион Минера де Боливиа») — по горнорудной промышленности и Я.ПФБ («Ясимиенто Петролиферос Фискалес Боливанос» — «Боливийские государственные нефтяные месторождения») — по нефтяной. КОМИБОЛ объединяет 18 горнорудных пред-508 .
приятий, железнодорожные линии, ассоциацию взаимопомощи, школьную сеть. В корпорации состоит 28 тысяч рабочих. Если горнорудная промышленность почти полностью перешла в руки государства, то с нефтяной — сложнее. Американский капитал продолжает давить на экономику Боливии.
Поэтому понятно, с какой надеждой все круги боливийской общественности думают о возможности экономической и технической помощи со стороны Советского Союза, с какой радостью встретили они известие о том, что Н. С. Хрущев в беседе с боливийским представителем в ООН летом 1960 года выразил готовность Советского Союза пойти на помощь Боливии, подобно тому, как он построил и продолжает строить ряд заводов и предприятий, помогающих расцвету дружеских народов Индии, Индонезии, Объединенной Арабской Республики и многих других. В особенности горячо приняли эту мысль горняки Оруро, Катави, Кочабамбы, Потоси — главнейших горнорудных центров страны. В их рассуждении (может быть, не весьма дипломатично выраженном) отчетливо вставала существенная разница между помощью СССР и помощью США. За эти годы США не раз предлагали боливийскому правительству помочь экономике страны предоставлением необходимых капиталов, однако это всегда сопровождалось определенными условиями: вкладывать этот капитал только в частный сектор, снизить закупочные цены на оловянный концентрат, иметь контракт с определенными фирмами по экспорту, то есть так или иначе реставрировать влияние и значение частного капитала за счет деятельности национализированных предприятий.
Любопытно отметить, что беседа боливийского представителя с Н. С. Хрущевым сразу же вызвала аналогичное предложение США: в дело вмешался Международный (по существу — американский) банк. реконструкции и развития.
Последнее обстоятельство, которое стало известным рабочему классу Боливии, дополнительно разогрело страсти. На митингах и на встречах с руководителями профсоюзов, с представителями шахтных организаций, молодежи и даже крестьян — везде и всюду люди настаивали на том, чтобы правительство побыстрее ре-
* ’ 509
шло вопрос и обратилось с просьбой об экономической помощи к СССР. Наша делегация получала письма и грамоты, подписанные сотнями людей, где говорилось одно и то же: «Единственная для нас надежда — это бескорыстная помощь народа Ленина, сумевшего поднять свои национальные ресурсы и стать самой мощной страной планеты». «Боливийцы тоже могут стать богатым народом,— говорилось в другом свитКе, любовно разрисованном от руки национальным орнаментом с традиционным цветком Боливии с острова на озере Титикака,—<мы надеемся, что ваша страна взорвет старые основы дипломатии и протянет нам руку дружеской помощи».
В О 5 I U X ПД/1ДТДХ
-Н Г Р Е С С И
Хотя рождественские каникулы уже начались, но на следующий же день нашего пребывания в Ла Пасе состоялось особое заседание обеих палат Конгресса, посвященное приезду парламентской делегации Верховного Совета СССР.
Зал Сената не очень велик, в нем не более тридцати мест для сенаторов — удобные кресла со столами-пюпитрами перед ними, с микрофоном и с набором кнопок для голосования. За местами сенаторов — амфитеатр для гостей,, отделенный резной балюстрадой, над ним — небольшие хоры. Над столом председателя, опираясь на пышную дубовую панель, украшенную такой же красивой резьбой, нависают еще одни небольшие хоры. Вход в зал со стороны президиума охраняется почетным караулом из двух солдат, которые при нашем приближении скрестили перед дверью штыки винтовок, отступив лишь по команде сопровождающего нас распорядителя; такой же ефрейторский караул встретил нас и при входе в здание Сената. Н. Н. Родионова провели за стол, где его ожидал председатель Сената Рубен Хулио Кастро и еще двое сенаторов, а делегатам предложили сесть на места некоторых отсутствующих сенаторов, и я занял место сенатора Фран-510
ческо Моралеса. Ёсе места для гостей были заполнены, люди стояли в проходах.
Настала полная тишина, когда раздались первые русские слова приветствия, но затем перевод речи Н. Н. Родионова много раз прерывался аплодисментами. Ответная речь председателя Сената тоже была поддержана аплодисментами, и вечером, во время приема, беседуя с отдельными сенаторами, я узнал, что реакция Сената на этом заседании была «более чем дружественной».
По окончании работы Сената состоялось заседание Палаты депутатов. Внутренними переходами нас провели к залу заседаний Палаты, вся лестница перед ним была заполнена народом.
Мы вошли в большой, высокий овальный зал, где двенадцать белых колонн поддерживают два яруса балконов, отделанных светлым деревом с красивой резьбой. Места депутатов — около семидесяти — расположены на кожаных диванах, идущих амфитеатром по полуокружности зала, с пюпитрами перед ними. На этот раз вся наша делегация поместилась за председательским столом. Появление ее там было встречено бурной овацией.
Балконы все были забиты народом, именно народом— рабочая молодежь, женщины, старики. В руках почти у всех — маленькие красные флажки. Они трепещут, как веера, и порой, поддерживая оратора, вспыхивают языками пламени по всей полуокружности зала. Запомнился парень в рабочей одежде, которого, видимо, соседи просто вытеснили из ложи: держа в правой руке шляпу, он упирался левой в резной узор облицовки балкона, сложившись пополам и нависая над залом. Однако, когда кругом взрывались аплодисменты, он надевал шляпу на голову и яростно хлопал в ладоши, чудом держась в воздухе.
Причиной этих аплодисментов были слова оратора— депутата Хайме Арельяно, представителя левого крыла партии МНР. Речь его была довольно длинной, но далеко не скучной — говорил он очень страстно, убежденно, поминутно вызывая сочувственную реакцию зала. Я записал фразы, поддержанные слушателями: «СССР занимает в мире ведущее положение», «Как мы желали узнать друг-друга! —и вот вы здесь!»,
511
«Кто, кроме -вас, окажет нам помощь в технике!» Все, что он говорил о честной дружбе, об экономической мощи СССР — страны, где «человек — хозяин», люди встречали гулом одобрения и аплодисментами. Но вот он заговорил о чем-то другом, и зал взревел яростными криками. Переводчик мне объяснил, что оратор коснулся вопроса о помощи слаборазвитым странам со стороны стран богатых. После следующих его фраз в зале начался настоящий ураган, все балконы на разные голоса кричали уже знакомые нам слова: «Абахо империализмо янки!» — и переводчик лишь подтвердил мою догадку, что Арельяно сказал, что Советский Союз всегда оказывает помощь без каких-либо условий, политических или экономических. Пережидая шум, оратор вздумал выпить воды, и тогда балконы очень ритмично начали скандировать: «Руссиа — си, янки — но!» Затем крики перешли в свистки, руки, оставив флажки, яростно замахали кулаками, и председатель Палаты Айала Меркадо приподнялся над столом. Шум начал стихать до нового взрыва. На этот раз его произвели слова оратора о том, что экономику надо поставить на службу народу, который сам должен управлять заводами и фабриками, как то происходит в Республике Советов. Еще одна буря восторженных криков пронеслась при сообщении, что Палата уже приняла решение об обмене посольствами. Арельяно закончил тем, что Палата депутатов уверена в намерении правительства вести переговоры с Советским Союзом и что это не даст нефти попасть в лапы американских капиталистов. Овации разрослись в неописуемую бурю, когда слово было предоставлено председателю парламентской делегации СССР.
Во время его речи, прочтенной в испанском переводе, я наблюдал за хорами, расположенными над верхним ярусом балкона. Мне сказали, что они еще за три часа до начала заседания Палаты были забиты вплотную, люди пришли туда прямо с работы, может быть не успев поесть. Плотной стеной, локоть к локтю, тело к телу — они закрыли собой все низкое пространство галереи, и когда этот гигантский организм, заполнивший балконы и хоры, пронизывался электрической искрой всеобщего чувства и все руки на балконах приходили в движение, размахивая флажками или хлопая
512
в ладоши,— люди на хорах стояли неподвижно: они не могли ни пошевелиться, ни вытащить рук. Они могли выражать свои чувства только голосом и глазами. И блеск их глаз, сияющий или яростный, и возгласы лучше всего выражали надежды и чаяния лапасских рабочих.
9
П 04TU 44/ $Л b С P/CF
Наступили рождественские праздники, но, несмотря на это, утром в сочельник нашу парламентскую делегацию приняли и префект департамента Ла Пас и мэр столицы. В беседе с первым мы узнали, как правительство решило сложный вопрос частного домовладения: теперь закон ограничивает квартирную плату таким образом, чтобы ежегодный доход домовладельца не превышал 10 процентов стоимости дома, что значительно облегчило положение съемщиков. Кроме того, покончено с «городскими магнатами»: в одних руках не может быть более определенного количества земли (в зависимости от района). Высотная часть города, в которой муниципалитет распределяет небольшие участки для застройки, за последние годы значительно заселилась.
С мэром же, к нашему удивлению, разговор пошел совсем о другом — не о городе и не о новых методах управления его жизнью. После официального приема в большом зале, где присутствовали работники городского управления, сеньор Веласко пригласил нас в свой кабинет. Там на длинном столе были разложены старинные книги, карты; энциклопедии. Все они доказывали, что до «селитряной» войны с Чили в 1879— 1883 гг. Боливия имела выход к океану через Атакамскую пустыню к порту. Арика. Было неясно, почему мэр обращает на это внимание нашей делегации, которая помочь тут решительно ничем не могла. Правая печать, конечно, поспешила использовать это по-своему: позже в чилийских газетах появилось сообщение о том, что Боливия «потребовала от СССР обеспечить ей выход к морю за счет территории Чили» и дать ей для этого оружие(И).,
33 На разных меридианах
513
Bqt превосходный пример выделки слона из мухи!
Давно известно, что Атакамская пустыня, изобилующая залежами селитры, интересовала не столько Чили, сколько английский капитал и что воевала за этот лакомый кусочек с Боливией и Перу не столько республика Чили, сколько все тот же английский капитал — как всегда, чужой кровью. Известно, наконец, что мирный договор, завершивший войну, был настолько спорен, что его не могли утвердить в течение двадцати лет, сделав это только в 1904 году. Вместе с селитрой у Боливии отняли и выход к морю, что, как подтверждают элементарные учебники экономической географии, весьма тяжело отзывается на экспорте всякой страны. «До вас не могут не дойти печаль и скорбь народа, лишенного выхода к морю,— говорил мэр.— Мы называем себя свободным народом, но какой же мы свободный народ, если мы заперты в горах и не имеем дороги в мир?»
Я привожу этот факт для того, чтобы показать, как относились к нашей делегации самые различные круги населения. Уж если мэр столицы решил воззвать к советским парламентариям, что же говорить о простых людях города и деревни? Каждому из нас приносили множество писем, объясняя, что тут, мол, речь идет о приеме сына в Университет дружбы народов, а здесь — о предоставлении визы горняку, который желает переехать с семьей в СССР, чтобы работать «даже в северных районах». В одном письме молодая певица мечтает о Московской консерватории, в другом ученый посылает свой словарь языка народности аймара, который здесь не может издать... Доверие к нам, как представителям Советского Союза, порой наивное и трогательное, но всегда волнующее и обязывающее, доказывает, какой громадный авторитет создался в мире у Советского Союза за последние годы.
На этих официальных визитах закончилась первая часть программы нашего пребывания в Боливии — знакомство и беседы с руководителями государства, с министрами и общественными деятелями. Мы еще не видели народа, не познакомились с его жизнью, но нам уже понятно было, что во всех отраслях, жизни перед профсоюзами и рождающимися общественными организациями, перед интеллигенцией, большинство кото
514
рой поддерживает идею самостоятельного экономического развития страны, перед молодежью деревни и города, взрывчатой, как сухой порох, и нетерпеливой, перед боливийским рабочим классом, испытанным в долгой неравной борьбе с оловянными королями,— везде и всюду встают на каждом шагу новые и сложные задачи.
К полдню сочельника все официальные учреждения прекратили работу, и наша делегация отправилась в высокогорную обсерваторию космических лучей, как то было предусмотрено программой, составленной протокольным отделом Министерства иностранных дел Боливии. Обсерватория находится на горе Чакалтая, недалеко от города. Мы привычно подошли к тем двум комфортабельным фордам, где мы превосходно размещались по пяти человек, но нам предложили сесть только по трое, объяснив, что на ожидающей нас высоте мощность мотора падает почти вдвое из-за отсутствия компрессии в цилиндрах, создать которую из разреженного воздуха поршни не могут. Дорога, пройдя мимо знакомого аэродрома, устремилась по обширному плато и потом полезла на небо крутыми зигзагами серпантина. Откуда-то взялись облака, которых в Ла Пасе не было, день посерел. Вершина Уайна Потоси, не видная из города, встала в левом окне неприветливой и суровой громадой. Такой же показалась нам и гора Чакалтая, открывшаяся справа. Наконец автомобиль из последних своих лошадиных сил забрался на ровную площадку перед небольшим домиком, прилепившимся к снежному склону, и остановился, казалось даже запыхавшись.
Мы вышли из машины — и ноги сразу сделались ватными, тяжелыми и нетвердыми. Три десятка шагов по пологому подъему до домика достались нелегко. Высота здесь была 5230 метров, то есть всего на 370 метров ниже вершины Эльбруса. Однако еще на сто метров выше мы увидели красный домик, нависший над пропастью. Это была лыжная станция Чакалтая, и мы подивились, до чего же крепко выделаны сердца ла-пасских любителей этого спорта: как-никак атмосферное давление выражается здесь в очень скромной цифре 390 миллиметров вместо привычной для нас 760, и понятно, что в этой атмосфере, потерявшей плотность,
33*
515
содержится едва ли половина кислорода, потребного нормальному человеку. Вспомнив, как, не считаясь с возрастом, бодро карабкаются по крутым улицам Ла Паса его жители и с какой самозабвенной яростью гоняют тут мячи на высоте более 4000 метров, что мы видели на двух или трех футбольных полях по дороге, мы поняли, что привычка — великая вещь. Видимо, боливийские организмы с рождения приспособляются к высотным условиям существования.
Но нам-то от этого было не легче: пять ступенек, ведущие в дом, нас окончательно добили, и даже более молодые, чем мой, русские организмы запросили пощады. Хозяева любезно предложили нам портативный баллон с кислородом, мы по очереди погрузили лицо в маску и сделали вид, что нам много лучше: по секрету говоря, баллон оказался пустым, что, вероятно, никак не беспокоило персонал обсерватории, привычный к здешнему гГолувакууму. Впрочем, через некоторое время выяснилось, что, если двигаться не очень резко и смеяться сдержанно, тут вполне можно не только существовать, но даже интересоваться теми малопонятными для нас приборами, которые двигали мировую науку на боливийской горе Чакалтая. Тем, кому тайны космоса открыты и кто понимает назначение этих деловито пощелкивающих приборов, обсерватория эта хорошо известна. Профессор Эскоба, ее руководитель, был в Москве на одной из космических конференций, сюда приезжают деятели науки из Европы и США. Сейчас тут работают один индийский ученый, трое англичан, один японец и один американец. Ученые и персонал обсерватории обычно проводят здесь посменно двое суток, уезжая на следующие трое вниз, в Ла Пас.
В разговоре выяснилось, что и урожденные лапасцы тоже испытывают неприятности после более или менее длительного пребывания на высоте менее 2000 метров: вернувшись, они недели две-три сами ощущают, что это за штука — голодный паек кислорода, и преисправно разевают рты, подобно рыбам на песке, как и мы, приезжие. Нами было замечено обстоятельство, может быть, ценное для науки: нехватка воздуха не очень чувствительна днем, несмотря на то что вы двигаетесь, говорите, работаете. Расплата начинается
516
ночью. После двух-трех часов сна, очевидно при попытке повернуться на другой бок, вы просыпаетесь от собственного глубокого вздоха и некоторое время пытаетесь отдышаться, словно вы взбежали на пятый этаж. Затем с трудом засыпаете, чтобы через некоторое время повторить все сначала. Сердце при этом ведет себя по-разному: у меня, например, оно проваливалось куда-то в левую пятку, а у другого члена делегации пыталось остановиться и пугало его этими намерениями. Нас утешали, что через пять-шесть дней это пройдет, а мы утешали себя тем, что через десять дней будем в нормальных слоях атмосферы.
Под вечер мы вернулись в Ла Пас и тут узнали, что, в ответ на вчерашнее заседание Сената и Палаты депутатов, в католической газете появилась без малого погромная статья, призывающая к действиям далеко не христианским. Этой же теме была посвящена и сегодняшняя проповедь на торжественной службе кануна рождества Христова, благословляющая тех, кто догадался бы устроить демонстрацию у отеля «Крийон», где остановилась делегация. Однако на площади Изабеллы-Католика собралось лишь десятка три подозрительных людей, которые, прослышав, что рабочие кварталы также готовят демонстрацию, быстро разошлись.
Воздух в Ла Пасе после Чакалтая показался нам почти нормальной плотности, тем более что этот свободный вечер мы провели в самой нижней части города, в доме чешского поверенного в делах, единственного здесь дипломатического представителя социалистического лагеря. Нынче был день рождения его маленького Миклоша — ему исполнилось ровно две недели.
S
ПОМТМ В ТРОПи1\ЛХ
Следующий день — праздник рождества Христова — мы провели в автомобилях, отправившись, согласно программе МИДа Боливии, в восточные, более низкие районы Юнгас. Мы должны были переночевать в селении Чулумани, оттуда проехать на вольфрамовый руд-
517
ник Ла Чохла, принадлежащий американской концессии. Нас сопровождали работники протокольного отдела, депутаты и кинооператоры.
Мы поднялись из центра города к окраинам, выехали на плато и повернули на восток. Справа стали видны как бы сползающие по склонам гор поля, зеленеющие яркими редкими заплатами на буром просторе камней. Заблестела широкая гладь воды — водохранилище, подпертое дамбой; отсюда город снабжается водой по руслу старой речки Чокеяпу — очевидно, той самой, что изображена на гербе города, но сейчас бежит по каменным каналам, спускаясь в городе каскадами мимо богатых домов и вилл. Мы проехали мимо впервые увиденной нами индейской деревушки, мимо дорожной таверны, где по случаю праздника собрались вокруг навеса женщины в своих странных шляпах и молодежь в цветных платках. Все что-то жевали, а над очагом подымался соблазнительно пахнущий дымок.
И сразу же капризная фантазия быстрой музы автомобильных дорог выставила нам для обозрения печальную картину индейского кладбища. Они обычно располагаются на голом месте, покрывая пространство невысокими каменными столбиками, торчащими вверх. На этот раз столбики были увешаны зеленью, лентами, венками, у подножий стояли маленькие бутылочки, чашечки с едой, фрукты. Сегодня, в день рождества чужого, но ставшего привычным бога, индейцы принесли подарки тем, кто окончил свой жизненный путь. На одном из таких печальных мест нам пришлось видеть и живых людей. Они стояли на коленях (дети — присев на корточки), глава семьи держал на голове небольшой сосуд, напоминающий чашу, в котором горело нечто, создающее густой белый дым, поднимающийся к небу. Это была индейская религиозная церемония, странная смесь язычества с христианством, безмолвная и очень печальная молитва, лишенная торжественности и пышности католицизма, который так и не смог оторвать этих людей от их древних богов.
Шоссе опять начало крутиться серпантином, приближая нас к небесам, и через час мы забрались к подножию пика Юнгас на перевал, опять на птичью высоту в 4654 метра, о чем сообщила надпись на дорожном столбе. Над ним, проектируясь на ослепительно 518
белом облачке, врезанном в синеву, появился и сам именинник, чье рождество нынче праздновали: на высокой скале, раскрыв бетонные руки, стоял Христос, весьма схожий с тем, которого мы видели на горе Корковадо в Рио-де-Жанейро, только поменьше размером. Дышать стало опять сложно, тем более что всем захотелось пощелкать затворами фотоаппаратов, для чего пришлось влезать на камни, тратя при этом дефицитный кислород.
Потом серпантин покатился вниз — и чудесная природа восточного склона Анд начала постепенно раскрывать перед нами свою волшебную красоту, совершенствующуюся с каждым километром дороги и с каждой сотней метров спуска вниз. Суровые до этого склоны начали зеленеть на глазах, низкий кустарник — вытягиваться и превращаться в стройные деревья, потом в зелени там и здесь начали вспыхивать яркие краски невиданных цветов, то громадных, то мелких, но соединившихся в гроздья и повисших на ветвях тяже лыми, плотными мешками, подобными роям пчел, бросивших улей. Все легче становилось дышать, менялся воздух, он приобретал нежные ароматы вместо той почти стерильной чистоты, которой отличался на высотах.
На своем веку мне немало довелось видеть красивых дорог, именно таких, которые, как эта, вьются по горным склонам, открывая глазу с каждым поворотом все новые неожиданные виды, просторы, перспективы. Но. по совести можно сказать, что эта боливийская дорога не походила на виденное, поражая своей собственной, новой и своеобразной красотой. Могучие ущелья, покрытые буйной зеленью и поблескивающие на дне речкой, проваливались глубоко вниз, а вверх, к самому небу, поднимались склоны, также украшенные густым лесом, который там, на вершине, превращался в еле заметную щетинку. Порой на повороте оказывался маленький каменный или железный крест, поставленный на самом обрыве. Это означало, что чей-то автомобиль сорвался с карниза и пошел кувыркаться по крутому склону, пока не застрял где-нибудь у подножия большого дерева. .. Иногда таких крестов стояло на одном повороте по два и даже три, как бы в доказательство того, что чужой опыт никогда никого не убеждал.
519
Вскоре могучее однообразие зеленых склонов стало нарушаться геометрическими рисунками плантаций коки, бананов, маиса. Эти плантации располагаются по необычайно крутым (иногда порядка 45°) склонам, зазубривая их рядом узких ступеней. С дороги кажется, что в зеленой стене прорублены гигантские окна, закрытые планками жалюзи, подобные тем, какие мы за это время привыкли видеть во всех городах, с самого Рио-де-Жанейро. Черные полоски тени между грядками и уклон горы, кажущийся отвесным, подчеркивают это сходство. Порой на этих ступеньках видны люди. Согнувшись под прямым углом, они пропалывают грядки или ощипывают лишние листья под палящими лучами солнца. Непонятно, как забрались они на эту крутизну. Но потом, всмотревшись, видишь острые зигзаги тропинок, чернеющие в зелени. Тут эти люди ножами проложили себе дорогу в сплошной зеленой массе буйной растительности. Тогда понимаешь вдобавок и то, почему все встречные, даже подростки, вооружены здесь огромными ножами: это не против зверя, а против леса — иначе не пройдешь.
В разговорах с нашими спутниками об этих плантациях мы узнали, что в Боливии совершенно отсутствуют плантации винограда. Казалось бы, тут-то и расти ему под благодатным солнцем на благодатной земле. Но оказывается, что еще во времена своего владычества испанцы предусмотрительно запретили разводить эту культуру, так как Испания была тогда прославленным мировым поставщиком вин, и колонизаторы боялись конкуренции. Еще одна черта, вырисовывающая облик прошлого Боливии...
Постепенно становилось все жарче, однако ни с чем не сравнимое удовольствие дышать свободно и получать в легкие столько кислорода, сколько это рекомендуется медициной и хочется самому, смягчало жару. Растительность тем'временем распышнелась еще более: появились гигантские бананы, высокие пальмы, какие-то странные деревья-цветы, похожие на гипертрофированные кусты сирени или на чудовищно разросшиеся фиалки; они мелькали по сторонам дороги лиловыми или белыми гигантскими букетами. Все мы спрашивали их названия, наш шофер, дон Энрико,
520
называл их по-своему, чиновники МИДа по-своему, депутаты по-своему, а наука, вероятно, назвала бы еще по-своему. Раза два или три мы спускались на самое дно ущелья, переезжали бурные реки, иногда по мосту, иногда вброд, снова подымались метров на тысячу и, наконец, часам к четырем дня доехали до Чулумани, где должны были передохнуть и от трудности дороги, и от официальных бесед, и от первых впечатлений в Ла Пасе, и от его разреженного воздуха.
У самого въезда в городок, утопающий в густой зелени, дорогу нам преградил небольшого роста старичок, размахивающий цветком. Он что-то кричал нам, но дон Энрико не остановился. Мы подъехали к ма ленькому отелю, построенному на испанский манер, с внутренним «патио» — мощеным двориком с фонтаном и цветами, окруженным четырехугольником двухэтажного здания. Называлось это уютное убежище «Гамбург» и везде, где можно, было украшено превосходными плакатами с видами Рейна, Кёльна, Нюрнберга и прочих красот Западной Германии, хотя владелец отеля, высокий худощавый старик, рекомендовался швейцарцем и объяснялся по-французски. В саду был небольшой бассейн, куда почти все немедленно попрыгали, после чего мы прошлись по этому небольшому городку. Здесь, оказывается, уже знали о нашем приезде, и на улицах нас обступили люди, заговаривая все на ту же тему: действительно ли возможна помощь Советского Союза Боливии? Тут, как и везде, нам передали несколько писем для Н. С. Хрущева.
К обеду в отеле появился тот самый старичок, который пытался нас остановить на дороге. Оказалось, он украинец, в первую мировую войну попал в плен к австрийцам, научился в Вене портновскому мастерству, лет двадцать тому назад переехал сюда и сейчас имеет свое небольшое дело в Ла Пасе. За обедом он то и дело вскакивал, поднимал стакан вина, восторженно кричал: «За здоровье русских людичек!» — и пытался петь русские песни, но дальше «Стеньки Разина» и «Очи черные» дело не шло. Фамилия его была Лепченко, он просил называть его «дядя Яша». Я все же осведомился, как его отчество. Он сказал: «Мое отечество — Россия!» Наконец он вспомнил, что значит это слово, и ответил: «Ильевич».
521
Вечером на веранде патио я подсел к четырем местным жителям, игравшим в кости. Они трясли их в высоком кожаном стакане, выбрасывали на стол, составляя какие-то комбинации очков, записывали счет, яростно спорили. Мне романтически показалось, что передо мной идет та старинная испанская игра в кости, о которой рассказывается еще в «Дон-Кихоте». С помощью Якова Ильевича и при содействии карандаша и бумаги мне удалось проникнуть в тайны игры, и я с огорчением понял, что ни от Испании, ни от Санчо Пансы в ней ничего не осталось: это был вульгарный американский покер с его терминами, переведенными иногда на 'испанский язык, а иногда так и оставленными по-английски. Я вошел в игру и в отместку за погибшую романтику дважды выиграл партию, чего никогда не смог бы сделать, будь это настоящие испанские кости.
Наступила блаженная ночь на чудесной высоте всего-навсего в 1900 метров — ночь, наполненная благоуханием роскошной природы, ночь, разразившаяся великолепной грозой, которая освежила воздух, но которую я едва слышал, в полной мере наслаждаясь самим процессом спокойного сна при спокойной работе легких и сердца. И подумать только, как мы не замечаем тех бесценных благ, которые окружают наше существование! Стоило лишь провести трое с половиной суток даже не в вакууме, а только в разреженном воздухе, чтобы понять всю прелесть процесса нормального дыхания! Поистине — что имеем, не храним...
я
U е и Ц и - JCР Е CTI3 W-F
Мы попали в деревню. Это был не так давно создавшийся кооператив, в который вступило 140 индейских семей и который располагал 1133 га кооперативной земли. По аграрной реформе 1953 года землю в первую очередь получили «отавава» — «безземельные», то есть те, кто работал у помещиков батраками; затем земля раздавалась тем, чей надел был меньше новой
522
нормы, а остатки шли в фонд сельскохозяйственного кооператива. Но на деле получалось так, что тот, кто работал батраком у помещика и за это пользовался пятью гектарами его земли, получил эти пять гектаров и полгектара по реформе, а «отавава», не имевший никакой земли, получил только эту половину гектара. В деревне живут и те крестьяне, которые не вступили в кооператив,— таких здесь 159 семей. Такое большое количество единоличников объясняется весьма просто: кооператив все еще не располагает никакими машинами, и обработка общественной земли ведется по старинке. А что это за «старинка» — мы увидели тут же на дворе одного крестьянина. Остро отточенный узкий стальной лемех прикрепляется к двурогой толстой палке, длинное плечо которой идет в упряжку к быку, а при помощи короткого пахарь управляет этой сохой, пожалуй значительно менее удобной, чем наша древняя российская.
Раздел помещичьей земли уже благотворно сказался на жизни деревни. Здесь появились новые домики, построенные вместо тех хижин, в которых ютились индейцы. Полуголодное существование, которое индейская семья считала нормой, вспоминается теперь как мрачный призрак,— почти в каждой семье есть и овцы, и куры, и коровы, и свиньи. Но все же это — только начало. Из-за отсутствия машин методы хозяйства почти первобытны. Но машины —это опять деньги, а их нет. Таким образом, вопрос снова сводится к тому же — к необходимости резкого индустриального подъема, к тому, чтобы освоить потенциальные богатства страны, но для этого опять-таки нужны деньги.
Пока члены нашей делегации, лучше меня разбирающиеся в вопросах сельского хозяйства, подробно расспрашивали председателя кооператива, я всматривался в лица окруживших нас индейских крестьян. Нет, все-таки неправ был фильм, не дававший мне покоя: я не видел ни покорности судьбе, ни безразличия, ни отчаяния — черт, которые составляли всю основную характеристику фильма об озере Титикака. И вскоре мы увидели еще одно доказательство этому.
Отстав почему-то от других машин, мы заметили возле пышной эвкалиптовой рощи бывшей «асиэнды»
523
большую толпу, услышали звуки барабанов, рожков и свистулек, попросили дона Энрико остановиться и подошли поближе. Все было как на тех экзотических ярких открытках, которыми снабжают туристов: женщины в цветных шалях, обвешанные связками фруктов и овощей, початками маиса, пучками колосьев, вели раскачивающийся хоровод вокруг нескольких мужчин, также разукрашенных символами богатства полей. Кругом чинно сидели на земле пожилые люди, время от времени всплескивая руками и поддерживая музыку повторяющимся припевом. Несколько пар, взявшись за руки, танцевали в стороне, притопывая и кружась в нехитром танце.
К нам подошла группа молодых людей в открытых рубашках, в городских пиджаках. Один из них, Хименес, оказался председателем сельскохозяйственного кооператива. Он объяснил, что мы попали на «праздник посева»,— кооператив, существующий третий год и объединивший 87 семей, удачно завершил сев и отмечает это событие. Один за другим к нам стали подходить крестьяне. Разговор, главным образом, шел через Хименеса, так как у остальных индейцев с испанским что-то не очень получалось. Мы узнали, что в этом году все пошло уже значительно лучше, что картофель, маис, овес, кинуа, ока и другие мало известные нам культуры посажены по взаимному согласию и «по науке», как сказал один пожилой индеец. Но тут же со сдержанной вежливостью нам сказали, что кооператив ни разу не получал от правительственных организаций семян, не говоря уже о машинах, что скота по-прежнему мало и что при разделе помещичьей земли нескольким семьям ее не досталось. «Но мы все получим,— сказал Хименес с властной, почти жестокой улыбкой,— все получим. Нам должны дать; ведь у нас — революция...»
И, глядя на эту улыбку, всматриваясь в живые, не потерявшие еще блеска молодости, выразительные глаза, я понял, что этот кооператив сделал шаг вперед по сравнению с тем, который мы видели.
Перед нами были люди, устремленные в будущее. История показала им лишь самые первые начала этого будущего, они еще не подозревали всей обширности, всего величия пути, на который вступали неумелыми 524
еще ногами, догадкой и ощупью продвигаясь к тому, что для сотен миллионов людей уже давно не только зримо, но и составляет самую их жизнь. Но отсветы будущего уже озарили эти лица — перед нами были люди, твердо определившие свою судьбу.
Нет, не так увидел режиссер фильма потомков древнего и гордого народа с берегов Титикака! Долгое колониальное рабство не смогло превратить их в жалкие музейные экспонаты первобытного племени, дожившего до наших дней.
Мы пожали молодому председателю руку, традиционно обнялись с обступившими нас индейцами и поехали в Ла Пас.
51
Н/4- Ш/ХТЕ „XX
Утром 29 декабря на транспортном самолете военной авиации — полупассажирском-полугрузовом — мы вылетели в Катави — туда, где впервые восстал боливийский рабочий класс, откуда он начал разрушать крепость оловянных магнатов массовыми забастовками, в исторические места, где в 1942 году пролилась кровь горняков и где через десять лет была провозглашена национализация горнорудной промышленности. Самолет шел на четырех тысячах метров над океаном и на пятистах — над боливийской землей, уставленной бурыми каменными горами, кое-где покрытыми зеленью. Иногда мы пролетали между двумя вершинами, порой под крылом уходила вниз долина. Проплыло внизу озеро, перечерченное, как по линейке, дамбой железной дороги от Оруро на Катави, а вскоре показался маленький аэродром, вернее, расчищенное каменное поле, на краю которого чернела большая толпа и виднелось десятка три автомобилей. Самолет дал хорошего «козла», подпрыгнул, правое крыло его почти задело землю, и невольно подумалось, что не зря в Ла Пасе нам навязали обязательную страховку жизни по пяти тысяч долларов: кажется, наши семьи имели шанс ее получить. Однако, подпрыгнув еще раз,
525
самолет выровнялся и покатился навстречу людям, уже бежавшим к нам. Мы вышли из самолета — и с этого момента до самого возвращения в Ла Пас не могли стряхнуть с себя конфетти, потому что нас посыпали им в среднем дважды в час.
Шахта «XX век» — та историческая шахта, где произошли и расстрел горняков и свержение оловянных королей,— находилась километрах в четырех-пяти. Этот путь превратился в некое триумфальное шествие. Впереди шел грузовик с рабочим оркестром, за ним другой — с вооруженной народной милицией из горняков, затем наш, украшенный флагами Боливии и СССР. На нем в первом ряду, держась за крышу кабины, стояла наша делегация, окруженная хозяевами — представителями профсоюзов, администрации, молодежи, интеллигенции. За нашей машиной, извиваясь длинной лентой, тянулось десятка три набитых людьми грузовиков. Скоро мы въехали в тесную улицу. У домов стояли женщины в странных высоких белых цилиндрах с черным узором, которые великолепно оттеняют смуглоту их лиц и которые тоже называются «сомбреро» (хотя совсем не похожи на мексиканские шляпы с тем же названием). На крышах и на каменных стенах, заменяющих здесь заборы, как и полагается, висели дети — полуголые, черные то ли от солнца, то ли от пыли, все белозубые, все с блестящими от любопытства глазами. Везде висели флаги, стояли плакаты, на одном из них русскими буквами было написано «Слава СССР».
Караван остановился возле здания, оказавшегося клубом, нас провели в зал, где состоялась первая официальная встреча с городскими властями и с руководством рудника и обогатительной фабрики, и затем на этих же автомобилях все двинулись к площади городка шахты «XX век».
Когда мы взошли на балкон второго этажа, превращенный в трибуну и украшенный цветами и флагами, перед нами, сколько хватал глаз, открылось море голов, по которому, как барашки волн, белели и плескались плакаты. Площадь была довольно большая, но люди стояли и на вливающихся в нее боковых улицах, и на крышах окружающих ее домов. Нам сказали, что здесь около шести тысяч, да еще столько же стоят на
526
улицах вокруг площади, где установлены репродукторы: на митинг собрались не только горняки с рудника «XX век» и рабочие обогатительной фабрики в Катави, но и множество горняков с других предприятий, в том числе делегации из далеких горняцких центров Потоси и Кочабамба. Постановлением профсоюзных организаций работы в этот день были приостановлены с утра до 14 часов.
На левом краю площади возвышалась скала с выразительной фигурой горняка на вершине — памятник жертвам расстрела 1942 года. Возле него стояли две высокие мачты с приготовленными флагами Боливии и Советского Союза. Митинг начался с торжественного подъема их: советский флаг подымал боливиец, председатель митинга, а флаг Боливии — Н. Н. Родионов, глава нашей парламентской делегации. Оркестр сыграл оба гимна, а потом площадь запела рабочий гимн Катави.
Слушая начавшиеся выступления, мы с любопытством всматривались в эту армию горняков, стоящую перед балконом. Каски горняков, мелькавшие там и здесь, придавали этому собранию действительно воинственный вид. Это и была армия — армия труда, армия рабочего класса, не первый десяток лет сражающаяся за лучшее будущее боливийских трудящихся. Десятки плакатов колыхались над ней, как боевые знамена, потому что слова, написанные на них, были боевыми призывами к действию. «Не нужно подачек США!» — объявлял один плакат. «Мы знаем: помощь СССР — это помощь без условий»,— подхватывал эту мысль другой. «Долой саботаж правительства, пусть сегодня же подпишут соглашение с Советским Союзом о помощи!» — кричал третий, и ему откликался издалека еще один: «СССР — это оловоплавильная печь!» И, пожалуй, на каждые два плаката, приветствующие СССР, нашу парламентскую делегацию или взаимную дружбу, приходилось по меньшей мере по одному плакату, выражающему неприязнь к американскому капиталу. Это й понятно: рудник «XX век» в свое время принадлежал Симону Патиньо, самому жестокому й беспощадному оловянному королю из всей ненавистной горнякам тройки, и здесь еще жива память о тяжком иге американского капитала, в чем мы убедились поз-
527
же, повидав обогатительную фабрику и жилье горняков.
Я сказал «армия». Надо было сказать другое: «гвардия». Это была гвардия боливийского рабочего класса, создавшаяся в боях. Здесь — самая мощная профсоюзная организация Боливии: на руднике «XX век» — пять тысяч членов профсоюза, а рядом, на обогатительной фабрике Катави,— еще три тысячи: влияние здешних профсоюзных организаций распространяется на всю страну. Поэтому вся направленность митинга определилась с первых же речей. Выступали руководители профсоюзов, инженеры, пришла делегация горняков с рудника «Санта Фе» из Оруро, делегация горняков Потоси, делегация горняков-индейцев аймара. «Если понадобится — вся Боливия поставит здесь свои подписи»,— сказал горняк из «Санта Фе», передавая грамоту. «Ваша помощь,— говорили горняки из Потоси,— это единственный способ вырваться наконец из-под гнета капиталов США».
Позже, на митинге в Катави, кто-то сказал: «Вы только что видели волю рабочего класса Боливии». Да, это действительно было волеизъявление громадного количества рабочих людей.
Запомнилось любопытное происшествие. На трибуну вышел один из руководителей молодежной организации. Площадь встретила его дружным свистом, он долго не мог начать говорить. Мне был непонятен такой прием, потому что молодой человек говорил правильные вещи. Но когда он сказал: «Мы тоже были против американской помощи»,— опять раздались свистки и крики: «Не вы!» Оратор пытался продолжать: «Ведь мы обратили свои взгляды на СССР...» — и тут явственно донеслись крики: «Примазаться хочешь?» В разговоре с соседом я узнал, что оратор представлял ту группу молодежи, которая сопротивлялась общему движению за советскую помощь и которая на днях резко переменила курс и попыталась, как говорится, возглавить всю горняцкую молодежь.
Когда пришло время ответной речи и слово было Предоставлено председателю нашей делегации, над площадью и городом поплыл торжественный голос рудничного гудка: всей округе объявлялось, что слово имеет Советский Союз — впервые за все существова-5 28 t
ние этого города. И вот зазвучали спокойные, взвешенные ответственные слова, пошел рассказ о Советском Союзе, рассказ, который слушался в мертвой тишине и прерывался взрывами чувств.
Я обводил глазом эту поразительную картину. Огромная толпа людей, стоящих на площади, глаза, устремленные на балкон; суровый пейзаж голых гор и высоких конусов отвалов отработанной породы; синее знойное небо, с высоты которого солнце освещало прямыми еще лучами обилие красок, разноцветье флагов, блеск горняцких касок, белизну сомбреро женщин, пестроту индейских вязаных шапочек у детей; бронзовая фигура горняка Катави, неразличимо смешавшаяся с живыми фигурами, облепившими памятник и его скалу, осеняемую двумя громадными флагами наших государств; грузовики с людьми, обступившие края площади, и серебристо-зеленая роща эвкалиптов за ней.. Я смотрел на эту панораму народного собрания и думал о том, какую необыкновенную силу имеет стремление людей к взаимопониманию и на какие грандиозные дела может быть обращена эта сила... И тут в эти мысли врезались страстно прозвучавшие рядом испанские слова: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!» Вознесенная на высоту скалы бронзовая фигура бойца-горняка убедительно подтверждала эту фразу, звучащую как клятва. Музыкой этого собрания, не выразимой словами, был тот высокий подъем множественных чувств громадного количества людей, который владел всею массою их. Это, по существу, было единство — единство рабочего класса. Голос могучей страны, в которой труд победил, входил в разум и душу людей, заполнивших историческую площадь рудника «XX век». Из многих впечатлений моей жизни это было одним из самых сильных.
Тем большим диссонансом, резким, словно скрип железа по стеклу, прозвучало известие, которое мы получили по окончании этой знаменательной встречи. Из Ла Паса нам рассказали по телефону следующее.
В то самое время, когда труженики Боливии душевно и дружески встречались с нами, в Ла Пасе служитель Христа, заканчивая в соборе мессу, произнес проповедь, которую вернее было бы назвать погромной речью. Во второй раз он призывал верующих про
34 на разных меридианах
529
тестовать против пребывания парламентской делегации Советского Союза в Боливии. Ораторские ли его способности или личная заинтересованность слушателей в акциях погибших оловянных компаний, но толпа смиренных христиан прямо из божьего храма обители милосердия направилась на погромное дело. По дороге к ней присоединились испытанные любители американских долларов, готовые на все. Площадь перед нашим отелем была заполнена этим христианско-бандитским сбродом, вожаки которого потребовали у портье ключи от комнат, занятых парламентской делегацией Советского Союза, чтобы выбросить оттуда наши чемоданы и вполне культурно, с благословения церкви сжечь их на площади вместе с государственным флагом СССР. Однако возле отеля появились карабинеры и пожарные машины. По разгоряченным бандито-христианам ударили струи холодной воды, которые отрезвляют и успокаивают даже в этом климате.
Кончилась эта «политическая акция», организованная через церковь и наемников, весьма занятно. То ли они не разобрались, в чем дело, то ли инстинкт разрушения уже забушевал в их утлых душах, то ли попросту кое-кто перехватил для храбрости излишнее количество бесплатного виски,— но оттесненные от отеля «Крийон» хулиганы повернули фронт, накинулись на парагвайское посольство, ни к чему не причастное, и выбили там дорогие зеркальные стекла. Как говорится в технике, реле сработало не туда. Трагикомизм этого действия долларо-католиков заключается в том, что особняк является личной собственностью парагвайского посла, который, таким образом, испытал на себе весь смысл поговорки: «В чужом пиру похмелье».
Так анекдотически завершилось то противодействие, которое реакционные круги пытались оказать приезду советской парламентской делегации. Оно предварялось высказываниями газеты «Пресенсиа» («Бдение») и еженедельника «Либертад» («Свобода») — католических изданий. Там писалось, например, что лапасские коммунисты подготовляли встречу на аэродроме, но она провалилась. Там всерьез задавался вопрос: с какой пропагандой приехала в Боливию «коммунистическая делегация», какие директивы привезла она для своих сторонников? И не вторая ли это Куба, которая на
530
чнется, если позволить коммунистам говорить с народом? Так вдалбливалась в сознание «христиан» мысль, что пора пострадать «за веру» и сорвать ужасный «план Москвы», которая собирается сперва построить оловоплавильную печь, а потом сжечь в ней христианских богов и ввести безбожие.
Есть некоторая символика в совпадении событий этого дня, в том, что все это происходило тогда, когда наша делегация, окруженная тысячами боливийских трудящихся, говорила с ними о том, что было их мечтой и что могло осуществиться, о способах избавления от ига тех больших денег, которые купили и христианскую погромную проповедь и услуги лапасских бандитов.
А что боливийская индустрия нуждается в помощи, мы лишний раз убедились, пройдя по обогатительной фабрике в Катави и увидев, в каком отчаянном состоянии находится ее техника. Порой начинало казаться, что шахту, руда которой доводится здесь до концентрата, надо назвать не «XX век», а «XIX век»,— настолько все агрегаты этой фабрики одряхлели и материально, и конструктивно, и экономически. Та громадная сумма, которую в Ла Пасе называли нам в министерских кабинетах —100 миллионов долларов, потребных для переоборудования горношахтной техники,— теперь воплощалась в печальное зрелище расшатанных механизмов, устаревших флотаторов, неудобных цехов, неладного транспорта. Снова и снова становилась понятной та яростная и тоскливая жажда усовершенствования своей техники, которая владеет горняками Боливии. И еще — здесь, в Катави, во весь рост встала необходимость для Боливии иметь свою собственную оловоплавильную печь.
Ценность такого рода знакомства с самой жизнью заключается в том, что все технические выкладки, все экономические соображения, все логические доводы приобретают зримость и врезаются в память навсегда. Таким оказалось для меня посещение вольфрамового рудника в Ла Чохла, где я увидел капиталистическую штольню; таким оказался и осмотр этой обогатительной фабрики в Катави, где я увидел, что получила в наследство от оловянных королей Боливия, вступая на новый путь.
34*
531
И тут сама Жизнь добавила еще одно впечатление, перевернувшее всю душу. Выйдя из последнего цеха обогатительной фабрики, где укладывался в мешки оловянный концентрат, мы пошли туда, где жили рабочие. Назвать эти помещения домами было никак нельзя. Мы вошли в узкую уличку, по обеим сторонам которой тянулись низенькие не то сараи, не то склады: это были сложенные из камня и покрытые шифером стены, в которых через каждые шесть-семь шагов были пробиты одностворчатые двери. Они ведут в помещение, порой без окон, размером 4 на 6, в лучшем случае 4 на 8 шагов. Здесь стоит супружеская кровать, комод или шкафик, маленький стол, иной раз еще и кровать матери хозяина или хозяйки. Против входной двери — другая дверь, ведущая во дворик глубиной шага на три, на четыре. Там стоит примитивный глиняный очаг с трубой, построена кладовочка, иногда курятник, но тогда жилое помещение отравляется вдобавок острой вонью птичьего помета. Кажется невероятным, но в такой хижине живет семья горняка, состоящая из мужа, жены, одного или двух стариков и неисчислимого количества детей: здесь семьи большие, не меньше четырех-пяти ребят.
Эти жилища рабочих построены тем самым Симоном Патиньо, доходы которого превышали бюджет всего боливийского государства.
Повторяю, мне известно, что наши боливийские друзья не любят, когда в применении к их стране говорят слово «колониализм». Но ужасные эти видения насильственной нищеты, видения бесчеловечной эксплуатации ничем не отличаются от видений колониального рабства. И до сего дня Боливия не сбросила с себя иго иностранного капитала. Страшное наследие испанского колониализма и его отвратительного потомка — империализма, который является скрытым колониализмом, финансовым и экономическим,— долго еще будет мешать расцвету этой страны.
В одной из этих убогих «квартир» я неожиданно увидел вырезанный из какого-то журнала портрет Н. К. Крупской. Я зашел сюда без переводчика, немолодая женщина, встретившая меня, не могла ничего объяснить. Я показал ей на этот портрет и улыбнулся. Она показала на крохотную красную звездочку, выре
532
занную из жести и прикрепленную к рамочке портрета сравнительно молодого человека. Угол рамки срезала траурная лента. Может, это был ее брат, может быть — первый муж. Я не знаю, какова его судьба. Возможно, он был одним из тех, кого расстрелял президент Пень-яранда в декабре 1942 года. Но я почувствовал, что в этом крохотном помещении, пронизанном острым запахом перца и куриного помета, смешанным с затхлостью нищей постели, живет светлое человеческое стремление, освященное кровью.
Когда я нашел одного из наших переводчиков, этой двери я уже разыскать не мог: все они были одинаковы, и надо было пройти весь длинный ряд патиньов-ских кассет для хранения рабочей силы, чтобы найти эту женщину и разузнать, кто же был тот боливийский горняк, чья память отмечена траурной лентой и красной звездочкой.
Вечер спускался над горами, стиснувшими горизонт, над острыми конусами светло-серых или желтых отвалов породы, над грохочущим старым зданием обогатительной фабрики, как бы разваливающимся в этом грохоте, над низкими пеналами рабочих «квартир», составляющих улички, сплошь увешанные просыхающим детским бельишком, над струйками дыма, подымающимися из бесчисленных очагов на двориках этих нищих домов. Ночь спускалась над Боливией, заканчивая удивительный день встречи героических горня-' ков Катави с посланцами страны, давно уже освободившейся от своих патиньо и арамайо, давно уже вышвырнувшей за пределы своих границ иностранный капитал.
В надвигающихся сумерках нас провожали сотни людей. Впереди бежали вездесущие ребята, худые, грязные, оборванные, но веселые и не подозревающие, что жестокий закон статистики одну треть из них сделает жертвами рахита, легочных заболеваний, истощения. Нас провожали женщины в своих странных сомбреро, напоминающих ритуальные уборы первосвященников,— женщины, из которых большинство не умеет читать, женщины, никогда не заработавшие ни одного боливиано, потому что здесь нет труда, за который им платят. Нас провожали пожилые люди, которые вынесли на своих плечах всю тягость страшной
533
каторги патиньовских рудников и которые в этой жизненной академии хорошо научились, как вести горное хозяйство. Нас провожала молодежь, чей неистребимый задор помножался на боливийский темперамент.
Нас провожал рабочий класс Боливии, его гвардия— горняки Катави, Потоси, Оруро, нас обнимали, нам жали руки, нам говорили «муче грасиа» — «большое спасибо», и мы понимали, что благодарят не нас, а великую нашу страну, которая послала нас сюда.
Нас провожали друзья.
Ill k'‘
воо?уже-н+4 bi и
Чтобы попасть в город Оруро на встречу с профессорами и студентами университета, с интеллигенцией и с горняками, мы должны были выехать из Катави не позже пяти часов. Но уже в середине дня выяснилось, что это невозможно, и в Оруро дали знать, что митинг придется перенести на следующий день, на 30 декабря. В самом деле, осмотр фабрики и поселка затянулся, и после беседы с руководителями профсоюзов и рабочего контроля, после посещения радиостудии, где нам показали местный ансамбль горняков, на 'песнях и гитарах которого держится программа студии, после стихийно возникшей встречи с интеллигенцией города Катави в доме молодой учительницы,— мы только около десяти вечера приехали на станцию железной дороги. Нам предстояло проехать около ста километров, и, откровенно говоря, мы мечтали отдохнуть в вагоне целых два часа и даже поспать.
Но вместо поезда мы увидели стоящие на рельсах два автомобиля — семиместный форд и небольшой автобус, обычные колеса которых были заменены вагонными (меньшего, конечно, размера). Это называлось чем-то вроде «аутодрезины». Народу с нами набралось порядочно, и пришлось сильно потесниться, чтобы забрать всех. Форд первым двинулся по рельсам, непривычно отстукивая вагонный ритм на стыках колес, и странно было видеть, что шофер, притиснутый нами к дверце и ничуть этим не обеспокоенный, сидит бук-534
вально сложа руки, нажимая ногами на тормоз или на акселератор. Порой, когда перед нами внезапно появлялась в лучах фар скала, невольно хотелось схватиться за баранку и резко повернуть ее, чтобы спасти автомобиль. Но он, повинуясь рельсам, сам отворачивал от скалы, и фары снова освещали то нависшие слева камни, то уходящий в темную бездну карниз справа.
Дорога, вероятно, днем была очень красивой, но путешествие в «аутодрезине» оказалось весьма утомительным: мы сидели локоть к локтю, колено к колену, без движения, чувствуя, как затекают ноги и руки. Скоро вдобавок опять стало трудно дышать. Наш шофер (или машинист?) объяснил, что мы подходим к перевалу высотой опять около пяти тысяч метров — «самому высокому на всех железных дорогах»,— с гордостью добавил он. По этой ли причине или просто от десяти дней пребывания в разреженном воздухе, сердце запросило пощады. Все чаще в воображении появлялась тишина небольшого города, расположенного на целых триста метров ниже Ла Паса, удобная кровать и сон, сон, сон. .. Время подходило к полуночи, насыщенный впечатлениями день, проведенный вдобавок на ногах под палящим солнцем и на большой высоте, утомил сильно. Вскоре по обеим сторонам рельсов заблестела в свете фар вода — это начиналась та самая перерезавшая озеро дамба, которую мы видели с самолета. Желанный отдых приближался.
Но приближался и вокзал Оруро, а на его ярко освещенном перроне — громадная толпа людей с флажками. ..
Не успел наш странный автомобиль-дрезина остановиться, как его левые дверцы открылись, конфетти заполнило всю кабину, и те, кто сидел с левой стороны, попали в объятия встречавших их людей. Играл оркестр, раздавались приветствия, толпа двинулась в город, неся наших спутников на руках или подхватив их под мышки. Я решил воспользоваться тем, что сидел справа, чтобы дойти до отеля своими ногами и не торопясь. Тихонько открыв дверь, я вышел на темное полотно дороги. Мне удалось обойти автомобиль сзади, пристроиться к шумной массе людей и пойти за ними, наблюдая, как барахтаются на их сильных руках наши
535
товарищи. Все получилось бы хорошо, если бы меня не выдал мой чемоданчик: увидев его, группа молодежи быстро сообразила, в чем дело.
В следующий же миг Пальто мое было покрыто тройным слоем конфетти, а сам я в полуподвешенном состоянии, уже привычном при таких встречах, поплыл к отелю. По счастью, он оказался неподалеку, в узенькой улице, вплотную забитой людьми. Видимо, митинг уже начался, потому что кто-то говорил с балкона. Пробиться к подъезду было почти невозможно, но молодежь, тащившая меня под руки, приложила такую энергию, что люди непонятным образом потеснились, и скоро я почувствовал под ногами почву: это были первые ступеньки подъезда. Но тут стоял молодой горняк с автоматом, которым он преградил дорогу. Все закричали: «Пасало, пасало! Компаньеро русо!»; автомат исчез, дверь распахнулась, и я наконец попал в гостиницу. Но и она кишела народом: каждому хотелось поздороваться с советскими парламентариями, прижать их к себе в традиционном объятии, передать письмо Советскому правительству или наконец просто посмотреть на советских людей, которых оруровцы никогда не видывали. Лишь к двум часам ночи они разошлись, и на узкой уличке у подъезда осталась рабочая охрана — человек шесть горняков с автоматами, посчитавших своим долгом оберегать нас. Утром выяснилось, что это было вызвано «христианским погромом» нашего отеля в Ла Пасе. «В нашем городе, конечно, это невозможно,— сказал нам один из профсоюзных деятелей,— но ведь и один хулиган может испортить весь праздник...»
А праздник действительно состоялся в полной мере. В девять часов утра мы приехали на рудник Сан-Хозе, расположенный на окраине города. Здесь собрались тысячи горняков и их семей, люди сидели на крышах низеньких домов, облепили откосы горы. Митинг начался с пения боливийского гимна и песни горняков. На столике, поставленном на подмостках, куда нас провели, красовалась большая маска, с удивительным мастерством сделанная из папье-маше, цветного стекла, кожи и рогов. Это была традиционная индейская маска, изображающая несокрушимую силу. Горняки вручили ее нашей делегации с тем, чтобы передать ее Н. С. Хру^ 536
щеву. «Она означает нашу силу, силу горняков Сан-Хозе, горняков Оруро,— сказал смуглый юноша, подняв эту маску над головой.— Мы направляем нашу силу на то, чтобы завоевать лучшую жизнь».
И здесь, как на площади рудника «XX век», меня поразила та сердечность и готовность, с которой эти тысячи людей воспринимали речь Н. Н. Родионова. Люди переглядывались, хлопали друг друга по плечу, как бы восклицая: «Ага, что я тебе говорил!» Долгую овацию вызвали слова о том, что техническое оборудование горной промышленности, как мы сами убедились в Катави, решительно требует реконструкции. На одной из крыш люди в касках, видимо только что пришедшие после ночной смены, вскочили на ноги и долго кричали что-то, чего нельзя было расслышать за криками ближайших рядов,— видно, уж очень задело их за живое. Примечательной была и другая всеобщая реакция на сообщение о том, что в Советском Союзе за последние четыре года построено триста миллионов квадратных метров жилой площади, иначе говоря — десять миллионов квартир. Тут по площади прокатился гул, он явственно перешел в изумленное «уй-уй-уй! ..», которое люди повторяли, покачивая головами и обращаясь друг к другу. Запомнилось еще одно — вздох всей гигантской толпы, когда переводчик назвал цифру населения Советского Союза — двести миллионов. Площадь действительно вздохнула единым вздохом удивления и восторга — и тотчас вслед за ним раздался единый крик: «Вива русо, вива русо пуэбло!»
Здесь, в городе Оруро, мы встретились с воплощением великого лозунга революции: мы увидели вооруженный народ. После митинга на шахте Сан-Хозе нас повели в клуб, где мы встретились с отрядом рабочей охраны. Это были горняки разного возраста, даже весьма пожилые — все с автоматами. Оружие это горняки Оруро, так же как и горняки Потоси, Кочабамбы, Катави, Санта Фе, оставили себе со времен революции 1952 года, когда в Ла Пасе был разгромлен арсенал. Впоследствии они добились организации отрядов рабочей охраны. В истории рабочего класса Боливии это было событием значительным, и действительность вскоре доказала его жизненную необходимость. В самом деле, не будь в руках горняков оружия, путч фа
537
лангистов, пытавшихся в 1954 году восстановить власть оловянных компаний, мог вызвать в Боливии длительную гражданскую войну. Но авантюра эта была подавлена в самом начале рабочими отрядами: в первых же стычках с вооруженным народом фалангисты потеряли 136 человек, и путч провалился.
Оружие — надежда и гордость боливийцев-рабочих. Первым нашим впечатлением в Боливии была рабочая охрана, которая пришла встречать нас на аэродроме. В первой же машине оказался веселый Хуан с автоматом—«персональна гуарда». В первый же вечер я обратил внимание на рабочего паренька, который неотступно ходил за нами, держа под мышкой сверток. Улучив момент, когда мы остались одни, он развернул газету и показал мне большой автомат-пистолет, сказав то же слово «гуарда», которое можно понять как «охрана» и как «гвардия».
Конечно, тот факт, что горняки — наиболее активные и страстные бойцы за права рабочего класса — держат в руках оружие, не очень-то нравится правоверным апостолам идеи мирного изживания капитализма на нашей планете. Как мне пришлось слышать, вопрос о разоружении горняков был причиной многих споров внутри партии МНР, но оружие по-прежнему остается в верных руках народа.
8
BCTPE4U
Чем ближе к отъезду, тем более прессовалось наше время в Боливии. В Оруро мы не успели ни осмотреть города, ни побывать в университете: прямо с рудника мы поехали в городской театр, где нас уже ожидало множество людей. В нашем понятии это было «общегородское собрание» интеллигенции, учащихся и рабочего класса.
Оно было очень торжественным и волнующим. Делегацию советских парламентариев принимали: от имени города Оруро — его алькальд, от имени университета — его ректор, от имени горняков — секретарь профсоюза. Митинг транслировался по радио на всю
538
страну, зал был переполнен, люди стояли в проходах и у самой эстрады (нам сказали, что здесь собралось более двух тысяч человек).
Алькальд поднес нашей делегации огромный ключ. Это был ключ от ворот города Оруро, и, передавая его, алькальд сказал, что он вручает этот ключ Советскому Союзу как знак полного доверия и дружеского расположения. «Наш город затерян в Андах, далеко от вас,— сказал он,— но мы очень хорошо знаем, что такое Советский Союз, мы знаем и его мощь, и ту социалистическую культуру, которая возникла в нем за эти четыре десятка лет. Здесь, на вершинах гор, нам лучше, чем другим, видны ваши Спутники...» Ректор университета в заключение своей речи объявил нашу делегацию почетными гостями университета и вручил нам дипломы, отпечатанные на. коже и украшенные подвесной медалью этого старинного храма науки.
В дипломе, полученном мной, говорилось:
«Высший ученый Совет университета присваивает ученое звание почетного профессора депутату Верховного Совета СССР Леониду С. Соболеву, как выражение дружбы и признание необходимости укреплять связи в области науки, научных исследований и культуры, где крайне важен вклад ученых, работников умственного труда и трудящихся Советского Союза.
Этот памятный акт университета города Оруро предпринят в связи с визитом доброй воли парламентской делегации СССР в Боливию.
Оруро, 30 декабря 1960
Эрман Кирога Перейро— ректор университета и председатель
Ученого совета.
В соответствии с решением Высшего ученого Совета университета № 189/60».
Ответную речь от имени делегации было поручено произнести мне, и я вновь испытал то же волнение, которое охватило меня в Ла Пасе. И снова меня поразило ощущение какой-то душевной легкости, вызванной абсолютной уверенностью в том, что слова твои
539
понимаются так же, как они понимались бы и в Москве, и на Куйбышевской ГЭС, и в целинном совхозе. Мне не приходилось ни выбирать дипломатических, обтекаемых выражений мысли, ни опасаться того, что кто-либо двусмысленно объяснит прямую мысль. Я говорил о Боливии, о драматизме ее экономики, о сложности создания ее собственных кадров так, как я говорил бы с советской аудиторией,— и в этом было самое ценное, самое нужное, самое важное.
Это означало, что между советским парламентарием, стоящим на трибуне, и аудиторией, составленной из интеллигенции, учащейся молодежи и рабочего класса Оруро, возникла та степень доверия и взаимоуважения, без которой человеческий разговор начистоту невозможен. И подобно тому как не может состояться душевный и откровенный разговор, если ты не можешь смотреть собеседнику в глаза,-так невозможно говорить откровенно и душевно с аудиторией, если не чувствовать права смотреть ей в глаза. А в глаза смотришь лишь тогда, когда веришь собеседнику и когда знаешь, что говоришь честную правду и что жизнью отвечаешь за правоту своих слов.
Вот такое поразительное ощущение доверия, теплой волны надежд и сочувствия, подымающейся к нам из притихшего этого зала, вот такое огромное желание в меру своих сил помочь хорошему, смелому и трудолюбивому, красивому душой и телом народу, чья трагическая история калечила его судьбу на протяжении четырех веков,— такое драгоценное и удивительное чувство навсегда запомнилось мне на этой последней массовой встрече с боливийским народом.
Во время официального обеда, который после этой встречи давали нашей делегации городские власти и руководство университета, пришло сообщение из Ла Паса, что там, идет снег и посадка самолета затруднительна. Это нас очень обеспокоило: вечером наша парламентская делегация пригласила сенаторов, депутатов, министров на прием по случаю отъезда, и нам надо было быть в Ла Пасе не позже 10 часов вечера. Поезд здесь ходит раз в сутки, а доставившие нас автомобили, умеющие бегать по рельсам, находились уже в Катави. Нас все-таки привезли на аэродром, где мы потеряли часа полтора, выжидая погоды, и нако
540
нец отправили на двух машинах в Ла Пас. До него нё-многим больше двухсот километров, и мы рассчитывали покрыть их за четыре часа и вовремя попасть на прием.
Однако капризы горной погоды все спутали. За час мы действительно проехали больше пятидесяти километров, а затем машины начали ползти по глине, разжиженной дождем и потоками воды, сбегающей со склонов гор. Потом пошел мокрый снег, залепивший стекла, фары едва освещали дорогу. Потом холодный ветер устроил гололед. Словом, когда мы появились в отеле, наши гости уже собрались.
И тут же оказалось, что одновременно с нашим приемом нас ожидают члены Общества дружбы Боливия — СССР. Мне пришлось уехать с нашего приема туда.
Это был удивительно хороший вечер. Несмотря на усталость и позднее время, он начался дружески, весело, откровенно. Здесь были писатели, поэты и даже поэтессы, профессора университета Сан-Андрэ, художники (один из них — тот, кто создал интересное панно в здании Корпорации нефтяной промышленности), певцы и артисты, врачи и учителя. Разговор шел живой, веселый, перебивчатый, без малейшей тени официальности или натянутости,— подлинный разговор друзей. Мы говорили на английском и на французском языках, ломая их каждый по-своему, но отлично понимая друг друга и только в крайнем случае прибегая к помощи переводчика.
Конечно, и здесь говорилось о том, какое значение могла бы иметь для Боливии экономическая и техническая помощь. Люди самых различных интеллигентных профессий сходились на том, что такая помощь может быть принята только от Советского Союза. «Приезд вашей делегации сорвал все планы капиталистов США,— сказал секретарь Общества.— Теперь они уже не могут надеяться обмануть нас своей лицемерной помощью». Меня просили передать советским людям, что здесь хорошо знают, что путь Советского государства — это путь мира, а не войны и что помощь его Боливии действительно бескорыстна. «И скажите еще, что здесь, в Боливии, множество друзей Советского Союза,— добавила сидящая передо мной
541
актриса,— и не только среди интеллигенции и среди рабочих, но и среди неграмотных индейцев. Им рассказывают о вас те, кто умеет читать». Обсуждался и погромный поход из собора к отелю «Крийон». Он вызвал среди интеллигенции Ла Паса всеобщее возмущение. «Это не должно вас обижать, вы понимаете, кем это было подстроено»,— сказал мой сосед доктор, и разговор тотчас перешел на некоего дипломатического представителя, которому порядком досталось. Тут же мне рассказали, что в те дни, когда в Боливии могло ожидаться прибытие Никсона, совершавшего поездку по Латинской Америке, студенты университета в Ла Пасе забросали машину американского посла неподходящими предметами. «Что же вы хотите,— горько добавил мой собеседник,— если в нью-йоркском журнале «Тайм» черным по белому написано, что Боливия без американской помощи погибнет и что ее лучше просто разделить между соседними государствами... Разделить! Легко молодежи это стерпеть?» Эти слова бросили некоторый свет на ту неприязнь к американским дельцам, которая ясно чувствовалась в беседах со многими представителями интеллигенции, конечно не из деловых кругов.
В руках виртуоза, словно целый оркестр, зазвенела крохотная гитара, уместившаяся в панцире «броненосца», боливийского подобия черепахи. Читались стихи. Зазвучали великолепные боливийские песни. Начались огневые танцы Кочабамбы, Потоси — народные танцы, отличающиеся друг от друга в фигурах, но единые в бешенстве темперамента. .. Словом, это был праздник искусства, прощальный поцелуй муз. Мы разошлись после трех часов утра.
Ночь в отеле показала, что пришло время немедленно покидать Ла Пас. Видно, кислородный голод меня добил: я уже с трудом дышал. Войдя к себе в комнату, я увидел кислородный баллон, который заботливо прислали сюда мои новые друзья еще тогда, когда этот чудесный вечер продолжался: сидевший рядом со мной доктор Апонте, заметив мое состояние, попросил кого-то съездить в аптеку и привезти в гостиницу кислород.
Надо признаться, что он оказался кстати. Последняя ночь в Ла Пасе запомнится мне надолго. Я все
542
время прикладывался к спасительной резиновой трубочке. Очевидно, стойкость моего организма в смысле кислородного голодания была точно рассчитана на срок пребывания делегации — ни на сутки больше. Утро я провел в постели в ощущении раздражающей и обидной слабости, не имея возможности подняться или сделать резкое движение. Ко мне приходили друзья, которых немало уже завелось в Ла Пасе, и кто-то сказал, что кислородом я воспользовался напрасно. «Вам нужно было перетерпеть день-два, и вы бы стали настоящим лапасцем, — сказал один из них.— А теперь вы разбаловали организм кислородом, и вам надо начинать все сначала». Не знаю, смог ли бы я теперь приняться за это.
Но милое лапасское солнце и горный ветерок уже к полудню согнали с плато всю ту слякоть, по которой мы ехали вечером. Стало известно, что самолет прибудет. С помощью друзей, поминутно возвращаясь к спасительному баллону, я собрал чемодан, поднять который не смог. Дурацкая слабость, которой я никогда не испытывал, не давала мне решительно ничего делать. Я с трудом двинулся к лифту, думая о том, как пригодился бы сейчас прекрасный боливийский обычай таскать дорогих гостей на руках (я даже согласился бы и на конфетти). Но пришлось доплестись до лифта самому и кое-как залезть в автомобиль, с неприязнью думая о том, что сейчас он начнет карабкаться на аэродром, где кислорода еще меньше, чем здесь.
С верхних улиц я в последний раз посмотрел из окна машины на панораму этого единственного в мире города. Он уходил вниз по склонам своего гигантского котлована, поблескивая на солнце крышами домов, ступенями, спускающимися к центру, и скоро ровный край каменного плато закрыл и город и самый котлован, как крышка переплета закрывает страницы прочитанной книги. И только снеговая шапка Иллимани, сияющая в бесподобной синеве неба, виднелась последним напоминанием о городе, в котором я узнал новый народ и его историю, в котором я сделал так много открытий для себя, в котором я прикоснулся к сложной, бурной жизни народов Латинской Америки.
Самолет заревел всеми четырьмя моторами, соскользнул с плато в синий воздух и поплыл над за-
543
сбывшей каменной поэмой первобытного мира. В окне блеснуло серебряное зеркало Титикака, таинственного озера, так и оставшегося для меня неразгаданным; внизу тянулись бурые бугры и желтые плоскости аль-типлано, безлюдного и неживого.
Эти просторы и богатейшие их недра столетиями ждут человека, чтобы отдать ему все, что лежит в них с тех бесконечно далеких времен, когда планета начала остывать. В этих горах лежит счастье Боливии, но трудно добыть его и раздать народу. Как в сказке, богатство это привлекало к себе злых волшебников, которые обращали его на горе людям, сея смерть и нищету вокруг ценностей, могущих создавать счастье и долгую жизнь. Бурый камень, громоздящийся внизу, был как бы покрыт запекшейся кровью миллионов людей, загубленных здесь богачами, и узенькие речки, сбегающие между скал, казались вечными слезами доброй этой и богатой земли, обманутой и истерзанной насилием. Все, что узнал я за эти десять дней о боливийском народе в его прошлом и настоящем, все проходило сейчас передо мной на величественном экране камней и скал, плато и вершин.
Впереди вставали уже гигантские снеговые шапки береговых Анд, за которыми был Тихий океан. Территория Боливии заканчивалась, и последним видением, вставшим в памяти, была площадь у рудника «XX век»: бронзовый горняк на скале, которого окружили живые горняки Катави — гвардия рабочего класса Боливии. И в ушах опять прозвучали слова, сказанные возле страшных жилищ горняков: «Народ и не ждет, что ему поднесут все на блюдечке. Вы видели на митинге: мы теперь — сила. И мы действуем».
Снеговые вершины поплыли мимо, самолет повернул влево, в окно блеснуло бесконечное голубое пространство океана. Короткий, но весьма значительный этап моей жизни закончился.
Февраль 1961
Ц*С.О/ОДД-р|>
ПовестЬ
Г F Д Н Ы X
В И Ю ЕИ Е Н H4I X
ид, сопровождавший нас в прогулках и поездках по Гетеборгу, очень любил слово | «модный». Он энергично обращал наше вни-I мание на модные магазины (тем не менее | совершенно свободные от покупателей), модные кинотеатры, расцвеченные рекламой с оголенными героинями голливудских боевиков, и даже модные больницы, в которых, как выяснилось, лечение обходится втридорога. Но о ресторане «Фламинго» наш гид восторженно отозвался уже как об «ультрамодном» увеселительном заведении Гетеборга — второго по величине города-Швеции.
В отделанный под «экзотическую Африку» огромный зал «Фламинго» мы попали к ужину вместе с десятками футбольных болельщиков самых различных национальностей, приехавших в Гетеборг на очередной матч мирового футбольного чемпионата. Особенно
35 На
разных меридианах
545
много было там в тот вечер молодых туристов из Западной Германии, рассчитывавших подогреть аппетит перед ужином зрелищем победы своей команды над футболистами Франции.
Раздосадованные проигрышем своих игроков, они сейчас, за ужином, старались делать вид, что не слышат подчеркнуто шумных тостов веселящихся французских болельщиков. С преувеличенным вниманием смотрели они на подмостки, где выступал эстрадный дуэт: совсем еще юная певица с густой копной каштановых волос и смуглый пианист с блестящими черными глазами, выглядевший чуть постарше своей партнерши.
Шведская песенка в фокстротном ритме звучала в устах певицы тяжело и напряженно. По тому, как принужденно и старательно скандировала она слова, нетрудно было догадаться, что молодая певица поет на чужом ей языке. И когда через несколько секунд певица и ее партнер запели — игриво и непринужденно — лирическую песенку на итальянском языке, всем стало ясно: на эстраде — итальянцы.
Трудились они на совесть, почти без передышки. Чередовались не только номера, но и форма исполнения. Сначала девушка только пела. Затем она стала аккомпанировать себе и подпевавшему ей партнеру на ручном барабанчике. Потом она одновременно пела и танцевала.
Безучастные к лязгу ножей и вилок, к шумным разговорам и выкрикам посетителей, молодые итальянцы с застывшими улыбками исполняли в обычном ресторанном стиле один номер за другим. И только когда они пели итальянские народные песни, их глаза загорались огнем подлинного увлечения. В крепнувшем голосе певицы появлялись выразительные оттенки, а в фортепианных вариациях аккомпаниатора ощущалось мастерство темпераментного пианиста. Но вскоре молодым итальянцам пришлось отказаться от своих родных песен. В ресторан с шумом ввалилась большая компания. Несколько весьма юных шведок (несмотря на свои четырнадцать-пятнадцать лет, неимоверно раскрашенных) пришли с группой далеко не юных бразильских туристов, с которыми они познакомились на стадионе во время матча. Им захотелось
546
танцевать, и они хором стали требовать танцевальной музыки.
Распорядитель выразительно кивнул пианисту — и дуэт словно подменили. Чтобы резче выпятить рок-н-ролльные «ритмы», певица перешла на взвизгивания и подвывания, а пианист стал пользоваться не столько фортепианной клавиатурой, сколько подставкой для нот, стуча по ней раскрытой пятерней.
На эстраду то и дело стали взбегать подвыпившие западногерманские туристы — и молодая итальянка, не прекращая пения, превращалась на несколько минут в партнершу этих юношей по диким и зачастую непристойным «фигурам» рок-н-ролла. В эти минуты пианист часто бросал тревожные взгляды на девушку. Она танцевала настолько безучастно, что выражение ее лица казалось каменным.
После полуторачасовой изнурительной работы итальянцы ушли с эстрады на отдых. Подвыпившие западногерманские туристы стали настойчиво тащить певицу к своим столам. И чтобы прекратить эти приставания, пианист поспешил подсесть вместе с девушкой к столу, за которым сидела группа советских туристов.
Мы узнали, что итальянцев зовут Джезуина и Тео-доро, что ей двадцать лет, а он на полтора года старше, что родом они из Флоренции, а в Гетеборге всего третий месяц.
Джезуина и Теодоро очень устали и потому явно предпочитали слушать, нежели рассказывать. С наслаждением затягиваясь непривычными для них русскими папиросами, они неторопливо рассматривали открытки, которыми их щедро одарили наши туристы.
И вдруг Теодоро преобразился. Его притушенные усталостью глаза засверкали. Возбужденно бросая отрывистые фразы, он показал Джезуине заинтересовавшую его открытку. На ней был изображен памятник Петру Ильичу Чайковскому на фоне здания Московской консерватории его имени.
И тут же на нас посыпался град вопросов.
— Когда будет следующий конкурс имени Чайковского?
— Действительно ли Ван Клиберн небывалый пианист?
35*
547
— Не обиделись ли советские пианисты на то, что первое место присудили американцу?
— Сколько надо было иметь денег, чтобы прожить в Москве и участвовать в конкурсе?
— Правда ли, что талантливые ученики советских консерваторий ничего не платят за учение?
Слушая наши ответы, Теодоро забыл об остывшем кофе и потухшей папиросе. Затем, подперев голову ладонями, он задумался. По его взгляду можно было судить, что, несмотря на ресторанный шум и гомон, Теодоро в эти секунды наедине со своими мыслями.
— Сейчас я буду играть для вас,— резко отодвинув стул, неожиданно сказал он и направился к эстраде. Уже с полдороги он крикнул Джезуине: — И для тебя!..
Когда Теодоро ударил по клавишам, трудно было поверить, что каких-нибудь десять минут тому назад этот же самый человек наигрывал фокстроты для танцующих ресторанных посетителей. С первых же тактов фортепианной партии чудесного Первого концерта Чайковского для фортепиано с оркестром Теодоро весь преобразился. Он играл по-настоящему вдохновенно. Каждый его взгляд, каждое движение были пронизаны воодушевлением, находившим отклик у слушателей.
Среди нас не было музыкантов — и мы, естественно, не могли строго и придирчиво проанализировать и оценить игру молодого итальянца. Возможно, в ней были погрешности и срывы. Но она захватила нас, заставила забыть, что мы находимся среди аляповатой ресторанной мишуры. Мы были целиком во власти музыки великого композитора. Своей игрой Теодоро заставил притихнуть даже самых пьяных посетителей. Смолкли разговоры, прекратился лязг ножей и вилок. И когда пианист взял последний аккорд, ему дружно аплодировали все, кто в эти минуты был в ресторане.
Я успел заметить, что Джезуина смахнула слезу с ресницы. Невесело улыбнувшись, она сказала:
— Еще, кажется, так недавно флорентийский преподаватель музыки, у которого учился Теодоро, сказал ему: «Если ты, Теодоро, будешь заниматься по четыре часа в день, то скоро сможешь играть концерт Чайковского с лучшим симфоническим оркестром Италии».
548
— А разве Теодоро не хотел заниматься по четыре часа в день? — спросил кто-то из нас.
Этот вопрос заставил Джезуину встрепенуться.
— Теодоро готов заниматься по пять и шесть часов в день,— горячо ответила она.— Разве дело в нем? Или во мне? Разве по своей вине мы сейчас кривляемся в этом ресторане?
Но продолжить рассказ Джезуине не удалось. Распорядитель выразительно кивнул ей головой: перерыв кончился.
Вскоре Джезуина снова стояла с барабанчиком на эстраде, и под нарочито фальшивые аккорды Теодоро гортанным голосом выкрикивала песенку, где после каждой фразы следовал гортанный припев: «Хип-хип, Грета, хоп-хоп, Грета! ..» Эта песенка привела подвыпивших шведских девочек, в восторг, и они с новой силой стали отплясывать рок-н-ролл со своими кавалерами, годившимися им по возрасту в отцы.
После всего услышанного нам было невмоготу видеть молодых итальянцев на эстраде, и мы поспешили покинуть зал «Фламинго».
«Разве по своей вине мы сейчас кривляемся в этом ресторане?»
Эти слова Джезуины не выходили у меня из головы. По чьей же вине это произошло? Не может быть, чтобы для талантливого пианиста не нашлось места под ласковым солнцем родной ему Флоренции — города, который итальянцы с гордостью называют столицей искусств Италии.
Этот старинный город, где все связано с гением архитектора, скульптора, поэта и военачальника Микеланджело, запомнился мне больше других итальянских городов хотя бы уже по одному тому, что замечательнейшие скульптуры, обычно скрытые под сводами мрачных дворцов, здесь, во Флоренции, можно увидеть прямо под голубым небом на площади Синьории, подле квадратной башни знаменитого Палаццо Веккио. Флоренция хорошо запоминается советскому человеку, видимо, и потому еще, что там часто встречаешь места, связанные с дорогими нам именами Достоевского, Чайковского, Блока. Моим спутником в прогулках по Флоренции был советский композитор, весьма интересовавшийся, естественно, итальянской музыкой. Он
549
непрерывно обращал мое внимание на здания оперных театров, вывески музыкальных студий и музеев, витрины нотных магазинов, афиши концертов церковной музыки. Вот почему Флоренция запечатлелась в моей памяти как центр музыкальной культуры Италии.
Почему же все-таки оттуда пришлось уехать двум талантливым молодым музыкантам?
Пытаясь ответить себе на этот вопрос, я вспоминал биографии тех немногих земляков Теодоро и Дже-зуины, с которыми мне довелось познакомиться за мое кратковременное пребывание во Флоренции.
Вспомнил я маленького флорентинца, одиннадцатилетнего лифтера в отеле «Кавур», с не по-детски грустными глазами, с впалыми щеками того мучнистого оттенка, какой бывает у людей, совершенно лишенных солнечного света.
К нашему приезду мальчик из-за нашествия туристов уже второй месяц работал с утра до позднего вечера, без выходных дней. Но мальчуган не роптал: в эти дни ему удавалось выколачивать «чаевыми» около трех тысяч лир в день. Половину он, правда, отдавал портье и старшему швейцару — в противном случае они немедленно бы прогнали мальчика с работы, за которую он, конечно, никакого жалованья от хозяина отеля не получает. Оставшиеся у мальчика деньги были решающим доходом в бюджете семьи его отца — безработного театрального капельдинера.
С отцом лифтера я познакомился, когда он принес сыну завтрак и взял у него несколько монет, чтобы купить овощи к обеду. Стараясь сохранять осанку и манеры «театрального человека», капельдинер рассказал мне, что работу потерял из-за «неслыханного падения интереса к прекрасной музыке».
— Да, синьор,— воскликнул он,— если бы мне несколько лет тому назад кто-нибудь сказал, что в театре Верди вместо арий Аиды и Риголетто будут звучать песенки американских кинозвезд, я бы плюнул ему в лицо!
Но капельдинер оказался недальновидным человеком. Оперный театр, увы, превратили в кинематограф, а ему пришлось покинуть службу, на которой он проработал почти шестнадцать лет. Сменив более десятка временных профессий, связанных большей частью с
550
беспатентной торговлей вразнос и подпольным комиссионерством, бывший капельдинер надеялся устроиться чернорабочим на ремонте разрушенной во время войны немцами дамбы у реки Арно. Он был уверен, что его надежды осуществятся. Недаром ведь он честно внес свой пай в сумму, которую группа безработных вручила священнику на нужды святой церкви. За что? За то, чтобы священник именем бога убедил подрядчика не привозить на стройку камнедробильной машины, которая окончательно разбила бы их надежды на получение работы.
Из знакомых мне флорентинцев вспомнился и Маурицио— двадцатилетний приказчик большого магазина трикотажных изделий, в котором мы за полтора часа не увидели ни одного покупателя. Накануне нашего посещения, владелец магазина, живущий постоянно в Милане, приехал и объявил Маурицио, что с начала будущего месяца тот может считать себя свободным от службы в магазине.
— Конечно, покупателей нет,— отчаянно жестикулируя, говорил нам Маурицио.— Конечно, уволить безболезненно можно даже не одного, а двух приказчиков. Но вы не догадываетесь, почему выбор хозяина пал на меня! — Ис горькой усмешкой пояснил: — Успех коммерческих дел маленькой миланской фирмы хозяина зависит от одной крупной оптовой фирмы в Западной Германии. И хозяин спешит избавиться от приказчика, у которого отец был партизаном знаменитого Пьемонтского отряда Сопротивления. О, этот отряд немало насолил немецким войскам!
Думая о судьбе Теодоро и Джезуины, я вспомнил еще одного их земляка и даже собрата по искусству — певца, с которым мне довелось встретиться в аллее холмистого парка деи Колли.
Этим знакомством я обязан моему спутнику — композитору, который с первых же часов нашего пребывания в Италии тщетно разыскивал поющих итальянцев, столь известных нам по итальянским музыкальным фильмам. Речь шла, конечно, не о джазовых и эстрадных вокалистах, не о певцах музыкальных театров, а о тех, для кого песня — не профессия, для кого она — душевная потребность. Коль скоро уж я об этом заговорил, то должен сказать читателю: песен на
551
улицах мы в Италии не слыхали. В Риме нам советовали прогуляться по портовым улицам Генуи, а в Генуе нас заверяли, что песни в изобилии можно услышать в Вероне, близ так называемой «гробницы Джульетты». Но и в Вероне мы не услышали уличных песен, как не слышали их в Пизе, в Падуе, в Сиене. Отовсюду нас отсылали за песнями в Неаполь. В Неаполь мы, к сожалению, не попали, что очень огорчило моего спутника-композитора. Уже по возвращении на родину я утешил композитора ссылкой на писателя Виктора Некрасова, побывавшего в Неаполе. «Когда я вернулся домой,— рассказывает Некрасов,— не было человека, который не спросил бы меня: «Ну, как там, в Италии, поют?» И я вынужден был отвечать: «Нет, не слышал». Да, как это ни странно, но Италия не поет. Даже Неаполь — город, родивший неаполитанскую песенку. Не знаю, может, мне просто не повезло, но я не слышал песен...»
Нам тоже «не везло», мы тоже не слышали песен. И можно себе представить, как обрадовался наш композитор, когда мы во Флоренции наткнулись на уличного певца.
Он аккомпанировал себе на гитаре, украшенной традиционным пышным бантом, который так не гармонировал с многочисленными «молниями» на поношенной курточке певца. Увидев, что к окружившей его группе мальчишек подошли иностранцы, этот — не очень уж молодой — человек оборвал песню и, учтиво поклонившись, выразительно показал на лежавший на каменной плите берет/Мы поспешили положить в берет деньги. Певец необычайно обрадовался и, снова поклонившись, обратился к нам с такой выразительной мимикой, что мы и без переводчика поняли его: он готов петь для любезных синьоров, сколько им угодно.
И тут произошло то, чего мы никак не могли ожидать. Отложив в сторону гитару, певец начал сдавленным голосом имитировать самые разнообразные музыкальные инструменты, а затем даже целый оркестр. Он кривил рот, бил себя по надутым щекам, словом, старался изо всех сил. И был неподдельно огорчен, когда мы поспешили поскорее уйти от этого зрелища, оскорблявшего человеческое достоинство не только исполнителя, но и его слушателей. Уже потом нам 552
объяснили, что певцом руководили самые благие намерения. Он хотел нас изумить «номером», имеющим наибольший успех у американских военных, когда они приходят в траттории и харчевни, где выступают другие певцы.
Но разве можно, думал я, гуляя по улицам вечернего Гетеборга, сравнивать этого бродячего флорентийского певца с такими талантливыми музыкантами, как Теодоро и Джезуина? Еще меньше оснований было сравнивать их судьбу с судьбой рядового двухмиллионной армии итальянских безработных — бывшего капельдинера или будущего рядового этой армии — уволенного приказчика Маурицио. Что же произошло с Джезуиной и Теодоро?
Ответ на этот вопрос мне все-таки посчастливилось услышать от самих молодых флорентинцев.
В полночь, возвращаясь из городского парка, мы с переводчиком увидели вышедших из ярко освещенного подъезда ресторана «Фламинго» пианиста и певицу. Они так устали, так сникли, что даже стройная Джезуина теперь казалась сутуловатой.
Поначалу они не очень-то были расположены рассказывать о своей жизни. Но когда я сказал, что недавно побывал в их родном городе, они оживились и разговорились. Я объяснил, что многие советские люди заочно полюбили тружеников Флоренции по замечательной, правдивой книжке Васко Пратолини «Повесть о бедных влюбленных». Теодоро, правда, не читал этой книжки своего земляка-писателя.
— Книг у нас в семье никогда не покупали,— пояснил он.— Собирался я, правда, записаться в библиотеку, но никак не удавалось собрать денег на залог.
Джезуина тут же поспешила добавить, что у Теодоро почти все деньги уходили на пользование нотной библиотекой.
— Я слышала про «Повесть о бедных влюбленных»,— сказала она мне.— По этой книжке поставлен кинофильм. Вероятно, вы имеете в виду фильм?
Я ответил, что, независимо от демонстрировавшегося у нас фильма, «Повесть о бедных влюбленных» издана на русском языке и мне даже довелось слышать, как эту книжку обсуждала читательская конференция молодых московских строителей. Еще в Москве, готовясь
553
к поездке в Италию, мои спутники условились, что надо обязательно побывать на узенькой улочке рабочего квартала Флоренции, где жили бедные влюбленные, на непритязательной виа дель Корно.
— Виа дель Корно?! Ты слышишь, Джезуина: в Москве знают о виа дель Корно! — с изумлением воскликнул Теодоро и пояснил мне: — Мы с Джезуиной выросли вблизи виа дель Корно!
Теодоро — второй сын квалифицированного каменщика, даже не простого каменщика, а старшего рабочего небольшой строительной артели. Обычно он договаривался о работе для шестнадцати—восемнадцати человек и отвечал за них перед подрядчиком. Сразу же после войны, унесшей в могилу старшего брата Теодоро (он погиб в Африке), на строителей появился большой спрос. Работу получили даже те, кто несколько лет подряд знал только лишь безработицу. Окрыленные этим, родители Теодоро решили наконец осуществить свою давнишнюю мечту и послать десятилетнего сына в одну из частных музыкальных школ Флоренции. До этого с ним время от времени занимался живший неподалеку больной тапер, неустанно убеждавший родителей, что у Теодоро незаурядное дарование пианиста. Когда и в музыкальной школе это подтвердили, лавочник с соседней улицы, разбогатевший во время войны, великодушно разрешил Теодоро бесплатно пользоваться роялем, стоявшим без дела, «для красоты», в его квартире.
С помощью своих товарищей по школе Теодоро стал обучать нотной грамоте подругу детства Дже-зуину, славившуюся в их квартале «ангельским голоском». Делалось это тайком от ее набожных родителей: они боялись прогневить священника, в хоре которого пела Джезуина.
Учителя были уверены, что Теодоро ждет будущность первоклассного музыканта. Но в 1949 году на семью Теодоро обрушилось несчастье: его отцу на стройке придавило грудь каменной плитой.
—• Вы же знаете,—• возбужденно воскликнул Теодоро,—'Для рабочего человека самое страшное — болезнь!
— У нас на улице обычно говорили: болезнь страшнее смерти,— вздохнув, добавила Джезуина.— Ведь покойнику уже не нужны ни врачи, ни аптекари.
554
Вначале отец Теодоро получал денежную помощь не только от профсоюза, но и от подрядчика, надеявшегося, что по выздоровлении опытный рабочий быстро отработает эти деньги. Но болезнь приняла затяжной характер. Подрядчик поспешил с помощью взятки засвидетельствовать, что несчастный случай произошел не из-за гнилых подмостей, как это в самом деле было, а якобы по неосторожности самого каменщика. Чтобы отец мог продолжать лечение, Теодоро вынужден был пойти учеником в мастерскую фотосувениров. Сестра Теодоро оставила учение в низшей средней школе, ибо в Италии среднее образование — платное. Вскоре она пошла работать в кондитерский магазин «девчонкой на побегушках».
Недолечившийся отец так и не сумел вернуться на строительные леса и стал подрабатывать жалкие крохи, продавая цветы у подъезда ночного ресторана. Семья узнала горькую нищету. Теодоро бросил учение в музыкальной школе. Правда, его преподаватель, веривший в талант своего ученика, продолжал с ним бесплатно заниматься у себя дома. Но вскоре юноше пришлось отказаться и от этого. Чтобы спасти семью от окончательного разорения, Теодоро вынужден был сделать то, чего ему никак не мог простить старый преподаватель: пошел пианистом в бродячий джаз. Этот жалкий оркестрик большей частью обслуживал столовые американских военных гарнизонов. Естественно, по заказчикам был и репертуар. Теодоро медленно, но верно утрачивал все, чему его учили пять лет. Может быть, в свободное от джаза время он иногда еще и занимался бы серьезной музыкой, но дочь лавочника, уязвленная его привязанностью к «этой нищенке Дже-зуине», запретила ему пользоваться роялем ее отца.
Старый преподаватель снова пришел на помощь своему ученику. Он помог Теодоро устроиться в небольшой симфонический оркестр, обосновавшийся в городе Сиене. Отец горячо убеждал Теодоро отказаться от поездки в Сиену.
— Сиена начала хиреть еще перед войной,— говорил он сыну.— А после войны она совсем пришла в упадок. Я знаю, молодые строители, да и вообще все рабочие стараются оттуда уехать куда угодно. Подумай, там после войны не построили ни одного нового здания!
555
Но Теодоро все-таки поехал в Сиену. Об этом старинном городе, состоящем на первый взгляд сплошь из островерхих башен и опоясанном каменными стенами, гид нам сообщил:
— Даже затрудняюсь сказать вам, чем живет население Сиены. Старики доживают здесь свой век. А молодежь. ..— Гид красноречиво развел руками.
А молодежь, как нам показалось во время прогулок по сиенским узеньким улочкам, насчитывает немало бездельников, не знающих, чем себя занять.
— Вы правы,— уныло согласился гид.— Бездельников много, но еще больше безработных.
Да. Сиена пришла в упадок. Жители очень жалуются на нехватку воды и на равнодушие туристов к местным сувенирам. В основательности первой жалобы мы имели возможность убедиться на собственном печальном опыте. Водопроводные краны источали влагу жалкими капельками не только в старой гостинице «Тоскана», где сорок лет тому назад жил Александр Блок, но и в фешенебельном отеле «Континенталь», перестроенном из старинного дворца.
В этом городе Теодоро проработал только четыре месяца. Прогнозы отца оказались справедливыми. Безработные сиенские музыканты устроили обструкцию Теодоро и двум другим пришельцам из Флоренции и заставили их покинуть сиенский оркестр.
Без денег и без работы вернулся семнадцатилетний музыкант в родной город. Зато у Джезуины к тому времени дела пошли как будто на лад: с согласия родителей она брала уроки пения у преподавательницы, имевшей когда-то собственную музыкальную школу в Риме. Теперь уже Джезуина заставляла Теодоро не бросать занятия музыкой, благо случайной работы в наскоро сколоченных джазах хватало только на два-три дня в неделю.
Но вот настал 1955 год, столь печальный для трудящихся Италии. К этому времени косвенные налоги выросли по сравнению с довоенным временем в два раза, а среднемесячный расход рабочей семьи, как показало официальное парламентское «Обследование нищеты», почти вдвое отставал от реального прожиточного минимума. Количество безработных (только офи-556
циально зарегистрированных) значительно превысило два миллиона человек.
Остался без работы и отец Джезуины: контору, где он служил, поглотила крупная американо-итальянская экспортная фирма. И девушке, только накануне впервые приступившей к разучиванию партии Амелии из оперы Верди «Бал-маскарад», пришлось бросить уроки пения.
Теодоро, к тому времени уже считавшийся женихом Джезуины, тоже стал зарабатывать гораздо меньше. Ему посоветовали уехать в Рим, где умеют ценить настоящих музыкантов. В Риме юношу приютила родственница, продававшая с тележки фрукты.
За год Теодоро сменил много, очень много профессий. Статист в оперетте. «Человек-сэндвич», закованный в рекламные щиты из фанеры и медленно двигающийся на велосипеде, чтобы прохожие успели рассмотреть рекламу кинотеатра. Официант летнего кафе на пригородном пляже. Агент по сбору объявлений, помещаемых на театральных занавесах. Мойщик автомобилей в гараже.
Как видите, ни одна из этих работ не была связана с музыкой. Мало того, ни одна из них не была постоянной и не давала Теодоро возможности хоть сколько-нибудь поддерживать семью.
Неожиданно в Рим приехала Джезуина, для которой во Флоренции так и не нашлось работы. После того как она прожила у своих знакомых два месяца, помогая, по хозяйству и ухаживая за больным ребенком, ей предложили... нет, не работу, а, как говорится, руку и сердце. Сначала к ней посватался владелец небольшой мастерской по ремонту мотороллеров — он был ровно втрое старше Джезуины. Затем его примеру последовал не менее пожилой агент рекламной конторы,. вначале обещавший устроить Джезуину на работу в этой конторе. Джезуина стала еще настойчивее искать работу. Вопреки совету приютивших ее знакомых, она продолжала говорить всем, к кому обращалась за работой, что у нее есть жених. Однажды управляющий гостиницей, у которого она просила работы, взял ее двумя пальцами за подбородок и игриво сказал:
— Ваша внешность нам очень подходит. Но жених,
557
которого очень любят, это серьезный недостаток даже при такой внешности.
Джезуина оттолкнула от себя синьора управляющего с такой силой, что тот чуть не свалился на пол. Сдерживая слезы гнева и возмущения, девушка выбежала из гостиницы. После этого на поиски работы она ходила уже только в сопровождении Теодоро.
Знакомые, приютившие Джезуину в Риме, не одобряли ее увлечения женихом. Такая красивая девушка, по их мнению, должна искать не работу, а состоятельного мужа и раз навсегда объявить Теодоро, что она не может стать женой безработного музыканта. Теодоро, язвительно говорили они, такой непредприимчивый, что работу себе найдет только разве на «святой год». Они имели в виду католический праздник, устраиваемый Ватиканом для привлечения в Рим паломников со всего света. Обычно в «святой год» магазины и рестораны набирают дополнительный штат приказчиков и официантов из безработных. Первоначально «святой год» устраивали каждые 100 лет; затем каждые 50 лет; но теперь из коммерческих и пропагандистских соображений папа решил устраивать «святой год» каждые 25 лет. Очередной «святой год» должен состояться в 1975 году.
— Теодоро придется ждать всего каких-нибудь двадцать лет,— издевались над Джезуиной ее «друзья», очень выгодно спекулировавшие иностранными медикаментами.
Теодоро удалось устроить Джезуину письмоводителем и уборщицей в контору молодого адвоката. Тот оказался добрым и сердечным человеком, но с одним недостатком: у него совершенно не было клиентов. Адвокат не только не мог платить девушке жалованье, но и сам серьезно подумывал о перемене работы. Слушая рассказ Джезуины об этом адвокате, я вспомнил выступавший на Международном фестивале молодежи в Москве римский джаз «Нью-Орлеан», состоявший, как известно, из одних только безработных молодых адвокатов. Не вошел ли в этот джаз и неудачливый патрон Джезуины? ..
Полгода Теодоро и Джезуина перебивались случайными, большей частью поденными, заработками. Об этой поре их жизни Джезуина сказала мне:
558
— Жили мы не намного лучше, чем живут в Тор-маранчо.
Сравнение весьма грустное: каждый, кто бывал в Риме, знает, с каким содроганием говорят там о бедняках, живущих впроголодь в сколоченных из досок и жести лачугах Тормаранчо — самого нищего предместья Рима.
Однажды Джезуина с радостью объявила Теодоро, что ей предложили сниматься в кино. Нет, пока еще не в художественных фильмах, о чем мечтает каждая итальянская девушка, начитавшаяся дешевых книжечек о головокружительной и сказочно легкой карьере Джины Лоллобриджиды и Сильваны Пампанини,— покамест ей предложили сниматься в рекламных короткометражках, но кто знает, что ждет ее, если она понравится зрителям!
Теодоро скрепя сердце согласился, чтобы его невеста пошла в студию на пробу. Но Джезуина выбежала оттуда через пять минут: ей предложили сниматься для порнографических открыток.
В эти грустные для юных влюбленных месяцы все чаще и чаще слышали они вокруг разговоры о соотечественниках, эмигрирующих за границу. Напомним читателю, что в те годы новая волна эмиграции охватила Италию. В одном только 1953 году уехало заграницу около 140 тысяч итальянцев.
Теодоро долго колебался. Но однажды Джезуина объявила ему, что ей не остается ничего другого, как поступить «девушкой для танцев» в Луна-парк, где она будет обязана танцевать со всяким, кто предъявит ей купленный в кассе жетон. И Теодоро решил, что единственный для него с Джезуиной выход — эмиграция.
Но куда эмигрировать? Где они смогут найти работу и закончить музыкальное образование?
Теодоро обратился за советом к одному из соседей по дому — элегантно одевавшемуся синьору, который наживал хороший барыш на каких-то непонятных обыкновенным смертным комиссионных операциях в спортивном клубе. Почему именно к этому дельцу, привлекавшемуся к уголовной ответственности за незаконные махинации вокруг спортивного тотализатора? Очень просто: соседи считали, что этот синьор прекрасно разбирается в международной обстановке, так
559
как выписывает газету и имеет собственный телевизор. Все остальные знакомые Теодоро и Джезуины читали газеты, конечно, в траттории и кафе, а телевизионные передачи смотрели в баре, купив это право заказом на стакан оранжада или чашку кофе.
Спортивный барышник, искренне желая добра жениху и невесте, посоветовал им уехать в Швецию. Из его уст Джезуина и Теодоро впервые услышали, что Швеция — самая благополучная страна в Европе^ не знавшая войны около полутораста лет. Он бурно восхищался выгодами, которые сумела извлечь из второй мировой войны нейтральная Швеция, диктовавшая свои торговые условия воюющим странам. Он уверял Джезуину и Теодоро, что в Швеции каждый живет так, «как он сам хочет». Особенно хорошо, по его словам, там живется людям искусства, ибо на них огромный спрос.
— Что такое ваш музыкальный талант? — спрашивал молодых людей преуспевающий биржевик. И сам же отвечал: — Товар. А каждому товару нужен тот рынок, где на него больший спрос. Вот, например, Италии не хватает первоклассных спортсменов. И мы покупаем их в Швеции. А в Швеции не хватает музыкантов. Народ там живет богато, ему нужна музыка. Значит, именно в Швеции вы наиболее выгодно сумеете продать свой товар!
Теодоро и Джезуина молча слушали барышника и в мечтах видели уже, как почтальон приносит в обнищавшие квартиры их родителей денежные переводы из Швеции, как все соседи завидуют им и поздравляют с успехом.
— Мы поклялись друг другу,— рассказывает Джезуина,— вернуться в Италию, как только станем на ноги! Как бы мы ни разбогатели в Швеции, какие бы контракты нам ни предлагали!
С таким решением в ноябре 1956 года ступили на шведскую землю Джезуина и Теодоро. Перед отъездом из Италии они поженились.
Климат Швеции так отличен от климата Италии. И светловолосые шведы не похожи на смуглых итальянцев. И архитектура в обеих странах разная. Наконец, Швеции не надо залечивать раны войны — страна не знала разрушительных бомбежек, ее мужчины 560
не гибли в сражениях, а женщины не получали траурных извещений с фронта. И все-таки с первых же дней Джезуине и Теодоро бросились в глаза не различия между Швецией и Италией, а то общее, что есть в жизни обеих — столь непохожих одна на другую — стран.
Джезуина, со свойственной итальянкам манерой рассуждать, не витая в облаках, а пользуясь обыденными житейскими фактами, сформулировала это так:
— Оказывается, синьор, и в Швеции у простых людей голова сохнет, как бы раздобыть недостающую крону, так же как и у нас, в Италии, думают о тысяче лир, без которой не пообедаешь.
— А это значит,— развил ее мысль Теодоро,— что молодому человеку, который должен сам себя прокормить, так же трудно начать жизнь, как в Италии.
Конечно, в Швеции гораздо меньше безработных, нежели в Италии. Но среди них, оказалось, есть и музыканты. Это было первым ударом по радужным мечтам молодых супругов.
Затем они с горечью узнали, что в Швеции имеет место и то, что безработный флорентинский капельдинер называл «неслыханным падением интереса к прекрасной музыке». До превращения оперных театров в кинематографы, правда, не дошло — не так уж много таких театров в Швеции. Но, во всяком случае, оперные оркестры не нуждались в музыкантах, как, впрочем, и симфонические. Не было потребности и в камерных певицах, на что так уповала Джезуина.
Получить работу — и не очень-то хорошо оплачиваемую — можно было только в джазе, в ресторане, в кабаре. Но Джезуина и Теодоро даже и слышать об этом не хотели. Разве для этого они бросили родину? Лучше уж поступить в продавцы, в конторщики, на любую иную работу, и одновременно продолжать музыкальное образование. Но только не в джаз, не в кабаре, словом, не туда, где работа будет портить им музыкальный вкус и убивать понимание настоящей музыки.
И все-таки молодым итальянцам пришлось пойти на работу в ресторан-кабаре. Когда-то его посетителями были преимущественно торговцы и иностранные моряки, а сейчас его в основном заполняла молодежь.
36 На разных меридианах 661
Джезуина и Теодоро никак не могли привыкнуть к тому, что песенкам о любви, изменах и ревности внимают, покуривая сигареты, четырнадцатилетние девочки, чей возраст не мог скрыть даже самый обильный грим.
Пришлось отказаться, до поры до времени, от мысли об уроках у стокгольмских преподавателей музыки, не говоря уже о консерватории. Это требовало значительных средств. А молодые супруги и без того еле-еле сводили концы с концами. Часть заработка владелец ресторана удерживал за прокат вечерних платьев для выступлений Джезуины. А из остальных денег по крайней мере сорок процентов поглощали квартира и транспортные расходы.
— О, эта проклятая квартирная плата! — выразительно восклицает Теодоро.
— О, эти проклятые автобусные билеты! — в тон ему продолжает Джезуина.
Они снимали жилье у домовладельца, взимавшего, как это принято в Стокгольме, квартирную плату почти вдвое выше, нежели в муниципальном доме. Впрочем, если бы их и записали на очередь, им пришлось бы очень уж долго дожидаться: в списках числилось 108 тысяч жителей шведской столицы, мечтающих вырваться из дорогостоящих квартир в частновладельческих домах. Мечтам этим не так скоро дано осуществиться: девяносто процентов новых домов в Стокгольме строят не муниципальные власти, а частные владельцы.
Большую брешь скромному бюджету молодых людей нанес и городской транспорт. Плата за проезд в стокгольмском автобусе и троллейбусе, а особенно в метро очень чувствительно бьет по карману трудящихся. Словом, квартира и проезд по городу съедали столько денег, что за учение платить было не из чего. Ну, и не из чего было, конечно, переводить деньги родителям во Флоренцию. Стыдясь этого, Джезуина и Теодоро все реже и реже писали на родину.
Они успокаивали друг друга, что ресторан-кабаре — это только временная остановка на блестящем жизненном пути, который их ждет в Швеции. Но дни шли за днями, а лучшей работы у них не было. Мало того, хозяин еще был недоволен Джезуиной: она чересчур официально, по его мнению, относилась к посетителям и
562
отказывалась выступать в чрезмерно откровенных туалетах, в каких блистали другие исполнительницы.
Среди завсегдатаев ресторана были два подростка. Их истощенный вид как-то не вязался с довольно значительными тратами в ресторане. Появлялись они не реже двух-трех раз в неделю и усаживались за один и тот же столик неподалеку от эстрады. Иногда с ними приходили дамы-иностранки, далеко не первой молодости, и тогда подросткам приходилось без устали танцевать со своими спутницами. Джезуина и Теодоро хорошо запомнили этих подростков: они неизменно требовали, чтобы на бис Джезуина пела песенку «Чим-ба-чимба-чимбаллеро». Неожиданно посещения юных завсегдатаев прекратились. А затем, месяца полтора спустя, в ресторане появился только один из подростков, еще более истощенный и помятый. Его друг, как сообщил Джезуине один из официантов, отравился. В ресторане к этому сообщению отнеслись довольно равнодушно. Только Джезуина и Теодоро были угнетены и подавлены. Они ведь тогда еще не знали, что Швеция твердо занимает в Европе второе место по количеству самоубийств, уступая только Дании, и что преобладает среди самоубийц молодежь. Вскоре молодых итальянцев успокоили: подросток отравился, кажется, не преднамеренно, а из-за чрезмерного употребления наркотиков.
После этого Джезуина и Теодоро не могли без отвращения видеть развязных и шикарно одетых молодых людей, торговавших тут же в ресторане наркотиками из-под полы. Все смотрели на это сквозь пальцы, как на самое обычное явление. А в то же самое время в аптеке, расположенной напротив ресторана, Теодоро отказались продать без рецепта врача аспирин для простудившейся Джезуины.
— Знаем, знаем мы эти простуды, молодой человек,— с грубой насмешкой ответил ему фармацевт.
И только после трагической гибели подростка Теодоро понял, на что намекал фармацевт: молодые наркоманы, чтобы одурманить себя, непомерными дозами глотали аспирин.
Смерть молодого посетителя ускорила уход молодых итальянцев из кабаре. Когда Джезуина пела «Чимба-чимба-чимбаллеро», у нее сдавливало дыхание,
36*
563
а в памяти неотвязно возникала деланная улыбка и пустые глаза молодого самоубийцы. И молодожены с радостью заплатили комиссионеру последние шестьдесят крон за то, что он устроил их в труппу разъездного кабаре, отправлявшегося в летнюю поездку по Швеции.
Во время этой поездки шведские дороги порой казались им итальянскими. Странно, не правда ли? Разве скандинавские пейзажи похожи на южноальпийские или сицилийские? Нет, пейзажи-то, действительно, разные, но назойливая помпезная реклама на фоне пейзажей — одинакова. Те же нескончаемые вереницы бензоколонок «Эссо», символизирующие американскую монополию на продажу горючего. Те же огненные росчерки «Кока-кола» в вечернем небе. Те же гигантские фотографии из гангстерских фильмов.
Поездка принесла молодым итальянцам весьма скромные заработки и очень обширное знакомство с нравами современной Швеции. На пляжах они видели юношей и девушек, вместе купавшихся голыми, под предлогом празднования дня Ивана Купалы. Старинный летний праздник солнца и белых ночей превращен сегодня сыновьями и дочерьми нажившихся на войне родителей в праздник «свободной» любви под открытым небом. В Треллеборге Джезуина и Теодоро были свидетелями драки между женщинами легкого поведения и школьницами. Зачинщицами побоища были первые. Они искренне возмущались тем, что школьницы, знакомясь с приезжими моряками, нарушают исконные профессиональные интересы проституток.
Готовясь к поездке, молодые флорентинцы поспешили разучить несколько шведских народных песен — мелодичных и трогательных. Они наивно рассчитывали добиться этим успеха у публики. Однако успех им принесли сомнительные песенки, выученные с американских пластинок.
Присматриваясь к своим слушателям, наблюдательная Джезуина сделала очень интересный и меткий вывод:
— В компаниях молодежи главенствуют не самые развитые, не самые начитанные. Нет, в центре компании всегда тот, у кого есть автомобиль или даже, по
564
верьте, пиджак самого модного покроя... Конечно, как и во всех странах, в Швеции есть хорошие парни и девушки, но мы их не видали: они не ходят в рестораны и варьете.
Вот уже более полутора лет Джезуина и Теодоро живут в чужой стране. Да, они не голодают, они прилично одеваются, они даже приобрели собственные костюмы для выступлений. Но этим, пожалуй, и исчерпывается все достигнутое ими в «цветущей» Швеции, где они надеялись найти применение своим дарованиям, где они хотели честно трудиться и совершенствовать свое искусство.
А в далекой Флоренции постаревшие родители тщетно ждут от них денежных переводов и, главное, бодрых, проникнутых верой в завтрашний день писем. Нет покамест этой веры в Джезуине и Теодоро.
Такова, вкратце, повесть о бедных влюбленных из оказавшейся для них мачехой ласковой Флоренции, услышанная из их уст на другом конце континента — на берегах, омываемых свинцовыми бурунами суровой Балтики. Грустна эта бесхитростная и не такая уж необычная повесть. Но есть утешение в том, что она еще не закончена. Теодоро и Джезуина любят друг друга, они еще очень молоды. Хочется верить, что они найдут работу по душе и призванию, найдут свое счастье. /961
В/МДи/ЧИР со/оухин-
От V М TKU
U )
Вьетнам*
И
И
И
осле долгих колебаний взялся я за перо, чтобы записать беглые свои впечатления, сохранившиеся в памяти от поездки во Вьетнам.
Я сам, когда беру книгу про какую-нибудь страну, хочу, чтобы все было в этой книге: и история народа, и его характер, и экономика страны, и социальные проблемы, природа, и климат, и животный мир, и фольклор, взгляд на будущее, и очерки по вопросам искусств, многое другое, без чего книга о той или иной
стране оказалась бы неполноценной.
Когда я брался за перо, я знал, что смогу написать лишь безнадежно неполноценную книгу, — вот проис-
хождение моих колебаний.
За двадцать восемь дней не узнаешь глубоко и одного человека, так, чтобы сделались понятными и характер и тонкие движения его души. Тем более нельзя
566
всесторонне и глубоко узнать за это время целый народ.
Конечно, можно воспользоваться сотней уже написанных книг и, вобрав в себя всю их мудрость (и цифровые выкладки, и таблицы, и диаграммы), сочинить как бы нечто свое; но тогда бы уж это были не путевые заметки, а некая диссертация на соискание ученой степени географических ли, экономических ли наук, и, чего доброго, я из путешественника-верхогляда превратился бы в почтенного ученого мужа, склонного к кропотливой исследовательской работе и обобщениям, полным глубины и смысла.
Может быть, и не стоило бы браться за перо, но все же стало жалко пусть немногих, пусть мимолетных, пусть поверхностных впечатлений. Это будут даже и не письма из Вьетнама, как принято обычно у путешественников, а незамысловатые открытки, которые пишут, как правило, на ходу и опускают во встретившийся на пути почтовый ящик.
Однако, может быть, прочитав мои путевые записки, читателю захочется обратиться к более солидным трудам или к книгам самих вьетнамских писателей, чтобы познать предмет в глубине и тонкости, и этим одним я был бы доволен.
Если к тому же запомнится какая-нибудь деталька, какой-нибудь штришок, какое-нибудь наблюдение из моих записок, если проступят сквозь штрихи и детали, хотя бы и смутные, хотя бы и внешние, черты земли и людей, населяющих ее, значит, стоило браться за перо и колебания были напрасными.
Выйдя на улицу Ханоя, вы тотчас попадете в водоворот велосипедистов и велосипедисток. Они мчатся во всех направлениях с большой скоростью, непрерывным потоком в течение всего дня. Только в самые тяжелые полуденные часы ослабевает движение на улицах, да вечером после десяти-одиннадцати часов оно замирает совсем: идешь как бы по опустевшему, покинутому жителями городу. Впрочем, в особенно душные ночи многие семьи, от мала до велика, выходят на берега ханойских озер и там располагаются на циновках, в надежде хоть на какую-нибудь прохладу, донося
567
щуюся от парной озерной воды. И так и спят около озер.
В некоторых кварталах я видел, как семьи выходят на ночь на тротуары и ложатся спать на тротуарах, раскаленных за день. Но, значит, все же людям здесь полегче, чем в помещениях, если есть смысл выходить.
Второе место после велосипедистов по многочисленности занимают ханойские ребятишки. Их так много, что можно назвать этот город городом детей. То, что приезжего человека отличить от вьетнамца нетрудно,— это факт. И рост, и ширина плеч, и цвет глаз и волос, и кожа, да и одежда сразу выдадут приезжего человека. Но в Ханой приезжают люди из разных стран: из Польши, Чехословакии, Болгарии, однако ребятишки сразу умеют определить, что вы приехали из Советского Союза. Гурьбой они окружают вас и кричат: «Ленсо! Ленсо! Ленсо!» (то есть советский),— и машут ручонками, и стремятся дотянуться, и что-то звонко лепечут по-своему, и улыбаются, и смеются своими угольками-глазенками. Тут невозможно удержаться, чтобы не помахать им рукой в ответ или не погладить одного, другого по головенке. Если же- человек прошел и никак не отнесся к детям, не обратил на них никакого внимания или даже раздраженно отвернулся и поторопился выйти из окружения, то и дети сейчас же охладевают к нему, разочарованно заметив: «А, это не ленсо, это, наверно, канадец!»
Многие очевидцы мне рассказывали, что в Индии, например, тоже каждого приезжего человека немедленно окружает толпа детей, и тоже каждый тянет ручонку, и все кричат наперебой: «Дай, дай, дай, дай, дай!» Руки тянутся, перепутываются, одна оттесняет другую, старается стать хотя бы на сантиметрик подлиннее другой. Человек уж вошел в автомобиль, но и через окна, поверх опущенных ветровых стекол, внутрь машины тянутся десятки рук, смуглых, худых, растопыренных: «Дай, дай, дай, дай, дай!» Потом займешь в гостиницу, останешься один, закроешь глаза, а в глазах все ручонки, а в ушах одно и то же: «Дай, дай, дай, дай, дай!»
Так вот, во Вьетнаме (я имею в виду Северный Вьетнам), при той же географической широте, при той же многочисленности ребятишек, при той же смугло
568
сти их ручонок, за целый месяц побывав на многих дорогах и во многих городах, я не увидел ни одной протянутой за подаянием руки, ни детской, ни взрослой, а если и тянутся детские ли ручонки, руки ли взрослых людей, то лишь затем, чтобы дотронуться до вас, сказав: «Ленсо!»,— или ради рукопожатия.
У мальчишек в Ханое, как и всюду, свои мальчишеские дела. Вот они вооружились длинными, похожими на удильники бамбуковыми шестиками с тончайшими гибкими концами и что-то промышляют на дереве, шарят в пышной кроне на самой макушке, высматривая добычу, видимую только им. Резкое движение, всеобщее ликование, а на конце бамбука, прилипнув к нему (значит, смазано липким), барахтается крупная цикада. Вот из калитки появляется человек, кричит на мальчишек, и они задают стрекача в разные стороны, точь-в-точь как и у нас, если бы сбивали палками желуди или если бы просто галдели под окном.
Но если разобраться, то ведь никакой галдеж не может сравниться с шумом, производимым самими цикадами: они кричат не всегда одинаково громко, есть у них, значит, свои часы. Например, без четверти семь вечера, как по команде, как по мановению палочки невидимого дирижера, по всему Ханою начинают орать цикады. Если вы идете как раз под деревьями, на которых они сидят, то шум, ими производимый, можно сравнить лишь с шумом моторов большого пассажирского самолета, когда он готовится взлететь. Разговаривать с собеседником в это время невозможно — все равно ничего не услышишь. Видишь, что собеседник раскрывает рот и что-то говорит, но что именно, не поймешь, как в немом кино. Кстати, в летнем открытом кинотеатре во время концертов цикад совсем не слышно звука: насекомые заглушают его. Пожалуй, если поискать слово: что делают цикады — поют, скрипят, трещат, свиристят, играют на скрипочках (бывает и такое восприятие у поэтов),— то самым точным, определяющим словом будет «верещание». Цикады именно верещат, заглушая все звуки, которые захотели бы посоревноваться с ними.
Мальчишки в цикадах находят свой интерес. Я видел иногда мальчишек с небольшими проволочными
569
клетками для цикад. Вообще же эти насекомые употребляются в пищу в жареном виде, на базаре лежат рядочками. Но о вьетнамской еде придется еще рассказывать особо.
Цикадам есть где разгуляться в Ханое — весь город, тонет в зелени. Кроны деревьев клубятся, как огромные зеленые облака, обволакивая, затеняя, но (так уж устроено) не загораживая все же красивые дома от глаз прохожих. Я сказал «красивые дома» и, конечно, ничего не сказал этим. Дело в том, что большая часть Ханоя, по крайней мере вся его центральная часть, состоит из небольших, двухэтажных или, реже, трехэтажных особняков, которые, может быть, вернее назвать виллами или коттеджами. Каждый из них мог бы стоять где-нибудь на берегу моря, в укромном уголке земли, но вот они собрались все в одно место и образовали город. Строили их для себя французские буржуи-колонизаторы, а частью местная вьетнамская буржуазия. Нанимались архитекторы, обладающие большим вкусом, выдумкой и старательностью.
Банановые и кокосовые пальмы, должно быть, тоже принимались в расчет при создании еще на бумаге архитектурного целого. Во всяком случае, одно дополняет другое. Я уверен, что наши северные деревья, например березы, не сочетались бы с архитектурой ханойских улиц так же удачно и так же точно.
Нет двух одинаковых или хотя бы похожих домов, у каждого свое лицо, своя «изюминка». Большое овальное окно в сочетании с какой-нибудь вертикалью, хотя бы и декоративной; терраса, расположенная асимметрично; наружная винтовая лестница, пущенная как нельзя кстати; ярко-зеленая горизонтальная штриховка деревянных жалюзи на чистом кремовом фоне самого дома...
Банановые пальмы едва-едва достигают до окон второго этажа, тогда как кокосовые легко перерастают и трехэтажные особняки.
Между таким домом и тротуаром обязательно поднимается каменный забор, за которым и растут деревья, окружающие дом. На тротуарах уж свои, так сказать, общегородские деревья, и главным образом «павлиний хвост»,— видимо, род акации,— цветущий красновато-оранжевыми цветами с таким буйством, что
570
не видно и листьев, или, может быть, не замечаешь их рядом с огнем цветения.
Рассказывают, что во время войны в джунглях партизаны по цветению этих деревьев (они зацветают в мае) определяли, что, значит, пришел день рождения товарища Хо Ши Мина, самого популярного, самого любимого человека во Вьетнаме. Теперь оранжевые деревья цветеньем своим отмечали его семидесятую весну.
В изучении иностранных языков у нас в школе существовал, да и теперь, видимо, существует, какой-то такой просчет, что почти все мы к наступлению зрелого возраста оказываемся невеждами в знании какого-либо иностранного языка. Во всяком случае, с людьми моего поколения дело обстоит именно так. Только те, кто окончил специальное учебное заведение, допустим институт иностранных языков, умеют говорить по-французски ли, по-английски ли, но много ли найдется людей моего возраста, окончивших десятилетку и, значит, в течение самое маленькое пяти лет изучавших язык, которые могли бы разговаривать не по-нашему? Много ли найдется также людей, окончивших высшее учебное заведение, например химический или физико-математический институт, которые хорошо владели бы иностранным языком? В то время как (и тут мы должны взглянуть правде в глаза) в Европе почти каждый владеет одним, а то и двумя и тремя языками кроме своего родного.
Я изучал восемь лет немецкий язык и пять лет французский, причем считался прилежным учеником; в школе мне выдали похвальную грамоту, а в институте— диплом с отличием. И что же? Умею я говорить по-немецки или по-французски? Ничуть не бывало. И ни один человек из учившихся вместе со мной не лучше меня в этом отношении. А между тем стоит только высунуть нос за границу, как незнание языка превращается в неудобство и бедствие.
Я уж не говорю о том, что за переводчика надо платить наше кровное золото, не беру крайнего случая, когда переводчик может оказаться недобросовестным. а вы не сможете проверить, правильно ли он
571
переводит ваши слова и какое тем самым создает о вас впечатление.
Возьмем случай самый простой: переводчик недостаточно хорошо, не в тонкостях знает ваш язык. То, что вы рассказываете собеседникам, употребляя образы, метафоры, красочные эпитеты, он переводит двумя-тремя словами, схватив лишь главный смысл. Вы будете выглядеть перед собеседником примитивным, неинтересным и, может быть, даже невольно оглупленным. Постепенно вы сами в разговоре будете употреблять лишь самый маленький, упрощенный набор слов, чтобы быть понятнее для переводчика, чтобы ему легче было вас переводить. Пусть уж лучше он переведет три ваших слова вместо тридцати, но зато, может быть, эти три слова он переведет более точно.
А между тем вам надо все знать. И если крестьянин что-либо рассказывает вам в течение десяти минут, с жестами, с мимикой, оживленно смеясь, пуская, наверное, меткие, точные словечки, то очень вам не захочется, чтобы речь крестьянина была переведена в двух-трех словах, сухо, хотя, может быть, и правильно по существу.
Товарищ Кы, хотя и знает русский язык лишь в самых общих чертах, все же мог бы быть вполне исправным переводчиком, если бы нужно было переводить менее дотошному человеку, потому что грубые промахи понятны всякому. Так, например, когда он показал мне на гигантское причудливое дерево, состоящее из десятков стволов, образующих все-таки один ствол, и заявил, что это священный фокус, я, разумеется, ему не поверил, а при уточнении оказалось, что имеется в виду священный фикус. Или когда он несколько дней спустя переводил мне с вьетнамского отрывок из «Кавказского пленника» Пушкина и употреблял такие выражения, как «молодой чекист», «старый чекист», я тотчас догадался, что речь идет всего-навсего о черкесах.
Сложность пришла на базаре. Тысячи вьетнамцев, а главным образом вьетнамок, принесли в одно место все, что может уродить мокрая вьетнамская земля, насквозь прогретая тропическим солнцем. Впрочем, все это изобилие можно было разделить на три части: плоды земли, как они есть, только что сорванные с де-572
рева, вырытые из земли или выловленные из воды; разнообразная пища, приготовленная из этих плодов; разнообразные изделия, приготовленные из даров земли — тростника, бамбука, пальмовых листьев. Я думаю, что с записной книжкой по такому базару можно было бы ходить несколько дней, и то не переписать всего, что тут лежало в корзинах, мисках, на прилавках небольшими кучами и на земле большими грудами.
Половина людей торгует, половина ест. Тут же, среди торгующих, обосновались бродячие харчевни (два ящика на коромысле), и вот уже струится дымок, пар поднимается от риса, и разнообразная снедь, о происхождении которой ни за что не догадаешься, раскладывается в небольшие мисочки. Мелькают палочки, жуют рты, шум, гам, и бог торговли лениво парит над всем, пресыщенный созерцанием.
— Кы, что это за круглые прозрачные шарики величиной с орех? Из чего они приготовлены?!
— Ну вот, это вьетнамская пища.
— А-а... Скажи, пожалуйста, эта черная вязкая масса, которую вьетнамец режет ножом, верно, из каких-нибудь тропических фруктов?
— Ну вот, это наша вьетнамская пища.
— Вот эти квадратные пакетики, сделанные из банановых листьев, перевязанные ленточками и наполненные чем-то нежно-зеленым?
— Это особая вьетнамская пища.
— Темно-коричневый горячий напиток, разливаемый стариком?
— Вьетнамская пища!
— Какое-то странное соленье в корзинке?
— Вьетнамская пища...
Конечно, кое о чем можно было догадаться самому. Кое-что выпытывалось путем наводящих вопросов. Так, неведомое соленье оказалось из нераспустившихся бутонов банановых деревьев; зеленая масса в банановых листьях — вкусной оригинальной едой, приготовленной из специальных сортов клейкого риса, сахара, массы кокосовых орехов, фасоли и еще из каких-то составных частей. Кстати, зеленый цвет свой эта еда взяла именно от бананового листа, в который завернута.
Кокосовые орехи можно было узнать и не спрашивая у переводчика. Снаружи у них гладкая зеленая
573
Кожура, йотом идет толстый слой желтой мочалки, Потом уж твердая масса, а потом уж и кокосовое молоко. Их и продают двояко: либо с наружной зеленой кожурой, либо очищенными от нее, похожими на рыжие головы.
Без переводчика узнал я и лягушек, нанизанных на прутик и носимых стариком рыболовом (простите, лягушколовом), и груду прудовых улиток, от которых издали пахнет тиной и водорослью, и жареных цикад, разложенных рядочками. Девочка что-то вынимает из кулька и лузгает наподобие семечек, выплевывая лишнее. Подошел поближе — жареные черные жуки. Они тропические, несколько покрупнее наших, а уж про вкус не скажу: не пробовал ни тех, ни других.
Сахарный тростник навален, как дрова. Думаешь, высохшие кукурузные стебли, возьмешь в руку — и удивишься наполненной сытной тяжести стебля; продолговатые, похожие по форме на гигантские сливы, частью зеленые, частью пожелтевшие плоды манго — лучшее, что дают тропики; похожие на зеленых ежей плоды хлебного дерева; золотые, сочные ананасы; розоватые снаружи «слезы китайской королевы»,— но над всем царят, все затмевают ароматные, вкусные, сытные бананы.
— Много ли бананов «в вашей стране? — наивно спросил я у Кы в первый день.
Кы долго потешался над этим моим вопросом.
— Много ли у вас в стране бывает летом травы, а зимой снега?
Рядом с «аристократией» тропического земледелия, возрастающей высоко над землей, заняли место на базаре и плоды, произрастающие в земле: бататы, маниока, земляной орех, острый, душистый имбирь.
А вот уж ряды, где продают конические шляпы для женщин, шлемы для мужчин, корзинки из бамбука, циновки, прямоугольные плетеные предметы, служащие, оказывается, подушками (вьетнамцы не кладут под голову мягкого), ароматические палочки, палочки для еды и много всего другого, часто непонятного непосвященному глазу, составляющего то, что называется простым емким словом «быт».
574
Кы, что это там? — показал я на маленького черномазого поросенка с животиком, волочащимся по земле.
— Ну вот, это вьетнамская пища,— ответил Кы, поняв и приняв шутку.
Молодая вьетнамка с распущенными волосами стоит у некоего сооружения с колесом, похожим на морской штурвал. Она берет обрубок сахарного тростника, очищает его от жесткой кожуры, расщепляет, как лучину, на две половинки и сует в железные валки, потом начинает крутить колесо.
Расщепленный сахарный тростник проволакивается через валки. По валкам течет и стекает вниз, в резервуар, а может быть, просто в миску желтый сок. Это происходит на улице, на берегу озера. Около «выжи-малки» несколько столиков. Сидят вьетнамцы. Из высоких толстостенных стаканов они пьют не спеша желтую густоватую жидкость.
Такие «выжималки», такие своеобразные кафе на открытом воздухе попадаются на каждом шагу и в Ханое и в других городах, хотя плантаций сахарного тростника в Северном Вьетнаме, можно сказать, нет, они все остались на юге страны. На севере тростник растет как огородное, приусадебное растение. Он в росте своем очень похож на кукурузу: такие же листья (чуточку поуже), так же высок, но вот весь, как губка, напитан сахаром.
Я купил у вьетнамки обрубок тростника длиной полметра, очистил его перочинным ножом и съел от кончика до кончика. Откусываешь часть сердцевины, нажимаешь зубами, и рот наполняется сахарным сиропом. А остатки, спрессованные зубами и сделавшиеся безвкусными, приходится, конечно, выплевывать.
Помню, в школе в четвертом классе учили по географии про неведомый сахарный тростник в связи с колониями, в связи с угнетенными странами. ..
Первого рыбака мы с товарищем Кы увидели на Западном озере, возле старинной пагоды. Он стоял на берегу и бросал спиннинг без блесны, с какой-то обыкновенной наживкой, в густые заросли лотоса, пока еще не цветущего.
575
— Как он умудряется не зацепить крючком за растение? — спросил я у Кы.— У нас давно бы уж зацепил.
Устройство оказалось простейшим и хитроумным. Крючок с длинным цевьем, грузик, припаянный к нему там, где обыкновенно бывает петелька. В грузике углубленьице. Рыбак, насадив мясо или креветку, берет отрезочек пустотелой травинки, накалывает её на острие крючка, а другим концом упирает в углубленьице на грузе. Получается своеобразный треугольник, который скользит по водорослям и насквозь проскальзывает через сплошные лотосовые заросли.
Я надеялся увидеть тут же каких-нибудь невероятных тропических рыб, но рыбак, как большинство рыбаков в мире, был пуст и только надеялся что-нибудь поймать, как надеются его остальные собратья на всех пяти материках (не знаю, удят ли рыбу в Антарктиде).
Недалеко от дома, в котором я жил, было другое озеро. Куда бы и откуда я ни шел, мне все равно приходилось идти мимо него. Тут в тени деревьев постоянно сидели рыбаки. Способ ловли у всех у них был одинаков. Представьте себе пять крючков, каждый на толстом коротком поводке, длиной со спичку. Поводки скреплены в одной точке, так что получается звездочка из крючков. Без всякой наживки крючки опускаются на дно. Значит, надо теперь ждать, когда рыба проплывет именно в этом месте и зацепится животом или хвостом за крючок. Тогда поплавок, естественно, дернется, и рыбак вытащит добычу на берёг.
Я долго не мог поверить в простоту способа и думал, что тут есть какая-нибудь хитрость. Но вся хитрость состояла в том, что озеро кишит рыбой, иначе разве дождешься, чтобы рыба проплыла именно там, где крючок, да еще и зацепилась за него.
Приходила мысль, что если рыба кишит, то какой же должен быть клев! Неужели не догадаются ханойские рыбаки попробовать ловить на обыкновенные удочки? С другой стороны, почему не предположить, что за последние двести — триста лет на этом озере были перепробованы все способы ловли, пока наконец не был найден самый простой и добычливый?
Иногда рыба не зацепится как следует, и на крючке останется только круглая прозрачная чешуйка. Но 576
чаще, как только поплавок дернется, так и натягивается леска до звона, и рыбак сматывает катушку, подволакивает мечущуюся из стороны в сторону рыбу к берегу.
При мне попадался всегда один и тот же вид рыбы — нечто среднее на вид между лещом и плотвой, то есть тоньше, площе плотвы, но длиннее и уже леща. Цвет синеватый, почти чисто голубой. Встречаются экземпляры от ста граммов до килограмма. Может, бывают и крупнее, но при мне не попадалось.
Особенно везло одному рыбаку, с искривленными (наверно, ревматизмом) ногами и спиной. Темно-коричневая рубашка на нем истлела и во многих местах провалилась, но так как она прикипела к коже и так как кожа такая же темно-коричневая, то прореху не сразу заметишь.
Ковыляя, согнувшись, ходил рыбак с места на место в известных ему пределах (заметил я, что подбрасывает прикормку) и неизменно вытаскивал таких рыб, что все на берегу ахали и сбегались смотреть.
Впрочем, за спиной у каждого рыбака обычно стоит пять-шесть зрителей, среди которых частенько бывал и я.
Выехать из Ханоя мы решили в пять часов утра. Когда за четверть часа до отъезда я вышел на улицу, возле дома трое мальчишек играли в мяч, так же обыкновенно, как если бы стоял полдень. Но в том-то и дело, что в полдень они уж не играют, а прячутся от жары.
Я предложил, предварительно поелозив по карте, следующий план поездок: во-первых, на север страны, в джунгли, туда, где во время войны был центр Сопротивления, лесная столица Вьетнама, резиденция Хо Ши Мина; во-вторых, на юг, разумеется не южнее семнадцатой параллели; в-третьих, через дельту Красной реки к морю.
Но план мой не был одобрен и принят. Вернее, он был принят, но изменен.
Товарищ Хиеу заявил, что поездка в джунгли требует акклиматизации и подготовленности организма.
37 На разных меридианах
577
Значит, надо сначала съездить на семнадцатую параллель, потом к морю, а потом уж и в джунгли.
Итак, мы поехали в сторону юга.
Какую бы деревню ни пронизывала насквозь дорога, по обеим сторонам ее сплошь тулятся крохотные примитивные лавочки. В сущности, это те же самые хижины, как если бы и вдалеке от шоссе, но стены и окна, обращенные взгляду проезжих, сплошь увешаны и уставлены товарами. Главным образом это бананы (в первую очередь и в самом большом количестве), кокосы, ананасы, плоды хлебного дерева, сахарный тростник, бататы, маниока, жареные куры, большие тонкие сочни, высушенные на солнце, а близ рек креветки и крабы.
Возле одной переправы были вывешены для продажи желтовато-белые тушки величиной с куриные и очень похожие на них. Я подошел поближе. Желтое плотное мясо тушек было мне незнакомо, но чувствовалось, что оно съедобно и, может быть, даже вкусно. Там, где быть бы (если бы курица) куриной шее, раз-с ветвлялись длинные тонкие щупальца. Тотчас я привлек к делу товарища Кы, но он никак не мог припомнить русского слова, чтобы назвать тварь.
— Ну, в море... плавает... чернильница...
Так в первый раз в жизни я увидел настоящих, хотя и неживых, даже уж и выпотрошенных каракатиц.
Не только снедь бывает выставлена на показ и продажу. Например, в одном месте мы видели целые ряды пустых пузырьков из-под одеколонов и лекарств, бутылок из-под пива. А один наставил десятка полтора старых, чиненых-перечиненных будильников. Так, наверно, и выставляет их каждый день без убыли и, значит, без прибыли. Ну кому на дорогах Вьетнама придет в голову покупать будильник?!
Если вы начинаете обгонять вереницы бегущих по сторонам дороги женщин с коромыслами, то, значит, скоро, километров через десять — пятнадцать, будет город. Женщины бегут туда.
578
Если же вы только что выехали из города, то бегущие женщины будут, напротив, попадаться вам навстречу до тех пор, пока вы не отъедете от города километров на десять — пятнадцать.
Конечно, и между городами, вдалеке от городов, на всех дорогах Вьетнама и на всех его тропинках встретишь и женщин и мужчин, несущих грузы, но близ городов их толпы.
Коромысло бамбуковое, несколько изогнутое, как и положено коромыслу, но загнутые концы его не опущены вниз, а, наоборот, подняты кверху, то есть оно лежит на плече вниз горбылем, соприкасаясь с телом в одной-единственной точке.
От концов коромысел опускаются вниз три-четыре веревки, на которых близ земли и покоятся деревянные глубокие чашки. Все сооружение напоминает простейшие весы «коромыслом», а точка опоры — человеческое, чаще всего женское или девичье, плечо.
Что переносится на таких коромыслах? Все! Рис по двадцать килограммов в каждой чашке, гравий или песок, если строится дорога, или просто земля, если нужно соорудить дамбу, гирлянды бананов, бататы и маниока, рыба, куры, поросята, домашняя утварь, обрубки деревьев, крабы, креветки... Иногда в одной чашке лежит груз, а в другой сидит дитя: и соблюдается равновесие, и нужно же его все равно нести.
Во время войны, особенно при осаде крепости Дьен-Бьен-Фу, вьетнамские женщины еженощно несли и несли через всю страну рис, так что хватало его на пропитание огромной армии, сжимавшей кольцо вокруг обреченного, но не сразу-то сдавшегося врага.
Да что продовольствие! Пушки в разобранном виде несли по джунглям вьетнамцы, и принесли их, и собрали, и пушки сказали свое веское огненное слово, и в гневе их была частица той боли, с которой давят миллионы бамбуковых коромысел на миллионы женских и девичьих плеч.
Тихонечко с коромыслом идти нельзя. Оно пружинит, при каждом шаге сгибается и распрямляется, поскрипывает и так раскачивается в конце концов, что вырабатывается ритм, согласованность между шагом и качанием коромысел, и вот уж женщина бежит,
37*
579
трусит, подчиняясь этому жестокому ритму, и не может остановиться, ибо если останавливаться, то совсем.
Благодаря ритму и благодаря тому, что бежит чуть ли не вприпрыжку, кажется, будто легкое занятие — нести сорок килограммов на одном плече, и не только легкое, но и красивое. Прибавьте к этому широкую коническую шляпу, волосы, распущенные по спине, спину прямую, как струна, от напряжения. Да еще и улыбается вьетнамка, увидев приезжего человека.
Но впечатление обманчиво. Не доверяйте ему: нести коромысло тяжело и больно. Надо и то учесть, что в воздухе около сорока, и только ветер, бьющий в окна вашей машины, кое-как спасает вас. Но ведь их-то, бегущих по сторонам дороги, не обдувает ветром. Не такая уж скорость, чтоб обдувать.
Надо иметь в виду только одно: сейчас, когда я пишу, или в ту минуту, когда вы будете, может быть, читать мной написанное, в любую минуту, кроме поздних ночных часов, по всем дорогам и тропинкам Вьетнама трусят потихонечку женщины и мужчины с коромыслами, бегут беспрерывно и всюду, вдалеке от городов — пореже, близ городов — толпами, но всегда и всюду бегут, и нам издалека не надо считать, что не режут плеч узкие бамбуковые коромысла.
Хиеу, едва отъехали от Ханоя, сказал:
— Есть проект постановления: запретить крестьянам выращивать бамбук.
— Почему? — пойманный в шутливую ловушку, удивился я.
— Чтобы не из чего было делать коромысел!
В этом анекдоте есть не только юмор, но и капелька горечи.
Все же я думаю, что и бамбук будет цел и коромысел скоро станет меньше. Ведь всего шесть лет, как кончилась война, и вновь появившееся на карте земли государство обрело мирные дни и ночи. Будут грузовики, будут мотоциклы, будут и легковые машины, будет все. Лишь коромысел станет гораздо меньше.
Когда я чихнул, захватив на ветру порядочную толику красной дорожной пыли, Кы обронил небрежно, глядя в ветровое окно:
580
— Рис да соль!
— Чего?
— У вас говорят: будьте здоровы! А у нас — рис да соль, ну, вроде вашего хлеб да соль, понимаете?
Рисовые поля пестрели и справа и слева от нас. Когда я увидел рисовые поля, пролетая над Китаем, а потом уж и над Вьетнамом, самый вид их поразил меня. Маленькие, плотно прилепившиеся друг к дружке, бесконечные в своей многочисленности, залитые водой, они больше всего похожи, пожалуй, на пчелиные соты. Но если у пчел существует единая, раз навсегда установленная геометрическая форма ячейки, то здесь господствует полный произвол: продолговатые, округлые, почти квадратные, замысловатые, они распространяются по земле, как если бы некие растительные клетки, благодаря грандиозной трудоспособности тех, кто их создает.
Хлеба вьетнамцы не знают. И рис здесь означает то же, что для нас хлеб. Во всяком случае, когда в 1945 году страну постиг неурожай риса, усугубленный японской оккупацией и распрями между японцами и французами, около двух миллионов вьетнамцев умерло от голода.
Да, рис значит все. Недаром пять лет спустя после этого ужасного бедствия (только подумайте: два миллиона человек в 1945 году!), а именно 14 марта 1951 года, французский генерал Линарэ распространил директивы, содержащие редкие по своей бесчеловечности и дикости инструкции: «.. .уничтожение. Практически имеются два способа уничтожения риса:
а) Намочить рис, поливая его водой или оставляя под открытым небом во время дождливого сезона. Но для того, чтобы испортить рис, его необходимо оставлять мокрым в течение сорока восьми часов. Чтобы обеспечить успех этой операции, необходимо предпринять все меры к тому, чтобы население в этот промежуток времени не явилось спасать рис и не успело спрятать испорченную его часть в укрытие.
б) Обливать бензином или газолином обнаруженные значительные склады риса» 1.
1 Жан Шено. Очерки истории вьетнамского народа. Издательство иностранной литературы, 1957.
581
Не знаю, с какой степенью легкости подписывал генерал Линарэ упомянутый циркуляр, а также с какой степенью легкости французские солдаты выполняли его инструкции, но выращивать рис вовсе не так легко. Пожалуй, без ошибки можно сказать, что рис из всех культивируемых и выращиваемых человеком растений есть самое трудоемкое растение.
Куда бы вы ни поехали, стоит только взглянуть по сторонам, как тотчас в поле зрения окажутся то тут, то там несколько крестьян, перекачивающих воду на свои поля. Чаще всего мы видели два способа перекачивания воды. Ставятся шалашом три шеста, образуя треногу гораздо выше человеческого роста. К треноге подвешивается на веревке плетенный из бамбука лоток с длинной рукояткой. Крестьянин, стоя по колено в воде, начинает за рукоятку раскачивать лоток взад и вперед. В самой нижней точке лоток врезается в воду, зачерпывает ее, а пролетая дальше, выплескивает на поле. Люди подсчитали, что за Одну минуту крестьянин успевает сделать двадцать два взмаха лотком. Воду при этом он может поднять с одного уровня до другого на 40—70 сантиметров. За один час работы таким способом можно перекачать всего лишь один кубометр воды, то есть, значит, для того чтобы залить поле размером в один гектар, нужно проработать ни много ни мало — одиннадцать дней с утра до вечера.
Вот почему и рано утром, и в разгар вьетнамского полдня, и поздно к вечеру стоят по колено в воде, и качают, и качают на свои поля воду вьетнамские крестьяне.
При втором способе работать нужно сразу двоим. Двое держат за концы веревку, к которой в середине привязан конический бамбуковый черпак вроде перевернутой острием вниз шляпы. Дальнейшее — дело сноровки и привычки. Кажется, качающие (чаще всего муж и жена) ничего и не делают, а только слегка подергивают за концы веревки, а черпак летает между тем то вниз, то кверху, то зачерпывая, то выплескивая мутную теплую воду.
Вот опять я впал в созерцательность, и выходит, что качать воду не только не тяжело, но даже и красиво: «слегка подергивают... черпак летает...» Не пустой летает, а с водой, и не пятнадцать минут подерги
582
вают, а от зари до зари, и не одни только сутки. Попробуйте возьмитесь за эту работу. Во-первых, у вас ничего не выйдет, а во-вторых, вам ни за что не проработать таким образом больше часу, да и часу не выдержишь: руки онемеют и станут деревянными гораздо раньше, не говоря уж о том, что вы окончательно сопреете на солнце.
Вот крестьянин погоняет буйвола, завязнувшего по брюхо. Буйвол тащит соху, деревянную, обшитую железом. Соха под водой что-то расковыривает, разрыхляет, ничего не видно, только руки пахаря чувствуют и знают, что там происходит под водой.
Вот буйвол тянет однорядную борону — планку с редкими зубьями.
Вот вместо бороны гладкая доска, которой крестьянин приглаживает жидкую грязь, или, правильнее, густую жижу.
Поля, засеянные рисовой рассадой, горят такой яркой, такой необыкновенной по цвету зеленью, что не придумаешь, с чем и сравнить. Ощущение особой свежести достигается и тем, что сквозь густую щетку молодых ростков проблескивает устоявшаяся, не такая мутная, как во время пахоты, вода.
Теперь надо каждый стебель осторожно выдернуть и, сложив стебли в пучки, перенести на другое, подготовленное для пересадки поле. Вот самая характерная картина при этом.
Поскольку люди в воде и поскольку они сильно наклонились, их почти не видно, видна лишь шеренга широких светлых шляп, касающихся друг друга и медленно, шеренгой, продвигающихся по полю.
Сажать рассаду в землю нужно тоже каждый стебелек отдельно, окуная руку в воду по локоть и глубже. Уж не сплошная густая щетка зелени получается после пересадки, а водная гладь, горящая редкими зелеными огоньками, расставленными в правильном шахматном порядке.
Потом зелень снова загустеет от роста, начнет темнеть, желтеть, позолотеет и, наконец, к началу уборки станет бурой.
Мокрые срезанные колосья приходится сушить, прежде чем выколачивать из них драгоценное (правда ведь драгоценное?) рисовое зерно. Но и после жатвы
583
нужно крестьянам опять лезть в воду: срезать под корень рисовую солому. Трудно пока механизировать выращивание риса. Трудно применить сейчас хотя бы опыт наших среднеазиатских республик. Не повернется на здешних рисовых полях ни комбайн, ни трактор. Рисовое поле тут не может быть просторным, большим. Попробуйте ровным слоем воды залить большое пространство — ничего не выйдет: в одном месте будет очень глубоко, в другом — очень мелко, ибо нет идеально ровной земли. Вот и приходится дробить большие поля на маленькие площадки, отгороженные одна от другой земляными перегородками, и перекачивать воду с одной площадки на другую, поднимая ее все выше и выше, даже иногда и по склону холма.
Когда думаешь о механизации, о том, что могло бы в первую очередь облегчить труд вьетнамского земледельца, приходит в голову мысль о самой простейшей, легкой, переносной бензопомпе, которая тарахтела бы там и тут взамен раскачиваемых бамбуковых лотков и черпаков. Наверно, появятся со временем эти помпы на полях...
На рисовых полях вьетнамцы разводят рыбу. Тут тройная выгода. Во-первых, рыба есть рыба — прекрасная еда; во-вторых, она, пусть незначительно, удобряет землю; в-третьих, она, пусть и несильно, разрыхляет землю под водой, роясь в ней в поисках корма.
Часто видишь на полях подростков, толкающих впереди себя некие волокуши, плетенные из бамбука. Я несколько раз вблизи наблюдал, даже забирался на поле, но рыба при мне не попадалась. Попадались в волокушу какие-то прозрачные длинненькие (размер спички) существа со жгутиками, сильно подпрыгивающие на одном месте. Существа эти также служили добычей вьетнамцев. Не пренебрегали ловцы и прудовыми улитками. Но лучшей добычей после рыбы являются, конечно, креветки.
Вот распространенная вьетнамская картинка: буйвол пасется по брюхо в воде или на сухом месте, а на нем сидит вьетнамский мальчик. Сидит он небрежно,
584
не верхом, а как бы на скамейке, часто лежит, развалившись, и даже спит. Много раз я видел именно спящих на буйволовой спине детей. Надо полагать, дети сидят на буйволах не только ради забавы, но как па-стушатки. Наш пастушонок, конечно, лежал бы себе на пригорке, на травке, в холодке, строгал бы палочку или плел кнут. Но так как буйволы часто пасутся среди залитых водой полей, то у вьетнамских мальчиков выработался способ пастьбы: лежать или сидеть на спине буйвола.
Буйвол — самое дорогое, что может быть у вьетнамского крестьянина после участка земли. Во время недавней войны французские самолеты охотились за буйволами азартнее, чем за самими вьетнамцами, а буйволы (выработался рефлекс), заслышав самолет, тотчас сами бежали в чащу леса и таким образом спасались от крупнокалиберных пуль.
Существует одна любопытная особенность: какую бы работу ни делали вьетнамцы, они делают ее как-то очень легко на вид, я бы сказал, грациозно.
Старуха несет пружинящее коромысло, а со стороны вовсе не кажется, что она несет ужасную для ее щуплого тельца тяжесть; две молодые вьетнамки качают воду: кажется, что они делают это для разминки мышц, играючи, заботясь не столько о перекачке воды, сколько о гибкости своего тела; четверо мужчин стоят на пароме и перебирают канат, конец которого укреплен на далеком берегу, то есть фактически тянут паром, нагруженный тремя автомобилями и двадцатью человеками, но перебирают они канат так небрежно, покачиваясь в такт справа налево, как будто в руках у них не канатище, сплетенный из трех толстых лиан, а так себе, изящные четки.
Тоненьким смуглым рукам вьетнамцев свойственна поразительная выносливость. Кстати о тоненьких смуглых руках.
Вьетнамцы из поколения в поколение, века трудились на рисовых полях в условиях изнурительной жары и очень нездорового в смысле всевозможных инфекций климата. В течение тех же самых веков они
585
недоедали. От истощенных, изнуренных людей рождались истощенные дети. Вьетнамский офицер в разговоре с польским журналистом Войцехом Жукров-ским говорит:
«Друг, брат! .. Вот ты все время говоришь: «понимаю», «понимаю», но ведь ты не можешь представить себе, что значит работать на рисовом поле с рассвета до ночи! .. Ты не относил корзинки с рисом в амбар господина... Ты не отдавал мучителю своего риса, посеянного на клочке поля твоими руками, когда каждое зерно имеет неоплаченную цену пота, крови и горьких слез! Знаешь ли ты, что такое отдавать зерно, когда в доме твоем плачут голодные дети? .. Я не знаю, был ли ты голодным настолько, что терял сознание! . . А мы голодали так из поколения в поколение. Посмотри на нас, какие мы низкорослые, худощавые. Нет, нет, это не вопрос расы!» 1
Голод 1945 года унес в землю два миллиона вьетнамцев. Но никто не считал, сколько их выжило, будучи истощенными до последней степени. Никто не знает, до какого колена в потомстве будут сказываться бедствия 1945 года. А сколько волн подобного голода прокатилось раньше, в предыдущие века, над вьетнамской землей! Только задавая себе эти вопросы, поймешь, что значила августовская революция для вьетнамцев, почему с такой яростью, с такой железной стойкостью, я бы сказал, выносливостью вьетнамцы дрались за свою свободу и чего они добились уже за эти шесть лет своего свободного, независимого существования.
Русские люди, живущие в Ханое, в один голос говорят о том, что стало радостно смотреть на вьетнамских детей, играющих на тротуарах. В последние годы на улицах Ханоя появились полненькие, упитанные ребятишки и совершенно исчезли крохотные скелетики, обтянутые смуглой кожей, исчезли, надо полагать, навсегда.
Будут вырастать здоровые, сытые, свободные поколения, будет из года в год облегчаться их труд. От здоровых, свободных людей будут рождаться здоровые, свободные люди.
’В. Ж у к ip о в ск и й. Дом без стен. Вое-низдат, 1957.
586
Будущее вьетнамского народа только что началось. Оно началось сегодня, на наших глазах, оно будет счастливым и светлым.
Я уже писал вначале, что записками своими о Вьетнаме хотел познакомить советского читателя главным образом с природой и бытом этой страны, мало у нас известными.
Однако, будучи во Вьетнаме, нельзя не почувствовать из любой встречи, любого разговора и нельзя не вспомнить здесь, в Москве, той атмосферы революционности, преобразований, стройки, в которой живет народ, все вьетнамцы. Августовская революция продолжается. В трудных, специфических условиях строит народ Вьетнама социализм. На протяжении десятилетий развитие страны намеренно тормозилось колонизаторами, и теперь демократической республике приходится совершать исторический переход от полуфеодализма к социализму, да еще в условиях, когда разорваны границей Юг и Север. Партия трудящихся Вьетнама, которая основную свою задачу видит в объединении страны на социалистической, демократической основе, говорит народу: чем быстрее построим мы у нас, на Севере, социализм, тем скорее придет день, когда полетят вверх тормашками марионеточные правители Юга, тем быстрее весь Вьетнам станет свободным.
Когда я был во Вьетнаме, тут уже готовились к празднованию 15-летия демократической республики. Вьетнамские товарищи, рассказывая о социалистических преобразованиях, гордясь, говорили, что, например пять-шесть лет назад урожай риса в ДРВ был 2,5 миллиона тонн, а в 1959 году стал 5,2 миллиона тонн, и на душу населения приходится 350 килограммов риса в год, или что 85 процентов крестьянских дворов вступили уже в кооператив первой ступени, или что за последние шесть лет национальный доход возрос вдвое и заработная плата рабочих и служащих увеличилась на 55 процентов.
Цифры — материя, конечно, скучная, но без них не обойтись. Разве не радостное удивление вызывает этот хотя бы факт, что было 2,5 миллиона тонн риса, а стало вдвое больше. На одном из первых мест в Юго-
587
Восточной Азии оказался теперь Северный Вьетнам по производству риса на душу населения.
Растет и промышленность ДРВ: за последние пять лет среднегодовой прирост промышленной продукции составлял примерно тридцать процентов. Или вот, например, говорили мне о том, что в общеобразовательных школах республики сейчас в пять раз больше детей, чем было в 1939 году во всем Индокитае.
Глубокие революционные изменения произошли в ДРВ за последние годы. Народ осуществил одну из важнейших задач демократической революции — проведение аграрной реформы, проходившей под лозунгом: «Землю — тем, кто ее обрабатывает». К концу 1960 года, как мне говорили, в республике должно быть в основном завершено кооперирование сельского хозяйства, а частные предприятия промышленности и торговли превращены в смешанные государственночастные.
Уже в Москве, возвратясь, читал я материалы Третьего съезда Партии трудящихся Вьетнама, прошедшего в сентябре. (Теперь так будет всегда: где я что ни увижу или услышу, относящееся к Вьетнаму, заволнуюсь, затороплюсь подойти, узнать, расспросить и показать, что я это знаю и люблю. Я теперь в Москве тоже стал «вьетнамец», как Роман Кармен, Антокольский и другие...)
Так вот, съезд рассматривал программу пятилетки Вьетнама на 1961—1965 годы. Это будет первая пятилетка Демократической Республики, и задачи ставятся такие: сделать первые шаги в социалистической индустриализации, в создании. материально-технической базы социализма и завершить социалистические преобразования, чтобы превратить экономику страны в однородную социалистическую экономику. Докладчики на съезде подчеркивали, что для Вьетнама, отсталой аграрной страны, помощь братских социалистических стран, в первую очередь Советского Союза и Китая, в этом случае «является необходимым условием и благоприятным фактором».
Я жалею, что пробыл во Вьетнаме мало и потому не могу подробно говорить об этой стороне дела, но хочется, однако, сказать, как понятно и близко было мне все, с чем выступали вьетнамские товарищи на 588
съезде. Читая «Правду», я вспоминал то настроение радостной и энергичной деятельности, которое встречал во Вьетнаме повсюду: в госхозе «Дон Зао», кооперативе «Кин Ким», что недалеко от семнадцатой параллели, на площадке металлургического комбината севернее Ханоя, где начальник стройки товарищ Суан как бы видит уже за глыбами развороченной земли пылающие огнем мартены... Но об этом рассказ впереди. ..
Это правильно — пятилетка! Она нужна Вьетнаму, и он справится с нею, да еще, как и мы, должно быть, перевыполнит ее.
Почти по всей дороге от Ханоя на юг вас окружает равнина. Невысокие горы громоздятся все время справа, там, где неподалеку начинается другое государство — Лаос. Горы, чем ближе к морю, все мельчают и мельчают и наконец уступают место прибрежной низменности, по которой и идет дорога.
Сначала она идет через плодородные земли, занятые рисовыми полями; там и тут, как в оазисах, сбившись в. небольшие плотные кучки, толпятся пальмы, прикрывая благосклонной листвой своей незатейливые вьетнамские хижины. Иногда вереница пальм, растянувшись на полкилометра, отделяет рисовые поля одно от другого; иногда пальмовая рощица растет поодаль от деревни, и тут одни только пальмы, одной какой-нибудь породы — кокосовые так кокосовые.
В деревнях зелень перепуталась друг с дружкой. Все загораживает тут, затмевает, заполняя, зазеленяя прогалки, вездесущий в условиях тропиков бамбук. Кокосовые пальмы, правда, на прямых стволах, как бы выстреливают сами себя выше любого бамбука, и, только убедившись, что он остался там, внизу, выбрасывают во все стороны пучки листьев наподобие лопнувшего снаряда или зеленой праздничной ракеты.
Когда смотришь на зелень вьетнамской деревни, кажется в первую очередь, что два художника одновременно писали ее: один вооружился широченной кистью, даже и не кистью, а лопатой, и мазал ею, почерпнув сразу ведро краски, массивные банановые
589
листья. Как мазнет лопатой, так и готов банановый лист. Другой тончайшей кисточкой из беличьего хвоста скрупулезно и тщательно выписывал тонкую, ажурную, сетчатую листву бамбуков. Лист, которым может укрыться от солнца человек на пляже, и листочки, похожие на лезвие хирургического ланцета,— они всюду соседствуют друг с другом, радуют человеческий глаз уж одним этим чисто внешним разнообразием.
Ну, конечно, и прудик, пузырящийся перегретой водой, киснет от жары почти возле каждой хижины. И что уж там микроскоп! Если зачерпнуть в горсть и поглядеть — чего только не кишит в его забродившей воде!
Для домов вьетнамской деревни более всего подходит знакомое нам еще из уроков географии выразительное название «хижина». Климат не требует капитальных стен, отопления и других сложностей, связанных с устройством более северного человеческого жилья. Земляной пол, стены, сплетенные из тростника или бамбука, крыша из пальмовых листьев. Потолка нет, окна, тем более застекленные, ни к чему. Гладкие, отполированные доски, на которых спят, подостлав циновку,— главная и чуть ли не единственная мебель.
Впоследствии мне пришлось побывать в хижине севернее Ханоя. Там постройки делают на сваях. По трем наклонно положенным бревнам мы поднялись с земли в жилище. В отличие от южных, в этой хижине и пол был, естественно, не земляной, а плетеный. Через него приятно продувает ветерком. На этом плетеном полу лежат кирпичи, на кирпичах — лист железа, на листе железа горит огонь — очаг, которого не коснулись все хитроумные изощрения человечества с каминными решетками, голландскими дымоходами, вьюшками, лежанками и прочими выдумками. Жизнь проста: горит огонь, над огнем висит чайник. Вокруг огня сидит семья, поджав под себя ноги. Дождь не сможет затушить огня, так как распростерлись над огнем сухие пальмовые листья, образуя кров.
Наблюдая, хотя бы и мимоездом, жизнь вьетнамской деревни, нельзя не возмутиться следующим обстоятельством. Как же так: свыше восьмидесяти лет культурнейшая и чистоплотнейшая нация земного шара— французы господствовали во Вьетнаме и считали
590
его частью своей страны, и называлось это на их языке «опека», как же получилось, что восемьдесят лет они «опекали» вьетнамский народ, а оставили после себя то, что, не говоря уж о бедности, можно было бы, пожалуй, назвать антисанитарными условиями существования? Выяснилось после ухода французов, что вьетнамская деревня в среднем потребляет в год на человека один кусочек мыла; что на тысячу человек — трое слепы от трахомы на оба глаза и шестеро — на один; что малярия поголовна, а туберкулез и предрасположение к нему достигают чудовищной цифры; амебная дизентерия и солитер, чесотка и колтун в волосах плюс поголовная безграмотность народа. Да как же можно было равнодушно на это смотреть людям, читающим на досуге Вольтера и Гюго и подправляющим розовые ноготки свои при помощи тонких бархатных напильничков! Назовем вещи своими именами: вот это и значит колония, вот это и значит капитализм, вот это и значит настоящее варварство!
За несколько лет народная власть во Вьетнаме сделала больше, чем богатая и могучая нация за прошедшие восемьдесят лет. Армия врачей и санитаров брошена в деревню. В каждой общине образован медицинский пункт, в каждом уезде больница. Все, как говорится в сказках, от семи лет до семидесяти, должны научиться писать и читать. Сознание и знание не самые последние условия преображения вьетнамской деревни, состояние которой есть обвинительный акт, грозовая прокурорская речь по отношению к колонизаторам, любящим иногда рядиться в благопристойные маски опекунов и благодетелей.
Когда я восхищался вслух очень уж живописной пальмовой рощей и говорил, что это красиво, тогда Кы отвечал:
— Нет красива, потом будет красива.
И так было много раз! Наконец он сам закричал:
— Вот, вот красива! Да, да, очень красива!
Я стал искать, на что же показывает Кы, но ничего выдающегося в смысле красоты не мог найти глазами.
— Что красиво?
— Да, да, вот очень красива...
591
Наконец я понял, что он показывает на беленький каменный домик с окнами и стеклами в окнах под красивой черепичной крышей. Аккуратный такой, но довольно стандартного вида домик. Но, видимо, он есть росточек нового, идущего на смену убогим хижинам, и поэтому вслух я согласился с Кы.
— Ты прав. Это еще более красиво, чем те пальмовые рощи, которые растут меж залитыми водой полями.
В одном месте мы свернули с главной дороги, чтобы посмотреть госхоз по выращиванию кофе. У Багрицкого есть строки о том, как из колониального магазина смутно пахнет кофе. Так вот, может быть, то кофе было заброшено в Одессу французскими купцами, а где же было взять его французским купцам? В Индокитае, разумеется.
Госхоз называется «Дон Зао».
Угощая нас крепчайшим кофе (не надо далеко ходить), агроном Чыонг Киэй рассказал, что работает в госхозе 1200 рабочих, что бывшие здесь прежде французские плантации занимали всего лишь сорок гектаров, а теперь под кофе шестьсот, что кофе растет у них трех сортов и что созревают эти сорта в разные сроки; урожай в среднем одна тонна на гектар, а государство платит госхозу 7600 донгов за тонну. Вместе с кофе госхоз выращивает арахис и сою, а также занимается животноводством — есть тут триста свиней и сто коров.
Зная по рассказам, что коровы для Вьетнама дело новое, что никогда вьетнамцы не занимались производством молока, я поинтересовался, сколько дают их коровы.
— По пятьдесят литров в сутки.
Я, конечно, не поверил и отнес это за счет неточного перевода. Я напомнил агроному, что пятьдесят литров в сутки — цифра рекордная. «Заря» в Вологодской области, правда, давала 53 литра, но это был исключительный случай, известный всему миру. В Америке была одна подобная же корова...
— Да нет,— поправил агроном,— все сто коров дают в сутки пятьдесят литров.
592
— A-а. Ну, это другое дело!
Цифры, которыми снабдил меня агроном Чыонг Киэй, вообще-то мало что говорили мне. Ну, допустим, одна тонна кофе с гектара. А что это: хорошо или плохо? «Хорошо»,— говорит агроном. Допустим, что хорошо. Кофейными проблемами никогда не приходилось мне заниматься раньше. Интереснее всего было хотя бы посмотреть, как родится кофе, не прямо ли в маленьких фарфоровых чашечках?
На плантациях были и старые кофейные деревья и молодые посадки. Темно-зеленая глянцевая листва (вроде как у воскового дерева), а меж листвы на ветках небольшие красноватые плодики. Они были бы и совсем красными, если бы уж созрели. Развернешь, растерзаешь сладкую, сочную ткань, и окажется внутри продолговатое зернышко, обволокнутое сладкой слизью. Теперь зерна были еще белые, а потом, при спелости, должны они достигнуть своего кофейного цвета.
— Каждое кофейное зернышко,— сказал агроном,— это наше, вьетнамское зернышко, и никуда оно не денется из страны, не принеся народу своей, пусть маленькой (в масштабах одного зерна), пользы.
Брызнул дождь, и, пока мы шли до машин, пудовые гири клеклой, ярко-красной глины налипли на подошвы. Значит, на красных глинах растут кофейные деревья госхоза «Дон Зао». Наших черноземов вообще не знает вьетнамская земля.
Плодородные, обработанные человеком земли постепенно начали исчезать. Все меньше отражающих белесое небо рисовых полей, все меньше работающих на земле крестьян, все меньше пальм и деревенек — наступили саванны.
Когда-то здесь перепутывались непроницаемые для солнца тропические леса — джунгли, но вот не стало лесов, как и во многих других местах на нашей обитаемой планете Земле.
Низкорослый кустарничек, правда, местами перепутался не хуже деревьев — пройти через него все равно немыслимо. Он цветет розовыми цветами, похожими на нашу мальву. Пестрые, яркие птицы перепархивают над кустами, а по горячей влажноватой земле пресмыкаются змеи и ящерицы. То есть не то чтобы мы ехали
38 На разных меридианах
593
И видели, как они пресмыкаются, но воображение подсказывало. Не видели мы и других обитателей саванн, как-то: слонов, носорогов, всевозможных антилоп и оленей, диких- быков, кабанов, ну и для полноты картины — дикобразов.
Мы занимались главным образом верхоглядством, глядели поверх кустов и трав и ничего не видели, кроме общего ландшафта местности; такова уж, видимо, участь всех путешественников, кто захотел лишь проехать по стране, а не поселиться, к примеру, в тех же саваннах годика на три-четыре.
Как же использовать эти дикие, необработанные земли? Наверно, хорошо .было бы разводить здесь скот, если все равно уж пасутся стада диких антилоп и оленей.
Словно в ответ на это предположение то и дело стали попадаться перегоняемые прямо по шоссе гурты скота: низкорослые коровенки с горбами в том месте, где кончается шея и начинается спина. Что-то есть в них от антилоп, пасущихся где-нибудь тут же, но только уж без пастуха. Саванны!
Вечером этого дня мы устроились ночевать в городе Тан-Хоа. Как и всюду в гостиницах, жалюзи на окнах, вентилятор под потолком, неизменный термос и чайница рядом с ним, неизменная сетка против москитов.
— Лучше заправляйте сетку,— сказал мне Кы.— Здесь водятся малярские комары!
Я уже стал засыпать, как вдруг под окнами зазвучала удивительная, задумчивая, сильная, прозрачная скрипка. По голосам людей я понял, что там, под окнами, на террасе, сидят болгарские врачи, приехавшие во Вьетнам, чтобы помочь здешним врачам, да и самим кое-чему поучиться у здешних. Несколько месяцев они не видели своей Болгарии и вот загрустили. Грустили они все, но говорил за них один. Говорил он на скрипке.
«Элегия» Массне. «Меланхолическая серенада», еще что-то незнакомое мне, потом болгарские мелодии— какая это была игра! Ни на концертах Ойстраха, ни в записях иных прославленных скрипачей, казалось мне, я не слыхал такой игры. Ни одного холодного звука, ни одного равнодушного оттенка: негромко, но
594
полнозвучно, тоскующе, но светло —и Ничего мимо сердца! Этот вечер, я считаю,— один из лучших подарков, на которые ни с того ни с сего иногда расщед-ряется жизнь.
И вот как тесен свет! На обратном пути из Вьетнама, на улице Пекина, меня кто-то окликнул:
— Товарищ!..
Я обернулся.
Подходят трое болгар.
— Помните, мы виделись где-то во Вьетнаме, вместе путешествовали?
— Конечно, помню. Но кто из вас так дивно играл на скрипке?
— Да я же и играл!..— Молодой болгарин так и сверкнул белозубой улыбкой.— Люблю... Вот вожу с собой по всему белому свету. Но ведь я только для себя люблю, вполголоса...
Мы попрощались, как водится, до новых встреч в Москве или в Софии. Возможность этих встреч отнюдь не исключена.
Мне нравится поэма Хикмета «Джиоконда и Си Я-у». Больше того, я люблю эту поэму.
Джиоконда, висящая в Лувре, от скуки начинает вести дневник. Она пишет (на обратной стороне холста, «паркером», украденным у янки) милый вздор о спящем йочном Лувре, о том, что в Лувре был сквозняк и голые фламандки схватили насморк и чихают, повернувшись к зрителям задами. Но вот первого апреля 1924 года появляется запись:
Сегодня в Лувр пришел простой китаец И долго, долго на меня смотрел.
Он — мастер резать кость и ткать шелка.
Есть для меня особое значенье
Во взгляде неизвестного китайца.
Но он ко мне приходит каждый день, Его зовут Си Я-у.
Из дальнейших записей видно, что Джиоконда полюбила китайца:
Я позабыла имена великих Художников, Которых чтила раньше.
38*
595
Теперь друшие снятся мне картины — Рисованные нежной акварелью. Цветы и птицы, созданные кистью Тончайшего из мастеров Китая.
Развиваются события на земле:
Си Я-у посмотрел в мои глаза И спрашивает тихо: «Чужестранка, Тот черный вор, что гусеницей танка Взрывает наше рисовое поле, Тот черный враг, что в наших городах Разгуливает, как властитель ада, Тот спекулянт, или владелец банка, Ведь он твой соплеменник, чужестранка?» «Нет»,— я хотела крикнуть, и рука Моя как будто дрогнула слегка...
В Париже первомайская демонстрация — демонстрация солидарности парижан, одетых в синие блузы, с рабочими всех стран. Над головами красные цветы и красные знамена.
«Сегодня мой китаец не пришел»,— записано в дневнике Джиоконды за второе мая. «Сегодня тоже»,— записано три дня спустя.
Вы, эллины, ваятели героев, Вы — гончары бесценных ваз сельджуков, Вы, ткавшие огнем ковры Джемжида, Вы, певшие касыды караванам, Вы все, в чьих плясках торжествует ветер, Вы — дивные гранильщики алмазов! Ты — мастер Микеланджело, Чьи пальцы Сильны, как пальцы скованных титанов, Кричите, объявите всем, кто слышит,— Возлюбленный мой изгнан из Парижа За то, что он кричал и бил слепые окна В посольстве мандаринов ив Бейпина.
При помощи поэта прекрасная флорентийка отправляется на поиски возлюбленного. Они летят сначала на самолете, потом самолет падает в море, а Джиоконда попадает на корабль. Нашла она Си Я-у в Шанхае, но нашла в момент казни. Палач Чан Кай-ши, гоминдановец, отрубил ему голову.
Что же, Джиоконда осуждена улыбаться даже в такие минуты! Она будет улыбаться и потом, когда по приговору военного трибунала ее возведут на костер.
596
И в этом один из внутренних, глубинных смыслов поэмы. Другой смысл состоит в том, что
*. .Я видел Джиоконду (Как победу, Как знамя бунта IB лагере врагов.
Я видел, как любимая спешила Туда, где жарче скрещены штыки, Как наглого британца задушила, Я видел.
Где-то у ночной реки
Она рубашку вшивую стирает.
Дерется,
Плачет,
Падает, Опять Встает в ряды борцов, Не умирает.
Не может умереть.
Не может спать.
Поэма относится к 1928—1929 годам. Полная революционного пафоса, эта фантастическая поэма, оказывается, написана о конкретном, живом человеке — поэте Си Я-у, больше известном в России под именем Эми Сяо.
В Ханое я познакомился с одним китайцем. Дело в том, что в ресторане во время завтрака, обеда и ужина мне нужно было садиться всегда за один и тот же определенный столик, а чуть левее, тоже за отдельный столик, садился пожилой китаец небольшого роста, худощавый, с тонкими черными усиками. Возраста его я определить не умел.
Однажды я попросил его передать мне соус из сои (не оказалось графинчика на столе) и он по-русски предложил мне соус, приготовленный собственноручно из красного перца, соли, уксуса и масла. Я взял, конечно, и даже ел из деликатности, хотя есть его было никак нельзя. Было впечатление, что кладешь в рот не кусочек рыбы, окунутый в этот соус, а докрасна раскаленную небольшую железку.
Редко встречаешь в Ханое человека, говорящего по-русски, да к тому же китайца.
Сначала мы обменивались репликами о погоде (всем жарко в Ханое), потом выяснилось, что в предстоящей поездке по Вьетнаму у нас будет один и тот
597
же маршрут, и мы его всячески обсуждали. Наконец, выяснилось, что собеседник был в Москве, и разговор наш неожиданно перекинулся на русский балет, на искусство Улановой и Максимовой. Потом оказалось, что у нас есть даже общие знакомые в Москве, а потом я решил узнать имя китайца.
— Эми Сяо,— просто ответил мой собеседник.— Поэт Эми Сяо.
— Но каким образом, возможно ли?
Постепенно я узнал, что Эми Сяо познакомился с товарищем Хо Ши Мином в Париже еще в 1924 году. Хо Ши Мин рекомендовал Эми Сяо во Французскую коммунистическую партию. Потом поэта выслали из Франции. Некоторое время он жил в России и был членом ВКП(б). Был даже членом Союза советских писателей. Теперь вот Хо Ши Мин пригласил его посмотреть Вьетнам.
Хотя мы и ехали в разных «Москвичах», пути наши то и дело пересекались. Так, например, в знаменитом купании, когда Хиеу стращал кашалотом, Эми Сяо также принимал активное участие. Почти всегда мы встречались вечером в гостиницах, за ужином и после ужина, когда оставались позади разнообразные, как бы все еще летящие навстречу со скоростью автомобиля впечатления дня.
Однажды Эми Сяо рассказал, что в Ленинграде в годы войны у него пропали архивы, исчезли бесследно. Что ж, в то время люди думали о другом. Но вот недавно пришло письмо. Молодой человек, студент, купил не то у букиниста, не то на базаре сборник стихотворений Эми Сяо с дарственной надписью сыну. Студенту представилась романтическая история: молодой китаец защищает Ленинград, отец шлет ему свои стихи. Он и письмо-то написал для того, чтобы напасть на его следы.
— История, как видите, более прозаическая, чем могло показаться молодому человеку,— сказал Эми Сяо.— А сыну моему в то время, когда я надписывал книгу, шел третий год.
Я все как-то не осмеливался задать деликатный вопрос о поэме Хикмета и о трагическом конце ее героя. Но однажды разговор коснулся и этого. Эми Сяо засмеялся:
598
— До Хикмета дошли слухи о том, что меня казнил Чан Кай-ши. Кажется, действительно был казнен мой однофамилец, и сообщение об этом проскочило в газеты. С Назымом мы дружили еще в двадцатые годы, вот он и разразился поэмой. Потом, когда на Берлин- . ском фестивале я оказался перед ним, он готов был ущипнуть себя, чтобы проверить, не сон ли...
— Знаете ли, у меня было такое же желание, когда я узнал, что вы — это вы,— признался я.
Между тем мы все ближе подъезжали к семнадцатой параллели. Недалеко от нее маршрут наш пролегал через земли сельскохозяйственного кооператива «Кин Ким». Чтобы попасть к конторе, надо было свернуть с пути и некоторое время ехать по дороге через густой тропический лес или даже, можно сказать, под густым тропическим лесом — маленькими кажутся и пешеходы и автомобили, пробирающиеся у подножия тенистых гигантов.
В конторе собралось много народу,— благо, не надо было искать двери, чтобы войти в нее, а можно было зайти с любой стороны. Как и везде, помещение это представляло навес, приспособленный главным образом, чтобы защищать от дождя, а не от холода.
Ядро всех собравшихся составляли председатель кооператива Нгуен Ниен, его заместитель Нгуен Куанг и член правления Нгуен Винь. Они рассказали, что кооператив у них высшего типа, то есть крестьяне получают заработанное не по количеству сданной ими в кооператив земли, а по количеству труда. Например, вспахать участок земли стоит тридцать оценок. Никак не могли мне точнее перевести это слово. Можно его буквально переводить как «палочка» или как «единица», но вообще-то оно имеет смысл нашего трудодня.
За год член кооператива зарабатывает около тысячи пятисот оценок. На одну оценку ему выдают 1 хал 5 су, то есть всего он получает деньгами 150 донгов. Кроме того, около 120 килограммов риса, бататы, маниоку, кукурузу. Еще он имеет приусадебный участок, где растут бананы, хлебное дерево, овощи.
599
В кооператив входит одиннадцать сел, 387 крестьянских хозяйств. Всего народу— 1763 человека, рабочей силы — тысяча человек. В каждом селе детский сад и Дом культуры. Имеется в общине одна школа и один медпункт. Кроме риса выращивают маниоку, ку-КУРУ3У, бататы, хлебное дерево, чай. У себя в хозяйстве члены кооператива выращивают свиней и кур — свиней по одному, по два поросенка, а куры во Вьетнаме вообще несчитанные, гуляют возле хижин во множестве.
До кооператива урожай риса в этих деревнях был шесть центнеров с одного му. Теперь в кооперативе,— двенадцать центнеров. Правда, в этом году по всему Вьетнаму засуха, и майский урожай невысок. Вот, может быть, выручит октябрьский урожай. Хорошо, конечно, когда в год можно собирать два урожая.
Пока мы разговаривали, невдалеке от конторы, на поляне, собрался базар. Сорок или пятьдесят женщин, каждая с корзиной маниоки, уселись и начали торговать.
— Кому и что они будут продавать, если у каждой из них один и тот же товар?
Крестьяне засмеялись:
— Им так нравится! Сидят, разговаривают, делятся новостями. Одним словом, базар. Посидят и разойдутся по домам. Все довольны.
Потом мы ходили по деревне. Хижины такие же простейшие, как и везде, но гораздо более опрятные, аккуратные. Возле хижин каждый клочок земли обработан и пущен в дело. Но нужно сказать, по сравнению, допустим, с нашей средней полосой эти клочки очень уж миниатюрны.
Я много слышал про бататы и маниоку, но все не удавалось их попробовать. Поэтому я попросил, и мне дали с собой корневище маниоки и один огромный клубень батата — особый сорт, не продолговатый, похожий на нашу розовую картошку или на мелкий турнепс, а круглый и черный, как крупная редька.
У гостиницы, где мы ночевали, я отдал свои трофеи повару. И вот на ужин, кроме основной еды, мне принесли вареные бататы и вареную маниоку. И то и другое весьма похоже на картофель, но только гораздо тя
600
желее, плотнее, мучнистее и сильно сластит. Не знаю, насколько питательно, но насыщаешься моментально. Наряду с рисом это главная еда всех вьетнамцев.
Вот растет перед нами дерево, высокое, ветвистое, с бледновато-зеленой, на тополиную похожей корой. Острый ножик в руках опытного человека делает смелый косой надрез, охватывающий добрую половину ствола. К нижнему концу надреза приставляется луночка, под луночку ставится какая-нибудь посудина. Длинная резная рана покрывается белыми и жидкими, как молоко, капельками, которые текут по надрезу, катятся по лунке и капают вниз, в жестянку.
Возьмешь одну капельку, начнешь ее размазывать в пальцах, и она размазывается с такой же легкостью, как обыкновенное молоко. Но вскоре между пальцами образуется тончайшая желтоватая пленочка, которую можно взять за краешки и тянуть, тянуть — растягивается, не рвется. Братцы, да ведь это же резина!
Каучук! Охотники за каучуком! Сколько связано с этими словами, казалось бы, отчаянной романтики, а на самом деле пота, всевозможных тропических лихорадок и, конечно, крови!
Капелька по капельке катятся по надрезу на дереве гевее — 700 граммов в сутки. Надо долго сидеть возле дерева, чтобы проследить движение одной капельки. Тихо вокруг гевеи. Летают бабочки, порхают яркие птички, перебирает листву ветерок.
А между тем вдалеке от нее в огромных, шумных человеческих городах развивается химия, развивается авиация, развивается автомобилестроение, идут войны. .. Противогазы и детские соски; хирургические перчатки и аэростаты воздушного заграждения; шасси самолетов и костюмы водолазов; велосипедные камеры и модные каучуковые подошвы,— шагу не может ступить человек без резины, и все больше, больше, больше нужно ее человеку, а между тем в тиши тропического леса ни быстрее, ни медленнее текут по стволу деревьев беленькие капельки — не поймешь, не то слез, не то крови.
Белая масса в жестянке постепенно густеет. Вот она уж похожа на сметану. Теперь можно взять ее в руки,
601
она не прольется меж пальцев, но вся останется в руках, мягкая, податливая, мни ее как хочешь, но есть уже в ней и упругость, и чтоб разорвать на две части, придется прежде этого немного и растянуть.
За год дерево может «наплакать» до сорока килограммов белой массы, а то, возле которого мы стояли, «наплакивает» тридцать шесть. Ему тридцать лет, а в поперечнике около 65—70 сантиметров.
Каучуковод Нгуен Дин рассказывает, что из ста килограммов смолы получается тридцать три килограмма, то есть одна треть, чистого каучука.
Случилось так, что, когда все богатства выкачивались французами, им было безразлично, где растут каучуковые деревья, на севере или на юге, и они выращивали их на юге, поближе к Сайгону, к порту, к своим с огромными трюмами кораблям.
Но когда образовалось государство и когда его искусственно разделили на две части, то главные каучуковые плантации оказались на юге страны, и Демократической Республике Вьетнам приходится теперь спешно и в больших масштабах создавать свои плантации.
Нгуен Дин показал нам, кроме патриархов, уже отдающих свои соки, питомники молодых каучуковых деревьев. Саженцев будто бы четыреста тысяч. Через пять лет все они войдут в возраст, станут деревьями, и с каждого дерева капелька за капелькой побежит белая влага, чтобы становиться хирургическими перчатками, участвовать в химических процессах, одевать шасси самолетов, прикрывать людей от дождя, шуршать на новых бетонных автострадах...
В городе, около линии, разделившей страну поперек, мы разговаривали с людьми, перебежавшими оттуда, с той стороны, из мира совершенно иного. Разговаривать с ними было трудно: все они оказались представителями нацменьшинств, и самому товарищу Кы трудно было понимать диалекты, на которых разговаривали и эта пожилая плотная женщина, и эта молодая женщина, и этот парень с влажными печальными глазами. Все же удалось заметить из их рассказов, а также рассказов чиновников, занимающихся бежен
602
цами, что перебегают люди в основном по трем главным причинам.
Разделенной оказалась не только страна в целом, но и огромное количество семей. Муж живет в Ханое, а жена с детьми — в Сайгоне; брат работает на севере, а сестра — на юге; мать осталась в Демократической Республике, а дети ее с бабушкой (так уж получилось) оказались в Южном Вьетнаме.
Все думали, что страна разделяется только на два года, что в 1956 году произойдут всеобщие выборы и образуется единое Вьетнамское государство. Люди шли по мосту из одной части страны в другую, подняв два пальца: это значило, что они уходят, допустим, с юга на север всего лишь на два года.
Но Женевские соглашения нарушаются самым бессовестным образом. Прошло не два, а целых пять лет, и не.видно, чтоб дело подвинулось. Таким образом, трагедия страны стала личной трагедией сотен, тысяч, десятков тысяч вьетнамцев. Переписываться нельзя, ибо если южные власти узнают, что у такого-то человека на севере есть родственники, ему не поздоровится.
Потеряв надежду, люди начали тайно, ночью перебегать на север в поисках кто жены, кто сестры, кто матери, кто детей, кто мужа...
Многие переходят в Северный Вьетнам для того, чтобы лечиться. На юге медицинское обслуживание дорого, не под силу бедным людям, и вот они, прослышав, идут к Хо Ши Мину спасать свое здоровье.
Ну и, наконец, бедняки крестьяне бегут от нужды, от нищеты, от своих феодалов, от своих неоплатных долгов феодалам, превратившихся в пожизненную кабалу.
Я называю, так сказать, бытовые, что ли, причины, но главное, конечно, что ведет людей с юга на север,— это республика и свобода.
Совсем близко подъехали мы к тревожной линии, а между тем ничего не изменилось вокруг. Все так же качали на свои поля воду крестьяне, дети все так же сидели на пасущихся буйволах, девушки на велосипедах ехали из одной деревни в другую, маленькие ребятишки голышками играли под деревом возле хижины. Ни солдат, ’ ни лишних пропускных постов
603
ни некоторой напряженности, которая неизбежно бывает разлита, кажется, в самом воздухе, в самой окружающей обстановке, когда подъезжаешь к любой границе.
Издали, с холма, поверх лесов, поверх зеленых деревьев видны поднятые высоко друг против друга два флага — красный, с желтой звездой посредине, и желтый, с тремя красными продольными полосами.
Подъехав ближе, видишь, что флаги выставлены на двух противоположных берегах неширокой тихой реки, соединенной в этом месте стальным мостом.
Итак, вот она, семнадцатая параллель! Вот она, та река, про которую говорят, что она хоть и небольшая, но протекает через сердце каждого вьетнамца. Надо добавить, что не просто протекает, но мучительно, с болью, образуя как бы зияющую рану, которая, если и затянется со временем, надолго оставит грубый, резкий рубец...
Границы между государствами — историческая необходимость. Было бы лучше в тысячи раз, если бы их не было. Но не будем прекраснодушными: жизнь есть жизнь. Нетрудно оправдать границу между землями двух разных, хотя бы и дружно живущих народов. Но полнейшая нелепость — граница, разделяющая один и тот же народ. Я уж говорил о том, что она разделяет не только народ, как нечто абстрактное, но также и семьи, друзей, любимых. ..
«Долларовая республика» Нго Динь Дьема все пытается отгородиться от мира — людям не из американского блока вообще трудно попасть в Южный Вьетнам (вспомнил я тут слова Генриха Боровика). Южновьетнамские власти установили в стране жестокий террор, они хотели бы, чтобы вьетнамцы на юге вовсе не знали об успехах своих братьев на севере, о странах социализма, о Советском Союзе. И все это от страха...
Народ-то ведь не желает так жить, народ борется, народ мечтает о свободном и едином Вьетнаме...
В ноябре, когда очерк этот был уже написан, на улицах Сайгона гремели выстрелы, восставшие батальоны парашютистов и морской пехоты шли штурмовать роскошный дворец правителя Южного Вьетнама, и толпы людей — рабочих, студентов — несли по улицам плакаты со словом «Долой!».
604
Я вижу крестьянина, пашущего рисовое поле с этой стороны, и вижу крестьянина, что-то делающего там, возле хижины, на той стороне. Оба они вьетнамцы, говорят на одном языке, поют одни песни, любят одни легенды, занимаются одним трудом. Одна у них история, одно, должно быть, и будущее. Зачем же теперь их разделяет эта река, да и только ли река? О ненависти и злобе гудит в уши тому крестьянину, на той стороне, каждый день преступная нгодиньдьемовская пропаганда.
Однажды правительство Демократической Республики Вьетнам обратилось к южным властям с предложением сделать общими или хотя бы более или менее общими школьные программы, для того чтобы трещина, змеясь, не уходила все дальше и дальше в толщу грядущих поколений. Но ничего не ответили на это южные власти.
Да что школьные программы! Надо было покрасить злополучный мост через реку, и хорошо было бы покрасить его одинаковой краской, но и на это «сотрудничество» не пошла та сторона.
Так и стоит теперь двухцветный мост — до середины коричневый, а дальше зеленый.
Мост, конечно, ерунда, его можно будет покрасить и одной краской или сохранить так на века в назидание потомкам — в память о недобрых годах разъединения.
Так ли легко закрасить швы, так ли легко зарубцуются раны в сердцах и душах людей? Вот в чем состоит главная преступность тех, кто сорвал и продолжает срывать скрепленное подписями Женевское соглашение.
Ни в одной стране невозможно увидеть столько дотов, сколько видишь их во Вьетнаме. Особенность еще и та, что они не сосредоточены вдоль границ, как какая-нибудь там пресловутая линия Мажино, но разбросаны по всей земле, по всем дорогам, куда бы вы ни поехали: на север, на юг, на восток.
Доты строились французами. Для них фронт был там, где могли оказаться вьетнамцы, а вьетнамцы были всюду. Вьетнамцы окружали французов, как море окружает выступающие из воды мелкие рифы.
605
Доты, пожалуй, и можно лучше всего сравнить с камнями, рассыпанными обильно, выступающими из морской пучины. Разбушевавшаяся стихия захлестнула однажды эти с черными глазницами чудовища, захлебнула их, и вот они стоят пустые, беспомощные, обезвреженные. Буйволы мирно пасутся возле дотов. Многие из этих бетонных сооружений крестьяне приспособили под жилье. Я видел доты, к которым со всех сторон пристроены дополнительные помещеньица — хлевушки, сарайчики,— все это из тростника и пальмовых листьев, а основное жилище — дот! Куры, поросята, собачонки бегают вокруг. Идиллия, да и только!
Близ Тан-Нгуена, севернее Ханоя,, развернулось и идет полным ходом строительство большого, первого в стране металлургического комбината.
Когда обходили территорию строительства, глаз схватил общую картину: горы развороченной бульдозерами земли, склады кирпича, склады труб, склады рельсов. Всюду множество работающих людей, и все это на пространствах, которые сразу не окинешь взглядом.
Командует развернутым строительством его начальник, бывший генерал Народной армии, товарищ Суан, моложавый, но совершенно седой человек. По схеме он показал нам, где будут доменные печи, где мартены, где прокатный цех, где литье труб, где дорога на рудник. В его глазах все это как бы уже есть. За глыбами развороченной земли он видит пылающие огнем мартены.
Строительство будет стоить республике двести миллионов донгов — цифра огромная.
Но уже не встает вопрос, который задавал кое-кто у нас в стране в начале тридцатых годов: «Может, лучше было бы бросить эти двести миллионов на непосредственные повседневные нужды народа: на мыло, на ситец, на бензопомпы для качания воды, на саха-ришко?..» История давно и убедительно рассудила этот спор.
Строительство металлургического комбината все в республике называют Вьетнамской Магниткой. С исторической точки зрения он и правда похож на Маг-
606
Нитку: первый, мощный, строится на деньги, которых пока не так уж много.
Но есть одна существенная разница. Она состоит в том, что Магнитка, настоящая наша Магнитка, уже существует, что металл на машины для этого комбината, может быть, пойдет именно с Магнитки, в то время как наша, уральская, была воистину самой первой.
Если разобраться в том знаменательном факте, что Вьетнаму теперь помогают многие страны социалистического лагеря, то в самом основании этого факта мы найдем нашу Магнитку, нашу первую пятилетку, нашу индустриальную мощь, наш политический международный авторитет.
А помогают действительно многие. СССР помог построить Ханойский механический завод, несколько электростанций, две чайные фабрики, рыбоконсервный завод, оловянный комбинат; расширение и модернизация апатитовых рудников, а также хонгайских угольных разработок произведены также с помощью Советского Союза. Ко всему надо добавить фармацевтическую фабрику и большой госпиталь.
Великий сосед Вьетнама — Китай помог переоборудовать и расширить текстильный комбинат — гордость вьетнамцев, построил два сахарных завода, все рисоочистительные заводы, фармацевтическую фабрику.
Чехословакия приняла участие в строительстве цинкоплавильного завода, оборудовала пивоваренный завод, два деревообрабатывающих завода и большой госпиталь в Хайфонге.
Поляки построили сахарный завод и теплоцентраль; немцы из Германской Демократической Республики взяли на себя типографии, кинофабрику, телефонные станции и тоже один госпиталь; румыны восстановили и расширили цементный завод.
Я перечислил тут лишь немногое, что, вероятно, не составляет и половины той действительной помощи, которая оказывается Вьетнаму, помощи вполне братской, вполне социалистической помощи.
Очень часто мы в произведениях искусства не доверяем убедительности и выразительности художественных средств. И в то время, когда уж все понятно,
607
стремимся еще Как-нибудь разъяснить, убедить голыми словами, прицепить мораль, которая хороша лишь в басне, да и то в силу ее традиционной, застывшей формы.
Вот образец недоверия к средствам искусства. Прекрасный плакат висит в кабинете начальника строительства. По красному фону в условной манере изображены ярко-белая березка и ярко-зеленый бамбук. Стволы стоят рядом, листья касаются друг друга. Что нужно объяснять? Но художник, думая, что его не все поймут, нарисовал еще два герба — советский и вьетнамский, как бы разъясняя, что речь идет о дружбе двух государств, двух народов, а не просто березки и бамбука. И этого показалось мало ему — снизу он написал: «Да здравствует советско-вьетнамская дружба!»
Спрашивается, зачем же понадобилось рисовать бамбук и березку, не лучше ли сразу, безо всего, написать лозунг?
Кто-то из русских мне сказал: «Если будете писать очерк о Вьетнаме, избегайте экзотики».
Но это невозможно. Представьте, что я покупаю обыкновенный, примитивный пробковый шлем, который здесь, в Ханое, есть самая первая, самая будничная необходимость. Но когда о пробковом шлеме прочитают москвичи, а тем более, скажем, архангелогородцы, то для них это будет экзотика чистой воды. И так на каждом шагу.
В музыкальной школе специалисты из Китая, из Польши, из Венгрии, из России занимаются главным образом с вьетнамскими педагогами, а уж педагоги учат детей.
Давид Георгиевич Бадридзе, на уроке которого мы посидели, мечтает поставить силами учеников «Евгения Онегина». До этого он работал в Корее, и будто бы там постановка ему удалась и была огромным событием. Здесь, во Вьетнаме, работа только началась, но, судя по упорству, которое прямо-таки написано на лице у Давида Георгиевича, он своего добьется. Трудность еще и в том, что стихов Пушкина, переведенных на вьетнамский язык, во время пения слушатели все равно
608
не понимают. Был даже курьез, когда все думали, что артисты пели на русском языке, а оказывается, они пели по-вьетнамски.
При нас ученик Куи Зыонг очень.хорошо исполнил «Вы мне писали...» Правда, вместо цилиндра он манипулировал пробковым шлемом, который казался несколько неуместным в руках петербургского молодого человека, но голос искупал все.
«Татьяна» (Тян Нян) хорошо и выразительно играла, и голосок у нее чистый, приятный, но транскрипцию русских слов она заучила механически, смысла их не знает, и это сильно испортило впечатление.
В соседней комнате польский пианист учил вьетнамскую пианистку. Она играла сонату Бетховена, но у нее не хватало экспрессии, и учитель в нетерпении ударял вместе с ней по клавишам, усиливая музыку.
В третьем помещении Игорь Михайлович Белорусов рассказывал ученикам об инструменте тамтам:
— Обычно пользуются одной палочкой, ибо двумя можно создать такое нарастание звука, что в нем утонет весь остальной оркестр. Это страшный инструмент, но может быть очаровательным, если звучит отдаленно и ослабленно. В Шестой симфонии только один удар дал Чайковский, да и то в четвертой части, но удар этот потрясает...
Оказывается, в музыкальной школе всего триста учеников. В прошлом году восемьдесят человек выпу-. стили досрочно — так велика нужда в музыкантах. Часть из них ушла в симфонические оркестры, часть — в педагоги. Около двадцати человек, наиболее способных, учатся в Москве, Ленинграде, Пекине, Софии, Будапеште.
Время от времени меня приглашали в гости вьетнамские писатели. Эти встречи бывали то в газете «Литература», то в журнале «Литература и искусство», то в издательстве «Литература», то и просто в Союзе писателей.
Мне, конечно, если бы действовать из эгоистических соображений, надо было бы побольше выспрашивать, но у вьетнамцев так велик интерес к тому, что делается у нас, они обычно забрасывали меня таким
39 на разных меридианах
609
количеством вопросов, что я едва успевал поворачиваться и отвечать.
— Печатают ли у вас дореволюционных писателей и поэтов?
— Любят ли широкие массы печальные стихи
Блока? — Любят ли широкие • массы печальные стихи
Есенина? ’ — Какого вы мнения о кинофильме «Сорок пер-
вый»? — Какого вы мнения о кинофильме «Летят жу-
равли»?
— Как восприняла Галина Николаева критику ее последнего романа?
— Каковы самые животрепещущие проблемы, решаемые вашим искусством?
— Какие интересные произведения появились за последнее время?
— Может ли писатель жить только литературным трудом или он должен работать в учреждении?
— Где печатаются писатели, живущие в союзных республиках, и издаются ли они в Москве?
Значит, приходилось рассказывать, что дореволюционные писатели и поэты у нас широко издаются (хотя бы Пушкин или Толстой); что Блока и Есенина в стране очень любят и что у них как раз очень не-♦ много «печальных» стихотворений; что. «Сорок пер- . вый» — отличный фильм и что Чухрай поставил теперь «Балладу о солдате», тоже фильм первого класса, что «Летят журавли», по-моему, напротив, фильм эпигонский, что роман Галины Николаевой в целом с самого начала был оценен критикой положительно и что она частично переработала его для отдельного издания.
Приходилось касаться в разговоре и проблем современности в нашей литературе и пресловутой теории дистанции и рассказывать о произведениях, вышедших за последнее время.
Легко перечислить на бумаге все, о чем приходилось говорить, но разговоры эти длились часами. Была сложность и в том, что я не рисковал пускаться в длинные теоретические плавания, боясь, что рассуждения мои не будут переведены точно и произойдет пута
610
ница. И так уж мой дорогой товарищ Кы там, например, где я говорил «Бакланов», недолго думая, шпарил «Баклажан».
С другой стороны, мне интересно было узнать, что газета «Литература», хотя и еженедельная, но выходящая на двенадцати полосах, делается всего лишь пятнадцатью человеками, красиво и со вкусом оформляется и пользуется большой популярностью — тираж двадцать тысяч; что толстый журнал «Литература и искусство» делают вообще пять человек, а в штате целого издательства (сто двадцать названий в год) занимается четырнадцать сотрудников.
Когда же я говорил вьетнамцам, что у нас штаты аналогичных органов состоят из десятков и сотен человек, они ахали, всплескивали руками и непосредственно, по-детски хохотали.
Вьетнамские писатели не могут жить только литературным трудом: гонорары незначительные,— и каждый из них вынужден работать, чтобы получать зарплату. Впрочем, если тираж книги превысит: прозы — 10 тысяч экземпляров, а стихов —15 тысяч, то гонорары могут обеспечить писателя.
Сейчас вьетнамцы стараются переводить как можно больше нашей литературы. Люди, владеющие русским языком, очень редки, а такие, чтобы и знали язык и владели мастерством переводчика,— на вес золота. Так что то немногое, что уже переведено, пришло к ним через третьи руки, то есть сначала было издано во Франции, а потом уж с французского переводилось на вьетнамский.
Сложность еще и та, что в-знакомстве с малоизвестной литературой хорошо бы соблюдать некоторую последовательность — например, раньше бы прочитать Льва Толстого, Горького, Чехова, Алексея Толстого, Шолохова, Леонова, Фурманова, Серафимовича, Маяковского, Есенина и т. д. Но соблазн велик, хочется узнать, что именно пишется и издается в Советском Союзе теперь. Это естественно и понятно. Но именно поэтому, если взглянуть, над чем трудятся вьетнамские издательства сию минуту, можно натолкнуться на резкие и на первый взгляд малопонятные полюсы:
39*
611
классики и тут же какая-нибудь десятистепенная книжка.
На русский язык с вьетнамского переведено тоже немного. Кое-что из того, что переведено, я прочитал еще, когда готовился к поездке. Книги эти есть в библиотеках, и нет нужды делать хотя бы и беглый их обзор. Надо сказать только, что большинство книг с вьетнамского переведено довольно плохо, что подтвердит каждый, кто более или менее знает вьетнам-• скую литературу и вьетнамский язык и может срав- -нивать оригиналы с тем, что получилось.
Но и не зная вьетнамского языка, возмущаешься почти на каждом шагу. Например, чего стоят такие перлы художественной прозы, созданной при помощи великого русского языка: «.. .Сейчас осталось всего два-три буйвола... на целую деревню, а в некоторых, насчитывающих население 400—500 человек, остался всего один буйвол. . .», «Конечно, он не знает. Твой буйвол с другой деревни, откуда ему знать... Буйволов с вашей деревни, наверно, угнали в лес» L
Это ведь надо додуматься — заставить вьетнамцев говорить на одесском жаргоне!
Впрочем, есть одна очаровательная книга, изданная с дивными рисунками Нго Мань Лана, в превосходном переводе Мариана Ткачева. Вот сколько эпитетов сразу! Но книга стоит и большего. Ее написал То Хоай, намой взгляд, талантливейший из вьетнамских писателей, а называется она «Приключения кузнечика Мена». Издана «Молодой гвардией» в 1958 году.
Изящное сочетание лиричности и светлого юмора с тончайшей, едва ощутимой пародийностью на серьезные и, так сказать, «взрослые» приключенческие романы подкупает с первой же страницы. Эта книга, несомненно, будет переиздаваться у нас и переводиться на другие языки, пока не встанет в один ряд с лучшими книгами, написанными на языке человечества.
Вьетнамская земля как бы всегда находится в сражении — то с солнцем, высушивающим ее и губящим живые растения, особенно посаженные человеком,
1 Нгуен Ван Бонг. Буйвол. Перевод И. Глебовой. Издательство иностранной литературы, 1956.
612
культурные, то с ливнями, льющими беспрерывно в течение месяцев, когда реки вспучиваются, хлещут из берегов, опрокидывают плотины и заливают и губят опять же главным образом то, к чему прикасались трудолюбивые, неутомимые руки человека.
Но земля, в конце концов, щедра и могуча. Несмотря ни на что, она рождает народу рис (не удалось в мае, глядишь, удастся в октябре), бататы, кукурузу, маниоку, бананы, кокосы, ананасы, кофе, каучуковые деревья гевеи, сахарный тростник, хлебное дерево, манго, папайи, арбузы, и железное, и лаковое, и пробковое деревья, и джут, и бамбук, и много, много всего, что невозможно перечислить.
Но земля, хоть ей подчас и бывает нелегко, хоть она и труженица, умеет улыбаться, радоваться, праздновать, она создает еще и цветы. Она находит время и энергию на то, чтобы, кроме полезного и необходимого риса, заниматься созданием чего-нибудь вроде бы и ненужного и бесполезного на первый взгляд, хотя людям без этого тоже никак нельзя.
Так раньше у нас на тяжелом жнитве (которое все отошло в безвозвратное прошлое), до боли натрудив руки и спину, молодая жнея выкроит, найдет пять минут, чтобы сплести себе венок из васильков или ромашек. Конечно, если это молодая жнея. Вот и для земли ее цветы не признак ли вечной молодости?!
В мае, когда мы с Кы впервые пришли на Западное озеро, мы увидели покоящиеся на воде огромные листья лотоса, глянцевые сверху, матовые, подернутые пушком с нижней стороны, как у мать-и-мачехи.
— Ничего,—г успокаивал Кы,— через месяц лотос будет цвести.
За делами и разъездами некогда было съездить еще раз на Западное озеро, и вдруг наступил день, про который говорят, что он последний.
В четыре часа утра мы уже были на Западном озере. Все умеющий товарищ Хиеу моментально арендовал небольшую лодку, и прогулка наша, немного грустная, но светлая и утренняя, началась.
Да, на Западном озере теперь цвели лотосы. Их огромные цветы глубокого розового цвета, казалось, сделаны из кусочков утренних зорь, встающих каждый день над Западным озером. «Царь цветов» — хоте-
613
лось бы назвать лотос, но есть в цветке что-то чистое и нежное, что делает его, я сказал бы, очень женственным и благодаря чему никак не может подойти грубое, да еще и мужского рода, слово «царь». •
Это цветок. А цветок лучше и выше любого царя, особенно если такой цветок, как лотос.
Рисовый колосок, вобравший в себя уйму труда и человеческого пота, лотос, вобравший в себя краски утреннего зоревого неба; буйвол с мальчиком на спине, пьющий утреннюю воду и отразившийся в ней; темнота джунглей и сказочная голубизна Ха Лонга; золотые бананы и черный антрацит; сушь и ливни; крестьянские хижины и виллы, из которых совсем недавно прогнали буржуев; доты, превращенные в мирные жилища (очаги, разводимые в дотах); переправы на паромах рядом с опрокинутыми в реки мостами; строительство комбината, который будет выпускать сталь; худые темно-смуглые люди (веками приходилось недоедать) и сегодняшние дети, сытые, полненькие, веселые; многовековая история и пятнадцать лет провозглашения свободы, из которых в течение восьми пришлось ее отстаивать в огне и крови, шесть лет мирной жизни...
Будь счастлива земля, впитавшая столько пота и слез, видевшая столько горя, палимая и солнцем и напалмом и все же золотеющая колосьями спелого риса и все же цветущая лотосами цвета утренних зорь!
Тем более будь счастлив народ, возделывающий ее и отвоевавший ее для того, чтобы возделывать!
Целый месяц я ждал начала тропических ливней, которые давно должны были начаться, но сильно запоздали в этом году. Все мне рассказывали: «Ну, вы не представляете, что вы увидите! Это не ливень, а водопад, и что за гроза! Как будто десять тысяч электросварщиков одновременно работают на небе, приваривая там отлепившиеся от сырости звезды. Нет, тропические ливни обязательно нужно увидеть!»
Вот и последний день, а ливней нет и нет. Когда я пожаловался на столь явную неудачу То Хоаю, он рассмеялся и сказал:
— Да, я был у вас в России и жаждал увидеть снег, которого не видел никогда в жизни. Он вот-вот 614
должен был выпасть со дня на день: дело было в ноябре,— но я так и уехал, не дождавшись и не увидев ни одной снежинки, так что мы квиты. Придется мне еще раз ехать в Москву, а вам в Ханой.
Скоро я сойду с самолета в Москве, на аэродроме, держа в руках пробковый шлем (не выбрасывать же его!), с которым я не расставался в течение месяца. Чего доброго, он покажется москвичам некиим экзотическим предметом («Откуда этот человек и что у него за странная шляпа?»).
Как же мне рассказать тогда, что никакая это не экзотика, а просто защита от смертельных лучей тропического солнца, предмет первой необходимости! В любой лавчонке Ханоя стоит не дороже пяти донгов.
1961
Ю • С Т Р Е X -Н u -Н
г о е т/ х
ч
Шт? о г / л
асмурным декабрьским днем я шел по одной из самых больших, но и одной из самых тихих улиц Будапешта. Внимательно приглядывался к номерным знакам, ища дом, где находится мастерская Жигмонда Кишфа-луди Штробля.
• Не здесь ли? За железными прутьями решетки в саду белела какая-то огромная
скульптура, подпертая деревянными брусьями, видимо не законченная. Я подошел к решетке, присмотрелся: высоченная фигура бегущего человека в кепке; непомерно велики, непропорциональны туловищу раскинутые руки, отчего голова кажется крохотной, вжатой в плечи. Может быть, эти громадные ручищи — символ? Чего? Широко раскрыт рот, лицо человека искажено не то яростью, не то радостью. Неужели это работа Штробля и он здесь живет? Я не хотел верить. Посмотрел на номер над воротами. Ну, конечно, это не
616
тот дом. Как можно было хоть на минуту подумать, что Штробль с его строгим реализмом может лепить такое?
Мастерскую Штробля я нашел, пройдя еще немного по той же улице. Нашел, не взглянув на номерной знак: за невысокой старинного рисунка решеткой меж по-зимнему черными, голыми деревьями виднелись светлые контуры статуй. Я вошел в незакрытую калитку— и замер.
Передо мной открылся целый сад изваяний — безмолвная симфония целомудренной красоты обнаженного человеческого тела. Десятки скульптур, кажущихся странно печальными в свете зимнего дня, стояли в тесном дворике. Но глаз как-то сразу выбрал среди них одну: женщина стоит на раковине и, повернув голову к плечу, обеими руками перебирает волосы; несколько тяжелых, влажных прядей лежат на ее протянутой к затылку руке. Подлинной поэзией и естественной, эллинской простотой дышало это изваяние,— казалось, сам камень одухотворен. Как зачарованный стоял я перед статуей. Да ведь это одно из самых выдающихся произведений Штробля, его «Рождение Венеры»! Если бы. он на своем веку создал только его, и то мир признал бы его большим мастером.
Можно было долго бродить в этом крохотном садике среди мраморных и бронзовых фигур, каждая из которых казалась живой, окаменевшей только на мгновение, но я спешил встретиться со Штроблем. Дорожка между статуями и деревьями привела меня к невысокому зданию, стоящему в глубине двора. Под небольшим навесом, рядом со зданием, белела какая-то огромная фигура. Любопытствуя, я заглянул под навес.
Мчащийся во весь опор боевой конь круто изогнул могучую шею; на нем — всадник в шапке с пером, сжимающий кривую саблю, вот-вот он нанесет удар. Судя по одежде и оружию —это боец венгерского народного войска, сражавшегося против поработителей — турок. Сколько стремительной силы, упоения боем, сколько ярости в этих как бы летящих, слитых воедино фигурах всадника и лошади!
«Вот я уже и познакомился со Штроблем»,— подумалось мне. Но как пройти к нему?
617
Возле навеса я обнаружил зеленую деревянную дверь. Нажал кнопку звонка. Тотчас же за дверью раздался звонкий собачий лай. Потом послышались медленно приближающиеся, чуть шаркающие шаги. Дверь приоткрылась. В тот же миг в нее снизу высунулась черная мохнатая собачья морда. Пес внимательными глазами смотрел на меня.
— Блэки! — послышался голос за дверью. Собачья морда убралась. Дверь открылась. Передо мной стоял Штробль — я знал его раньше по портретам. Седые, зачесанные назад короткие волосы, высокий лоб, седоватые, но густые брови, чуть прищуренные, очень острые, с молодым огоньком глаза, тщательно выбритое, изрядно прорезанное морщинами лицо, белый халат, накинутый на черный костюм с аккуратно повязанным галстуком,— видимо, скульптор только что оторвался от работы.
Я представился. Скульптор пригласил войти, протянул руку. Я пожал ее — мягкую, но не по-старчески крепкую. Черный мохнатый пес крутился возле его ног, приветливо помахивая хвостом.
— Блэки,— показал мне на него Штробль.— Что значит по-английски — черный. Вот моя мастерская,— обвел хозяин рукой вокруг.
Мы стояли в большом высоком светлом зале. На полу, загромождая его, и на стеллажах вдоль стен стояли десятки скульптур — были тут и большие, выше человеческого роста, и совсем крохотные.
— Вы и сегодня в трудах?—-спросил я Штробля, показывая на его белый халат.— Ведь сегодня у вас в Венгрии никто не работает, празднуют рождество.
— А я всегда работаю,— ответил Штробль.— Даже в праздники. Ведь работа—радость. Да и не так я молод? чтобы иметь свободное время. Надо спешить.
— Над чем вы сейчас трудитесь?
— Моя купальщица. Это — для парка.— Штробль подвел меня к широкому деревянному помосту по-. среди зала.
На помосте стояла высокая ослепительно белая фигура чуть наклонившейся вперед нагой женщины: подойдя к краю водоема, она осторожно пробует, не холодна ли вода. Как и Венера в саду, эта скульптура
618
поражала чистотой линий, поэтичностью, целомудренной и ясной трактовкой темы.
— А это — вариант. Может быть, я когда-нибудь сделаю это для городского фонтана,— Штробль подвел меня к небольшой розоватой скульптуре, эскизно вылепленной из глины и обожженной. Девушка-подросток с убранными назад косами, в простом деревенском сарафанчике, слегка приподняв его, протянула узкую ступню к воде. А чуть пониже девушки, на краю бассейна— гуси и утки, смотрящие на нее. Даже в эскизе чувствовалось, сколько солнечного света, сколько радости, жизни, молодого задора в этой работе.
.. .Мастер водил меня по залу вдоль стеллажей. Глаз поражало разнообразие материала, в который за многие годы труда вдохнули жизнь его не знающие устали руки: бронза, мрамор, терракота, дерево и даже грубый песчаник... И какую жизнь!
Вот мускулистый стрелок, весь устремленный вперед, выдохнув воздух широко раскрытым ртом, только что спустил тетиву большого лука. Кажется, видишь полет стрелы, слышишь, как, трепеща, она улетает... Где-то я видел эту скульптуру. Где? Припоминаю — в Ленинграде, в Эрмитаже?
— Да, копия стоит там,—подтвердил Штробль.
— Какая сила!
— Люблю изображать сильного человека. В его страстях, в напряжении, в движении.
— И вот это тоже — очень сильно,—обратил я внимание на скульптуру мужчины с лицом, поднятым к небу: он как бы взлетает над землей, уже не касаясь ее ногами, и только легкая ткань, спадающая с его обнаженного сильного тела, еще соединяет его с землей, а руки его полураскинуты и чуть прижаты к груди, как будто бы готов он встретить что-то манящее, неведомое, то, к чему устремляется ввысь.
— Вот видите,— полушутя-полусерьезно сказал мой хозяин,—Эту вещь я делал в двадцать восьмом году, но уже она посвящена вашему спутнику.— Потом пояснил: — Нет, это не об освоении космоса. Это просто надгробный памятник.
Водя меня по залу, Штробль охотно показывал все, что создал за десятилетия его щедрый и трудолюбивый
619
талант. Здесь собраны частично копии его работ, но немало и оригиналов — мастер предпочитает, чтобы его творения не уходили от него. Но копии-близнецы расходятся по всему свету.
Лихой усатый гусар в ментике, рассматривающий вынутую из ножен саблю,— я вспомнил, что такой гусар, которого не взяли ни пуля, ни осколок в войну, стоит на площади у Королевского дворца на горе Геллерт в Будапеште. Юный Давид с мечом, голова Голиафа у его ног... Пылкий Петефи — трибун революции сорок восьмого года. Величаво-суровый Кошут. Ленин на трибуне. Юное и мужественное лицо Тимура Фрунзе. И будто затесался среди всех Иисус — одна из ранних работ Штробля. Но и Иисус — особенный, штроблевский, ничуть не похожий на постных церковных Иисусов,— страстный проповедник со вскинутой кверху рукой.
И здесь же, рядом с пламенными героями,— полные радости жизни женские фигуры. Плавны и спокойны их линии. Это лирика, выраженная в форме. «На пляже» — подставив тело солнечным лучам, сидит на камне женщина, сейчас она встанет и войдет в воду. «Утро» — девушка, сидя на пеньке, закинув руки за голову, смотрит в небо; улыбается ясному дню. А вот «Маленький капризуля» — молодая мать едва удерживает на руках разбрыкавшегося мальчишку.
— Вашу мастерскую населяют герои и женщины...
— Да, больше всего я люблю изображать мужество и любовь,— ответил Штробль.— Человек прекрасен в этих, наиболее человеческих своих чувствах, и я хочу показывать его в них. И не только таким, каков он есть. Но и таким, каким он должен быть.
Штробль долго ходил со мной от стеллажа к стеллажу, показывая свои работы. Не отставая от хозяина ни на шаг, все время шел и верный Блэки. Когда Штробль останавливался и начинал мне что-нибудь объяснять, Блэки садился у его ног и поглядывал на меня черными бусинками глаз из-под почти закрывающих их длинных лохм шерсти, словно спрашивал: «Понимаешь?»
Среди работ, собранных в мастерской, я видел много бюстов. Почти возле каждого из них хотелось постоять, всматриваясь в рожденные под резцом скульптора 520
черты человеческих лиц. Как не похожи сделанные Штроблем скульптурные портреты на те бюсты, которые нередко можно увидеть в музейных залах,— бюсты с холодно-каменным выражением лиц, порой одинаковым независимо от того, кто изображен — девушка или старец, плебей или вельможа... Нет, в каждом портрете работы Штробля лицо дышит. В каменных глазах, на каменных губах — и в этом чудо таланта мастера — живут гнев, грусть, радость, удивление, нежность: вот смеющаяся девушка, вот поющая женщина...
— Как вам удается так хорошо передать состояние человека?—удивился я.— Как вы можете себе представить тех, кто позирует вам, в грусти или в радости?
— А я, когда работаю, разговариваю с тем, кого леплю. Расспрашиваю о жизни, шучу или спорю, иногда даже злю. Хочется воочию видеть подлинные чувства человека, а не только черты его лица.
Мое внимание привлек скульптурный портрет заразительно смеющейся девочки.
—Кто это? — спросил я.
— Нынешняя английская королева,— объяснил Штробль.— Ей было тогда четырнадцать лет,— он показал небольшую фотографию, приколотую к стене: на фотографии та же смеющаяся девочка в плетеном кресле, возле нее — улыбающийся Штробль за лепкой, вокруг— какие-то дети, они тоже хохочут,— видимо, скульптор рассказывал им что-то веселое.
От Штробля я узнал, что он провел в Англии шесть лет, был скульптором королевского двора. Лепил для музейных галерей и дворцовых зал бюсты министров и генералов. Как память об этом в мастерской стоят копии сделанных Штроблем бюстов — Чемберлена и прочих деятелей.
— А Черчилля вы не лепили? — спросил я.
— Нет,— улыбнулся скульптор.— Лицо как-то не вдохновило меня. Не материал.
Штробль рассказал, что вернулся он из Англии только в 1939 году, когда надвинулась война,— в тревожное время ему захотелось быть на родине. Из Англии он привез много своих работ.
— Из них — самая дорогая... — и Штробль показал на один из бюстов.
621
Стариковское, но полное энергии, полное жизни, улыбающееся лицо, высокий лоб, проницательные глаза, усы вразлет, торчащая бородка...
— Шоу?
— Да,— ответил Штробль.— Шоу был доволен. Он сказал: «Это — лучше оригинала: с правой стороны бюста я изображен как философ, с левой — как комедиант». В своем завещании Шоу написал, что если в Лондоне будут ставить его бюст, то чтобы это был бюст только моей работы...
Да, это был великолепный человек! — вздохнул Штробль. — Мы познакомились, когда я начал работать над его портретом. Быстро сдружились и дружили долго. После моего отъезда из Англии мы многие годы переписывались. Только его смерть оборвала эту переписку. ..
Расчувствовавшийся Штробль порылся где-то на нижней полке под стеллажом и достал, видимо из заветного местечка, что-то аккуратно завернутое в целлофан. Он бережно развернул шуршащий целлофан, и я увидел слепок руки — сильной мужской руки с крепкими пальцами. Это была рука Шоу. Взволнованно поглаживая каменные пальцы, Штробль проговорил:
— Я сделал этот слепок на память, когда уезжал из Англии. До сих пор помню я тепло этой руки.
Позже я узнал, что он показывает эту реликвию далеко не всем...
Видимо, охваченный воспоминаниями, старик многое рассказал мне о дружбе с Шоу, о жизни в Англии. Рассказал, что во время поездки в Западную Европу в прошлом году посетил и Англию. Встретили там бывшего скульцтора королевского двора с почетом, устроили в его честь банкет, на котором присутствовали три министра и парламентарии. Среди принимавших Штробля нашлись такие, которые посочувствовали: «Как вы можете творить там, за железным занавесом?» — «А вы приезжайте, посмотрите, как мы живем! — ответил Штробль.— У нас нет босых детей и все работают!»
— Я знал, как им ответить и постоять за то, что мне дорого! — с огоньком в глазах проговорил Штробль.— Хотя я не партийный, не коммунист!
622
Вспоминая о своей поездке на Запад, Штробль рассказал, что встретился там с одним из своих прежних учеников, которого любил когда-то. Этот человек был там в командировке, когда вспыхнул контрреволюционный мятеж 1956 года, и после мятежа не захотел вернуться, порвал с родиной. Увидев своего старого учителя, он бросился к нему с распростертыми объятиями. Но Штробль сурово сказал ему: «Ты отщепенец. Больше я не знаю тебя».
Мы разговорились о новых работах современных скульпторов, коснулись и абстракционистских произведений.
— Не могу понять!—с гневом воскликнул Штробль.— Почему все эти уродства стоят в музеях Европы рядом с великими произведениями искусства? Настоящее искусство должно звать к жизни, а это? Кто захочет общаться с таким уродливым человеком, какого изображают абстракционисты? Кто захочет поцеловать такую женщину, которую* они выдают за свой идеал красоты? Только сумасшедший! Делать такие вещи, какие делают они, и называть это искусством — значит не любить людей и не хотеть по-настоящему работать! А ведь и у нас в Венгрии в мире искусства находятся люди, которые поощряют это, даже хвалят в печати. Вот, смотрите, пожалуйста!—Штробль взял с полки венгерский художественный журнал.— Вот, вот, вот! — он быстро листал страницы, показывал какие-то дисгармоничные, животастые, рукастые фигуры, вроде той, которую я видел в одном из дворов, идя к Штроблю. Я вспомнил о ней и спросил:
— Того гориллоподобного малого — неужели и в самом деле поставят, где-нибудь на виду?
— Весьма возможно! — сердито проговорил Штробль.— Могут найтись ценители такого, с позволения сказать, искусства и у нас.
Он рассказал, что в среде венгерских художников и скульпторов есть такие, на ком сказывается идущее с Запада влияние, что приходится бороться за реализм в искусстве. В этой борьбе старый Штробль не один. У него много сторонников, последователей и учеников, которых он воспитал за те десятилетия, когда был профессором Венгерской Академии художеств. Только недавно он перестал преподавать, уйдя на пенсию.
623
Показав весь зал, Штробль повел меня наверх, на антресоли. Мы поднимались туда по скрипучей деревянной лестнице. Мохнатый Блэки неизменно следовал за хозяином. Когда мы поднялись и Штробль остановился, чтобы передохнуть — ему уже не легко подниматься по крутым ступенькам,— Блэки уселся на свое излюбленное место у его ног. Глянув на пса, Штробль промолвил с грустной улыбкой:
— Сколько я уже своих собак пережил...
На антресолях, на глухой стене,— большой, писанный маслом портрет жены художника, под портретом— ее же бюст. А рядом на стене, в застекленной рамке;—детский рисунок, черным карандашом на серой бумаге: битва рыцарей с турками. Один из первых рисунков Штробля.
— Это,— показал Штробль,— я рисовал еще совсем маленьким мальчиком, когда жил в деревне.
Сын сельского учителя, он делал свои первые рисунки плотничьим карандашом, а краски добывал, выжимая ягоды и плоды, растирая листья. С двенадцати лет начал заниматься лепкой. Природа, деревенская жизнь были первой натурой будущего художника.
— Вы знаете, почему я Кишфалуди?—спросил Штробль.— Я сам сделал себе такую приставку к фамилии. Кишфалуди — так называется местность, где находится деревенька, в которой я жил в детстве. Хочу, чтобы мое имя было связано с той землей, которая взрастила меня.
На антресолях, где, как и в нижнем зале, почти все стены заняты полками со скульптурами, у Штробля что-то вроде кабинета: в углу — тахта, застеленная простым серым суконным покрывалом, пара стульев, небольшой столик. У стены — письменный стол. На нем, в застекленной рамке,— многочисленные ордена и медали, которыми оценен труд скульптора, в том числе и иностранные; Штробль — член нескольких художественных академий, его скульптуры стоят на площадях, в музеях и дворцах многих городов мира — от Лондона до Рио-де-Жанейро... Среди всех этих наград выделяется большой золотой ключ, врученный Штроблю в знак избрания его почетным гражданином города Питсбурга в Соединенных Штатах, в котором стоит одна из его скульптур.
624
А над письменным столом, на полке,— большой, синий с золотом, кубок. На золоченом щитке в центре кубка вырезана надпись на русском языке. Она гласит, что кубок вручен скульптору Жигмонду Кишфалуди Штроблю от командования советских войск в Венгрии в 1947 году, в знак благодарности* за его работу — монумент освобождения.
Этот величественный монумент известен всем. Венгры называют его «Гением свободы». В мастерской сохранилось несколько скульптурных эскизов этого сооружения. Показывая мне их, Штробль с улыбкой вспомнил:
— Сначала некоторые здешние чересчур осторожные товарищи никак не хотели, чтобы работа над монументом была поручена мне. Они говорили: «Что, Штробль? Это же известный реакционер, он всю свою жизнь лепил королей и министров, был придворным скульптором!» Но все-таки мне дали заказ. Советское командование помогло мне восстановить мою мастерскую, пострадавшую от бомбежки.
Мы подошли к маленькому, сделанному из глины эскизу монумента освобождения. По взгляду старого скульптора было видно, как любит он эту свою самую крупную работу и как, наверное, втайне гордится ею. И его чувства можно было понять. Я глядел на маленький эскиз, который можно установить на любом столе, а перед моими глазами возникало то, что я видел недавно, в редкий для венгерского декабря солнечный день, на высоте птичьего полета. На скалистой вершине горы Геллерт, возле иссеченных осколками стен старинной цитадели, высится этот многофигурный монумент — статуя женщины, держащей над головой на поднятых руках пальмовую ветвь, ниже — советский воин со знаменем, обращенный лицом к городу, вызволенному им из бедствий войны. А на противоположной, обращенной к цитадели, стороне — его товарищ с винтовкой у ноги, в скорбном карауле у постамента, на котором вырублены имена павших.
Монумент поражает гармоничным сочетанием эпического спокойствия и неудержимого порыва. Как динамичны две обнаженные мужские фигуры по сторонам памятника — устремленная вперед, с факелом
40 На разных меридианах
625
в поднятой руке, и фигура бойца, сжавшего одной рукой горло чудовища и сокрушающего его кулаком.
— Мятежники в пятьдесят шестом хотели взорвать монумент,— рассказал Штробль.— Они свалили моего солдата. Но солдат снова встал на свой пост,— он усмехнулся.— Жалкие, злые пигмеи!
Старик устал, показывая свою мастерскую. Мы присели к столику возле тахты. Хозяин вытащил откуда-то бутылку «палинки» — крепкой мадьярской водки, наполнил крохотные стаканчики, мы выпили за его здоровье, за настоящее искусство, за советско-венгерскую дружбу. Штробль рассказал, что за время, пока он был в Советском Союзе, он хорошо познакомился с нашим искусством, подружился с некоторыми скульпторами. В Москве была организована выставка его произведений, издательством «Искусство» выпущена монография—альбом о творчестве Штробля, он избран членом Академии художеств СССР, как мастер с мировым именем.
— А у вас на родине тоже издана монография о вас? — задал я вопрос.
— Нет. В последнее время я упомянут только вот здесь, вместе с .другими деятелями искусства, — Штробль показал мне небольшую книжечку в зеленоватой бумажной обложке.
— А все-таки странно,— удивился я.— На витринах будапештских магазинов много статуэток — красотки в фривольных позах, изделия дешевого пошиба. А вот почему ни на одной витрине не видно копий хотя бы с вашей Венеры?
— И не увидите,— невесело усмехнулся Штробль.— Делают часто лишь то, что на потребу обывателю, а обыватель любит что-нибудь попикантнее, серьезное искусство ему кажется скучным.
Мы говорили еще долго. Но настало время и расставаться.
Идя через мастерскую к выходу, я снова и снова окидывал взглядом уже виденное, старался запомнить все. Воплощенная в камне жизнь живыми глазами изваяний смотрела на меня со всех сторон. На меня глядело не только прошлое, не только великие герои давно или недавно минувшего, но глядело и настоящее. Я видел тех, кто не только творил, но и творит исто-626
рию. Видел не только вождей, но и рядовых, рядовых великой армии труда. Я прохожу мимо них. Вот рабочий, чуть нагнувшись, сильными руками раскру-/ чивает большое маховое колесо. Это работа первого послевоенного года, первого года восстановления, и названа она скульптором очень значительно: «Все же работа началась». Вот «Камнеломы», проникнутые той же силой все преобразующего труда,— два человека с могучими буграми мышц на руках и обнаженных спинах, вонзив лом в щель в камне, дружным усилием разламывают камень. Вот еще один труженик—«Косец отавы» — крестьянин. Как много радости свободного труда во всех этих здоровых, сильных телах...
Штробль и его верный Блэки провожали меня до дверей. На прощанье я с сыновней нежностью пожал руку старого мастера. Но какой же он старый? Несмотря на семьдесят шесть лет, молодо глядят его глаза. А душа полна жажды творчества, неугасаемого желания показать человеку человека таким, каков он есть во всем своем лучшем,— каким видят его зоркие глаза художника.
1961
40*
воды
ы убеждены, что Буэнос-Айрес — самый шумный город не только в южном полушарии, но и во всем мире. Особенно утомителен он ночью — спать в этом странном городе почти невозможно. Все столицы Европы и Азии, в которых нам довелось побывать,— Берлин, Токио, Дели, Париж — затихают к полуночи. Буэнос-Айрес дремлет во время
сиесты — полуденного отдыха в часы жары, замирает вечером и просыпается ночью, ударяя в окна отеля грохотом бодрствующего огромного города. После полуночи вновь открываются магазины на улице Флорида и авенида Корриентес. Мальчишки, продающие ночную газету, истошными голосами выкрикивают свежие политические новости, машины мчатся тесными потоками, биржевые игроки и фланеры в светло-ко-фейных брюках толпятся на перекрестках и громко оценивают достоинства проходящих сеньорит с разно
628
цветными — по моде — голубыми, лиловыми и седыми волосами.
Утомленные этим непрекращающимся ночным безумием, мы с удовольствием уезжали из города на север, к предгорьям Анд. Нам хотелось посмотреть, как живут крестьяне Аргентины, побывать в обыкновенном деревенском доме. Мы сказали об этом нашему гиду — сеньору Самоквасову.
— Крестьянское ранчо? — с готовностью переспросил сеньор Самоквасов.— О, хорошо, буэно! Одну секунду, сеньоры, моменто! Моменто, моментито, момен-тиссимо! — И он снял трубку телефона, набрал какой-то номер и стал быстро сыпать по-испански.— О-ла! Буэно! Поехали, сеньоры! Мы вам покажем аргентинское ранчо!
Борис Николаевич Самоквасов был сыном эмигрировавшего в семнадцатом году царского генерала и родился в Парагвае, в городе Ассунсионе. Из своих тридцати лет двадцать он прожил в Аргентине, где работал профессиональным гидом. Туристы были главным образом американцы — «норт-американос», как их называют здесь. Поэтому Борису Николаевичу приходилось говорить по-английски больше, чем по-испански. Впрочем, по-русски он говорил хорошо, но с легким акцентом и иногда забывал слова, как ни странно, самые простые. Тогда он произносил: «Моменто! Моментито!»— и, щелкая пальцами, мучительно извлекал из памяти затерявшееся слово. Однако, когда мы как-то спросили, на каком языке он думает и какой язык считает родным, Борис Николаевич, к нашему удивлению, ответил:
— Гуарани.
Гуарани — язык одного из индейских племен Южной Америки. Индейцы племени гуарани составляют значительную часть населения Парагвая, и для нашего гида, росшего среди индейских ребят, гуарани остался языком детства.
— Да, сеньоры, я думаю на гуарани,— сказал он нам, почему-то вздохнув.
И мы вспомнили, как в Париже старик эмигрант, профессиональный гид компании «Эйр-Франс», признался нам, что видит сны на английском языке...
629
Рано утром у подъезда отеля нас поджидал небольшой старенький автобус, нарядный, как свадебный экипаж. Все автобусы и грузовики в Аргентине, особенно в провинции, разукрашены, как деревянные кони ярмарочной карусели. К радиатору автобуса были припаяны десятки серебряных фигурок, у ветрового стекла развевались цветные ленты, позванивали колокольчики. Вдоль борта красовалась торжественная надпись: «Гранд Транспорто де Туризмо Мундиаль», что в переводе обозначало: «Большой Транспорт Мирового Туризма». Внутри были нарисованы неправдоподобно яркие цветы, и напротив шоферского сиденья висело лубочное изображение мадонны с младенцем.
Водитель нарядного «Гранд Транспорто» встретил нас громкими приветствиями на русском языке:
— Добрый вечер, ребятос!
И хотя только что наступило утро и слово «ребятос» представляло собой довольно смелое русско-испанское сочетание, мы были приятно удивлены.. Впрочем, выяснилось, что познания нашего шофера в русском языке не следовало преувеличивать: в его лингвистическом хозяйстве оказалось: «все в порядке», «дела хорошо», «водка хорошо», «война нехорошо» и еще несколько фраз.
Это был плотный, квадратный, как канистра, молодец с угольными волосами и такими же усиками. Глаза его походили на две чашечки черного кофе. Имя его звучало несколько торжественно: Родриго-Алонсо.
Родриго-Алонсо с ходу дал оглушающий сигнал, перепугав насмерть двух сеньорит и старуху в трауре, переходившую дорогу, нажал до отказа на газ и понесся со скоростью сто миль в час (каковую с этой минуты уже не сбавлял ни при каких обстоятельствах!).
Разукрашенный бубенцами и лентами, «Большой Транспорт Мирового Туризма» полетел по улице Ри-вадавия, дребезжа старинным кузовом и грозя каждую секунду рассыпаться на мелкие куски, и скоро выехал, вернее, вылетел за пределы Буэнос-Айреса, подобно тому как космический снаряд вырывается за пределы земного притяжения и дальше несется, уже не сдерживаемый его опостылевшими законами.
630
Мы поехали вдоль южноамериканской пампы. «Пампа» — это слово, знакомое еще по романам Фени-мора Купера, вызывало в памяти образы команчей, размахивающих томагавками, скачущих на мустангах и оглашающих воздух воинственными кликами. Однако пампа оказалась обыкновенной черноземной, как на Полтавщине, равниной, и, если бы не реклама коньяка «Мартини» и шин «Дэплоп» вдоль дороги, могло показаться, что едешь где-нибудь неподалеку от Хорола или Кобеляк.
Щеголеватый весельчак Родриго-Алонсо, не закрывая рта, комментировал проносящиеся пейзажи, повернувшись на три четверти к пассажирам и часто бросая руль на произвол судьбы, чтобы освободить руки для темпераментной жестикуляции. При этом он не сбавлял скорость ни на один километр.
— Как сейчас выглядит город Валдай, сеньоры? — весело спрашивал Родриго-Алонсо, кося в нашу сторону своими жаркими глазами и выворачивая руль в тот самый момент, когда передние колеса уже повисали над обочиной.— Валдай — это хорошо! Смоленск — тоже хорошо.
Изредка он все-таки поглядывал на дорогу.
Родриго-Алонсо оказался испанцем из Севильи. Свои познания в русском языке он приобрел в бытность солдатом испанской «Голубой дивизии», которую генерал Франко послал в свое время на советско-германский фронт.
Мы рассказывали Родриго-Алонсо, что во время войны были корреспондентами в соединении, держащем фронт против «Голубой дивизии», и что, откровенно говоря, мы не слишком высокого мнения о воинских доблестях его комбатантов. Родриго-Алонсо ответил:
— О сеньоры! Испанцы — мастера воевать, когда есть за что. А когда не за что драться, они мастера драпать.
Он так и сказал по-русски: «драпать». Родриго-Алонсо драпал лучше других, и ему удалось унести ноги. Когда он вернулся в Мадрид, Франко остался недоволен воинской доблестью своих гренадеров. Бывший солдат «Голубой дивизии» долго не мог найти работу на родине и эмигрировал в Аргентину.
631
— Браво, руссо! — радостно кричал он, скаля зубы (почему-то казалось, что их у него не тридцать два, а минимум пятьдесят).— Это хорошо, что Алонсо остался жив! Большое спасибо! Мучас грациас!
Мы ехали (вернее, неслись) по провинции Кордоба. К северу пейзаж менялся. Становилось жарче: издалека дышал экватор. По краям дороги проносились агавы с толстыми листьями, набитыми зеленым мясом, местные деревья параиза с фиолетовыми цветами и еще какие-то странные растения невиданно горячих тропических раскрасок. В пейзаж вошли кактусы: они становились все огромней, с крепкими, будто стальными иглами.
— Обратите внимание, сеньоры! — тараторил Родриго-Алонсо, повернувшись спиной к одному из крутых поворотов.— Во время войны, когда не хватало стали, колючки кактусов использовались как иголки для патефонных пластинок. Если бы не кактусы, сеньоры,— хохотал он, показывая свои шестьдесят зубов,— аргентинцы разучились бы танцевать!
— Однако скоро ли будет обещанный крестьянский дом? — спросили мы Бориса Николаевича, показывая на мелькавшие по сторонам маленькие домики.
— Крестьянское ранчо? Скоро, сеньоры,— ответил гид.— Моменто! Моментито!
— Скоро, скоро, сеньоры! — добавил Родриго, и тут мы упали с сидений.
Дело в том, что Родриго притормозил, чтобы поздороваться со знакомым шофером и заодно похвастать, что он везет русских пассажиров.
— Салют, Рикардо! — кричал он, высунувшись в окно.— Буэнос диас, добрый день! Как детки? Как жена? Что? Еще не родила? Желаю мальчика! И обязательно не меньше пяти килограммов весу! Что? На крестины? Непременно приду! С бочонком «Сан-Филиппо!» Между прочим, обрати внимание, Рикардо, на моих пассажиров! Кто это такие? Что? Норт-америка-нос? Не угадал! Бразильцы? Хо-хо, как бы не так! Болван, это руссо! Самые настоящие руссо из Москвы! Те, что запустили спутника. Чао! Пока!
Истины ради мы хотели разъяснить другу Родриго, что лично мы не принимали участия в запуске спутника, но это не удалось по той простой причине, что
632
Родриго с такой силой нажал на акселератор, что мы снова свалились с сидений. Не успели мы опомниться, как встречный автобус остался далеко позади и мимо нас со второй космической скоростью проносились дома, мосты и отдельные гаучо на лошадях и мулах.
— Почему вы так быстро ездите, Родриго?— спросили мы, растирая ушибленные места.
— Сеньоры,— ответил Родриго,— я потому так быстро езжу, что до сих пор не могу остановиться после бегства с Валдая.
И он засмеялся, показывая свои семьдесят четыре зуба.
Как ни быстро мчался наш «Гранд Транспорто», мы не могли не заметить, что ближе к тропикам сменился и тип населения. Прямые, черные, отливавшие металлическим блеском волосы, горделивые горбатые носы, красновато-смуглые лица вызывали в памяти образы аборигенов Южной Америки — индейцев. И впрямь, в этих местах еще сохранилась индейская кровь.
— Где же, однако, ранчо? — нетерпеливо вопрошали мы.
— Пасиенсиа, амигос! Терпение, друзья! — отвечал Родриго, приветствуя встречного коллегу.— Салют, Фернандо! Как твоя изжога, старина?
Все без исключения шоферы встречных машин были его добрые знакомые, и со всеми он обменивался на ходу громкими приветствиями, последними новостями и даже целыми диалогами на животрепещущие политические темы.
— Что ты скажешь о новых ценах на мясо? А, Фернандо?
Ветер относил далеко в сторону ответ Фернандо, встречный грузовик уже скрывался вдали, а неукротимый Родриго, высунувшись до пояса из окна, долго еще что-то кричал, повернувшись вдогонку, пока наш «Гранд Транспорто» не повисал над бездной.
Особенно сложные ситуации возникали, когда на дороге показывалась хорошенькая сеньорита. Тут Родриго на ходу раскрывал настежь дверцу, чтобы получше рассмотреть все прелести сеньориты, и восхищенно глядел ей вслед, подмигивая нам, причмокивая кончиком языка и почти вываливаясь из кабины.
633
— А, сеньоры? Какова малютка? А походка, походка! Джина Лоллобриджида!
В свободные минуты он брался за руль.
Но все же самое страшное было не это. На каждой, даже самой короткой остановке Родриго разыскивал «остерию» с надписью «Минутас» (что означает «Мгновенная подача») и выпивал пузатую, оплетенную соломой бутылку красного вина.
— Прополаскиваю требуху, сеньоры,— говорил он, весело подмигивая.
Скоро шея его приобрела оттенок выпитого им вина.
Наконец автобус резко свернул с шоссе и поехал по проселочной дороге.
— Вот, господа, и ранчо,— сказал Борис Николаевич.
Автобус уперся в ограду с надписью «Ранчо Тере-зита». У ворот ограды стоял длинный черный американский «понтиак».
— Мы въезжаем с вами,— привычно бормотал гид,— в типичное аргентинское ранчо, где вы сможете познакомиться с бытом и нравами типичного аргентинского земледельца, посмотреть предметы его домашней утвари и попрсбовать национальную пищу...
Хозяин ранчо сеньор Филиберто встретил нас в большом черном сомбреро и цветном пончо — шерстяном плаще, похожем на одеяло, с дыркой для головы посредине. Когда мы появились, на его упитанном лице отразилось приятное изумление.
— Какая неожиданная радость, сеньоры! — восторженно стонал он, провожая нас во дворик своего ранчо.— Какой чудесный сюрприз... О!.. Бьенвенидос, добро пожаловать!
Признаться, мы были растроганы этим радушием.
— Сеньор Филиберто,— сказал гид,— хочет угостить вас скромной национальной едой. Усаживайтесь, господа.
Мы уселись за большим столом под ветвями олив и крупными красными цветами эль сейво — национального дерева Аргентины.
— Дети! Друзья! — хлопнул в ладоши сеньор Филиберто со счастливым выражением лица.— Скорее сюда! У нас гости! Какая приятная неожиданность!
Из дверей дома выбежали многочисленные домо
634
чадцы сеньора Филиберто с таким же счастливым выражением лица, как у главы семьи. Все они были в разноцветных шароварах — бомбачас, широких ковбойских поясах, увешанных монетами и побрякушками, в высоких сапогах со шпорами. В руках у домочадцев сеньора Филиберто были гитары и маленькие черные банджо.
— А пока радушный хозяин занят приготовлением к столу... согласитесь, сеньоры, ведь наше появление здесь настолько неожиданно...— развел руками сеньор Самоквасов,— не угодно ли вам послушать пение?
Не успели мы ответить согласием, как молодой красавец в костюме гаучо сильным голосом запел песню «Масомориендо» — песню о маисе.
— «Когда я был цыпленком,— пел красавец гаучо,— куры меня клевали. А когда я стал петухом, они мне за это платят». Не правда ли смешно, сеньоры?
И певец отвечал на этот вопрос громовым хохотом и ударом пр всем струнам гитары.
— «Если твоя жена тебя начнет ревновать,— продолжал гаучо,— дай ей тарелку масоморы» (маисовой каши).
И все обитатели ранчо притопнули каблуками в знак одобрения этого поступка.
— «Когда я был маленьким,— развивал дальше свою мысль красавец,— я ползал у порога, и пупок у меня был набит землей. Так и женщина: если она будет ревновать, набей ей живот масоморой!»
Несмотря на несколько странную логику сюжета, песня была удивительно музыкальной. Парень пел с юмором и страстью. Гитара в его искусных руках отвечала, как живая, на каждую фразу этой маленькой мелодической новеллы.
Привлеченные песней, показались из сада несколько седых господ и дам с кодаками через плечо. Это были американцы, по-видимому те самые, которых поджидал у ограды черный «понтиак».
Между тем на столе появилось вино в кувшинах и приправы в соусниках. Сеньор Филиберто хлопнул в ладоши, и повар внес дымящееся ассадо — гвоздь национальной аргентинской кухни. Бросалось в глаза, что повар был одет с воинственностью, несколько странной для представителя столь мирной профессии: на нем
635
было заломленное сомбреро, зубчатые шпоры, и у пояса почему-то болтался большой восьмизарядный кольт.
Собственно, ассадо — это не одно блюдо. Это целая кулинарная сюита, некий гастрономический триптих. Сначала на деревянных тарелках подаются ачуррос — потроха и внутренности. Сие, так сказать, первая часть ассадо, его увертюра. Потом следует локро — похлебка из мяса, бобов и кукурузы, уснащенная перцем, сжигающая глотку. И затем, наконец, торжественный финал этой симфонии, собственно ассадо — огромные куски дымящегося мяса, изжаренные на пылающих поленьях и запиваемые горьковатым вином.
Пока гости поглощали ассадо, повар, увешанный оружием и доспехами, наблюдал за впечатлением и благосклонно принимал похвалы и аплодисменты, раздававшиеся после каждого блюда как дань его высокому мастерству. «Браво, сеньоре ассадор!» — и в ответ на похвалы воинственный повар изредка стрелял в воздух из своего огромного кольта, заставляя вздрагивать гостей. Что поделаешь, у каждой страны свои обычаи!
Так едят ассадо в Аргентине.
Разумеется, мы давно разгадали наивную хитрость сеньора Самоквасова: ранчо сеньора Филиберто оказалось своеобразной «резервацией» южноамериканской экзотики, запланированной для простодушных туристов.
Радушные домочадцы сеньора Филиберто наполняли кувшины. Наш героический водитель заглатывал огромные куски мяса, запивая их красным и белым вином без всякой видимой системы. Когда мы его спросили, почему он безбожно мешает то и другое, находчивый водитель ответил:
— Сеньоры! У меня же два имени. Ничего не поделаешь: Родриго любит красное вино, ну а с этим Алонсо просто беда: он предпочитает белое. Зачем же из-за пустяков ссориться двум хорошим парням!
Постепенно шея его приобрела цвет красного перца, стручки которого обильно громоздились на блюдах.
Скоро седовласые американцы упились.
— Джеймс! — крикнул дородный джентльмен с морковным лицом седого младенца.— А не потанцевать ли 636
нам с ними... с этими...— И он ткнул растопыренными пальцами в сторону обитателей ранчо.
— А ну их...— промычал другой, с глазами, свинцовыми от виски.— Все они «зюд-америкен» — цветные бродяги.
Но господин с морковным лицом уже направился к креолке в пестром платке. Гитары грянули лихую «Кошечку из Корриенты». Огромные зубчатые шпоры зазвенели в такт песне. Американцы вместе с домочадцами сеньора Филиберто начали отплясывать маламбу и карнавалито.
Мы поглядели на танцующих. Лица аргентинцев были каменными. Поражало странное несоответствие веселой работы ног и блеска ненавидящих глаз. Даже на лице сеньора Филиберто профессиональное радушие на миг сменилось недоброй усмешкой. Но веселые «норт-американос» не заметили этого. Мы поднялись.
— Вы разочарованы, господа? — спросил сеньор Са-моквасов.— Вы чем-нибудь недовольны?
— Нет,— дипломатично ответили мы.— Ассадобыло очень вкусным. Но мы хотели бы все-таки посмотреть настоящее крестьянское ранчо.
— Но это же и есть типичное крестьянское ранчо. ..— неуверенно пробормотал сеньор Самоквасов. Но, увидев наши иронические улыбки, он растерянно умолк.
Мы снова сели в автобус и в молчании поехали обратно.
Наш гид маялся на своем сиденье, чувствуя, что мы не удовлетворены продемонстрированным нам этнографическим аттракционом. Лишь подвыпивший Родриго-Алонсо тараторил без умолку.
— О, я вижу, что руссо не дураки! — хохотал он, подмигивая в сторону смущенного сеньора Самоква-сова.— Они сразу поняли, что дом сеньора Филиберто — такое же крестьянское ранчо, как я священник!.. Молодцы руссо! Но все-таки нельзя отрицать, что ассадо было на высоте, не правда ли, ребятос? Давайте споем русскую песню!
И он громко затянул: «Очи черные... очи красные. . .»
Шея его, пройдя всю колористическую гамму, приняла темно-бордовый цвет бычьей печени. Впрочем,
637
ехал он довольно чинно, лишь изредка развлекаясь тем, что на полном ходу разгонял наш автобус прямо на встречную машину и в самое последнее мгновение выруливал в сторону с громким младенческим хохотом.- Мадонна скорбно взирала на захмелевшего Родриго, крёпко прижимая младенца Христа к своей груди, словно беспокоясь за его судьбу.
Внезапно на мосту через какую-то речку нам повстречался автобус, еще более разукрашенный, чем наш. На его зелено-красном борту мы прочитали выведенную сусальным золотом скромную надпись: «Транспорто Грандиозо де Дос Мундос», что означает: «Грандиозный Транспорт Обоих Полушарий». Длины небольшого автобуса не хватило для всей горделивой надписи, и поэтому часть ее перешла на цветастый зад кузова и красовалась над выхлопной трубой, выбрасывавшей густые клубы дыма и сажи, будто небольшой химический завод.
Родриго-Алонсо и его коллега из встречного автобуса ни за что не хотели уступить дорогу друг другу. Они уперлись радиаторами лоб в лоб, упрямо, как молодые бычки. Моторы немилосердно чихали и стреляли. Мост потрескивал. Честолюбивые шоферы осыпали друг друга неслыханными оскорблениями. Водитель «Обоих Полушарий» назвал Родриго-Алонсо незаконнорожденным ублюдком, прыщом на ягодицах и хвостом дохлого осла, на что вспыливший Алонсо заявил, что мать оскорбителя была известной потаскухой и дрянью, какой еще не знало человечество с момента сотворения праматери Евы.
Каково же было наше удивление, когда, наконец, разъехавшись, враги мирно попрощались и, высунувшись из окон, долго махали друг другу руками и посылали воздушные поцелуи.
— Этот Хуанито — прекрасный парень,— со вздохом заметил Алонсо, когда «Грандиозный Транспорт» скрылся вдали.— И тихий — мухи не обидит. Надо будет в воскресенье выпить с ним по стаканчику пе-перино.
Неправдоподобно огромные кактусы, похожие на декорации из папье-маше, мелькали по сторонам. Маленькие хижины рисовались на вечернем небе.
638
— Чертовски хочется пить,— внезапно сказал один из нас, подмигнув остальным.— Это дьявольское «ачуррос» дерет горло, как негашеная известь!
— Да, да, товарищи,— понимающе поддержал другой.— Нельзя ли остановиться у какого-нибудь жилья, попросите глоток воды?
— Стоит ли задерживаться, господа? — недовольно отозвался сеньор Самоквасов.— Уже вечер, а до Кордобы совсем недалеко.
— Не понимаю, почему не притормозить у какого-нибудь ранчито на несколько минут, если сеньоры хотят пить?—ухмыльнулся Родриго-Алонсо.
— Сырая вода. .. Микробы... Здесь это небезопасно. ..— бормотал гид.— Лучше поедем быстрей и выпьем в отеле холодненького оранжада или аквы минерала. ..
— Нет, нет, пить! — настаивали мы.— Глоток воды.
Родриго-Алонсо резко затормозил у дома, белевшего при дороге, и мы вошли внутрь, перешагнув через груду старых попон, седел и сбруи.
— Буэнос тардес! — сказали мы.— Добрый вечер.
— Буэнос тардес, сеньоры, — ответил женски)! голос.
В ранчито было полутемно. Керосиновый светильник, сделанный из бутылки, бросал дрожащие тени на глиняные стены, на кривую железную кровать с ворохом грязного тряпья.
На земляном полу вповалку спали черноголовые дети, накрывшись рваным пончо, далеко не столь нарядным, как у сеньора Филиберто. Оно заменяло здесь и одеяло, и пальто, и подстилку. Горсть маиса лежала на грубо оструганном столе. На стене висело деревянное рыночное распятие. На ногах и ладонях Христа алели клюквенно-яркие стигматы.
В темном углу на колченогом стуле молча сидел человек в пиджаке, галстуке и черной шляпе. Он сидел неподвижно, как деревянный, руки его лежали на коленях. Короткое желтое сияние керосинового светильника почти не касалось его.
Мы заговорили с хозяйкой. Сильная примесь индейской крови была приметна в ее лице: в железном отблеске прямых волос, в желтоватой коже на скулах. Она отвечала неохотно, п\чти механически. Да, сень
639
оры, ломоть земли с крошечным посевом маиса. Две козы. Одна олива. И все это надо делить на пять ртов. И за все это надо платить помещику сеньору Молинари.
— А тут еще господь послал это несчастье,— и она показала на сидевшего у стены мужчину. Мы внимательно посмотрели на него: он сидел молча в темном пиджаке, галстуке и шляпе.
— Сеньоры, он мертв,— внезапно сказал Родриго-Алонсо и перекрестился.— Эста муэрто...
— Си, сеньорес,— произнесла женщина,— эс ми маридо... Это мой муж. Мурье аер... Он вчера умер...
Она сказала это спокойно, почти бесстрастно. Ни одна слеза не выкатилась из ее глаз. Но в этой внешней безучастности мы почувствовали то выражение горя, от которого озноб прошел по коже.
Алонсо быстро заговорил с женщиной по-испански, она односложно отвечала ему.
Сеньор Самоквасов, осторожно подбирая слова, будто перебирая горячие угли, перевел нам их разговор.
Покойник — индеец. По обычаю племени его должны похоронить там, где он родился,— в провинции Ла Сальта. Но перевозить труп по железной дороге стоит очень дорого: нужен специальный вагон, свинцовый гроб и прочее. Кроме того, за перевоз трупа из одной провинции в другую надо платить налоги. И вот, сеньоры, есть люди, которые занимаются этим... Они перевозят покойников в другие провинции... Между прочим, здесь, в Кордобе, есть такой — сеньор Лопес. У него старенький форд. Скоро он подъедет, усадит... именно усадит рядом с собой мертвого сеньора. Ну, как обыкновенного пассажира и... Господа, здесь так поступают в этих случаях. И'мертвец будет предан родной земле, согласно обычаям его народа.
— Что поделать, индейцы — консервативный народ. ..— с печальным вздохом заключил сеньор Самоквасов.— Аста ла виста! — попрощался он с хозяйкой.— Муча суэртэ! Много счастья!
Мы также простились и вышли. Молча мы уселись в автобус и поехали дальше. Мы ехали в молчании. Даже словоохотливый Родриго-Алонсо не проронил ни
640
звука и два раза дал обогнать себя какому-то полу-развалившемуся грузовику.
В окнах графитно чернело незнакомое небо чужого полушария с большим Южным Крестом. Только где-то далеко, совсем в другом, чем у нас, краю неба, можно было заметить непривычно маленькую Большую Медведицу.
Скоро показались огни Кордобы. Почти у самого предместья нас еще раз обогнал какой-то старенький рыдван. Кто знает, быть может, это предприимчивый сеньор Лопес спешил в другую провинцию со своим безмолвным пассажиром?..
1960
41 На
разных меридианах
Г Е Н Н- 4- Д U U
фиш
Р В Е Г U Л
Р/ Д О М
О
ч Е Р Е /И V X У)
и
/Н и Н- Д 14 / L
абрикосы
елая ночь. Май. Безлюдные улицы ночного Осло. После товарищеской вечеринки мы расходимся по домам. Меня провожает очень высокий, как большинство норвежцев, но уже немного грузный Сигурд Мортенсен.
Каштаны, обступившие с обеих сторон улицы, высоко подняли свои прямые стрельчатые свечи. В палисадниках цветут сирень, , розовый миндаль. Одуряюще пахнет бело-
пенная черемуха. Она цветет здесь рядом и одновременно с миндалем! Это удивительно! В моем сознании черемуха и миндаль отдалены друг от друга тысячами километров. А здесь север и юг сошлись на одной площадке на широте Магадана. Вот что делает Гольфстрим!
И раньше я знал, что в Норвегии, самом северном государстве мира, теплее, чем где бы то ни было на
642
этих широтах, потому что Гольфстрим каждую секунду приносит к норвежскому побережью четыре миллиона тонн теплой воды, то есть вчетверо больше, чем могут принести все реки мира, вместе взятые. Течение это ежеминутно дарит стране столько тепла, сколько дает сжигание ста тысяч тонн нефти. Без записной книжки я быстро забыл бы все эти цифры. Но цветущую черемуху на улицах Осло рядом с розовым миндалем я никогда не забуду.
— Миндаль рядом с черемухой — это невольно бросается в глаза. Однако в Норвегии много таких контрастов, которые не видны невооруженному глазу,— улыбаясь говорит мой спутник.— Вот, к примеру, килограмм маринованной селедки стоит три кроны, а цена огромного флагманского корабля китоловной флотилии — одна крона. Килограмм маргарина на рынке три кроны, а цена китобойного суда — опять-таки одна крона.
Я знаю, что Мортенсен любит пошутить, и пытаюсь отыскать скрытый в его словах юмор. Но тщетно.
Не так давно «Дагебладет» — самая распространенная ежедневная газета Норвегии — посвятила Мортенсену большую статью, озаглавленную «Тот, кто у нас считает». И в самом деле, руководитель статистического бюро города Осло Сигурд Мортенсен, обладая превосходной памятью, не только умеет считать (таких людей не мало), но и видит скрытые за цифрами противоречия, общественные отношения,— а таких людей не так уж много.
Мы пересекаем площадь Ивара Оссена, останавливаясь, как положено, перед красным светом, хотя ни одной машины не видать. Перед нами многоэтажное новое здание правительства — стекло и бетон,— выходящее на площадь узкой тбрцовой стеной. Во всю свою многоэтажную железобетонную высоту стена эта покрыта рисунками-иероглифами, нанесенными с помощью «новой техники». Они вырезаны мощной струей песка на бетоне. А напротив нового здания правительства старый приземистый дом — Главное полицейское управление с тюрьмой при нем.
— Я удостоился чести провести здесь несколько месяцев, в одиночке! — говорит Мортенсен.— Не стану врать, что зимой тысяча девятьсот сорок второго года
41*
643
там было тепло и сухо. Видите это окошко с решеткой на пятом этаже, четвертое справа?
Здание тюрьмы в глубине двора, который отгорожен от тротуара высокой каменной двухэтажной стеной. Она скрывает от глаз нижние этажи. С противоположного тротуара улицы видны третий, четвертый, пятый этажи с окнами, закрытыми решеткой.
— Вот здесь на тротуар упала моя записка,— говорит Сигурд.— Мне тогда очень повезло.
выстрел
и }
Р О Г Я т
Когда Мортенсен был арестован квислинговской полицией, он успел сказать жене, чтобы в точно назначенный час она ежедневно проходила по улице мимо тюрьмы. Он постарается дать ей знать, в какой камере находится. Окно камеры, забранное решеткой, было высоко, под потолком. И даже Мортенсен мог выглянуть в него, лишь привстав на цыпочки на табурете.
Через несколько дней в назначенный час, дежуря у окошка, он увидел, как с годовалой дочуркой Гру на руках по тротуару на другой стороне улицы медленно, то и дело поглядывая на тюрьму, проходит его жена. Сигурд дал ей рукой знак: она увидела, улыбнулась, кивнула и прошла дальше. «Свидания» стали ежедневными.
Тюрьма жила своей жизнью. И как-то Мортенсен узнал, что заключенный в одной из соседних камер, не: вь$держав истязаний, назвал несколько имен.
. :;Этим людям грозила гибель.
Надо немедля сообщить на волю. Но как?
~ Когда вечером заключенных повели в баню, Сигурд увидел на столе у коридорного надзирателя почти до конца выжатый тюбик зубной пасты. Возвращаясь обратно, он незаметно взял его. Итак, грузило есть. На обрывке бумаги Сигурд написал подпольные клички тех, чьи имена назвал предатель. Необходимо их пре
644
дупредить, пока не поздно. И он уже придумал, как это сделать.
Мортенсен снял с руки резинку, которая была надета на рукава рубашки, чтобы укоротить их. Это будет тетива рогатки. А рогатка — пальцы правой руки — указательный и средний. Из тюбика выдавлены остатки пасты. Осторожно вложена записка. Затем он свернул тюбик несколько раз. Вес достаточен для полета — метров пятьдесят до тротуара с высоты четвертого этажа. Детские забавы не прошли напрасно. Только бы не подглядели в глазок! Только бы стражники во дворе не заметили, как через их головы, над каменной оградой полетит пущенный самодельной пращой снаряд!
Став спиной к глазку, Мортенсен натягивает резинку между указательным и средним пальцами, прилаживает заряд. Потом взбирается на табуретку. ОЩю высоко,— даже стоя на цыпочках, нельзя прицелиться. Надо, подтянувшись к решетке, упереться локтем в подоконник и повиснуть на нем, оторвав носки от табуретки. Это не так уж легко — ведь он далеко не в спортивной форме.
Бессонная ночь в ожидании утра и в тревоге, пройдет ли утром жена, как обычно, по тротуару! Вчера она была одна,— может быть, Гру заболела? А послезавтра уже поздно.
Но утром в назначенное . время появляется внизу с дочкой на руках жена. Она смотрит вверх, отыскивая знакомое окошко — четвертое от правого угла.
Они видят друг друга. А внизу, во дворе (это видно дишь Сигурду), о чем-то оживленно разговаривают стражники.
Мортенсен повисает на локте, левой рукой отводит назад резинку и, быстро прицелившись, отпускает ее.
«Снаряд» пролетает высоко над головами часовых, над каменной стеной.
Но локоть не выдерживает, и Сигурд срывается.
А когда снова, уже стоя на носках, краешком глаза он глядит из-за решетки, то видит, как жена нагибается, поднимает что-то с тротуара. Затем она так же спокойно продолжает путь. Только на углу оборачивается и приветно машет рукой.
Трех товарищей спасло предупреждение Сигурда, других гестапо успело схватить.
645
— Вот тут, на этом месте, упала моя записка,— повторяет Мортенсен.
— Так это здесь, в камере, вы ждали взрыва? — вспоминаю я то, что еще в Москве рассказывал мне Сигурд.
— Да, и дождался!
Когда Мортенсена в день ареста доставили в Главное управление полиции, его допрашивал шеф квис-линговской политической полиции.
— Если не скажешь сегодня, завтра все равно я приду и заставлю рассказать... Иначе тебе несдобровать! — угрожал он арестованному. А Мортенсен, глядя на него, думал: «Завтра ты, мой милый, ко мне не придешь!»
Дело в том, что одна из боевых групп, работавших в * контакте с Мортенсеном, должна была уничтожить этого предателя норвежского народа и его помощников. И срок был точно определен. С необычайным риском в кабинете шефа политической полиции, ночью, в ящик письменного стола заложили взрывчатку. Взрыватель подключили к телефону, и он должен был сработать в то мгновение, когда кто-нибудь снимет телефонную трубку.
Все было совершено, как задумано.
И утром, в назначенное время, у себя в камере Мортенсен услышал грохот. Тревога прошла по тюремным коридорам, потом все затихло. А когда шеф не явился на допрос, Сигурд понял — дело сделано.
— Жаль только, что Асбьерн поторопился. Надо было позвонить в девять десять, когда все уже на местах. А он позвонил через три минуты после девяти. Другие еще не успели прийти. Шеф взял трубку. И больше ничего не услышал.
Мы уже прошли мимо Дома правительства и спускались к порту по улице Ибсена...
Я искоса смотрю на Мортенсена.
Если он снимет очки и наденет капитанскую фуражку, то будет похож не на ученого, а на штурмана дальнего плавания.
— Наверно, семейное сходство,— смеется Мортенсен и рассказывает, что его отец был машинистом на китобойном корабле, приписанном к Санде-фиорду, а все три брата — капитаны.
646
— Итак, вы всерьез утверждаете,— спрашиваю я, продолжая разговор,— что есть флагманские китоловные суда-фактории, вроде нашей «Славы» или «Алеута», которые стоят, по бухгалтерским книгам, одну крону? И в этих флотилиях есть китобойные суда, которые также оцениваются в одну крону?
— Да,— кивает он головой.— Таковы записи в гроссбухах, официально утвержденные балансы. По ним вычисляются доходы и налоги.
Я достаю из кармана крону — медяк с вычеканенным профилем Улафа — короля Норвегии.
— Такая?
— Да, не бумажка, не кредитный билет с портретом Вергелланда, Бьёрнсона, Ибсена или Нансена,— а именно одна такая монета !.
На прощание Мортенсен передает мне приглашение союза каменщиков приехать завтра, в субботний день, в местечко Аскер в Дом моряков. Там, на семинаре активистов профсоюзов каменщиков и землекопов, он как раз проводит беседу на эту тему. Ведь не только я, но и большинство норвежских рабочих не имеет полного представления о механике наживы капиталистов в демократическом государстве.
В „ О Р Л и -н о лд
Г +Н Ц Е "
Поездка на автобусе из центра Осло в соседнюю общину Аскер занимает минут сорок.
Отсалютовали своими нарядными свечами каштаны Бигде-аллеи, прославленной в лирических песнях.
Остался позади аэродром Форнебю.
У развилки Драменского шоссе, откуда берет начало дорога на Аскер, стоит прекрасная статуя — скульптура нагого юноши на коне. Это монумент
1 На норвежской кредитке достоинством в 100 крон изображен поэт X. Вергелланд, в 50 крон — Б. Бьёрнсон, в 10 — X. Ибсен, в 5 крон — Ф. Нансен.
647
в память освобождения Норвегии от гитлеровской оккупации.
На постаменте высечено: «Жизнь и свобода неразделимы».
Каждый ребенок здесь знает — это строка из стихотворения Нурдаля Грига.
Мы сходим с автобуса у скалы в березняке. Ни строений, ни людей. Тишина.
Узкая крутая дорожка, петляя, уводит нас от шоссе вверх, и через двадцать минут мы на зеленой поляне, где стоит одноэтажное бревенчатое здание. Большое, темное, словно вываренное в смоле, оно напоминает старые северные помещичьи усадьбы.
Над входом штурвал — знак того, что дом этот принадлежит союзу норвежских моряков. А на лужайке перед домом, среди зелени, пестрящей цветами, на низком гранитном постаменте, гордо закинул назад голову Нурдаль Григ.
Хозяева дома — моряки. Кому, как не им, чтить память поэта, служившего юнгой на пароходе «Хенрик Ибсен», написавшего роман о матросской судьбе «Корабль идет дальше», раскрывшего трагедию норвежских моряков в дни первой мировой войны в драме «Наша честь — наше могущество» и героически погибшего во второй мировой войне, борясь за освобождение Норвегии!
Но неужели это моряки построили такой старомодный дом? Нет! Пятнадцать лет назад он принадлежал Квислингу. Страшась попасть под бомбежку союзной авиации, он выстроил себе эту усадьбу над фиордом, на уступе холма. И, хорохорясь, подражая своему «фюреру», назвал укрытый в лесу дом «Орлиное гнездо».
Внутренняя отделка дома, его убранство также стилизованы под норвежскую крестьянскую старину, которая становится совсем уютной и удобной, сочетаясь с электрическим отоплением, холодной и горячей водой, с блестящими дощатыми полами, покрытыми пластикатным лаком.
Так вот в каком доме жил человек, имя которого во всем мире стало синонимом предательства. В дополнение к счету норвежцев советские люди могли бы предъявить Видкуну Квислингу и свой счет.
648
В дни Октябрьской революции он был военным атташе норвежского посольства в Петрограде. Нити не одного антисоветского заговора тянулись к этому военному атташе. Вместе с чемоданом, наполненным драгоценностями, нашла убежище под гостеприимной крышей норвежского посольства дочь богатого русского помещика, и ее-то, женившись на ней, увез с собой в Норвегию Видкун Квислинг. Вернувшись в Москву в миссию, в те самые дни, когда Фритьоф Нансен все свои силы отдавал, собирая продовольствие для разоренных интервенцией и засухой голодающих русских крестьян, Видкун Квислинг тоже не бездействовал. Немало этих, с огромным трудом собранных бесценных грузов, посылок,, хлеба было «освоено» им. Спекулируя, он обменивал продукты на дорогие картины, на бесценные предметы искусства.
Так одновременно, но разно действовали в России два норвежца. Тот, чье имя стало славой Норвегии, и авантюрист, ставший ее позором.
И снова через несколько лет на советской земле скрестились пути этих двух людей.
— Единственное место, где можно устроить неимущих армянских беженцев, это Советская Армения. Здесь, где несколько лет тому назад царили разруха, нищета и голод, теперь, благодаря заботам Советского правительства, установлены мир и порядок, и население стало в известной степени даже зажиточным,— говорил Нансен в 1925 году,. убеждая Лигу Наций в том,, что необходимо создать национальный очаг для армян, уцелевших от резни, организованной турецкими правителями.
Во главе комиссии Лиги Наций, для проведения в жизнь своего плана, Нансен прибыл в Советский Союз.
Секретарь этой комиссии поразил корреспондента «Зари Востока» своей огненно-рыжей шевелюрой и тем, что, сойдя с парохода в Батуми, на ломаном русском языке сразу же стал задавать ему вопросики, как говорится, «с подковыркой». А затем, вынув из кармана толстую книжку «Путеводитель по Закавказью», изданную в Лондоне в 1924 году, и перелистывая ее, сказал:
— Не будете ли вы любезны дополнить некоторые сведения...
649
В это время,— вспоминает корреспондент,— к нам подошел Нансен, прислушался, о чем мы говорим, и вдруг быстрым движением взял путеводитель, захлопнул его и сказал:
— Ну, к чему это, капитан? Зачем смотреть на отражение, когда перед нами оригинал?
«Рыжий» оказался Квислингом, который сделал все, чтобы не осуществился план Нансена.
— С какой стати,— беспокоился Квислинг,— на гербе Армянской республики изображен Арарат? Ведь эта гора в пределах Турции?
Нансен ответил на это,— писал корреспондент:
— А что тут страшного? Ведь мы же не против того, что турки изображают на своем гербе полумесяц, хотя, как известно, он освещает весь земной шар?
Может быть, об этом или других таких же случаях вспоминал Квислинг, отдавая в руки гитлеровских захватчиков сына Нансена — Одда, чтобы те заточили его в Грини.
Больше двух лет, в 1926—1927 годах, Квислинг жил в Москве как представитель норвежского акционерного общества «Рус — Норвеголес», попутно занимаясь незаконными валютными спекуляциями, покупая на черном рынке червонцы у иранских и турецких купцов (не потому ли его так беспокоил герб Армянской ССР). Даже снова став дипломатом, секретарем Норвежской миссии, он продолжал свою «деятельность» и переправил за границу свыше двух миллионов червонных рублей. Пойманный с поличным, после официального предупреждения Наркоминдела этот рыцарь черной биржи был отправлен восвояси.
Таковы похождения в России этого авантюриста, наживавшегося на голоде в Поволжье, мошенника, который, став гитлеровским премьером Норвегии, назвал свою резиденцию «Орлиным гнездом».
Сейчас в «Орлином гнезде» аудитории для лекций, зал-читальня, гостиные и столовая Дома моряков. В читальне, на столике у окошка, подарок Дому моряков от одной из судовых команд. Вряд ли в какой другой стране, кроме Норвегии, родины китобоев, возникла бы идея такого подарка: в банке со спиртом извлеченный из чрева китихи эмбрион китенка величиной с большого окуня.
650
Дом моряков часто арендуется различными профсоюзами для краткосрочных курсов, семинаров, участники которых живут в новом двухэтажном здании, выстроенном уже союзом моряков метрах в полутораста от «Орлиного гнезда». Это небольшой современный отель, обставленный дешевой, но удобной мебелью. Номера на одного человека. Все необходимое и ничего лишнего. Сейчас здесь живут те девять активистов союза каменщиков и землекопов, которые пригласили меня к ним на семинар.
f+ Е Р Л 5 Д' Е -H+ItV
О ±1 fl
В большом зале с деревянным лакированным потолком расставлены невысокие деревянные столики. За каждым из них — слушатель. За таким же столиком, но лицом ко всем, лектор.
Я усаживаюсь у раскрытого окна. За окном жаркое солнце и голубая даль фиорда, горячий воздух колеблет далекие очертания ратуши Осло и вершины обступивших столицу дымчатых холмов.
Внизу, под откосом, сквозь ветки замерших в жаре без движения сосен, виден медленно идущий по фиорду теплоход. Быстроходная моторка оставляет за кормой на воде след — тонкую темную полоску. Моторка отсюда кажется не больше мухи.
Но мои соседи, каменщики и землекопы, сейчас не интересуются красотами природы, они напряженно слушают Сигурда Мортенсена. Негромко он рассказывает им, на какие сложные махинации пускаются люди из девяносто одного семейства Норвегии, чтобы получать сверхприбыли, не нарушая по форме законов государства, во главе которого стоят лидеры рабочей партии.
Законы Норвегии ограничивают дивиденды капиталистов на акционерный капитал шестью процентами.
Больше получать не разрешается.
651
Реформистская пресса не только Норвегии, но и других стран, похваляется этим законом. Однако закон законом, а шесть процентов на самом деле лишь малая часть прибыли, которую фактически получают предприниматели. И дело отнюдь не только в дивидендах, выплачиваемых по акциям, хотя тот же самый закон разрешает в «отдельных» случаях увеличивать размер дивиденда до пятнадцати процентов, а таких «отдельных» случаев в год бывает до четырехсот! Причем речь идет, конечно, о крупнейших капиталистических предприятиях, против которых будто бы и направлен закон. Сумма полученных -таким образом «сверхлимитных» дивидендов ежегодно достигает 130—150 миллионов крон, которые так или иначе попадают в руки все той же небольшой группы людей.
Лектор рассказывает, как укрывают свои капиталы норвежские судовладельцы. Словно продолжая наш вчерашний разговор, он приводит пример за примером.
По закону на амортизацию можно ежегодно списывать до 8 процентов стоимости предприятия. Так было* сделано, к примеру, и акционерным обществом «Космос» в Санде-фиорде с китобойными судами-факториями— «Космос-Ш», которое построено в 1947 году, «Космос-IV» и «Космос-V». Все эти суда, как и еще 34 парохода той же компании, спущенные на воду в период с 1937 по 1953 год, за эти годы «амортизированы». В результате каждое из них ныне «стоит» no-балансу не более одной кроны. В то же время китобойное судно этой же компании «Якинда», построенное в 1958 году, по балансу оценено свыше 30 миллионов крон:..
Мортенсен раскрывает первый из трех томов лежащего перед ним официального справочника Кьерульфа «Настольный ежегодник владельцев норвежских облигаций и акций».
— Возьмем, к примеру,— говорит он,— все то же акционерное общество «Космос» в Санде-фиорде, деятельность которого никакого отношения к освоению космоса не имеет, хотя цифры доходов достигают поистине космических величин. Его плавучая база — флагман флотилии в Антарктике «Космос-Ш», о ко
652
тором я уже говорил. Так вот, это огромное океанское судно водоизмещением свыше двадцати пяти тысяч оценено по официальному балансу всего в одну крону.
Никто, конечно, ни за крону, ни за десять тысяч крон не продаст вам этой громадины. Эта плавучая фабрика приносит миллионную прибыль и застрахована в один миллион сто двадцать пять тысяч фунтов стерлингов.
В чем же смысл этой «хитрой» операции? Да в том, что суммы, списываемые на амортизацию (а на деле переходящие в резервный капитал), считаются производственными расходами и на миллионы и миллионы крон уменьшают объявленную предприятием прибыль, ту, с которой взимается налог. Так огромные суммы «законно» укрываются от налога.
Фактическая стоимость того, чем владеет фирма, из-за этих операций или махинаций, назовите их как хотите, намного выше, чем ее акционерный капитал. Это повышает курс акций на бирже. К примеру, акция «Космоса», стоящая по номиналу одну тысячу крон, котируется сейчас на бирже в девять тысяч крон. Таким образом, при продаже акций доходы акционеров этой фирмы во много раз больше тех сумм, которые предусмотрены законной нормой дивиденда. Между тем доходы от продажи акций, от биржевых операций никакими налогами не облагаются. А это составляет огромные суммы.
Но они увеличиваются еще больше, ибо, как правило, фирма, дела которой идут бойко, просит разрешения у правительства выпустить новые акции, чтобы удвоить акционерный капитал. Новые акции «Космоса» в тысяча девятьсот пятьдесят шестом году были выпущены по прежнему номиналу, который в тринадцать, раз ниже биржевого курса. Старым акционерам дается преимущественное право приобрести новые акции. Количество акций на руках у них увеличивается вдвое.
Таким образом, шесть процентов законного дивиденда— это только малая часть прибылей капиталистических предприятий!
Может быть, иному читателю покажется утомительным обилие цифр на этой странице, но пусть он
653
представит, с каким вниманием записывали эти цифры в тот жаркий день каменщики и землекопы, собравшиеся в бывшем «Орлином гнезде», слушая рассказ о «неразменной» кроне, которая, вопреки оптимизму сказки, достается не тороватому бедняку, а богатею.
Они узнали, что после всех отчислений на «амортизацию», после вычета стотысячных жалований директорам и председателям компаний, после вычета сумм, истраченных на представительство и на субсидирование или подкуп (назовите как хотите) прессы (под видом оплаты огромных объявлений),— фирма «Космос» получила в 1958 году свыше 48 миллионов крон чистой прибыли.
Глядя на голубеющую даль Осло-фиорда, вдыхая аромат цветущей под окном махровой сирени, я на мгновение представил себе палубу китобойного мотобота, захлестываемую холодной волной антарктического моря, бессонные вахты, авралы, тяжкий каждодневный труд моряков-китобоев, далеко от родины создающих эти прибыли для держателей акций.
— Укрытие прибыли от налогов путем перевода их в суммы на амортизацию заставляет, к примеру, наших судовладельцев строить все новые и новые суда, даже тогда, когда уже имеющиеся стоят на приколе, без грузов.
Если бы у нас было плановое хозяйство,— продолжает Мортенсен,— то все эти прибыли шли бы не на строительство многоэтажных зданий для контор, не на покупку лишних судов. Их вкладывали бы не в те отрасли промышленности, которые делают нас зависимыми от других стран, а в те, которые необходимы для гармоничного развития нашего народного хозяйства, на строительство детских садов, больниц, домов для стариков.
Теперь я понимаю, почему в новогодней статье в газете «Ориентеринг» Мортенсен советовал рабочим вместо рождественских номеров журналов читать справочник акционеров Кьерульфа.
Признаюсь, опасаясь, что дома могут и не поверить истории с «неразменной кроной», я перед отъездом приобрел эту, увы, недешевую книгу.
654
Окончание семинара отмечается товарищеским ужином — вечеринкой. Мы сидим в темной комнате за столом, освещенным колеблющимся пламенем свечей. На столе нехитрые яства и напитки. У каждого прибора маленькая книжечка «Песни в труде и на отдыхе» — песенник, изданный профсоюзом. Все в праздничных костюмах, при галстуках. По очереди рассказывают анекдоты, постные и скоромные.
— Когда судовладельцы жалуются, что из-за налогов их предприятия не оправдывают себя,— они думают, что мы, рабочие, умеем считать не лучше, чем те два знаменитых охотника на уток,— говорит каменщик из Осло, участник семинара.— О, это знаменитая история.
Однажды двое норвежцев отправились охотиться. Взяли напрокат моторку, запаслись бензином, огнеприпасами. За целый день они подстрелили только пару уток. Возвращаются домой, и один начинает подсчитывать: «Затратили рабочий день вдвоем—восемьдесят крон, пятнадцать крон — прокат моторки, пять крон — горючее. Выходит, каждая утка стоит полсотни крон!» — «Слава богу, что мы подстрелили только двух уток! — воскликнул второй охотник.— Если бы нам повезло и мы убили много птиц, то совсем бы разорились! ..»
Громкий смех заглушает последние слова рассказчика.
— Но, может быть, на сегодня хватит цифр? — говорит кто-то и, снимая ватную грелку с кофейника, надевает ее на голову.— Чтобы завтра голова не болела от выпитого,— объясняет он мне.
— Верное средство,— подтверждает сидящий напротив другой каменщик. У него на голове такая же грелка, снятая со второго кофейника.
Он берет гитару, проводит рукой по струнам, и все сидящие за столом запевают «Рабочий марш» Бьёрн-стьерне Бьёрнсона:
655
Раз, два! Строй! Равненье!
Строй — залог удач в сраженье! В строй — и масса станет целым, Слабый — сильным, робкий — смелым.
И тогда, простой народ, Все у нас на лад пойдет!..
Потом Мортенсен поднимается во весь рост и, имитируя пастора, возглашающего номер псалма в церкви, открыв песенник, говорит: «Страница шестая. «Ви Нигер Л ан дет».
Шелестят перелистываемые страницы.
И я вдруг слышу знакомую мелодию.
Кто у нас не знает этой зажигавшей сердца боевой песни времен гражданской войны:
И все должны мы неустрашимо Идти в последний смертный бой.
Из уст норвежцев эту мелодию я впервые услышал в Заполярье осенью 1944 года, когда Советская Армия освобождала Северную Норвегию.
По ночному Мурманску шел прибывший из Шотландии первый отряд норвежской армии, сформированный из моряков-китоловов. В те дни, когда войска Гитлера вторгались в Норвегию, они промышляли китов в далекой Антарктике. Китобои и стали первым отрядом новой норвежской армии. И вот плотным строем они идут по ночным, разбитым бомбежкой улицам Мурманска. Звенят слова норвежского поэта Арне Осена, положенные на мотив нашей песни.
В те дни Квислинг еще был полновластным хозяином в этом бревенчатом доме, где сейчас звучит русская красноармейская песня, ставшая гимном норвежских воинов.
Взволнованный воспоминаниями, я встаю из-за стола и выхожу на лужайку. Мерцающими созвездиями светятся вдали огоньки Осло.
Прохладный ветер с фиорда обвевает голову Нурдаля Грига.
656
Г Е Р Г E -H f
Каждый день в Бергене я начинал с того, что ходил на знаменитый рыбный рынок в центре города, на берегу Норвежского моря. Здесь на Немецкой набережной был, как говорят у нас на юге, привоз. Но о нем свидетельствовал не частокол торчащих кверху оглобель, а лес мачт рыболовецких мотоботов. Даже небольшое судно-китобой с гарпунной пушечкой на носу пришвартовалось к старинной ганзейской пристани.
Радиолокаторы, эхолоты помогают сейчас норвежцам отыскивать в море косяки трески и сельди. Рыбаки вооружены крепкими, не требующими просушки нейлоновыми сетями.
Новейшая техника властно вошла в рыболовецкий промысел. Но рыбный рынок в Бергене, пестрый, трепещущий живой рыбой, которая серебристым потоком переливается из садков рыбниц в ящики прилавков, тележек, лотков, остался таким же, как сотни, десятки лет назад.
Точно так же, как герой романа Константина Федина «Похищение Европы», я смотрел на голубые, синие, черно-коричневые ремни изогнутых спин, красные, кадмийно-огненные плавники, молочно-белые животы. Пятнистое, рябое, скользкое множество таращило оранжевые глаза, разевало усатые рты, распяливало жабры, секло, рубило воздух хвостами.
Я никогда в жизни не видел раньше таких рыб. Продавцы в окровавленных, но уже не кожаных, как в романе Федина, а в ярких пластикатных фартуках насыпали товар живьем в глубокие чашки весов, прокалывали рыбьи животы длинным, острым ножом. Кровь рассыпалась брызгами, стекала наземь, смешивалась на мостовых с морской водой. Умиротворенный тонким ножом товар безжизненно ложился на дно раскрытых нейлоновых кошелок и корзин покупательниц. «Рыбный рынок выворачивал океан наизнанку».
Все было, как тридцать, как сорок лет назад. Среди лотков на кирпичном фундаменте стояла та же метал
42 На разных меридианах
657
лическая, шаровидная оболочка плавучей мины с надписью: «Помогите сиротам моряков, погибших в великую войну».
Только теперь в узкую прорезь под надписью сердобольные покупатели и продавцы опускали монетки в помощь сиротам моряков, погибших не в первой, а во второй мировой войне.
Но не меньше, чем яркость красок и обилие разнообразнейшей рыбы, к которым я был подготовлен прочитанным, меня на рыбном рынке в Бергене поражала та — о ней я нигде не читал — бесшумность, спокойная деловитость, с которой здесь совершается купля и продажа.
Продавцы не нахваливали свой товар, набивая цену; покупатели не хулили его. Ни гомона, ни зазываний, ни божбы, ни перебранки, которые так характерны для южных базаров. Тихим голосом называлась цена. Если сходная — продавец отвешивал товар и благодарил хозяйку, если нет — оба раскланивались, и она следовала дальше.
Порицание, заключенное у нас в словах «ведет себя как торговка на рынке», было бы здесь непонятно и воспринималось не как укор, а как похвала вежливости.
И вдруг в эту рыночную тишину ворвались два высоких, визгливых женских голоса. Они долетали чуть ли не до середины рынка от одной из ручных тележек, стоявшей на краю набережной у самого моря. Оба эти голоса исходили от одного человека. Продавец рыбы оказался чревовещателем. Он ловко изображал беседу двух рыб, приподняв их с лотка. Рыбы калякали о житейских делах — о том, как легко попасть в сети рыбака и как трудно быть проданной на рынке. Реплики их, судя по смеху покупателей, были остроумны. Во всяком случае, они помогали чревовещателю быстрее сбывать свой «немой товар».
Ничего не было сказано в книгах и о том, что на левом своем фланге, если стать лицом к морю, Бергенский рыбный рынок переходит в пестрый цветочный базар, а на правом его фланге с лотков и тележек продаются фрукты. Сейчас, в начале июня, преобладали заморские плоды: бананы, апельсины. И виноград.
У одного из этих лотков в то утро и произошло мое
658
Грёхбпадение, о Котором я горько пожалел уже вечером. Я купил две грузные кисти винограда, «продолговатого и прозрачного, как персты девы молодой».
Виноград был не только красив, но и дешев.
А в том, что он еще и вкусен, мы с Мартином Нагом убедились тут же на месте, уничтожив одну гроздь. Вторая в бумажном мешочке была ввергнута в глубины обшарпанного, но на удивление емкого портфеля моего спутника.
В хлопотах и встречах длинного июньского дня я совсем позабыл об этом отложенном «про запас» винограде.
£<Я С Т У Р U С Т А /М U
Д о А fl fl t fl
Ежегодно в Бергене, в начале июня, в честь и в память об Эдварде Григе проходят международные музыкальные фестивали.
Мне приятно было увидеть на афише, возвещавшей о симфоническом концерте, которым открывался григовский фестиваль, фамилию молодого советского скрипача — Игоря Ойстраха.
В обширной программе двухнедельных торжеств, среди камерных и оркестровых концертов, спектаклей, балетов, есть рубрика — фольклор.
Плакат в сенях гостиницы вопрошал: «Хотите ли вы узнать сельскую жизнь Норвегии с ее старыми обычаями, яркими одеждами, веселыми танцами и музыкой, которая вдохновляла стольких норвежских композиторов, так же как и Эдварда Грига? Если да — то совершите получасовое путешествие в Фану».
Фана — граничащая с Бергеном сельская община, где над фиордом, в своем имении Троулдхауген, долгие годы жил и творил Эдвард Григ. Здесь он и умер и похоронен — в отвесной скале на берегу фиорда.
В фольклорную программу входили не только песни и танцы, но даже ужин из норвежских народных блюд. На все это было отведено четыре вечерних часа.
42*
659
Так как в Берген, совершая плавание по Северной Европе, пришел дизельэлектроход «Бразилия» и места в экскурсионном автобусе американцами были заказаны по радио, то, доставая билет в Фану, пришлось преодолеть кое-какие трудности.
Вернувшись из поездки в Ос, в гости к «русской маме» — Марии Острем, мы к семи вечера были уже на площади, откуда уходил экскурсионный автобус «Фана-фольклор». Он стоял около высочайшей колонны, увенчанной статуей человека в пиджаке — крупнейшего бергенского судовладельца, бывшего премьер-министра Кристиана Миккельсена.
Здесь, в Норвегии, где торговый флот — львиная доля национального капитала, премьер-министр судовладелец— не диво. Кроме Миккельсена, кабинет министров в разное время возглавляли и судовладелец Кнудсен и судовладелец Мовинкель. Но Миккельсен был главой правительства, которое в бурный 1905 год осуществило разрыв унии со Швецией.
У входа в автобус светловолосая, коротко остриженная девушка в пестром национальном платье — вышитая блузка, темно-красный лиф, . темно-синяя шерстяная юбка-колокол, кружевной передник — веселой улыбкой встречает гостей.
Автобус быстро заполняют пассажиры «Бразилии», «туристы доллара».
Это все пожилые супружеские пары. Дымчатые очки, на ремне через плечо кодаки, узкопленочные киноаппараты. Береты, кепки, клетчатые пиджаки, яркие галстуки, пестрые косынки. Разлученная в толчее семейная пара перекликается через весь автобус. Другие— то ли они перезнакомились в дни плавания, то ли раньше знали друг друга — непринужденно переговариваются, перебрасываются шутками. Все они — и такие, какими их изображают в фильмах, и не такие. Пожилые клерки, мелкие коммерсанты Среднего Запада, стряпчие, шерифы и коммивояжеры, инженеры из Мильвоки и агрономы из Айовы с женами. И даже странно, как в эту компанию затесалась молодая индуска в сари и не сводящий с нее влюбленных глаз муж.
Правда, они, как и я со своим спутником, исключение здесь.
660
Автобус идет «прогулочным шагом» по чудесным улицам Бергена — и девушка-гид в национальной одежде на отличнейшем английском языке рассказывает о «семейной жизни» троллей, о народных сказаниях, повериях, рассказывает с юмором. В паузах, точно рассчитанных, вспышки смеха. И вдруг, перебивая свой рассказ, девушка спрашивает:
— Известно ли вам, что Берген был уже большим торговым городом, самым большим в Скандинавии, когда Колумб отправился открывать Америку?
— О-о,— вздох удивления проносится по автобусу.
— А знаете ли вы, что Хенрик Ибсен был пять лет директором Бергенского театра и создал здесь не одно произведение?
— Кто такой Ибсен? — живо спрашивает мой сосед, коренастый делец из Оклахомы, свою супругу.
— Кинозвезда. Сценарист! — не задумываясь, отвечает она.
— Угу, вспомнил! — мычит он в ответ.
Спорить с этой дамой было бы напрасно. Вероятно, супруги вспомнили, как они смотрели перекроенный по-голливудски веселый фильм «Пер-Гюнт».
А может быть, леди спутала с великим поэтом его внука — Танкреда Ибсена, кинорежиссера, который собирается экранизировать драмы своего гениального деда...
«Парадиз» — район загородных вилл бергенской знати. Над пышной листвой крон старых лип и цветущих каштанов подымаются крыши дворца. Сквозь деревья ослепительной голубизной блещут воды фиорда. Как богат был премьер Миккельсен, вилла которого, завещанная им (поистине царский дар!) первому королю вновь избранной династии, стала королевской резиденцией в Бергене!
Правда, судовладельцы, словно в ответ на этот дар, залучили в свой круг невесту королевской крови. Внучка Хакона, дочь здравствующего короля Улафа, принцесса Рагнхильд вышла замуж за сына крупнейшего судовладельца. Но поскольку фамилия его не Миккельсен, а Лоренцен и, выйдя за него замуж, принцесса тем самым отказалась от прав своих будущих детей на престол, многие здесь склонны считать этот обмен дарами «неравноценным».
661
В программе экскурсии сегодня фольклор, поэтому автобус не останавливается у дворца, а продолжает свой путь на юг.
Первая остановка на площадке, на вершине горы Фана, куда автобус въезжает по крутым виткам дороги.
Шумной гурьбой высыпают из автобуса экскурсанты, щелкают затворы аппаратов. Идет молниеносная заготовка кадров для уютных зимних воспоминаний у камина. Перелески, словно игрушечные усадьбы, холмы, поля общины Фана, распростершиеся у подножия горы, действительно очень живописны.
А если смотреть на юг, то за двумя торными краями можно увидеть — воздух прозрачен, небо безоблачно •— розоватое поблескивание.
Это знаменитый Фолгефонский ледник. Птице до него отсюда лететь по прямой — над сушей двух полуостровов, острова Варальд, над невидимой от нас голубизной Бьёрна-фиорда и Хардингер-фиорда — километров шестьдесят.
На тот случай, если облака заволокут небо или Фолгефонский ледник закроет туман,— не унывайте! — тут же, на вершине, на площадке, где разворачивается автобус, в киоске продается множество открыток с видами здешних мест и сувениры — тролли этой горы.
— Ледники Фолгефона постоянно движутся. Бывает, что несколько лет они наступают вдоль склона, отнимая землю у местных крестьян, а потом, неизвестно почему, начинают отступать,— рассказывает наш гид.— На самой окраине ледника живет крестьянская семья. Ледник уже отнял у нее часть пастбища и угрожает рощице, единственной на этой высоте. Хозяин пытается продать усадьбу, но покупатели не находятся. Но возможно и то, что ледник вдруг станет отступать,— земли станет больше, и тогда купивший окажется в выигрыше. Не хочет ли кто-нибудь из гостей-американцев рискнуть? — под общий смех спрашивает девушка.
Но я уже лишь краем уха слушаю рассказ о Фол-гефонском леднике. Внимание мое захвачено молоденькой золотоволосой норвежкой, невесть откуда появившейся среди американцев. Стриженые вьющиеся
6Q2
волосы до плеч, прямая челка, почти закрывающая лоб, широко открытые голубые глаза притягивают мой взгляд больше, чем отблески Фолгефонского ледника. Как ее имя? Дагни? Рагна? Сигрид? Сольвейг? Сольвейг, зачем ты остригла свои косы! Рядом с ней высокий длиннорукий паренек в очках, с двумя фотокамерами на ремне через шею. И с этим мимолетным видением Сольвейг надо распрощаться навсегда, потому что экскурсанты уже рассаживаются по своим местам.
Но в эту минуту, когда наш автобус трогается вниз с горы, в него легко, как горная козочка, неожиданно вскакивает эта золотоволосая девушка, а за нею паренек, которого подталкивают в спину захлопнувшиеся за ним двери. Нет, для Сольвейг, пожалуй, слишком быстры ее движения, слишком оживленно тараторит она, обернувшись к своему спутнику. . . Мне захотелось быть на его месте.
Не противоречит ли всем правилам поэтики то, что так поздно в это повествование входит его героиня? Но что поделаешь, жизнь не считается с правилами, так же как эта девушка, вскочившая в автобус без билета, но чувствующая себя здесь хозяйкой.
Она задает какой-то вопрос протирающему дымчатые очки пожилому американцу, который сидит напротив меня. Записывает в блокнот ответ и быстро поворачивается ко мне.
— Вы из какого штата? — спрашивает она по-английски. Медленно подбирая слова, отвечаю, что я совсем не из Америки.
— Господин из Советского Союза,— отвечает по-норвежски Мартин Наг.
— О! — восклицает Сольвейг, и глаза ее становятся еще синее.— О!—повторяет она и, задумавшись о чем-то, пристально глядит на меня.
— О,— девушка-гид тоже взглядывает на меня. По-новому, с любопытством.— Вы понимаете мои объяснения? — спрашивает она.
— Вы художник-гид, если можно так сказать.
Она хотела еще о чем-то спросить, но автобус остановился.
— Это самая старинная церковь в стране,— громко говорит гид, уже обращаясь ко всем,— ей за восемьсот лет.
663
На площадке перед церковными вратами столпились младшие школьники в цветастых национальных костюмах, в которых они выглядят старше своих лет. Мальчики деловито расшаркиваются, девочки, в длинных платьях, приседают в книксене. Это крестьянские дети пришли гостей посмотреть и себя показать.
Высокие стены старинной церкви на холме сложены из дикого камня. Над шатром крыши возвышается бревенчатая колокольня с двумя, отлитыми полтысячи лет назад, колоколами.
Не слишком ли велик храм для сельской церкви? Но не всегда она была сельской. В средние века сюда отовсюду стекались паломники, поклониться большому заалтарному кресту из чистого серебра. Крест этот, рассказывает легенда, рыбаки, забросив свой невод, вместо трески выловили из фиорда. Он обладал исцеляющей силой. В средние века, когда Берген считался столицей Норвегии, храм был королевской капеллой...
После реформации серебряный крест, выловленный рыбаками в море, переплавили на мирские нужды, корона продала храм в частные руки, и лишь спустя несколько столетий, девяносто восемь лет назад, община Фана выкупила это здание. Реставрированное неумелыми руками, которые разрушили много древних деталей внутренней отделки, здание снова было отдано для тех целей, для которых и предназначали его воинственные строители Конунги, огнем и мечом насаждавшие веру Христову.
Вместе с другими и я вхожу в прохладную полутемную церковь. Всю ее занимают деревянные скамьи с высокими спинками. На выбеленной штукатуркой стене никакого убранства. Лишь распятие над аркой алтаря да между двумя узкими бойницами-окнами, застекленными цветным стеклом, картина, изображающая молящегося Христа. Лучи вечернего солнца, проходя сквозь витражи таких же стрельчатых окон северной стены, цветными лоскутами ложатся на деревянный пол, на скамьи.
Не успели мы рассесться на скамьях, как невидимо откуда полились торжественные звуки органа. Сельский органист, окуная нас в религиозную атмосферу средневековья, исполнял псалмы и молитвы, дошедшие из глубины веков.
664
Пятнадцатиминутный концерт народной религиозной музыки входит в оплаченную программу.
И снова мы на освещенных вечерним солнцем ступенях паперти. Американцы щелкают затворами, снимая своих жен на фоне церковных стен и степенно позирующих детей на фоне своих жен.
Я подхожу к детворе и протягиваю мальчугану открытку с видом Ленинграда. И словно волной смыло всю степенность с детишек. Они обступили счастливчика, заглядывают через плечо, требуют, чтобы он показал сувенир.
Открытки с видами Москвы из моего кармана одна за другой, целая пачка, перекочевывают в руки ребятишек, окруживших меня.
Что тут творится! Дети, даже наряженные в длинные, национальные платья, остаются детьми. Но задерживаться нельзя, нас ожидают следующие номера программы — и автобус мчит дальше.
— Это,— говорит Мартин, кивая на Сольвейг и паренька с двумя фотоаппаратами на груди,— журналисты, репортеры здешней «Бергенарбейдерблад» — газеты Рабочей партии.
Он уже успел познакомиться с ними, когда я был в церкви.
f / ь с и я с В а А 1> р И ”
И снова остановка. Среди стройных берез и раскидистых сосен круто подымается вверх узкая дорога, на которой не разъехаться и одноконным бричкам. У самого начала дороги, по обе стороны, стоят три парня и несколько девушек. Парни в красных вышитых жилетах, в коротких, до колен, штанах, в белых шерстяных чулках, в башмаках с пряжками. Девушки одеты в точно такие же платья, как и наш гид. Они радушно пожимают руки, приглашают нас на свадьбу, в крестьянский дом на верху склона.
В просторной двухсветной избе вдоль противоположных стен два больших стола, за которые на
665
длинных лавках рассаживают гостей. Середина горницы остается пустой. Ее заполняют парни и девушки, встречавшие нас. Среди них и та, которая сегодня играет невесту. Она с женихом усаживается в красный угол, в то время как другие на ходу поют свадебный марш, а затем один из них, тот, у кого в руках скрипка, коротко приветствует гостей. Потом он же с двумя другими парнями-скрипачами исполняют праздничную застольную песню «Пер-музыкант»:
Корову на скрипку сменял Пер-бедняк, На скрип очке этой играет он так, Что парни пляшут средь уличных плит И девушки наши плачут навзрыд...
.. .На столе перед каждым прибором — листок со словами и нотами этой песни.
Скрипач — он действует как «тамада», по-английски — «тост-мастер» (не знаю, как это будет по-норвежски) — предлагает всем экскурсантам спеть песню хором.
Поют не то чтобы стройно, скорее наоборот, но именно эта неслаженность и ломает ледок некоторой принужденности, наступившей после того, как все уселись перед пустыми приборами. То тут, то там вспыхивают разговоры, смешки.
Снова под скрипку звучит мелодия норвежской народной песни,— говорят, ее любил Григ. Потом три пары танцуют «спринчар», любимый народный танец. За ним следует второй, название которого я запамятовал. Отплясывают старательно и лихо, красные кисточки, свисая с коротких штаноов, подпрыгивая, плещутся по белым чулкам кавалеров, яркие оторочки на темных подолах кружащихся в танце девушек описывают все большие и большие круги.
Скрипка замолкает, и середина горницы пустеет, а через минуту только что танцевавшие в горнице девушки и парни вносят глубокие глиняные миски и плоские деревянные блюда с национальными крестьянскими яствами.
На подносах нарезанная тонкими ломтиками вяленая баранина. В мисках сладкая каша: овсяная мука, варенная в сливках на сахаре. Вкусно. И еще блюдо, знакомое мне (но, видимо, неизвестное — так они за
666
интересованы им — туристам с «Бразилии»),— блины. Правда, холодные.
Все эти гастрономические удовольствия мы вкушаем под застольные и свадебные песни — впитываем норвежский фольклор и глазами, и ушами, и ртом.. . А через несколько минут и ногами. Исполнив танец, в котором у каждого кавалера по две ревнующих друг к другу дамы, радушные хозяева предлагают нам принять участие в танцах...
Стройные норвежские девушки кусают губы, чтобы удержаться от смеха, глядя, как подражают им пожилые и отнюдь не стройные американки. Но и сами американки смеются громко, от души. Чем дальше, тем меньше танец этот похож на тот, что показывали нам норвежцы.
«Невеста» тоже весело смеется, танцуя вместе со всеми. Итак, мы хоть краешком глаза увидели сельский праздник и сами на нем повеселились.
Хотя все окна распахнуты, в горнице так душно, что, не допив непременное кофе, я выхожу на воздух и примыкаю к тем, кто, как это водится на всякой свадьбе, прильнул снаружи к окнам.
А где же Сольвейг? Мне хотелось усадить девушку и ее спутника рядом с собой за стол. Но это невозможно. У них не было билетов. И к тому же они на работе. Вот она стоит около американца в клетчатом пиджаке и что-то записывает. Я подхожу ближе.
— Познакомьтесь,— говорит она,— советский писатель, а это — хозяин авторемонтной мастерской в Те-ксасе.. .
Мы пожимаем друг другу руки. И в этот момент спутник Сольвейг щелкает затвором аппарата.
— О! — смеется Сольвейг и Хлопает от радости в ладоши,— подпись на снимке будет: «Встреча на низшем уровне состоялась!»
Что ж, по-журналистски это выглядело неплохо.
Ведь всего несколько дней назад стало известно, что встреча в верхах — в Париже — сорвана.
Но праздник уже кончался. Программа была завершена, и нас ждал автобус.
Внизу, у дороги, стоят парни и девушки, которые только что пели, танцевали, подавали на стол
667
угощение. Они машут нам платочками, желая счастливого путешествия.
И я вспомнил явно рассчитанное на хамоватого туриста-богача предупреждение путеводителя по Норвегии, изданного в Москве полвека назад.
«Не встречающееся нигде в Европе равенство классов и социальных положений заставляет туриста быть одинаково вежливым и корре кт н ы м со всеми норвежцами, к каким бы сословиям и классам они ни принадлежали. Это следует твердо помнить. Отсутствие покупного комфорта,— писал составитель,— объясняется тем, что норвежцы еще не сделали из туристов доходную статью, как, например, швейцарцы. Поэтому здесь принимают путешественника как гостя, и он должен быть доволен тем, что могут предложить ему хозяева» !.
За полвека многое изменилось. И для Норвегии туризм сделался важной доходной статьей. К слову, каждая наша экскурсия из двадцати пяти туристов, если мыслить локально, здешней мерой, дает примерно такой же доход, как один забитый кит средней величины.
Появился здесь и «покупной комфорт», но по-прежнему путешественника встречают тут как радушные хозяева дорогого гостя.
Сервис без тени сервилизма.
.. .И снова, держа в руках листок со словами и нотами «Пера-Спелмана», весь автобус нестройно поет:
Близок закат и последний вдох, Пер поседел, как на дереве мох, Но и за юность Пер клятву дает,— Скрипки чудесной, -он не вернет...
Затем американцы дружно запевают свою песню — тексасскую.
— Давайте и мы споем,— задорно говорит Сольвейг.— «Интернационал». Пусть знают!
— Нас здесь всего четверо, получится жидковато,— охлаждает ее запал рассудительный Мартин Наг.
1 «Западная Европа», спутник туриста. Под редакцией С. Н. Филиппова. Москва, 1906, стр. 578,
668
г f о з д Ь )
5 И 44 О Г РД ДА
.. .Автобус заканчивает свой рейс на той же площади, откуда он и начинался. Американцы уходят, одни — в гостиницу, другие — на теплоход, и мы вчетвером остаемся на скамейке бульвара между памятниками Уле Буллю и Эдварду Григу.
Над бульваром, над Бергеном, над морем царит удивительная, белая ночь. С вершины горы Флоен, куда проложен фуникулер, вероятно, видно солнце — она озарена розоватым светом.
Пахнет сиренью.
— Я должна взять у вас интервью,— говорит Сольвейг.
Но сначала спрашиваю больше я. Сколько ей лет?
— Двадцать,— отвечает девушка. И я вижу, что она смущена — наверное, для солидности прибавила год или два.
— Мы кончили гимназию. Сдали студенческие экзамены, а сейчас, летом, работаем на практике в газете. Я — фотокорреспондент, она — репортер,— говорит юноша.
— Какие у вас книги? Будете вы писать о Норвегии? Что вам нравится в Бергене? — уже всерьез, засыпая меня вопросами, спрашивает молоденькая журналистка.
Я отвечаю. Мартин Наг переводит.
— Мне очень нравится ваш Людвиг Хольберг. Правда, вход в пещеру, через которую пробирался в недра земные герой его книги, бергенский пономарь Нильс Клам, я ни за что бы не разыскал, если бы не доктор Сульхейм. Нигде нет указателей, ни в путеводителях, ни на дороге. Не кажется ли вам, что уже двести пятьдесят лет назад ваш великий земляк высмеял милитаристов, которые с помощью оружия небывалой разрушительной силы хотели достигнуть мирового владычества, .. Вы помните последние страницы этого романа?
Юноша и девушка переглядываются. Нет, кажется,
669
бйй йе помнят. Когда-то давно, в детстве, читали, нб не думали, что книга так злободневна.
В своем смущении Сольвейг так мила, что мне хочется сделать что-то приятное ей. К тому же ребята, наверное, голодны. Я вытаскиваю из кармана два апельсина, и, по-братски делясь, мы уничтожаем их.
Сольвейг опять сыплет словами. Медлительному Мартину не угнаться за ней в переводе. И вдруг я вспоминаю, что в недрах его портфеля погребена чудесная гроздь винограда. Извлекаю ее и протягиваю Сольвейг.
Но ее словно обожгло. Она вскакивает со скамьи и так решительно отстраняет виноград, будто я протянул ей ядовитую змею.
— Что это? — восклицает она, неподдельно оскорбленная.
— Виноград,— растерявшись, отвечаю я.
— Как вы смеете предлагать его мне?! Вы — расист?!
Ничего не понимая, я с недоумением гляжу на Мартина, а он — то ли понял, в чем дело, то ли мое лицо показалось ему таким забавным,— он заливается смехом, широко открывая белозубый рот.
— Это виноград. Разве зазорно угощать им? — еще раз повторяю я.
Меньше всего я собирался обидеть эту приглянувшуюся мне девушку.
— Где вы его достали? t
— Сегодня утром купил на рынке.
— А вы видели, кто-нибудь еще покупал этот виноград?
Признаться, я не видел, даже, помнится, удивился этому, но не придал значения.
— Ни один честный человек не купит этого винограда. Разве вам не известно, что мы бойкотируем товары из Южной Африки потому, что там расовая дискриминация. Разве вам не известно это?
Конечно, я знал, что южноафриканские товары дружно бойкотируются народами Скандинавии. Более того, две недели назад я был на многолюдном митинге перед порталом университета в Осло...
Вперемежку с певцами (среди них была певица-негритянка), исполняющими перед микрофоном кон-670
цертные номера, с горячими речами выступали Молодые ораторы. Они протестовали против сегрегации, апартеида и прочих изуверств южноафриканских расистов и призывали продолжать бойкот их товаров.
Тут же в толпе ходили студенты с кружками для сбора пожертвований.
И я с радостью на другой день узнал, что во время митинга была собрана сумма, достаточная для того, чтобы десять южноафриканских юношей-негров могли учиться в университете в Осло. Да, конечно, я знал о бойкоте.
Но откуда мне могло быть известно, что этот виноград из Южной Африки?
— Мартин, пожалуйста, объясни ей, что я не расист.
— Сейчас июнь. Откуда в это время года виноград? Только с южного полушария. Из Африки. Неужели нельзя сообразить! —негодует девушка. В своем справедливом гневе она трогательна до восхищения.
Сквозь облик нежной Сольвейг проступали черты воительницы Валькирии. Как мне не хотелось, чтобы эта чудесная девчурка видела во мне сознательного штрейкбрехера!
С большим трудом Мартину удалось объяснить молодой журналистке, что проступок был совершен нами невольно, что я не меньший враг расизма, чем она. Он даже сказал в мое оправдание, что я был в тех частях, которые изгоняли гитлеровцев из Финмарка. И когда она, казалось, все поняла, Мартин сказал:
— Ну, раз уж куплен этот злосчастный виноград, никто не пострадает, если мы его съедим!
— Уничтожьте его! — приказала Сольвейг.
. . .Утром я первым делом постарался достать номер «Бергенарбейдерблад».
Несмотря на то что вечером мы расстались друзьями, я все же побаивался, что в газете будет написано, что советский человек, нарушив ‘бойкот, купил южноафриканские товары. Поди пиши потом письмо в редакцию с объяснениями. И, лишь развернув еще пахнущий типографской краской лист, я почувствовал облегчение.
671
На первой странице была напечатана большая фотография, на которой я раздавал детишкам у церкви Фана открытки с видами Москвы. А броский заголовок гласил: «Советский писатель среди «туристов доллара» на фольклорном празднике в Фане. Встреча на низшем уровне состоялась. Людвиг Хольберг против атомного оружия».
В Ч / с
от п/и т
. . .Теплоход «Северное сияние», совершавший круговые рейсы Берген—Нордкап—Берген, на котором у нас была заказана каюта до Трондхейма, задерживался. Среди слушателей и зрителей спектаклей и концертов григовского фестиваля много пассажиров, туристов из Америки и Англии, заблаговременно купивших билеты на этот рейс,— и поэтому надо ждать «театрального разъезда».
Часы ожидания мы провели на пристани за Рыбным рынком, на Ганзейской набережной, с пришедшими провожать нас друзьями. Сначала мы распростились с Эйриком Сундвором и учителем Ларсом Иен-деншо. (
Он подарил мне собранную им книгу, посвященную организатору движения Сопротивления в Бергене Кристиану Стейну — почтовому экспедитору на пароходе, ходившем тем же маршрутом, что и «Северное сияние».
Служба на пассажирском судне, совершавшем регулярные рейсы вдоль побережья, помогала подпольной работе, способствовала развороту незаурядного организаторского таланта Стейна. Участник созданной им боевой группы, Ларс Иенденшо после освобождения из концлагеря по крупицам собрал воспоминания, из которых вставал образ бесстрашного норвежского патриота и его друзей — почтмейстеров, почтовых агентов, экспедиторов, почтальонов, телеграфистов, павших в борьбе с врагом.
Немного позднее к пристани подошла и чета Педерсенов — сестра Мартина Нага и ее муж. С ними был и ее свекор — рабочий алюминиевого завода. Сестра 672
Мартина — МоЛодай, ойейь крупная, но все-таки изящная женщина — работала в конторе Бергенского судостроительного завода, того самого, куда приезжал академик Крылов. Педерсен же — студент технической школы, из которой выйдет судостроителем.
Ростом Педерсен выше Мартина Нага — 204 сантиметра! Почти что рост Петра Великого. Значок, поблескивавший на отвороте черного вельветового пиджака Педерсена, не походил ни на один из множества виденных мною значков.
Две руки с напряжением разламывали пополам винтовку.
— Такой значок,— объяснили мне,— носят здесь те, кто по идейным соображениям отказался призываться в армию...
И тут же я узнал, что в Норвегии таких юношей немало. Они приходят на призывной пункт и объявляют, что с охотой пошли бы в норвежскую армию. Но так как страна входит в НАТО, а иностранные генералы могут использовать войска, не спрашивая народа . и во вред ему,— они отказываются проходить военную службу. За отказ от нее эти люди идут на принудительные работы, сроком своим превышающие срок военной службы. Те же, кто отказывается и от принудра-бот, отбывают тюремное заключение.
— Нынешний наш премьер Герхардсен, когда был молодым, сам отказался от военной службы, и его посадили на три месяца в тюрьму. Теперь же, при его правлении, «отказчиков» сажают на полтора года! — иронически усмехается Педерсен.
Мне довелось потом встречаться с людьми, которые испытали и принудительные работы и тюрьму из-за нежелания служить в войсках, входящих в вооруженные силы НАТО, хотя их всячески пытались уверить, что НАТО не агрессивная, а чуть ли не благотворительная организация.
Этих юношей (они далеко не коммунисты) не так много, но все же столько, что они могут издавать пацифистские тетрадки «Против течения».
Однажды при мне дочь моего норвежского друга и влюбленный в нее паренек, оба студенты университета в Осло, так «планировали» свое ближайшее будущее: через год они кончают университет, она уедет на пол
43 На
разных меридианах
673
тора года во Францию на практику (девушка — Лингвистка), а он те же полтора года проведет на принудительных работах или в тюрьме. Поженятся же они после того, как он отбудет «срок» за «преступление», которое он еще не совершил, но, несомненно, совершит, потому что не собирается служить в армии, где командуют немецкие офицеры.
Но это было позднее, а в те минуты на пристани в Бергене я с таким интересом разглядывал эту сломанную мускулистыми руками винтовку, что Педерсен отстегнул значок и прикрепил его к моему пиджаку:
— На память!
Белой ночью теплоход «Северное сияние» уносил ' меня на север, навстречу полуночному солнцу.. .
Справа на волне, отражаясь в фиорде, покачивались горы. Позади оставался Берген.
Я бережно спрятал этот, пожалуй самый дорогой, сувенир, подаренный мне в Норвегии.
Вероятно, мы никогда не увидимся с добродушным великаном Педерсеном. Вряд ли когда-нибудь встречу я и Сольвейг (фамилия ее — Далланд). Но воспоминание о том, как она с блестящими от негодования глазами отчитывала меня за то, что я так опрометчиво купил эту злосчастную гроздь винограда, надолго останется одним из самых милых моему сердцу воспоминаний.
Как хорошо, что у Норвегии немало таких дочерей. . .
Засыпая в каюте, я думал о Трондхейме, Нарвике, Тромсе и Киркинесе, где меня ждут новые встречи, старые и новые друзья.
(Т О f Т U-Н Г -
“BE/\U\OE ВЕЧЕ»
На Эйдсволлскую площадь, светящуюся изумрудной зеленью газонов, смотрит глазницами высоких окон главный фасад Стортинга — «Великого веча». Так звучит в переводе на русский на'звание норвежского парламента.
674
Ё полукружье вестибюля, выложенного грубыми плитами, я встречаю Георга Русева и Мартина Нага. У Мартина густая русая борода, хотя ему всего лишь лет тридцать с малым. Впрочем, именно борода сейчас признак молодости. У пожилых она не в чести.
Вчера резвящиеся выпускники гимназии, руссы, как их здесь называют, в красных шапочках, издалека заметили на улице мощную фигуру Мартина, окружили и, приплясывая, тыча в него пальцами, вопили: «Викинг! викинг!» А он только молча, иронически улыбался. Но зато, не скрывая удовольствия, Мартин рассказывает, что Микоян, взглянув на его бороду, назвал его Фиделем Кастро. Это было в феврале, когда, возвращаясь с Кубы, Анастас Иванович остановился на двое суток в Осло,— во время беседы со студентами в зале «Круа», обычном месте студенческих сходок и диспутов.
Подымаемся по крутой лестнице. Секретарь Стортинга Эрик Норд показывает нам комнаты парламентских фракций, кабинеты комитетов, библиотеку, галереи.
Из старого здания Стортинга незаметно переходим в новый его флигель, построенный совсем недавно. Как поправки к конституции делали ее демократичней, так и каждая перестройка здания делала его все удобнее для работы парламента. Архитектор Нильс Холгерс с большим тактом сочетал несколько старомодную тяжесть здания, возведенного в «замковом» стиле, с новой пристройкой, сделанной в духе современной конструктивистской, удобной, деловой простоты.
Больше времени мы провели в «комнатах Эйдсвол-ла», где хранится оригинал конституции и стены увешаны портретами ее создателей, во главе с Фельзеном.
До 1814 года Норвегия несколько веков была бесправной колонией Дании. Коалиция монархов Европы, разбив Наполеона, вознаградила за счет Дании свою неожиданную союзницу — Швецию. Разменной монетой победителей стала Норвегия. Ее попросту подарили Швеции. Норвежцы не захотели одно ярмо заменять другим. «Свобода и независимость»,— написано было на знаменах восставшего народа. Тогда-то и собрались в местечке Эйдсволл, в имении Карстена Анкера, сто двенадцать избранных народом депутатов, чтобы выра
43*
675
ботать конституцию независимой Норвегии. Семнадцатого мая все депутаты в порядке алфавита подписали ее.
Впрочем, один из депутатов не смог подписаться. Депутат от непокорного флота — рядовой матрос Эвен Торсен — был неграмотен. Вот его портрет на стене в этом зале. Невысокий, сутулый, с обветренным лицом, в форменном матросском сюртуке того времени, представитель низов Торсен,— таким и запечатлен он на знаменитой картине Оскара Вергеланда «Учредительное собрание в Эйдсволле». Первый на передней скамье слева. Почти все старшие офицеры на кораблях были датчане.
С портретом вожака матросов на стене соседствует портрет сельского пастора Вергеланда (отца выдающегося поэта, классика норвежской литературы).
На противоположной стене мне запомнился портрет немолодого уже человека, стоящего спиной к морю. Это купец и судовладелец Тейс Люндегорд из местечка Листа. Люндегорд прославился тем, что, когда в море возле Листа на горизонте показались английские корабли, готовившие десант (а в городке мужчин не оставалось— ушли на войну), он собрал женщин, нарядил их в мужские одежды и повел строем — маршировать на берегу, с палками вместо ружей. Англичане, не ожидавшие встретить здесь норвежских солдат, повернули обратно.
Рассматриваешь портреты людей Эйдсволла в костюмах времен Французской революции, и кажется, что перед тобой деятели Конвента, его комиссары. И в самом деле, Эйдсволлская конституция была слепком с Великой конституции Французской революции. За это и ополчились тогда на норвежцев силы международной реакции. Швеция обрушила на нее удар своей первоклассной армии. Связи с Данией, ранее ввозившей в Норвегию хлеб, были прерваны. Неурожай следовал за неурожаем. Ни одна из держав не хотела признавать независимости Норвегии. Английский министр лорд Ливерпуль, чтобы сломить упорство норвежцев, наложил эмбарго на все норвежские суда, находившиеся в английских портах. Норвегии была объявлена блокада. Английский флот отрезал подвоз продовольствия.
676
— Знаешь, Мартин, что напоминает сейчас эта ситуация?
— Конечно. Действия американских монополий против Кубы,— отвечает он, продолжая разглядывать портреты депутатов Эйдсволла.
Как они были молоды! Средний возраст не превышал сорока лет, а самому младшему, лейтенанту Конову, не исполнилось и восемнадцати.
Англичане безжалостно топили даже маленькие рыбачьи лодки, перевозившие зерно. Норвегия голодала, но не сдавалась.
— Ты, наверное, читал поэму Ибсена «Терье Викен» и понимаешь, что значит блокада? — спрашивает меня Мартин Наг.
Да, я знаю эту поэму, но советские люди, пережившие блокаду, интервенцию и голод двадцать первого года, и без «Терье Викена» представляют, каким испытаниям подвергались тогда норвежцы.
— «Терье Викен» — это поэзия. А то, что дед Роала Амундсена четыре года сидел в английской тюрьме, потому что пытался на своем утлом суденышке провезти хлеб голодающим землякам,— это исторический факт,— замечает Георг.
Плохо вооруженные, малочисленные норвежские войска сражались героически. Но положение было безнадежно, помощи ждать неоткуда. Англия готовила десант. Россия по Абосскому договору обязалась помочь Швеции в завоевании Норвегии. Под договором о передаче Норвегии шведам стояла и подпись Пруссии.
Вот почему при всем своем упорстве и энергии норвежцам пришлось идти на уступки, на унию, признать шведского короля. Впрочем, само поражение Норвегии в той международной обстановке скорее походило на триумф, чем на капитуляцию. Государства «Священного Союза» обещали отдать Норвегию в полное владение шведскому королю, а норвежцы добились, чтобы он признал Эйдсволлскую конституцию и прислал Стортингу письменную присягу — «Управлять Норвегией согласно с ее конституцией и законами».
Так в то время, когда во всей Европе реакция торжествовала победу, Норвегия создала и отстояла для себя конституцию более демократическую, чем все тогда существовавшие в Европе.
677
И более того, уже через год после унии, когда Европу накрыла мрачная тень реакционнейшего из реакционных «Священного Союза» — союза венценосных помещиков,— норвежский Стортинг дополнил Эйд-своллскую конституцию законом об отмене дворянства и запрещении всякого рода наследственных привилегий. Напрасно король дважды накладывал свое вето, посылал грозные рескрипты в Стортинг, угрожал вмешательством иностранных держав, обрушивал репрессии на печать,— ему пришлось уступить. С тех пор крестьяне и рыбаки с гордостью говорят здесь: «У нас в стране нет ни ядовитых змей, ни дворян!» Основным содержанием политической жизни Норвегии в последовавшие после унии девяносто лет была борьба за ее расторжение, за независимость.
— Кубе повезло больше, чем нам тогда,— возвращается к прежнему разговору Георг Русев,— она знает, откуда ждать помощь. Ей не надо будет тратить девяносто лет на борьбу за независимость. И мы, сыны Эйдсволла, норвежцы, казалось, должны были первыми прийти на помощь Гаване. Так нет же! — и он с досадой пожимает плечами.
Тот из читателей, который последует за нами в зал заседаний Стортинга, поймет, отчего досадовал Русев, да и не он один.
ПРЕ (?ТУ П/U Н UE С Е 3
Заседание Стортинга началось уже давно. Мы тихонько занимаем места на хорах, отведенные для публики. Сверху отлично видны расположенные полукружьем места депутатов. На стене, за спинками кресел президиума, оригинал знаменитейшей в Норвегии картины — «Учредительное собрание в Эйдсволле».
Наша ложа на галерее самая левая,— значит, место единственного депутата-коммуниста Левлиена должно быть внизу, под нами. Но я различаю его лицо в дру-678
гом конце зала. Оказывается, в силу традиции депутаты занимают кресла по секторам — областям, которые они представляют,— по территориальному, а не по партийному признаку. Ведь во времена Эйдсволла политических партий в стране еще не было.
Депутат, выступавший, когда мы вошли, кончает свою речь и сходит с трибуны при глухом молчании зала. Председатель называет имя следующего.
— Что, он плохо говорил? Почему нет ни одного хлопка?
— Нет, почему же, нормально говорил,— отвечает Георг.— Но какие бы то ни было выражения одобрения или неодобрения в Стортинге строго запрещены.
На трибуне круглолицый, плотный, добродушный, уже знакомый мне депутат — член рабочей партии Тронд Хегна.
— Он говорит, что лучше было бы, если бы военный министр после того, как выяснилось, что он дал ложное опровержение, подал в отставку,— переводит Мартин Наг.
Председатель встает и говорит, что Герхардсен просит слово для ответа депутату Хегна. И я вижу, как премьер-министр — высокий, тощий, сутулящийся старик — выходит на трибуну.
— Герхардсен говорит, что Хандал подавал ему заявление об отставке, но он как премьер не счел возможным удовлетворить просьбу министра...— шепчет мне на ухо Мартин.— Правительство считает происшедший факт недопустимым и согласно с предложением рабочей фракции, что надо усилить контроль в военном министерстве...
Сегодня Стортинг уже третий раз занимается вопросом о незаконных поставках норвежского оружия, автоматов, патронов, гранат на Кубу — Батисте.
. . .В сочельник 1958 года, когда норвежцы украшают елки, готовясь провести в семейном кругу рождественские праздники, в утренних газетах Осло были опубликованы телеграммы, что войсками Батисты убито 380 повстанцев.
Каково же было общее возмущение норвежцев, когда через некоторое время из статьи, опубликованной в правой газете «Норгелс Хандельс ог Шефарстиденде», они узнали, что пули и гранаты, разившие повстанцев
679
на далеком острове Карибского моря, производились и на здешнем оружейном заводе Рауфоса.
Военный минйстр Хандал немедленно опубликовал резкое опровержение. Но через несколько дней редакция газеты представила неопровержимые доказательства того, что оружие, изготовленное в Норвегии, вопреки норвежским законам, действительно перевозилось на Кубу.
Повстанцы, возглавляемые Фиделем Кастро, разгромили наемников Батисты, и «секретный груз» последнего транспорта попал в руки народа. Опровержение министра оказалось ложью.
Произведенное по настоянию Стортинга расследование показало, что лицензия на вывоз этого оружия была оформлена должностными лицами, которые теперь пытались оправдаться тем, что опасались безработицы на оружейных заводах Рауфоса. Оружие и боеприпасы были взяты из складов вооружения, производимого в Норвегии на средства, предоставленные Вашингтоном в виде «помощи» странам НАТО.
Депутат Финн Му заявил, что вслед за судном, доставившим снаряжение с заводов Рауфоса, в Гавану прибыл еще один норвежский пароход с грузом танков.
Разоблачая лицемерие правых, он с трибуны Стортинга спрашивал:
— Почему вы возмущаетесь только правительством, а не теми норвежскими судовладельцами, которые доставляли диктатору Батисте оружие и военные материалы на своих судах под норвежским флагом?
Правда, этот ответ представителя правящей партии консерваторам походил на спор о том, у кого в глазу соломинка, а у кого бревно. Замараны были обе стороны.
Но самым неожиданным оказалось, что премьер-министр не только не разрешал поставки оружия, но, находясь в это время с визитом в Индии, и слыхом не слыхал о них.
— Если бы революция на Кубе потерпела поражение, мы, может, никогда и не узнали бы об этом... Каждую неделю в Алжире от французских пуль гибнет пятьсот — шестьсот человек. Нам надо знать, не явля
680
ются ли некоторые из этих пуль норвежскими? Не применяет ли Англия в Ньясаленде и Кении также норвежское оружие? — говорил на заседании Стортинга в марте 1959 года товарищ Левлиен.
— Мы — это касается министра иностранных дел и и меня — узнали об этом деле только тогда, когда о нем заговорили в прессе, после нашего возвращения из Индии...— ответил тогда Герхардсен на прямой вопрос Левлиена, знает ли премьер о поставке оружия Батисте.
. . .На трибуну подымается следующий оратор. ..
Георг Русев показывает мне на часы. Нас ждет майор Хаугланд — участник экспедиции на «Кон-Тики».
Не дожидаясь конца прений (решение все равно ведь предопределено партийным составом Стортинга), мы потихоньку выбираемся из зала заседаний.
В такси Георг с горечью говорит:
— Ведь ни один виновник этого преступления не наказан! Может быть, Герхардсен и собирается сделать так, как он говорит, но раз мы состоим в НАТО — вожжи уже не в его руках. Премьер-министр не знал, что норвежское оружие экспортируется на Кубу. И то, что на аэродром Будё должен был приземлиться Пауэрс, оказалось для него тоже сюрпризом. Разве тут помогут сожаления и протесты?! Чем глубже мы завязаем в НАТО, тем больше наше правительство будет похоже на короля, который царствует, но не управляет. Мы — наследники Эйдсволла, наши симпатии с Фиделем Кастро, а между тем сделанное нами оружие отправляли Батисте!
.. .Когда время рассчитано по минутам, особенно досадны непредвиденные остановки. Вот и сейчас машина резко затормозила. Маленькая девочка с трогательным бантом в собранном на затылке хвостике, подняв жестяной красный кружок, остановила движение.
Школьники парами, не торопясь переходят улицу.
— Это дежурная по классу,— объясняет шофер,— ее сигнал так же обязателен, как приказ полицейского.
Минуты через две все ребята уже перешли на другой тротуар, дежурная, стоя еще на мостовой, повернувшись к сгрудившимся автомобилям, мотоциклам, автобусу, приседает в книксене, прося прощения за
681
задержку, и быстренько бежит вслед за последней парой.
Глядя на эту девчурку-пятиклассницу, так мило и ловко управляющую уличным движением, прощаешь ей неожиданную задержку.
“ О Р U Д Н- О
44 О р В Е Ж Ц Е В “
Вскоре после прилета в Осло я перебрался из гостиницы «Регина» в дом на Эдвардсстормгата, в комнатку на самом верхнем, седьмом этаже. Перед моим окном полупрозрачный еще каркас будущего шестнадцатиэтажного дома.
Медленно поворачивается стрела подъемного крана. Не спеша подымаются и опускаются лифты с бетонными плитами и строителями в рабочей робе. Но каждый вечер, возвращаясь к себе в комнатку, я видел, что дом напротив за день еще вырос. Вывеска на дощатой ограде стройки возвещала, что дом этот возводится для акционерной нефтяной компании «Шелл».
Заграничным нефтяным концернам «Калтекс», «Бритиш петролеум», «Стандард ойл компани оф Нью-Джерси» принадлежат в Осло прекрасные современные дома. Но теперь «Шелл» собирается с высоты шестнадцати этажей «переплюнуть» своих конкурентов.
В то утро, когда у меня была назначена встреча в порту, я, как обычно, проснулся оттого, что мимо моего окна проскользнул наверх лифт. Строитель в кепке с прозрачным цветным козырьком махнул мне рукой.
Разложив на столе план Осло, чтобы найти самый короткий путь в порт, я увидел, что план этот, на котором отмечены места двадцати восьми фирменных заправочных колонок, издан концерном «Шелл». Карта Норвегии, полученная мною от туристского общества, оказывается, издана «Эссо», как сокращенно именуется «Стандард ойл».
682
Каждый пассажир, входя в автобус, отдаёт эре чистого дохода нефтяной монополии. С каждого километра, отмеченного на спидометре автомобиля, с каждой кроны, выбитой счетчиком такси, в кружку этих прибылей падает эре за эре, образуя кроны, тысячи, миллионы крон. Ну как тут не вспомнить историю, которую я не раз слышал в Скандинавии.
Однажды к Римскому папе для разговора с глазу на глаз прибыл американец. Как ни прислушивался в приемной секретарь его святейшества, он не мог разобрать ни слова. Но вот американец повысил голос. «Даю сто тысяч долларов!»—услышал секретарь, и тихий ответ папы: «Нет! . .» — «Даю полмиллиона! Миллион!» — еще громче сказал американец. И снова — тихое «нет». «Двадцать миллионов долларов!» Тут секретарь не выдержал, распахнул дверь: «Соглашайтесь, ваше святейшество!..» — «Сын мой,— тихо ответил ему Римский папа,— ты не знаешь, что он за это требует! Чтобы вместо «аминь» в храмах возглашалось «Стандард ойл»!»
В том, что норвежские капиталисты в сделках со «Стандард ойл» оказались сговорчивее, чем Римский папа, я здесь убеждался не раз.
На набережной, словно галион над форштевнем корабля, из кирпичной стены нового дома выступает литая статуя Боливара — вождя борьбы за независимость Венесуэлы, Эквадора, Колумбии и названной его именем Боливии. Эта фигура и в самом деле когда-то была галионом на одном из лайнеров океанской линии, соединяющей Норвегию с Южной Америкой. Но однажды корабль угодил на песчаную отмель вблизи Ирландии и во время отлива переломился. Судовладелец-миллионер Фред Ульсен распорядился укрепить галион с погибшего судна на стене многоэтажной рабочей столовой Акерсверфи — крупнейшей верфи в стране, также принадлежащей ему.
Под этим, отныне навек сухопутным, галионом мы с Мартином Нагом и встретили, как было условлено, Лейва Юхансена. На лацкане его пиджака поблескивал значок, свидетельствующий о том, что Юхансен больше двадцати лет — бессменный доверенный профсоюза портовых рабочих.
683
Взглянув на окладистую бороду моего спутника, Лейв Юхансен улыбнулся и сказал:
— Я убежден, что недалеко время, когда если не Ульсен, то Вильхельмсен,— он назвал имя другого магната-судовладельца,— на своем корабле на линии в Южную Америку поставит как галион скульптуру Фиделя Кастро!
За несколько часов, проведенных в порту, можно было воочию убедиться, как интенсивен труд здешних докеров. Все совершается почти бесшумно. Рабочих почти не видно. И надо быть очень внимательным и ловким, чтобы не угодить под колеса быстро маневрирующей машины или увернуться от готового обрушиться на твою голову многотонного тюка, стремительно опускаемого краном.
В тот день,— осматривали ли мы пристани или новые склады, фасады которых имитируют старинные дома ганзейских купцов, мастерские, рыбные склады, вдыхали ли слитные, солено-йодистые запахи моря, смолы, мазута и свежей рыбы, вникали ли в рабочую жизнь,— все время в беседах мы возвращались к одной и той же теме.
— Видите? — спрашивал Юхансен, указывая на дальний юго-восточный берег порта, уставленный, как кегельбан кеглями, цилиндрами больших белых цистерн.— Пожар там стал бы катастрофой для всего города, стоил бы жизни сотням и сотням людей. Население уже подавало петицию городскому управлению, требуя, чтобы горючее перевели в безопасное место. Не помогло. «Шелл» и «Стандард ойл» сильнее всяких петиций!
Позиция «Стандард ойл» в Норвегии с недавних пор усилилась еще и тем, что концерн возводит на восточном берегу Осло-фиорда большой нефтеперегонный завод, вкладывая в стройку 215 миллионов крон. Это самое крупное американское капиталовложение в стране.
Финны не так давно построили близ Турку свой нефтеперегонный завод, чтобы не так зависеть от монополий и меньше тратить иностранной валюты. Отважные кубинцы, чтобы избавиться от диктата и саботажа «Стандард ойл» и «Шелл», национализировали и нефтеперегонные заводы. Норвежцы же поступают иначе. Нефтеперегонный завод, построенный концер
684
ном «Стандард ойл» на часть огромных прибылей, извлекаемых из Норвегии, усиливает зависимость местной экономики от заокеанских хозяев, подчиняя ее их интересам.
.. .На одной пристани было совсем пустынно, хоть шаром покати. Даже чайки не кружат над ней. Здесь у причалов пришвартовались шесть больших морских торговых судов. Безработные гиганты — борт о борт — стояли на приколе.
И среди них затесался один танкер.
— Нефтяные концерны держат нас в узде не только своим горючим. Его мы смогли бы купить и в других местах. Они еще держат нас вот чем,— и Юхансен кивком показывает на океанский танкер на приколе.
Я понимаю, о чем он думает.
Норвежцы гордятся своим торговым флотом, третьим в мире по величине. Это — мировой извозчик. И более половины морского тоннажа — нефтеналивные суда. Добытчики валюты для страны, они перевозят чужую нефть в порты всего света. Более чем треть из пятисот норвежских танкеров постоянно перевозит грузы для «Эссо» и «Шелл». И вот теперь, когда Куба национализировала их нефтеперегонные заводы, «Эссо» и «Шелл» объявили молодой республике нефтяную блокаду.
До сих пор, как говорится в деловых кругах, «норвежские судовладельцы проявляли заинтересованность в перевозках советских нефтегрузов»,— поэтому-то Внешторг и хотел зафрахтовать здесь танкеры для перевозки нефти на Кубу.
— Мы, норвежские рабочие, очень хотели бы помочь кубинцам. Но разве коммерсанты спрашивают нас? — говорил Лейв Юхансен, разливая по чашкам кофе в рабочей столовой.
Он пригласил нас «подзаправиться» в этот деревянный пакгауз — рабочую столовую, которая здесь называется «Убежище негодяев».
В дни большой забастовки портовиков в 1924 году здесь под охраной полиции жили штрейкбрехеры. Много воды утекло с тех пор, но меткое название словно приросло к зданию.
Здесь на скамьях за длинными деревянными столами, не снимая рабочей робы, портовики разворачи-
685
каЛи йринёсенные из доМа завтраки или обедалй, й каждый по-своему коротал оставшиеся минуты обеденного перерыва. Один за столом, посапывая, мирно спал, положив голову на руки, другой набивал табаком трубку, третий рассматривал таблицу футбольных состязаний. Несколько человек играли в карты — и прохаживавшийся взад и вперед полицейский наблюдал, чтобы мирные «дурачки» или «пьяницы» не превращались в игры, которые здесь называют коммерческими, а у нас азартными. Мы же и подсевшие к нам рабочие, запивая горячим кофе бутерброды, продолжали начатую у причалов беседу.
Желая поставить Кубу на колени и зная, что одних лишь советских танкеров не хватит для перевозок во всех направлениях, «Эссо» и «Шелл» объявили норвежским судовладельцам, что если те будут перевозить советскую нефть, то эти монополии перестанут фрахтовать здешние танкеры и немедля расторгнут старые договоры — объявят им бойкот. И что же! Норвежские судовладельцы послушно отказались от советских фрахтов и всячески уклонялись даже от каких-либо переговоров, хотя ставки предлагались очень выгодные. Это в то время, когда немало норвежских танкеров стоят на приколе.
Да, судовладельцы оказались сговорчивее Римского папы и, охотно подчинившись диктату, возглашали вместо «аминь» «Стандард ойл»!
Подобные же угрозы монополии предъявили судовладельцам и других стран. Устанавливалась, казалось, полная нефтяная блокада Кубы.
— Я был в Испании в скандинавском батальоне! Ну, а чем мы можем сейчас помочь кубинцам? — включился в беседу подсевший к нам крановщик, приятель Лейва.— Не послушайся судовладельцы приказа «Эссо» и «Шелл», двести танкеров стали бы на прикол! Тысячи моряков превратились бы в безработных! И всё против нас обернули бы,— ведь страна лишилась, бы нужной валюты. Как тут помочь Кубе?!
Человек, сидевший за столом напротив меня, кончил уминать табак в трубке и сказал:
— В двадцатом году, совсем еще мальчишкой, я участвовал в забастовке протеста против блокады Советской России.— Он встал и протянул мне руку.—
686
Значит, Фак получается,— продолжал он,— незаконно можно посылать оружие Батисте, а возить законную нефть, на законных танкерах, законному правительству, если этого не хотят заморские дядюшки, нельзя. Выходит, мы сами себе не принадлежим. В чьем же кармане запрятана наша независимость? И о чем только думают в Стортинге?!
Полицейский, шагавший, держа руки за спиной, взад и вперед по столовой, проходя мимо нашего стола, остановился и громко стал называть:
— Один, два, три, четыре, пять, восемь, десять, один! Русиск!
Трудно представить, что простые слова можно так искажать, как искажал полицейский. Затем, подмигнув мне,— мол, и мы не лыком шиты,— он начал по-немецки рассказывать, что в тридцатых годах ходил юнгой на танкере и не раз бывал в Туапсе.
— Русские — неплохие люди,— говорил он, обращаясь ко всем.— Мне они нравятся. Только я думаю,— со «Стандард ойл» им не совладать. А когда на Кубе без горючего остановятся электростанции, заводы и машины, на одних волах далеко не уедешь,— кубинцы сдадутся. И тут уже ничего не поделаешь!
— Советские товарищи найдут, как помочь Кубе,— сказал крановщик.
— А мы? Мы что? Сыны Эйдсволла! Мне за норвежцев обидно! — отозвался тот, кто еще мальчиком шел в колоннах демонстрантов под плакатом «Руки прочь от Советской России!»
.. .На другой день, возвращаясь перед закатом из загородной поездки в белый домик Амундсена, утопающий в малиннике на самом берегу фиорда, мы остановили машину на горе Экеберг у здания мореходного училища. Оттуда отлично видна была вся столица и как на ладони лежал залив и причалы порта. Увидел я и ту пристань, где вчера стояли на приколе борт о борт шесть кораблей дальнего плавания. Теперь — я сосчитал — их было уже семь.. .
. . .Сейчас зима. За окном валит снег. И вот в Москве я пишу эти строки и вспоминаю тот летний день в Осло. И мне хочется встретить тогдашних собеседников и рассказать им, как просчитался полицейский и
687
каким прозорливым оказался крановщик. Ё объявленной монополиями блокаде нефтяных перевозок из советских портов приняли участие не только норвежские судовладельцы, но и многие их коллеги и конкуренты из других стран. Поначалу кое-кому могло показаться, что Куба задохнется без горючего.
Но прав все же был приятель Лейва Юхансена, сказав: «Советские люди найдут, как помочь!»
Прорвать нефтяную блокаду Кубы удалось и без норвежских танкеров. Нашлись и такие судовладельцы, которые после некоторых колебаний, вместо того чтобы ставить свои танкеры на прикол, предпочли заключить выгодные для них договоры на фрахт.
По дорогам Кубы бесперебойно мчатся автомашины, дают живительный ток электростанции, и не останавливаются из-за отсутствия горючего заводы. Думая об этом, я снова вспоминаю и обиду докера за норвежцев— сынов Эйдсволла, и слова Лейва Юхансена:
«Если бы коммерсанты спрашивали норвежский народ! Он бы распорядился танкерами как надо!»
1961
М А Р U ЭТТА ш А ГЫ H-/I -Н
В С ЕМ U Р+1 И/ В Ы С ТИ В
етыре вещи нужно помнить, вступая на территорию выставки.
Первое — это отличие Брюссельской от всех предыдущих. Если раньше устройство выставки диктовалось рыночной конъюнктурой и сама она походила на большую мировую ярмарку, где все, вплоть до развлечений, помогало коммерческим сделкам,— то
сейчас на первое место выступила тема, носящая отнюдь не коммерческий характер. Куда мы идем, куда ведет нас развитие науки, как бы спрашивает себя выставка и пытается на этот вопрос ответить.
Второе — это сугубо мирный характер выставки. Впервые за истекшие сорок лет на одной маленькой площадке в двести гектаров встретились бок о бок страны капитализма и страны социалистического лагеря. Последних, правда, немного, но вклад их на выставке большой и особый. Не для споров и полемики,
44 На разных меридианах
689
а устранив все, что могло бы вызвать чувства взаимной вражды, оба лагеря встретились и мирно рассказывают друг другу о себе и своих народах. И эта атмосфера мира, словно белый флаг, поднятый кверху на двух пограничных станциях, дает миллионам посетителей необходимую нервную разрядку.
Третье — это роль науки и научных открытий на выставке. Никогда раньше грандиозная мировая ярмарка не утруждала себя сложными вопросами отвлеченной науки и ее новейших открытий до такой степени, как Брюссельская, где наука пронизывает буквально все, вплоть до внешних приемов показа.
И, наконец, четвертое, выросшее из трех предыдущих особенностей,— это необычайный дидактизм выставки. Если раньше основной связью между зрителем и экспонатом была коммерческая реклама, то сейчас, оттеснив ее, на первое место вышла своеобразная научная пропаганда. Наука — не дамские моды и не «легкая индустрия», ее нужно умело раскрыть и объяснить посетителю. И на выставке все служит этому объяснению: различные виды кино (синерама, фу ту рама, циркорама); радио (чуть ли не у каждого экспоната наушники, доносящие до вас на любом из трех языков пояснительный текст диктора); музыка, звучащая как фон для самой прозаической речи (например, при объяснении устройства угольной шахты); наконец, множество всяких макетов, движущихся моделей, научных игрушек и целые тома подсобной литературы, среди которой каталоги дворцов искусства и науки представляют сами по себе большую художественную и научную ценность.
Эти четыре черты — гуманистическая тема, широкий охват современной науки, белый флаг перемирия для взаимного ознакомления друг с другом двух противостоящих лагерей и вытекающий отсюда неизбежный дидактизм — делают выставку 1958 года серьезным вкладом в борьбу человечества за мир. Но и больше того. Реакционные политические деятели непрерывно срывают ожидаемую всем человечеством «встречу на самом высоком уровне», на которой главы правительств могли бы увидеть друг друга, разрядить мировое напряжение, выработать какой-то приемле
690
мый «модус вивенди». И в то время как срывается эта встреча, народы сами организуют другую, на высоком уровне своих культур, и эта мирная встреча народов на двухстах гектарах выставочного поля ведет к плодотворному обмену мировым культурным опытом.
Вот если держать в памяти все эти необходимые предпосылки, можно легко ориентироваться в колоссальном богатстве выставки и не отдать себя в плен яркому потоку случайных впечатлений, кажущихся на первый взгляд «калейдоскопическими». А впечатлений этих, надо признаться, очень много. Первой волной накатывается на вас особый, ни на что не похожий голос выставки: тут и звук далеких фанфар с полифонией человеческих голосов; и жесткий скрип троса, проносящего над вами в воздухе коробочку с «верхним» седоком, вместе со стеклянно-отрешенным вызваниванием бессмертной «Аве Мария» на церковных колоколах; и рокот пролетающей мимо моторной тележки с «нижним» седоком, смешанный с россыпью страстной гитары из венесуэльского павильона; и дробь шагов человеческих масс — под аккомпанемент электронного стона из павильона «Филипс»... Чего-чего только нет в этом большом слитном голосе выставки! о
А вслед за ним идет на вас, в сверкающей россыпи линий и красок, вторая волна и обрушивается уже на ваше зрение. В каталогах выставки встречается термин «архитектор-пейзажист». Еще до того, как вы смогли вжиться в своеобразие архитектуры на выставке, вы захвачены общим ее пейзажем. Он раскинулся красочной гаммой садов и цветников: тропических в павильоне Конго; четырехсезонных, созданных искусственными климатами; агрикультурных, под кварцевыми лампами; возвышаются в кадках странные абстрактные растения с листами и завитками из жести. Словно всплеском рыбьих хвостов, играют серебром фонтаны над большими водными бассейнами; целые полчища роз, обрамляющих карнизы трибун, переносят вас в жаркий итальянский городок....
И уже третьей волной встает и охватывает ваше воображение слитная волна архитектуры. В одном из своих интервью, данном нашей выставочной газете
44*
691
«Спутник», автор французского павильона архитектор Жиллеж сказал, что мы на пороге такой революционной смены архитектурных стилей, какую можно сравнить разве что с переходом от романской базилики к готическому стилю или от каменной кладки к металлоконструкциям. Он видит новый архитектурный принцип этого надвигающегося переворота в «теории напряженной сетки» для перекрытия больших пространств, примененной при строительстве не только французского, но и советского, американского, бразильского и других павильонов.
Попробуем дать приблизительное описание этого нового принципа, каким он отражается в зримых формах. Длиннейшие мосты и переходы, держащие сами себя передаточным движением, упором звена в звено, при минимальной опоре на землю; крыши круглых зданий, подобно черепашьему панцирю несомые на тонких ножках; стены, как бы подвешенные к крыше,— что уравновешивает их, на чем все это держится? И вдруг — вырвавшийся откуда-то сбоку и взлетающий набок гигантский шест, рассекающий небо,— он-то, оказывается, и уравновешивает всю постройку.
Архитектура приобрела новую жестикуляцию, она вырвалась из оков симметрии, устремилась к кривизне, к спирали, к рассеченному полукружию,— словно какой-то портной, захотевший сшить матери-земле платье, сэкономив как можно больше дорогого материала, сидит и выдумывает новые приемы его раскройки. Фундамент из массивного дикого камня или из цельного бетона заменен стволами ножек, на которых держится двадцать — тридцать этажей; железа и стали идет меньше, их заменяют дешевые синтетические материалы; а главная экономия — на самом дорогом— на земле: все, что только возможно, переброшено с земли на воздух, который пока еще не покупается и не продается частным собственником.
Эти новые формы сами по себе интересны и остроумны, архитектура, как никогда раньше, использует законы механики и ее простейший закон — рычага, строится на математике, находит себе параллель в группах крупных индустриальных построек, заводских, промышленных, научных (атомные институты и 692
станции), и ее неожиданные формы до странности напоминают коленчатый вал, этот самый причудливый механический «образ движения».
Но та самая причина, которая толкнула архитектуру к развитию, сейчас ложится препятствием ее дальнейшего роста, и на выставке вы это наглядно видите. Построенные и спроектированные дома показываются чуть ли не в каждом павильоне в рисунках, фото, макетах; но тщетно искали бы вы хотя бы приблизительное количество таких же макетов, фото и рисунков, относящихся к перепланировке старых городов, к планировкам в них новых площадей, к новым планировкам вообще.
Чтоб увидеть поэзию и размах архитектуры, не ютящейся на клочках земли, а широко шагающей по земле, надо пойти в советский павильон, в павильоны стран социалистического лагеря, где перепланировкам и планировкам отведено очень большое место. Недавно в Москве происходил международный конгресс архитекторов. Один из его участников, дипломированный инженер-архитектор Рудольф Хилбрехт (городской советник по строительству в Федеративной Республике Германии), сказал в своей речи, что препятствием к осуществлению проектов планировки в странах Западной Европы «в первую очередь является право частной собственности на землю». Это сказал не социалист, а представитель капиталистического мира, и тем важнее для нас его признание, что развитие архитектуры начинает упираться в отставание общественных отношений.
Тот же факт встречает вас в одном из лучших павильонов Бельгии — павильоне электропромышленности. Поистине диву даешься, вступая в его глубокий синий полумрак, сколько можно вложить вкуса и прелести в показ самых, казалось бы, прозаических вещей: целые архитектурные сооружения из проводов и кабелей, башенки фарфоровых изоляторов, вилки, реле, шнуры, превратившиеся не то в цветочное, не то в кружевное царство в своем художественном сплетении,— и между молчаливыми айсбергами голубоватого фарфора и металла — макеты девушек-хозяек, с приглашающим жестом рук; девушки неподвижны, но кружевной мир движется, кружится и плывет.
693
Чего только нет в нем,— сквозь круглые стекла видны в кабине, словно свернутые трубки органа, огромные батареи трансформаторов; гигантские турбины наступают на вас; почти в рост человека, на площадке, кружится перед вами электрифицированный домик, где все — от кухни до сада, от работы до развлечений— держится на электрическом токе; великолепные макеты гидро- и теплоцентралей...
Вот только одной поэзии не хватает, хотя, казалось бы, старания создать единый рынок Европы, разговоры о федерациях, экономических союзах, сама потребность кооперации общего для Европы хозяйства должны были бы подтолкнуть западноевропейскую технику к созданию и показу этой поэзии. Но ее в этом поэтичнейшем из поэтических павильонов не увидишь, идите смотреть ее в советский павильон: я говорю о великой поэзии больших «линий передачи», шагающих широким шагом своих стальных ног, раскрыв свои стальные руки, оплодотворяющие все вокруг электрическим током,— из города в город, из страны в страну, с севера на юг, через границы и реки, над лугами и пажитями. Негде развернуться этой поэзии там, где каждый шаг по земле надо откупать у ее владельцев. Грандиозная концентрация электрических мощностей — и затруднительность их беспрепятственных перебросок, их кустованья.
Вы опять окунаетесь в выставочный поток — и после звуков, красок, архитектуры начинаете подмечать мелкие детали общего пейзажа: под ногами у вас, на зеленой площадке, вдруг вырастает макет целой страны — крошечные города с острыми шпилями церквей, крошечные леса из настоящих, с мизинец, елочек, голубые змейки рек и желтые нитрчки дорог; одетые бетоном гавани, в которые, шумя прибоем, накатываются настоящие крохотные волны крохотного моря. Таких макетов, движущихся моделей, человечков-автоматов на выставке множество на каждом шагу. Как это ни странно, в центре XX века вы вдруг вспоминаете век XVIII с его любовью к механической игрушке. Только вместо наивных часов с кукушками и ящиков с музыкой современная механическая игрушка на выставке отражает сложные интересы науки. Как на ярмарке прошлого века показывали
694
в балагане какого-нибудь заснувшего в ящике крокодила или волосатую «русалку», сейчас вы в «отделе развлечений» можете за пять франков посмотреть настоящего стального человека, имеющего даже собственное имя «робот Сабор». Он стоит огромный, закутанный в панцирь, поднимает руки, передвигает ноги и, сотрясаясь, шагает к вам: он отвечает на ваши вопросы мертвым электронным голосом, а потом его хозяин-швейцарец раскрывает перед вами его стальное нутро и объясняет кнопки и механизмы, заставляющие жить это «чудо швейцарской техники», как оно именуется в рекламах.
Два величайших завоевания новой эры: кибернетика, эта наука управления с помощью алгоритмов, и атомистика, научившая людей извлекать колоссальные количества энергии с помощью разрыва и соединения атомов (fission и fusion), — предстают перед вами на выставке прежде всего не как предметы науки, а в их развлекательной, полушутливой оболочке — то как подсобный механизм, то как игрушка, то как архитектурный фокуб. Но постепенно вы привыкаете к этой шуточной оболочке и начинаете различать под нею ее прямой источник — науку.
Вот за оградой нечто вроде современной карусели — ряд маленьких автомобилей, во всем похожих на настоящие, но, правда, прикрепленных к полу,— только баранки их вращаются, как всамделишные. Казалось бы, невинное развлечение для ребят и, может быть, урок вождения. Мальчики, один за другим, пропускаются за ограду, рассаживаются в эти автомобильчики и кладут руки на руль. Перед каждым из них экран, он загорается — уходящая вдаль дорога бежит сквозь снега и ледяные пространства Северной Америки, пробегает многолюдные городские гГлощади, сворачивает то направо, то налево, минуя углы улиц, встречные машины, пешеходов, мчится через туннели, поля и горы — к самой южной точке, залитому солнцем морскому курорту Миа^ии — и здесь наконец останавливается. Мальчики правят по-настоящему, поворачивая баранку, как того требует дорога. Но вдруг один зазевался— и автомобиль под ним грозно завибрировал. Оказывается,. игра не просто игра,— это иллюстрация того времени, когда автомобили будут управляться
695
незримой электронной рукой за тысячи километров, и аварии станут невозможными, то есть «игрушечное» добавление к «электронному автомобилю будущего», который показывался в бельгийской научной фу-тураме.
Вот электронная машина автоматических выборов и машина вопросов и ответов; и перед ними теснятся толпы желающих проголосовать или получить ответ, точь-в-точь так и с тем же любопытством, с каким суют люди в автомат денежку, чтоб получить шоколадку, или допрашивают гадалку о своем счастье. Величайшее изобретение, рожденное на войне для правильной наводки и необходимости быстро рассчитывать траектории снарядов и ракет, прошедшее трудный путь развития от радара до счетной машины, сделавшееся сейчас, на пороге новой электронной эры, великим предвестником новой промышленной революции, показано в американском павильоне в его забавном и развлекательном виде, подобно тому как в парижских кафешантанах несколько десятков лет назад показывали икс-лучи, только что открытые Рентгеном, для просвечивания монет в чужих кошельках.
Но это — лишь первое знакомство с электроникой. Мы видим электронную технику чуть ли не в каждом павильоне в ее серьезнейшем применении, революционизирующем весь быт общества. В павильоне Ларусс вас встречает, например, электронный энциклопедический словарь, который не надо искать на полках и листать, а только нажать нужную кнопку и мгновенно получить ответ на любой из тысячи двухсот вопросов; во французском павильоне показана канцелярия без канцеляриста, бюро без бюрократа, когда сидячая профессия исчезнет навеки, вместе с порожденными ею Акакием Акакиевичем, и начканцем, и всем миром чиновников,— все будет делать за них счетная машина.
И, однако, опять встает перед вами великое противоречие между «сегодня» и «завтра». Электронная техника родилась, она становится необходимой для ускорения и облегчения множества счетных и расчетных функций во всех странах, и ее повсюду строят. Но рожденная человеком техника принесла с собой свой потенциал — возможность еще больших ускорений и расширений. Для того чтобы счетная машина стала раз
696
ворачивать этот потенциал заложенных в ней возможностей, то есть расти и развиваться дальше,— ей нужны общественные условия, для которых это развитие необходимо.
Наша страна планирует хозяйство на огромном пространстве, принимая во внимание все цифры и стороны плана — конечный продукт, идущее на него сырье, полные затраты на добычу, транспорт и обработку сырья, наконец — реальную, точно вычисленную потребность в конечном продукте. Если мы до сих пор планируем лишь приблизительно, ориентировочно и наша главная беда — задержки, отставания, сдача планов с опозданием, то происходит это потому, что планирование только тысячи наименований требует нескольких миллиардов счетных операций, иначе сказать — тысяча квалифицированных работников должна сидеть десять лет, чтоб совершить их. Счетная машина может сделать те же операции в две-три недели.
Но нам и это слишком долго, нам нужна еще большая скорость. И мы сейчас заняты не только острым вопросом внедрения счетной электронной машины в наши Госпланы, но и требованиями, предъявляемыми к самой счетной машине. Наши плановики пишут, что надо стремиться, во-первых, к убыстрению скоростей в счетной машине; во-вторых, к расширению ее функций, то есть к созданию математических формулировок технологического процесса в металлургии, химии и т. д. (чтоб дать соответствующие инструкции машине) и к привлечению для этого не одних только математиков, но и технологов, химиков, конструкторов, специалистов различных отраслей народного хозяйства. Электронная машина в наших экономических условиях получает мощный толчок к дальнейшему своему развитию.
В странах капитализма такое планирование невозможно; и если большие тресты, если магнаты отдельных отраслей промышленности могут еще предъявлять свои требования ученым-кибернетикам, то требования эти лимитированы сложным конгломератом капиталистических предприятий внутри трестов. И опять — та самая сила на Западе, которая вызвала к жизни огромный расцвет науки,
697
вынашивает в себе и границы, дальше которых этой науке развиваться будет уже трудно. Это как гигантский трактор, пущенный на маленькое поле частновладельца: ему негде повернуться.
Еще одно впечатление от первого пробега по выставке, о котором хочется рассказать.
В центре выставки — здание, знакомое каждому посетителю по сотне открыток, платочков, галстуков, кружек, стеклянных моделек. Оно глядит вам в глаза с титульных листов брошюр и путеводителей. Его нельзя не увидеть днем, когда оно сияет над выставкой своими алюминиевыми шарами, и ночью, когда каждый шар истекает искрами, словно это над гигантом-атомом роятся его электроны. Это здание — знаменитый Атомиум, задуманный как гигантская молекула кристалла железа, увеличенная в 165 миллиардов раз и состоящая из девяти атомов-сфер. Бельгия строила свой Атомиум целых пять лет. Много усилий было положено, чтоб испытать его сопротивление действию ветров и сделать это зыбкое сооружение безопасным для потока зрителей. На самом верху Атомиума — ресторан; но в шести из девяти его сфер размещено много интересного. В самом нижнем шаре выставлена бельгийская ядерная промышленность. Интересно посмотреть на аппарат, вырабатывающий радиоактивный йод-131. В сегодняшней медицине этот йод помогает устанавливать диагнозы многих трудно распознаваемых болезней и сам служит источником облучения. Выше, в следующих сферах, куда поднимают вас эскалаторы, макеты знаменитых итальянских термоядерных лабораторий, модель синхротрона и сделанная в Роттердаме модель тридцатитысячетонного голландского танкера, движимого атомной энергией. Еще выше изделия фирмы Вестингауз, от реактора до атомной кухни будущего. Переходя от стенда к стенду, вы невольно замечаете, что все это хоть и очень интересно само по себе, но кажется разбросанным и подобранным случайно. Здесь, на примере Атомиума, стоившего Бельгии огромных трудов и средств, наглядно видно, до чего не уживаются рядом два принципа показа: научный и рекламный. Те же умные, замечательные машины, созданные человеческим гением на человече
698
скую пользу, предстают перед вами в совершенно разном свете, когда их объясняет ученый, чтобы вы их познали, и когда их рекламирует этикетка фирмы, чтобы вы их купили. Промышленные фирмы — «Сильвания», «Вестингауз» и другие — совершенно забили Атомиум, лишив его серьезного научного характера.
И вот вы спускаетесь по головоломным лесенкам с его высоты в кипучую жизнь выставки и садитесь куда-нибудь в уголок, чтоб продумать первые свои впечатления. Уголок оказывается входом в зоологический павильон Антверпена. Слева от вас задумчиво ходят розовые цапли, с волшебной грацией, плавающим движением поднимая и опуская свои хрупкие ноги. Справа, трепеща крылышками и повисая в воздухе, крохотные колибри пьют воду из прикрепленных для них на конце ветвей стеклянных трубочек-поилок. Это — природа. Она была такою десять, двадцать, сто лет. Но мир техники и науки, окруживший вас и пронизавший на выставке чуть ли не каждое ваше впечатление, изменяется, изменяется с быстротой человеческой мысли, его «вчера» уже не похоже на «сегодня», а его «завтра» — каким будет его завтра?
Один большой советский ученый сказал мне как-то, что даже открытие атомной энергии повлияет на жизнь общества меньше, чем открытие нового языка электронных импульсов, языка алгоритмов, на котором человек научил говорить машину. Первая промышленная революция раскрепостила человека от тяжкого физического труда. Мы стоим на пороге второй,— она раскрепостит нас от так называемого механического труда. За миллионы людей, за огромные армии канцелярских, конторских, счетных работников машина будет проделывать с недоступной для человека быстротой ту самую работу, которую называют люди чернильным рабством у бумажки. Это, конечно, огромный культурный перелом в жизни общества, и трудно сейчас даже предвидеть, каким благодеянием он окажется для творческих возможностей человека.
Но не только в этом и не в бесчисленных применениях атомистики и кибернетики нц пользу человека в медицине, в продлении жизни, в создании новых материалов. в агробиологии, в строительстве, в быту
699
заключается та главная прогрессивная роль науки, какую не можешь не увидеть на вы--ставке. Она заключается в том, что развитие науки,— а наука не может не развиваться, не двигаться дальше, как не может не думать человек, этот «мыслящий тростник», по слову нашего поэта,— само развитие науки подводит человечество к необходимости новых общественных отношений, необходимости смены старых, отсталых форм новыми, более передовыми, в рамках которых она могла бы свободней и плодотворней продолжать свое развитие. Так отвечает гражданин нашего нового общественного строя на центральный вопрос, поставленный Всемирной Брюссельской выставкой пятьдесят восьмого года.
пи ।
Для того чтобы изучить свыше ста пятидесяти объектов выставки, не хватило бы и тех месяцев, в течение которых она должна быть открыта. Мы пройдемся поэтому с читателем лишь по некоторым павильонам и начнем свой пробег с первой большой троицы — с английского, американского и французского павильонов.
Когда зарубежные газеты берутся описывать английский павильон, они начинают со словечка «оу», долженствующего означать не то почтение, не то восторг, не то эквивалент состояния, которое на русском языке выражается тремя словами «аж дух захватило». Со мной этого не случилось. Быть может, именно потому, что я люблю английский простой народ и его культуру и зеленую землю Англии, я испытала глубокое разочарование в английском павильоне. Не столько от того, что там есть, сколько из-за отсутствия многого такого, чего там не оказалось и что кажется мне в Англии главным.
700
Начну свой рассказ с того, что там есть. Ощетинившись щетками пирамид, протянулась длинная шея павильона, у которой, совсем как старые дворецкие в старых английских романах, стоит весьма внушительный служитель в форме: это вход. Вас встречает торжественный сумрак английской государственной традиции,— вдоль всего длинного коридора лежат реликвии старины, имеющие полное свое значение и по сей день,— скипетр короля Эдуарда; орден подвязки; печать лорда-хранителя печати; кудрявый, как барашек, парик судьи; звонок и прочие парламентские атрибуты и мантии, жезл спикера палаты общин... Идешь длинным рядом этих реликвий, а в конце коридора, эффектно повешенный, сияет портрет королевы Елизаветы II как живое воплощение традиционной английской королевской власти. Такое начало должно сразу же показать зрителю, что Англия шутить не любит: она всерьез видит гранитные устои своей страны в соблюдении и почитании традиций, уходящих далеко в глубь времен. Пусть эти традиции бессмысленны, дело не в смысле, а в том, что они — «английские».
Говоря о себе в официальном путеводителе по павильону, Англия сразу же называет себя «страной коммерсантов», живущей коммерцией (trade), банкиром половины торгующего человечества, страной завоевателей и создателей могучей «империи». В этом павильоне словечко «империализм», имеющее для большей части человечества смысл ругательный и порочный, дается как особое достижение, как подвиг нации храбрых моряков, открывателей, изобретателей, покорителей. И, обойдя весь павильон, вы всюду чувствуете себя не в Англии, а в «Британской империи». Местоимение «я» (и только это местоимение) пишется на английском языке с большой буквы,— и эта большая буква глядит на вас со всех витрин. Я была первой, говорит павильон, в промышленной революции XVIII века, изобретя паровой двигатель; и я опять возглавляю великую промышленную революцию XX века, создав радар, телевидение, мощную атомную электростанцию и экспериментальный аппарат исследовательского центра атомной энергии в Харуэлле — знаменитую «Зету». Гвоздь павильона, таинственная Zeta (показанная публике, кстати сказать, впервые) в виде модели
701
семи футов (в одну треть подлиного размера машины) привлекает зрителей больше всего. Пояснительная ее надпись несколько мелодраматически извещает о том, что «в ночь на август 30-е, 1957, большой шаг к овладению новым источником могущества для человечества был сделан». В этот день, говорится дальше, ученым Харуэлла удалось достичь освобождения нейтронов в термоядерном реакторе и температур в сотни раз более горячих, чем поверхность Солнца. Да, это огромная победа, и последствия ее, во всей их колоссальности, еще и мерещиться не могут самому смелому воображению. Но, добавим мы скромно, советские физики Арцимович и Леонтович сделали тот же эксперимент еще до своих английских коллег, за что и получили в 1958 году Ленинскую премию.
Англичане — замечательные юмористы, юмор частенько, в самые трудные минуты исторической жизни общества, как и в личной их жизни, заменял им религию, помогая сносить любую тяжесть. Но, как это ни странно, юмор изменил создателям английского павильона. С самодовольством, незаметно скатывающимся в комичное, перечисляют они вещи, сделанные впервые в Англии; и тут валятся в одну кучу паровой локомотив рядом с сандвичем (последнее «великое» изобретение объясняется тем, что, желая поесть не отрываясь от игры, англичане запихнули мясо меж двумя ломтями хлеба, взяв еду в одну руку и освободив для игры другую); безопасная шахтерская лампа — рядом с первой в мире разливкой пива по бутылкам; пневматическая шина — рядом с первой почтовой маркой. И — horribile dictu — даже Всемирную выставку они придумали и устроили первую в мире. Нельзя отказать в огромном познавательном интересе всего того, что можно увидеть и узнать в английском павильоне, начиная с варки стали и до роли изотопов в медицине. Маленькие черточки вроде той, например, что в Англии выпивается ежедневно 240 миллионов чашек чая (ей-ей, утешительная статистика!), или что за одиннадцать последних лет (с 1945 по 1956) было построено два миллиона шестьсот тысяч домов (в основном за время лейбористов у власти!), тоже интересны для посетителя, и они хорошо поданы. Но чудовищная теснота индустриального отдела, ливень реклам торговых
702
и заводских фирм, этот бесконечный бюллетень английского экспорта опять приводят вас туда, с чего вы начали,— с личной английской саморекомендации: «Мы-де страна коммерсантов».
Не будем критиковать английский павильон от себя, дадим слово самому англичанину, поместившему на него рецензию в одном из номеров журнала «Нью Стэйтсмен» в мае текущего года. Англичанин (Барри), довольно брюзгливо покритиковав всю Выставку (в том числе и нас, грешных, за то, что «в 40 лет не сумели вырастить поколение людей с художественным вкусом»), обрушивается на свой национальный павильон именно за его коммерческий дух. Конечно, пишет он, всякий понимает, что для нас или экспортировать— или помирать, но, участвуя в соревновании, надо же помнить и о национальном достоинстве! 1
И тут я совершенно согласна с Барри. Кто хочет узнать подлинную Англию, ее замечательных рабочих и ученых, строивших и создававших всю эту стальную технику, кто хочет узнать лучшие черты ее жизни и ее национального достоинства, ее подлинный воздух и атмосферу,— в английском павильоне всего этого не найдет. Не показана там, например, одна из важнейших английских традиций — высоко развитое в народе чувство общественного долга. Есть популярное английское выражение, о нем говорится в пословицах, песнях, речах на митинге: «шапка по кругу». Нигде, кажется, не развита в капиталистических странах система общественной взаимопомощи так универсально, как именно в Англии. Шапкой по кругу содержатся не только бастующие рабочие, но и множество культурных мероприятий и учреждений, начиная с больницы для прокаженных и кончая королевской оперой в Ковент-Гардене. Речь идет не о крупных пожертвованиях богачей,— речь идет о копейке рабочего, потому что ни одно крупное пожертвование не может поспорить с копейкой, когда ее бросают в шапку миллионы и десятки миллионов людей.
Ни этот дух общественной поддержки, нй лучшие идеи чартизма, ни здоровый английский материализм,
1 «New Statesman», 10 may 1958, стр. 592. Статья «Expo 58» Джеральда Барри.
703
двигавший английскую науку со времени Бэкона, ни чистый, гуманный мир Диккенса, писателя, больше чем кто-либо из владеющих пером сумевшего взволновать человеческое сердце светлыми чувствами добра, милосердия, лю^ви к простому, маленькому человеку, не оказались основными слагаемыми общей атмосферы английского павильона, а как раз наоборот— эта атмосфера встала массивным слоем многих идей и сил, против которых боролись лучшие люди Англии. Вот почему, несмотря на огромный познавательный материал павильона, крайне интересный сам по себе, подлинного лица английского народа вы в нем почти не увидите.
В противоположность английскому павильону, встречающему вас длинным ощетиненным хоботком, американский предстает перед вами танцующим кругом. Он очень легок, даже воздушен, несмотря на большие размеры; внутри него, повторяя его круг, сделан такой же большой пруд, весь исчерканный серебром фонтанов, бьющих по самой его середине. К сожалению, пруд этот оказался, по-видимому, недостаточно глубоким для поселенных в нем рыб, и рыбы эти подохли, а в день моего прихода распространили такое невыносимое зловоние, что, как говорится по старой поговорке, хоть «святых вон выноси». Как раз в этот день воду из пруда выкачали, рыб убрали и швабрами мыли бетонное ложе, но запах порядком еще зашибал и держался два дня.
Впрочем,, «святых» в американском павильоне, которых стоило бы «вынести вон», оказалось не так уж много. Америка тоже начала с традиций, с того, что «было», но, так как в области традиций ей с многовековой культурой Англии не поспорить, эти «традиции» приняли в нижнем холле павильона, куда вы прежде всего вступаете, чисто случайный вид кунсткамеры, то есть набора занятных, но ничем друг с другом не связанных экспонатов. Портреты Авраама Линкольна; старое деревянное кресло с выдвигающимся столиком на его правой ручке,— надо признаться, очень удобное,— изобретенное в XVIII веке и до сих пор служащее образцом для ученических столиков-пюпитров в классе; сухие початки кукурузы, сохранившиеся благодаря сухому воздуху Западных гор еще со времен, когда 704
в Америке не было европейцев,— и надпись, говорящая, что Америка — родина кукурузы, а также картофеля; чуть подальше — образцы темных очков от солнца, которые постепенно, под влиянием причуд моды, превращаются в Америке в кокетливые полумаски; новый вид обуви, литой, широко сейчас распространенной в Америке; эту обувь не шьют вам по вашей ноге, а отливают на вас по снятому с вашей ноги слепку из особого вида пластмассы. И тут же сухой, рыжеватый комок — шар старого полевого знакомца, «перекати-поля», совершающего свои странствия по огромным пространствам, а рядом — живые модели, часами не прекращающие прохождений сверху вниз и обратно по узкому пологому спуску, демонстрируя американские моды.
Все это подобрано так странно и так несерьезно, что вы отказываетесь понимать логику устроителей. А ведь логика должна быть, судя по нарядному путеводителю. Если англичанин (правда, условный англичанин, может быть, без ведома самого английского народа) рекомендовал себя, как мы видели, «коммерсантом» и «банкиром», то американский путеводитель указывает на «отличительные феномены, которые считаются характерными для американского народа,—динамическую энергию, нетерпение, неутомимую страсть к переменам, неослабные поиски улучшения путей жизни...»
Можно ли найти эти «феномены» в американском павильоне? Их нет ни в макетах небоскребов, ни в «комнате детского творчества», где ребят усаживают малевать картинки, ни в развлекательном показе электронной техники (машина голосования и проч.), ни даже в великолепном театре, где электроника применяется для суфлирования и ведения спектакля,— но сам театр гораздо интересней всего того, что показывается на его сцене.
Едва ли не лучшим «экспонатом» американцев оказалась «циркорама» — круглый киноэкран. Вы входите в здание, где надо стоять. Экран, как сплошной горизонт, находится повсюду вокруг вас, куда ни обернись. Вот он зажегся, и вы на океанском пароходе подъезжаете к Нью-Йорку, мчитесь в автомобиле по его улицам,— Бродвей, небоскребы, все, что знаете из карти
45 На разных меридианах 705
нок,— но это лишь начало. На всех видах транспорта вам предстоит пропутешествовать по всем городам и красивым местам Соединенных Штатов. Циркорама показывается в Европе впервые, удовольствие она дает огромное именно такими природными* съемками. Вы смотрите, разумеется, все время вперед, вместе с поступательным ходом машины, но вы и много раз, как в жизни, оборачиваетесь во все стороны и видите все, что окружает дорогу, глядите и назад, на то, что уходит от вас. Путешествие длится с полчаса и дает действительно живое представление. об Америке. Зато о самом американском народе, о лучших качествах его вы в павильоне представленья не получаете. Не так давно проскользнуло в печати, что даже американские туристы были возмущены этим полным отсутствием подлинно американского в своем павильоне.
Но на выставке все же можно увидеть настоящее лицо обоих народов, и английского и американского. Для этого нужно пойти в интернациональный Дворец науки. Там вы встретите подлинный английский народ, он встает в лучших своих качествах в замечательных стендах английских ученых, где строго научно вскрыты чудовищный вред термоядерных испытаний для нескольких поколений человечества, их гибельное влияние на хромосомы, клетку, интимнейшие механизмы наследственности; он встает в фотографиях митингов, где англичане страстно протестуют против испытаний атомных бомб. Встретите вы там и американский народ,— для этого стоит только посмотреть хотя бы 16 стендов американских ученых о вирусах: электронный микроскоп, позволивший увидеть вирус глазами; наблюдение и характеристика частиц вируса как носителей болезни; определение всего числа инфекционной группы частиц; различные формы инфекций, структура бактериальных вирусов, репродукция их, действие их — сперва на «мозаичной болезни» табака, потом на гриппе — и вакцины против гриппа, против полиомиелита — всё это достижения американских ученых Калифорнии, Вашингтона, Нью-Йорка, Чикаго, Атланты, Урбаны, Мичигана (среди фамилий которых встречаются русские, немецкие, шведские, польские), шаг за шагом борющихся и за разгадку хотя бы тех видов рака, которые носят явно вирусный характер.
706
И в этой упорной борьбе против врагов человечества —» носителей болезни — сказывается самое светлое, что есть в характере американского народа, его уважение к той самой жизни, которую так бездумно и злостно стремится разрушить американский империализм.
Французский павильон вызвал еще задолго до открытия выставки очень много разговоров. Основное его достоинство — смелая новизна архитектуры, но при этом не новизна вообще, а принципиальная новизна, со своим теоретическим обоснованием. Архитектор Жилле менее всего фокусничал — он стремился математически точно выявить строительные возможности будущего. И он создал огромный жесткий синтез тех средств, которые уже применялись при создании механизмов, мостов, заводских комплексов; перенес старую точку опоры с земли наверх, использовал в архитектуре закон рычага и дал очень точный строительный организм, в данном своем выражении (как первый эксперимент) вовсе не кажущийся и, по всей вероятности, совсем и не желавший казаться красивым. Он поставил, в сущности, важную проблему дальнейшего развития в гражданской архитектуре тех новых законов, которые уже получили свои права в архитектуре индустриальной.
К сожалению, пока не видно таких же удачных решений внутри павильона, какие Жилле нашел и показал в его строительном каркасе. Интерьеры французского павильона мало удобны для размещения экспонатов, трудны для планировки, очень жестки для жилья. Может быть, именно поэтому французский павильон своим содержанием удовлетворяет куда меньше, чем новизной и принципиальностью своего архитектурного решения.
Но одно все же надо сказать: электронные машины показаны в нем без элемента развлечения, очень хороши стенды Булля, особенно модель большой машины «Гамма 60» (в натуральную величину занимающей полтораста квадратных метров); среди всяческого разнообразия запоминается уголок, отданный шахтерам Лор-рэня, их быту и отдыху, и отличные фотографии живых и выразительных человеческих лиц.
А все же лучшее, чем может похвалиться француз-
45*
707
екий павильон,— это книга. Ма втором этаже, в отделе искусства, отмеченном реалистической скульптурой Пикассо «Коза» (настоящая плебейская, истощенная материнством и непрерывным отдоив анием, коза, одна из лучших скульптур на выставке), размещены и французские книги,— возле них посетители стоят подолгу, а многие, удобно устроившись в креслах, и попросту отдаются чтению. Французской книге отведен еще целый павильон, где, помимо знакомства со всем, что сейчас издается во Франции, вы можете еще в наушники послушать французские стихи в исполнении крупных актеров. Мне довелось так услышать чтение поэтических «Прощаний» (Les adieux) Дюамеля.
Ни сил, ни времени не хватит, чтоб подробно описать остальные павильоны, хотя о каждом можно было бы рассказывать часами. Вот бетонная глыба с крохотным крестом на ее пирамидальной верхушке, это «Святой престол», как называется здесь павильон Ватикана. В нем можно узнать, как щупальца католической пропаганды, ее многочисленных миссий, иезуитских школ, своих университетов проникают буквально во всё концы мира и как церковь умеет использовать для этого весь арсенал эстетических, музыкальных и даже научных воздействий. И вот пример, небезынтересный для нас: в книжном киоске, где раздается бесплатно обширная католическая литература, есть и продающийся литературный товар.
С юга — на север, в чудесный деревянный павильон Финляндии, к молчаливому народу со скупым жестом, любящему свою маленькую родину мхов и гранитов, озер и лесов никак не меньше, чем народы юга — свою. В 1956 году финны насчитывали четыре миллиона триста двенадцать тысяч человек, и среди них — 99,5 процента грамотных,— величайший процент грамотности в мире. Многие из виденных мною на выставке павильонов блещут, по замыслу их создателей, то новизной и оригинальностью, то изяществом, великолепием, богатством. Павильон Финляндии— и это делает его народ особенно симпатичным нашему народу — блеснул совсем особым качеством, почти забытым в западном искусстве и литературе: простотой. Входишь в него, как в чудный еловый лес,— легкие вдыхают естественный аромат де-708
рева; оно всюду — дерево и его друг, сохраняемый лесами и питающий леса,— вода — вода родников и речек, озер и водопадов.
Финны не говорят о себе, как англичане: «Мы — народ коммерческий» — или как американцы: «Мы народ нетерпения и постоянной жажды. перемены». Исходя из статистики большинства населения, они просто показывают себя в своих экспонатах народом главным образом работящим. Работы, конечно, очень много, и трудной, ведь надо корчевать камни из земли, чтоб сеять хлеб; надо обуздывать воду, этого «врага и друга», как говорят о воде в другом павильоне, нидерландском. И вокруг вас в финском павильоне — картины упорного, хорошо организованного труда: сплавка леса и обработка дерева. Замечательный продукт — бумага; машина, чтобы делать газетную бумагу,— она экспортируется во многие страны мира; лучшие люди Финляндии — рабочие, музыканты, ученые; милое, такое глубоко народное, характерно финское лицо составителя гениальной «Калевалы» Элиаса Леннрота; картины общественной жизни — и очень маленький, почти незаметный, показательный для финского «образа жизни» бытовой набор финской столовой, та самая простота, о которой я упомянула выше: красивый деревянный обеденный стол без скатерти, под каждым прибором — своя небольшая плетеная скатерка или салфетка, обеденная посуда предельно бесхитростная, тарелки не из фарфора, а из фаянса. . . И видно, что к этой простоте в быту присоединяется еще одно неразлучное с ней качество — чистота. Тот же характер простоты, чистоты и точности и в производствах -— металлургии, например, показанной от сложных металлических изделий до знаменитого финского ножа...
Сильно уставшему человеку хорошо зайти попить чайку в японский павильон. Сидишь на бамбуковой тумбочке, покрытой круглой шелковой подушкой, и прихлебываешь настоящий освежительный чай, поглядывая на необычную ложку: круглая морская раковинка на деревянной палочке. В японском павильоне все начинается с огромной головы Будды VII века и с большого изображения руки современного японца на стене, руки работящей и интеллектуальной, с тонкими, талантливыми пальцами. Эта рука, расска
709
зывает вам павильон, тотчас после воины в неустанном труде восстановила родную страну из руин и пепла. Вокруг вас — плоды ее работы, своя, тщательно выполненная электроника — счетные машины, микроскоп. Огромные грузовики; блок в полторы тонны необыкновенно чистого оптического стекла, в производстве которого японцы имеют свой долгий классический опыт. Экзотики почти совсем нет. Вообще на выставке воочию видишь, как то, чему мы привыкли давать название «экзотического», в больших культурных павильонах многих восточных и южных стран и в павильонах стран, начавших освобождаться от колониализма, все больше сходит на нет, исчезая как таковое и становясь обычным выражением своей национальной формы.
Зайдите в павильон объединенных арабских стран,— вас захватит разворот больших технических строительств, плотина Ассуана, транспорт, нефть, великолепие Нила, вступающего из мертвого царства пирамид в семью больших рек, которые служат родной земле уже не только орошением, а всей суммой заложенных в них энергий. А в холле глядят на вас, когда вы сюда входите, древние знаки Зодиака, напоминая о тысячелетиях, пронесшихся над этой землей, народы которой умели исчислять и строить, мыслить и управлять природой задолго до того, как возникла маленькая культурная Европа.
И странным кажется, что здесь, на выставке 1958 года, поставившей вопрос о роли прогресса для счастья человека, нет самого большого народа в мире, который уже проголосовал за прогресс сотнями миллионов голосов. Да,— ответил великий народный Китай,— прогресс облегчает труд человека, удлиняет его жизнь, создает больше безопасности для детского возраста, развязывает время и руки для личного человеческого творчества. Но ведь именно для этого и надо создать у себя такой строй, чтоб все граждане могли творить и двигать прогресс и пользоваться его благами. И Китай, как никто, мог бы рассказать о победном проникновении прогресса во все уголки его громадных пространств, еще вчера знавших лишь горе, темноту и голод. Но Китая на выставке нет. С ним мы вышли бы, впрочем, из этой главы и перешли в следующую.
710
ПИ В U/1 ЬО f+Ы
СТРЯН
Серебром светятся алюминиевые пластины с фреской Будапешта на фасаде,— это встречает гостей венгерский павильон. Кроме той истории, которую каждый народ рассказывает сам о себе в своем павильоне, есть еще история самого павильона в дни и месяцы действия выставки; и в этом смысле венгерский очень примечателен. В самом начале, когда он только что открылся, были попытки писать о нем в духе соболезнования,— вот-де народ, воля которого раздавлена, прошлое которого скомкано, продающий сувениры, в то время как главное его воспоминание — это кровавая с ним расправа. Такие сентенции встречались не только в зарубежных газетах, но и в разговорах досужих посетителей.
Казалось, этот павильон будет менее посещаем, чем другие. Но дни шли, и живой поток людей к нему рос и рос. Одни бегали пить токайское и есть поприкач, уверяя, что у венгров все и вкусней, и дешевле, и уютней; другие удивлялись огромному скачку, сделанному венгерской наукой,— подумать только, действующая модель акселератора, счетчик фотонов, свой собственный атомный центр в долине Чиллеберц! И шестьсот метров в павильоне под одними только экспонатами тяжелой промышленности, а главное, выход на мировую сцену: вместо того чтобы просить помощи у крупнейших фирм в деле индустриализации, венгры, оказывается, сами оказывают эту помощь, ставят электростанции в Польше, Индии, Африке, даже в культурнейшей Чехословакии ставят печи, не говоря уж о промышленных заказах из Албании, Аргентины! И подумать только, в Голландию, царицу тюльпанов, посылают какой-то особый выведенный ими сорт тюльпана. .. Вот эта, типичная для стран социалистического лагеря, картина огромного роста промышленности и неизбежной кооперации между ними и кажется посетителю выставки «выходом на мировой рынок».
7Ц
С одним из них, долго сидевшим перед картинами сказочно прекрасного венгерского художника Чонтвари, которого и я очень люблю, удалось понемножку разговориться. «Выставляют. Удивительно!—сказал он по-английски.— Тут совсем нет вашего пресловутого реализма. Его биография похожа на гогеновскую, а его картины совсем в духе Тёрнера или Вильяма Блэйка. И лошади похожи на английских...» Нельзя было не рассмеяться над этим суждением, вырвавшимся как бы против воли: никакого реализма, а лошади похожи на английских.
С огромным удивлением рассматривали посетители и чудесную фигуру «Танцовщицы» работы скульптора Шомоди — этот сгусток энергии, полный стремительной силы движения. Они открывали для себя большую, творческую страну, народ, довольный своей жизнью в ней, живой и общительный. Целыми группами ходили по своему павильону наезжавшие на выставку веселые венгерские туристы — рабочие, студенты, крестьяне,— все они отнюдь не казались несчастными. И вскоре соболезнующие толки вокруг венгерского павильона сами собой прекратились,— он зажил нормальной и очень успешной выставочной жизнью.
Интересную историю мог бы порассказать о себе и чехословацкий павильон, один из прекраснейших на выставке. Его архитектура, внутреннее содержание, веселое «ревю», бесплатно разыгрываемое в небольшом театральном зале («маленьком чуде хорошего вкуса», как писали об этом зале английские газеты), так безусловно хороши, что у самых злостных критиканов язык не повернулся как-нибудь задеть их. И только один русский бельгиец, не удержавшись, пробормотал в ответ на хвалы чехам: «Malgre». Коротенькое словечко «мальгрё» должно было означать, что если уж социалистической Чехословакии и удалось создать нечто прекрасное, так не «благодаря», а «вопреки»—вопреки ее социализму. И здесь, если захотеть ответить на это словечко по-настоящему, мы и подойдем, в сущности, к главной теме выставки.
Но прежде всего пройдемся с вами, читатель, по небольшому чехословацкому павильону. Снаружи он забирает не сразу, и вы только бегло схватываете черное с золотой отделкой. Но внутри,, в холле, этот бу
712
кет золота с чернью повторяется, и в такой связи, что заставляет вас задуматься. На выставке в огромном количестве встречают вас абстрактные скульптуры не то из железа, не то из чугуна, и вы в конце концов перестаете обращать внимание на все эти бессюжетные возносящиеся завитки, приседающие на свой хвост спирали и схватывающиеся в боксе каркасы. Но тут у чехов вы тоже видите такую металлическую абстракцию, но здесь ее завитки и спирали неожиданно превратились в подставки для золоченых фигурок, а целое вдруг показалось чудеснейшим художественным барокко, тем стилем, полным внутреннего движения и фантастической жизненности, который очаровывает вас в Праге и заставляет замереть от восторга на лучшей площади Бельгии, брюссельской Гранд-плас. Вместо ультрасовременного абстракционизма чехословацкий художник, словно затаив про себя улыбку, так повернул рукою творца этот абстрактный завиток, что он сделался классикой — выразительным подножием и элементом барочного стиля. Это впечатление дает тон всему остальному в отделе культуры павильона.
Сперва захватывает вас музыка. «Нет более нужного для народа искусства, нежели музыка»,— гласит надпись из Зденека Неедлы. Рояль для концертов, но не «Бехштейн» и не «Стейнвей», а четкая надпись на черном лаке: «Петров». И еще другой, белый с позолотой рояль, знакомый каждому, кто бывал на вилле Бертрамке в Праге,— инструмент Моцарта, на котором пробовали его пальцы мелодии «Дон-Жуана»...
Наука представлена с таким же лаконизмом: знаменитый востоковед Бедржих Грозный, прочитавший хэттитскую надпись, а дальше—сама эта надпись: «Если свободный убьет змею и имя другого говорит, платит 1 мину серебра, но если раб — умирает». Врач Ян Перкине, основатель теории живой клетки; Мендель, с его генетической таблицей, и — целая ниша Яна Амоса Коменского, с большими квадратами картинок из мирового его учебника «Орбис ин пиктус» («Мир в картинках»)...
Дальше — детская комната игрушек, похожая на дневную елку, которую не надо зажигать, потому что вся она светится, переливается и сверкает множеством красок и блесток. Вы чувствуете себя легко и необык
713
новенно уютно, как если б всю вашу усталость сняли и перенесли вас в сон или в сказку,— и в таком просветлении садитесь смотреть знаменитое «ревю», названное «волшебным фонарем». Это — синтез танца, музыки, скетча, кинофильма. Справа и слева от сцены, словно обрамляя ее двумя полосами, натянуты экраны. Выходит красивая девушка-чешка, по имени Ирэн, играющая роль «конферансье» этого волшебного фонаря. Улыбаясь, она заговаривает по-чешски, но ведь этого мало, ведь выставка требует по меньшей мере трех языков. И красивая девушка зовет себе на подмогу еще двух «Ирэн». Слева на киноэкране медленным шагом приближается к вам она же,— и даже сердясь на то, что ее сюда вызвали, поспешно выходит на правый экран тоже она. Три одинаковых Ирэн, не повторяя ни движений, ни характера друг друга, с невероятной грацией и остроумием на трех языках — словно в непрерывном споре и разговоре между собой — объясняют зрителю происходящее на сцене. Так скучная необходимость механического перевода сама превращается в остроумнейший художественный прием. А в ревю — не назойливо и как будто без всякой пропаганды — узнаете вы по кусочкам, как живет и работает чехословацкий передовой рабочий, как учатся детишки, тренируются спортсмены, растут города и заводы,— и вот уже знакомая социалистическая действительность с ее физическим и моральным здоровьем, с ее заботой о народе и заботой народа о будущем своей страны постепенно охватывает вас. «Волшебный фонарь» короток. Он никого не утомил, всем понравился. Многие из тех, кто сидели в зале, убеждаются, что в мире социализма жить можно и даже приятно жить. А вы медленно перебираете в уме все то, что видели и что показалось вам цепью легких, почти воздушных впечатлений. Вдумайтесь в каждое, и вам ясно станет, как они глубочайшим образом обдуманы, нацелены, пережиты, и лишь социалистическая страна могла создать их. Дело не только в общем содержании ревю. Каждое звено тоже что-то вложило в целое. «Петров», а не «Стейнвей» — полно внутреннего достоинства. Хэттитская надпись открывает настоящую классовую борьбу в глубине тысячелетий- там, где свободный отделывается миной
714
серебра, несчастный раб расплачивается жизнью. И Неедлы говорит о музыке, что это самое нужное народу искусство,— это лексикон социалистической эстетики. Любовь к своим традициям, живое, почти злободневное ощущение Яна Амоса Коменского,— он не просто предмет национальной гордости, а живой источник, из которого пьет и черпает современность сейчас, потому что социализм возвращает народам их прошлое, помогая глубоко, по-настоящему, для сегодняшней жизни и работы понимать его...
И вот я уже стою перед нашим советским павильоном, очень большим белым прямоугольником, тяжесть которого снимается и сверху, потому что прозрачные его стены из стекла и алюминия не подпирают крышу, а как будто свисают с нее; и снизу — широчайшей музыкальной лестницей, полого к нему поднимающейся почти во всю ширь его фасада. Если смотреть на одну эту лестницу снизу, то видно, как черные фигурки людей поднимаются по ней к павильону.
Людей почти всегда много, и даже в очень большом просторе внутри самого павильона их кажется много. Люди типичны — это чаще всего народ в скромной одежде, приезжие из провинции с женами и детьми, группы туристов, молодежь, интеллигенция. Прямо у входа в огромный зал павильона со статуей Ленина в глубине стоит модель второго спутника. Вокруг него всегда тесно, и нужно пробиваться, чтоб стать поближе.
Можно, как это делали сплошь да рядом газеты и даже официальные журналы выставки, посмеиваться над не первой молодости линолеумом на полу нашего павильона, над отсутствием модных фасонов мебели, линейным однообразием расположения экспонатов и бесхитростной манерой их показа,— да и сами мы подчас порядком критикуем свой павильон, но все эти недочеты испаряются, как лужи на солнце, под влиянием самих экспонатов и огромного человеческого интереса, проявляемого к ним на выставке. Секрет в том,— и тут я невольно вспоминаю горделивые английские сандвичи и пивные бутылки,— что Советский Союз среди множества прочих «первых» вещей впервые сделал и еще одну вещь в мире — социальную революцию величайшего эпохального значения. И она,
715
эта первая сделанная вещь в мире, изменившая ход истории на земле, живет и дышит в каждой ячейке павильона, в каждом его экспонате, поворачивая к посетителям свое живое и убеждающее лицо: ну да, новая система человеческих отношений, нет частной собственности на орудия производства, и никто не смеет заставить другого работать на себя, на свою личную прибыль. Ну да, все в руках общества — земля и производство, наука и образование, ваш труд, ваше здоровье, ваш отдых, и ничего в этом нет страшного, и все это глубоко естественно, идите и посмотрите, как мы, советские люди, полюбили такую жизнь, как мы освободились в ней, освободились от страха за завтрашний день, от чувства вины перед себе подобными, от тягостного, убивающего безделья тех, кто живет на «прибавочную стоимость» и не знает, куда девать себя и свое время, как мы научились радости творчества в каждом виде труда, у заводского станка и на колхозном поле так же, как в научной лаборатории, у рояля, за письменным столом. Смотрите, мы — такие же люди, как и вы, и никакой железный занавес не разделяет нас. И народ поднимается по лестнице и смотрит. И народу всегда много.
Простота планировки нашего павильона имеет свои преимущества,— его можно обойти последовательно, ничего не пропустив, хотя это «обойти» и превращается, как смеются организаторы павильона, в своеобразный «терренкур» для тучных: его длина — шесть километров. Одно за другим: строительство и реконструкция Москвы, планировка и создание городов, тяжелая и легкая промышленность, сельское хозяйство и транспорт, равноправие женщины, забота о детях, народное здоровье, наука и образование, литература и искусство, спорт и отдых, атомная энергия для мирных целей, ракеты и спутники,— все это проходит перед зрителем в той внутренней связи и взаимозависимости, которую нельзя не ощутить. Многие из нас, советских людей, вступая в свой павильон, думали, что, в сущности, мы свое и так хорошо знаем и не стоит затрачивать на него времени, а лучше посмотреть незнакомое и чужое. Но если прийти, как это случилось со мной, в советский павильон напоследок, повидавши сперва с десяток других,— с изумлением чувствуешь, что мно-
716
Гие вещи открываются для тебя как бы впервые, освещаются с новой, неведомой стороны.
Во-первых, масштабы. . Как это ни странно, Америка не сумела показать своей масштабности, и даже в циркораме, где мы совершаем путешествие по ней, кадры подобраны так, что эта большая страна вдруг воспринимается вами как нечто маленькое, компактное, лишенное острых природных контрастов. Но в советской синераме, как и во всем павильоне, прежде всего ощущается огромность и разнообразие наших пространств, и «широка страна моя родная», в которой населению никак нельзя пить в одно и то же время свой утренний чай и спать ложиться, потому что на одном ее конце наступает день, а на другом кончается,— эта широкость обнимает вас, как песня, и становится настоящим переживанием, географическим, экономическим и культурным.
Во-вторых, темпы. Когда мы читаем в газетной статье или видим на графике, что с 1913 по 1956 год в Америке производство стали выросло в т р и раза, а в Советском Союзе в одиннадцать раз, то это сравнение кажется нам обычным; мы привыкли видеть кривую нашего роста в цифре. Но на выставке вы ее чувствуете в образе,—и это совсем другое. Вы чувствуете, как за сорок лет из старой России с восемью миллионами деревянных плугов выросла удивительная страна металлургических гигантов, подняла голову над своими просторами и тянет их ввысь, тянет, как сеть,— всеми ее клетками, и в свою очередь каждый построенный ею завод, выросший город, освоенные богатства земли и недр, подобно рыбакам, тянущим невод за цепь, становятся фактором ускорения темпа ее роста. Старое, знакомое с первых трех пятилеток словечко «темп» вдруг начинает постигаться вами по-новому. Если не догоним, если снизим темпы... А вот и догнали, и не снизили, и теперь уже сам темп, созданное им внутреннее движение, несет нашу большую страну, как в полете.
В-третьих, культура. У нас еще не почувствовали толком, что наш советский павильон уже сейчас — и не единожды — премирован на выставке именно за культуру, за стенды с советской литературой, которую мы так поругиваем дома, за стенды с со-
717
детской музыкой. Знаменательна сама формулировка присуждения золотой медали: не за отдельные достиженья, а всему Союзу писателей в целом — за широкое распространение книги, массовость тиражей, многочисленность переводов с иностранных языков на русский, с русского на иностранные; и всему Союзу композиторов в целом — за пропаганду своей и чужой классики, своих и чужих современных музыкантов.
В нашем советском павильоне с отчетливой ясностью видно, как важно в вопросах культуры не выращивать отдельные редкостные орхидеи, а закладывать крепкие каменные фундаменты, начинать не сверху, а снизу. И то, что у нас есть Шостакович, Прокофьев, Хачатурян, тесно связано с тем, что в нашей стране 965 композиторов,— гомерическая цифра, ни в какой другой стране не встречающаяся. Поражает, а некоторых просто пугает вот эта фундаментальность нашей советской культуры. Даже народы, сорок лет назад не имевшие своей письменности, сейчас гордятся собственными учеными и писателями: сорок лет назад — темная и неграмотная крестьянская Россия, а сейчас — сплошная грамотность двухсотмиллионного населения Советского Союза; и если сравнивать с самыми культурными странами Европы — Францией, Англией, Италией, Федеративной Германией, вместе взятыми и составляющими тоже 200 миллионов населения,— то у нас в четыре раза больше студентов, чем у них. В четыре раза больше, чем в четырех культурнейших странах, вместе взятых!
В-четвертых, план. Мне думается, каждый внимательный посетитель нашего павильона почувствует ту великую особенность новой общественной системы, открывшуюся в советском хозяйстве и культуре, которая позволяет приводить в движение все целое, координируя между собой его части. На примере использования электронных машин я уже говорила, как наш новый строй стимулирует рост новой техники, подталкивает развитие новой машины, требует ее массового внедрения, потому что иначе он сам не сможет развиваться. И когда слышишь на выставке в разговоре посетителей: «Мы на пороге новой эры», то невольно думаешь про себя: лишь с помощью новых общественных отношений можно этот порог перешагнуть.
718
РИЗ Г0 вор
О Г искусств £
Как и наука, искусство пронизывает весь быт вы-ставки, внедряясь слагаемым в самые, казалось бы, далекие от него вещи. На этикетке обыкновеннейшей машины — приспособления для маляров при строительстве, когда-то, в своей младенческой форме, именовавшегося у нас «люлькой»,— рядом со словами «удобна», «экономична», «легко сбираема и разбираема» стоит слово «эстетична». Простые садовые лопаты в павильоне сельского хозяйства сделаны так, что их невольно называешь «красивыми». В описании’ инженерно-строительного замысла Атомиума указано, что диаметр такой-то трубы сделан шире, чем остальные, «из соображений эстетики». Не помню, какой из старых русских писателей, анализируя когда-то слово «изящество», пришел к выводу, что оно происходит от глагола «изъять»: изымая постепенно все лишнее, отяжеляющее и усложняющее конструкцию, как штамп и литературщину из писательской речи,— вы получаете тот лаконизм, который и кажется изящным. На выставке это объяснение в какой-то мере оправдывается: обилие самой передовой техники, собранной здесь, показывает все большее приближение ее новых форм к тем приятным для восприятия пропорциям, которые невольно напрашиваются на художественную оценку.
Огромное значение в роли искусства на выставке имеет и тот факт, что местом действия выставки стала Бельгия. В мировом пантеоне сокровищ одно из первых мест занимает фламандская живопись, а для тысяч туристов, посещающих Бельгию, эта страна инг тересна не своим «высоким уровнем жизни», а сокровищами, собранными в ее музеях, красотой ее маленьких городов, Брюгге, Лувена, Гента, яркой прелестью старинных процессий в Намюре. Немудрено, что искусство заняло на выставке очень большое место, и, помимо национальных павильонов, где выставлены отдельные художественные произведения, ему отведены
719
целых два дворца — один для бельгийского искусства, другой под названием «50 лет современного искусства».
Старый фламандский реализм не умер в Бельгии,— ведь только лишь полвека назад она похоронила такого чудесного, человечного мастера, каким был Константин Менье, оставивший в своих полотнах и скульптурах бессмертный памятник трудовой жизни и рабочему классу Бельгии. Что сами бельгийцы высоко ценят своего реалиста, доказывает с любовью сделанный ими фильм о творчестве Менье, отмеченный в 1957 году на X кинофестивале в Карловых Варах.
И в павильоне бельгийского искусства, посвященном современности, нельзя не почувствовать отблеска этой старой славы. Правда, и тут преобладает абстракционизм, но глазу есть на чем остановиться с удовольствием, потому что традиционный реализм фламандцев удерживает даже крайних абстракционистов на какой-то черте, за гранью которой утрачивается всякое подобие жизни. Сильней, чем в скульптуре, сказываются эти традиции в живописи. Проходя лишь бегло по маленьким залам, вы запоминаете скульптуры Динардье и Шизеля, фигуру юноши Виктора Руссо, темные тона и крепкий рисунок желто-коричневых картин Огюста Мамбурга, прелестную ночную уличку Пьера Паулуса, но останавливаетесь надолго перед полотном Луи Бюиссерэ, на первый взгляд никакими особенными живописными достоинствами не отличающимся. А вы стоите, смотрите — и думаете. Перед вами кусочек старого, добротного реализма, делавшего каждое лицо классической фламандской школы не только исполненным жизни вообще, но и ярким отблеском данной минуты, когда одно лицо на картине так живо отвечает на выражение другого лица, что простой посетитель выставок, без претензий на тонкое понимание, мог бы воскликнуть простосердечно: «Вот-вот заговорят!» Две женщины,— одна, городская хозяйка, вышла на порог своего дома; другая, торговка, с большой корзиной на голове, поддерживаемой одною рукой, подошла к ней. Но торговка не продает, а хозяйка не покупает,— сложив руки на груди жестом крайнего внимания, хозяйка слушает торговку, быстро ей что-то сообщающую — случай ли в городе, новость ли, сплетню ли про
720
соседку и амурные дела ее,— только лихорадочный интерес ее сообщения сочетается в ней с жадным преувеличением, так хочется ей, женщине более низкого общественного положения, раньше всех быть передатчицей новости и этим как бы вырасти на секунду над городской хозяйкой; а та слушает, поджав губы, в строгом и спокойном удивлении, но вот-вот закипит под этим спокойствием и она. Так предельно жизненно схвачены на этой простой картине женские характеры, и так раскрываются они для зрителя именно друг от друга, в этой своей связи, как замок от ключа, что вы не можете не задуматься о существе жанровой живописи вообще.
Перед картиной Луи Бюиссерэ я невольно припомнила нашумевшую у нас картину Лактионова «Письмо с фронта» (тоже выставленную в другом павильоне) и вдруг поняла главную причину, по которой она мне не понравилась. У Лактионова читается письмо с фронта; это письмо, помимо того, что оно слушается разными людьми и при слушанье должно вызвать у них разную реакцию, могло бы в этой естественной реакции раскрыть и характеры, и взаимоотношения этих разных людей друг с другом. Но жанровая сценка превратилась у Лактионова в портретную сценку, при этом — в самом плохом смысле — искусственного, позирующего портрета: каждая фигура изображав г только себя, она не реагирует, она выражает лишь принятую позу, и вы абсолютно не можете догадаться, в каких эти люди взаимоотношениях и какие у них характеры. И еще одно невольно приходит на мысль: не зря классики живописи так любили делать двойные портреты (жены и мужа, отца и сына), тройные и семейные портреты,— эмоциальная связь между ними легче приподнимала занавес над сложной тайной человеческого характера... Мы еще многому, многому не умеем учиться.у наших стариков, которых считаем прочитанной и преодоленной страницей!
Очень хорошо подана в павильоне бельгийская литература. Тут, конечно, создатель гениального Уленг-шпигеля, Шарль де Костер, и все, что можно сказать и показать о нем. Слова Ламартина о том, что Бельгия — это самая литературная страна в Европе, иллюстрируются целым букетом бельгийцев, от Жоржа
46 На разных меридианах
721
Роденбаха и Эмиля Верхарна До модного Сименойа, по-4 лучившего чудовйщное и, на мой взгляд, незаслуженное распространение в мире. В «Музее слова» вы можете услышать их голоса в наушнике, отзвучавшие и еще звучащие в жизни. В последних разделах образцы прикладного искусства, чудесная цветная оконная мозаика, бельгийская керамика и, наконец, музыка, поданная исторически, от трубадуров и труверов, через Гретри к Франку и Лекё...
Совсем по-другому проходишь по залам большого интернационального павильона с его внушительным названием «50 лет современного искусства». Здесь хорошие картины (в том числе кое-что из нашего) буквально тонут в море разливанном головной абстракции. В написанном Эм. Лянги предисловии к отличному каталогу павильона дается попытка обосновать новейшие западные течения в искусстве, и особенно то, которое зовется абстракционизмом, как... «наиболее реалистические, проникающие в глубины Реального» (с большой буквы). В этом предисловии, написанном очень интересно, есть даже целая глава, носящая, к нашему приятному удивлению, название «Социалистический реализм» и сопровождаемая эпиграфом из Карла Маркса: «Искусство — это самая большая радость, которую человек доставляет самому себе».
Ввиду того что тон всей статьи и особенно этой главы должен создать у читателя впечатление полной объективности суждений Лянги, поговорить о ней совершенно необходимо, тем более что о нашем советском искусстве на Западе почти не пишут в терминах благожелательности или хотя бы с желанием действительно понять нас. Правда, «объективность» и «благожелательность» Лянги очень относительны,— он целиком оправдывает тех, кто ставит «государственный социалистический реализм... вопреки благородству его намерений, на одну доску с самыми худшими формами академизма,— ханжеского, оптимистического и сентиментального»; он допускает в статье фактические ошибки, считая, например, что у нас попросту «официально запрещены» натюрморт и обнаженная натура; он повторяет избитые утверждения о том, что нельзя путать революционный сюжет с революционным духом й что «левые» художники могли бы гораздо лучше
722
выразить нашу новую действительность, чем «правые натуралисты». Но в целом в его статье имеется, во-первых, честное, хотя и беспомощное желание понять, куда и как развивается наше искусство; и, во-вторых, статья его пробуждает в читателе желание поговорить о современном искусстве, что мы и попытаемся сейчас сделать.
По мнению Лянги, новейшее западное искусство, все больше отрываясь от «сюжета» в чистую «пластику», не только не становится отвлеченным (абстракция, как он пишет, это неудачно найденное слово), а, наоборот, все более конкретизируется, входит в глубины реального, в корневые особенности человеческой психологии и законов природы. Одна часть этого направления стремится «схватить Жизнь в ее наиважнейших функциях», другая (он называет Певзнера, Габо, Хэпуорта) чисто интуитивно воспроизводит как раз те пластические формы, которые были недавно найдены учеными для выражения «алгебраических формул третьей степени», иначе сказать—идет совершенно в ногу с открытиями чистой науки. Тут я даже могу подсказать еще пример в пользу Лянги, из области музыки: абстракционисты-композиторы создают уже музыкальный язык не звуков, а пауз между звуками (чему недавно так честно удивлялся наш композитор Арам Хачатурян в № 11 журнала «Музыкальная жизнь»),— а ведь тысячи людей сидят в лабораториях и слушают музыку нашего третьего спутника, музыку не его попискиваний, а его помалкиваний,— неровные пунктиры его пауз,— ибо это и есть новый язык электронных импульсов, позволяющий паузами передавать вам научные сведения из далеких небесных сфер. Так что механическое сближение новейших форм искусства с новейшими открытиями науки можно, к удовольствию Лянги, продолжить. Но дело-то ведь не в этом!
. Мы охотно верим Лянги, что мир линий и красок, открывающийся в самых крайних течениях западного искусства, есть глубоко реальное воспроизведение «жизни и функций, жизни», какими их видит, чувствует и понимает отдельный «западный человек», в данном случае — художник. Но это не та жизнь и не те жизненные функции, которые видим,
46*
723
чувствуем и понимаем мы, люди новой реальности на одной трети света, а по численности своей — представляющие не «какую-то сотню», а выразителей жизни нескольких сот миллионов. Лянги допускает у нас революцию, даже Революцию с большой буквы, и он верит, что тонкое искусство Запада может послужить ей лучше, чем наш «ханжеский академизм». Но все дело в том, что искусство наше стремится изобразить не революцию, а те совершенно новые общественные отношения, которые революция создала, новый мир, резко расходящийся в своей реальности со старым миром. И наш художник, докапывающийся до глубин этой нашей реальности, пытающийся докопаться до психологических глубин нашего человека, не найдет и не может найти в этих глубинах то, что находит и изображает западный художник.
Представим себе блестящих «пти-метров» эпохи Мольера, этих рафинированных эстетов, считавших себя на самом передовом фланге общества своего времени. И вот среди этих создателей поэзии тончайших ассоциаций, в бессмыслицах которой они видели глубины особого глубокого смысла, забежавшего за пределы понимания людей ординарных, «невежественных» и «отсталых»,— среди этих «пти-метров», считавших себя передовой и ведущей частью человечества (потому что на их стороне образование, утонченность, услуги цивилизации),— появился грубый мужлан с жаргоном улицы и выставил свою, как будто довольно примитивную, правду — против их утонченной «правды».
Была ли такая ситуация в искусстве прошлого? Была очень часто. Это произошло как раз в начале капитализма с его простым и грубоватым искусством, направленным против конца дворянско-феодальной системы, с ее утонченнейшим и тончайшим искусством. Вспомните, Эм. Лянги, первое появленье пьес Мольера, художника третьего сословия, перед зрителями, воспитанными на феодальной, искусственно^ри-торической, церковно-мистической и сенсуально-символической эстетике, которая, они убеждены были, отнюдь не кончает какой-то культурный цикл, а намечает его развитие в будущем. Истинное положение ве
724
щей на этой встрече люди хорошо поняли только позднее, а в то время общество могло думать и думало, что Мольер тянет назад, к «простонародью» с его «санфасоном», а «пти-метры» ведут вперед к углубленному искусству авангарда. И что получилось? Мольера забрасывали гнилой картошкой, но драматургия его стала классической, легла в основу нового искусства, искусства людей нового общественного строя, пришедшего на смену старому; а поэзия «пти-метров» забыта и, как отставшая от своего времени, затерялась где-то в архивном обозе истории.
Такова суть вопроса. Из нее не следует, что мы создаем хорошее искусство, а Запад плохое. Но мы идем вперед, к пониманию тех форм и отношений, которым обеспечено будущее, а Запад глядит назад, в прошлое, и глубины его с точки зрения «Жизни и ее главных функций» перед лицом наступающего будущего — иллюзорны. Отсюда и преувеличенная роль сюжета в нашем молодом социалистическом искусстве. Когда отражаешь только момент революции, содержание его можно выразить красочной и звуковой символикой. Но отсутствие частной собственности на орудия производства; перевоспитание человека, учащегося любить и беречь общественную собственность, как свою; замена психологии сострадания и милосердия, вытекающих из чувства личной виноватости перед обездоленными, глубоким нравственным удовлетворением человека, когда рядом с собою он видит людей, одинаково с ним наделенных всем, что нужно для жизни,— такие коренные изменения всей действительности, пусть хотя бы еще только наполовину реализованные, имеющие отклонения и провалы, но в принципе уже с о з да нн ы е,— вот это отразить в искусстве (а ведь искусство дышит воздухом, в котором живет его творец!), притом отразить на первых его порах, в самом начале новой эры,—вне сюжета и вне смыслового содержания совершенно невозможно. Отсюда ведь даже самый острый и новый художник современности, признанный за такового и на Западе, наш композитор Шостакович, и тот прибегает к сюжету р самом отвлеченнейшем из искусств, в музыке,— примером служит его Одиннадцатая, программная симфония. И, завершая свой спор со статьей Эм. Лянги, я
725
опять скажу, что начинать надо этот спор, исходя не из самого искусства, отражающего «глубины», а из глубин действительности, которые это искусство призвано отразить. Все же остальное само, собой приложится со временем. И если мы еще не создали своих Мольеров, то создавать своих «пти-метров» нам совершенно ни к чему.
Переходя к самому павильону, отметим, что жюри, состоящее из представителей именно западного мира, сочло возможным присудить премии целому ряду наших советских художников, которым предисловие к каталогу павильона заранее спело «отходную». И еще одна любопытная подробность: в числе самых известных ультралевых западных художников и скульпторов, ведущих «корабль искусства» по безбрежному морю абстракций и всяческих измов, неожиданно оказывается очень много русских отщепенцев, утративших родину. Одни имена нам хорошо и давно известны, другие звучат новизной. Смоленский уроженец, Осип Задкин, оказался ведущим французским скульптором, создавшим школы «со множеством учеников», как пишет Лянги. Кандинский и Малевич (москвич и киевлянин) первые создали движение абстракционистов. Киевлянин Александр Архипенко — творец новой школы скульпторов в Америке. Тут и орловец Певзнер (мы его хорошо знаем по двадцатым годам у нас), и Бен Шан из Ковно, ставший мастером модернистической сатиры в Америке; и белорус X. Сутин, друг Модильяни; и Марк Шагал, Наум Габо, Яков Липшиц, Наталия Гончарова — все уроженцы России, и все это очень громкие, больше того, ведущие имена левого искусства на Западе. За ними числятся, кроме абстракционизма, еще такие направления, как кубизм, конструктивизм и лучизм, беспочвенно выращенные на чужой земле, вне исторических традиций родного искусства.
Наступил вечер на выставке, когда искусство и красота обрушивают на вас целую Ниагару огней и красок. Хорошо присесть в эти часы на одном из сидений, возле бьющих цветными перьями фонтанов, поглядеть, как испускают свое мерцание круглые шары Атомиума в вышине,— и привести в порядок накопленные за день мысли. «Сложнейшие глубины, где встречаются 726
природа и человек»; «мистические дали, о которых повествуют лишь абстрактные формы и линии»; все более и более усложняющийся мир линий и красок, к которому с простой арифметикой не подступишься,— именно в этом «настоящее искусство», как хотят нас уверить западные мастера и их философствующие теоретики. Но вот что странно: чем больше рассматриваешь это искусство, тем более чувствуешь и за ним, и вокруг него — в атмосфере эпохи, если хотите,— неожиданную тоску — тоску по пр о с т о т е. Круговорот, совершаемый вкусами человечества, ведет иногда к самым большим неожиданностям. Мне кажется, в искусстве Запада и в его усложненных литературных формах уже появился некий роковой червячок, подтачивающий самые твердые вещества,— червячок скуки. Обществу, и не только передовой его части, начинает приедаться усложненное, и подобно тому, как простая и лаконичная проза Пушкина ударила насмерть по витиеватой речи «Бедной Лизы»,— люди, оглядываясь, ищут этого удара простоты, сразу возвращающего человеку его прямое место на прямой дороге истории; Но простота никогда не создается искусственно, ее не выдумаешь из головы как прием, она родится на народной почве, родится социально, в той единственной общественной среде, где царствует цельность производительных сил и производственных отношений и где содержание и форма едины.
Есть на выставке один из интереснейших павильонов — «Филипс». Имя ему дала мировая нидерландская электропромышленная фирма; построил его архитектор Ле Корбюзье. Павильон этот, похожий на курдский шатер, внутри совершенно пуст, но на его внутренних стенах показывается странный фильм, названный авторами «Электронной поэмой». Сценарий этого фильма написан, точнее смонтирован Пикассо; музыка — не простая, а электронная — создана Эдгаром Варезом. Пятнадцать минут стоит, смотрит и слушает публика слитные воздействия необычных электронных звучностей, сопровождаемых вспыхиваниями и затуханиями красочных эффектов — сине-голубого, ярко-оранжевого, фиолетового, коричнево-желтого, вместе с пятнами образов, выскакивающих то там, то здесь на ркружающих стенах-экранах. Авторы фильма хотели
показать эволюцию форм от обезьяны к человеку, с призывом к бережному сохранению всего созданного, а показали, вольно или невольно, нечто разоблачающее современные усложненные формы искусства. Пятна древних божков, первые рисунки человека на стенах пещер, животно грубые формы его самого и создаваемых им богов до странности напомнили зрителям современные модернистические скульптуры. В древних божках и рисунках, сделанных еще беспомощной, но уже серьезной рукой человека, мы видим начальную ступень, примитив. Но в этих мнимо усложненных современных формах скульптуры и живописи мы чувствуем то искусственное возвращение к пройденному, которое требует прибавления частички «изм»: примитивизм. А под примитивизмом, как бы сложно ни объяснять его, таится страстная тоска человечества по утерянной цельности, по дневной красоте. Придет настоящий новый художник нового общества, расскажет кристально ясно, мешая кристально чистые краски кистью великой жизненной правды, о простейших, но единственно важных для человечества вещах — о любви, о труде, о мире, о творчестве, о благодарности ближнему своему за то, что есть на земле не только «я», но и «ты», и «мы», без которых «я» не могло бы расти и обретать полноту человечности,— и обрадованный читатель-зритель воскликнет: пришло настоящее искусство!
1958
Е К.АТ f Р U НА
В U К^т 0 f u /
К. О Р А-
з окна гостиницы «Медитерранео» видны глубоко внизу по-зимнему хмурые и еще тихие улицы утреннего Неаполя. Дома в этом районе, между портом и центральной магистралью, Виа Рома, похожи на скалы, аккуратно сложенные из светлых ровных кирпичиков и неожиданно взбунтовавшиеся против какой бы то ни было городской планировки.
Многоэтажные здания эти как бы заявляют, что в Италии одушевлен и обладает буйным характером не только мрамор, но даже простой кирпич. Улицы здесь очень узки, и дома глядят друг другу окна в окна, будто глаза в глаза. Обитателям гостиницы «Медитерранео» видно, как раздергиваются занавески в квартирах напротив, как появляются на столиках подносы с утренним кофе, булочками и сыром, как, надев темные, зимние плащи, люди уходят на работу.
Тринадцатиэтажное здание, слева от гостиницы, украшено сверху донизу широкой каменной лентой
729
фресок. Художник изобразил трудовой люд: рабочий ударяет молотом по наковальне, грузчики перетаскивают мешки... За фресками, вдали, в просвете между зданиями, виден Везувий.
Более двух тысяч лет назад извержение Везувия, как известно, принесло гибель жителям древнего города Помпеи. Они, подобно современным труженикам, грузили корабли в порту и были знакомы не только с молотом и наковальней, но и с инструментами точной механики и техники, с высоким мастерством хирургии, с красотой искусства, с удобствами цивилизации.
Сколько бы раз ни слышал и ни читал о Помпее человек, его не может не поразить встреча с жизнью, мгновенно остановленной когда-то. Помпея была засыпана бурными тучами пепла, задушена вулканическим газом. Так и остается перед глазами двухтысячелетний каменный слепок женского тела, оцепеневшего в конвульсии. Женщина бросилась на землю, обхватив голову руками, пытаясь спрятаться от смерти. Еще более обнаженно страшна конвульсия собаки. Несчастный щенок, существовавший две тысячи лет назад, видимо, обезумел в предсмертной агонии. Тело у собаки скручено в жгут, лапы вытянуты вверх в отчаянном прыжке — в попытке «выпрыгнуть» из неотвратимой гибели, пасть широко открыта в последнем диком вое... В бане Помпеи — каменный слепок жителя, которого удушение газом застигло здесь. Удивительно, как по оцепеневшим, когда-то живым, линиям лица можно почувствовать характер человека, жившего две тысячи лет назад. Этот невысокий итальянец был, видимо, волевой и сильной личностью. У него стиснуты зубы, резко вскинут подбородок: даже наедине со смертью он не хочет показаться униженным. Только смерть видит его, но пусть и смерть видит мужество, а не отчаяние и ужас на его лице!
Останки Помпеи настолько красноречивы, что связывают судьбу древнего города с нашей современностью, с нашими думами и спорами, с нежданно-негаданно и в то же время естественно возникающей в наши горячие дни большой дружбой между людьми разных стран, с нашей борьбой за жизнь на земле. ..
Из окна гостиницы «Медитерранео» виден,— так же как и Везувий, в просвете между домами,— Неаполи-730
танскии залив. «Виктория», итальянское судно, на котором я провела две недели в пути от Бомбея до Неаполя, уже ушла. На рейде стоят темно-серые американские военные корабли.
.. .Наше путешествие на «Виктории» подходило к концу. О пассажирах парохода можно было бы сказать так, как говорят иной раз о международных организациях: «Люди разных стран и профессий, разного социального положения, различных вероисповеданий и разного цвета кожи». Мы перезнакомились и чувствовали себя почти одной большой семьей. Все члены этой своеобразной семьи были безупречно внимательны друг к другу. Мужчины дружно вставали, когда женщины входили в салон или в столовую. Женщины извинялись, покидая компанию. За изысканной вежливостью моих попутчиков, за их отличными манерами и светскими вечерними туалетами были биографии с трогательными, а иные даже с трагическими чертами.
Еще в начале путешествия я обратила внимание на женщину лет сорока, с немного одутловатыми щеками, выпуклыми глазами и смешанным выражением высокомерия и растерянности на лице. Женщина одевалась “броско и, наверно, могла бы меньше пользоваться косметикой и реже заходить в бар. Потом я узнала, что эта моя попутчица — рядовая секретарша из Нью-Йорка. Всю жизнь она копила деньги для того, чтобы совершить путешествие по морю, и не как-нибудь, а в первом классе! Это была не просто мечта. Это был «ловкий», тщательно изобретенный способ проникновения в «высший свет», где — кто знает! — простая женщина может даже найти своего «принца», может воплотить в своей биографии сказку о Золушке. (Сколькими подобными историями заморочило головы американцам голливудское кино!)
И вот тщательно продуманная мечта осуществилась, путешествие уже подходило к концу, а секретарша из Нью-Йорка так и не нашла своего принца. Сказка о Золушке так и не стала реальностью. Женщина пила виски в баре и хрипло смеялась — наверно, сама над собой.
У моих соседей по столу — седого красавца-великана и ('го стройной, как подросток, жены — была своя
73!
мечта. Эти американцы хотели иметь большую семью. «Я сильный и выносливый. Я люблю работать. Пусть у меня будет много детей»,— говорил муж. «И только пусть никогда не будет войны»,— говорила жена.
На пароходе был англичанин, с которым мы часами спорили и радовались этой возможности спорить, не соглашаться и соглашаться друг с другом. В маленьком мире «Виктории» отражались те большие споры о жгучих вопросах войны и мира, которые разгорелись среди общественности всех буржуазных стран после визита Н. С. Хрущева в Соединенные Штаты.
Был здесь, на пароходе, француз, трижды раненный в сражениях против гитлеровцев. Был немецкий школьник, не видевший войны. Разные люди. Разные биографии.
Прощаясь в Неаполе, я предложила обменяться адресами и пошутила по поводу того, сколько километров будет вмещать теперь моя записная книжка. В самом деле: Нью-Йорк — Москва; Лондон — Москва! Шутка о дальних расстояниях получила совершенно неожиданный поворот. Розовая от смущения, моя соседка по столу стала объяснять мне, что она не хотела затрагивать эту тему, но раз я сама коснулась ее, то, словом, лучше, чтобы я не писала никому, с кем познакомилась и подружилась на «Виктории»; лучше, чтобы я никогда — ни в статьях, ни в стихах, ни в беседах с кем бы то ни было — не называла имен моих попутчиков. Да, именно, не только фамилий, но и имен... «Я не знаю, как правительство США стало бы реагировать на наше знакомство с вами! — сказала американка.— У нас такое положение! ..»
Американке было почти не под силу это вынужденное объяснение. И мне показалось, что остальным моим попутчикам, расставшимся со мной в Неаполе, было в те минуты не по себе из-за неожиданного объяснения, совсем не похожего на наши прежние беседы.
. . .Возвращаясь в город из Помпеи, я заметила, что «Виктория» еще стояла в порту. Она выглядела совсем хрупкой рядом с тяжелыми военными кораблями — как девочка рядом с грубыми касками и шинелями солдат. И тогда мне захотелось проводить «Викторию» по традициям нашей советской вежливости. Да, наши 732
мужчины нередко забывают встать, когда женщина входит или уходит. Но сколько раз, провожая меня в дальний путь, люди, по традиции дружбы, ожидали, пока самолет, поезд или пароход скроется из виду!..
Я прошла в самый дальний конец пристани и стояла там, глядя, как уползали в трюм канаты, придерживающие «Викторию» у причала, как матросы убирали сходни. Потом «Виктория» плавно и легко пошла за буксирчиком, сквозь пелену дождя. Я стояла и смотрела на нее. Одна. Остальных провожающих, наверно, разогнала плохая погода... И вдруг я поняла, что моя вежливость полностью оценена: мне махали платками и шляпами все пассажиры «Виктории». Одни кричали, называя меня по имени. Другие просто кричали: «Москва!», и я в последний раз повторяла имена, которые я больше не должна была называть — нигде, включая и эти путевые записки...
«Викторию» закрыли стоящие на рейде военные корабли— корабли, создающие «такое положение» во многих странах, мешающие дружбе людей. Подошел служитель порта, в форме, попросил у меня паспорт. Я показала.
— Коммунистка! — неопределенно произнес человек в форме, как будто просто констатируя факт.
— Коммунистка,— подтвердила я.
— А кого же вы провожаете? Кто там на пароходе?
— Англичане и американцы! — сказала я, все еще глядя вслед «Виктории».
— Капиталисты! — так же неопределенно, как бы просто констатируя факт, произнес человек в форме.
— Капиталисты! — машинально подтвердила я, смахивая с лица, кажется, дождь.
— Вы надолго в Италию? — спросил служащий. Может быть, ему полагалось задавать вопросы. Поэтому я объяснила:
— На две недели. У меня виза. Посмотрите.
Человек в форме снова бережно взял мой красный паспорт и не раскрыл его, а просто подержал в руке, заслонив другой ладонью от дождя. Мне показалось, что за безразличной маской служаки на мгновение проглянуло дружеское лицо рабочего-итальянца — одно из тех лиц, которые я видела на фресках возле гостиницы «Медитерранео» и просто на улицах города.
— Гостите у нас подольше! — сказал человек в форме.— Такие гости лучше, чем вот эти! — он с усмешкой показал на военные корабли. И, может быть, в словах итальянца была не только легкая шутка. Может быть, человек в форме увидел мир разделенным и решительно причислил себя ко всему тому, что было в какой-то мере связано с моим красным паспортом. Причислил себя к моим друзьям — американцам и англичанам на «Виктории». Причислил себя к мирным людям Неаполя, а не к лагерю военных кораблей, темно-серых, как пепел, засыпавший когда-то Помпею. 1961
СОДЕРЖАНИЕ
От составителей............................ 3
Г. Кублицкий Нью-Йорк, осень шестидесятого.......... . 5
Б. Агапов Путешествие в страну ЮНЕСКО............... 45
А. Борщаговский Новые традиции............................ 53
Виталий Василевский Молодая Африка............................ 62
Е'вг. Габрилович Римский сценарий.......................... 83
Лев Гинзбург Зимние размышления........................ 99
И. Горелик Из «Английского дневника»................125
Ев г. Долматовский Дни, которых ждали сто лег................134
А. И с б а х Европейская тетрадь.......................152
Алексей Кожин Песни в горах.............................187
Александр Кривицкий Два полета в Бухарест.....................221
Ф. Кузнецов Доктор из Москвы........................ 230
Ирина Левченко Африка — это близко.......................254
II. Н. Михайлов Южморпуть.................................277
Дмитрий Нагишкин По земле Суоми.......................... 285
Николай Панов Два американца........................... 313
Константин Паустовский Амфора.................................. 345
735
Б. Полевой Эльба — река Москва — Потомак...........366
Ев г. Поповкин На древней земле Эллады.................373
Ида Радволина К друзьям в Чехословакию................406
Лев Славин Золотая варшавская осень ...............437
С. С. Смирнов Куба в эти дни..........................471
Леонид Соболев В Боливии...............................490
Ц. Солодарь Повесть о бедных влюбленных.............545
Владимир Солоухин Открытки из Вьетнама....................566
Ю. Стрехнин В гостях у Штробля..................... 616
Братья Тур Глоток воды.............................628
Геннадий Фиш Норвегия — рядом........................642
Мариэтта Ш аг и ня п Всемирная выставка......................689
Екатерина Шевелева «Виктория» и военные корабли............729
«НА РАЗНЫХ МЕРИДИАНАХ»
М., «Советский писатель», 1962, 736 стр.
Редактор К). Б. Рюриков
Оформление художника С. М. Пожарского Худож. редактор Е. И. Балашева Техн, редактор С. Б. Николаи Корректоры В. П. Назимова и В. Н. Стаханова
Сдано в набор 12/VIII 1961 г. Подписано в печать 26/1 1962 г. А 02026 Бумага 60 X 84716. Печ. л. 46 (44,62). Уч.-изд. л. 38,84. Тираж 25000. Заказ № 3679. Цена 1 р. 32 к.
Издательство «Советский писатель». Москва, Б. Гнездниковский пер., 10
Типография № 4 УПП Ленсовнархоза. Ленинград, Социалистическая, 14