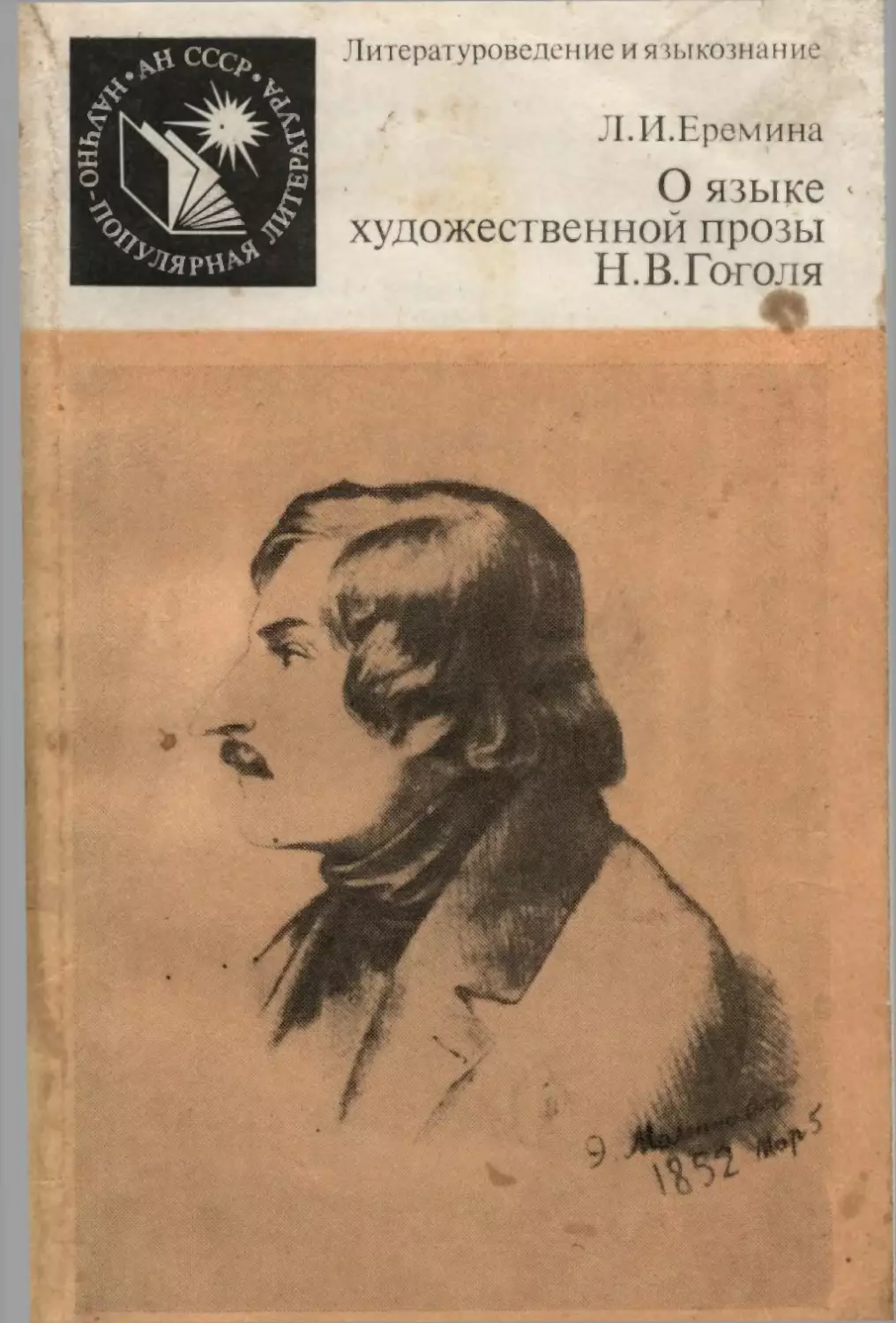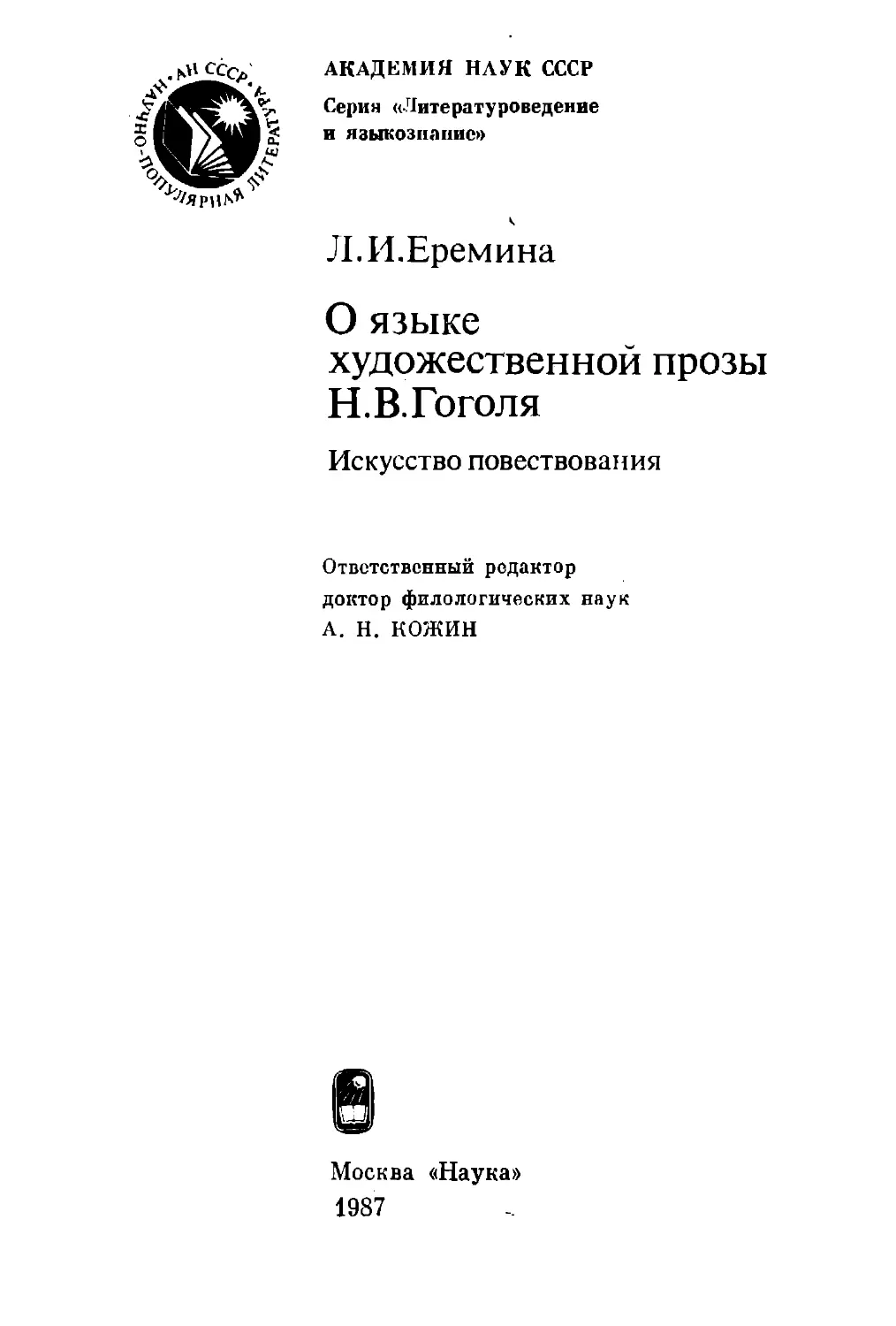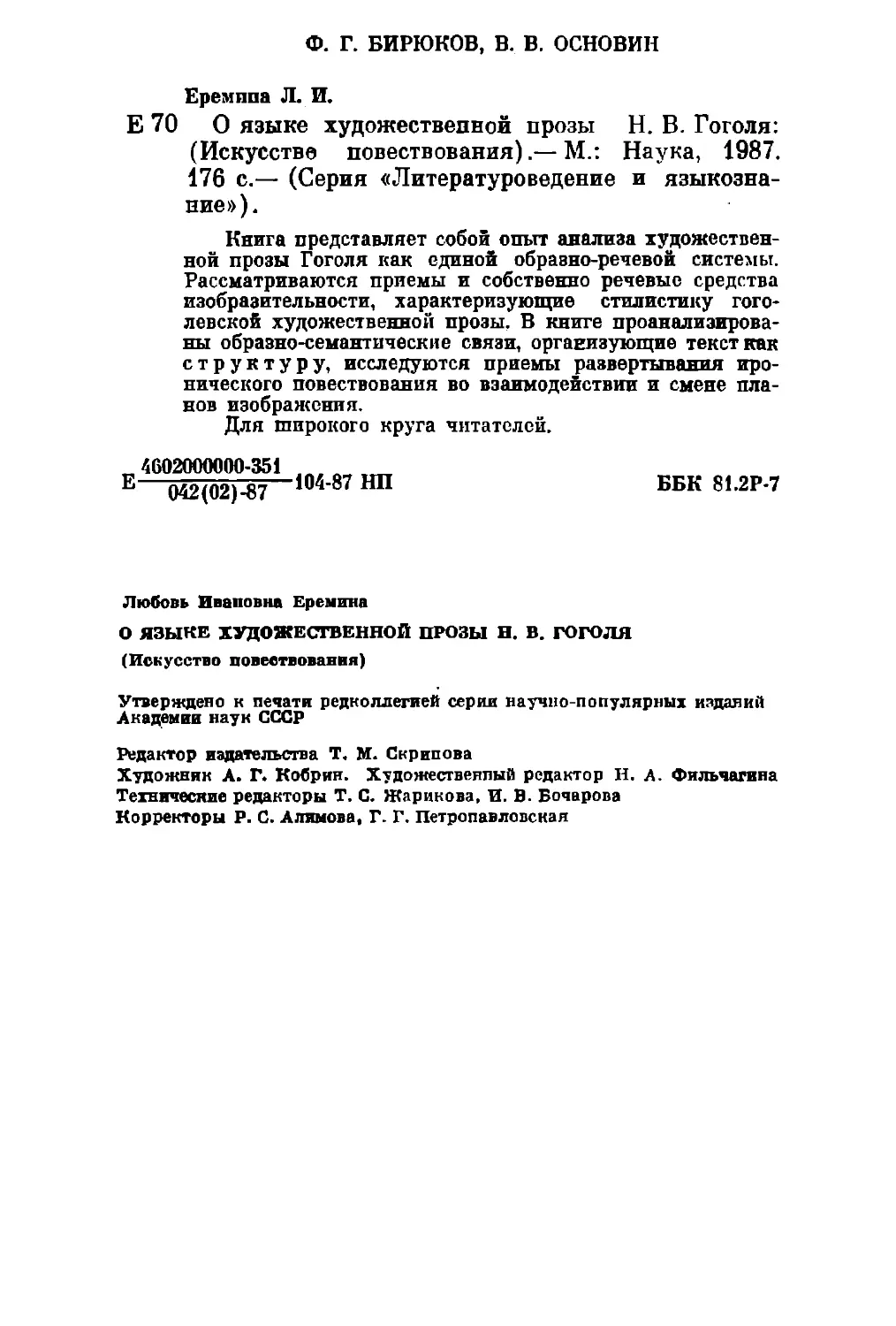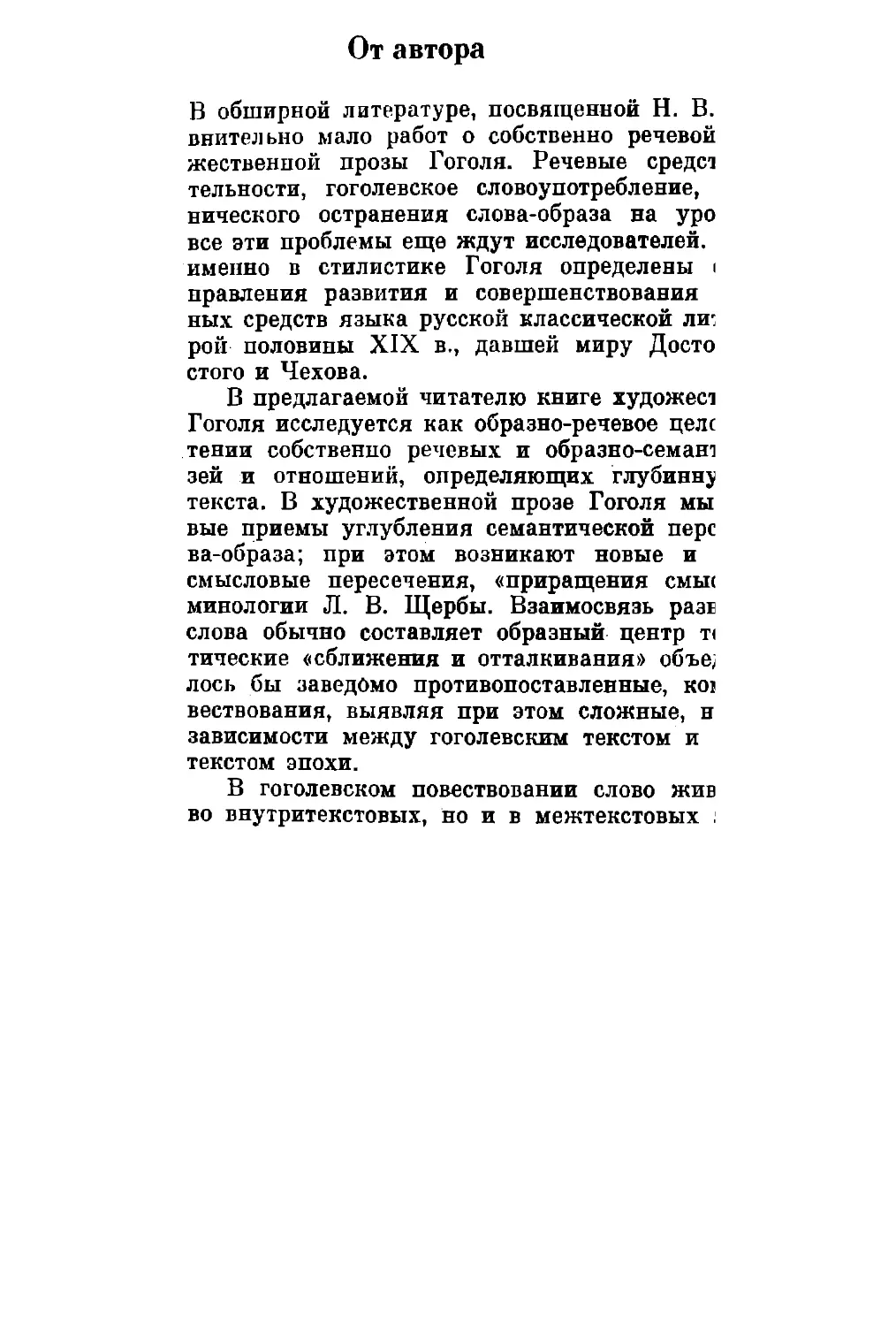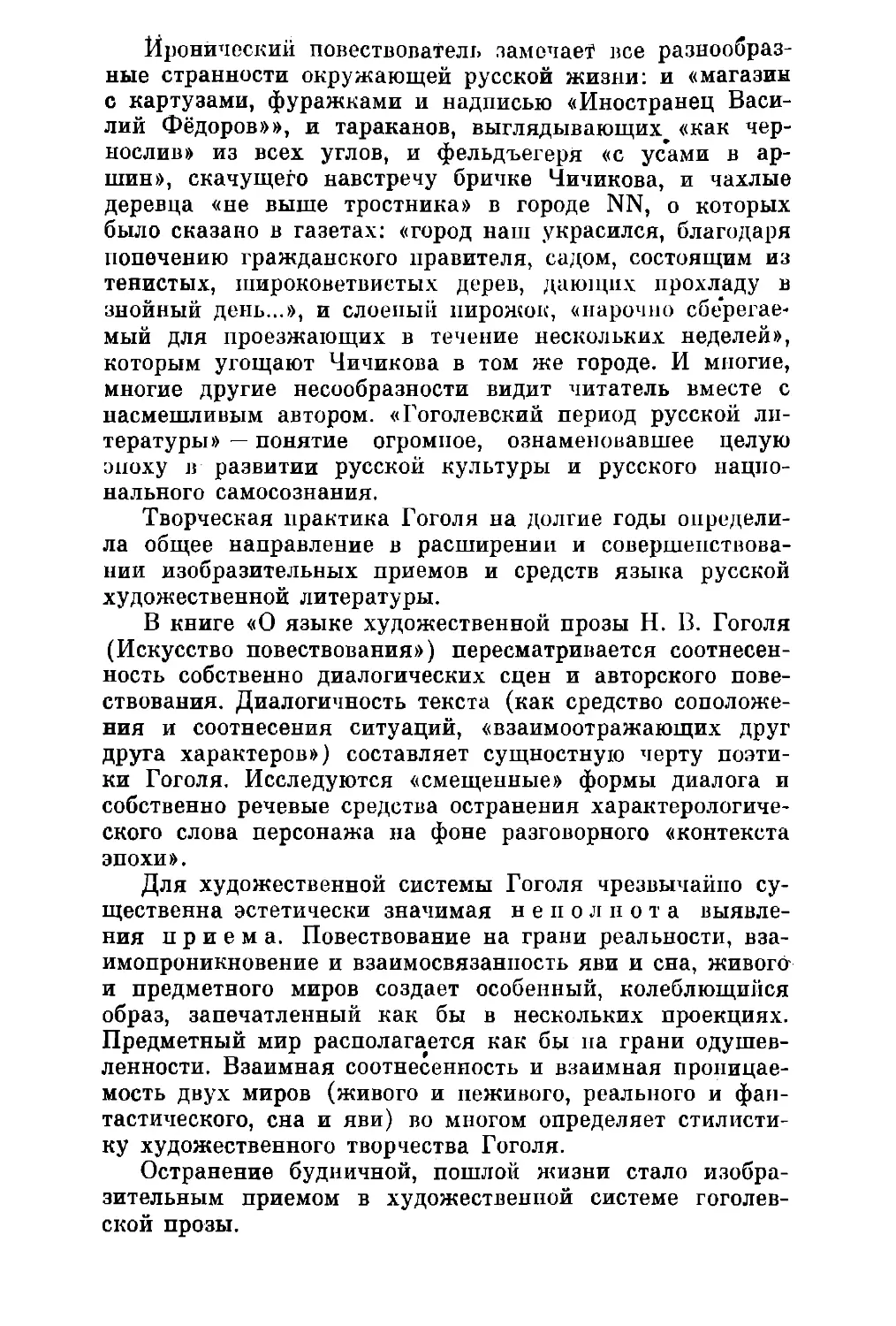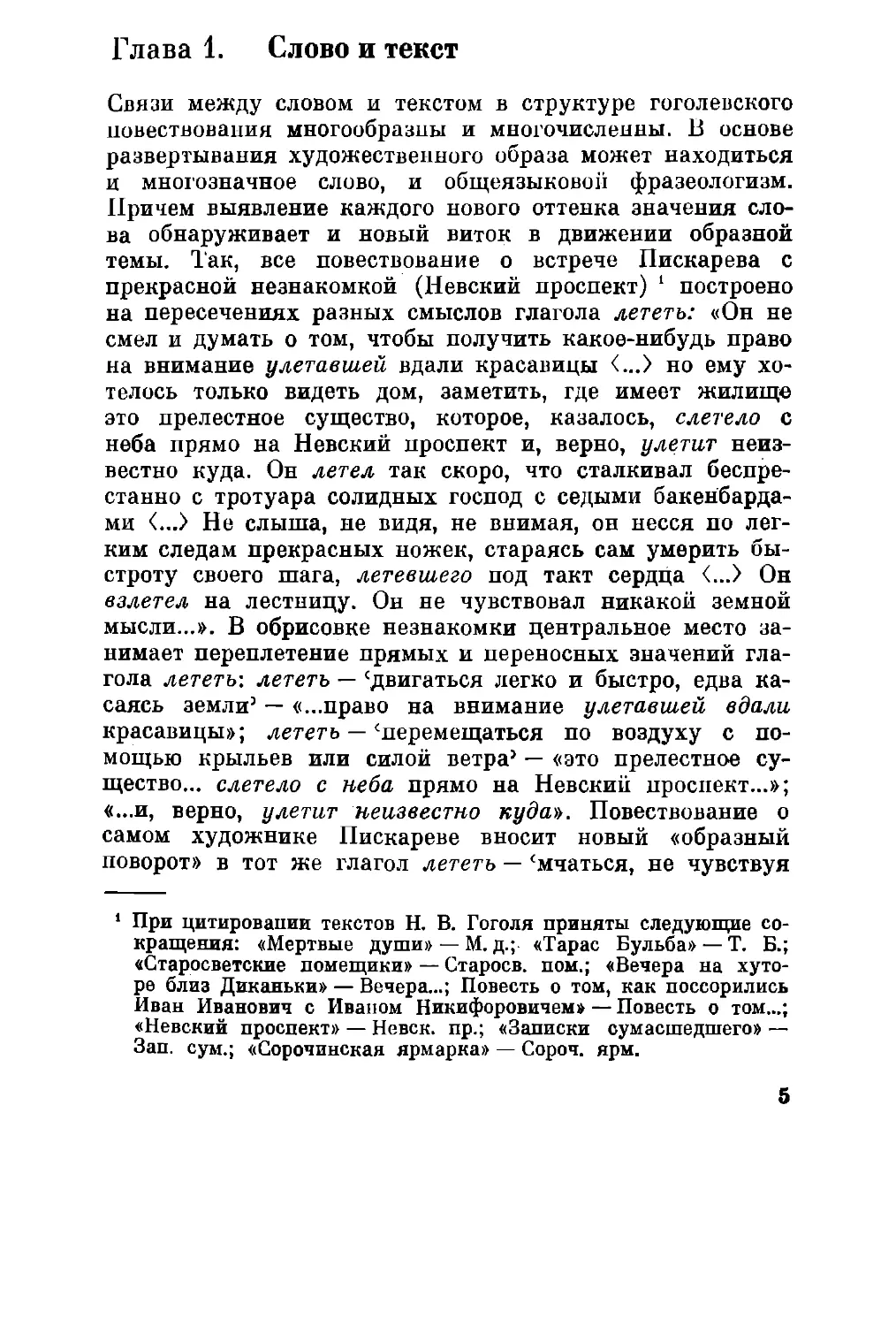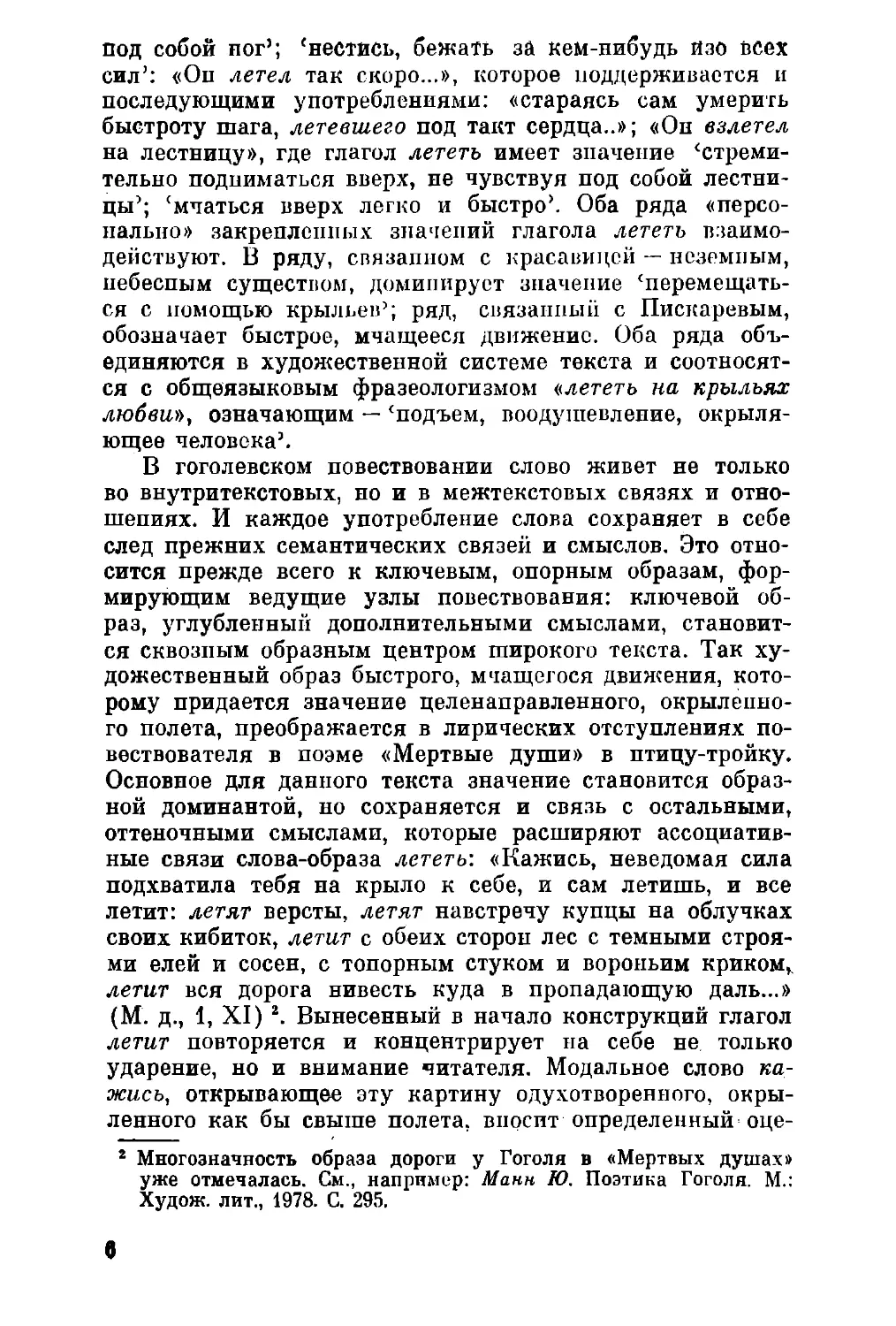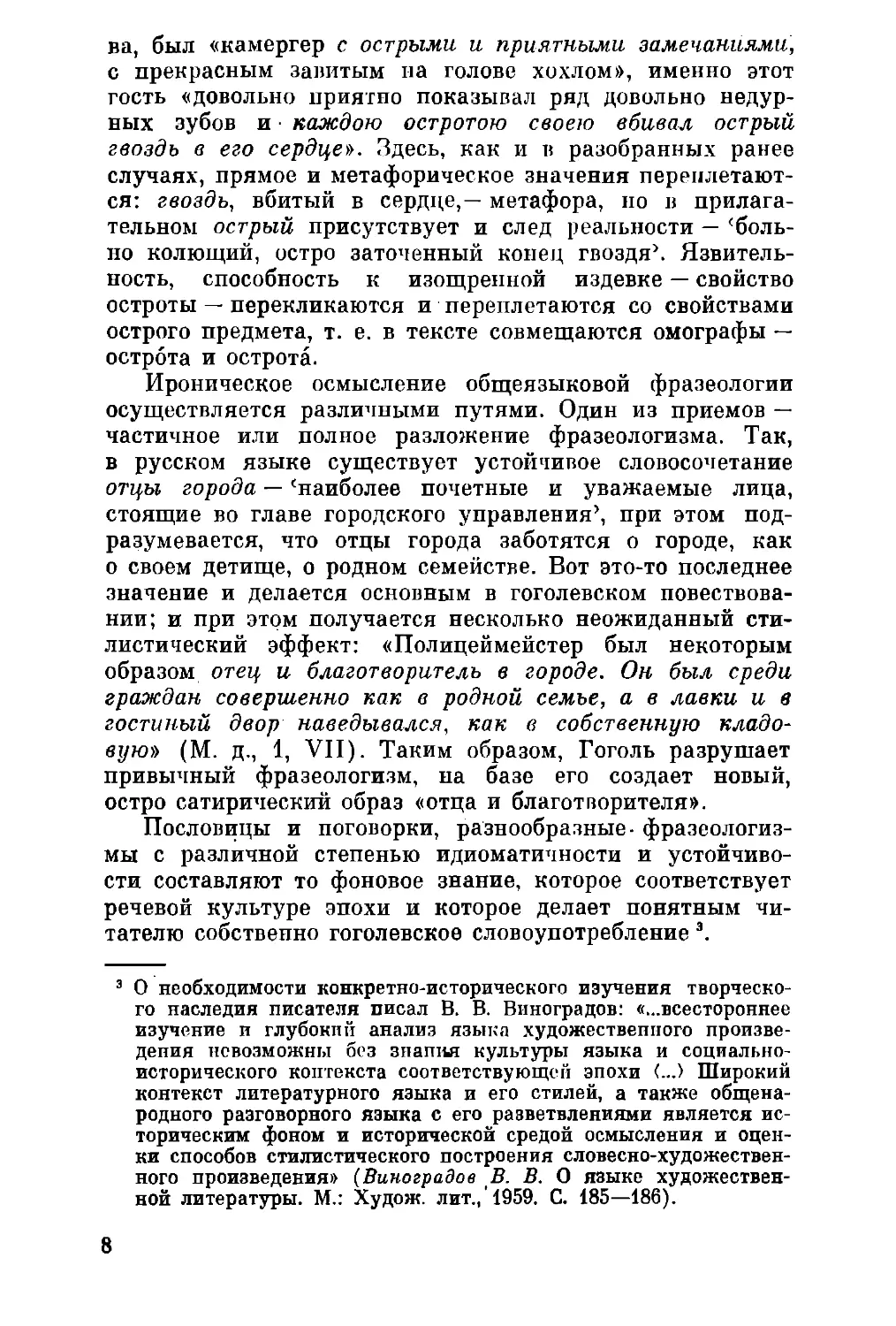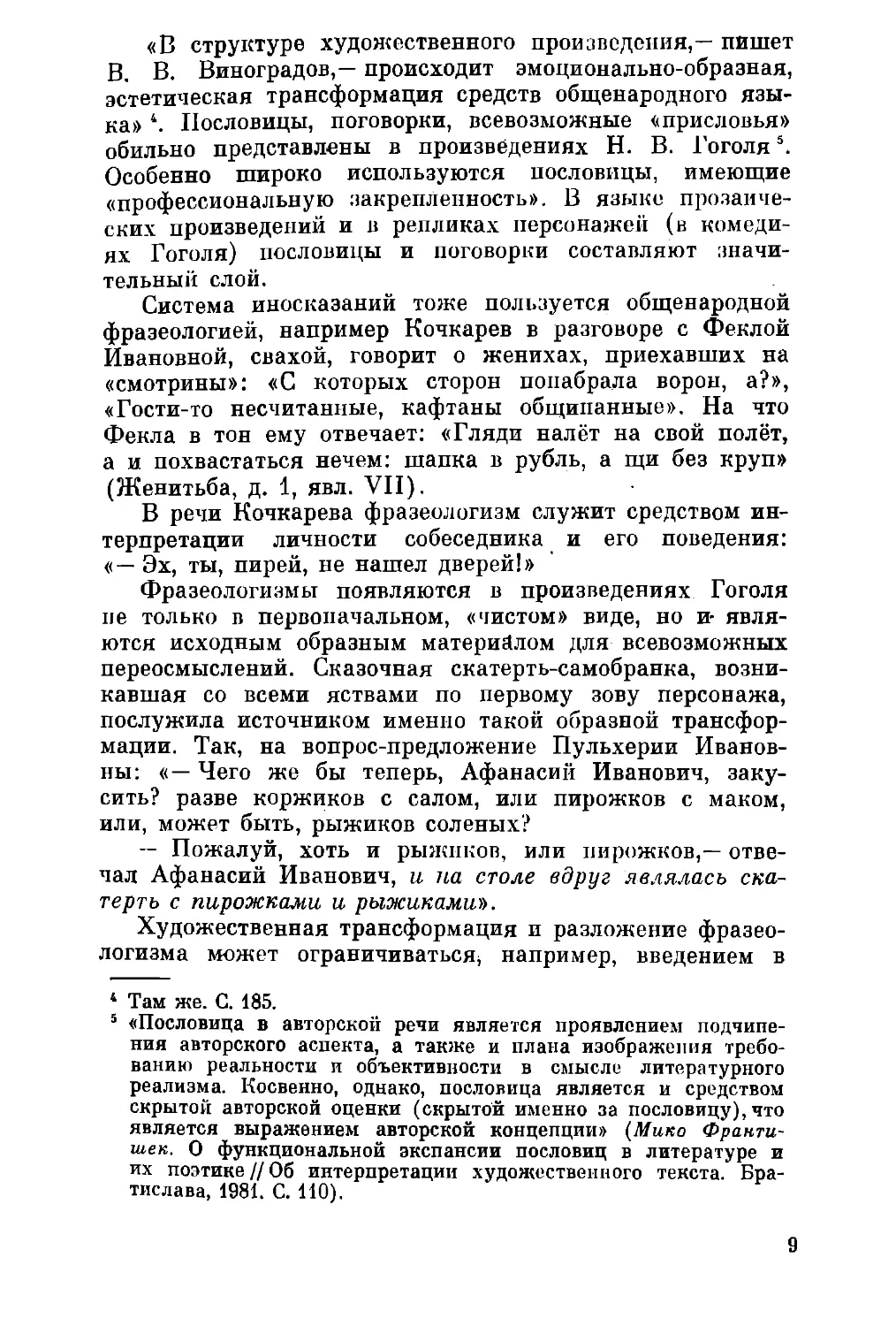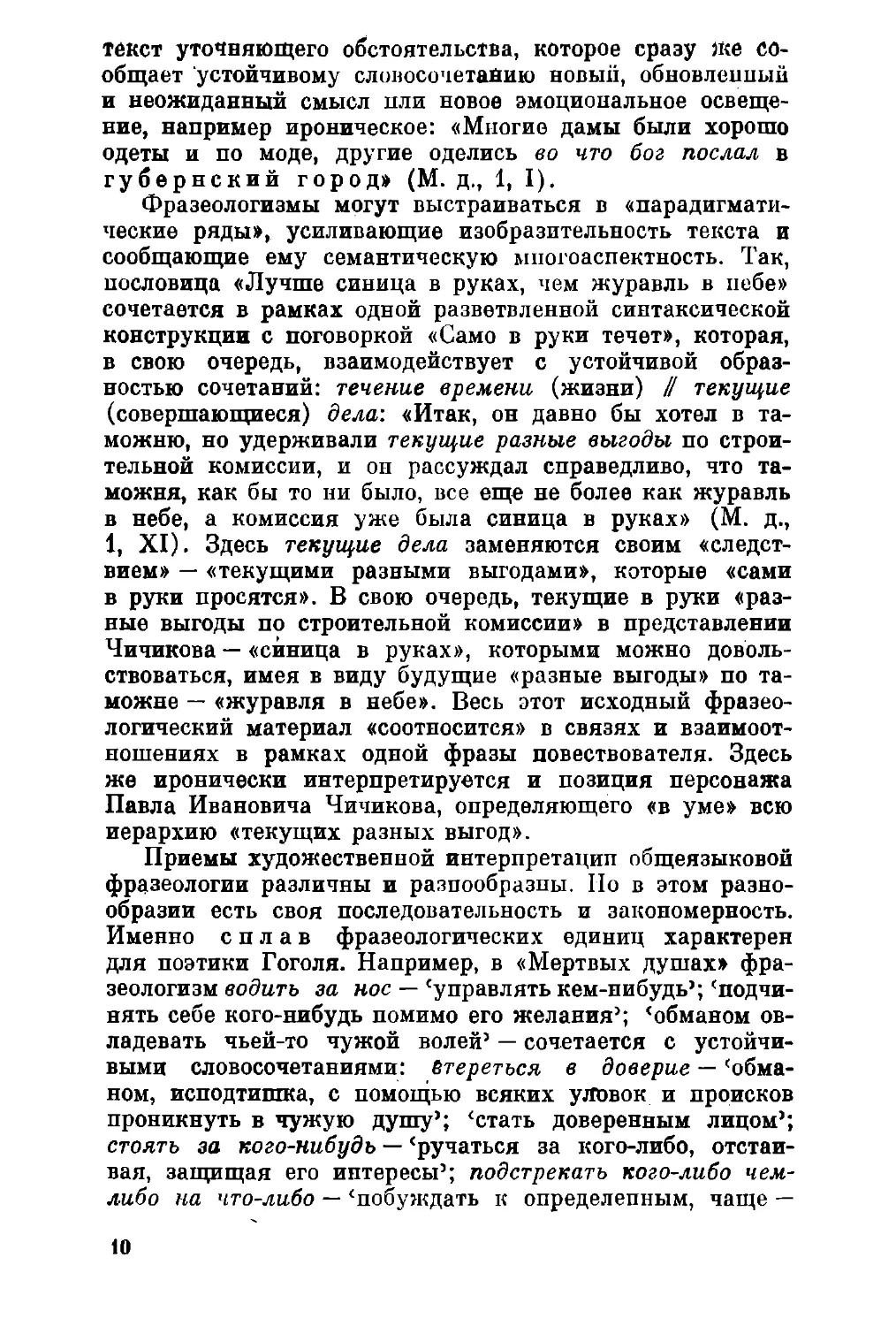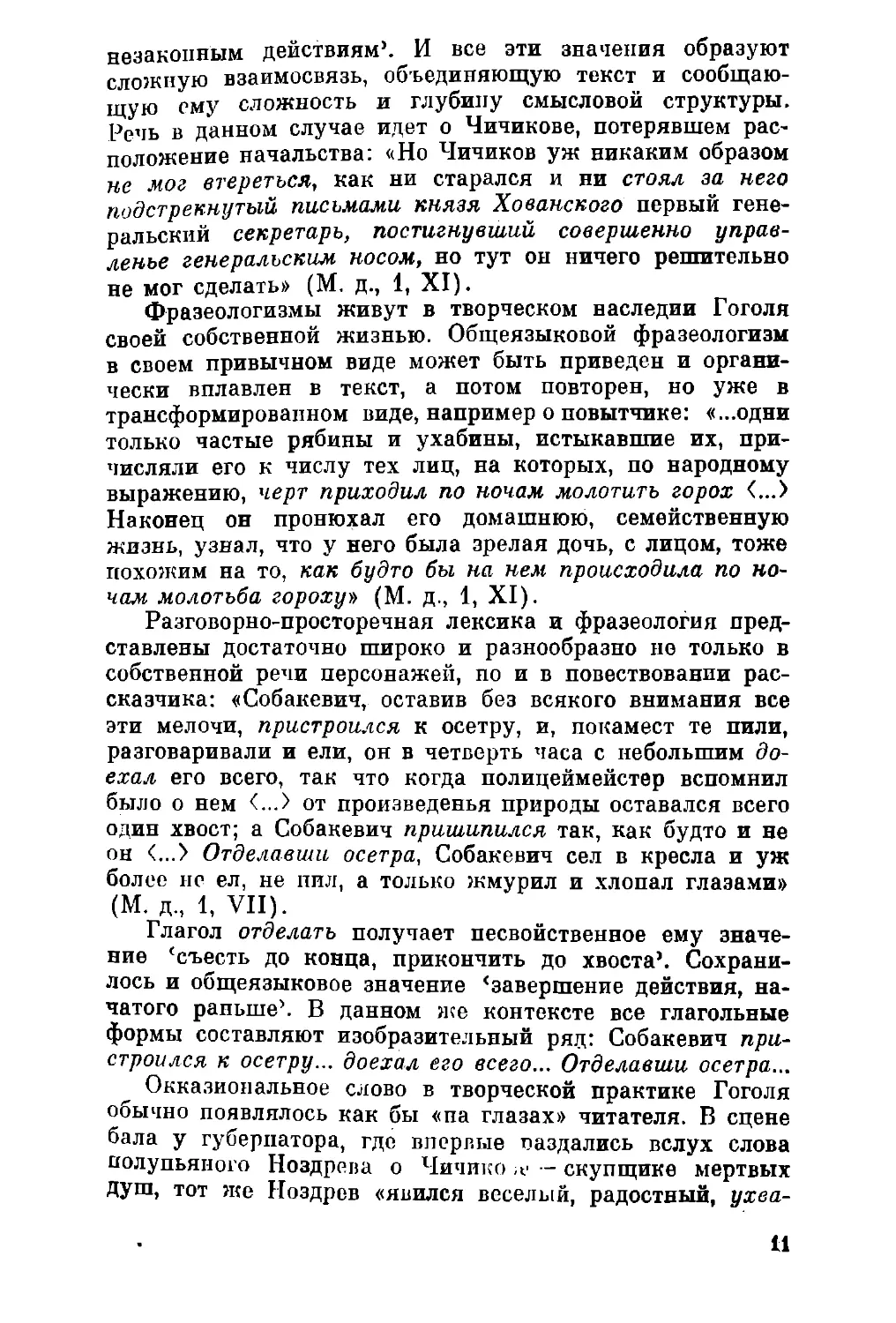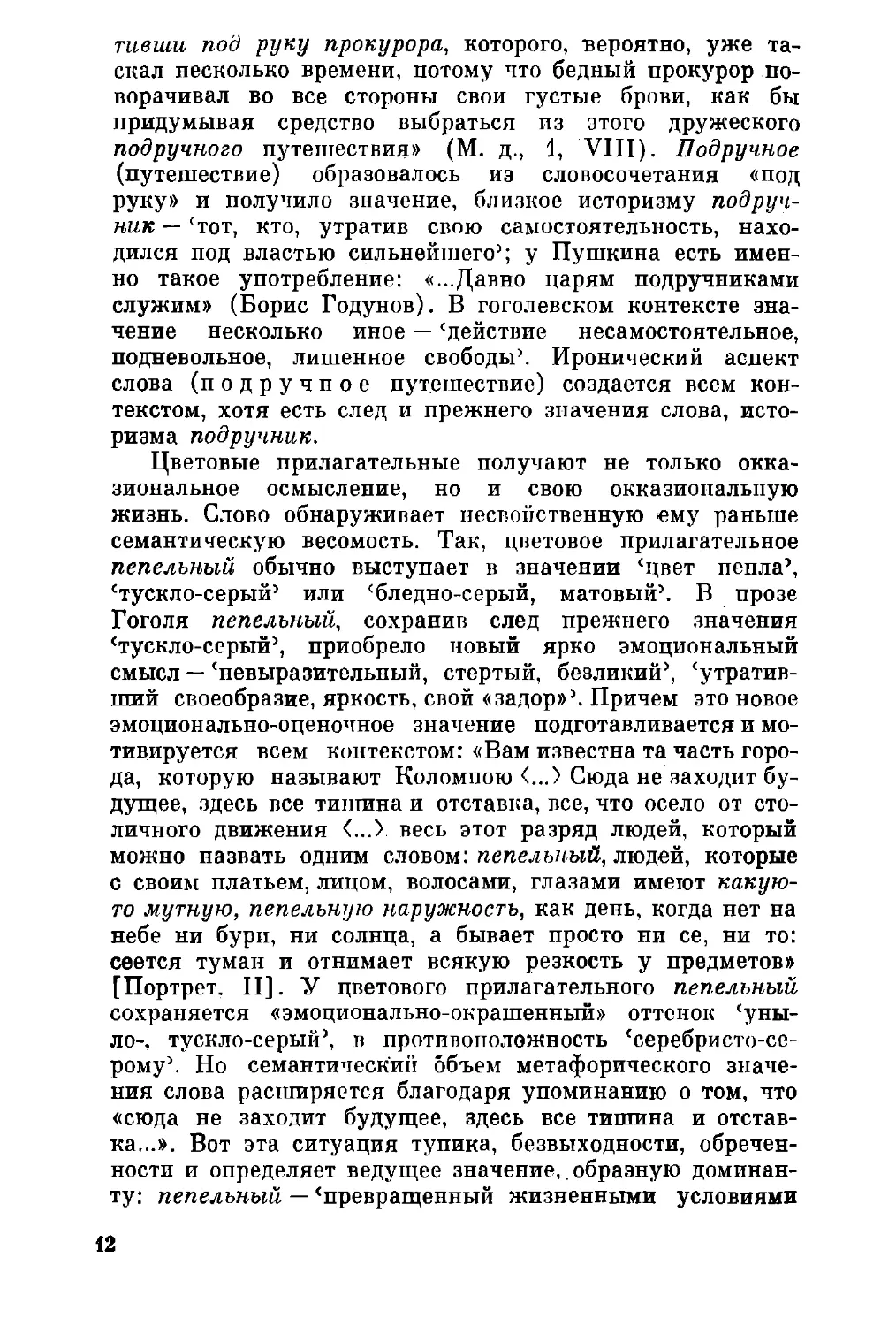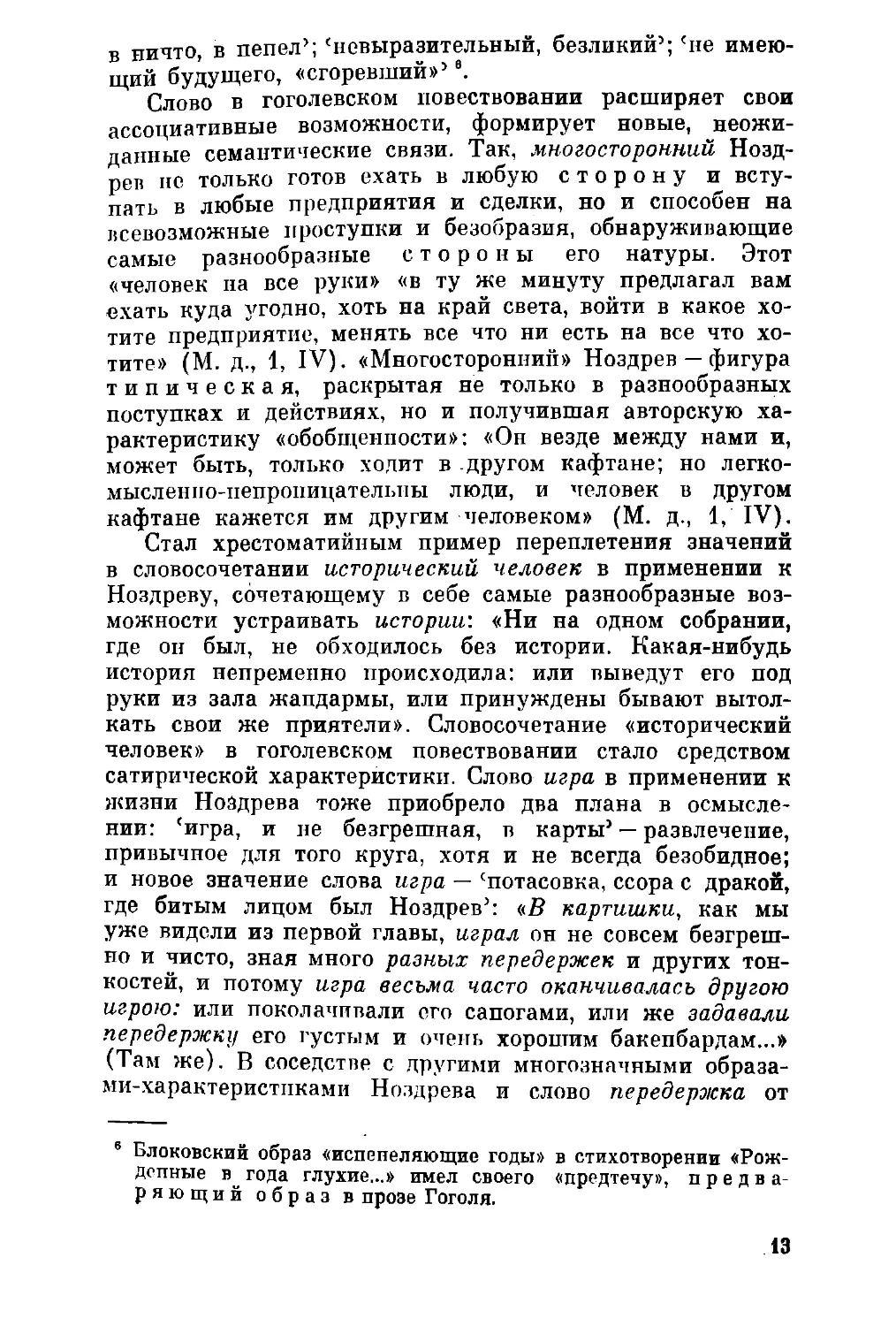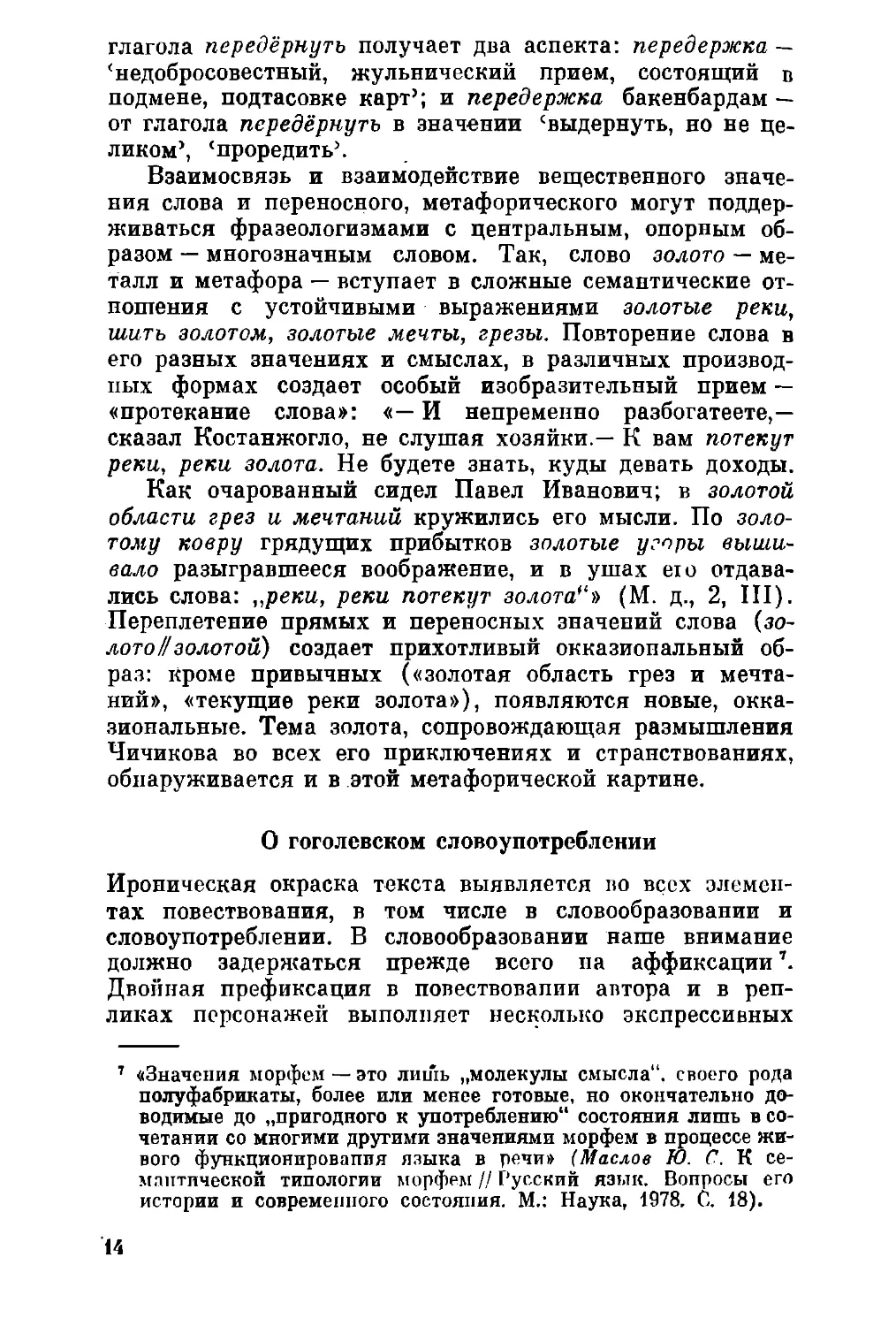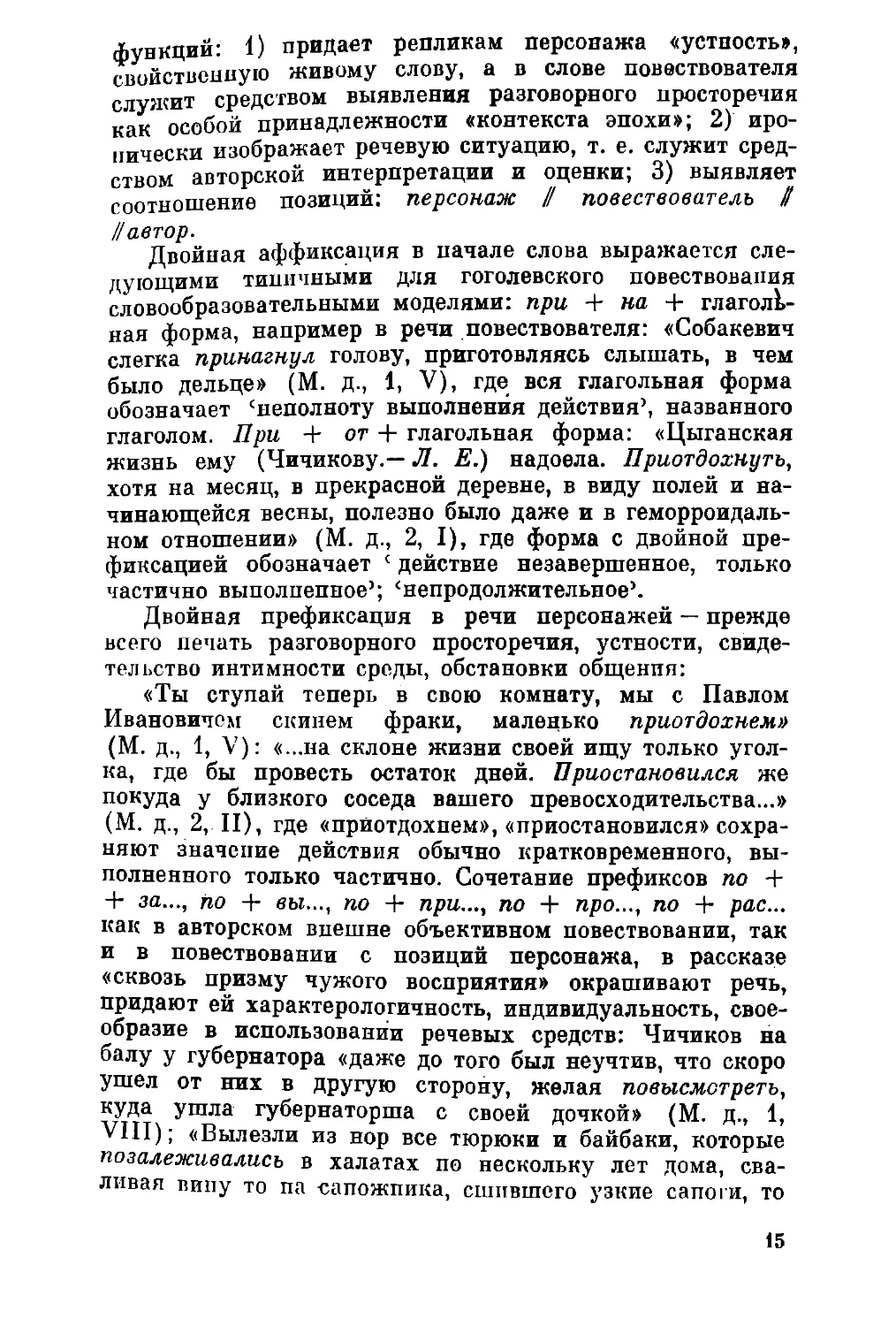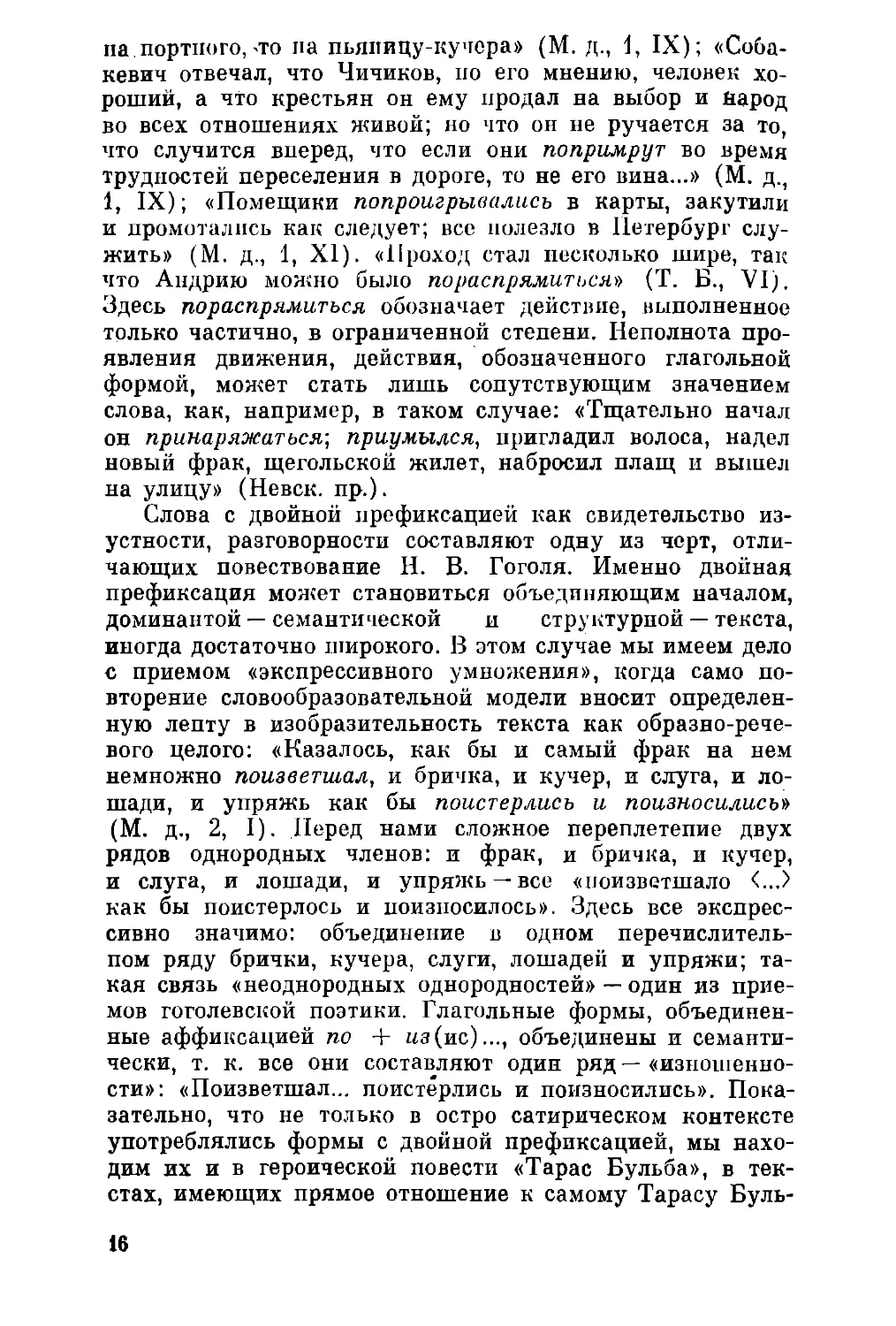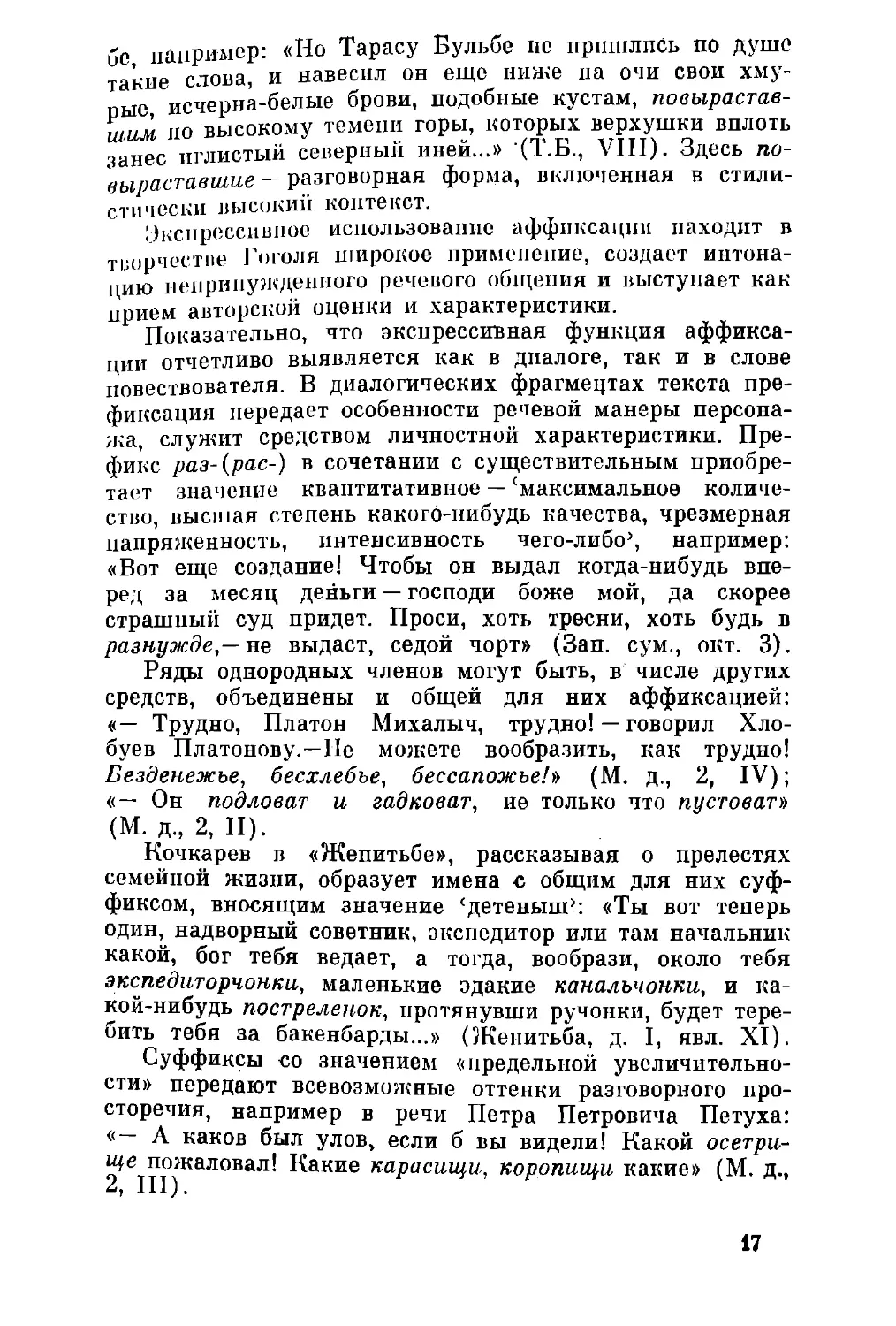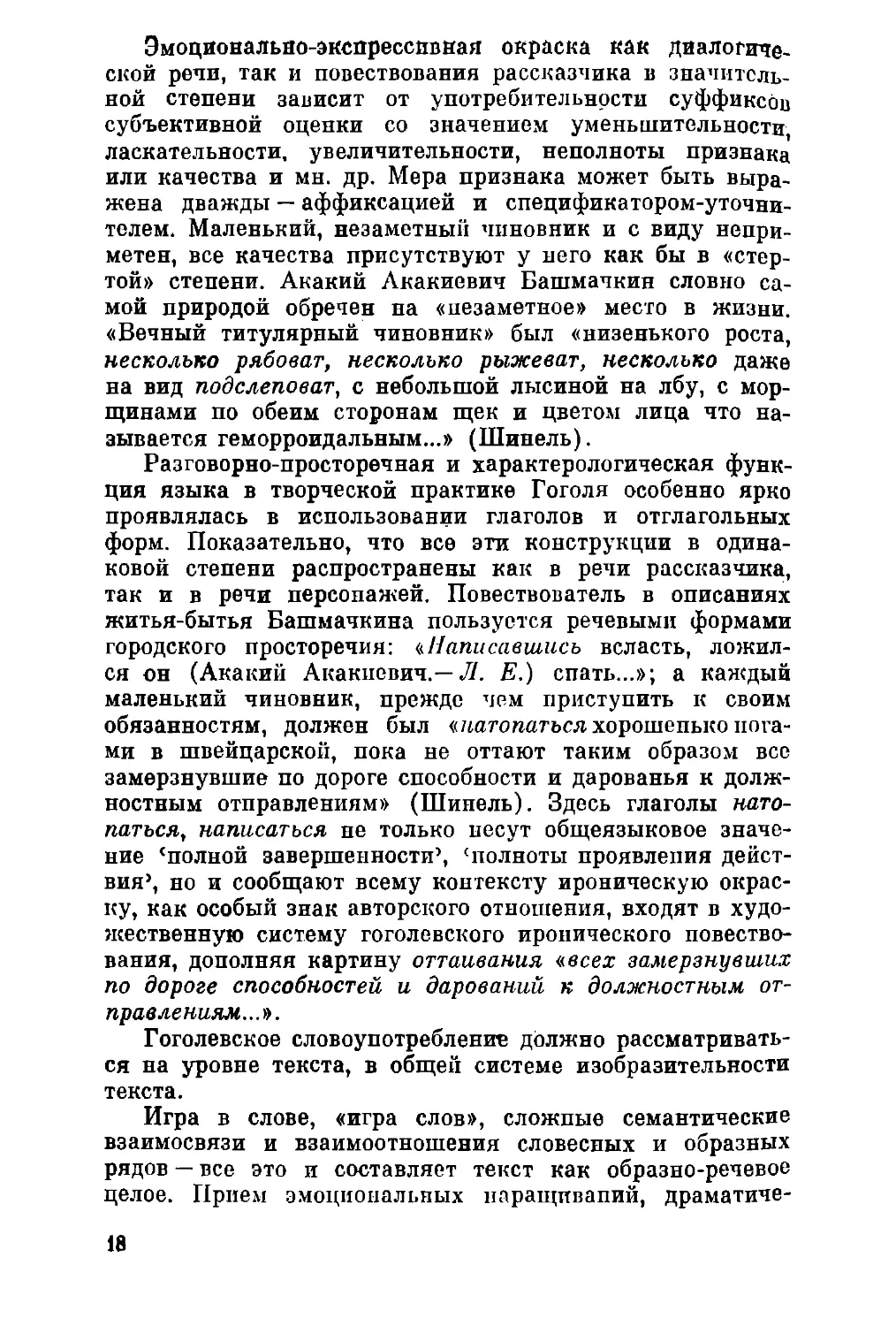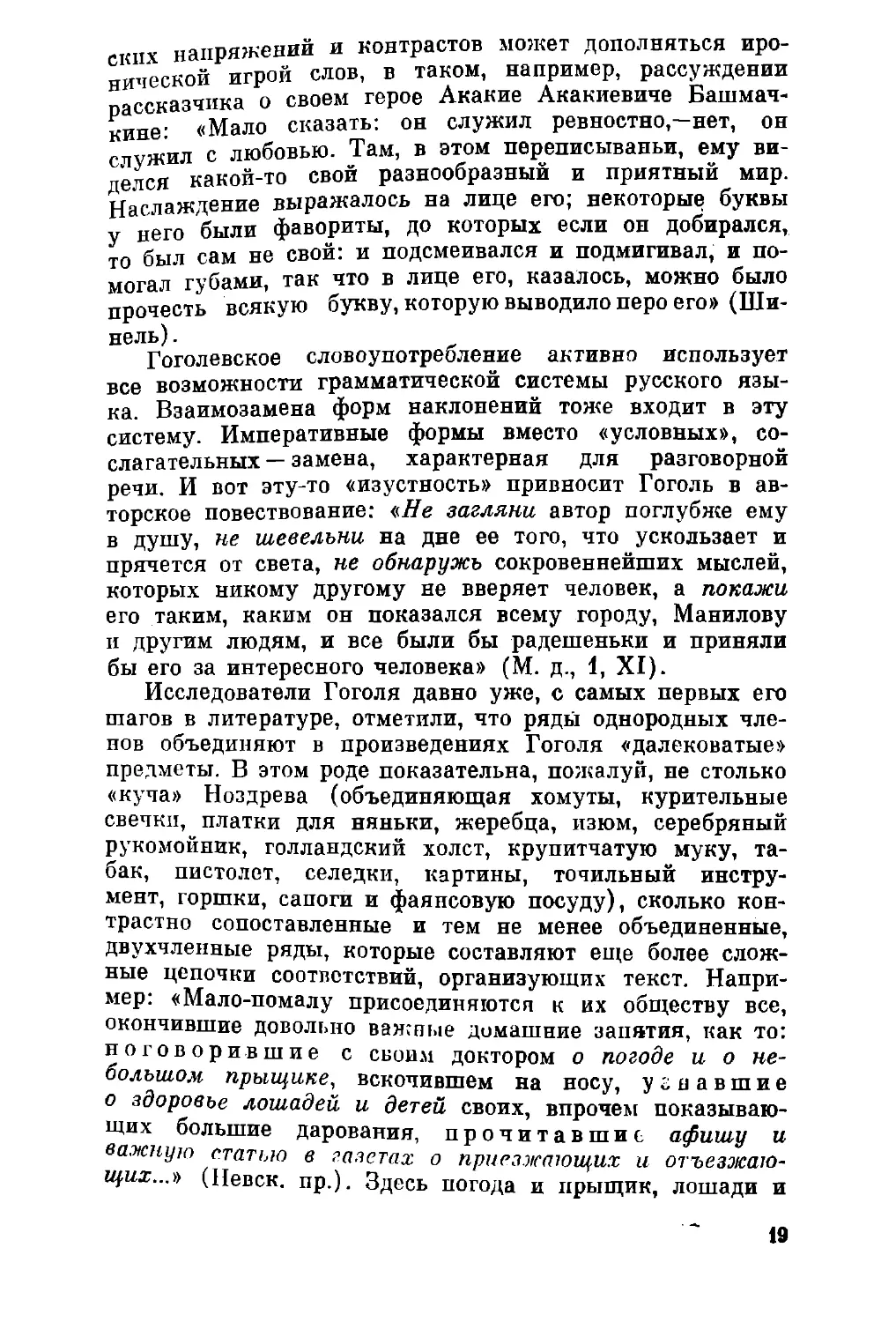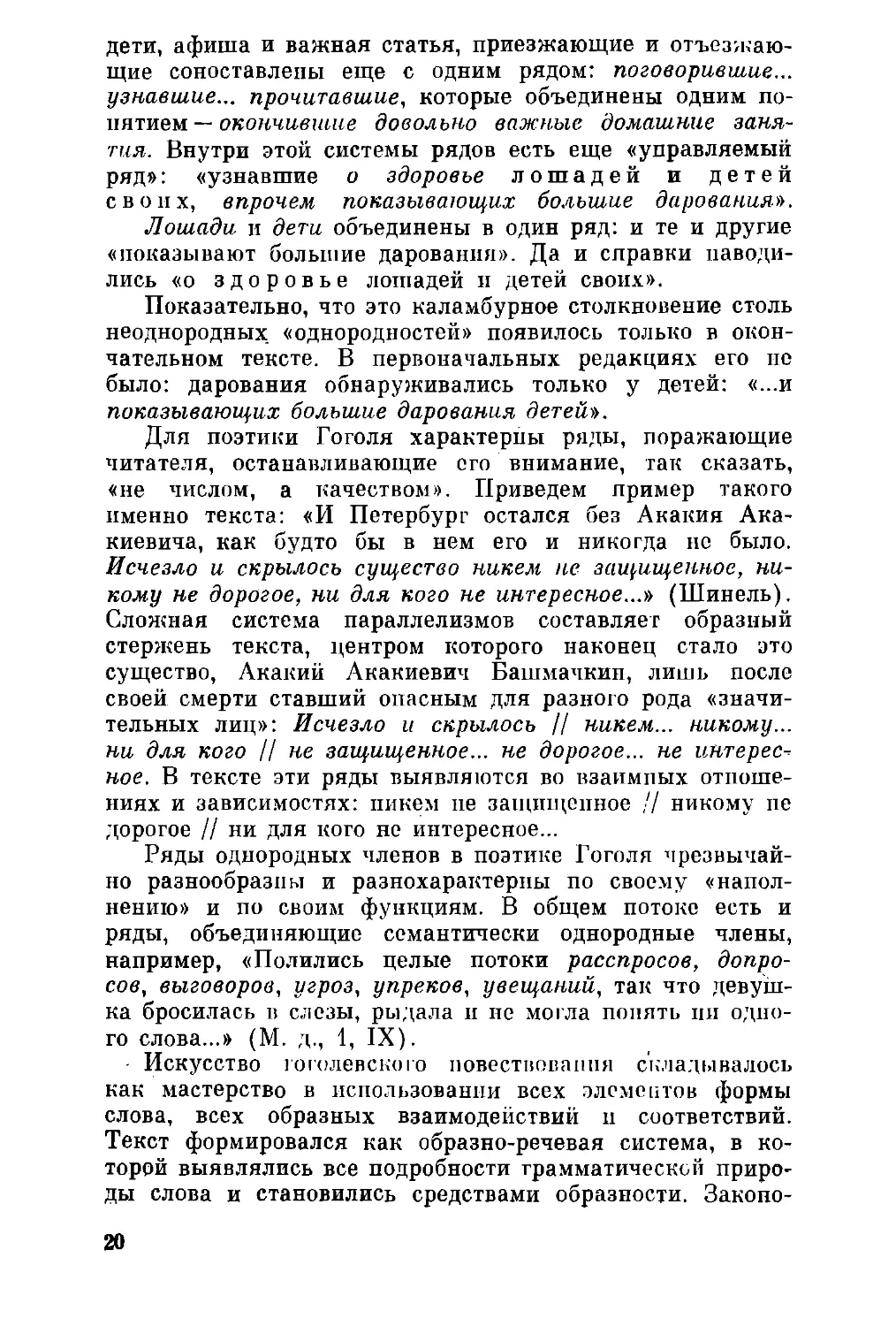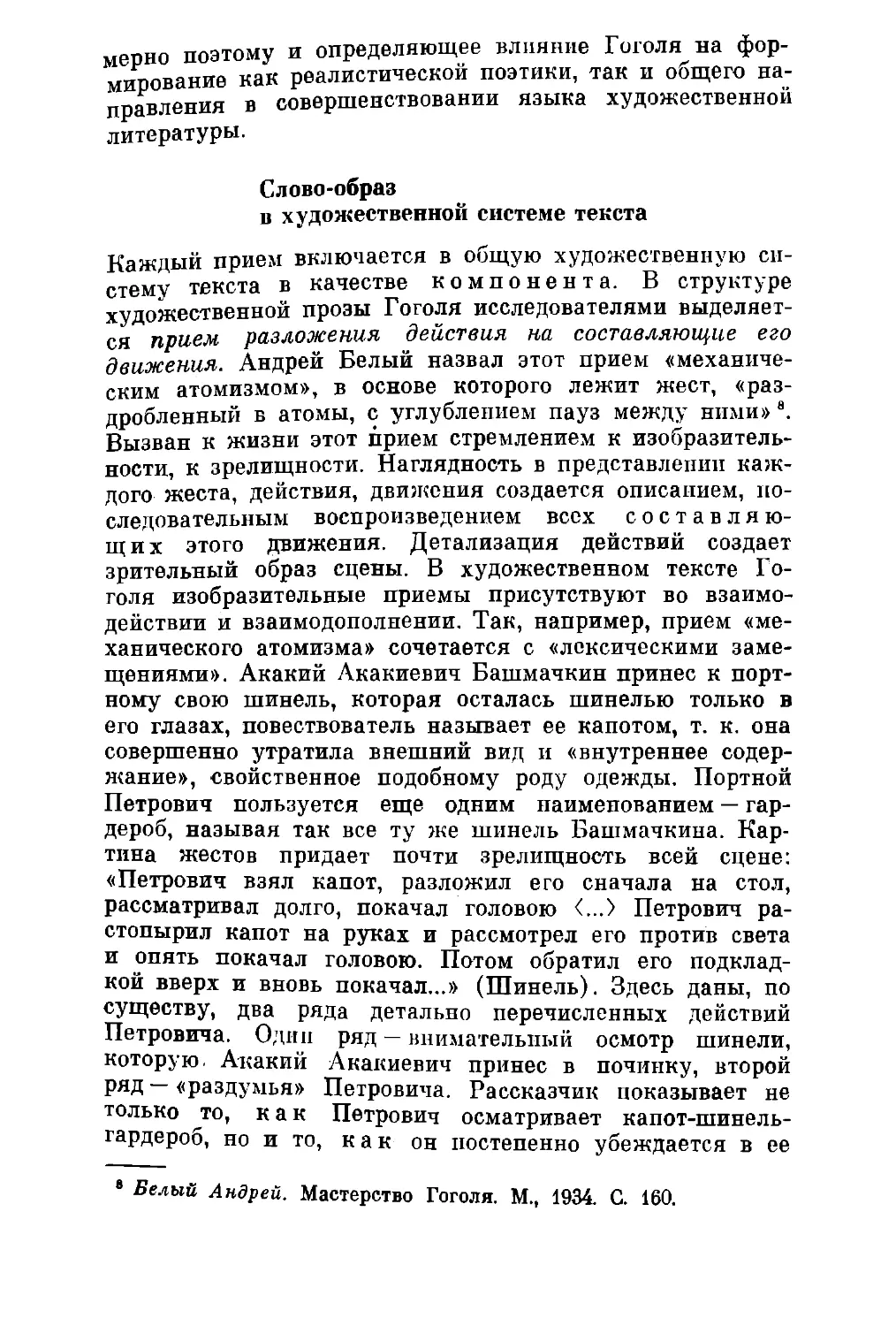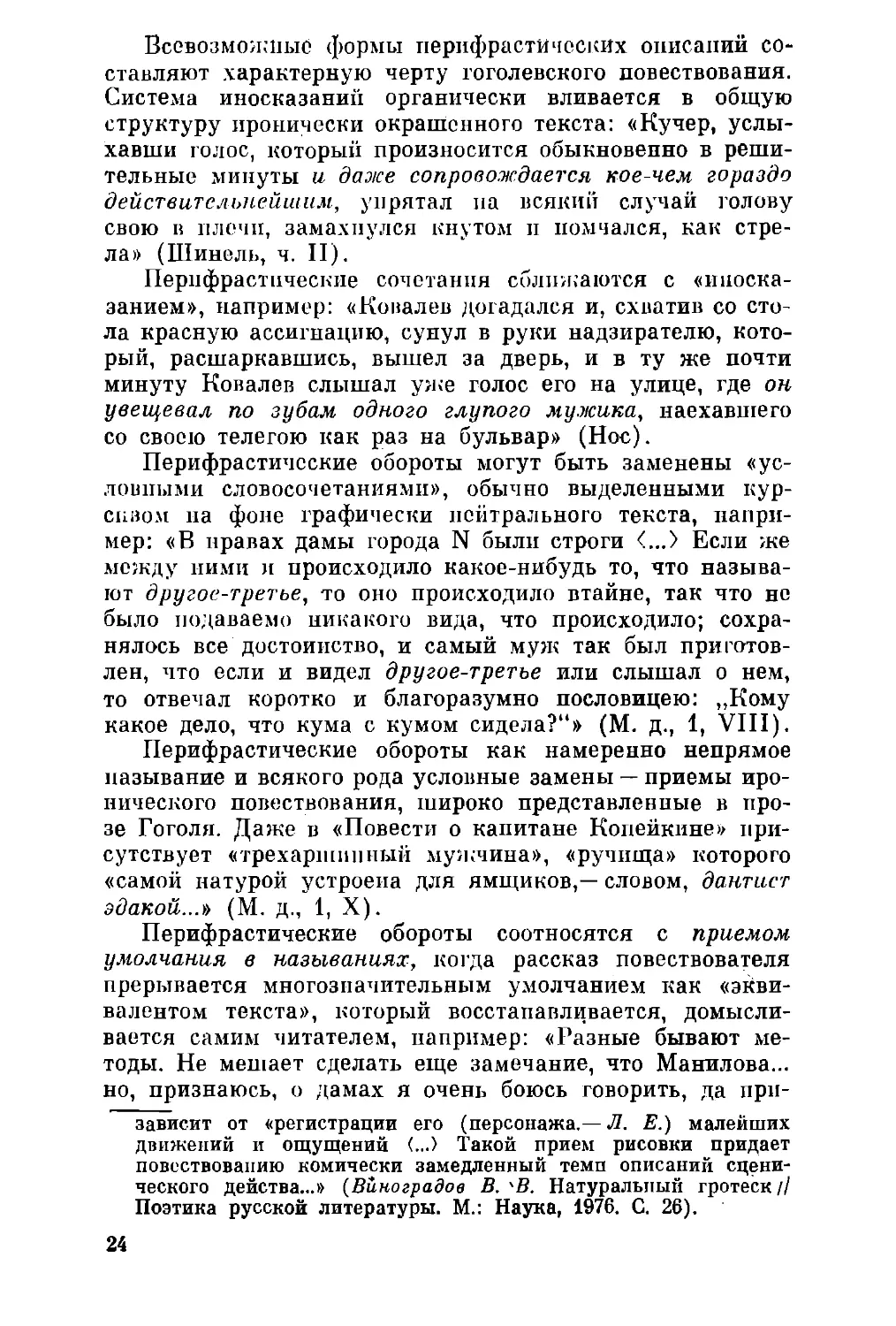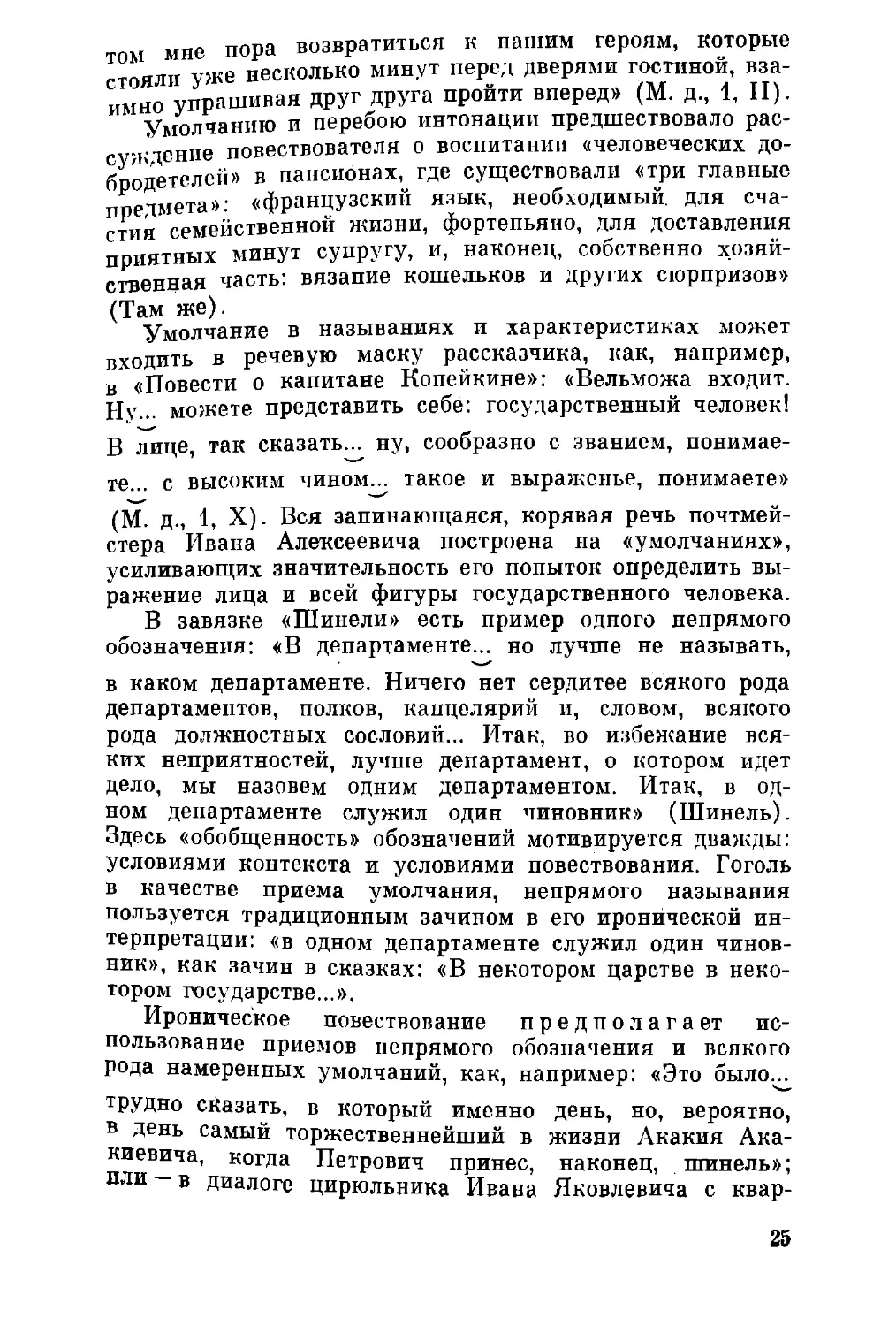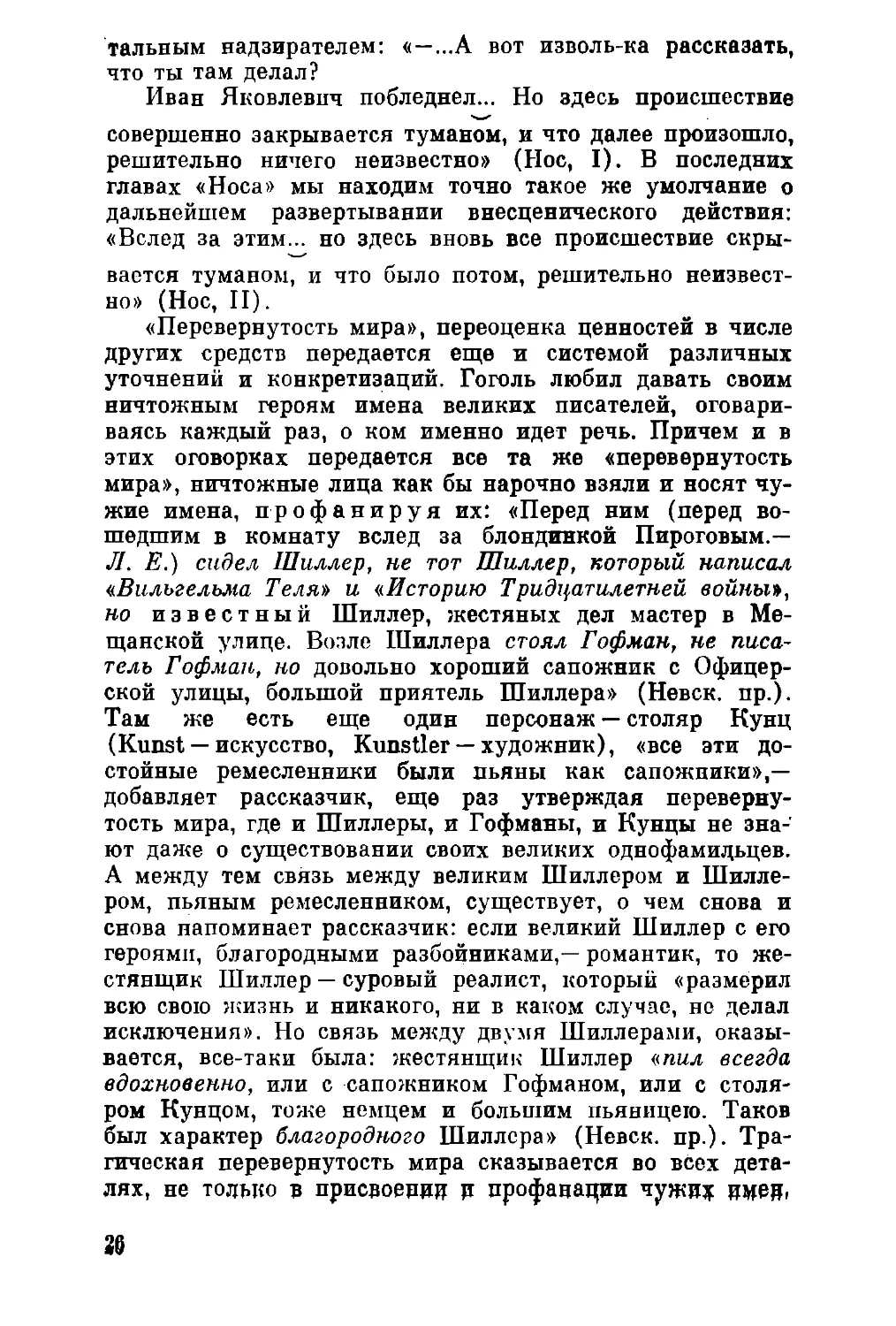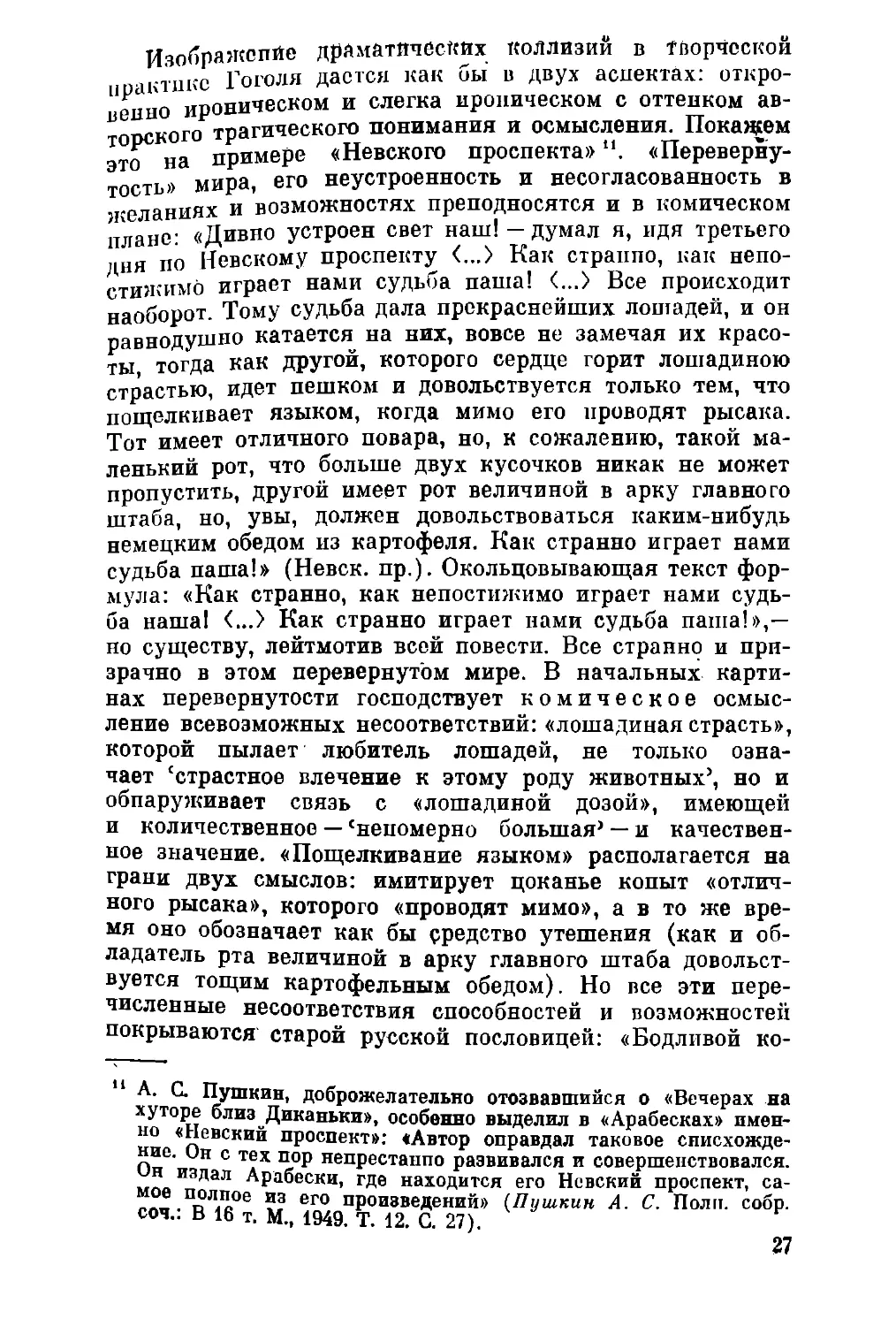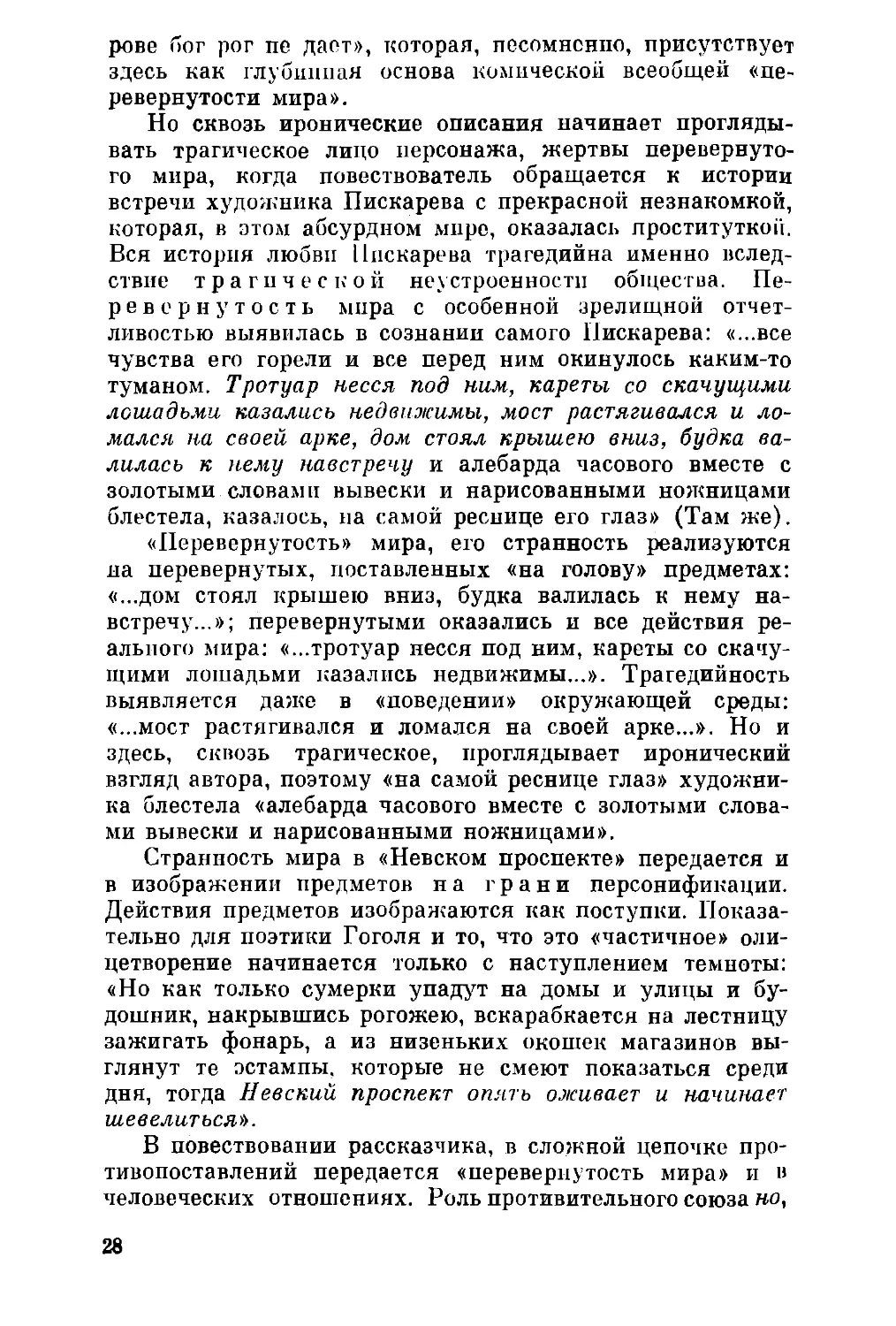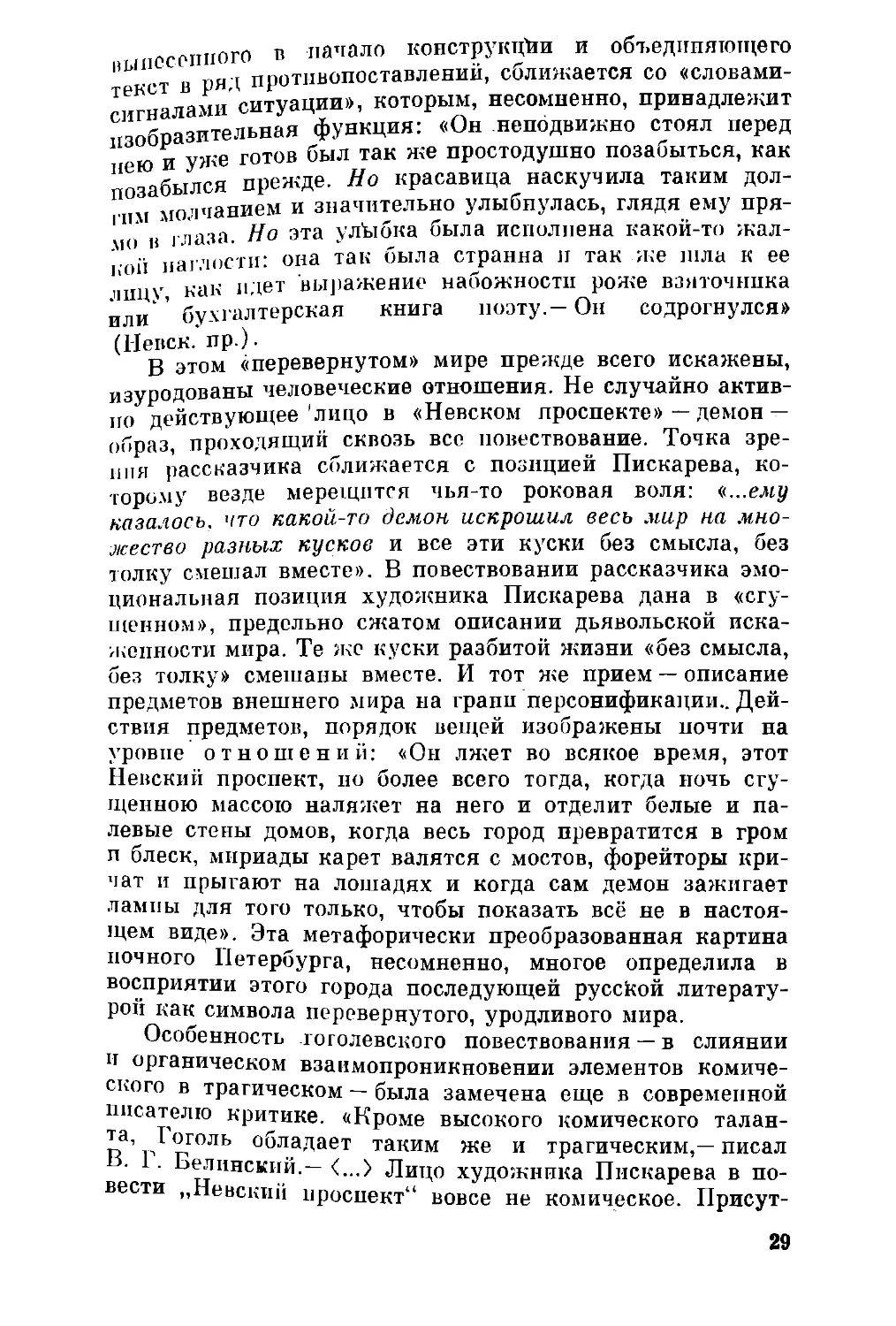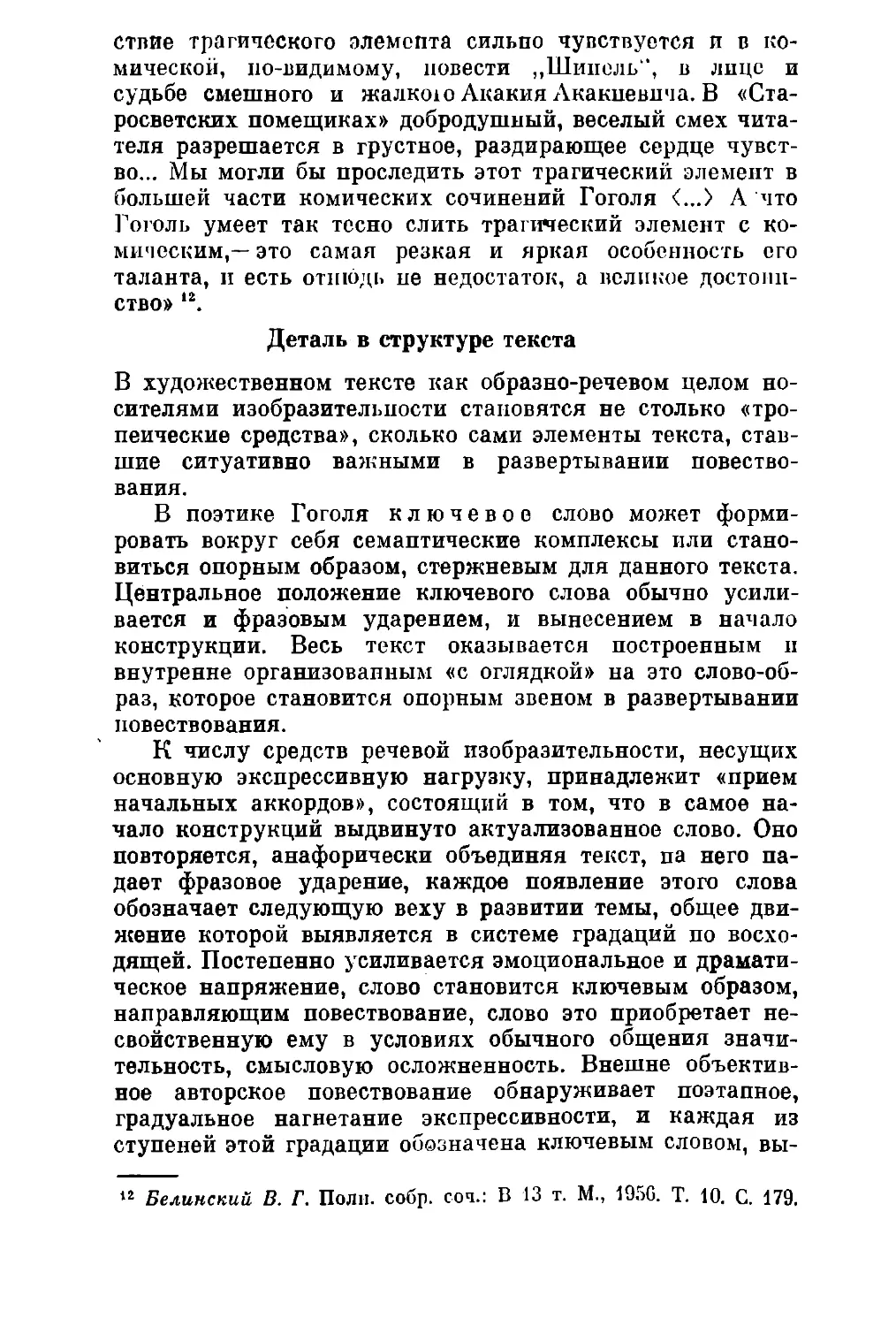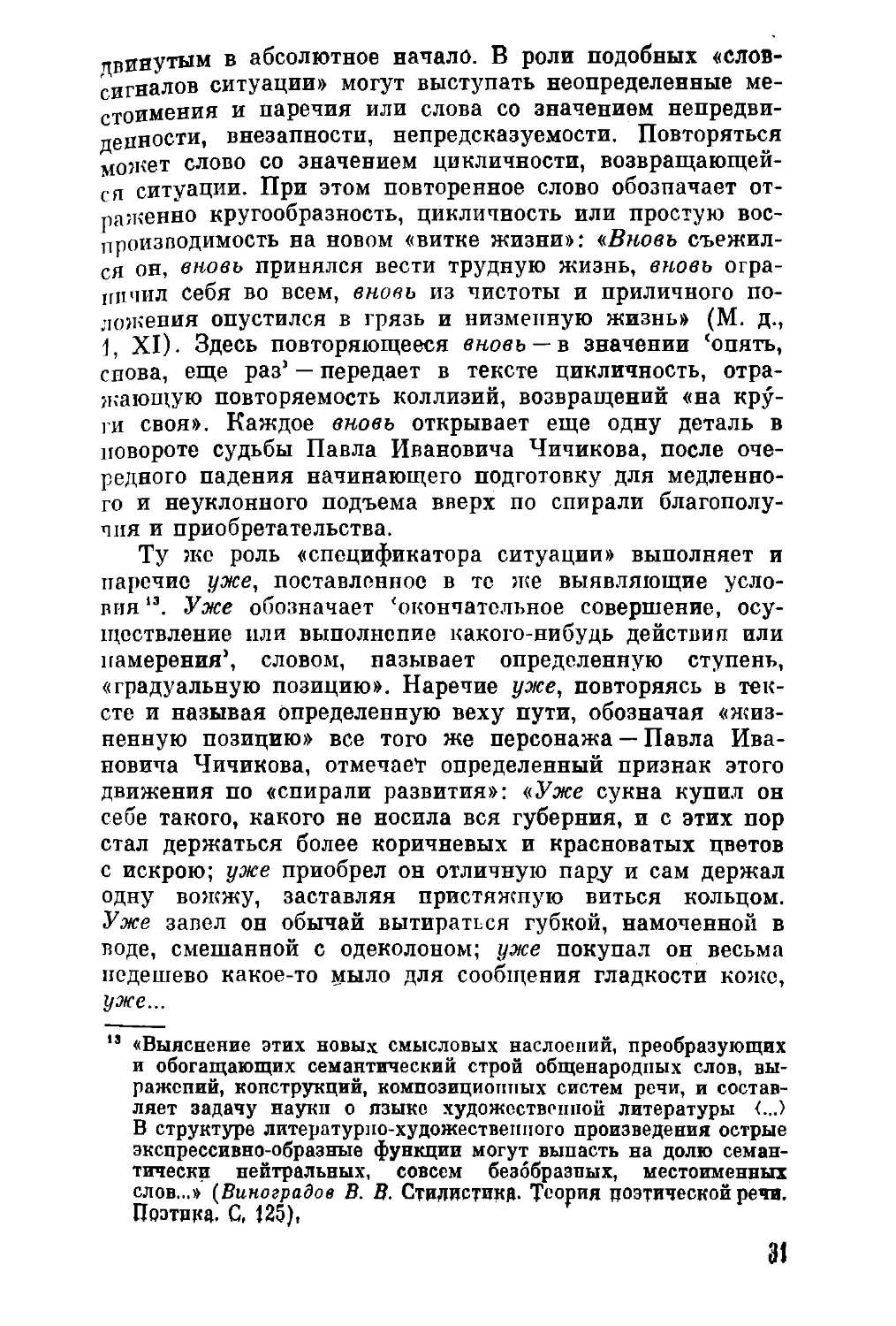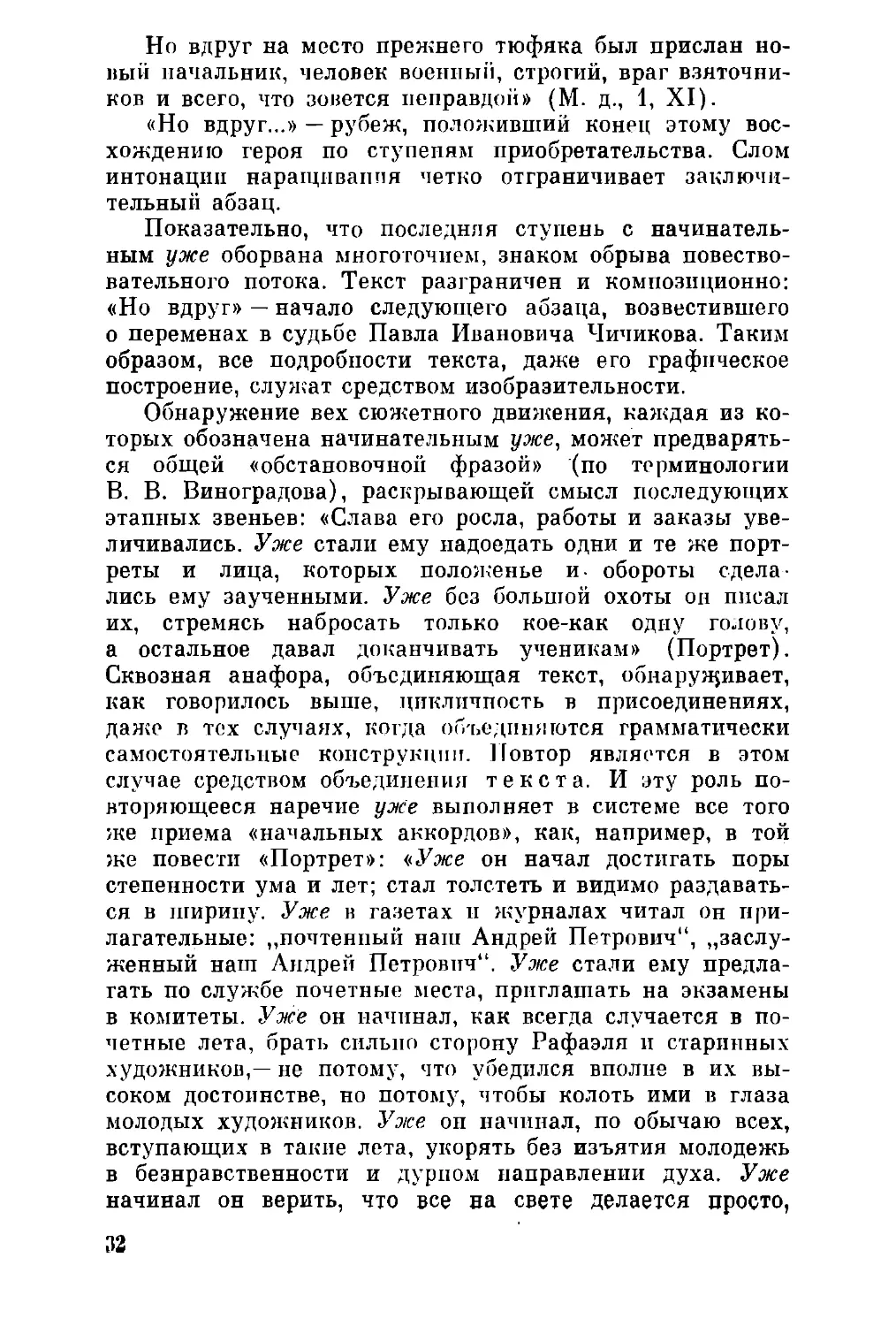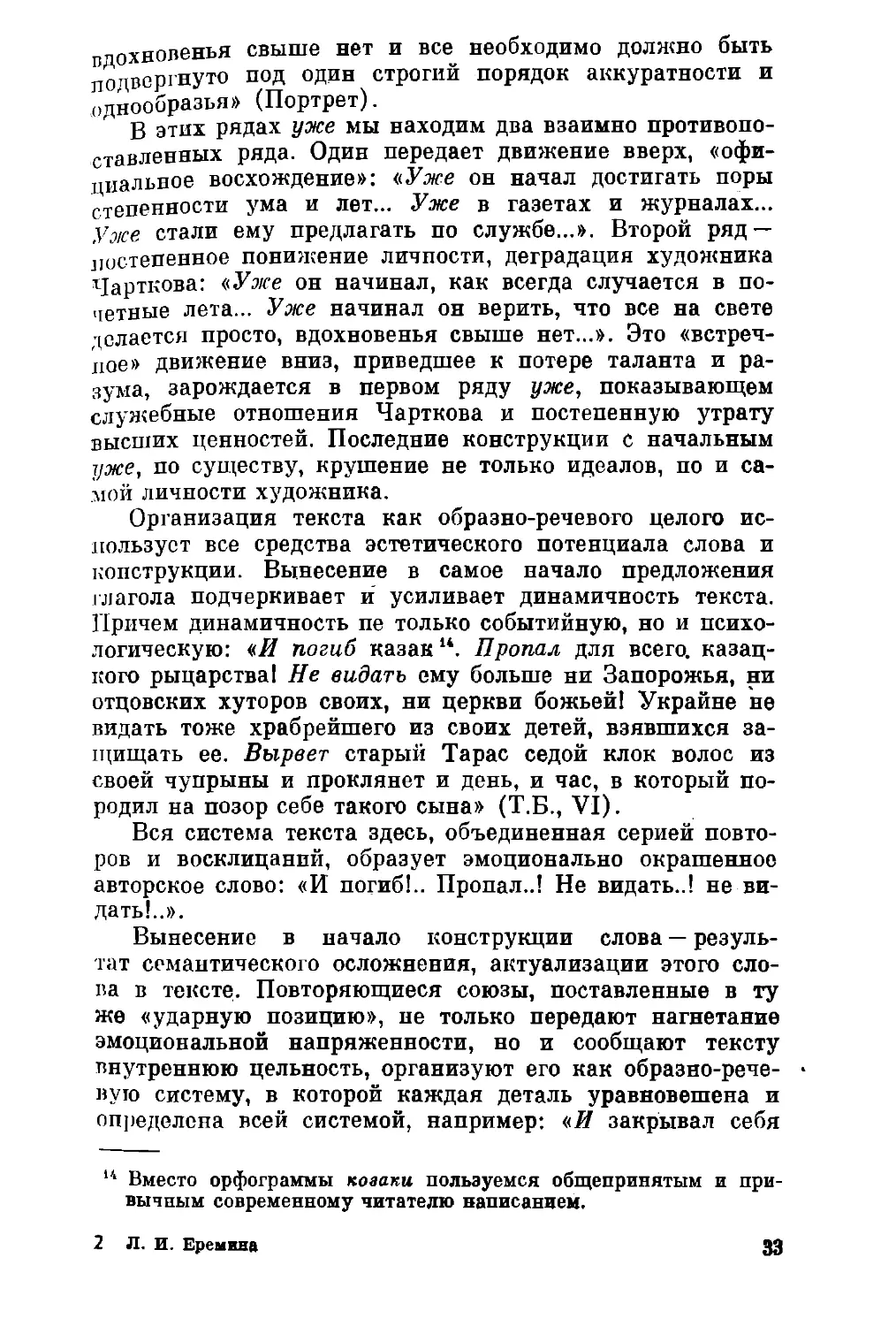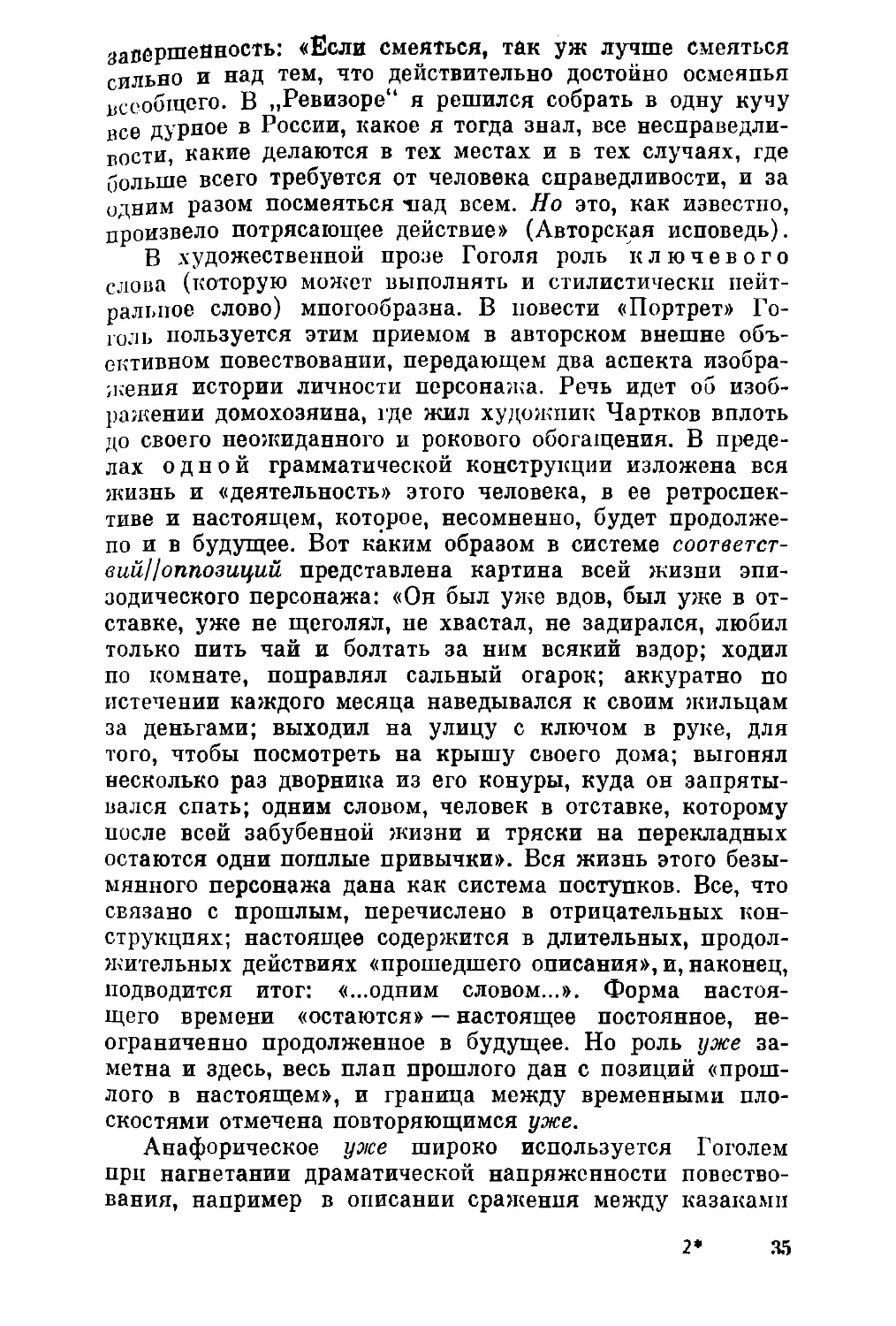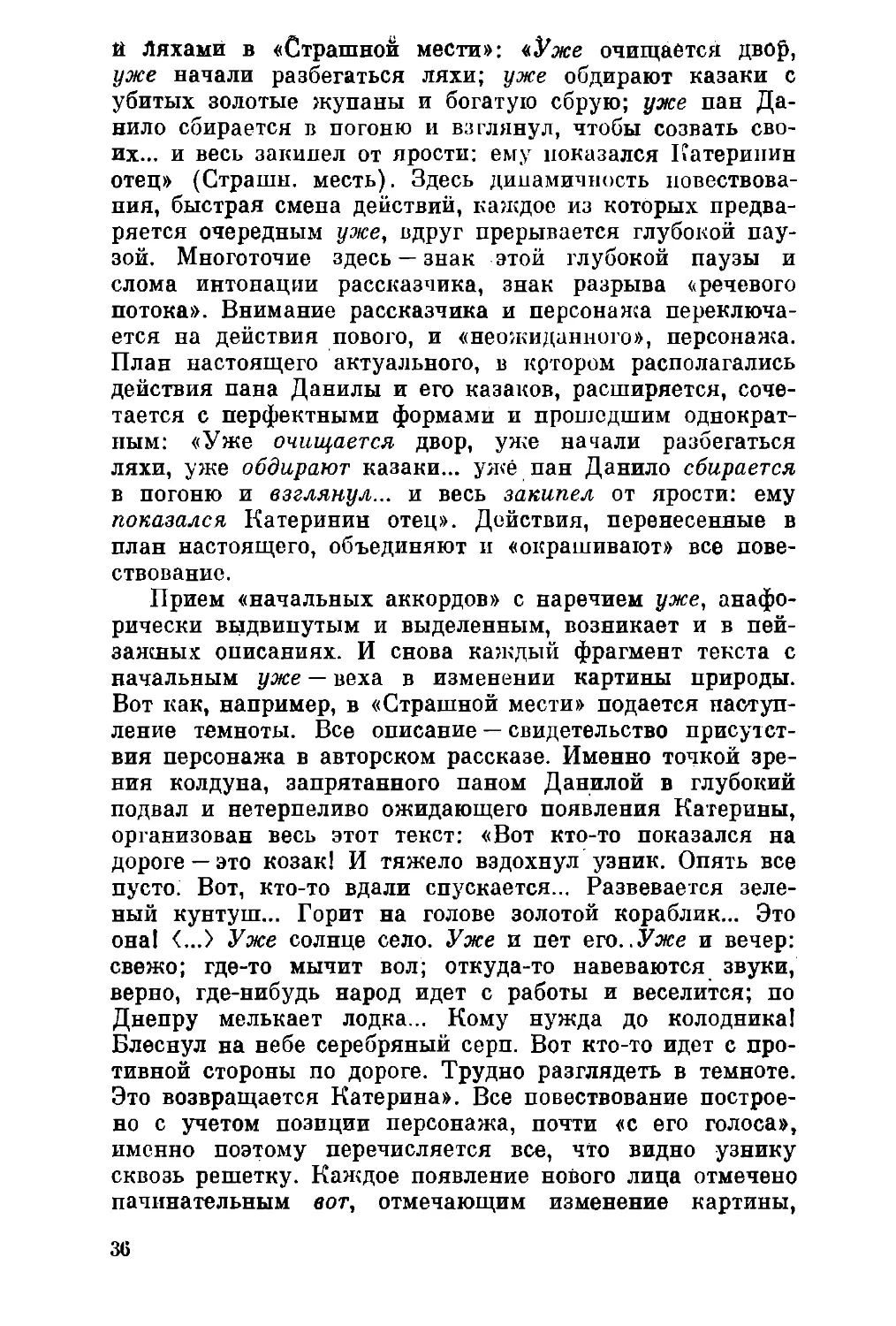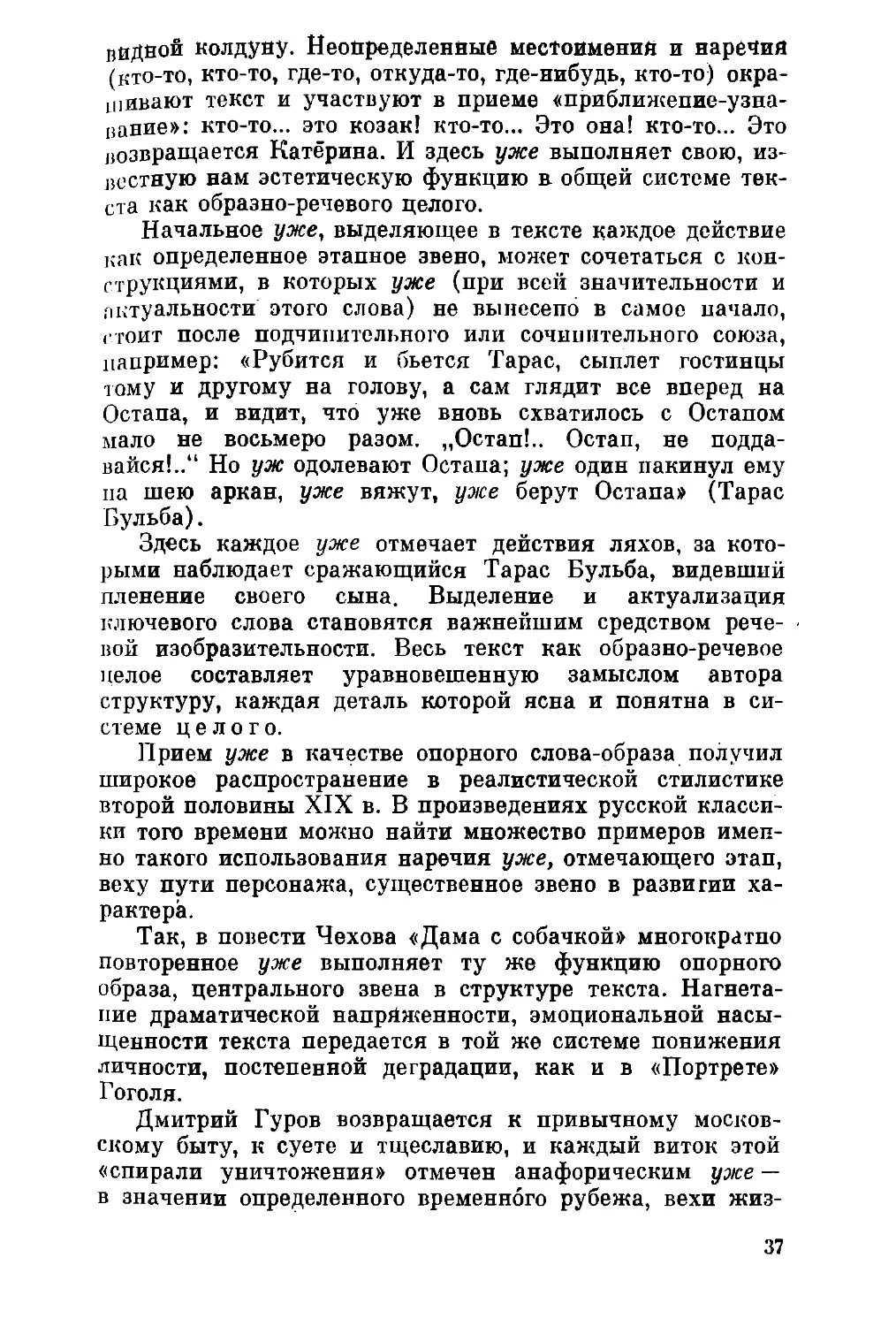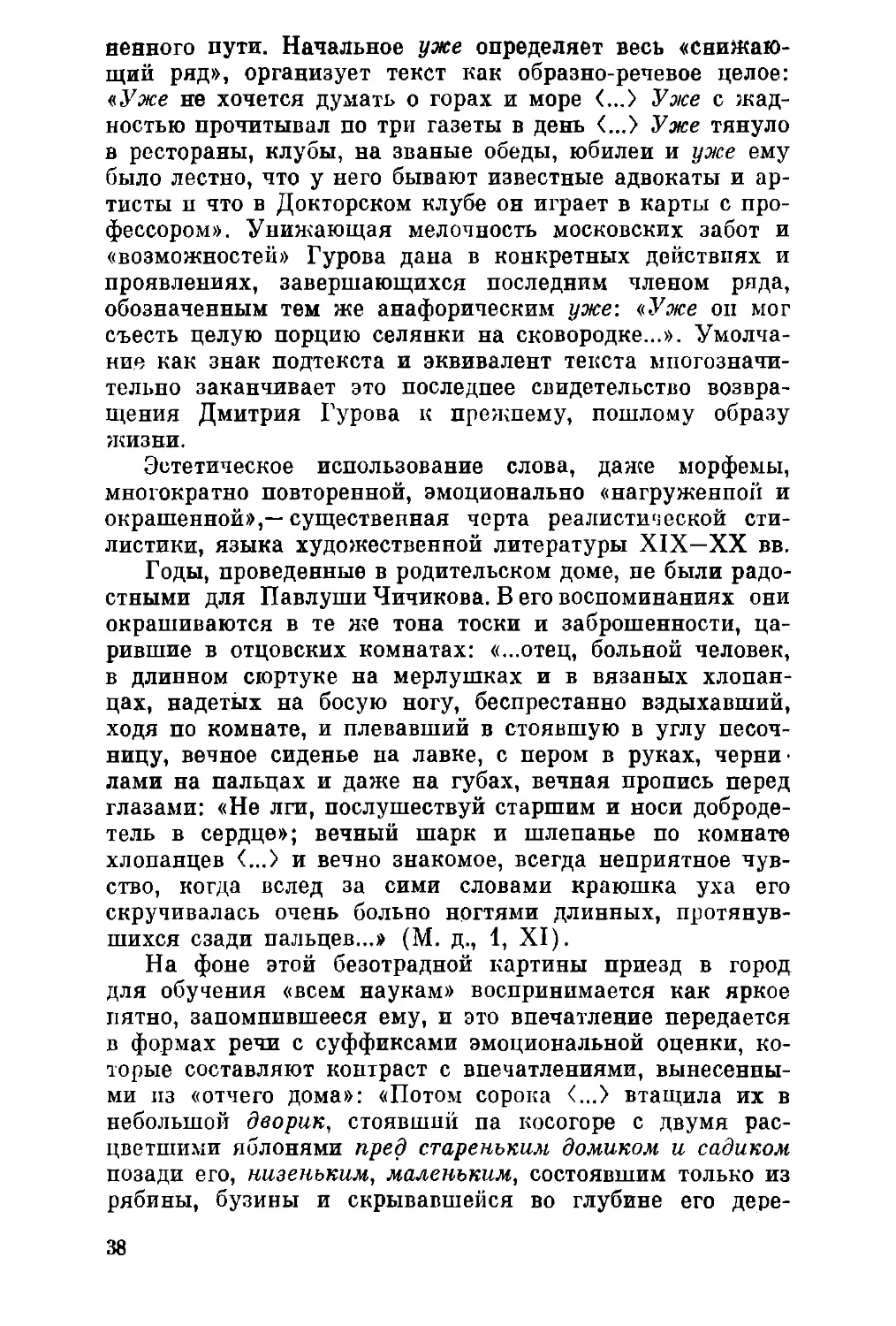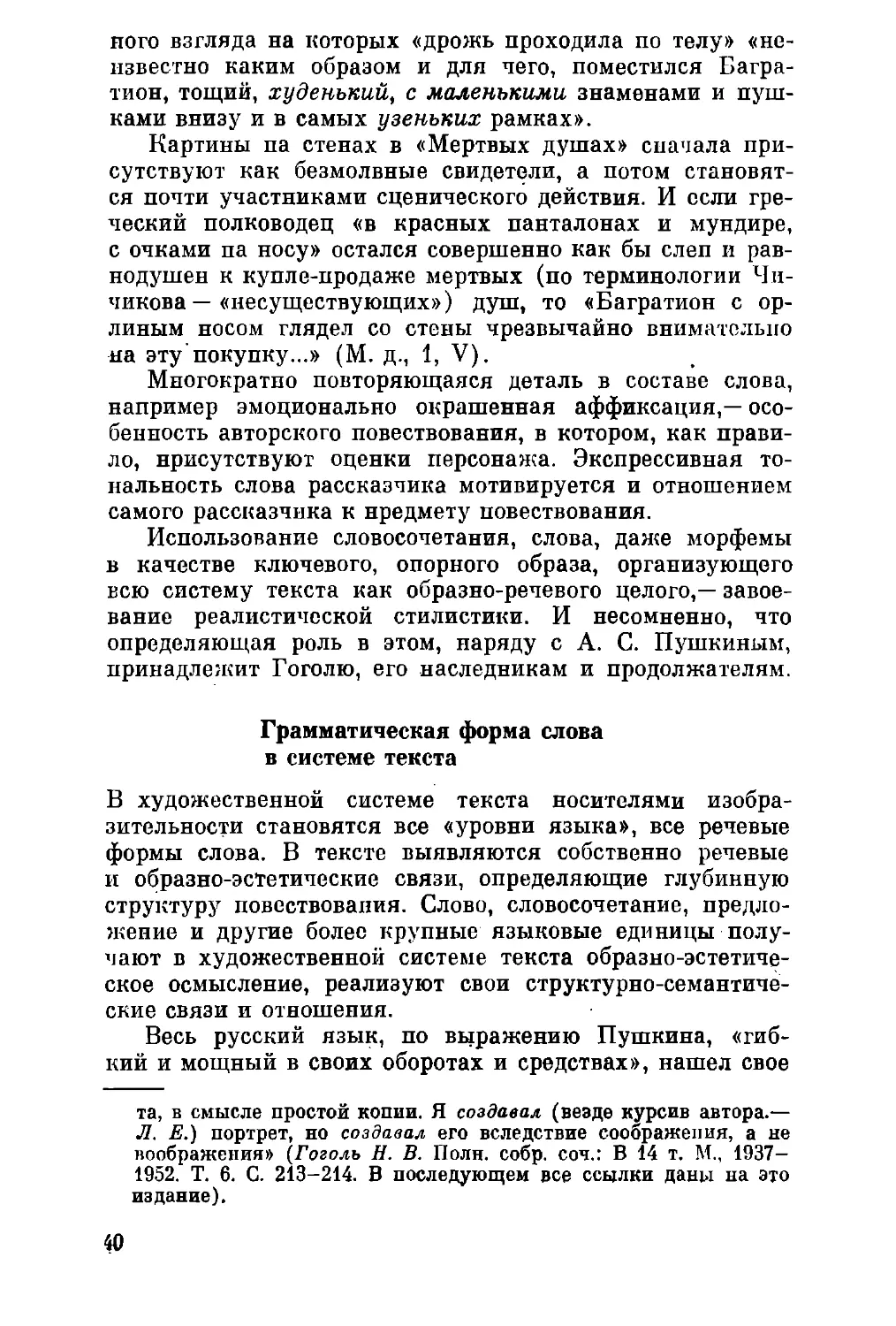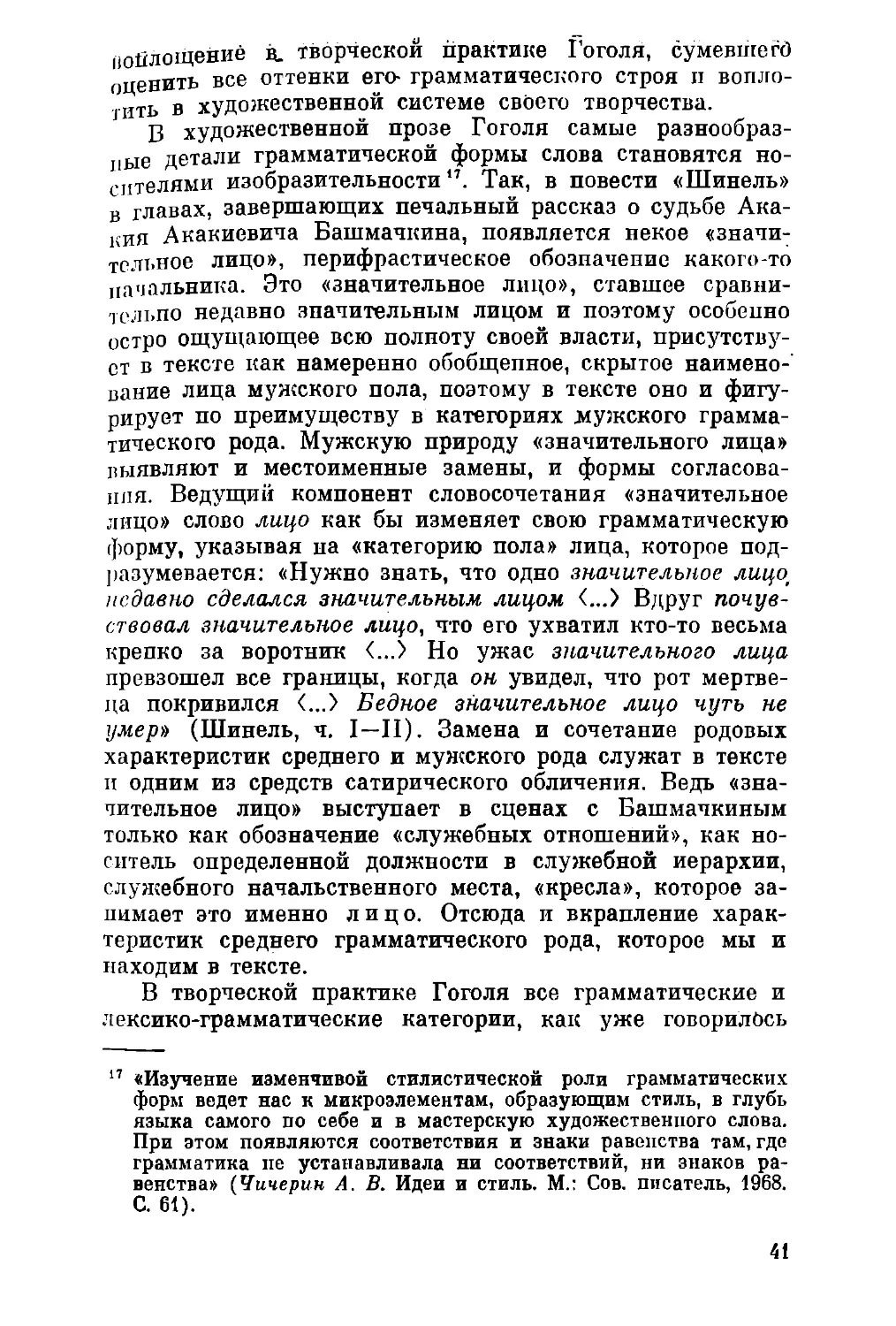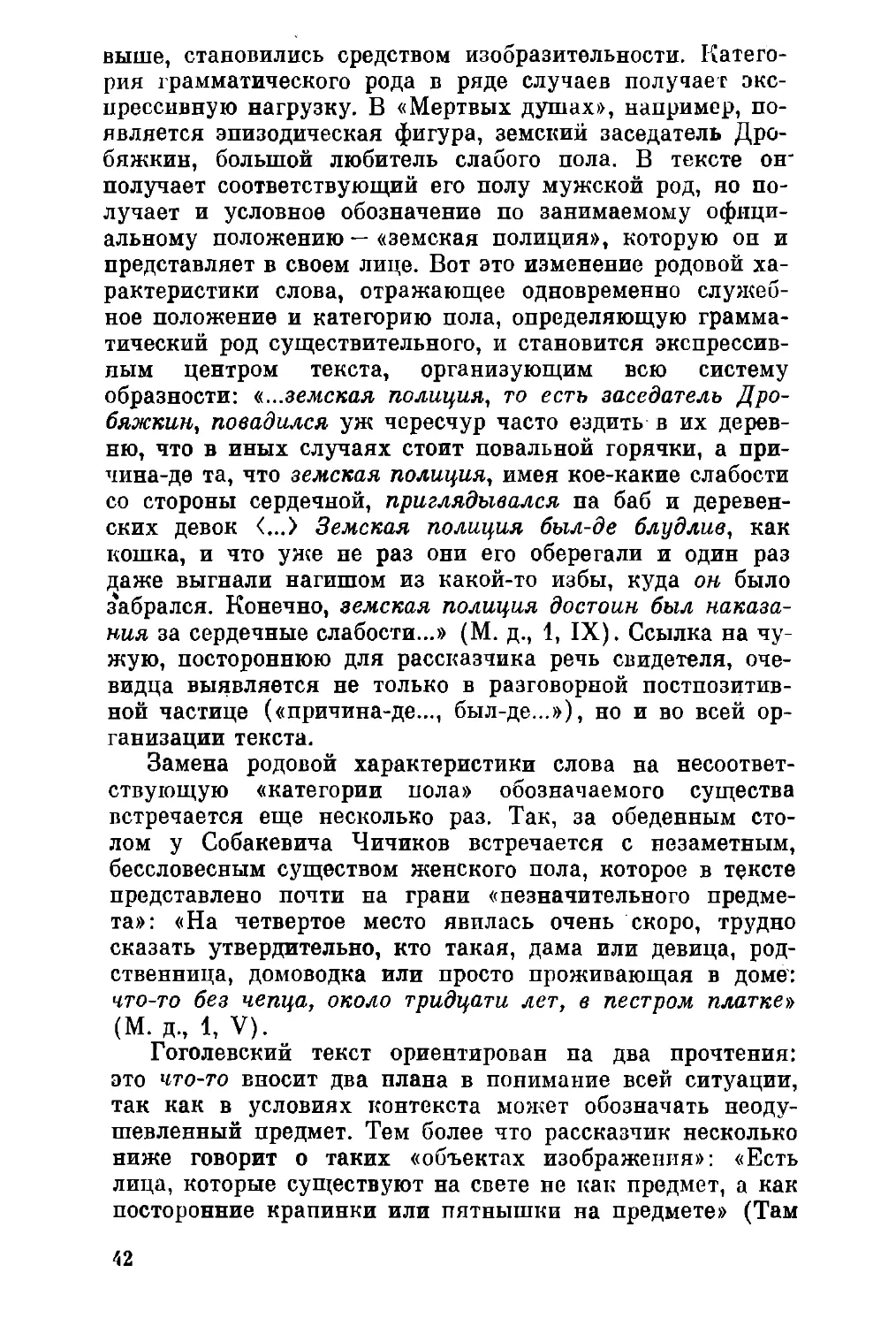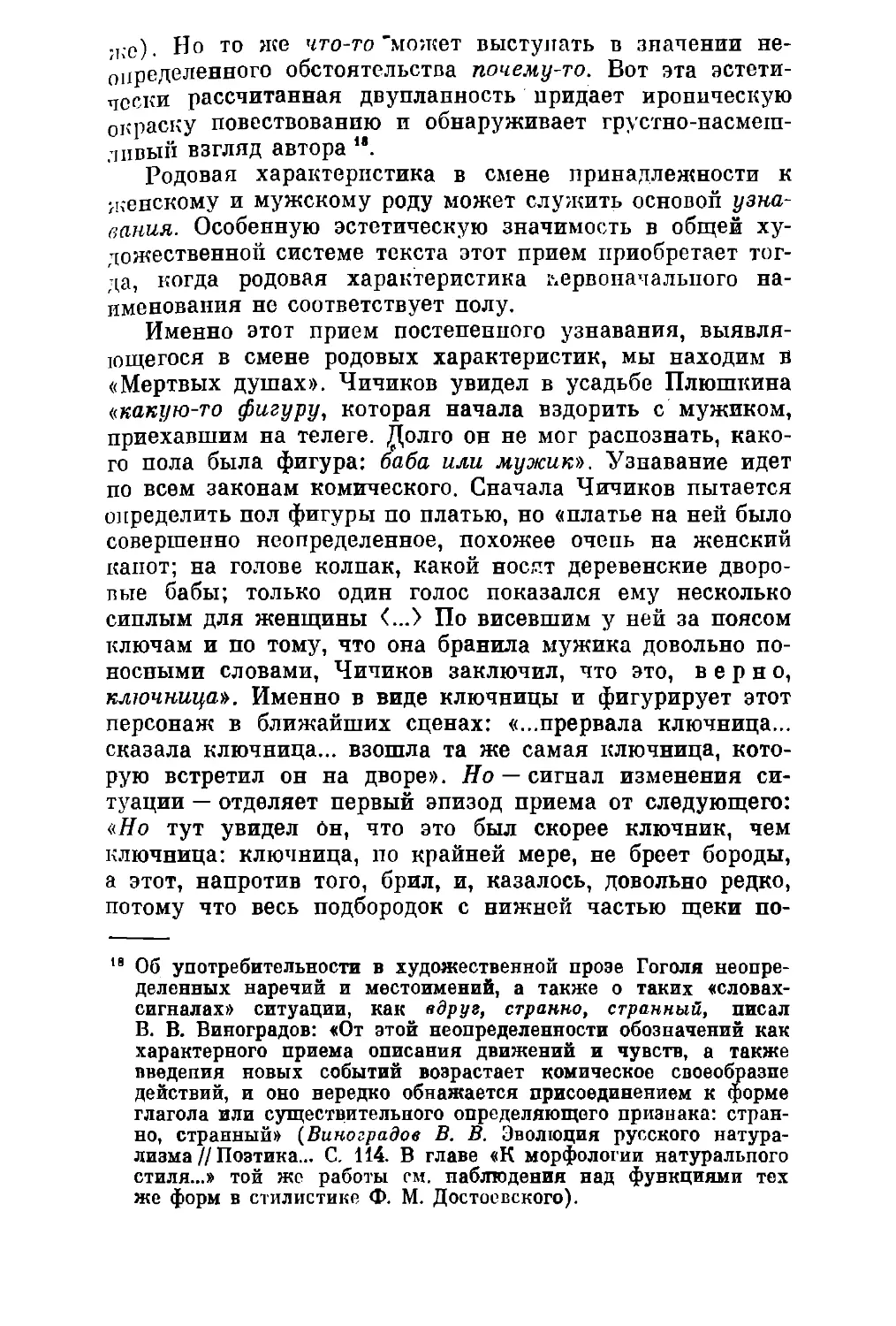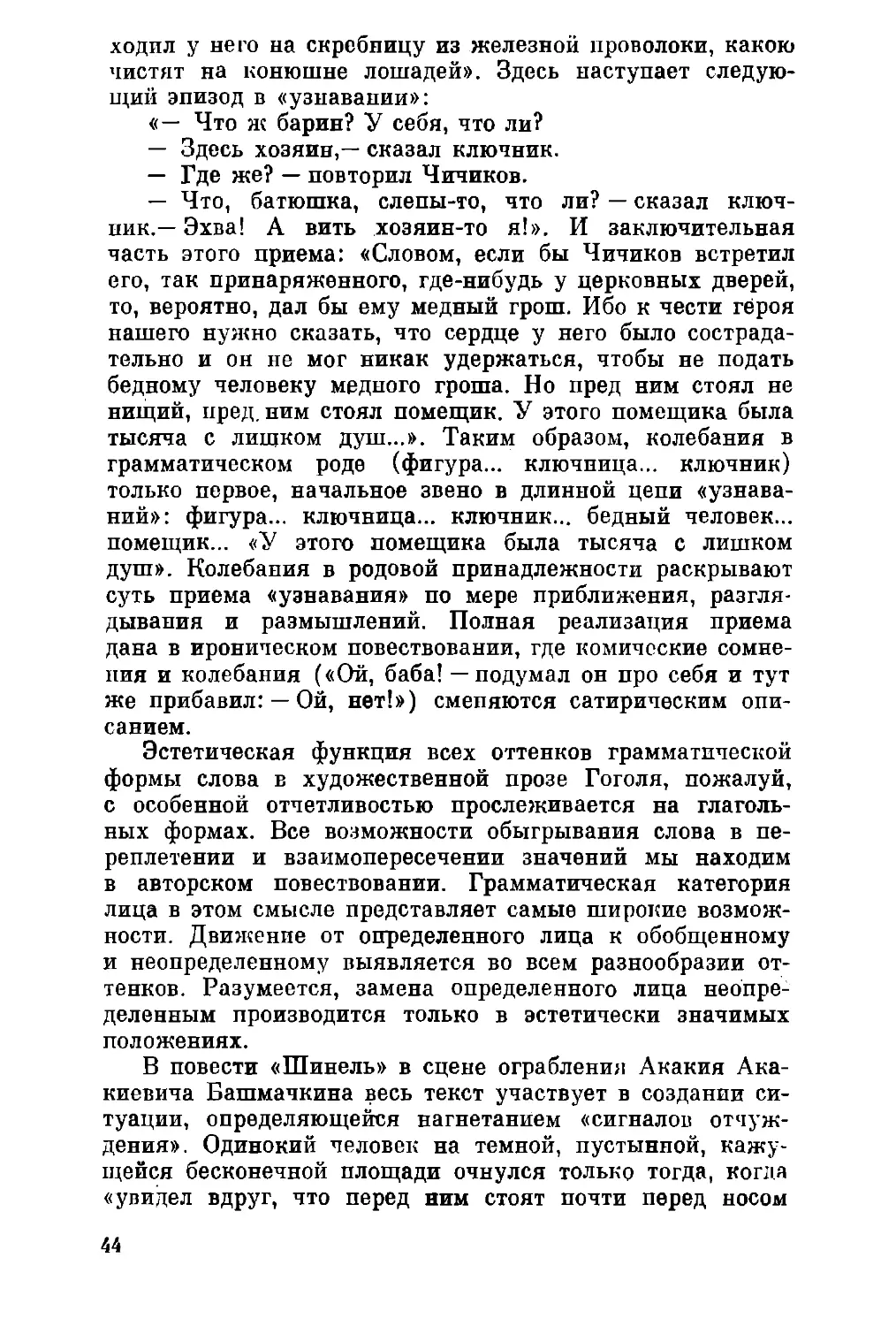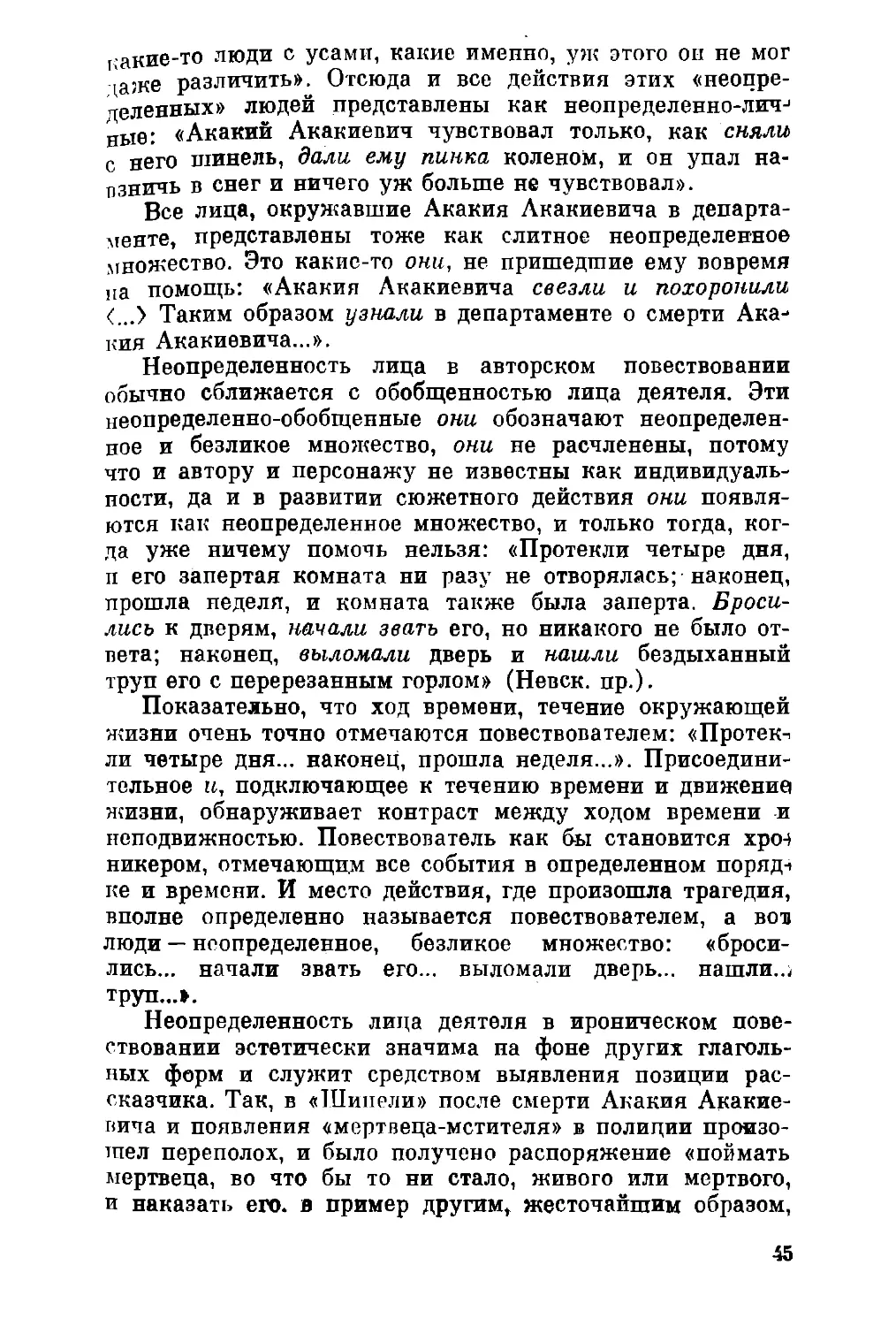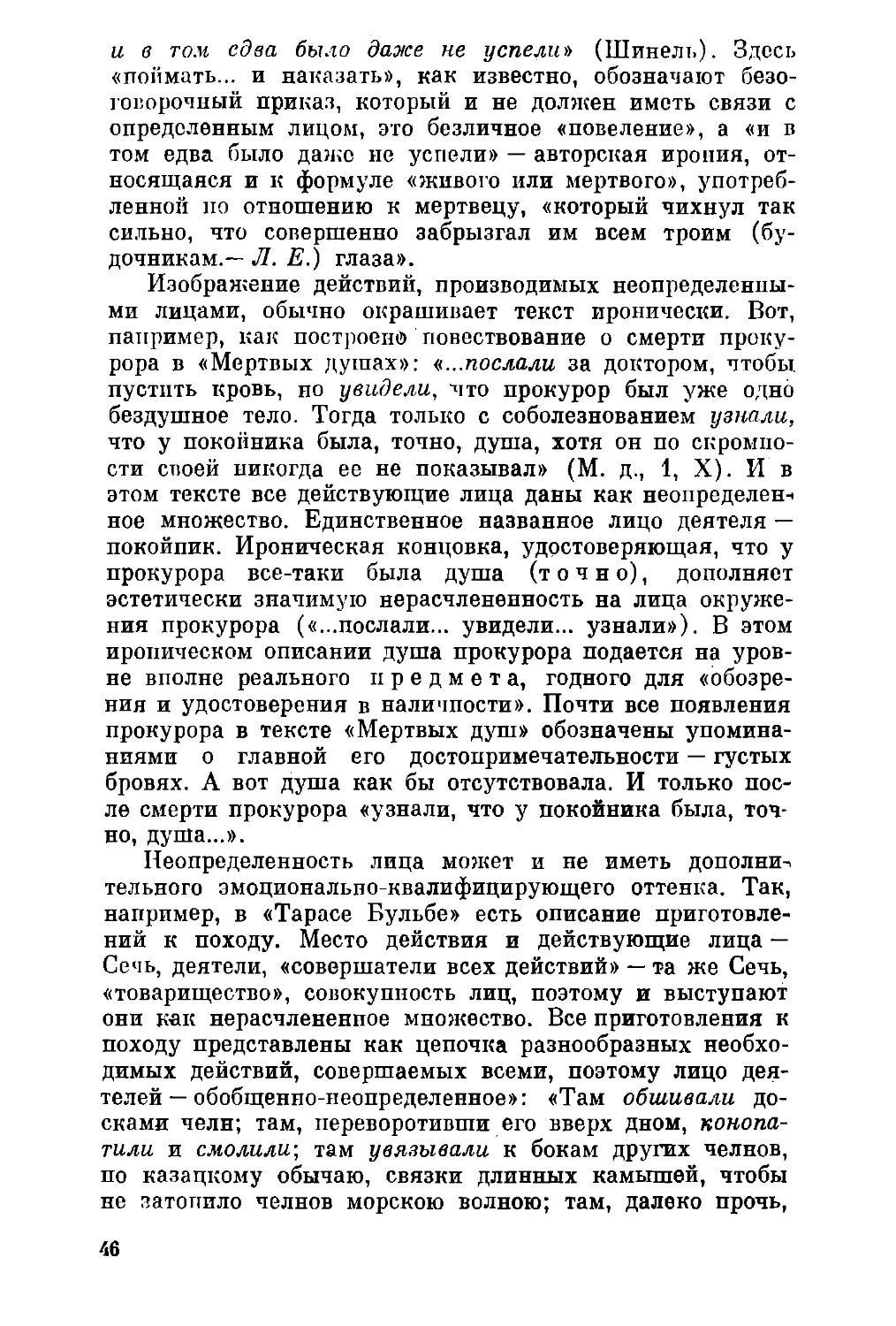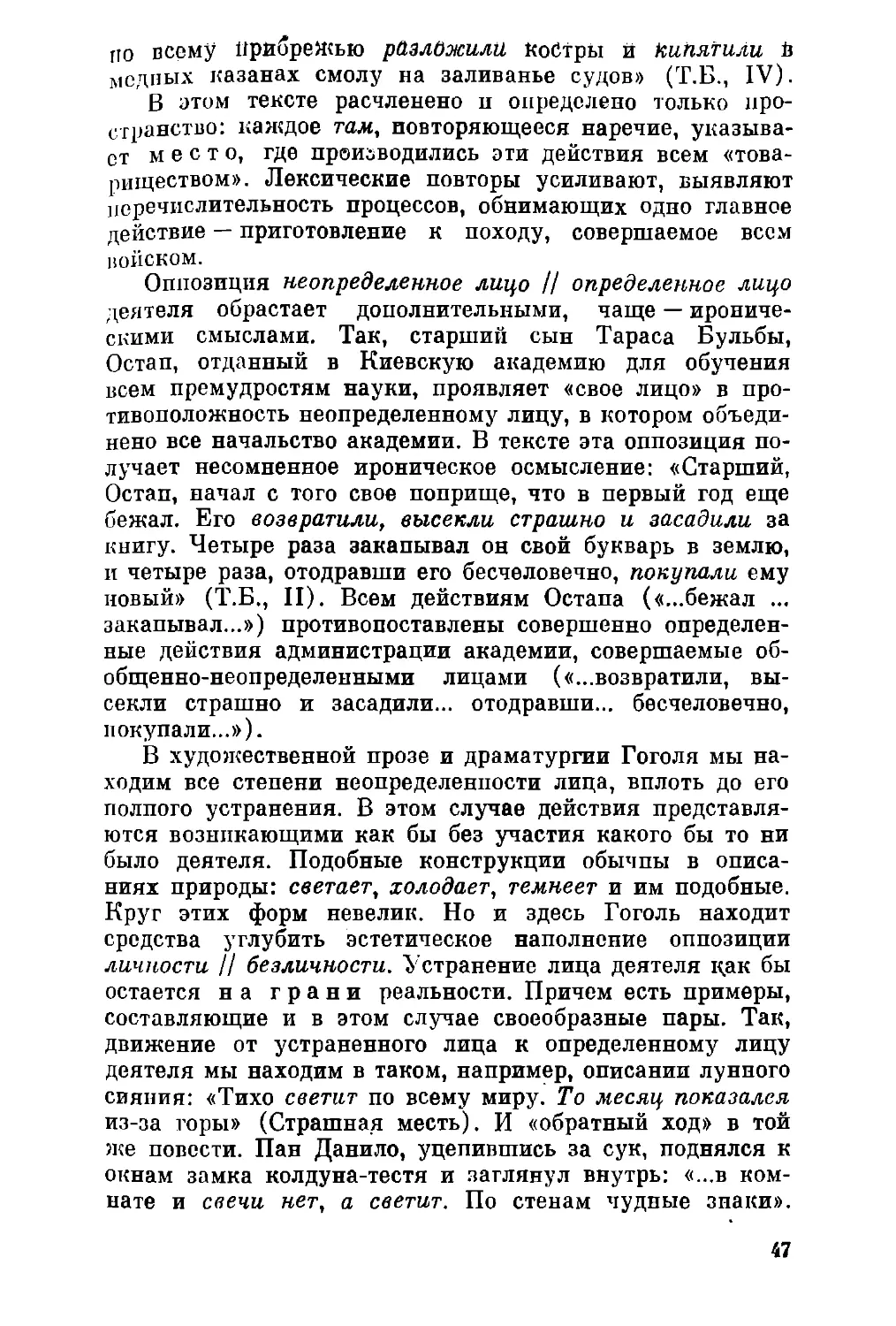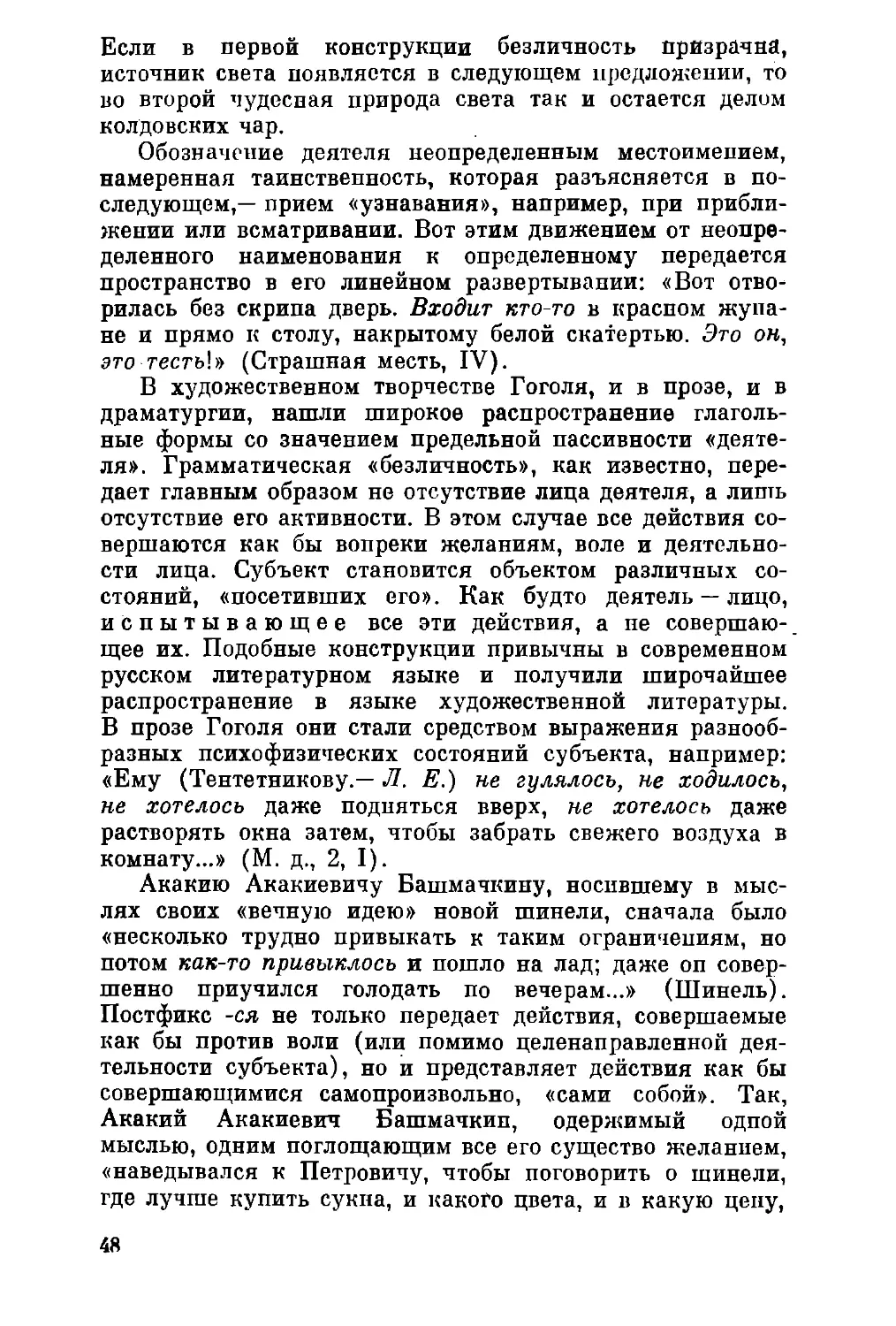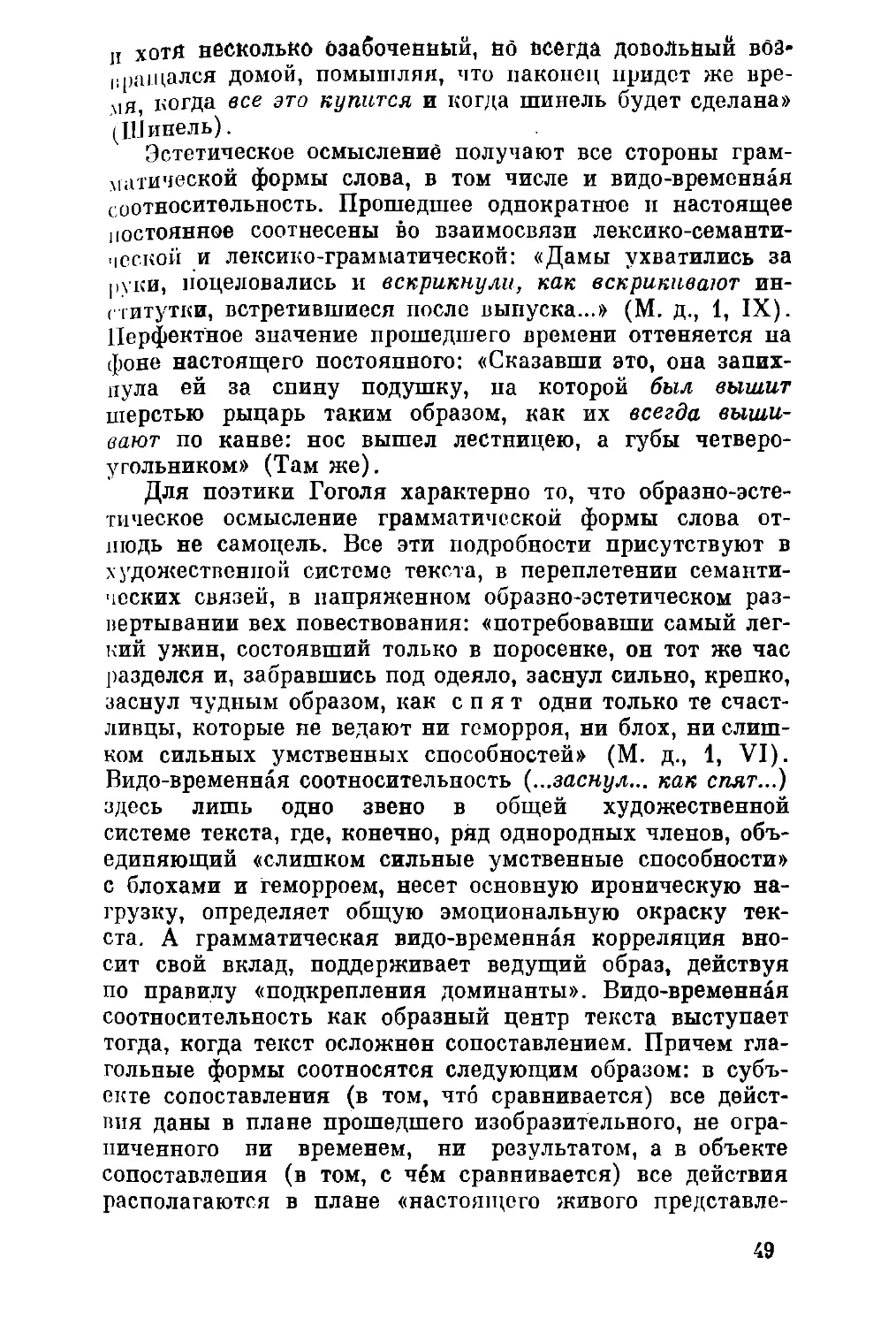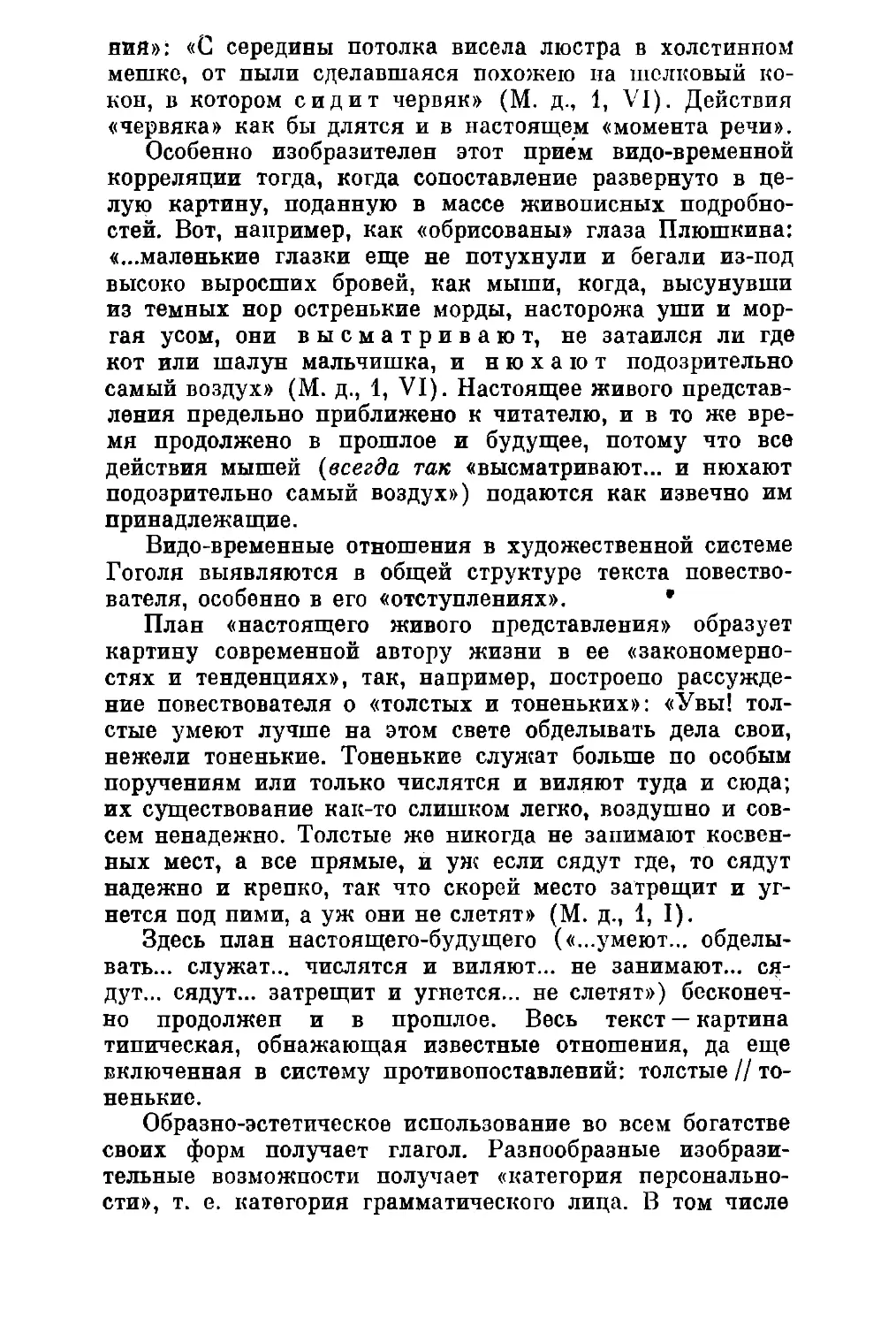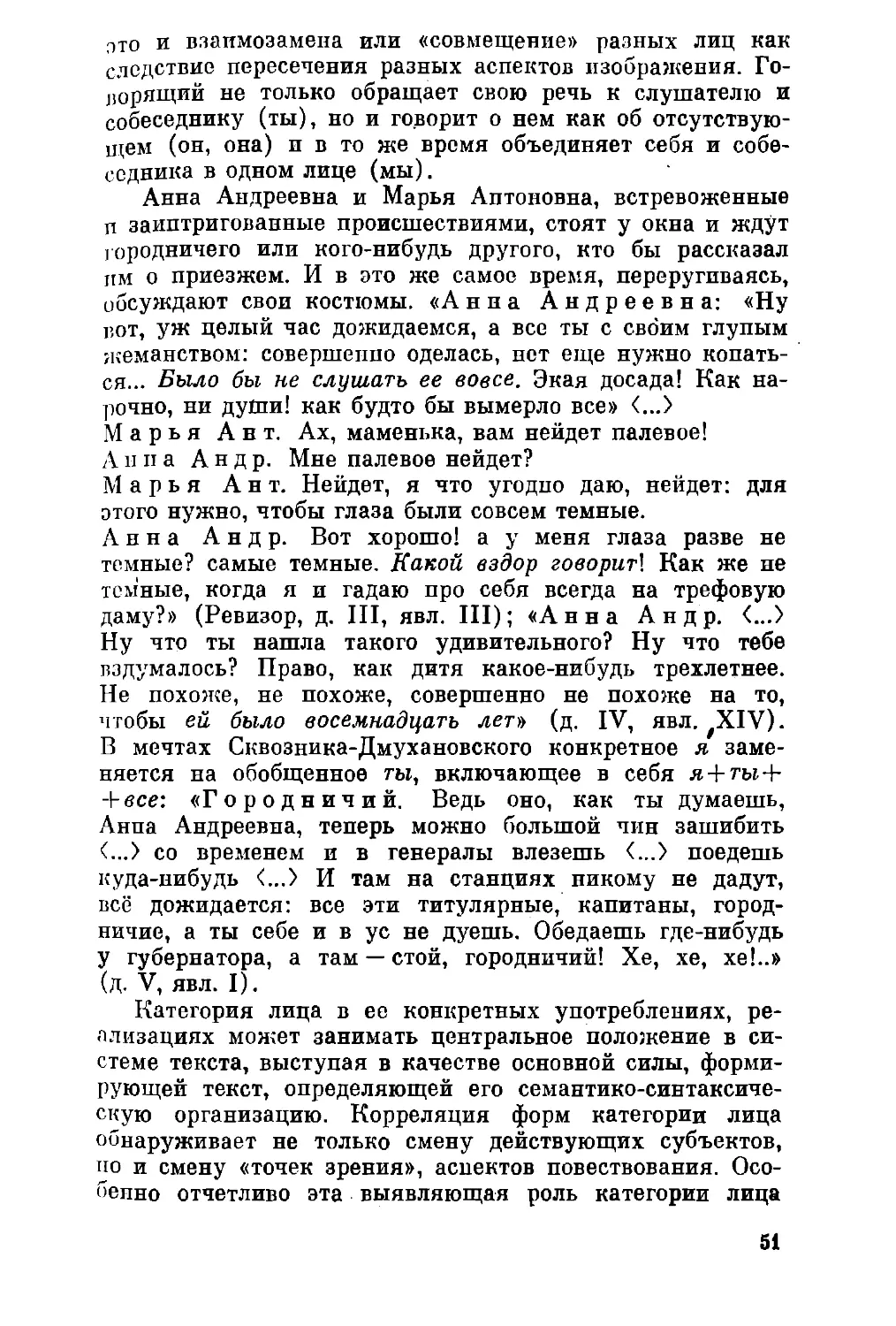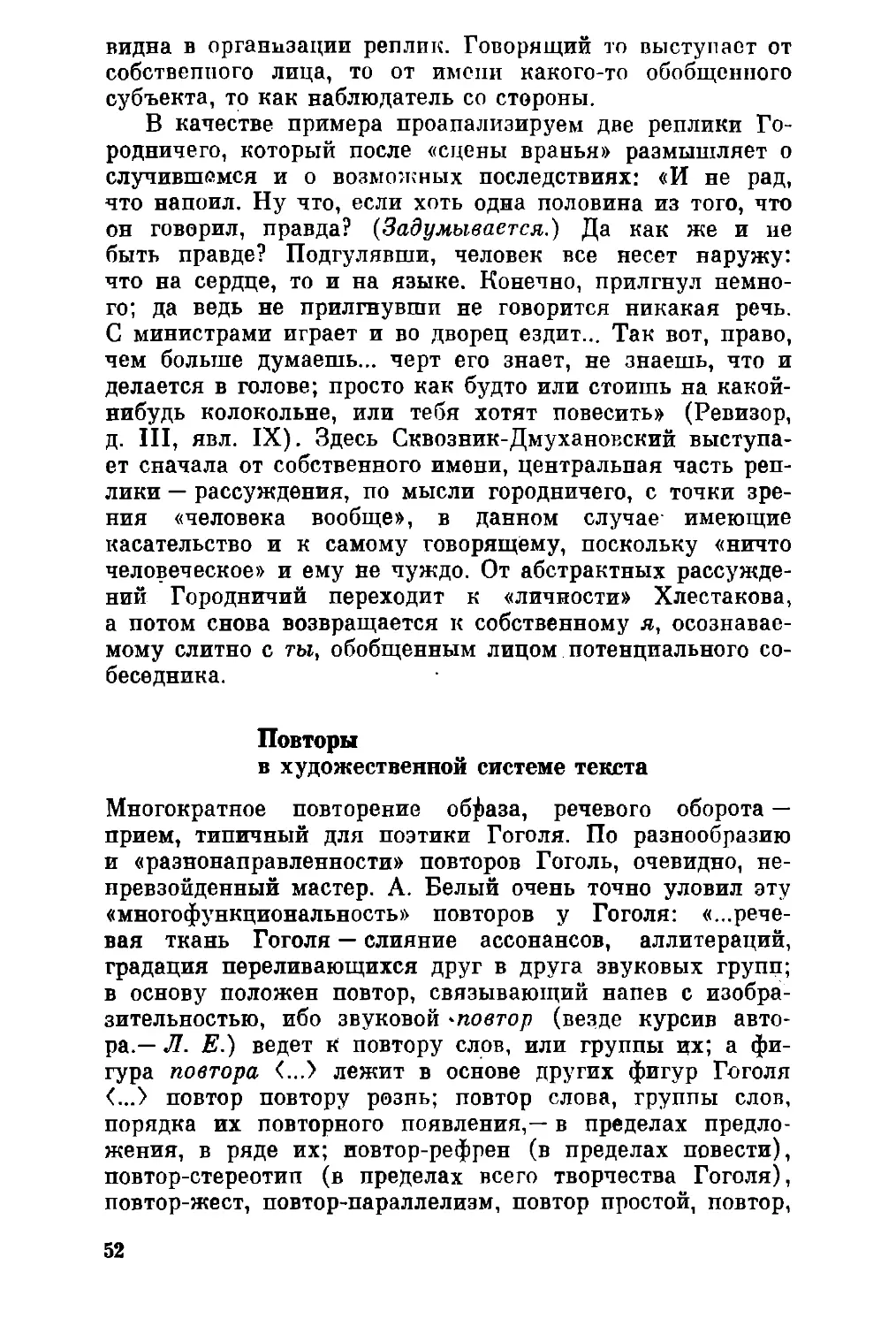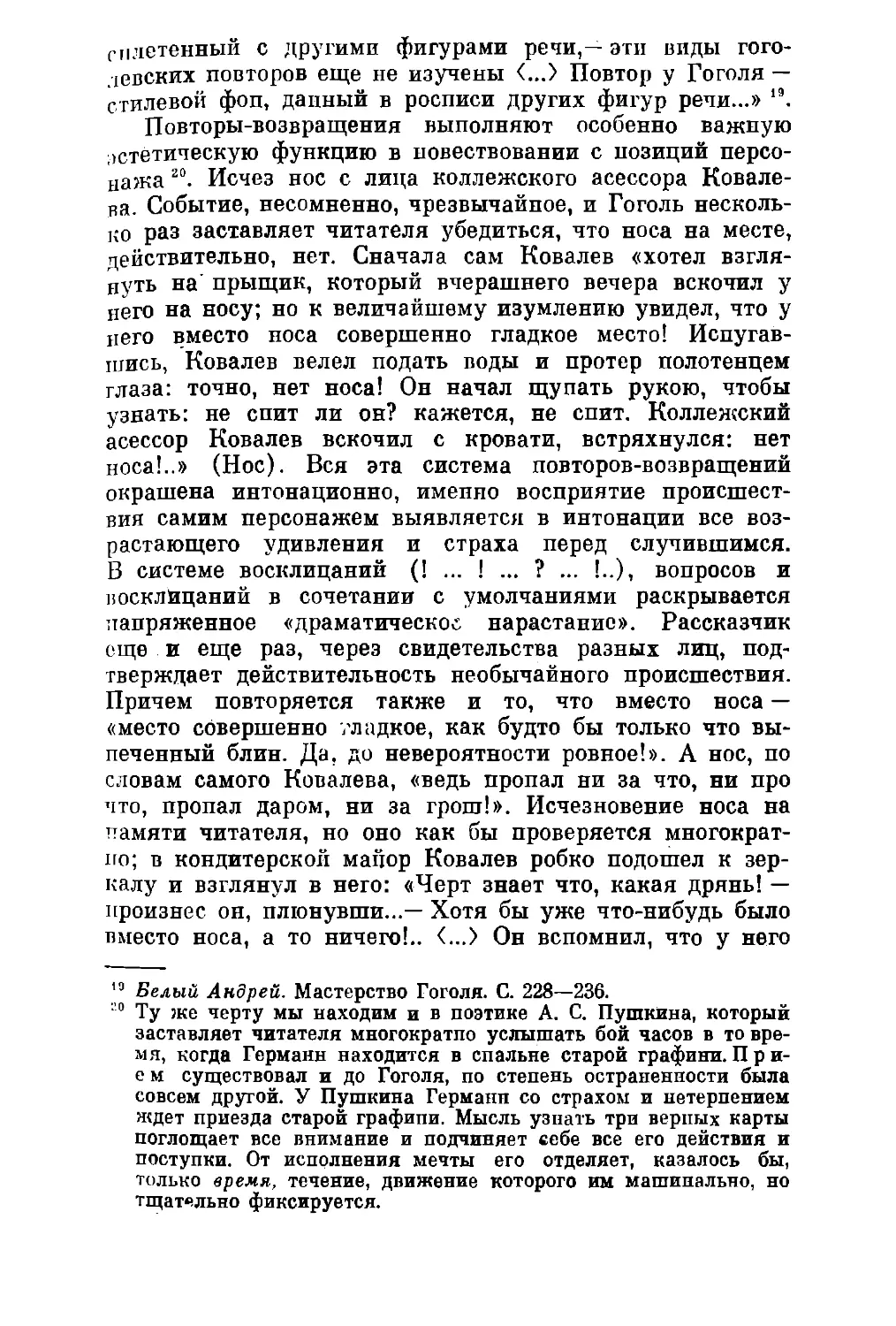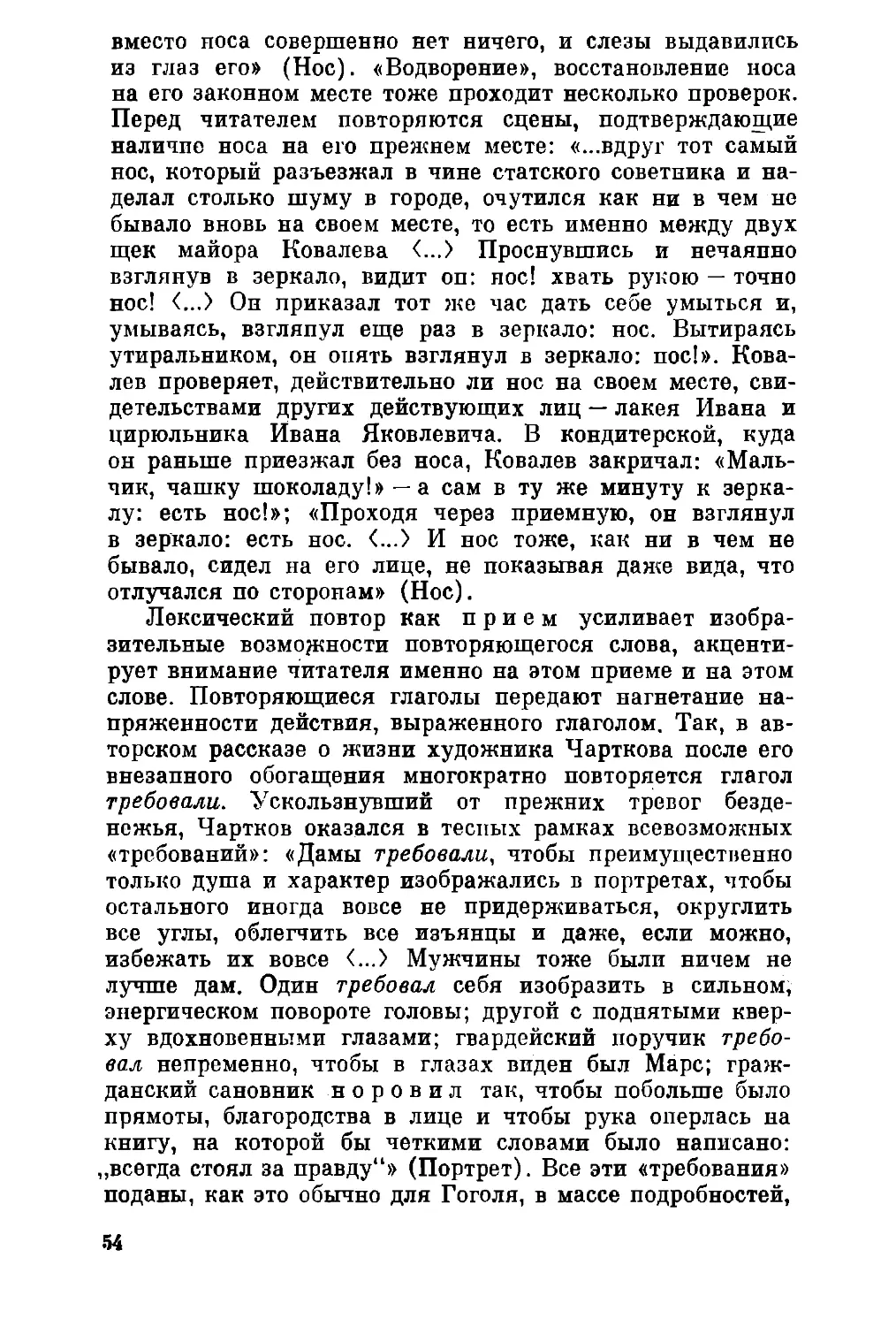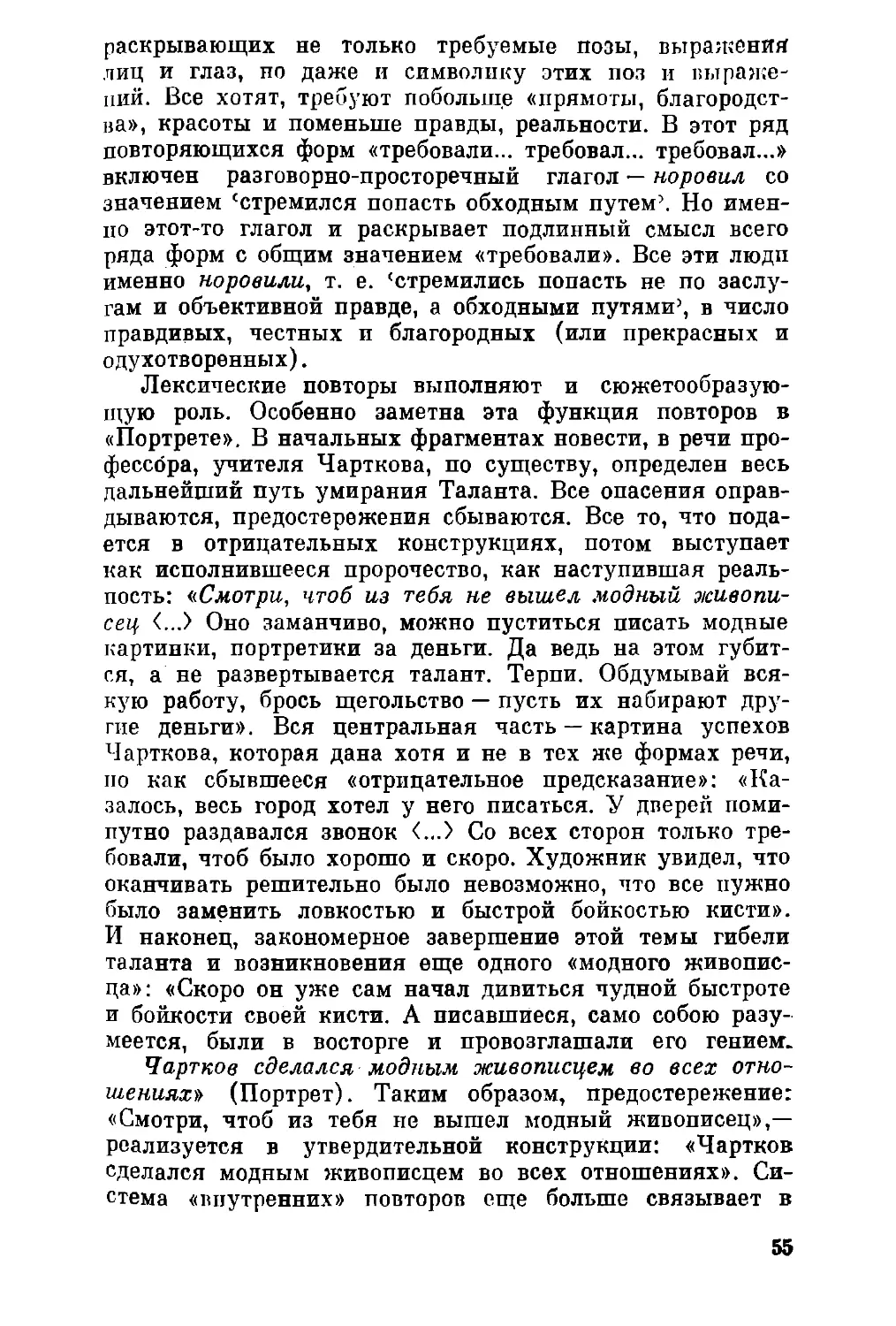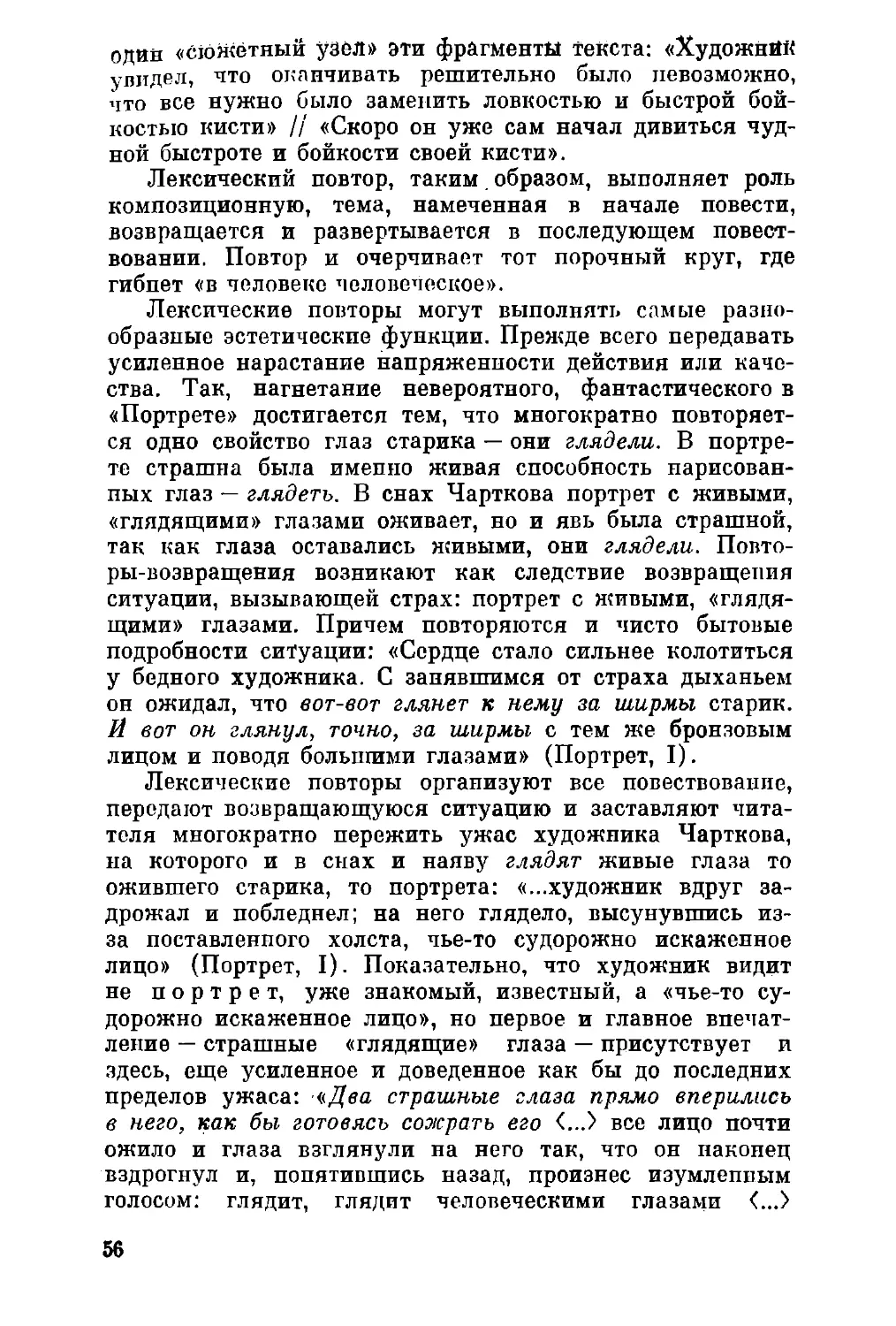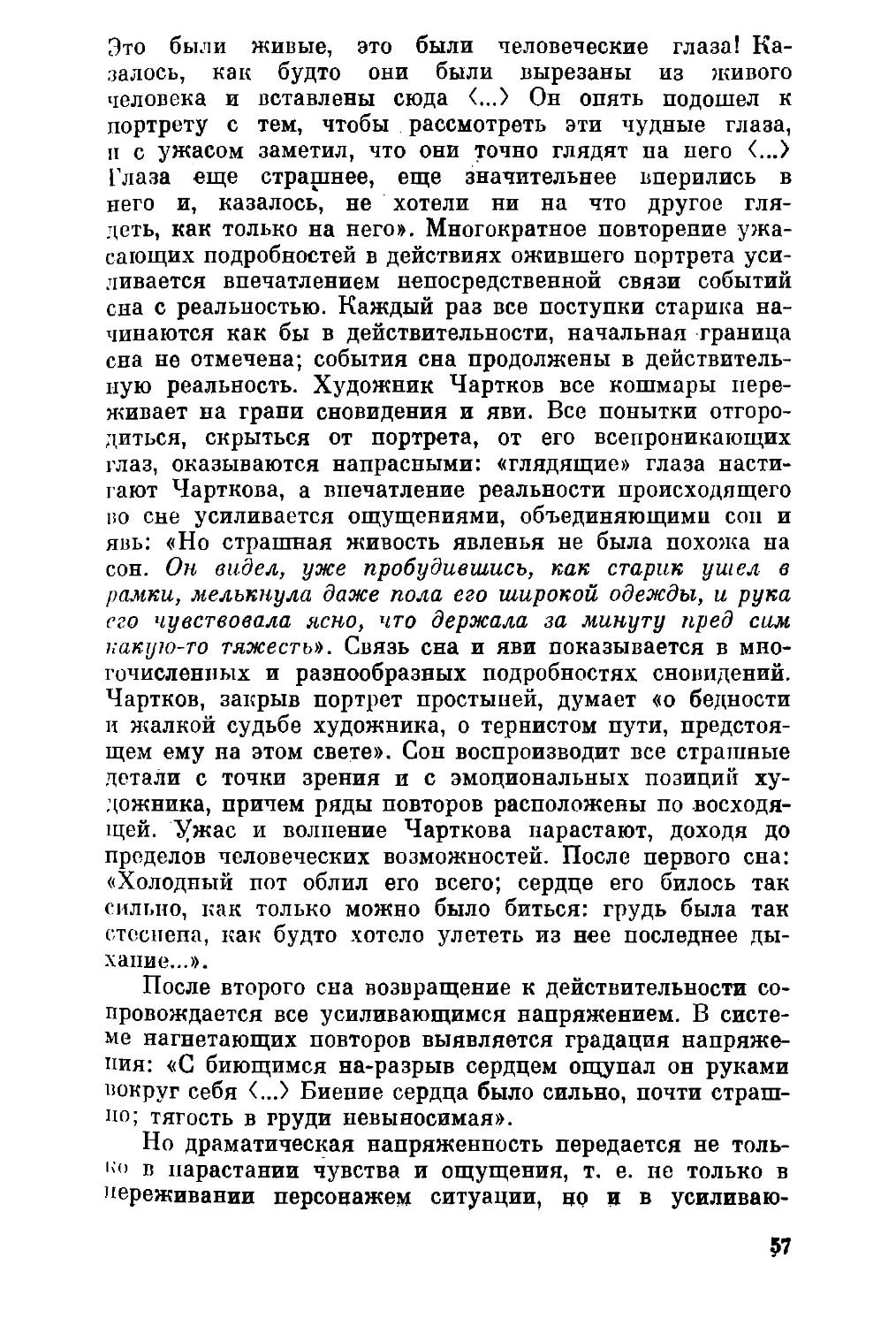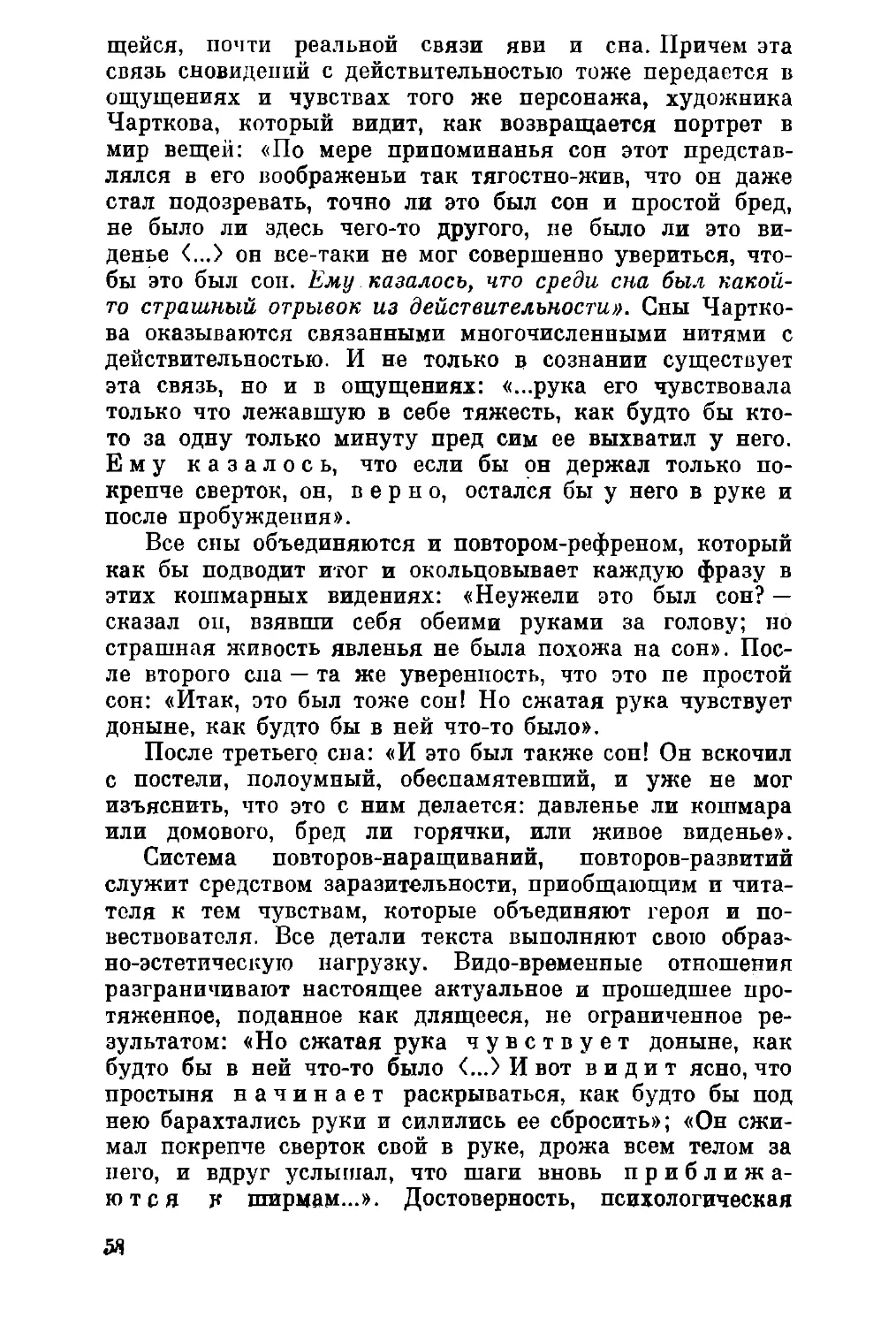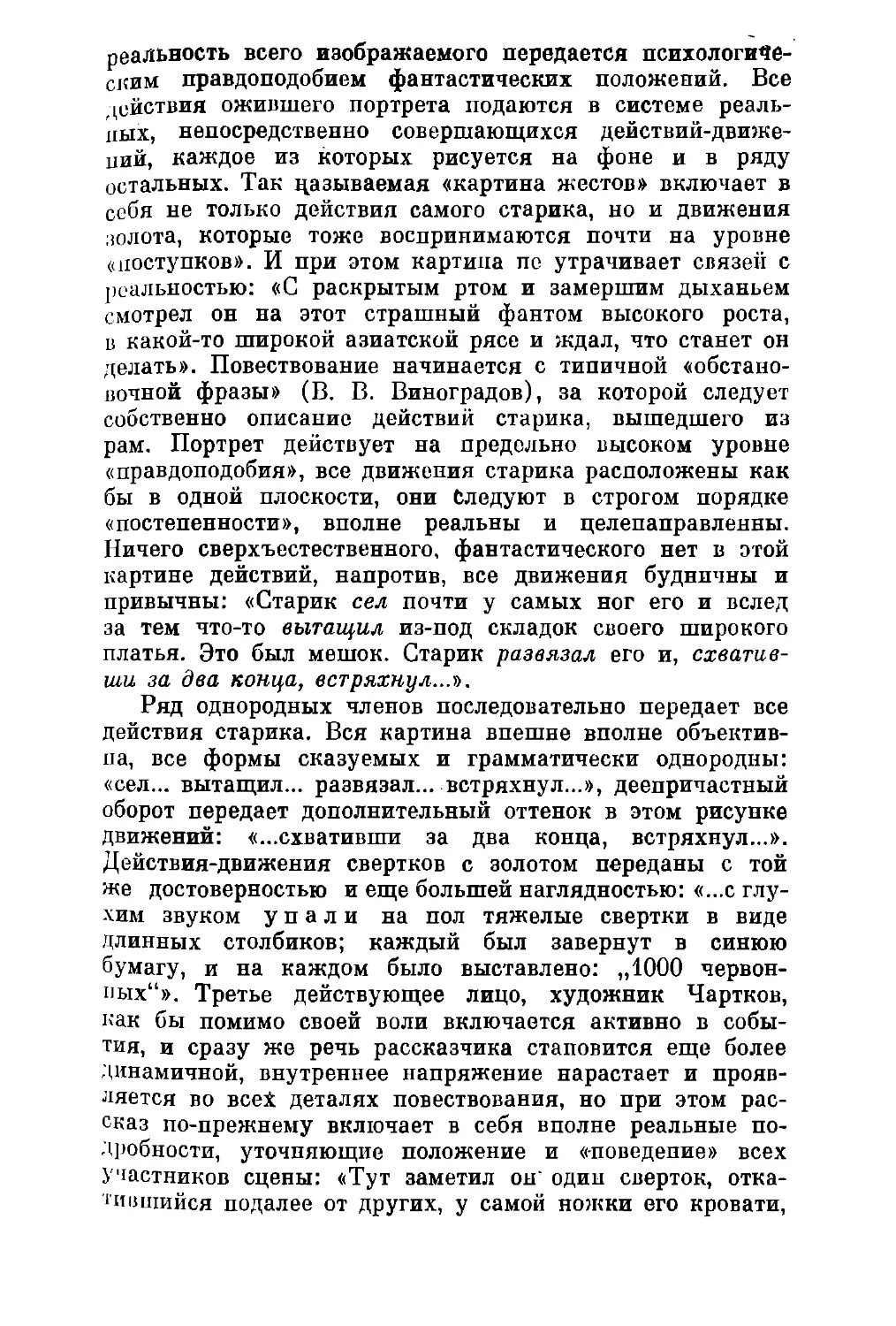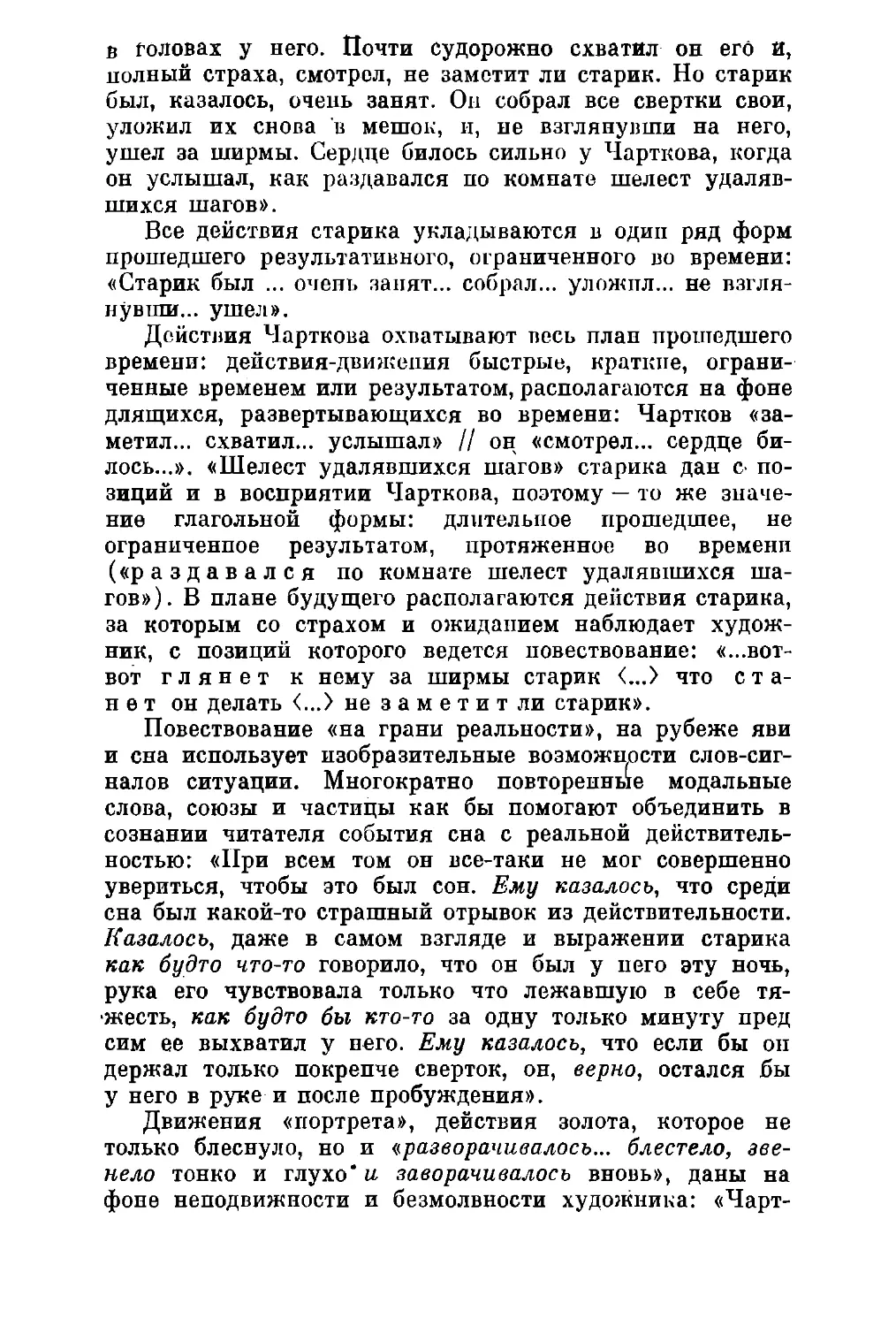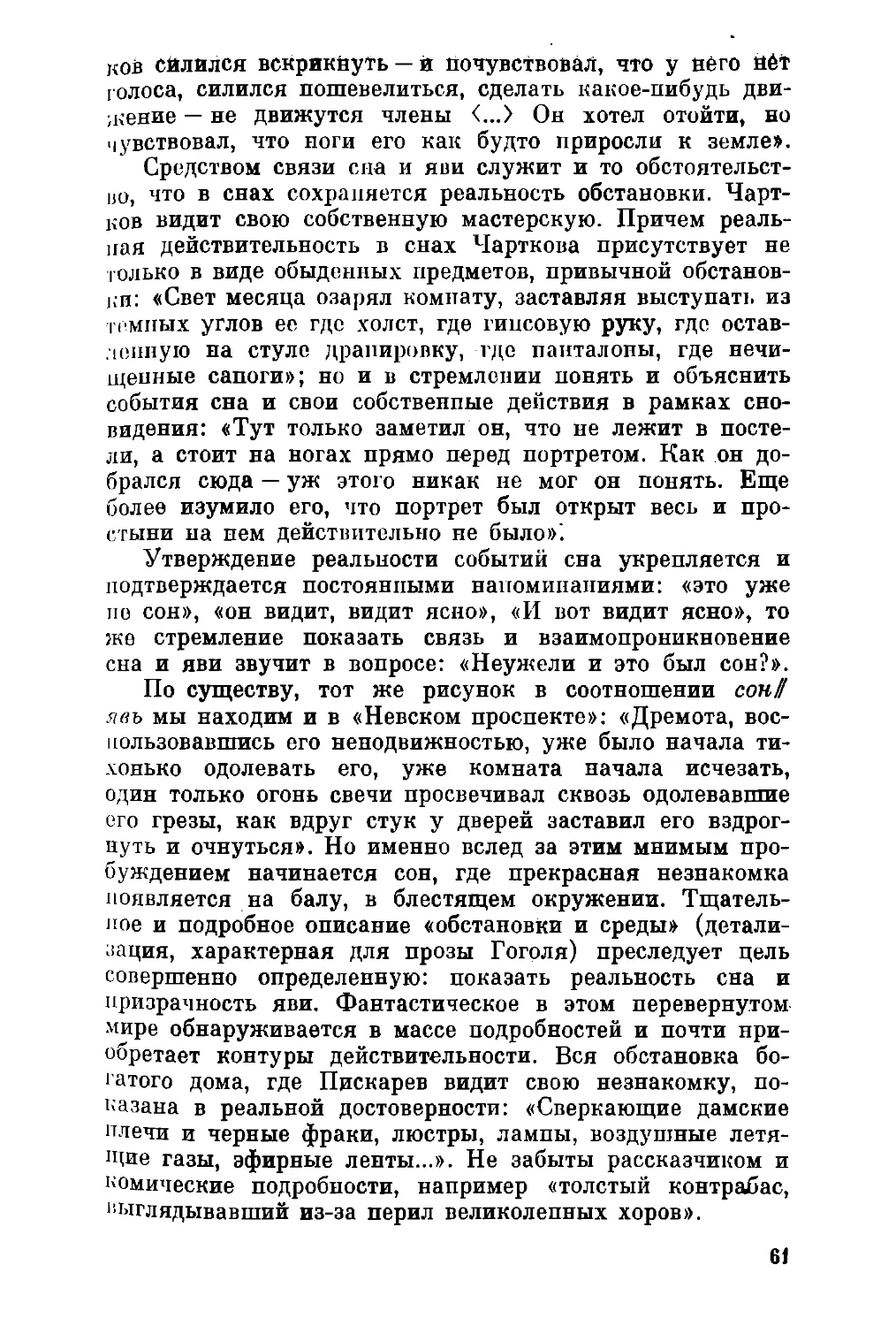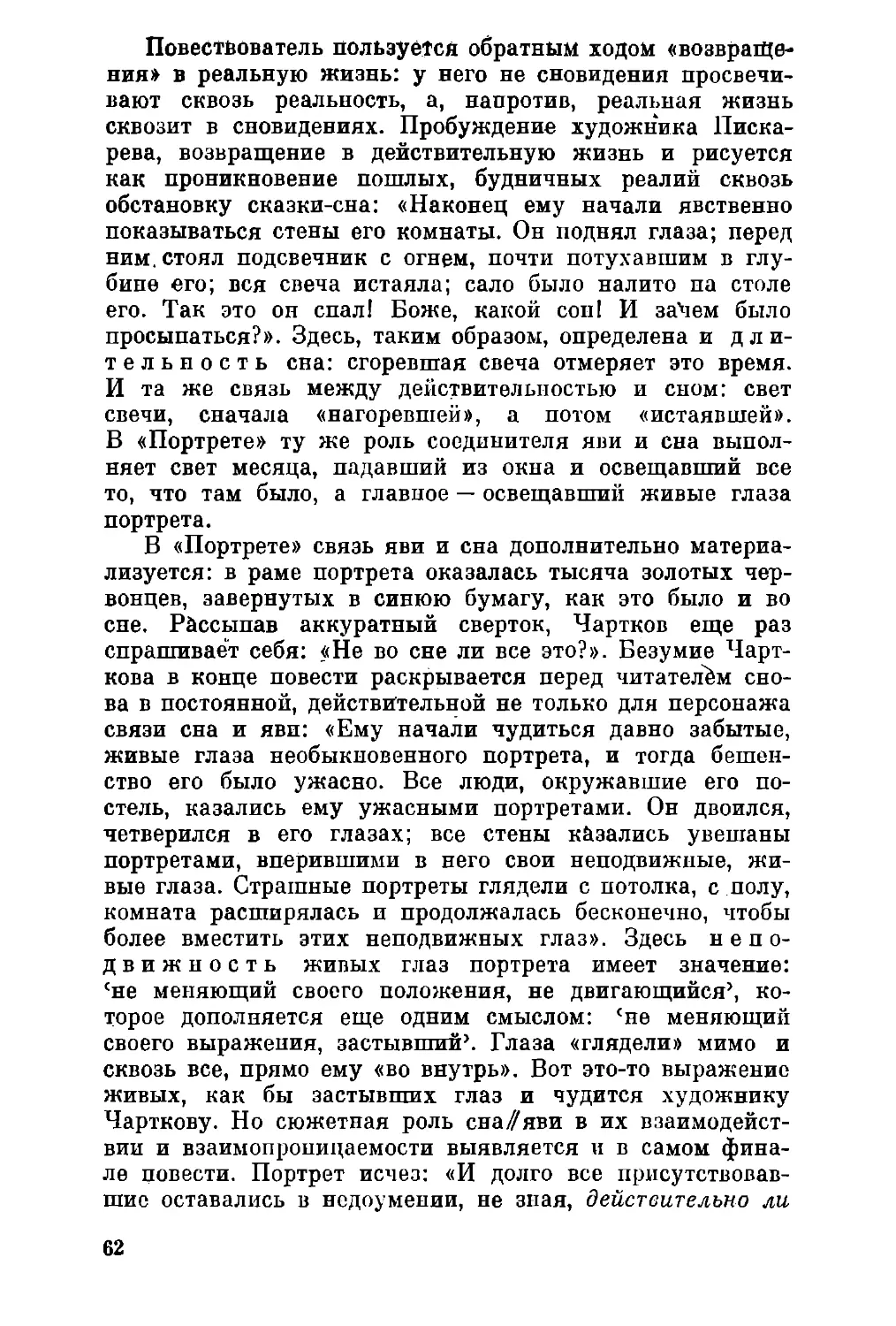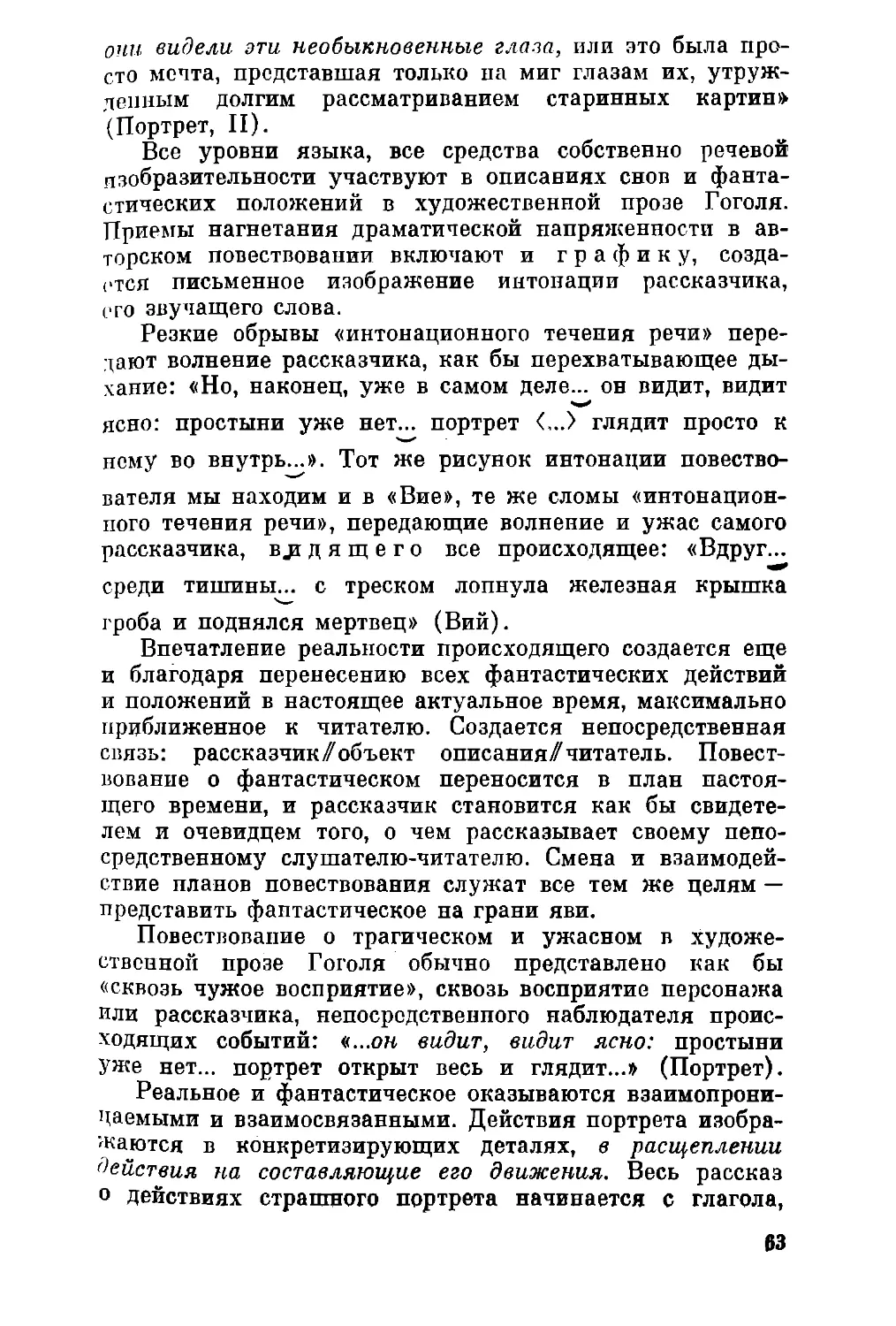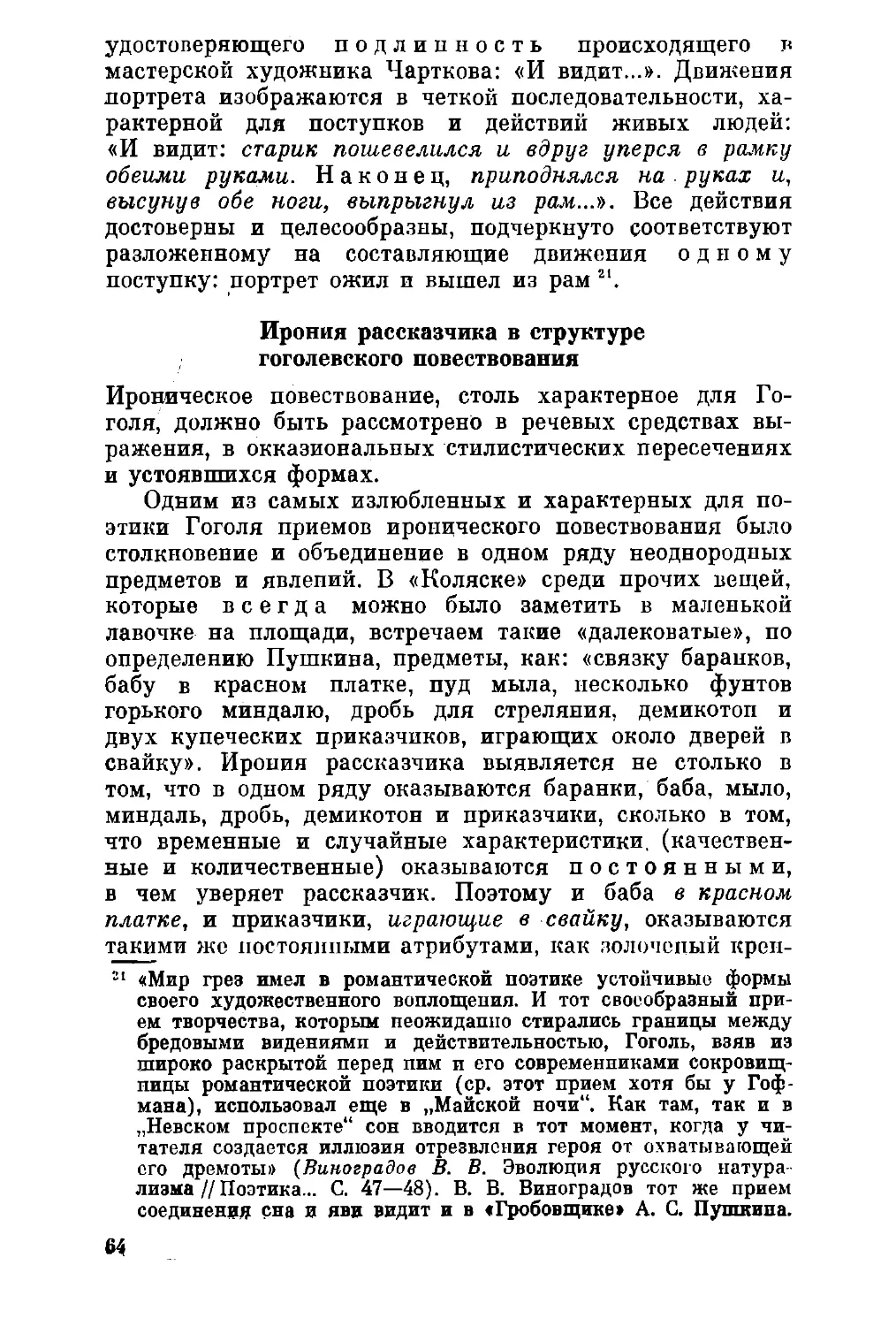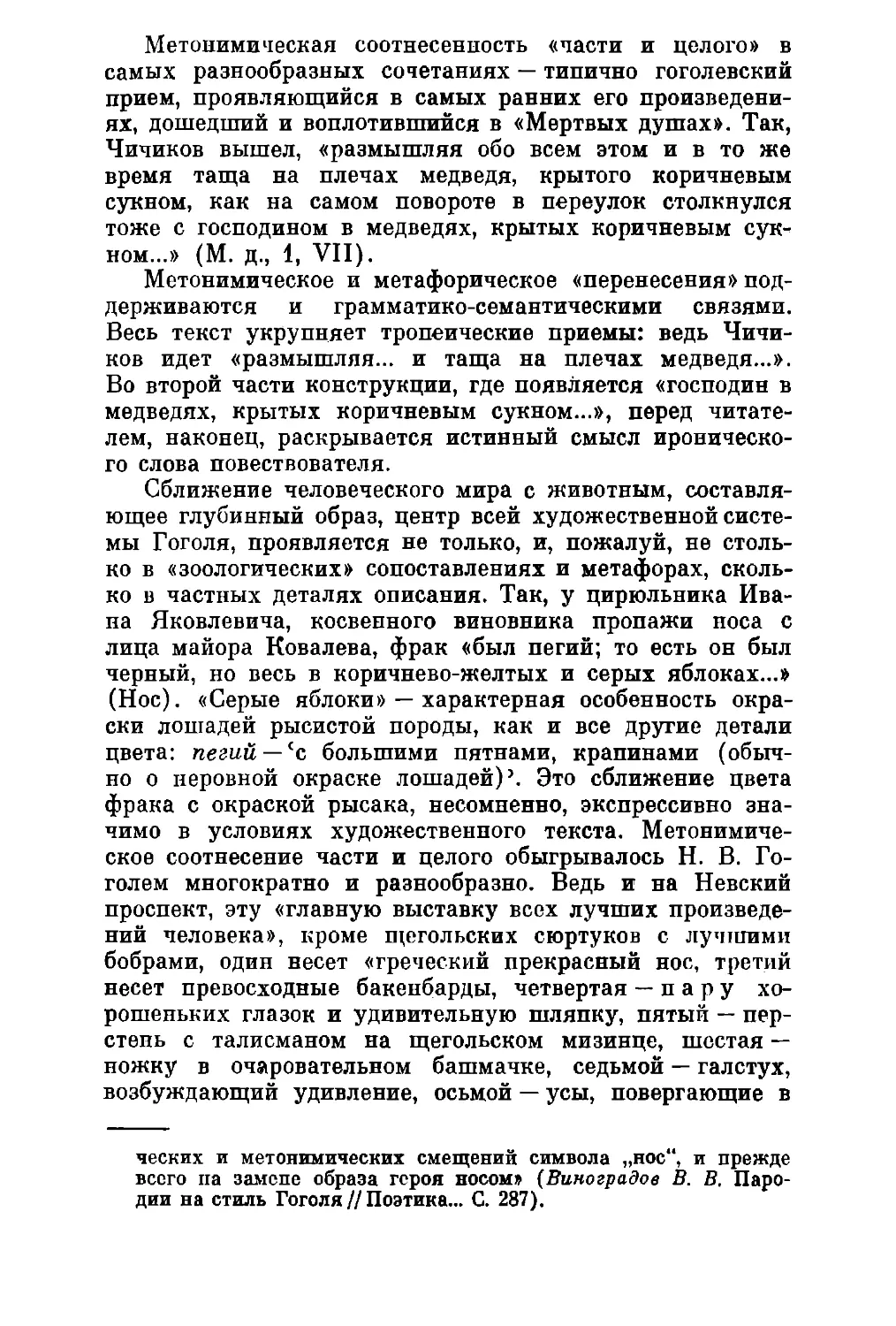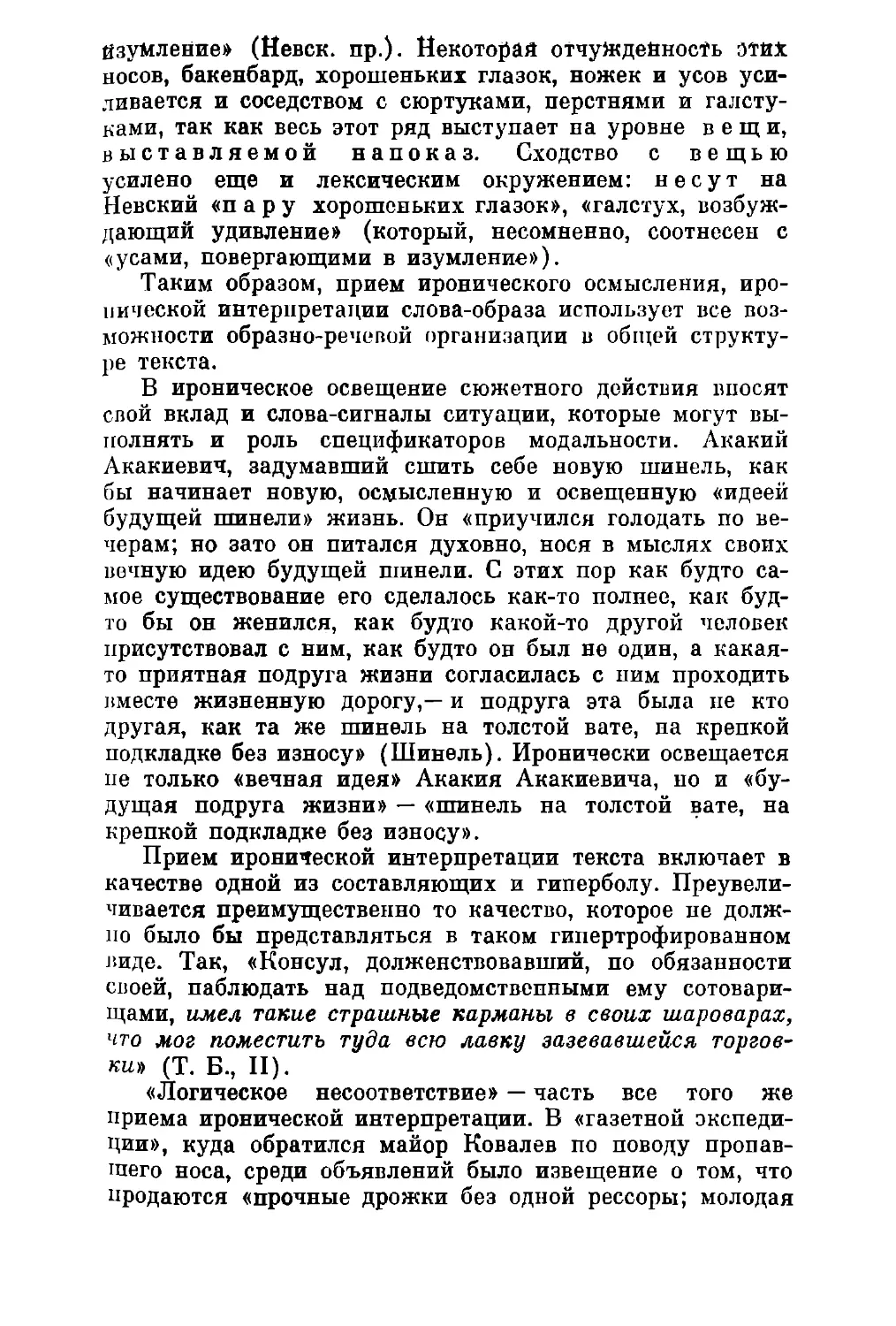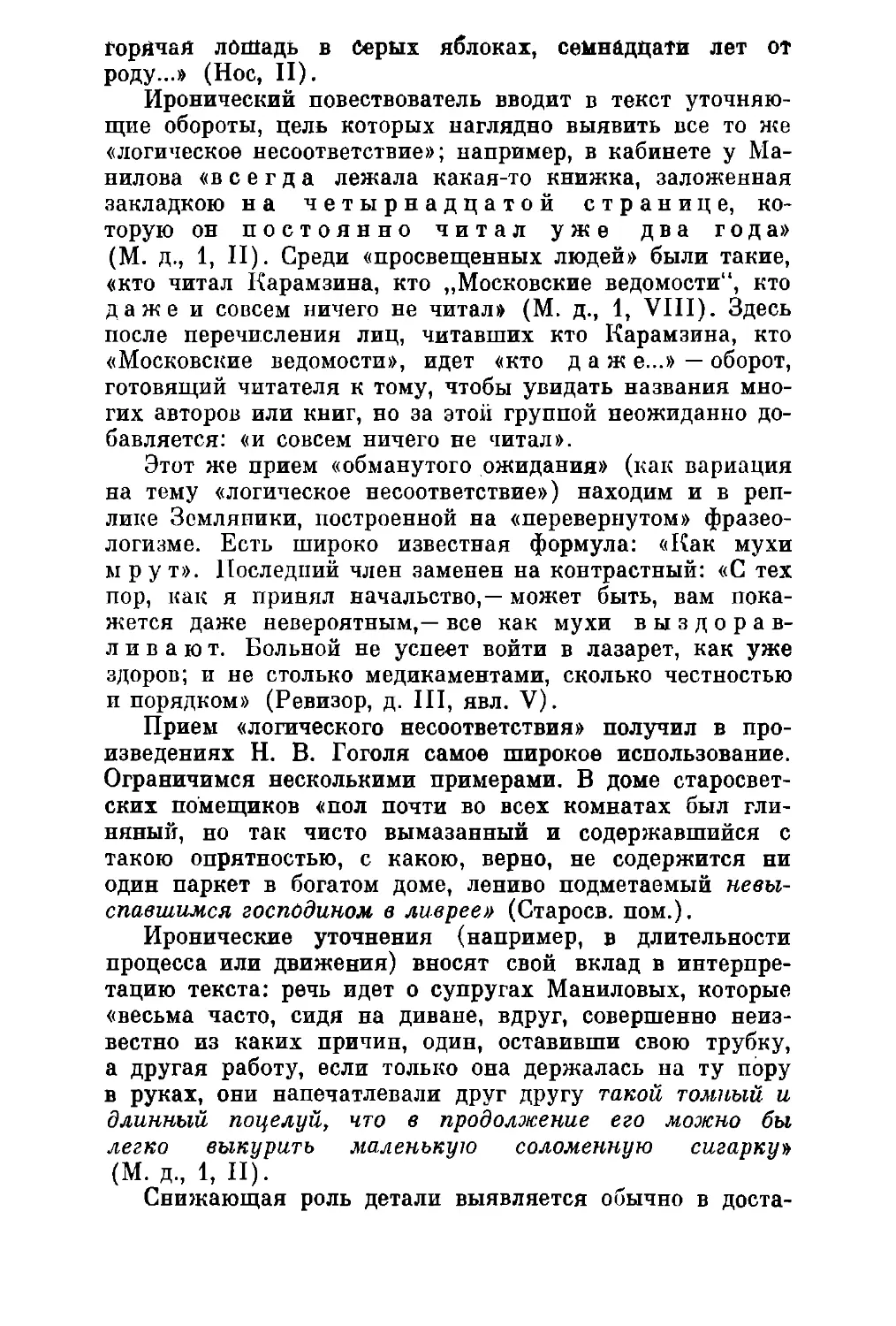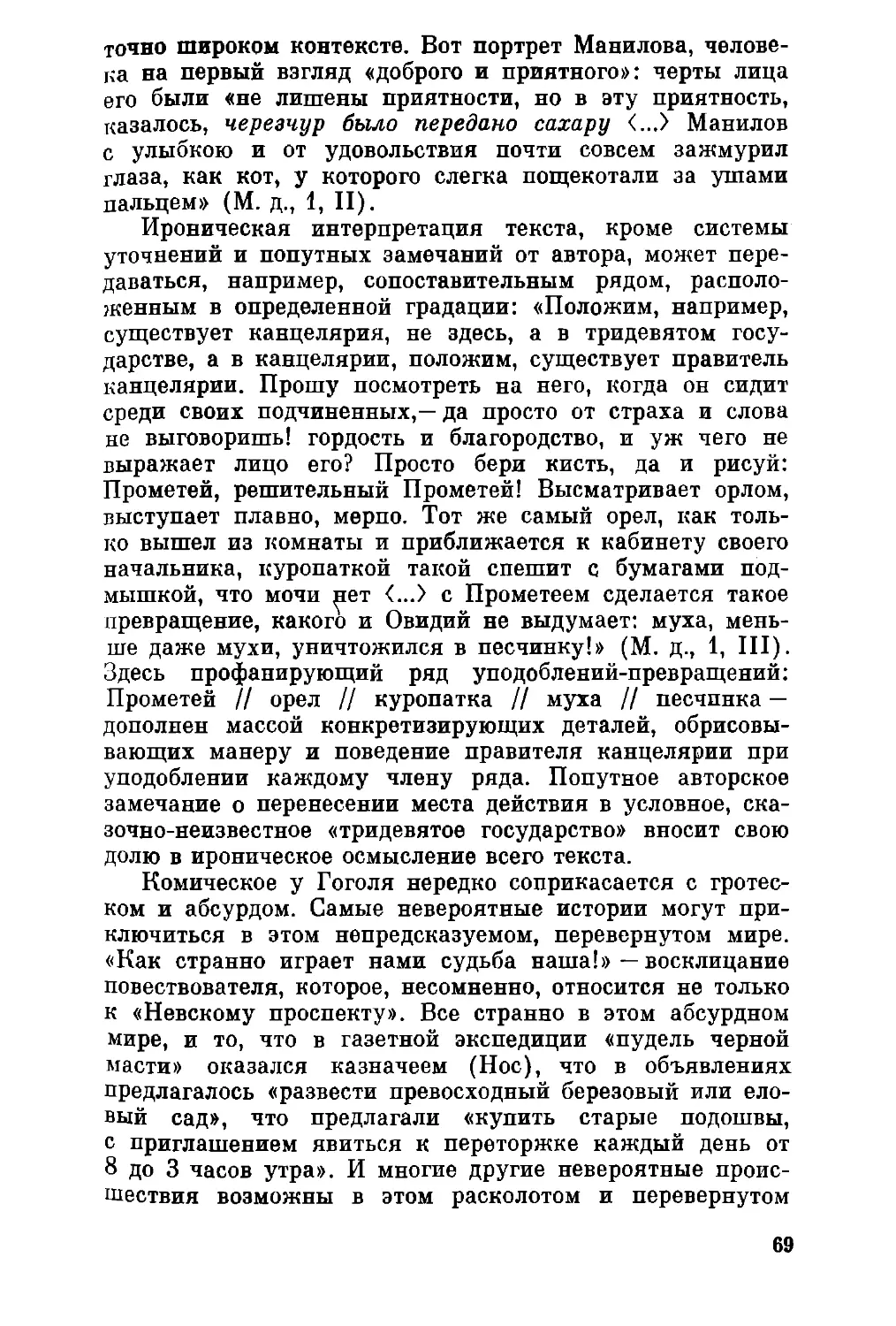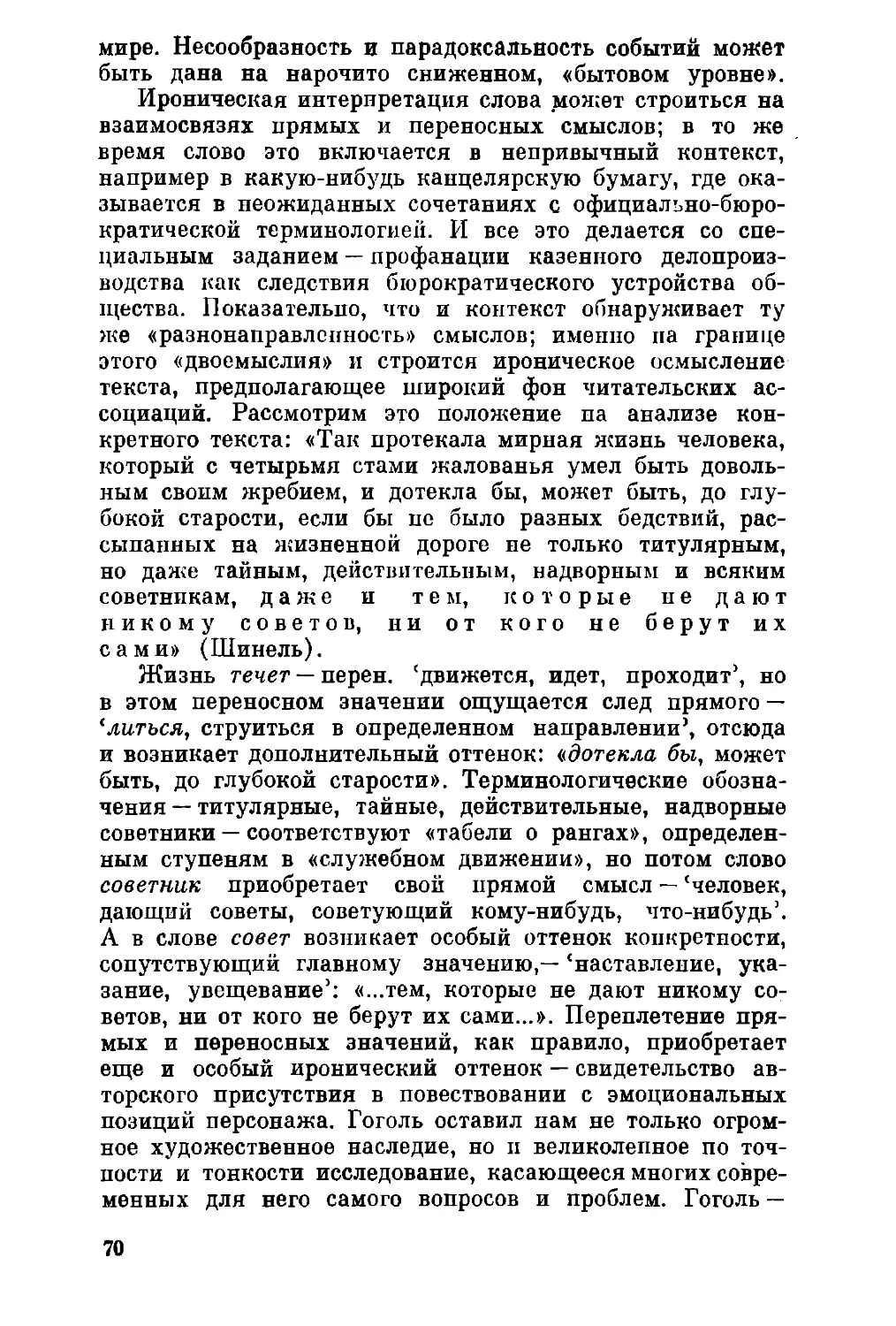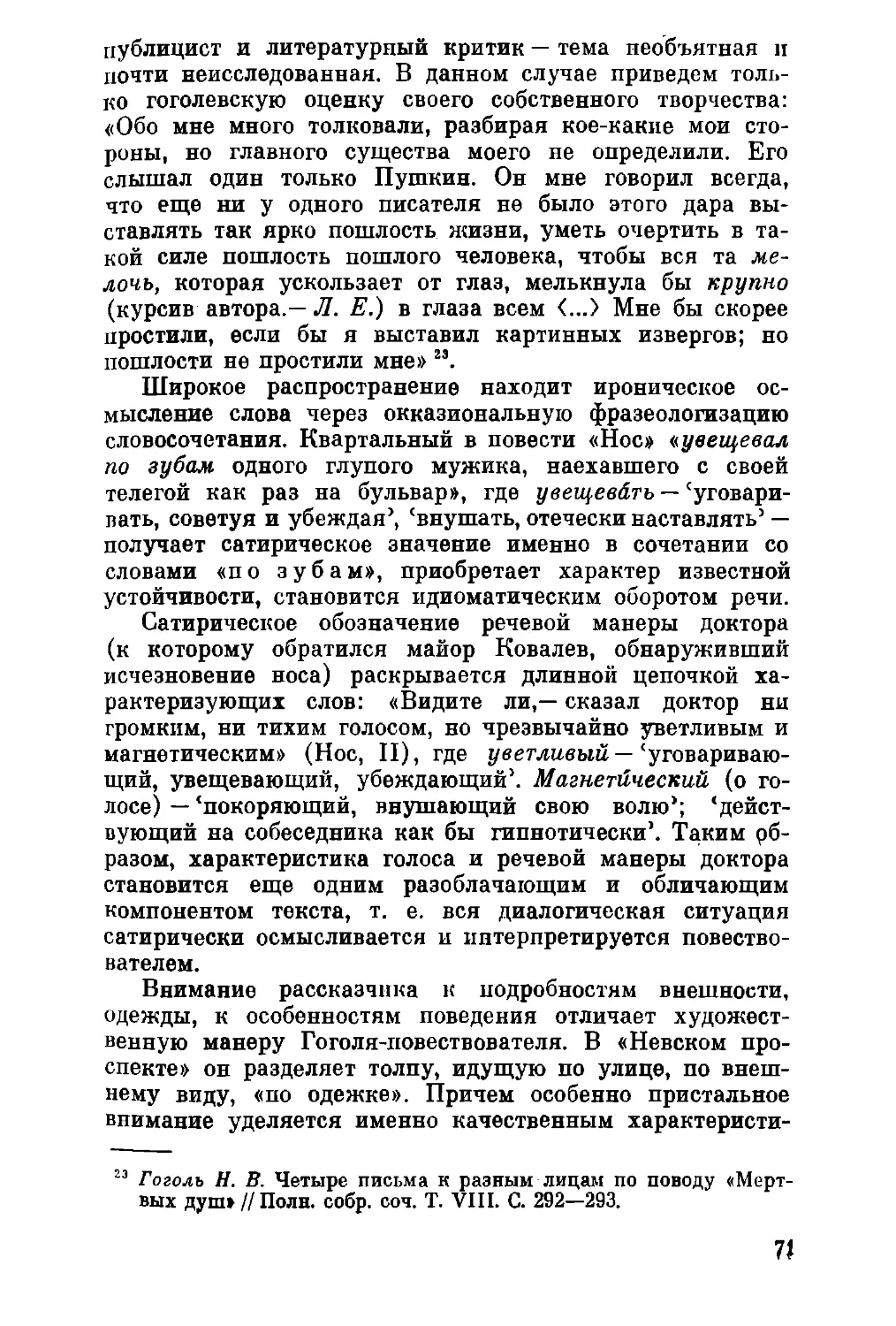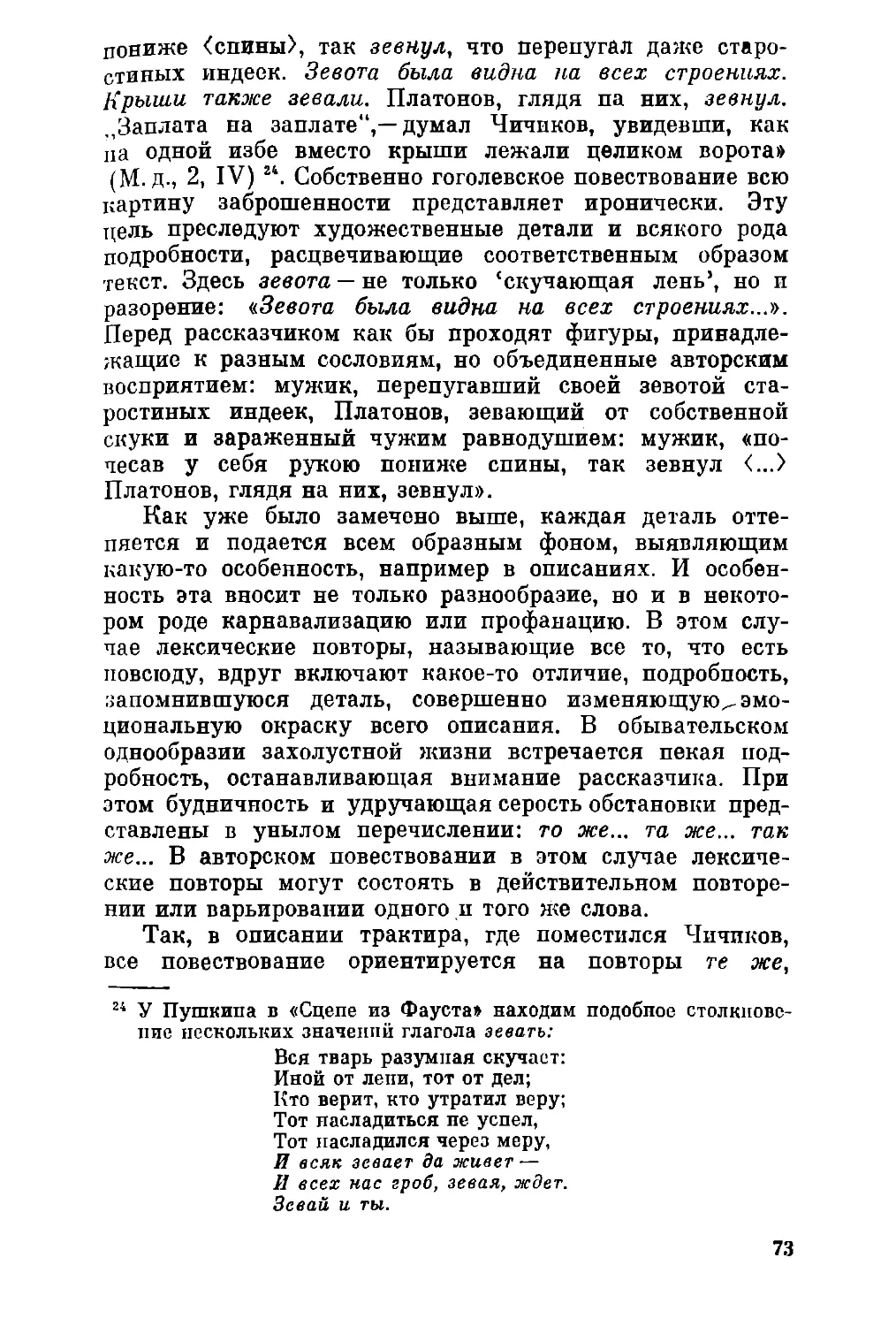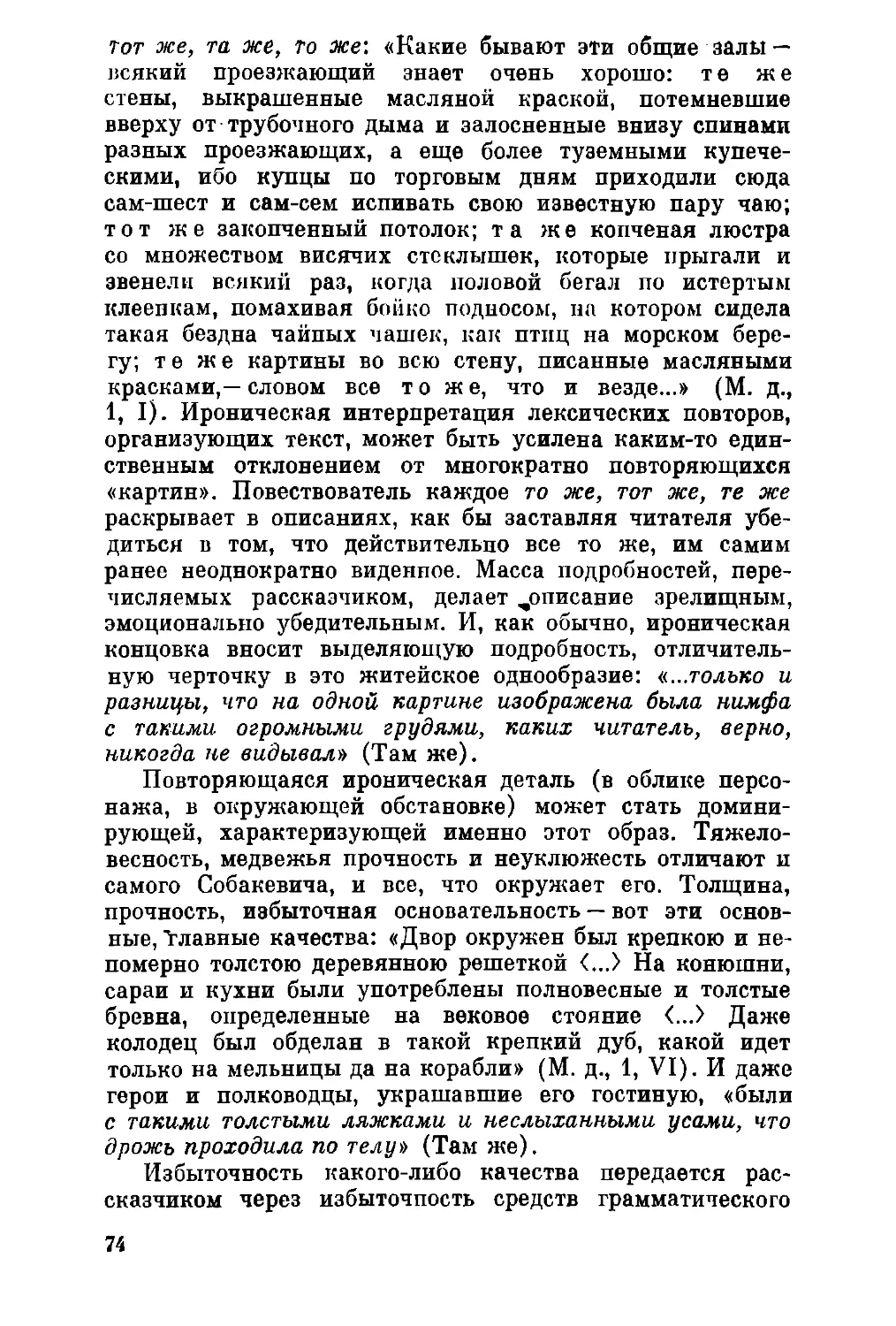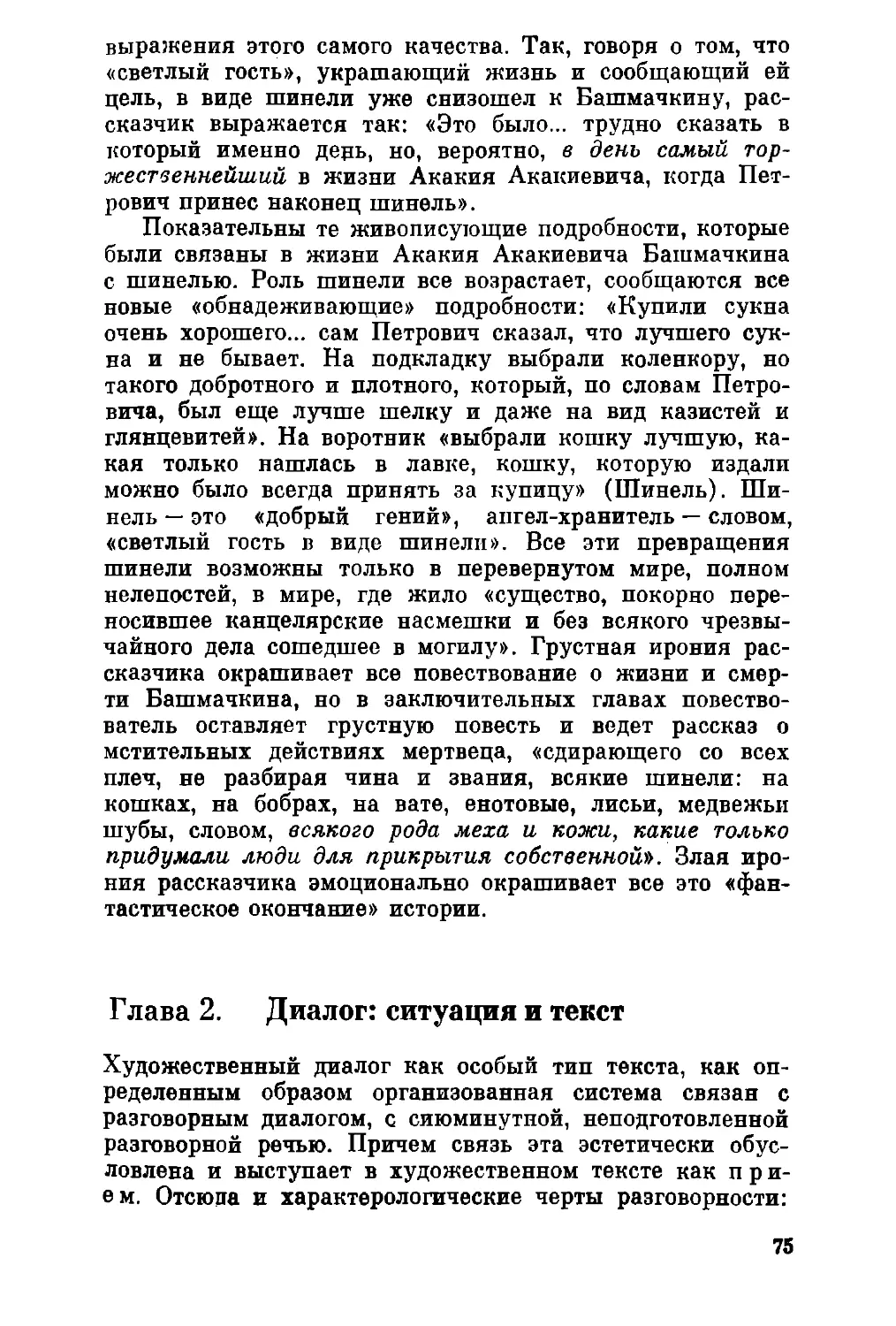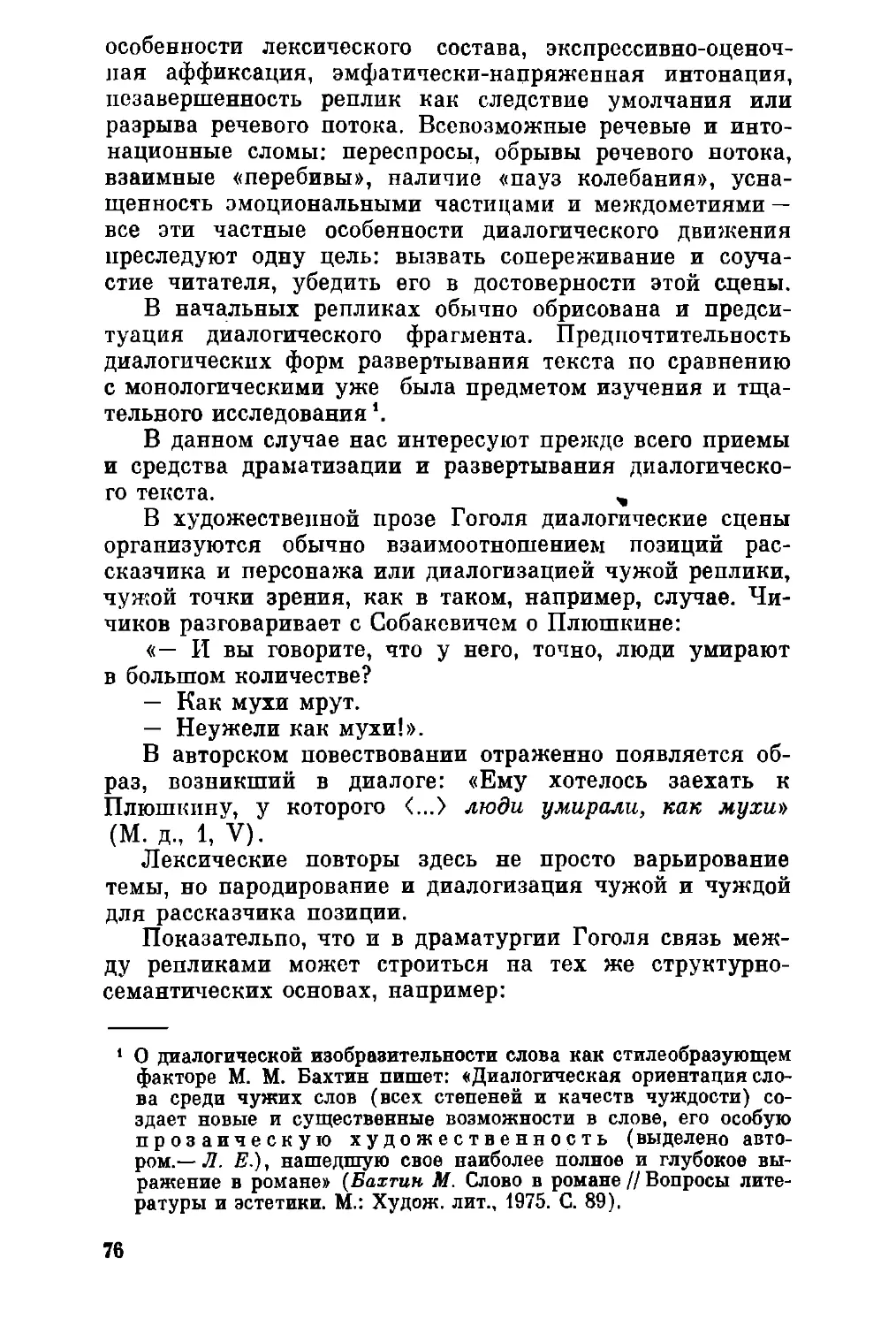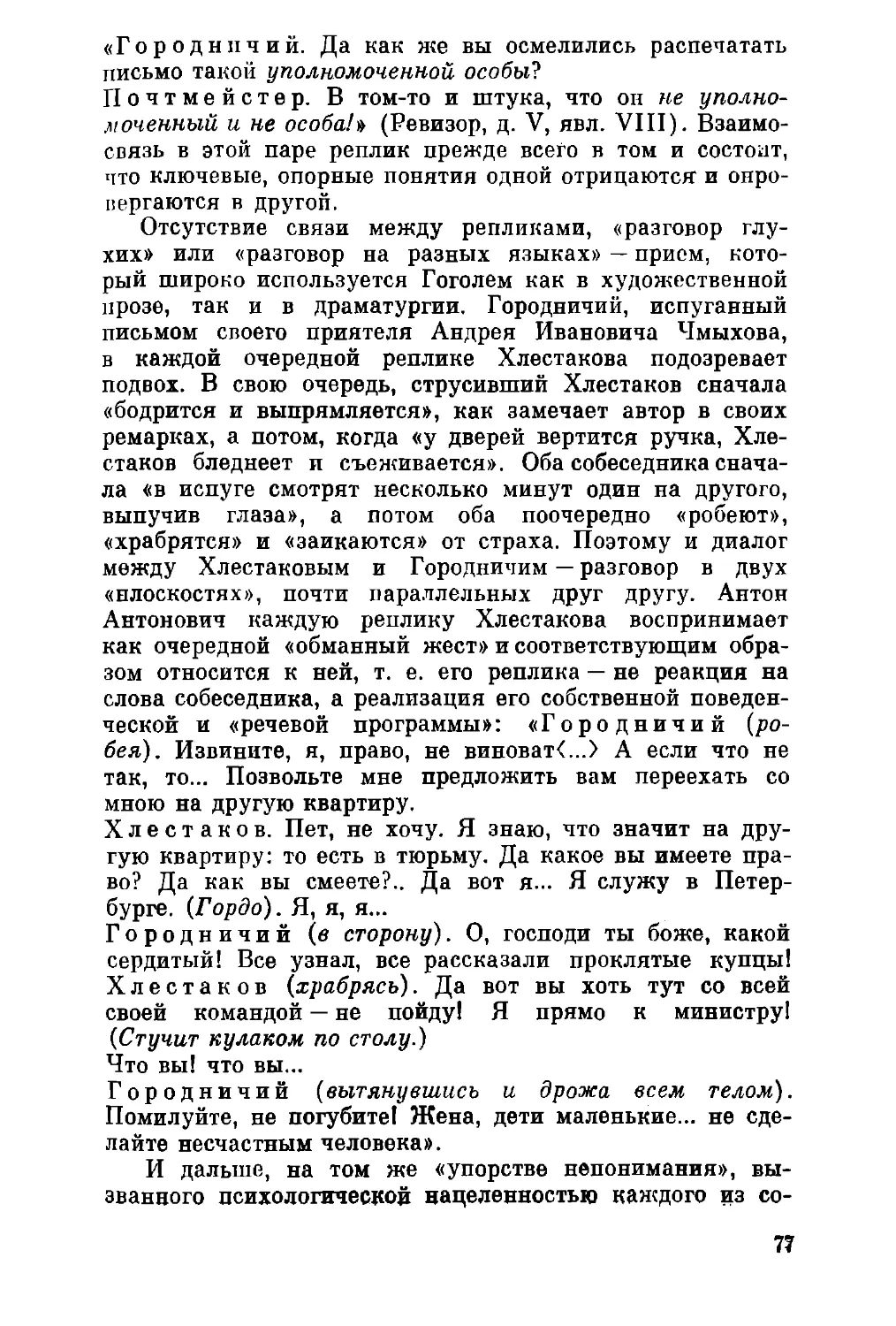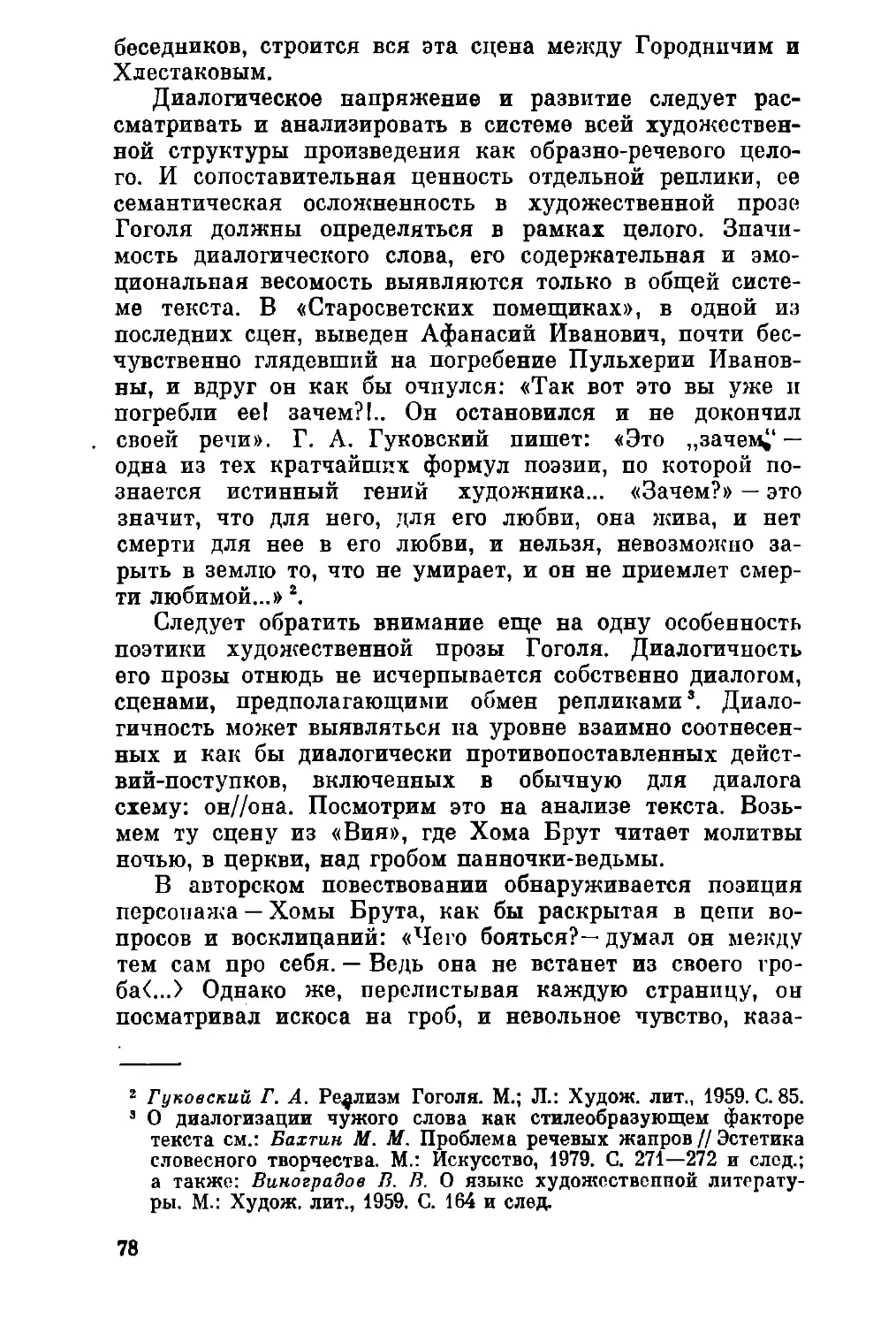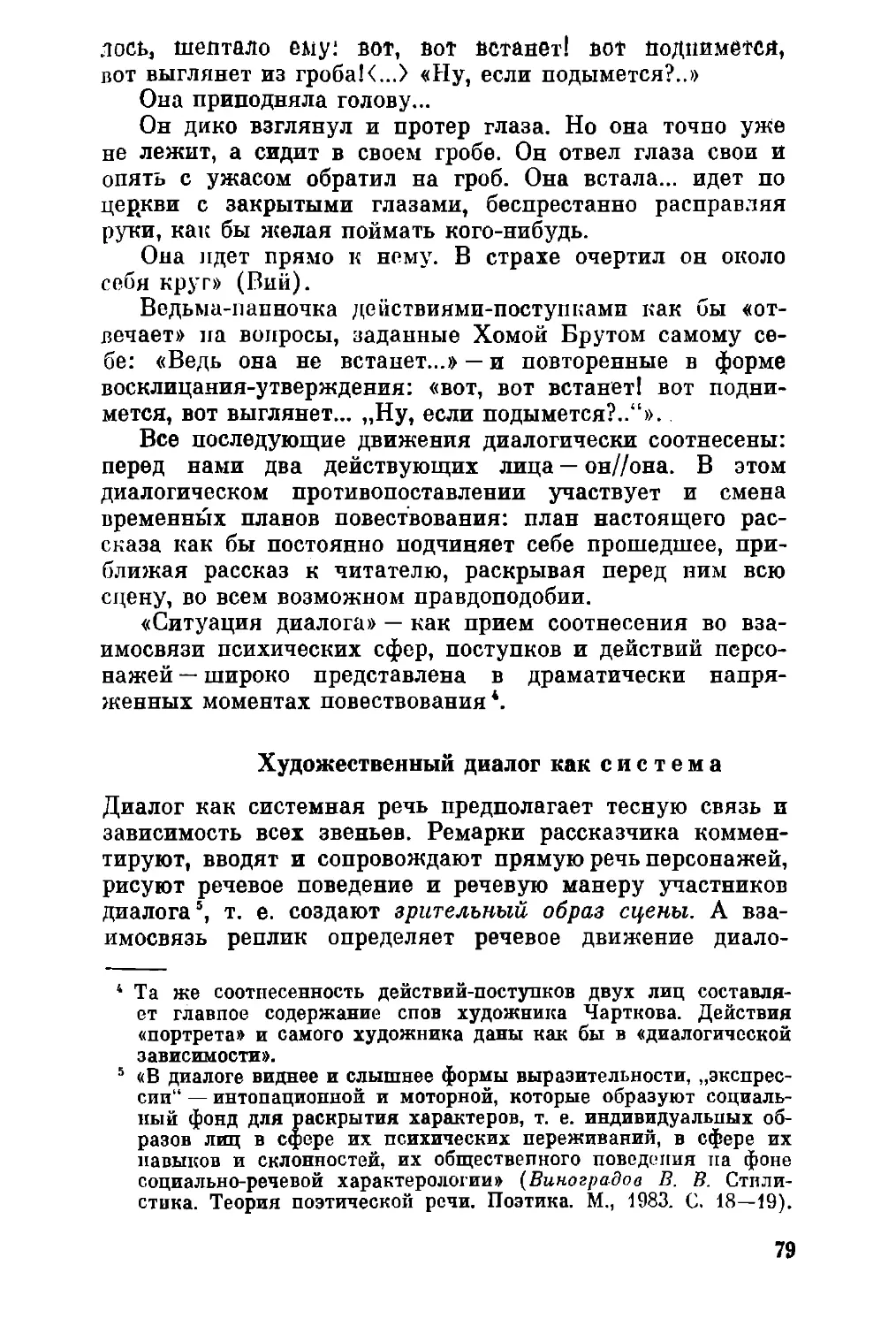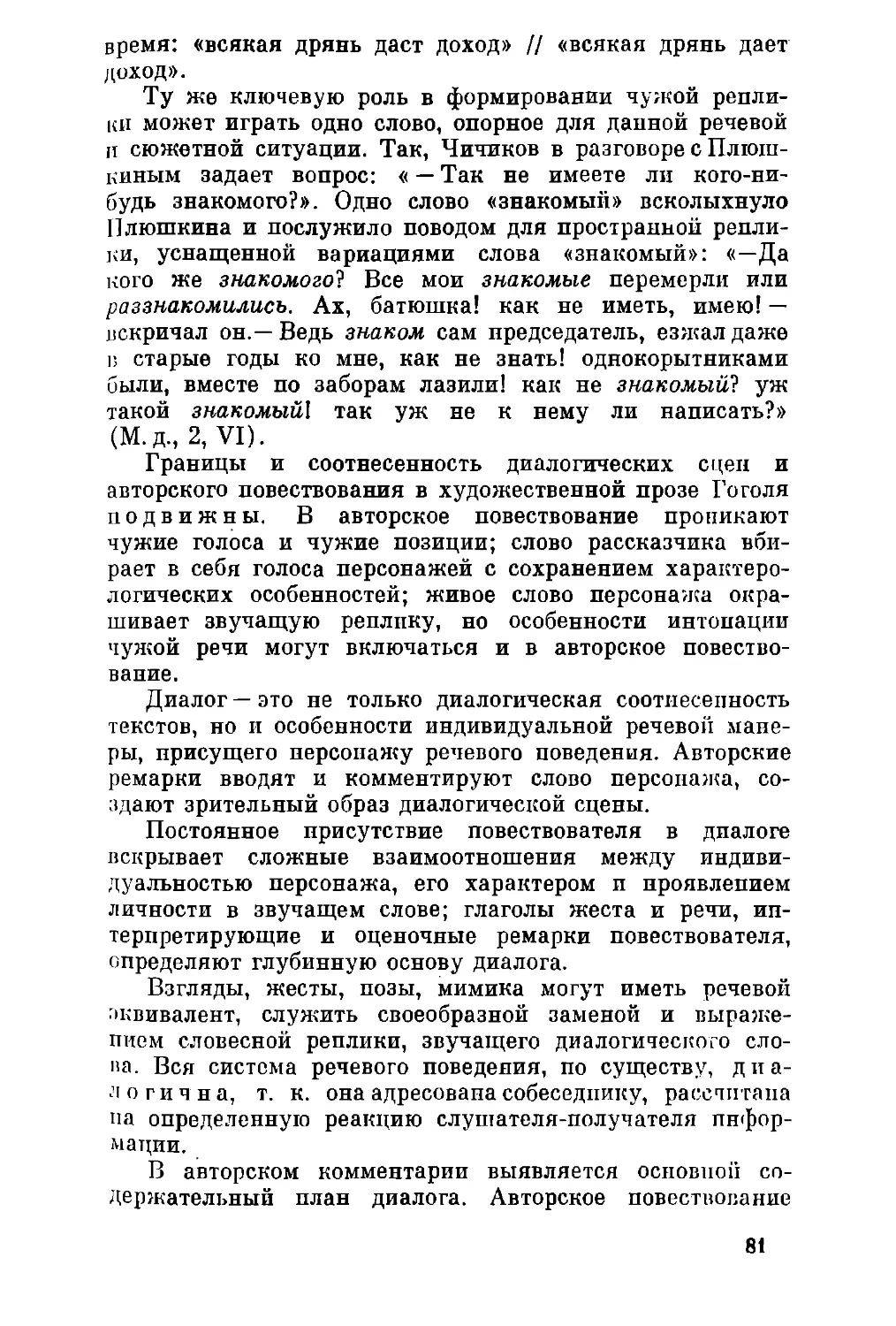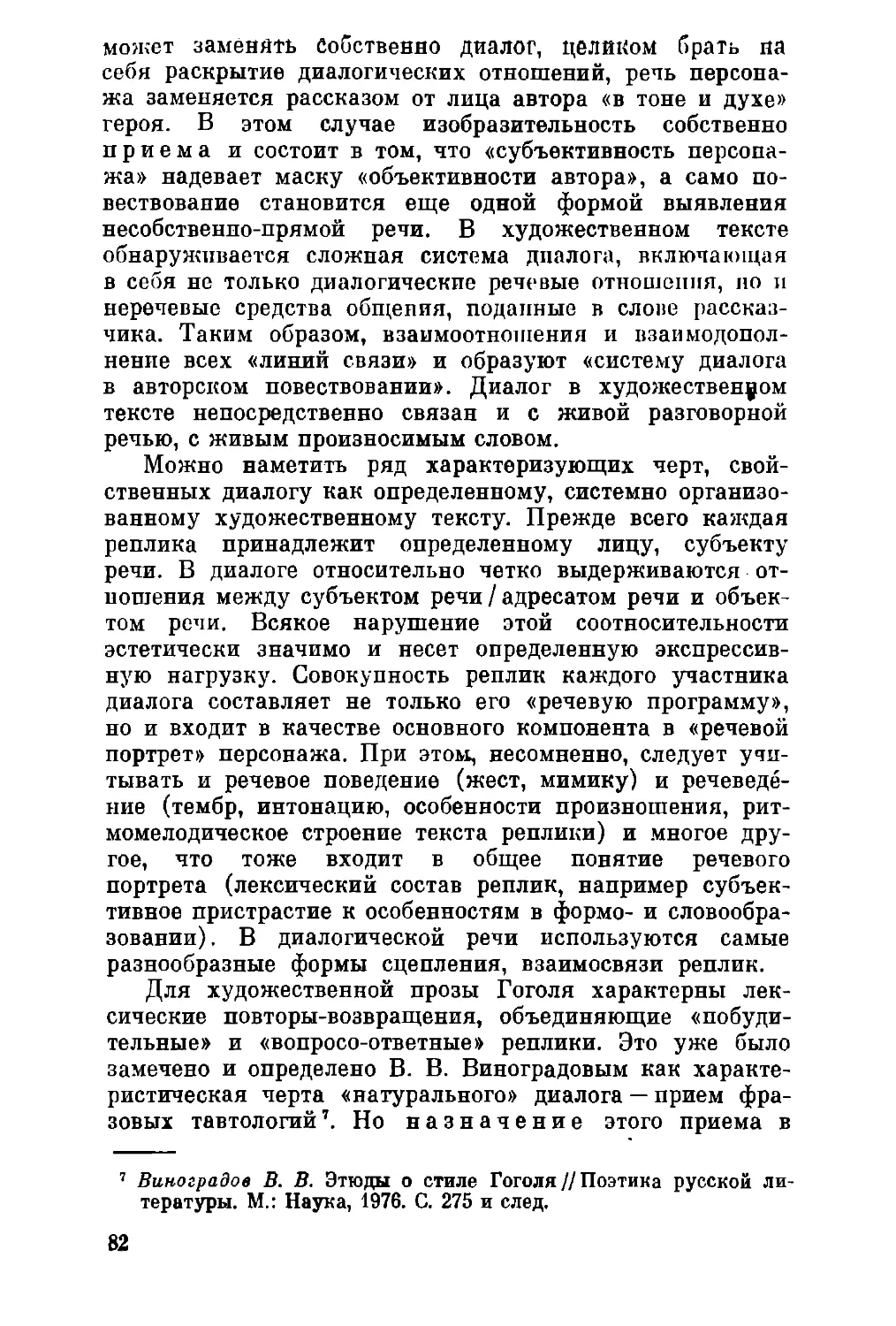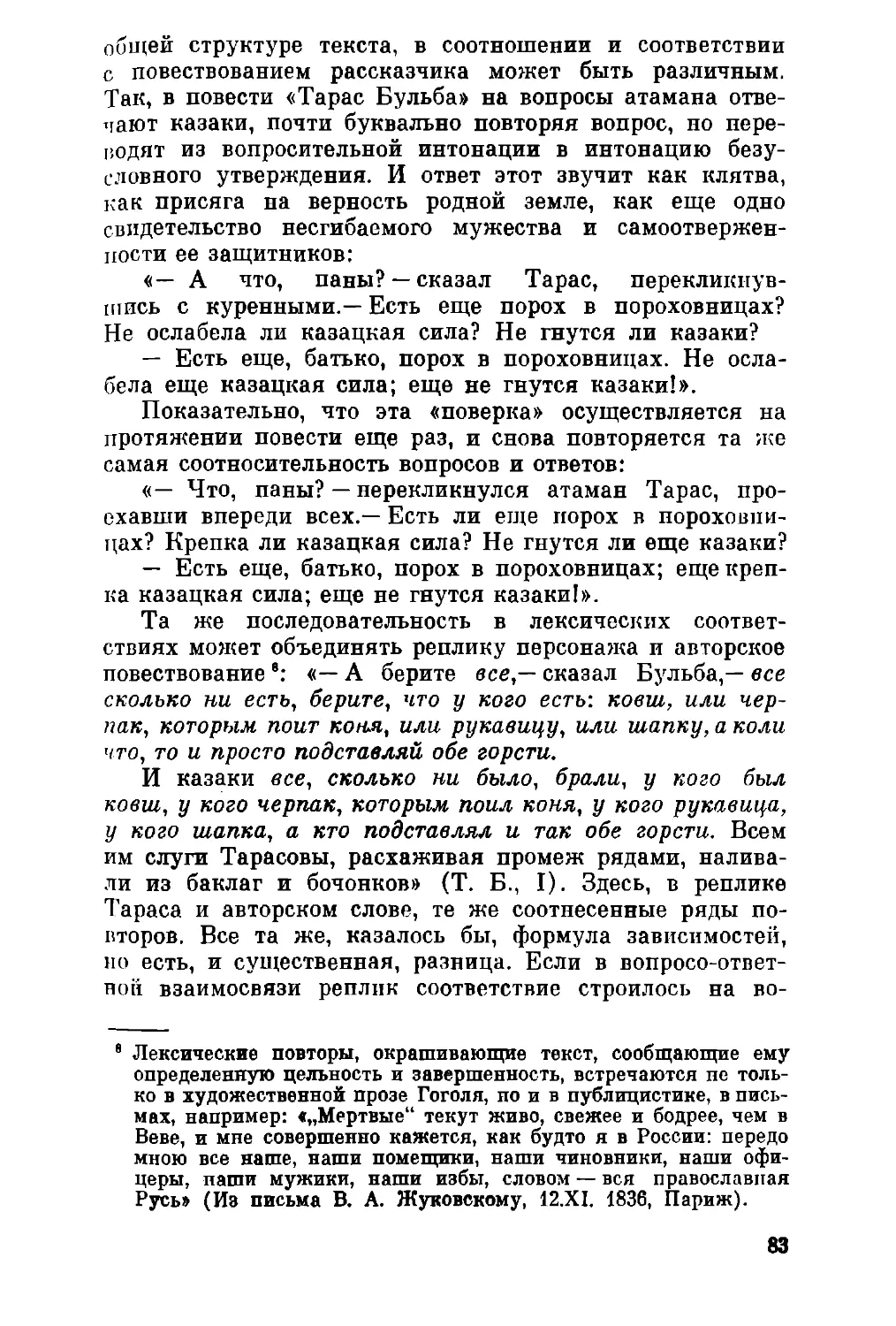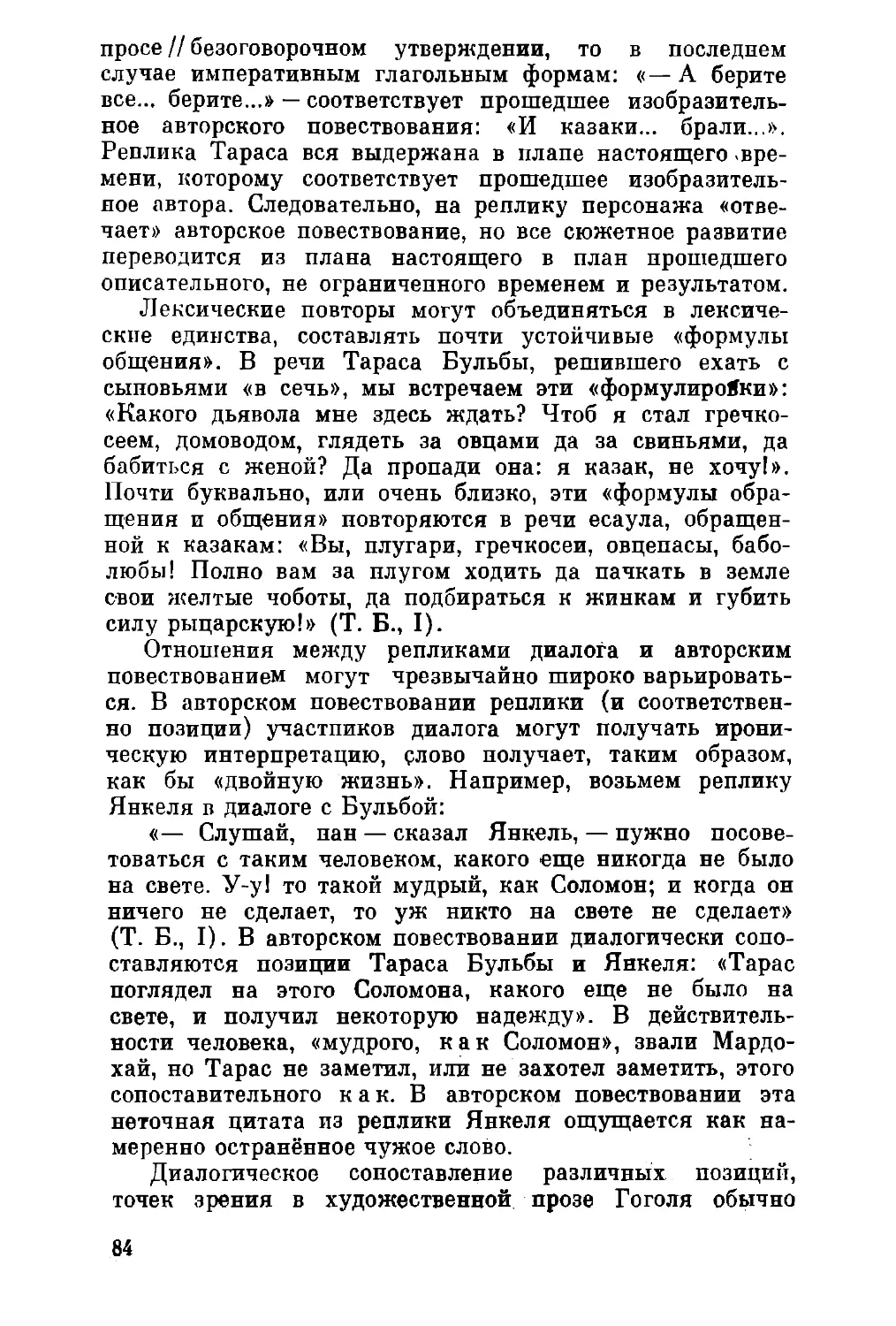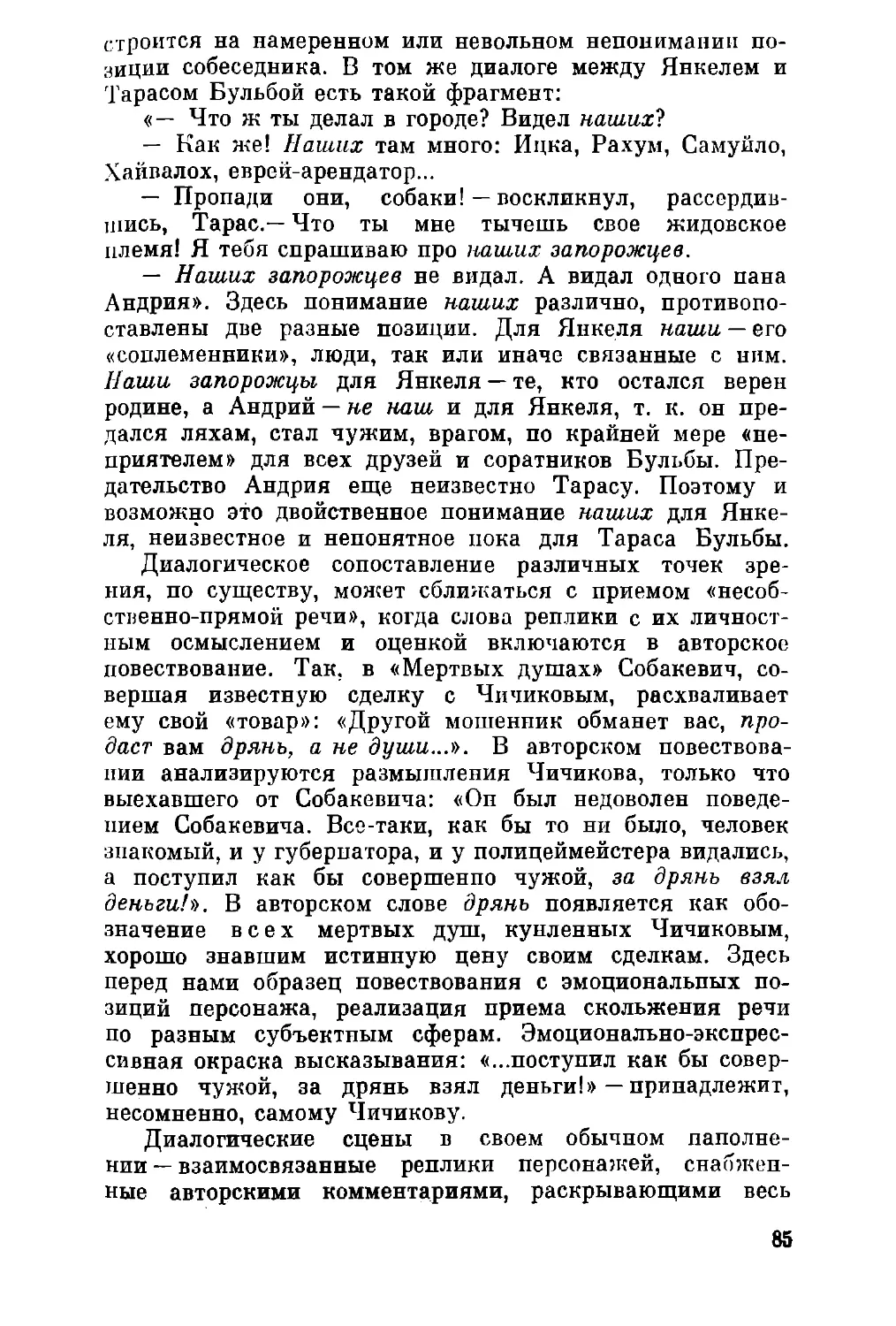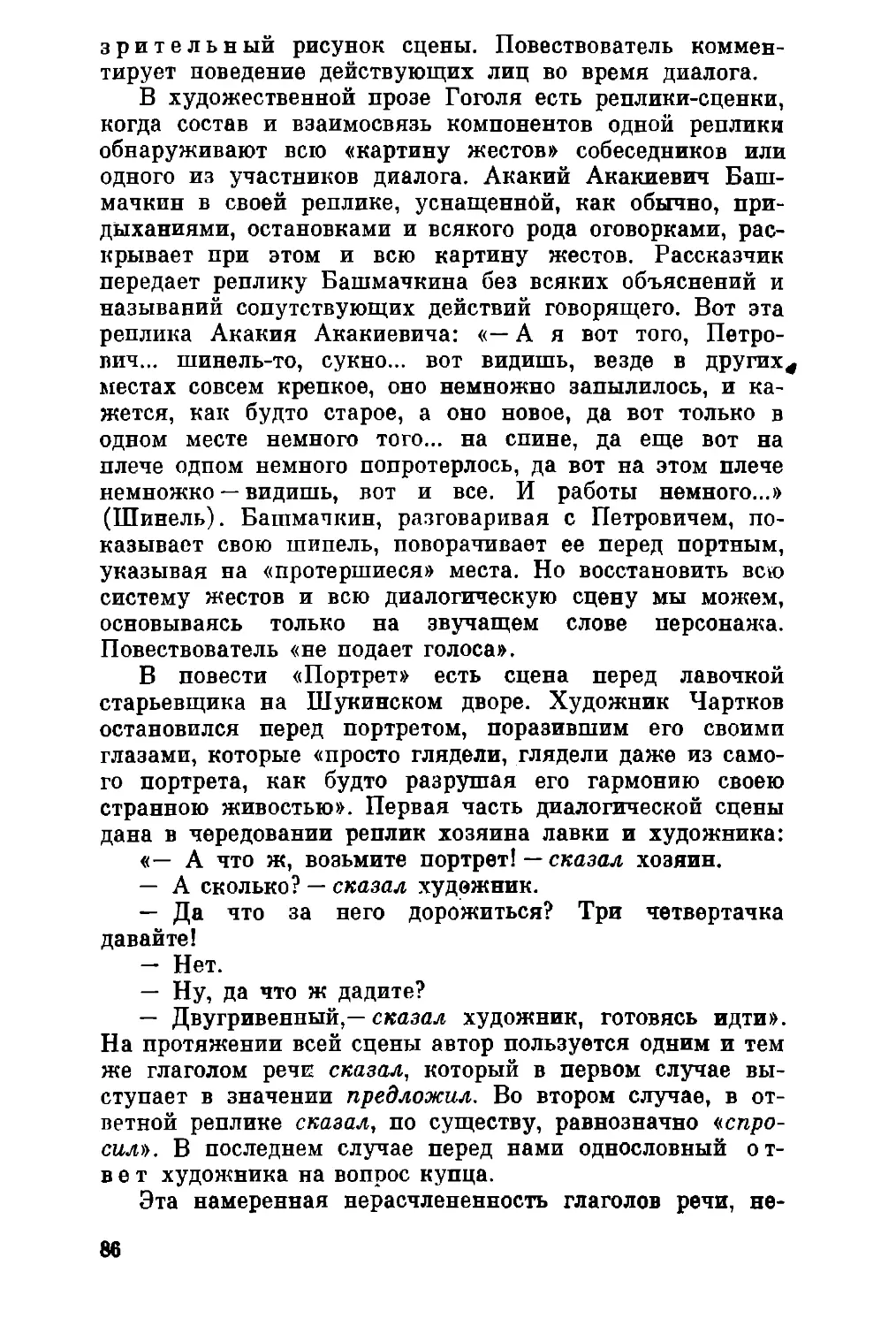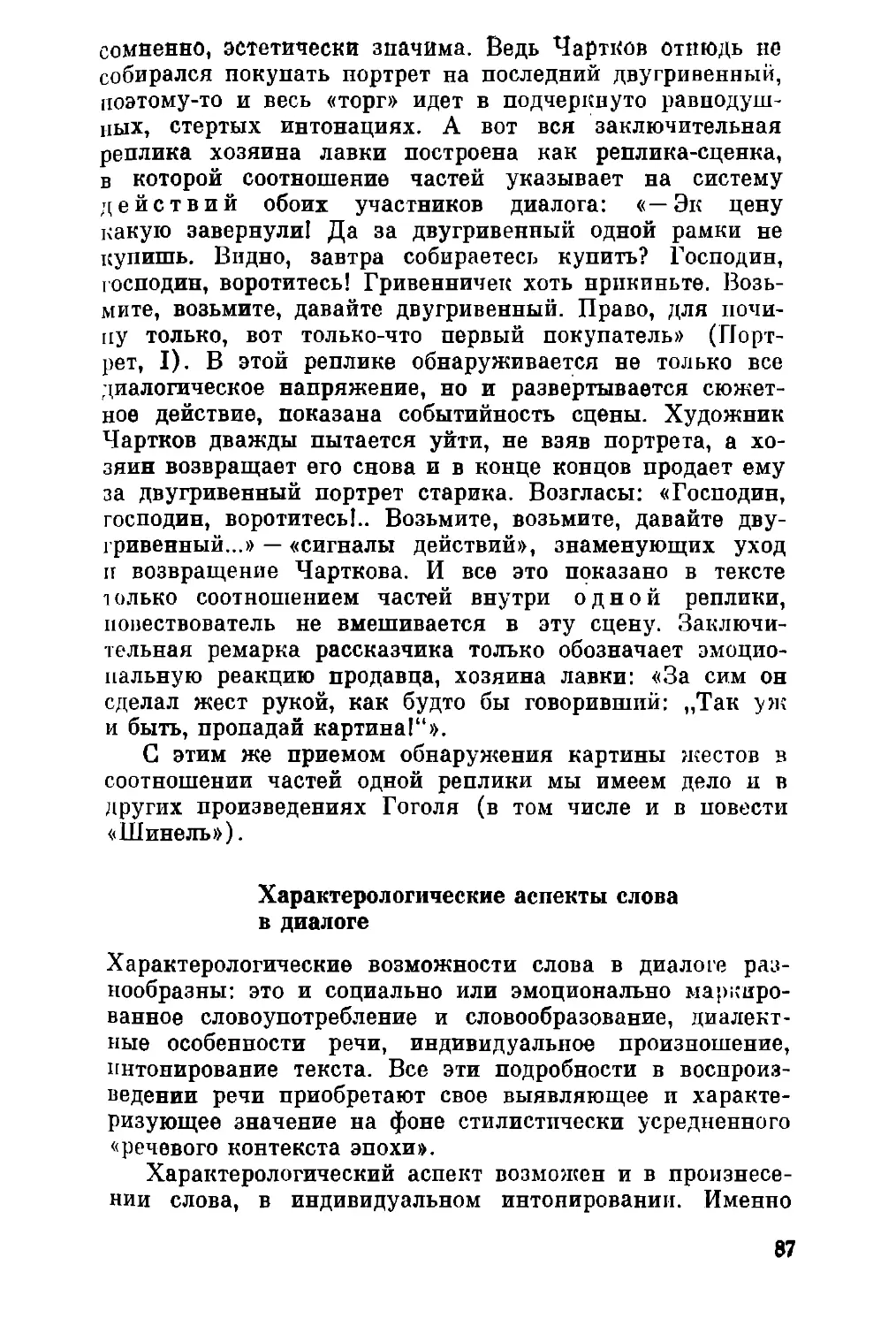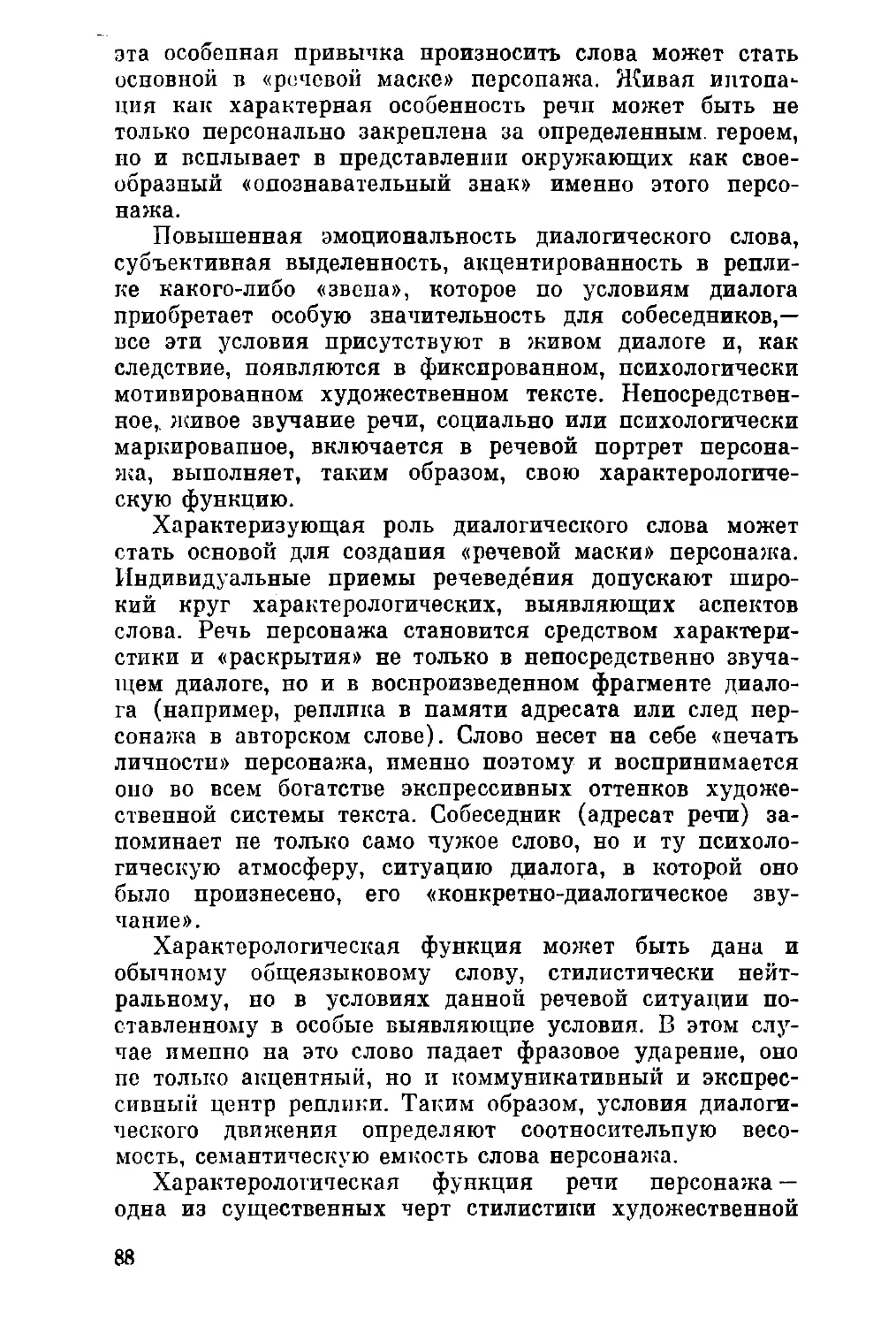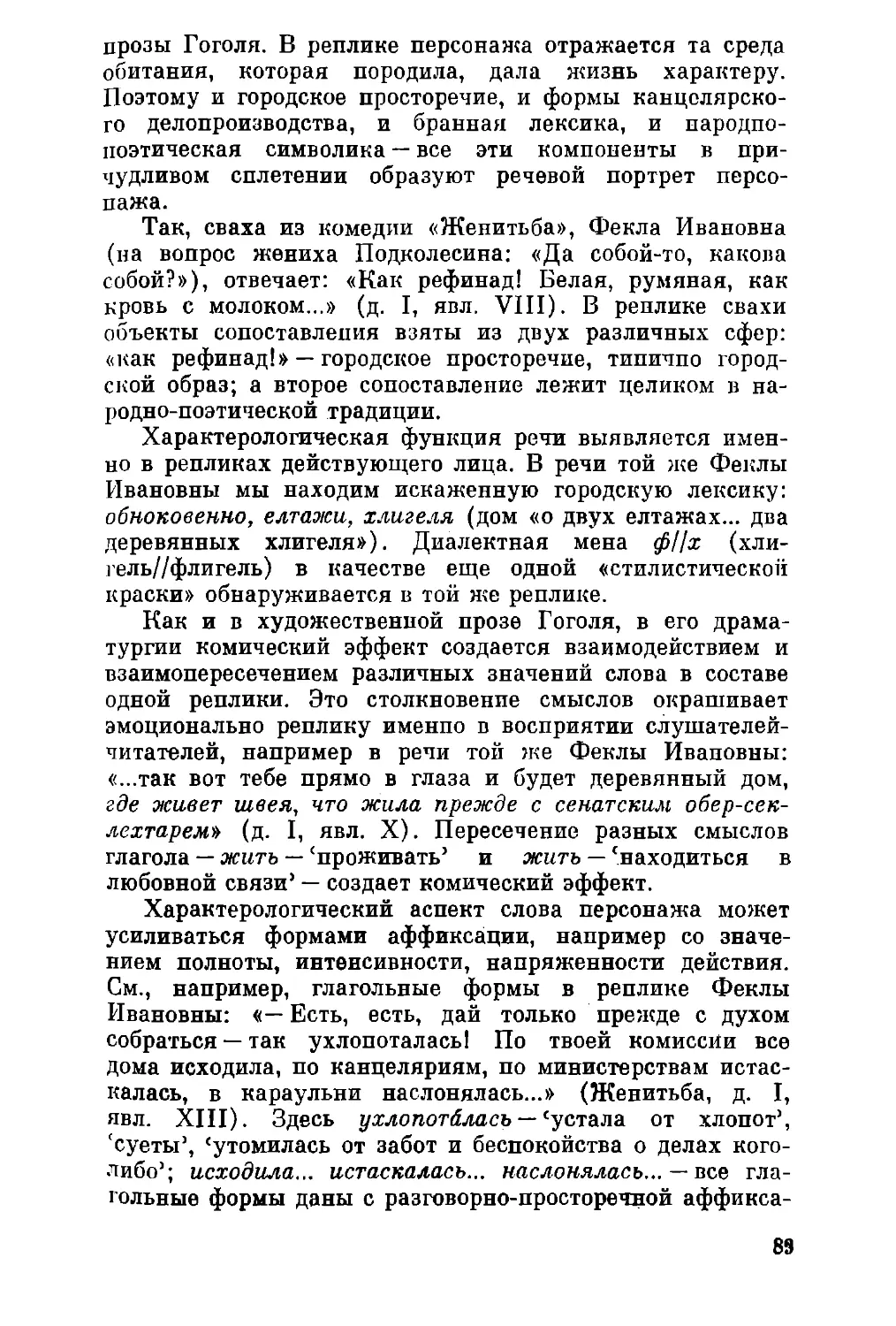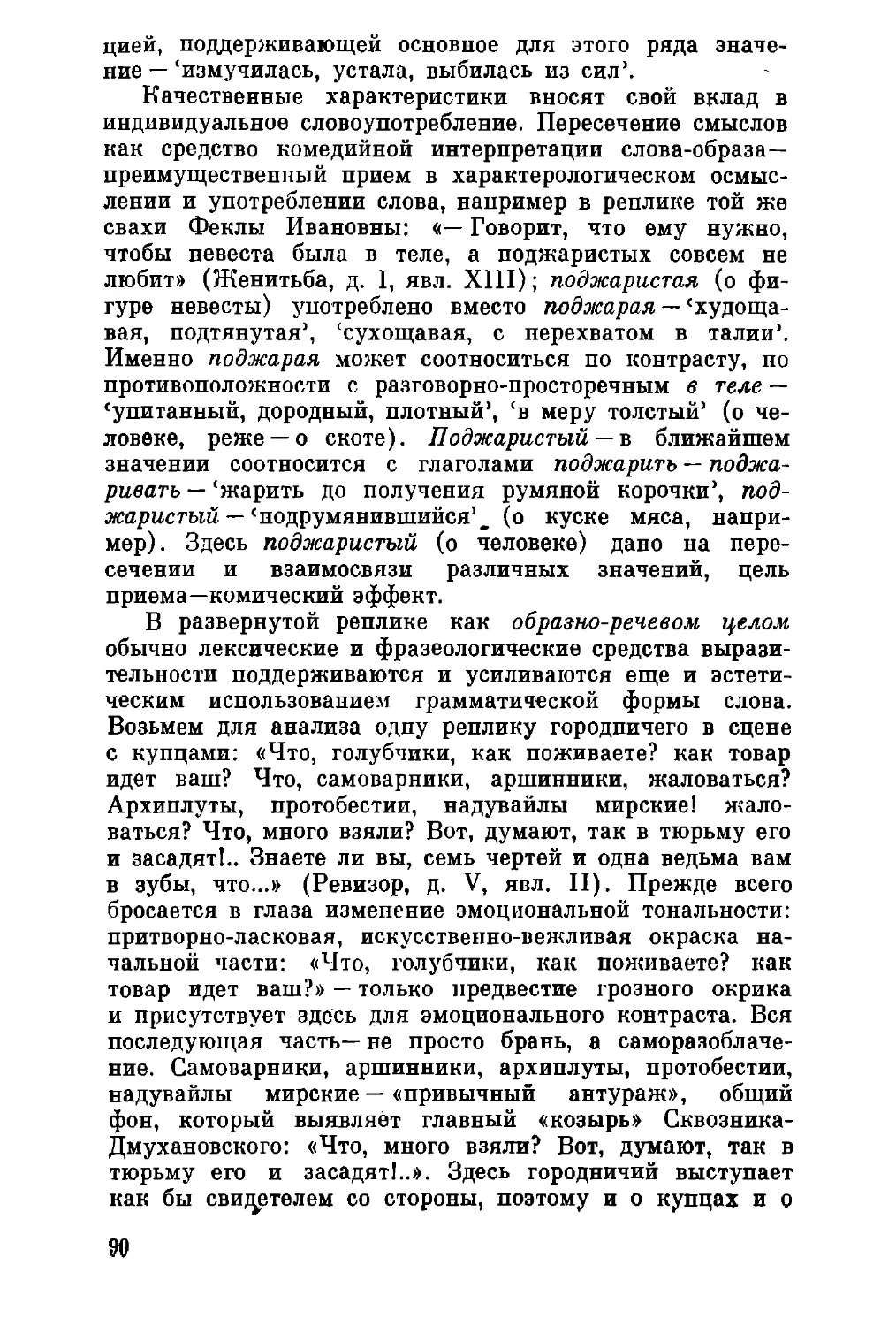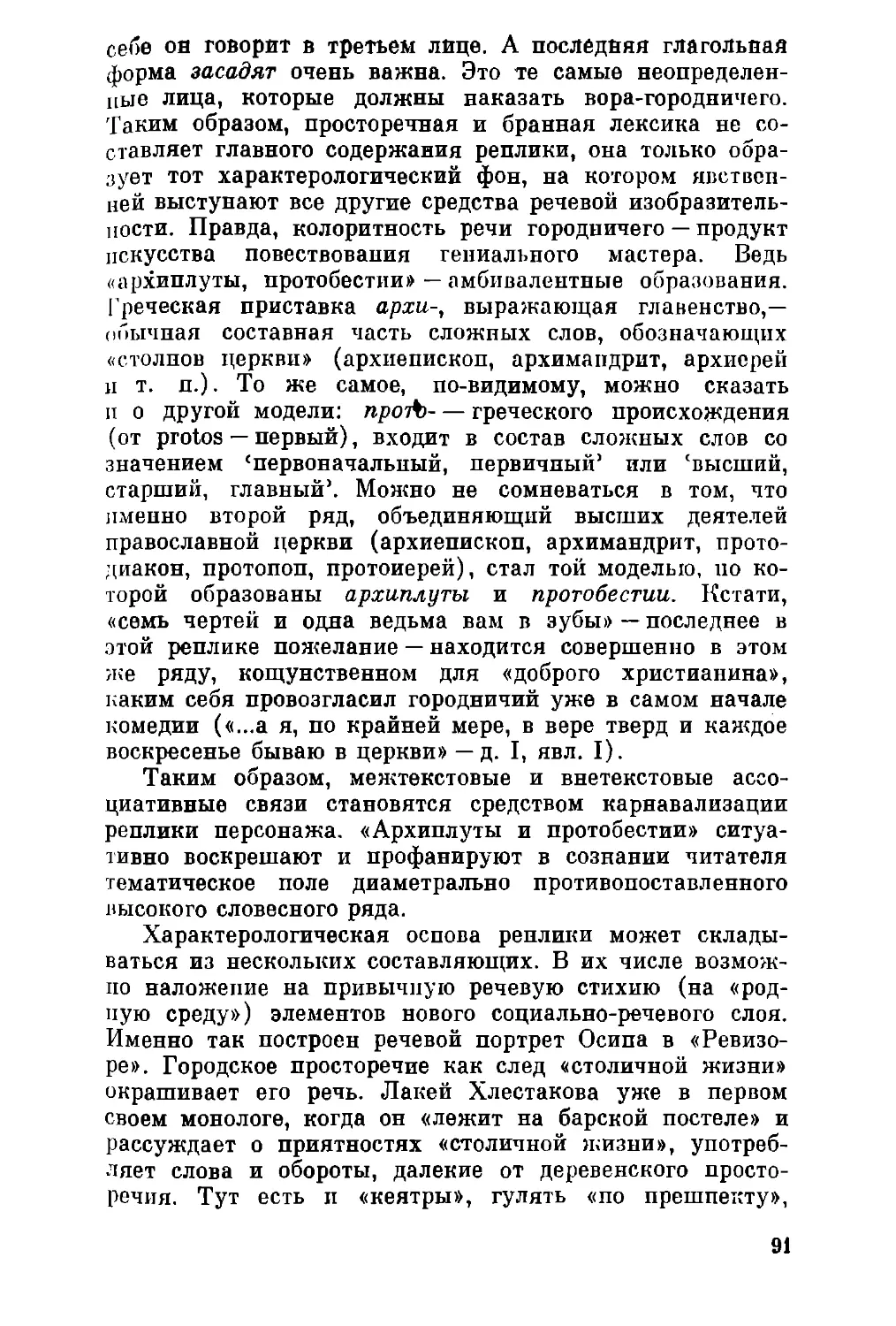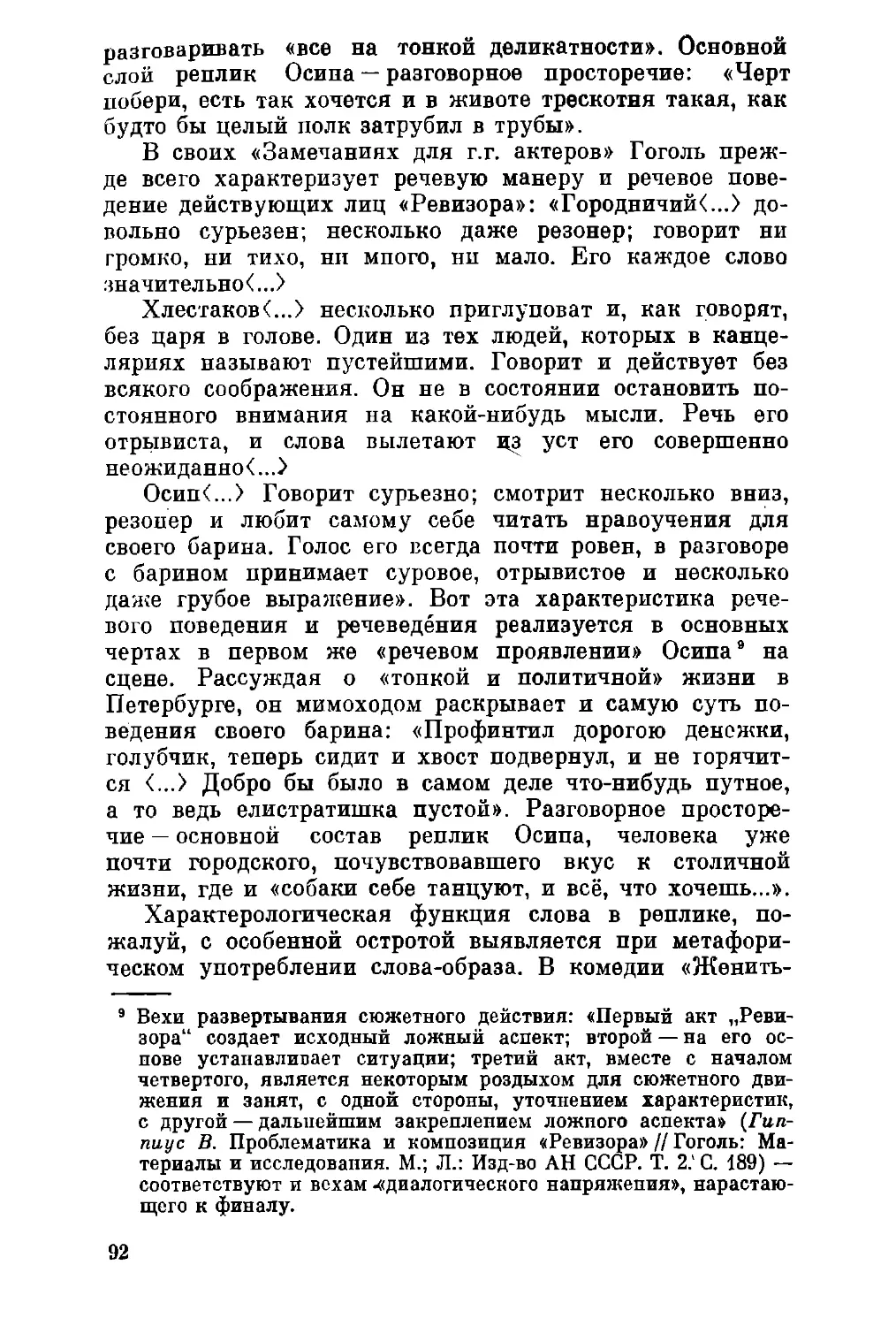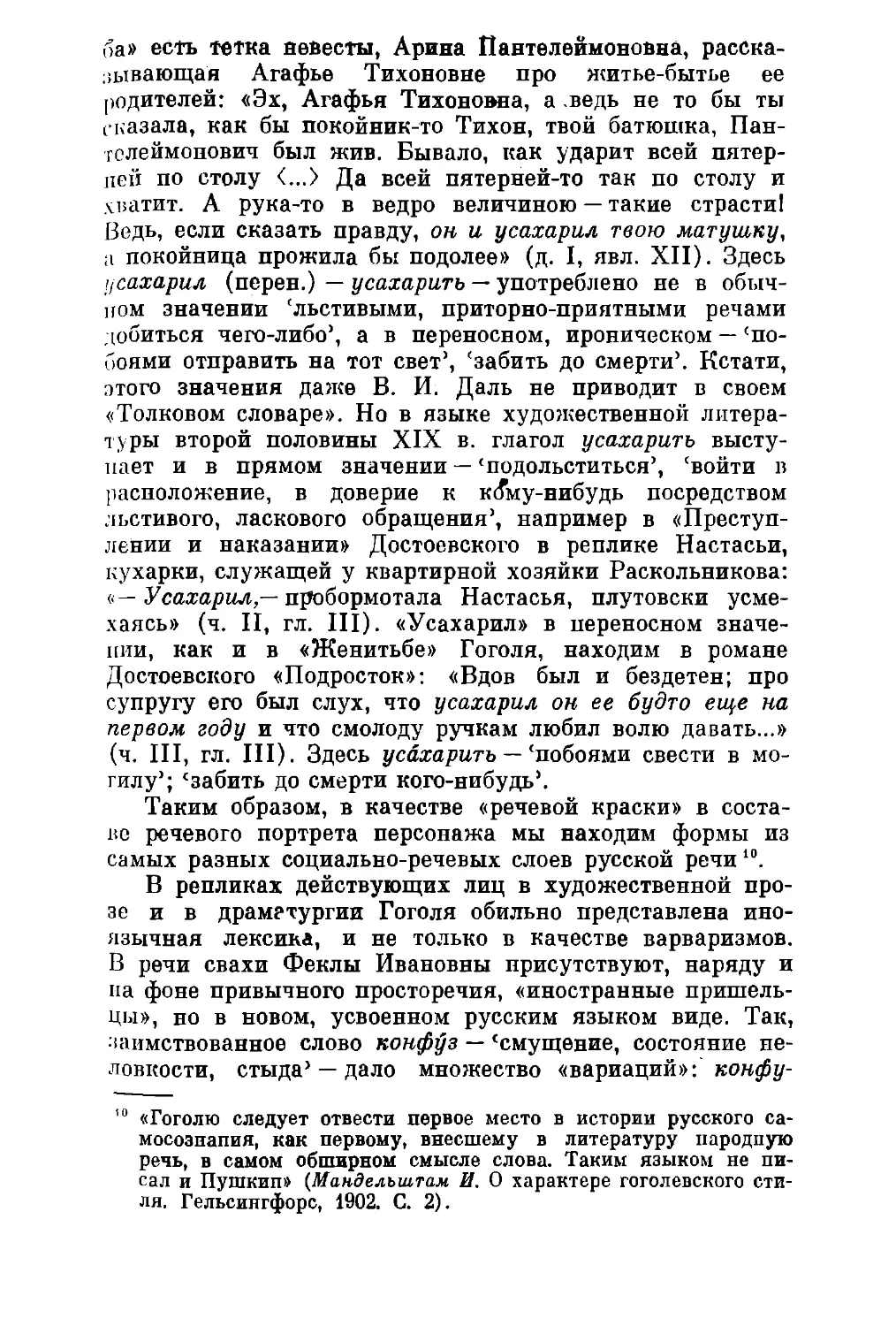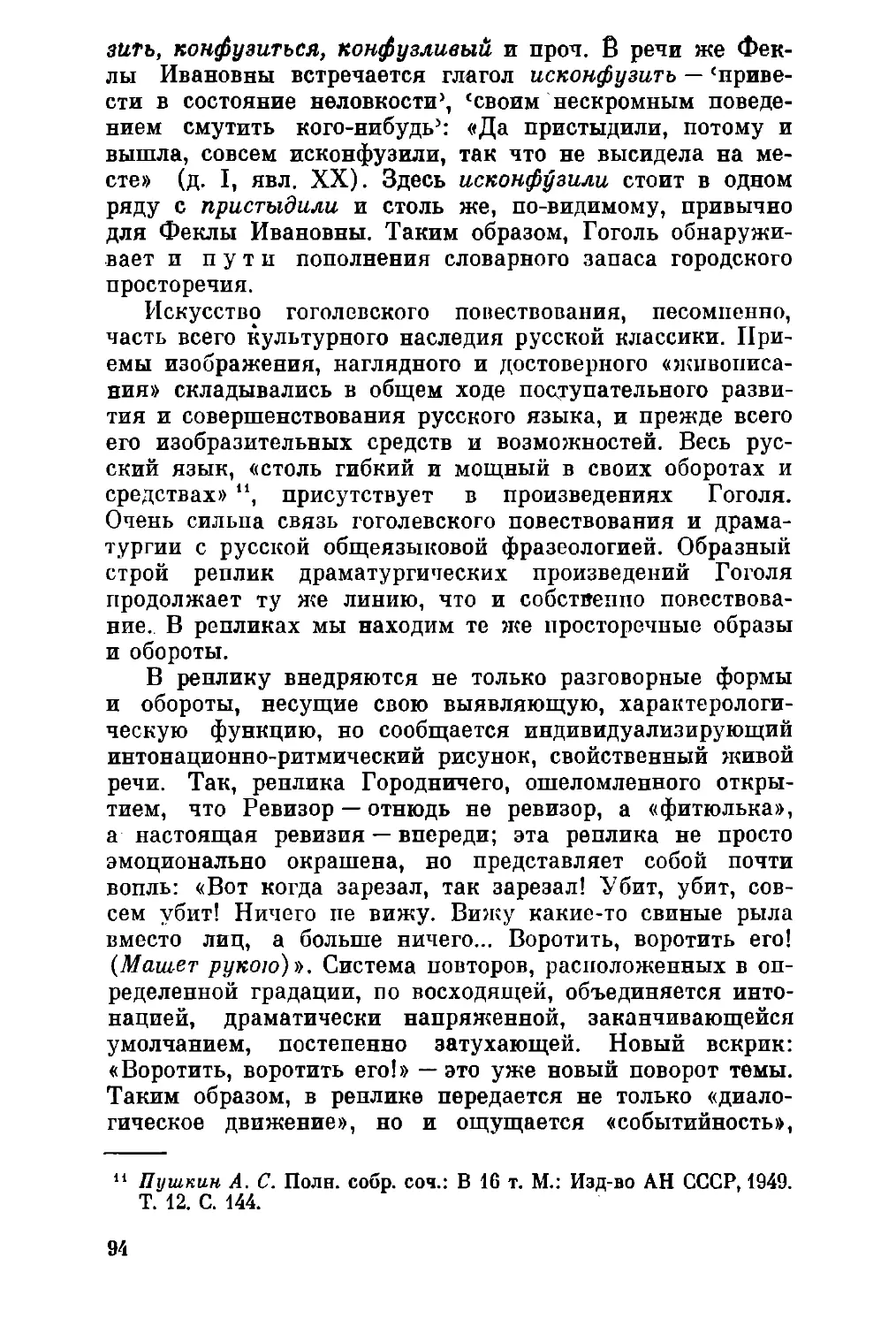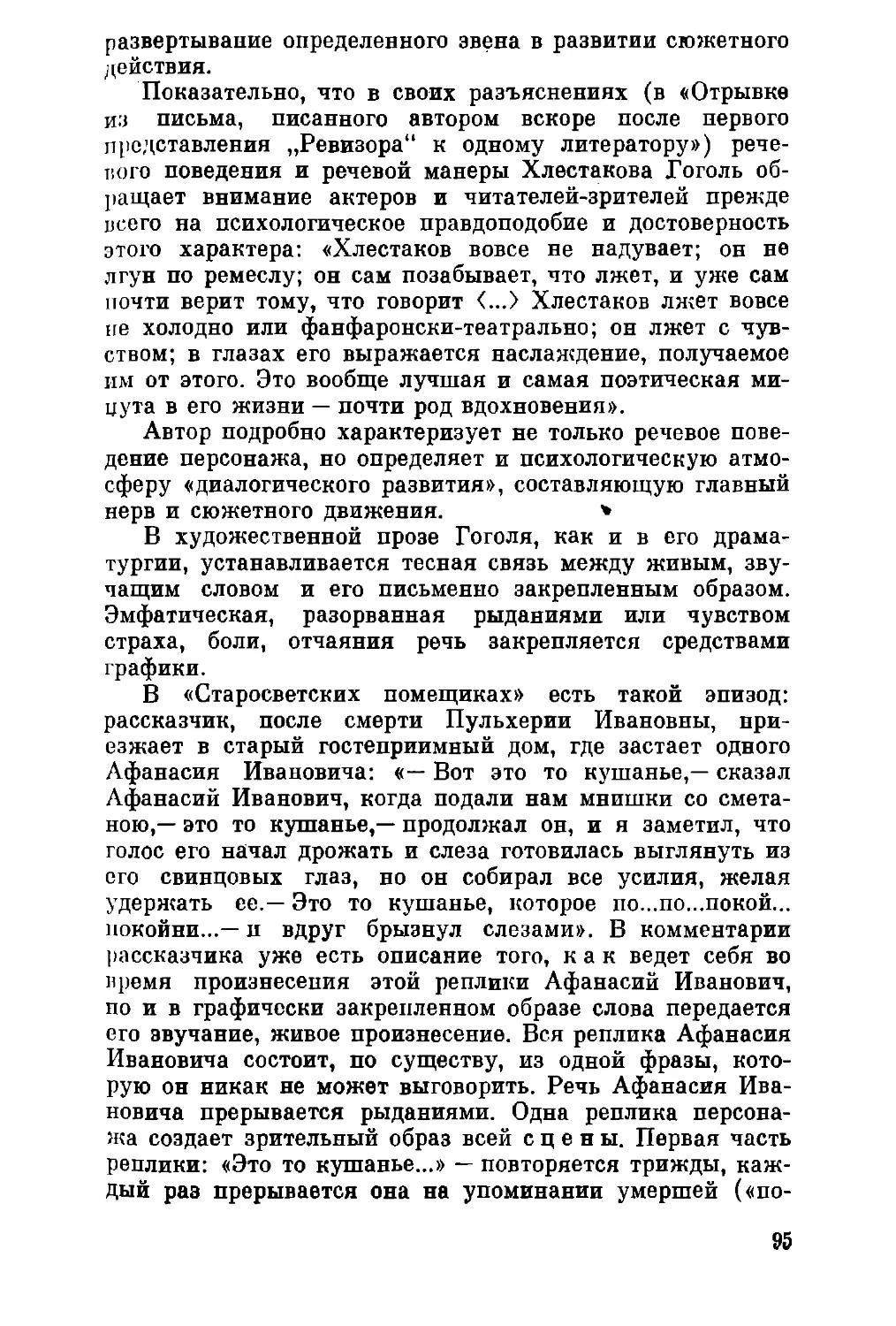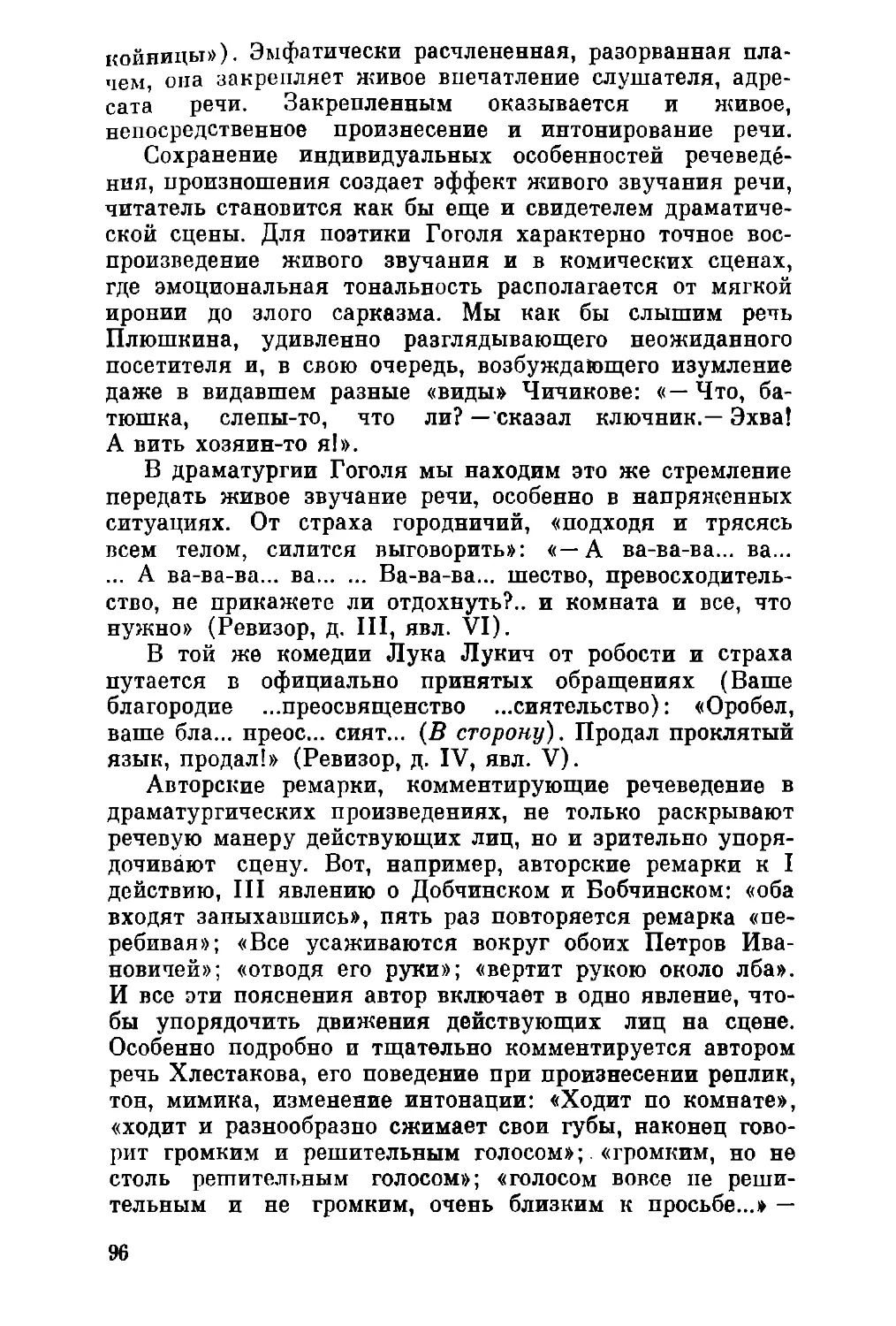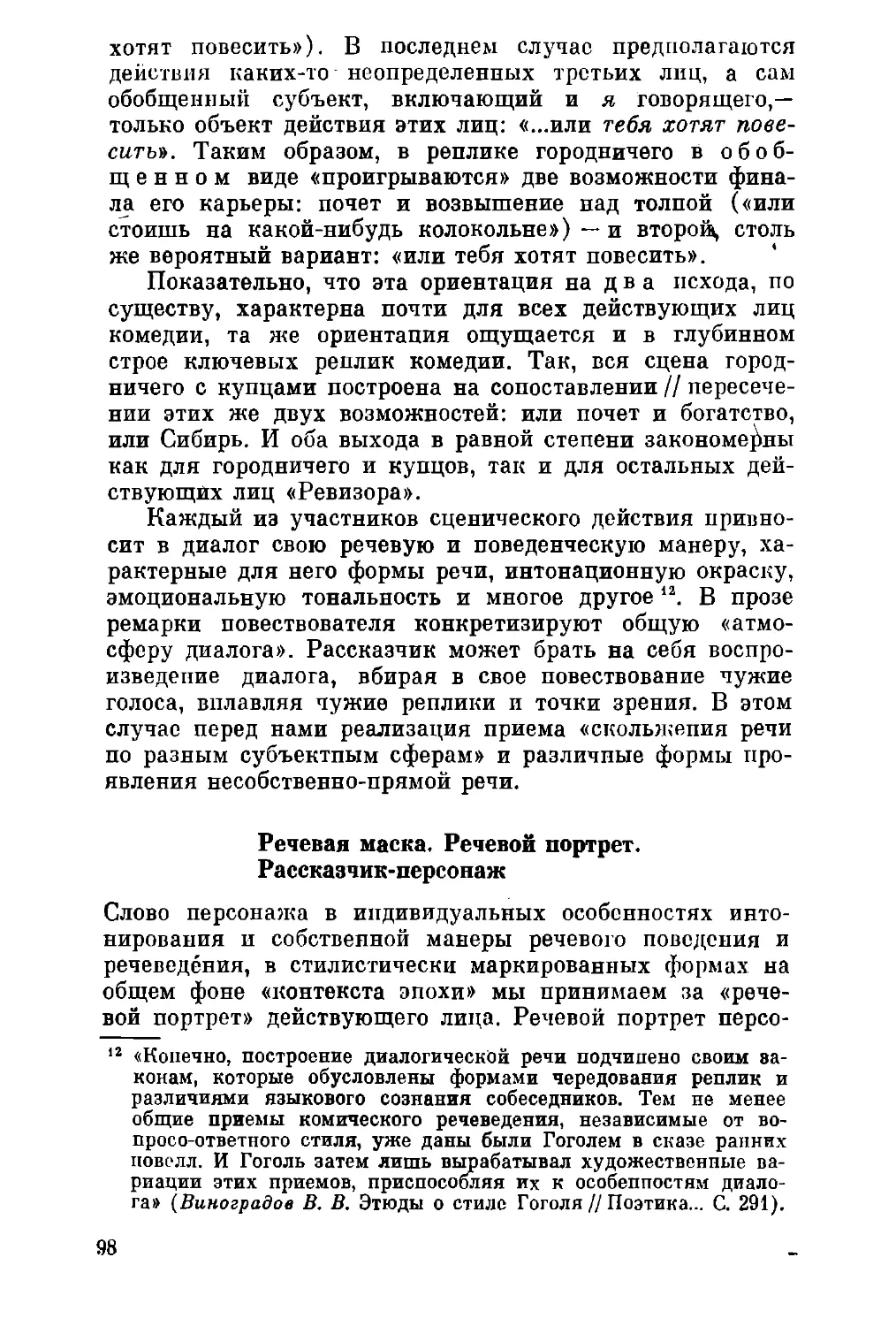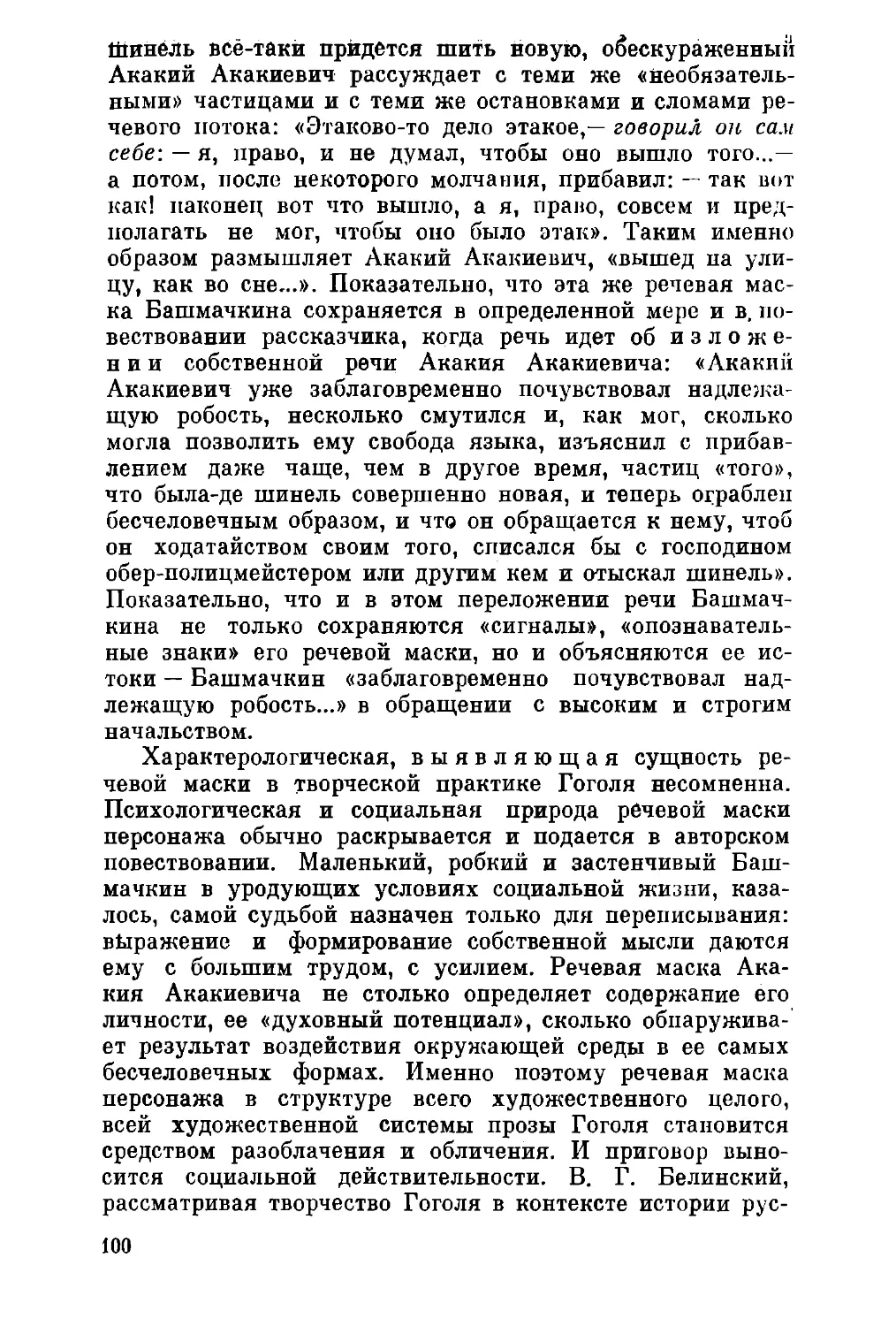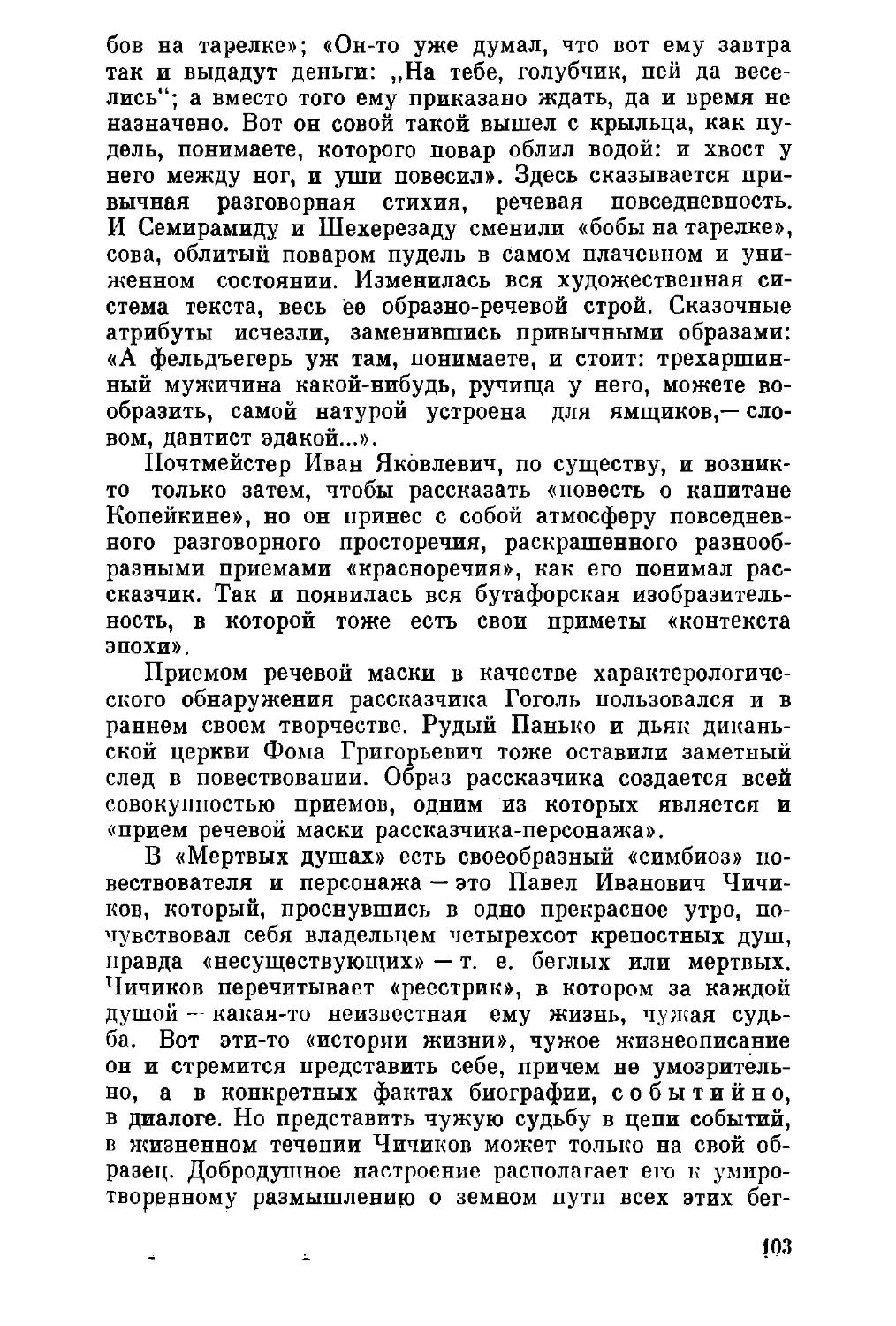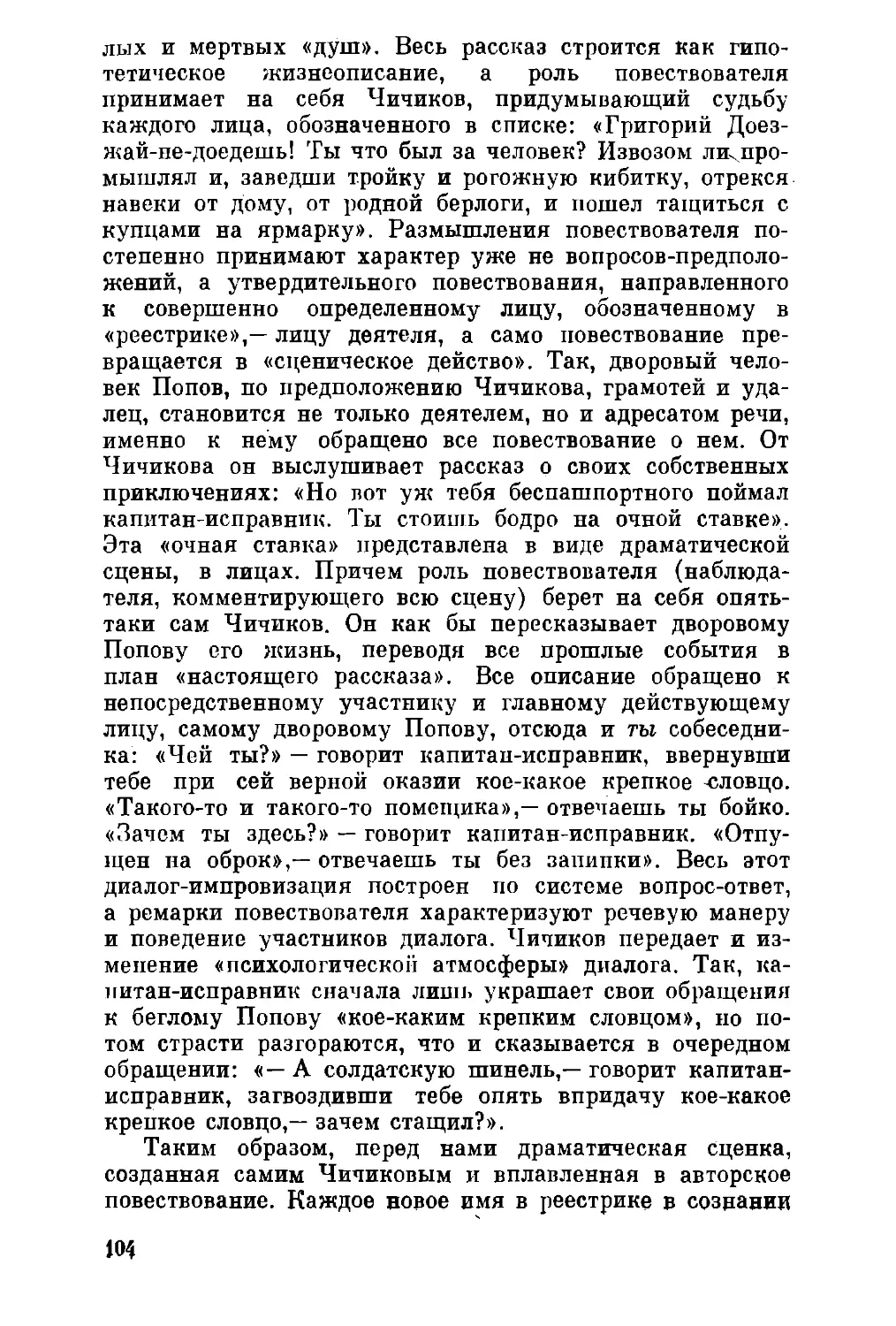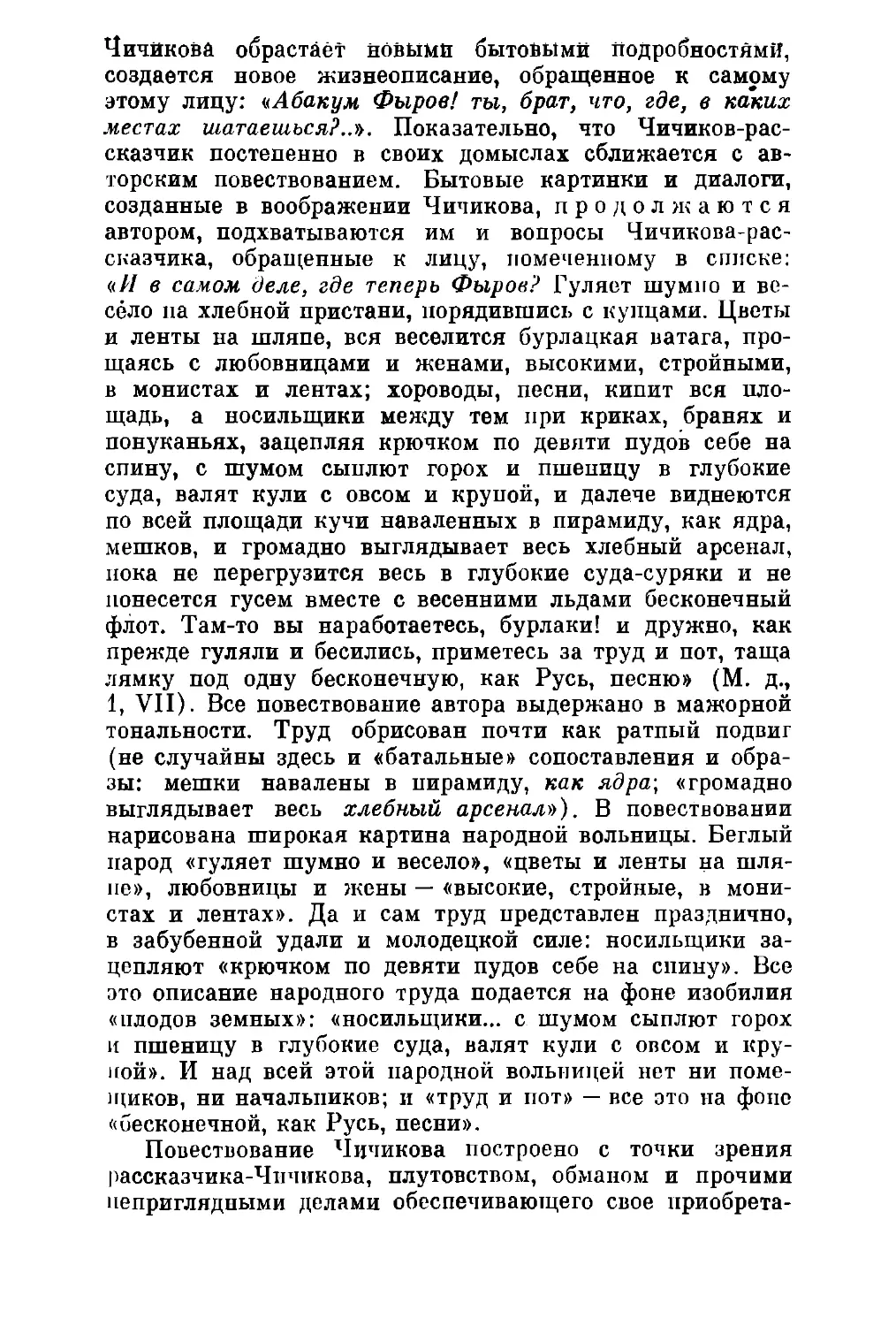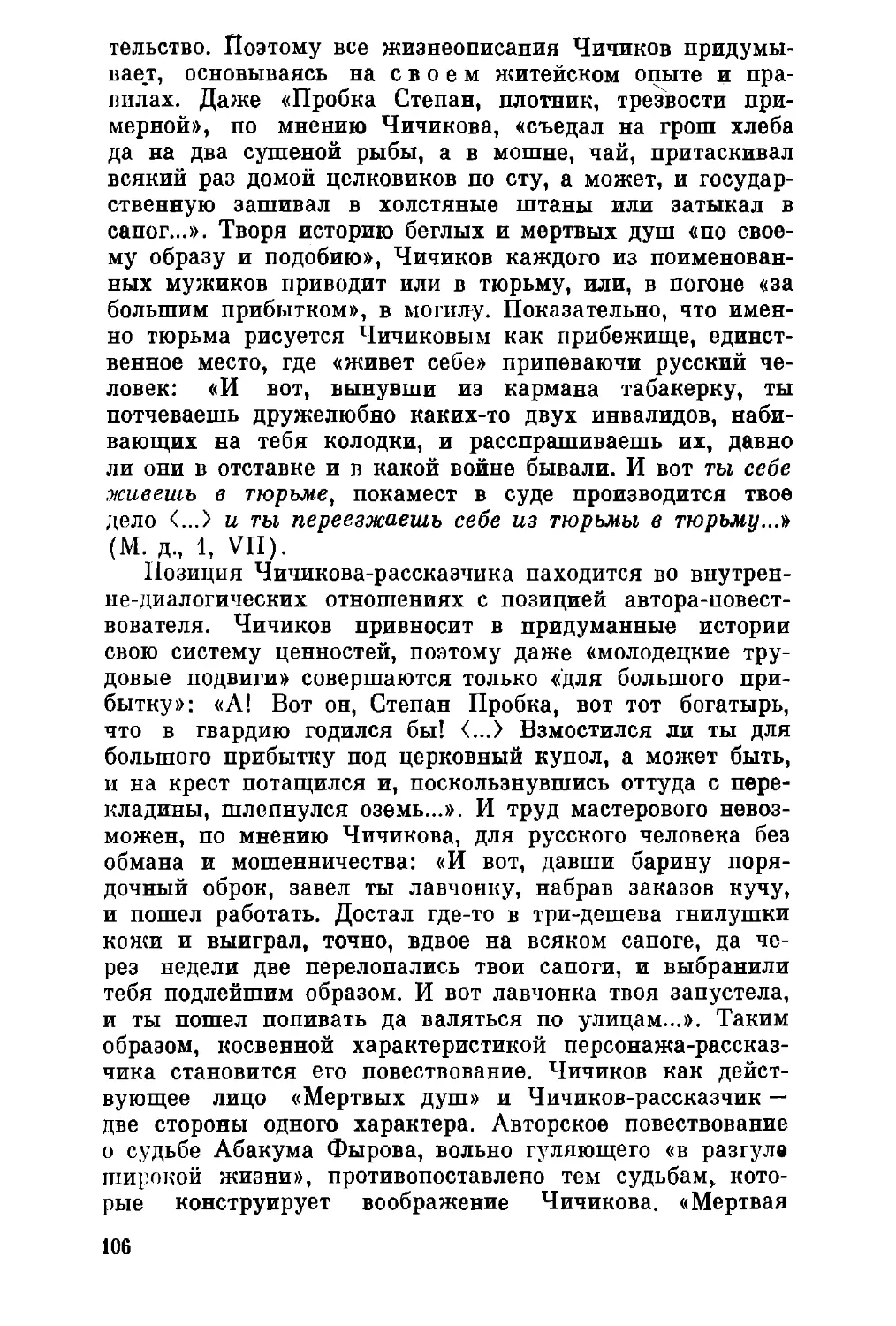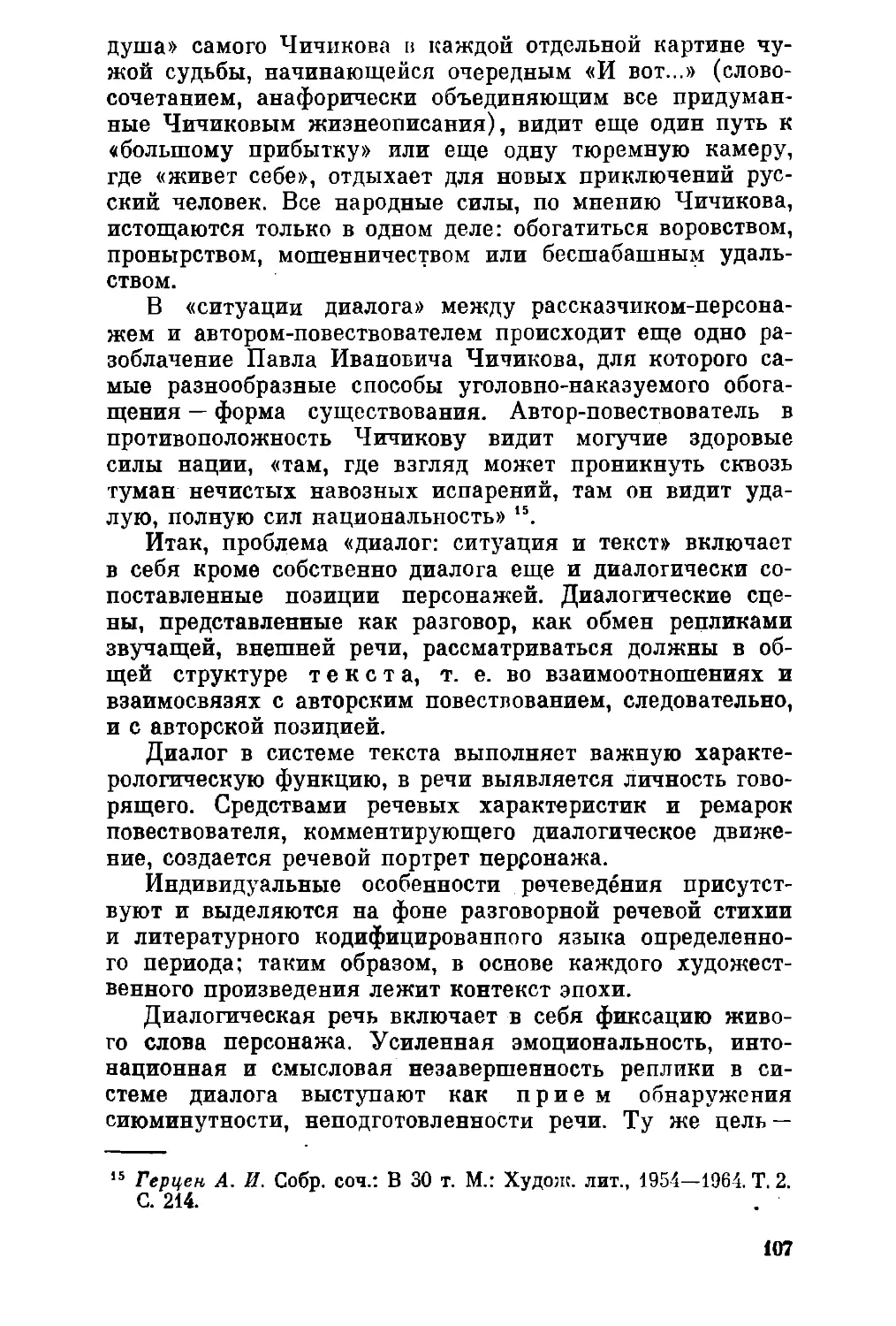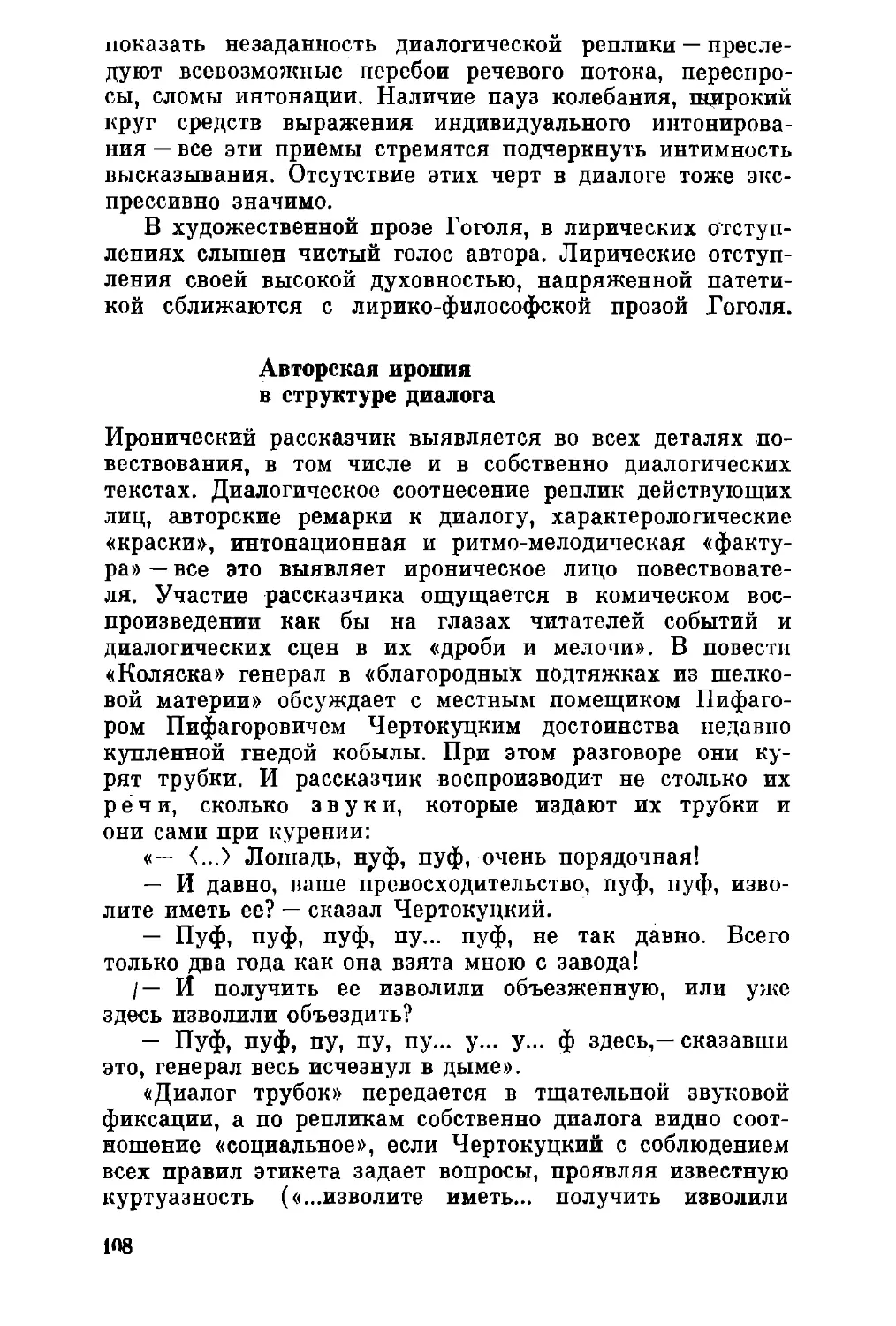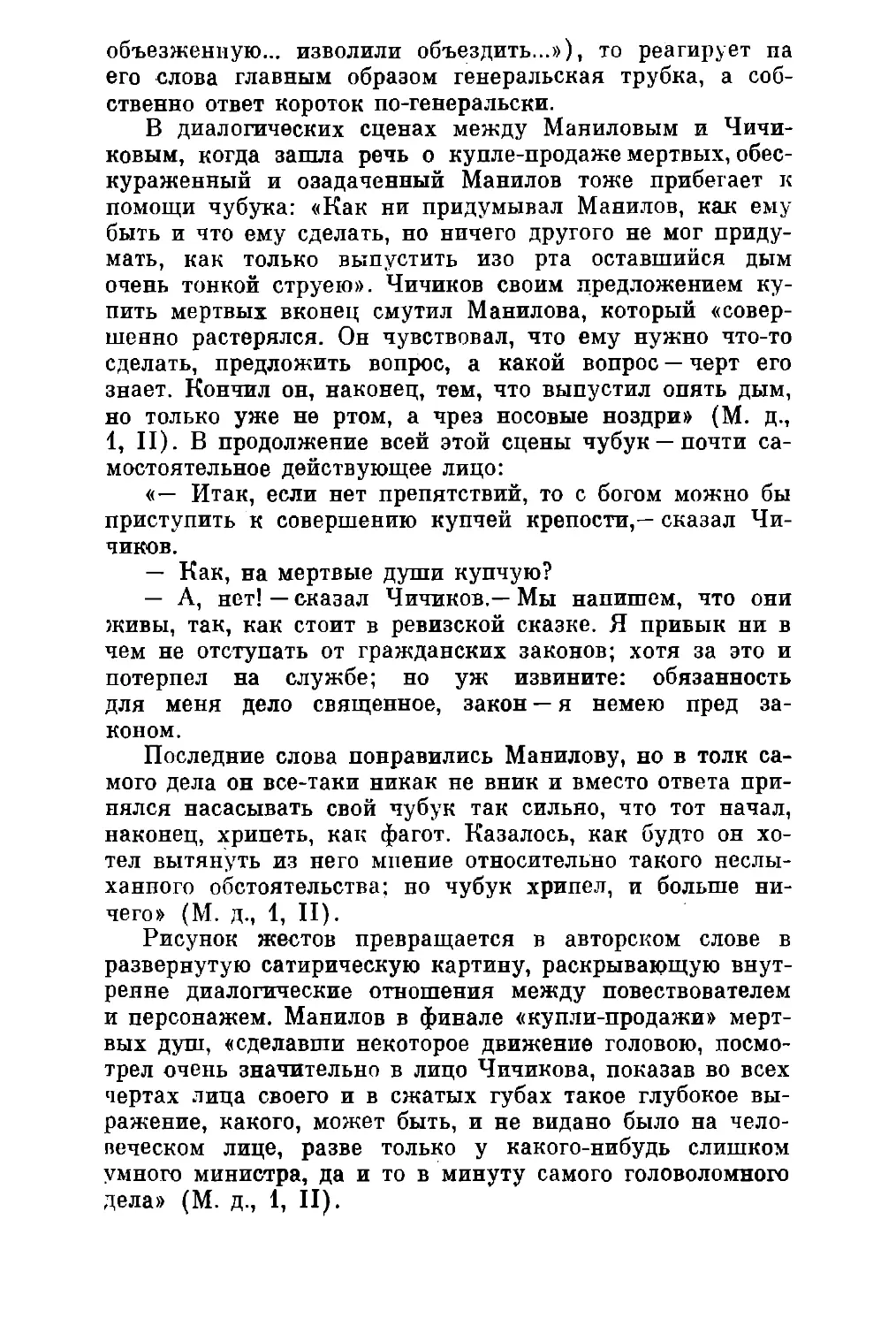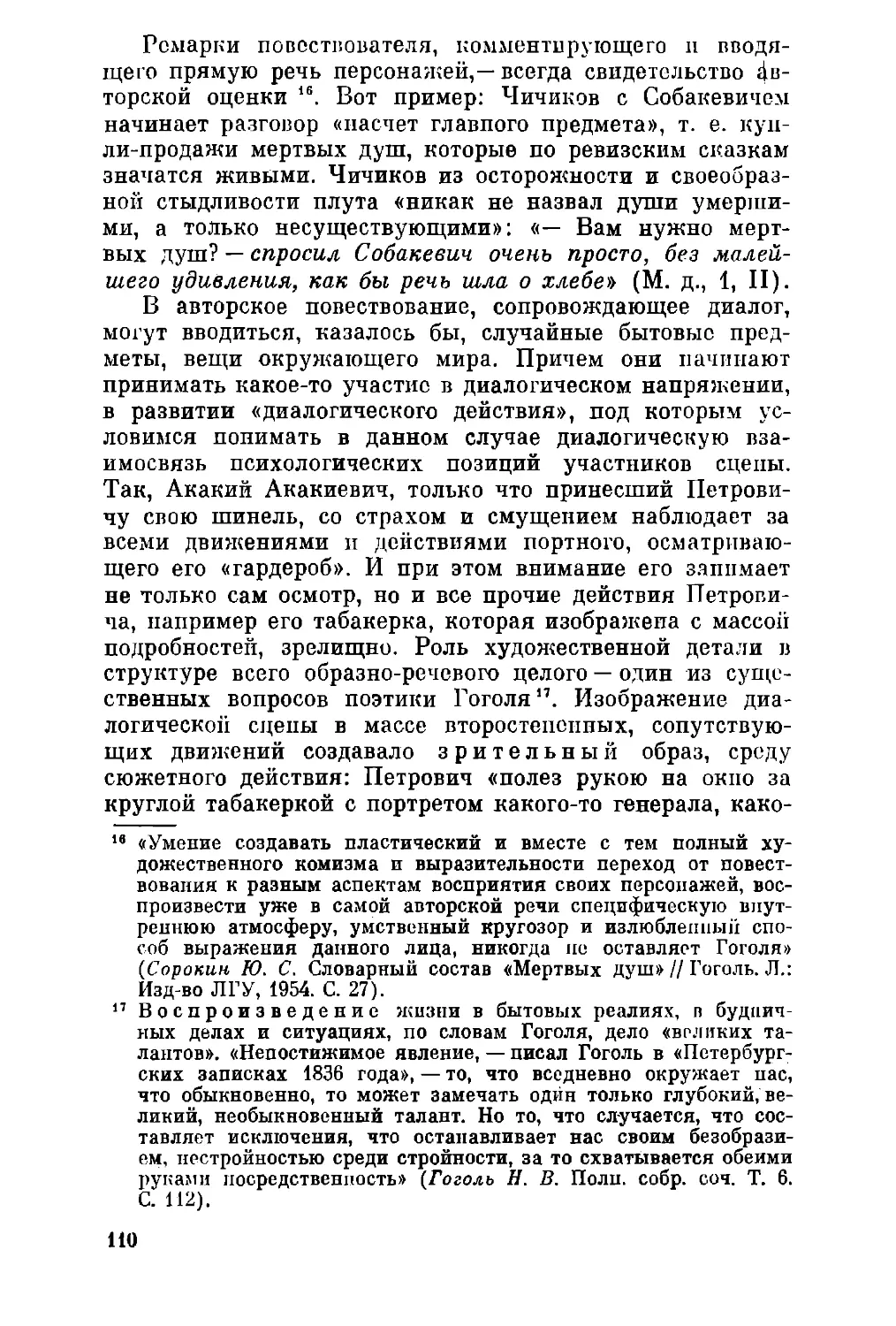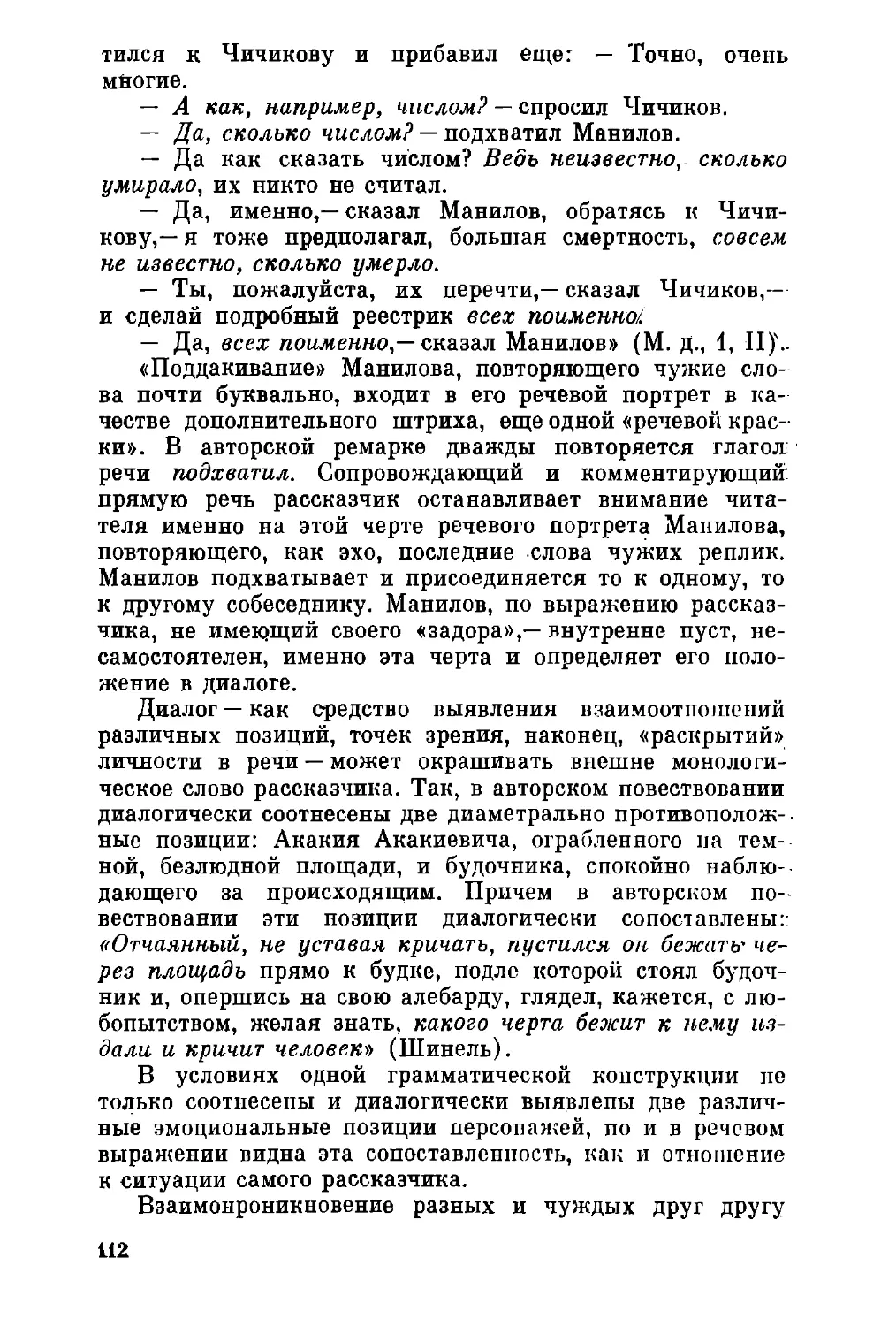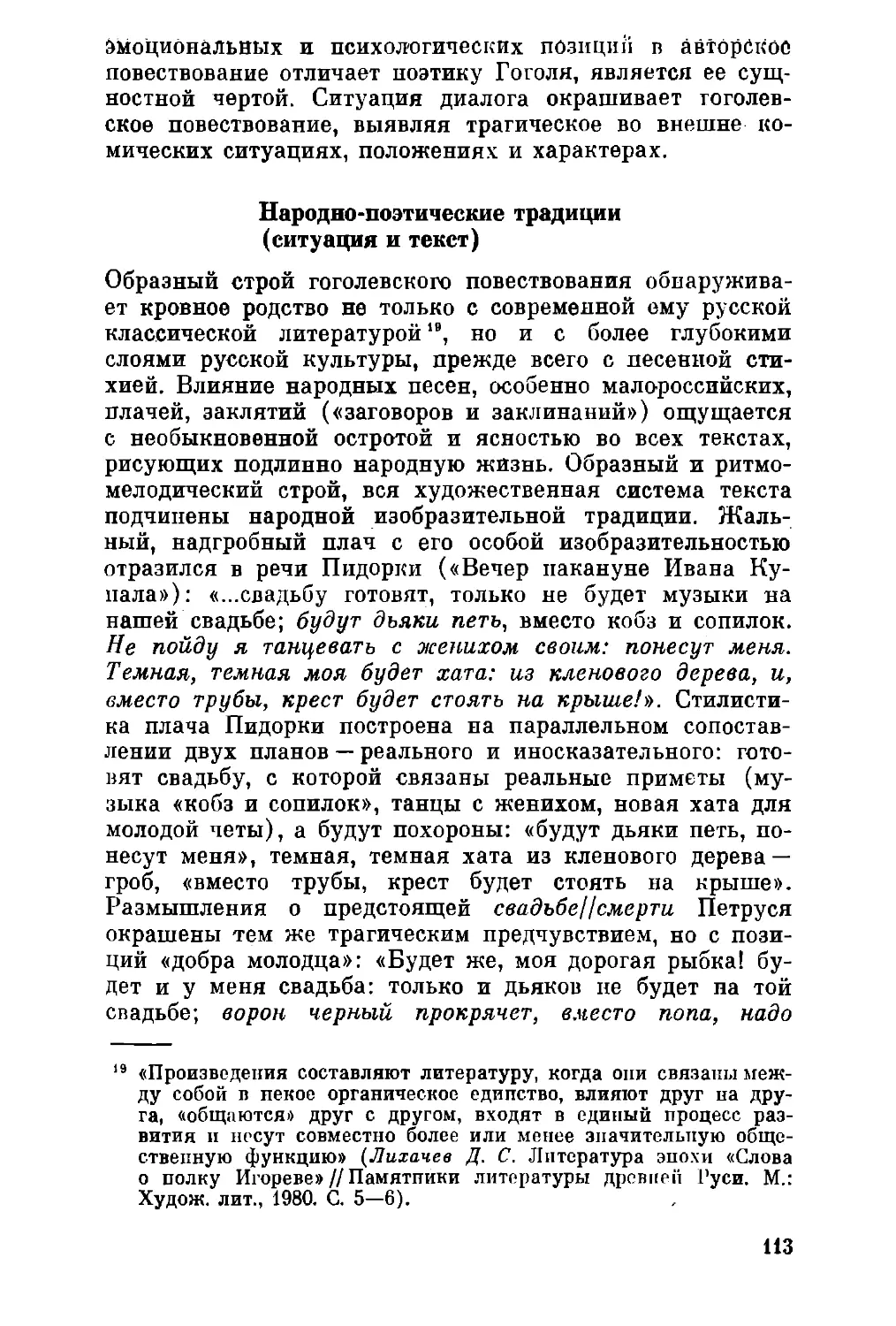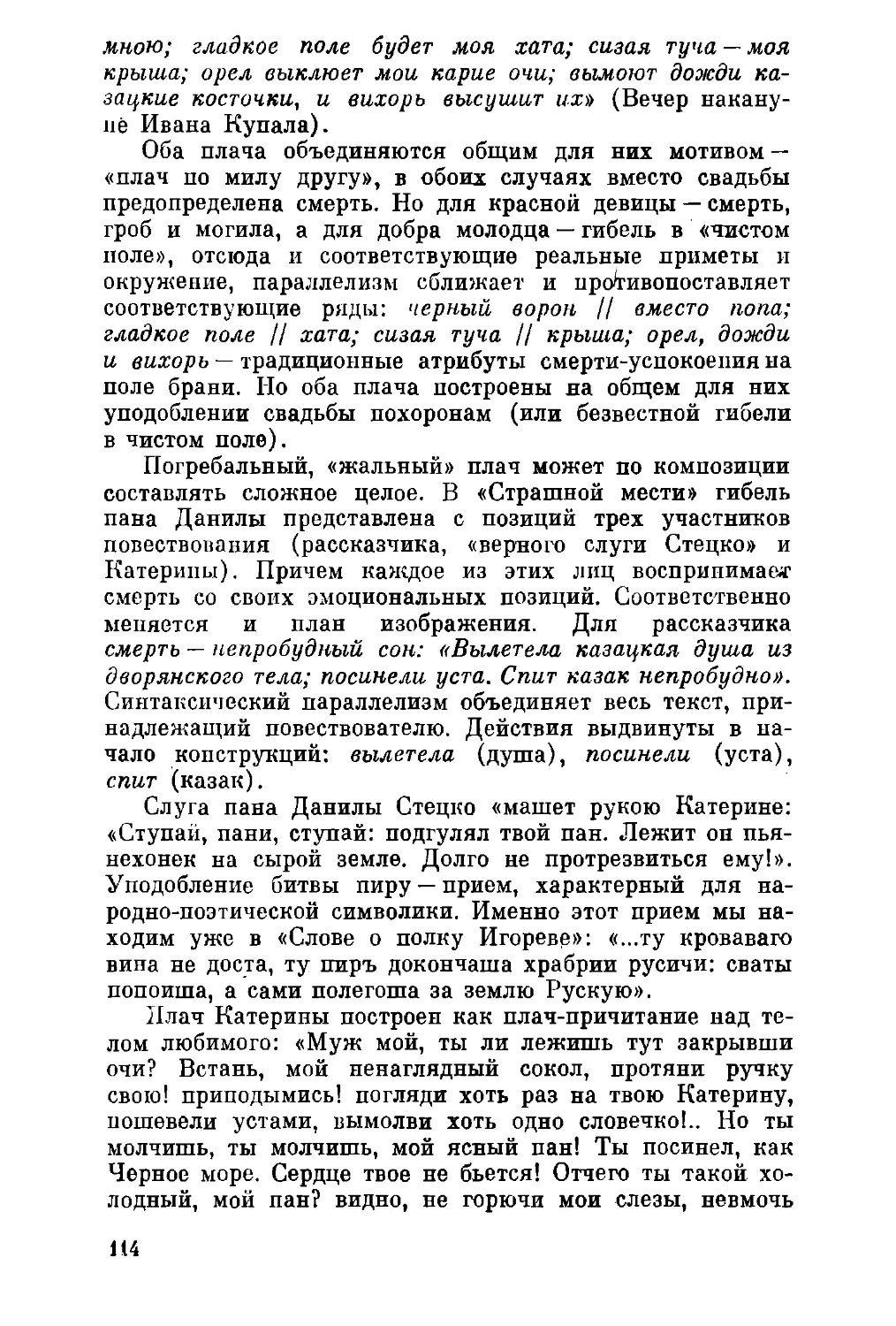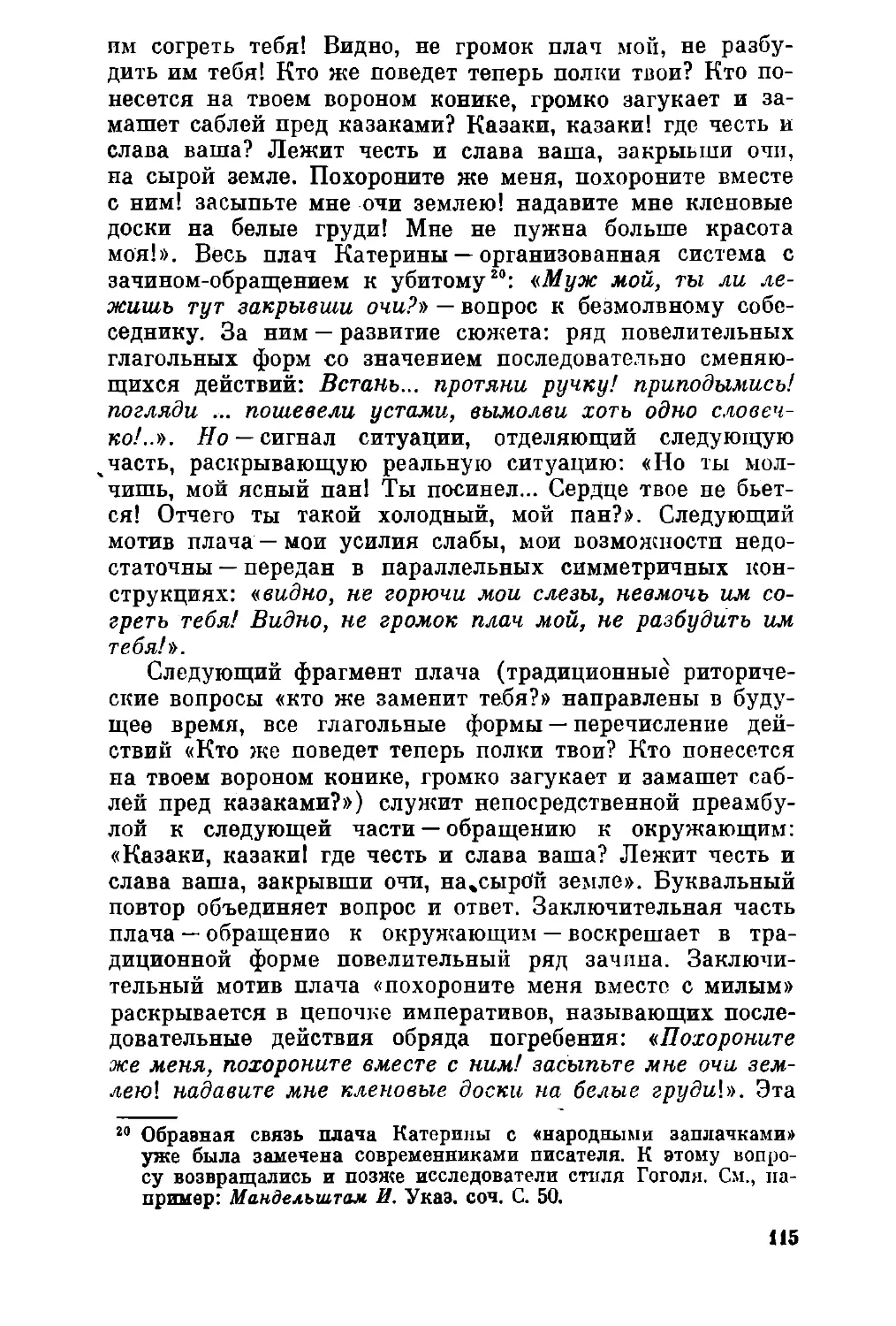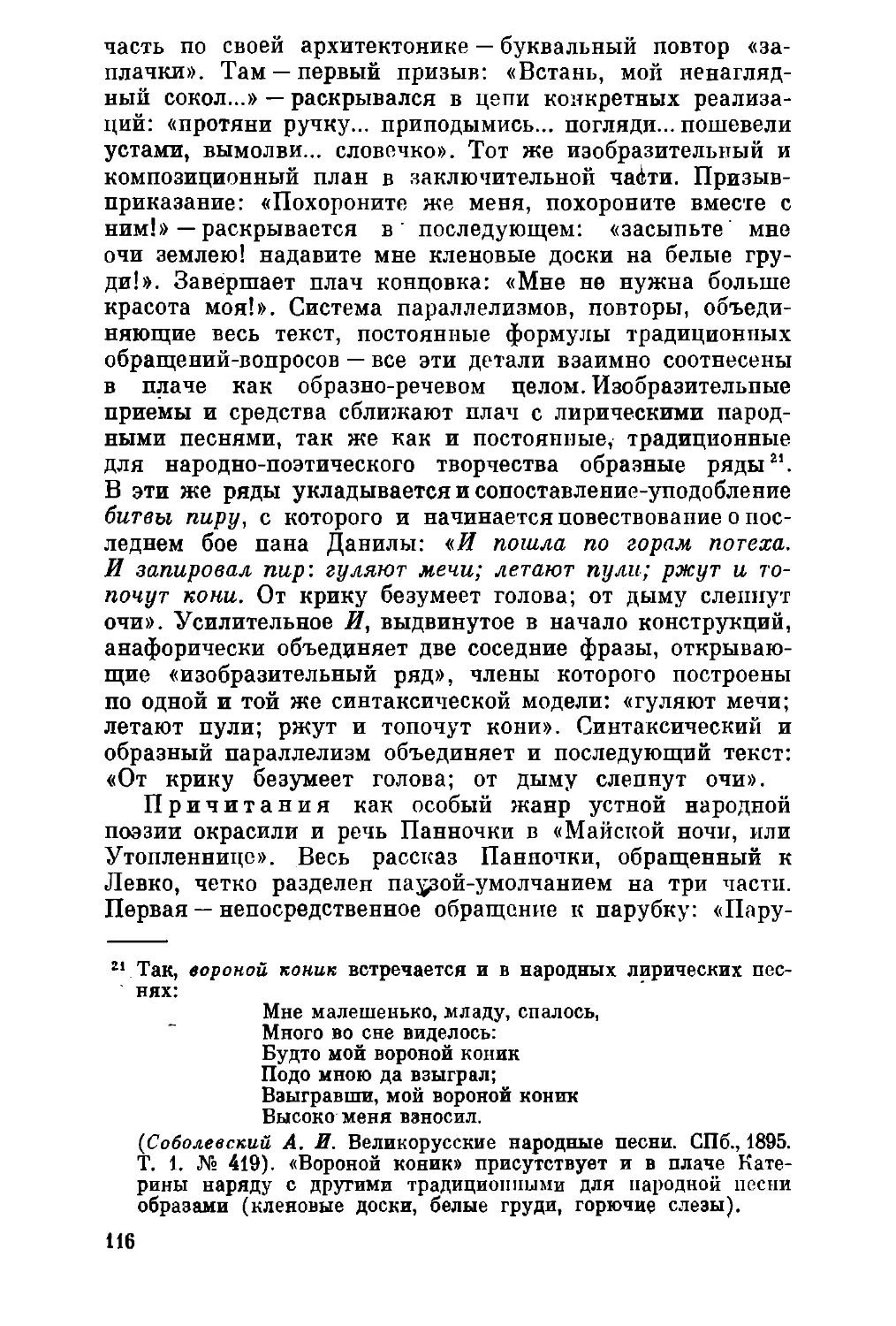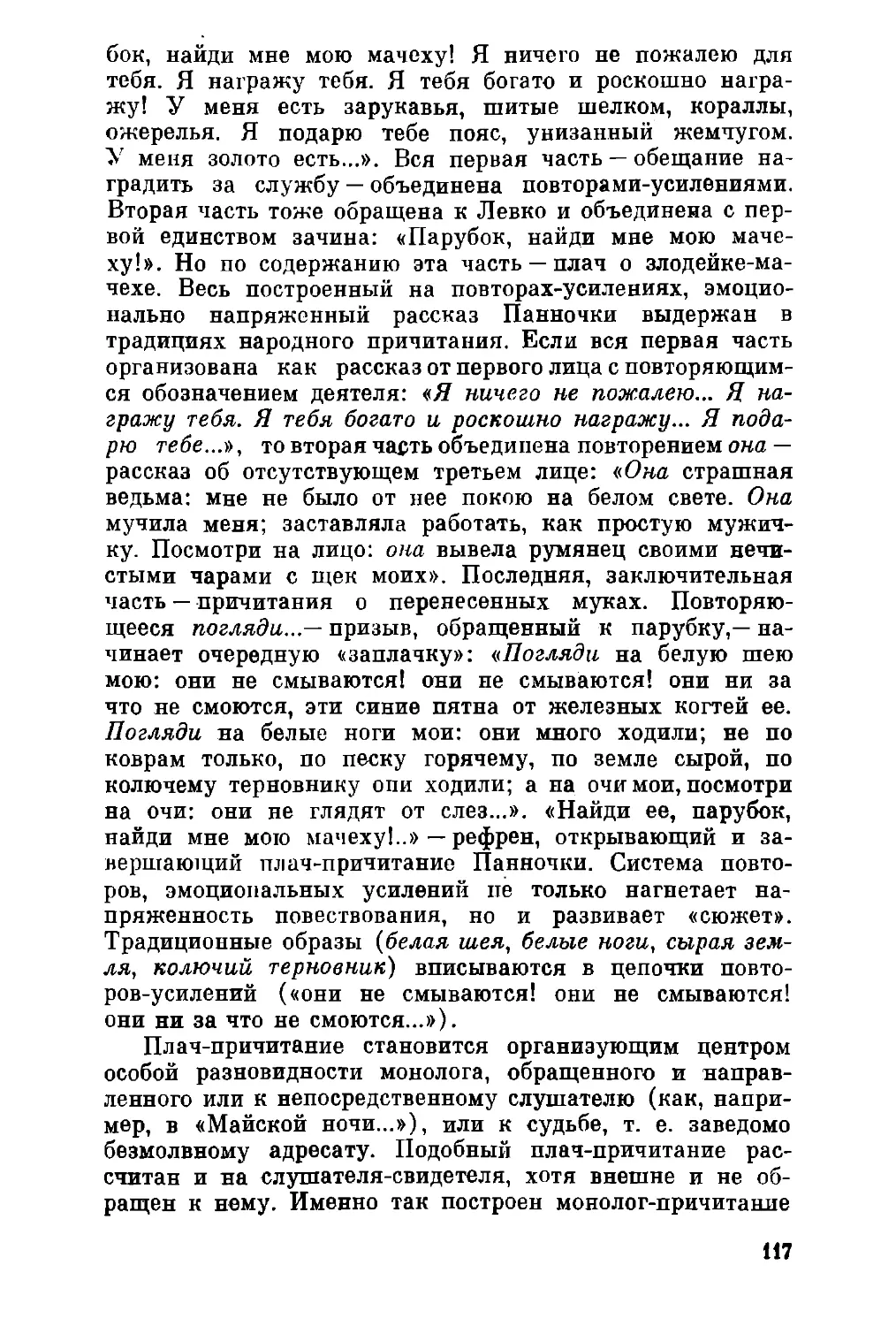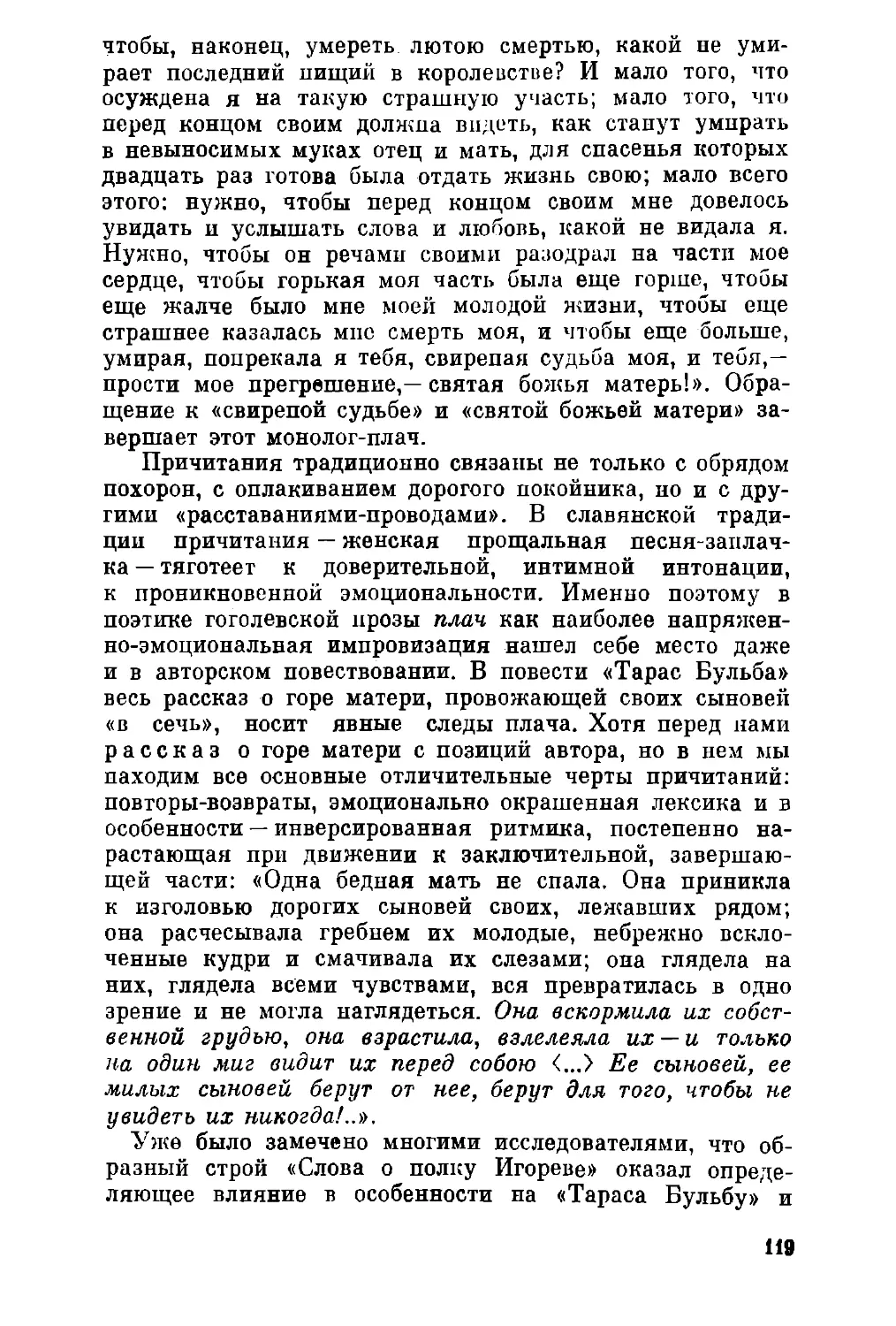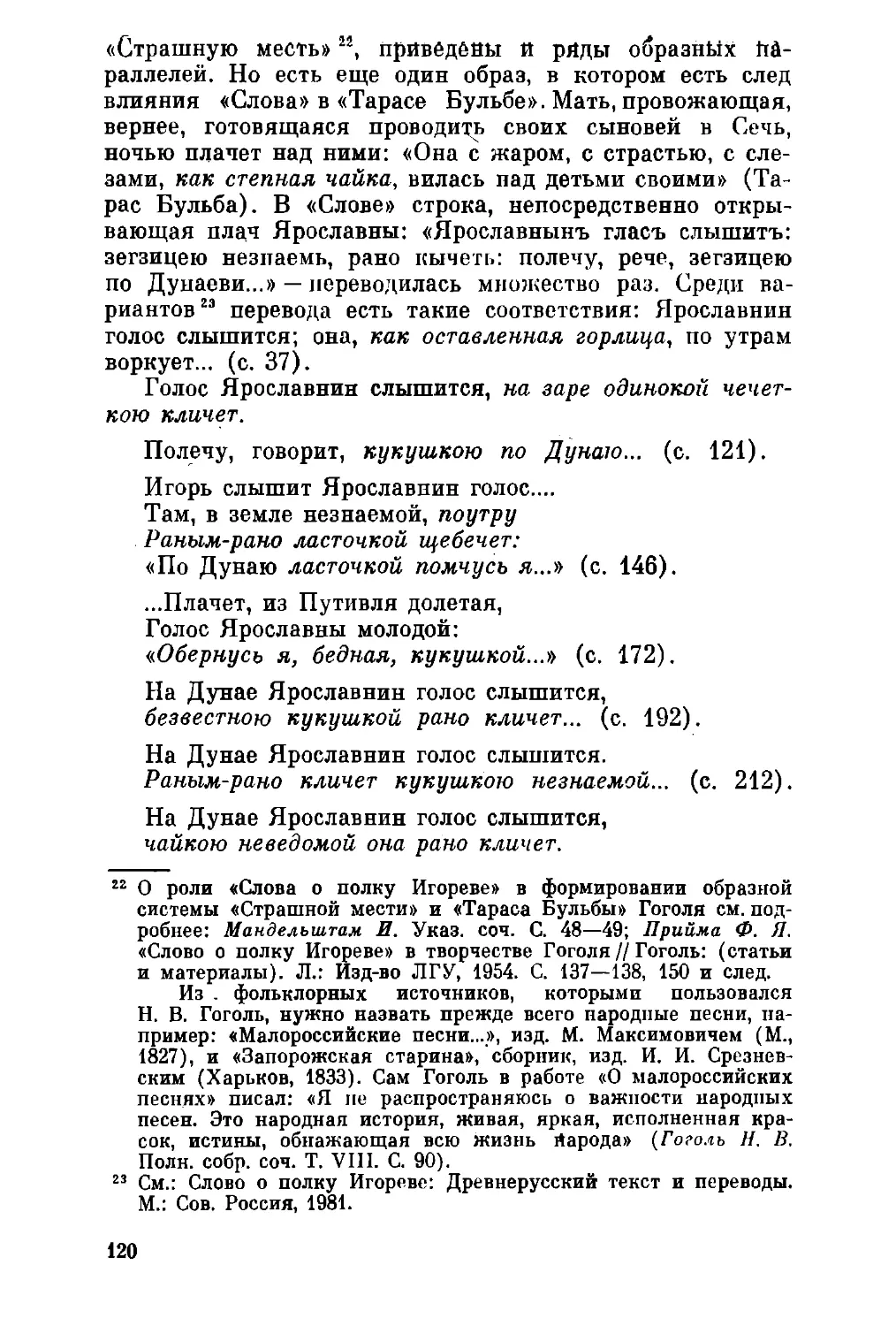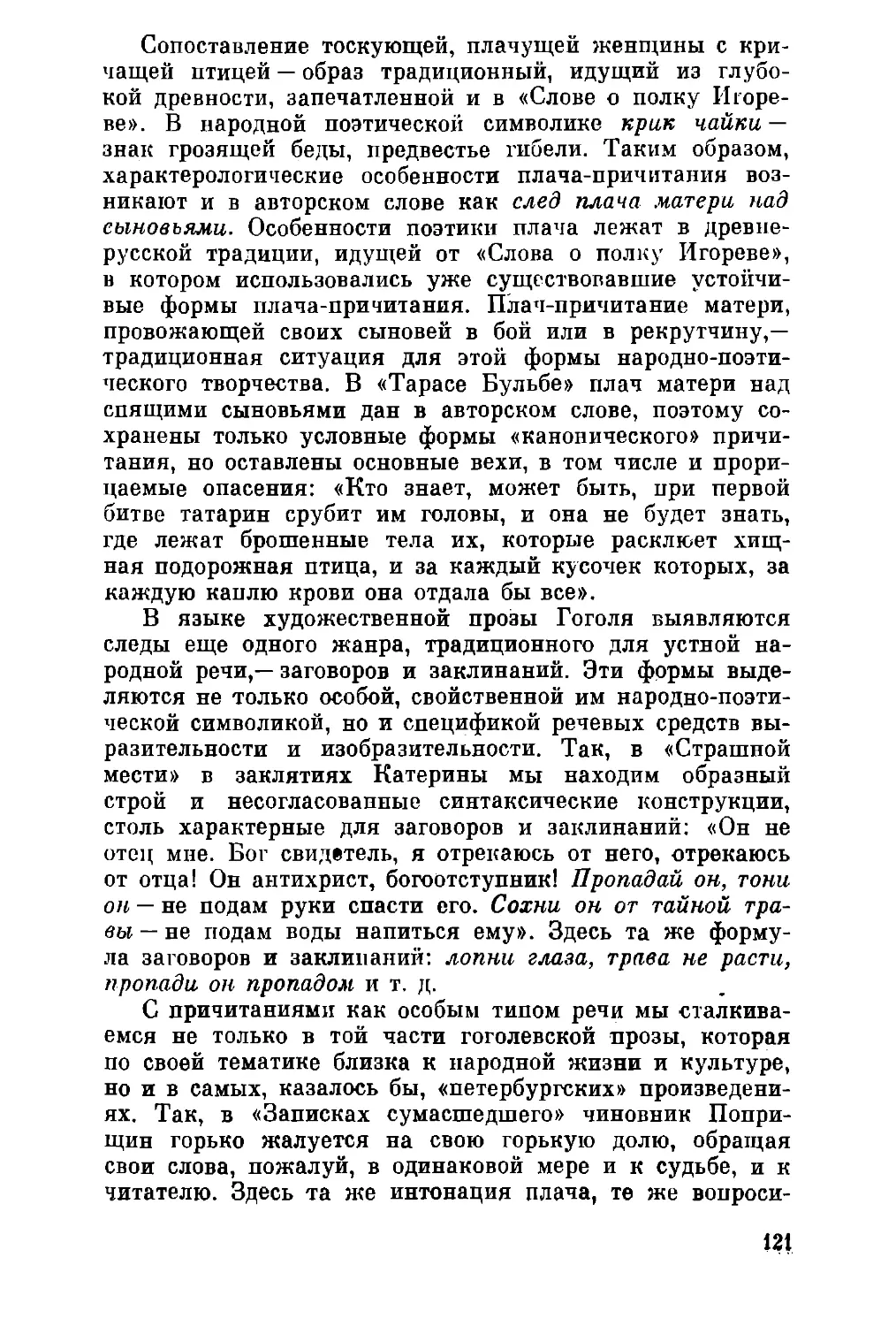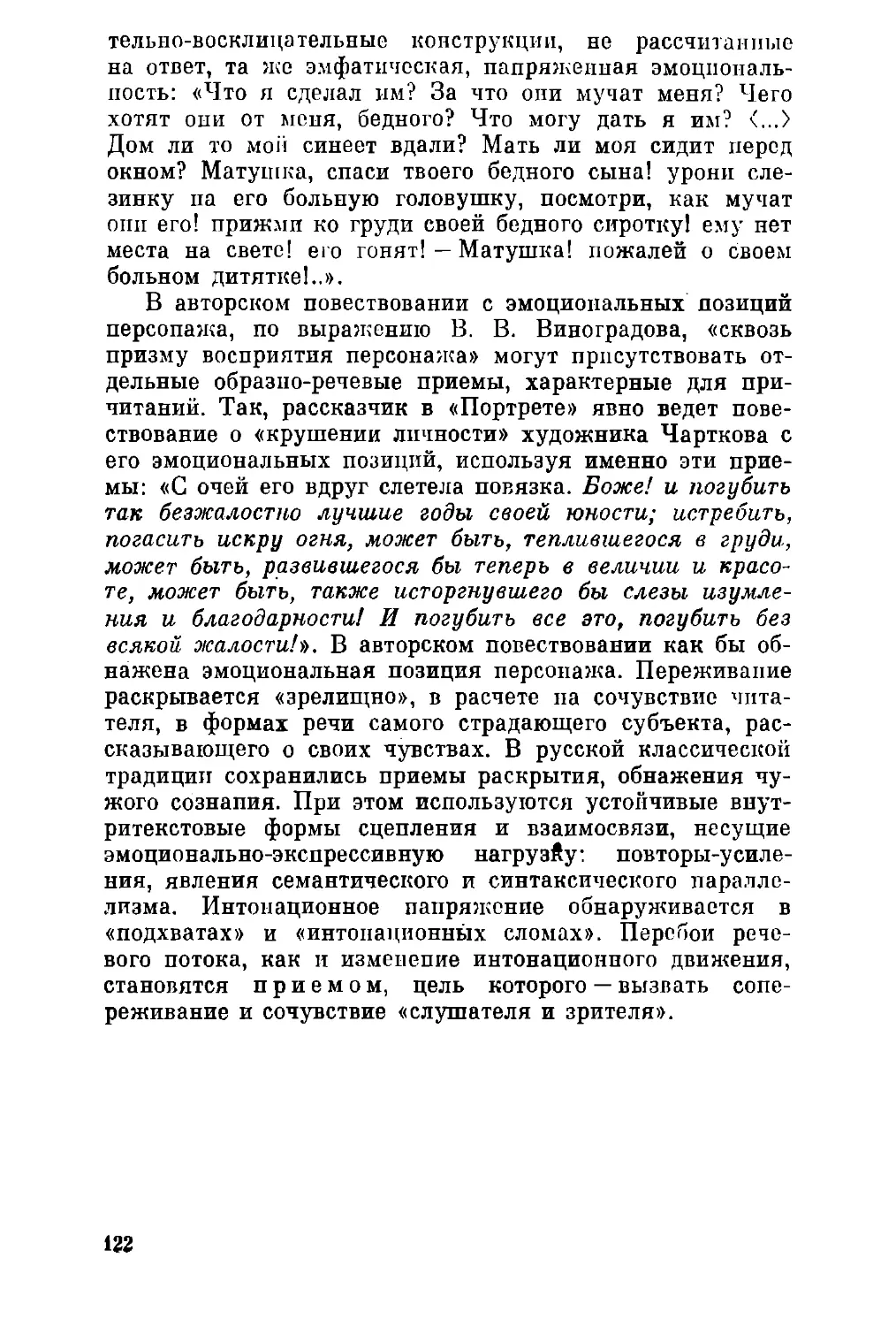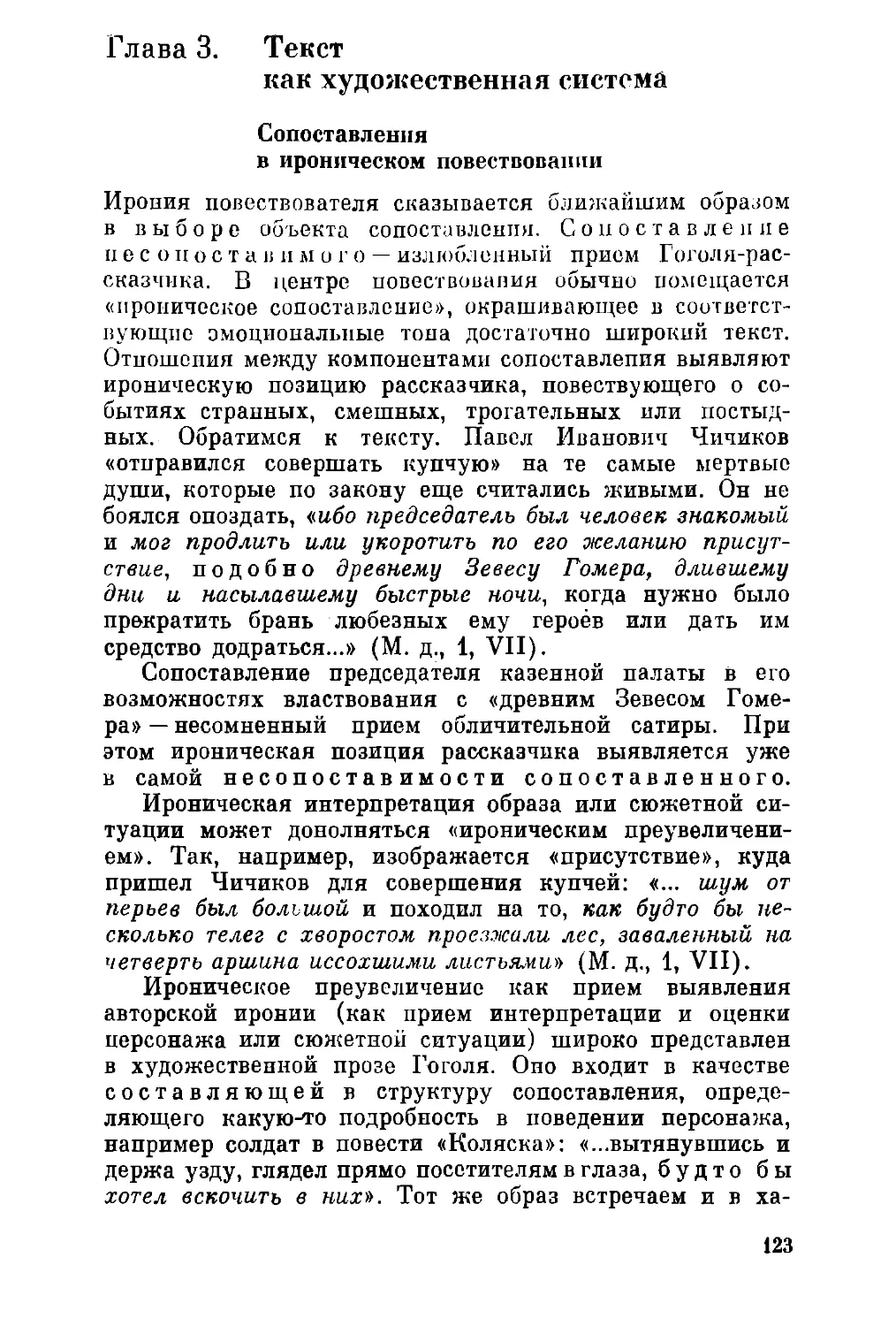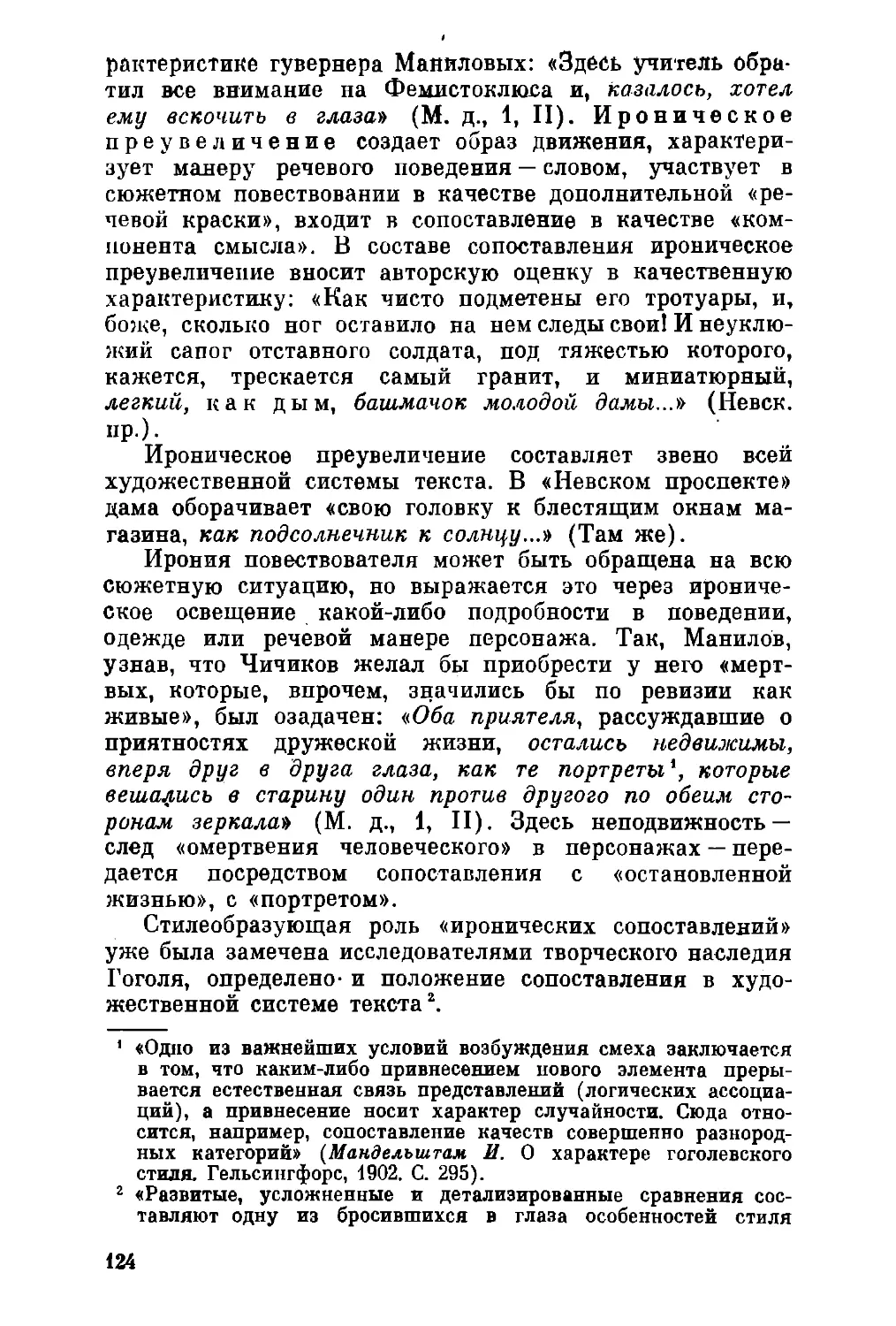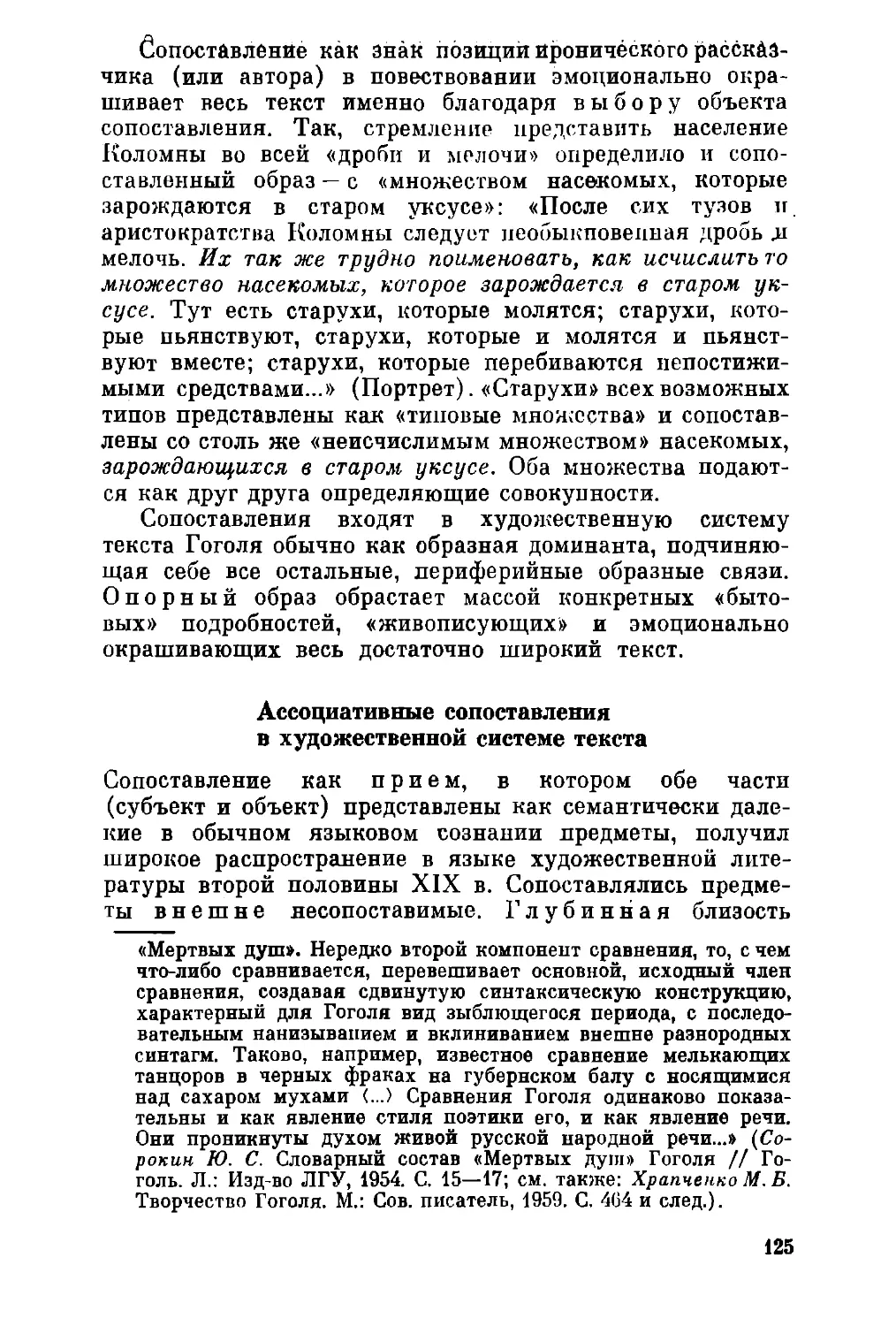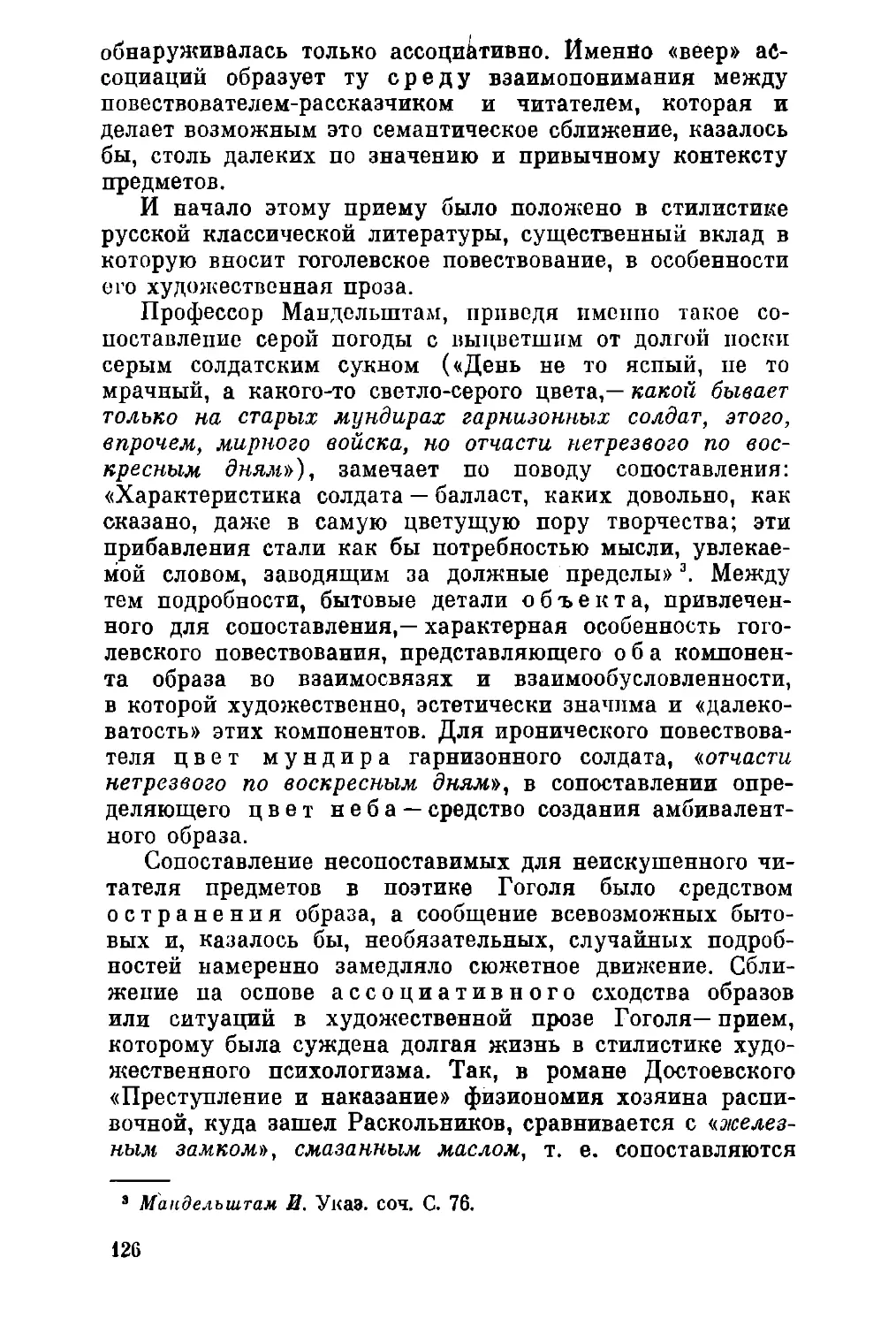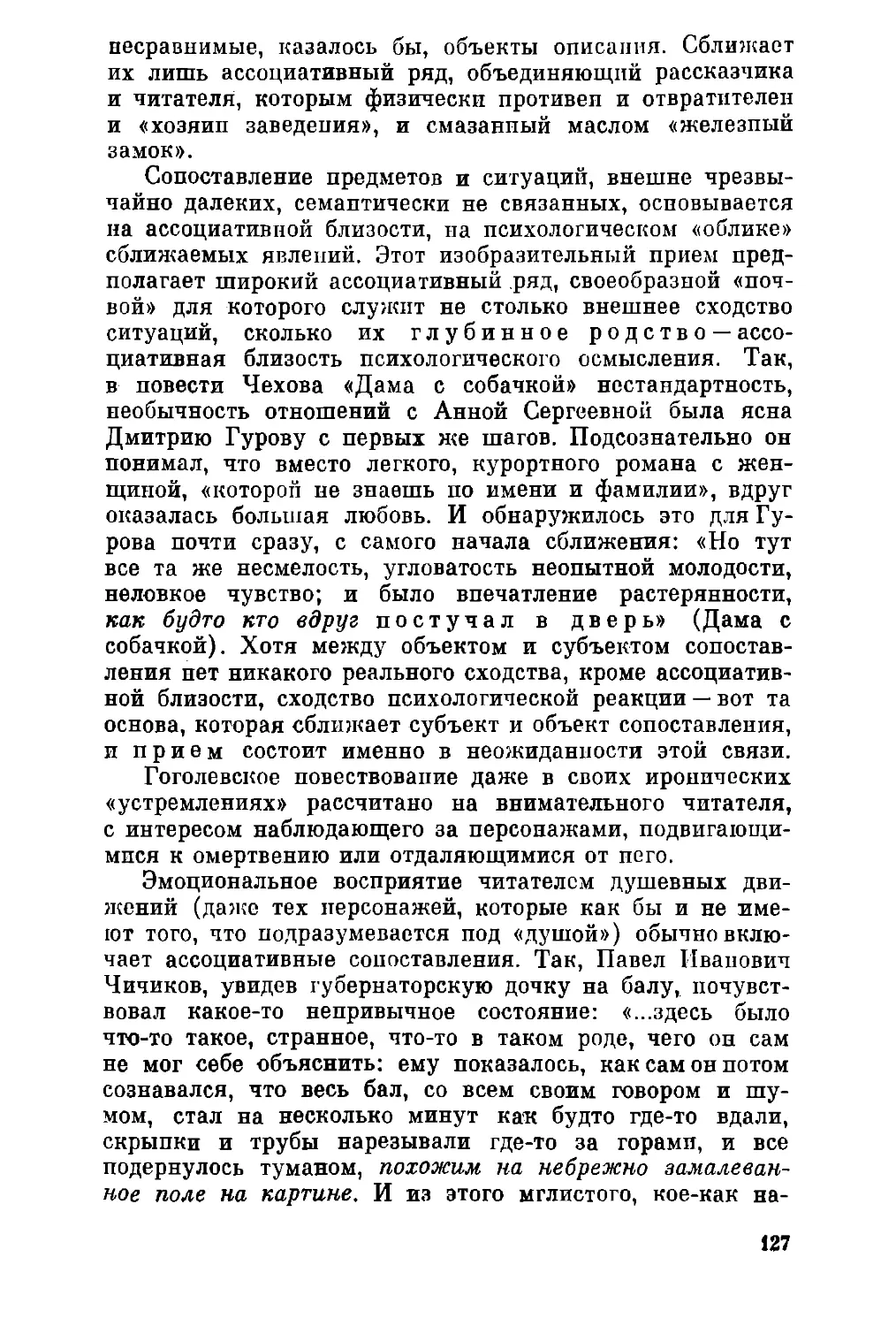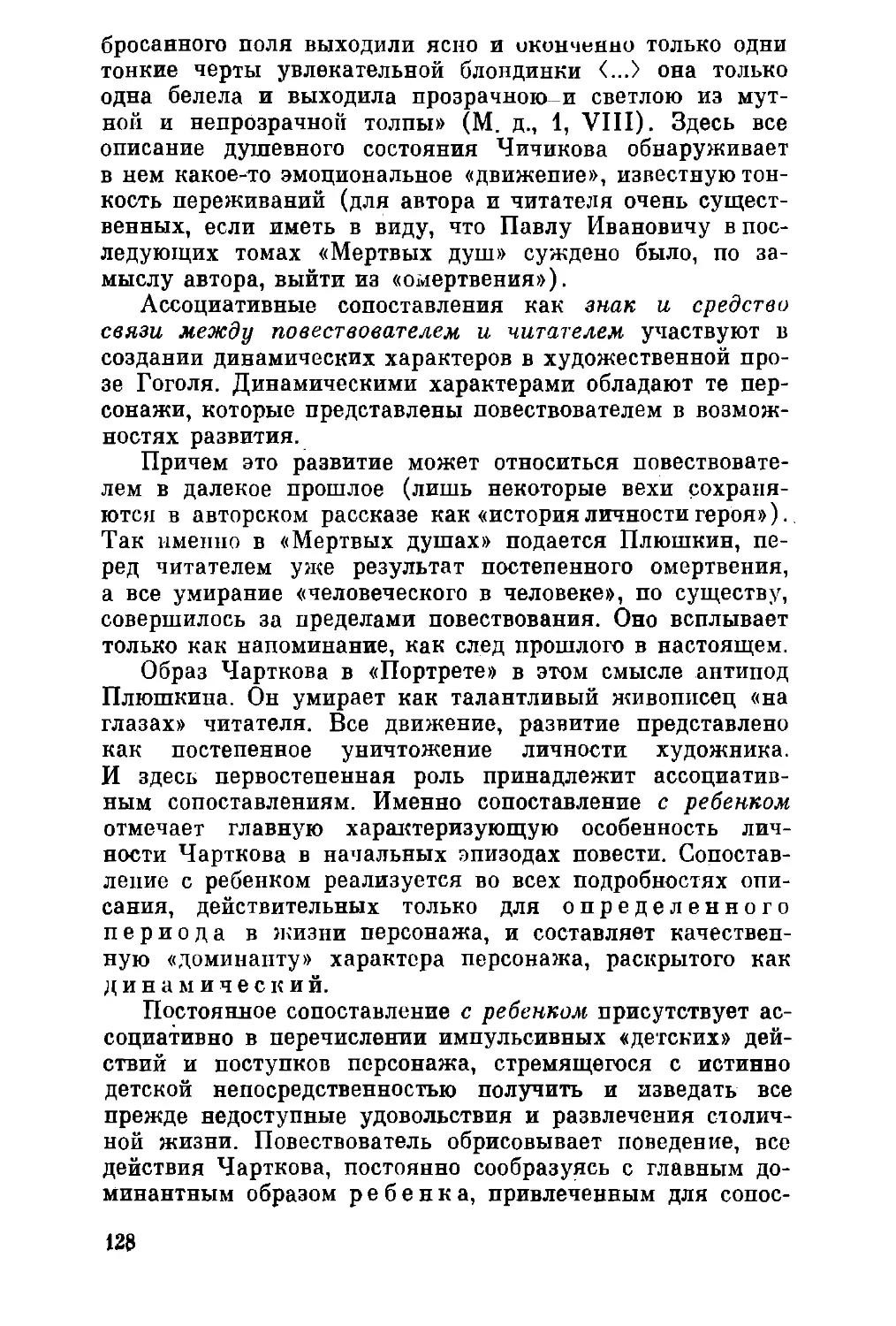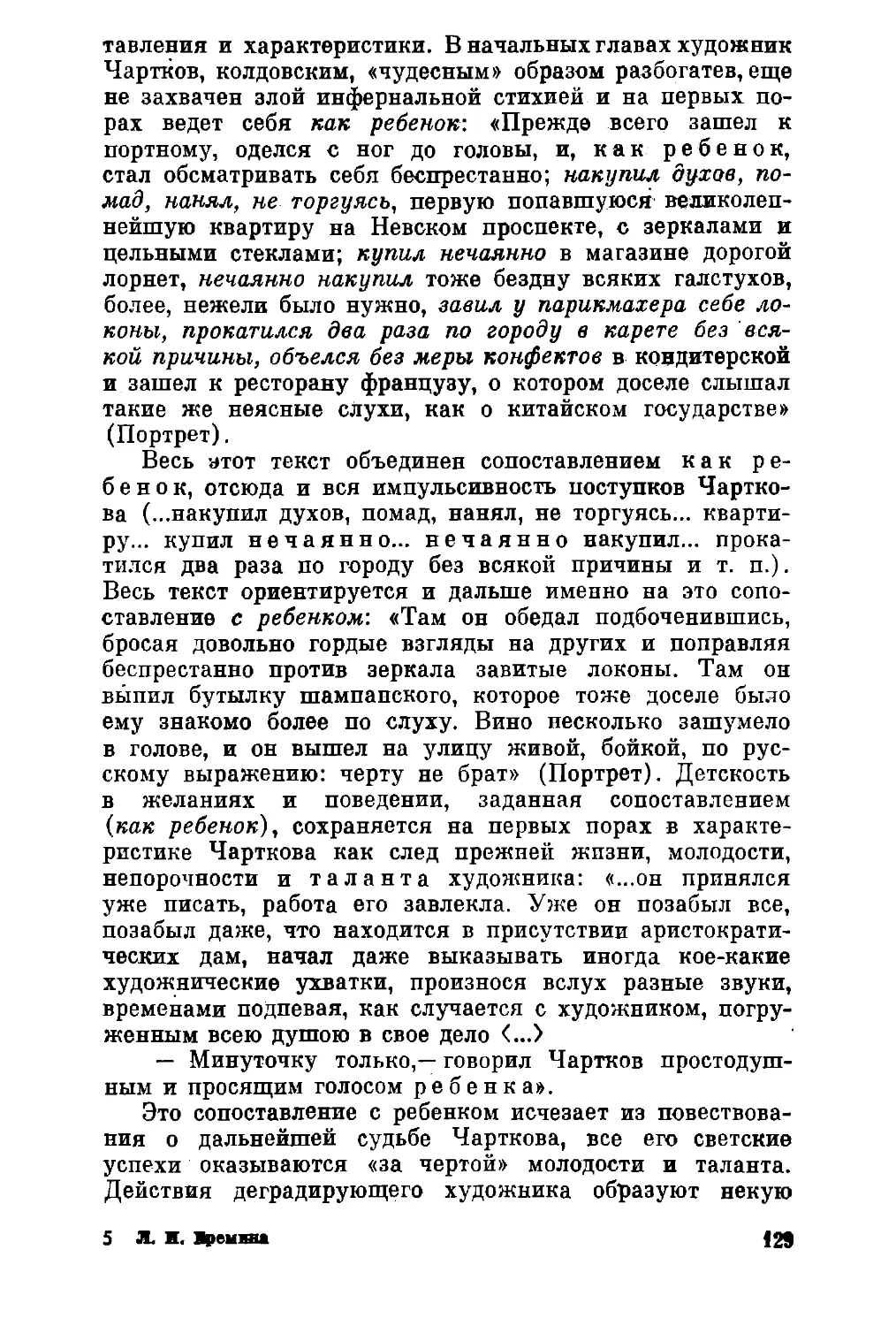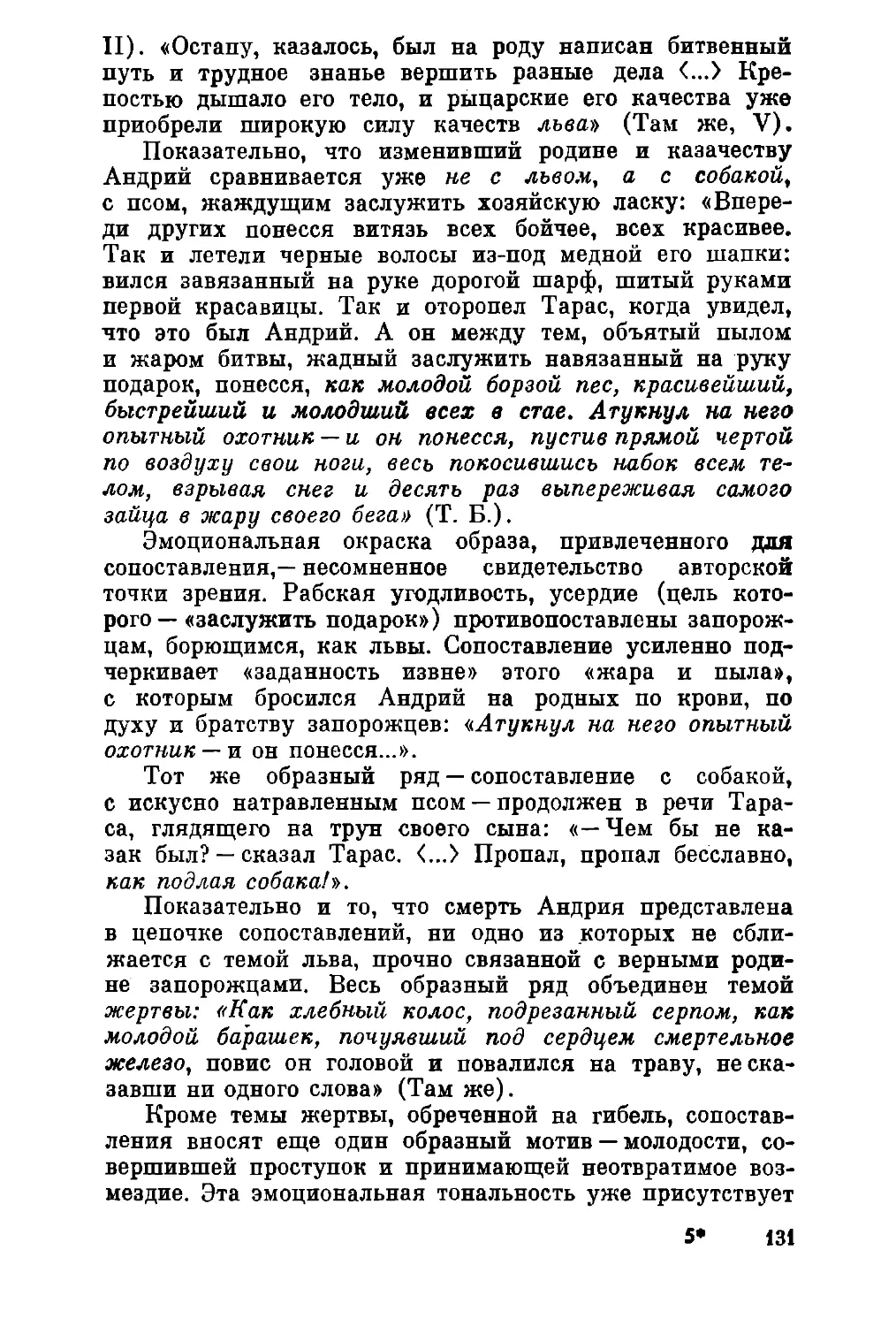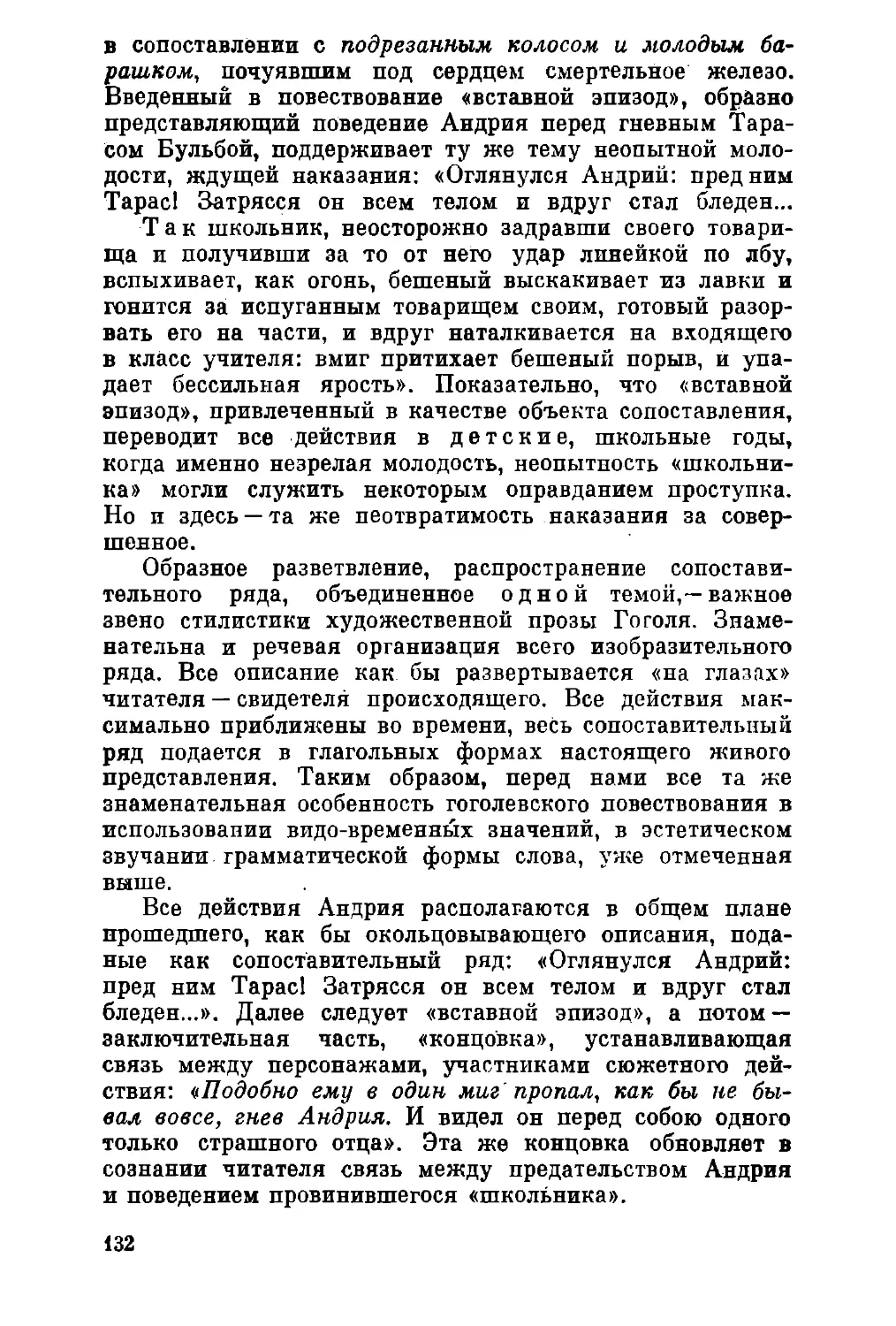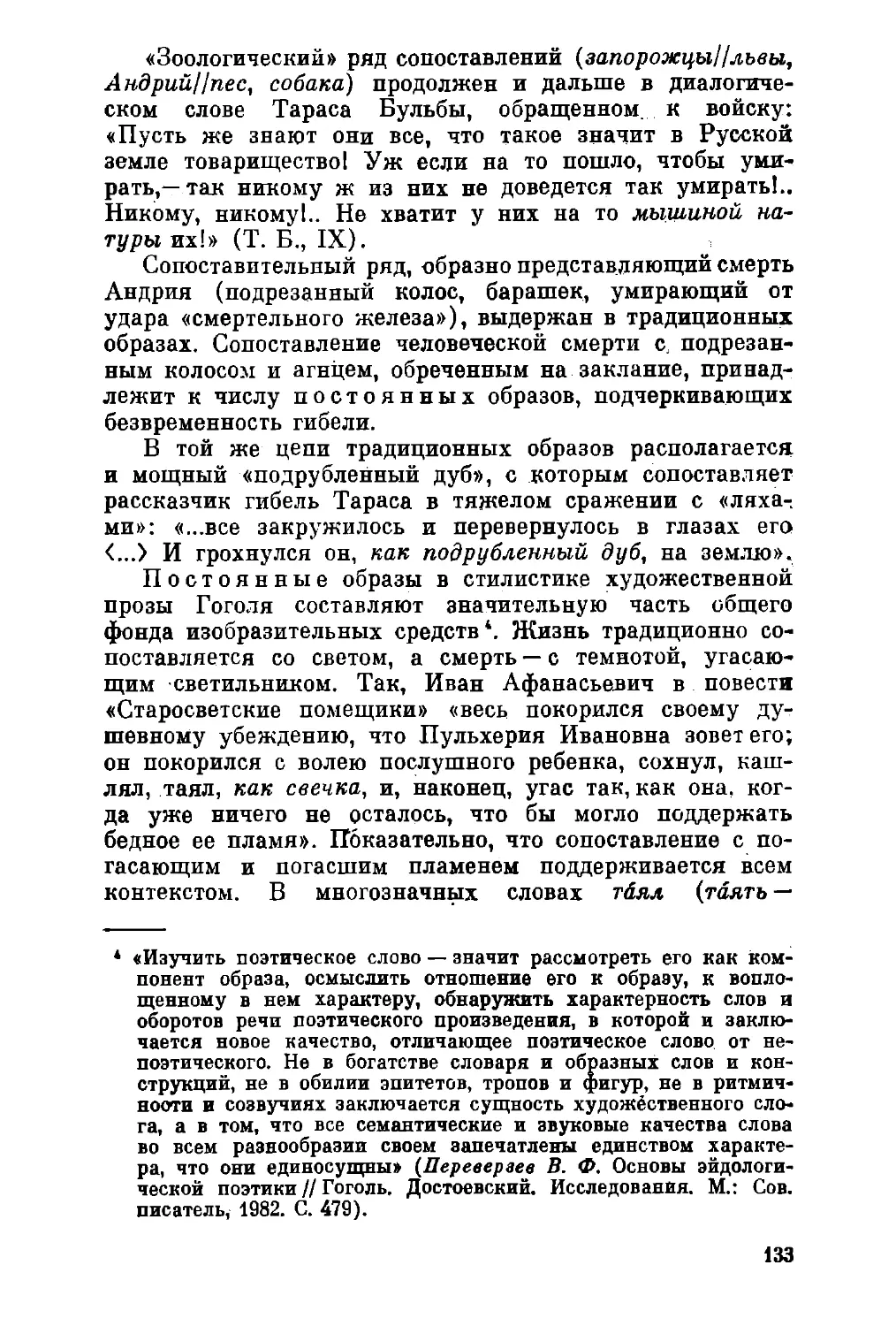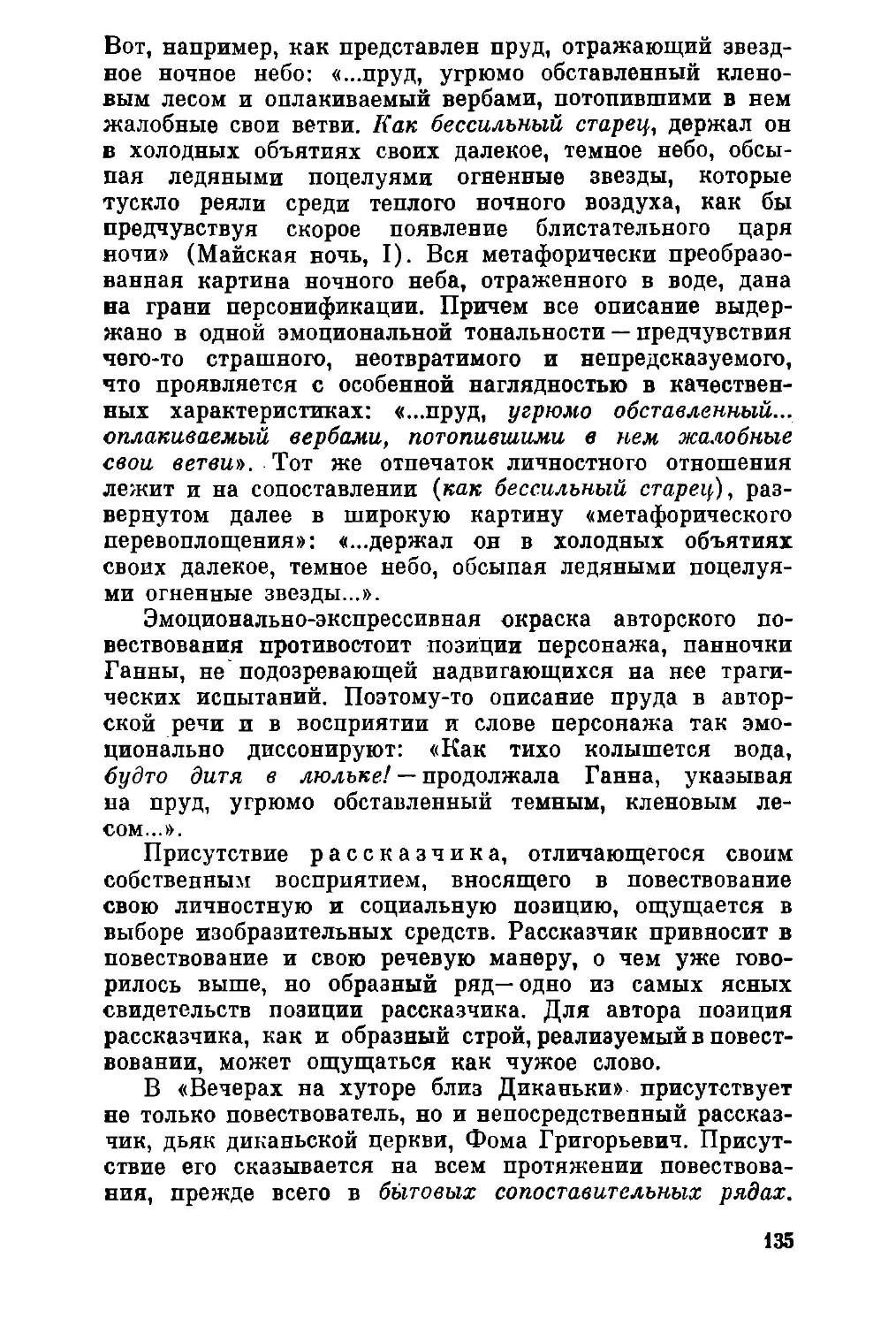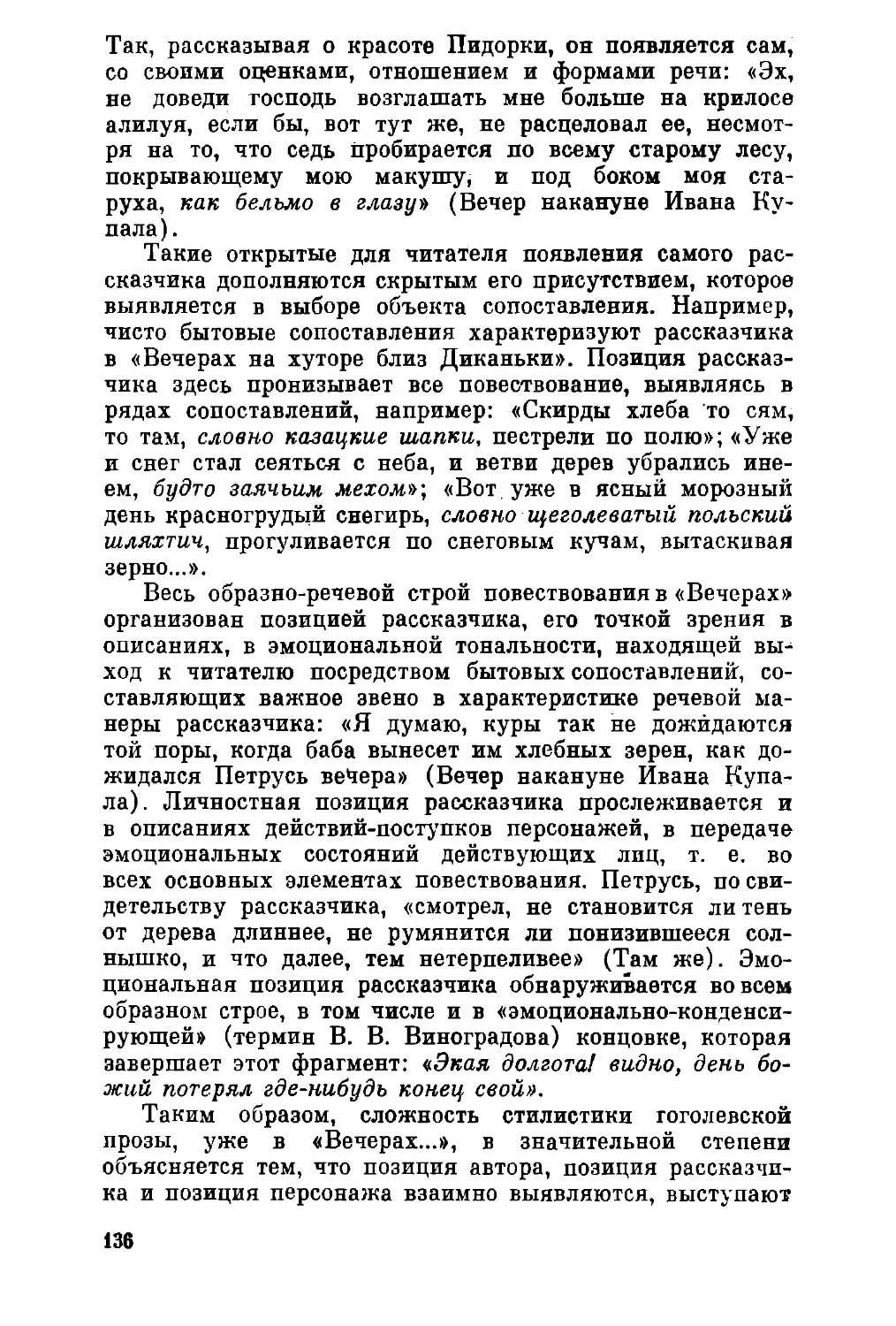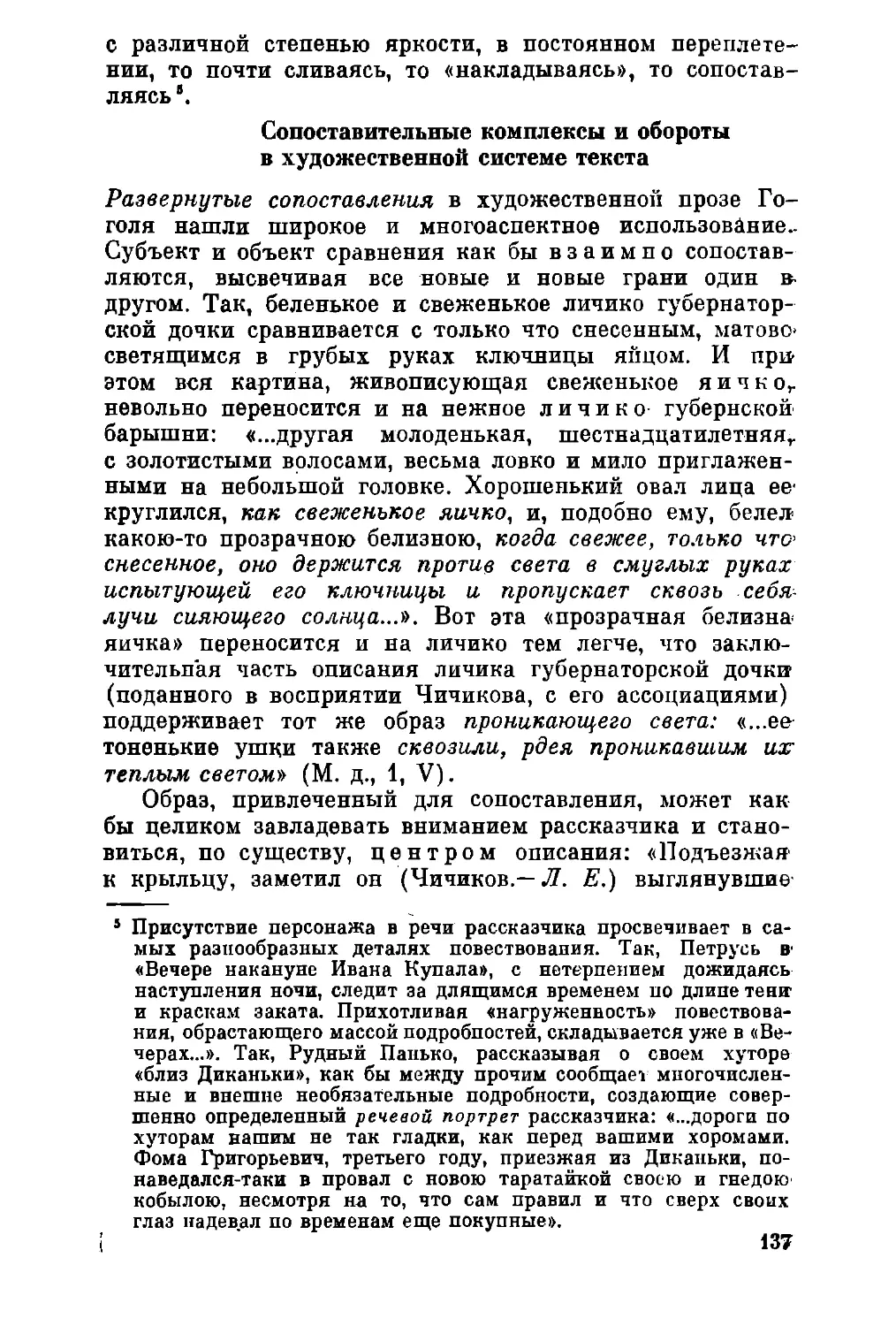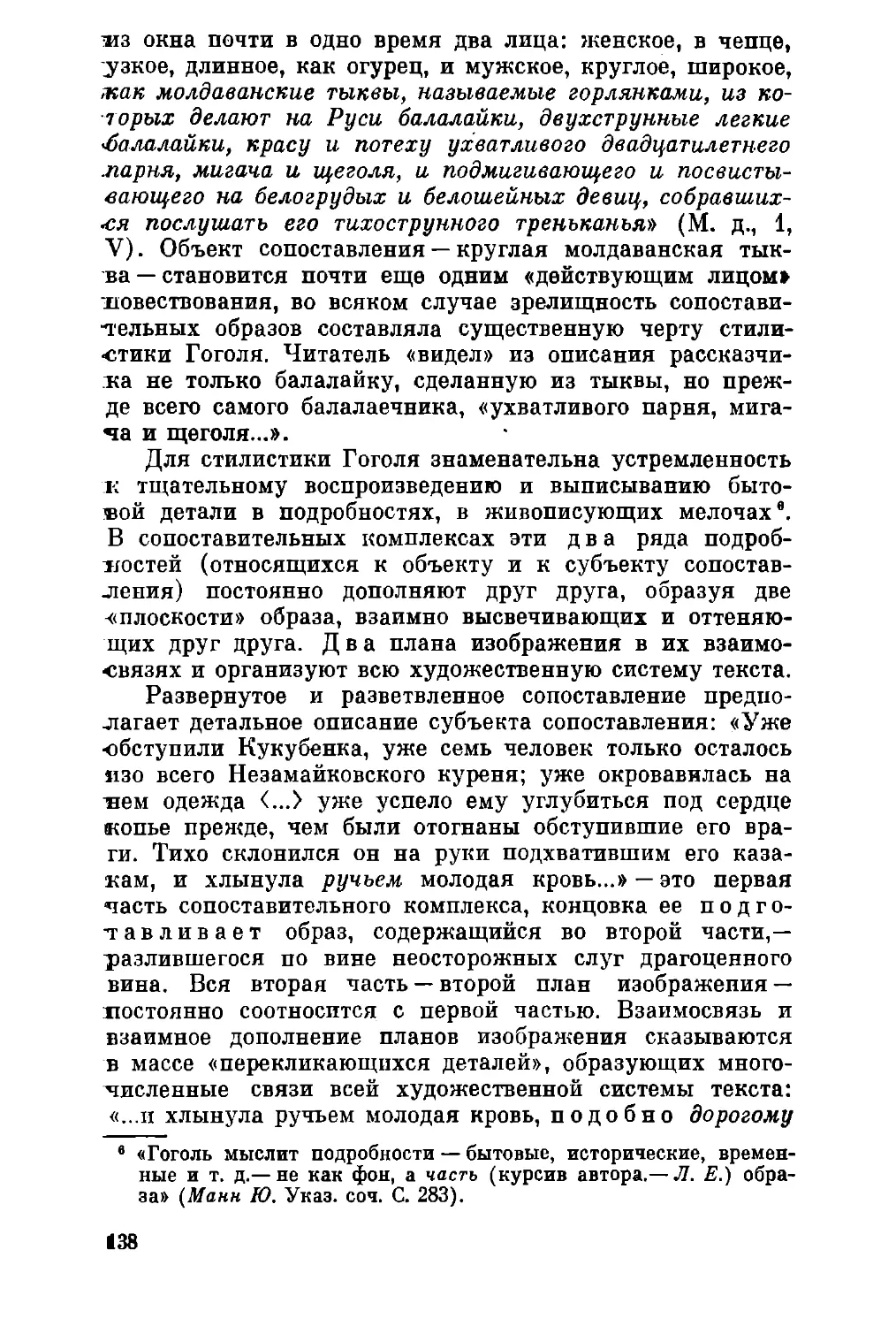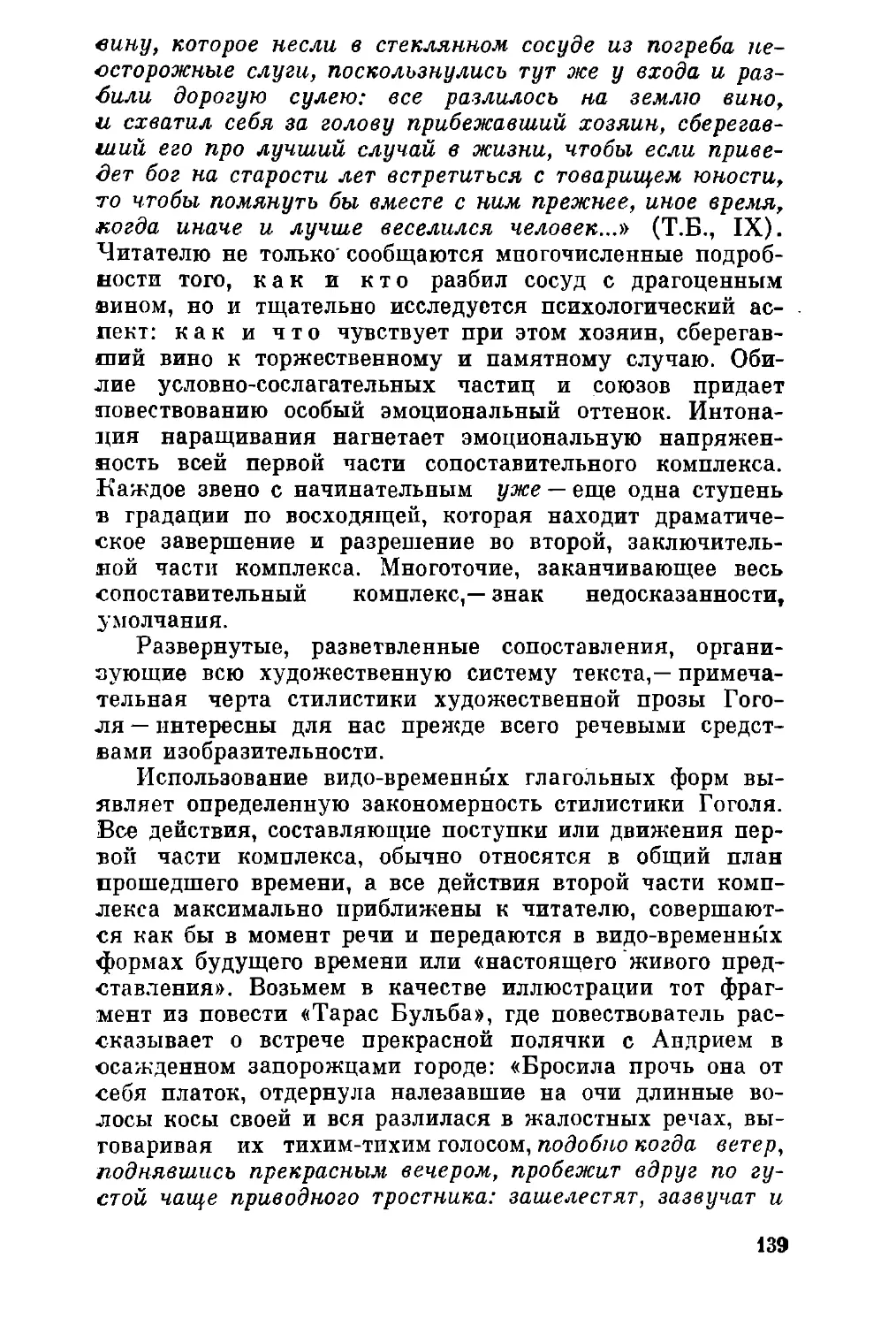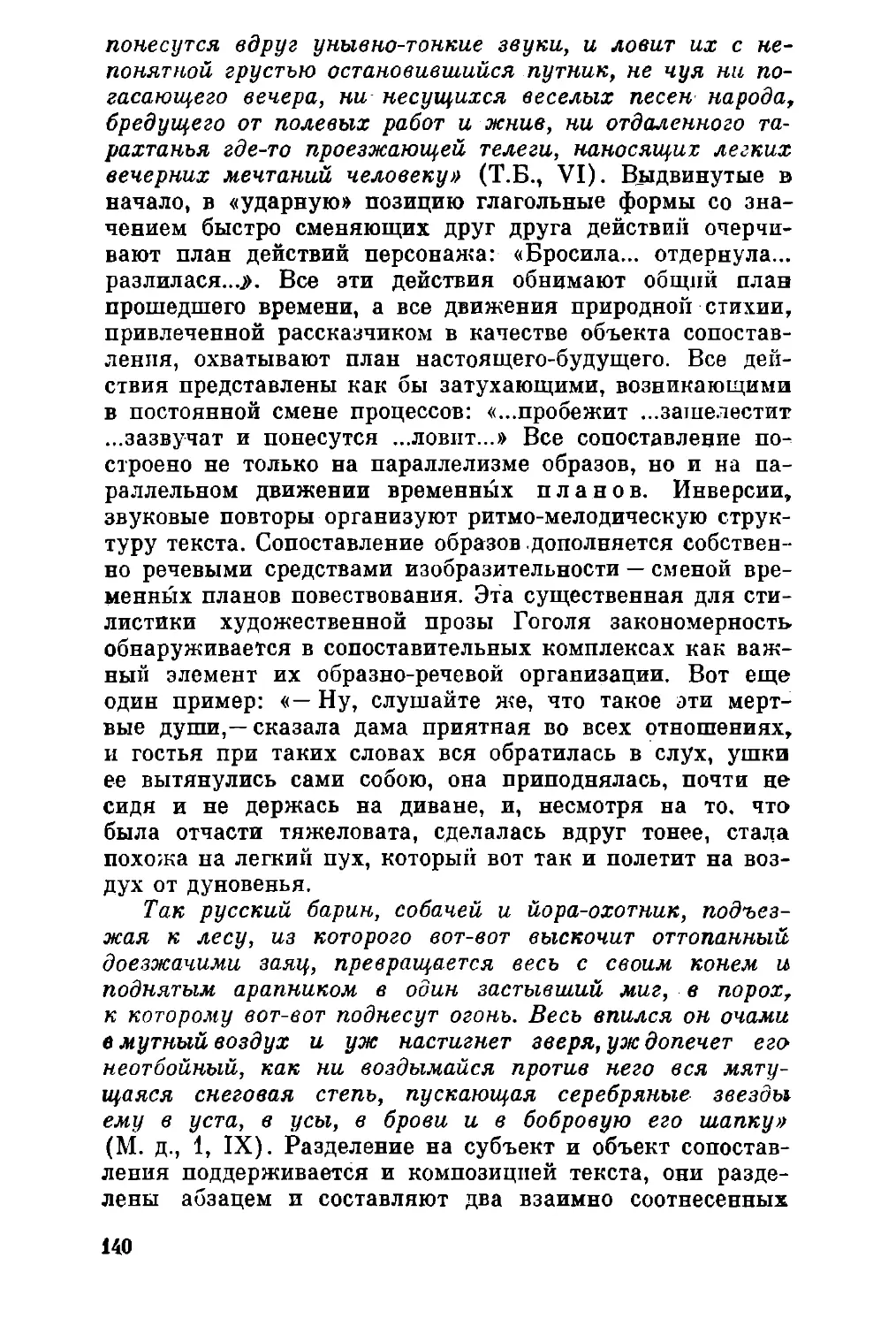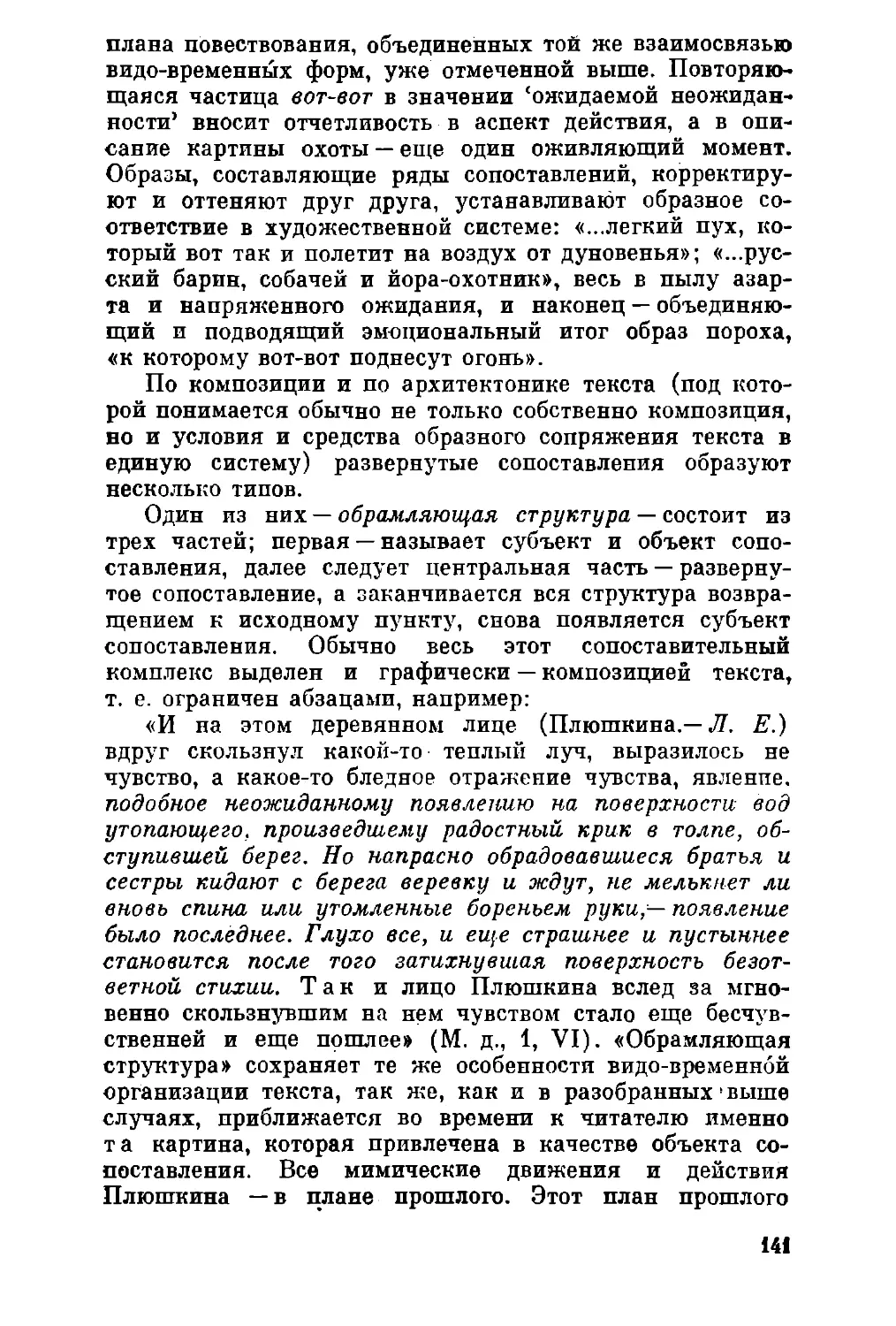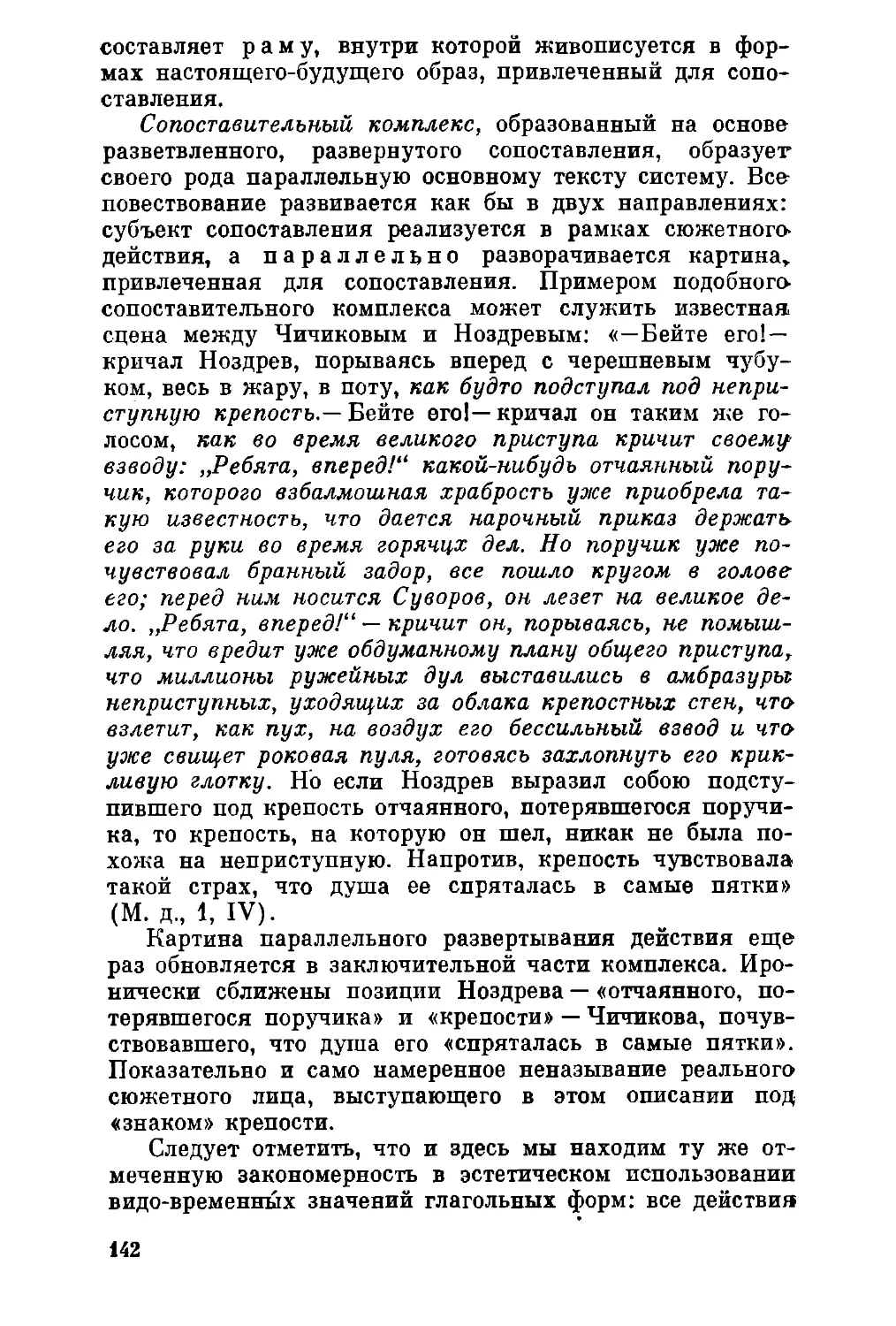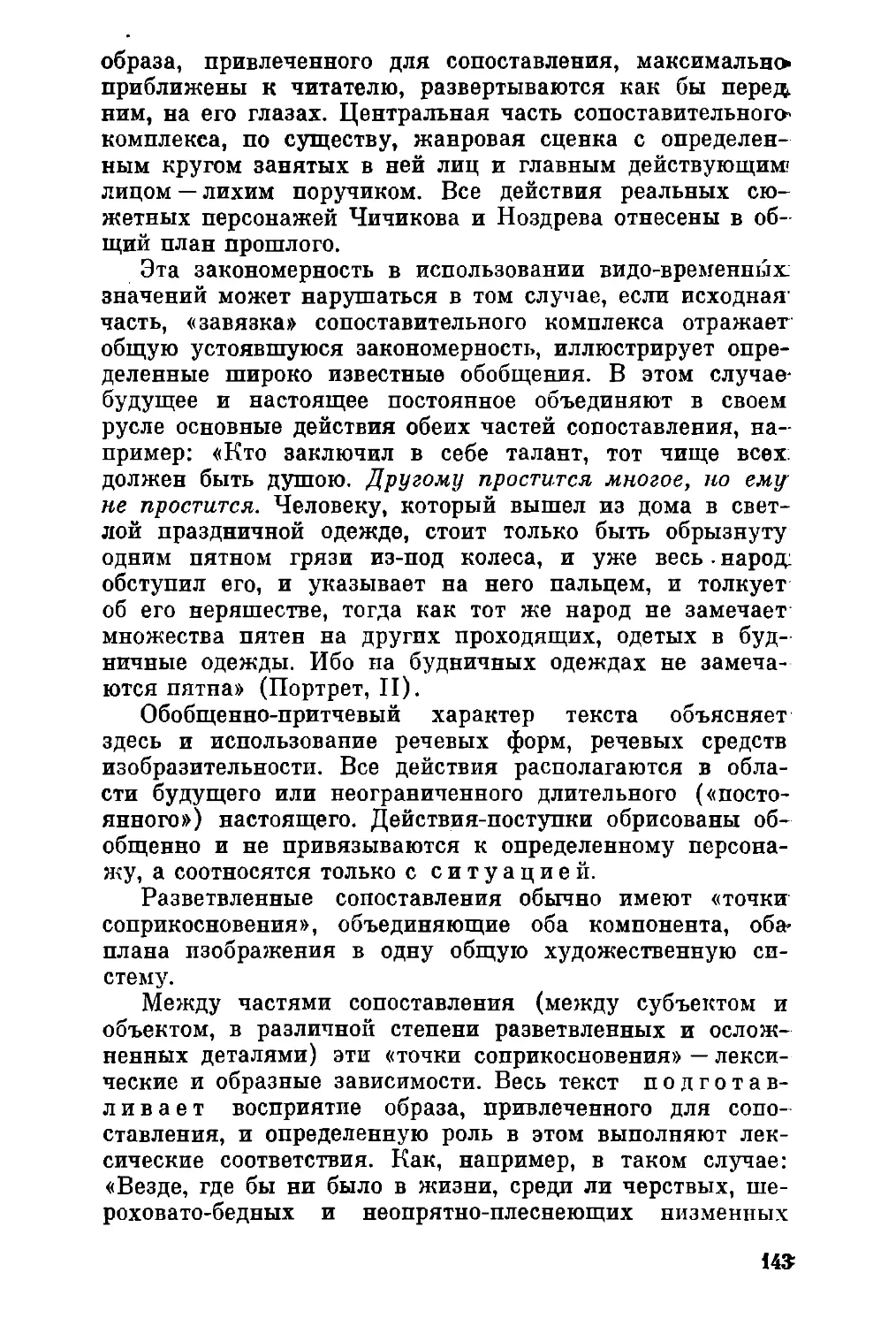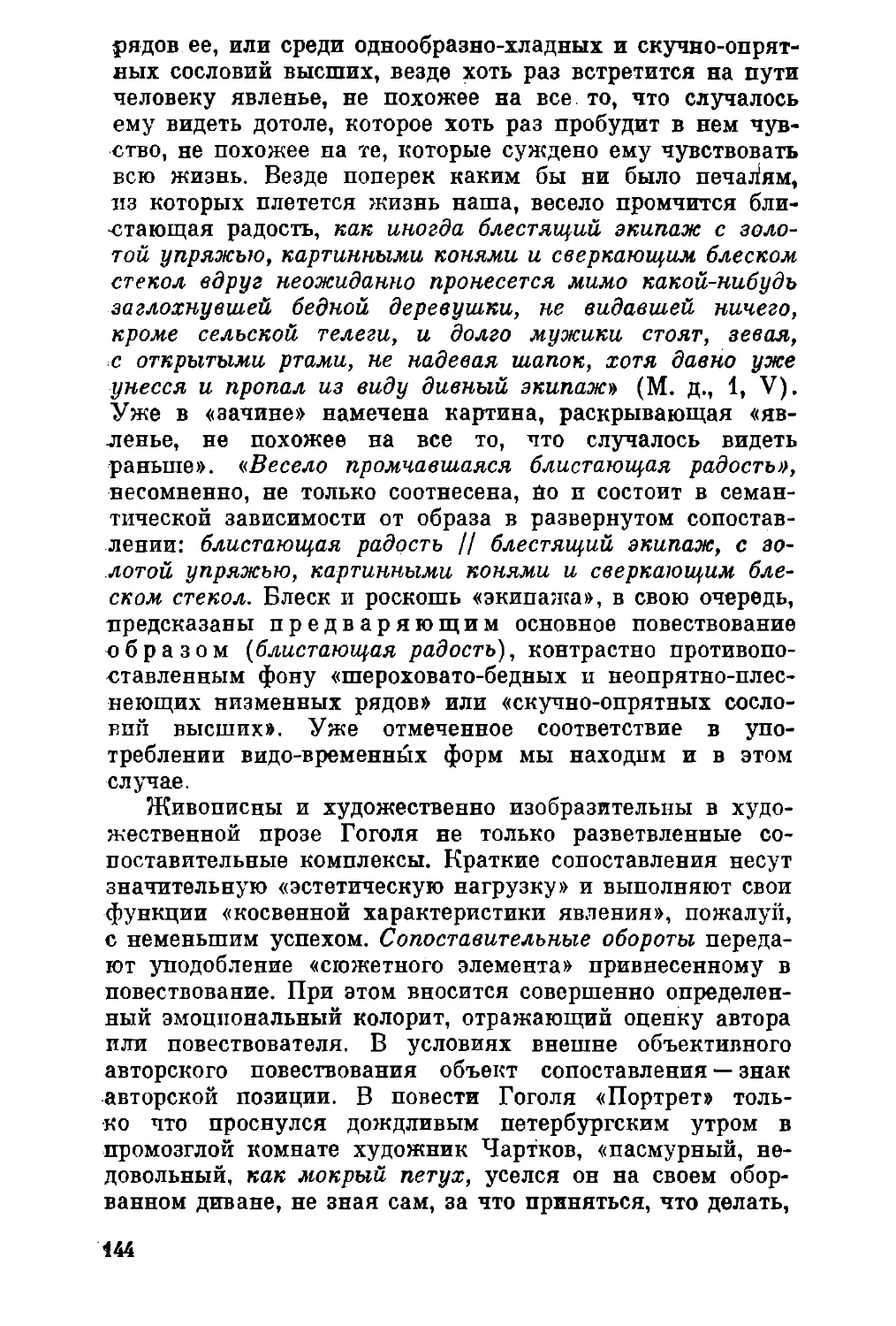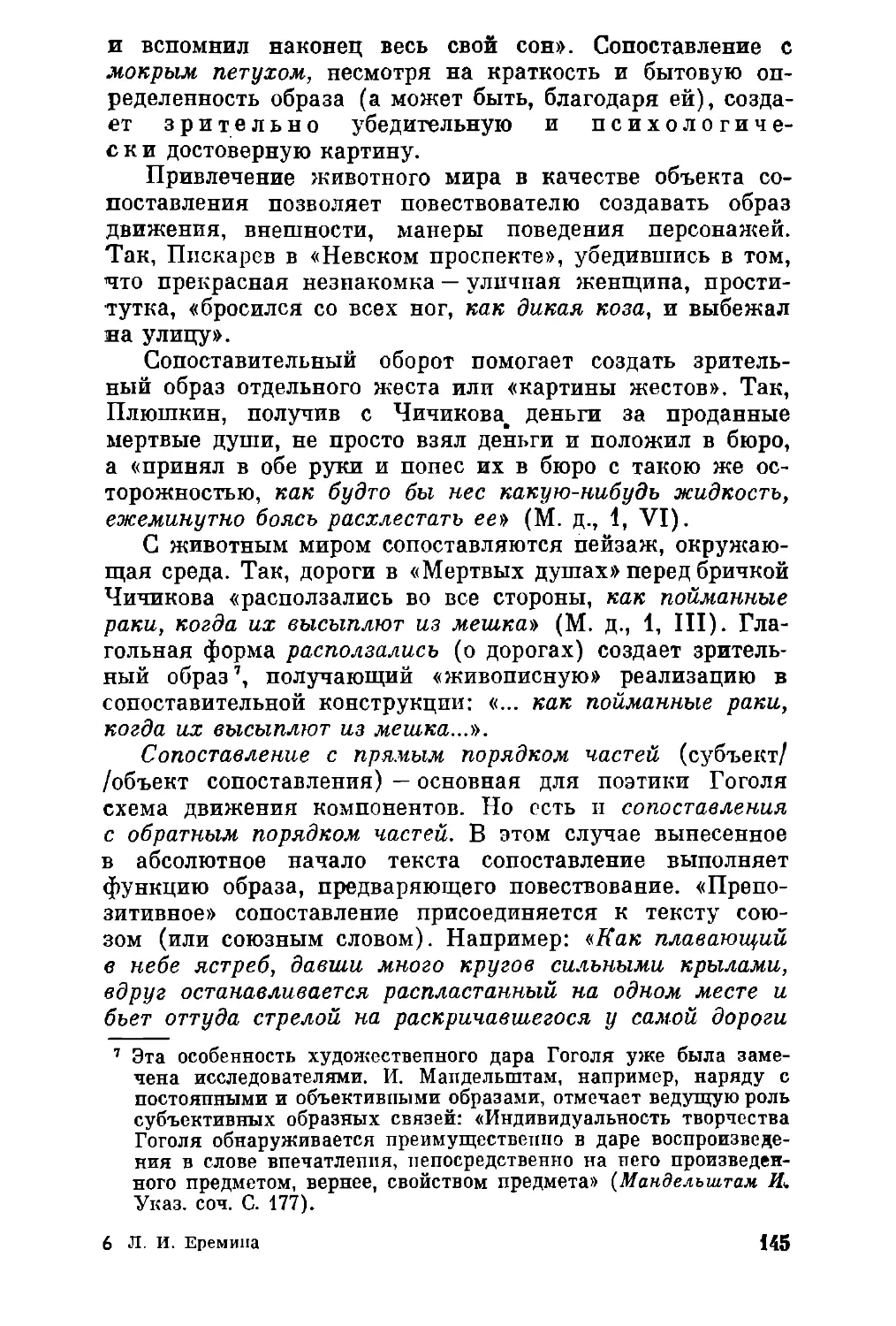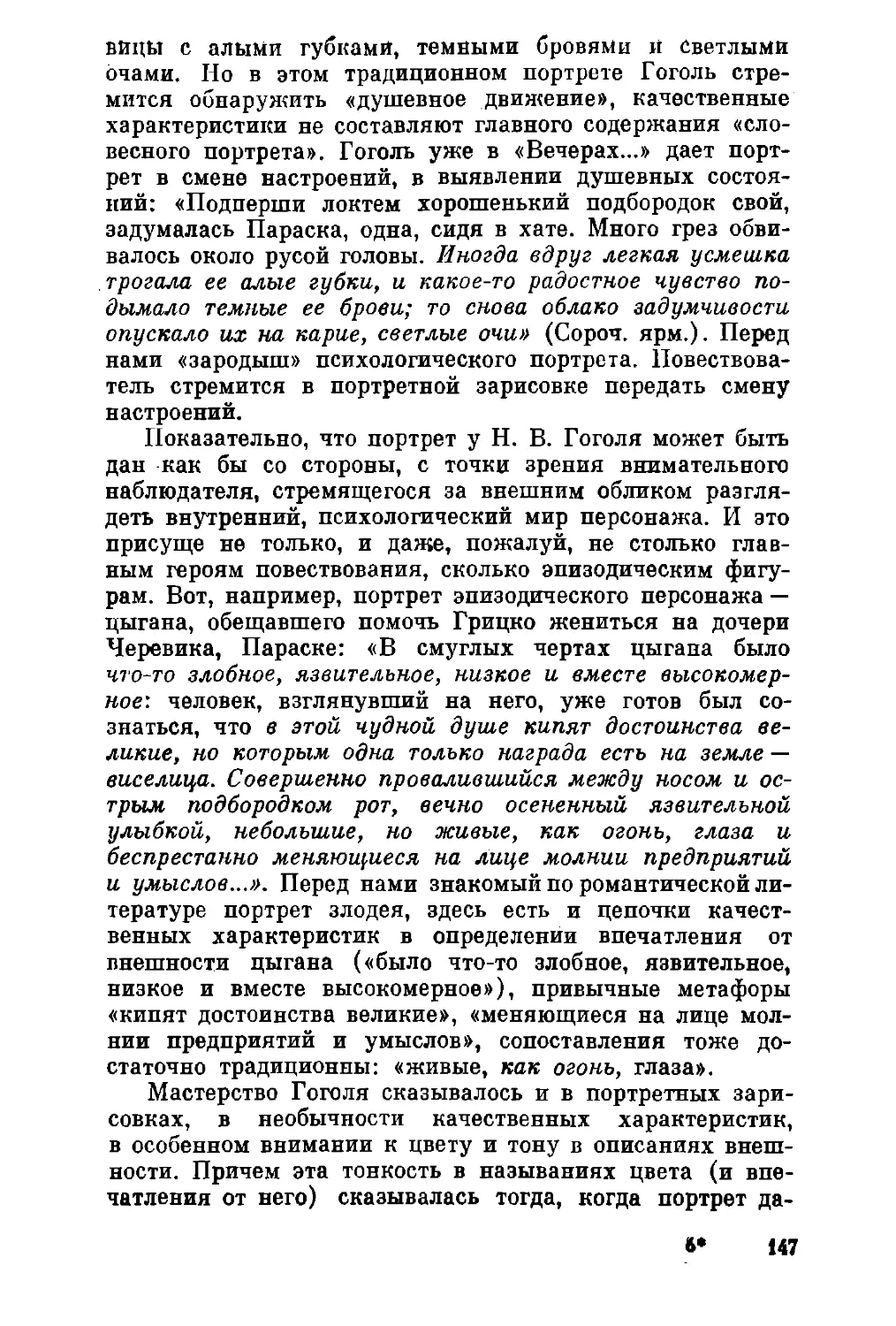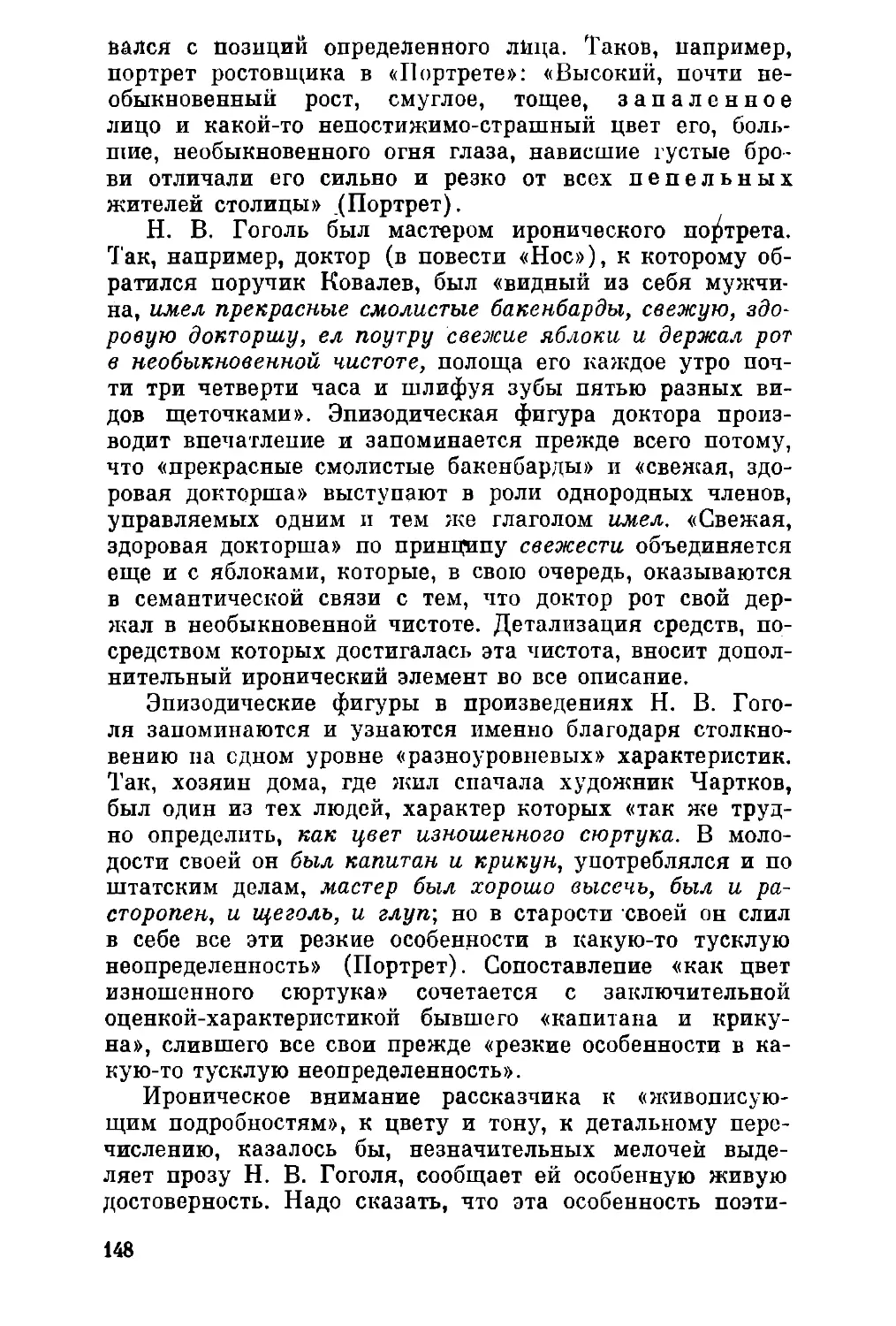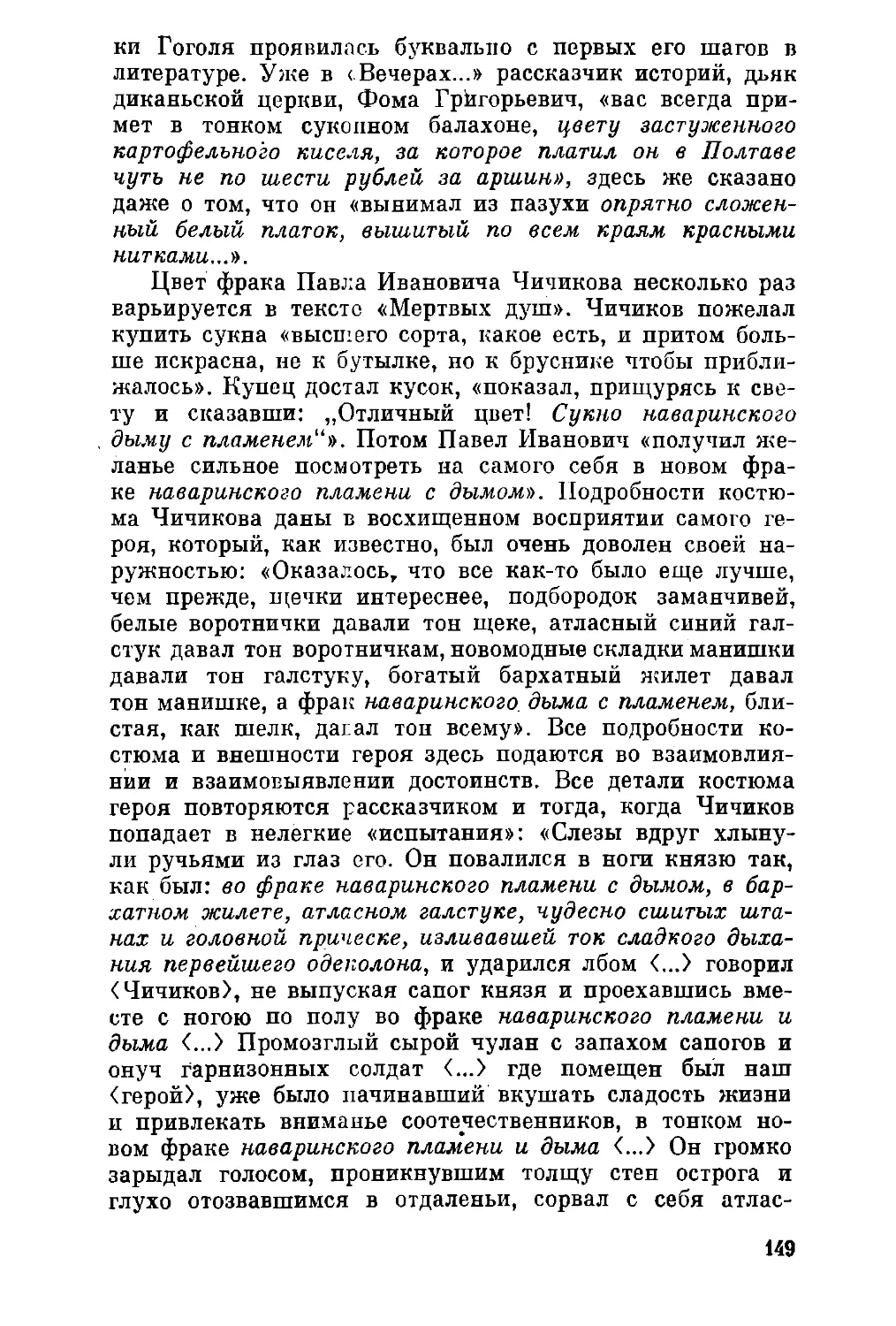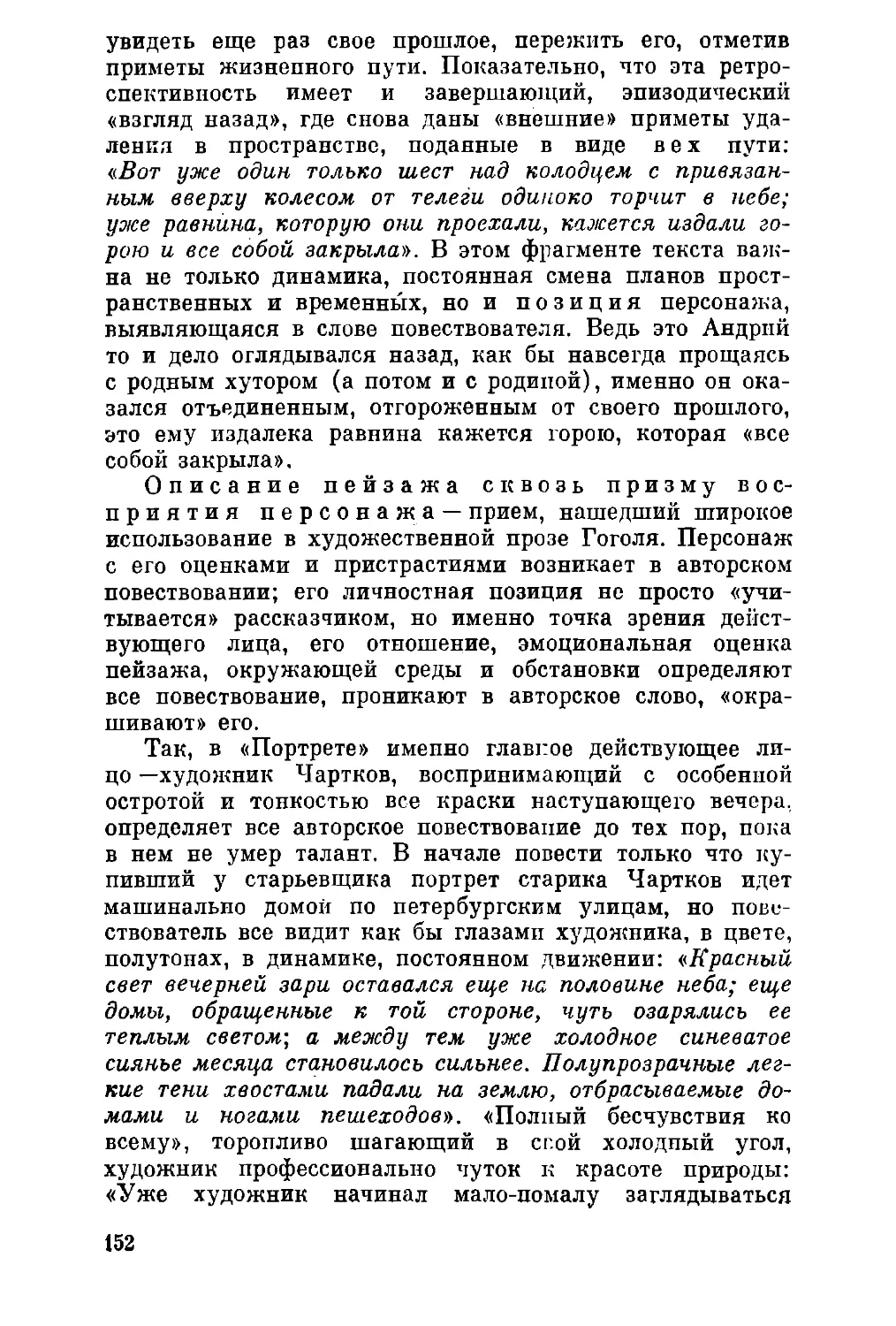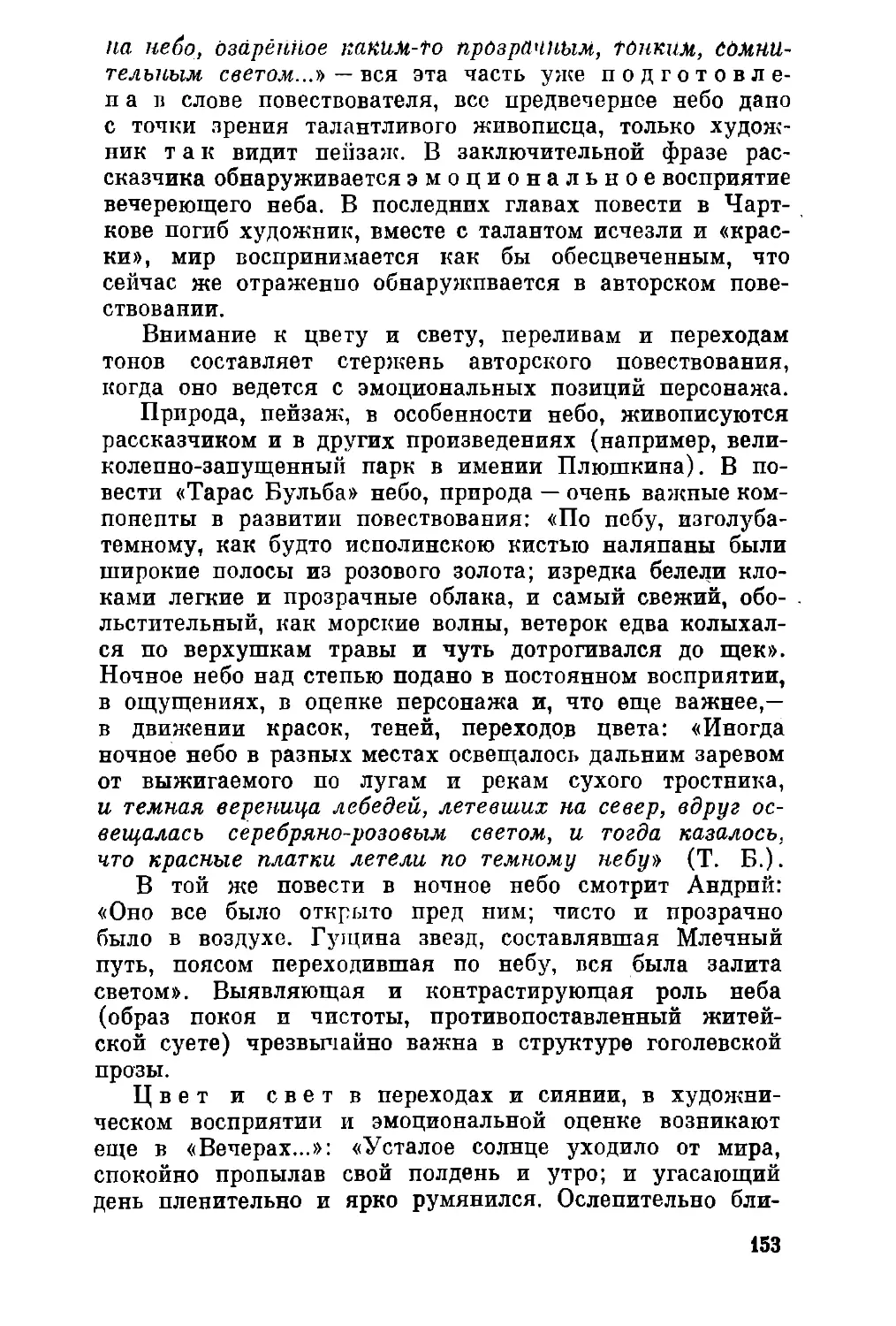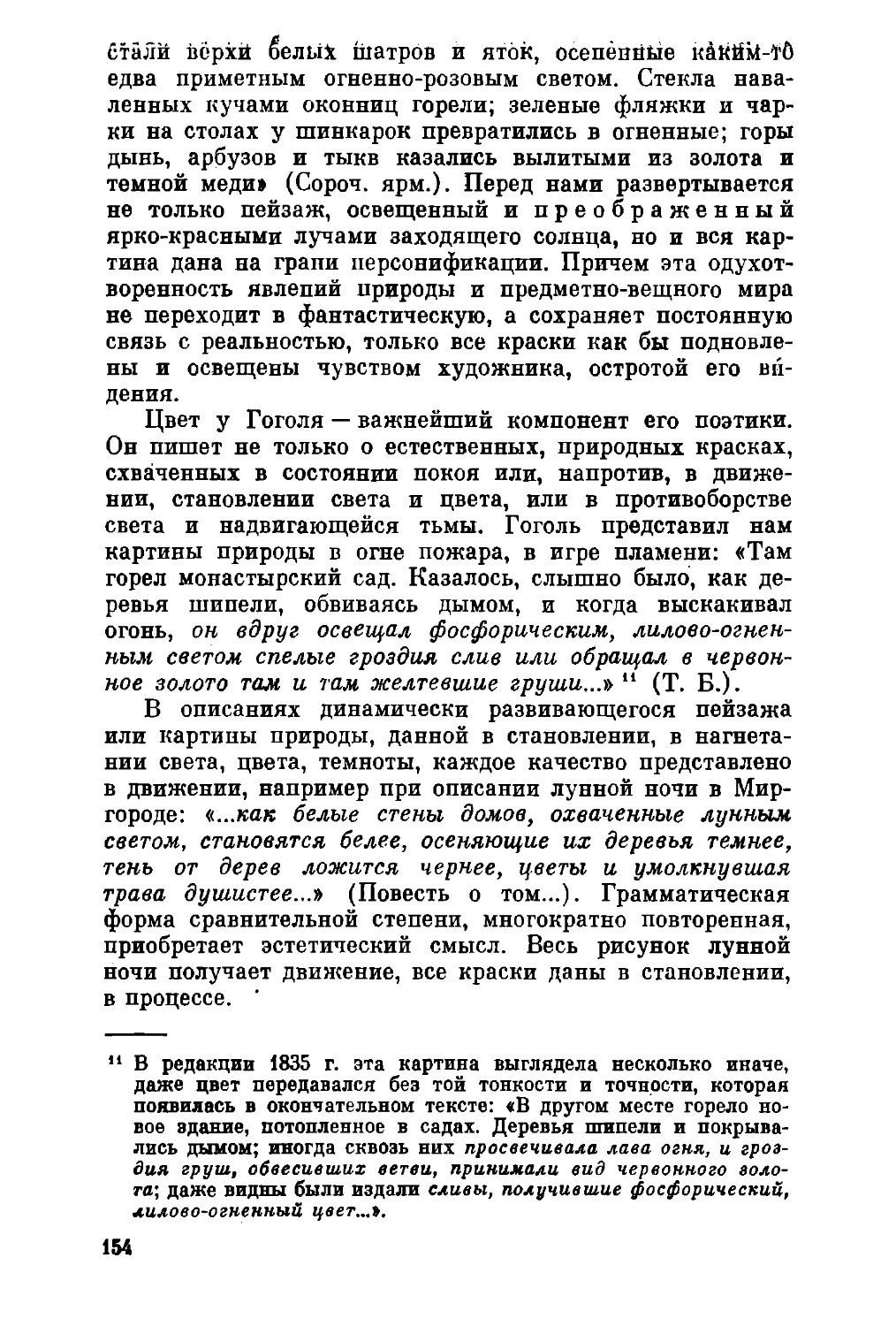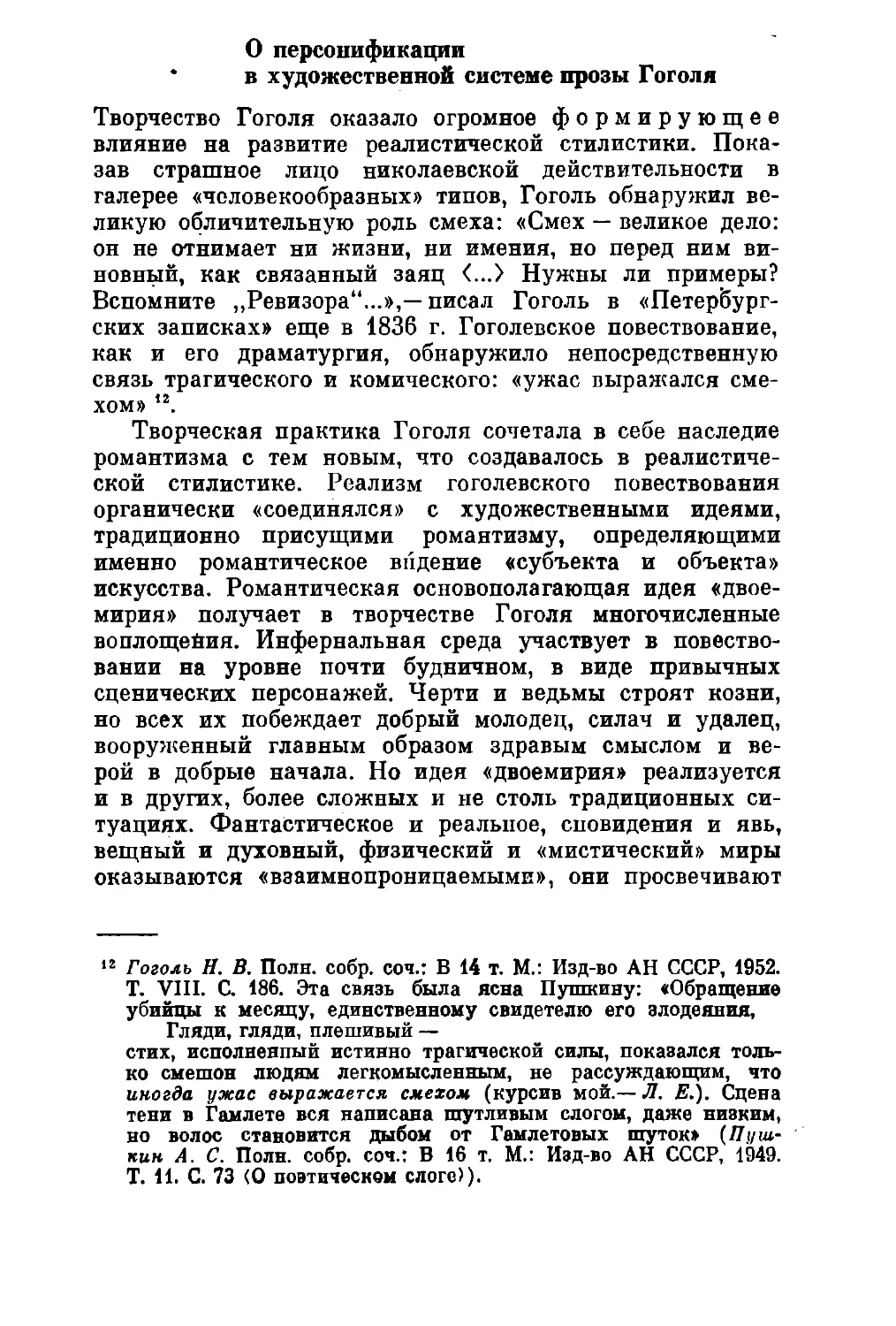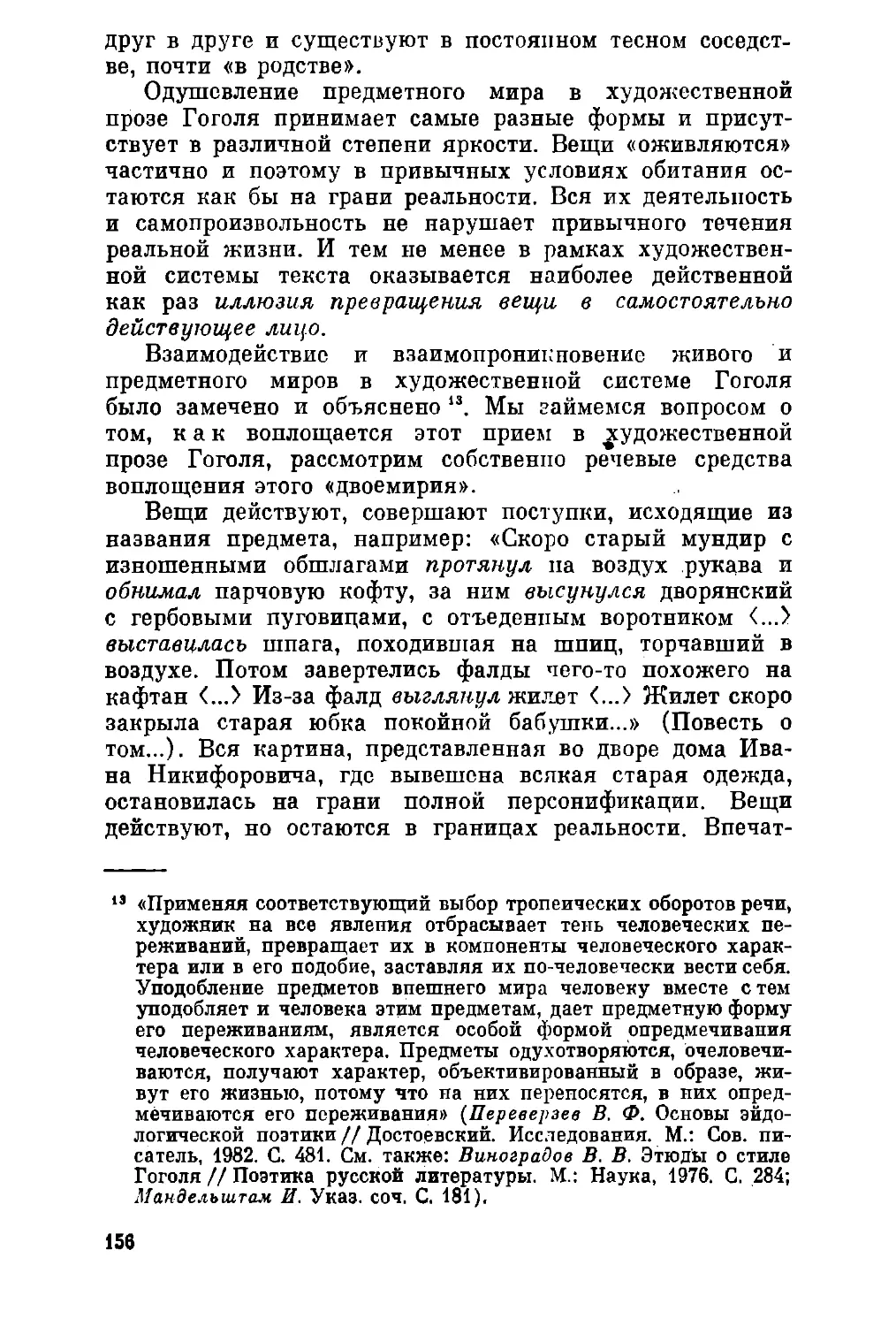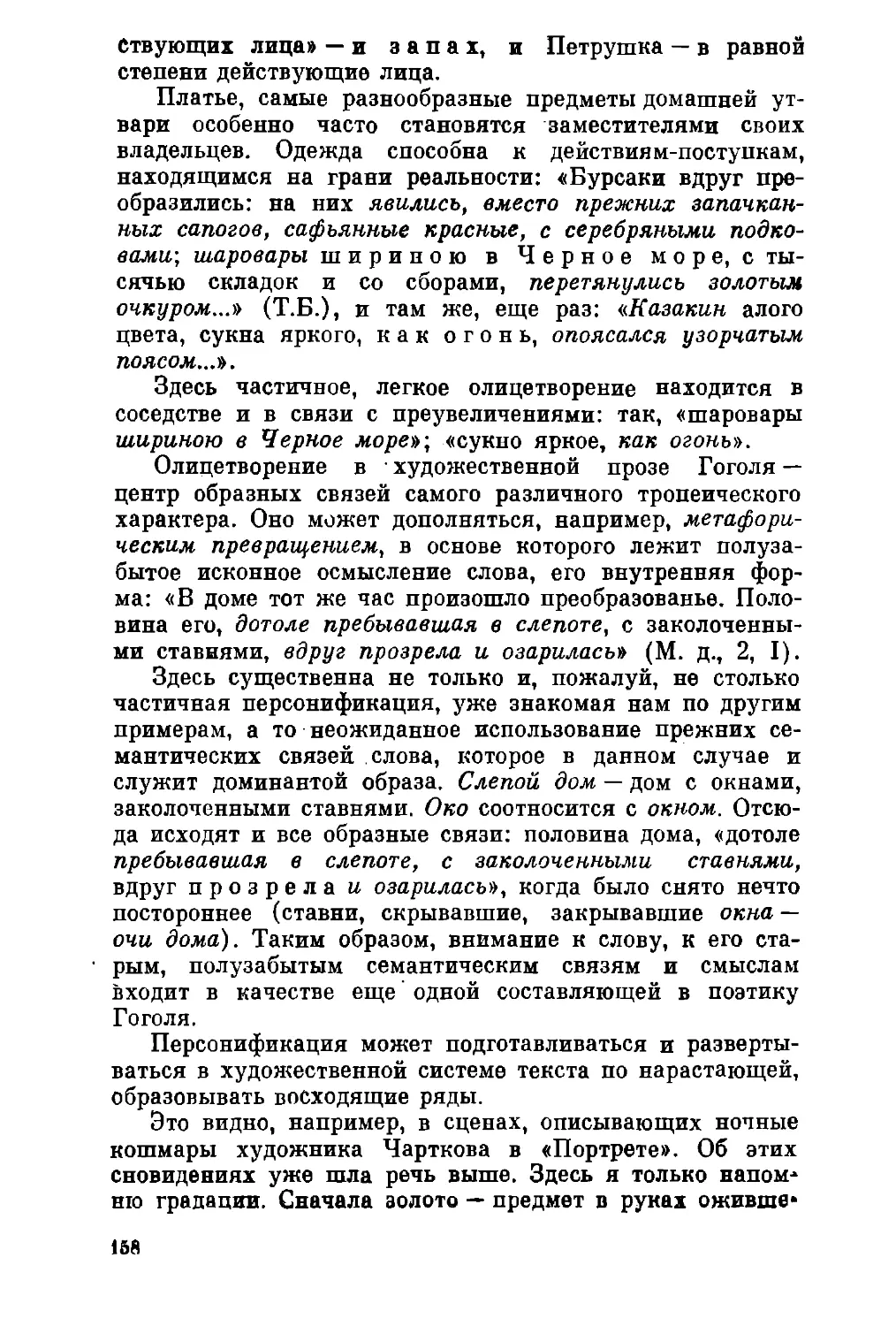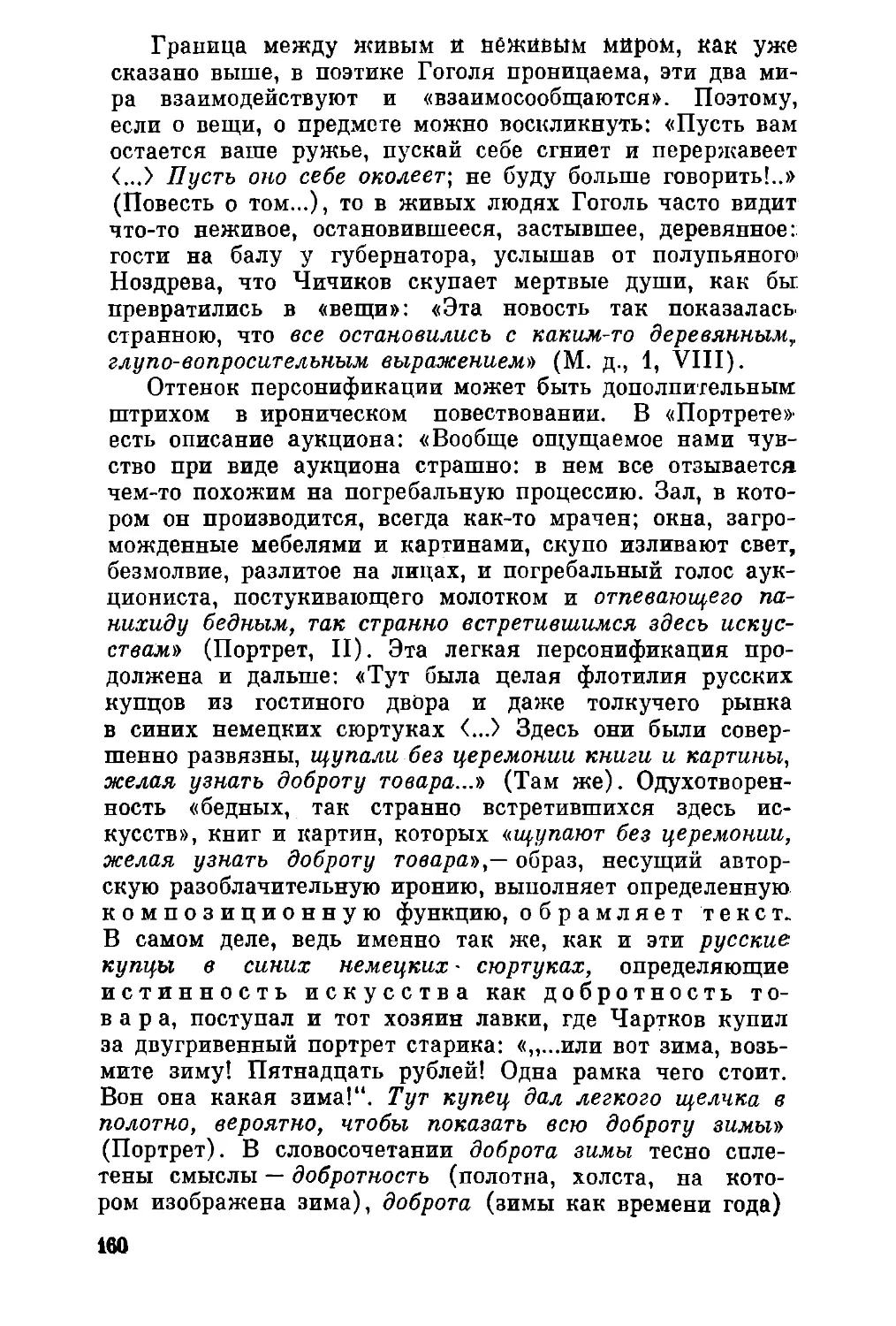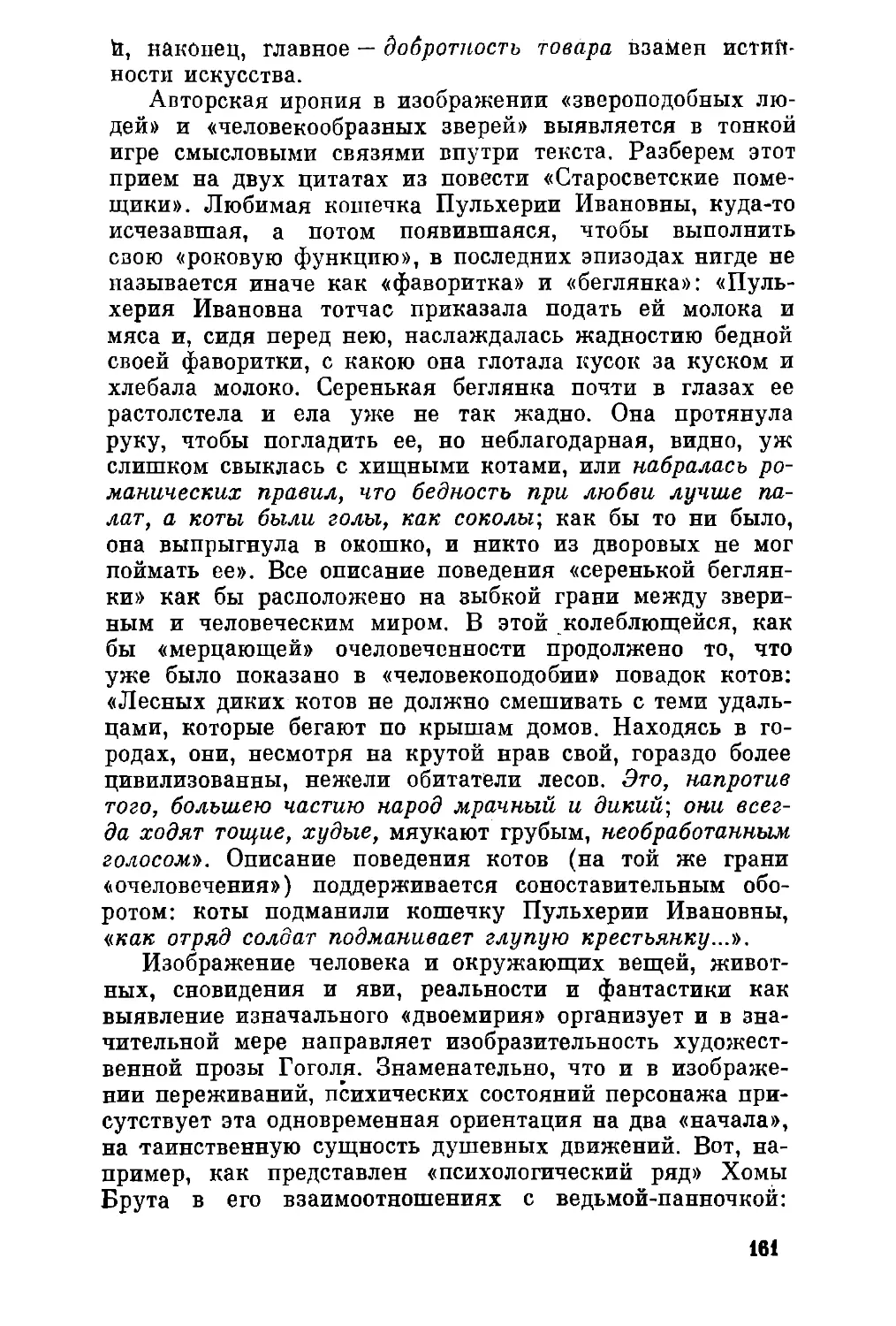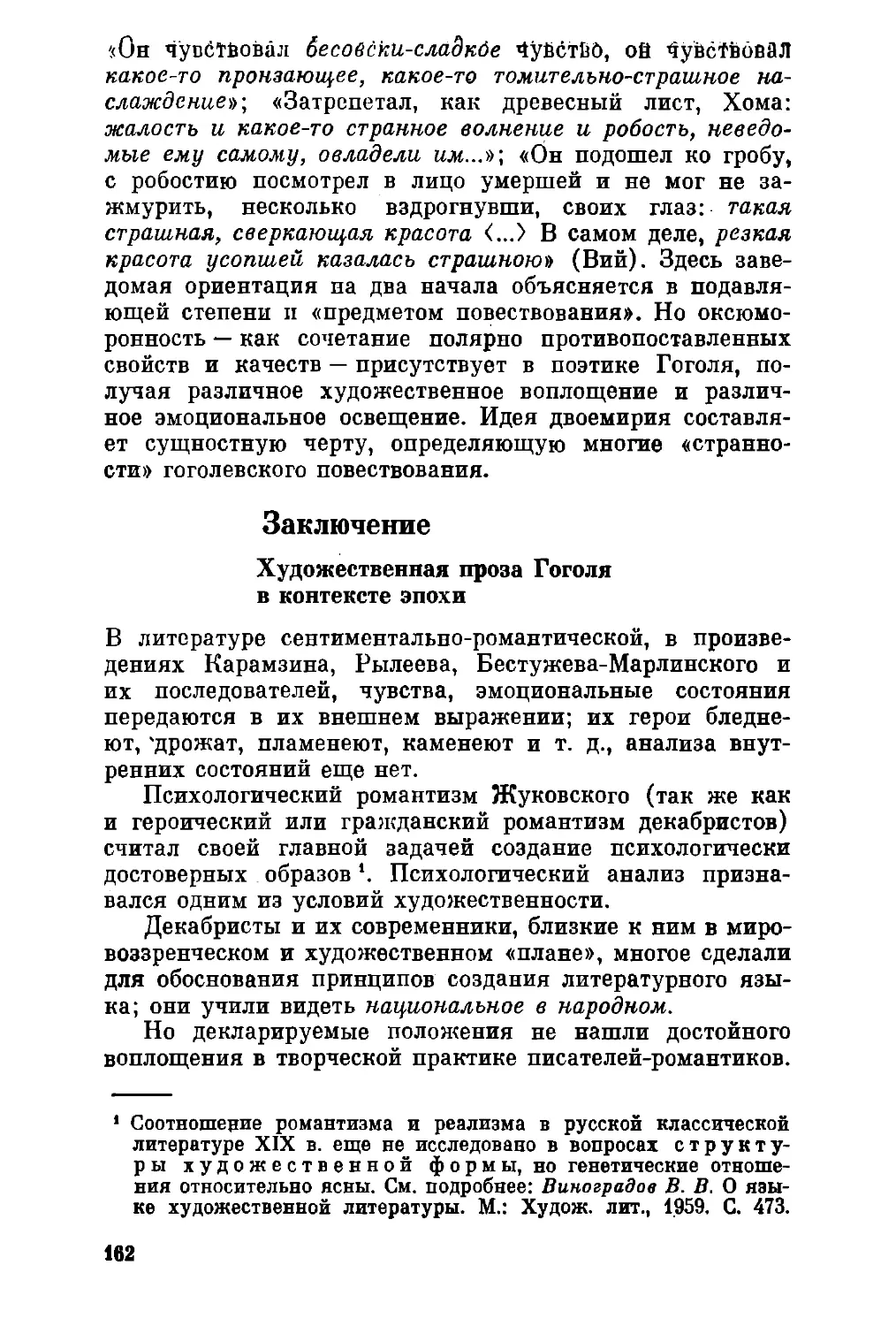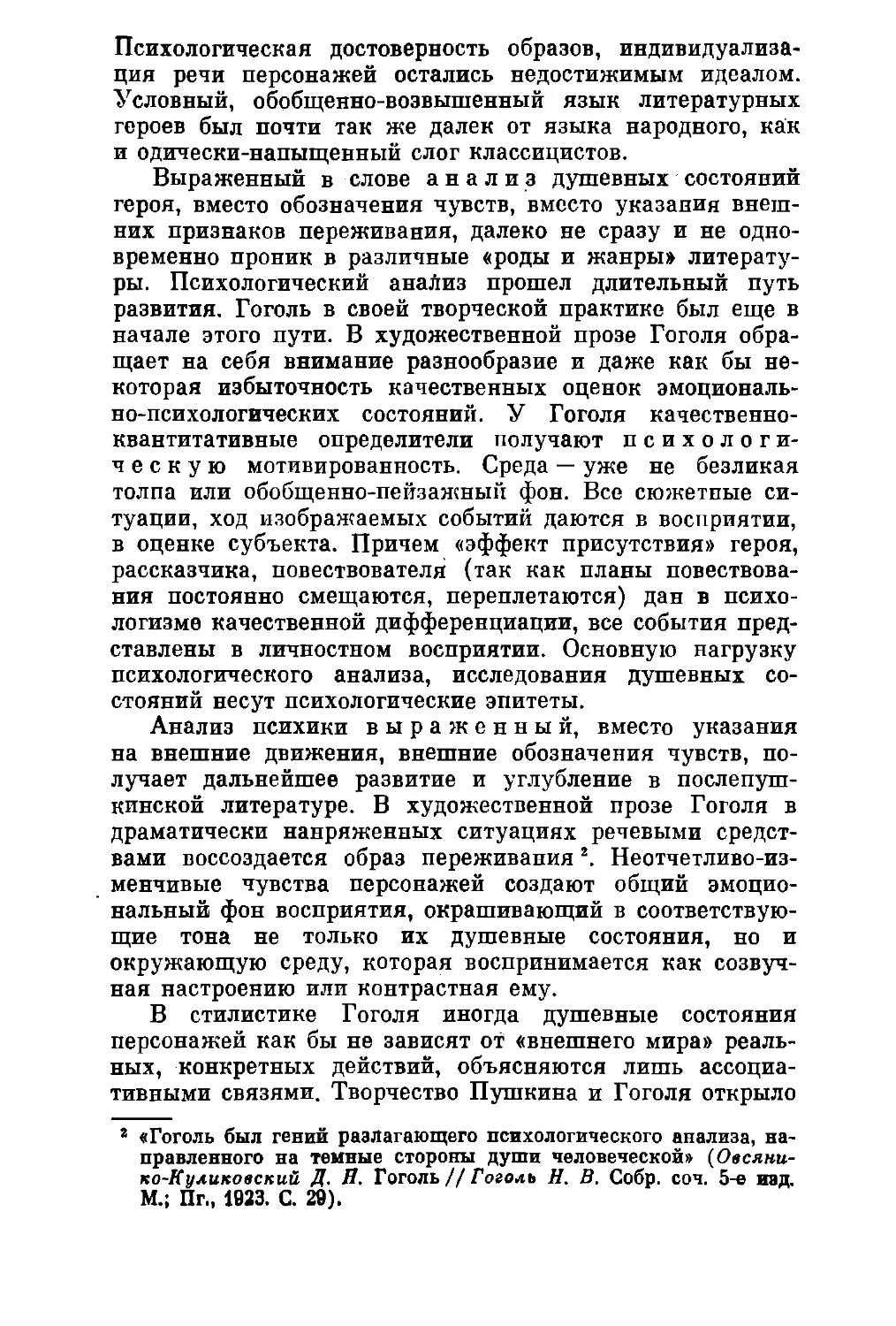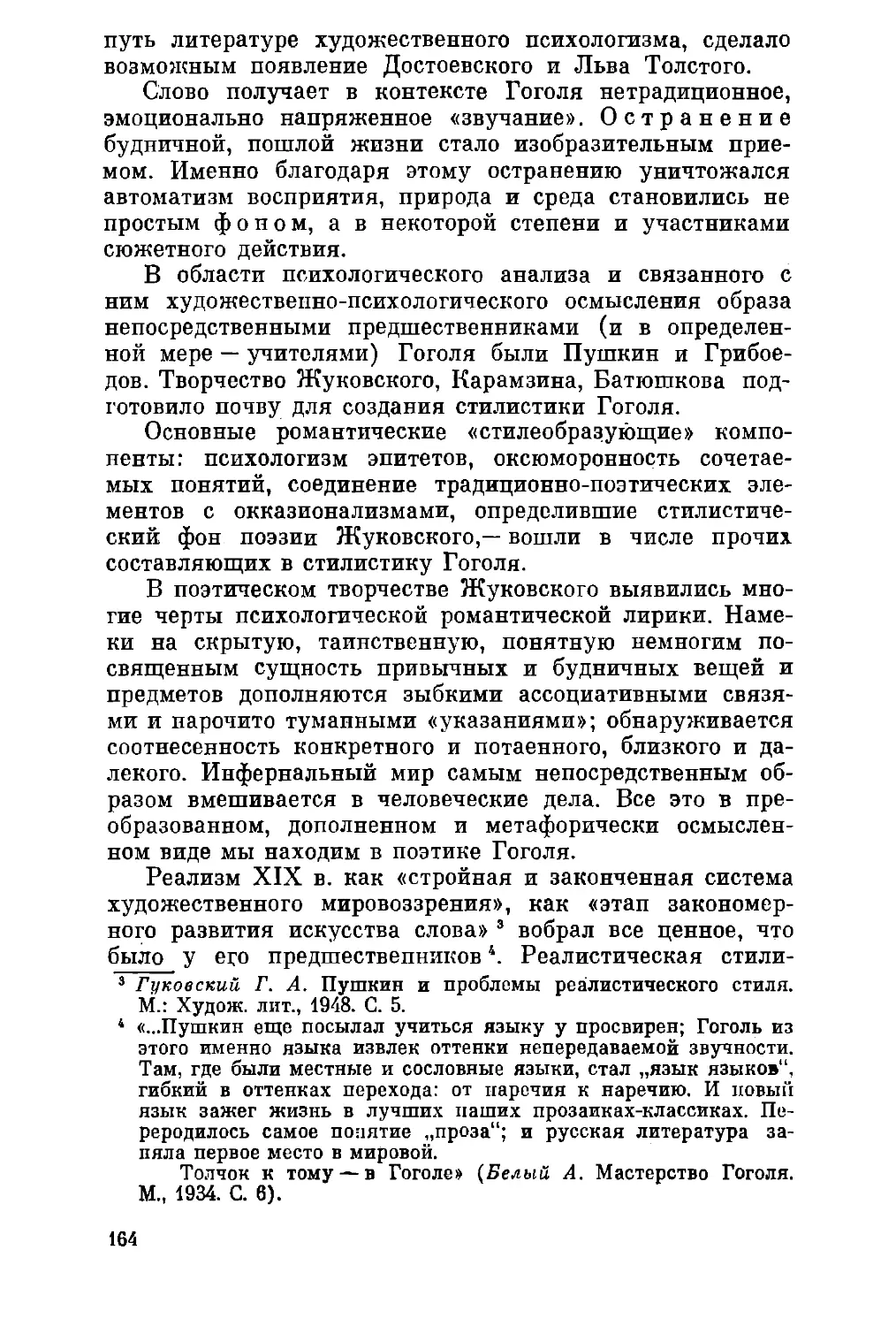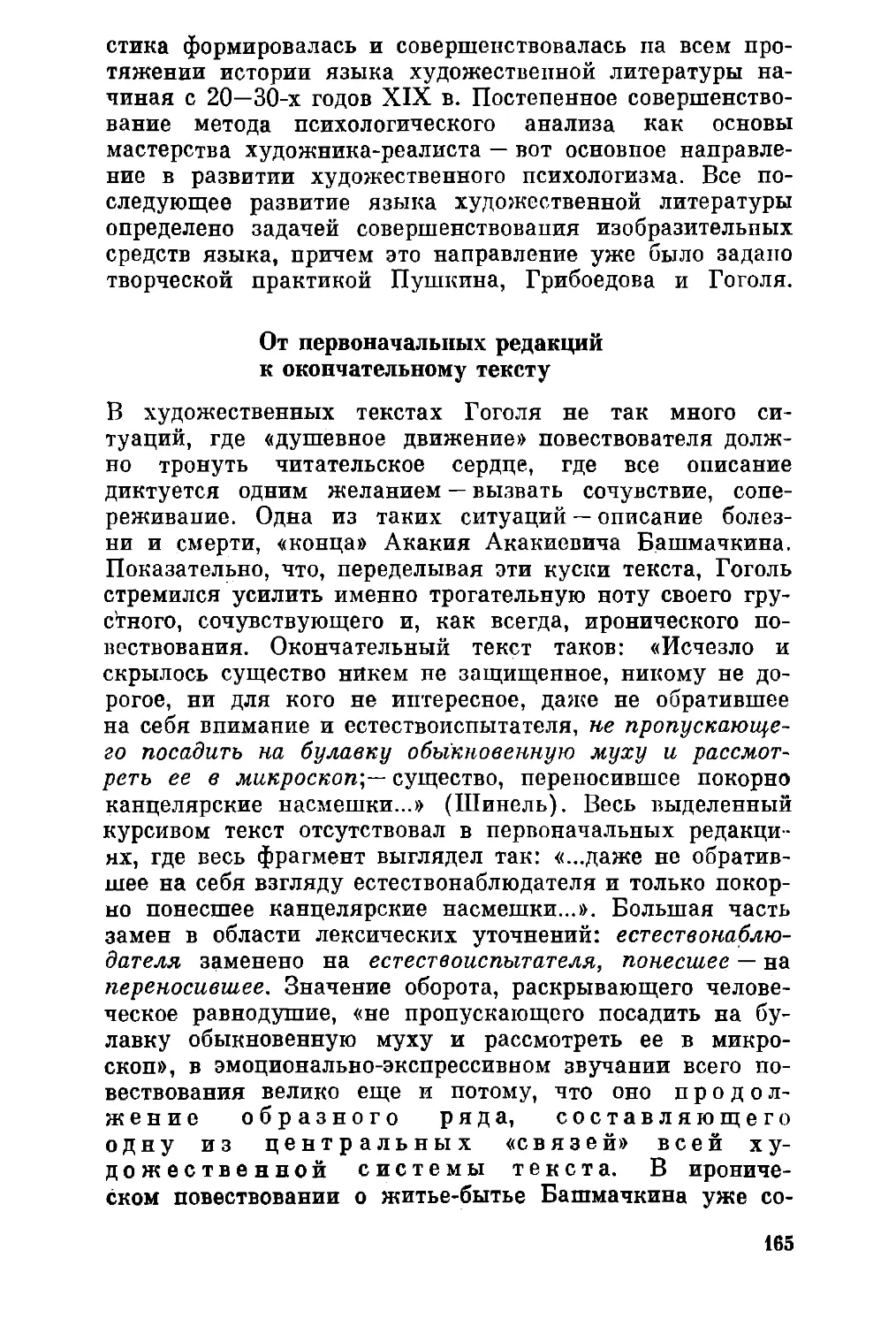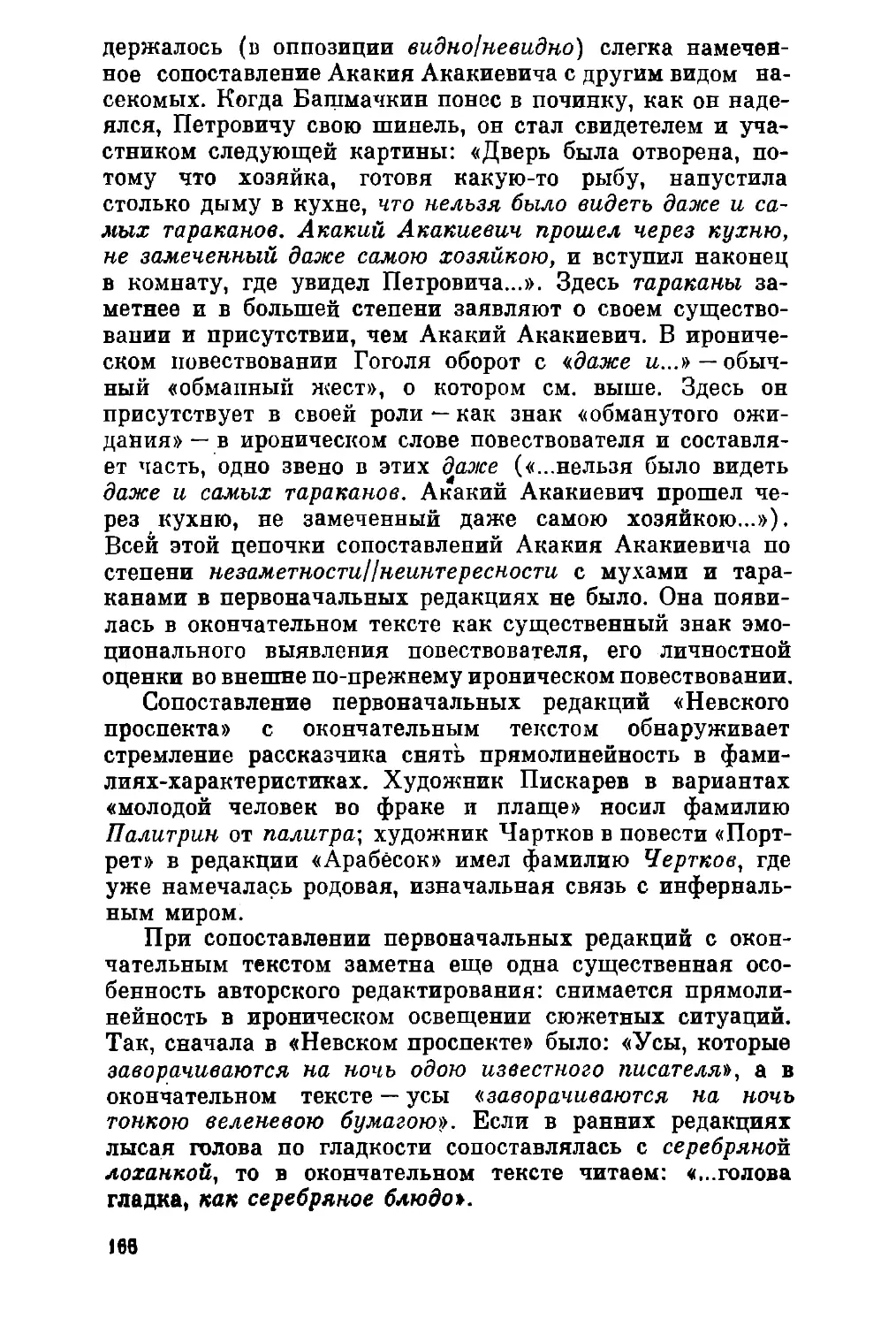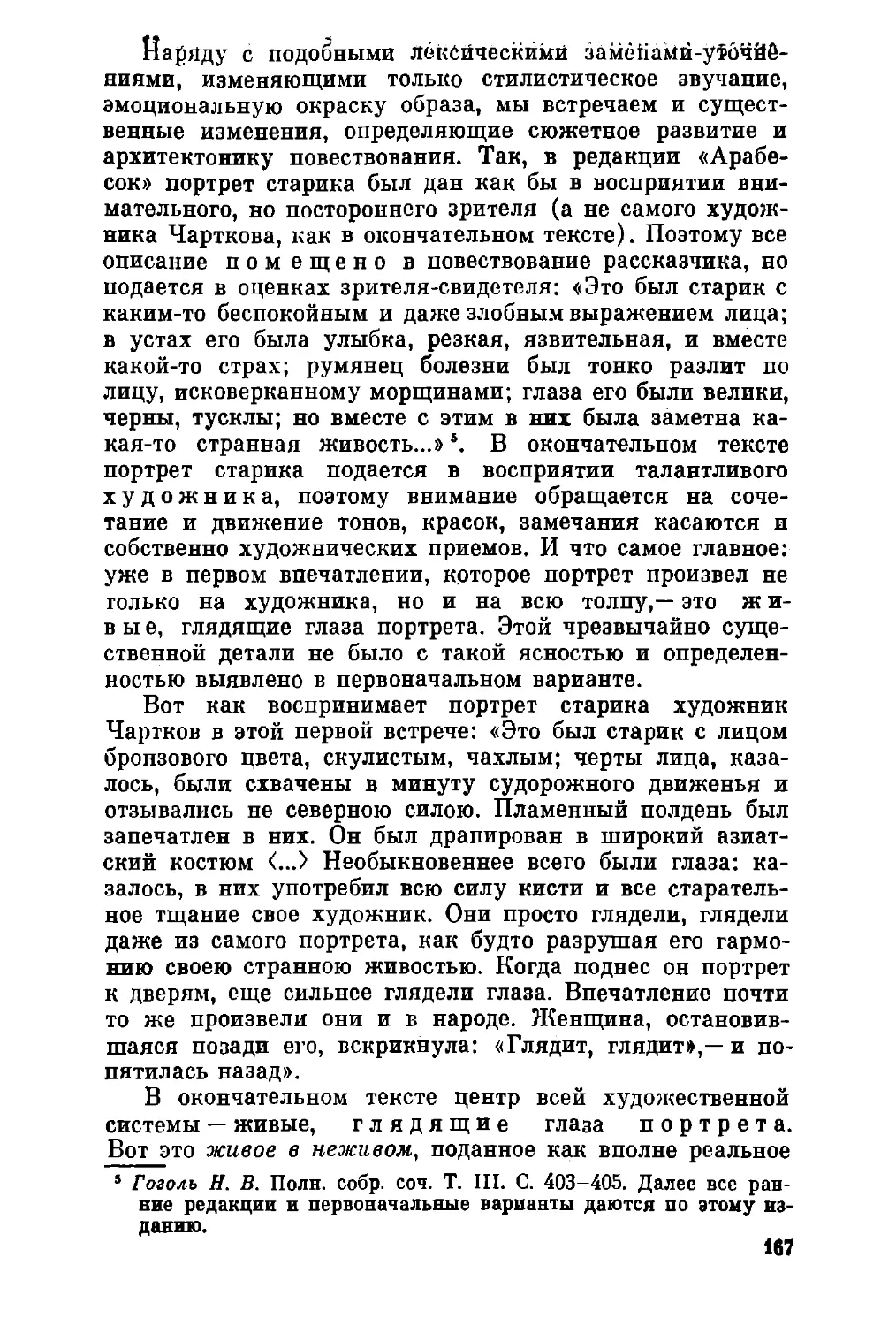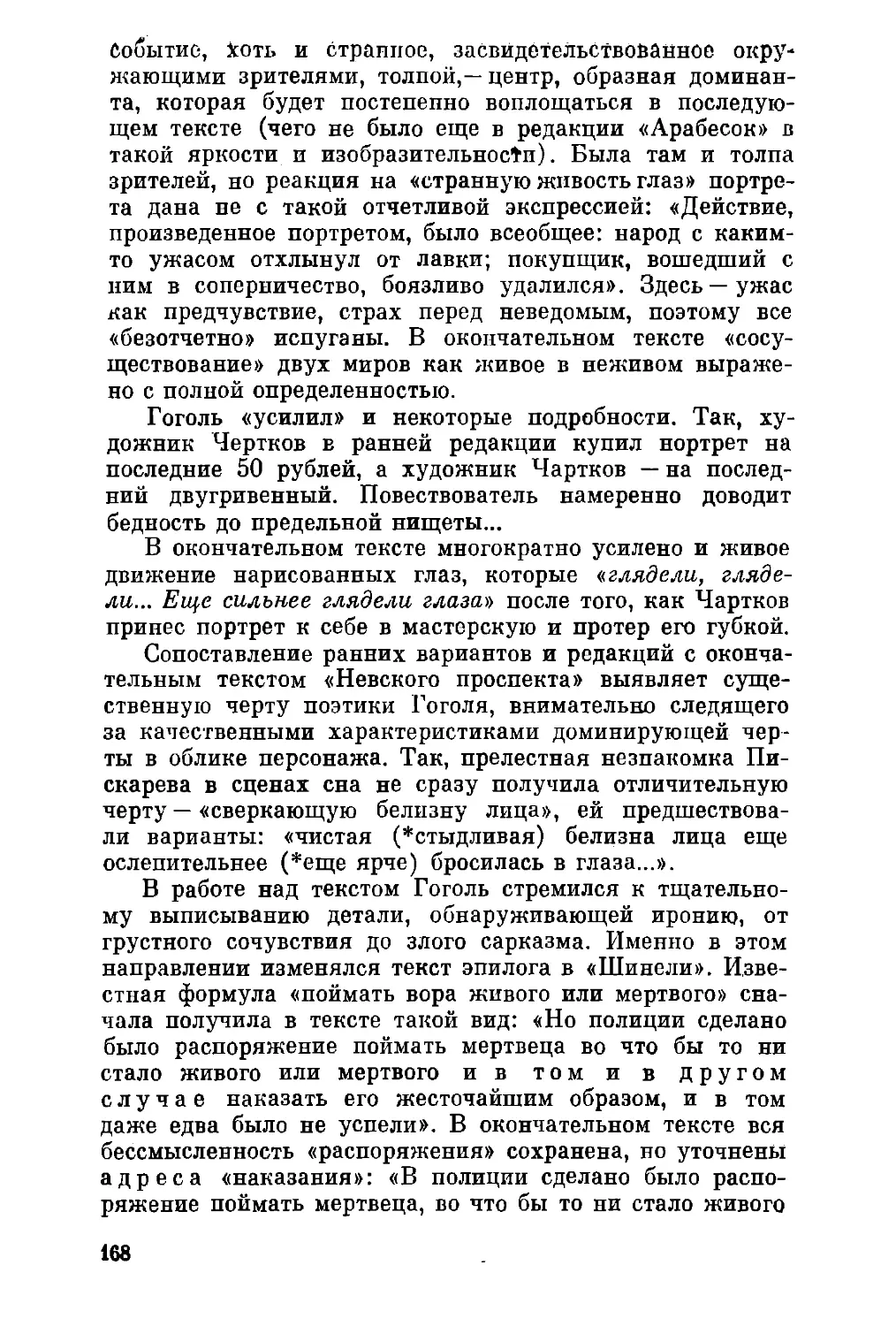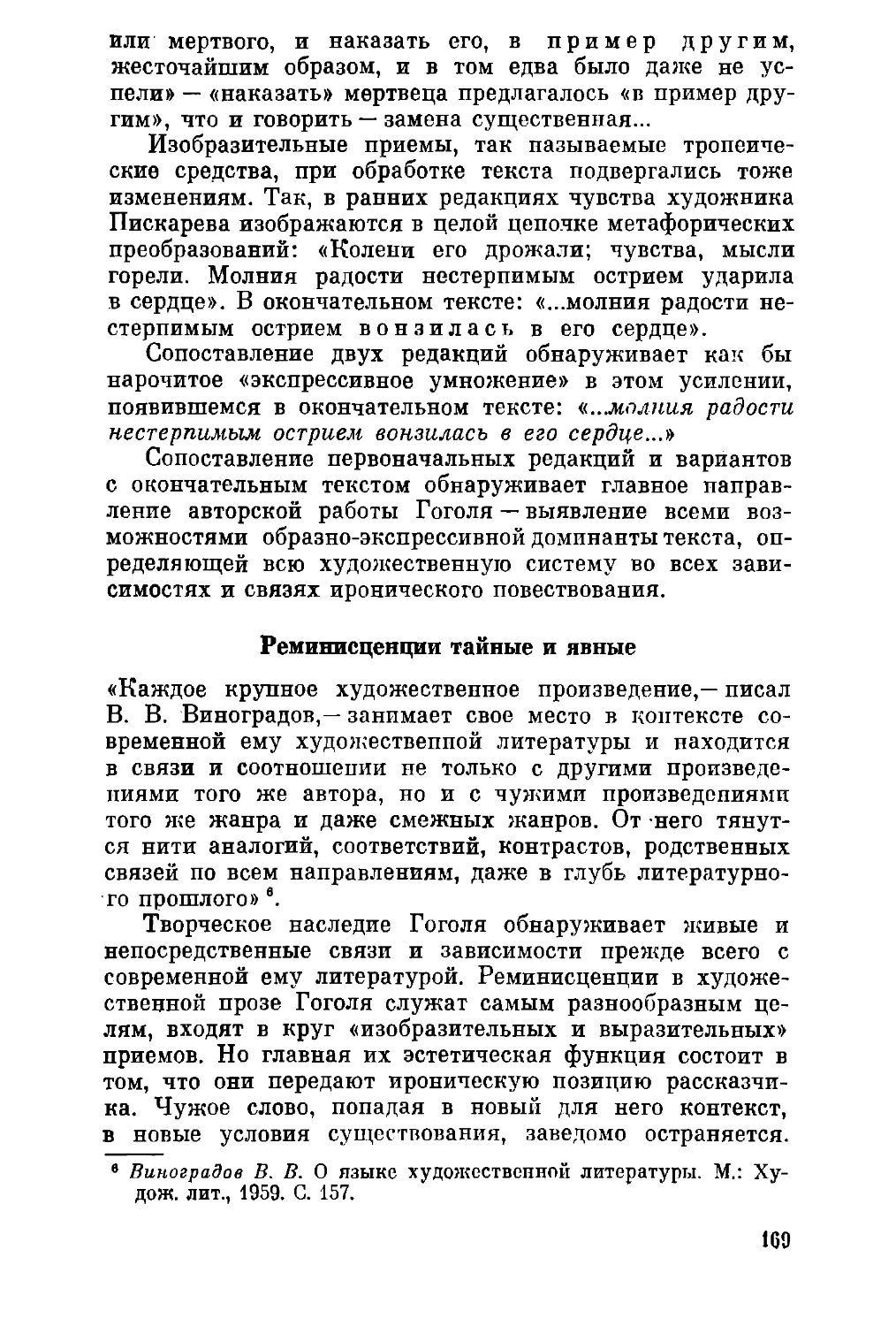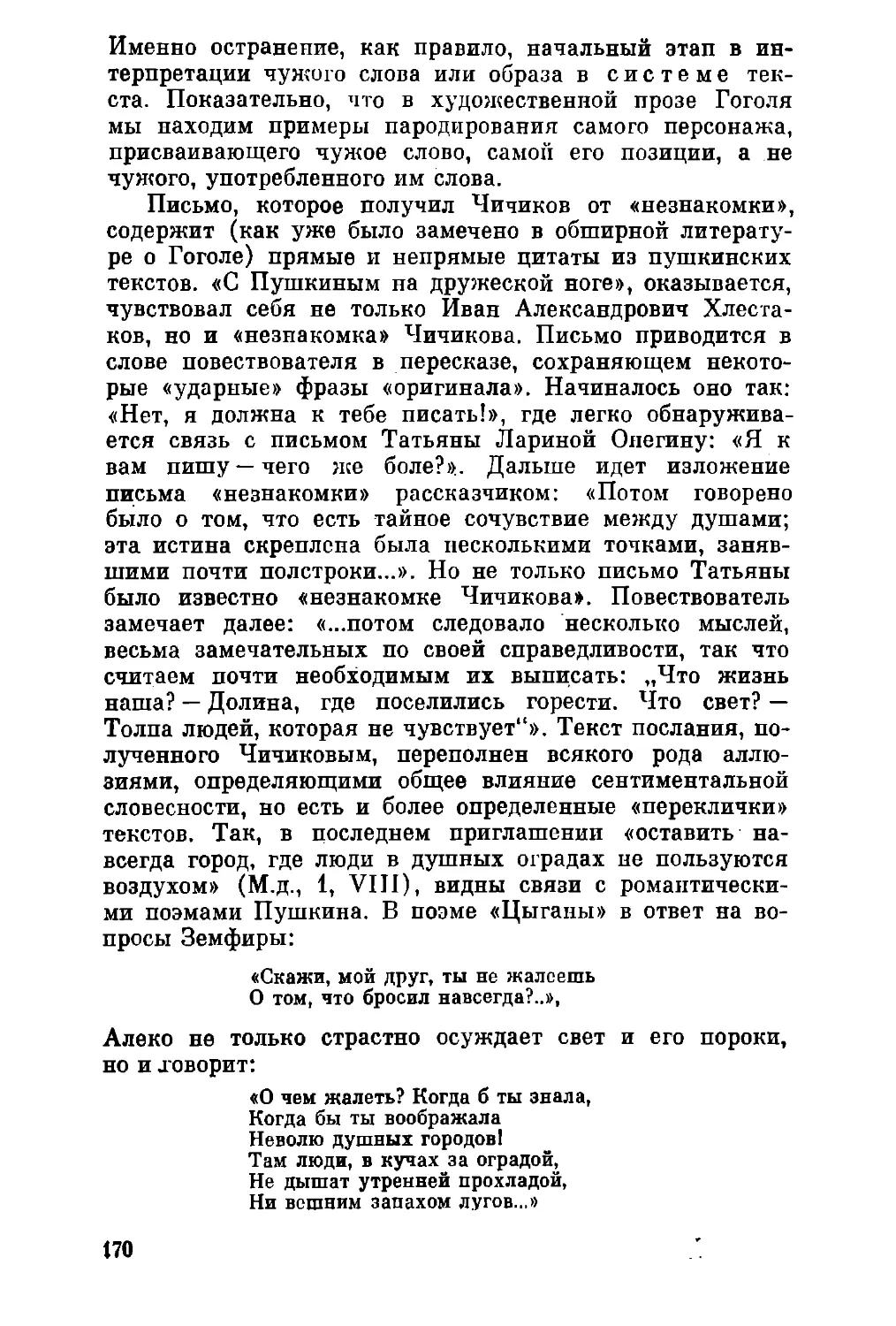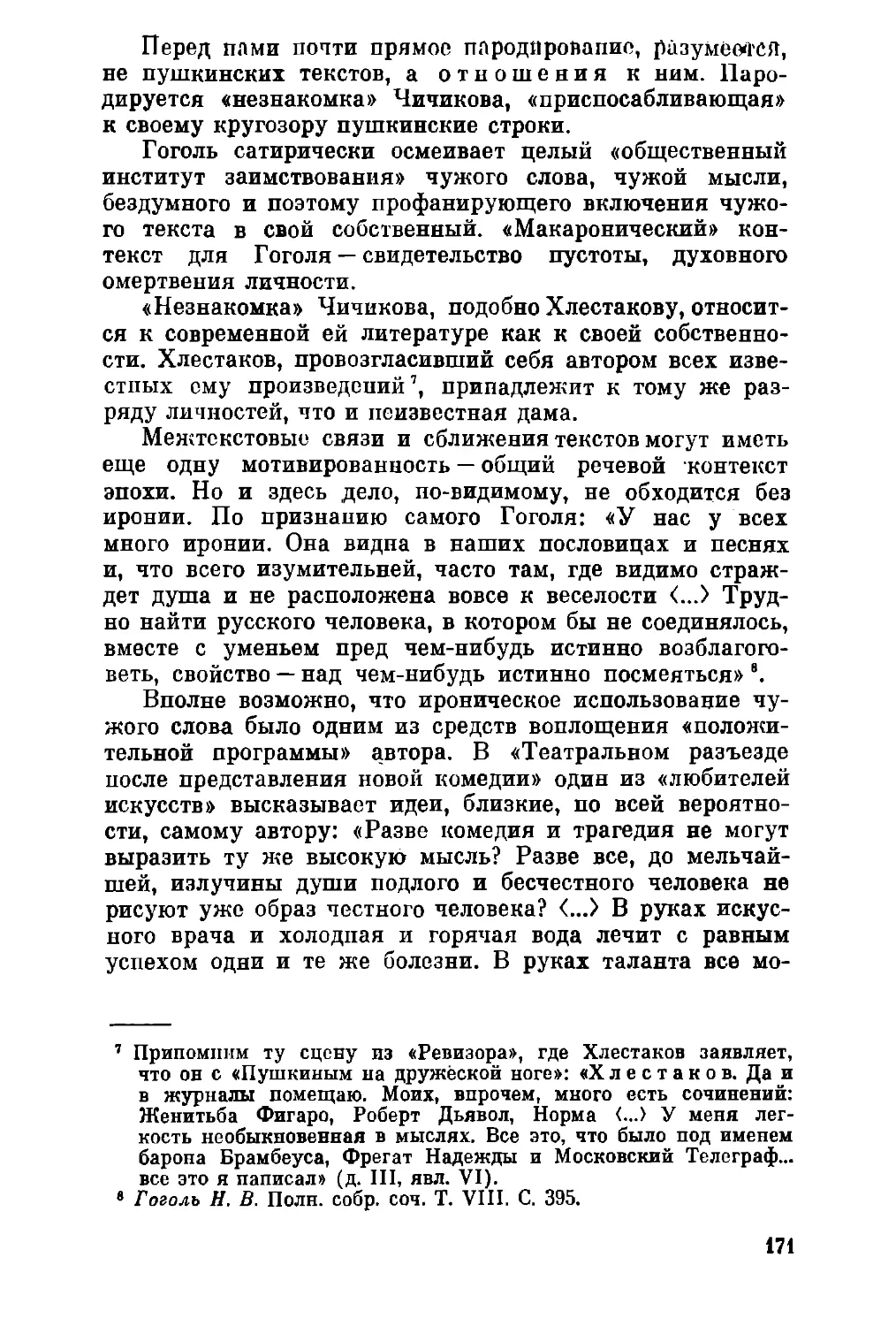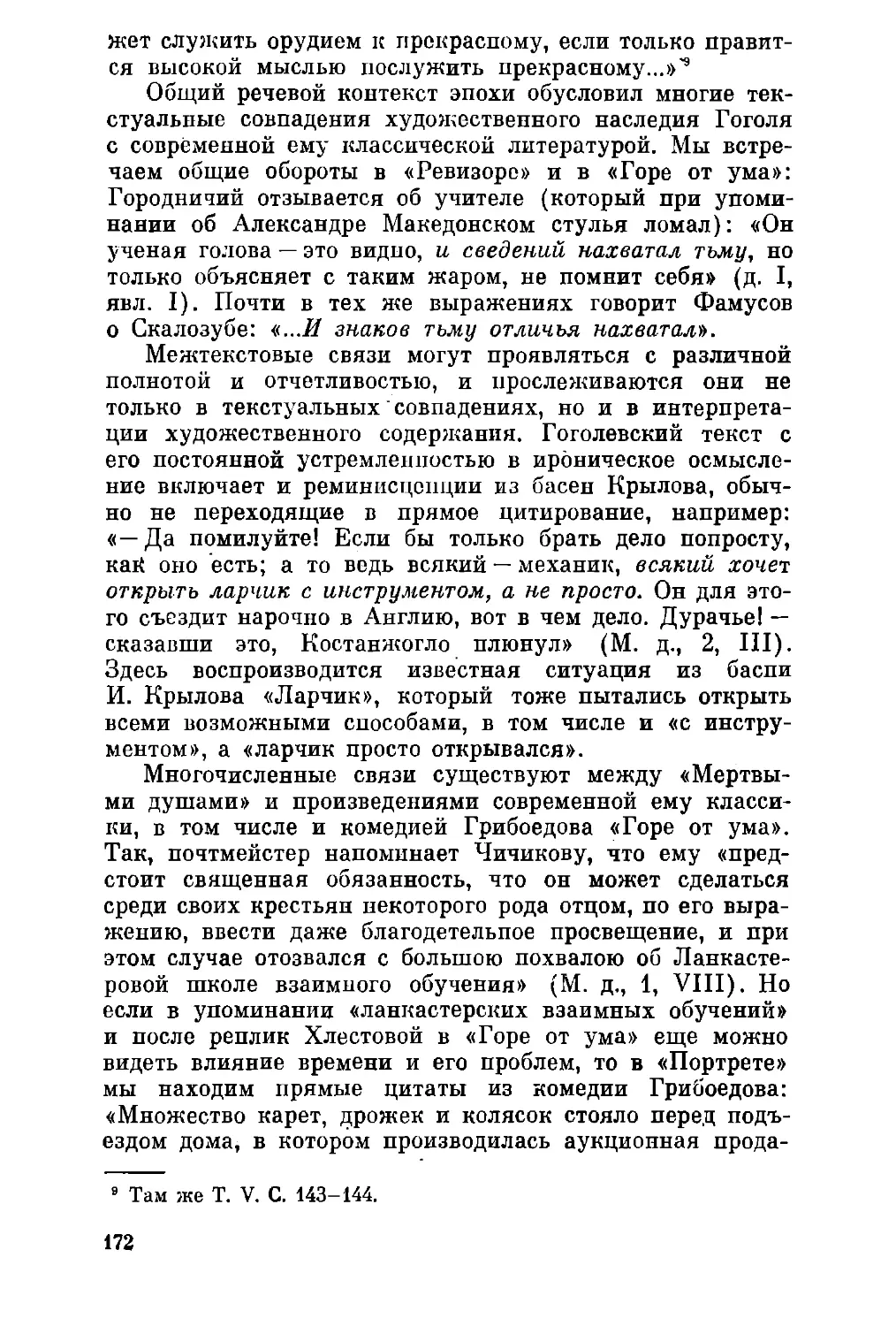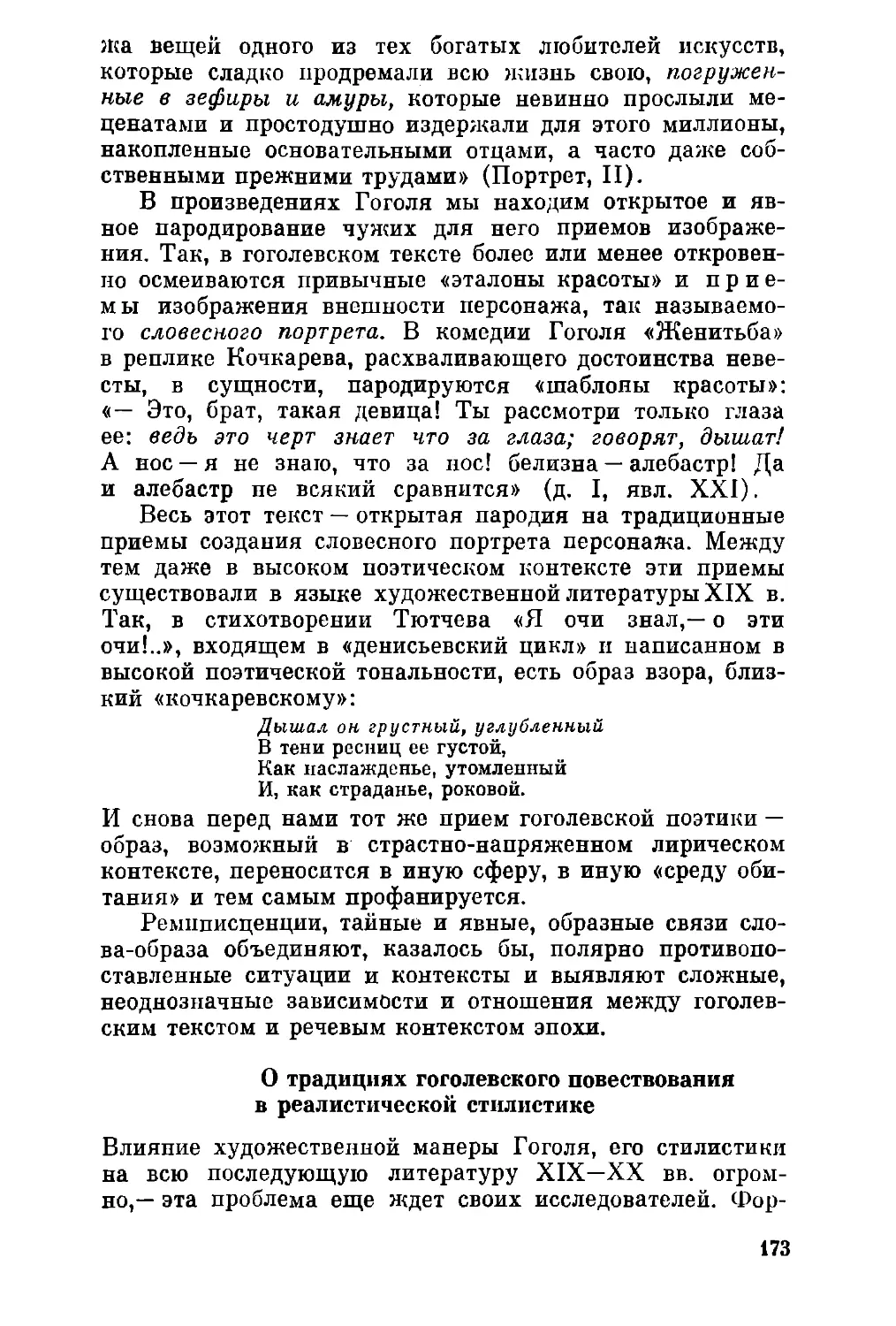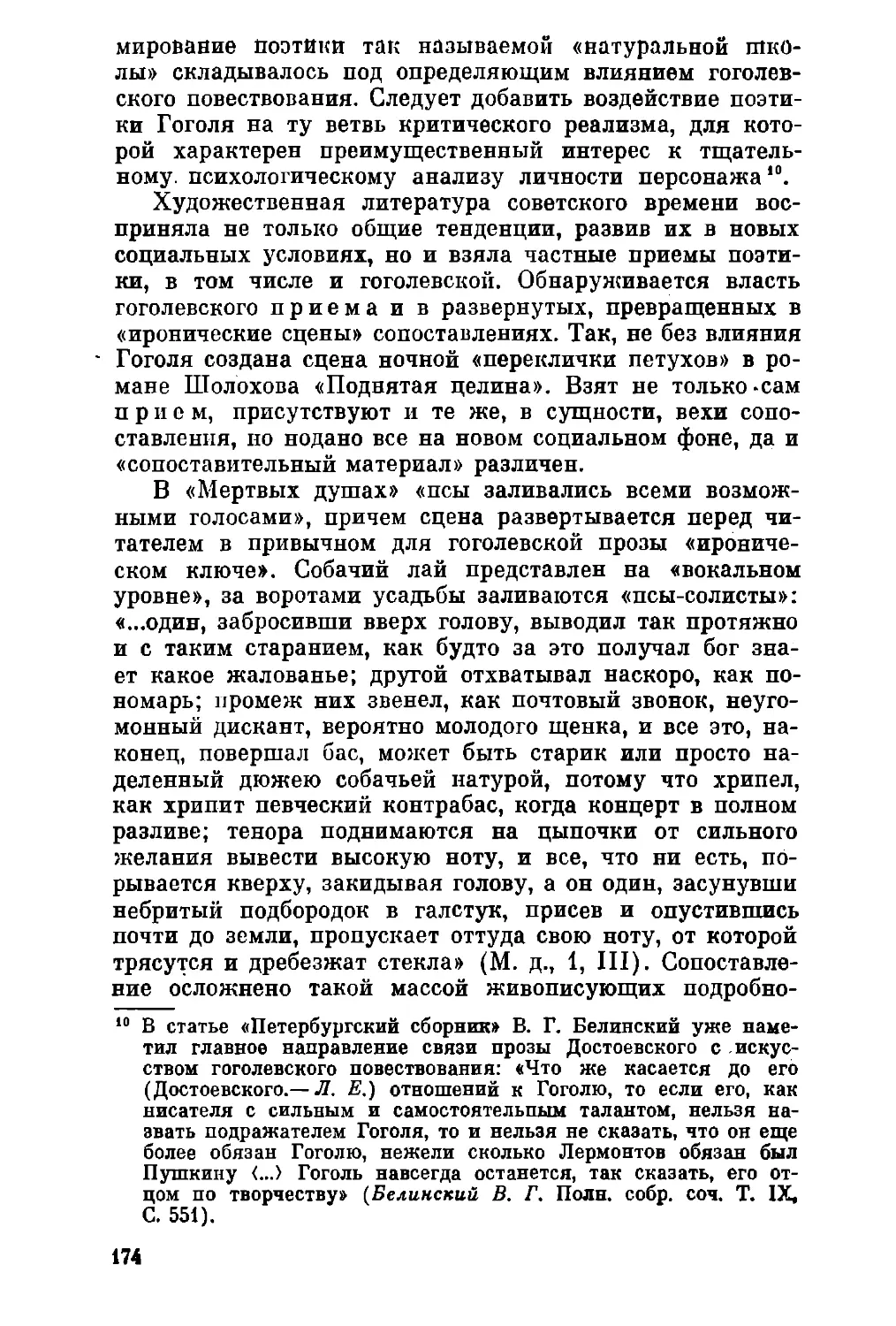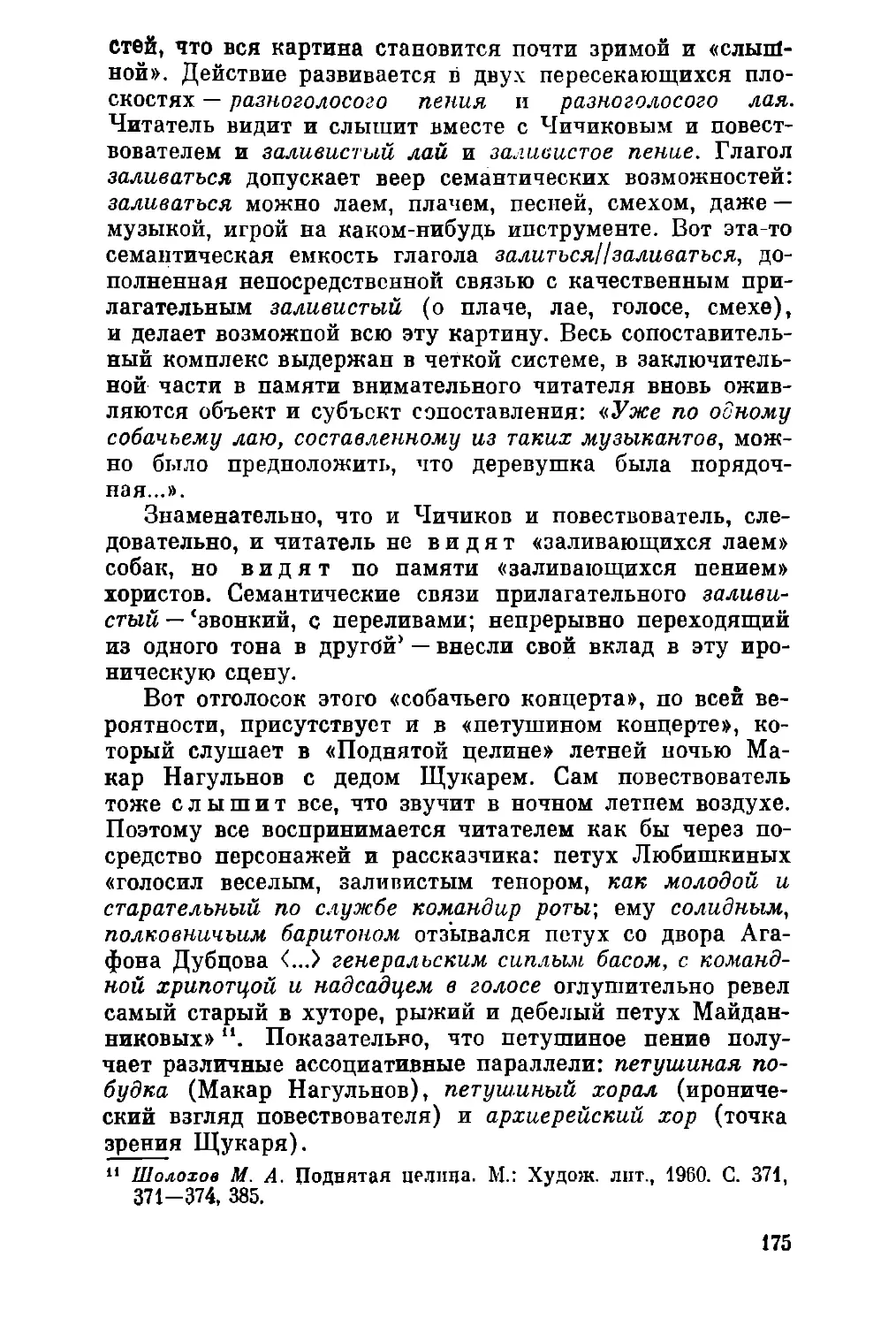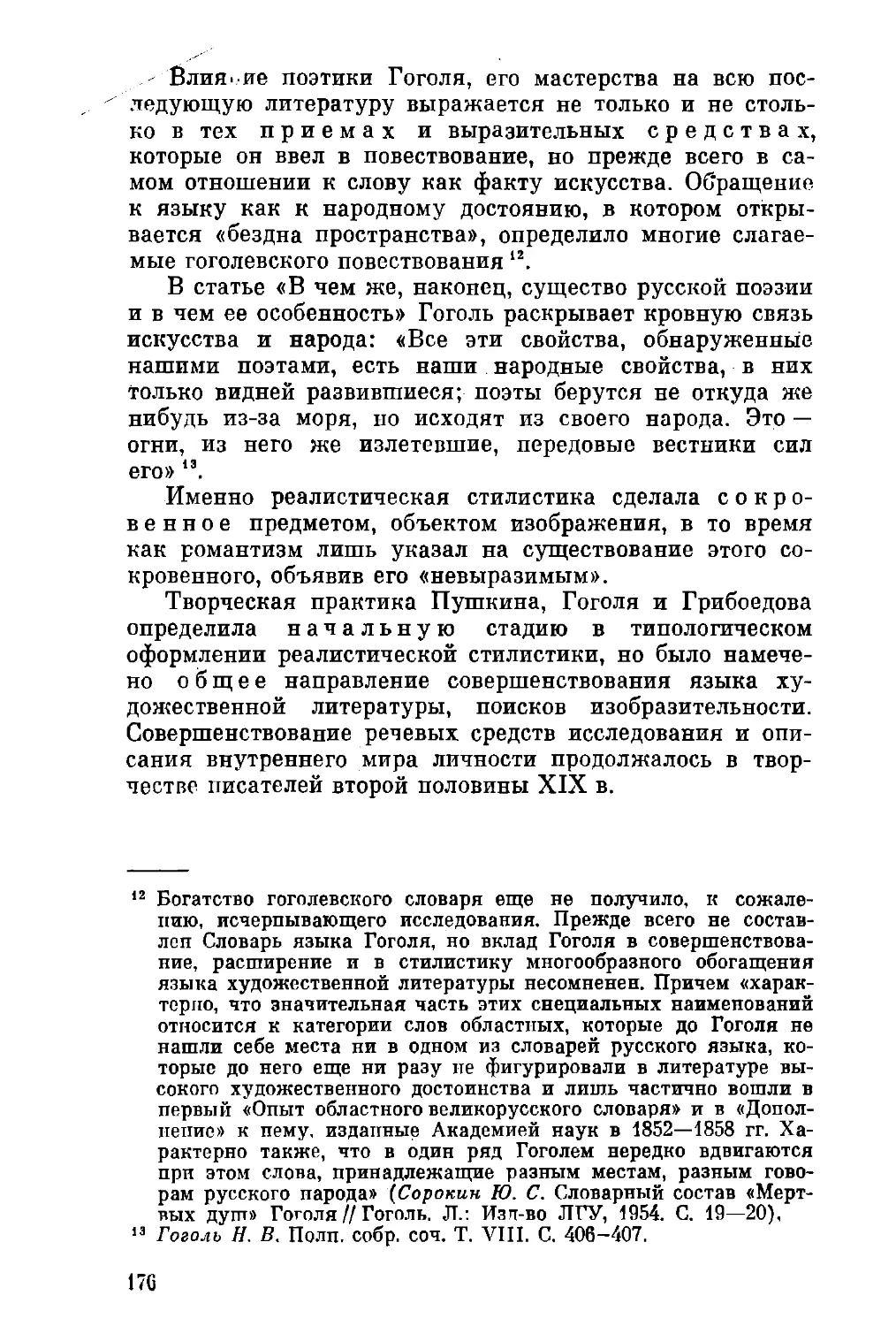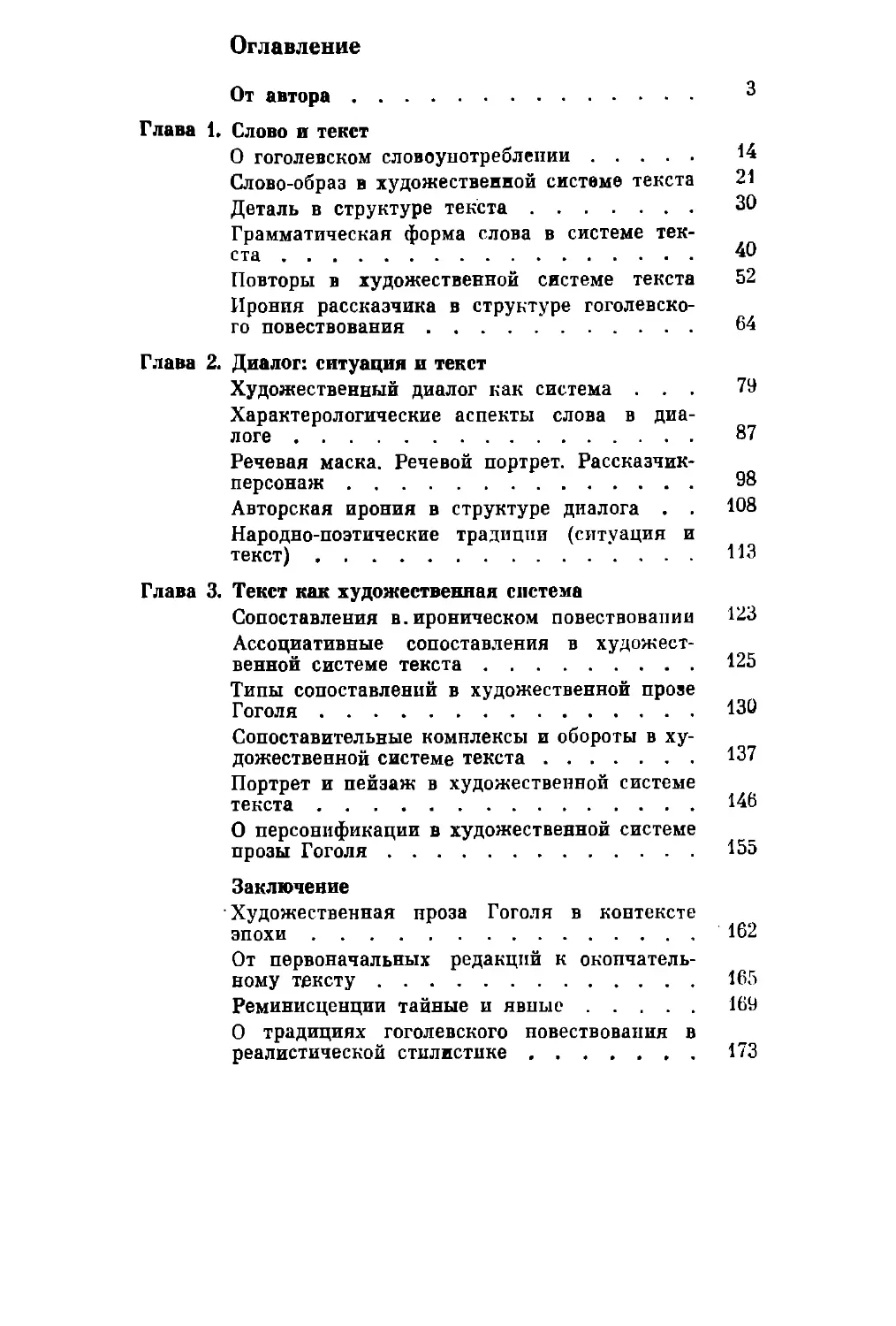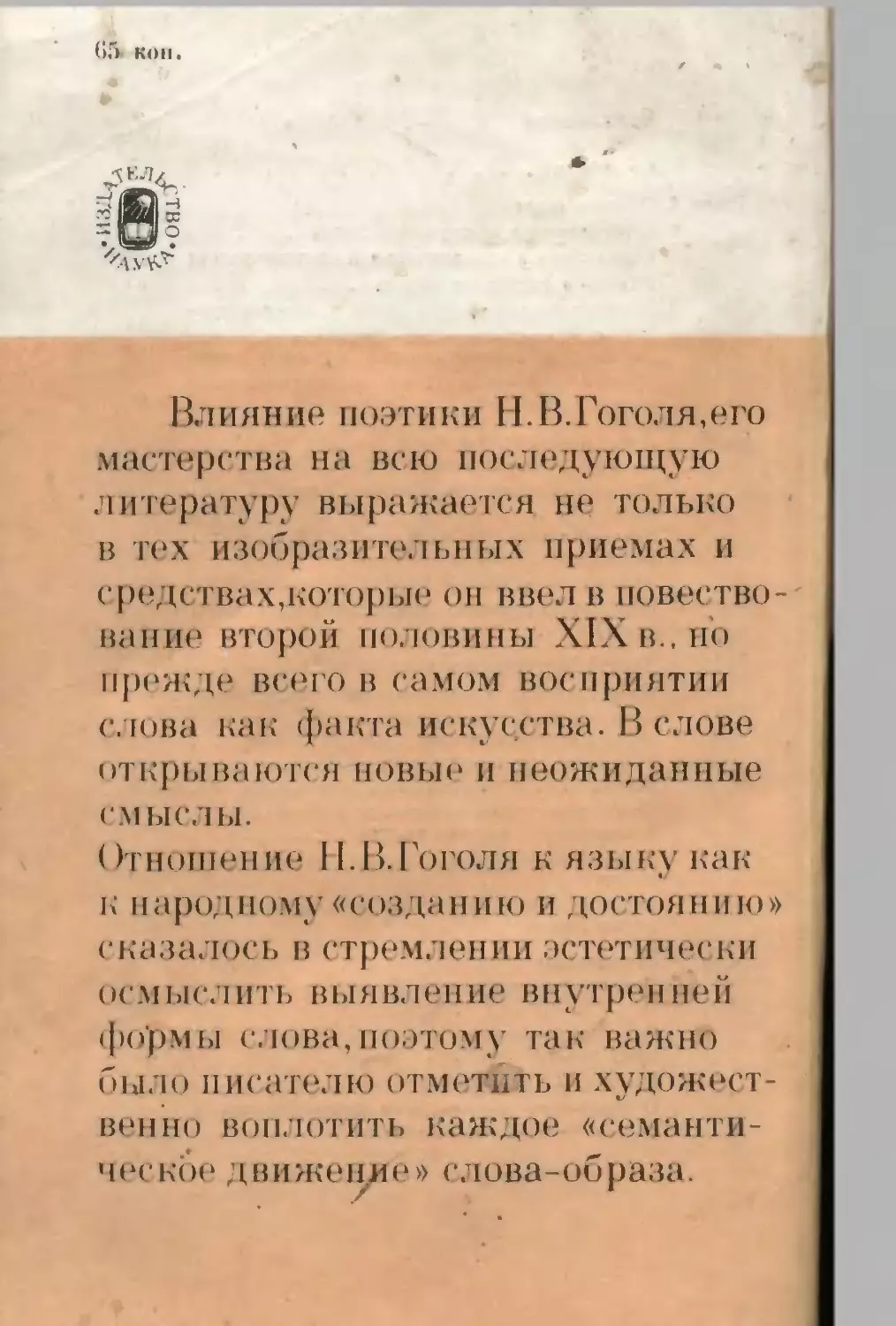Текст
Литературоведение и я ялкознанне
Л. И. Ером и па
О языке *
художественной прозы
Н. В. Гоголя
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
Серия «Литературоведение
и языкознание»
Л. И.Еремина
О языке
художественной прозы
Н. В. Гоголя
Искусство повествования
Ответственный редактор
доктор филологических наук
А. Н. КОЖИН
Москва «Наука»
1987
Ф. Г. БИРЮКОВ, В. В. основин
Еремипа Л. И.
Е 70 О языке художественной прозы Н. В. Гоголя:
(Искусстве повествования).— М.: Наука, 1987.
176 с.— (Серия «Литературоведение и языкозна-
ние»).
Книга представляет собой опыт анализа художествен-
ной прозы Гоголя как единой образно-речевой системы.
Рассматриваются приемы и собственно речевые средства
изобразительности, характеризующие стилистику гого-
левской художественной прозы. В книге проанализирова-
ны образно-семантические связи, организующие текст как
структуру, исследуются приемы развертывания иро-
нического повествования во взаимодействии и смене пла-
нов изображения.
Для широкого круга читателей.
4602000000-351 ..........
Е 042(02)-87 ,04’871111
ББК 81.2Р-7
Любовь Ивановна Еремина
О ЯЗЫКЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ Н. В. ГОГОЛЯ
(Искусство повествования)
Утверждено к печати редколлегией серии научно-популярных изданий
Академии наук СССР
Редактор издательства Т. М. Скрипова
Художник А. Г. Кобрин. Художественный редактор И. А. Фильчагина
Технические редакторы Т. С. Жарикова, И. В. Бочарова
Корректоры Р. С. Алимова, Г. Г. Петропавловская
От автора
В обширной литературе, посвященной Н. В.
внительно мало работ о собственно речевой
жественпой прозы Гоголя. Речевые среди
тельности, гоголевское словоупотребление,
нического остранения слова-образа на уро
все эти проблемы еще ждут исследователей,
именно в стилистике Гоголя определены i
правления развития и совершенствования
ных средств языка русской классической ли1;
рой половины XIX в., давшей миру Досто
стого и Чехова.
В предлагаемой читателю книге художен
Гоголя исследуется как образно-речевое целс
тении собственно речевых и образно-семант
зей и отношений, определяющих глубинну
текста. В художественной прозе Гоголя мы
вые приемы углубления семантической перс
ва-образа; при этом возникают новые и
смысловые пересечения, «приращения смы<
минологии Л. В. Щербы. Взаимосвязь разг
слова обычно составляет образный центр т<
тические «сближения и отталкивания» объе;
лось бы заведомо противопоставленные, koi
вествования, выявляя при этом сложные, н
зависимости между гоголевским текстом и
текстом эпохи.
В гоголевском повествовании слово жив
во внутритекстовых, но и в межтекстовых :
Иронический повествователь замечав? все разнообраз-
ные странности окружающей русской жизни: и «магазин
с картузами, фуражками и надписью «Иностранец Васи-
лий Фёдоров»», и тараканов, выглядывающих «как чер-
нослив» из всех углов, и фельдъегеря «с усами в ар-
шин», скачущего навстречу бричке Чичикова, и чахлые
деревца «не выше тростника» в городе NN, о которых
было сказано в газетах: «город наш украсился, благодаря
попечению гражданского правителя, садом, состоящим из
тенистых, широковетвиетых дерев, дающих прохладу в
знойный день...», и слоеный пирожок, «нарочно сберегае-
мый для проезжающих в течение нескольких неделей»,
которым угощают Чичикова в том же городе. И многие,
многие другие несообразности видит читатель вместе с
насмешливым автором. «Гоголевский период русской ли-
тературы» — понятие огромное, ознаменовавшее целую
эпоху в развитии русской культуры и русского нацио-
нального самосознания.
Творческая практика Гоголя на долгие годы определи-
ла общее направление в расширении и совершенствова-
нии изобразительных приемов и средств языка русской
художественной литературы.
В книге «О языке художественной прозы Н. В. Гоголя
(Искусство повествования») пересматривается соотнесен-
ность собственно диалогических сцен и авторского пове-
ствования. Диалогичность текста (как средство соположе-
ния и соотнесения ситуаций, «взаимоотражающих друг
друга характеров») составляет сущностную черту поэти-
ки Гоголя. Исследуются «смещенные» формы диалога и
собственно речевые средства остранения характерологиче-
ского слова персонажа на фоне разговорного «контекста
эпохи».
Для художественной системы Гоголя чрезвычайно су-
щественна эстетически значимая неполнота выявле-
ния приема. Повествование на грани реальности, вза-
имопроникновение и взаимосвязанность яви и сна, живого
и предметного миров создает особенный, колеблющийся
образ, запечатленный как бы в нескольких проекциях.
Предметный мир располагается как бы па грани одушев-
ленности. Взаимная соотнесенность и взаимная проницае-
мость двух миров (живого и неживого, реального и фан-
тастического, сна и яви) во многом определяет стилисти-
ку художественного творчества Гоголя.
Остранение будничной, пошлой жизни стало изобра-
зительным приемом в художественной системе гоголев-
ской прозы.
Глава 1. Слово и текст
Связи между словом и текстом в структуре гоголевского
повествования многообразии и многочисленны. В основе
развертывания художественного образа может находиться
и многозначное слово, и общеязыковой фразеологизм.
Причем выявление каждого нового оттенка значения сло-
ва обнаруживает и новый виток в движении образной
темы. Так, все повествование о встрече Пискарева с
прекрасной незнакомкой (Невский проспект) 1 построено
на пересечениях разных смыслов глагола лететь: «Он не
смел и думать о том, чтобы получить какое-нибудь право
на внимание улетавшей вдали красавицы <...> но ему хо-
телось только видеть дом, заметить, где имеет жилище
это прелестное существо, которое, казалось, слетело с
неба прямо на Невский проспект и, верно, улетит неиз-
вестно куда. Он летел так скоро, что сталкивал беспре-
станно с тротуара солидных господ с седыми бакенбарда-
ми <.„> Не слыша, не видя, не внимая, он несся по лег-
ким следам прекрасных ножек, стараясь сам умерить бы-
строту своего шага, летевшего под такт сердца <...> Он
взлетел на лестницу. Он не чувствовал никакой земной
мысли...». В обрисовке незнакомки центральное место за-
нимает переплетение прямых и переносных значений гла-
гола лететь-, лететь — ‘двигаться легко и быстро, едва ка-
саясь земли3 — «...право на внимание улетавшей вдали
красавицы»; лететь — ‘перемещаться по воздуху с по-
мощью крыльев или силой ветра3 — «это прелестное су-
щество... слетело с неба прямо на Невский проспект...»;
«...и, верно, улетит неизвестно куда». Повествование о
самом художнике Пискареве вносит новый «образный
поворот» в тот же глагол лететь — ‘мчаться, не чувствуя
При цитировании текстов Н. В. Гоголя приняты следующие со-
кращения: «Мертвые души» — М. д.; «Тарас Бульба» — Т. Б.;
«Старосветские помещики» — Старосв. пом.; «Вечера на хуто-
ре близ Диканьки» — Вечера...; Повесть о том, как поссорились
Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» — Повесть о том...;
«Невский проспект» — Невск. пр.; «Записки сумасшедшего» —
Зап. сум.; «Сорочинская ярмарка» — Сороч. ярм.
5
под собой пог’; 'нестись, бежать за кем-нибудь изо всех
сил’: «Он летел так скоро...», которое поддерживается и
последующими употреблениями: «стараясь сам умерить
быстроту шага, летевшего под такт сердца..»; «Он взлетел
на лестницу», где глагол лететь имеет значение 'стреми-
тельно подниматься вверх, не чувствуя под собой лестни-
цы’; 'мчаться вверх легко и быстро’. Оба ряда «персо-
нально» закрепленных значений глагола лететь взаимо-
действуют. В ряду, связанном с красавицей — неземным,
небесным существом, доминирует значение 'перемещать-
ся с помощью крыльев’; ряд, связанный с Пискаревым,
обозначает быстрое, мчащееся движение. Оба ряда объ-
единяются в художественной системе текста и соотносят-
ся с общеязыковым фразеологизмом «лететь на крыльях
любви», означающим — 'подъем, воодушевление, окрыля-
ющее человека’.
В гоголевском повествовании слово живет не только
во внутритекстовых, но и в межтекстовых связях и отно-
шениях. И каждое употребление слова сохраняет в себе
след прежних семантических связей и смыслов. Это отно-
сится прежде всего к ключевым, опорным образам, фор-
мирующим ведущие узлы повествования: ключевой об-
раз, углубленный дополнительными смыслами, становит-
ся сквозным образным центром широкого текста. Так ху-
дожественный образ быстрого, мчащегося движения, кото-
рому придается значение целенаправленного, окрыленно-
го полета, преображается в лирических отступлениях по-
вествователя в поэме «Мертвые души» в птицу-тройку.
Основное для данного текста значение становится образ-
ной доминантой, но сохраняется и связь с остальными,
оттеночными смыслами, которые расширяют ассоциатив-
ные связи слова-образа лететь: «Кажись, неведомая сила
подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и все
летит: летят версты, летят навстречу купцы на облучках
своих кибиток, летит с обеих сторон лес с темными строя-
ми елей и сосен, с топорным стуком и вороньим криком,.
летит вся дорога нивесть куда в пропадающую даль...»
(М. д., 1, XI) 2. Вынесенный в начало конструкций глагол
летит повторяется и концентрирует на себе не только
ударение, но и внимание читателя. Модальное слово ка-
жись, открывающее эту картину одухотворенного, окры-
ленного как бы свыше полета, вносит определенный оце-
2 Многозначность образа дороги у Гоголя в «Мертвых душах»
уже отмечалась. См., например: Манн Ю. Поэтика Гоголя. М.:
Худож. лит., 1978. С. 295.
9
ночпый оттенок. Повествование па грани реальности об-
ращено к непосредственному слушателю, обобщенное ты
объединяет и я рассказчика, и ты читателя. Идея пути-
полета усилена и образом встречного движения: и сам
летишь, и все настречу летит. Неподвижным, да и то на
первый взгляд, остается только фон движения: «только
небо над головою, да легкие тучи, да продирающийся ме-
сяц одни остаются неподвижными». Качественные харак-
теристики: легкие (тучи)... продирающийся (месяц) —
вскрывают призрачность и этого покоя и неподвижности.
Художественная система гоголевского повествования
во всех основных направлениях преследует цель ирони-
ческого воссоздания действительности. Поэтому й в пере-
плетениях смыслов ключевого слова-образа мы находим
иронию повествователя, сквозь которую просвечивает тра-
гическое неприятие уродливой действительности. Перед
мчащимся за прекрасной незнакомкой Пискаревым не
только «лестница вилась», но и «вместе с нею вились его
быстрые мечты» (Невск. пр.). Взаимообусловленное соот-
ношение смыслов глагола виться ‘извиваться, поднимаясь
вверх спиралью’ (о лестпице) и виться ‘порхать, летать’,
‘кружиться’ (о мечтах) — взаимно дополняют друг друга,
создают впечатление . прихотливого движения — опреде-
ленный художественный образ.
Гоголевский юмор окрашивает повествование то в гру-
стные тона, то в злую сатиру. Ирония во всех оттенках:
от грустного, сочувствующего подтрунивания до обличи-
тельного сарказма — составляет главный нерв повествова-
ния даже в далеко не комических ситуациях. Такие кар-
тины мы находим, например, в болезненных, наркотиче-
ских снах Пискарева: «...спеша ехать, он позабыл даже
переодеться в пристойное платье. Он покраснел до ушей
и, потупив голову, хотел провалиться, но провалиться ре-
шительно было некуда’, камер-юнкеры в блестящем ко-
стюме сдвинулись позади его совершенною стеною»
(Невск. пр.). Общеязыковой фразеологизм «провалиться
сквозь землю» ‘исчезнуть от чувства стыда, неловкости,
от сознания собственной беспомощности’ обычно употреб-
ляется в переносном, метафорическом смысле. Здесь этот
фразеологизм дан как семантически «сдвинутый». В мета-
форическом желании уничтожиться, исчезнуть бесследно
Пискареву противодействует «совершенная стена» камер-
юикеров, как вполне реальная помеха «проваливанию»,
движению вниз. В этом же блестящем обществе, окру-
жающем прекрасную незнакомку в сновидениях Пискаре-
7
ва, был «камергер с острыми и приятными замечаниями,
с прекрасным завитым на голове хохлом», именно этот
гость «довольно приятно показывал ряд довольно недур-
ных зубов и каждою остротою своею вбивал острый
гвоздь в его сердце». Здесь, как и в разобранных ранее
случаях, прямое и метафорическое значения переплетают-
ся: гвоздь, вбитый в сердце,— метафора, по в прилага-
тельном острый присутствует и след реальности — 'боль-
но колющий, остро заточенный конец гвоздя’. Язвитель-
ность, способность к изощренной издевке — свойство
остроты — перекликаются и переплетаются со свойствами
острого предмета, т. е. в тексте совмещаются омографы —
острота и острота.
Ироническое осмысление общеязыковой фразеологии
осуществляется различными путями. Один из приемов —
частичное или полное разложение фразеологизма. Так,
в русском языке существует устойчивое словосочетание
отцы города — 'наиболее почетные и уважаемые лица,
стоящие во главе городского управления’, при этом под-
разумевается, что отцы города заботятся о городе, как
о своем детище, о родном семействе. Вот это-то последнее
значение и делается основным в гоголевском повествова-
нии; и при этом получается несколько неожиданный сти-
листический эффект: «Полицеймейстер был некоторым
образом отец и благотворитель в городе. Он был среди
граждан совершенно как в родной семье, а в лавки и в
гостиный двор наведывался, как в собственную кладо-
вую» (М. д., 1, VII). Таким образом, Гоголь разрушает
привычный фразеологизм, на базе его создает новый,
остро сатирический образ «отца и благотворителя».
Пословицы и поговорки, разнообразные- фразеологиз-
мы с различной степенью идиоматичности и устойчиво-
сти составляют то фоновое знание, которое соответствует
речевой культуре эпохи и которое делает понятным чи-
тателю собственно гоголевское словоупотребление э.
3 О необходимости конкретно-исторического изучения творческо-
го наследия писателя писал В. В. Виноградов: «...всестороннее
изучение и глубокий анализ языка художественного произве-
дения невозможны без знания культуры языка и социально-
исторического коптекста соответствующей эпохи (...) Широкий
контекст литературного языка и его стилей, а также общена-
родного разговорного языка с его разветвлениями является ис-
торическим фоном и исторической средой осмысления и оцен-
ки способов стилистического построения словесно-художествен-
ного произведения» (Виноградов В. В. О языке художествен-
ной литературы. М.: Худож. лит.,'1959. С. 185—186).
8
«В структуре художественного произведения,— пишет
В. В. Виноградов,— происходит эмоционально-образная,
эстетическая трансформация средств общенародного язы-
ка» 4. Пословицы, поговорки, всевозможные «присловья»
обильно представлены в произведениях Н. В. Гоголя5.
Особенно широко используются пословицы, имеющие
«профессиональную закрепленность». В языке прозаиче-
ских произведений и в репликах персонажей (в комеди-
ях Гоголя) пословицы и поговорки составляют значи-
тельный слой.
Система иносказаний тоже пользуется общенародной
фразеологией, например Кочкарев в разговоре с Феклой
Ивановной, свахой, говорит о женихах, приехавших на
«смотрины»: «С которых сторон понабрала ворон, а?»,
«Гости-то несчитанные, кафтаны общипанные». На что
Фекла в тон ему отвечает: «Гляди налёт на свой полёт,
а и похвастаться нечем: шапка в рубль, а щи без круп»
(Женитьба, д. 1, явл. VII).
В речи Кочкарева фразеологизм служит средством ин-
терпретации личности собеседника и его поведения:
«— Эх, ты, пирей, не нашел дверей!»
Фразеологизмы появляются в произведениях Гоголя
не только в первоначальном, «чистом» виде, но и- явля-
ются исходным образным материалом для всевозможных
переосмыслений. Сказочная скатерть-самобранка, возни-
кавшая со всеми яствами по первому зову персонажа,
послужила источником именно такой образной трансфор-
мации. Так, на вопрос-предложение Пульхерии Иванов-
ны: «— Чего же бы теперь, Афанасий Иванович, заку-
сить? разве коржиков с салом, или пирожков с маком,
или, может быть, рыжиков соленых?
— Пожалуй, хоть и рыжиков, или пирожков,— отве-
чал Афанасий Иванович, и на столе вдруг являлась ска-
терть с пирожками и рыжиками».
Художественная трансформация и разложение фразео-
логизма может ограничиваться; например, введением в
4 Там же. С. 185.
5 «Пословица в авторской речи является проявлением подчине-
ния авторского аспекта, а также и плана изображения требо-
ванию реальности и объективности в смысле литературного
реализма. Косвенно, однако, пословица является и средством
скрытой авторской оценки (скрытой именно за пословицу), что
является выражением авторской концепции» (Мико Франти-
шек. О функциональной экспансии пословиц в литературе и
их поэтике // Об интерпретации художественного текста. Бра-
тислава, 1981. С. 110).
9
текст уточняющего обстоятельства, которое сразу Ясе со-
общает устойчивому словосочетанию новый, обновленный
и неожиданный смысл пли новое эмоциональное освеще-
ние, например ироническое: «Многие дамы были хорошо
одеты и по моде, другие оделись во что бог послал в
губернский город» (М. д., 1, I).
Фразеологизмы могут выстраиваться в «парадигмати-
ческие ряды», усиливающие изобразительность текста и
сообщающие ему семантическую мпогоаспектность. Так,
пословица «Лучше синица в руках, чем журавль в небе»
сочетается в рамках одной разветвленной синтаксической
конструкции с поговоркой «Само в руки течет», которая,
в свою очередь, взаимодействует с устойчивой образ-
ностью сочетаний: течение времени (жизни) II текущие
(совершающиеся) дела: «Итак, он давно бы хотел в та-
можню, но удерживали текущие разные выгоды по строи-
тельной комиссии, и он рассуждал справедливо, что та-
можня, как бы то ни было, все еще не более как журавль
в небе, а комиссия уже была синица в руках» (М. д.,
1, XI). Здесь текущие дела заменяются своим «следст-
вием» — «текущими разными выгодами», которые «сами
в руки просятся». В свою очередь, текущие в руки «раз-
ные выгоды по строительной комиссии» в представлении
Чичикова — «синица в руках», которыми можно доволь-
ствоваться, имея в виду будущие «разные выгоды» по та-
можне — «журавля в небе». Весь этот исходный фразео-
логический материал «соотносится» в связях и взаимоот-
ношениях в рамках одной фразы повествователя. Здесь
же иронически интерпретируется и позиция персонажа
Павла Ивановича Чичикова, определяющего «в уме» всю
иерархию «текущих разных выгод».
Приемы художественной интерпретацип общеязыковой
фразеологии различны и разнообразны. По в этом разно-
образии есть своя последовательность и закономерность.
Именно сплав фразеологических единиц характерен
для поэтики Гоголя. Например, в «Мертвых душах» фра-
зеологизм водить за нос — 'управлять кем-нибудь’; 'подчи-
нять себе кого-нибудь помимо его желания’; 'обманом ов-
ладевать чьей-то чужой волей’ — сочетается с устойчи-
выми словосочетаниями: втереться в доверие — 'обма-
ном, исподтишка, с помощью всяких уловок и происков
проникнуть в чужую душу’; 'стать доверенным лицом’;
стоять за кого-нибудь — 'ручаться за кого-либо, отстаи-
вая, защищая его интересы’; подстрекать кого-либо чем-
либо на что-либо — 'побуждать к определенным, чаще —
10
незаконным действиям’. И все эти значения образуют
сложную взаимосвязь, объединяющую текст и сообщаю-
щую ему сложность и глубину смысловой структуры.
Речь в данном случае идет о Чичикове, потерявшем рас-
положение начальства: «Но Чичиков уж никаким образом
не мог втереться, как ни старался и ни стоял за него
подстрекнутый письмами князя Хованского первый гене-
ральский секретарь, постигнувший совершенно управ-
ленье генеральским носом, но тут он ничего решительно
не мог сделать» (М. д., 1, XI).
Фразеологизмы живут в творческом наследии Гоголя
своей собственной жизнью. Общеязыковой фразеологизм
в своем привычном виде может быть приведен и органи-
чески вплавлен в текст, а потом повторен, но уже в
трансформированном виде, например о повытчике: «...одни
только частые рябины и ухабины, истыкавшие их, при-
числяли его к числу тех лиц, на которых, по народному
выражению, черт приходил по ночам молотить горох <...>
Наконец он пронюхал его домашнюю, семейственную
жизнь, узнал, что у него была зрелая дочь, с лицом, тоже
похожим на то, как будто бы на нем происходила по но-
чам молотьба гороху» (М. д., 1, XI).
Разговорно-просторечная лексика и фразеология пред-
ставлены достаточно широко и разнообразно не только в
собственной речи персонажей, по и в повествовании рас-
сказчика: «Собакевич, оставив без всякого внимания все
эти мелочи, пристроился к осетру, и, покамест те пили,
разговаривали и ели, он в четверть часа с небольшим до-
ехал его всего, так что когда полицеймейстер вспомнил
было о нем <...> от произведенья природы оставался всего
один хвост; а Собакевич пришипился так, как будто и не
он <...> Отделавши осетра, Собакевич сел в кресла и уж
более но ел, не пил, а только жмурил и хлопал глазами»
(М. д, 1, VII).
Глагол отделать получает несвойственное ему значе-
ние ‘съесть до конца, прикончить до хвоста’. Сохрани-
лось и общеязыковое значение ‘завершение действия, на-
чатого раньше’. В данном же контексте все глагольные
формы составляют изобразительный ряд: Собакевич при-
строился к осетру... доехал его всего... Отделавши осетра...
Окказиональное слово в творческой практике Гоголя
ооычно появлялось как бы «па глазах» читателя. В сцене
бала у губернатора, где впервые паздались вслух слова
полупьяного Ноздрева о Чичико — скупщике мертвых
Душ, тот же Ноздрев «явился веселый, радостный, ухва-
11
тивши под руку прокурора, которого, вероятно, уже та-
скал несколько времени, потому что бедный прокурор по-
ворачивал во все стороны свои густые брови, как бы
придумывая средство выбраться из этого дружеского
подручного путешествия» (М. д., 1, VIII). Подручное
(путешествие) образовалось из словосочетания «под
руку» и получило значение, близкое историзму подруч-
ник — 'тот, кто, утратив свою самостоятельность, нахо-
дился под властью сильнейшего’; у Пушкина есть имен-
но такое употребление: «...Давно царям подручниками
служим» (Борис Годунов). В гоголевском контексте зна-
чение несколько иное — 'действие несамостоятельное,
подневольное, лишенное свободы’. Иронический аспект
слова (подручное путешествие) создается всем кон-
текстом, хотя есть след и прежнего значения слова, исто-
ризма подручник.
Цветовые прилагательные получают не только окка-
зиональное осмысление, но и свою окказиональную
жизнь. Слово обнаруживает несвойственную ему раньше
семантическую весомость. Так, цветовое прилагательное
пепельный обычно выступает в значении 'цвет пепла’,
'тускло-серый’ или 'бледно-серый, матовый’. В прозе
Гоголя пепельный, сохранив след прежнего значения
'тускло-серый’, приобрело новый ярко эмоциональный
смысл — 'невыразительный, стертый, безликий’, 'утратив-
ший своеобразие, яркость, свой «задор»’. Причем это новое
эмоционально-оценочное значение подготавливается и мо-
тивируется всем контекстом: «Вам известна та часть горо-
да, которую называют Коломною <...) Сюда не заходит бу-
дущее, здесь все тишина и отставка, все, что осело от сто-
личного движения <...) весь этот разряд людей, который
можно назвать одним словом: пепельный, людей, которые
с своим платьем, лицом, волосами, глазами имеют какую-
то мутную, пепельную наружность, как день, когда нет на
небе ни бури, ни солнца, а бывает просто ни се, ни то:
сеется туман и отнимает всякую резкость у предметов»
[Портрет. II]. У цветового прилагательного пепельный
сохраняется «эмоционально-окрашенный» оттенок 'уны-
ло-, тускло-серый’, в противоположность 'серебристо-се-
рому’. Но семантический объем метафорического значе-
ния слова расширяется благодаря упоминанию о том, что
«сюда не заходит будущее, здесь все тишина и отстав-
ка...». Вот эта ситуация тупика, безвыходности, обречен-
ности и определяет ведущее значение,. образную доминан-
ту: пепельный — 'превращенный жизненными условиями
12
в ничто, в пепел’; 'невыразительный, безликий’; 'не имею-
щий будущего, «сгоревший»’
Слово в гоголевском повествовании расширяет свои
ассоциативные возможности, формирует новые, неожи-
данные семантические связи. Так, многосторонний Нозд-
рев не только готов ехать в любую сторону и всту-
пать в любые предприятия и сделки, но и способен на
всевозможные проступки и безобразия, обнаруживающие
самые разнообразные стороны его натуры. Этот
«человек на все руки» «в ту же минуту предлагал вам
ехать куда угодно, хоть на край света, войти в какое хо-
тите предприятие, менять все что ни есть на все что хо-
тите» (М. д., 1, IV). «Многосторонний» Ноздрев — фигура
типическая, раскрытая не только в разнообразных
поступках и действиях, но и получившая авторскую ха-
рактеристику «обобщенности»: «Он везде между нами и,
может быть, только ходит в другом кафтане; но легко-
мысленно-непроницательны люди, и человек в другом
кафтане кажется им другим человеком» (М. д., 1, IV).
Стал хрестоматийным пример переплетения значений
в словосочетании исторический человек в применении к
Ноздреву, сочетающему в себе самые разнообразные воз-
можности устраивать истории: «Ни на одном собрании,
где он был, не обходилось без истории. Какая-нибудь
история непременно происходила: или выведут его под
руки из зала жапдармы, или принуждены бывают вытол-
кать свои же приятели». Словосочетание «исторический
человек» в гоголевском повествовании стало средством
сатирической характеристики. Слово игра в применении к
жизни Ноздрева тоже приобрело два плана в осмысле-
нии: 'игра, и не безгрешная, в карты’ — развлечение,
привычное для того круга, хотя и не всегда безобидное;
и новое значение слова игра — 'потасовка, ссора с дракой,
где битым лицом был Ноздрев’: «В картишки, как мы
уже видели из первой главы, играл он не совсем безгреш-
но и чисто, зная много разных передержек и других тон-
костей, и потому игра весьма часто оканчивалась другою
игрою: или поколачивали его сапогами, или же задавали
передержку его густым и очень хорошим бакенбардам...»
(Там же). В соседстве с другими многозначными образа-
ми-характеристиками Ноздрева и слово передержка от
Блоковский образ «испепеляющие годы» в стихотворении «Рож-
депные в^ года глухие...» имел своего «предтечу», предва-
ряющий образ в прозе Гоголя.
13
глагола передёрнуть получает два аспекта: передержка —
'недобросовестный, жульнический прием, состоящий в
подмене, подтасовке карт’; и передержка бакенбардам —
от глагола передёрнуть в значении 'выдернуть, но не це-
ликом’, ‘проредить’.
Взаимосвязь и взаимодействие вещественного значе-
ния слова и переносного, метафорического могут поддер-
живаться фразеологизмами с центральным, опорным об-
разом — многозначным словом. Так, слово золото — ме-
талл и метафора — вступает в сложные семантические от-
ношения с устойчивыми выражениями золотые реки,
шить золотом, золотые мечты, грезы. Повторение слова в
его разных значениях и смыслах, в различных производ-
ных формах создает особый изобразительный прием —
«протекание слова»: «—И непременно разбогатеете,—
сказал Костанжогло, не слушая хозяйки,— К вам потекут
реки, реки золота. Не будете знать, куды девать доходы.
Как очарованный сидел Павел Иванович; в золотой
области грез и мечтаний кружились его мысли. По золо-
тому ковру грядущих прибытков золотые угоры выши-
вало разыгравшееся воображение, и в ушах ею отдава-
лись слова: „реки, реки потекут золота*1» (М. д., 2, III).
Переплетение прямых и переносных значений слова (зо-
лото//золотой) создает прихотливый окказиональный об-
раз: кроме привычных («золотая область грез и мечта-
ний», «текущие реки золота»), появляются новые, окка-
зиональные. Тема золота, сопровождающая размышления
Чичикова во всех его приключениях и странствованиях,
обнаруживается и в этой метафорической картине.
О гоголевском словоупотреблении
Ироническая окраска текста выявляется во всех элемен-
тах повествования, в том числе в словообразовании и
словоупотреблении. В словообразовании наше внимание
должно задержаться прежде всего па аффиксации ’.
Двойная префиксация в повествовапии автора и в реп-
ликах персонажей выполняет несколько экспрессивных
«Значения морфем—это лишь „молекулы смысла", своего рода
полуфабрикаты, более или менее готовые, но окончательно до-
водимые до „пригодного к употреблению" состояния лишь в со-
четании со многими другими значениями морфем в процессе жи-
вого функционирования языка в речи» (Маслов ТО. С. К се-
мантической типологии морфем // Русский язык. Вопросы его
истории и современного состояния. М.: Наука, 1978. С. 18).
14
функций: 1) придает репликам персонажа «устпость»,
свойственную живому слову, а в слове повествователя
служит средством выявления разговорного просторечия
как особой принадлежности «контекста эпохи»; 2) иро-
нически изображает речевую ситуацию, т. е. служит сред-
ством авторской интерпретации и оценки; 3) выявляет
соотношение позиций: персонаж И повествователь /
Иавтор.
Двойная аффиксация в начале слова выражается сле-
дующими типичными для гоголевского повествования
словообразовательными моделями: при, + на + глаголь-
ная форма, например в речи повествователя: «Собакевич
слегка принагнул голову, приготовляясь слышать, в чем
было дельце» (М. д., 1, V), где вся глагольная форма
обозначает ‘неполноту выполнения действия’, названного
глаголом. При + от + глагольная форма: «Цыганская
жизнь ему (Чичикову.— Л. Е.) надоела. Приотдохнутъ,
хотя на месяц, в прекрасной деревне, в виду полей и на-
чинающейся весны, полезно было даже и в геморроидаль-
ном отношении» (М. д., 2, I), где форма с двойной пре-
фиксацией обозначает ‘ действие незавершенное, только
частично выполненное’; ‘непродолжительное’.
Двойная префиксация в речи персонажей — прежде
всего печать разговорного просторечия, устности, свиде-
тельство интимности среды, обстановки общения:
«Ты ступай теперь в свою комнату, мы с Павлом
Ивановичем скинем фраки, маленько приотдохнем»
(М. д., 1, V): «...на склоне жизни своей ищу только угол-
ка, где бы провесть остаток дней. Приостановился же
покуда у близкого соседа вашего превосходительства...»
(М. д., 2, II), где «приотдохнем», «приостановился» сохра-
няют значение действия обычно кратковременного, вы-
полненного только частично. Сочетание префиксов по +
+ за..., по + вы..., по + при..., по + про..., по + рас...
как в авторском внешне объективном повествовании, так
и в повествовании с позиций персонажа, в рассказе
«сквозь призму чужого восприятия» окрашивают речь,
придают ей характерологичность, индивидуальность, свое-
образие в использовании речевых средств: Чичиков на
балу у губернатора «даже до того был неучтив, что скоро
ушел от них в другую сторону, желая повысмотретъ,
куда ушла губернаторша с своей дочкой» (М. д., 1,
VIII); «Вылезли из нор все тюрюки и байбаки, которые
позалеживалисъ в халатах по нескольку лет дома, сва-
ливая вину то па сапожника, сшившего узкие сапоги, то
15
па портного,'То па пьяпицу-кучора» (М. д., 1, IX); «Соба-
кевич отвечал, что Чичиков, по его мнению, человек хо-
роший, а что крестьян он ему продал на выбор и народ
во всех отношениях живой; но что он не ручается за то,
что случится вперед, что если они попримрут во время
трудностей переселения в дороге, то не его вина...» (М. д.,
1, IX); «Помещики попроигрывалисъ в карты, закутили
и промотались как следует; все полезло в Петербург слу-
жить» (М. д., 1, XI). «Проход стал несколько шире, так
что Андрию можно было по распрямиться» (Т. Б., VI).
Здесь пораспрямитъся обозначает действие, выполненное
только частично, в ограниченной степени. Неполнота про-
явления движения, действия, обозначенного глагольной
формой, может стать лишь сопутствующим значением
слова, как, например, в таком случае: «Тщательно начал
он принаряжаться-, приумылся, пригладил волоса, надел
новый фрак, щегольской жилет, набросил плащ и вышел
на улицу» (Невск. пр.).
Слова с двойной префиксацией как свидетельство из-
устности, разговорности составляют одну из чорт, отли-
чающих повествование Н. В. Гоголя. Именно двойная
префиксация может становиться объединяющим началом,
доминантой — семантической и структурной — текста,
иногда достаточно широкого. В этом случае мы имеем дело
с приемом «экспрессивного умножения», когда само по-
вторение словообразовательной модели вносит определен-
ную лепту в изобразительность текста как образно-рече-
вого целого: «Казалось, как бы и самый фрак на нем
немножно поизветшал, и бричка, и кучер, и слуга, и ло-
шади, и упряжь как бы поистерлись и поизносились»
(М. д., 2, I). Перед нами сложное переплетение двух
рядов однородных членов: и фрак, и бричка, и кучер,
и слуга, и лошади, и упряжь —все «иоизветшало <...>
как бы поистерлось и поизносилось». Здесь все экспрес-
сивно значимо: объединение в одном перечислитель-
пом ряду брички, кучера, слуги, лошадей и упряжи; та-
кая связь «неоднородных однородностей» — один из прие-
мов гоголевской поэтики. Глагольные формы, объединен-
ные аффиксацией по + из(ис)..., объединены и семанти-
чески, т. к. все они составляют один ряд — «изношенно-
сти»: «Поизветшал... поистёрлись и поизносились». Пока-
зательно, что не только в остро сатирическом контексте
употреблялись формы с двойной префиксацией, мы нахо-
дим их и в героической повести «Тарас Бульба», в тек-
стах, имеющих прямое отношение к самому Тарасу Буль-
16
бс например: «Но Тарасу Бульбе по пришлись по душе
такие слова, и навесил он еще ниже па очи свои хму-
пые исчерна-белые брови, подобные кустам, повырастав-
шим по высокому темени горы, которых верхушки вплоть
занес иглистый северный иней...» (Т.Б., VIII). Здесь по-
выраставшие — разговорная форма, включенная в стили-
стически высокий контекст.
Зкспресснвпое использование аффиксации находит в
творчестве Гоголя широкое применение, создает интона-
цию непринужденного речевого общения и выступает как
прием авторской оценки и характеристики.
Показательно, что экспрессивная функция аффикса-
ции отчетливо выявляется как в диалоге, так и в слове
повествователя. В диалогических фрагментах текста пре-
фиксация передает особенности речевой манеры персона-
жа служит средством личностной характеристики. Пре-
фикс раз-(рас-) в сочетании с существительным приобре-
тает значение квантитативное — 'максимальное количе-
ство, высшая степень какого-нибудь качества, чрезмерная
напряженность, интенсивность чего-либо’, например:
«Вот еще создание! Чтобы он выдал когда-нибудь впе-
ред за месяц деньги — господи боже мой, да скорее
страшный суд придет. Проси, хоть тресни, хоть будь в
разнужде,— ~яъ выдаст, седой чорт» (Зап. сум., окт. 3).
Ряды однородных членов могут быть, в числе других
средств, объединены и общей для них аффиксацией:
«— Трудно, Платон Михалыч, трудно! — говорил Хло-
буев Платонову.—Не можете вообразить, как трудно!
Безденежье, бесхлебье, бессапожъе!» (М. д., 2, IV);
«— Он подловат и гадковат, не только что пустоват»
(М. д„ 2, II).
Кочкарев в «Жепитьбе», рассказывая о прелестях
семейной жизни, образует имена с общим для них суф-
фиксом, вносящим значение 'детеныш’: «Ты вот теперь
один, надворный советник, экспедитор или там начальник
какой, бог тебя ведает, а тогда, вообрази, около тебя
экспедиторчонки, маленькие эдакие каналъчонки, и ка-
кой-нибудь постреленок, протянувши ручонки, будет тере-
бить тебя за бакенбарды...» (Женитьба, д. I, явл. XI).
Суффиксы со значением «предельной увсличительно-
сти» передают всевозможные оттенки разговорного про-
сторечия, например в речи Петра Петровича Петуха:
«— А каков был улов, если б вы видели! Какой осетри-
ще пожаловал! Какие карасищи, коропищи какие» (М. д.,
2, III),
17
Эмоциональпо-экспрессивная окраска как диалогиче-
ской речи, так и повествования рассказчика в значитель-
ной степени зависит от употребительности суффиксов
субъективной оценки со значением уменьшительности
ласкательности, увеличительности, неполноты признака
или качества и мн. др. Мера признака может быть выра-
жена дважды — аффиксацией и спецификатором-уточни-
телем. Маленький, незаметный чиновник и с виду непри-
метен, все качества присутствуют у него как бы в «стер-
той» степени. Акакий Акакиевич Башмачкин словно са-
мой природой обречен на «незаметное» место в жизни.
«Вечный титулярный чиновник» был «низенького роста,
несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже
на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с мор-
щинами по обеим сторонам щек и цветом лица что на-
зывается геморроидальным...» (Шинель).
Разговорно-просторечная и характерологическая функ-
ция языка в творческой практике Гоголя особенно ярко
проявлялась в использовании глаголов и отглагольных
форм. Показательно, что все эти конструкции в одина-
ковой степени распространены как в речи рассказчика,
так и в речи персонажей. Повествователь в описаниях
житья-бытья Башмачкина пользуется речевыми формами
городского просторечия: «Написавшись всласть, ложил-
ся он (Акакий Акакиевич,—Л. Е.) спать...»; а каждый
маленький чиновник, прежде чем приступить к своим
обязанностям, должен был «натопаться хорошенько нога-
ми в швейцарской, пока не оттают таким образом все
замерзнувшие по дороге способности и дарованья к долж-
ностным отправлениям» (Шинель). Здесь глаголы нато-
паться, написаться не только несут общеязыковое значе-
ние ‘полной завершенности’, ‘полноты проявления дейст-
вия’, но и сообщают всему контексту ироническую окрас-
ку, как особый знак авторского отношения, входят в худо-
жественную систему гоголевского иронического повество-
вания, дополняя картину оттаивания «всех замерзнувших
по дороге способностей и дарований к должностным от-
правлениям...'».
Гоголевское словоупотребление должно рассматривать-
ся на уровне текста, в общей системе изобразительности
текста.
Игра в слове, «игра слов», сложные семантические
взаимосвязи и взаимоотношения словесных и образных
рядов — все это и составляет текст как образно-речевое
целое. Прием эмоциональных наращивапий, драматиче-
18
напряжений и контрастов может дополняться иро-
нической игрой слов, в таком, например, рассуждении
рассказчика о своем герое Акакие Акакиевиче Башмач-
кине’ «Мало сказать: он служил ревностно,—нет, он
служил с любовью. Там, в этом переписываньи, ему ви-
делся какой-то свой разнообразный и приятный мир.
Наслаждение выражалось на лице его; некоторые буквы
у него были фавориты, до которых если он добирался,
то был сам не свой: и подсмеивался и подмигивал, и по-
могал губами, так что в лице его, казалось, можно было
прочесть всякую букву, которую выводило перо его» (Ши-
нель) .
Гоголевское словоупотребление активно использует
все возможности грамматической системы русского язы-
ка. Взаимозамена форм наклонений тоже входит в эту
систему. Императивные формы вместо «условных», со-
слагательных — замена, характерная для разговорной
речи. И вот эту-то «изустность» привносит Гоголь в ав-
торское повествование: «Не загляни автор поглубже ему
в душу, не шевельни на дне ее того, что ускользает и
прячется от света, не обнаружь сокровеннейших мыслей,
которых никому другому не вверяет человек, а покажи
его таким, каким он показался всему городу, Манилову
и другим людям, и все были бы радешеньки и приняли
бы его за интересного человека» (М. д., 1, XI).
Исследователи Гоголя давно уже, с самых первых его
шагов в литературе, отметили, что ряды однородных чле-
нов объединяют в произведениях Гоголя «далековатые»
предметы. В этом роде показательна, пожалуй, не столько
«куча» Ноздрева (объединяющая хомуты, курительные
свечки, платки для няньки, жеребца, изюм, серебряный
рукомойник, голландский холст, крупитчатую муку, та-
бак, пистолет, селедки, картины, точильный инстру-
мент, горшки, сапоги и фаянсовую посуду), сколько кон-
трастно сопоставленные и тем не менее объединенные,
двухчленные ряды, которые составляют еще более слож-
ные цепочки соответствий, организующих текст. Напри-
мер: «Мало-помалу присоединяются к их обществу все,
окончившие довольно важные домашние занятия, как то:
поговорившие с своим доктором о погоде и о не-
большом прыщике, вскочившем на носу, угнавшие
о здоровье лошадей и детей своих, впрочем показываю-
щих большие дарования, прочитавшие афишу и
важную статью в газетах о приезжающих и отъезжаю-
щих...» (Невск. пр.). Здесь погода и прыщик, лошади и
19
дети, афиша и важная статья, приезжающие и отъезжаю-
щие сопоставлены еще с одним рядом: поговорившие...
узнавшие... прочитавшие, которые объединены одним по-
нятием — окончившие довольно важные домашние заня-
тия. Внутри этой системы рядов есть еще «управляемый
ряд»: «узнавшие о здоровье лошадей и детей
своих, впрочем показывающих большие дарования».
Лошади и дети объединены в один ряд: и те и другие
«показывают большие дарования». Да и справки наводи-
лись «о здоровье лошадей и детей своих».
Показательно, что это каламбурное столкновение столь
неоднородных, «однородностей» появилось только в окон-
чательном тексте. В первоначальных редакциях его по
было: дарования обнаруживались только у детей: «...и
показывающих большие дарования детей».
Для поэтики Гоголя характерны ряды, поражающие
читателя, останавливающие его внимание, так сказать,
«не числом, а качеством». Приведем пример такого
именно текста: «И Петербург остался без Акакия Ака-
киевича, как будто бы в нем его и никогда нс было.
Исчезло и скрылось существо никем не защищенное, ни-
кому не дорогое, ни для кого не интересное...» (Шинель).
Сложная система параллелизмов составляет образный
стержень текста, центром которого наконец стало это
существо, Акакий Акакиевич Башмачкин, лишь после
своей смерти ставший опасным для разного рода «значи-
тельных лиц»: Исчезло и скрылось // никем... никому...
ни для кого Ц не защищенное... не дорогое... не интерес-
ное. В тексте эти ряды выявляются во взаимных отноше-
ниях и зависимостях: никем не защищенное // никому пе
дорогое // ни для кого не интересное...
Ряды однородных членов в поэтике Гоголя чрезвычай-
но разнообразны и разнохарактерны по своему «напол-
нению» и по своим функциям. В общем потоке есть и
ряды, объединяющие семантически однородные члены,
например, «Полились целые потоки расспросов, допро-
сов, выговоров, угроз, упреков, увещаний, так что девуш-
ка бросилась в слезы, рыдала и не могла попять пи одно-
го слова...» (М. д., 1, IX).
Искусство гоголевскою повествования складывалось
как мастерство в использовании всех элементов формы
слова, всех образных взаимодействий и соответствий.
Текст формировался как образно-речевая система, в ко-
торой выявлялись все подробности грамматической приро-
ды слова и становились средствами образности. Закопо-
20
мерно поэтому и определяющее влияние Гоголя на фор-
мирование как реалистической поэтики, так и общего на-
правления в совершенствовании языка художественной
литературы.
Слово-образ
в художественной системе текста
Каждый прием включается в общую художественную си-
стему текста в качестве компонента. В структуре
^удо^^вр'Увсннои прозы Гоголя исследователями выделяет-
ся прием разложения действия на составляющие его
движения. Андрей Белый назвал этот прием «механиче-
ским атомизмом», в основе которого лежит жест, «раз-
дробленный! в атомы, с углублением пауз между ними» 8.
Вызван к жизни этот прием стремлением к изобразитель-
ности, к зрелищности. Наглядность в представлении каж-
дого жеста, действия, движения создается описанием, по-
следовательным воспроизведением всех составляю-
щих этого движения. Детализация действий создает
зрительный образ сцены. В художественном тексте Го-
голя изобразительные приемы присутствуют во взаимо-
действии и взаимодополнении. Так, например, прием «ме-
ханического атомизма» сочетается с «лексическими заме-
щениями». Акакий Акакиевич Башмачкин принес к порт-
ному свою шинель, которая осталась шинелью только в
его глазах, повествователь называет ее капотом, т. к. она
совершенно утратила внешний вид и «внутреннее содер-
жание», свойственное подобному роду одежды. Портной
Петрович пользуется еще одним наименованием — гар-
дероб, называя так все ту же шинель Башмачкина. Кар-
тина жестов придает почти зрелищность всей сцене:
«Петрович взял капот, разложил его сначала на стол,
рассматривал долго, покачал головою <...> Петрович ра-
стопырил капот на руках и рассмотрел его против света
и опять покачал головою. Потом обратил его подклад-
кой вверх и вновь покачал...» (Шинель). Здесь даны, по
существу, два ряда детально перечисленных действий
Петровича. Один ряд — внимательный осмотр шинели,
которую. Акакий Акакиевич принес в починку, второй
ряд — «раздумья» Петровича. Рассказчик показывает не
только то, как Петрович осматривает капот-шинель-
гардероо, но и то, как он постепенно убеждается в ее
8 Велъгй Андрей. Мастерство Гоголя. М., 1934. С. 160.
непригодности и всем своим видом уоеждает в том же
Башмачкина. Все действия передаются в живописующих
деталях, в назывании сопутствующих действий Петрови-
ча, который в сомнении трижды покачивает головой.
Вся эта сцена абсолютно безмолвна, собеседники не об-
менялись ни единым звуком, и тем не менее перед нами
ситуация диалога, т. к. каждое движение, каждый жест
Петровича рассчитан на «собеседника», направлен, адре-
сован стоящему рядом Башмачкину, со страхом и на-
деждой наблюдающему за действиями портного. Вся эта
немая сцена полна внутреннего движения, смены настрое-
ний обладателя шинели Акакия Акакиевича Башмачкина.
«Механический атомизм» обычно и передает эту «внут-
реннюю динамику» через называние внешних действий
в подробностях. Показательно, что этот прием, кроме сме-
ны наименований — «лексических замещений», связан в
общей художественной системе текста еще и повто-
ром. Сюжетный повтор — повторяющийся сюжетный
ход в развитии сценического действия — это осмотр сна-
чала старой, ветхой, а потом новой, только что сшитой
шинели. Повторяется та же тщательность в воспроизведе-
нии подробностей, в разложении действия на составляю-
щие его движения: «Вынувши шинель, он (Петрович.—
Л. Е.) весьма гордо посмотрел и, держа в обеих руках,
набросил весьма ловко на плеча Акакию Акакиевичу; по-
том потянул и осадил ее сзади рукой книзу; потом дра-
пировал ею Акакия Акакиевича несколько нараспашку»
(Шинель). Это торжественное облачение в новую шинель
художественно значительно, так как соотнесено с перво-
начальной сценой осмотра шинели. Действующие лица те
же самые в обоих случаях, та же зрелищность описания,
выдержанная в доскональном перечислении всех движе-
ний Петровича, надевающего на Башмачкина новую ши-
нель. Характерное для повествователя внимание не толь-
ко к основным, но и к попутным, оттеночным действиям
мы находим и в этой сцене: «Вынувши... посмотрел...
держа... набросил...».
Сюжетный повтор становится важным компонентом
сюжетной завершенности; в повествовании картина же-
стов9 становится почти эквивалентной звучащему диало-
гу. Сюжетное движение включает в себя «диалогиче-
9 «...Действие и растягивается и смакуется; оно фиксируется
словно для своего увековечивания, но фиксируется во всей бы-
товой „дроби н мелочи"» (Манн 10. В. Поэтика Гоголя. М.: Ху-
дож. лит., 1978. С. 155).
22
СКИО» немые сцены, где ситуация диалога даиа в безмолв-
ном взаимодействии и развитии отношении двух лиц.
«Механический атомизм» создает крупный план сцены
(например, в развернутом сопоставлении бала у губерна-
тора с «воздушными эскадронами мух» «па белом сияю-
щем рафинаде»). Но «механический атомизм» может до-
полняться и как прием укрупняться остранением-узнава-
нием. В этом случае изумленный читатель как бы следит
за развертывающимся перед ним странным и невероят-
ным действием. Именно это сочетание приемов мы нахо-
дим в начальных главах «Носа», когда цирюльник Иван
Яковлевич, «разрезавши хлеб на две половины», «погля-
дел в середину и, к удивлению своему, увидел что-то бе-
левшееся. Иван Яковлевич ковырнул осторожно ножом
и пощупал пальцем. «Плотное! — сказал он сам про
себя.—Что бы это такое было?»
Он засунул пальцы и вытащил — нос!.. Иван Яковле-
вич и руки опустил; стал протирать глаза и щупать:
нос, точно, нос! и еще, казалось, как будто чей-то знако-
мый» (Нос). Остранение-узнавание тем психологически
убедительнее, чем подробнее и правдоподобнее называе-
мые действия-движения Ивана Яковлевича.
«Механический атомизм» — детальное воспроизведение
движений и поступков персонажа — может поддерживать-
ся и усиливаться введением дополнительных средств изо-
бразительности. Зрелищность, стремление к живописности
заставляют повествователя вводить «краски». Действие
не только расщепляется на свои составляющие, но еще
и расцвечивается: «Л Кукубенко, взяв в обе руки свой
тяжелый палаш, вогнал его ему в самые побледневшие
уста. Вышиб два сахарные зуба палаш, рассек надвое
язык, разбил горловой позвонок и вошел далеко в землю.
<...> Ключом хлынула вверх алая, как падречная калина,
высокая дворянская кровь и выкрасила весь обшитый зо-
лотом желтый кафтан его» (Т. Б., VII). Повествователь
не только в- подробностях, в деталях рисует то, как
именно пригвоздил к сырой земле Кукубенко ляха, но и
живописно, в красках и тонах изображает эту сцену.
Мастерство гоголевского повествования, намеренно пе-
редающего, кроме основного действия, весь фон сцены,
выявлялось в совокупности приемов, цель которых и со-
стояла в наглядности, в зрелищной убедительности опи-
саний ‘°.
Изобразительпость гоголевской прозы, в числе других средств,
23
Всевозможные формы перифрастических описаний со-
ставляют характерную черту гоголевского повествования.
Система иносказании органически вливается в общую
структуру иронически окрашенного текста: «Кучер, услы-
хавши голос, который произносится обыкновенно в реши-
тельные минуты и даже сопровождается кое-чем гораздо
действительнейшим, упрятал па всякий случай голову
свою в плечи, замахнулся кнутом и помчался, как стре-
ла» (Шинель, ч. II).
Перифрастические сочетания сближаются с «иноска-
занием», например: «Ковалев догадался и, схватив со сто-
ла красную ассигнацию, сунул в руки надзирателю, кото-
рый, расшаркавшись, вышел за дверь, и в ту же почти
минуту Ковалев слышал уже голос его на улице, где он
увещевал по зубам одного глупого мужика, наехавшего
со своею телегою как раз на бульвар» (Нос).
Перифрастические обороты могут быть заменены «ус-
ловными словосочетаниями», обычно выделенными кур-
сивом на фоне графически нейтрального текста, напри-
мер: «В нравах дамы города N были строги <...> Если же
между ними и происходило какое-нибудь то, что называ-
ют другое-третье, то оно происходило втайне, так что не
было подаваемо никакого вида, что происходило; сохра-
нялось все достоинство, и самый муж так был приготов-
лен, что если и видел другое-третъе или слышал о нем,
то отвечал коротко и благоразумно пословицею: „Кому
какое дело, что кума с кумом сидела?11» (М. д., 1, VIII).
Перифрастические обороты как намеренно непрямое
называние и всякого рода условные замены — приемы иро-
нического повествования, широко представленные в про-
зе Гоголя. Даже в «Повести о капитане Копейкине» при-
сутствует «трехаршипный мужчина», «ручища» которого
«самой натурой устроена для ямщиков,— словом, дантист
эдакой...» (М. д., 1, X).
Перифрастические обороты соотносятся с приемом
умолчания в называниях, когда рассказ повествователя
прерывается многозначительным умолчанием как «экви-
валентом текста», который восстанавливается, домысли-
вается самим читателем, например: «Разные бывают ме-
тоды. Не мешает сделать еще замечание, что Манилова...
но, признаюсь, о дамах я очень боюсь говорить, да при-
зависит от «регистрации его (персонажа.— Л. Е.) малейших
движений и ощущений (...) Такой прием рисовки придает
повествованию комически замедленный темп описаний сцени-
ческого действа...» {Виноградов В. 'В. Натуральный гротеск //
Поэтика русской литературы. М.: Наука, 1976. С. 26).
24
мне пора возвратиться к нашим героям, которые
отняли уже несколько минут перед дверями гостиной, вза-
имно упрашивая друг друга проити вперед» (М. д., 1, И).
Умолчанию и перебою интонации предшествовало рас-
суждение повествователя о воспитании «человеческих до-
бродетелен» в пансионах, где существовали «три главные
предмета»: «французский язык, необходимый, для сча-
стия семейственной жизни, фортепьяно, для доставления
приятных минут супругу, и, наконец, собственно хозяй-
ственная часть: вязание кошельков и других сюрпризов»
(Там же).
Умолчание в называниях и характеристиках может
входить в речевую маску рассказчика, как, например,
в «Повести о капитане Копейкине»: «Вельможа входит.
Ну... можете представить себе: государственный человек!
В лице так сказать... ну, сообразно с званием, понимае-
те... с высоким чином... такое и выраженье, понимаете»
(М. д., 1, X). Вся запинающаяся, корявая речь почтмей-
стера Ивана Алексеевича построена на «умолчаниях»,
усиливающих значительность его попыток определить вы-
ражение лица и всей фигуры государственного человека.
В завязке «Шинели» есть пример одного непрямого
обозначения: «В департаменте... но лучше не называть,
в каком департаменте. Ничего нет сердитее всякого рода
департаментов, полков, канцелярий и, словом, всякого
рода должностных сословий... Итак, во избежание вся-
ких неприятностей, лучше департамент, о котором идет
дело, мы назовем одним департаментом. Итак, в од-
ном департаменте служил один чиновник» (Шинель).
Здесь «обобщенность» обозначений мотивируется дважды:
условиями контекста и условиями повествования. Гоголь
в качестве приема умолчания, непрямого называния
пользуется традиционным зачином в его иронической ин-
терпретации: «в одном департаменте служил один чинов-
ник», как зачин в сказках: «В некотором царстве в неко-
тором государстве...».
Ироническое повествование предполагает ис-
пользование приемов непрямого обозначения и всякого
рода намеренных умолчаний, как, например: «Это было.^
трудно сйазать, в который именно день, но, вероятно,
в день самый торжественнейший в жизни Акакия Ака-
киевича, когда Петрович принес, наконец, шинель»;
или — в диалоге цирюльника Ивана Яковлевича с квар-
25
тальным надзирателем: «—...А вот изволь-ка рассказать,
что ты там делал?
Иван Яковлевич побледнел... Но здесь происшествие
совершенно закрывается туманом, и что далее произошло,
решительно ничего неизвестно» (Hoc, I). В последних
главах «Носа» мы находим точно такое же умолчание о
дальнейшем развертывании внесценического действия:
«Вслед за этим... но здесь вновь все происшествие скры-
вается туманом, и что было потом, решительно неизвест-
но» (Hoc, II).
«Перевернутость мира», переоценка ценностей в числе
других средств передается еще и системой различных
уточнений и конкретизаций. Гоголь любил давать своим
ничтожным героям имена великих писателей, оговари-
ваясь каждый раз, о ком именно идет речь. Причем и в
этих оговорках передается все та же «перевернутость
мира», ничтожные лица как бы нарочно взяли и носят чу-
жие имена, профанируя их: «Перед ним (перед во-
шедшим в комнату вслед за блондинкой Пироговым.—
Л. Е.) сидел Шиллер, не тот Шиллер, который написал
«Вильгельма Теля» и «Историю Тридцатилетней войны»,
но известный Шиллер, жестяных дел мастер в Ме-
щанской улице. Возле Шиллера стоял Гофман, не писа-
тель Гофман, но довольно хороший сапожник с Офицер-
ской улицы, большой приятель Шиллера» (Невск. пр.).
Там же есть еще один персонаж — столяр Кунц
(Kunst —искусство, Kunstler —художник), «все эти до-
стойные ремесленники были пьяны как сапожники»,—
добавляет рассказчик, еще раз утверждая переверну-
тость мира, где и Шиллеры, и Гофманы, и Кунцы не зна-'
ют даже о существовании своих великих однофамидьцев.
А между тем связь между великим Шиллером и Шилле-
ром, пьяным ремесленником, существует, о чем снова и
снова напоминает рассказчик: если великий Шиллер с его
героями, благородными разбойниками,— романтик, то же-
стянщик Шиллер — суровый реалист, который «размерил
всю свою жизнь и никакого, ни в каком случае, не делал
исключения». Но связь между двумя Шиллерами, оказы-
вается, все-таки была: жестянщик Шиллер «пил всегда
вдохновенно, или с сапожником Гофманом, или с столя-
ром Купцом, тоже немцем и большим пьяницею. Таков
был характер благородного Шиллера» (Невск. пр.). Тра-
гическая перевернутость мира сказывается во всех дета-
лях, не только в присвоении д профанации чужия имед>
80
Изображспйе драматических коллизий в творческой
оактпкс Гоголя дастся как бы' в двух аспектах: откро-
* енно ироническом и слегка ироническом с оттенком ав-
торского трагического понимания и осмысления. Покажем
это на примере «Невского проспекта» **. «Переверну-
тость» мира, его неустроенность и несогласованность в
;келаниях и возможностях преподносятся и в комическом
плане: «Дивно устроен свет наш!-думал я, идя третьего
дня по Невскому проспекту <...> Как странно, как непо-
стижимо играет нами судьба паша! <...> Все происходит
наоборот. Тому судьба дала прекраснейших лошадей, и он
равнодушно катается на них, вовсе не замечая их красо-
ты тогда как другой, которого сердце горит лошадиною
страстью, идет пешком и довольствуется только тем, что
пощелкивает языком, когда мимо его проводят рысака.
Тот имеет отличного повара, но, к сожалению, такой ма-
ленький рот, что больше двух кусочков никак не может
пропустить, другой имеет рот величиной в арку главного
штаба, но, увы, должен довольствоваться каким-нибудь
немецким обедом из картофеля. Как странно играет нами
судьба паша!» (Невск. пр.). Окольцовывающая текст фор-
мула: «Как странно, как непостижимо играет нами судь-
ба наша! <...> Как странно играет нами судьба паша!»,—
но существу, лейтмотив всей повести. Все странно и при-
зрачно в этом перевернутом мире. В начальных карти-
нах перевернутости господствует комическое осмыс-
ление всевозможных несоответствий: «лошадиная страсть»,
которой пылает любитель лошадей, не только озна-
чает 'страстное влечение к этому роду животных’, но и
обнаруживает связь с «лошадиной дозой», имеющей
и количественное — 'непомерно большая’ — и качествен-
ное значение. «Пощелкивание языком» располагается на
грани двух смыслов: имитирует цоканье копыт «отлич-
ного рысака», которого «проводят мимо», а в то же вре-
мя оно обозначает как бы средство утешения (как и об-
ладатель рта величиной в арку главного штаба довольст-
вуется тощим картофельным обедом). Но все эти пере-
численные несоответствия способностей и возможностей
покрываются старой русской пословицей: «Бодливой ко-
С" Пушкин, Доброжелательно отозвавшийся о «Вечерах на
хуторе близ Диканьки», особенно выделил в «Арабесках» имен-
ии *0ВСКИ® проспект»: «Автор оправдал таковое снисхожде-
е. ин с тех пор непрестанно развивался и совершенствовался,
мл»издал Арабески, где находится его Невский проспект, са-
“°°ПсЛЛое ?? ег0 произведений» {Пушкин А. С. Поли. собр.
соч.: В 16 т. М„ 1949. Т. 12. С. 27).
27
рове бог рог пе даст», которая, несомненно, присутствует
здесь как глубинная основа комической всеобщей «пе-
ревернутости мира».
Но сквозь иронические описания начинает прогляды-
вать трагическое лицо персонажа, жертвы перевернуто-
го мира, когда повествователь обращается к истории
встречи художника Пискарева с прекрасной незнакомкой,
которая, в этом абсурдном миро, оказалась проституткой.
Вся история любви Пискарева трагедийна именно вслед-
ствие трагической неустроенности общества. Пе-
ревернутость мира с особенной зрелищной отчет-
ливостью выявилась в сознании самого Пискарева: «...все
чувства его горели и все перед ним окинулось каким-то
туманом. Тротуар несся под ним, кареты со скачущими
лошадьми казались недвижимы, мост растягивался и ло-
мался на своей арке, дом стоял крышею вниз, будка ва-
лилась к нему навстречу и алебарда часового вместе с
золотыми словами вывески и нарисованными ножницами
блестела, казалось, на самой реснице его глаз» (Там же).
«Перевернутость» мира, его странность реализуются
на перевернутых, поставленных «на голову» предметах:
«...дом стоял крышею вниз, будка валилась к нему на-
встречу...»; перевернутыми оказались и все действия ре-
ального мира: «...тротуар несся под ним, кареты со скачу-
щими лошадьми казались недвижимы...». Трагедийность
выявляется даже в «поведении» окружающей среды:
«...мост растягивался и ломался на своей арке...». Но и
здесь, сквозь трагическое, проглядывает иронический
взгляд автора, поэтому «на самой реснице глаз» художни-
ка блестела «алебарда часового вместе с золотыми слова-
ми вывески и нарисованными ножницами».
Странность мира в «Невском проспекте» передается и
в изображении предметов на грани персонификации.
Действия предметов изображаются как поступки. Показа-
тельно для поэтики Гоголя и то, что это «частичное» оли-
цетворение начинается только с наступлением темноты:
«Но как только сумерки упадут на домы и улицы и бу-
дошник, накрывшись рогожею, вскарабкается на лестницу
зажигать фонарь, а из низеньких окошек магазинов вы-
глянут те эстампы, которые не смеют показаться среди
дня, тогда Невский проспект опять оживает и начинает
шевелиться».
В повествовании рассказчика, в сложной цепочке про-
тивопоставлений передается «перевернутость мира» и в
человеческих отношениях. Роль противительного союза но,
28
есеппого В начало конструкции и объединяющего
',иП- ряд противопоставлений, сближается со «словами-
теКСодВами ситуации», которым, несомненно, принадлежит
пчобцазительная функция: «Он неподвижно стоял перед
и У?Ке готов был так же простодушно позабыться, как
^забылся прежде. Но красавица наскучила таким дол-
п°м молчанием и значительно улыбнулась, глядя ему пря-
' глаза. Но эта ул'ыбка была исполнена какой-то жал-
ой наглости: она так была странна п так же шла к ее
чицу как идет выражение набожности роже взяточника
или ’ бухгалтерская книга поэту,- Он содрогнулся»
(Невск. пр.).
В этом «перевернутом» мире прежде всего искажены,
изуродованы человеческие отношения. Не случайно актив-
но действующее'лицо в «Невском проспекте» — демон —
образ, проходящий сквозь все повествование. Точка зре-
ния рассказчика сближается с позицией Пискарева, ко-
торому везде мерещится чья-то роковая воля: «...ему
казалось, что какой-то демон искрошил весь мир на мно-
жество разных кусков и все эти куски без смысла, без
толку смешал вместе». В повествовании рассказчика эмо-
циональная позиция художника Пискарева дана в «сгу-
щенном», предельно сжатом описании дьявольской иска-
жепности мира. Те же куски разбитой жизни «без смысла,
без толку» смешаны вместе. И тот же прием — описание
предметов внешнего мира на грани персонификации.. Дей-
ствия предметов, порядок вещей изображены почти на
уровне отношений: «Он лжет во всякое время, этот
Невский проспект, во более всего тогда, когда ночь сгу-
щенною массою наляжет на него и отделит белые и па-
левые стены домов, когда весь город превратится в гром
п блеск, мириады карет валятся с мостов, форейторы кри-
чат и прыгают на лошадях и когда сам демон зажигает
лампы для того только, чтобы показать всё не в настоя-
щем виде». Эта метафорически преобразованная картина
ночного Петербурга, несомненно, многое определила в
восприятии этого города последующей русской литерату-
рой как символа перевернутого, уродливого мира.
Особенность гоголевского повествования — в слиянии
и органическом взаимопроникновении элементов комиче-
ского в трагическом — была замечена еще в современной
писателю критике. «Кроме высокого комического талан-
La’ rJ ®голь обладает таким же и трагическим,— писал
• - Ьелинский,— Лицо художника Пискарева в по-
вести „Невский проспект11 вовсе не комическое. Присут-
29
ствие трагического элемента сильно чувствуется и в ко-
мической, по-видимому, повести „Шинель", в лице и
судьбе смешного и жалкою Акакия Акакиевича. В «Ста-
росветских помещиках» добродушный, веселый смех чита-
теля разрешается в грустное, раздирающее сердце чувст-
во... Мы могли бы проследить этот трагический элемент в
большей части комических сочинений Гоголя <...> А что
Гоголь умеет так тесно слить трагический элемент с ко-
мическим,— это самая резкая и яркая особенность его
таланта, и есть отнюдь не недостаток, а великое достоин-
ство» *2.
Деталь в структуре текста
В художественном тексте как образно-речевом целом но-
сителями изобразительности становятся не столько «тро-
пеические средства», сколько сами элементы текста, став-
шие ситуативно важными в развертывании повество-
вания.
В поэтике Гоголя ключевое слово может форми-
ровать вокруг себя семантические комплексы или стано-
виться опорным образом, стержневым для данного текста.
Центральное положение ключевого слова обычно усили-
вается и фразовым ударением, и вынесением в начало
конструкции. Весь текст оказывается построенным и
внутренне организованным «с оглядкой» на это слово-об-
раз, которое становится опорным звеном в развертывании
повествования.
К числу средств речевой изобразительности, несущих
основную экспрессивную нагрузку, принадлежит «прием
начальных аккордов», состоящий в том, что в самое на-
чало конструкций выдвинуто актуализованное слово. Оно
повторяется, анафорически объединяя текст, па него па-
дает фразовое ударение, каждое появление этого слова
обозначает следующую веху в развитии темы, общее дви-
жение которой выявляется в системе градаций по восхо-
дящей. Постепенно усиливается эмоциональное и драмати-
ческое напряжение, слово становится ключевым образом,
направляющим повествование, слово это приобретает не-
свойственную ему в условиях обычного общения значи-
тельность, смысловую осложненность. Внешне объектив-
ное авторское повествование обнаруживает поэтапное,
градуальное нагнетание экспрессивности, и каждая из
ступеней этой градации обозначена ключевым словом, вы-
12 Белинский В. Г. Поли. собр. соч.: В 13 т. М„ 1950. Т. 10. С. 179.
двинутым в абсолютное начало. В роли подобных «слов-
сигналов ситуации» могут выступать неопределенные ме-
стоимения и наречия или слова со значением непредви-
денности, внезапности, непредсказуемости. Повторяться
может слово со значением цикличности, возвращающей-
ся ситуации. При этом повторенное слово обозначает от-
раженно кругообразность, цикличность или простую вос-
производимость на новом «витке жизни»: «Вновь съежил-
ся он, вновь принялся вести трудную жизнь, вновь огра-
ничил себя во всем, вновь из чистоты и приличного по-
ложения опустился в грязь и низменную жизнь» (М. д.,
1, XI). Здесь повторяющееся вновь —в значении ‘опять,
снова, еще раз’ — передает в тексте цикличность, отра-
жающую повторяемость коллизий, возвращений «на кру-
ги своя». Каждое вновь открывает еще одну деталь в
повороте судьбы Павла Ивановича Чичикова, после оче-
редного падения начинающего подготовку для медленно-
го и неуклонного подъема вверх по спирали благополу-
чия и приобретательства.
Ту же роль «спецификатора ситуации» выполняет и
наречие уже, поставленное в те же выявляющие усло-
вия 1Э. Уже обозначает ‘окончательное совершение, осу-
ществление или выполнение какого-нибудь действия или
намерения’, словом, называет определенную ступень,
«градуальную позицию». Наречие уже, повторяясь в тек-
сте и называя определенную веху пути, обозначая «жиз-
ненную позицию» все того же персонажа — Павла Ива-
новича Чичикова, отмечае’г определенный признак этого
движения по «спирали развития»: «Уже сукна купил он
себе такого, какого не носила вся губерния, и с этих пор
стал держаться более коричневых и красноватых цветов
с искрою; уже приобрел он отличную пару и сам держал
одну вожжу, заставляя пристяжную виться кольцом.
Уже завел он обычай вытираться губкой, намоченной в
воде, смешанной с одеколоном; уже покупал он весьма
недешево какое-то мыло для сообщения гладкости коже,
уже...
” «Выяснение этих новых смысловых наслоений, преобразующих
и обогащающих семантический строй общенародных слов, вы-
ражений, конструкций, композиционных систем речи, и состав-
ляет задачу науки о языке художественной литературы (...)
В структуре литературно-художественного произведения острые
экспрессивно-образные функции могут выпасть на долю семан-
тически нейтральных, совсем безобразных, местоименных
слов...» {Виноградов В. В. Стилистикд. Теория поэтической речи.
Поэтика. С, 125),
31
Но вдруг на место прежнего тюфяка был прислан но-
вый начальник, человек военный, строгий, враг взяточни-
ков и всего, что зовется неправдой» (М. д., 1, XI).
«Но вдруг...» — рубеж, положивший конец этому вос-
хождению героя по ступеням приобретательства. Слом
интонации наращивания четко отграничивает заключи-
тельный абзац.
Показательно, что последняя ступень с начинатель-
ным уже оборвана многоточием, знаком обрыва повество-
вательного потока. Текст разграничен и композиционно:
«Но вдруг» — начало следующего абзаца, возвестившего
о переменах в судьбе Павла Ивановича Чичикова. Таким
образом, все подробности текста, даже его графическое
построение, служат средством изобразительности.
Обнаружение вех сюжетного движения, каждая из ко-
торых обозначена начинательным уже, может предварять-
ся общей «обстановочной фразой» (по терминологии
В. В. Виноградова), раскрывающей смысл последующих
этапных звеньев: «Слава его росла, работы и заказы уве-
личивались. Уже стали ему надоедать одни и те же порт-
реты и лица, которых положенье и- обороты сдела-
лись ему заученными. Уже без большой охоты он писал
их, стремясь набросать только кое-как одну голову,
а остальное давал доканчивать ученикам» (Портрет).
Сквозная анафора, объединяющая текст, обнаруживает,
как говорилось выше, цикличность в присоединениях,
даже в тех случаях, когда объединяются грамматически
самостоятельные конструкции. Повтор является в этом
случае средством объединения текста. И эту роль по-
вторяющееся наречие уже выполняет в системе все того
же приема «начальных аккордов», как, например, в той
же повести «Портрет»: «Уже он начал достигать поры
степенности ума и лет; стал толстеть и видимо раздавать-
ся в ширину. Уже в газетах и журналах читал он при-
лагательные: „почтенный наш Андрей Петрович11, „заслу-
женный наш Андрей Петрович11. Уже стали ему предла-
гать по службе почетные места, приглашать на экзамены
в комитеты. Уже он начинал, как всегда случается в по-
четные лета, брать сильно сторону Рафаэля и старинных
художников,— не потому, что убедился вполне в их вы-
соком достоинстве, но потому, чтобы колоть ими в глаза
молодых художников. Уже он начинал, по обычаю всех,
вступающих в такие лета, укорять без изъятия молодежь
в безнравственности и дурном направлении духа. Уже
начинал он верить, что все на свете делается просто,
32
похновенья свыше нет и все необходимо должно быть
подвергнуто под один строгий порядок аккуратности и
однообразья» (Портрет).
В этих рядах уже мы находим два взаимно противопо-
ставленных ряда. Один передает движение вверх, «офи-
циальное восхождение»: «.Уже он начал достигать поры
степенности ума и лет... Уже в газетах и журналах...
Уже стали ему предлагать по службе...». Второй ряд —
постепенное понижение личности, деградация художника
Чарткова: «Уже он начинал, как всегда случается в по-
четные лета... Уже начинал он верить, что все на свете
щлается просто, вдохновенья свыше нет...». Это «встреч-
ное» движение вниз, приведшее к потере таланта и ра-
зума, зарождается в первом ряду уже, показывающем
служебные отношения Чарткова и постепенную утрату
высших ценностей. Последние конструкции с начальным
уже, по существу, крушение не только идеалов, по и са-
мой личности художника.
Организация текста как образно-речевого целого ис-
пользует все средства эстетического потенциала слова и
конструкции. Вынесение в самое начало предложения
глагола подчеркивает и усиливает динамичность текста.
Причем динамичность пе только событийную, но и психо-
логическую: «И погиб казак “. Пропал для всего, казац-
кого рыцарства! Не видать ему больше ни Запорожья, ни
отцовских хуторов своих, ни церкви божьей! Украйне не
видать тоже храбрейшего из своих детей, взявшихся за-
щищать ее. Вырвет старый Тарас седой клок волос из
своей чупрыны и проклянет и день, и час, в который по-
родил на позор себе такого сына» (Т.Б., VI).
Вся система текста здесь, объединенная серией повто-
ров и восклицаний, образует эмоционально окрашенное
авторское слово: «И погиб!.. Пропал..! Не видать..! не ви-
дать!..».
Вынесение в начало конструкции слова — резуль-
тат семантического осложнения, актуализации этого сло-
ва в тексте. Повторяющиеся союзы, поставленные в ту
же «ударную позицию», не только передают нагнетание
эмоциональной напряженности, но и сообщают тексту
внутреннюю цельность, организуют его как образно-рече-
вую систему, в которой каждая деталь уравновешена и
определена всей системой, например: «И закрывал себя
14 Вместо орфограммы казаки пользуемся общепринятым и при-
вычным современному читателю написанием.
2 Л. и. Еремина
33
рукою бедный молодой человек, и много раз содрогался
он потом на веку своем, видя, как много в человеке бес-
человечья, как много скрыто свирепой грубости в утон-
ченной, образованной светскости, и, боже! даже в том че-
ловеке, которого свет признает благородным и честным»
(Шинель).
Изобразительность текста создается переплетением
всех средств эстетического осмысления. Повторяющиеся
союзы (И... и... и) присоединяют очередные звспья автор-
ского повествования, сообщают цельность всей конструк-
ции, передавая при этом нарастание эмоциональной на-
пряженности. Повторяющиеся группы слов (...как много...
как много...) образуют лексический фон, на котором вы-
является парадоксальность сочетания прямых и метафо-
рических значений слова человек (...как много в человеке
бесчеловечья...'). И наконец, система противопоставлений
последней, заключительной части конструкции завершает
конструкцию: «...как много скрыто свирепой грубости в
утонченной, образованной светскости...». Авторское во-
склицание (...боже!..) переводит текст из внешне объек-
тивного повествования в иную систему, близкую к лири-
ческим отступлениям, где мы слышим голос самого авто-
ра, не осложненный «голосами» и «позициями» персона-
жей: «...и, боже! даже в том человеке, которого свет при-
знает благородным и честным...».
В организации текста как образпо-речевого целого
исключительно велика роль противительных союзов, вы-
двинутых в самое начало конструкции. В этом случае они
выполняют роль слов-сигналов ситуации, обозначают ин-
тонациопйый слом и в то же время передают структур-
но-семантические связи, объединяющие текст. Для автор-
ского повествования характерно четкое противопоставле-
ние развернутой начальной части краткой концовке, от-
крывающейся противительным союзом но: «...красавица
оглянулась и ему показалось, как будто легкая улыбка
сверкнула на губах се. Он весь задрожал и не верил сво-
им глазам. Нет, это фонарь обманчивым светом выразил
на лице ее подобие улыбки, нет, это собственные мечты
смеются над ним. Но дыхание занялось в его груди, все
в нем обратилось в неопределенный трепет, все чувства
его горели, и все перед ним окинулось каким-то туманом»
(Невск. пр.).
Та же закономерность отличает и публицистику Гого-
ля: противопоставленная концовка как бы заключает
фрагмент текста, придавая ему внутреннюю цельность и
34
завершенность: «Если смеяться, так уж лучше смеяться
сильно и над тем, что действительно достойно осмеянья
всеобщего. В „Ревизоре11 я решился собрать в одну кучу
нее дурное в России, какое я тогда знал, все несправедли-
вости, какие делаются в тех местах и в тех случаях, где
больше всего требуется от человека справедливости, и за
одним разом посмеяться -над всем. Но это, как известно,
произвело потрясающее действие» (Авторская исповедь).
В художественной прозе Гоголя роль ключевого
слова (которую может выполнять и стилистически нейт-
ральное слово) многообразна. В повести «Портрет» Го-
голь пользуется этим приемом в авторском внешне объ-
ективном повествовании, передающем два аспекта изобра-
жения истории личности персонажа. Речь идет об изоб-
ражении домохозяина, где жил художник Чартков вплоть
до своего неожиданного и рокового обогащения. В преде-
лах одной грамматической конструкции изложена вся
жизнь и «деятельность» этого человека, в ее ретроспек-
тиве и настоящем, которое, несомненно, будет продолже-
но и в будущее. Вот каким образом в системе соответст-
вий//оппозиций представлена картина всей жизни эпи-
зодического персонажа: «Он был уже вдов, был уже в от-
ставке, уже не щеголял, не хвастал, не задирался, любил
только пить чай и болтать за ним всякий вздор; ходил
по комнате, поправлял сальный огарок; аккуратно по
истечении каждого месяца наведывался к своим жильцам
за деньгами; выходил на улицу с ключом в руке, для
того, чтобы посмотреть на крышу своего дома; выгонял
несколько раз дворника из его конуры, куда он запряты-
вался спать; одним словом, человек в отставке, которому
после всей забубенной жизни и тряски на перекладных
остаются одни пошлые привычки». Вся жизнь этого безы-
мянного персонажа дана как система поступков. Все, что
связано с прошлым, перечислено в отрицательных кон-
струкциях; настоящее содержится в длительных, продол-
жительных действиях «прошедшего описания», и, наконец,
подводится итог: «...одним словом...». Форма настоя-
щего времени «остаются» — настоящее постоянное, не-
ограниченно продолженное в будущее. Но роль уже за-
метна и здесь, весь план прошлого дан с позиций «прош-
лого в настоящем», и граница между временными пло-
скостями отмечена повторяющимся уже.
Анафорическое уже широко используется Гоголем
при нагнетании драматической напряженности повество-
вания, например в описании сражения между казаками
2*
35
й Ляхами в «Страшной мести»: «Уже очищается двор,
уже начали разбегаться ляхи; уже обдирают казаки с
убитых золотые жупаны и богатую сбрую; уже пан Да-
нило сбирается в погоню и взглянул, чтобы созвать сво-
их... и весь закипел от ярости: ему показался Катеринин
отец» (Страши, месть). Здесь динамичность повествова-
ния, быстрая смена действий, каждое из которых предва-
ряется очередным уже, вдруг прерывается глубокой пау-
зой. Многоточие здесь — знак этой глубокой паузы и
слома интонации рассказчика, знак разрыва «речевого
потока». Внимание рассказчика и персонажа переключа-
ется на действия пового, и «неожиданного», персонажа.
План настоящего актуального, в кртором располагались
действия пана Данилы и его казаков, расширяется, соче-
тается с перфектными формами и прошедшим однократ-
ным: «Уже очищается двор, уже начали разбегаться
ляхи, уже обдирают казаки... уже пан Данило сбирается
в погоню и взглянул... и весь закипел от ярости: ему
показался Катеринин отец». Действия, перенесенные в
план настоящего, объединяют и «окрашивают» все пове-
ствование.
Прием «начальных аккордов» с наречием уже, анафо-
рически выдвинутым и выделенным, возникает и в пей-
зажных описаниях. И снова каждый фрагмент текста с
начальным уже — веха в изменении картины природы.
Вот как, например, в «Страшной мести» подается наступ-
ление темноты. Все описание — свидетельство присутст-
вия персонажа в авторском рассказе. Именно точкой зре-
ния колдуна, запрятанного паном Данилой в глубокий
подвал и нетерпеливо ожидающего появления Катерины,
организован весь этот текст: «Вот кто-то показался на
дороге — это козак! И тяжело вздохнул узник. Опять все
пусто. Вот, кто-то вдали спускается... Развевается зеле-
ный кунтуш... Горит на голове золотой кораблик... Это
она! <...> Уже солнце село. Уже и пет его..Уже и вечер:
свежо; где-то мычит вол; откуда-то навеваются звуки,
верно, где-нибудь народ идет с работы и веселится; по
Днепру мелькает лодка... Кому нужда до колодника!
Блеснул на небе серебряный серп. Вот кто-то идет с про-
тивной стороны по дороге. Трудно разглядеть в темноте.
Это возвращается Катерина». Все повествование построе-
но с учетом позиции персонажа, почти «с его голоса»,
именно поэтому перечисляется все, что видно узнику
сквозь решетку. Каждое появление нового лица отмечено
пачинательным вот, отмечающим изменение картины,
36
видной колдуну. Неопределенные местоимения и наречия
(кто-то, кто-то, где-то, откуда-то, где-нибудь, кто-то) окра-
шивают текст и участвуют в приеме «приближение-узна-
вание»: кто-то... это козак! кто-то... Это она! кто-то... Это
возвращается Катерина. И здесь уже выполняет свою, из-
вестную нам эстетическую функцию в общей системе тек-
ста как образно-речевого целого.
Начальное уже, выделяющее в тексте каждое действие
как определенное этапное звено, может сочетаться с кон-
струкциями, в которых уже (при всей значительности и
актуальности этого слова) не вынесепо в самое начало,
стоит после подчинительного или сочинительного союза,
например: «Рубится и бьется Тарас, сыплет гостинцы
тому и другому на голову, а сам глядит все вперед на
Остапа, и видит, что уже вновь схватилось с Остапом
мало не восьмеро разом. „Остап!.. Остап, не подда-
вайся!..“ Но уж одолевают Остапа; уже один накинул ему
па шею аркан, уже вяжут, уже берут Остапа» (Тарас
Бульба).
Здесь каждое уже отмечает действия ляхов, за кото-
рыми наблюдает сражающийся Тарас Бульба, видевший
пленение своего сына. Выделение и актуализация
ключевого слова становятся важнейшим средством рече-
вой изобразительности. Весь текст как образно-речевое
целое составляет уравновешенную замыслом автора
структуру, каждая деталь которой ясна и понятна в си-
стеме целого.
Прием уже в качестве опорного слова-образа получил
широкое распространение в реалистической стилистике
второй половины XIX в. В произведениях русской класси-
ки того времени можно найти множество примеров имен-
но такого использования наречия уже, отмечающего этап,
веху пути персонажа, существенное звено в развитии ха-
рактера.
Так, в повести Чехова «Дама с собачкой» многократно
повторенное уже выполняет ту же функцию опорного
образа, центрального звена в структуре текста. Нагнета-
ние драматической напряженности, эмоциональной насы-
щенности текста передается в той же системе понижения
личности, постепенной деградации, как и в «Портрете»
Гоголя.
Дмитрий Гуров возвращается к привычному москов-
скому быту, к суете и тщеславию, и каждый виток этой
«спирали уничтожения» отмечен анафорическим уже —
в значении определенного временного рубежа, вехи жиз-
37
веяного пути. Начальное уже определяет весь «снижаю-
щий ряд», организует текст как образно-речевое целое:
«Уже не хочется думать о горах и море <„.> Уже с жад-
ностью прочитывал по три газеты в день <„.> Уже тянуло
в рестораны, клубы, на званые обеды, юбилеи и уже ему
было лестно, что у него бывают известные адвокаты и ар-
тисты и что в Докторском клубе он играет в карты с про-
фессором». Унижающая мелочность московских забот и
«возможностей» Гурова дана в конкретных действиях и
проявлениях, завершающихся последним членом ряда,
обозначенным тем же анафорическим уже: «Уже он мог
съесть целую порцию селянки на сковородке...». Умолча-
ние как знак подтекста и эквивалент текста многозначи-
тельно заканчивает это последнее свидетельство возвра-
щения Дмитрия Гурова к прежнему, пошлому образу
жизни.
Эстетическое использование слова, даже морфемы,
многократно повторенной, эмоционально «нагруженной и
окрашенной»,—существенная черта реалистической сти-
листики, языка художественной литературы XIX—XX вв.
Годы, проведенные в родительском доме, не были радо-
стными для Павлуши Чичикова. В его воспоминаниях они
окрашиваются в те же тона тоски и заброшенности, ца-
рившие в отцовских комнатах: «...отец, больной человек,
в длинном сюртуке на мерлушках и в вязаных хлопан-
цах, надетых на босую ногу, беспрестанно вздыхавший,
ходя по комнате, и плевавший в стоявшую в углу песоч-
ницу, вечное сиденье на лавке, с пером в руках, черни'
лами на пальцах и даже на губах, вечная пропись перед
глазами: «Не лги, послушествуй старшим и носи доброде-
тель в сердце»; вечный шарк и шлепанье по комнате
хлопанцев <...> и вечно знакомое, всегда неприятное чув-
ство, когда вслед за сими словами краюшка уха его
скручивалась очень больно ногтями длинных, протянув-
шихся сзади пальцев...» (М. д., 1, XI).
На фоне этой безотрадной картины приезд в город
для обучения «всем наукам» воспринимается как яркое
пятно, запомнившееся ему, и это впечатление передается
в формах речи с суффиксами эмоциональной оценки, ко-
торые составляют контраст с впечатлениями, вынесенны-
ми из «отчего дома»: «Потом сорока <...> втащила их в
небольшой дворик, стоявший па косогоре с двумя рас-
цветшими яблонями пред стареньким домиком и садиком
позади его, низеньким, маленьким, состоявшим только из
рябины, бузины и скрывавшейся во глубине его дере-
38
вянной будочки, крытой драньем, с узеньким матовым
окошечком» СМ. д„ 1, XI).
Все описание домика, где жила родственница Чичико-
вых («дряблая старушонка», по оценке «вполне зрелого»
Павла Ивановича), составляет разительный контраст с
обстановкой детства Павлуши. Экспрессивная тональность
здесь — свидетельство «аспекта персонажа», его личност-
ной позиции. Уменьшительно-ласкательная аффикса-
ция — след восприятия маленького Павлуши, прошедше-
го длинный путь в воспоминаниях персонажа. Присутст-
вие точки зрения действующего лица в авторском повест-
вовании выявляется во всех деталях текста.
Морфема как образная доминанта текста, как прием
речевой изобразительности находит широчайшее исполь-
зование в языке русской классической литературы ”.
Обычно весь контекст поддерживает и выявляет это
«колеблющееся», усложненное значение суффиксов эмо-
циональной оценки, создавая особую тональность повест-
вования. Слово как элемент художественного текста по-
лучает психологическую и образную интерпретацию; оно
становится свидетельством проникновения в объективное
повествование интонации персонажа.
Влияние мастерства Пушкина и Гоголя на все после-
дующее формирование стилистики классической русской
литературы огромно: было определено общее направление
развития и совершенствования образности собственно ре-
чевых средств русского языка. Ограничусь еще одним
примером использования суффиксов эмоциональной оцен-
ки, составляющих часть еще одного приема, типичного
для гоголевского повествования,— контраста.
Гостиная в доме Собакевича, как известно, была ук-
рашена портретами греческих полководцев «с такими
толстыми ляжками и неслыханными усами», которые по
крепости и основательности были под стать самому хозяи-
ну и только усиливали впечатление медвежьей неуклю-
жести и полновесности, свойственное всему окружению
Собакевича ”. И вдруг между этими «молодцами», от од-
,5 См., например, этот же прием в трилогии Л. Толстого «Дет-
ство. Отрочество. Юность», повести «Смерть Ивана Ильича».
16 В «Авторской исповеди» Гоголь писал: «Жизнь я преследовал
в ее действительности, а не в мечтах воображения... у меня
только то и выходило хорошо, что взято было мной из действи-
тельности, из данных мне известных. Угадывать человека я
мог только тогда, когда мне представлялись самые мельчай-
шие подробности его внешности. Я никогда не писал портре-
39
пого взгляда на которых «дрожь проходила по телу» «не-
известно каким образом и для чего, поместился Багра-
тион, тощий, худенький, с маленькими знаменами и пуш-
ками внизу и в самых узеньких рамках».
Картины па стенах в «Мертвых душах» сначала при-
сутствуют как безмолвные свидетели, а потом становят-
ся почти участниками сценического действия. И если гре-
ческий полководец «в красных панталонах и мундире,
с очками па носу» остался совершенно как бы слеп и рав-
нодушен к купле-продаже мертвых (по терминологии Чи-
чикова — «несуществующих») душ, то «Багратион с ор-
линым носом глядел со стены чрезвычайно внимательно
на эту покупку...» (М. д., 1, V).
Многократно повторяющаяся деталь в составе слова,
например эмоционально окрашенная аффиксация,— осо-
бенность авторского повествования, в котором, как прави-
ло, присутствуют оценки персонажа. Экспрессивная то-
нальность слова рассказчика мотивируется и отношением
самого рассказчика к предмету повествования.
Использование словосочетания, слова, даже морфемы
в качестве ключевого, опорного образа, организующего
всю систему текста как образно-речевого целого,— завое-
вание реалистической стилистики. И несомненно, что
определяющая роль в этом, наряду с А. С. Пушкиным,
принадлежит Гоголю, его наследникам и продолжателям.
Грамматическая форма слова
в системе текста
В художественной системе текста носителями изобра-
зительности становятся все «уровни языка», все речевые
формы слова. В тексте выявляются собственно речевые
и образно-эстетические связи, определяющие глубинную
структуру повествования. Слово, словосочетание, предло-
жение и другие более крупные языковые единицы полу-
чают в художественной системе текста образно-эстетиче-
ское осмысление, реализуют свои структурно-семантиче-
ские связи и отношения.
Весь русский язык, по выражению Пушкина, «гиб-
кий и мощный в своих оборотах и средствах», нашел свое
та, в смысле простой копии. Я создавал (везде курсив автора.—
Л. Е.) портрет, но создавал его вследствие соображения, а не
воображения» (Гоголь Н. В. Поли. собр. соч.: В 14 т. М., 1937—
1952. Т. 6. С. 213-214. В последующем все ссылки даны на это
издание).
40
поглощение д. творческой практике Гоголя, сумевшей)
оценить все оттенки его- грамматического строя п вопло-
тить в художественной системе своего творчества.
В художественной прозе Гоголя самые разнообраз-
ные детали грамматической формы слова становятся но-
сителями изобразительности". Так, в повести «Шинель»
в главах, завершающих печальный рассказ о судьбе Ака-
кия Акакиевича Башмачкина, появляется некое «значи-
тельное лицо», перифрастическое обоэпачепие какого-то
начальника. Это «значительное лицо», ставшее сравни-
тельно недавно значительным лицом и поэтому особенно
остро ощущающее всю полноту своей власти, присутству-
ет в тексте как намеренно обобщенное, скрытое наимено-
вание лица мужского пола, поэтому в тексте оно и фигу-
рирует по преимуществу в категориях мужского грамма-
тического рода. Мужскую природу «значительного лица»
выявляют и местоименные замены, и формы согласова-
ния. Ведущий компонент словосочетания «значительное
лицо» слово лицо как бы изменяет свою грамматическую
форму, указывая на «категорию пола» лица, которое под-
разумевается: «Нужно знать, что одно значительное лицо,
недавно сделался значительным лицом <...> Вдруг почув-
ствовал значительное лицо, что его ухватил кто-то весьма
крепко за воротник <...> Но ужас значительного лица
превзошел все границы, когда он увидел, что рот мертве-
ца покривился <...> Бедное значительное лицо чуть не
умер» (Шинель, ч. I—II). Замена и сочетание родовых
характеристик среднего и мужского рода служат в тексте
и одним из средств сатирического обличения. Ведь «зна-
чительное лицо» выступает в сценах с Башмачкиным
только как обозначение «служебных отношений», как но-
ситель определенной должности в служебной иерархии,
служебного начальственного места, «кресла», которое за-
нимает это именно лицо. Отсюда и вкрапление харак-
теристик среднего грамматического рода, которое мы и
находим в тексте.
В творческой практике Гоголя все грамматические и
лексико-грамматические категории, как уже говорилось
17 «Изучение изменчивой стилистической роли грамматических
форм ведет нас к микроэлементам, образующим стиль, в глубь
языка самого по себе и в мастерскую художественного слова.
При этом появляются соответствия и знаки равенства там, где
грамматика не устанавливала ни соответствий, ни знаков ра-
венства» {Чичерин А. В. Идеи и стиль. М.: Сов. писатель, 1968.
С. 61).
41
выше, становились средством изобразительности. Катего-
рия грамматического рода в ряде случаев получает экс-
прессивную нагрузку. В «Мертвых душах», например, по-
является эпизодическая фигура, земский заседатель Дро-
бяжкин, большой любитель слабого пола. В тексте он*
получает соответствующий его полу мужской род, но по-
лучает и условное обозначение по занимаемому офици-
альному положению — «земская полиция», которую он и
представляет в своем лице. Вот это изменение родовой ха-
рактеристики слова, отражающее одновременно служеб-
ное положение и категорию пола, определяющую грамма-
тический род существительного, и становится экспрессив-
ным центром текста, организующим всю систему
образности: «....земская полиция, то есть заседатель Дро-
бяжкин, повадился уж чересчур часто ездить в их дерев-
ню, что в иных случаях стоит повальной горячки, а при-
чина-де та, что земская полиция, имея кое-какие слабости
со стороны сердечной, приглядывался па баб и деревен-
ских девок <...> Земская полиция был-де блудлив, как
кошка, и что уже не раз они его оберегали и один раз
даже выгнали нагишом из какой-то избы, куда он было
з'абрался. Конечно, земская полиция достоин был наказа-
ния за сердечные слабости...» (М. д., 1, IX). Ссылка на чу-
жую, постороннюю для рассказчика речь свидетеля, оче-
видца выявляется не только в разговорной постпозитив-
ной частице («причина-де..., был-де...»), но и во всей ор-
ганизации текста.
Замена родовой характеристики слова на несоответ-
ствующую «категории иола» обозначаемого существа
встречается еще несколько раз. Так, за обеденным сто-
лом у Собакевича Чичиков встречается с незаметным,
бессловесным существом женского пола, которое в тексте
представлено почти на грани «незначительного предме-
та»: «На четвертое место явилась очень скоро, трудно
сказать утвердительно, кто такая, дама или девица, род-
ственница, домоводка или просто проживающая в доме:
что-то без чепца, около тридцати лет, в пестром платке»
(М. д, 1, V).
Гоголевский текст ориентирован па два прочтения:
это что-то вносит два плана в понимание всей ситуации,
так как в условиях контекста может обозначать неоду-
шевленный предмет. Тем более что рассказчик несколько
ниже говорит о таких «объектах изображения»: «Есть
лица, которые существуют на свете не как предмет, а как
посторонние крапинки или пятнышки на предмете» (Там
42
Но то же что-то 'может выступать в значении не-
определенного обстоятельства почему-то. Вот эта эстети-
чески рассчитанная двупланность придает ироническую
окраску повествованию и обнаруживает грустно-насмеш-
ливый взгляд автора
Родовая характеристика в смене принадлежности к
женскому и мужскому роду может служить основой узна-
вания. Особенную эстетическую значимость в общей ху-
дожественной системе текста этот прием приобретает тог-
да, когда родовая характеристика ьервоначалыюго на-
именования не соответствует полу.
Именно этот прием постепенного узнавания, выявля-
ющегося в смене родовых характеристик, мы находим в
«Мертвых душах». Чичиков увидел в усадьбе Плюшкина
«какую-то фигуру, которая начала вздорить с мужиком,
приехавшим на телеге, ^олго он не мог распознать, како-
го пола была фигура: баба или мужик». Узнавание идет
по всем законам комического. Сначала Чичиков пытается
определить пол фигуры по платью, но «платье на ней было
совершенно неопределенное, похожее очень на женский
капот; на голове колпак, какой носят деревенские дворо-
вые бабы; только один голос показался ему несколько
сиплым для женщины <...> По висевшим у ней за поясом
ключам и по тому, что она бранила мужика довольно по-
носными словами, Чичиков заключил, что это, верно,
ключница». Именно в виде ключницы и фигурирует этот
персонаж в ближайших сценах: «...прервала ключница...
сказала ключница... взошла та же самая ключница, кото-
рую встретил он на дворе». Но — сигнал изменения си-
туации — отделяет первый эпизод приема от следующего:
«Но тут увидел Он, что это был скорее ключник, чем
ключница: ключница, по крайней мере, не бреет бороды,
а этот, напротив того, брил, и, казалось, довольно редко,
потому что весь подбородок с нижней частью щеки по-
” Об употребительности в художественной прозе Гоголя неопре-
деленных наречий и местоимений, а также о таких «словах-
сигналах» ситуации, как вдруг, странно, странный, писал
В. В. Виноградов: «От этой неопределенности обозначений как
характерного приема описания движений и чувств, а также
введения новых событий возрастает комическое своеобразие
действий, и оно нередко обнажается присоединением к форме
глагола или существительного определяющего признака: стран-
но, странный» (Виноградов В. В. Эволюция русского натура-
лизма//Поэтика... С. 114. В главе «К морфологии натурального
стиля...» той же работы см. наблюдения над функциями тех
же форм в стилистике Ф. М. Достоевского).
ходил у него на скребницу из железной проволоки, какою
чистят на конюшне лошадей». Здесь наступает следую-
щий эпизод в «узнавании»:
«— Что ж барин? У себя, что ли?
— Здесь хозяин,— сказал ключник.
— Где же? — повторил Чичиков.
— Что, батюшка, слепы-то, что ли? — сказал ключ-
ник,—Эхва! А вить хозяин-то я!». И заключительная
часть этого приема: «Словом, если бы Чичиков встретил
его, так принаряженного, где-нибудь у церковных дверей,
то, вероятно, дал бы ему медный грош. Ибо к чести героя
нашего нужно сказать, что сердце у него было сострада-
тельно и он не мог никак удержаться, чтобы не подать
бедному человеку медного гроша. Но пред ним стоял не
нищий, пред, ним стоял помещик. У этого помещика была
тысяча с лищком душ...». Таким образом, колебания в
грамматическом роде (фигура... ключница... ключник)
только первое, начальное звено в длинной цепи «узнава-
ний»: фигура... ключница... ключник... бедный человек...
помещик... «У этого помещика была тысяча с лишком
душ». Колебания в родовой принадлежности раскрывают
суть приема «узнавания» по мере приближения, разгля-
дывания и размышлений. Полная реализация приема
дана в ироническом повествовании, где комические сомне-
ния и колебания («Ой, баба! — подумал он про себя и тут
же прибавил: — Ой, нет!») сменяются сатирическим опи-
санием.
Эстетическая функция всех оттенков грамматической
формы слова в художественной прозе Гоголя, пожалуй,
с особенной отчетливостью прослеживается на глаголь-
ных формах. Все возможности обыгрывания слова в пе-
реплетении и взаимопересечении значений мы находим
в авторском повествовании. Грамматическая категория
лица в этом смысле представляет самые широкие возмож-
ности. Движение от определенного лица к обобщенному
и неопределенному выявляется во всем разнообразии от-
тенков. Разумеется, замена определенного лица неопре-
деленным производится только в эстетически значимых
положениях.
В повести «Шинель» в сцене ограбления Акакия Ака-
киевича Башмачкина весь текст участвует в создании си-
туации, определяющейся нагнетанием «сигналов отчуж-
дения». Одинокий человек на темной, пустынной, кажу-
щейся бесконечной площади очнулся только тогда, когда
«увидел вдруг, что перед ним стоят почти перед носом
44
,;акие-то люди с усами, какие именно, уж этого он не мог
1.а;ке различить». Отсюда и все действия этих «неопре-
деленных» людей представлены как неопределенно-лич-1
ные: «Акакий Акакиевич чувствовал только, как сняли
с него шинель, дали ему пинка коленом, и он упал на-
взничь в снег и ничего уж больше не чувствовал».
Все лица, окружавшие Акакия Акакиевича в департа-
менте, представлены тоже как слитное неопределенное
множество. Это какие-то они, не пришедшие ему вовремя
па помощь: «Акакия Акакиевича свезли и похоронили
<„.> Таким образом узнали в департаменте о смерти Ака-1
кия Акакиевича...».
Неопределенность лица в авторском повествовании
обычно сближается с обобщенностью лица деятеля. Эти
неопределенно-обобщенные они обозначают неопределен-
ное и безликое множество, они не расчленены, потому
что и автору и персонажу не известны как индивидуаль-
ности, да и в развитии сюжетного действия они появля-
ются как неопределенное множество, и только тогда, ког-
да уже ничему помочь нельзя: «Протекли четыре дня,
п его запертая комната ни разу не отворялась; наконец,
прошла неделя, и комната также была заперта. Броси-
лись к дверям, начали звать его, но никакого не было от-
вета; наконец, выломали дверь и нашли бездыханный
труп его с перерезанным горлом» (Невск. пр.).
Показательно, что ход времени, течение окружающей
жизни очень точно отмечаются повествователем: «Протек-,
ли четыре дня... наконец, прошла неделя...». Присоедини-
тельное и, подключающее к течению времени и движение
жизни, обнаруживает контраст между ходом времени и
неподвижностью. Повествователь как бы становится xpo-i
никером, отмечающим все события в определенном поряд-,
ке и времени. И место действия, где произошла трагедия,
вполне определенно называется повествователем, а вол
люди — неопределенное, безликое множество: «броси-
лись... начали звать его... выломали дверь... нашли.
труп...».
Неопределенность лица деятеля в ироническом пове-
ствовании эстетически значима на фоне других глаголь-
ных форм и служит средством выявления позиции рас-
сказчика. Так, в «Шипели» после смерти Акакия Акакие-
вича и появления «мертвеца-мстителя» в полиции произо-
шел переполох, и было получено распоряжение «поймать
мертвеца, во что бы то ни стало, живого или мертвого,
и наказать его. в пример другим, жесточайшим образом,
45
и в том едва было даже не успели» (Шинель). Здесь
«поймать... и наказать», как известно, обозначают безо-
говорочный приказ, который и не должен иметь связи с
определенным лицом, эго безличное «повеление», а «и в
том едва было даже не успели» — авторская ирония, от-
носящаяся и к формуле «живого или мертвого», употреб-
ленной по отношению к мертвецу, «который чихнул так
сильно, что совершенно забрызгал им всем троим (бу-
дочникам.— Л. Е.) глаза».
Изображение действий, производимых неопределенны-
ми лицами, обычно окрашивает текст иронически. Вот,
папример, как построено повествование о смерти проку-
рора в «Мертвых душах»: «...послали за доктором, чтобы,
пустить кровь, по увидели, что прокурор был уже одно
бездушное тело. Тогда только с соболезнованием узнали,
что у покойника была, точно, душа, хотя он по скромно-
сти своей никогда ее не показывал» (М. д., 1, X). И в
этом тексте все действующие лица даны как неопределенч
ное множество. Единственное названное лицо деятеля —
покойник. Ироническая концовка, удостоверяющая, что у
прокурора все-таки была душа (точно), дополняет
эстетически значимую нерасчлененность на лица окруже-
ния прокурора («...послали... увидели... узнали»), В этом
ироническом описании душа прокурора подается на уров-
не вполне реального предмета, годного для «обозре-
ния и удостоверения в наличности». Почти все появления
прокурора в тексте «Мертвых душ» обозначены упомина-
ниями о главной его достопримечательности — густых
бровях. А вот душа как бы отсутствовала. И только пос-
ле смерти прокурора «узнали, что у покойника была, точ-
но, дуЩа...».
Неопределенность лица может и не иметь дополни^
тельного эмоциональпо-квалифицирующего оттенка. Так,
например, в «Тарасе Бульбе» есть описание приготовле-
ний к походу. Место действия и действующие лица —
Сечь, деятели, «совершатели всех действий» — та же Сечь,
«товарищество», совокупность лиц, поэтому и выступают
они как нерасчлененпое множество. Все приготовления к
походу представлены как цепочка разнообразных необхо-
димых действий, совершаемых всеми, поэтому лицо дея-
телей — обобщенно-неопределенное»: «Там обшивали до-
сками челн; там, переворотивши его вверх дном, конопа-
тили и смолили-, там увязывали к бокам других челнов,
по казацкому обычаю, связки длинных камьппей, чтобы
не затопило челнов морскою волною; там, далеко прочь,
46
по всему прибрежью разложили, КоСтрЫ й Кипятили й
медных казанах смолу на заливанье судов» (Т.Б., IV).
В этом тексте расчленено и определено только про-
странство: каждое там, повторяющееся наречие, указыва-
ет место, где производились эти действия всем «това-
риществом». Лексические повторы усиливают, выявляют
перечислительность процессов, обнимающих одно главное
действие — приготовление к походу, совершаемое всем
войском.
Оппозиция неопределенное лицо // определенное лицо
деятеля обрастает дополнительными, чаще — ирониче-
скими смыслами. Так, старший сын Тараса Бульбы,
Остап, отданный в Киевскую академию для обучения
всем премудростям науки, проявляет «свое лицо» в про-
тивоположность неопределенному лицу, в котором объеди-
нено все начальство академии. В тексте эта оппозиция по-
лучает несомненное ироническое осмысление: «Старший,
Остап, начал с того свое поприще, что в первый год еще
бежал. Его возвратили, высекли страшно и засадили за
книгу. Четыре раза закапывал он свой букварь в землю,
и четыре раза, отодравши его бесчеловечно, покупали ему
новый» (Т.Б., II). Всем действиям Остапа («...бежал ...
закапывал...») противопоставлены совершенно определен-
ные действия администрации академии, совершаемые об-
общенно-неопределенными лицами («...возвратили, вы-
секли страшно и засадили... отодравши... бесчеловечно,
покупали...»).
В художественной прозе и драматургии Гоголя мы на-
ходим все степени неопределенности лица, вплоть до его
полного устранения. В этом случае действия представля-
ются возникающими как бы без участия какого бы то ни
было деятеля. Подобные конструкции обычны в описа-
ниях природы: светает, холодает, темнеет и им подобные.
Круг этих форм невелик. Но и здесь Гоголь находит
средства углубить эстетическое наполнение оппозиции
личности Ц безличности. Устранение лица деятеля цак бы
остается на грани реальности. Причем есть примеры,
составляющие и в этом случае своеобразные пары. Так,
движение от устраненного лица к определенному лицу
деятеля мы находим в таком, например, описании лунного
сияния: «Тихо светит по всему миру. То месяц показался
из-за горы» (Страшная месть). И «обратный ход» в той
же повести. Пан Данило, уцепившись за сук, поднялся к
окнам замка колдуна-тестя и заглянул внутрь: «...в ком-
нате и свечи нет, а светит. По стенам чудные знаки».
47
Если в первой конструкции безличность призрачна,
источник света появляется в следующем предложении, то
во второй чудесная природа света так и остается делом
колдовских чар.
Обозначение деятеля неопределенным местоимением,
намеренная таинственность, которая разъясняется в по-
следующем,— прием «узнавания», например, при прибли-
жении или всматривании. Вот этим движением от неопре-
деленного наименования к определенному передается
пространство в его линейном развертывании: «Вот отво-
рилась без скрипа дверь. Входит кто-то в красном жупа-
не и прямо к столу, накрытому белой скатертью. Это он,
это тестъ\» (Страшная месть, IV).
В художественном творчестве Гоголя, и в прозе, и в
драматургии, нашли широкое распространение глаголь-
ные формы со значением предельной пассивности «деяте-
ля». Грамматическая «безличность», как известно, пере-
дает главным образом не отсутствие лица деятеля, а лишь
отсутствие его активности. В этом случае все действия со-
вершаются как бы вопреки желаниям, воле и деятельно-
сти лица. Субъект становится объектом различных со-
стояний, «посетивших его». Как будто деятель — лицо,
испытывающее все эти действия, а не совершаю-
щее их. Подобные конструкции привычны в современном
русском литературном языке и получили широчайшее
распространение в языке художественной литературы.
В прозе Гоголя они стали средством выражения разнооб-
разных психофизических состояний субъекта, например:
«Ему (Тентетникову,— Л. Е.) не гулялось, не ходилось,
не хотелось даже подняться вверх, не хотелось даже
растворять окна затем, чтобы забрать свежего воздуха в
комнату...» (М. д., 2, I).
Акакию Акакиевичу Башмачкину, носившему в мыс-
лях своих «вечную идею» новой шинели, сначала было
«несколько трудно привыкать к таким ограничениям, но
потом как-то привыклось и пошло на лад; даже оп совер-
шенно приучился голодать по вечерам...» (Шинель).
Постфикс -ся не только передает действия, совершаемые
как бы против воли (или помимо целенаправленной дея-
тельности субъекта), но и представляет действия как бы
совершающимися самопроизвольно, «сами собой». Так,
Акакий Акакиевич Башмачкип, одержимый одпой
мыслью, одним поглощающим все его существо желанием,
«наведывался к Петровичу, чтобы поговорить о шинели,
где лучше купить сукна, и какого цвета, и в какую цепу,
48
л хотя несколько озабоченный, но нсегда довольный воэ-
иращался домой, помышляя, что наконец придет же вре-
мя когда все это купится и когда шинель будет сделана»
(Шинель).
Эстетическое осмысление получают все стороны грам-
матической формы слова, в том числе и видо-временная
соотносительность. Прошедшее однократное и настоящее
постоянное соотнесены во взаимосвязи лексико-семанти-
ческой и лексико-грамматической: «Дамы ухватились за
руки, поцеловались и вскрикнули, как вскрикивают ин-
ститутки, встретившиеся после выпуска...» (М. д., 1, IX).
Перфектное значение прошедшего времени оттеняется на
фоне настоящего постоянного: «Сказавши это, она запих-
нула ей за спину подушку, па которой был вышит
шерстью рыцарь таким образом, как их всегда выши-
вают по канве: нос вышел лестницею, а губы четверо-
угольником» (Там же).
Для поэтики Гоголя характерно то, что образно-эсте-
тическое осмысление грамматической формы слова от-
нюдь не самоцель. Все эти подробности присутствуют в
художественной системе текста, в переплетении семанти-
ческих связей, в напряженном образно-эстетическом раз-
вертывании вех повествования: «потребовавши самый лег-
кий ужин, состоявший только в поросенке, он тот же час
разделся и, забравшись под одеяло, заснул сильно, крепко,
заснул чудным образом, как спят одни только те счаст-
ливцы, которые не ведают ни геморроя, ни блох, ни слиш-
ком сильных умственных способностей» (М. д., 1, VI).
Видо-временная соотносительность (...заснул... как спят...)
здесь лишь одно звено в общей художественной
системе текста, где, конечно, ряд однородных членов, объ-
единяющий «слишком сильные умственные способности»
с блохами и геморроем, несет основную ироническую на-
грузку, определяет общую эмоциональную окраску тек-
ста. А грамматическая видо-временная корреляция вно-
сит свой вклад, поддерживает ведущий образ, действуя
по правилу «подкрепления доминанты». Видо-временная
соотносительность как образный центр текста выступает
тогда, когда текст осложнен сопоставлением. Причем гла-
гольные формы соотносятся следующим образом: в субъ-
екте сопоставления (в том, что сравнивается) все дейст-
вия даны в плане прошедшего изобразительного, не огра-
ниченного пи временем, ни результатом, а в объекте
сопоставления (в том, с чём сравнивается) все действия
располагаются в плане «настоящего живого представле-
49
ния»: «С середины потолка висела люстра в холстинном
мешке, от пыли сделавшаяся похожею на шелковый ко-
кон, в котором сидит червяк» (М. д., 1, VI). Действия
«червяка» как бы длятся и в настоящем «момента речи».
Особенно изобразителен этот прием видо-временной
корреляции тогда, когда сопоставление развернуто в це-
лую картину, поданную в массе живописных подробно-
стей. Вот, например, как «обрисованы» глаза Плюшкина:
«...маленькие глазки еще не потухнули и бегали из-под
высоко выросших бровей, как мыши, когда, высунувши
из темных нор остренькие морды, насторожа уши и мор-
гая усом, они высматривают, не затаился ли где
кот или шалун мальчишка, и нюхают подозрительно
самый воздух» (М. д., 1, VI). Настоящее живого представ-
ления предельно приближено к читателю, и в то же вре-
мя продолжено в прошлое и будущее, потому что все
действия мышей (всегда так «высматривают... и нюхают
подозрительно самый воздух») подаются как извечно им
принадлежащие.
Видо-временные отношения в художественной системе
Гоголя выявляются в общей структуре текста повество-
вателя, особенно в его «отступлениях». *
План «настоящего живого представления» образует
картину современной автору жизни в ее «закономерно-
стях и тенденциях», так, например, построено рассужде-
ние повествователя о «толстых и тоненьких»: «Увы! тол-
стые умеют лучше на этом свете обделывать дела свои,
нежели тоненькие. Тоненькие служат больше по особым
поручениям или только числятся и виляют туда и сюда;
их существование как-то слишком легко, воздушно и сов-
сем ненадежно. Толстые же никогда не занимают косвен-
ных мест, а все прямые, и уж если сядут где, то сядут
надежно и крепко, так что скорей место затрещит и уг-
нетен под пими, а уж они не слетят» (М. д., 1, I).
Здесь план настоящего-будущего («...умеют... обделы-
вать... служат... числятся и виляют... не занимают... ся-
дут... сядут... затрещит и угнется... не слетят») бесконеч-
но продолжен и в прошлое. Весь текст — картина
типическая, обнажающая известные отношения, да еще
включенная в систему противопоставлений: толстые // то-
ненькие.
Образно-эстетическое использование во всем богатстве
своих форм получает глагол. Разнообразные изобрази-
тельные возможности получает «категория персонально-
сти», т. е. категория грамматического лица. В том числе
это и взаимозамена или «совмещение» разных лиц как
следствие пересечения разных аспектов изображения. Го-
ворящий не только обращает свою речь к слушателю и
собеседнику (ты), но и говорит о нем как об отсутствую-
щем (он, она) и в то же время объединяет себя и собе-
седника в одном лице (мы).
Анна Андреевна и Марья Антоновна, встревоженные
п заинтригованные происшествиями, стоят у окна и ждут
городничего или кого-нибудь другого, кто бы рассказал
пм о приезжем. И в это же самое время, переругиваясь,
обсуждают свои костюмы. «Анна Андреевна: «Ну
вот, уж целый час дожидаемся, а все ты с своим глупым
жеманством: совершенно оделась, нот еще нужно копать-
ся... Было бы не слушать ее вовсе. Экая досада! Как на-
рочно, ни души! как будто бы вымерло все» <...>
Марья Ант. Ах, маменька, вам нейдет палевое!
Липа А н д р. Мне палевое нейдет?
Марья Ант. Нейдет, я что угодно даю, нейдет: для
этого нужно, чтобы глаза были совсем темные.
Анна Андр. Вот хорошо! а у меня глаза разве не
темные? самые темные. Какой вздор говорит! Как же не
темные, когда я и гадаю про себя всегда на трефовую
даму?» (Ревизор, д. III, явл. III); «Анна Андр. <...>
Ну что ты нашла такого удивительного? Ну что тебе
вздумалось? Право, как дитя какое-нибудь трехлетнее.
Не похоже, не похоже, совершенно не похоже на то,
чтобы ей было восемнадцать лет» (д. IV, явл. ZXIV).
В мечтах Сквозника-Дмухановского конкретное я заме-
няется на обобщенное ты, включающее в себя я + ты+
+ все: «Городничий. Ведь оно, как ты думаешь,
Анпа Андреевна, теперь можно большой чин зашибить
<...> со временем и в генералы влезешь <...> поедешь
куда-нибудь <...> И там на станциях никому не дадут,
всё дожидается: все эти титулярные, капитаны, город-
ничие, а ты себе и в ус не дуешь. Обедаешь где-нибудь
у губернатора, а там — стой, городничий! Хе, хе, хе!..»
(д. V, явл. I).
Категория лица в ее конкретных употреблениях, ре-
ализациях может занимать центральное положение в си-
стеме текста, выступая в качестве основной силы, форми-
рующей текст, определяющей его семантико-синтаксиче-
скую организацию. Корреляция форм категории лица
обнаруживает не только смену действующих субъектов,
но и смену «точек зрения», аспектов повествования. Осо-
бенно отчетливо эта выявляющая роль категории лица
51
видна в организации реплик. Говорящий то выступает от
собственного лица, то от имени какого-то обобщенного
субъекта, то как наблюдатель со стороны.
В качестве примера проанализируем две реплики Го-
родничего, который после «сцены вранья» размышляет о
случившемся и о возможных последствиях: «И не рад,
что напоил. Ну что, если хоть одна половина из того, что
он говорил, правда? (Задумывается.) Да как же и не
быть правде? Подгулявши, человек все несет наружу:
что на сердце, то и на языке. Конечно, прилгнул немно-
го; да ведь не прилгнувши не говорится никакая речь.
С министрами играет и во дворец ездит... Так вот, право,
чем больше думаешь... черт его знает, не знаешь, что и
делается в голове; просто как будто или стоишь на какой-
нибудь колокольне, или тебя хотят повесить» (Ревизор,
д. III, явл. IX). Здесь Сквозник-Дмухановский выступа-
ет сначала от собственного имени, центральная часть реп-
лики — рассуждения, по мысли городничего, с точки зре-
ния «человека вообще», в данном случае имеющие
касательство и к самому говорящему, поскольку «ничто
человеческое» и ему не чуждо. От абстрактных рассужде-
ний Городничий переходит к «личности» Хлестакова,
а потом снова возвращается к собственному я, осознавае-
мому слитно с ты, обобщенным лицом потенциального со-
беседника.
Повторы
в художественной системе текста
Многократное повторение образа, речевого оборота —
прием, типичный для поэтики Гоголя. По разнообразию
и «разнонаправленности» повторов Гоголь, очевидно, не-
превзойденный мастер. А. Белый очень точно уловил эту
«многофункциональность» повторов у Гоголя: «...рече-
вая ткань Гоголя — слияние ассонансов, аллитераций,
градация переливающихся друг в друга звуковых групп;
в основу положен повтор, связывающий напев с изобра-
зительностью, ибо звуковой ^повтор (везде курсив авто-
ра.— Л. Е.) ведет к повтору слов, или группы их; а фи-
гура повтора <...> лежит в основе других фигур Гоголя
<...> повтор повтору рознь; повтор слова, группы слов,
порядка их повторного появления,— в пределах предло-
жения, в ряде их; иовтор-рефрен (в пределах повести),
повтор-стереотип (в пределах всего творчества Гоголя),
повтор-жест, повтор-параллелизм, повтор простой, повтор,
52
сплетенный с другими фигурами речи,— эти виды гого-
левских повторов еще не изучены <...> Повтор у Гоголя —
стилевой фоп, данный в росписи других фигур речи...» 19.
Повторы-возвращения выполняют особенно важную
эстетическую функцию в повествовании с позиций персо-
нажа 2“. Исчез нос с лица коллежского асессора Ковале-
ва. Событие, несомненно, чрезвычайное, и Гоголь несколь-
ко раз заставляет читателя убедиться, что носа на месте,
действительно, нет. Сначала сам Ковалев «хотел взгля-
нуть на прыщик, который вчерашнего вечера вскочил у
него на носу; но к величайшему изумлению увидел, что у
него вместо носа совершенно гладкое место! Испугав-
шись, Ковалев велел подать воды и протер полотенцем
глаза: точно, нет носа! Он начал щупать рукою, чтобы
узнать: не спит ли он? кажется, не спит. Коллежский
асессор Ковалев вскочил с кровати, встряхнулся: нет
носа!..» (Нос). Вся эта система повторов-возвращений
окрашена интонационно, именно восприятие происшест-
вия самим персонажем выявляется в интонации все воз-
растающего удивления и страха перед случившимся.
В системе восклицаний (! ... ! ... ? ... !..), вопросов и
восклицаний в сочетании с умолчаниями раскрывается
напряженное «драматическое: нарастание». Рассказчик
еще и еще раз, через свидетельства разных лиц, под-
тверждает действительность необычайного происшествия.
Причем повторяется также и то, что вместо носа —
«место совершенно гладкое, как будто бы только что вы-
печенный блин. Да, до невероятности ровное!». А нос, по
словам самого Ковалева, «ведь пропал ни за что, ни про
что, пропал даром, ни за грош!». Исчезновение носа на
памяти читателя, но оно как бы проверяется многократ-
но; в кондитерской майор Ковалев робко подошел к зер-
калу и взглянул в него: «Черт знает что, какая дрянь! —
произнес он, плюнувши...— Хотя бы уже что-нибудь было
вместо носа, а то ничего!.. <...> Он вспомнил, что у него
” Белый Андрей. Мастерство Гоголя. С. 228—236.
го Ту же черту мы находим и в поэтике А. С. Пушкина, который
заставляет читателя многократно услышать бой часов в то вре-
мя, когда Германн находится в спальне старой графини. П р и-
е м существовал и до Гоголя, по степень остраненности была
совсем другой. У Пушкина Германн со страхом и нетерпением
ждет приезда старой графипи. Мысль узнать три верных карты
поглощает все внимание и подчиняет себе все его действия и
поступки. От исполнения мечты его отделяет, казалось бы,
только время, течение, движение которого им машинально, но
тщательно фиксируется.
вместо иоса совершенно нет ничего, и слезы выдавились
из глаз его» (Нос). «Водворение», восстановление носа
на его законном месте тоже проходит несколько проверок.
Перед читателем повторяются сцены, подтверждающие
наличие носа на его прежнем месте: «...вдруг тот самый
нос, который разъезжал в чине статского советника и на-
делал столько шуму в городе, очутился как ни в чем не
бывало вновь на своем месте, то есть именно между двух
щек майора Ковалева <...> Проснувшись и нечаянно
взглянув в зеркало, видит оп: нос! хвать рукою — точно
нос! <...> Он приказал тот же час дать себе умыться и,
умываясь, взглянул еще раз в зеркало: нос. Вытираясь
утиральником, он опять взглянул в зеркало: пос!». Кова-
лев проверяет, действительно ли нос на своем месте, сви-
детельствами других действующих лиц — лакея Ивана и
цирюльника Ивана Яковлевича. В кондитерской, куда
он раньше приезжал без носа, Ковалев закричал: «Маль-
чик, чашку шоколаду!» — а сам в ту же минуту к зерка-
лу: есть нос!»; «Проходя через приемную, он взглянул
в зеркало: есть нос. <...> И нос тоже, как ни в чем не
бывало, сидел на его лице, не показывая даже вида, что
отлучался по сторонам» (Нос).
Лексический повтор как прием усиливает изобра-
зительные возможности повторяющегося слова, акценти-
рует внимание читателя именно на этом приеме и на этом
слове. Повторяющиеся глаголы передают нагнетание на-
пряженности действия, выраженного глаголом. Так, в ав-
торском рассказе о жизни художника Чарткова после его
внезапного обогащения многократно повторяется глагол
требовали. Ускользнувший от прежних тревог безде-
нежья, Чартков оказался в теспых рамках всевозможных
«требований»: «Дамы требовали, чтобы преимущественно
только душа и характер изображались в портретах, чтобы
остального иногда вовсе не придерживаться, округлить
все углы, облегчить все изъянцы и даже, если можно,
избежать их вовсе <...> Мужчины тоже были ничем не
лучше дам. Один требовал себя изобразить в сильном,
энергическом повороте головы; другой с поднятыми квер-
ху вдохновенными глазами; гвардейский поручик требо-
вал непременно, чтобы в глазах виден был Марс; граж-
данский сановник норовил так, чтобы побольше было
прямоты, благородства в лице и чтобы рука оперлась на
книгу, на которой бы четкими словами было написано:
„всегда стоял за правду"» (Портрет). Все эти «требования»
поданы, как это обычно для Гоголя, в массе подробностей,
54
раскрывающих не только требуемые позы, выражений
лиц и глаз, но даже и символику этих поз и выраже-
ний. Все хотят, требуют побольше «прямоты, благородст-
ва», красоты и поменьше правды, реальности. В этот ряд
повторяющихся форм «требовали... требовал... требовал...»
включен разговорно-просторечный глагол — норовил со
значением 'стремился попасть обходным путем’. Но имен-
но этот-то глагол и раскрывает подлинный смысл всего
ряда форм с общим значением «требовали». Все эти людп
именно норовили, т. е. ‘стремились попасть не по заслу-
гам и объективной правде, а обходными путями’, в число
правдивых, честных и благородных (или прекрасных и
одухотворенных).
Лексические повторы выполняют и сюжетообразую-
щую роль. Особенно заметна эта функция повторов в
«Портрете». В начальных фрагментах повести, в речи про-
фессора, учителя Чарткова, по существу, определен весь
дальнейший путь умирания Таланта. Все опасения оправ-
дываются, предостережения сбываются. Все то, что пода-
ется в отрицательных конструкциях, потом выступает
как исполнившееся пророчество, как наступившая реаль-
ность: «.Смотри, чтоб из тебя не вышел модный живопи-
сец <...> Оно заманчиво, можно пуститься писать модные
картинки, портретики за деньги. Да ведь на этом губит-
ся, а не развертывается талант. Терпи. Обдумывай вся-
кую работу, брось щегольство — пусть их набирают дру-
гие деньги». Вся центральная часть — картина успехов
Чарткова, которая дана хотя и не в тех же формах речи,
по как сбывшееся «отрицательное предсказание»: «Ка-
залось, весь город хотел у него писаться. У дверей поми-
нутно раздавался звонок <...> Со всех сторон только тре-
бовали, чтоб было хорошо и скоро. Художник увидел, что
оканчивать решительно было невозможно, что все нужно
было заменить ловкостью и быстрой бойкостью кисти».
И наконец, закономерное завершение этой темы гибели
таланта и возникновения еще одного «модного живопис-
ца»: «Скоро он уже сам начал дивиться чудной быстроте
и бойкости своей кисти. А писавшиеся, само собою разу-
меется, были в восторге и провозглашали его гением.
Чартков сделался модным живописцем во всех отно-
шениях» (Портрет). Таким образом, предостережение:
«Смотри, чтоб из тебя не вышел модный живописец»,—
реализуется в утвердительной конструкции: «Чартков
сделался модным живописцем во всех отношениях». Си-
стема «внутренних» повторов еще больше связывает в
55
один «сюжетный узел» эти фрагменты текста: «Художник
увидел, что оканчивать решительно было невозможно,
что все нужно было заменить ловкостью и быстрой бой-
костью кисти» // «Скоро он уже сам начал дивиться чуд-
ной быстроте и бойкости своей кисти».
Лексический повтор, таким образом, выполняет роль
композиционную, тема, намеченная в начале повести,
возвращается и развертывается в последующем повест-
вовании. Повтор и очерчивает тот порочный круг, где
гибнет «в человеке человеческое».
Лексические повторы могут выполнять самые разно-
образные эстетические функции. Прежде всего передавать
усиленное нарастание напряженности действия или каче-
ства. Так, нагнетание невероятного, фантастического в
«Портрете» достигается тем, что многократно повторяет-
ся одно свойство глаз старика — они глядели. В портре-
те страшна была имеппо живая способность нарисован-
ных глаз — глядеть. В снах Чарткова портрет с живыми,
«глядящими» глазами оживает, но и явь была страшной,
так как глаза оставались живыми, они глядели. Повто-
ры-возвращения возникают как следствие возвращения
ситуации, вызывающей страх: портрет с живыми, «глядя-
щими» глазами. Причем повторяются и чисто бытовые
подробности ситуации: «Сердце стало сильнее колотиться
у бедного художника. С занявшимся от страха дыханьем
он ожидал, что вот-вот глянет к нему за ширмы старик.
И вот он глянул, точно, за ширмы с тем же бронзовым
лицом и поводя большими глазами» (Портрет, I).
Лексические повторы организуют все повествование,
передают возвращающуюся ситуацию и заставляют чита-
теля многократно пережить ужас художника Чарткова,
на которого и в снах и наяву глядят живые глаза то
ожившего старика, то портрета: «...художник вдруг за-
дрожал и побледнел; на него глядело, высунувшись из-
за поставленного холста, чье-то судорожно искаженное
лицо» (Портрет, I). Показательно, что художник видит
не портрет, уже знакомый, известный, а «чье-то су-
дорожно искаженное лицо», но первое и главное впечат-
ление — страшные «глядящие» глаза — присутствует и
здесь, еще усиленное и доведенное как бы до последних
пределов ужаса: «Два страшные глаза прямо вперились
в него, как бы готовясь сожрать его <...> все лицо почти
ожило и глаза взглянули на него так, что он наконец
вздрогнул и, попятившись назад, произнес изумленным
голосом: глядит, глядит человеческими глазами <...>
56
Это были живые, это были человеческие глаза! Ка-
залось, как будто они были вырезаны из живого
человека и вставлены сюда <...> Он опять подошел к
портрету с тем, чтобы рассмотреть эти чудные глаза,
п с ужасом заметил, что они точно глядят па него <...>
Глаза еще страшнее, еще значительнее вперились в
него и, казалось, не хотели ни на что другое гля-
деть, как только на него». Многократное повторение ужа-
сающих подробностей в действиях ожившего портрета уси-
ливается впечатлением непосредственной связи событий
сна с реальностью. Каждый раз все поступки старика на-
чинаются как бы в действительности, начальная граница
сна не отмечена; события сна продолжены в действитель-
ную реальность. Художник Чартков все кошмары пере-
живает на грани сновидения и яви. Все попытки отгоро-
диться, скрыться от портрета, от его всепроникающих
глаз, оказываются напрасными: «глядящие» глаза насти-
гают Чарткова, а впечатление реальности происходящего
во сне усиливается ощущениями, объединяющими соп и
явь; «Но страшная живость явленья не была похожа на
сон. Он видел, уже пробудившись, как старик ушел в
рамки, мелькнула даже пола его широкой одежды, и рука
его чувствовала ясно, что держала за минуту пред сим
какую-то тяжесть». Связь сна и яви показывается в мно-
гочисленных и разнообразных подробностях сновидений.
Чартков, закрыв портрет простыней, думает «о бедности
и жалкой судьбе художника, о тернистом пути, предстоя-
щем ему на этом свете». Сон воспроизводит все страшные
детали с точки зрения и с эмоциональных позиций ху-
дожника, причем ряды повторов расположены по восходя-
щей. 7/жас и волнение Чарткова нарастают, доходя до
пределов человеческих возможностей. После первого сна:
«Холодный пот облил его всего; сердце его билось так
сильно, как только можно было биться: грудь была так
стеснена, как будто хотело улететь из нее последнее ды-
хание...».
После второго сна возвращение к действительности со-
провождается все усиливающимся напряжением. В систе-
ме нагнетающих повторов выявляется градация напряже-
ния: «С биющимся на-разрыв сердцем ощупал он руками
вокруг себя <...> Биение сердца было сильно, почти страш-
но; тягость в груди невыносимая».
Но драматическая напряженность передается не толь-
ко в нарастании чувства и ощущения, т. е. пе только в
переживании персонажем ситуации, во и в усиливаю-
57
щейся, почти реальной связи яви и сна. Причем эта
связь сновидений с действительностью тоже передается в
ощущениях и чувствах того же персонажа, художника
Чарткова, который видит, как возвращается портрет в
мир вещей: «По мере припоминанья сон этот представ-
лялся в его воображеньи так тягостно-жив, что он даже
стал подозревать, точно ли это был сон и простой бред,
не было ли здесь чего-то другого, пе было ли это ви-
денье <...> он все-таки не мог совершенно увериться, что-
бы это был сон. Ему казалось, что среди сна был какой-
то страшный отрывок из действительности». Сны Чартко-
ва оказываются связанными многочисленными нитями с
действительностью. И не только в сознании существует
эта связь, но и в ощущениях: «...рука его чувствовала
только что лежавшую в себе тяжесть, как будто бы кто-
то за одну только минуту пред сим ее выхватил у него.
Ему казалось, что если бы он держал только по-
крепче сверток, он, верно, остался бы у него в руке и
после пробуждения».
Все сны объединяются и повтором-рефреном, который
как бы подводит итог и окольцовывает каждую фразу в
этих кошмарных видениях: «Неужели это был сон? —
сказал он, взявши себя обеими руками за голову; по
страшная живость явленья не была похожа на сон». Пос-
ле второго спа — та же уверенность, что это пе простой
сон: «Итак, это был тоже сон! Но сжатая рука чувствует
доныне, как будто бы в ней что-то было».
После третьего сна: «И это был также сон! Он вскочил
с постели, полоумный, обеспамятевший, и уже не мог
изъяснить, что это с ним делается: давленье ли кошмара
или домового, бред ли горячки, или живое виденье».
Система повторов-наращиваний, повторов-развитий
служит средством заразительности, приобщающим и чита-
теля к тем чувствам, которые объединяют героя и по-
вествователя. Все детали текста выполняют свою образ-
но-эстетическую нагрузку. Видо-временные отношения
разграничивают настоящее актуальное и прошедшее про-
тяженное, поданное как длящееся, не ограниченное ре-
зультатом: «Но сжатая рука чувствует доныне, как
будто бы в ней что-то было <...> И вот видит ясно, что
простыня начинает раскрываться, как будто бы под
нею барахтались руки и силились ее сбросить»; «Он сжи-
мал покрепче сверток свой в руке, дрожа всем телом за
пего, и вдруг услышал, что шаги вновь приближа-
ются к ширмам...». Достоверность, психологическая
5Я
реальность всего изображаемого передается психологиче-
ским правдоподобием фантастических положений. Все
действия ожившего портрета подаются в системе реаль-
ных, непосредственно совершающихся действий-движе-
ний, каждое из которых рисуется на фоне и в ряду
остальных. Так называемая «картина жестов» включает в
себя не только действия самого старика, но и движения
золота, которые тоже воспринимаются почти на уровне
«поступков». И при этом картина по утрачивает связей с
реальностью: «С раскрытым ртом и замершим дыханьем
смотрел он на этот страшный фантом высокого роста,
в какой-то широкой азиатской рясе и ждал, что станет он
делать». Повествование начинается с типичной «обстано-
вочной фразы» (В. В. Виноградов), за которой следует
собственно описание действий старика, вышедшего из
рам. Портрет действует на предельно высоком уровне
«правдоподобия», все движения старика расположены как
бы в одной плоскости, они Следуют в строгом порядке
«постепенности», вполне реальны и целенаправленны.
Ничего сверхъестественного, фантастического нет в этой
картине действий, напротив, все движения будничны и
привычны: «Старик сел почти у самых ног его и вслед
за тем что-то вытащил из-под складок своего широкого
платья. Это был мешок. Старик развязал его и, схватив-
ши за два конца, встряхнул...».
Ряд однородных членов последовательно передает все
действия старика. Вся картина внешне вполне объектив-
на, все формы сказуемых и грамматически однородны:
«сел... вытащил... развязал... встряхнул...», деепричастный
оборот передает дополнительный оттенок в этом рисунке
движений: «...схвативши за два конца, встряхнул...».
Действия-движения свертков с золотом переданы с той
же достоверностью и еще большей наглядностью: «...с глу-
хим звуком упали на пол тяжелые свертки в виде
длинных столбиков; каждый был завернут в синюю
бумагу, и на каждом было выставлено: „1000 червон-
пых“». Третье действующее лицо, художник Чартков,
как бы помимо своей воли включается активно в собы-
тия, и сразу же речь рассказчика становится еще более
динамичной, внутреннее напряжение нарастает и прояв-
ляется во всей деталях повествования, но при этом рас-
сказ по-прежнему включает в себя вполне реальные по-
дробности, уточняющие положение и «поведение» всех
участников сцены: «Тут заметил он" один сверток, отка-
тившийся подалее от других, у самой ножки его кровати,
в головах у него. Почти судорожно схватил он его и,
полный страха, смотрел, не заметит ли старик. Но старик
был, казалось, очень занят. Он собрал все свертки свои,
уложил их снова в мешок, и, не взглянувши на него,
ушел за ширмы. Сердце билось сильно у Чарткова, когда
он услышал, как раздавался по комнате шелест удаляв-
шихся шагов».
Все действия старика укладываются в один ряд форм
прошедшего результативного, ограниченного во времени:
«Старик был ... очень занят... собрал... уложил... не взгля-
нувши... ушел».
Действия Чарткова охватывают весь план прошедшего
времени: действия-движения быстрые, краткие, ограни-
ченные временем или результатом, располагаются на фоне
длящихся, развертывающихся во времени: Чартков «за-
метил... схватил... услышал» // он «смотрел... сердце би-
лось...». «Шелест удалявшихся шагов» старика дан с- по-
зиций и в восприятии Чарткова, поэтому — то же значе-
ние глагольной формы: длительное прошедшее, не
ограниченное результатом, протяженное во времени
(«раздавался по комнате шелест удалявшихся ша-
гов»). В плане будущего располагаются действия старика,
за которым со страхом и ожиданием наблюдает худож-
ник, с позиций которого ведется повествование: «...вот-
вот глянет к нему за ширмы старик <.„> что с т а-
н е т он делать <...> не заметит ли старик».
Повествование «на грани реальности», на рубеже яви
и сна использует изобразительные возможности слов-сиг-
налов ситуации. Многократно повторенные модальные
слова, союзы и частицы как бы помогают объединить в
сознании читателя события сна с реальной действитель-
ностью: «При всем том он все-таки не мог совершенно
увериться, чтобы это был сон. Ему казалось, что среди
сна был какой-то страшный отрывок из действительности.
Казалось, даже в самом взгляде и выражении старика
как будто что-то говорило, что он был у пего эту ночь,
рука его чувствовала только что лежавшую в себе тя-
жесть, как будто бы кто-то за одну только минуту пред
сим ее выхватил у него. Ему казалось, что если бы он
держал только покрепче сверток, он, верно, остался бы
у него в руке и после пробуждения».
Движения «портрета», действия золота, которое не
только блеснуло, но и «разворачивалось... блестело, зве-
нело тонко и глухо' и заворачивалось вновь», даны на
фоне неподвижности и безмолвности художника: «Чарт-
ков силился вскрикнуть — И Почувствовал, что у него нёт
голоса, силился пошевелиться, сделать какое-нибудь дви-
жение — не движутся члены <„.> Он хотел отойти, но
чувствовал, что ноги его как будто приросли к земле».
Средством связи сна и яви служит и то обстоятельст-
во, что в снах сохраняется реальность обстановки. Чарт-
ков видит свою собственную мастерскую. Причем реаль-
ная действительность в снах Чарткова присутствует не
только в виде обыденных предметов, привычной обстанов-
ки: «Свет месяца озарял комнату, заставляя выступать из
темных углов ее где холст, где гипсовую руку, где остав-
ленную на стуле драпировку, где панталоны, где нечи-
щенные сапоги»; но и в стремлении понять и объяснить
события сна и свои собственные действия в рамках сно-
видения: «Тут только заметил он, что не лежит в посте-
ли, а стоит на ногах прямо перед портретом. Как он до-
брался сюда — уж этого никак не мог он понять. Еще
более изумило его, что портрет был открыт весь и про-
стыни на нем действительно не было»’.
Утверждение реальности событий сна укрепляется и
подтверждается постоянными напоминаниями: «это уже
по сон», «он видит, видит ясно», «И вот видит ясно», то
же стремление показать связь и взаимопроникновение
сна и яви звучит в вопросе: «Неужели и это был сон?».
По существу, тот же рисунок в соотношении сонП
явь мы находим и в «Невском проспекте»: «Дремота, вос-
пользовавшись его ненодвижностью, уже было начала ти-
хонько одолевать его, уже комната начала исчезать,
один только огонь свечи просвечивал сквозь одолевавшие
его грезы, как вдруг стук у дверей заставил его вздрог-
нуть и очнуться». Но именно вслед за этим мнимым про-
буждением начинается сон, где прекрасная незнакомка
появляется на балу, в блестящем окружении. Тщатель-
ное и подробное описание «обстановки и среды» (детали-
зация, характерная для прозы Гоголя) преследует цель
совершенно определенную: показать реальность сна и
призрачность яви. Фантастическое в этом перевернутом
мире обнаруживается в массе подробностей и почти при-
обретает контуры действительности. Вся обстановка бо-
гатого дома, где Пискарев видит свою незнакомку, по-
казана в реальной достоверности: «Сверкающие дамские
плечи и черные фраки, люстры, лампы, воздушные летя-
щие газы, эфирные ленты...». Не забыты рассказчиком и
комические подробности, например «толстый контрабас,
выглядывавший из-за перил великолепных хоров».
61
Повестьователь пользуется обратным ходом «возвраще-
ния» в реальную жизнь: у него не сновидения просвечи-
вают сквозь реальность, а, напротив, реальная жизнь
сквозит в сновидениях. Пробуждение художника Писка-
рева, возвращение в действительную жизнь и рисуется
как проникновение пошлых, будничных реалий сквозь
обстановку сказки-сна: «Наконец ему начали явственно
показываться стены его комнаты. Он поднял глаза; перед
ним. стоял подсвечник с огнем, почти потухавшим в глу-
бине его; вся свеча истаяла; сало было налито па столе
его. Так это он спал! Боже, какой сои! И зайем было
просыпаться?». Здесь, таким образом, определена и дли-
тельность сна: сгоревшая свеча отмеряет это время.
И та же связь между действительностью и сном: свет
свечи, сначала «нагоревшей», а потом «истаявшей».
В «Портрете» ту же роль соединителя яви и сна выпол-
няет свет месяца, падавший из окна и освещавший все
то, что там было, а главное — освещавший живые глаза
портрета.
В «Портрете» связь яви и сна дополнительно материа-
лизуется: в раме портрета оказалась тысяча золотых чер-
вонцев, завернутых в синюю бумагу, как это было и во
сне. Рйссыпав аккуратный сверток, Чартков еще раз
спрашивает себя: «Не во сне ли все это?». Безумие Чарт-
кова в конце повести раскрывается перед читателем сно-
ва в постоянной, действительной не только для персонажа
связи сна и яви: «Ему начали чудиться давно забытые,
живые глаза необыкновенного портрета, и тогда бешен-
ство его было ужасно. Все люди, окружавшие его по-
стель, казались ему ужасными портретами. Он двоился,
четверился в его глазах; все стены казались увешаны
портретами, вперившими в него свои неподвижные, жи-
вые глаза. Страшные портреты глядели с потолка, с полу,
комната расширялась и продолжалась бесконечно, чтобы
более вместить этих неподвижных глаз». Здесь непо-
движность живых глаз портрета имеет значение:
‘не меняющий своего положения, не двигающийся’, ко-
торое дополняется еще одним смыслом: ‘не меняющий
своего выражения, застывший’. Глаза «глядели» мимо и
сквозь все, прямо ему «во внутрь». Вот это-то выражение
живых, как бы застывших глаз и чудится художнику
Чарткову. Но сюжетная роль свь//яви в их взаимодейст-
вии и взаимопроницаемости выявляется и в самом фина-
ле повести. Портрет исчез: «И долго все присутствовав-
шие оставались в недоумении, не зная, действительно ли
62
очи видели эти необыкновенные глаза, или это была про-
сто мечта, представшая только па миг глазам их, утруж-
денным долгим рассматриванием старинных картин»
(Портрет, II).
Все уровни языка, все средства собственно речевой
изобразительности участвуют в описаниях снов и фанта-
стических положений в художественной прозе Гоголя.
Приемы нагнетания драматической напряженности в ав-
торском повествовании включают и графику, созда-
ется письменное изображение интонации рассказчика,
его звучащего слова.
Резкие обрывы «интонационного течения речи» пере-
дают волнение рассказчика, как бы перехватывающее ды-
хание: «Но, наконец, уже в самом деле... он видит, видит
ясно: простыни уже нет... портрет <,..> глядит просто к
ному во внутрь...». Тот же рисунок интонации повество-
вателя мы находим и в «Вие», те же сломы «интонацион-
ного течения речи», передающие волнение и ужас самого
рассказчика, bjt д я щ е г о все происходящее: «Вдруг...
среди тишины... с треском лопнула железная крышка
гроба и поднялся мертвец» (Вий).
Впечатление реальности происходящего создается еще
и благодаря перенесению всех фантастических действий
и положений в настоящее актуальное время, максимально
приближенное к читателю. Создается непосредственная
связь: рассказчик/объект описания/читатель. Повест-
вование о фантастическом переносится в план настоя-
щего времени, и рассказчик становится как бы свидете-
лем и очевидцем того, о чем рассказывает своему непо-
средственному слушателю-читателю. Смена и взаимодей-
ствие планов повествования служат все тем же целям —
представить фантастическое на грани яви.
Повествование о трагическом и ужасном в художе-
ственной прозе Гоголя обычно представлено как бы
«сквозь чужое восприятие», сквозь восприятие персонажа
или рассказчика, непосредственного наблюдателя проис-
ходящих событий: «...он видит, видит ясно: простыни
уже нет... портрет открыт весь и глядит...» (Портрет).
Реальное и фантастическое оказываются взаимопрони-
Цаемыми и взаимосвязанными. Действия портрета изобра-
жаются в конкретизирующих деталях, в расщеплении
действия на составляющие его движения. Весь рассказ
о действиях страшного портрета начинается с глагола,
63
удостоверяющего подлинность происходящего в
мастерской художника Чарткова: «И видит...». Движения
портрета изображаются в четкой последовательности, ха-
рактерной для поступков и действий живых людей:
«И видит: старик пошевелился и вдруг уперся в рамку
обеими руками. Наконец, приподнялся на руках и,
высунув обе ноги, выпрыгнул из рам...». Все действия
достоверны и целесообразны, подчеркнуто соответствуют
разложенному на составляющие движения одному
поступку: портрет ожил и вышел из рам 2|.
Ирония рассказчика в структуре
гоголевского повествования
Ироническое повествование, столь характерное для Го-
голя, должно быть рассмотрено в речевых средствах вы-
ражения, в окказиональных стилистических пересечениях
и устоявшихся формах.
Одним из самых излюбленных и характерных для по-
этики Гоголя приемов иронического повествования было
столкновение и объединение в одном ряду неоднородных
предметов и явлений. В «Коляске» среди прочих вещей,
которые всегда можно было заметить в маленькой
лавочке на площади, встречаем такие «далековатые», по
определению Пушкина, предметы, как: «связку баранков,
бабу в красном платке, пуд мыла, несколько фунтов
горького миндалю, дробь для стреляния, демикотоп и
двух купеческих приказчиков, играющих около дверей в
свайку». Ирония рассказчика выявляется не столько в
том, что в одном ряду оказываются баранки, баба, мыло,
миндаль, дробь, демикотон и приказчики, сколько в том,
что временные и случайные характеристики, (качествен-
ные и количественные) оказываются постоянными,
в чем уверяет рассказчик. Поэтому и баба в красном
платке, и приказчики, играющие в свайку, оказываются
такими же постоянными атрибутами, как золоченый креп-
21 «Мир грез имел в романтической поэтике устойчивые формы
своего художественного воплощения. И тот своеобразный при-
ем творчества, которым неожиданно стирались границы между
бредовыми видениями и действительностью, Гоголь, взяв из
широко раскрытой перед пим и его современниками сокровищ-
ницы романтической поэтики (ср. этот прием хотя бы у Гоф-
мана), использовал еще в „Майской ночи". Как там, так и в
„Невском проспекте" сон вводится в тот момент, когда у чи-
тателя создается иллюзия отрезвления героя от охватывающей
его дремоты» (Виноградов В. В. Эволюция русского натура
лизма//Поэтика... С. 47—48). В. В. Виноградов тот же прием
соединения сна и яви видит и в «Гробовщике» А. С. Пушкина.
64
дель на вывеске булочной или ножницы над портпяжной
мастерской.
В гоголевском повествовании очень важны структур-
но-семантические связи, объединяющие текст в одно об-
разпо-речевое целое. Семантически далекие предметы мо-
гут быть не только поставлены в один ряд, но и управ-
ляться одним и тем же словом. Так, лакей Чичикова
Петрушка «стал устраиваться в маленькой передней,
очень темной копурке, куда уже успел притащить
свою шинель и вместе с нею какой-то свой собственный
запах...» (М. д., 1, I). Здесь важна не только сочинитель-
ная связь: «своя шинель и... свой запах», но и подчини-
тельная — «успел притащит ь... свой собственный
запах». Замечательный во многих отношениях Пифагор
Пифагорович Чертокуцкий был замечателен еще и тем,
что «носил усы под носом и шпоры на сапогах» (Коля-
ска), как будто усы и шпоры могут располагаться в дру-
гом месте. Этот ряд, относящийся к глаголу носил
(о Чертокуцком), может быть продолжен: «...носил
фрак с высокой талией на манер военного мундира, на
сапогах шпоры и под носом усы...».
Именно усы становятся отличительной особенностью,
и даже достопримечательностью, самых различных эпи-
зодических фигур в повести Гоголя «Коляска»: «...в пере-
улках попадались солдаты с такими жесткими усами, как
сапожные щетки. Усы эти были видны во всех местах.
Соберутся ли на рынке с ковшиками мещанки, из-за плеч
их, верно, выглядывают усы. На лобном месте солдат
с усами уж, верно, мылил бороду какому-нибудь деревен-
скому пентюху, который только покряхтывал, выпуча
глаза вверх»; «Между тем из конюшни выпрыгнул сол-
дат, послышался стук копыт, наконец, показался другой,
в белом балахоне, с черными огромными усами, ведя за
узду вздрагивавшую и пугавшуюся лошадь, которая,
вдруг подняв голову, чуть не подняла вверх присевшего к
земле солдата вместе с его усами». Усы становятся не
только отличающей, характерологической чертой персона-
жа, но и приобретают известную самостоятельность по
отношению к владельцу. Усы «выглядывают» как бы
сами по себе, т. е. совершают самостоятельные, независи-
мые действия и выступают в тексте почти на уровне сце-
нического персонажа (крайний «выход» этого приема на-
ходим в повестях «Нос» и «Невский проспект») 22.
22 «...вся повесть „Нос‘‘ построена на игре вереницей метафори-
3 Л. И. Еремвва
65
Метонимическая соотнесенность «части и целого» в
самых разнообразных сочетаниях — типично гоголевский
прием, проявляющийся в самых ранних его произведени-
ях, дошедший и воплотившийся в «Мертвых душах». Так,
Чичиков вышел, «размышляя обо всем этом и в то же
время таща на плечах медведя, крытого коричневым
сукном, как на самом повороте в переулок столкнулся
тоже с господином в медведях, крытых коричневым сук-
ном...» (М. д., 1, VII).
Метонимическое и метафорическое «перенесения» под-
держиваются и грамматико-семантическими связями.
Весь текст укрупняет тропеические приемы: ведь Чичи-
ков идет «размышляя... и таща на плечах медведя...».
Во второй части конструкции, где появляется «господин в
медведях, крытых коричневым сукном...», перед читате-
лем, наконец, раскрывается истинный смысл ироническо-
го слова повествователя.
Сближение человеческого мира с животным, составля-
ющее глубинный образ, центр всей художественной систе-
мы Гоголя, проявляется не только, и, пожалуй, не столь-
ко в «зоологических» сопоставлениях и метафорах, сколь-
ко в частных деталях описания. Так, у цирюльника Ива-
на Яковлевича, косвенного виновника пропажи носа с
лица майора Ковалева, фрак «был пегий; то есть он был
черный, но весь в коричнево-желтых и серых яблоках...»
(Нос). «Серые яблоки» — характерная особенность окра-
ски лошадей рысистой породы, как и все другие детали
цвета: пегий —(с большими пятнами, крапинами (обыч-
но о неровной окраске лошадей)’. Это сближение цвета
фрака с окраской рысака, несомненно, экспрессивно зна-
чимо в условиях художественного текста. Метонимиче-
ское соотнесение части и целого обыгрывалось Н. В. Го-
голем многократно и разнообразно. Ведь и на Невский
проспект, эту «главную выставку всех лучших произведе-
ний человека», кроме щегольских сюртуков с лучшими
бобрами, один несет «греческий прекрасный нос, третий
несет превосходные бакенбарды, четвертая — пару хо-
рошеньких глазок и удивительную шляпку, пятый — пер-
стень с талисманом на щегольском мизинце, шестая —
ножку в очаровательном башмачке, седьмой — галстух,
возбуждающий удивление, осьмой — усы, повергающие в
ческих и метонимических смещений символа „нос“, и прежде
всего па замспе образа героя носом» (Виноградов В. В. Паро-
дии на стиль Гоголя//Поэтика... С. 287).
йзумление» (Невск. пр.). Некоторая отчужденность этих
носов, бакенбард, хорошеньких глазок, ножек и усов уси-
ливается и соседством с сюртуками, перстнями и галсту-
ками, так как весь этот ряд выступает на уровне вещи,
выставляемой напоказ. Сходство с вещью
усилено еще и лексическим окружением: несут на
Невский «пару хорошеньких глазок», «галстух, возбуж-
дающий удивление» (который, несомненно, соотнесен с
«усами, повергающими в изумление»).
Таким образом, прием иронического осмысления, иро-
нической интерпретации слова-образа использует все воз-
можности образно-речевой организации в общей структу-
ре текста.
В ироническое освещение сюжетного действия вносят
свой вклад и слова-сигналы ситуации, которые могут вы-
полнять и роль спецификаторов модальности. Акакий
Акакиевич, задумавший сшить себе новую шинель, как
бы начинает новую, осмысленную и освещенную «идеей
будущей шинели» жизнь. Он «приучился голодать по ве-
черам; но зато он питался духовно, нося в мыслях своих
вечную идею будущей шинели. С этих пор как будто са-
мое существование его сделалось как-то полнее, как буд-
то бы он женился, как будто какой-то другой человек
присутствовал с ним, как будто он был не один, а какая-
то приятная подруга жизни согласилась с ним проходить
вместе жизненную дорогу,— и подруга эта была пе кто
другая, как та же шинель на толстой вате, на крепкой
подкладке без износу» (Шинель). Иронически освещается
пе только «вечная идея» Акакия Акакиевича, но и «бу-
дущая подруга жизни» — «шинель на толстой вате, на
крепкой подкладке без износу».
Прием иронической интерпретации текста включает в
качестве одной из составляющих и гиперболу. Преувели-
чивается преимущественно то качество, которое не долж-
но было бы представляться в таком гипертрофированном
виде. Так, «Консул, долженствовавший, по обязанности
своей, наблюдать над подведомственными ему сотовари-
щами, имел такие страшные карманы в своих шароварах,
что мог поместить туда всю лавку зазевавшейся торгов-
ки-» (Т. Б., II).
«Логическое несоответствие» — часть все того же
приема иронической интерпретации. В «газетной экспеди-
ции», куда обратился майор Ковалев по поводу пропав-
шего носа, среди объявлений было извещение о том, что
продаются «прочные дрожки без одной рессоры; молодая
горячая лошадь в Серых яблоках, семнадцати лет от
роду...» (Нос, II).
Иронический повествователь вводит в текст уточняю-
щие обороты, цель которых наглядно выявить все то же
«логическое несоответствие»; например, в кабинете у Ма-
нилова «всегда лежала какая-то книжка, заложенная
закладкою на четырнадцатой странице, ко-
торую он постоянно читал уже два года»
(М. д., 1, П). Среди «просвещенных людей» были такие,
«кто читал Карамзина, кто „Московские ведомости11, кто
даже и совсем ничего не читал» (М. д., 1, VIII). Здесь
после перечисления лиц, читавших кто Карамзина, кто
«Московские ведомости», идет «кто д а ж е...» — оборот,
готовящий читателя к тому, чтобы увидать названия мно-
гих авторов или книг, но за этой группой неожиданно до-
бавляется: «и совсем ничего не читал».
Этот же прием «обманутого ожидания» (как вариация
на тему «логическое несоответствие») находим и в реп-
лике Земляники, построенной на «перевернутом» фразео-
логизме. Есть широко известная формула: «Как мухи
мрут». Последний член заменен на контрастный: «С тех
пор, как я принял начальство,— может быть, вам пока-
жется даже невероятным,— все как мухи выздорав-
ливают. Больной не успеет войти в лазарет, как уже
здоров; и не столько медикаментами, сколько честностью
и порядком» (Ревизор, д. III, явл. V).
Прием «логического несоответствия» получил в про-
изведениях Н. В. Гоголя самое широкое использование.
Ограничимся несколькими примерами. В доме старосвет-
ских помещиков «пол почти во всех комнатах был гли-
няный, но так чисто вымазанный и содержавшийся с
такою опрятностью, с какою, верно, не содержится ни
один паркет в богатом доме, лениво подметаемый невы-
спавшимся господином в ливрее» (Старосв. пом.).
Иронические уточнения (например, в длительности
процесса или движения) вносят свой вклад в интерпре-
тацию текста: речь идет о супругах Маниловых, которые
«весьма часто, сидя на диване, вдруг, совершенно неиз-
вестно из каких причин, один, оставивши свою трубку,
а другая работу, если только она держалась на ту пору
в руках, они напечатлевали друг другу такой томный и
длинный поцелуй, что в продолжение его можно бы
легко выкурить маленькую соломенную сигаркуъ
(М. д„ 1, II).
Снижающая роль детали выявляется обычно в доста-
точно широком контексте. Вот портрет Манилова, челове-
ка на первый взгляд «доброго и приятного»: черты лица
его были «не лишены приятности, но в эту приятность,
казалось, черезчур было передано сахару <...> Манилов
с улыбкою и от удовольствия почти совсем зажмурил
глаза, как кот, у которого слегка пощекотали за ушами
пальцем» (М. д., 1, II).
Ироническая интерпретация текста, кроме системы
уточнений и попутных замечаний от автора, может пере-
даваться, например, сопоставительным рядом, располо-
женным в определенной градации: «Положим, например,
существует канцелярия, не здесь, а в тридевятом госу-
дарстве, а в канцелярии, положим, существует правитель
канцелярии. Прошу посмотреть на него, когда он сидит
среди своих подчиненных,— да просто от страха и слова
не выговоришь! гордость и благородство, и уж чего не
выражает лицо его? Просто бери кисть, да и рисуй:
Прометей, решительный Прометей! Высматривает орлом,
выступает плавно, мерпо. Тот же самый орел, как толь-
ко вышел из комнаты и приближается к кабинету своего
начальника, куропаткой такой спешит с бумагами под-
мышкой, что мочи цет <...> с Прометеем сделается такое
превращение, какого и Овидий не выдумает: муха, мень-
ше даже мухи, уничтожился в песчинку!» (М. д., 1, III).
Здесь профанирующий ряд уподоблений-превращений:
Прометей // орел // куропатка // муха // песчпнка —
дополнен массой конкретизирующих деталей, обрисовы-
вающих манеру и поведение правителя канцелярии при
уподоблении каждому члену ряда. Попутное авторское
замечание о перенесении места действия в условное, ска-
зочно-неизвестное «тридевятое государство» вносит свою
долю в ироническое осмысление всего текста.
Комическое у Гоголя нередко соприкасается с гротес-
ком и абсурдом. Самые невероятные истории могут при-
ключиться в этом непредсказуемом, перевернутом мире.
«Как странно играет нами судьба наша!» — восклицание
повествователя, которое, несомненно, относится не только
к «Невскому проспекту». Все странно в этом абсурдном
мире, и то, что в газетной экспедиции «пудель черной
масти» оказался казначеем (Нос), что в объявлениях
предлагалось «развести превосходный березовый или ело-
вый сад», что предлагали «купить старые подошвы,
с приглашением явиться к переторжке каждый день от
8 до 3 часов утра». И многие другие невероятные проис-
шествия возможны в этом расколотом и перевернутом
69
мире. Несообразность и парадоксальность событий может
быть дана на нарочито сниженном, «бытовом уровне».
Ироническая интерпретация слова может строиться на
взаимосвязях прямых и переносных смыслов; в то же
время слово это включается в непривычный контекст,
например в какую-нибудь канцелярскую бумагу, где ока-
зывается в неожиданных сочетаниях с официально-бюро-
кратической терминологией. И все это делается со спе-
циальным заданием — профанации казенного делопроиз-
водства как следствия бюрократического устройства об-
щества. Показательно, что и контекст обнаруживает ту
же «разнонаправлепность» смыслов; именно па границе
этого «двоемыслия» и строится ироническое осмысление
текста, предполагающее широкий фон читательских ас-
социаций. Рассмотрим это положение па анализе кон-
кретного текста: «Так протекала мирная жизнь человека,
который с четырьмя стами жалованья умел быть доволь-
ным своим жребием, и дотекла бы, может быть, до глу-
бокой старости, если бы пе было разных бедствий, рас-
сыпанных на жизненной дороге не только титулярным,
но даже тайным, действительным, надворным и всяким
советникам, даже и тем, которые не дают
никому советов, ни от кого не берут их
сами» (Шинель).
Жизнь течет — перен. 'движется, идет, проходит’, но
в этом переносном значении ощущается след прямого —
'литься, струиться в определенном направлении’, отсюда
и возникает дополнительный оттенок: «дотекла бы, может
быть, до глубокой старости». Терминологические обозна-
чения — титулярные, тайные, действительные, надворные
советники — соответствуют «табели о рангах», определен-
ным ступеням в «служебном движении», но потом слово
советник приобретает свой прямой смысл — ‘человек,
дающий советы, советующий кому-нибудь, что-нибудь’.
А в слове совет возникает особый оттенок конкретности,
сопутствующий главному значению,— ‘наставление, ука-
зание, увещевание’: «...тем, которые не дают никому со-
ветов, ни от кого не берут их сами...». Переплетение пря-
мых и переносных значений, как правило, приобретает
еще и особый иронический оттенок — свидетельство ав-
торского присутствия в повествовании с эмоциональных
позиций персонажа. Гоголь оставил нам не только огром-
ное художественное наследие, но и великолепное по точ-
ности и тонкости исследование, касающееся многих совре-
менных для него самого вопросов и проблем. Гоголь —
70
публицист и литературный критик — тема необъятная и
почти неисследованная. В данном случае приведем толь-
ко гоголевскую оценку своего собственного творчества:
«Обо мне много толковали, разбирая кое-какие мои сто-
роны, но главного существа моего не определили. Его
слышал один только Пушкин. Он мне говорил всегда,
что еще ни у одного писателя не было этого дара вы-
ставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в та-
кой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та ме-
лочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно
(курсив автора.—Л. Е.) в глаза всем <...> Мне бы скорее
простили, если бы я выставил картинных извергов; но
пошлости не простили мне» 2Э.
Широкое распространение находит ироническое ос-
мысление слова через окказиональную фразеологизацию
словосочетания. Квартальный в повести «Нос» «увещевал
по зубам одного глупого мужика, наехавшего с своей
телегой как раз на бульвар», где увещевбть — 'уговари-
вать, советуя и убеждая’, 'внушать, отечески наставлять’ —
получает сатирическое значение именно в сочетании со
словами «по зубам», приобретает характер известной
устойчивости, становится идиоматическим оборотом речи.
Сатирическое обозначение речевой манеры доктора
(к которому обратился майор Ковалев, обнаруживший
исчезновение носа) раскрывается длинной цепочкой ха-
рактеризующих слов: «Видите ли,— сказал доктор ни
громким, ни тихим голосом, но чрезвычайно уветливым и
магнетическим» (Hoc, II), где уветливый — ‘уговариваю-
щий, увещевающий, убеждающий’. Магнетический (о го-
лосе) — ‘покоряющий, внушающий свою волю*; ‘дейст-
вующий на собеседника как бы гипнотически’. Таким рб-
разом, характеристика голоса и речевой манеры доктора
становится еще одним разоблачающим и обличающим
компонентом текста, т. е. вся диалогическая ситуация
сатирически осмысливается и интерпретируется повество-
вателем.
Внимание рассказчика к подробностям внешности,
одежды, к особенностям поведения отличает художест-
венную манеру Гоголя-повествователя. В «Невском про-
спекте» он разделяет толпу, идущую по улице, по внеш-
нему виду, «по одежке». Причем особенно пристальное
внимание уделяется именно качественным характеристи-
23 Гоголь Н. В. Четыре письма к разным лицам по поводу «Мерт-
вых душ»//Полк. собр. соч. Т. VIII. С. 292—293.
71
кам: старухи «в изодранных платьях и салопах», «плот-
ные содержатели магазинов и их комми <...> в своих гол-
ландских рубашках», русские мужики, «спешащие на
работу, в сапогах, запачканных известью, которых и Ека-
терининский канал, известный своею чистотою, не в со-
стоянии был бы обмыть»; гувернеры «всех наций с свои-
ми питомцами в батистовых воротничках» (Невск. пр.).
В гоголевском повествовании не только обрисовывает-
ся манера поведения, речевые особенности и эмоциональ-
ная окраска собственной речи персонажей, но и зрелищ-
но формируется вся диалогическая сцена, про-
слеживается направление далее взглядов собеседника.
Так, портной Петрович (к которому обратился за помо-
щью Акакий Акакиевич Башмачкин), восседая в позе
турецкого паши, смотрит на низенького Акакия Акакие-
вича сверху вниз и видит прежде всего спину привычно
согнувшегося Башмачкина. Но в тексте об этом не гово-
рится, мы догадываемся по тому, как Гоголь прослежи-
вает взгляд Петровича: «Что ж такое? — сказал Петро-
вич, и обсмотрел в то же время своим единственным гла-
зом весь вицмундир его, начиная с воротника до рукавов,
спинки, фалд и петлей, что все было ему очень знакомо,
потому что было собственной его работы» (Шинель).
В гоголевском повествовании мы обнаруживаем опре-
деленную закономерность: образные «ходы и развития»,
уже существовавшие в литературе первой половины
XIX в., в контексте прозы Гоголя получают новое «эмо-
циональное звучание». Так, в стихотворении Пушкина
«Когда за городом задумчив я брожу...» есть строки:
«...Могилы склизские, которы также тут, зеваючи, жиль-
цов к себе на утро ждут...», где зеваючи — сказано о раз-
рытой яме, о могилах, как бы разинувших пасти. Но здесь
есть след и прямого значения глагола зевать — ‘скучая,
разинув рот, с праздным любопытством ждать кого-то или
чего-то’.
Гоголь включает этот образ зевания, зевоты в значе-
нии прямом, ближайшем и в значении ‘широко раскры-
той ямы или дыры (например, в кровле дома) ’. Причем
«эмоциональный подтекст», след прежних чужих употреб-
лений, оживает в его повествовании, где дана картина
всеобщего разорения, мерзости запустения. Приехав в
разоренное имение Хлобуева (которое он хотел пере-
строить и переделать в стиле Костанжогло), Павел Ива-
нович Чичиков застал вот какую картину: «...где встре-
тили на улице мужика, который, почесав у себя рукою
72
пониже <спины>, так зевнул, что перепугал даже Старо-
стиных индеек. Зевота была видна на всех строениях.
Крыши также зевали. Платонов, глядя па них, зевнул.
,,Заплата на заплате",—думал Чичиков, увидевши, как
па одной избе вместо крыши лежали целиком ворота»
(М. Д-, 2, IV) Собственно гоголевское повествование всю
картину заброшенности представляет иронически. Эту
цель преследуют художественные детали и всякого рода
подробности, расцвечивающие соответственным образом
текст. Здесь зевота — не только ‘скучающая лень’, но и
разорение: «Зевота была видна на всех строениях...'».
Перед рассказчиком как бы проходят фигуры, принадле-
жащие к разным сословиям, но объединенные авторским
восприятием: мужик, перепугавший своей зевотой Ста-
ростиных индеек, Платонов, зевающий от собственной
скуки и зараженный чужим равнодушием: мужик, «по-
чесав у себя рукою пониже спины, так зевнул <...>
Платонов, глядя на них, зевнул».
Как уже было замечено выше, каждая деталь отте-
няется и подается всем образным фоном, выявляющим
какую-то особенность, например в описаниях. И особен-
ность эта вносит не только разнообразие, но и в некото-
ром роде карнавализацию или профанацию. В этом слу-
чае лексические повторы, называющие все то, что есть
повсюду, вдруг включают какое-то отличие, подробность,
запомнившуюся деталь, совершенно изменяющую^ эмо-
циональную окраску всего описания. В обывательском
однообразии захолустной жизни встречается пекая под-
робность, останавливающая внимание рассказчика. При
этом будничность и удручающая серость обстановки пред-
ставлены в унылом перечислении: то же... та же... так
же... В авторском повествовании в этом случае лексиче-
ские повторы могут состоять в действительном повторе-
нии или варьировании одного и того же слова.
Так, в описании трактира, где поместился Чичиков,
все повествование ориентируется на повторы те же,
24 У Пушкина в «Сцепе из Фауста» находим подобное столкнове-
ние нескольких значений глагола зевать:
Вся тварь разумная скучает:
Иной от лепи, тот от дел;
Кто верит, кто утратил веру;
Тот насладиться не успел,
Тот насладился через меру,
И всяк зевает да живет —
И всех нас гроб, зевая, ждет.
Зевай и ты.
73
тот же, та же, то же: «Какие бывают эти общие залы —
всякий проезжающий знает очень хорошо: те же
стены, выкрашенные масляной краской, потемневшие
вверху от трубочного дыма и залосненные внизу спинами
разных проезжающих, а еще более туземными купече-
скими, ибо купцы по торговым дням приходили сюда
сам-шест и сам-сем испивать свою известную пару чаю;
тот же закопченный потолок; та же копченая люстра
со множеством висячих стеклышек, которые прыгали и
звенели всякий раз, когда половой бегал по истертым
клеенкам, помахивая бойко подносом, на котором сидела
такая бездна чайных чашек, как птиц на морском бере-
гу; т е ж е картины во всю стену, писанные масляными
красками,— словом все тоже, что и везде...» (М. д.,
1, I). Ироническая интерпретация лексических повторов,
организующих текст, может быть усилена каким-то един-
ственным отклонением от многократно повторяющихся
«картин». Повествователь каждое то же, тот же, те же
раскрывает в описаниях, как бы заставляя читателя убе-
диться в том, что действительно все то же, им самим
ранее неоднократно виденное. Масса подробностей, пере-
числяемых рассказчиком, делает ^описание зрелищным,
эмоционально убедительным. И, как обычно, ироническая
концовка вносит выделяющую подробность, отличитель-
ную черточку в это житейское однообразие: «...только и
разницы, что на одной картине изображена была нимфа
с такими огромными грудями, каких читатель, верно,
никогда не видывал» (Там же).
Повторяющаяся ироническая деталь (в облике персо-
нажа, в окружающей обстановке) может стать домини-
рующей, характеризующей именно этот образ. Тяжело-
весность, медвежья прочность и неуклюжесть отличают и
самого Собакевича, и все, что окружает его. Толщина,
прочность, избыточная основательность — вот эти основ-
ные, Главные качества: «Двор окружен был крепкою и не-
померно толстою деревянною решеткой <...> На конюшни,
сараи и кухни были употреблены полновесные и толстые
бревна, определенные на вековое стояние <...> Даже
колодец был обделан в такой крепкий дуб, какой идет
только на мельницы да на корабли» (М. д., 1, VI). И даже
герои и полководцы, украшавшие его гостиную, «были
с такими толстыми ляжками и неслыханными усами, что
дрожь проходила по телу» (Там же).
Избыточность какого-либо качества передается рас-
сказчиком через избыточность средств грамматического
74
выражения этого самого качества. Так, говоря о том, что
«светлый гость», украшающий жизнь и сообщающий ей
цель, в виде шинели уже снизошел к Башмачкину, рас-
сказчик выражается так: «Это было... трудно сказать в
который именно день, но, вероятно, в день самый тор-
жественнейший в жизни Акакия Акакиевича, когда Пет-
рович принес наконец шинель».
Показательны те живописующие подробности, которые
были связаны в жизни Акакия Акакиевича Башмачкина
с шинелью. Роль шинели все возрастает, сообщаются все
новые «обнадеживающие» подробности: «Купили сукна
очень хорошего... сам Петрович сказал, что лучшего сук-
на и не бывает. На подкладку выбрали коленкору, но
такого добротного и плотного, который, по словам Петро-
вича, был еще лучше шелку и даже на вид казистей и
глянцевитей». На воротник «выбрали кошку лучшую, ка-
кая только нашлась в лавке, кошку, которую издали
можно было всегда принять за купицу» (Шинель). Ши-
нель — это «добрый гений», апгел-хранитель — словом,
«светлый гость в виде шинели». Все эти превращения
шинели возможны только в перевернутом мире, полном
нелепостей, в мире, где жило «существо, покорно пере-
носившее канцелярские насмешки и без всякого чрезвы-
чайного дела сошедшее в могилу». Грустная ирония рас-
сказчика окрашивает все повествование о жизни и смер-
ти Башмачкина, но в заключительных главах повество-
ватель оставляет грустную повесть и ведет рассказ о
мстительных действиях мертвеца, «сдирающего со всех
плеч, не разбирая чина и звания, всякие шинели: на
кошках, на бобрах, на вате, енотовые, лисьи, медвежьи
шубы, словом, всякого рода меха и кожи, какие только
придумали люди для прикрытия собственной». Злая иро-
ния рассказчика эмоционально окрашивает все это «фан-
тастическое окончание» истории.
Глава 2. Диалог: ситуация и текст
Художественный диалог как особый тип текста, как оп-
ределенным образом организованная система связан с
разговорным диалогом, с сиюминутной, неподготовленной
разговорной речью. Причем связь эта эстетически обус-
ловлена и выступает в художественном тексте как при-
ем. Отсюда и характерологические черты разговорности:
75
особенности лексического состава, экспрессивно-оценоч-
ная аффиксация, эмфатически-напряжениая интонация,
незавершенность реплик как следствие умолчания или
разрыва речевого потока. Всевозможные речевые и инто-
национные сломы: переспросы, обрывы речевого потока,
взаимные «перебивы», наличие «пауз колебания», усна-
щенность эмоциональными частицами и междометиями —
все эти частные особенности диалогического движения
преследуют одну цель: вызвать сопереживание и соуча-
стие читателя, убедить его в достоверности этой сцены.
В начальных репликах обычно обрисована и предси-
туация диалогического фрагмента. Предпочтительность
диалогических форм развертывания текста по сравнению
с монологическими уже была предметом изучения и тща-
тельного исследования *.
В данном случае нас интересуют прежде всего приемы
и средства драматизации и развертывания диалогическо-
го текста.
В художественной прозе Гоголя диалогические сцены
организуются обычно взаимоотношением позиций рас-
сказчика и персонажа или диалогизацией чужой реплики,
чужой точки зрения, как в таком, например, случае. Чи-
чиков разговаривает с Собаксвичем о Плюшкине:
«— И вы говорите, что у него, точно, люди умирают
в большом количестве?
— Как мухи мрут.
— Неужели как мухи!».
В авторском повествовании отраженно появляется об-
раз, возникший в диалоге: «Ему хотелось заехать к
Плюшкину, у которого <...> люди умирали, как мухи»
(М. д., 1, V).
Лексические повторы здесь не просто варьирование
темы, но пародирование и диалогизация чужой и чуждой
для рассказчика позиции.
Показательно, что и в драматургии Гоголя связь меж-
ду репликами может строиться на тех же структурно-
семантических основах, например:
1 О диалогической изобразительности слова как стилеобразующем
факторе М. М. Бахтин пишет: «Диалогическая ориентация сло-
ва среди чужих слов (всех степеней и качеств чуждости) со-
здает новые и существенные возможности в слове, его особую
прозаическую художественность (выделено авто-
ром.— Л. Е.), нашедшую свое наиболее полное и глубокое вы-
ражение в романе» (Бахтин М. Слово в романе // Вопросы лите-
ратуры и эстетики. М.: Худож. лит., 1975. С. 89).
76
«Городничий. Да как же вы осмелились распечатать
письмо такой уполномоченной особы?
Почтмейстер. В том-то и штука, что он не уполно-
моченный и не особа!» (Ревизор, д. V, явл. VIII). Взаимо-
связь в этой паре реплик прежде всего в том и состоит,
что ключевые, опорные понятия одной отрицаются и опро-
вергаются в другой.
Отсутствие связи между репликами, «разговор глу-
хих» или «разговор на разных языках» — прием, кото-
рый широко используется Гоголем как в художественной
прозе, так и в драматургии. Городничий, испуганный
письмом своего приятеля Андрея Ивановича Чмыхова,
в каждой очередной реплике Хлестакова подозревает
подвох. В свою очередь, струсивший Хлестаков сначала
«бодрится и выпрямляется», как замечает автор в своих
ремарках, а потом, когда «у дверей вертится ручка, Хле-
стаков бледнеет и съеживается». Оба собеседника снача-
ла «в испуге смотрят несколько минут один на другого,
выпучив глаза», а потом оба поочередно «робеют»,
«храбрятся» и «заикаются» от страха. Поэтому и диалог
между Хлестаковым и Городничим — разговор в двух
«плоскостях», почти параллельных друг другу. Антон
Антонович каждую реплику Хлестакова воспринимает
как очередной «обманный жест» и соответствующим обра-
зом относится к ней, т. е. его реплика — не реакция на
слова собеседника, а реализация его собственной поведен-
ческой и «речевой программы»: «Городничий (ро-
бея). Извините, я, право, не виноват<...> А если что не
так, то... Позвольте мне предложить вам переехать со
мною на другую квартиру.
Хлестаков. Пет, не хочу. Я знаю, что значит на дру-
гую квартиру: то есть в тюрьму. Да какое вы имеете пра-
во? Да как вы смеете?.. Да вот я... Я служу в Петер-
бурге. (Гордо). Я, я, я...
Городничий (в сторону). О, господи ты боже, какой
сердитый! Все узнал, все рассказали проклятые купцы!
Хлестаков (храбрясь). Да вот вы хоть тут со всей
своей командой — не пойду! Я прямо к министру!
(Стучит кулаком по столу.)
Что вы! что вы...
Городничий (вытянувшись и дрожа всем телом).
Помилуйте, не погубите! Жена, дети маленькие... не сде-
лайте несчастным человека».
И дальше, на том же «упорстве непонимания», вы-
званного психологической нацеленностью каждого из со-
77
беседников, строится вся эта сцена между Городничим и
Хлестаковым.
Диалогическое напряжение и развитие следует рас-
сматривать и анализировать в системе всей художествен-
ной структуры произведения как образно-речевого цело-
го. И сопоставительная ценность отдельной реплики, ее
семантическая осложненность в художественной прозе
Гоголя должны определяться в рамках целого. Значи-
мость диалогического слова, его содержательная и эмо-
циональная весомость выявляются только в общей систе-
ме текста. В «Старосветских помещиках», в одной из
последних сцен, выведен Афанасий Иванович, почти бес-
чувственно глядевший на погребение Пульхерии Иванов-
ны, и вдруг он как бы очнулся: «Так вот это вы уже и
погребли ее! зачем?!.. Он остановился и не докончил
своей речи». Г. А. Гуковский пишет: «Это „зачем^1 —
одна из тех кратчайших формул поэзии, по которой по-
знается истинный гений художника... «Зачем?» — это
значит, что для него, для его любви, она жива, и нет
смерти для нее в его любви, и нельзя, невозможно за-
рыть в землю то, что не умирает, и он не приемлет смер-
ти любимой...» 2.
Следует обратить внимание еще на одну особенность
поэтики художественной прозы Гоголя. Диалогичпость
его прозы отнюдь не исчерпывается собственно диалогом,
сценами, предполагающими обмен репликами3. Диало-
гичность может выявляться па уровне взаимно соотнесен-
ных и как бы диалогически противопоставленных дейст-
вий-поступков, включенных в обычную для диалога
схему: он//она. Посмотрим это на анализе текста. Возь-
мем ту сцену из «Вия», где Хома Брут читает молитвы
ночью, в церкви, над гробом панночки-ведьмы.
В авторском повествовании обнаруживается позиция
персонажа — Хомы Брута, как бы раскрытая в цепи во-
просов и восклицаний: «Чего бояться?— думал он между
тем сам про себя. — Ведь она не встанет из своего гро-
ба(...> Однако же, перелистывая каждую страницу, он
посматривал искоса на гроб, и невольное чувство, каза-
2 Гуковский Г. А. Реализм Гоголя. М.; Л.: Худож. лит., 1959. С. 85.
3 О диалогизации чужого слова как стилеобразующем факторе
текста см.: Бахтин М. М. Проблема речевых жапров // Эстетика
словесного творчества. М.: Искусство, 1979. С. 271—272 и след.;
а также: Виноградов В. В. О языке художественной литерату-
ры. М.: Худож. лит., 1959. С. 164 и след.
78
лось, шептало ему: вот, вот встанет! вот поднимется,
вот выглянет из гроба!<...> «Ну, если подымется?..»
Она приподняла голову...
Он дико взглянул и протер глаза. Но она точно уже
не лежит, а сидит в своем гробе. Он отвел глаза свои и
опять с ужасом обратил на гроб. Она встала... идет по
церкви с закрытыми глазами, беспрестанно расправляя
руки, как бы желая поймать кого-нибудь.
Она идет прямо к нему. В страхе очертил он около
себя круг» (Вий).
Ведьма-панночка действиями-поступками как бы «от-
вечает» па вопросы, заданные Хомой Брутом самому се-
бе: «Ведь она не встанет...» — и повторенные в форме
восклицания-утверждения: «вот, вот встанет! вот подни-
мется, вот выглянет... „Ну, если подымется?.."».
Все последующие движения диалогически соотнесены:
перед нами два действующих лица — он//она. В этом
диалогическом противопоставлении участвует и смена
временных планов повествования: план настоящего рас-
сказа как бы постоянно подчиняет себе прошедшее, при-
ближая рассказ к читателю, раскрывая перед ним всю
сцену, во всем возможном правдоподобии.
«Ситуация диалога» — как прием соотнесения во вза-
имосвязи психических сфер, поступков и действий персо-
нажей — широко представлена в драматически напря-
женных моментах повествования4.
Художественный диалог как система
Диалог как системная речь предполагает тесную связь и
зависимость всех звеньев. Ремарки рассказчика коммен-
тируют, вводят и сопровождают прямую речь персонажей,
рисуют речевое поведение и речевую манеру участников
диалога5, т. е. создают зрительный образ сцены. А вза-
имосвязь реплик определяет речевое движение диало-
4 Та же соотнесенность действий-поступков двух лиц составля-
ет главное содержание спов художника Чарткова. Действия
«портрета» и самого художника даны как бы в «диалогической
зависимости».
5 «В диалоге виднее и слышнее формы выразительности, „экспрес-
сии" — интонационной и моторной, которые образуют социаль-
ный фонд для раскрытия характеров, т. е. индивидуальных об-
разов лиц в сфере их психических переживаний, в сфере их
навыков и склонностей, их общественного поведения па фоне
социально-речевой характерологии» (Виноградов В. В. Стили-
стика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1983. С. 18—19).
79
га. При этом именно из сопоставления реплик выясня-
ется многое из того, что лежит в основе характе-
ристики персонажа, определяет его как «художественное
создание».
В диалоге есть и собственно диалогическое движение.
В самом деле, ведь диалог это не просто вопрос-ответ, но
и выспрашивание, реплики побудительные перемежают-
ся репликами-размышлениями, в которых реализуется
не только «речевая программа», но и раскрывается инди-
видуальность говорящего (в той степени, которая опре-
делена для него автором).
Основой диалогического движения может быть мысль,
заложенная в одном только фрагменте реплики собесед-
ника ". Так, Костанжогло произносит «проходную» для
него фразу: «— <...> Рассмотри только попристальнее
свое хозяйство — всякая дрянь даст доход, так что оттал-
киваешь, говоришь: не нужно <„.>.
— Это изумительно... Изумительнее же всего то, что
всякая дрянь даст доход! — сказал Чичиков <...> Чичи-
кову не до просвещения было дело. Ему хотелось обстоя-
тельно расспросить о том, как всякая дрянь дает доход',
но никак не дал ему Костанжогло вставить слова.
<...> — Для меня изумительнее всего, как при благора-
зумном управлении, из останков, из обрезков получается,
(что) и всякая дрянь дает доход» (М. д., 2, III). Как
видим, слова Костанжогло «всякая дрянь даст доход» де-
лаются лейтмотивом всего диалогического движения, по-
тому что именно они заинтриговали Чичикова, для кото-
рого богатство — главный смысл, двигательный механизм
всей его деятельности, но деятельности противозаконной,
грозящей наказанием, судом, позором, а тут все «по за-
кону и по совести», и «всякая дрянь даст доход». Здесь
исходным звеном для диалогического движения стала за-
конченная мысль, охватывающая настоящее и будущее
6 Диалог в системе текста, как и проблема повествования «сквозь
призму восприятия и понимания разных героев», — прием
изобразительности, выявленный В. В. Виноградовым: «В драма-
тической речи слово выражает свои значения сквозь призму
восприятия и понимания разных героев. Драматическое слово
воспроизводит отражения действительности в сознании разных
характеров, разных персонажей. Оно выражает пе только раз-
личия предметов, но и различия в точках зрения па них со
стороны действующих лиц. Драматизация речи увеличивает
субъективную изменчивость, подвижность слова» (Виногра-
дов В. В. Стиль Пушкина. М., 1941. С. 86).
80
время: «всякая дрянь даст доход» // «всякая дрянь дает
доход».
Ту же ключевую роль в формировании чужой репли-
ки может играть одно слово, опорное для данной речевой
и сюжетной ситуации. Так, Чичиков в разговоре с Плюш-
киным задает вопрос: «— Так не имеете ли кого-ни-
будь знакомого?». Одно слово «знакомый» всколыхнуло
Плюшкина и послужило поводом для пространной репли-
ки, уснащенной вариациями слова «знакомый»: «—Да
кого же знакомого? Все мои знакомые перемерли или
раззнакомились. Ах, батюшка! как не иметь, имею! —
вскричал он.—Ведь знаком сам председатель, езжал даже
в старые годы ко мне, как не знать! однокорытниками
были, вместе по заборам лазили! как не знакомый? уж
такой знакомый! так уж не к нему ли написать?»
(М.д., 2, VI).
Границы и соотнесенность диалогических сцен и
авторского повествования в художественной прозе Гоголя
подвижны. В авторское повествование проникают
чужие голоса и чужие позиции; слово рассказчика вби-
рает в себя голоса персонажей с сохранением характеро-
логических особенностей; живое слово персонажа окра-
шивает звучащую реплику, но особенности интонации
чужой речи могут включаться и в авторское повество-
вание.
Диалог — это не только диалогическая соотнесенность
текстов, но и особенности индивидуальной речевой мане-
ры, присущего персонажу речевого поведения. Авторские
ремарки вводят и комментируют слово персонажа, со-
здают зрительный образ диалогической сцены.
Постоянное присутствие повествователя в диалоге
вскрывает сложные взаимоотношения между индиви-
дуальностью персонажа, его характером и проявлением
личности в звучащем слове; глаголы жеста и речи, ин-
терпретирующие и оценочные ремарки повествователя,
определяют глубинную основу диалога.
Взгляды, жесты, позы, мимика могут иметь речевой
эквивалент, служить своеобразной заменой и выраже-
нием словесной реплики, звучащего диалогического сло-
ва. Вся система речевого поведения, по существу, диа-
логична, т. к. она адресована собеседнику, рассчитана
па определенную реакцию слушателя-получателя инфор-
мации.
В авторском комментарии выявляется основной со-
держательный план диалога. Авторское повествование
81
может заменять Собственно диалог, целиком брать на
себя раскрытие диалогических отношений, речь персона-
жа заменяется рассказом от лица автора «в тоне и духе»
героя. В этом случае изобразительность собственно
приема и состоит в том, что «субъективность персона-
жа» надевает маску «объективности автора», а само по-
вествование становится еще одной формой выявления
несобственно-прямой речи. В художественном тексте
обнаруживается сложная система диалога, включающая
в себя не только диалогические речевые отношения, но и
неречевые средства общения, поданные в слове рассказ-
чика. Таким образом, взаимоотношения и взаимодопол-
нение всех «линий связи» и образуют «систему диалога
в авторском повествовании». Диалог в художественном
тексте непосредственно связан и с живой разговорной
речью, с живым произносимым словом.
Можно наметить ряд характеризующих черт, свой-
ственных диалогу как определенному, системно организо-
ванному художественному тексту. Прежде всего каждая
реплика принадлежит определенному лицу, субъекту
речи. В диалоге относительно четко выдерживаются от-
ношения между субъектом речи / адресатом речи и объек-
том речи. Всякое нарушение этой соотносительности
эстетически значимо и несет определенную экспрессив-
ную нагрузку. Совокупность реплик каждого участника
диалога составляет не только его «речевую программу»,
но и входит в качестве основного компонента в «речевой
портрет» персонажа. При этом, несомненно, следует учи-
тывать и речевое поведение (жест, мимику) и речеведё-
ние (тембр, интонацию, особенности произношения, рит-
момелодическое строение текста реплики) и многое дру-
гое, что тоже входит в общее понятие речевого
портрета (лексический состав реплик, например субъек-
тивное пристрастие к особенностям в формо- и словообра-
зовании). В диалогической речи используются самые
разнообразные формы сцепления, взаимосвязи реплик.
Для художественной прозы Гоголя характерны лек-
сические повторы-возвращения, объединяющие «побуди-
тельные» и «вопросо-ответные» реплики. Это уже было
замечено и определено В. В. Виноградовым как характе-
ристическая черта «натурального» диалога — прием фра-
зовых тавтологий7. Но назначение этого приема в
7 Виноградов В. В. Этюды о стиле Гоголя//Поэтика русской ли-
тературы. М.: Наука, 1976. С. 275 и след.
82
общей структуре текста, в соотношении и соответствии
с повествованием рассказчика может быть различным.
Так, в повести «Тарас Бульба» на вопросы атамана отве-
чают казаки, почти буквально повторяя вопрос, но пере-
водят из вопросительной интонации в интонацию безу-
словного утверждения. И ответ этот звучит как клятва,
как присяга на верность родной земле, как еще одно
свидетельство несгибаемого мужества и самоотвержен-
ности ее защитников:
«— А что, паны? —сказал Тарас, перекликнув-
шись с куренными.— Есть еще порох в пороховницах?
Не ослабела ли казацкая сила? Не гнутся ли казаки?
— Есть еще, батько, порох в пороховницах. Не осла-
бела еще казацкая сила; еще не гнутся казаки!».
Показательно, что эта «поверка» осуществляется на
протяжении повести еще раз, и снова повторяется та же
самая соотносительность вопросов и ответов:
«— Что, паны? — перекликнулся атаман Тарас, про-
ехавши впереди всех.— Есть ли еще порох в пороховни-
цах? Крепка ли казацкая сила? Не гнутся ли еще казаки?
— Есть еще, батько, порох в пороховницах; еще креп-
ка казацкая сила; еще не гнутся казаки!».
Та же последовательность в лексических соответ-
ствиях может объединять реплику персонажа и авторское
повествование ’: «— А берите все,— сказал Бульба,— все
сколько ни есть, берите, что у кого есть-, ковш, или чер-
пак, которым поит коня, или рукавицу, или шапку, а коли
что, то и просто подставляй обе горсти.
И казаки все, сколько ни было, брали, у кого был
ковш, у кого черпак, которым поил коня, у кого рукавица,
у кого шапка, а кто подставлял и так обе горсти. Всем
им слуги Тарасовы, расхаживая промеж рядами, налива-
ли из баклаг и бочонков» (Т. Б., I). Здесь, в реплике
Тараса и авторском слове, те же соотнесенные ряды по-
второв. Все та же, казалось бы, формула зависимостей,
но есть, и существенная, разница. Если в вопросо-ответ-
ной взаимосвязи реплик соответствие строилось на во-
8 Лексические повторы, окрашивающие текст, сообщающие ему
определенную цельность и завершенность, встречаются не толь-
ко в художественной прозе Гоголя, по и в публицистике, в пись-
мах, например: «„Мертвые" текут живо, свежее и бодрее, чем в
Веве, и мне совершенно кажется, как будто я в России: передо
мною все наше, наши помещики, наши чиновники, наши офи-
церы, паши мужики, наши избы, словом — вся православная
Русь» (Из письма В. А. Жуковскому, 12.XI. 1836, Париж).
83
просе // безоговорочном утверждении, то в последнем
случае императивным глагольным формам: «— А берите
все... берите...» — соответствует прошедшее изобразитель-
ное авторского повествования: «И казаки... брали...».
Реплика Тараса вся выдержана в плапе настоящего вре-
мени, которому соответствует прошедшее изобразитель-
ное автора. Следовательно, на реплику персонажа «отве-
чает» авторское повествование, но все сюжетное развитие
переводится из плана настоящего в план прошедшего
описательного, не ограниченного временем и результатом.
Лексические повторы могут объединяться в лексиче-
ские единства, составлять почти устойчивые «формулы
общения». В речи Тараса Бульбы, решившего ехать с
сыновьями «в сечь», мы встречаем эти «формулировки»:
«Какого дьявола мне здесь ждать? Чтоб я стал гречко-
сеем, домоводом, глядеть за овцами да за свиньями, да
бабиться с женой? Да пропади она: я казак, не хочу!».
Почти буквально, или очень близко, эти «формулы обра-
щения и общения» повторяются в речи есаула, обращен-
ной к казакам: «Вы, плугари, гречкосеи, овцепасы, бабо-
любы! Полно вам за плугом ходить да пачкать в земле
свои желтые чоботы, да подбираться к жинкам и губить
силу рыцарскую!» (Т. Б., I).
Отношения между репликами диалога и авторским
повествованием могут чрезвычайно широко варьировать-
ся. В авторском повествовании реплики (и соответствен-
но позиции) участников диалога могут получать ирони-
ческую интерпретацию, олово получает, таким образом,
как бы «двойную жизнь». Например, возьмем реплику
Янкеля в диалоге с Бульбой:
«— Слушай, пан — сказал Янкель, — нужно посове-
товаться с таким человеком, какого еще никогда не было
на свете. У-у! то такой мудрый, как Соломон; и когда он
ничего не сделает, то уж никто на свете не сделает»
(Т. Б., I). В авторском повествовании диалогически сопо-
ставляются позиции Тараса Бульбы и Янкеля: «Тарас
поглядел на этого Соломона, какого еще не было на
свете, и получил некоторую надежду». В действитель-
ности человека, «мудрого, как Соломон», звали Мардо-
хай, но Тарас не заметил, или не захотел заметить, этого
сопоставительного к а к. В авторском повествовании эта
неточная цитата из реплики Янкеля ощущается как на-
меренно остранённое чужое слово.
Диалогическое сопоставление различных позиций,
точек зрения в художественной прозе Гоголя обычно
84
строится на намеренном или невольном непонимании по-
зиции собеседника. В том же диалоге между Янкелем и
Тарасом Бульбой есть такой фрагмент:
«— Что ж ты делал в городе? Видел наших?
— Как же! Наших там много: Ицка, Рахум, Самуйло,
Хайвалох, еврей-арендатор...
— Пропади они, собаки! — воскликнул, рассердив-
шись, Тарас.— Что ты мне тычешь свое жидовское
племя! Я тебя спрашиваю про наших запорожцев.
— Наших запорожцев не видал. А видал одного пана
Андрия». Здесь понимание наших различно, противопо-
ставлены две разные позиции. Для Янкеля наши — его
«соплеменники», люди, так или иначе связанные с ним.
Наши запорожцы для Янкеля — те, кто остался верен
родине, а Андрий — не наш и для Янкеля, т. к. он пре-
дался ляхам, стал чужим, врагом, по крайней мере «не-
приятелем» для всех друзей и соратников Бульбы. Пре-
дательство Андрия еще неизвестно Тарасу. Поэтому и
возможно это двойственное понимание наших для Янке-
ля, неизвестное и непонятное пока для Тараса Бульбы.
Диалогическое сопоставление различных точек зре-
ния, по существу, может сближаться с приемом «несоб-
ственно-прямой речи», когда слова реплики с их личност-
ным осмыслением и оценкой включаются в авторское
повествование. Так, в «Мертвых душах» Собакевич, со-
вершая известную сделку с Чичиковым, расхваливает
ему свой «товар»: «Другой мошенник обманет вас, про-
даст вам дрянь, а не души...». В авторском повествова-
нии анализируются размышления Чичикова, только что
выехавшего от Собакевича: «Он был недоволен поведе-
нием Собакевича. Все-таки, как бы то ни было, человек
знакомый, и у губернатора, и у полицеймейстера видались,
а поступил как бы совершенно чужой, за дрянь взял
деньги!». В авторском слове дрянь появляется как обо-
значение всех мертвых душ, купленных Чичиковым,
хорошо знавшим истинную цену своим сделкам. Здесь
перед нами образец повествования с эмоциональных по-
зиций персонажа, реализация приема скольжения речи
по разным субъектным сферам. Эмоционально-экспрес-
сивная окраска высказывания: «...поступил как бы совер-
шенно чужой, за дрянь взял деньги!» — принадлежит,
несомненно, самому Чичикову.
Диалогические сцены в своем обычном наполне-
нии — взаимосвязанные реплики персонажей, снабжен-
ные авторскими комментариями, раскрывающими весь
85
зрительный рисунок сцены. Повествователь коммен-
тирует поведение действующих лиц во время диалога.
В художественной прозе Гоголя есть реплики-сценки,
когда состав и взаимосвязь компонентов одной реплики
обнаруживают всю «картину жестов» собеседников или
одного из участников диалога. Акакий Акакиевич Баш-
мачкин в своей реплике, уснащенной, как обычно, при-
дыханиями, остановками и всякого рода оговорками, рас-
крывает при этом и всю картину жестов. Рассказчик
передает реплику Башмачкина без всяких объяснений и
называний сопутствующих действий говорящего. Вот эта
реплика Акакия Акакиевича: «— А я вот того, Петро-
вич... шинель-то, сукно... вот видишь, везде в других
местах совсем крепкое, оно немножно запылилось, и ка-
жется, как будто старое, а оно новое, да вот только в
одном месте немного того... на спине, да еще вот на
плече одпом немного попротерлось, да вот на этом плече
немножко — видишь, вот и все. И работы немного...»
(Шинель). Башмачкин, разговаривая с Петровичем, по-
казывает свою шипель, поворачивает ее перед портным,
указывая на «протершиеся» места. Но восстановить всю
систему жестов и всю диалогическую сцену мы можем,
основываясь только на звучащем слове персонажа.
Повествователь «не подает голоса».
В повести «Портрет» есть сцена перед лавочкой
старьевщика на Щукинском дворе. Художник Чартков
остановился перед портретом, поразившим его своими
глазами, которые «просто глядели, глядели даже из само-
го портрета, как будто разрушая его гармонию своею
странною живостью». Первая часть диалогической сцены
дана в чередовании реплик хозяина лавки и художника:
«— А что ж, возьмите портрет! — сказал хозяин.
— А сколько? — сказал художник.
— Да что за него дорожиться? Три четвертачка
давайте!
— Нет.
— Ну, да что ж дадите?
— Двугривенный,—сказал художник, готовясь идти».
На протяжении всей сцены автор пользуется одним и тем
же глаголом речи сказал, который в первом случае вы-
ступает в значении предложил. Во втором случае, в от-
ветной реплике сказал, по существу, равнозначно «спро-
сил». В последнем случае перед нами однословный от-
вет художника на вопрос купца.
Эта намеренная нерасчлененность глаголов речи, не-
86
сомненно, эстетически значима. Ведь Чартков отнюдь не
собирался покупать портрет на последний двугривенный,
поэтому-то и весь «торг» идет в подчеркнуто равнодуш-
ных, стертых интонациях. А вот вся заключительная
реплика хозяина лавки построена как реплика-сценка,
в которой соотношение частей указывает на систему
действий обоих участников диалога: «—Эк цену
какую завернули! Да за двугривенный одной рамки не
купишь. Видно, завтра собираетесь купить? Господин,
господин, воротитесь! Гривенничек хоть прикиньте. Возь-
мите, возьмите, давайте двугривенный. Право, для почи-
ну только, вот только-что первый покупатель» (Порт-
рет, I). В этой реплике обнаруживается не только все
диалогическое напряжение, но и развертывается сюжет-
ное действие, показана событийность сцены. Художник
Чартков дважды пытается уйти, не взяв портрета, а хо-
зяин возвращает его снова и в конце концов продает ему
за двугривенный портрет старика. Возгласы: «Господин,
господин, воротитесь!.. Возьмите, возьмите, давайте дву-
гривенный...» — «сигналы действий», знаменующих уход
и возвращение Чарткова. И все это показано в тексте
1 олько соотношением частей внутри одной реплики,
повествователь не вмешивается в эту сцену. Заключи-
тельная ремарка рассказчика только обозначает эмоцио-
нальную реакцию продавца, хозяина лавки: «За сим он
сделал жест рукой, как будто бы говоривший: „Так уж
и быть, пропадай картина!1'».
G этим же приемом обнаружения картины жестов в
соотношении частей одной реплики мы имеем дело и в
других произведениях Гоголя (в том числе и в повести
«Шинель»).
Характерологические аспекты слова
в диалоге
Характерологические возможности слова в диалоге раз-
нообразны: это и социально или эмоционально маркиро-
ванное словоупотребление и словообразование, диалект-
ные особенности речи, индивидуальное произношение,
интонирование текста. Все эти подробности в воспроиз-
ведении речи приобретают свое выявляющее и характе-
ризующее значение на фоне стилистически усредненного
«речевого контекста эпохи».
Характерологический аспект возможен и в произнесе-
нии слова, в индивидуальном интонировании. Именно
87
эта особенная привычка произносить слова может стать
основной в «речевой маске» персонажа. Живая интона-
ция как характерная особенность речп может быть не
только персонально закреплена за определенным, героем,
но и всплывает в представлении окружающих как свое-
образный «опознавательный знак» именно этого персо-
нажа.
Повышенная эмоциональность диалогического слова,
субъективная выделенность, акцентированность в репли-
ке какого-либо «звена», которое по условиям диалога
приобретает особую значительность для собеседников,—
все эти условия присутствуют в живом диалоге и, как
следствие, появляются в фиксированном, психологически
мотивированном художественном тексте. Непосредствен-
ное,. живое звучание речи, социально или психологически
маркированное, включается в речевой портрет персона-
жа, выполняет, таким образом, свою характерологиче-
скую функцию.
Характеризующая роль диалогического слова может
стать основой для создания «речевой маски» персонажа.
Индивидуальные приемы речеведёния допускают широ-
кий круг характерологических, выявляющих аспектов
слова. Речь персонажа становится средством характери-
стики и «раскрытия» не только в непосредственно звуча-
щем диалоге, но и в воспроизведенном фрагменте диало-
га (например, реплика в памяти адресата или след пер-
сонажа в авторском слове). Слово несет на себе «печать
личности» персонажа, именно поэтому и воспринимается
оно во всем богатстве экспрессивных оттенков художе-
ственной системы текста. Собеседник (адресат речи) за-
поминает пе только само чужое слово, но и ту психоло-
гическую атмосферу, ситуацию диалога, в которой оно
было произнесено, его «конкретно-диалогическое зву-
чание».
Характерологическая функция может быть дана и
обычному общеязыковому слову, стилистически нейт-
ральному, но в условиях данной речевой ситуации по-
ставленному в особые выявляющие условия. В этом слу-
чае пмеппо на это слово падает фразовое ударение, оно
пе только акцентный, но и коммуникативный и экспрес-
сивный центр реплики. Таким образом, условия диалоги-
ческого движения определяют соотносительную весо-
мость, семантическую емкость слова персонажа.
Характерологическая функция речи персонажа —
одна из существенных черт стилистики художественной
88
прозы Гоголя. В реплике персонажа отражается та среда
обитания, которая породила, дала жизнь характеру.
Поэтому и городское просторечие, и формы канцелярско-
го делопроизводства, и бранная лексика, и народно-
поэтическая символика — все эти компоненты в при-
чудливом сплетении образуют речевой портрет персо-
нажа.
Так, сваха из комедии «Женитьба», Фекла Ивановна
(на вопрос жениха Подколесина: «Да собой-то, какова
собой?»), отвечает: «Как рефинад! Белая, румяная, как
кровь с молоком...» (д. I, явл. VIII). В реплике свахи
объекты сопоставления взяты из двух различных сфер:
«как рефинад!» — городское просторечие, типично город-
ской образ; а второе сопоставление лежит целиком в на-
родно-поэтической традиции.
Характерологическая функция речи выявляется имен-
но в репликах действующего лица. В речи той же Феклы
Ивановны мы находим искаженную городскую лексику:
обноковенно, елтажи, хлигеля (дом «о двух елтажах... два
деревянных хлигеля»). Диалектная мена фПх (хли-
гель//флигель) в качестве еще одной «стилистической
краски» обнаруживается в той же реплике.
Как и в художественной прозе Гоголя, в его драма-
тургии комический эффект создается взаимодействием и
взаимопересечением различных значений слова в составе
одной реплики. Это столкновение смыслов окрашивает
эмоционально реплику именно в восприятии слушателей-
читателей, например в речи той же Феклы Ивановны:
«...так вот тебе прямо в глаза и будет деревянный дом,
где живет швея, что жила прежде с сенатским обер-сек-
лехтарем» (д. I, явл. X). Пересечение разных смыслов
глагола — жить — ‘проживать’ и жить — ‘находиться в
любовной связи’ — создает комический эффект.
Характерологический аспект слова персонажа может
усиливаться формами аффиксации, например со значе-
нием полноты, интенсивности, напряженности действия.
См., например, глагольные формы в реплике Феклы
Ивановны: «— Есть, есть, дай только прежде с духом
собраться — так ухлопоталась! По твоей комиссии все
дома исходила, по канцеляриям, по министерствам истас-
калась, в караульни наслонялась...» (Женитьба, д. I,
явл. XIII). Здесь ухлопотблась — ‘устала от хлопот’,
‘суеты’, ‘утомилась от забот и беспокойства о делах кого-
либо’; исходила... истаскалась... наслонялась... — все гла-
гольные формы даны с разговорно-просторечной аффикса-
89
цией, поддерживающей основное для этого ряда значе-
ние — ‘измучилась, устала, выбилась из сил’.
Качественные характеристики вносят свой вклад в
индивидуальное словоупотребление. Пересечение смыслов
как средство комедийной интерпретации слова-образа—
преимущественный прием в характерологическом осмыс-
лении и употреблении слова, например в реплике той же
свахи Феклы Ивановны: «— Говорит, что ему нужно,
чтобы невеста была в теле, а поджаристых совсем не
любит» (Женитьба, д. I, явл. XIII); поджаристая (о фи-
гуре невесты) употреблено вместо поджарая — ‘худоща-
вая, подтянутая’, ‘сухощавая, с перехватом в талии’.
Именно поджарая может соотноситься по контрасту, по
противоположности с разговорно-просторечным в теле —
‘упитанный, дородный, плотный’, ‘в меру толстый’ (о че-
ловеке, реже —о скоте). Поджаристый — в ближайшем
значении соотносится с глаголами поджарить — поджа-
ривать — ‘жарить до получения румяной корочки’, под-
жаристый — ‘подрумянившийся’, (о куске мяса, напри-
мер). Здесь поджаристый (о человеке) дано на пере-
сечении и взаимосвязи различных значений, цель
приема—комический эффект.
В развернутой реплике как образно-речевом целом
обычно лексические и фразеологические средства вырази-
тельности поддерживаются и усиливаются еще и эстети-
ческим использованием грамматической формы слова.
Возьмем для анализа одну реплику городничего в сцене
с купцами: «Что, голубчики, как поживаете? как товар
идет ваш? Что, самоварники, аршинники, жаловаться?
Архиплуты, протобестии, надувайлы мирские! жало-
ваться? Что, много взяли? Вот, думают, так в тюрьму его
и засадят!.. Знаете ли вы, семь чертей и одна ведьма вам
в зубы, что...» (Ревизор, д. V, явл. II). Прежде всего
бросается в глаза изменение эмоциональной тональности:
притворно-ласковая, искусственно-вежливая окраска на-
чальной части: «Что, голубчики, как поживаете? как
товар идет ваш?» — только предвестие грозного окрика
и присутствует здесь для эмоционального контраста. Вся
последующая часть— не просто брань, а саморазоблаче-
ние. Самоварники, аршинники, архиплуты, протобестии,
надувайлы мирские — «привычный антураж», общий
фон, который выявляет главный «козырь» Сквозника-
Дмухановского: «Что, много взяли? Вот, думают, так в
тюрьму его и засадят!..». Здесь городничий выступает
как бы свидетелем со стороны, поэтому и о купцах и о
90
себе он говорит в третьем лице. А последняя глагольная
форма засадят очень важна. Это те самые неопределен-
ные лица, которые должны наказать вора-городничего.
Таким образом, просторечная и бранная лексика не со-
ставляет главного содержания реплики, она только обра-
зует тот характерологический фон, на котором явствен-
ней выступают все другие средства речевой изобразитель-
ности. Правда, колоритность речи городничего — продукт
искусства повествования гениального мастера. Ведь
«архиплуты, протобестии» — амбивалентные образования.
Греческая приставка архи-, выражающая главенство,—
обычная составная часть сложных слов, обозначающих
«столпов церкви» (архиепископ, архимандрит, архиерей
и т. п.). То же самое, по-видимому, можно сказать
и о другой модели: протЪ— греческого происхождения
(от protos — первый), входит в состав сложных слов со
значением ‘первоначальный, первичный’ или ‘высший,
старший, главный’. Можно не сомневаться в том, что
именно второй ряд, объединяющий высших деятелей
православной церкви (архиепископ, архимандрит, прото-
диакон, протопоп, протоиерей), стал той моделью, по ко-
торой образованы архиплуты и протобестии. Кстати,
«семь чертей и одна ведьма вам в зубы» — последнее в
этой реплике пожелание — находится совершенно в этом
же ряду, кощунственном для «доброго христианина»,
каким себя провозгласил городничий уже в самом начале
комедии («...а я, по крайней мере, в вере тверд и каждое
воскресенье бываю в церкви» — д. I, явл. I).
Таким образом, межтекстовые и внетекстовые ассо-
циативные связи становятся средством карнавализации
реплики персонажа. «Архиплуты и протобестии» ситуа-
тивно воскрешают и профанируют в сознании читателя
тематическое поле диаметрально противопоставленного
высокого словесного ряда.
Характерологическая основа реплики может склады-
ваться из нескольких составляющих. В их числе возмож-
но наложение на привычную речевую стихию (на «род-
ную среду») элементов нового социально-речевого слоя.
Именно так построен речевой портрет Осипа в «Ревизо-
ре». Городское просторечие как след «столичной жизни»
окрашивает его речь. Лакей Хлестакова уже в первом
своем монологе, когда он «лежит на барской постеле» и
рассуждает о приятностях «столичной жизни», употреб-
ляет слова и обороты, далекие от деревенского просто-
речия. Тут есть и «кеятры», гулять «по прешпекту»,
91
разговаривать «все на тонкой деликатности». Основной
слой реплик Осипа — разговорное просторечие: «Черт
побери, есть так хочется и в животе трескотня такая, как
будто бы целый полк затрубил в трубы».
В своих «Замечаниях для г.г. актеров» Гоголь преж-
де всего характеризует речевую манеру и речевое пове-
дение действующих лиц «Ревизора»: «Городничий<.„> до-
вольно сурьезен; несколько даже резонер; говорит ни
громко, ни тихо, ни много, ни мало. Его каждое слово
значительно^..)
Хлестаков^..) несколько приглуповат и, как говорят,
без царя в голове. Один из тех людей, которых в канце-
ляриях называют пустейшими. Говорит и действует без
всякого соображения. Он не в состоянии остановить по-
стоянного внимания на какой-нибудь мысли. Речь его
отрывиста, и слова вылетают цз уст его совершенно
неожиданное..)
Осипе..) Говорит сурьезно; смотрит несколько вниз,
резонер и любит самому себе читать нравоучения для
своего барина. Голос его всегда почти ровен, в разговоре
с барином принимает суровое, отрывистое и несколько
даже грубое выражение». Вот эта характеристика рече-
вого поведения и речеведёния реализуется в основных
чертах в первом же «речевом проявлении» Осипа® на
сцене. Рассуждая о «тонкой и политичной» жизни в
Петербурге, он мимоходом раскрывает и самую суть по-
ведения своего барина: «Профинтил дорогою денежки,
голубчик, теперь сидит и хвост подвернул, и не горячит-
ся <...) Добро бы было в самом деле что-нибудь путное,
а то ведь елистратишка пустой». Разговорное просторе-
чие — основной состав реплик Осипа, человека уже
почти городского, почувствовавшего вкус к столичной
жизни, где и «собаки себе танцуют, и всё, что хочешь...».
Характерологическая функция слова в реплике, по-
жалуй, с особенной остротой выявляется при метафори-
ческом употреблении слова-образа. В комедии «Женить-
9 Вехи развертывания сюжетного действия: «Первый акт „Реви-
зора" создает исходный ложный аспект; второй — на его ос-
нове устанавливает ситуации; третий акт, вместе с началом
четвертого, является некоторым роздыхом для сюжетного дви-
жения и занят, с одной стороны, уточнением характеристик,
с другой — дальнейшим закреплением ложного аспекта» (Гип-
пиус В. Проблематика и композиция «Ревизора» // Гоголь: Ма-
териалы и исследования. М.; Л.: Изд-во АН СССР. Т. 2.' С. 189) —
соответствуют и вехам «(диалогического напряжения», нарастаю-
щего к финалу.
92
ба» есть тетка невесты, Арина Пантелеймоновна, расска-
зывающая Агафье Тихоновне про житье-бытье ее
родителей: «Эх, Агафья Тихоновна, а .ведь не то бы ты
сказала, как бы покойник-то Тихон, твой батюшка, Пан-
телеймонович был жив. Бывало, как ударит всей пятер-
ней по столу <...> Да всей пятерней-то так по столу и
хватит. А рука-то в ведро величиною — такие страсти!
Ведь, если сказать правду, он и усахарил твою матушку,
а покойница прожила бы подолее» (д. I, явл. XII). Здесь
усахарил (перен.) — усахарить — употреблено не в обыч-
ном значении 'льстивыми, приторно-приятными речами
добиться чего-либо’, а в переносном, ироническом — 'по-
боями отправить на тот свет’, 'забить до смерти’. Кстати,
этого значения даже В. И. Даль не приводит в своем
«Толковом словаре». Но в языке художественной литера-
туры второй половины XIX в. глагол усахарить высту-
пает и в прямом значении — 'подольститься’, ‘войти в
расположение, в доверие к ксТму-нибудь посредством
льстивого, ласкового обращения’, например в «Преступ-
лении и наказании» Достоевского в реплике Настасьи,
кухарки, служащей у квартирной хозяйки Раскольникова:
«— Усахарил,— пробормотала Настасья, плутовски усме-
хаясь» (ч. II, гл. III). «Усахарил» в переносном значе-
нии, как и в «Женитьбе» Гоголя, находим в романе
Достоевского «Подросток»: «Вдов был и бездетен; про
супругу его был слух, что усахарил он ее будто еще на
первом году и что смолоду ручкам любил волю давать...»
(ч. III, гл. III). Здесь усахарить — 'побоями свести в мо-
гилу’; 'забить до смерти кого-нибудь’.
Таким образом, в качестве «речевой краски» в соста-
ве речевого портрета персонажа мы находим формы из
самых разных социально-речевых слоев русской речи10.
В репликах действующих лиц в художественной про-
зе и в драматургии Гоголя обильно представлена ино-
язычная лексика, и не только в качестве варваризмов.
В речи свахи Феклы Ивановны присутствуют, наряду и
на фоне привычного просторечия, «иностранные пришель-
цы», но в новом, усвоенном русским языком виде. Так,
заимствованное слово конфуз — ‘смущение, состояние не-
ловкости, стыда’— дало множество «вариаций»: конфу-
” «Гоголю следует отвести первое место в истории русского са-
мосознания, как первому, внесшему в литературу народную
речь, в самом обширном смысле слова. Таким языком не пи-
сал и Пушкин» [Мандельштам И. О характере гоголевского сти-
ля. Гельсингфорс, 1902. С. 2).
зитъ, конфузиться, конфузливый и проч. В речи же Фек-
лы Ивановны встречается глагол исконфузитъ — ‘приве-
сти в состояние неловкости’, ‘своим нескромным поведе-
нием смутить кого-нибудь’: «Да пристыдили, потому и
вышла, совсем исконфузили, так что не высидела на ме-
сте» (д. I, явл. XX). Здесь исконфузили стоит в одном
ряду с пристыдили и столь же, по-видимому, привычно
для Феклы Ивановны. Таким образом, Гоголь обнаружи-
вает и пути пополнения словарного запаса городского
просторечия.
Искусство гоголевского повествования, несомненно,
часть всего культурного наследия русской классики. При-
емы изображения, наглядного и достоверного «живописа-
ния» складывались в общем ходе поступательного разви-
тия и совершенствования русского языка, и прежде всего
его изобразительных средств и возможностей. Весь рус-
ский язык, «столь гибкий и мощный в своих оборотах и
средствах» “, присутствует в произведениях Гоголя.
Очень сильна связь гоголевского повествования и драма-
тургии с русской общеязыковой фразеологией. Образный
строй реплик драматургических произведений Гоголя
продолжает ту же линию, что и собственно повествова-
ние. В репликах мы находим те же просторечные образы
и обороты.
В реплику внедряются не только разговорные формы
и обороты, несущие свою выявляющую, характерологи-
ческую функцию, но сообщается индивидуализирующий
интонационно-ритмический рисунок, свойственный живой
речи. Так, реплика Городничего, ошеломленного откры-
тием, что Ревизор — отнюдь не ревизор, а «фитюлька»,
а настоящая ревизия — впереди; эта реплика не просто
эмоционально окрашена, но представляет собой почти
вопль: «Вот когда зарезал, так зарезал! Убит, убит, сов-
сем убит! Ничего пе вижу. Вижу какие-то свиные рыла
вместо лиц, а больше ничего... Воротить, воротить его!
(Машет рукою) ъ. Система повторов, расположенных в оп-
ределенной градации, по восходящей, объединяется инто-
нацией, драматически напряженной, заканчивающейся
умолчанием, постепенно затухающей. Новый вскрик:
«Воротить, воротить его!» — это уже новый поворот темы.
Таким образом, в реплике передается не только «диало-
гическое движение», но и ощущается «событийность»,
11 Пушкин Л. С. Поли. собр. соч.: В 16 т. М.: Изд-во АН СССР, 1949.
Т. 12. С. 144.
94
развертывание определенного эвена в развитии сюжетного
действия.
Показательно, что в своих разъяснениях (в «Отрывке
из письма, писанного автором вскоре после первого
представления „Ревизора11 к одному литератору») рече-
вого поведения и речевой манеры Хлестакова Гоголь об-
ращает внимание актеров и читателей-зрителей прежде
всего на психологическое правдоподобие и достоверность
этого характера: «Хлестаков вовсе не надувает; он не
лгун по ремеслу; он сам позабывает, что лжет, и уже сам
почти верит тому, что говорит <...> Хлестаков лжет вовсе
не холодно или фанфаронски-театрально; он лжет с чув-
ством; в глазах его выражается наслаждение, получаемое
им от этого. Это вообще лучшая и самая поэтическая ми-
цута в его жизни — почти род вдохновения».
Автор подробно характеризует не только речевое пове-
дение персонажа, но определяет и психологическую атмо-
сферу «диалогического развития», составляющую главный
нерв и сюжетного движения. *
В художественной прозе Гоголя, как и в его драма-
тургии, устанавливается тесная связь между живым, зву-
чащим словом и его письменно закрепленным образом.
Эмфатическая, разорванная рыданиями или чувством
страха, боли, отчаяния речь закрепляется средствами
графики.
В «Старосветских помещиках» есть такой эпизод:
рассказчик, после смерти Пульхерии Ивановны, при-
езжает в старый гостеприимный дом, где застает одного
Афанасия Ивановича: «— Вот это то кушанье,— сказал
Афанасий Иванович, когда подали нам мнишки со смета-
ною,— это то кушанье,— продолжал он, и я заметил, что
голос его начал дрожать и слеза готовилась выглянуть из
его свинцовых глаз, но он собирал все усилия, желая
удержать ее,— Это то кушанье, которое по...по...покой...
нокойни...— и вдруг брызнул слезами». В комментарии
рассказчика уже есть описание того, как ведет себя во
время произнесения этой реплики Афанасий Иванович,
по и в графически закрепленном образе слова передается
его звучание, живое произнесение. Вся реплика Афанасия
Ивановича состоит, по существу, из одной фразы, кото-
рую он никак не может выговорить. Речь Афанасия Ива-
новича прерывается рыданиями. Одна реплика персона-
жа создает зрительный образ всей сцены. Первая часть
реплики: «Это то кушанье...» — повторяется трижды, каж-
дый раз прерывается она на упоминании умершей («по-
95
койницы»). Эмфатически расчлененная, разорванная пла-
чем, опа закрепляет живое впечатление слушателя, адре-
сата речи. Закрепленным оказывается и живое,
непосредственное произнесение и интонирование речи.
Сохранение индивидуальных особенностей речеведё-
ния, произношения создает эффект живого звучания речи,
читатель становится как бы еще и свидетелем драматиче-
ской сцены. Для поэтики Гоголя характерно точное вос-
произведение живого звучания и в комических сценах,
где эмоциональная тональность располагается от мягкой
иронии до злого сарказма. Мы как бы слышим речь
Плюшкина, удивленно разглядывающего неожиданного
посетителя и, в свою очередь, возбуждающего изумление
даже в видавшем разные «виды» Чичикове: «—Что, ба-
тюшка, слепы-то, что ли? — сказал ключник,— Эхва!
А вить хозяин-то я1».
В драматургии Гоголя мы находим это же стремление
передать живое звучание речи, особенно в напряженных
ситуациях. От страха городничий, «подходя и трясясь
всем телом, силится выговорить»: «—А ва-ва-ва... ва...
... А ва-ва-ва... ва. Ва-ва-ва... шество, превосходитель-
ство, не прикажете ли отдохнуть?., и комната и все, что
нужно» (Ревизор, д. III, явл. VI).
В той же комедии Лука Лукич от робости и страха
путается в официально принятых обращениях (Ваше
благородие ...преосвященство ...сиятельство): «Оробел,
ваше бла... преос... снят... (В сторону). Продал проклятый
язык, продал!» (Ревизор, д. IV, явл. V).
Авторские ремарки, комментирующие речеведение в
драматургических произведениях, не только раскрывают
речевую манеру действующих лиц, но и зрительно упоря-
дочивают сцену. Вот, например, авторские ремарки к I
действию, III явлению о Добчинском и Бобчинском: «оба
входят запыхавшись», пять раз повторяется ремарка «пе-
ребивая»; «Все усаживаются вокруг обоих Петров Ива-
новичей»; «отводя его руки»; «вертит рукою около лба».
И все эти пояснения автор включает в одно явление, что-
бы упорядочить движения действующих лиц на сцене.
Особенно подробно и тщательно комментируется автором
речь Хлестакова, его поведение при произнесении реплик,
тон, мимика, изменение интонации: «Ходит по комнате»,
«ходит и разнообразно сжимает свои губы, наконец гово-
рит громким и решительным голосом»; «громким, но не
столь решительным голосом»; «голосом вовсе не реши-
тельным и не громким, очень близким к просьбе...» —
96
т. е. ремарками передается психологическое движение, из-
менение «ситуации диалога».
Семантико-синтаксическая структура реплики обнару-
живает движение сознания, формирование мысли говоря-
щего. Так, городничий, испуганный надвигающейся рас-
платой, дает указания, наскоро припоминая, что нужно
еще сделать, и присоединяя друг к другу все свои распо-
ряжения: «Да разметать наскоро старый забор <...> Да
если приезжий будет спрашивать службу <...> Да сказать
Держиморде, чтобы не слишком давал воли кулакам сво-
им <„.> Да не выпускать солдат на улицу безо всего: эта
дрянная гарниза наденет только сверх рубашки мундир,
а внизу ничего нет» (Ревизор, д. I, явл. I). Реплика в
своей стилистике обнаруживает «ход мысли» городниче-
го: припоминая различные упущения по службе, он, бо-
ясь ревизора, придумывает «контрмеры». Отсюда и «на-
низывание» присоединительных конструкций.
Семантико-стилистическая организация реплики обна-
руживает приемы диалогизации и внешне монологиче-
ской реплики. После «сцены вранья» озадаченный город-
ничий, например, пытается разобраться в том, что он
услышал от пьяного Хлестакова, и отделить правду от
хвастовства. Уединенные размышления Сквозника-Дмуха-
новского — монолог, построенный на цепи вопросов, не
рассчитанных на полный ответ. Размышления городниче-
го переплетаются с «цитатами» из пьяной болтовни Хле-
стакова. Городничий: «И не рад, что напоил. Ну что,
если хоть одна половина из того, что он говорил, прав-
да? {Задумывается.') Да как же и не быть правде? Под-
гулявши, человек все несет наружу: что на сердце, то и
па языке. Конечно, прилгнул немного; да ведь не прил-
гнувши не говорится никакая речь. С министрами играет
и во дворец ездит... Так вот, право, чем больше дума-
ешь... черт его знает, не знаешь, что и делается в голо-
ве; просто как будто или стоишь на какой-нибудь коло-
кольне, или тебя хотят повесить» (Ревизор, д. III, явл.
IX). Этот монолог — рассуждения персонажа, стремяще-
гося раскрыть «логику поведения» другого лица. Мысль
городничего как бы отталкивается от норм, которые, по
его мнению, свойственны человеку вообще («подгулявши,
человек все несет наружу», «не прилгнувши не говорится
никакая речь»). Постепенно он переходит к действиям
обобщенного лица, причем это ты включает и его я
(«чем больше думаешь... не знаешь, что и делается в го-
лове... или стоишь на какой-нибудь колокольне, или тебя
4 Л. И. Еремина
97
хотят повесить»), В последнем случае предполагаются
действия каких-то неопределенных третьих лиц, а сам
обобщенный субъект, включающий и я говорящего,—
только объект действия этих лиц: «...или тебя хотят пове-
сить». Таким образом, в реплике городничего в обоб-
щенном виде «проигрываются» две возможности фина-
ла его карьеры: почет и возвышение над толпой («или
стоишь на какой-нибудь колокольне») — и второй, столь
же вероятный вариант: «или тебя хотят повесить».
Показательно, что эта ориентация на д в а исхода, по
существу, характерна почти для всех действующих лиц
комедии, та же ориентация ощущается и в глубинном
строе ключевых реплик комедии. Так, вся сцена город-
ничего с купцами построена на сопоставлении // пересече-
нии этих же двух возможностей: или почет и богатство,
или Сибирь. И оба выхода в равной степени закономерны
как для городничего и купцов, так и для остальных дей-
ствующих лиц «Ревизора».
Каждый из участников сценического действия привно-
сит в диалог свою речевую и поведенческую манеру, ха-
рактерные для него формы речи, интонационную окраску,
эмоциональную тональность и многое другое 12. В прозе
ремарки повествователя конкретизируют общую «атмо-
сферу диалога». Рассказчик может брать на себя воспро-
изведение диалога, вбирая в свое повествование чужие
голоса, вплавляя чужие реплики и точки зрения. В этом
случае перед нами реализация приема «скольжения речи
по разным субъектпым сферам» и различные формы про-
явления несобственно-прямой речи.
Речевая маска. Речевой портрет.
Рассказчик-персонаж
Слово персонажа в индивидуальных особенностях инто-
нирования и собственной манеры речевого поведения и
речеведёния, в стилистически маркированных формах на
общем фоне «контекста эпохи» мы принимаем за «рече-
вой портрет» действующего лица. Речевой портрет персо-
12 «Конечно, построение диалогической речи подчинено своим за-
конам, которые обусловлены формами чередования реплик и
различиями языкового сознания собеседников. Тем не менее
общие приемы комического речеведения, независимые от во-
просо-ответного стиля, уже даны были Гоголем в сказе ранних
повеял. И Гоголь затем лишь вырабатывал художественные ва-
риации этих приемов, приспособляя их к особенностям диало-
га» (Виноградов В. В. Этюды о стиле Гоголя//Поэтика... С. 291).
98
нажа тесно взаимодействует с «речевой маской», т. к.
индивидуальные особенности речеведёния в центре вни-
мания повествователя. Как известно, Акакий Акакиевич
Башмачкин по скромности и застенчивости объяснялся
больше междометиями и всякого рода добавочными ча-
стицами. Его косноязычная, спотыкающаяся речь — яв-
ление, объяснимое социально и психологически: малень-
кий чиновник в уродующих душу социальных условиях
подавлен своим ничтожеством и незначительностью. От-
сюда и все заминки, паузы колебания и сломы интона-
ции. Речевая мапера Башмачкина состоит по преимуще-
ству в том, чтобы изъясняться с собеседником (в особен-
ности в затруднительных ситуациях), уснащая свою
речь множеством необязательных слов («упаковочного
материала», по выражению Л. В. Щербы). Вот «прямая»
речь Акакия Акакиевича, обращенная к портному Пет-
ровичу, которому он принес в починку свою старую ши-
нель: «— А я вот того, Петрович... шинель-то, сукно...
вот видишь, везде в других местах совсем крепкое, оно
немножко запылилось, и кажется, как будто старое, а оно
новое, да вот только в одном месте немного того... на
спине, да еще вот на плече одном немножко попротер-
лось, да вот на этом плече немножко — видишь, вот и
все. И работы немного...». Здесь речевые заминки вызва-
ны не столько подыскиванием слова, сколько стремлени-
ем избежать определенности в называниях, поэтому и по-
являются лексические замены: «немного того» — означа-
ло ‘протерлось, прохудилось’. Но Башмачкин стремится
к непрямому обозначению, отсюда и эти придыхания
(...) как эквивалент речи.
Речевая маска как средство характеристики персона-
жа, т. е. в своей характерологической роли, последова-
тельно прослеживается на всем протяжении повествова-
ния. Так, Акакий Акакиевич Башмачкин ту же споты-
кающуюся затрудненность речи обнаруживает и в своих
размышлениях, где, казалось бы, не ощущается «диало-
гическое давление» собеседника. Но по-прежнему чувст-
вуется давление обстоятельств 13. Поэтому-то, узнав, что
13 Мысль Гоголя о том, что «высокая комедия» поднимается до вы-
сот трагического искусства, что смех не только главная сила
комедии, но и своеобразный очистительный огонь, сближается
с утверждением Пушкина: «Заметим, что высокая комедия пе
основана единственно на смехе, но на развитии характеров, —
и что нередко (она) близко подходит к трагедии» (Пуш-
кин А. С. Поли. собр. соч. Т. И. С. 178, статья «О народной дра-
ме и драме «Марфа посадпица», 1830 г.).
4*
99
Шинель всё-такй придется шить новую, обескураженный
Акакий Акакиевич рассуждает с теми же «необязатель-
ными» частицами и с теми же остановками и сломами ре-
чевого потока: «Этаково-то дело этакое,— говорил он сам
себе: — я, право, и не думал, чтобы оно вышло того...—
а потом, после некоторого молчания, прибавил: — так вот
как! наконец вот что вышло, а я, право, совсем и пред-
полагать не мог, чтобы оно было этак». Таким именно
образом размышляет Акакий Акакиевич, «вышед на ули-
цу, как во сне,..». Показательно, что эта же речевая мас-
ка Башмачкина сохраняется в определенной мере и в, по-
вествовании рассказчика, когда речь идет об изложе-
нии собственной речи Акакия Акакиевича: «Акакий
Акакиевич уже заблаговременно почувствовал надлежа-
щую робость, несколько смутился и, как мог, сколько
могла позволить ему свобода языка, изъяснил с прибав-
лением даже чаще, чем в другое время, частиц «того»,
что была-де шинель совершенно новая, и теперь ограблен
бесчеловечным образом, и что он обращается к нему, чтоб
он ходатайством своим того, списался бы с господином
обер-полицмейстером или другим кем и отыскал шинель».
Показательно, что и в этом переложении речи Башмач-
кина не только сохраняются «сигналы», «опознаватель-
ные знаки» его речевой маски, но и объясняются ее ис-
токи — Башмачкин «заблаговременно почувствовал над-
лежащую робость...» в обращении с высоким и строгим
начальством.
Характерологическая, выявляющая сущность ре-
чевой маски в творческой практике Гоголя несомненна.
Психологическая и социальная природа речевой маски
персонажа обычно раскрывается и подается в авторском
повествовании. Маленький, робкий и застенчивый Баш-
мачкин в уродующих условиях социальной жизни, каза-
лось, самой судьбой назначен только для переписывания:
выражение и формирование собственной мысли даются
ему с большим трудом, с усилием. Речевая маска Ака-
кия Акакиевича не столько определяет содержание его
личности, ее «духовный потенциал», сколько обнаружива-
ет результат воздействия окружающей среды в ее самых
бесчеловечных формах. Именно поэтому речевая маска
персонажа в структуре всего художественного целого,
всей художественной системы прозы Гоголя становится
средством разоблачения и обличения. И приговор выно-
сится социальной действительности. В. Г. Белинский,
рассматривая творчество Гоголя в контексте истории рус-
100
ской литературы XIX- в., писал: «К сочинениям каждого
из поэтов русских можно, хотя и с натяжкою, приложить
старое и ветхое определение поэзии, как „украшенной
природы"; но в отношении к сочинениям Гоголя этого
уже невозможно сделать. К ним идет другое определение
искусства — как воспроизведение действительности во
всей ее истине» 14.
Ситуация диалога выявляет характер персонажа не
только тогда, когда он сам участвует в диалоге в качест-
ве собеседника, но и тогда, когда он сам «творит» диалог.
Персонаж-рассказчик обнаруживается в своем самом со-
кровенном, внутренне-диалогическом действии. Рассказ-
чик-персонаж, организующий повествование не только
своей точкой зрения, своей личностной позицией, но и
вносящий в повествование свою речевую манеру, элемен-
ты своей собственной речевой маски,— фигура, возник-
шая в самых ранних произведениях Гоголя. В «Вечерах
на хуторе близ Диканьки» очень многие особенности по-
вествования вызваны к жизни именно образом рассказ-
чика — «пасичником Рудым Паньком».
В этой главе мы рассмотрим речевую маску рассказ-
чика-персонажа в ее характерологической функции.
В «Мертвых душах» некий Иван Андреевич, почтмей-
стер, рассказывает «Повесть о капитане Копейкине», за-
думавшем в столице выхлопотать себе «пенсион». Речь
почтмейстера характерологична в том смысле, что она
обнаруживает самого говорящего в его стремлении гово-
рить «красно», и в том, что орнаментальность, «изукра-
шенность» преследует еще одну цель — стилистическую:
показать остранённо роскошь столичной жизни, отделив
ее тем самым от будничной привычной повседневности.
Многочисленны конструкции-повторы, передающие мо-
дальность высказывания или выполняющие функции
«обращения к аудитории», активизирующие внимание
слушателей: «...можете вообразить... можете представить
себе... понимаете... можете представить себе... и можете
вообразить себе... можете вообразить...». Речь почтмейсте-
ра пересыпана всевозможными «орнаментальными оборо-
тами»: «Эдакой какой-нибудь... какой-нибудь эдакий...
какая-нибудь эдакая...». Многократно повторяясь, все
эти необязательные, случайные слова создают тем не
менее особенный, по мнению почтмейстера, изысканный
14 Белинский В. Г. Взгляд на русскую литературу 1847 года //
Полп. собр. соч. Т. 10. С. 294.
101
речевой рисунок. Вся эта разукрашенная «Композиция»
членится на отдельные фрагменты спецификаторами, ука-
зывающими на внезапность или случайность появления
всевозможных столичных диковин. Частицы, щедро усна-
щающие речь почтмейстера, придают устность, видимость
живого, произносимого слова: «Ну, можете представить
себе, эдакой какой-нибудь, то есть, капитан Копейкин и
очутился вдруг в столице, которой подобной, так сказать,
пет в мире! Вдруг перед ним свет, так сказать, некоторое
поле жизни, сказочная Шехерезада. Вдруг какой-нибудь
эдакой, можете представить себе, Невский проспект, или
там, знаете, какая-нибудь Гороховая, черт возьми! Или
там эдакая какая-нибудь Литейная; там шпиц эдакой ка-
кой-нибудь в воздухе; мосты там висят эдаким чертом,
можете представить себе, без всякого, то есть, прикосно-
вения,— словом, Семирамида, судырь, да и полно! П о н а-
толкался было нанять квартиры, только все это куса-
ется страшно: гардины, шторы, чертовство такое, понима-
ете, ковры — Персия целиком: ногой, так сказать, попи-
раешь капиталы» (М. д., 1, X). В этом претенциозном,
корявом, спотыкающемся повествовании отчетливо вы-
являются не только чувства самого рассказчика, витиева-
тым плетением словес стремящегося увлечь своих слуша-
телей, заразить своим восторгом и восхищением, но кос-
венно характеризуются и все слушатели, «общество»,
которому направлена эта речь. Таким образом, характе-
рологическая функция этой пространной реплики огром-
на. Она свидетельствует о степени культуры речевого об-
щения в провинциальном «свете».
Почтмейстер Иван Андреевич хочет все столичное
представить позначительнее и поэффектнее, отсюда и ска-
зочная Шехерезада, и Семирамида, и Персия, и ряды
преувеличений. Вся эта ложная значительность поднима-
ет в собственных глазах и самого рассказчика, почтмей-
стера Ивана Андреевича, умеющего так картинно пред-
ставить нищего инвалида Копейкина на фоне величест-
венной и роскошной столицы. Речевая маска почтмейсте-
ра очень сложна по составу, наряду с орнаментальностью
она включает и привычную бытовую лексику, да и об-
разный строй ее имеет разговорно-просторечную основу,
т. е. повседневную речь Ивана Андреевича: «Ну просто,
то есть, идешь по улице, а уж пос твой так и слышит,
что пахнет тысячами; а у моего капитана Копейкина весь
ассигнационный банк, понимаете, состоит из каких-ни-
будь десяти синюх»; «А в приемной уж народу — как бо-
102
бов на тарелке»; «Он-то уже думал, что вот ему завтра
так и выдадут деньги: „На тебе, голубчик, пей да весе-
лись“; а вместо того ему приказано ждать, да и время не
назначено. Вот он совой такой вышел с крыльца, как пу-
дель, понимаете, которого повар облил водой: и хвост у
него между ног, и уши повесил». Здесь сказывается при-
вычная разговорная стихия, речевая повседневность.
И Семирамиду и Шехерезаду сменили «бобы на тарелке»,
сова, облитый поваром пудель в самом плачевном и уни-
женном состоянии. Изменилась вся художественная си-
стема текста, весь ее образно-речевой строй. Сказочные
атрибуты исчезли, заменившись привычными образами:
«А фельдъегерь уж там, понимаете, и стоит: трехаршин-
ный мужичина какой-нибудь, ручища у него, можете во-
образить, самой натурой устроена для ямщиков,— сло-
вом, дантист эдакой...».
Почтмейстер Иван Яковлевич, по существу, и возник-
то только затем, чтобы рассказать «повесть о капитане
Копейкине», но он принес с собой атмосферу повседнев-
ного разговорного просторечия, раскрашенного разнооб-
разными приемами «красноречия», как его понимал рас-
сказчик. Так и появилась вся бутафорская изобразитель-
ность, в которой тоже есть свои приметы «контекста
эпохи».
Приемом речевой маски в качестве характерологиче-
ского обнаружения рассказчика Гоголь пользовался и в
раннем своем творчестве. Рудый Панько и дьяк дикань-
ской церкви Фома Григорьевич тоже оставили заметный
след в повествовании. Образ рассказчика создается всей
совокупностью приемов, одним из которых является и
«прием речевой маски рассказчика-персонажа».
В «Мертвых душах» есть своеобразный «симбиоз» по-
вествователя и персонажа — это Павел Иванович Чичи-
ков, который, проснувшись в одно прекрасное утро, по-
чувствовал себя владельцем четырехсот крепостных душ,
правда «несуществующих» — т. е. беглых или мертвых.
Чичиков перечитывает «реестрик», в котором за каждой
душой — какая-то неизвестная ему жизнь, чужая судь-
ба. Вот эти-то «истории жизни», чужое жизнеописание
он и стремится представить себе, причем не умозритель-
но, а в конкретных фактах биографии, событийно,
в диалоге. Но представить чужую судьбу в цепи событий,
в жизненном течении Чичиков может только на свой об-
разец. Добродушное настроение располагает его к умиро-
творенному размышлению о земном пути всех этих бег-
103
лых и мертвых «душ». Весь рассказ строится как гипо-
тетическое жизнеописание, а роль повествователя
принимает на себя Чичиков, придумывающий судьбу
каждого лица, обозначенного в списке: «Григорий Доез-
жай-не-доедешь! Ты что был за человек? Извозом ли. про-
мышлял и, заведши тройку и рогожную кибитку, отрекся
навеки от дому, от родной берлоги, и пошел тащиться с
купцами на ярмарку». Размышления повествователя по-
степенно принимают характер уже не вопросов-предполо-
жений, а утвердительного повествования, направленного
к совершенно определенному лицу, обозначенному в
«реестрике»,— лицу деятеля, а само повествование пре-
вращается в «сценическое действо». Так, дворовый чело-
век Попов, по предположению Чичикова, грамотей и уда-
лец, становится не только деятелем, но и адресатом речи,
именно к нему обращено все повествование о нем. От
Чичикова он выслушивает рассказ о своих собственных
приключениях: «Но вот уж тебя беспашпортного поймал
капитан-исправник. Ты стоишь бодро на очной ставке».
Эта «очная ставка» представлена в виде драматической
сцены, в лицах. Причем роль повествователя (наблюда-
теля, комментирующего всю сцену) берет на себя опять-
таки сам Чичиков. Он как бы пересказывает дворовому
Попову его жизнь, переводя все прошлые события в
план «настоящего рассказа». Все описание обращено к
непосредственному участнику и главному действующему
лицу, самому дворовому Попову, отсюда и ты собеседни-
ка: «Чей ты?» — говорит капитап-исправник, ввернувши
тебе при сей верной оказии кое-какое крепкое -словцо.
«Такого-то и такого-то помещика»,— отвечаешь ты бойко.
«Зачем ты здесь?» — говорит капитан-исправник. «Отпу-
щен на оброк»,— отвечаешь ты без запипки». Весь этот
диалог-импровизация построен по системе вопрос-ответ,
а ремарки повествователя характеризуют речевую манеру
и поведение участников диалога. Чичиков передает и из-
менение «психологической атмосферы» диалога. Так, ка-
питан-исправник сначала лишь украшает свои обращения
к беглому Попову «кое-каким крепким словцом», но по-
том страсти разгораются, что и сказывается в очередном
обращении: «— А солдатскую шинель,— говорит капитан-
исправник, загвоздивши тебе опять впридачу кое-какое
крепкое словцо,— зачем стащил?».
Таким образом, перед нами драматическая сценка,
созданная самим Чичиковым и вплавленная в авторское
повествование. Каждое новое имя в реестрике в сознании
104
Чичйковй обрастает новыми бытовыми подробностями,
создается новое жизнеописание, обращенное к самому
этому лицу: ч. Абаку м Фыров! ты, брат, что, где, в каких
местах шатаешься?..». Показательно, что Чичиков-рас-
сказчик постепенно в своих домыслах сближается с ав-
торским повествованием. Бытовые картинки и диалоги,
созданные в воображении Чичикова, продолжаются
автором, подхватываются им и вопросы Чичикова-рас-
сказчика, обращенные к лицу, помеченному в списке:
«// в самом деле, где теперь Фыров? Гуляет шумно и ве-
село па хлебной пристани, порядившись с купцами. Цветы
и ленты на шляпе, вся веселится бурлацкая ватага, про-
щаясь с любовницами и женами, высокими, стройными,
в монистах и лентах; хороводы, песни, кипит вся пло-
щадь, а носильщики между тем при криках, бранях и
понуканьях, зацепляя крючком по девяти пудов себе на
спину, с шумом сыплют горох и пшеницу в глубокие
суда, валят кули с овсом и крупой, и далече виднеются
по всей площади кучи наваленных в пирамиду, как ядра,
мешков, и громадно выглядывает весь хлебный арсенал,
пока не перегрузится весь в глубокие суда-суряки и не
понесется гусем вместе с весенними льдами бесконечный
флот. Там-то вы наработаетесь, бурлаки! и дружно, как
прежде гуляли и бесились, приметесь за труд и пот, таща
лямку под одну бесконечную, как Русь, песню» (М. д.,
1, VII). Все повествование автора выдержано в мажорной
тональности. Труд обрисован почти как ратпый подвиг
(не случайны здесь и «батальные» сопоставления и обра-
зы: мешки навалены в пирамиду, как ядра-, «громадно
выглядывает весь хлебный арсенал»), В повествовании
нарисована широкая картина народной вольницы. Беглый
парод «гуляет шумно и весело», «цветы и ленты на шля-
пе», любовницы и жены — «высокие, стройные, в мони-
стах и лентах». Да и сам труд представлен празднично,
в забубенной удали и молодецкой силе: носильщики за-
цепляют «крючком по девяти пудов себе на спину». Все
это описание народного труда подается на фоне изобилия
«плодов земных»: «носильщики... с шумом сыплют горох
и пшеницу в глубокие суда, валят кули с овсом и кру-
пой». И над всей этой народной вольницей нет ни поме-
щиков, ни начальников; и «труд и пот» — все это на фоне
«бесконечной, как Русь, песни».
Повествование Чичикова построено с точки зрения
рассказчика-Чичикова, плутовством, обманом и прочими
неприглядными делами обеспечивающего свое приобрета-
тельство. Поэтому все жизнеописания Чичиков придумы-
вает, основываясь на своем житейском опыте и пра-
вилах. Даже «Пробка Степан, плотник, трезвости при-
мерной», по мнению Чичикова, «съедал на грош хлеба
да на два сушеной рыбы, а в мошне, чай, притаскивал
всякий раз домой целковиков по сту, а может, и государ-
ственную зашивал в холстяные штаны или затыкал в
сапог...». Творя историю беглых и мертвых душ «по свое-
му образу и подобию», Чичиков каждого из поименован-
ных мужиков приводит или в тюрьму, или, в погоне «за
большим прибытком», в могилу. Показательно, что имен-
но тюрьма рисуется Чичиковым как прибежище, единст-
венное место, где «живет себе» припеваючи русский че-
ловек: «И вот, вынувши из кармана табакерку, ты
потчеваешь дружелюбно каких-то двух инвалидов, наби-
вающих на тебя колодки, и расспрашиваешь их, давно
ли они в отставке и в какой войне бывали. И вот ты себе
живешь в тюрьме, покамест в суде производится твое
дело <...> и ты переезжаешь себе из тюрьмы в тюрьму...'а
(М. д., 1, VII).
Позиция Чичикова-рассказчика находится во внутрен-
не-диалогических отношениях с позицией автора-повест-
вователя. Чичиков привносит в придуманные истории
свою систему ценностей, поэтому даже «молодецкие тру-
довые подвиги» совершаются только «для большого при-
бытку»: «А! Вот он, Степан Пробка, вот тот богатырь,
что в гвардию годился бы! <...> Взмостился ли ты для
большого прибытку под церковный купол, а может быть,
и на крест потащился и, поскользнувшись оттуда с пере-
кладины, шлепнулся оземь...». И труд мастерового невоз-
можен, по мнению Чичикова, для русского человека без
обмана и мошенничества: «И вот, давши барину поря-
дочный оброк, завел ты лавчонку, набрав заказов кучу,
и пошел работать. Достал где-то в три-дешева гнилушки
кожи и выиграл, точно, вдвое на всяком сапоге, да че-
рез недели две перелопались твои сапоги, и выбранили
тебя подлейшим образом. И вот лавчонка твоя запустела,
и ты пошел попивать да валяться по улицам...». Таким
образом, косвенной характеристикой персонажа-рассказ-
чика становится его повествование. Чичиков как дейст-
вующее лицо «Мертвых душ» и Чичиков-рассказчик —
две стороны одного характера. Авторское повествование
о судьбе Абакума Фырова, вольно гуляющего «в разгуле
широкой жизни», противопоставлено тем судьбам, кото-
рые конструирует воображение Чичикова. «Мертвая
106
душа» самого Чичикова в каждой отдельной картине чу-
жой судьбы, начинающейся очередным «И вот...» (слово-
сочетанием, анафорически объединяющим все придуман-
ные Чичиковым жизнеописания), видит еще один путь к
«большому прибытку» или еще одну тюремную камеру,
где «живет себе», отдыхает для новых приключений рус-
ский человек. Все народные силы, по мнению Чичикова,
истощаются только в одном деле: обогатиться воровством,
пронырством, мошенничеством или бесшабашным удаль-
ством.
В «ситуации диалога» между рассказчиком-персона-
жем и автором-повествователем происходит еще одно ра-
зоблачение Павла Ивановича Чичикова, для которого са-
мые разнообразные способы уголовно-наказуемого обога-
щения — форма существования. Автор-повествователь в
противоположность Чичикову видит могучие здоровые
силы нации, «там, где взгляд может проникнуть сквозь
туман нечистых навозных испарений, там он видит уда-
лую, полную сил национальность» 15.
Итак, проблема «диалог: ситуация и текст» включает
в себя кроме собственно диалога еще и диалогически со-
поставленные позиции персонажей. Диалогические сце-
ны, представленные как разговор, как обмен репликами
звучащей, внешней речи, рассматриваться должны в об-
щей структуре текста, т. е. во взаимоотношениях и
взаимосвязях с авторским повествованием, следовательно,
и с авторской позицией.
Диалог в системе текста выполняет важную характе-
рологическую функцию, в речи выявляется личность гово-
рящего. Средствами речевых характеристик и ремарок
повествователя, комментирующего диалогическое движе-
ние, создается речевой портрет перронажа.
Индивидуальные особенности речеведёния присутст-
вуют и выделяются на фоне разговорной речевой стихии
и литературного кодифицированного языка определенно-
го периода; таким образом, в основе каждого художест-
венного произведения лежит контекст эпохи.
Диалогическая речь включает в себя фиксацию живо-
го слова персонажа. Усиленная эмоциональность, инто-
национная и смысловая незавершенность реплики в си-
стеме диалога выступают как прием обнаружения
сиюминутности, неподготовленности речи. Ту же цель —
15 Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М.: Худож. лит., 1954—1964. Т. 2.
С. 214.
107
показать незаданность диалогической реплики — пресле-
дуют всевозможные перебои речевого потока, переспро-
сы, сломы интонации. Наличие пауз колебания, широкий
круг средств выражения индивидуального интонирова-
ния — все эти приемы стремятся подчеркнуть интимность
высказывания. Отсутствие этих черт в диалоге тоже экс-
прессивно значимо.
В художественной прозе Гоголя, в лирических отступ-
лениях слышен чистый голос автора. Лирические отступ-
ления своей высокой духовностью, напряженной патети-
кой сближаются с лирико-философской прозой Гоголя.
Авторская ирония
в структуре диалога
Иронический рассказчик выявляется во всех деталях по-
вествования, в том числе и в собственно диалогических
текстах. Диалогическое соотнесение реплик действующих
лиц, авторские ремарки к диалогу, характерологические
«краски», интонационная и ритмо-мелодическая «факту-
ра» — все это выявляет ироническое лицо повествовате-
ля. Участие рассказчика ощущается в комическом вос-
произведении как бы на глазах читателей событий и
диалогических сцен в их «дроби и мелочи». В повести
«Коляска» генерал в «благородных подтяжках из шелко-
вой материи» обсуждает с местным помещиком Пифаго-
ром Пифагоровичем Чертокуцким достоинства недавно
купленной гнедой кобылы. При этом разговоре они ку-
рят трубки. И рассказчик воспроизводит не столько их
речи, сколько звуки, которые издают их трубки и
они сами при курении:
«— <...> Лошадь, нуф, пуф, очень порядочная!
— И давно, ваше превосходительство, пуф, пуф, изво-
лите иметь ее? — сказал Чертокуцкий.
— Пуф, пуф, пуф, пу... пуф, не так давно. Всего
только два года как она взята мною с завода!
/— И получить ее изволили объезженную, или уже
здесь изволили объездить?
— Пуф, пуф, пу, пу, пу... у... у... ф здесь,— сказавши
это, генерал весь исчезнул в дыме».
«Диалог трубок» передается в тщательной звуковой
фиксации, а по репликам собственно диалога видно соот-
ношение «социальное», если Чертокуцкий с соблюдением
всех правил этикета задает вопросы, проявляя известную
куртуазность («...изволите иметь... получить изволили
108
объезженную... изволили объездить...»), то реагирует па
его слова главным образом генеральская трубка, а соб-
ственно ответ короток по-генеральски.
В диалогических сценах между Маниловым и Чичи-
ковым, когда зашла речь о купле-продаже мертвых, обес-
кураженный и озадаченный Манилов тоже прибегает к
помощи чубука: «Как ни придумывал Манилов, как ему
быть и что ему сделать, но ничего другого не мог приду-
мать, как только выпустить изо рта оставшийся дым
очень тонкой струею». Чичиков своим предложением ку-
пить мертвых вконец смутил Манилова, который «совер-
шенно растерялся. Он чувствовал, что ему нужно что-то
сделать, предложить вопрос, а какой вопрос — черт его
знает. Кончил он, наконец, тем, что выпустил опять дым,
но только уже не ртом, а чрез носовые ноздри» (М. д.,
1, II). В продолжение всей этой сцены чубук —почти са-
мостоятельное действующее лицо:
«— Итак, если нет препятствий, то с богом можно бы
приступить к совершению купчей крепости,— сказал Чи-
чиков.
— Как, на мертвые души купчую?
— А, нет! — сказал Чичиков.— Мы напишем, что они
живы, так, как стоит в ревизской сказке. Я привык ни в
чем не отступать от гражданских законов; хотя за это и
потерпел на службе; но уж извините: обязанность
для меня дело священное, закон — я немею пред за-
коном.
Последние слова понравились Манилову, но в толк са-
мого дела он все-таки никак не вник и вместо ответа при-
нялся насасывать свой чубук так сильно, что тот начал,
наконец, хрипеть, как фагот. Казалось, как будто он хо-
тел вытянуть из него мнение относительно такого неслы-
ханного обстоятельства; но чубук хрипел, и больше ни-
чего» (М. д., 1, II).
Рисунок жестов превращается в авторском слове в
развернутую сатирическую картину, раскрывающую внут-
ренне диалогические отношения между повествователем
и персонажем. Манилов в финале «купли-продажи» мерт-
вых душ, «сделавши некоторое движение головою, посмо-
трел очень значительно в лицо Чичикова, показав во всех
чертах лица своего и в сжатых губах такое глубокое вы-
ражение, какого, может быть, и не видано было на чело-
веческом лице, разве только у какого-нибудь слишком
умного министра, да и то в минуту самого головоломного
дела» (М. д., 1, II).
Ремарки повествователя, комментирующего и вводя-
щего прямую речь персонажей,— всегда свидетельство Ав-
торской оценки 16. Вот пример: Чичиков с Собакевичем
начинает разговор «насчет главного предмета», т. е. куп-
ли-продажи мертвых душ, которые по ревизским сказкам
значатся живыми. Чичиков из осторожности и своеобраз-
ной стыдливости плута «никак не назвал души умерши-
ми, а только несуществующими»: «— Вам нужно мерт-
вых душ? — спросил Собакевич очень просто, без малей-
шего удивления, как бы речь шла о хлебе» (М. д., 1, II).
В авторское повествование, сопровождающее диалог,
могут вводиться, казалось бы, случайные бытовые пред-
меты, вещи окружающего мира. Причем они начинают
принимать какое-то участие в диалогическом напряжении,
в развитии «диалогического действия», под которым ус-
ловимся понимать в данном случае диалогическую вза-
имосвязь психологических позиций участников сцены.
Так, Акакий Акакиевич, только что принесший Петрови-
чу свою шинель, со страхом и смущением наблюдает за
всеми движениями и действиями портного, осматриваю-
щего его «гардероб». И при этом внимание его занимает
не только сам осмотр, но и все прочие действия Петрови-
ча, например его табакерка, которая изображена с массой
подробностей, зрелищно. Роль художественной детали в
структуре всего образно-речевого целого — один из суще-
ственных вопросов поэтики Гоголя ”. Изображение диа-
логической сцепы в массе второстепенных, сопутствую-
щих движений создавало зрительный образ, среду
сюжетного действия: Петрович «полез рукою на окно за
круглой табакеркой с портретом какого-то генерала, како-
16 «Умение создавать пластический и вместе с тем полный ху-
дожественного комизма и выразительности переход от повест-
вования к разным аспектам восприятия своих персонажей, вос-
произвести уже в самой авторской речи специфическую внут-
реннюю атмосферу, умственный кругозор и излюбленный спо-
соб выражения данного лица, никогда пе оставляет Гоголя»
(Сорокин Ю. С. Словарный состав «Мертвых душ» // Гоголь. Л.:
Изд-во ЛГУ, 1954. С. 27).
17 Воспроизведение жизни в бытовых реалиях, в буднич-
ных делах и ситуациях, по словам Гоголя, дело «великих та-
лантов». «Непостижимое явление, — писал Гоголь в «Петербург-
ских записках 1836 года», — то, что вседневно окружает пас,
что обыкновенно, то может замечать один только глубокий, ве-
ликий, необыкновенный талант. Но то, что случается, что сос-
тавляет исключения, что останавливает нас своим безобрази-
ем, нестройностью среди стройности, за то схватывается обеими
руками посредственность» (Гоголь Н. В. Поли. собр. соч. Т. 6.
С. 112).
НО
го именно, неизвестно, потому что место, где находилось
лицо, было проткнуто пальцем и потом заклеено четве-
роугольным лоскуточком бумажки». Этот «генерал» потом
появляется в той же диалогической сцене еще дважды:
«...вновь снял крышку с генералом, заклеенным бумаж-
кой...»; «При слове „новую11 у Акакия Акакиевича затума-
нило в глазах, и все, что ни было в комнате, так и по-
шло пред ним путаться. Он видел ясно одного только ге-
нерала с заклеенным бумажкой лицом, находившегося на
крышке Петровичевой табакерки» (Шинель) ”.
Каждый частный прием в организации диалога — еще
одна грань гоголевского мастерства. 'Диалогическое на-
пряжение и развертывание совершаются усилием и соот-
ношением всех компонентов диалога как особым образом
организованного текста. Очень существенна и сопостави-
тельная весомость «речевой программы» каждого участ-
ника. Вот здесь-то и проявляется функция самого пове-
ствователя, его оценка и интерпретация диалогической
сцены. Эмоциональная и информативная весомость репли-
ки, ее содержательный «потенциал» — существенная
часть речевого портрета персонажа. В качестве примера
для анализа возьмем сцену между. Чичиковым, Манило-
вым и приказчиком Манилова, разговор между ними идет
о том, сколько же душ умерло с момента подачи очеред-
ной ревизской сказки. Самое «заинтересованное» лицо в
этой сцене, конечно, Чичиков. Внешне диалог ведет на
правах хозяина дома Манилов:
«— Послушай, любезный! Сколько у нас умерло
крестьян с тех пор, как подавали ревизию?
— Да как сколько? Многие умирали с тех пор,— ска-
зал приказчик и при этом икнул, заслонив рот слегка
рукою, наподобие щитка.
— Да, признаюсь, я сам так думал,— подхватил Ма-
нилов,— именно, очень многие умирали] — Тут он оборо-
” Справедливости ради падо отметить первое появление «генера-
ла», еще в «Вечерах...»: «Не говоря ни слова, встал он с места,
расставил ноги свои посереди комнаты, нагнул голову немно-
го вперед, засунул руку в задний карман горохового кафтана
своего, вытащил круглую под лаком табакерку, щелкпул паль-
цем по намалеванной роже какого-то бусурмапского генерала
и, захвативши немалую порцию табаку, растертого с золою и
листьями любистка, поднес ее коромыслом к носу и вытянул
носом на лету всю кучку, не дотронувшись даже до большого
пальца...» («Вечера...», предисловие). Таким образом, тщатель-
ное воспроизведение на глазах читателя всех мелких
и, казалось бы, случайных предметов окружающей обстанов-
ки — деталь поэтики Гоголя, пришедшая из самого раннего
периода его творчества.
тился к Чичикову и прибавил еще: — Точно, очень
многие.
— А как, например, числом? — спросил Чичиков.
— Да, сколько числом? — подхватил Манилов.
— Да как сказать числом? Ведь неизвестно,, сколько
умирало, их никто не считал.
— Да, именно,—сказал Манилов, обратясь к Чичи-
кову,— я тоже предполагал, большая смертность, совсем
не известно, сколько умерло.
— Ты, пожалуйста, их перечти,— сказал Чичиков,—
и сделай подробный реестрик всех поименно/.
~ Да, всех поименно,— сказал Манилов» (М. Д., 1, II)'..
«Поддакивание» Манилова, повторяющего чужие сло-
ва почти буквально, входит в его речевой портрет в ка-
честве дополнительного штриха, еще одной «речевой крас-
ки». В авторской ремарке дважды повторяется глагол:
речи подхватил. Сопровождающий и комментирующий
прямую речь рассказчик останавливает внимание чита-
теля именно на этой черте речевого портрета Манилова,
повторяющего, как эхо, последние слова чужих реплик.
Манилов подхватывает и присоединяется то к одному, то
к другому собеседнику. Манилов, по выражению рассказ-
чика, не имеющий своего «задора»,— внутренне пуст, не-
самостоятелен, именно эта черта и определяет его поло-
жение в диалоге.
Диалог — как средство выявления взаимоотношений
различных позиций, точек зрения, наконец, «раскрытий»
личности в речи — может окрашивать внешне монологи-
ческое слово рассказчика. Так, в авторском повествовании
диалогически соотнесены две диаметрально противополож-
ные позиции: Акакия Акакиевича, ограбленного на тем-
ной, безлюдной площади, и будочника, спокойно наблю-
дающего за происходящим. Причем в авторском по-
вествовании эти позиции диалогически сопоставлены::
«Отчаянный, не уставая кричать, пустился он бежать' че-
рез площадь прямо к будке, подле которой стоял будоч-
ник и, опершись на свою алебарду, глядел, кажется, с лю-
бопытством, желая знать, какого черта бежит к нему из-
дали и кричит человек» (Шинель).
В условиях одной грамматической конструкции пе
только соотнесены и диалогически выявлены две различ-
ные эмоциональные позиции персонажей, по и в речевом
выражении видна эта сопоставленпость, как и отношение
к ситуации самого рассказчика.
Взаимонроникновение разных и чуждых друг другу
112
Эмоциональных и психологических позиции в авторское
повествование отличает поэтику Гоголя, является ее сущ-
ностной чертой. Ситуация диалога окрашивает гоголев-
ское повествование, выявляя трагическое во внешне ко-
мических ситуациях, положениях и характерах.
Народно-поэтические традиции
(ситуация и текст)
Образный строй гоголевского повествования обнаружива-
ет кровное родство не только с современной ему русской
классической литературой1В, но и с более глубокими
слоями русской культуры, прежде всего с песенной сти-
хией. Влияние народных песен, особенно малороссийских,
плачей, заклятий («заговоров и заклинаний») ощущается
с необыкновенной остротой и ясностью во всех текстах,
рисующих подлинно народную жизнь. Образный и ритмо-
мелодический строй, вся художественная система текста
подчинены народной изобразительной традиции. Жаль-
ный, надгробный плач с его особой изобразительностью
отразился в речи Пндорки («Вечер накануне Ивана Ку-
пала»): «...свадьбу готовят, только не будет музыки на
нашей свадьбе; будут дьяки петь, вместо кобз и сопилок.
Не пойду я танцевать с женихом своим: понесут меня.
Темная, темная моя будет хата: из кленового дерева, и,
вместо трубы, крест будет стоять на крыше!». Стилисти-
ка плача Пидорки построена на параллельном сопостав-
лении двух планов — реального и иносказательного: гото-
вят свадьбу, с которой связаны реальные приметы (му-
зыка «кобз и сопилок», танцы с женихом, новая хата для
молодой четы), а будут похороны: «будут дьяки петь, по-
несут меня», темная, темная хата из кленового дерева —
гроб, «вместо трубы, крест будет стоять на крыше».
Размышления о предстоящей свадьбе)Iсмерти Петруся
окрашены тем же трагическим предчувствием, но с пози-
ций «добра молодца»: «Будет же, моя дорогая рыбка! бу-
дет и у меня свадьба: только и дьяков не будет на той
свадьбе; ворон черный прокрячет, вместо попа, надо
9 «Произведения составляют литературу, когда они связаны меж-
ду собой в некое органическое единство, влияют друг на дру-
га, «общаются» друг с другом, входят в единый процесс раз-
вития и несут совместно более или менее значительную обще-
ственную функцию» (Лихачев Д. С. Литература эпохи «Слова
о полку Игореве»//Памятники литературы древней Руси. М.:
Худож. лит., 1980. С. 5—6).
ИЗ
мною; гладкое поле будет моя хата; сизая туча — моя
крыша; орел выклюет мои карие очи; вымоют дожди ка-
зацкие косточки, и вихорь высушит их» (Вечер накану-
не Ивана Купала).
Оба плача объединяются общим для них мотивом —
«плач по милу другу», в обоих случаях вместо свадьбы
предопределена смерть. Но для красной девицы — смерть,
гроб и могила, а для добра молодца — гибель в «чистом
поле», отсюда и соответствующие реальные приметы и
окружение, параллелизм сближает и противопоставляет
соответствующие ряды: черный ворон // вместо попа;
гладкое поле // хата; сизая туча // крыша; орел, дожди
и вихорь — традиционные атрибуты смерти-успокоения на
поле брани. Но оба плача построены на общем для них
уподоблении свадьбы похоронам (или безвестной гибели
в чистом поле).
Погребальный, «жальный» плач может по композиции
составлять сложное целое. В «Страшной мести» гибель
пана Данилы представлена с позиций трех участников
повествования (рассказчика, «верного слуги Стецко» и
Катерины). Причем каждое из этих лиц воспринимаем
смерть со своих эмоциональных позиций. Соответственно
меняется и план изображения. Для рассказчика
смерть — непробудный сон: «Вылетела казацкая душа из
дворянского тела; посинели уста. Спит казак непробудно».
Синтаксический параллелизм объединяет весь текст, при-
надлежащий повествователю. Действия выдвинуты в на-
чало конструкций: вылетела (душа), посинели (уста),
спит (казак).
Слуга пана Данилы Стецко «машет рукою Катерине:
«Ступай, пани, ступай: подгулял твой пан. Лежит он пья-
нехонек на сырой земле. Долго не протрезвиться ему!».
Уподобление битвы пиру — прием, характерный для на-
родно-поэтической символики. Именно этот прием мы на-
ходим уже в «Слове о полку Игореве»: «...ту кроваваго
вина не доста, ту пиръ докончаша храбрии русичи: сваты
попоиша, а сами полегоша за землю Рускую».
Плач Катерины построен как плач-причитание над те-
лом любимого: «Муж мой, ты ли лежишь тут закрывши
очи? Встань, мой ненаглядный сокол, протяни ручку
свою! приподымись! погляди хоть раз на твою Катерину,
пошевели устами, вымолви хоть одно словечко!.. Но ты
молчишь, ты молчишь, мой ясный пан! Ты посинел, как
Черное море. Сердце твое не бьется! Отчего ты такой хо-
лодный, мой пан? видно, не горючи мои слезы, невмочь
114
им согреть тебя! Видно, не громок плач мой, не разбу-
дить им тебя! Кто же поведет теперь полки твои? Кто по-
несется на твоем вороном конике, громко загукает и за-
машет саблей пред казаками? Казаки, казаки! где честь и
слава ваша? Лежит честь и слава ваша, закрыьши очи,
па сырой земле. Похороните же меня, похороните вместе
с ним! засыпьте мне очи землею! надавите мне кленовые
доски на белые груди! Мне не пужна больше красота
моя!». Весь плач Катерины — организованная система с
зачином-обращением к убитому20: «Муж мой, ты ли ле-
жишь тут закрывши очи?» — вопрос к безмолвному собе-
седнику. За ним — развитие сюжета: ряд повелительных
глагольных форм со значением последовательно сменяю-
щихся действий: Встань... протяни ручку! приподымись!
погляди ... пошевели устами, вымолви хоть одно словеч-
ко!..». Но — сигнал ситуации, отделяющий следующую
ччасть, раскрывающую реальную ситуацию: «Но ты мол-
чишь, мой ясный пан! Ты посинел... Сердце твое не бьет-
ся! Отчего ты такой холодный, мой пан?». Следующий
мотив плача —мои усилия слабы, мои возможности недо-
статочны — передан в параллельных симметричных кон-
струкциях: «видно, не горючи мои слезы, невмочь им со-
греть тебя! Видно, не громок плач мой, не разбудить им
тебя!».
Следующий фрагмент плача (традиционные риториче-
ские вопросы «кто же заменит тебя?» направлены в буду-
щее время, все глагольные формы — перечисление дей-
ствий «Кто же поведет теперь полки твои? Кто понесется
на твоем вороном конике, громко загукает и замашет саб-
лей пред казаками?») служит непосредственной преамбу-
лой к следующей части — обращению к окружающим:
«Казаки, казаки! где честь и слава ваша? Лежит честь и
слава ваша, закрывши очи, на»сырой земле». Буквальный
повтор объединяет вопрос и ответ. Заключительная часть
плача — обращение к окружающим — воскрешает в тра-
диционной форме повелительный ряд зачина. Заключи-
тельный мотив плача «похороните меня вместо с милым»
раскрывается в цепочке императивов, называющих после-
довательные действия обряда погребения: «Похороните
же меня, похороните вместе с ним! засыпьте мне очи зем-
лею! надавите мне кленовые доски на белые груди!». Эта
20 Образная связь плача Катерины с «народными заплачками»
уже была замечена современниками писателя. К этому вопро-
су возвращались и позже исследователи стиля Гоголя. См., па-
пример: Мандельштам И. Указ. соч. С. 50.
115
часть по своей архитектонике — буквальный повтор «за-
плачки». Там — первый призыв: «Встань, мой ненагляд-
ный сокол...» — раскрывался в цепи конкретных реализа-
ций: «протяни ручку... приподымись... погляди... пошевели
устами, вымолви... словечко». Тот же изобразительный и
композиционный план в заключительной чабти. Призыв-
приказание: «Похороните же меня, похороните вместе с
ним!» — раскрывается в’ последующем: «засыпьте мне
очи землею! надавите мне кленовые доски на белые гру-
ди!». Завершает плач концовка: «Мне не нужна больше
красота моя!». Система параллелизмов, повторы, объеди-
няющие весь текст, постоянные формулы традиционных
обращений-вопросов — все эти детали взаимно соотнесены
в плаче как образно-речевом целом. Изобразительные
приемы и средства сближают плач с лирическими народ-
ными песнями, так же как и постоянные, традиционные
для народно-поэтического творчества образные ряды21.
В эти же ряды укладывается и сопоставление-уподобление
битвы пиру, с которого и начинается повествование о пос-
леднем бое пана Данилы: «И пошла по горам потеха.
И запировал пир: гуляют мечи; летают пули; ржут и то-
почут кони. От крику безумеет голова; от дыму слепнут
очи». Усилительное И, выдвинутое в начало конструкций,
анафорически объединяет две соседние фразы, открываю-
щие «изобразительный ряд», члены которого построены
по одной и той же синтаксической модели: «гуляют мечи;
летают пули; ржут и топочут кони». Синтаксический и
образный параллелизм объединяет и последующий текст:
«От крику безумеет голова; от дыму слепнут очи».
Причитания как особый жанр устной народной
поэзии окрасили и речь Панночки в «Майской ночи, или
Утопленнице». Весь рассказ Панночки, обращенный к
Левко, четко разделен паузой-умолчанием на три части.
Первая — непосредственное обращение к парубку: «Пару-
21 Так, вороной коник встречается и в народных лирических пес-
нях:
Мне малешенько, младу, спалось,
Много во сне виделось:
Будто мой вороной коник
Подо мною да взыграл;
Взыгравши, мой вороной коник
Высоко меня взносил.
(Соболевский А. И. Великорусские народные песни. СПб., 1895.
Т. 1. № 419). «Вороной коник» присутствует и в плаче Кате-
рины наряду с другими традиционными для народной песни
образами (кленовые доски, белые груди, горючие слезы).
116
бок, найди мне мою мачеху! Я ничего не пожалею для
тебя. Я награжу тебя. Я тебя богато и роскошно награ-
жу! У меня есть зарукавья, шитые шелком, кораллы,
ожерелья. Я подарю тебе пояс, унизанный жемчугом.
У меня золото есть...». Вся первая часть — обещание на-
градить за службу — объединена повторами-усилениями.
Вторая часть тоже обращена к Левко и объединена с пер-
вой единством зачина: «Парубок, найди мне мою маче-
ху!». Но по содержанию эта часть — плач о злодейке-ма-
чехе. Весь построенный на повторах-усилениях, эмоцио-
нально напряженный рассказ Панночки выдержан в
традициях народного причитания. Если вся первая часть
организована как рассказ от первого лица с повторяющим-
ся обозначением деятеля: «Я ничего не пожалею... Я на-
гражу тебя. Я тебя богато и роскошно награжу... Я пода-
рю тебе...», то вторая часть объединена повторением она —
рассказ об отсутствующем третьем лице: «Она страшная
ведьма: мне не было от нее покою на белом свете. Она
мучила меня; заставляла работать, как простую мужич-
ку. Посмотри на лицо: она вывела румянец своими нечи-
стыми чарами с щек моих». Последняя, заключительная
часть — причитания о перенесенных муках. Повторяю-
щееся погляди...— призыв, обращенный к парубку,— на-
чинает очередную «заплачку»: «Погляди на белую шею
мою: они не смываются! они не смываются! они ни за
что не смоются, эти синие пятна от железных когтей ее.
Погляди на белые ноги мои: они много ходили; не по
коврам только, по песку горячему, по земле сырой, по
колючему терновнику они ходили; а на очи мои, посмотри
на очи: они не глядят от слез...». «Найди ее, парубок,
найди мне мою мачеху!..» — рефрен, открывающий и за-
вершающий плач-причитание Панночки. Система повто-
ров, эмоциональных усилений пе только нагнетает на-
пряженность повествования, но и развивает «сюжет».
Традиционные образы {белая шея, белые ноги, сырая зем-
ля, колючий терновник) вписываются в цепочки повто-
ров-усилений («они не смываются! они не смываются!
они ни за что не смоются...»).
Плач-причитание становится организующим центром
особой разновидности монолога, обращенного и направ-
ленного или к непосредственному слушателю (как, напри-
мер, в «Майской ночи...»), или к судьбе, т. е. заведомо
безмолвному адресату. Подобный плач-причитание рас-
считан и на слушателя-свидетеля, хотя внешне и не об-
ращен к нему. Именно так построен монолог-причитание
117
красавицы-панночки, дочери дубненского воеводы, в кото-
рую влюбился Андрий. Весь этот монолог рассчитан па со-
чувствие и эмоциональное соучастие слушателя-свидете-
ля, хотя и направлена внешне речь панночки к «свире-
пой судьбе» и «пречистой божьей матери». В «зачине»
определяется основной мотив^ монолога-укоризны судьбе.
В системе риторических вопросов-восклицаний намечает-
ся и основной стержень повествования — я / мать / судь-
ба: «Не Достойна ли я вечных жалоб? Не несчастна ли
мать, родившая меня на свет? Не горькая ли доля при-
шлась на часть мне? Не лютый ли ты палач мой, моя
свирепая судьба?». Синтаксический и образный парал-
лелизм объединяет зачин в образно-речевое целое.
Вся центральная часть — горькое размышление-описание,
в котором раскрывается основной мотив зачина: «Не лю-
тый ли ты палач мой, моя свирепая судьба?». Текст обра-
щен и к молчаливому слушателю — Андрию, потому что
является в определенной мере и косвенным ответом на
его вопрос: «Отчего же ты так печальна? Скажи м н е,
отчего ты так печальна?», и к провидению. Вся ответная
реплика — причитание, направленное «свирепой судьбе»
(ты), а собеседник упоминается только в третьем лице
(он).
Центральная часть монолога — описание прежней
жизни панночки: «Всех ты привела мне в ноги: лучших
дворян изо всего шляхетства, богатейших панов, графов
и иноземных баронов, и все, что ни есть цвет нашего
рыцарства. Всем им было вольно любить меня, и за вели-
кое благо всякий из них почел бы любовь мою. Стоило
мне только махнуть рукой, и любой из них, красивей-
ший, прекраснейший лицом и породою, стал бы моим су-
пругом. И ни к одному из них не причаровала ты моего
сердца, свирепая судьба моя; а причаровала мое сердце,
мимо лучших витязей земли нашей, к чуждому, к врагу
нашему». Система повторов-возвращений, инверсирован-
ное словоупотребление, риторические вопросы-восклица-
ния — все эти существенные черты плача есть и во вто-
рой части монолога панночки, где непосредственным адре-
сатом речи является «пречистая матерь божия», а слуша-
телем-свидетелем все тот же Андрий: «За что же ты,
пречистая божья матерь, за какие грехи, за какие тяжкие
преступления так неумолимо и беспощадно гонишь меня?
В изобилии и роскошном избытке всего текли дни мои:
лучшие дорогие блюда и сладкие вина были мне снедью.
И на что всё это было? к чему оно всё было? К тому ли,
118
чтобы, наконец, умереть лютою смертью, какой не уми-
рает последний нищий в королевстве? И мало того, что
осуждена я на такую страшную участь; мало того, что
перед концом своим должна видеть, как станут умирать
в невыносимых муках отец и мать, для спасенья которых
двадцать раз готова была отдать жизнь свою; мало всего
этого: нужно, чтобы перед концом своим мне довелось
увидать и услышать слова и любовь, какой не видала я.
Нужно, чтобы он речами своими разодрал на части мое
сердце, чтобы горькая моя часть была еще горше, чтобы
еще жалче было мне моей молодой жизни, чтобы еще
страшнее казалась мне смерть моя, и чтобы еще больше,
умирая, попрекала я тебя, свирепая судьба моя, и тебя,—
прости мое прегрешение,—святая божья матерь!». Обра-
щение к «свирепой судьбе» и «святой божьей матери» за-
вершает этот монолог-плач.
Причитания традиционно связаны не только с обрядом
похорон, с оплакиванием дорогого покойника, но и с дру-
гими «расставаниями-проводами». В славянской тради-
ции причитания — женская прощальная песня-заплач-
ка — тяготеет к доверительной, интимной интонации,
к проникновенной эмоциональности. Именно поэтому в
поэтике гоголевской прозы плач как наиболее напряжен-
но-эмоциональная импровизация нашел себе место даже
и в авторском повествовании. В повести «Тарас Бульба»
весь рассказ о горе матери, провожающей своих сыновей
«в сечь», носит явные следы плача. Хотя перед нами
рассказ о горе матери с позиций автора, но в нем мы
находим все основные отличительные черты причитаний:
повторы-возвраты, эмоционально окрашенная лексика и в
особенности — инверсированная ритмика, постепенно на-
растающая при движении к заключительной, завершаю-
щей части: «Одна бедная мать не спала. Она приникла
к изголовью дорогих сыновей своих, лежавших рядом;
она расчесывала гребнем их молодые, небрежно вскло-
ченные кудри и смачивала их слезами; она глядела на
них, глядела всеми чувствами, вся превратилась в одно
зрение и не могла наглядеться. Она вскормила их собст-
венной грудью, она взрастила, взлелеяла их — и только
на один миг видит их перед собою <...> Ее сыновей, ее
милых сыновей берут от нее, берут для того, чтобы не
увидеть их никогда!.
Уже было замечено многими исследователями, что об-
разный строй «Слова о полку Игореве» оказал опреде-
ляющее влияние в особенности на «Тараса Бульбу» и
119
«Страшную месть»2г, прйВёдёйЫ й рйды образнМх ЙД-
раллелей. Но есть еще один образ, в котором есть след
влияния «Слова» в «Тарасе Бульбе». Мать, провожающая,
вернее, готовящаяся проводить своих сыновей в Сечь,
ночью плачет над ними: «Она с жаром, с страстью, с сле-
зами, как степная чайка, вилась над детьми своими» (Та-
рас Бульба). В «Слове» строка, непосредственно откры-
вающая плач Ярославны: «Ярославнынъ гласъ слышитъ:
зегзицею незпаемь, рано кычеть: полечу, рече, зегзицею
по Дуиаеви...» — переводилась множество раз. Среди ва-
риантов 22 23 перевода есть такие соответствия: Ярославнин
голос слышится; она, как оставленная горлица, по утрам
воркует... (с. 37).
Голос Ярославнин слышится, на заре одинокой чечет-
кою кличет.
Полечу, говорит, кукушкою по Дунаю... (с. 121).
Игорь слышит Ярославнин голос....
Там, в земле незнаемой, поутру
Раным-рано ласточкой щебечет:
«По Дунаю ласточкой помчусь я...» (с. 146).
...Плачет, из Путивля долетая,
Голос Ярославны молодой:
«.Обернусь я, бедная, кукушкой...» (с. 172).
На Дунае Ярославнин голос слышится,
безвестною кукушкой рано кличет... (с. 192).
На Дунае Ярославнин голос слышится.
Раным-рано кличет кукушкою незнаемой... (с. 212).
На Дунае Ярославнин голос слышится,
чайкою неведомой она рано кличет.
22 О роли «Слова о полку Игореве» в формировании образной
системы «Страшной мести» и «Тараса Бульбы» Гоголя см. под-
робнее: Мандельштам И. Указ. соч. С. 48—49; Прайма Ф. Я.
«Слово о полку Игореве» в творчестве Гоголя//Гоголь: (статьи
и материалы). Л.: Изд-во ЛГУ, 1954. С. 137—138, 150 и след.
Из . фольклорных источников, которыми пользовался
Н. В. Гоголь, нужно назвать прежде всего народные песни, па-
пример: «Малороссийские песни...», изд. М. Максимовичем (М.,
1827), и «Запорожская старина», сборник, изд. И. И. Срезнев-
ским (Харьков, 1833). Сам Гоголь в работе «О малороссийских
песнях» писал: «Я не распространяюсь о важности народных
песен. Это народная история, живая, яркая, исполненная кра-
сок, истины, обнажающая всю жизнь Яарода» (Гоголь Я. В.
Поли. собр. соч. Т. VIII. С. 90).
23 См.: Слово о полку Игореве: Древнерусский текст и переводы.
М.: Сов. Россия, 1981.
120
Сопоставление тоскующей, плачущей женщины с кри-
чащей птицей — образ традиционный, идущий из глубо-
кой древности, запечатленной и в «Слове о полку Игоре-
ве». В народной поэтической символике крик чайки —
знак грозящей беды, предвестье гибели. Таким образом,
характерологические особенности плача-причитания воз-
никают и в авторском слове как след плача матери над
сыновьями. Особенности поэтики плача лежат в древне-
русской традиции, идущей от «Слова о полку Игореве»,
в котором использовались уже существовавшие устойчи-
вые формы плача-причитания. Плач-причитание матери,
провожающей своих сыновей в бой или в рекрутчину,—
традиционная ситуация для этой формы народно-поэти-
ческого творчества. В «Тарасе Бульбе» плач матери над
спящими сыновьями дан в авторском слове, поэтому со-
хранены только условные формы «канонического» причи-
тания, но оставлены основные вехи, в том числе и прори-
цаемые опасения: «Кто знает, может быть, при первой
битве татарин срубит им головы, и она не будет знать,
где лежат брошенные тела их, которые расклюет хищ-
ная подорожная птица, и за каждый кусочек которых, за
каждую каплю крови она отдала бы все».
В языке художественной прозы Гоголя выявляются
следы еще одного жанра, традиционного для устной на-
родной речи,— заговоров и заклинаний. Эти формы выде-
ляются не только особой, свойственной им народно-поэти-
ческой символикой, но и спецификой речевых средств вы-
разительности и изобразительности. Так, в «Страшной
мести» в заклятиях Катерины мы находим образный
строй и несогласованные синтаксические конструкции,
столь характерные для заговоров и заклинаний: «Он не
отец мне. Бог свидетель, я отрекаюсь от него, отрекаюсь
от отца! Он антихрист, богоотступник! Пропадай он, тони
он — не подам руки спасти его. Сохни он от тайной тра-
вы— не подам воды напиться ему». Здесь та же форму-
ла заговоров и заклинаний: лопни глаза, трава не расти,
пропади он пропадом и т. д.
С причитаниями как особым типом речи мы сталкива-
емся не только в той части гоголевской прозы, которая
по своей тематике близка к народной жизни и культуре,
но и в самых, казалось бы, «петербургских» произведени-
ях. Так, в «Записках сумасшедшего» чиновник Попри-
щин горько жалуется на свою горькую долю, обращая
свои слова, пожалуй, в одинаковой мере и к судьбе, и к
читателю. Здесь та же интонация плача, те же вопроси-
121
тельно-восклицательные конструкции, не рассчитанные
на ответ, та же эмфатическая, напряженная эмоциональ-
ность: «Что я сделал им? За что они мучат меня? Чего
хотят они от меня, бедного? Что могу дать я им? <...>
Дом ли то мои синеет вдали? Мать ли моя сидит перед
окном? Матушка, спаси твоего бедного сына! урони сле-
зинку па его больную головушку, посмотри, как мучат
опп его! прижми ко груди своей бедного сиротку! ему нет
места на свете! его гонят! — Матушка! пожалей о своем
больном дитятке!..».
В авторском повествовании с эмоциональных позиций
персонажа, по выражению В. В. Виноградова, «сквозь
призму восприятия персонажа» могут присутствовать от-
дельные образно-речевые приемы, характерные для при-
читаний. Так, рассказчик в «Портрете» явно ведет пове-
ствование о «крушении личности» художника Чарткова с
его эмоциональных позиций, используя именно эти прие-
мы: «С очей его вдруг слетела повязка. Боже! и погубить
так безжалостно лучшие годы своей юности; истребить,
погасить искру огня, может быть, теплившегося в груди,
может быть, развившегося бы теперь в величии и красо-
те, может быть, также исторгнувшего бы слезы изумле-
ния и благодарности! И погубить все это, погубить без
всякой жалости!». В авторском повествовании как бы об-
нажена эмоциональная позиция персонажа. Переживание
раскрывается «зрелищно», в расчете па сочувствие чита-
теля, в формах речи самого страдающего субъекта, рас-
сказывающего о своих чувствах. В русской классической
традиции сохранились приемы раскрытия, обнажения чу-
жого сознания. При этом используются устойчивые внут-
ритекстовые формы сцепления и взаимосвязи, несущие
эмоционально-экспрессивную нагрузйу: повторы-усиле-
ния, явления семантического и синтаксического паралле-
лизма. Интонационное напряжение обнаруживается в
«подхватах» и «интонационных сломах». Перебои рече-
вого потока, как и изменение интонационного движения,
становятся приемом, цель которого — вызвать сопе-
реживание и сочувствие «слушателя и зрителя».
122
Глава 3. Текст
как художественная система
Сопоставления
в ироническом повествовании
Ирония повествователя сказывается ближайшим образом
в выборе объекта сопоставления. Сопоставление
п е с о п о с т а в и м о г о — излюбленный прием Гоголя-рас-
сказчика. В центре повествования обычно помещается
«ироническое сопоставление», окрашивающее в соответст-
вующие эмоциональные тона достаточно широкий текст.
Отношения между компонентами сопоставлепия выявляют
ироническую позицию рассказчика, повествующего о со-
бытиях странных, смешных, трогательных или постыд-
ных. Обратимся к тексту. Павел Иванович Чичиков
«отправился совершать купчую» на те самые мертвые
души, которые по закону еще считались живыми. Он не
боялся опоздать, «ибо председатель был человек знакомый
и мог продлить или укоротить по его желанию присут-
ствие, подобно древнему Зевесу Гомера, длившему
дни и насылавшему быстрые ночи, когда нужно было
прекратить брань любезных ему героев или дать им
средство додраться...» (М. д., 1, VII).
Сопоставление председателя казенной палаты в его
возможностях властвования с «древним Зевесом Гоме-
ра» — несомненный прием обличительной сатиры. При
этом ироническая позиция рассказчика выявляется уже
в самой несопоставимости сопоставленного.
Ироническая интерпретация образа или сюжетной си-
туации может дополняться «ироническим преувеличени-
ем». Так, например, изображается «присутствие», куда
пришел Чичиков для совершения купчей: «... шум от
перьев был большой и походил на то, как будто бы не-
сколько телег с хворостом проезжали лес, заваленный на
четверть аршина иссохшими листьями» (М. д, 1, VII).
Ироническое преувеличение как прием выявления
авторской иронии (как прием интерпретации и оценки
персонажа или сюжетной ситуации) широко представлен
в художественной прозе Гоголя. Оно входит в качестве
составляющей в структуру сопоставления, опреде-
ляющего какую-то подробность в поведении персонажа,
например солдат в повести «Коляска»: «...вытянувшись и
держа узду, глядел прямо посетителям в глаза, будто бы
хотел вскочить в них». Тот же образ встречаем и в ха-
123
рактеристике гувернера Маниловых: «Здесь учитель обра-
тил все внимание на Фемистоклюса и, казалось, хотел
ему вскочить в глаза» (М. д., 1, II). Ироническое
преувеличение создает образ движения, характери-
зует манеру речевого поведения — словом, участвует в
сюжетном повествовании в качестве дополнительной «ре-
чевой краски», входит в сопоставление в качестве «ком-
понента смысла». В составе сопоставления ироническое
преувеличение вносит авторскую оценку в качественную
характеристику: «Как чисто подметены его тротуары, и,
боже, сколько ног оставило на нем следы свои! И неуклю-
жий сапог отставного солдата, под тяжестью которого,
кажется, трескается самый гранит, и миниатюрный,
легкий, как дым, башмачок молодой дамы...» (Невск.
пр.).
Ироническое преувеличение составляет звено всей
художественной системы текста. В «Невском проспекте»
дама оборачивает «свою головку к блестящим окнам ма-
газина, как подсолнечник к солнцу...» (Там же).
Ирония повествователя может быть обращена на всю
сюжетную ситуацию, но выражается это через ирониче-
ское освещение какой-либо подробности в поведении,
одежде или речевой манере персонажа. Так, Манилов,
узнав, что Чичиков желал бы приобрести у него «мерт-
вых, которые, впрочем, значились бы по ревизии как
живые», был озадачен: «Оба приятеля, рассуждавшие о
приятностях дружеской жизни, остались недвижимы,
вперя друг в друга глаза, как те портреты1, которые
вешались в старину один против другого по обеим сто-
ронам зеркала» (М. д., 1, II). Здесь неподвижность —
след «омертвения человеческого» в персонажах — пере-
дается посредством сопоставления с «остановленной
жизнью», с «портретом».
Стилеобразующая роль «иронических сопоставлений»
уже была замечена исследователями творческого наследия
Гоголя, определено- и положение сопоставления в худо-
жественной системе текста2.
1 «Одно из важнейших условий возбуждения смеха заключается
в том, что каким-либо привнесением нового элемента преры-
вается естественная связь представлений (логических ассоциа-
ций), а привнесение носит характер случайности. Сюда отно-
сится, например, сопоставление качеств совершенно разнород-
ных категорий» (Мандельштам И. О характере гоголевского
стиля. Гельсингфорс, 1902. С. 295).
2 «Развитые, усложненные и детализированные сравнения сос-
тавляют одну из бросившихся в глаза особенностей стиля
124
Сопоставление как знак позиций иронического рассказ-
чика (или автора) в повествовании эмоционально окра-
шивает весь текст именно благодаря выбору объекта
сопоставления. Так, стремление представить население
Коломны во всей «дроби и мелочи» определило и сопо-
ставленный образ — с «множеством насекомых, которые
зарождаются в старом уксусе»: «После сих тузов и
аристократства Коломны следует необыкновенная дробь л
мелочь. Их так же трудно поименовать, как исчислить то
множество насекомых, которое зарождается в старом ук-
сусе. Тут есть старухи, которые молятся; старухи, кото-
рые пьянствуют, старухи, которые и молятся и пьянст-
вуют вместе; старухи, которые перебиваются непостижи-
мыми средствами...» (Портрет). «Старухи» всех возможных
типов представлены как «типовые множества» и сопостав-
лены со столь же «неисчислимым множеством» насекомых,
зарождающихся в старом уксусе. Оба множества подают-
ся как друг друга определяющие совокупности.
Сопоставления входят в художественную систему
текста Гоголя обычно как образная доминанта, подчиняю-
щая себе все остальные, периферийные образные связи.
Опорный образ обрастает массой конкретных «быто-
вых» подробностей, «живописующих» и эмоционально
окрашивающих весь достаточно широкий текст.
Ассоциативные сопоставления
в художественной системе текста
Сопоставление как прием, в котором обе части
(субъект и объект) представлены как семантически дале-
кие в обычном языковом сознании предметы, получил
широкое распространение в языке художественной лите-
ратуры второй половины XIX в. Сопоставлялись предме-
ты внешне несопоставимые. Глубинная близость
«Мертвых душ». Нередко второй компонент сравнения, то, с чем
что-либо сравнивается, перевешивает основной, исходный член
сравнения, создавая сдвинутую синтаксическую конструкцию,
характерный для Гоголя вид зыблющегося периода, с последо-
вательным нанизыванием и вклиниванием внешне разнородных
синтагм. Таково, например, известное сравнение мелькающих
танцоров в черных фраках на губернском балу с носящимися
над сахаром мухами (...) Сравнения Гоголя одинаково показа-
тельны и как явление стиля поэтики его, и как явление речи.
Они проникнуты духом живой русской народной речи...» (Со-
рокин Ю. С. Словарный состав «Мертвых душ» Гоголя // Го-
голь. Л.: Изд-во ЛГУ, 1954. С. 15—17; см. также: Храпченко М. В.
Творчество Гоголя. М.: Сов. писатель, 1959. С. 464 и след.).
125
обнаруживалась только ассоциативно. Именно «веер» ас-
социаций образует ту среду взаимопонимания между
повествователем-рассказчиком и читателем, которая и
делает возможным это семантическое сближение, казалось
бы, столь далеких по значению и привычному контексту
предметов.
И начало этому приему было положено в стилистике
русской классической литературы, существенный вклад в
которую вносит гоголевское повествование, в особенности
его художественная проза.
Профессор Мандельштам, приводя именно такое со-
поставление серой погоды с выцветшим от долгой носки
серым солдатским сукном («День не то яспый, не то
мрачный, а какого-то светло-серого цвета,— какой бывает
только на старых мундирах гарнизонных солдат, этого,
впрочем, мирного войска, но отчасти нетрезвого по вос-
кресным дням»), замечает по поводу сопоставления:
«Характеристика солдата — балласт, каких довольно, как
сказано, даже в самую цветущую пору творчества; эти
прибавления стали как бы потребностью мысли, увлекае-
мой словом, заводящим за должные пределы»3. Между
тем подробности, бытовые детали объекта, привлечен-
ного для сопоставления,— характерная особенность гого-
левского повествования, представляющего оба компонен-
та образа во взаимосвязях и взаимообусловленности,
в которой художественно, эстетически значима и «далеко-
ватость» этих компонентов. Для иронического повествова-
теля цвет мундира гарнизонного солдата, «отчасти
нетрезвого по воскресным дням», в сопоставлении опре-
деляющего цвет неба — средство создания амбивалент-
ного образа.
Сопоставление несопоставимых для неискушенного чи-
тателя предметов в поэтике Гоголя было средством
остранения образа, а сообщение всевозможных быто-
вых и, казалось бы, необязательных, случайных подроб-
ностей намеренно замедляло сюжетное движение. Сбли-
жение па основе ассоциативного сходства образов
или ситуаций в художественной прозе Гоголя— прием,
которому была суждена долгая жизнь в стилистике худо-
жественного психологизма. Так, в романе Достоевского
«Преступление и наказание» физиономия хозяина распи-
вочной, куда зашел Раскольников, сравнивается с «желез-
ным замком», смазанным маслом, т. е. сопоставляются
’ Мандельштам И. Указ. соч. С. 76.
126
несравнимые, казалось бы, объекты описания. Сближает
их лишь ассоциативный ряд, объединяющий рассказчика
и читателя, которым физически противеп и отвратителен
и «хозяин заведения», и смазанный маслом «железпый
замок».
Сопоставление предметов и ситуаций, внешне чрезвы-
чайно далеких, семантически не связанных, основывается
на ассоциативной близости, на психологическом «облике»
сближаемых явлений. Этот изобразительный прием пред-
полагает широкий ассоциативный ряд, своеобразной «поч-
вой» для которого служит не столько внешнее сходство
ситуаций, сколько их глубинное родство — ассо-
циативная близость психологического осмысления. Так,
в повести Чехова «Дама с собачкой» нестандартность,
необычность отношений с Анной Сергеевной была ясна
Дмитрию Гурову с первых же шагов. Подсознательно он
понимал, что вместо легкого, курортного романа с жен-
щиной, «которой не знаешь по имени и фамилии», вдруг
оказалась большая любовь. И обнаружилось это для Гу-
рова почти сразу, с самого начала сближения: «Но тут
все та же несмелость, угловатость неопытной молодости,
неловкое чувство; и было впечатление растерянности,
как будто кто вдруг постучал в дверь» (Дама с
собачкой). Хотя между объектом и субъектом сопостав-
ления нет никакого реального сходства, кроме ассоциатив-
ной близости, сходство психологической реакции — вот та
основа, которая сближает субъект и объект сопоставления,
и прием состоит именно в неожиданности этой связи.
Гоголевское повествование даже в своих иронических
«устремлениях» рассчитано на внимательного читателя,
с интересом наблюдающего за персонажами, подвигающи-
мися к омертвению или отдаляющимися от пего.
Эмоциональное восприятие читателем душевных дви-
жений (даже тех персонажей, которые как бы и не име-
ют того, что подразумевается под «душой») обычно вклю-
чает ассоциативные сопоставления. Так, Павел Иванович
Чичиков, увидев губернаторскую дочку на балу, почувст-
вовал какое-то непривычное состояние: «...здесь было
что-то такое, странное, что-то в таком роде, чего он сам
не мог себе объяснить: ему показалось, как сам он потом
сознавался, что весь бал, со всем своим говором и шу-
мом, стал на несколько минут как будто где-то вдали,
скрыпки и трубы нарезывали где-то за горами, и все
подернулось туманом, похожим на небрежно замалеван-
ное поле на картине. И из этого мглистого, кое-как на-
127
бросанного поля выходили ясно и оконченно только одни
тонкие черты увлекательной блондинки <...> она только
одна белела и выходила прозрачною^ светлою из мут-
ной и непрозрачной толпы» (М. д., 1, VIII). Здесь все
описание душевного состояния Чичикова обнаруживает
в нем какое-то эмоциональное «движение», известную тон-
кость переживаний (для автора и читателя очень сущест-
венных, если иметь в виду, что Павлу Ивановичу в пос-
ледующих томах «Мертвых душ» суждено было, по за-
мыслу автора, выйти из «омертвения»).
Ассоциативные сопоставления как знак и средство
связи между повествователем и читателем участвуют в
создании динамических характеров в художественной про-
зе Гоголя. Динамическими характерами обладают те пер-
сонажи, которые представлены повествователем в возмож-
ностях развития.
Причем это развитие может относиться повествовате-
лем в далекое прошлое (лишь некоторые вехи сохраня-
ются в авторском рассказе как «история личности героя»).
Так именно в «Мертвых душах» подается Плюшкин, пе-
ред читателем уже результат постепенного омертвения,
а все умирание «человеческого в человеке», по существу,
совершилось за пределами повествования. Оно всплывает
только как напоминание, как след прошлого в настоящем.
Образ Чарткова в «Портрете» в этом смысле антипод
Плюшкина. Он умирает как талантливый живописец «на
глазах» читателя. Все движение, развитие представлено
как постепенное уничтожение личности художника.
И здесь первостепенная роль принадлежит ассоциатив-
ным сопоставлениям. Именно сопоставление с ребенком
отмечает главную характеризующую особенность лич-
ности Чарткова в начальных эпизодах повести. Сопостав-
ление с ребенком реализуется во всех подробностях опи-
сания, действительных только для определенного
периода в жизни персонажа, и составляет качествен-
ную «доминанту» характера персонажа, раскрытого как
динамический.
Постоянное сопоставление с ребенком присутствует ас-
социативно в перечислении импульсивных «детских» дей-
ствий и поступков персонажа, стремящегося с истинно
детской непосредственностью получить и изведать все
прежде недоступные удовольствия и развлечения столич-
ной жизни. Повествователь обрисовывает поведение, все
действия Чарткова, постоянно сообразуясь с главным до-
минантным образом ребенка, привлеченным для сопос-
128
тавления и характеристики. В начальных главах художник
Чартков, колдовским, «чудесным» образом разбогатев, еще
не захвачен злой инфернальной стихией и на первых по-
рах ведет себя как ребенок: «Прежде всего зашел к
портному, оделся с ног до головы, и, как ребенок,
стал обсматривать себя беспрестанно; накупил духов, по-
мад, нанял, не торгуясь, первую попавшуюся великолеп-
нейшую квартиру на Невском проспекте, с зеркалами и
цельными стеклами; купил нечаянно в магазине дорогой
лорнет, нечаянно накупил тоже бездну всяких галстухов,
более, нежели было нужно, завил у парикмахера себе ло-
коны, прокатился два раза по городу в карете без вся-
кой причины, объелся без меры конфектов в кондитерской
и зашел к ресторану французу, о котором доселе слышал
такие же неясные слухи, как о китайском государстве»
(Портрет).
Весь этот текст объединен сопоставлением как ре-
бенок, отсюда и вся импульсивность поступков Чартко-
ва (...накупил духов, помад, нанял, не торгуясь... кварти-
ру... купил нечаянно... нечаянно накупил... прока-
тился два раза по городу без всякой причины и т. п.).
Весь текст ориентируется и дальше именно на это сопо-
ставление с ребенком: «Там он обедал подбоченившись,
бросая довольно гордые взгляды на других и поправляя
беспрестанно против зеркала завитые локоны. Там он
выпил бутылку шампанского, которое тоже доселе было
ему знакомо более по слуху. Вино несколько зашумело
в голове, и он вышел на улицу живой, бойкой, по рус-
скому выражению: черту не брат» (Портрет). Детскость
в желаниях и поведении, заданная сопоставлением
(как ребенок}, сохраняется на первых порах в характе-
ристике Чарткова как след прежней жизни, молодости,
непорочности и таланта художника: «...он принялся
уже писать, работа его завлекла. Уже он позабыл все,
позабыл даже, что находится в присутствии аристократи-
ческих дам, начал даже выказывать иногда кое-какие
художнические ухватки, произнося вслух разные звуки,
временами подпевая, как случается с художником, погру-
женным всею душою в свое дело <...>
— Минуточку только,— говорил Чартков простодуш-
ным и просящим голосом ребенка».
Это сопоставление с ребенком исчезает из повествова-
ния о дальнейшей судьбе Чарткова, все его светские
успехи оказываются «за чертой» молодости и таланта.
Действия деградирующего художника образуют некую
5 Л. И. Времтаа
12Э
схему преуспевающего чиновника. Чартков «стал ездить
на обеды, сопровождать дам в галереи и даже на гу-
лянья, щегольски одеваться и утверждать гласно, что
художник должен принадлежать к обществу...».
Охлад'евший к истинному творчеству Чартков утрачи-
вает и все связи с «детскостью», как печатью не только
молодости тела, но в большей степени — молодости души.
Соответственно изменяются и все детали повествования,
рассказывающего об омертвении души и постепенном
умирании таланта.
Следовательно, весь текст как образно-речевое целое,
как система, построенная на взаимопереплетении всех
образных связей, необходимо соотносится с центральным,
ключевым образом — доминантой художественной си-
стемы текста. Образ, привлеченный для сопоставления,—
знак отношения повествователя к сюжетной ситуации.
В стилистике реалистической литературы (в особенности
в той ее части, которая получила статус литературы ху-
дожественного психологизма) между объектом и субъек-
том сопоставления могут устанавливаться отношения
главным образом на основе ассоциативных связей. Автор-
ское повествование эмоционально окрашено авторской
«точкой зрения», его психологическим осмыслением.
И ведущая роль в этой связи между автором и читате-
лем принадлежит сопоставлениям, построенным на основе
ассоциативных связей и отношений, которые почти не за-
висят от внешнего сходства или «несходства» сопо-
ставляемых предметов, но объединяются ассоциативно,
авторским отношением.
Типы сопоставлений
в художественной прозе Гоголя
Сопоставления в художественной системе всего творческо-
го наследия Гоголя очень разнообразны и по степени
разветвленности, и по эмоциональной окраске, и по сбли-
женности с авторской позицией, т. е. по степени
«субъективности», и по многим другим признакам.
Особая роль принадлежит сквозным сопоставлениям в
организации художественной системы текста. Так, запо-
рожцы в повести «Тарас Бульба» многократно сравнива-
ются с львами: «...запорожец, как лев, растянулся на
дороге»; «Так вот она, Сечь! Вот то гнездо, откуда вы-
летают все те гордые и крепкие, как львы! Вот откуда
разливаются воля и казачество на всю Украйну!» (Т. Б.,
130
II). «Остапу, казалось, был на роду написан битвенный
путь и трудное знанье вершить разные дела <...> Кре-
постью дышало его тело, и рыцарские его качества уже
приобрели широкую силу качеств льва» (Там же, V).
Показательно, что изменивший родине и казачеству
Андрий сравнивается уже не с львом, а с собакой,
с псом, жаждущим заслужить хозяйскую ласку: «Впере-
ди других понесся витязь всех бойчее, всех красивее.
Так и летели черные волосы из-под медной его шапки:
вился завязанный на руке дорогой шарф, шитый руками
первой красавицы. Так и оторопел Тарас, когда увидел,
что это был Андрий. А он между тем, объятый пылом
и жаром битвы, жадный заслужить навязанный на руку
подарок, понесся, как молодой борзой пес, красивейший,
быстрейший и молодший всех в стае. Атукнул на него
опытный охотник — и он понесся, пустив прямой чертой
по воздуху свои ноги, весь покосившись набок всем те-
лом, взрывая снег и десять раз выпереживая самого
зайца в жару своего бега» (Т. Б.).
Эмоциональная окраска образа, привлеченного для
сопоставления,— несомненное свидетельство авторской
точки зрения. Рабская угодливость, усердие (цель кото-
рого — «заслужить подарок») противопоставлены запорож-
цам, борющимся, как львы. Сопоставление усиленно под-
черкивает «заданность извне» этого «жара и пыла»,
с которым бросился Андрий на родных по крови, по
духу и братству запорожцев: «.Атукнул на него опытный
охотник — и он понесся...».
Тот же образный ряд — сопоставление с собакой,
с искусно натравленным псом — продолжен в речи Тара-
са, глядящего на трун своего сына: «— Чем бы не ка-
зак был? —сказал Тарас. <...> Пропал, пропал бесславно,
как подлая собака!».
Показательно и то, что смерть Андрия представлена
в цепочке сопоставлений, ни одно из которых не сбли-
жается с темой льва, прочно связанной с верными роди-
не запорожцами. Весь образный ряд объединен темой
жертвы: «Как хлебный колос, подрезанный серпом, как
молодой барашек, почуявший под сердцем смертельное
железо, повис он головой и повалился на траву, не ска-
завши ни одного слова» (Там же).
Кроме темы жертвы, обреченной на гибель, сопостав-
ления вносят еще один образный мотив — молодости, со-
вершившей проступок и принимающей неотвратимое воз-
мездие. Эта эмоциональная тональность уже присутствует
5*
131
в сопоставлении с подрезанным колосом и молодым ба-
рашком, почуявшим под сердцем смертельное железо.
Введенный в повествование «вставной эпизод», образно
представляющий поведение Андрия перед гневным Тара-
сом Бульбой, поддерживает ту же тему неопытной моло-
дости, ждущей наказания: «Оглянулся Андрий: пред ним
Тарас! Затрясся он всем телом и вдруг стал бледен...
Так школьник, неосторожно задравши своего товари-
ща и получивши за то от него удар линейкой по лбу,
вспыхивает, как огонь, бешеный выскакивает из лавки и
гонится за испуганным товарищем своим, готовый разор-
вать его на части, и вдруг наталкивается на входящего
в класс учителя: вмиг притихает бешеный порыв, и упа-
дает бессильная ярость». Показательно, что «вставной
эпизод», привлеченный в качестве объекта сопоставления,
переводит все действия в детские, школьные годы,
когда именно незрелая молодость, неопытность «школьни-
ка» могли служить некоторым оправданием проступка.
Но и здесь —та же неотвратимость наказания за совер-
шенное.
Образное разветвление, распространение сопостави-
тельного ряда, объединенное одной темой,—важное
звено стилистики художественной прозы Гоголя. Знаме-
нательна и речевая организация всего изобразительного
ряда. Все описание как бы развертывается «на глазах»
читателя — свидетеля происходящего. Все действия мак-
симально приближены во времени, весь сопоставительный
ряд подается в глагольных формах настоящего живого
представления. Таким образом, перед нами все та же
знаменательная особенность гоголевского повествования в
использовании видо-временных значений, в эстетическом
звучании грамматической формы слова, уже отмеченная
выше.
Все действия Андрия располагаются в общем плане
прошедшего, как бы окольцовывающего описания, пода-
ные как сопоставительный ряд: «Оглянулся Андрий:
пред ним Тарас! Затрясся он всем телом и вдруг стал
бледен...». Далее следует «вставной эпизод», а потом —
заключительная часть, «концовка», устанавливающая
связь между персонажами, участниками сюжетного дей-
ствия: «Подобно ему в один миг'пропал, как бы не бы-
вал вовсе, гнев Андрия. И видел он перед собою одного
только страшного отца». Эта же концовка обновляет в
сознании читателя связь между предательством Андрия
и поведением провинившегося «школьника».
132
«Зоологический» ряд сопоставлений {запорожцы!Iльвы,
АндрийЦпес, собака) продолжен и дальше в диалогиче-
ском слове Тараса Бульбы, обращенном, к войску:
«Пусть же знают они все, что такое значит в Русской
земле товарищество! Уж если на то пошло, чтобы уми-
рать,—так никому ж из них не доведется так умирать!..
Никому, никому!.. Не хватит у них на то мышиной на-
туры их!» (Т. Б., IX).
Сопоставительный ряд, образно представляющий смерть
Андрия (подрезанный колос, барашек, умирающий от
удара «смертельного железа»), выдержан в традиционных
образах. Сопоставление человеческой смерти с, подрезан-
ным колосом и агнцем, обреченным на заклание, принад-
лежит к числу постоянных образов, подчеркивающих
безвременность гибели.
В той же цепи традиционных образов располагается
и мощный «подрубленный дуб», с которым сопоставляет
рассказчик гибель Тараса в тяжелом сражении с «ляха-
ми»: «...все закружилось и перевернулось в глазах его
<...> И грохнулся он, как подрубленный дуб, на землю».
Постоянные образы в стилистике художественной
прозы Гоголя составляют значительную часть общего
фонда изобразительных средств ‘. Жизнь традиционно со-
поставляется со светом, а смерть — с темнотой, угасаю-
щим светильником. Так, Иван Афанасьевич в повести
«Старосветские помещики» «весь покорился своему ду-
шевному убеждению, что Пульхерия Ивановна зовет его;
он покорился с волею послушного ребенка, сохнул, каш-
лял, таял, как свечка, и, наконец, угас так, как она, ког-
да уже ничего не осталось, что бы могло поддержать
бедное ее пламя». Показательно, что сопоставление с по-
гасающим и погасшим пламенем поддерживается всем
контекстом. В многозначных словах таял {таять —
* «Изучить поэтическое слово — значит рассмотреть его как ком-
понент образа, осмыслить отношение его к образу, к вопло-
щенному в нем характеру, обнаружить характерность слов и
оборотов речи поэтического произведения, в которой и заклю-
чается новое качество, отличающее поэтическое слово от не-
поэтического. Не в богатстве словаря и образных слов и кон-
струкций, не в обилии эпитетов, тропов и фигур, не в ритмич-
ности и созвучиях заключается сущность художественного сло-
га, а в том, что все семантические и звуковые качества слова
во всем разнообразии своем запечатлены единством характе-
ра, что они единосущны» {Переверзев В. Ф. Основы эйдологи-
ческой поэтики // Гоголь. Достоевский. Исследования. М.: Сов.
писатель, 1982. С. 479).
133
‘постепенно утрачивать жизненные силы’), угас (угас-
нуть — ‘умереть, скончаться’) усилены именно эти значе-
ния, сближающие наступление темноты (погасший све-
тильник) с наступлением смерти (погасшая жизнь).
Этот образ светаЦжизни и темноты!/смерти широко
представлен в языке художественной литературы XIX в.
в творчестве Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Л. Тол-
стого, а истоки его — в античной мифологии.
Сопоставления в прозе Гоголя, как уже говорилось,
доминируют в художественной системе текста. Они, рас-
полагаясь в ряды, как правило, составляют четко ор-
ганизованную структуру, все звенья которой соотнесены
между собой. В завязке дано обычно широко известное
сопоставление, которое становится начальным звеном ши-
рокой картины, привлекаемой в качестве объекта сопо-
ставления. Вся художественная система текста начинает
ориентироваться именно на это начальное звено. Так,
казаки, собравшиеся под предводительством Тараса Буль-
бы, сопоставляются с «орлами, севшими на вершины об-
рывистых, высоких гор, с которых далеко видно рассти-
лающееся беспредельно море, усыпанное, как мелкими
птицами, галерами, кораблями и всякими судами, ограж-
денное по сторонам чуть видными тонкими поморьями,
с прибрежными, как мошки, городами и склонившимися,
как мелкая травка, лесами. Как орлы, озирали они во-
круг себя очами все поле и чернеющую вдали судьбу
свою» (Т. Б., VIII). Вся художественная система текста,
ограниченная, как рамой, повторяющимся сопоставлением
(как орлы), в значительной степени определена именно
этим образом. Внутри «рамы» — сопоставления как мел-
кие птицы, как мошки, как мелкая травка, которые рас-
пространяют и развивают, по существу, образ, заданный
в зачине и поддержанный всем текстом: «...как орлы,
севшие на вершинах обрывистых, высоких гор ... Как
орлы, озирали они вокруг себя очами все поле и черне-
ющую вдали судьбу свою».
Уже было замечено выше, что в повести «Тарас Буль-
ба», пожалуй, ярче и нагляднее, чем в других произведе-
ниях Гоголя, прослеживается живая связь со «Словом о
полку Игореве». Надо добавить, что эта связь проступает
не только в сопоставлении пира и битвы, но и в общей
системе образности, которая отличает героический эпос
двух этих произведений, разделенных во времени.
Развернутые сопоставления в авторском повествовании
часто сопровождаются и дополняются персонификацией.
134
Вот, например, как представлен пруд, отражающий звезд-
ное ночное небо: «...пруд, угрюмо обставленный клено-
вым лесом и оплакиваемый вербами, потопившими в нем
жалобные свои ветви. Как бессильный старец, держал он
в холодных объятиях своих далекое, темное небо, обсы-
пая ледяными поцелуями огненные звезды, которые
тускло реяли среди теплого ночного воздуха, как бы
предчувствуя скорое появление блистательного царя
ночи» (Майская ночь, I). Вся метафорически преобразо-
ванная картина ночного неба, отраженного в воде, дана
на грани персонификации. Причем все описание выдер-
жано в одной эмоциональной тональности — предчувствия
чего-то страшного, неотвратимого и непредсказуемого,
что проявляется с особенной наглядностью в качествен-
ных характеристиках: «...пруд, угрюмо обставленный...
оплакиваемый вербами, потопившими в нем жалобные
свои ветви». Тот же отпечаток личностного отношения
лежит и на сопоставлении (как бессильный старец), раз-
вернутом далее в широкую картину «метафорического
перевоплощения»: «...держал он в холодных объятиях
своих далекое, темное небо, обсыпая ледяными поцелуя-
ми огненные звезды...».
Эмоционально-экспрессивная окраска авторского по-
вествования противостоит позиции персонажа, панночки
Ганны, не подозревающей надвигающихся на нее траги-
ческих испытаний. Поэтому-то описание пруда в автор-
ской речи и в восприятии и слове персонажа так эмо-
ционально диссонируют: «Как тихо колышется вода,
будто дитя в люльке! — продолжала Ганна, указывая
на пруд, угрюмо обставленный темным, кленовым ле-
сом...».
Присутствие рассказчика, отличающегося своим
собственным восприятием, вносящего в повествование
свою личностную и социальную позицию, ощущается в
выборе изобразительных средств. Рассказчик привносит в
повествование и свою речевую манеру, о чем уже гово-
рилось выше, но образный ряд— одно из самых ясных
свидетельств позиции рассказчика. Для автора позиция
рассказчика, как и образный строй, реализуемый в повест-
вовании, может ощущаться как чужое слово.
В «Вечерах на хуторе близ Диканьки» присутствует
не только повествователь, но и непосредственный рассказ-
чик, дьяк диканьской церкви, Фома Григорьевич. Присут-
ствие его сказывается на всем протяжении повествова-
ния, прежде всего в бытовых сопоставительных рядах.
135
Так, рассказывая о красоте Пидорки, он появляется сам,
со своими оценками, отношением и формами речи: «Эх,
не доведи господь возглашать мне больше на крилосе
алилуя, если бы, вот тут же, не расцеловал ее, несмот-
ря на то, что седь пробирается по всему старому лесу,
покрывающему мою макушу, и под боком моя ста-
руха, как бельмо в глазу» (Вечер накануне Ивана Ку-
пала) .
Такие открытые для читателя появления самого рас-
сказчика дополняются скрытым его присутствием, которое
выявляется в выборе объекта сопоставления. Например,
чисто бытовые сопоставления характеризуют рассказчика
в «Вечерах на хуторе близ Диканьки». Позиция рассказ-
чика здесь пронизывает все повествование, выявляясь в
рядах сопоставлений, например: «Скирды хлеба то сям,
то там, словно казацкие шапки, пестрели по полю»; «Уже
и снег стал сеяться с неба, и ветви дерев убрались ине-
ем, будто заячьим мехом»; «Вот уже в ясный морозный
день красногрудый снегирь, словно щеголеватый польский
шляхтич, прогуливается по снеговым кучам, вытаскивая
зерно...».
Весь образно-речевой строй повествования в «Вечерах»
организован позицией рассказчика, его точкой зрения в
описаниях, в эмоциональной тональности, находящей вы-
ход к читателю посредством бытовых сопоставлений, со-
ставляющих важное звено в характеристике речевой ма-
неры рассказчика: «Я думаю, куры так не дожидаются
той поры, когда баба вынесет им хлебных зерен, как до-
жидался Петрусь вейера» (Вечер накануне Ивана Купа-
ла). Личностная позиция рассказчика прослеживается и
в описаниях действий-поступков персонажей, в передаче
эмоциональных состояний действующих лиц, т. е. во
всех основных элементах повествования. Петрусь, по сви-
детельству рассказчика, «смотрел, не становится ли тень
от дерева длиннее, не румянится ли понизившееся сол-
нышко, и что далее, тем нетерпеливее» (Там же). Эмо-
циональная позиция рассказчика обнаруживается во всем
образном строе, в том числе и в «эмоционально-конденси-
рующей» (термин В. В. Виноградова) концовке, которая
завершает этот фрагмент: «Экая долгота! видно, день бо-
жий потерял где-нибудь конец свой».
Таким образом, сложность стилистики гоголевской
прозы, уже в «Вечерах...», в значительной степени
объясняется тем, что позиция автора, позиция рассказчи-
ка и позиция персонажа взаимно выявляются, выступают
136
с различной степенью яркости, в постоянном переплете-
нии, то почти сливаясь, то «накладываясь», то сопостав-
ляясь
Сопоставительные комплексы и обороты
в художественной системе текста
Развернутые сопоставления в художественной прозе Го-
голя нашли широкое и многоаспектное использование..
Субъект и объект сравнения как бы взаимно сопостав-
ляются, высвечивая все новые и новые грани один в-
другом. Так, беленькое и свеженькое личико губернатор-
ской дочки сравнивается с только что снесенным, матово
светящимся в грубых руках ключницы яйцом. И при
этом вся картина, живописующая свеженькое я и ч к ог
невольно переносится и на нежное личико губернской
барышни: «...другая молоденькая, шестнадцатилетняя,,
с золотистыми волосами, весьма ловко и мило приглажен-
ными на небольшой головке. Хорошенький овал лица ее-
круглился, как свеженькое яичко, и, подобно ему, белел
какою-то прозрачною белизною, когда свежее, только что'
снесенное, оно держится против света в смуглых руках
испытующей его ключницы и пропускает сквозь себя
лучи сияющего солнца...». Вот эта «прозрачная белизна
яичка» переносится и на личико тем легче, что заклю-
чительная часть описания личика губернаторской дочки
(поданного в восприятии Чичикова, с его ассоциациями)
поддерживает тот же образ проникающего света: «...ее
тоненькие ушки также сквозили, рдея проникавшим их’
теплым светом» (М. д., 1, V).
Образ, привлеченный для сопоставления, может как
бы целиком завладевать вниманием рассказчика и стано-
виться, по существу, центром описания: «Подъезжая
к крыльцу, заметил он (Чичиков.—Л. Е.) выглянувшие
5 Присутствие персонажа в речи рассказчика просвечивает в са-
мых разнообразных деталях повествования. Так, Петрусь В'
«Вечере накануне Ивана Купала», с нетерпением дожидаясь
наступления ночи, следит за длящимся временем по длине тени
и краскам заката. Прихотливая «нагруженность» повествова-
ния, обрастающего массой подробностей, складывается уже в «Ве-
черах...». Так, Рудный Паиько, рассказывая о своем хуторе
«близ Диканьки», как бы между прочим сообщает многочислен-
ные и внешне необязательные подробности, создающие совер-
шенно определенный речевой портрет рассказчика: «...дороги по
хуторам нашим не так гладки, как перед вашими хоромами.
Фома Григорьевич, третьего году, приезжая из Диканьки, по-
наведался-таки в провал с новою таратайкой своею и гнедою'
кобылою, несмотря на то, что сам правил и что сверх своих
глаз надевал по временам еще покупные».
137
жз окна почти в одно время два лица: женское, в чепце,
узкое, длинное, как огурец, и мужское, круглое, широкое,
пак молдаванские тыквы, называемые горлянками, из ко-
торых делают на Руси балалайки, двухструнные легкие
•балалайки, красу и потеху ухватливого двадцатилетнего
.парня, мигача и щеголя, и подмигивающего и посвисты-
вающего на белогрудых и белошейных девиц, собравших-
ся послушать его тихострунного треньканья» (М. д., 1,
V). Объект сопоставления — круглая молдаванская тык-
ва — становится почти еще одним «действующим лицом»
повествования, во всяком случае зрелищность сопостави-
тельных образов составляла существенную черту стили-
стики Гоголя. Читатель «видел» из описания рассказчи-
ка не только балалайку, сделанную из тыквы, но преж-
де всего самого балалаечника, «ухватливого парня, мига-
ча и щеголя...».
Для стилистики Гоголя знаменательна устремленность
к тщательному воспроизведению и выписыванию быто-
вой детали в подробностях, в живописующих мелочах’.
В сопоставительных комплексах эти два ряда подроб-
ностей (относящихся к объекту и к субъекту сопостав-
ления) постоянно дополняют друг друга, образуя две
«плоскости» образа, взаимно высвечивающих и оттеняю-
щих друг друга. Два плана изображения в их взаимо-
связях и организуют всю художественную систему текста.
Развернутое и разветвленное сопоставление предпо-
лагает детальное описание субъекта сопоставления: «Уже
обступили Кукубенка, уже семь человек только осталось
изо всего Незамайковского куреня; уже окровавилась на
кем одежда <...> уже успело ему углубиться под сердце
(копье прежде, чем были отогнаны обступившие его вра-
ги. Тихо склонился он на руки подхватившим его каза-
кам, и хлынула ручьем молодая кровь...» — это первая
часть сопоставительного комплекса, концовка ее подго-
тавливает образ, содержащийся во второй части,—
^разлившегося по вине неосторожных слуг драгоценного
вина. Вся вторая часть — второй план изображения —
постоянно соотносится с первой частью. Взаимосвязь и
взаимное дополнение планов изображения сказываются
в массе «перекликающихся деталей», образующих много-
численные связи всей художественной системы текста:
«...и хлынула ручьем молодая кровь, подобно дорогому
8 «Гоголь мыслит подробности — бытовые, исторические, времен-
ные и т. д.— не как фон, а часть (курсив автора.— Л. Е.) обра-
за» (Манн Ю. Указ. соч. С. 283).
138
«ину, которое несли в стеклянном сосуде из погреба не-
осторожные слуги, поскользнулись тут же у входа и раз-
били дорогую сулею: все разлилось на землю вино,
и схватил себя за голову прибежавший хозяин, сберегав-
ший его про лучший случай в жизни, чтобы если приве-
дет бог на старости лет встретиться с товарищем юности,
то чтобы помянуть бы вместе с ним прежнее, иное время,
когда иначе и лучше веселился человек...» (Т.Б., IX).
Читателю не только’ сообщаются многочисленные подроб-
ности того, как и кто разбил сосуд с драгоценным
вином, но и тщательно исследуется психологический ас-
пект: как и что чувствует при этом хозяин, сберегав-
ший вино к торжественному и памятному случаю. Оби-
лие условно-сослагательных частиц и союзов придает
повествованию особый эмоциональный оттенок. Интона-
ция наращивания нагнетает эмоциональную напряжен-
ность всей первой части сопоставительного комплекса.
Каждое звено с начинательным уже — еще одна ступень
в градации по восходящей, которая находит драматиче-
ское завершение и разрешение во второй, заключитель-
ной части комплекса. Многоточие, заканчивающее весь
сопоставительный комплекс,— знак недосказанности,
умолчания.
Развернутые, разветвленные сопоставления, органи-
зующие всю художественную систему текста,— примеча-
тельная черта стилистики художественной прозы Гого-
ля — интересны для нас прежде всего речевыми средст-
вами изобразительности.
Использование видо-временных глагольных форм вы-
являет определенную закономерность стилистики Гоголя.
Все действия, составляющие поступки или движения пер-
вой части комплекса, обычно относятся в общий план
прошедшего времени, а все действия второй части комп-
лекса максимально приближены к читателю, совершают-
ся как бы в момент речи и передаются в видо-временных
формах будущего времени или «настоящего живого пред-
ставления». Возьмем в качестве иллюстрации тот фраг-
мент из повести «Тарас Бульба», где повествователь рас-
сказывает о встрече прекрасной полячки с Андрием в
осажденном запорожцами городе: «Бросила прочь она от
себя платок, отдернула налезавшие на очи длинные во-
лосы косы своей и вся разлилася в жалостных речах, вы-
говаривая их тихим-тихим голосом, подобно когда ветер,
поднявшись прекрасным вечером, пробежит вдруг по гу-
стой чаще приводного тростника: зашелестят, зазвучат и
139
понесутся вдруг унывно-тонкие звуки, и ловит их с не-
понятной грустью остановившийся путник, не чуя ни по-
гасающего вечера, ни несущихся веселых песен народа,
бредущего от полевых работ и жнив, ни отдаленного та-
рахтанъя где-то проезжающей телеги, наносящих легких
вечерних мечтаний человеку» (Т.Б., VI). Выдвинутые в
начало, в «ударную» позицию глагольные формы со зна-
чением быстро сменяющих друг друга действий очерчи-
вают план действий персонажа: «Бросила... отдернула...
разлилася...^. Все эти действия обнимают общий план
прошедшего времени, а все движения природной стихии,
привлеченной рассказчиком в качестве объекта сопостав-
ления, охватывают план настоящего-будущего. Все дей-
ствия представлены как бы затухающими, возникающими
в постоянной смене процессов: «...пробежит ...зашелестит
...зазвучат и понесутся ...ловит...» Все сопоставление по-
строено не только на параллелизме образов, но и на па-
раллельном движении временных планов. Инверсии,
звуковые повторы организуют ритмо-мелодическую струк-
туру текста. Сопоставление образов дополняется собствен-
но речевыми средствами изобразительности — сменой вре-
менных планов повествования. Эта существенная для сти-
листики художественной прозы Гоголя закономерность
обнаруживается в сопоставительных комплексах как важ-
ный элемент их образно-речевой организации. Вот еще
один пример: «— Ну, слушайте же, что такое эти мерт-
вые души,— сказала дама приятная во всех отношениях,
и гостья при таких словах вся обратилась в слух, ушки
ее вытянулись сами собою, она приподнялась, почти не
сидя и не держась на диване, и, несмотря на то. что
была отчасти тяжеловата, сделалась вдруг тонее, стала
похожа на легкий пух, который вот так и полетит на воз-
дух от дуновенья.
Так русский барин, собачей и йора-охотник, подъез-
жая к лесу, из которого вот-вот выскочит оттопанный
доезжачими заяц, превращается весь с своим конем и
поднятым арапником в один застывший миг, в порох,
к которому вот-вот поднесут огонь. Весь впился он очами
в мутный воздух и уж настигнет зверя, уж допечет его
неотбойный, как ни воздымайся против него вся мяту-
щаяся снеговая степь, пускающая серебряные звезды
ему в уста, в усы, в брови и в бобровую его шапку»
(М. д., 1, IX). Разделение на субъект и объект сопостав-
ления поддерживается и композицией текста, они разде-
лены абзацем и составляют два взаимно соотнесенных
140
плана повествования, объединенных той же взаимосвязью
видо-временных форм, уже отмеченной выше. Повторяю-
щаяся частица вот-вот в значении 'ожидаемой неожидан-
ности’ вносит отчетливость в аспект действия, а в опи-
сание картины охоты — еще один оживляющий момент.
Образы, составляющие ряды сопоставлений, корректиру-
ют и оттеняют друг друга, устанавливают образное со-
ответствие в художественной системе: «...легкий пух, ко-
торый вот так и полетит на воздух от дуновенья»; «...рус-
ский барин, собачей и йора-охотник», весь в пылу азар-
та и напряженного ожидания, и наконец — объединяю-
щий и подводящий эмоциональный итог образ пороха,
«к которому вот-вот поднесут огонь».
По композиции и по архитектонике текста (под кото-
рой понимается обычно не только собственно композиция,
но и условия и средства образного сопряжения текста в
единую систему) развернутые сопоставления образуют
несколько типов.
Один из них — обрамляющая структура — состоит из
трех частей; первая — называет субъект и объект сопо-
ставления, далее следует центральная часть — разверну-
тое сопоставление, а заканчивается вся структура возвра-
щением к исходному пункту, снова появляется субъект
сопоставления. Обычно весь этот сопоставительный
комплекс выделен и графически — композицией текста,
т. е. ограничен абзацами, например:
«И на этом деревянном лице (Плюшкина,—Л. Е.)
вдруг скользнул какой-то теплый луч, выразилось не
чувство, а какое-то бледное отражение чувства, явление,
подобное неожиданному появлению на поверхности вод
утопающего, произведшему радостный крик в толпе, об-
ступившей берег. Но напрасно обрадовавшиеся братья и
сестры кидают с берега веревку и ждут, не мелькнет ли
вновь спина или утомленные бореньем руки,— появление
было последнее. Глухо все, и еще страшнее и пустыннее
становится после того затихнувшая поверхность безот-
ветной стихии. Так и лицо Плюшкина вслед за мгно-
венно скользнувшим на нем чувством стало еще бесчув-
ственней и еще пошлее» (М. д., 1, VI). «Обрамляющая
структура» сохраняет те же особенности видо-временной
организации текста, так же, как и в разобранных ! выше
случаях, приближается во времени к читателю именно
та картина, которая привлечена в качестве объекта со-
поставления. Все мимические движения и действия
Плюшкина — в плане прошлого. Этот план прошлого
141
составляет раму, внутри которой живописуется в фор-
мах настоящего-будущего образ, привлеченный для сопо-
ставления.
Сопоставительный комплекс, образованный на основе
разветвленного, развернутого сопоставления, образует
своего рода параллельную основному тексту систему. Все
повествование развивается как бы в двух направлениях:
субъект сопоставления реализуется в рамках сюжетного-
действия, а параллельно разворачивается картина»
привлеченная для сопоставления. Примером подобного-
сопоставительного комплекса может служить известная
сцена между Чичиковым и Ноздревым: «—Бейте его!—
кричал Ноздрев, порываясь вперед с черешневым чубу-
ком, весь в жару, в поту, как будто подступал под непри-
ступную крепость.— Бейте его!— кричал он таким же го-
лосом, как во время великого приступа кричит своему
взводу: „Ребята, вперед!“ какой-нибудь отчаянный пору-
чик, которого взбалмошная храбрость уже приобрела та-
кую известность, что дается нарочный приказ держать
его за руки во время горячцх дел. Но поручик уже по-
чувствовал бранный задор, все пошло кругом в голове
его; перед ним носится Суворов, он лезет на великое де-
ло. „Ребята, вперед!“ — кричит он, порываясь, не помыш-
ляя, что вредит уже обдуманному плану общего приступа?
что миллионы ружейных дул выставились в амбразуры
неприступных, уходящих за облака крепостных стен, что
взлетит, как пух, на воздух его бессильный взвод и что
уже свищет роковая пуля, готовясь захлопнуть его крик-
ливую глотку. Но если Ноздрев выразил собою подсту-
пившего под крепость отчаянного, потерявшегося поручи-
ка, то крепость, на которую он шел, никак не была по-
хожа на неприступную. Напротив, крепость чувствовала
такой страх, что душа ее спряталась в самые пятки»
(М. д., 1, IV).
Картина параллельного развертывания действия еще
раз обновляется в заключительной части комплекса. Иро-
нически сближены позиции Ноздрева — «отчаянного, по-
терявшегося поручика» и «крепости» — Чичикова, почув-
ствовавшего, что душа его «спряталась в самые пятки».
Показательно и само намеренное неназывание реального
сюжетного лица, выступающего в этом описании под
«знаком» крепости.
Следует отметить, что и здесь мы находим ту же от-
меченную закономерность в эстетическом использовании
видо-временных значений глагольных форм: все действия
142
образа, привлеченного для сопоставления, максимально
приближены к читателю, развертываются как бы перед
ним, на его глазах. Центральная часть сопоставительного
комплекса, по существу, жанровая сценка с определен-
ным кругом занятых в ней лиц и главным действующим!
лицом — лихим поручиком. Все действия реальных сю-
жетных персонажей Чичикова и Ноздрева отнесены в об-
щий план прошлого.
Эта закономерность в использовании видо-временных,
значений может нарушаться в том случае, если исходная
часть, «завязка» сопоставительного комплекса отражает
общую устоявшуюся закономерность, иллюстрирует опре-
деленные широко известные обобщения. В этом случае-
будущее и настоящее постоянное объединяют в своем
русле основные действия обеих частей сопоставления, на-
пример: «Кто заключил в себе талант, тот чище всех:
должен быть душою. Другому простится многое, но ему
не простится. Человеку, который вышел из дома в свет-
лой праздничной одежде, стоит только быть обрызнуту
одним пятном грязи из-под колеса, и уже весь народ
обступил его, и указывает на него пальцем, и толкует
об его неряшестве, тогда как тот же народ не замечает
множества пятен на других проходящих, одетых в буд-
ничные одежды. Ибо на будничных одеждах не замеча-
ются пятна» (Портрет, II).
Обобщенно-притчевый характер текста объясняет
здесь и использование речевых форм, речевых средств
изобразительности. Все действия располагаются в обла-
сти будущего или неограниченного длительного («посто-
янного») настоящего. Действия-поступки обрисованы об-
общенно и не привязываются к определенному персона-
жу, а соотносятся только с ситуацией.
Разветвленные сопоставления обычно имеют «точки
соприкосновения», объединяющие оба компонента, оба-
плана изображения в одну общую художественную си-
стему.
Между частями сопоставления (между субъектом и
объектом, в различной степени разветвленных и ослож-
ненных деталями) эти «точки соприкосновения» — лекси-
ческие и образные зависимости. Весь текст подготав-
ливает восприятие образа, привлеченного для сопо-
ставления, и определенную роль в этом выполняют лек-
сические соответствия. Как, например, в таком случае:
«Везде, где бы ни было в жизни, среди ли черствых, ше-
роховато-бедных и неопрятно-плеснеющих низменных
14»
рядов ее, или среди однообразно-хладных и скучно-опрят-
ных сословий высших, везде хоть раз встретится на пути
человеку явленье, не похожее на все то, что случалось
ему видеть дотоле, которое хоть раз пробудит в нем чув-
ство, не похожее на те, которые суждено ему чувствовать
всю жизнь. Везде поперек каким бы ни было печатям,
из которых плетется жизнь наша, весело промчится бли-
стающая радость, как иногда блестящий экипаж с золо-
той упряжью, картинными конями и сверкающим блеском
стекол вдруг неожиданно пронесется мимо какой-нибудь
заглотнувшей бедной деревушки, не видавшей ничего,
кроме сельской телеги, и долго мужики стоят, зевая,
с открытыми ртами, не надевая шапок, хотя давно уже
унесся и пропал из виду дивный экипаж* (М. д., 1, V).
Уже в «зачине» намечена картина, раскрывающая «яв-
ленье, не похожее на все то, что случалось видеть
раньше». «Весело промчавшаяся блистающая радость»,
несомненно, не только соотнесена, йо и состоит в семан-
тической зависимости от образа в развернутом сопостав-
лении: блистающая радость // блестящий экипаж, с зо-
лотой упряжью, картинными конями и сверкающим бле-
ском стекол. Блеск и роскошь «экипажа», в свою очередь,
предсказаны предваряющим основное повествование
образом (блистающая радость), контрастно противопо-
ставленным фону «шероховато-бедных и неопрятно-плес-
неющих низменных рядов» или «скучно-опрятных сосло-
вий высших». Уже отмеченное соответствие в упо-
треблении видо-временных форм мы находим и в этом
случае.
Живописны и художественно изобразительны в худо-
жественной прозе Гоголя не только разветвленные со-
поставительные комплексы. Краткие сопоставления несут
значительную «эстетическую нагрузку» и выполняют свои
функции «косвенной характеристики явления», пожалуй,
с неменьшим успехом. Сопоставительные обороты переда-
ют уподобление «сюжетного элемента» привнесенному в
повествование. При этом вносится совершенно определен-
ный эмоциональный колорит, отражающий оценку автора
или повествователя. В условиях внешне объективного
авторского повествования объект сопоставления — знак
авторской позиции. В повести Гоголя «Портрет» толь-
ко что проснулся дождливым петербургским утром в
промозглой комнате художник Чартков, «пасмурный, не-
довольный, как мокрый петух, уселся он на своем обор-
ванном диване, не зная сам, за что приняться, что делать,
144
и вспомнил наконец весь свой сон». Сопоставление с
мокрым петухом, несмотря на краткость и бытовую оп-
ределенность образа (а может быть, благодаря ей), созда-
ет зрительно убедительную и психологиче-
ски достоверную картину.
Привлечение животного мира в качестве объекта со-
поставления позволяет повествователю создавать образ
движения, внешности, манеры поведения персонажей.
Так, Пискарев в «Невском проспекте», убедившись в том,
что прекрасная незнакомка — уличная женщина, прости-
тутка, «бросился со всех ног, как дикая коза, и выбежал
на улицу».
Сопоставительный оборот помогает создать зритель-
ный образ отдельного жеста или «картины жестов». Так,
Плюшкин, получив с Чичикова, деньги за проданные
мертвые души, не просто взял деньги и положил в бюро,
а «принял в обе руки и попес их в бюро с такою же ос-
торожностью, как будто бы нес какую-нибудь жидкость,
ежеминутно боясь расхлестать ее» (М. д., 1, VI).
С животным миром сопоставляются пейзаж, окружаю-
щая среда. Так, дороги в «Мертвых душах» перед бричкой
Чичикова «расползались во все стороны, как пойманные
раки, когда их высыплют из мешка» (М. д., 1, III). Гла-
гольная форма расползались (о дорогах) создает зритель-
ный образ7, получающий «живописную» реализацию в
сопоставительной конструкции: «... как пойманные раки,
когда их высыплют из мешка...».
Сопоставление с прямым порядком частей (субъект/
/объект сопоставления) — основная для поэтики Гоголя
схема движения компонентов. Но есть и сопоставления
с обратным порядком частей. В этом случае вынесенное
в абсолютное начало текста сопоставление выполняет
функцию образа, предваряющего повествование. «Препо-
зитивное» сопоставление присоединяется к тексту сою-
зом (или союзным словом). Например: «Как плавающий
в небе ястреб, давши много кругов сильными крылами,
вдруг останавливается распластанный на одном месте и
бьет оттуда стрелой на раскричавшегося у самой дороги
7 Эта особенность художественного дара Гоголя уже была заме-
чена исследователями. И. Мандельштам, например, наряду с
постоянными и объективными образами, отмечает ведущую роль
субъективных образных связей: «Индивидуальность творчества
Гоголя обнаруживается преимущественно в даре воспроизведе-
ния в слове впечатления, непосредственно на него произведен-
ного предметом, вернее, свойством предмета» {Мандельштам И.
Указ. соч. С. 177). 6
6 Л. и. Еремина
145
самца-перепела,— так Тарасов сын, Остап, налетел
вдруг на хорунжего и сразу накинул ему на шею верев-
ку» (Т.Б., VII).
«Препозитивное» сопоставление обнажает авторскую
оценку сюжетной ситуации и обычно организует образ-
ные связи последующего, присоединяющегося к нему
текста, в данном случае образ «плавающего в небе яст-
реба» поддерживается глагольной формой налетел в зна-
чении ‘напал внезапно и с видимым ожесточением’.
В разветвленных сопоставительных комплексах, подроб-
но и живописно представляющих ситуацию, привлечен-
ную для сопоставления, видят обычно или гомеровский
прием расширения сравнения до самостоятельной повест-
вовательной миниатюры, вставленной в основную ткань
мощного эпического потока ’, или развернутое, нетороп-
ливое сравнение как характерную особенность «фолькло-
ра на ранней ступени его развития» 9.
Исследователи стиля Гоголя, в особенности художе-
ственной прозы, расходятся в оценке этого приема.
И. Мандельштам, например, видел в разветвленных сопо-
ставительных комплексах, осложненных массой бытовых
и, казалось бы, необязательных деталей, существенный
недостаток гоголевского повествования: «Очевидно, поэт
увлечен самим сравнением, забывая о предмете сравни-
ваемом <...> Гоголя увлекало слово, оно им часто руко-
водило, а не он управлял им» ‘°.
Между тем сопоставительные комплексы, переходящие
иногда во «вставные новеллы»,— существенная черта
иронической прозы Гоголя, ее стилистики. Рассказ-
чик только внешним образом уводит в сторону по-
вествование. В этом состоит прием многоаспектной
характеристики изображаемого явления.
Портрет и пейзаж
в художественной системе текста
Портрет как средство характеристики внешнего и внут-
реннего облика персонажа в творческой практике
Н. В. Гоголя имеет несколько разновидностей. Это преж-
де всего традиционный портрет, например портрет краса-
• Рыбникова М. А. Введение в стилистику. М.: Сов. писатель, 1937.
С. 180-181.
9 Там же. С. 182—184.
10 Мандельштам И. Указ. соч. С. 78, 66 и след.
146
вицы с алыми губками, темными бровями и Светлыми
очами. Но в этом традиционном портрете Гоголь стре-
мится обнаружить «душевное движение», качественные
характеристики не составляют главного содержания «сло-
весного портрета». Гоголь уже в «Вечерах...» дает порт-
рет в смене настроений, в выявлении душевных состоя-
ний: «Подперши локтем хорошенький подбородок свой,
задумалась Параска, одна, сидя в хате. Много грез обви-
валось около русой головы. Иногда вдруг легкая усмешка
трогала ее алые губки, и какое-то радостное чувство по-
дымало темные ее брови; то снова облако задумчивости
опускало их на карие, светлые очи» (Сороч. ярм.). Перед
нами «зародыш» психологического портрета. Повествова-
тель стремится в портретной зарисовке передать смену
настроений.
Показательно, что портрет у Н. В. Гоголя может быть
дан как бы со стороны, с точки зрения внимательного
наблюдателя, стремящегося за внешним обликом разгля-
деть внутренний, психологический мир персонажа. И это
присуще не только, и даже, пожалуй, не столько глав-
ным героям повествования, сколько эпизодическим фигу-
рам. Вот, например, портрет эпизодического персонажа —
цыгана, обещавшего помочь Грицко жениться на дочери
Черевика, Параске: «В смуглых чертах цыгана было
что-то злобное, язвительное, низкое и вместе высокомер-
ное’. человек, взглянувший на него, уже готов был со-
знаться, что в этой чудной душе кипят достоинства ве-
ликие, но которым одна только награда есть на земле —
виселица. Совершенно провалившийся между носом и ос-
трым подбородком рот, вечно осененный язвительной
улыбкой, небольшие, но живые, как огонь, глаза и
беспрестанно меняющиеся на лице молнии предприятий
и умыслов...». Перед нами знакомый по романтической ли-
тературе портрет злодея, здесь есть и цепочки качест-
венных характеристик в определении впечатления от
внешности цыгана («было что-то злобное, язвительное,
низкое и вместе высокомерное»), привычные метафоры
«кипят достоинства великие», «меняющиеся на лице мол-
нии предприятий и умыслов», сопоставления тоже до-
статочно традиционны: «живые, как огонь, глаза».
Мастерство Гоголя сказывалось и в портретных зари-
совках, в необычности качественных характеристик,
в особенном внимании к цвету и тону в описаниях внеш-
ности. Причем эта тонкость в называниях цвета (и впе-
чатления от него) сказывалась тогда, когда портрет да-
ft»
147
вался с позиций определенного лйца. Таков, папример,
портрет ростовщика в «Портрете»: «Высокий, почти не-
обыкновенный рост, смуглое, тощее, запаленное
лицо и какой-то непостижимо-страшный цвет его, боль-
шие, необыкновенного огня глаза, нависшие густые бро-
ви отличали его сильно и резко от всех пепельных
жителей столицы» (Портрет).
Н. В. Гоголь был мастером иронического портрета.
Так, например, доктор (в повести «Нос»), к которому об-
ратился поручик Ковалев, был «видный из себя мужчи-
на, имел прекрасные смолистые бакенбарды, свежую, здо-
ровую докторшу, ел поутру свежие яблоки и держал рот
в необыкновенной чистоте, полоща его каждое утро поч-
ти три четверти часа и шлифуя зубы пятью разных ви-
дов щеточками». Эпизодическая фигура доктора произ-
водит впечатление и запоминается прежде всего потому,
что «прекрасные смолистые бакенбарды» и «свежая, здо-
ровая докторша» выступают в роли однородных членов,
управляемых одним и тем же глаголом имел. «Свежая,
здоровая докторша» по принципу свежести объединяется
еще и с яблоками, которые, в свою очередь, оказываются
в семантической связи с тем, что доктор рот свой дер-
жал в необыкновенной чистоте. Детализация средств, по-
средством которых достигалась эта чистота, вносит допол-
нительный иронический элемент во все описание.
Эпизодические фигуры в произведениях Н. В. Гого-
ля запоминаются и узнаются именно благодаря столкно-
вению на одном уровне «разноуровневых» характеристик.
Так, хозяин дома, где жил сначала художник Чартков,
был один из тех людей, характер которых «так же труд-
но определить, как цвет изношенного сюртука. В моло-
дости своей он был капитан и крикун, употреблялся и по
штатским делам, мастер был хорошо высечь, был и ра-
сторопен, и щеголь, и глуп; но в старости своей он слил
в себе все эти резкие особенности в какую-то тусклую
неопределенность» (Портрет). Сопоставление «как цвет
изношенного сюртука» сочетается с заключительной
оценкой-характеристикой бывшего «капитана и крику-
на», слившего все свои прежде «резкие особенности в ка-
кую-то тусклую неопределенность».
Ироническое внимание рассказчика к «живописую-
щим подробностям», к цвету и тону, к детальному пере-
числению, казалось бы, незначительных мелочей выде-
ляет прозу Н. В. Гоголя, сообщает ей особенную живую
достоверность. Надо сказать, что эта особенность поэти-
148
ки Гоголя проявилась буквально с первых его шагов в
литературе. Уже в ( Вечерах...» рассказчик историй, дьяк
диканьской церкви, Фома Грйгорьевич, «вас всегда при-
мет в тонком суконном балахоне, цвету застуженного
картофельного киселя, за которое платил он в Полтаве
чуть не по шести рублей за аршин», здесь же сказано
даже о том, что он «вынимал из пазухи опрятно сложен-
ный белый платок, вышитый по всем краям красными
нитками...'».
Цвет фрака Павла Ивановича Чичикова несколько раз
варьируется в тексте «Мертвых душ». Чичиков пожелал
купить сукна «высшего сорта, какое есть, и притом боль-
ше искрасна, не к бутылке, но к бруснике чтобы прибли-
жалось». Купец достал кусок, «показал, прищурясь к све-
ту и сказавши: „Отличный цвет! Сукно наваринского
дыму с пламенем'1». Потом Павел Иванович «получил же-
ланье сильное посмотреть на самого себя в новом фра-
ке наваринского пламени с дымом». Подробности костю-
ма Чичикова даны в восхищенном восприятии самого ге-
роя, который, как известно, был очень доволен своей на-
ружностью: «Оказалось, что все как-то было еще лучше,
чем прежде, щечки интереснее, подбородок заманчивей,
белые воротнички давали тон щеке, атласный синий гал-
стук давал тон воротничкам, новомодные складки манишки
давали тон галстуку, богатый бархатный жилет давал
тон манишке, а фрак наваринского дыма с пламенем, бли-
стая, как шелк, дагал тон всему». Все подробности ко-
стюма и внешности героя здесь подаются во взаимовлия-
нии и взаимовыявлении достоинств. Все детали костюма
героя повторяются рассказчиком и тогда, когда Чичиков
попадает в нелегкие «испытания»: «Слезы вдруг хлыну-
ли ручьями из глаз его. Он повалился в ноги князю так,
как был: во фраке наваринского пламени с дымом, в бар-
хатном жилете, атласном галстуке, чудесно сшитых шта-
нах и головной прическе, изливавшей ток сладкого дыха-
ния первейшего одеколона, и ударился лбом <...> говорил
(Чичиков), не выпуская сапог князя и проехавшись вме-
сте с ногою по полу во фраке наваринского пламени и
дыма (...) Промозглый сырой чулан с запахом сапогов и
онуч гарнизонных солдат (...) где помещен был наш
(герой), уже было начинавший вкушать сладость жизни
и привлекать вниманье соотечественников, в тонком но-
вом фраке наваринского пламени и дыма (...) Он громко
зарыдал голосом, проникнувшим толщу стен острога и
глухо отозвавшимся в отдаленьи, сорвал с себя атлас-
149
ный галстук и, схвативши рукою около воротника, разо-
рвал на себе фрак наваринского пламени с дымом*. Под-
робности внешнего облика героя и его костюм даны в по-
стоянном противопоставлении всей обстановке, окруже-
нию и тем «несчастным обстоятельствам», в которые попал
Павел Иванович Чичиков. Гоголевская ирония выявляет-
ся не только в постоянном варьировании «дыма и пламе-
ни», но и в самом нанизывании повторений всей массы
подробностей, деталей одежды Чичикова. Повествуя о
«душевных муках» героя, вновь потерявшего все свое
благосостояние, рассказчик не забывает упомянуть о по-
луоторванной поле фрака: «Он не договорил, зарыдал
громко от нестерпимой боли сердца, упал на стул, и ото-
рвал совсем висевшую разорванную полу фрака* (М. д.,
2, IV).
Новые похождения Павла Ивановича, п'ослс освобож-
дения из тюрьмы, начинаются с приобретения этого же
сукна «.наваринского пламени с дымом*: Чичиков «за-
шел потихоньку только к тому купцу, у которого купил
сукно наваринского пламени с дымом, взял вновь четы-
ре аршина на фрак и на штаны и отправился сам к тому
же портному». Возвращение героя на прежнюю стезю
рисуется через повторяющиеся подробности, сопровождав-
шие его на всем протяжении повествования.
Пейзаж, внешние приметы пути выпол-
няют в творческой практике Н. В. Гоголя самые разно-
образные эстетические функции. Так, окружающая сре-
да становится фоном, сопереживающим и сочувствую-
щим или, напротив, контрастно противопоставленным жи-
тейским коллизиям и ситуациям, которые составляют
вехи сюжетного движения. Но пейзаж выполняет и еще
одну важную эстетическую функцию — передает про-
странство и время. «Взгляд назад», в прошлое:
удаление в пространстве, отдаление событий и вех пути,
время, текущее и отошедшее, время, длящееся и мчащее-
ся,—все это передается в числе других средств и пей-
зажными зарисовками, как бы изменяющимися на гла-
зах читателя. Вот это присутствие читателя при
развертывании сюжетных ситуаций — важный компонент
стилистики Гоголя, который как бы опирается и на «сви-
детельство» читателя в описаниях.
В повести «Тарас Бульба» Андрий уходит из запо-
рожского лагеря к ляхам, скрывается во вражеский стан.
Оглядываясь, он отмечает последние, видные ему приме-
ты дороги: «Опустясь в сию лощину, они скрылись со-
150
вершенно из виду всего поля, занятого запорожским та-
бором. По крайней мере, когда Андрий оглянулся, то
увидел, что позади его крутою стеной, более чем в
рост человека, вознеслась покатость. На вершине ее по-
качивалось несколько стебельков полевого былья, и над
ними поднималась на небо луна, в виде косвенно обра-
щенного серпа из яркого червонного золота». «Взгляд
назад», в прошлое и пройденное — характерная позиция
для героев Гоголя. Приближение и удаление
во времени и пространстве дают возможность повество-
вателю сопоставить настоящее и прошлое героев, выявив
при этом и какие-то внешние приметы пути-жизни и
пути-дороги.
Тарас Бульба с сыновьями, покинув родную хату,
едет в Запорожскую Сечь; перед героями встает их про-
шлое в постоянном сопоставлении с настоящим. Про-
странство изображается в двух аспектах: временное про-
странство отдаляет их от прошлого; линейно разверты-
вающееся пространство отделяет их от родного дома, где
осталась мать и с нею все детские и отроческие воспоми-
нания: «Они, проехавши, оглянулись назад; хутор их как
будто ушел в землю; только видны были над землей две
трубы скромного их домика да вершины деревьев, по
сучьям которых они лазили, как белки; один только даль-
ний луг еще стлался перед ними,— тот луг, по которому
они могли припомнить всю историю своей жизни, от лет,
когда катались по росистой траве его, до лет, когда поджи-
дали в нем чернобровую казачку, боязливо перелетавшую
через него с помощью своих свежих, быстрых ног». Здесь
тема пути-дороги представлена как удаление в прост-
ранстве, этому соответствует один ряд перечислений: ху-
тор, как бы ушедший в землю, еще видные вдалеке две
трубы, вершины деревьев. Плану движения-удаления
соответствует пересекающийся с ними еще один план —
удаление во времени и пространстве. Герои не только
уезжают из родного дома, но и оставляют здесь все, что
связывало их с детством и юностью. Этому значению про-
странства и времени соответствует другой перечислитель-
ный ряд: «вершины деревьев, по сучьям которых они ла-
зили, как белки», «дальний луг», где в детстве они «ка-
тались по росистой траве», а в юности поджидали
«чернобровую казачку». Причем перечисляются даже де-
тали этих вех жизненного пути: детство запомнилось ла-
занием по деревьям, а юность — по встречам с казачкой.
«Оглянуться назад» для героев Гоголя — возможность
увидеть еще раз свое прошлое, пережить его, отметив
приметы жизненного пути. Показательно, что эта ретро-
спективпость имеет и завершающий, эпизодический
«взгляд назад», где снова даны «внешние» приметы уда-
ления в пространстве, поданные в виде вех пути:
«Вот уже один только шест над колодцем с привязан-
ным вверху колесом от телеги одиноко торчит в небе;
уже равнина, которую они проехали, кажется издали го-
рою и все собой закрыла». В этом фрагменте текста важ-
на не только динамика, постоянная смена планов прост-
ранственных и временных, но и позиция персонажа,
выявляющаяся в слове повествователя. Ведь это Андрий
то и дело оглядывался назад, как бы навсегда прощаясь
с родным хутором (а потом и с родиной), именно он ока-
зался отъединенным, отгороженным от своего прошлого,
это ему издалека равнина кажется горою, которая «все
собой закрыла».
Описание пейзажа сквозь призму вос-
приятия персонажа — прием, нашедший широкое
использование в художественной прозе Гоголя. Персонаж
с его оценками и пристрастиями возникает в авторском
повествовании; его личностная позиция не просто «учи-
тывается» рассказчиком, но именно точка зрения дейст-
вующего лица, его отношение, эмоциональная оценка
пейзажа, окружающей среды и обстановки определяют
все повествование, проникают в авторское слово, «окра-
шивают» его.
Так, в «Портрете» именно главное действующее ли-
цо —художник Чартков, воспринимающий с особенной
остротой и тонкостью все краски наступающего вечера,
определяет все авторское повествование до тех пор, пока
в нем не умер талант. В начале повести только что ку-
пивший у старьевщика портрет старика Чартков идет
машинально домой по петербургским улицам, но пове-
ствователь все видит как бы глазами художника, в цвете,
полутонах, в динамике, постоянном движении: «Красный
свет вечерней зари оставался еще на половине неба; еще
домы, обращенные к той стороне, чуть озарялись ее
теплым светом; а между тем уже холодное синеватое
сиянье месяца становилось сильнее. Полупрозрачные лег-
кие тени хвостами падали на землю, отбрасываемые до-
мами и ногами пешеходов». «Полный бесчувствия ко
всему», торопливо шагающий в свой холодный угол,
художник профессионально чуток к красоте природы:
«Уже художник начинал мало-помалу заглядываться
152
на небо, озарённое каким-То прозрачным, тонким, сомни-
тельным светом...» — вся эта часть уже подготовле-
на в слове повествователя, все предвечернее небо дано
с точки зрения талантливого живописца, только худож-
ник так видит пейзаж. В заключительной фразе рас-
сказчика обнаруживается эмоциональное восприятие
вечереющего неба. В последних главах повести в Чарт-
кове погиб художник, вместе с талантом исчезли и «крас-
ки», мир воспринимается как бы обесцвеченным, что
сейчас же отраженно обнаруживается в авторском пове-
ствовании.
Внимание к цвету и свету, переливам и переходам
тонов составляет стержень авторского повествования,
когда оно ведется с эмоциональных позиций персонажа.
Природа, пейзаж, в особенности небо, живописуются
рассказчиком и в других произведениях (например, вели-
колепно-запущенный парк в имении Плюшкина). В по-
вести «Тарас Бульба» небо, природа — очень важные ком-
поненты в развитии повествования: «По небу, изголуба-
темному, как будто исполинскою кистью наляпаны были
широкие полосы из розового золота; изредка белели кло-
ками легкие и прозрачные облака, и самый свежий, обо-
льстительный, как морские волны, ветерок едва колыхал-
ся по верхушкам травы и чуть дотрогивался до щек».
Ночное небо над степью подано в постоянном восприятии,
в ощущениях, в оценке персонажа и, что еще важнее,—
в движении красок, теней, переходов цвета: «Иногда
ночное небо в разных местах освещалось дальним заревом
от выжигаемого по лугам и рекам сухого тростника,
и темная вереница лебедей, летевших на север, вдруг ос-
вещалась серебряно-розовым светом, и тогда казалось,
что красные платки летели по темному небу» (Т. Б.).
В той же повести в ночное небо смотрит Андрий:
«Оно все было открыто пред ним; чисто и прозрачно
было в воздухе. Гущина звезд, составлявшая Млечный
путь, поясом переходившая по небу, вся была залита
светом». Выявляющая и контрастирующая роль неба
(образ покоя и чистоты, противопоставленный житей-
ской суете) чрезвычайно важна в структуре гоголевской
прозы.
Цвет и свет в переходах и сиянии, в художни-
ческом восприятии и эмоциональной оценке возникают
еще в «Вечерах...»: «Усталое солнце уходило от мира,
спокойно пропылав свой полдень и утро; и угасающий
день пленительно и ярко румянился. Ослепительно бли-
153
Стали вёрхй белык шатров и ятбк, осепёпнке кАкЙкМ'б
едва приметным огненно-розовым светом. Стекла нава-
ленных кучами оконниц горели; зеленые фляжки и чар-
ки на столах у шинкарок превратились в огненные; горы
дынь, арбузов и тыкв казались вылитыми из золота и
темной меди» (Сороч. ярм.). Перед нами развертывается
не только пейзаж, освещенный и преображенный
ярко-красными лучами заходящего солнца, но и вся кар-
тина дана на грани персонификации. Причем эта одухот-
воренность явлений природы и предметно-вещного мира
не переходит в фантастическую, а сохраняет постоянную
связь с реальностью, только все краски как бы подновле-
ны и освещены чувством художника, остротой его ви-
дения.
Цвет у Гоголя — важнейший компонент его поэтики.
Он пишет не только о естественных, природных красках,
схваченных в состоянии покоя или, напротив, в движе-
нии, становлении света и цвета, или в противоборстве
света и надвигающейся тьмы. Гоголь представил нам
картины природы в огне пожара, в игре пламени: «Там
горел монастырский сад. Казалось, слышно было, как де-
ревья шипели, обвиваясь дымом, и когда выскакивал
огонь, он вдруг освещал фосфорическим, лилово-огнен-
ным светом спелые гроздия слив или обращал в червон-
ное золото там и там желтевшие груши...» 11 (Т. Б.).
В описаниях динамически развивающегося пейзажа
или картины природы, данной в становлении, в нагнета-
нии света, цвета, темноты, каждое качество представлено
в движении, например при описании лунной ночи в Мир-
городе: «...как белые стены домов, охваченные лунным
светом, становятся белее, осеняющие их деревья темнее,
тень от дерев ложится чернее, цветы и умолкнувшая
трава душистее...» (Повесть о том...). Грамматическая
форма сравнительной степени, многократно повторенная,
приобретает эстетический смысл. Весь рисунок лунной
ночи получает движение, все краски даны в становлении,
в процессе. ’
В редакции 1835 г. эта картина выглядела несколько иначе,
даже цвет передавался без той тонкости и точности, которая
появилась в окончательном тексте: «В другом месте горело но-
вое здание, потопленное в садах. Деревья шипели и покрыва-
лись дымом; иногда сквозь них просвечивала лава огня, и гроз-
дия груш, обвесивших ветви, принимали вид червонного золо-
та', даже видны были издали сливы, получившие фосфорический,
лилово-огненный цвет...».
154
О персонификации
* в художественной системе прозы Гоголя
Творчество Гоголя оказало огромное формирующее
влияние на развитие реалистической стилистики. Пока-
зав страшное лицо николаевской действительности в
галерее «человекообразных» типов, Гоголь обнаружил ве-
ликую обличительную роль смеха: «Смех — великое дело:
он не отнимает ни жизни, ни имения, но перед ним ви-
новный, как связанный заяц <...> Нужны ли примеры?
Вспомните „Ревизора"...»,— писал Гоголь в «Петербург-
ских записках» еще в 1836 г. Гоголевское повествование,
как и его драматургия, обнаружило непосредственную
связь трагического и комического: «ужас выражался сме-
хом» *2.
Творческая практика Гоголя сочетала в себе наследие
романтизма с тем новым, что создавалось в реалистиче-
ской стилистике. Реализм гоголевского повествования
органически «соединялся» с художественными идеями,
традиционно присущими романтизму, определяющими
именно романтическое видение «субъекта и объекта»
искусства. Романтическая основополагающая идея «двое-
мирия» получает в творчестве Гоголя многочисленные
воплощейия. Инфернальная среда участвует в повество-
вании на уровне почти будничном, в виде привычных
сценических персонажей. Черти и ведьмы строят козни,
но всех их побеждает добрый молодец, силач и удалец,
вооруженный главным образом здравым смыслом и ве-
рой в добрые начала. Но идея «двоемирия» реализуется
и в других, более сложных и не столь традиционных си-
туациях. Фантастическое и реальное, сновидения и явь,
вещный и духовный, физический и «мистический» миры
оказываются «взаимнопроницаемыми», они просвечивают
12 Гоголь Н. В. Поли. собр. соч.: В 14 т. М.: Изд-во АН СССР, 1952.
Т. VIII. С. 186. Эта связь была ясна Пушкину: «Обращение
убийцы к месяцу, единственному свидетелю его злодеяния,
Гляди, гляди, плешивый —
стих, исполненный истинно трагической силы, показался толь-
ко смешон людям легкомысленным, не рассуждающим, что
иногда ужас выражается смехом (курсив мой.— Л. Е.). Сцена
тени в Гамлете вся написана шутливым слогом, даже низким,
но волос становится дыбом от Гамлетовых шуток» (Пуш-
кин А. С. Поля. собр. соч.: В 16 т. М.: Изд-во АН СССР, 1949.
Т. И. С. 73 <0 поэтическом слоге)).
друг в друге и существуют в постоянном тесном соседст-
ве, почти «в родстве».
Одушевление предметного мира в художественной
прозе Гоголя принимает самые разные формы и присут-
ствует в различной степени яркости. Вещи «оживляются»
частично и поэтому в привычных условиях обитания ос-
таются как бы на грани реальности. Вся их деятельность
и самопроизвольность не нарушает привычного течения
реальной жизни. И тем не менее в рамках художествен-
ной системы текста оказывается наиболее действенной
как раз иллюзия превращения вещи в самостоятельно
действующее лицо.
Взаимодействие и взаимопроникновение живого и
предметного миров в художественной системе Гоголя
было замечено и объяснено 13. Мы займемся вопросом о
том, как воплощается этот прием в художественной
прозе Гоголя, рассмотрим собственно речевые средства
воплощения этого «двоемирия».
Вещи действуют, совершают поступки, исходящие из
названия предмета, например: «Скоро старый мундир с
изношенными обшлагами протянул па воздух рукава и
обнимал парчовую кофту, за ним высунулся дворянский
с гербовыми пуговицами, с отъеденным воротником <...>
выставилась шпага, походившая на шпиц, торчавший в
воздухе. Потом завертелись фалды чего-то похожего на
кафтан <...> Из-за фалд выглянул жилет <...> Жилет скоро
закрыла старая юбка покойной бабушки...» (Повесть о
том...). Вся картина, представленная во дворе дома Ива-
на Никифоровича, где вывешена всякая старая одежда,
остановилась на грани полной персонификации. Вещи
действуют, но остаются в границах реальности. Впечат-
*’ «Применяя соответствующий выбор тропеических оборотов речи,
художник на все явления отбрасывает тень человеческих пе-
реживаний, превращает их в компоненты человеческого харак-
тера или в его подобие, заставляя их по-человечески вести себя.
Уподобление предметов внешнего мира человеку вместе с тем
уподобляет и человека этим предметам, дает предметную форму
его переживаниям, является особой формой опредмечивания
человеческого характера. Предметы одухотворяются, очеловечи-
ваются, получают характер, объективированный в образе, жи-
вут его жизнью, потому что па них переносятся, в них опред-
мечиваются его переживания» (Переверзев В. Ф. Основы эйдо-
логической поэтики // Достоевский. Исследования. М.: Сов. пи-
сатель, 1982. С. 481. См. также: Виноградов В. В. Этюды о стиле
Гоголя // Поэтика русской литературы. М.: Наука, 1976. С. 284;
Мандельштам И. Указ. соч. С. 181).
156
лсние очеловеченности создается благодаря глагольным
формам, называющим действия, принадлежащие одушев-
ленным персонажам. Сквозь категорию грамматического
рода начинает проглядывать реальный пол живых су-
ществ. Впечатление соединения живого с неживым со-
здается благодаря тому, что развернутые определитель-
ные характеристики связывают все эти «вещи» с пред-
метным миром: старый (мундир) с изношенными обшла-
гами... старая (юбка) покойной бабушки, а действия их
передаются в категориях поступков.
Окказиональное олицетворение, которое
создается этим смещением, сдвигом в сторону очеловече-
ния вещей, передается еще и глагольными формами с
постфиксом -ся (вносящим значение 'действия, совершае-
мого или для самого себя’, или 'само собой’). Многократ-
ное повторение глагольных форм с -ся и создает впечат-
ление частичного оживления вещей, действительного
только для данного текста: «На этом угольном столе
поместилось вынутое из чемодана платье <...> Все это
разместилось одно на другом пирамидкой и прикрылось
сверху носовым шелковым платком. В другом углу, меж-
ду дверью и окном, выстроились рядком сапоги (...>
Они также стыдливо занавесились шелковым носовым
платком <...> На письменном столе тотчас же в большом
порядке разместились шкатулка, банка с одеколоном, ка-
лендарь и два какие-то романа, оба вторые тома. Чистое
белье поместилось в комоде» (М. д., 2, I). Уровень персо-
нификации и в этом «однородном» на первый взгляд,
ряду различен. И степень одушевленности зависит от ок-
ружающего контекста. Так, сапоги не только «выстрои-
лись рядком», но и «стыдливо занавесились шелко-
вым носовым платком»; платье не только «поместилось»
и «разместилось», но и «прикрылось сверху носовым
шелковым платком». Вот это колеблющееся значение
живого в неживом и создает ту удивительную атмосферу
«жизни вещей», которая так характерна для художест-
венной прозы Гоголя.
Все размещение Чичикова и его вещей выдержано в
том же «ключе» — частичного и окказионального олицетво-
рения: «С а б л я, ездившая по дорогам для внушения
страха ворам, поместилась также в спальне, повиснувши
на гвозде, невдалеке от кровати <...> В передней зале
покушался было утвердиться на время запах служите-
ля Петрушки. Но Петрушка скоро перемещен был на
кухню, как оно и следовало» (Там же). Здесь оба «дей-
157
Ствующих лица» — и запах, и Петрушка — в равной
степени действующие лица.
Платье, самые разнообразные предметы домашней ут-
вари особенно часто становятся заместителями своих
владельцев. Одежда способна к действиям-поступкам,
находящимся на грани реальности: «Бурсаки вдруг пре-
образились: на них явились, вместо прежних запачкан-
ных сапогов, сафьянные красные, с серебряными подко-
вами; шаровары шириною в Черное море, с ты-
сячью складок и со сборами, перетянулись золотым
очкуром...» (Т.Б.), и там же, еще раз: «Казакин алого
цвета, сукна яркого, как огонь, опоясался узорчатым
поясом...».
Здесь частичное, легкое олицетворение находится в
соседстве и в связи с преувеличениями: так, «шаровары
шириною в Черное море»; «сукно яркое, как огонь».
Олицетворение в художественной прозе Гоголя —
центр образных связей самого различного тропеического
характера. Оно может дополняться, например, метафори-
ческим превращением, в основе которого лежит полуза-
бытое исконное осмысление слова, его внутренняя фор-
ма: «В доме тот же час произошло преобразованье. Поло-
вина его, дотоле пребывавшая в слепоте, с заколоченны-
ми ставнями, вдруг прозрела и озарилась» (М. д., 2, I).
Здесь существенна не только и, пожалуй, не столько
частичная персонификация, уже знакомая нам по другим
примерам, а то неожиданное использование прежних се-
мантических связей слова, которое в данном случае и
служит доминантой образа. Слепой дом — дом с окнами,
заколоченными ставнями. Око соотносится с окном. Отсю-
да исходят и все образные связи: половина дома, «дотоле
пребывавшая в слепоте, с заколоченными ставнями,
вдруг прозрела и озарилась», когда было снято нечто
постороннее (ставни, скрывавшие, закрывавшие окна —
очи дома). Таким образом, внимание к слову, к его ста-
рым, полузабытым семантическим связям и смыслам
входит в качестве еще одной составляющей в поэтику
Гоголя.
Персонификация может подготавливаться и разверты-
ваться в художественной системе текста по нарастающей,
образовывать восходящие ряды.
Это видно, например, в сценах, описывающих ночные
кошмары художника Чарткова в «Портрете». Об этих
сновидениях уже шла речь выше. Здесь я только напом*
ню градации. Сначала золото — предмет в руках оживше*
158
ГО «Портрета»: «Золото блеснуло». Потом: «...оно развора-
чивалось в костистых руках, блестело, звенело тонко и
глухо, и заворачивалось вновь».
Здесь ряд однородных членов объединяет отнюдь не
однородные действия золота. Если блестеть и звенеть
золото может, проявляя свои исконные свойства, то
разворачиваться и вновь заворачиваться оно способно
только при условии олицетворения, т. е. при условии из-
вестного сближения с живым миром.
Персонификация окказиональная и не в полном объе-
ме, частичная, свойственна не только реальным вещам,
но и нематериальным «субстанциям». Так, например,
в «Мертвых душах» персонификация перехо-
дит в персонализацию. Мысль, вдруг возникшая,
как бы сама собой появившаяся, воплощается —
получает плоть: «Тогда представлялась и другая выгода:
можно было вовсе улизнуть из этих мест и не заплатить
Костанжогло денег, взятых у него взаймы. Странная
мысль! не то чтобы Чичиков возымел <ее>, но она вдруг
сама собой предстала, дразня и усмехаясь, и при-
щуриваясь на него. Непотребница! Егоза! И кто творец
этих вдруг набегающих мыслей» (М. д., 2, IV).
Персонализация видна здесь не столько в основном
действии (предстала), сколько в дополнительных, сопут-
ствующих (предстала, дразня и усмехаясь, и прищу-
риваясь на него). Замечание повествователя: «Непотреб-
ница! Егоза!» —еще больше усиливает значение «мате-
риализации», воплощения мысли в образе вертлявого и
ехидного существа женского пола.
Персонализацию «на грани метафоры», т. е. в менее
явном виде, находим и в пейзажных зарисовках: «...и
глядела ему в окна слепая, темная ночь, готовая по-
синеть от приближавшегося рассвета...» (М. д., 1, VIII) “.
14 Олицетворение природы находится в самой живой связи со
славянской мифологией, т. е. лежит в основном русле влияний
народно-поэтических традиций на поэтику Гоголя: «Светила
небесные уже не только в переносном, поэтическом смысле име-
нуются „очами неба", но в самом деле представляются народ-
ному уму под этим живым образом, и отсюда возникают мифы
о тысячеглазом, неусыпном ночном страже — Аргусе и одно-
глазом божестве солпца; извилистая молния является огнен-
ным змеем, быстролетные ветры наделяются крыльями, владыка
летних гроз — огненными стрелами» (Афанасьев А. Я. Древо
жизни. М.: Современник, 1982. С. 23. Гл. «Происхождение мифа,
метод и средства его изучения»).
159
Граница между живым и неживым миром, как уже
сказано выше, в поэтике Гоголя проницаема, эти два ми-
ра взаимодействуют и «взаимосообщаются». Поэтому,
если о вещи, о предмете можно воскликнуть: «Пусть вам
остается ваше ружье, пускай себе сгниет и перержавеет
<„.> Пусть оно себе околеет; не буду больше говорить!..»
(Повесть о том...), то в живых людях Гоголь часто видит
что-то неживое, остановившееся, застывшее, деревянное?
гости на балу у губернатора, услышав от полупьяного'
Ноздрева, что Чичиков скупает мертвые души, как бы
превратились в «вещи»: «Эта новость так показалась
странною, что все остановились с каким-то деревянным,,
глупо-вопросительным выражением» (М. д., 1, VIII).
Оттенок персонификации может быть дополнительным:
штрихом в ироническом повествовании. В «Портрете»
есть описание аукциона: «Вообще ощущаемое нами чув-
ство при виде аукциона страшно: в нем все отзывается
чем-то похожим на погребальную процессию. Зал, в кото-
ром он производится, всегда как-то мрачен; окна, загро-
можденные мебелями и картинами, скупо изливают свет,
безмолвие, разлитое на лицах, и погребальный голос аук-
циониста, постукивающего молотком и отпевающего па-
нихиду бедным, так странно встретившимся здесь искус-
ствам» (Портрет, II). Эта легкая персонификация про-
должена и дальше: «Тут была целая флотилия русских
купцов из гостиного двора и даже толкучего рынка
в синих немецких сюртуках <.„> Здесь они были совер-
шенно развязны, щупали без церемонии книги и картины,
желая узнать доброту товара...» (Там же). Одухотворен-
ность «бедных, так странно встретившихся здесь ис-
кусств», книг и картин, которых «щупают без церемонии,
желая узнать доброту товара»,— образ, несущий автор-
скую разоблачительную иронию, выполняет определенную
композиционную функцию, обрамляет текст.
В самом деле, ведь именно так же, как и эти русские
купцы в синих немецких - сюртуках, определяющие
истинность искусства как добротность то-
вара, поступал и тот хозяин лавки, где Чартков купил
за двугривенный портрет старика: «„...или вот зима, возь-
мите зиму! Пятнадцать рублей! Одна рамка чего стоит.
Вон она какая зима!“. Тут купец дал легкого щелчка в
полотно, вероятно, чтобы показать всю доброту зимы»
(Портрет). В словосочетании доброта зимы тесно спле-
тены смыслы — добротность (полотна, холста, на кото-
ром изображена зима), доброта (зимы как времени года)
160
й, наконец, главное — добротность товара взамен истий-
ности искусства.
Авторская ирония в изображении «звероподобных лю-
дей» и «человекообразных зверей» выявляется в тонкой
игре смысловыми связями внутри текста. Разберем этот
прием на двух цитатах из повести «Старосветские поме-
щики». Любимая кошечка Пульхерии Ивановны, куда-то
исчезавшая, а потом появившаяся, чтобы выполнить
свою «роковую функцию», в последних эпизодах нигде не
называется иначе как «фаворитка» и «беглянка»: «Пуль-
херия Ивановна тотчас приказала подать ей молока и
мяса и, сидя перед нею, наслаждалась жадностию бедной
своей фаворитки, с какою она глотала кусок за куском и
хлебала молоко. Серенькая беглянка почти в глазах ее
растолстела и ела уже не так жадно. Она протянула
руку, чтобы погладить ее, но неблагодарная, видно, уж
слишком свыклась с хищными котами, или набралась ро-
манических правил, что бедность при любви лучше па-
лат, а коты были голы, как соколы', как бы то ни было,
она выпрыгнула в окошко, и никто из дворовых не мог
поймать ее». Все описание поведения «серенькой беглян-
ки» как бы расположено на зыбкой грани между звери-
ным и человеческим миром. В этой колеблющейся, как
бы «мерцающей» очеловечснности продолжено то, что
уже было показано в «человекоподобии» повадок котов:
«Лесных диких котов не должно смешивать с теми удаль-
цами, которые бегают по крышам домов. Находясь в го-
родах, они, несмотря на крутой нрав свой, гораздо более
цивилизованны, нежели обитатели лесов. Это, напротив
того, большею частию народ мрачный и дикий', они всег-
да ходят тощие, худые, мяукают грубым, необработанным
голосом». Описание поведения котов (на той же грани
«очеловечения») поддерживается сопоставительным обо-
ротом: коты подманили кошечку Пульхерии Ивановны,
«как отряд солдат подманивает глупую крестьянку...».
Изображение человека и окружающих вещей, живот-
ных, сновидения и яви, реальности и фантастики как
выявление изначального «двоемирия» организует и в зна-
чительной мере направляет изобразительность художест-
венной прозы Гоголя. Знаменательно, что и в изображе-
нии переживаний, психических состояний персонажа при-
сутствует эта одновременная ориентация на два «начала»,
на таинственную сущность душевных движений. Вот, на-
пример, как представлен «психологический ряд» Хомы
Брута в его взаимоотношениях с ведьмой-панночкой:
161
«Он чувёТЬовал бесовски-сладкде Зуйстйб, ой йуйсгГвбвЭЛ
какое-то пронзающее, какое-то томительно-страшное на-
слаждение»-, «Затрепетал, как древесный лист, Хома:
жалость и какое-то странное волнение и робость, неведо-
мые ему самому, овладели им...»-, «Он подошел ко гробу,
с робостию посмотрел в лицо умершей и не мог не за-
жмурить, несколько вздрогнувши, своих глаз: такая
страшная, сверкающая красота <...> В самом деле, резкая
красота усопшей казалась страшною» (Вий). Здесь заве-
домая ориентация па два начала объясняется в подавля-
ющей степени п «предметом повествования». Но оксюмо-
ронность — как сочетание полярно противопоставленных
свойств и качеств — присутствует в поэтике Гоголя, по-
лучая различное художественное воплощение и различ-
ное эмоциональное освещение. Идея двоемирия составля-
ет сущностную черту, определяющую многие «странно-
сти» гоголевского повествования.
Заключение
Художественная проза Гоголя
в контексте эпохи
В литературе сентиментально-романтической, в произве-
дениях Карамзина, Рылеева, Бестужева-Марлинского и
их последователей, чувства, эмоциональные состояния
передаются в их внешнем выражении; их герои бледне-
ют, 'дрожат, пламенеют, каменеют и т. д., анализа внут-
ренних состояний еще нет.
Психологический романтизм Жуковского (так же как
и героический или гражданский романтизм декабристов)
считал своей главной задачей создание психологически
достоверных образов *. Психологический анализ призна-
вался одним из условий художественности.
Декабристы и их современники, близкие к ним в миро-
воззренческом и художественном «плане», многое сделали
для обоснования принципов создания литературного язы-
ка; они учили видеть национальное в народном.
Но декларируемые положения не нашли достойного
воплощения в творческой практике писателей-романтиков.
1 Соотношение романтизма и реализма в русской классической
литературе XIX в. еще не исследовано в вопросах структу-
ры художественной формы, но генетические отноше-
ния относительно ясны. См. подробнее: Виноградов В. В. О язы-
ке художественной литературы. М.: Ху дож. лит., 1959. С. 473.
162
Психологическая достоверность образов, индивидуализа-
ция речи персонажей остались недостижимым идеалом.
Условный, обобщенно-возвышенный язык литературных
героев был почти так же далек от языка народного, как
и одически-напыщенный слог классицистов.
Выраженный в слове анализ душевных состояний
героя, вместо обозначения чувств, вместо указания внеш-
них признаков переживания, далеко не сразу и не одно-
временно проник в различные «роды и жанры» литерату-
ры. Психологический анализ прошел длительный путь
развития. Гоголь в своей творческой практике был еще в
начале этого пути. В художественной прозе Гоголя обра-
щает на себя внимание разнообразие и даже как бы не-
которая избыточность качественных оценок эмоциональ-
но-психологических состояний. У Гоголя качественно-
квантитативные определители получают психологи-
ческую мотивированность. Среда — уже не безликая
толпа или обобщенно-пейзажный фон. Все сюжетные си-
туации, ход изображаемых событий даются в восприятии,
в оценке субъекта. Причем «эффект присутствия» героя,
рассказчика, повествователя (так как планы повествова-
ния постоянно смещаются, переплетаются) дан в психо-
логизме качественной дифференциации, все события пред-
ставлены в личностном восприятии. Основную нагрузку
психологического анализа, исследования душевных со-
стояний несут психологические эпитеты.
Анализ психики выраженный, вместо указания
на внешние движения, внешние обозначения чувств, по-
лучает дальнейшее развитие и углубление в послепуш-
кинской литературе. В художественной прозе Гоголя в
драматически напряженных ситуациях речевыми средст-
вами воссоздается образ переживания2. Неотчетливо-из-
менчивые чувства персонажей создают общий эмоцио-
нальный фон восприятия, окрашивающий в соответствую-
щие тона не только их душевные состояния, но и
окружающую среду, которая воспринимается как созвуч-
ная настроению или контрастная ему.
В стилистике Гоголя иногда душевные состояния
персонажей как бы не зависят от «внешнего мира» реаль-
ных, конкретных действий, объясняются лишь ассоциа-
тивными связями. Творчество Пушкина и Гоголя открыло
2 «Гоголь был гений разлагающего психологического анализа, на-
правленного на темные стороны души человеческой» (Овсяни-
ко-Куликовский Д. Я. Гоголь//Гоголь Н. В. Собр. соч. 5-е изд.
М.; Пг„ 1023. С. 29).
путь литературе художественного психологизма, сделало
возможным появление Достоевского и Льва Толстого.
Слово получает в контексте Гоголя нетрадиционное,
эмоционально напряженное «звучание». Остранение
будничной, пошлой жизни стало изобразительным прие-
мом. Именно благодаря этому остранению уничтожался
автоматизм восприятия, природа и среда становились не
простым фоном, а в некоторой степени и участниками
сюжетного действия.
В области психологического анализа и связанного с
ним художественно-психологического осмысления образа
непосредственными предшественниками (и в определен-
ной мере — учителями) Гоголя были Пушкин и Грибое-
дов. Творчество Жуковского, Карамзина, Батюшкова под-
готовило почву для создания стилистики Гоголя.
Основные романтические «стилеобразующие» компо-
ненты: психологизм эпитетов, оксюморонность сочетае-
мых понятий, соединение традиционно-поэтических эле-
ментов с окказионализмами, определившие стилистиче-
ский фон поэзии Жуковского,— вошли в числе прочих
составляющих в стилистику Гоголя.
В поэтическом творчестве Жуковского выявились мно-
гие черты психологической романтической лирики. Наме-
ки на скрытую, таинственную, понятную немногим по-
священным сущность привычных и будничных вещей и
предметов дополняются зыбкими ассоциативными связя-
ми и нарочито туманными «указаниями»; обнаруживается
соотнесенность конкретного и потаенного, близкого и да-
лекого. Инфернальный мир самым непосредственным об-
разом вмешивается в человеческие дела. Все это в пре-
образованном, дополненном и метафорически осмыслен-
ном виде мы находим в поэтике Гоголя.
Реализм XIX в. как «стройная и законченная система
художественного мировоззрения», как «этап закономер-
ного развития искусства слова» 3 вобрал все ценное, что
было у его предшественников4. Реалистическая стили-
3 Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля.
М.: Худож. лит., 1948. С. 5.
4 «...Пушкин еще посылал учиться языку у просвирен; Гоголь из
этого именно языка извлек оттенки непередаваемой звучности.
Там, где были местные и сословные языки, стал „язык языков",
гибкий в оттенках перехода: от наречия к наречию. И новый
язык зажег жизнь в лучших наших прозаиках-классиках. Пе-
реродилось самое понятие „проза"; и русская литература за-
вяла первое место в мировой.
Толчок к тому —в Гоголе» (Белый А. Мастерство Гоголя.
М„ 1934. С. 6).
164
стика формировалась и совершенствовалась па всем про-
тяжении истории языка художественной литературы на-
чиная с 20—30-х годов XIX в. Постепенное совершенство-
вание метода психологического анализа как основы
мастерства художника-реалиста — вот основное направле-
ние в развитии художественного психологизма. Все по-
следующее развитие языка художественной литературы
определено задачей совершенствования изобразительных
средств языка, причем это направление уже было задано
творческой практикой Пушкина, Грибоедова и Гоголя.
От первоначальных редакций
к окончательному тексту
В художественных текстах Гоголя не так много си-
туаций, где «душевное движение» повествователя долж-
но тронуть читательское сердце, где все описание
диктуется одним желанием — вызвать сочувствие, сопе-
реживание. Одна из таких ситуаций — описание болез-
ни и смерти, «конца» Акакия Акакиевича Башмачкина.
Показательно, что, переделывая эти куски текста, Гоголь
стремился усилить именно трогательную ноту своего гру-
стного, сочувствующего и, как всегда, иронического по-
вествования. Окончательный текст таков: «Исчезло и
скрылось существо никем не защищенное, никому не до-
рогое, ни для кого не интересное, даже не обратившее
на себя внимание и естествоиспытателя, не пропускающе-
го посадить на булавку обыкновенную муху и рассмот-
реть ее в микроскоп',— существо, переносившее покорно
канцелярские насмешки...» (Шинель). Весь выделенный
курсивом текст отсутствовал в первоначальных редакци-
ях, где весь фрагмент выглядел так: «...даже не обратив-
шее на себя взгляду естествонаблюдателя и только покор-
но понесшее канцелярские насмешки...». Большая часть
замен в области лексических уточнений: естествонаблю-
дателя заменено на естествоиспытателя, понесшее — на
переносившее. Значение оборота, раскрывающего челове-
ческое равнодушие, «не пропускающего посадить на бу-
лавку обыкновенную муху и рассмотреть ее в микро-
скоп», в эмоционально-экспрессивном звучании всего по-
вествования велико еще и потому, что оно продол-
жение образного ряда, составляющего
одну из центральных «связей» всей ху-
дожественной системы текста. В ирониче-
ском повествовании о житье-бытье Башмачкина уже со-
165
держалось (в оппозиции видно/невидно) слегка намечен-
ное сопоставление Акакия Акакиевича с другим видом на-
секомых. Когда Бащмачкин понес в починку, как он наде-
ялся, Петровичу свою шинель, он стал свидетелем и уча-
стником следующей картины: «Дверь была отворена, по-
тому что хозяйка, готовя какую-то рыбу, напустила
столько дыму в кухне, что нельзя было видеть даже и са-
мых тараканов. Акакий Акакиевич прошел через кухню,
не замеченный даже самою хозяйкою, и вступил наконец
в комнату, где увидел Петровича...». Здесь тараканы за-
метнее и в большей степени заявляют о своем существо-
вании и присутствии, чем Акакий Акакиевич. В ирониче-
ском повествовании Гоголя оборот с «даже п...» —обыч-
ный «обманный жест», о котором см. выше. Здесь он
присутствует в своей роли — как знак «обманутого ожи-
дания» — в ироническом слове повествователя и составля-
ет часть, одно звено в этих даже («...нельзя было видеть
даже и самых тараканов. Акакий Акакиевич прошел че-
рез кухню, не замеченный даже самою хозяйкою...»).
Всей этой цепочки сопоставлений Акакия Акакиевича по
степени незаметности//неинтересности с мухами и тара-
канами в первоначальных редакциях не было. Она появи-
лась в окончательном тексте как существенный знак эмо-
ционального выявления повествователя, его личностной
оценки во внешне по-прежнему ироническом повествовании.
Сопоставление первоначальных редакций «Невского
проспекта» с окончательным текстом обнаруживает
стремление рассказчика снять прямолинейность в фами-
лиях-характеристиках. Художник Пискарев в вариантах
«молодой человек во фраке и плаще» носил фамилию
Палитрин от палитра; художник Чартков в повести «Порт-
рет» в редакции «Арабесок» имел фамилию Чертков, где
уже намечалась родовая, изначальная связь с инферналь-
ным миром.
При сопоставлении первоначальных редакций с окон-
чательным текстом заметна еще одна существенная осо-
бенность авторского редактирования: снимается прямоли-
нейность в ироническом освещении сюжетных ситуаций.
Так, сначала в «Невском проспекте» было: «Усы, которые
заворачиваются на ночь одою известного писателя», а в
окончательном тексте — усы «заворачиваются на ночь
тонкою веленевою бумагою». Если в ранних редакциях
лысая голова по гладкости сопоставлялась с серебряной
лоханкой, то в окончательном тексте читаем: «...голова
гладка, как серебряное блюдо».
100
Наряду с подобными лекёйческимй замёНами-уФбйЙё-
ниями, изменяющими только стилистическое звучание,
эмоциональную окраску образа, мы встречаем и сущест-
венные изменения, определяющие сюжетное развитие и
архитектонику повествования. Так, в редакции «Арабе-
сок» портрет старика был дан как бы в восприятии вни-
мательного, но постороннего зрителя (а не самого худож-
ника Чарткова, как в окончательном тексте). Поэтому все
описание помещено в повествование рассказчика, но
подается в оценках зрителя-свидетеля: «Это был старик с
каким-то беспокойным и даже злобным выражением лица;
в устах его была улыбка, резкая, язвительная, и вместе
какой-то страх; румянец болезни был тонко разлит по
лицу, исковерканному морщинами; глаза его были велики,
черны, тусклы; но вместе с этим в них была заметна ка-
кая-то странная живость...»5. В окончательном тексте
портрет старика подается в восприятии талантливого
художника, поэтому внимание обращается на соче-
тание и движение тонов, красок, замечания касаются и
собственно художнических приемов. И что самое главное:
уже в первом впечатлении, которое портрет произвел не
только на художника, но и на всю толпу,— это ж и-
в ы е, глядящие глаза портрета. Этой чрезвычайно суще-
ственной детали не было с такой ясностью и определен-
ностью выявлено в первоначальном варианте.
Вот как воспринимает портрет старика художник
Чартков в этой первой встрече: «Это был старик с лицом
бронзового цвета, скулистым, чахлым; черты лица, каза-
лось, были схвачены в минуту судорожного движенья и
отзывались не северною силою. Пламенный полдень был
запечатлен в них. Он был драпирован в широкий азиат-
ский костюм <...> Необыкновеннее всего были глаза: ка-
залось, в них употребил всю силу кисти и все старатель-
ное тщание свое художник. Они просто глядели, глядели
даже из самого портрета, как будто разрушая его гармо-
нию своею странною живостью. Когда поднес он портрет
к дверям, еще сильнее глядели глаза. Впечатление почти
то же произвели они и в народе. Женщина, остановив-
шаяся позади его, вскрикнула: «Глядит, глядит»,— и по-
пятилась назад».
В окончательном тексте центр всей художественной
системы — живые, глядящие глаза портрета.
Вот это живое в неживом, поданное как вполне реальное
5 Гоголь Н. В. Поли. собр. соч. Т. III. С. 403-405. Далее все ран-
ние редакции и первоначальные варианты даются по этому из-
данию.
167
Событие, Хоть и странное, засвидетельствованное окру-*
жающими зрителями, толпой,— центр, образная доминан-
та, которая будет постепенно воплощаться в последую-
щем тексте (чего не было еще в редакции «Арабесок» в
такой яркости и изобразительности). Была там и толпа
зрителей, но реакция на «странную живость глаз» портре-
та дана не с такой отчетливой экспрессией: «Действие,
произведенное портретом, было всеобщее: народ с каким-
то ужасом отхлынул от лавки; покупщик, вошедший с
ним в соперничество, боязливо удалился». Здесь—ужас
как предчувствие, страх перед неведомым, поэтому все
«безотчетно» испуганы. В окончательном тексте «сосу-
ществование» двух миров как живое в неживом выраже-
но с полной определенностью.
Гоголь «усилил» и некоторые подробности. Так, ху-
дожник Чертков в ранней редакции купил нортрет на
последние 50 рублей, а художник Чартков — на послед-
ний двугривенный. Повествователь намеренно доводит
бедность до предельной нищеты...
В окончательном тексте многократно усилено и живое
движение нарисованных глаз, которые «глядели, гляде-
ли... Еще сильнее глядели глаза-» после того, как Чартков
принес портрет к себе в мастерскую и протер его губкой.
Сопоставление ранних вариантов и редакций с оконча-
тельным текстом «Невского проспекта» выявляет суще-
ственную черту поэтики Гоголя, внимательно следящего
за качественными характеристиками доминирующей чер-
ты в облике персонажа. Так, прелестная незнакомка Пи-
скарева в сценах сна не сразу получила отличительную
черту — «сверкающую белизну лица», ей предшествова-
ли варианты: «чистая (*стыдливая) белизна лица еще
ослепительнее (*еще ярче) бросилась в глаза...».
В работе над текстом Гоголь стремился к тщательно-
му выписыванию детали, обнаруживающей иронию, от
грустного сочувствия до злого сарказма. Именно в этом
направлении изменялся текст эпилога в «Шинели». Изве-
стная формула «поймать вора живого или мертвого» сна-
чала получила в тексте такой вид: «Но полиции сделано
было распоряжение поймать мертвеца во что бы то ни
стало живого или мертвого ив том и в другом
случае наказать его жесточайшим образом, и в том
даже едва было не успели». В окончательном тексте вся
бессмысленность «распоряжения» сохранена, но уточнены
адреса «наказания»: «В полиции сделано было распо-
ряжение поймать мертвеца, во что бы то ни стало живого
168
или мертвого, и наказать его, в пример другим,
жесточайшим образом, и в том едва было даже не ус-
пели» — «наказать» мертвеца предлагалось «в пример дру-
гим», что и говорить — замена существенная...
Изобразительные приемы, так называемые тропеиче-
ские средства, при обработке текста подвергались тоже
изменениям. Так, в ранних редакциях чувства художника
Пискарева изображаются в целой цепочке метафорических
преобразований: «Колени его дрожали; чувства, мысли
горели. Молния радости нестерпимым острием ударила
в сердце». В окончательном тексте: «...молния радости не-
стерпимым острием вонзилась в его сердце».
Сопоставление двух редакций обнаруживает как бы
нарочитое «экспрессивное умножение» в этом усилении,
появившемся в окончательном тексте: «...молния радости
нестерпимым острием вонзилась в его сердце...»
Сопоставление первоначальных редакций и вариантов
с окончательным текстом обнаруживает главное направ-
ление авторской работы Гоголя — выявление всеми воз-
можностями образно-экспрессивной доминанты текста, оп-
ределяющей всю художественную систему во всех зави-
симостях и связях иронического повествования.
Реминисценции тайные и явные
«Каждое крупное художественное произведение,— писал
В. В. Виноградов,— занимает свое место в контексте со-
временной ему художественной литературы и находится
в связи и соотношении не только с другими произведе-
ниями того же автора, но и с чужими произведениями
того же жанра и даже смежных жанров. От него тянут-
ся нити аналогий, соответствий, контрастов, родственных
связей по всем направлениям, даже в глубь литературно-
го прошлого» ®.
Творческое наследие Гоголя обнаруживает живые и
непосредственные связи и зависимости прежде всего с
современной ему литературой. Реминисценции в художе-
ственной прозе Гоголя служат самым разнообразным це-
лям, входят в круг «изобразительных и выразительных»
приемов. Но главная их эстетическая функция состоит в
том, что они передают ироническую позицию рассказчи-
ка. Чужое слово, попадая в новый для него контекст,
в новые условия существования, заведомо остраняется.
в Виноградов В. В. О языке художественной литературы. М.: Ху-
дож. лит., 1959. С. 157.
169
Именно остранепие, как правило, начальный этап в ин-
терпретации чужого слова или образа в системе тек-
ста. Показательно, что в художественной прозе Гоголя
мы находим примеры пародирования самого персонажа,
присваивающего чужое слово, самой его позиции, а не
чужого, употребленного им слова.
Письмо, которое получил Чичиков от «незнакомки»,
содержит (как уже было замечено в обширной литерату-
ре о Гоголе) прямые и непрямые цитаты из пушкинских
текстов. «С Пушкиным на дружеской ноге», оказывается,
чувствовал себя не только Иван Александрович Хлеста-
ков, но и «незнакомка» Чичикова. Письмо приводится в
слове повествователя в пересказе, сохраняющем некото-
рые «ударные» фразы «оригинала». Начиналось оно так:
«Нет, я должна к тебе писать!», где легко обнаружива-
ется связь с письмом Татьяны Лариной Онегину: «Я к
вам пишу —чего же боле?». Дальше идет изложение
письма «незнакомки» рассказчиком: «Потом говорено
было о том, что есть тайное сочувствие между душами;
эта истина скреплена была несколькими точками, заняв-
шими почти подстроки...». Но не только письмо Татьяны
было известно «незнакомке Чичикова». Повествователь
замечает далее: «...потом следовало несколько мыслей,
весьма замечательных по своей справедливости, так что
считаем почти необходимым их выписать: „Что жизнь
наша? — Долина, где поселились горести. Что свет? —
Толпа людей, которая не чувствует11». Текст послания, по-
лученного Чичиковым, переполнен всякого рода аллю-
зиями, определяющими общее влияние сентиментальной
словесности, но есть и более определенные «переклички»
текстов. Так, в последнем приглашении «оставить на-
всегда город, где люди в душных оградах не пользуются
воздухом» (М.д., 1, VIII), видны связи с романтически-
ми поэмами Пушкина. В поэме «Цыганы» в ответ на во-
просы Земфиры:
«Скажи, мой друг, ты не жалеешь
О том, что бросил навсегда?..»,
Алеко не только страстно осуждает свет и его пороки,
но и .говорит:
«О чем жалеть? Когда б ты знала,
Когда бы ты воображала
Неволю душных городов!
Там люди, в кучах за оградой,
Не дышат утренней прохладой,
Ни вешним запахом лугов...»
170
Перед пами почти прямое пародпройапио, разумеется,
не пушкинских текстов, а отношения к ним. Паро-
дируется «незнакомка» Чичикова, «приспосабливающая»
к своему кругозору пушкинские строки.
Гоголь сатирически осмеивает целый «общественный
институт заимствования» чужого слова, чужой мысли,
бездумного и поэтому профанирующего включения чужо-
го текста в свой собственный. «Макаронический» кон-
текст для Гоголя — свидетельство пустоты, духовного
омертвения личности.
«Незнакомка» Чичикова, подобно Хлестакову, относит-
ся к современной ей литературе как к своей собственно-
сти. Хлестаков, провозгласивший себя автором всех изве-
стных ему произведений7 8, принадлежит к тому же раз-
ряду личностей, что и неизвестная дама.
Межтекстовые связи и сближения текстов могут иметь
еще одну мотивированность — общий речевой контекст
эпохи. Но и здесь дело, по-видимому, не обходится без
иронии. По признанию самого Гоголя: «У нас у всех
много иронии. Она видна в наших пословицах и песнях
и, что всего изумительней, часто там, где видимо страж-
дет душа и не расположена вовсе к веселости <...> Труд-
но найти русского человека, в котором бы не соединялось,
вместе с уменьем пред чем-нибудь истинно возблагого-
веть, свойство — над чем-нибудь истинно посмеяться» ’.
Вполне возможно, что ироническое использование чу-
жого слова было одним из средств воплощения «положи-
тельной программы» автора. В «Театральном разъезде
после представления новой комедии» один из «любителей
искусств» высказывает идеи, близкие, по всей вероятно-
сти, самому автору: «Разве комедия и трагедия не могут
выразить ту Hie высокую мысль? Разве все, до мельчай-
шей, излучины души подлого и бесчестного человека не
рисуют уже образ честного человека? <...> В руках искус-
ного врача и холодная и горячая вода лечит с равным
успехом одни и те же болезни. В руках таланта все мо-
7 Припомним ту сцену из «Ревизора», где Хлестаков заявляет,
что он с «Пушкиным на дружеской ноге»: «Хлестаков. Да и
в журналы помещаю. Моих, впрочем, много есть сочинений:
Женитьба Фигаро, Роберт Дьявол, Норма <...> У меня лег-
кость необыкновенная в мыслях. Все это, что было под именем
барона Брамбеуса, Фрегат Надежды и Московский Телеграф...
все это я паписал» (д. III, явл. VI).
8 Гоголь Н. В. Поли. собр. соч. Т. VIII. С. 395.
171
жет служить орудием к прекрасному, если только правит-
ся высокой мыслью послужить прекрасному...»'9
Общий речевой контекст эпохи обусловил многие тек-
стуальные совпадения художественного наследия Гоголя
с современной ему классической литературой. Мы встре-
чаем общие обороты в «Ревизоре» и в «Горе от ума»:
Городничий отзывается об учителе (который при упоми-
нании об Александре Македонском стулья ломал): «Он
ученая голова — это видно, и сведений нахватал тьму, но
только объясняет с таким жаром, не помнит себя» (д. I,
явл. I). Почти в тех же выражениях говорит Фамусов
о Скалозубе: «...И знаков тьму отличья нахватал».
Межтекстовые связи могут проявляться с различной
полнотой и отчетливостью, и прослеживаются они не
только в текстуальных совпадениях, но и в интерпрета-
ции художественного содержания. Гоголевский текст с
его постоянной устремленностью в ироническое осмысле-
ние включает и реминисценции из басен Крылова, обыч-
но не переходящие в прямое цитирование, например:
«—Да помилуйте! Если бы только брать дело попросту,
кай оно есть; а то ведь всякий — механик, всякий хочет
открыть ларчик с инструментом, а не просто. Он для это-
го съездит нарочно в Англию, вот в чем дело. Дурачье! —
сказавши это, Костанжогло плюнул» (М. д., 2, III).
Здесь воспроизводится известная ситуация из баспи
И. Крылова «Ларчик», который тоже пытались открыть
всеми возможными способами, в том числе и «с инстру-
ментом», а «ларчик просто открывался».
Многочисленные связи существуют между «Мертвы-
ми душами» и произведениями современной ему класси-
ки, в том числе и комедией Грибоедова «Горе от ума».
Так, почтмейстер напоминает Чичикову, что ему «пред-
стоит священная обязанность, что он может сделаться
среди своих крестьян некоторого рода отцом, по его выра-
жению, ввести даже благодетельное просвещение, и при
этом случае отозвался с большою похвалою об Ланкасте-
ровой школе взаимного обучения» (М. д., 1, VIII). Но
если в упоминании «ланкастерских взаимных обучений»
и после реплик Хлестовой в «Горе от ума» еще можно
видеть влияние времени и его проблем, то в «Портрете»
мы находим прямые цитаты из комедии Грибоедова:
«Множество карет, дрожек и колясок стояло перед подъ-
ездом дома, в котором производилась аукционная прода-
9 Там же Т. V. С. 143-144.
172
яса вещей одного из тех богатых любителей искусств,
которые сладко продремали всю жизнь свою, погружен-
ные в зефиры и амуры, которые невинно прослыли ме-
ценатами и простодушно издержали для этого миллионы,
накопленные основательными отцами, а часто даже соб-
ственными прежними трудами» (Портрет, II).
В произведениях Гоголя мы находим открытое и яв-
ное пародирование чужих для него приемов изображе-
ния. Так, в гоголевском тексте более или менее откровен-
но осмеиваются привычные «эталоны красоты» и прие-
мы изображения внешности персонажа, так называемо-
го словесного портрета. В комедии Гоголя «Женитьба»
в реплике Кочкарева, расхваливающего достоинства неве-
сты, в сущности, пародируются «шаблоны красоты»:
«— Это, брат, такая девица! Ты рассмотри только глаза
ее: ведь это черт знает что за глаза; говорят, дышат!
А нос — я не знаю, что за нос! белизна — алебастр! Да
и алебастр не всякий сравнится» (д. I, явл. XXI).
Весь этот текст — открытая пародия на традиционные
приемы создания словесного портрета персонажа. Между
тем даже в высоком поэтическом контексте эти приемы
существовали в языке художественной литературы XIX в.
Так, в стихотворении Тютчева «Я очи знал,— о эти
очи!..», входящем в «денисьевский цикл» п написанном в
высокой поэтической тональности, есть образ взора, близ-
кий «кочкаревскому»:
Дышал он грустный, углубленный
В тени ресниц ее густой,
Как наслажденье, утомленный
И, как страданье, роковой.
И снова перед нами тот же прием гоголевской поэтики —
образ, возможный в страстно-напряженном лирическом
контексте, переносится в иную сферу, в иную «среду оби-
тания» и тем самым профанируется.
Реминисценции, тайные и явные, образные связи сло-
ва-образа объединяют, казалось бы, полярно противопо-
ставленные ситуации и контексты и выявляют сложные,
неоднозначные зависимости и отношения между гоголев-
ским текстом и речевым контекстом эпохи.
О традициях гоголевского повествования
в реалистической стилистике
Влияние художественной манеры Гоголя, его стилистики
на всю последующую литературу XIX—XX вв. огром-
но,— эта проблема еще ждет своих исследователей. Фор-
173
мирование поэтики так называемой «натуральной шко-
лы» складывалось под определяющим влиянием гоголев-
ского повествования. Следует добавить воздействие поэти-
ки Гоголя на ту ветвь критического реализма, для кото-
рой характерен преимущественный интерес к тщатель-
ному. психологическому анализу личности персонажа,0.
Художественная литература советского времени вос-
приняла не только общие тенденции, развив их в новых
социальных условиях, но и взяла частные приемы поэти-
ки, в том числе и гоголевской. Обнаруживается власть
гоголевского приема и в развернутых, превращенных в
«иронические сцены» сопоставлениях. Так, не без влияния
Гоголя создана сцена ночной «переклички петухов» в ро-
мане Шолохова «Поднятая целина». Взят не только-сам
п р и е м, присутствуют и те же, в сущности, вехи сопо-
ставления, но нодано все на новом социальном фоне, да и
«сопоставительный материал» различен.
В «Мертвых душах» «псы заливались всеми возмож-
ными голосами», причем сцена развертывается перед чи-
тателем в привычном для гоголевской прозы «ирониче-
ском ключе». Собачий лай представлен на «вокальном
уровне», за воротами усадьбы заливаются «псы-солисты»:
«...один, забросивши вверх голову, выводил так протяжно
и с таким старанием, как будто за это получал бог зна-
ет какое жалованье; другой отхватывал наскоро, как по-
номарь; промеж них звенел, как почтовый звонок, неуго-
монный дискант, вероятно молодого щенка, и все это, на-
конец, повершал бас, может быть старик или просто на-
деленный дюжею собачьей натурой, потому что хрипел,
как хрипит певческий контрабас, когда концерт в полном
разливе; тенора поднимаются на цыпочки от сильного
желания вывести высокую ноту, и все, что ни есть, по-
рывается кверху, закидывая голову, а он один, засунувши
небритый подбородок в галстук, присев и опустившись
почти до земли, пропускает оттуда свою ноту, от которой
трясутся и дребезжат стекла» (М. д., 1, III). Сопоставле-
ние осложнено такой массой живописующих подробно-
10 В статье «Петербургский сборник» В. Г. Белинский уже наме-
тил главное направление связи прозы Достоевского с искус-
ством гоголевского повествования: «Что же касается до его
(Достоевского.— Л. Е.) отношений к Гоголю, то если его, как
нисателя с сильным и самостоятельным талантом, нельзя на-
звать подражателем Гоголя, то и нельзя не сказать, что он еще
более обязан Гоголю, нежели сколько Лермонтов обязан был
Пушкину <...> Гоголь навсегда останется, так сказать, его от-
цом по творчеству» (Белинский В. Г. Поли. собр. соч. Т. IX,
С. 551).
174
стей, что вся картина становится почти зримой и «слыш-
ной». Действие развивается в двух пересекающихся пло-
скостях — разноголосого пения и разноголосого лая.
Читатель видит и слышит вместе с Чичиковым и повест-
вователем и заливистый лай и заливистое пение. Глагол
заливаться допускает веер семантических возможностей:
заливаться можно лаем, плачем, песней, смехом, даже —
музыкой, игрой на каком-нибудь инструменте. Вот эта-то
семантическая емкость глагола залиться!Iзаливаться, до-
полненная непосредственной связью с качественным при-
лагательным заливистый (о плаче, лае, голосе, смехе),
и делает возможной всю эту картину. Весь сопоставитель-
ный комплекс выдержан в четкой системе, в заключитель-
ной части в памяти внимательного читателя вновь ожив-
ляются объект и субъект сопоставления: «Уже по одному
собачьему лаю, составленному из таких музыкантов, мож-
но было предположить, что деревушка была порядоч-
ная...».
Знаменательно, что и Чичиков и повествователь, сле-
довательно, и читатель не видят «заливающихся лаем»
собак, но видят по памяти «заливающихся пением»
хористов. Семантические связи прилагательного заливи-
стый — ‘звонкий, с переливами; непрерывно переходящий
из одного тона в другой’ — внесли свой вклад в эту иро-
ническую сцену.
Вот отголосок этого «собачьего концерта», по всей ве-
роятности, присутствует и в «петушином концерте», ко-
торый слушает в «Поднятой целине» летней ночью Ма-
кар Нагульнов с дедом Щукарем. Сам повествователь
тоже слышит все, что звучит в ночном летпем воздухе.
Поэтому все воспринимается читателем как бы через по-
средство персонажей и рассказчика: петух Любишкиных
«голосил веселым, заливистым тенором, как молодой и
старательный по службе командир роты-, ему солидным,
полковничьим баритоном отзывался петух со двора Ага-
фона Дубцова <.„> генеральским сиплым басом, с команд-
ной хрипотцой и надсадцем в голосе оглушительно ревел
самый старый в хуторе, рыжий и дебелый петух Майдан-
никовых»". Показательно, что петушиное пение полу-
чает различные ассоциативные параллели: петушиная по-
будка (Макар Нагульнов), петушиный хорал (ирониче-
ский взгляд повествователя) и архиерейский хор (точка
зрения Щукаря).
11 Шолохов М. А. Поднятая целина. М.: Худож. лит., 1960. С. 371,
371-374, 385.
175
Влияние поэтики Гоголя, его мастерства на всю пос-
' ледующую литературу выражается не только и не столь-
ко в тех приемах и выразительных средствах,
которые он ввел в повествование, но прежде всего в са-
мом отношении к слову как факту искусства. Обращение
к языку как к народному достоянию, в котором откры-
вается «бездна пространства», определило многие слагае-
мые гоголевского повествования 12 13.
В статье «В чем же, наконец, существо русской поэзии
и в чем ее особенность» Гоголь раскрывает кровную связь
искусства и народа: «Все эти свойства, обнаруженные
нашими поэтами, есть наши народные свойства, в них
Только видней развившиеся; поэты берутся не откуда же
нибудь из-за моря, но исходят из своего народа. Это —
огни, из него же излетевшие, передовые вестники сил
его» ”.
Именно реалистическая стилистика сделала сокро-
венное предметом, объектом изображения, в то время
как романтизм лишь указал на существование этого со-
кровенного, объявив его «невыразимым».
Творческая практика Пушкина, Гоголя и Грибоедова
определила начальную стадию в типологическом
оформлении реалистической стилистики, но было намече-
но общее направление совершенствования языка ху-
дожественной литературы, поисков изобразительности.
Совершенствование речевых средств исследования и опи-
сания внутреннего мира личности продолжалось в твор-
честве писателей второй половины XIX в.
12 Богатство гоголевского словаря еще не получило, к сожале-
нию, исчерпывающего исследования. Прежде всего не состав-
лен Словарь языка Гоголя, но вклад Гоголя в совершенствова-
ние, расширение и в стилистику многообразного обогащения
языка художественной литературы несомненен. Причем «харак-
терно, что значительная часть этих специальных наименований
относится к категории слов областных, которые до Гоголя не
нашли себе места ни в одном из словарей русского языка, ко-
торые до него еще ни разу пе фигурировали в литературе вы-
сокого художественного достоинства и лишь частично вошли в
первый «Опыт областного великорусского словаря» и в «Допол-
нение» к пему, изданные Академией наук в 1852—1858 гг. Ха-
рактерно также, что в один ряд Гоголем нередко вдвигаются
при этом слова, принадлежащие разным местам, разным гово-
рам русского парода» (Сорокин Ю. С. Словарный состав «Мерт-
вых душ» Гоголя//Гоголь. Л.: Изд-во ЛГУ, 1954. С. 19—20),
13 Гоголь Н. В. Полп. собр. соч. Т. VIII. С. 406-407.
17G
Оглавление
От автора................................... 3
Глава 1. Слово и текст
О гоголевском словоупотреблении............. 14
Слово-образ в художественной системе текста 21
Деталь в структуре текста .................. 30
Грамматическая форма слова в системе тек-
ста ....................................... 40
Повторы в художественной системе текста 52
Ирония рассказчика в структуре гоголевско-
го повествования........................... 64
Глава 2. Диалог: ситуация и текст
Художественный диалог как система ... 79
Характерологические аспекты слова в диа-
логе ...................................... 87
Речевая маска. Речевой портрет. Рассказчик-
персонаж .................................. 98
Авторская ирония в структуре диалога . . Ю8
Народно-поэтические традиции (ситуация и
текст).....................................113
Глава 3. Текст как художественная система
Сопоставления в. ироническом повествовании 123
Ассоциативные сопоставления в художест-
венной системе текста .................... 125
Типы сопоставлений в художественной прозе
Гоголя.....................................130
Сопоставительные комплексы и обороты в ху-
дожественной системе текста............... 137
Портрет и пейзаж в художественной системе
текста.....................................146
О персонификации в художественной системе
прозы Гоголя.............................. 155
Заключение
Художественная проза Гоголя в контексте
эпохи......................................162
От первоначальных редакций к окончатель-
ному тексту................................165
Реминисценции тайные и явные...............169
О традициях гоголевского повествования в
реалистической стилистике ................ 173
65 кон.
Влияние поэтики Н.В.Гоголя,его
мастерства на всю последующую
литературу выражаемся. не только
в тех изобразительных приемах и
средствах,которые он ввел в повество-
вание второй половины ХГХ в., по
прежде всего в самом восприятии
слова как факта искусства. В слове
открываются новые и неожиданные
смыслы.
Отношение II.В.Гоголя к языку как
к народномх «созданию и достоянию»
сказалось в стремлении эстетически
осмыслить выявление внутренней
формы слова, поэтому так важно
было писателю отметить и художест-
венно воплотить каждое «семанти-
ческое движение» слова-образа.