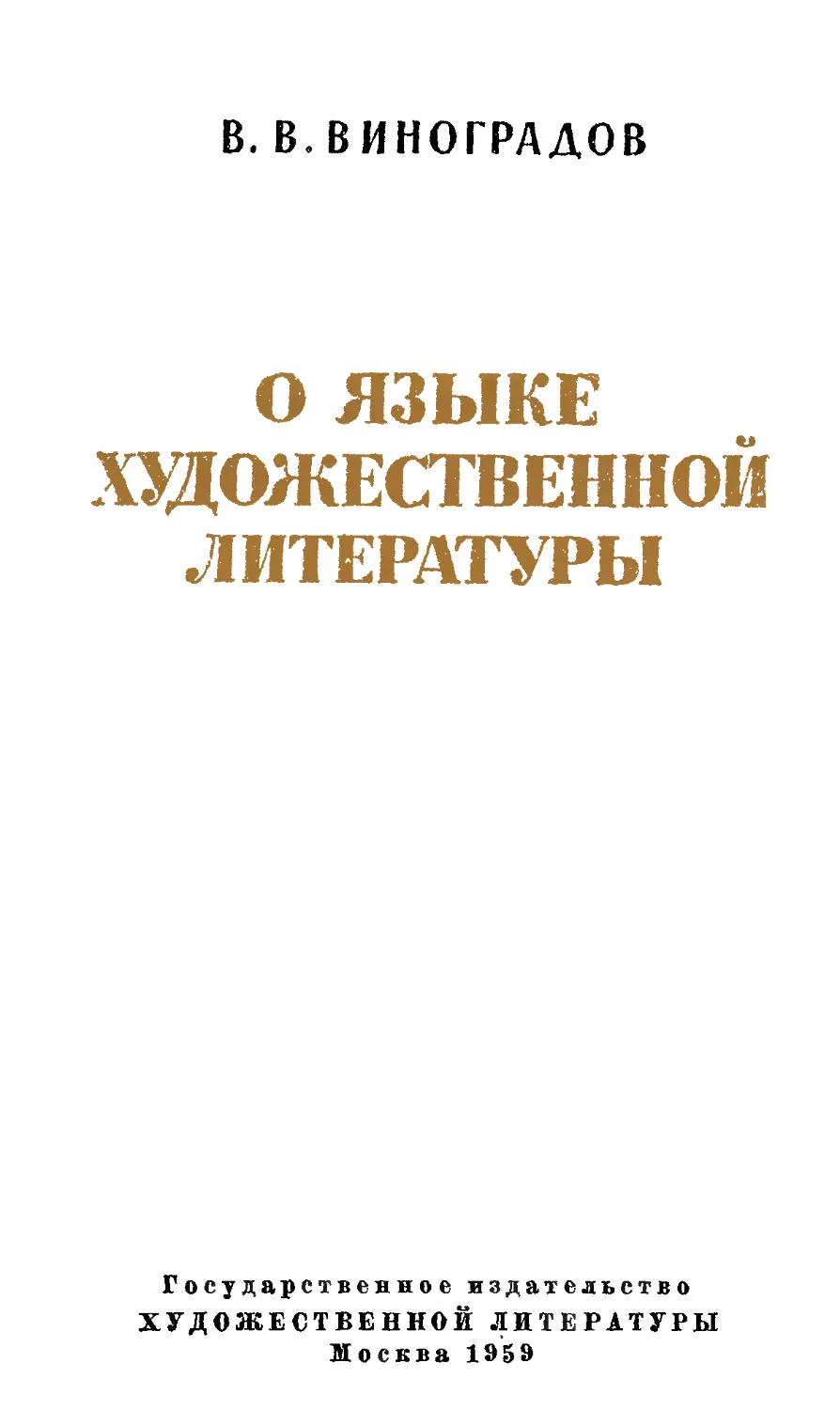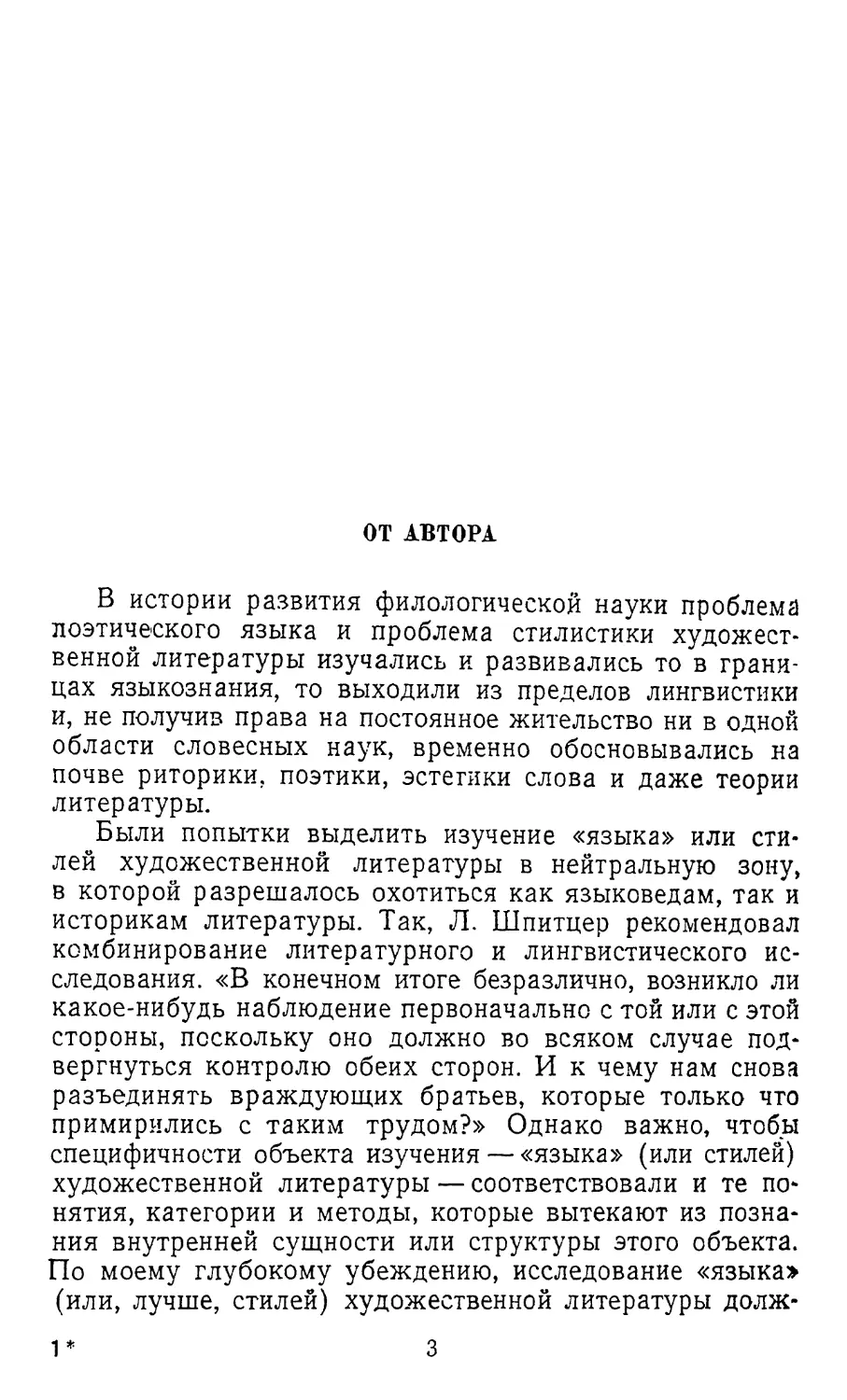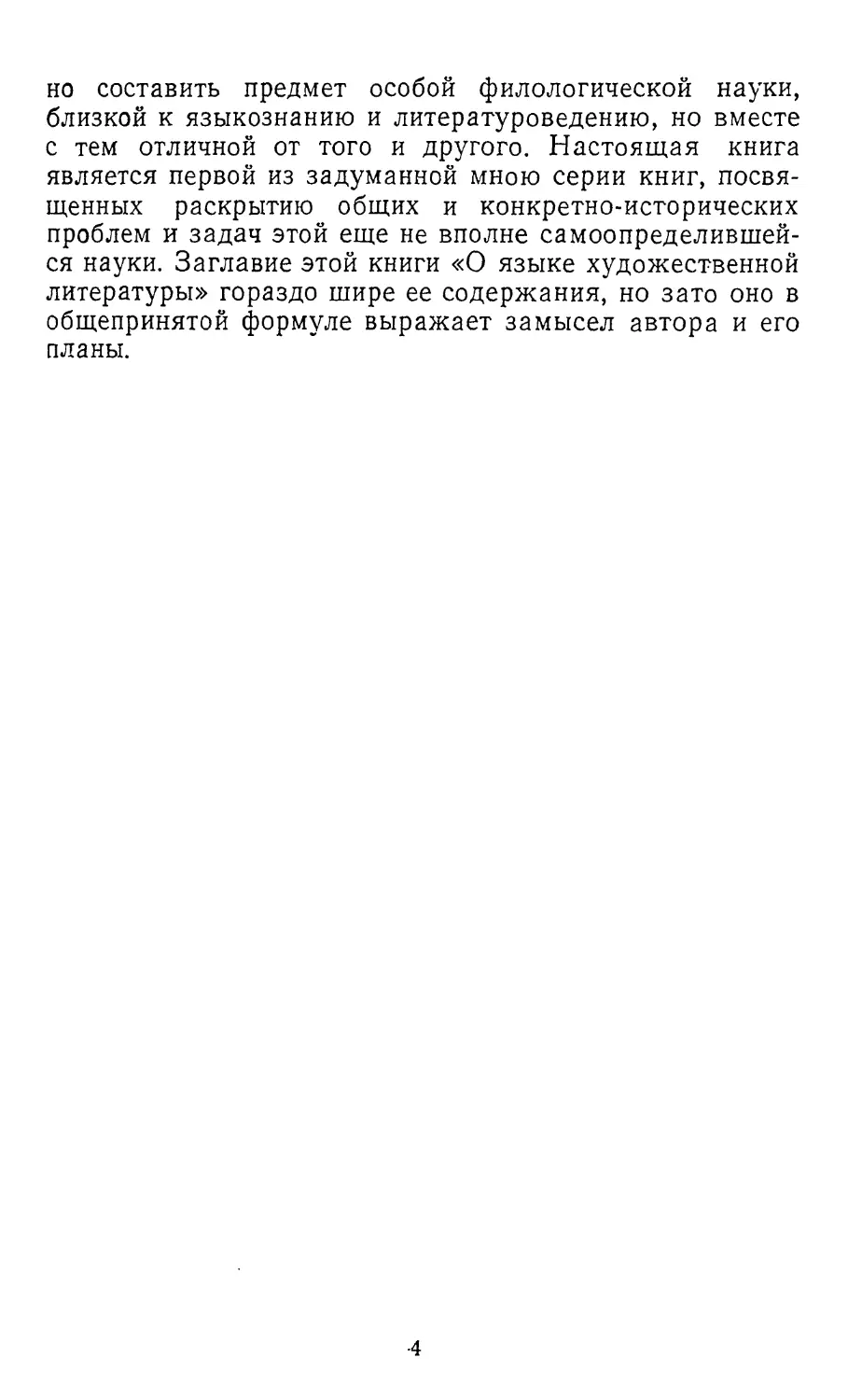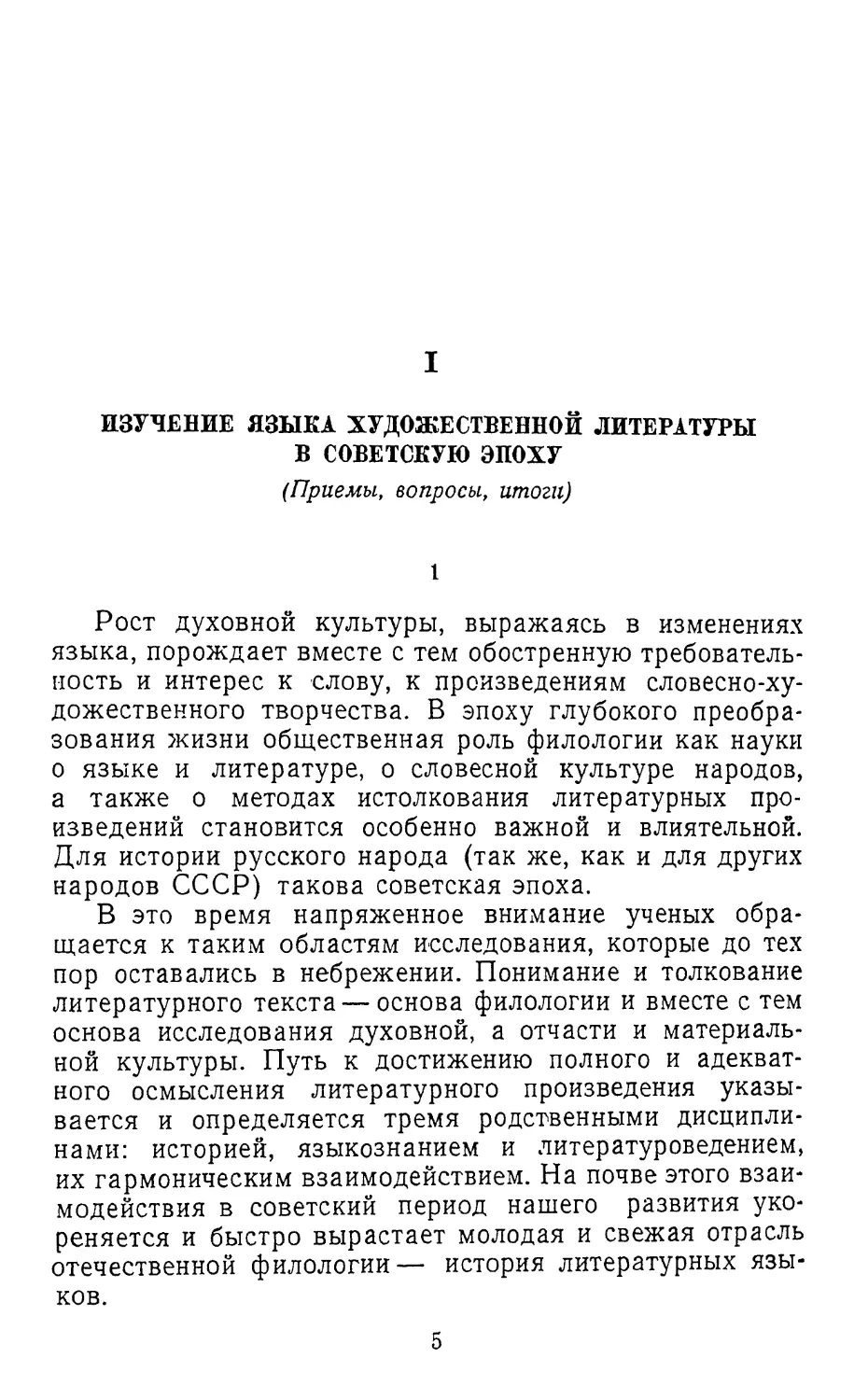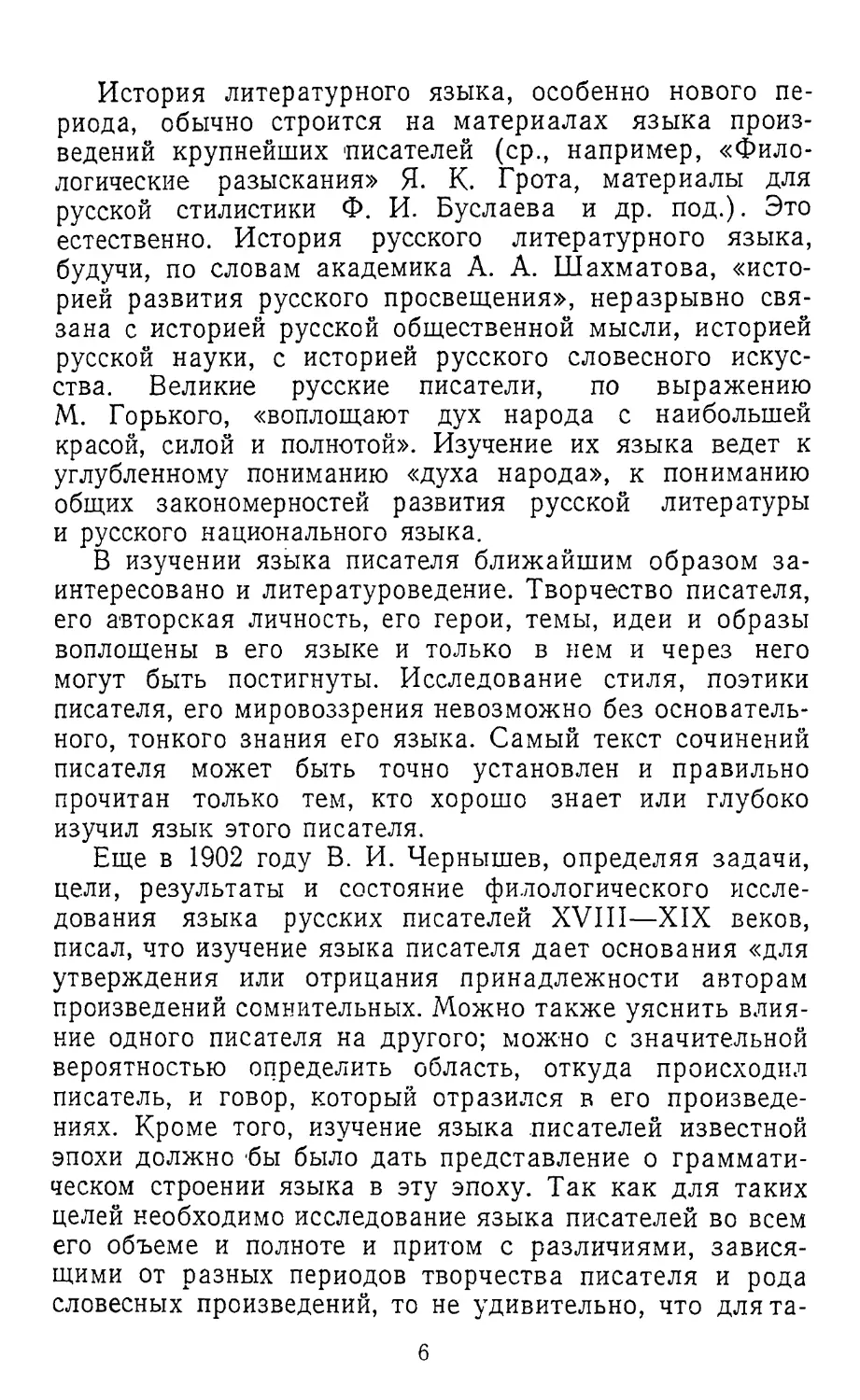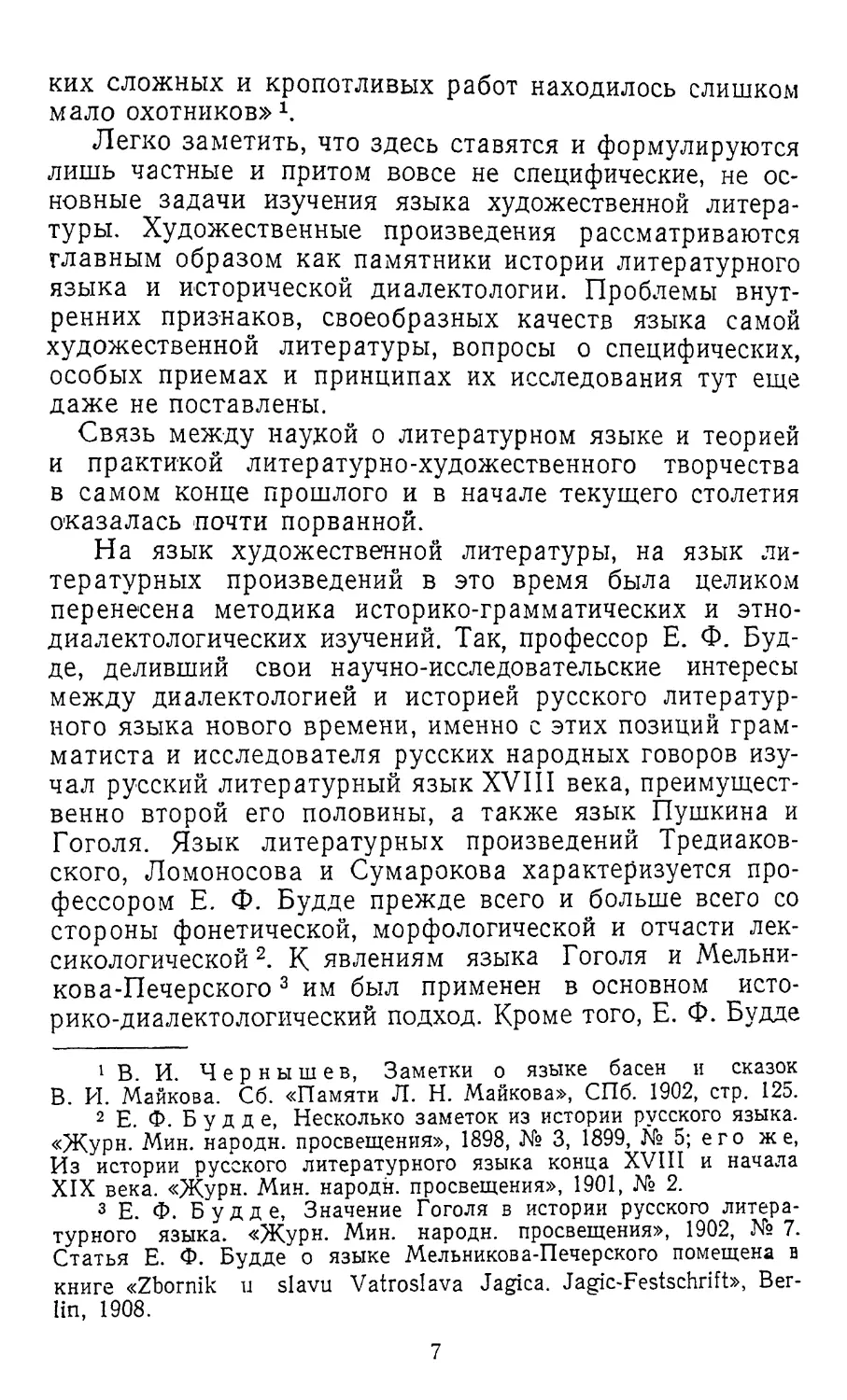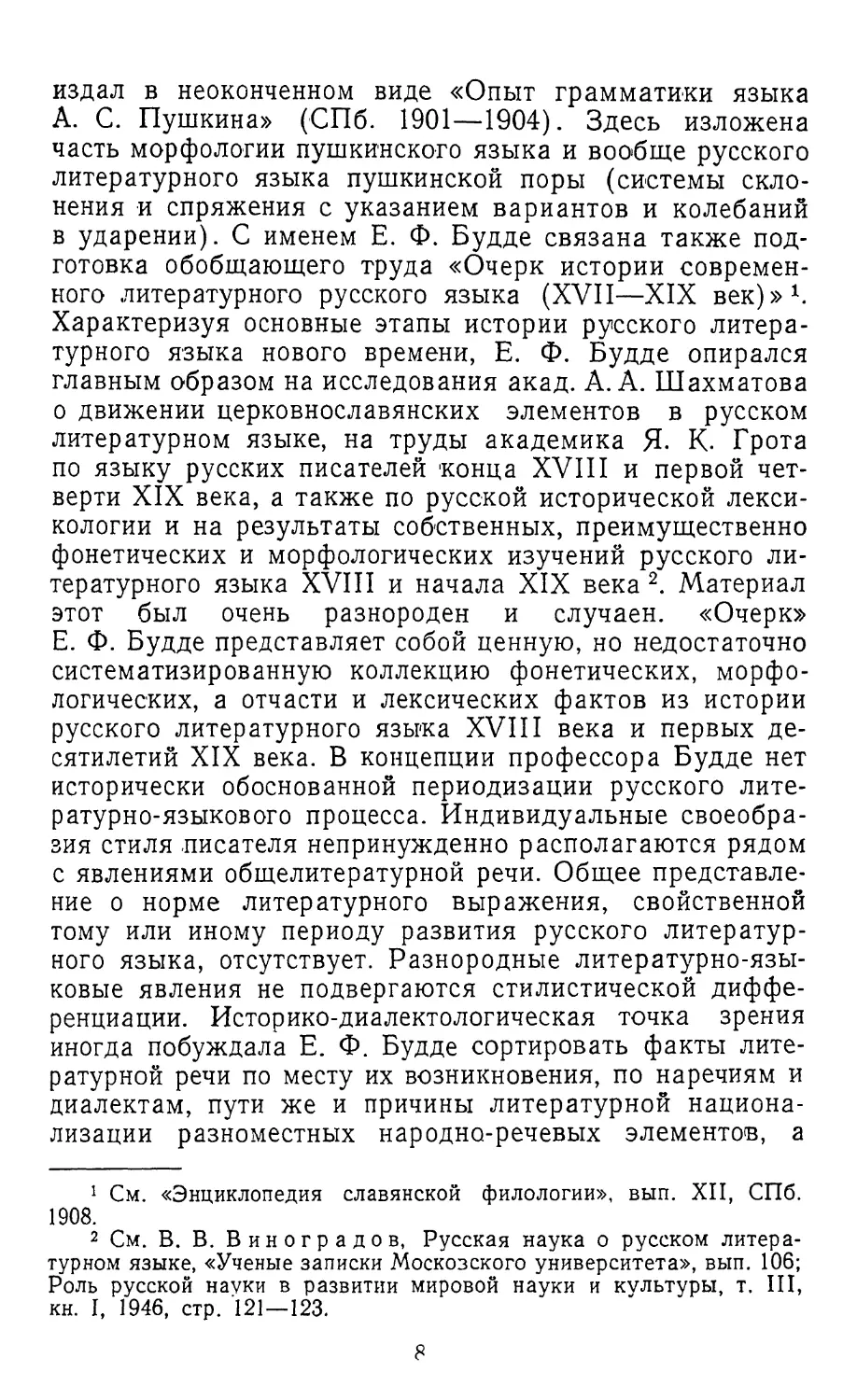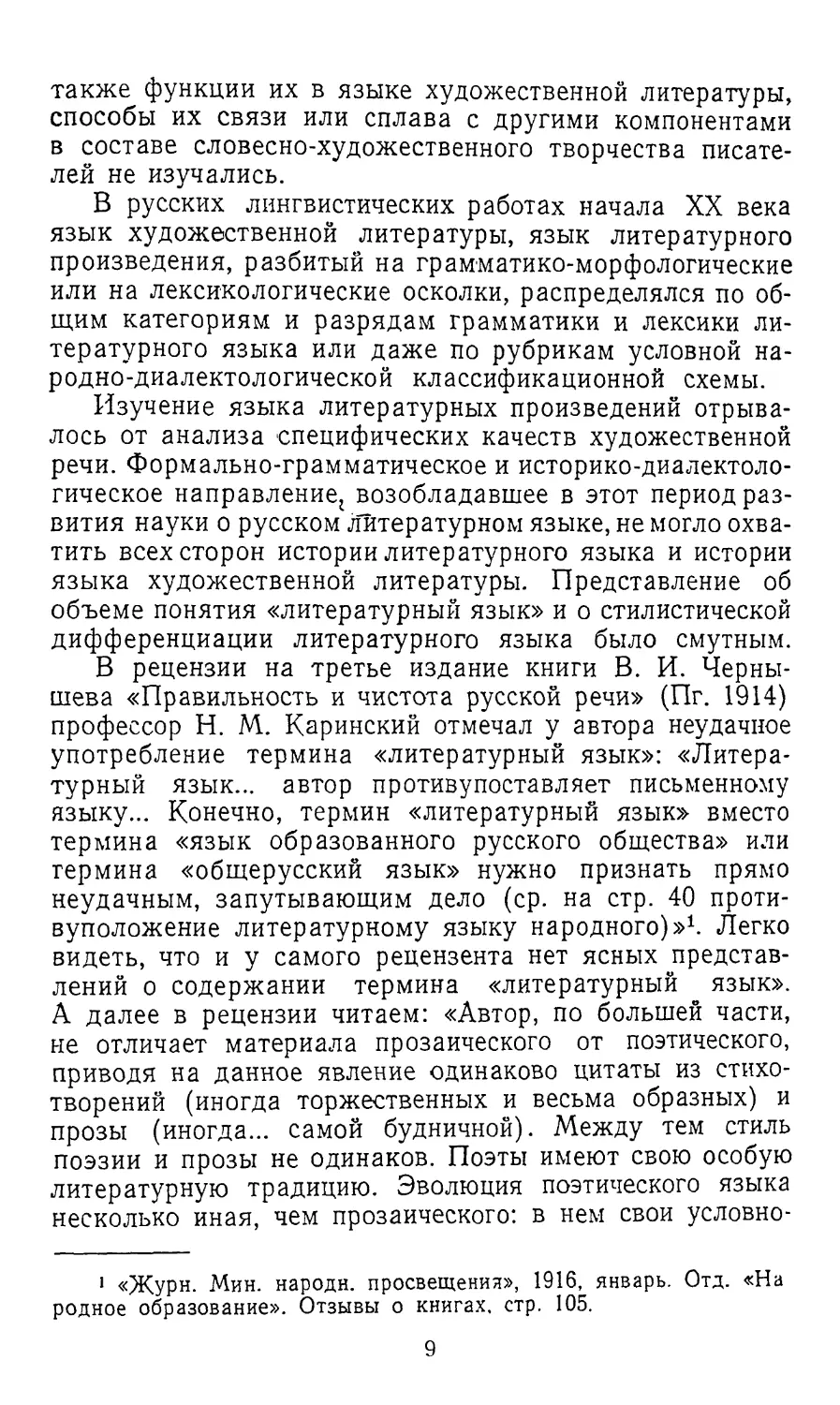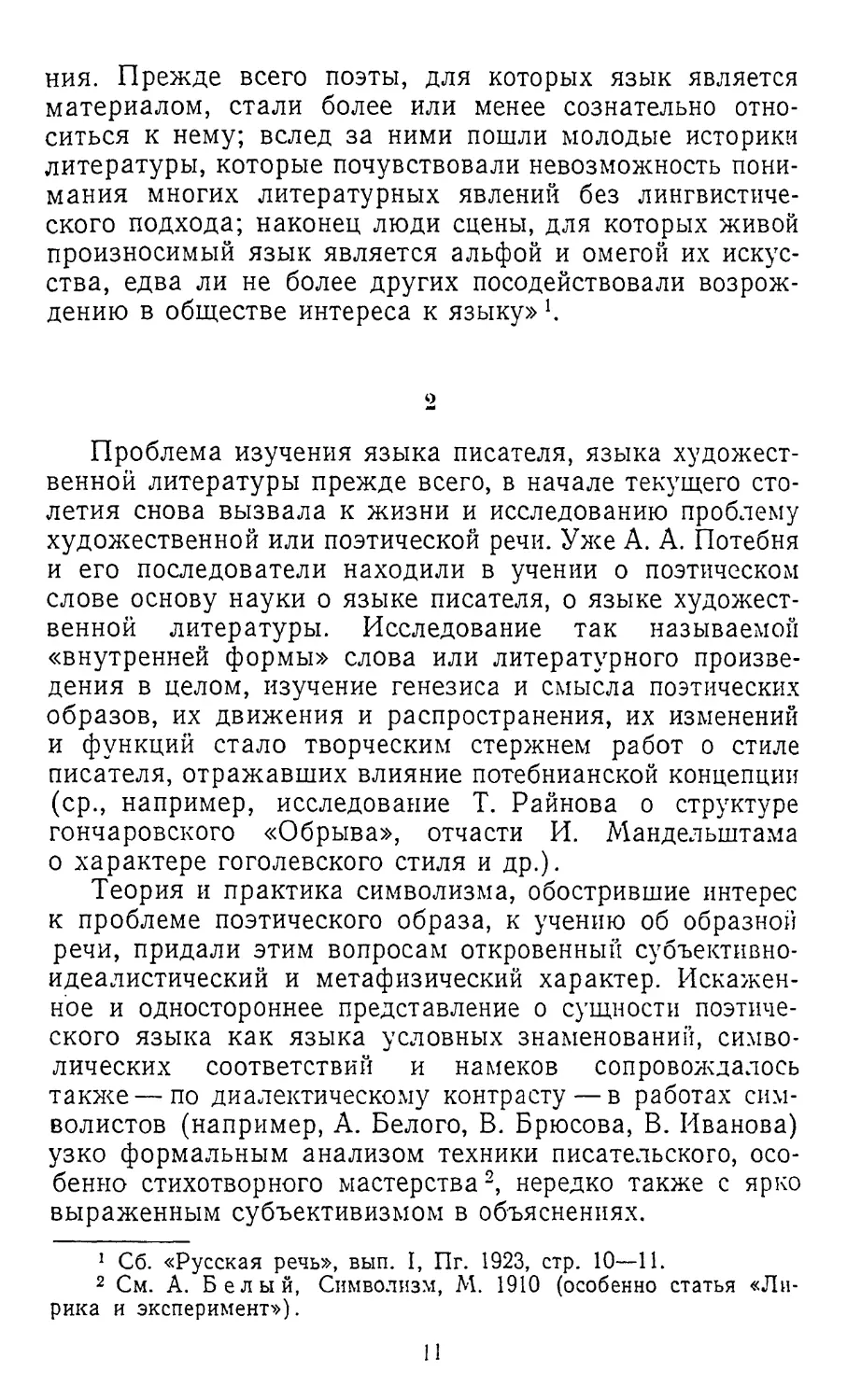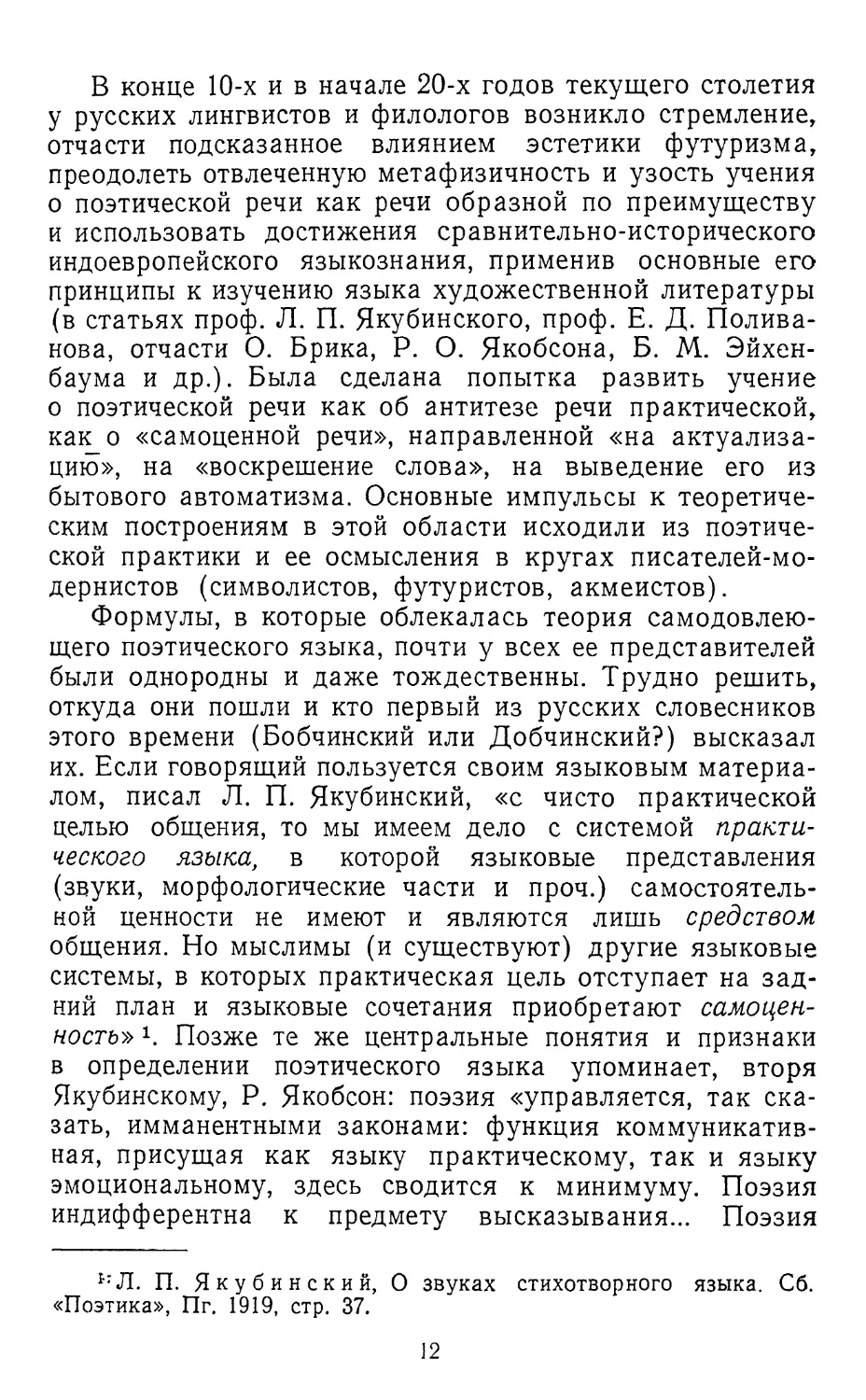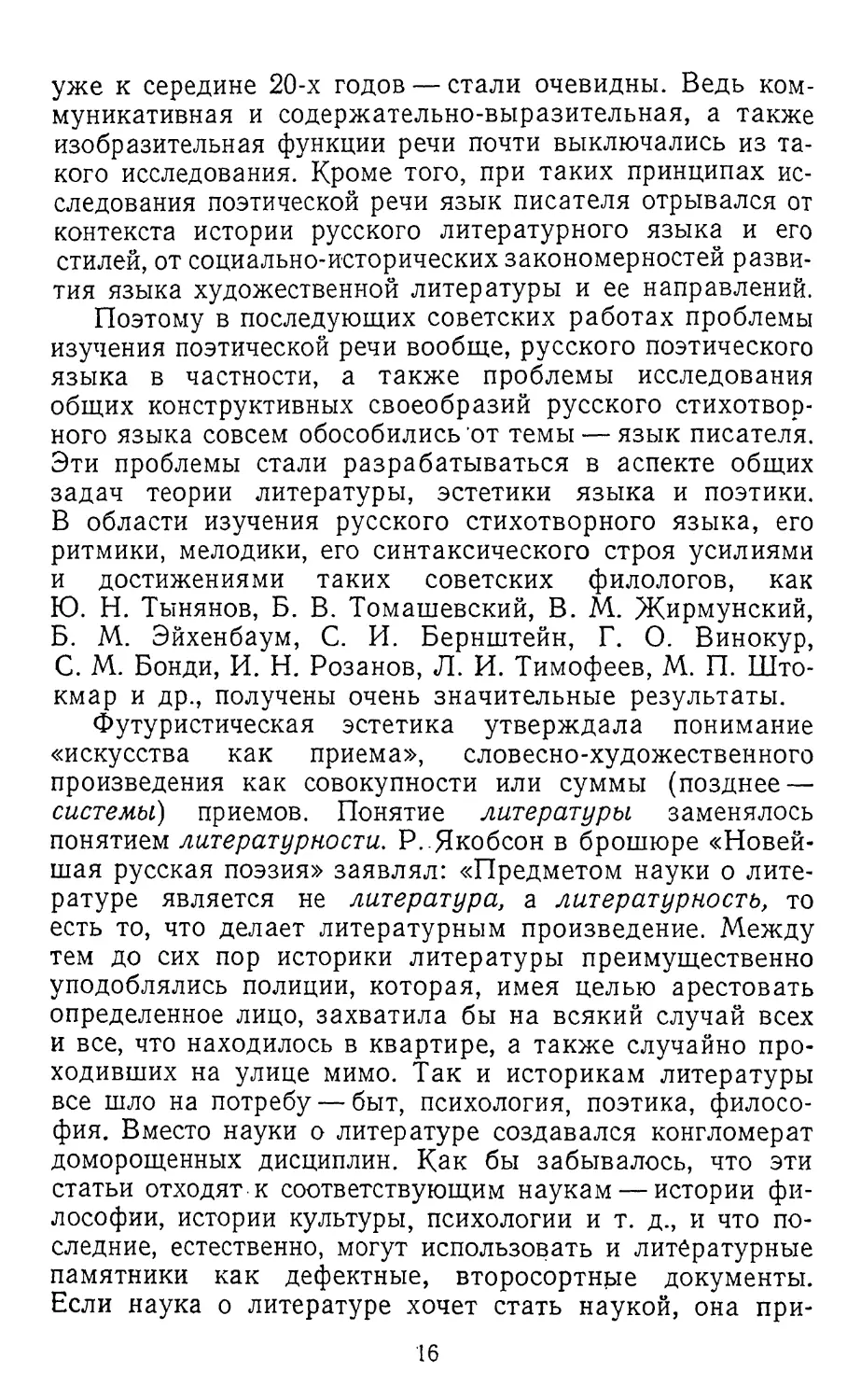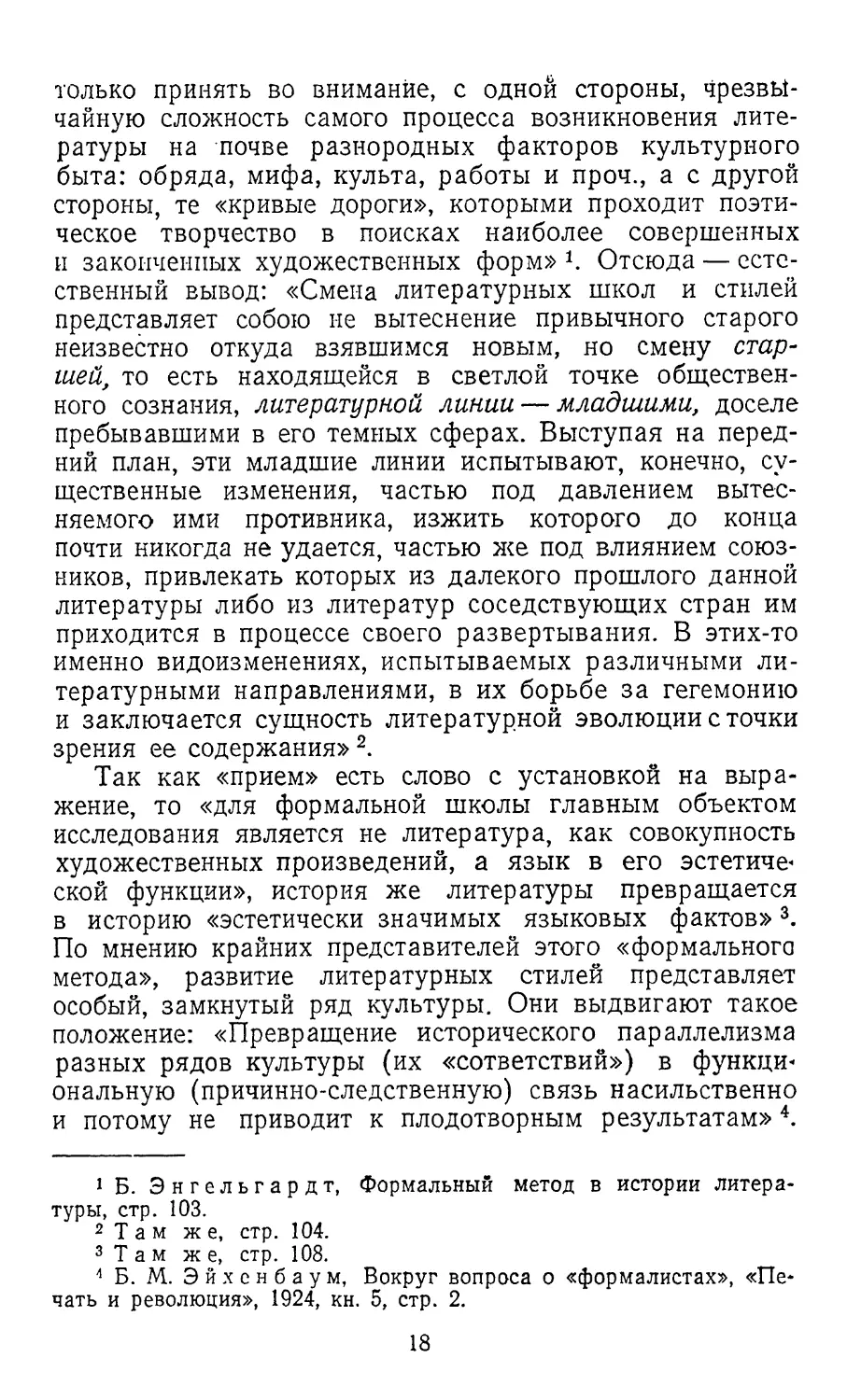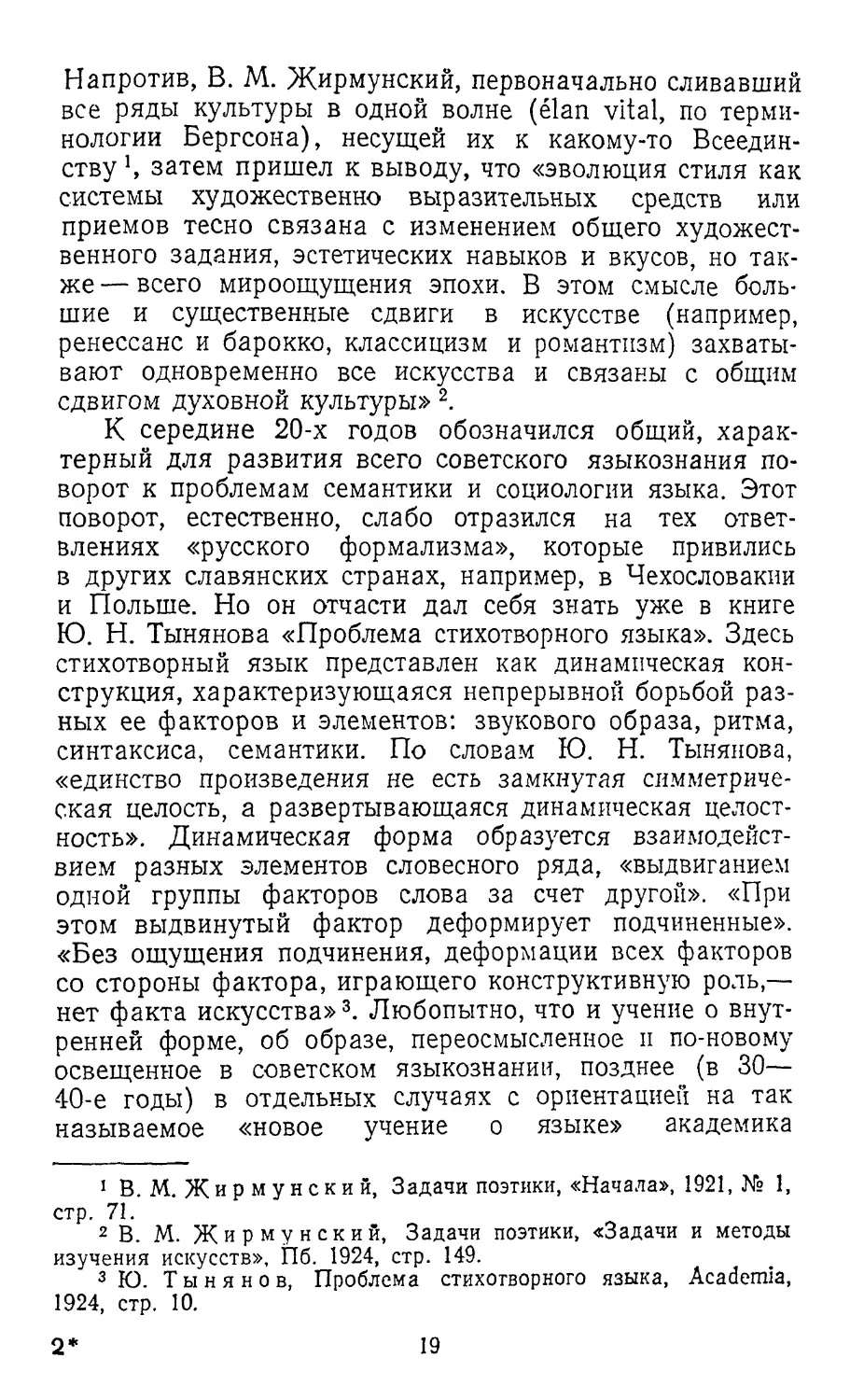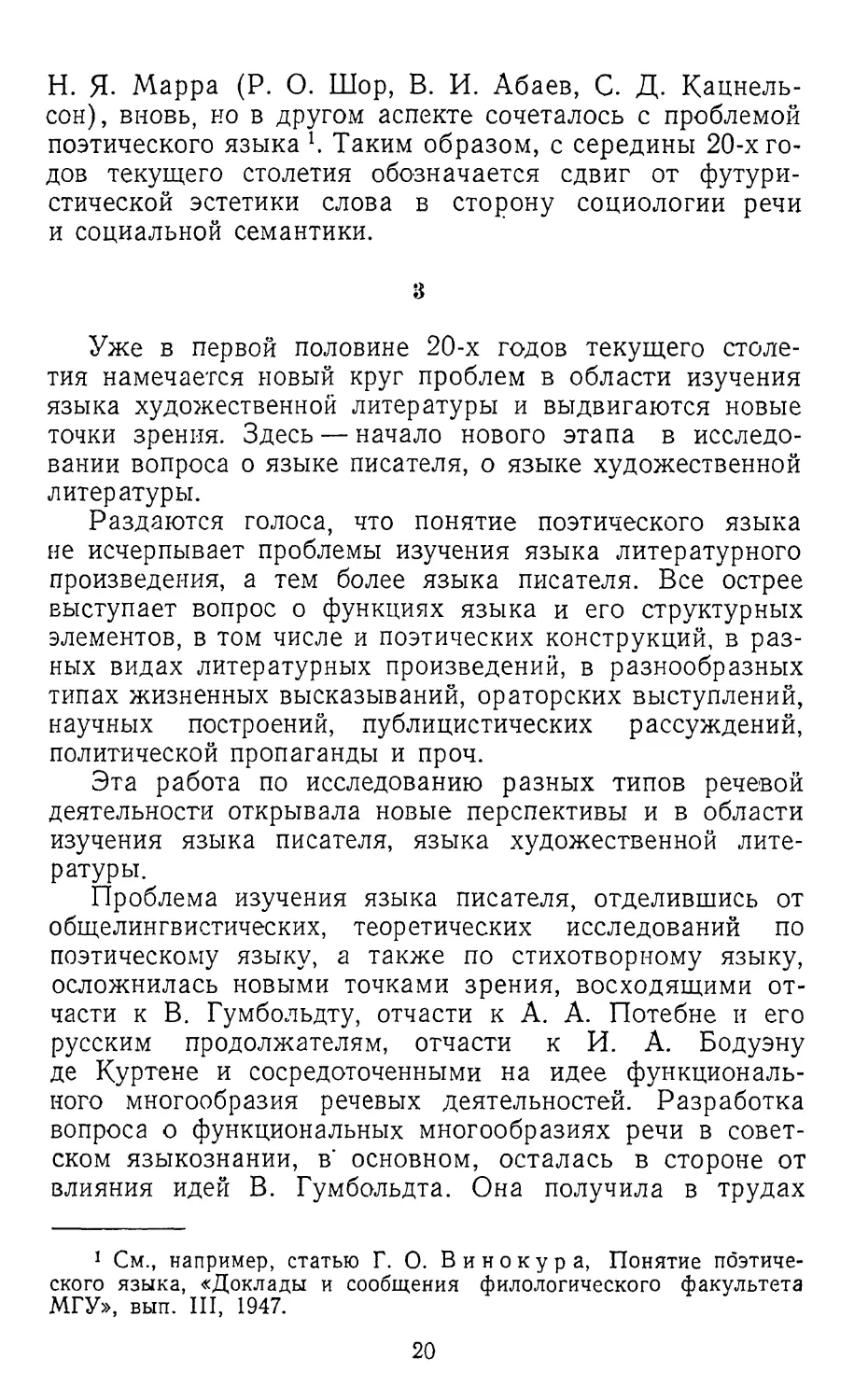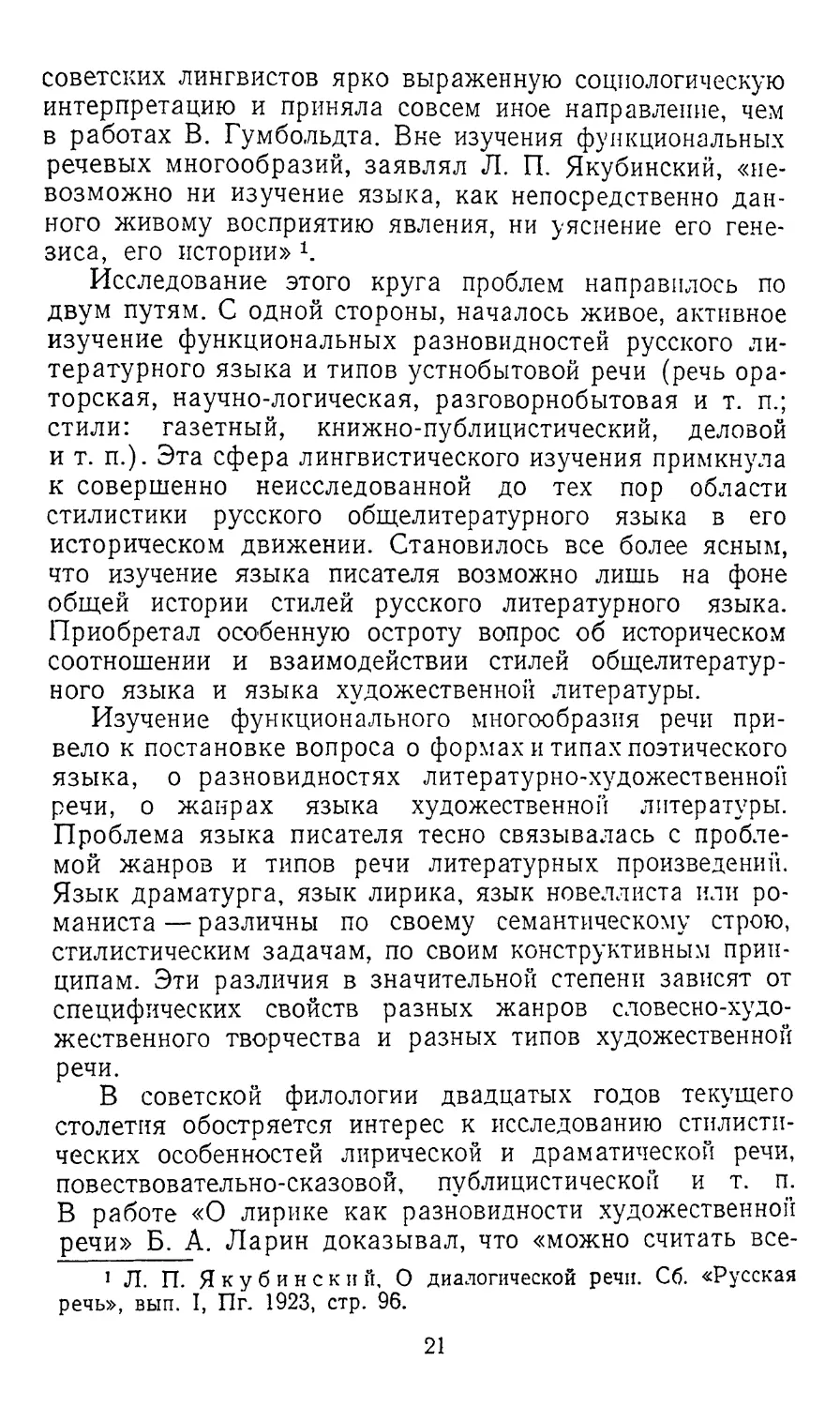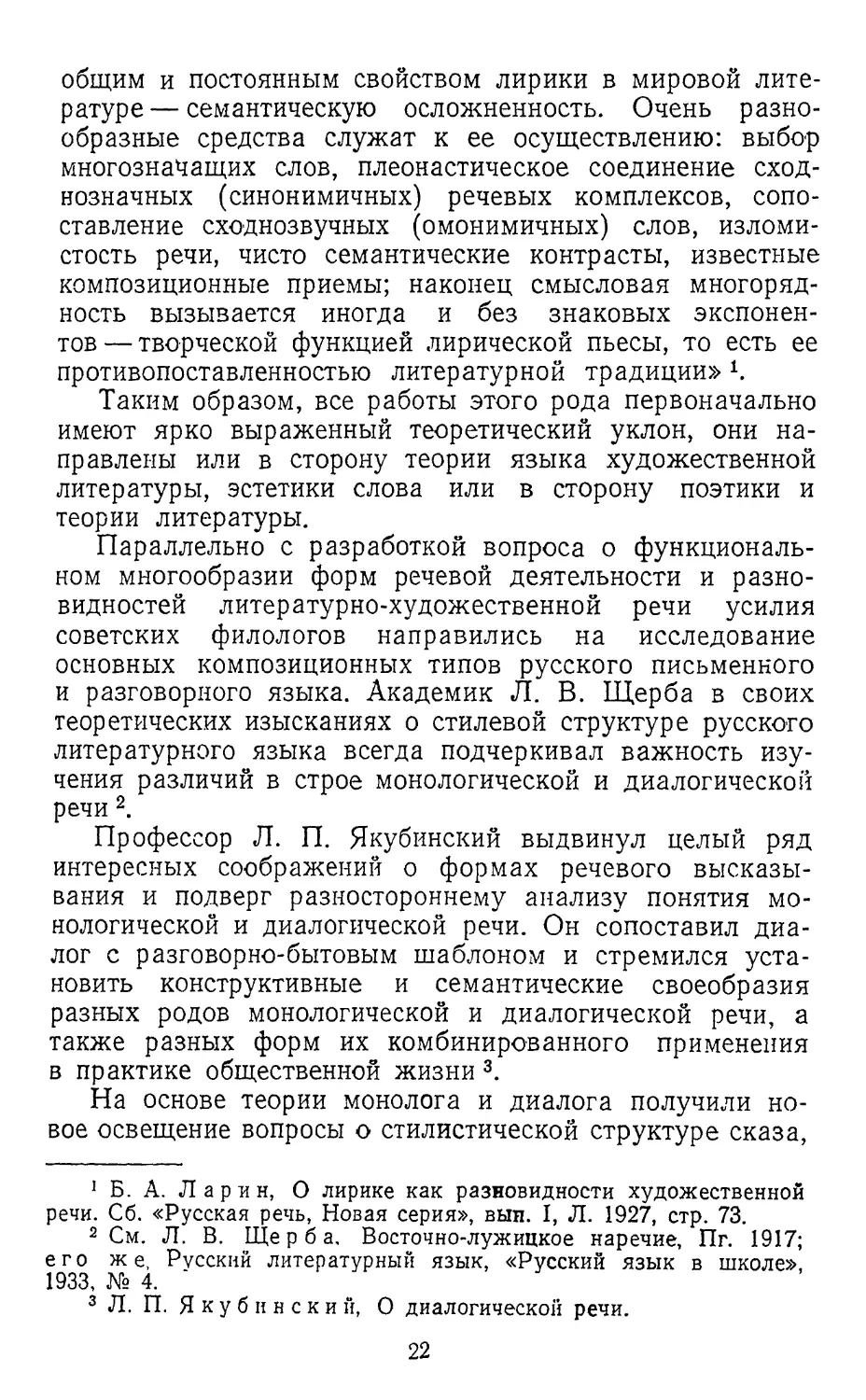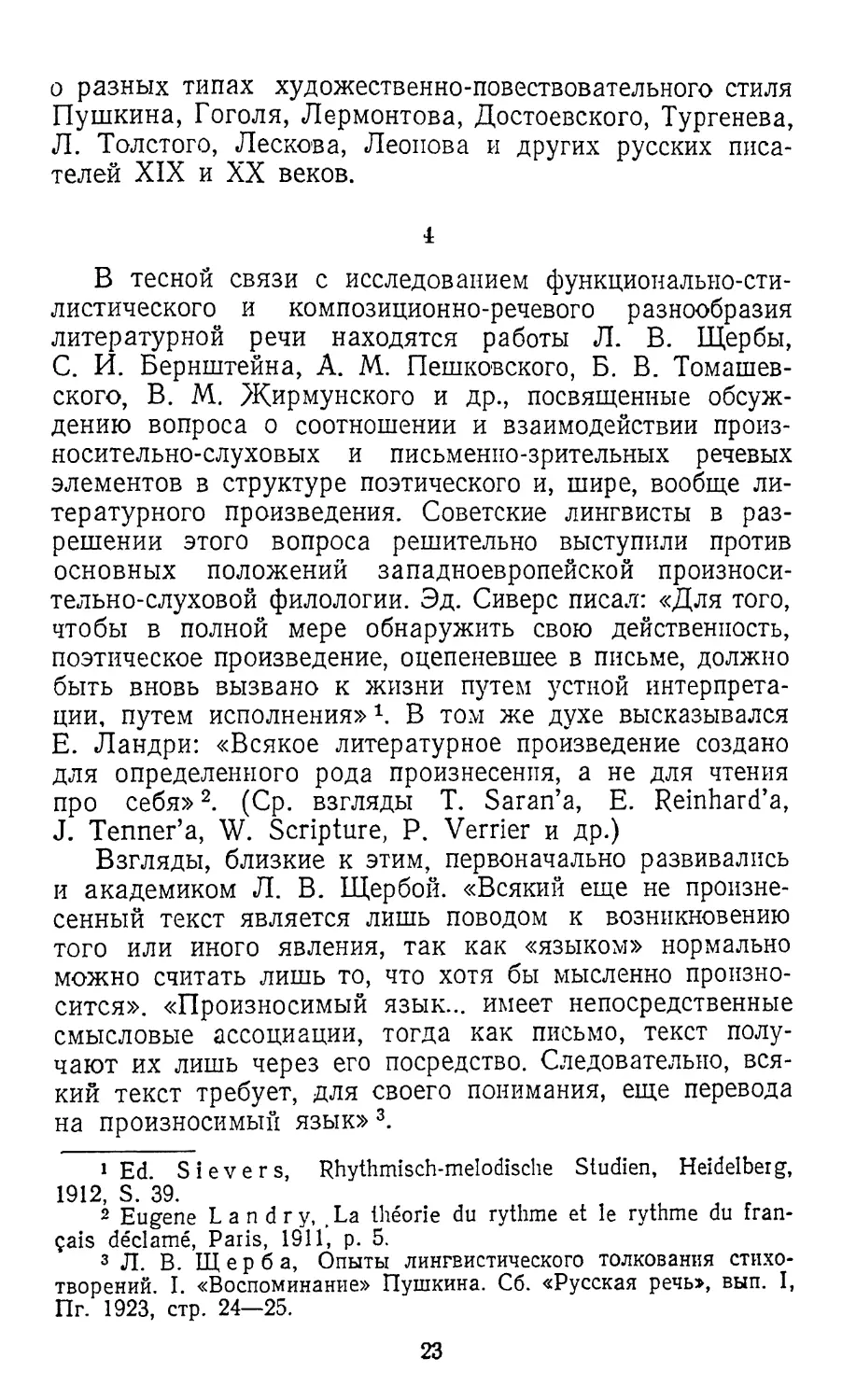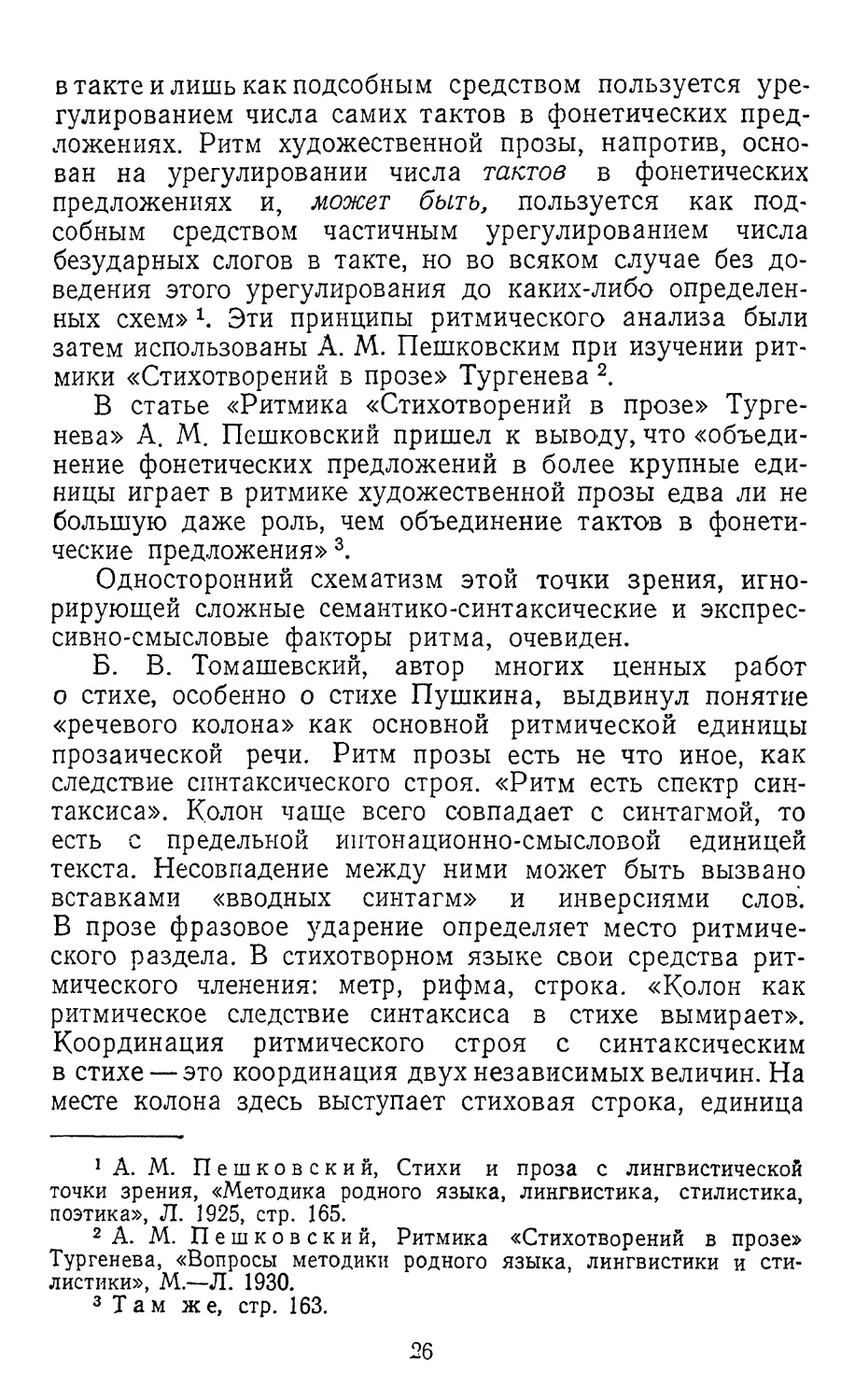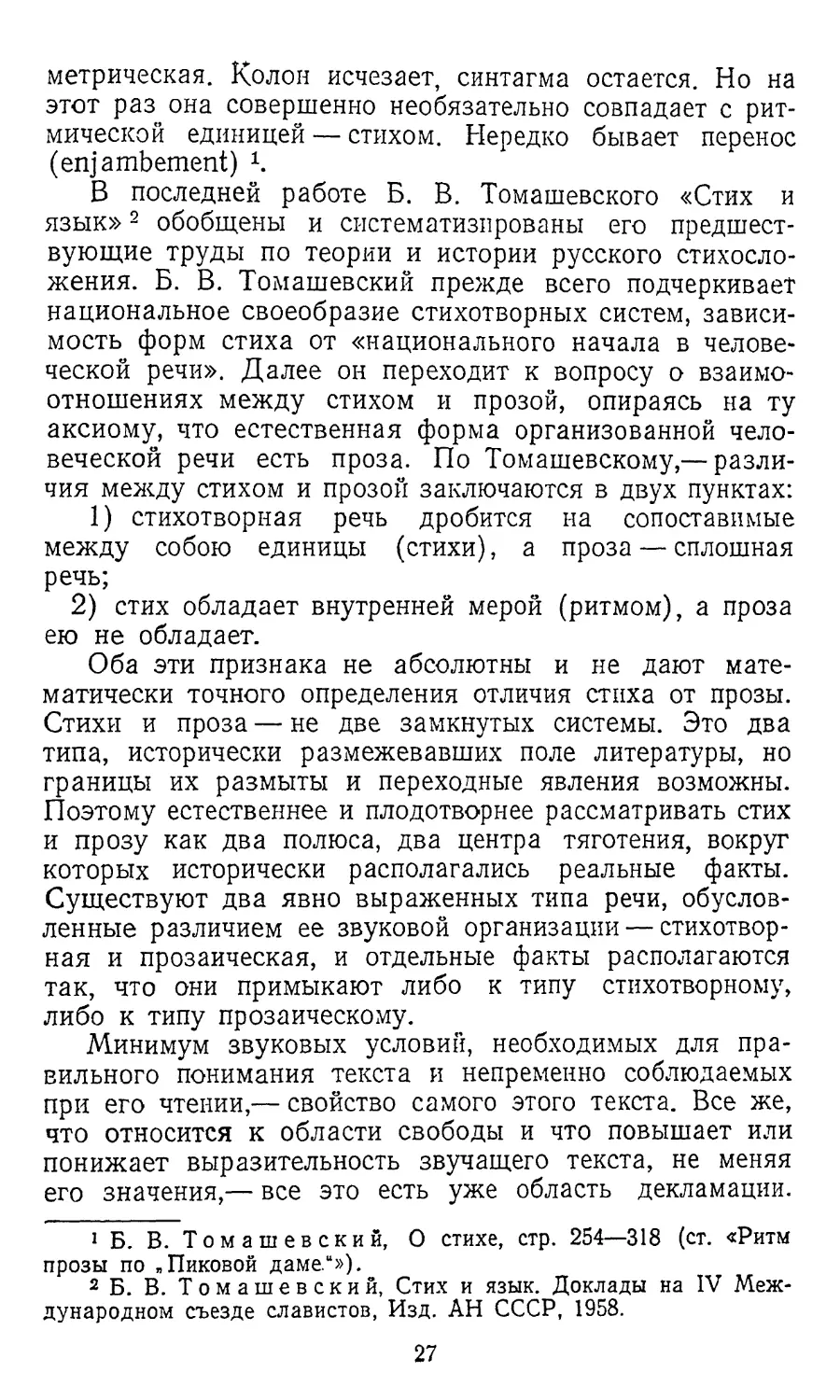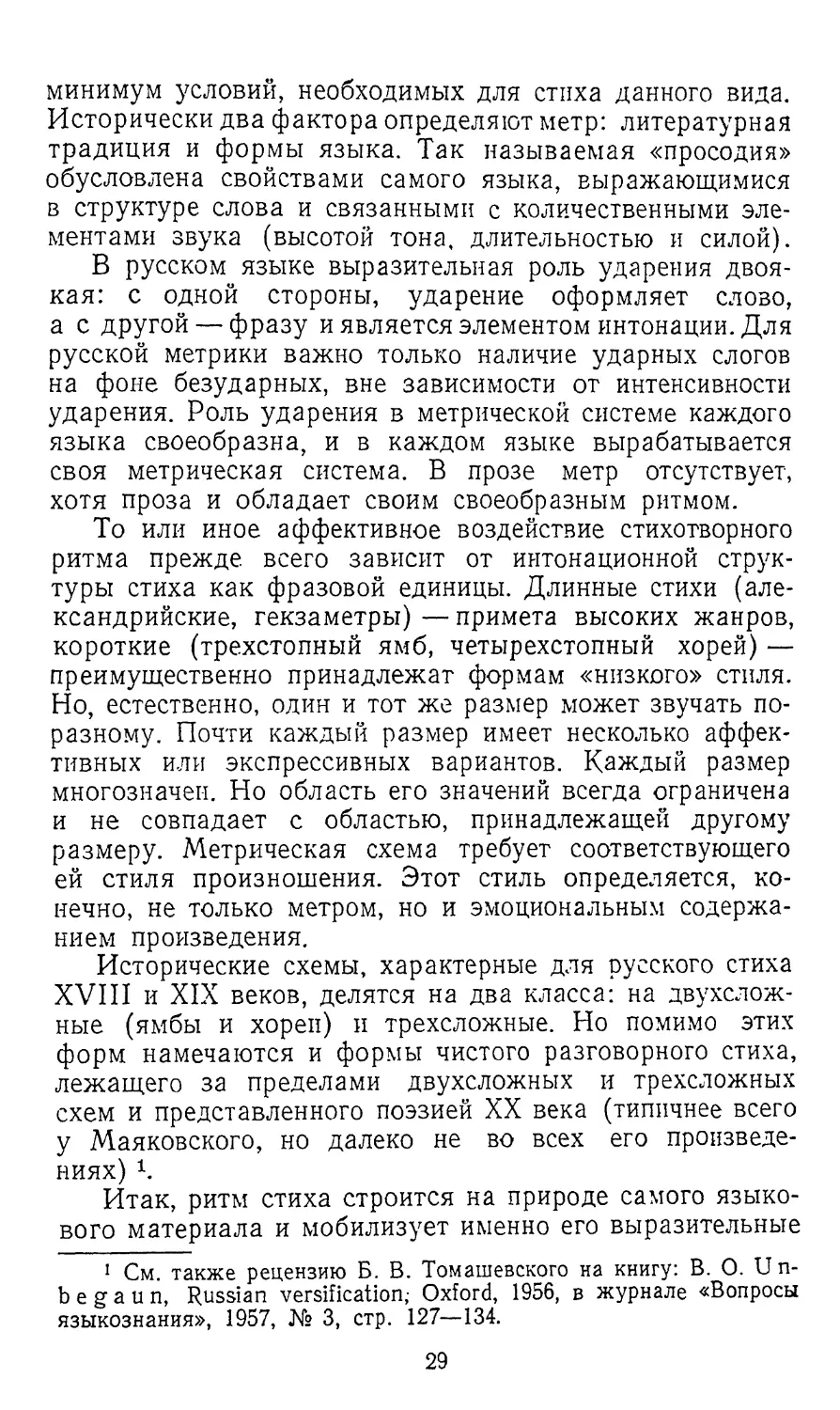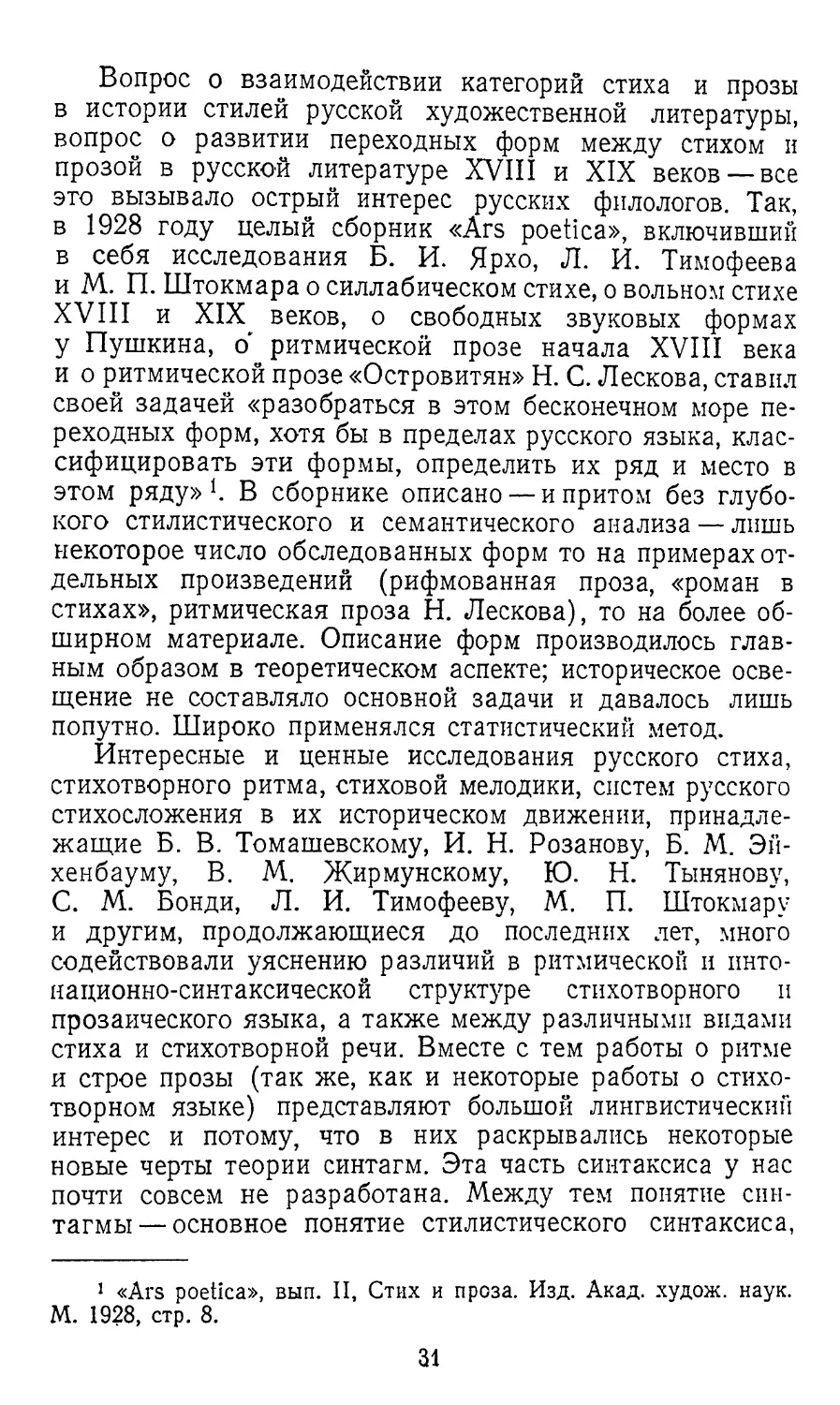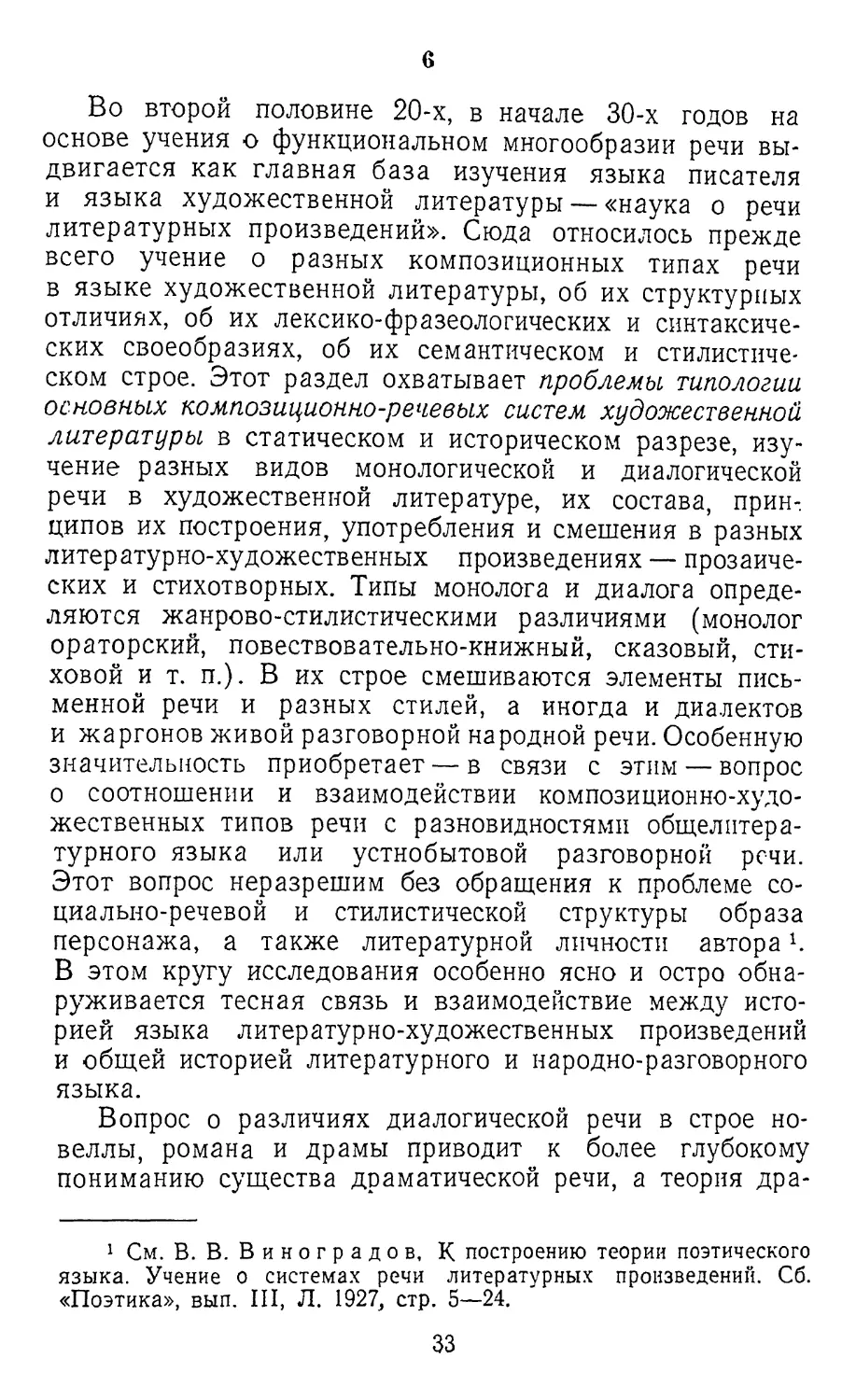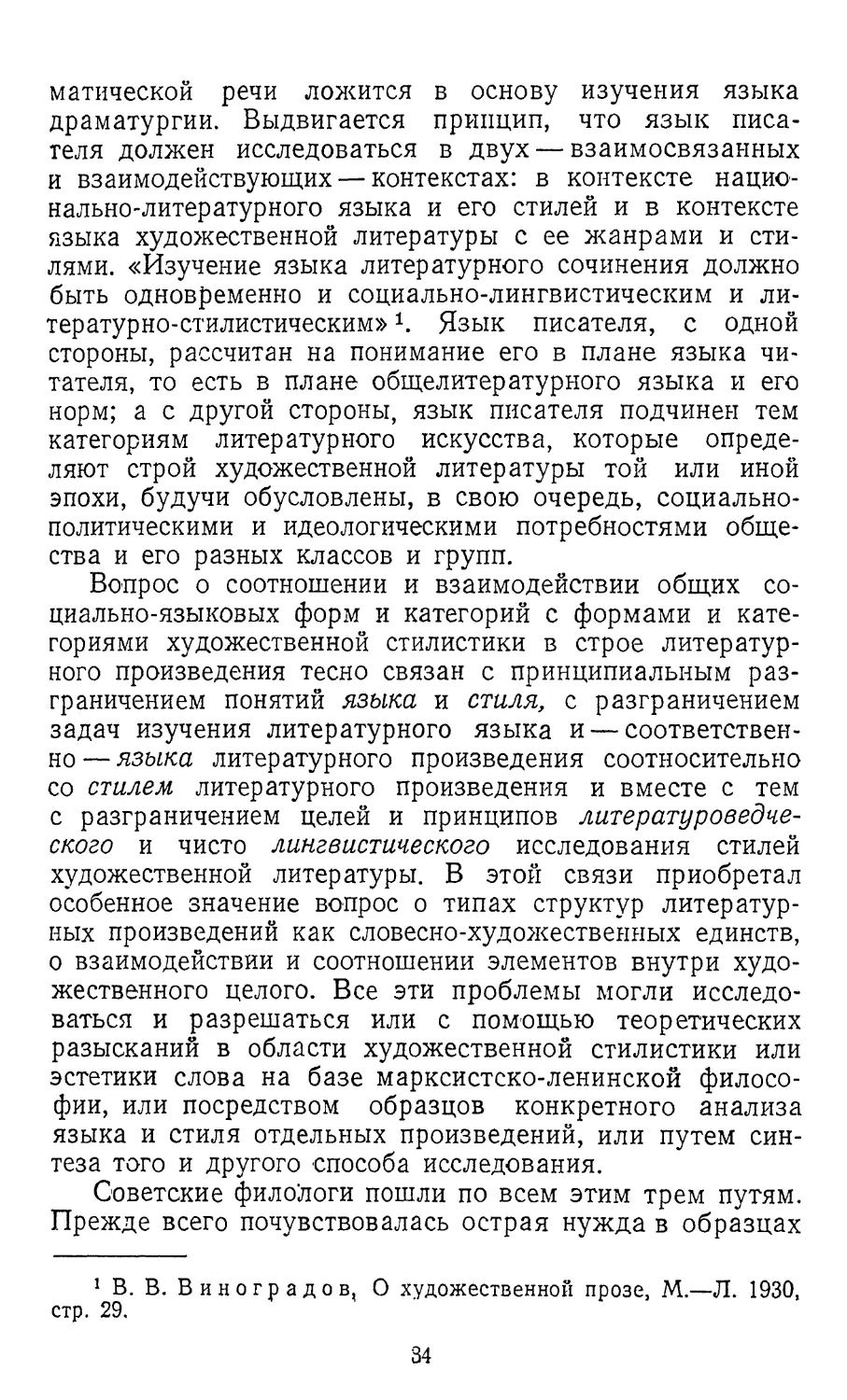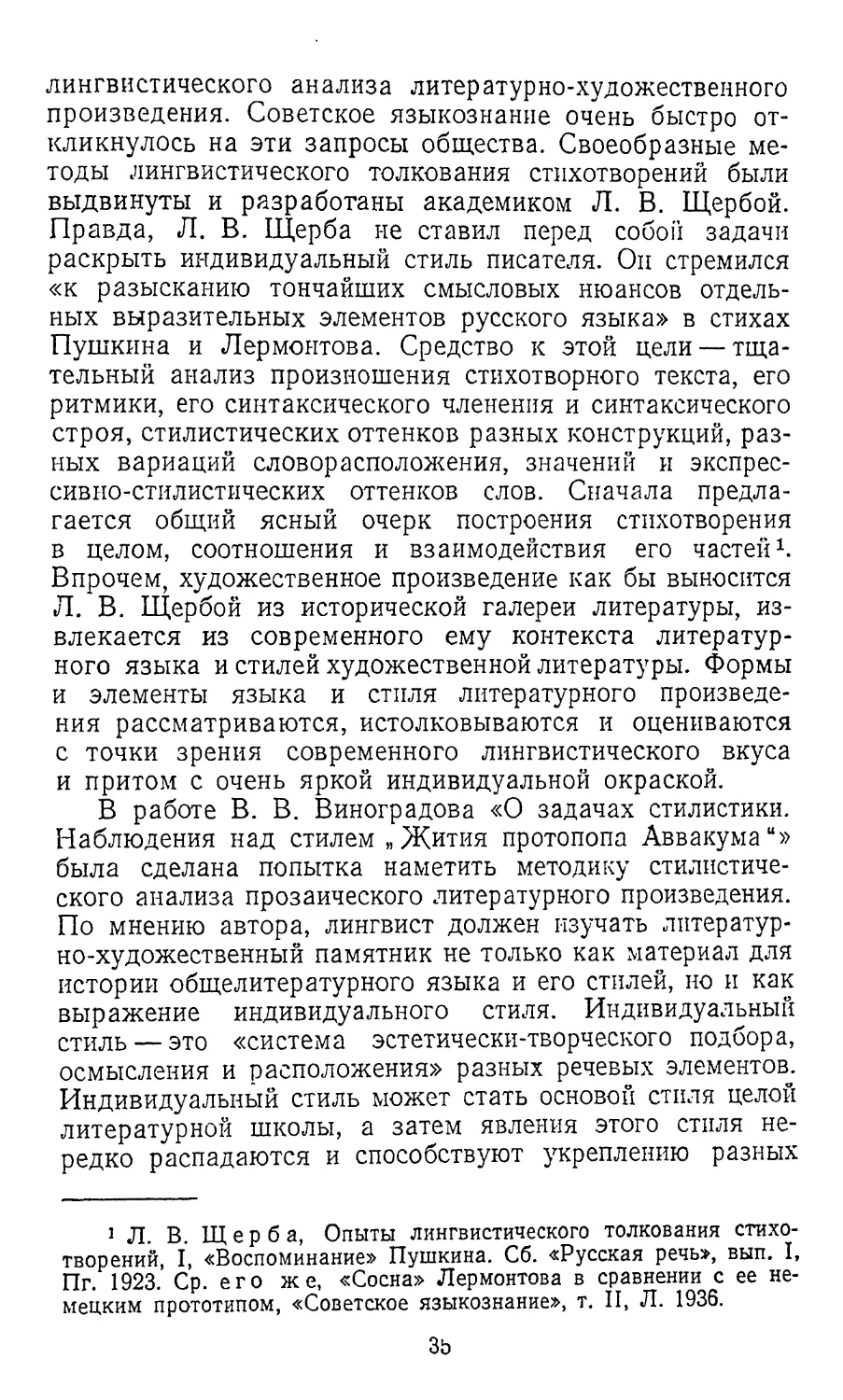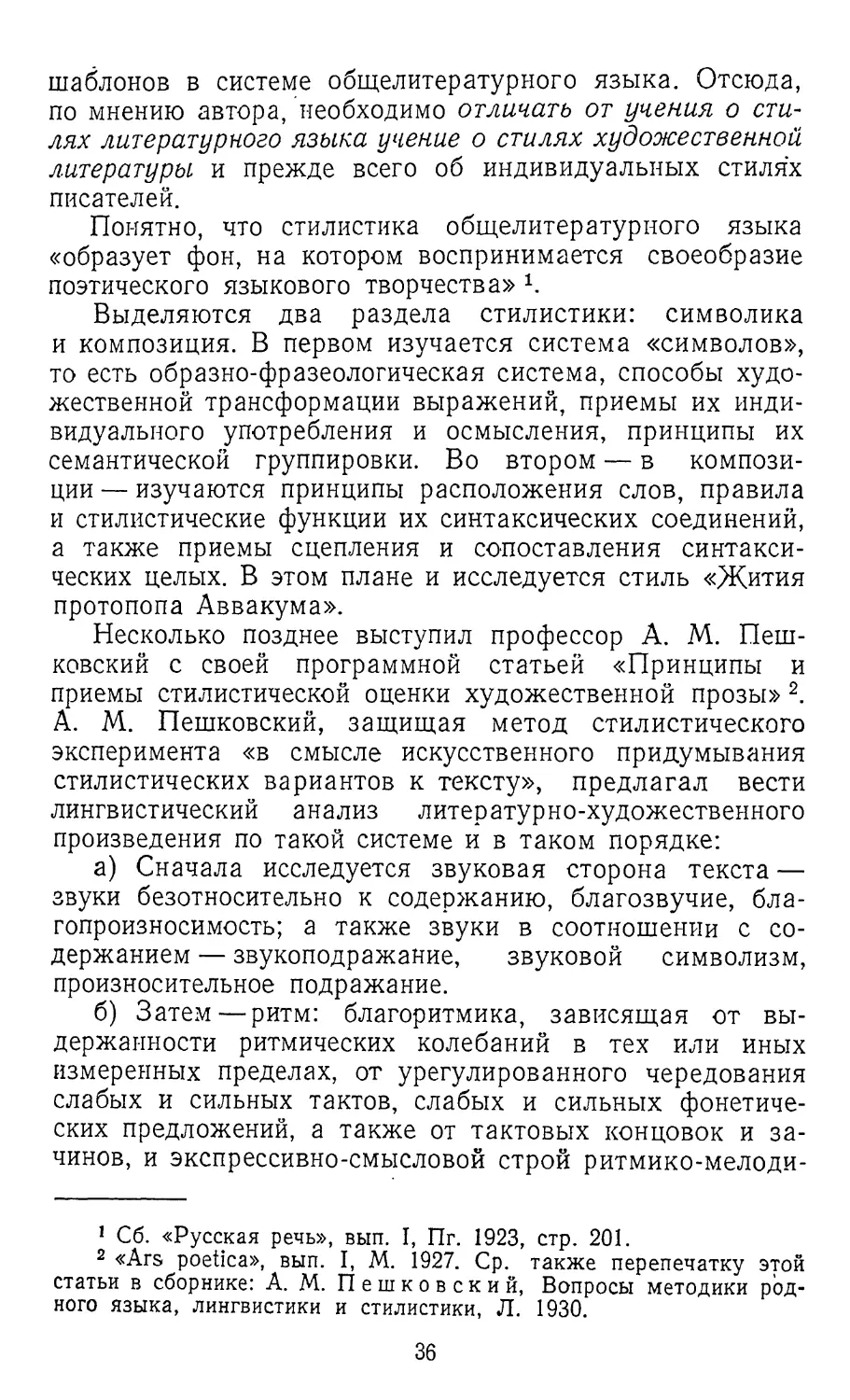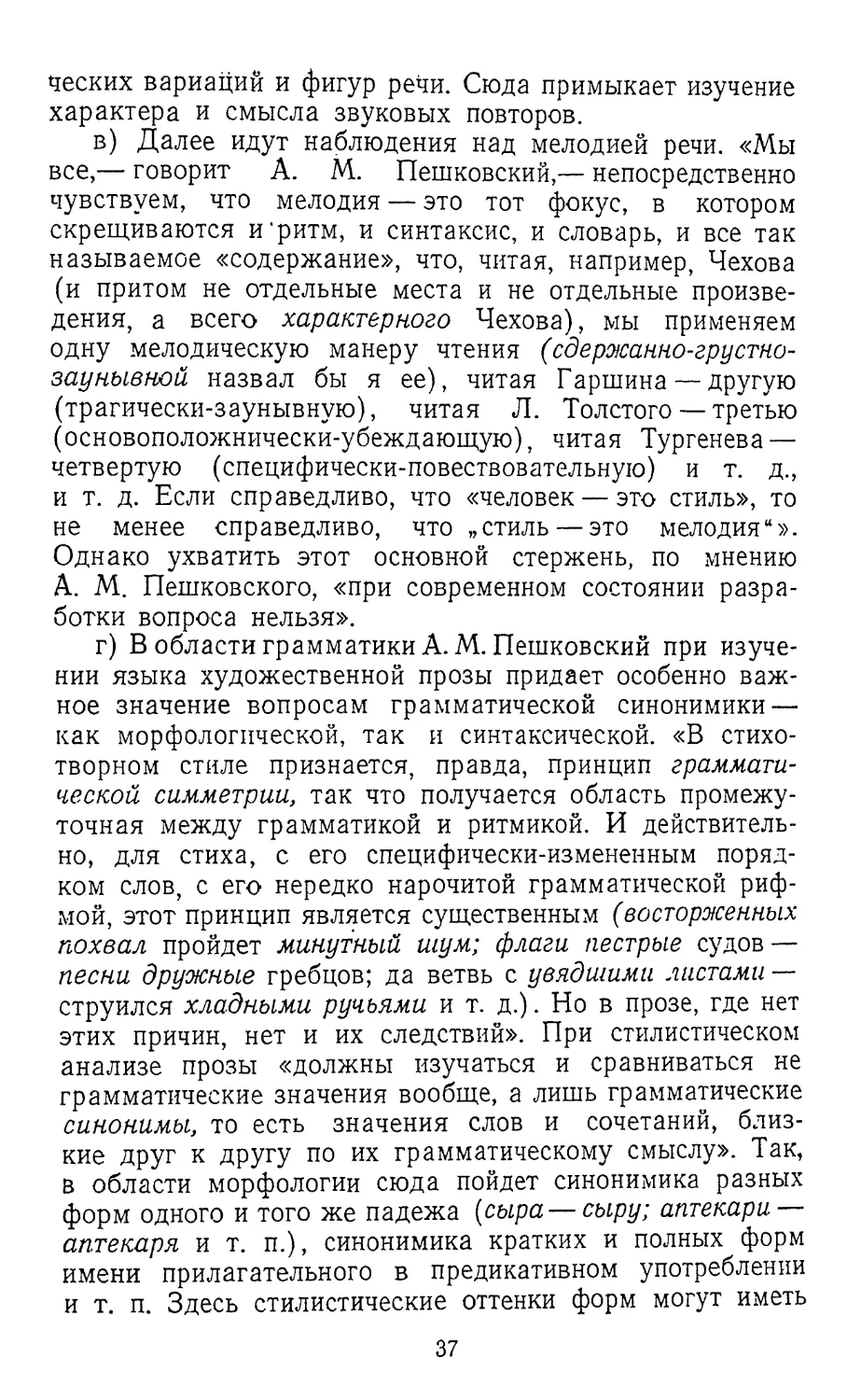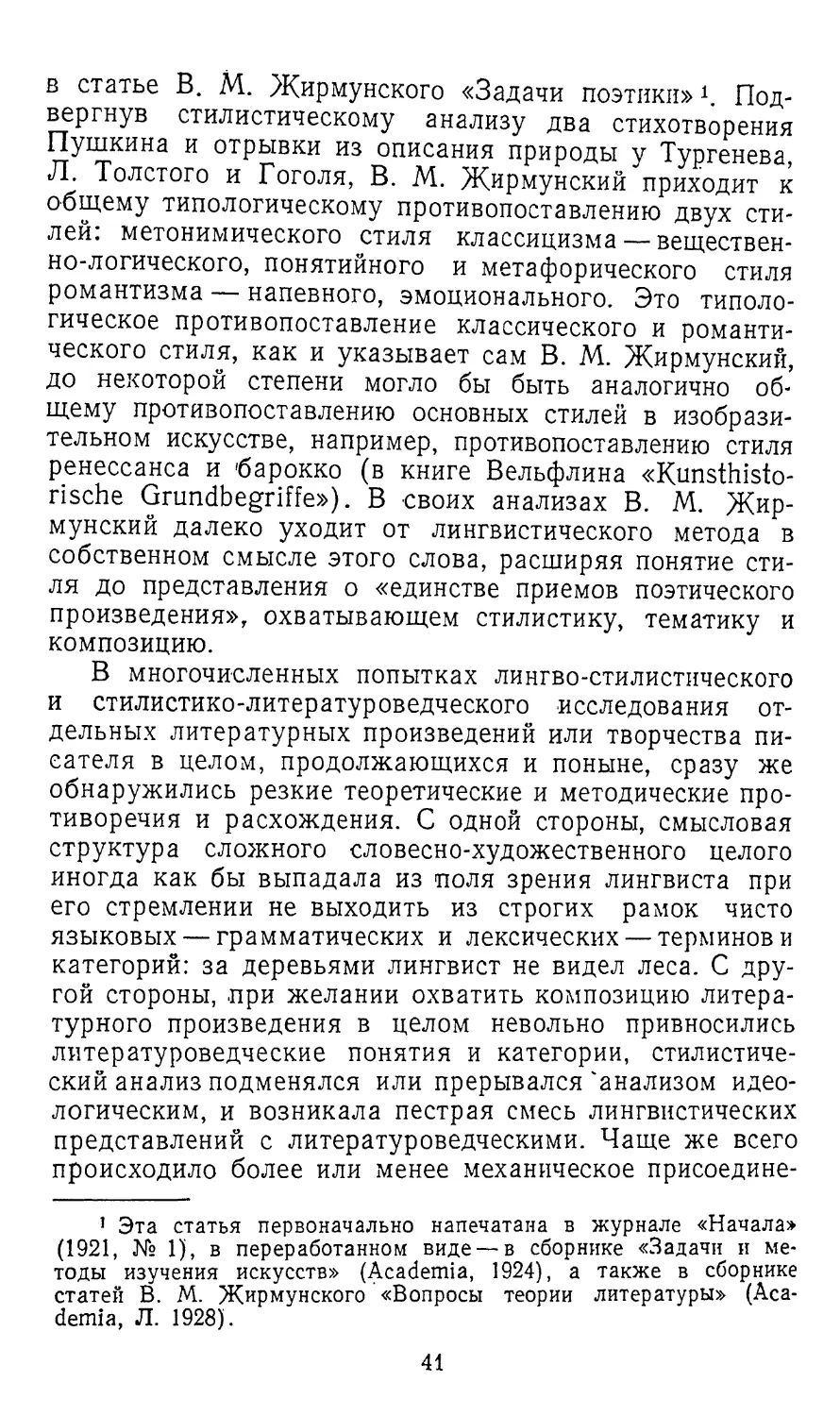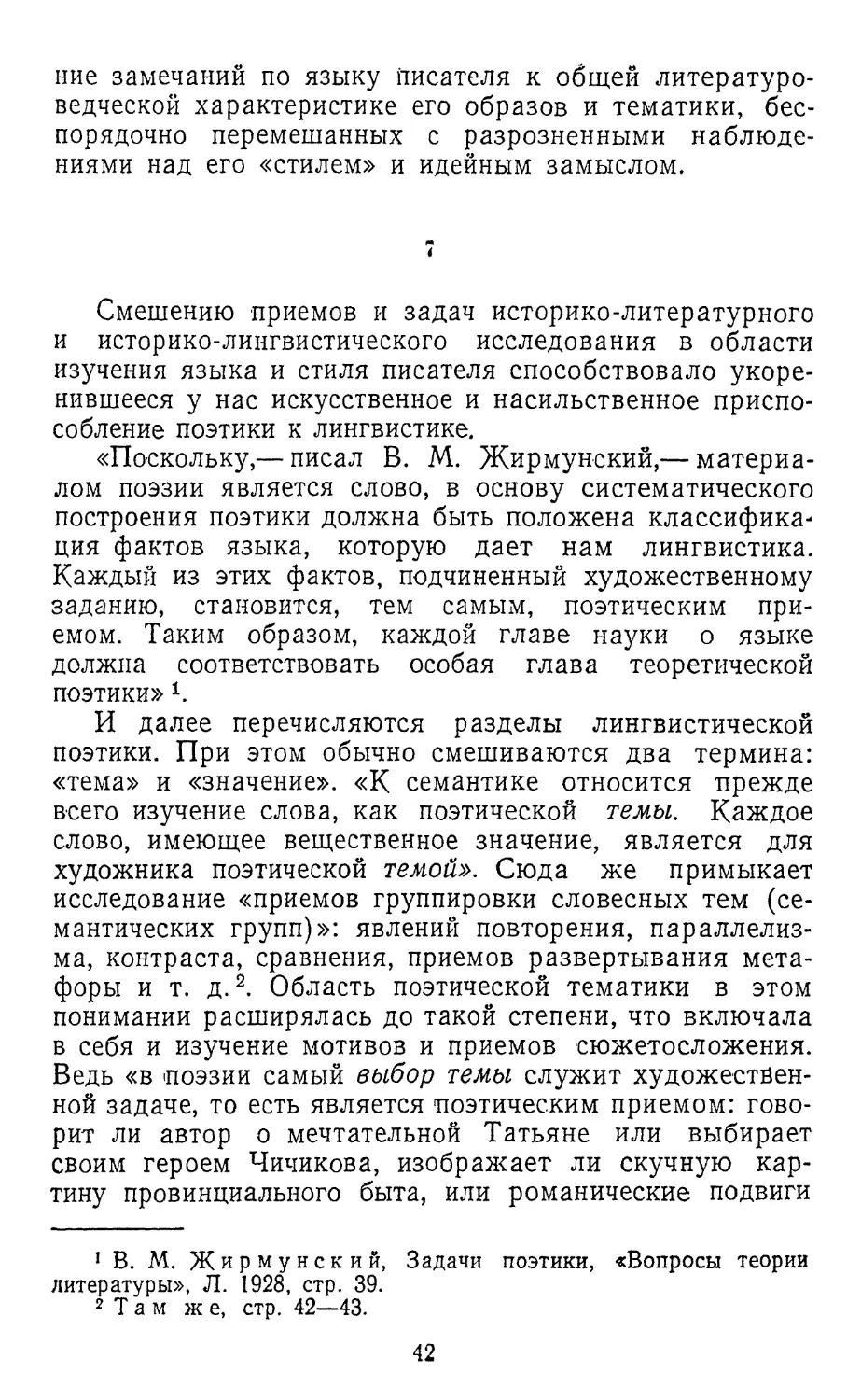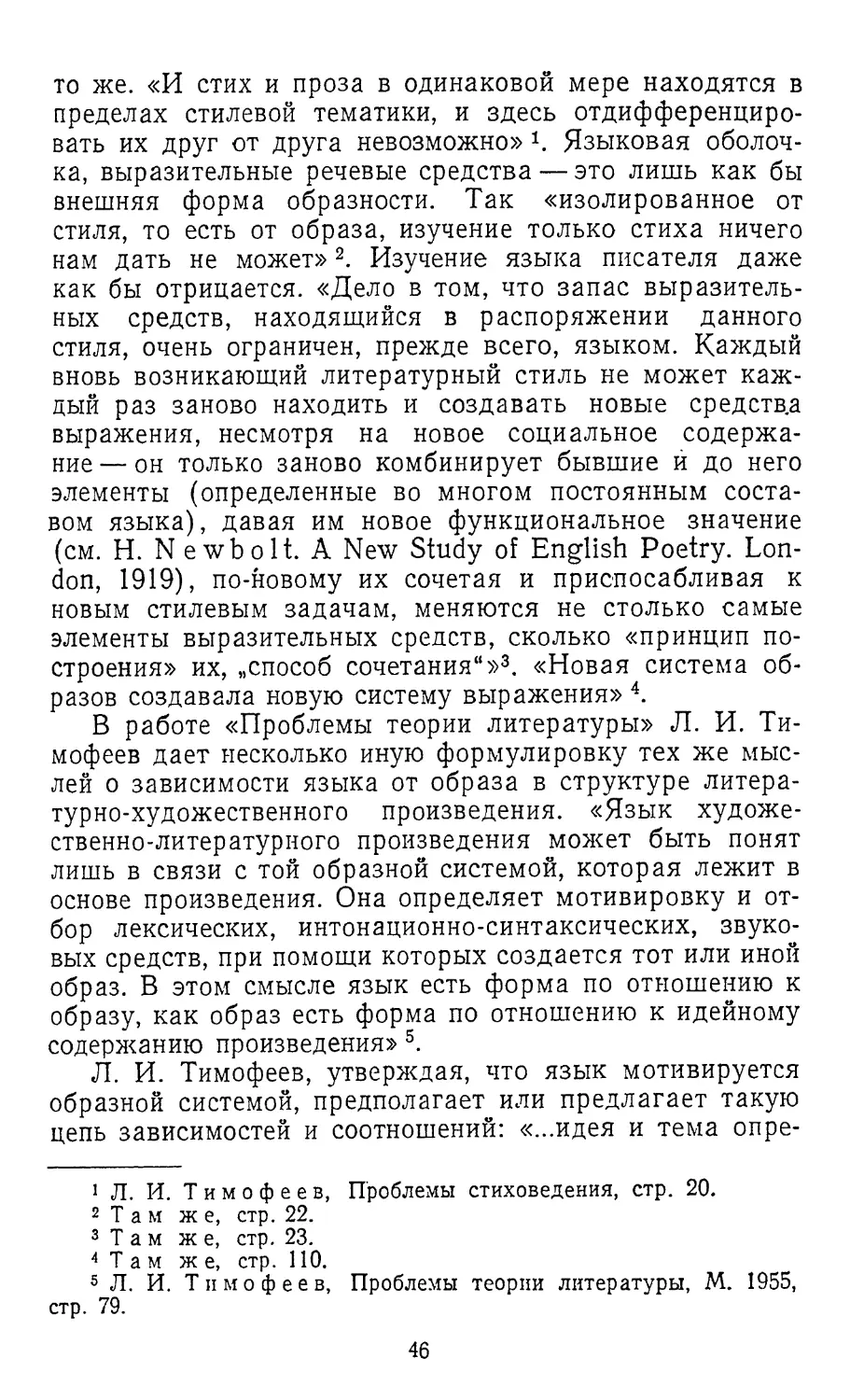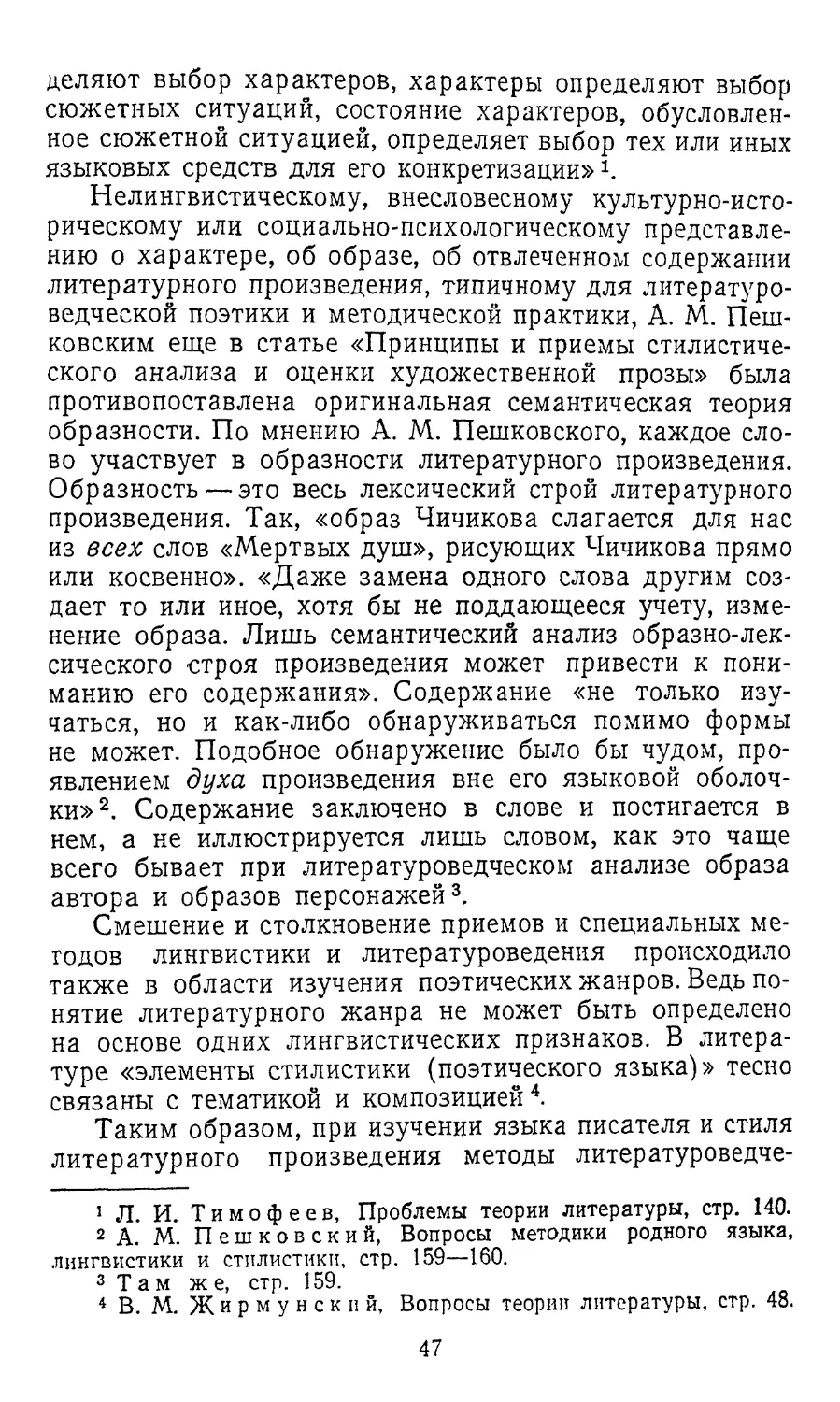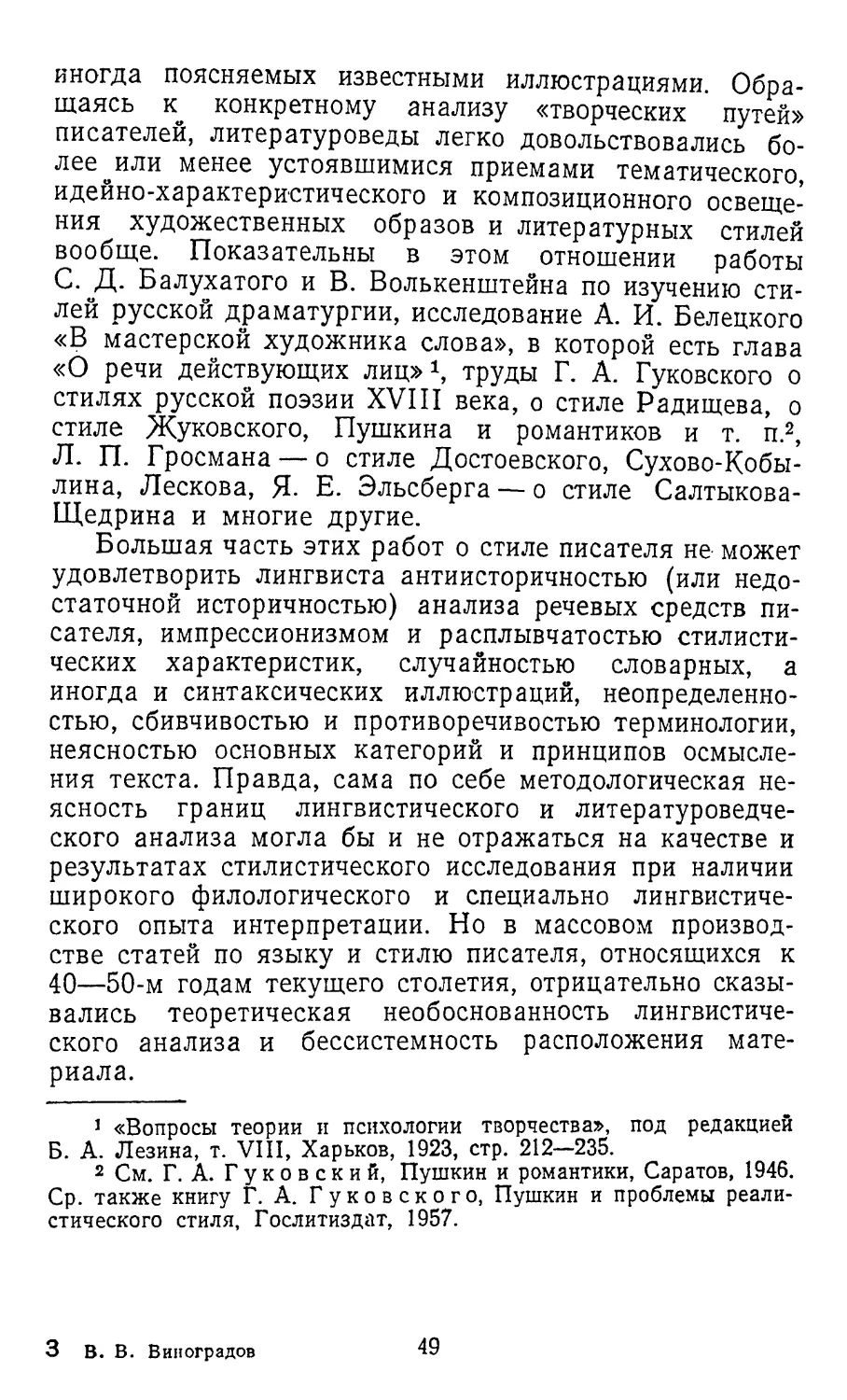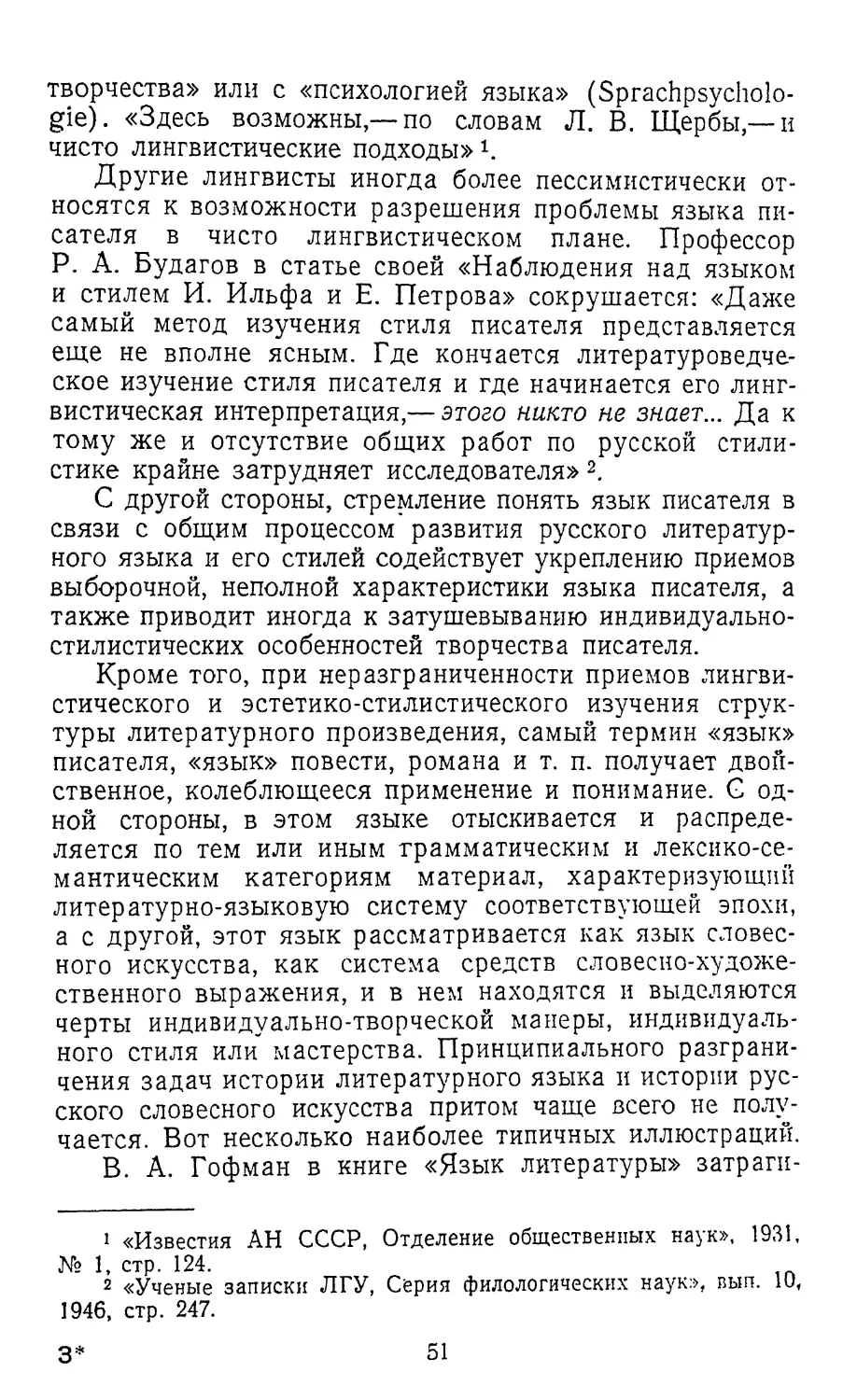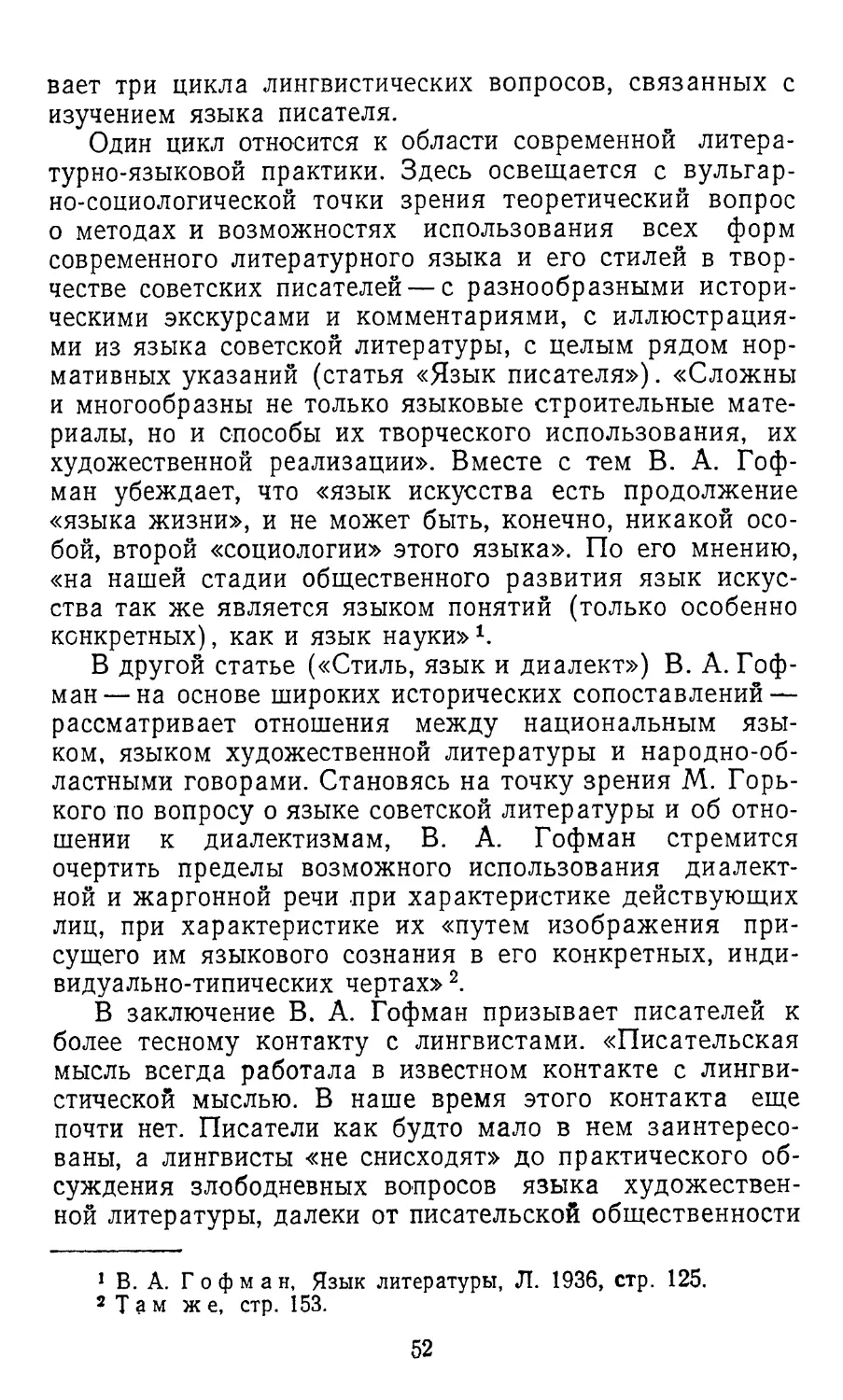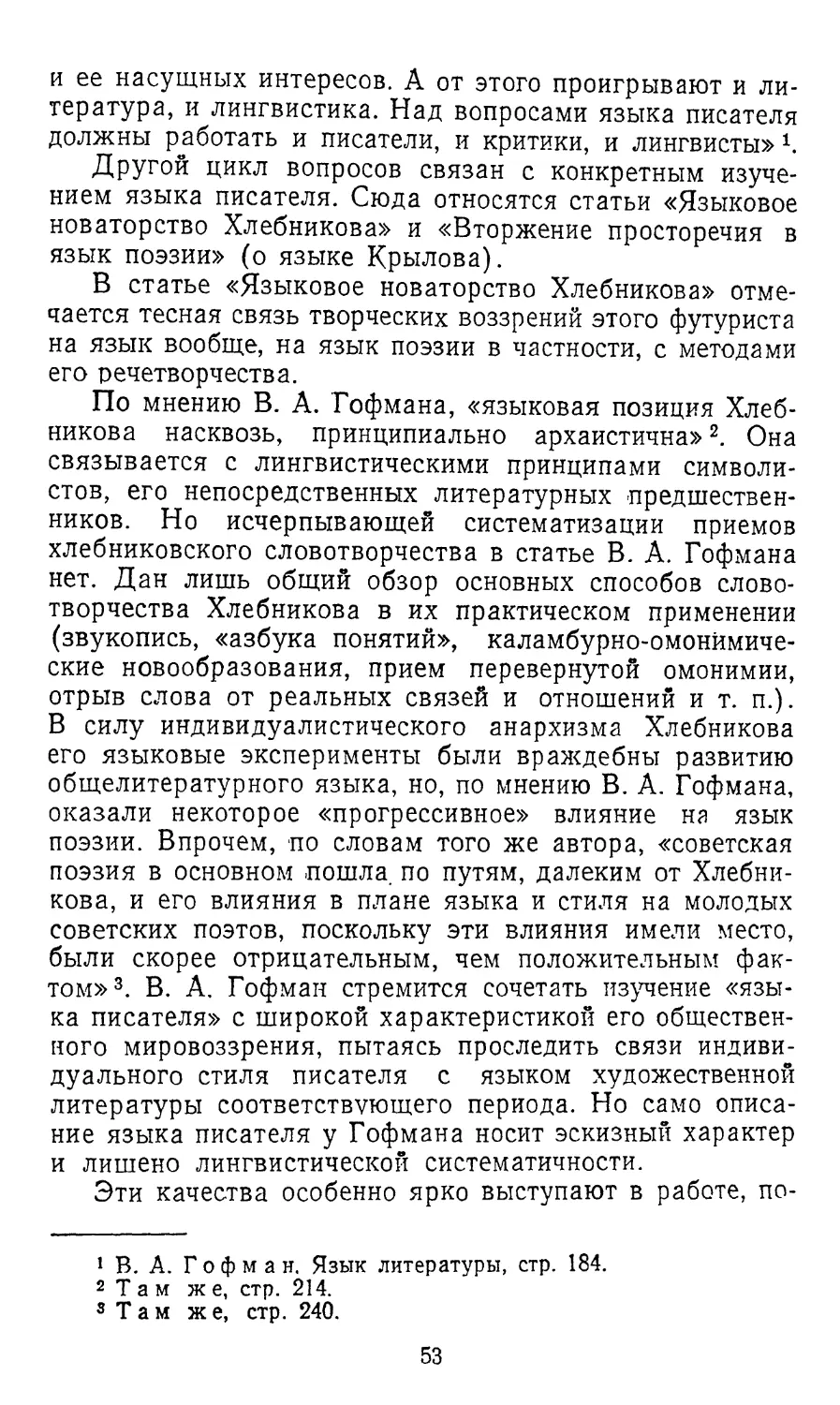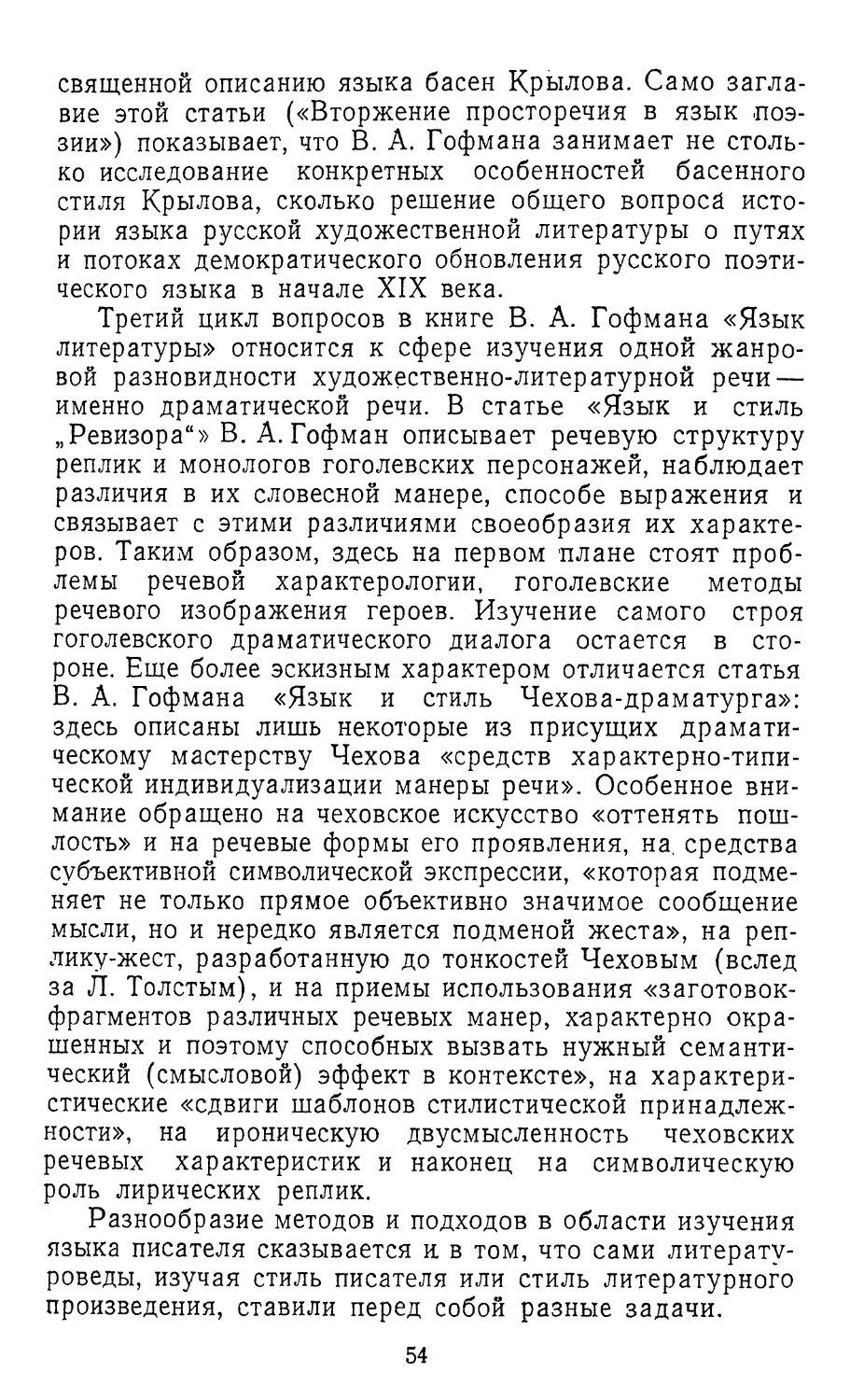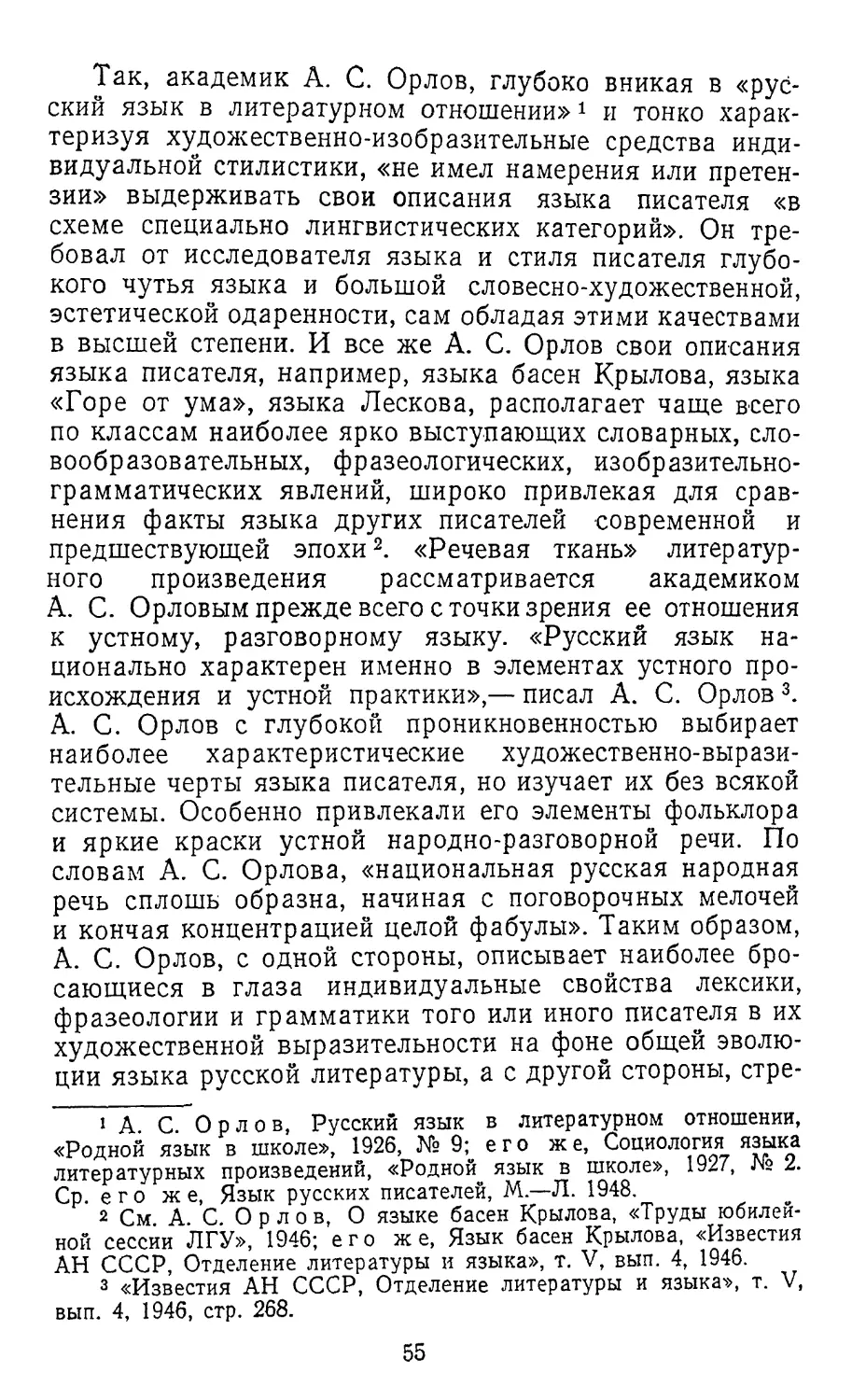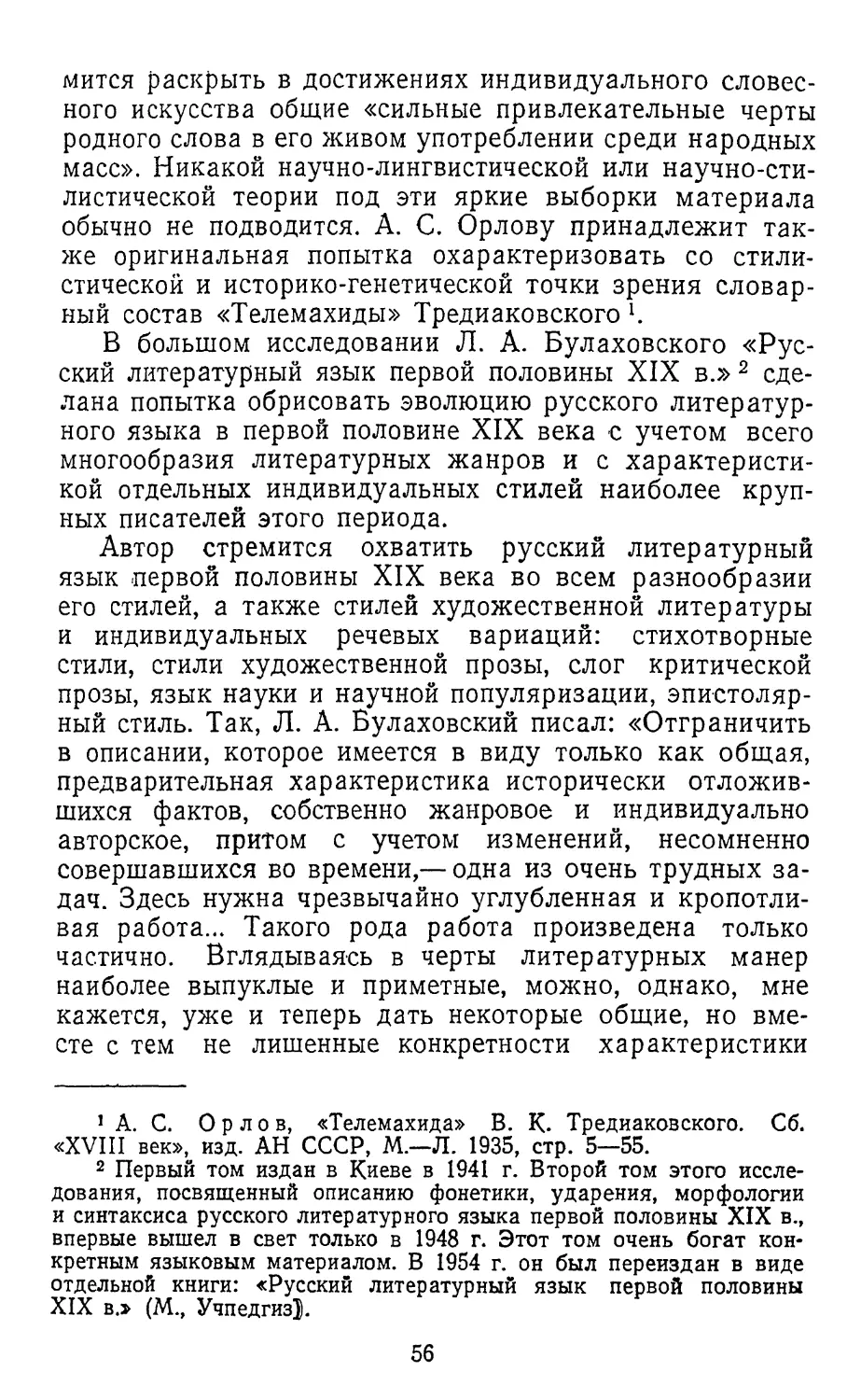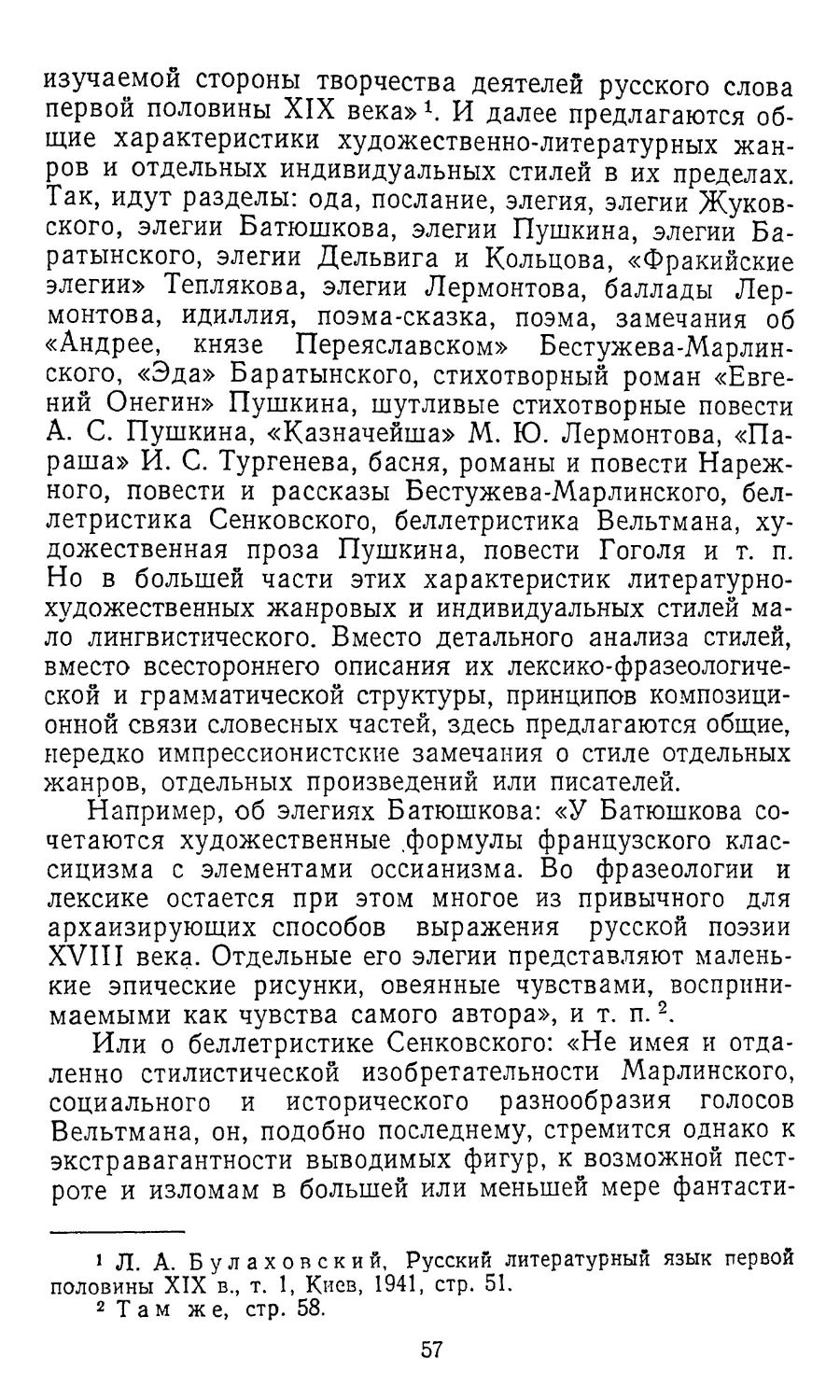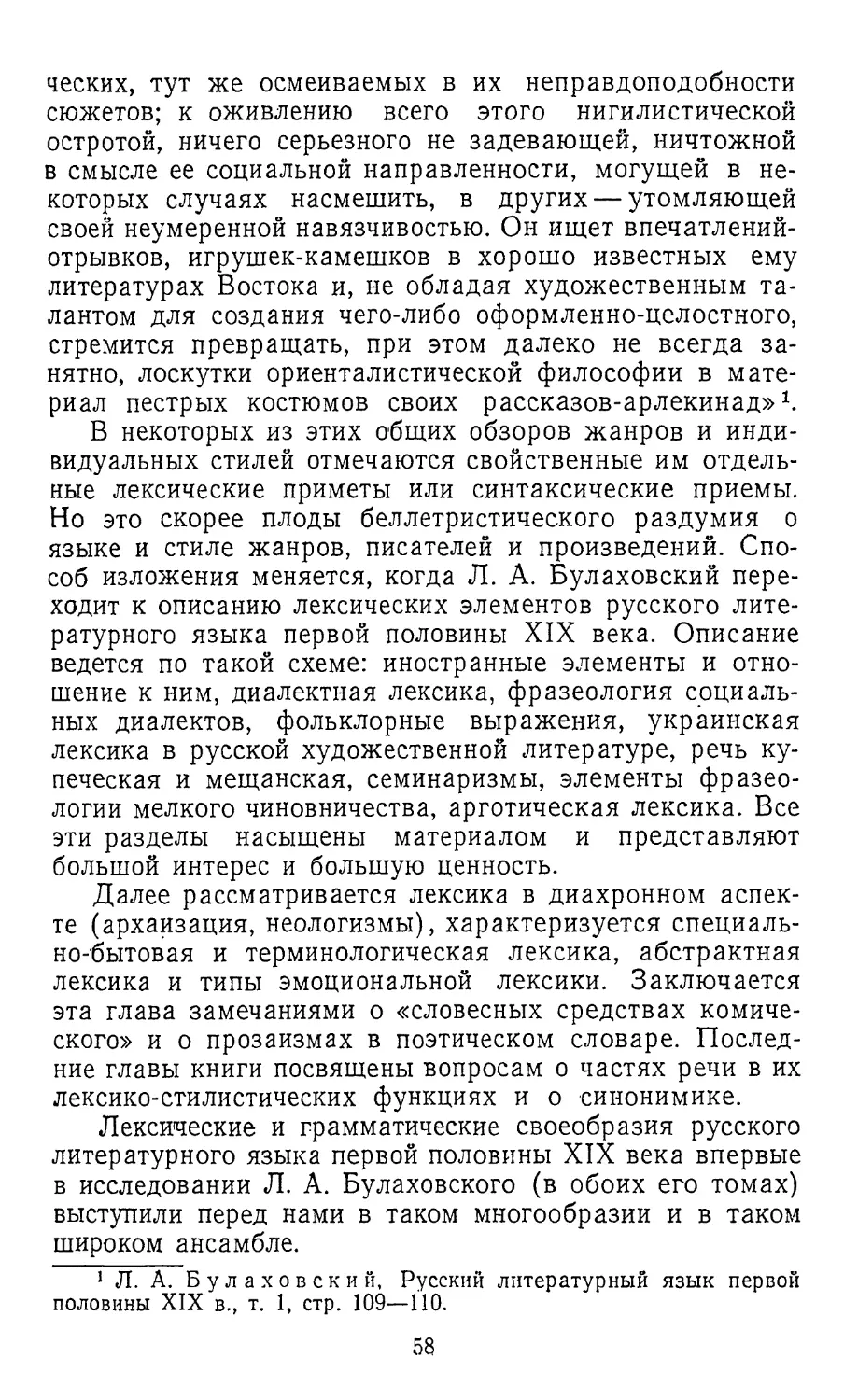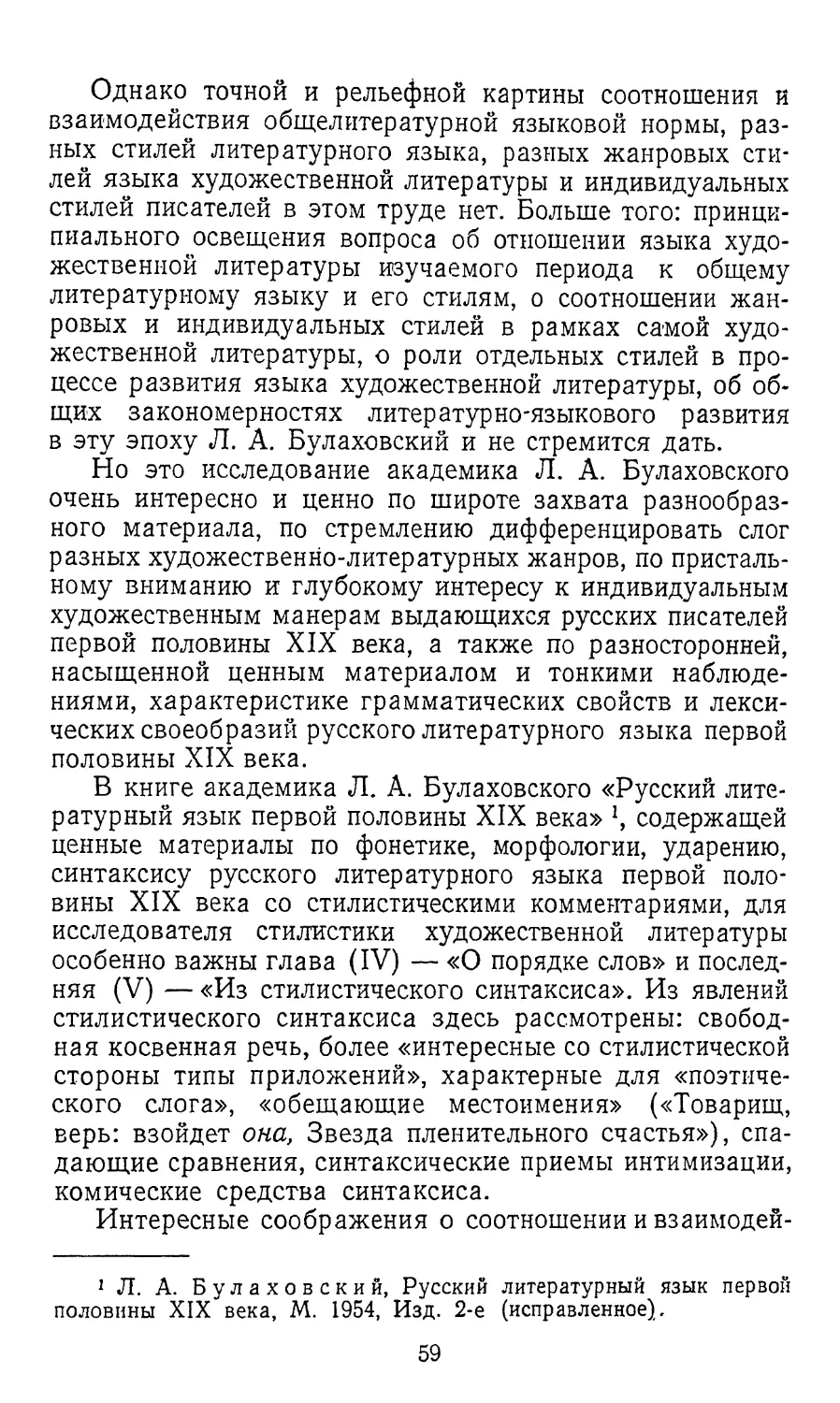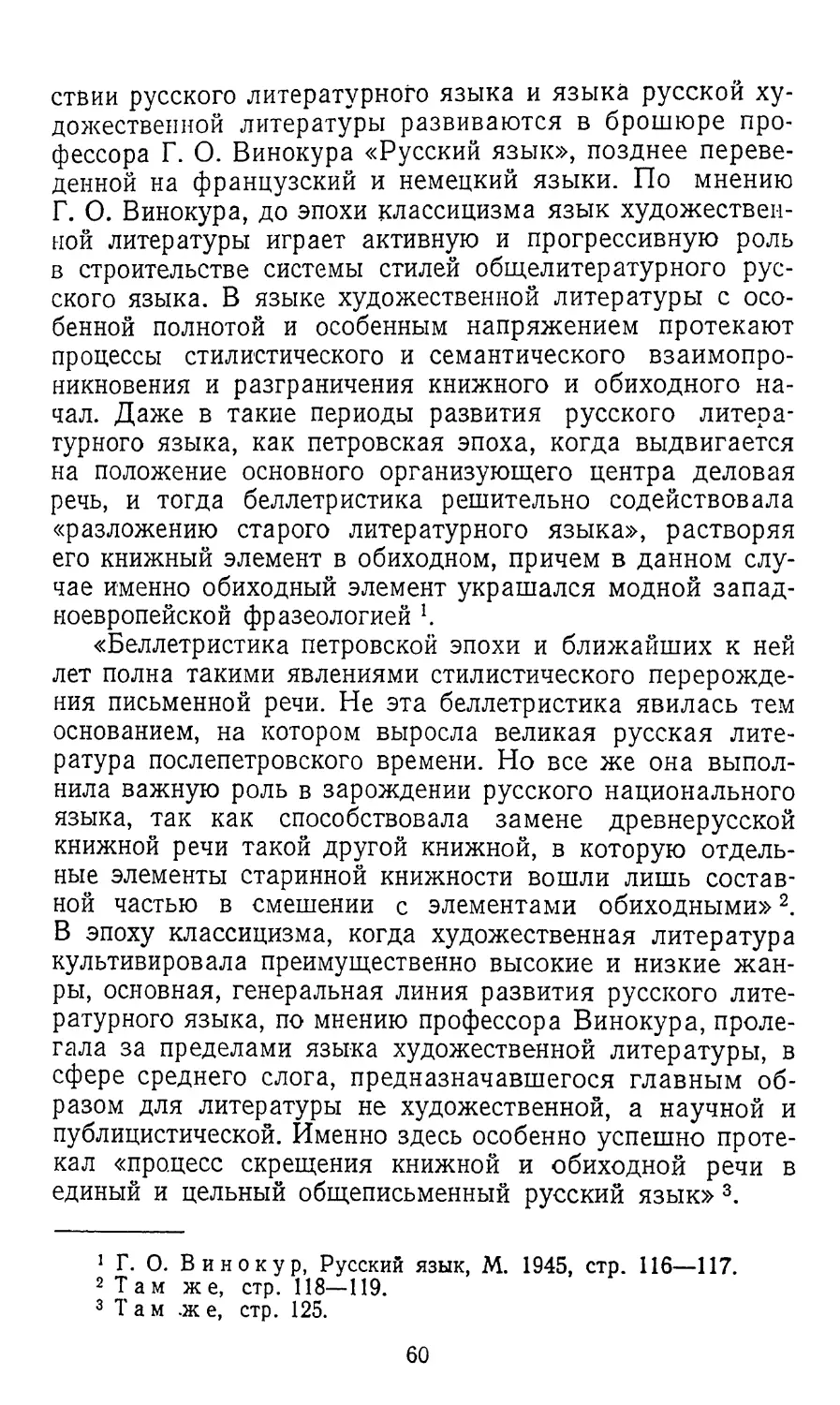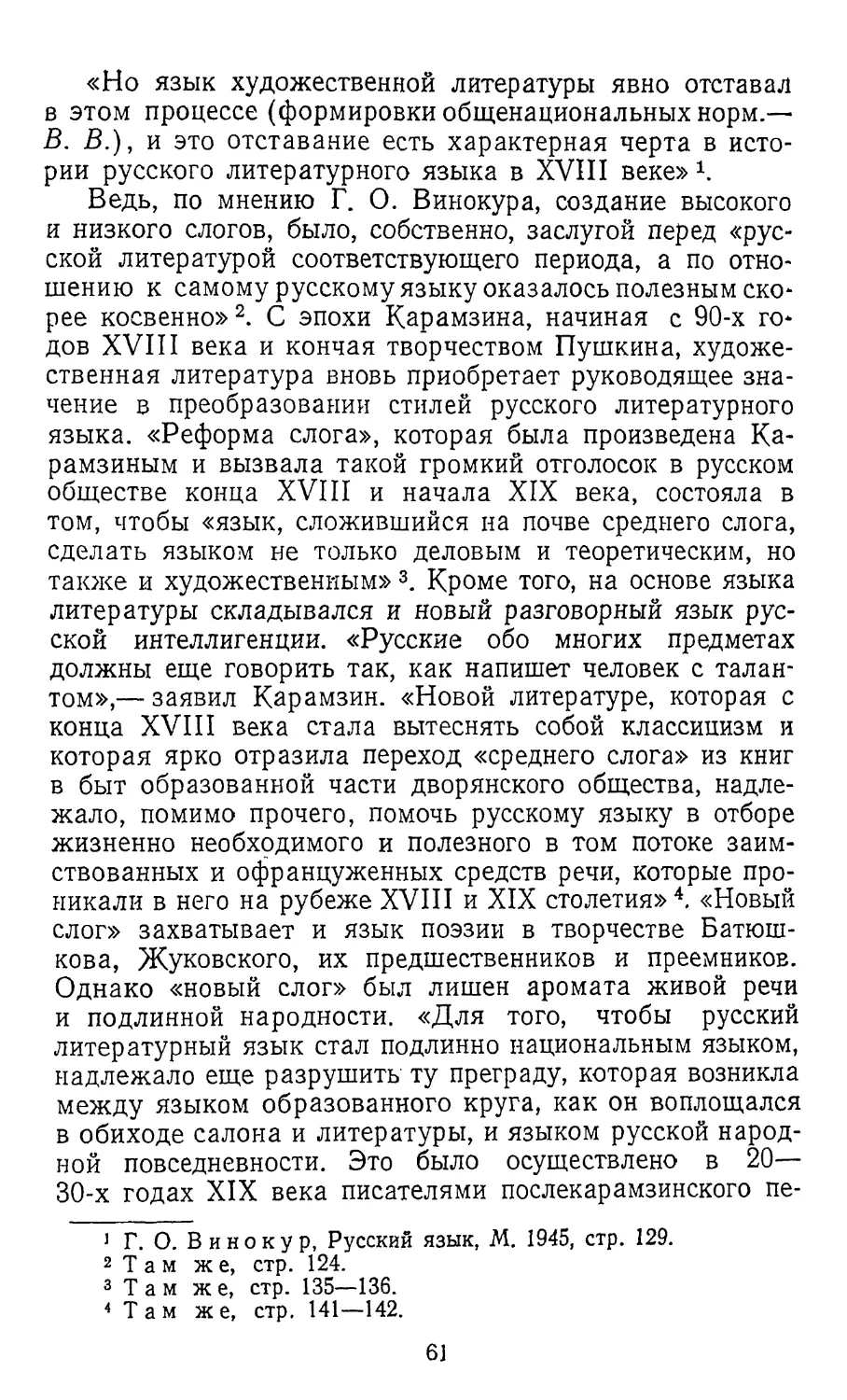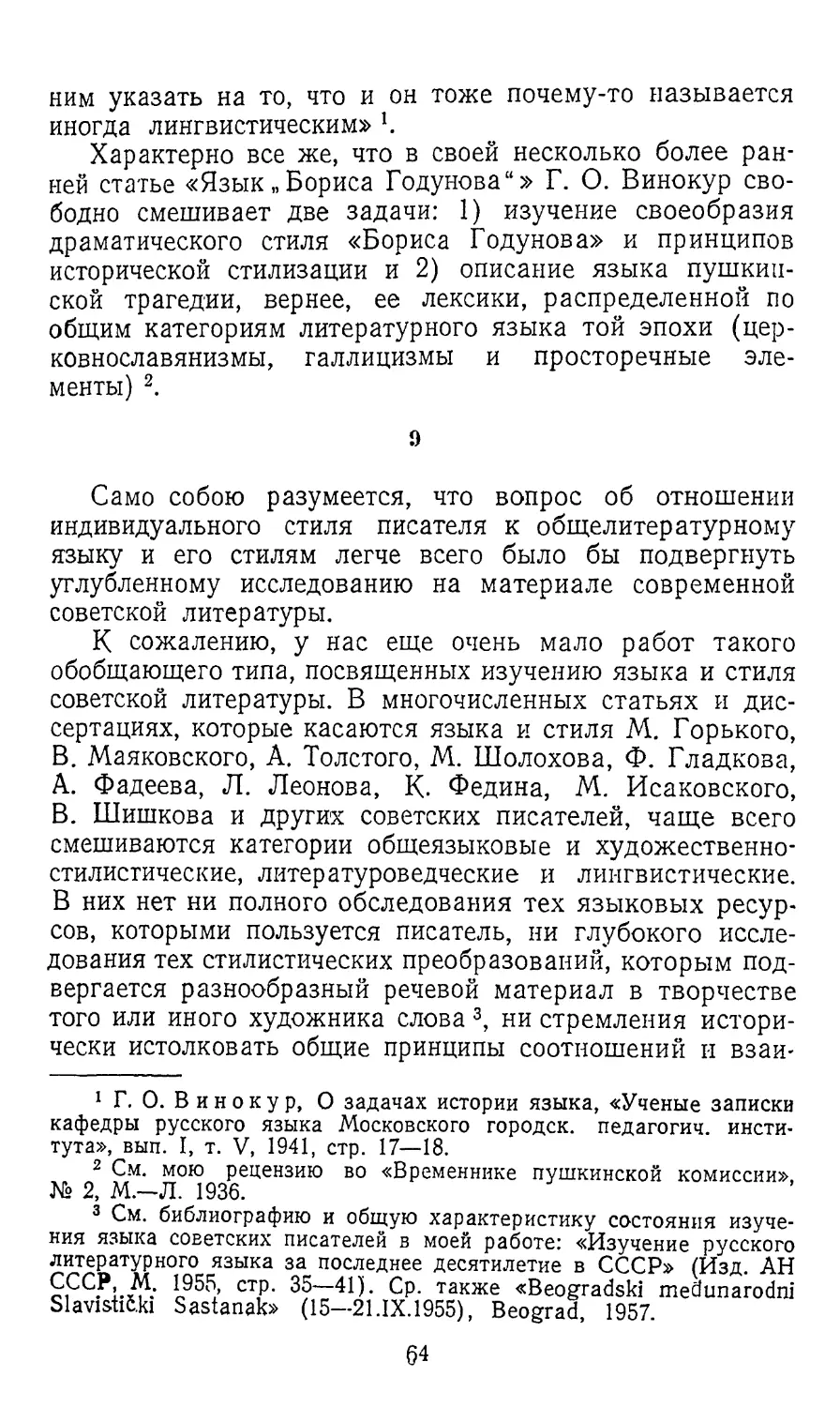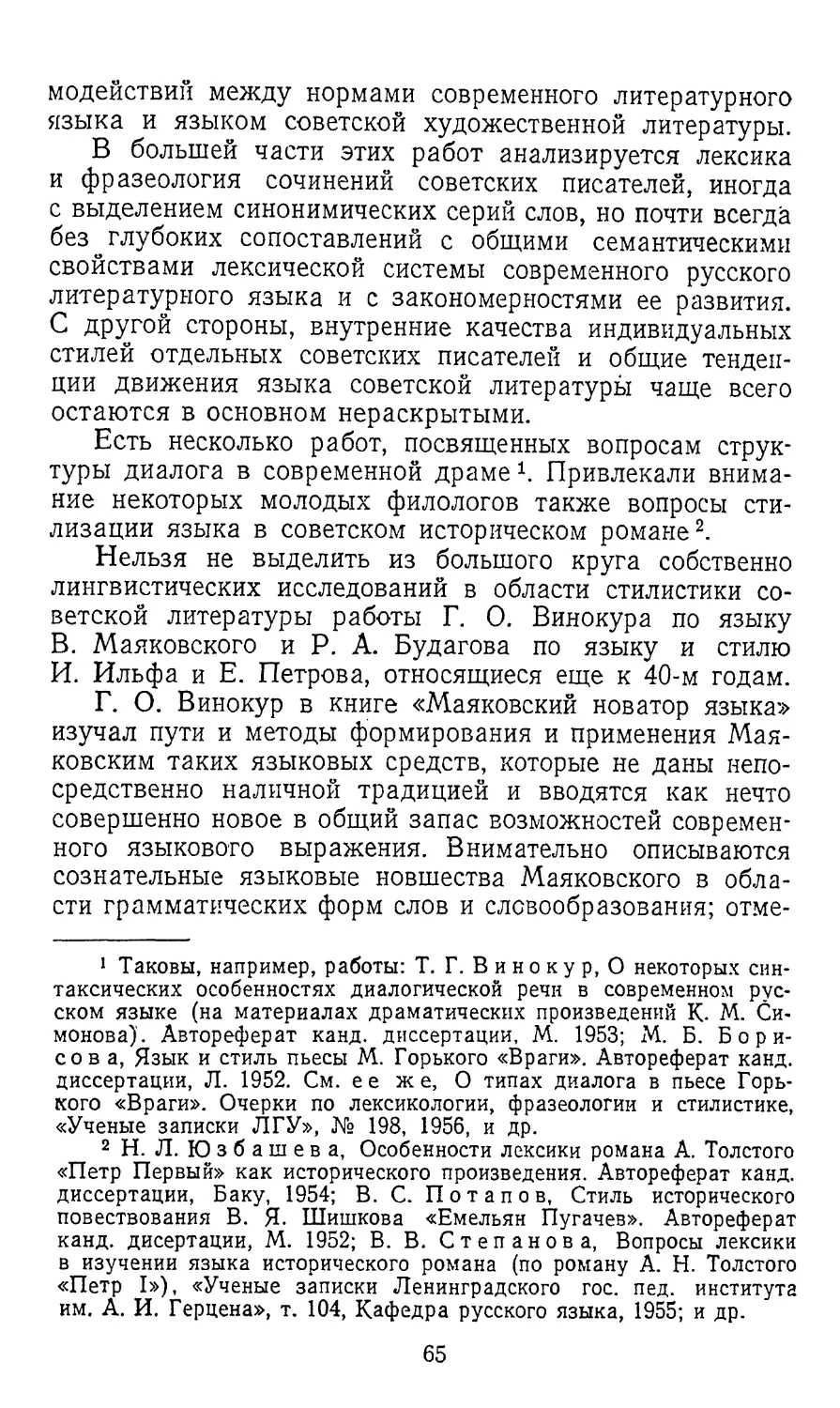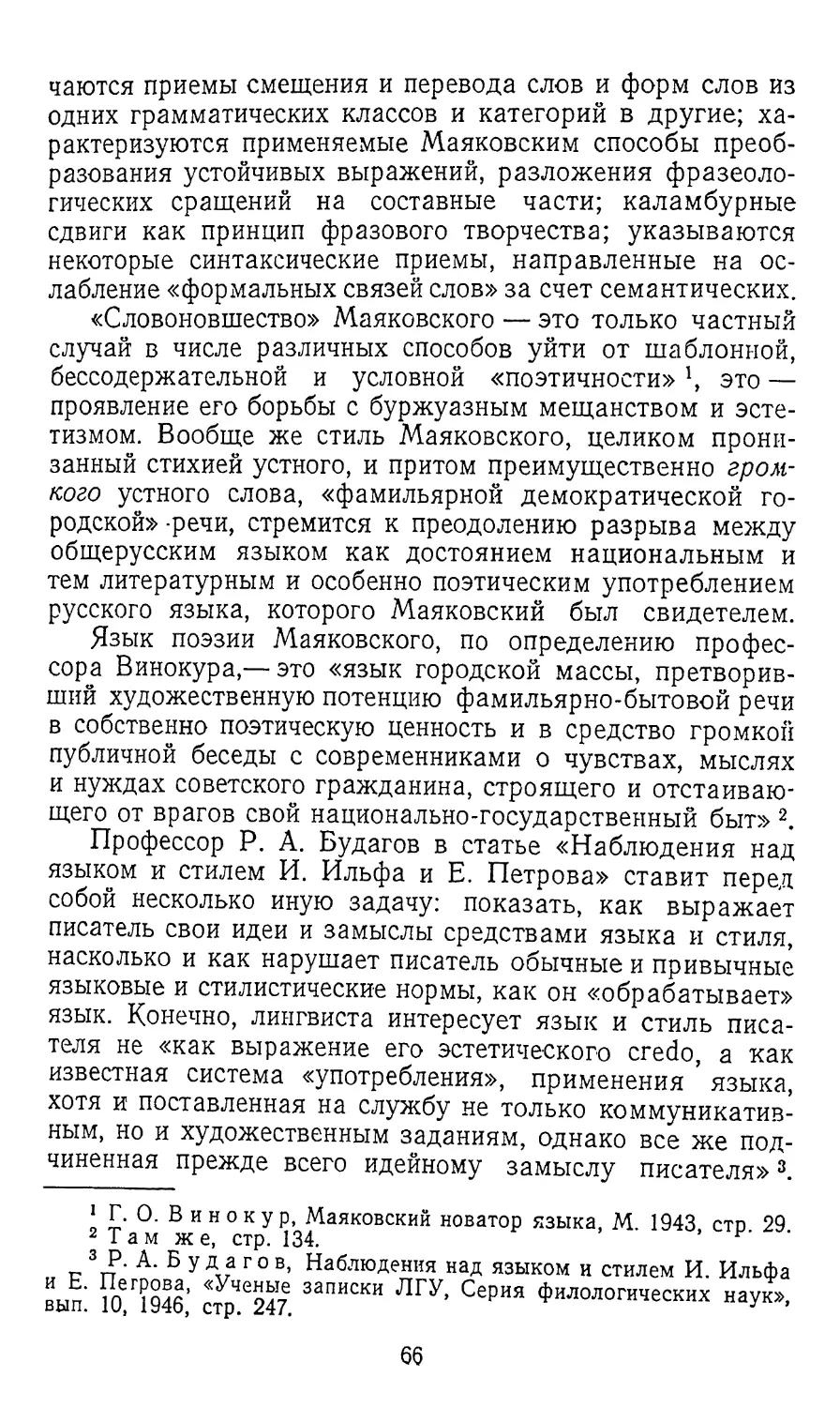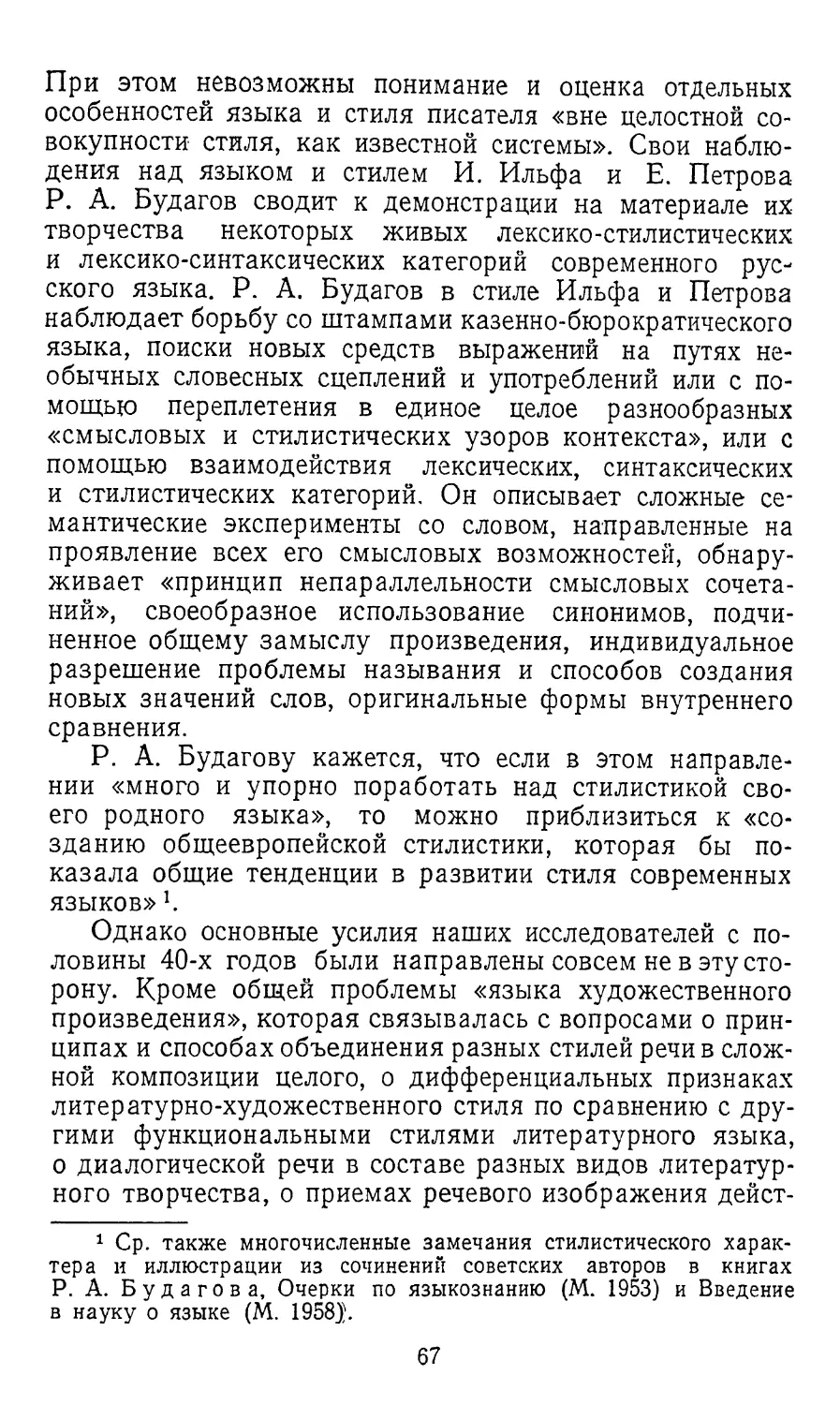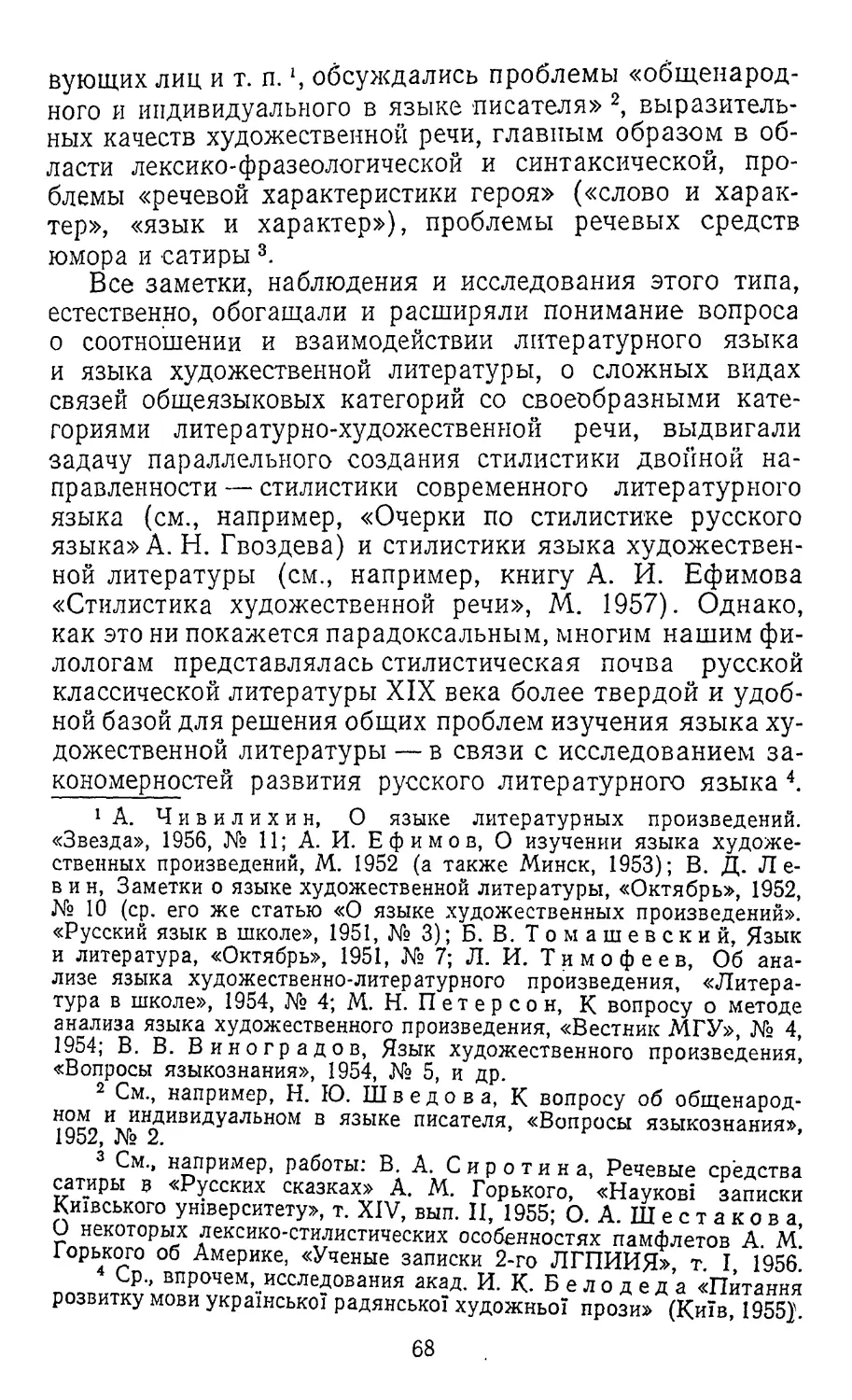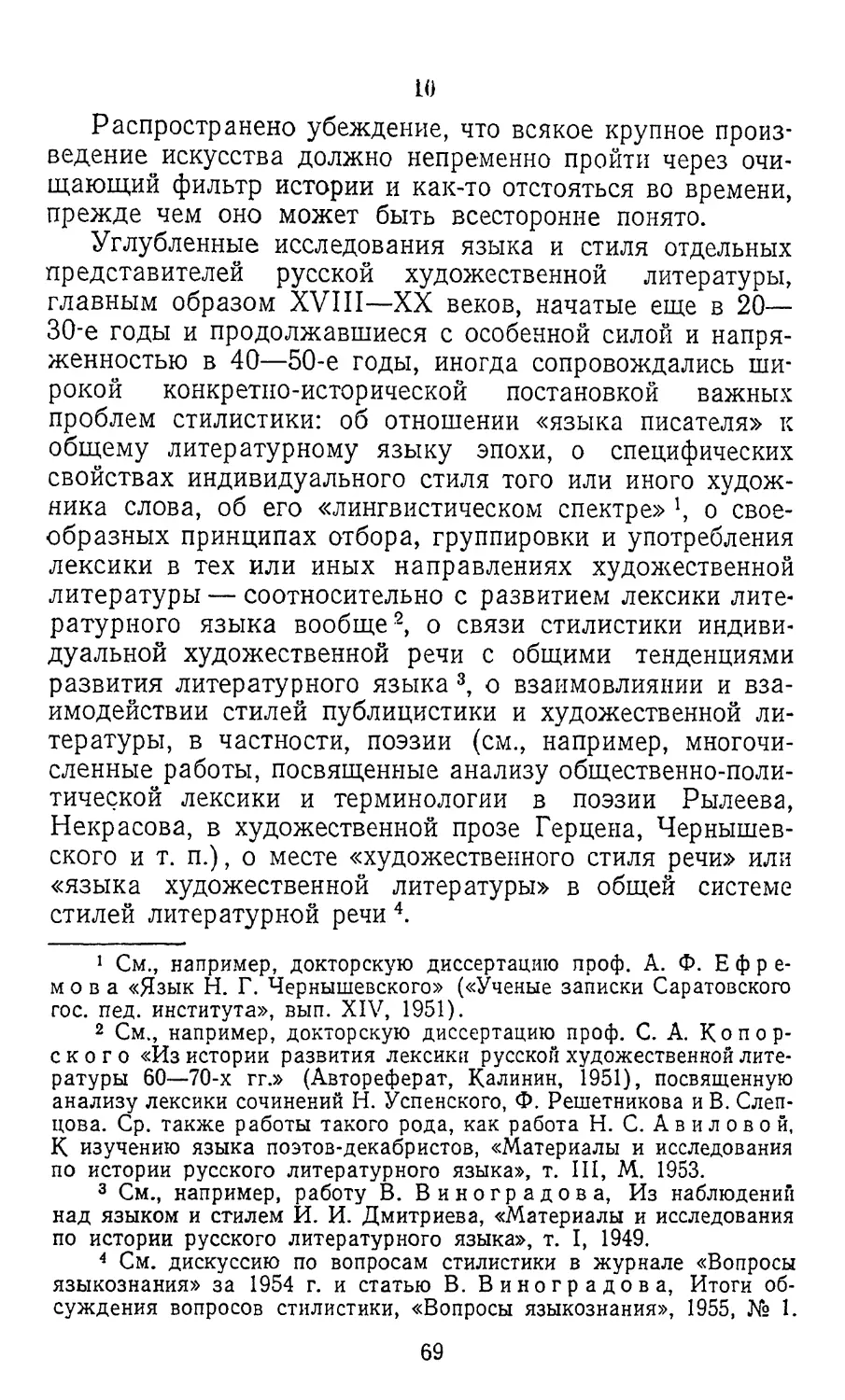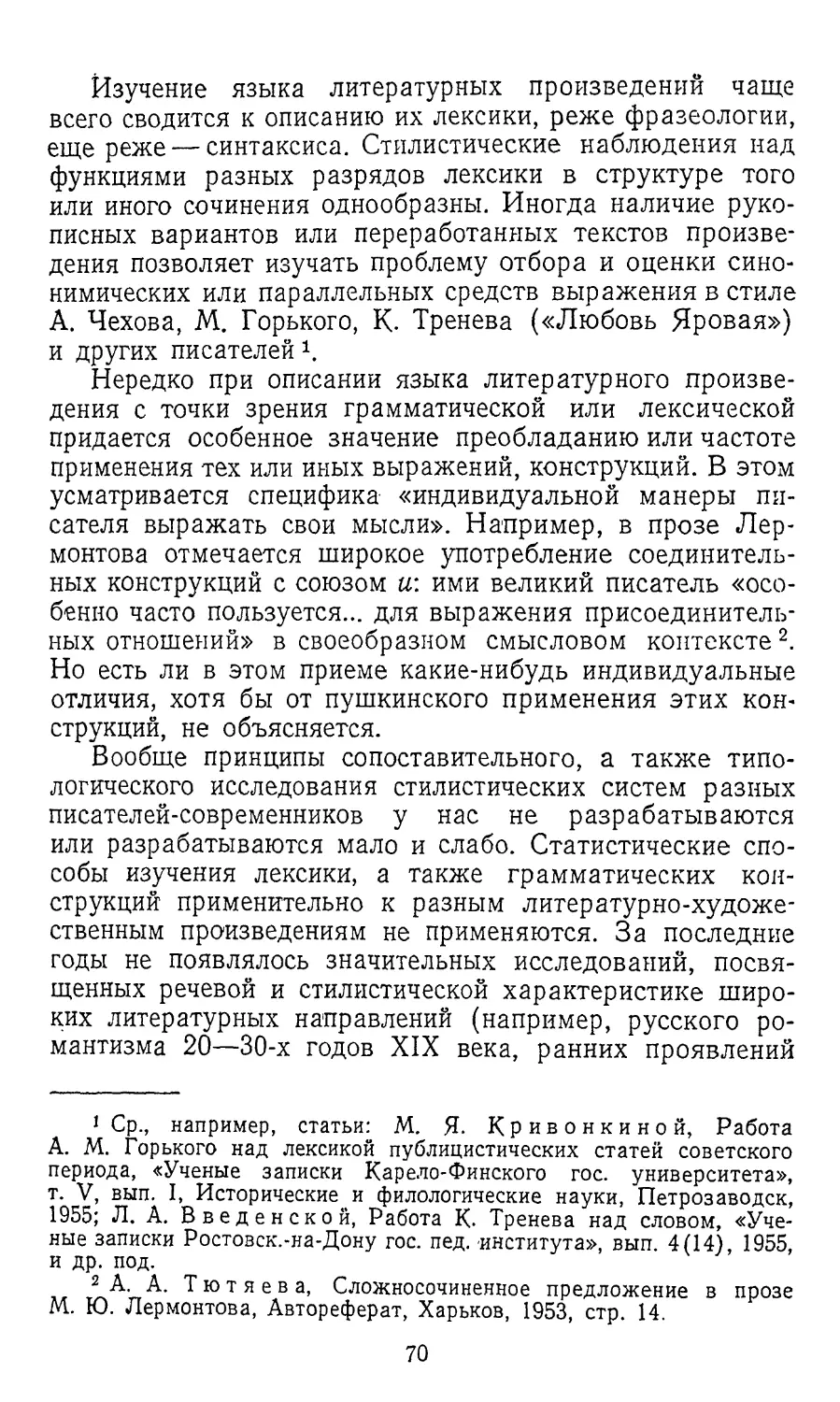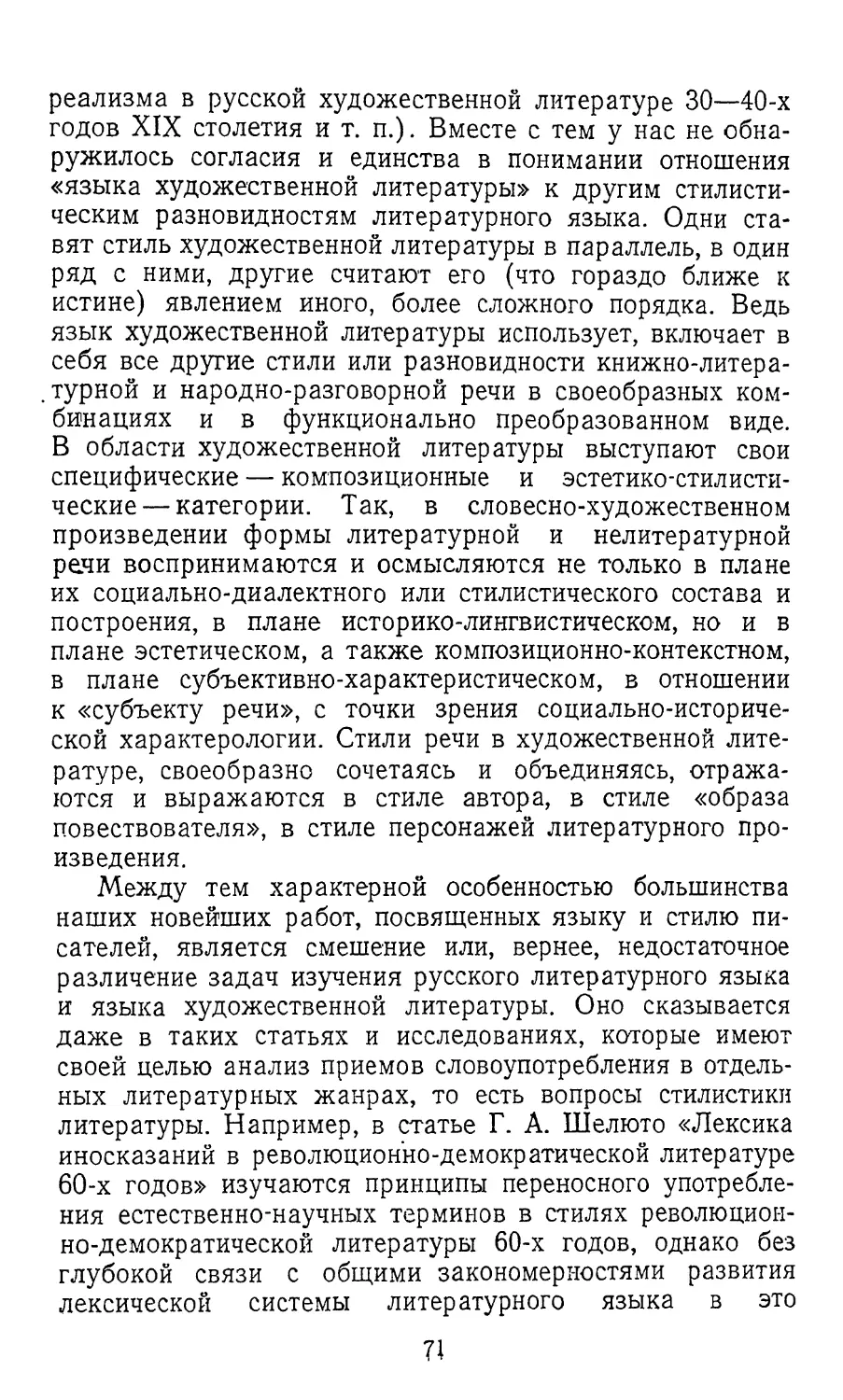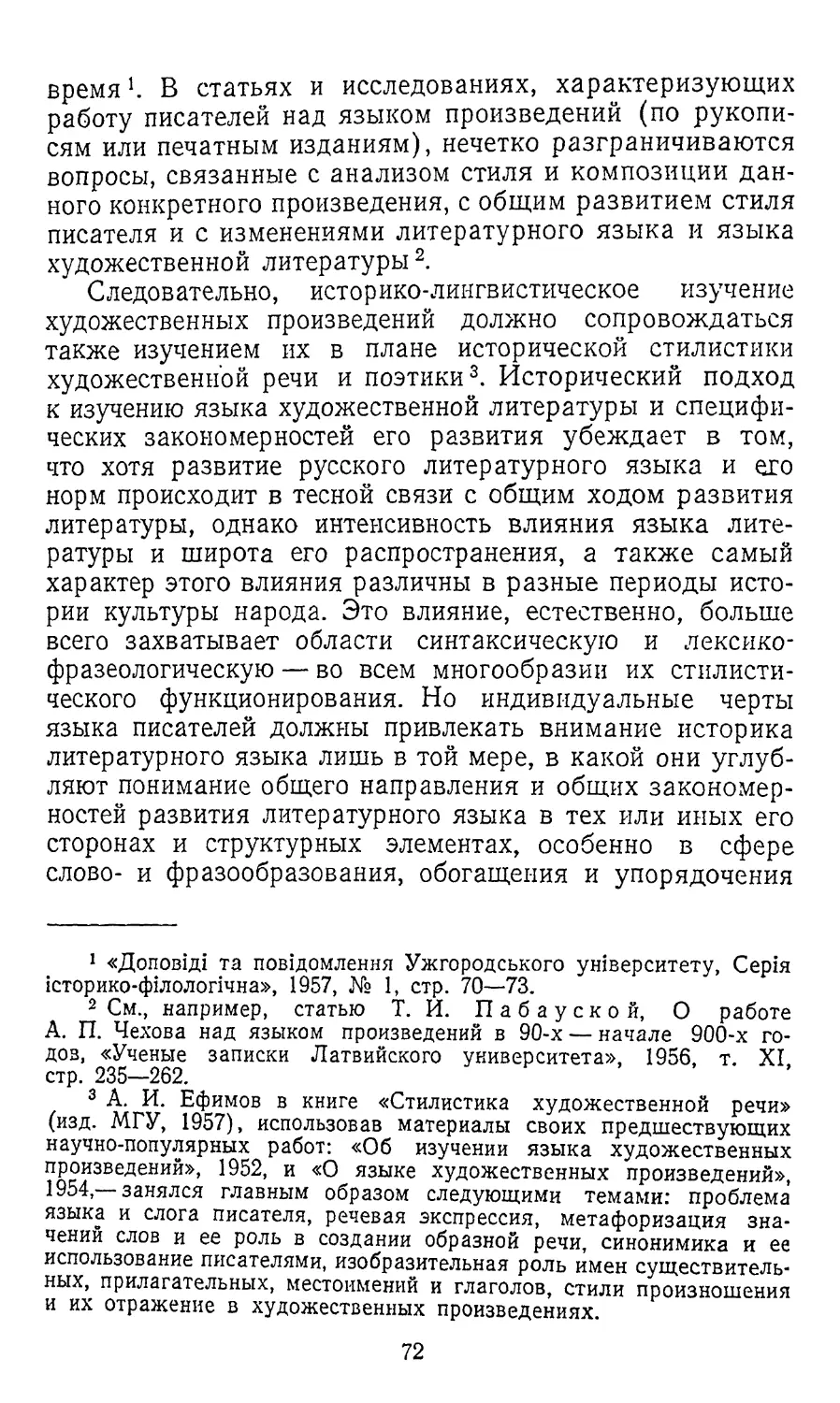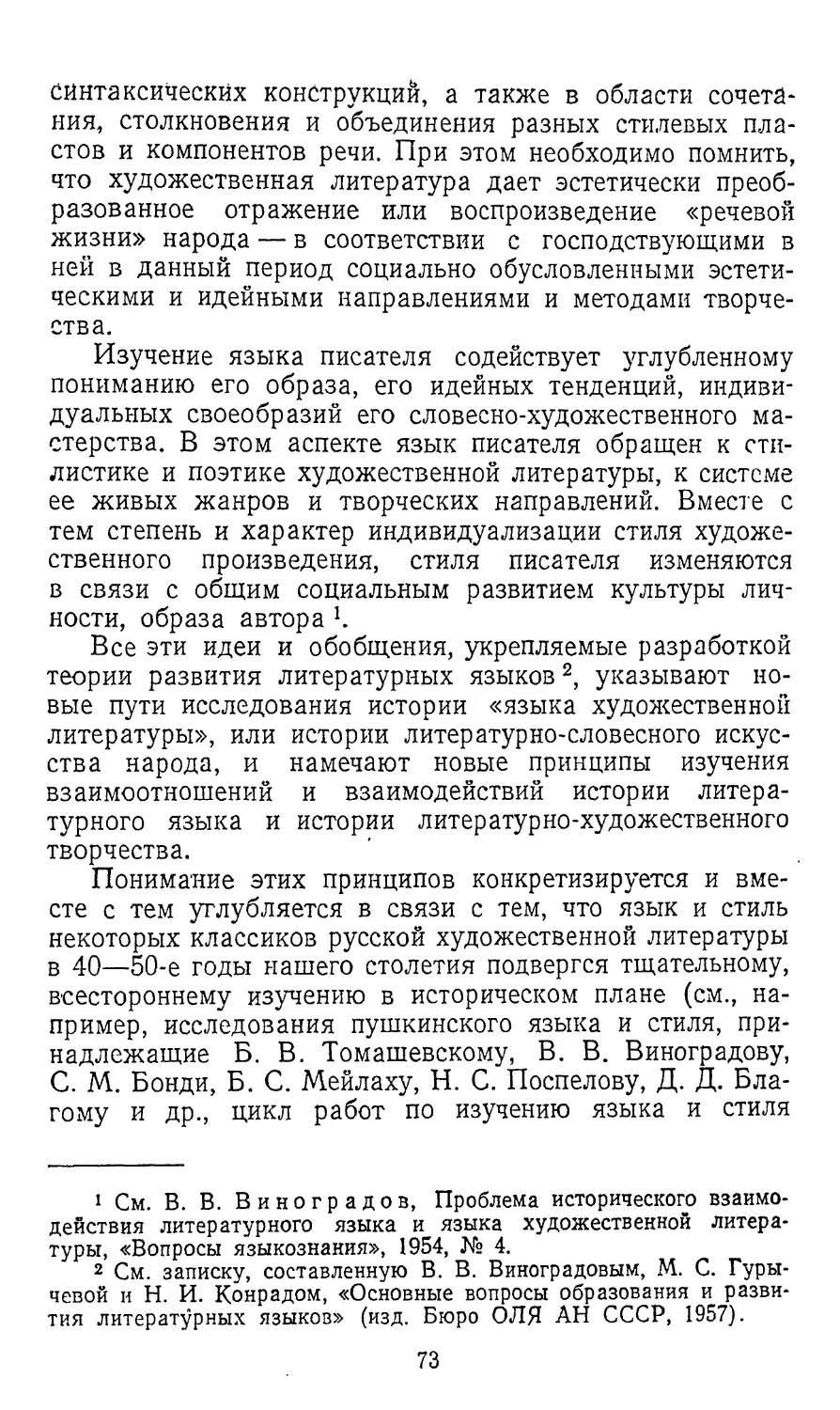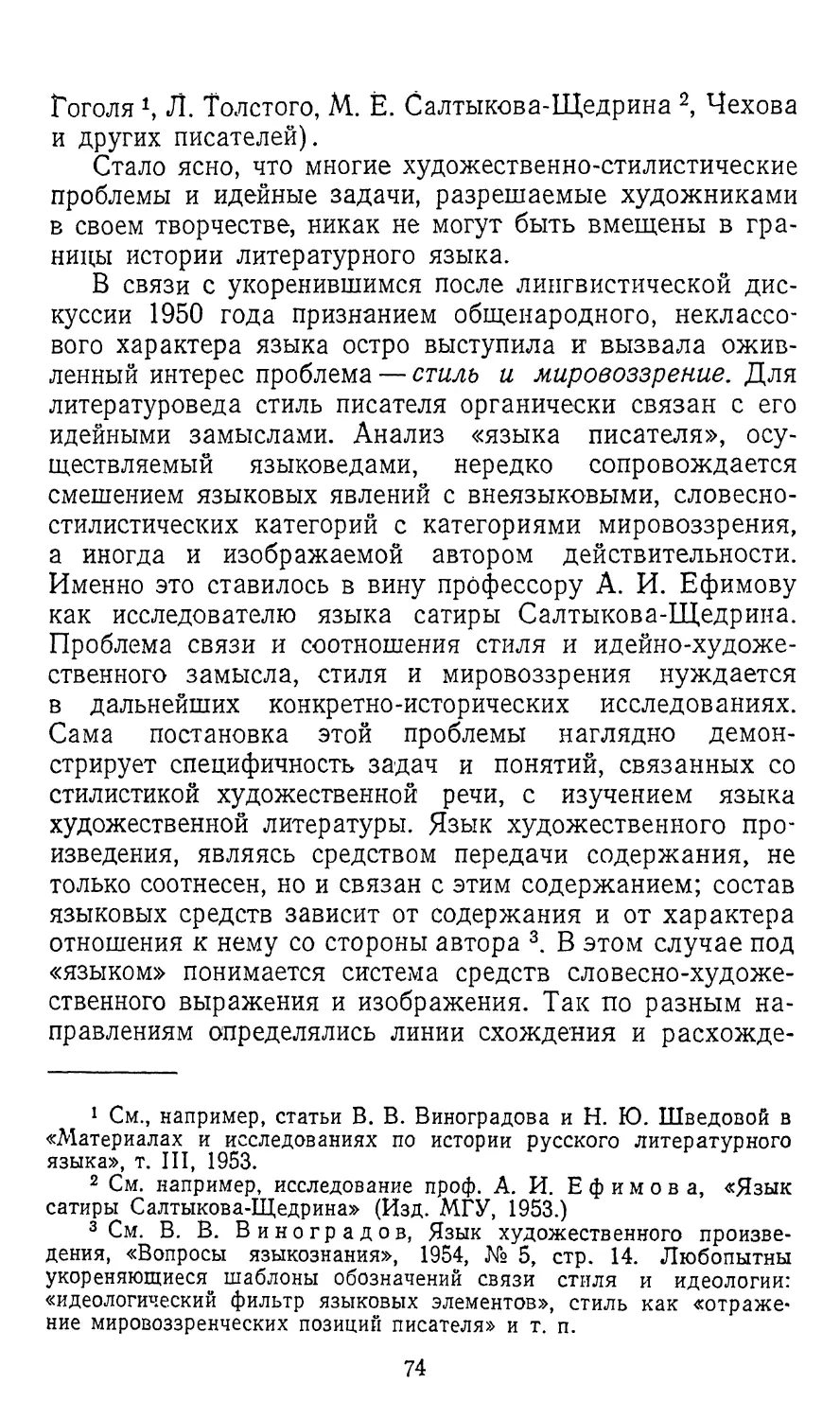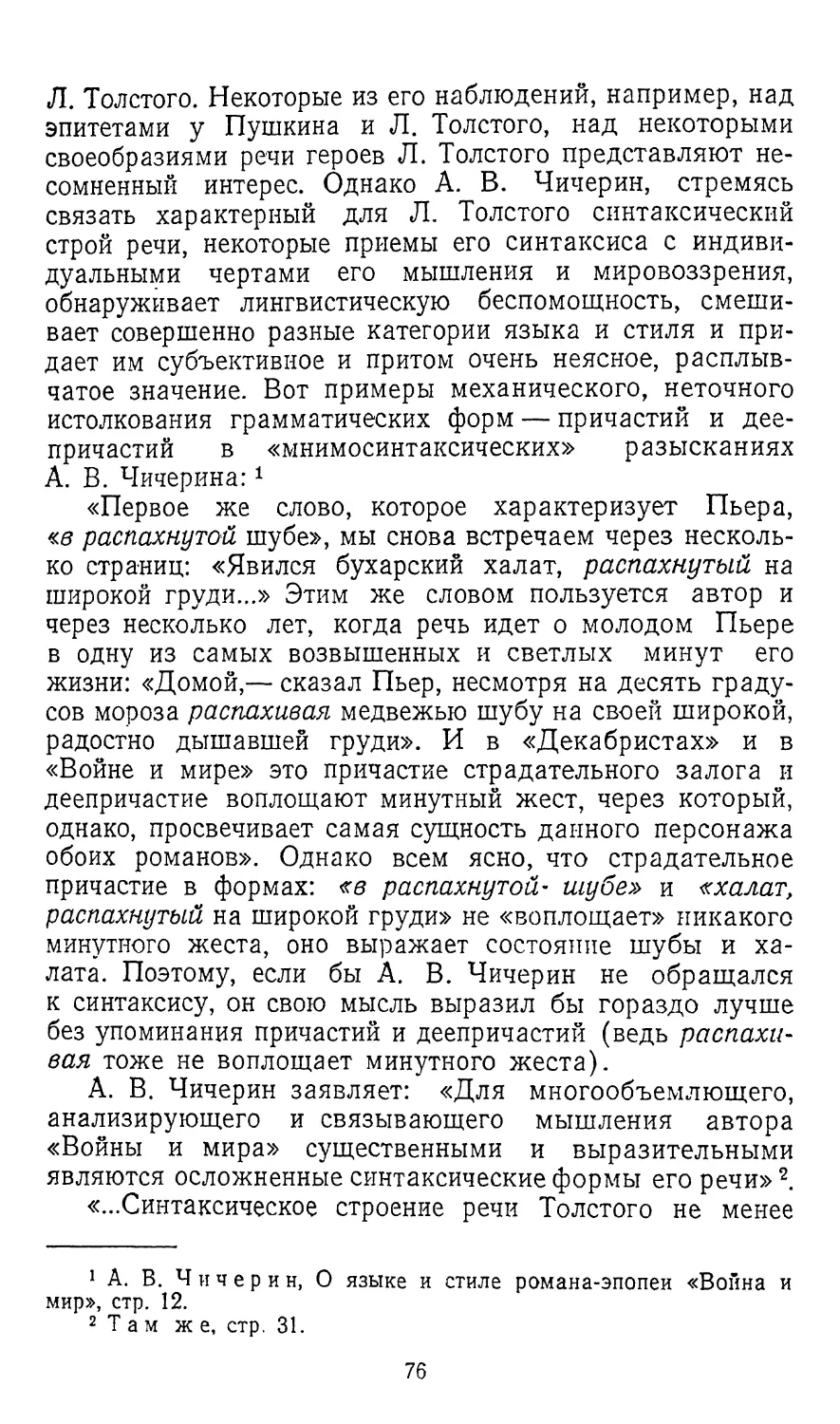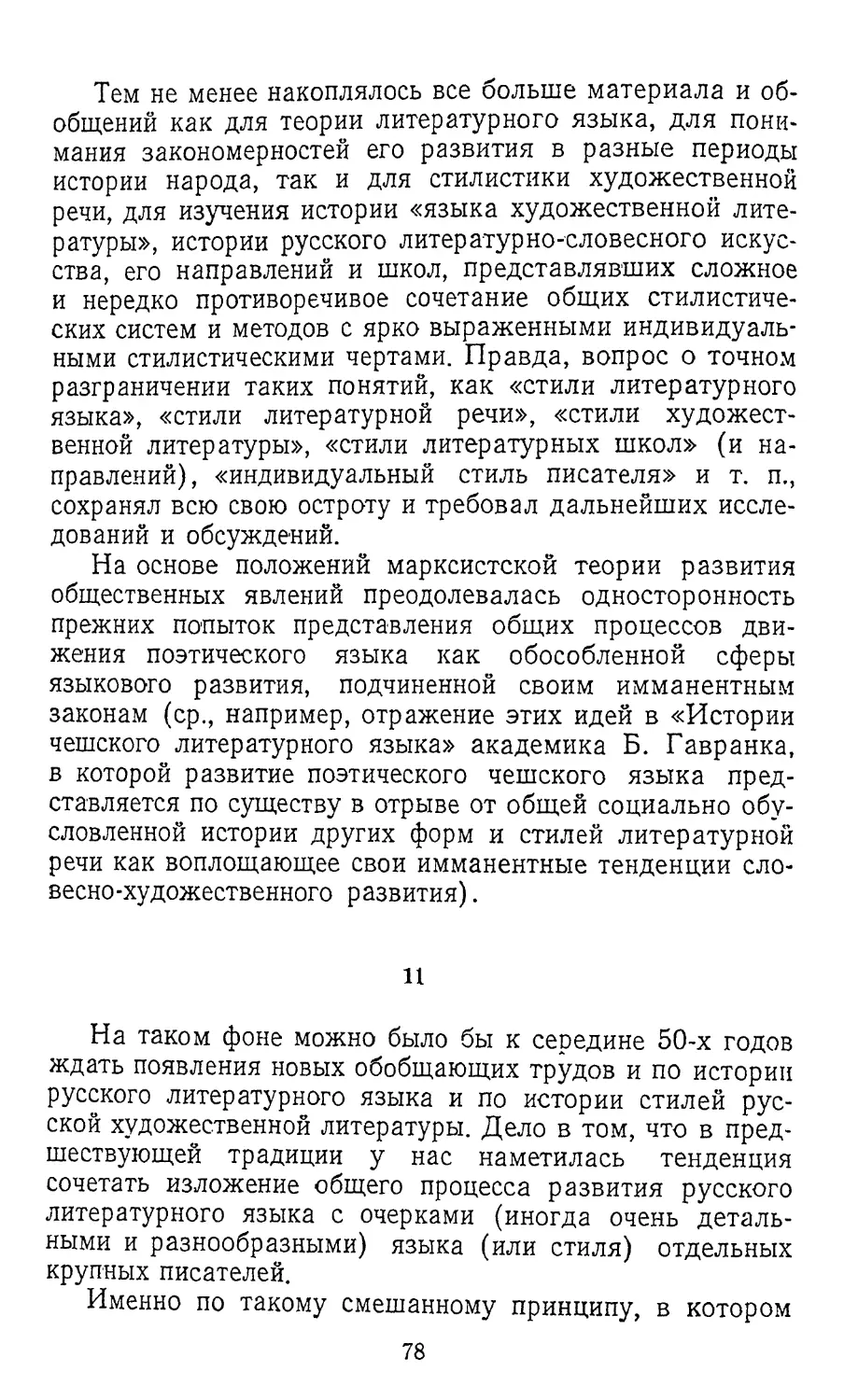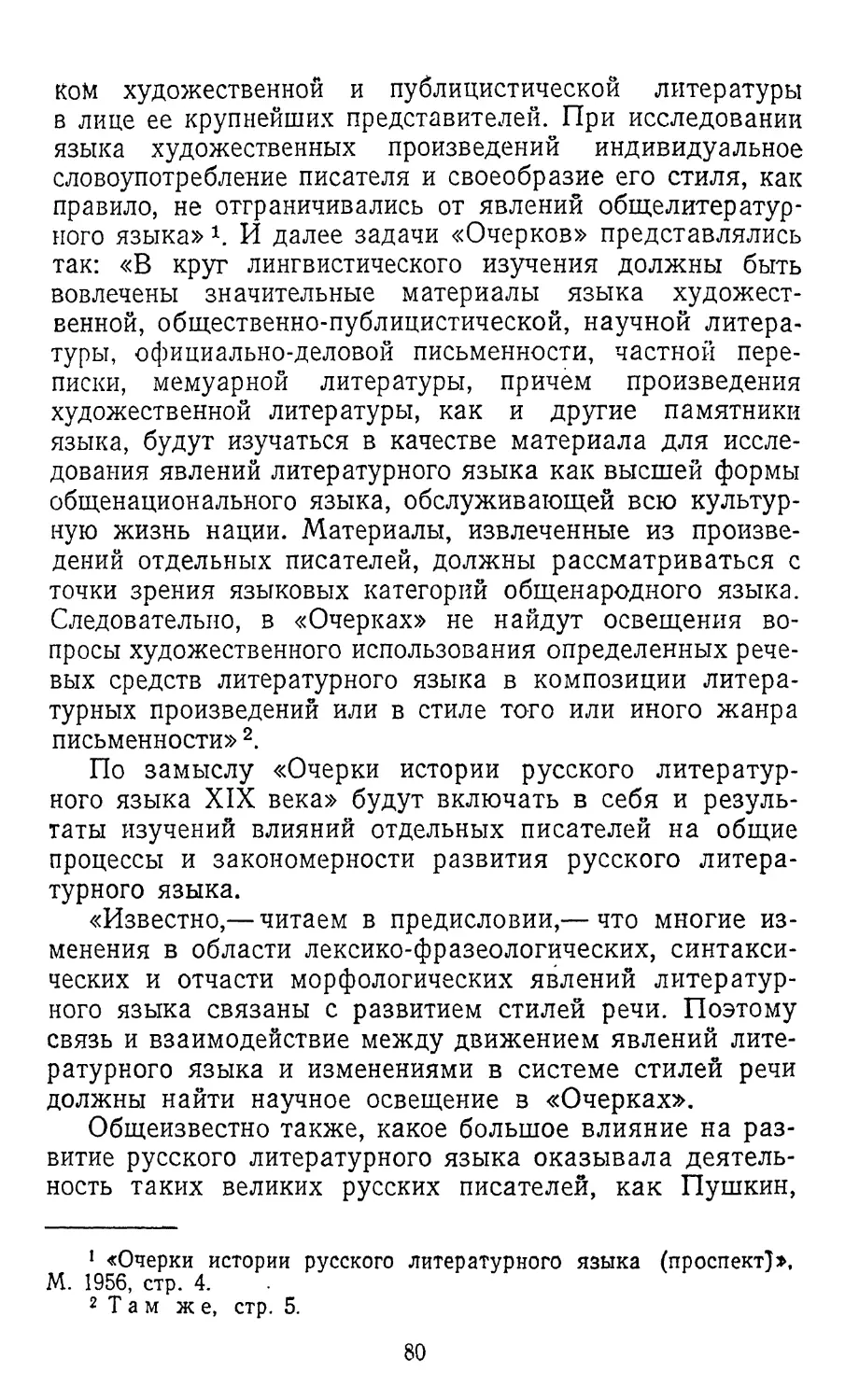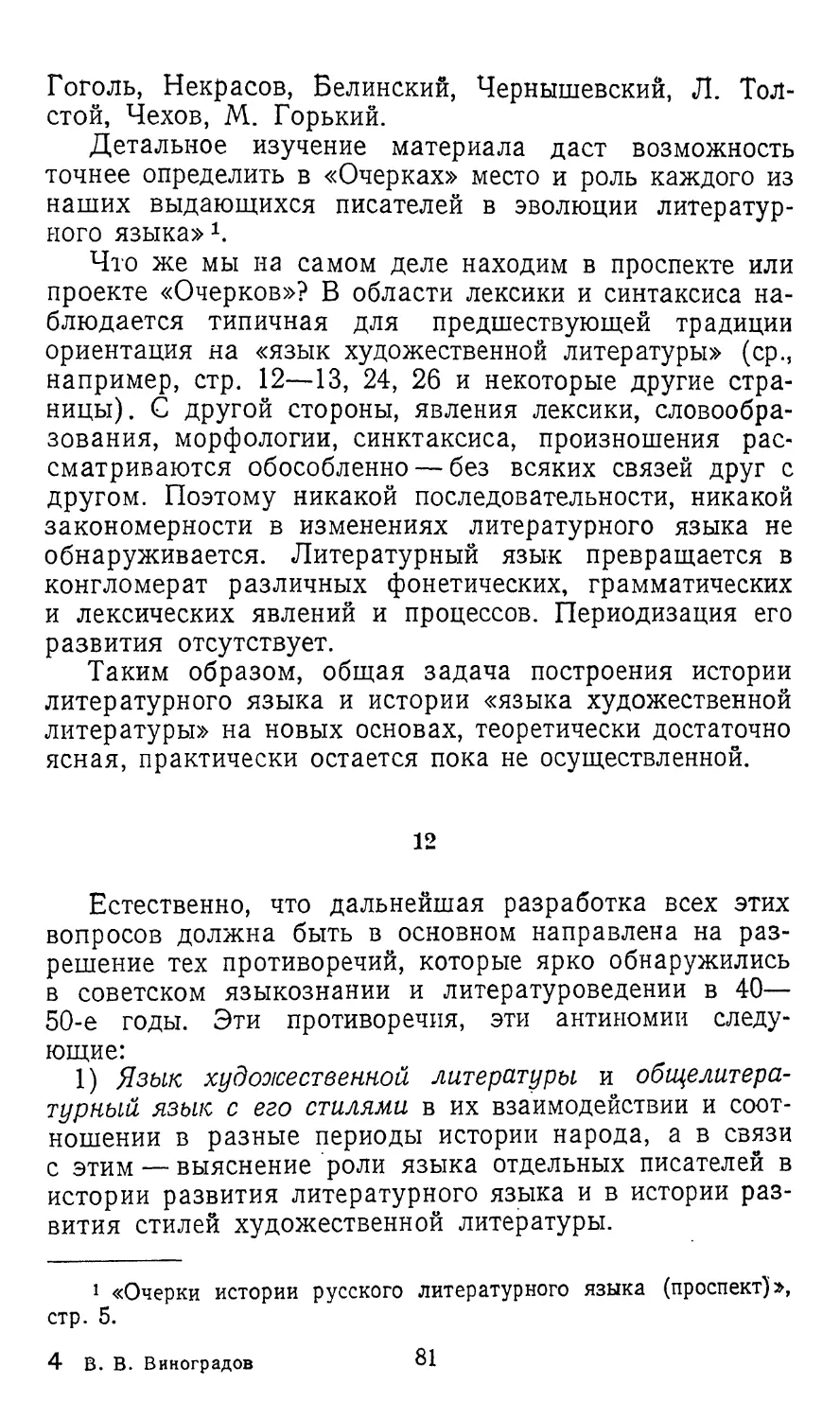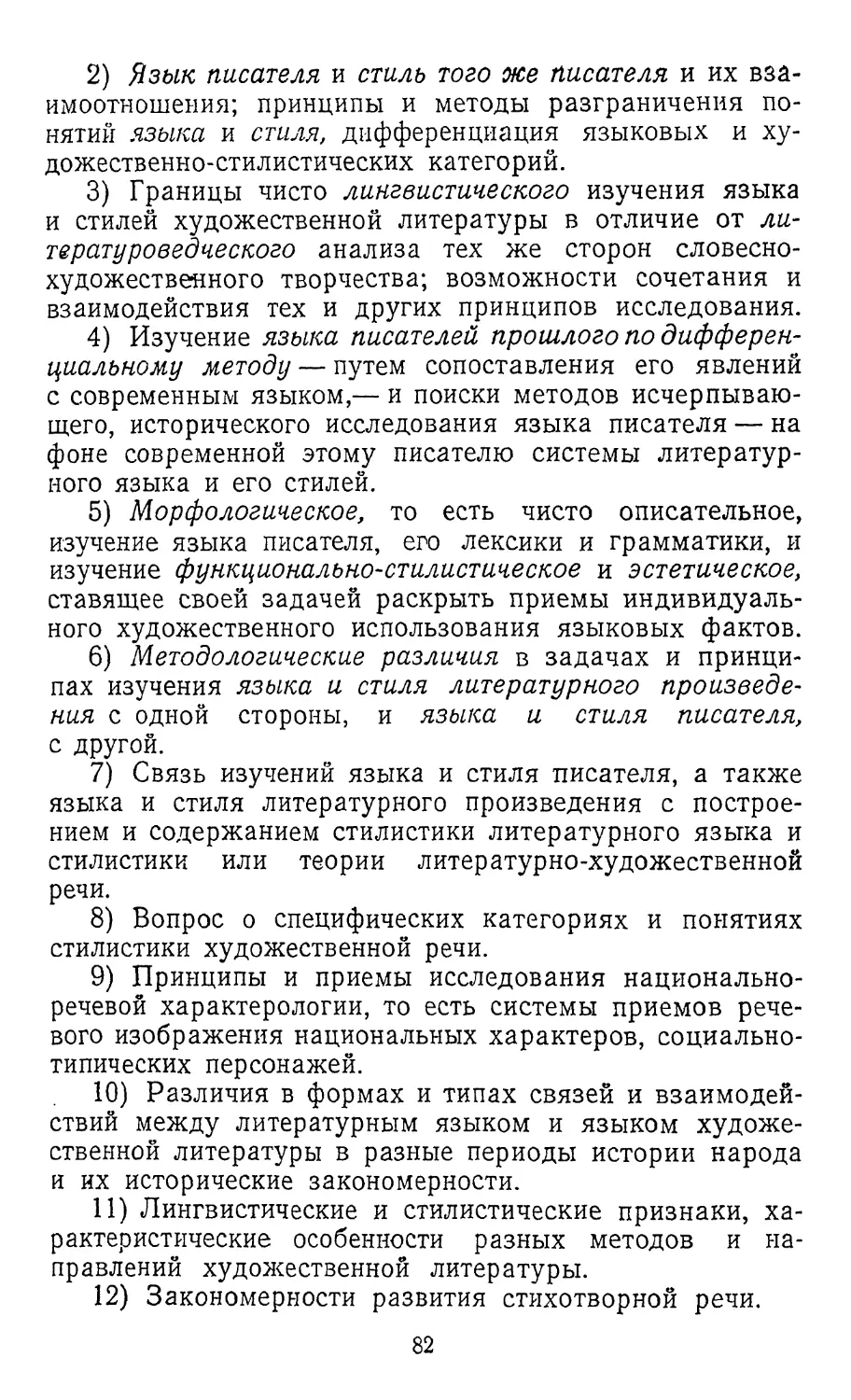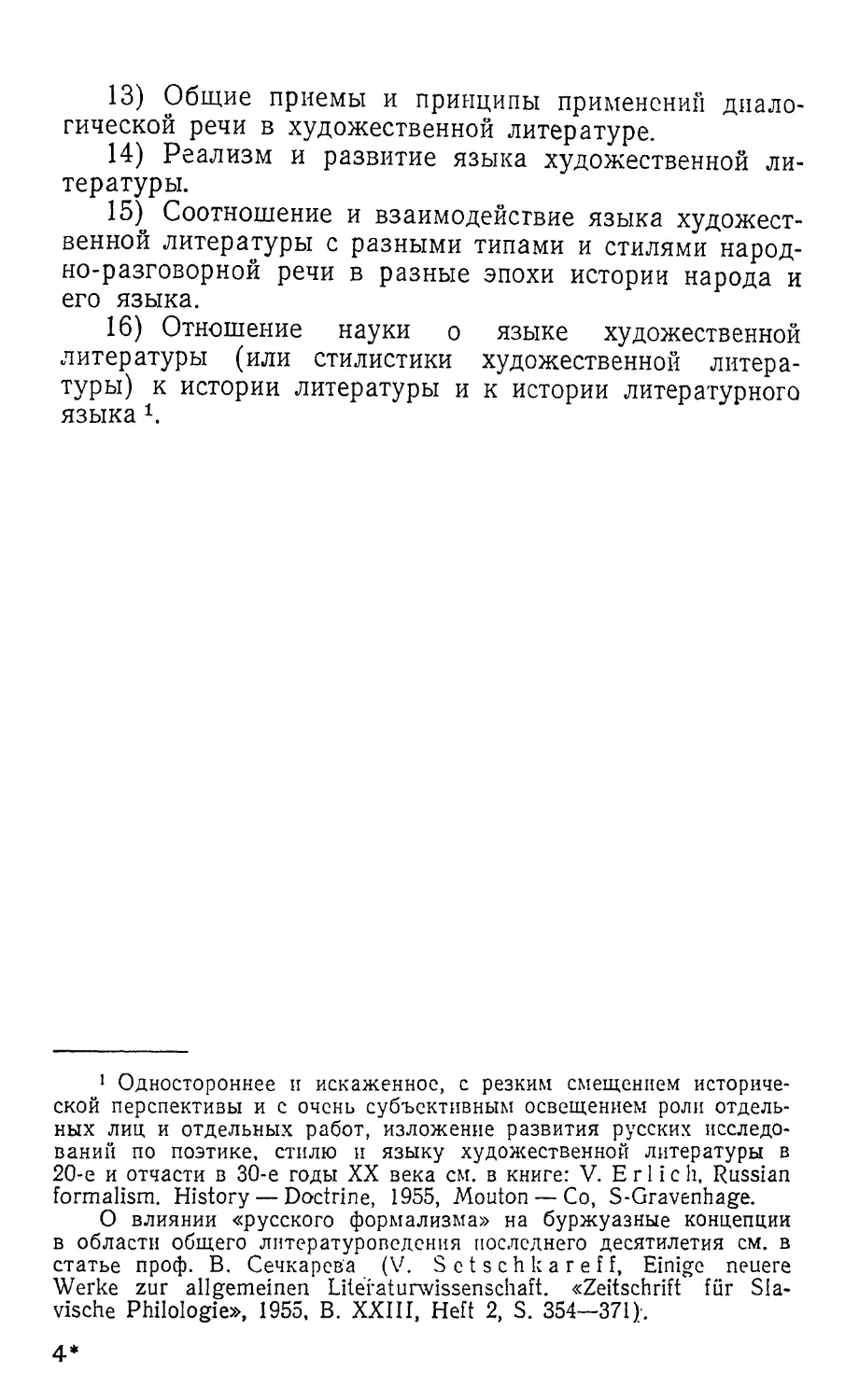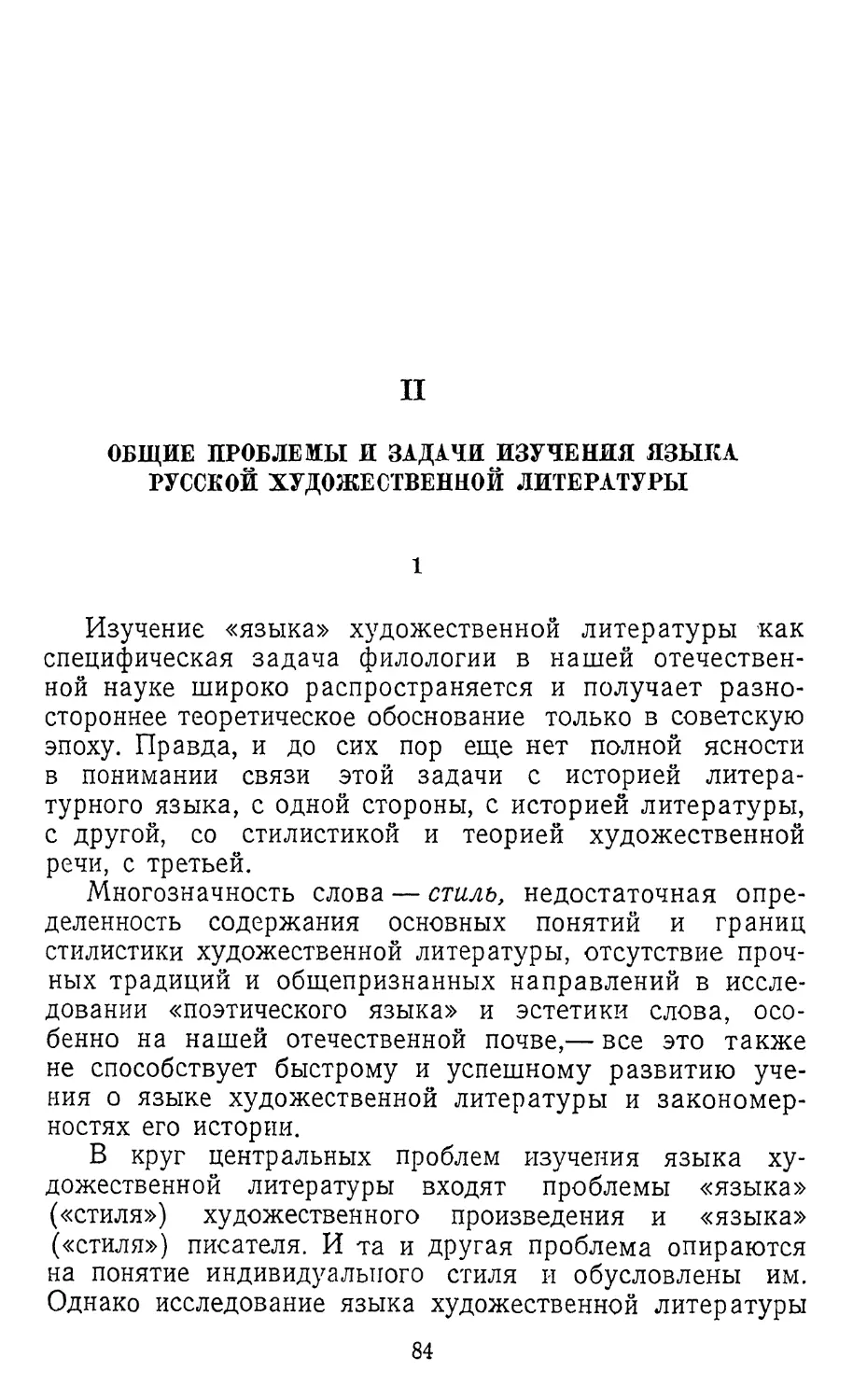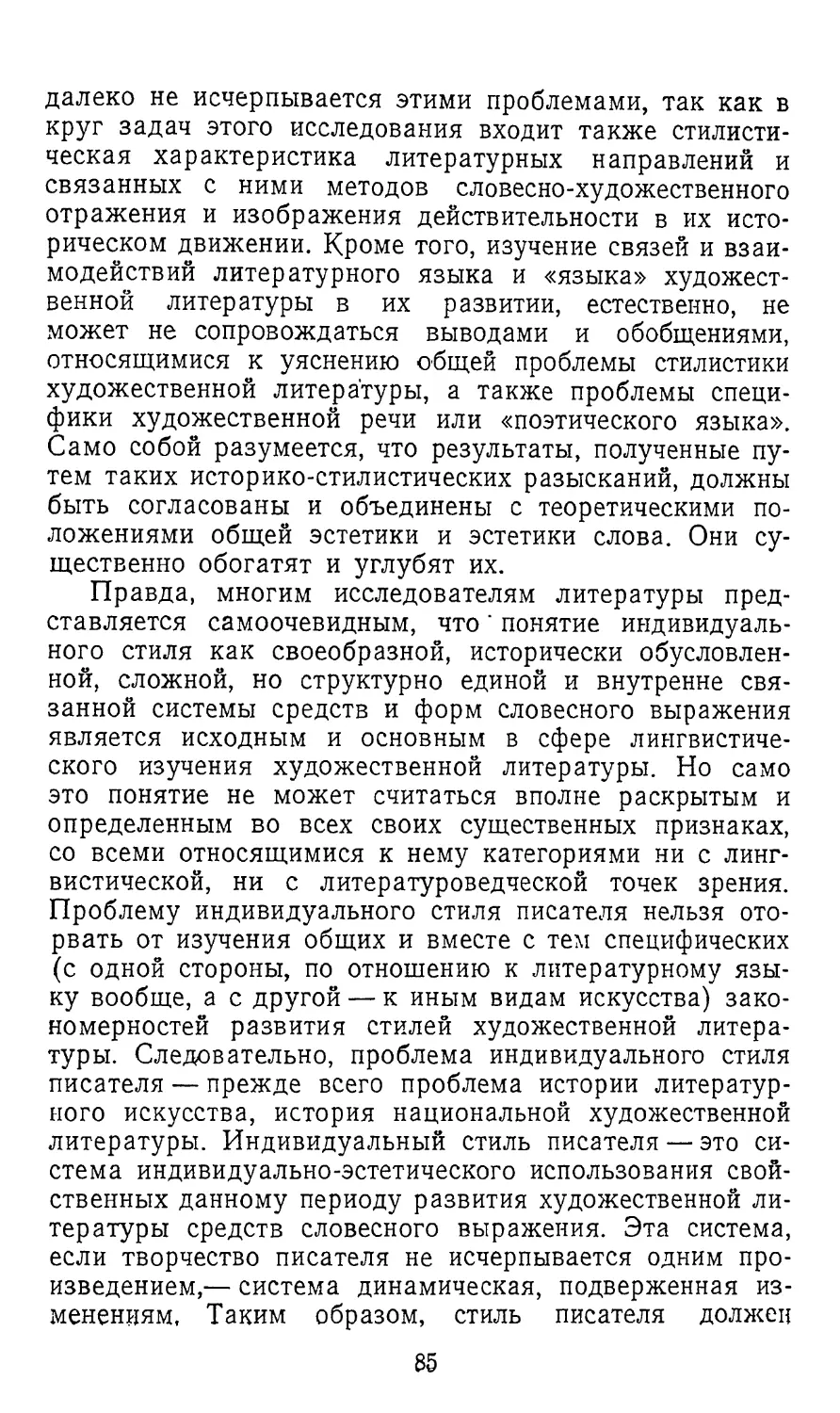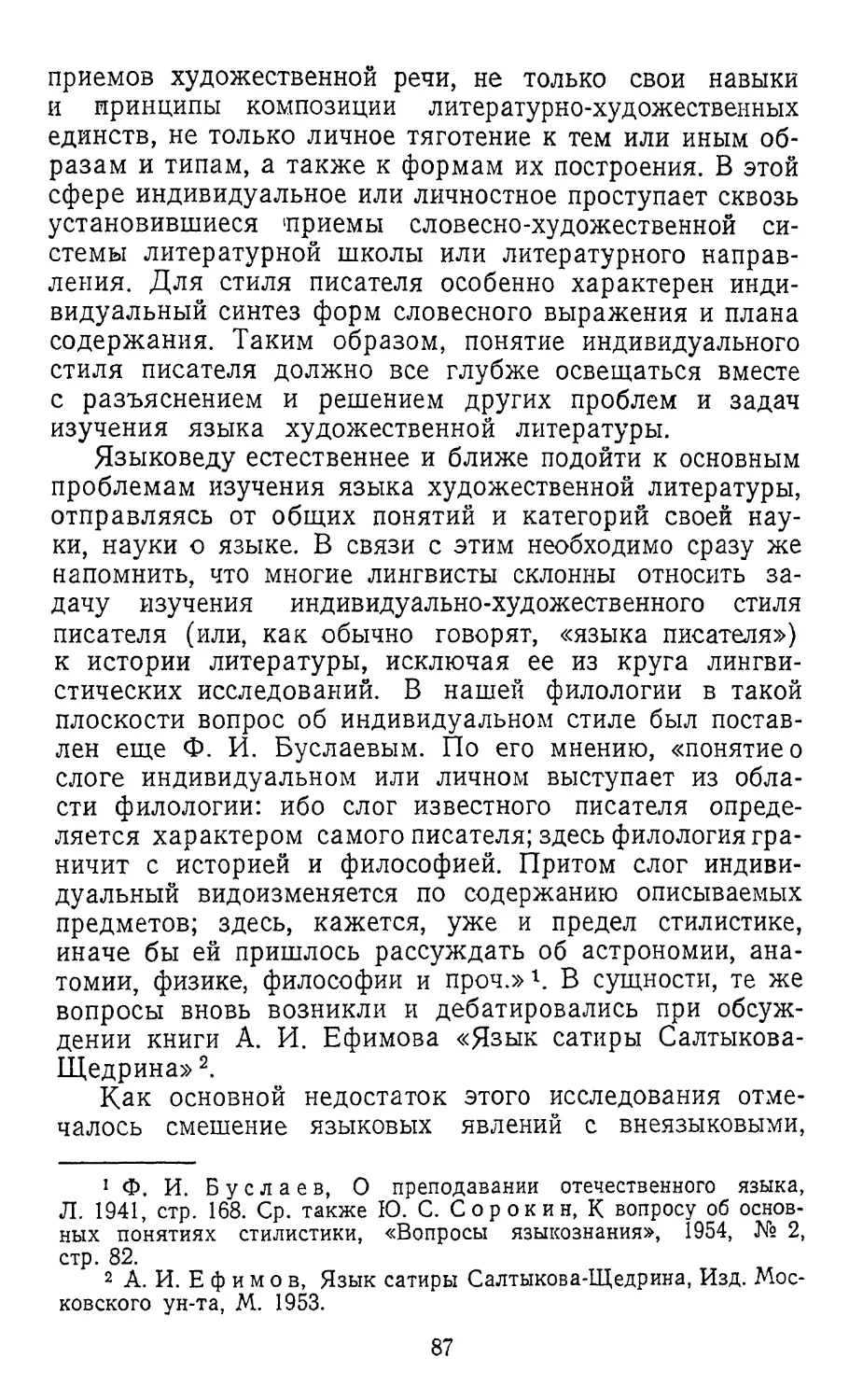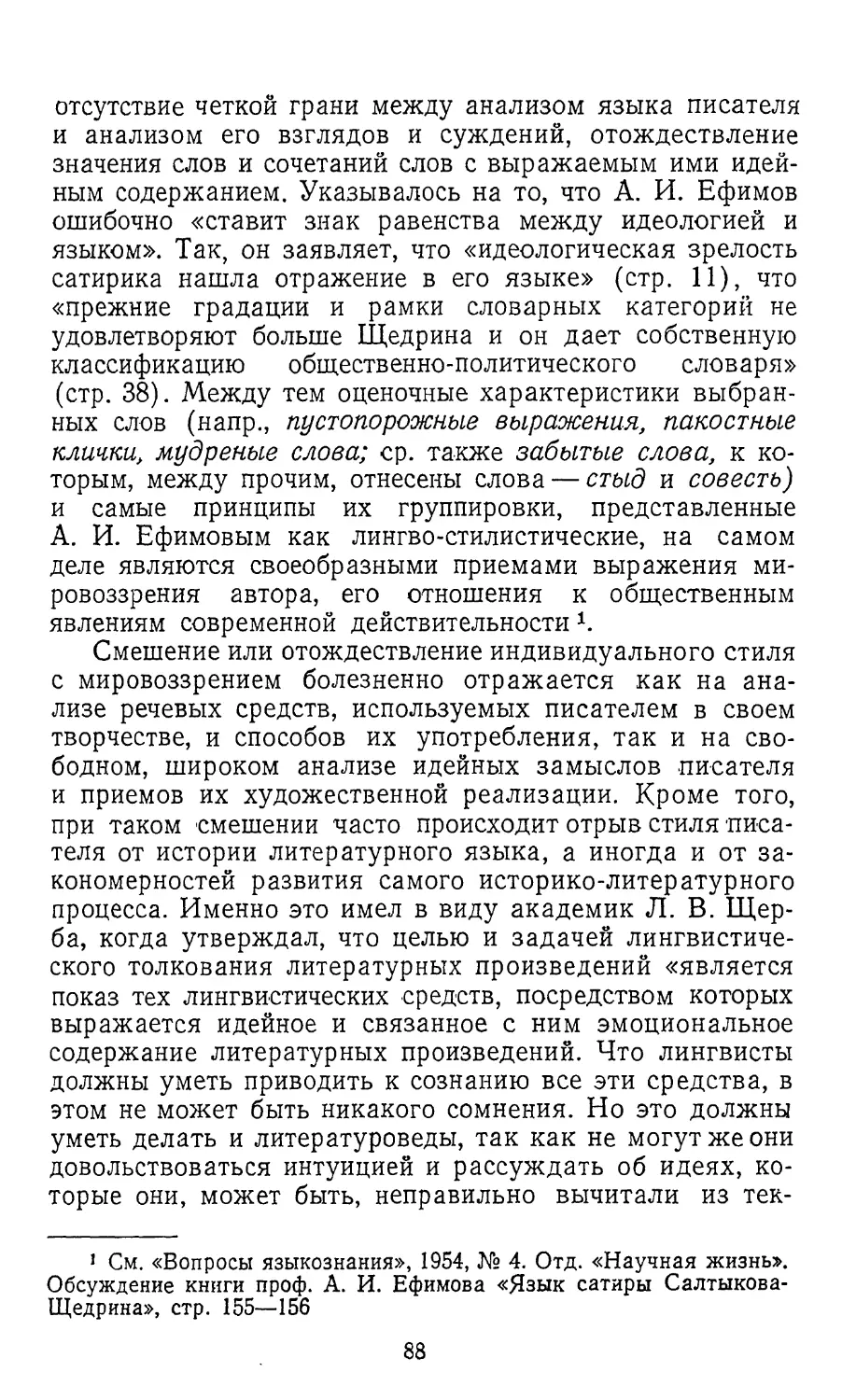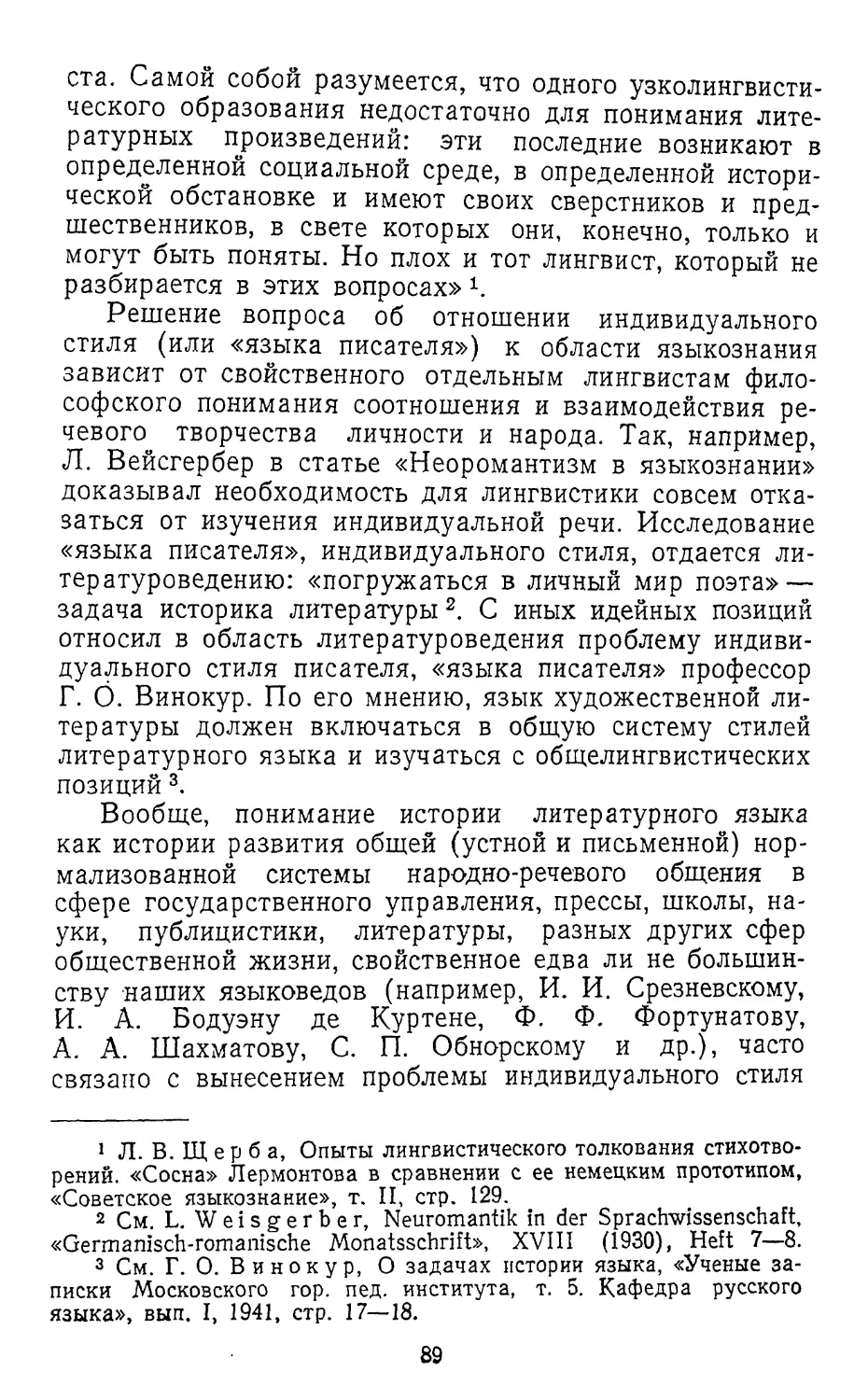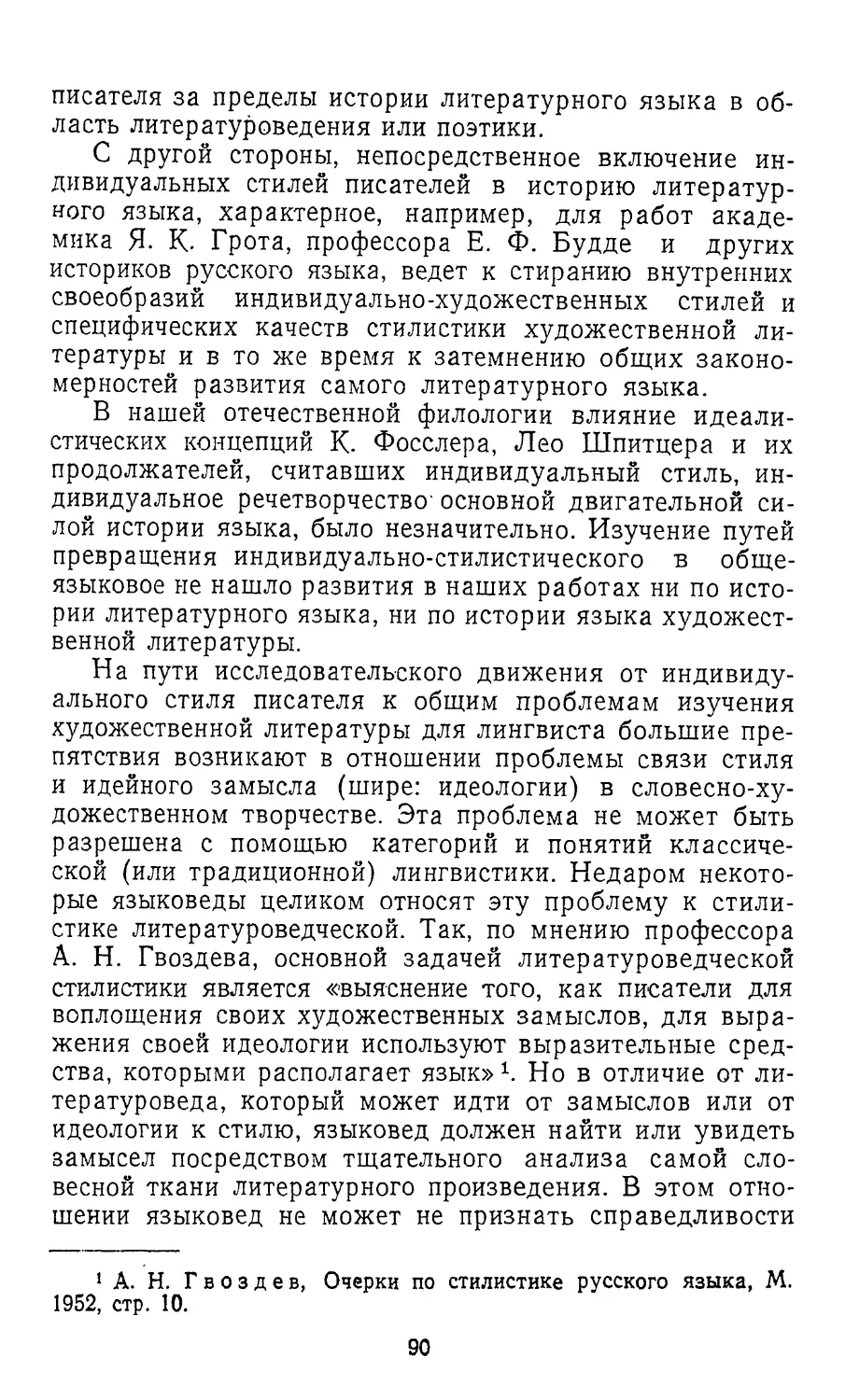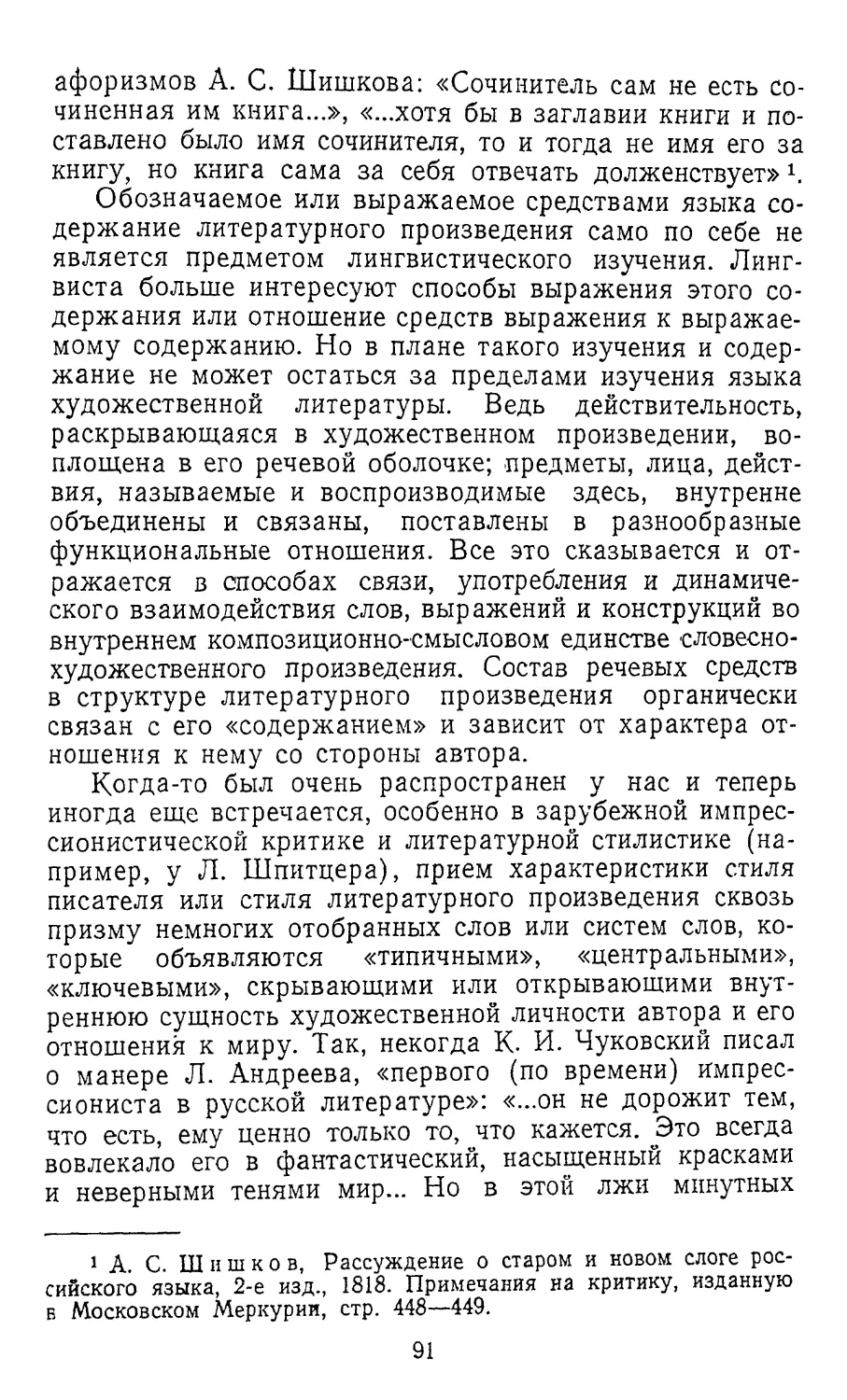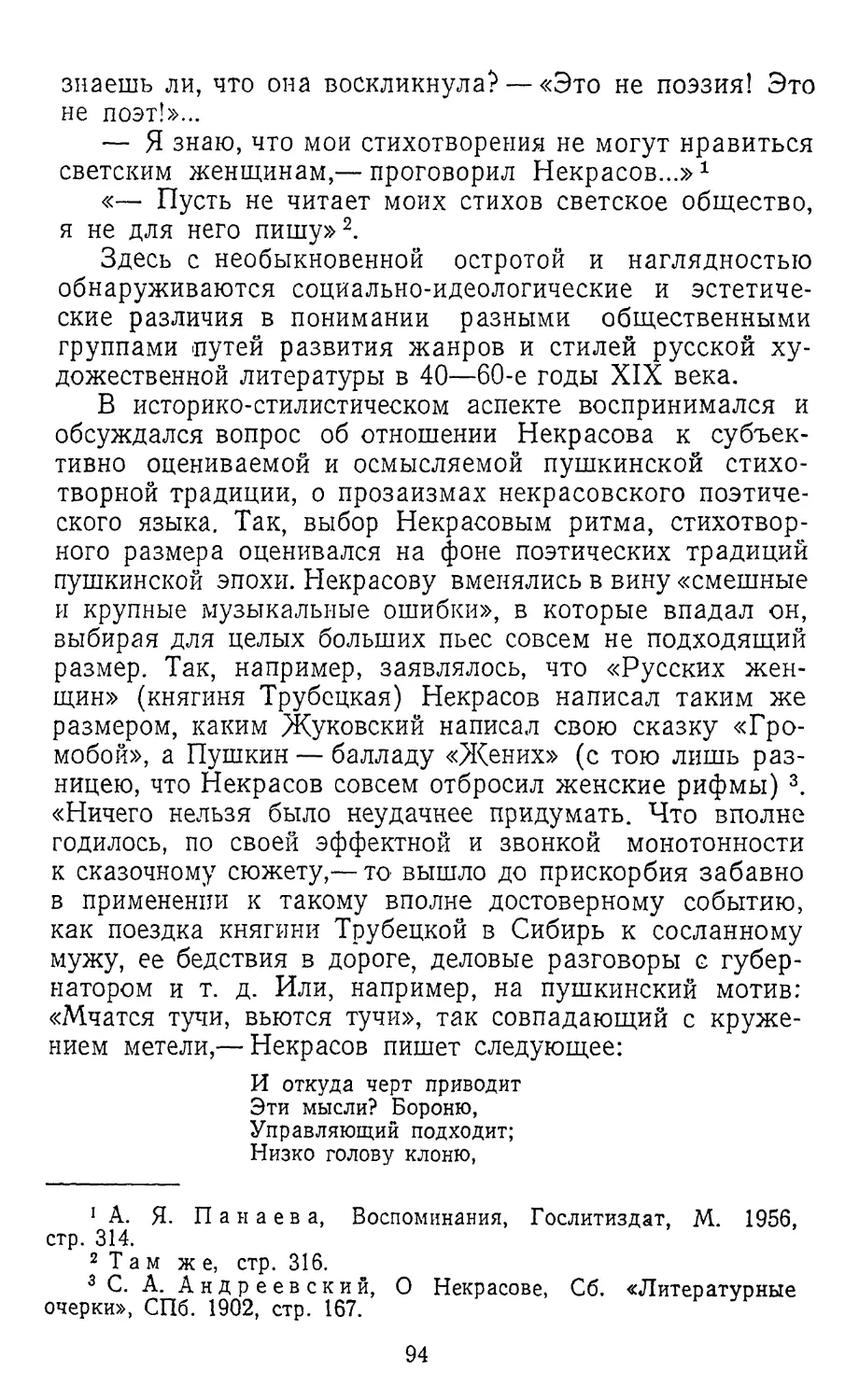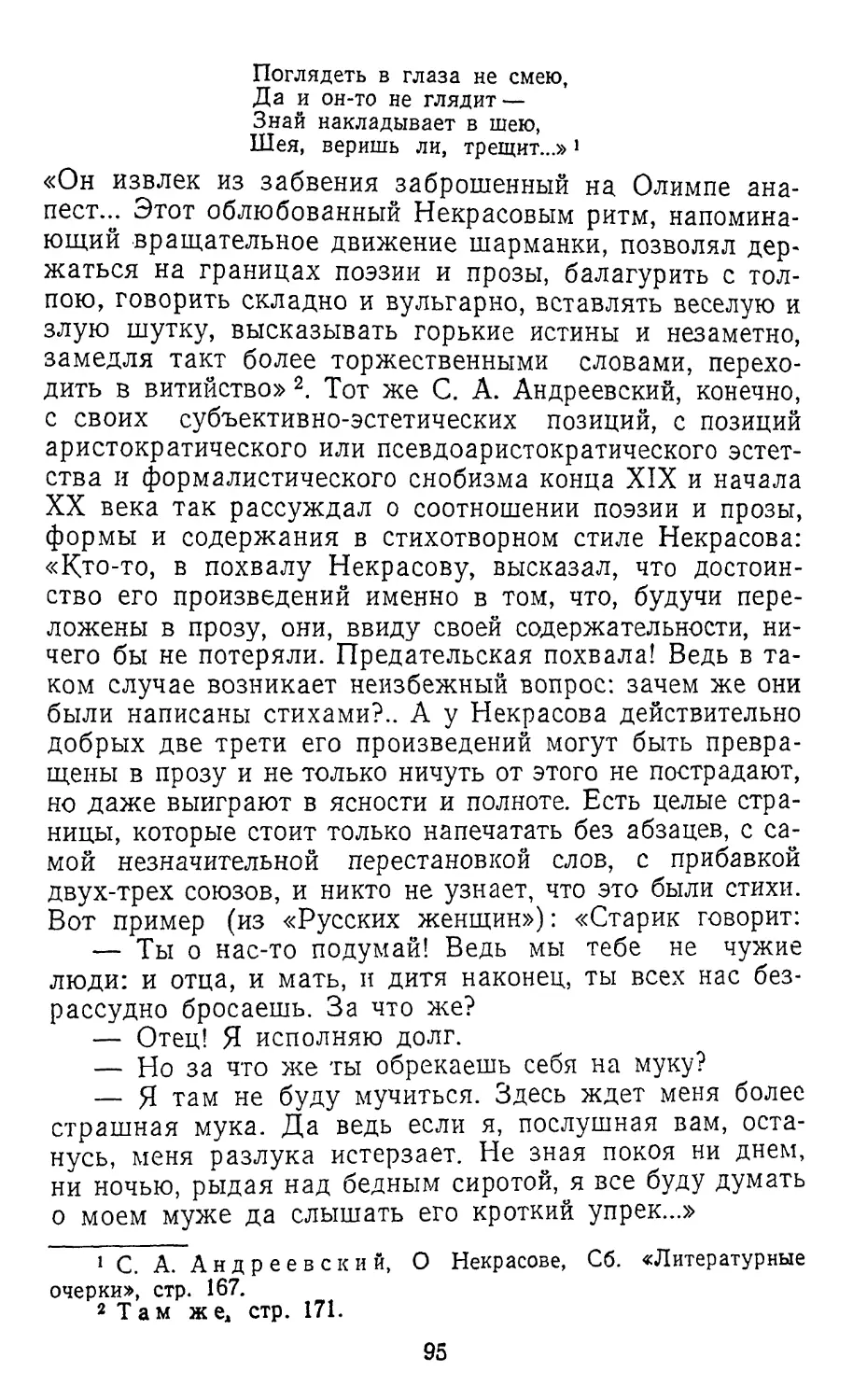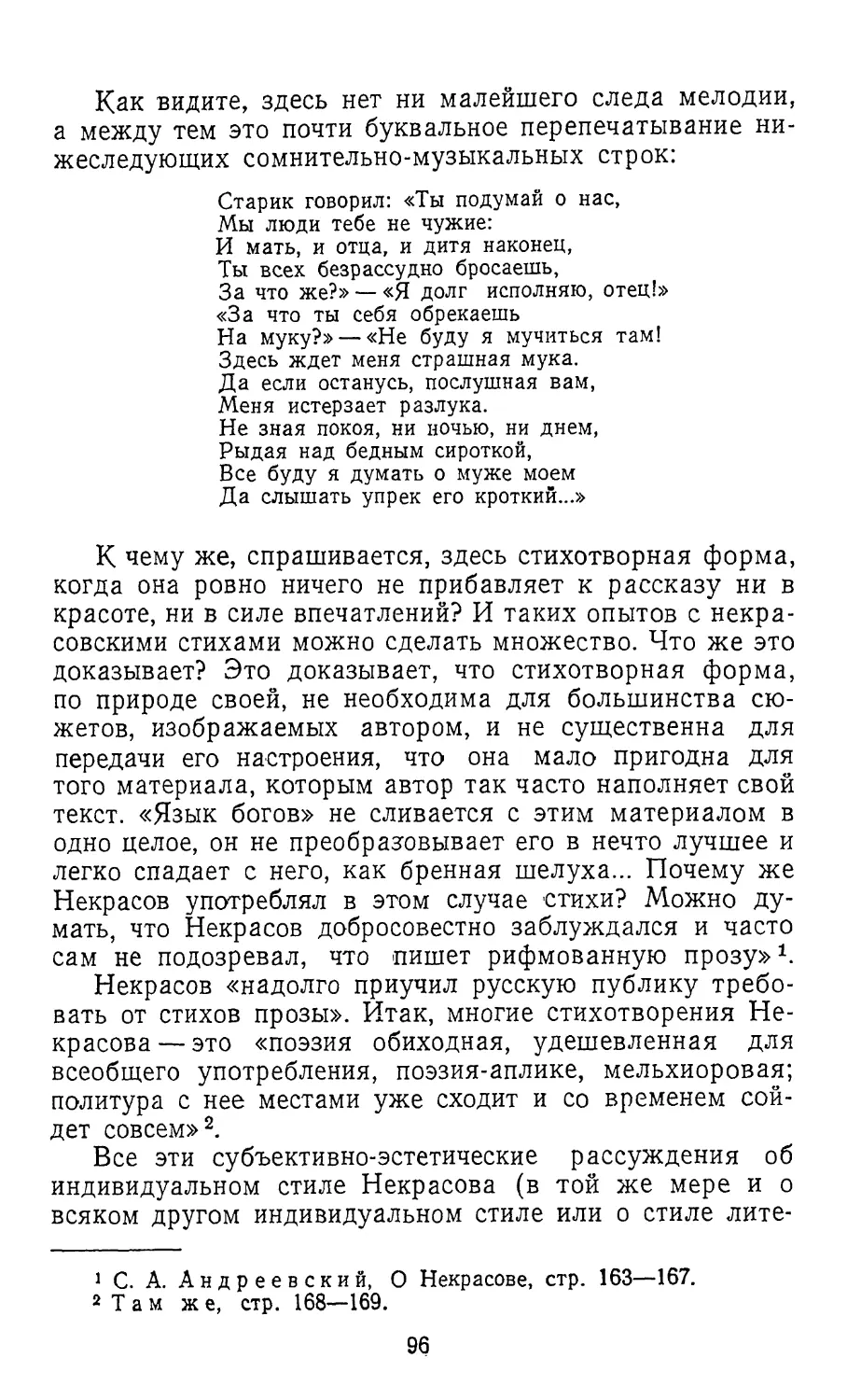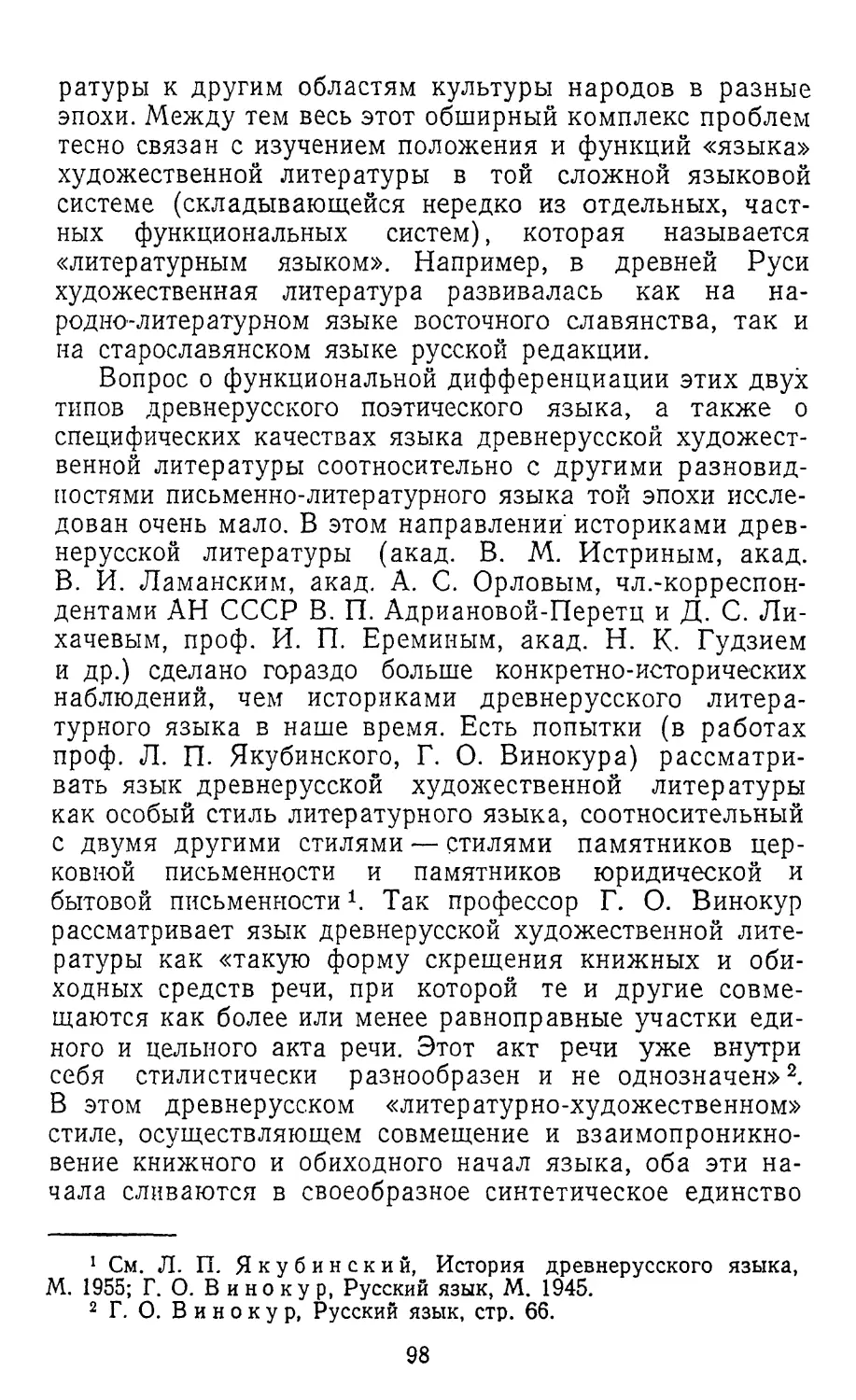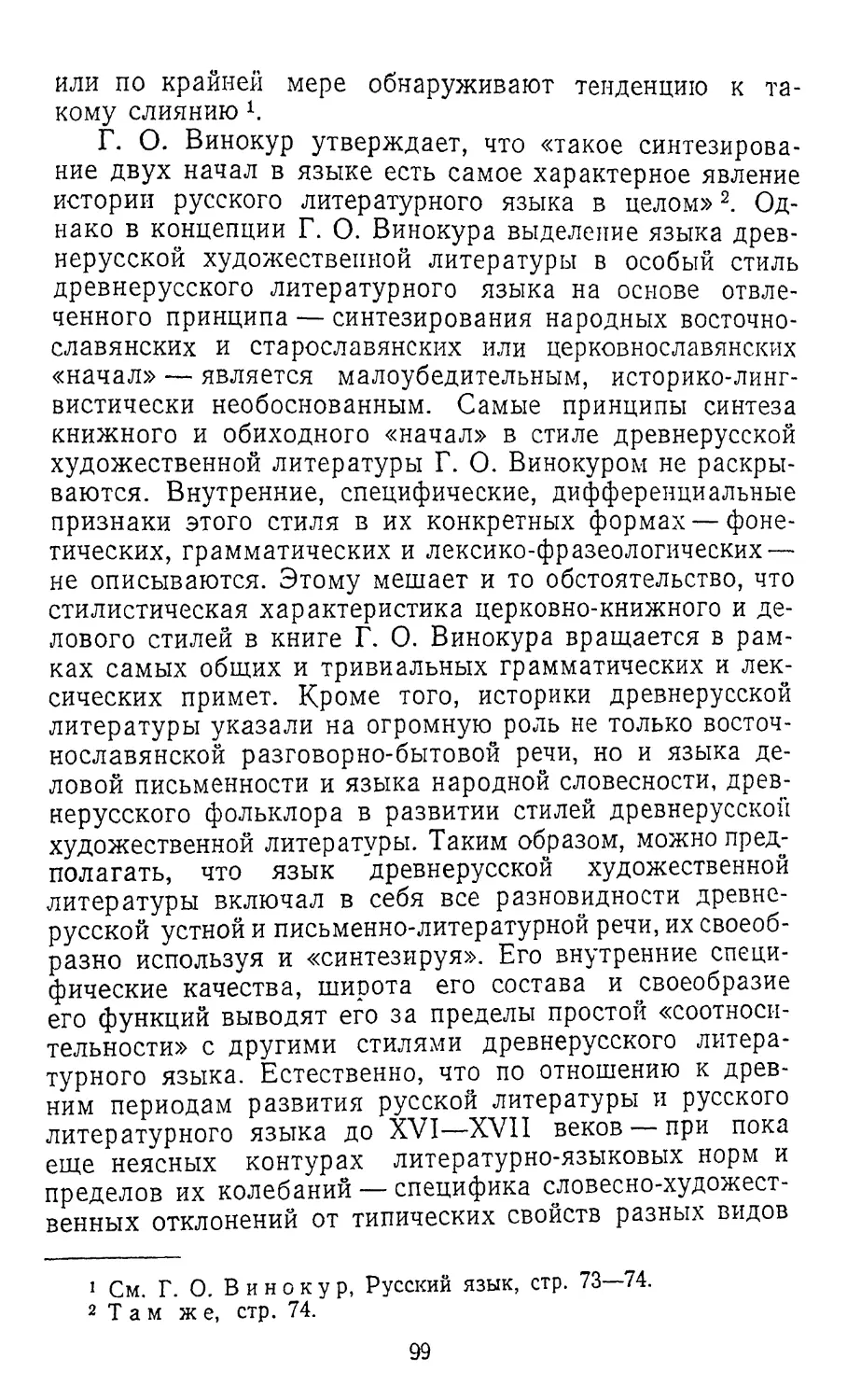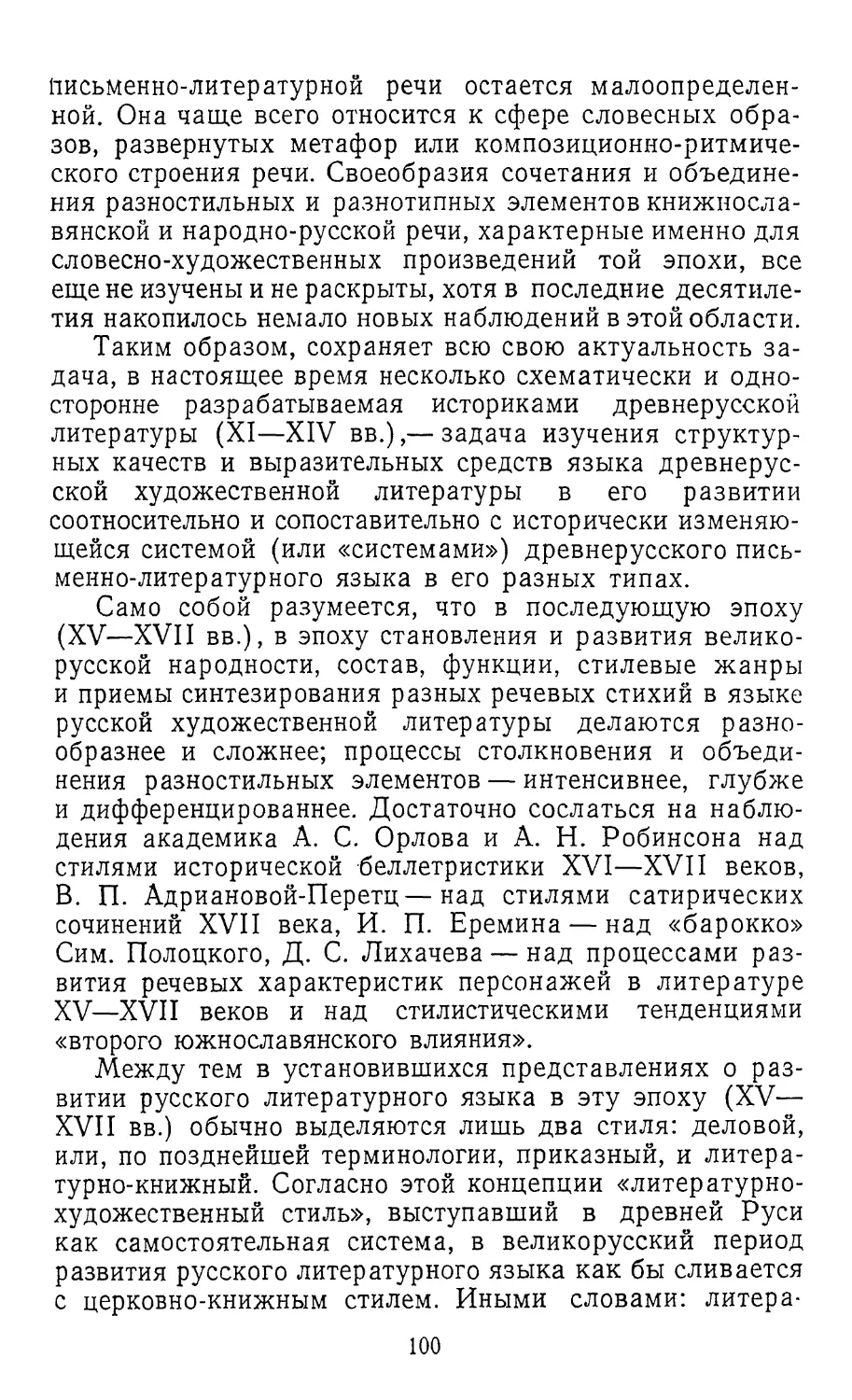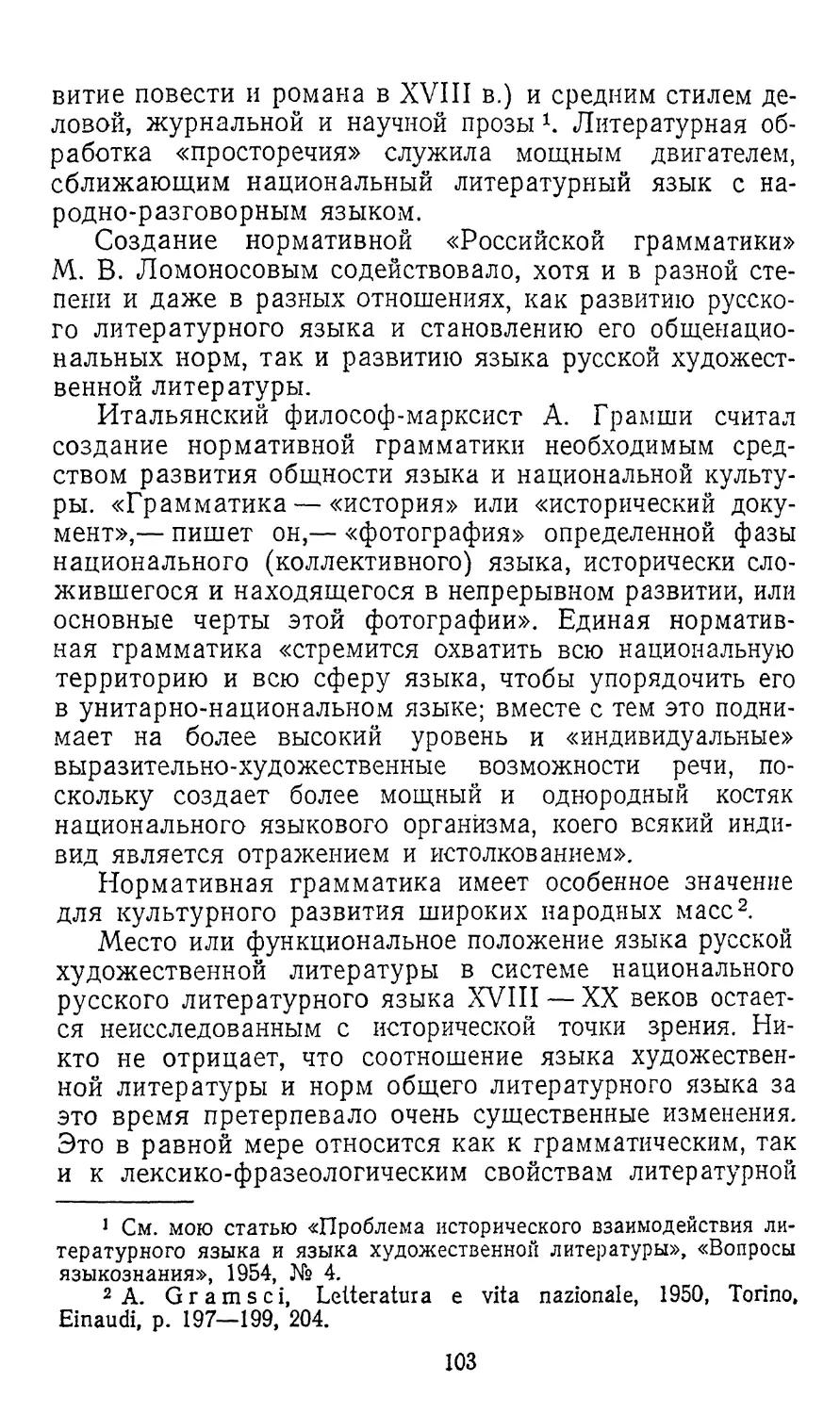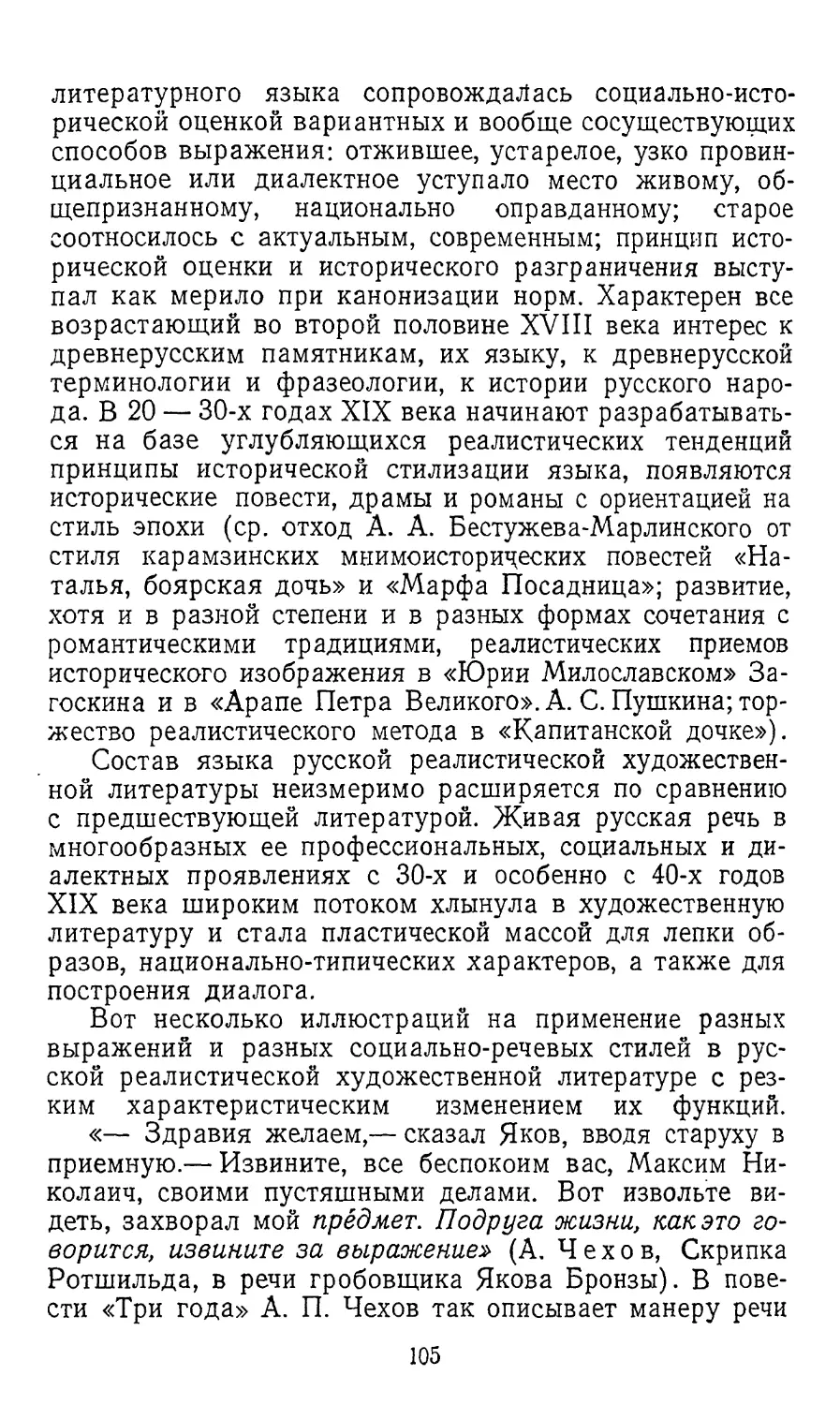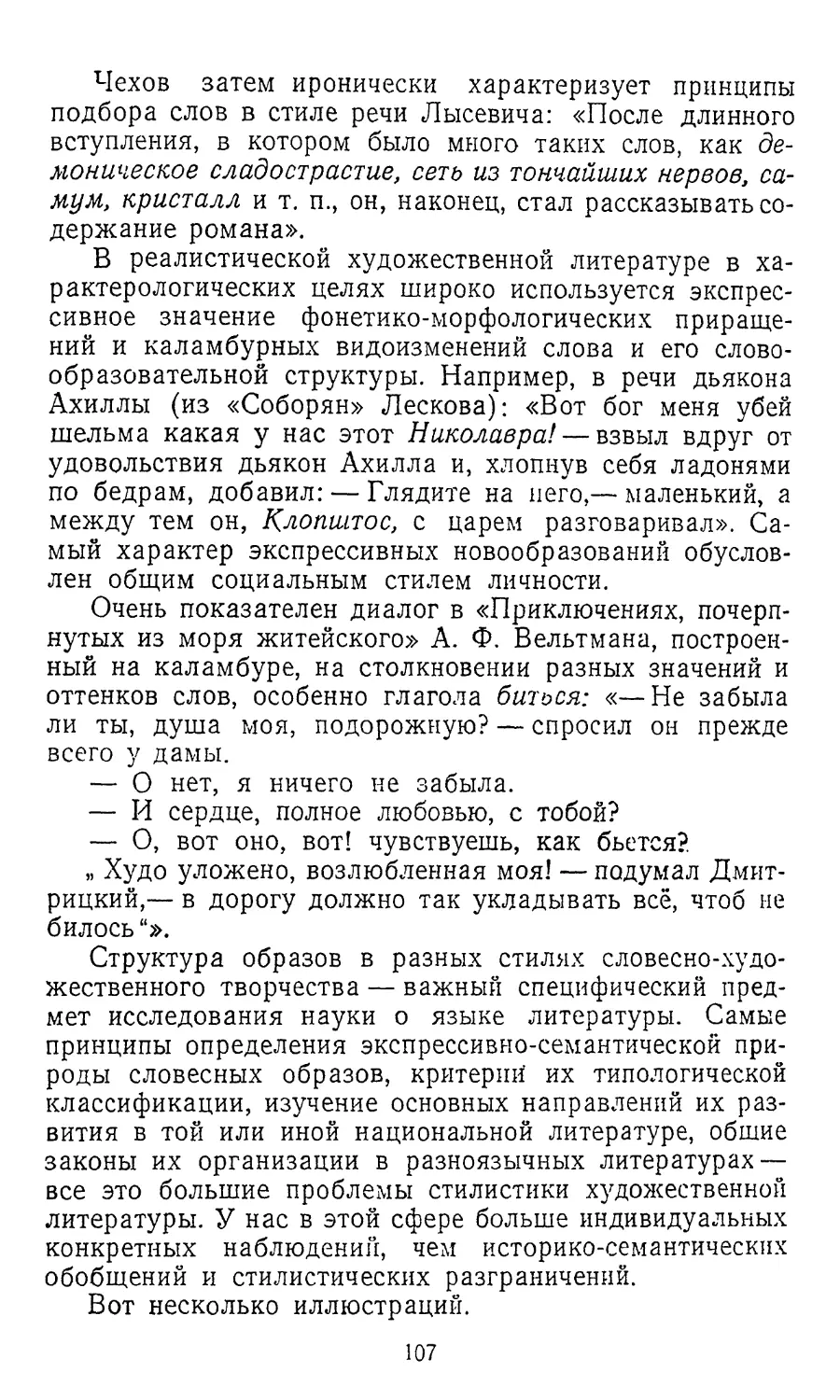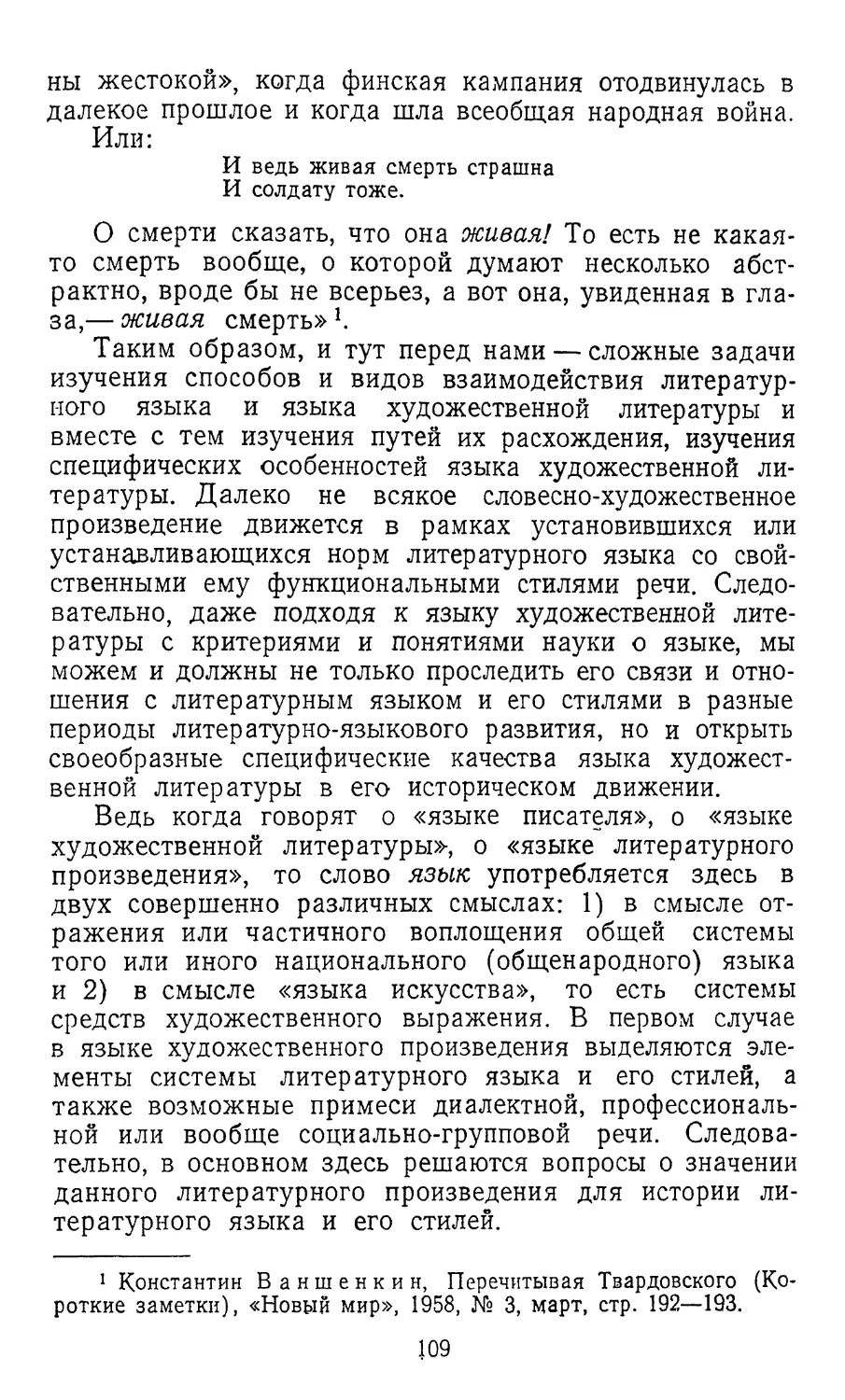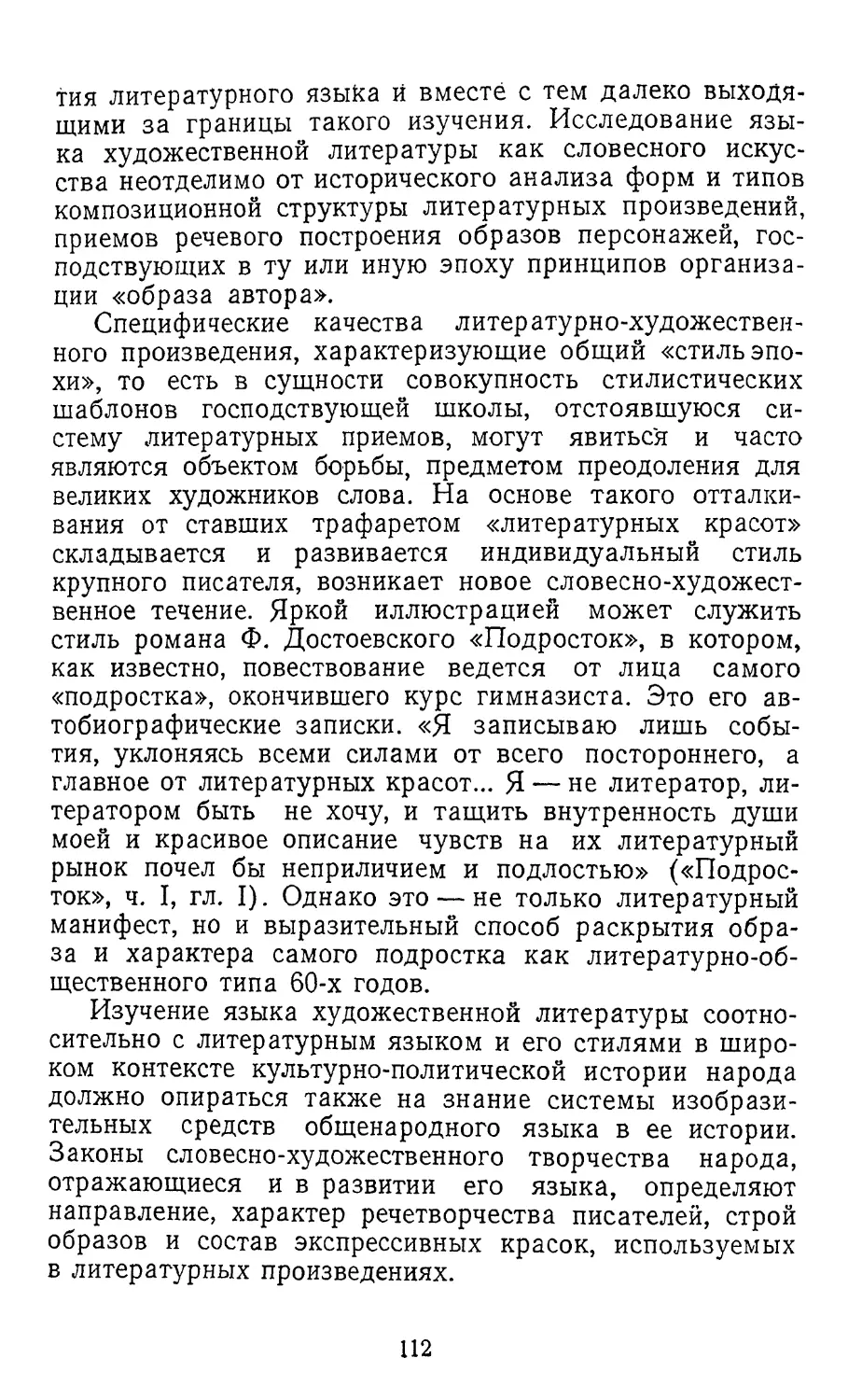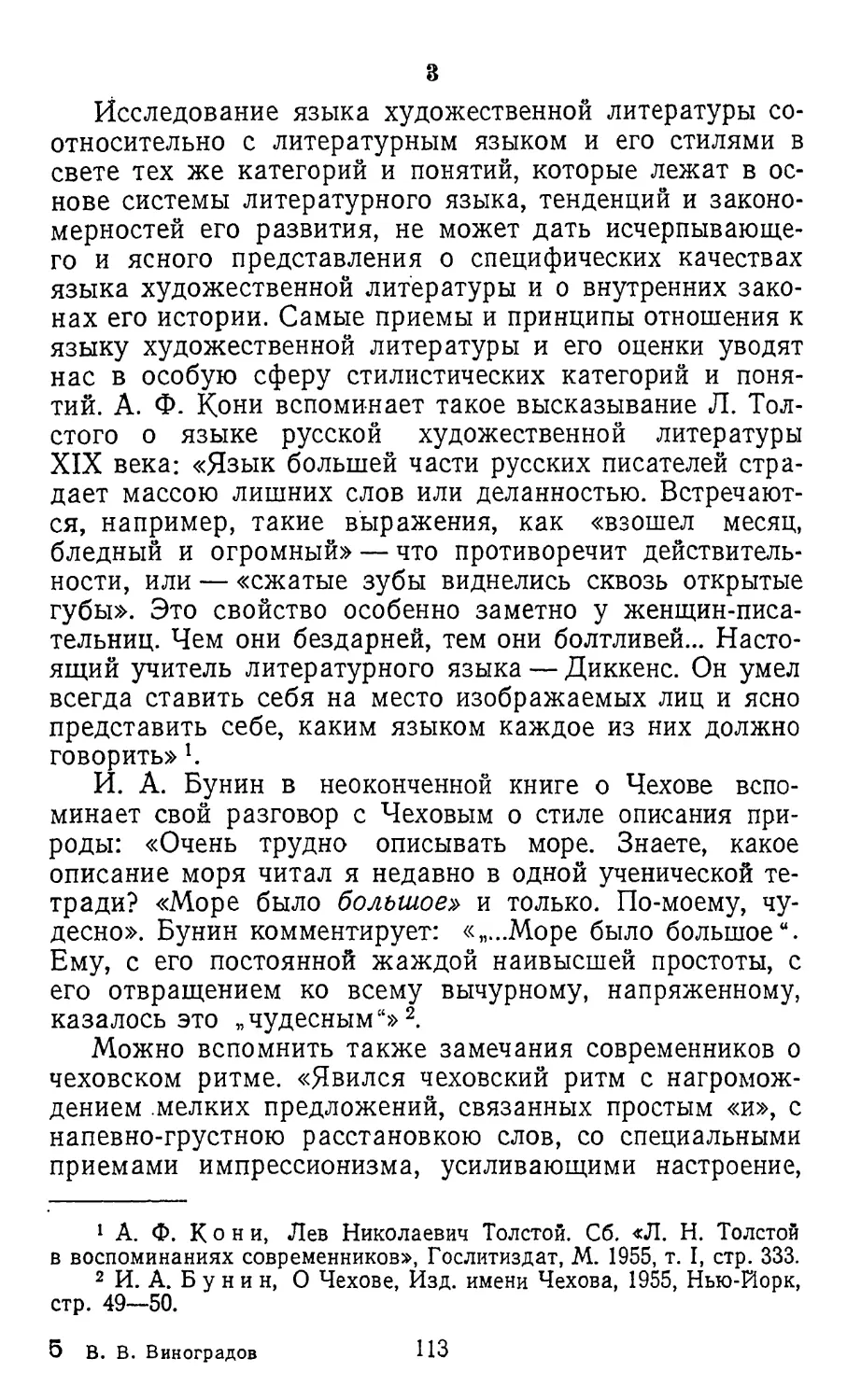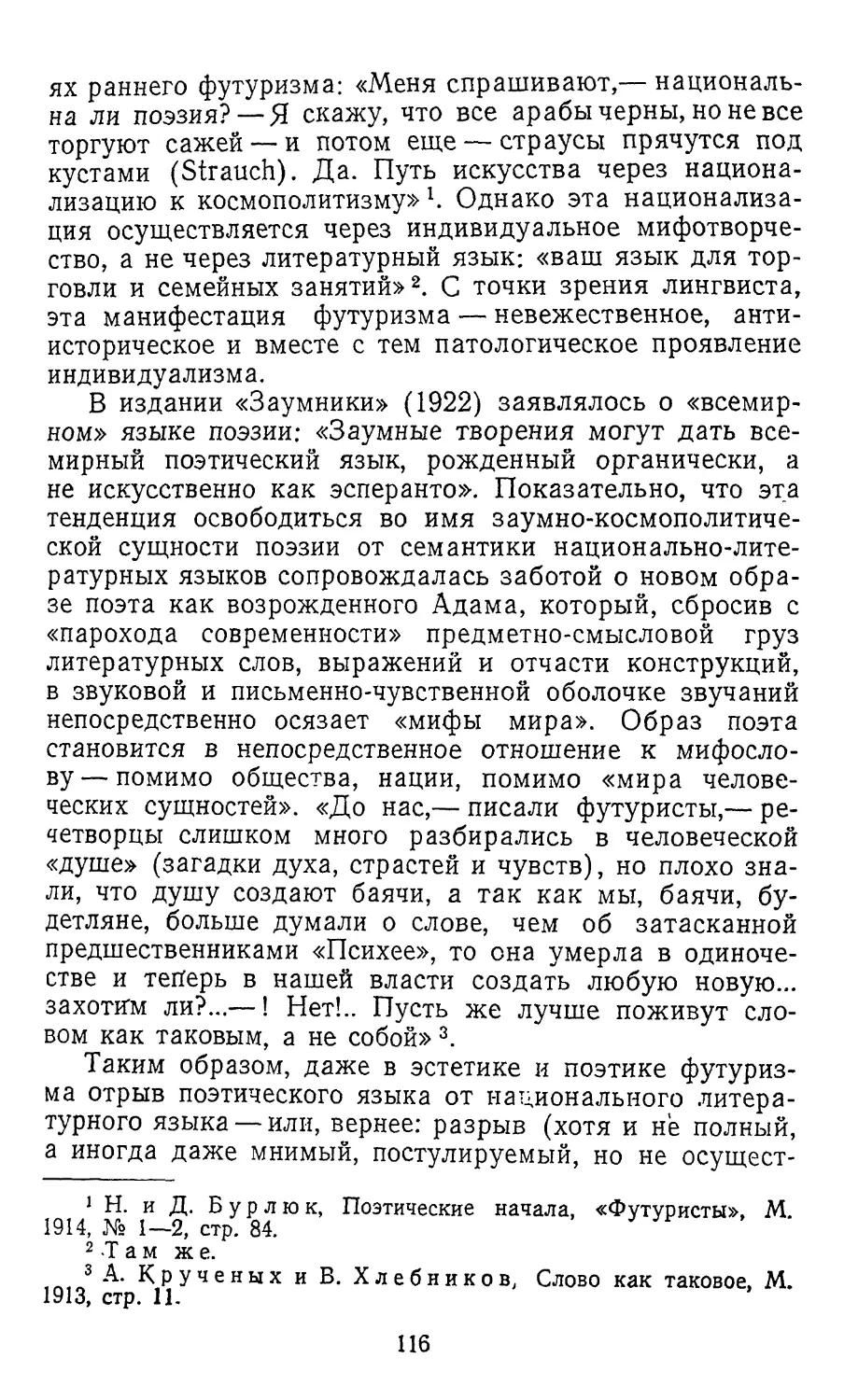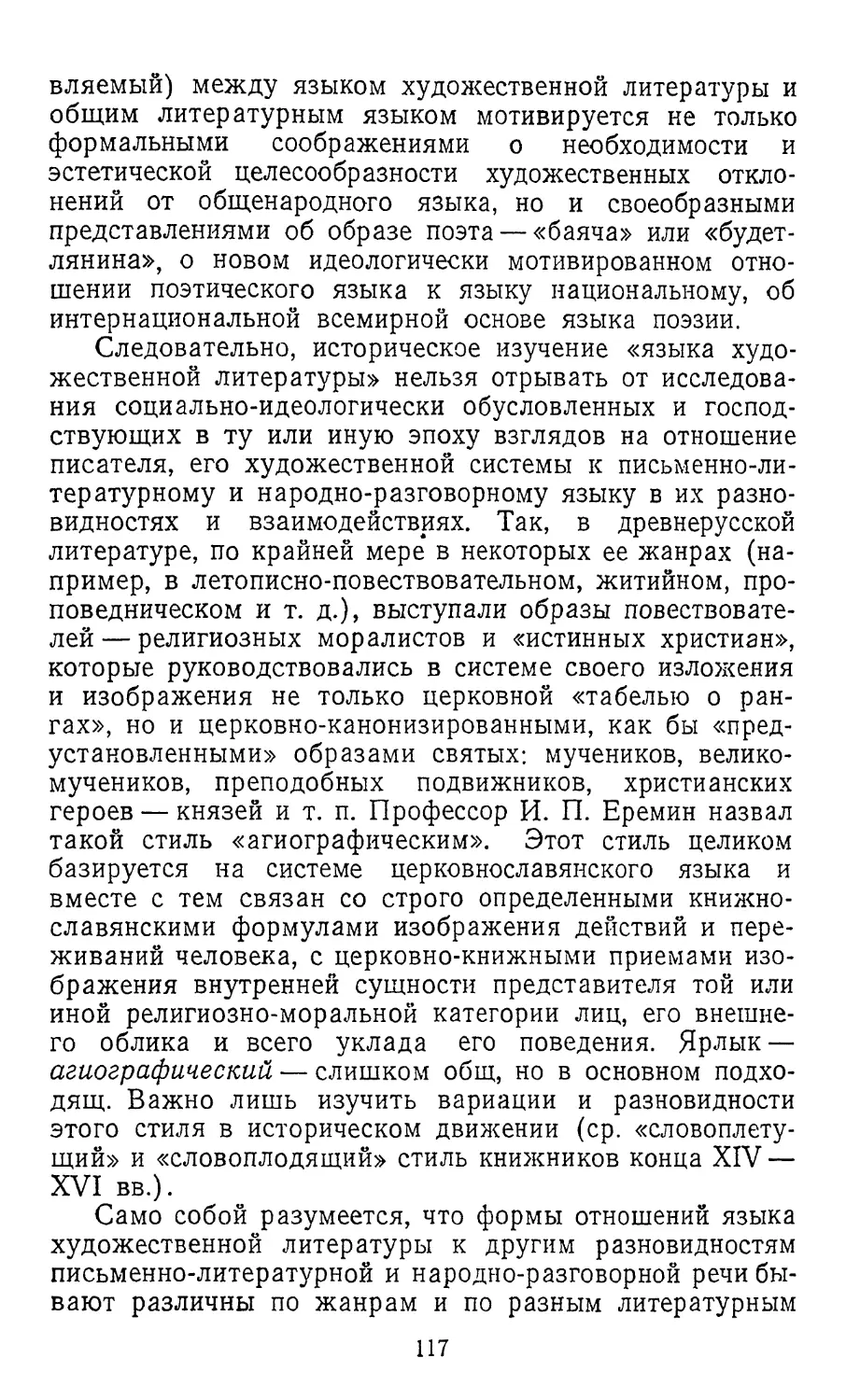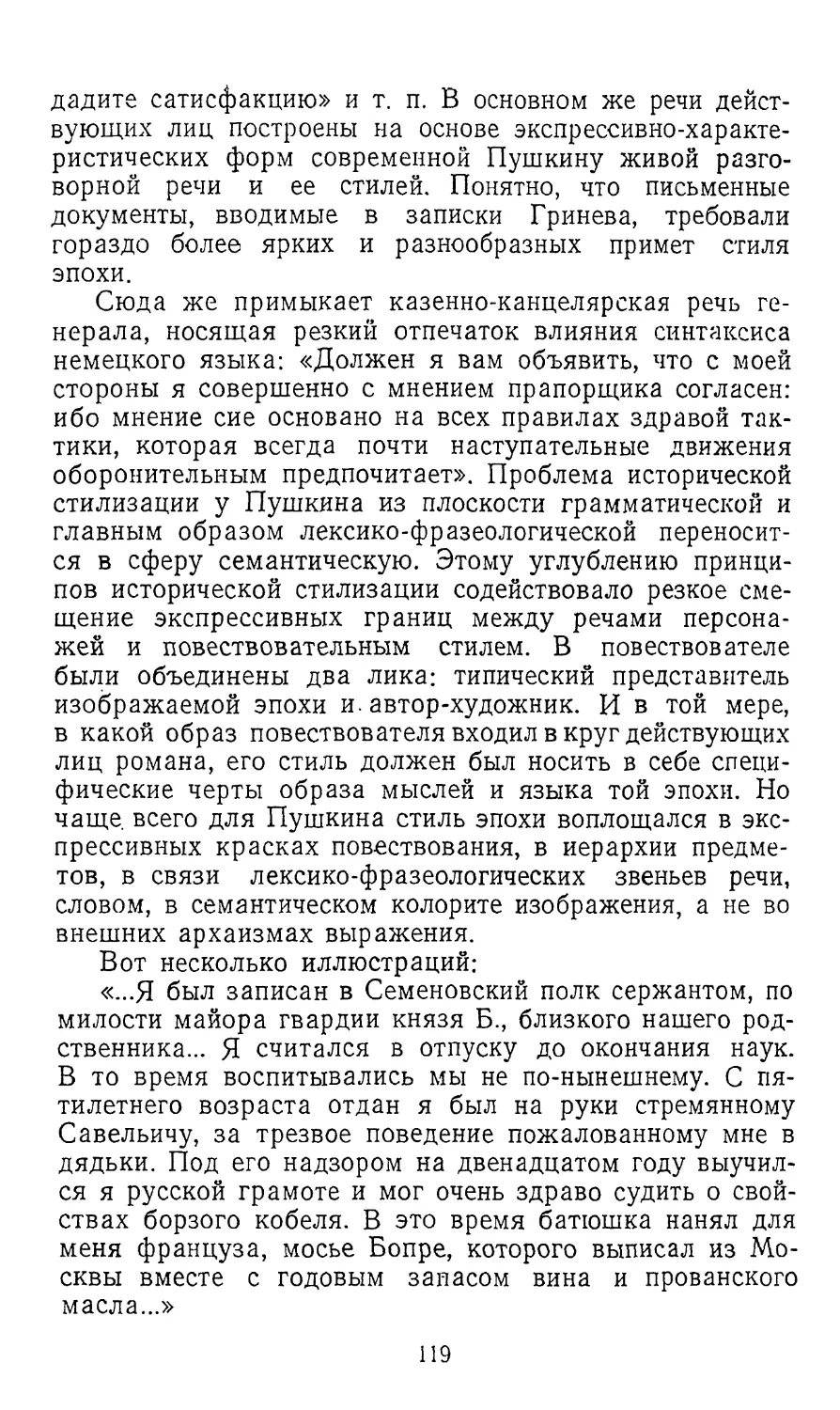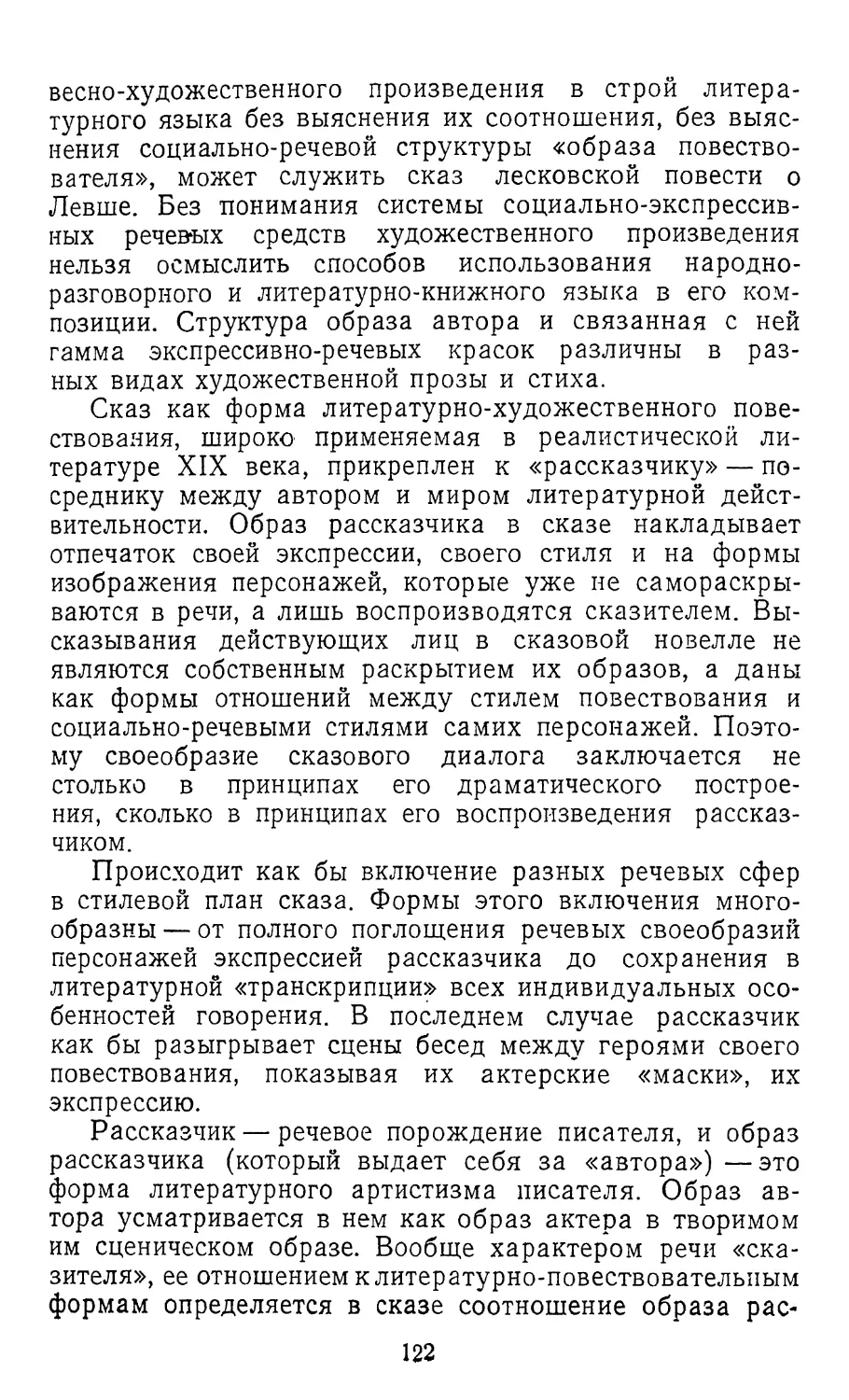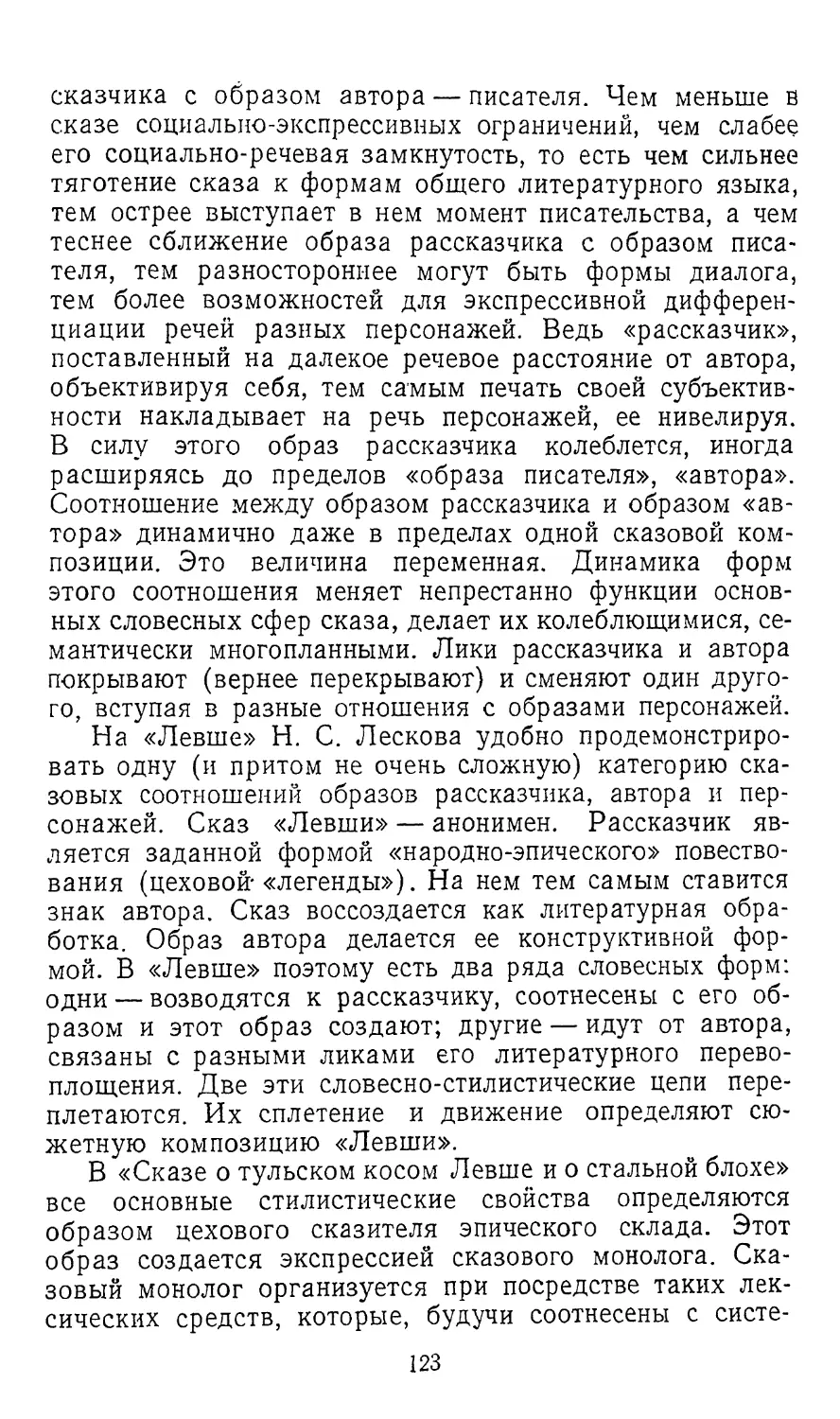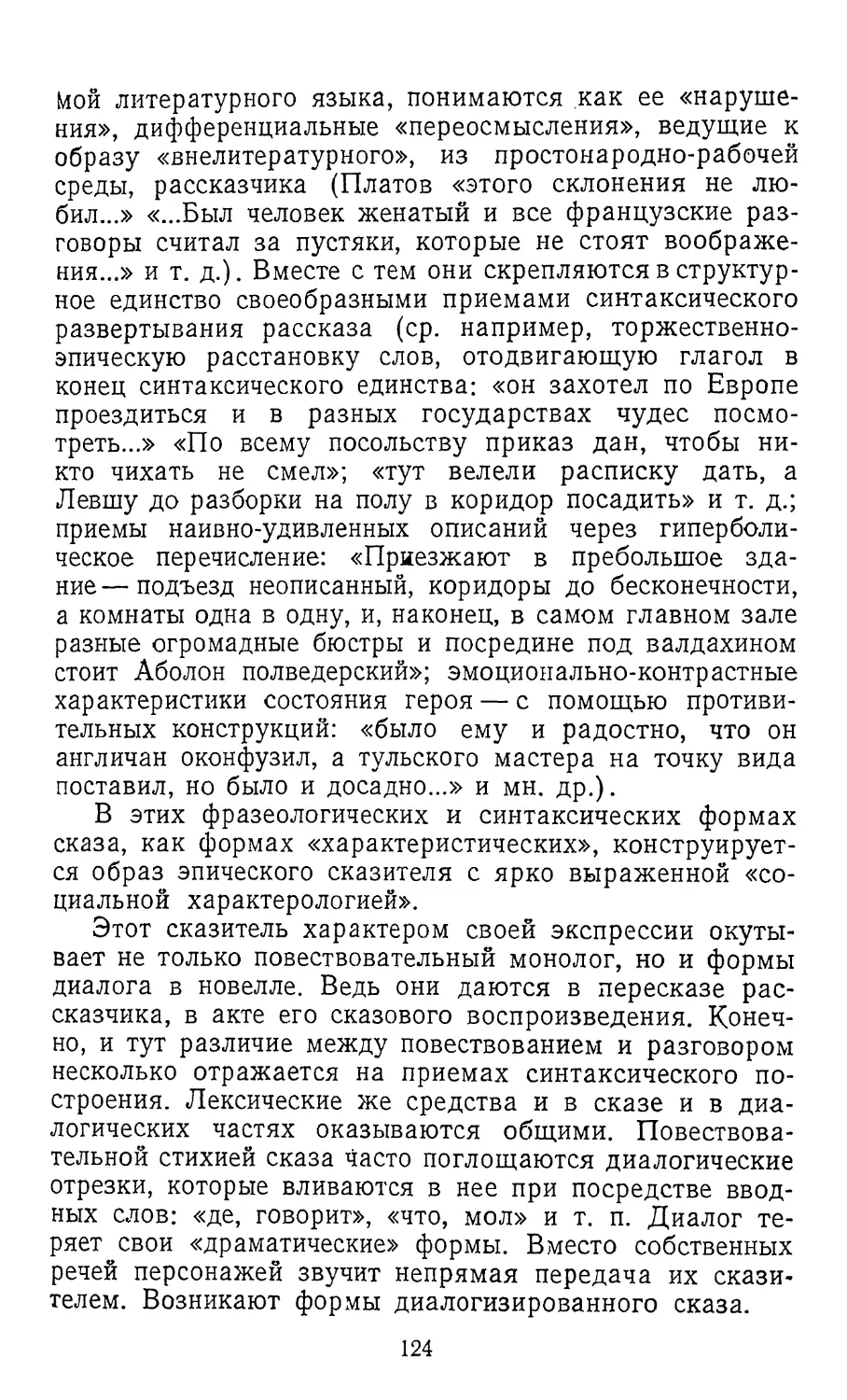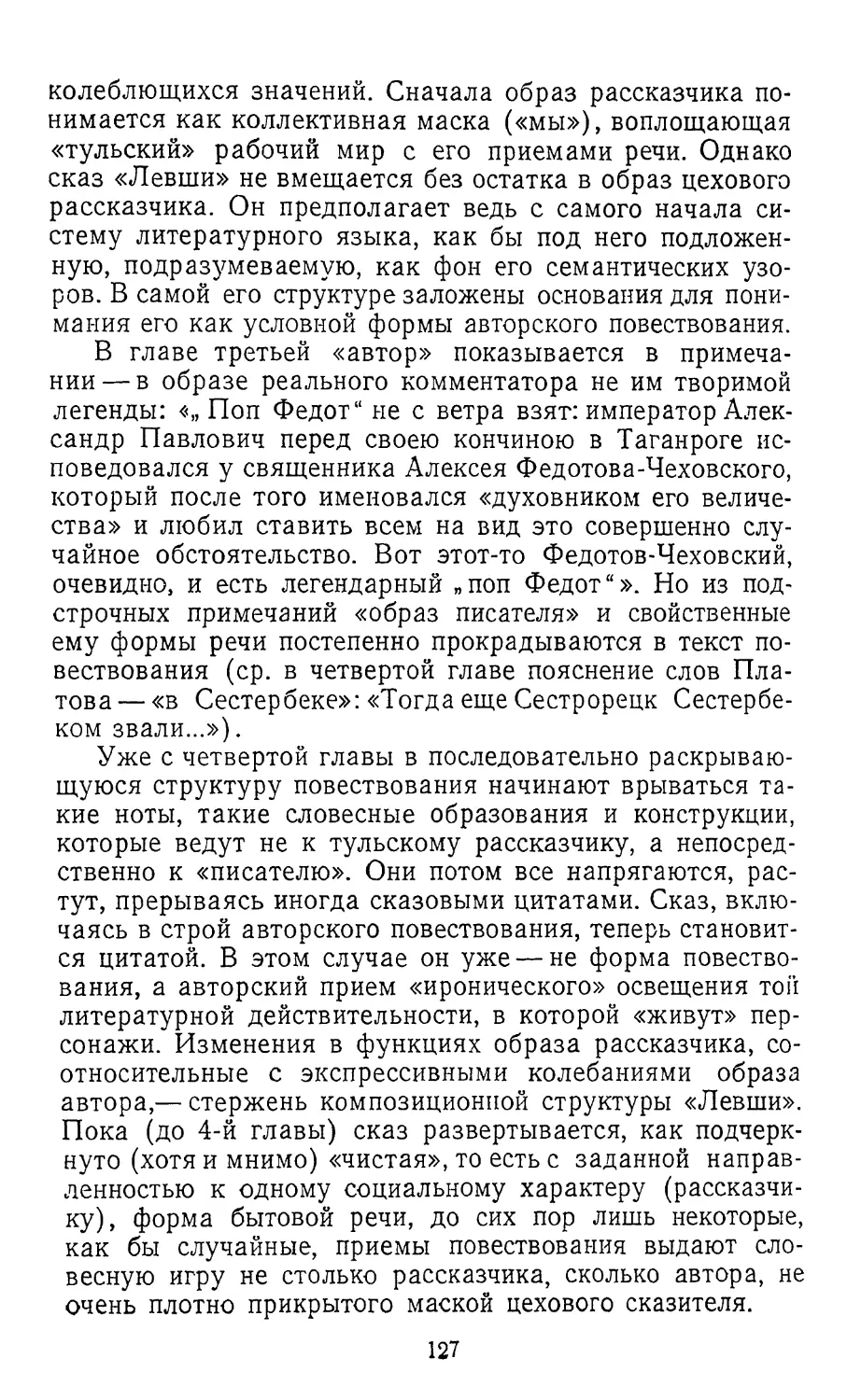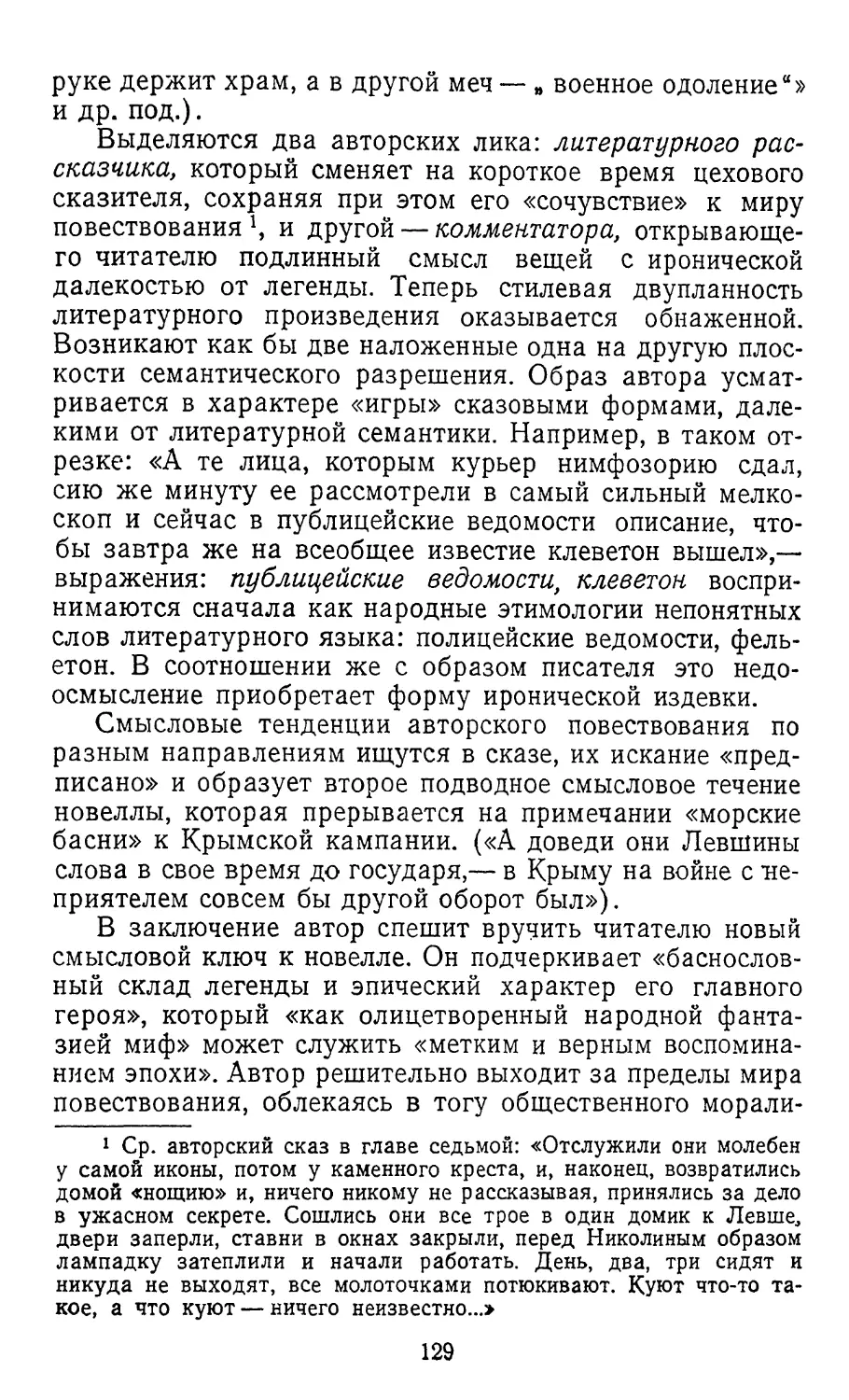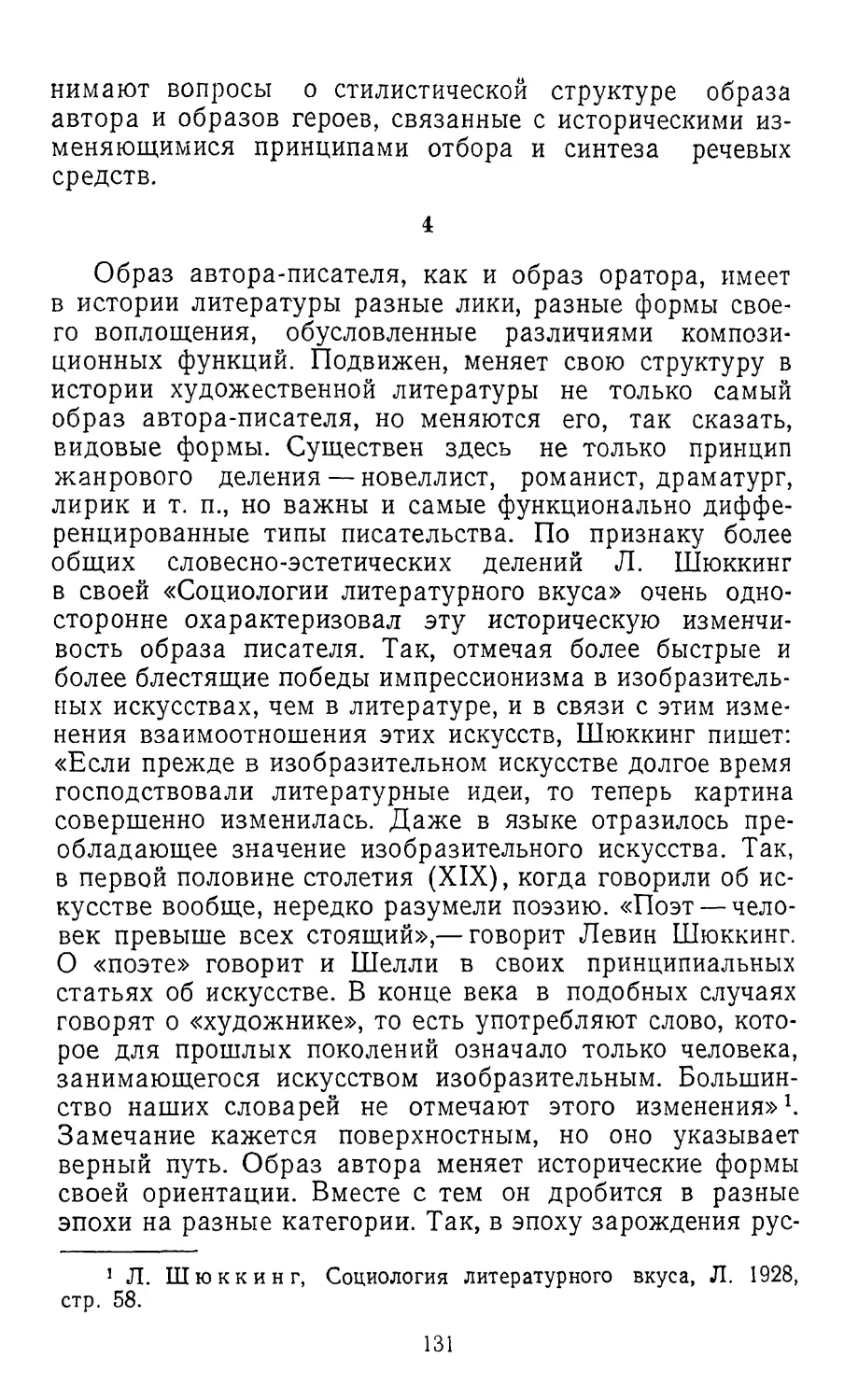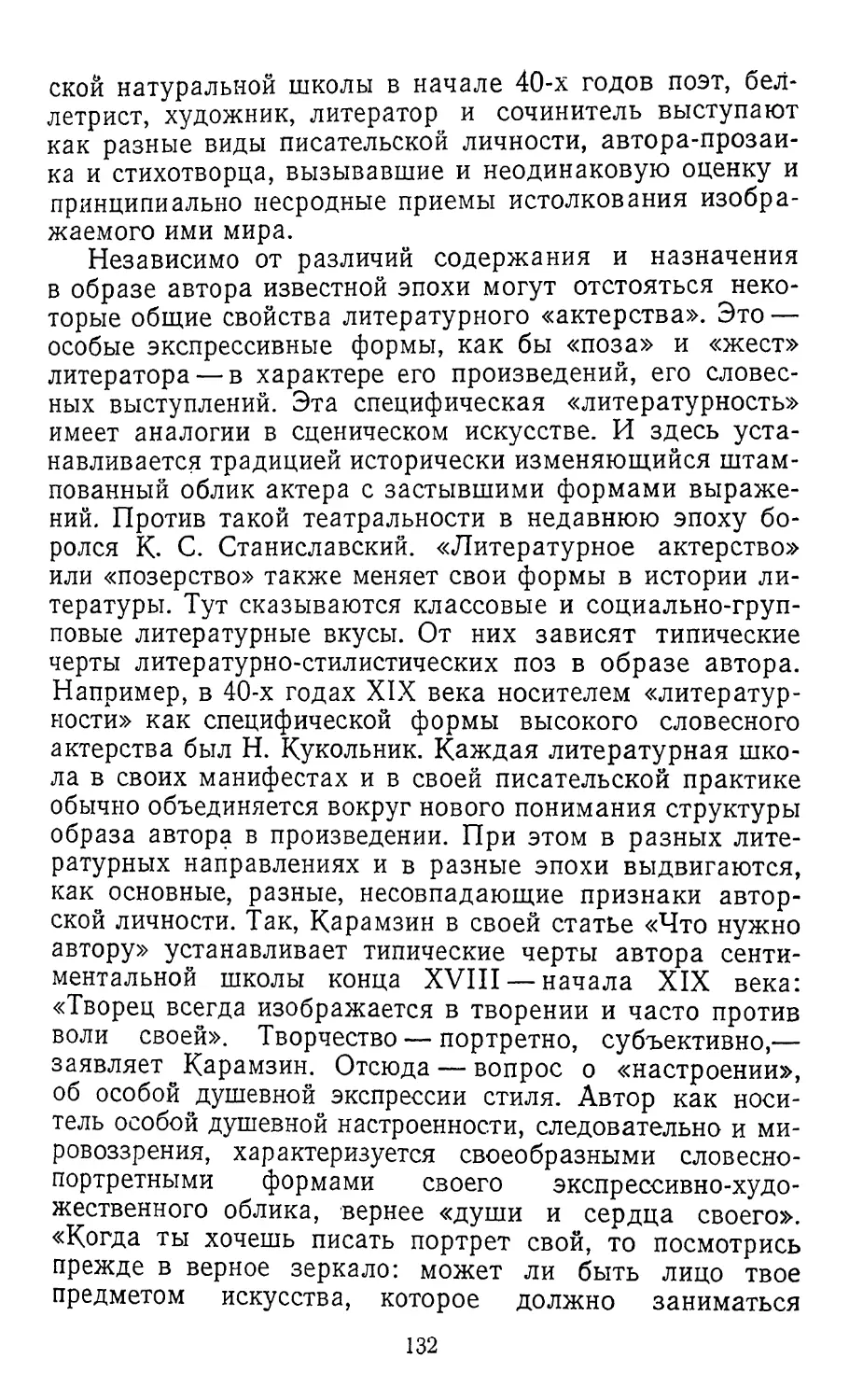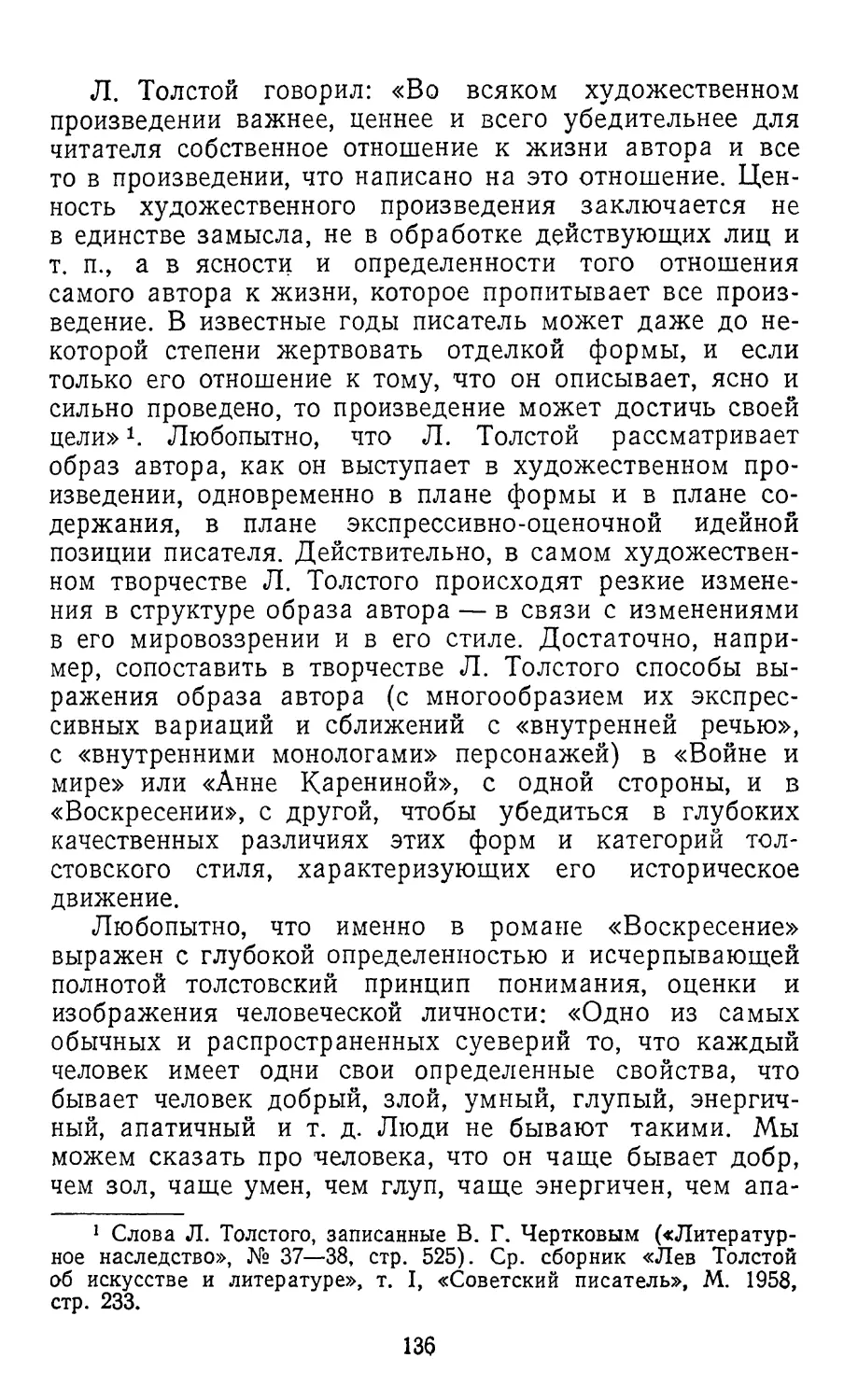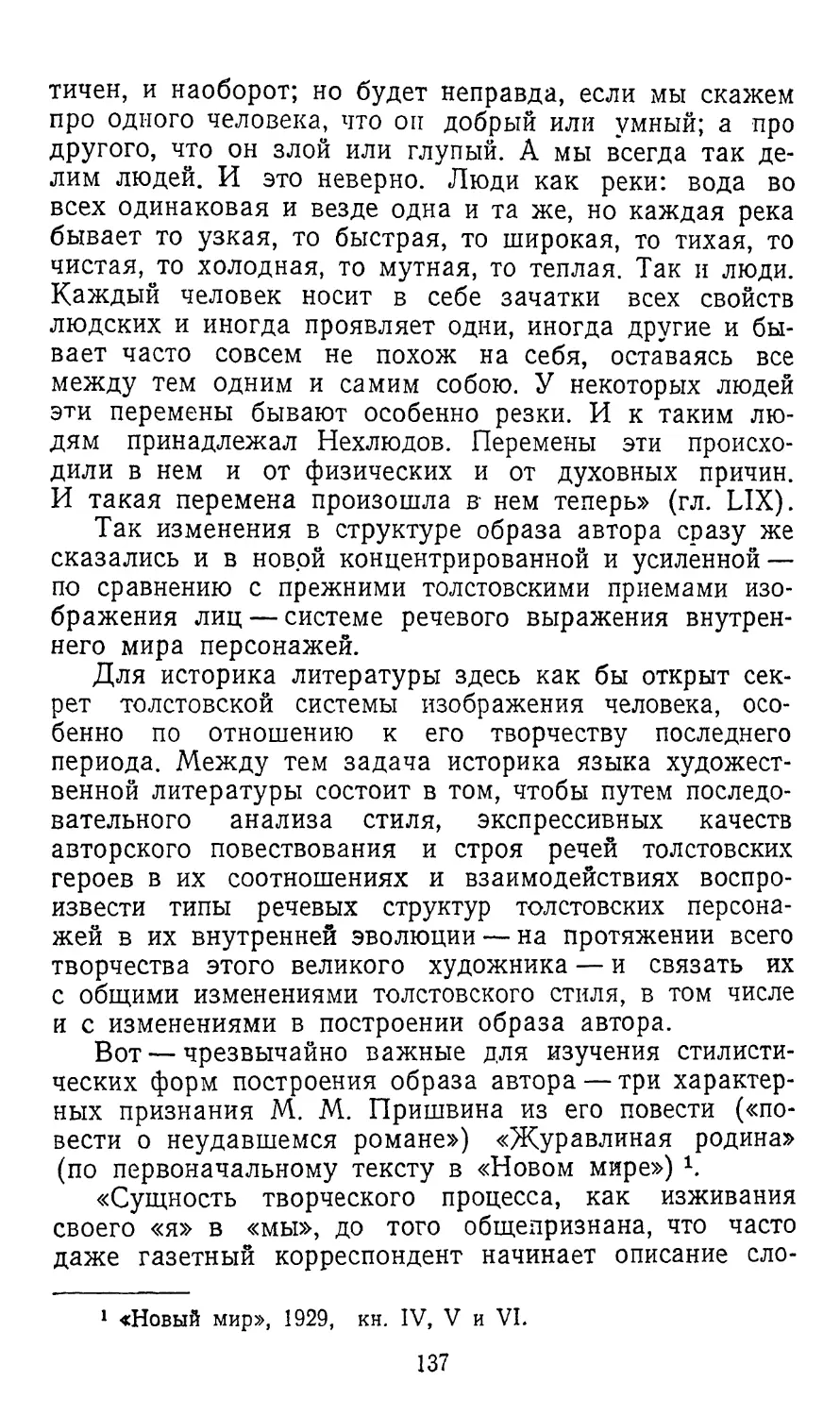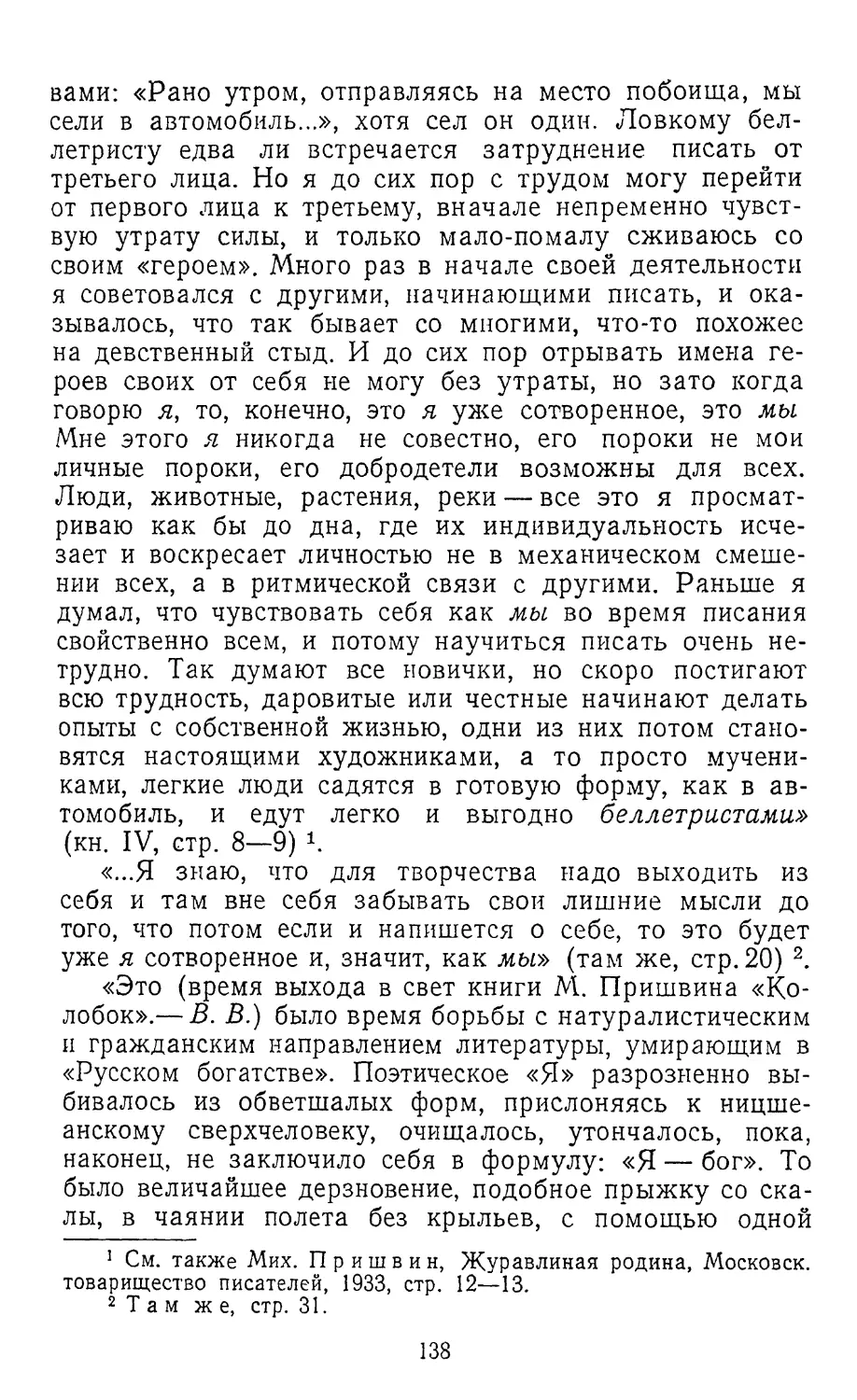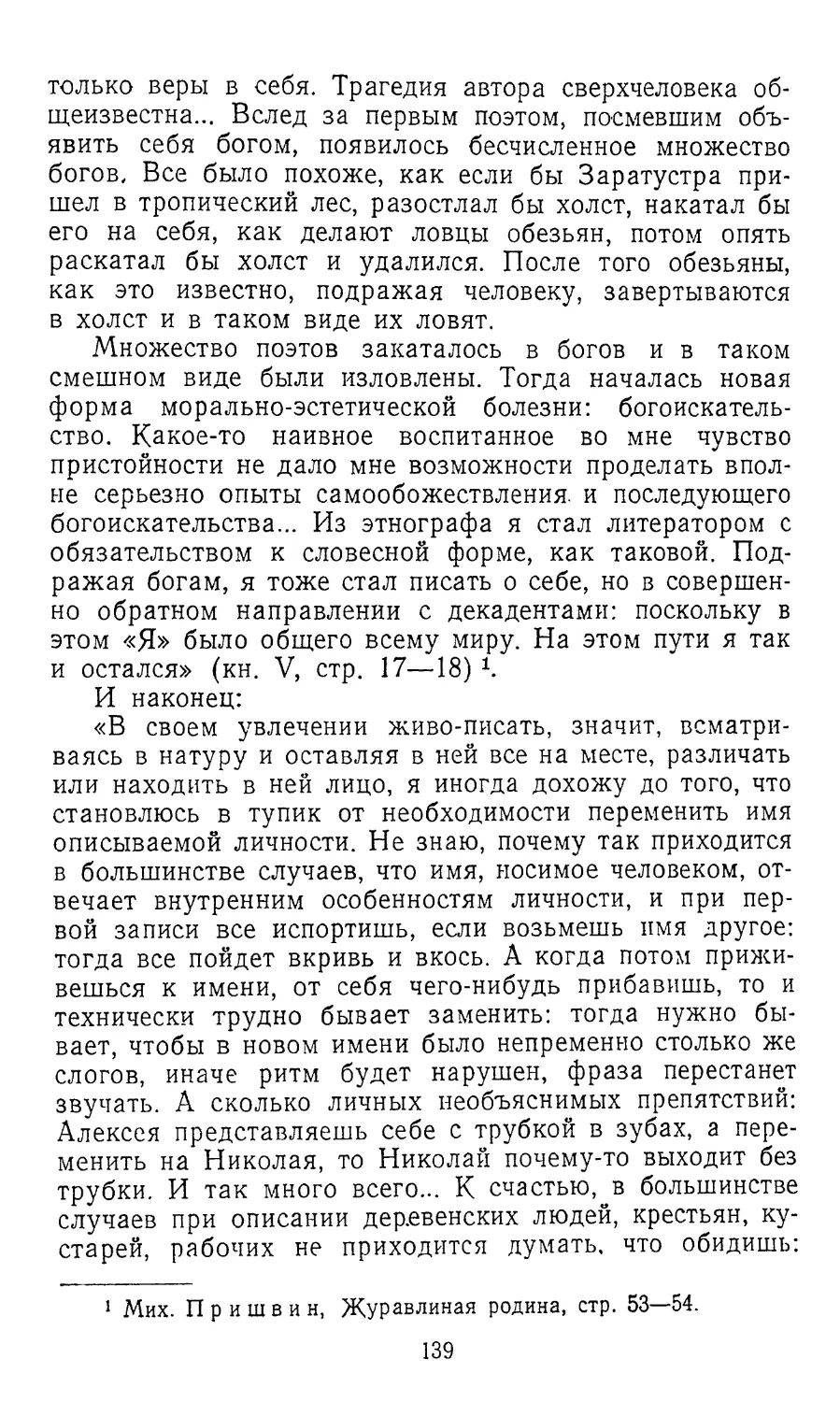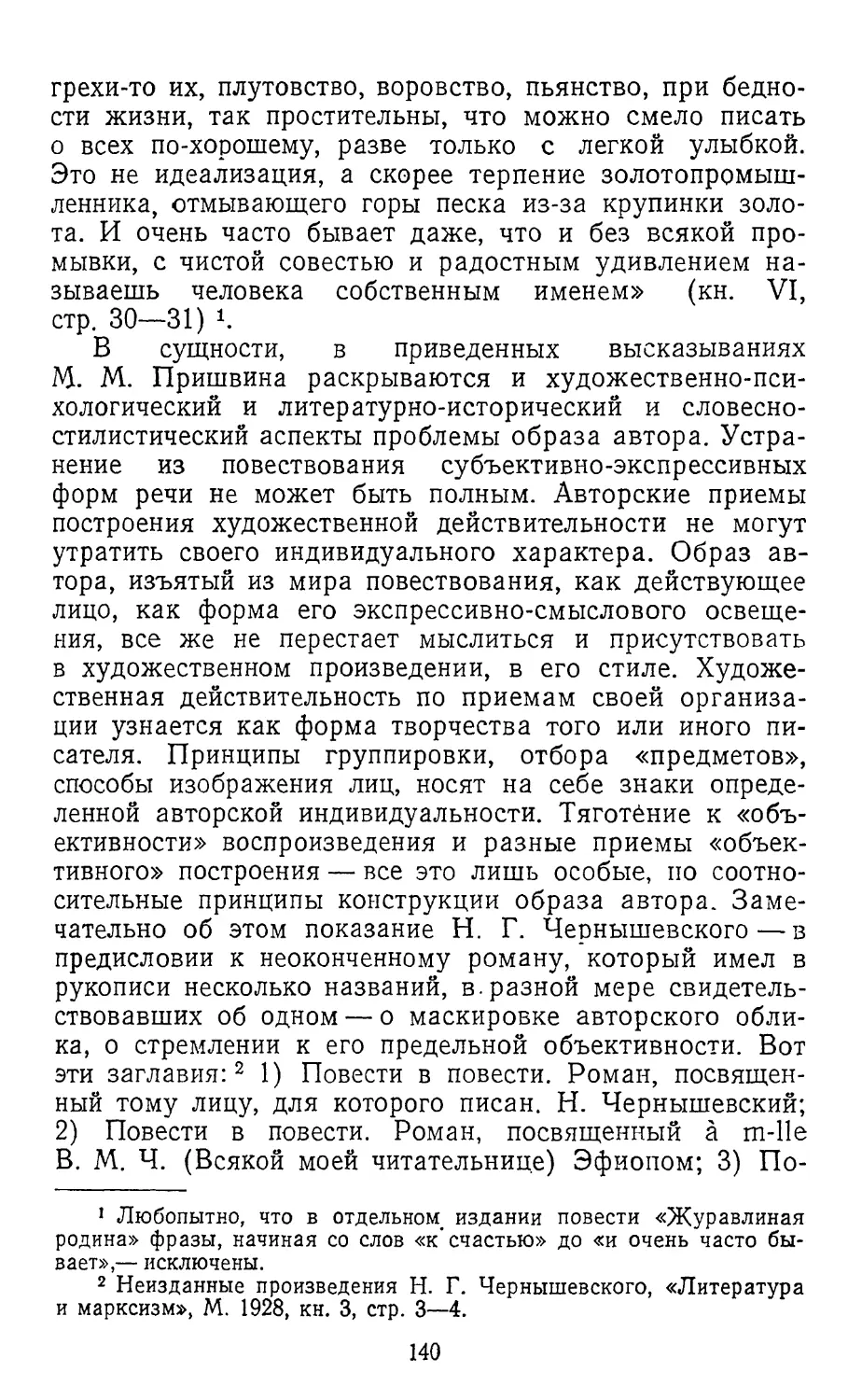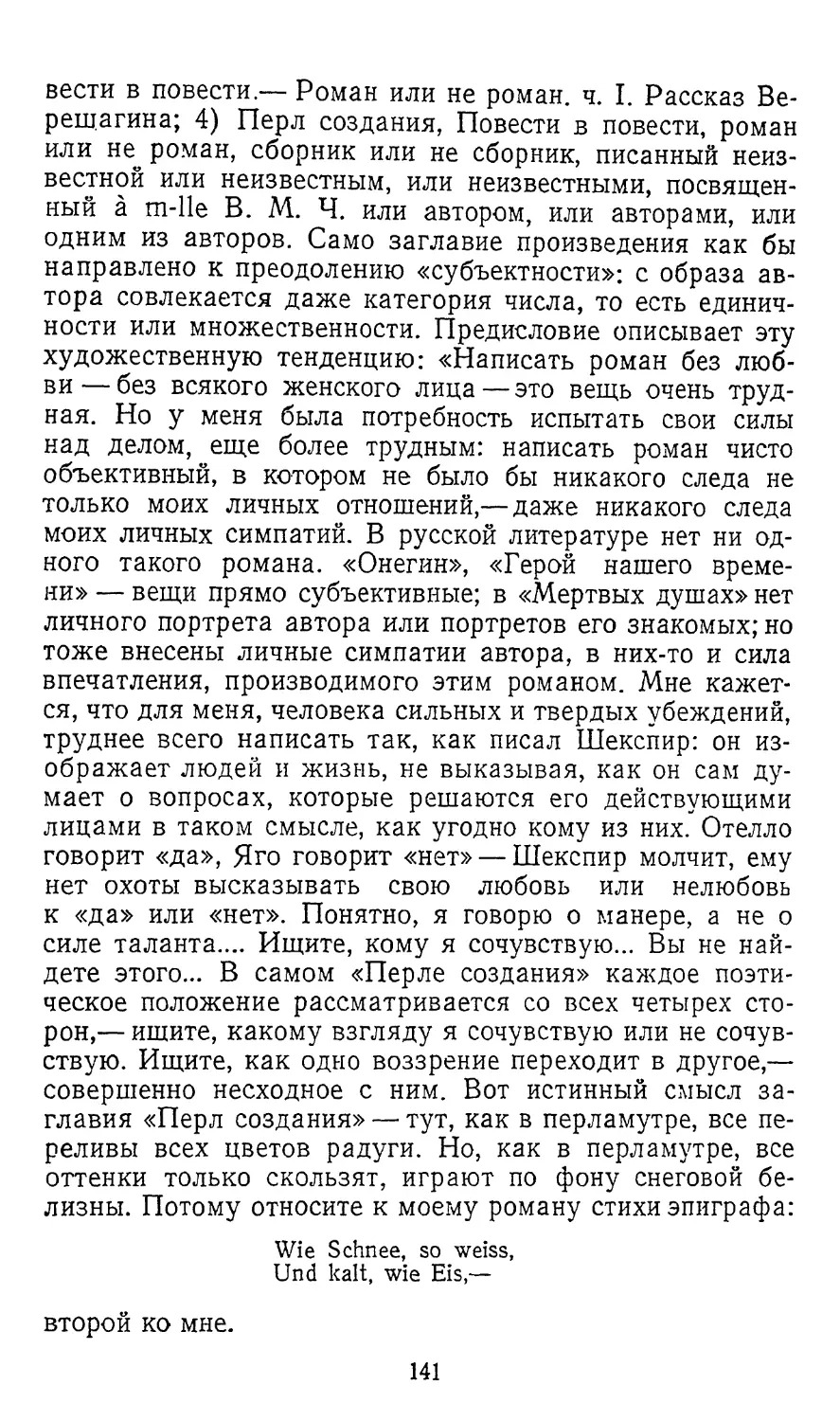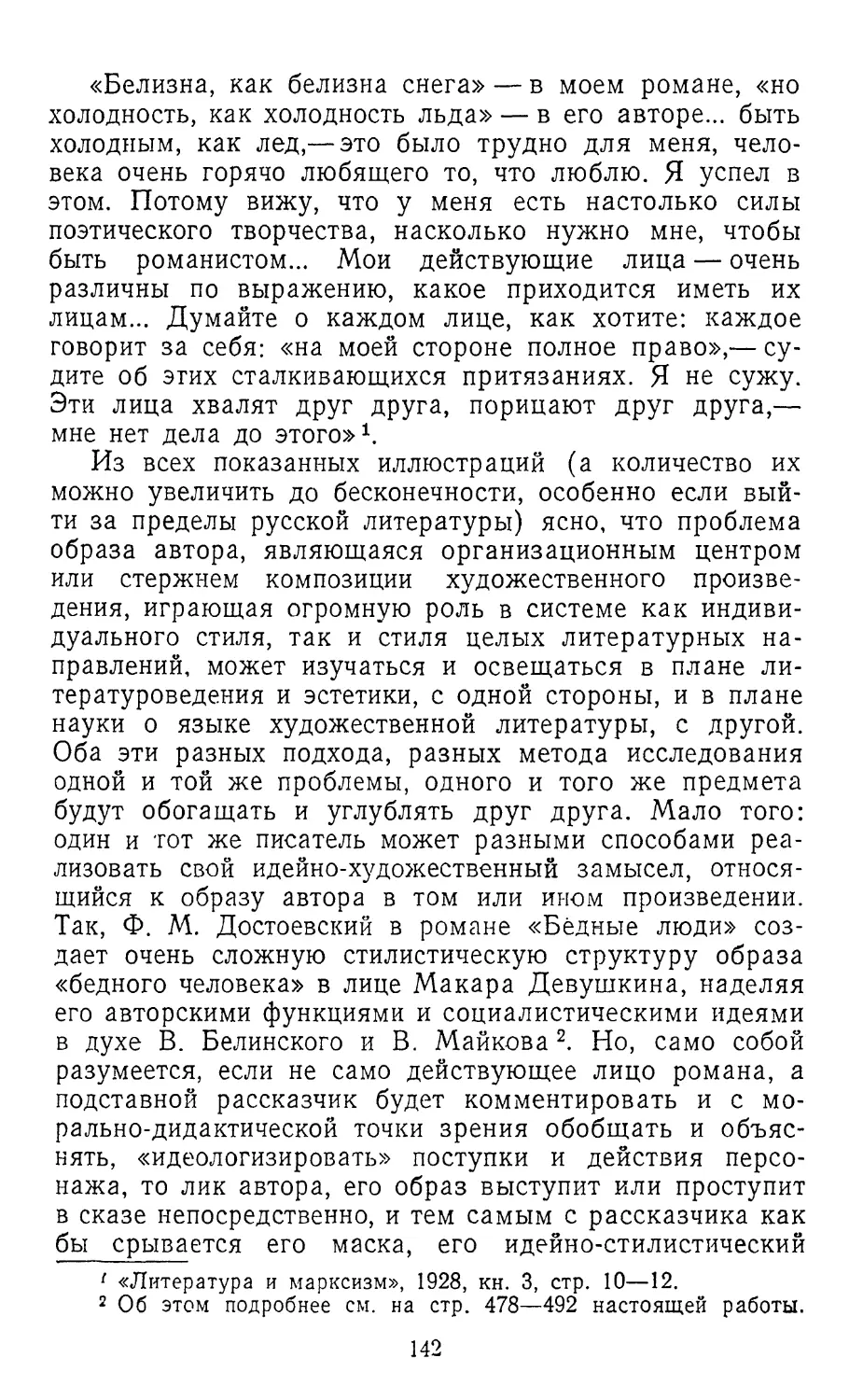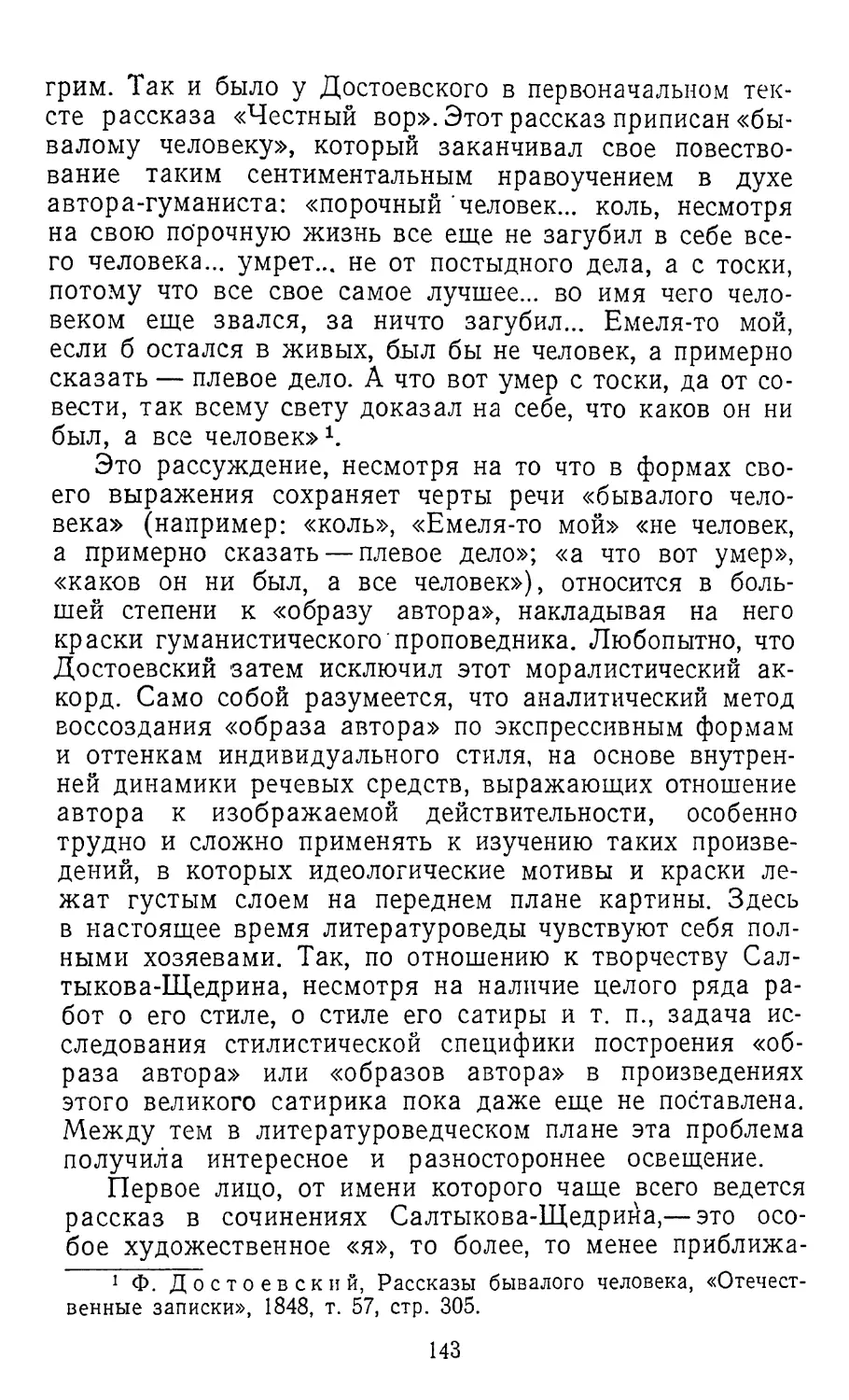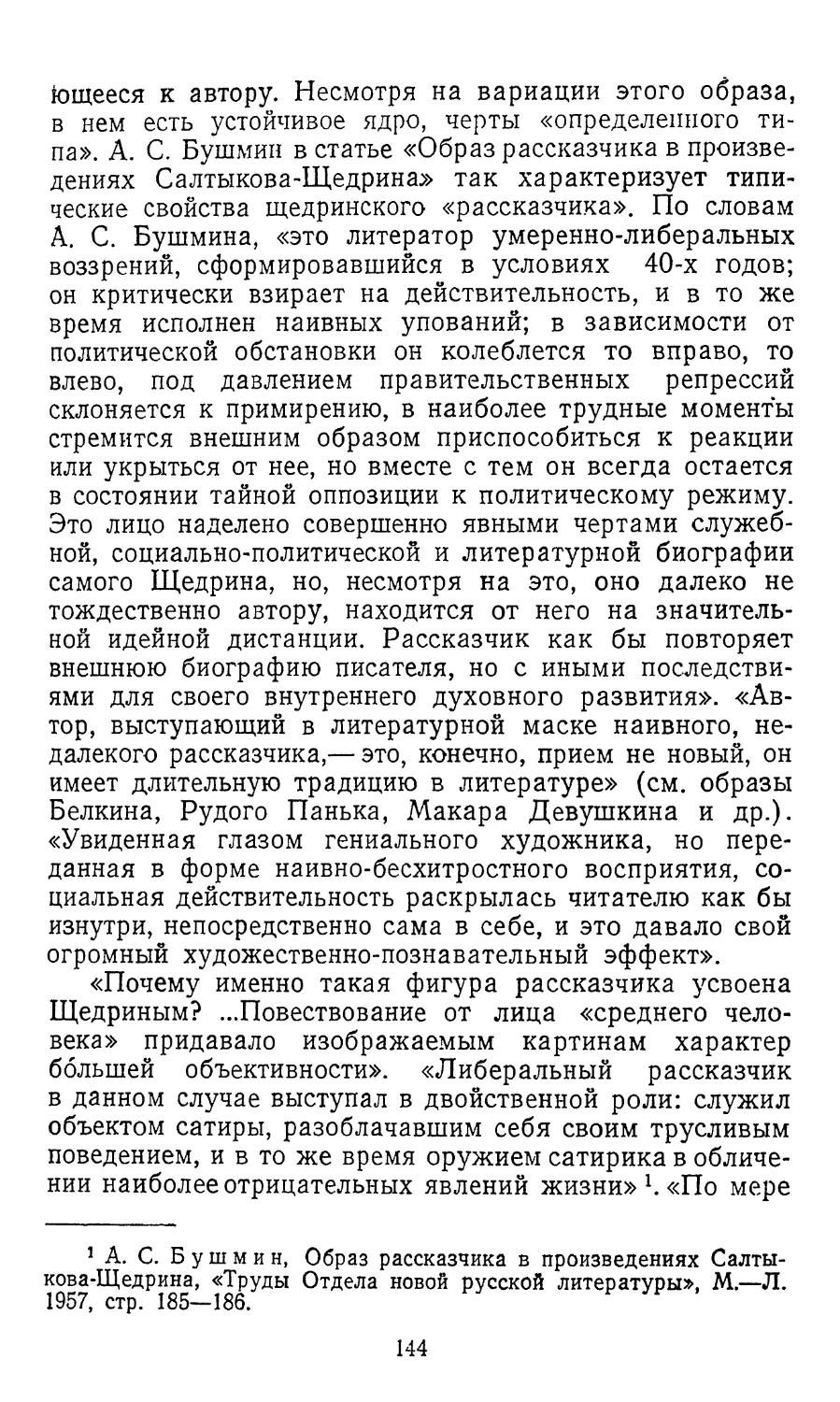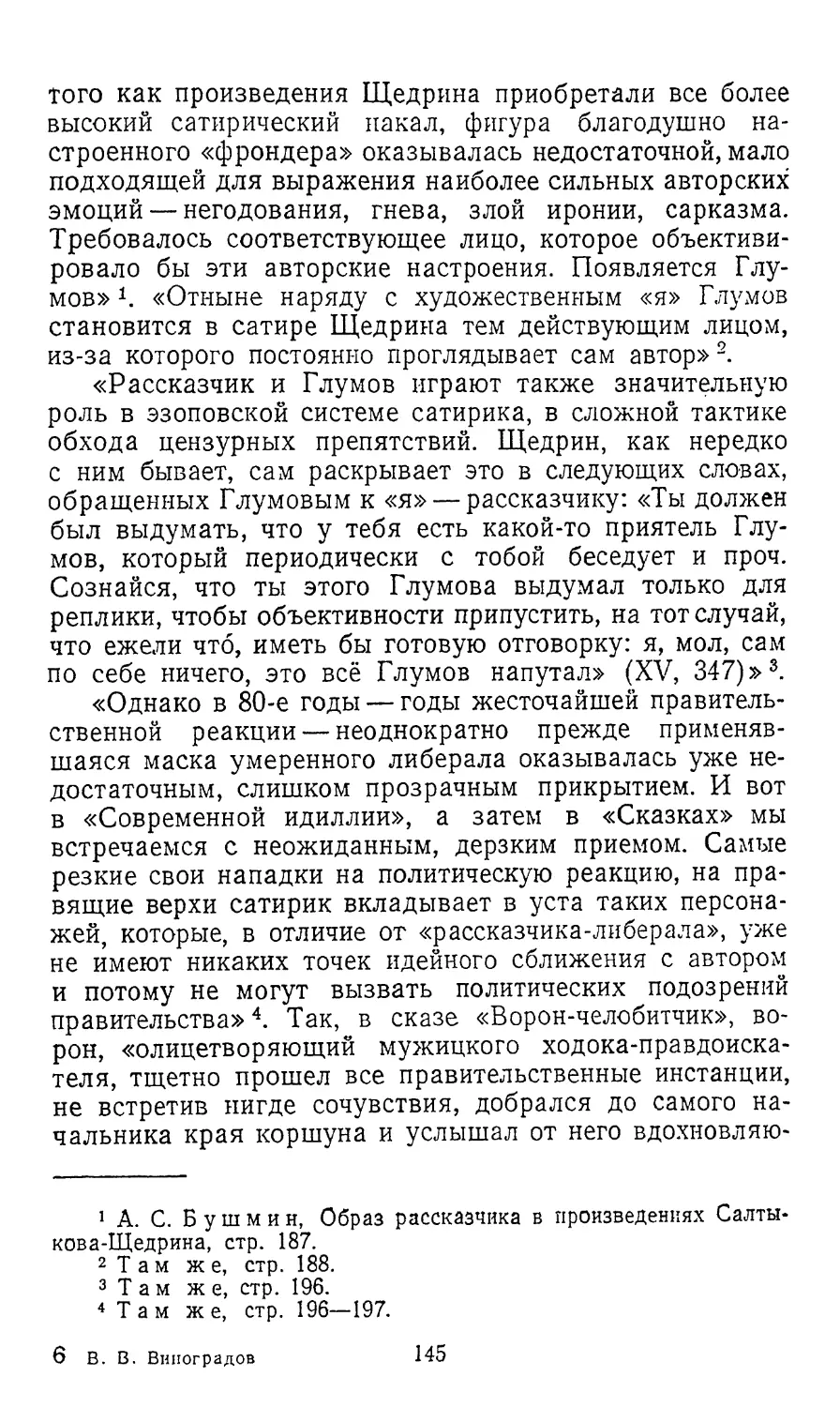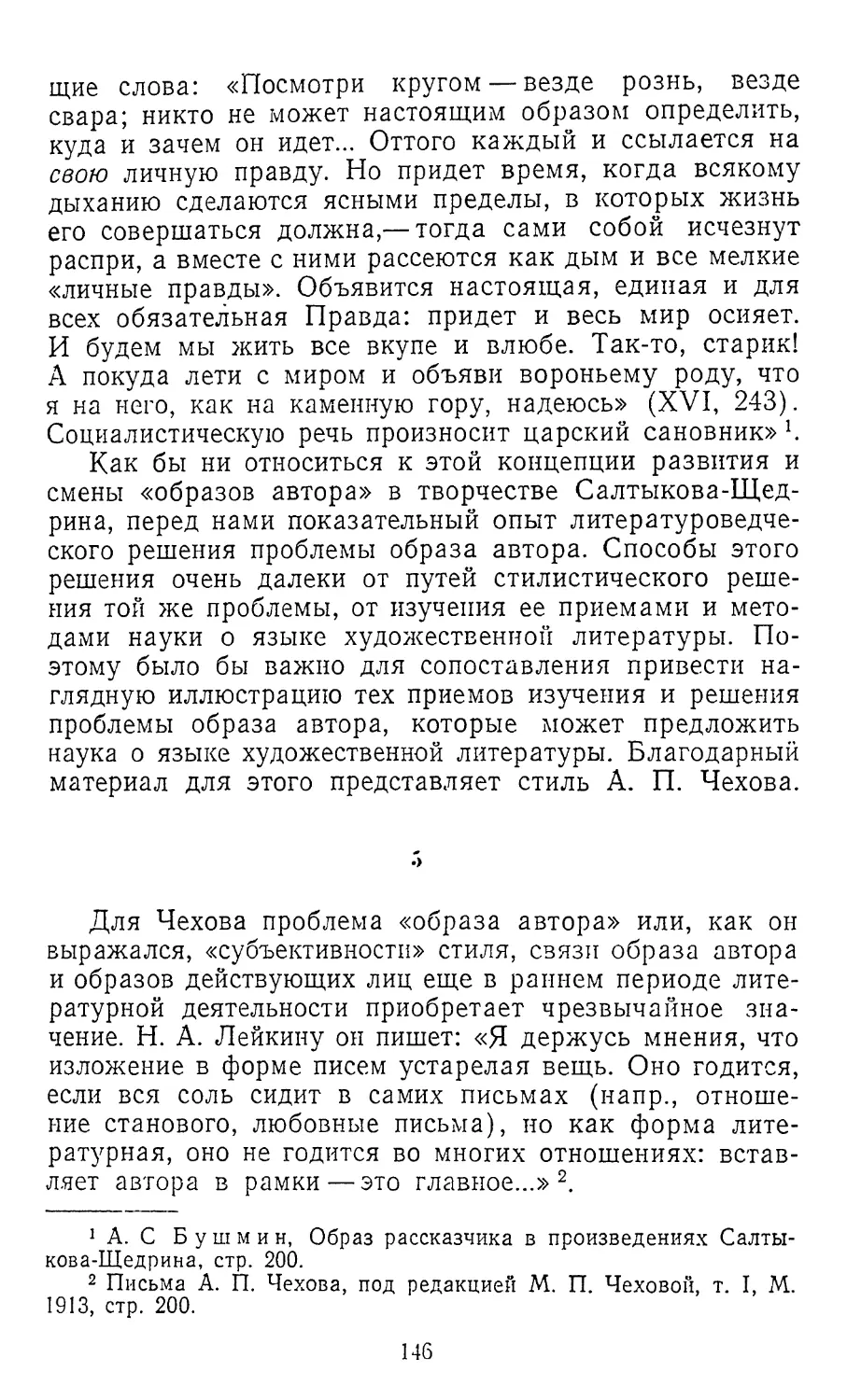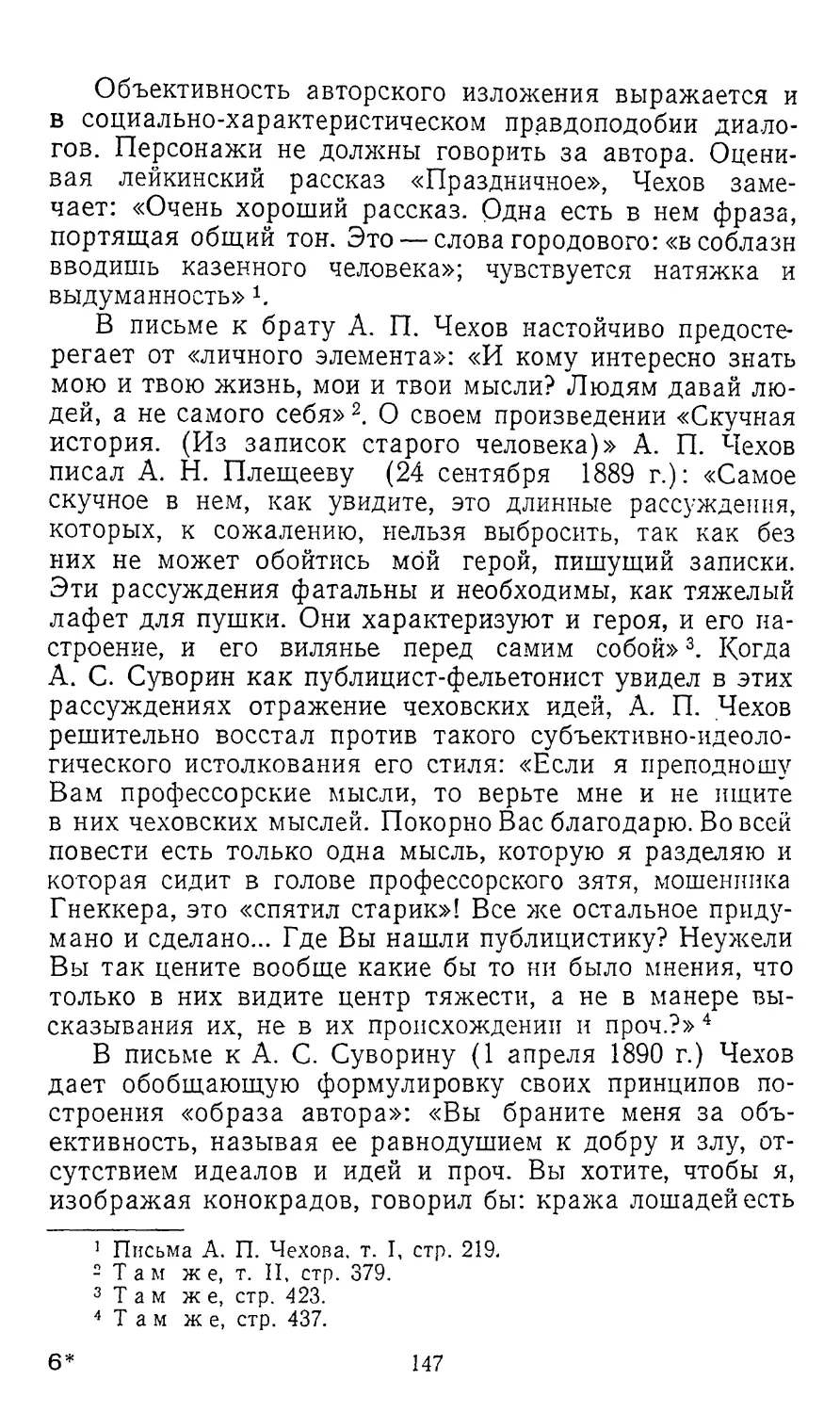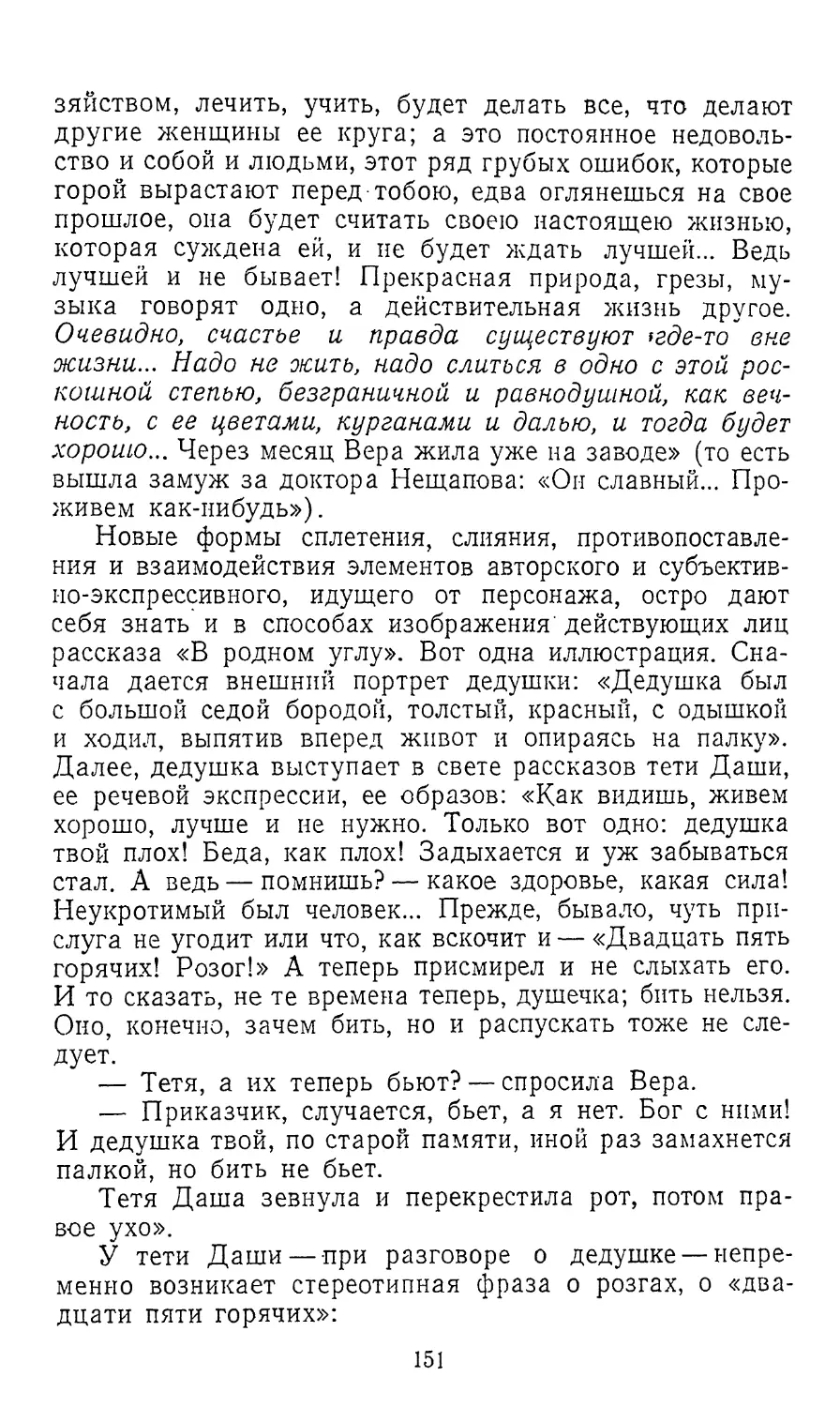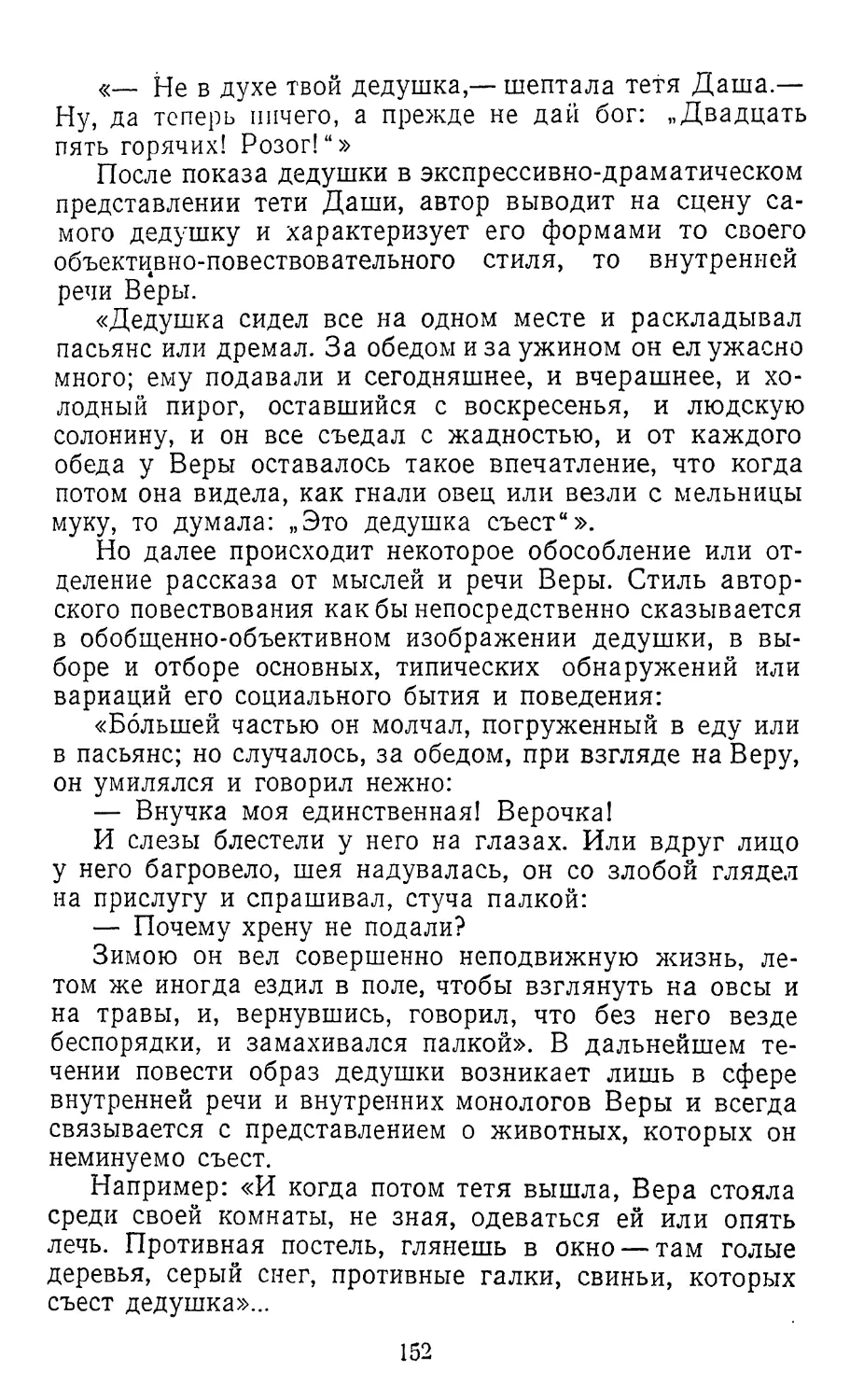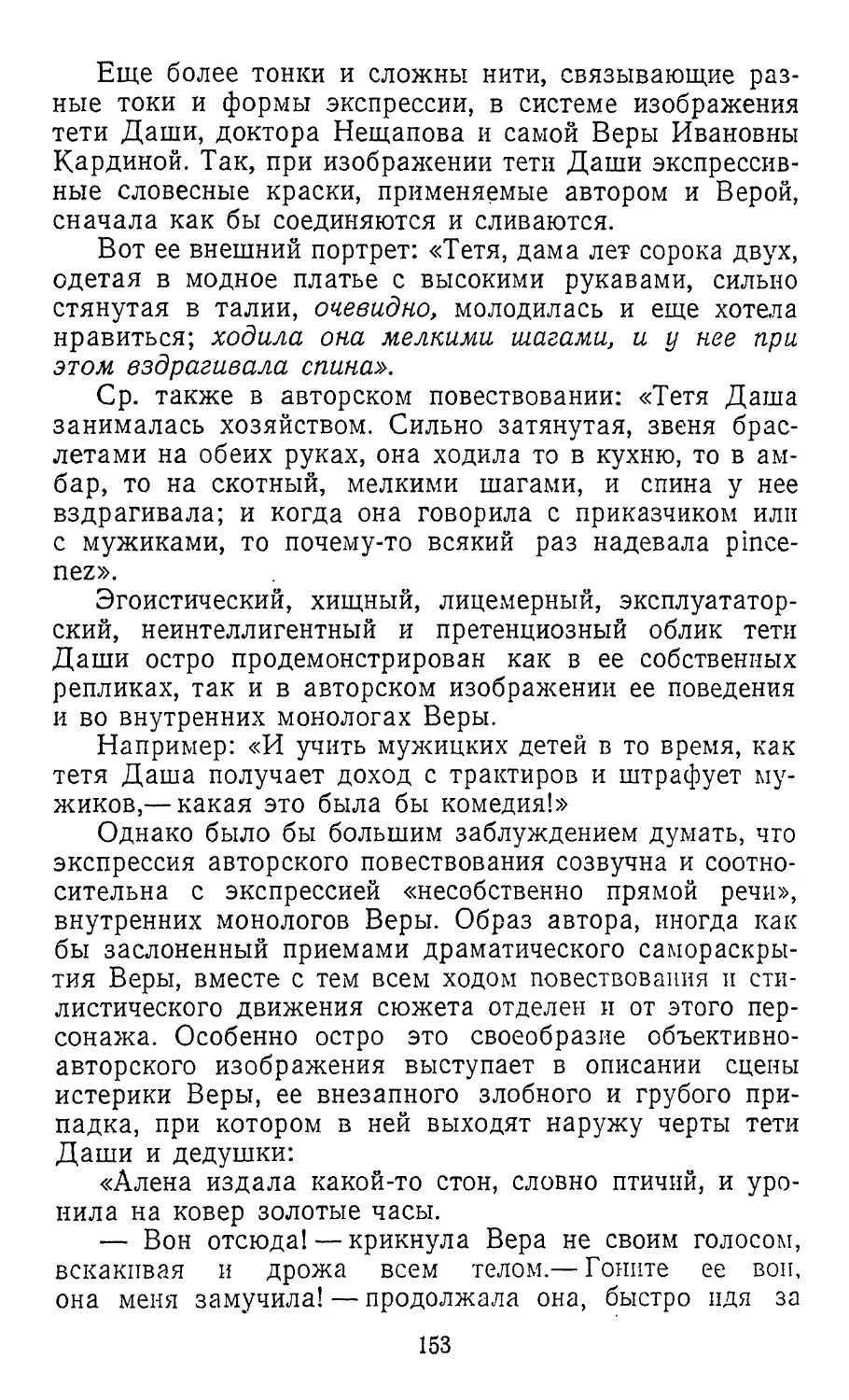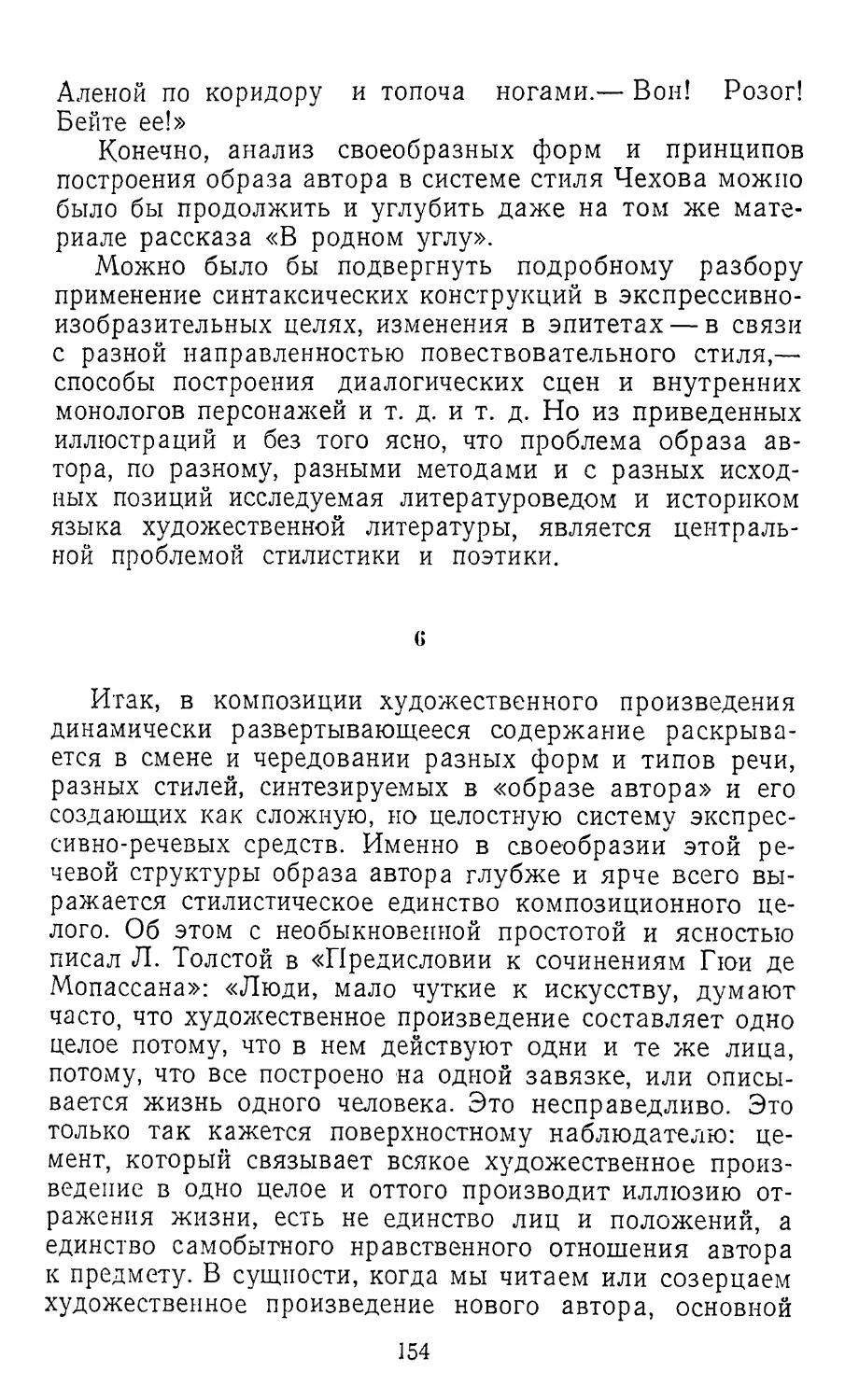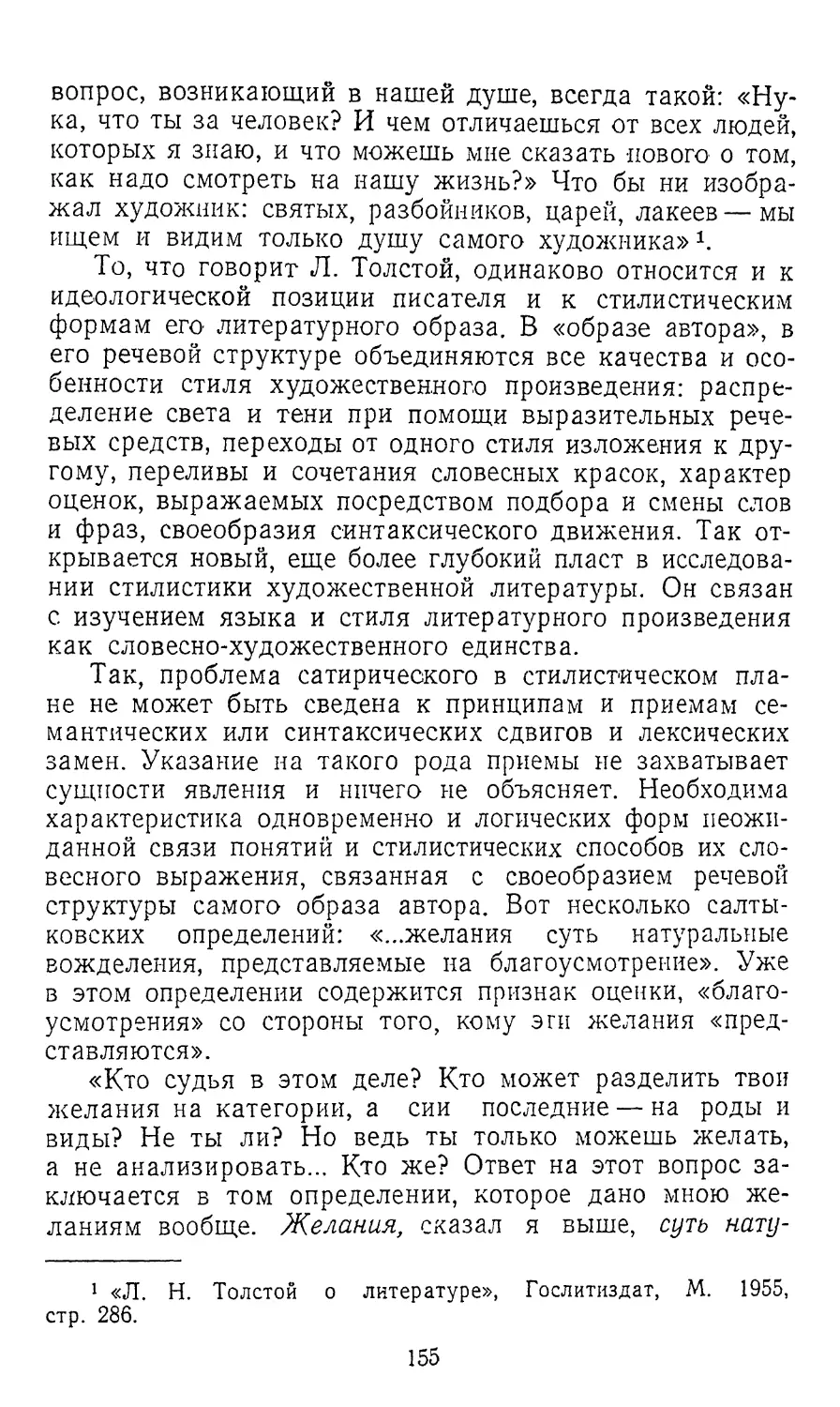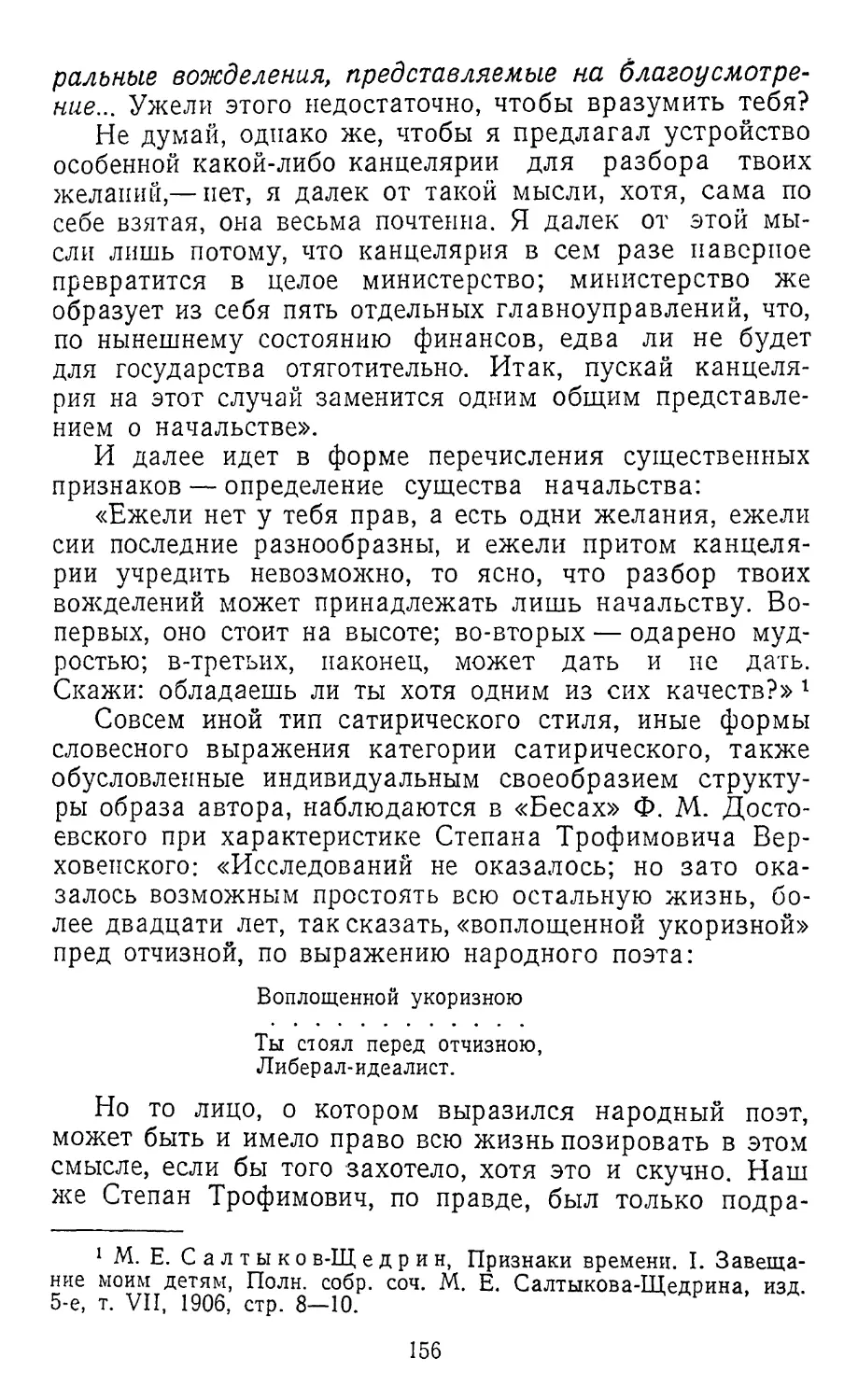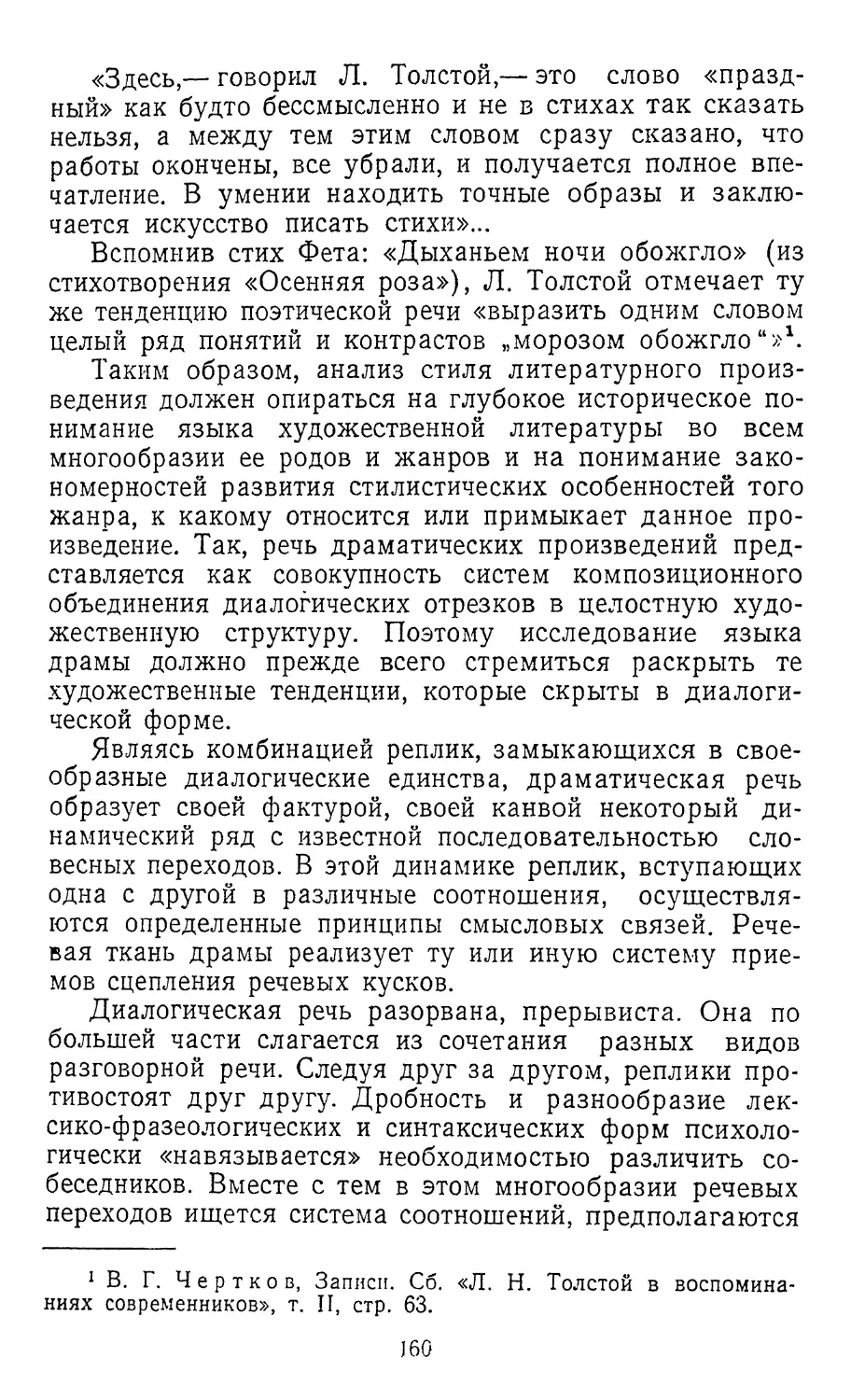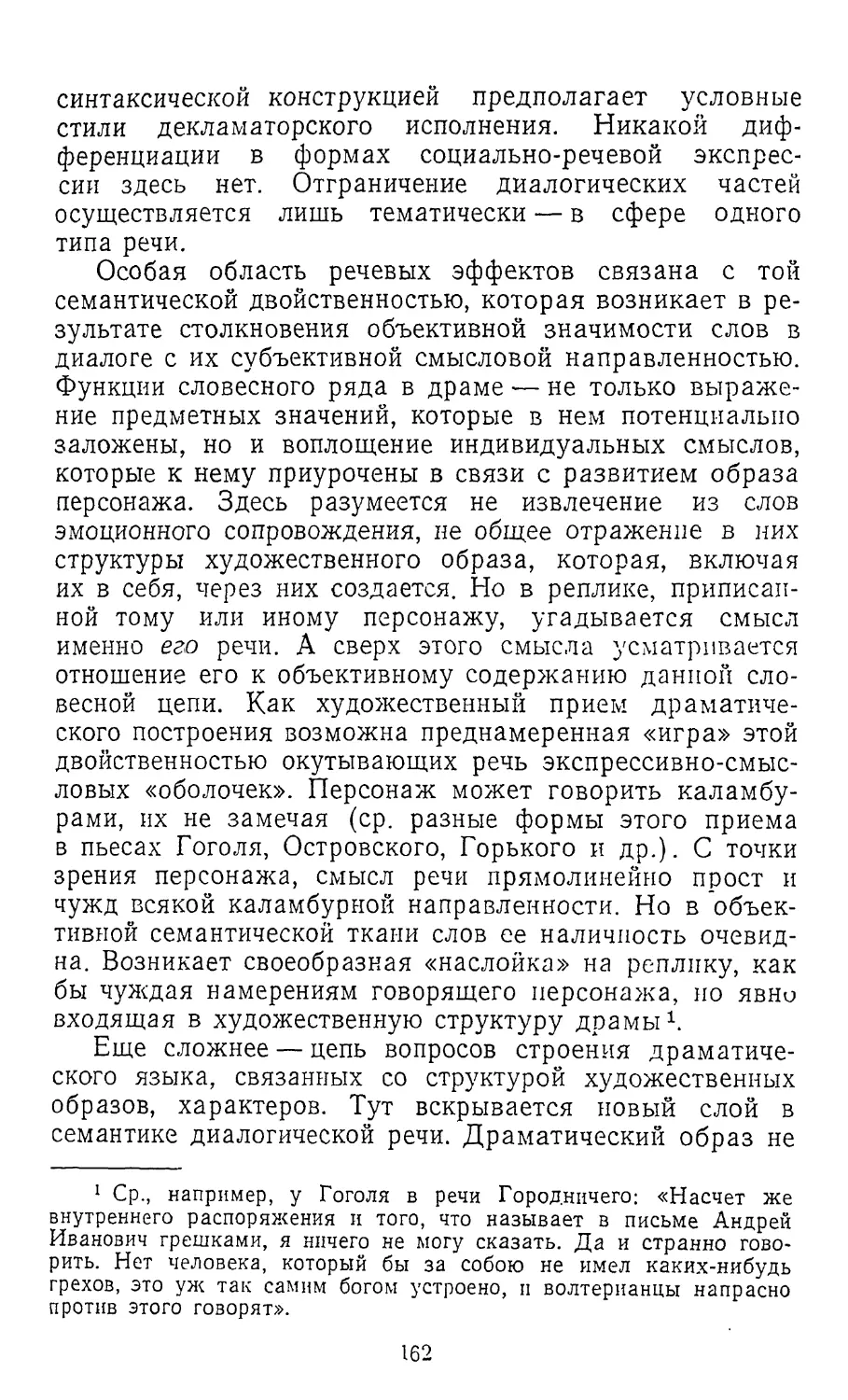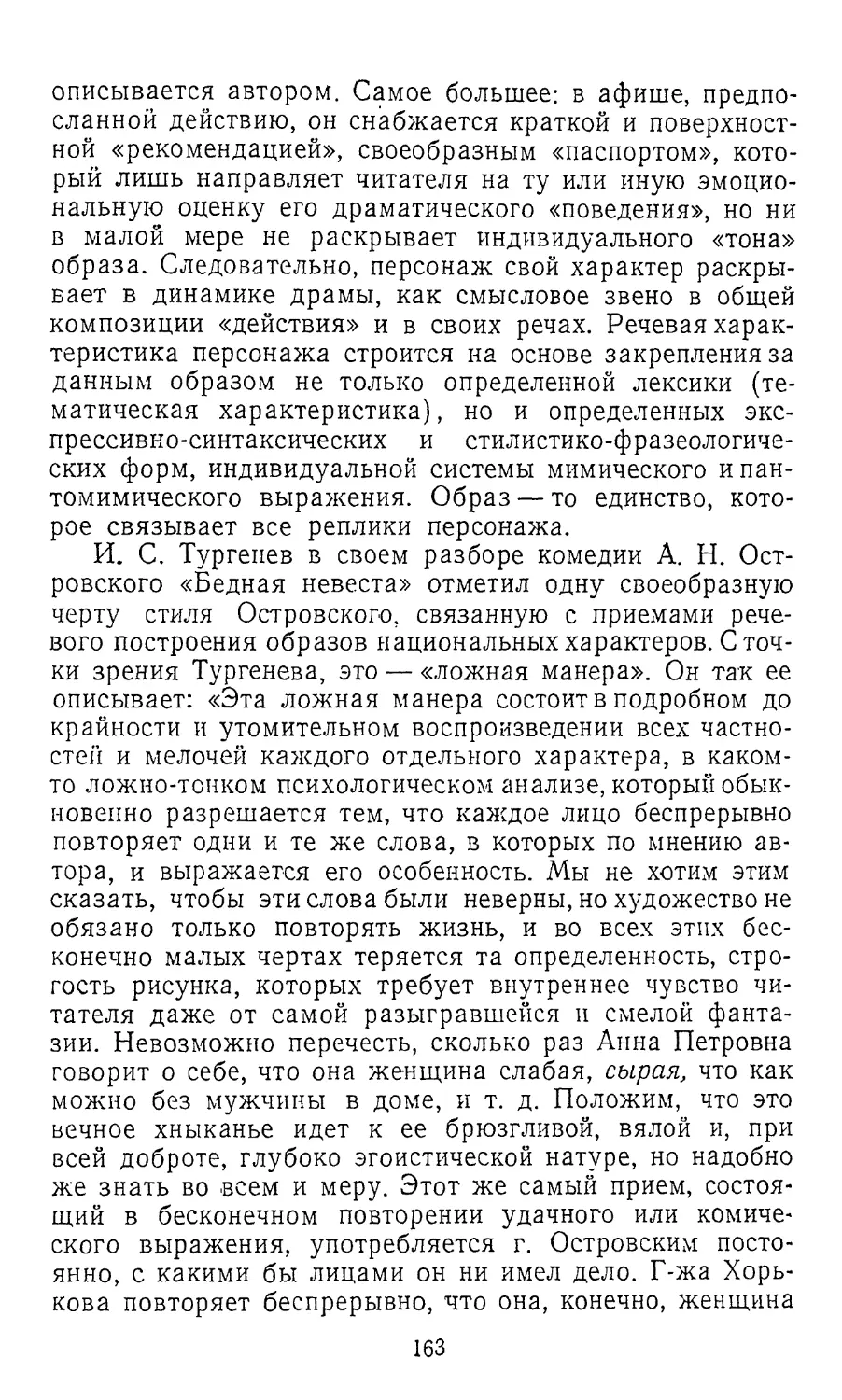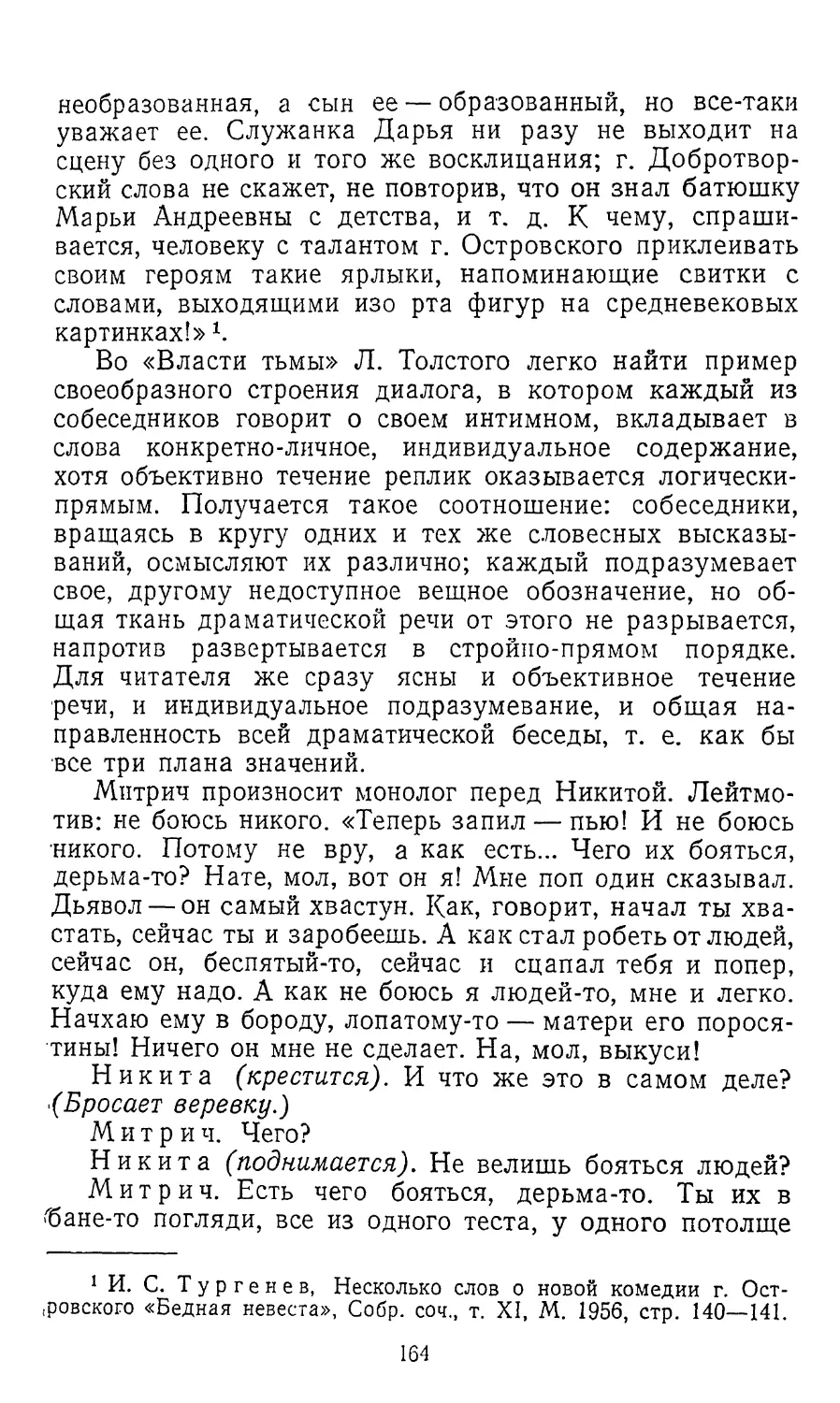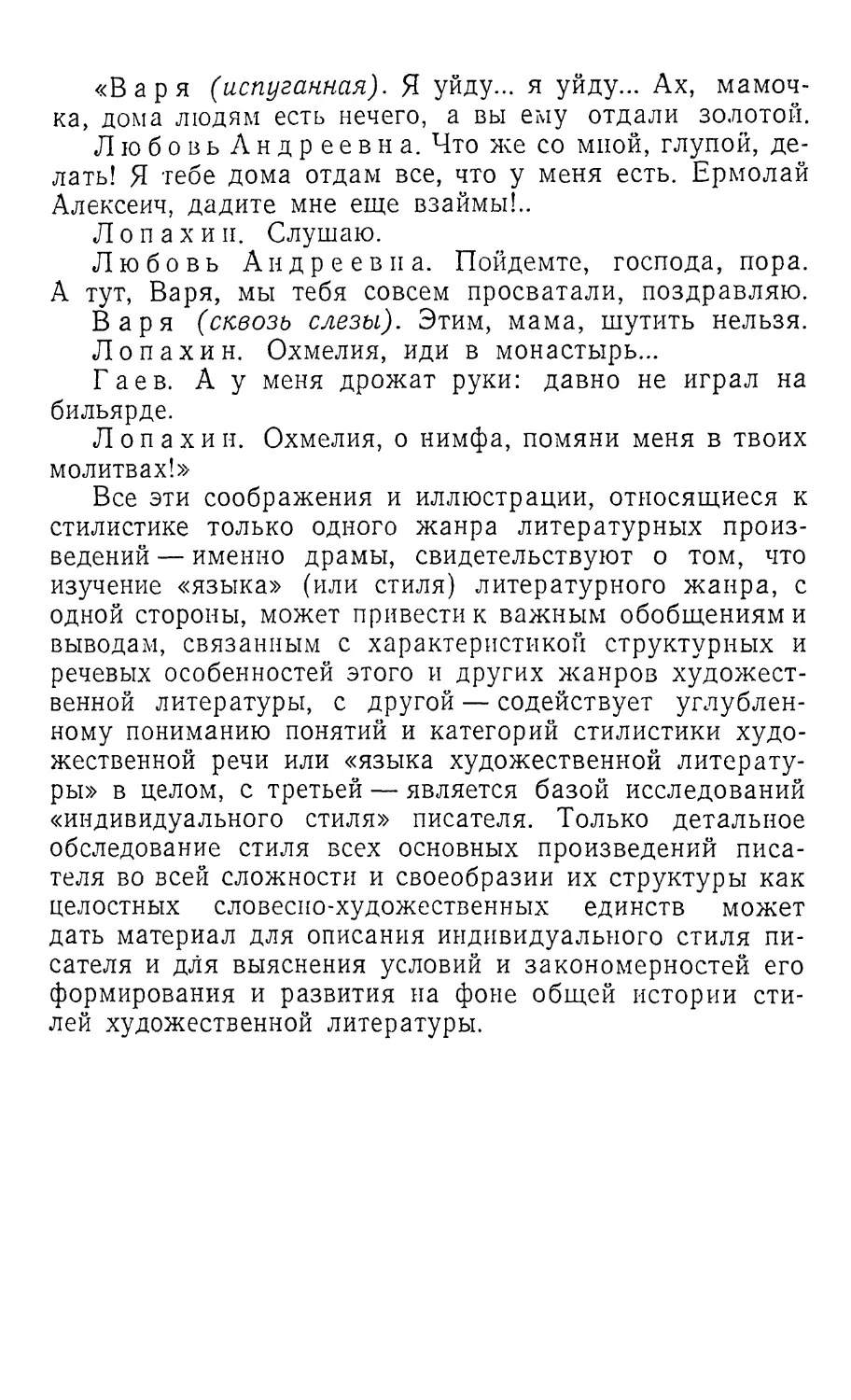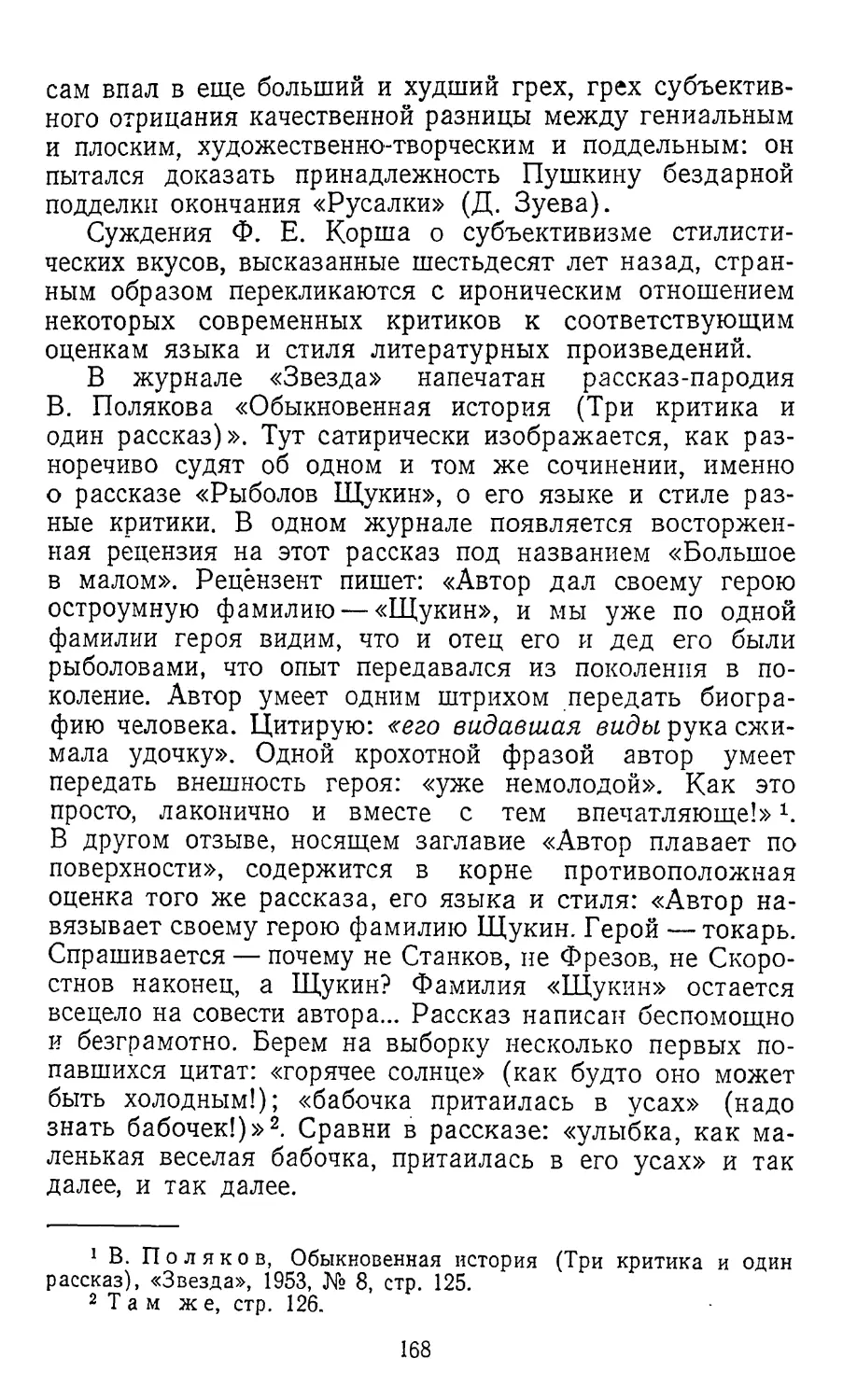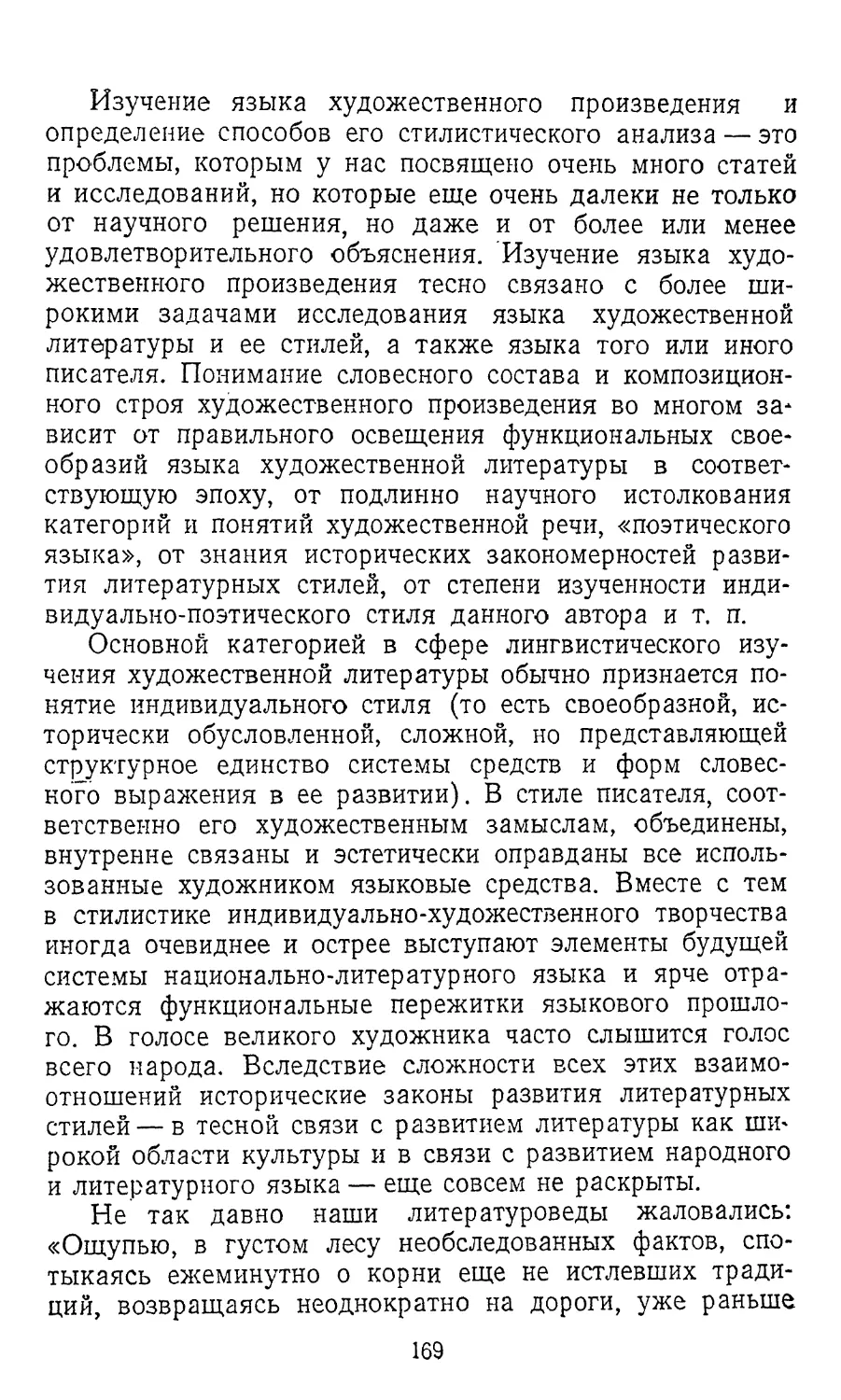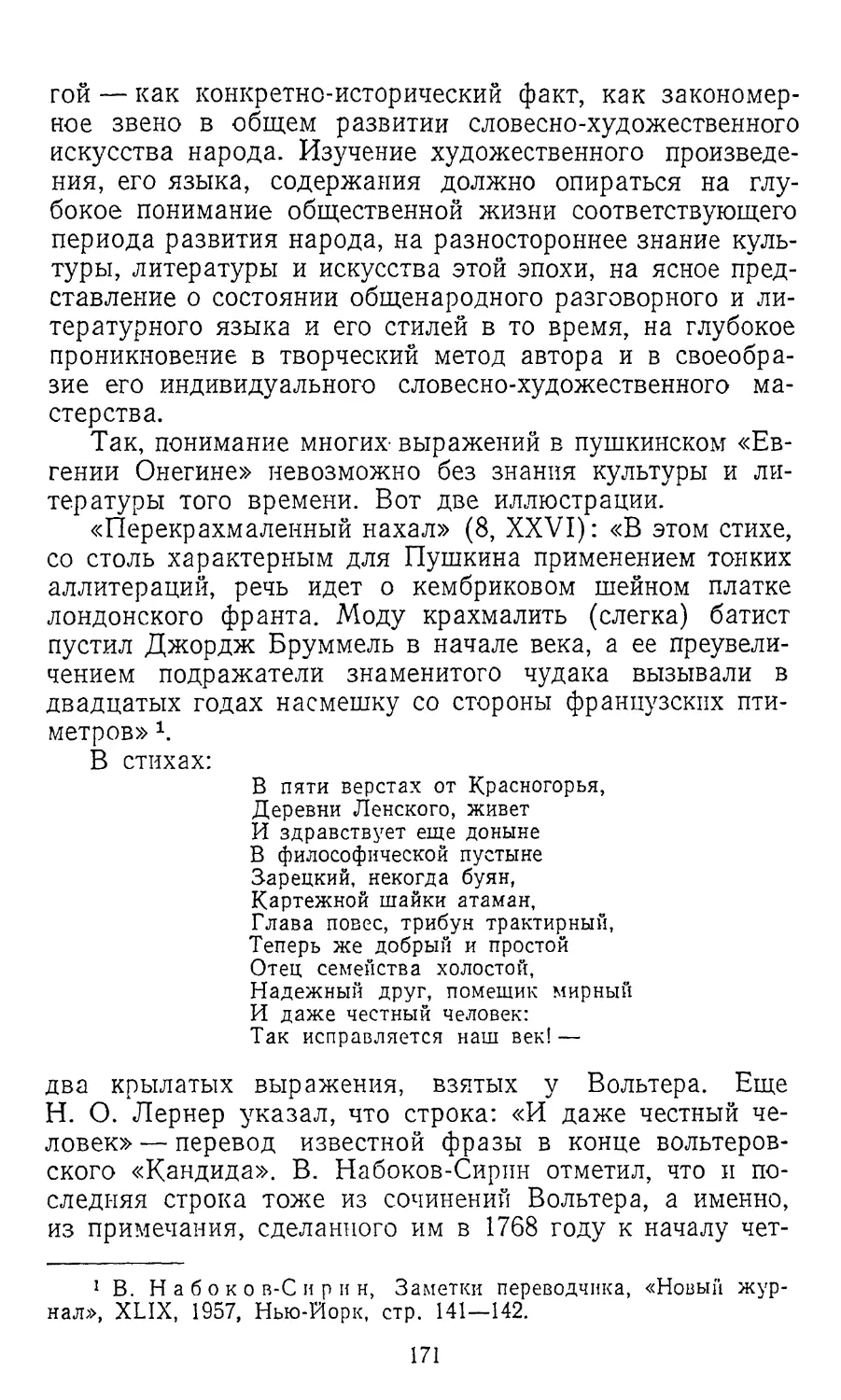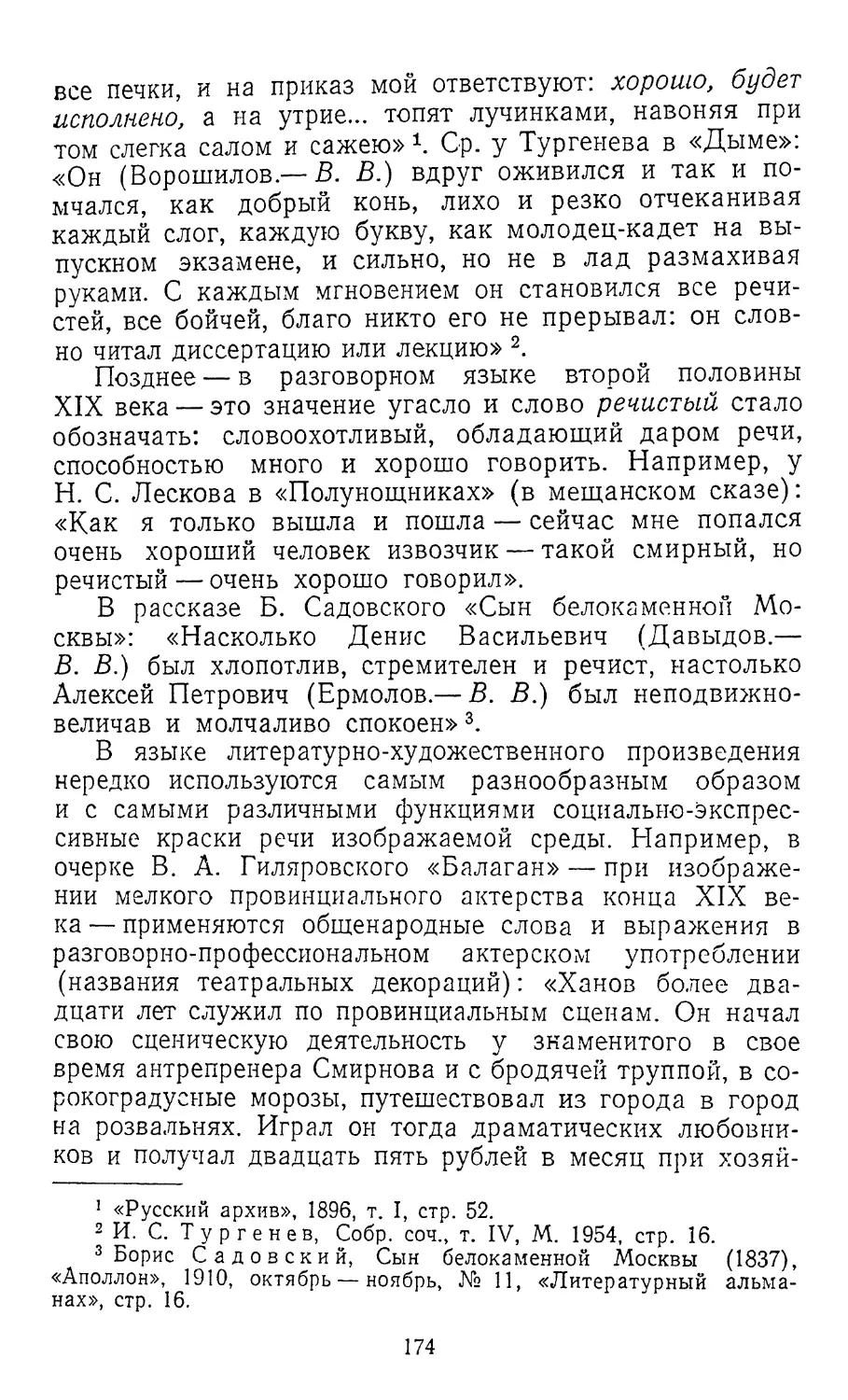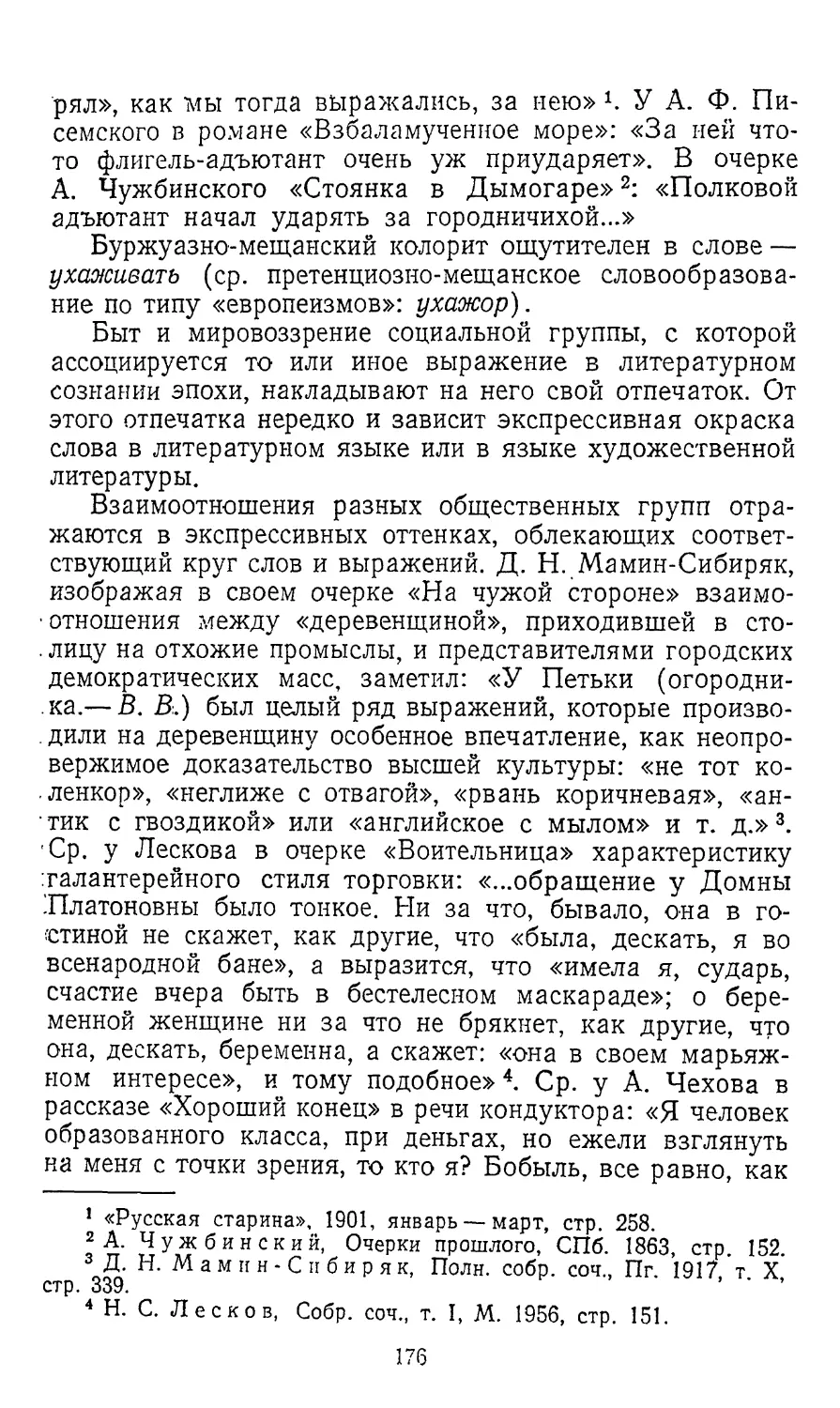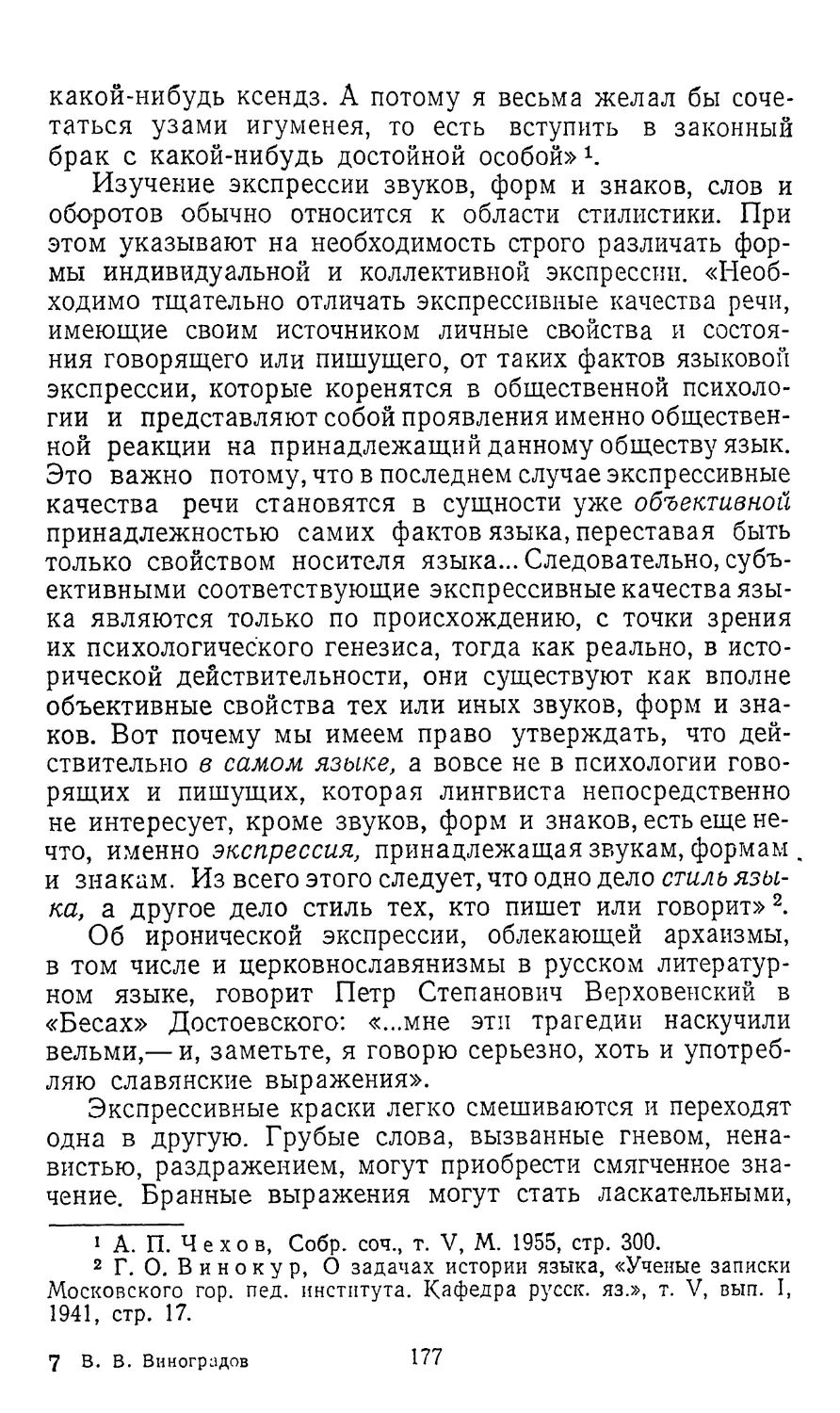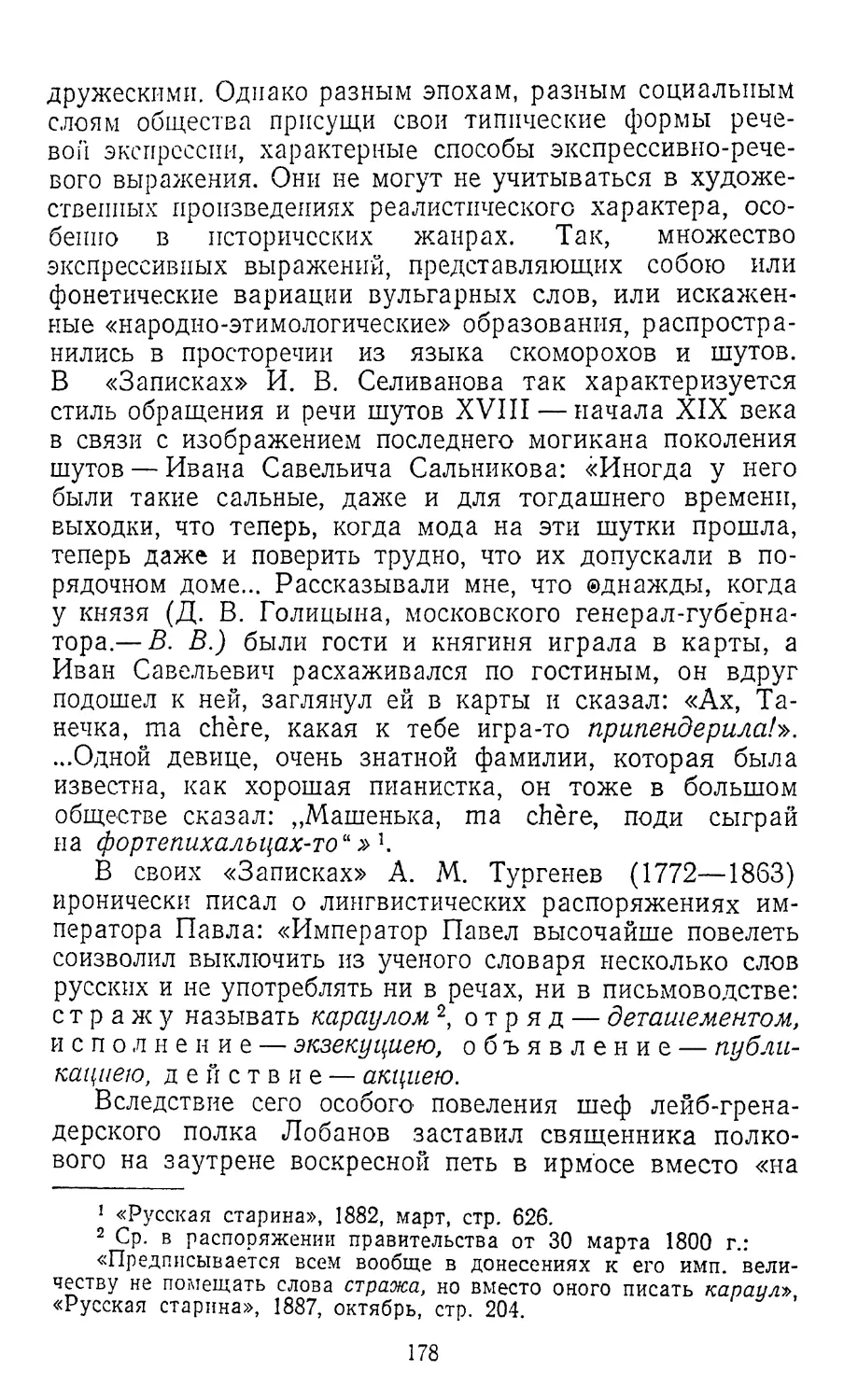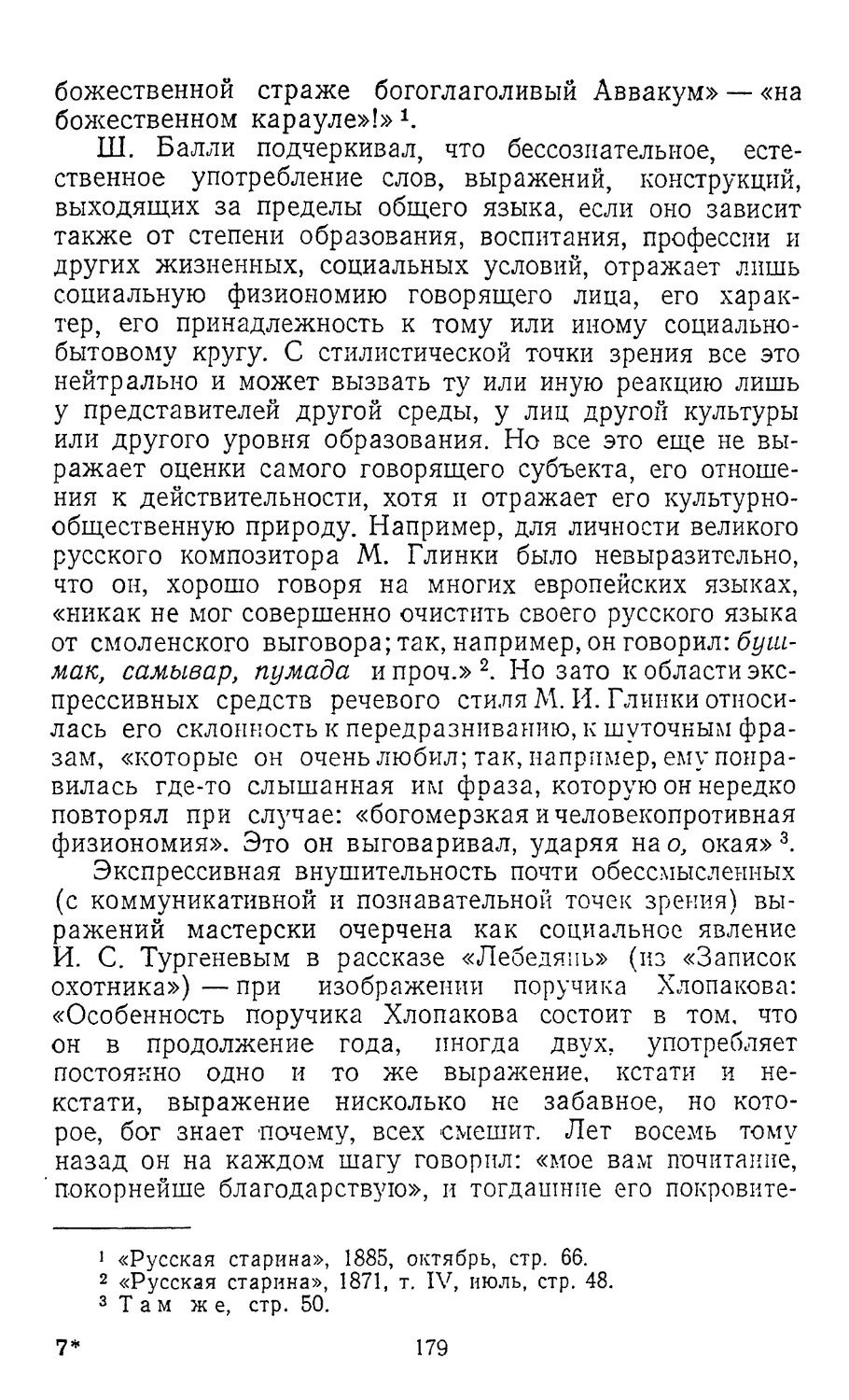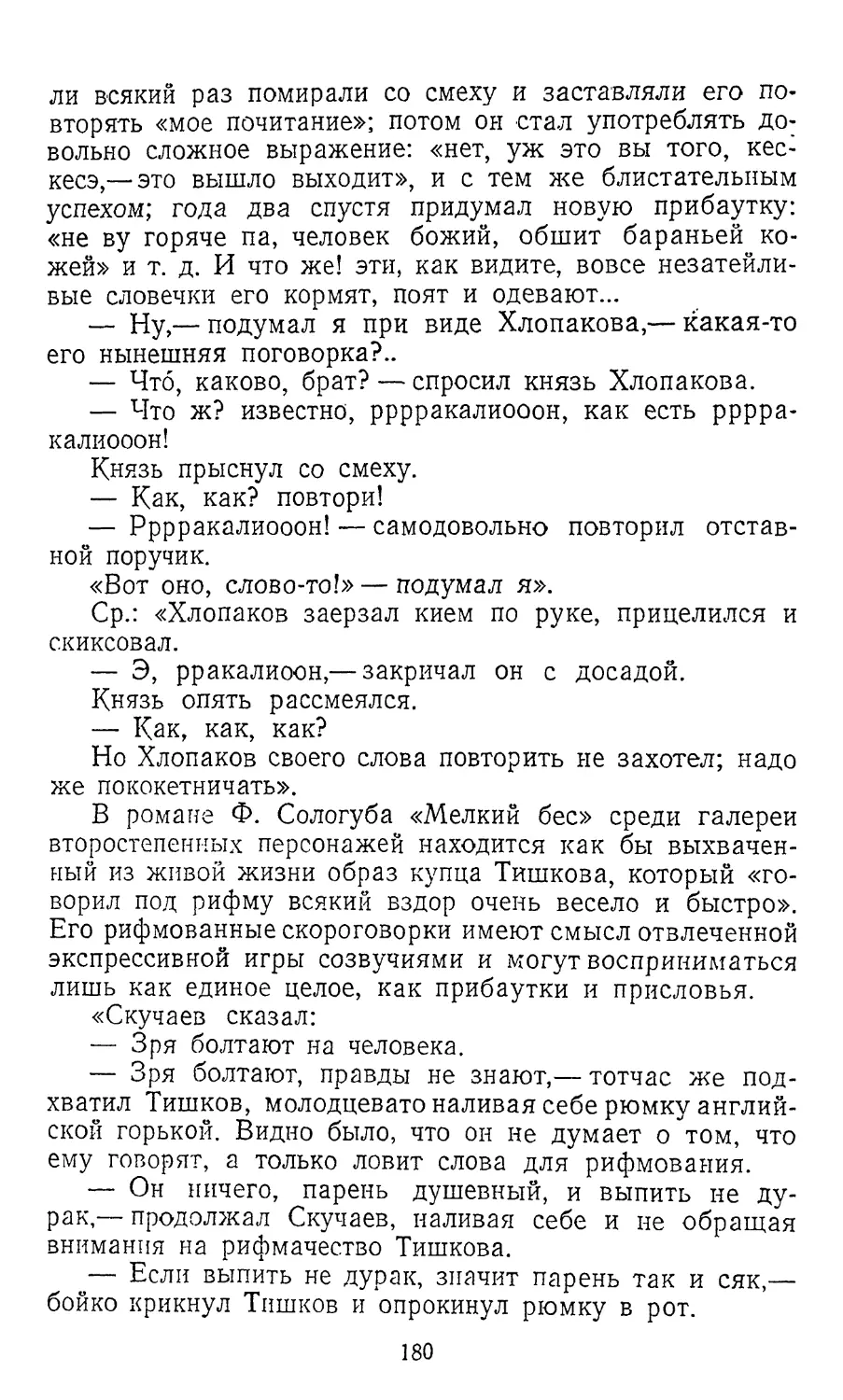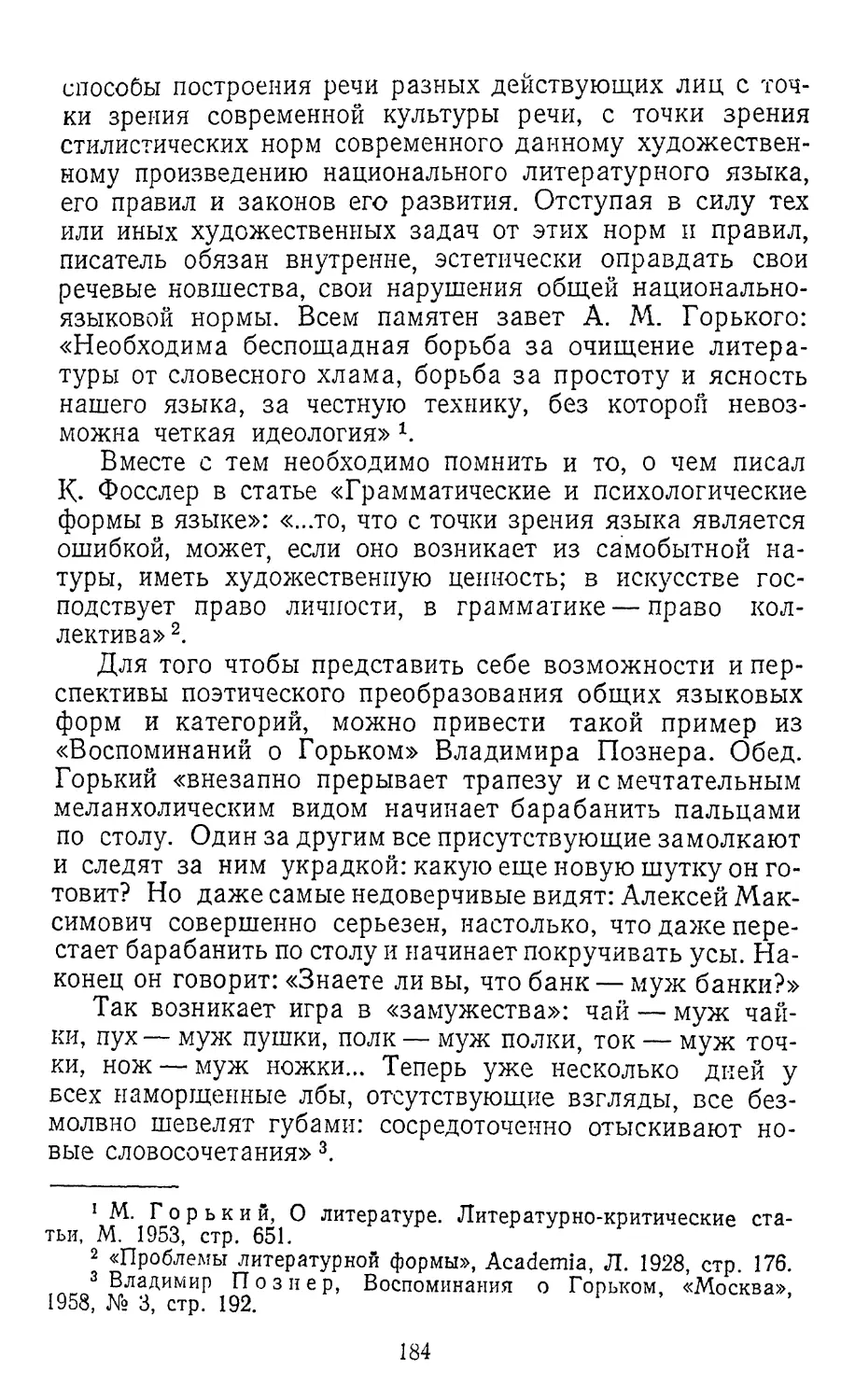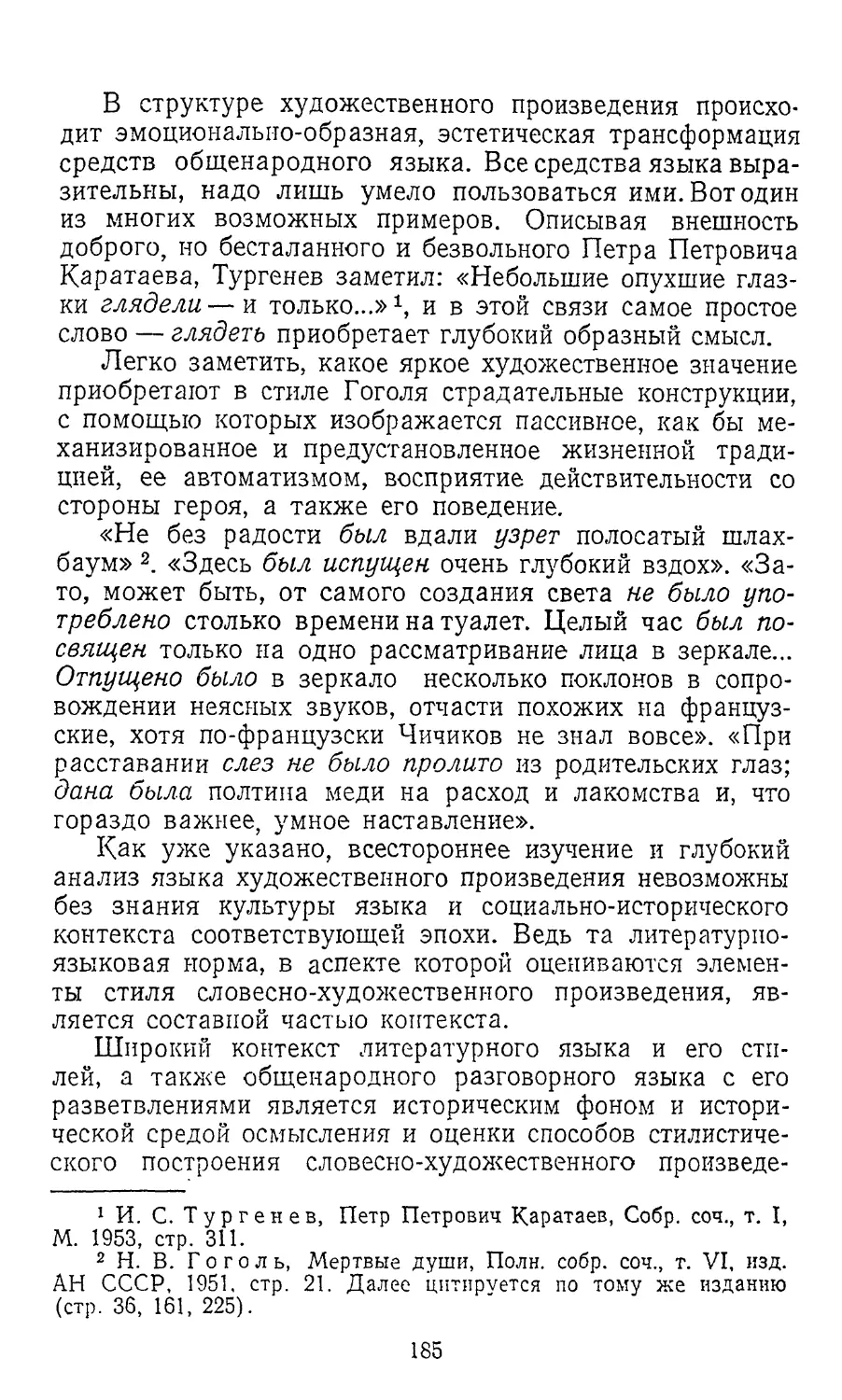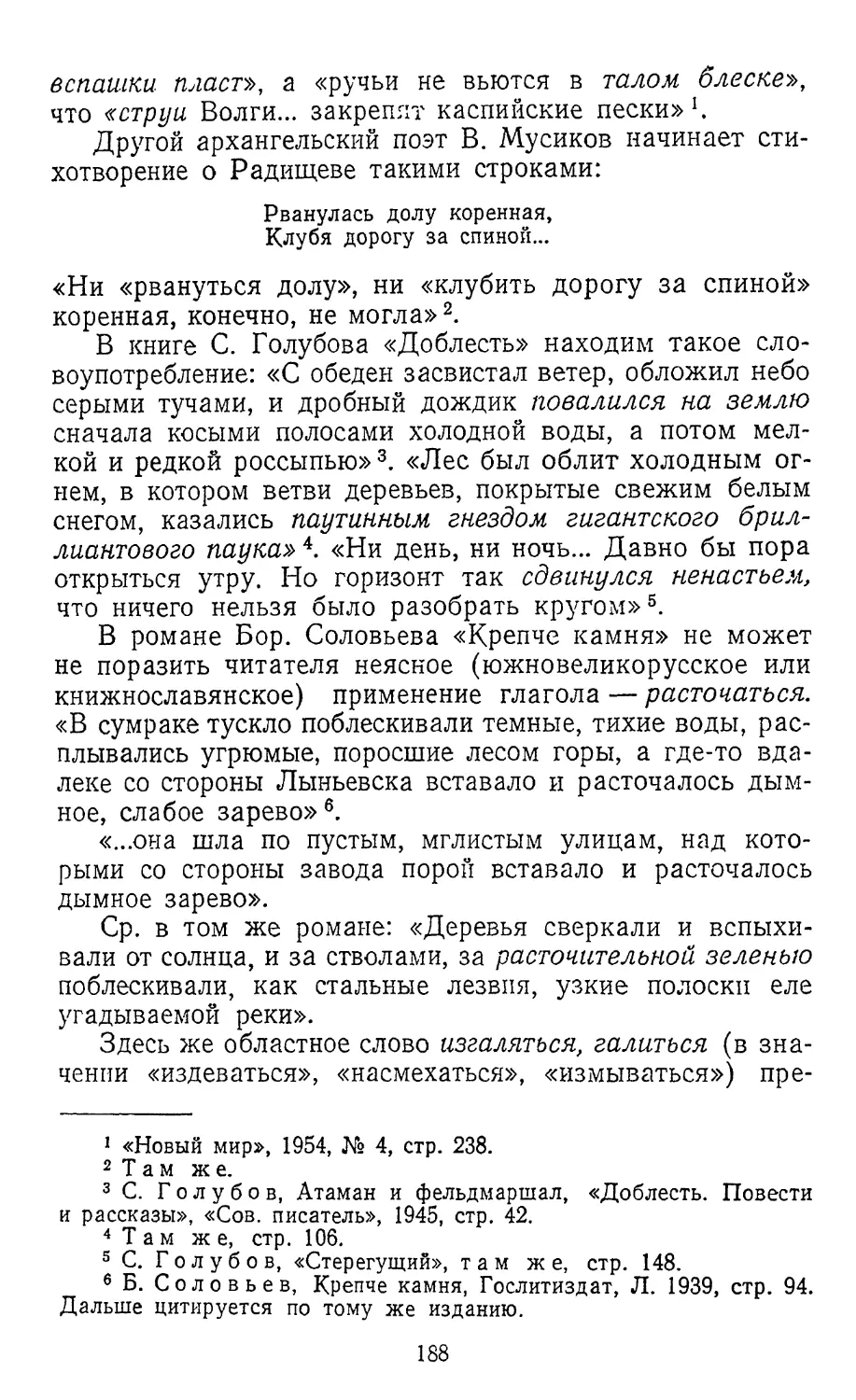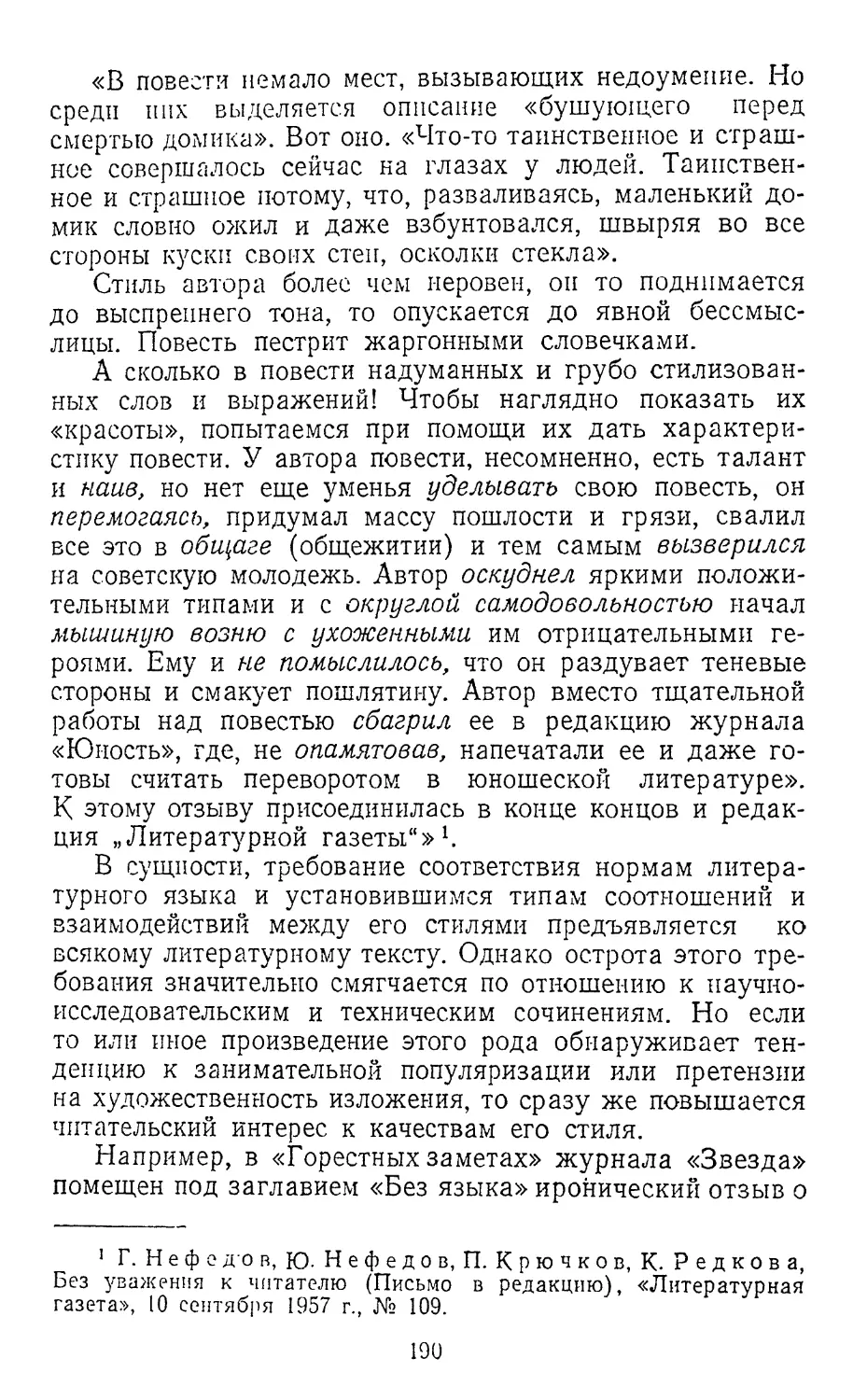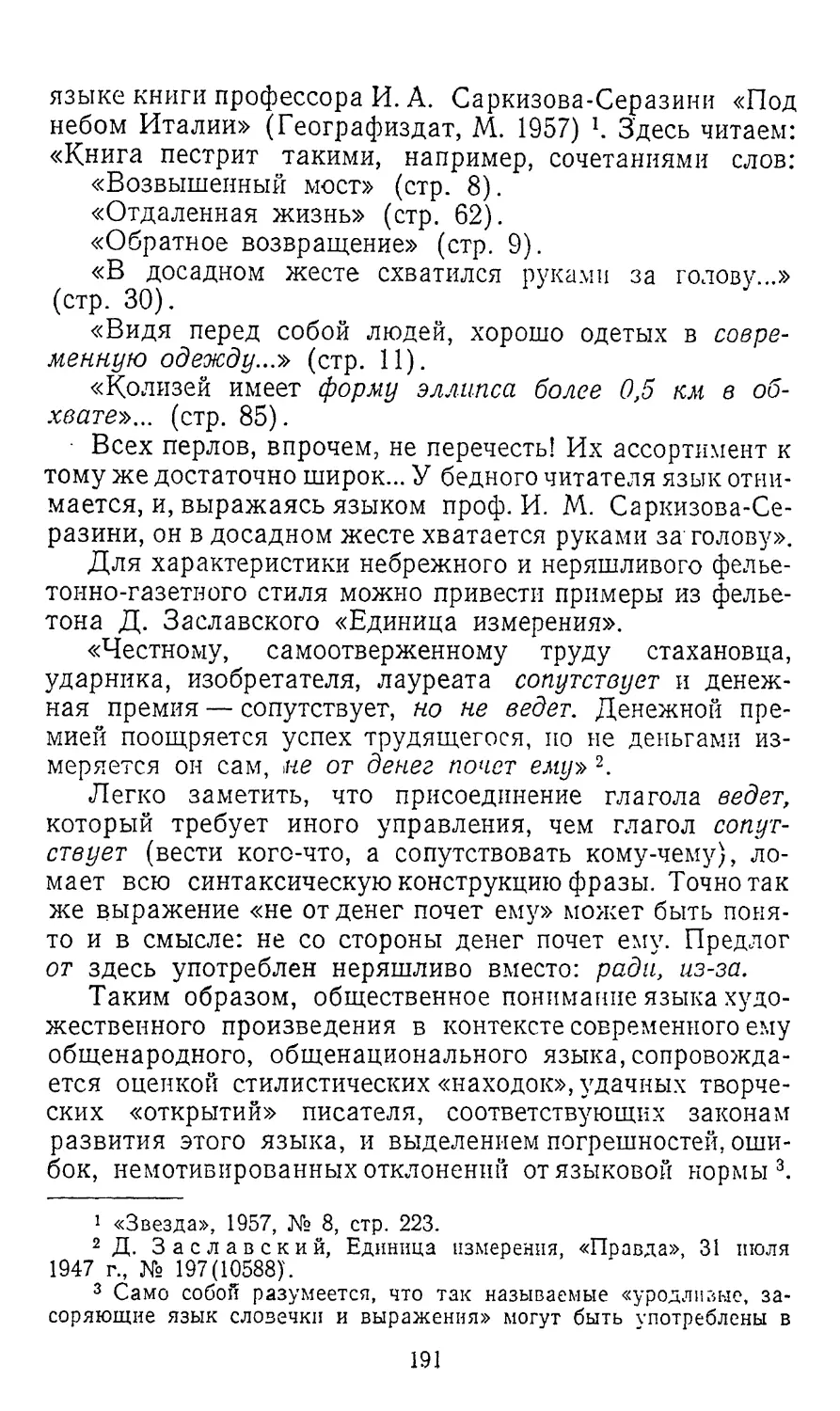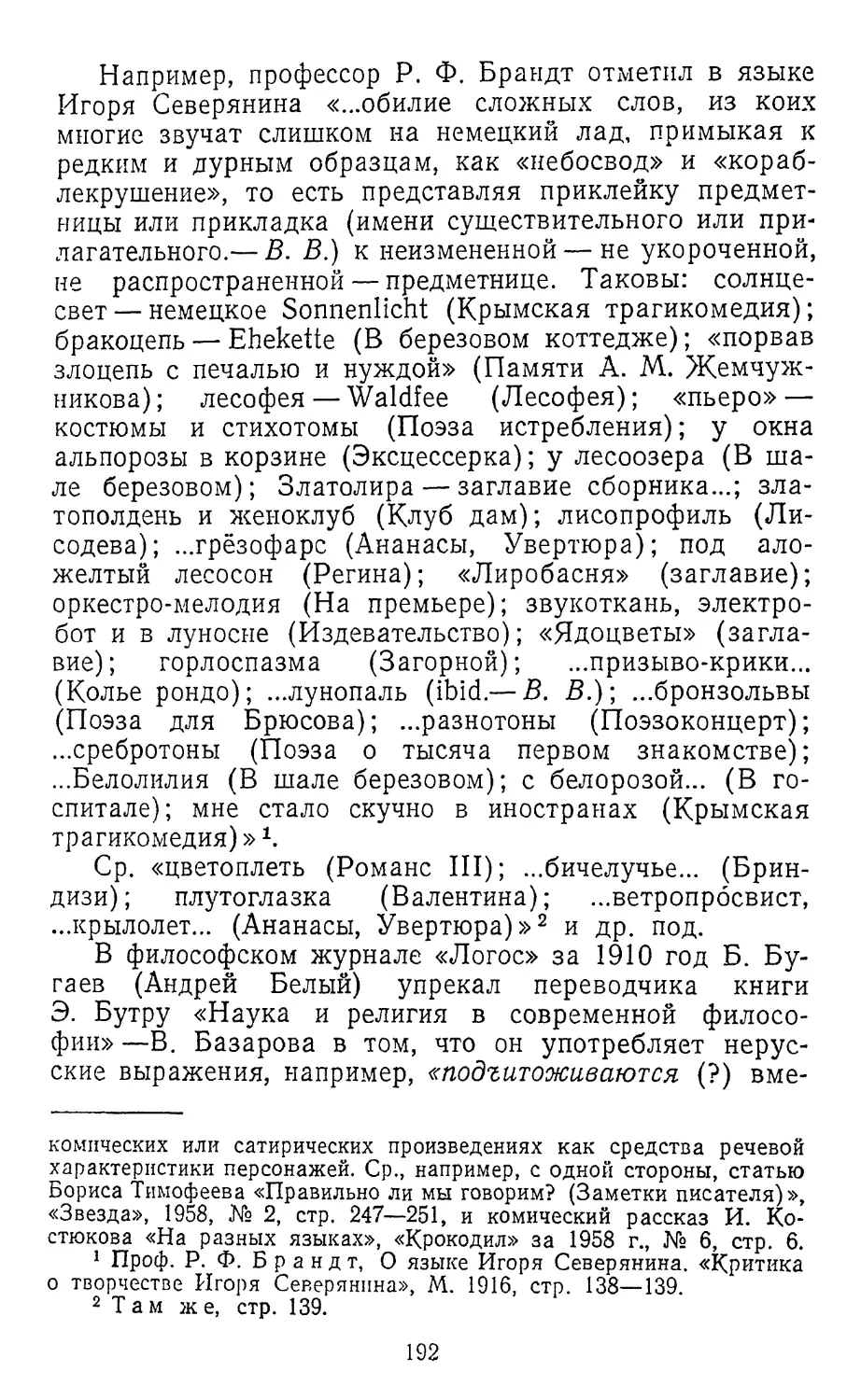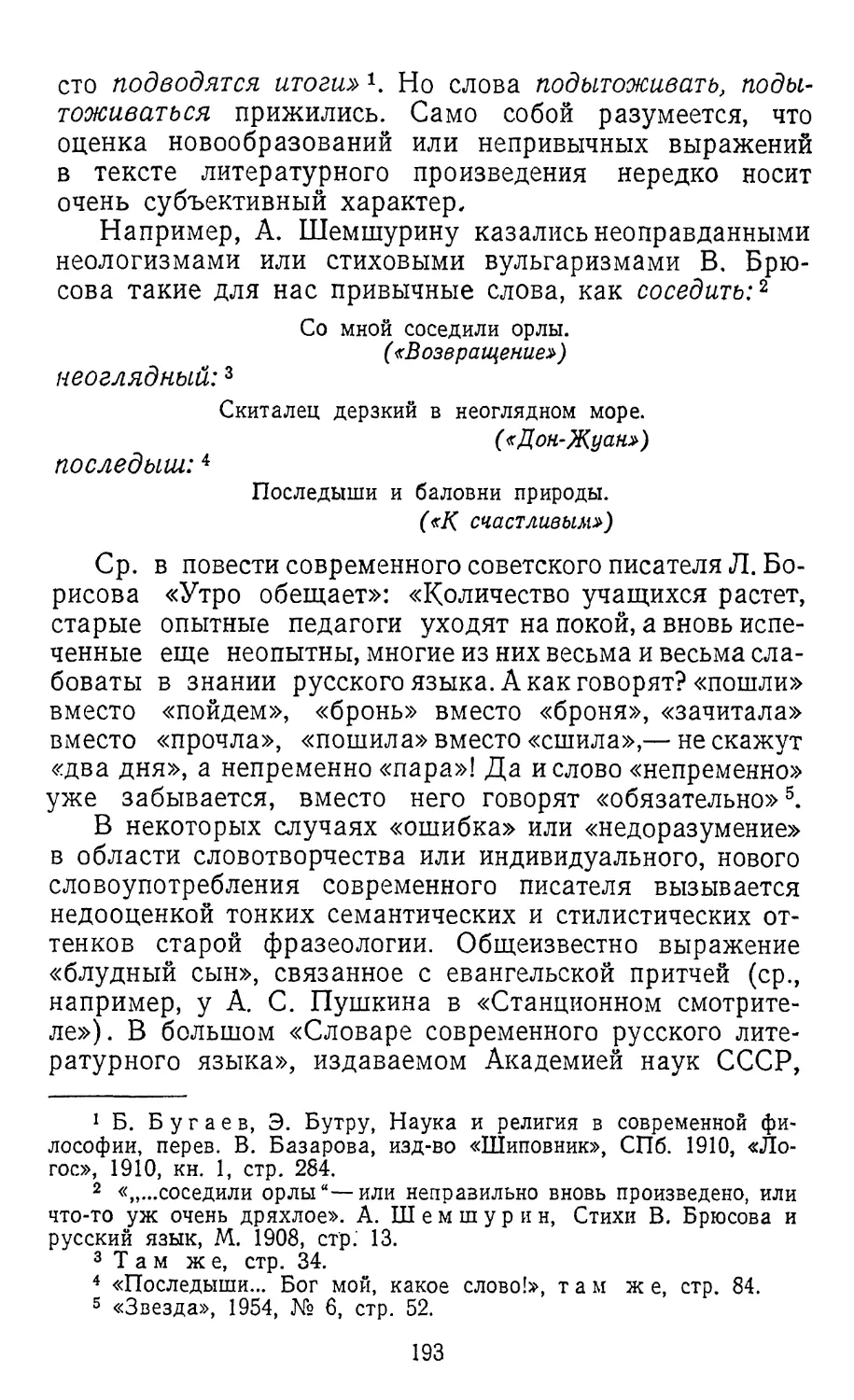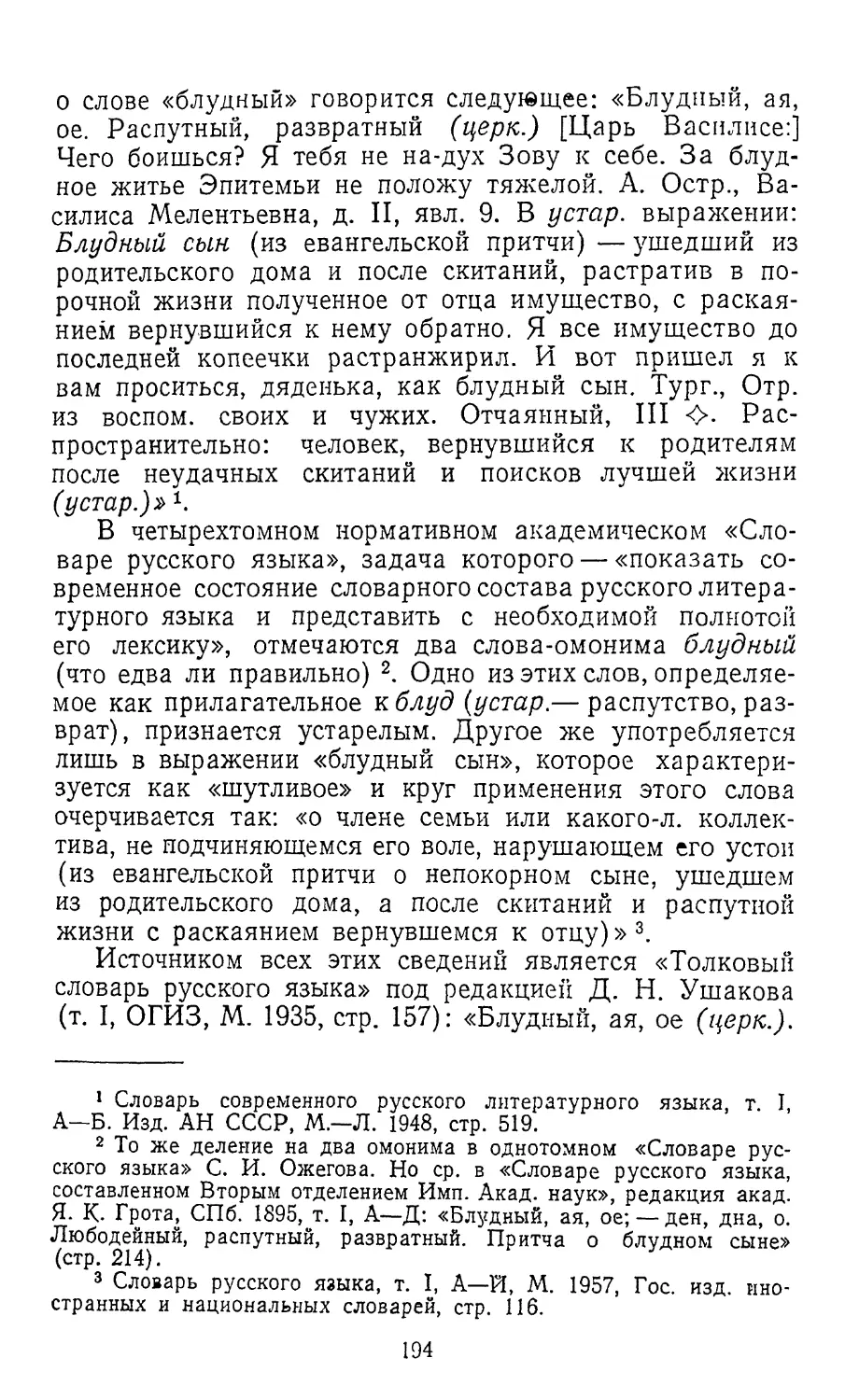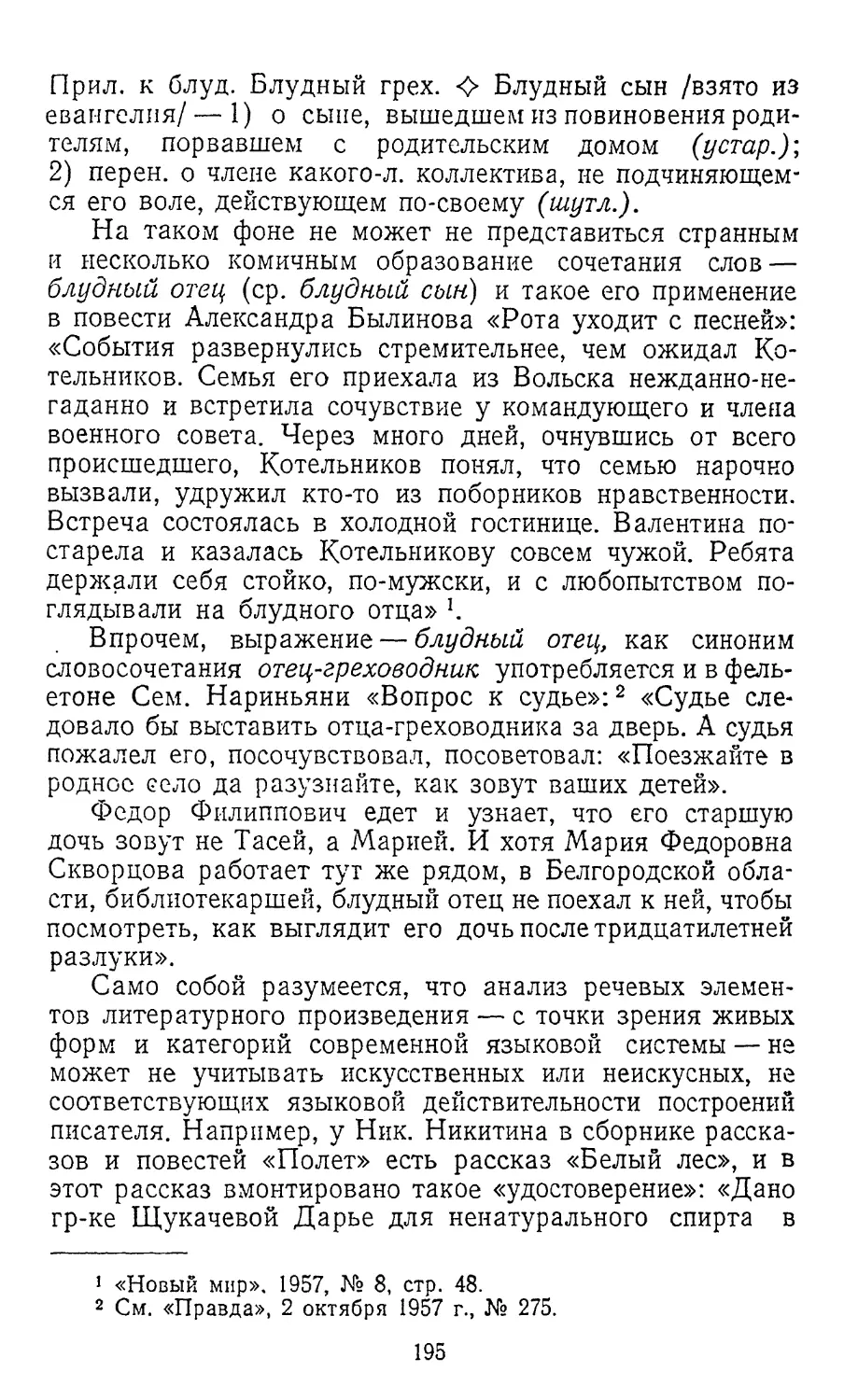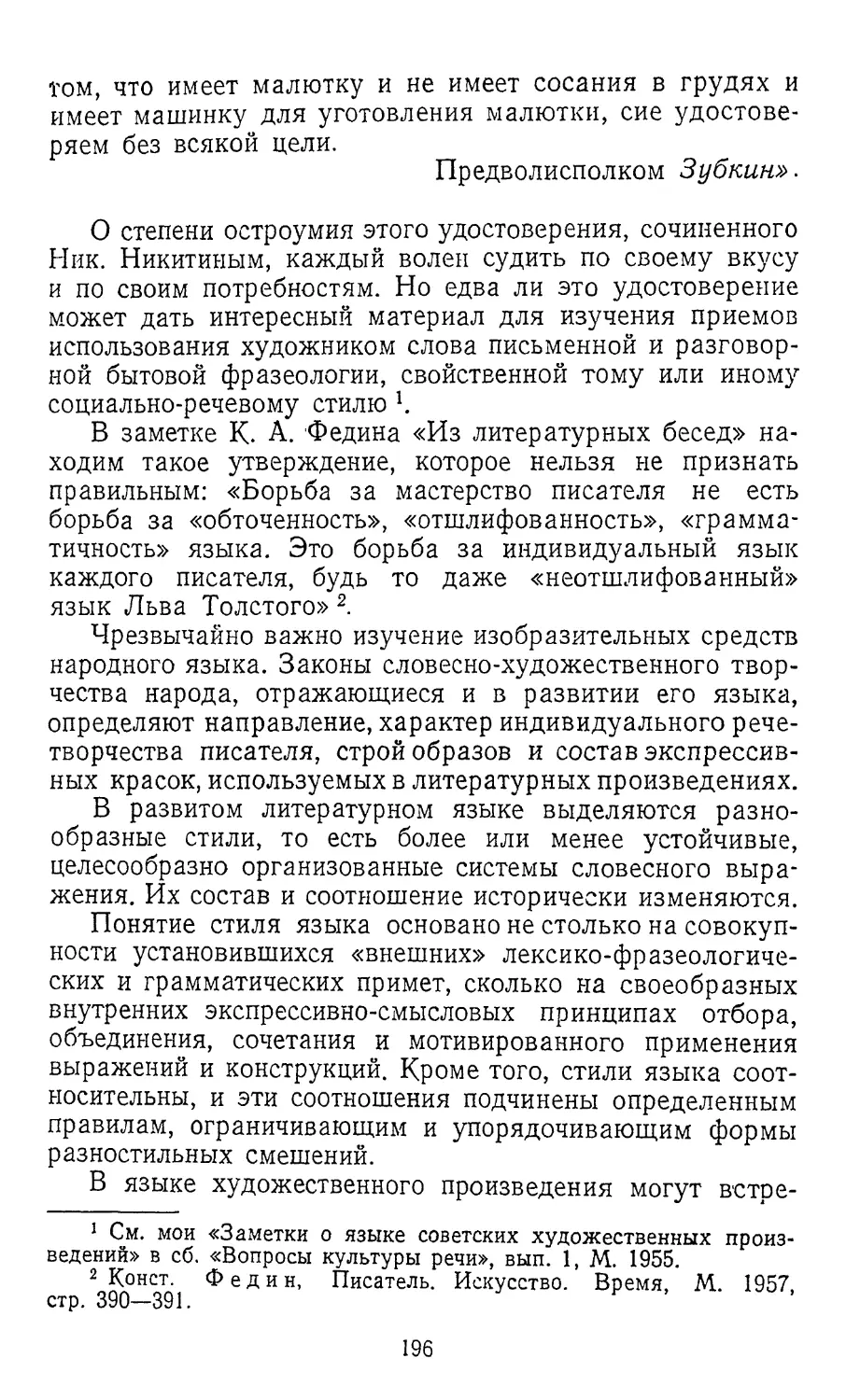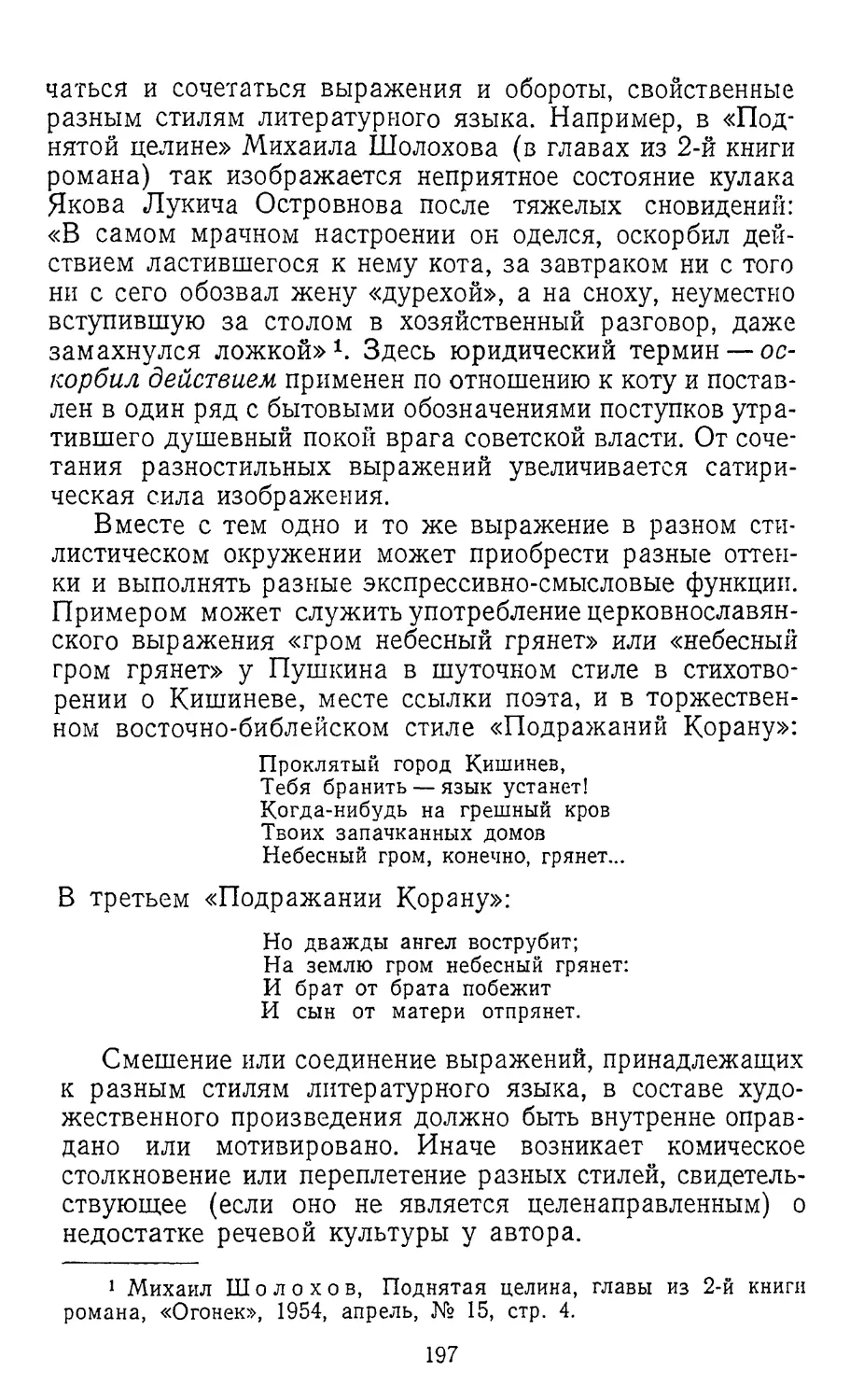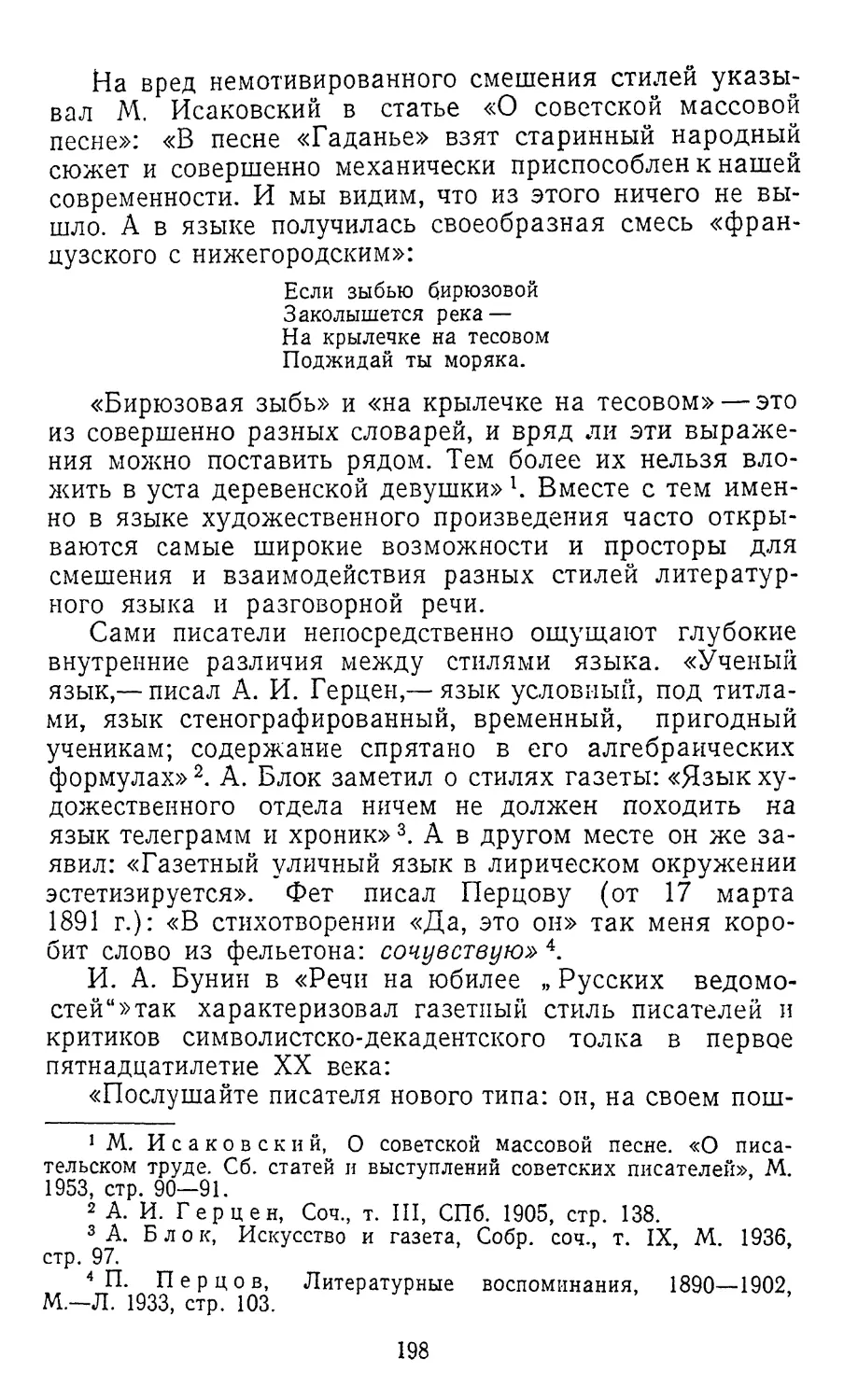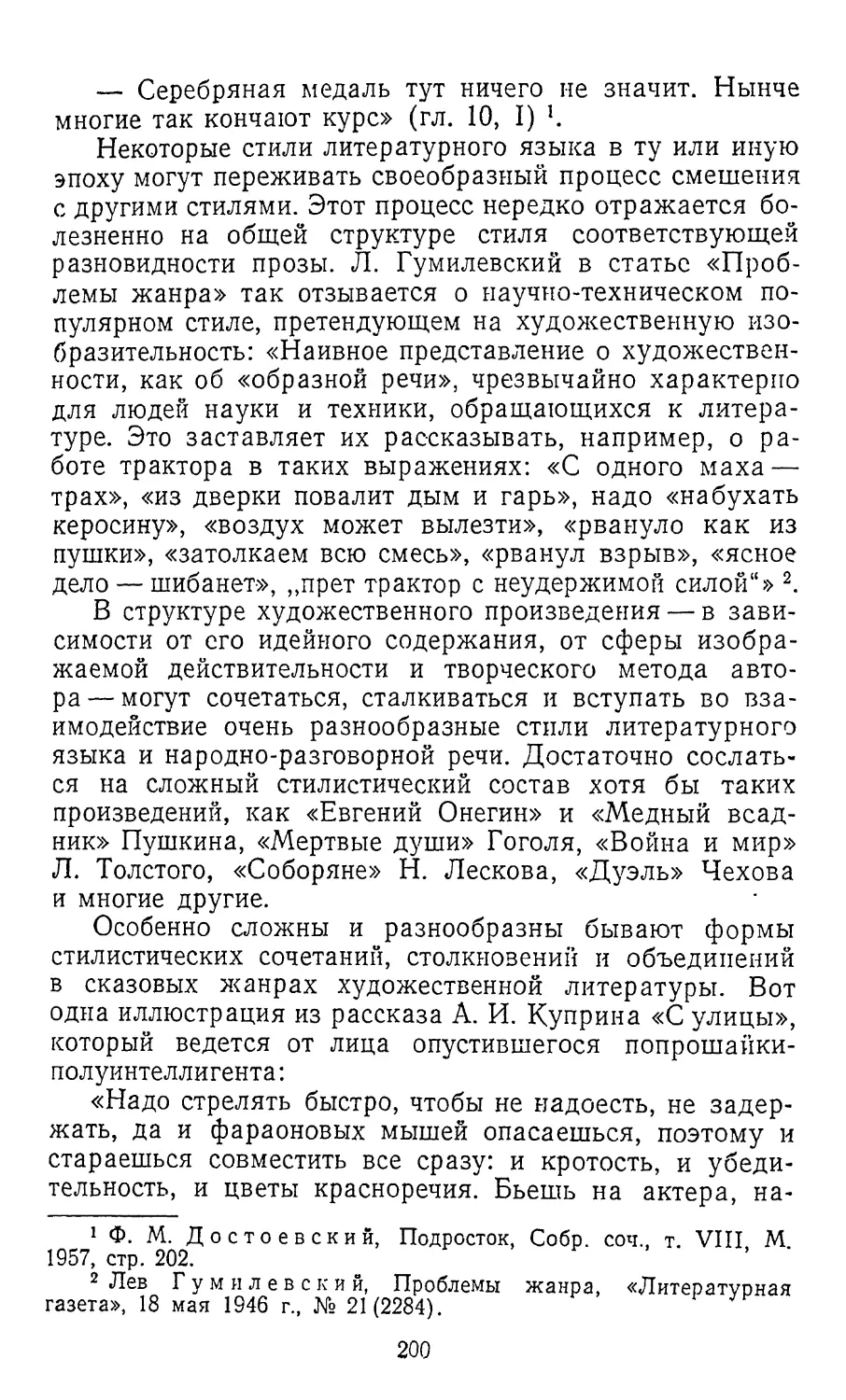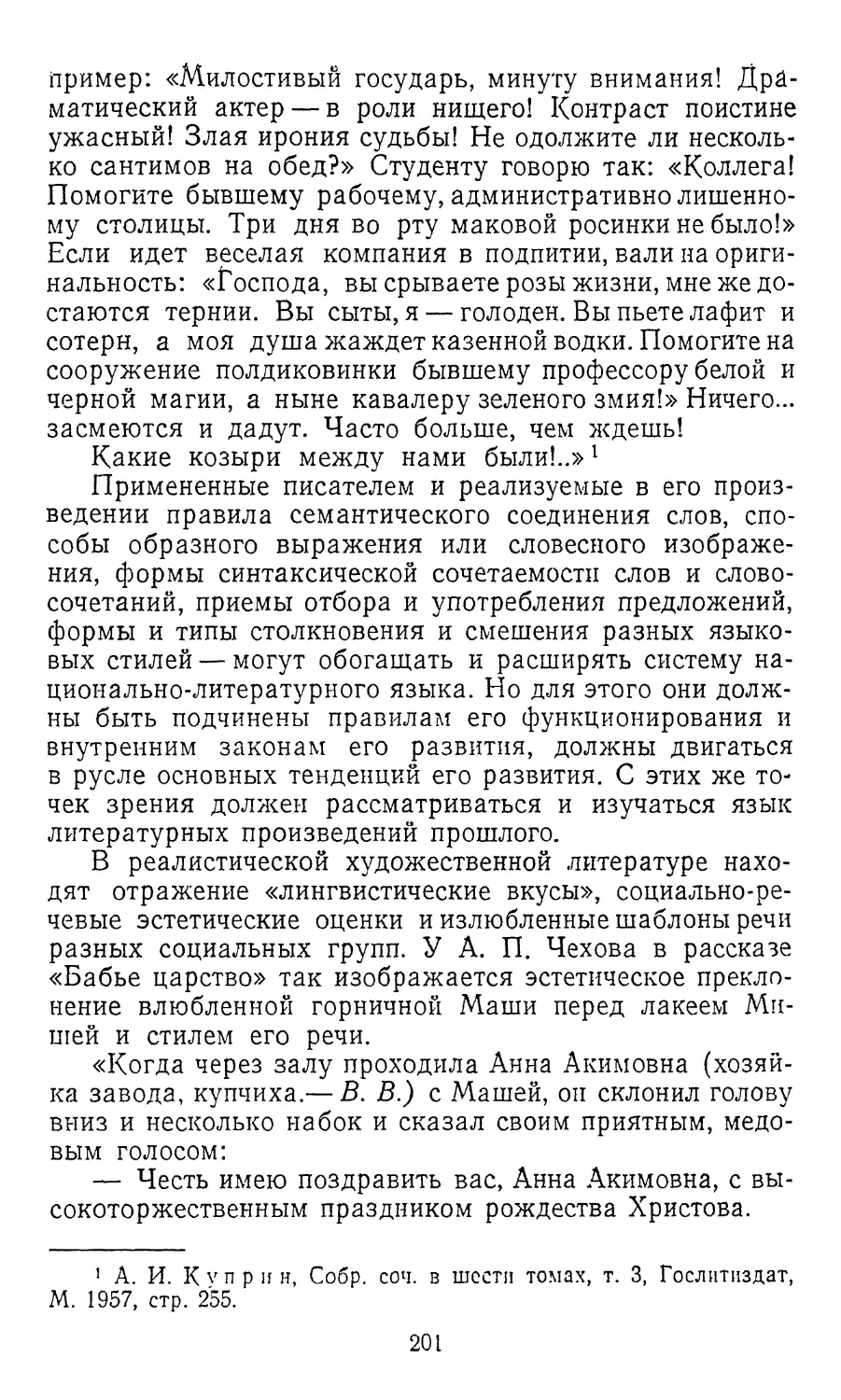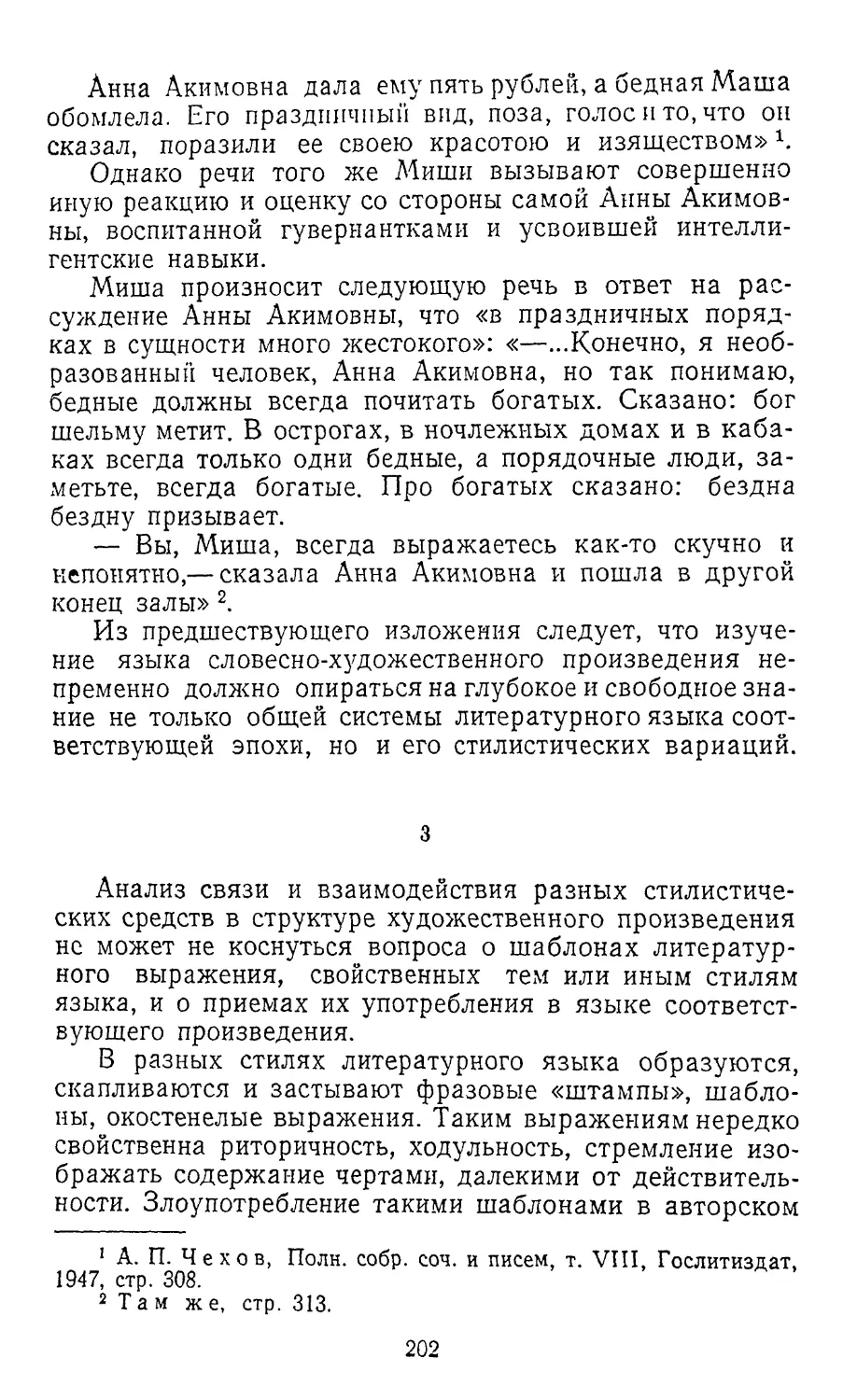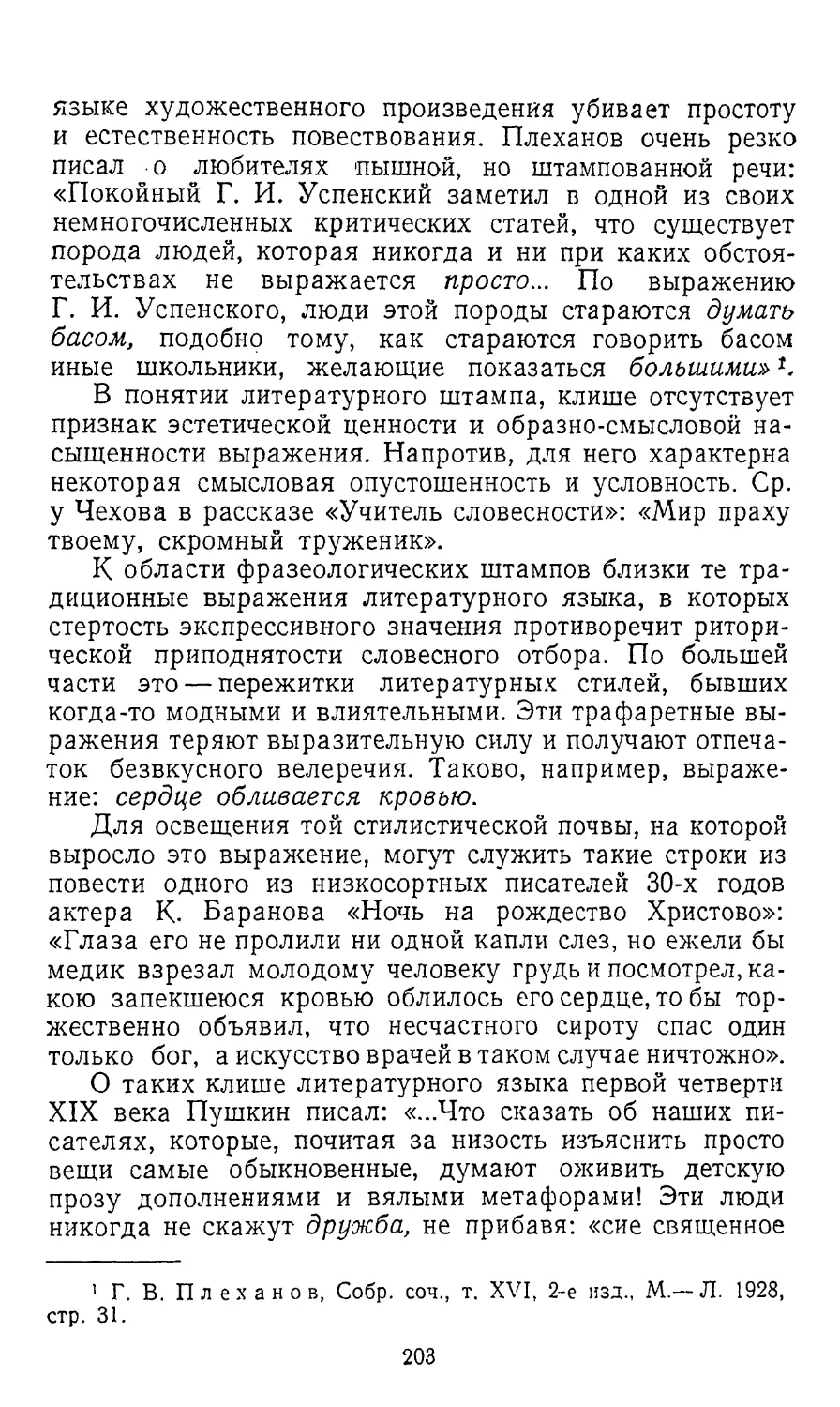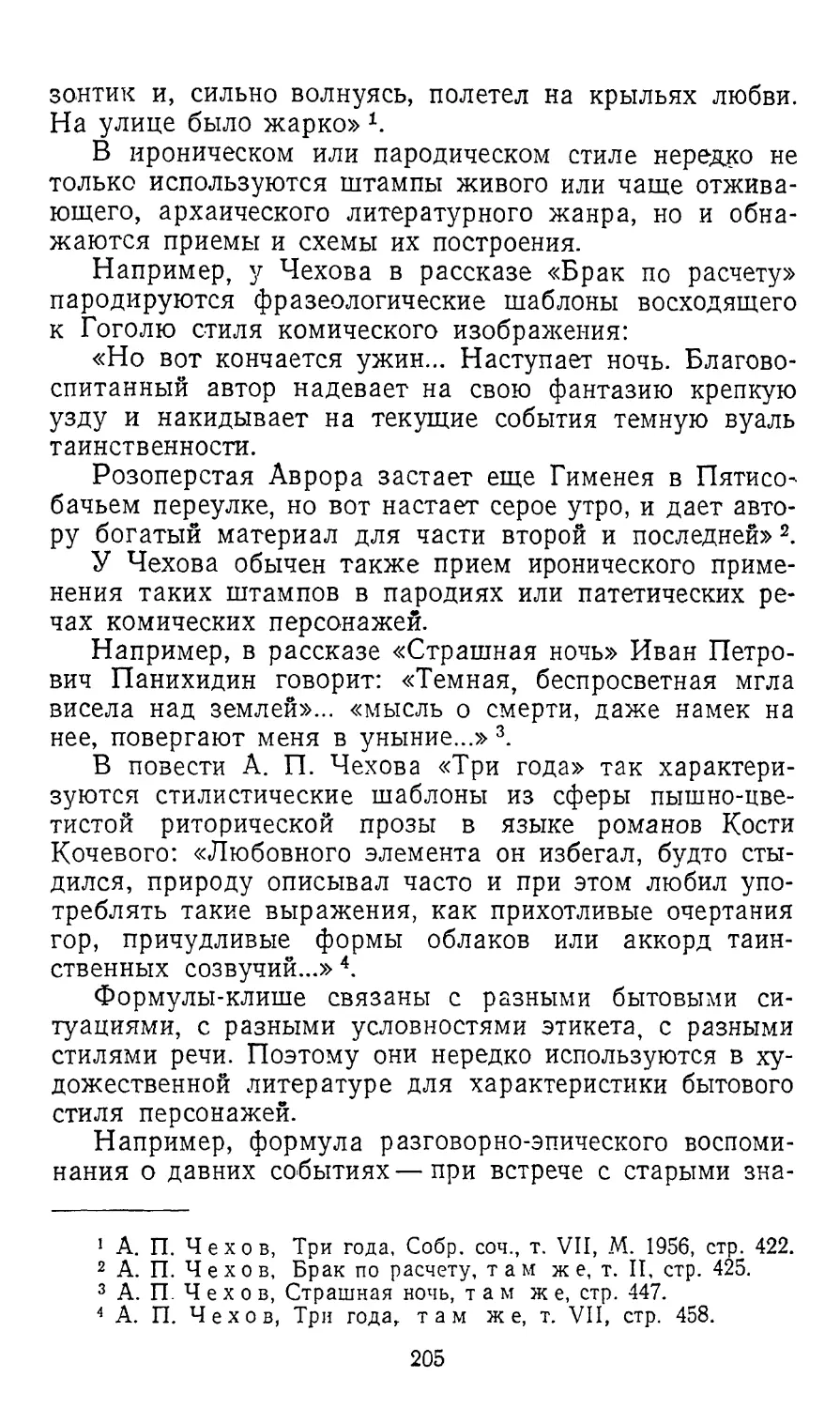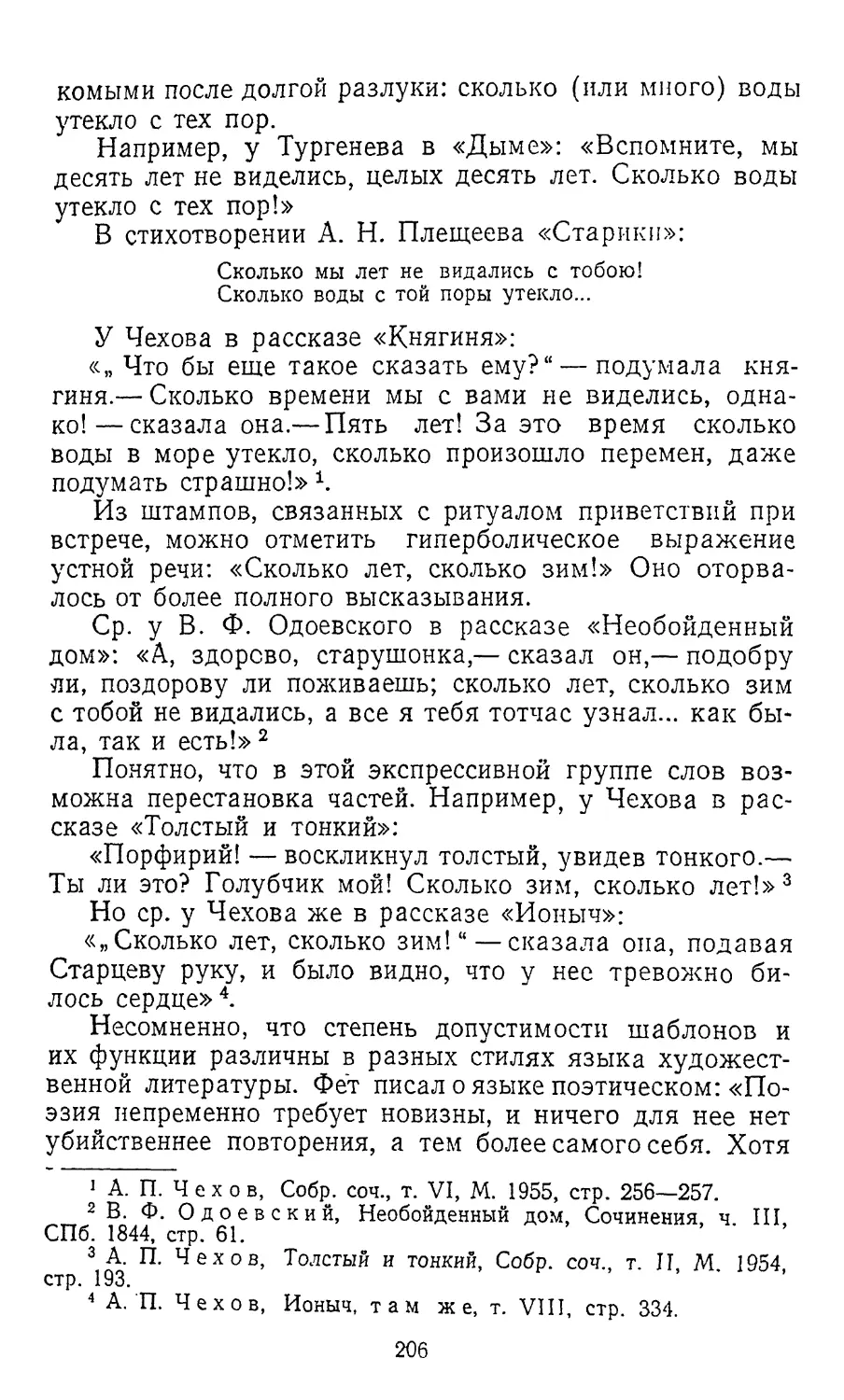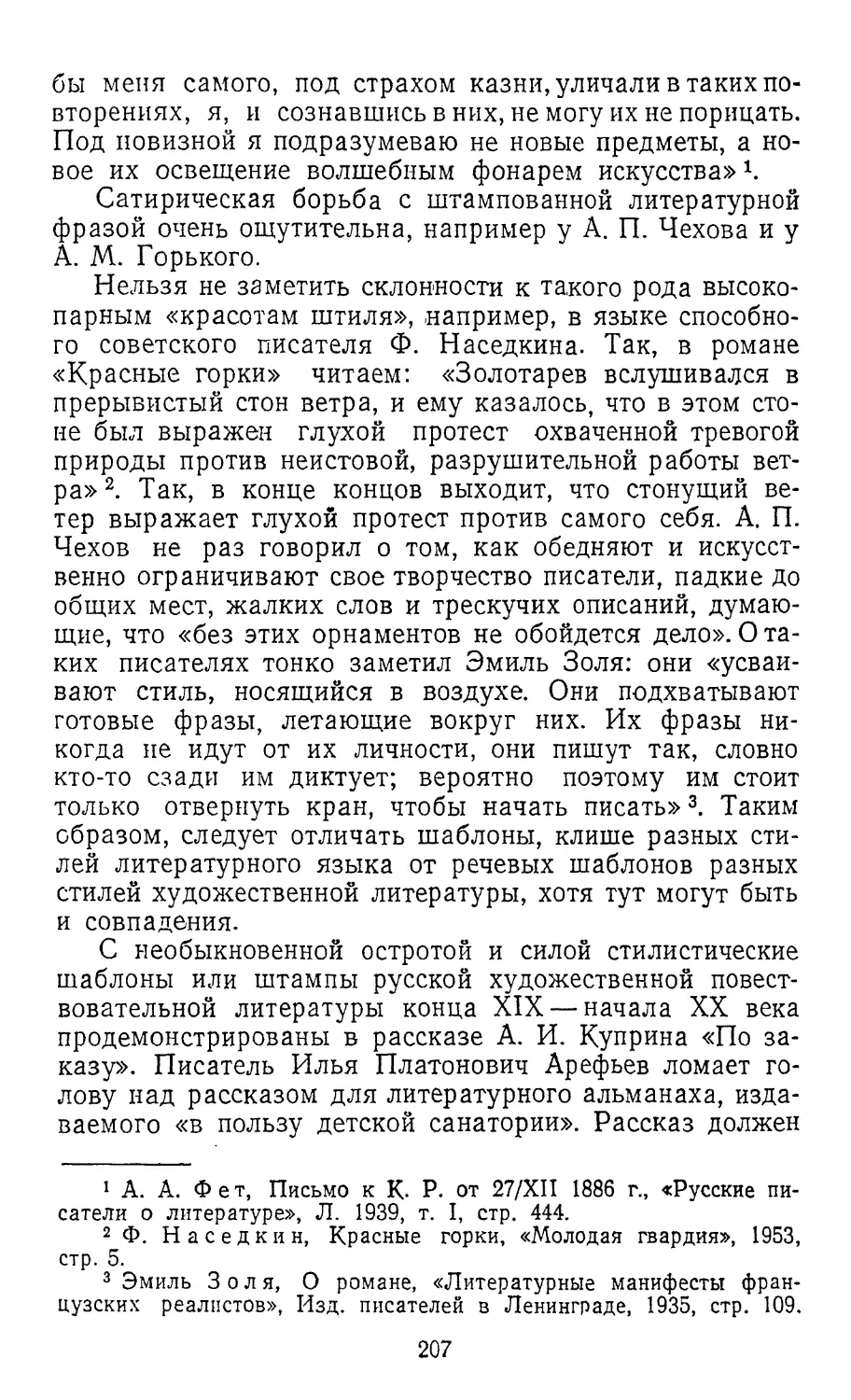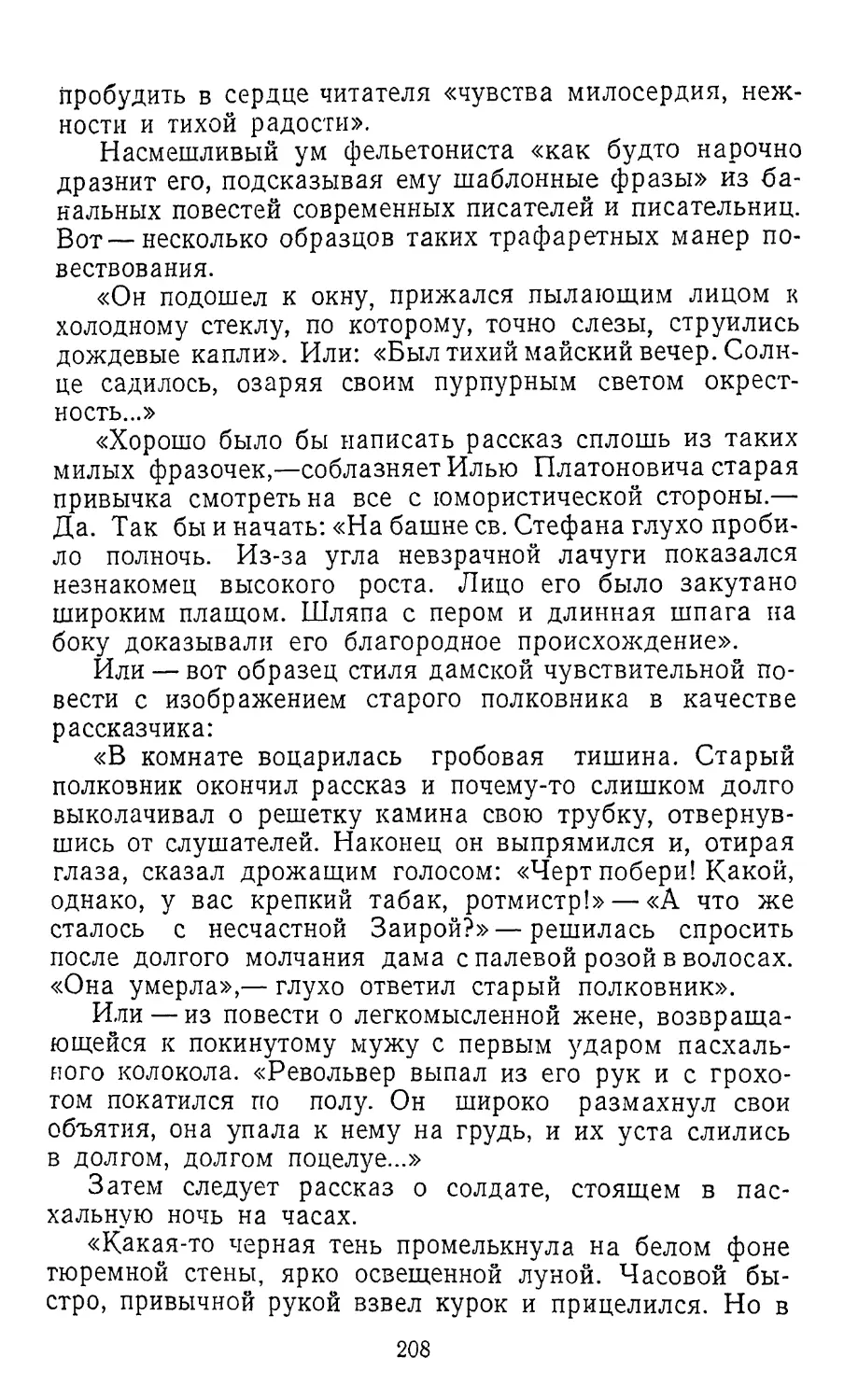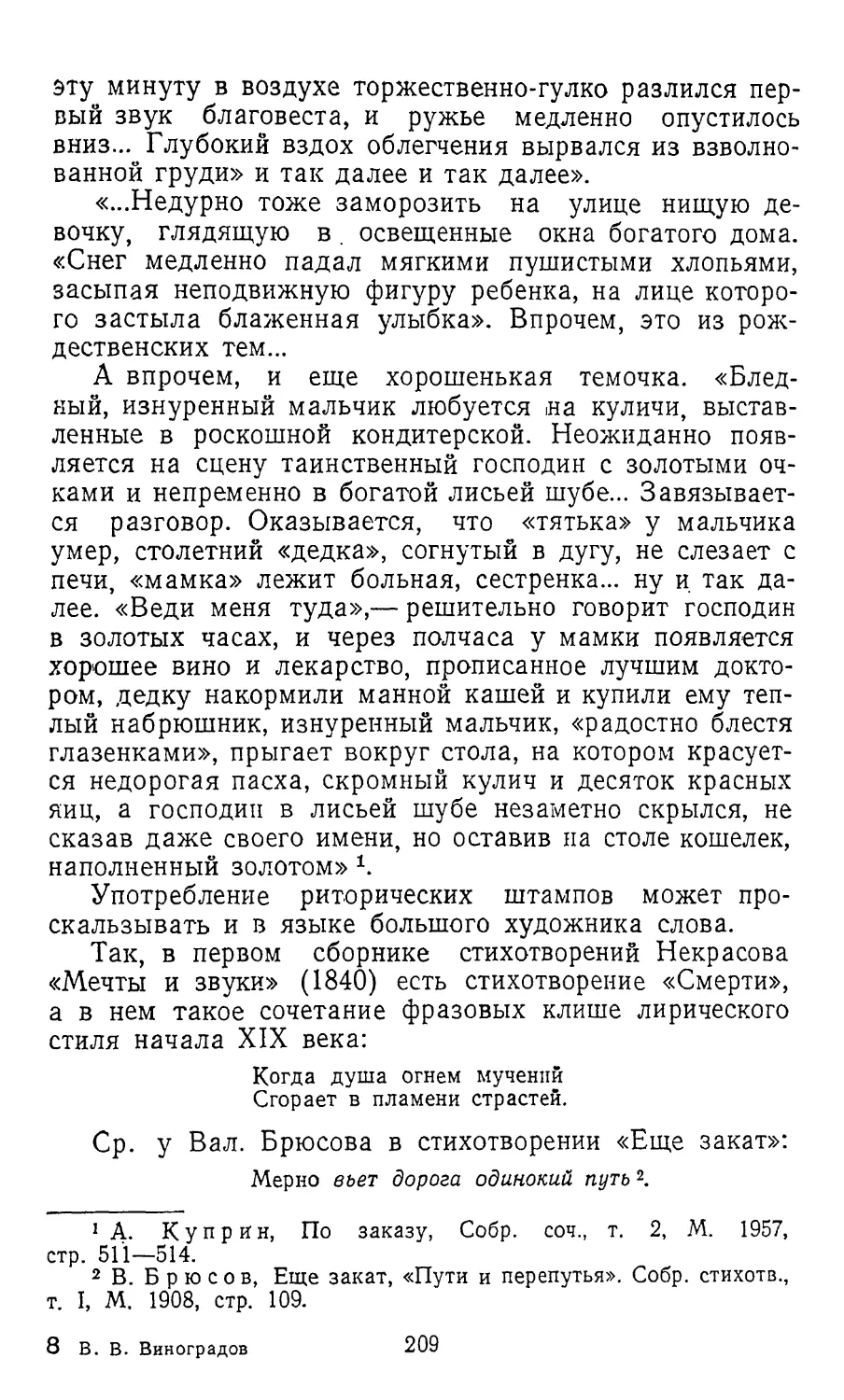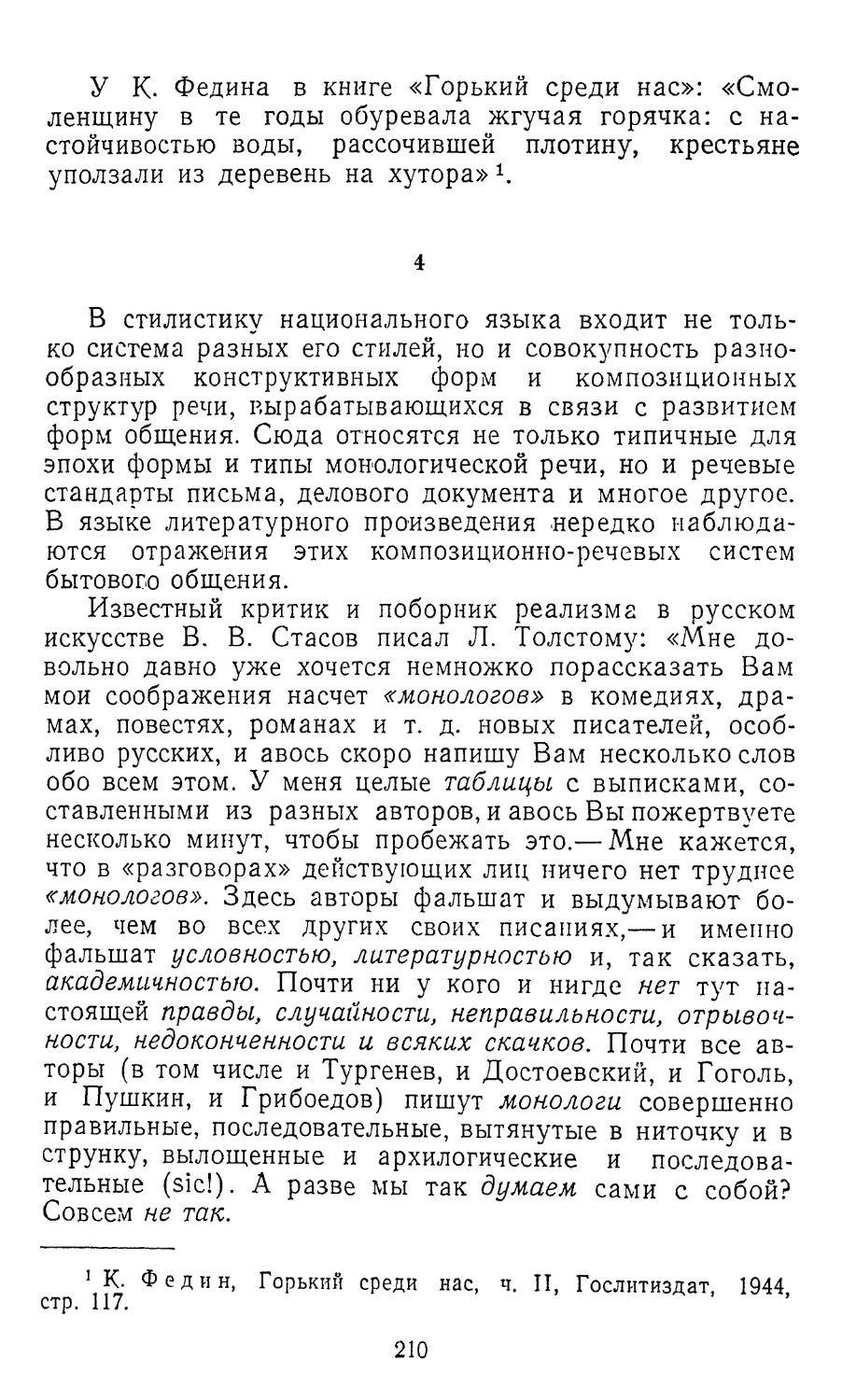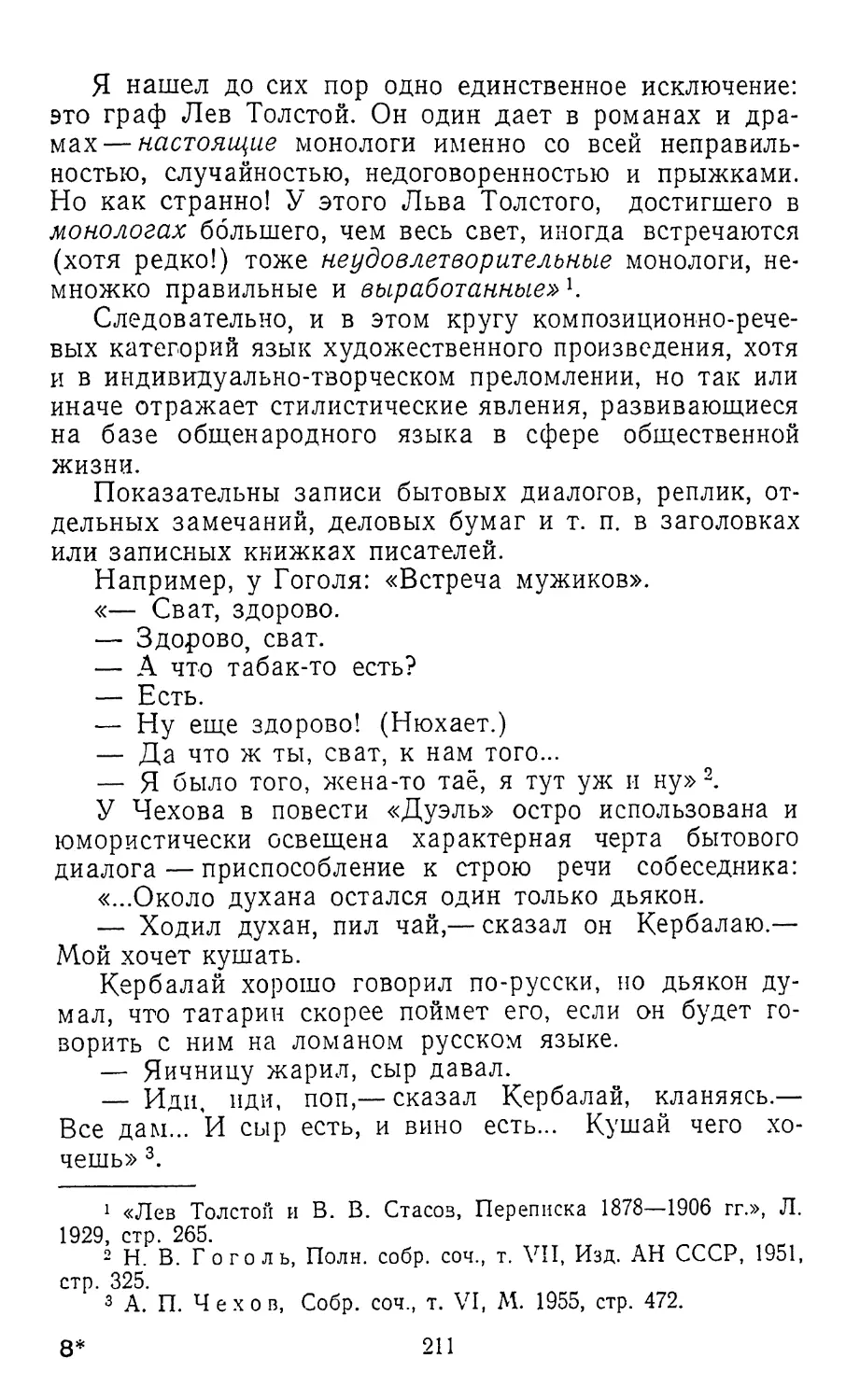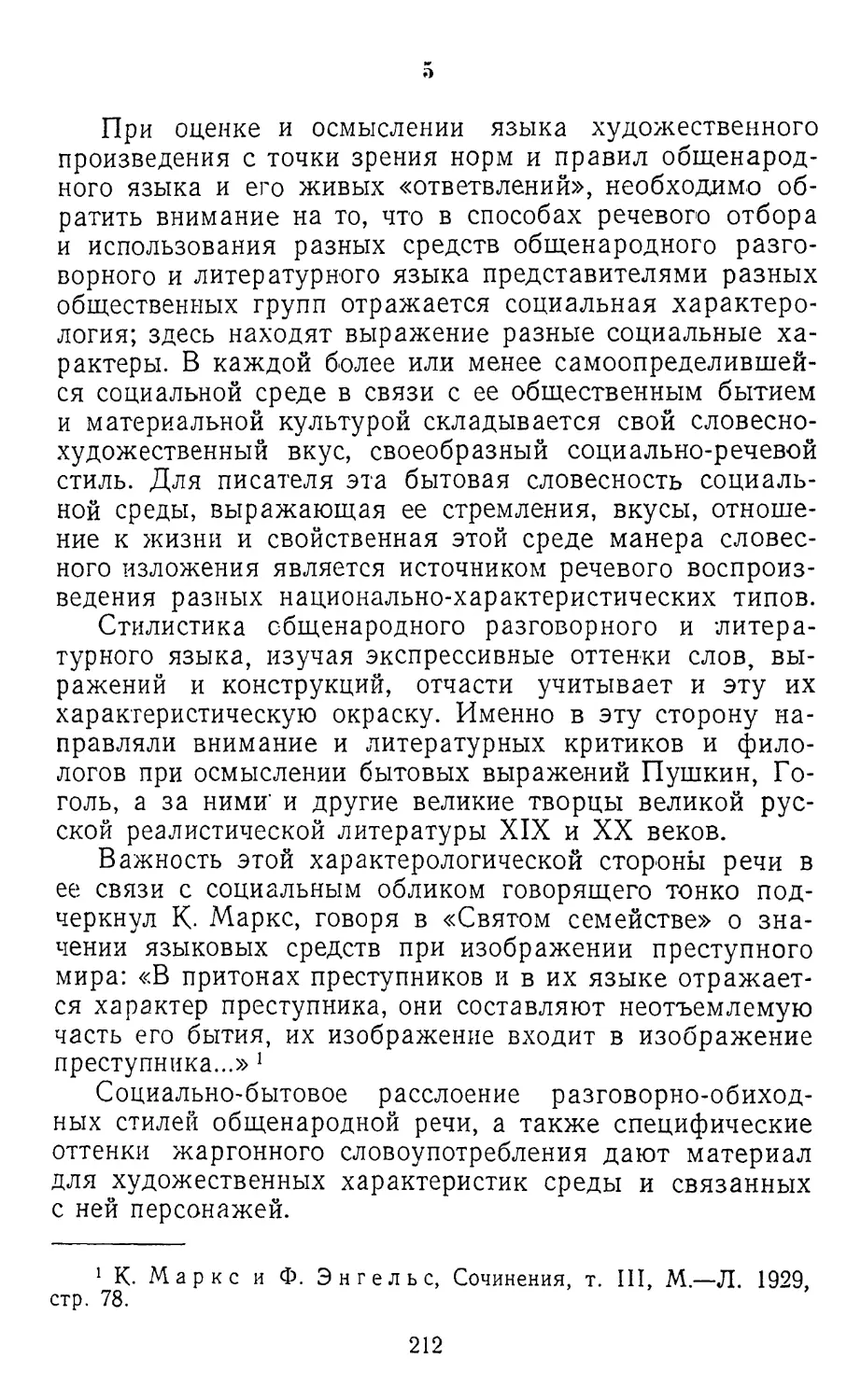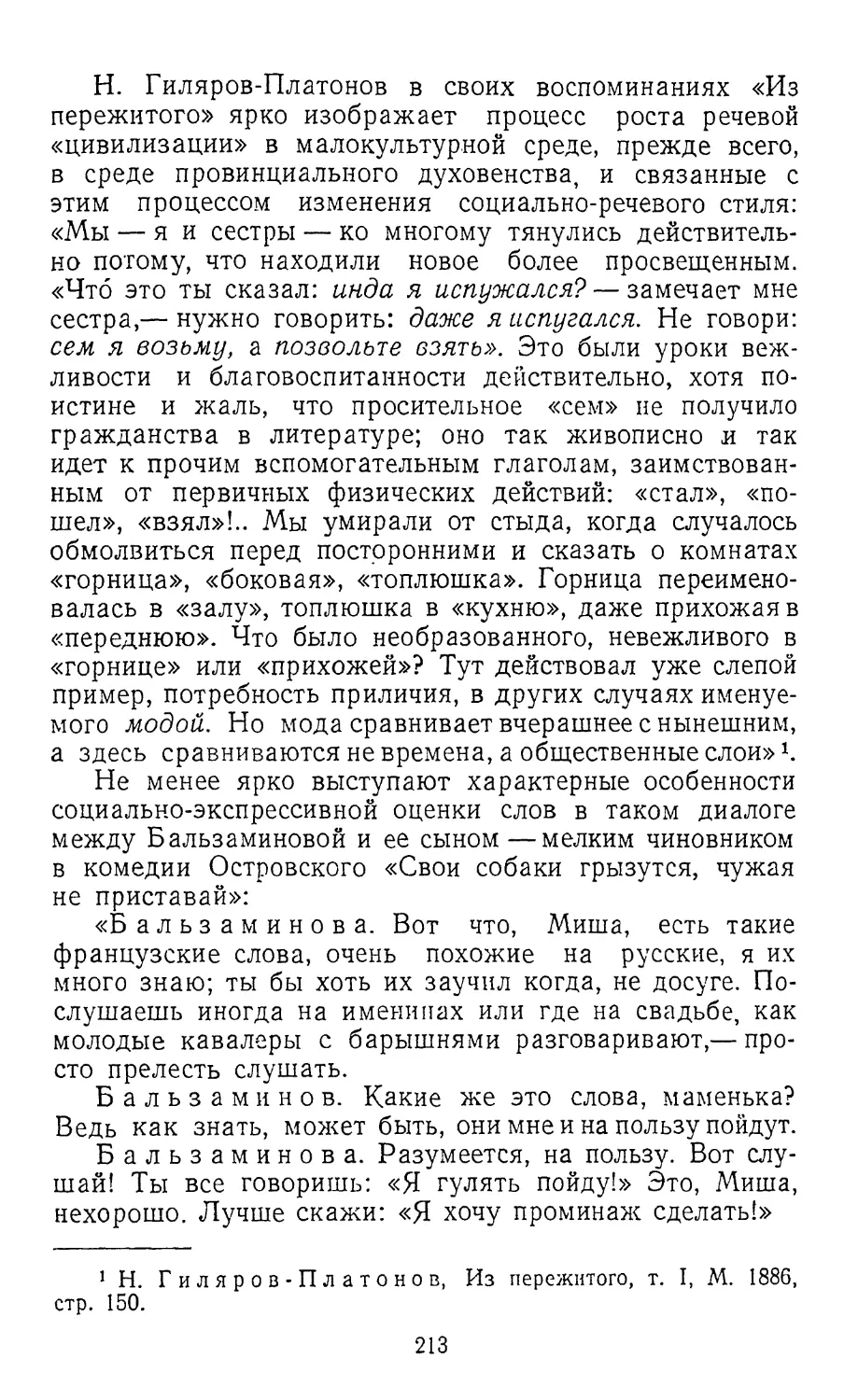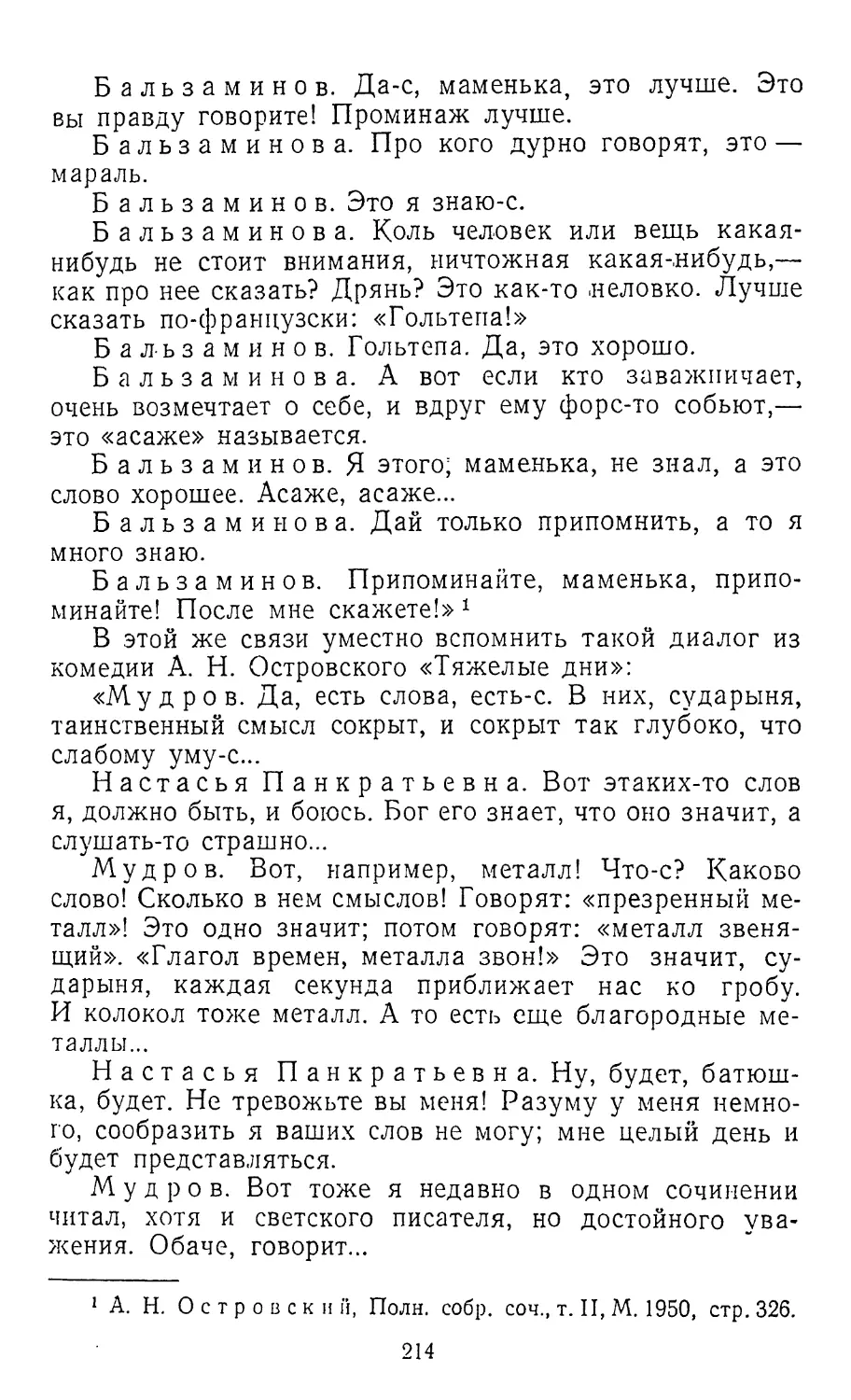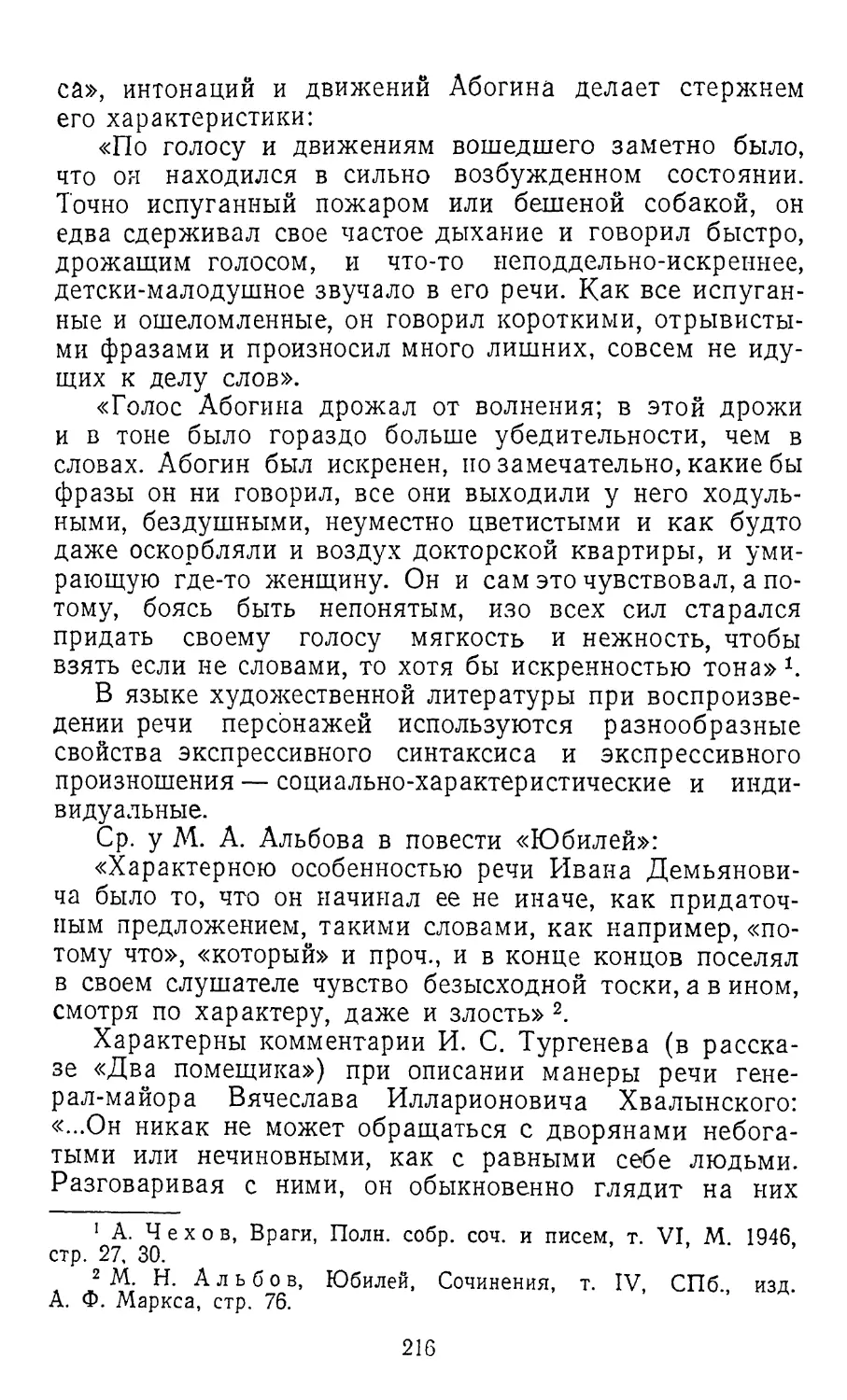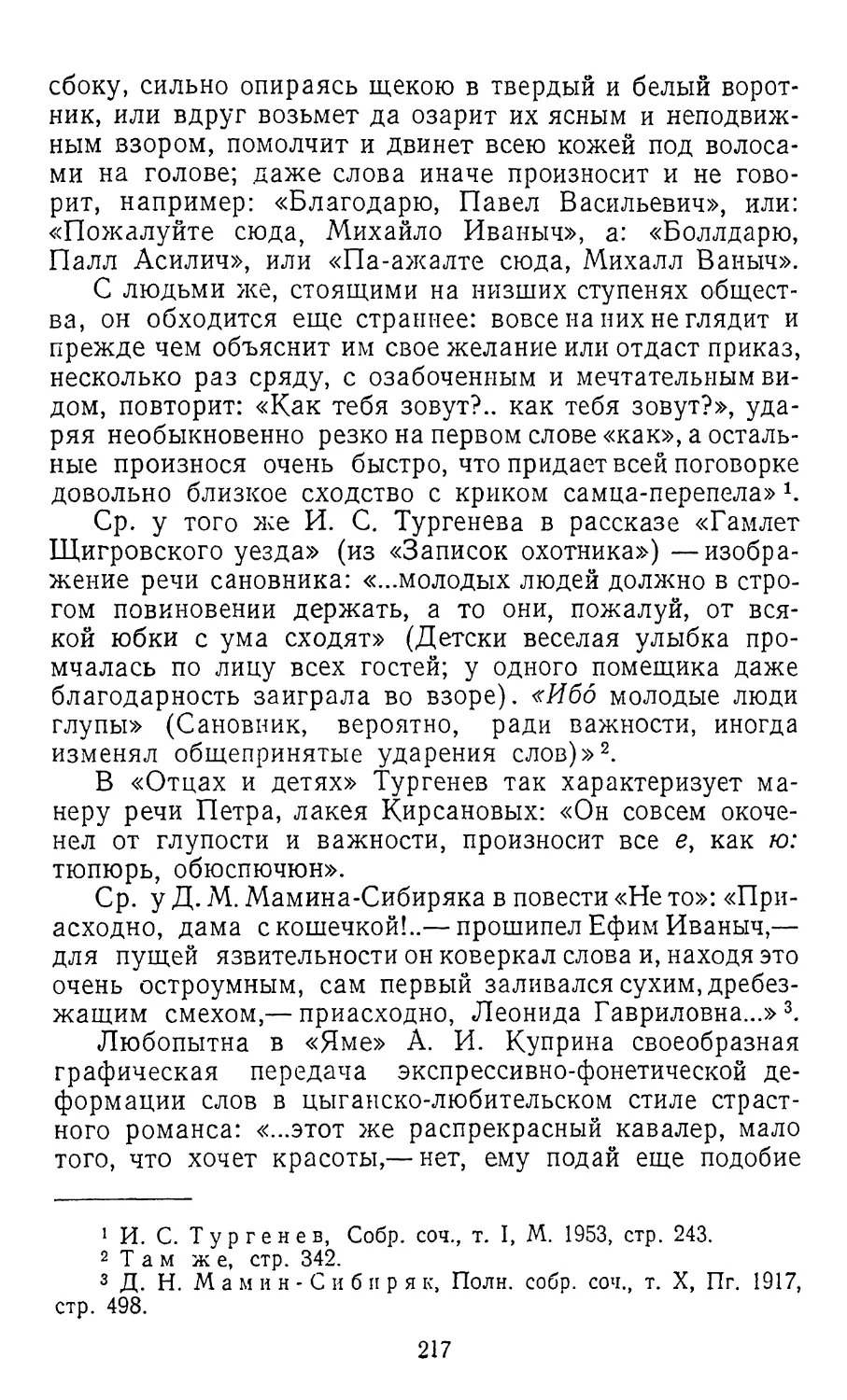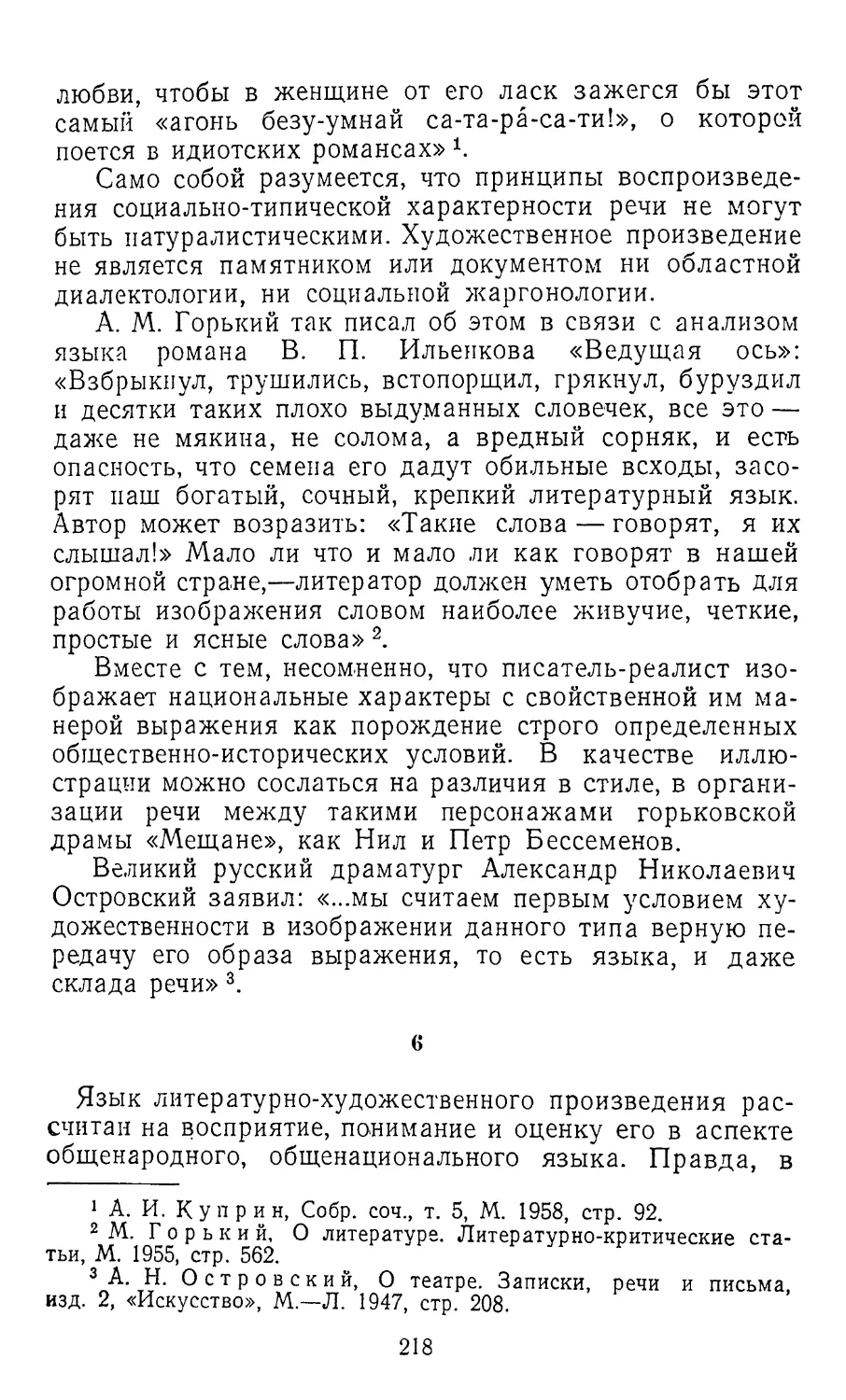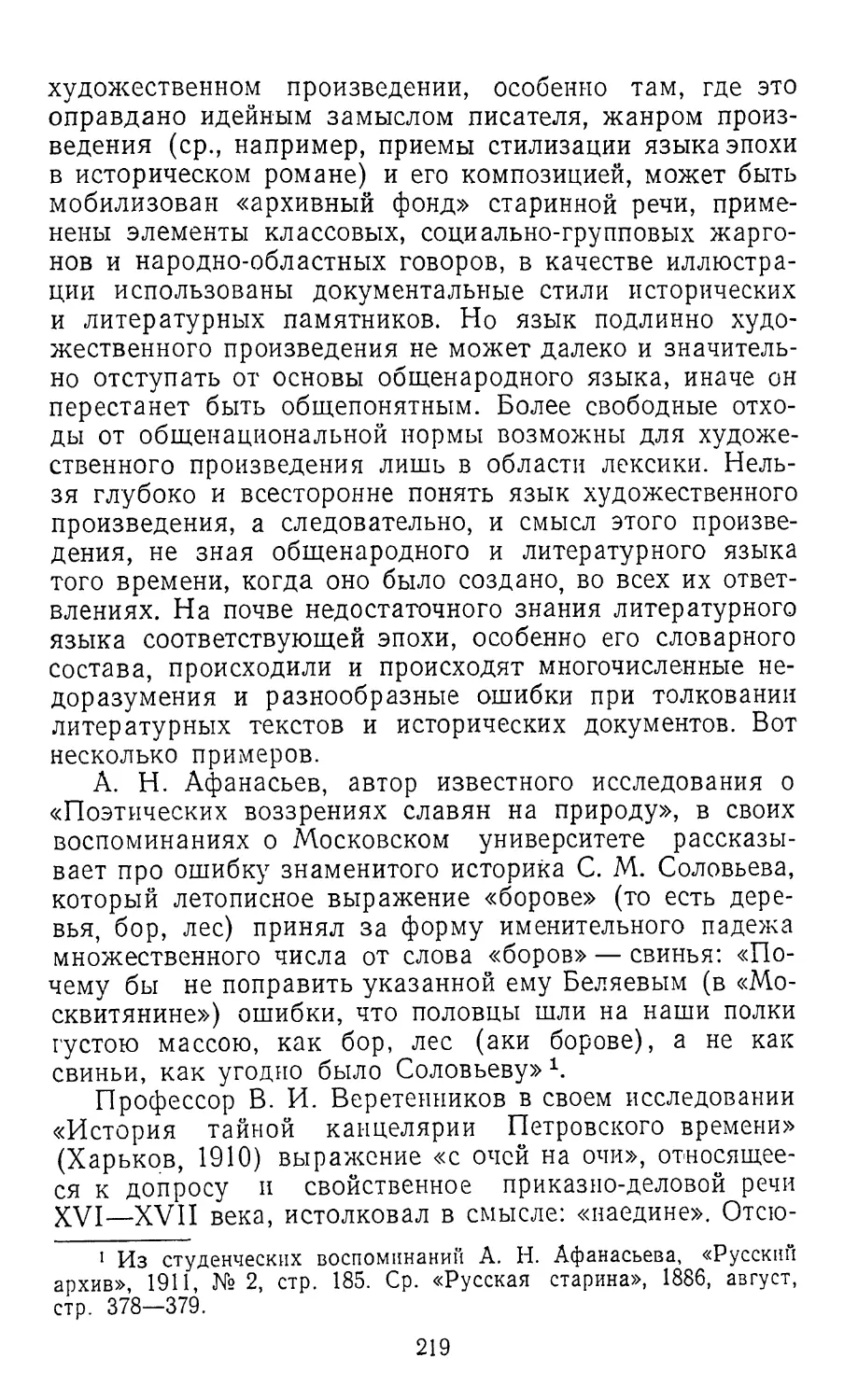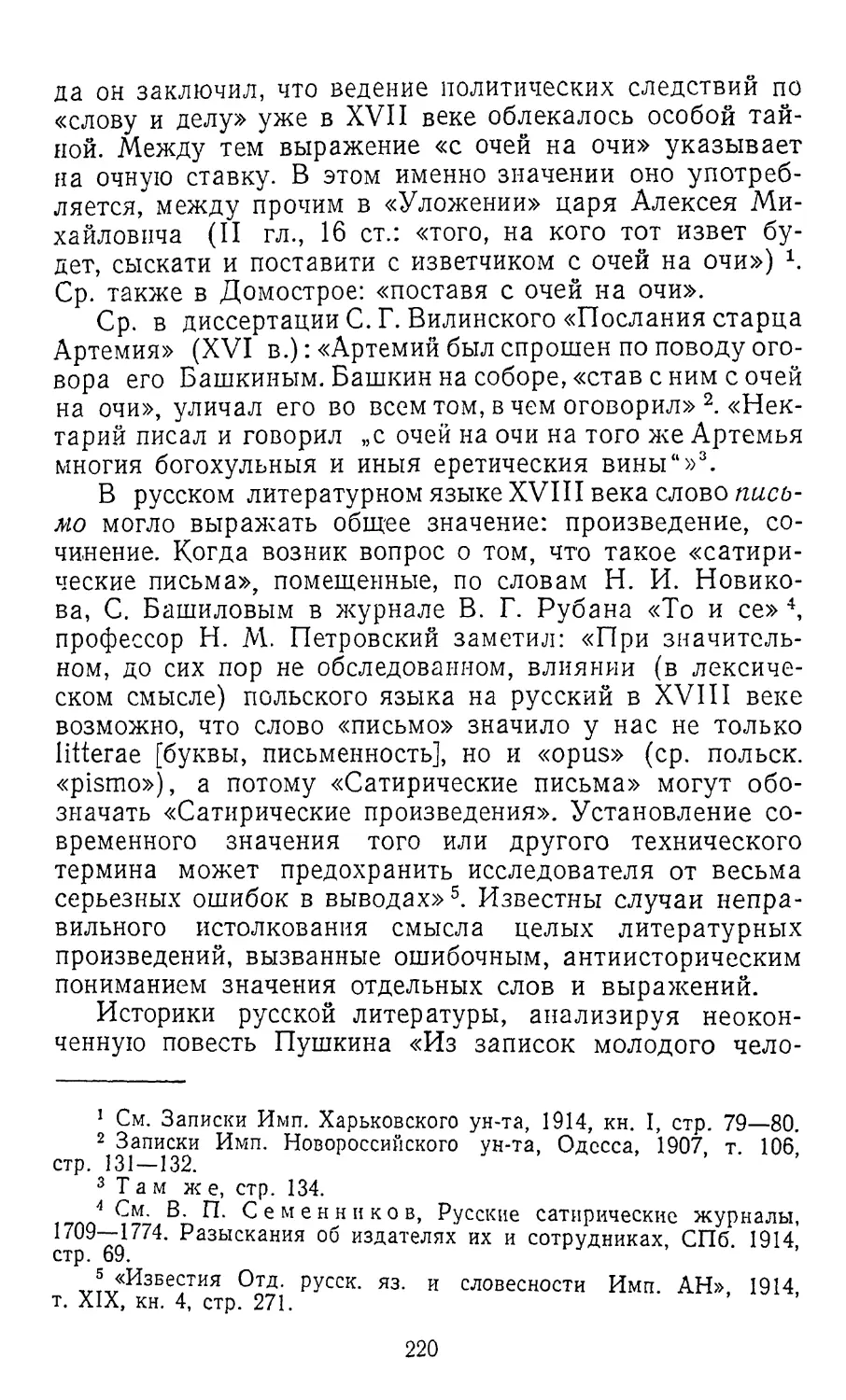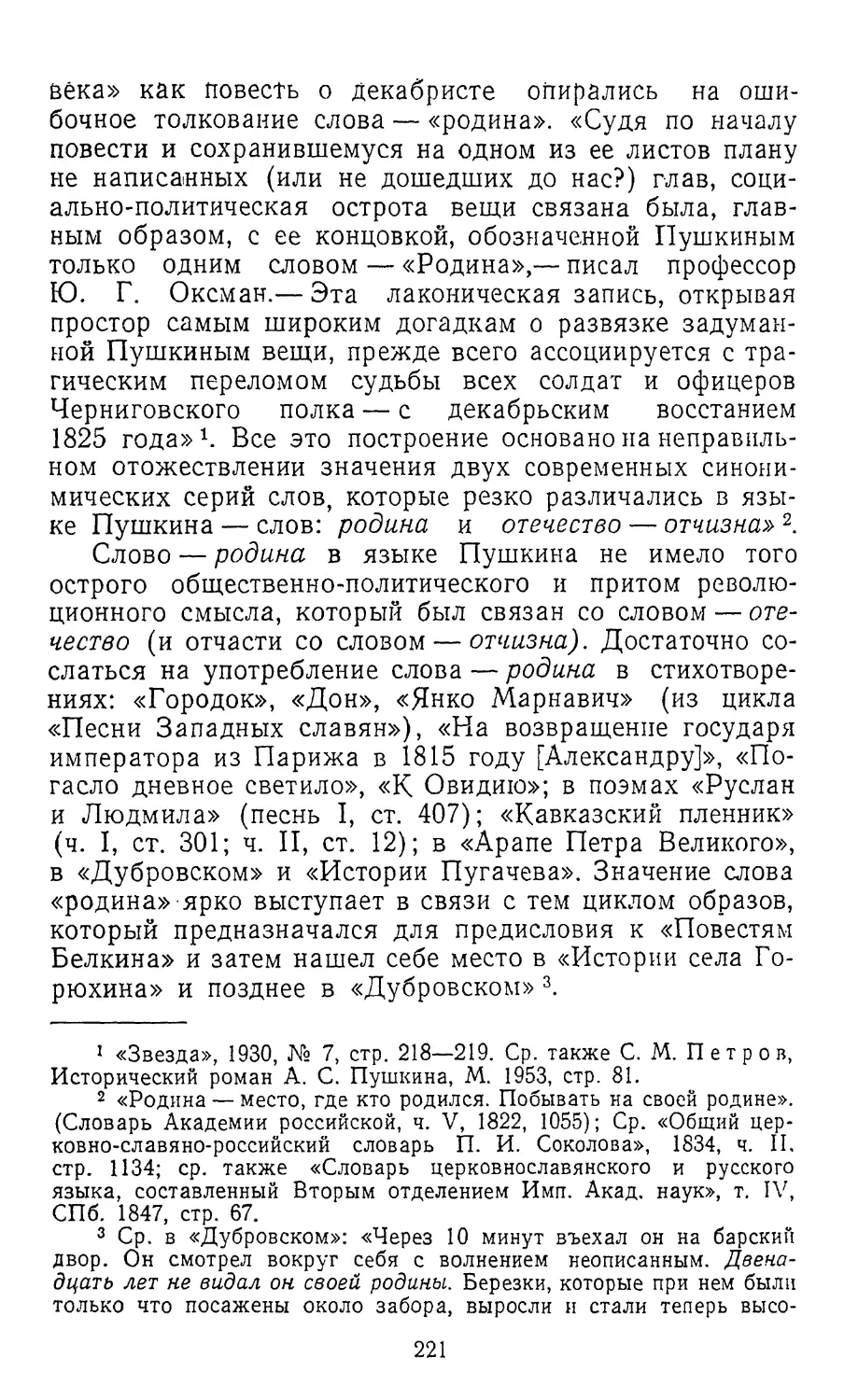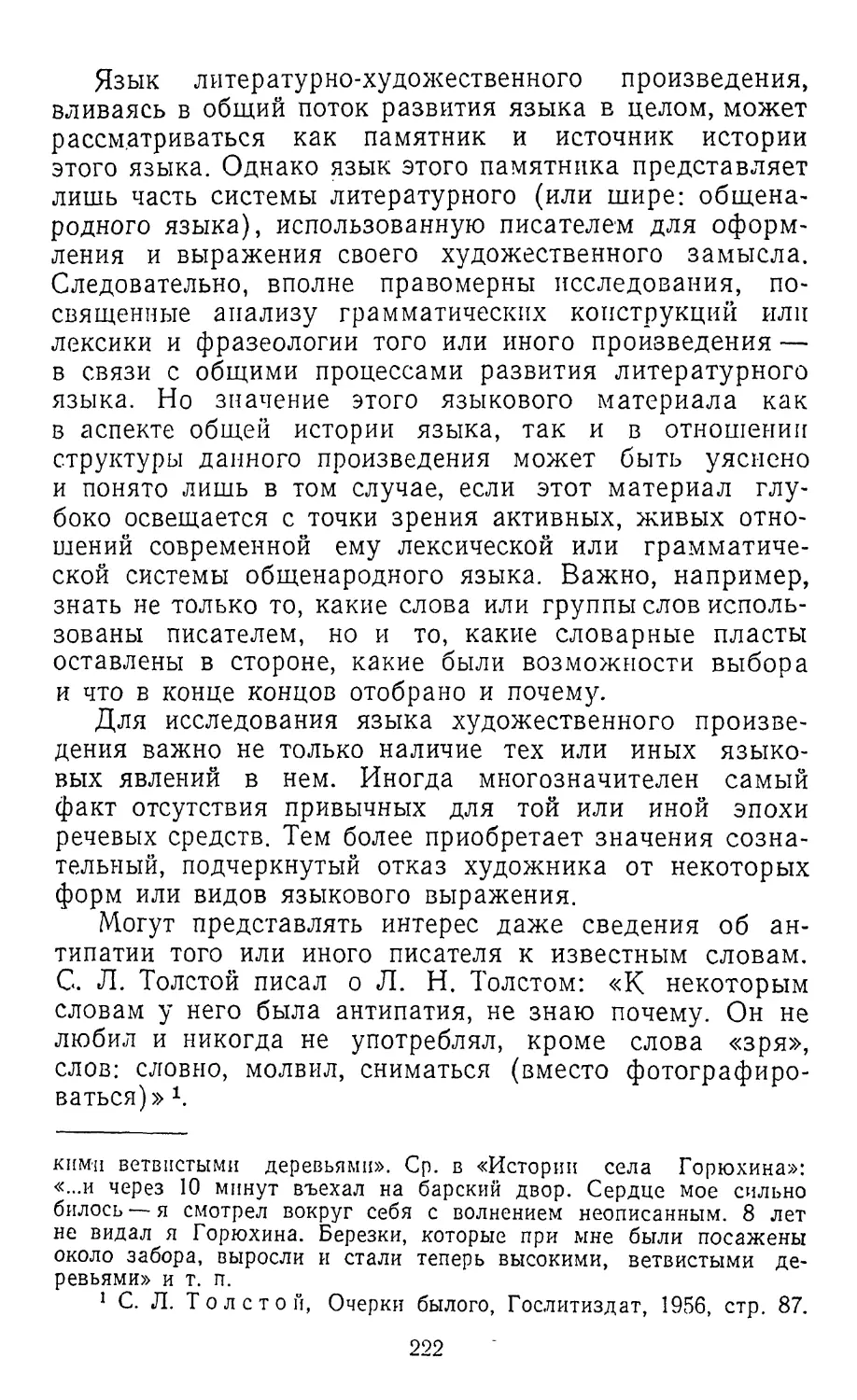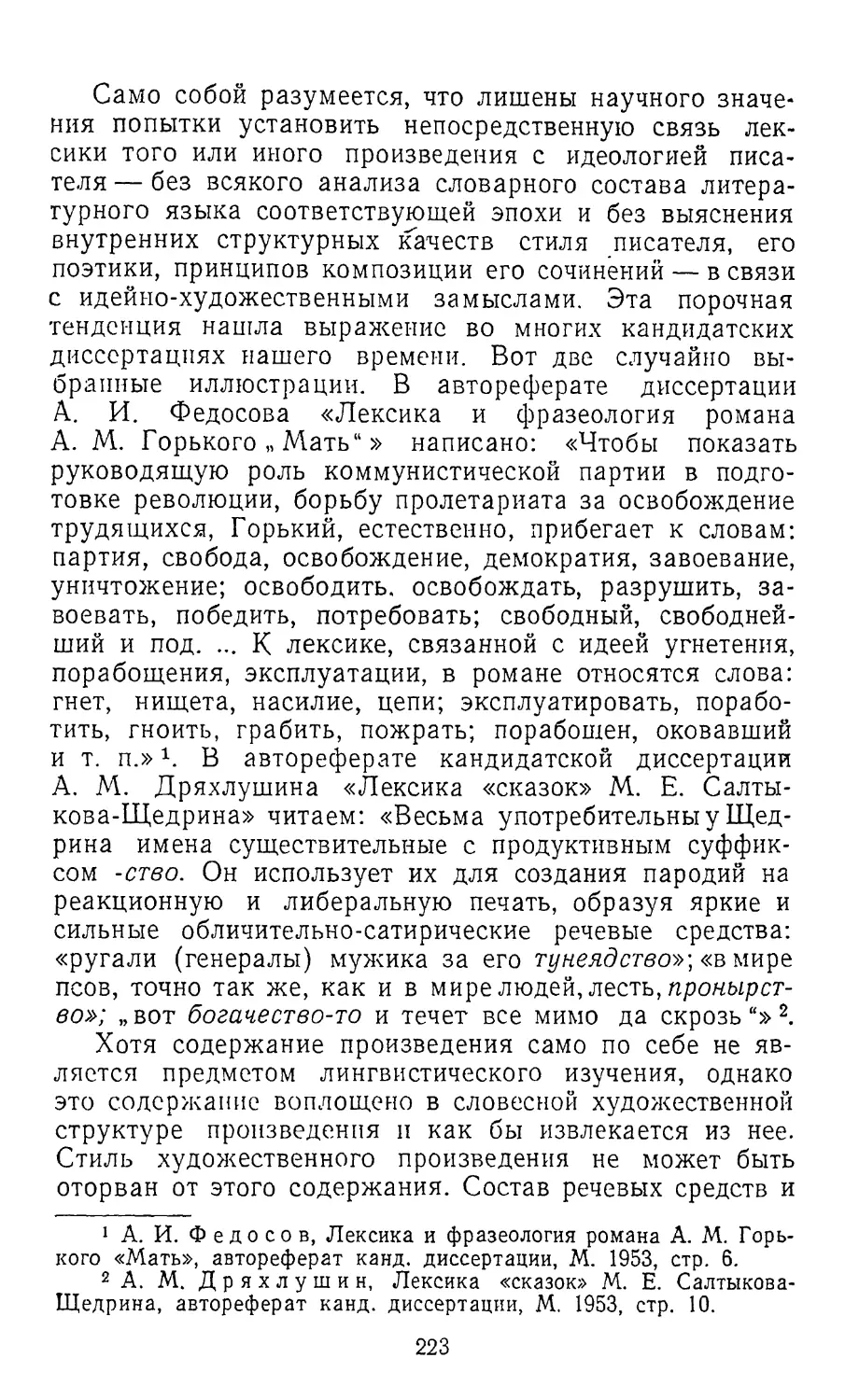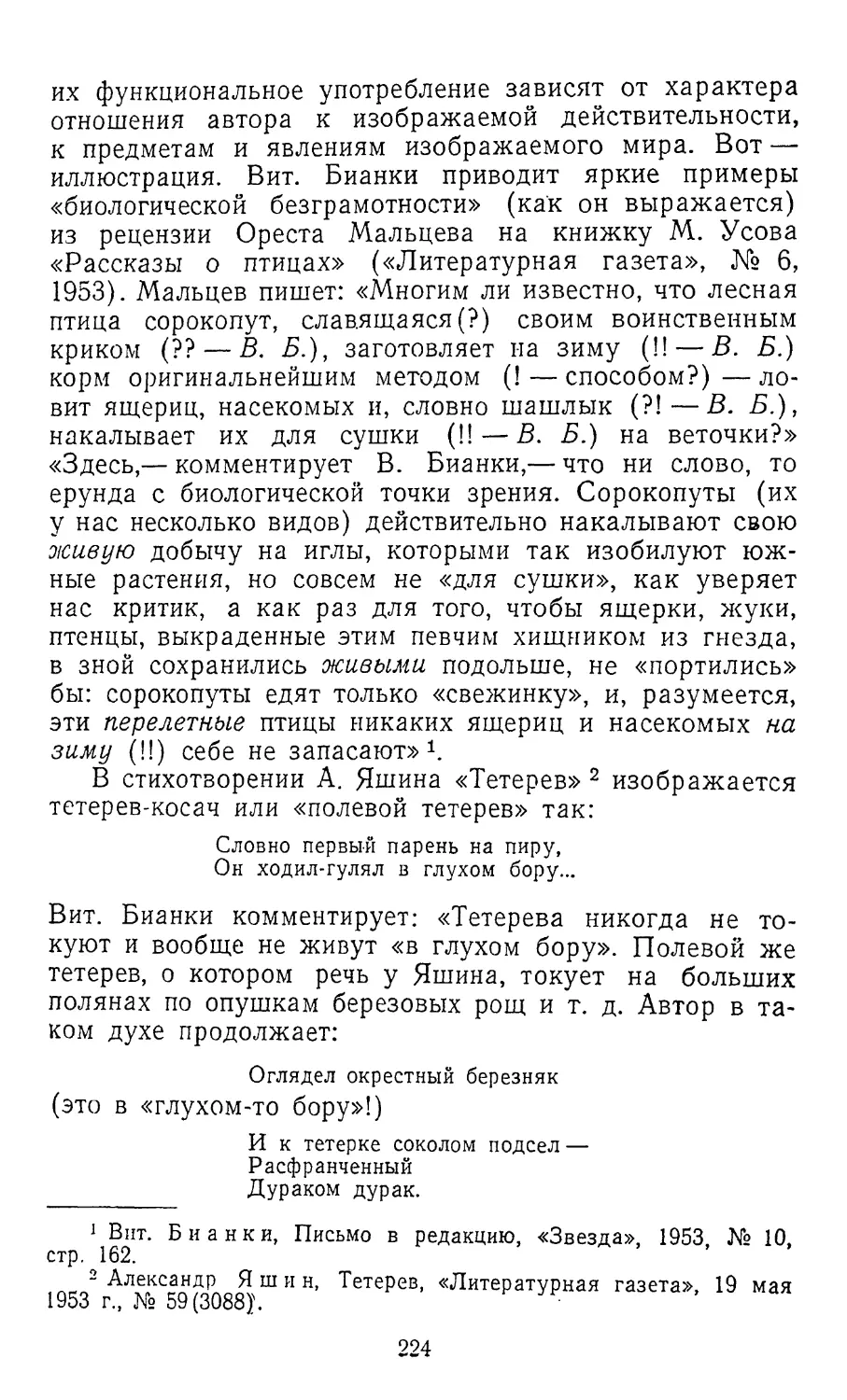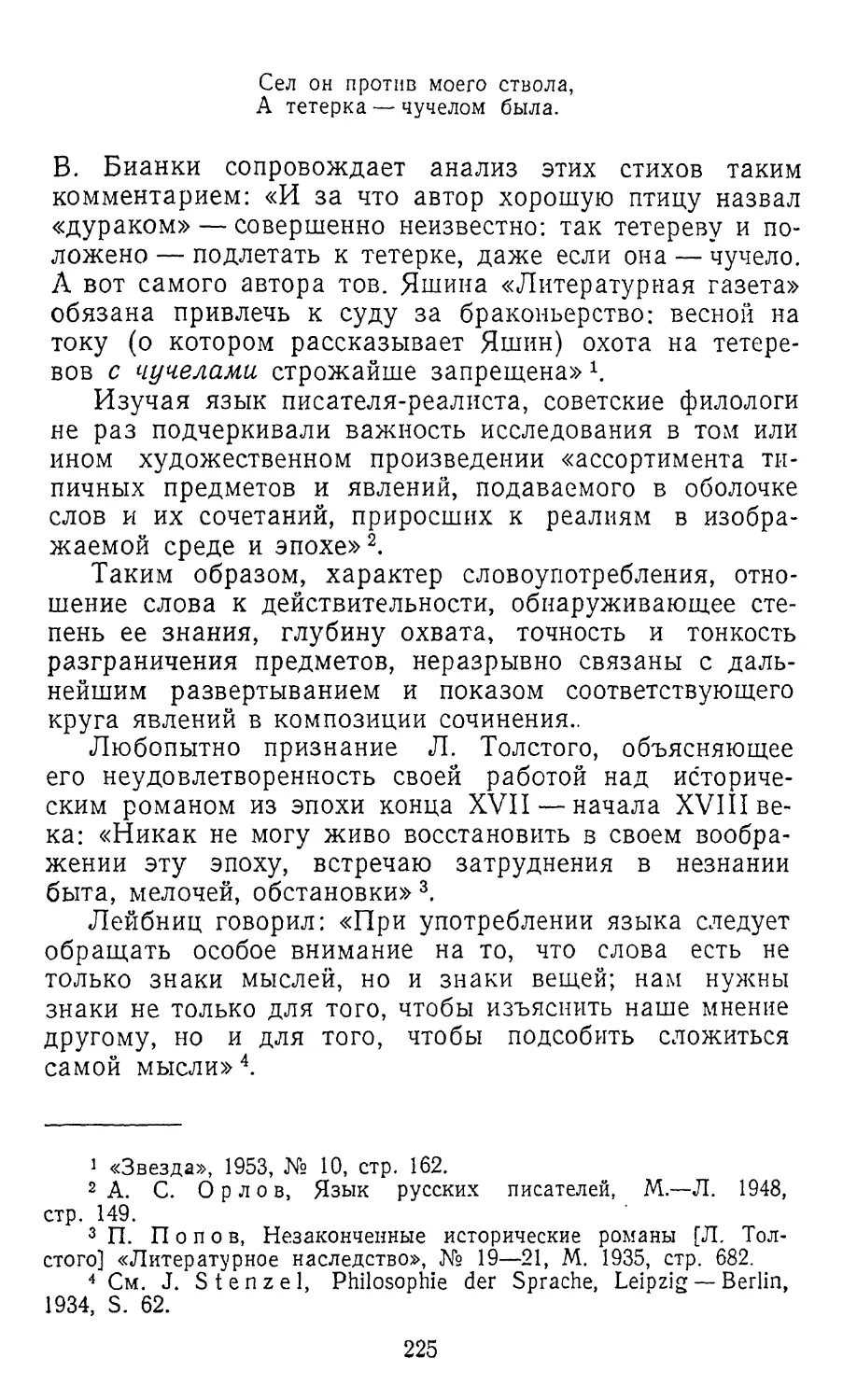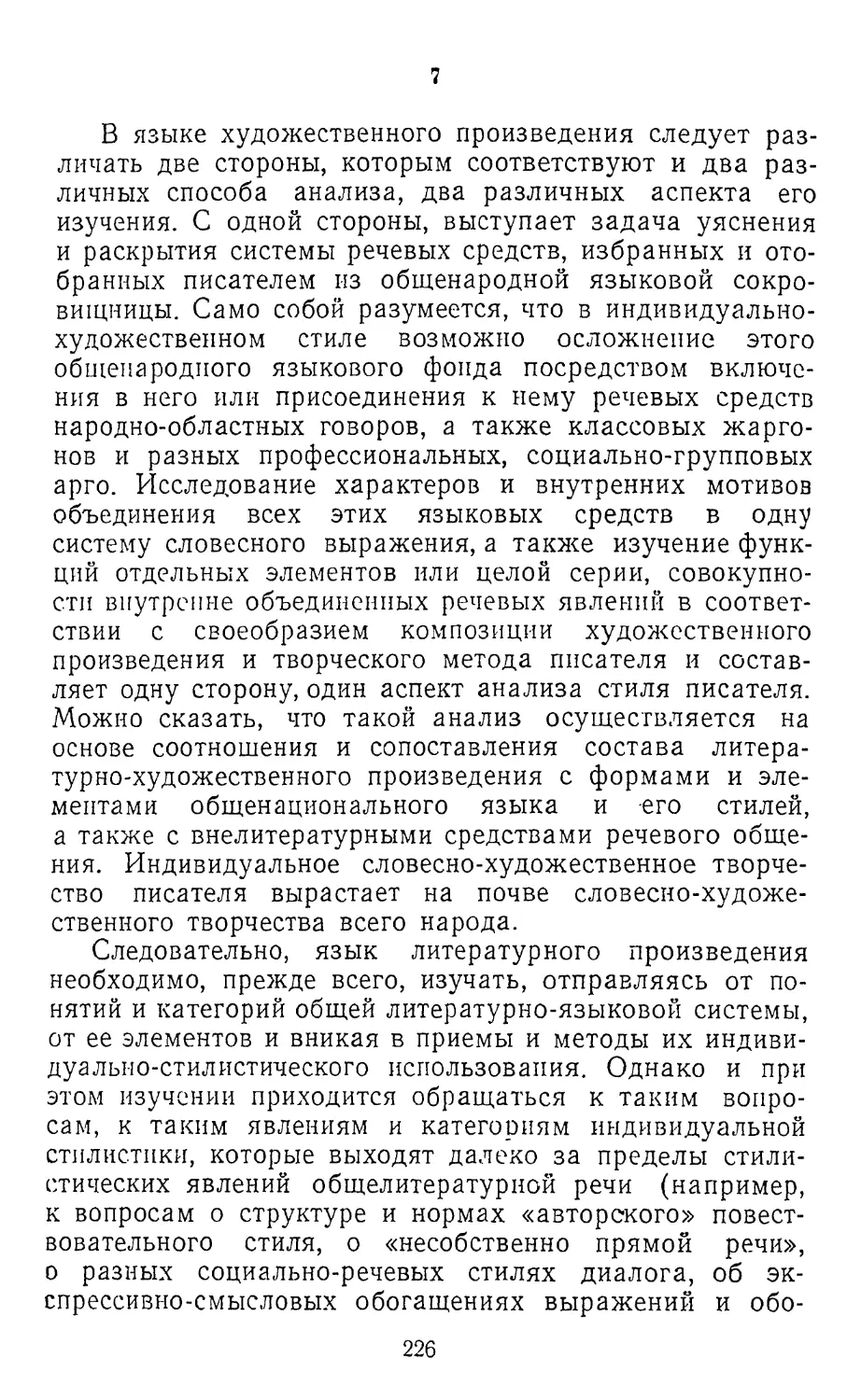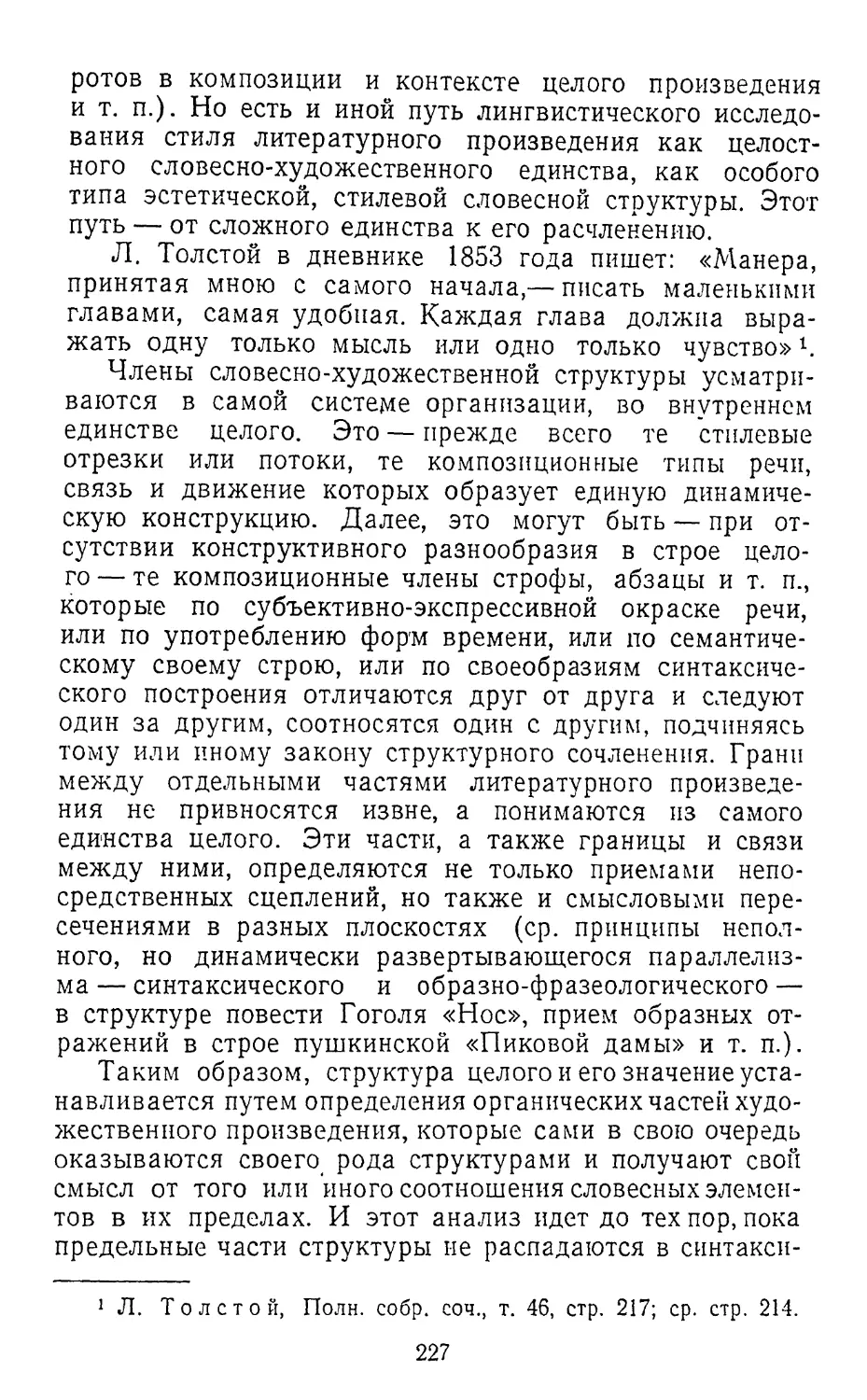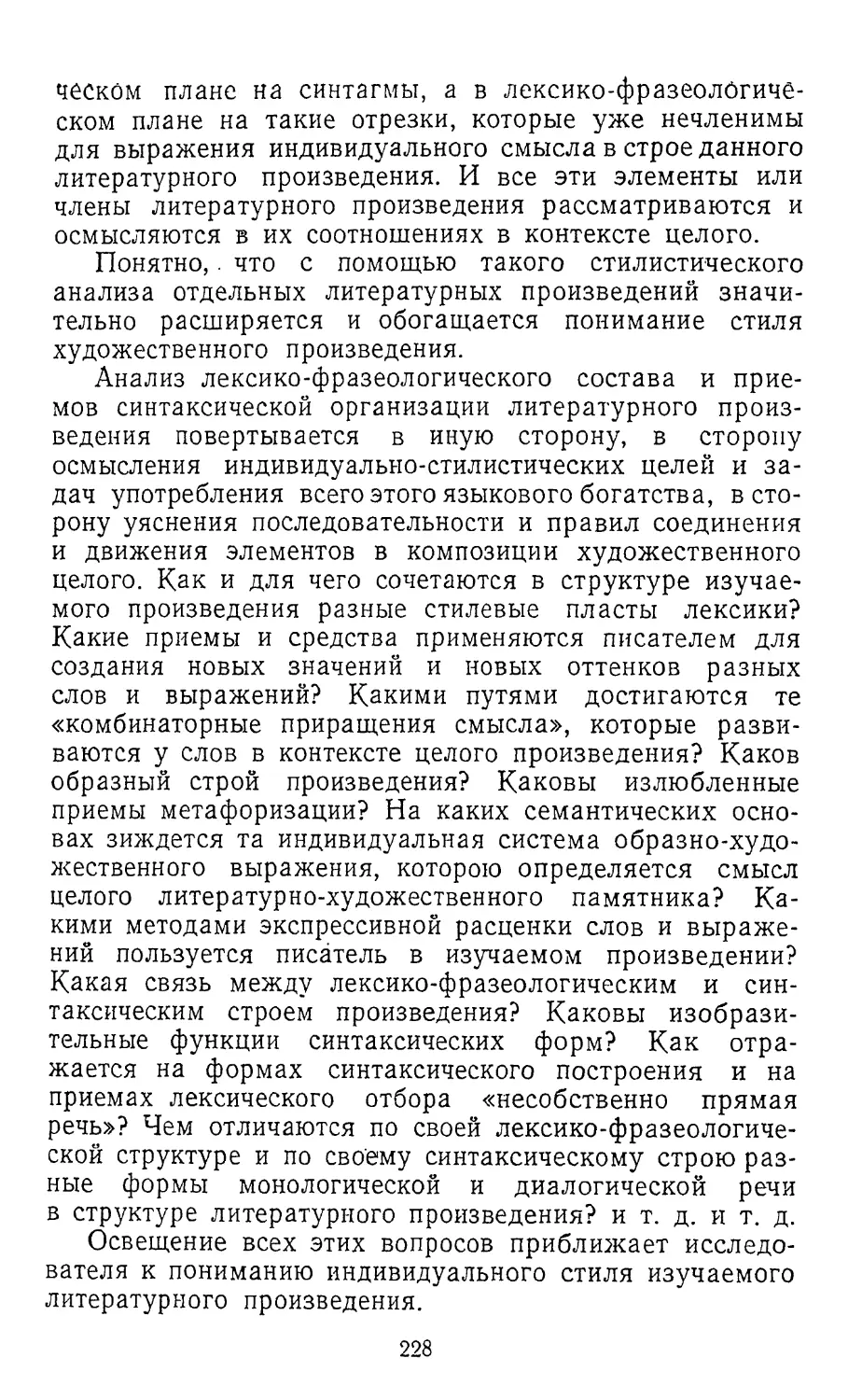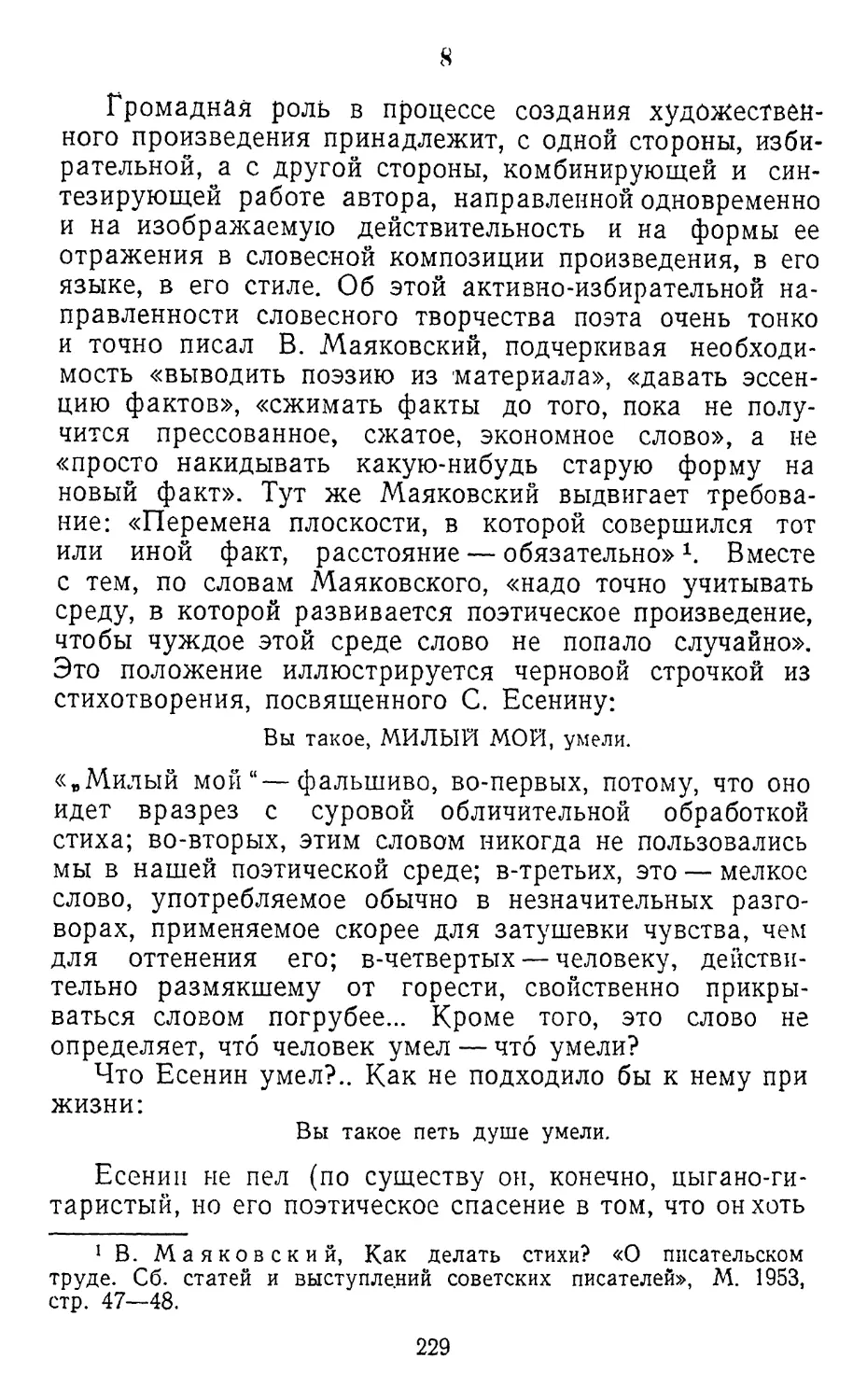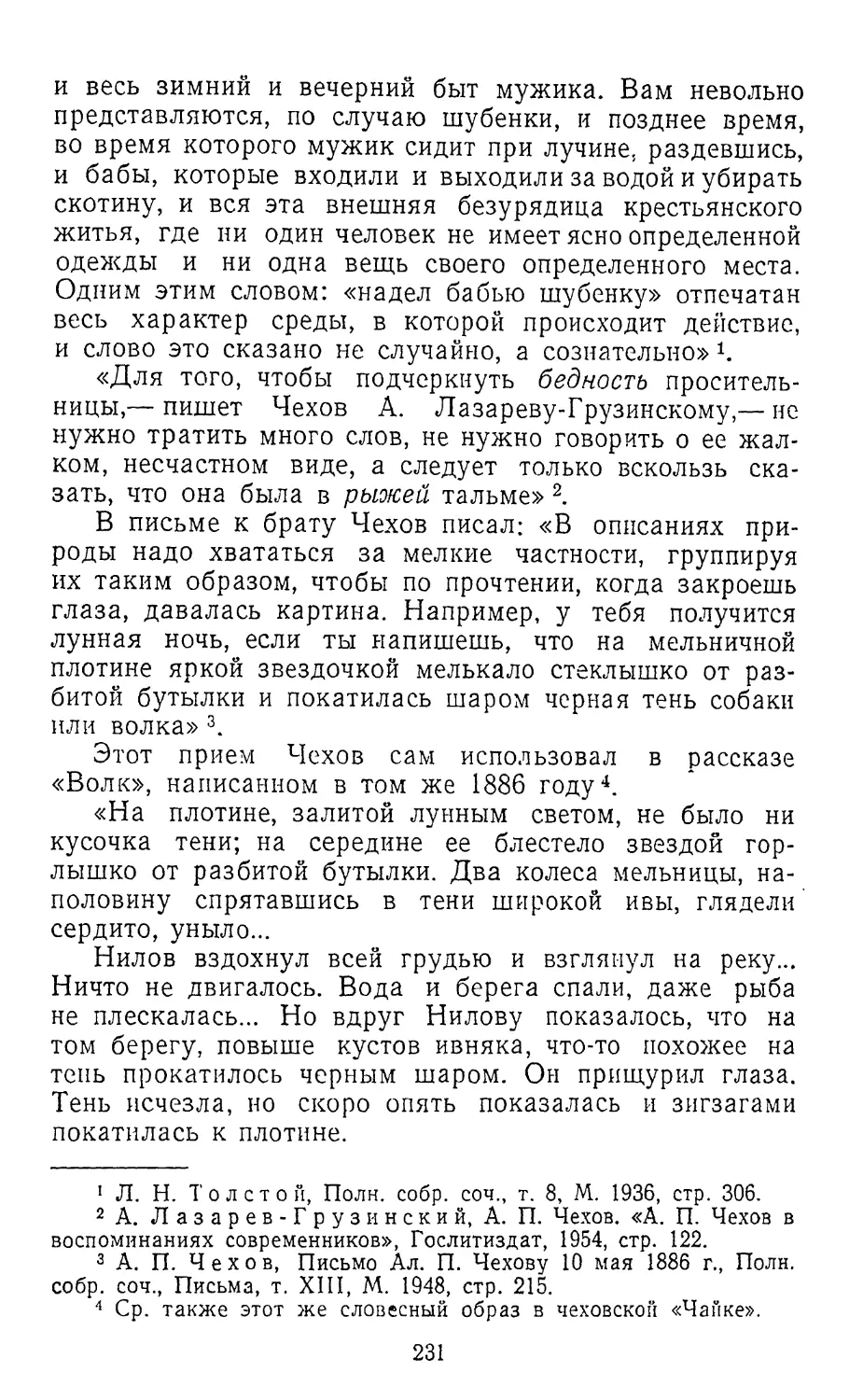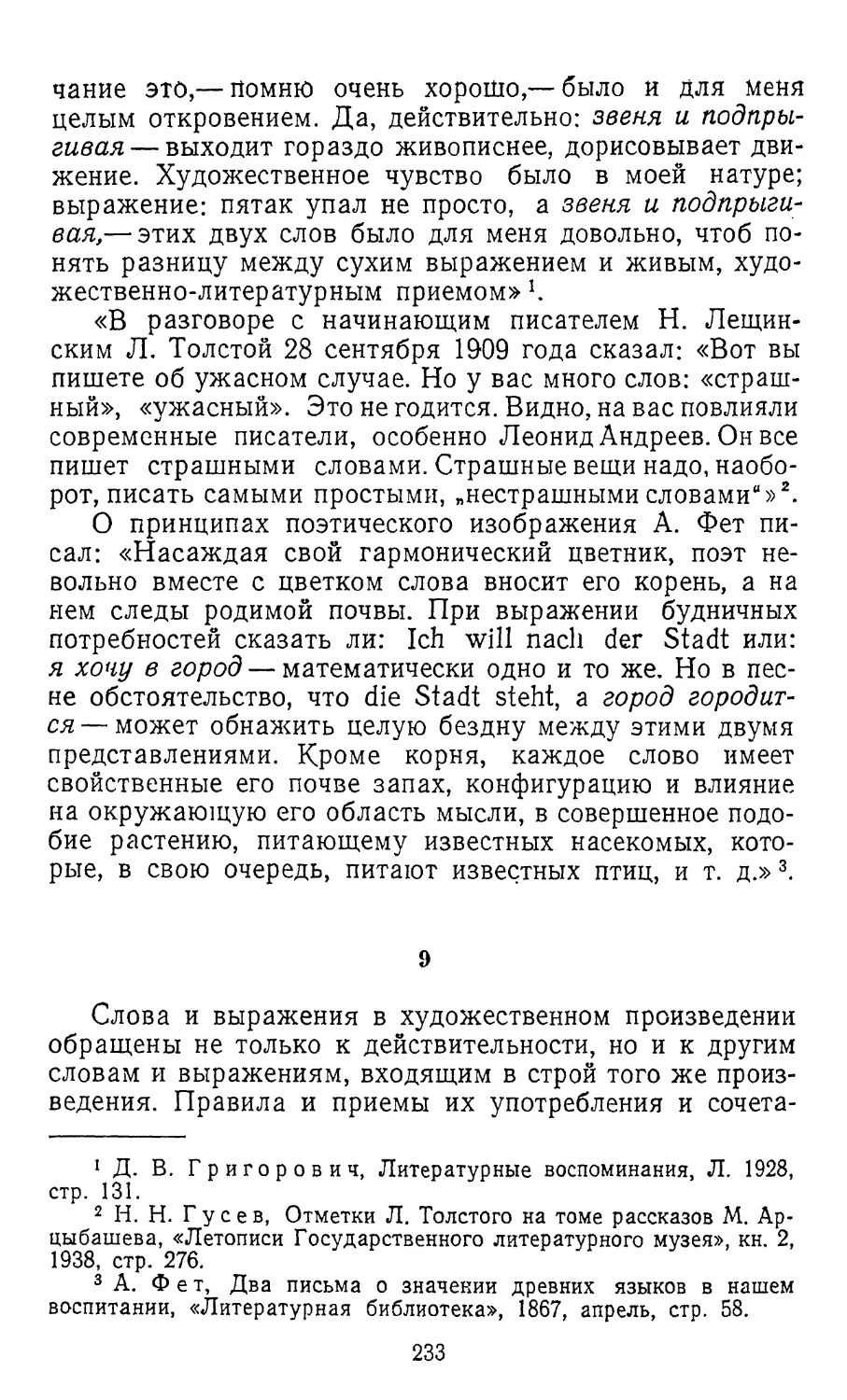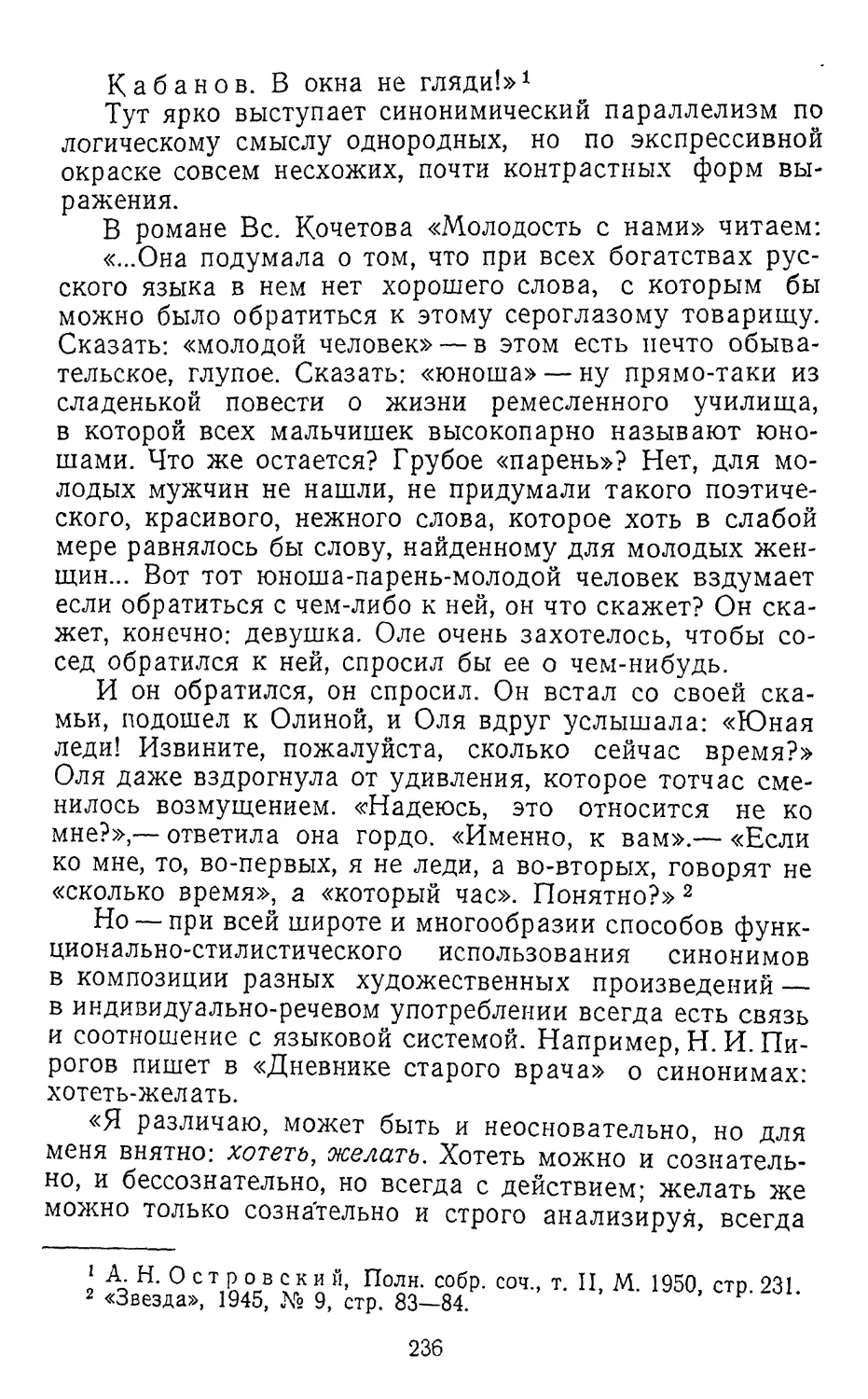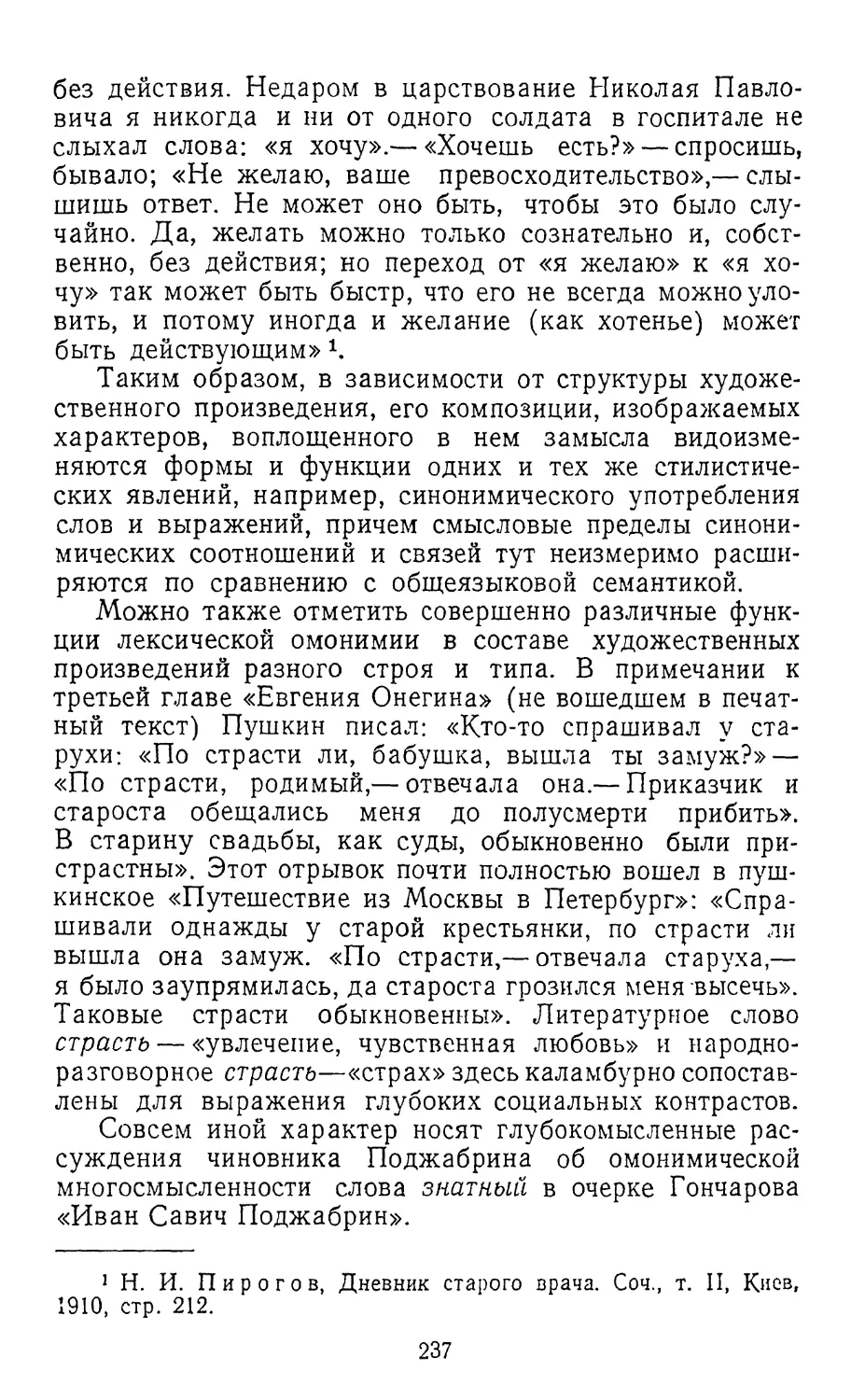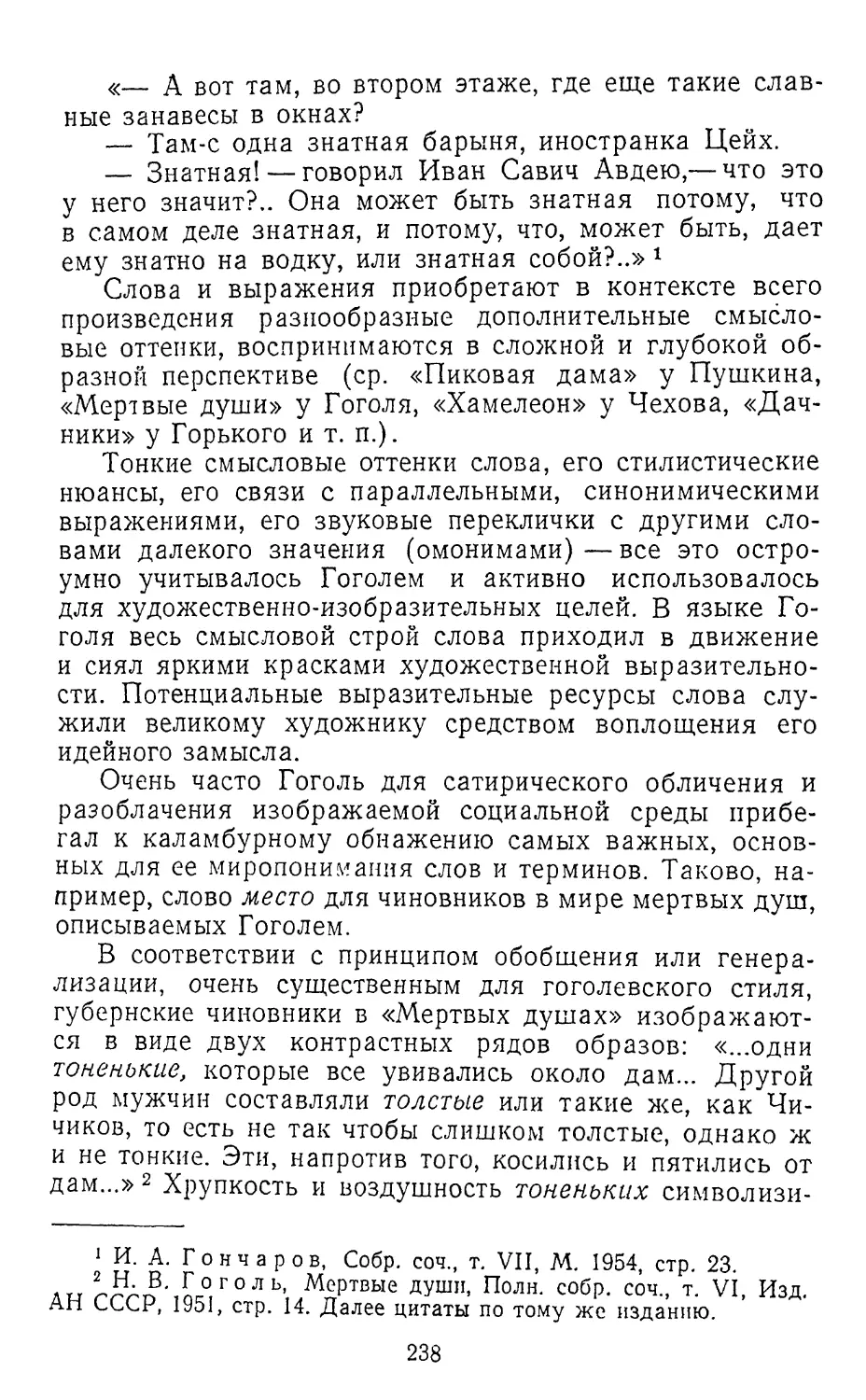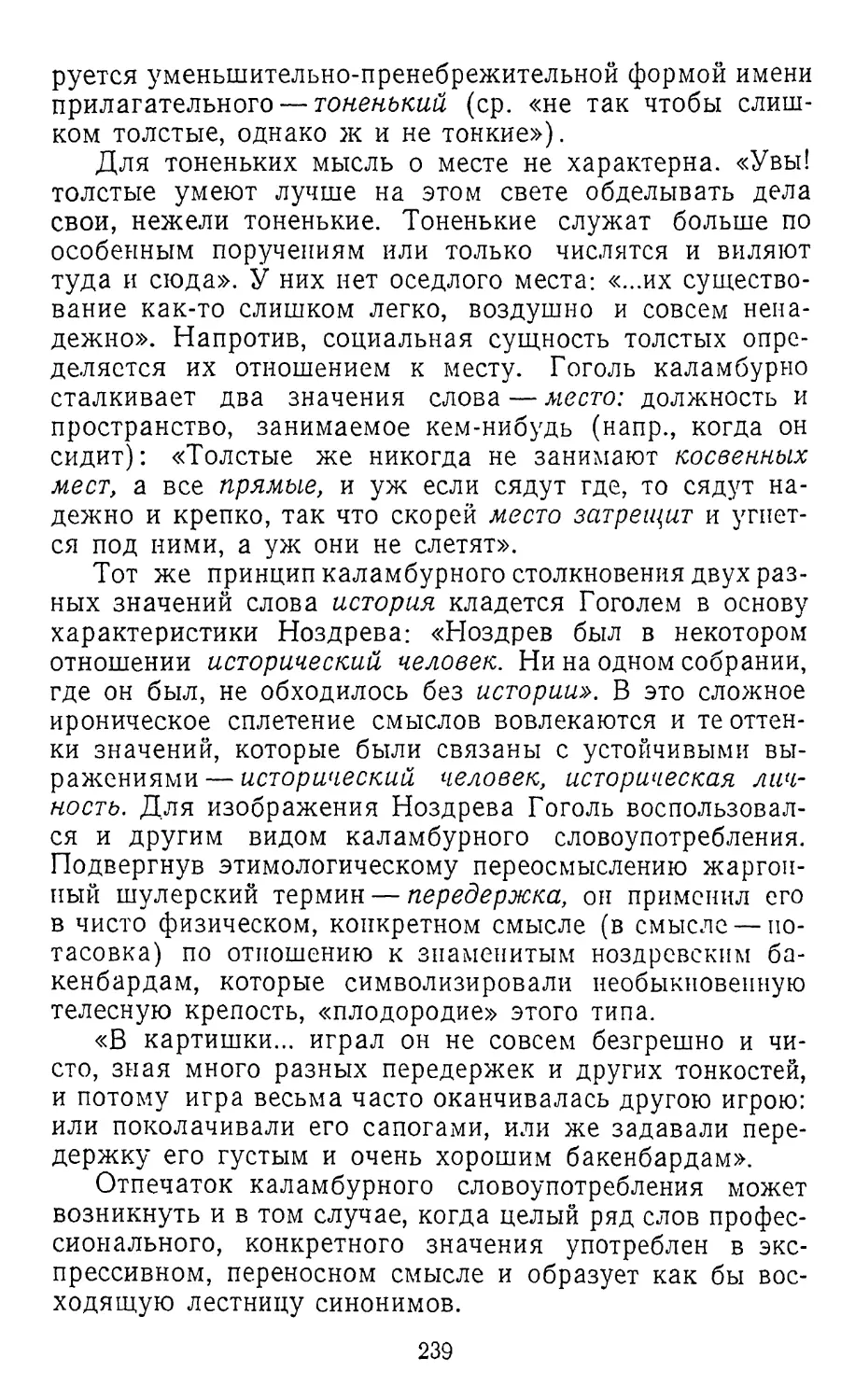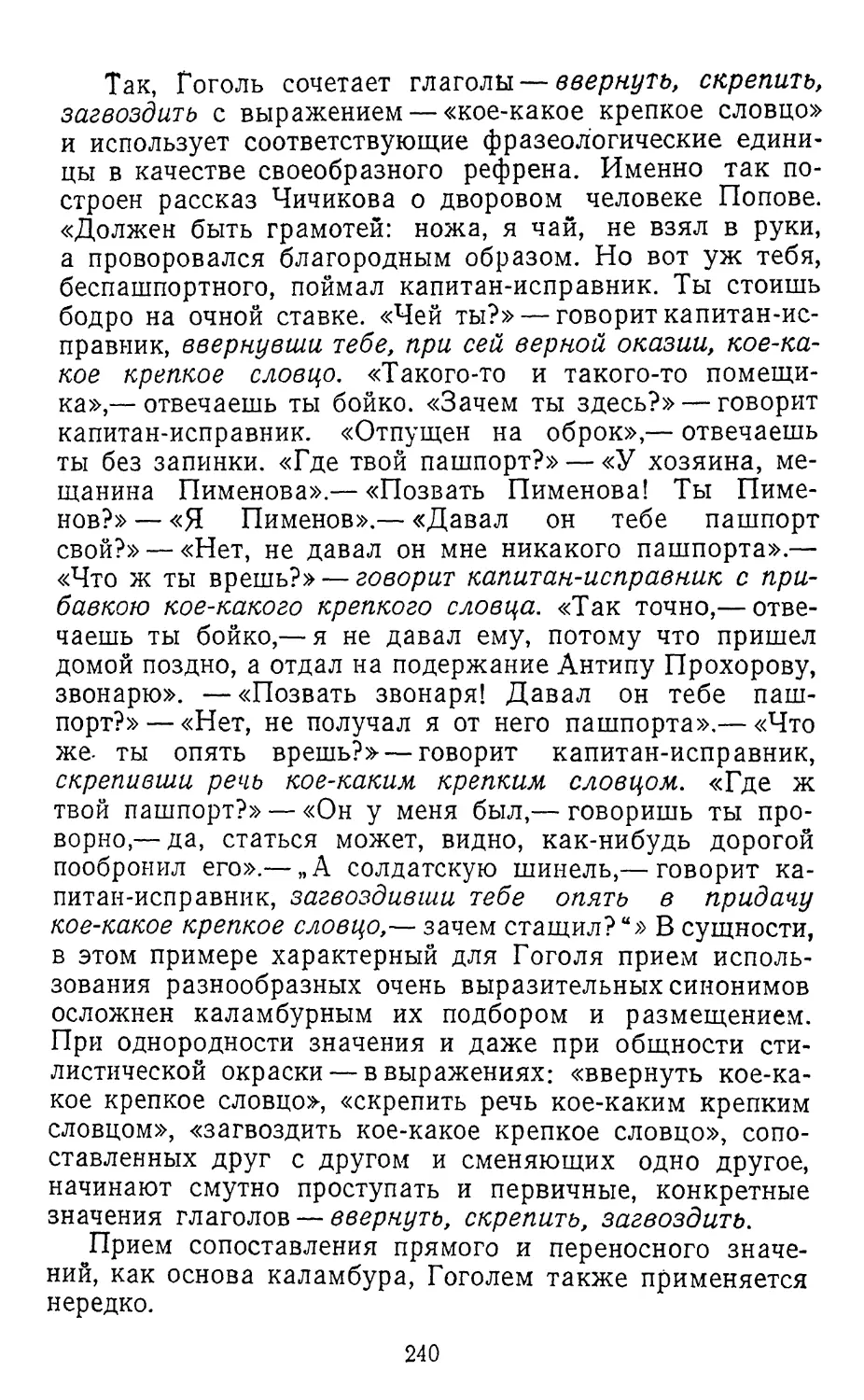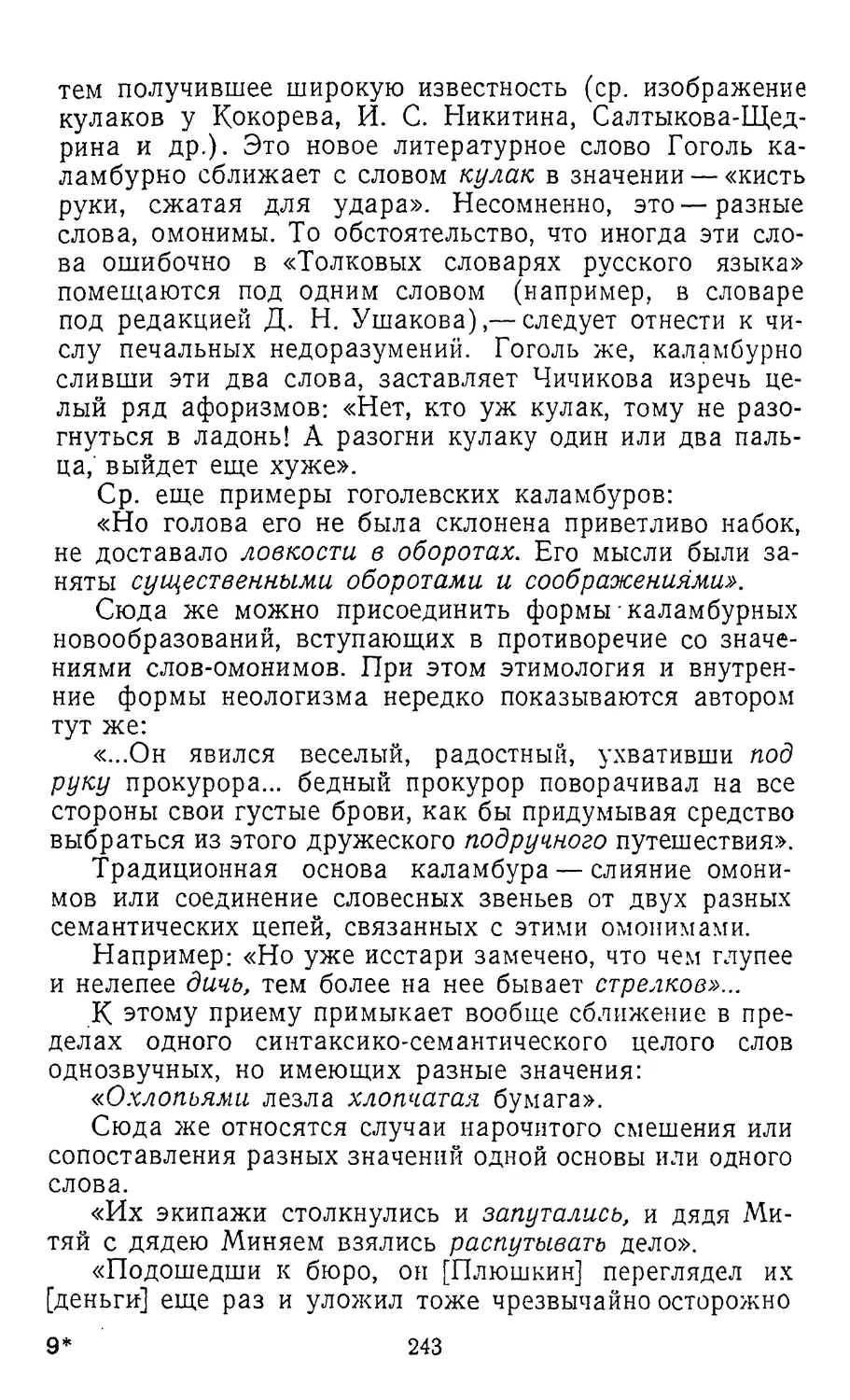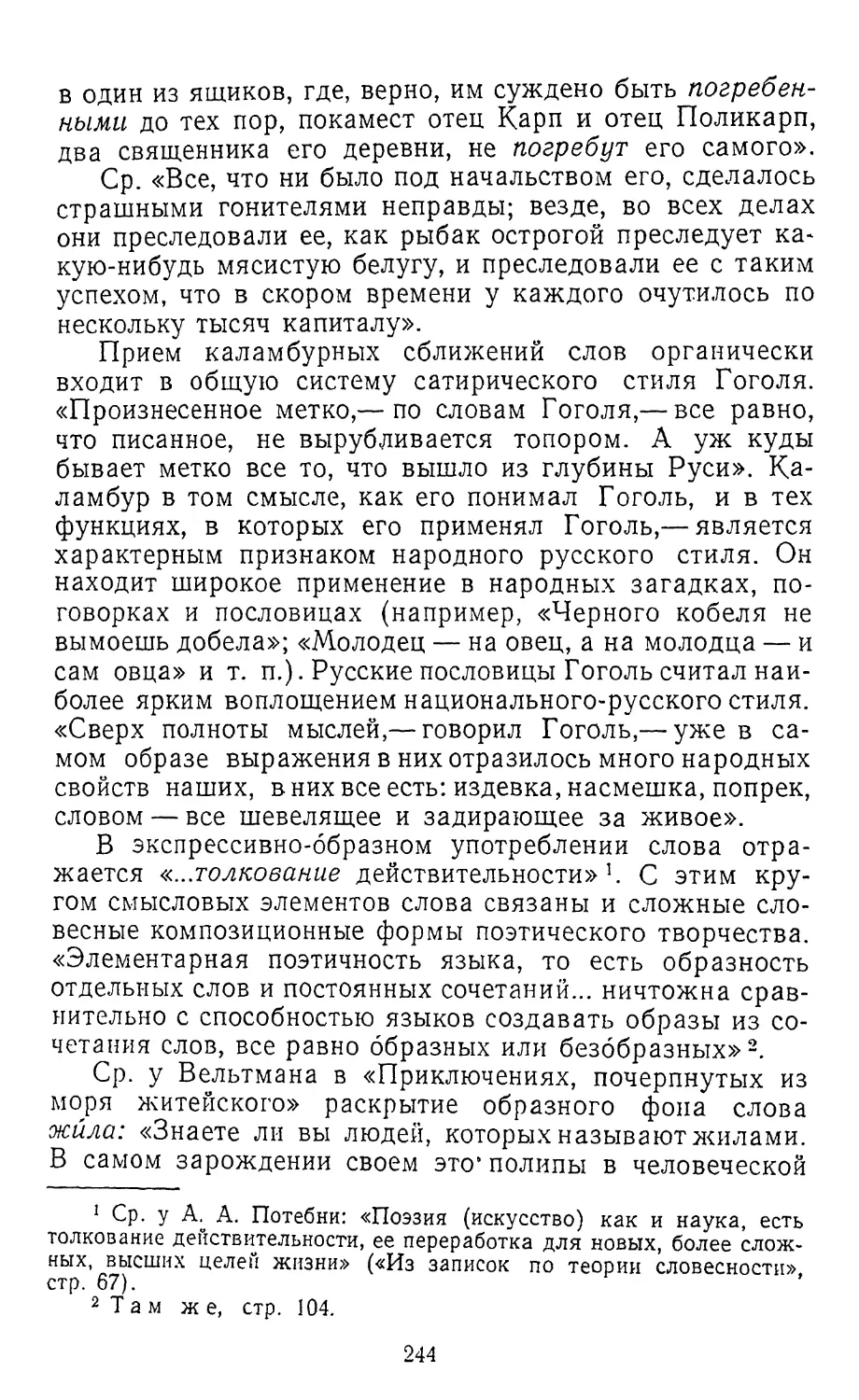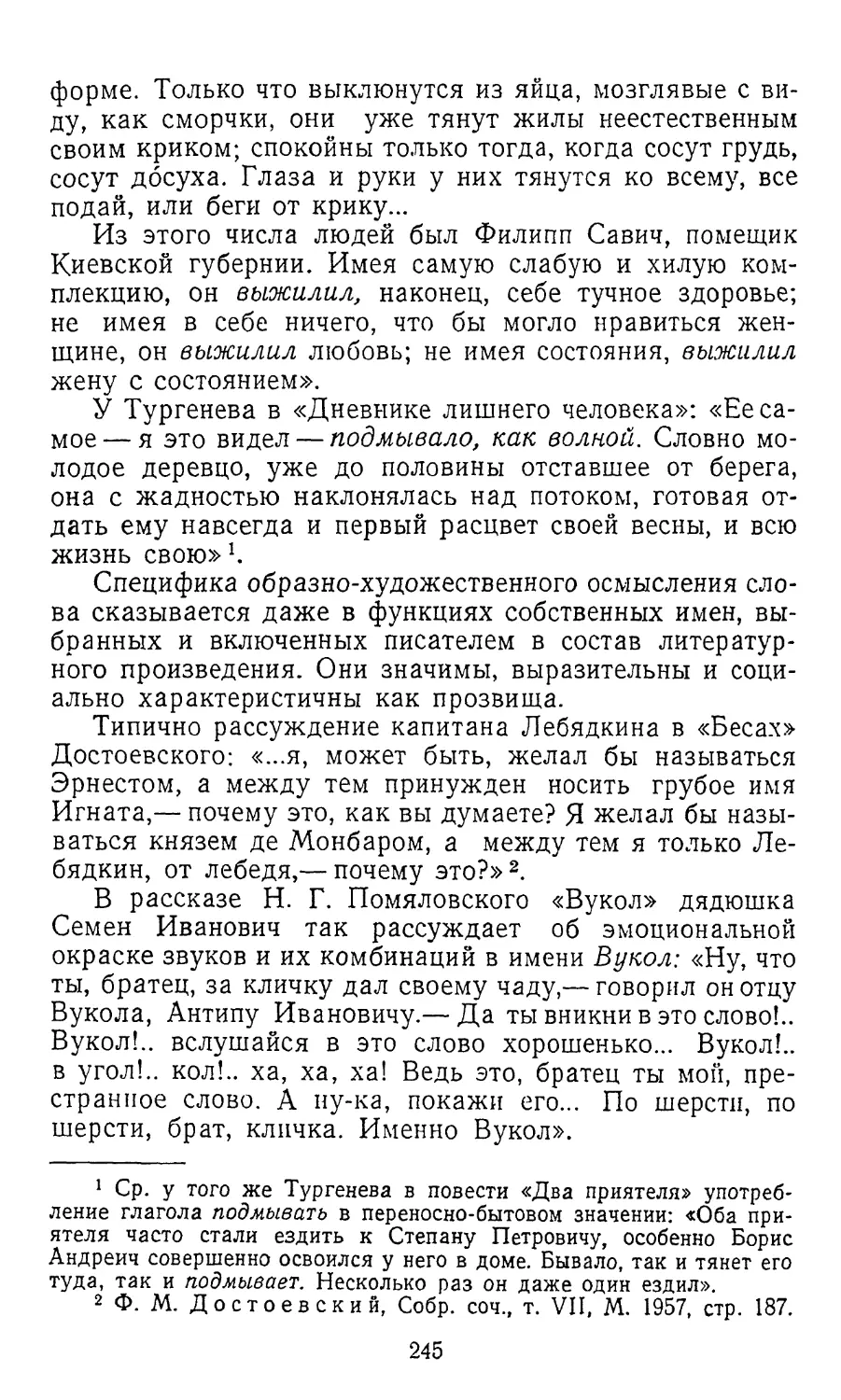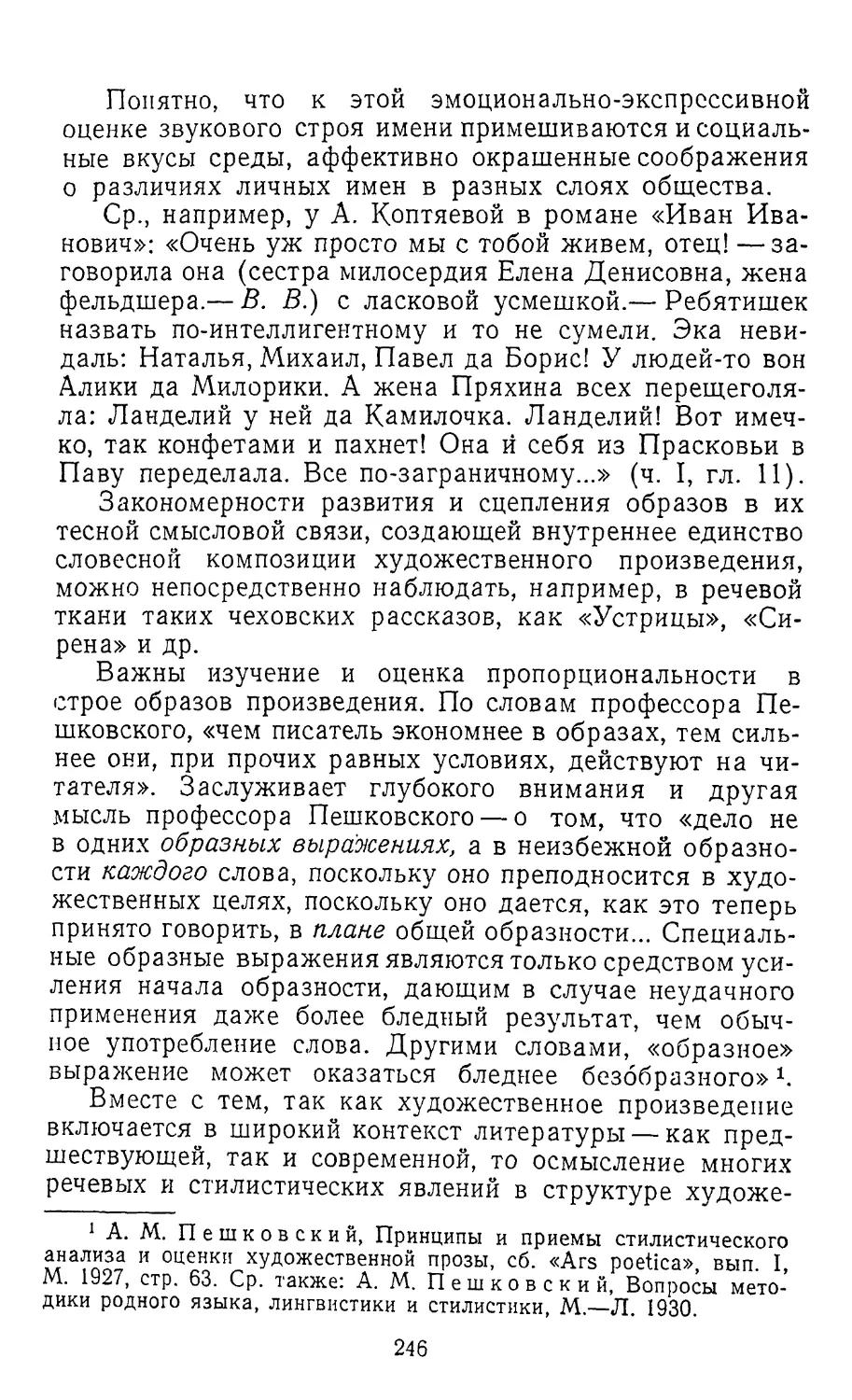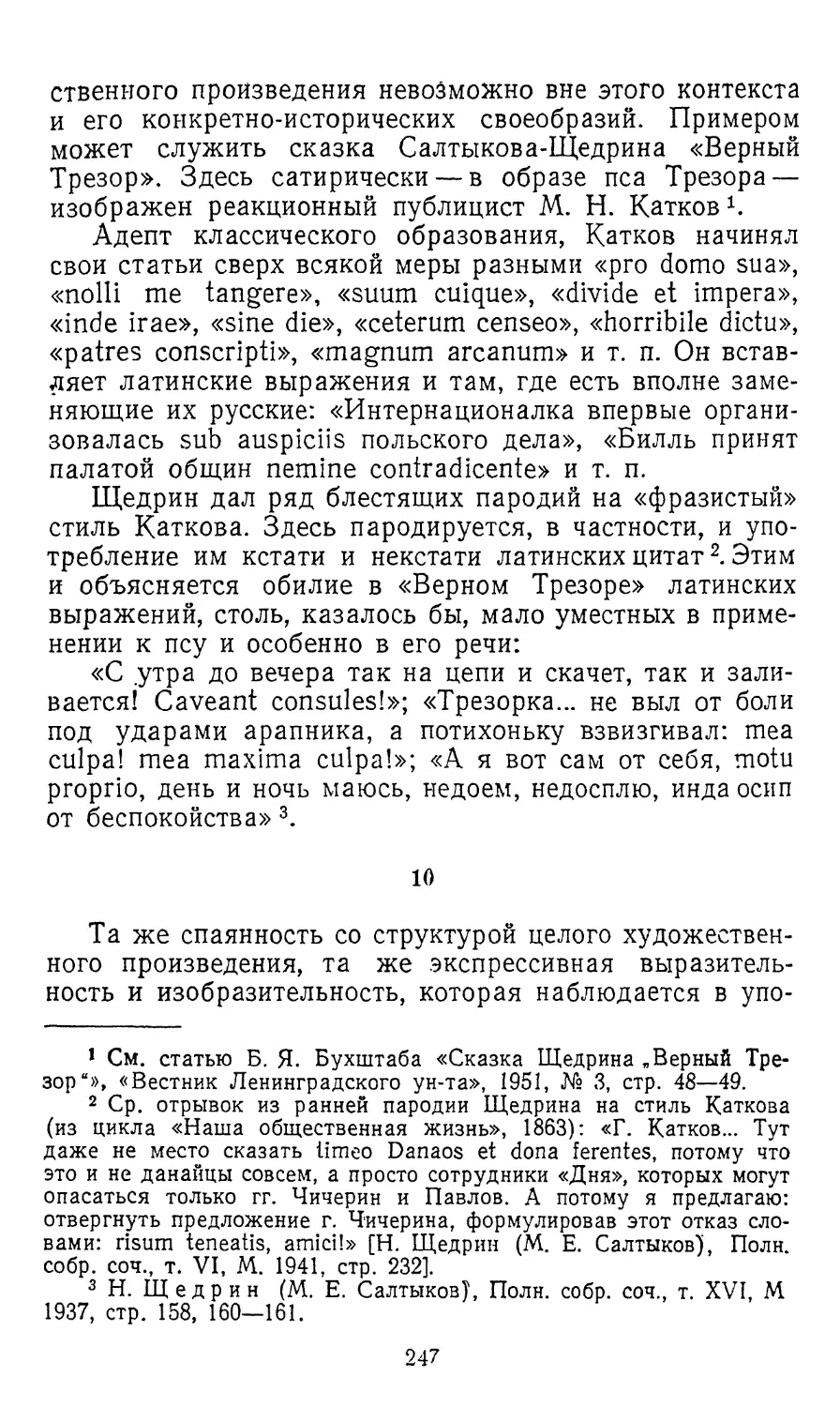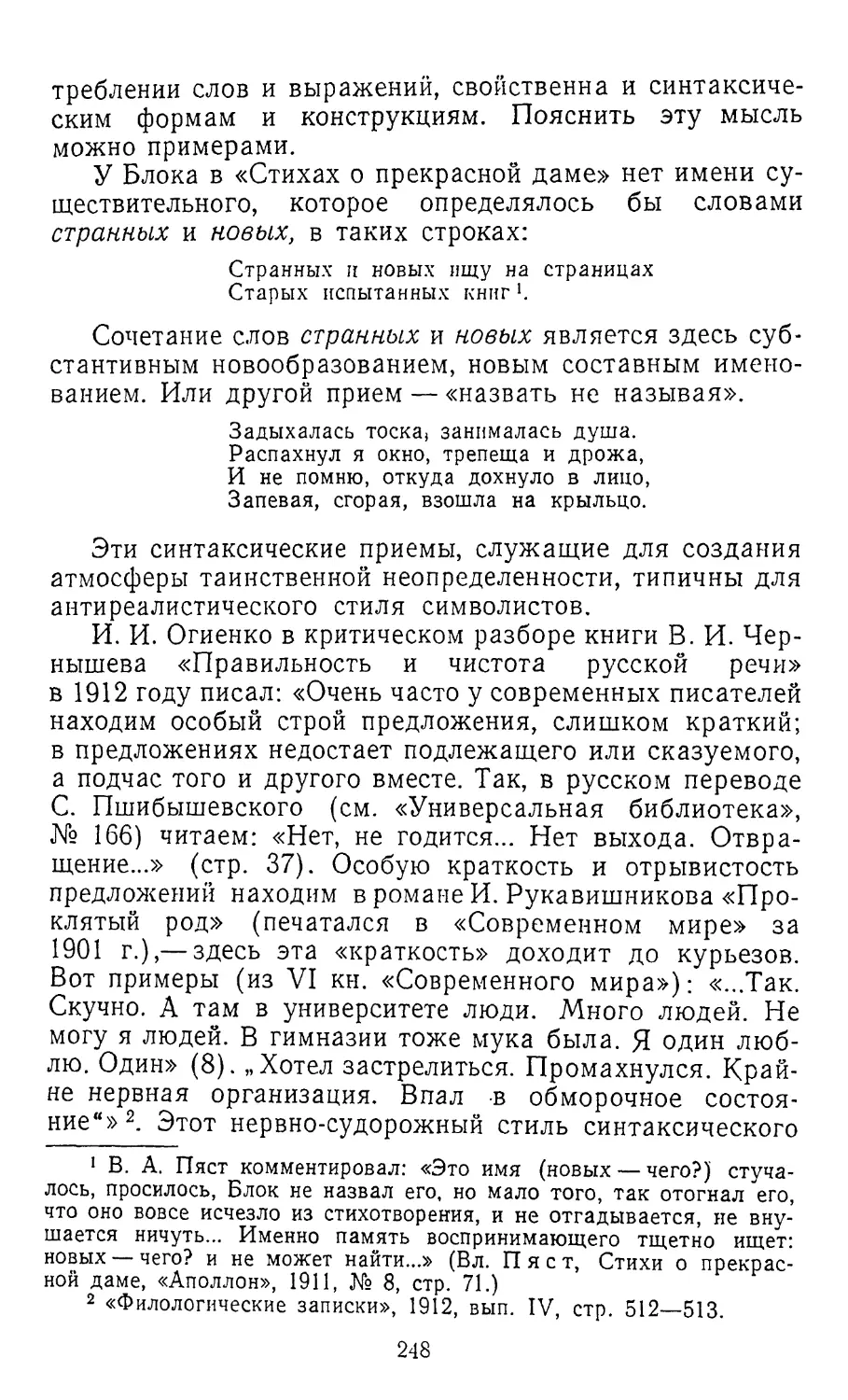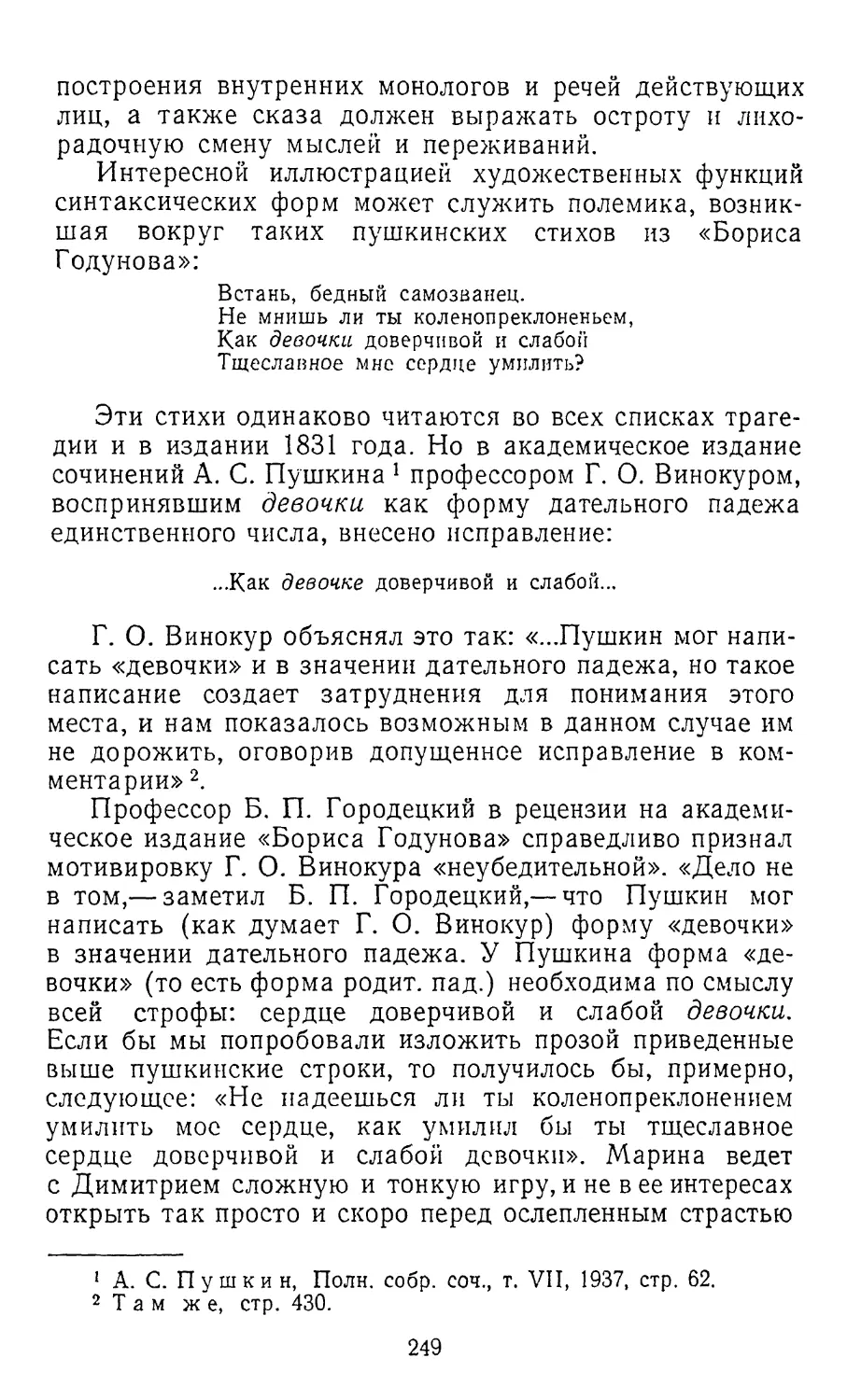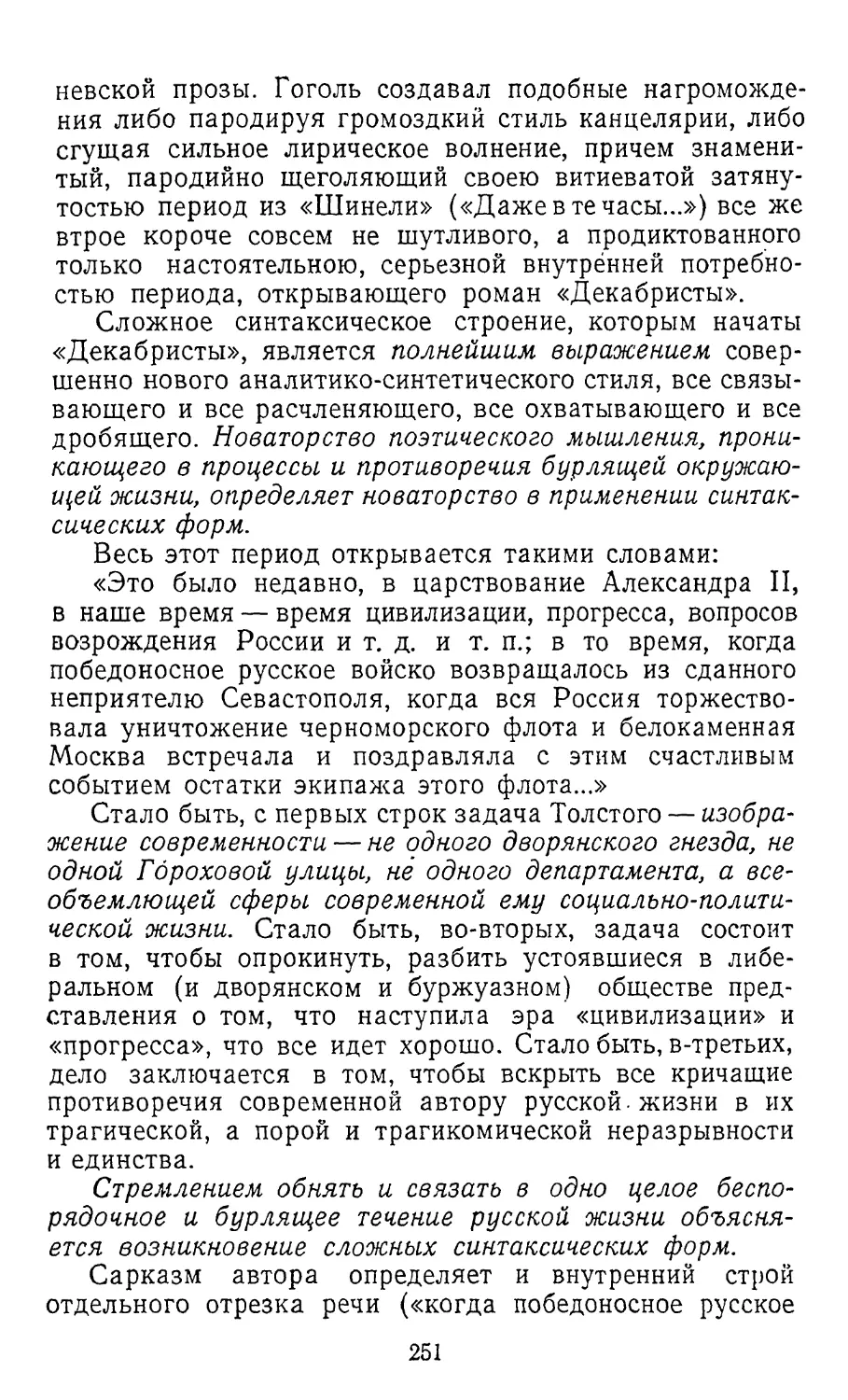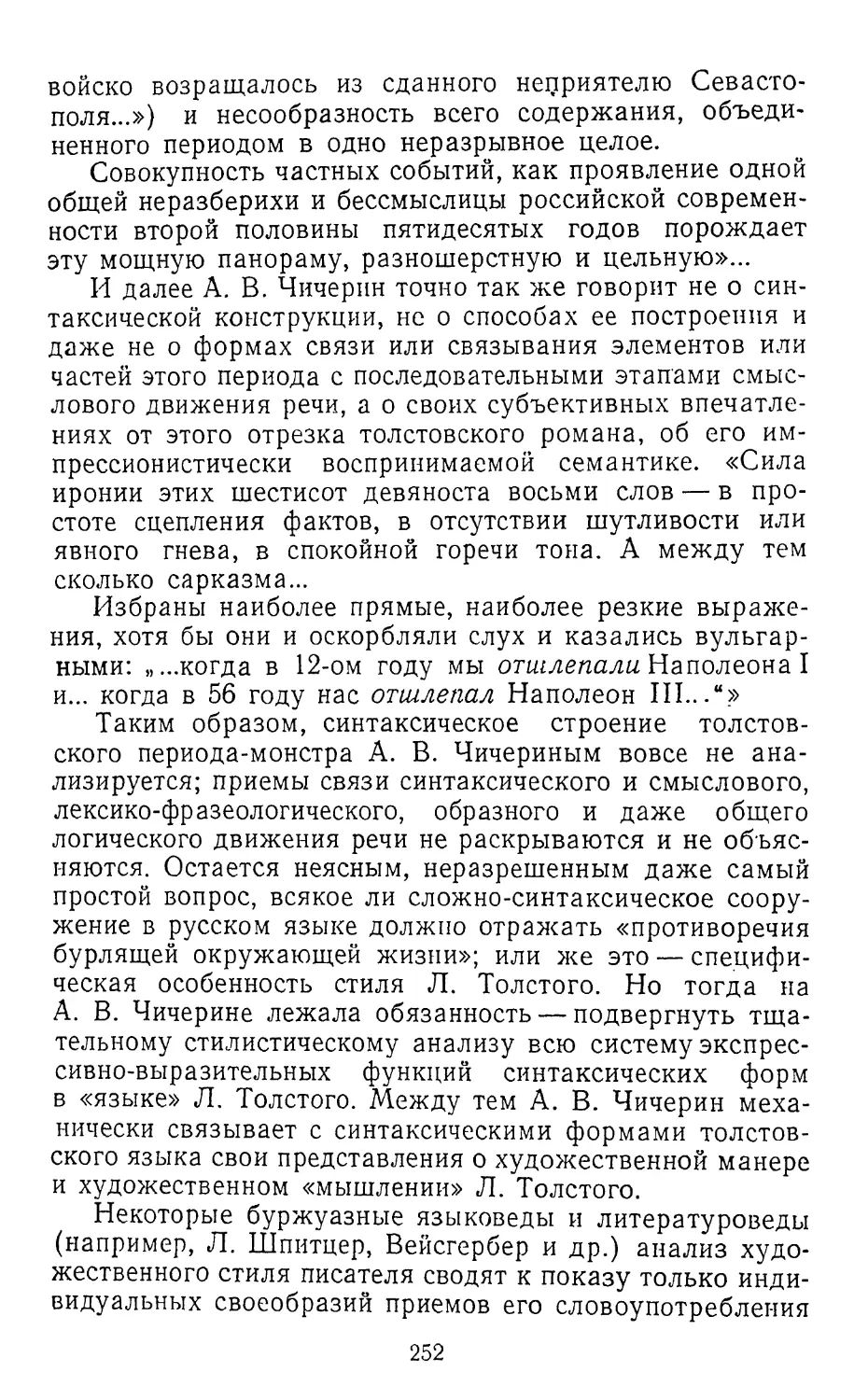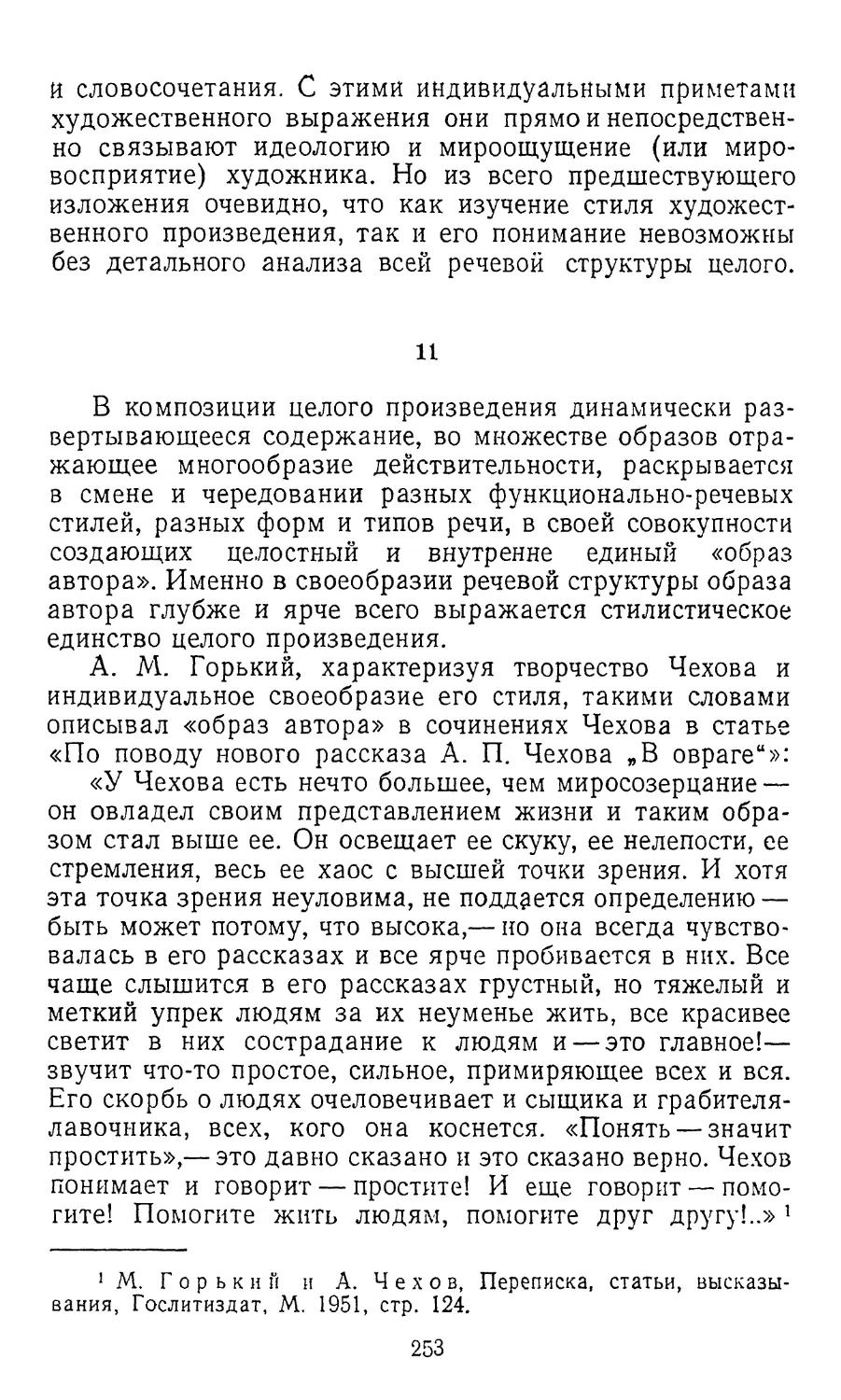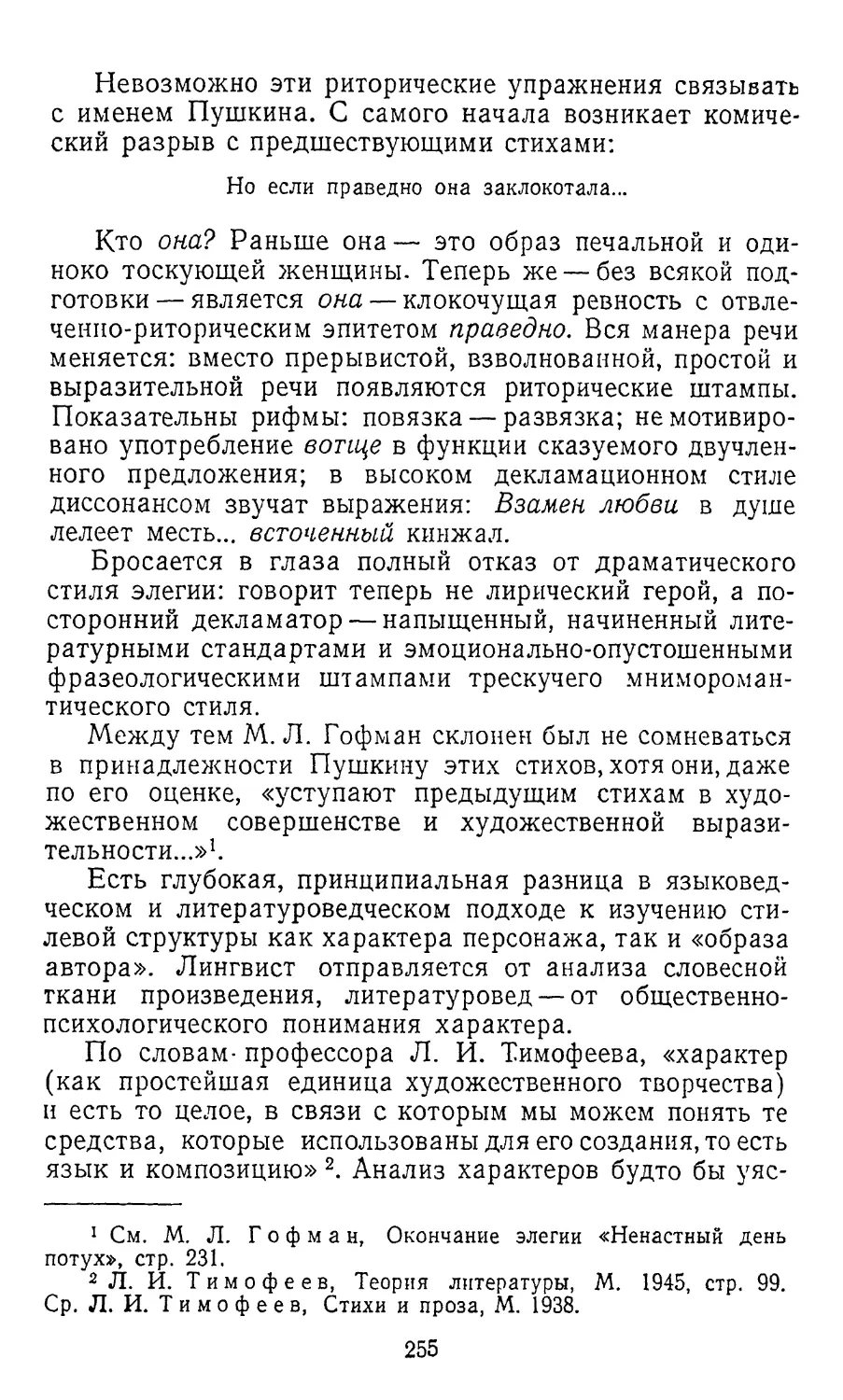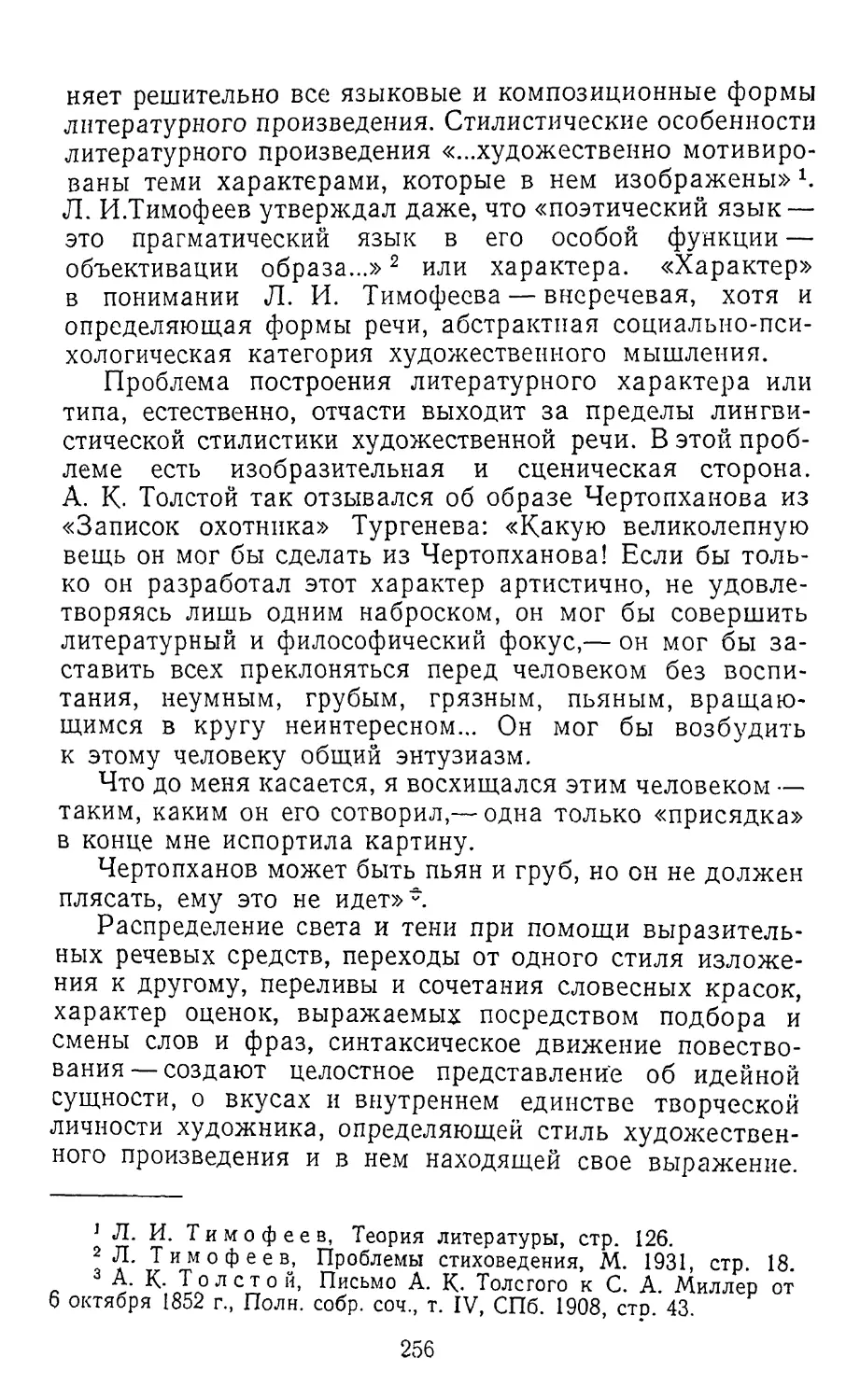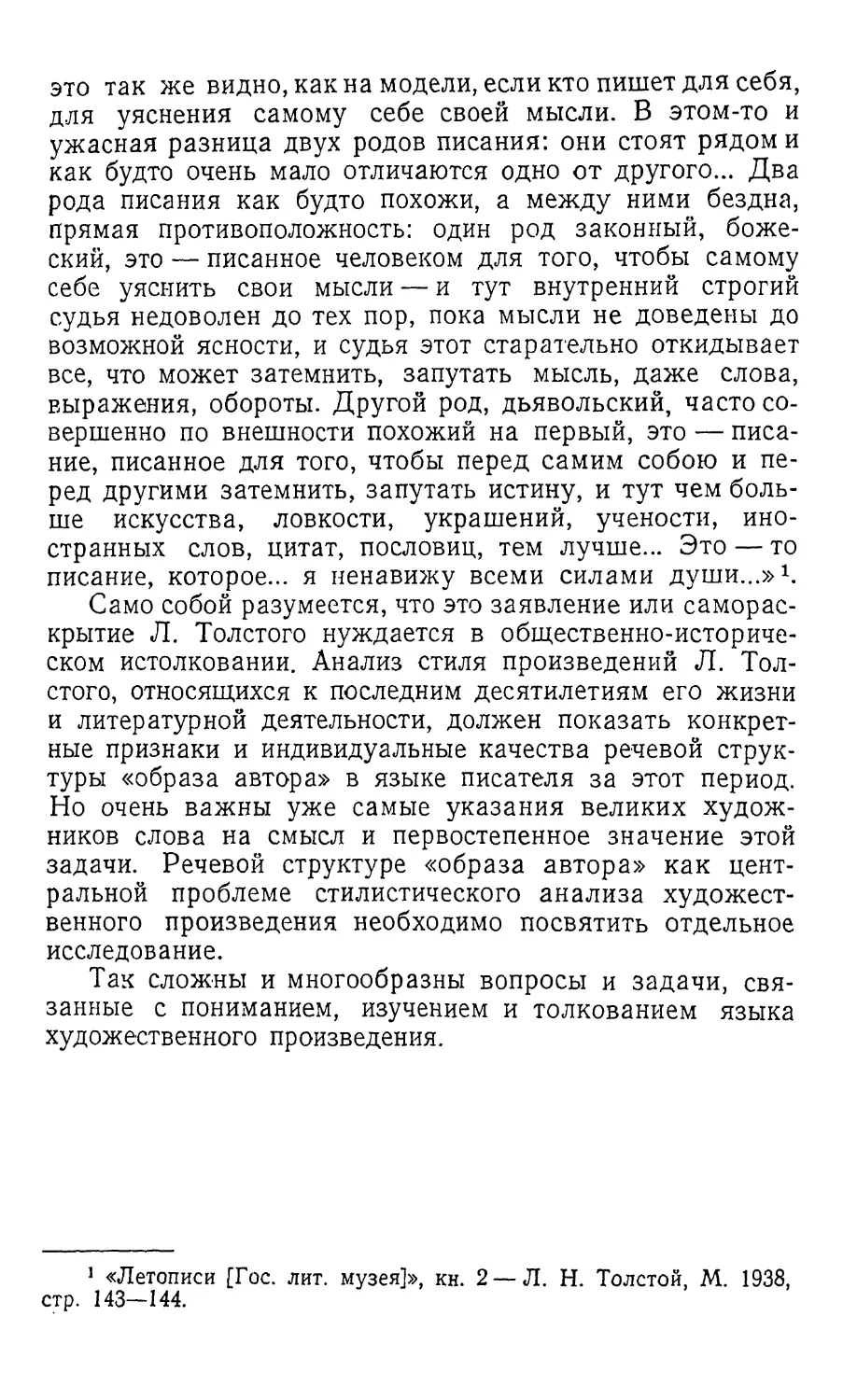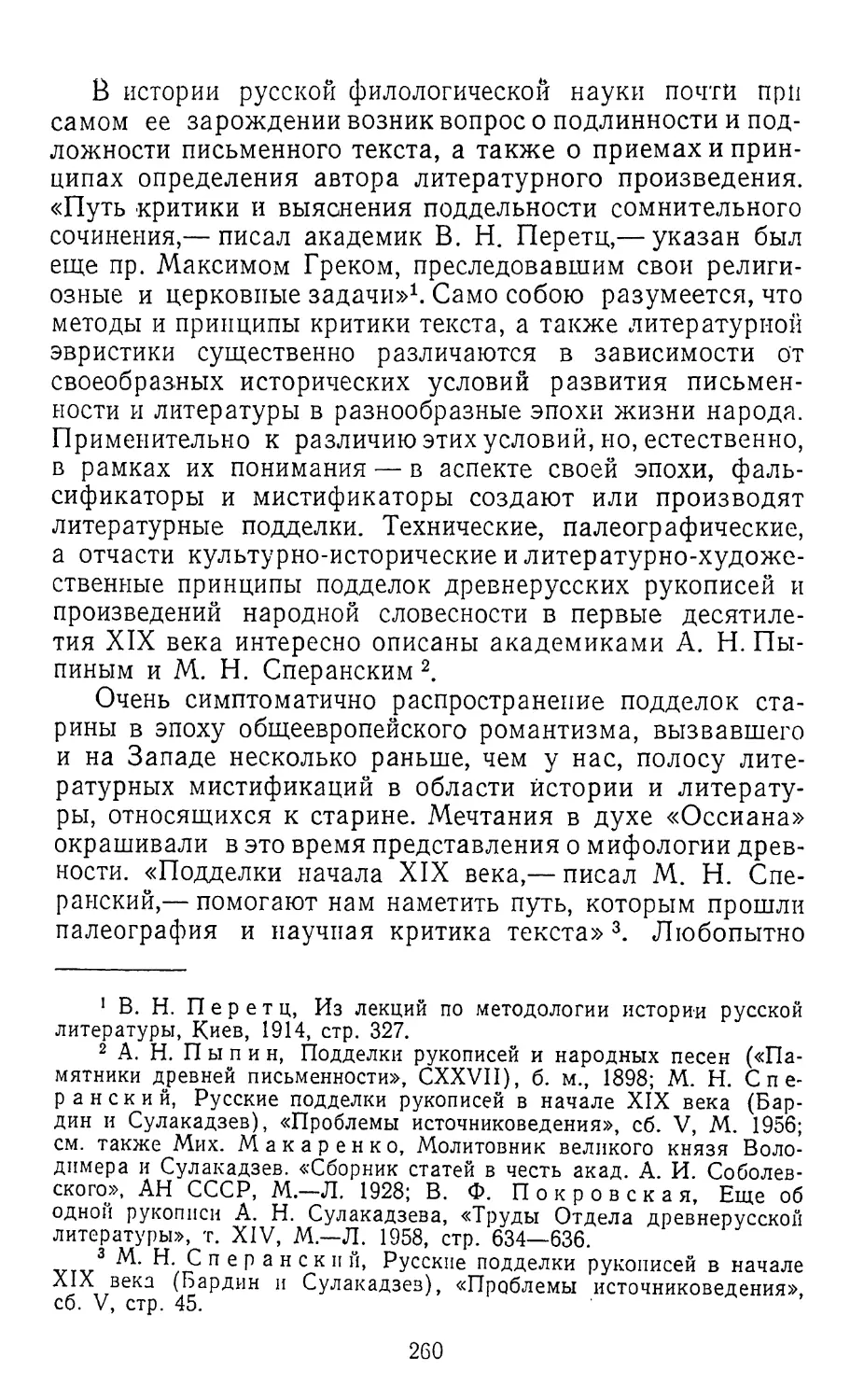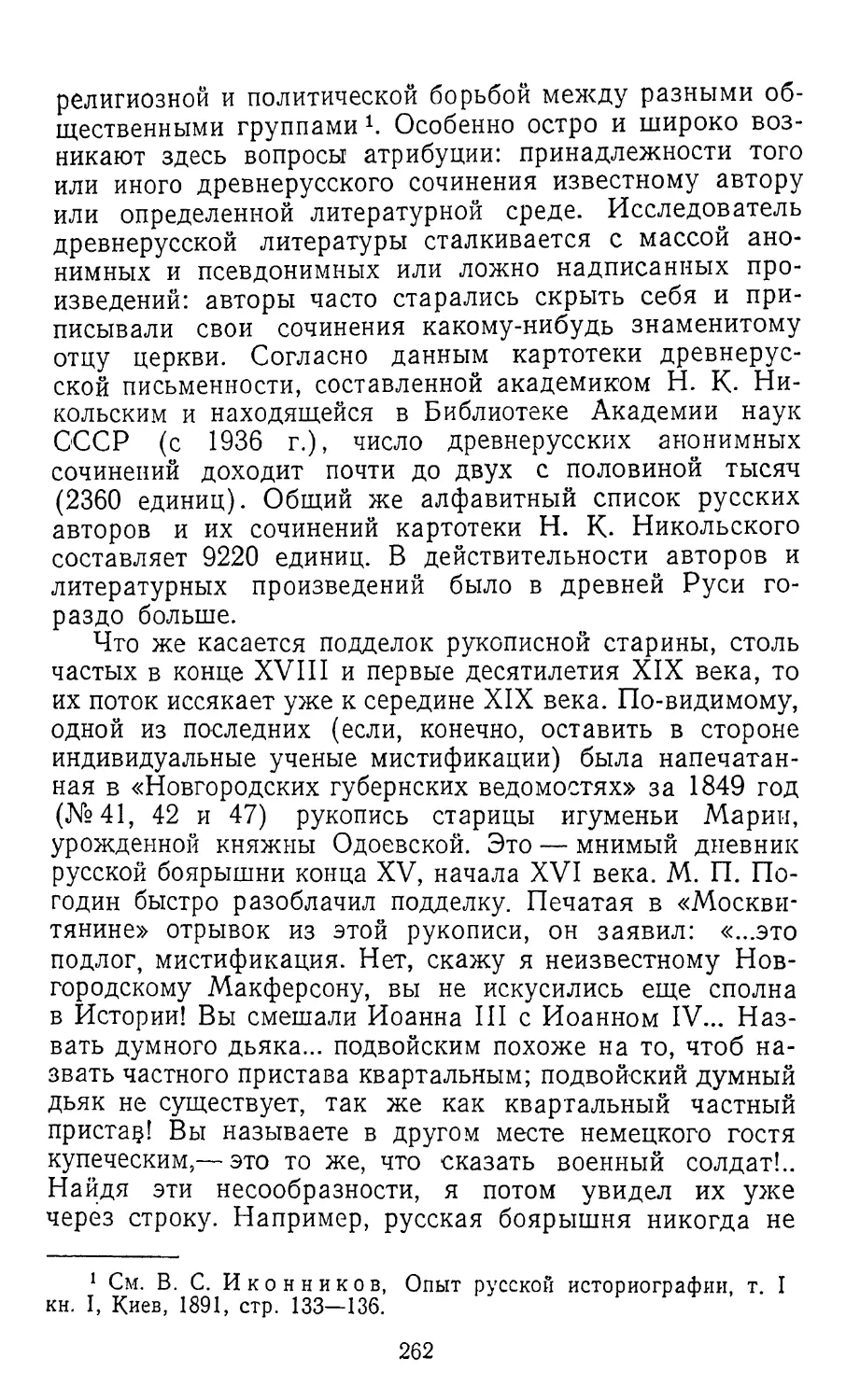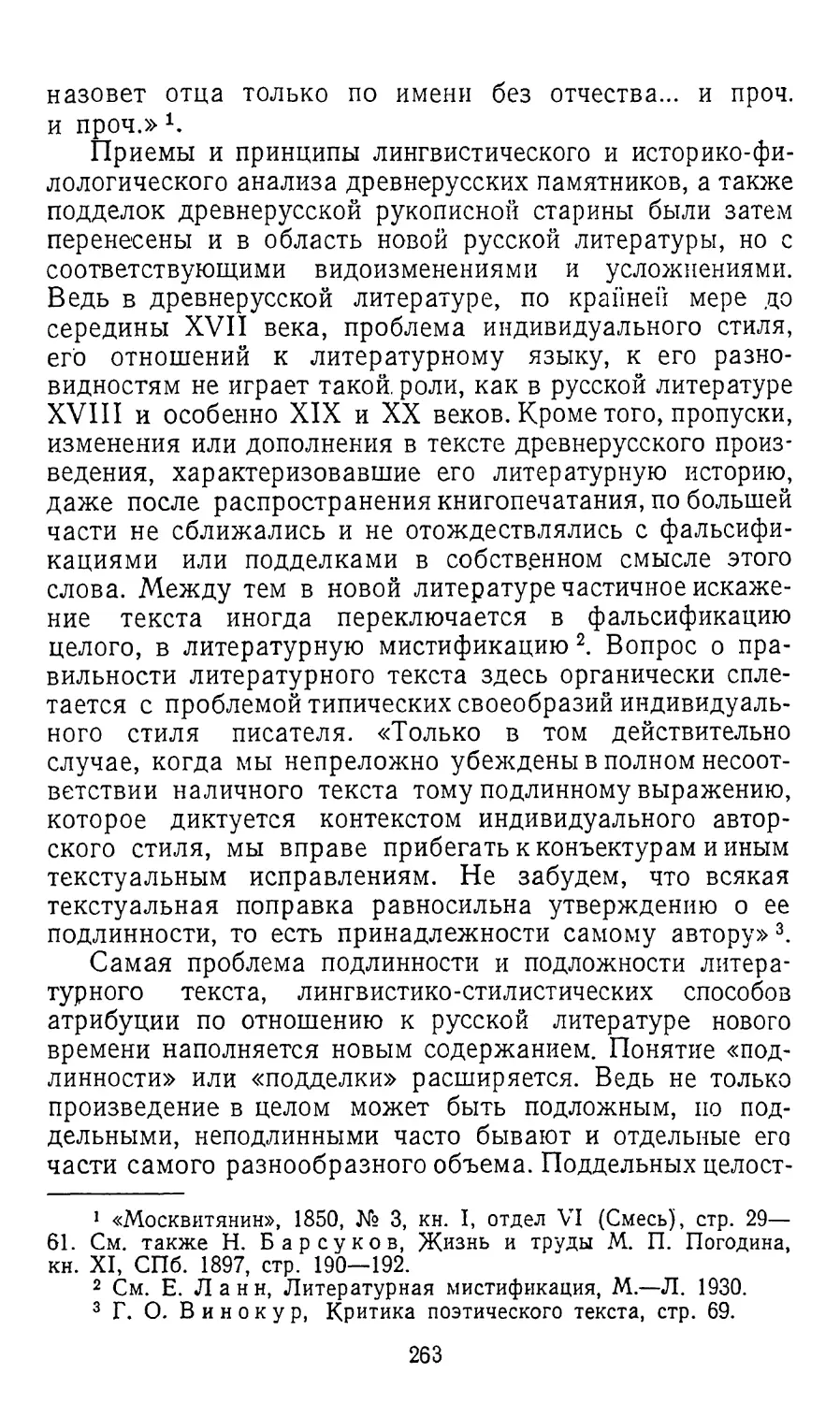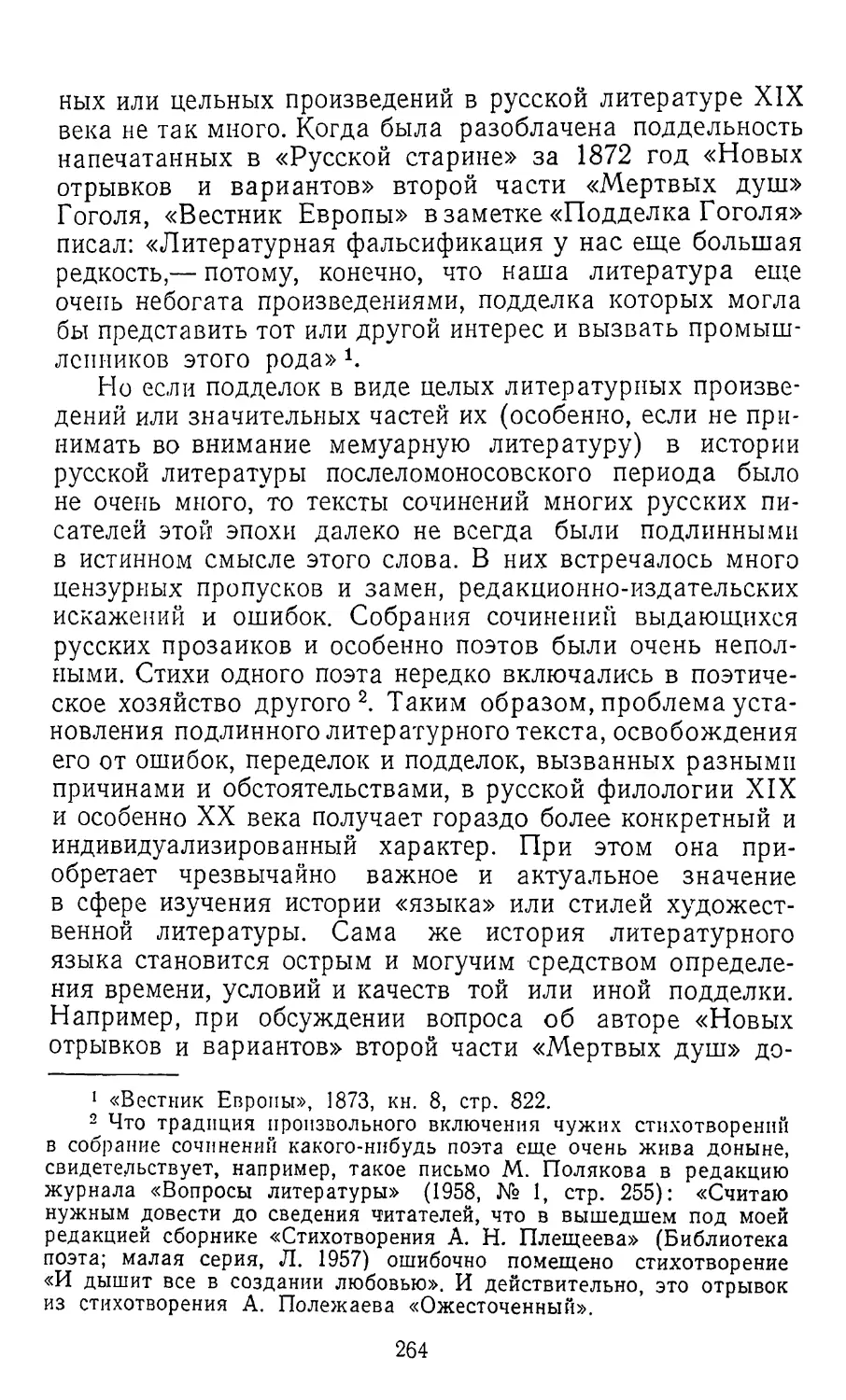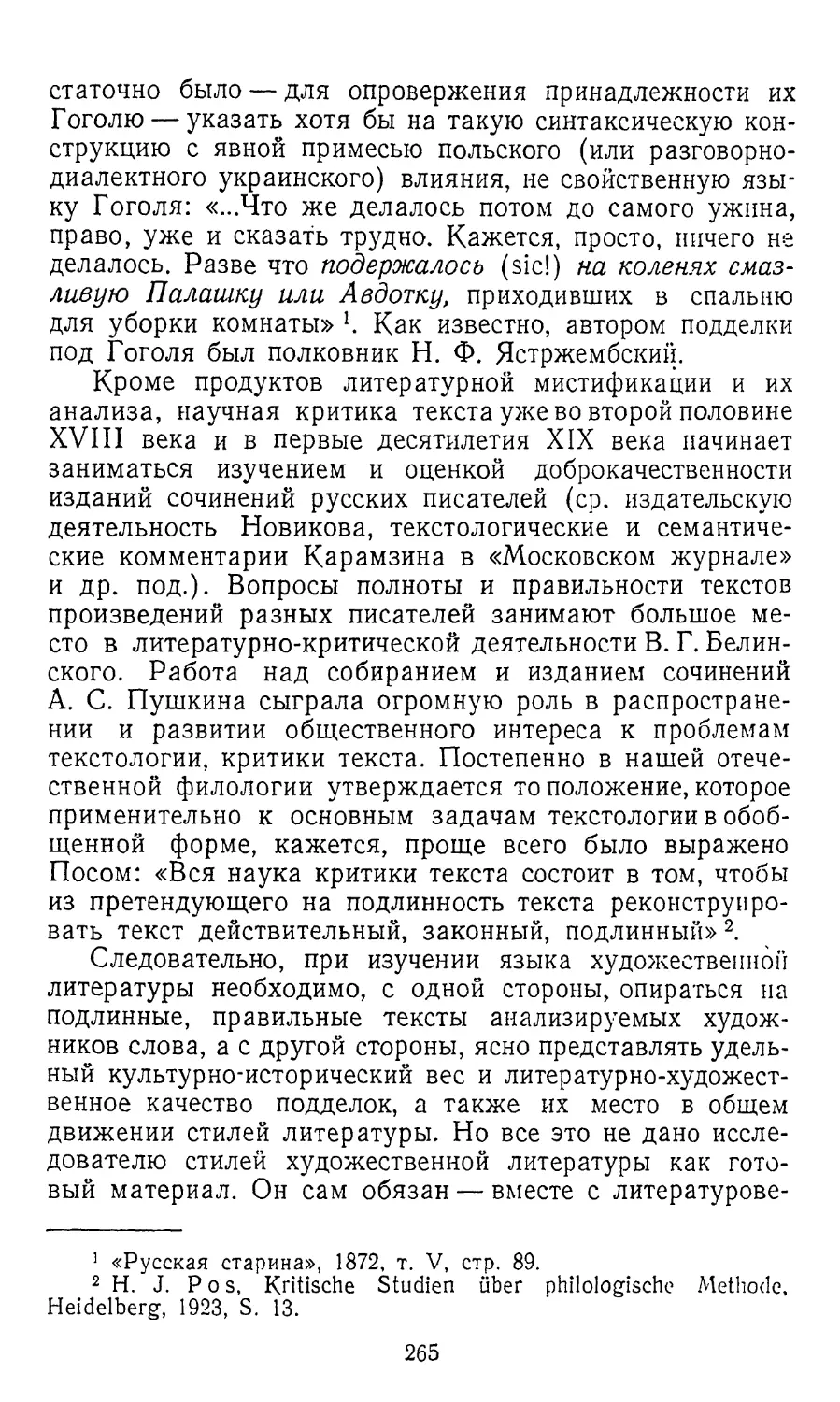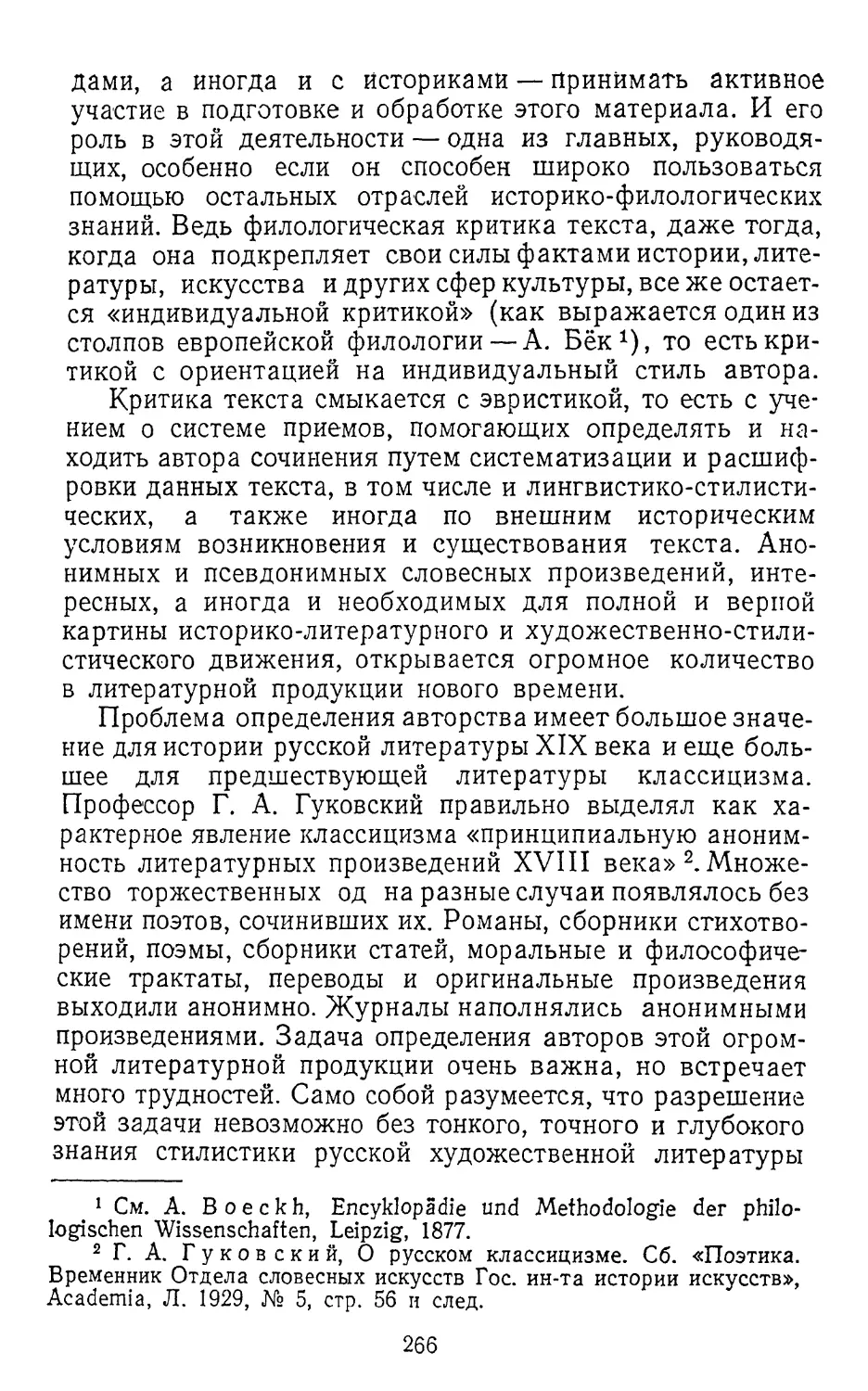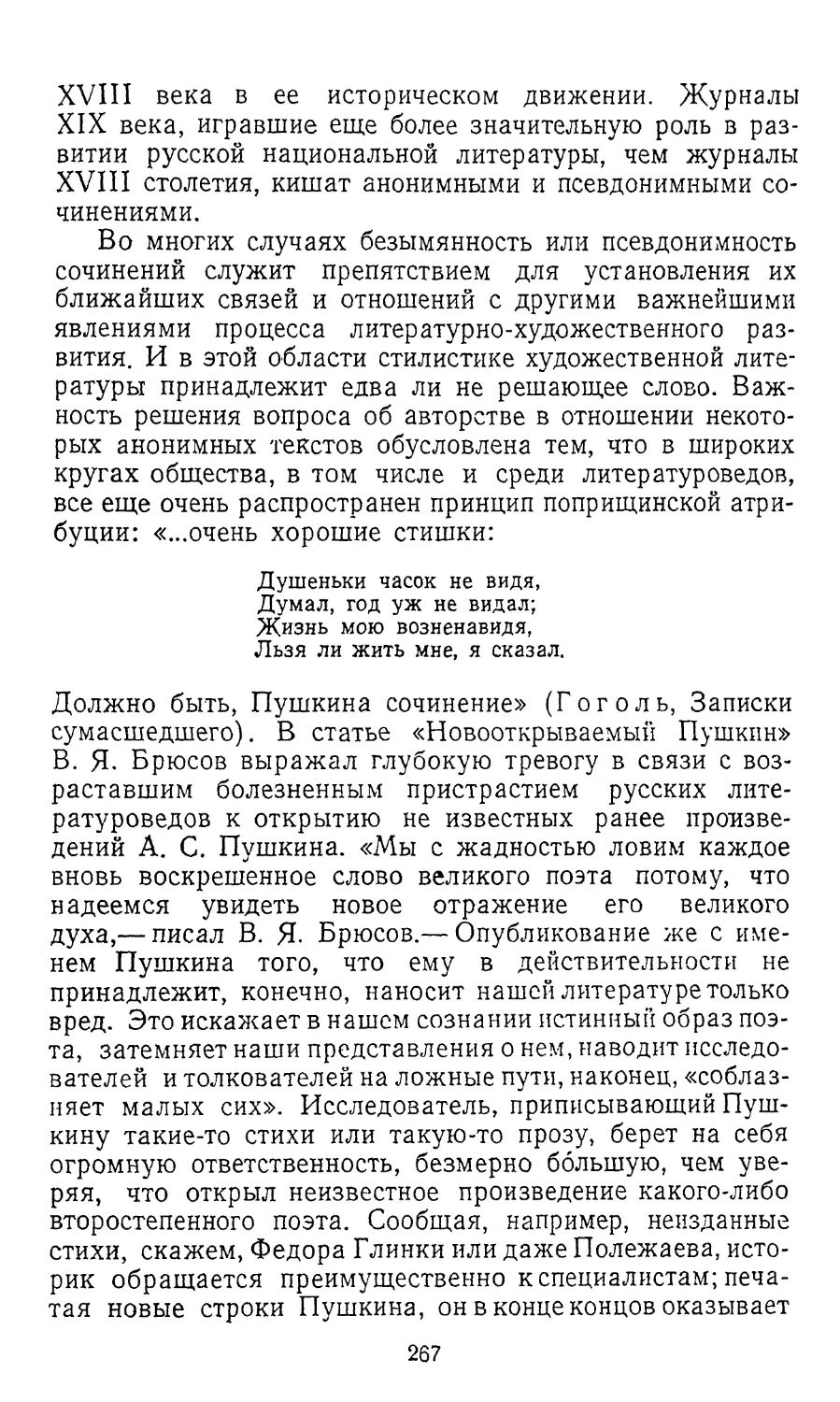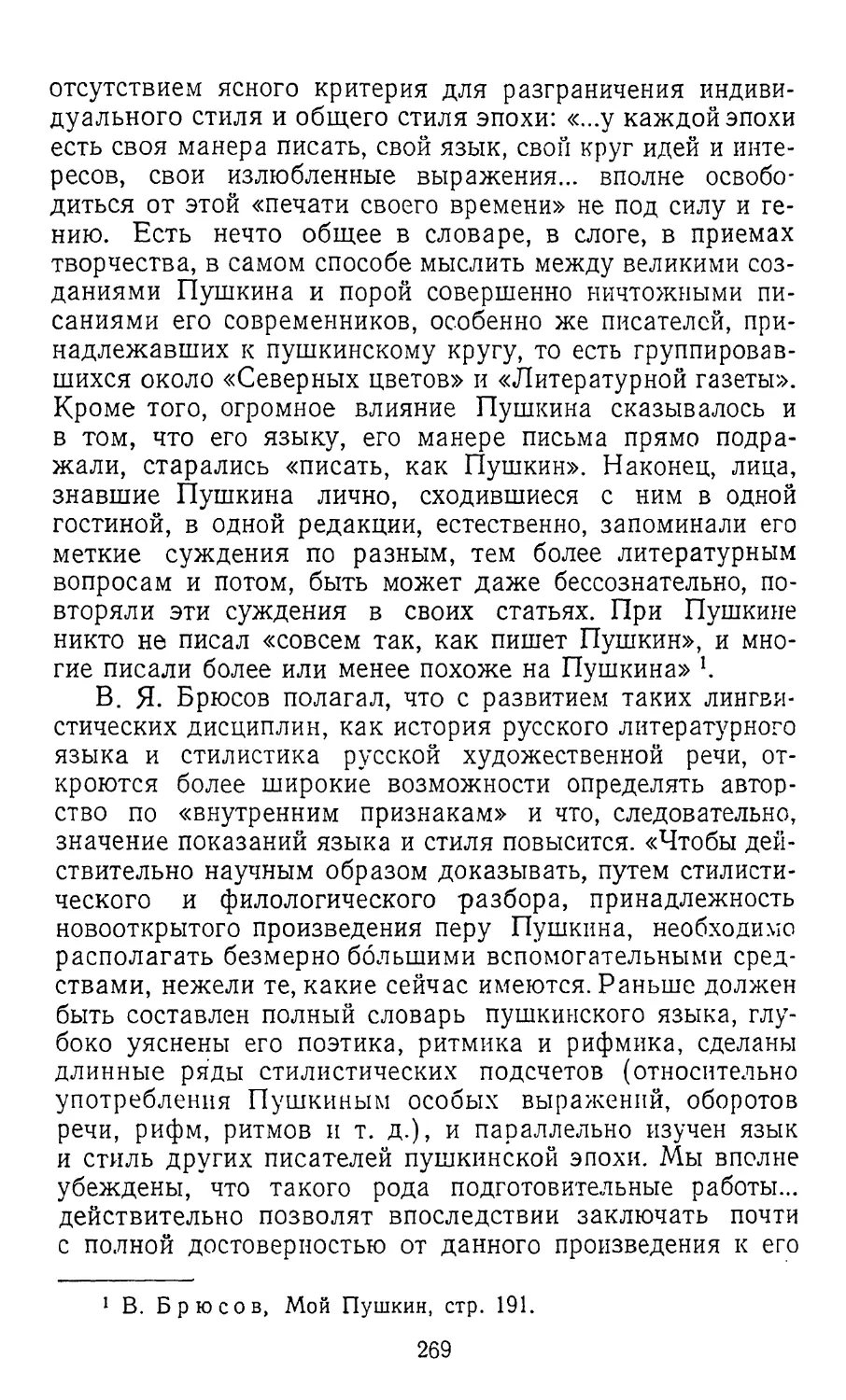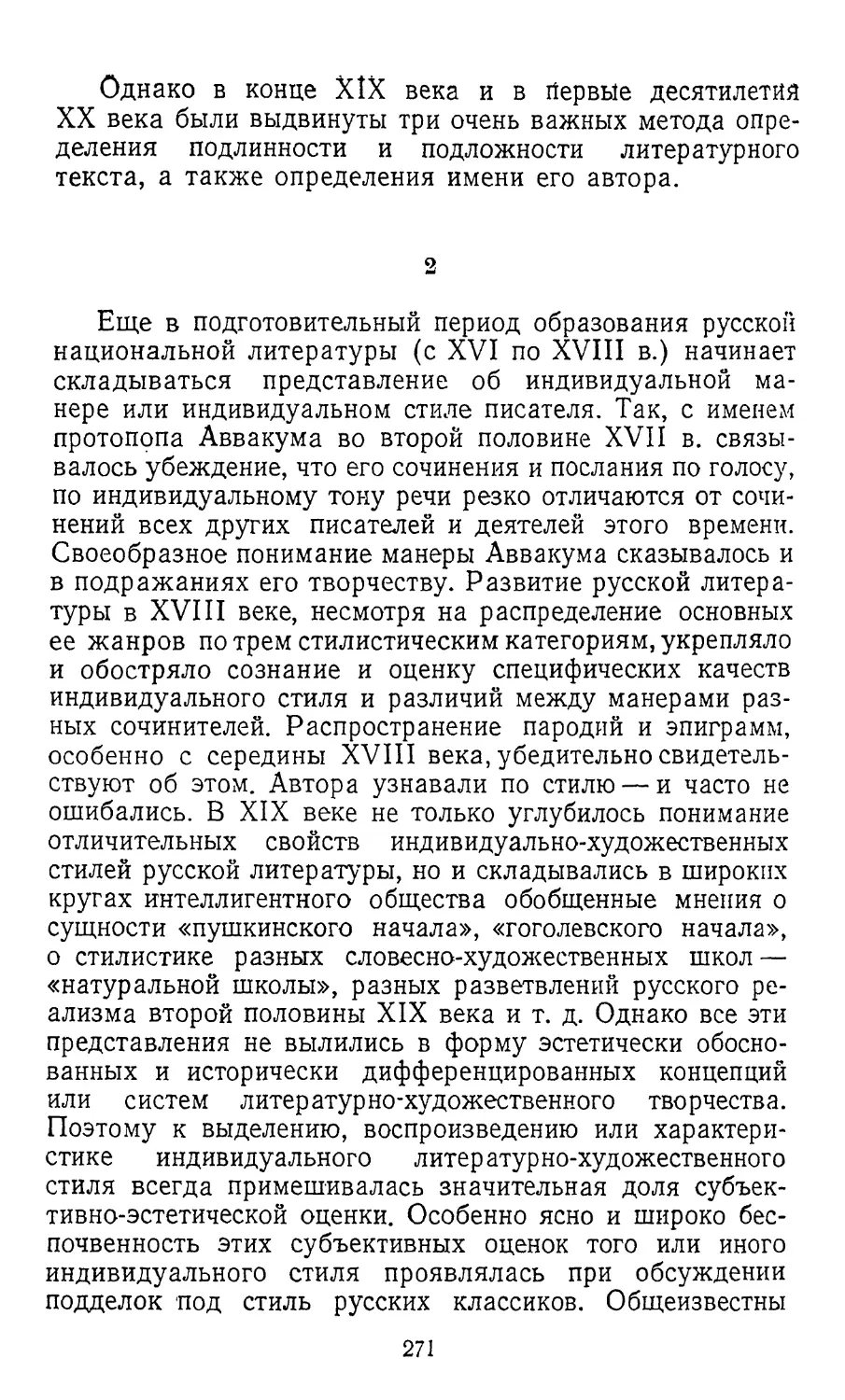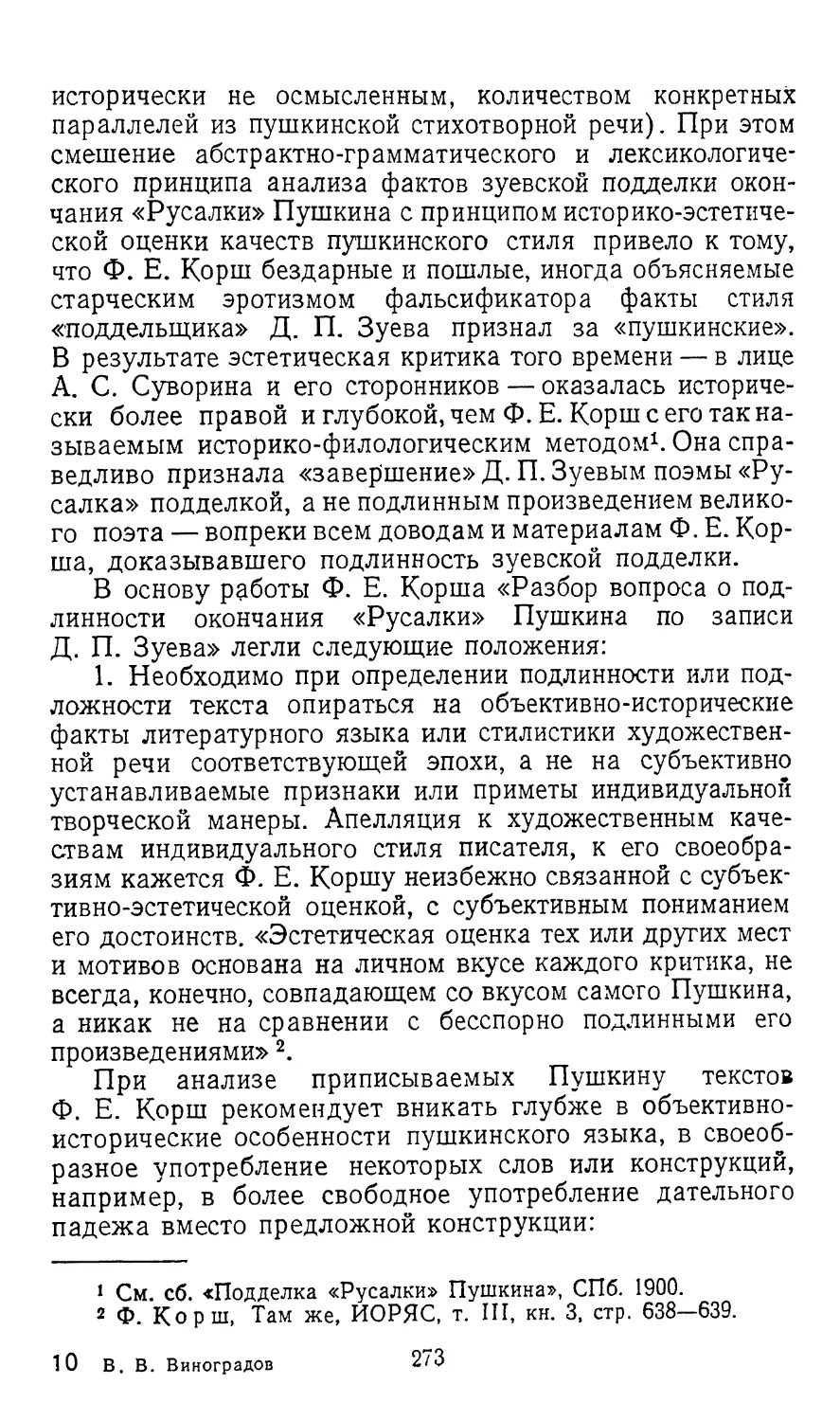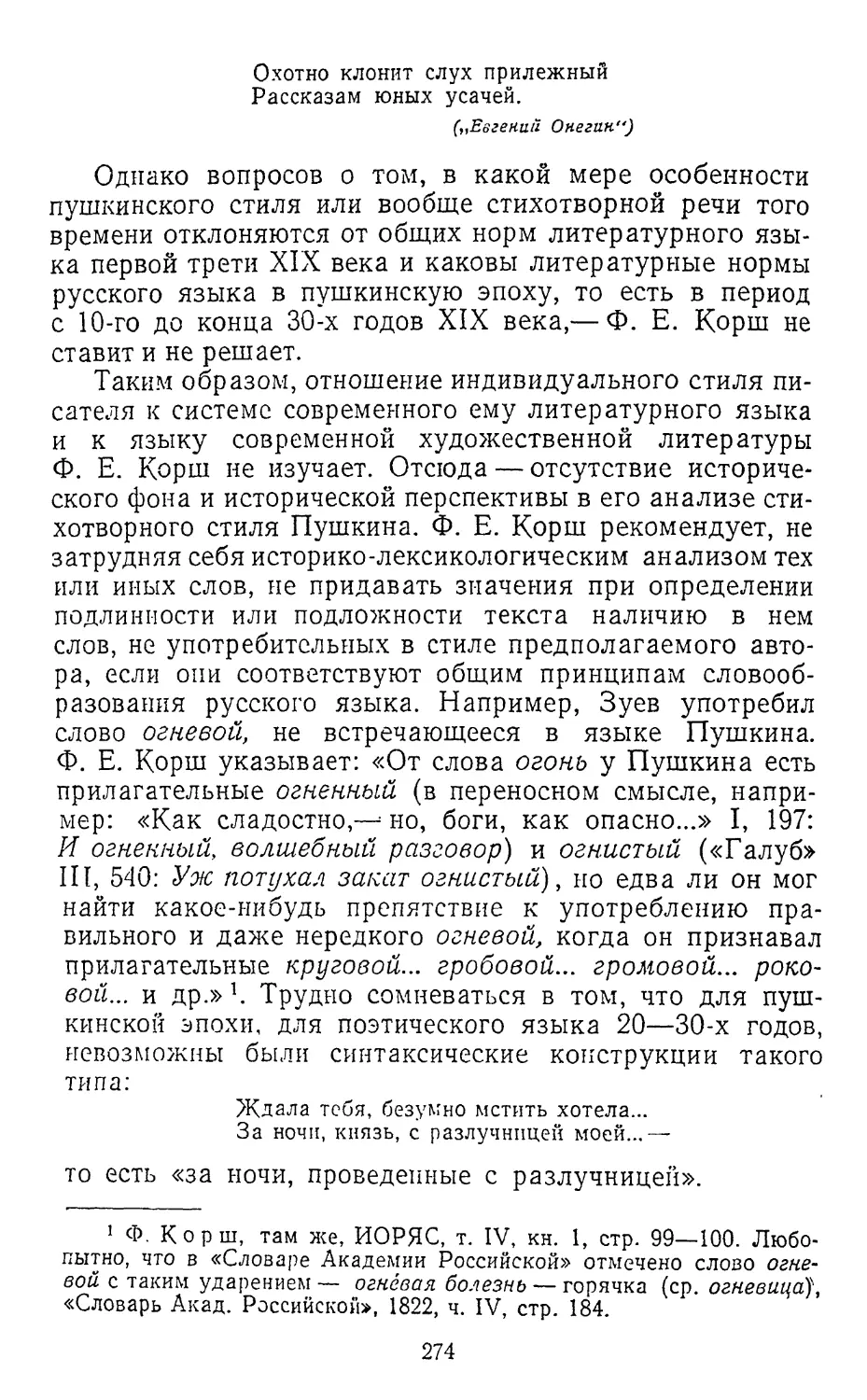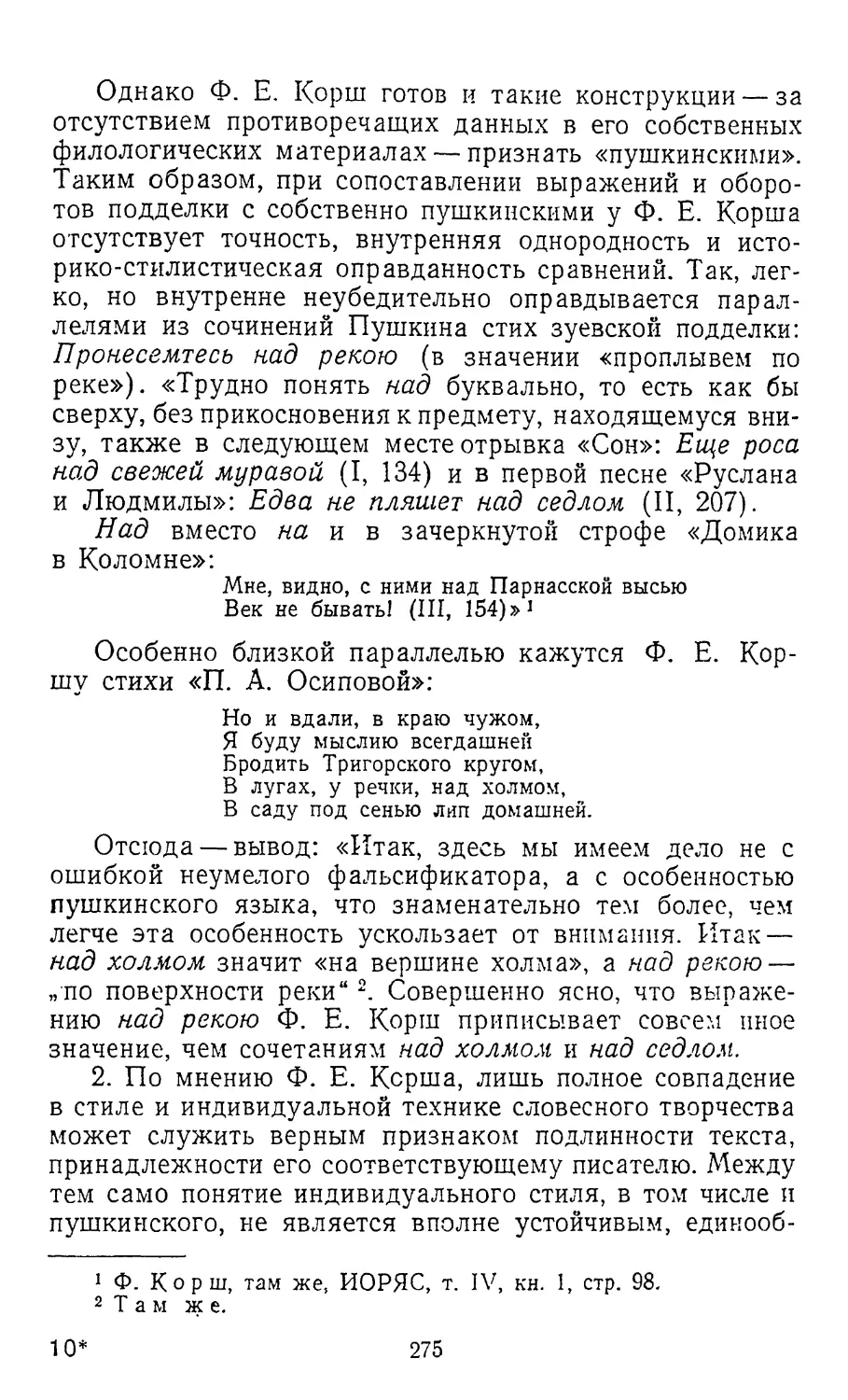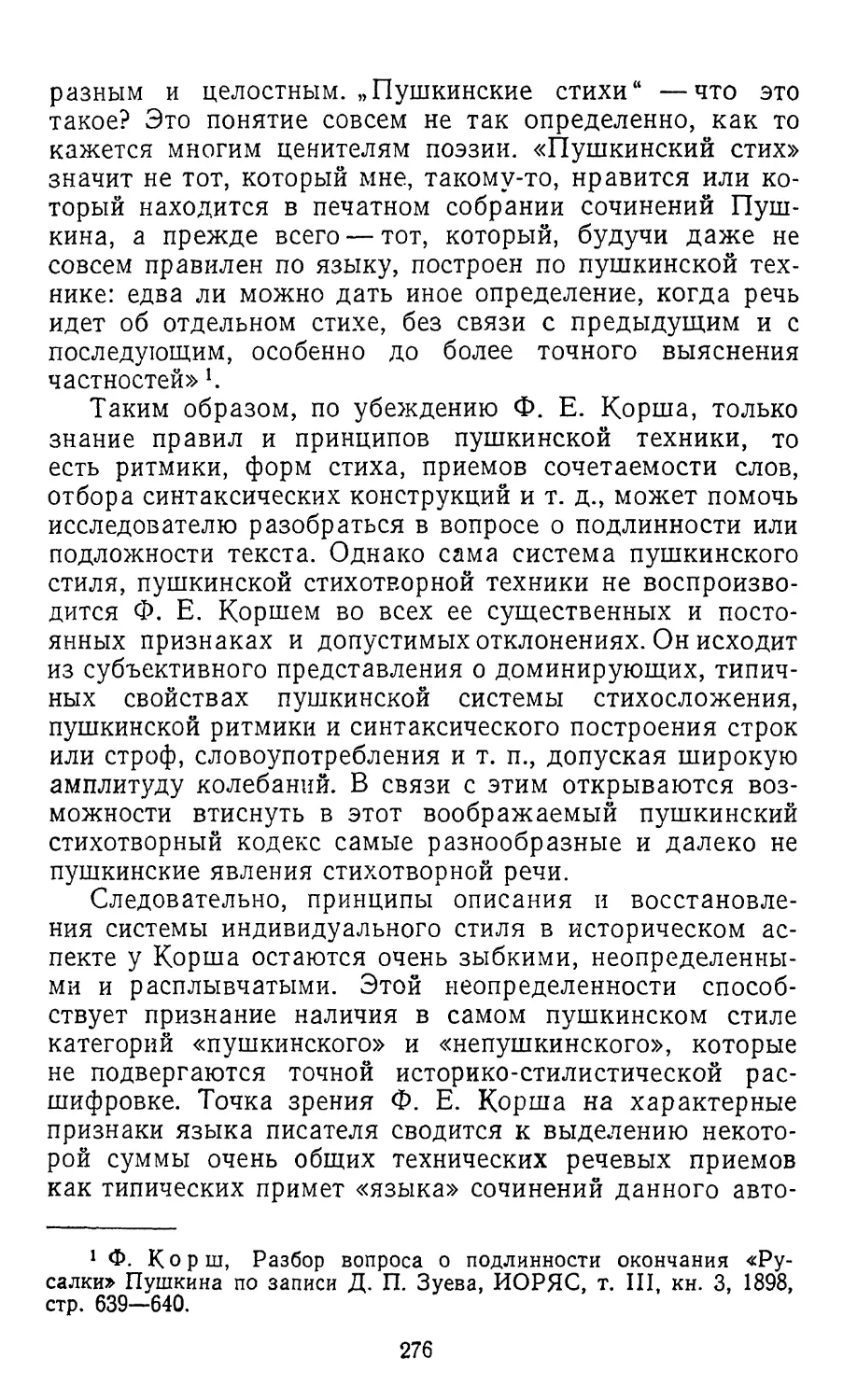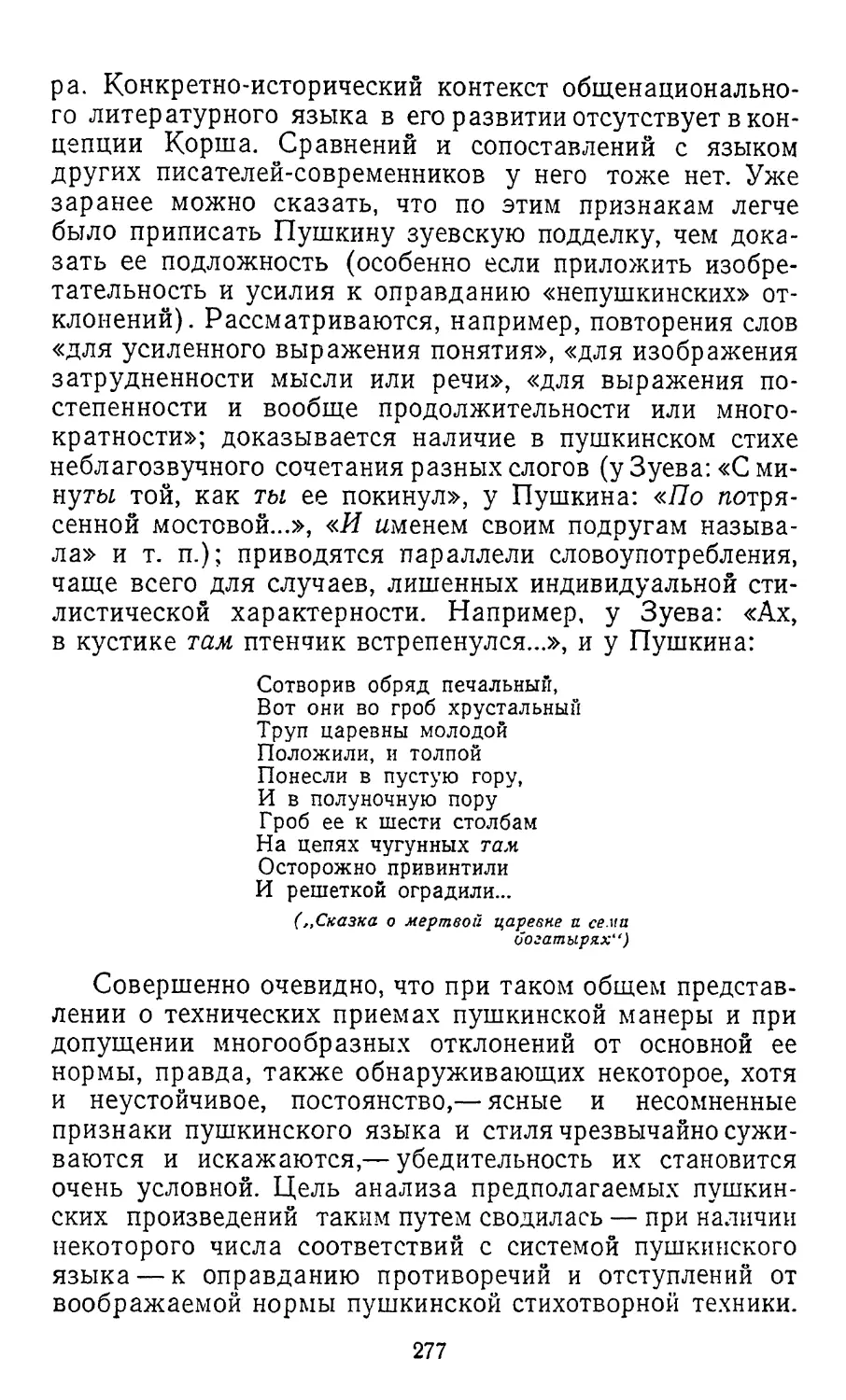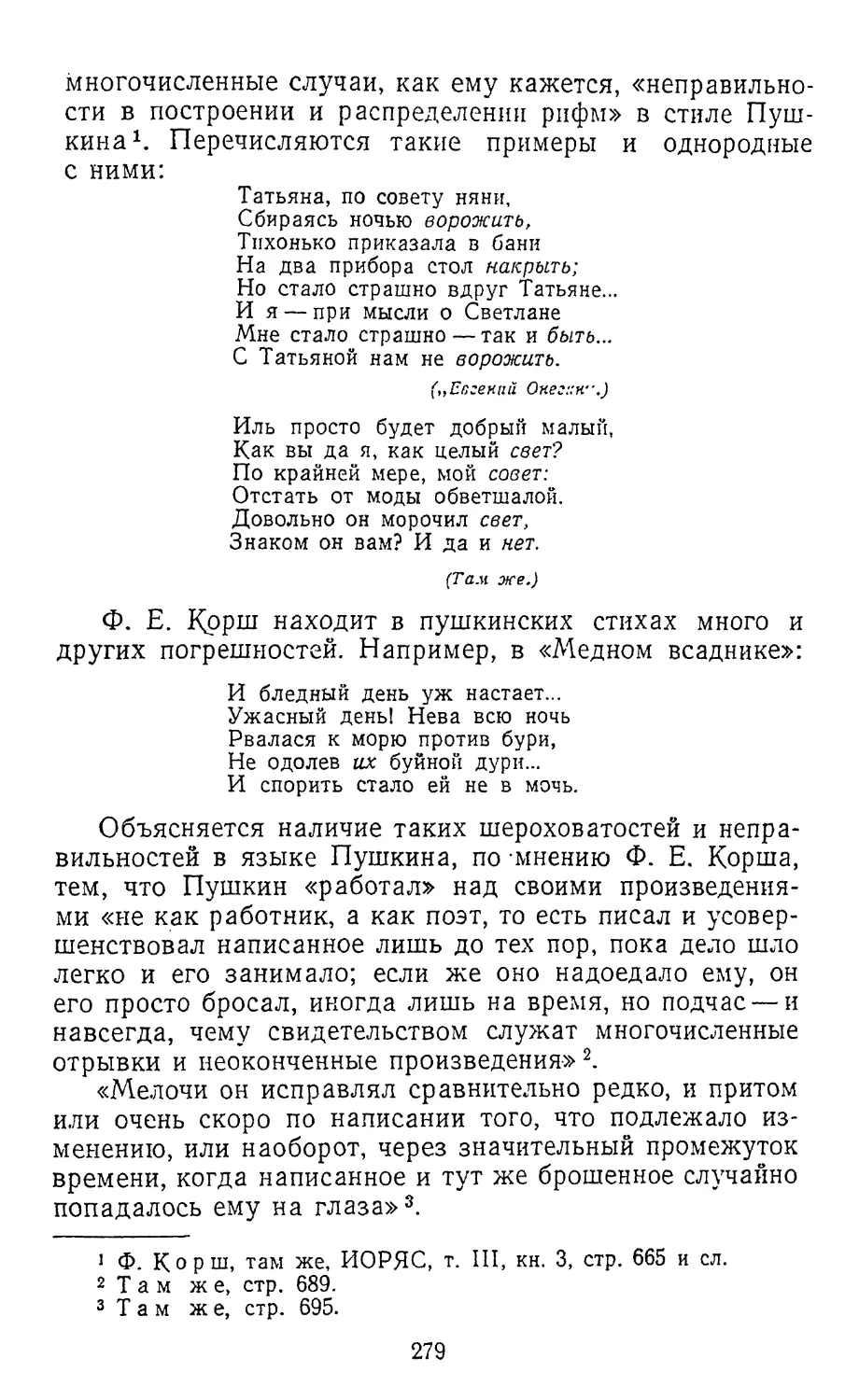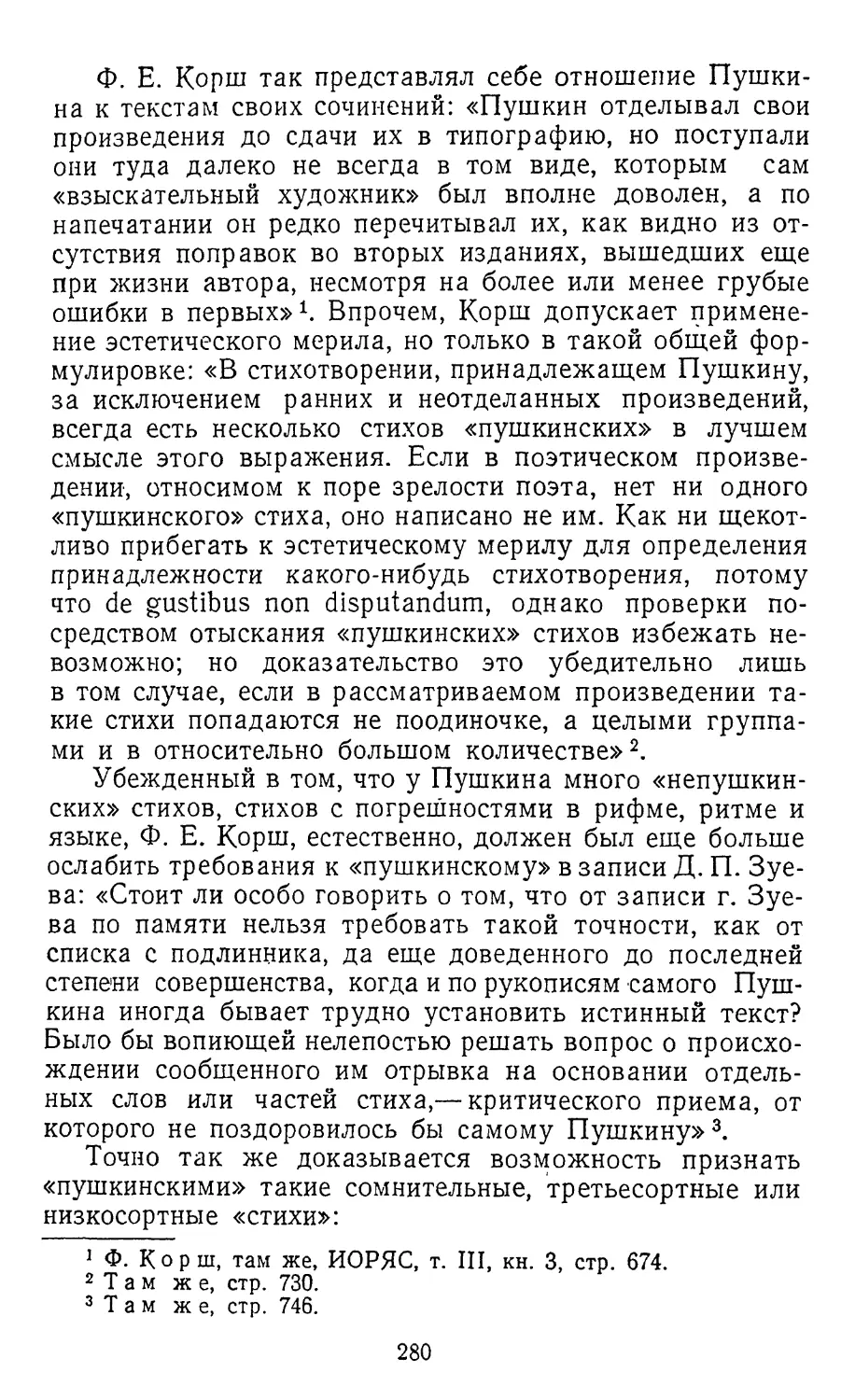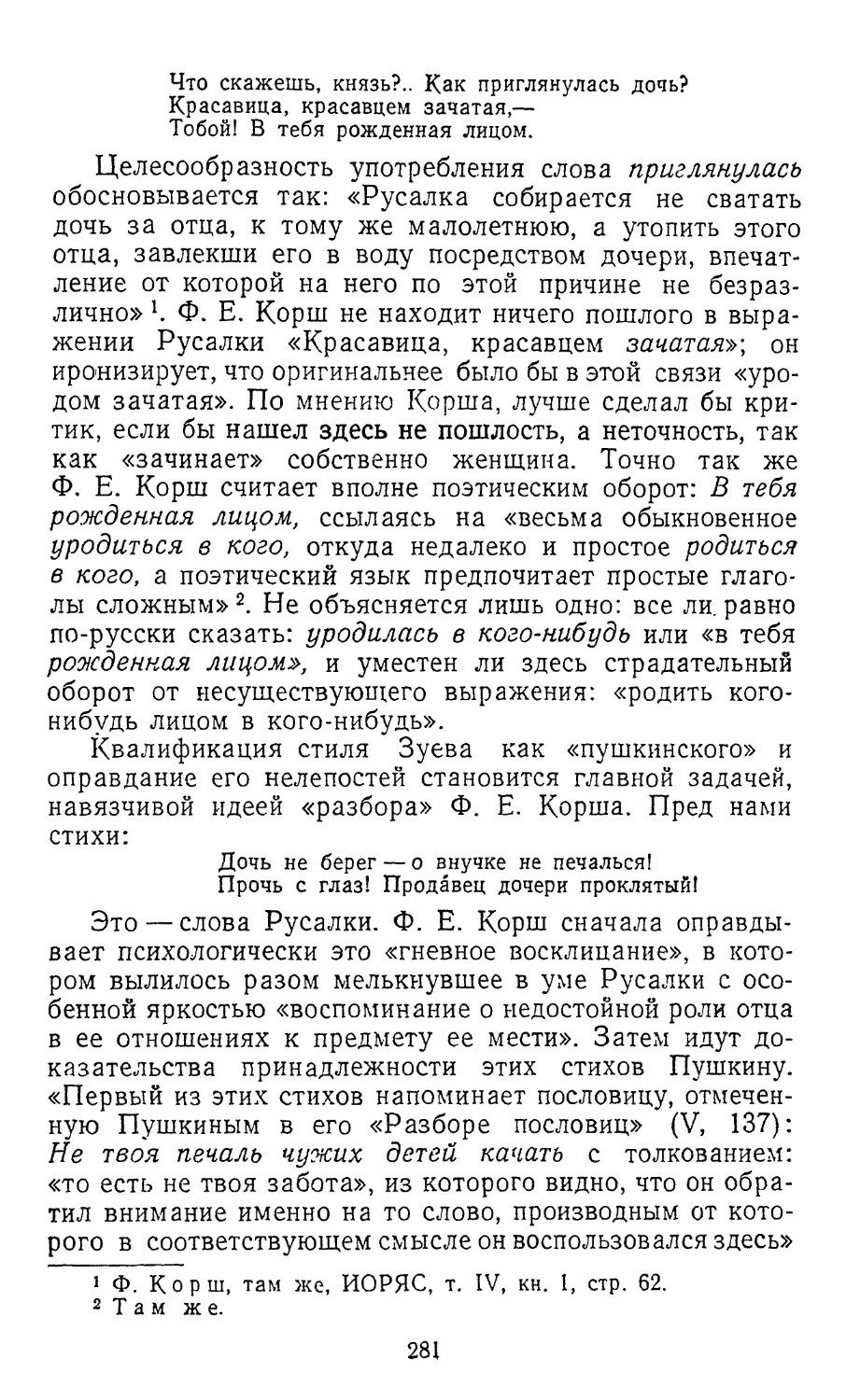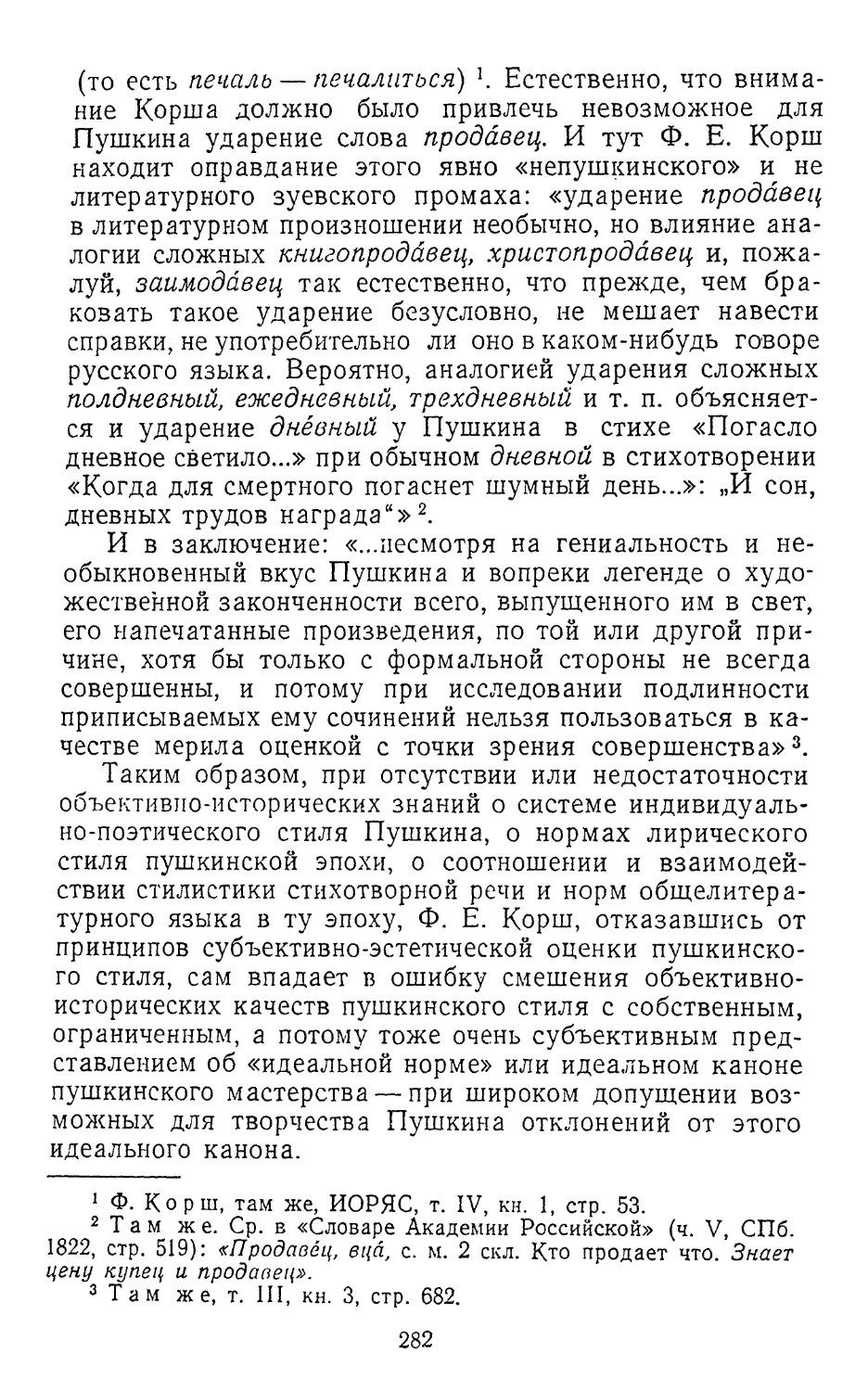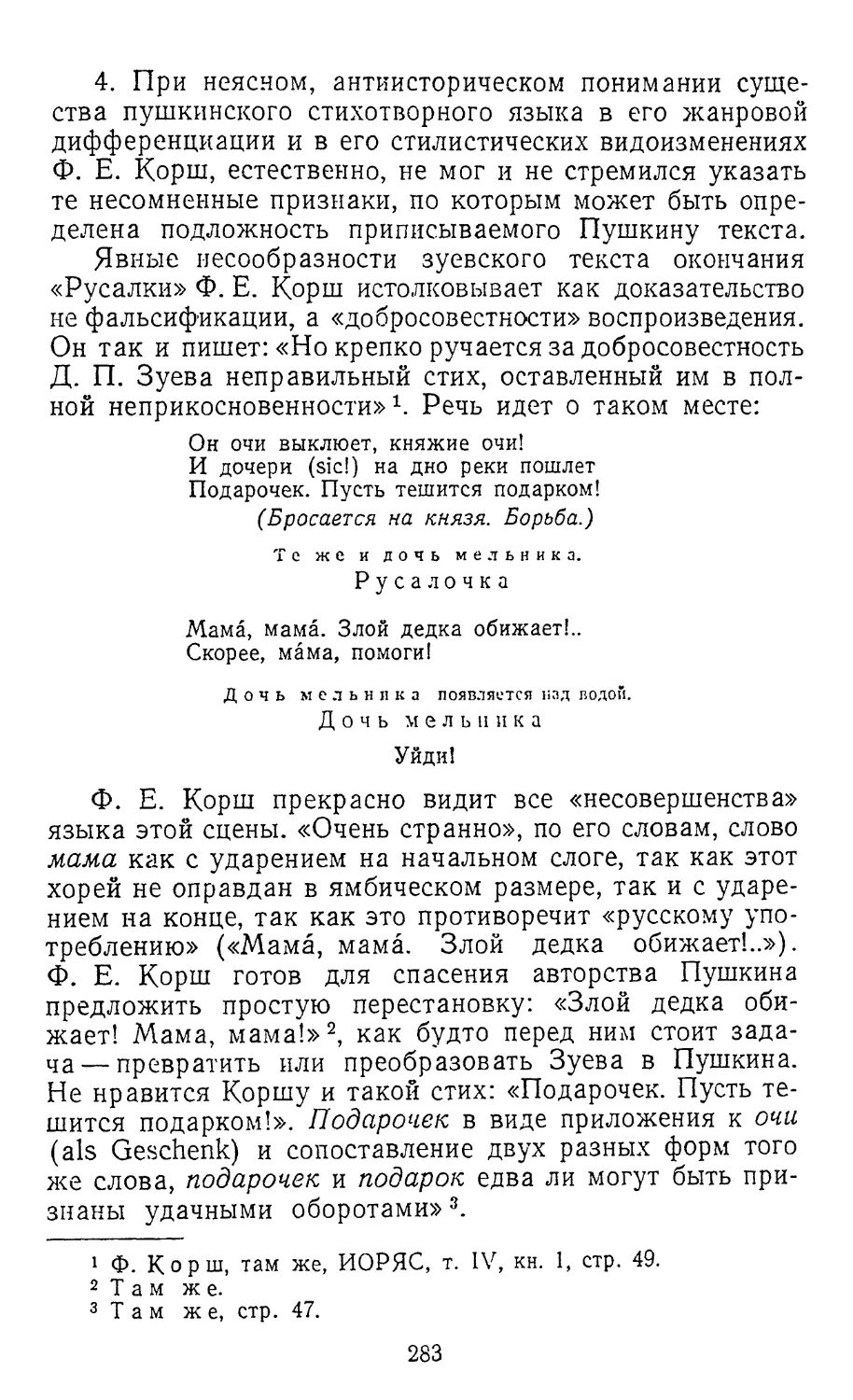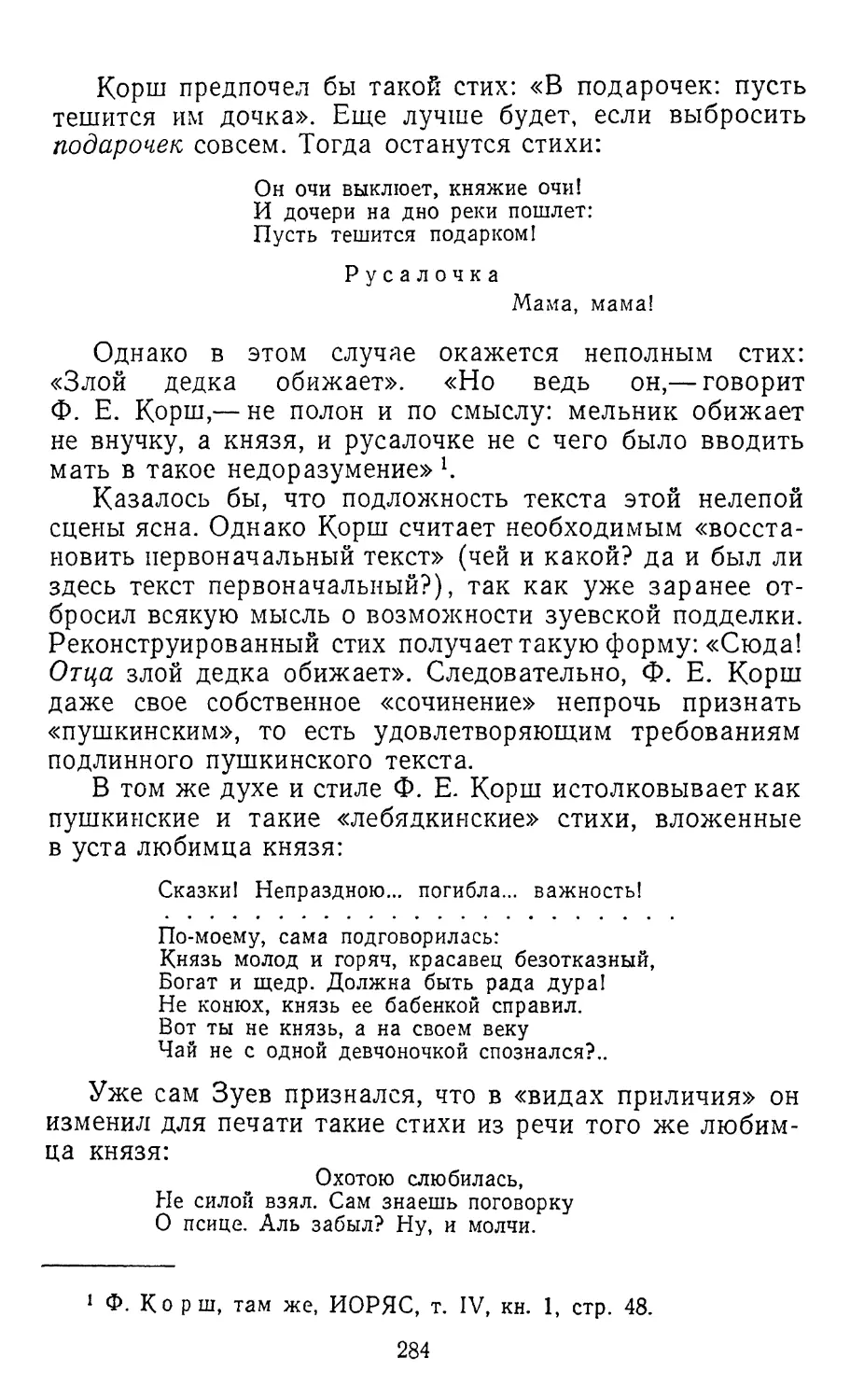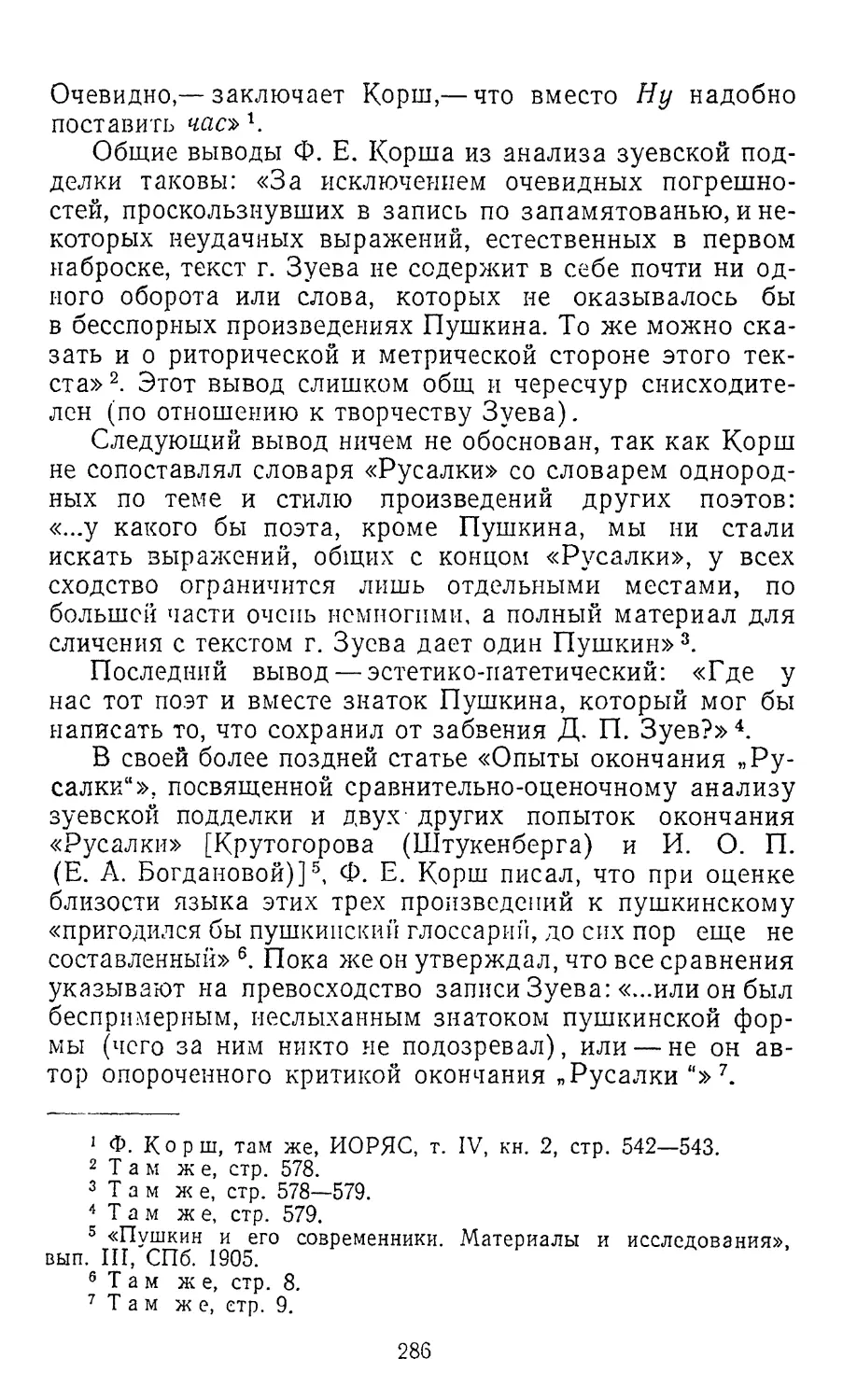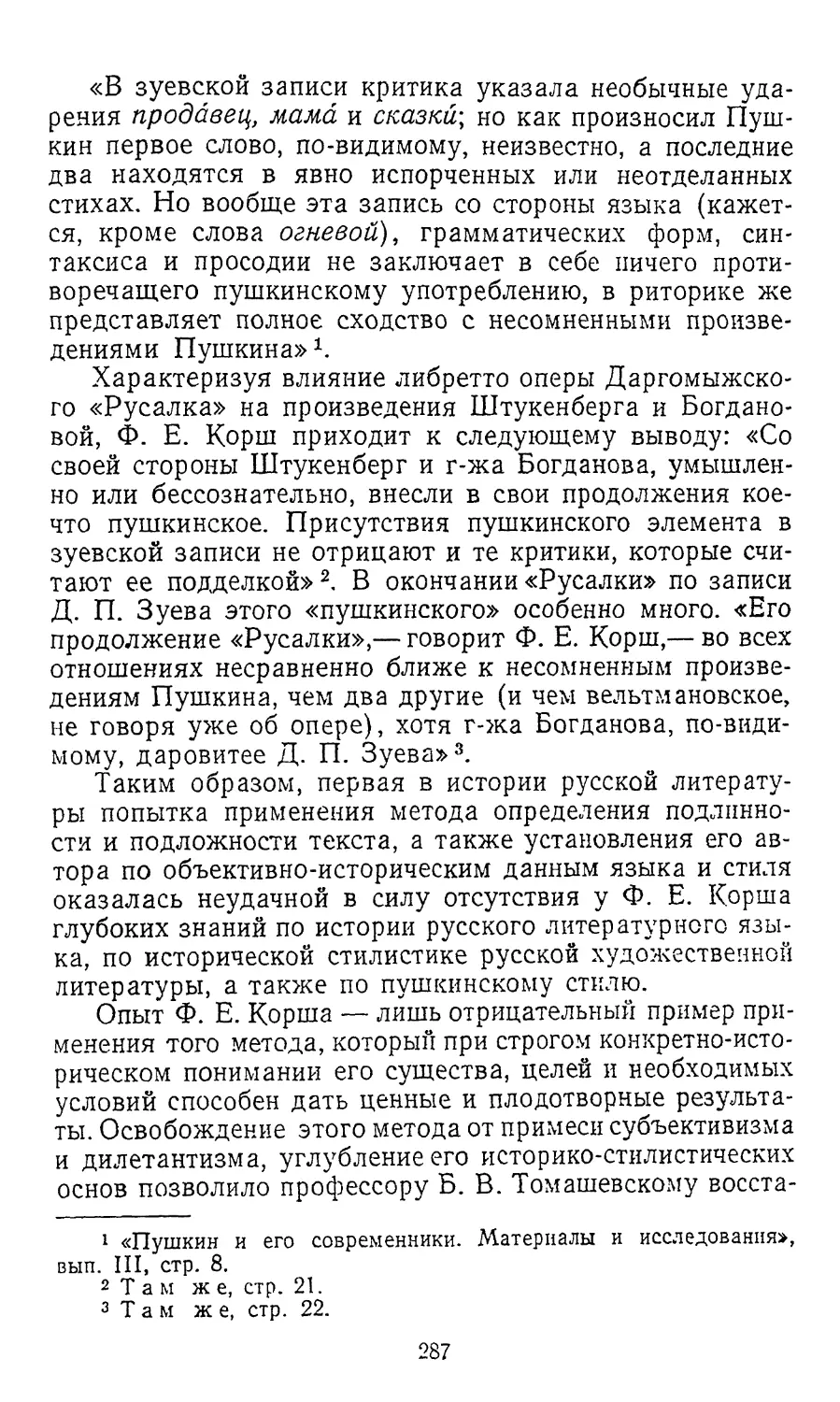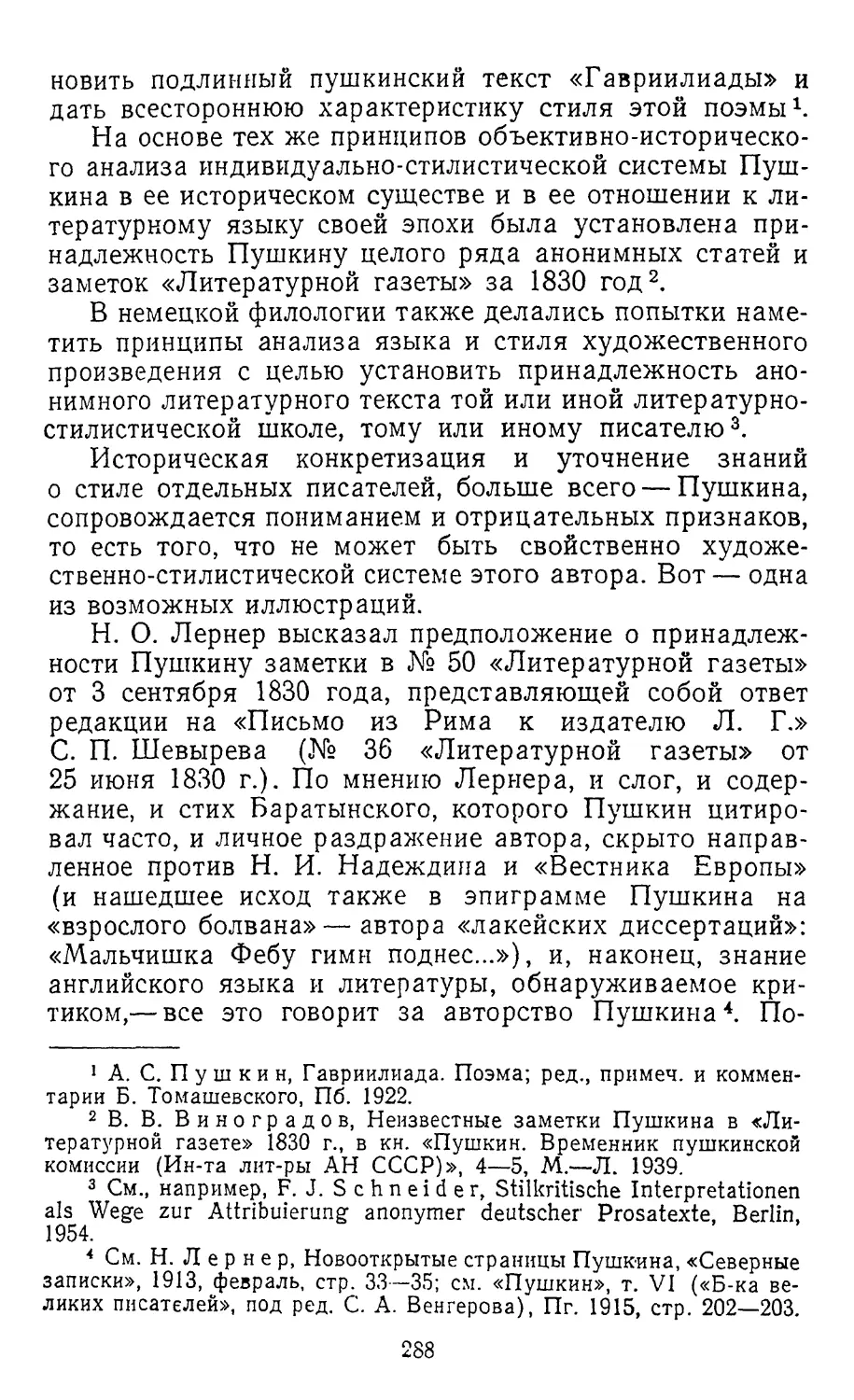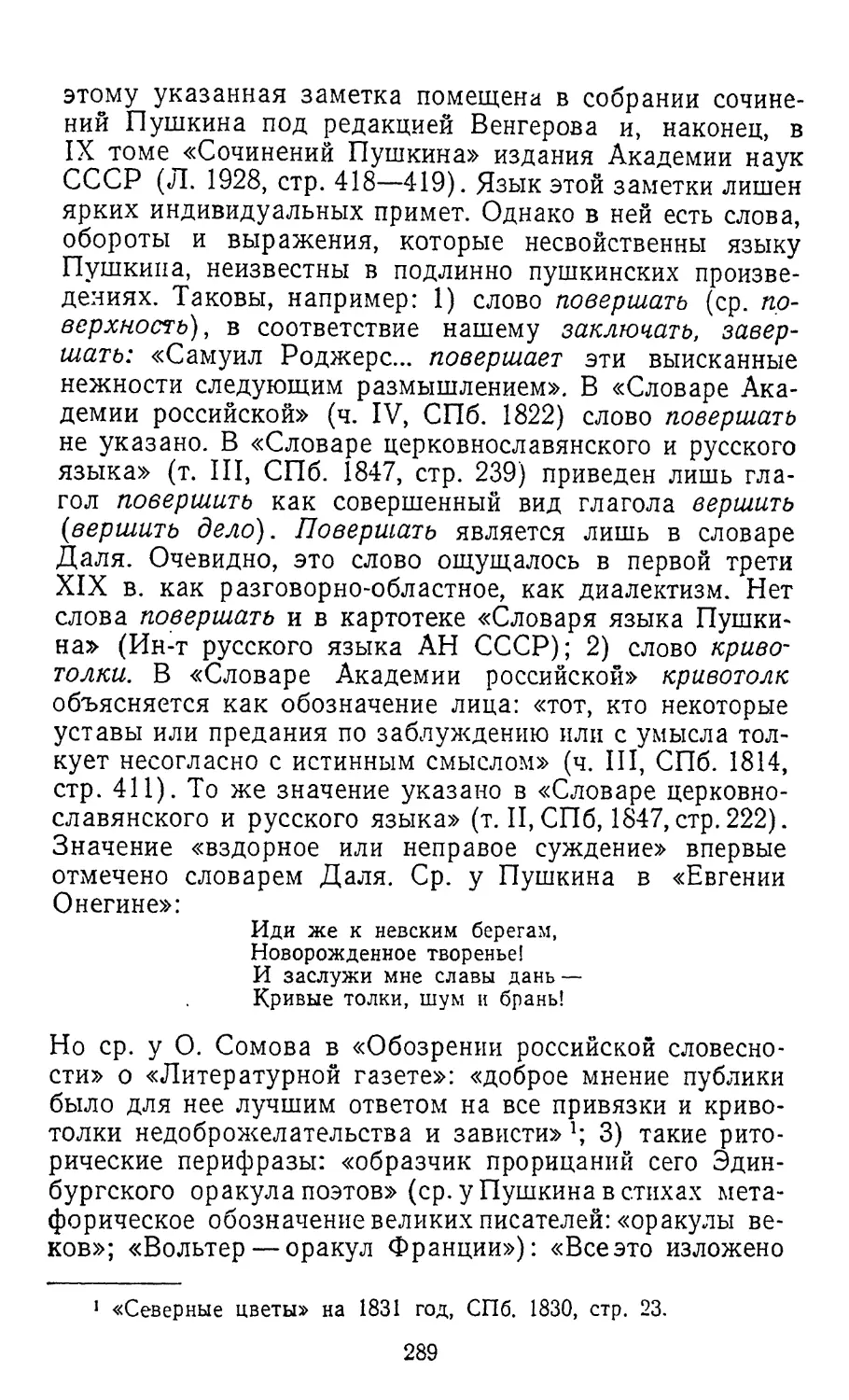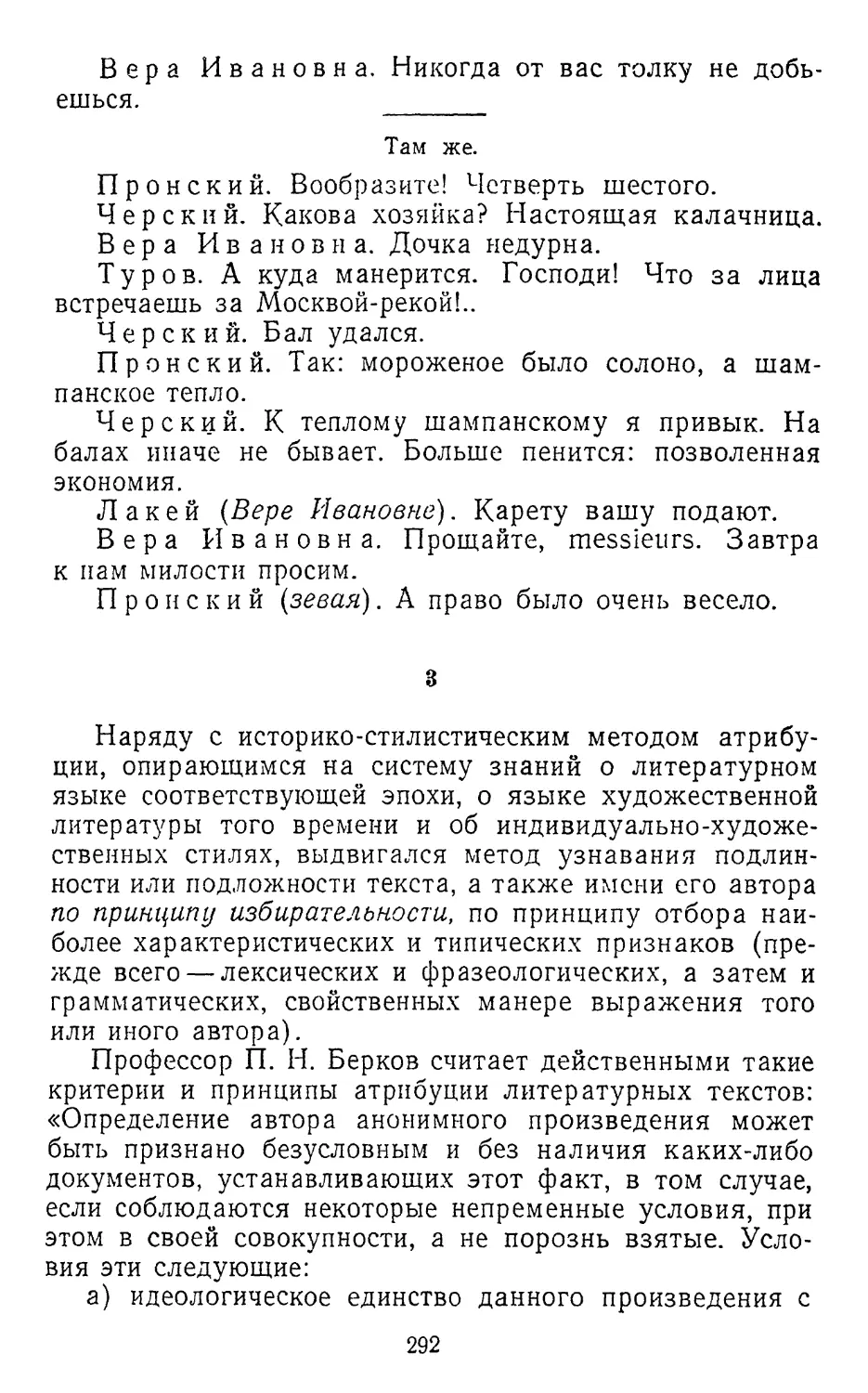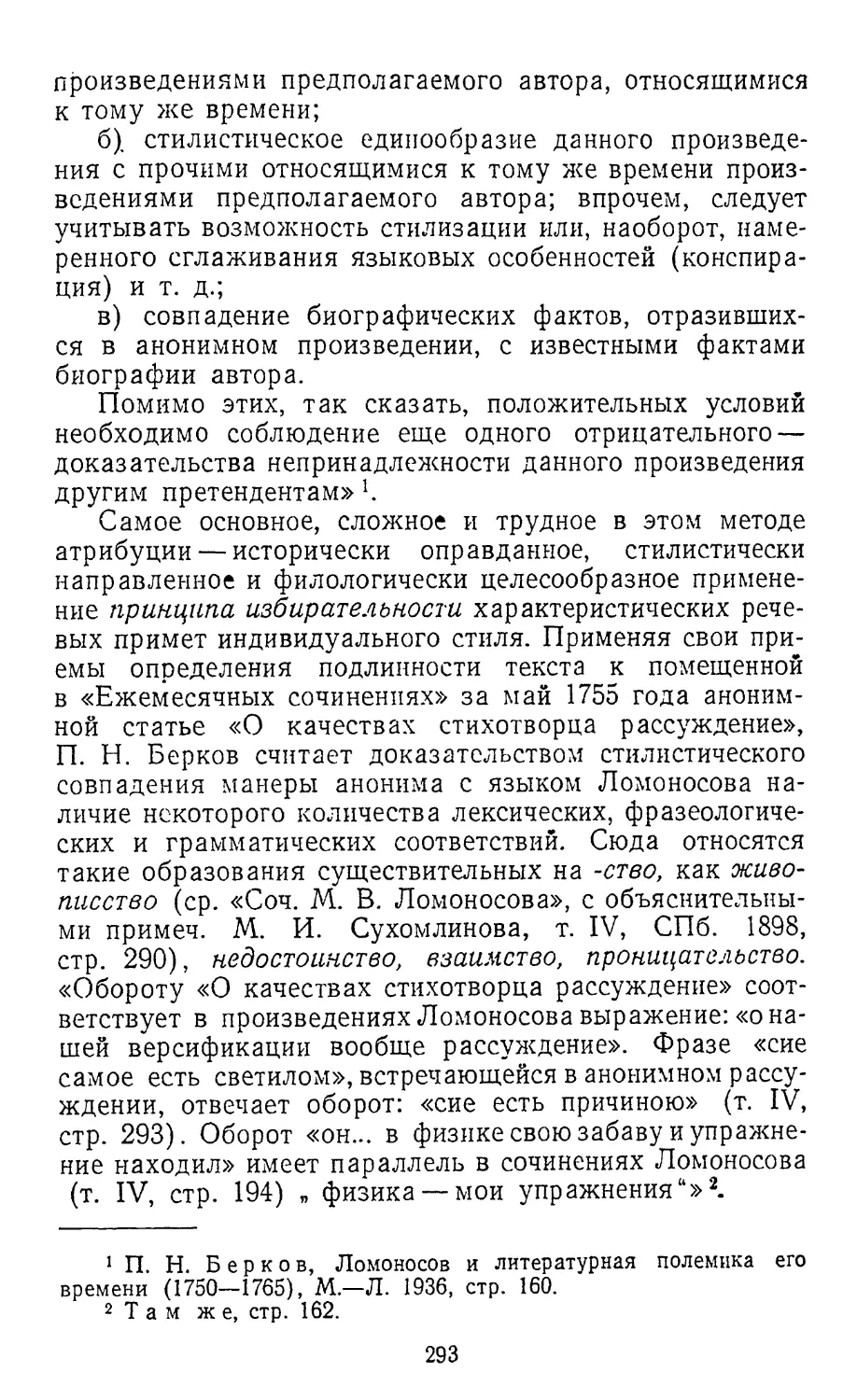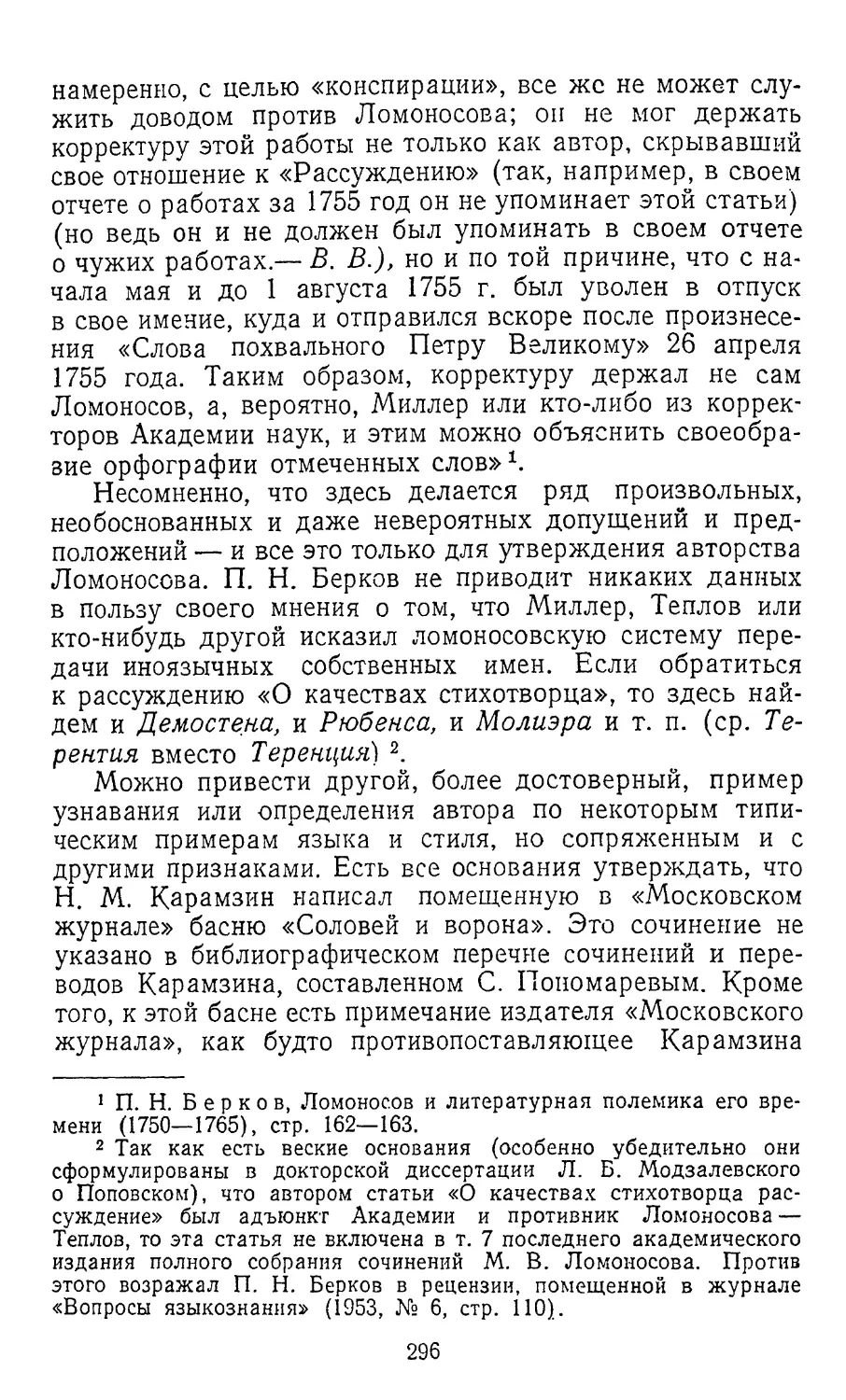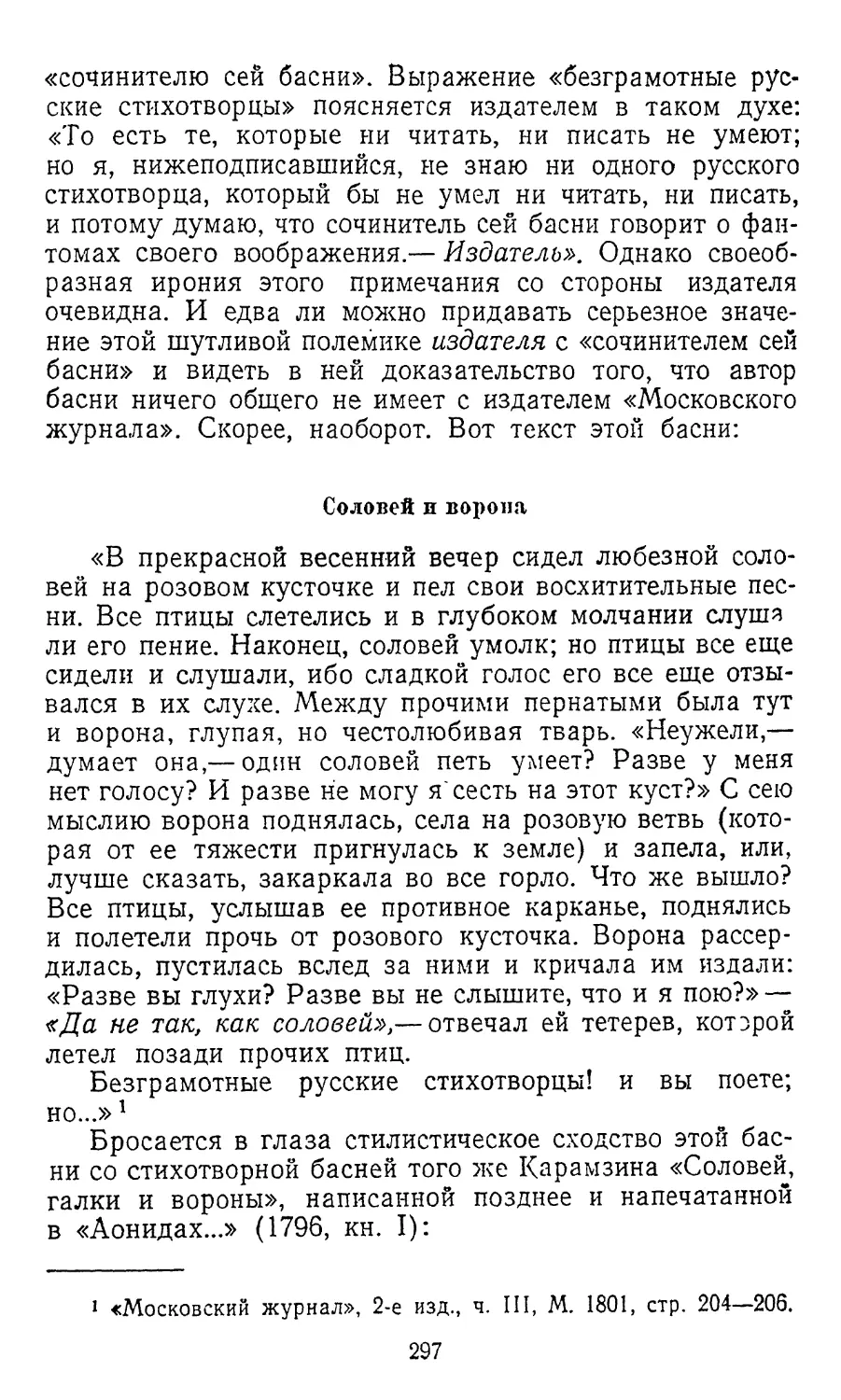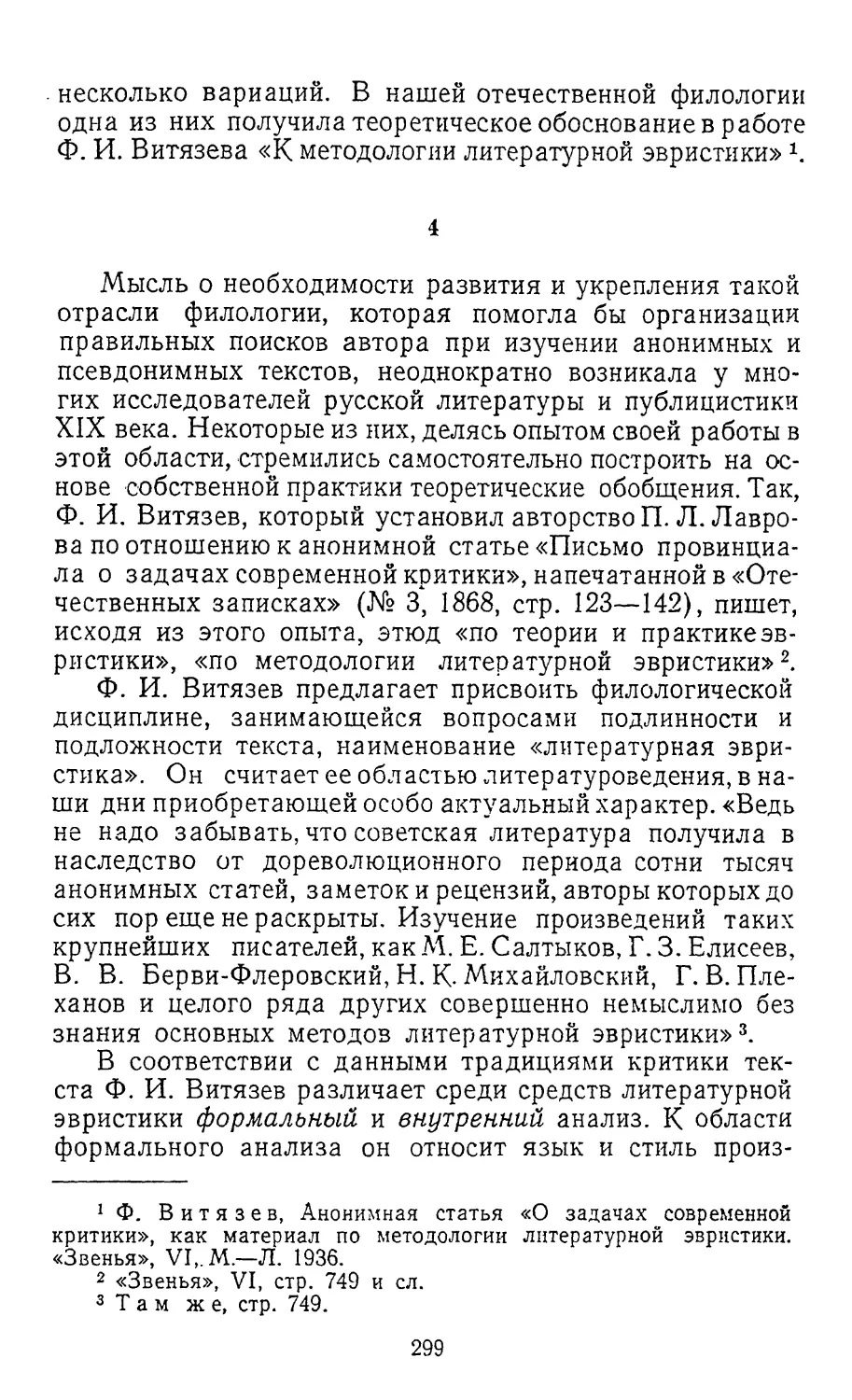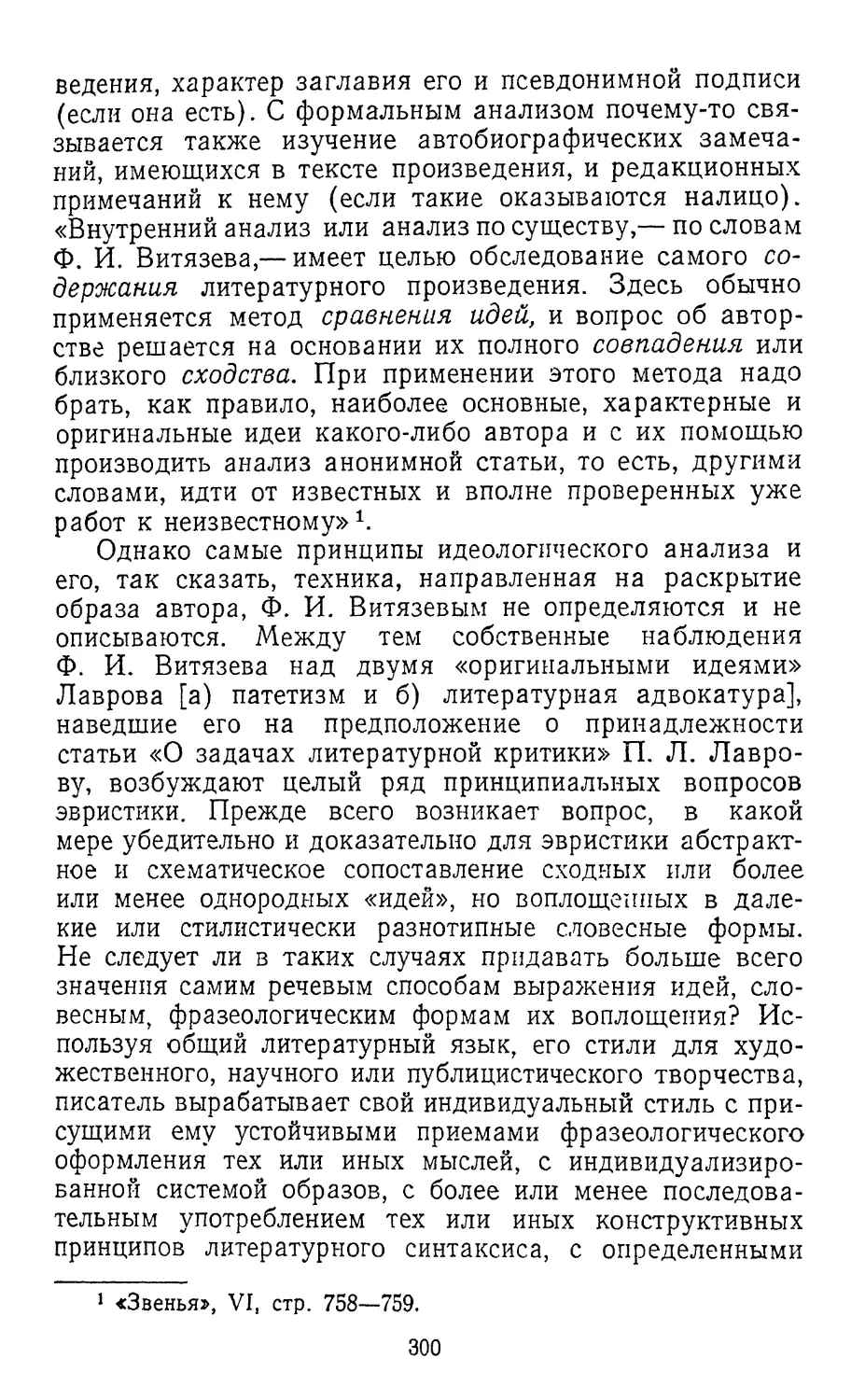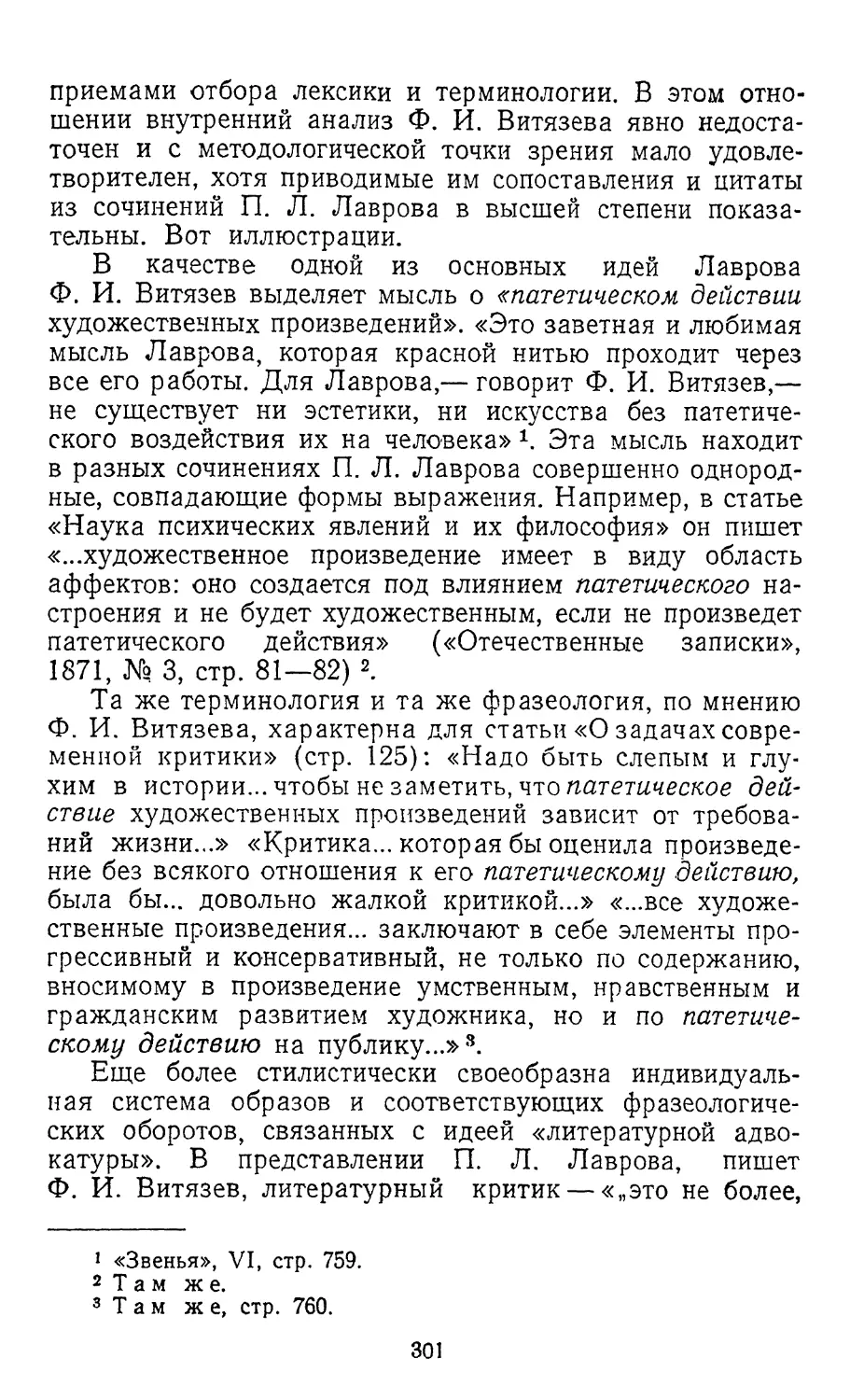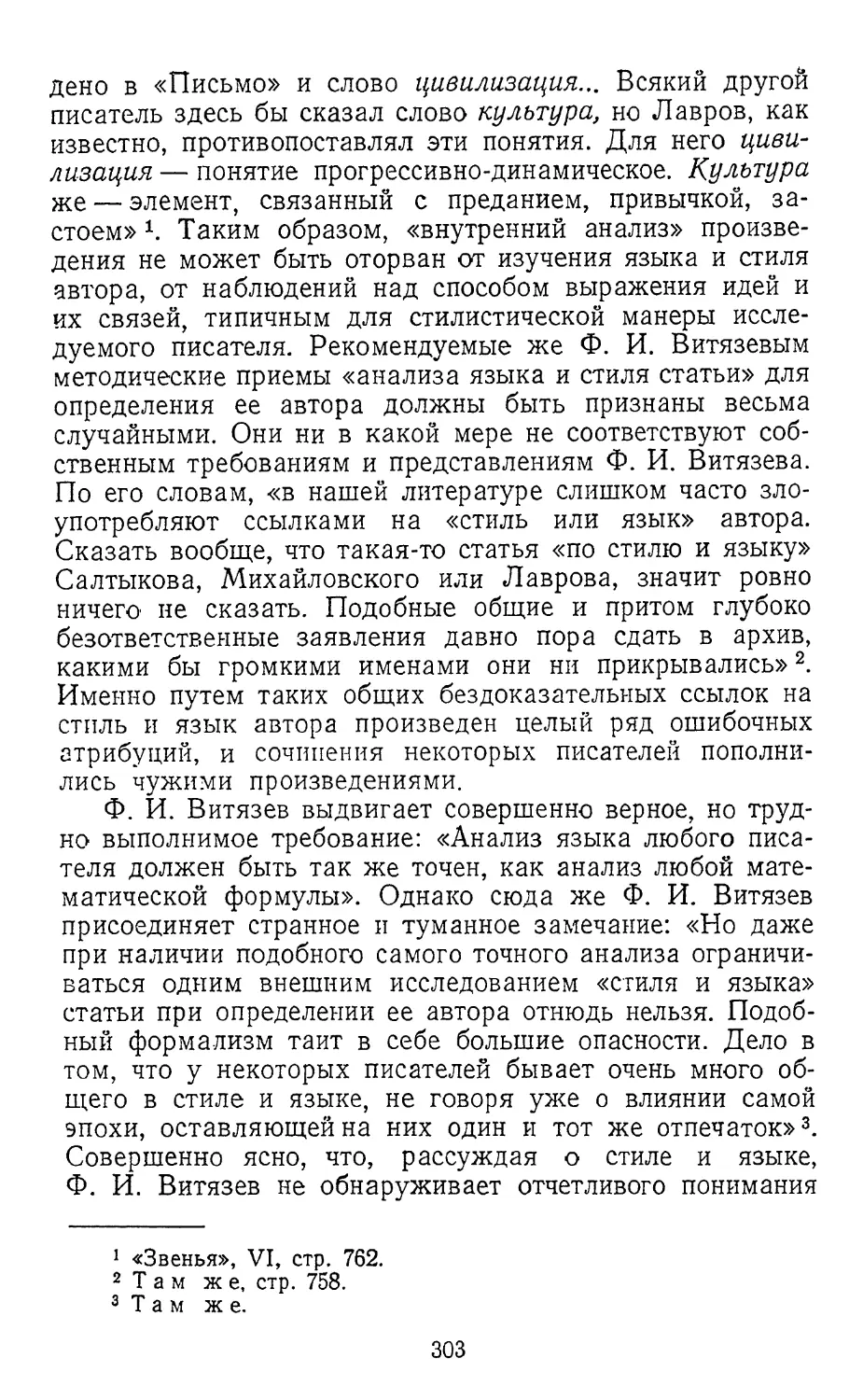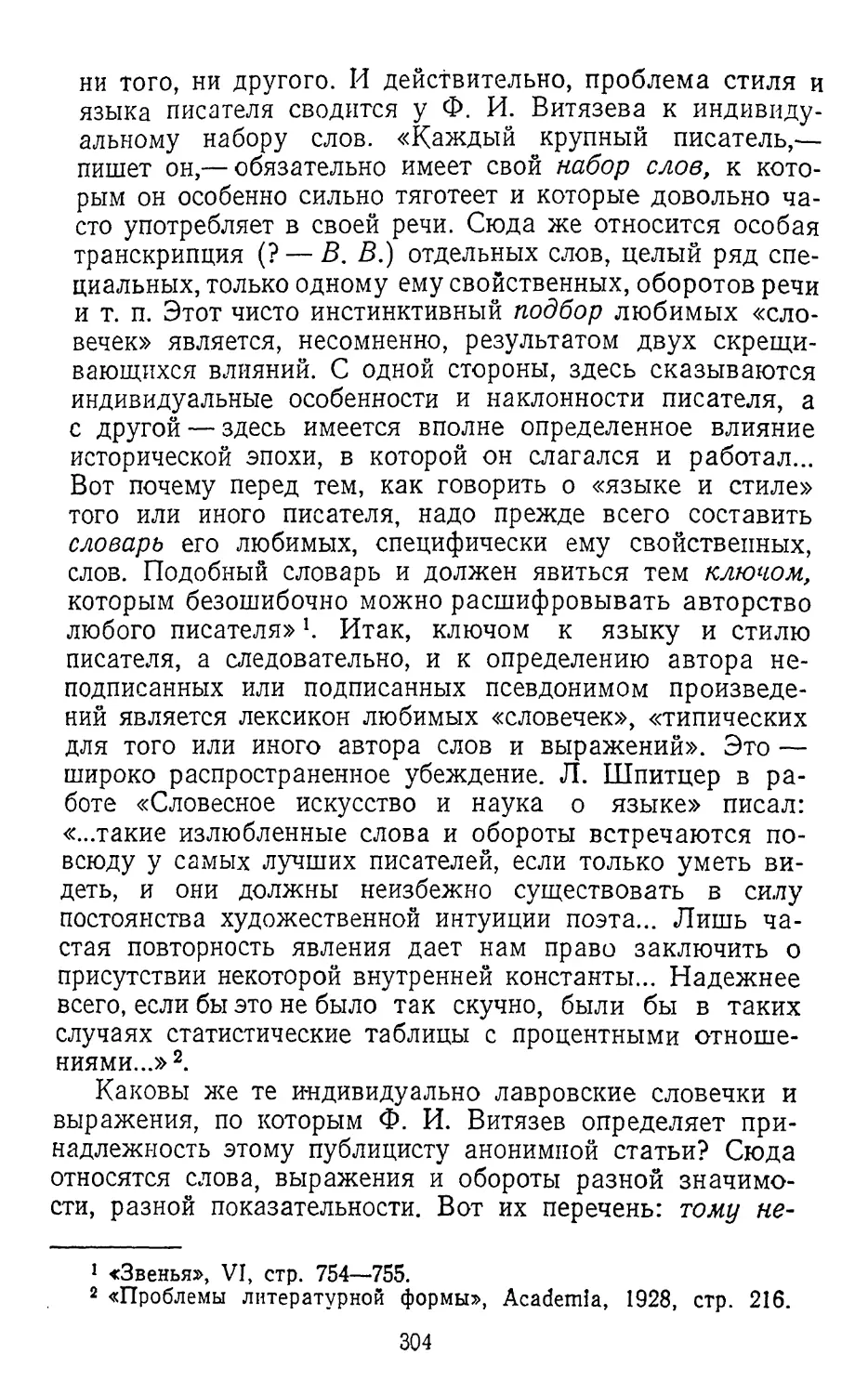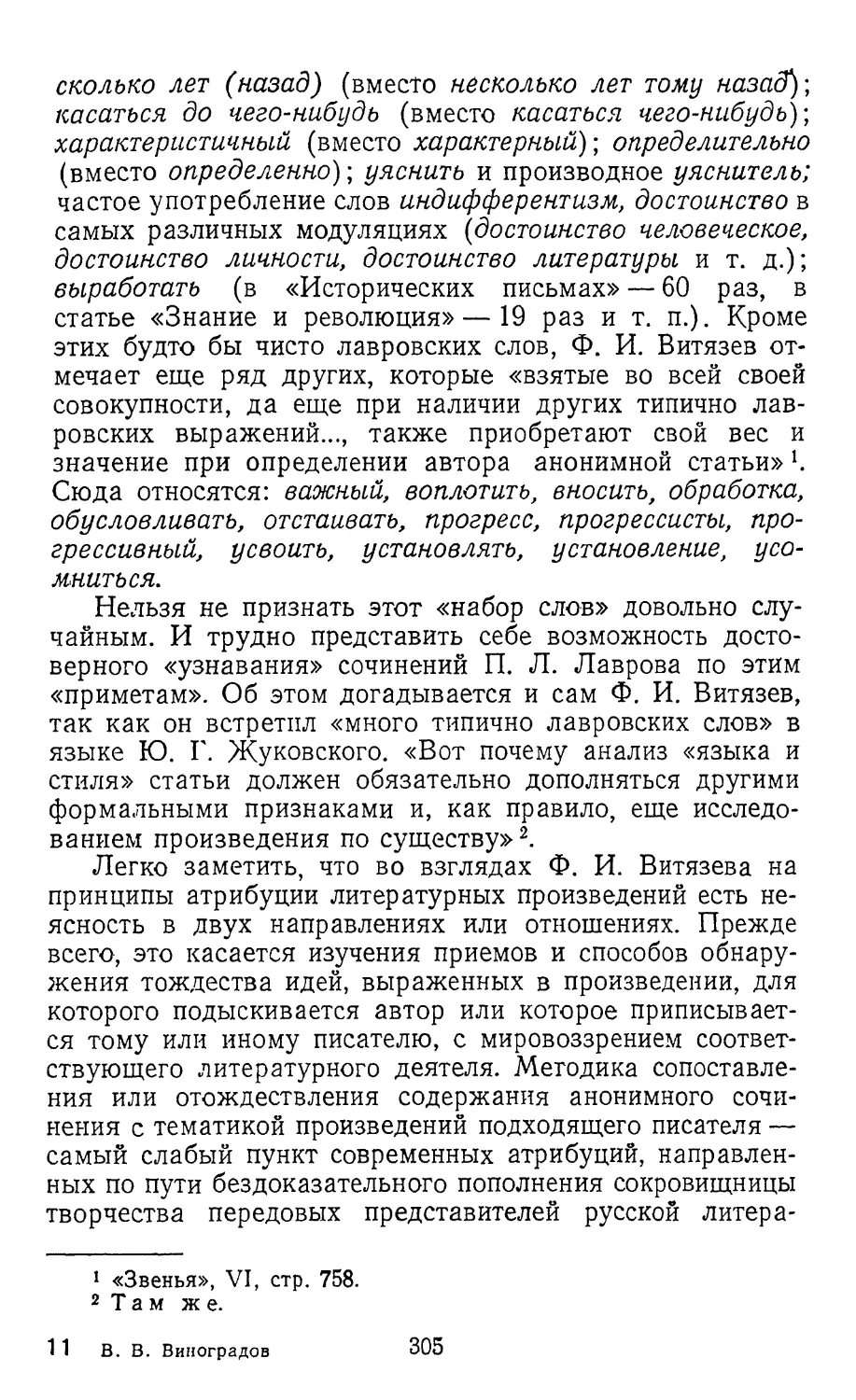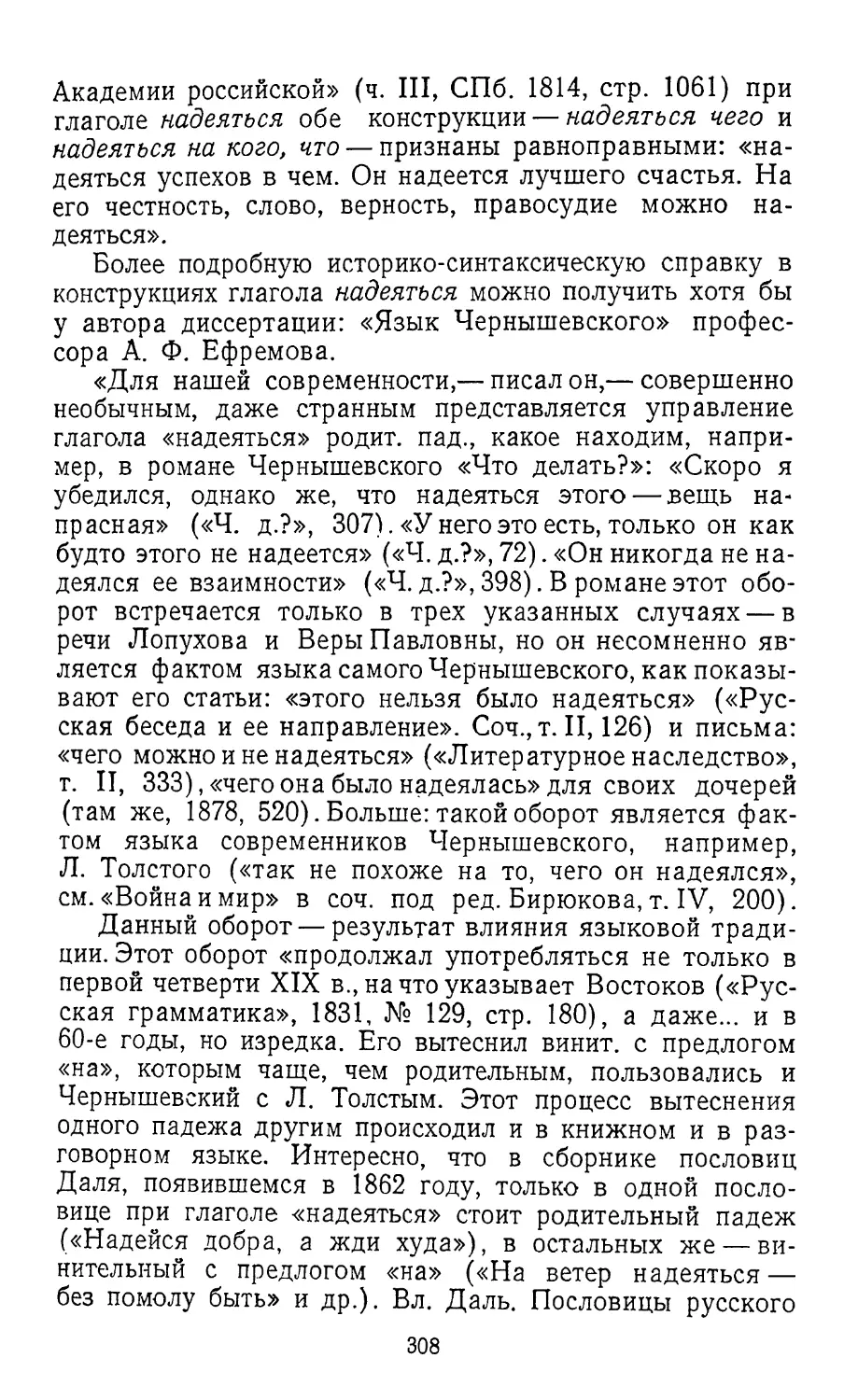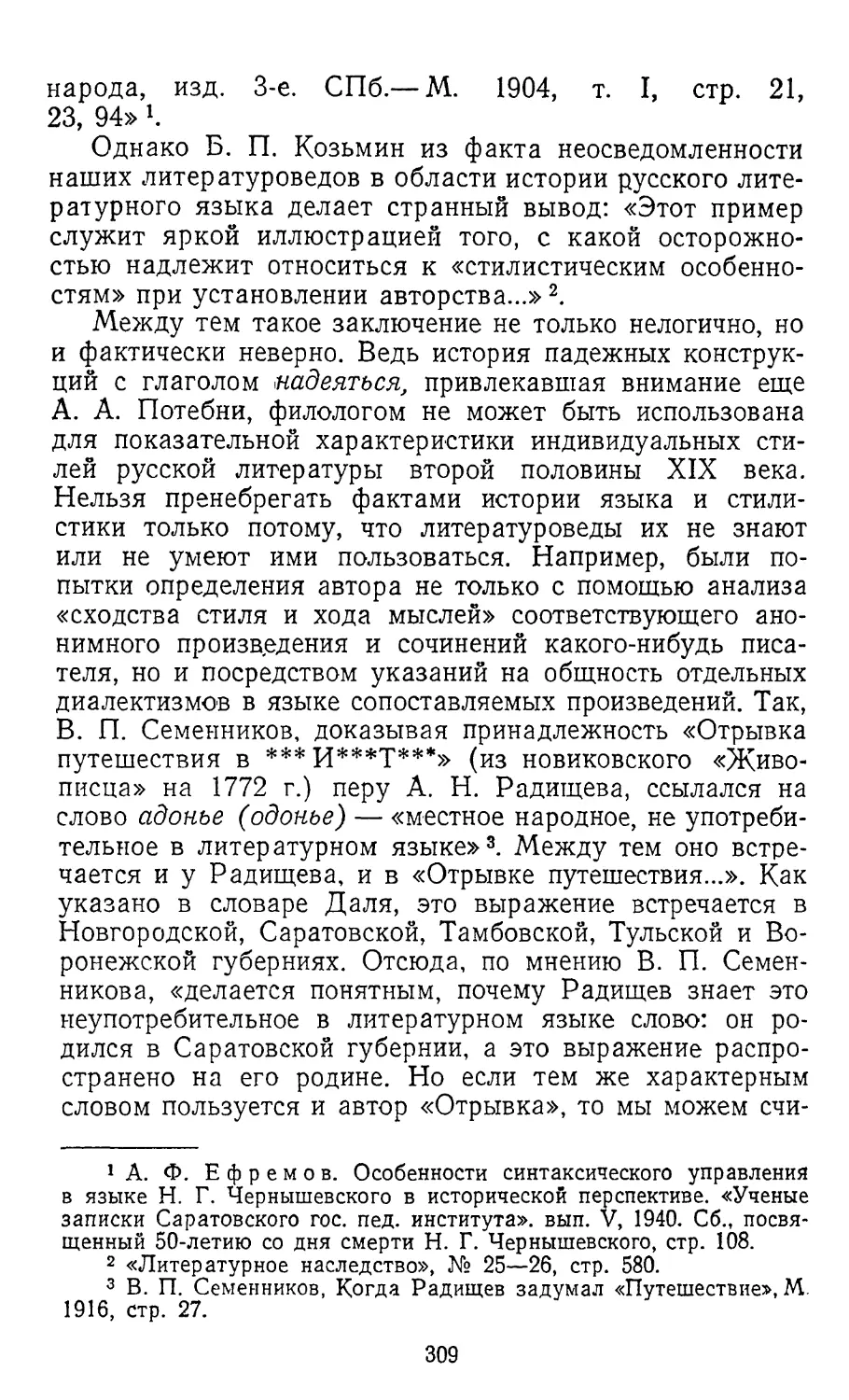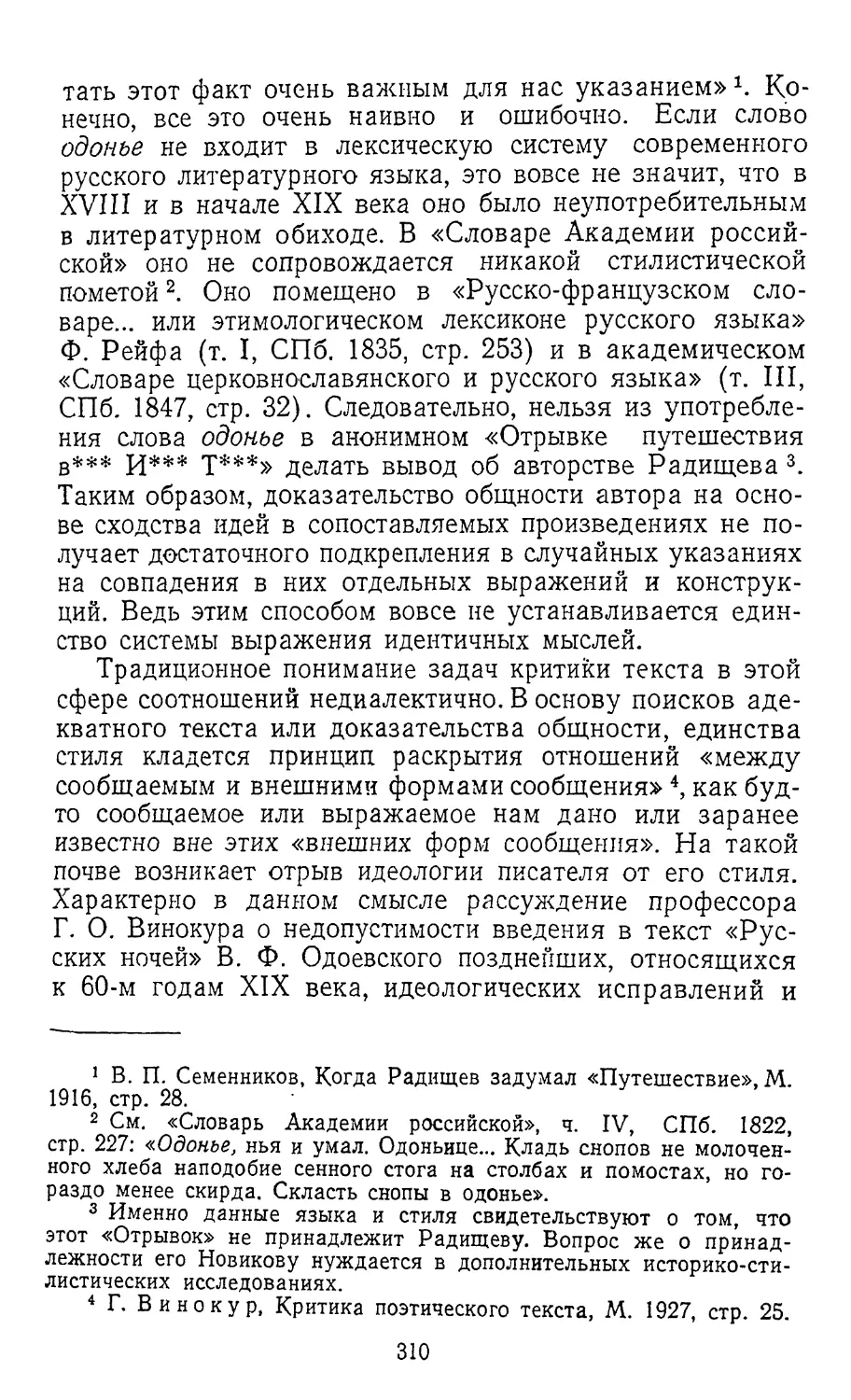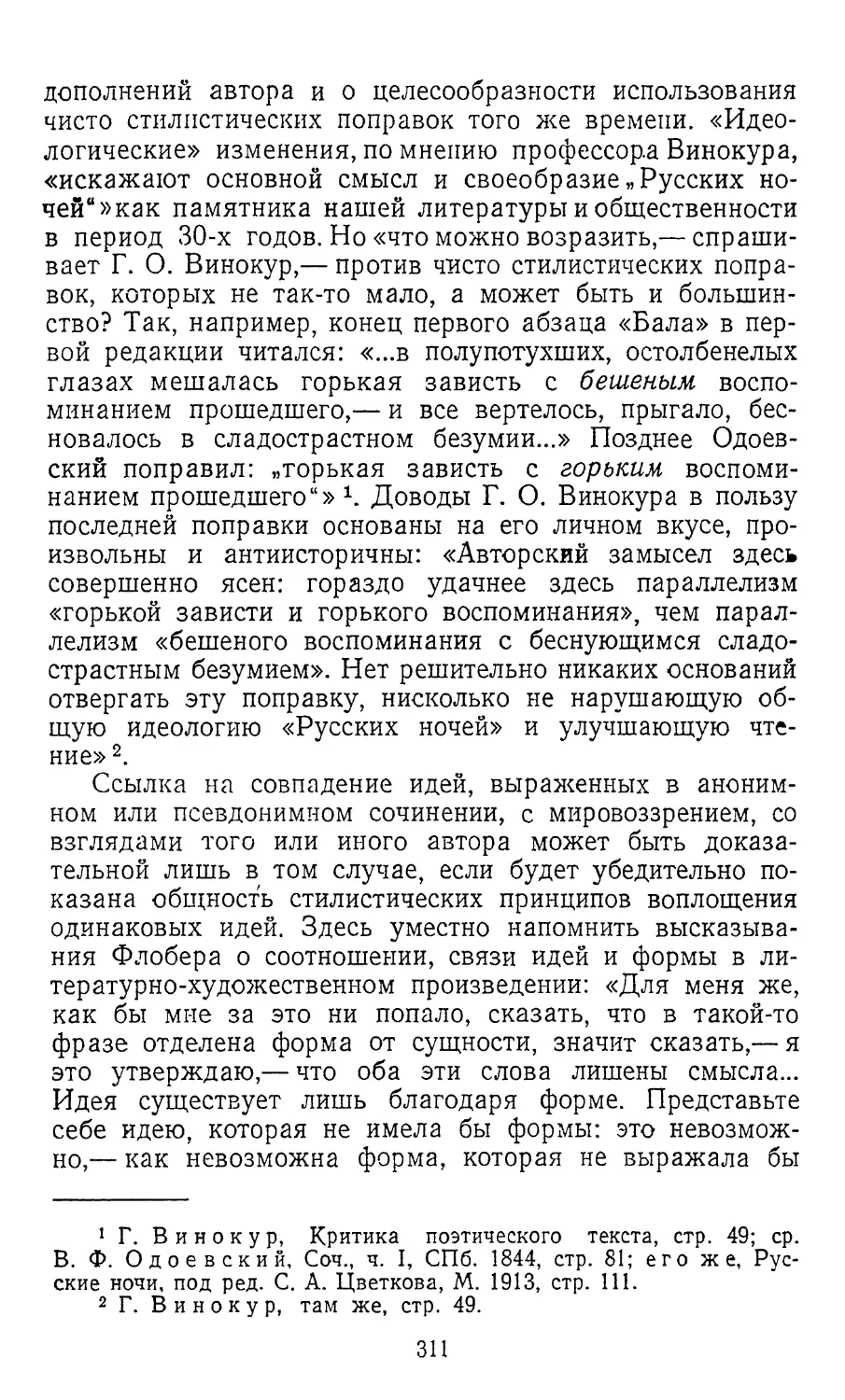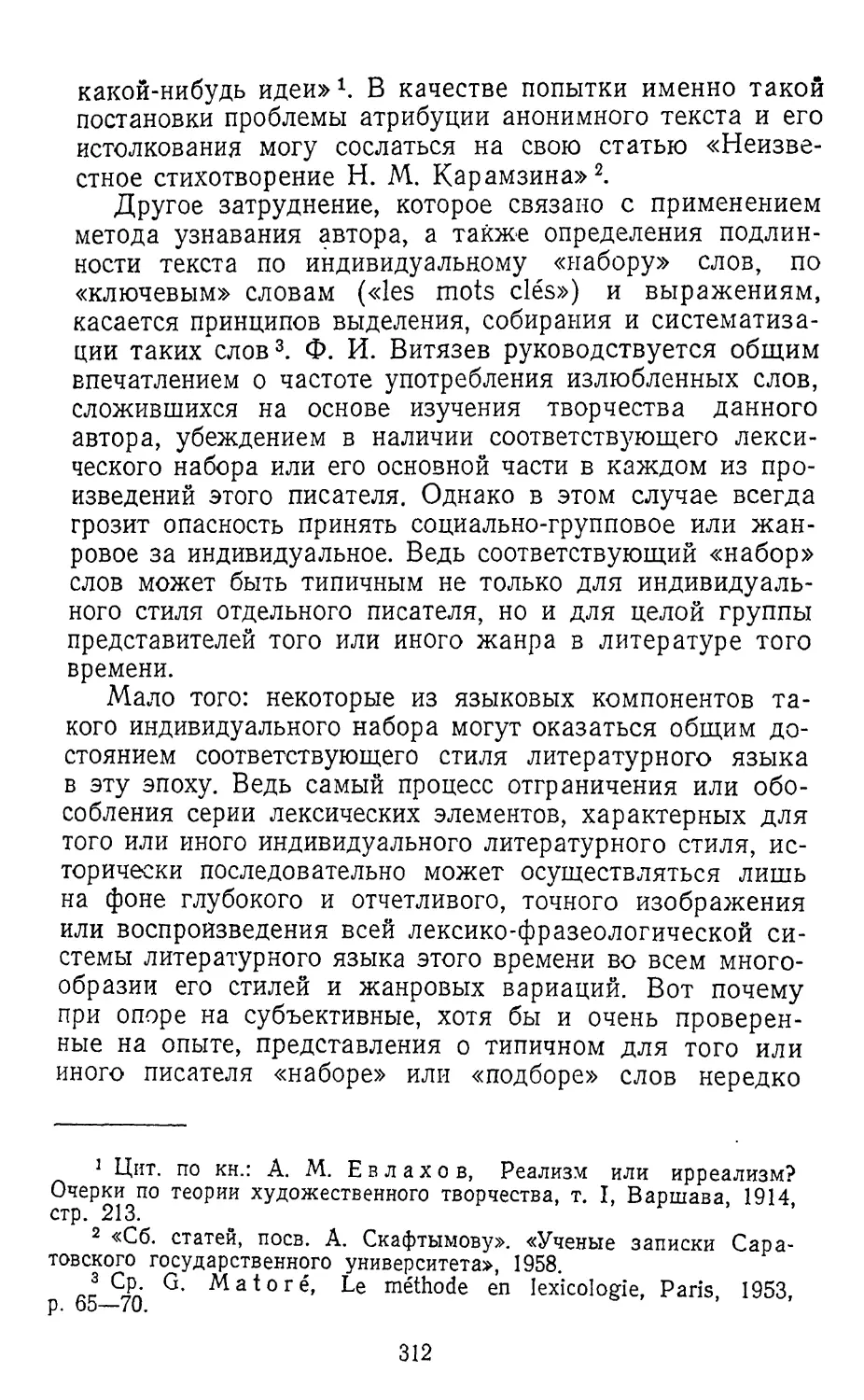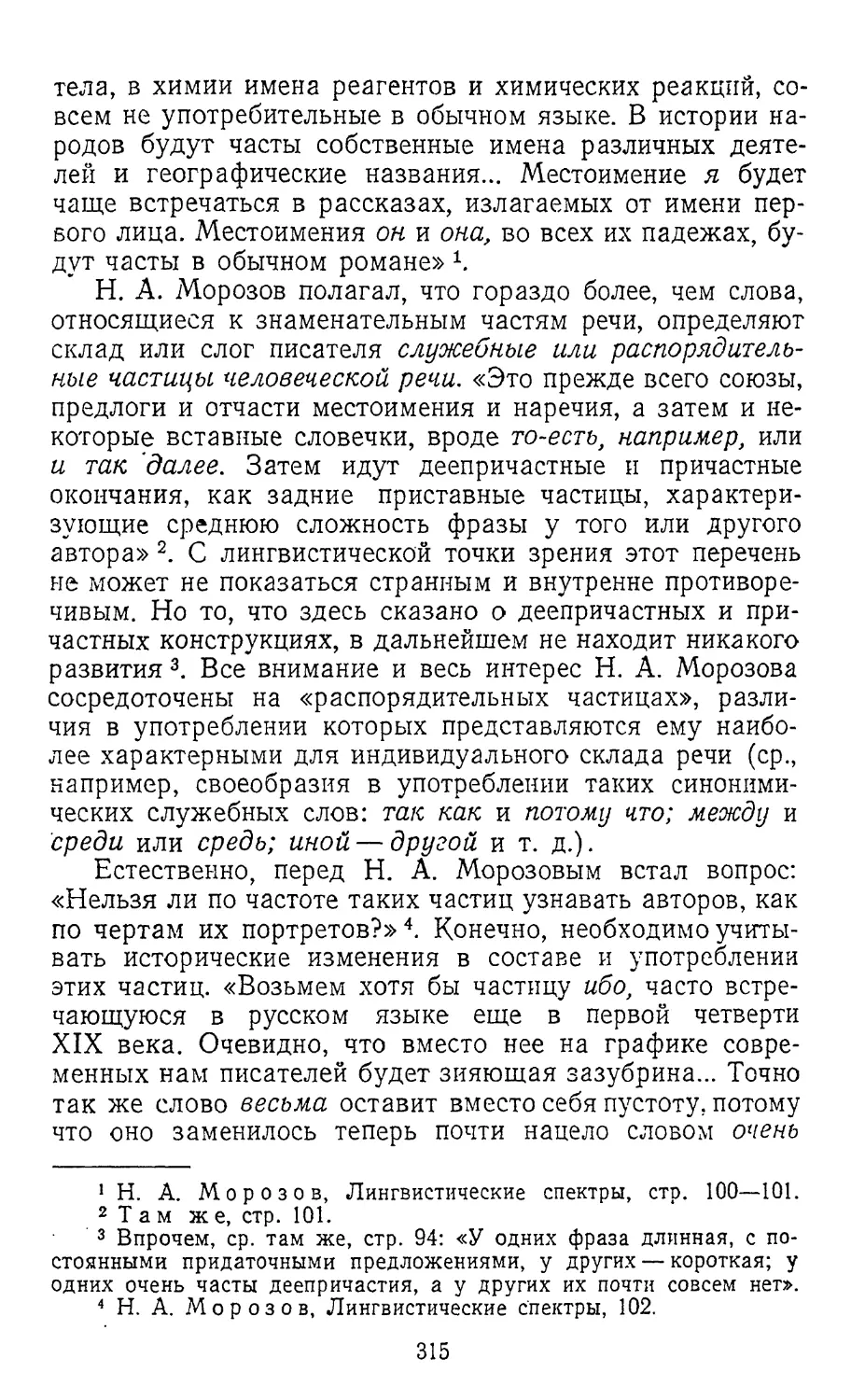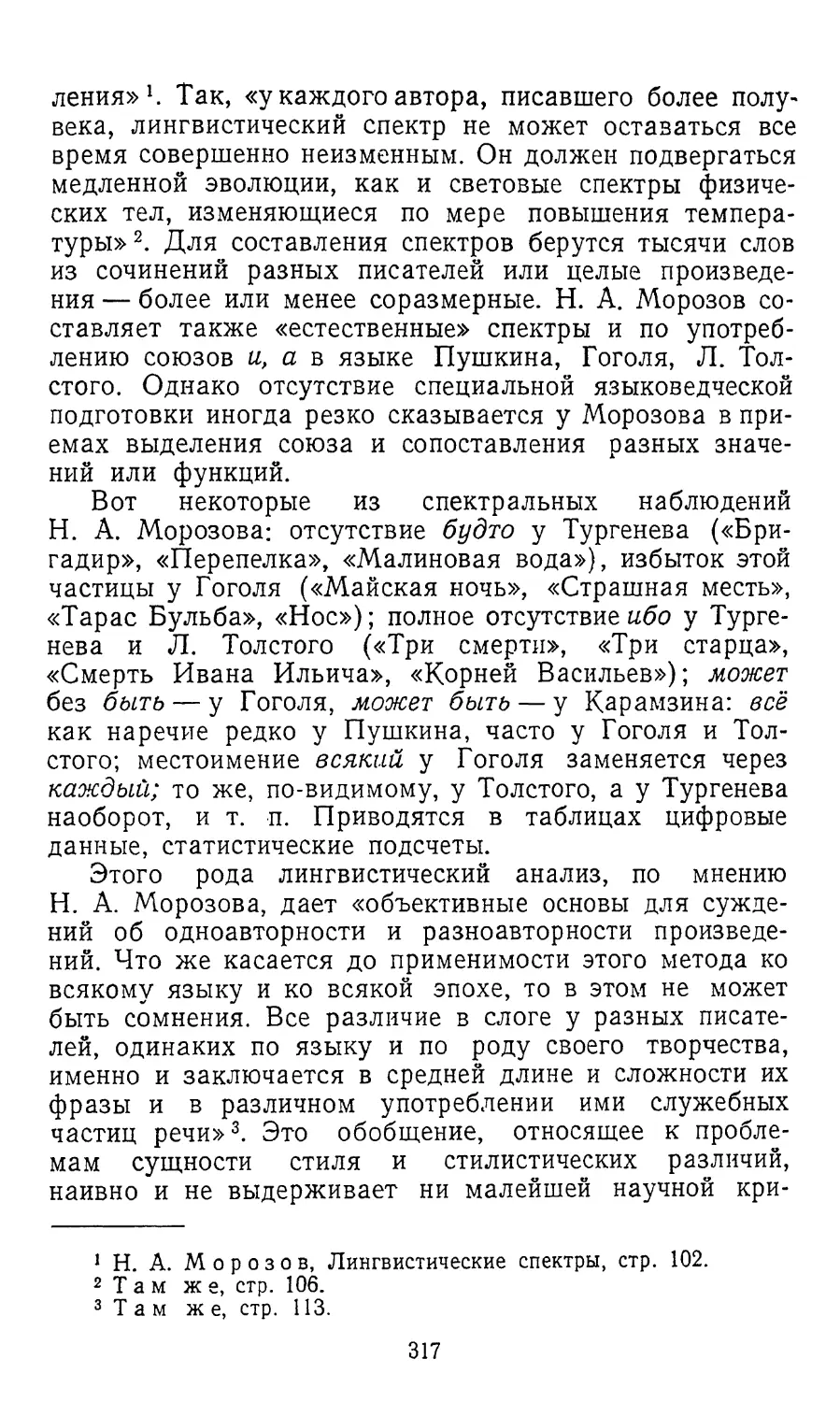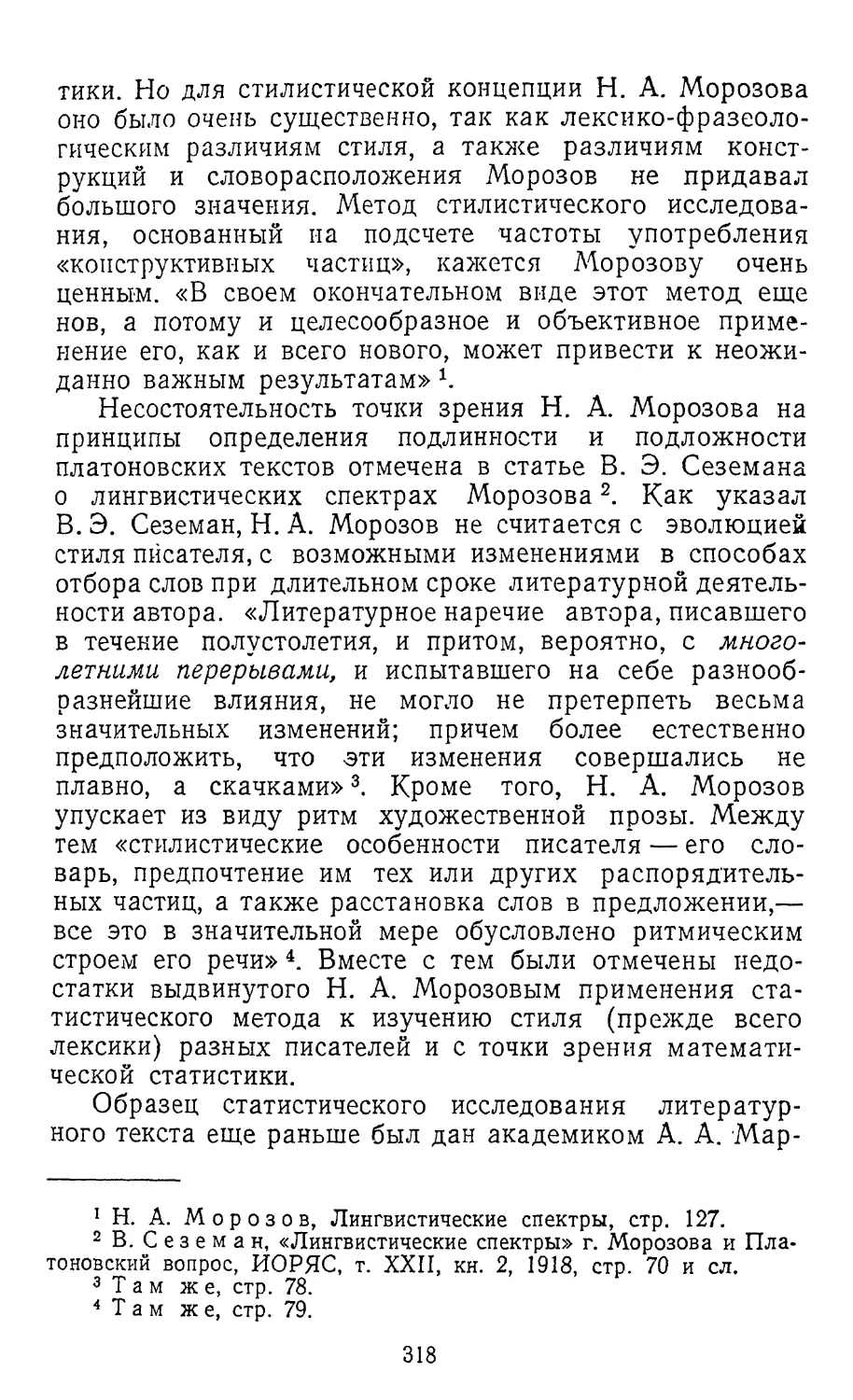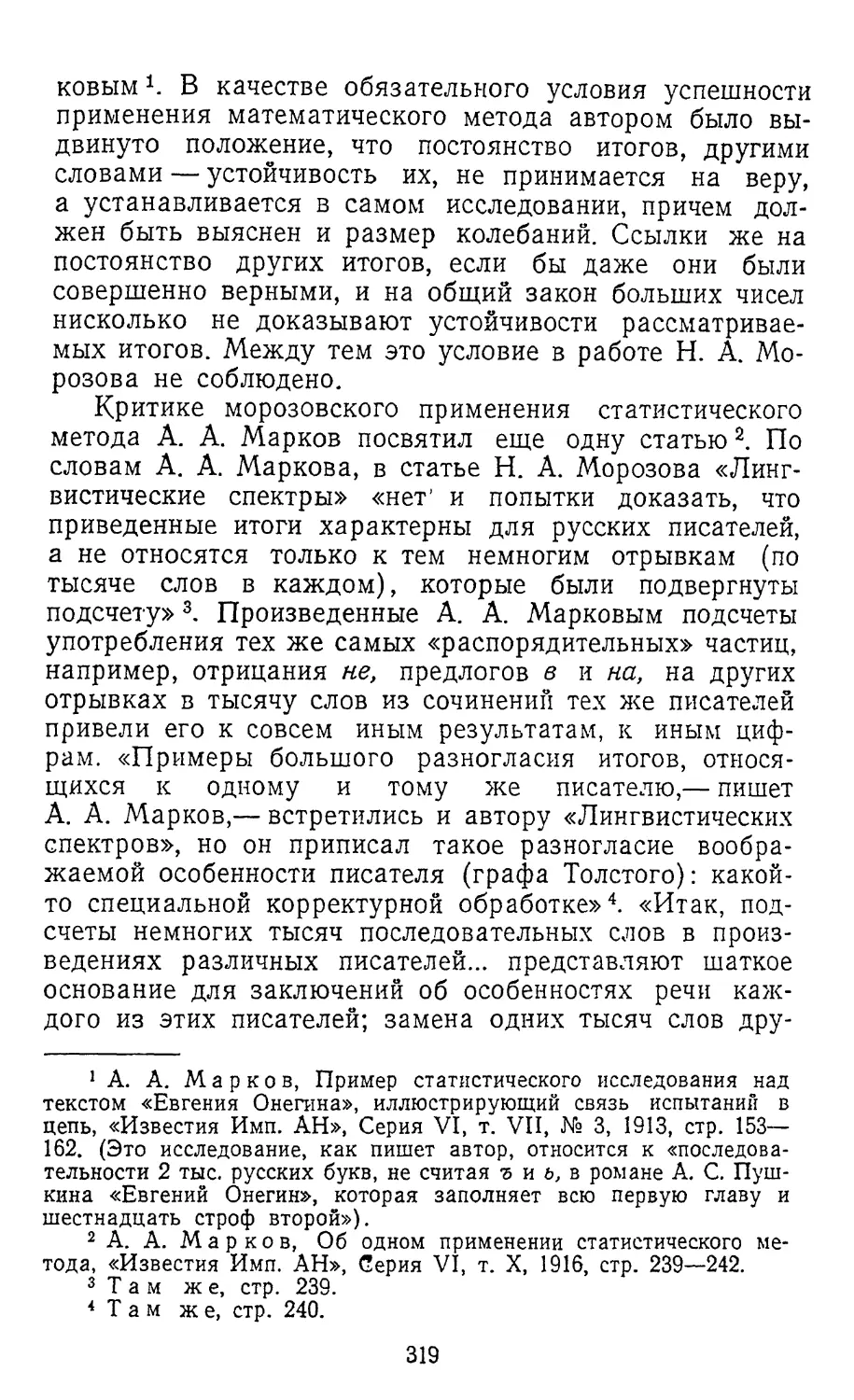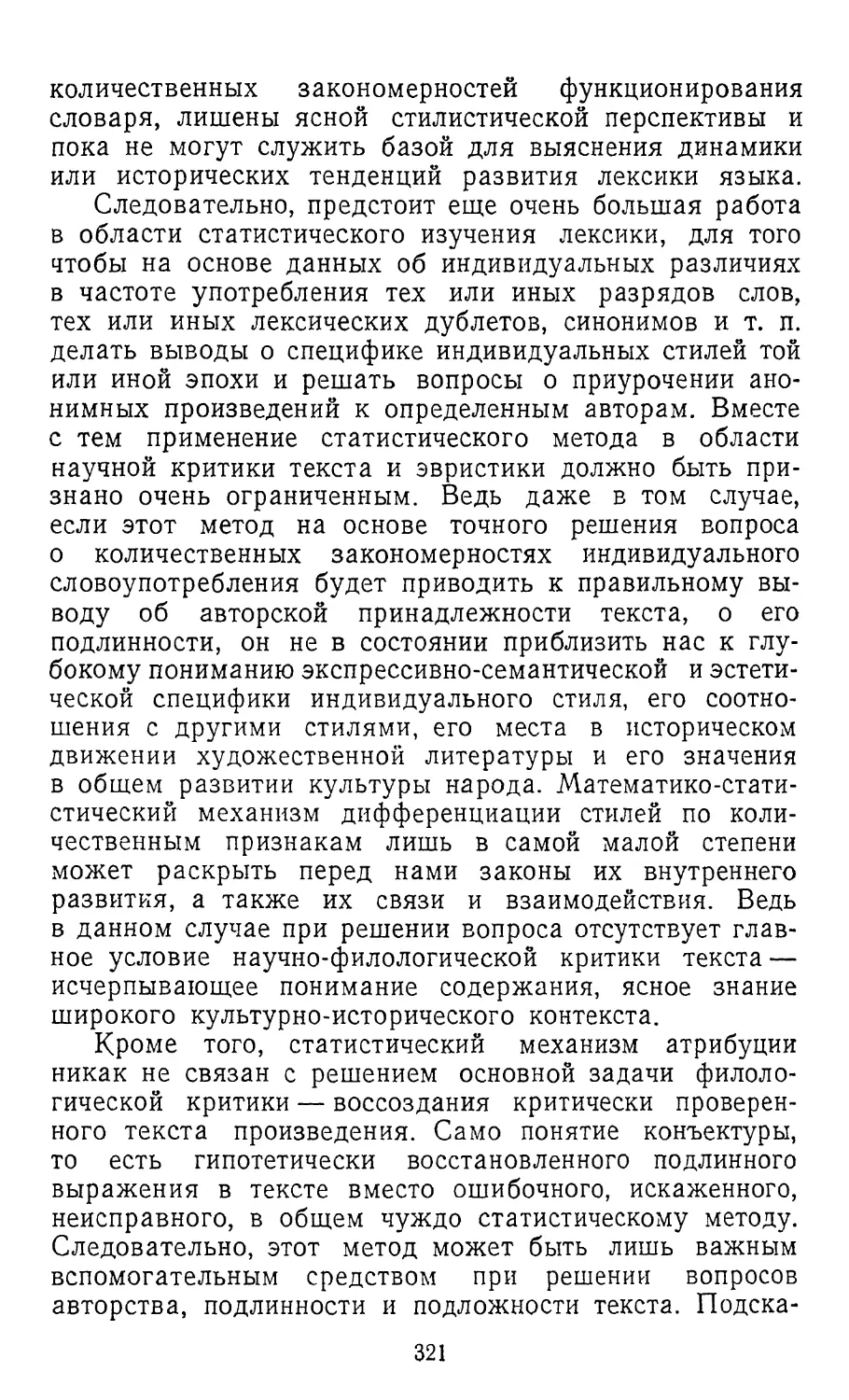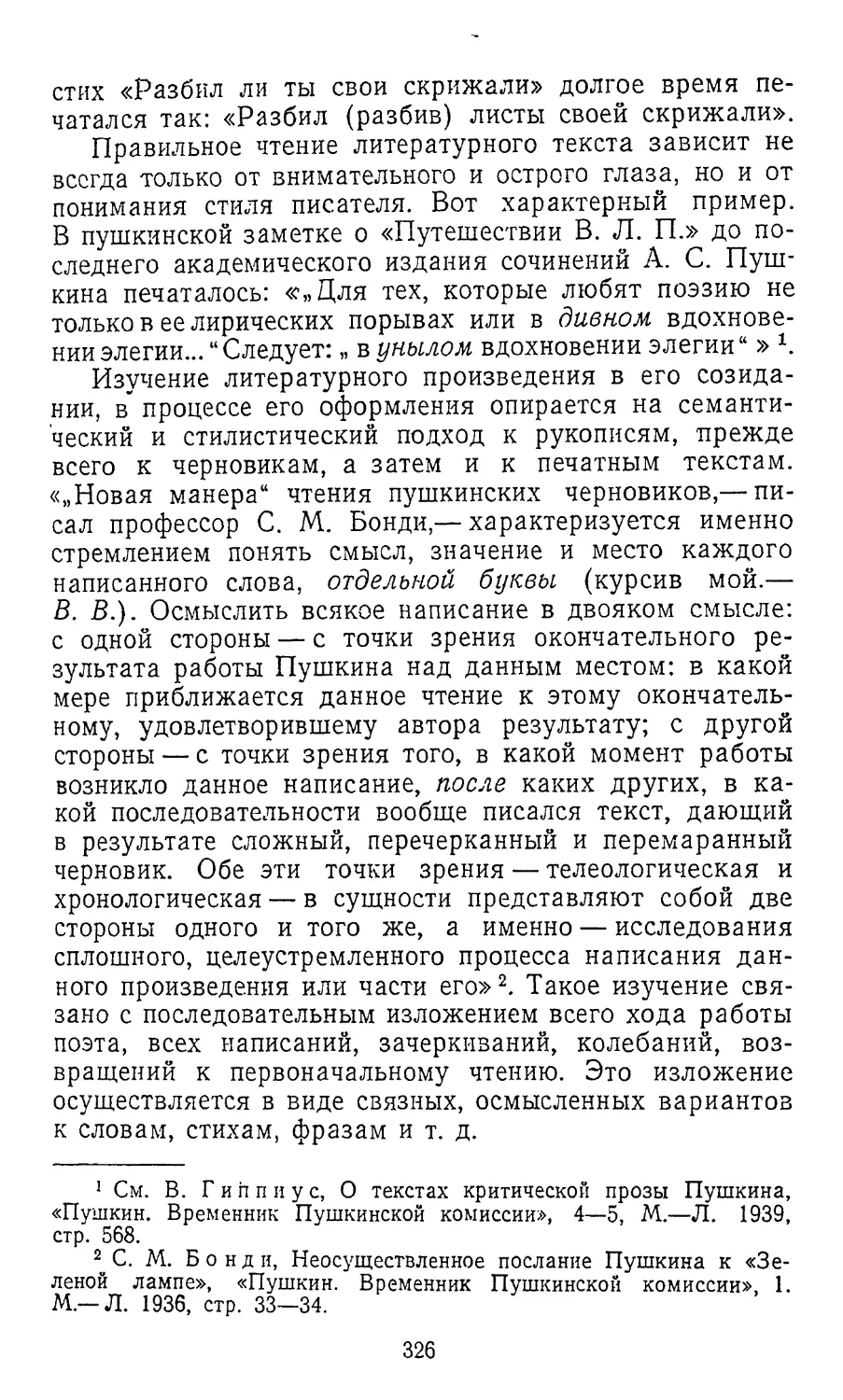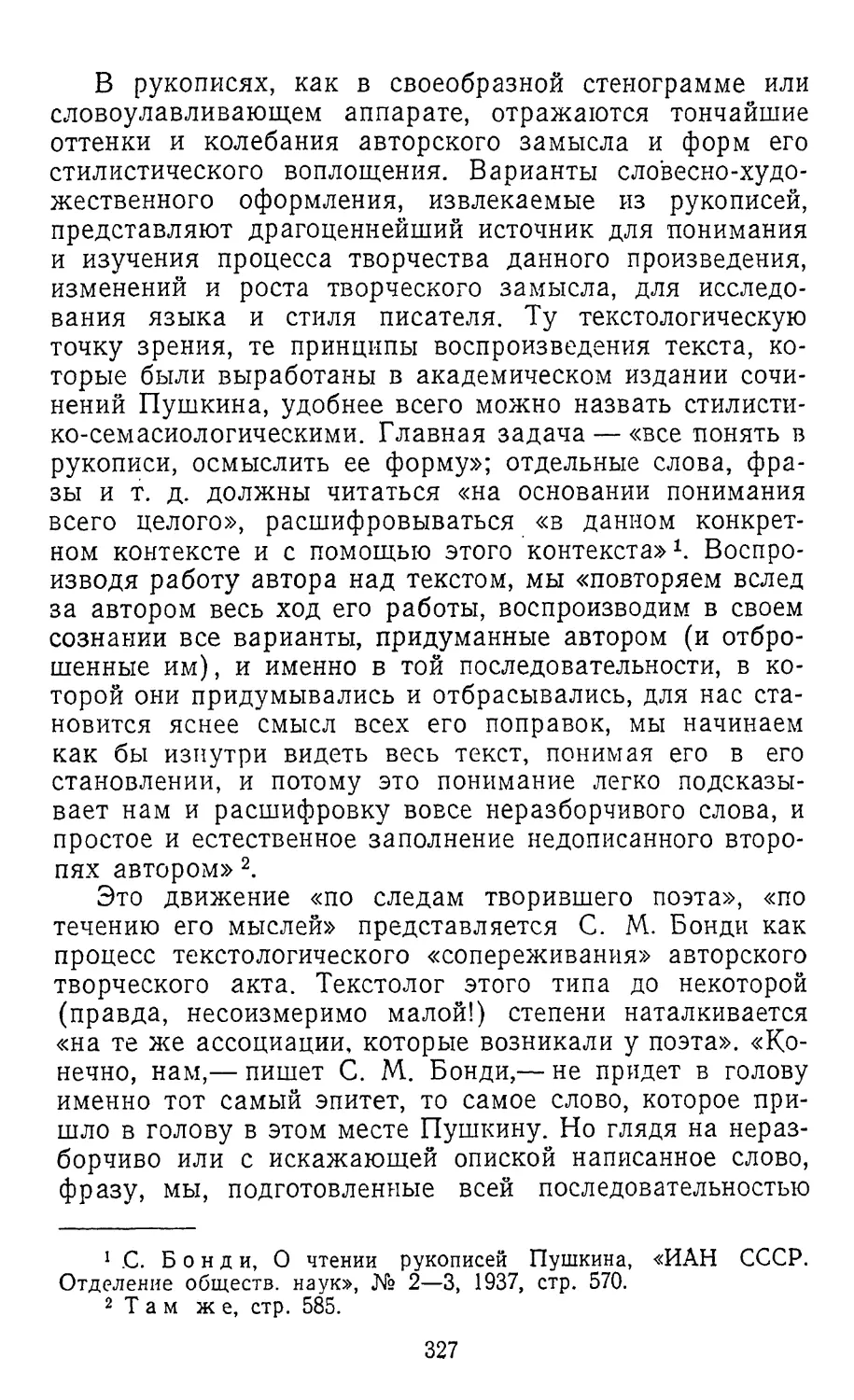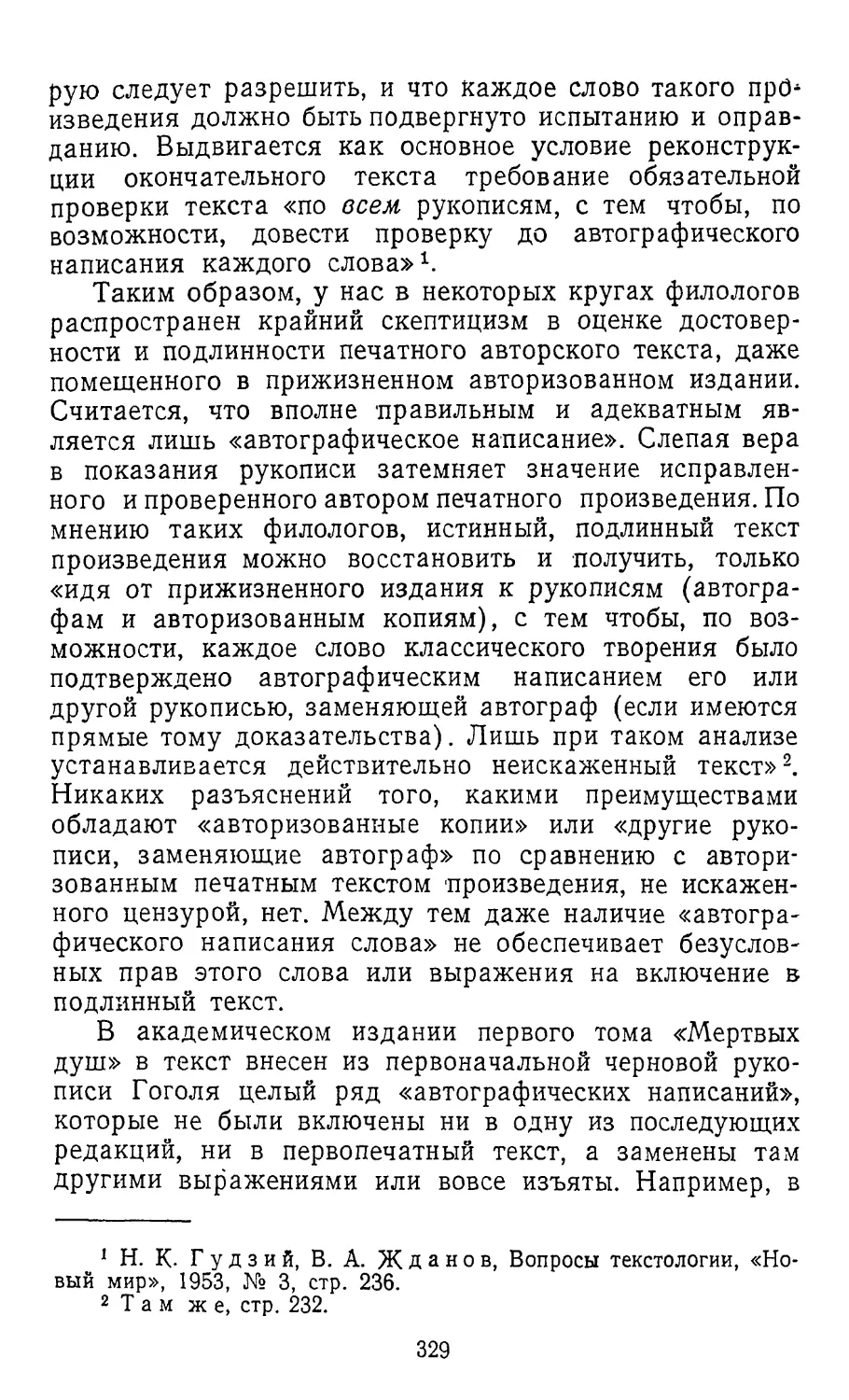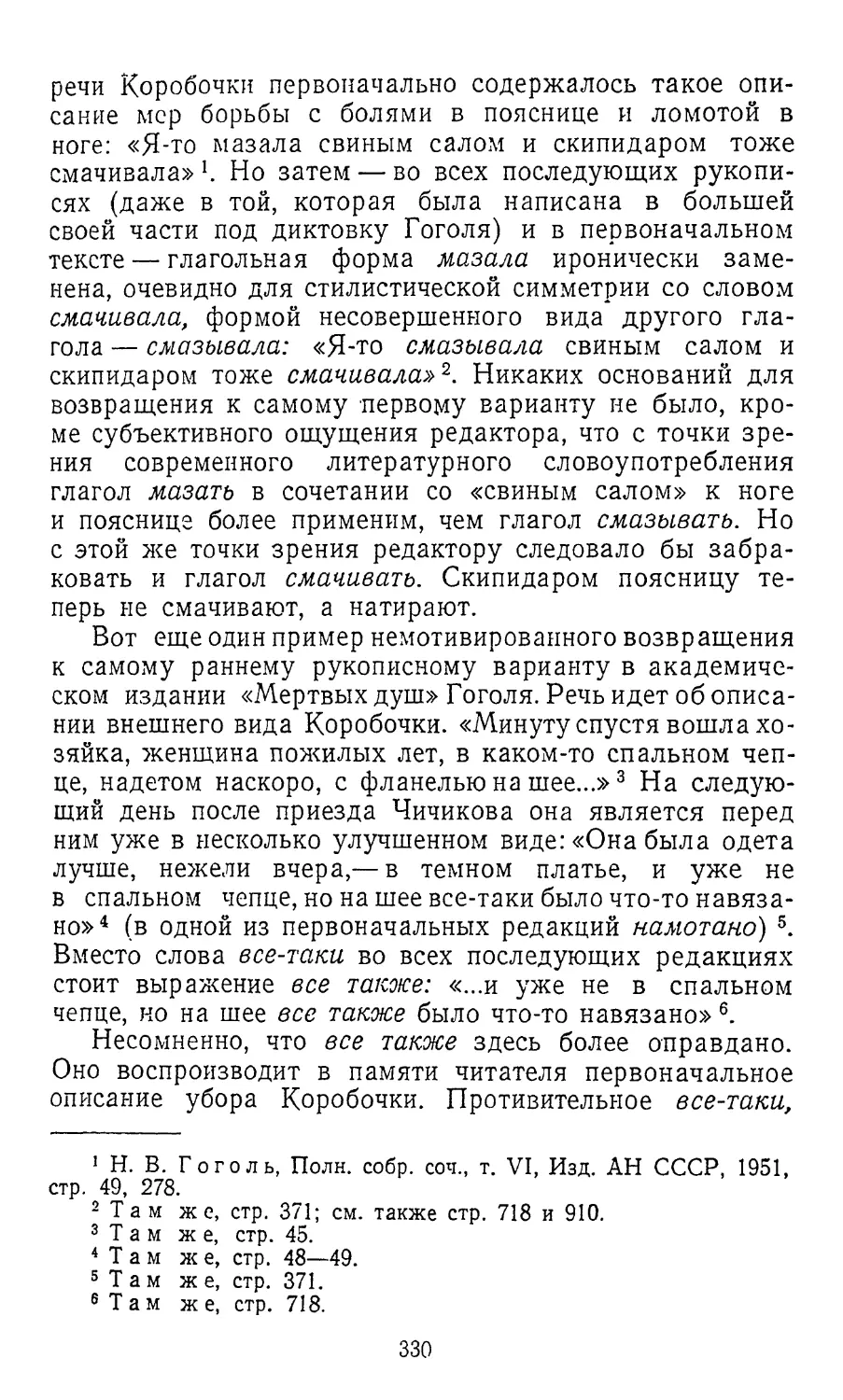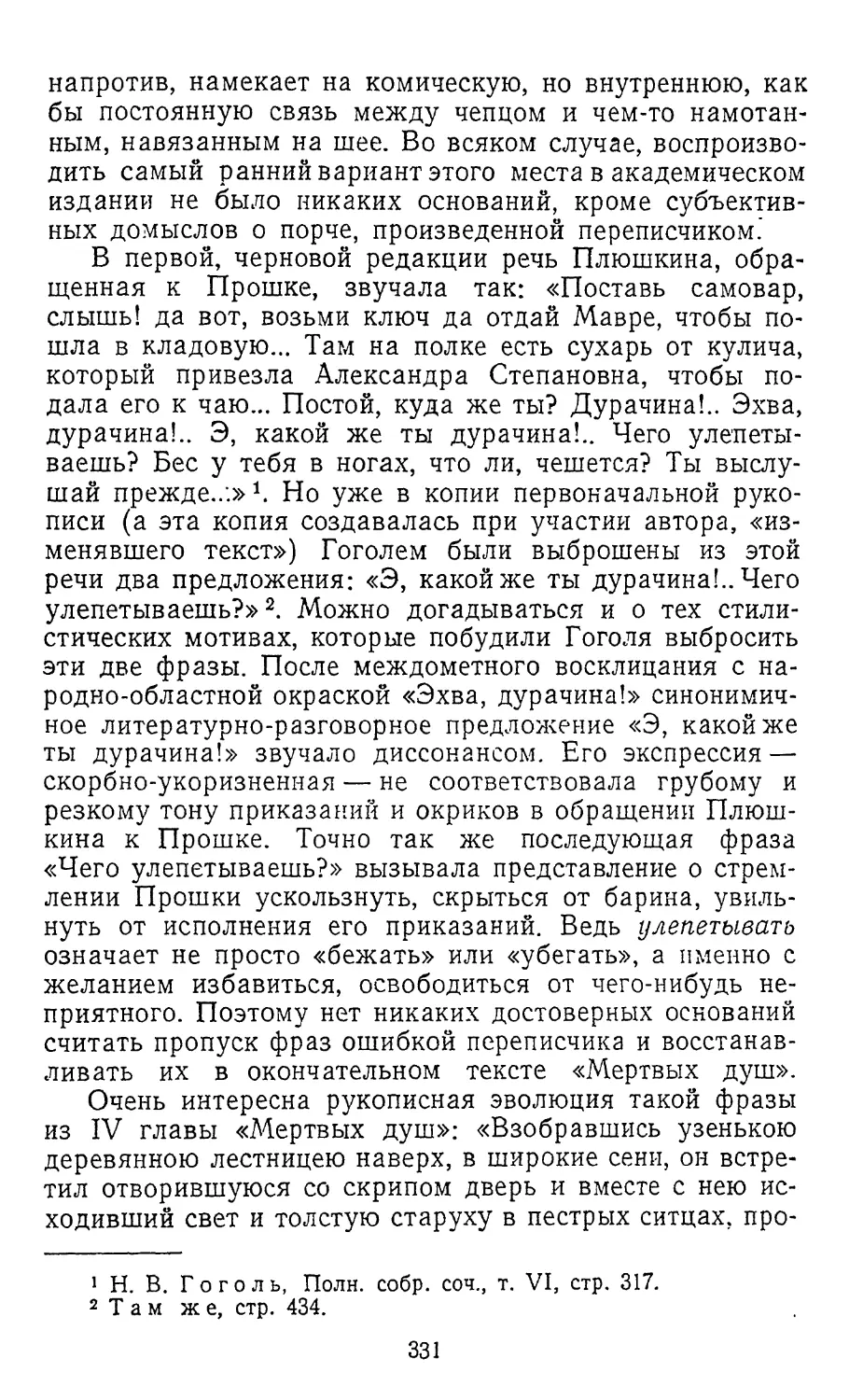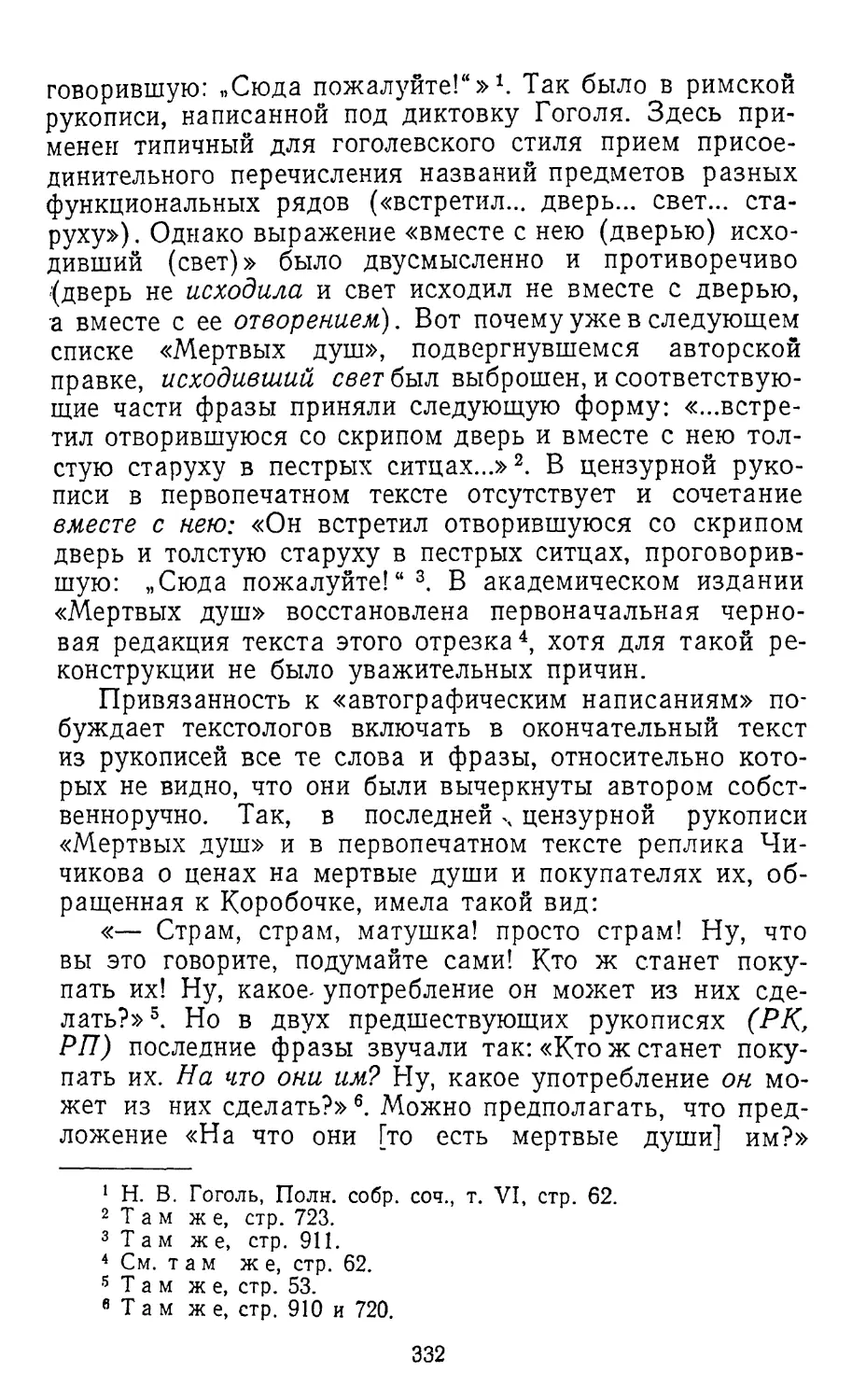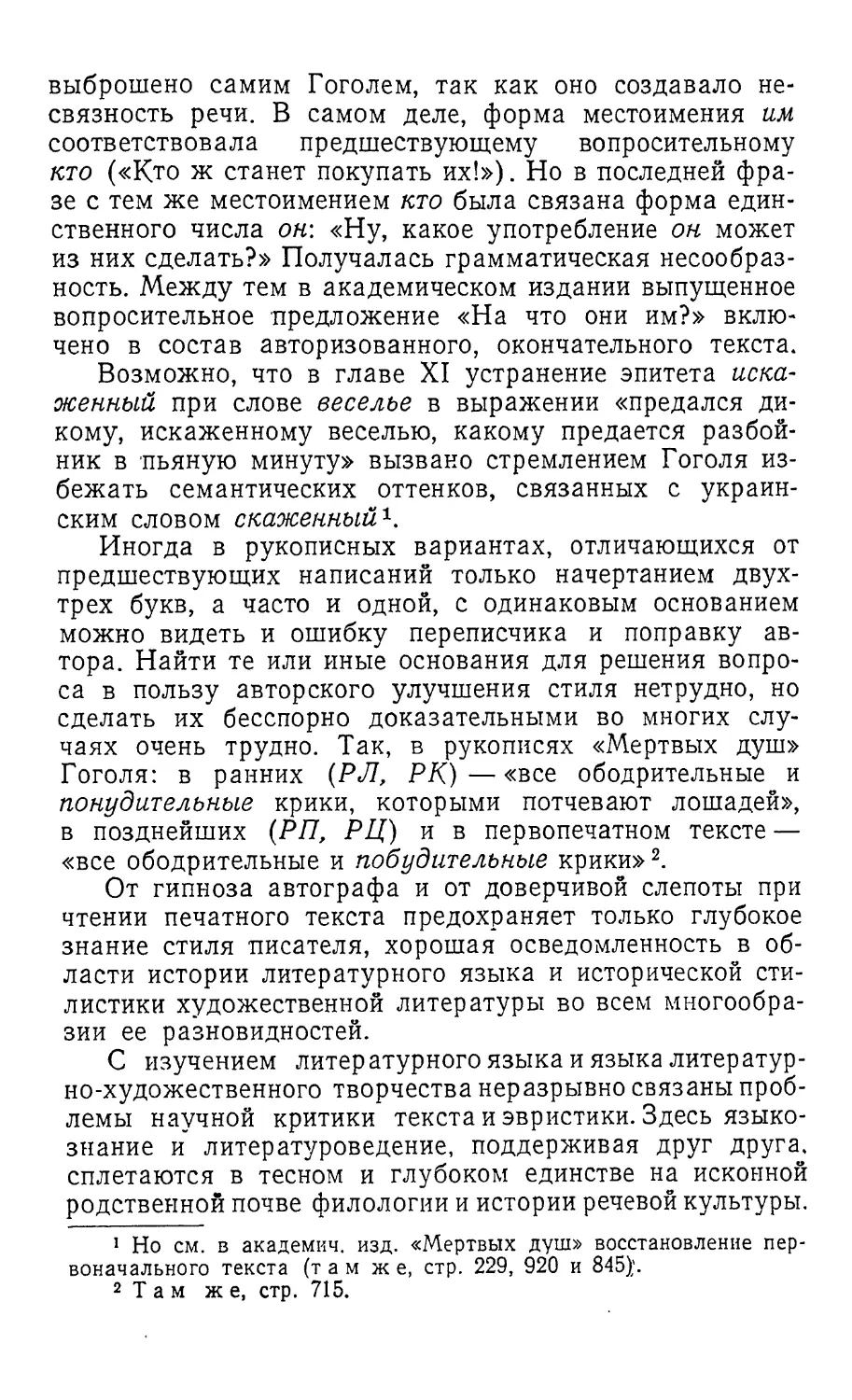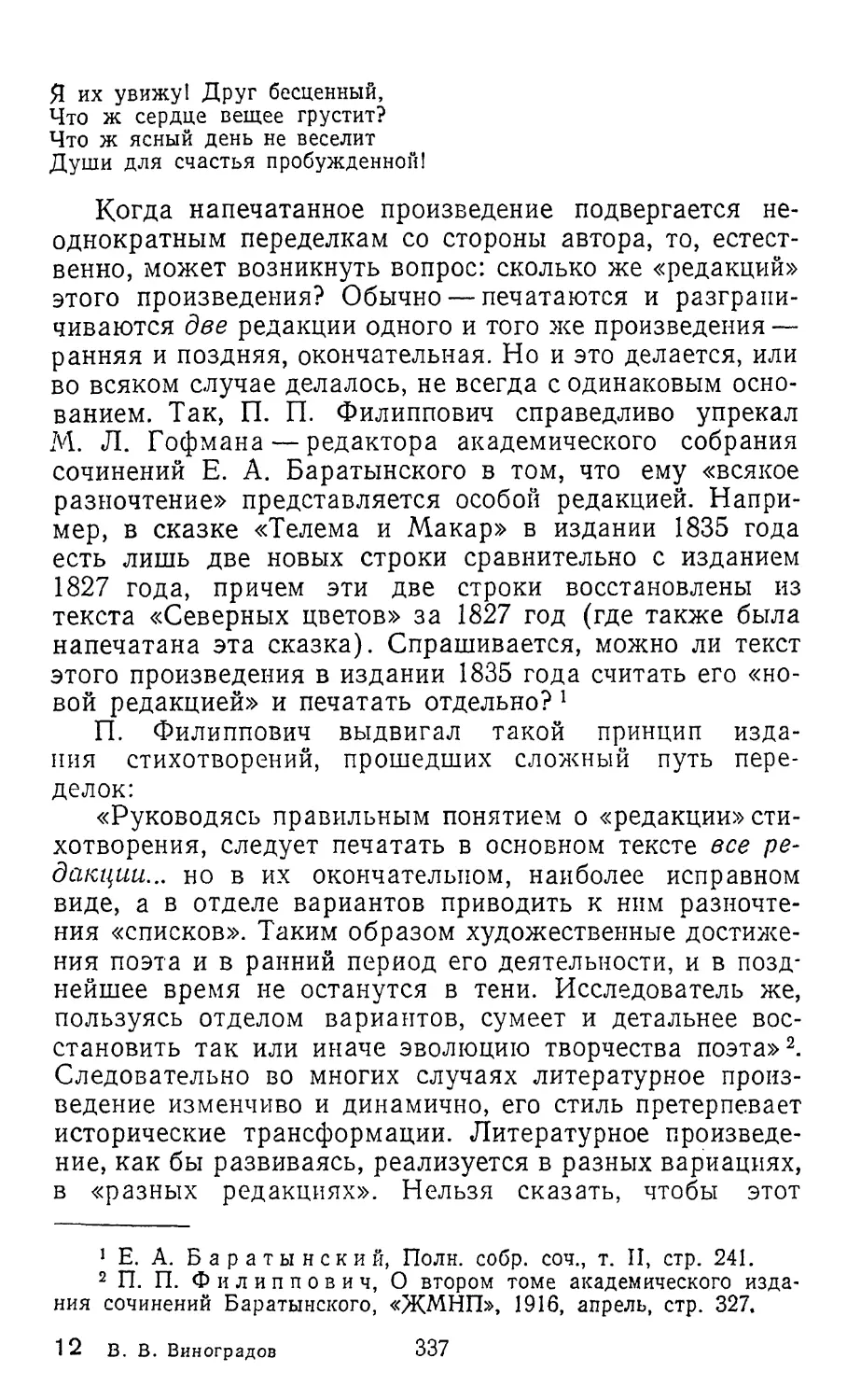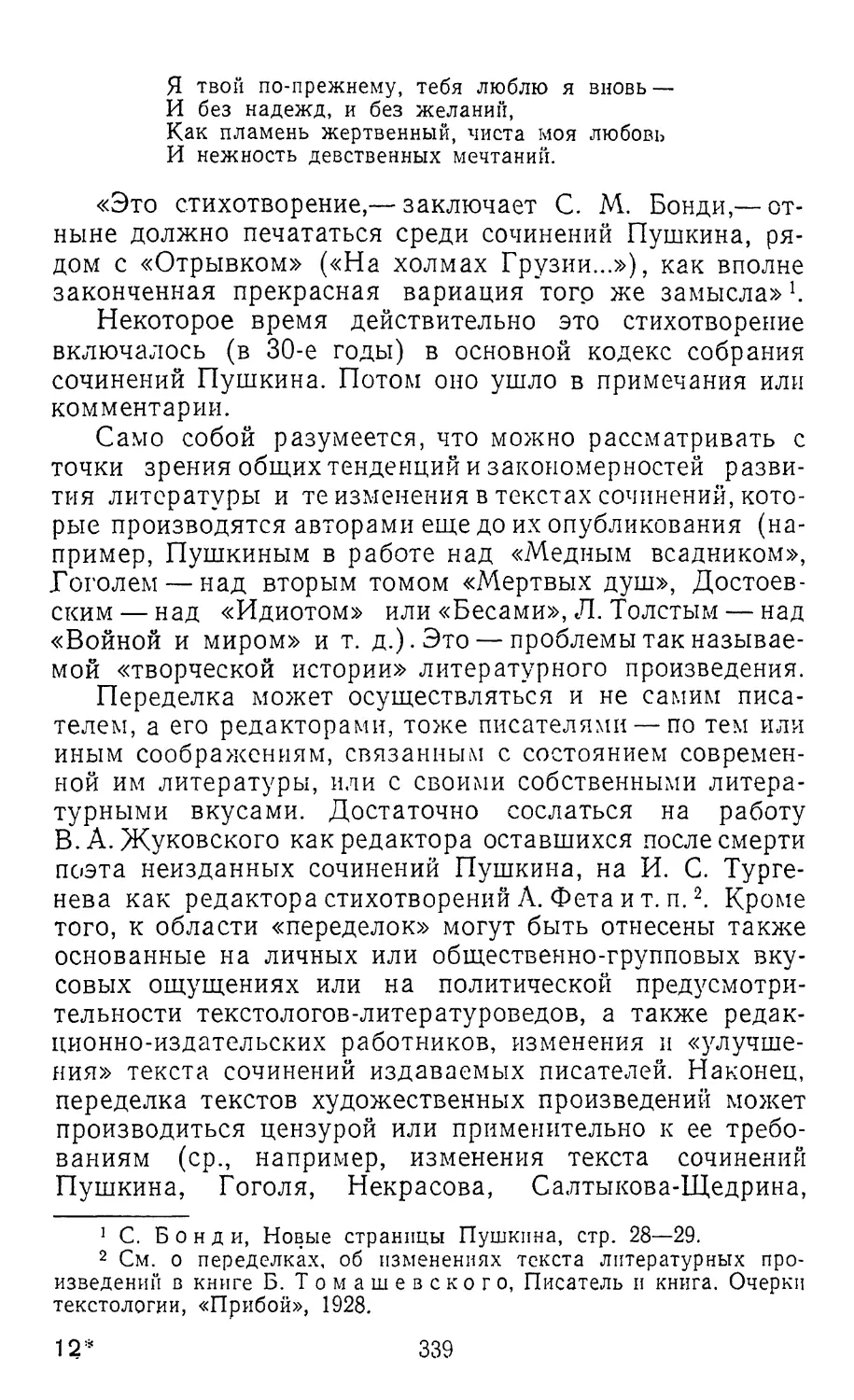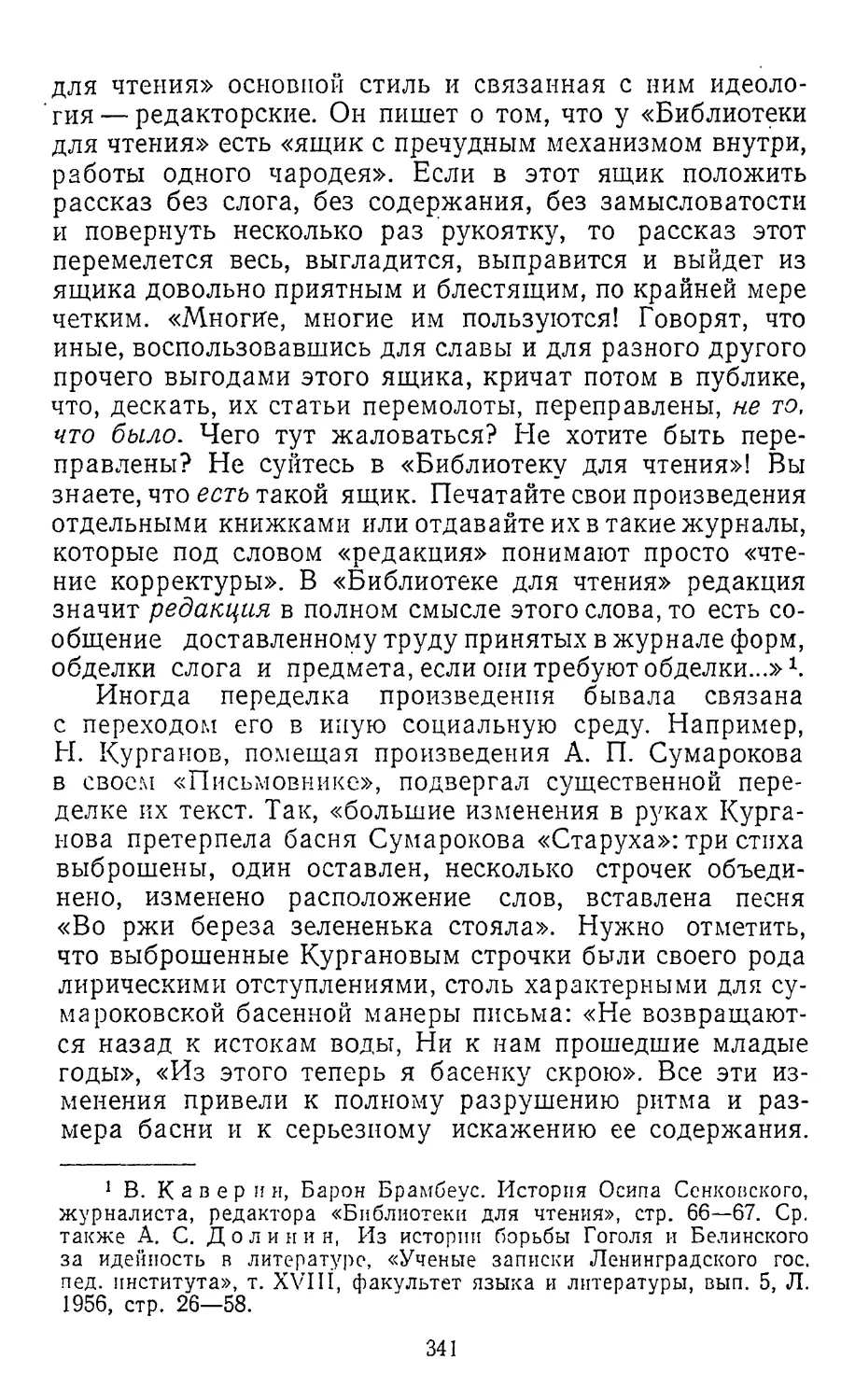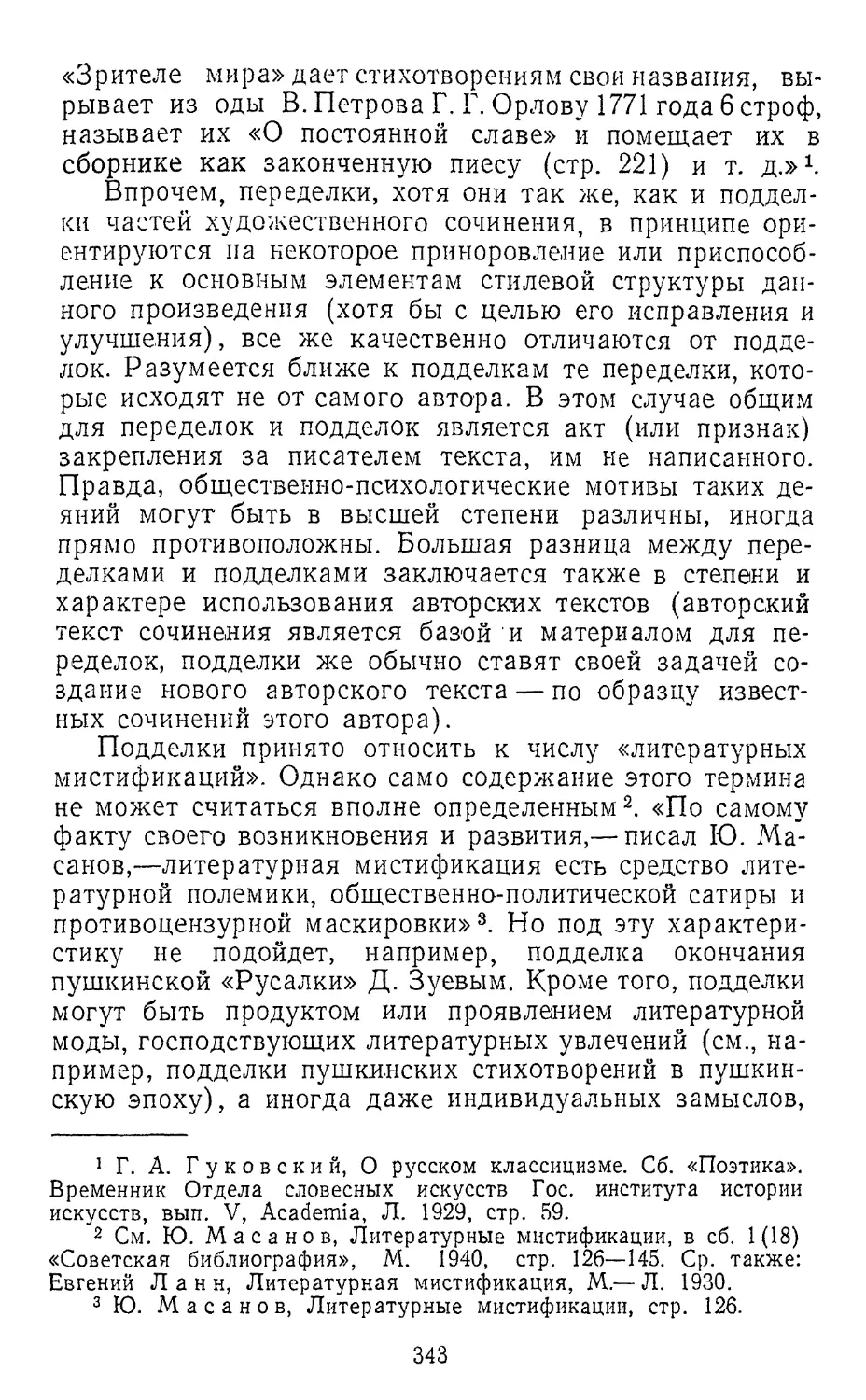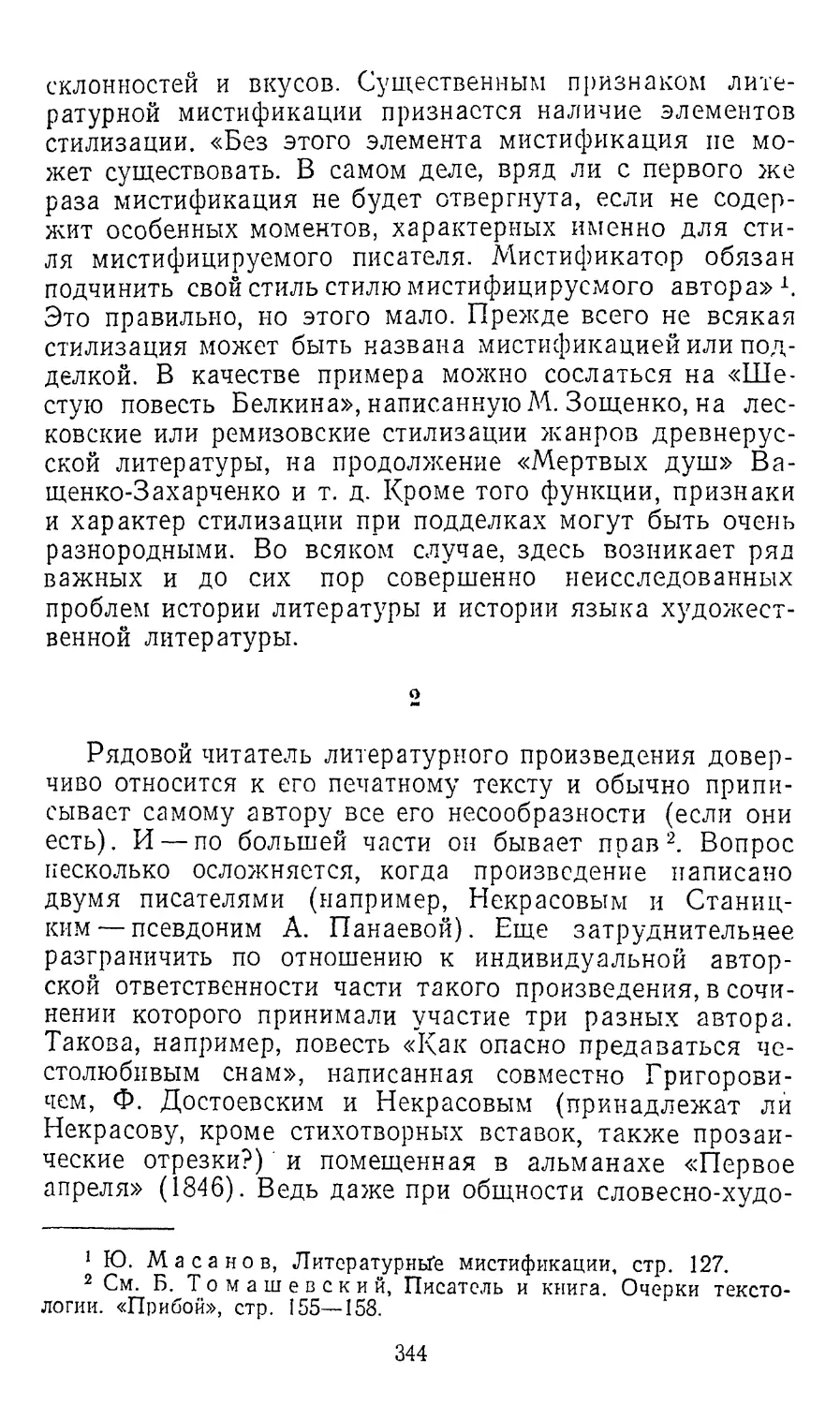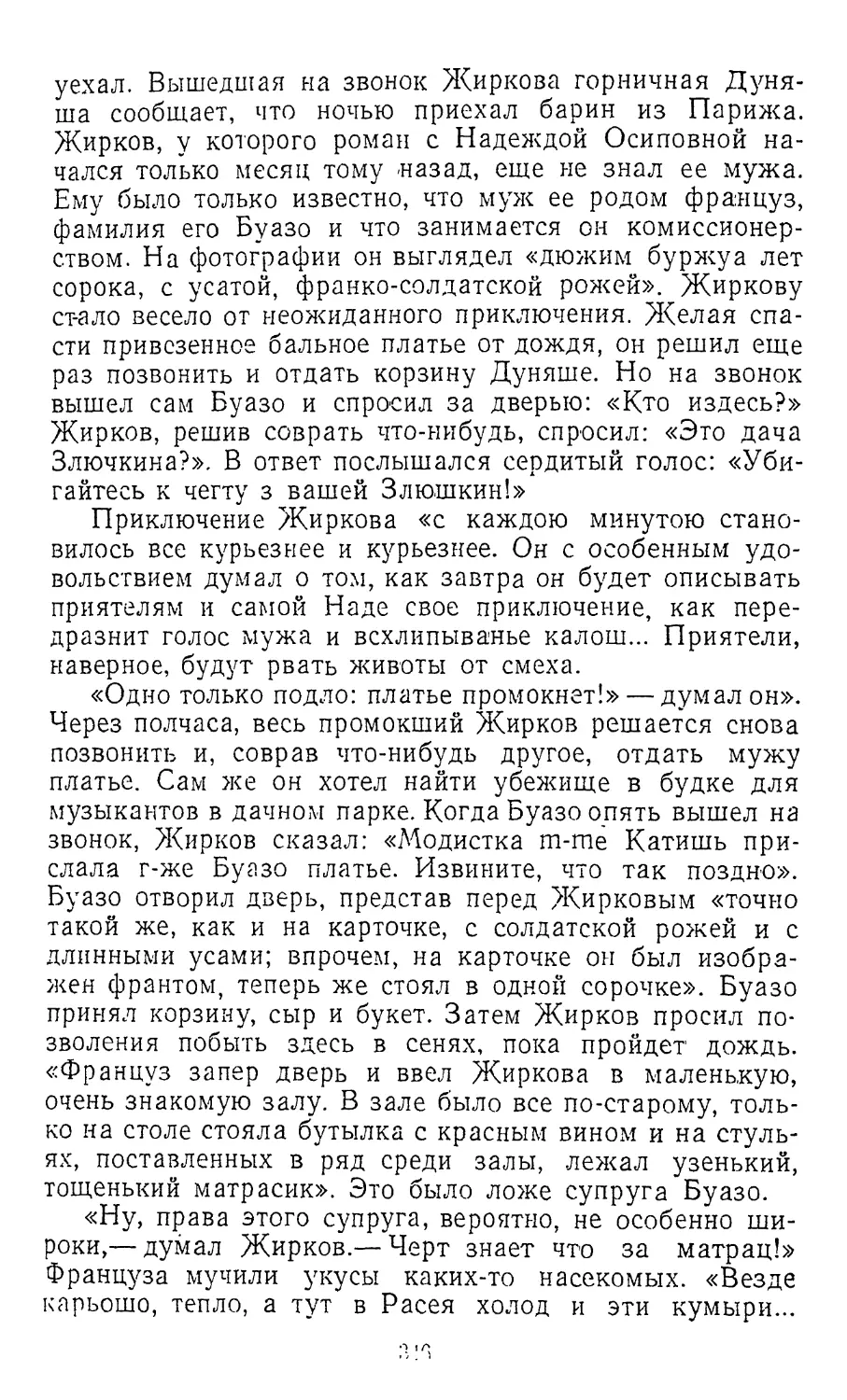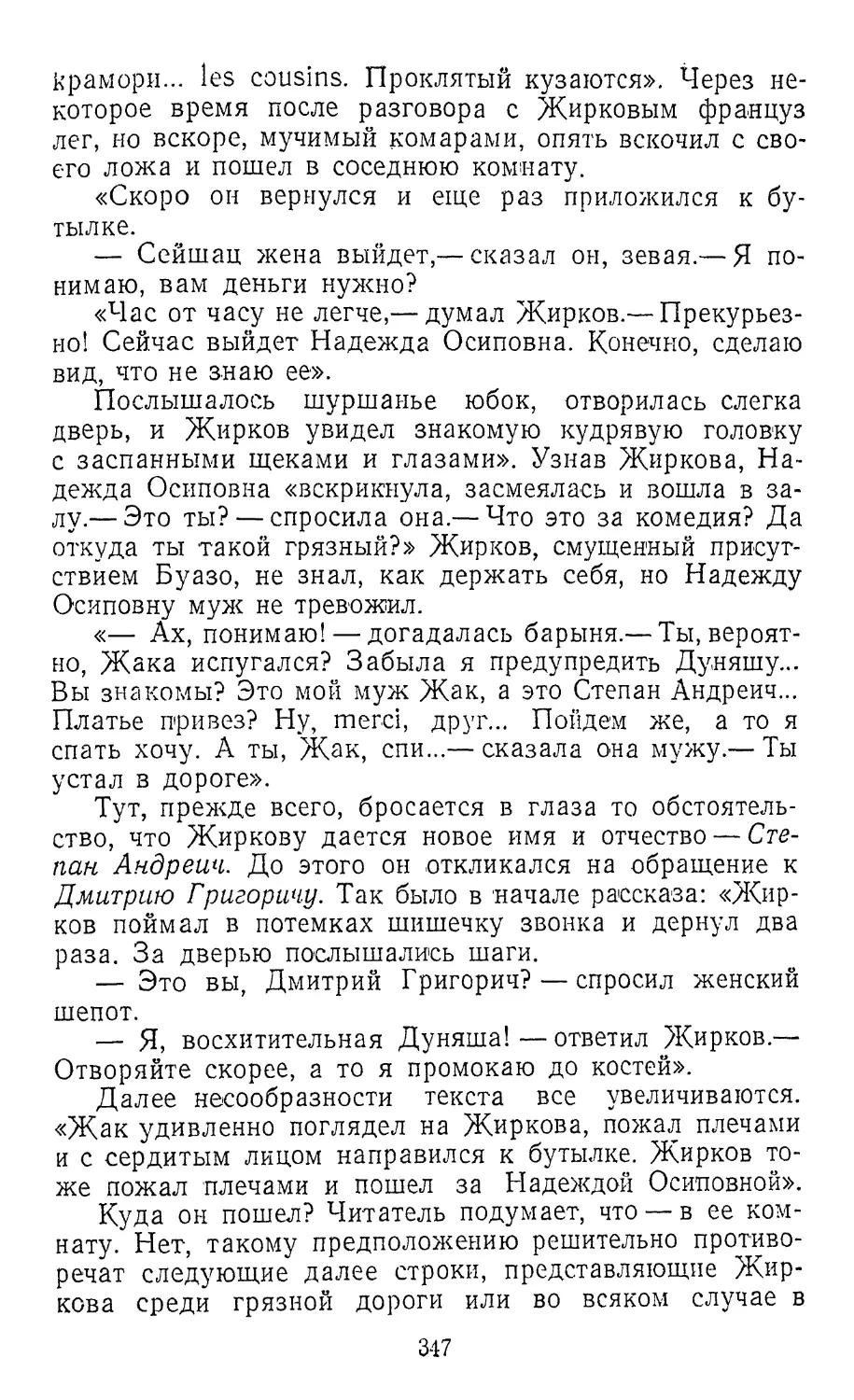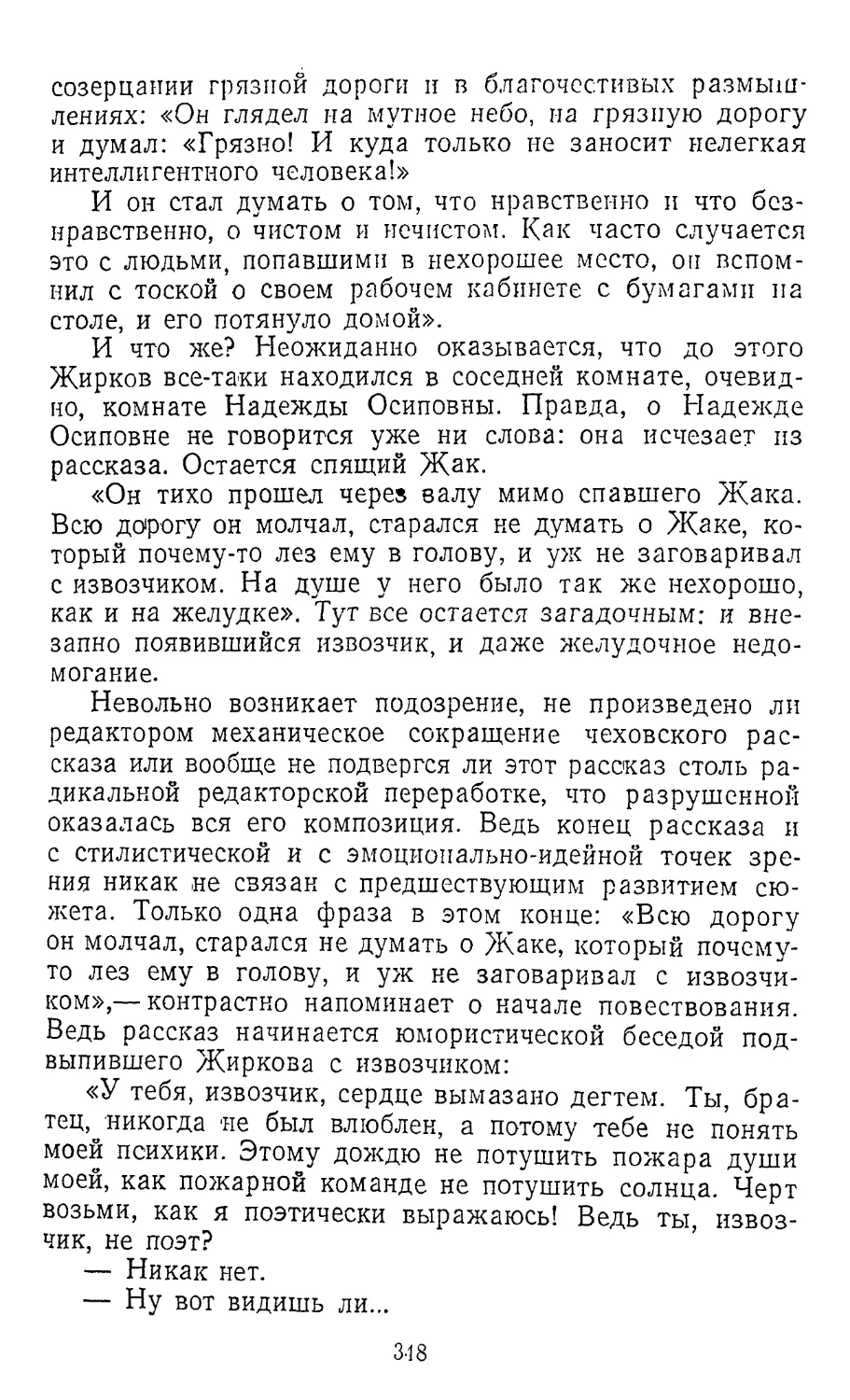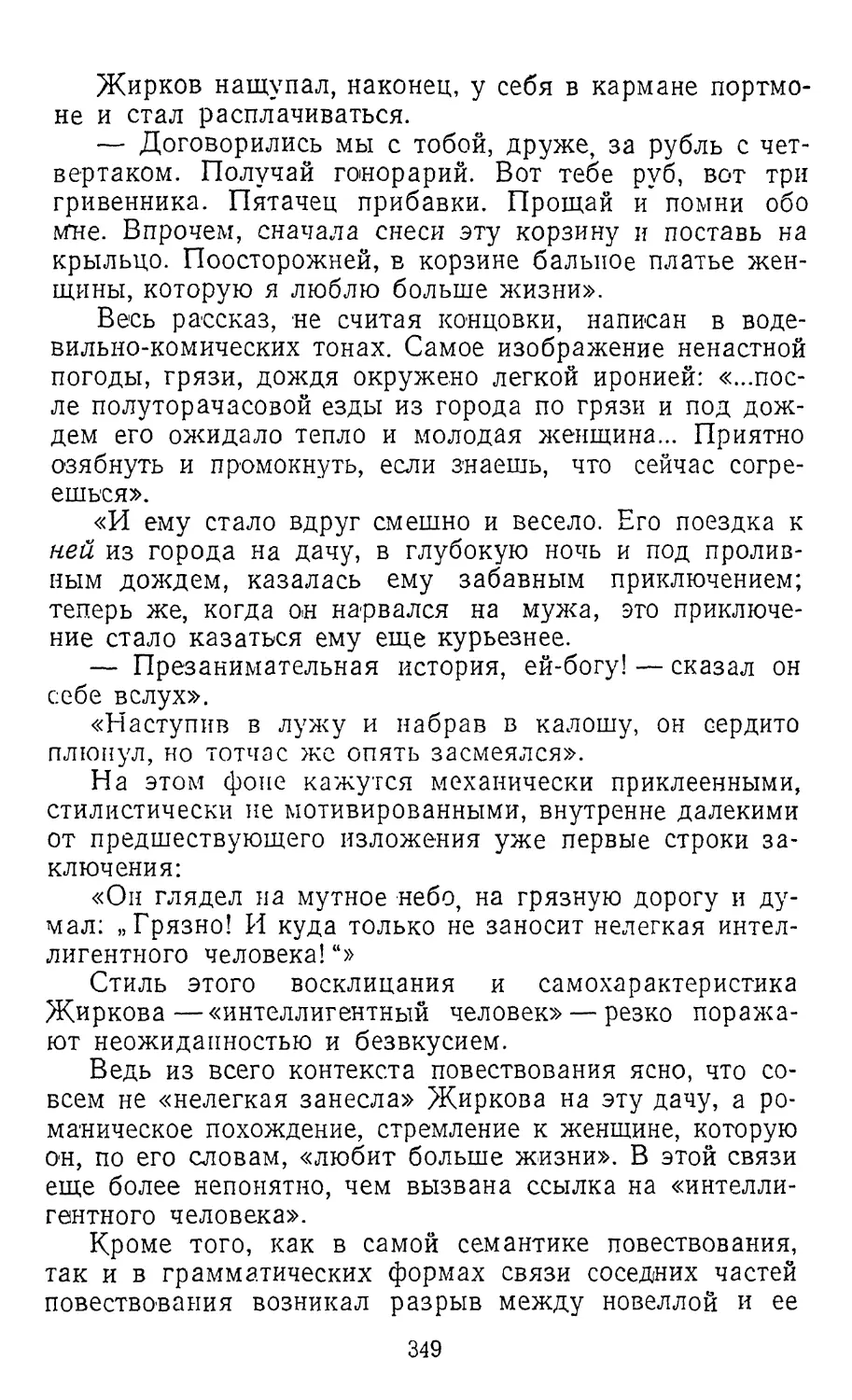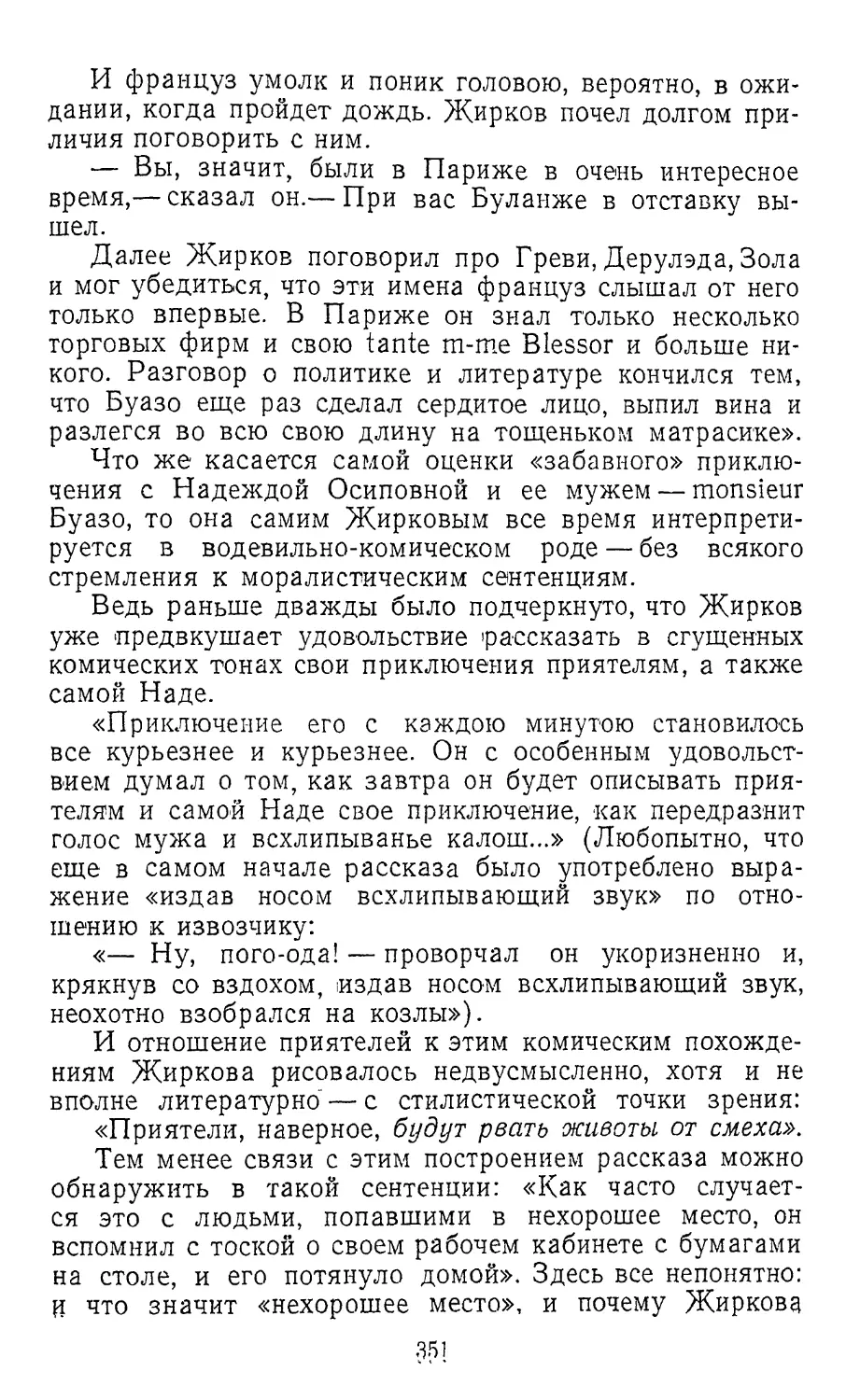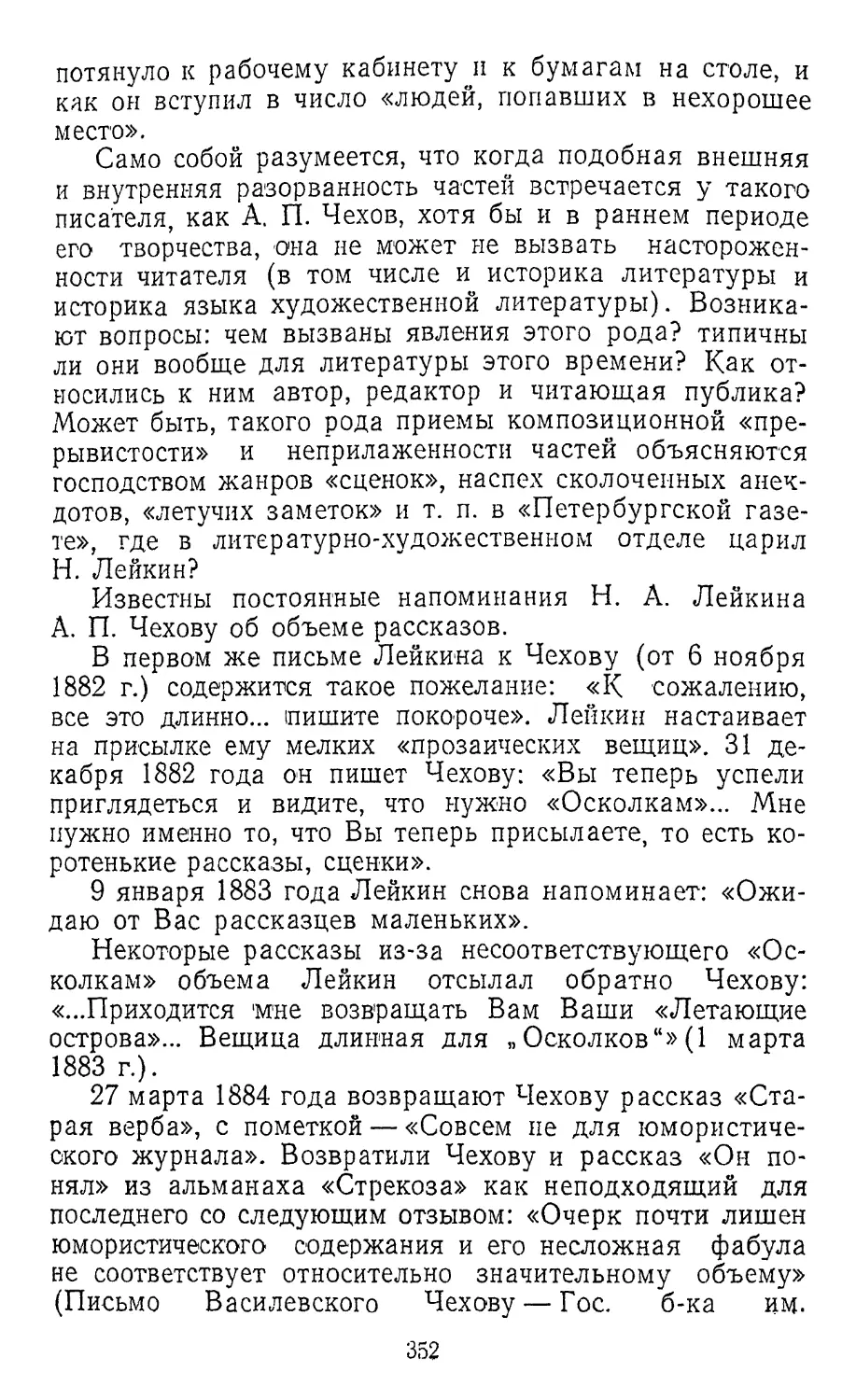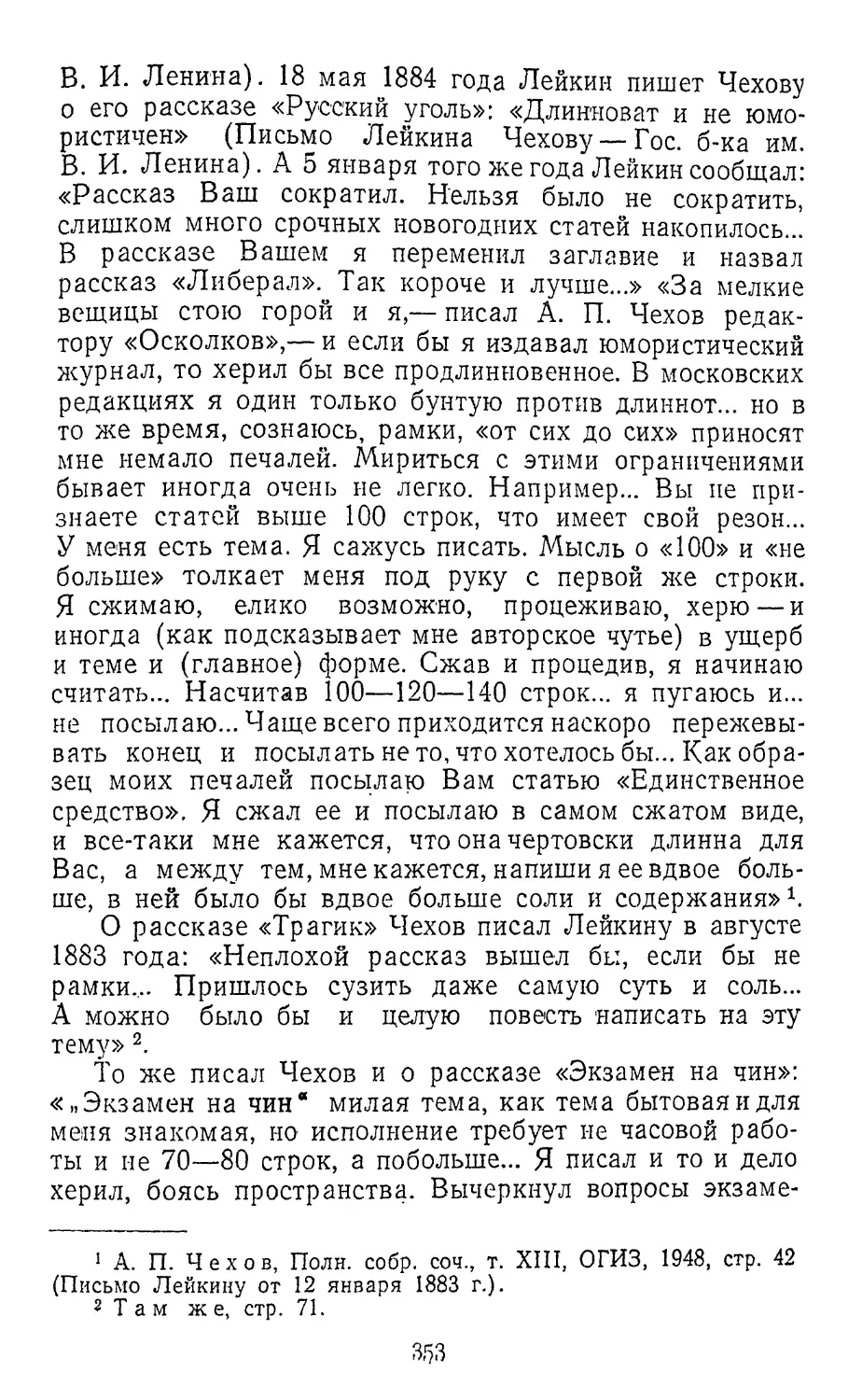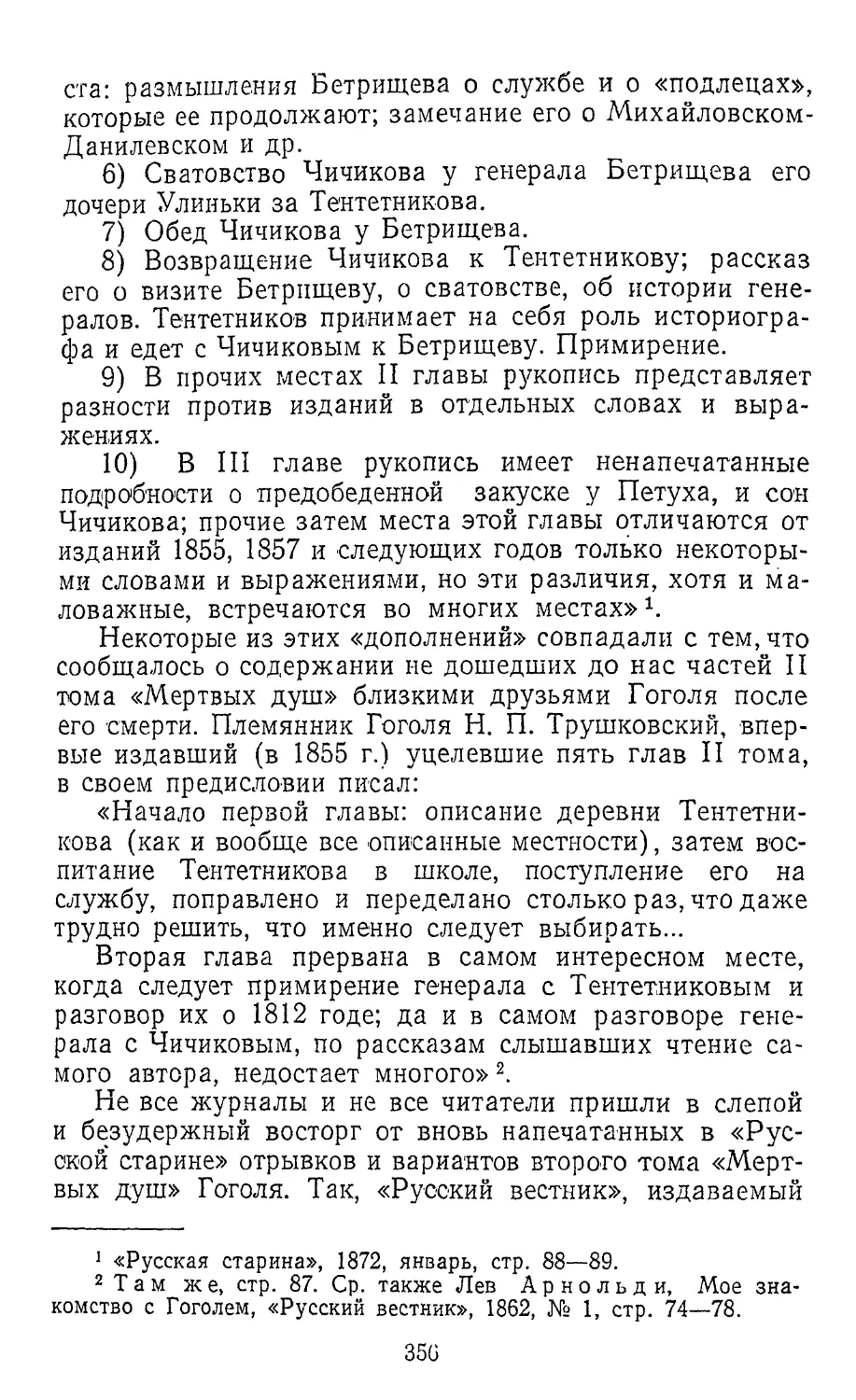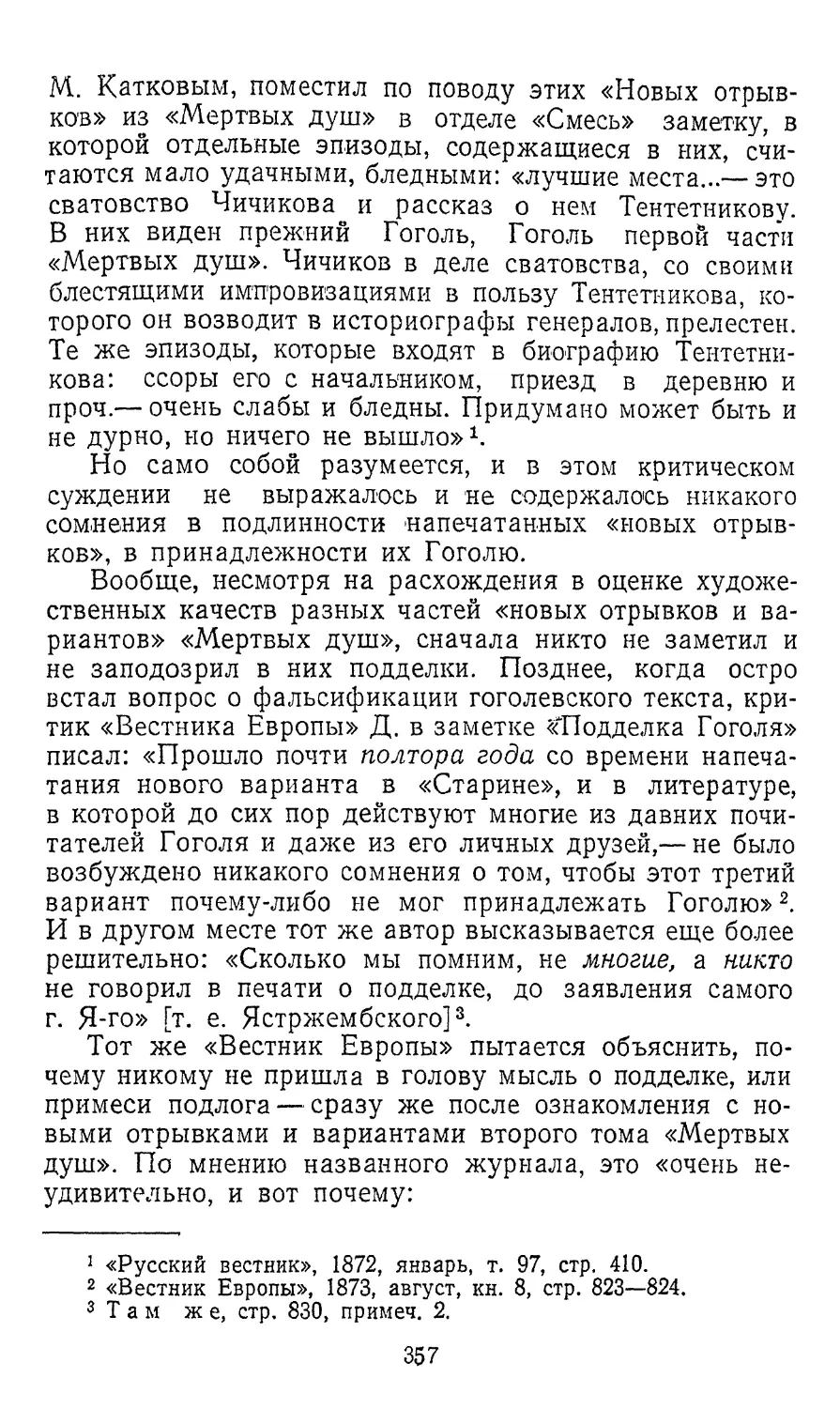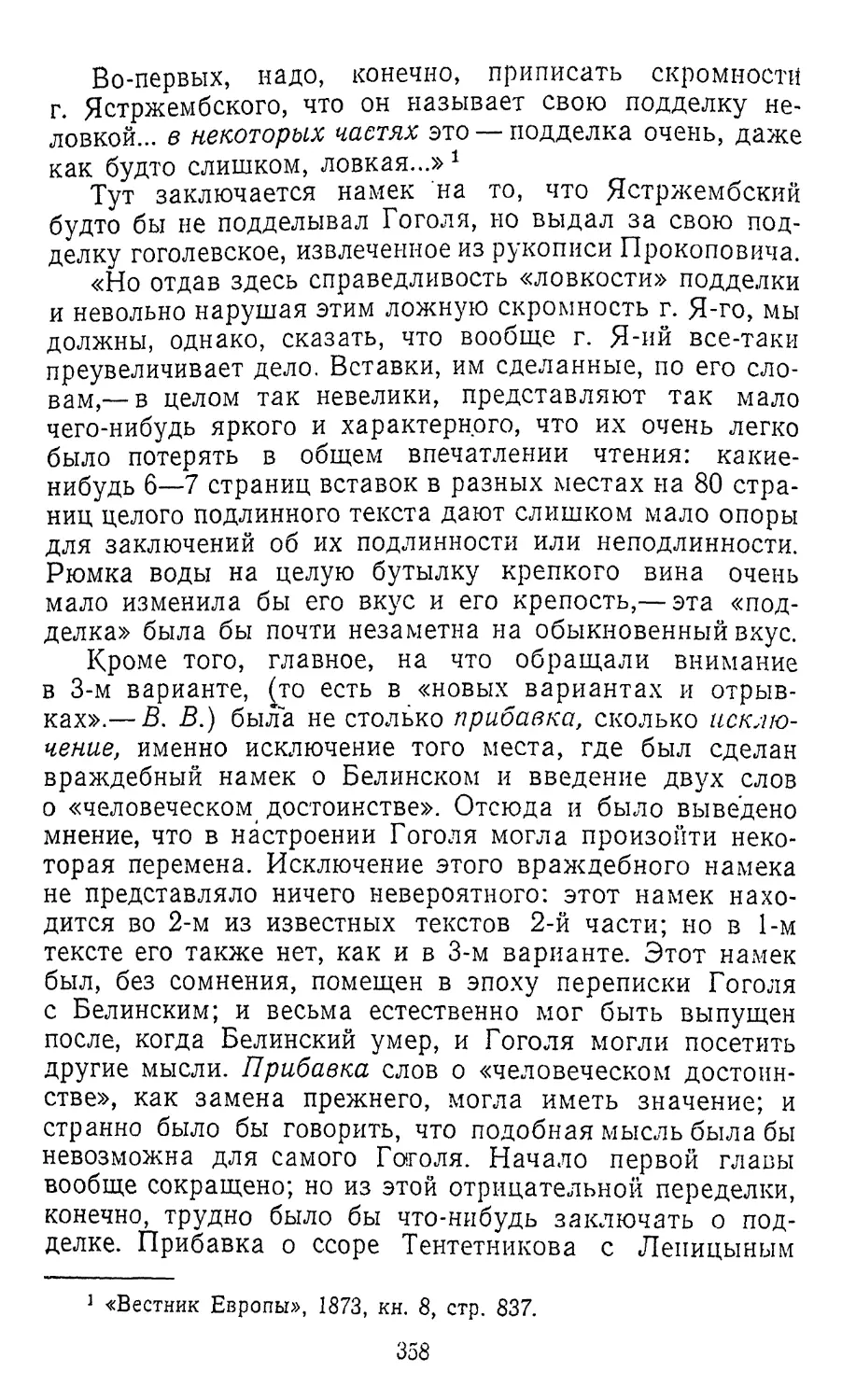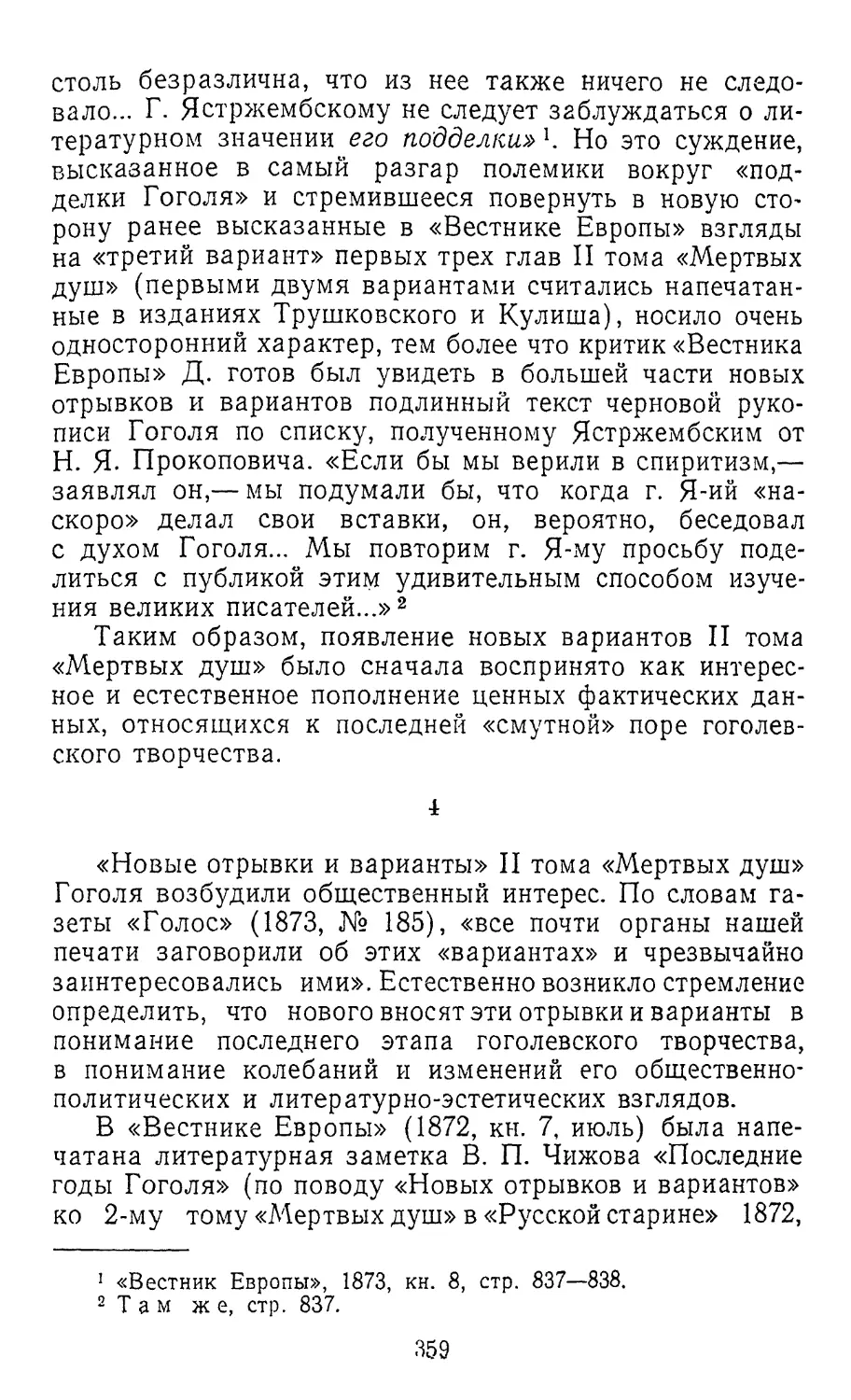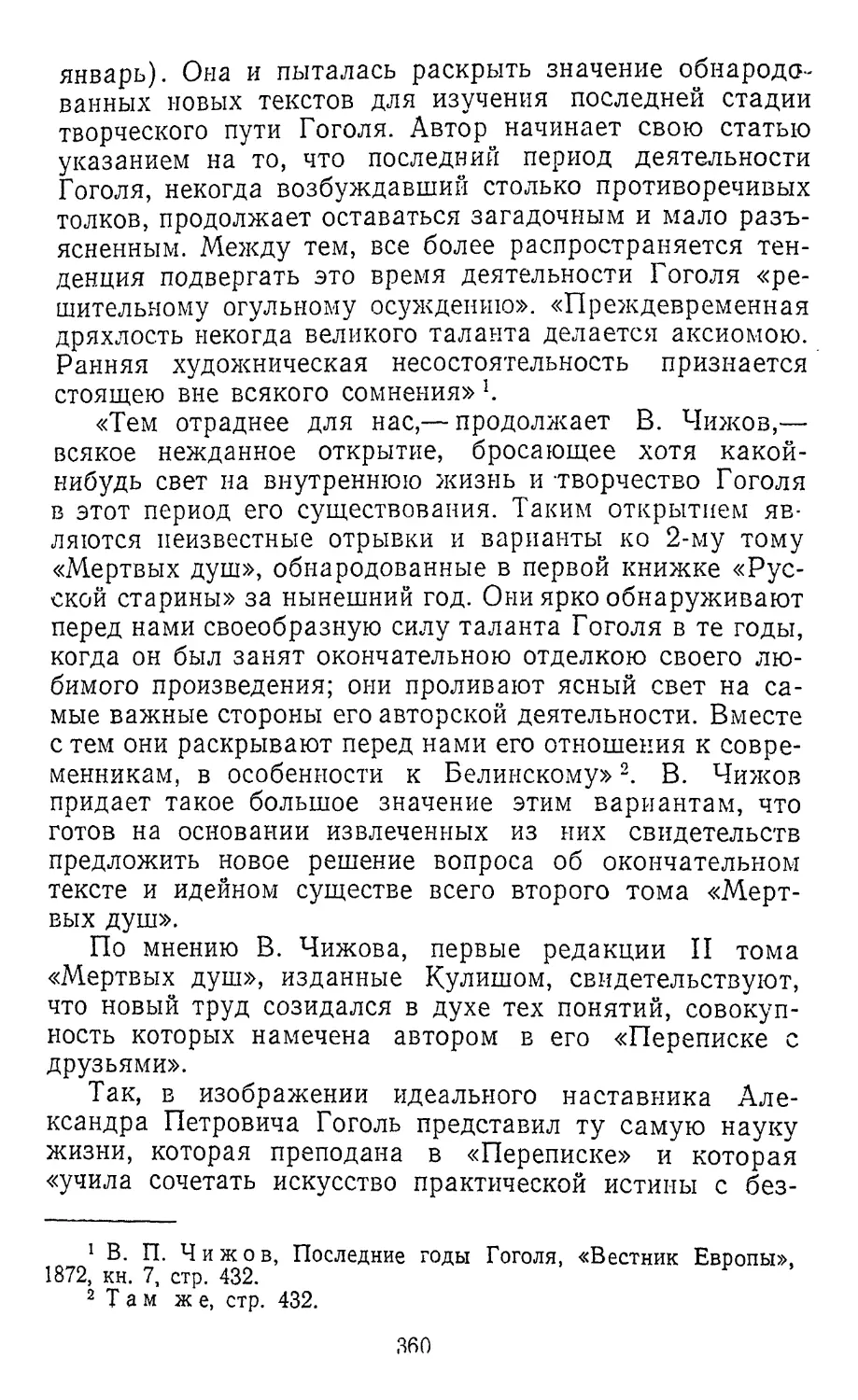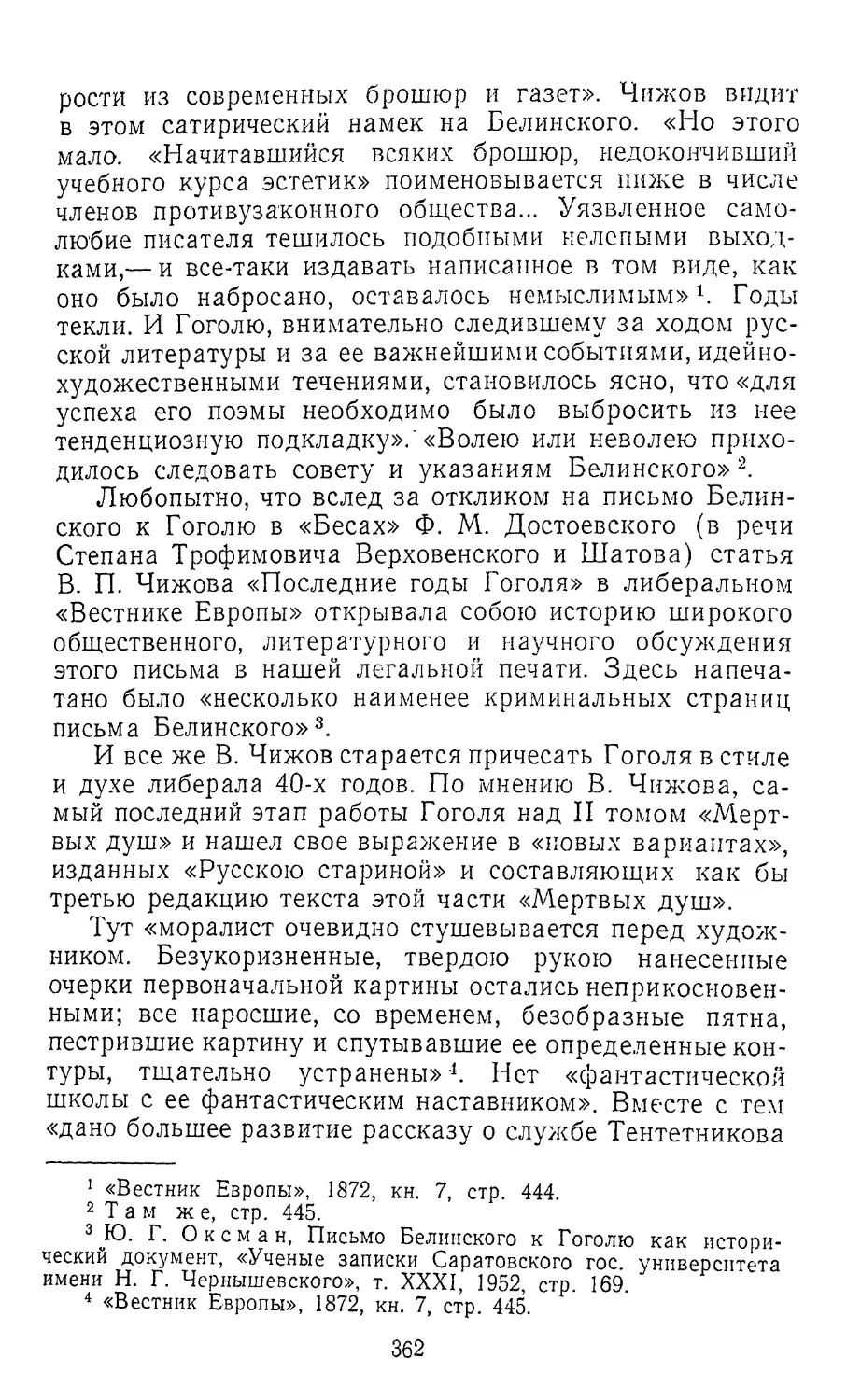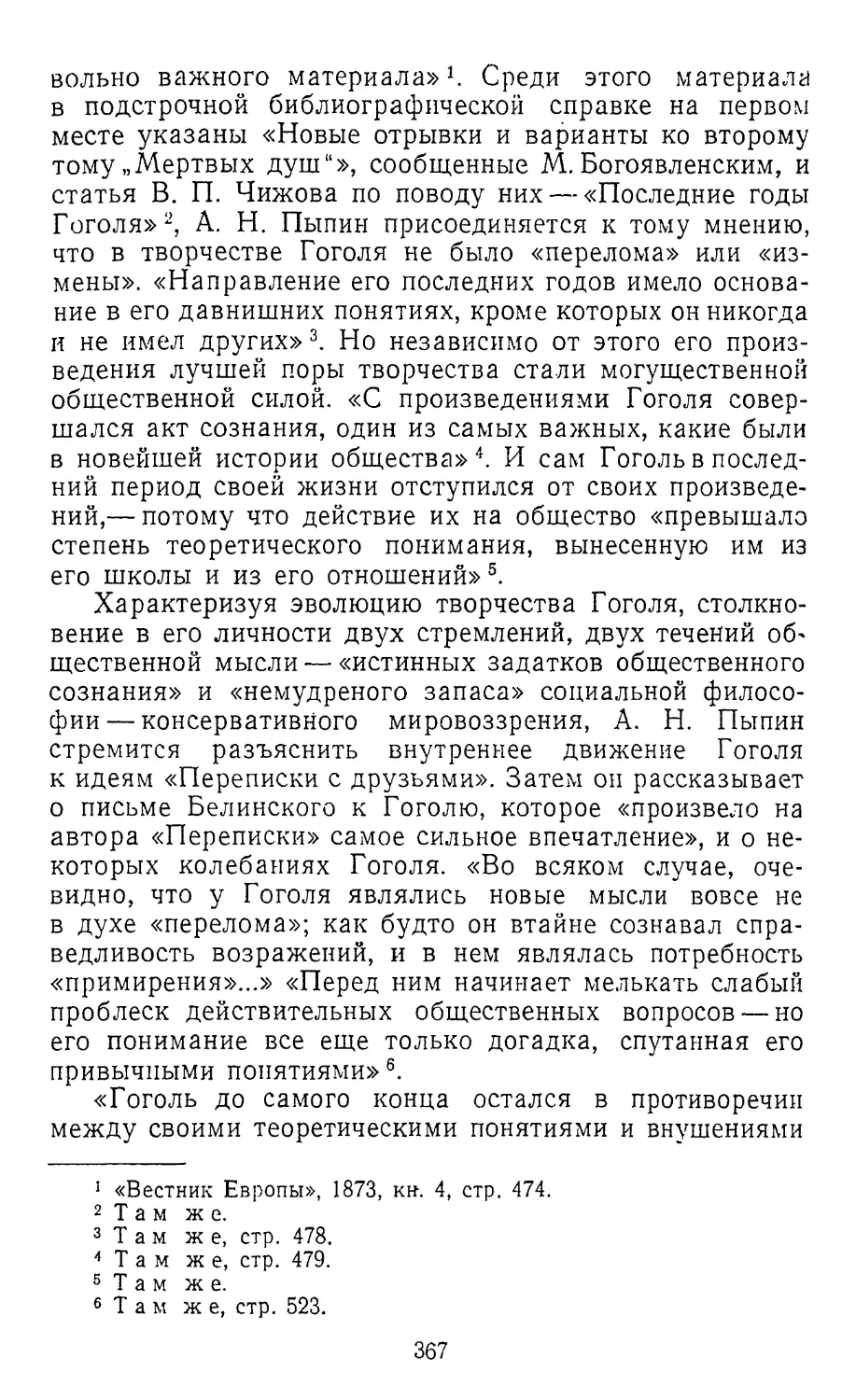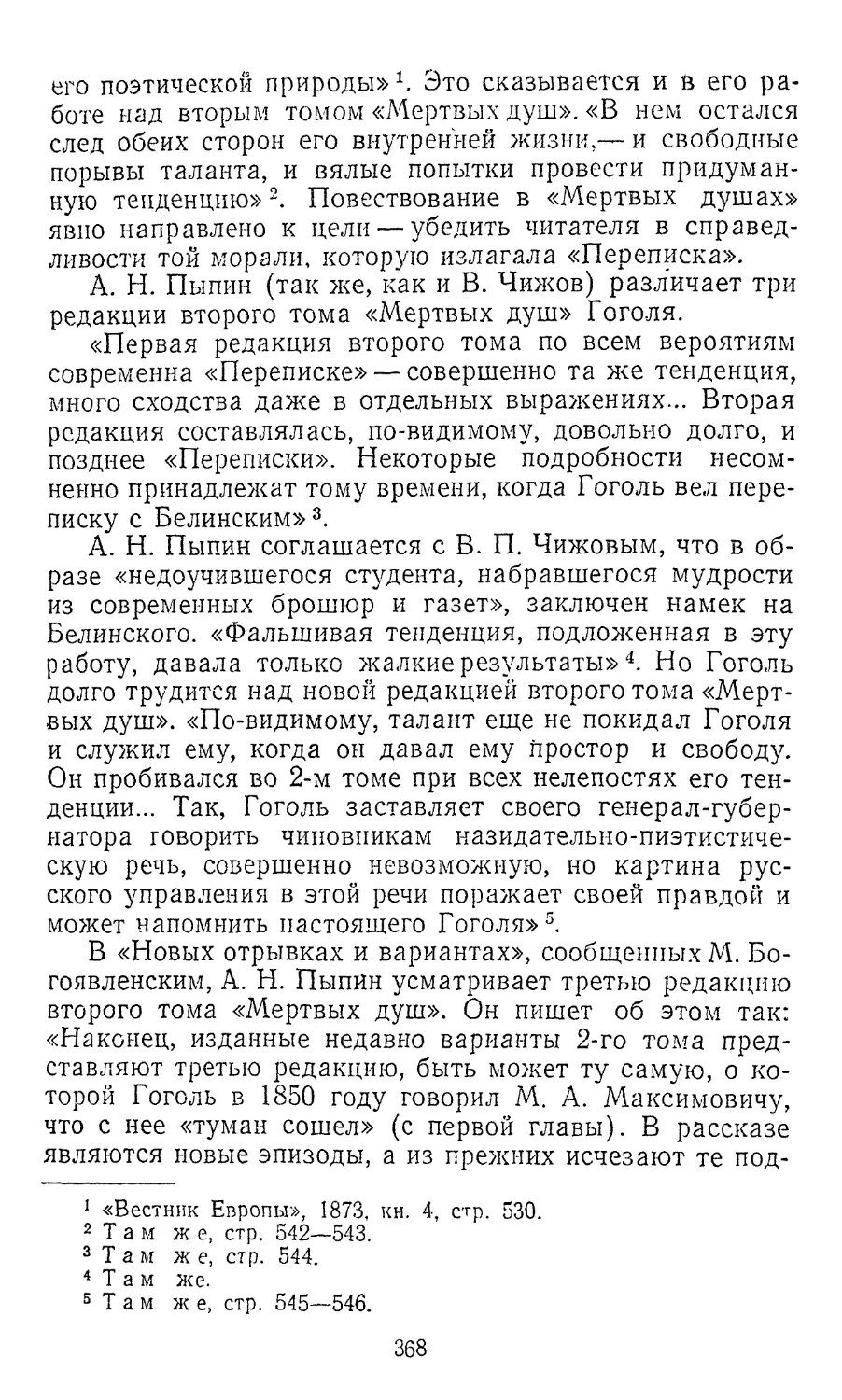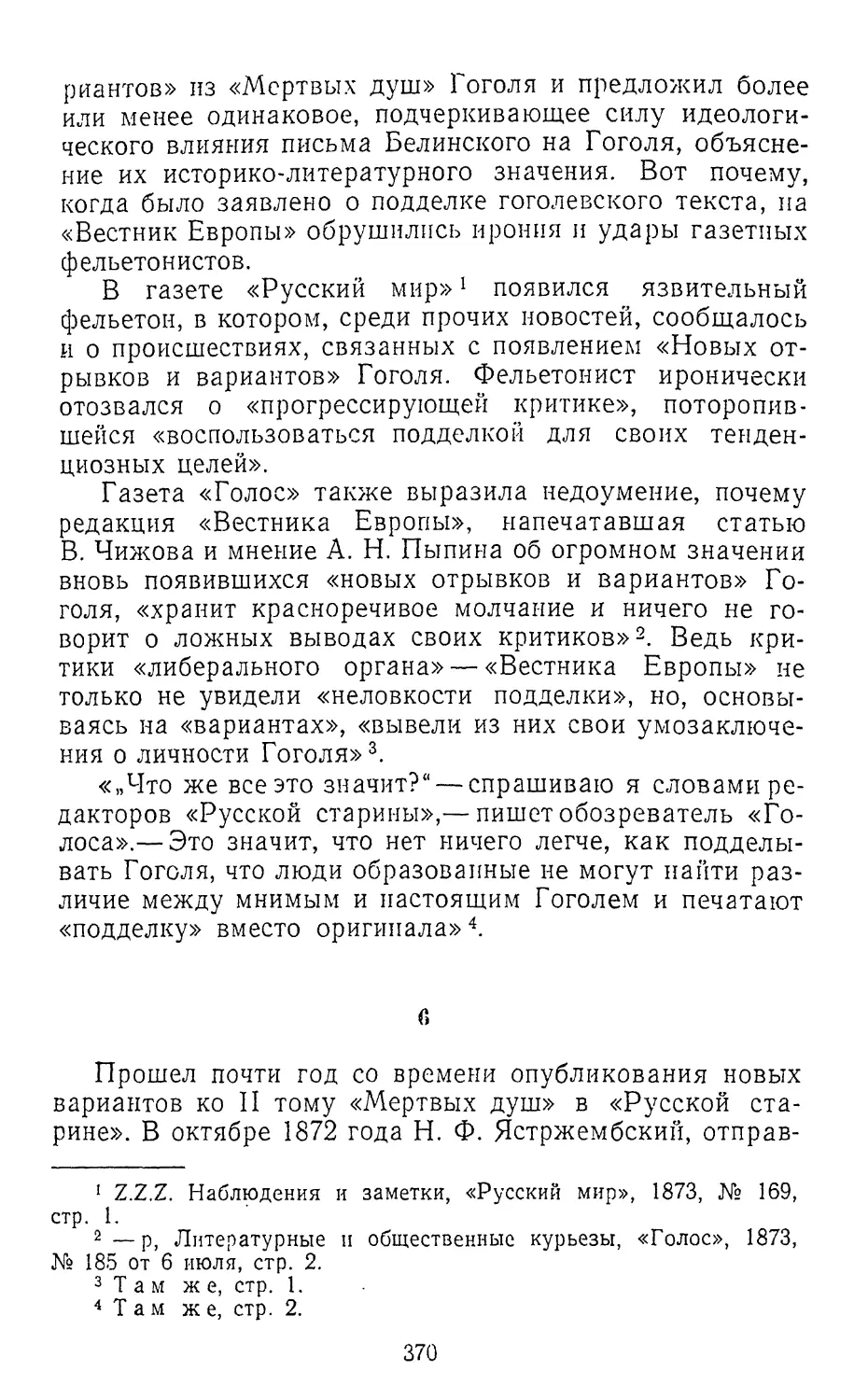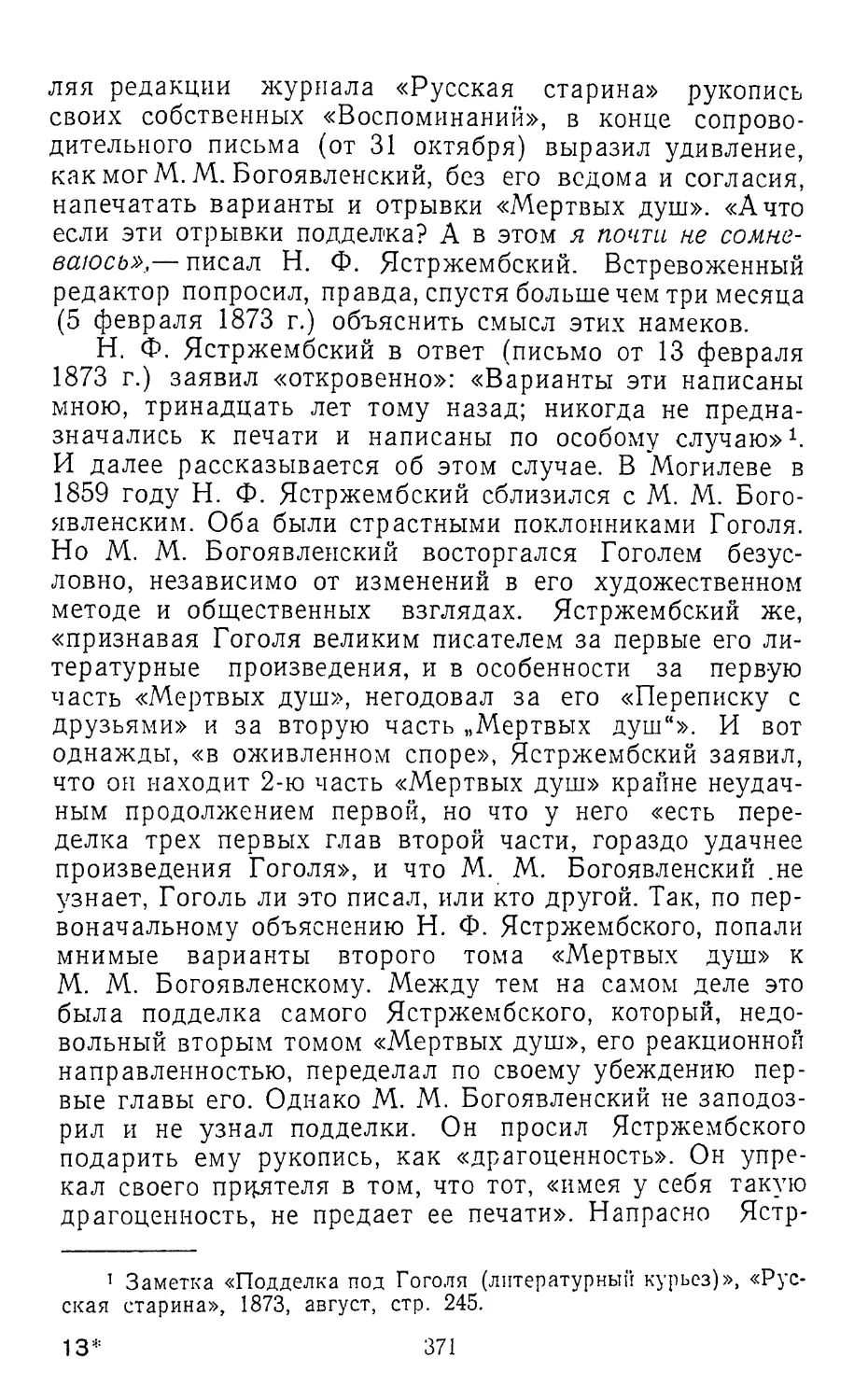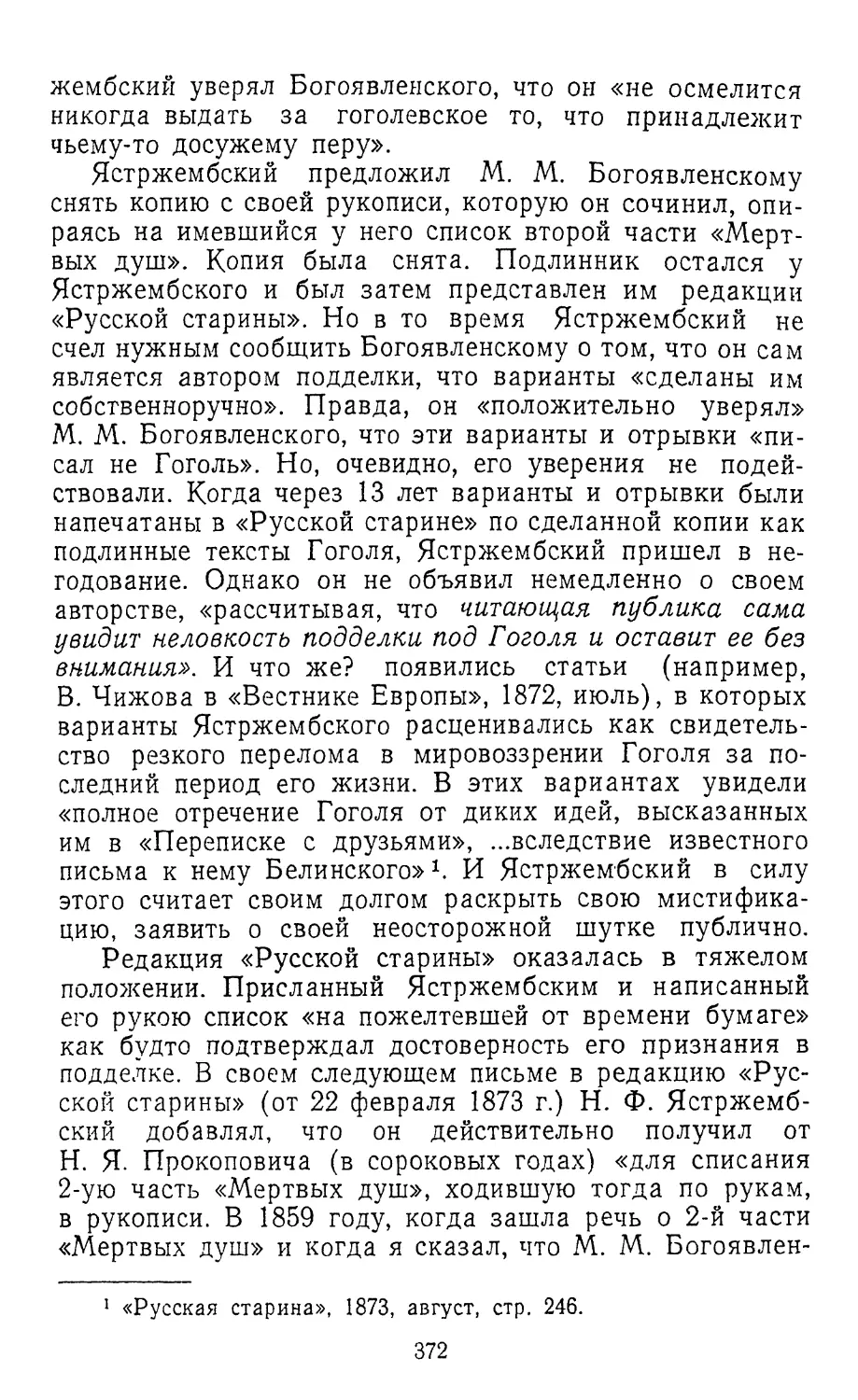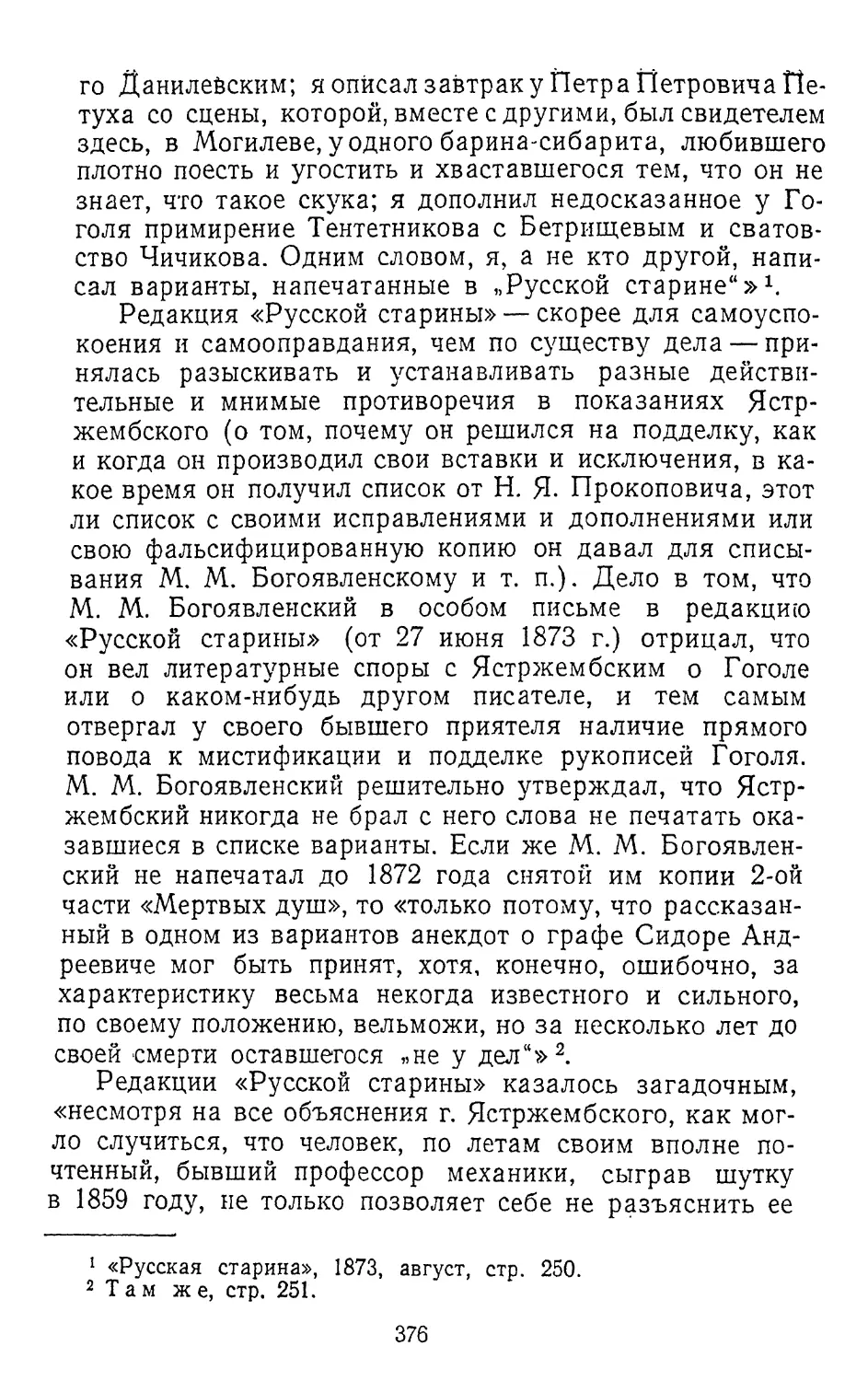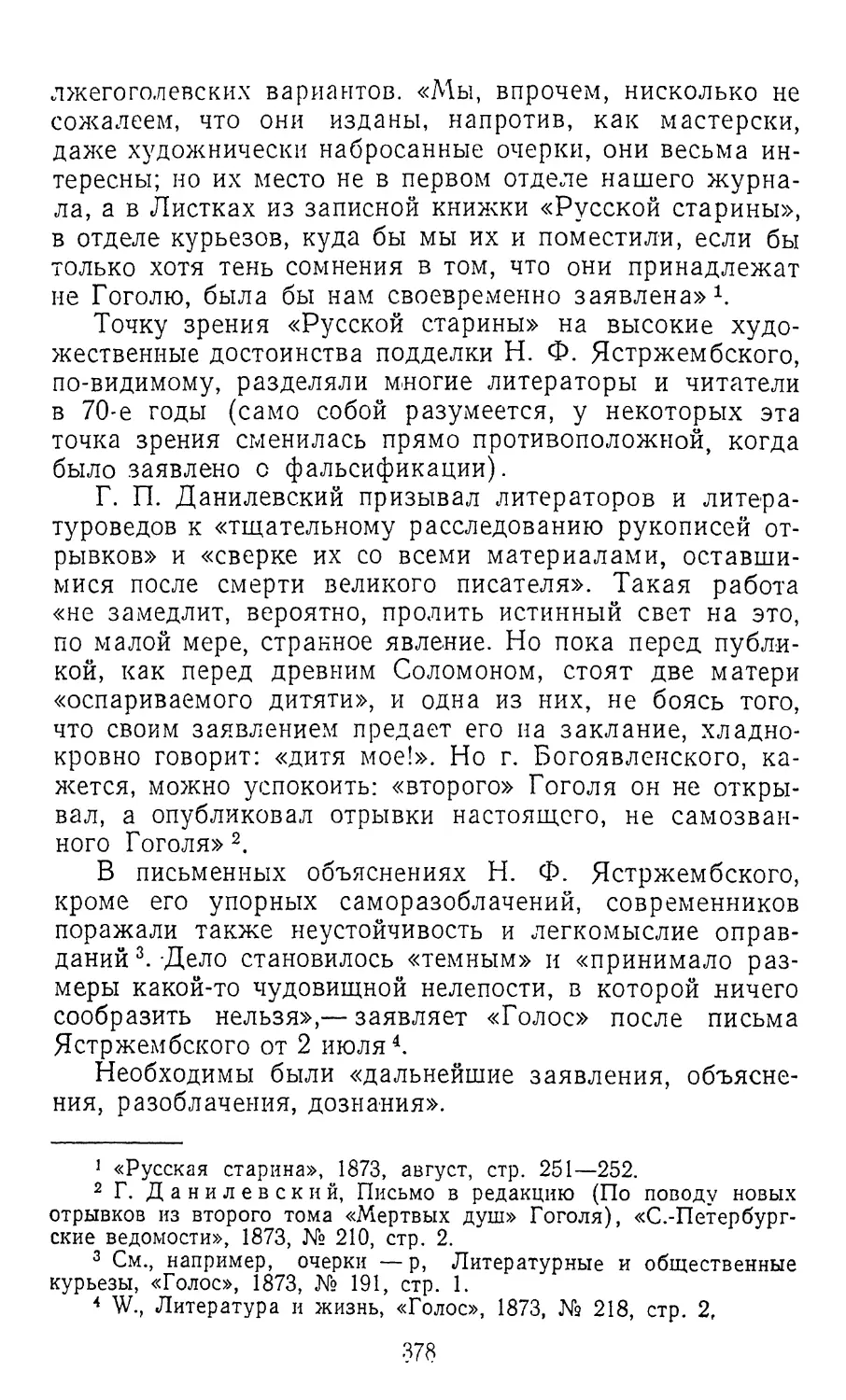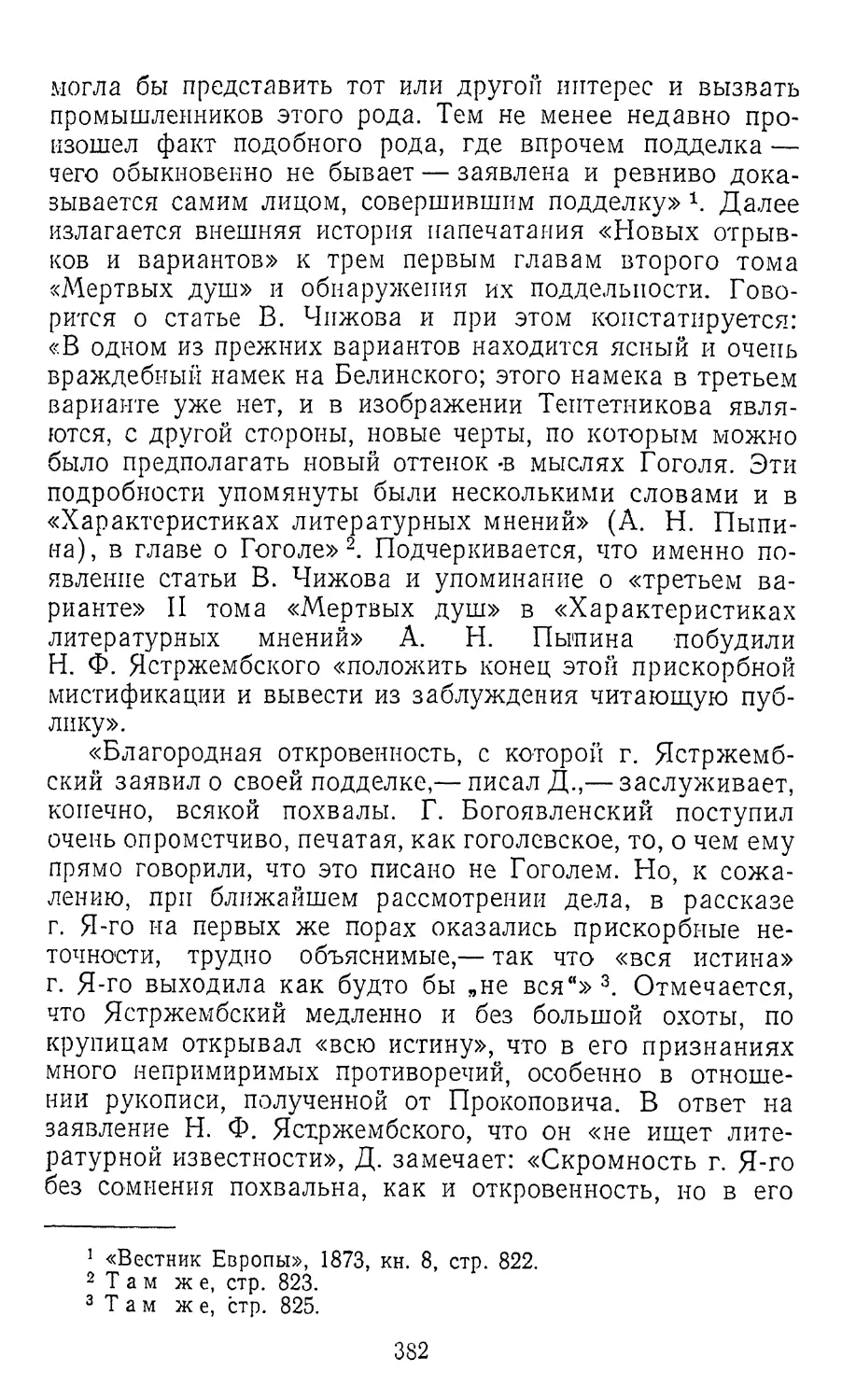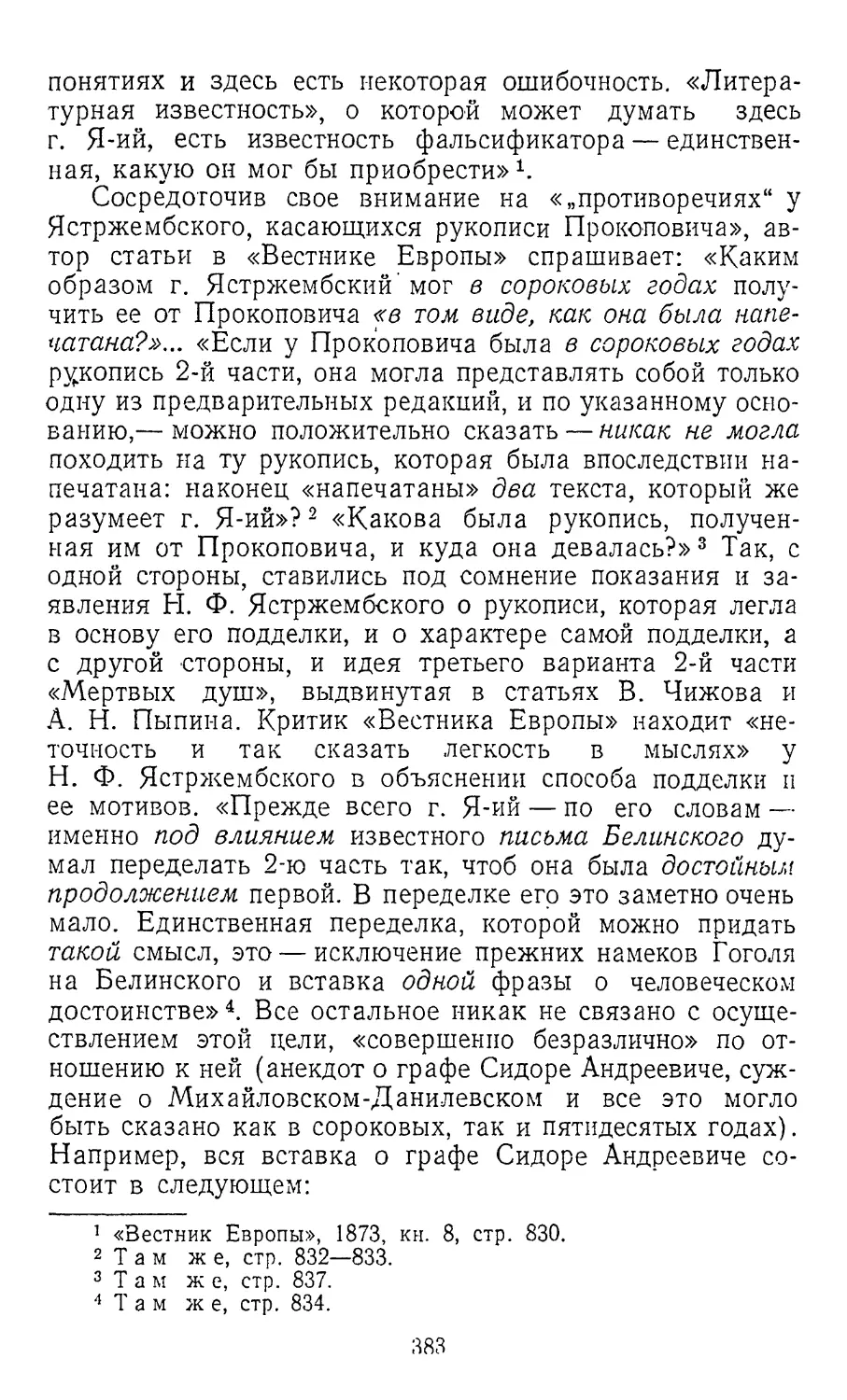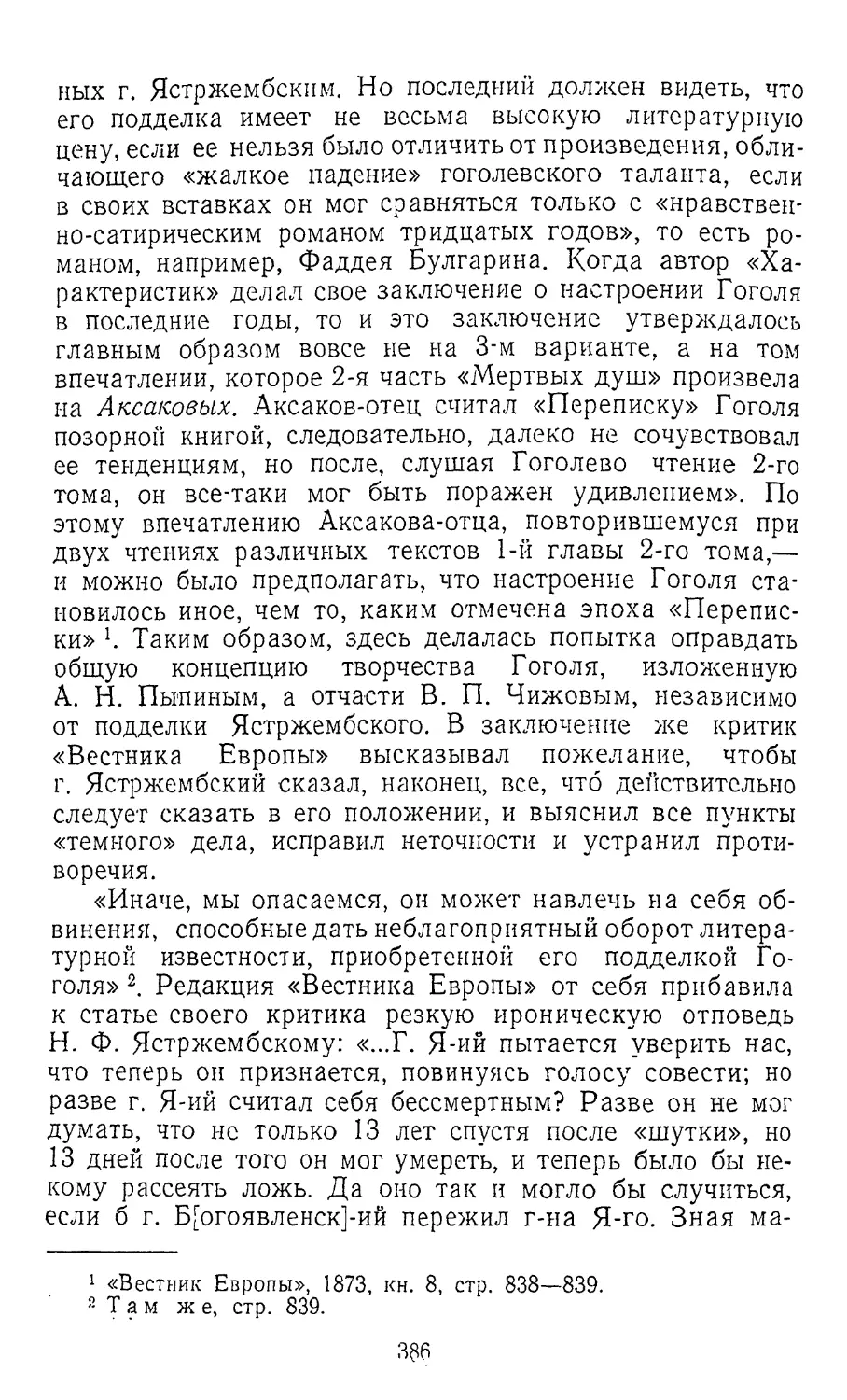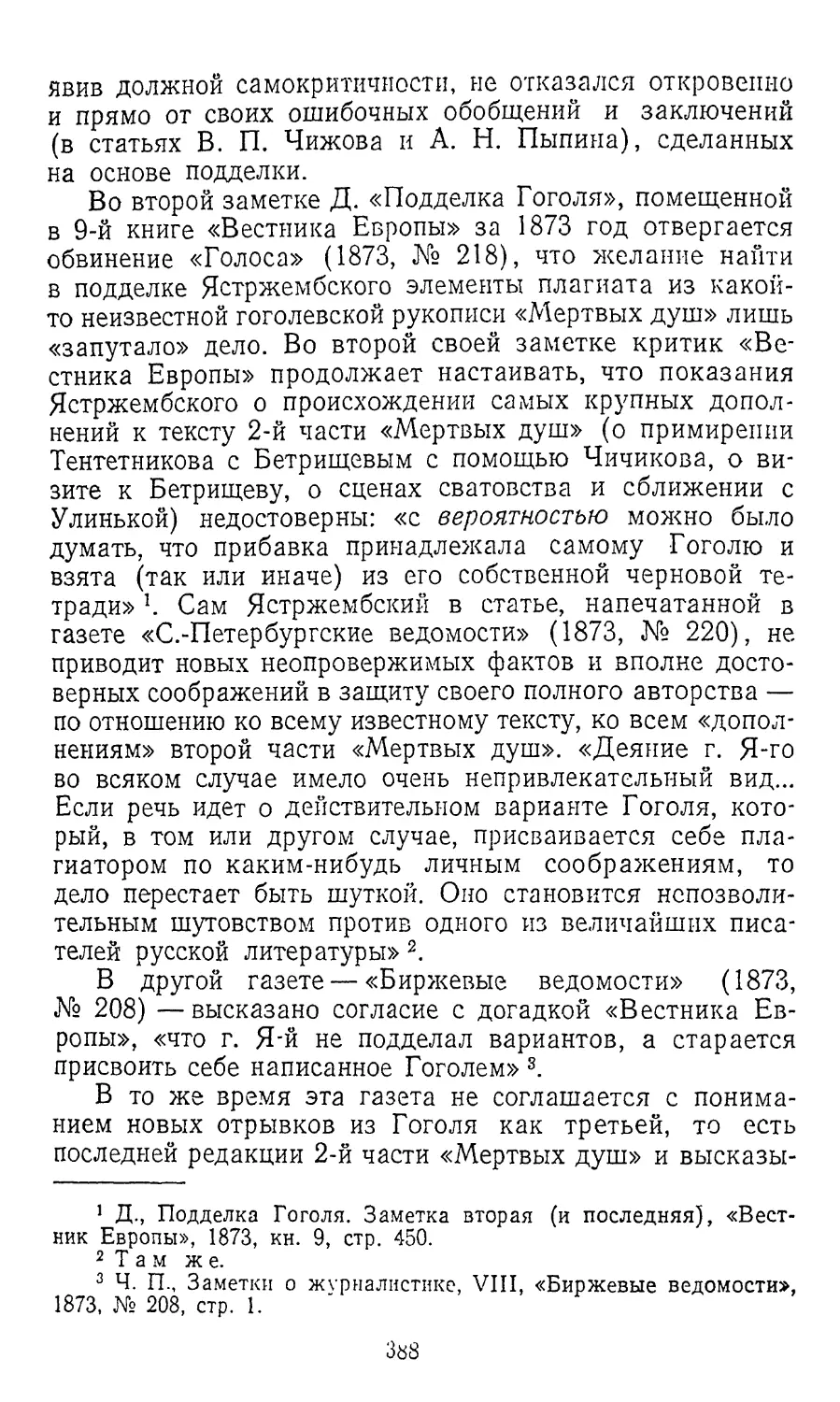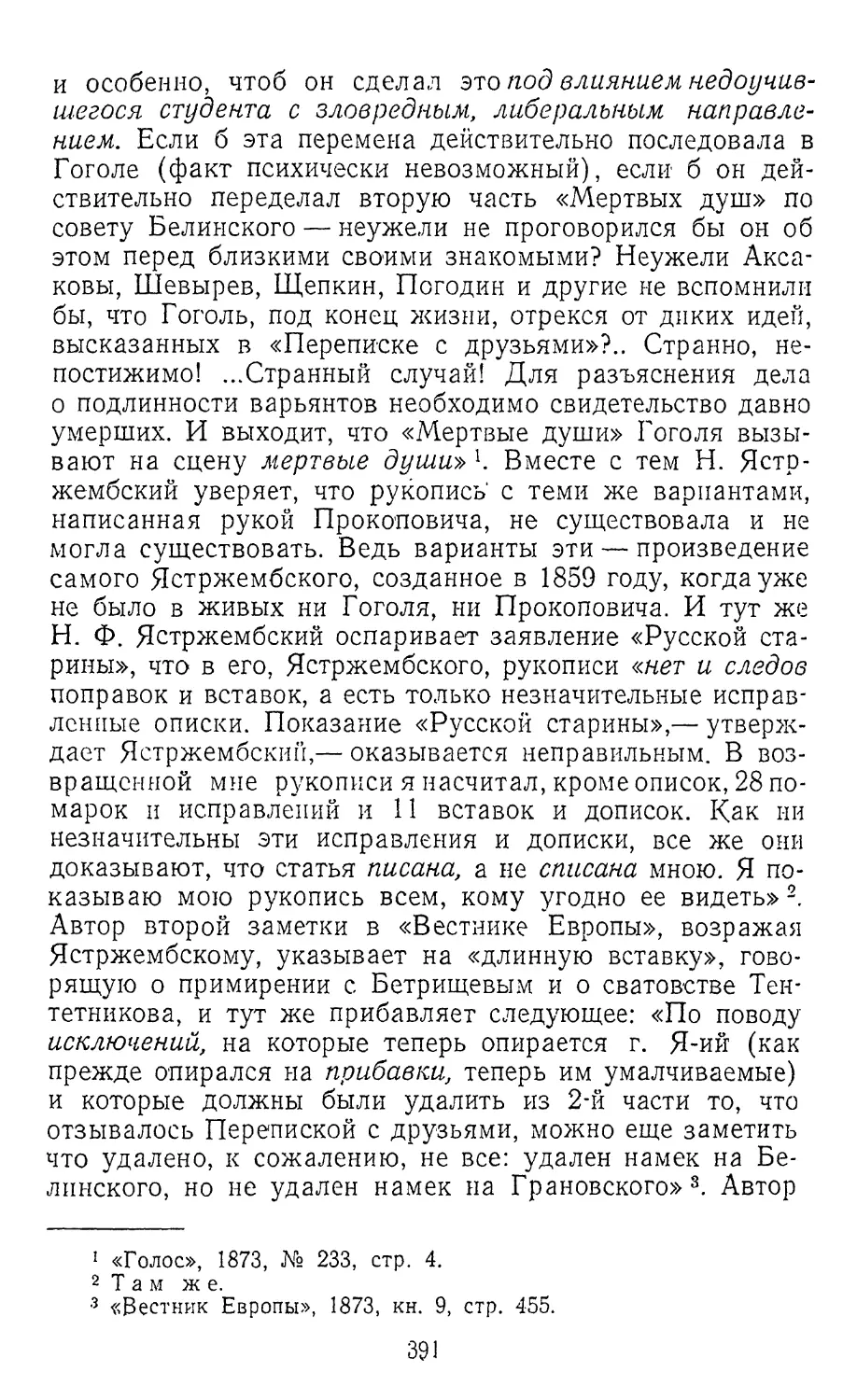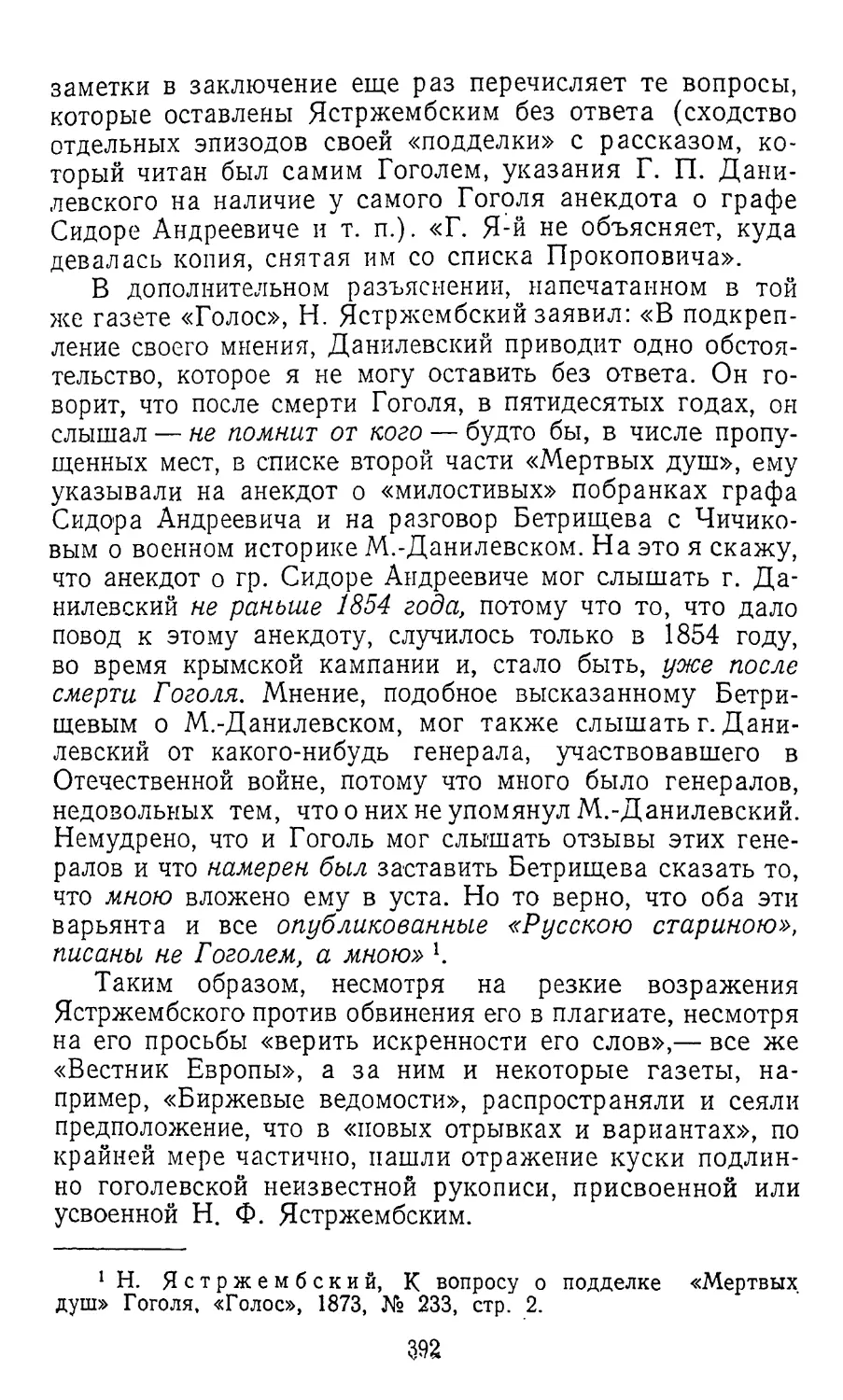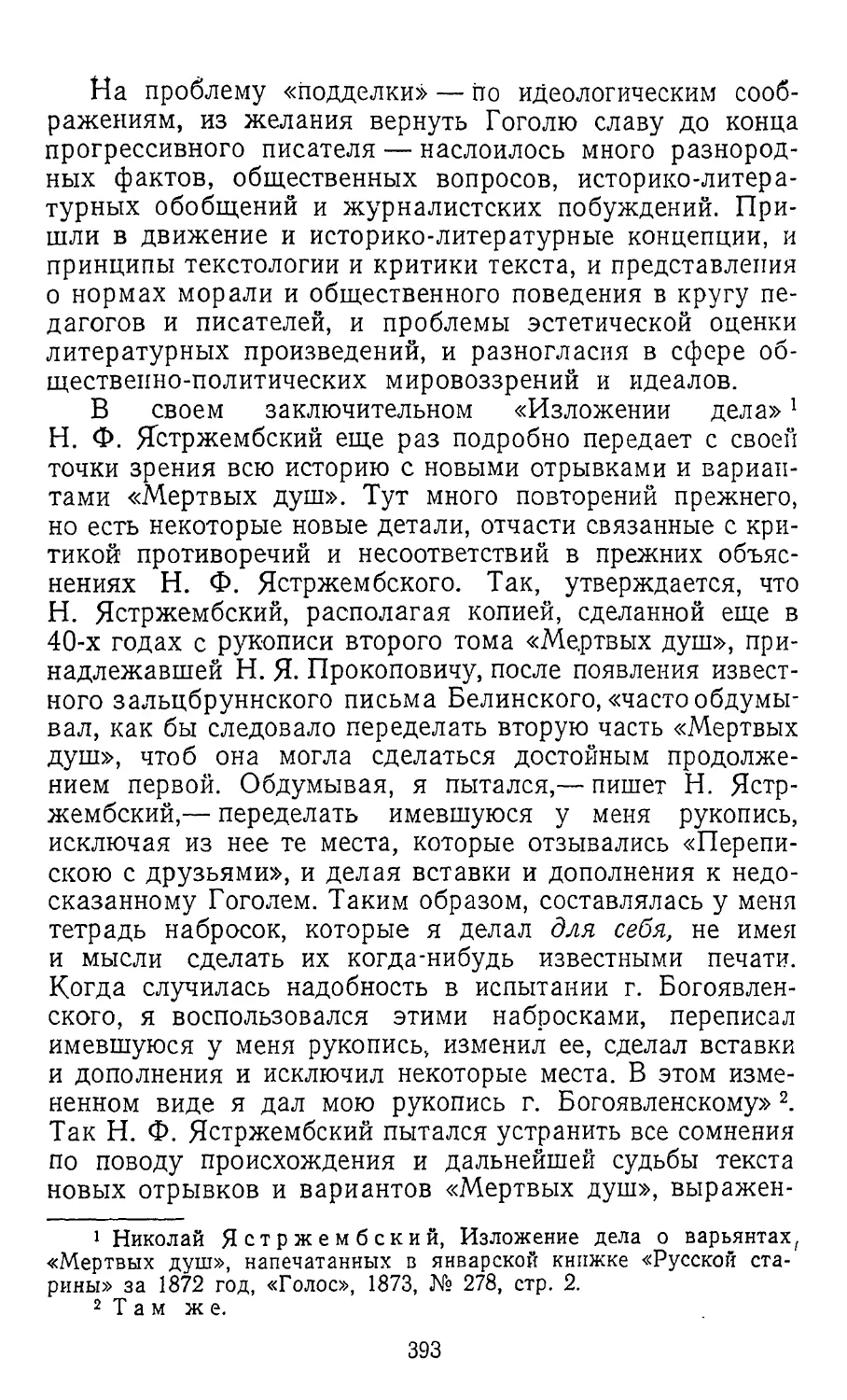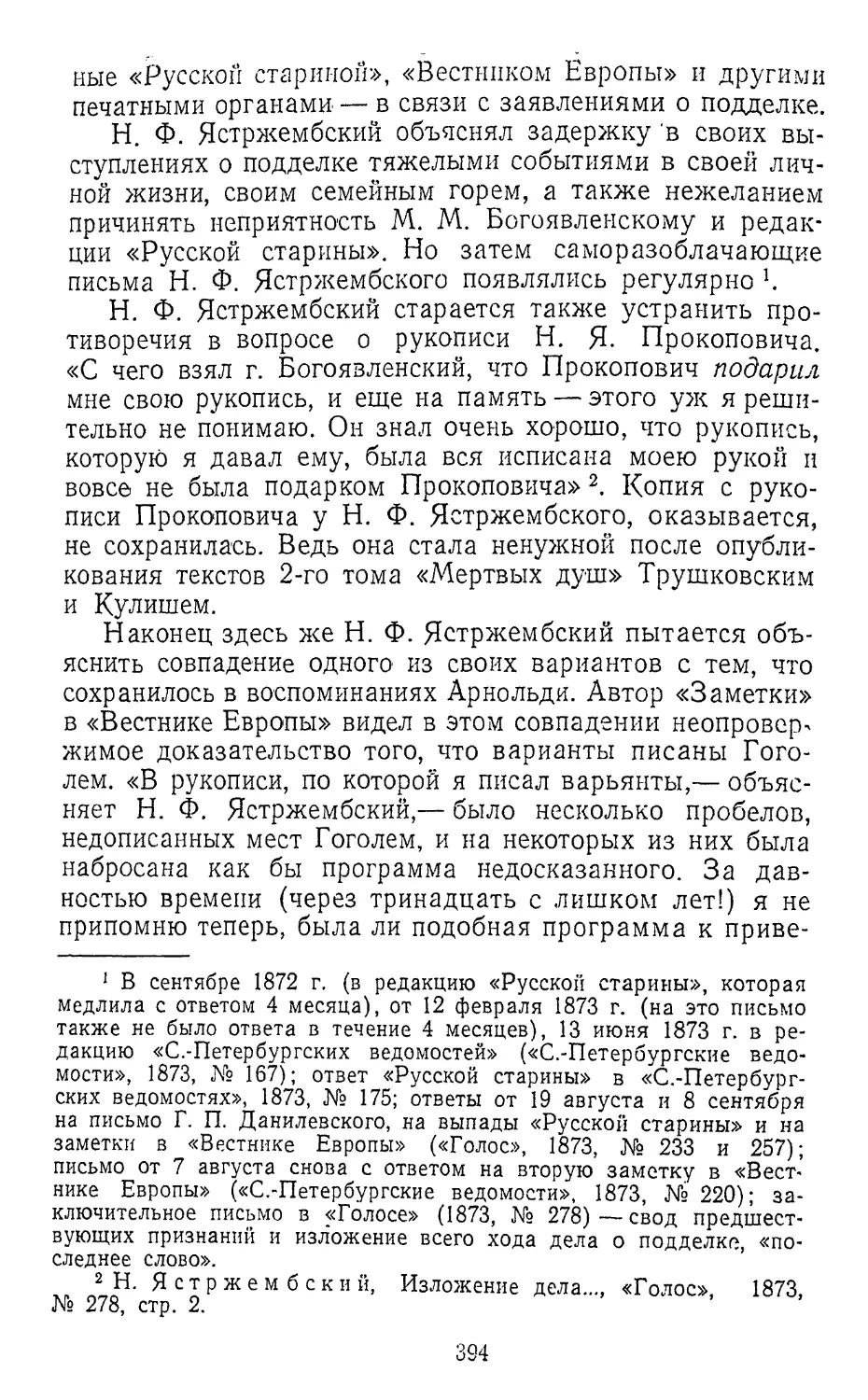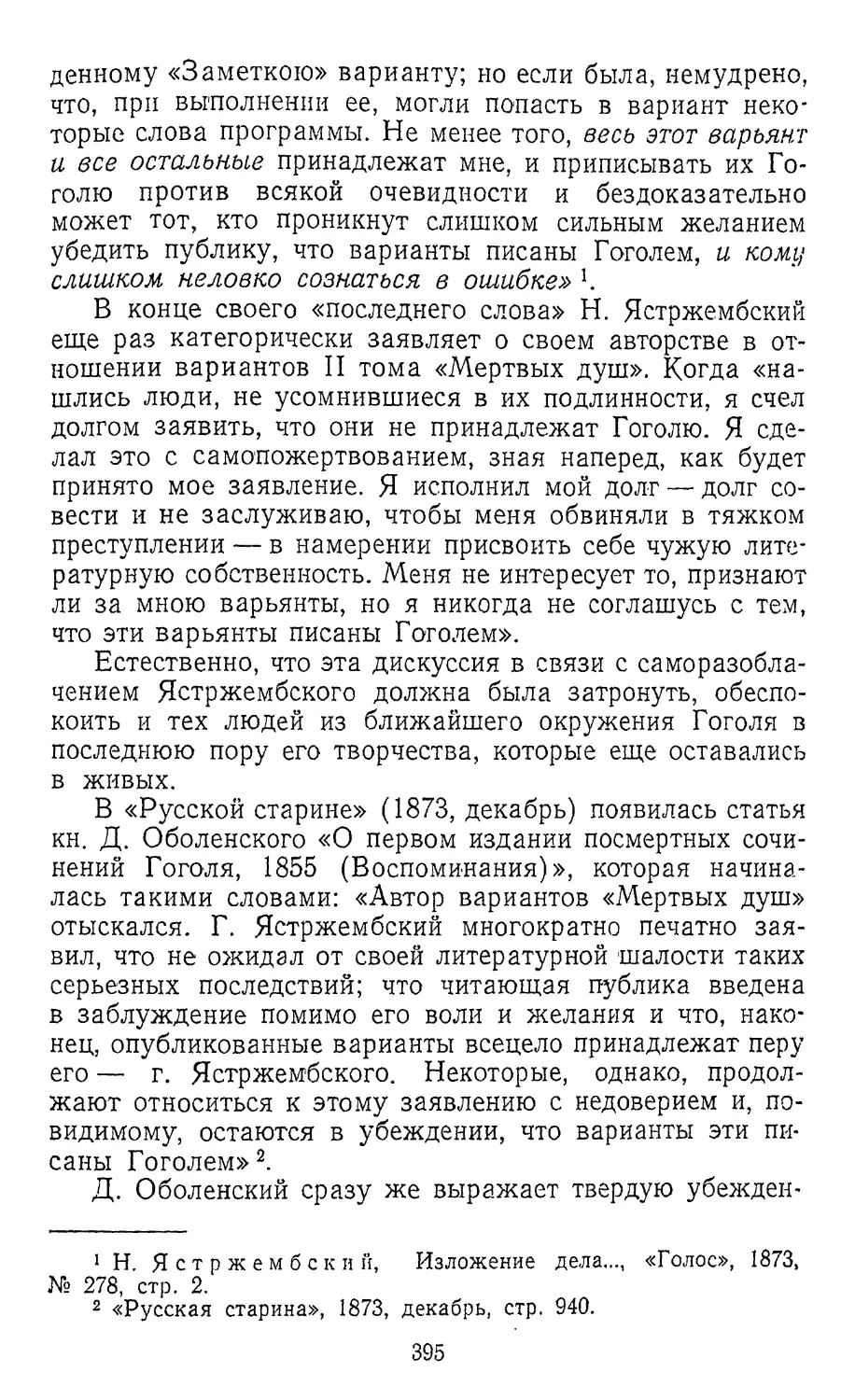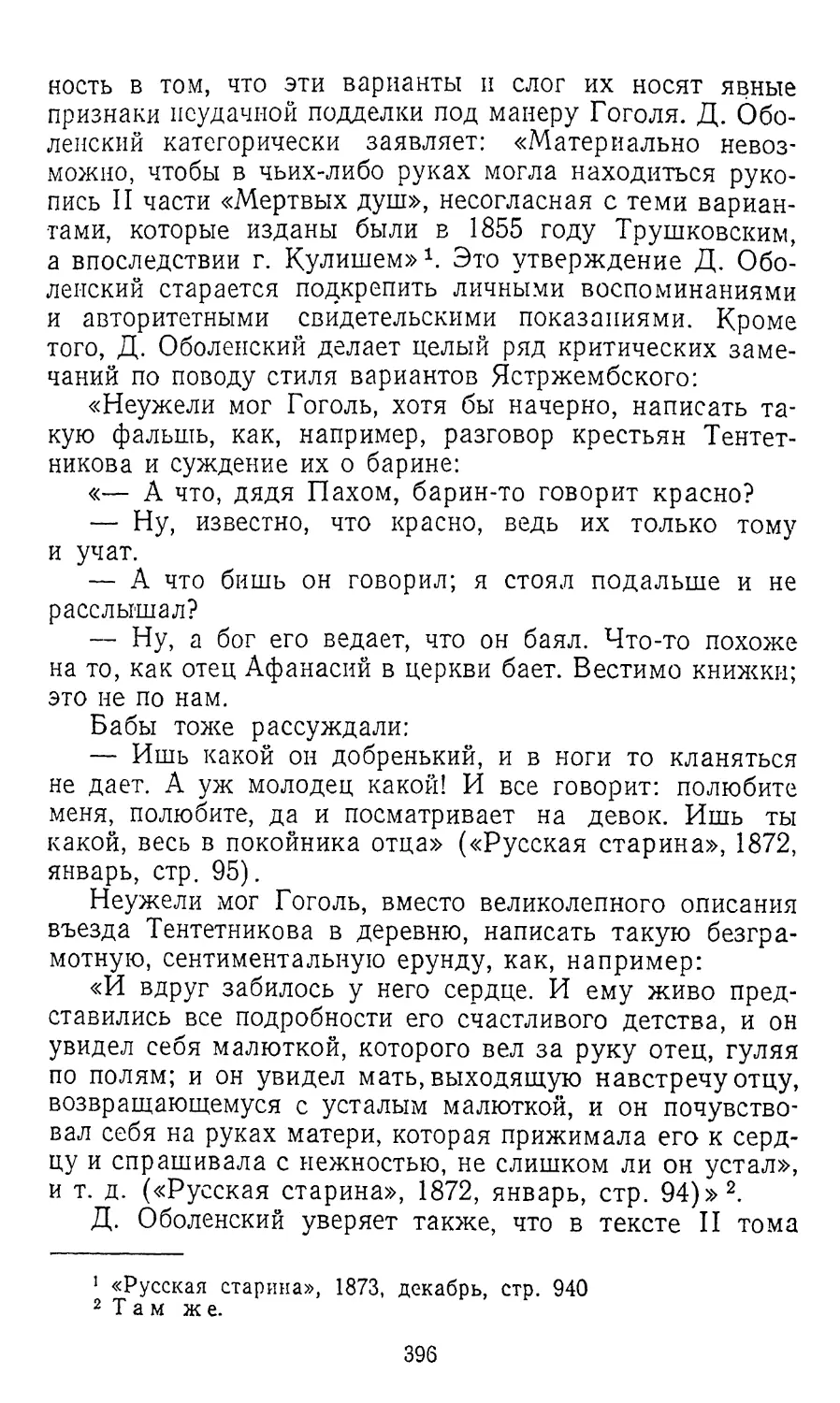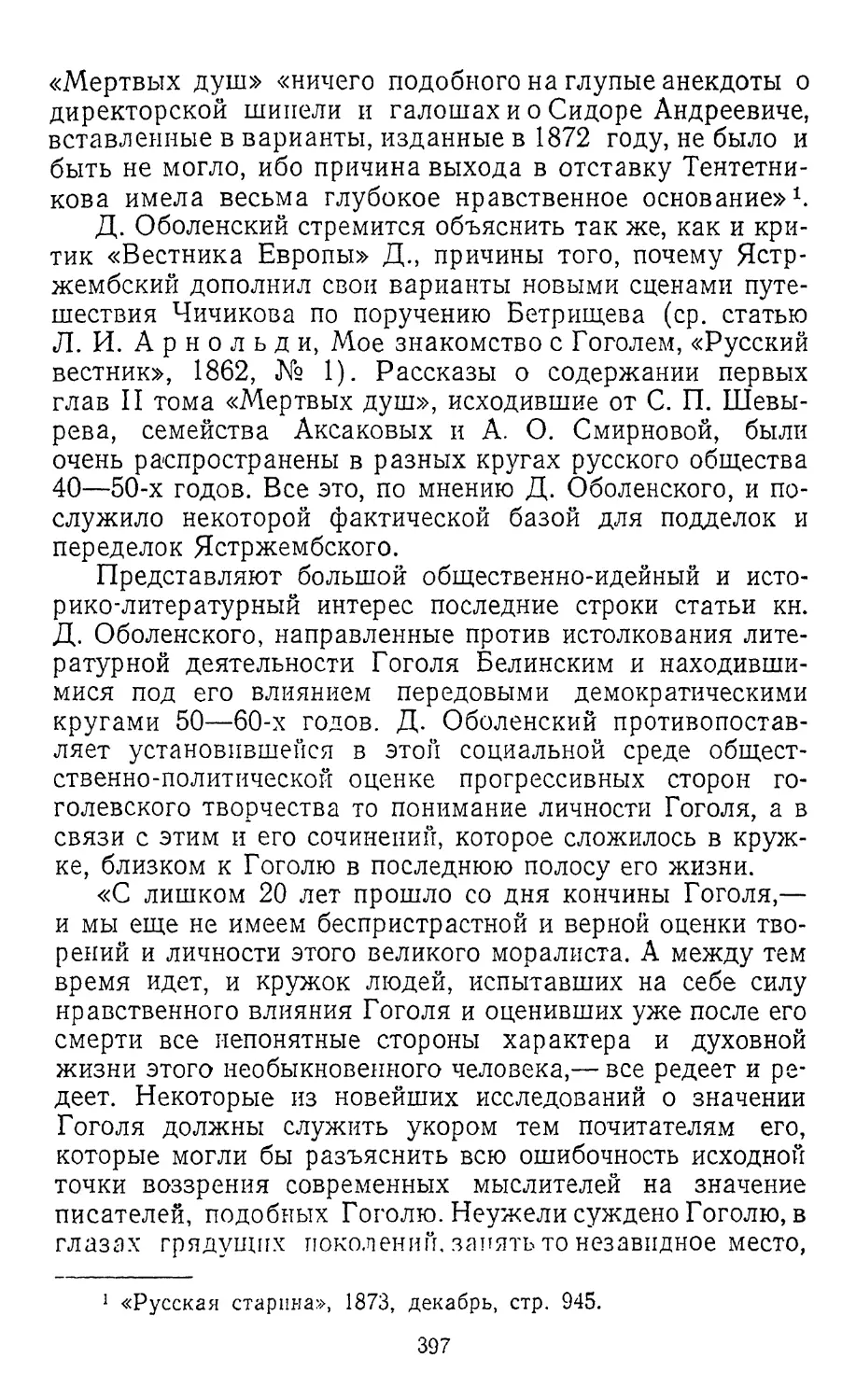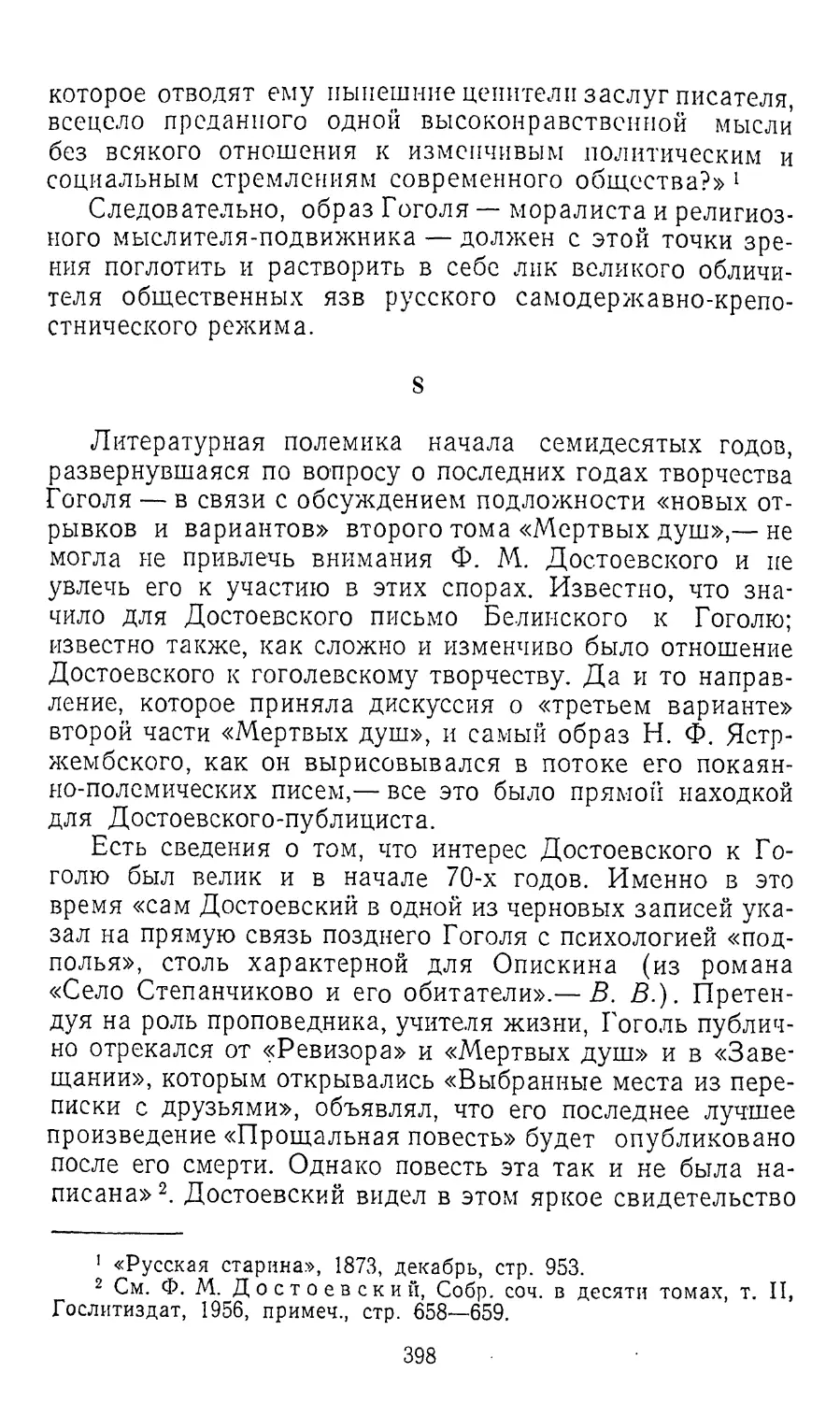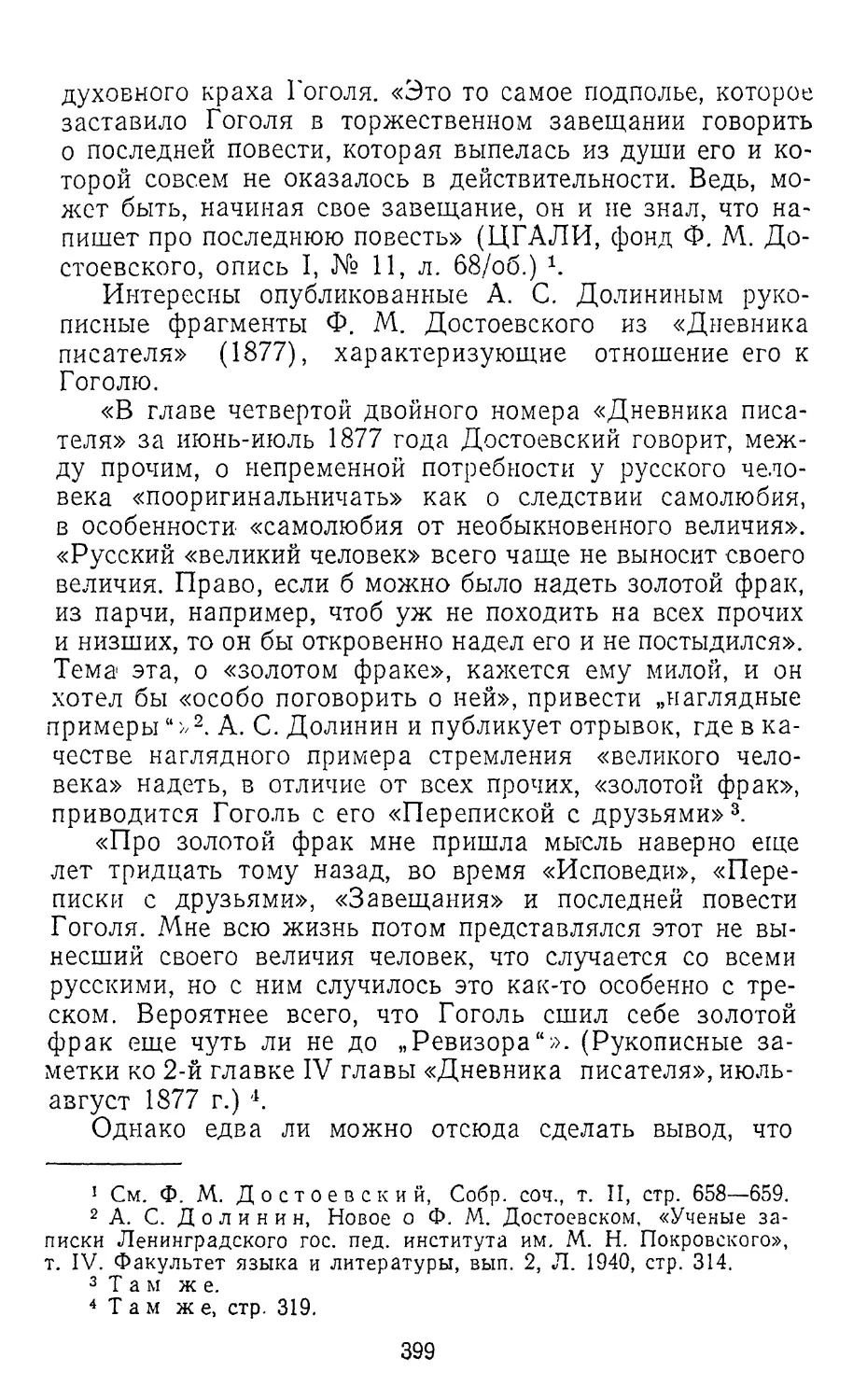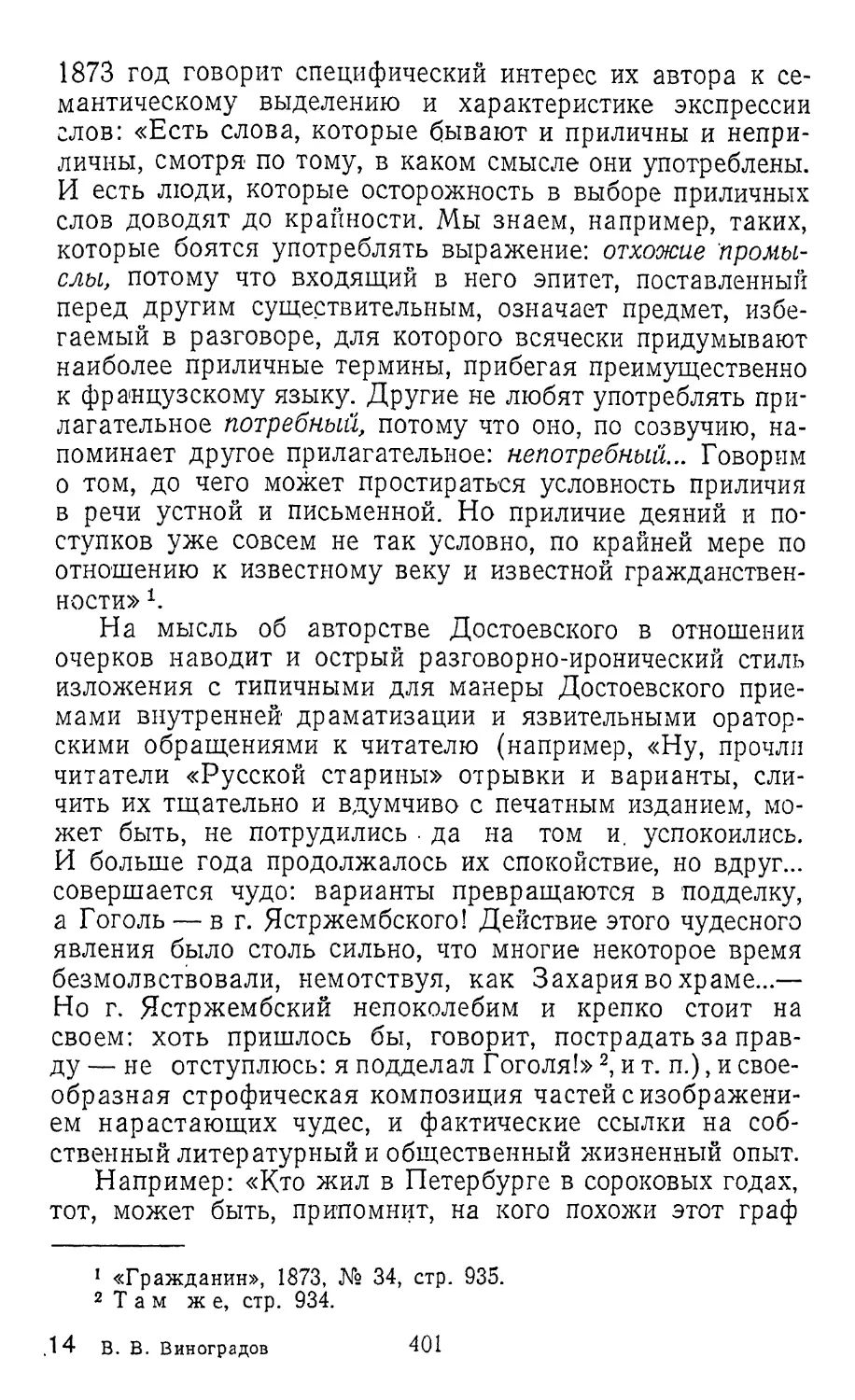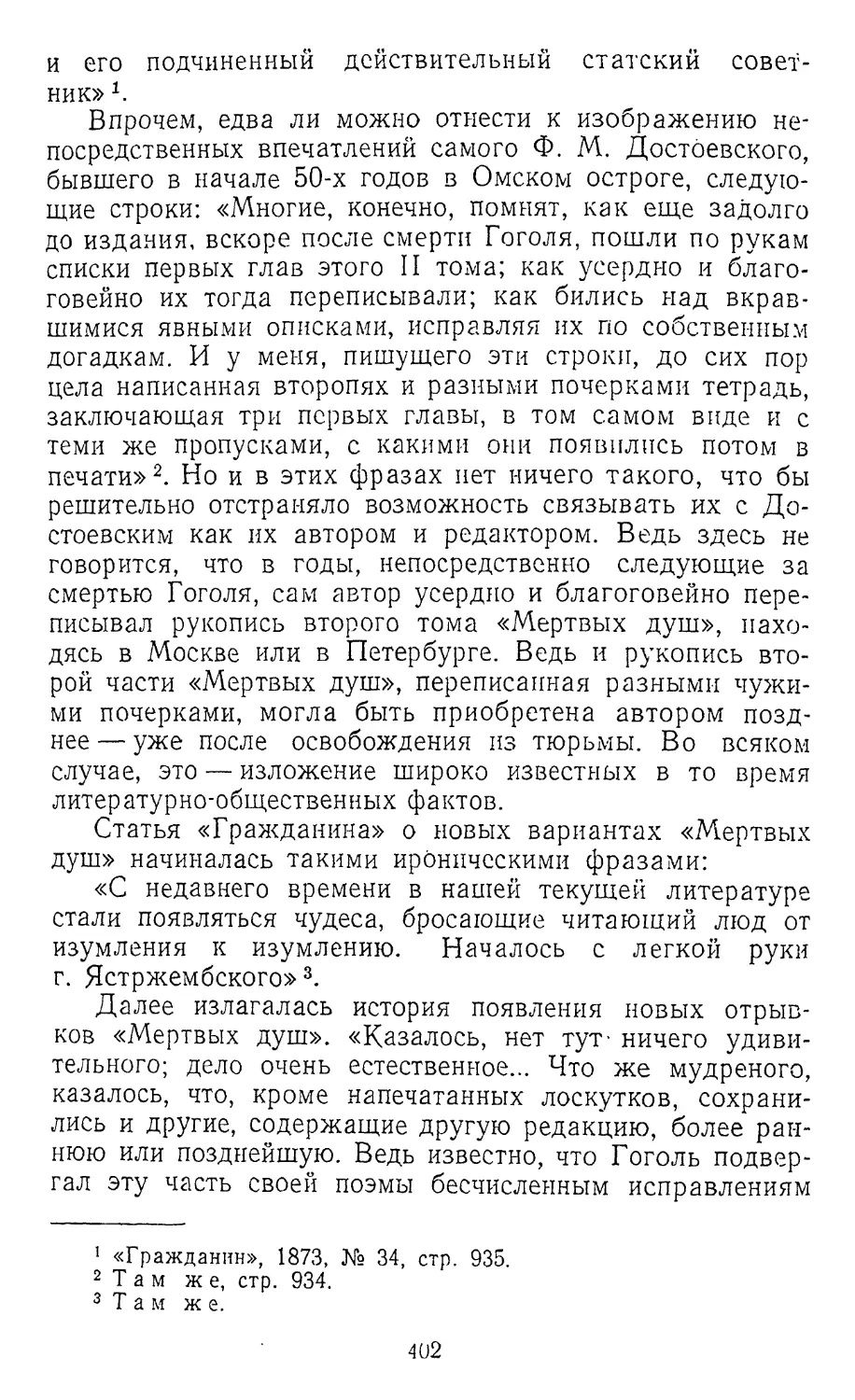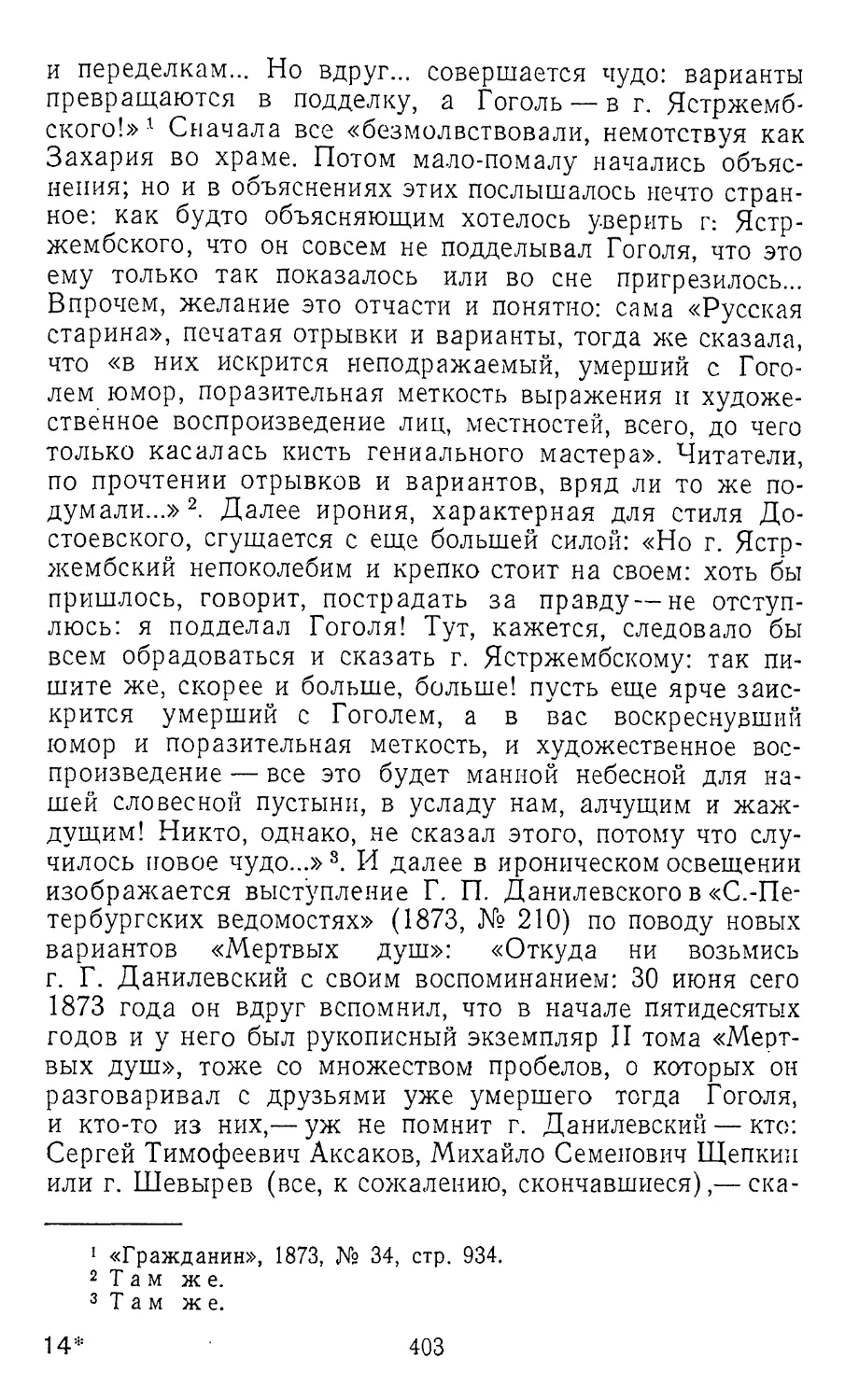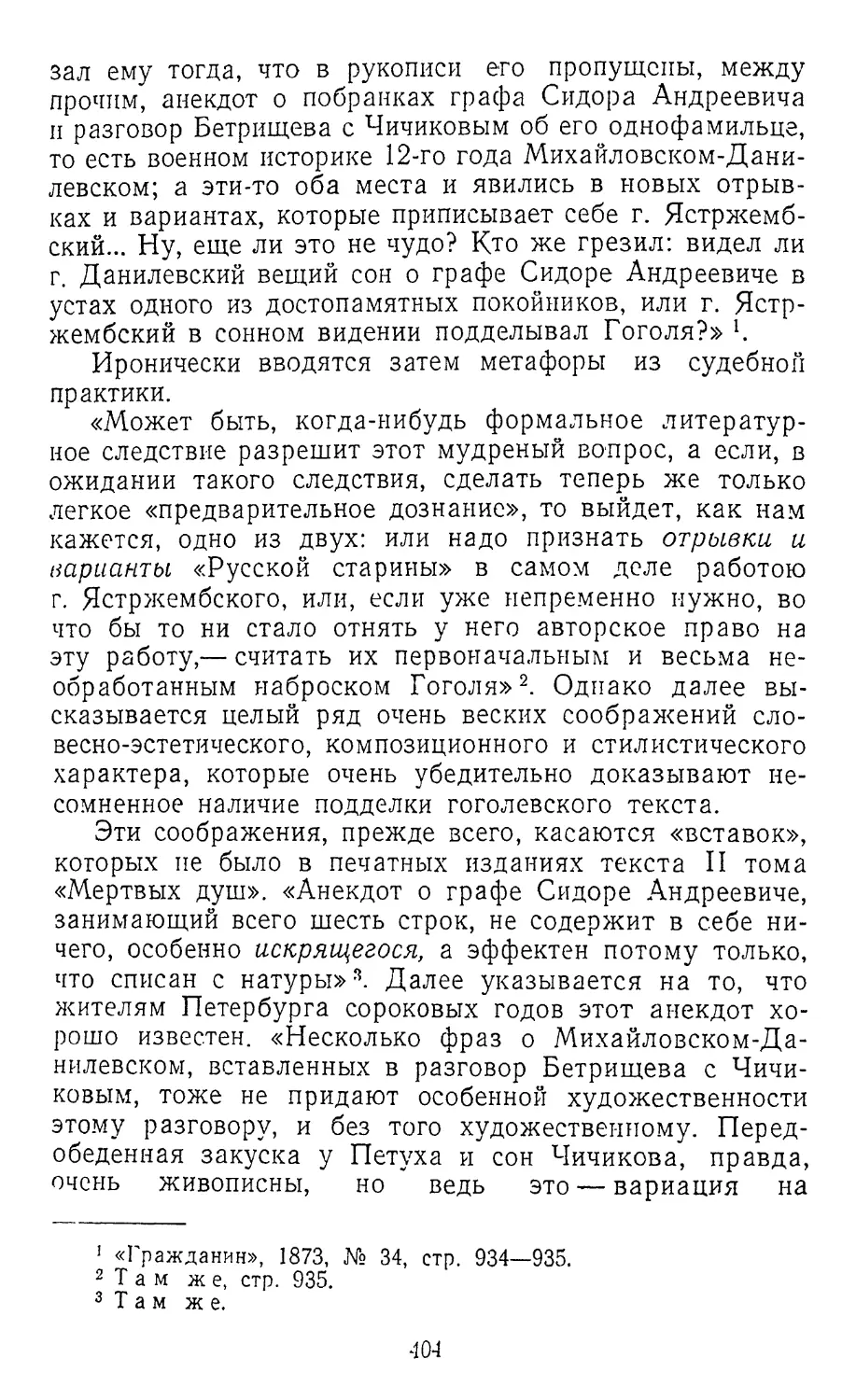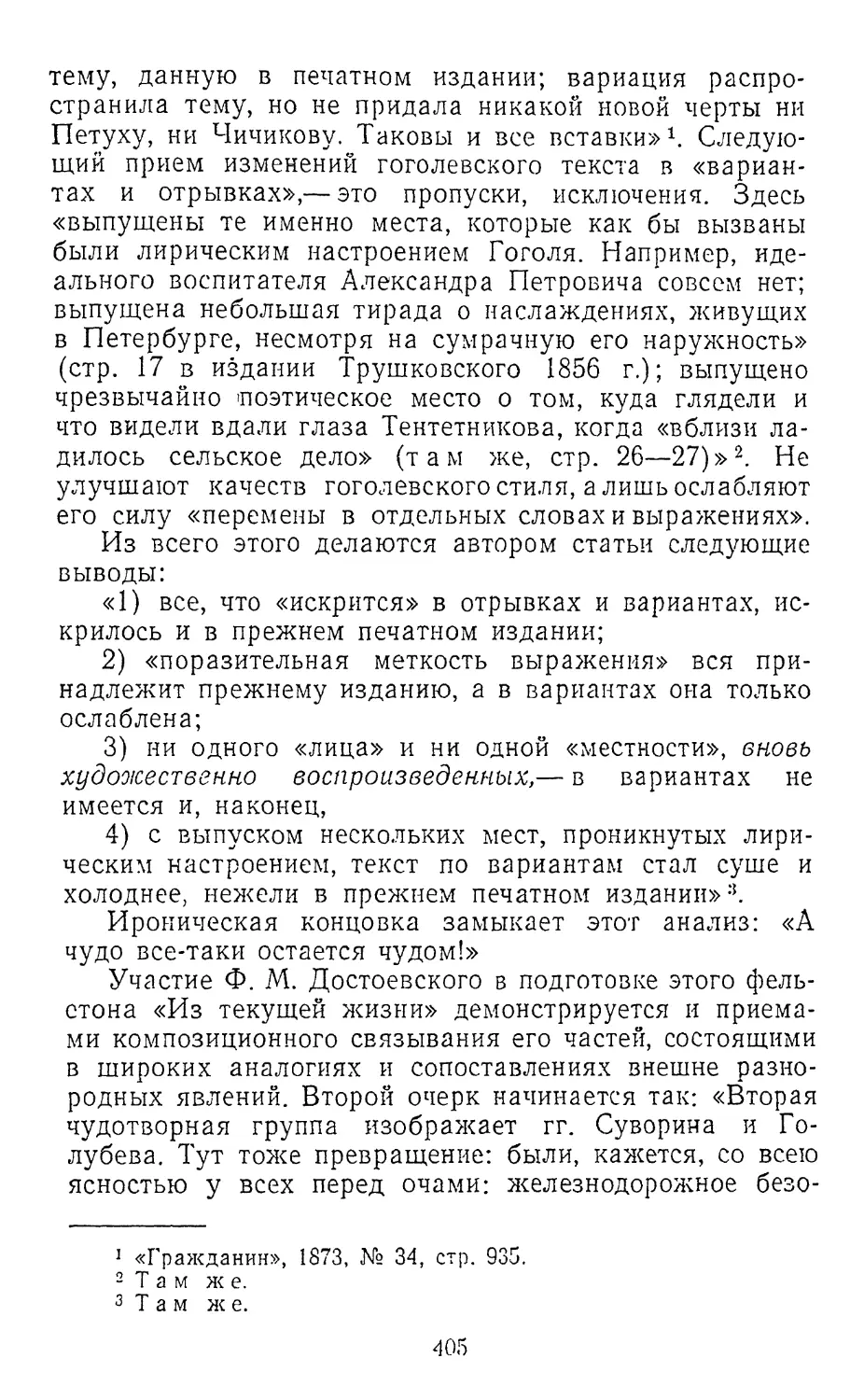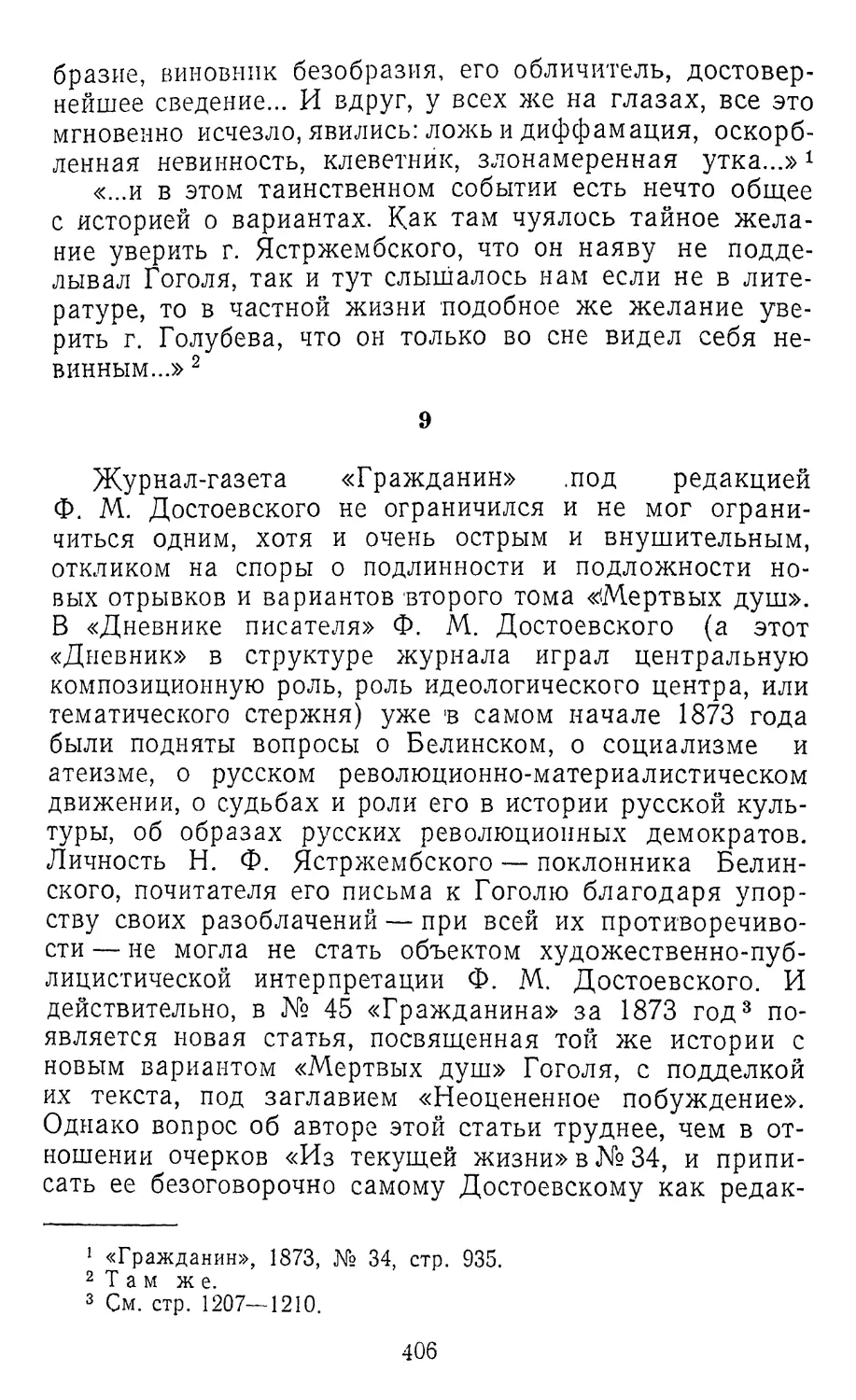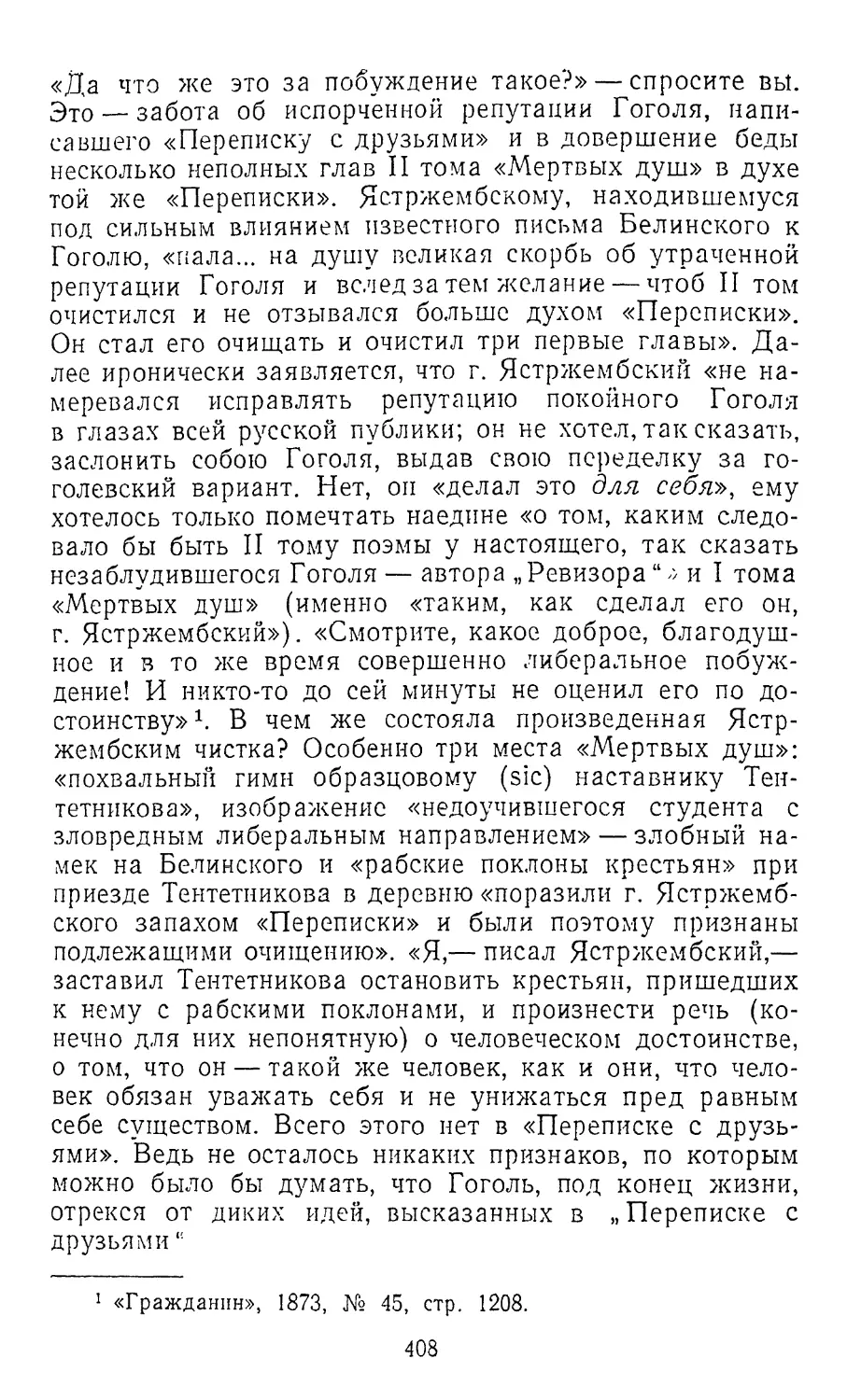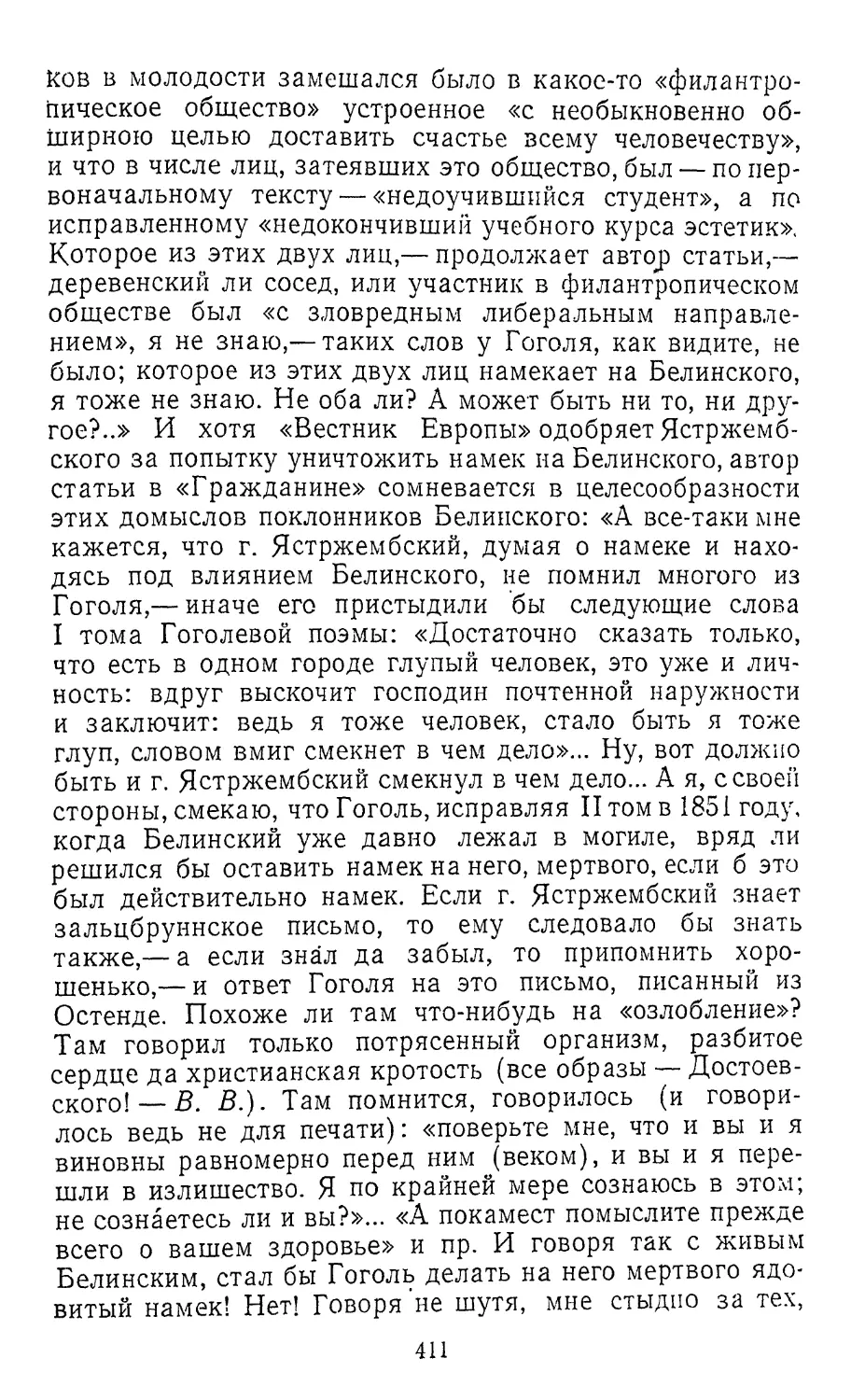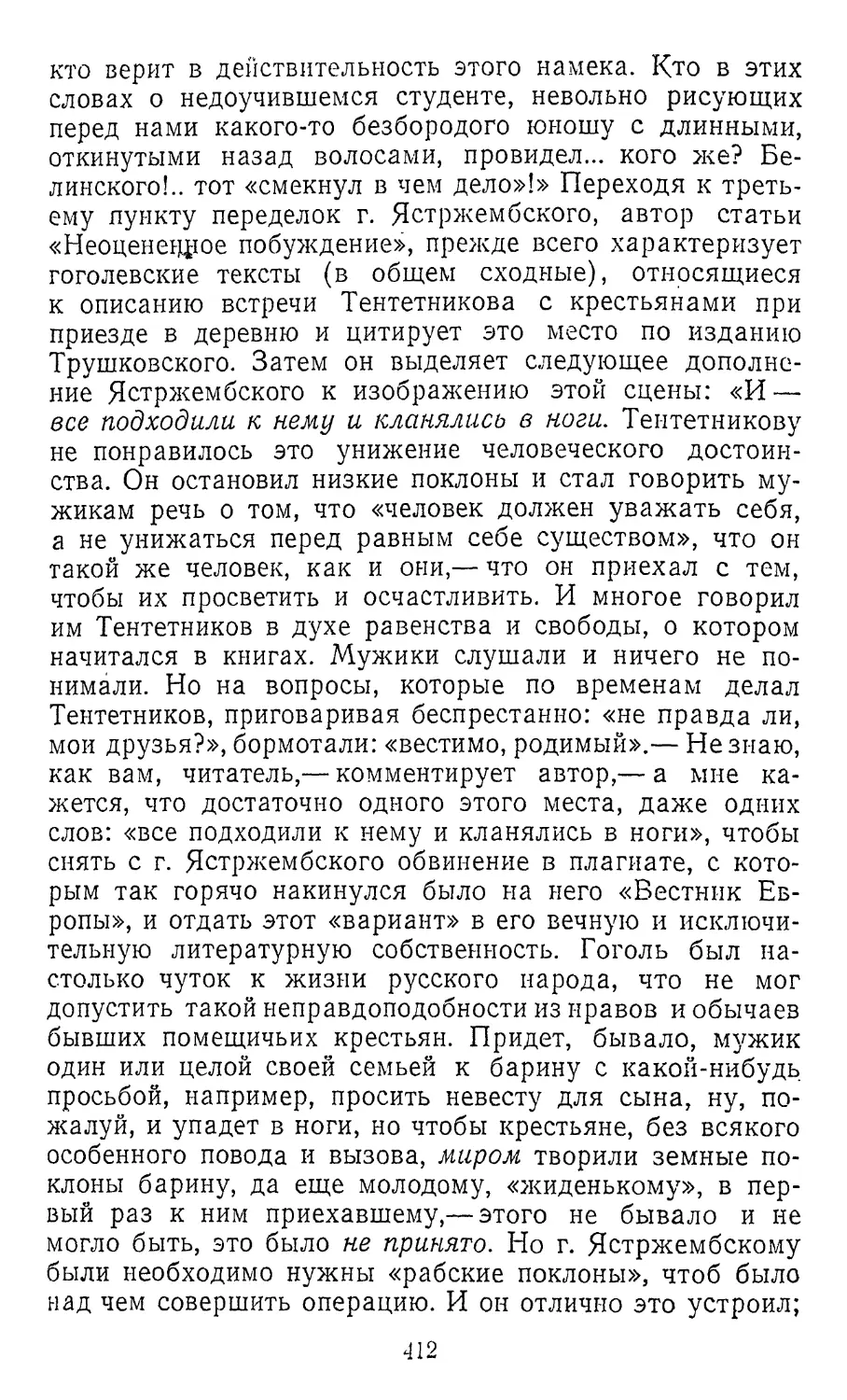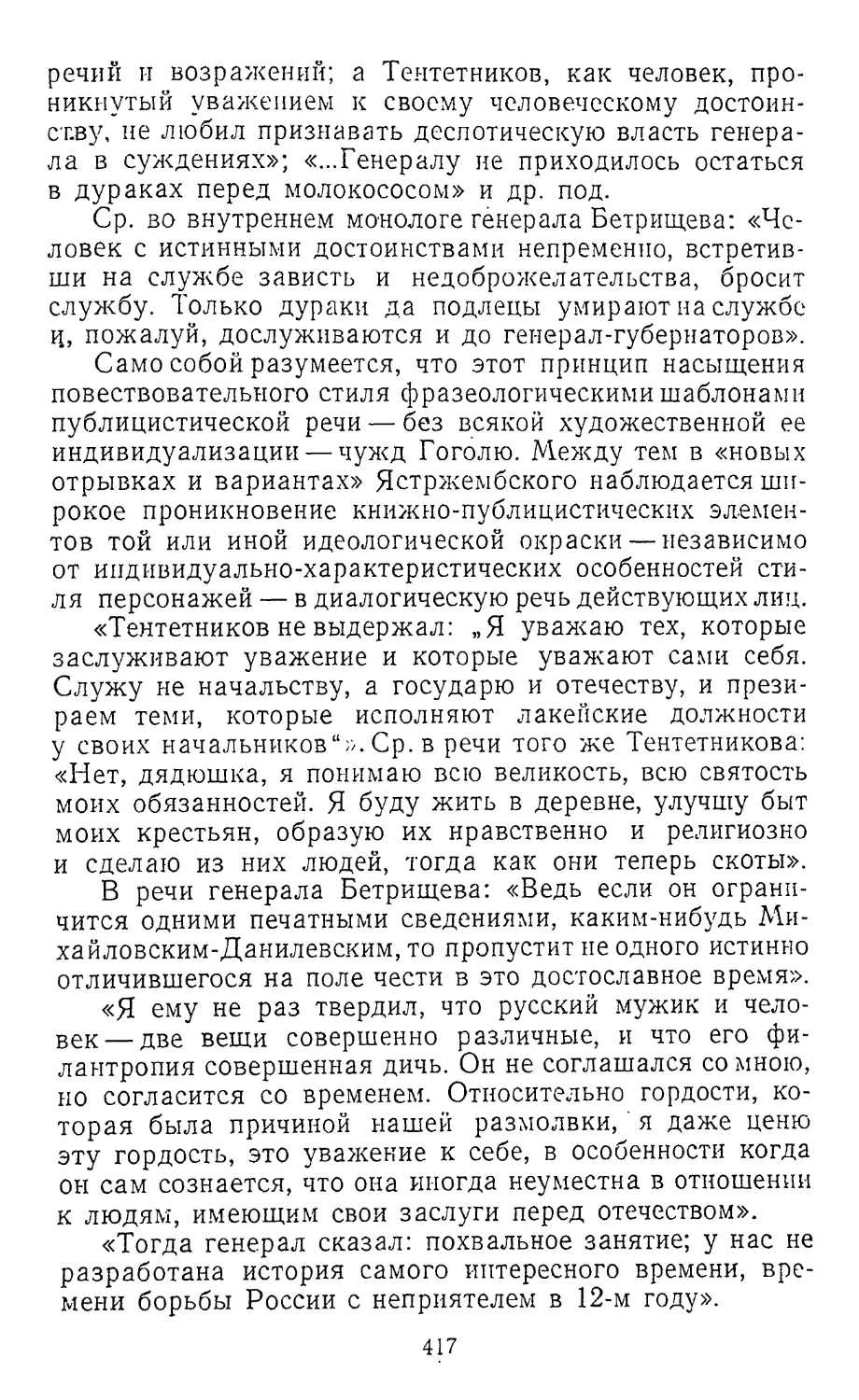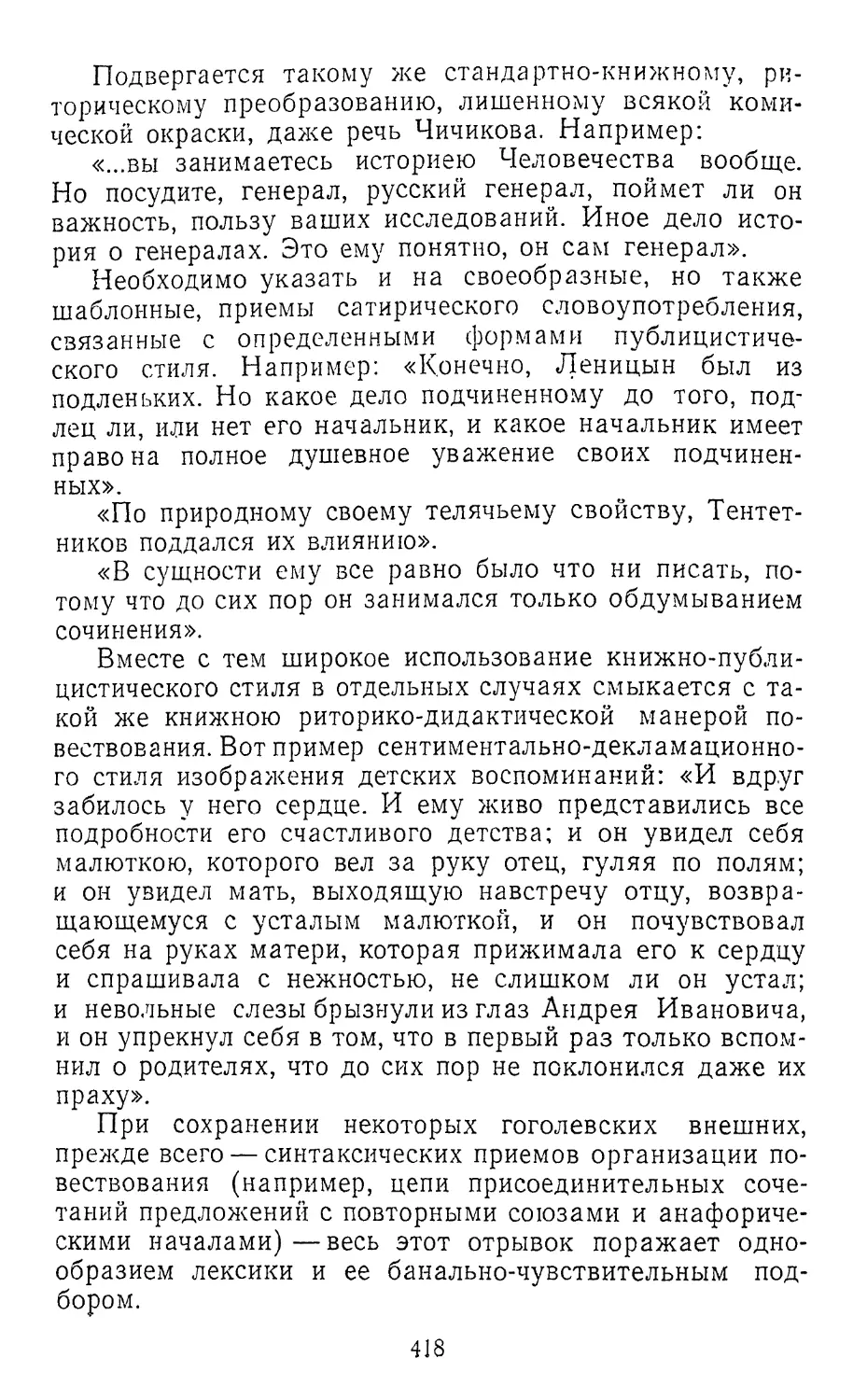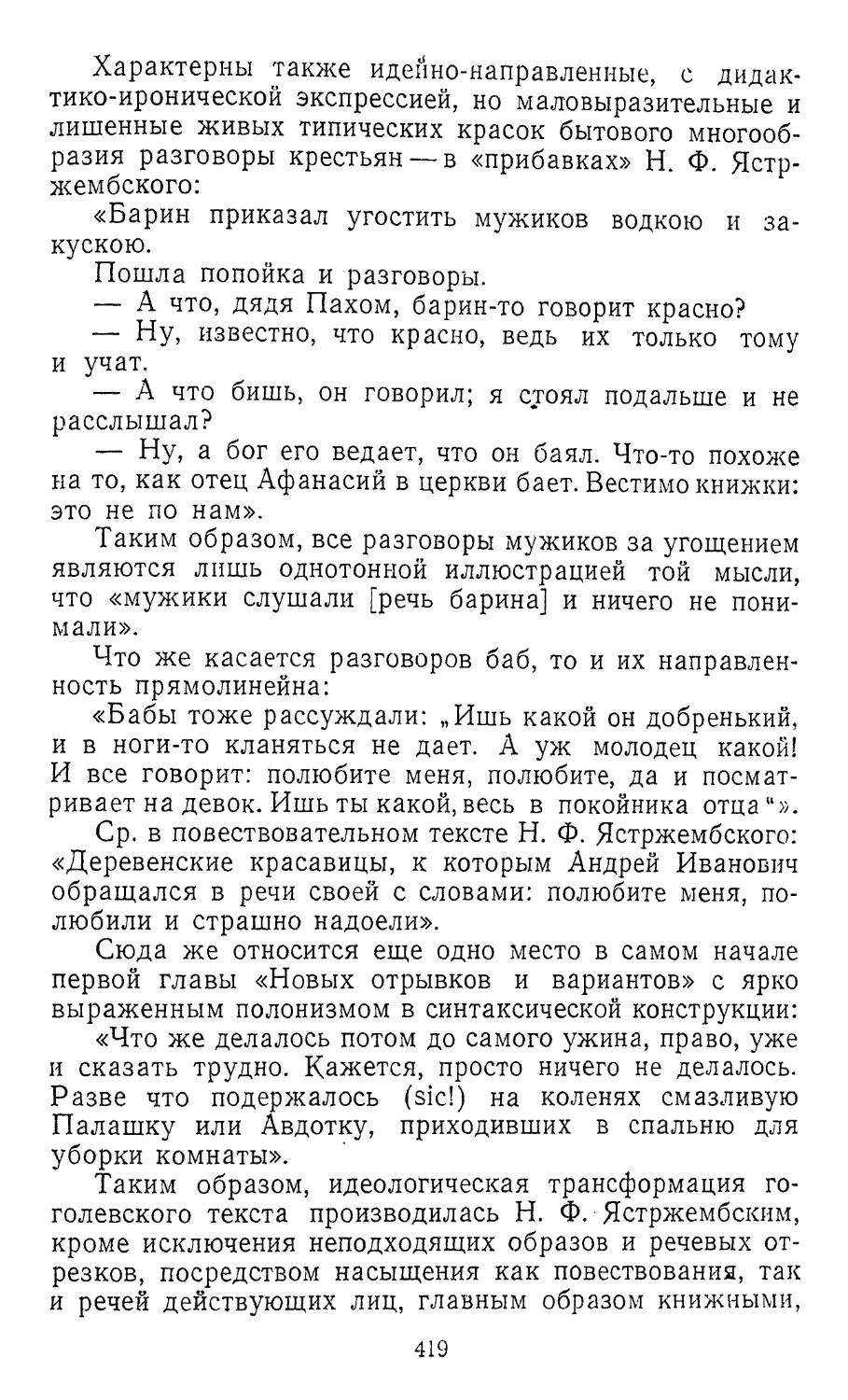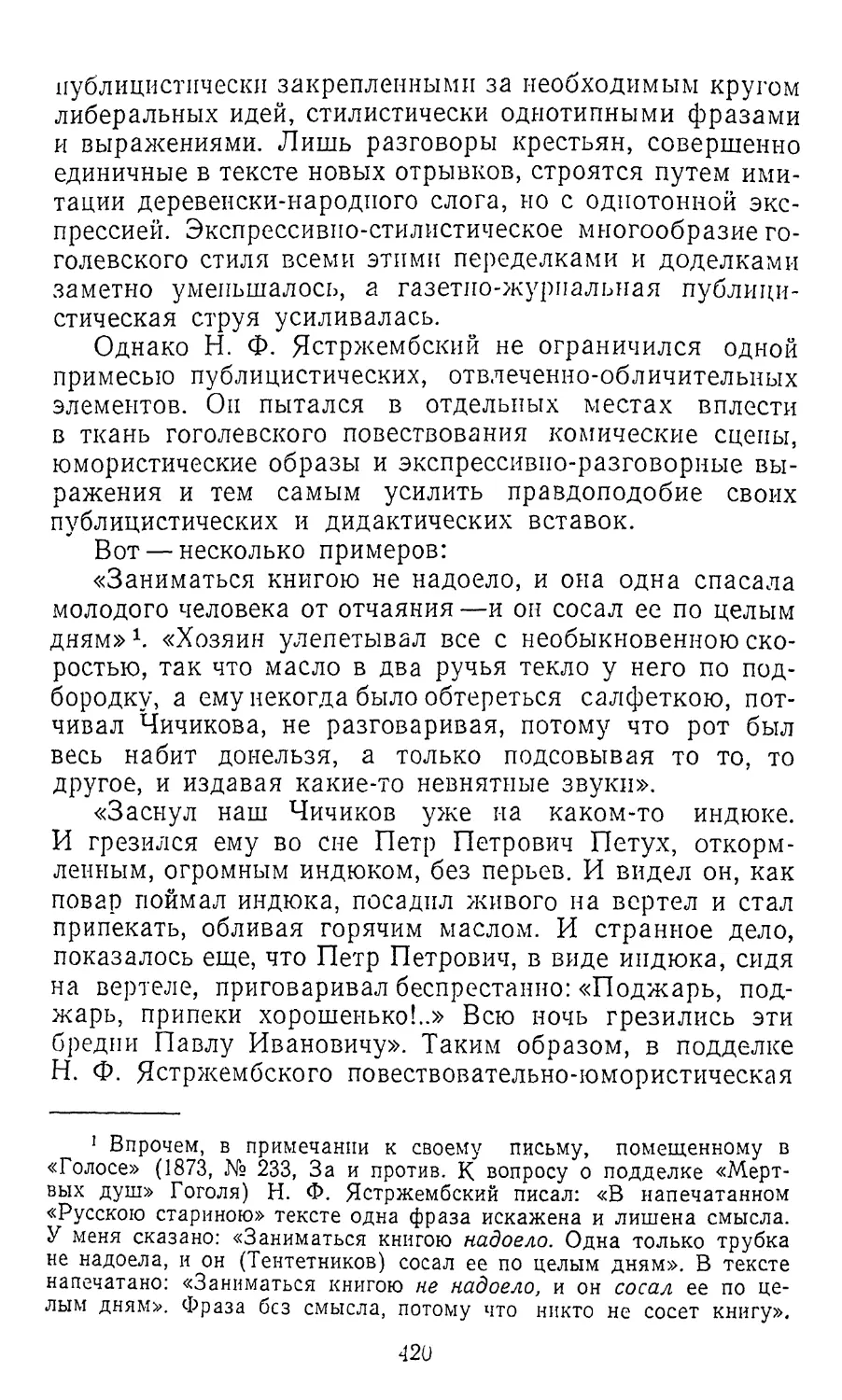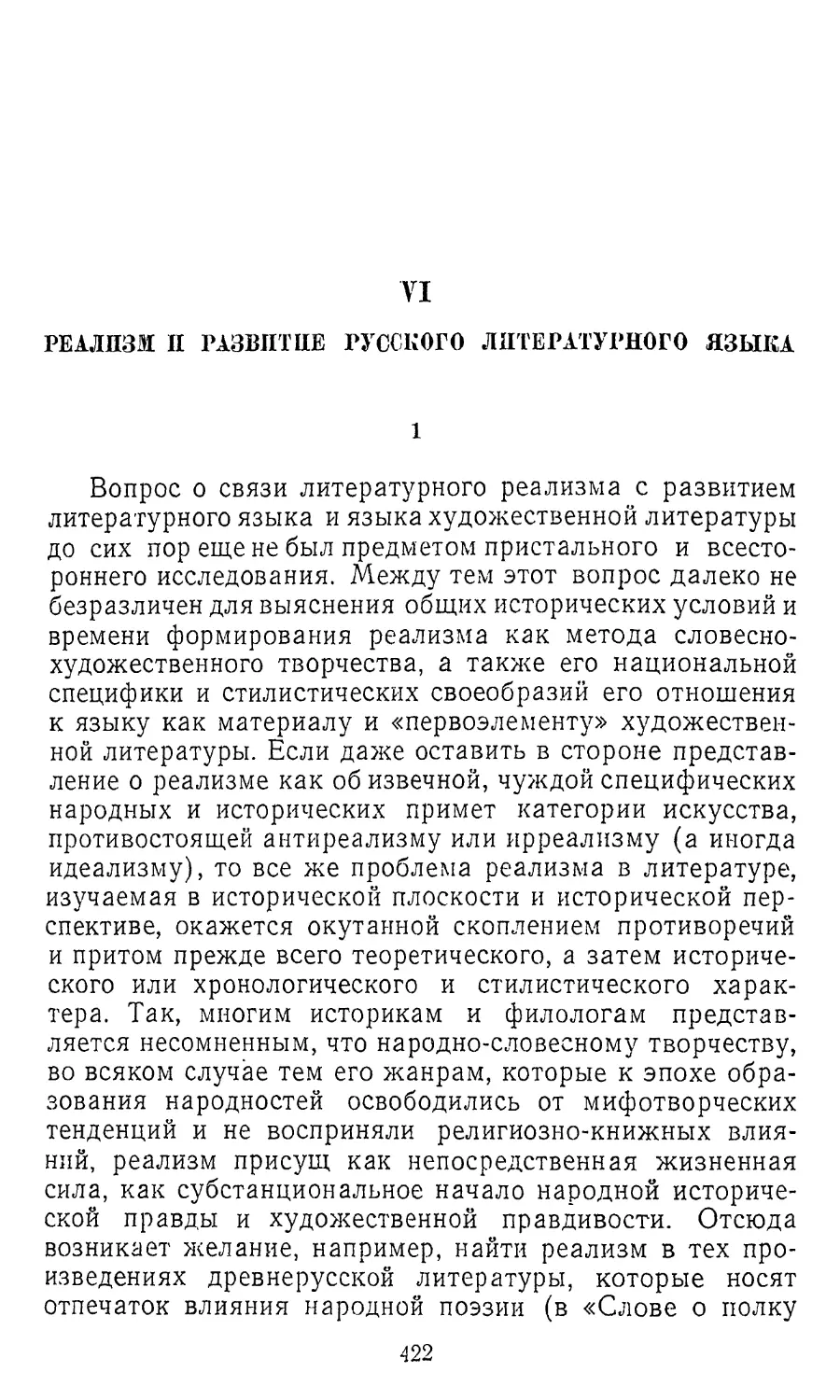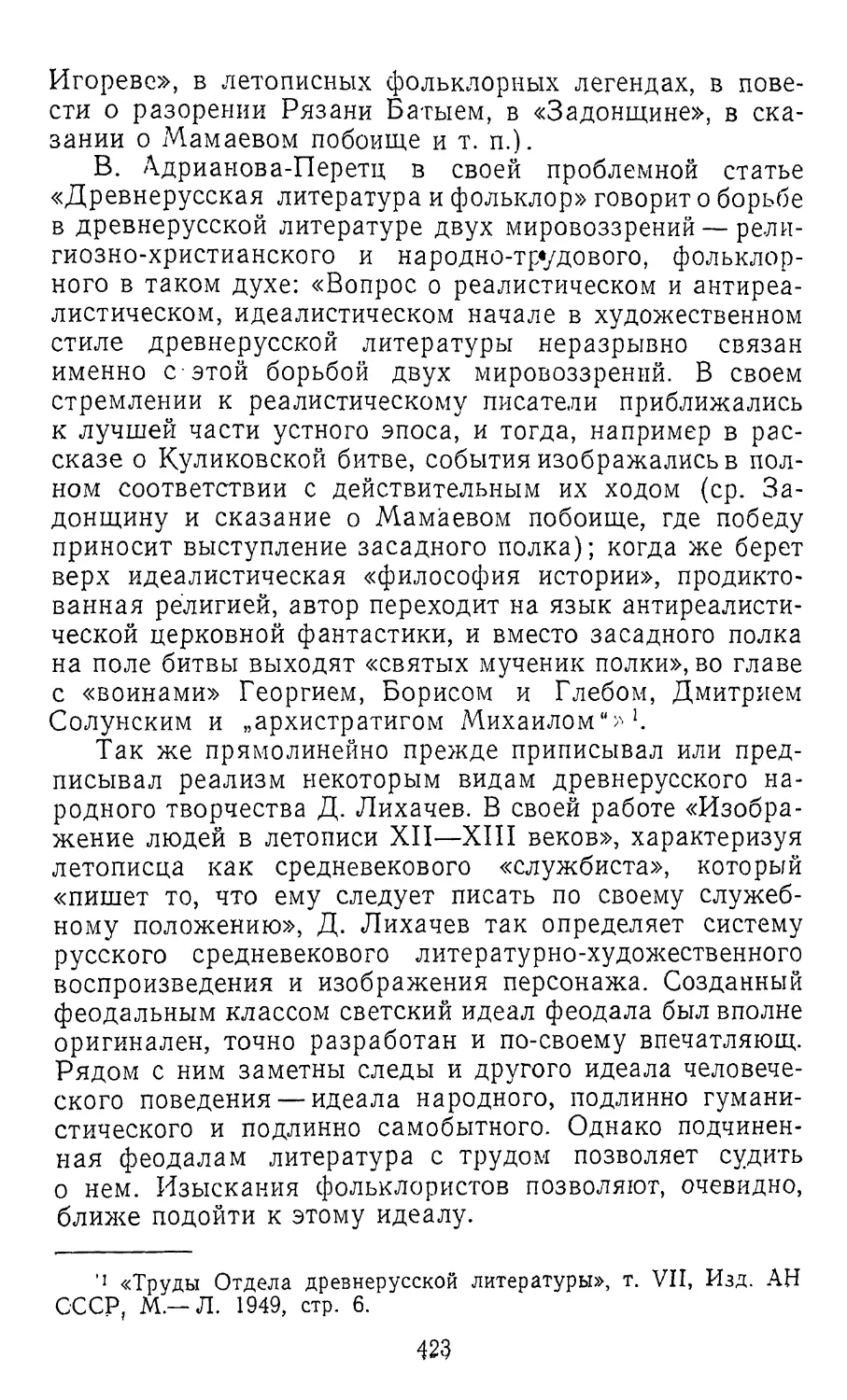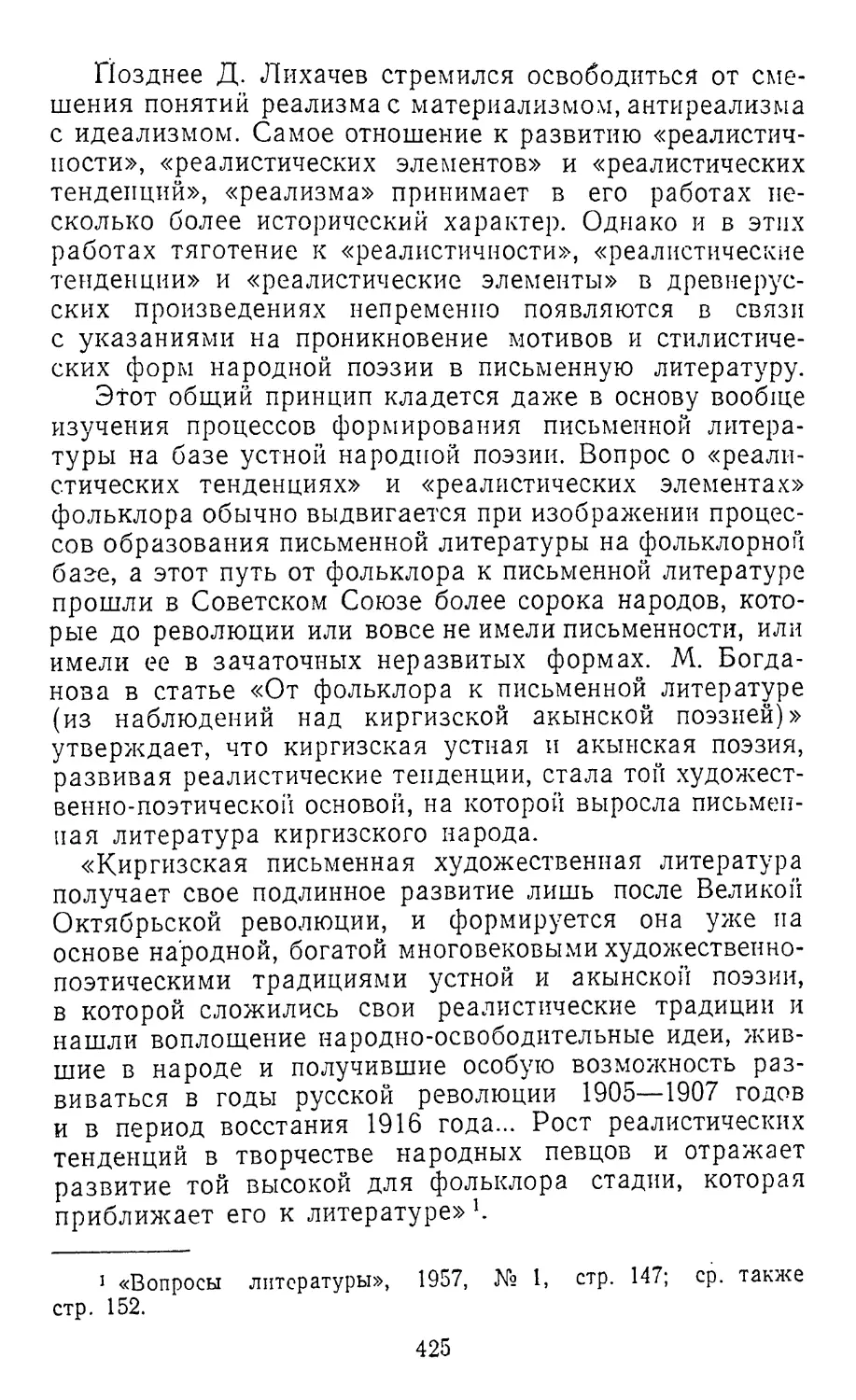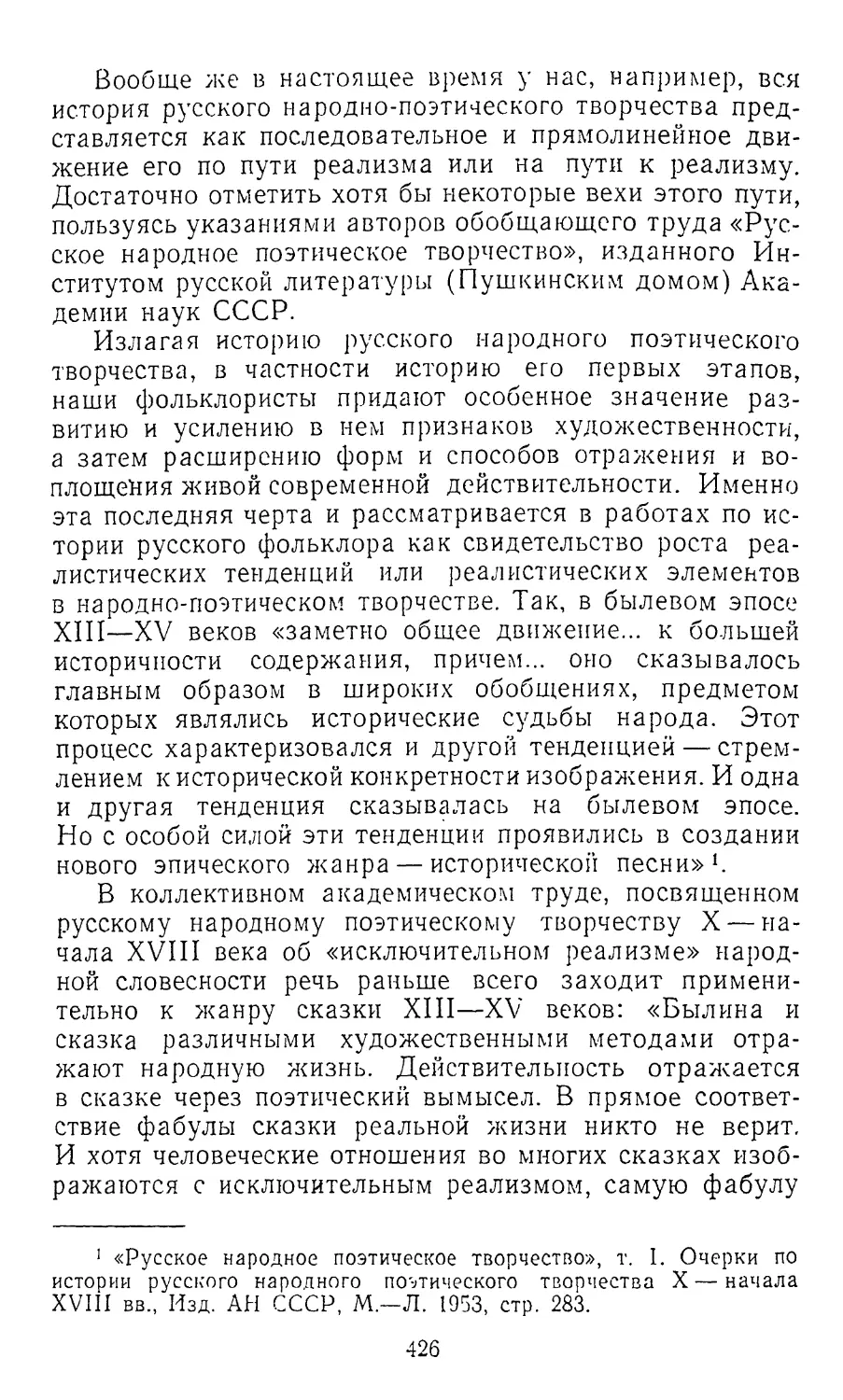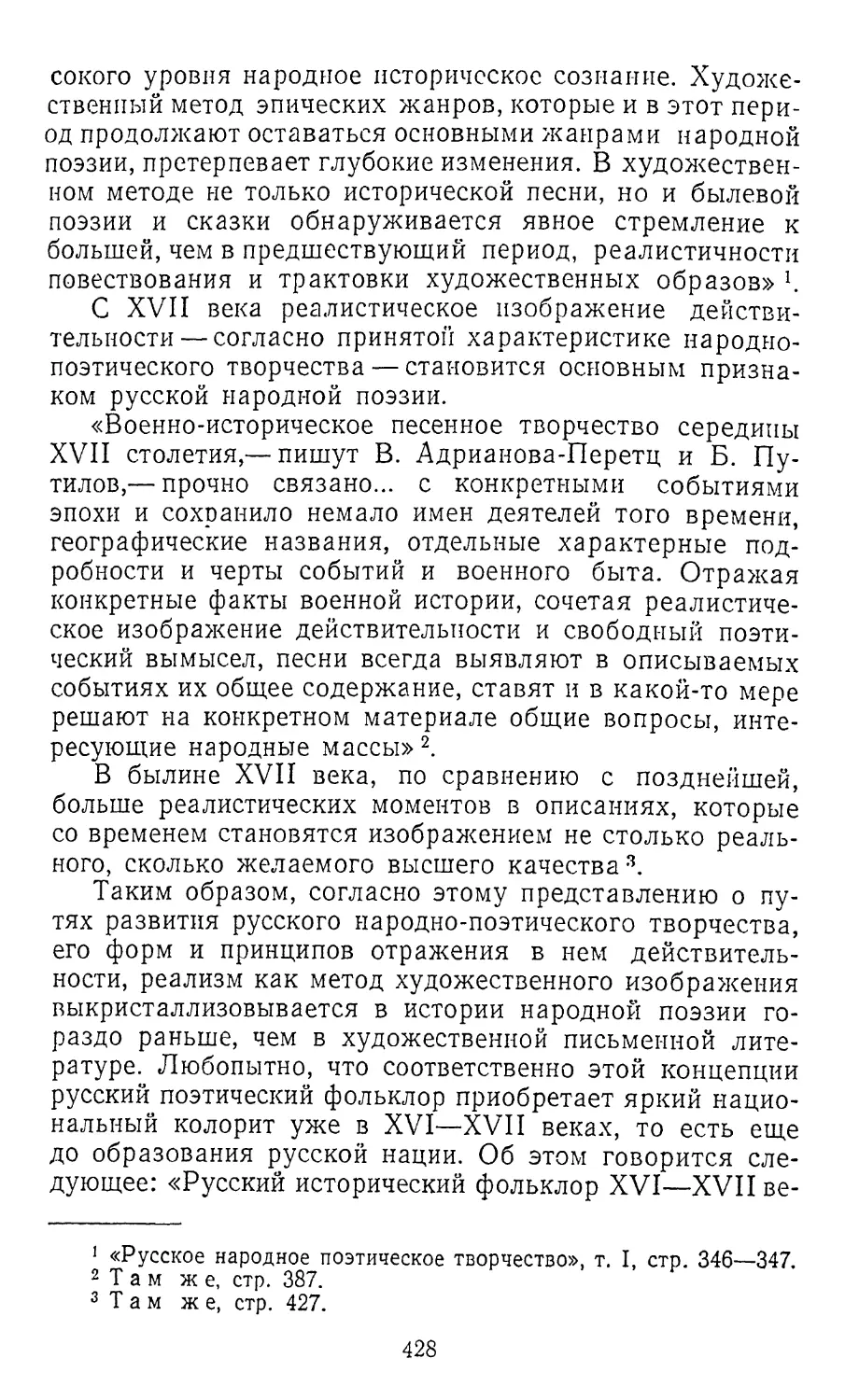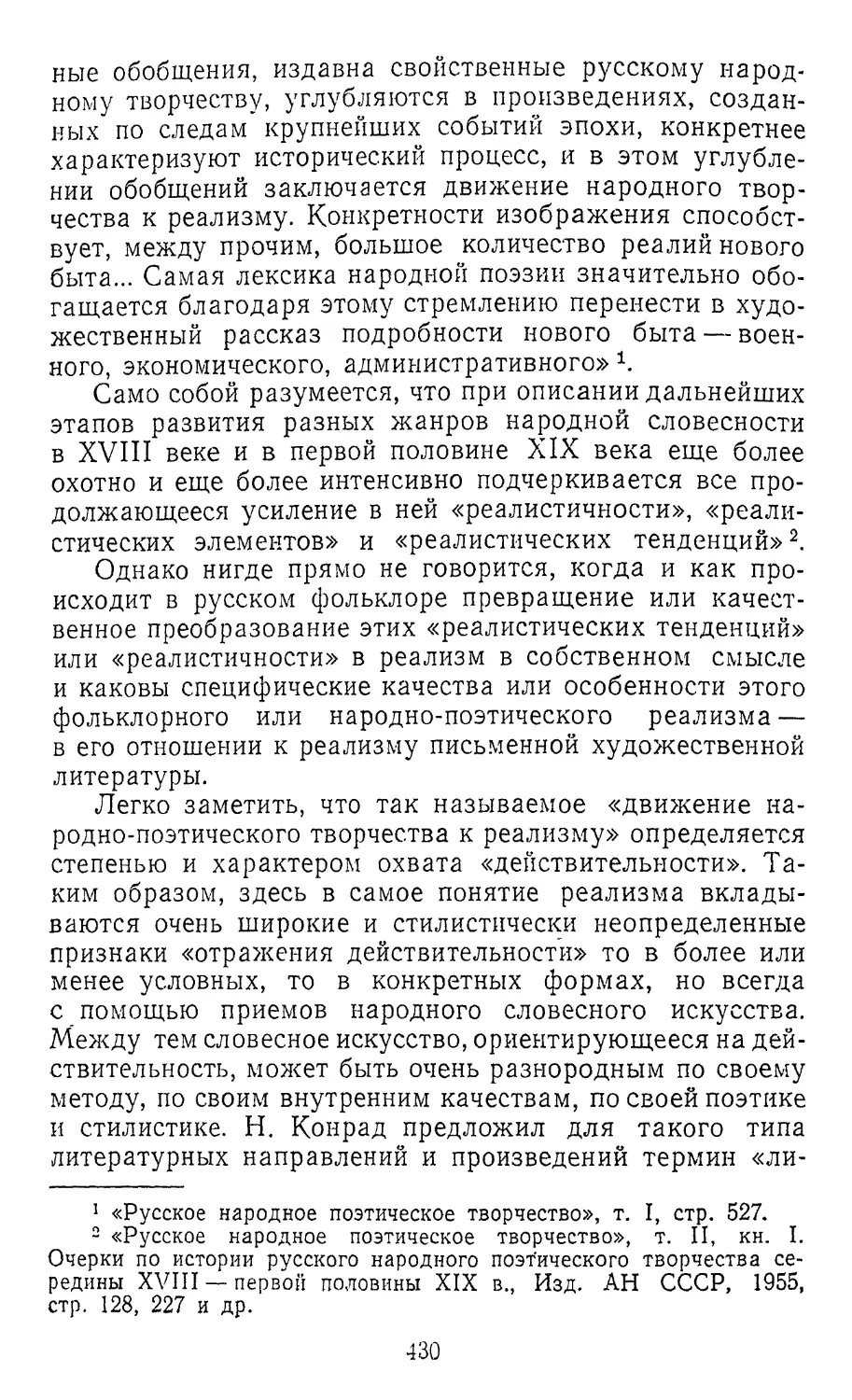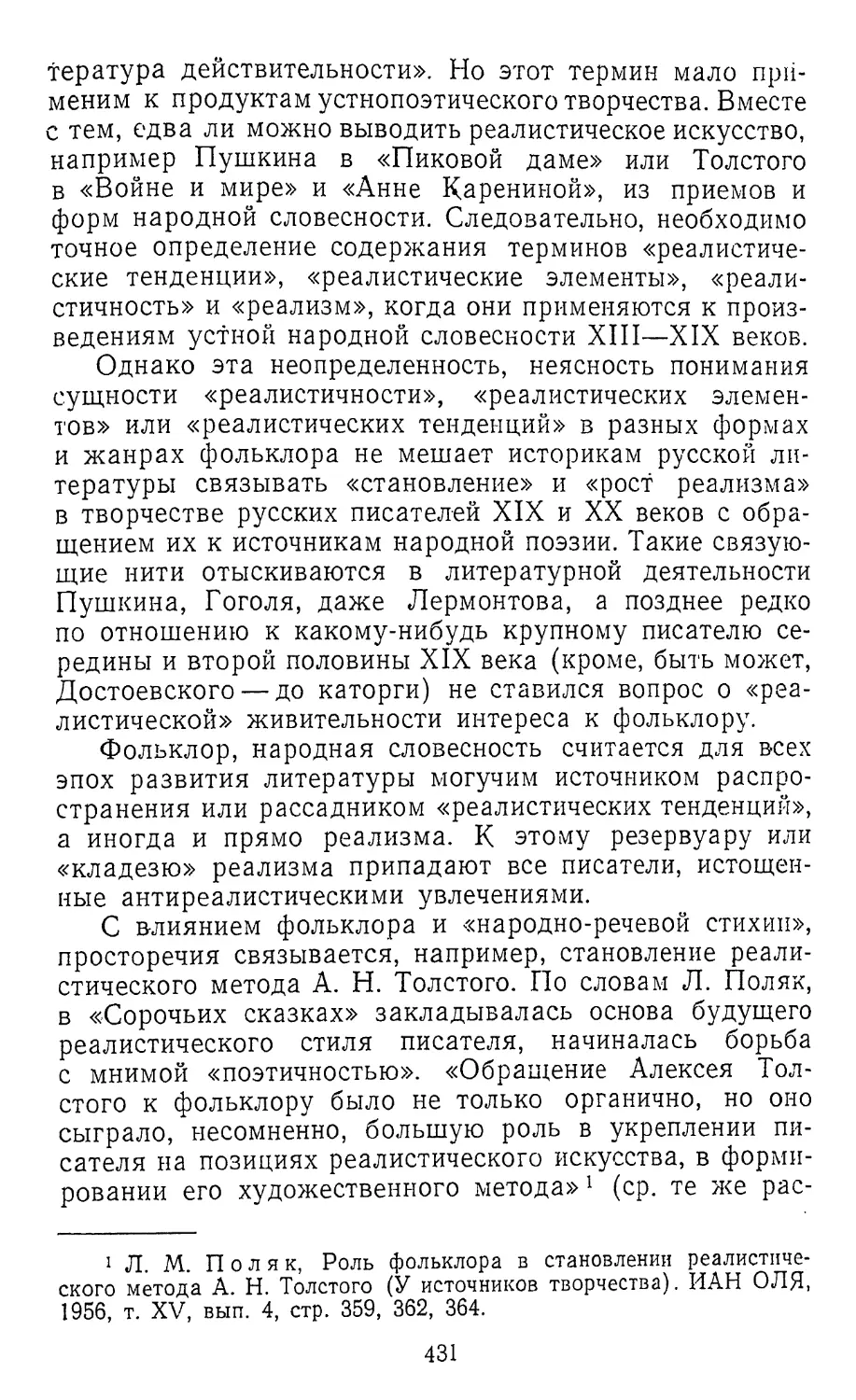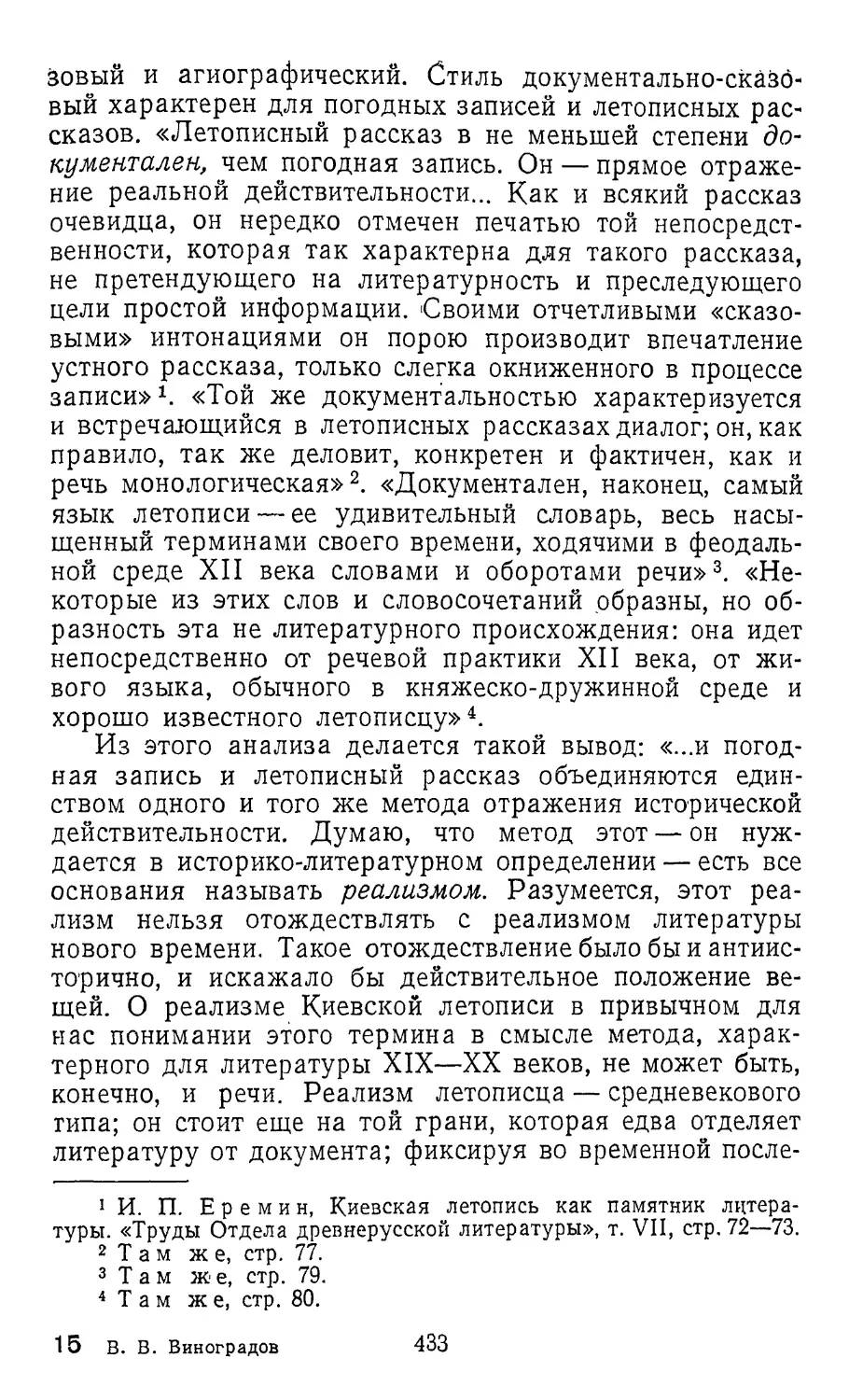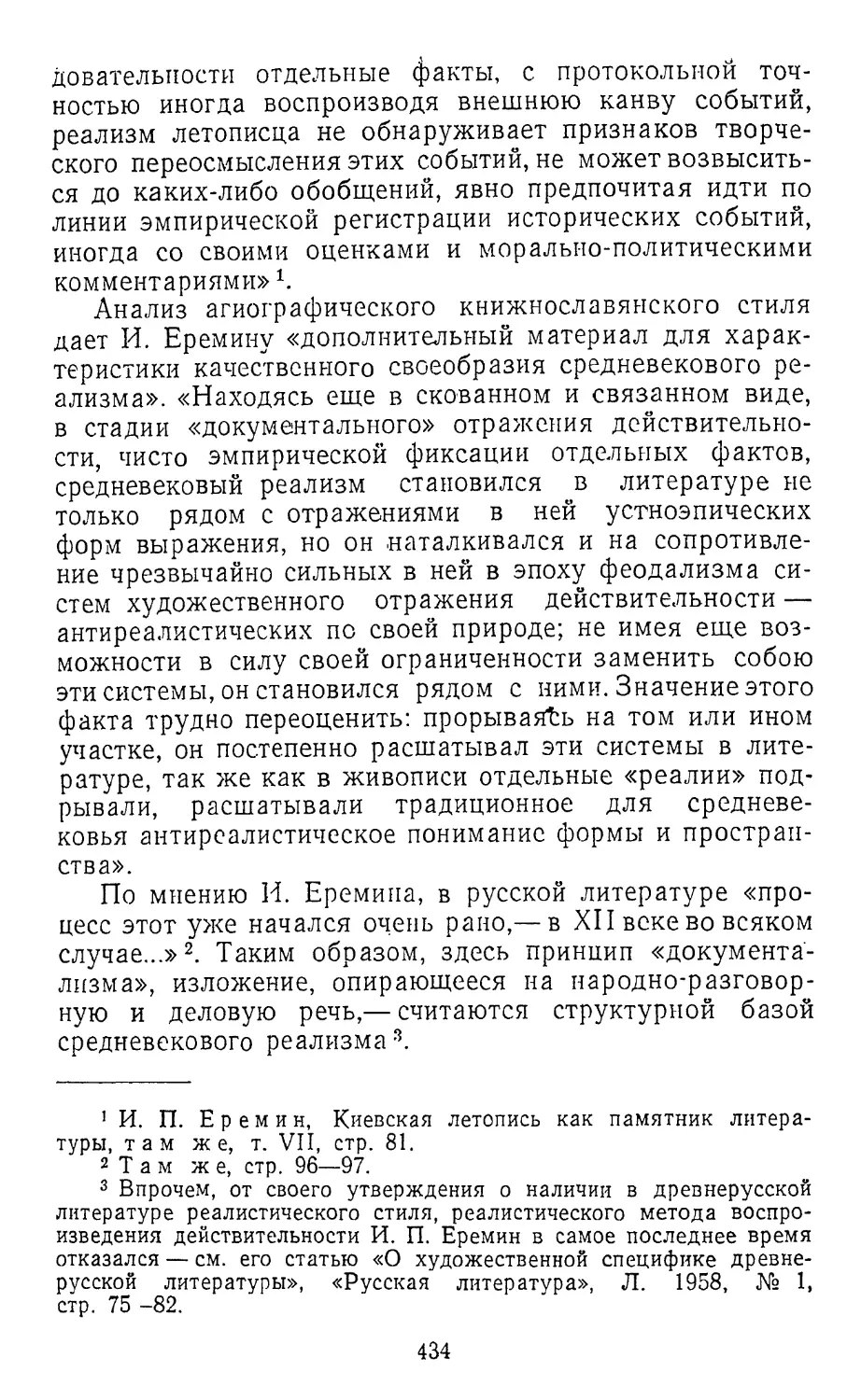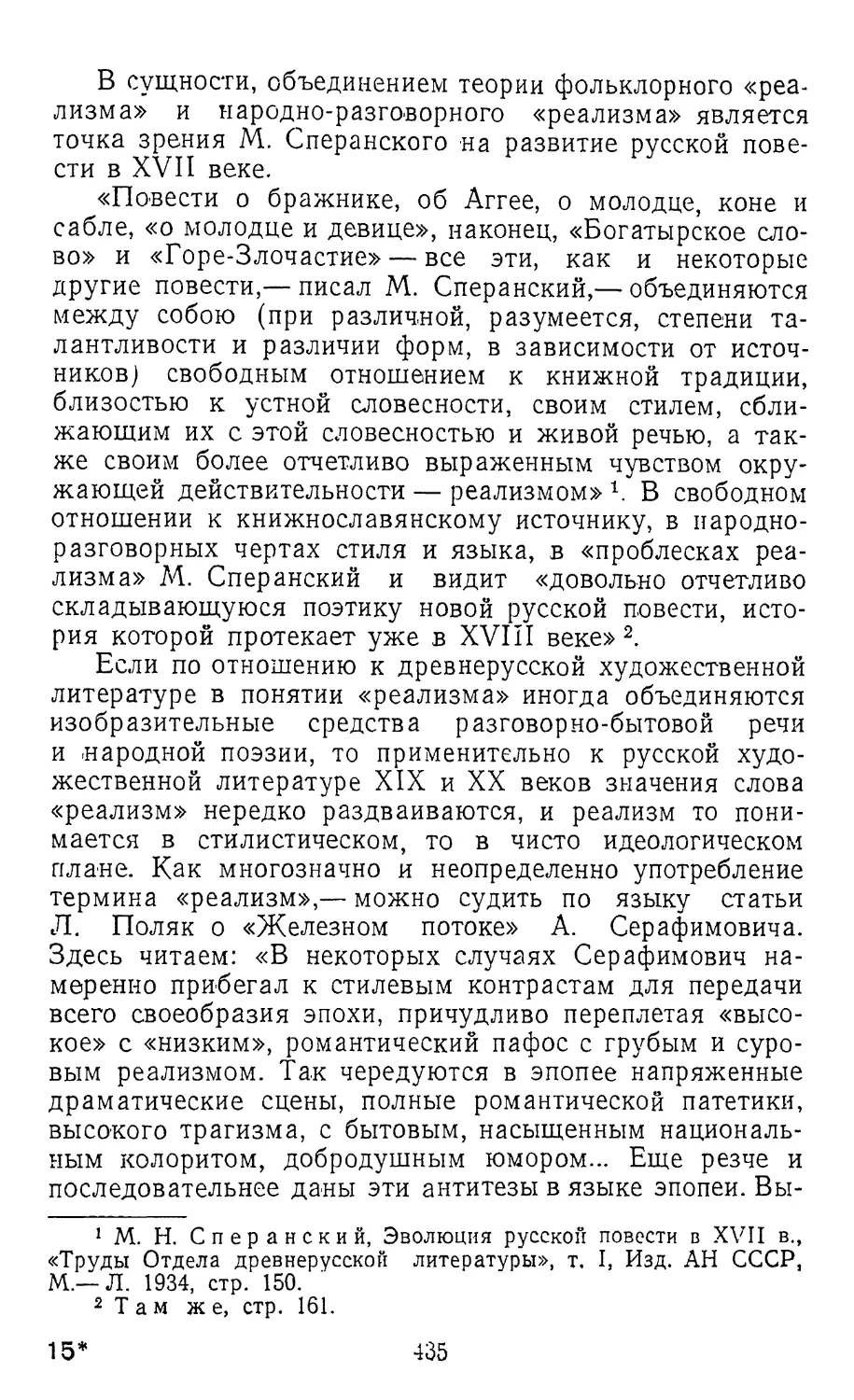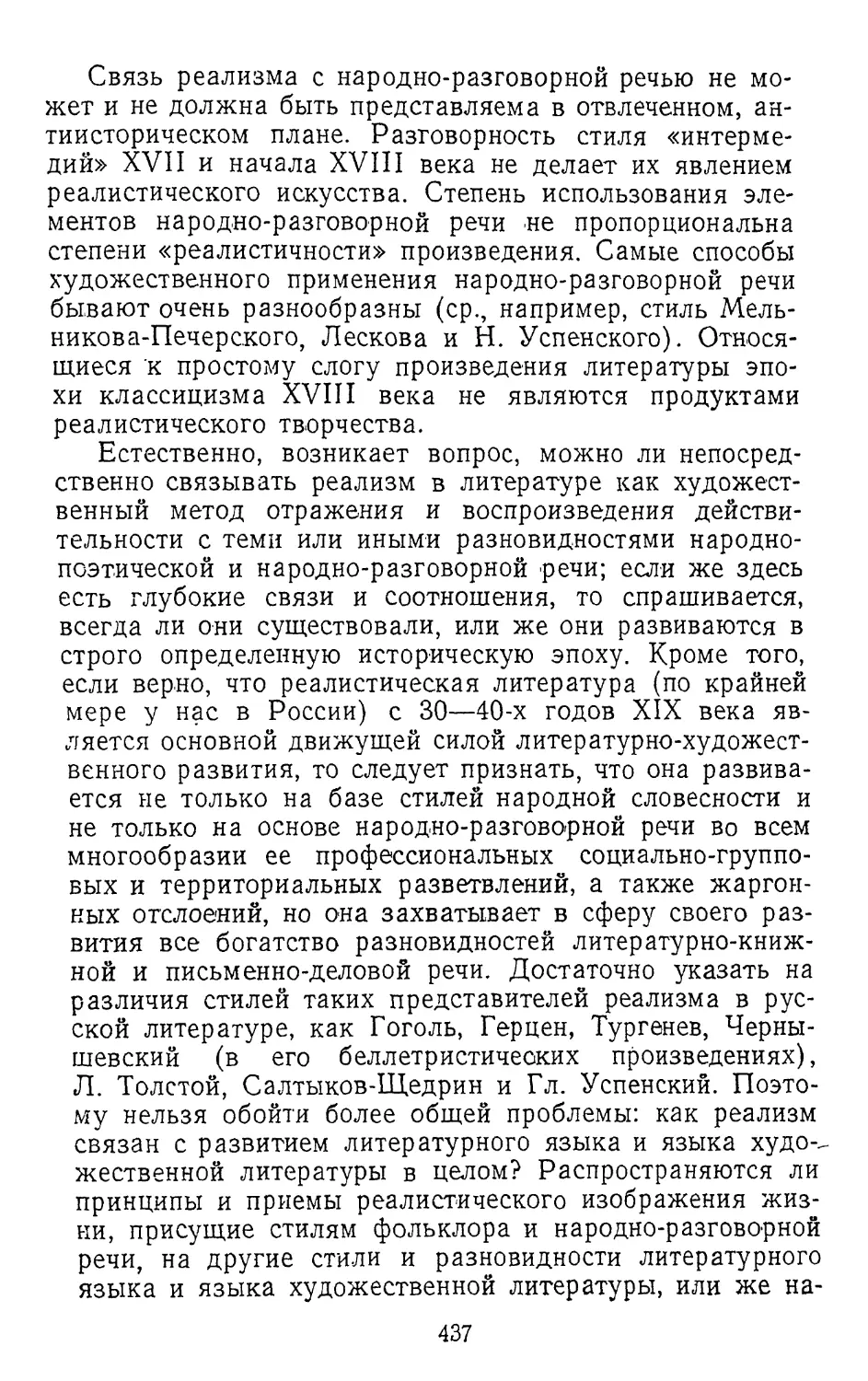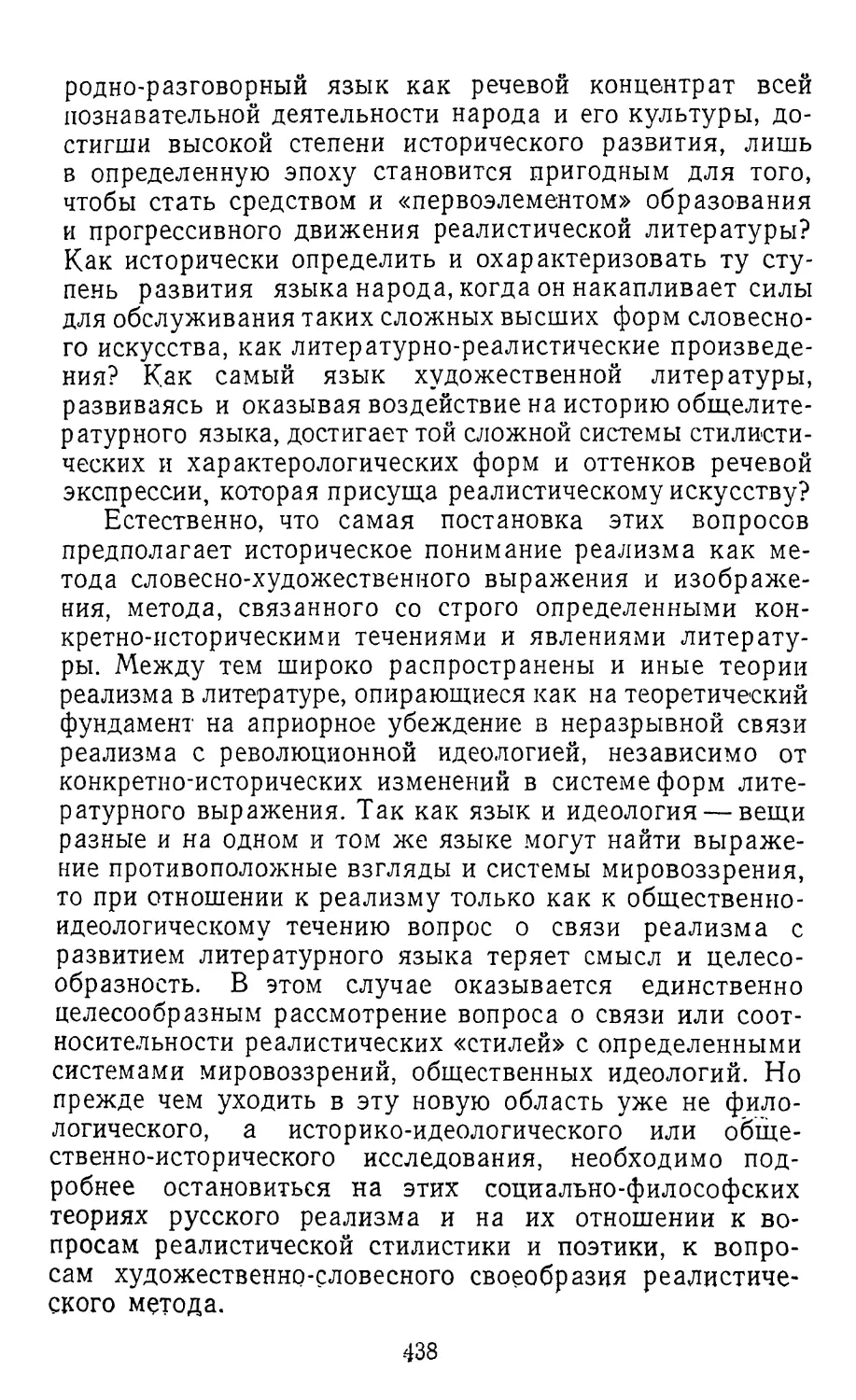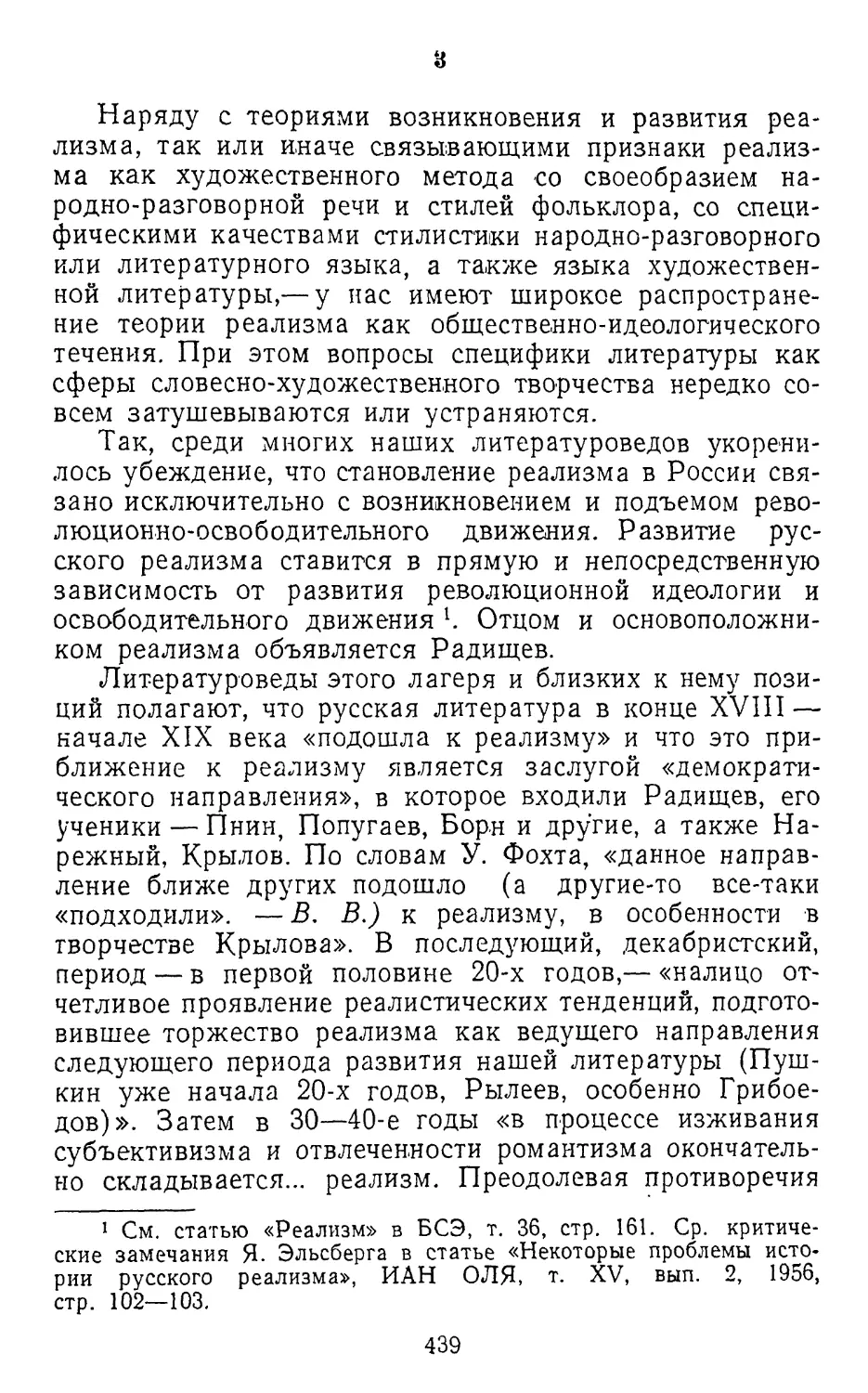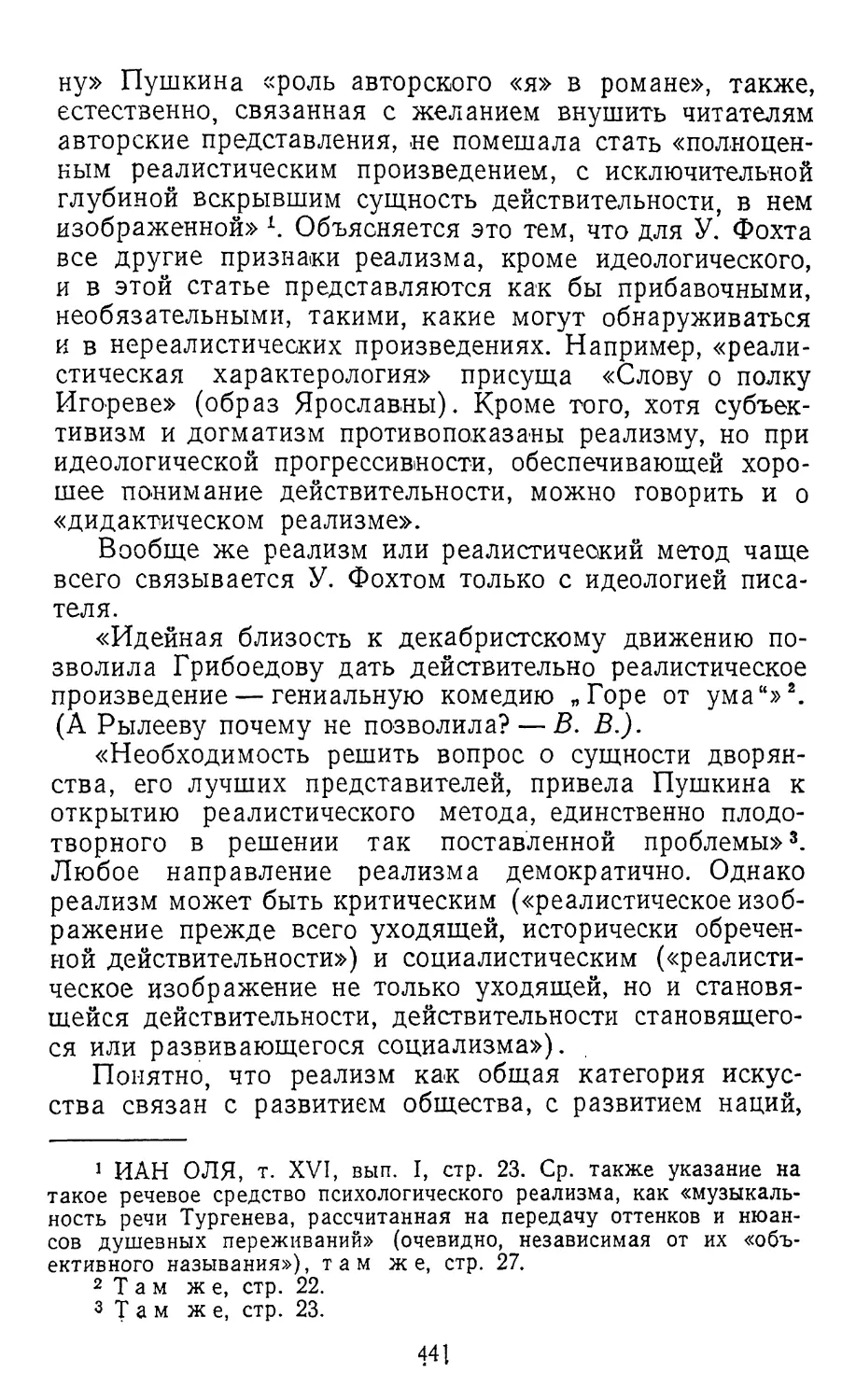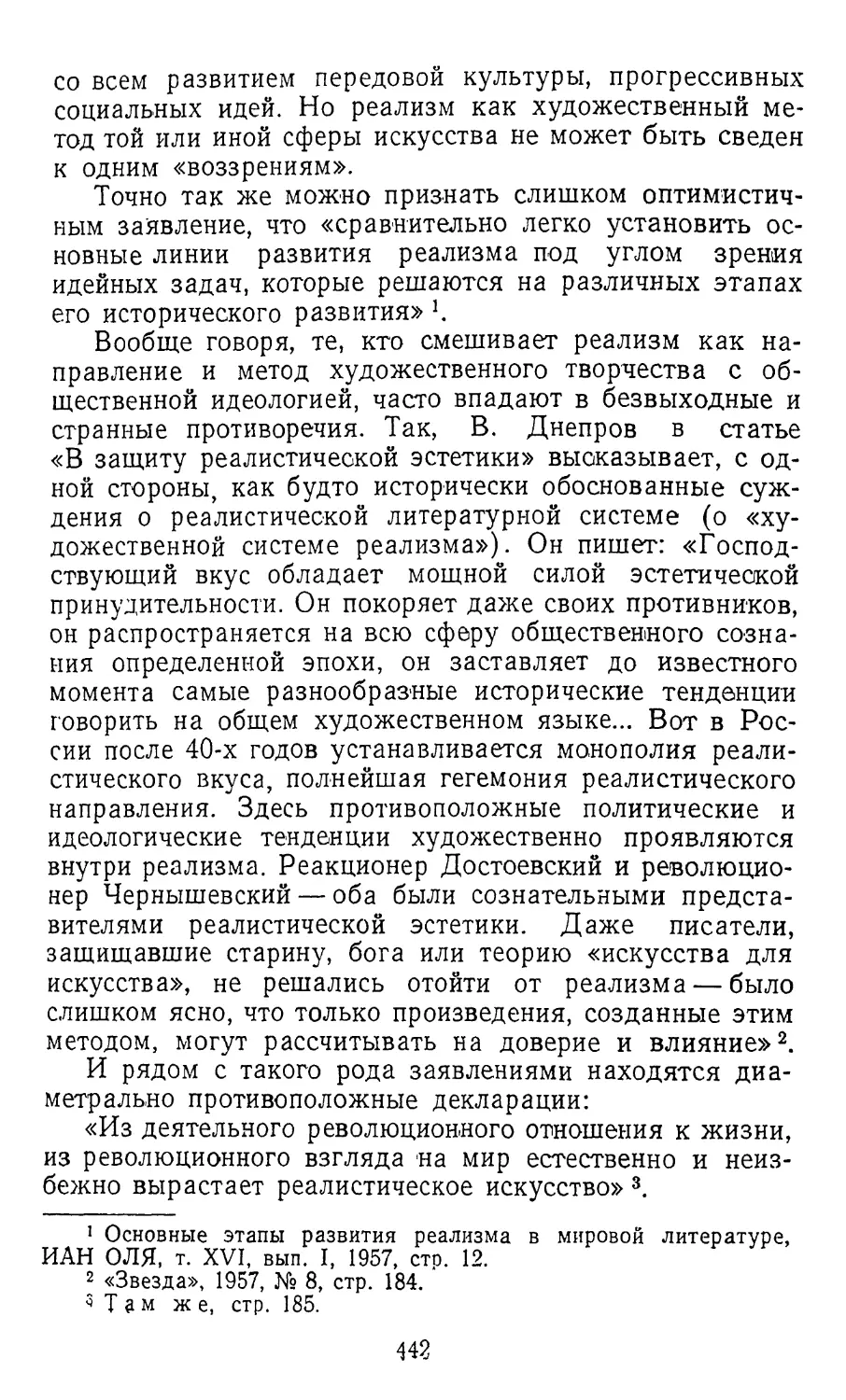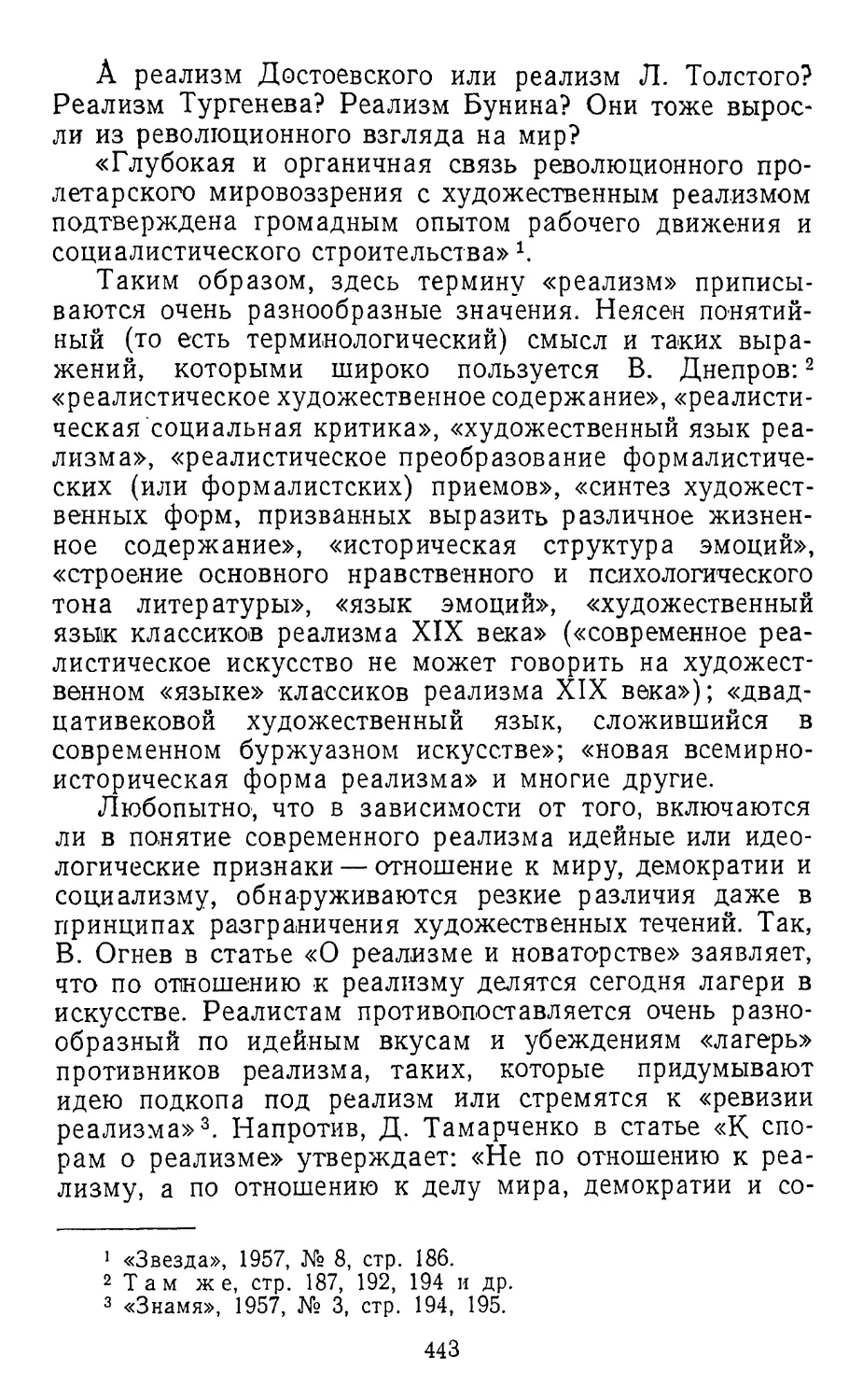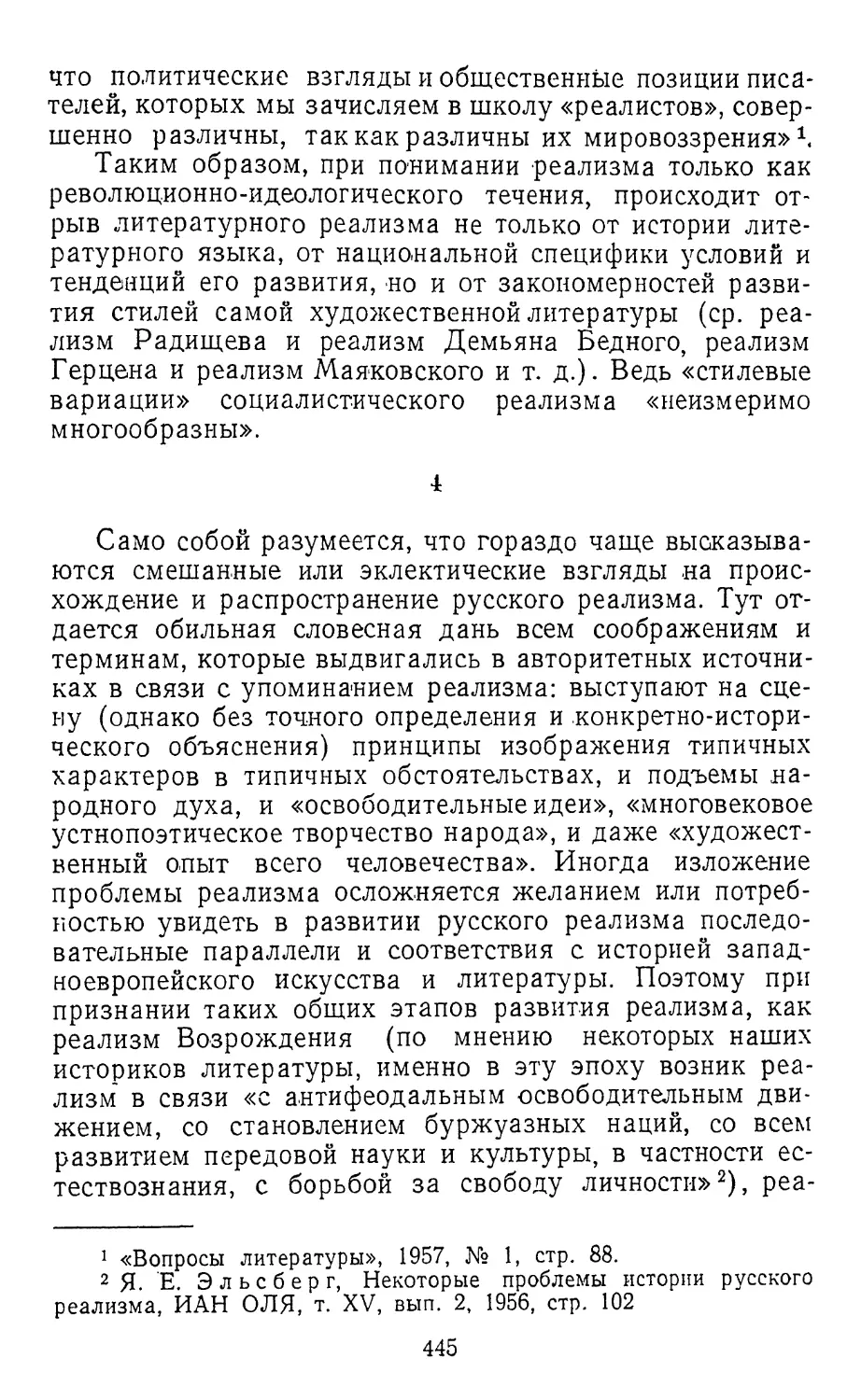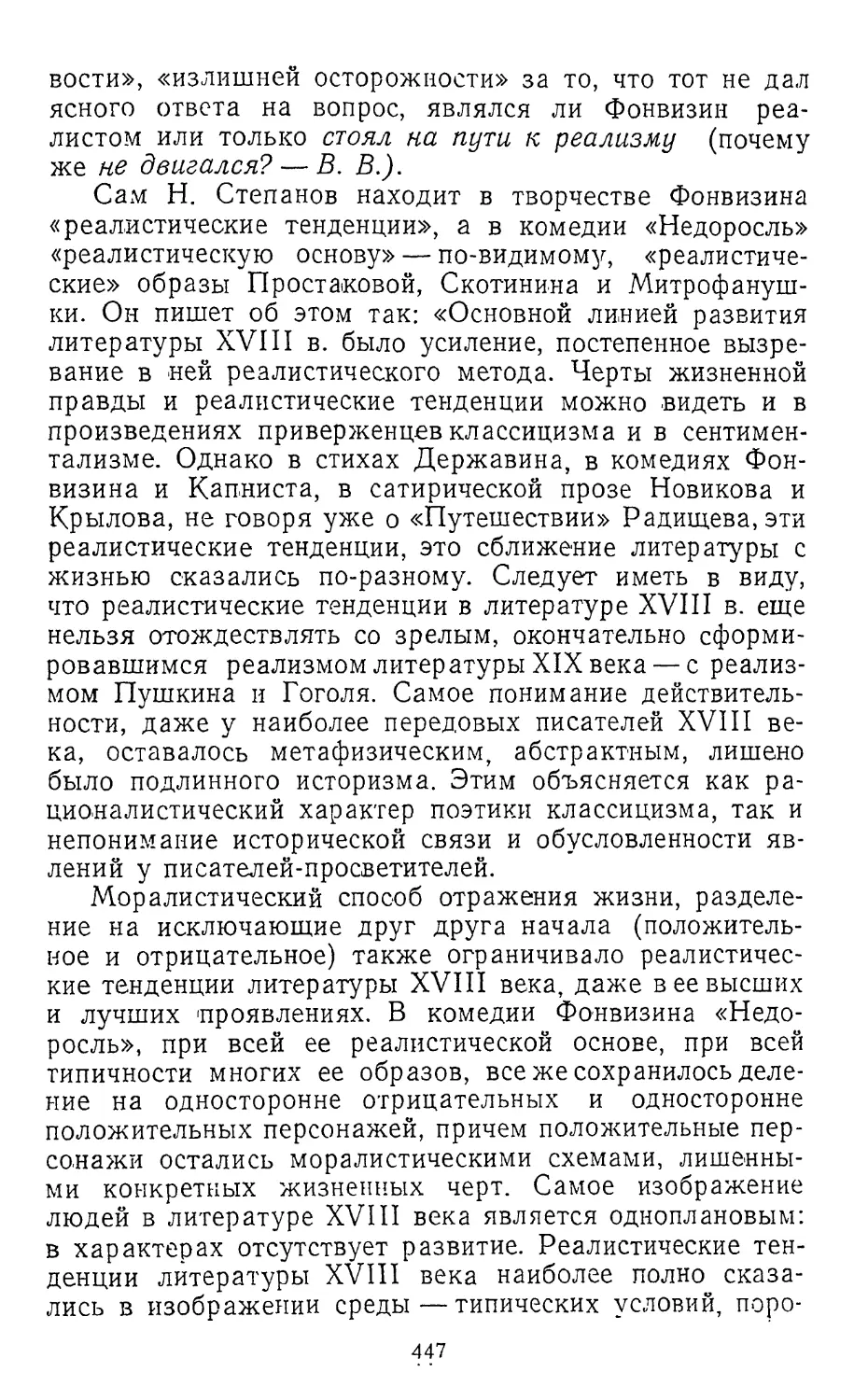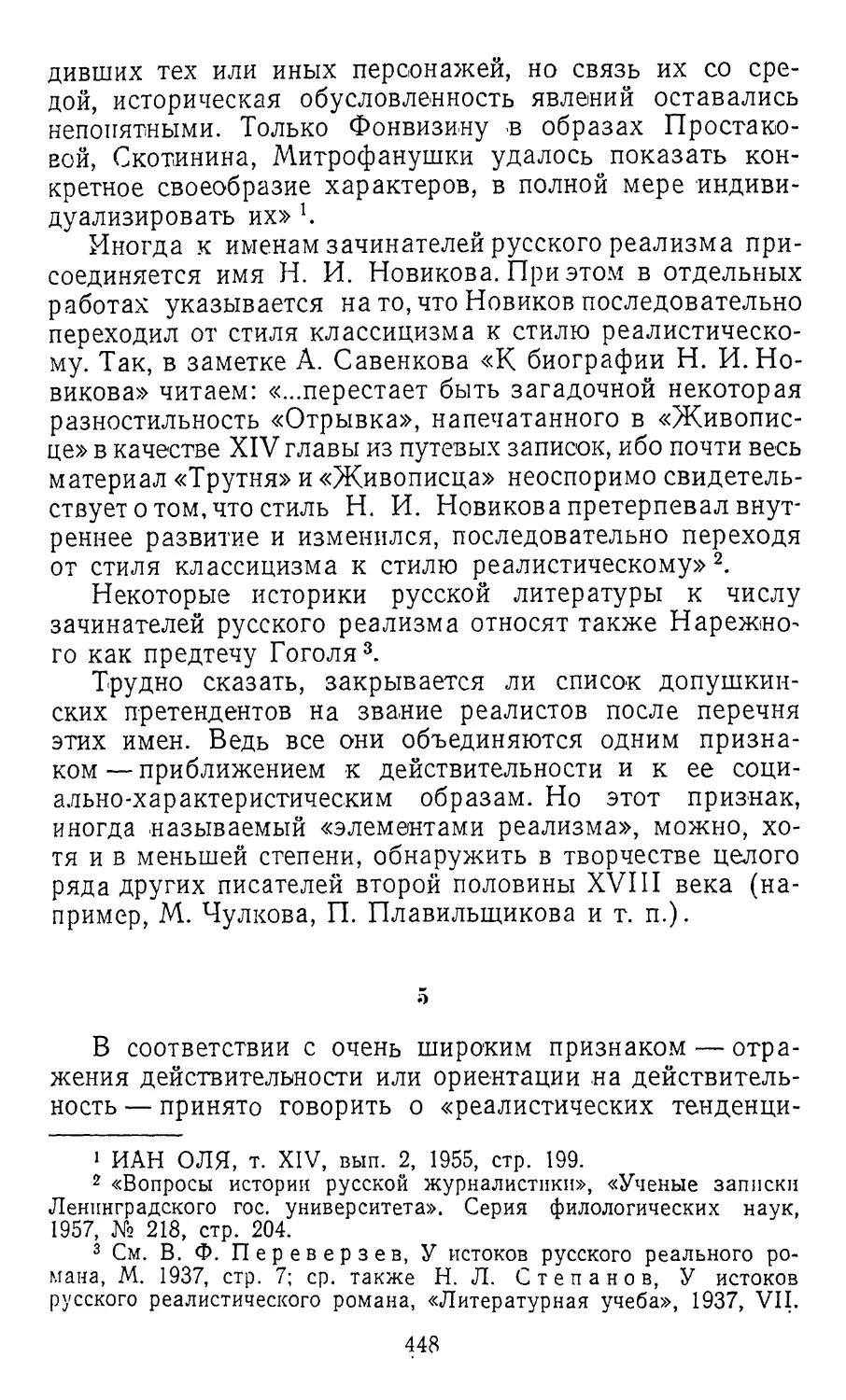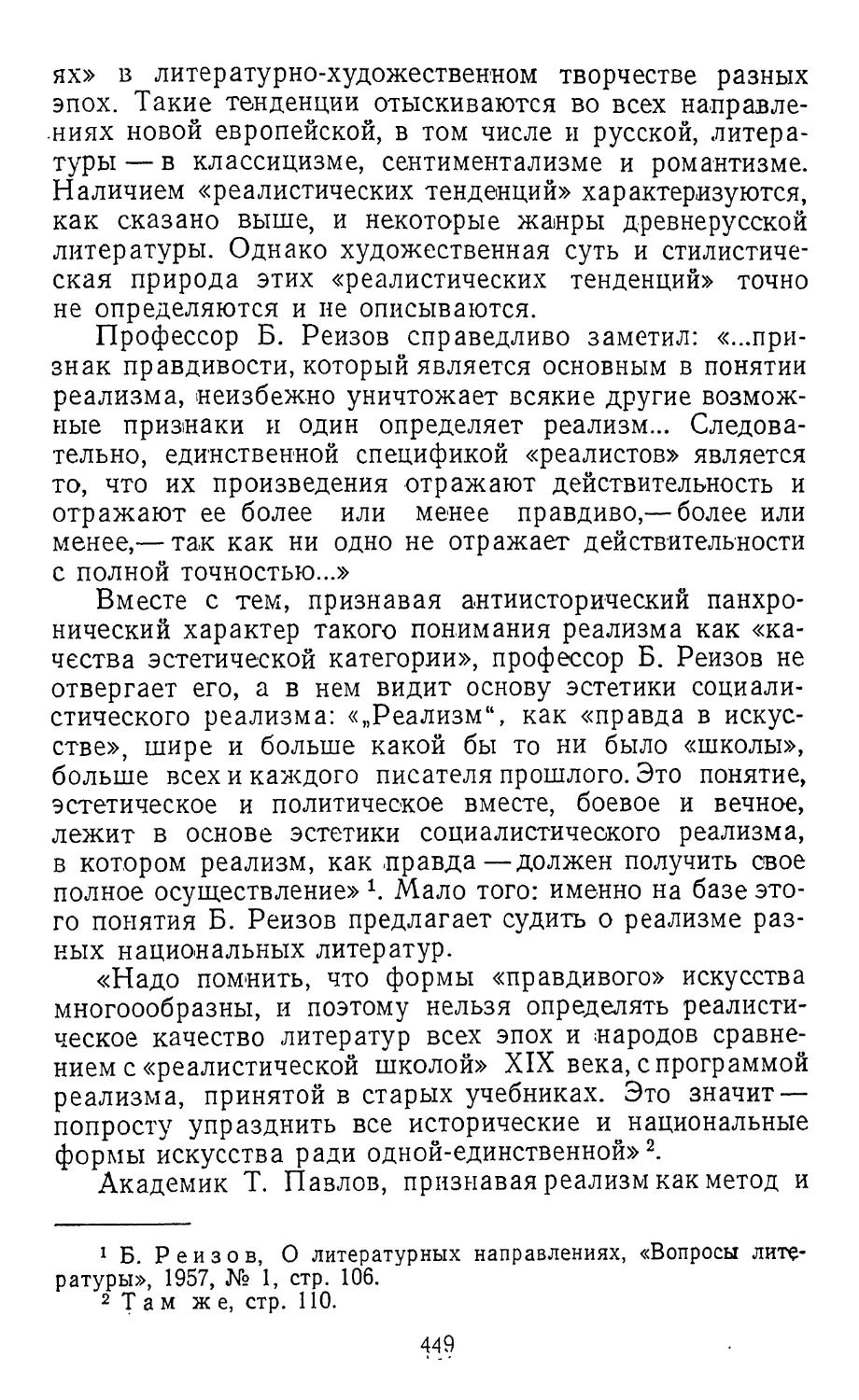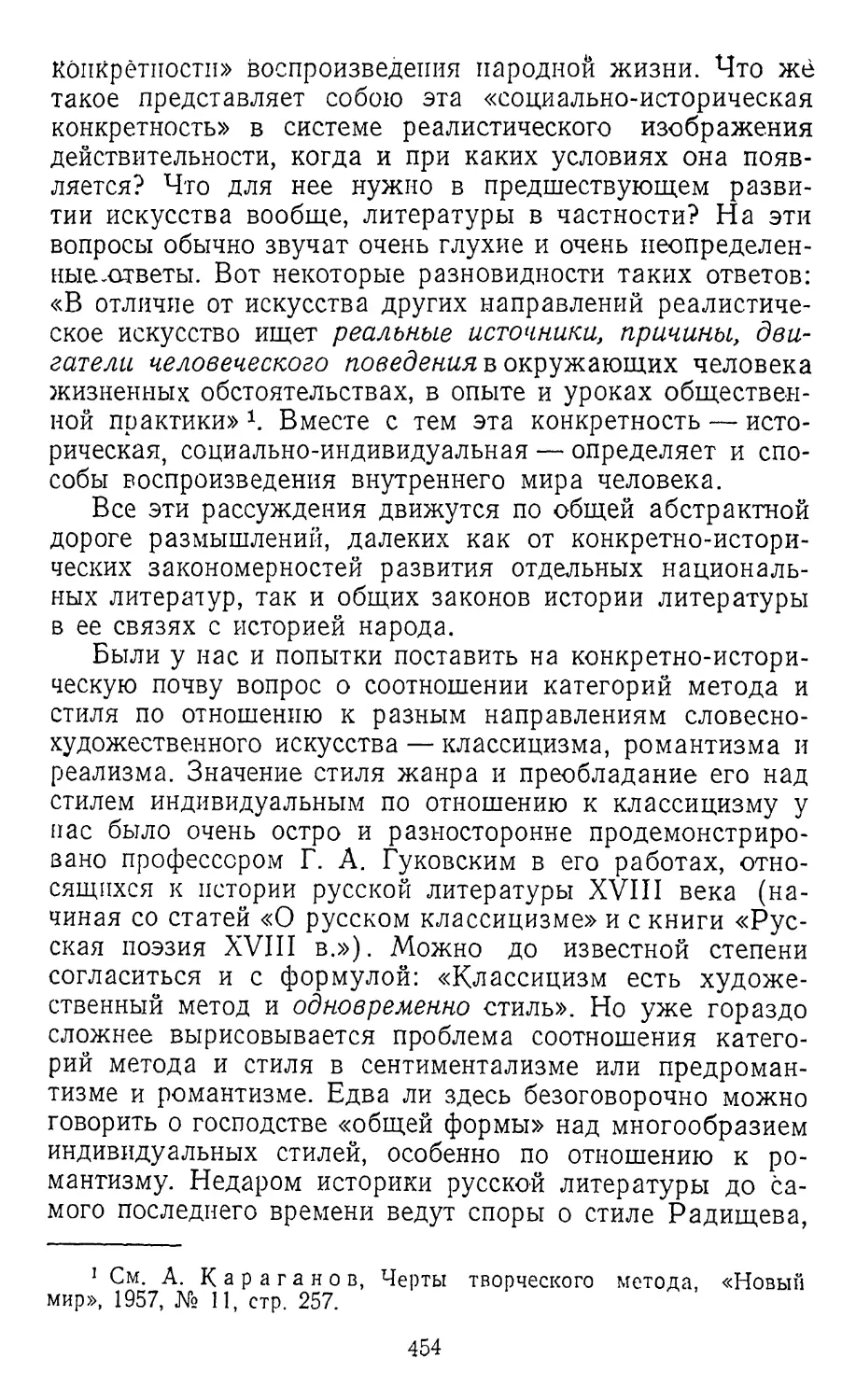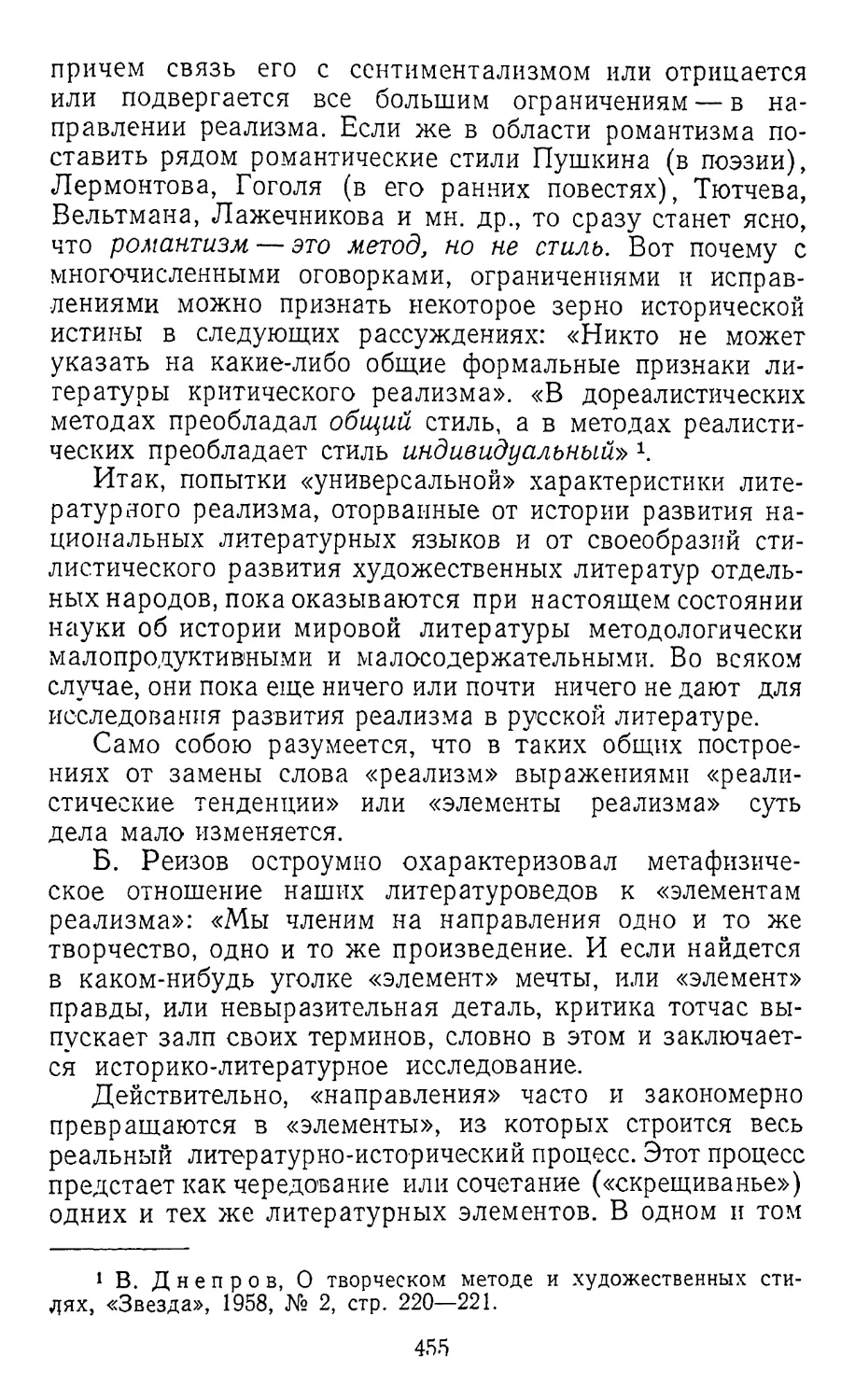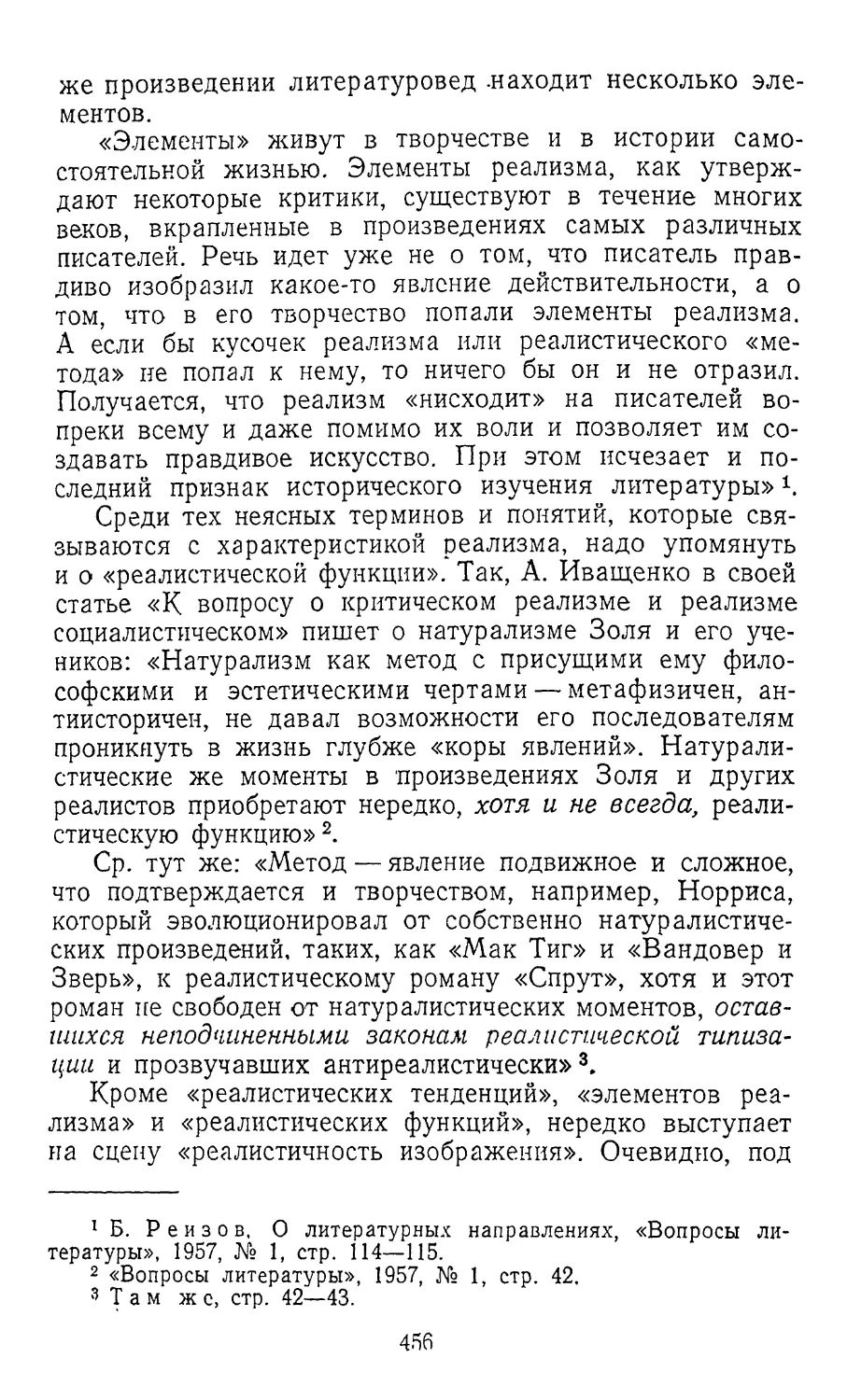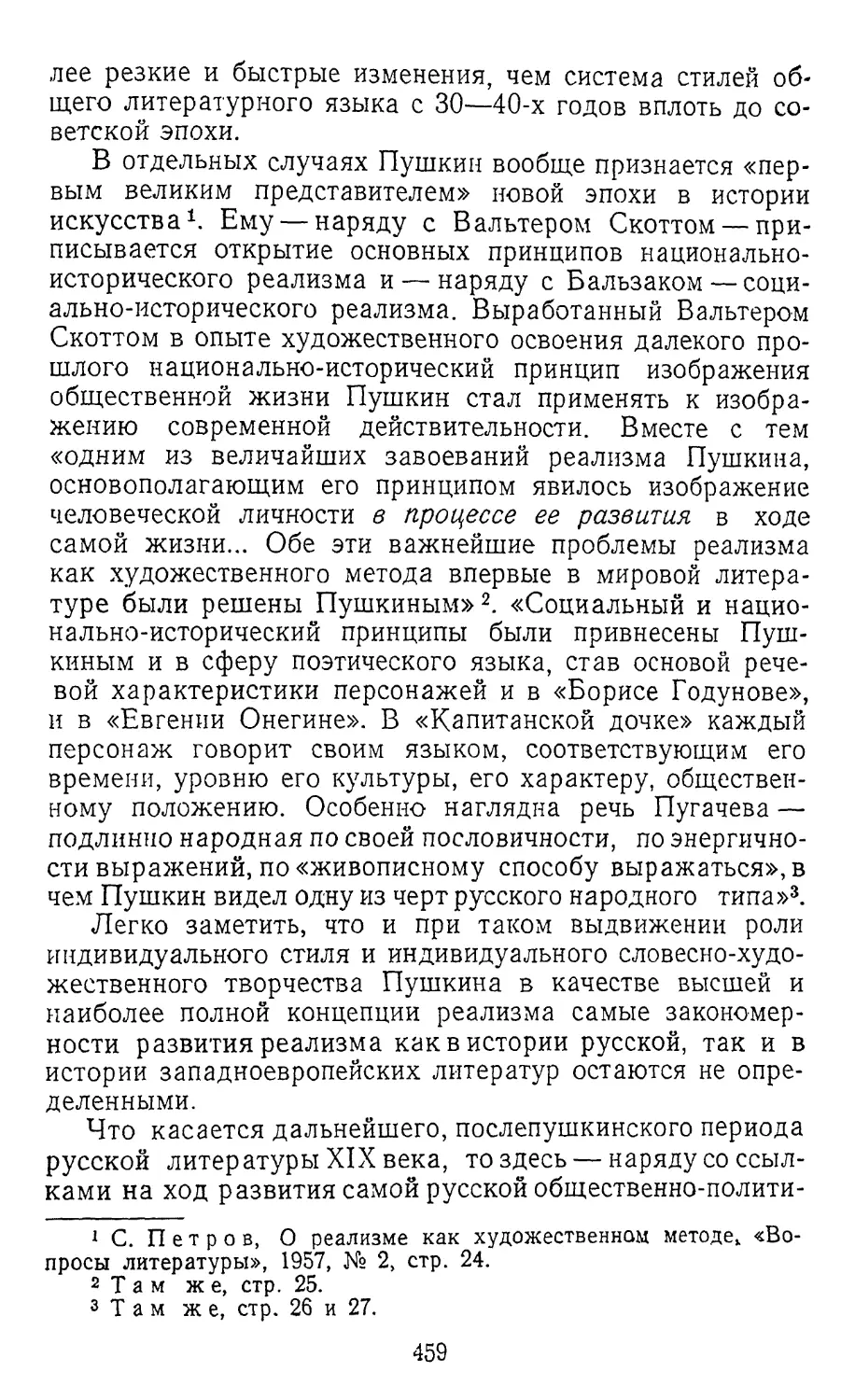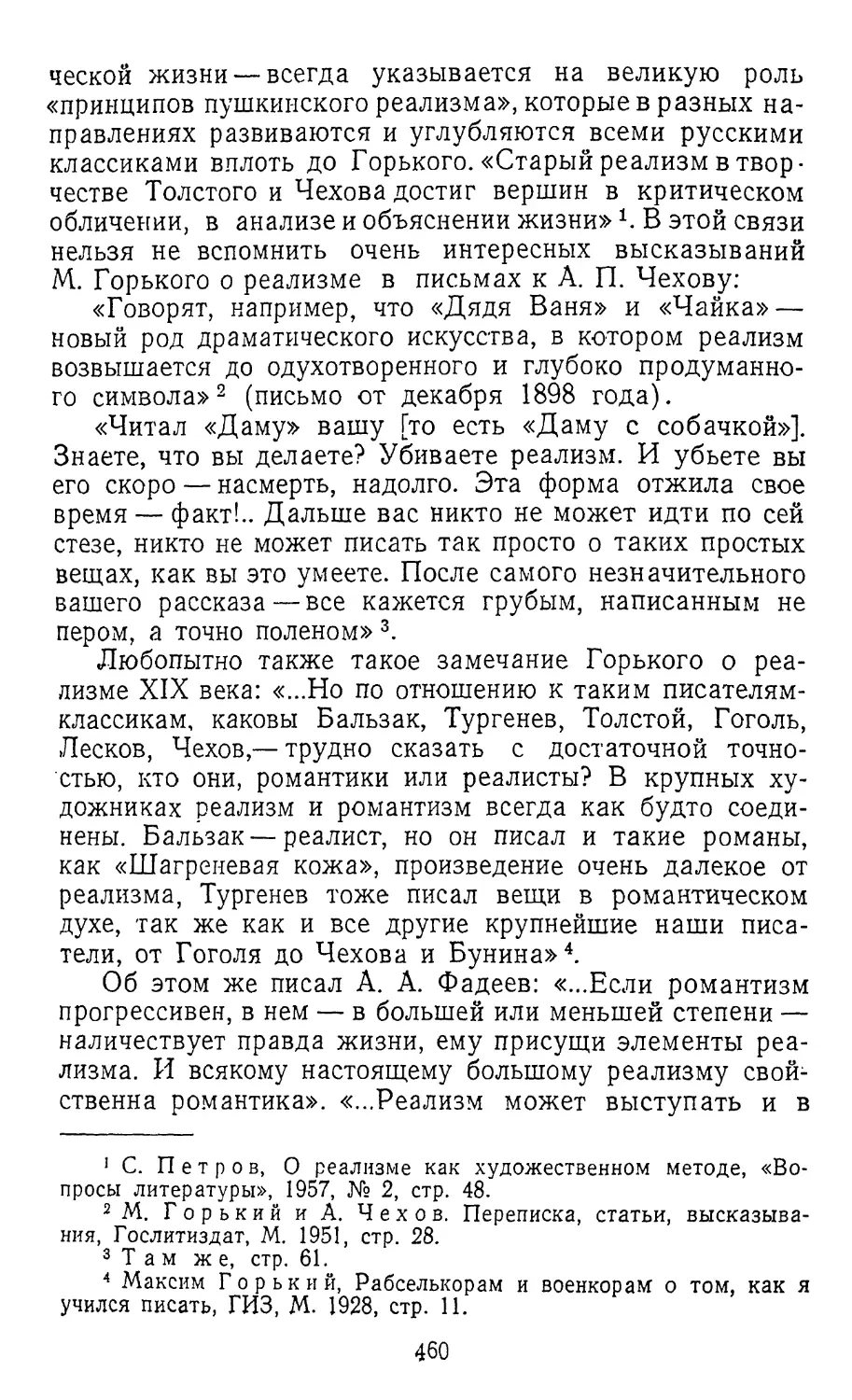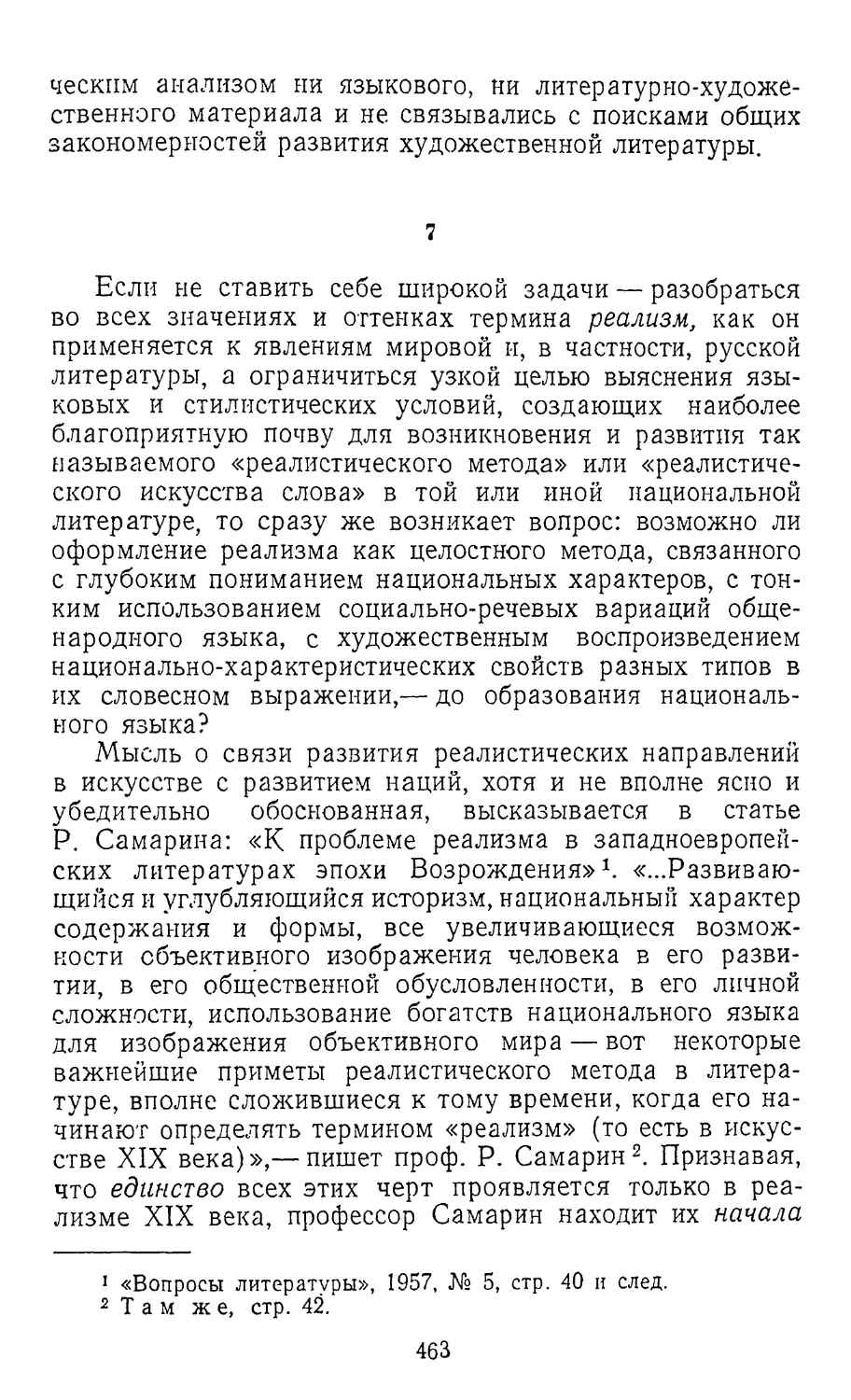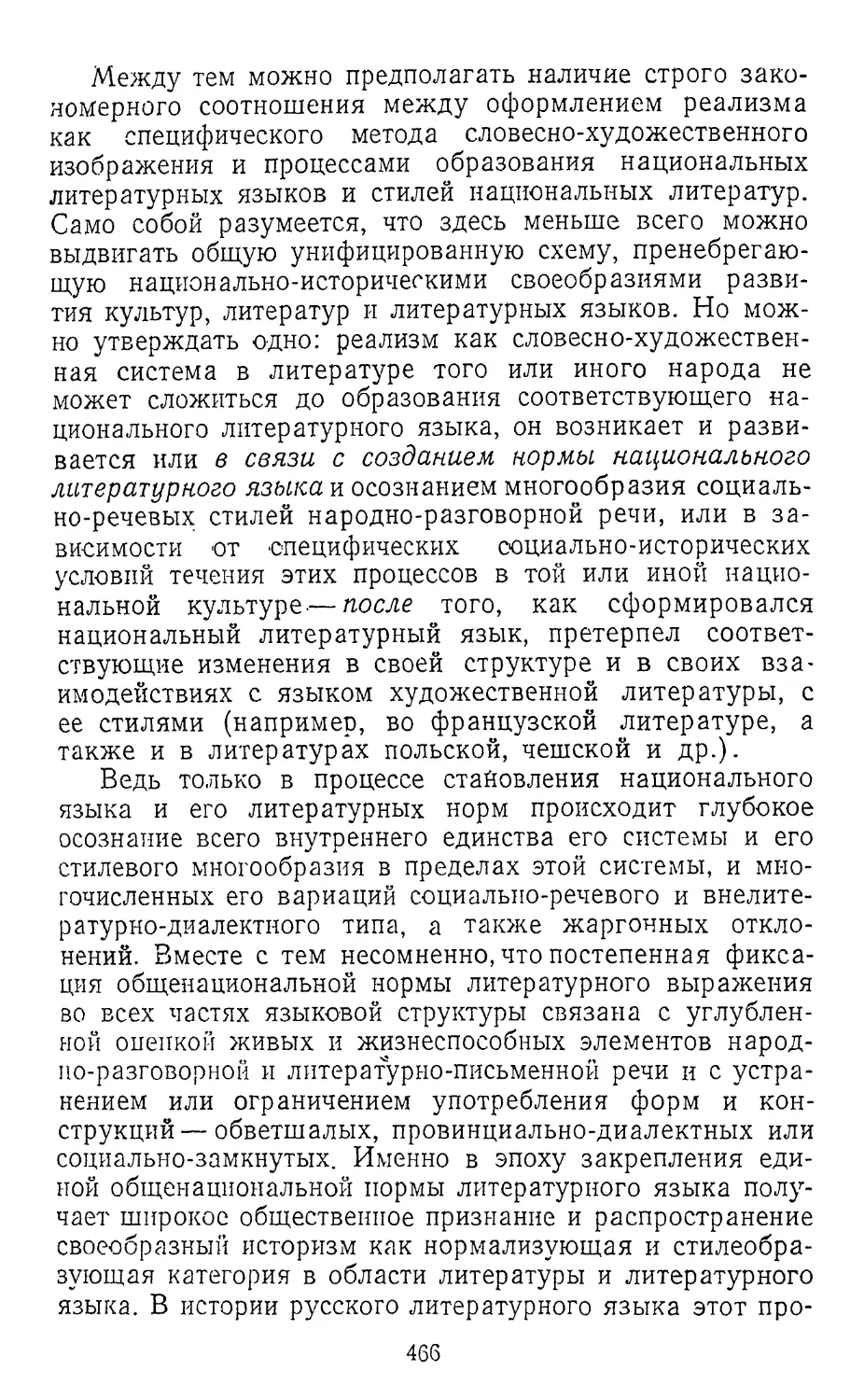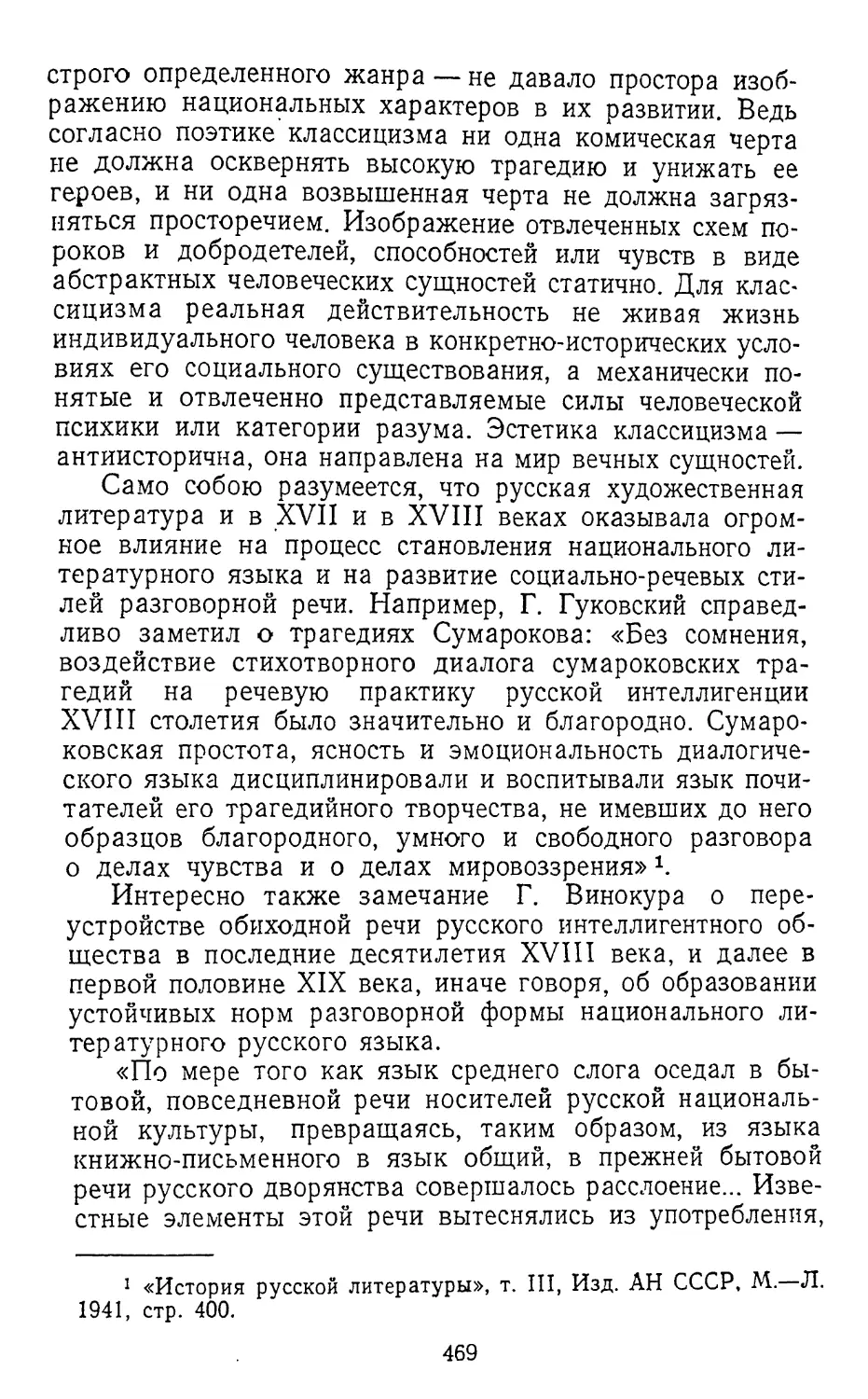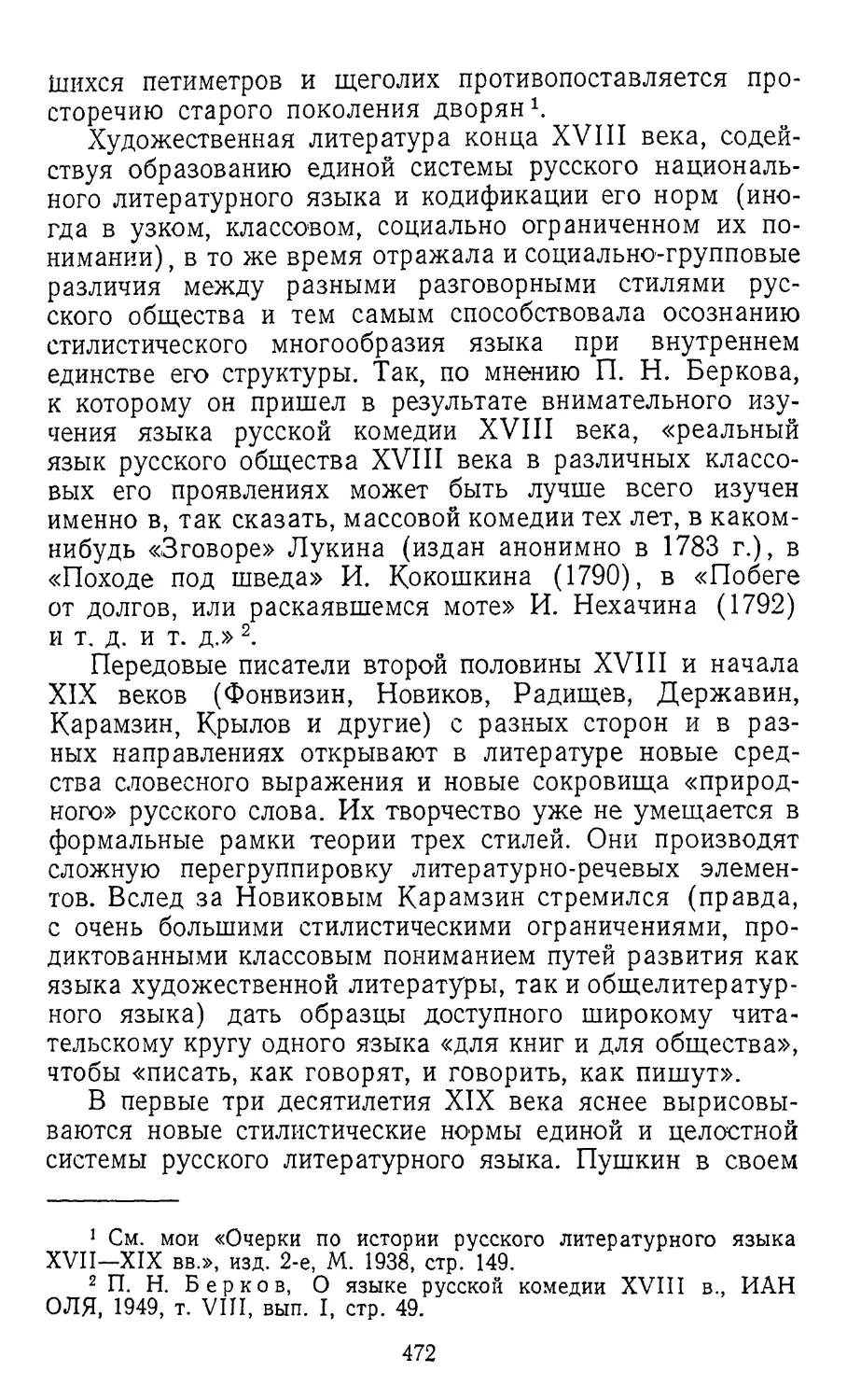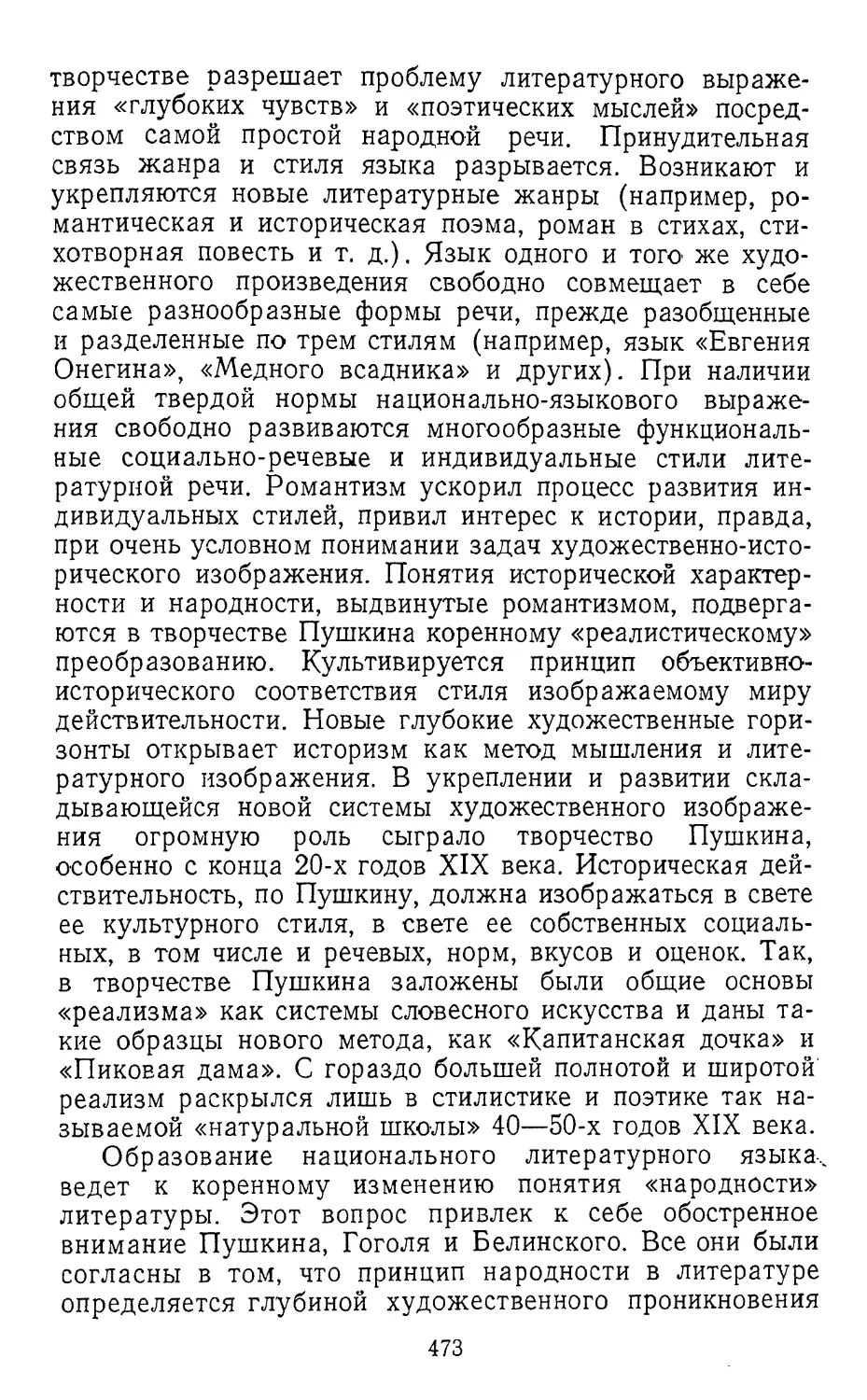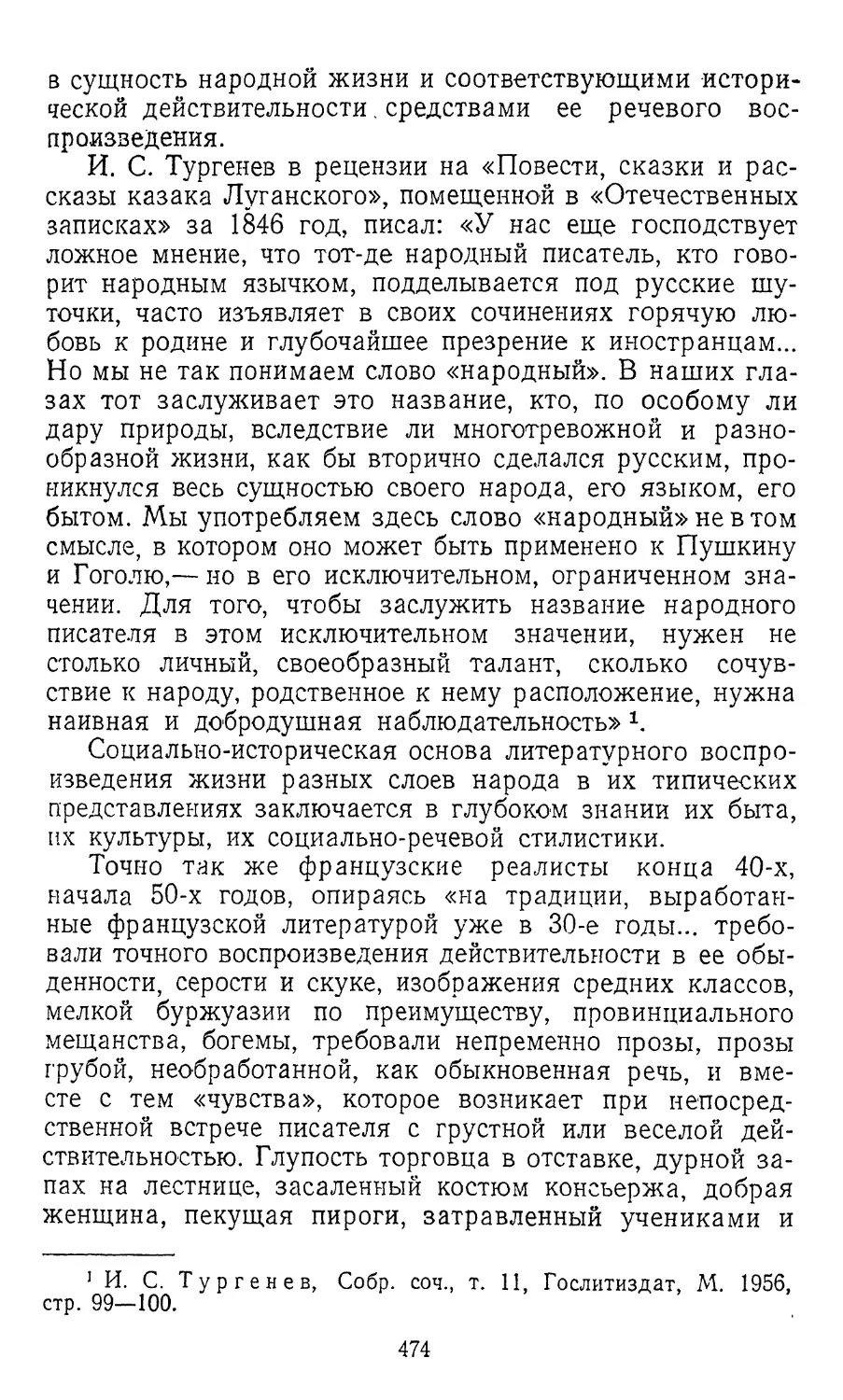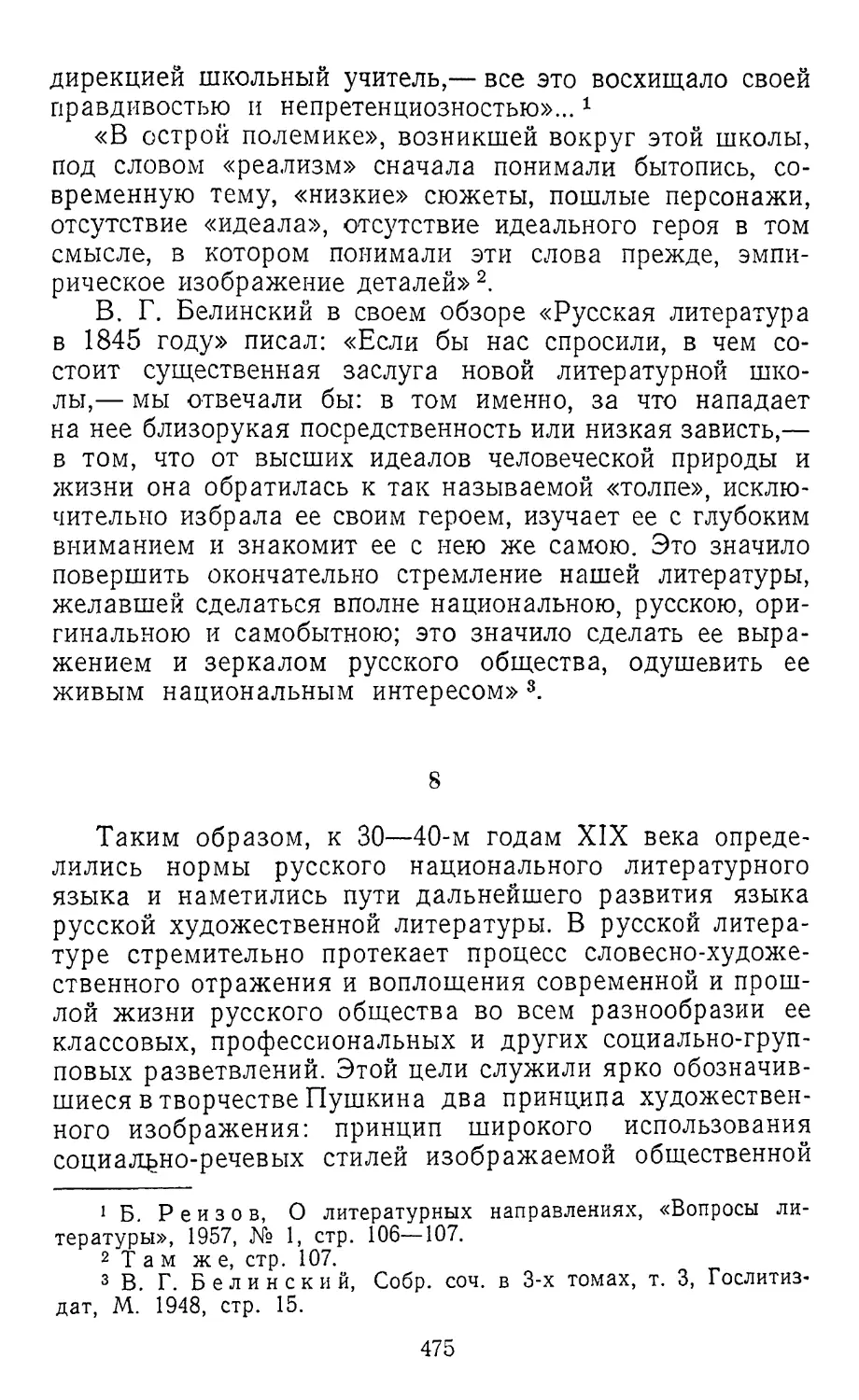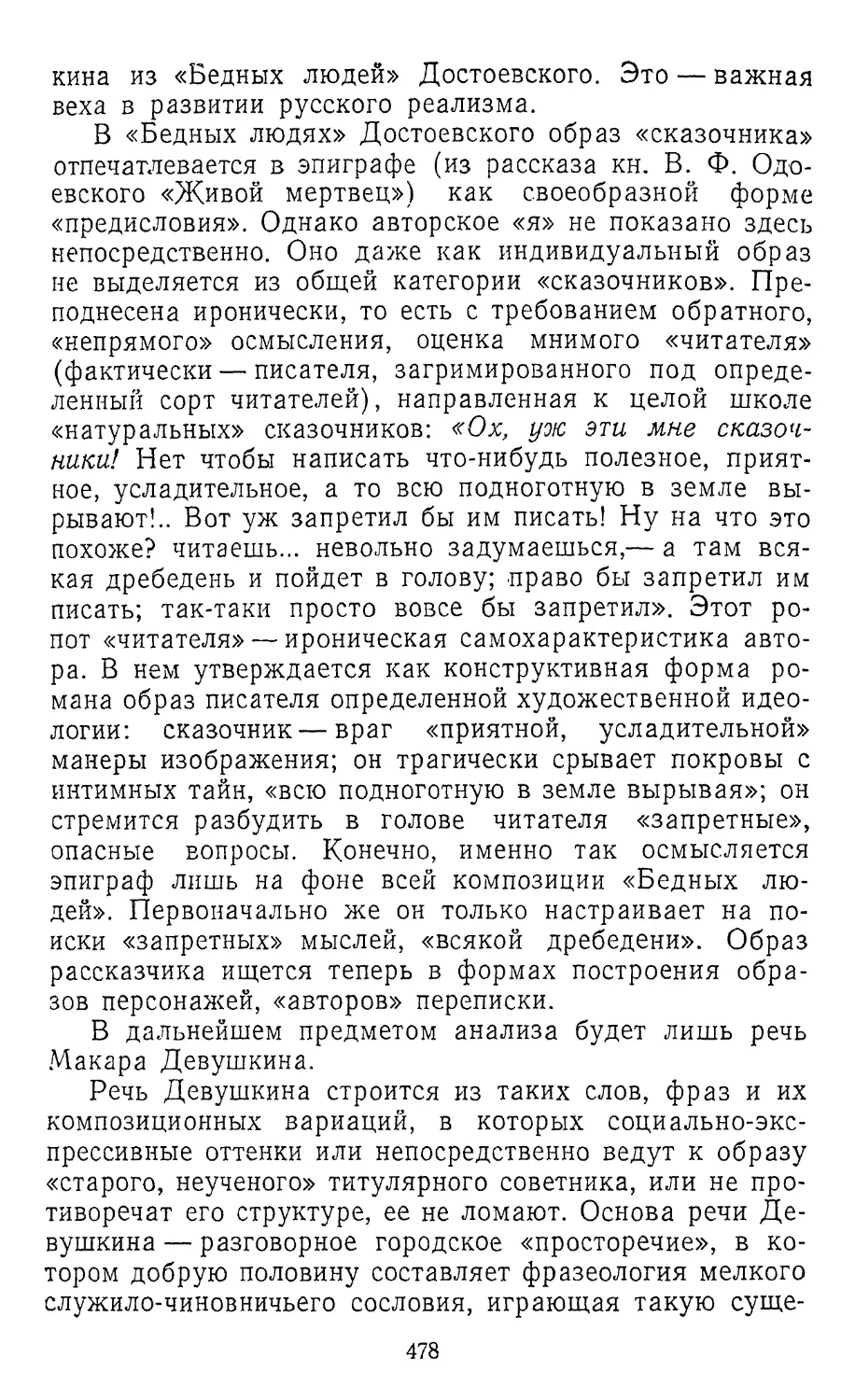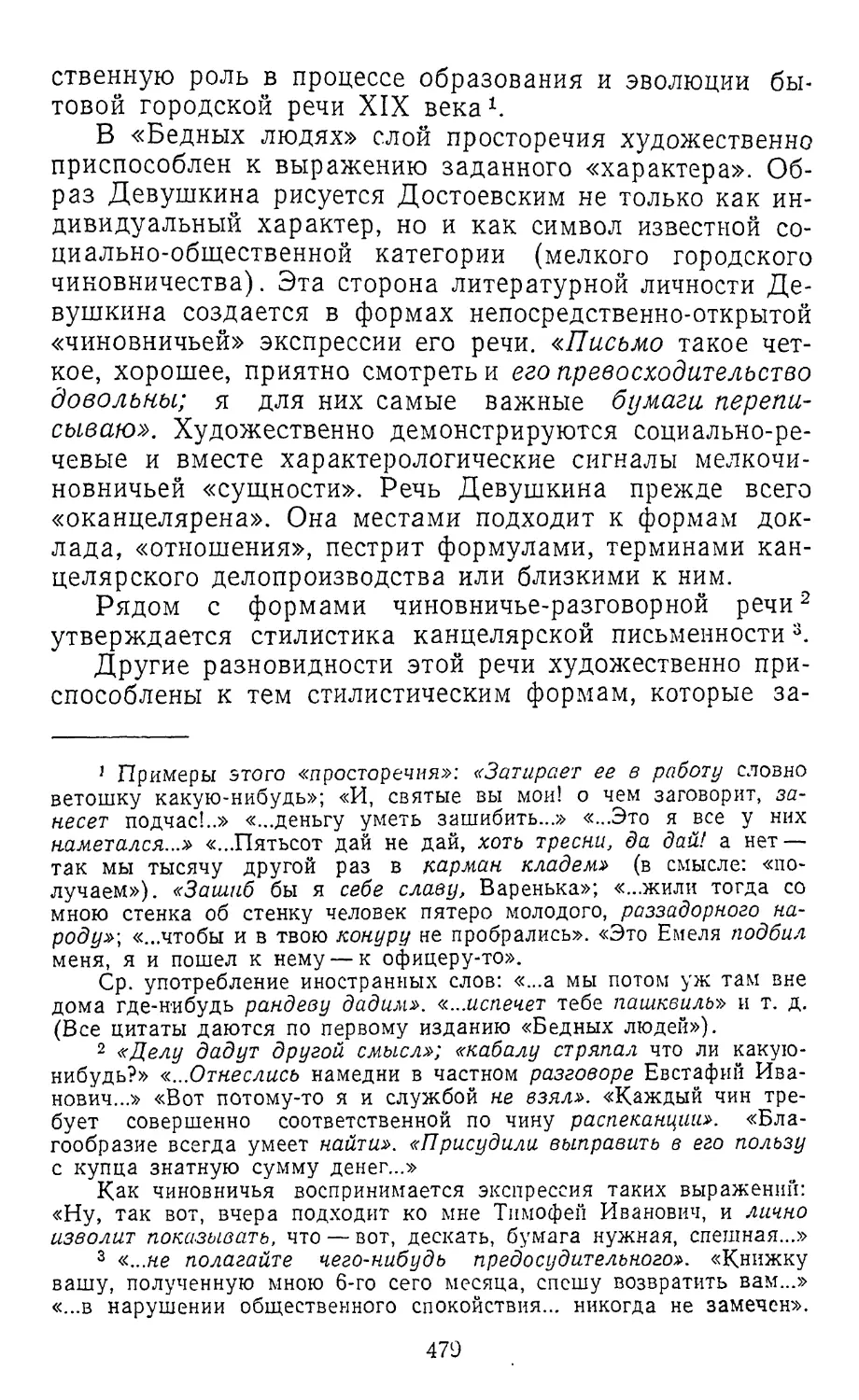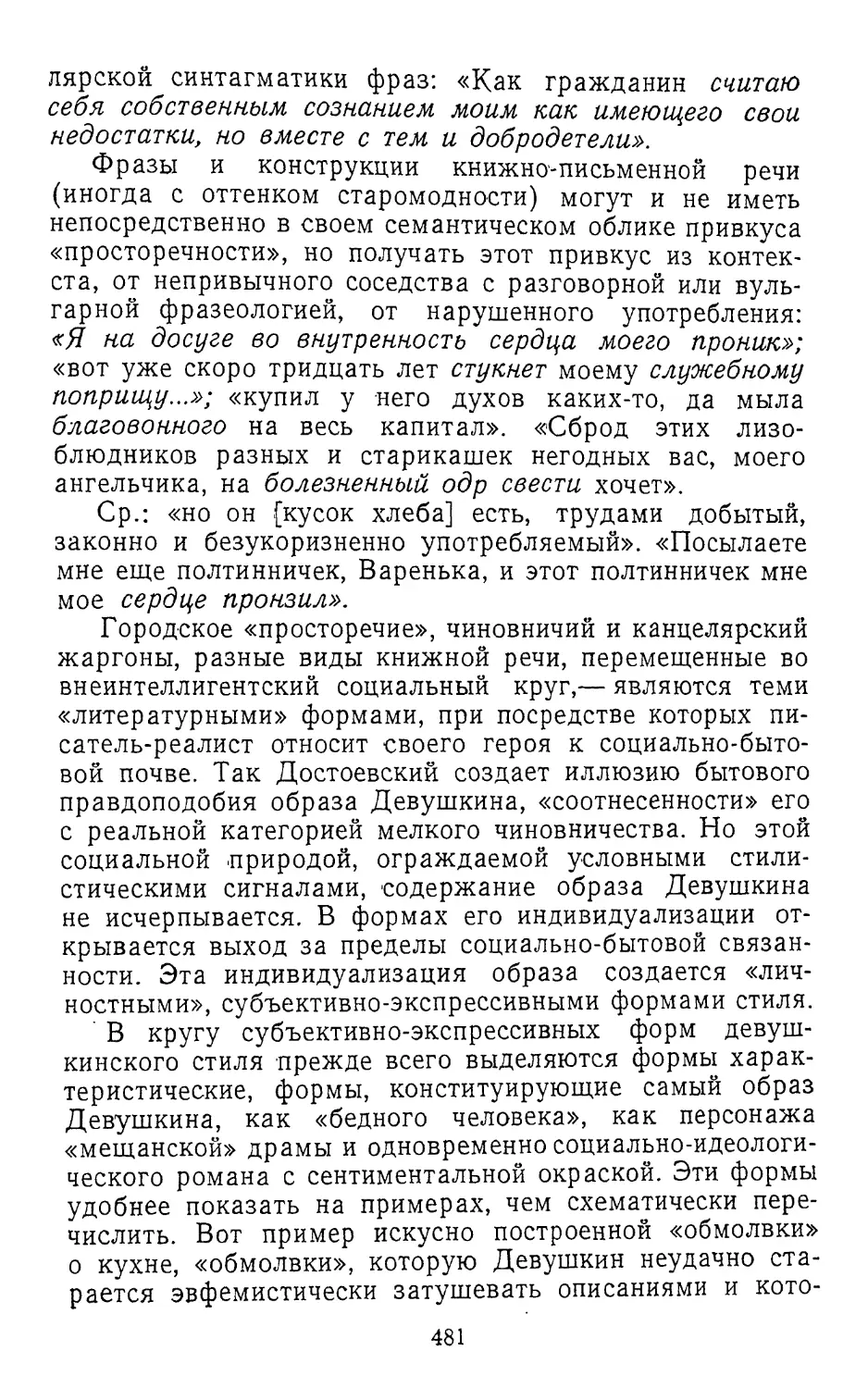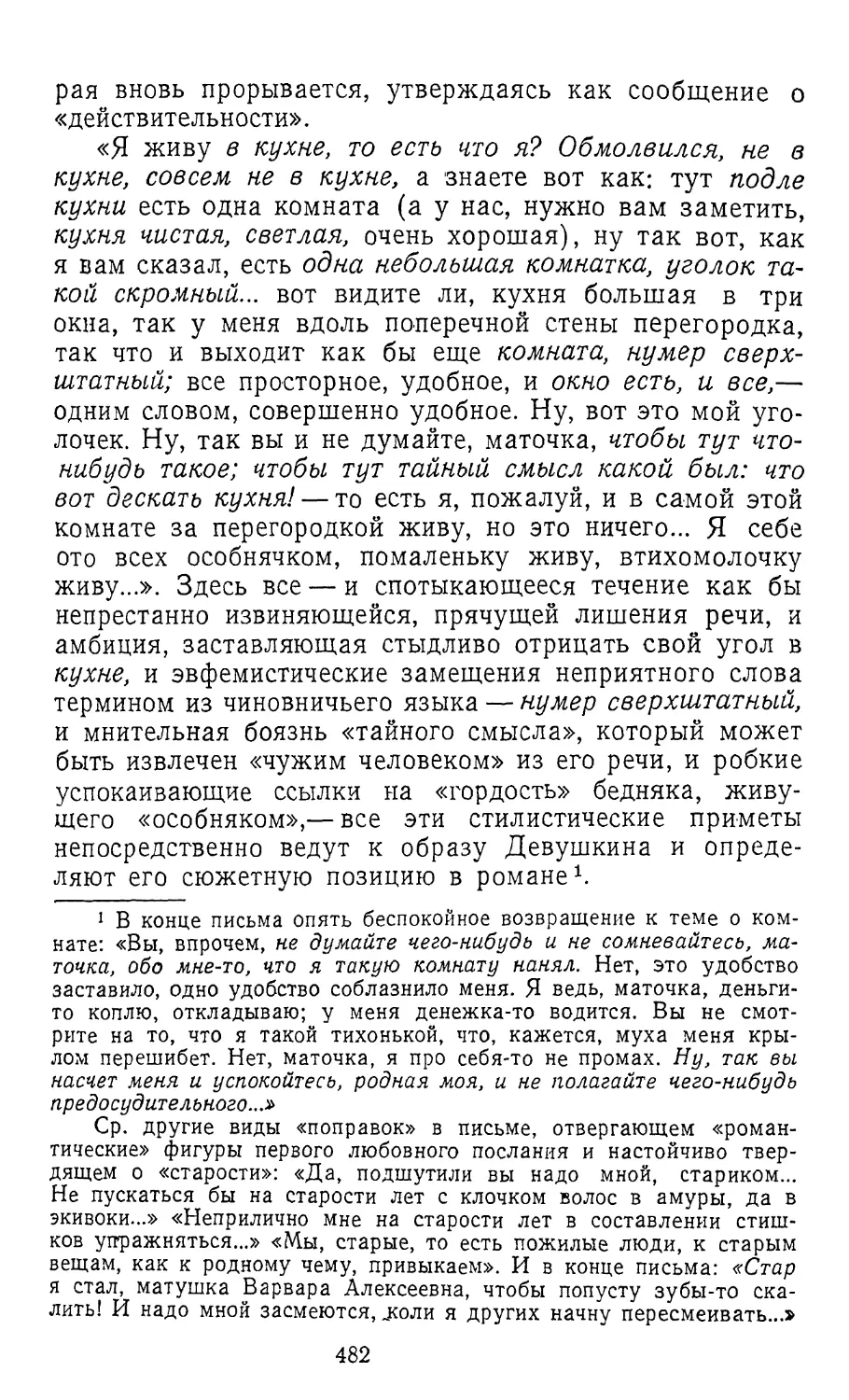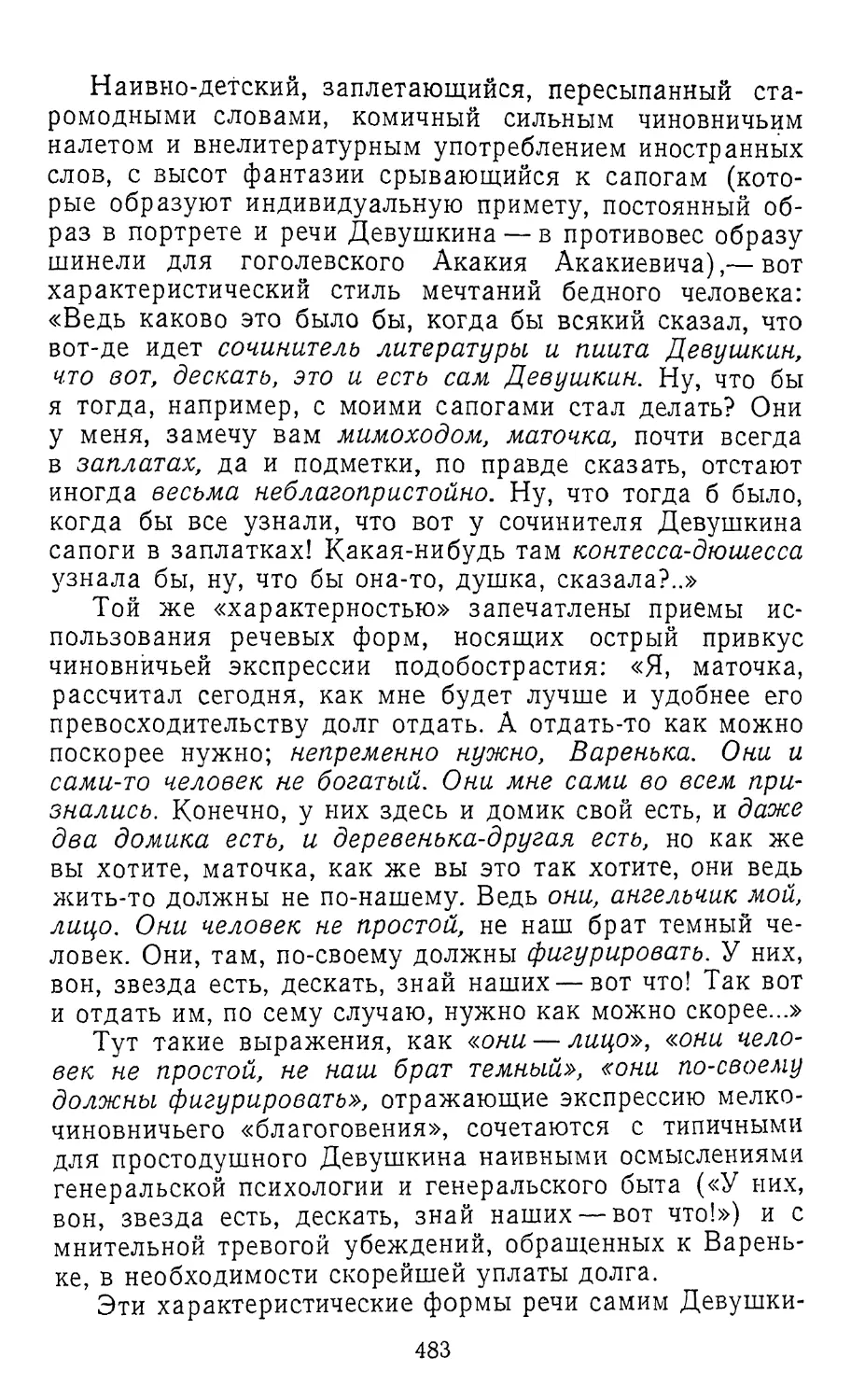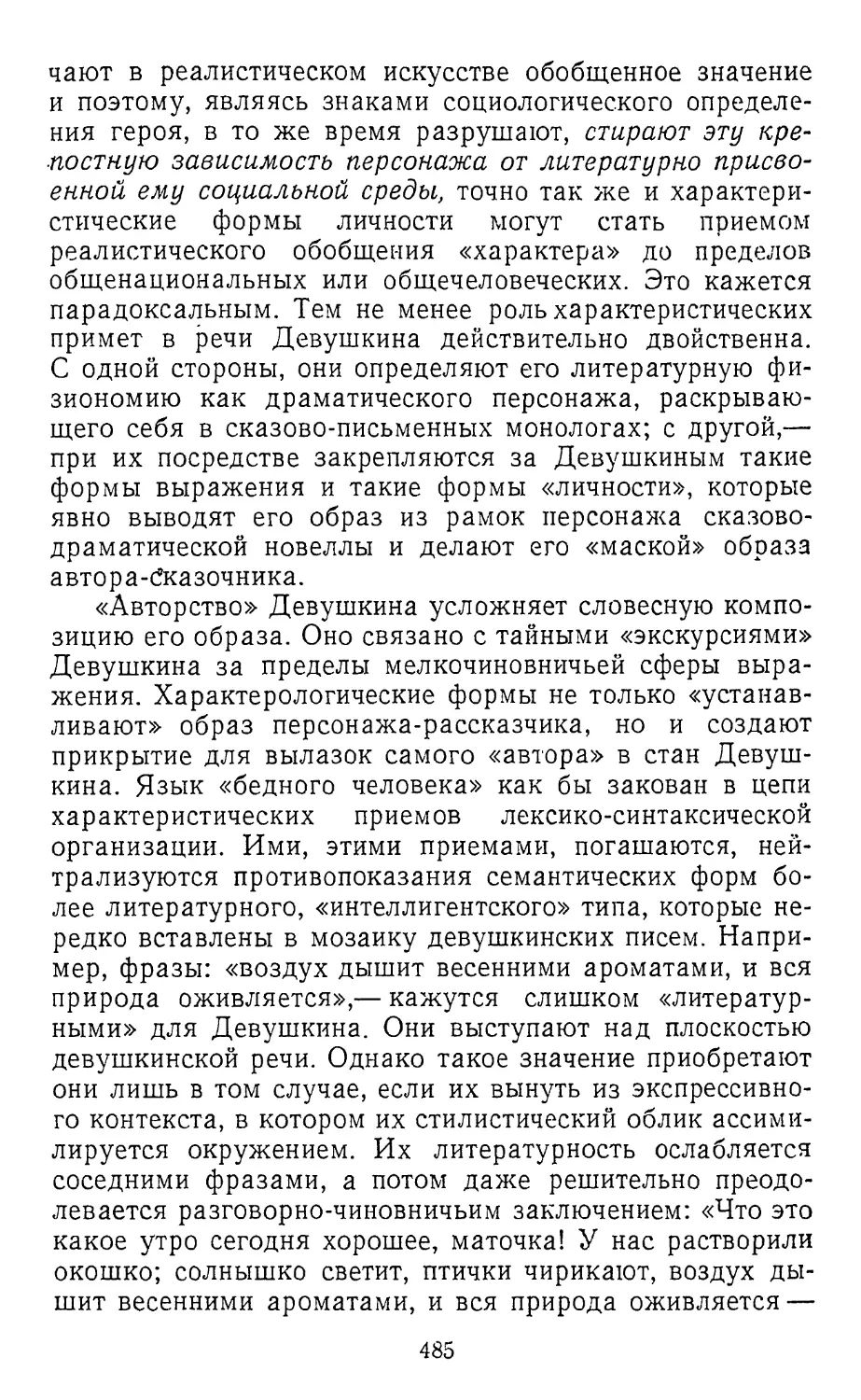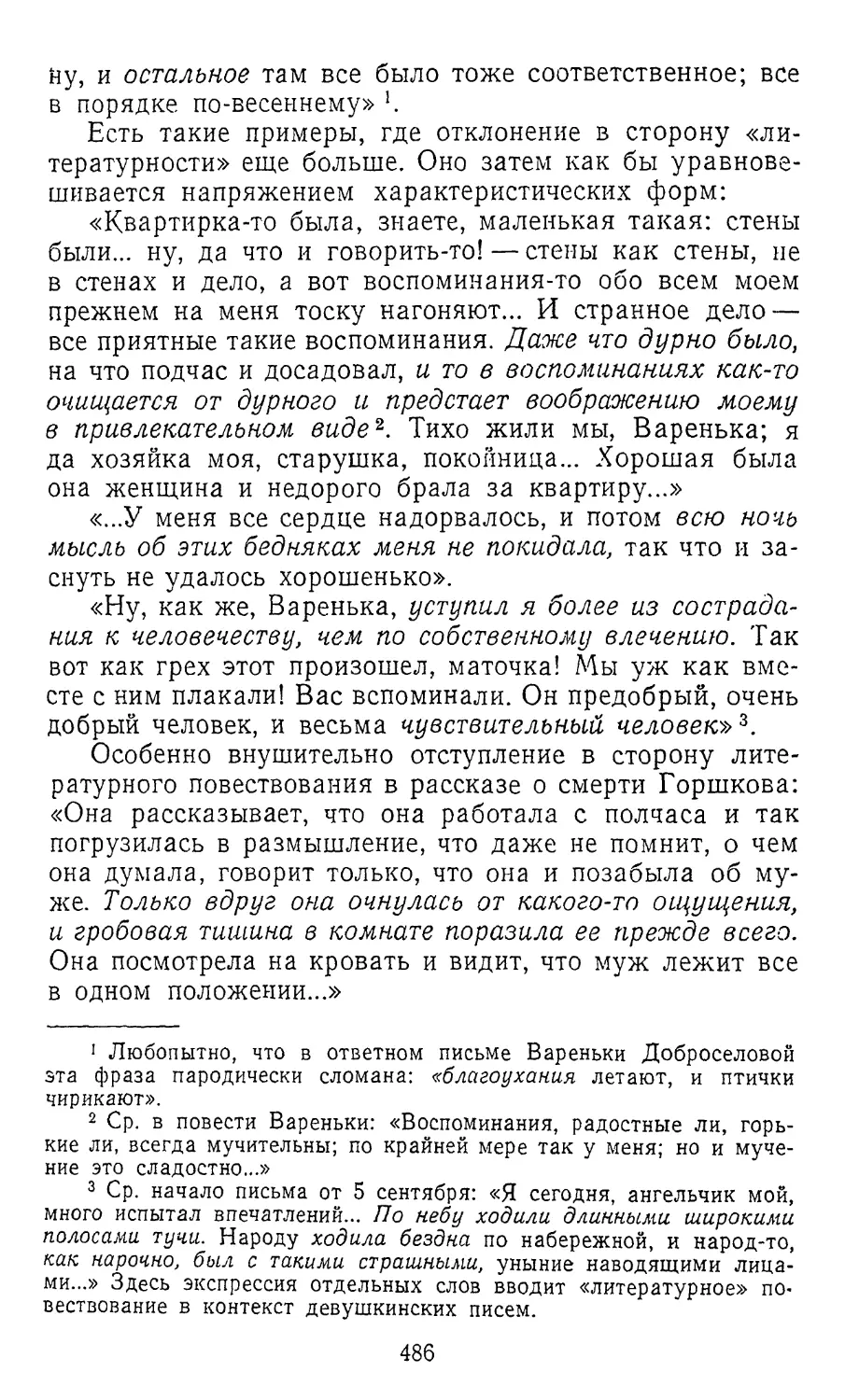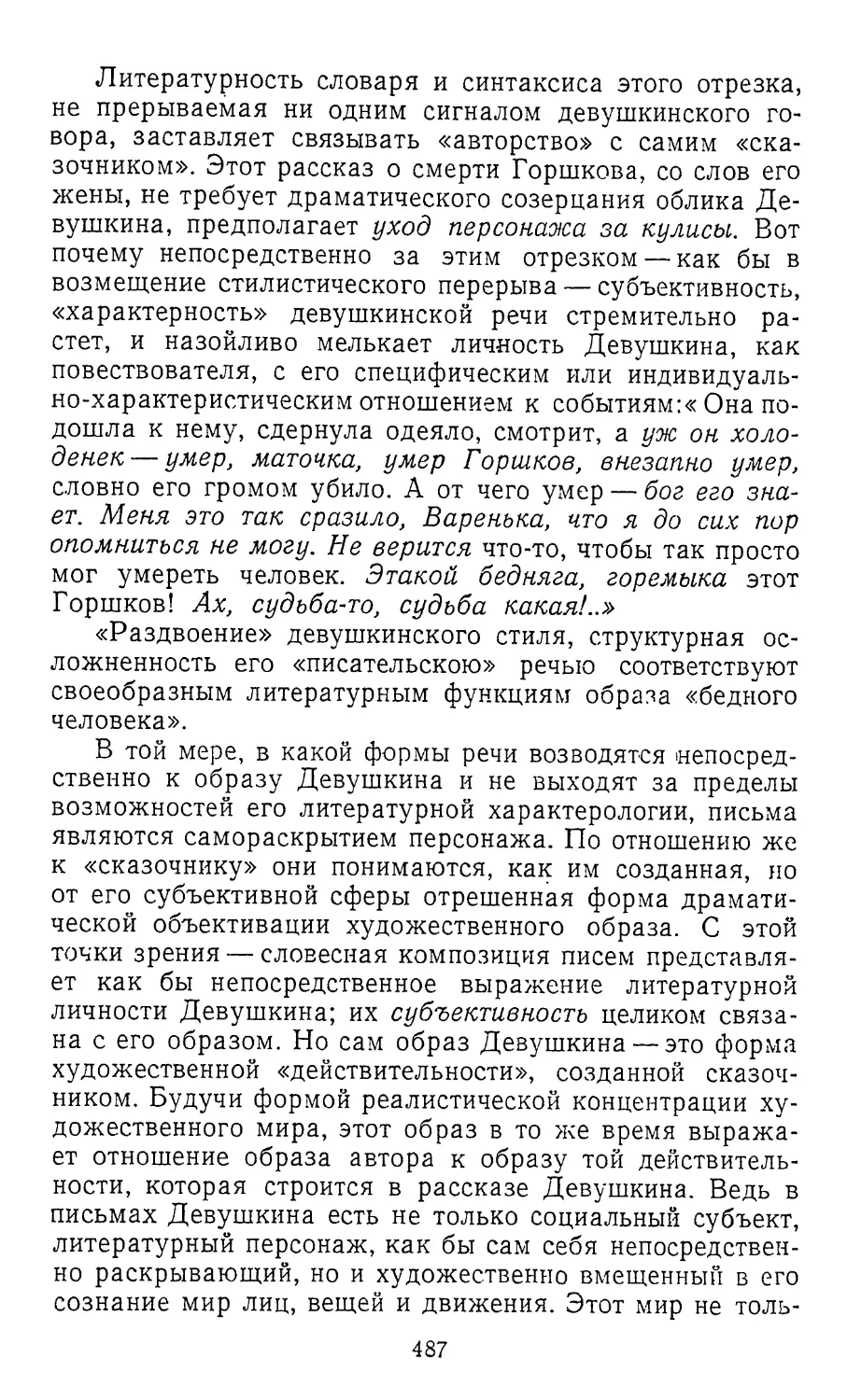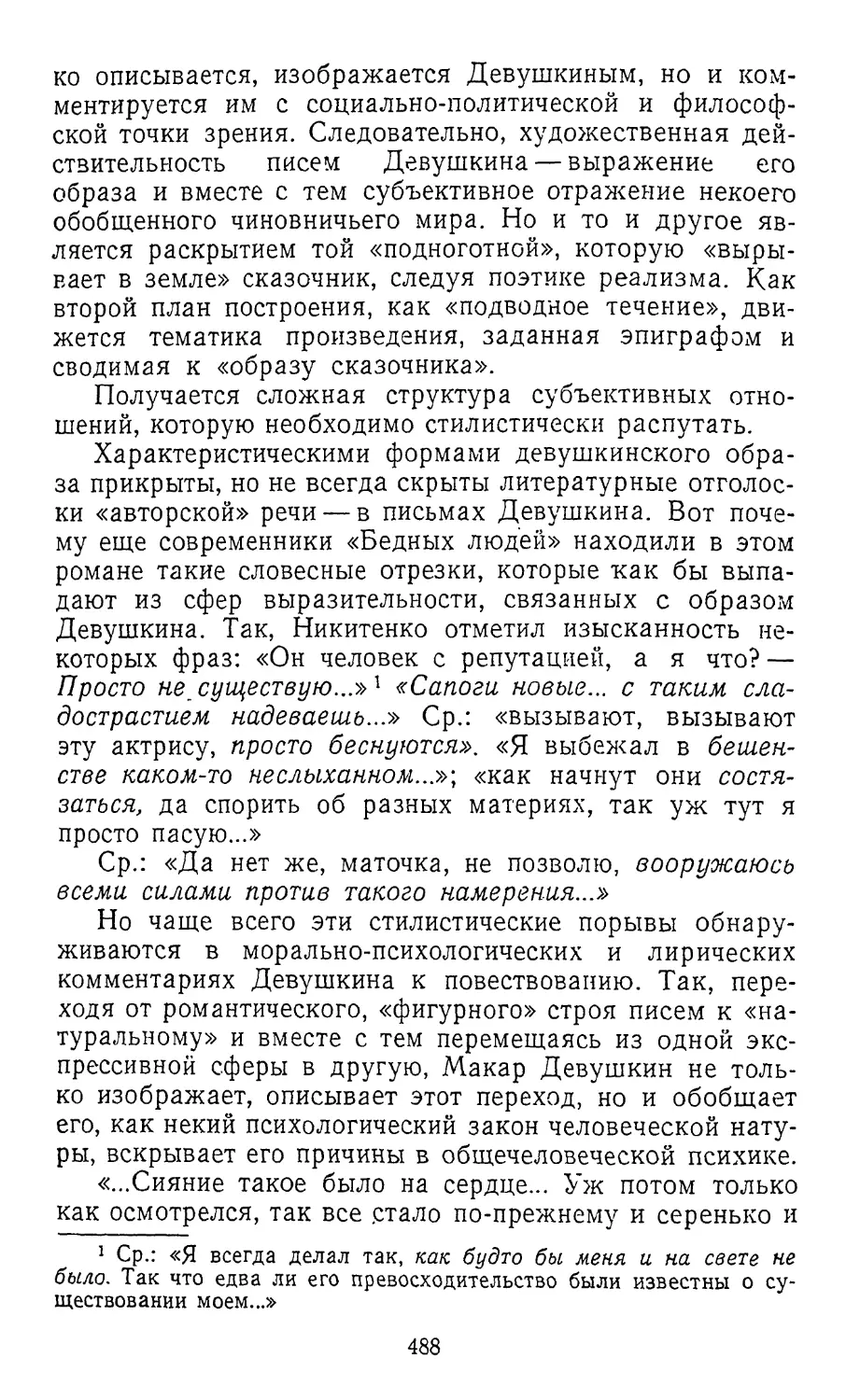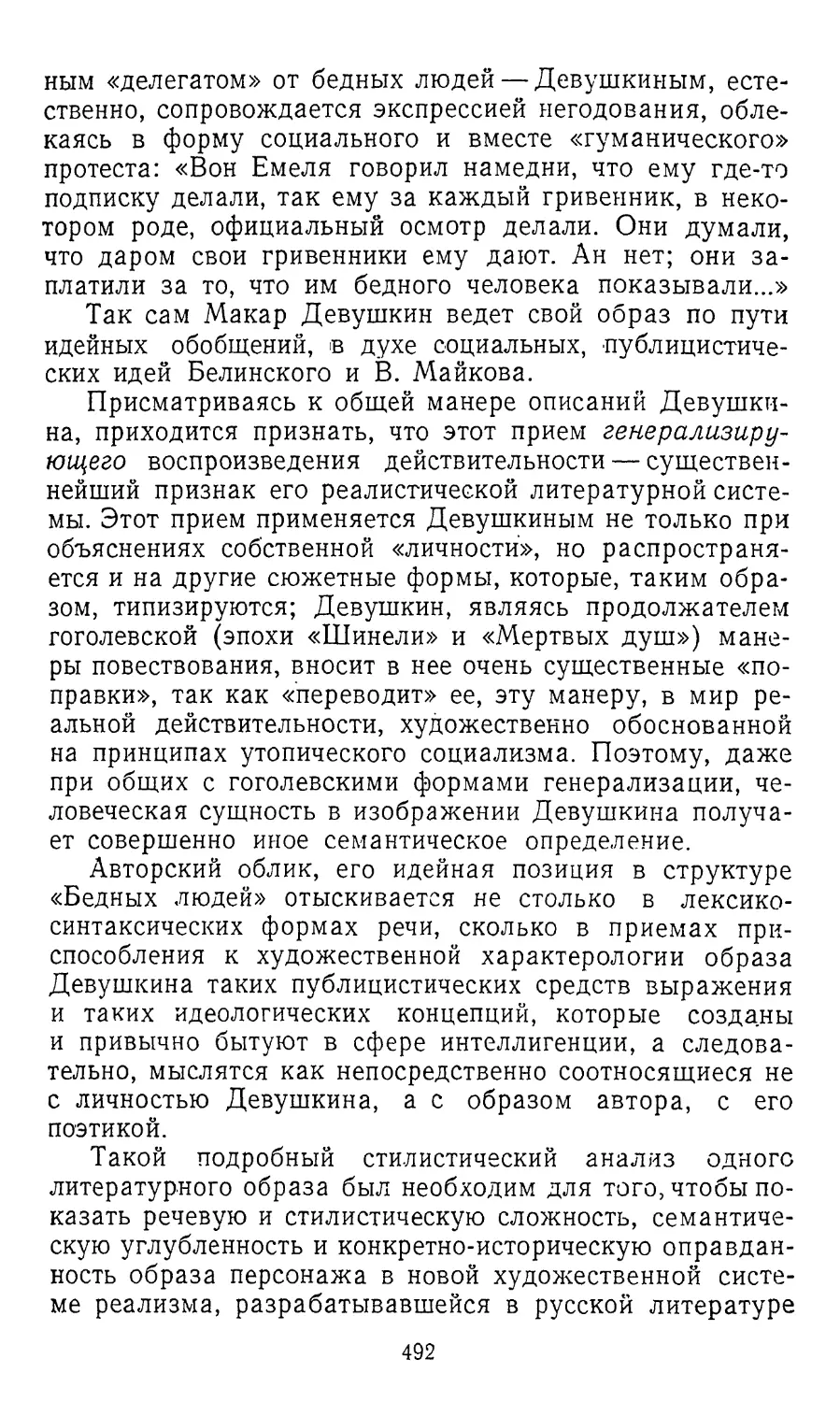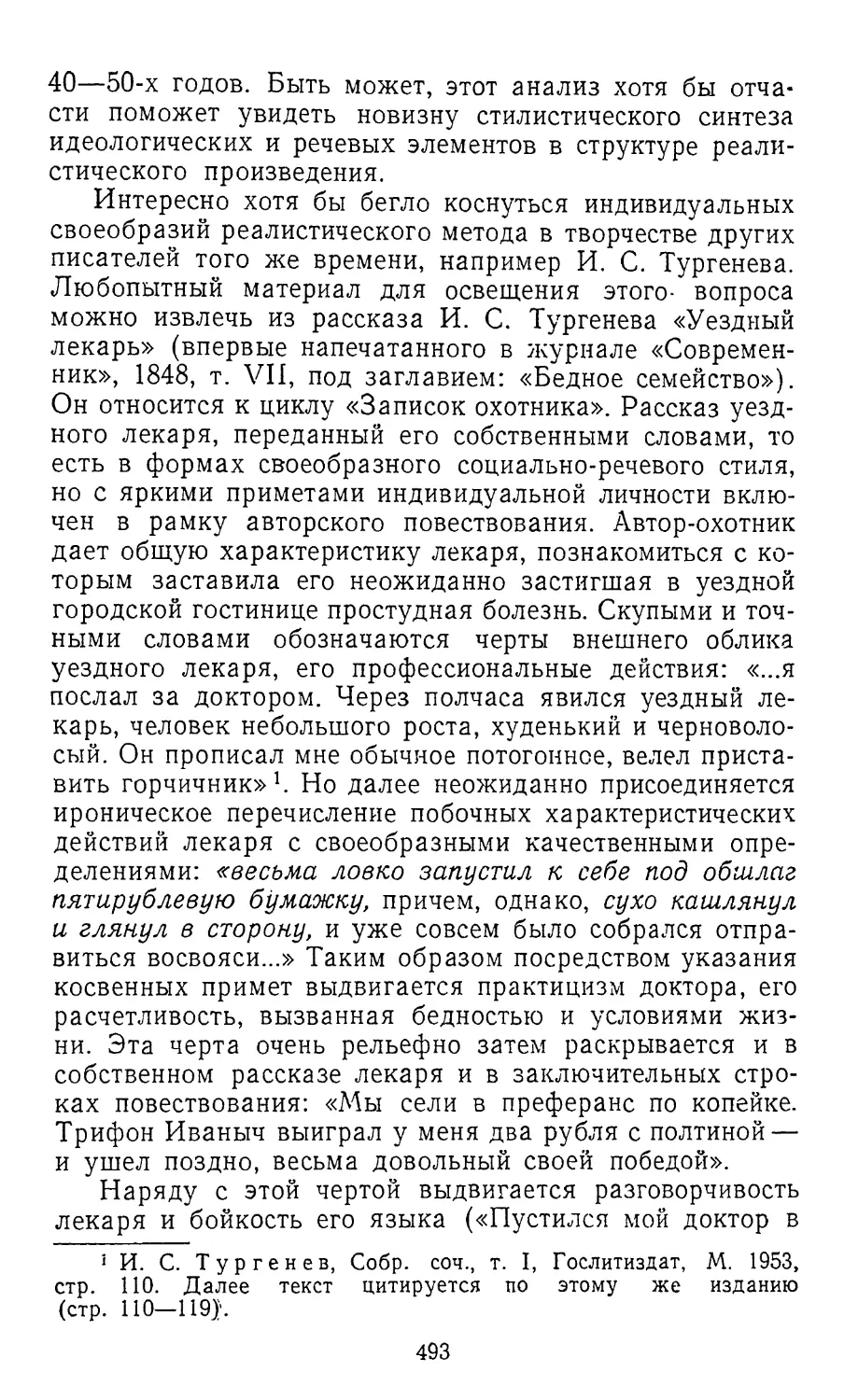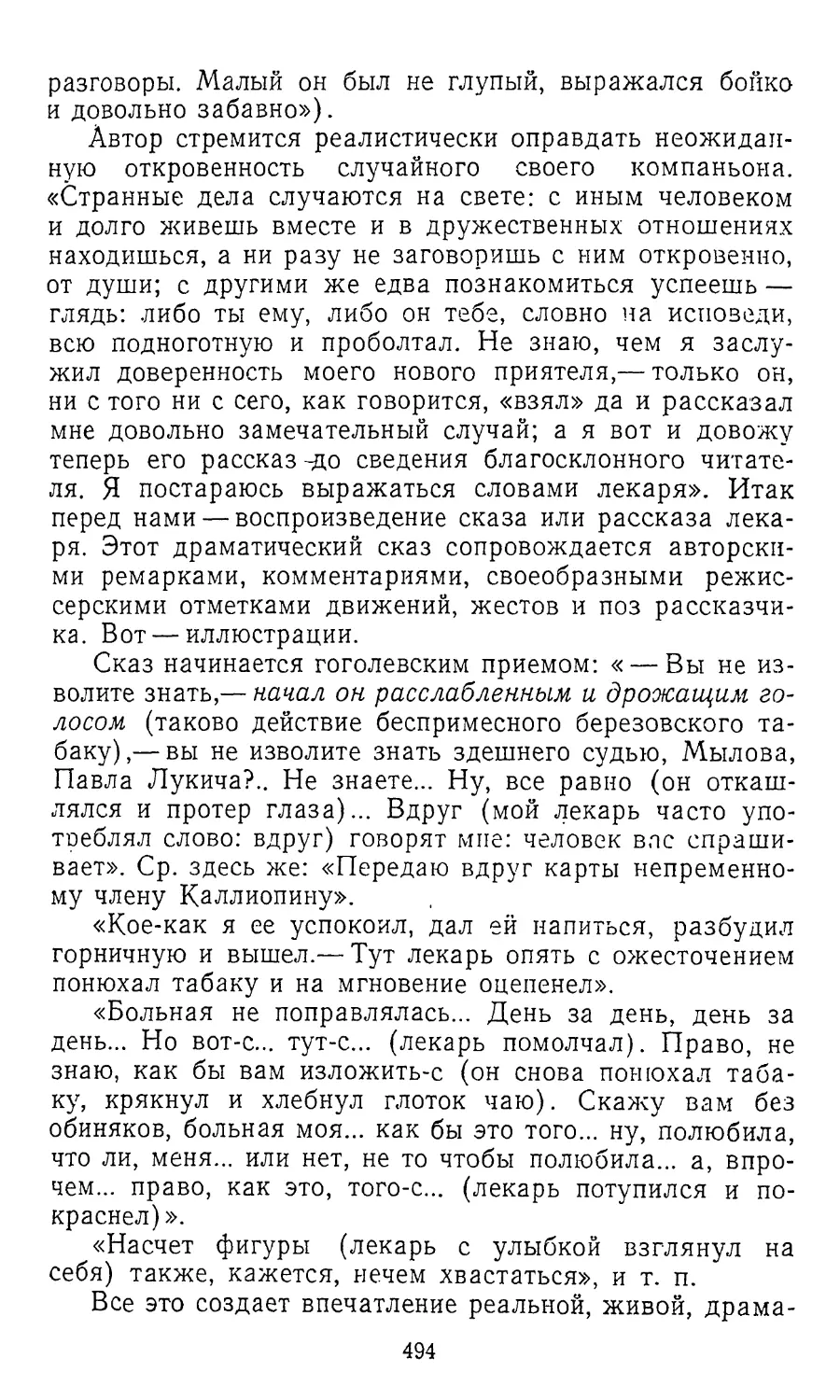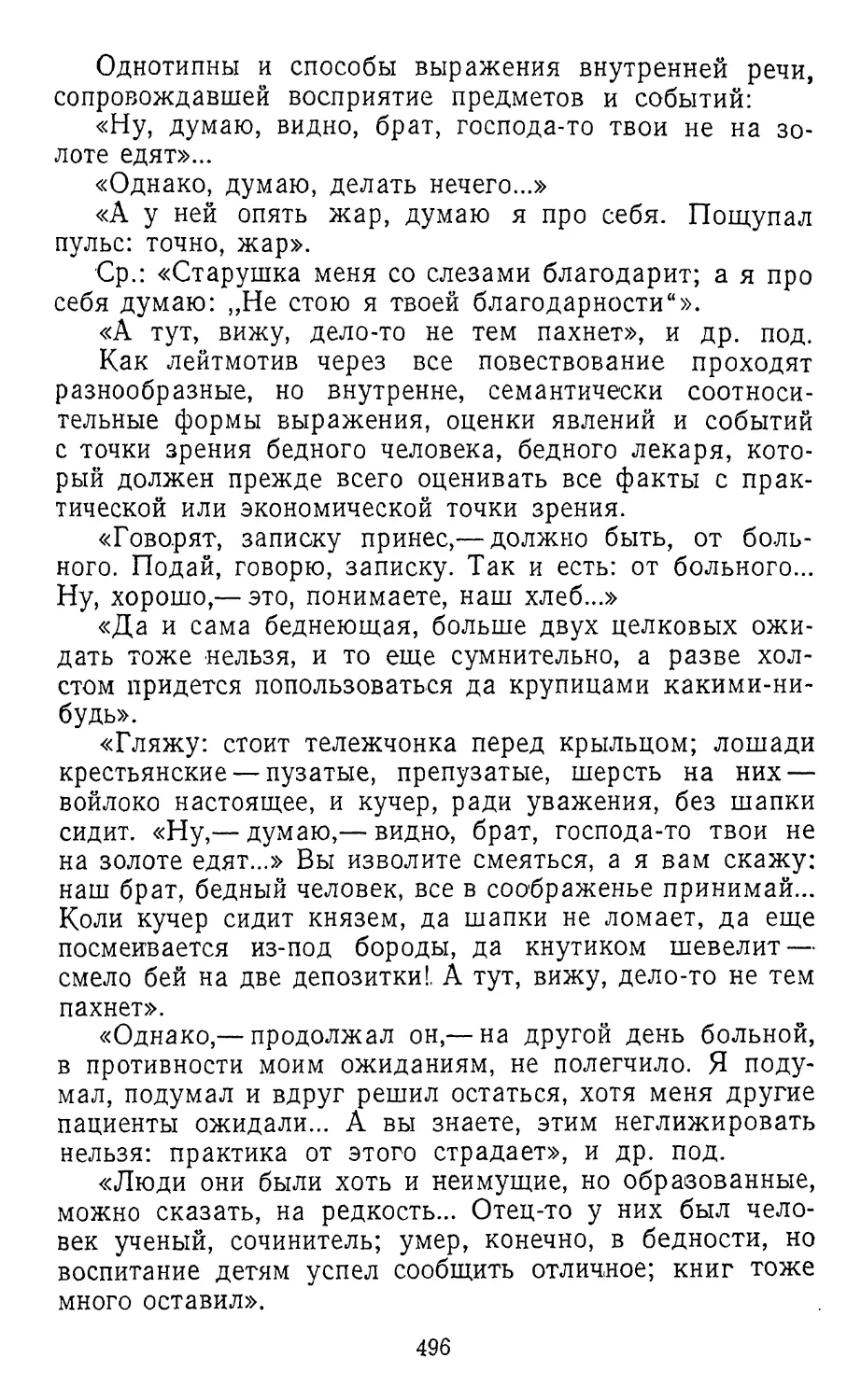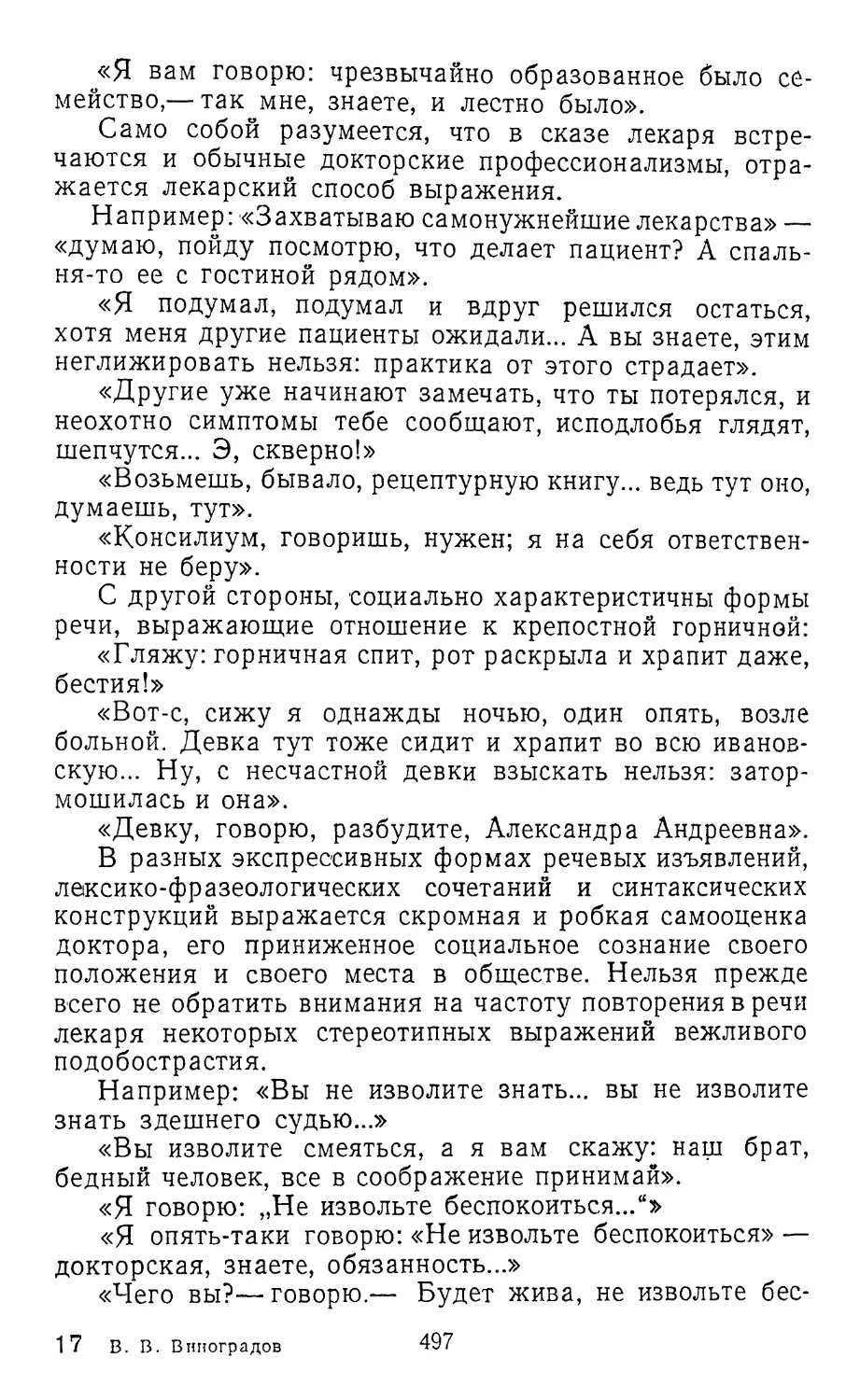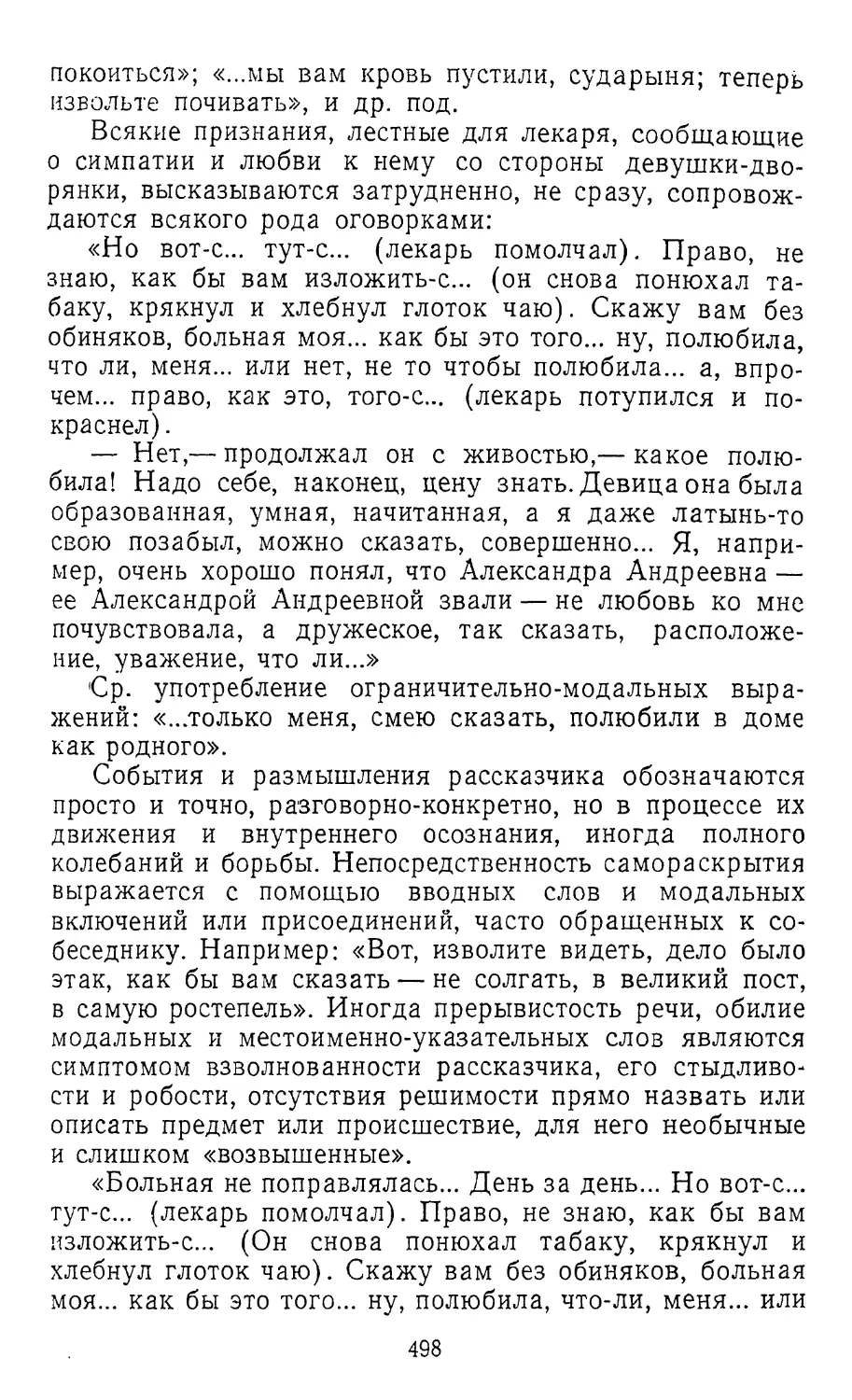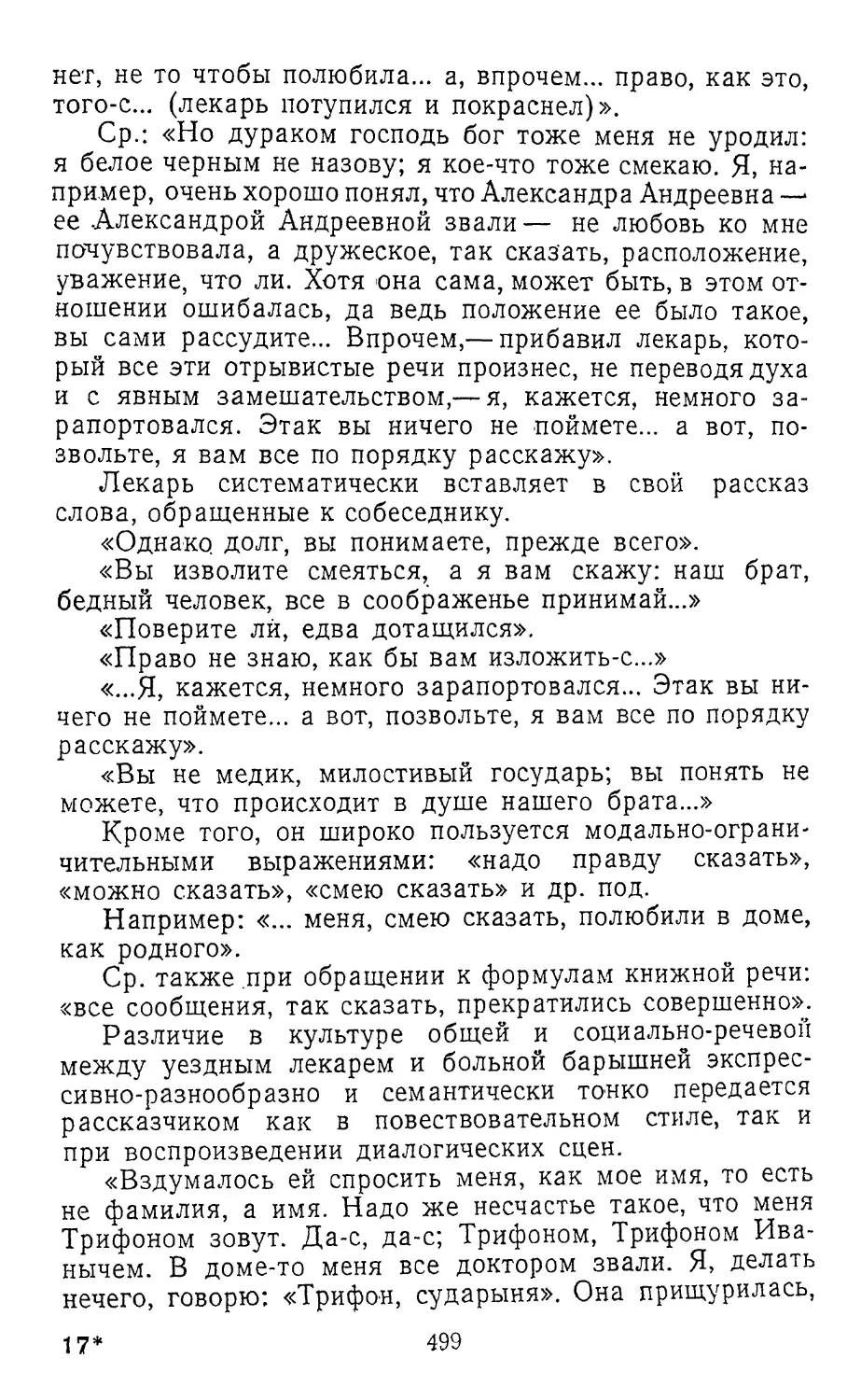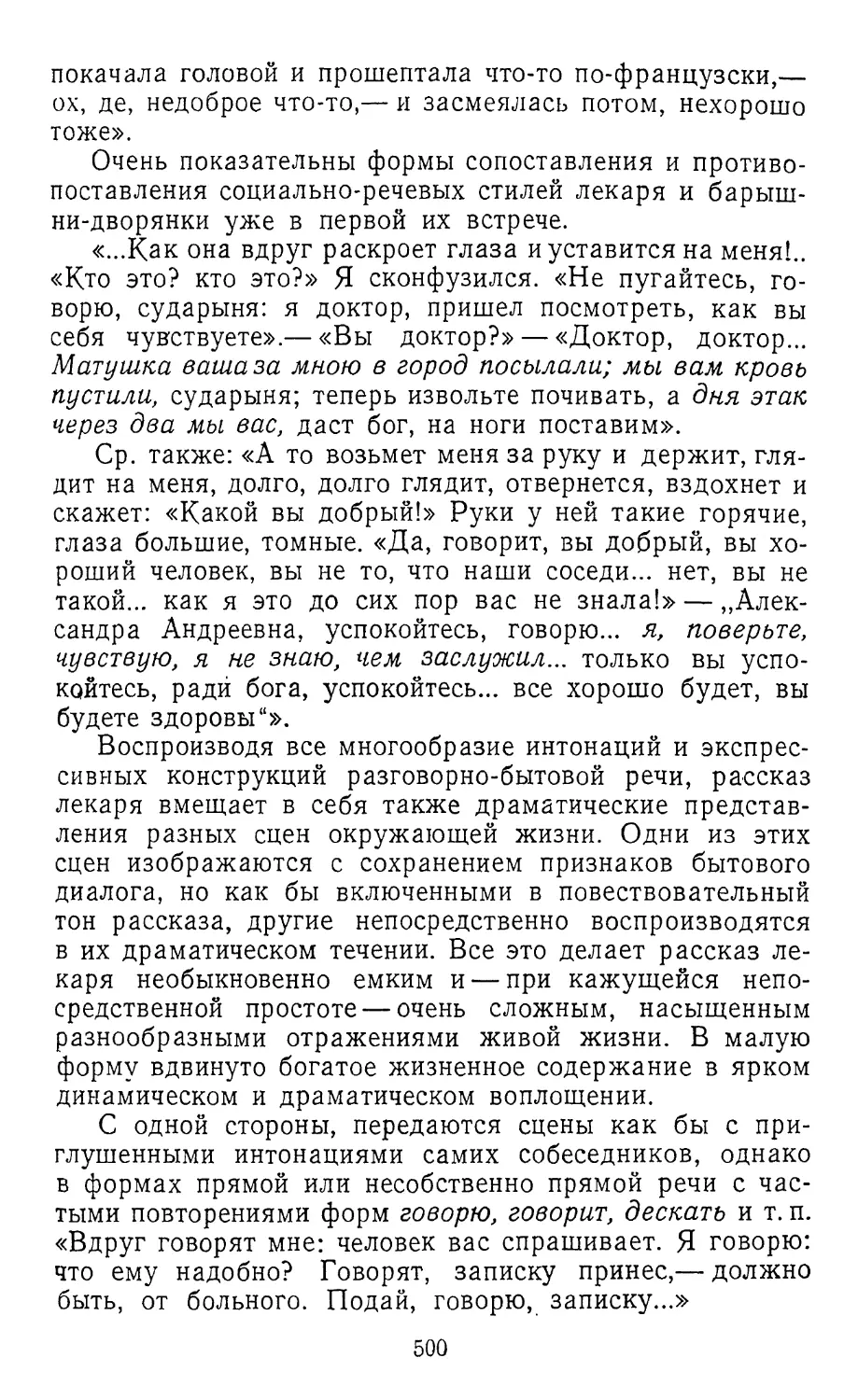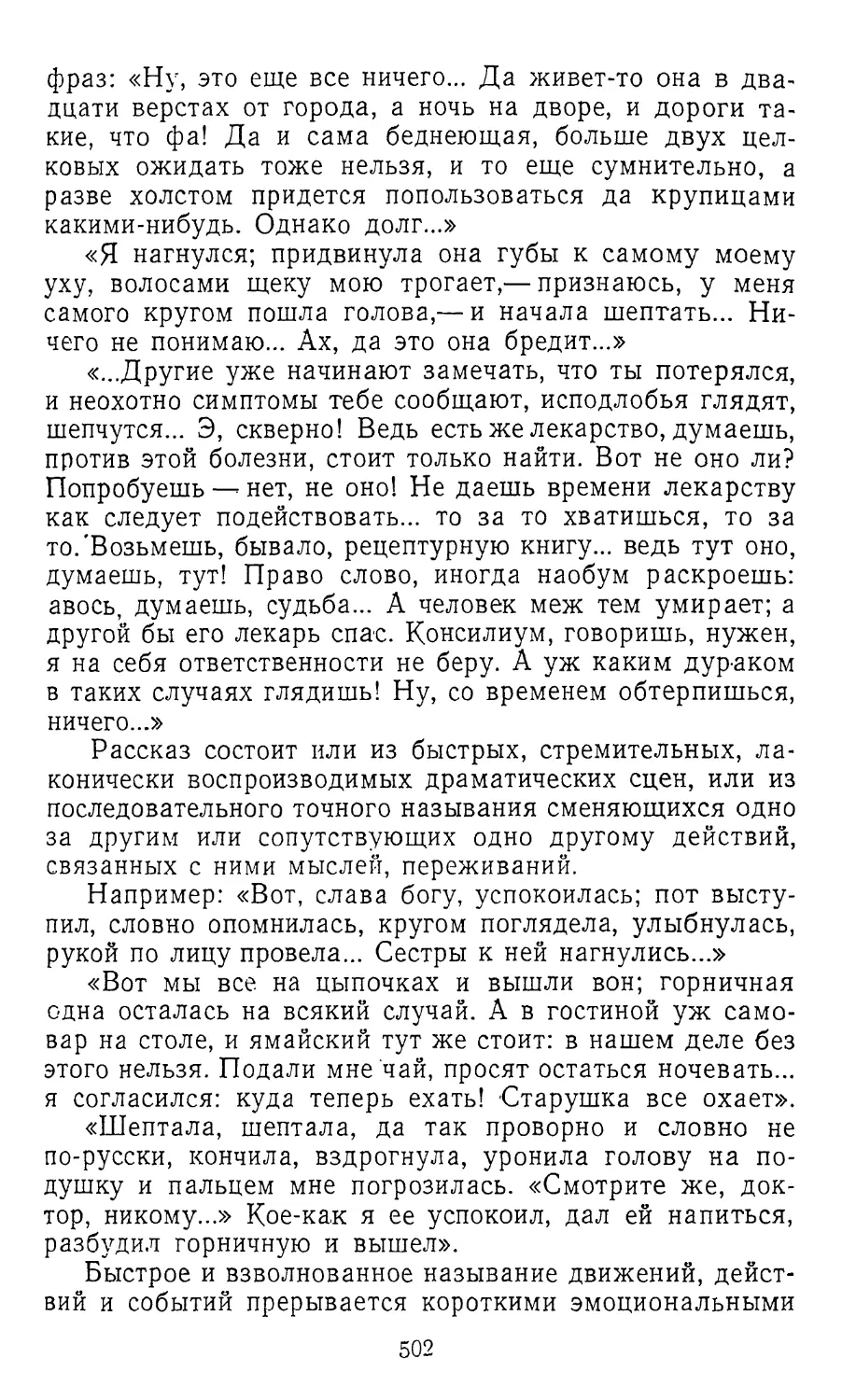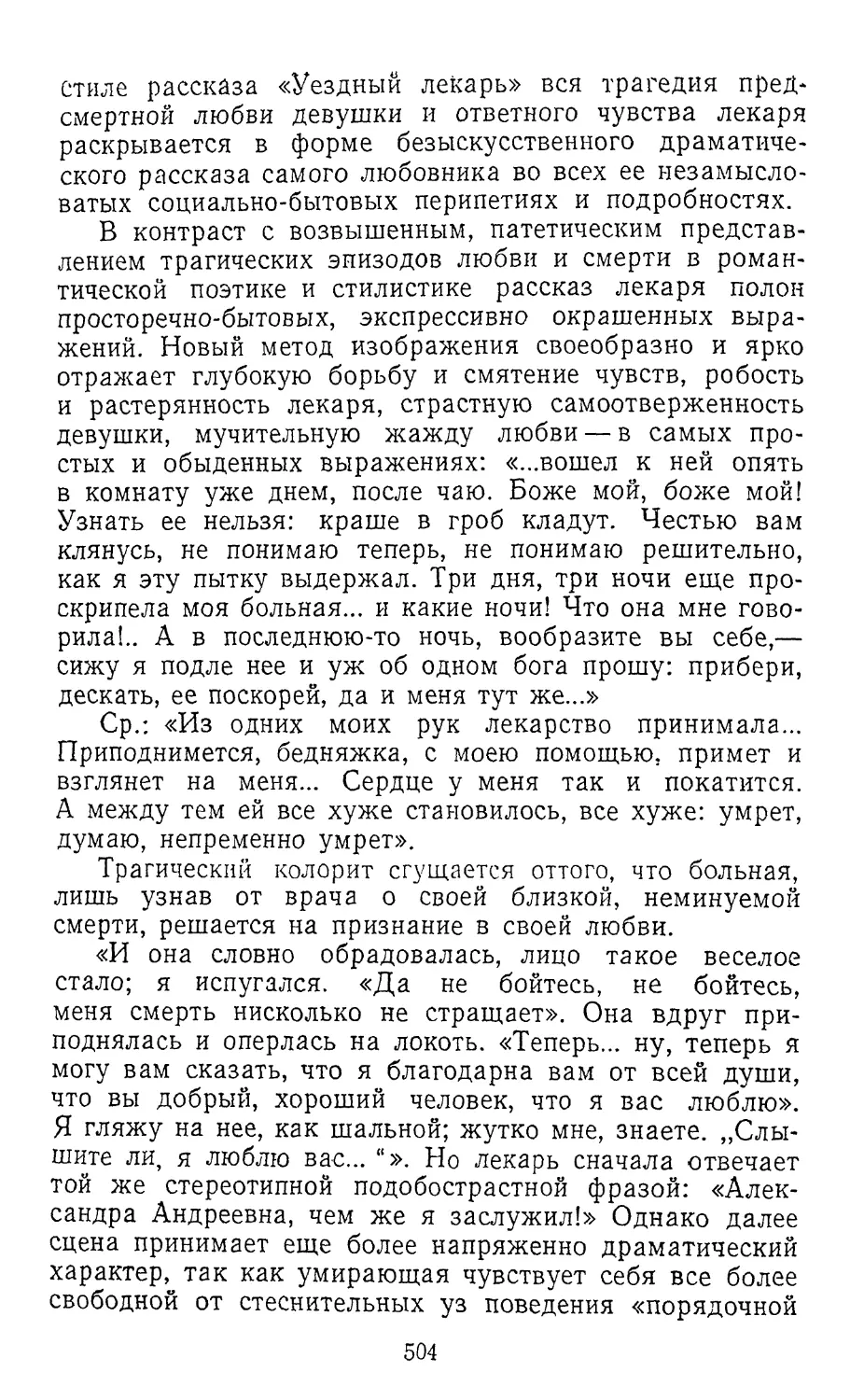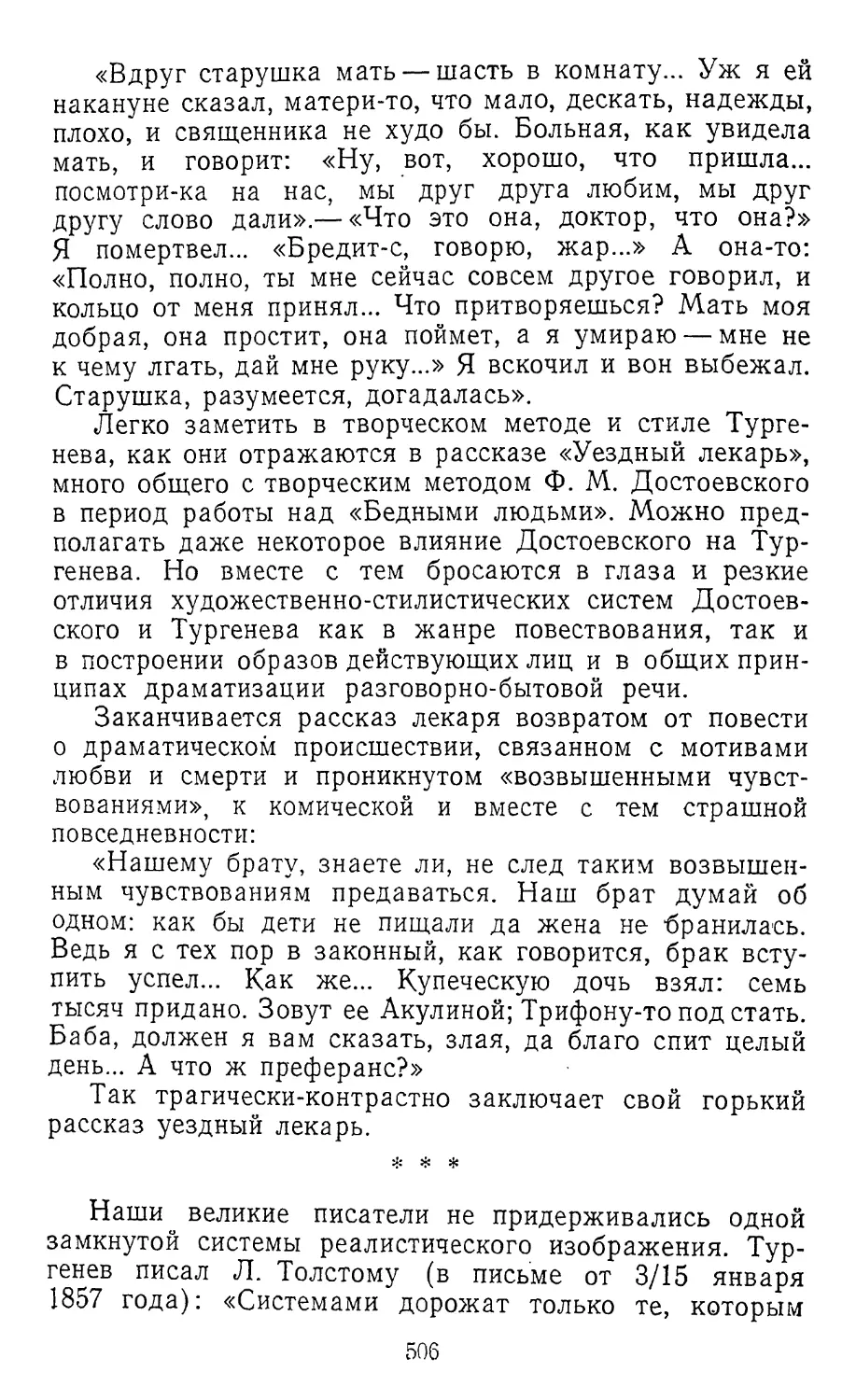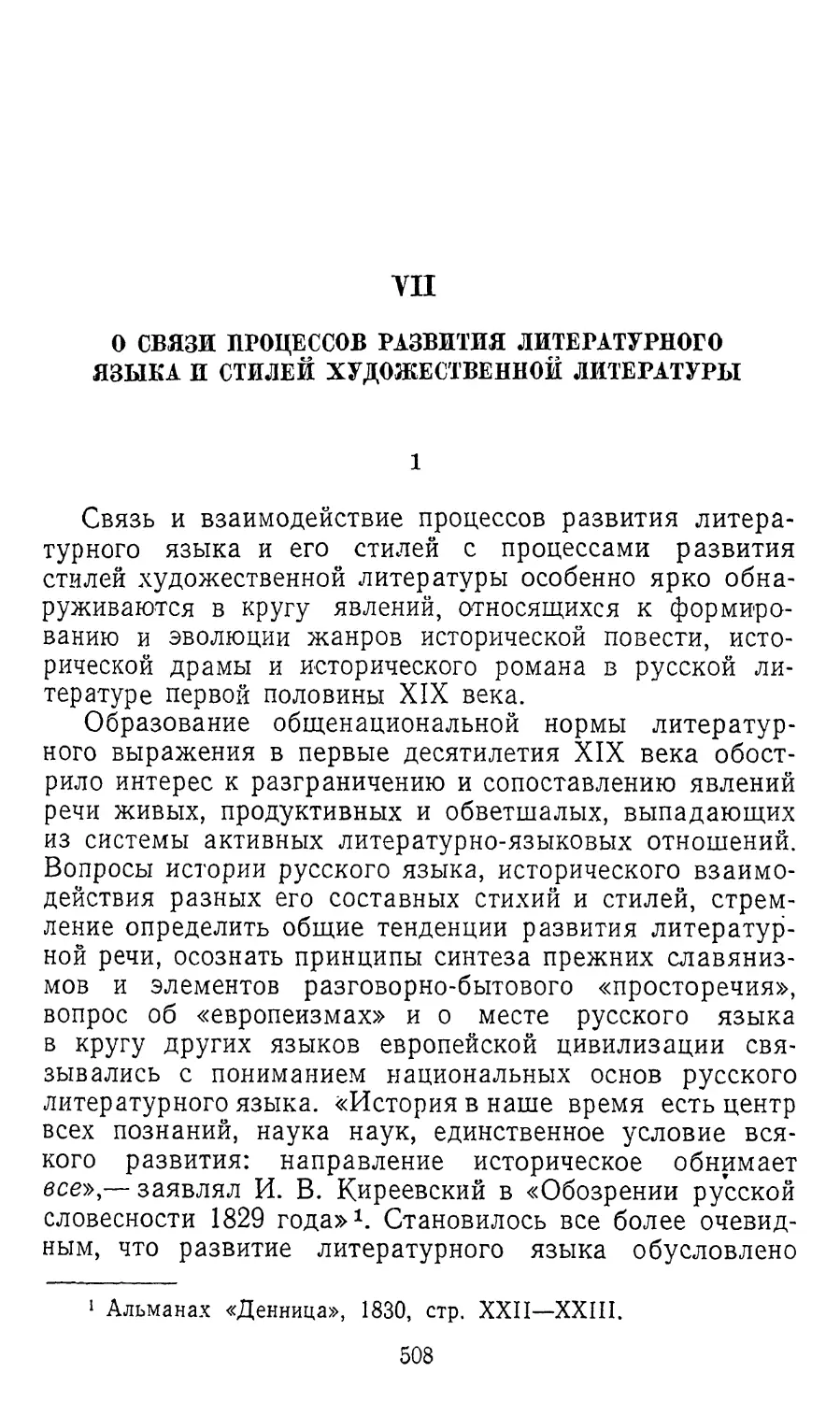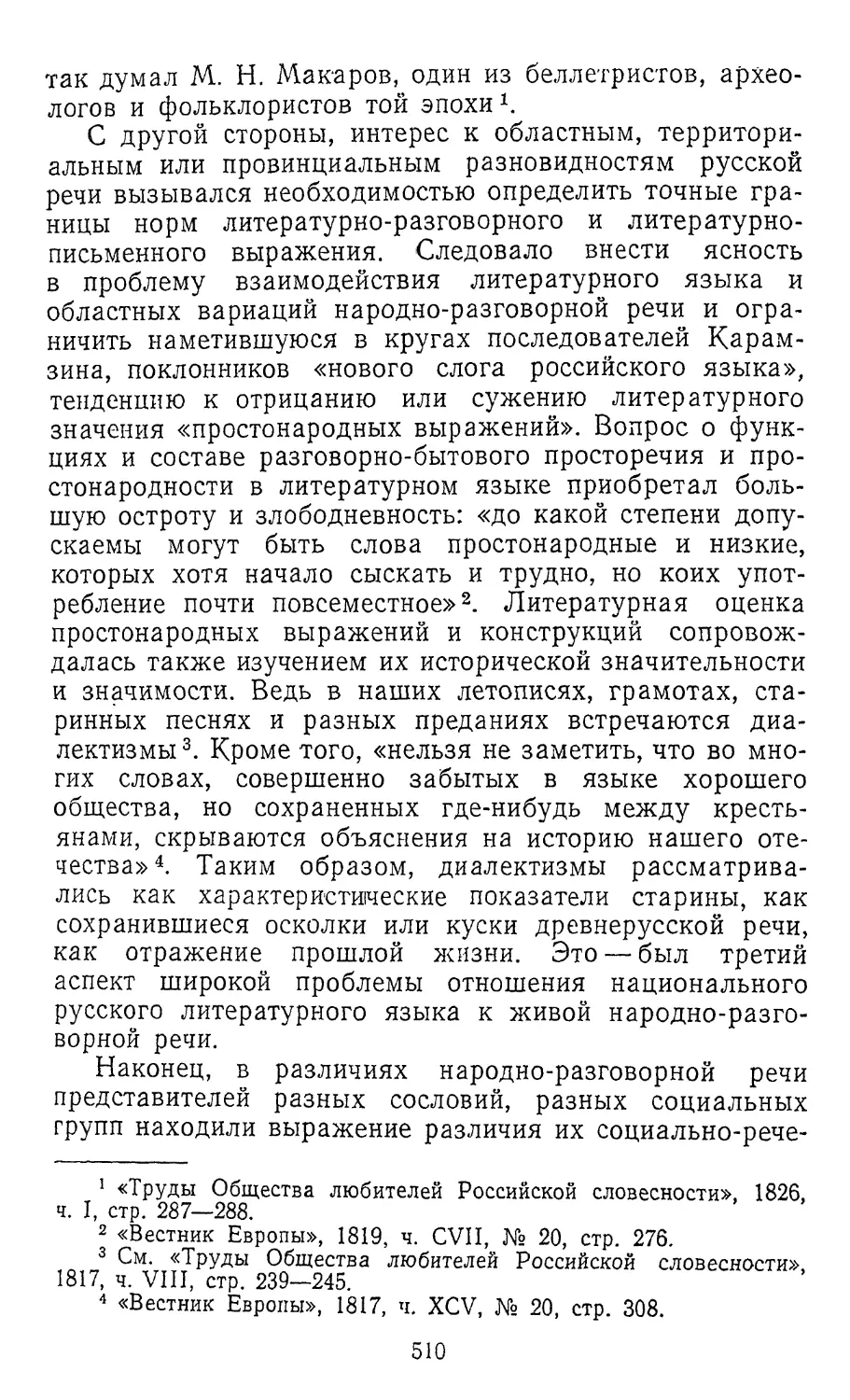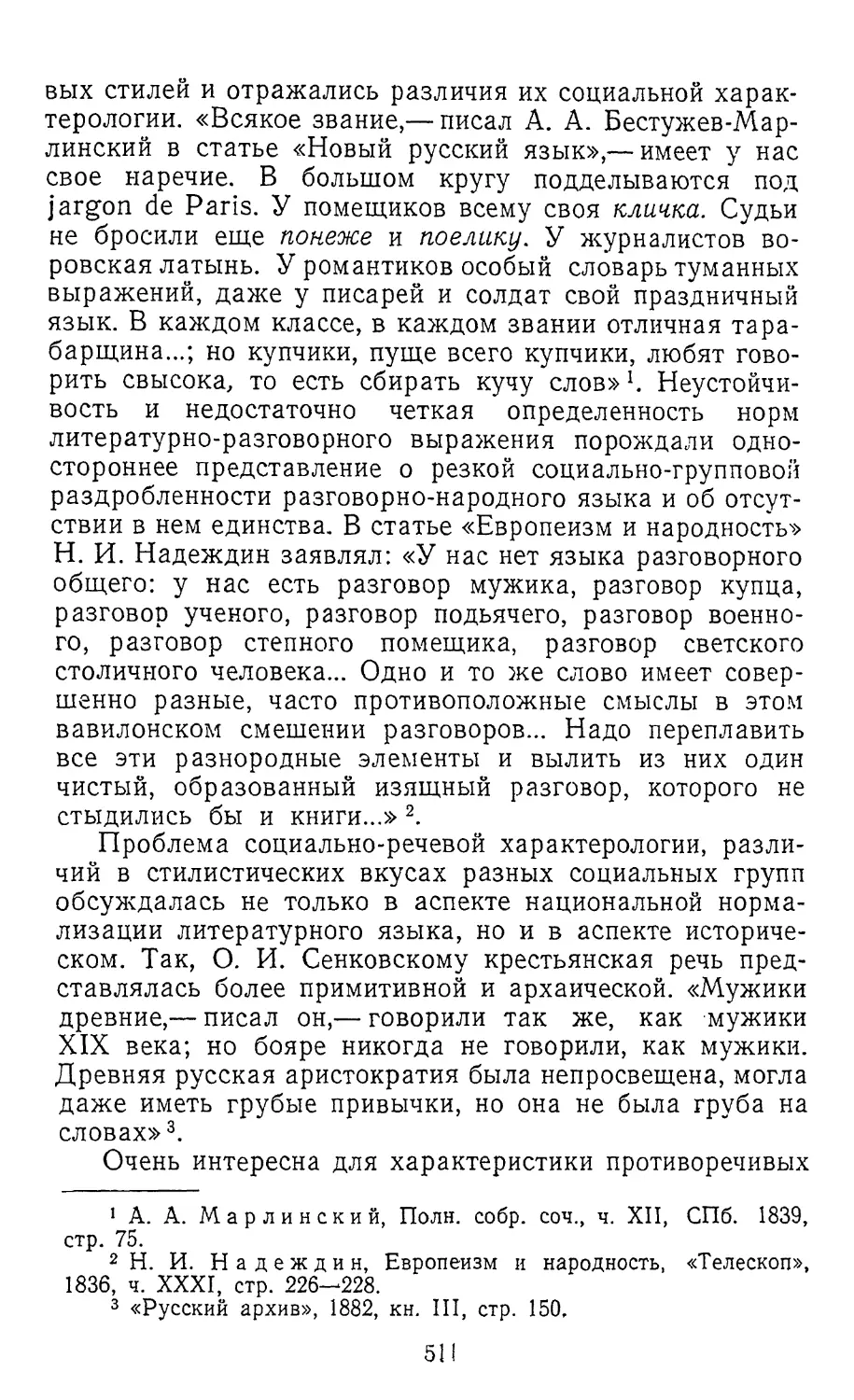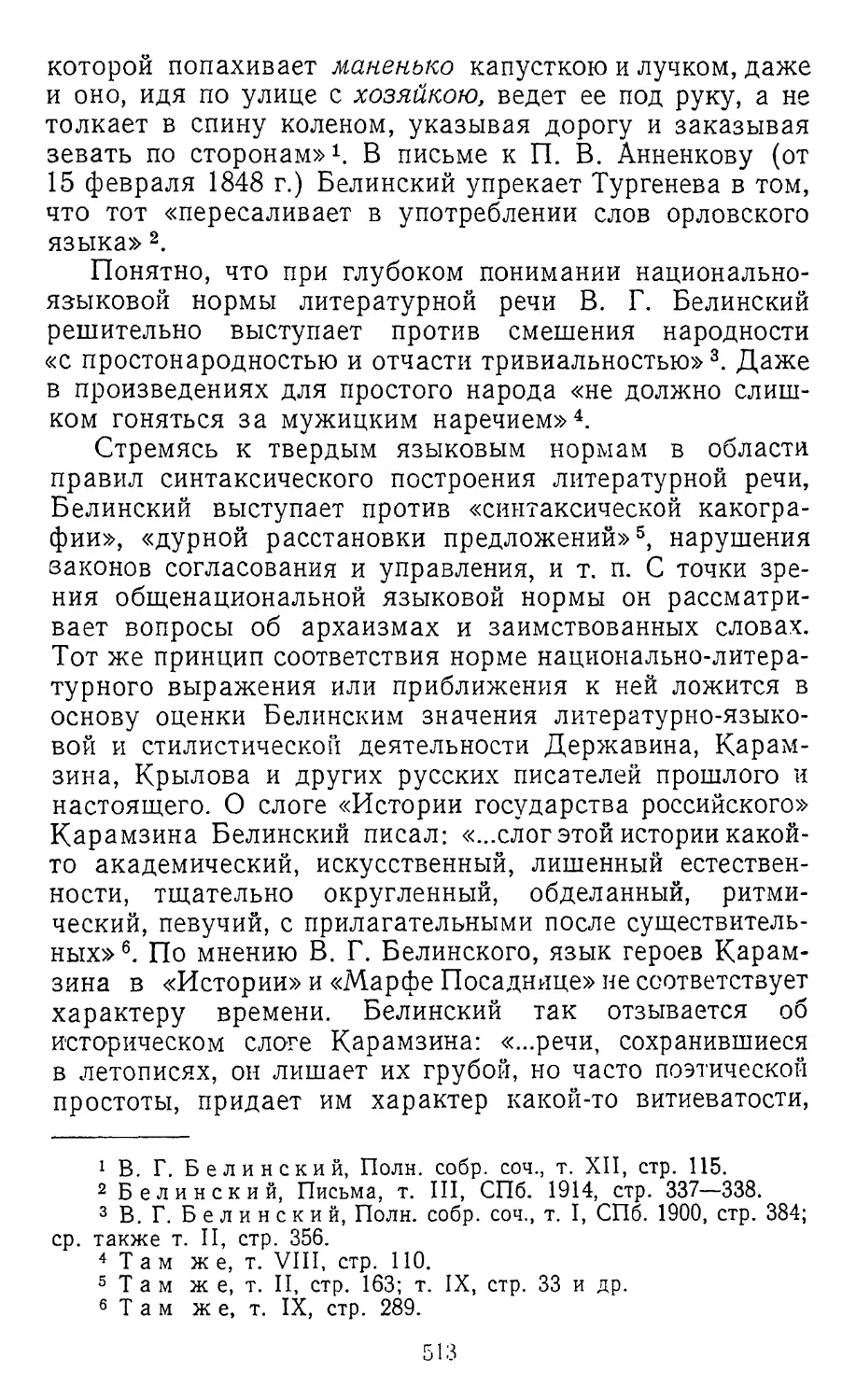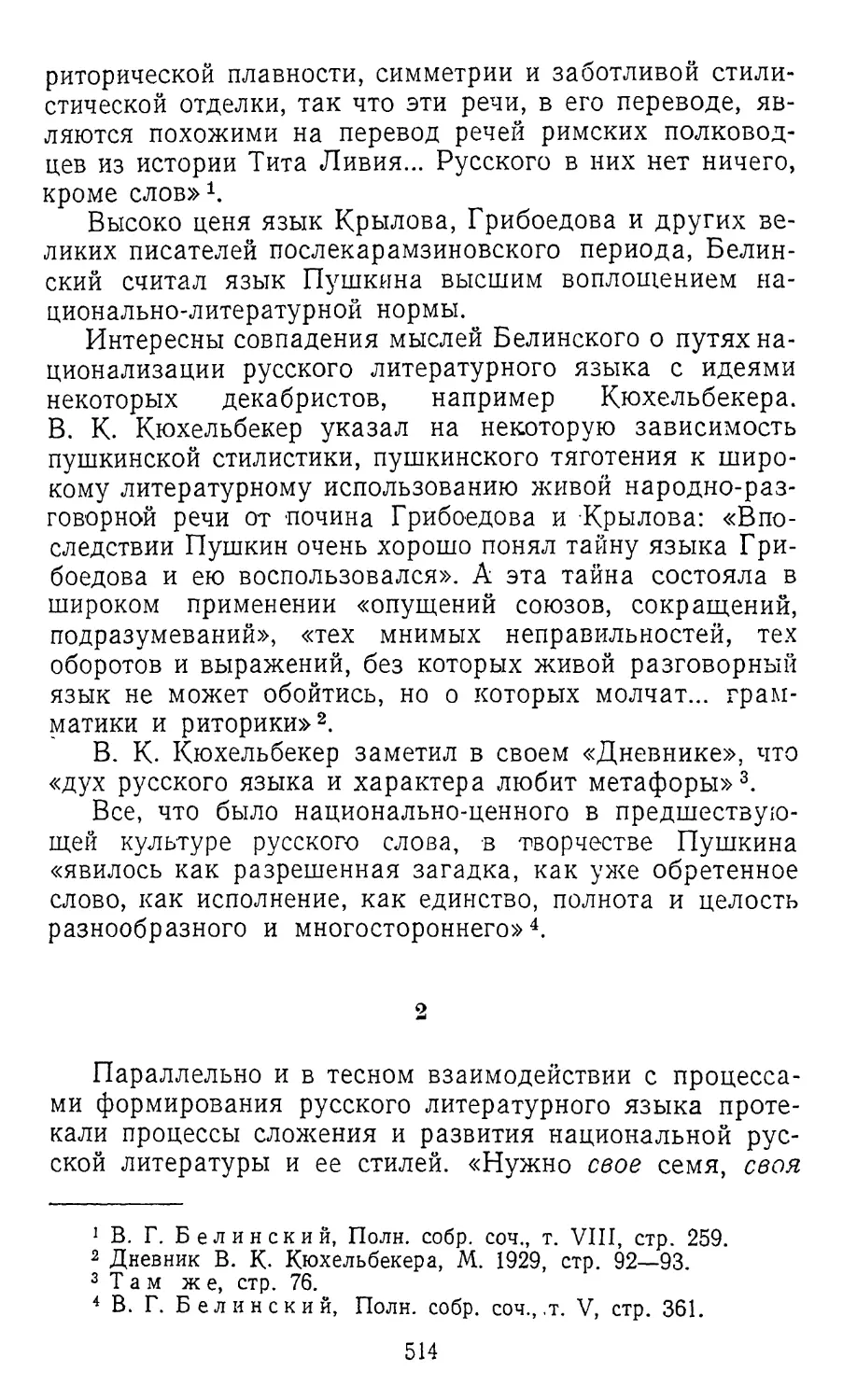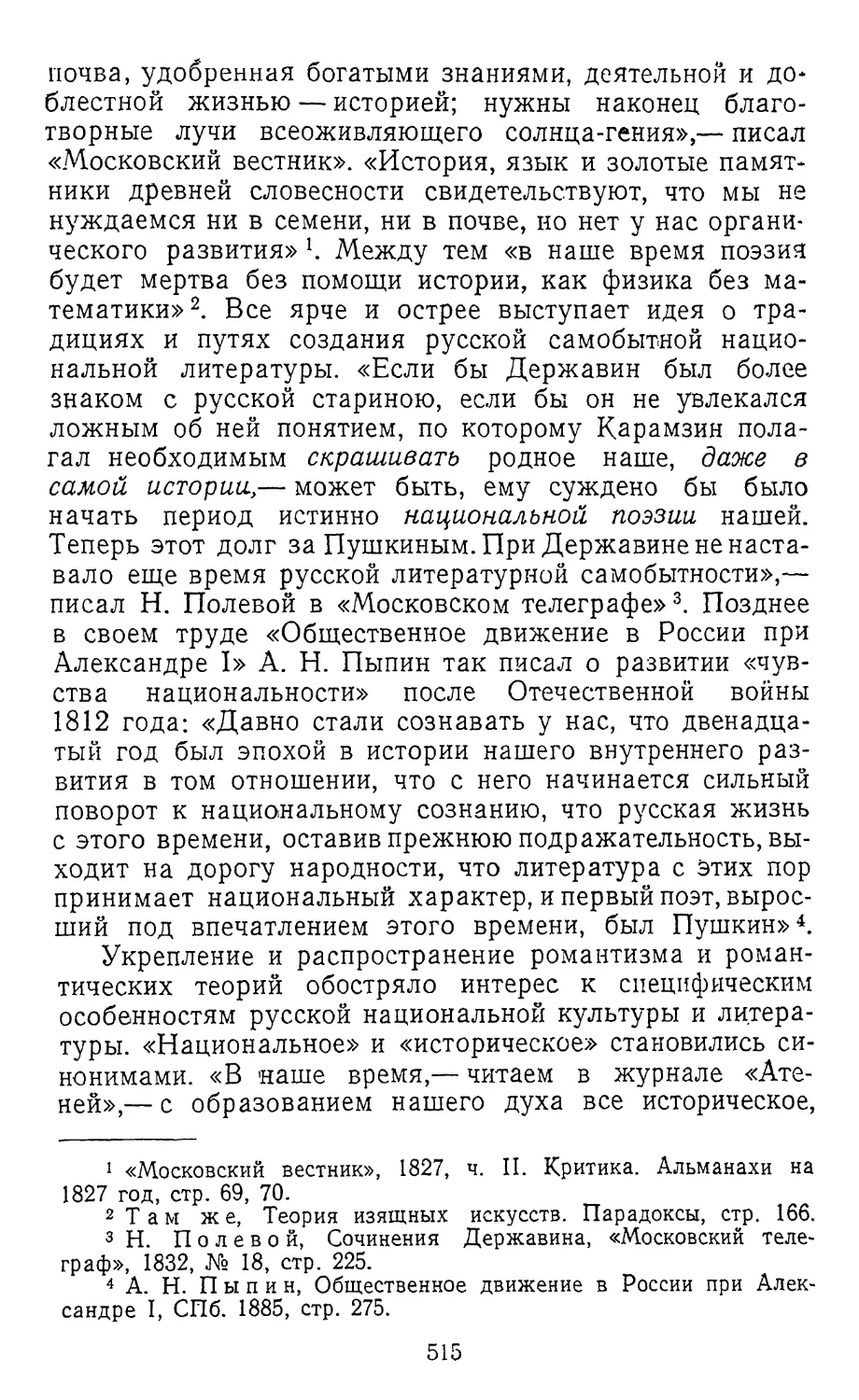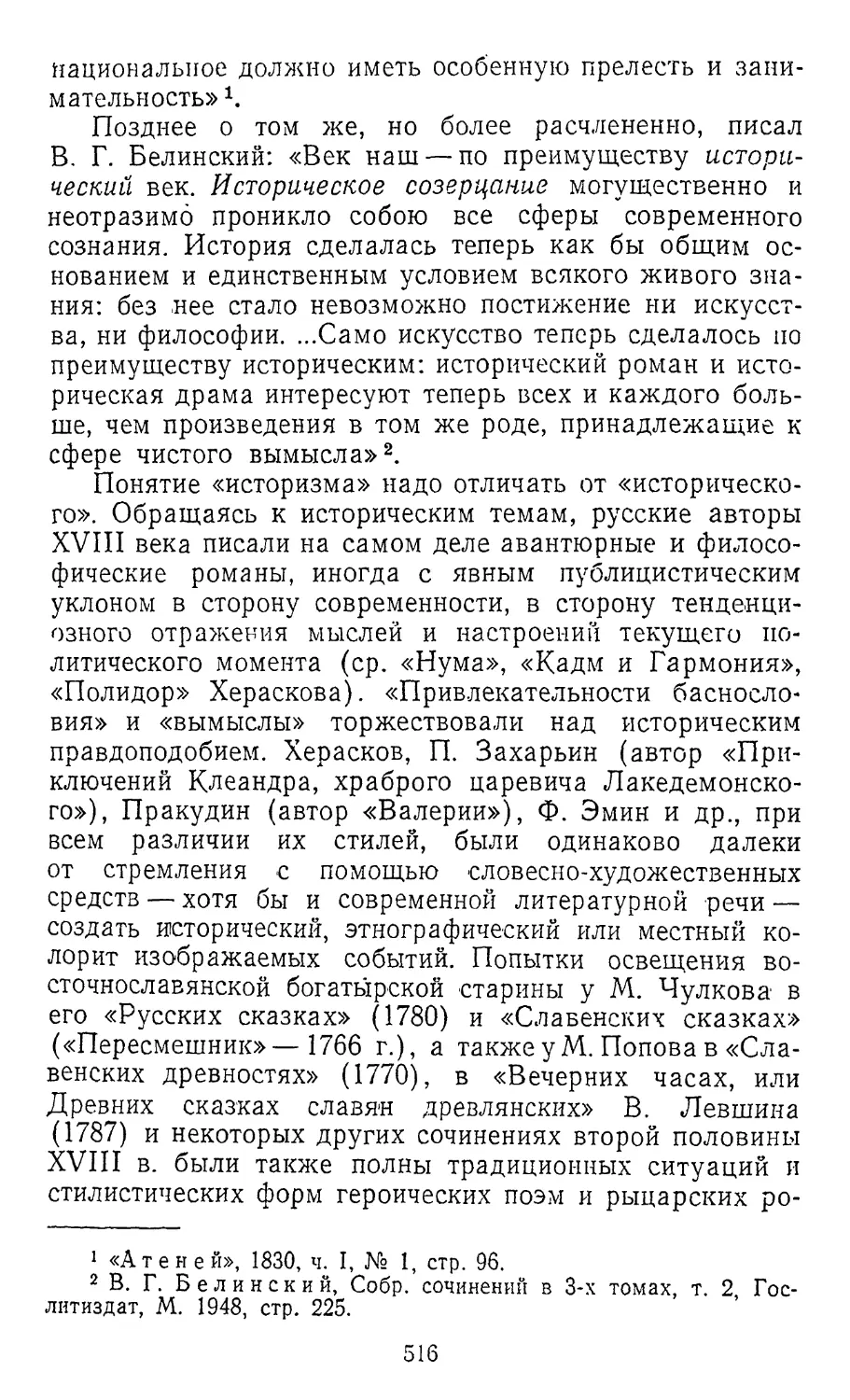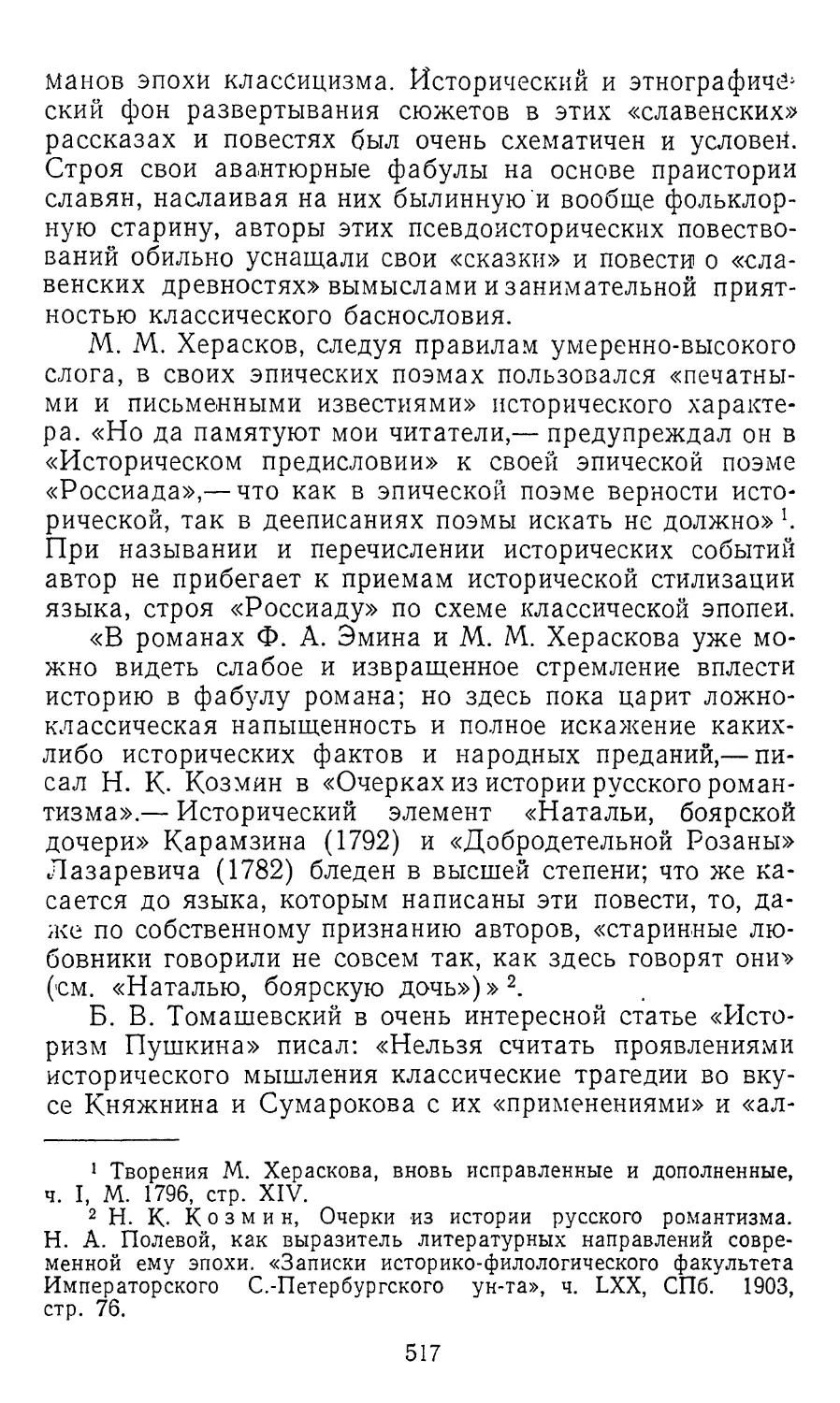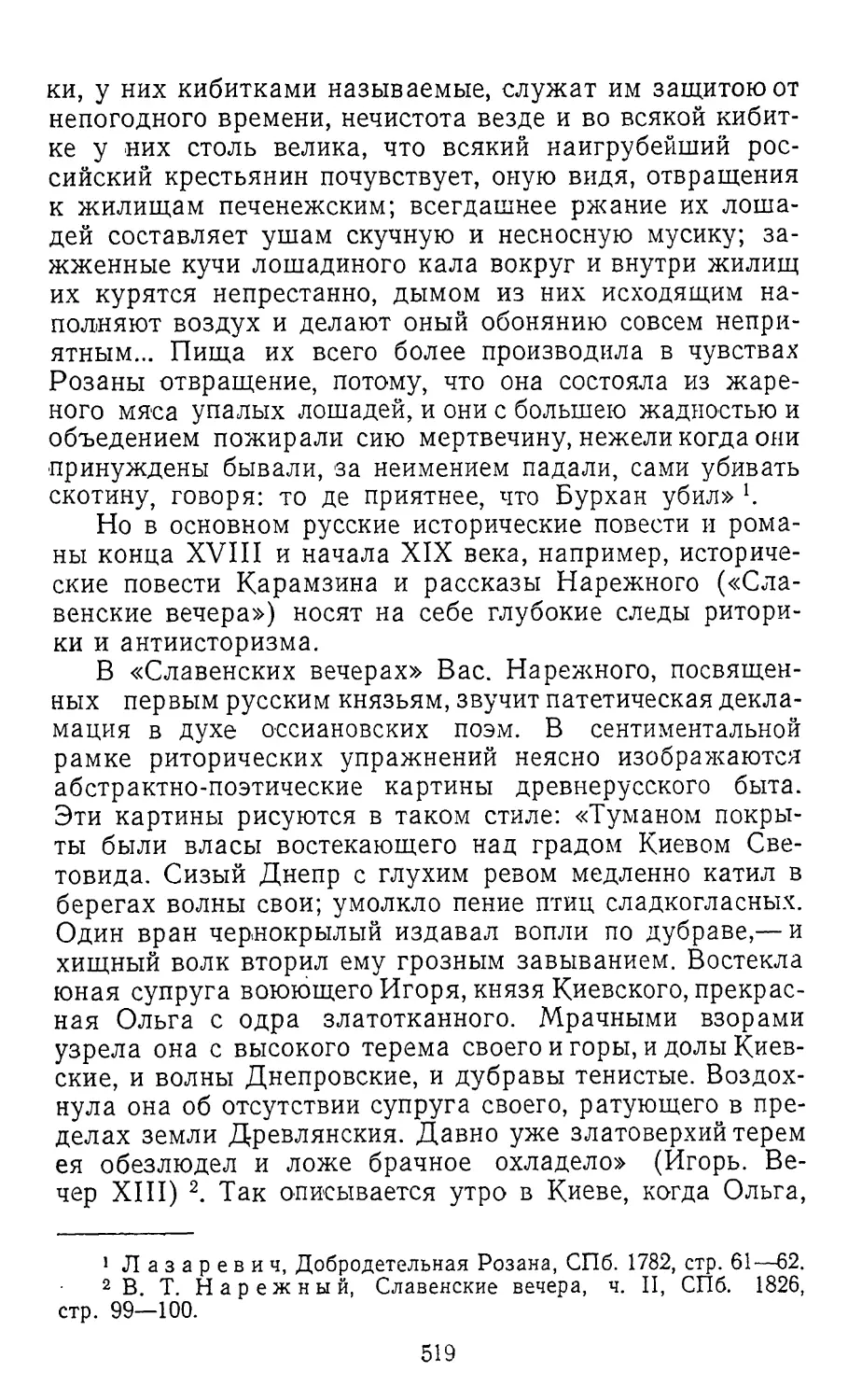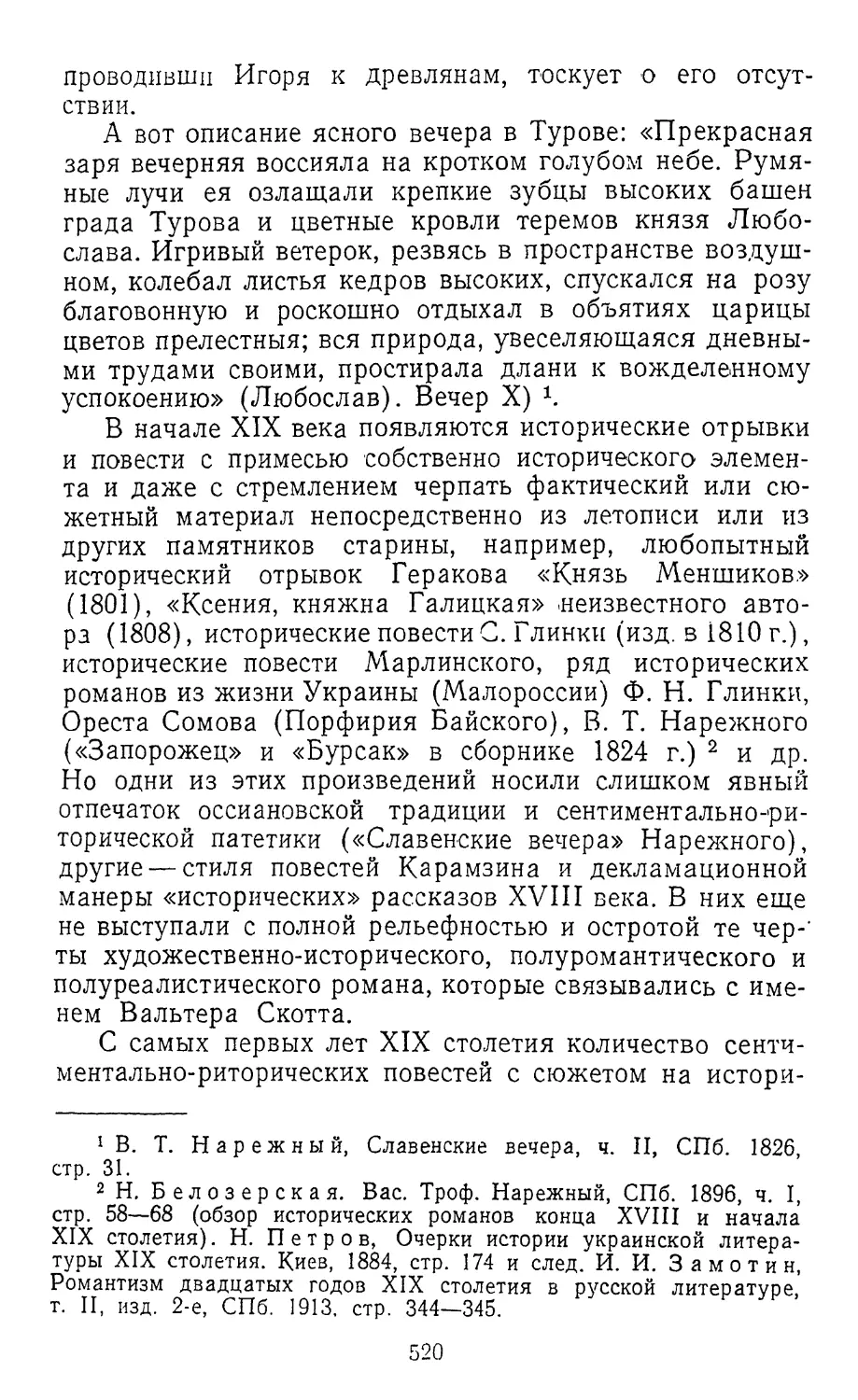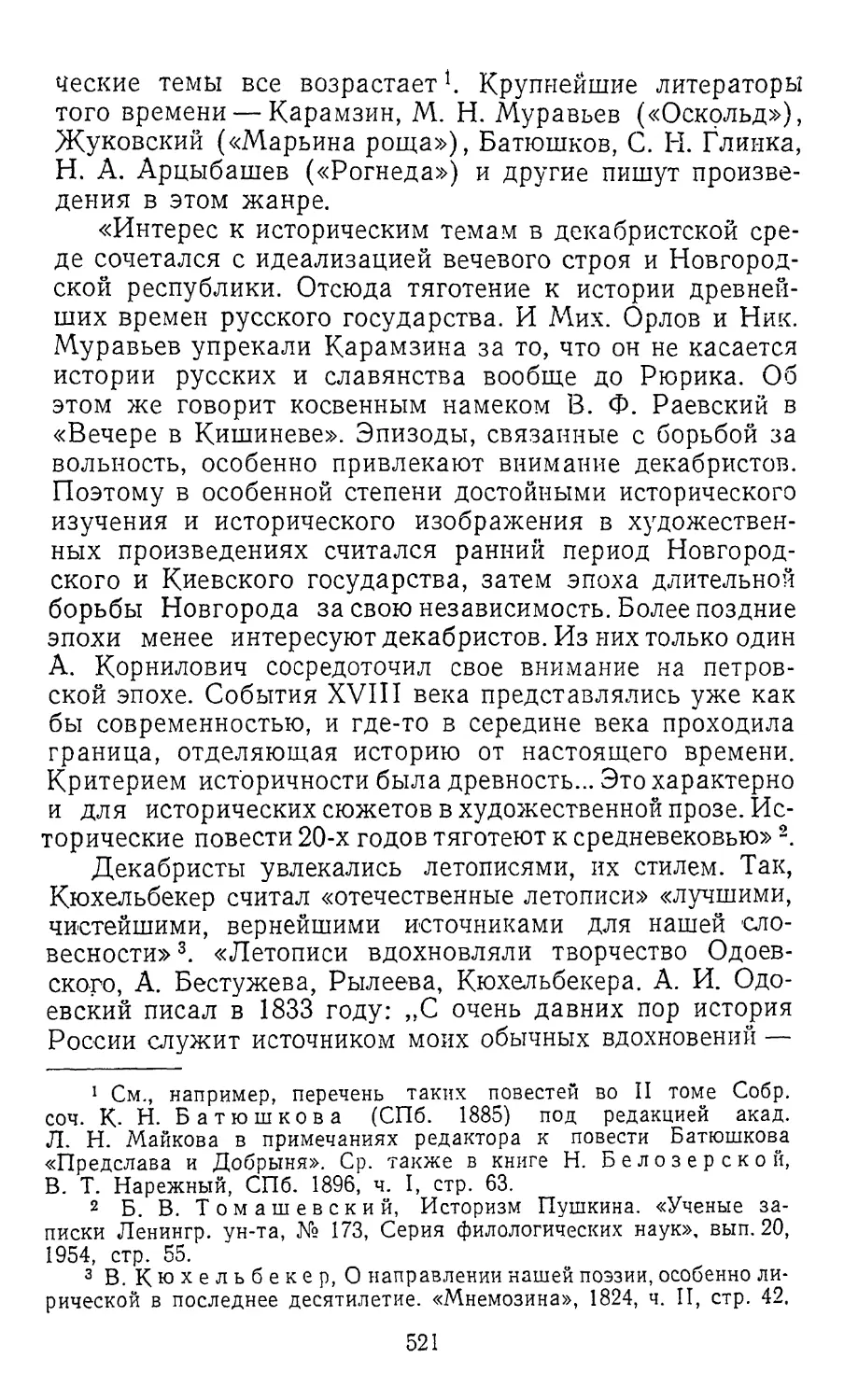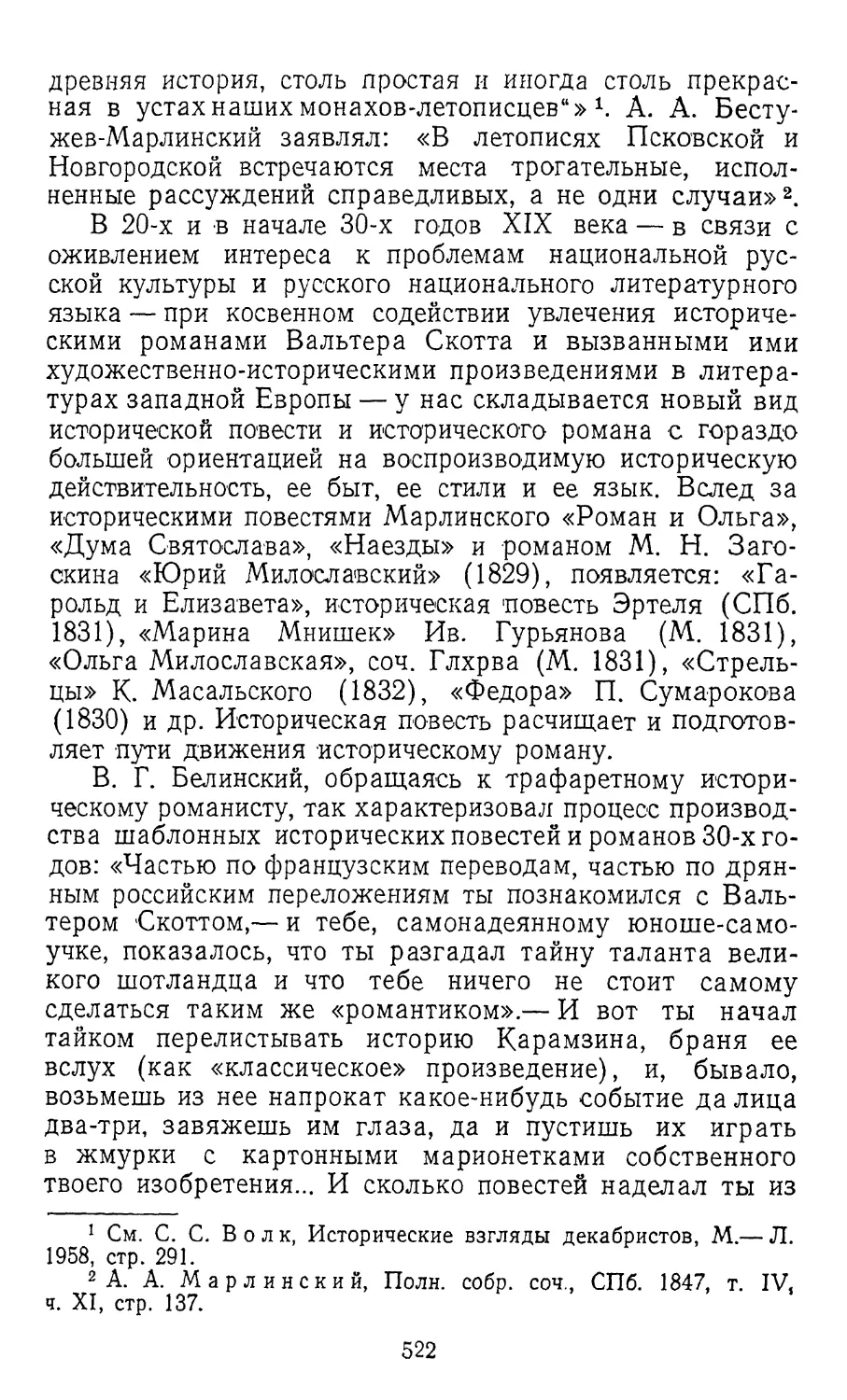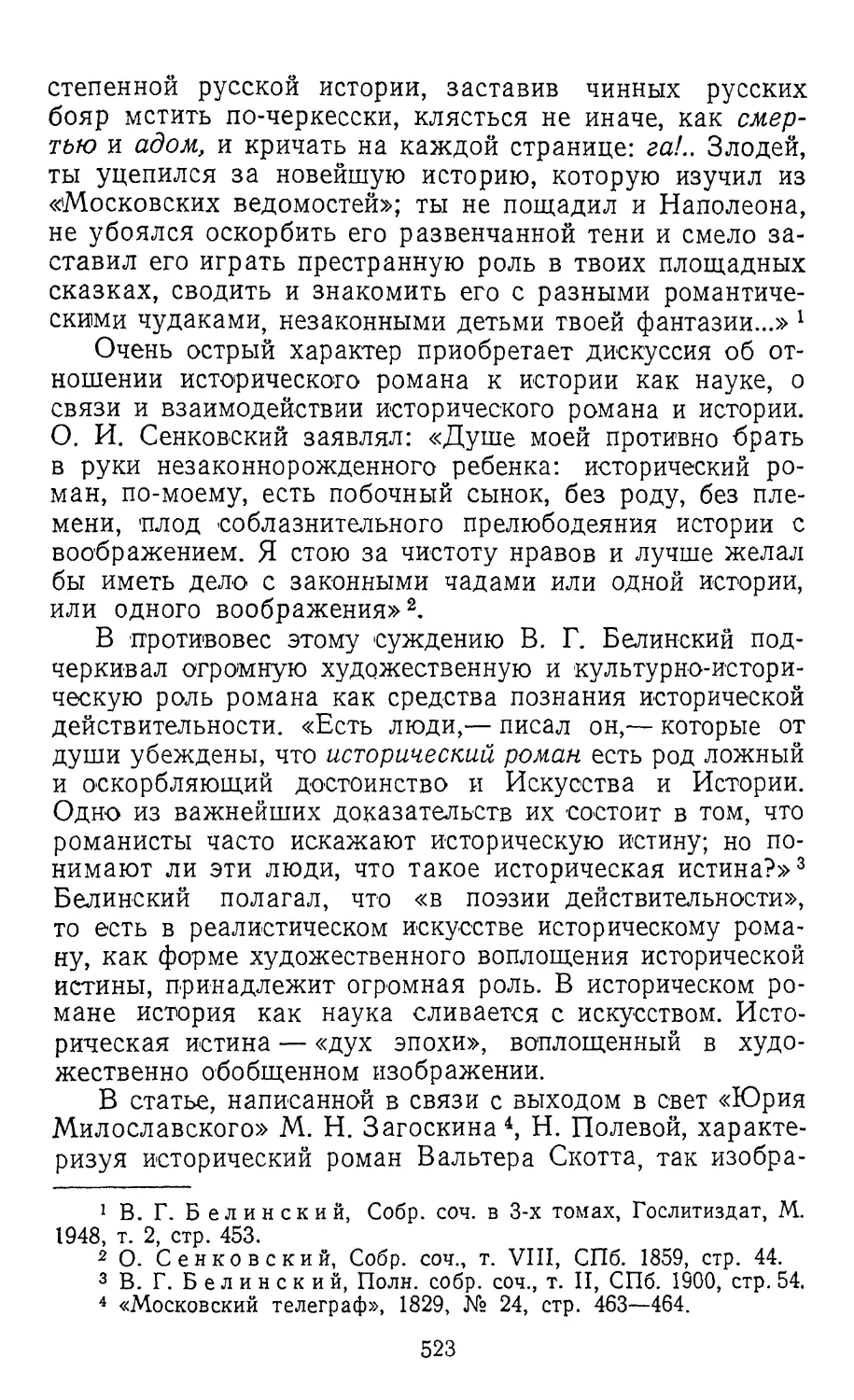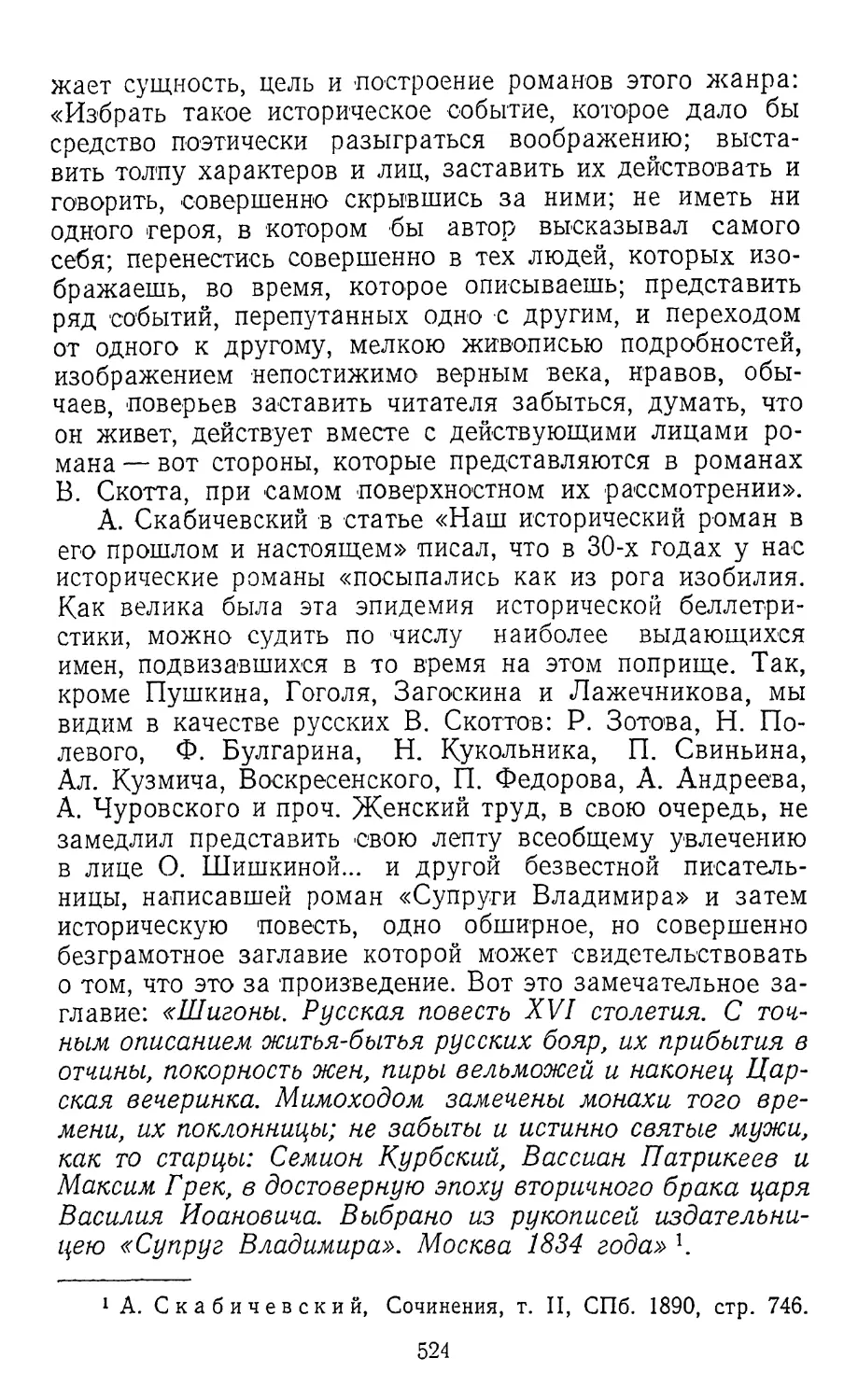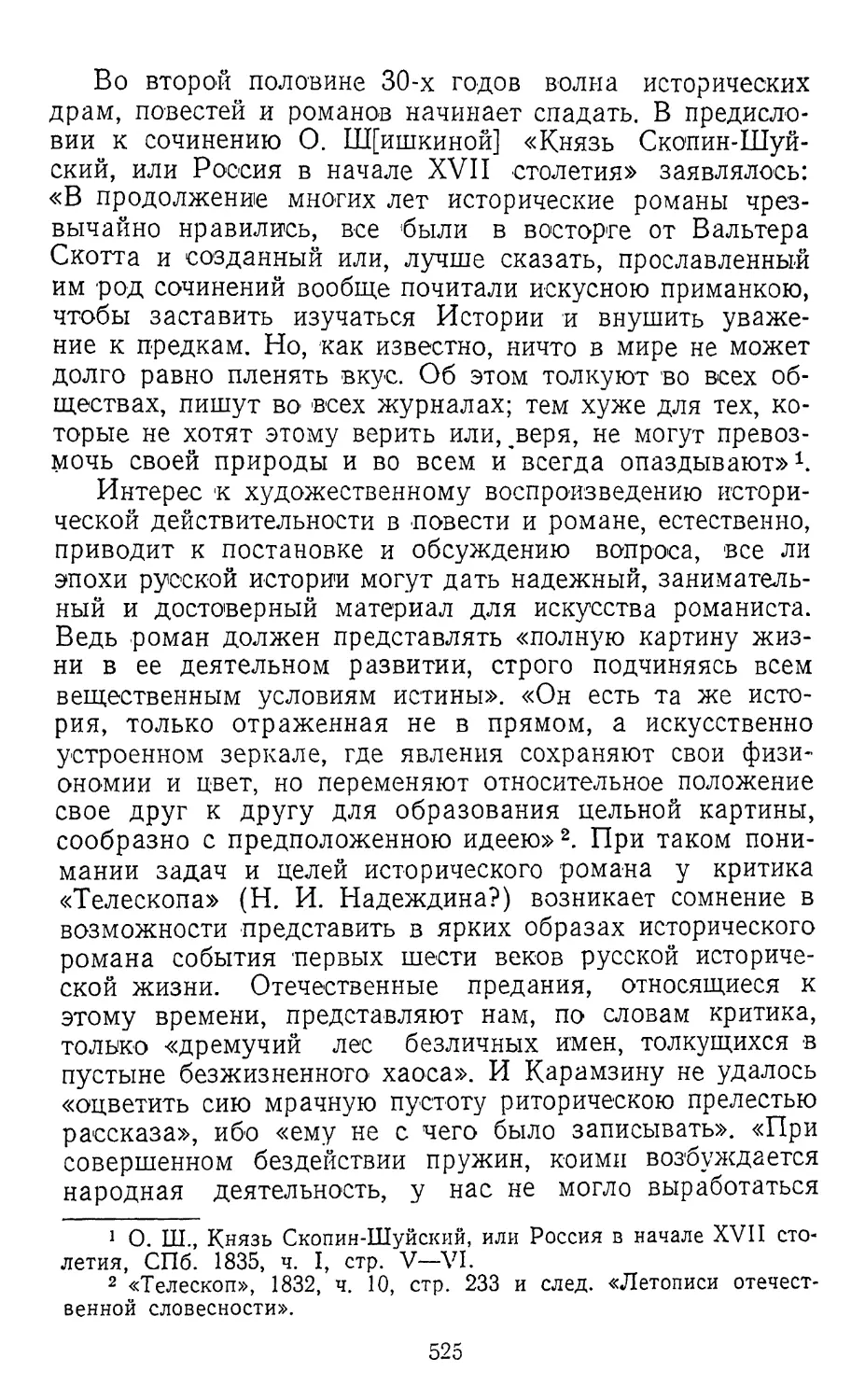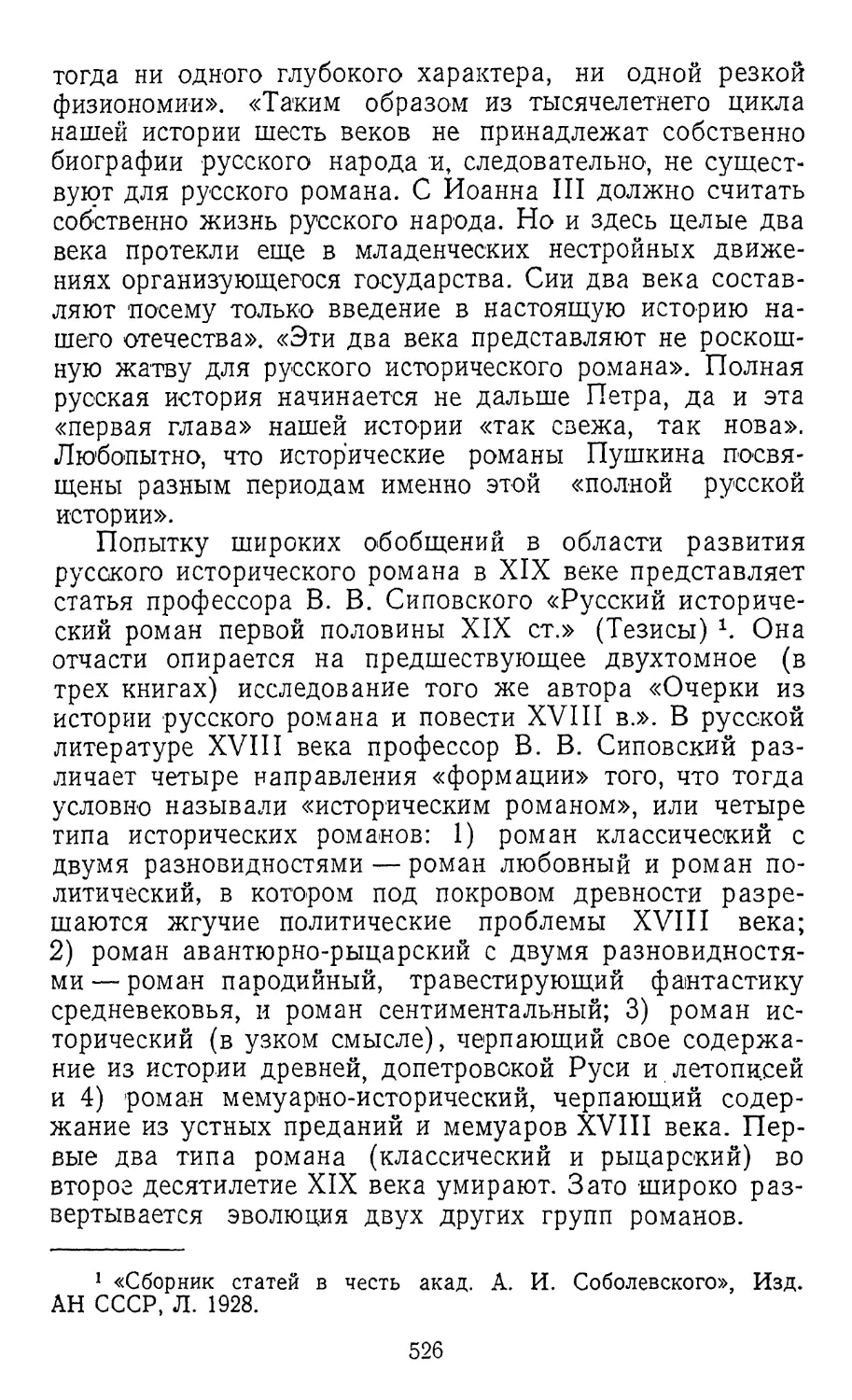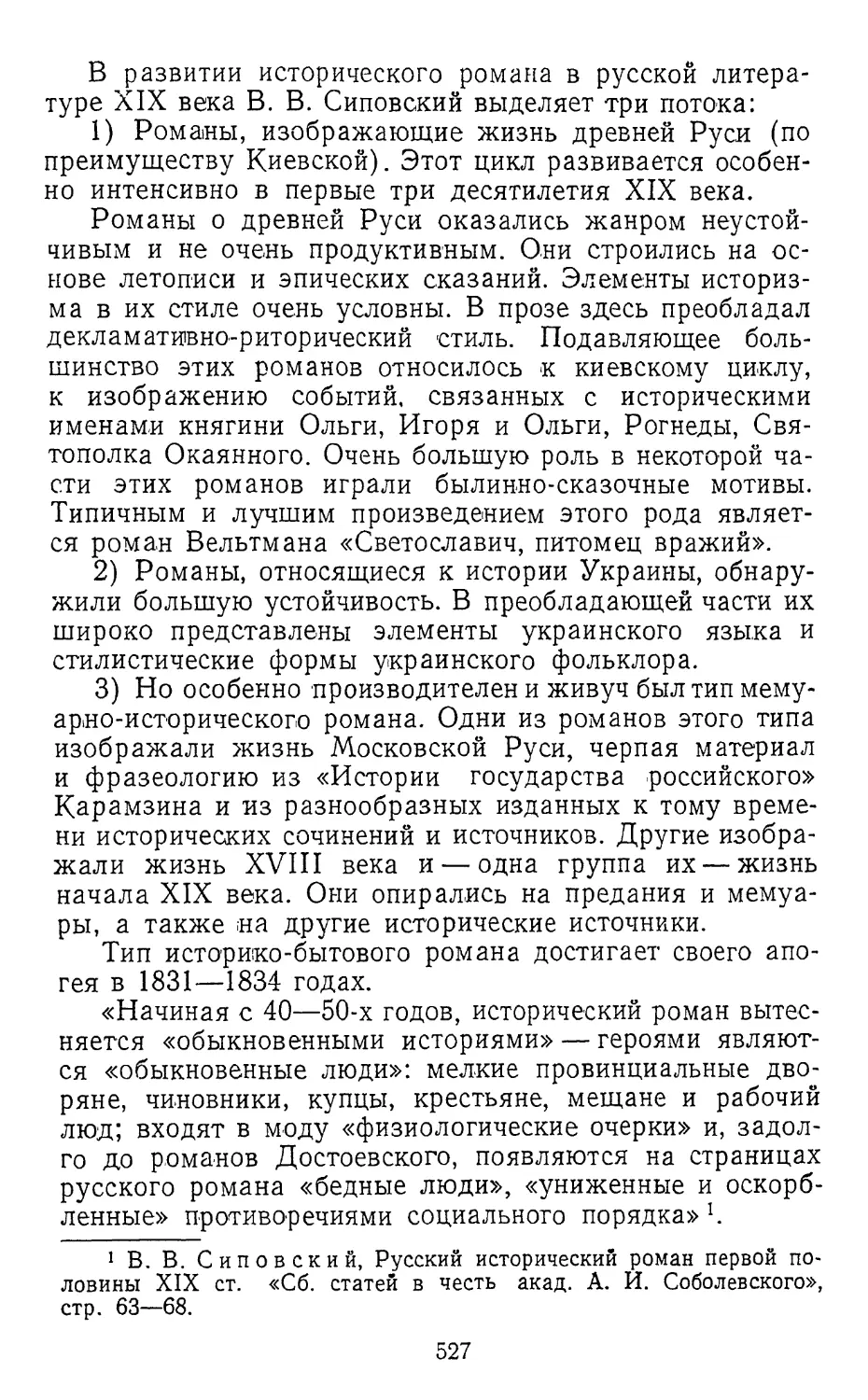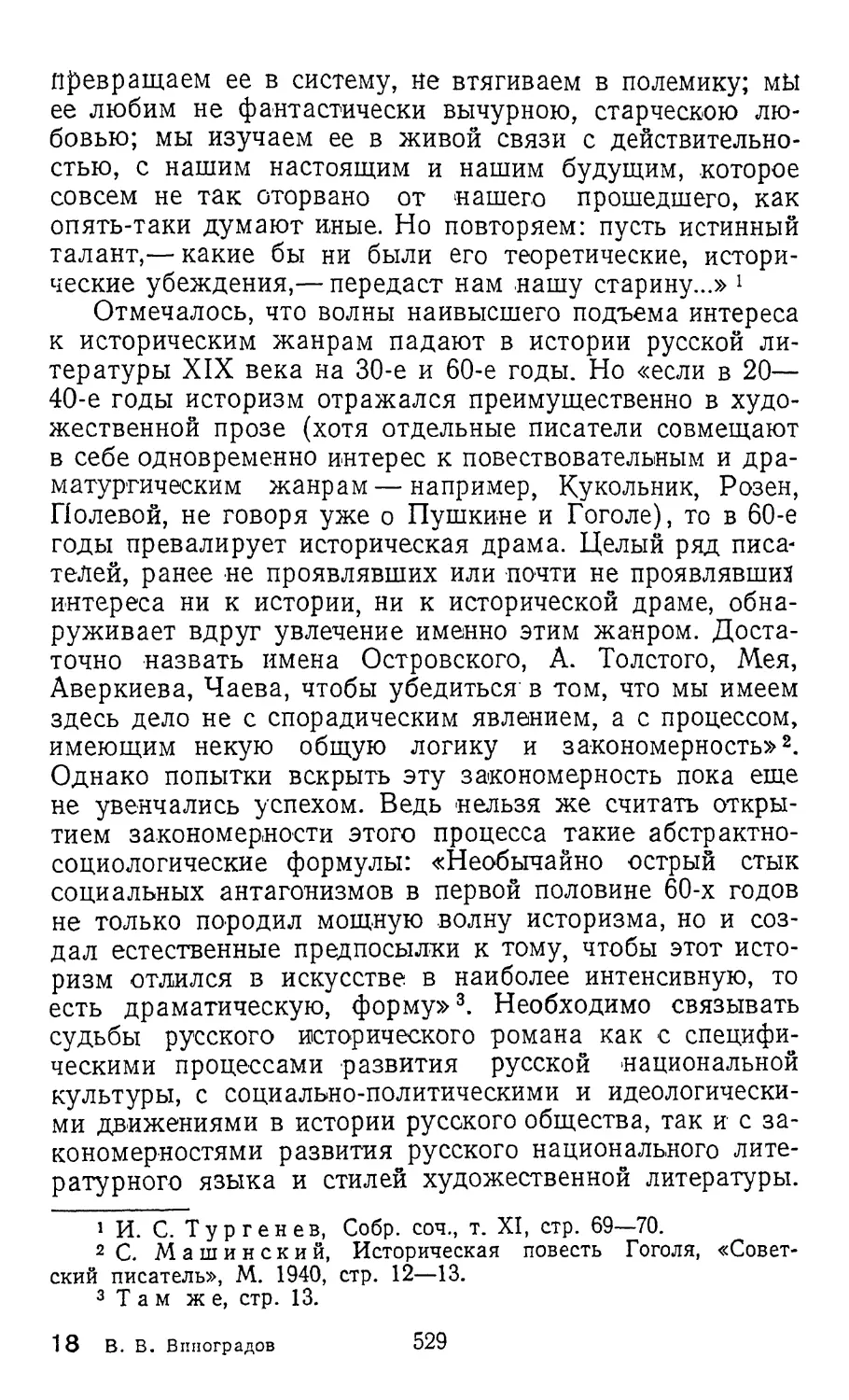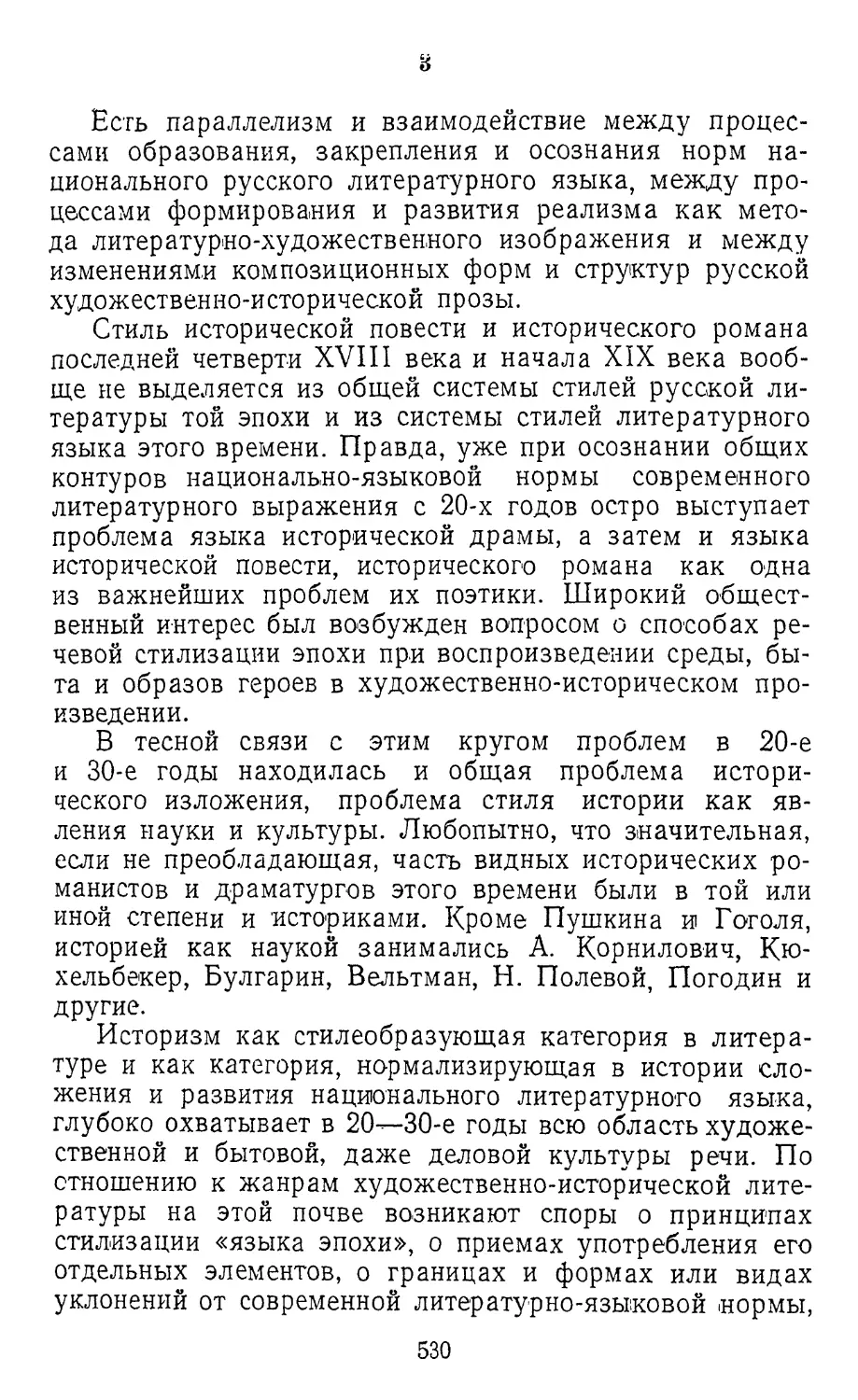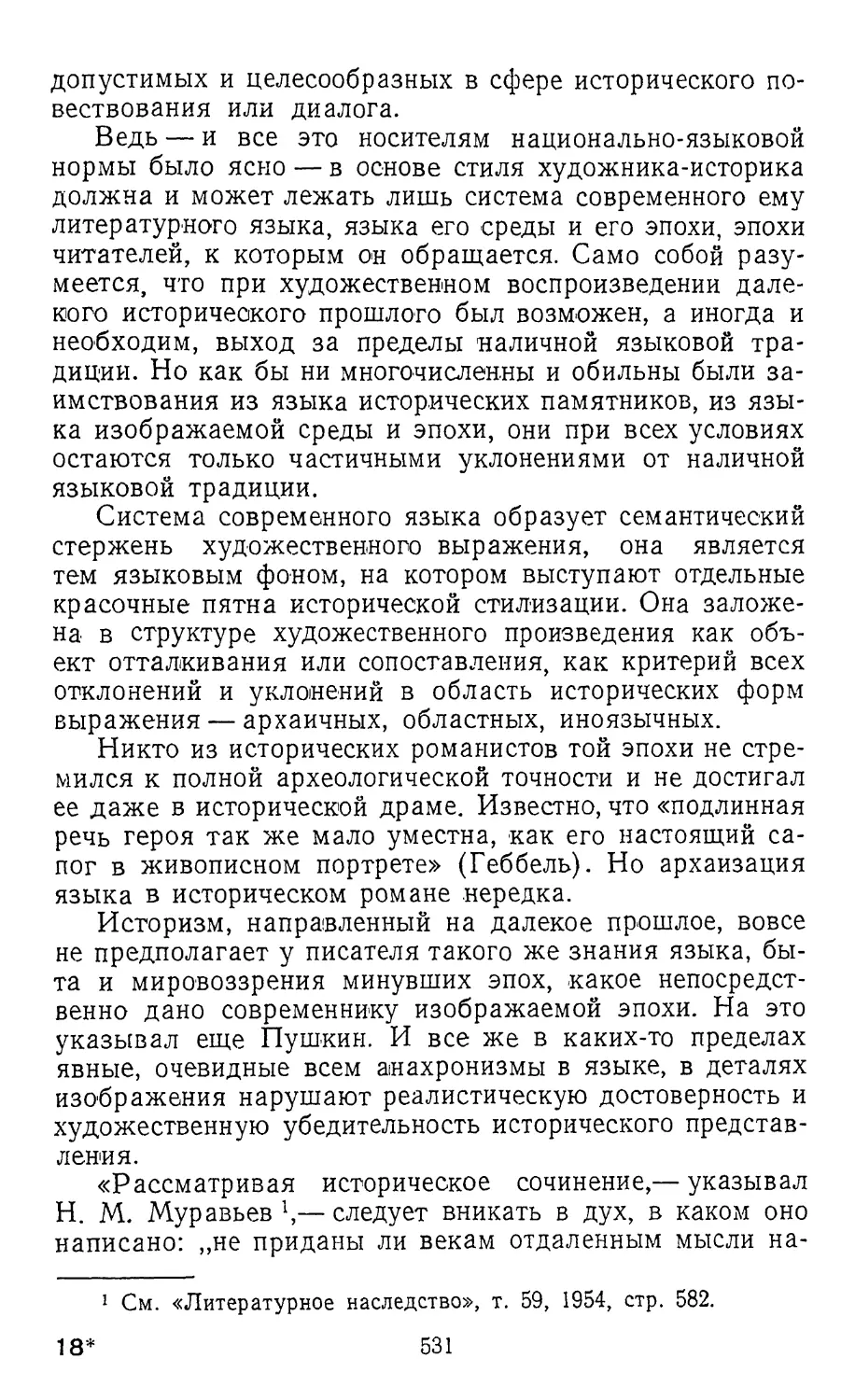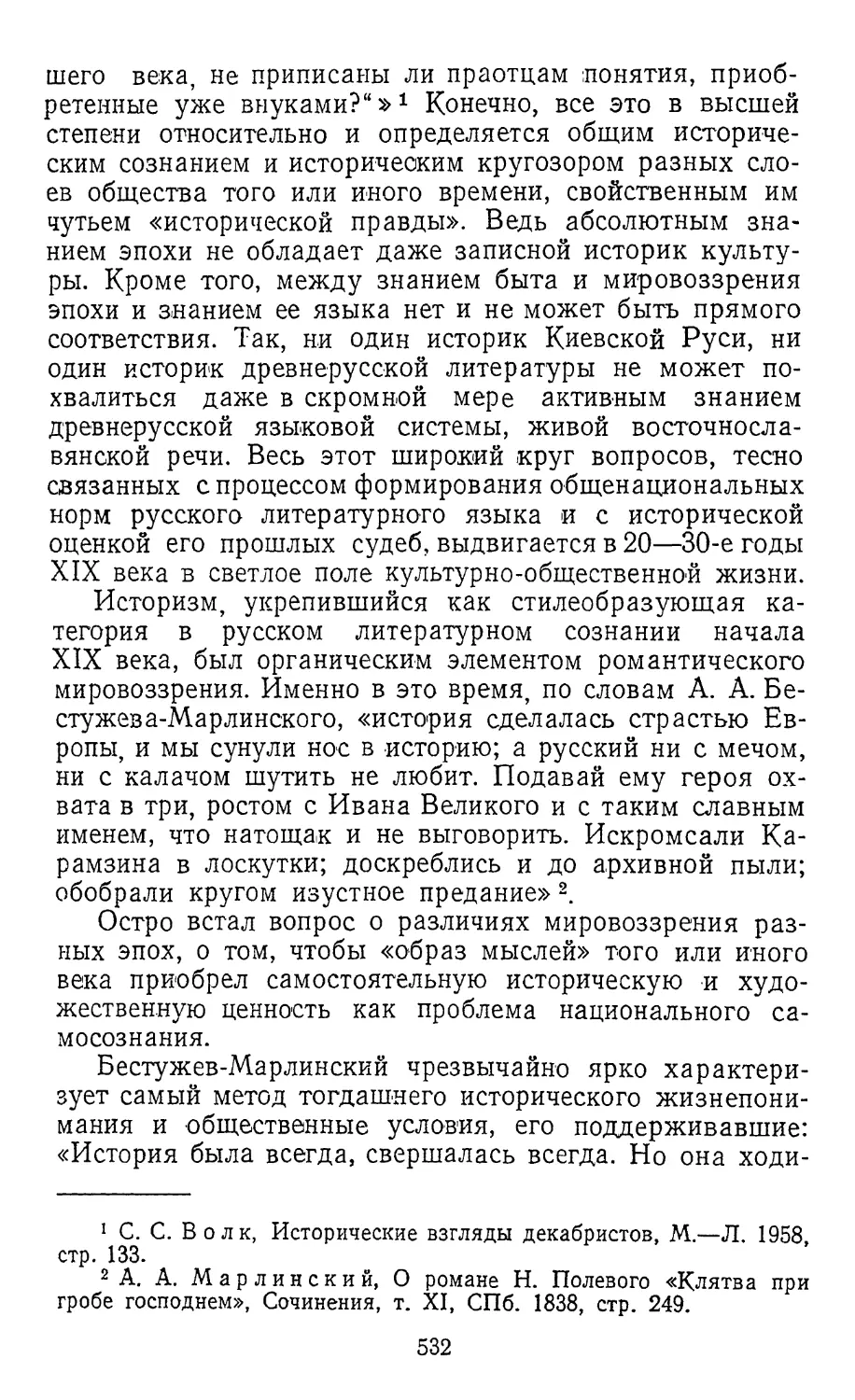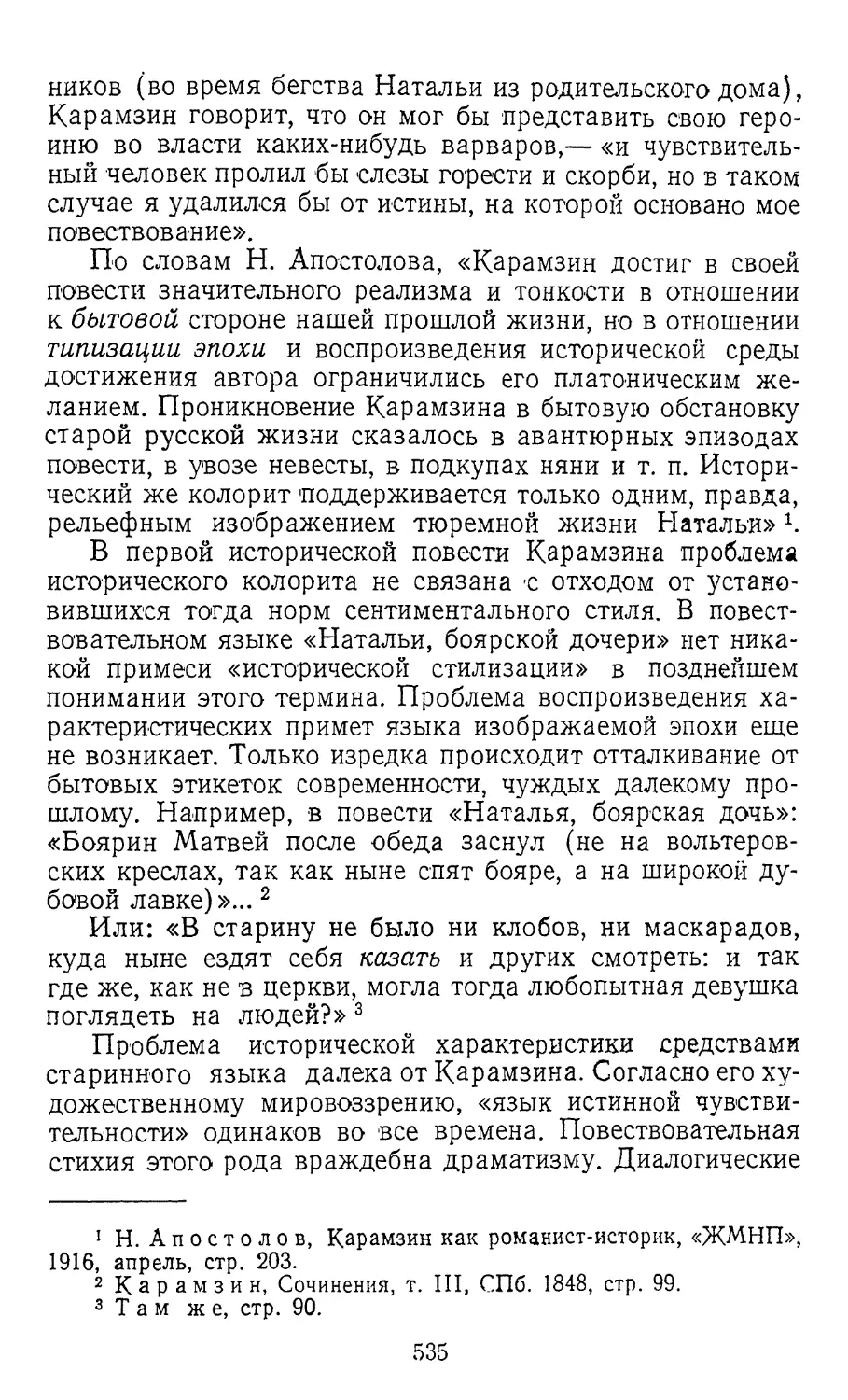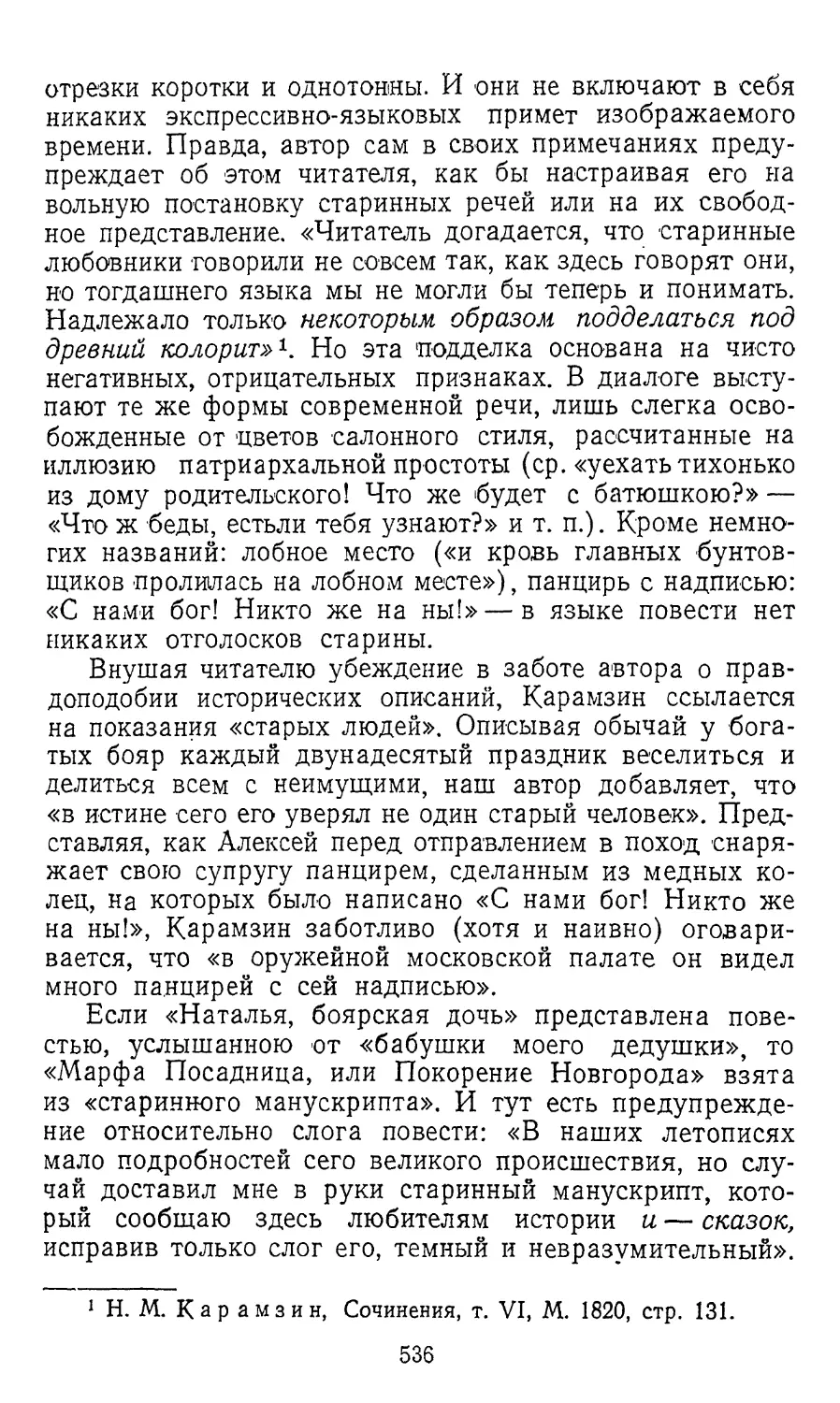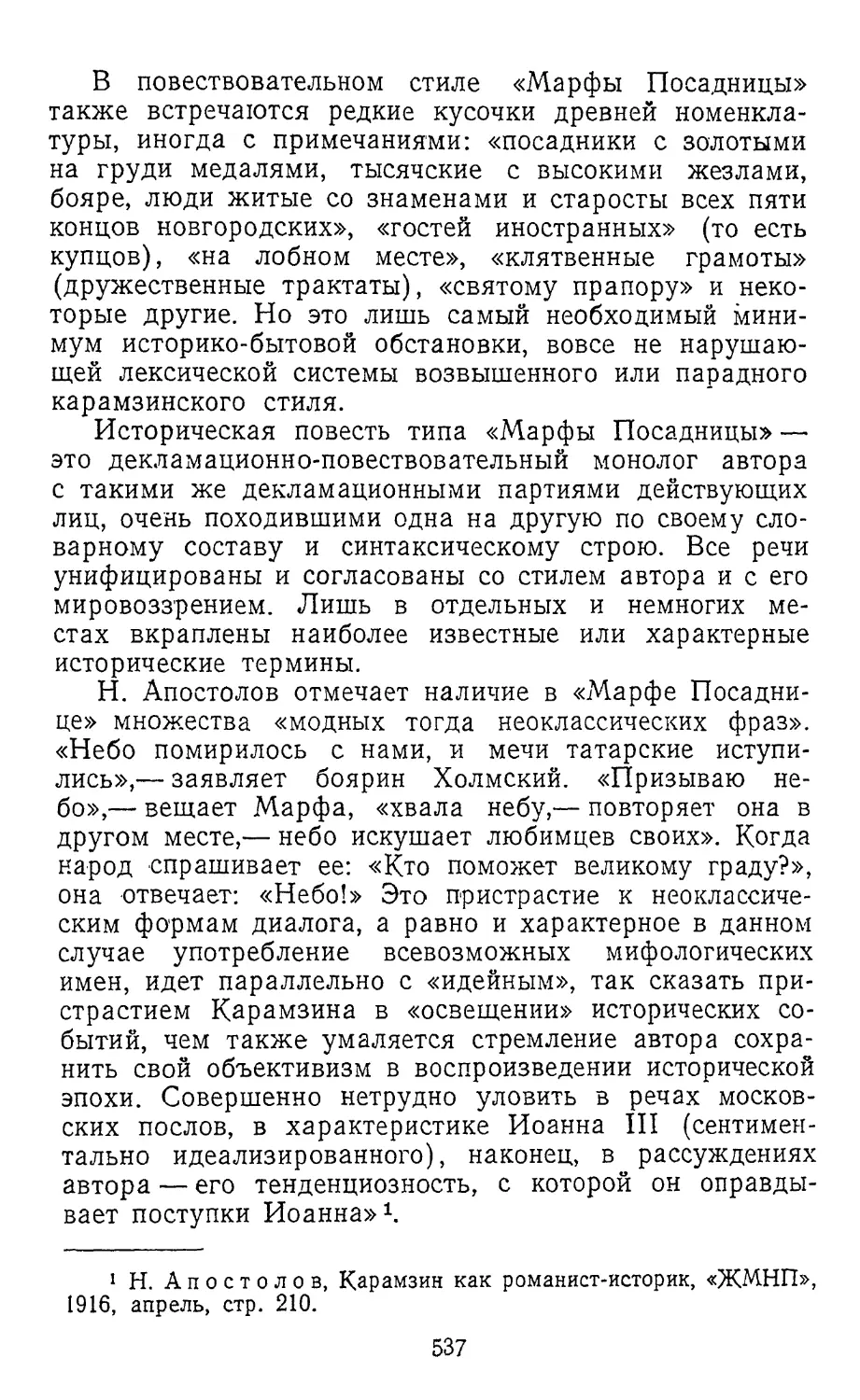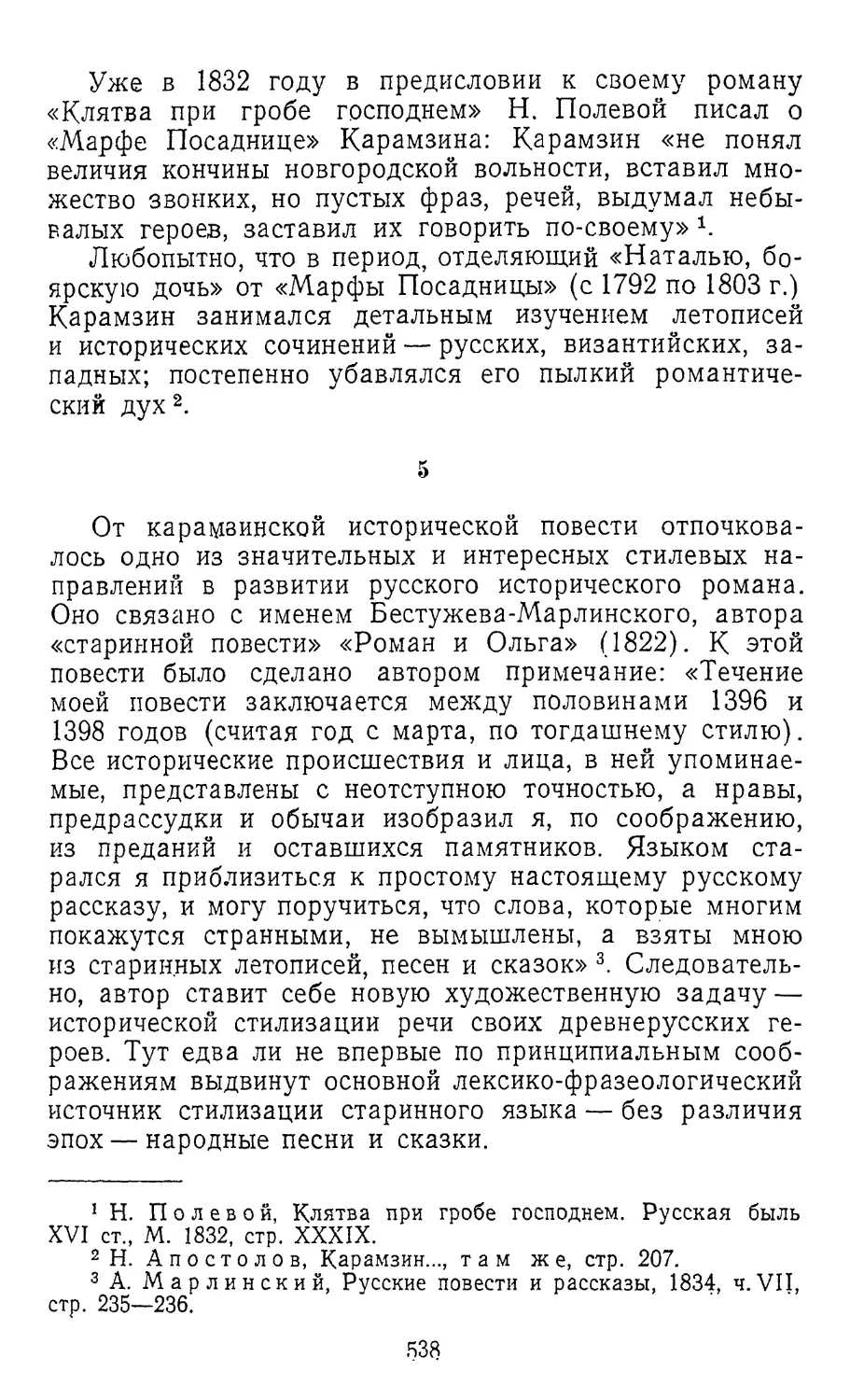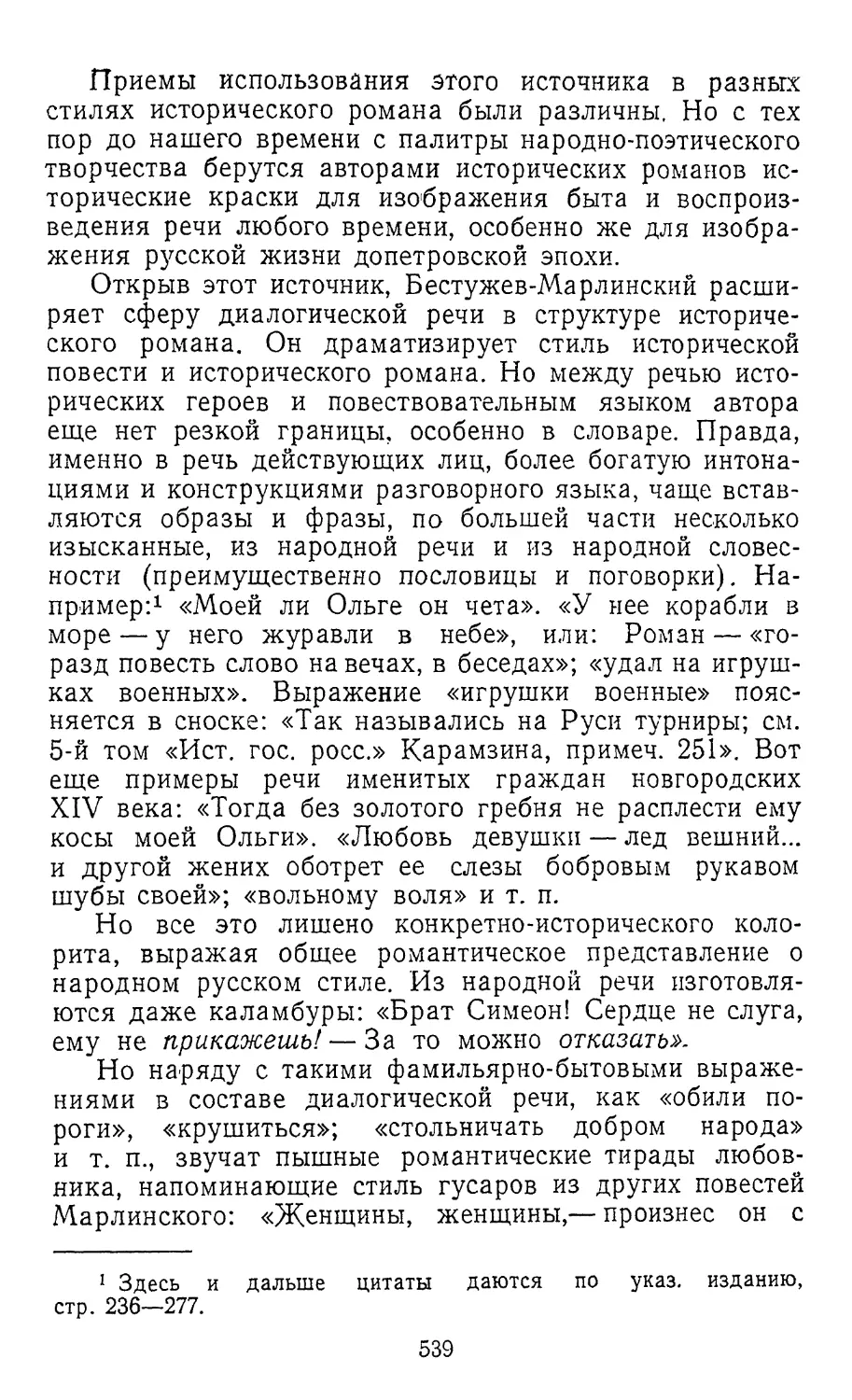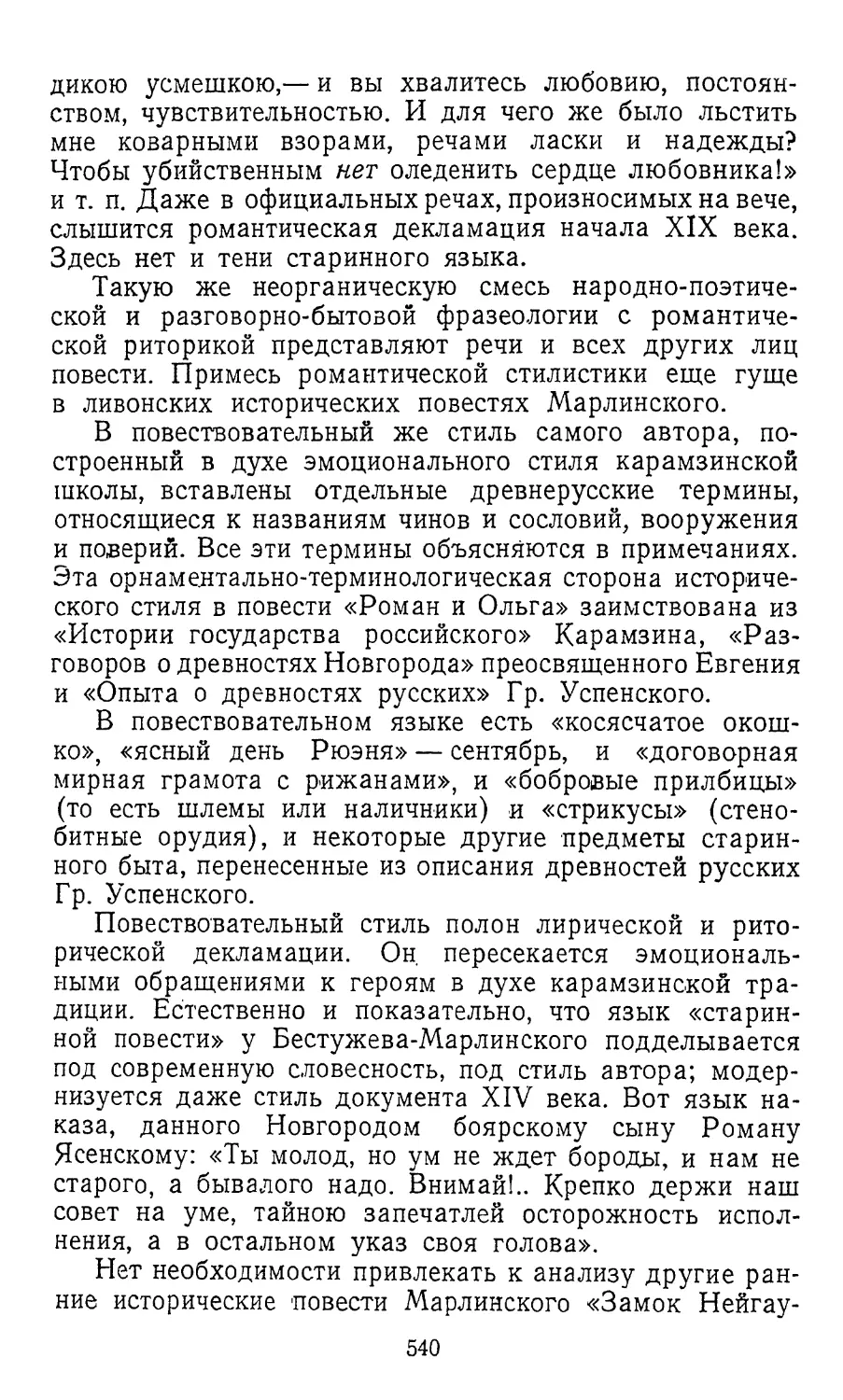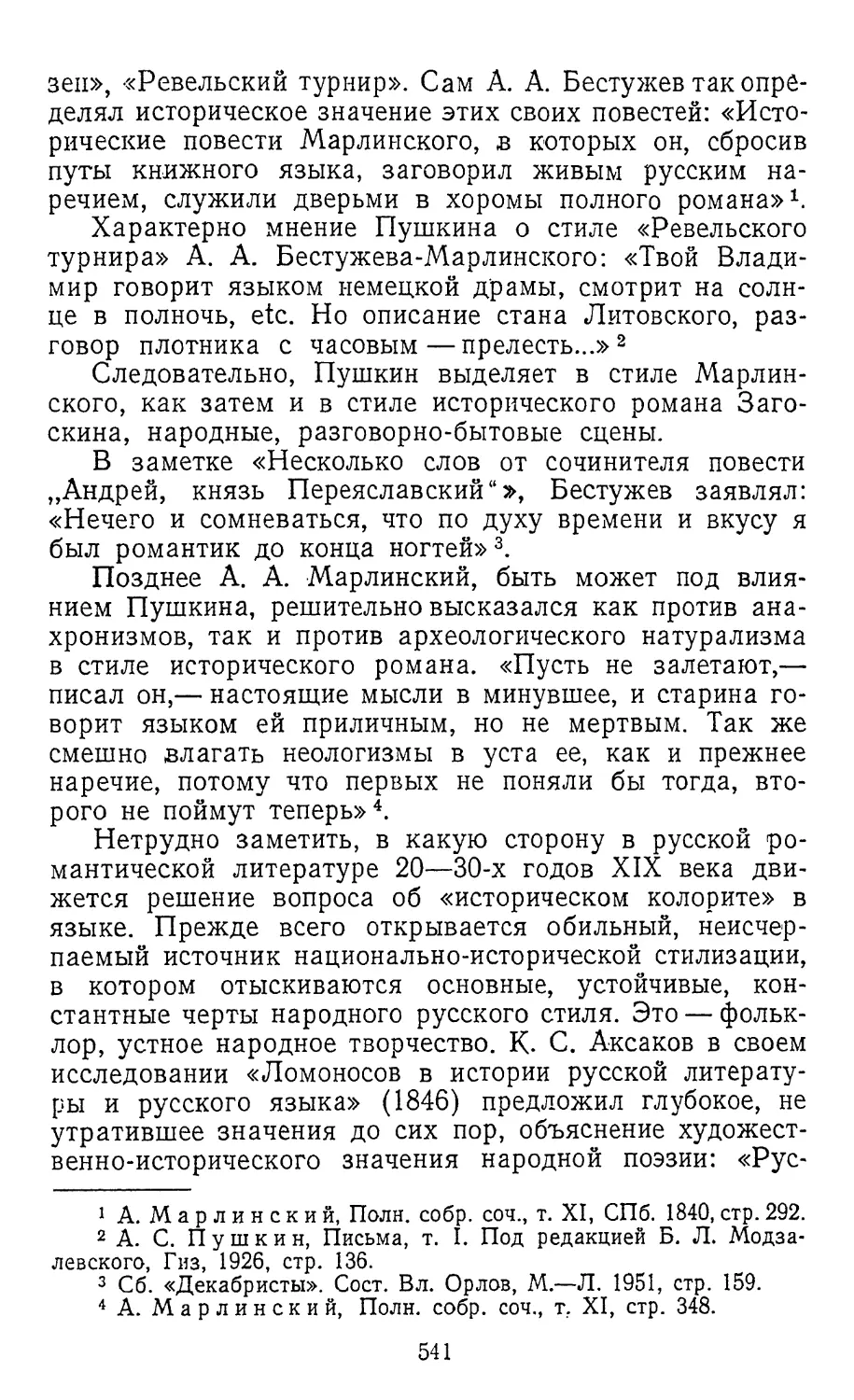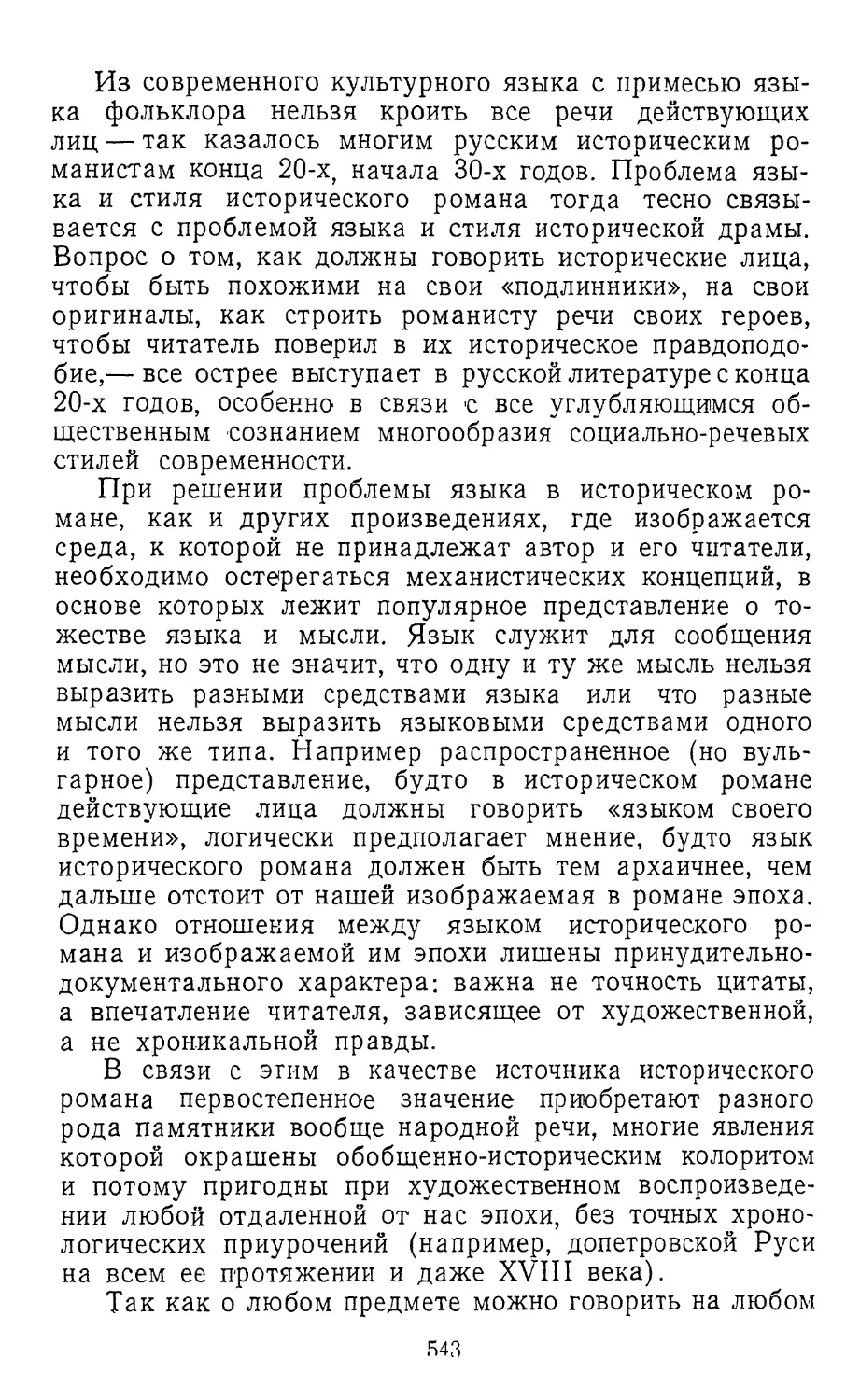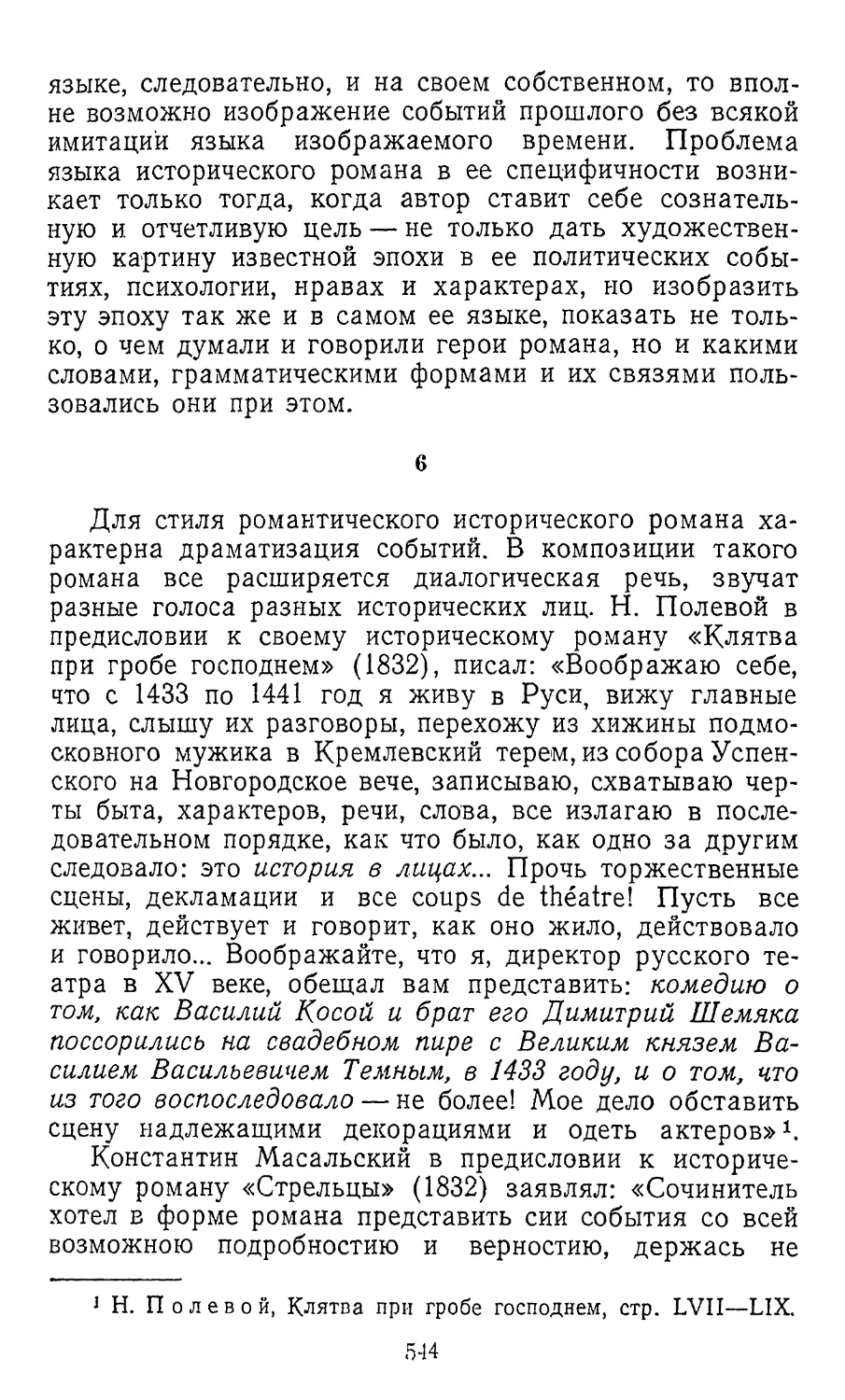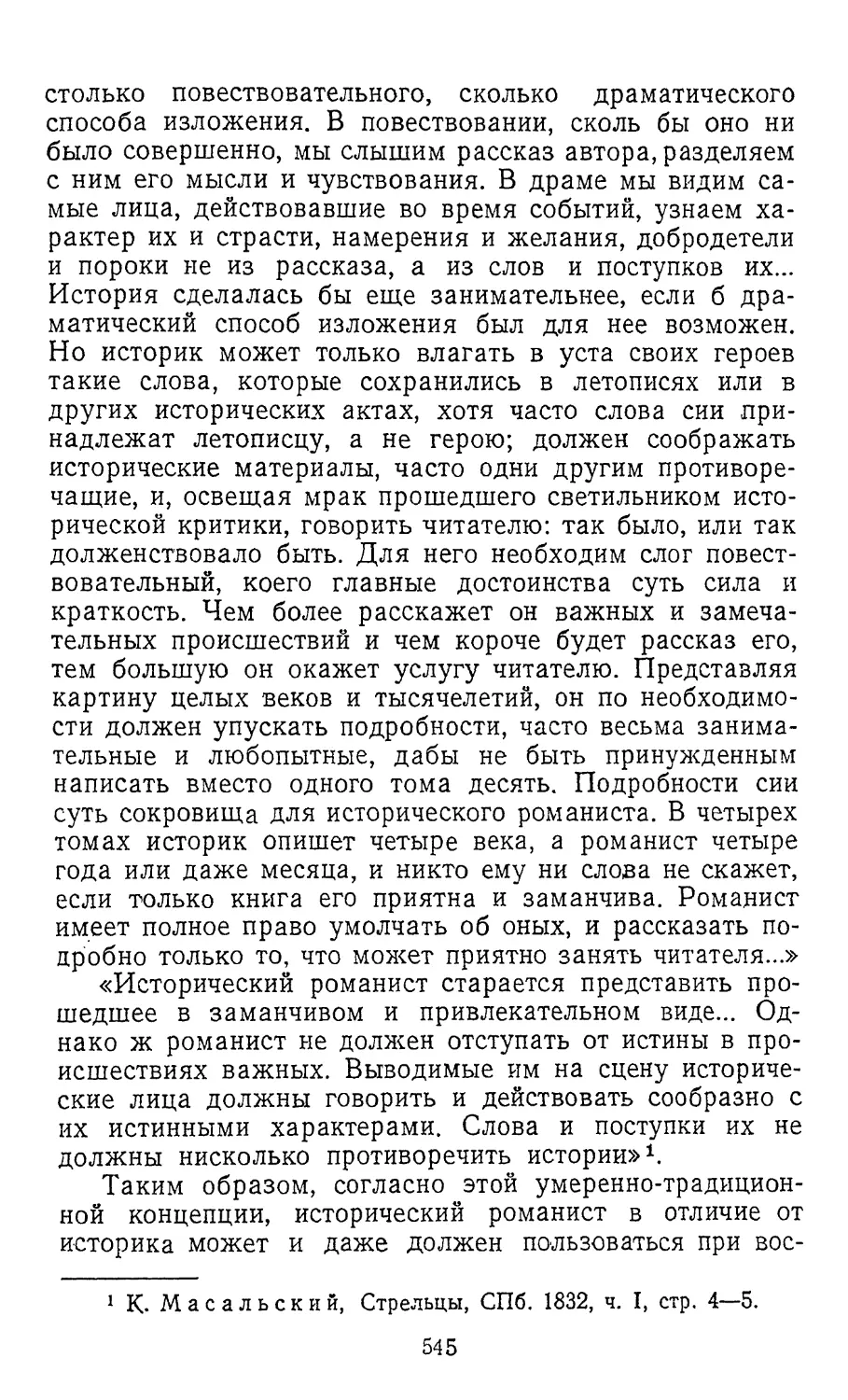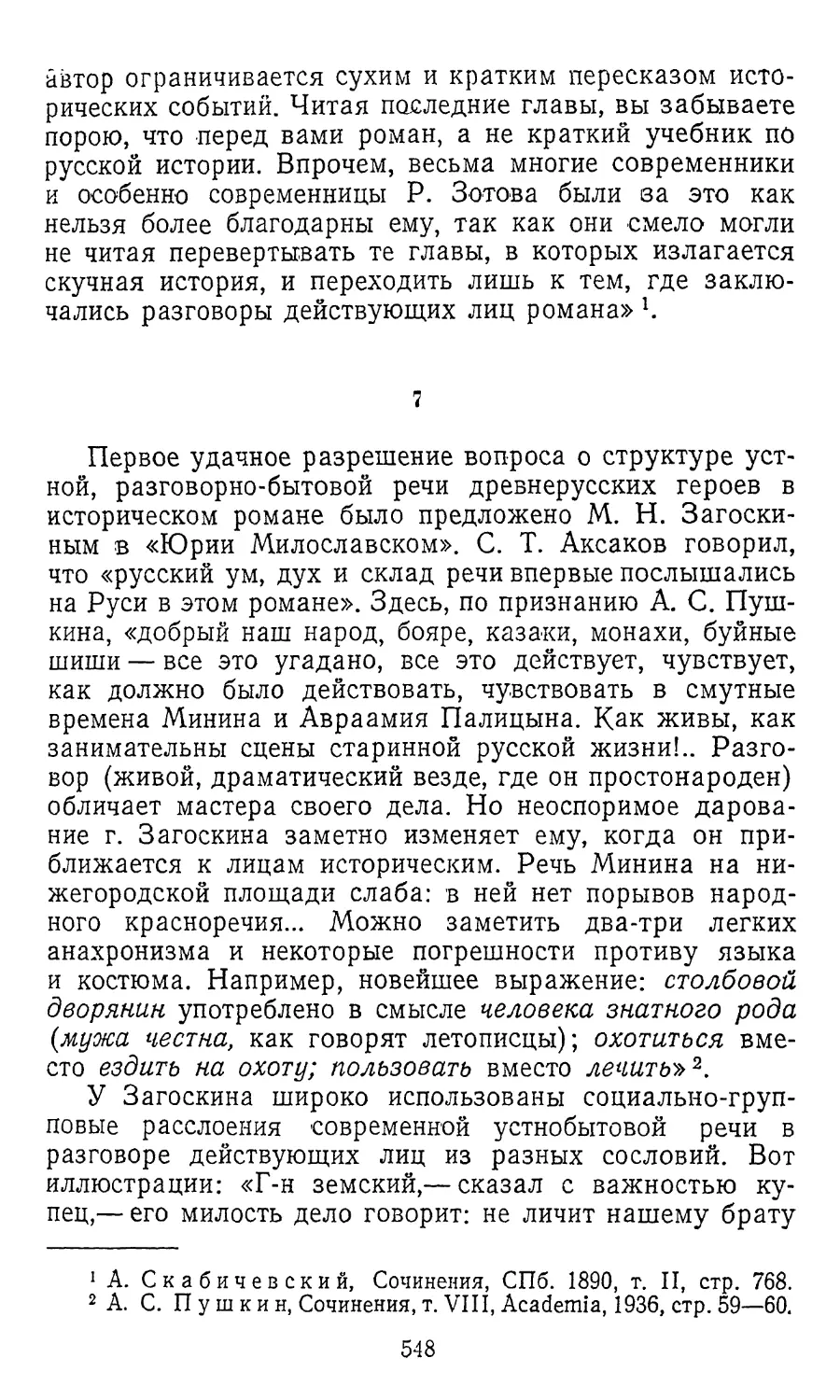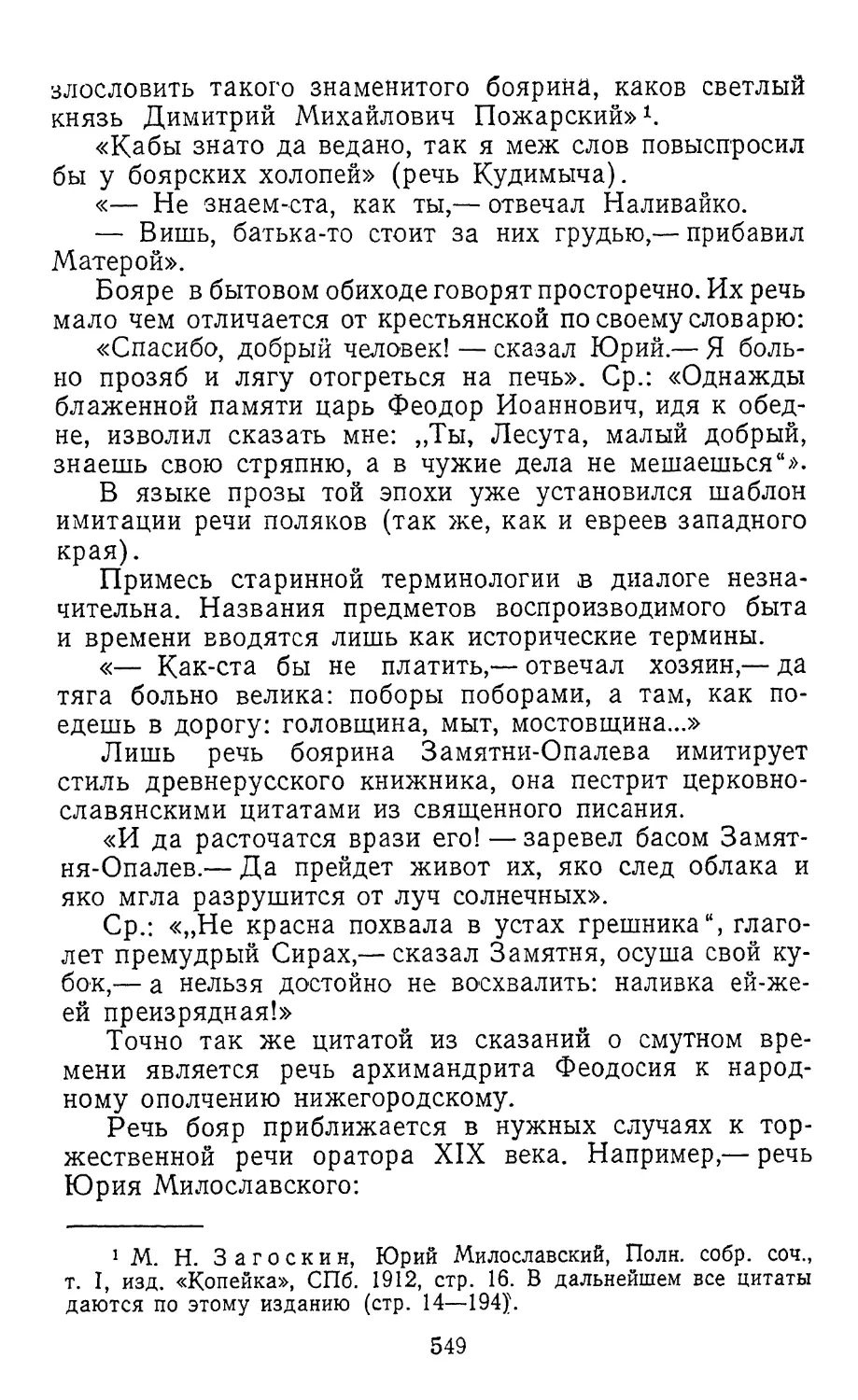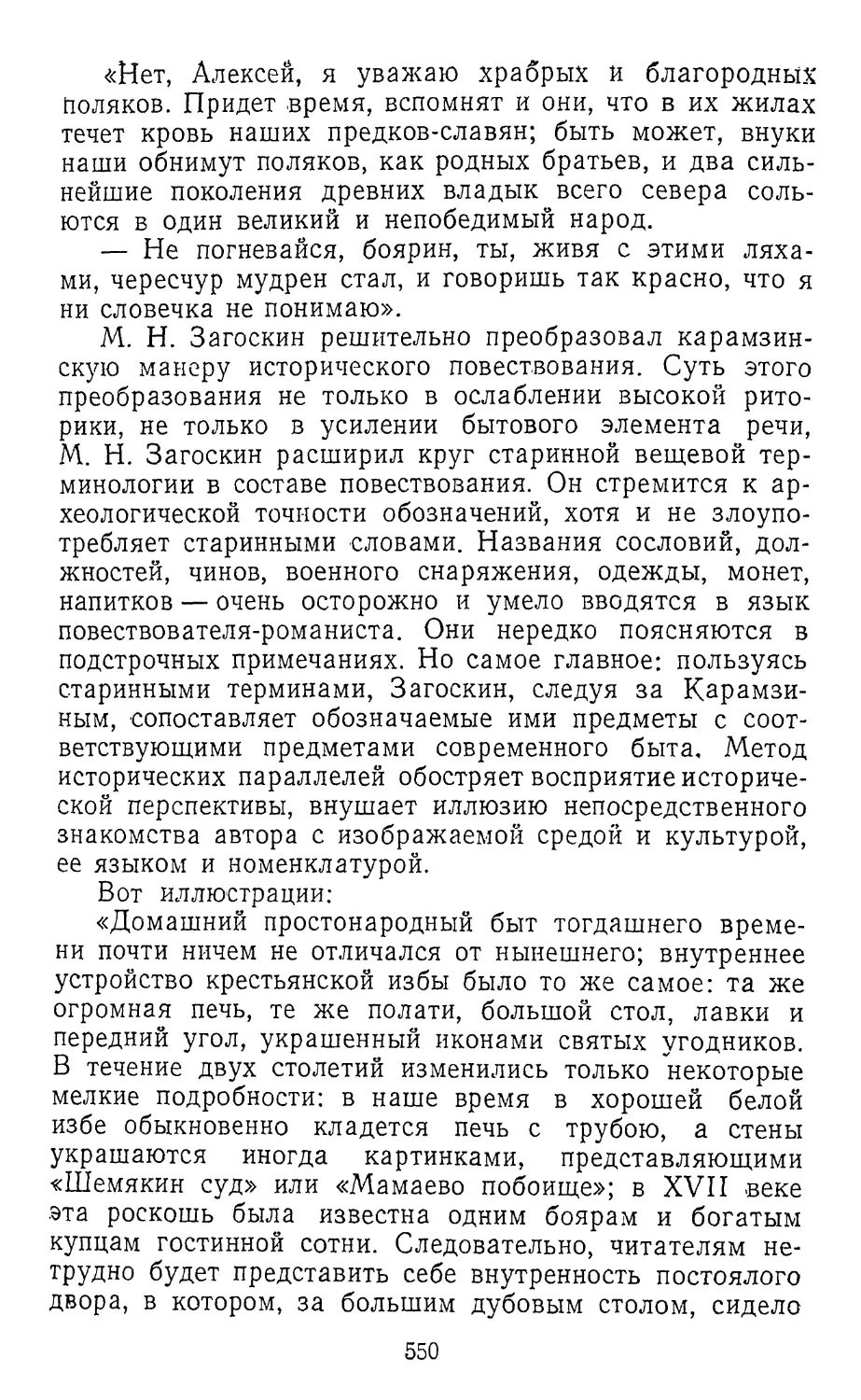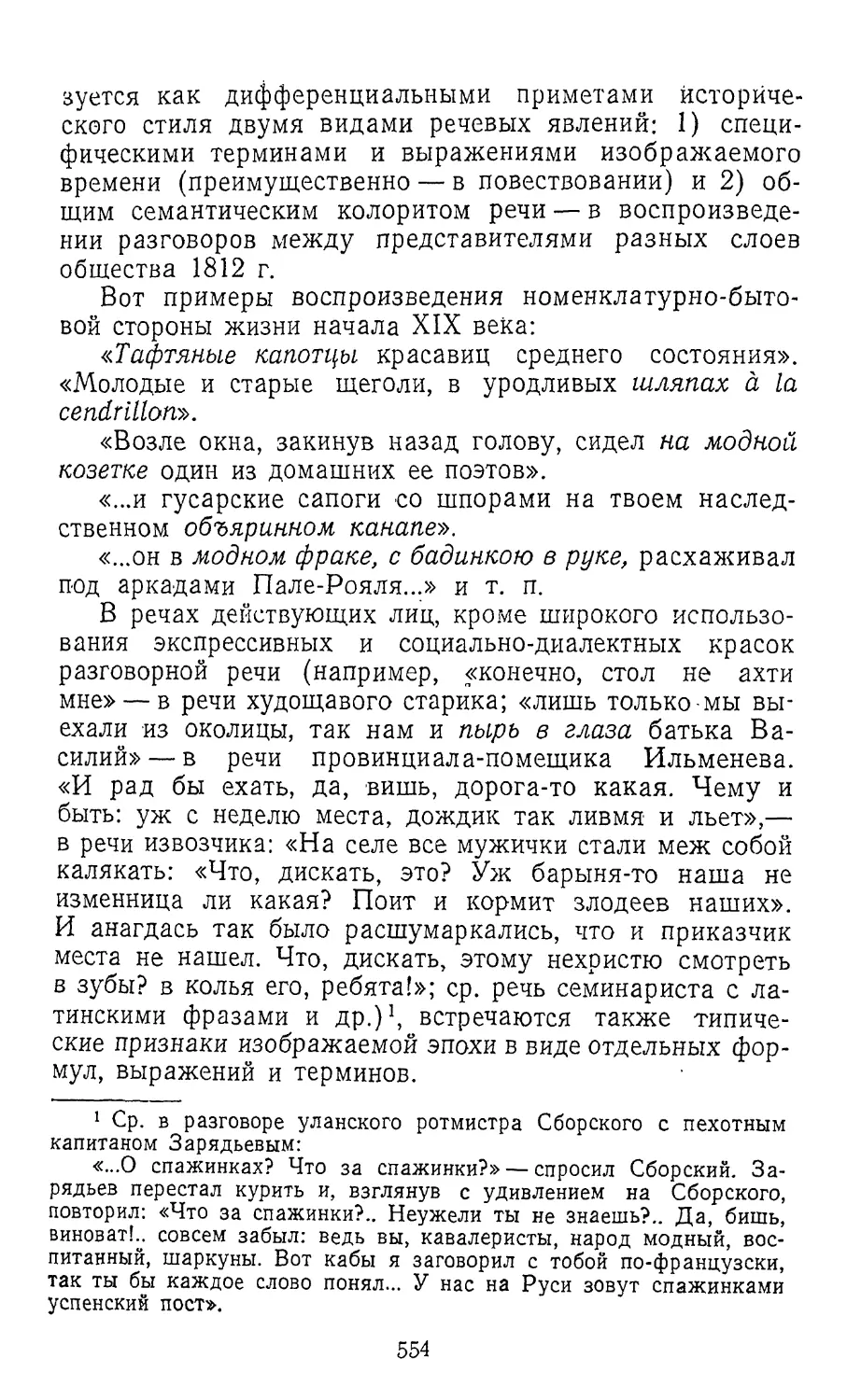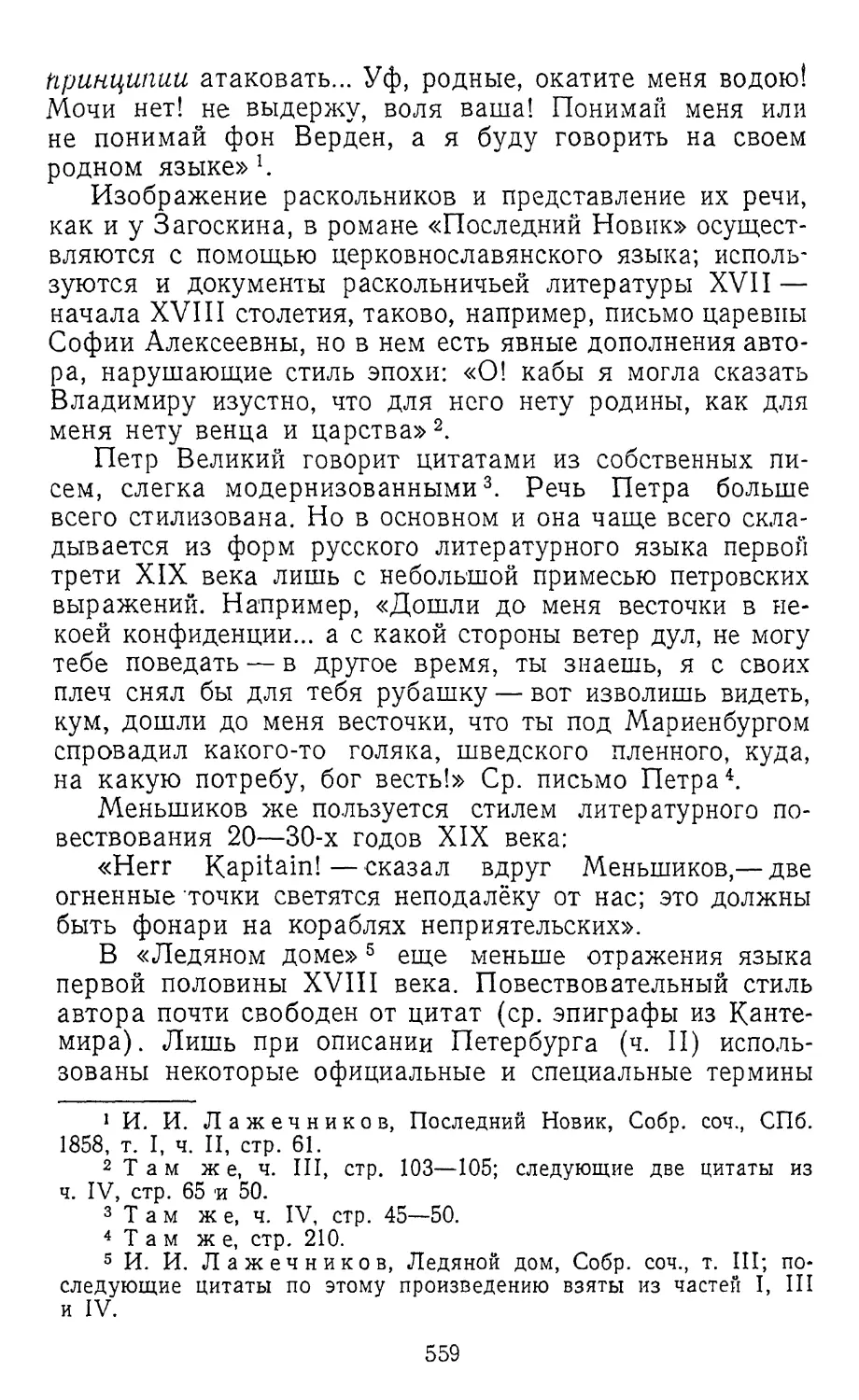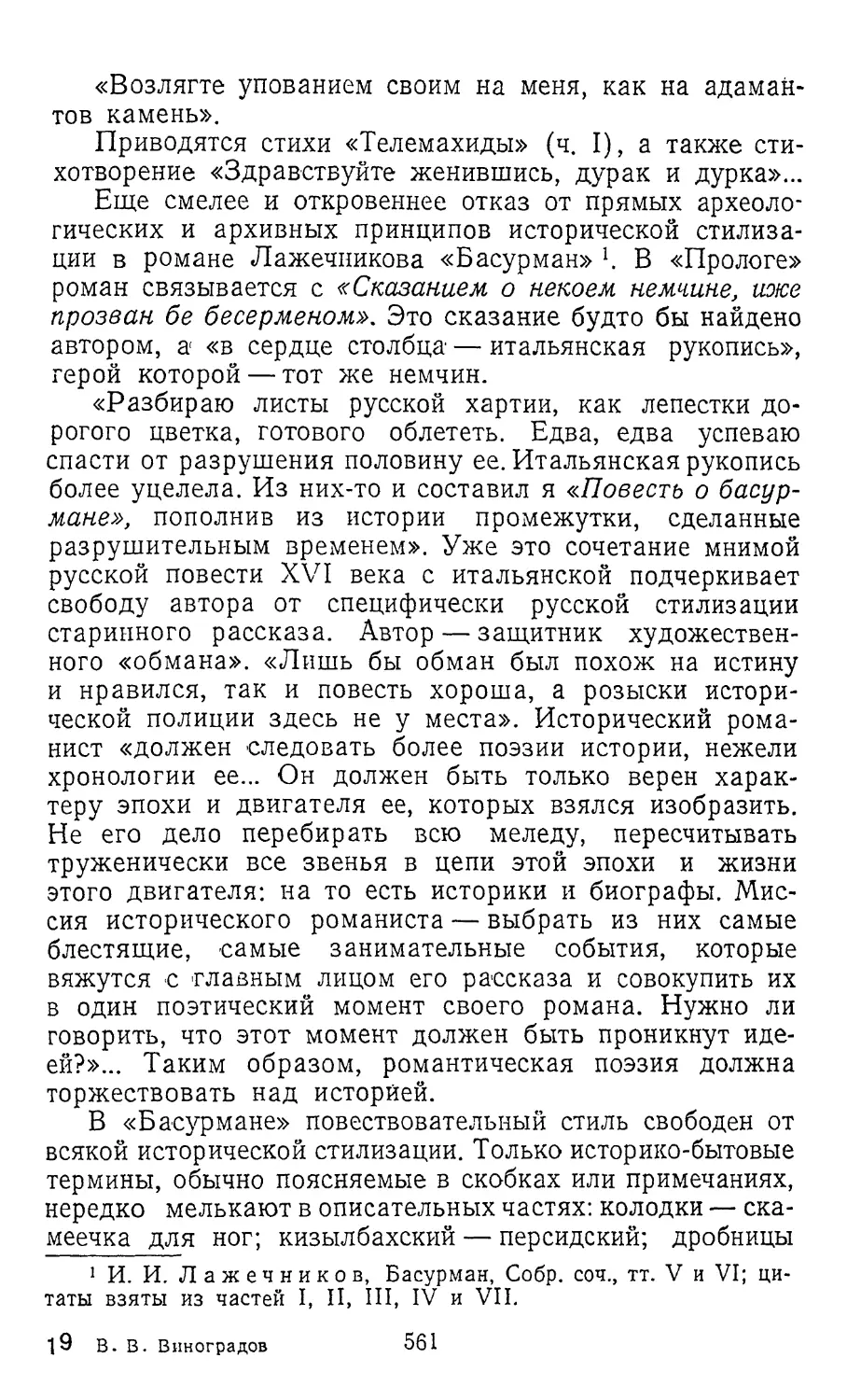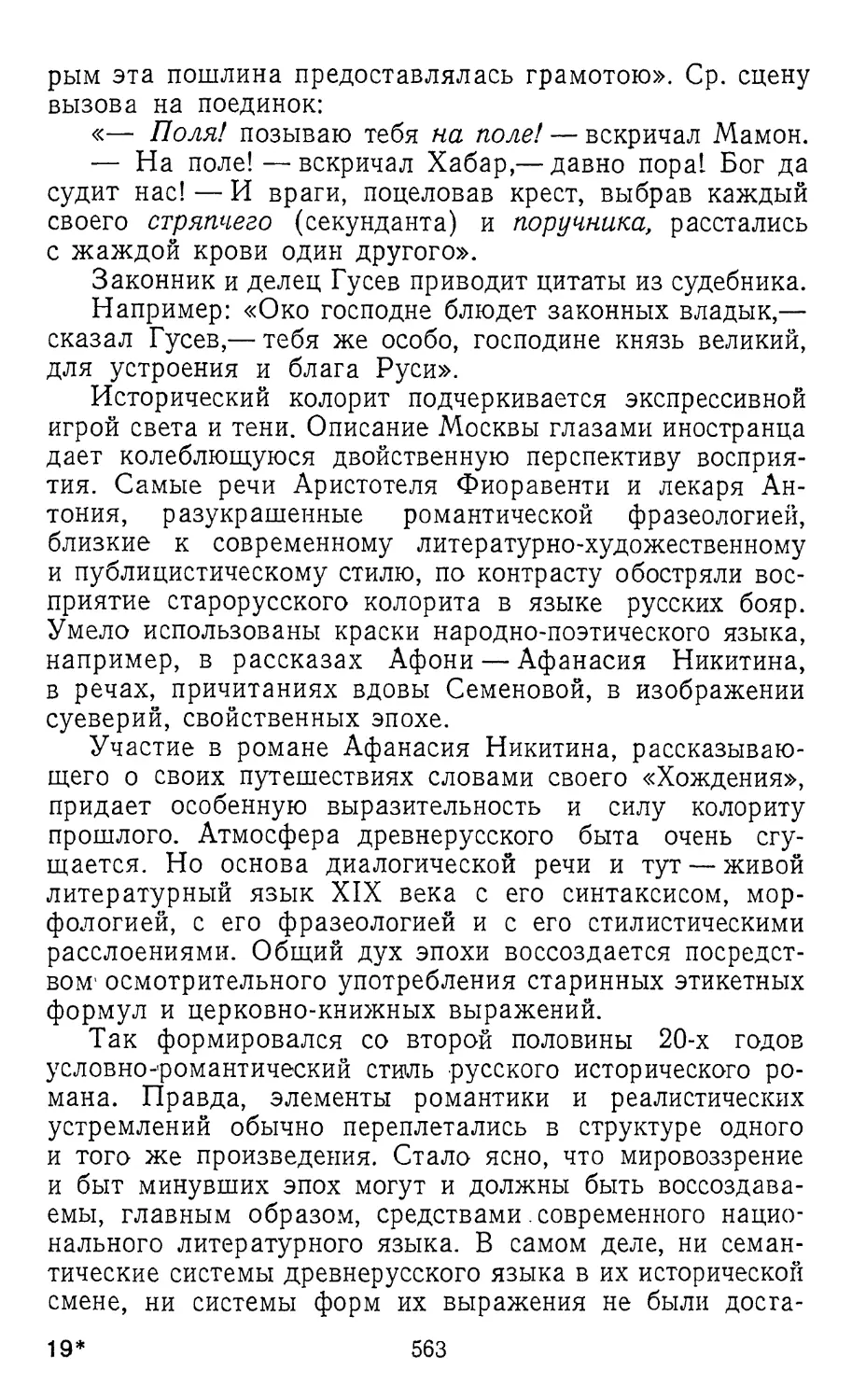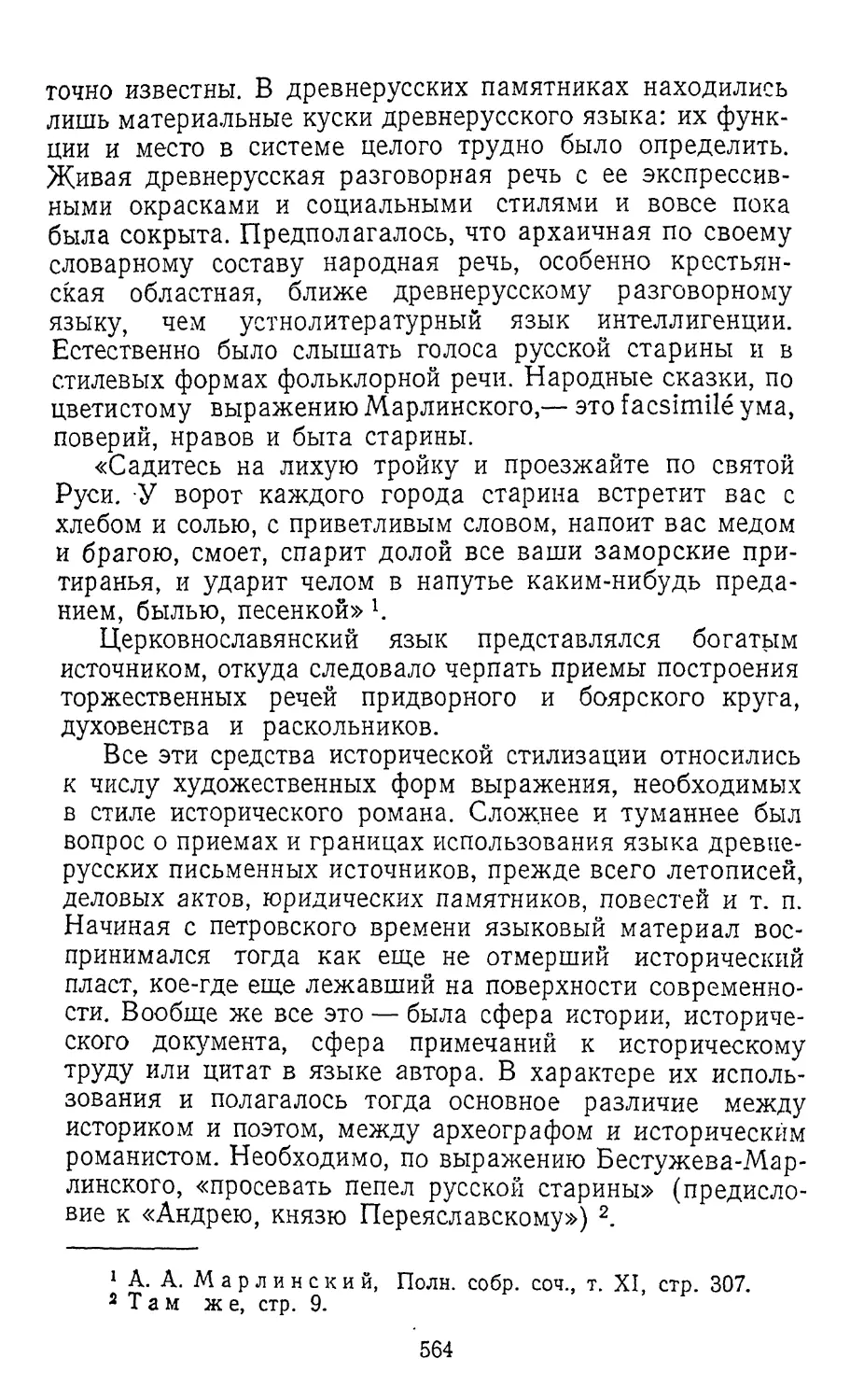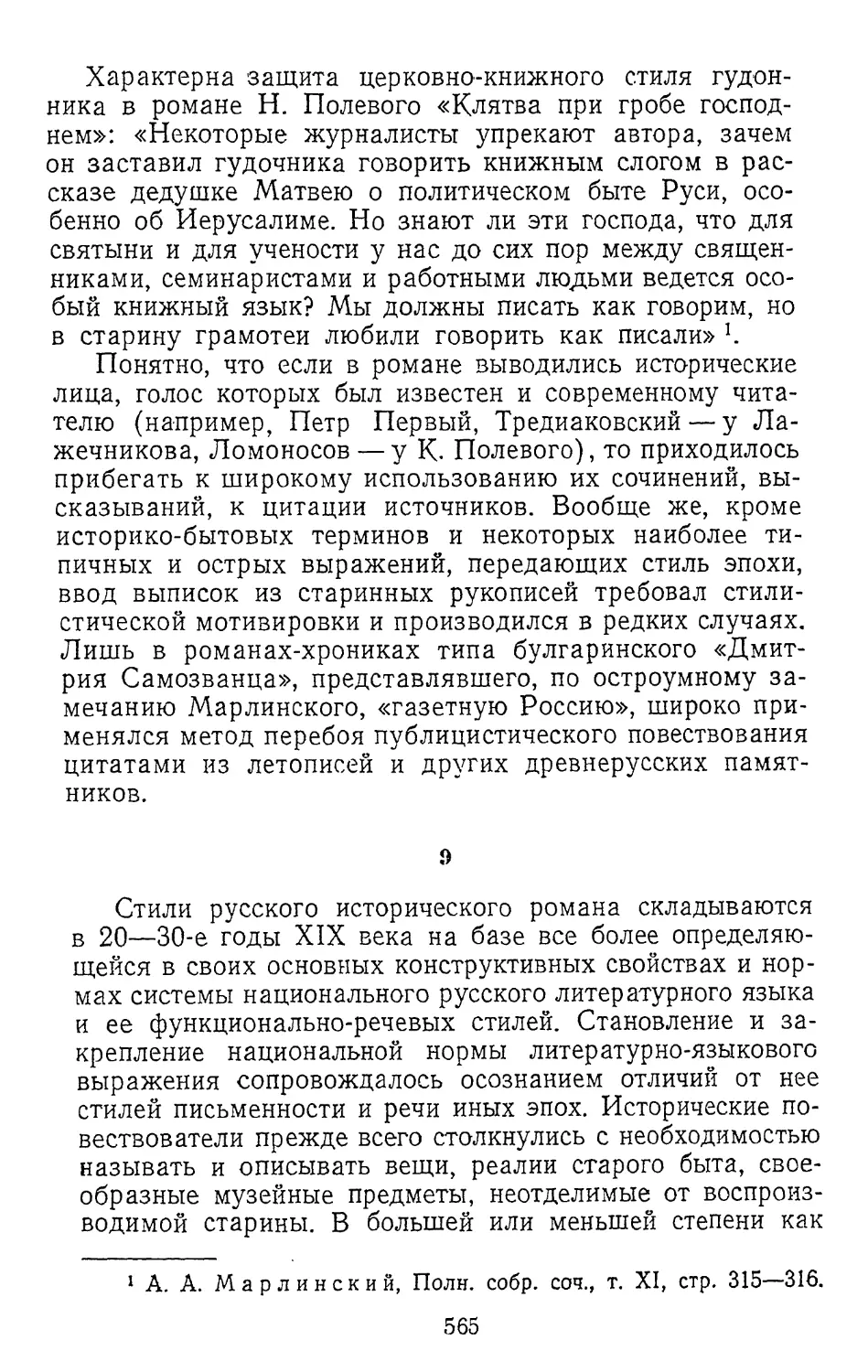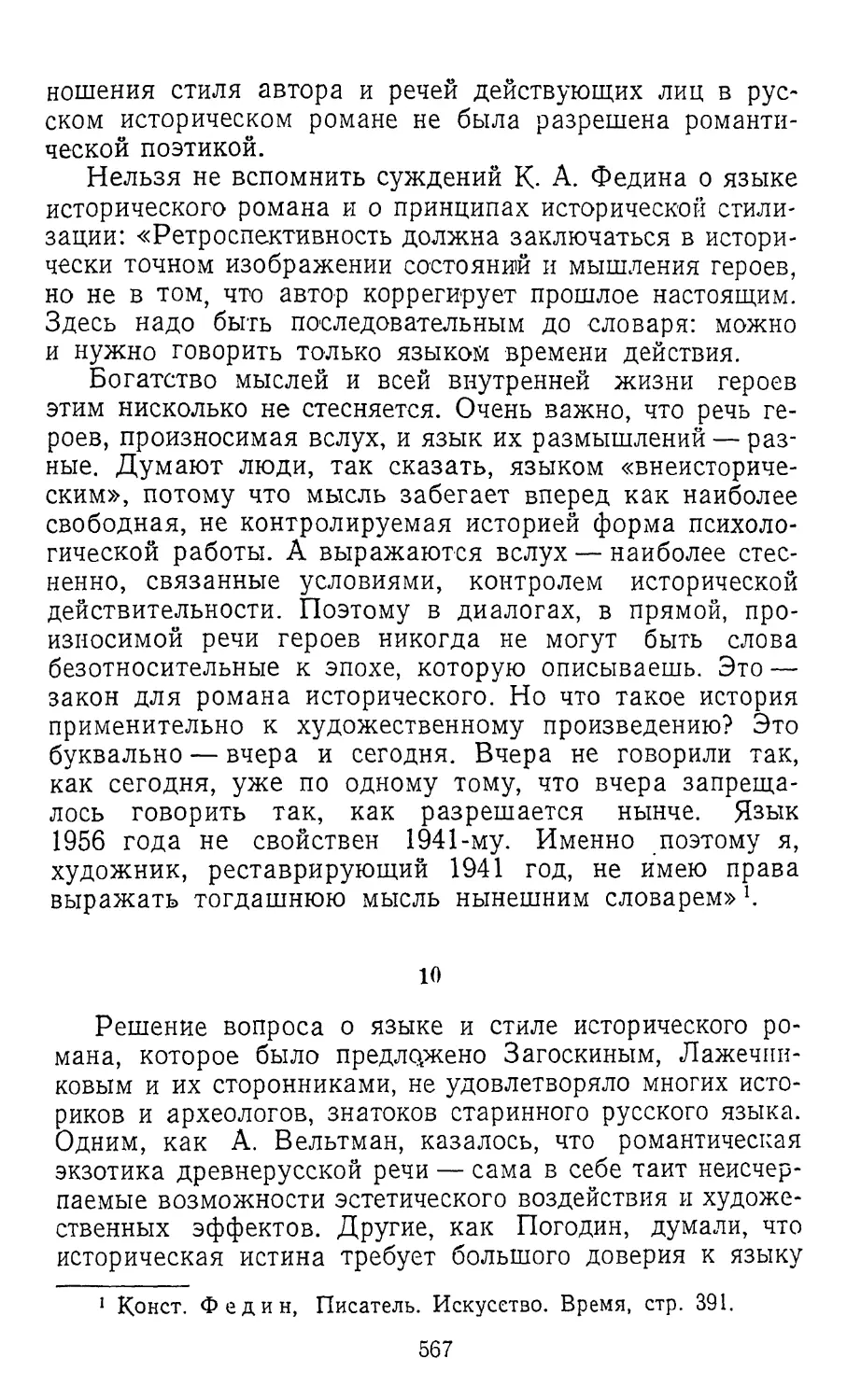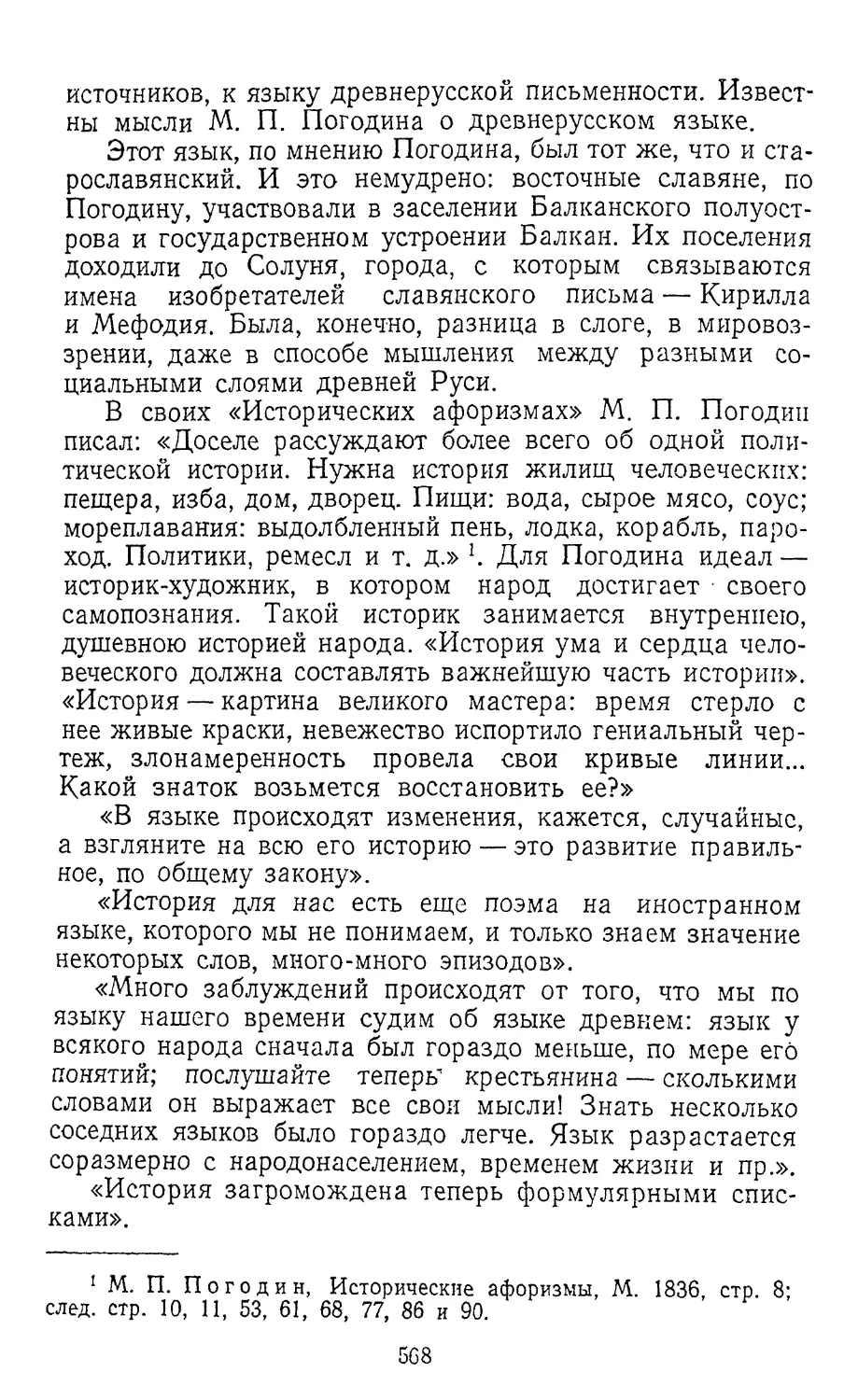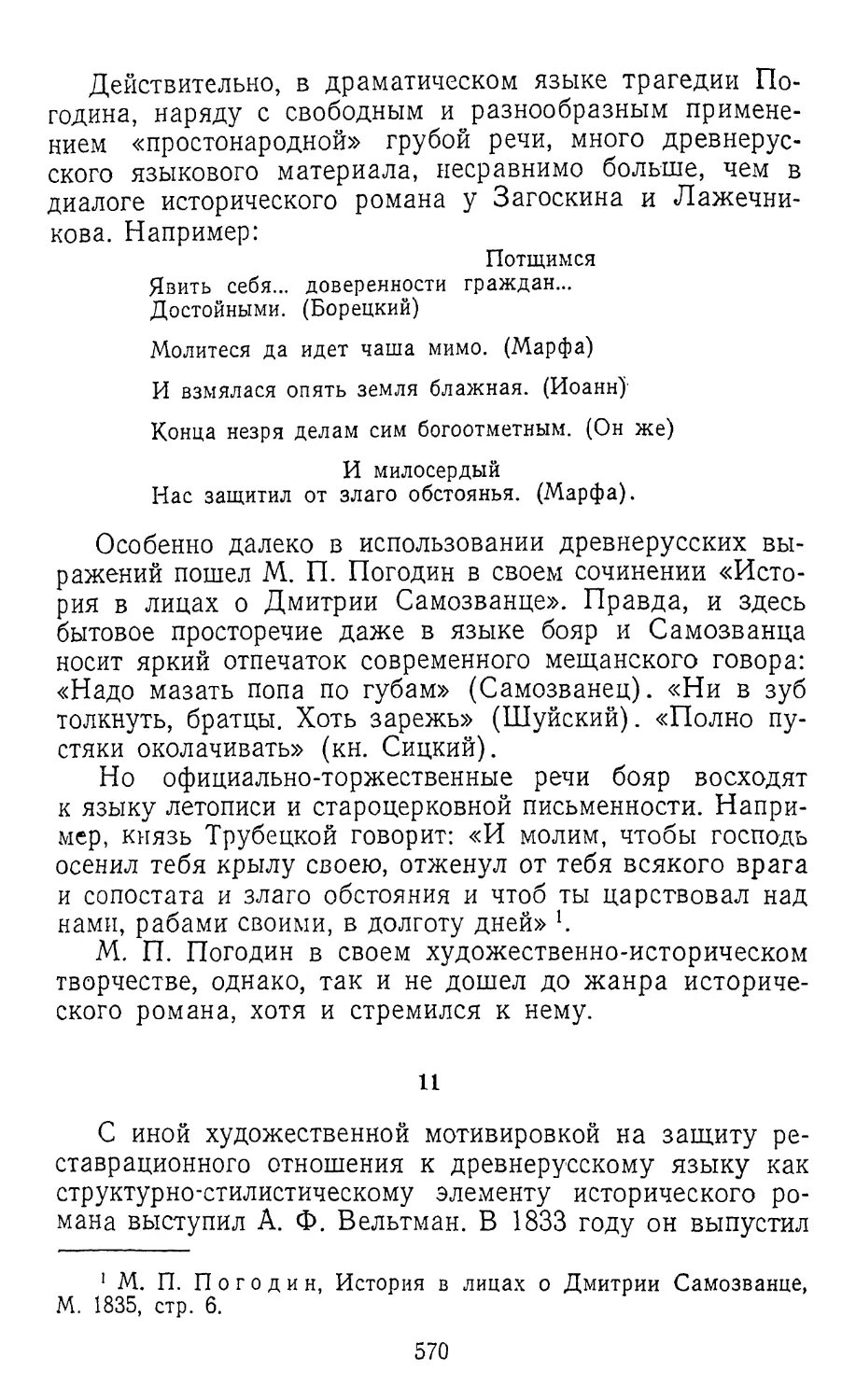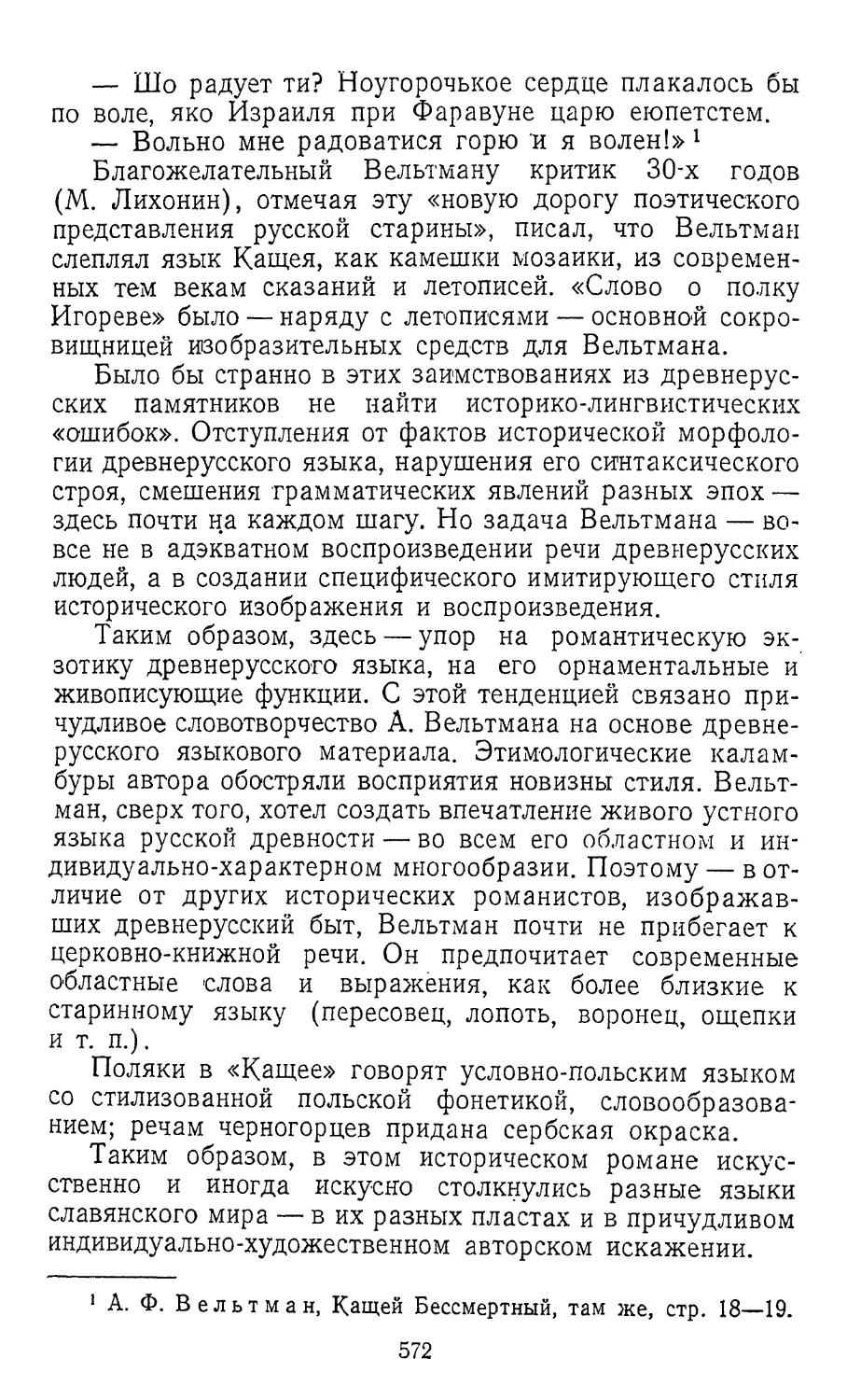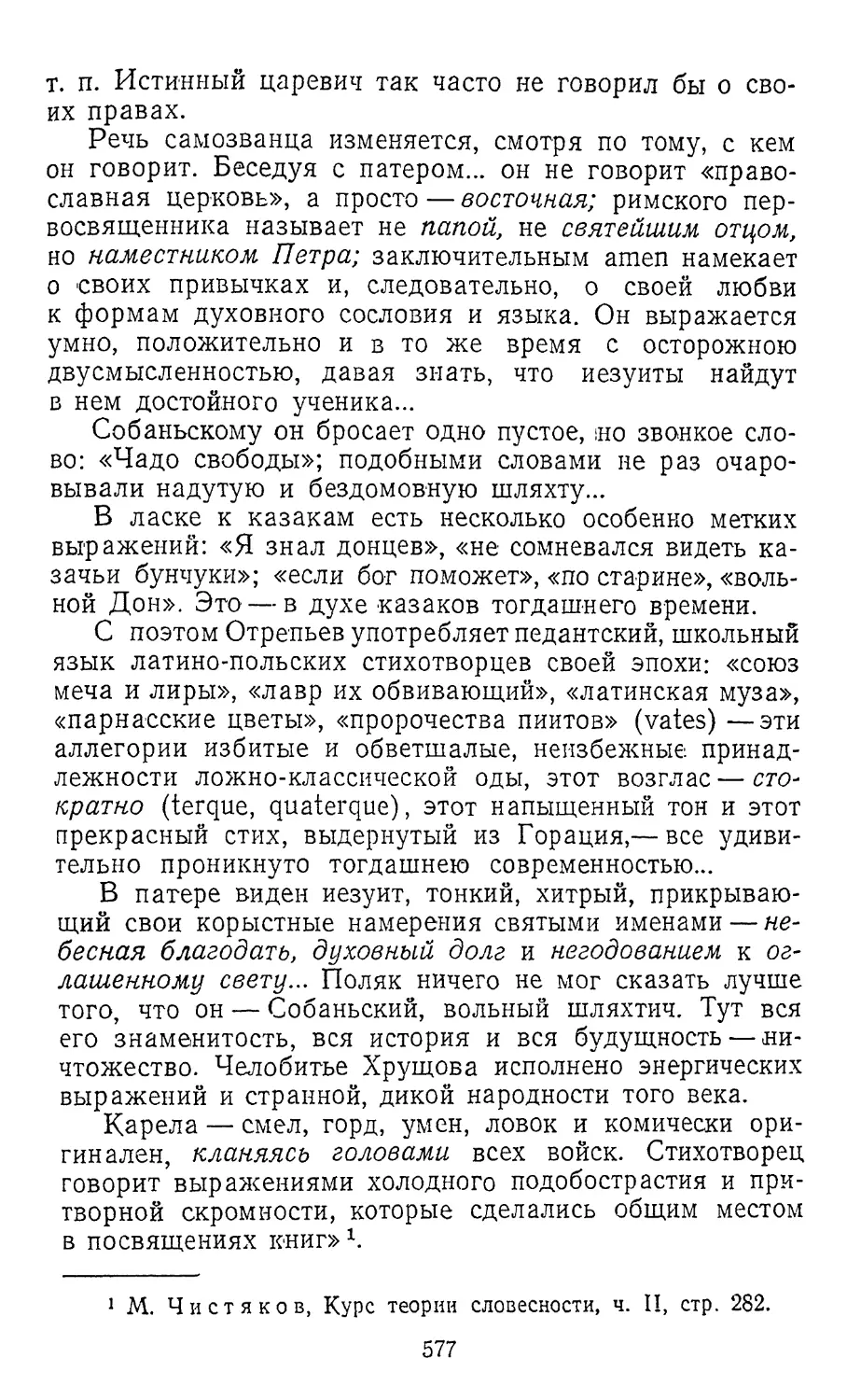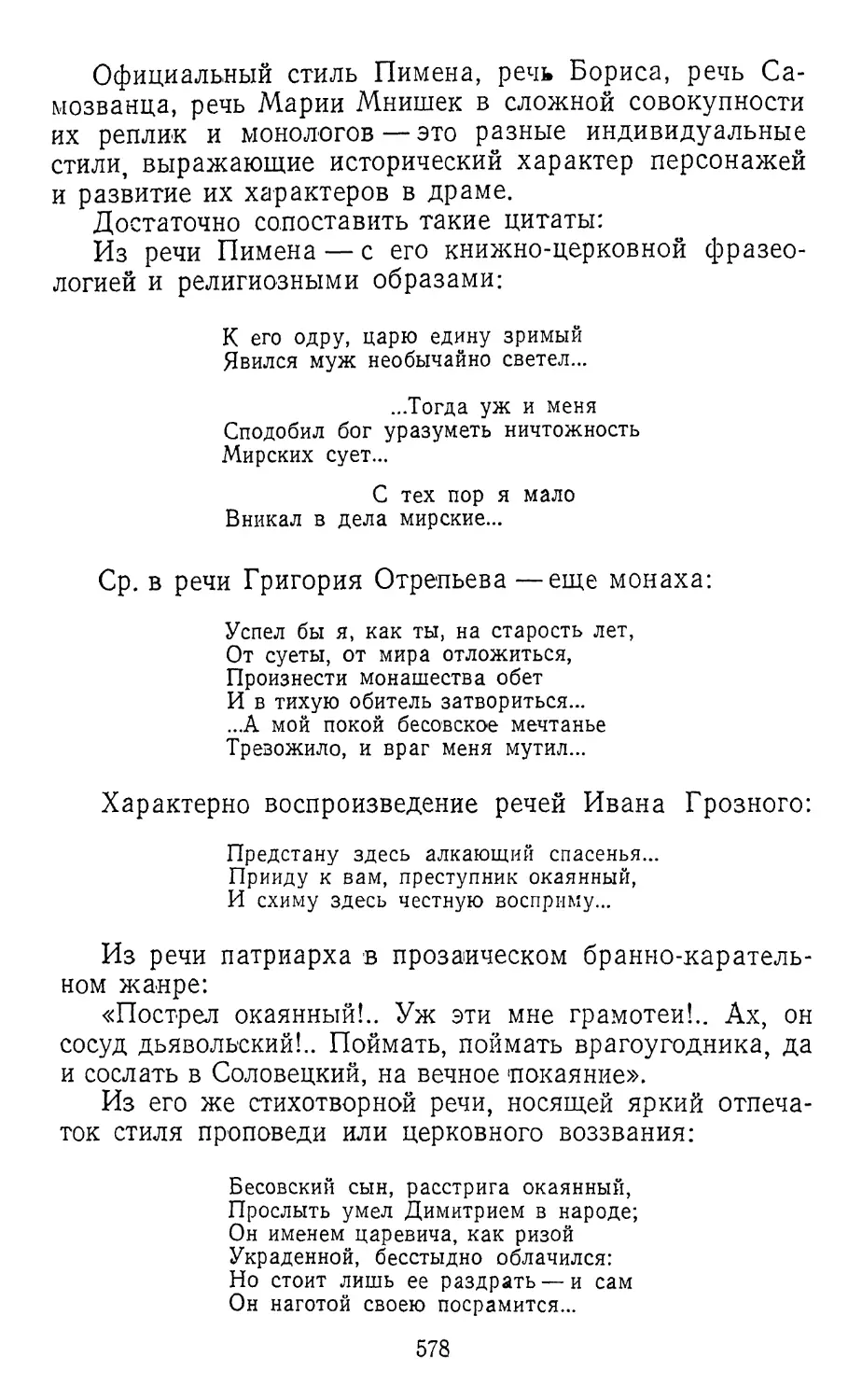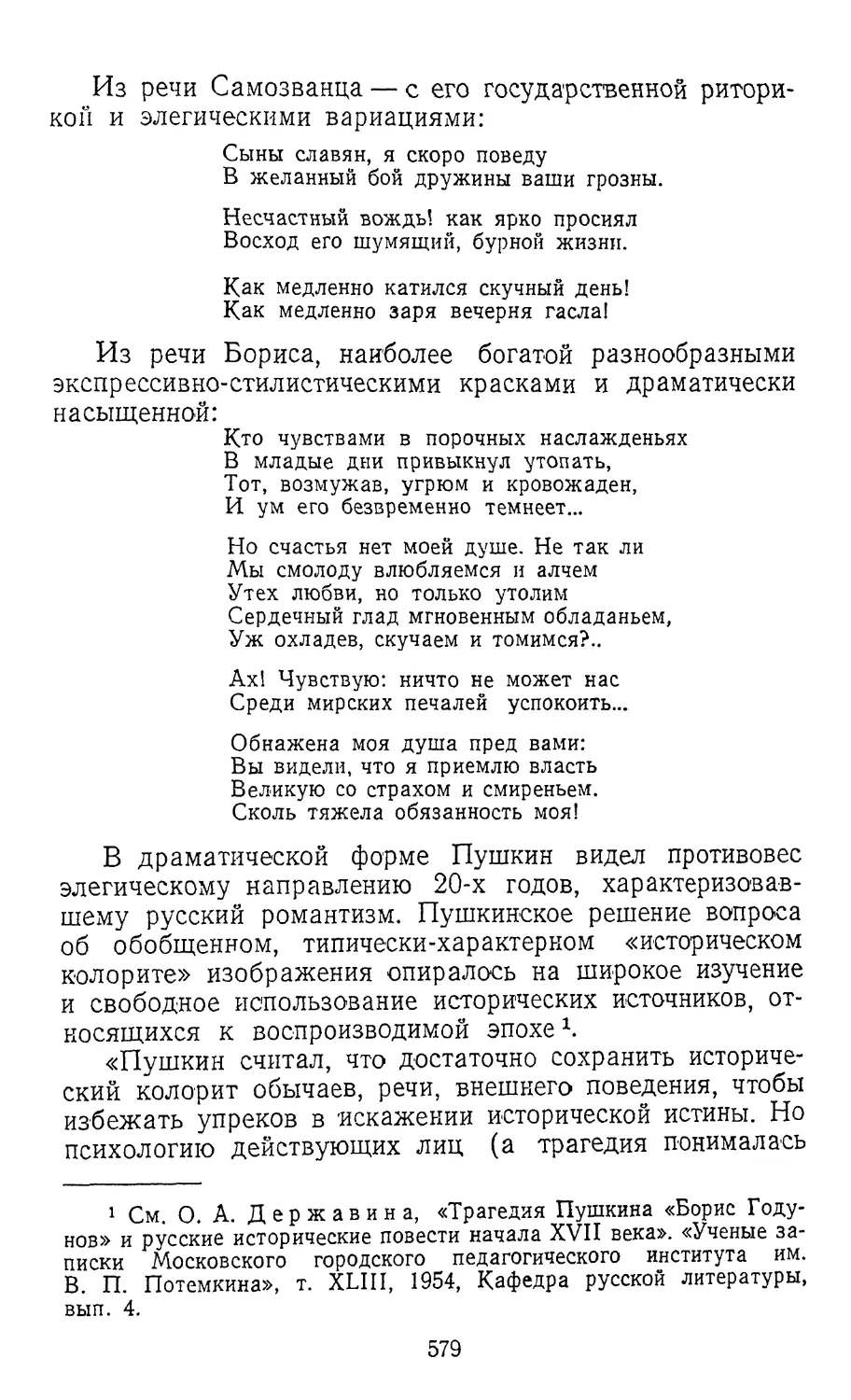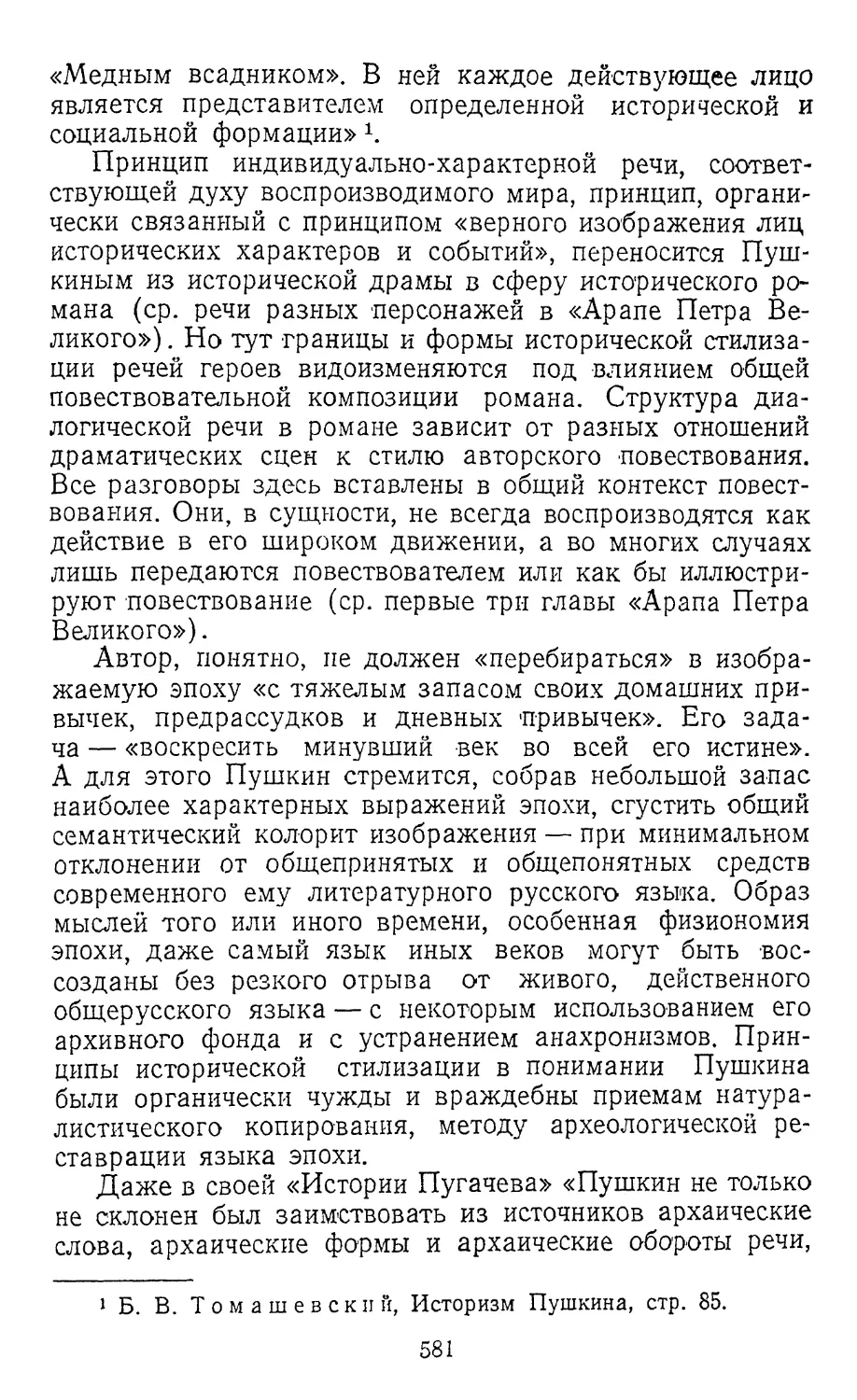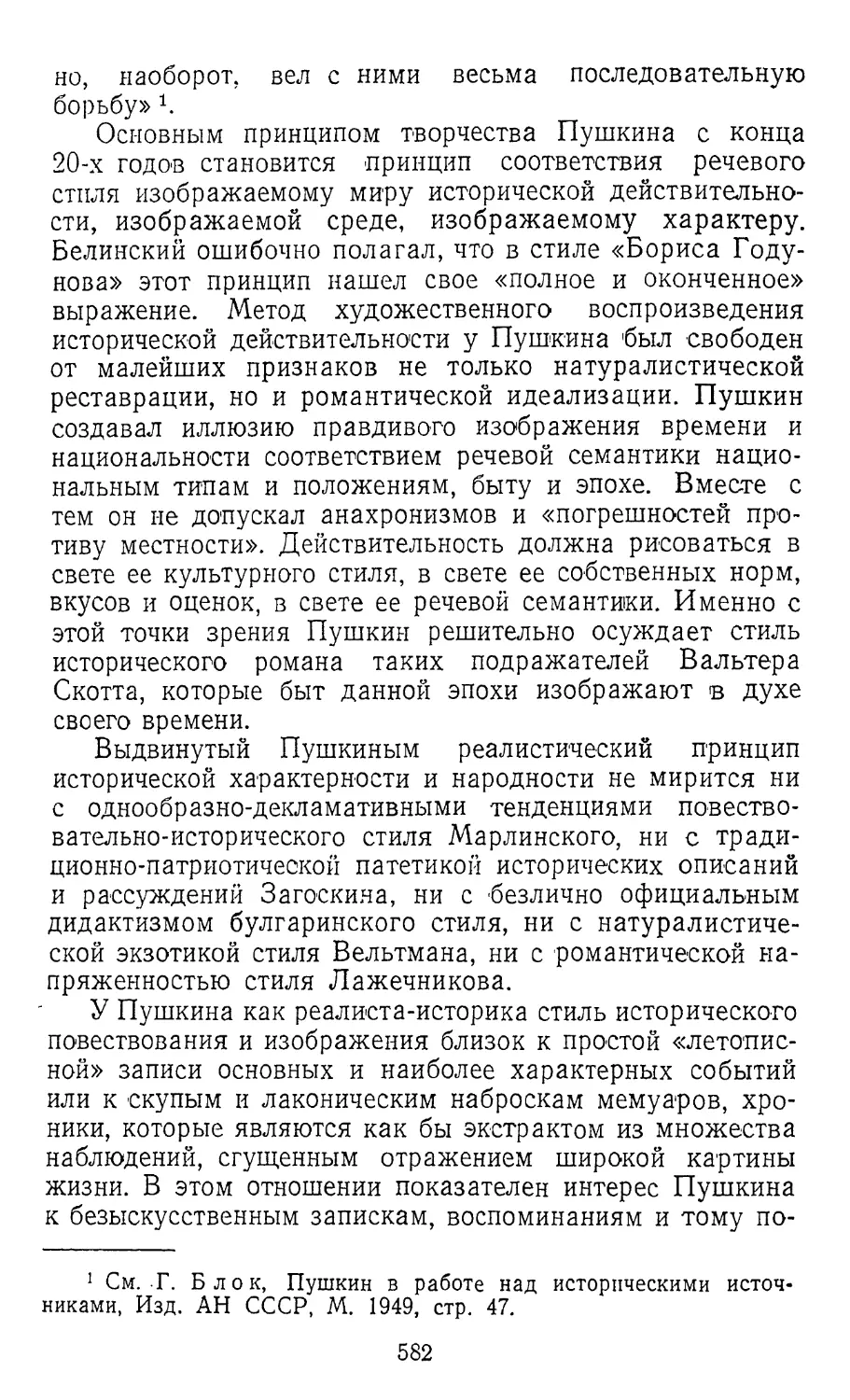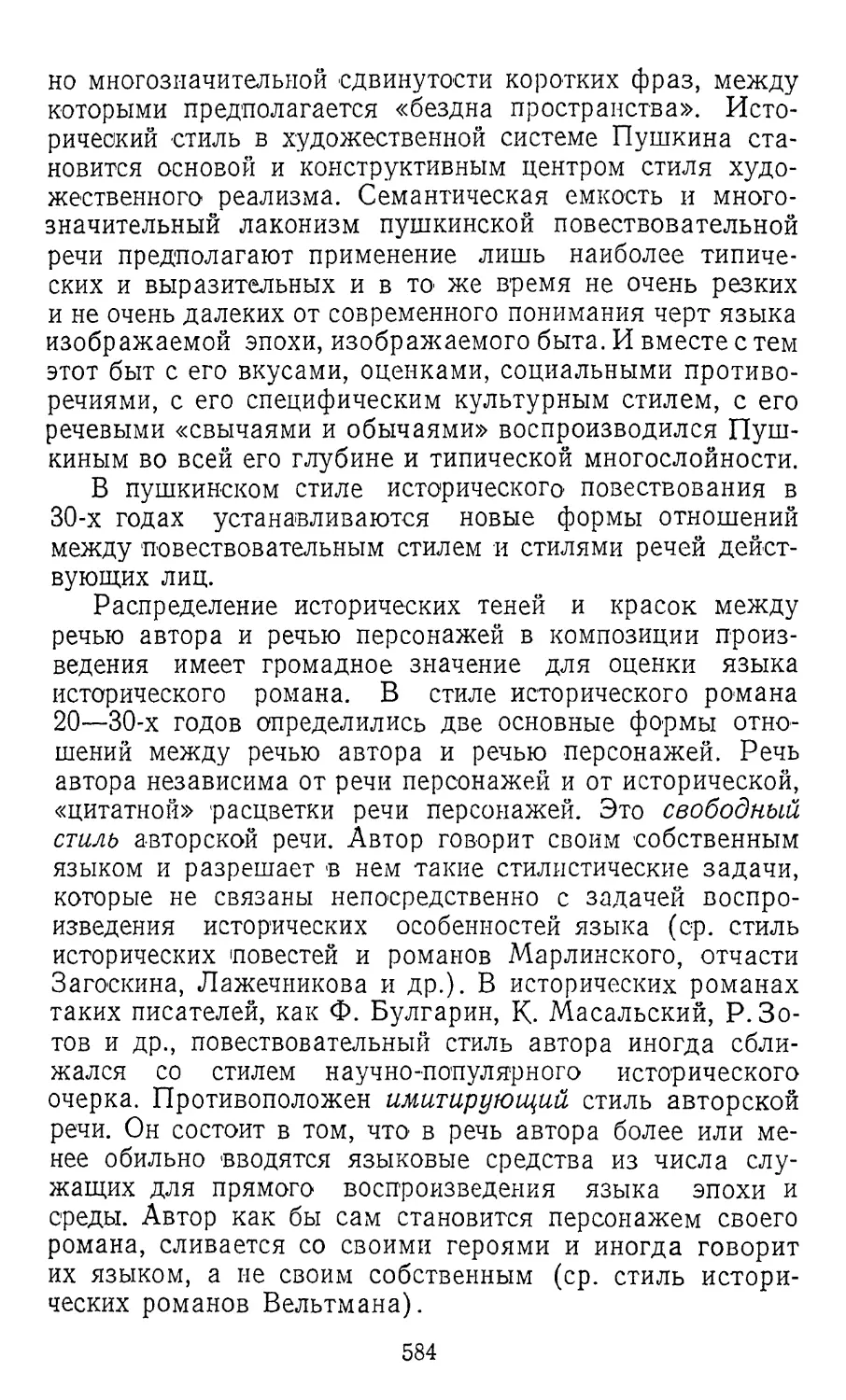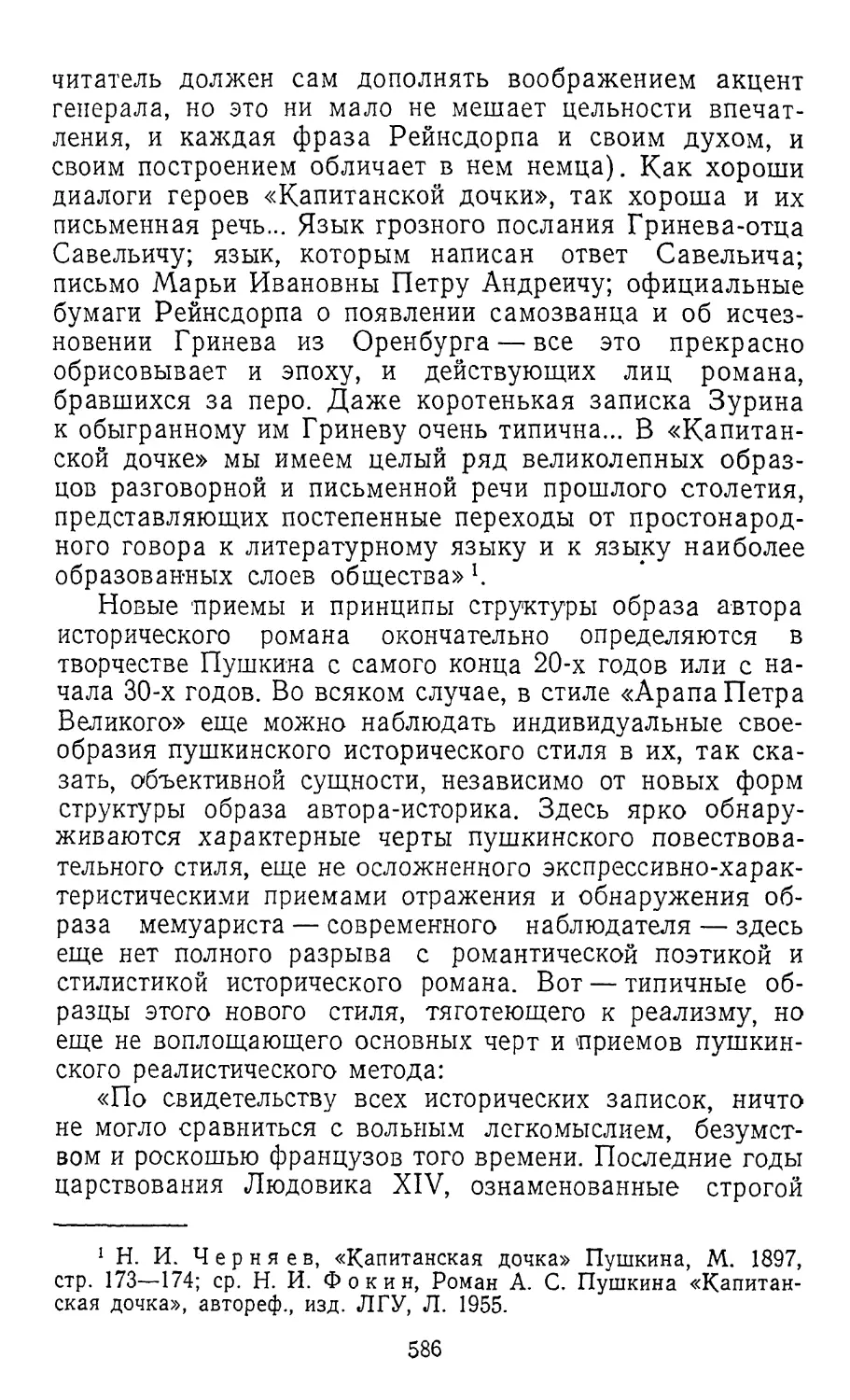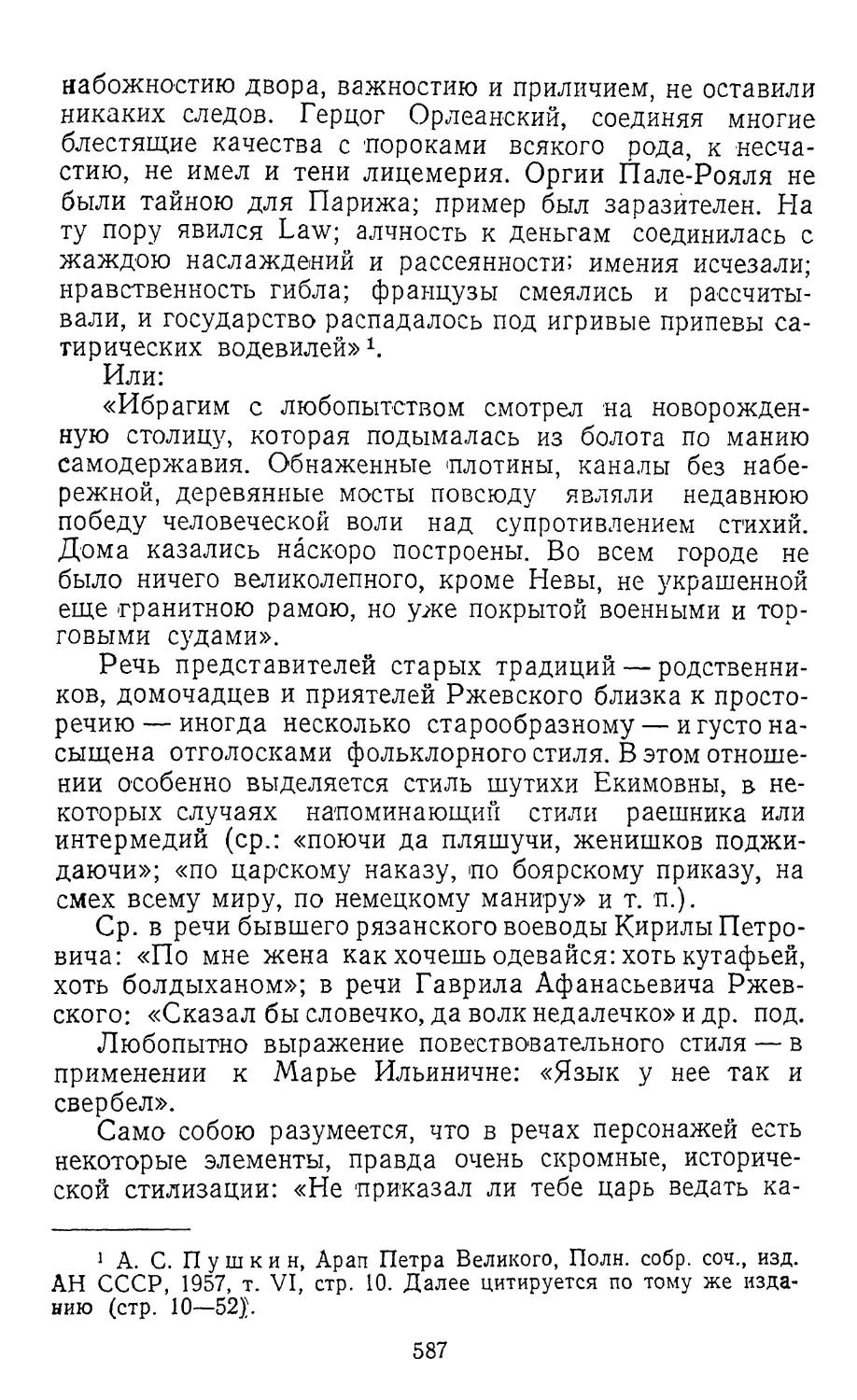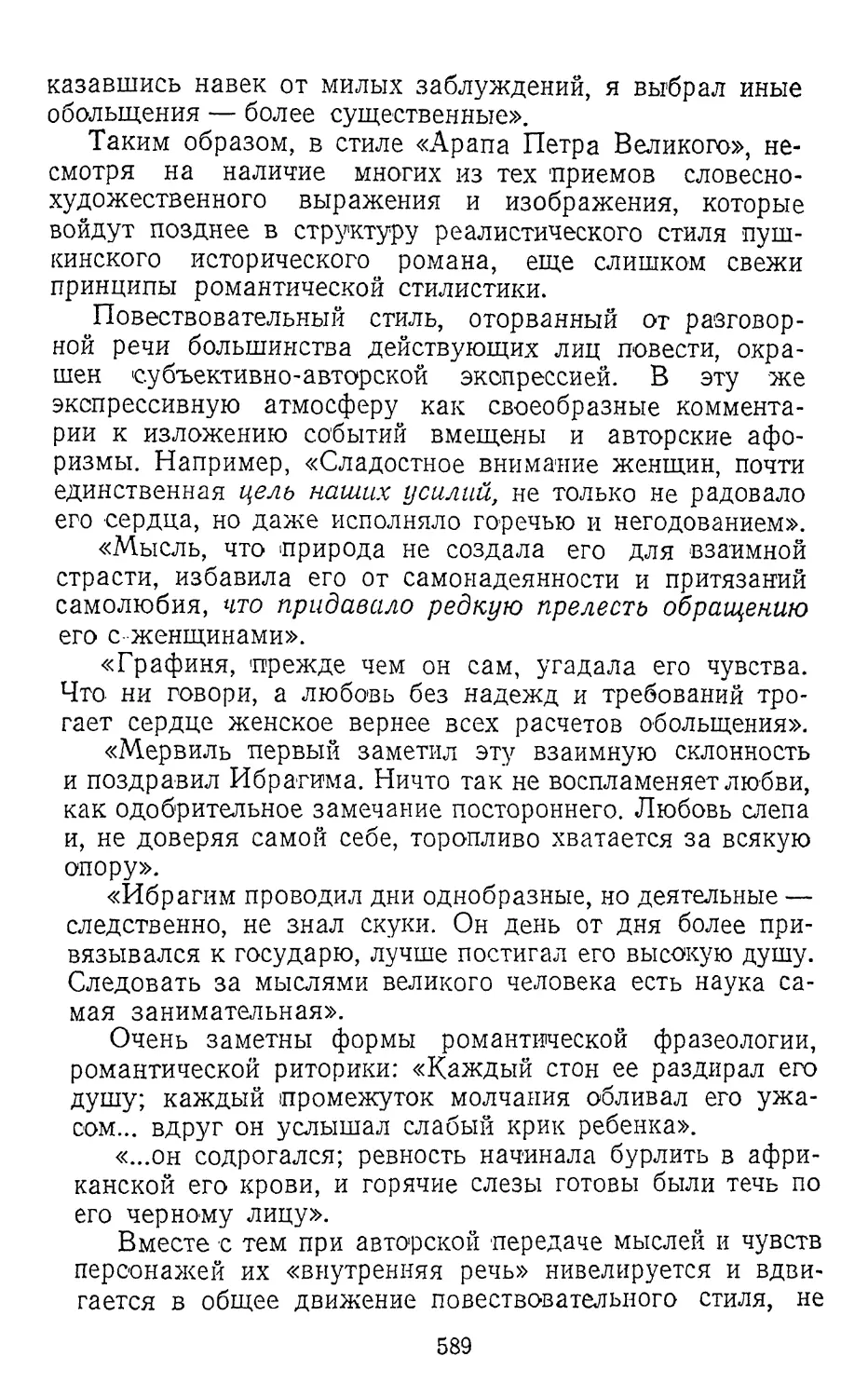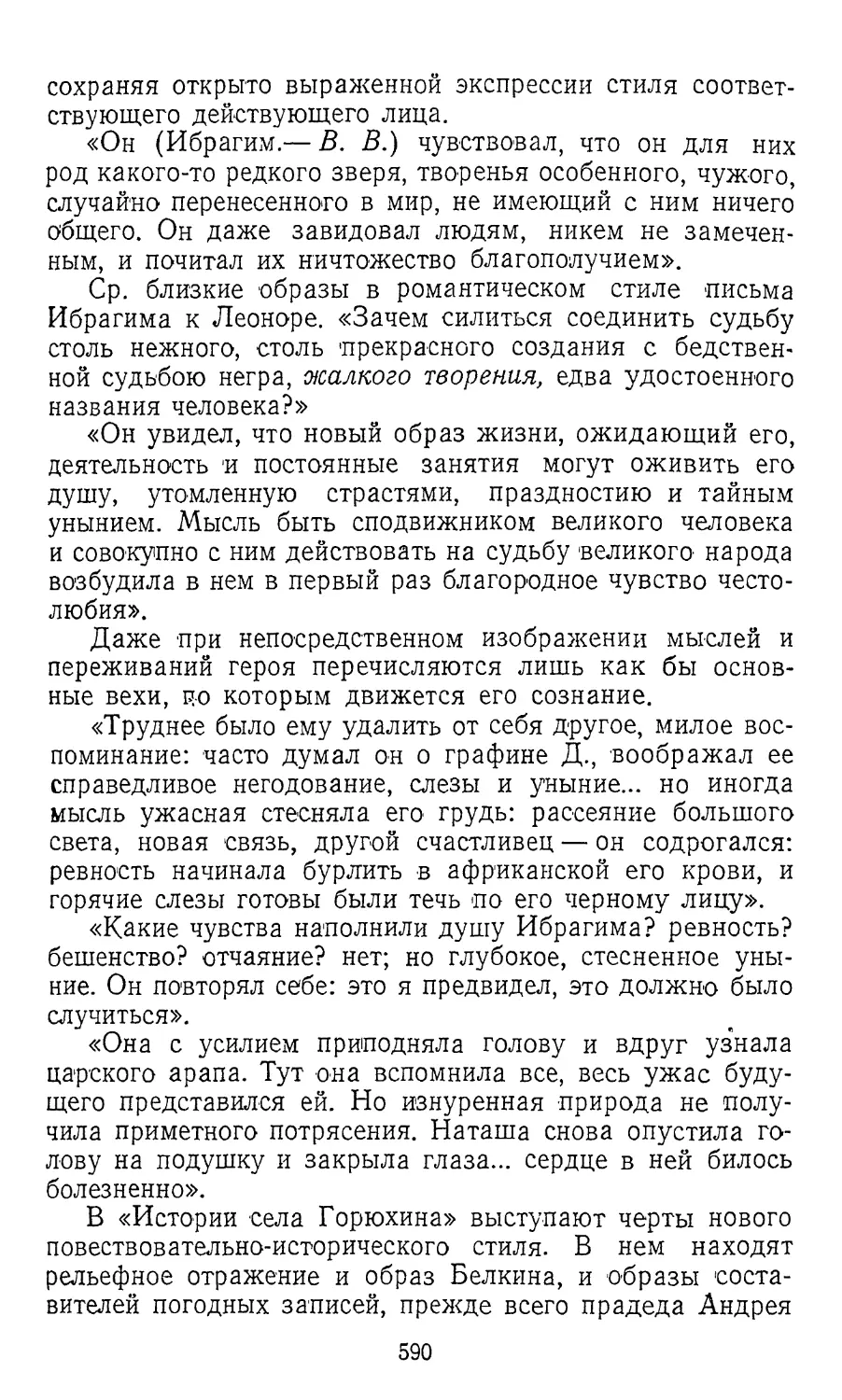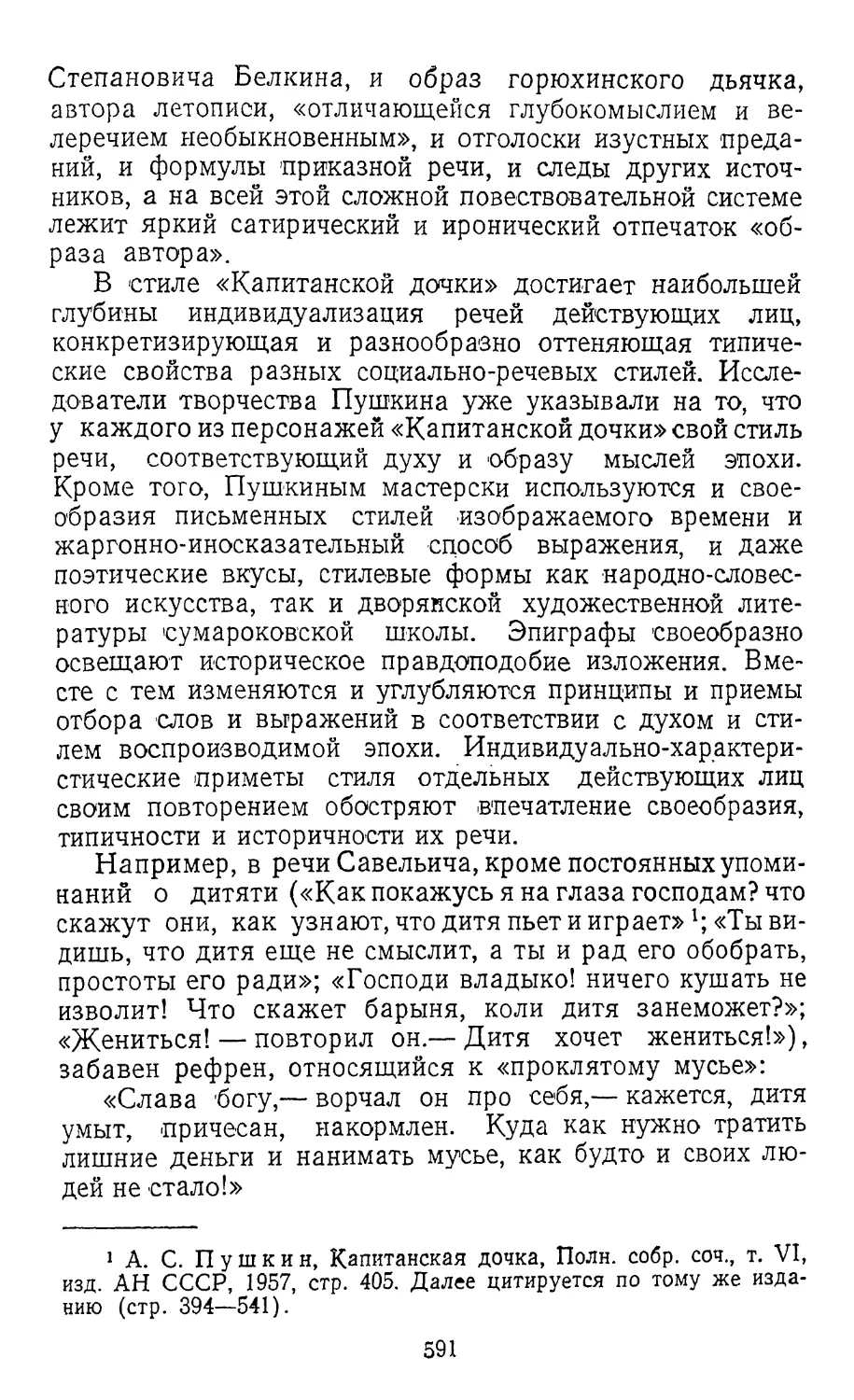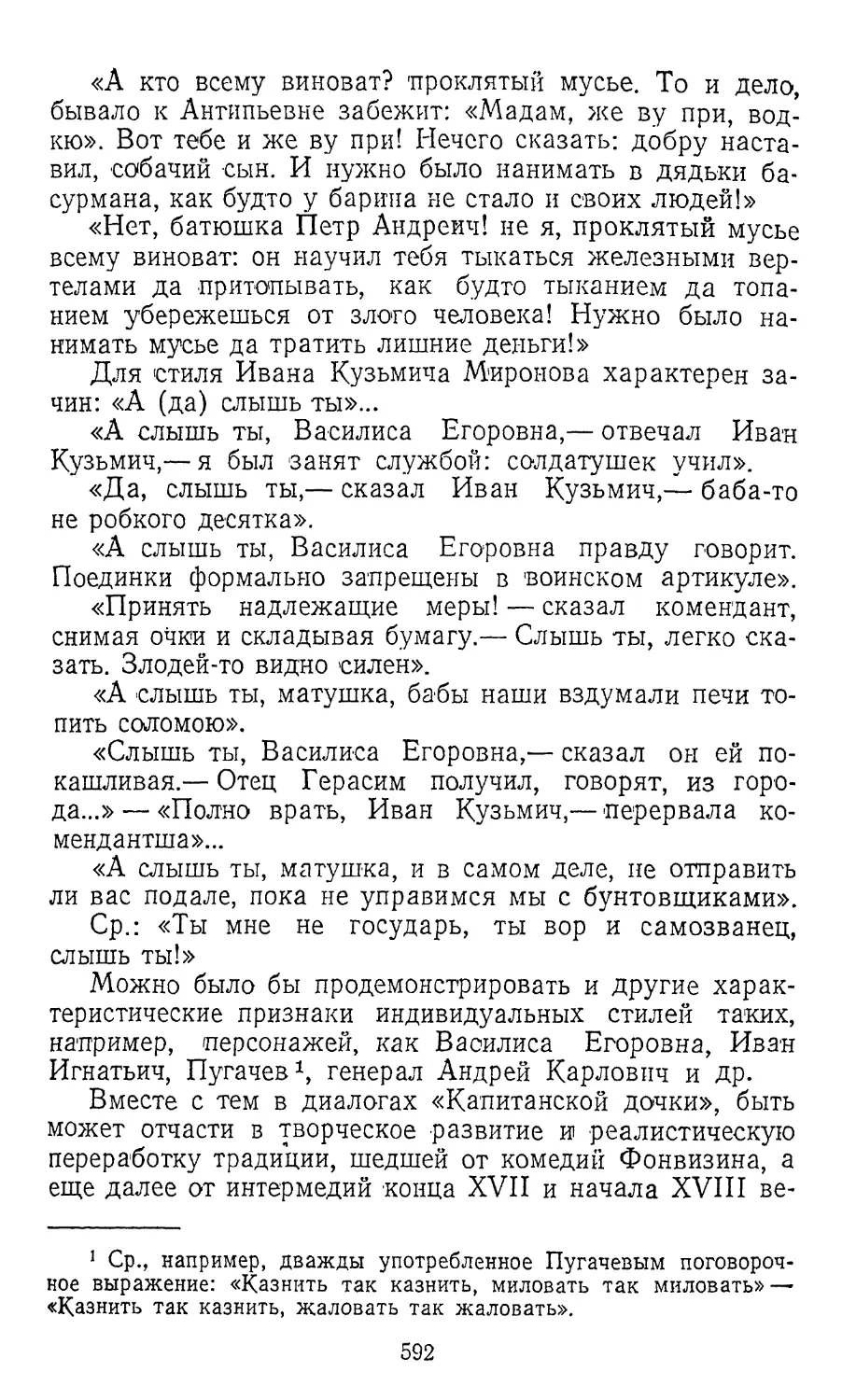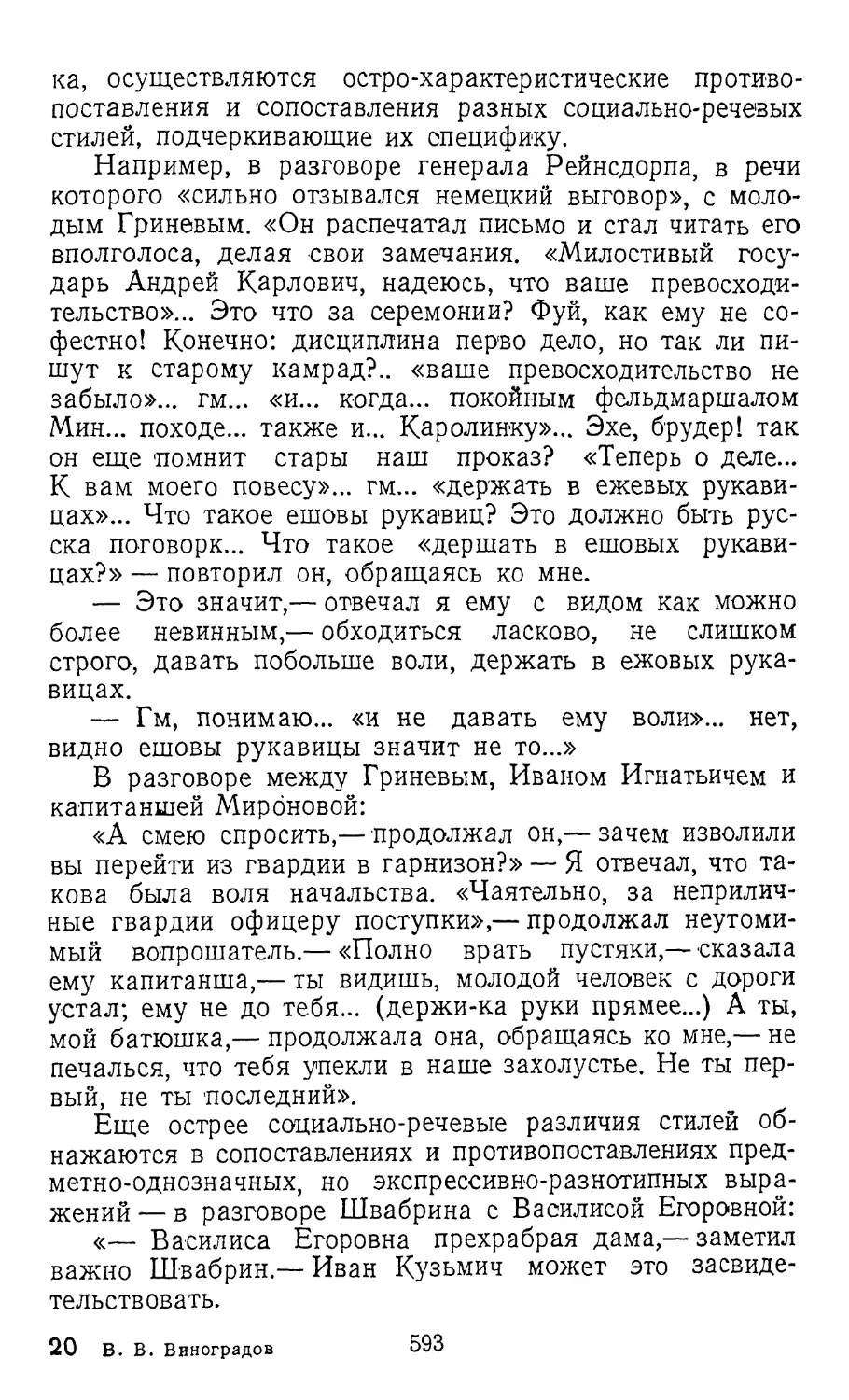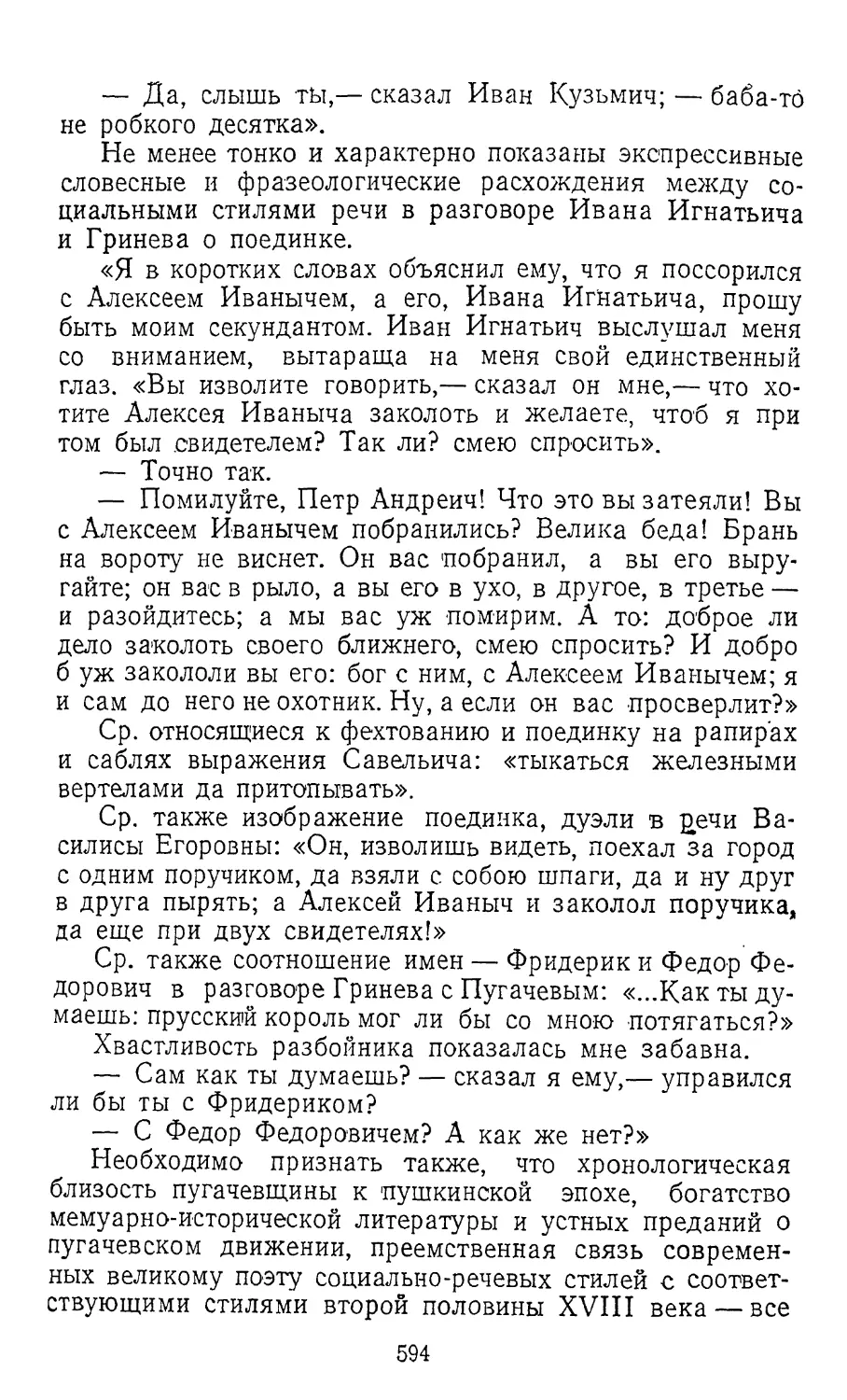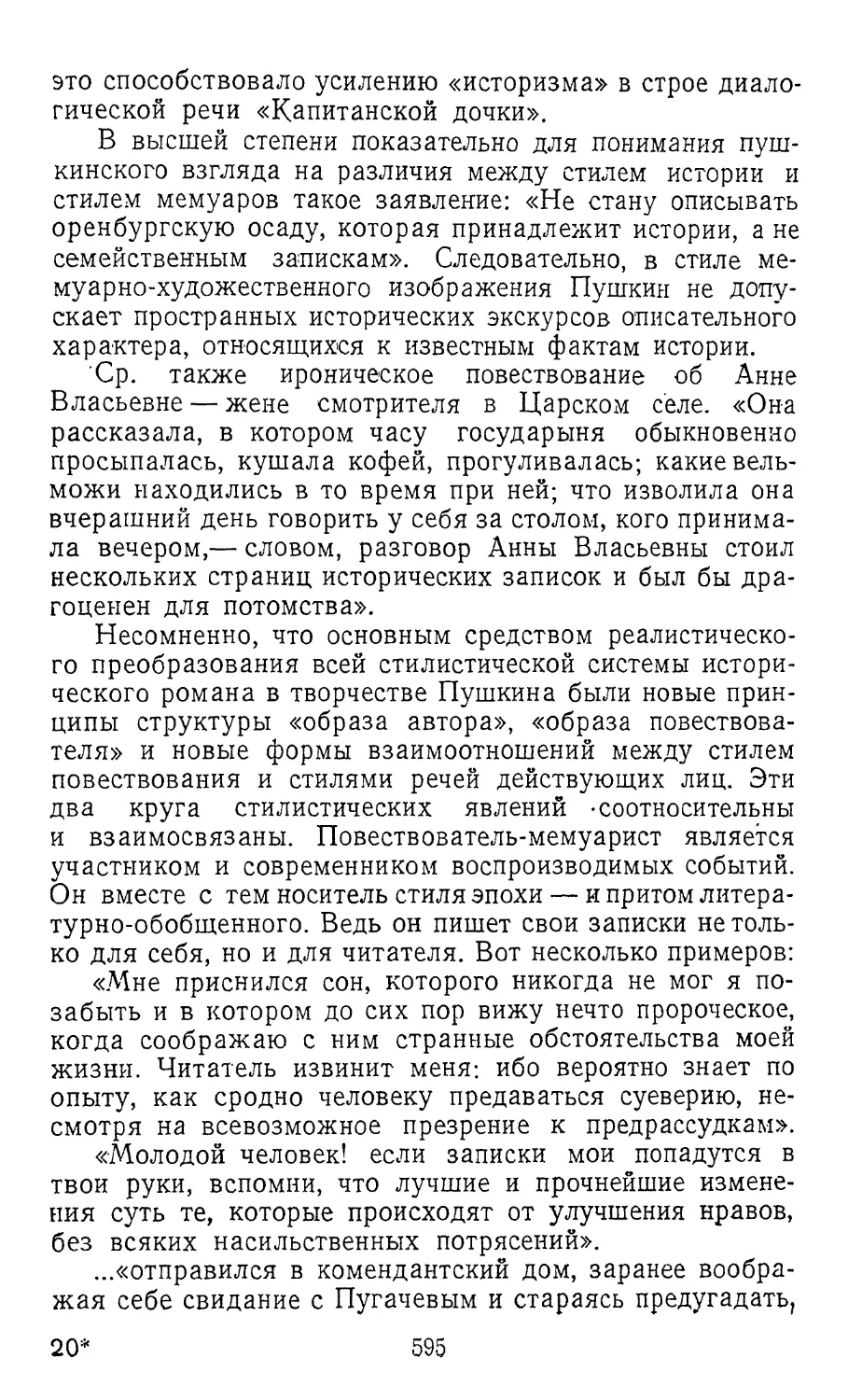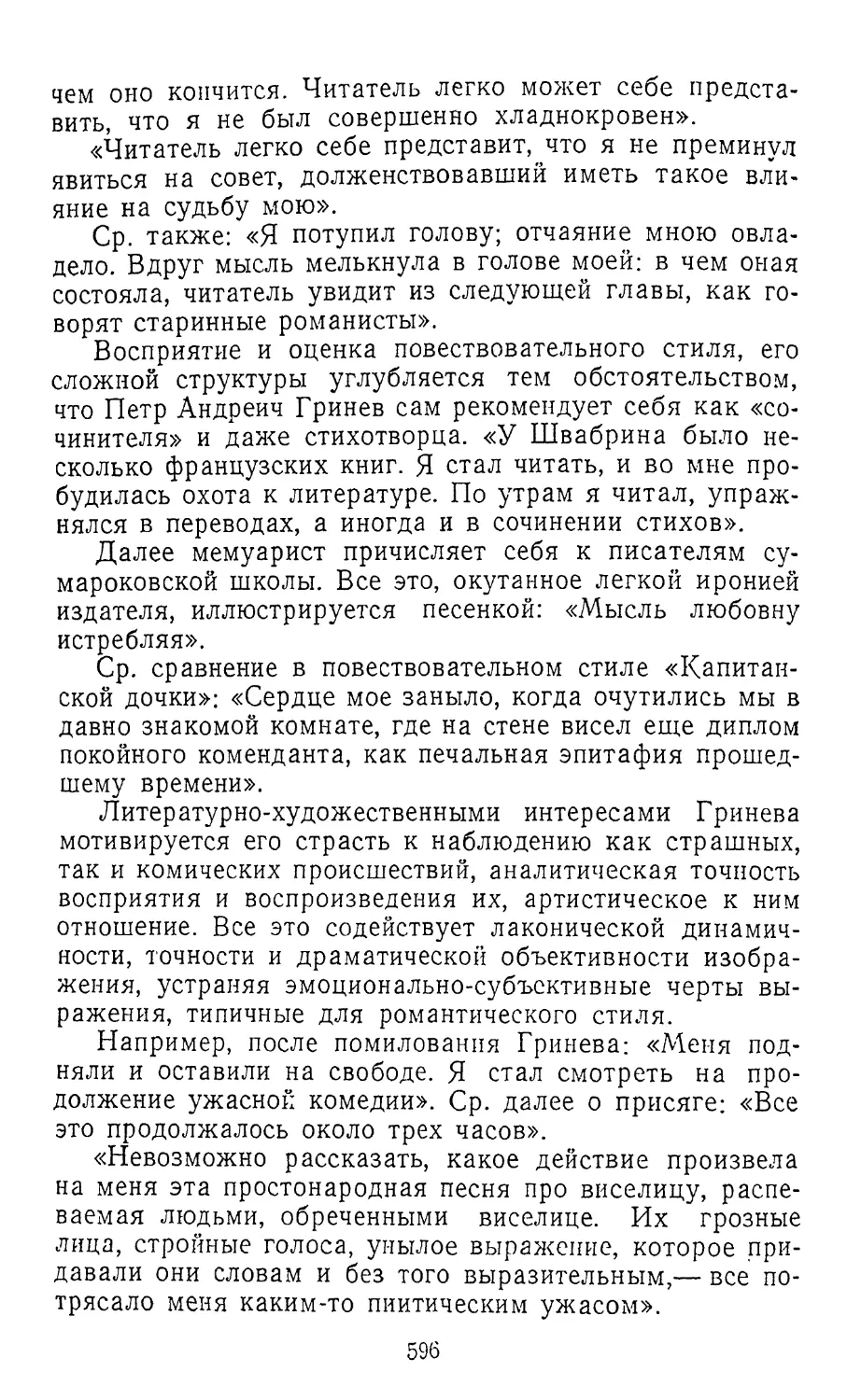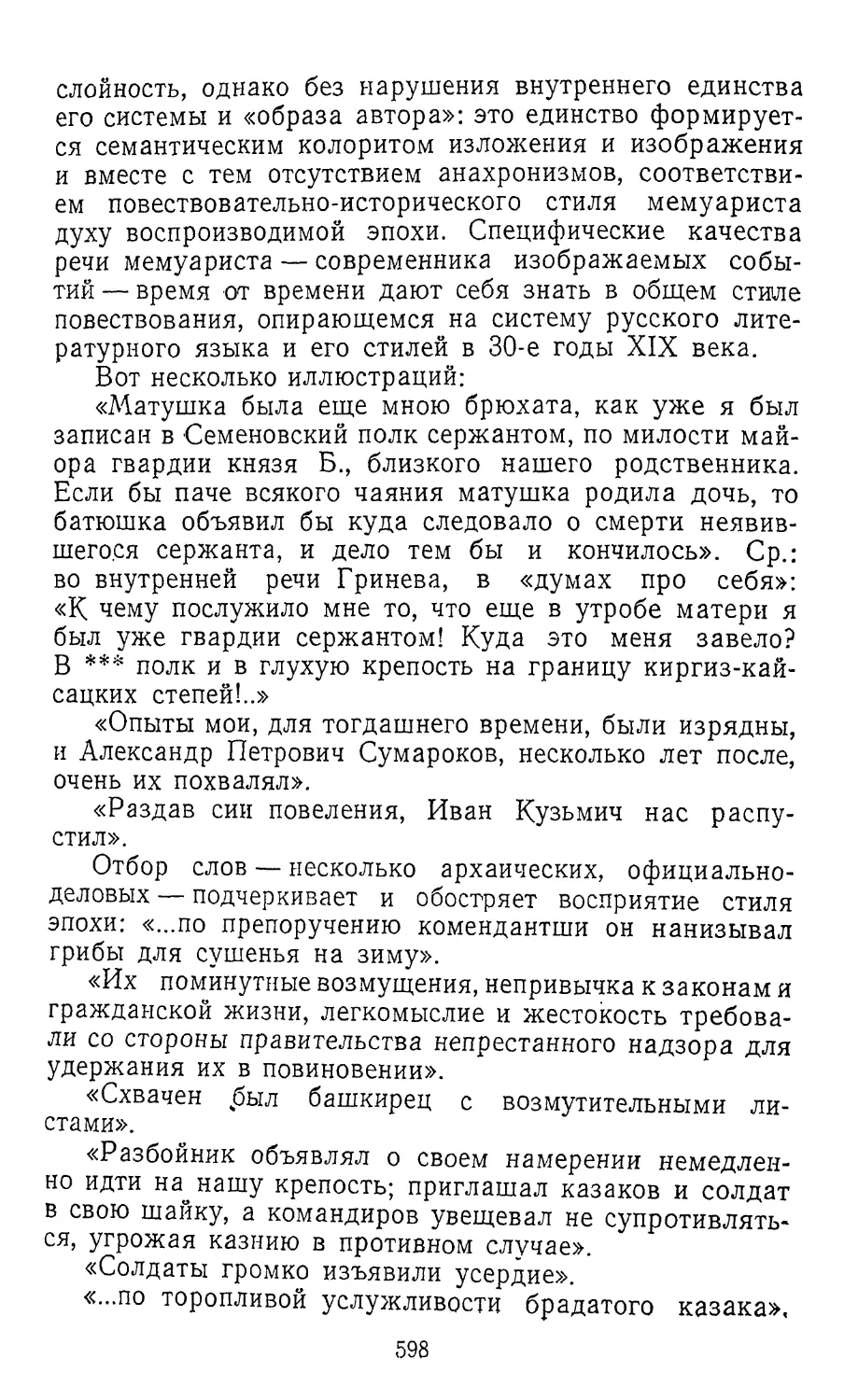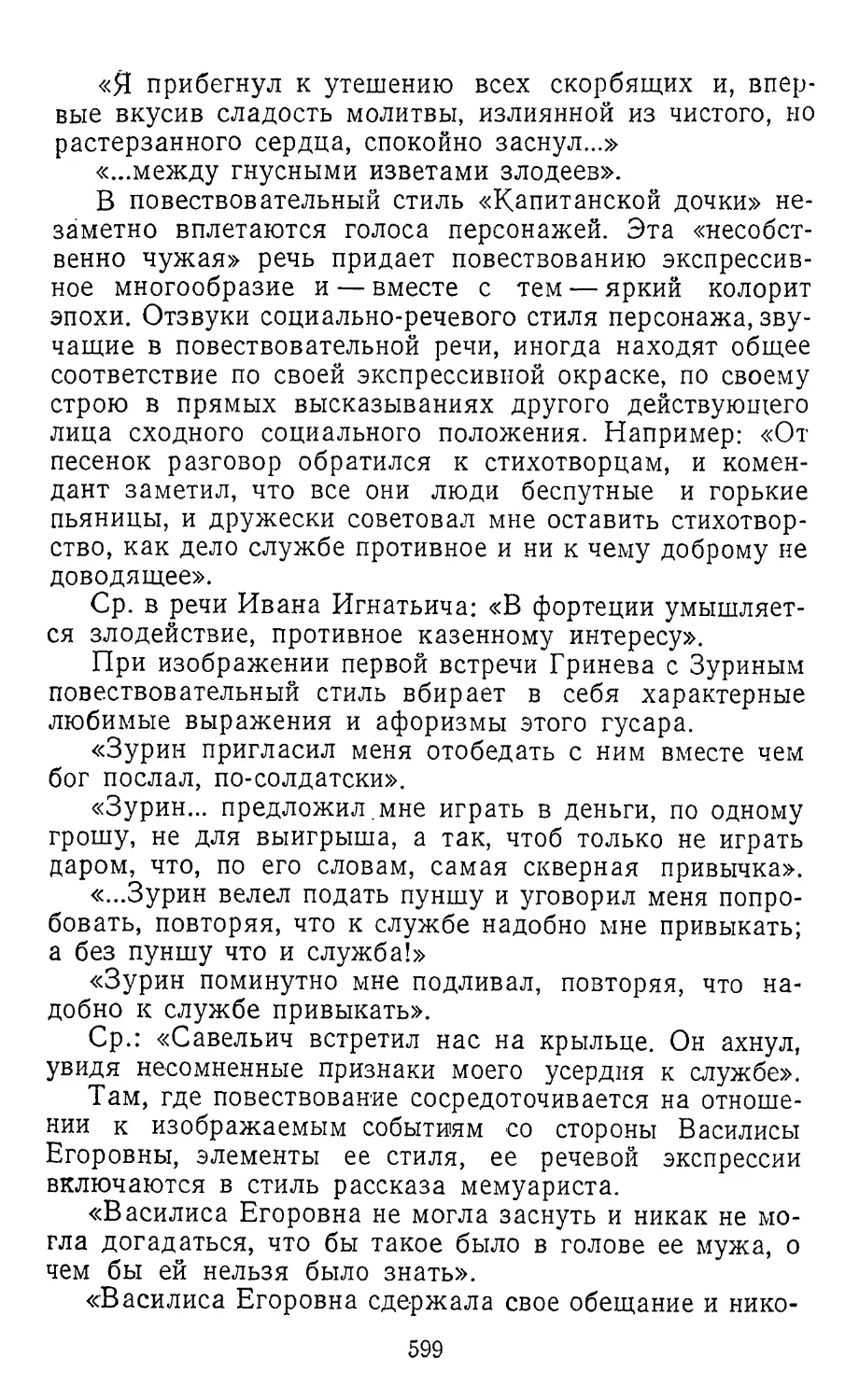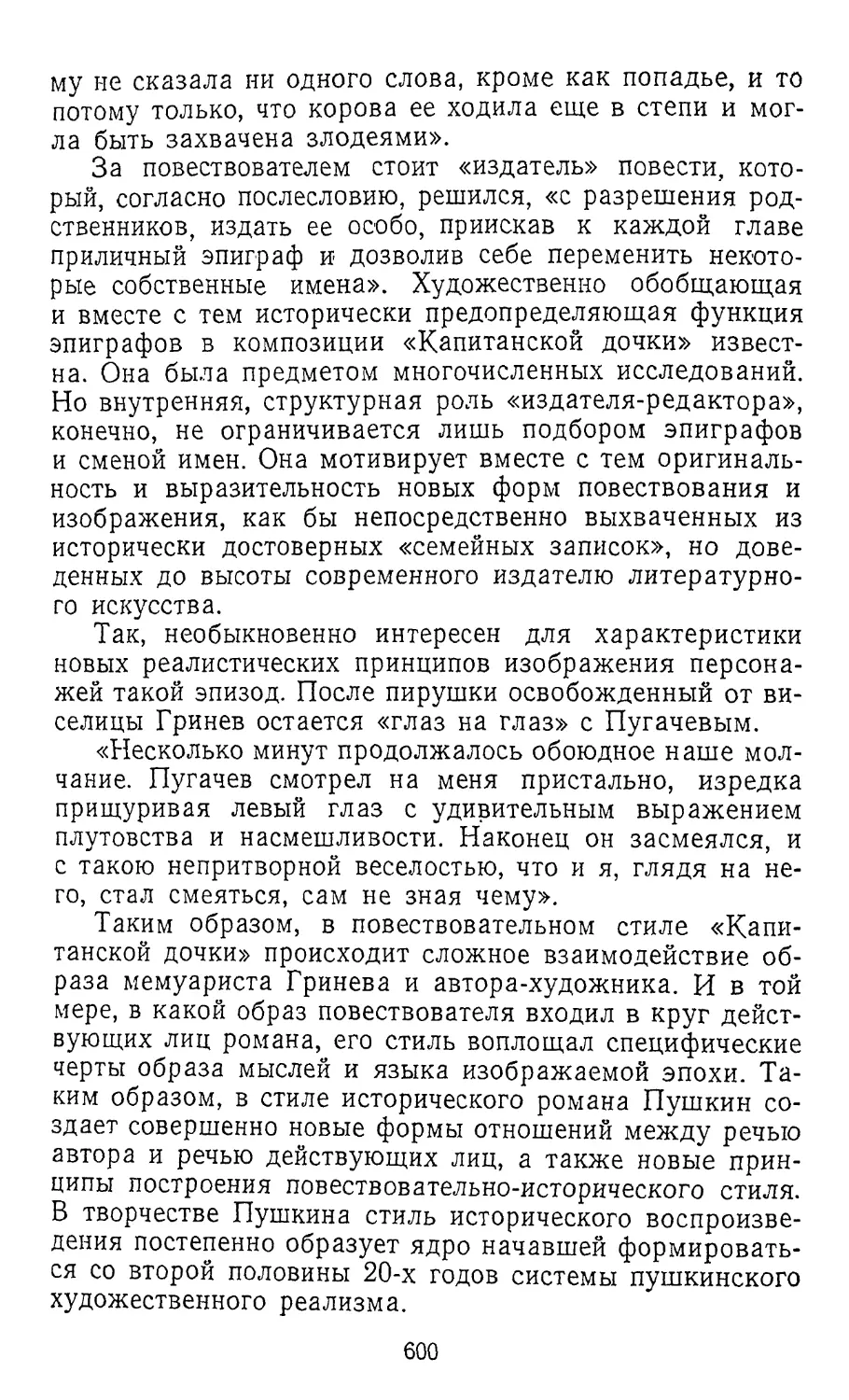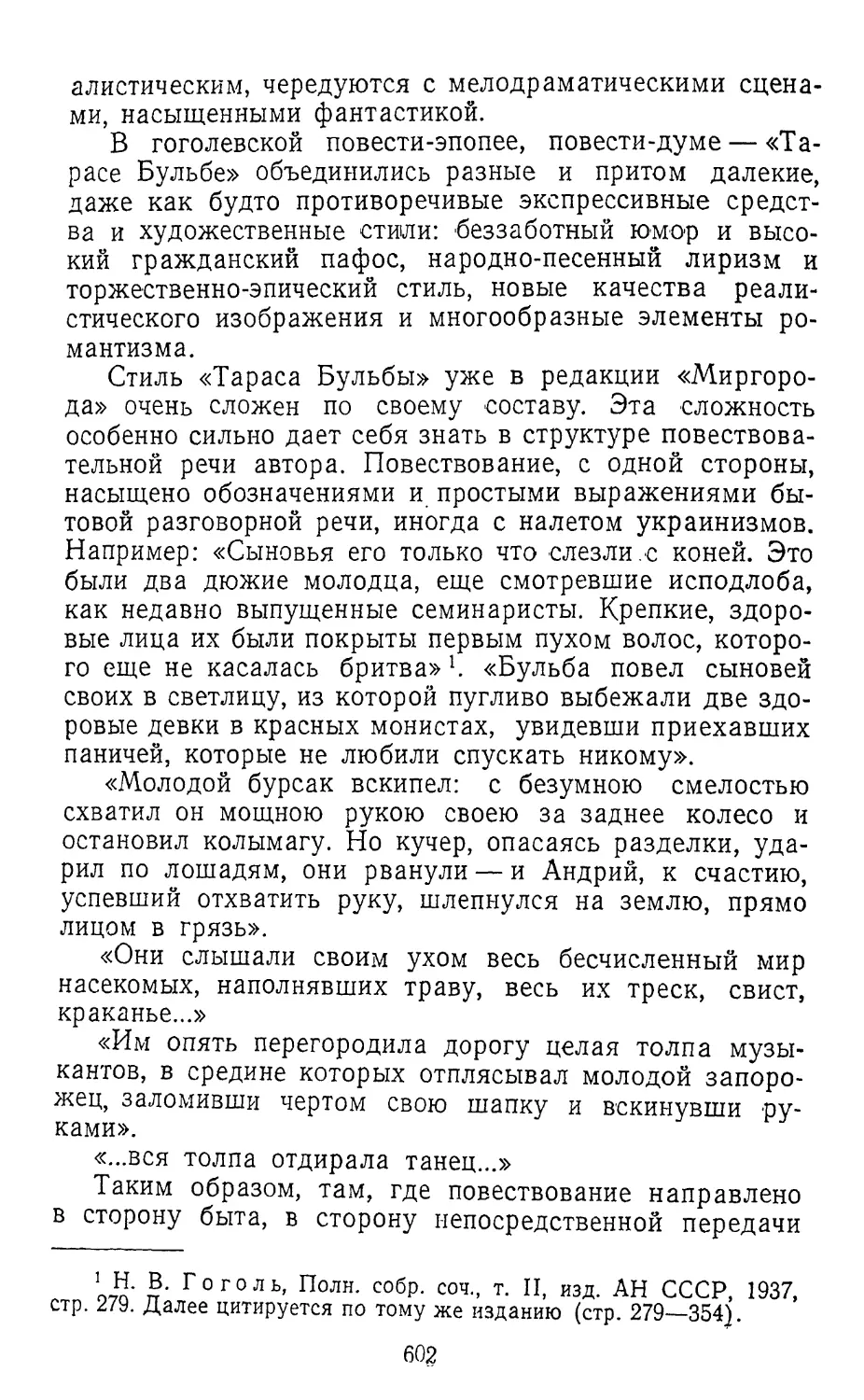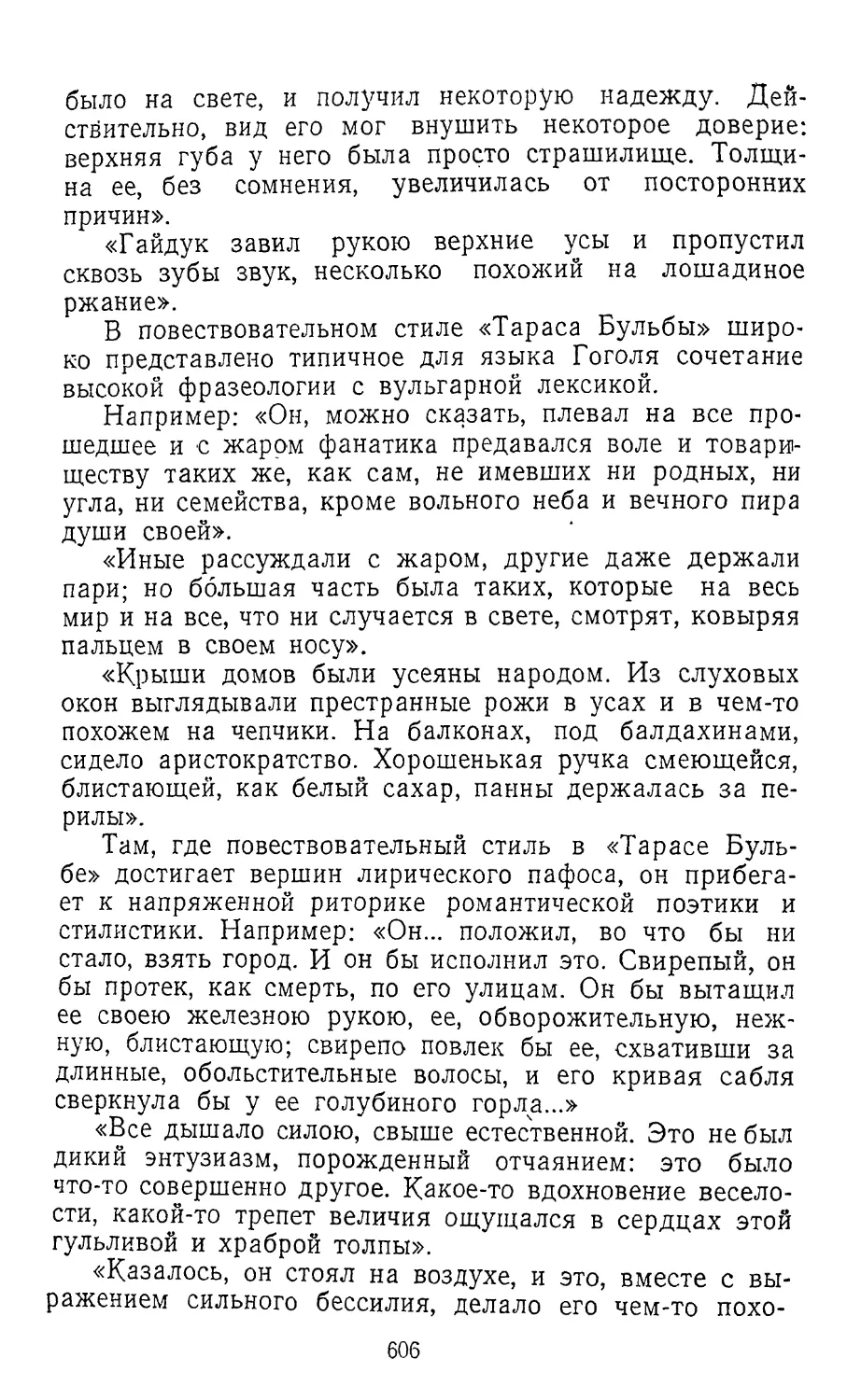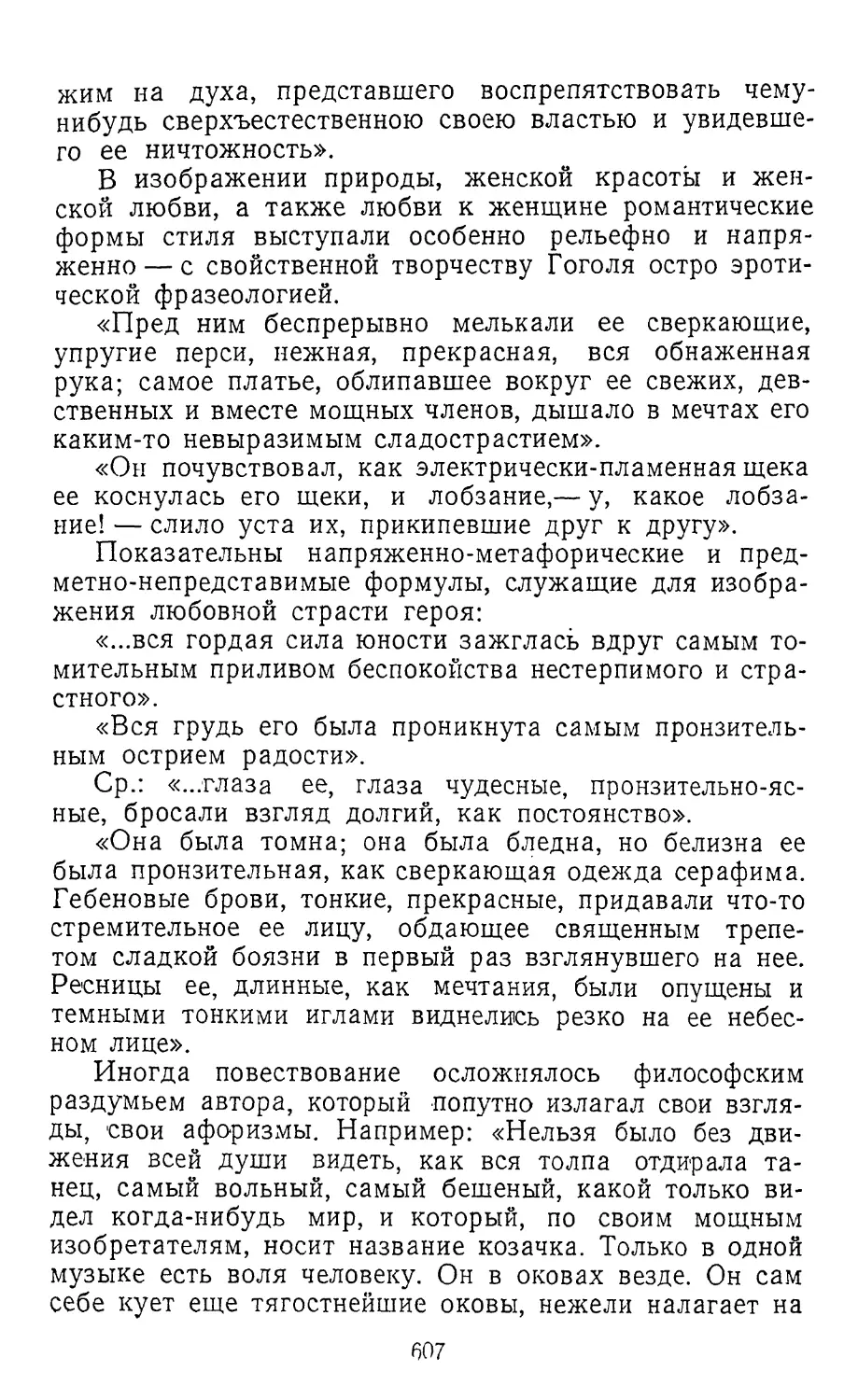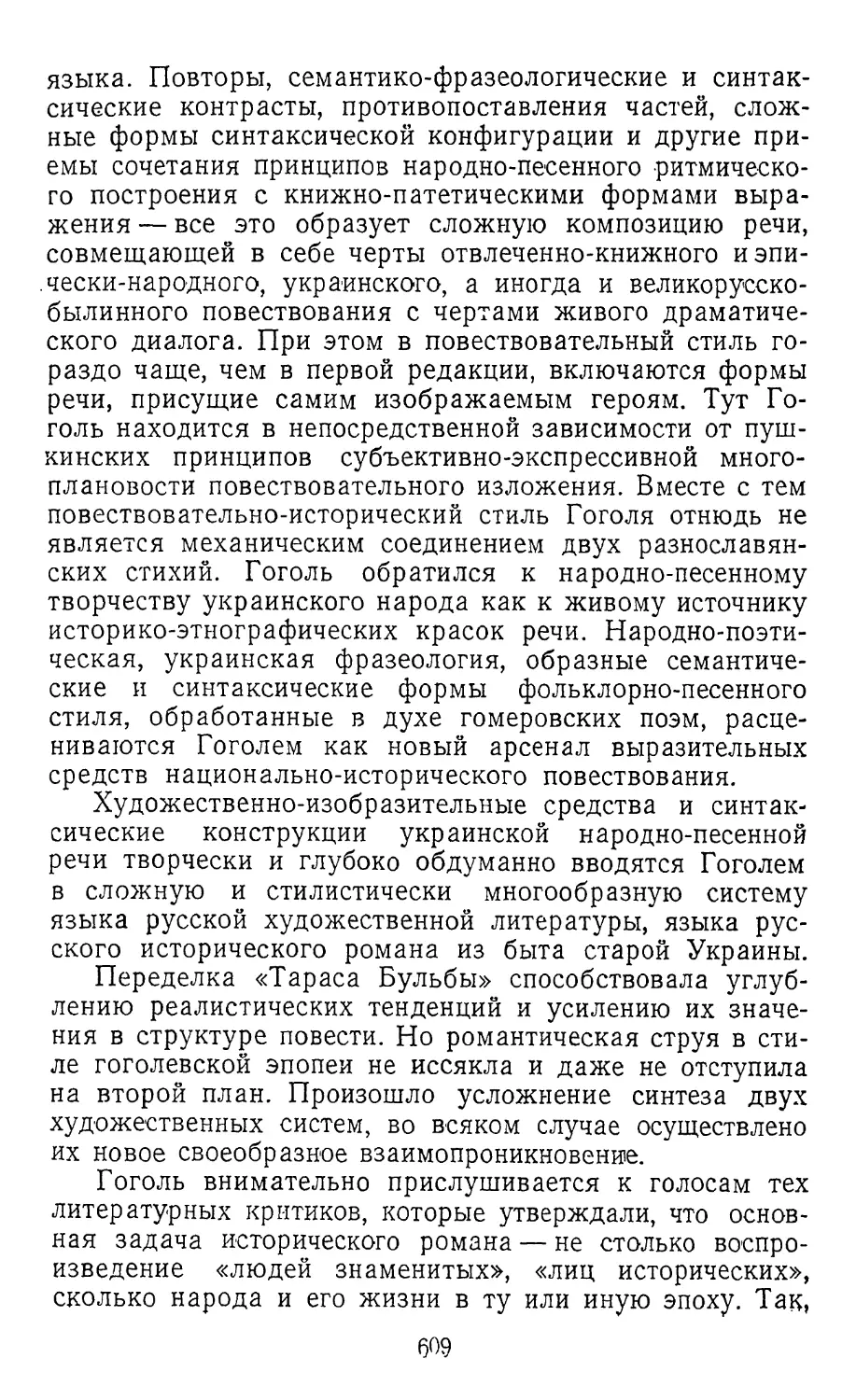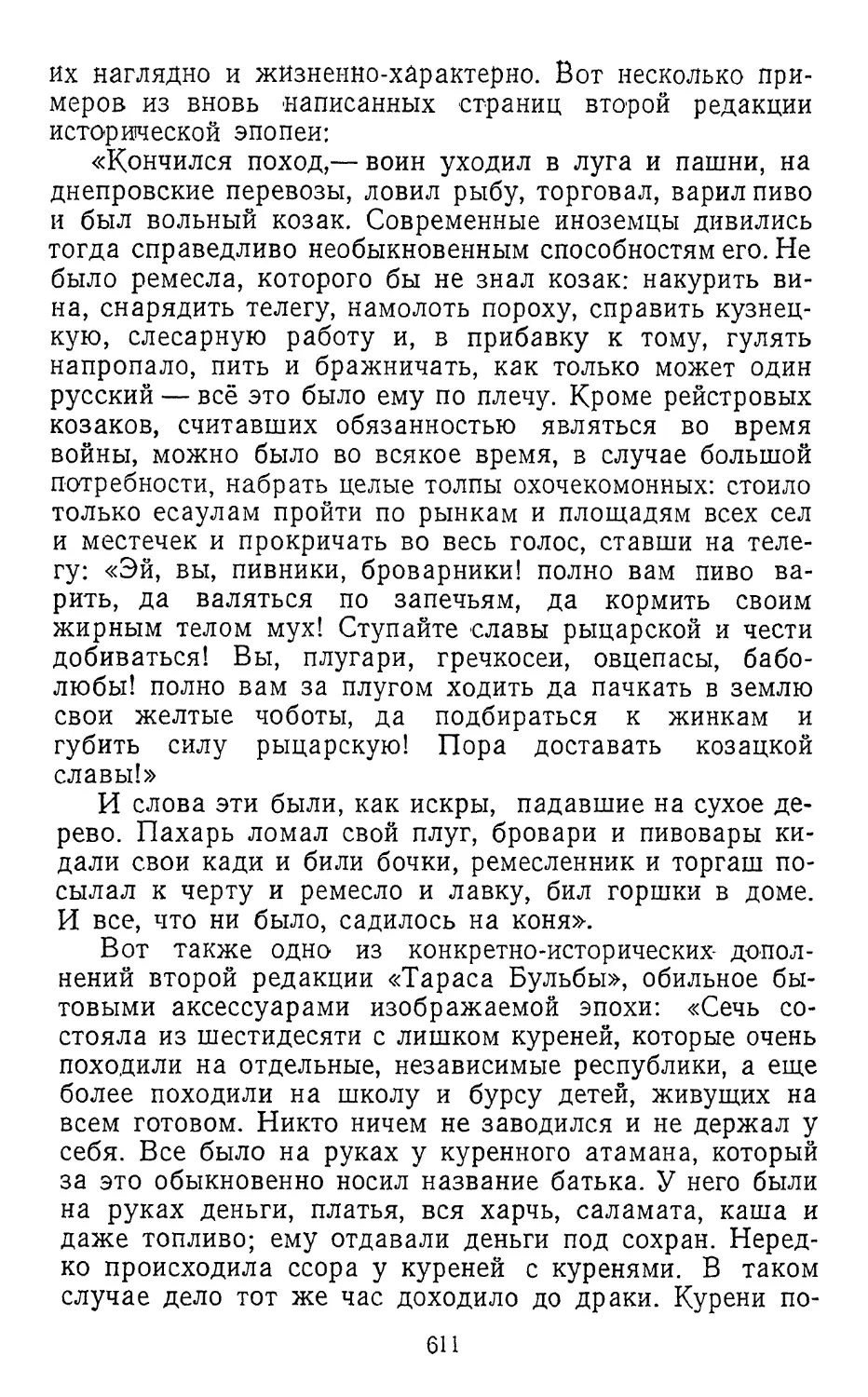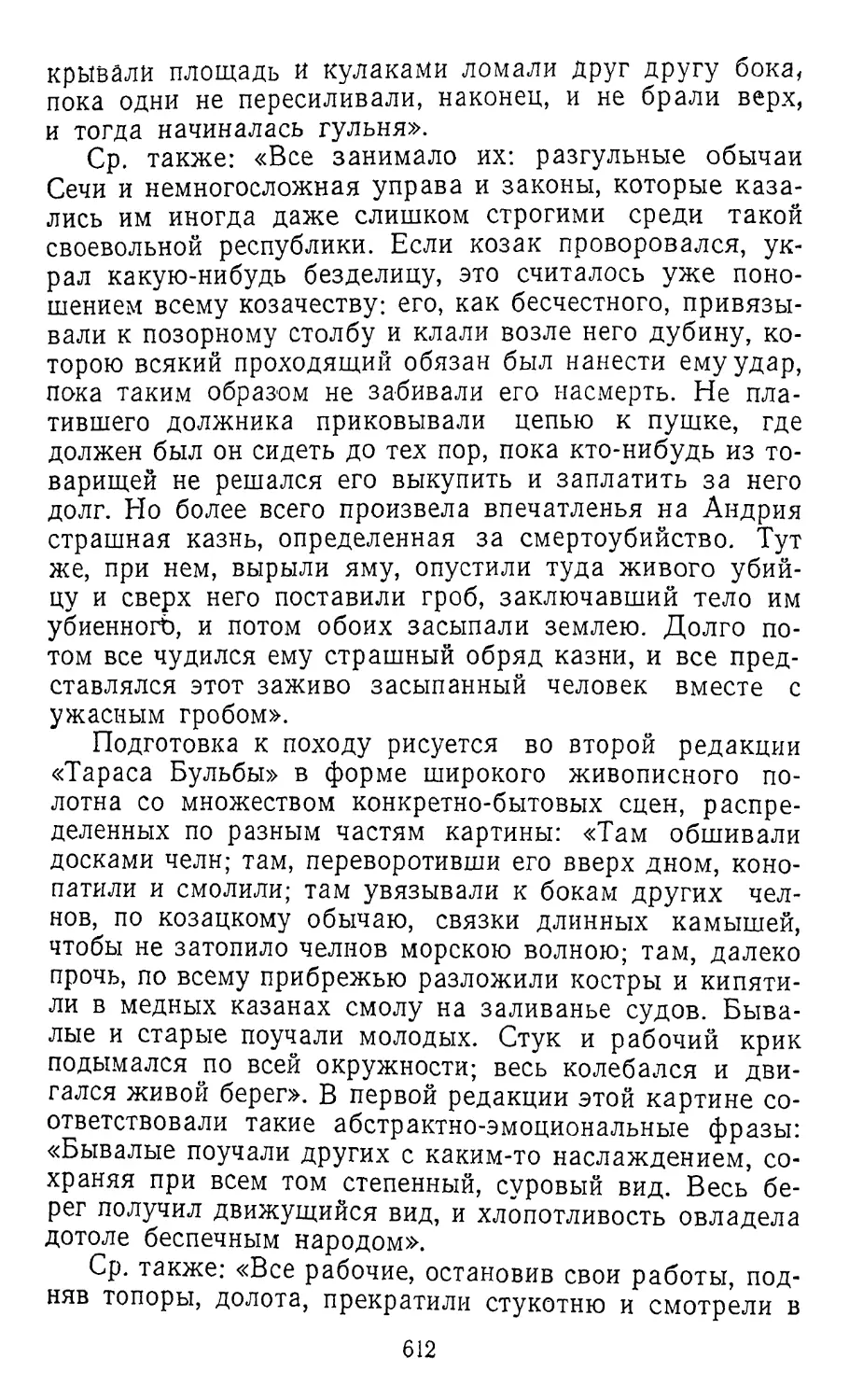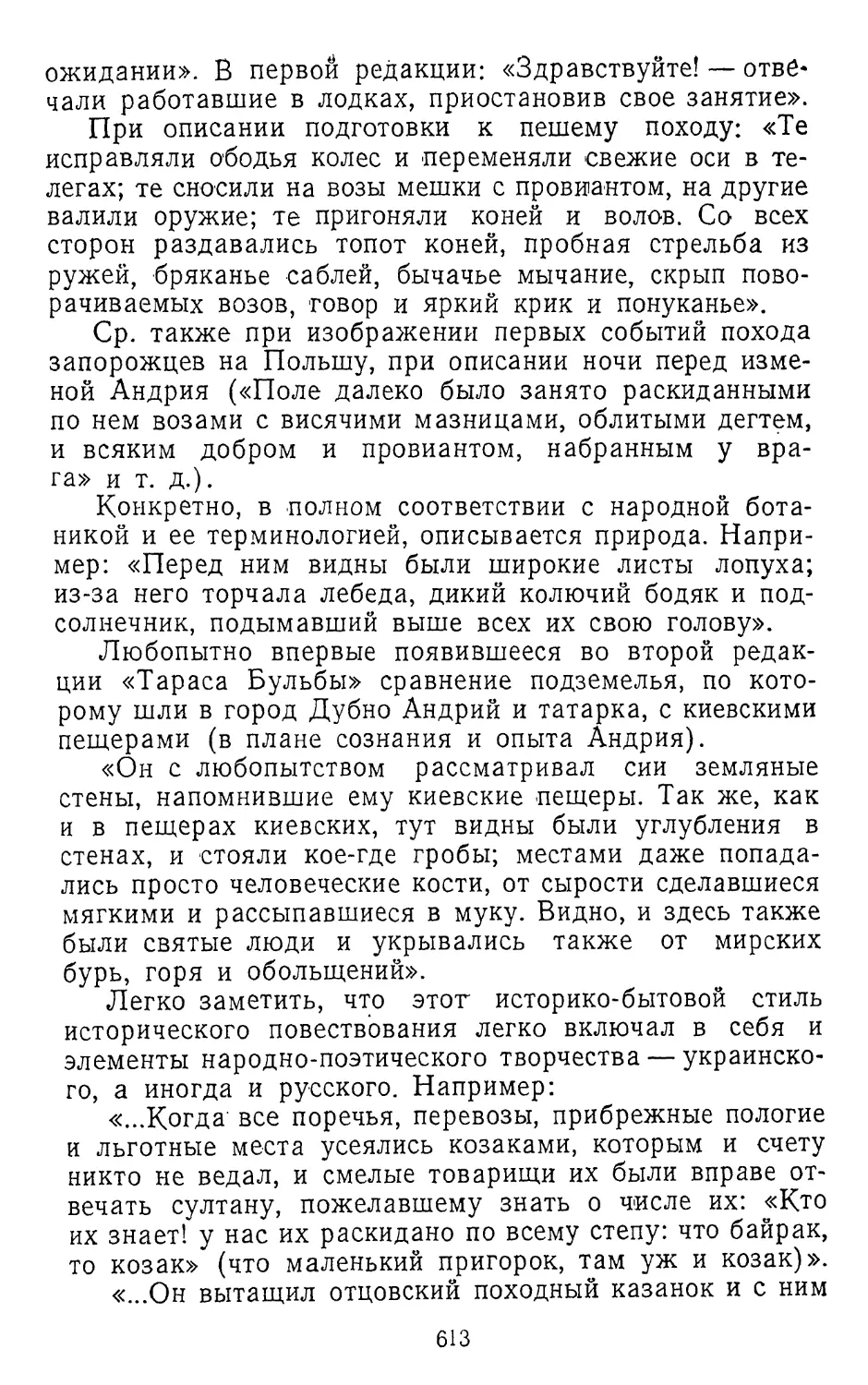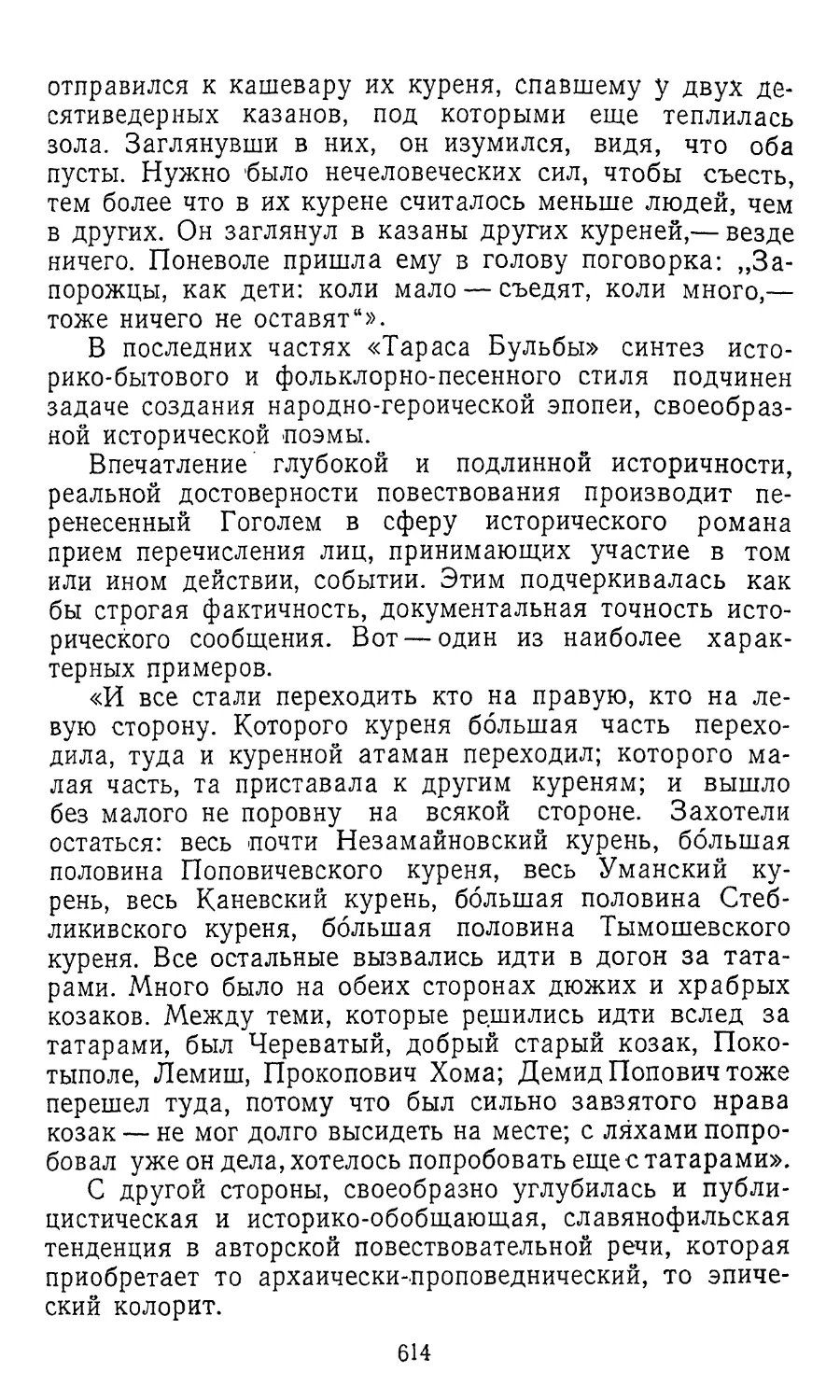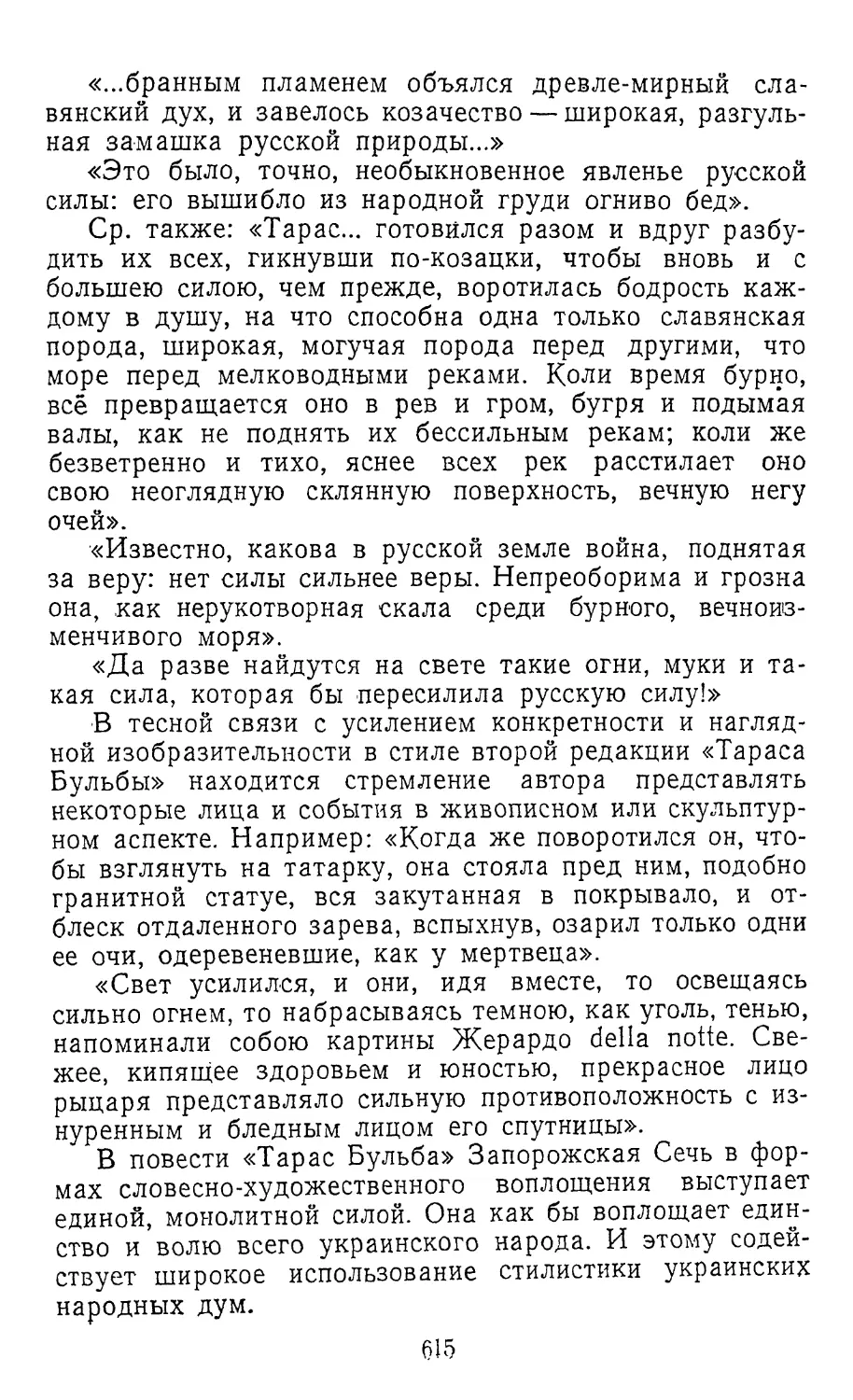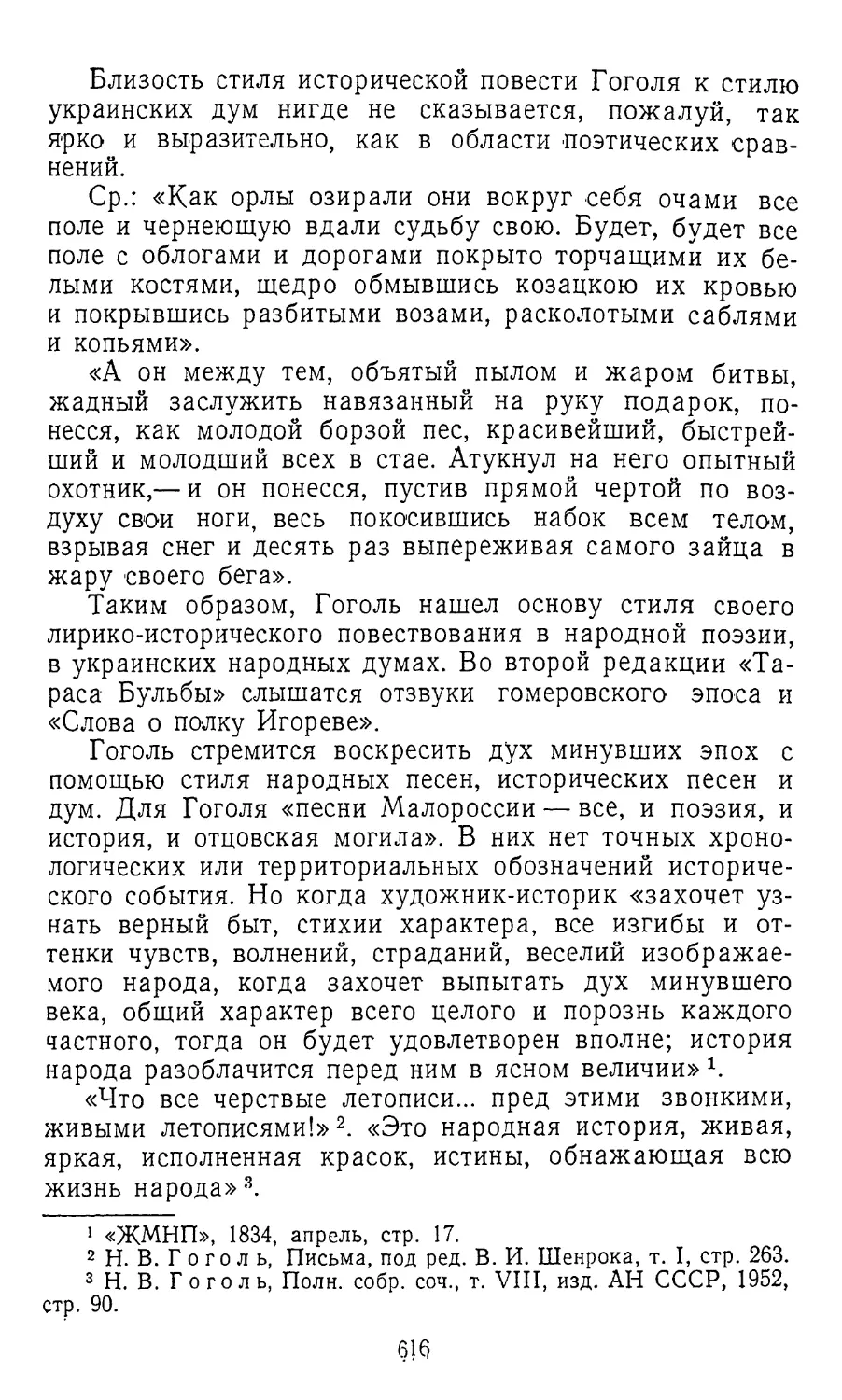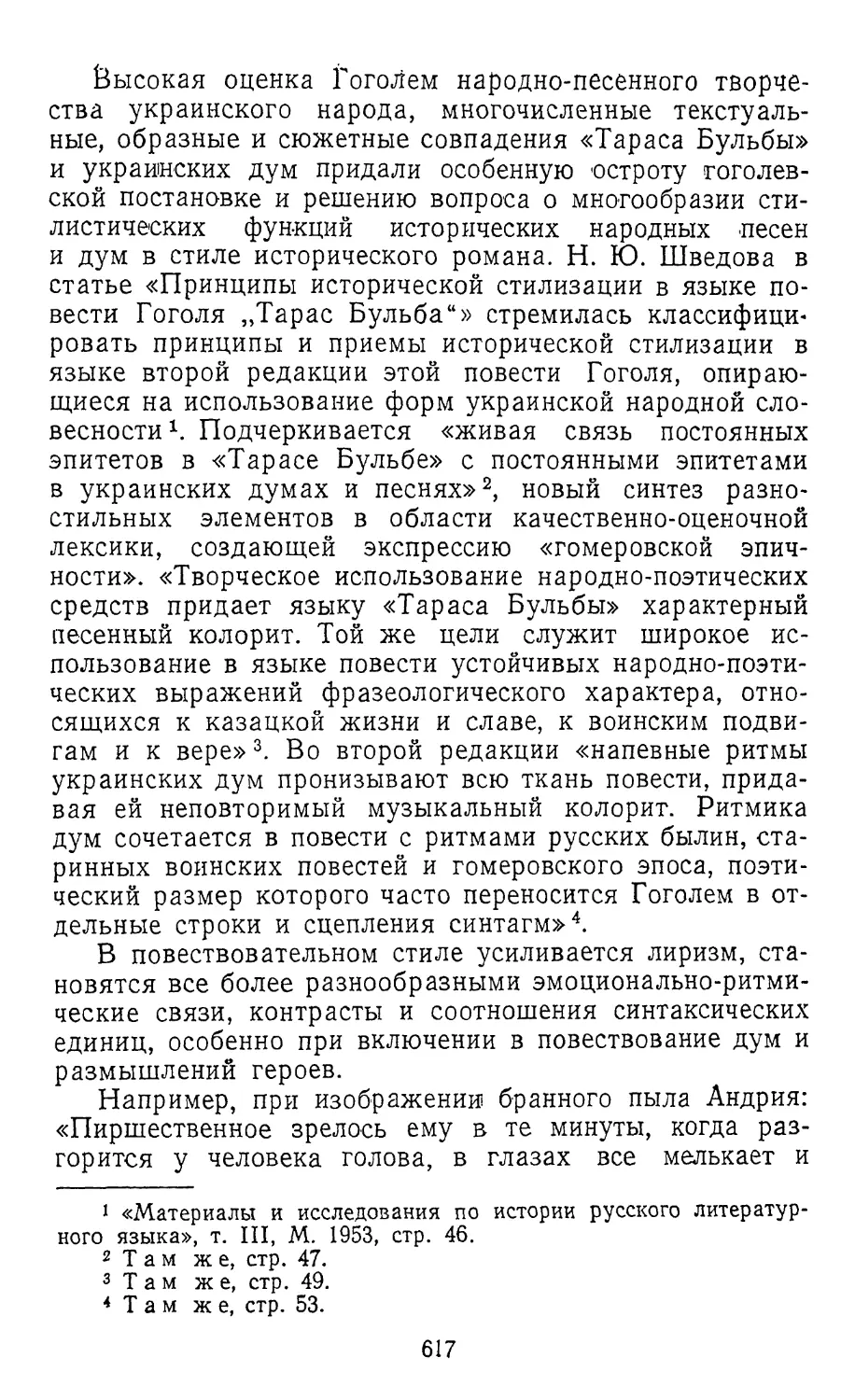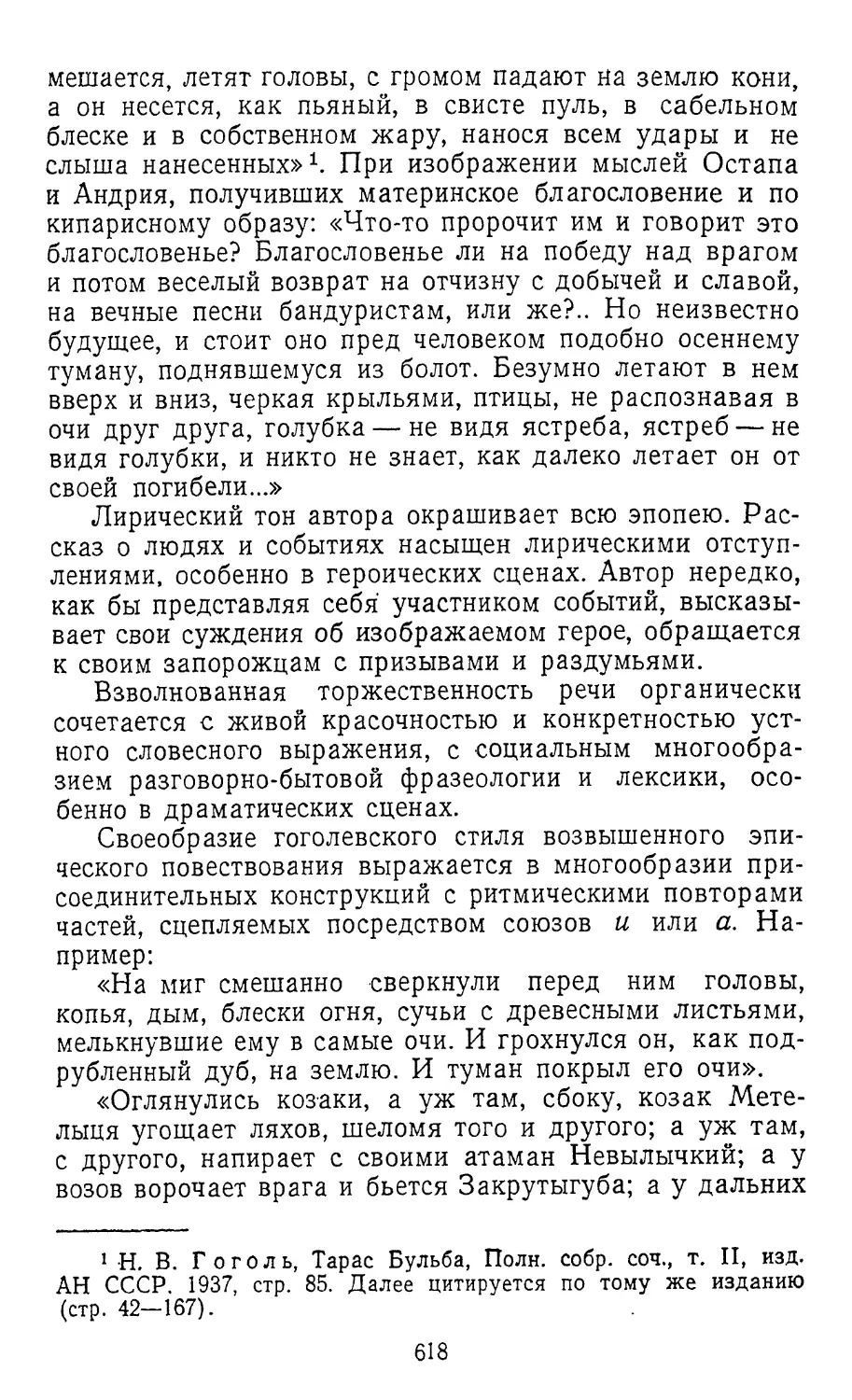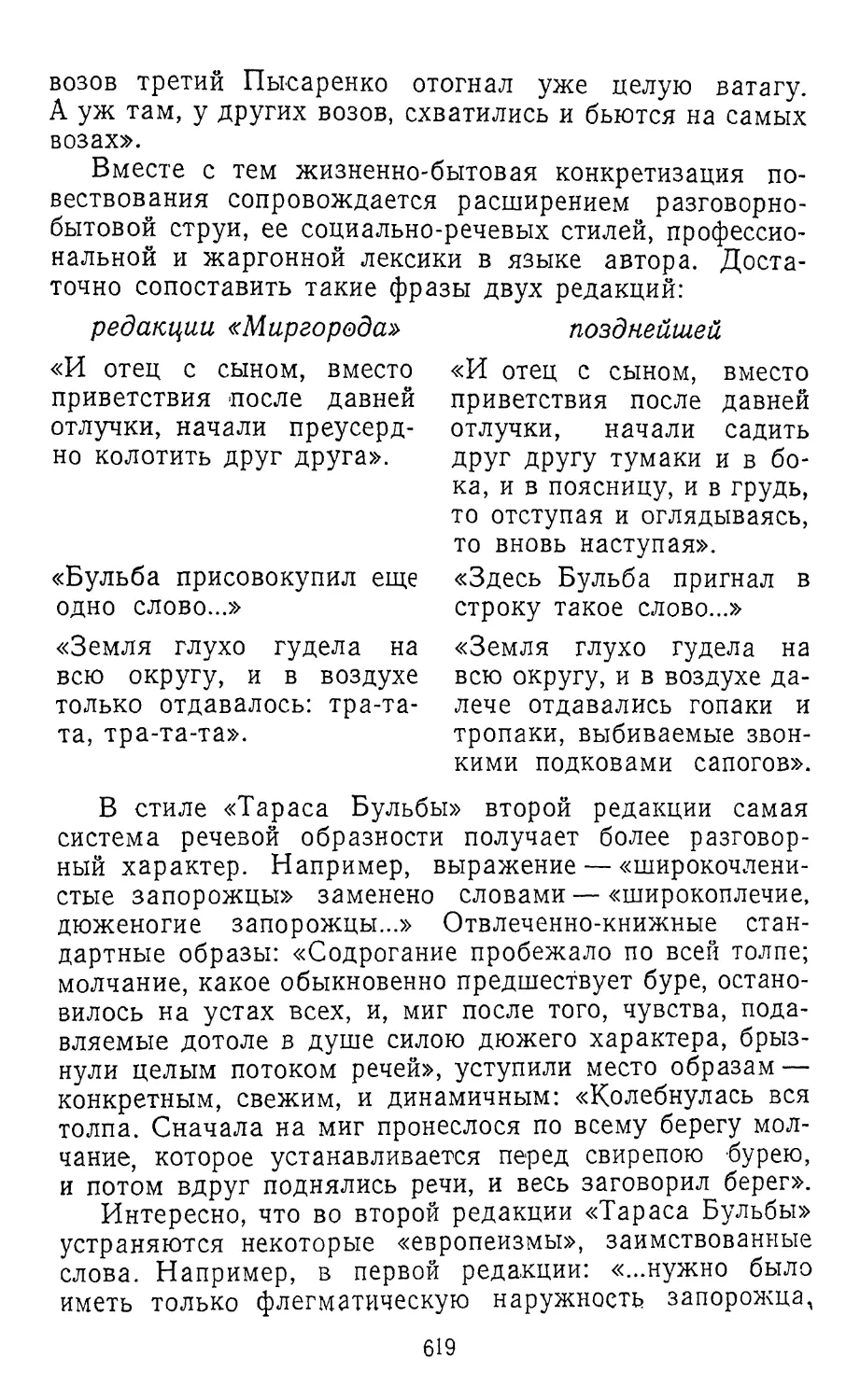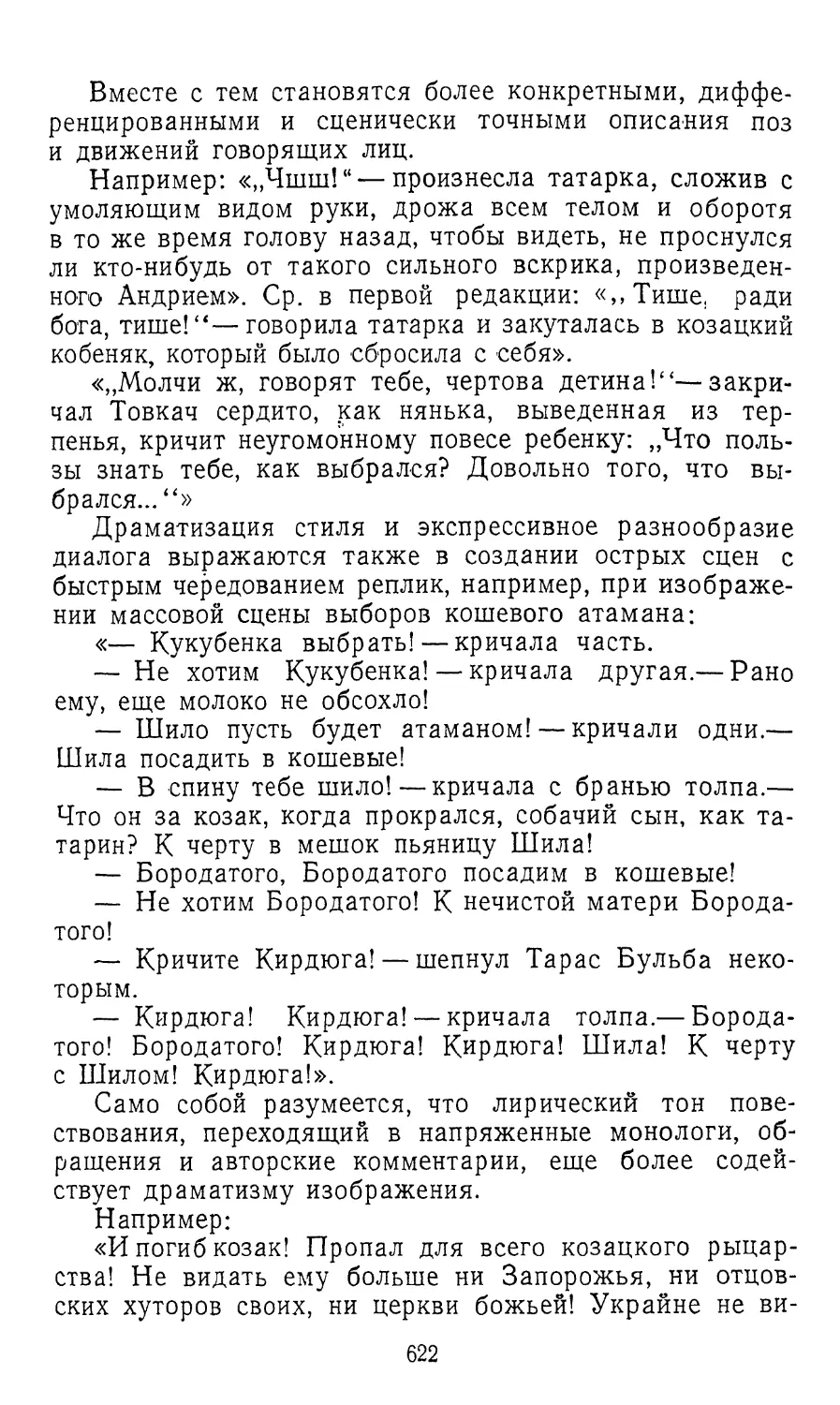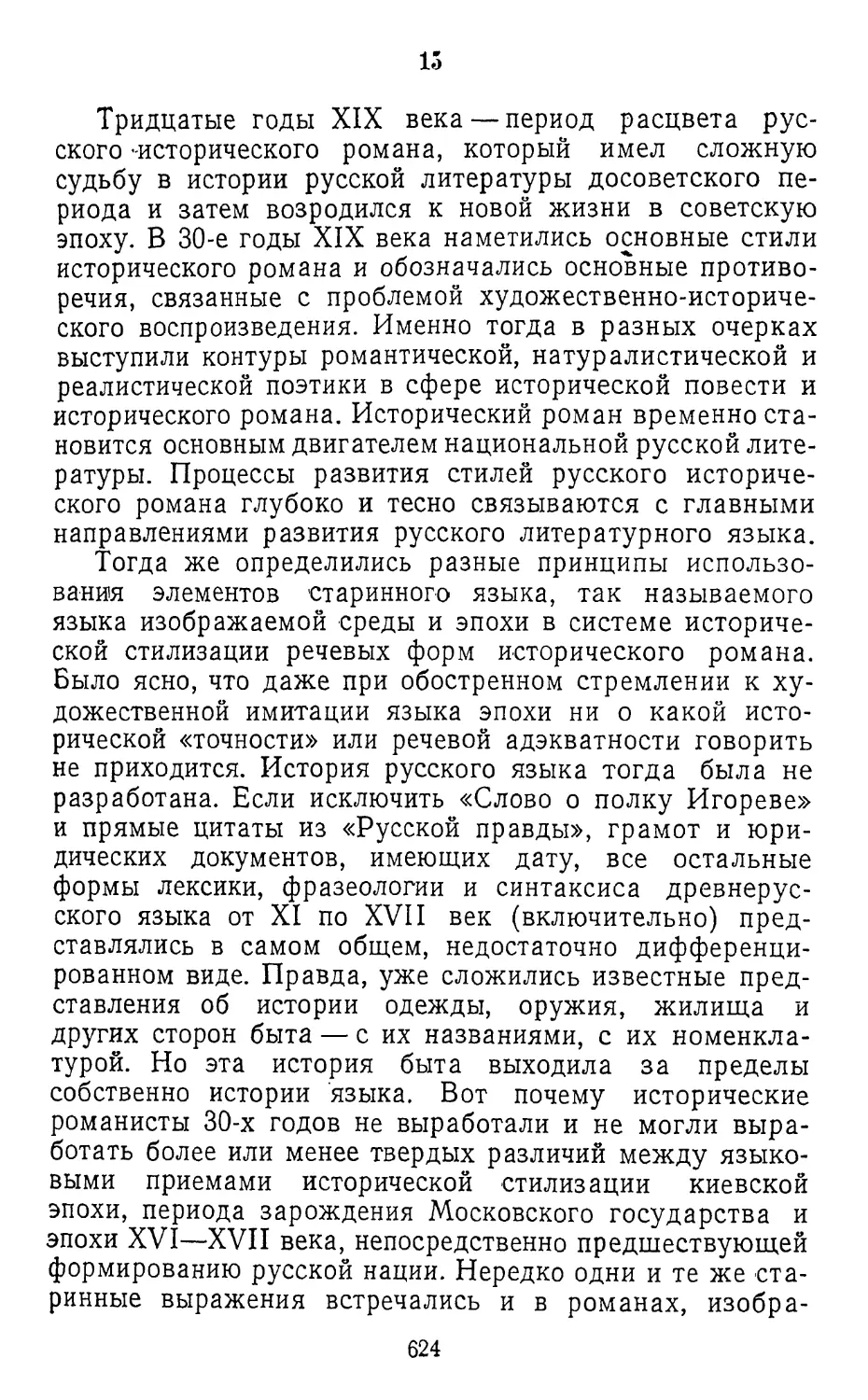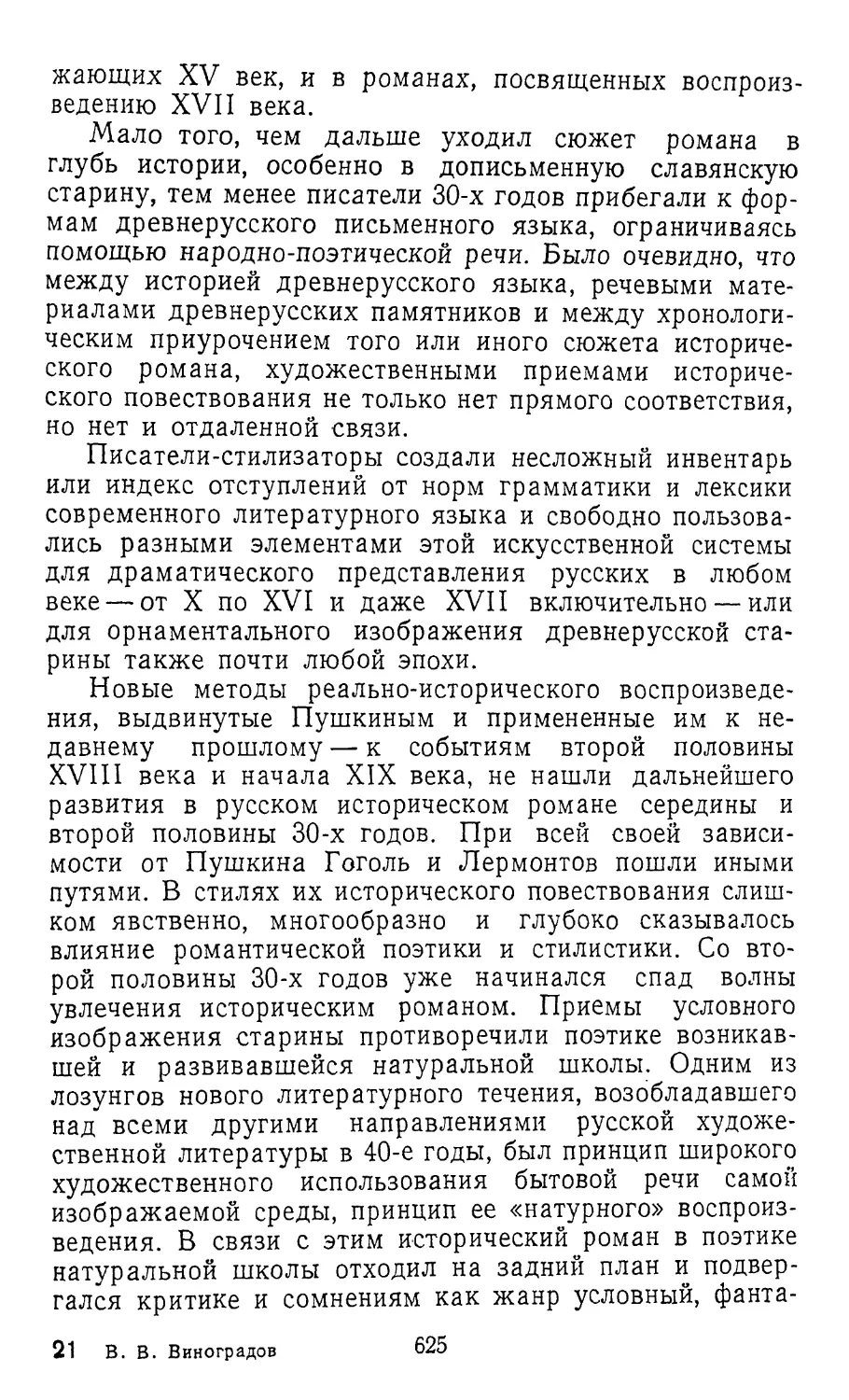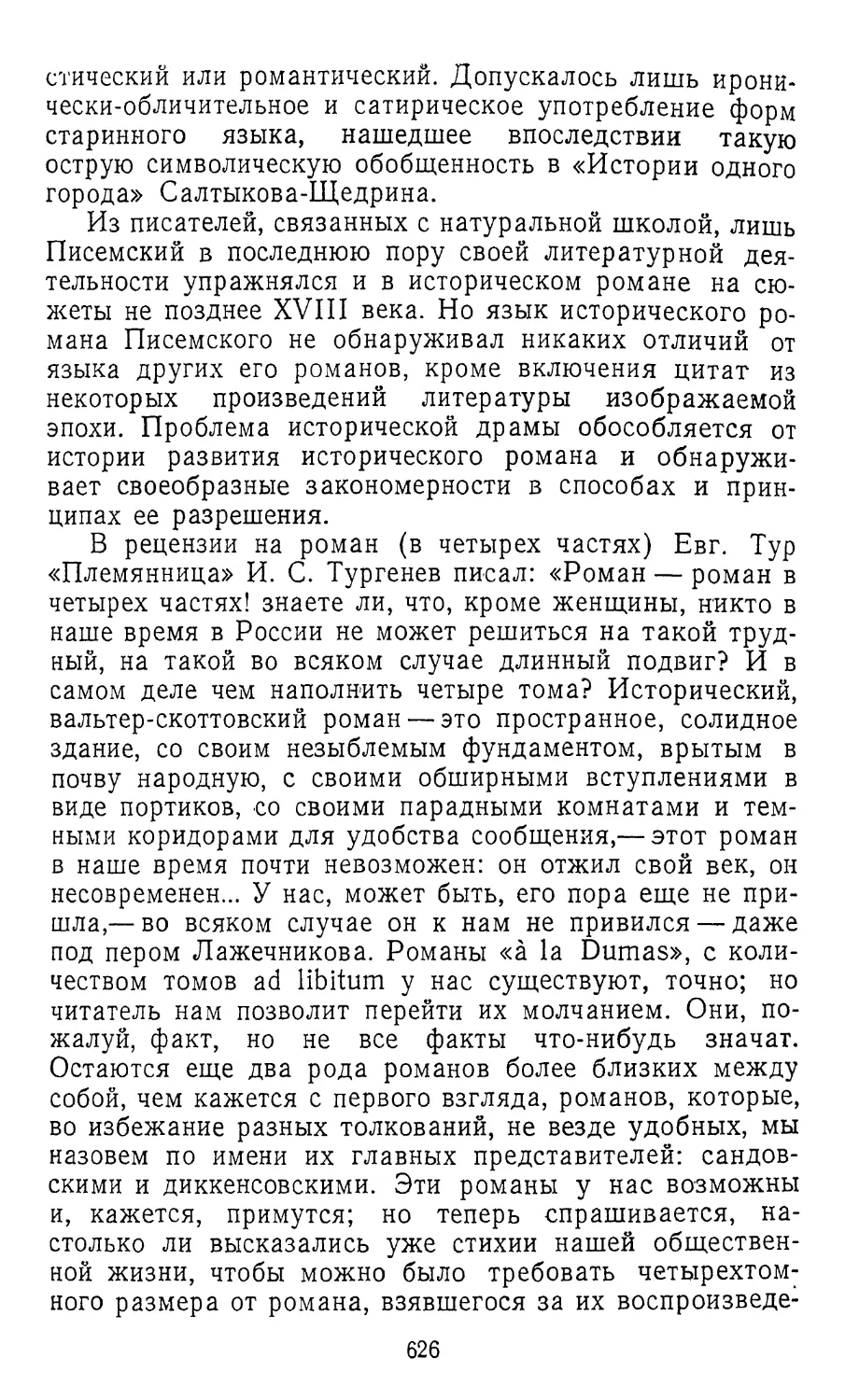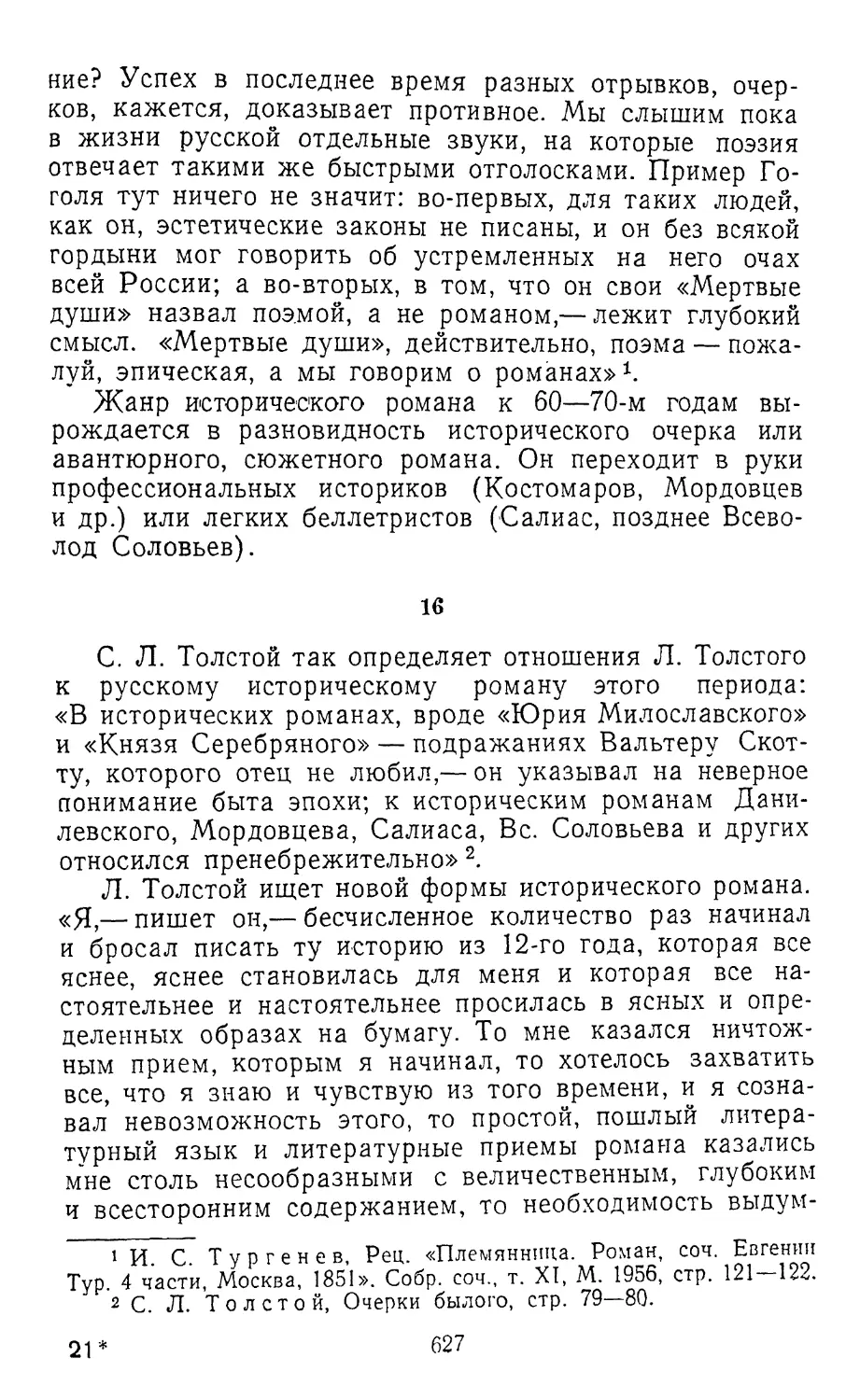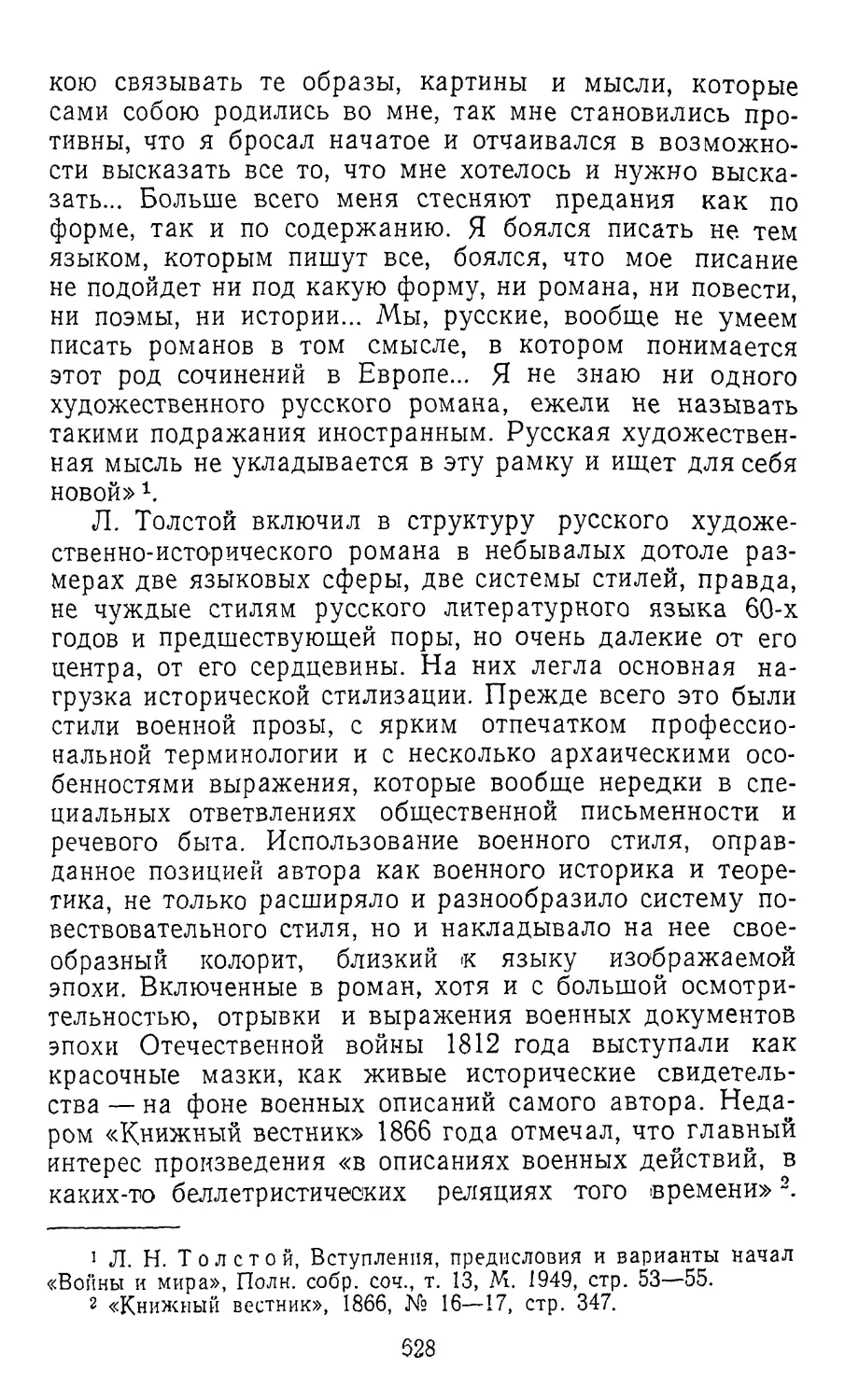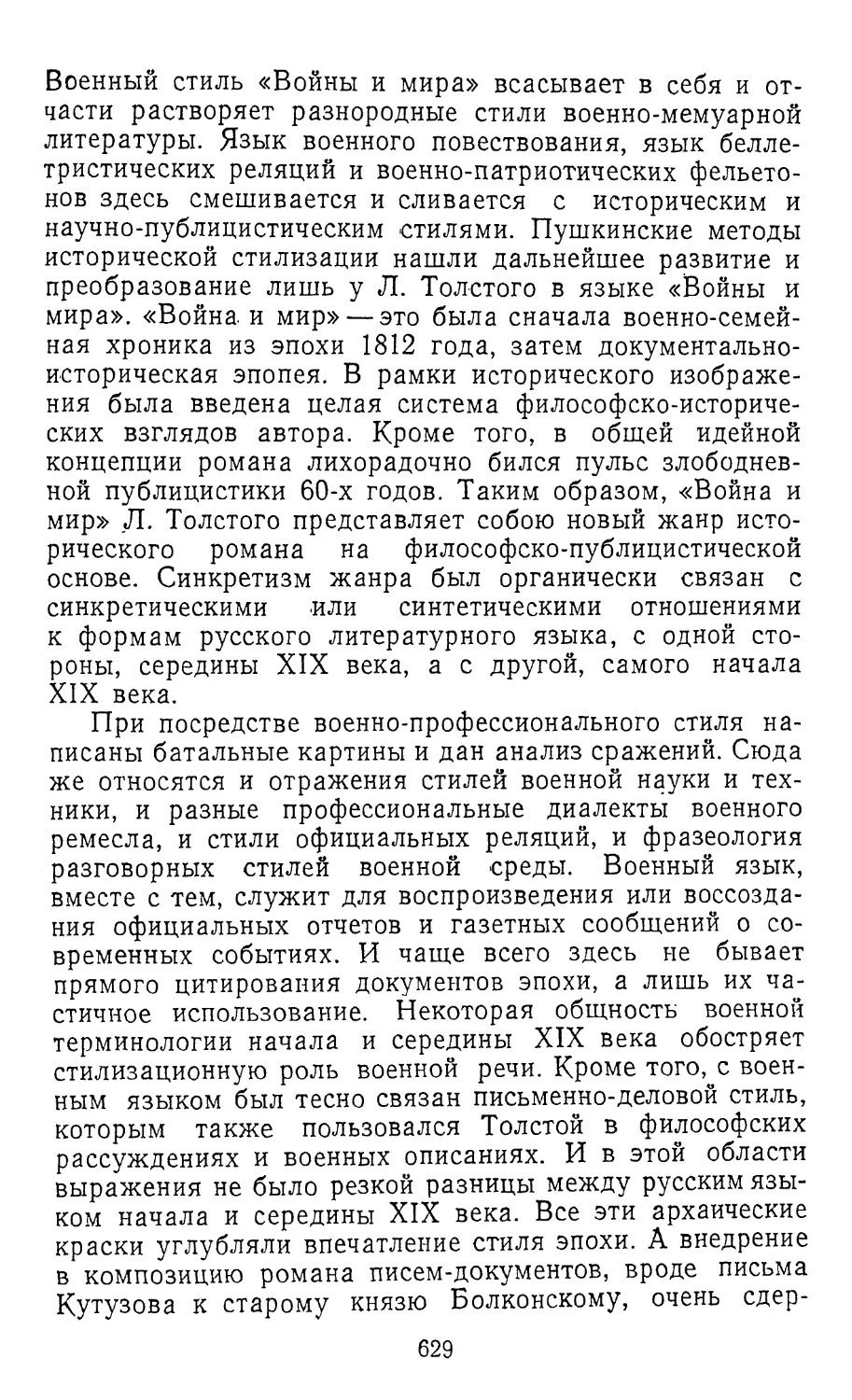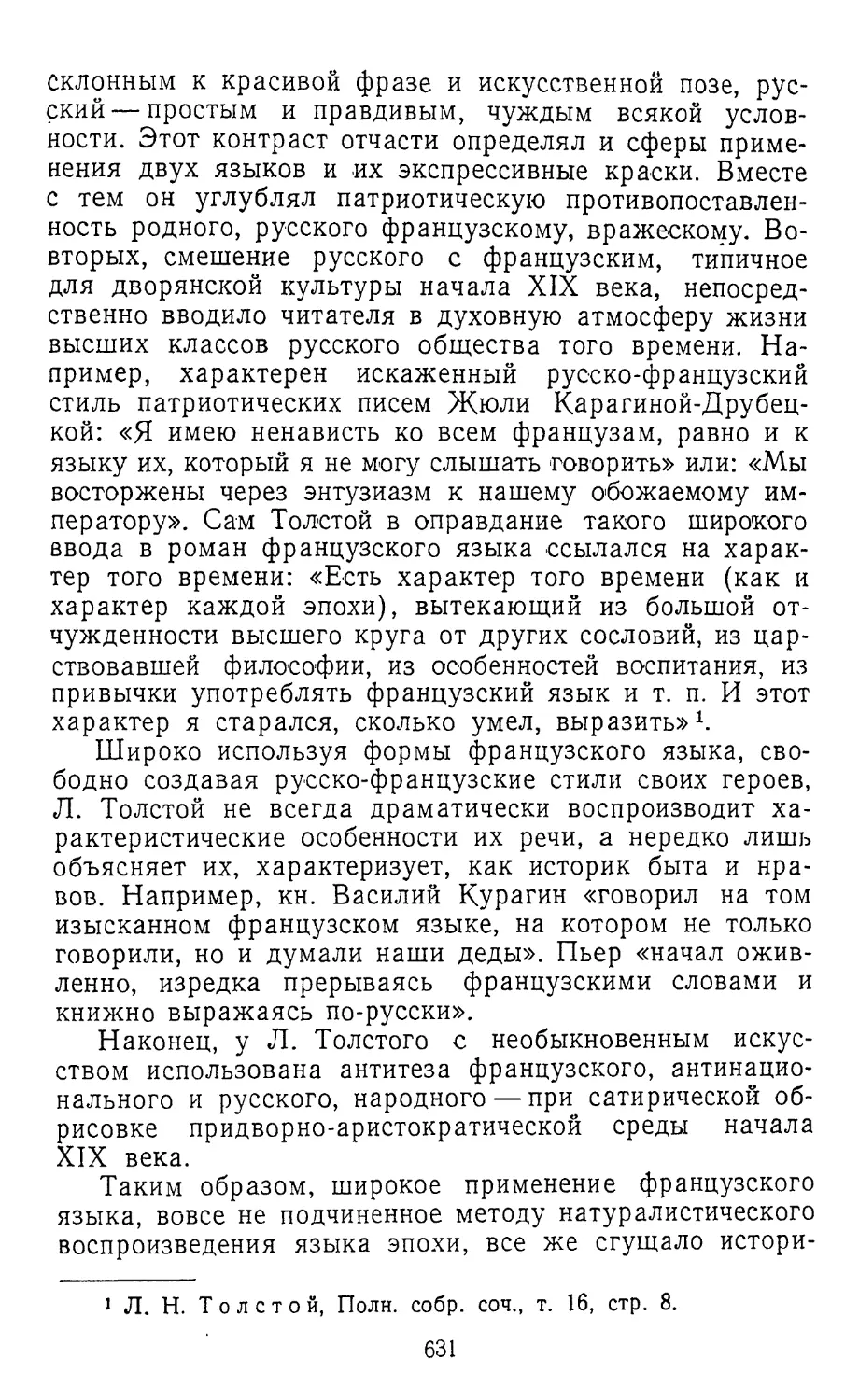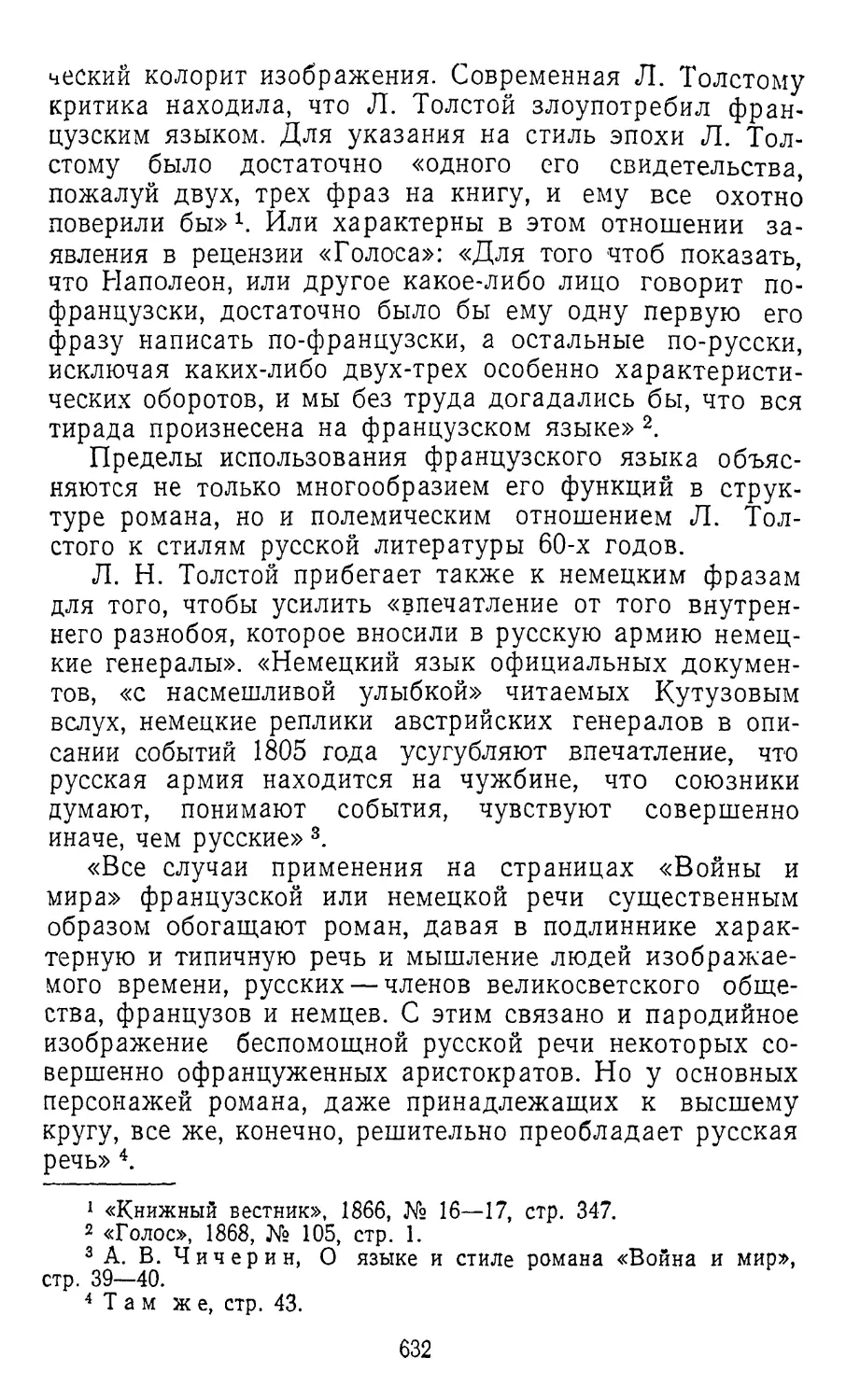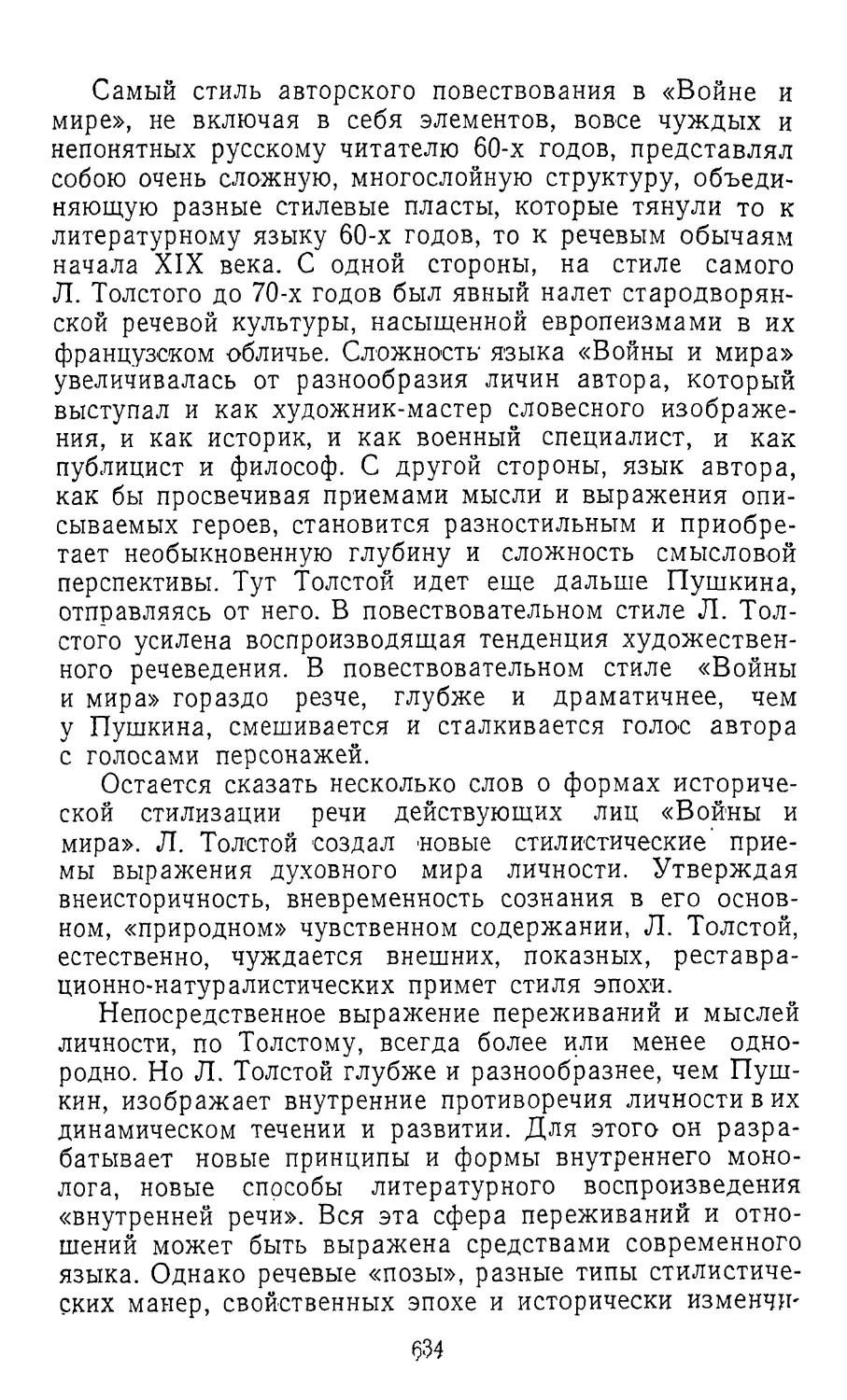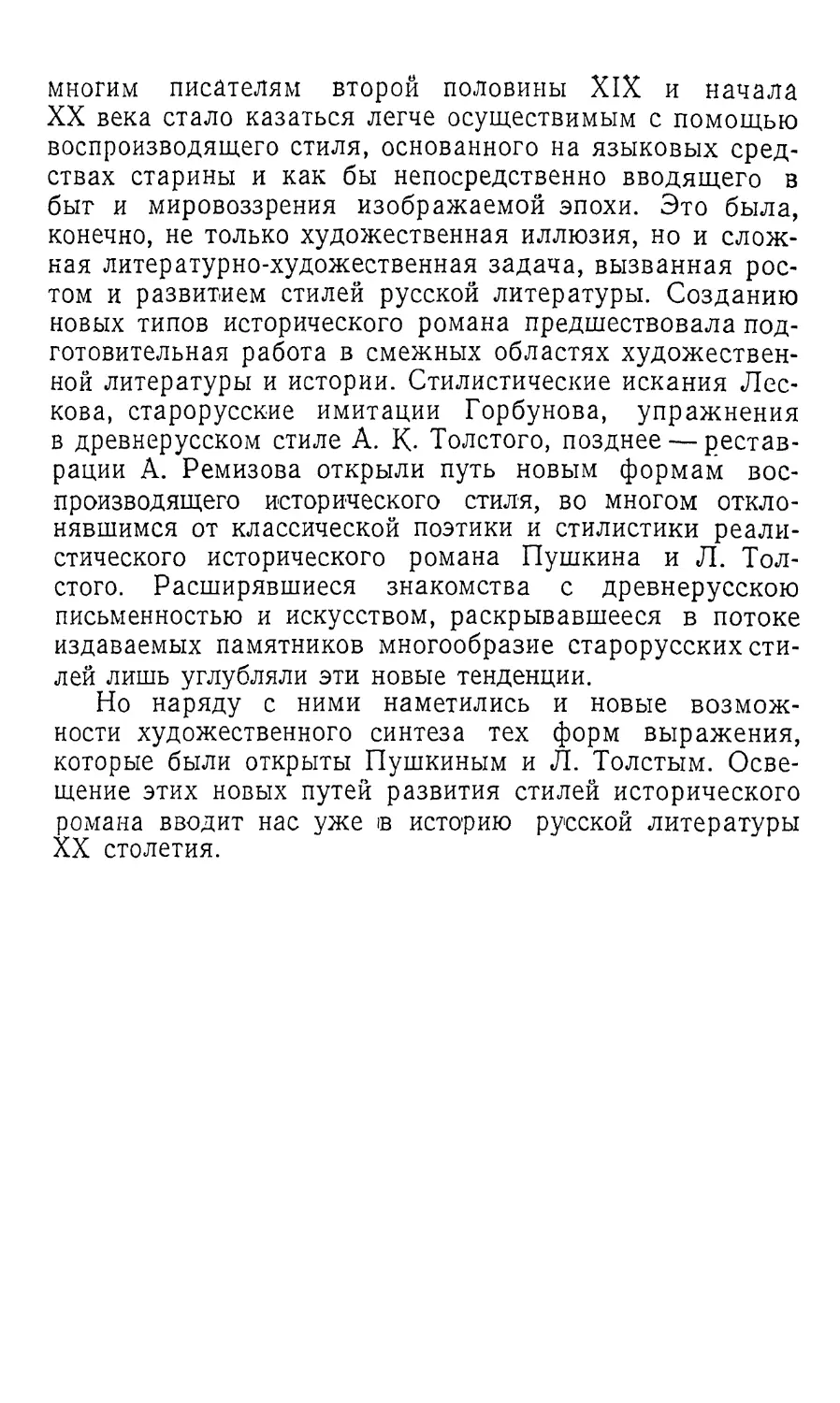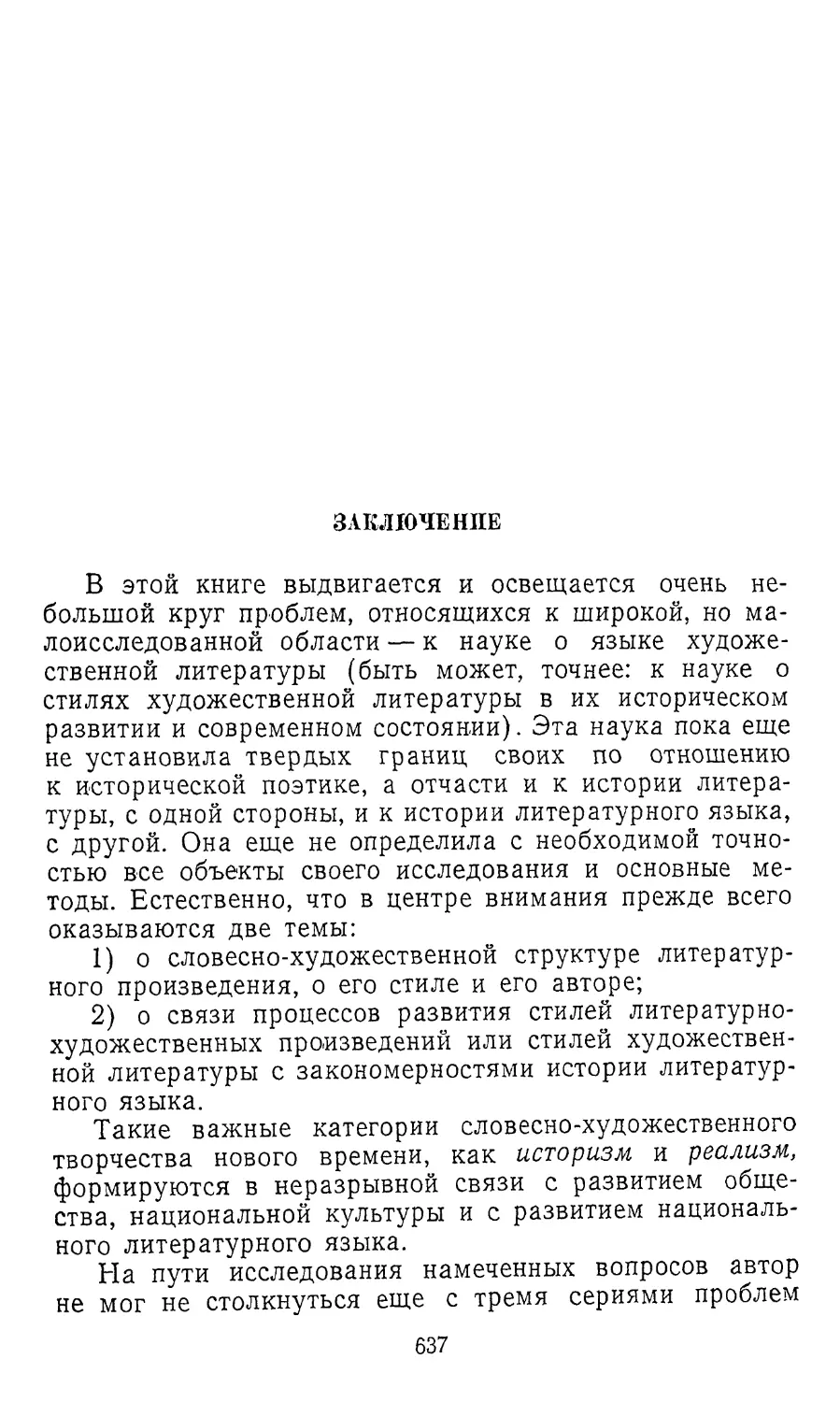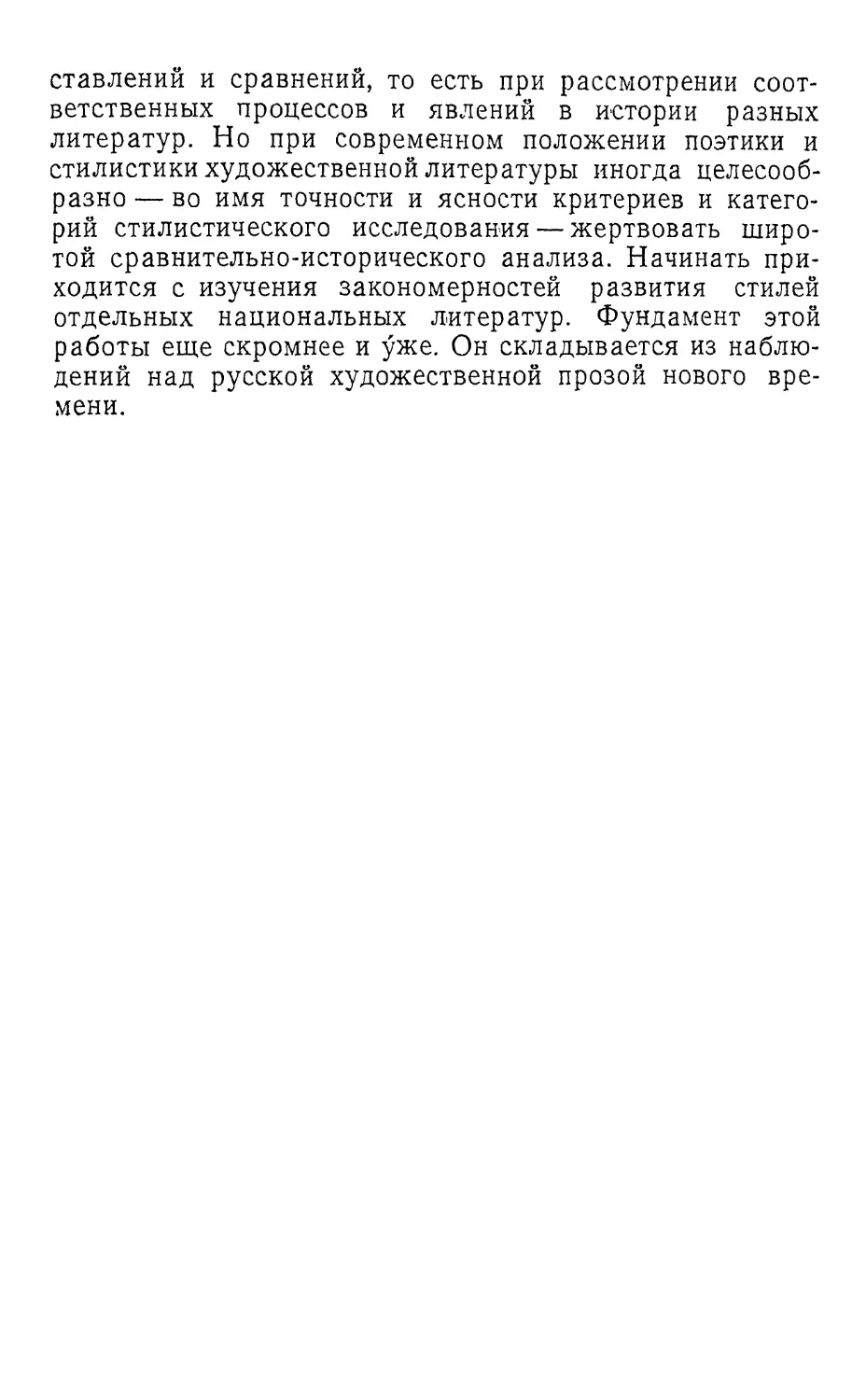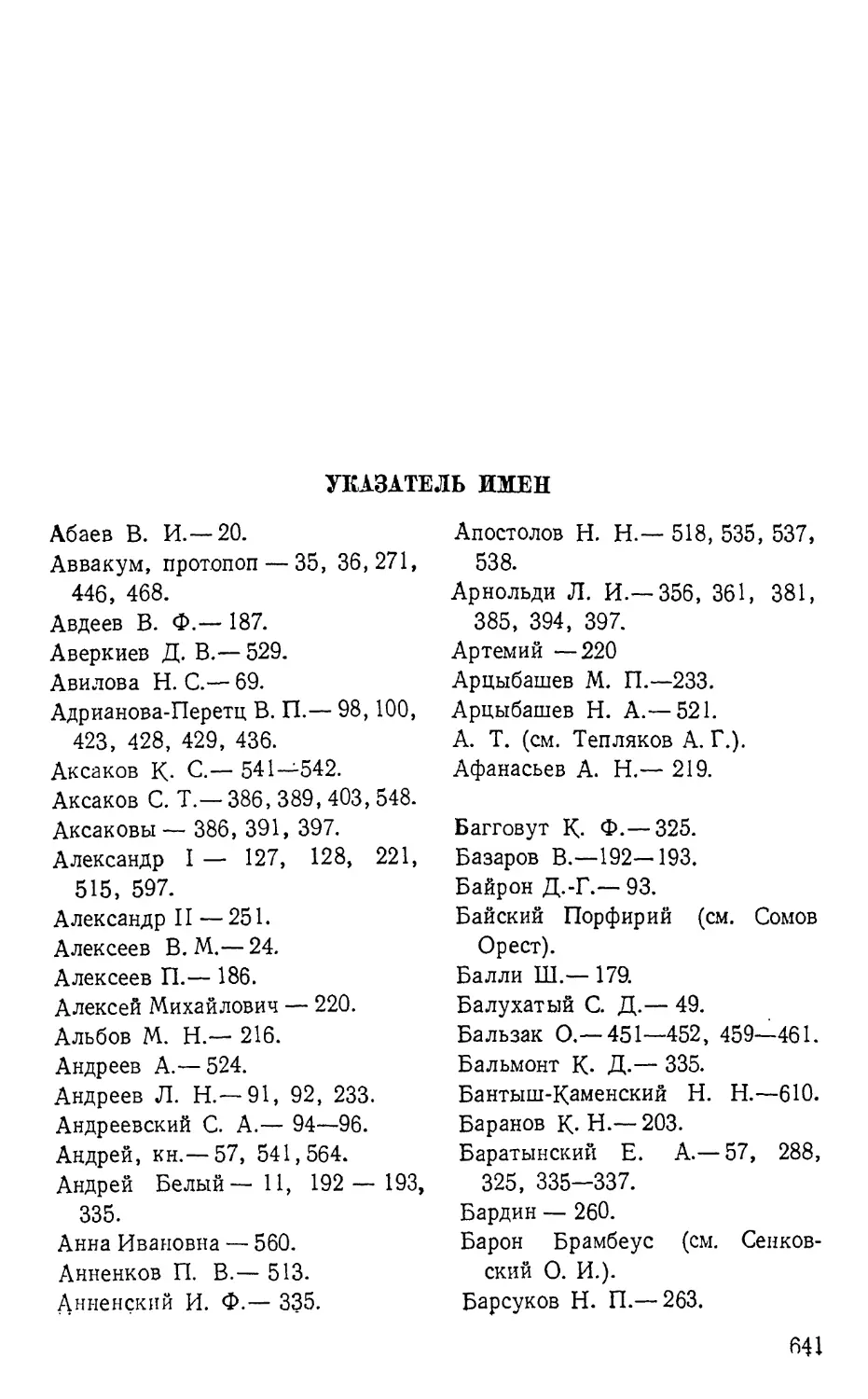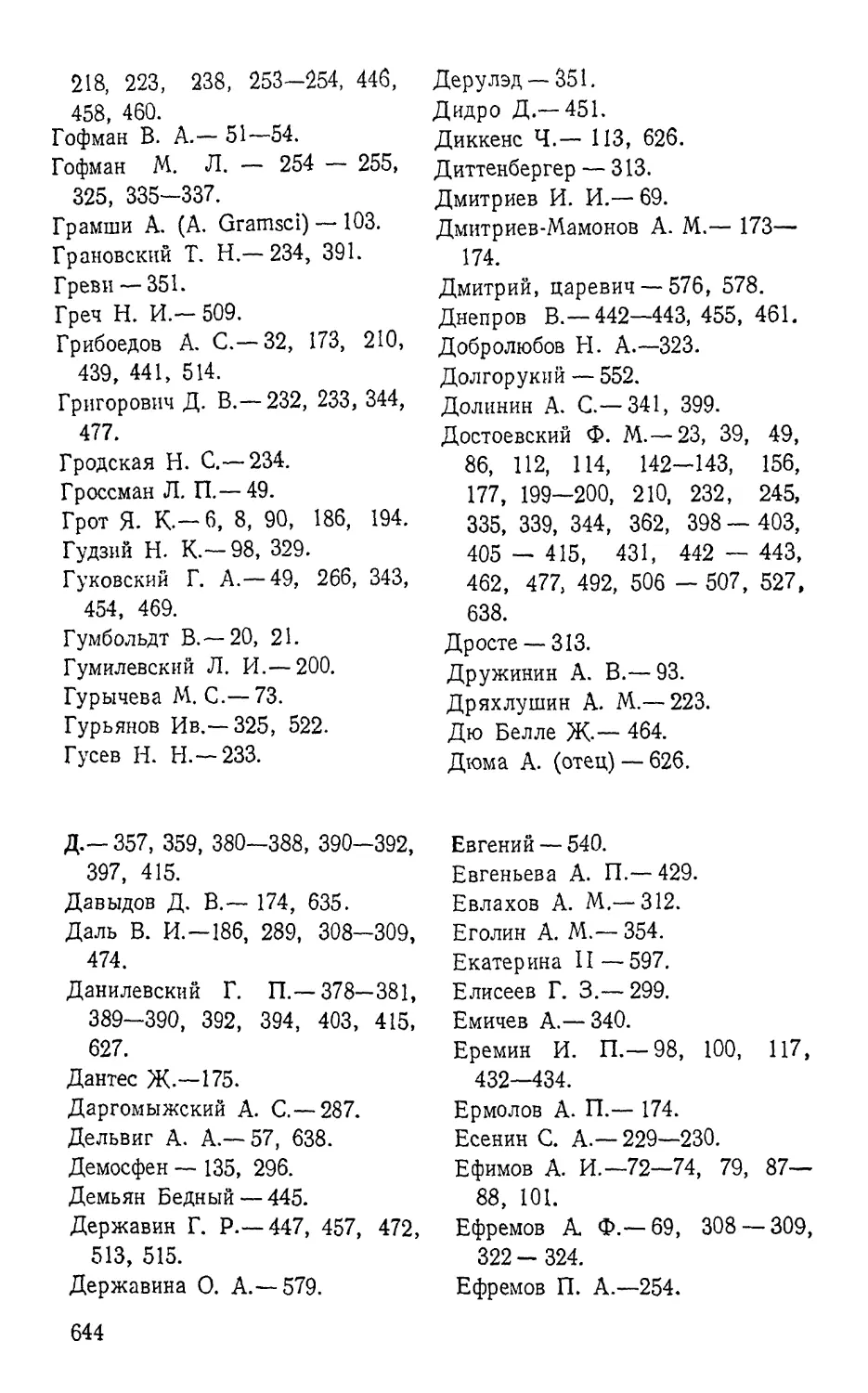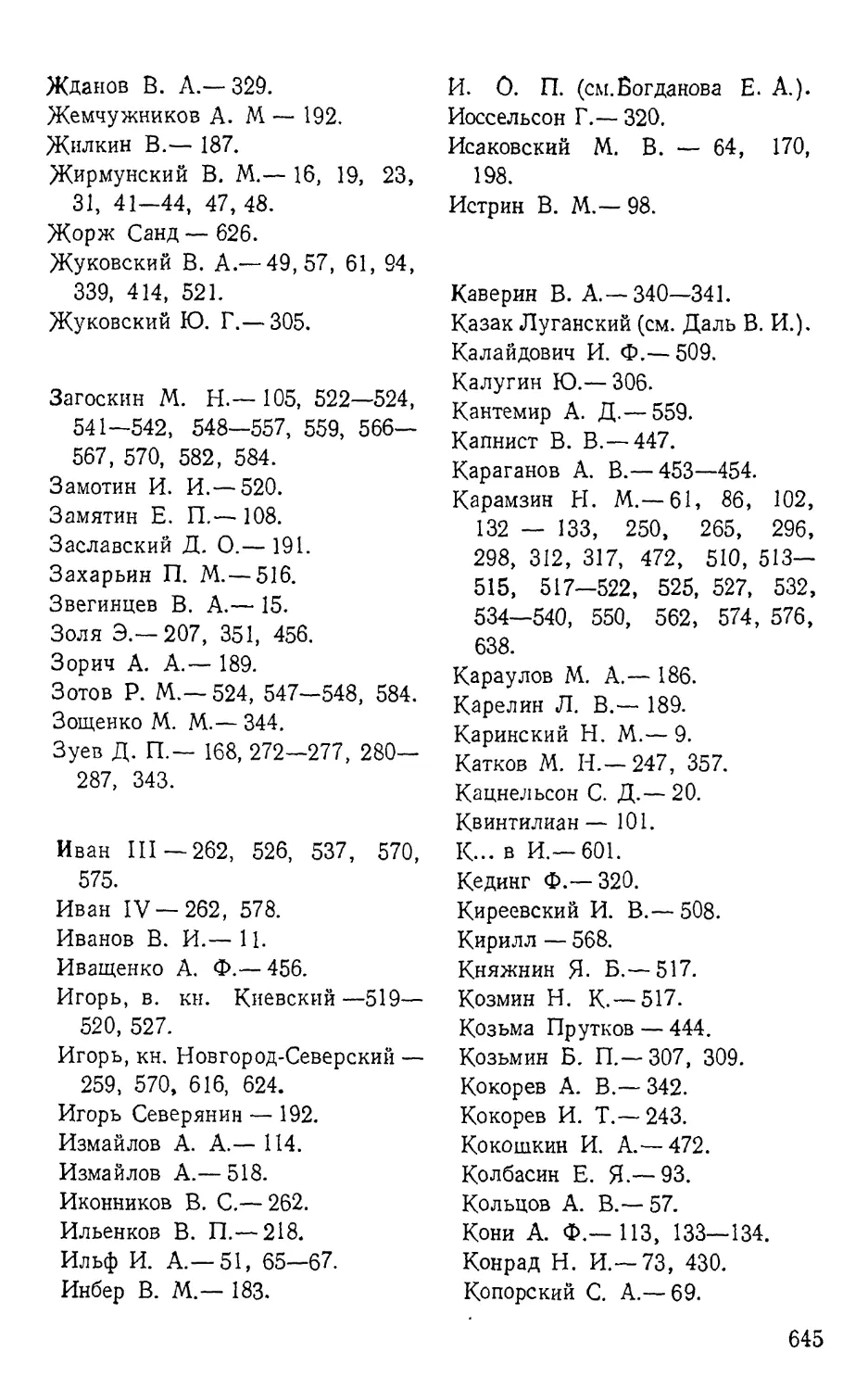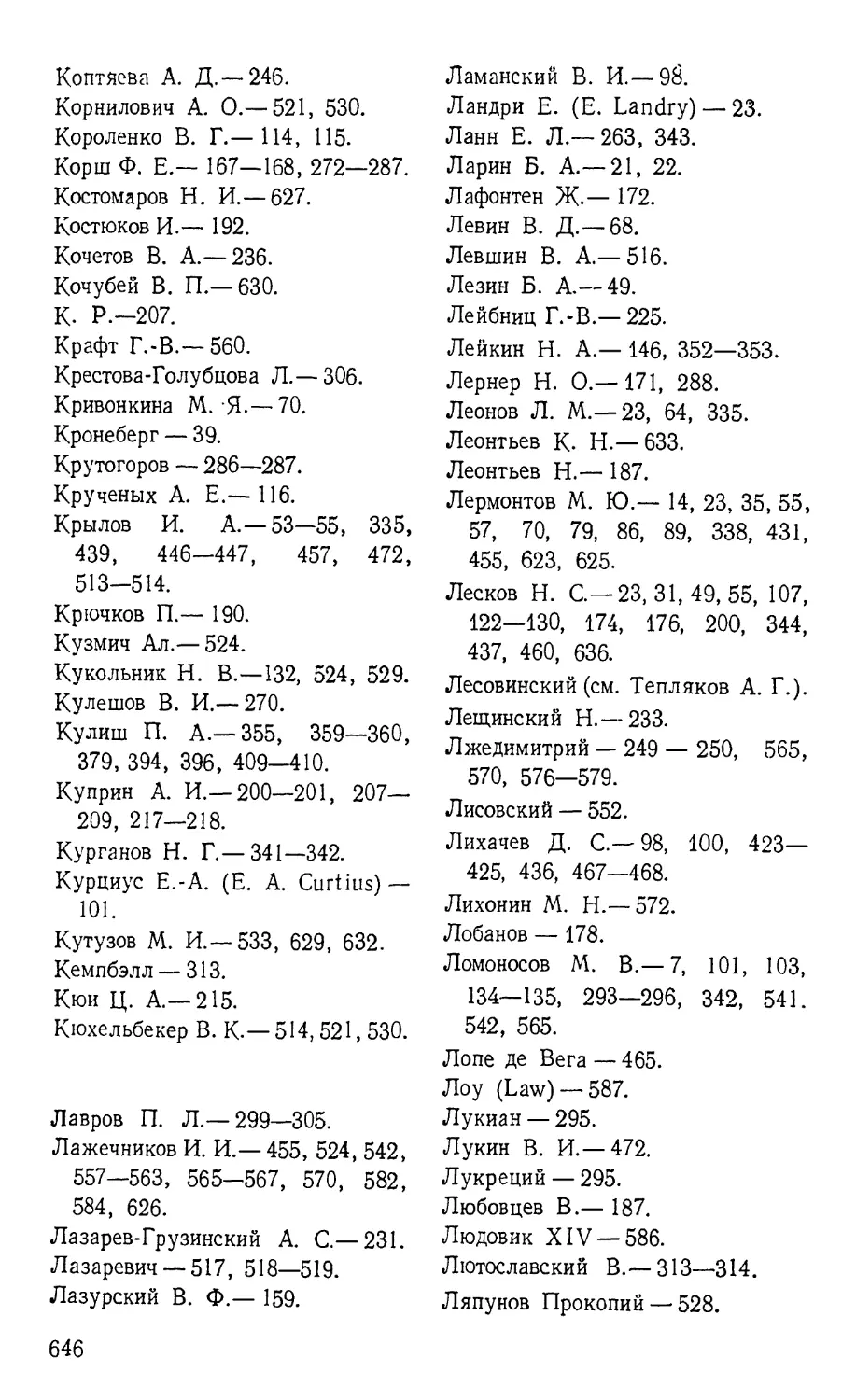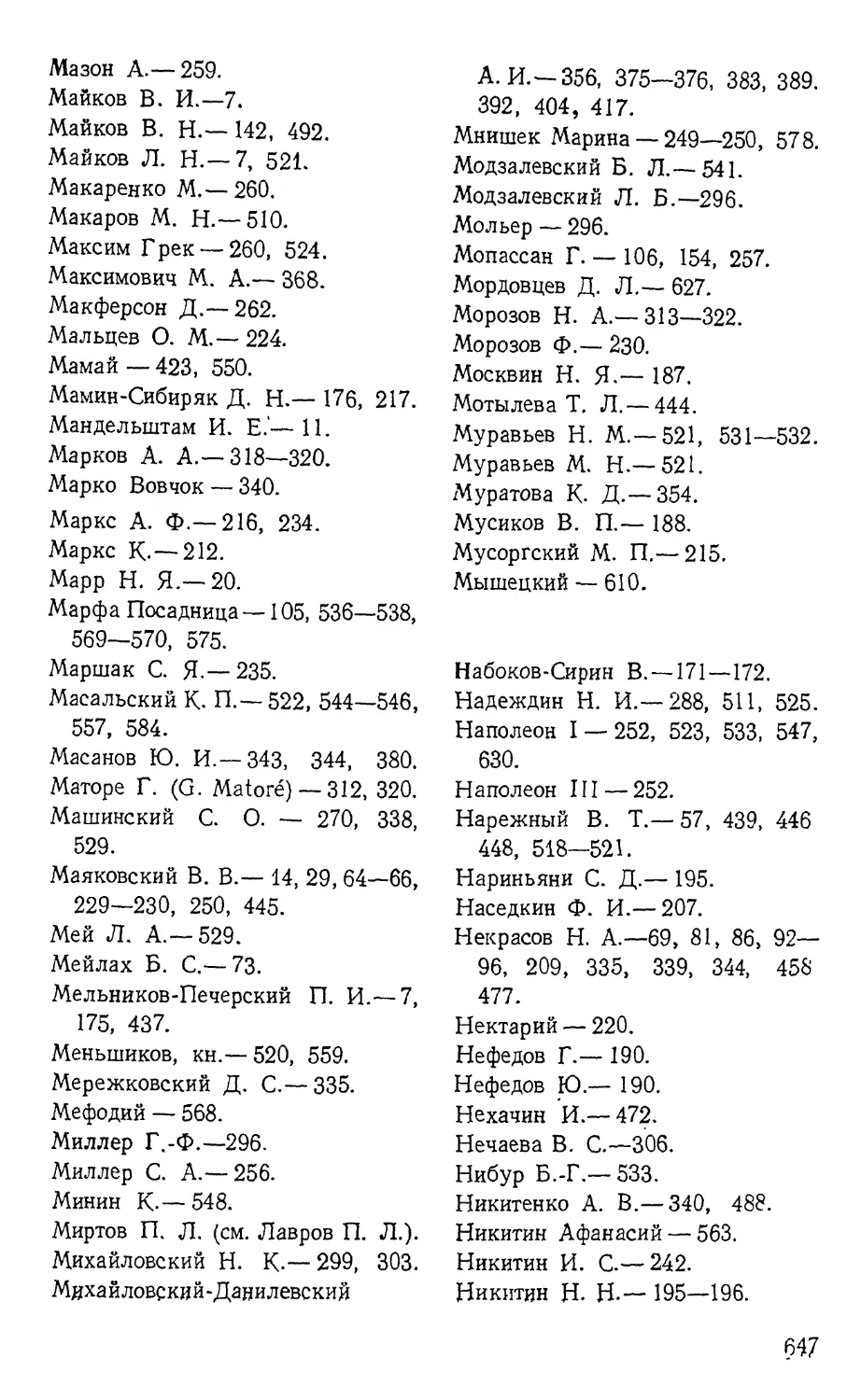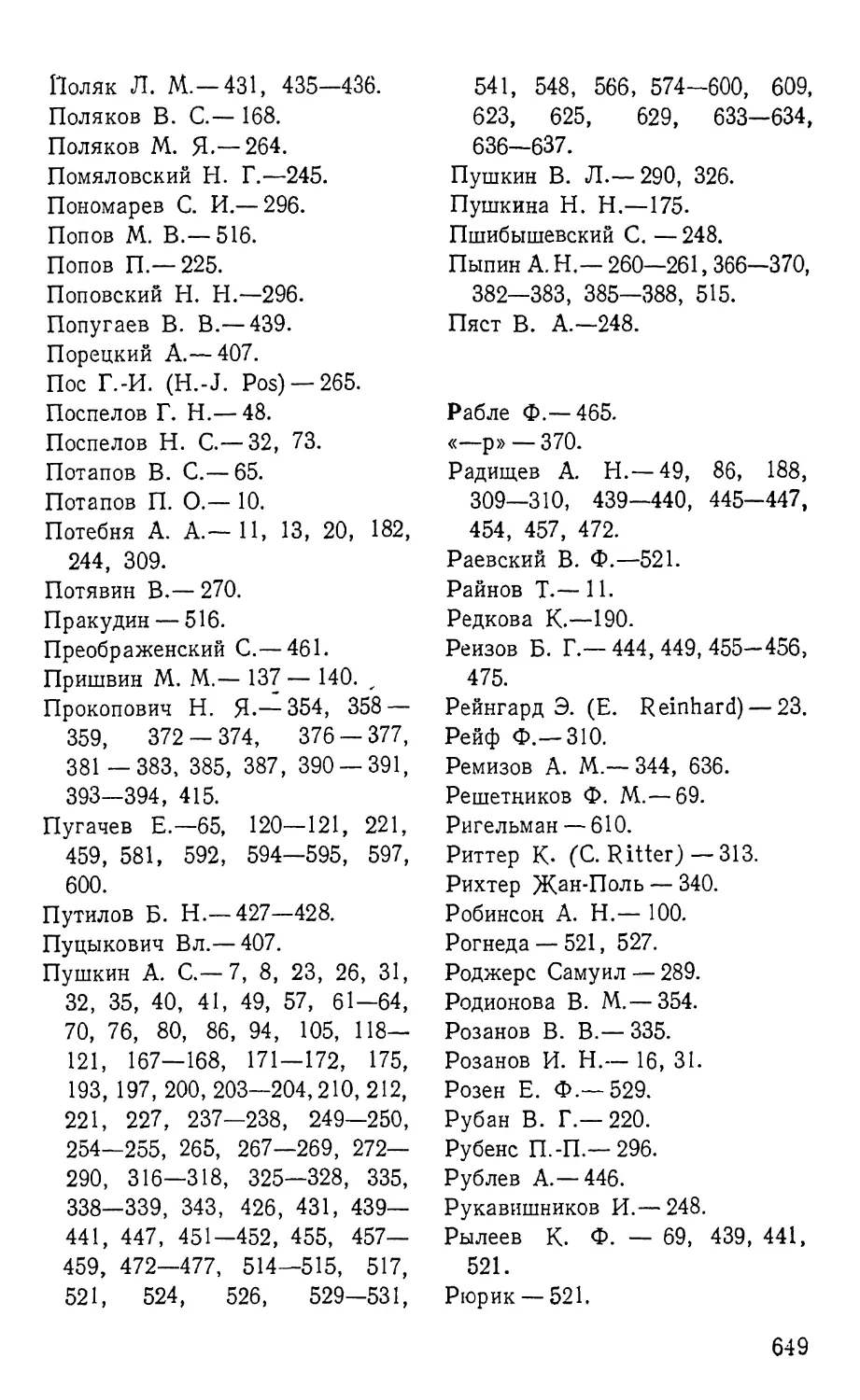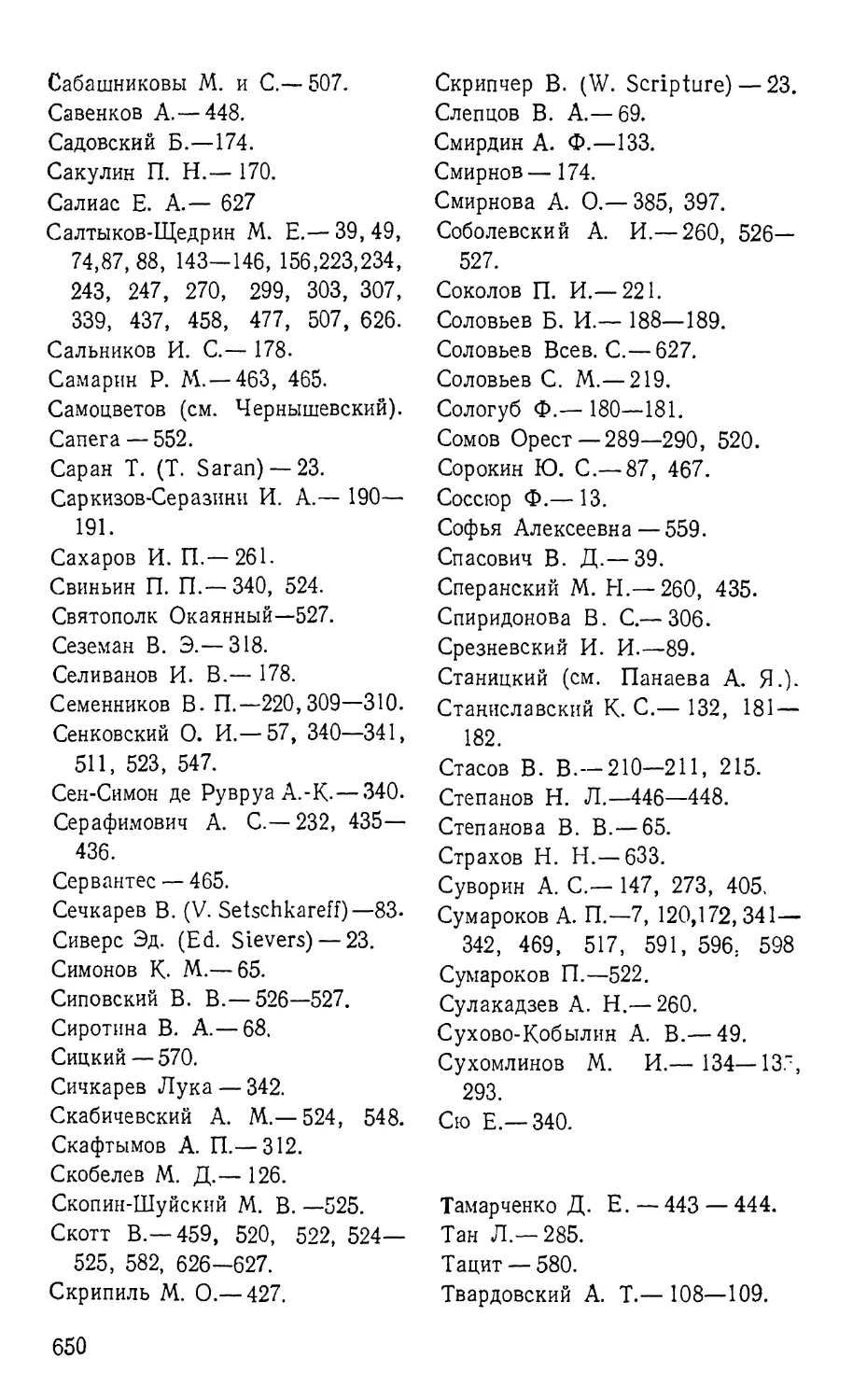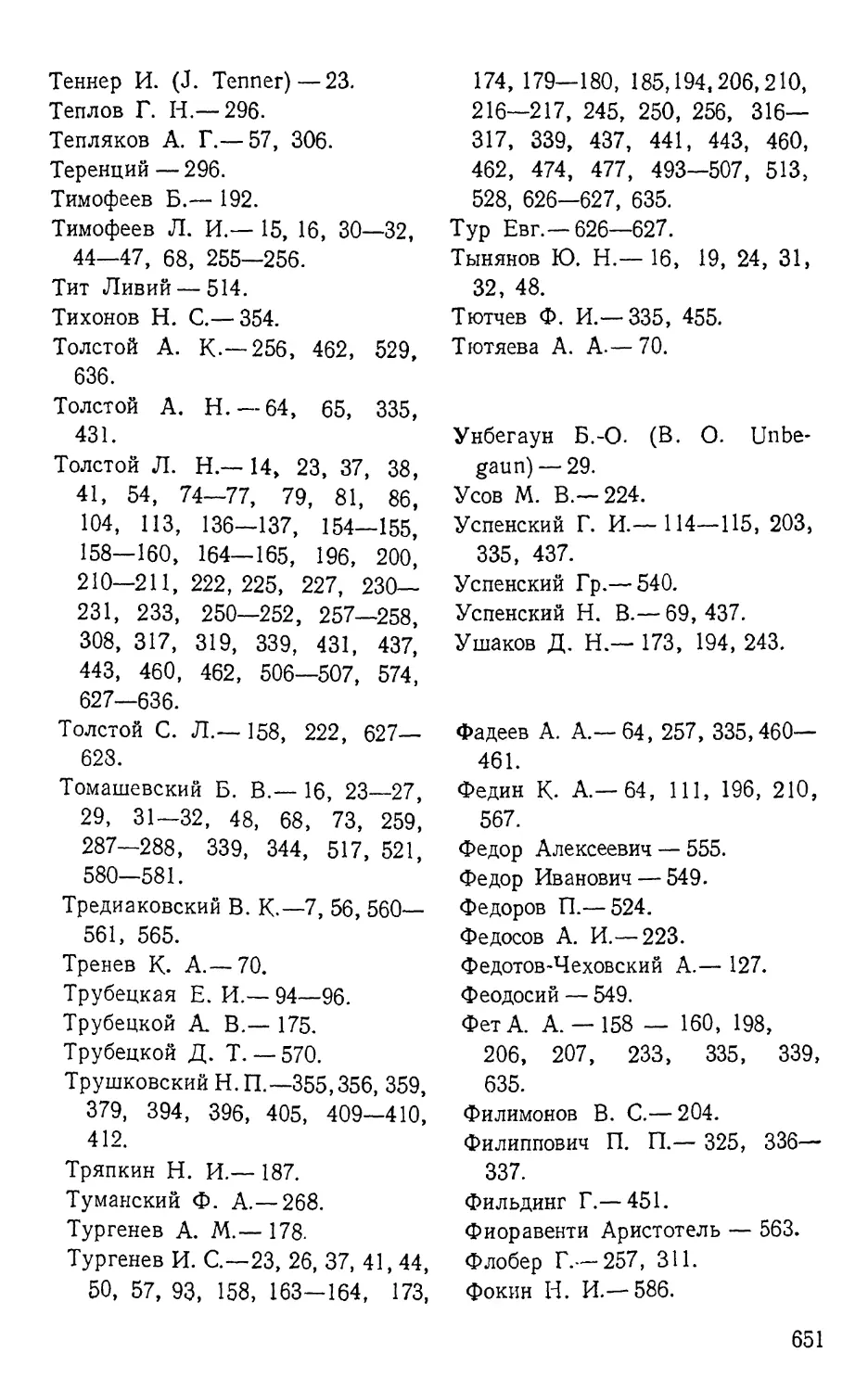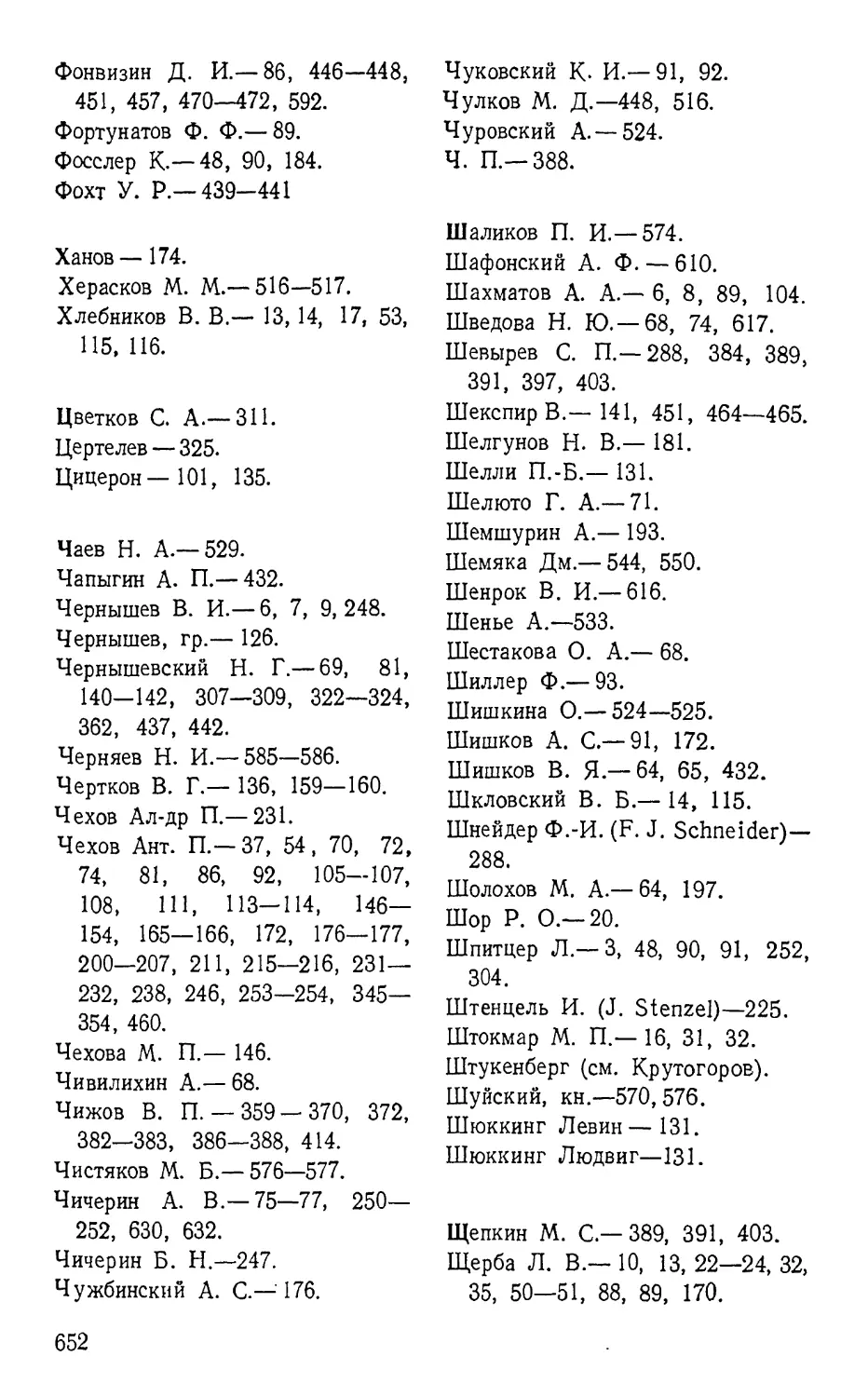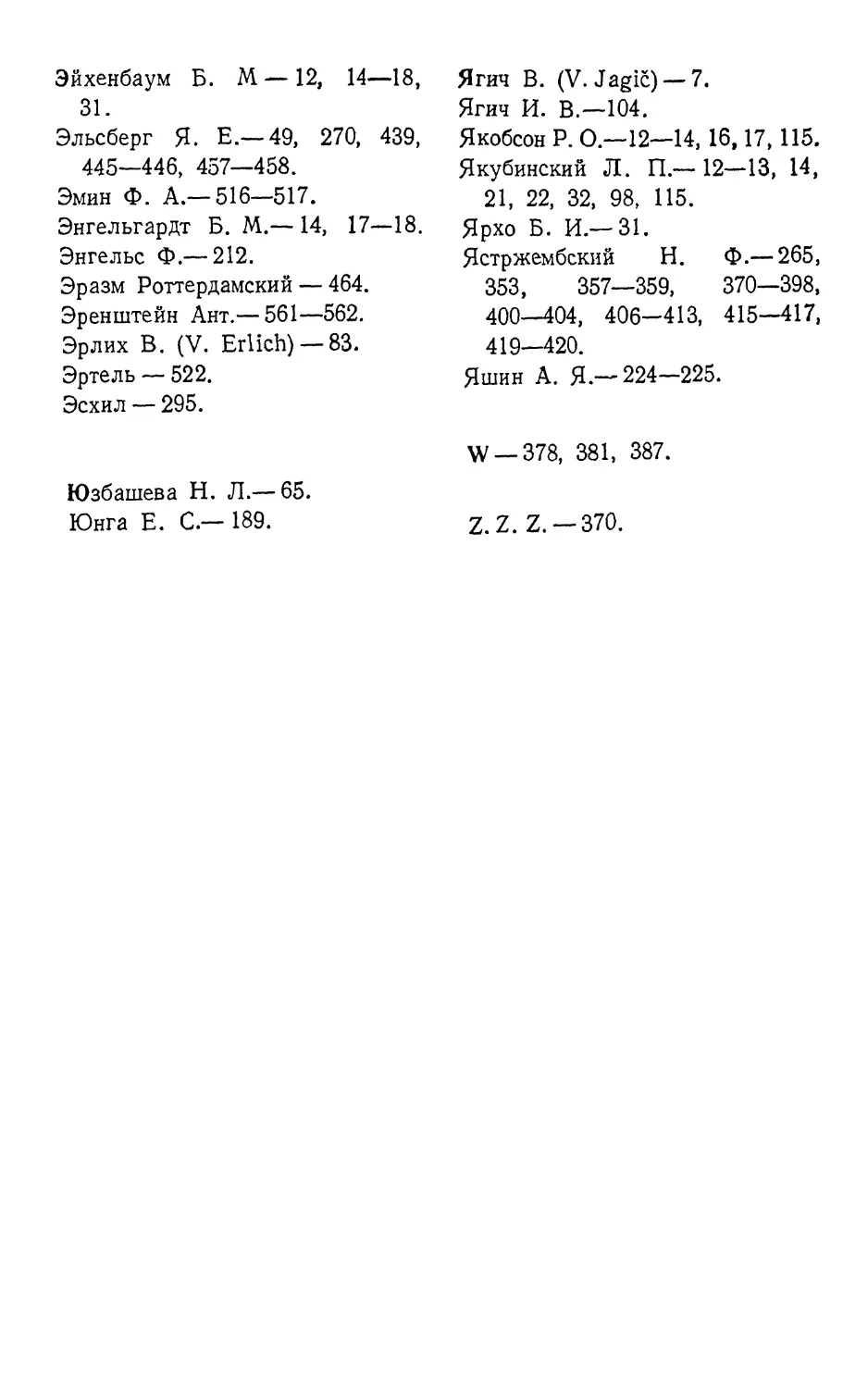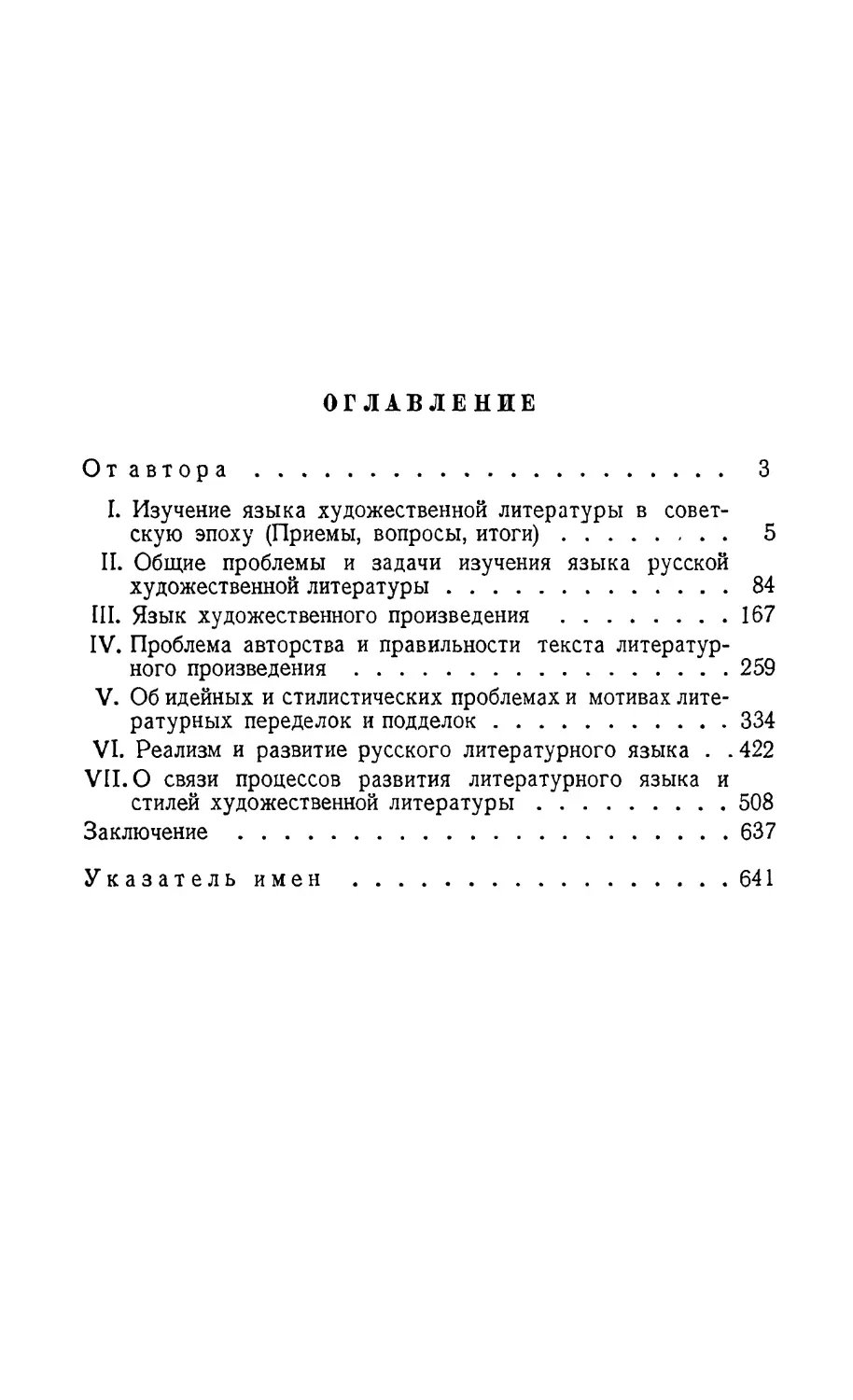Текст
В. В. ВИНОГРАДОВ
О ЯЗЫКЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1959
Оформление художника
г. ЧЕХОВСКОГО
ОТ АВТОРА
В истории развития филологической науки проблема
поэтического языка и проблема стилистики художест-
венной литературы изучались и развивались то в грани-
цах языкознания, то выходили из пределов лингвистики
и, не получив права на постоянное жительство ни в одной
области словесных наук, временно обосновывались на
почве риторики, поэтики, эстетики слова и даже теории
литературы.
Были попытки выделить изучение «языка» или сти-
лей художественной литературы в нейтральную зону,
в которой разрешалось охотиться как языковедам, так и
историкам литературы. Так, Л. Шпитцер рекомендовал
комбинирование литературного и лингвистического ис-
следования. «В конечном итоге безразлично, возникло ли
какое-нибудь наблюдение первоначально с той или с этой
стороны, поскольку оно должно во всяком случае под-
вергнуться контролю обеих сторон. И к чему нам снова
разъединять враждующих братьев, которые только что
примирились с таким трудом?» Однако важно, чтобы
специфичности объекта изучения — «языка» (или стилей)
художественной литературы — соответствовали и те по-
нятия, категории и методы, которые вытекают из позна-
ния внутренней сущности или структуры этого объекта.
По моему глубокому убеждению, исследование «языка»
(или, лучше, стилей) художественной литературы долж-
1*
3
но составить предмет особой филологической науки,
близкой к языкознанию и литературоведению, но вместе
с тем отличной от того и другого. Настоящая книга
является первой из задуманной мною серии книг, посвя-
щенных раскрытию общих и конкретно-исторических
проблем и задач этой еще не вполне самоопределившей-
ся науки. Заглавие этой книги «О языке художественной
литературы» гораздо шире ее содержания, но зато оно в
общепринятой формуле выражает замысел автора и его
планы.
•4
I
ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В СОВЕТСКУЮ ЭПОХУ
(Приемы, вопросы, итоги)
1
Рост духовной культуры, выражаясь в изменениях
языка, порождает вместе с тем обостренную требователь-
ность и интерес к слову, к произведениям словесно-ху-
дожественного творчества. В эпоху глубокого преобра-
зования жизни общественная роль филологии как науки
о языке и литературе, о словесной культуре народов,
а также о методах истолкования литературных про-
изведений становится особенно важной и влиятельной.
Для истории русского народа (так же, как и для других
народов СССР) такова советская эпоха.
В это время напряженное внимание ученых обра-
щается к таким областям исследования, которые до тех
пор оставались в небрежении. Понимание и толкование
литературного текста — основа филологии и вместе с тем
основа исследования духовной, а отчасти и материаль-
ной культуры. Путь к достижению полного и адекват-
ного осмысления литературного произведения указы-
вается и определяется тремя родственными дисципли-
нами: историей, языкознанием и литературоведением,
их гармоническим взаимодействием. На почве этого взаи-
модействия в советский период нашего развития уко-
реняется и быстро вырастает молодая и свежая отрасль
отечественной филологии— история литературных язы-
ков.
5
История литературного языка, особенно нового пе-
риода, обычно строится на материалах языка произ-
ведений крупнейших писателей (ср., например, «Фило-
логические разыскания» Я. К. Грота, материалы для
русской стилистики Ф. И. Буслаева и др. под.). Это
естественно. История русского литературного языка,
будучи, по словам академика А. А. Шахматова, «исто-
рией развития русского просвещения», неразрывно свя-
зана с историей русской общественной мысли, историей
русской науки, с историей русского словесного искус-
ства. Великие русские писатели, по выражению
М. Горького, «воплощают дух народа с наибольшей
красой, силой и полнотой». Изучение их языка ведет к
углубленному пониманию «духа народа», к пониманию
общих закономерностей развития русской литературы
и русского национального языка.
В изучении языка писателя ближайшим образом за-
интересовано и литературоведение. Творчество писателя,
его авторская личность, его герои, темы, идеи и образы
воплощены в его языке и только в нем и через него
могут быть постигнуты. Исследование стиля, поэтики
писателя, его мировоззрения невозможно без основатель-
ного, тонкого знания его языка. Самый текст сочинений
писателя может быть точно установлен и правильно
прочитан только тем, кто хорошо знает или глубоко
изучил язык этого писателя.
Еще в 1902 году В. И. Чернышев, определяя задачи,
цели, результаты и состояние филологического иссле-
дования языка русских писателей XVIII—XIX веков,
писал, что изучение языка писателя дает основания «для
утверждения или отрицания принадлежности авторам
произведений сомнительных. Можно также уяснить влия-
ние одного писателя на другого; можно с значительной
вероятностью определить область, откуда происходил
писатель, и говор, который отразился в его произведе-
ниях. Кроме того, изучение языка писателей известной
эпохи должно 'бы было дать представление о граммати-
ческом строении языка в эту эпоху. Так как для таких
целей необходимо исследование языка писателей во всем
его объеме и полноте и притом с различиями, завися-
щими от разных периодов творчества писателя и рода
словесных произведений, то не удивительно, что длята-
б
ких сложных и кропотливых работ находилось слишком
мало охотников»х.
Легко заметить, что здесь ставятся и формулируются
лишь частные и притом вовсе не специфические, не ос-
новные задачи изучения языка художественной литера-
туры. Художественные произведения рассматриваются
главным образом как памятники истории литературного
языка и исторической диалектологии. Проблемы внут-
ренних признаков, своеобразных качеств языка самой
художественной литературы, вопросы о специфических,
особых приемах и принципах их исследования тут еще
даже не поставлены.
Связь между наукой о литературном языке и теорией
и практикой литературно-художественного творчества
в самом конце прошлого и в начале текущего столетия
оказалась почти порванной.
На язык художественной литературы, на язык ли-
тературных произведений в это время была целиком
перенесена методика историко-грамматических и этно-
диалектологических изучений. Так, профессор Е. Ф. Буд-
де, деливший свои научно-исследовательские интересы
между диалектологией и историей русского литератур-
ного языка нового времени, именно с этих позиций грам-
матиста и исследователя русских народных говоров изу-
чал русский литературный язык XVIII века, преимущест-
венно второй его половины, а также язык Пушкина и
Гоголя. Язык литературных произведений Тредиаков-
ского, Ломоносова и Сумарокова характеризуется про-
фессором Е. Ф. Будде прежде всего и больше всего со
стороны фонетической, морфологической и отчасти лек-
сикологической1 2. К явлениям языка Гоголя и Мельни-
кова-Печерского 3 им был применен в основном исто-
рико-диалектологический подход. Кроме того, Е. Ф. Будде
1 В. И. Чернышев, Заметки о языке басен и сказок
В. И. Майкова. Сб. «Памяти Л. Н. Майкова», СПб. 1902, стр. 125.
2 Е. Ф. Б у д д е, Несколько заметок из истории русского языка.
«Журн. Мин. народи, просвещения», 1898, № 3, 1899, № 5; его же,
Из истории русского литературного языка конца XVIII и начала
XIX века. «Журн. Мин. народи, просвещения», 1901, № 2.
3 Е. Ф. Будде, Значение Гоголя в истории русского литера-
турного языка. «Журн. Мин. народи, просвещения», 1902, № 7.
Статья Е. Ф. Будде о языке Мельникова-Печерского помещена в
книге «Zbornik u slavu Vatroslava Jagica. Jagic-Festschrift», Ber-
lin, 1908.
7
издал в неоконченном виде «Опыт грамматики языка
А. С. Пушкина» (СПб. 1901—1904). Здесь изложена
часть морфологии пушкинского языка и вообще русского
литературного языка пушкинской поры (системы скло-
нения и спряжения с указанием вариантов и колебаний
в ударении). С именем Е. Ф. Будде связана также под-
готовка обобщающего труда «Очерк истории современ-
ного литературного русского языка (XVII—XIX век)»1.
Характеризуя основные этапы истории русского литера-
турного языка нового времени, Е. Ф. Будде опирался
главным образом на исследования акад. А. А. Шахматова
о движении церковнославянских элементов в русском
литературном языке, на труды академика Я. К. Грота
по языку русских писателей конца XVIII и первой чет-
верти XIX века, а также по русской исторической лекси-
кологии и на результаты собственных, преимущественно
фонетических и морфологических изучений русского ли-
тературного языка XVIII и начала XIX века 1 2. Материал
этот был очень разнороден и случаен. «Очерк»
Е. Ф. Будде представляет собой ценную, но недостаточно
систематизированную коллекцию фонетических, морфо-
логических, а отчасти и лексических фактов из истории
русского литературного языка XVIII века и первых де-
сятилетий XIX века. В концепции профессора Будде нет
исторически обоснованной периодизации русского лите-
ратурно-языкового процесса. Индивидуальные своеобра-
зия стиля -писателя непринужденно располагаются рядом
с явлениями общелитературной речи. Общее представле-
ние о норме литературного выражения, свойственной
тому или иному периоду развития русского литератур-
ного языка, отсутствует. Разнородные литературно-язы-
ковые явления не подвергаются стилистической диффе-
ренциации. Историко-диалектологическая точка зрения
иногда побуждала Е. Ф. Будде сортировать факты лите-
ратурной речи по месту их возникновения, по наречиям и
диалектам, пути же и причины литературной национа-
лизации разноместных народно-речевых элементов, а
1 См. «Энциклопедия славянской филологии», вып. XII, СПб.
1908.
2 См. В. В. Виноградов, Русская наука о русском литера-
турном языке, «Ученые записки Московского университета», вып. 106;
Роль русской науки в развитии мировой науки и культуры, т. III,
кн. I, 1946, стр. 121—123.
8
также функции их в языке художественной литературы,
способы их связи или сплава с другими компонентами
в составе словесно-художественного творчества писате-
лей не изучались.
В русских лингвистических работах начала XX века
язык художественной литературы, язык литературного
произведения, разбитый на грамматико-морфологические
или на лексикологические осколки, распределялся по об-
щим категориям и разрядам грамматики и лексики ли-
тературного языка или даже по рубрикам условной на-
родно-диалектологической классификационной схемы.
Изучение языка литературных произведений отрыва-
лось от анализа специфических качеств художественной
речи. Формально-грамматическое и историко-диалектоло-
гическое направление^ возобладавшее в этот период раз-
вития науки о русском литературном языке, не могло охва-
тить всех сторон истории литературного языка и истории
языка художественной литературы. Представление об
объеме понятия «литературный язык» и о стилистической
дифференциации литературного языка было смутным.
В рецензии на третье издание книги В. И. Черны-
шева «Правильность и чистота русской речи» (Пг. 1914)
профессор Н. М. Каринский отмечал у автора неудачное
употребление термина «литературный язык»: «Литера-
турный язык... автор противупоставляет письменному
языку... Конечно, термин «литературный язык» вместо
термина «язык образованного русского общества» или
термина «общерусский язык» нужно признать прямо
неудачным, запутывающим дело (ср. на стр. 40 проти-
вуположение литературному языку народного)»1. Легко
видеть, что и у самого рецензента нет ясных представ-
лений о содержании термина «литературный язык».
А далее в рецензии читаем: «Автор, по большей части,
не отличает материала прозаического от поэтического,
приводя на данное явление одинаково цитаты из стихо-
творений (иногда торжественных и весьма образных) и
прозы (иногда... самой будничной). Между тем стиль
поэзии и прозы не одинаков. Поэты имеют свою особую
литературную традицию. Эволюция поэтического языка
несколько иная, чем прозаического: в нем свои условно-
1 «Журн. Мин. народи, просвещения», 1916, январь. Отд. «На
родное образование». Отзывы о книгах, стр. 105.
9
сти... следовало бы ярко выделить особенности поэтиче-
ской речи и тогда бы, конечно, многое, например, устарев-
шее для современного разговорного языка, оказалось не
столь устаревшим для литературного поэтического»1.
Таким образом, выделяется стиль стихотворной речи.
Но общая проблема взаимодействия литературного
языка и стилей художественной литературы остается не-
ясной и нерасчлененной. Правда, применительно к линг-
вистическому изучению русской художественной литера-
туры XVIII века с господствовавшей в то время теорией
трех стилей литературного языка было признано необхо-
димым при анализе языка писателей этого времени —
«1) отмечать характерные особенности каждого из трех
стилей данного писателя и 2) устанавливать степень
взаимодействия между ними» 1 2. «Только таким путем,—
писал профессор П. О. Потапов,— возможно определить
роль каждого из писателей в этой борьбе стилей, кото-
рая закончилась их нивелировкой, легшей в основу при
выработке настоящего литературного языка»3. Область
исследования выразительных средств языка художест-
венной литературы XVIII—XX веков на время была
уступлена русским языкознанием истории литературы и
исторической поэтике.
Только в советскую эпоху наука о русском литера-
турном языке и языке русской художественной литера-
туры и в особенности тот раздел ее, который посвящен
изучению языка литературных произведений, языка писа-
теля, начала развиваться стремительно и разносторонне.
Некоторое движение в этом направлении началось в ши-
роких общественных кругах еще до Великой Октябрь-
ской социалистической революции.
В первые десятилетия текущего столетия, по словам
академика Л. В. Щербы, в языковедении оживляется
интерес к языку как к «деятельности человека, направ-
ленной всякий раз к определенной цели, к наилучшему и
наиудобнейшему выражению своих мыслей и чувств».
И «в обществе, по крайней мере русском, возродился
интерес к языку, совершенно независимо от языковеде-
1 «Журн. Мин. народи, просвещения», 1916, январь. Отд. «На-
родное образование». Отзывы о книгах, стр. 107.
2 П. О. И о т а п о в, Из истории русского театра. Жизнь и дея-
тельность В. А. Озерова, Одесса, 1915, стр. 916.
3 Т а м же.
10
ния. Прежде всего поэты, для которых язык является
материалом, стали более или менее сознательно отно-
ситься к нему; вслед за ними пошли молодые историки
литературы, которые почувствовали невозможность пони-
мания многих литературных явлений без лингвистиче-
ского подхода; наконец люди сцены, для которых живой
произносимый язык является альфой и омегой их искус-
ства, едва ли не более других посодействовали возрож-
дению в обществе интереса к языку» !.
2
Проблема изучения языка писателя, языка художест-
венной литературы прежде всего, в начале текущего сто-
летия снова вызвала к жизни и исследованию проблему
художественной или поэтической речи. Уже А. А. Потебня
и его последователи находили в учении о поэтическом
слове основу науки о языке писателя, о языке художест-
венной литературы. Исследование так называемой
«внутренней формы» слова или литературного произве-
дения в целом, изучение генезиса и смысла поэтических
образов, их движения и распространения, их изменений
и функций стало творческим стержнем работ о стиле
писателя, отражавших влияние потебнианской концепции
(ср., например, исследование Т. Райнова о структуре
гончаровского «Обрыва», отчасти И. Мандельштама
о характере гоголевского стиля и др.).
Теория и практика символизма, обострившие интерес
к проблеме поэтического образа, к учению об образной
речи, придали этим вопросам откровенный субъективно-
идеалистический и метафизический характер. Искажен-
ное и одностороннее представление о сущности поэтиче-
ского языка как языка условных знаменований, симво-
лических соответствий и намеков сопровождалось
также — по диалектическому контрасту — в работах сим-
волистов (например, А. Белого, В. Брюсова, В. Иванова)
узко формальным анализом техники писательского, осо-
бенно стихотворного мастерства1 2, нередко также с ярко
выраженным субъективизмом в объяснениях.
1 Сб. «Русская речь», вып. I, Пг. 1923, стр. 10—11.
2 См. А. Белый, Символизм, М. 1910 (особенно статья «Ли-
рика и эксперимент»).
11
В конце 10-х и в начале 20-х годов текущего столетия
у русских лингвистов и филологов возникло стремление,
отчасти подсказанное влиянием эстетики футуризма,
преодолеть отвлеченную метафизичность и узость учения
о поэтической речи как речи образной по преимуществу
и использовать достижения сравнительно-исторического
индоевропейского языкознания, применив основные его
принципы к изучению языка художественной литературы
(в статьях проф. Л. П. Якубинского, проф. Е. Д. Полива-
нова, отчасти О. Брика, Р. О. Якобсона, Б. М. Эйхен-
баума и др.). Была сделана попытка развить учение
о поэтической речи как об антитезе речи практической,
как^о «самоценной речи», направленной «на актуализа-
цию», на «воскрешение слова», на выведение его из
бытового автоматизма. Основные импульсы к теоретиче-
ским построениям в этой области исходили из поэтиче-
ской практики и ее осмысления в кругах писателей-мо-
дернистов (символистов, футуристов, акмеистов).
Формулы, в которые облекалась теория самодовлею-
щего поэтического языка, почти у всех ее представителей
были однородны и даже тождественны. Трудно решить,
откуда они пошли и кто первый из русских словесников
этого времени (Бобчинский или Добчинский?) высказал
их. Если говорящий пользуется своим языковым материа-
лом, писал Л. П. Якубинский, «с чисто практической
целью общения, то мы имеем дело с системой практи-
ческого языка, в которой языковые представления
(звуки, морфологические части и проч.) самостоятель-
ной ценности не имеют и являются лишь средством
общения. Но мыслимы (и существуют) другие языковые
системы, в которых практическая цель отступает на зад-
ний план и языковые сочетания приобретают самоцен-
ность» Позже те же центральные понятия и признаки
в определении поэтического языка упоминает, вторя
Якубинскому, Р. Якобсон: поэзия «управляется, так ска-
зать, имманентными законами: функция коммуникатив-
ная, присущая как языку практическому, так и языку
эмоциональному, здесь сводится к минимуму. Поэзия
индифферентна к предмету высказывания... Поэзия
ИЛ. П. Якубинский, О звуках стихотворного языка. Сб.
«Поэтика», Пг. 1919, стр. 37.
12
есть оформление самоценного, «самовитого», как гово-
рит Хлебников, слова» Ч
Потебня учил о поэтичности языка и о поэтическом
языке как особой форме мышления и выражения. Теперь
встает вопрос о системе поэтического языка — в ее про-
тивопоставленности системе языка практического. При
этом понятие «системы языка», выдвинутое и углублен-
ное трудами И. А. Бодуэна де Куртене и Л. В. Щербы,
возникло и распространилось у нас гораздо раньше
знакомства с «Курсом общей лингвистики» Ф. де Сос-
сюра.
Поэтическая речь признается специфической, незави-
симой, свободною от законов практического языка. Она
рассматривается как самодовлеющая деятельность и как
сфера эстетически значимых «приемов», как бы изнутри
себя раскрывающая свои художественно-выразительные
ресурсы. Так, если в практическом языке звуки, являясь
только средством словесно-речевого выражения, не сосре-
доточивают на себе внимания, в поэтическом языке,
наоборот, они, по словам Л. П. Якубинского, «всплывают
в светлое поле сознания»1 2. Принцип отталкивания от
практического языка, «остраннения» его структурных
элементов и конструктивных качеств, принцип экспрес-
сивного использования, актуализации и семасиологиза-
ции таких языковых явлений, которые в практической
речи оказываются незнаменательными и нейтральны-
ми,— вот, по этой формалистической концепции, отры-
вающей поэтическую речь от общественных функций,
основа строения языка художественного произведения.
С этой точки зрения и намечались некоторые перспек-
тивы теоретического изучения и систематического опи-
сания формальных элементов художественной речи. (Ср.
1 Р. Якобсон, Новейшая русская поэзия. Набросок первый,
Прага, 1921, стр. 10 и 11.
2 См. Л. П. Якубинский, О звуках стихотворного языка.
«Сборники по теории поэтического языка», вып. I. Пг. 1916, стр. 17;
«Поэтика», Пг. 1919, стр. 38. Ср. поправку Р. Якобсона к заключению
Л. П. Якубинского об экспрессивной выразительности скопления
плавных в поэтическом языке и частоте применения этого приема
(в книге «О чешском стихе преимущественно в сопоставлении с рус-
ским», Прага, 1923): «Правильно было бы сказать, что диссимиля-
ция плавных возможна как в практическом, так и в поэтическом
языке, но в первом она обусловлена, во втором же, так сказать, оце-
лена, то есть это по существу два различных явления» (стр. 17).
13
ранние работы Л. П. Якубинского о стихотворном
языке Лермонтова, Р. Якобсона — о языке Хлебникова,
о языке Маяковского, В. Шкловского — о языке Л. Тол-
стого, о языке «Холстомера» Л. Толстого, Б. Эйхенбау-
ма— о языке «Шинели» Гоголя и т. п.) Стилистические
анализы этого типа почти не касались проблем лексико-
семантического состава и строя литературного произве-
дения и даже его внутренней синтаксической структуры.
Б. М. Энгельгардт, характеризуя «формальный метод
в истории литературы», так очерчивает сферу его дейст-
вия и вместе с тем «предел формального анализа сло-
весного произведения»: «...в состав словесного ряда, как
системы чистых средств выражения, входят: во-первых,
фонетические элементы слова или, точнее говоря, слово
в его фонетической структуре; во-вторых, вся совокуп-
ность синтаксических конфигураций, композиционных
приемов, сюжетных и жанровых конструкций; и, наконец,
система номинативных значений и соответствующая ей
система номинативной образности...» 1
Однако «именно здесь, в проблеме образности,— ахил-
лесова пята формальной школы, ибо ее методы бессильны
перед ней, как перед проблемой эстетического оформле-
ния единоцелостного словесного смысла. А в связи с этим
чрезвычайно ограничены возможности формальной
школы и в разработке проблемы поэтической тематики.
Развернуть эту проблему во всей ее широте формальная
школа не в состоянии именно потому, что здесь снова
выступает на передний план вопрос о смысловом един-
стве как вещно-определенном элементе словесного обра-
зования, ибо только в этом плане и можно (имеет смысл)
говорить о теме или темах художественного произ-
ведения. С этой точки зрения чрезвычайно показатель-
ным является настойчивое стремление представителей
формальной школы истолковать, хотя бы только для
стихотворного произведения, отдельное слово как его
тему. Ведь это означает не что иное, как попытку разре-
шения проблемы тематики в пределах лишь номинатив-
ных значений. Но само собой разумеется, что такая
постановка вопроса чрезвычайно узка и одностороння» 1 2.
1 Б. М. Энгельгардт, Формальный метод в истории лите-
ратуры, Academia, Л. 1927, стр. 75—76.
2 Т а м же, стр. 76—77.
14
Отношение к поэтическому языку как к «самоценной
речевой деятельности», как к «высказыванию с установ-
кой на выражение» сопровождалось обостренным интере-
сом к эмоциональной стороне языка, к его экспрессивным
формам и средствам. В этом аспекте разрабатывались
своеобразные явления экспрессивной семантики, напри-
мер, экспрессивные оттенки звуков, эвфонические про-
цессы, связанные с ритмом поэтического произведения \
экспрессивные функции эвритмии, мелодика стиха1 2,
эмоциональный ореол слова и т. п.
Под влиянием традиций сравнительно-исторического
индоевропейского языкознания в центре изучения как
по отношению к стихотворному языку, так и по отноше-
нию к языку прозаических произведений сначала оказа-
лись явления фонетические, явления ритма, метрики,
мелодики, интонации и лишь отчасти синтаксиса и сло-
воупотребления. Особенно сильно оживился интерес
к изучению стихотворного языка. Тесное сочетание во-
просов изучения стихотворного языка с проблемами
поэтической речи было обусловлено уверенностью неко-
торых филологов в том, что «многие специфические осо-
бенности художественной речи как раз в стихе (как —
в известных отношениях — наиболее ярком ее виде) мо-
гут быть определены отчетливее всего»3.
Хотя признание самоценного слова, «слова как тако-
вого» и его формально-выразительных средств основным
предметом исследования поэтической речи, языка писа-
теля, языка литературно-художественного произведения
и привело к уяснению некоторых фонических явлений,
даже некоторых ритмико-мелодических закономерностей
в языке русской художественной литературы, главным
образом в языке стихотворном, в языке русской поэзии
XIX и XX столетий, но схематизм и односторонность,
идеологическая опустошенность, антиисторизм и твор-
ческая несостоятельность этой концепции очень скоро —
1 См. С..И. Бернштейн, Опыт анализа словесной инстру-
ментовки. Сб. «Поэтика. Временник Отдела словесных искусств
Гос. инет, истории искусств», вып. V, Л. 1929.
2 См. Б. Эйхенбаум, Мелодика стиха, Пг. 1922. Странным
и архаическим пережитком является глава VI «Экспрессивно-эмо-
циональные элементы и лексическое значение слова» в книге
В. А. З’вегинцев а, Семасиология, изд. МГУ, 1957, стр. 167—185.
3 Л. И. Тимофеев, Проблемы стиховедения. Материалы к
социологии стиха, М. 1931, стр. 7.
15
уже к середине 20-х годов — стали очевидны. Ведь ком-
муникативная и содержательно-выразительная, а также
изобразительная функции речи почти выключались из та-
кого исследования. Кроме того, при таких принципах ис-
следования поэтической речи язык писателя отрывался от
контекста истории русского литературного языка и его
стилей, от социально-исторических закономерностей разви-
тия языка художественной литературы и ее направлений.
Поэтому в последующих советских работах проблемы
изучения поэтической речи вообще, русского поэтического
языка в частности, а также проблемы исследования
общих конструктивных своеобразий русского стихотвор-
ного языка совсем обособились от темы — язык писателя.
Эти проблемы стали разрабатываться в аспекте общих
задач теории литературы, эстетики языка и поэтики.
В области изучения русского стихотворного языка, его
ритмики, мелодики, его синтаксического строя усилиями
и достижениями таких советских филологов, как
Ю. Н. Тынянов, Б. В. Томашевский, В. М. Жирмунский,
Б. М. Эйхенбаум, С. И. Бернштейн, Г. О. Винокур,
С. М. Бонди, И. Н. Розанов, Л. И. Тимофеев, М. П. Што-
кмар и др., получены очень значительные результаты.
Футуристическая эстетика утверждала понимание
«искусства как приема», словесно-художественного
произведения как совокупности или суммы (позднее —
системы) приемов. Понятие литературы заменялось
понятием литературности, Р..Якобсон в брошюре «Новей-
шая русская поэзия» заявлял: «Предметом науки о лите-
ратуре является не литература, а литературность, то
есть то, что делает литературным произведение. Между
тем до сих пор историки литературы преимущественно
уподоблялись полиции, которая, имея целью арестовать
определенное лицо, захватила бы на всякий случай всех
и все, что находилось в квартире, а также случайно про-
ходивших на улице мимо. Так и историкам литературы
все шло на потребу — быт, психология, поэтика, филосо-
фия. Вместо науки о литературе создавался конгломерат
доморощенных дисциплин. Как бы забывалось, что эти
статьи отходят к соответствующим наукам — истории фи-
лософии, истории культуры, психологии и т. д., и что по-
следние, естественно, могут использовать и литературные
памятники как дефектные, второсортные документы.
Если наука о литературе хочет стать наукой, она при-
16
нуждается признать «прием» своим единственным
„героем"» Ч
Главный предмет изучения словесно-художественного
творчества — форма как «нечто основное для художест-
венного явления, как организующий его принцип»1 2.
«В качестве эстетически значимого единства художест-
венное произведение представляет систему приемов, то
есть слов и словесных конструкций как чистых, само-
довлеющих средств словесного выражения»3.
Последовательное развитие этой концепции приводит
к тому, что при изучении литературного движения сопо-
ставление художественных произведений переходит в со-
поставление отдельных элементов их — приемов и фор-
мул. В самом деле, в силу сложности состава художест-
венного произведения разные его элементы или приемы
оказываются соотнесенными с однотипными приемами
разнообразных произведений. Генезис приемов, реали-
зованных в одном и том же произведении, также может
быть очень различным. Следовательно, в плане кон-
кретного исторического исследования с этой точки зре-
ния основным «литературным фактом» является не
поэтическое произведение как единоцелостное образо-
вание, а прием или приемы, то есть простейшие эсте-
тически значимые факты языка. Эволюция или смена
этих приемов, а также систем этих приемов, их транс-
формация, генетическая взаимосвязь и составляет основ-
ную сущность истории литературного движения.
«В приеме как таковом, в его функционально опреде-
ляемой структуре таится неизбежность его эстетического
изнашивания, а следовательно, и объективная необхо-
димость его видоизменения. Литературная эволюция
оказывается подчиненной законам имманентной диалек-
тики»4. При этом литературный процесс слагается из
ряда разнообразнейших направлений и школ, не только
качественно различных, но нередко и прямо враждебных
друг другу. «Объяснить это явление не трудно, если
1 Р. Якобсон, Новейшая русская поэзия. Набросок первый.
О Хлебникове, Прага, 1921, стр. 11.
2 Б. Эйхенбаум, Вокруг вопроса о «формалистах», «Пе-
чать и революция», 1924, кн. 5, стр. 3.
3 Б. Энгельгардт, Формальный метод в истории литера-
туры, стр. 79.
4 Т ам же, стр. 102.
2 В. В. Виноградов 17
только принять во внимание, с одной стороны, чрезвы-
чайную сложность самого процесса возникновения лите-
ратуры на почве разнородных факторов культурного
быта: обряда, мифа, культа, работы и проч., а с другой
стороны, те «кривые дороги», которыми проходит поэти-
ческое творчество в поисках наиболее совершенных
и законченных художественных форм» 1, Отсюда — есте-
ственный вывод: «Смена литературных школ и стилей
представляет собою не вытеснение привычного старого
неизвестно откуда взявшимся новым, но смену стар-
шей, то есть находящейся в светлой точке обществен-
ного сознания, литературной линии — младшими, доселе
пребывавшими в его темных сферах. Выступая на перед-
ний план, эти младшие линии испытывают, конечно, су-
щественные изменения, частью под давлением вытес-
няемого ими противника, изжить которого до конца
почти никогда не удается, частью же под влиянием союз-
ников, привлекать которых из далекого прошлого данной
литературы либо из литератур соседствующих стран им
приходится в процессе своего развертывания. В этих-то
именно видоизменениях, испытываемых различными ли-
тературными направлениями, в их борьбе за гегемонию
и заключается сущность литературной эволюции с точки
зрения ее содержания»1 2.
Так как «прием» есть слово с установкой на выра-
жение, то «для формальной школы главным объектом
исследования является не литература, как совокупность
художественных произведений, а язык в его эстетичен
ской функции», история же литературы превращается
в историю «эстетически значимых языковых фактов»3.
По мнению крайних представителей этого «формального
метода», развитие литературных стилей представляет
особый, замкнутый ряд культуры. Они выдвигают такое
положение: «Превращение исторического параллелизма
разных рядов культуры (их «сответствий») в функци-
ональную (причинно-следственную) связь насильственно
и потому не приводит к плодотворным результатам»4.
1 Б. Энгельгардт, Формальный метод в истории литера-
туры, стр. 103.
2 Т а м же, стр. 104.
3 Т а м же, стр. 108.
4 Б. М. Эйхенбаум, Вокруг вопроса о «формалистах», «Пе-
чать и революция», 1924, кн. 5, стр. 2.
18
Напротив, В. М. Жирмунский, первоначально сливавший
все ряды культуры в одной волне (elan vital, по терми-
нологии Бергсона), несущей их к какому-то Всеедин-
ству затем пришел к выводу, что «эволюция стиля как
системы художественно выразительных средств или
приемов тесно связана с изменением общего художест-
венного задания, эстетических навыков и вкусов, но так-
же— всего мироощущения эпохи. В этом смысле боль-
шие и существенные сдвиги в искусстве (например,
ренессанс и барокко, классицизм и романтизм) захваты-
вают одновременно все искусства и связаны с общим
сдвигом духовной культуры» 1 2.
К середине 20-х годов обозначился общий, харак-
терный для развития всего советского языкознания по-
ворот к проблемам семантики и социологии языка. Этот
поворот, естественно, слабо отразился на тех ответ-
влениях «русского формализма», которые привились
в других славянских странах, например, в Чехословакии
и Польше. Но он отчасти дал себя знать уже в книге
Ю. Н. Тынянова «Проблема стихотворного языка». Здесь
стихотворный язык представлен как динамическая кон-
струкция, характеризующаяся непрерывной борьбой раз-
ных ее факторов и элементов: звукового образа, ритма,
синтаксиса, семантики. По словам Ю. Н. Тынянова,
«единство произведения не есть замкнутая симметриче-
ская целость, а развертывающаяся динамическая целост-
ность». Динамическая форма образуется взаимодейст-
вием разных элементов словесного ряда, «выдвиганием
одной группы факторов слова за счет другой». «При
этом выдвинутый фактор деформирует подчиненные».
«Без ощущения подчинения, деформации всех факторов
со стороны фактора, играющего конструктивную роль,—
нет факта искусства»3. Любопытно, что и учение о внут-
ренней форме, об образе, переосмысленное и по-новому
освещенное в советском языкознании, позднее (в 30—
40-е годы) в отдельных случаях с ориентацией на так
называемое «новое учение о языке» академика
1 В. М. Жирмунский, Задачи поэтики, «Начала», 1921, № 1,
стр. 71.
2 В. М. Жирмунский, Задачи поэтики, «Задачи и методы
изучения искусств», Пб. 1924, стр. 149.
3 Ю. Тынянов, Проблема стихотворного языка, Academia,
1924, стр. 10.
2* 19
Н. я. Марра (Р. О. Шор, В. И. Абаев, С. Д. Кацнель-
сон), вновь, но в другом аспекте сочеталось с проблемой
поэтического языка Таким образом, с середины 20-х го-
дов текущего столетия обозначается сдвиг от футури-
стической эстетики слова в сторону социологии речи
и социальной семантики.
8
Уже в первой половине 20-х годов текущего столе-
тия намечается новый круг проблем в области изучения
языка художественной литературы и выдвигаются новые
точки зрения. Здесь — начало нового этапа в исследо-
вании вопроса о языке писателя, о языке художественной
литературы.
Раздаются голоса, что понятие поэтического языка
не исчерпывает проблемы изучения языка литературного
произведения, а тем более языка писателя. Все острее
выступает вопрос о функциях языка и его структурных
элементов, в том числе и поэтических конструкций, в раз-
ных видах литературных произведений, в разнообразных
типах жизненных высказываний, ораторских выступлений,
научных построений, публицистических рассуждений,
политической пропаганды и проч.
Эта работа по исследованию разных типов речевой
деятельности открывала новые перспективы и в области
изучения языка писателя, языка художественной лите-
ратуры.
Проблема изучения языка писателя, отделившись от
общелингвистических, теоретических исследований по
поэтическому языку, а также по стихотворному языку,
осложнилась новыми точками зрения, восходящими от-
части к В. Гумбольдту, отчасти к А. А. Потебне и его
русским продолжателям, отчасти к И. А. Бодуэну
де Куртене и сосредоточенными на идее функциональ-
ного многообразия речевых деятельностей. Разработка
вопроса о функциональных многообразиях речи в совет-
ском языкознании, в’ основном, осталась в стороне от
влияния идей В. Гумбольдта. Она получила в трудах
1 См., например, статью Г. О. Винокура, Понятие поэтиче-
ского языка, «Доклады и сообщения филологического факультета
МГУ», вып. III, 1947.
20
советских лингвистов ярко выраженную социологическую
интерпретацию и приняла совсем иное направление, чем
в работах В. Гумбольдта. Вне изучения функциональных
речевых многообразий, заявлял Л. П. Якубинский, «не-
возможно ни изучение языка, как непосредственно дан-
ного живому восприятию явления, ни уяснение его гене-
зиса, его истории» Ч
Исследование этого круга проблем направилось по
двум путям. С одной стороны, началось живое, активное
изучение функциональных разновидностей русского ли-
тературного языка и типов устнобытовой речи (речь ора-
торская, научно-логическая, разговорнобытовая и т. п.;
стили: газетный, книжно-публицистический, деловой
и т. п.). Эта сфера лингвистического изучения примкнула
к совершенно неисследованной до тех пор области
стилистики русского общелитературного языка в его
историческом движении. Становилось все более ясным,
что изучение языка писателя возможно лишь на фоне
общей истории стилей русского литературного языка.
Приобретал особенную остроту вопрос об историческом
соотношении и взаимодействии стилей общелитератур-
ного языка и языка художественной литературы.
Изучение функционального многообразия речи при-
вело к постановке вопроса о формах и типах поэтического
языка, о разновидностях литературно-художественной
речи, о жанрах языка художественной литературы.
Проблема языка писателя тесно связывалась с пробле-
мой жанров и типов речи литературных произведений.
Язык драматурга, язык лирика, язык новеллиста или ро-
маниста— различны по своему семантическому строю,
стилистическим задачам, по своим конструктивным прин-
ципам. Эти различия в значительной степени зависят от
специфических свойств разных жанров словесно-худо-
жественного творчества и разных типов художественной
речи.
В советской филологии двадцатых годов текущего
столетия обостряется интерес к исследованию стилисти-
ческих особенностей лирической и драматической речи,
повествовательно-сказовой, публицистической и т. п.
В работе «О лирике как разновидности художественной
речи» Б. А. Ларин доказывал, что «можно считать все-
1 Л. П. Якубинский, О диалогической речи. Сб. «Русская
речь», вып. I, Пг. 1923, стр. 96.
21
общим и постоянным свойством лирики в мировой лите-
ратуре— семантическую осложненность. Очень разно-
образные средства служат к ее осуществлению: выбор
многозначащих слов, плеонастическое соединение сход-
нозначных (синонимичных) речевых комплексов, сопо-
ставление сходнозвучных (омонимичных) слов, изломи-
стость речи, чисто семантические контрасты, известные
композиционные приемы; наконец смысловая многоряд-
ность вызывается иногда и без знаковых экспонен-
тов— творческой функцией лирической пьесы, то есть ее
противопоставленностью литературной традиции» Ч
Таким образом, все работы этого рода первоначально
имеют ярко выраженный теоретический уклон, они на-
правлены или в сторону теории языка художественной
литературы, эстетики слова или в сторону поэтики и
теории литературы.
Параллельно с разработкой вопроса о функциональ-
ном многообразии форм речевой деятельности и разно-
видностей литературно-художественной речи усилия
советских филологов направились на исследование
основных композиционных типов русского письменного
и разговорного языка. Академик Л. В. Щерба в своих
теоретических изысканиях о стилевой структуре русского
литературного языка всегда подчеркивал важность изу-
чения различий в строе монологической и диалогической
речи 1 2.
Профессор Л. П. Якубинский выдвинул целый ряд
интересных соображений о формах речевого высказы-
вания и подверг разностороннему анализу понятия мо-
нологической и диалогической речи. Он сопоставил диа-
лог с разговорно-бытовым шаблоном и стремился уста-
новить конструктивные и семантические своеобразия
разных родов монологической и диалогической речи, а
также разных форм их комбинированного применения
в практике общественной жизни 3.
На основе теории монолога и диалога получили но-
вое освещение вопросы о стилистической структуре сказа,
1 Б. А. Ларин, О лирике как разновидности художественной
речи. Сб. «Русская речь, Новая серия», вып. I, Л. 1927, стр. 73.
2 См. Л. В. Щерба. Восточно-лужицкое наречие, Пг. 1917;
его же, Русский литературный язык, «Русский язык в школе»,
1933, № 4.
3 Л. П. Я к у б и н с к и й, О диалогической речи.
22
о разных типах художественно-повествовательного стиля
Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Достоевского, Тургенева,
Л. Толстого, Лескова, Леонова и других русских писа-
телей XIX и XX веков.
4
В тесной связи с исследованием функционально-сти-
листического и композиционно-речевого разнообразия
литературной речи находятся работы Л. В. Щербы,
С. И. Бернштейна, А. М. Пешковского, Б. В. Томашев-
ского, В. М. Жирмунского и др., посвященные обсуж-
дению вопроса о соотношении и взаимодействии произ-
носительно-слуховых и письменно-зрительных речевых
элементов в структуре поэтического и, шире, вообще ли-
тературного произведения. Советские лингвисты в раз-
решении этого вопроса решительно выступили против
основных положений западноевропейской произноси-
тельно-слуховой филологии. Эд. Сиверс писал: «Для того,
чтобы в полной мере обнаружить свою действенность,
поэтическое произведение, оцепеневшее в письме, должно
быть вновь вызвано к жизни путем устной интерпрета-
ции, путем исполнения» Ч В том же духе высказывался
Е. Ландри: «Всякое литературное произведение создано
для определенного рода произнесения, а не для чтения
про себя»1 2. (Ср. взгляды Т. Saran’a, Е. Reinhard’a,
J. Теппег’а, W. Scripture, Р. Verrier и др.)
Взгляды, близкие к этим, первоначально развивались
и академиком Л. В. Щербой. «Всякий еще не произне-
сенный текст является лишь поводом к возникновению
того или иного явления, так как «языком» нормально
можно считать лишь то, что хотя бы мысленно произно-
сится». «Произносимый язык... имеет непосредственные
смысловые ассоциации, тогда как письмо, текст полу-
чают их лишь через его посредство. Следовательно, вся-
кий текст требует, для своего понимания, еще перевода
на произносимый язык» 3.
1 Ed. Sievers, Rhythmisch-melodische Studien, Heidelberg,
1912, S. 39.
2 Eugene Landry, La theorie du rythme et le rythme du fran-
Qais declame, Paris, 1911, p. 5.
3 Л. В. Щерба, Опыты лингвистического толкования стихо-
творений. I. «Воспоминание» Пушкина. Сб. «Русская речь», вып. I,
Пг. 1923, стр. 24—25.
23
Легко представить, к чему могло привести последо-
вательное развитие этих принципов. При такой точке
зрения правильное понимание замысла автора отождест-
влялось с правильным произнесением соответствующего
литературного произведения. Этим самым ставился знак
равенства между литературным произведением и его
воплощением в звучащей речи, его артистическим испол-
нением. Проблема драматической речи или языка дра-
матических произведений сливалась с проблемой сцени-
ческой речи. Однако Л. В. Щерба быстро- осознал одно-
сторонность слуховой филологии и возвратился к более
правильной точке зрения И. А. Бодуэна де Куртене, при-
знававшего равноправие письма и звучащей речи.
Л. В. Щерба заявляет, что «слуховой образ поэта
должен быть крайне неоднороден по своей яркости: не-
которые элементы для него выступают с большой силой,
и всякое малейшее отклонение в этой области он воспри-
нял бы крайне болезненно; другие находятся в тени,
а кое-что он почти что и не слышит, и при условии со-
хранения общей перспективы яркости готов принять раз-
ное. Такое понимание отвечало бы тому, что мы наблю-
даем вообще в языке, где мы всегда можем различать
важное, существенное и, так сказать, „упаковочный ма-
териал14» Ч
В работах А. М. Пешковского, С. И. Бернштейна,
В. М. Алексеева, Ю. Н. Тынянова, Б. В. Томашевского,
В. В. Виноградова и других были исследованы разные
виды и степени абстракции литературного текста от ма-
териального звучания. На этом фоне ярче выступили
своеобразия письменно-зрительного языка со свойствен-
ной ему системой знаков для выражения семантических
и особенно синтаксических отношений, далеко- не совпа-
дающей и даже не соотносительной с интонационно-смы-
словой системой произносительно-слухового- языка.
В советском языкознании был тонко разработан во-
прос о характере и функциях «фонических элементов
языковой системы» или «конститутивных признаков фо-
нетических явлений» в строе литературного произведе-
ния, особенно по отношению к стихотворному языку.
С. И. Бернштейн приходит к тому выводу, что «для вся-
1 Л. В. Щерба, Опыты лингвистического толкования стихо-
творений. I. «Воспоминание» Пушкина. Сб. «Русская речь», вып. I,
Пг. 1923, стр. 28.
24
кого стихотворения мыслим целый ряд не совпадающих
между собой и в то же время эстетически законных
декламационных интерпретаций... Cum grano salis, мож-
но сказать, что отношения любой декламационной интер-
претации к стиховому произведению сравнимо с отноше-
нием музыки романса к стихотворению, составляющему
его текст»1.
Проблемы, возникшие в борьбе со «слуховой фило-
логией», привели к более глубокой и широкой постановке
вопроса об интонации и ее роли в ритмо-синтаксической
структуре письменной и устной прозаической речи (см.
работу А. М. Пешковского «Интонация и грамматика»).
5
В связи с изучением композиционно-речевых систем
литературного языка и языка художественной литера-
туры находятся и исследования лингвистических разли-
чий между двумя основными категориями художест-
венной литературы — между стихом и прозой.
Для более глубокого освещения этих и других
проблем, связанных с понятиями стиха и прозы, необ-
ходимо. было подвергнуть всестороннему научному ана-
лизу «стихи и прозу с лингвистической точки зрения».
Профессор А. М. Пешковский пытался подойти к этой
области исследования со стороны обыденной разговорной
речи, ее ритмической структуры, стремясь с этих пози-
ций вникнуть в «природу ритма стихов и прозы в их
взаимной противоположности». Он положил в основу
своего исследования ритма прозы понятия о таких рит-
мических единицах, как такт, фонетическое предложение,
фонетический период. И с этой точки зрения он уста-
навливал принципиальные конструктивные различия
между стихом и прозой. Ведь «ритм тонического стиха
основан на урегулировании числа безударных слогов
1 С. И. Бернштейн, Стих и декламация. Сб. «Русская
речь. Новая серия», вып. I, Л. 1927, стр. 40—41. Ср. также
С. И. Бернштейн, Эстетические предпосылки теории деклама-
ции. Сб. «Поэтика. Временник Отдела словесных искусств Гос.
инет, истории искусств», вып. III, Л. 1927. Ср. там же статью:
С. Вышеславцева, О моторных импульсах стиха. Ср. Б. То-
машевский, О стихе, Л. 1929, стр. 45—46.
25
в такте и лишь как подсобным средством пользуется уре-
гулированием числа самих тактов в фонетических пред-
ложениях. Ритм художественной прозы, напротив, осно-
ван на урегулировании числа тактов в фонетических
предложениях и, может быть, пользуется как под-
собным средством частичным урегулированием числа
безударных слогов в такте, но во всяком случае без до-
ведения этого урегулирования до каких-либо определен-
ных схем» х. Эти принципы ритмического анализа были
затем использованы А. М. Пешковским при изучении рит-
мики «Стихотворений в прозе» Тургенева 1 2.
В статье «Ритмика «Стихотворений в прозе» Турге-
нева» А. М. Пешковский пришел к выводу, что «объеди-
нение фонетических предложений в более крупные еди-
ницы играет в ритмике художественной прозы едва ли не
большую даже роль, чем объединение тактов в фонети-
ческие предложения»3.
Односторонний схематизм этой точки зрения, игно-
рирующей сложные семантико-синтаксические и экспрес-
сивно-смысловые факторы ритма, очевиден.
Б. В. Томашевский, автор многих ценных работ
о стихе, особенно о стихе Пушкина, выдвинул понятие
«речевого колона» как основной ритмической единицы
прозаической речи. Ритм прозы есть не что иное, как
следствие синтаксического строя. «Ритм есть спектр син-
таксиса». Колон чаще всего совпадает с синтагмой, то
есть с предельной интонационно-смысловой единицей
текста. Несовпадение между ними может быть вызвано
вставками «вводных синтагм» и инверсиями слов*.
В прозе фразовое ударение определяет место ритмиче-
ского раздела. В стихотворном языке свои средства рит-
мического членения: метр, рифма, строка. «Колон как
ритмическое следствие синтаксиса в стихе вымирает».
Координация ритмического строя с синтаксическим
в стихе —это координация двух независимых величин. На
месте колона здесь выступает стиховая строка, единица
1 А. М. Пешковский, Стихи и проза с лингвистической
точки зрения, «Методика родного языка, лингвистика, стилистика,
поэтика», Л. 1925, стр. 165.
2 А. М. Пешковский, Ритмика «Стихотворений в прозе»
Тургенева, «Вопросы методики родного языка, лингвистики и сти-
листики», М.—Л. 1930.
3 Та м же, стр. 163.
26
метрическая. Колон исчезает, синтагма остается. Но на
этот раз она совершенно необязательно совпадает с рит-
мической единицей — стихом. Нередко бывает перенос
(enjambement) Ч
В последней работе Б. В. Томашевского «Стих и
язык»1 2 обобщены и систематизированы его предшест-
вующие труды по теории и истории русского стихосло-
жения. Б. В. Томашевский прежде всего подчеркивает
национальное своеобразие стихотворных систем, зависи-
мость форм стиха от «национального начала в челове-
ческой речи». Далее он переходит к вопросу о взаимо-
отношениях между стихом и прозой, опираясь на ту
аксиому, что естественная форма организованной чело-
веческой речи есть проза. По Томашевскому,—-разли-
чия между стихом и прозой заключаются в двух пунктах:
1) стихотворная речь дробится на сопоставимые
между собою единицы (стихи), а проза — сплошная
речь;
2) стих обладает внутренней мерой (ритмом), а проза
ею не обладает.
Оба эти признака не абсолютны и не дают мате-
матически точного определения отличия стиха от прозы.
Стихи и проза — не две замкнутых системы. Это два
типа, исторически размежевавших поле литературы, но
границы их размыты и переходные явления возможны.
Поэтому естественнее и плодотворнее рассматривать стих
и прозу как два полюса, два центра тяготения, вокруг
которых исторически располагались реальные факты.
Существуют два явно выраженных типа речи, обуслов-
ленные различием ее звуковой организации — стихотвор-
ная и прозаическая, и отдельные факты располагаются
так, что они примыкают либо к типу стихотворному,
либо к типу прозаическому.
Минимум звуковых условий, необходимых для пра-
вильного понимания текста и непременно соблюдаемых
при его чтении,— свойство самого этого текста. Все же,
что относится к области свободы и что повышает или
понижает выразительность звучащего текста, не меняя
его значения,— все это есть уже область декламации.
1 Б. В. Томашевский, О стихе, стр. 254—318 (ст. «Ритм
прозы по «Пиковой даме.“»).
2 Б. В. Томашевский, Стих и язык. Доклады на IV Меж-
дународном съезде славистов, Изд. АН СССР, 1958.
27
Членятся и стихи и проза, но механизм этого чле-
нения различен. В прозе отдельные члены фразы не
всегда сравнимы между собой. Градация членений вос-
принимается смутно. Выделить основную единицу не
всегда легко. Членение прозаической речи целиком опре-
деляется смысловым и синтаксическим строем и авто-
матически из него вытекает. Оно подчинено своим зако-
нам равновесия и благозвучия.
В стихотворной речи членение — сложное и разно-
степенное (стих, двустишие, четверостишие, строфа
и т. п.; ср. также полустишие). Стих обладает более
тесным единством интонации, чем высшие и низшие
доли стихотворной речи. Разные степени членения стиха
равномерны и соотносительны. Стих выделяется из це-
лого с разной степенью самостоятельности и разными
средствами. Наряду с обычными метрическими средст-
вами членения стихотворной речи существуют побочные
средства: синтаксический параллелизм, внутренняя риф-
ма, цезура с нарушением сквозного движения стоп; эти
средства могут вступать в противоречия с метром,
и в таком случае членение стихов на строки может вно-
сить сбивчивость в иерархию членений. Все стиховые раз-
меры в какой-то мере выразительны, и выбор их не без-
различен. Каждый размер имеет свой экспрессивный
«ореол», свое аффективное значение. Однако стихи опе-
рируют не просто звуками человеческой речи, но всем
богатством этих звуков в их естественной выразительной
функции. Поэзии нужны звуки, слагающиеся в слова, во
фразы, звуки, обладающие всеми свойствами человече-
ской речи; а эти свойства выработались только в ре-
зультате того, что речь служит средством общения. Сле-
довательно, ритмизуемый материал по природе своей
национален. Поэзия национальнее прозы, которая в зна-
чительной степени является простой формой сообщения
мысли, а мысль вообразима и вне рамок национальной
культуры.
Природа ритмического закона стиха определяется
сферой его применения, то есть языком. Поэтому следует
ограничить всякие аналогии стиха с музыкой. Ритмиче-
ские свойства стиха и музыки возникли на разных
основах.
Метр — это критерий отбора форм речи, совместимых
в данной стихотворной структуре. Метром называется
28
минимум условий, необходимых для стиха данного вида.
Исторически два фактора определяют метр: литературная
традиция и формы языка. Так называемая «просодия»
обусловлена свойствами самого языка, выражающимися
в структуре слова и связанными с количественными эле-
ментами звука (высотой тона, длительностью и силой).
В русском языке выразительная роль ударения двоя-
кая: с одной стороны, ударение оформляет слово,
а с другой — фразу и является элементом интонации. Для
русской метрики важно только наличие ударных слогов
на фоне безударных, вне зависимости от интенсивности
ударения. Роль ударения в метрической системе каждого
языка своеобразна, и в каждом языке вырабатывается
своя метрическая система. В прозе метр отсутствует,
хотя проза и обладает своим своеобразным ритмом.
То или иное аффективное воздействие стихотворного
ритма прежде всего зависит от интонационной струк-
туры стиха как фразовой единицы. Длинные стихи (але-
ксандрийские, гекзаметры) — примета высоких жанров,
короткие (трехстопный ямб, четырехстопный хорей) —
преимущественно принадлежат формам «низкого» стиля.
Но, естественно, один и тот же размер может звучать по-
разному. Почти каждый размер имеет несколько аффек-
тивных или экспрессивных вариантов. Каждый размер
многозначен. Но область его значений всегда ограничена
и не совпадает с областью, принадлежащей другому
размеру. Метрическая схема требует соответствующего
ей стиля произношения. Этот стиль определяется, ко-
нечно, не только метром, но и эмоциональным содержа-
нием произведения.
Исторические схемы, характерные для русского стиха
XVIII и XIX веков, делятся на два класса: на двухслож-
ные (ямбы и хореи) и трехсложные. Но помимо этих
форм намечаются и формы чистого разговорного стиха,
лежащего за пределами двухсложных и трехсложных
схем и представленного поэзией XX века (типичнее всего
у Маяковского, но далеко не во всех его произведе-
ниях) Ч
Итак, ритм стиха строится на природе самого языко-
вого материала и мобилизует именно его выразительные
1 См. также рецензию Б. В. Томашевского на книгу: В. О. U п-
b е g а и п, Russian versification,- Oxford, 1956, в журнале «Вопросы
языкознания», 1957, № 3, стр. 127—134.
29
свойства. Стихотворный размер содействует типизации
стиля произношения. То, что неотчетливо разграни-
чено в прозаической речи, получает ясное разграниче-
ние под влиянием стихотворного ритма. Выразительные
средства языка как бы концентрируются. Интонацион-
ный строй речи, нейтрализованный в прозе, приобретает
в стихах свое своеобразие и предельную выразитель-
ность. Поэзия остается всегда наиболее национальной
формой искусства.
Профессор Л. И. Тимофеев с точки зрения своего по-
нимания ритма и стихотворной речи как речи, ритми-
чески формируемой двумя видами функционально раз-
личных ударений (одно — вместе с паузой — отграничи-
вает стих, строку, как ритмическую единицу, это —
константа, и другое — внутреннее — определяет конкрет-
ную систему стиха), отрицает вообще наличие особого
ритма в прозе или ритма прозы. В прозе несоизмеримы
ни речевые такты, ни фонетические предложения, ни
крупные интонационные отрезки. В ней нет единиц, кото-
рые периодически бы повторялись. «Таким образом в
прозе нет условий, необходимых по существу для возник-
новения ритма» Это не значит, конечно, что в художест-
венной прозе нет организованности, отличающей ее от
обычной речи. Но своего ритма у прозы нет, и когда он
ей нужен, она вынуждена «занимать» его у стиха.
Правда, и «специфика стиха не сводится к ритму. Лишь
при условии единства экспрессивной интонации как до-
минанты речи и ритма мы можем говорить о стихе»1 2.
«Стих только усиливает те тенденции, которые наличест-
вуют в языке» 3. «В художественной литературе одной из
существенных функций языка является изображение
характера»4. Поэтому соответствие ритма и интонации
в стихе формируется «на основе их непрерывного взаимо-
действия, путем возникновения определенных интонаци-
онно-эмоциональных особенностей речи, вытекающих из
данного состояния характера» 5.
1 Л. И. Тимофеев, Проблемы стиховедения, Материалы к
социологии стиха, стр. 97.
2 Л. И. Тимофеев, Очерки теории и истории русского стиха,
М. 1958, стр. 41.
3 Т а м же, стр. 72.
4 Т а м же, стр. 73.
5 Т а м же, стр. 177.
30
Вопрос о взаимодействии категорий стиха и прозы
в истории стилей русской художественной литературы,
вопрос о развитии переходных форм между стихом и
прозой в русской литературе XVIII и XIX веков —все
это вызывало острый интерес русских филологов. Так,
в 1928 году целый сборник «Ars poetica», включивший
в себя исследования Б. И. Ярхо, Л. И. Тимофеева
и М. П. Штокмара о силлабическом стихе, о вольном стихе
XVIII и XIX веков, о свободных звуковых формах
у Пушкина, о’ ритмической прозе начала XVIII века
и о ритмической прозе «Островитян» Н. С. Лескова, ставил
своей задачей «разобраться в этом бесконечном море пе-
реходных форм, хотя бы в пределах русского языка, клас-
сифицировать эти формы, определить их ряд и место в
этом ряду» L В сборнике описано — и притом без глубо-
кого стилистического и семантического анализа — лишь
некоторое число обследованных форм то на примерах от-
дельных произведений (рифмованная проза, «роман в
стихах», ритмическая проза Н. Лескова), то на более об-
ширном материале. Описание форм производилось глав-
ным образом в теоретическом аспекте; историческое осве-
щение не составляло основной задачи и давалось лишь
попутно. Широко применялся статистический метод.
Интересные и ценные исследования русского стиха,
стихотворного ритма, стиховой мелодики, систем русского
стихосложения в их историческом движении, принадле-
жащие Б. В. Томашевскому, И. Н. Розанову, Б. М. Эй-
хенбауму, В. М. Жирмунскому, Ю. Н. Тынянову,
С. М. Бонди, Л. И. Тимофееву, М. П. Штокмару
и другим, продолжающиеся до последних лет, много
содействовали уяснению различий в ритмической и инто-
национно-синтаксической структуре стихотворного и
прозаического языка, а также между различными видами
стиха и стихотворной речи. Вместе с тем работы о ритме
и строе прозы (так же, как и некоторые работы о стихо-
творном языке) представляют большой лингвистический
интерес и потому, что в них раскрывались некоторые
новые черты теории синтагм. Эта часть синтаксиса у нас
почти совсем не разработана. Между тем понятие син-
тагмы— основное понятие стилистического синтаксиса,
1 «Ars poetica», вып. II, Стих и проза. Изд. Акад, худож. наук.
М. 1928, стр. 8.
31
и сама синтагма как синтаксическая единица может
быть вполне определена лишь в результате тщательных
стилистических исследований синтаксического строя раз-
ных литературных произведений. Изучение конструктив-
ных различий между категориями стиха и прозы со-
действовало тому, что в советской филологии твердо
укрепилась мысль о необходимости строго дифференциро-
ванного подхода к изучению языка стихотворных и про-
заических произведений. Теоретические и методические
принципы анализа стихотворного языка поэтов подвер-
гались с самого начала более широкой и разносторонней
разработке. Именно сюда были направлены основные
интересы таких советских филологов и лингвистов, как
академик Л. В. Щерба, Л. П. Якубинский, Б. В. Тома-
шевский, Ю. Н. Тынянов, Г. О. Винокур, Л. И. Тимофеев,
С. М. Бонди, М. П. Штокмар и др. Ведь даже вопросы
стиховой семантики, вопросы изучения слова в стихе,
поэтической фразеологии, поэтической образности и во-
просы изучения синтаксического строя стихотворных
произведений (ср. опыты толкования стихотворений
Л. В. Щербы; ср. исследования Н. С. Поспелова о син-
таксическом строе языка Пушкина и др.) своеобразно ос-
вещались советскими филологами. Здесь установились
новые точки зрения на семантическое взаимодействие
ритма и синтаксиса, на принципы синтаксического члене-
ния стиха, на соотношение разных синтаксических единиц
и единств в строе стиха, на некоторые семантические свое-
образия стихового словоупотребления 1 и т.- п. Сделано
многое, но еще больше предстоит сделать. Необходима
активизация работ в этой области стилистики художест-
венной литературы. Нас должен воодушевить пример
польских и чешских филологов, достигших за последние
годы больших и интересных результатов в области изуче-
ния развития славянских систем стихосложения на почве
отдельных славянских национальных литератур.
1 См. Ю. Н. Тынянов, Проблема стихотворного языка, Л.
1924; Л. И. Тимофеев, Проблемы стиховедения; его же, Теория
стиха, М. 1939; Г. О. Винокур, Слово и стих в «Евгении Онегине»
Пушкина. Сб. «Пушкин», М. 1940; Б. В. Томашевский, Рит-
мика «Горе от ума» Грибоедова. Сб. «Грибоедов», М. 1946;
Н. С. Поспелов, Синтаксический строй поэмы Пушкина «Мед-
ный всадник». «Доклады и сообщения филологического факультета
МГУ», вып. I, 1946, и др.
32
6
Во второй половине 20-х, в начале 30-х годов на
основе учения о функциональном многообразии речи вы-
двигается как главная база изучения языка писателя
и языка художественной литературы — «наука о речи
литературных произведений». Сюда относилось прежде
всего учение о разных композиционных типах речи
в языке художественной литературы, об их структурных
отличиях, об их лексико-фразеологических и синтаксиче-
ских своеобразиях, об их семантическом и стилистиче-
ском строе. Этот раздел охватывает проблемы типологии
основных композиционно-речевых систем художественной
литературы в статическом и историческом разрезе, изу-
чение разных видов монологической и диалогической
речи в художественной литературе, их состава, прин-.
ципов их построения, употребления и смешения в разных
литературно-художественных произведениях — прозаиче-
ских и стихотворных. Типы монолога и диалога опреде-
ляются жанрово-стилистическими различиями (монолог
ораторский, повествовательно-книжный, сказовый, сти-
ховой и т. п.). В их строе смешиваются элементы пись-
менной речи и разных стилей, а иногда и диалектов
и жаргонов живой разговорной народной речи. Особенную
значительность приобретает — в связи с этим — вопрос
о соотношении и взаимодействии композиционно-худо-
жественных типов речи с разновидностями общелитера-
турного языка или устнобытовой разговорной речи.
Этот вопрос неразрешим без обращения к проблеме со-
циально-речевой и стилистической структуры образа
персонажа, а также литературной личности автора *.
В этом кругу исследования особенно ясно и остро обна-
руживается тесная связь и взаимодействие между исто-
рией языка литературно-художественных произведений
и общей историей литературного и народно-разговорного
языка.
Вопрос о различиях диалогической речи в строе но-
веллы, романа и драмы приводит к более глубокому
пониманию существа драматической речи, а теория дра-
1 См. В. В. Виноградов, К построению теории поэтического
языка. Учение о системах речи литературных произведений. Сб.
«Поэтика», вып. III, Л. 1927, стр. 5—24.
33
матической речи ложится в основу изучения языка
драматургии. Выдвигается принцип, что язык писа-
теля должен исследоваться в двух — взаимосвязанных
и взаимодействующих — контекстах: в контексте нацио-
нально-литературного языка и его стилей и в контексте
языка художественной литературы с ее жанрами и сти-
лями. «Изучение языка литературного сочинения должно
быть одновременно и социально-лингвистическим и ли-
тературно-стилистическим» Ч Язык писателя, с одной
стороны, рассчитан на понимание его в плане языка чи-
тателя, то есть в плане общелитературного языка и его
норм; а с другой стороны, язык писателя подчинен тем
категориям литературного искусства, которые опреде-
ляют строй художественной литературы той или иной
эпохи, будучи обусловлены, в свою очередь, социально-
политическими и идеологическими потребностями обще-
ства и его разных классов и групп.
Вопрос о соотношении и взаимодействии общих со-
циально-языковых форм и категорий с формами и кате-
гориями художественной стилистики в строе литератур-
ного произведения тесно связан с принципиальным раз-
граничением понятий языка и стиля, с разграничением
задач изучения литературного языка и — соответствен-
но — языка литературного произведения соотносительно
со стилем литературного произведения и вместе с тем
с разграничением целей и принципов литературоведче-
ского и чисто лингвистического исследования стилей
художественной литературы. В этой связи приобретал
особенное значение вопрос о типах структур литератур-
ных произведений как словесно-художественных единств,
о взаимодействии и соотношении элементов внутри худо-
жественного целого. Все эти проблемы могли исследо-
ваться и разрешаться или с помощью теоретических
разысканий в области художественной стилистики или
эстетики слова на базе марксистско-ленинской филосо-
фии, или посредством образцов конкретного анализа
языка и стиля отдельных произведений, или путем син-
теза того и другого способа исследования.
Советские филологи пошли по всем этим трем путям.
Прежде всего почувствовалась острая нужда в образцах
1 В. В. Виноградов, О художественной прозе, М.—Л. 1930,
стр. 29.
34
лингвистического анализа литератур но-художественного
произведения. Советское языкознание очень быстро от-
кликнулось на эти запросы общества. Своеобразные ме-
тоды лингвистического толкования стихотворений были
выдвинуты и разработаны академиком Л. В. Щербой.
Правда, Л. В. Щерба не ставил перед собой задачи
раскрыть индивидуальный стиль писателя. Он стремился
«к разысканию тончайших смысловых нюансов отдель-
ных выразительных элементов русского языка» в стихах
Пушкина и Лермонтова. Средство к этой цели — тща-
тельный анализ произношения стихотворного текста, его
ритмики, его синтаксического членения и синтаксического
строя, стилистических оттенков разных конструкций, раз-
ных вариаций словорасположения, значений и экспрес-
сивно-стилистических оттенков слов. Сначала предла-
гается общий ясный очерк построения стихотворения
в целом, соотношения и взаимодействия его частей1.
Впрочем, художественное произведение как бы выносится
Л. В. Щербой из исторической галереи литературы, из-
влекается из современного ему контекста литератур-
ного языка и стилей художественной литературы. Формы
и элементы языка и стиля литературного произведе-
ния рассматриваются, истолковываются и оцениваются
с точки зрения современного лингвистического вкуса
и притом с очень яркой индивидуальной окраской.
В работе В. В. Виноградова «О задачах стилистики.
Наблюдения над стилем „Жития протопопа Аввакума“»
была сделана попытка наметить методику стилистиче-
ского анализа прозаического литературного произведения.
По мнению автора, лингвист должен изучать литератур-
но-художественный памятник не только как материал для
истории общелитературного языка и его стилей, но и как
выражение индивидуального стиля. Индивидуальный
стиль — это «система эстетически-творческого подбора,
осмысления и расположения» разных речевых элементов.
Индивидуальный стиль может стать основой стиля целой
литературной школы, а затем явления этого стиля не-
редко распадаются и способствуют укреплению разных
1 Л. В. Щерба, Опыты лингвистического толкования стихо-
творений, I, «Воспоминание» Пушкина. Сб. «Русская речь», вып. I,
Пг. 1923. Ср. его же, «Сосна» Лермонтова в сравнении с ее не-
мецким прототипом, «Советское языкознание», т. II, Л. 1936.
3b
шаблонов в системе общелитературного языка. Отсюда,
по мнению автора, необходимо отличать от учения о сти-
лях литературного языка учение о стилях художественной
литературы и прежде всего об индивидуальных стилях
писателей.
Понятно, что стилистика общелитературного языка
«образует фон, на котором воспринимается своеобразие
поэтического языкового творчества» х.
Выделяются два раздела стилистики: символика
и композиция. В первом изучается система «символов»,
то есть образно-фразеологическая система, способы худо-
жественной трансформации выражений, приемы их инди-
видуального употребления и осмысления, принципы их
семантической группировки. Во втором — в компози-
ции — изучаются принципы расположения слов, правила
и стилистические функции их синтаксических соединений,
а также приемы сцепления и сопоставления синтакси-
ческих целых. В этом плане и исследуется стиль «Жития
протопопа Аввакума».
Несколько позднее выступил профессор А. М. Пеш-
ковский с своей программной статьей «Принципы и
приемы стилистической оценки художественной прозы» 1 2.
А. М. Пешковский, защищая метод стилистического
эксперимента «в смысле искусственного придумывания
стилистических вариантов к тексту», предлагал вести
лингвистический анализ литературно-художественного
произведения по такой системе и в таком порядке:
а) Сначала исследуется звуковая сторона текста —
звуки безотносительно к содержанию, благозвучие, бла-
гопроизносимость; а также звуки в соотношении с со-
держанием — звукоподражание, звуковой символизм,
произносительное подражание.
б) Затем — ритм: благоритмика, зависящая от вы-
держанности ритмических колебаний в тех или иных
измеренных пределах, от урегулированного чередования
слабых и сильных тактов, слабых и сильных фонетиче-
ских предложений, а также от тактовых концовок и за-
чинов, и экспрессивно-смысловой строй ритмико-мелоди-
1 Сб. «Русская речь», вып. I, Пг. 1923, стр. 201.
2 «Ars poetica», вып. I, М. 1927. Ср. также перепечатку этой
статьи в сборнике: А. М. Пешковский, Вопросы методики род-
ного языка, лингвистики и стилистики, Л. 1930.
36
веских вариаций и фигур речи. Сюда примыкает изучение
характера и смысла звуковых повторов.
в) Далее идут наблюдения над мелодией речи. «Мы
все,— говорит А. М. Пешковский,— непосредственно
чувствуем, что мелодия — это тот фокус, в котором
скрещиваются и’ритм, и синтаксис, и словарь, и все так
называемое «содержание», что, читая, например, Чехова
(и притом не отдельные места и не отдельные произве-
дения, а всего характерного Чехова), мы применяем
одну мелодическую манеру чтения (сдержанно-грустно-
заунывной назвал бы я ее), читая Гаршина — другую
(трагически-заунывную), читая Л. Толстого — третью
(основоположнически-убеждающую), читая Тургенева —
четвертую (специфически-повествовательную) и т. д.,
и т. д. Если справедливо, что «человек — это стиль», то
не менее справедливо, что „стиль — это мелодия"».
Однако ухватить этот основной стержень, по мнению
А. М. Пешковского, «при современном состоянии разра-
ботки вопроса нельзя».
г) ВобластиграмматикиА.М. Пешковский при изуче-
нии языка художественной прозы придает особенно важ-
ное значение вопросам грамматической синонимики —
как морфологической, так и синтаксической. «В стихо-
творном стиле признается, правда, принцип граммати-
ческой симметрии, так что получается область промежу-
точная между грамматикой и ритмикой. И действитель-
но, для стиха, с его специфически-измененным поряд-
ком слов, с его нередко нарочитой грамматической риф-
мой, этот принцип является существенным (восторженных
похвал пройдет минутный шум; флаги пестрые судов —
песни дружные гребцов; да ветвь с увядшими листами —
струился хладными ручьями и т. д.). Но в прозе, где нет
этих причин, нет и их следствий». При стилистическом
анализе прозы «должны изучаться и сравниваться не
грамматические значения вообще, а лишь грамматические
синонимы, то есть значения слов и сочетаний, близ-
кие друг к другу по их грамматическому смыслу». Так,
в области морфологии сюда пойдет синонимика разных
форм одного и того же падежа (сыра — сыру; аптекари —
аптекаря и т. п.), синонимика кратких и полных форм
имени прилагательного в предикативном употреблении
и т. п. Здесь стилистические оттенки форм могут иметь
37
окраску народности, литературной отвлеченности, архаич-
ности, вульгарности и т. п.
Синонимика форм словообразования может быть от-
несена и к разделу словаря.
д) Особенно разнообразны и богаты стилистические
возможности синонимического употребления в синтаксисе.
Пешковский указывает для примера 32 синонимических
типа разных синтаксических конструкций. Главной со-
кровищницей синтаксической синонимики русского языка
являются вариации словорасположения, свободный поря-
док слов русского языка. «Особую главу синтаксического
отдела, тесно связанную с ритмическим, составили бы
анализ и оценка построения периодов».
е) В области словаря задача исследования состоит в
стилистической оценке каждого слова текста, которая, по
мнению А. М. Пешковского, «сведется к констатирова-
нию органичности или неорганичности данного слова в
общей словесной массе произведения», к незаменимости
или заменимости его синонимами. Важны также изуче-
ние и оценка пропорциональности в строе образов про-
изведения. По словам А. М. Пешковского, «чем писатель
экономнее в образах, тем сильнее они, при прочих равных
условиях, действуют на читателя».
Вместе с тем А. М. Пешковский считает совершенно
недопустимым злоупотребление словом «образ», продол-
жающееся кое-где и поныне, из-за которого поэтическим
образом считается только то, что выражено переносным
значением слова (троп) или специальным лексико-синтак-
сическим приемом (фигура). «Во всем «Кавказском
пленнике» Л. Толстого,— заявляет А. М. Пешковский,—
я нашел только одну фигуру (сравнение, притом совер-
шенно не развитое) и ни одного тропа (кроме, конечно,
языковых). Однако, как бы ни относиться к этого рода
творчеству Л. Толстого, невозможно отрицать образности
этого произведения и выбрасывать его за пределы худо-
жественной прозы. Очевидно, дело не в одних образных
выражениях, а в неизбежной образности каждого слова,
поскольку оно преподносится в художественных целях,
поскольку оно дается, как это теперь принято говорить,
в плане общей образности... Специальные образные вы-
ражения являются только средством усиления начала
образности, дающими в случае неудачного применения
даже более бледный результат, чем обычное употребле-
38
ние слова. Другими словами, «образное» выражение мо-
жет оказаться бледнее безобразного».
Легко заметить, что рекомендуемые А. М. Пешков-
ским приемы и принципы стилистического анализа лите-
ратурного текста лишены историзма. Они ориентируются
на живое тонкое чутье современного' русского языка и
исходят из субъективных лингвистических вкусов наблю-
дателя.
Были и иные попытки подхода к изучению языка пи-
сателя.
Дальнейшим развитием взглядов В. В. Виноградова
на задачи и методы изучения языка и стиля прозаиче-
ских произведений явилась его книга «О художественной
прозе» (1930). Но и в этой работе еще недостаточно учи-
тываются общественно-идеологические основы индивиду-
ально-художественной стилистики.
Здесь ставится на широкой исторической основе проб-
лема соотношения и связи поэтики и риторики. Художе-
ственное отражение или воплощение действительности
всегда связано с проникающей или пронизывающей весь
художественный замысел задачей — склонить читателя в
сторону того или иного понимания, той или иной оценки
разных сторон воспроизводимой действительности, воз-
действовать на читателя и направить его чувства и сим-
патии в соответствии с идейной концепцией писателя.
Для достижения этой цели применяется богатый арсенал
средств речевой выразительности, своеобразная система
построения речи, изложения мыслей по законам экспрес-
сивного восприятия читателей. В качестве объекта иссле-
дования этой области стилистики выбраны речь Спасо-
вича по делу Кронеберга (об истязании малолетней до-
чери) и отклики на нее и на все это происшествие в
«Дневнике писателя» Ф. М. Достоевского п в «Недокон-
ченных беседах» М. Е. Салтыкова-Щедрина. Основная
цель примененного здесь метода сопоставительного сти-
листического анализа — показать разнообразие приемов
и принципов сочетания и синтеза форм художественного
и публицистического воплощения действительности в
русской литературе второй половины XIX века.
В книге «О художественной прозе», между прочим,
констатируется: «Детальных исследований по языку ли-
тературных произведений у нас нет. История литера-
туры, понимаемая как история словесного искусства,
39
строится на песке «стилистических» рассуждении и за-
меток в полном отрыве от истории русского литератур-
ного языка»1.
Таким образом, в лингвистическом плане проблемы
изучения языка литературного произведения и языка
писателя все органичнее связываются с задачей построе-
ния полной истории русского литературного языка и ис-
тории стилей русской художественной литературы. До
первой половины 30-х годов текущего столетия работы
по истории русского литературного языка XVIII—
XIX веков почти совершенно отсутствовали.
Необходимость расширения научно-исследователь-
ских интересов в этом направлении становилась все бо-
лее очевидной в конце 20-х, начале 30-х годов нашего
века.
В книге «Культура языка» профессор Г. О. Винокур
связывает стиль художественной прозы Пушкина с его
эпистолярным стилем. Ему кажется возможным «в объ-
яснении пушкинского прозаического языка выйти за пре-
делы собственно литературного материала и оценить
возможное значение прозы Пушкина с точки зрения
культуры языка»1 2. Письма Пушкина «были для Пуш-
кина не только деловой или дружеской перепиской, но
и отчетливым творческим заданием в области письмен-
ного слова» 3. Этот переход от эпистолярной речи к соб-
ственно художественным жанрам был легко возможен
уже потому, что художественная проза еще раньше
пользовалась эпистолярным стилем и допускала эписто-
лярные жанры. Фраза и синтаксическая композиция
письма и тут и там были однородны. Следовательно,
можно утверждать, что, например, пушкинский роман в
письмах в эмбрионе существовал задолго до того в реаль-
ных, бытовых письмах Пушкина 4.
Иные образцы стилистического анализа, носящие пе-
чать влияния отчасти традиционной теории словесности,
отчасти новых теорий в области изобразительного искус-
ства, но зато богатые сравнительно-историческим и
историко-литературным материалом, были представлены
1 В. В. Виноградов, О художественной прозе, стр. 26.
2 Г. О. Винокур, Культура языка, М. 1929, стр. 291.
3 Т ам же, стр. 292.
4 Т ам же, стр. 295, 299.
40
в статье В. М. Жирмунского «Задачи поэтики» У Под-
вергнув стилистическому анализу два стихотворения
Пушкина и отрывки из описания природы у Тургенева,
Л. Толстого и Гоголя, В. М. Жирмунский приходит к
общему типологическому противопоставлению двух сти-
лей: метонимического стиля классицизма — веществен-
но-логического, понятийного и метафорического стиля
романтизма — напевного, эмоционального. Это типоло-
гическое противопоставление классического и романти-
ческого стиля, как и указывает сам В. М. Жирмунский,
до некоторой степени могло бы быть аналогично об-
щему противопоставлению основных стилей в изобрази-
тельном искусстве, например, противопоставлению стиля
ренессанса и барокко (в книге Вельфлина «Kunsthisto-
rische Grundbegriffe»). В своих анализах В. М. Жир-
мунский далеко уходит от лингвистического метода в
собственном смысле этого слова, расширяя понятие сти-
ля до представления о «единстве приемов поэтического
произведения», охватывающем стилистику, тематику и
композицию.
В многочисленных попытках лингво-стилистического
и стилистико-литературоведческого исследования от-
дельных литературных произведений или творчества пи-
сателя в целом, продолжающихся и поныне, сразу же
обнаружились резкие теоретические и методические про-
тиворечия и расхождения. С одной стороны, смысловая
структура сложного словесно-художественного целого
иногда как бы выпадала из поля зрения лингвиста при
его стремлении не выходить из строгих рамок чисто
языковых — грамматических и лексических — терминов и
категорий: за деревьями лингвист не видел леса. С дру-
гой стороны, при желании охватить композицию литера-
турного произведения в целом невольно привносились
литературоведческие понятия и категории, стилистиче-
ский анализ подменялся или прерывался'анализом идео-
логическим, и возникала пестрая смесь лингвистических
представлений с литературоведческими. Чаще же всего
происходило более или менее механическое присоедине-
1 Эта статья первоначально напечатана в журнале «Начала»
(1921, № 1), в переработанном виде —в сборнике «Задачи и ме-
тоды изучения искусств» (Academia, 1924), а также в сборнике
статей В. М. Жирмунского «Вопросы теории литературы» (Aca-
demia, Л. 1928).
41
ние замечаний по языку писателя к общей литературо-
ведческой характеристике его образов и тематики, бес-
порядочно перемешанных с разрозненными наблюде-
ниями над его «стилем» и идейным замыслом.
Смешению приемов и задач историко-литературного
и историко-лингвистического исследования в области
изучения языка и стиля писателя способствовало укоре-
нившееся у нас искусственное и насильственное приспо-
собление поэтики к лингвистике.
«Поскольку,— писал В. М. Жирмунский,— материа-
лом поэзии является слово, в основу систематического
построения поэтики должна быть положена классифика-
ция фактов языка, которую дает нам лингвистика.
Каждый из этих фактов, подчиненный художественному
заданию, становится, тем самым, поэтическим при-
емом. Таким образом, каждой главе науки о языке
должна соответствовать особая глава теоретической
поэтики» х.
И далее перечисляются разделы лингвистической
поэтики. При этом обычно смешиваются два термина:
«тема» и «значение». «К семантике относится прежде
всего изучение слова, как поэтической темы. Каждое
слово, имеющее вещественное значение, является для
художника поэтической темой». Сюда же примыкает
исследование «приемов группировки словесных тем (се-
мантических групп)»: явлений повторения, параллелиз-
ма, контраста, сравнения, приемов развертывания мета-
форы и т. д.1 2. Область поэтической тематики в этом
понимании расширялась до такой степени, что включала
в себя и изучение мотивов и приемов сюжетосложения.
Ведь «в поэзии самый выбор темы служит художествен-
ной задаче, то есть является поэтическим приемом: гово-
рит ли автор о мечтательной Татьяне или выбирает
своим героем Чичикова, изображает ли скучную кар-
тину провинциального быта, или романические подвиги
1 В. М. Жирмунский, Задачи поэтики, «Вопросы теории
литературы», Л. 1928, стр. 39.
2 Та м же, стр. 42—43.
42
и приключения благородных разбойников, все это для
поэтики — приемы художественного воздействия, кото-
рые в каждой эпохе меняются и характерны для ее поэ-
тического стиля» Ч
«Надлежит рассматривать как тему каждый мотив,
которым пользуется поэт в смысловой композиции худо-
жественного целого. Характерно, что столь существен-
ное для литературы понятие о поэтических жанрах как
об особых композиционных единствах связано в поэзии
(как и в живописи) с тематическими определениями:
героическая эпопея и лирическая поэма, ода и элегия,
трагедия и комедия отличаются друг от друга не только
по своему построению, но имеют каждая свой характер-
ный круг тем»1 2.
Отождествление тематики с поэтической семантикой
приводило к смешению и даже слиянию других разделов
поэтики с лингвистическими дисциплинами. «В поэтиче-
ском произведении,— писал В. М. Жирмунский,—его
«тема» не существует отвлеченно, независимо от средств
языкового выражения, а осуществляется в слове и под-
чиняется тем же законам художественного построения,
как и поэтическое слово»3. «Соответствие тематического
построения с композицией ритмических и синтаксиче-
ских единиц особенно характерно как признак художе-
ственного развертывания темы: отдельные частные темы
связаны между собою смысловым параллелизмом, кото-
рому... соответствует параллелизм языковых форм в об-
ласти ритма и синтаксиса»4.
Особенно тесно сближались лингвистический и лите-
ратуроведческий подходы к разрешению проблем худо-
жественной характерологии, композиции, а также образ-
ности. Изучение построения характера персонажа, изуче-
ние экспрессивно-речевой структуры «образа автора»
далеко не всегда исходило из стилистического анализа
самой словесной ткани литературного произведения. На-
против, чаще всего общая идеологическая, культурно-
историческая и общественно-политическая интерпретация
1 В. М. Жирмунский, Задачи поэтики, «Вопросы теории
литературы», стр. 44—45.
2 Е г о же, К вопросу о «формальном методе», там же,
стр. 169—170.
3 Е г о же, Задачи поэтики, там же, стр. 37—38.
4 Т а м же, стр. 38—39.
43
художественного образа лишь иллюстрировалась приме-
рами речи соответствующего литературного героя. Вместе
с тем сама проблема композиции литературного произве-
дения приобретала гибридное, полулингвистическое,
полулитературоведческое разрешение. С одной стороны,
применялись приемы семантического и синтаксического
анализа частей литературного произведения, отдельных
приемов словесных сцеплений. А с. другой стороны, «су-
ществуют такие элементы поэтического произведения,
которые, осуществляясь в материале слова, не могут
быть исчерпаны словесно-стилистическим анализом»х.
Например, «принцип параллелизма, осуществляющийся
в ритмическом, синтаксическом и смысловом соотноше-
нии соседних стихов («Стелется и вьется по лугам трава
шелковая. Целует, милует Михайло свою женушку»),
может быть развернут в романе и повести как паралле-
лизм картины природы и душевного настроения героя
(ср. описание грозы в «Фаусте» Тургенева)»1 2. У неко-
торых литературоведов есть вообще склонность рассмат-
ривать язык литературного произведения и язык писа-
теля лишь как совокупность или сумму речевых средств
изображения действительности и ее характеров. По сло-
вам профессора Л. И. Тимофеева, «характер (как про-
стейшая единица художественного творчества) и есть
то целое, в связи с которым мы можем понять те сред-
ства, которые использованы для его создания, то есть
язык и композицию»3. Только от характера литературо-
вед может идти к пониманию всех средств художествен-
ного изображения. Анализ характеров будто бы уясняет
все языковые и композиционные формы литературного
произведения. От различий методов обрисовки характе-
ров— лирического, эпического и драматического — за-
висят различия жанров литературной художественной
речи. «В литературном произведении язык людей, в нем
изображенных, прежде всего мотивирован теми харак-
терами, с которыми он связан, свойства которых он ин-
1 В. М. Жирмунский, Задачи поэтики, «Вопросы теории
литературы», стр. 45.
2 Т а м же, стр. 45—46.
3 Л. И. Тимофеев, Теория литературы. Основы науки о ли-
тературе, М. 1945, стр. 99 (ср. Л. Тимофеев, Стихи и проза, М.
1938).
44
дивидуализирует». «Характер переходит в язык» \ опре-
деляя его особенности. «Язык есть часть характера».
Ведь языковые особенности литературного произведе-
ния «художественно мотивированы теми характерами,
которые в нем изображены»1 2. «Если речь персонажей
индивидуализирована соответственно каждому данному
характеру, то и речь автора в силу этого имеет индиви-
дуализированный оттенок. Поскольку язык есть... практи-
ческое сознание человека, часть его характера, то эта
индивидуализированность авторской речи создает пред-
ставление о новом своеобразном характере, о самом по-
вествователе, который и выражает собой авторское от-
ношение к жизни» 3. Итак, сама авторская речь, являю-
щаяся тем цементирующим материалом в языковой
структуре произведения, который обусловливает его худо-
жественное единство, представляет собой «раскрытие
определенного характера, характера повествователя как
определенного типа». В статье талантливого публициста
или в речи яркого оратора, мы также «имеем дело с ярко
индивидуализированною речью, но речью, которая пред-
ставляет собой непосредственное проявление яркой
индивидуальности, яркого характера как личности. Она
не ставит себе задачей раскрытие характера как обобще-
ния, как художественного факта: она представляет собой
проявление характера как факта жизни, а не как факта
искусства»4.
Л. И. Тимофеев утверждал даже по отношению к
любому лирическому произведению: «Ничего — кроме
образа, то есть, точнее, системы образов, в литературном
произведении нет, так как в нем дана вся классовая
действительность,— но через образ, в образе»5. Самый
стиль — это тоже «система образов»6, индивидуальная,
своеобразная, отличная от других. «Поэтический язык —
это прагматический язык в его особой функции — объек-
тивации образа»7. В этохм плане стихи, проза —одно и
1 Л. И. Тимофеев, Теория литературы. Основы науки о ли-
тературе, М. 1945, стр. 120.
2 Т а м же, стр. 126.
3 Т а м же, стр. 131.
4 Там же, стр. 133.
5 Л. И. Тимофеев, Проблемы стиховедения, стр. 15.
6 Т а м же, стр. 16.
7 Т а м же, стр. 18.
45
то же. «И стих и проза в одинаковой мере находятся в
пределах стилевой тематики, и здесь отдифференциро-
вать их друг от друга невозможно» L Языковая оболоч-
ка, выразительные речевые средства — это лишь как бы
внешняя форма образности. Так «изолированное от
стиля, то есть от образа, изучение только стиха ничего
нам дать не может»1 2. Изучение языка писателя даже
как бы отрицается. «Дело в том, что запас выразитель-
ных средств, находящийся в распоряжении данного
стиля, очень ограничен, прежде всего, языком. Каждый
вновь возникающий литературный стиль не может каж-
дый раз заново находить и создавать новые средству
выражения, несмотря на новое социальное содержа-
ние— он только заново комбинирует бывшие и до него
элементы (определенные во многом постоянным соста-
вом языка), давая им новое функциональное значение
(см. Н. N ewbolt A New Study of English Poetry. Lon-
don, 1919), по-новому их сочетая и приспосабливая к
новым стилевым задачам, меняются не столько самые
элементы выразительных средств, сколько «принцип по-
строения» их, „способ сочетания"»3. «Новая система об-
разов создавала новую систему выражения» 4.
В работе «Проблемы теории литературы» Л. И. Ти-
мофеев дает несколько иную формулировку тех же мыс-
лей о зависимости языка от образа в структуре литера-
турно-художественного произведения. «Язык художе-
ственно-литературного произведения может быть понят
лишь в связи с той образной системой, которая лежит в
основе произведения. Она определяет мотивировку и от-
бор лексических, интонационно-синтаксических, звуко-
вых средств, при помощи которых создается тот или иной
образ. В этом смысле язык есть форма по отношению к
образу, как образ есть форма по отношению к идейному
содержанию произведения» 5.
Л. И. Тимофеев, утверждая, что язык мотивируется
образной системой, предполагает или предлагает такую
цепь зависимостей и соотношений: «...идея и тема опре-
1 Л. И. Тимофеев, Проблемы стиховедения, стр. 20.
2 Т а м же, стр. 22.
3 Т а м же, стр. 23.
4 Т а м же, стр. 110.
5 Л. И. Тимофеев, Проблемы теории литературы, М. 1955,
стр. 79.
46
деляют выбор характеров, характеры определяют выбор
сюжетных ситуаций, состояние характеров, обусловлен-
ное сюжетной ситуацией, определяет выбор тех или иных
языковых средств для его конкретизации»1.
Нелингвистическому, внесловесному культурно-исто-
рическому или социально-психологическому представле-
нию о характере, об образе, об отвлеченном содержании
литературного произведения, типичному для литературо-
ведческой поэтики и методической практики, А. М. Пеш-
ковским еще в статье «Принципы и приемы стилистиче-
ского анализа и оценки художественной прозы» была
противопоставлена оригинальная семантическая теория
образности. По мнению А. М. Пешковского, каждое сло-
во участвует в образности литературного произведения.
Образность — это весь лексический строй литературного
произведения. Так, «образ Чичикова слагается для нас
из всех слов «Мертвых душ», рисующих Чичикова прямо
или косвенно». «Даже замена одного слова другим соз-
дает то или иное, хотя бы не поддающееся учету, изме-
нение образа. Лишь семантический анализ образно-лек-
сического строя произведения может привести к пони-
манию его содержания». Содержание «не только изу-
чаться, но и как-либо обнаруживаться помимо формы
не может. Подобное обнаружение было бы чудом, про-
явлением духа произведения вне его языковой оболоч-
ки»1 2. Содержание заключено в слове и постигается в
нем, а не иллюстрируется лишь словом, как это чаще
всего бывает при литературоведческом анализе образа
автора и образов персонажей3.
Смешение и столкновение приемов и специальных ме-
тодов лингвистики и литературоведения происходило
также в области изучения поэтических жанров. Ведь по-
нятие литературного жанра не может быть определено
на основе одних лингвистических признаков. В литера-
туре «элементы стилистики (поэтического языка)» тесно
связаны с тематикой и композицией4.
Таким образом, при изучении языка писателя и стиля
литературного произведения методы литературоведче-
1 Л. И. Тимофеев, Проблемы теории литературы, стр. 140.
2 А. М. Пешковский, Вопросы методики родного языка,
лингвистики и стилистики, стр. 159—160.
3 Там же, стр. 159.
4 В. М. Жирмунский, Вопросы теории литературы, стр. 48.
47
ского анализа нередко неорганически смешиваются и
внешне переплетаются с приемами историко-лингвисти-
ческого исследования. Так как понятия, категории и ме-
тодические приемы интерпретации текста у литературо-
веда и лингвиста — историка языка художественной ли-
тературы, а тем более у историка литературного язы-
ка—различны, то при механическом сочетании разно-
родных методов и подходов нельзя достигнуть ни полно-
го, исчерпывающего лингвистического описания, ни раз-
ностороннего литературоведческого понимания. Хорошо,
когда литературовед и лингвист помогают друг другу,
углубляя понимание художественного произведения (к
такому взаимодействию призывали К. Фосслер и
Л. Шпитцер; оно осуществлялось иногда в трудах таких
наших филологов, как Б. В. Томашевский, Ю. Н. Тыня-
нов, В. М. Жирмунский и др.), но очень плохо, когда они
лишь формально поддерживают один другого, скользя по
поверхности словесного текста. Ведь и само понятие сти-
ля в литературоведческом смысле далеко выходит за пре-
делы чисто лингвистического определения этой категории.
Так, по словам профессора Г. Н. Поспелова, «литератур-
ным стилем мы называем эмоционально-типизирующее
(поэтическое) отражение жизни в свете определенного,
сложившегося в известных национально-исторических
условиях, общественного мировоззрения, с характерным
для него (отражения) соотношением внутренних творче-
ских форм (родов, жанров, видов эмоциональности и
т. д.) и принципов внешней формы (тематики, компози-
ции, стилистики)»1.
Проблема взаимоотношений лингвистики и поэтики
продолжает волновать исследователей русских литера-
турных стилей и до сих пор. Но острота этой проблемы
уже ослабела, так как, стремясь осмыслить литературное
произведение как отражение истории общественной
мысли и социальной борьбы, литературоведы часто не
уделяли должного внимания вопросам литературного
мастерства. Теоретические же трактаты, посвященные
проблемам сюжета, образа, социального характера
и т. п., оставались в сфере общих эстетических идей,
1 Г. Н. П о с п е л о в, К разграничению понятий стиля, метода
и направления, «Доклады и сообщения филологического факуль-
тета МГУ», вып. I, 1946, стр. 28.
48
иногда поясняемых известными иллюстрациями. Обра-
щаясь к конкретному анализу «творческих путей»
писателей, литературоведы легко довольствовались бо-
лее и ли менее устоявшимися приемами тематического,
идейно-характеристического и композиционного освеще-
ния художественных образов и литературных стилей
вообще. Показательны в этом отношении работы
С. Д. Балухатого и В. Волькенштейна по изучению сти-
лей русской драматургии, исследование А. И. Белецкого
«В мастерской художника слова», в которой есть глава
«О речи действующих лиц»1, труды Г. А. Гуковского о
стилях русской поэзии XVIII века, о стиле Радищева, о
стиле Жуковского, Пушкина и романтиков и т. п.1 2,
Л. П. Гросмана — о стиле Достоевского, Сухово-Кобы-
лина, Лескова, Я. Е. Эльсберга — о стиле Салтыкова-
Щедрина и многие другие.
Большая часть этих работ о стиле писателя не может
удовлетворить лингвиста антиисторичностью (или недо-
статочной историчностью) анализа речевых средств пи-
сателя, импрессионизмом и расплывчатостью стилисти-
ческих характеристик, случайностью словарных, а
иногда и синтаксических иллюстраций, неопределенно-
стью, сбивчивостью и противоречивостью терминологии,
неясностью основных категорий и принципов осмысле-
ния текста. Правда, сама по себе методологическая не-
ясность границ лингвистического и литературоведче-
ского анализа могла бы и не отражаться на качестве и
результатах стилистического исследования при наличии
широкого филологического и специально лингвистиче-
ского опыта интерпретации. Но в массовом производ-
стве статей по языку и стилю писателя, относящихся к
40—50-м годам текущего столетия, отрицательно сказы-
вались теоретическая необоснованность лингвистиче-
ского анализа и бессистемность расположения мате-
риала.
1 «Вопросы теории и психологии творчества», под редакцией
Б. А. Лезина, т. VIII, Харьков, 1923, стр. 212-235.
2 См. Г. А. Гуковский, Пушкин и романтики, Саратов, 1946.
Ср. также книгу Г. А. Гуковского, Пушкин и проблемы реали-
стического стиля, Гослитиздат, 1957.
3 В. В. Виноградов
49
8
Неопределенность положения науки о языке писа-
теля, о языке художественной литературы в ряду линг-
вистических и литературоведческих дисциплин, неяс-
ность в освещении вопроса об отношении индивидуаль-
ного «языка» (стиля) писателя к языку художественной
литературы в целом и к стилям общелитературного
языка, многообразие значений и употреблений термина
стиль — все это отражалось и до сих пор еще отра-
жается на несогласованности, неустойчивости приемов
лингвистического анализа словесно-художественного
творчества и на узком, а часто и противоречивом пони-
мании целей стилистического исследования литературы.
Само понятие язык писателя в этом случае оказы-
вается колеблющимся. Иногда под языком писателя
разумеется лишь некоторая совокупность более или ме-
нее случайных или характеристических речевых примет,
обнаруживаемых в его сочинениях («особенностей» лек-
сики, фразеологии, развития образов и т. п.). «Практи-
чески говоря,— пишет Л. В. Щерба,— мы часто назы-
ваем языком и ту или другую сумму фраз какого-нибудь
писателя, а то и какого-либо языка вообще. Так, мы мо-
жем сказать: в языке Тургенева довольно часто встре-
чаются галлицизмы...» В этом случае языком называет-
ся собственно «языковый материал»1.
Тот же академик Л. В. Щерба в статье «О трояком
аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкозна-
нии» заметил: «Лингвистически изучая сочинения писа-
теля (или устные высказывания любого человека), мы
можем исследовать его речевую деятельность, как тако-
вую,— получится то, что обыкновенно неправильно назы-
вают «языком писателя», но что вовсе не является «язы-
ковой системой», но мы можем также исследовать ее и
как языковый материал для выведения «индивидуальной
речевой системы» данного писателя, имея, однако, в виду,
в конечном счете, установление «языковой системы» того
языка, на котором он пишет». Тут же характерно приме-
чание, что исследование речевой деятельности отдельного
лица не должно обязательно совпадать с «психологией
1 Акад. Л. В. Щерба, Преподавание иностранных языков в
средней школе, М.—Л. 1947, стр. 63.
50
творчества» или с «психологией языка» (Sprachpsycholo-
gie). «Здесь возможны,—по словам Л. В. Щербы,—и
чисто лингвистические подходы» Ч
Другие лингвисты иногда более пессимистически от-
носятся к возможности разрешения проблемы языка пи-
сателя в чисто лингвистическом плане. Профессор
Р. А. Будагов в статье своей «Наблюдения над языком
и стилем И. Ильфа и Е. Петрова» сокрушается: «Даже
самый метод изучения стиля писателя представляется
еще не вполне ясным. Где кончается литературоведче-
ское изучение стиля писателя и где начинается его линг-
вистическая интерпретация,— этого никто не знает... Да к
тому же и отсутствие общих работ по русской стили-
стике крайне затрудняет исследователя»1 2.
С другой стороны, стремление понять язык писателя в
связи с общим процессом развития русского литератур-
ного языка и его стилей содействует укреплению приемов
выборочной, неполной характеристики языка писателя, а
также приводит иногда к затушевыванию индивидуально-
стилистических особенностей творчества писателя.
Кроме того, при неразграниченности приемов лингви-
стического и эстетико-стилистического изучения струк-
туры литературного произведения, самый термин «язык»
писателя, «язык» повести, романа и т. п. получает двой-
ственное, колеблющееся применение и понимание. С од-
ной стороны, в этом языке отыскивается и распреде-
ляется по тем или иным грамматическим и лексико-се-
мантическим категориям материал, характеризующий
литературно-языковую систему соответствующей эпохи,
а с другой, этот язык рассматривается как язык словес-
ного искусства, как система средств словесно-художе-
ственного выражения, и в нем находятся и выделяются
черты индивидуально-творческой манеры, индивидуаль-
ного стиля или мастерства. Принципиального разграни-
чения задач истории литературного языка и истории рус-
ского словесного искусства притом чаще всего не полу-
чается. Вот несколько наиболее типичных иллюстраций.
В. А. Гофман в книге «Язык литературы» затраги-
1 «Известия АН СССР, Отделение общественных наук», 1931,
№ 1, стр. 124.
2 «Ученые записки ЛГУ, Серия филологических наук», вып. 10,
1946, стр. 247.
3* 51
вает три цикла лингвистических вопросов, связанных с
изучением языка писателя.
Один цикл относится к области современной литера-
турно-языковой практики. Здесь освещается с вульгар-
но-социологической точки зрения теоретический вопрос
о методах и возможностях использования всех форм
современного литературного языка и его стилей в твор-
честве советских писателей — с разнообразными истори-
ческими экскурсами и комментариями, с иллюстрация-
ми из языка советской литературы, с целым рядом нор-
мативных указаний (статья «Язык писателя»). «Сложны
и многообразны не только языковые строительные мате-
риалы, но и способы их творческого использования, их
художественной реализации». Вместе с тем В. А. Гоф-
ман убеждает, что «язык искусства есть продолжение
«языка жизни», и не может быть, конечно, никакой осо-
бой, второй «социологии» этого языка». По его мнению,
«на нашей стадии общественного развития язык искус-
ства так же является языком понятий (только особенно
конкретных), как и язык науки»Ч
В другой статье («Стиль, язык и диалект») В. А. Гоф-
ман— на основе широких исторических сопоставлений —
рассматривает отношения между национальным язы-
ком, языком художественной литературы и народно-об-
ластными говорами. Становясь на точку зрения М. Горь-
кого по вопросу о языке советской литературы и об отно-
шении к диалектизмам, В. А. Гофман стремится
очертить пределы возможного использования диалект-
ной и жаргонной речи при характеристике действующих
лиц, при характеристике их «путем изображения при-
сущего им языкового сознания в его конкретных, инди-
видуально-типических чертах»1 2.
В заключение В. А. Гофман призывает писателей к
более тесному контакту с лингвистами. «Писательская
мысль всегда работала в известном контакте с лингви-
стической мыслью. В наше время этого контакта еще
почти нет. Писатели как будто мало в нем заинтересо-
ваны, а лингвисты «не снисходят» до практического об-
суждения злободневных вопросов языка художествен-
ной литературы, далеки от писательской общественности
1 В. А. Гофман, Язык литературы, Л. 1936, стр. 125.
2 Т а м же, стр. 153.
52
и ее насущных интересов. А от этого проигрывают и ли-
тература, и лингвистика. Над вопросами языка писателя
должны работать и писатели, и критики, и лингвисты» Ч
Другой цикл вопросов связан с конкретным изуче-
нием языка писателя. Сюда относятся статьи «Языковое
новаторство Хлебникова» и «Вторжение просторечия в
язык поэзии» (о языке Крылова).
В статье «Языковое новаторство Хлебникова» отме-
чается тесная связь творческих воззрений этого футуриста
на язык вообще, на язык поэзии в частности, с методами
его речетворчества.
По мнению В. А. Гофмана, «языковая позиция Хлеб-
никова насквозь, принципиально архаистична»1 2. Она
связывается с лингвистическими принципами символи-
стов, его непосредственных литературных предшествен-
ников. Но исчерпывающей систематизации приемов
хлебниковского словотворчества в статье В. А. Гофмана
нет. Дан лишь общий обзор основных способов слово-
творчества Хлебникова в их практическом применении
(звукопись, «азбука понятий», каламбурно-омонимиче-
ские новообразования, прием перевернутой омонимии,
отрыв слова от реальных связей и отношений и т. п.).
В силу индивидуалистического анархизма Хлебникова
его языковые эксперименты были враждебны развитию
общелитературного языка, но, по мнению В. А. Гофмана,
оказали некоторое «прогрессивное» влияние на язык
поэзии. Впрочем, по словам того же автора, «советская
поэзия в основном пошла, по путям, далеким от Хлебни-
кова, и его влияния в плане языка и стиля на молодых
советских поэтов, поскольку эти влияния имели место,
были скорее отрицательным, чем положительным фак-
том»3. В. А, Гофман стремится сочетать изучение «язы-
ка писателя» с широкой характеристикой его обществен-
ного мировоззрения, пытаясь проследить связи индиви-
дуального стиля писателя с языком художественной
литературы соответствующего периода. Но само описа-
ние языка писателя у Гофмана носит эскизный характер
и лишено лингвистической систематичности.
Эти качества особенно ярко выступают в работе, по-
1 В. А. Гофман. Язык литературы, стр. 184.
2 Т а м же, стр. 214.
3 Там же, стр. 240.
53
священной описанию языка басен Крылова. Само загла-
вие этой статьи («Вторжение просторечия в язык .поэ-
зии») показывает, что В. А. Гофмана занимает не столь-
ко исследование конкретных особенностей басенного
стиля Крылова, сколько решение общего вопроса исто-
рии языка русской художественной литературы о путях
и потоках демократического обновления русского поэти-
ческого языка в начале XIX века.
Третий цикл вопросов в книге В. А. Гофмана «Язык
литературы» относится к сфере изучения одной жанро-
вой разновидности художественно-литературной речи —
именно драматической речи. В статье «Язык и стиль
„Ревизора"» В. А. Гофман описывает речевую структуру
реплик и монологов гоголевских персонажей, наблюдает
различия в их словесной манере, способе выражения и
связывает с этими различиями своеобразия их характе-
ров. Таким образом, здесь на первом плане стоят проб-
лемы речевой характерологии, гоголевские методы
речевого изображения героев. Изучение самого строя
гоголевского драматического диалога остается в сто-
роне. Еще более эскизным характером отличается статья
В. А. Гофмана «Язык и стиль Чехова-драматурга»:
здесь описаны лишь некоторые из присущих драмати-
ческому мастерству Чехова «средств характерно-типи-
ческой индивидуализации манеры речи». Особенное вни-
мание обращено на чеховское искусство «оттенять пош-
лость» и на речевые формы его проявления, на, средства
субъективной символической экспрессии, «которая подме-
няет не только прямое объективно значимое сообщение
мысли, но и нередко является подменой жеста», на реп-
лику-жест, разработанную до тонкостей Чеховым (вслед
за Л. Толстым), и на приемы использования «заготовок-
фрагментов различных речевых манер, характерно окра-
шенных и поэтому способных вызвать нужный семанти-
ческий (смысловой) эффект в контексте», на характери-
стические «сдвиги шаблонов стилистической принадлеж-
ности», на ироническую двусмысленность чеховских
речевых характеристик и наконец на символическую
роль лирических реплик.
Разнообразие методов и подходов в области изучения
языка писателя сказывается и в том, что сами литерату-
роведы, изучая стиль писателя или стиль литературного
произведения, ставили перед собой разные задачи.
54
Так, академик А. С. Орлов, глубоко вникая в «рус-
ский язык в литературном отношении»1 и тонко харак-
теризуя художественно-изобразительные средства инди-
видуальной стилистики, «не имел намерения или претен-
зии» выдерживать свои описания языка писателя «в
схеме специально лингвистических категорий». Он тре-
бовал от исследователя языка и стиля писателя глубо-
кого чутья языка и большой словесно-художественной,
эстетической одаренности, сам обладая этими качествами
в высшей степени. И все же А. С. Орлов свои описания
языка писателя, например, языка басен Крылова, языка
«Горе от ума», языка Лескова, располагает чаще всего
по классам наиболее ярко выступающих словарных, сло-
вообразовательных, фразеологических, изобразительно-
грамматических явлений, широко привлекая для срав-
нения факты языка других писателей современной и
предшествующей эпохи1 2. «Речевая ткань» литератур-
ного произведения рассматривается академиком
А. С. Орловым прежде всего с точки зрения ее отношения
к устному, разговорному языку. «Русский язык на-
ционально характерен именно в элементах устного про-
исхождения и устной практики»,— писал А. С. Орлов 3.
А. С. Орлов с глубокой проникновенностью выбирает
наиболее характеристические художественно-вырази-
тельные черты языка писателя, но изучает их без всякой
системы. Особенно привлекали его элементы фольклора
и яркие краски устной народно-разговорной речи. По
словам А. С. Орлова, «национальная русская народная
речь сплошь образна, начиная с поговорочных мелочей
и кончая концентрацией целой фабулы». Таким образом,
А. С. Орлов, с одной стороны, описывает наиболее бро-
сающиеся в глаза индивидуальные свойства лексики,
фразеологии и грамматики того или иного писателя в их
художественной выразительности на фоне общей эволю-
ции языка русской литературы, а с другой стороны, стре-
1 А. С. Орлов, Русский язык в литературном отношении,
«Родной язык в школе», 1926, №9; его же, Социология языка
литературных произведений, «Родной язык в школе», 192/, № 2.
Ср. его же, Язык русских писателей, М.—Л. 1948.
2 См А. С. О р л о в, О языке басен Крылова, «Труды юбилей-
ной сессии ЛГУ», 1946; его же, Язык басен Крылова, «Известия
АН СССР, Отделение литературы и языка», т. V, вып. 4, 1946.
3 «Известия АН СССР, Отделение литературы и языка», т. V,
вып. 4, 1946, стр. 268.
55
мится раскрыть в достижениях индивидуального словес-
ного искусства общие «сильные привлекательные черты
родного слова в его живом употреблении среди народных
масс». Никакой научно-лингвистической или научно-сти-
листической теории под эти яркие выборки материала
обычно не подводится. А. С. Орлову принадлежит так-
же оригинальная попытка охарактеризовать со стили-
стической и историко-генетической точки зрения словар-
ный состав «Телемахиды» Тредиаковского L
В большом исследовании Л. А. Булаховского «Рус-
ский литературный язык первой половины XIX в.» 1 2 сде-
лана попытка обрисовать эволюцию русского литератур-
ного языка в первой половине XIX века с учетом всего
многообразия литературных жанров и с характеристи-
кой отдельных индивидуальных стилей наиболее круп-
ных писателей этого периода.
Автор стремится охватить русский литературный
язык первой половины XIX века во всем разнообразии
его стилей, а также стилей художественной литературы
и индивидуальных речевых вариаций: стихотворные
стили, стили художественной прозы, слог критической
прозы, язык науки и научной популяризации, эпистоляр-
ный стиль. Так, Л. А. Булаховский писал: «Отграничить
в описании, которое имеется в виду только как общая,
предварительная характеристика исторически отложив-
шихся фактов, собственно жанровое и индивидуально
авторское, притом с учетом изменений, несомненно
совершавшихся во времени,— одна из очень трудных за-
дач. Здесь нужна чрезвычайно углубленная и кропотли-
вая работа... Такого рода работа произведена только
частично. Вглядываясь в черты литературных манер
наиболее выпуклые и приметные, можно, однако, мне
кажется, уже и теперь дать некоторые общие, но вме-
сте с тем не лишенные конкретности характеристики
1 А. С. Орлов, «Телемахида» В. К. Тредиаковского. Сб.
«XVIII век», изд. АН СССР, М.—Л. 1935, стр. 5—55.
2 Первый том издан в Киеве в 1941 г. Второй том этого иссле-
дования, посвященный описанию фонетики, ударения, морфологии
и синтаксиса русского литературного языка первой половины XIX в.,
впервые вышел в свет только в 1948 г. Этот том очень богат кон-
кретным языковым материалом. В 1954 г. он был переиздан в виде
отдельной книги: «Русский литературный язык первой половины
XIX в.» (М., Учпедгиз}.
56
изучаемой стороны творчества деятелей русского слова
первой половины XIX века» Ч И далее предлагаются об-
щие характеристики художественно-литературных жан-
ров и отдельных индивидуальных стилей в их пределах.
Так, идут разделы: ода, послание, элегия, элегии Жуков-
ского, элегии Батюшкова, элегии Пушкина, элегии Ба-
ратынского, элегии Дельвига и Кольцова, «Фракийские
элегии» Теплякова, элегии Лермонтова, баллады Лер-
монтова, идиллия, поэма-сказка, поэма, замечания об
«Андрее, князе Переяславском» Бестужева-Марлин-
ского, «Эда» Баратынского, стихотворный роман «Евге-
ний Онегин» Пушкина, шутливые стихотворные повести
А. С. Пушкина, «Казначейша» М. Ю. Лермонтова, «Па-
раша» И. С. Тургенева, басня, романы и повести Нареж-
ного, повести и рассказы Бестужева-Марлинского, бел-
летристика Сенковского, беллетристика Вельтмана, ху-
дожественная проза Пушкина, повести Гоголя и т. п.
Но в большей части этих характеристик литературно-
художественных жанровых и индивидуальных стилей ма-
ло лингвистического. Вместо детального анализа стилей,
вместо всестороннего описания их лексико-фразеологиче-
ской и грамматической структуры, принципов композици-
онной связи словесных частей, здесь предлагаются общие,
нередко импрессионистские замечания о стиле отдельных
жанров, отдельных произведений или писателей.
Например, об элегиях Батюшкова: «У Батюшкова со-
четаются художественные .формулы французского клас-
сицизма с элементами оссианизма. Во фразеологии и
лексике остается при этом многое из привычного для
архаизирующих способов выражения русской поэзии
XVIII века. Отдельные его элегии представляют малень-
кие эпические рисунки, овеянные чувствами, восприни-
маемыми как чувства самого автора», и т. п.1 2.
Или о беллетристике Сенковского: «Не имея и отда-
ленно стилистической изобретательности Марлинского,
социального и исторического разнообразия голосов
Вельтмана, он, подобно последнему, стремится однако к
экстравагантности выводимых фигур, к возможной пест-
роте и изломам в большей или меньшей мере фантасти-
1 Л. А. Булаховский, Русский литературный язык первой
половины XIX в., т. 1, Киев, 1941, стр. 51.
2 Т а м же, стр. 58.
57
ческих, тут же осмеиваемых в их неправдоподобности
сюжетов; к оживлению всего этого нигилистической
остротой, ничего серьезного не задевающей, ничтожной
в смысле ее социальной направленности, могущей в не-
которых случаях насмешить, в других — утомляющей
своей неумеренной навязчивостью. Он ищет впечатлений-
отрывков, игрушек-камешков в хорошо известных ему
литературах Востока и, не обладая художественным та-
лантом для создания чего-либо оформленно-целостного,
стремится превращать, при этом далеко не всегда за-
нятно, лоскутки ориенталистической философии в мате-
риал пестрых костюмов своих рассказов-арлекинад»1.
В некоторых из этих общих обзоров жанров и инди-
видуальных стилей отмечаются свойственные им отдель-
ные лексические приметы или синтаксические приемы.
Но это скорее плоды беллетристического раздумия о
языке и стиле жанров, писателей и произведений. Спо-
соб изложения меняется, когда Л. А. Булаховский пере-
ходит к описанию лексических элементов русского лите-
ратурного языка первой половины XIX века. Описание
ведется по такой схеме: иностранные элементы и отно-
шение к ним, диалектная лексика, фразеология социаль-
ных диалектов, фольклорные выражения, украинская
лексика в русской художественной литературе, речь ку-
печеская и мещанская, семинаризмы, элементы фразео-
логии мелкого чиновничества, арготическая лексика. Все
эти разделы насыщены материалом и представляют
большой интерес и большую ценность.
Далее рассматривается лексика в диахронном аспек-
те (архаизация, неологизмы), характеризуется специаль-
но-бытовая и терминологическая лексика, абстрактная
лексика и типы эмоциональной лексики. Заключается
эта глава замечаниями о «словесных средствах комиче-
ского» и о прозаизмах в поэтическом словаре. Послед-
ние главы книги посвящены вопросам о частях речи в их
лексико-стилистических функциях и о синонимике.
Лексические и грамматические своеобразия русского
литературного языка первой половины XIX века впервые
в исследовании Л. А. Булаховского (в обоих его томах)
выступили перед нами в таком многообразии и в таком
широком ансамбле.
1 Л. А. Булаховский, Русский литературный язык первой
половины XIX в., т. 1, стр. 109—110.
58
Однако точной и рельефной картины соотношения и
взаимодействия общелитературной языковой нормы, раз-
ных стилей литературного языка, разных жанровых сти-
лей языка художественной литературы и индивидуальных
стилей писателей в этом труде нет. Больше того: принци-
пиального освещения вопроса об отношении языка худо-
жественной литературы изучаемого периода к общему
литературному языку и его стилям, о соотношении жан-
ровых и индивидуальных стилей в рамках самой худо-
жественной литературы, о роли отдельных стилей в про-
цессе развития языка художественной литературы, об об-
щих закономерностях литературно-языкового развития
в эту эпоху Л. А. Булаховский и не стремится дать.
Но это исследование академика Л. А. Булаховского
очень интересно и ценно по широте захвата разнообраз-
ного материала, по стремлению дифференцировать слог
разных художественно-литературных жанров, по присталь-
ному вниманию и глубокому интересу к индивидуальным
художественным манерам выдающихся русских писателей
первой половины XIX века, а также по разносторонней,
насыщенной ценным материалом и тонкими наблюде-
ниями, характеристике грамматических свойств и лекси-
ческих своеобразий русского литературного языка первой
половины XIX века.
В книге академика Л. А. Булаховского «Русский лите-
ратурный язык первой половины XIX века» \ содержащей
ценные материалы по фонетике, морфологии, ударению,
синтаксису русского литературного языка первой поло-
вины XIX века со стилистическими комментариями, для
исследователя стилистики художественной литературы
особенно важны глава (IV) — «О порядке слов» и послед-
няя (V) — «Из стилистического синтаксиса». Из явлений
стилистического синтаксиса здесь рассмотрены: свобод-
ная косвенная речь, более «интересные со стилистической
стороны типы приложений», характерные для «поэтиче-
ского слога», «обещающие местоимения» («Товарищ,
верь: взойдет она, Звезда пленительного счастья»), спа-
дающие сравнения, синтаксические приемы интимизации,
комические средства синтаксиса.
Интересные соображения о соотношении и взаимодей-
1 Л. А. Булаховский, Русский литературный язык первой
половины XIX века, М. 1954, Изд. 2-е (исправленное).
59
ствии русского литературного языка и языка русской ху-
дожественной литературы развиваются в брошюре про-
фессора Г. О. Винокура «Русский язык», позднее переве-
денной на французский и немецкий языки. По мнению
Г. О. Винокура, до эпохи классицизма язык художествен-
ной литературы играет активную и прогрессивную роль
в строительстве системы стилей общелитературного рус-
ского языка. В языке художественной литературы с осо-
бенной полнотой и особенным напряжением протекают
процессы стилистического и семантического взаимопро-
никновения и разграничения книжного и обиходного на-
чал. Даже в такие периоды развития русского литера-
турного языка, как петровская эпоха, когда выдвигается
на положение основного организующего центра деловая
речь, и тогда беллетристика решительно содействовала
«разложению старого литературного языка», растворяя
его книжный элемент в обиходном, причем в данном слу-
чае именно обиходный элемент украшался модной запад-
ноевропейской фразеологией
«Беллетристика петровской эпохи и ближайших к ней
лет полна такими явлениями стилистического перерожде-
ния письменной речи. Не эта беллетристика явилась тем
основанием, на котором выросла великая русская лите-
ратура послепетровского времени. Но все же она выпол-
нила важную роль в зарождении русского национального
языка, так как способствовала замене древнерусской
книжной речи такой другой книжной, в которую отдель-
ные элементы старинной книжности вошли лишь состав-
ной частью в смешении с элементами обиходными»1 2.
В эпоху классицизма, когда художественная литература
культивировала преимущественно высокие и низкие жан-
ры, основная, генеральная линия развития русского лите-
ратурного языка, по мнению профессора Винокура, проле-
гала за пределами языка художественной литературы, в
сфере среднего слога, предназначавшегося главным об-
разом для литературы не художественной, а научной и
публицистической. Именно здесь особенно успешно проте-
кал «процесс скрещения книжной и обиходной речи в
единый и цельный общеписьменный русский язык» 3.
1 Г. О. Винокур, Русский язык, М. 1945, стр. 116—117.
2 Там же, стр. 118—119.
3 Т а м .же, стр. 125.
60
«Но язык художественной литературы явно отставал
в этом процессе (формировки общенациональных норм.—
В. В.), и это отставание есть характерная черта в исто-
рии русского литературного языка в XVIII веке» Ч
Ведь, по мнению Г. О. Винокура, создание высокого
и низкого слогов, было, собственно, заслугой перед «рус-
ской литературой соответствующего периода, а по отно-
шению к самому русскому языку оказалось полезным ско-
рее косвенно»* 2. С эпохи Карамзина, начиная с 90-х го-
дов XVIII века и кончая творчеством Пушкина, художе-
ственная литература вновь приобретает руководящее зна-
чение в преобразовании стилей русского литературного
языка. «Реформа слога», которая была произведена Ка-
рамзиным и вызвала такой громкий отголосок в русском
обществе конца XVIII и начала XIX века, состояла в
том, чтобы «язык, сложившийся на почве среднего слога,
сделать языком не только деловым и теоретическим, но
также и художественным»3. Кроме того, на основе языка
литературы складывался и новый разговорный язык рус-
ской интеллигенции. «Русские обо многих предметах
должны еще говорить так, как напишет человек с талан-
том»,— заявил Карамзин. «Новой литературе, которая с
конца XVIII века стала вытеснять собой классицизм и
которая ярко отразила переход «среднего слога» из книг
в быт образованной части дворянского общества, надле-
жало, помимо прочего, помочь русскому языку в отборе
жизненно необходимого и полезного в том потоке заим-
ствованных и офранцуженных средств речи, которые про-
никали в него на рубеже XVIII и XIX столетия»4. «Новый
слог» захватывает и язык поэзии в творчестве Батюш-
кова, Жуковского, их предшественников и преемников.
Однако «новый слог» был лишен аромата живой речи
и подлинной народности. «Для того, чтобы русский
литературный язык стал подлинно национальным языком,
надлежало еще разрушить’ ту преграду, которая возникла
между языком образованного круга, как он воплощался
в обиходе салона и литературы, и языком русской народ-
ной повседневности. Это было осуществлено в 20—
30-х годах XIX века писателями послекарамзинского пе-
J Г. О. Винокур, Русский язык, М. 1945, стр. 129.
2 Там же, стр. 124.
3 Там же, стр. 135—136.
4 Там же, стр. 141—142.
61
риода во главе с Пушкиным, имя которого и стало для
последующих поколений символом общерусской нацио-
нально-языковой нормы. То, что обычно подразумевается
под ролью, которая принадлежит Пушкину в истории рус-
ской литературной речи, есть новый и последний акт
скрещения книжного и обиходного начал нашего языка» Г
Более близкое изучение пушкинского стиля, по словам
Г. О. Винокура, «принадлежит уже не истории русского
языка, а истории русского литературного искусства»1 2.
После создания общенациональной языковой нормы
пути развития общелитературного языка и языка худо-
жественной литературы, по Г. О. Винокуру, расходятся.
Пушкинская эпоха «освободила язык предшествующего
развития от обязанности преследовать эстетические цели
и оставила ему только его общенациональные функции.
Стало ясно, что общенациональный язык это не непре-
менно художественный язык, но что, с другой стороны,
специфически художественные задачи должны решаться
вовсе не одними только непременно средствами общена-
ционального языка. Вот почему история русского языка
в течение XIX и XX веков это в значительной мере есть
раздельная история общерусского национального языка
и языка русской художественной литературы» 3.
И далее Г. О. Винокур выдвигает целый ряд проблем,
которые стоят перед историей языка художественной ли-
тературы XIX и XX веков. Это — проблема речевого по-
строения художественного типа, проблема структуры диа-
лога, вопрос о методах художественного использования
живой русской речи в ее профессиональных, социальных
и диалектных проявлениях, проблема языка персонажей,
«тронутых полукультурой», проблема «языковых масок»,
проблема стихотворного языка и др. Все это — «такие
лингвистические проблемы, которые перерастают в про-
блемы искусствознания»4.
Однако любопытно, что в очерке языка советской
эпохи Г. О. Винокур снова слитно рассматривает в одной
плоскости и общелитературный язык и язык художествен-
ной литературы, язык Горького 5.
1 Г. О. Винокур, Русский язык, М. 1945, стр. 153.
2 Там же, стр. 158.
3 Та м же, стр. 159.
4 Та м же, стр. 166.
5 Та м же, стр. 176.
62
Таким образом, в «Русском языке» профессора
Г. О. Винокура выдвинута, хотя и недостаточно глубоко
и последовательно освещена, проблема исторического
взаимодействия литературного языка и языка художе-
ственной литературы. Вопрос же об отношении исследо-
ваний индивидуального словесно-художественного стиля
к изучению системы литературного языка и его стилей,
а также «языка» художественной литературы продолжал
казаться Г. О. Винокуру настолько сложным и нераз-
решимым, что он был готов вслед за Ф. И. Буслаевым
и многими современными лингвистами совсем вынести
его за пределы лингвистики. Так, Г. О. Винокур в статье
«О задачах истории языка» писал: «Одно дело — стиль
языка, а другое дело — стиль тех, кто пишет или говорит.
Так, например, изучение стиля отдельных писателей, в
котором обнаруживает себя своеобразие их авторской
личности или конкретная художественная функция тех
или иных элементов речи в данном произведении, всецело
остается заботой истории литературы и к лингвистиче-
ской стилистике может иметь разве только побочное от-
ношение, как и другие проблемы культурной истории.
Стиль Пушкина, или, как часто говорят, язык Пушкина,
в этом смысле имеет к проблемам лингвистической сти-
листики отношение нисколько не более близкое, чем его
поэтика, мировоззрение или биография. Все это не ме-
шает знать историку языка, но все это предмет не линг-
вистики, а истории литературы. Другое дело, если ска-
жут, что в эпоху жизни Пушкина, может быть и не без
его личного влияния, что существенно только во вторую
очередь, звук е вместо о под ударением не перед мягкими
согласными перестал обладать экспрессией книжно-по-
этического языка и сохранил на будущее время лишь
экспрессию церковно-богослужебного стиля речи. Это
действительно лингвистическая проблема, но она назы-
вается не язык Пушкина, а стилистика русского произ-
ношения в первые десятилетия XIX века. Еще хуже,
когда под предлогом изучения тех или иных способов
«отражения действительности в слове» исследователи
языка и стиля того или иного писателя фактически изу-
чают не слово и не его экспрессию, а только то, что
отражено в слове, то есть тему и отношение к ней. Такого
метода здесь не стоит опровергать, но считаю не лиш-
63
ним указать на то, что и он тоже почему-то называется
иногда лингвистическим» L
Характерно все же, что в своей несколько более ран-
ней статье «Язык„Бориса Годунова“» Г. О. Винокур сво-
бодно смешивает две задачи: 1) изучение своеобразия
драматического стиля «Бориса Годунова» и принципов
исторической стилизации и 2) описание языка Пушкин-
ской трагедии, вернее, ее лексики, распределенной по
общим категориям литературного языка той эпохи (цер-
ковнославянизмы, галлицизмы и просторечные эле-
менты) 1 2.
9
Само собою разумеется, что вопрос об отношении
индивидуального стиля писателя к общелитературному
языку и его стилям легче всего было бы подвергнуть
углубленному исследованию на материале современной
советской литературы.
К сожалению, у нас еще очень мало работ такого
обобщающего типа, посвященных изучению языка и стиля
советской литературы. В многочисленных статьях и дис-
сертациях, которые касаются языка и стиля М. Горького,
В. Маяковского, А. Толстого, М. Шолохова, Ф. Гладкова,
А. Фадеева, Л. Леонова, К. Федина, М. Исаковского,
В. Шишкова и других советских писателей, чаще всего
смешиваются категории общеязыковые и художественно-
стилистические, литературоведческие и лингвистические.
В них нет ни полного обследования тех языковых ресур-
сов, которыми пользуется писатель, ни глубокого иссле-
дования тех стилистических преобразований, которым под-
вергается разнообразный речевой материал в творчестве
того или иного художника слова 3, ни стремления истори-
чески истолковать общие принципы соотношений и взаи-
1 Г. О. В и н о к у р, О задачах истории языка, «Ученые записки
кафедры русского языка Московского городск. педагогии, инсти-
тута», вып. I, т. V, 1941, стр. 17—18.
2 См. мою рецензию во «Временнике пушкинской комиссии»,
№ 2, М.-Л. 1936.
3 См. библиографию и общую характеристику состояния изуче-
ния языка советских писателей в моей работе; «Изучение русского
литературного языка за последнее десятилетие в СССР» (Изд. АН
СССР, М. 1955, стр. 35—41). Ср. также «Beogradski medtmarodni
Slavistifcki Sastanak» (15—21.IX.1955), Beograd, 1957.
64
модействий между нормами современного литературного
языка и языком советской художественной литературы.
В большей части этих работ анализируется лексика
и фразеология сочинений советских писателей, иногда
с выделением синонимических серий слов, но почти всегда
без глубоких сопоставлений с общими семантическими
свойствами лексической системы современного русского
литературного языка и с закономерностями ее развития.
С другой стороны, внутренние качества индивидуальных
стилей отдельных советских писателей и общие тенден-
ции движения языка советской литературы чаще всего
остаются в основном нераскрытыми.
Есть несколько работ, посвященных вопросам струк-
туры диалога в современной драме Ч Привлекали внима-
ние некоторых молодых филологов также вопросы сти-
лизации языка в советском историческом романе1 2.
Нельзя не выделить из большого круга собственно
лингвистических исследований в области стилистики со-
ветской литературы работы Г. О. Винокура по языку
В. Маяковского и Р. А. Будагова по языку и стилю
И. Ильфа и Е. Петрова, относящиеся еще к 40-м годам.
Г. О. Винокур в книге «Маяковский новатор языка»
изучал пути и методы формирования и применения Мая-
ковским таких языковых средств, которые не даны непо-
средственно наличной традицией и вводятся как нечто
совершенно новое в общий запас возможностей современ-
ного языкового выражения. Внимательно описываются
сознательные языковые новшества Маяковского в обла-
сти грамматических форм слов и словообразования; отме-
1 Таковы, например, работы: Т. Г. В и н о к у р, О некоторых син-
таксических особенностях диалогической речи в современном рус-
ском языке (на материалах драматических произведений К. М. Си-
монова). Автореферат канд. диссертации, М. 1953; М. Б. Бори-
сова, Язык и стиль пьесы М. Горького «Враги». Автореферат канд.
диссертации, Л. 1952. См. ее же, О типах диалога в пьесе Горь-
кого «Враги». Очерки по лексикологии, фразеологии и стилистике,
«Ученые записки ЛГУ», № 198, 1956, и др.
2 Н. Л. Ю з б а ш е в а, Особенности лексики романа А. Толстого
«Петр Первый» как исторического произведения. Автореферат канд.
диссертации, Баку, 1954; В. С. Потапов, Стиль исторического
повествования В. Я. Шишкова «Емельян Пугачев». Автореферат
канд. дисертации, М. 1952; В. В. Степанова, Вопросы лексики
в изучении языка исторического романа (по роману А. Н. Толстого
«Петр I»), «Ученые записки Ленинградского гос. пед. института
им. А. И. Герцена», т. 104, Кафедра русского языка, 1955; и др.
65
чаются приемы смещения и перевода слов и форм слов из
одних грамматических классов и категорий в другие; ха-
рактеризуются применяемые Маяковским способы преоб-
разования устойчивых выражений, разложения фразеоло-
гических сращений на составные части; каламбурные
сдвиги как принцип фразового творчества; указываются
некоторые синтаксические приемы, направленные на ос-
лабление «формальных связей слов» за счет семантических.
«Словоновшество» Маяковского — это только частный
случай в числе различных способов уйти от шаблонной,
бессодержательной и условной «поэтичности» ’, это —
проявление его борьбы с буржуазным мещанством и эсте-
тизмом. Вообще же стиль Маяковского, целиком прони-
занный стихией устного, и притом преимущественно гром-
кого устного слова, «фамильярной демократической го-
родской» -речи, стремится к преодолению разрыва между
общерусским языком как достоянием национальным и
тем литературным и особенно поэтическим употреблением
русского языка, которого Маяковский был свидетелем.
Язык поэзии Маяковского, по определению профес-
сора Винокура,— это «язык городской массы, претворив-
ший художественную потенцию фамильярно-бытовой речи
в собственно поэтическую ценность и в средство громкой
публичной беседы с современниками о чувствах, мыслях
и нуждах советского гражданина, строящего и отстаиваю-
щего от врагов свой национально-государственный быт» 1 2.
Профессор Р. А. Будагов в статье «Наблюдения над
языком и стилем И. Ильфа и Е. Петрова» ставит перед
собой несколько иную задачу: показать, как выражает
писатель свои идеи и замыслы средствами языка и стиля,
насколько и как нарушает писатель обычные и привычные
языковые и стилистические нормы, как он «обрабатывает»
язык. Конечно, лингвиста интересует язык и стиль писа-
теля не «как выражение его эстетического credo, а как
известная система «употребления», применения языка,
хотя и поставленная на службу не только коммуникатив-
ным, но и художественным заданиям, однако все же под-
чиненная прежде всего идейному замыслу писателя»3.
1 Г. О. Винокур, Маяковский новатор языка, М. 1943, стр. 29.
2 Та м же, стр. 134.
3 Р. А. Б у д а г о в, Наблюдения над языком и стилем И. Ильфа
и Е. Петрова, «Ученые записки ЛГУ, Серия филологических наук»
вып. 10, 1946, стр. 247.
66
При этом невозможны понимание и оценка отдельных
особенностей языка и стиля писателя «вне целостной со-
вокупности стиля, как известной системы». Свои наблю-
дения над языком и стилем И. Ильфа и Е. Петрова
Р. А. Будагов сводит к демонстрации на материале их
творчества некоторых живых л ексико-стилистических
и лексико-синтаксических категорий современного рус-
ского языка. Р. А. Будагов в стиле Ильфа и Петрова
наблюдает борьбу со штампами казенно-бюрократического
языка, поиски новых средств выражений на путях не-
обычных словесных сцеплений и употреблений или с по-
мощью переплетения в единое целое разнообразных
«смысловых и стилистических узоров контекста», или с
помощью взаимодействия лексических, синтаксических
и стилистических категорий. Он описывает сложные се-
мантические эксперименты со словом, направленные на
проявление всех его смысловых возможностей, обнару-
живает «принцип непараллельности смысловых сочета-
ний», своеобразное использование синонимов, подчи-
ненное общему замыслу произведения, индивидуальное
разрешение проблемы называния и способов создания
новых значений слов, оригинальные формы внутреннего
сравнения.
Р. А. Будагову кажется, что если в этом направле-
нии «много и упорно поработать над стилистикой сво-
его родного языка», то можно приблизиться к «со-
зданию общеевропейской стилистики, которая бы по-
казала общие тенденции в развитии стиля современных
языков»!.
Однако основные усилия наших исследователей с по-
ловины 40-х годов были направлены совсем не в эту сто-
рону. Кроме общей проблемы «языка художественного
произведения», которая связывалась с вопросами о прин-
ципах и способах объединения разных стилей речив слож-
ной композиции целого, о дифференциальных признаках
литературно-художественного стиля по сравнению с дру-
гими функциональными стилями литературного языка,
о диалогической речи в составе разных видов литератур-
ного творчества, о приемах речевого изображения дейст-
1 Ср. также многочисленные замечания стилистического харак-
тера и иллюстрации из сочинений советских авторов в книгах
Р. А. Будагова, Очерки по языкознанию (М. 1953) и Введение
в науку о языке (М. 1958J.
67
ьующих лиц и т. п. *, обсуждались проблемы «общенарод-
ного и индивидуального в языке писателя» 1 2, выразитель-
ных качеств художественной речи, главным образом в об-
ласти лексико-фразеологической и синтаксической, про-
блемы «речевой характеристики героя» («слово и харак-
тер», «язык и характер»), проблемы речевых средств
юмора и сатиры3.
Все заметки, наблюдения и исследования этого типа,
естественно, обогащали и расширяли понимание вопроса
о соотношении и взаимодействии литературного языка
и языка художественной литературы, о сложных видах
связей общеязыковых категорий со своеобразными кате-
гориями литературно-художественной речи, выдвигали
задачу параллельного создания стилистики двойной на-
правленности — стилистики современного литературного
языка (см., например, «Очерки по стилистике русского
языка» А. Н. Гвоздева) и стилистики языка художествен-
ной литературы (см., например, книгу А. И. Ефимова
«Стилистика художественной речи», М. 1957). Однако,
как это ни покажется парадоксальным, многим нашим фи-
лологам представлялась стилистическая почва русской
классической литературы XIX века более твердой и удоб-
ной базой для решения общих проблем изучения языка ху-
дожественной литературы — в связи с исследованием за-
кономерностей развития русского литературного языка 4.
1 А. Чивилихин, О языке литературных произведений.
«Звезда», 1956, № 11; А. И. Ефимов, О изучении языка художе-
ственных произведений, М. 1952 (а также Минск, 1953); В. Д. Ле-
вин, Заметки о языке художественной литературы, «Октябрь», 1952,
№ 10 (ср. его же статью «О языке художественных произведений».
«Русский язык в школе», 1951, № 3); Б. В. Томашевский, Язык
и литература, «Октябрь», 1951, № 7; Л. И. Тимофеев, Об ана-
лизе языка художественно-литературного произведения, «Литера-
тура в школе», 1954, № 4; М. Н. П ет е р с о н, К вопросу о методе
анализа языка художественного произведения, «Вестник МГУ», № 4,
1954; В. В. Виноградов, Язык художественного произведения,
«Вопросы языкознания», 1954, № 5, и др.
2 См., например, Н. 10. Шведова, К вопросу об общенарод-
ном и индивидуальном в языке писателя, «Вопросы языкознания»,
1952, №? 2.
3 См., например, работы: В. А. Сиротина, Речевые средства
сатиры в «Русских сказках» А. М. Горького, «Науков! записки
Кишського университету», т. XIV, вып. II, 1955; О. А. Шестакова
О некоторых лексико-стилистических особенностях памфлетов А. м’
Юрького об Америке, «Ученые записки 2-го ЛГПИИЯ», т. I 1956.
Ср., впрочем, исследования акад. И. К. Белодеда «Питания
розвитку мови украшськоТ радянськоТ художньо! прози» (КиТв, 1955).
68
10
Распространено убеждение, что всякое крупное произ-
ведение искусства должно непременно пройти через очи-
щающий фильтр истории и как-то отстояться во времени,
прежде чем оно может быть всесторонне понято.
Углубленные исследования языка и стиля отдельных
представителей русской художественной литературы,
главным образом XVIII—XX веков, начатые еще в 20—
30-е годы и продолжавшиеся с особенной силой и напря-
женностью в 40—50-е годы, иногда сопровождались ши-
рокой конкретно-исторической постановкой важных
проблем стилистики: об отношении «языка писателя» к
общему литературному языку эпохи, о специфических
свойствах индивидуального стиля того или иного худож-
ника слова, об его «лингвистическом спектре» о свое-
образных принципах отбора, группировки и употребления
лексики в тех или иных направлениях художественной
литературы — соотносительно с развитием лексики лите-
ратурного языка вообще 1 2, о связи стилистики индиви-
дуальной художественной речи с общими тенденциями
развития литературного языка 3, о взаимовлиянии и вза-
имодействии стилей публицистики и художественной ли-
тературы, в частности, поэзии (см., например, многочи-
сленные работы, посвященные анализу общественно-поли-
тической лексики и терминологии в поэзии Рылеева,
Некрасова, в художественной прозе Герцена, Чернышев-
ского и т. п.), о месте «художественного стиля речи» или
«языка художественной литературы» в общей системе
стилей литературной речи 4.
1 См., например, докторскую диссертацию проф. А. Ф. Ефре-
мова «Язык Н. Г. Чернышевского» («Ученые записки Саратовского
гос. пед. института», вып. XIV, 1951).
2 См., например, докторскую диссертацию проф. С. А. Копор-
с к о г о «Из истории развития лексики русской художественной лите-
ратуры 60—70-х гг.» (Автореферат, Калинин, 1951), посвященную
анализу лексики сочинений Н. Успенского, Ф. Решетникова и В. Слеп-
цова. Ср. также работы такого рода, как работа Н. С. А в и л о в о й,
К изучению языка поэтов-декабристов, «Материалы и исследования
по истории русского литературного языка», т. Ill, М. 1953.
3 См., например, работу В. Виноградова, Из наблюдений
над языком и стилем И. И. Дмитриева, «Материалы и исследования
по истории русского литературного языка», т. I, 1949.
4 См. дискуссию по вопросам стилистики в журнале «Вопросы
языкознания» за 1954 г. и статью В. Виноградова, Итоги об-
суждения вопросов стилистики, «Вопросы языкознания», 1955, № 1.
69
Изучение языка литературных произведений чаще
всего сводится к описанию их лексики, реже фразеологии,
еще реже — синтаксиса. Стилистические наблюдения над
функциями разных разрядов лексики в структуре того
или иного сочинения однообразны. Иногда наличие руко-
писных вариантов или переработанных текстов произве-
дения позволяет изучать проблему отбора и оценки сино-
нимических или параллельных средств выражения в стиле
А. Чехова, М. Горького, К. Тренева («Любовь Яровая»)
и других писателей Ч
Нередко при описании языка литературного произве-
дения с точки зрения грамматической или лексической
придается особенное значение преобладанию или частоте
применения тех или иных выражений, конструкций. В этом
усматривается специфика «индивидуальной манеры пи-
сателя выражать свои мысли». Например, в прозе Лер-
монтова отмечается широкое употребление соединитель-
ных конструкций с союзом и: ими великий писатель «осо-
бенно часто пользуется... для выражения присоединитель-
ных отношений» в своеобразном смысловом контексте2.
Но есть ли в этом приеме какие-нибудь индивидуальные
отличия, хотя бы от пушкинского применения этих кон-
струкций, не объясняется.
Вообще принципы сопоставительного, а также типо-
логического исследования стилистических систем разных
писателей-современников у нас не разрабатываются
или разрабатываются мало и слабо. Статистические спо-
собы изучения лексики, а также грамматических кон-
струкций применительно к разным литературно-художе-
ственным произведениям не применяются. За последние
годы не появлялось значительных исследований, посвя-
щенных речевой и стилистической характеристике широ-
ких литературных направлений (например, русского ро-
мантизма 20—30-х годов XIX века, ранних проявлений
> Ср., например, статьи: М. Я. Кривонкиной, Работа
А. М. Горького над лексикой публицистических статей советского
периода, «Ученые записки Карело-Финского гос. университета»,
т. V, вып. I, Исторические и филологические науки, Петрозаводск,
1955; Л. А. Введенской, Работа К. Тренева над словом, «Уче-
ные записки Ростовск.-на-Дону гос. пед. института», вып. 4(14), 1955,
и др. под.
А- Гют я ев а, Сложносочиненное предложение в прозе
М. Ю. Лермонтова, Автореферат, Харьков, 1953, стр. 14.
70
реализма в русской художественной литературе 30—40-х
годов XIX столетия и т. п.). Вместе с тем у нас не обна-
ружилось согласия и единства в понимании отношения
«языка художественной литературы» к другим стилисти-
ческим разновидностям литературного языка. Одни ста-
вят стиль художественной литературы в параллель, в один
ряд с ними, другие считают его (что гораздо ближе к
истине) явлением иного, более сложного порядка. Ведь
язык художественной литературы использует, включает в
себя все другие стили или разновидности книжно-литера-
турной и народно-разговорной речи в своеобразных ком-
бинациях и в функционально преобразованном виде.
В области художественной литературы выступают свои
специфические — композиционные и эстетико-стилисти-
ческие— категории. Так, в словесно-художественном
произведении формы литературной и нелитературной
реяи воспринимаются и осмысляются не только в плане
их социально-диалектного или стилистического состава и
построения, в плане историко-лингвистическом, но и в
плане эстетическом, а также композиционно-контекстном,
в плане субъективно-характеристическом, в отношении
к «субъекту речи», с точки зрения социально-историче-
ской характерологии. Стили речи в художественной лите-
ратуре, своеобразно сочетаясь и объединяясь, отража-
ются и выражаются в стиле автора, в стиле «образа
повествователя», в стиле персонажей литературного про-
изведения.
Между тем характерной особенностью большинства
наших новейших работ, посвященных языку и стилю пи-
сателей, является смешение или, вернее, недостаточное
различение задач изучения русского литературного языка
и языка художественной литературы. Оно сказывается
даже в таких статьях и исследованиях, которые имеют
своей целью анализ приемов словоупотребления в отдель-
ных литературных жанрах, то есть вопросы стилистики
литературы. Например, в статье Г. А. Шелюто «Лексика
иносказаний в революционно-демократической литературе
60-х годов» изучаются принципы переносного употребле-
ния естественно-научных терминов в стилях революцион-
но-демократической литературы 60-х годов, однако без
глубокой связи с общими закономерностями развития
лексической системы литературного языка в это
71
время1. В статьях и исследованиях, характеризующих
работу писателей над языком произведений (по рукопи-
сям или печатным изданиям), нечетко разграничиваются
вопросы, связанные с анализом стиля и композиции дан-
ного конкретного произведения, с общим развитием стиля
писателя и с изменениями литературного языка и языка
художественной литературы1 2.
Следовательно, историко-лингвистическое изучение
художественных произведений должно сопровождаться
также изучением их в плане исторической стилистики
художественной речи и поэтики3. Исторический подход
к изучению языка художественной литературы и специфи-
ческих закономерностей его развития убеждает в том,
что хотя развитие русского литературного языка и его
норм происходит в тесной связи с общим ходом развития
литературы, однако интенсивность влияния языка лите-
ратуры и широта его распространения, а также самый
характер этого влияния различны в разные периоды исто-
рии культуры народа. Это влияние, естественно, больше
всего захватывает области синтаксическую и лексико-
фразеологическую — во всем многообразии их стилисти-
ческого функционирования. Но индивидуальные черты
языка писателей должны привлекать внимание историка
литературного языка лишь в той мере, в какой они углуб-
ляют понимание общего направления и общих закономер-
ностей развития литературного языка в тех или иных его
сторонах и структурных элементах, особенно в сфере
слово- и фразообразования, обогащения и упорядочения
1 «Доповш та повщомлення Ужгородського университету, Сер1я
1сторико-ф1лолопчна», 1957, № 1, стр. 70—73.
2 См., например, статью Т. И. Пабауской, О работе
А. П. Чехова над языком произведений в 90-х — начале 900-х го-
дов, «Ученые записки Латвийского университета», 1956 т. XI
стр. 235—262.
3 А. И. Ефимов в книге «Стилистика художественной речи»
(изд. МГУ, 1957), использовав материалы своих предшествующих
научно-популярных работ: «Об изучении языка художественных
произведений», 1952, и «О языке художественных произведений»,
1954,— занялся главным образом следующими темами: проблема
языка и слога писателя, речевая экспрессия, метафоризация зна-
чений слов и ее роль в создании образной речи, синонимика и ее
использование писателями, изобразительная роль имен существитель-
ных, прилагательных, местоимений и глаголов, стили произношения
и их отражение в художественных произведениях.
72
синтаксических конструкций, а также в области сочета-
ния, столкновения и объединения разных стилевых пла-
стов и компонентов речи. При этом необходимо помнить,
что художественная литература дает эстетически преоб-
разованное отражение или воспроизведение «речевой
жизни» народа — в соответствии с господствующими в
ней в данный период социально обусловленными эстети-
ческими и идейными направлениями и методами творче-
ства.
Изучение языка писателя содействует углубленному
пониманию его образа, его идейных тенденций, индиви-
дуальных своеобразий его словесно-художественного ма-
стерства. В этом аспекте язык писателя обращен к сти-
листике и поэтике художественной литературы, к системе
ее живых жанров и творческих направлений. Вместе с
тем степень и характер индивидуализации стиля художе-
ственного произведения, стиля писателя изменяются
в связи с общим социальным развитием культуры лич-
ности, образа автора Ч
Все эти идеи и обобщения, укрепляемые разработкой
теории развития литературных языков1 2, указывают но-
вые пути исследования истории «языка художественной
литературы», или истории литературно-словесного искус-
ства народа, и намечают новые принципы изучения
взаимоотношений и взаимодействий истории литера-
турного языка и истории литературно-художественного
творчества.
Понимание этих принципов конкретизируется и вме-
сте с тем углубляется в связи с тем, что язык и стиль
некоторых классиков русской художественной литературы
в 40—50-е годы нашего столетия подвергся тщательному,
всестороннему изучению в историческом плане (см., на-
пример, исследования пушкинского языка и стиля, при-
надлежащие Б. В. Томашевскому, В. В. Виноградову,
С. М. Бонди, Б. С. Мейлаху, Н. С. Поспелову, Д. Д. Бла-
гому и др., цикл работ по изучению языка и стиля
1 См. В. В. Виноградов, Проблема исторического взаимо-
действия литературного языка и языка художественной литера-
туры, «Вопросы языкознания», 1954, № 4.
2 См. записку, составленную В. В. Виноградовым, М. С. Гуры-
чевой и Н. И. Конрадом, «Основные вопросы образования и разви-
тия литературных языков» (изд. Бюро ОЛЯ АН СССР, 1957).
73
Гоголя i, Л. Толстого, М. Ё. Салтыкова-Щедрина 1 2, Чехова
и других писателей).
Стало ясно, что многие художественно-стилистические
проблемы и идейные задачи, разрешаемые художниками
в своем творчестве, никак не могут быть вмещены в гра-
ницы истории литературного языка.
В связи с укоренившимся после лингвистической дис-
куссии 1950 года признанием общенародного, неклассо-
вого характера языка остро выступила и вызвала ожив-
ленный интерес проблема — стиль и мировоззрение. Для
литературоведа стиль писателя органически связан с его
идейными замыслами. Анализ «языка писателя», осу-
ществляемый языковедами, нередко сопровождается
смешением языковых явлений с внеязыковыми, словесно-
стилистических категорий с категориями мировоззрения,
а иногда и изображаемой автором действительности.
Именно это ставилось в вину профессору А. И. Ефимову
как исследователю языка сатиры Салтыкова-Щедрина.
Проблема связи и соотношения стиля и идейно-художе-
ственного замысла, стиля и мировоззрения нуждается
в дальнейших конкретно-исторических исследованиях.
Сама постановка этой проблемы наглядно демон-
стрирует специфичность задач и понятий, связанных со
стилистикой художественной речи, с изучением языка
художественной литературы. Язык художественного про-
изведения, являясь средством передачи содержания, не
только соотнесен, но и связан с этим содержанием; состав
языковых средств зависит от содержания и от характера
отношения к нему со стороны автора 3. В этом случае под
«языком» понимается система средств словесно-художе-
ственного выражения и изображения. Так по разным на-
правлениям определялись линии схождения и расхожде-
1 См., например, статьи В. В. Виноградова и Н. Ю. Шведовой в
«Материалах и исследованиях по истории русского литературного
языка», т. III, 1953.
2 См. например, исследование проф. А. И. Ефимова, «Язык
сатиры Салтыкова-Щедрина» (Изд. МГУ, 1953.)
3 См. В. В. Виноградов, Язык художественного произве-
дения, «Вопросы языкознания», 1954, № 5, стр. 14. Любопытны
укореняющиеся^ шаблоны обозначений связи стиля и идеологии:
«идеологический фильтр языковых элементов», стиль как «отраже-
ние мировоззренческих позиций писателя» и т. п.
74
ния между историей литературного языка и историей сти-
лей художественной литературы Ч
Интересную попытку связать разнообразные элементы
формы литературно-художественного произведения
(то есть свойства языка и стиля) с его содержанием, с
идейным замыслом писателя, с его мировоззрением пред-
ставляет книжка А. В. Чичерина «О языке и стиле ро-
мана-эпопеи „Война и мир”»1 2. Автор заявляет: «Язык
поэзии и прозы нас интересует не как совокупность при-
емов или особенностей, а как воплощение коренных
свойств мышления и, в конечном счете, мировоззрения
писателя»3. Принципы изучения литературного произведе-
ния в этом плане, а также необходимые для этого поня-
тия, категории и термины автором не раскрываются. К изу-
чению собственно языка Л. Толстого работа А. В. Чиче-
рина имеет мало отношения. Задача автора — сделанные
им наблюдения над творческим методом Л. Толстого, над
стремлением великого писателя художественно изобразить
жизнь и характеры в их движении и противоречиях (на-
блюдения, в общем, интересные, иногда самостоятельные,
но нередко вытекающие из предшествующих работ о стиле
Л. Толстого), как бы наложить непосредственно на сло-
весную ткань произведений Л. Толстого и истолковать
в этом аспекте некоторые своеобразия художественной
манеры этого автора. А. В. Чичерин стремится найти здесь
«признаки руководящей идеи, творческой методологии
целого» 4. Чаще всего А. В. Чичерин рассуждает об осо-
бенностях композиции и способов построения характеров
у Л. Толстого (например, Пьера Безухова) безотноси-
тельно к законам и правилам движения его повествова-
тельного стиля и к способам речевой структуры образов
действующих лиц, к принципам построения их речи. Можно
считать этот метод изучения творчества Л. Толстого ли-
тературоведческим или искусствоведческим (с налетом
психологизма). Но иногда А. В. Чичерин близко подходит
к исследованию словесной структуры произведений
1 См. также Р. Р. Г е л ь г а р д т, Некоторые вопросы теории и
практики изучения языка и стиля писателей, «Вопросы языкозна-
ния», 1958, № 3, стр. НО—120.
2 А. В. Чичерин, О языке и стиле романа-эпопеи «Война и
мир», изд. Львовского ун-та, 1956.
3 Т а м же, стр. 3.
4 Та м же, стр. 4.
75
Л. Толстого. Некоторые из его наблюдений, например, над
эпитетами у Пушкина и Л. Толстого, над некоторыми
своеобразиями речи героев Л. Толстого представляют не-
сомненный интерес. Однако А. В. Чичерин, стремясь
связать характерный для Л. Толстого синтаксический
строй речи, некоторые приемы его синтаксиса с индиви-
дуальными чертами его мышления и мировоззрения,
обнаруживает лингвистическую беспомощность, смеши-
вает совершенно разные категории языка и стиля и при-
дает им субъективное и притом очень неясное, расплыв-
чатое значение. Вот примеры механического, неточного
истолкования грамматических форм — причастий и дее-
причастий в «мнимосинтаксических» разысканиях
А. В. Чичерина:1
«Первое же слово, которое характеризует Пьера,
«в распахнутой шубе», мы снова встречаем через несколь-
ко страниц: «Явился бухарский халат, распахнутый на
широкой груди...» Этим же словом пользуется автор и
через несколько лет, когда речь идет о молодом Пьере
в одну из самых возвышенных и светлых минут его
жизни: «Домой,— сказал Пьер, несмотря на десять граду-
сов мороза распахивая медвежью шубу на своей широкой,
радостно дышавшей груди». И в «Декабристах» и в
«Войне и мире» это причастие страдательного залога и
деепричастие воплощают минутный жест, через который,
однако, просвечивает самая сущность данного персонажа
обоих романов». Однако всем ясно, что страдательное
причастие в формах: «в распахнутой- шубе» и «халат,
распахнутый на широкой груди» не «воплощает» никакого
минутного жеста, оно выражает состояние шубы и ха-
лата. Поэтому, если бы А. В. Чичерин не обращался
к синтаксису, он свою мысль выразил бы гораздо лучше
без упоминания причастий и деепричастий (ведь распахи-
вая тоже не воплощает минутного жеста).
А. В. Чичерин заявляет: «Для многообъемлющего,
анализирующего и связывающего мышления автора
«Войны и мира» существенными и выразительными
являются осложненные синтаксические формы его речи»1 2.
«...Синтаксическое строение речи Толстого не менее
1 А. В. Чичерин, О языке и стиле романа-эпопеи «Война и
мир», стр. 12.
2 Т а м же, стр. 31.
76
важно, чем выбор слов. Строение мысли не менее важно,
чем тот или иной выбор конкретных объектов, ее реализу-
ющих» Формы связи синтаксического строения речи "с
«строением мысли» как в общем литературном языке, так
и в индивидуальном стиле Л. Толстого А. В. Чичериным
не характеризуются.
Все эти декларации не связаны с выяснением основных
понятий и категорий той стилистики словесно-художест-
венного творчества, о которой мечтает автор. Впрочем,
самая проблема внутреннего единства всех элементов сло-
весно-художественного стиля — грамматических, лексико-
фразеологических, выразительных и изобразительных —
представляет огромный методологический интерес для
науки о языке художественной литературы* 2 и не может
считаться достаточно освещенной ни с теоретической, ни
с конкретно-исторической точек зрения.
Между тем А. В. Чичерин явно смешивает синтаксис
и семантику, формы построения речи и ее содержание.
Он, например, пишет: «Самое скопление однородных чле-
нов, названий и противоречащих друг другу суждений
создает характеристику той всеобщей сутолоки, о которой
говорит автор: „...когда появилось вдруг столько жур-
налов, что, казалось, все названия были исчерпаны: и
«Вестник», и «Слово», и «Беседа», и «Наблюдатель», и
«Звезда», и «Орел», и много других, и, несмотря на то,
все являлись новые и новые названия; в то время, ког-
да../'»3. Однородные члены, названия и противоречащие
друг другу суждения,— это термины и понятия разных
наук. К синтаксису относятся лишь так называемые од-
нородные члены предложения. Но могут ли они создавать
впечатление сутолоки — неясно и сомнительно.
Таким образом, до сих пор попытки синтетиче-
ского построения стилистики словесно-художественного
творчества у нас чаще всего оказывались неудач-
ными.
' А. В. Чичерин, О языке и стиле романа-эпопеи «Война и
мир», стр. 30. Ср. стр. 39.
2 См. «Вопросы литературы», 1957, № 6, стр. 213—219. Рецен-
зия С. Бочарова выражает одновременно и восхищение литературо-
веда и отсутствие надежной филологической подготовки у рецен-
зента.
3 А. В. Чичерин, О языке и стиле романа-эпопеи «Война и
мир», стр. 10—11.
77
Тем не менее накоплялось все больше материала и об-
общений как для теории литературного языка, для пони-
мания закономерностей его развития в разные периоды
истории народа, так и для стилистики художественной
речи, для изучения истории «языка художественной лите-
ратуры», истории русского литературно-словесного искус-
ства, его направлений и школ, представлявших сложное
и нередко противоречивое сочетание общих стилистиче-
ских систем и методов с ярко выраженными индивидуаль-
ными стилистическими чертами. Правда, вопрос о точном
разграничении таких понятий, как «стили литературного
языка», «стили литературной речи», «стили художест-
венной литературы», «стили литературных школ» (и на-
правлений), «индивидуальный стиль писателя» и т. п.,
сохранял всю свою остроту и требовал дальнейших иссле-
дований и обсуждений.
На основе положений марксистской теории развития
общественных явлений преодолевалась односторонность
прежних попыток представления общих процессов дви-
жения поэтического языка как обособленной сферы
языкового развития, подчиненной своим имманентным
законам (ср., например, отражение этих идей в «Истории
чешского литературного языка» академика Б. Гавранка,
в которой развитие поэтического чешского языка пред-
ставляется по существу в отрыве от общей социально обу-
словленной истории других форм и стилей литературной
речи как воплощающее свои имманентные тенденции сло-
весно-художественного развития).
11
На таком фоне можно было бы к середине 50-х годов
ждать появления новых обобщающих трудов и по истории
русского литературного языка и по истории стилей рус-
ской художественной литературы. Дело в том, что в пред-
шествующей традиции у нас наметилась тенденция
сочетать изложение общего процесса развития русского
литературного языка с очерками (иногда очень деталь-
ными и разнообразными) языка (или стиля) отдельных
крупных писателей.
Именно по такому смешанному принципу, в котором
78
история русского языка переплетается с историческими
эскизами индивидуальных стилей разных писателей,
были построены «Очерки по истории русского литератур-
ного языка» В. В. Виноградова !.
Тут применялись разные критерии выделения «стилей
языка», и понятие стиля литературного языка не было
четко и резко отграничено от понятия индивидуально-ху-
дожественного стиля писателя. Между тем вставленные
в общее повествование о развитии русского литературного
языка очерки стилей отдельных выдающихся писателей
относятся в большей своей части скорее к истории рус-
ского литературного искусства, чем к истории русского
литературного языка. Таковы, например, в книге В. В. Ви-
ноградова глава «Язык Лермонтова», а также значитель-
ная часть разделов главы «Язык Гоголя и его значение
в истории русской литературной речи XIX в.», краткий
очерк, посвященный языку Л. Толстого.
Совершенно открыто смешивает процессы развития
русского литературного языка с явлениями индивидуаль-
ного стиля писателей и их литературного мастерства про-
фессор А. И. Ефимов в своей «Истории русского литера-
турного языка» 1 2. Характерны названия отдельных глав:
«Язык Гоголя и его значение для развития стилей прозы»,
«Взгляды Горького на язык художественных произведений
и его борьба за чистоту и богатство литературного язы-
ка», и т. п.
Естественно, что крепла и распространялась мысль о
необходимости создания истории русского литературного
языка, свободной от всяких неорганических и случайных
примесей из сферы изучения литературного мастерства
отдельных писателей. Институт языкознания АН СССР
напечатал проспект «Очерки истории русского литера-
турного языка XIX века» (1956).
Здесь в предисловии говорится: «История литератур-
ного языка в советском языкознании обычно рассматри-
валась как процесс борьбы и взаимодействий разных
стилей речи и жанровых разновидностей. При этом лите-
ратурный язык нередко полностью отождествлялся с язы-
1 В. В. Виноградов, Очерки по истории русского литератур-
ного языка, 2-е изд., М. 1938.
2 А. И. Ефимов, История русского литературного языка, М.,
1954.
79
ком художественной и публицистической литературы
в лице ее крупнейших представителей. При исследовании
языка художественных произведений индивидуальное
словоупотребление писателя и своеобразие его стиля, как
правило, не отграничивались от явлений общелитератур-
ного языка» \ И далее задачи «Очерков» представлялись
так: «В круг лингвистического изучения должны быть
вовлечены значительные материалы языка художест-
венной, общественно-публицистической, научной литера-
туры, официально-деловой письменности, частной пере-
писки, мемуарной литературы, причем произведения
художественной литературы, как и другие памятники
языка, будут изучаться в качестве материала для иссле-
дования явлений литературного языка как высшей формы
общенационального языка, обслуживающей всю культур-
ную жизнь нации. Материалы, извлеченные из произве-
дений отдельных писателей, должны рассматриваться с
точки зрения языковых категорий общенародного языка.
Следовательно, в «Очерках» не найдут освещения во-
просы художественного использования определенных рече-
вых средств литературного языка в композиции литера-
турных произведений или в стиле того или иного жанра
письменности»1 2.
По замыслу «Очерки истории русского литератур-
ного языка XIX века» будут включать в себя и резуль-
таты изучений влияний отдельных писателей на общие
процессы и закономерности развития русского литера-
турного языка.
«Известно,— читаем в предисловии,— что многие из-
менения в области лексико-фразеологических, синтакси-
ческих и отчасти морфологических явлений литератур-
ного языка связаны с развитием стилей речи. Поэтому
связь и взаимодействие между движением явлений лите-
ратурного языка и изменениями в системе стилей речи
должны найти научное освещение в «Очерках».
Общеизвестно также, какое большое влияние на раз-
витие русского литературного языка оказывала деятель-
ность таких великих русских писателей, как Пушкин,
1 «Очерки истории русского литературного языка (проспект)»,
М. 1956, стр. 4.
2 Т а м же, стр. 5.
80
Гоголь, Некрасов, Белинский, Чернышевский, Л. Тол-
стой, Чехов, М. Горький.
Детальное изучение материала даст возможность
точнее определить в «Очерках» место и роль каждого из
наших выдающихся писателей в эволюции литератур-
ного языка»1.
Что же мы на самом деле находим в проспекте или
проекте «Очерков»? В области лексики и синтаксиса на-
блюдается типичная для предшествующей традиции
ориентация на «язык художественной литературы» (ср.,
например, стр. 12—13, 24, 26 и некоторые другие стра-
ницы). С другой стороны, явления лексики, словообра-
зования, морфологии, синктаксиса, произношения рас-
сматриваются обособленно — без всяких связей друг с
другом. Поэтому никакой последовательности, никакой
закономерности в изменениях литературного языка не
обнаруживается. Литературный язык превращается в
конгломерат различных фонетических, грамматических
и лексических явлений и процессов. Периодизация его
развития отсутствует.
Таким образом, общая задача построения истории
литературного языка и истории «языка художественной
литературы» на новых основах, теоретически достаточно
ясная, практически остается пока не осуществленной.
12
Естественно, что дальнейшая разработка всех этих
вопросов должна быть в основном направлена на раз-
решение тех противоречий, которые ярко обнаружились
в советском языкознании и литературоведении в 40—
50-е годы. Эти противоречия, эти антиномии следу-
ющие:
1) Язык художественной литературы и общелитера-
турный язык с его стилями в их взаимодействии и соот-
ношении в разные периоды истории народа, а в связи
с этим — выяснение роли языка отдельных писателей в
истории развития литературного языка и в истории раз-
вития стилей художественной литературы.
1 «Очерки истории русского литературного языка (проспект)»,
стр. 5.
4 В. В. Виноградов 81
2) Язык писателя и стиль того же писателя и их вза-
имоотношения; принципы и методы разграничения по-
нятий языка и стиля, дифференциация языковых и ху-
дожественно-стилистических категорий.
3) Границы чисто лингвистического изучения языка
и стилей художественной литературы в отличие от ли-
тературоведческого анализа тех же сторон словесно-
художественного творчества; возможности сочетания и
взаимодействия тех и других принципов исследования.
4) Изучение языка писателей прошлого по дифферен-
циальному методу — путем сопоставления его явлений
с современным языком,— и поиски методов исчерпываю-
щего, исторического исследования языка писателя — на
фоне современной этому писателю системы литератур-
ного языка и его стилей.
5) Морфологическое, то есть чисто описательное,
изучение языка писателя, его лексики и грамматики, и
изучение функционально-стилистическое и эстетическое,
ставящее своей задачей раскрыть приемы индивидуаль-
ного художественного использования языковых фактов.
6) Методологические различия в задачах и принци-
пах изучения языка и стиля литературного произведе-
ния с одной стороны, и языка и стиля писателя,
с другой.
7) Связь изучений языка и стиля писателя, а также
языка и стиля литературного произведения с построе-
нием и содержанием стилистики литературного языка и
стилистики или теории литературно-художественной
речи.
8) Вопрос о специфических категориях и понятиях
стилистики художественной речи.
9) Принципы и приемы исследования национально-
речевой характерологии, то есть системы приемов рече-
вого изображения национальных характеров, социально-
типических персонажей.
10) Различия в формах и типах связей и взаимодей-
ствий между литературным языком и языком художе-
ственной литературы в разные периоды истории народа
и их исторические закономерности.
И) Лингвистические и стилистические признаки, ха-
рактеристические особенности разных методов и на-
правлений художественной литературы.
12) Закономерности развития стихотворной речи.
82
13) Общие приемы и принципы применений диало-
гической речи в художественной литературе.
14) Реализм и развитие языка художественной ли-
тературы.
15) Соотношение и взаимодействие языка художест-
венной литературы с разными типами и стилями народ-
но-разговорной речи в разные эпохи истории народа и
его языка.
16) Отношение науки о языке художественной
литературы (или стилистики художественной литера-
туры) к истории литературы и к истории литературного
языка
1 Одностороннее и искаженное, с резким смещением историче-
ской перспективы и с очень субъективным освещением роли отдель-
ных лиц и отдельных работ, изложение развития русских исследо-
ваний по поэтике, стилю и языку художественной литературы в
20-е и отчасти в 30-е годы XX века см. в книге: V. Erlich, Russian
formalism. History — Doctrine, 1955, Mouton — Co, S-Gravenhage.
О влиянии «русского формализма» на буржуазные концепции
в области общего литературоведения последнего десятилетия см. в
статье проф. В. Сечкарсва (V. Setschkareff, Einige „пеиеге
Werke zur allgemeinen Literaturwissenschaft «Zeitschrift fur Sla-
vische Philologie», 1955, В. XXIII, Heft 2, S. 354-371);.
4*
II
ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА
РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1
Изучение «языка» художественной литературы как
специфическая задача филологии в нашей отечествен-
ной науке широко распространяется и получает разно-
стороннее теоретическое обоснование только в советскую
эпоху. Правда, и до сих пор еще нет полной ясности
в понимании связи этой задачи с историей литера-
турного языка, с одной стороны, с историей литературы,
с другой, со стилистикой и теорией художественной
речи, с третьей.
Многозначность слова — стиль, недостаточная опре-
деленность содержания основных понятий и границ
стилистики художественной литературы, отсутствие проч-
ных традиций и общепризнанных направлений в иссле-
довании «поэтического языка» и эстетики слова, осо-
бенно на нашей отечественной почве,— все это также
не способствует быстрому и успешному развитию уче-
ния о языке художественной литературы и закономер-
ностях его истории.
В круг центральных проблем изучения языка ху-
дожественной литературы входят проблемы «языка»
(«стиля») художественного произведения и «языка»
(«стиля») писателя. И та и другая проблема опираются
на понятие индивидуального стиля и обусловлены им.
Однако исследование языка художественной литературы
84
далеко не исчерпывается этими проблемами, так как в
круг задач этого исследования входит также стилисти-
ческая характеристика литературных направлений и
связанных с ними методов словесно-художественного
отражения и изображения действительности в их исто-
рическом движении. Кроме того, изучение связей и взаи-
модействий литературного языка и «языка» художест-
венной литературы в их развитии, естественно, не
может не сопровождаться выводами и обобщениями,
относящимися к уяснению общей проблемы стилистики
художественной литературы, а также проблемы специ-
фики художественной речи или «поэтического языка».
Само собой разумеется, что результаты, полученные пу-
тем таких историко-стилистических разысканий, должны
быть согласованы и объединены с теоретическими по-
ложениями общей эстетики и эстетики слова. Они су-
щественно обогатят и углубят их.
Правда, многим исследователям литературы пред-
ставляется самоочевидным, что ‘ понятие индивидуаль-
ного стиля как своеобразной, исторически обусловлен-
ной, сложной, но структурно единой и внутренне свя-
занной системы средств и форм словесного выражения
является исходным и основным в сфере лингвистиче-
ского изучения художественной литературы. Но само
это понятие не может считаться вполне раскрытым и
определенным во всех своих существенных признаках,
со всеми относящимися к нему категориями ни с линг-
вистической, ни с литературоведческой точек зрения.
Проблему индивидуального стиля писателя нельзя ото-
рвать от изучения общих и вместе с тем специфических
(с одной стороны, по отношению к литературному язы-
ку вообще, а с другой — к иным видам искусства) зако-
номерностей развития стилей художественной литера-
туры. Следовательно, проблема индивидуального стиля
писателя — прежде всего проблема истории литератур-
ного искусства, история национальной художественной
литературы. Индивидуальный стиль писателя — это си-
стема индивидуально-эстетического использования свой-
ственных данному периоду развития художественной ли-
тературы средств словесного выражения. Эта система,
если творчество писателя не исчерпывается одним про-
изведением,— система динамическая, подверженная из-
менениям, Таким образом, стиль писателя должен
85
изучаться в его историческом развитии, в его измене-
ниях и колебаниях, в многообразии его жанровых прояв-
лений. В отдельных случаях (например, при изучении
творчества Карамзина, Некрасова, отчасти Л. Толстого,
Достоевского, М. Горького) можно говорить о смене си-
стем словесно-художественного выражения, в других
(например, при изучении творчества Фонвизина, Ради-
щева, Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Чехова и др.) —
о взаимодействии нескольких стилистических систем.
Едва ли не чаще всего стиль писателя приходится рас-
сматривать как единство многообразия, как своеобраз-
ную «систему систем» при наличии единого стилеобра-
зующего ядра или организационного центра.
Изменения в индивидуальном стиле писателя связа-
ны с общим движением стилей художественной лите-
ратуры и нередко определяются и вызываются одними и
теми же общественно-историческими причинами и фак-
торами, хотя и в разнообразном субъективном прелом-
лении. Творчество каждого писателя так или иначе
включается в контекст развития литературы своего вре-
мени, становится в различные связи и отношения с жи-
выми литературными направлениями эпохи. Кроме
того, оно питается и обусловливается традицией, худо-
жественными достижениями прошлого. Правда, все это
не означает, что развитие художественной литературы
имманентно и внутренне замкнуто. Однако в способах
отражения действительности, в приемах образного вы-
ражения познания и оценки социальной жизни (так же,
как и природы) индивидуальное словесно-художествен-
ное творчество в значительной степени зависит от на-
копленного опыта поэтического воспроизведения мира,
от уже созданного и активно используемого арсенала
средств литературного выражения. Именно в художест-
венной литературе нередко вино новое вливается в мехи
старые.
В индивидуальном стиле осуществляется не только
индивидуальное использование разнообразных речевых
средств национального языка в новых функциях, опре-
деляемых принципами связи частей или элементов худо-
жественного целого, не только зависящий от лингвисти-
ческого вкуса писателя своеобразный отбор этих средств,
не только собственная система комбинации разных сти-
листических серий литературного языка или разных
86
приемов художественной речи, не только свои навыки
и принципы композиции литературно-художественных
единств, не только личное тяготение к тем или иным об-
разам и типам, а также к формам их построения. В этой
сфере индивидуальное или личностное проступает сквозь
установившиеся приемы словесно-художественной си-
стемы литературной школы или литературного направ-
ления. Для стиля писателя особенно характерен инди-
видуальный синтез форм словесного выражения и плана
содержания. Таким образом, понятие индивидуального
стиля писателя должно все глубже освещаться вместе
с разъяснением и решением других проблем и задач
изучения языка художественной литературы.
Языковеду естественнее и ближе подойти к основным
проблемам изучения языка художественной литературы,
отправляясь от общих понятий и категорий своей нау-
ки, науки о языке. В связи с этим необходимо сразу же
напомнить, что многие лингвисты склонны относить за-
дачу изучения индивидуально-художественного стиля
писателя (или, как обычно говорят, «языка писателя»)
к истории литературы, исключая ее из круга лингви-
стических исследований. В нашей филологии в такой
плоскости вопрос об индивидуальном стиле был постав-
лен еще Ф. И. Буслаевым. По его мнению, «понятие о
слоге индивидуальном или личном выступает из обла-
сти филологии: ибо слог известного писателя опреде-
ляется характером самого писателя; здесь филология гра-
ничит с историей и философией. Притом слог индиви-
дуальный видоизменяется по содержанию описываемых
предметов; здесь, кажется, уже и предел стилистике,
иначе бы ей пришлось рассуждать об астрономии, ана-
томии, физике, философии и проч.»1. В сущности, те же
вопросы вновь возникли и дебатировались при обсуж-
дении книги А. И. Ефимова «Язык сатиры Салтыкова-
Щедрина» 1 2.
Как основной недостаток этого исследования отме-
чалось смешение языковых явлений с внеязыковыми,
1 Ф. И. Б у с л а е в, О преподавании отечественного языка,
Л. 1941, стр. 168. Ср. также Ю. С. Сорокин, К вопросу об основ-
ных понятиях стилистики, «Вопросы языкознания», 1954, № 2,
стр. 82.
2 А. И. Е ф и м о в, Язык сатиры Салтыкова-Щедрина, Изд. Мос-
ковского ун-та, М. 1953.
87
отсутствие четкой грани между анализом языка писателя
и анализом его взглядов и суждений, отождествление
значения слов и сочетаний слов с выражаемым ими идей-
ным содержанием. Указывалось на то, что А. И. Ефимов
ошибочно «ставит знак равенства между идеологией и
языком». Так, он заявляет, что «идеологическая зрелость
сатирика нашла отражение в его языке» (стр. 11), что
«прежние градации и рамки словарных категорий не
удовлетворяют больше Щедрина и он дает собственную
классификацию общественно-политического словаря»
(стр. 38). Между тем оценочные характеристики выбран-
ных слов (напр., пустопорожные выражения, пакостные
клички, мудреные слова; ср. также забытые слова, к ко-
торым, между прочим, отнесены слова — стыд и совесть)
и самые принципы их группировки, представленные
А. И. Ефимовым как лингво-стилистические, на самом
деле являются своеобразными приемами выражения ми-
ровоззрения автора, его отношения к общественным
явлениям современной действительности *.
Смешение или отождествление индивидуального стиля
с мировоззрением болезненно отражается как на ана-
лизе речевых средств, используемых писателем в своем
творчестве, и способов их употребления, так и на сво-
бодном, широком анализе идейных замыслов писателя
и приемов их художественной реализации. Кроме того,
при таком смешении часто происходит отрыв стиля писа-
теля от истории литературного языка, а иногда и от за-
кономерностей развития самого историко-литературного
процесса. Именно это имел в виду академик Л. В. Щер-
ба, когда утверждал, что целью и задачей лингвистиче-
ского толкования литературных произведений «является
показ тех лингвистических средств, посредством которых
выражается идейное и связанное с ним эмоциональное
содержание литературных произведений. Что лингвисты
должны уметь приводить к сознанию все эти средства, в
этом не может быть никакого сомнения. Но это должны
уметь делать и литературоведы, так как не могут же они
довольствоваться интуицией и рассуждать об идеях, ко-
торые они, может быть, неправильно вычитали из тек-
1 См. «Вопросы языкознания», 1954, № 4. Отд. «Научная жизнь».
Обсуждение книги проф. А. И. Ефимова «Язык сатиры Салтыкова-
Щедрина», стр. 155—156
88
ста. Самой собой разумеется, что одного узколингвисти-
ческого образования недостаточно для понимания лите-
ратурных произведений: эти последние возникают в
определенной социальной среде, в определенной истори-
ческой обстановке и имеют своих сверстников и пред-
шественников, в свете которых они, конечно, только и
могут быть поняты. Но плох и тот лингвист, который не
разбирается в этих вопросах» Ч
Решение вопроса об отношении индивидуального
стиля (или «языка писателя») к области языкознания
зависит от свойственного отдельным лингвистам фило-
софского понимания соотношения и взаимодействия ре-
чевого творчества личности и народа. Так, например,
Л. Вейсгербер в статье «Неоромантизм в языкознании»
доказывал необходимость для лингвистики совсем отка-
заться от изучения индивидуальной речи. Исследование
«языка писателя», индивидуального стиля, отдается ли-
тературоведению: «погружаться в личный мир поэта» —
задача историка литературы1 2. С иных идейных позиций
относил в область литературоведения проблему индиви-
дуального стиля писателя, «языка писателя» профессор
Г. О. Винокур. По его мнению, язык художественной ли-
тературы должен включаться в общую систему стилей
литературного языка и изучаться с общелингвистических
позиций 3.
Вообще, понимание истории литературного языка
как истории развития общей (устной и письменной) нор-
мализованной системы народно-речевого общения в
сфере государственного управления, прессы, школы, на-
уки, публицистики, литературы, разных других сфер
общественной жизни, свойственное едва ли не большин-
ству наших языковедов (например, И. И. Срезневскому,
И. А. Бодуэну де Куртене, Ф. Ф, Фортунатову,
А. А. Шахматову, С. П. Обнорскому и Др.), часто
связано с вынесением проблемы индивидуального стиля
1 Л. В. Щ ер б а, Опыты лингвистического толкования стихотво-
рений. «Сосна» Лермонтова в сравнении с ее немецким прототипом,
«Советское языкознание», т. II, стр. 129.
2 См. L. Weisgerber, Neuromantik in der Sprachwissenschaft,
«Germanisch-romanische Monatsschrift», XVIII (1930), Heft 7—8.
3 См. Г. О. Винокур, О задачах истории языка, «Ученые за-
писки Московского гор. пед. института, т. 5. Кафедра русского
языка», вып. I, 1941, стр. 17—18.
89
писателя за пределы истории литературного языка в об-
ласть литературоведения или поэтики.
С другой стороны, непосредственное включение ин-
дивидуальных стилей писателей в историю литератур-
ного языка, характерное, например, для работ акаде-
мика Я. К- Грота, профессора Е. Ф. Будде и других
историков русского языка, ведет к стиранию внутренних
своеобразий индивидуально-художественных стилей и
специфических качеств стилистики художественной ли-
тературы и в то же время к затемнению общих законо-
мерностей развития самого литературного языка.
В нашей отечественной филологии влияние идеали-
стических концепций К. Фосслера, Лео Шпитцера и их
продолжателей, считавших индивидуальный стиль, ин-
дивидуальное речетворчество' основной двигательной си-
лой истории языка, было незначительно. Изучение путей
превращения индивидуально-стилистического в обще-
языковое не нашло развития в наших работах ни по исто-
рии литературного языка, ни по истории языка художест-
венной литературы.
На пути исследовательского движения от индивиду-
ального стиля писателя к общим проблемам изучения
художественной литературы для лингвиста большие пре-
пятствия возникают в отношении проблемы связи стиля
и идейного замысла (шире: идеологии) в словесно-ху-
дожественном творчестве. Эта проблема не может быть
разрешена с помощью категорий и понятий классиче-
ской (или традиционной) лингвистики. Недаром некото-
рые языковеды целиком относят эту проблему к стили-
стике литературоведческой. Так, по мнению профессора
А. Н. Гвоздева, основной задачей литературоведческой
стилистики является «выяснение того, как писатели для
воплощения своих художественных замыслов, для выра-
жения своей идеологии используют выразительные сред-
ства, которыми располагает язык» Ч Но в отличие от ли-
тературоведа, который может идти от замыслов или от
идеологии к стилю, языковед должен найти или увидеть
замысел посредством тщательного анализа самой сло-
весной ткани литературного произведения. В этом отно-
шении языковед не может не признать справедливости
1 А. Н. Гвоздев, Очерки по стилистике русского языка, М.
1952, стр. 10.
90
афоризмов А. С. Шишкова; «Сочинитель сам не есть со-
чиненная им книга...», «...хотя бы в заглавии книги и по-
ставлено было имя сочинителя, то и тогда не имя его за
книгу, но книга сама за себя отвечать долженствует» Ч
Обозначаемое или выражаемое средствами языка со-
держание литературного произведения само по себе не
является предметом лингвистического изучения. Линг-
виста больше интересуют способы выражения этого со-
держания или отношение средств выражения к выражае-
мому содержанию. Но в плане такого изучения и содер-
жание не может остаться за пределами изучения языка
художественной литературы. Ведь действительность,
раскрывающаяся в художественном произведении, во-
площена в его речевой оболочке; предметы, лица, дейст-
вия, называемые и воспроизводимые здесь, внутренне
объединены и связаны, поставлены в разнообразные
функциональные отношения. Все это сказывается и от-
ражается в способах связи, употребления и динамиче-
ского взаимодействия слов, выражений и конструкций во
внутреннем композиционно-смысловом единстве словесно-
художественного произведения. Состав речевых средств
в структуре литературного произведения органически
связан с его «содержанием» и зависит от характера от-
ношения к нему со стороны автора.
Когда-то был очень распространен у нас и теперь
иногда еще встречается, особенно в зарубежной импрес-
сионистической критике и литературной стилистике (на-
пример, у Л. Шпитцера), прием характеристики стиля
писателя или стиля литературного произведения сквозь
призму немногих отобранных слов или систем слов, ко-
торые объявляются «типичными», «центральными»,
«ключевыми», скрывающими или открывающими внут-
реннюю сущность художественной личности автора и его
отношения к миру. Так, некогда К. И. Чуковский писал
о манере Л. Андреева, «первого (по времени) импрес-
сиониста в русской литературе»: «...он не дорожит тем,
что есть, ему ценно только то, что кажется. Это всегда
вовлекало его в фантастический, насыщенный красками
и неверными тенями мир... Но в этой лжи минутных
1 А. С. Шишков, Рассуждение о старом и новом слоге рос-
сийского языка, 2-е изд., 1818. Примечания на критику, изданную
в Московском Меркурии, стр. 448—449.
91
образов для городского художника единственная правда,
и недаром Леонид Андреев почти каждую свою фразу
снабжает словами: Кажется. Будто. Словно. Подобно.
Вроде. Точно. Похоже. Как если бы.
В любом отрывке можно найти у Андреева эти недо-
верчивые, приблизительные слова. Вот первое попавше-
еся место из недавней его повести «Елеазар», помещенной
в журнале «Золотое руно» (1906, XII):
«Снова как бы впервые отметили и страшную синеву
и отвратительную тучность его. На столе, словно поза-
бытая Елеазаром, лежала сине-багровая рука его, и все
взоры безвольно приковались к ней, точно от нее ждали
желанного ответа. А музыканты еще играли; но вот и до
них дошло молчание, и как вода заливает разбросанный
уголь, так и оно погасило веселые звуки». Точно, словно,
подобно, как бы, как — я подчеркиваю эти слова, чтобы
отметить, как мало считается Леонид Андреев с реаль-
ностью жизни, как горячо привержен он к «кажется».
«Кажется» — и есть правда для городского поэта,
тогда как правда для него только „кажется"»1.
Но К. И. Чуковский, как показывает его превосходная
книга «Мастерство Некрасова», решительно отошел от
этой своей старой манеры импрессионистической харак-
теристики индивидуального стиля и изучает «язык писа-
теля» в широком контексте исторической стилистики ху-
дожественной литературы. А сама эта стилистика бази-
руется на истории литературного языка.
Между стилями литературного языка и стилями худо-
жественной литературы наблюдается сложное взаимо-
действие, в котором очень важную роль играет характер
отношений к предшествующим традициям литературно-
языкового развития. Эти отношения требуют тщатель-
ного исторического изучения, направленного на откры-
тие основных тенденций или закономерностей движения,
борьбы и смены стилей художественной литературы.
Объективно-историческому переосмыслению при таком
изучении подвергаются и субъективно-эстетические
оценки того или иного стиля, исходящие из разных ла-
герей заинтересованных современников и их потомков.
Вот характерный пример. Стихотворный стиль Некра-
1 К. Чуковский, От Чехова до наших дней, Т-во «Издатель-
ское бюро», СПб. 1908, стр. 134—135
92
сова многими современниками воспринимался как на-
рушение поэтической традиции 20—30-х годов. Е. Кол-
басин пишет: «Боткин, Дружинин и даже Тургенев удив-
лялись безобразию стиха Некрасова и его неслыханным
рифмам. «Это чудовищно! — восклицал Боткин.— Воз-
можно ли употреблять подобные выражения:
Сожалели по Житомиру,
Ты-де нищим кончишь век
И семейство пустишь по миру,
Беспокойный человек!
Какова рифма! «По Житомиру» и «по миру»!» —
«У него есть еще худшие уродства,—добавлял Дружи-
нин,— не говоря уже об его сатирах, стих которых скри-
пит, как несмазанные колеса деревенского обоза; не го-
воря об этом, можно ли допустить в так называемых
лирических произведениях такие выражения, как: порт-
фель, микстура и т. п.!> — „Все это еще ничего,—
говорил Тургенев,— это правда, что у него нет и намека
на благозвучие, что только татарское ухо может слу-
шать стих вроде следующего: Алчбы и жажды бледное
дитя. Но, главное, по моему мнению, нет никакого бу-
кета, букета! Одни честные мысли нельзя назвать поэ-
зией!"»1 Разговоры в таком духе о стиле некрасовских
стихов припоминает и Авдотья Панаева: «—Ты слиш-
ком напираешь в своих стихотворениях на реальность,—
заметил Тургенев.
— Да, да! а этого нельзя!—подхватил Боткин,—
сильно напираешь, и это коробит людей с художествен-
ным развитием, режет им ухо, которое не выносит дис-
сонансов как в музыке, так и в стихах. Поэзия, любез-
ный друг, заключается не в твоей реальности, а в изя-
ществе как формы стиха, так и в предмете стихотво-
рения.
— Вчера мы с Боткиным провели вечер у одной
изящной женщины с поэтическим чутьем,—сказал Тур-
генев,— она перечитала в оригинале все стихи Гете,
Шиллера и Байрона. Я хотел познакомить ее с твоими
стихами и прочел ей: «Еду ли ночью по улице темной».
Она слушала с большим вниманием и, когда я кончил,
1 Е Колбасин, Тени старого «Современника», «Современник»,
1911, кн. 8, стр. 238—239.
93
знаешь ли, что она воскликнула? — «Это не поэзия! Это
не поэт!»...
— Я знаю, что мои стихотворения не могут нравиться
светским женщинам,— проговорил Некрасов...»1
«— Пусть не читает моих стихов светское общество,
я не для него пишу»1 2.
Здесь с необыкновенной остротой и наглядностью
обнаруживаются социально-идеологические и эстетиче-
ские различия в понимании разными общественными
группами путей развития жанров и стилей русской ху-
дожественной литературы в 40—60-е годы XIX века.
В историко-стилистическом аспекте воспринимался и
обсуждался вопрос об отношении Некрасова к субъек-
тивно оцениваемой и осмысляемой пушкинской стихо-
творной традиции, о прозаизмах некрасовского поэтиче-
ского языка. Так, выбор Некрасовым ритма, стихотвор-
ного размера оценивался на фоне поэтических традиций
пушкинской эпохи. Некрасову вменялись в вину «смешные
и крупные музыкальные ошибки», в которые впадал он,
выбирая для целых больших пьес совсем не подходящий
размер. Так, например, заявлялось, что «Русских жен-
щин» (княгиня Трубецкая) Некрасов написал таким же
размером, каким Жуковский написал свою сказку «Гро-
мовой», а Пушкин — балладу «Жених» (с тою лишь раз-
ницею, что Некрасов совсем отбросил женские рифмы)3.
«Ничего нельзя было неудачнее придумать. Что вполне
годилось, по своей эффектной и звонкой монотонности
к сказочному сюжету,— то вышло до прискорбия забавно
в применении к такому вполне достоверному событию,
как поездка княгини Трубецкой в Сибирь к сосланному
мужу, ее бедствия в дороге, деловые разговоры с губер-
натором и т. д. Или, например, на пушкинский мотив:
«Мчатся тучи, вьются тучи», так совпадающий с круже-
нием метели,— Некрасов пишет следующее:
И откуда черт приводит
Эти мысли? Бороню,
Управляющий подходит;
Низко голову клоню,
1 А. Я. Панаева, Воспоминания, Гослитиздат, М. 1956,
стр. 314.
2 Т а м же, стр. 316.
3 С. А. Андреевский, О Некрасове, Сб. «Литературные
очерки», СПб. 1902, стр. 167.
94
Поглядеть в глаза не смею,
Да и он-то не глядит —
Знай накладывает в шею,
Шея, веришь ли, трещит...»1
«Он извлек из забвения заброшенный на Олимпе ана-
пест.^. Этот облюбованный Некрасовым ритм, напомина-
ющий вращательное движение шарманки, позволял дер-
жаться на границах поэзии и прозы, балагурить с тол-
пою, говорить складно и вульгарно, вставлять веселую и
злую шутку, высказывать горькие истины и незаметно,
замедля такт более торжественными словами, перехо-
дить в витийство» 1 2. Тот же С. А. Андреевский, конечно,
с своих субъективно-эстетических позиций, с позиций
аристократического или псевдоаристократического эстет-
ства и формалистического снобизма конца XIX и начала
XX века так рассуждал о соотношении поэзии и прозы,
формы и содержания в стихотворном стиле Некрасова:
«Кто-то, в похвалу Некрасову, высказал, что достоин-
ство его произведений именно в том, что, будучи пере-
ложены в прозу, они, ввиду своей содержательности, ни-
чего бы не потеряли. Предательская похвала! Ведь в та-
ком случае возникает неизбежный вопрос: зачем же они
были написаны стихами?.. А у Некрасова действительно
добрых две трети его произведений могут быть превра-
щены в прозу и не только ничуть от этого не пострадают,
но даже выиграют в ясности и полноте. Есть целые стра-
ницы, которые стоит только напечатать без абзацев, с са-
мой незначительной перестановкой слов, с прибавкой
двух-трех союзов, и никто не узнает, что это были стихи.
Вот пример (из «Русских женщин»): «Старик говорит:
— Ты о нас-то подумай! Ведь мы тебе не чужие
люди: и отца, и мать, и дитя наконец, ты всех нас без-
рассудно бросаешь. За что же?
— Отец! Я исполняю долг.
— Но за что же ты обрекаешь себя на муку?
— Я там не буду мучиться. Здесь ждет меня более
страшная мука. Да ведь если я, послушная вам, оста-
нусь, меня разлука истерзает. Не зная покоя ни днем,
ни ночью, рыдая над бедным сиротой, я все буду думать
о моем муже да слышать его кроткий упрек...»
1 С. А. Андреевский, О Некрасове, Сб. «Литературные
очерки», стр. 167.
2 Там же, стр. 171.
95
Как видите, здесь нет ни малейшего следа мелодии,
а между тем это почти буквальное перепечатывание ни-
жеследующих сомнительно-музыкальных строк:
Старик говорил: «Ты подумай о нас,
Мы люди тебе не чужие:
И мать, и отца, и дитя наконец,
Ты всех безрассудно бросаешь,
За что же?» — «Я долг исполняю, отец!»
«За что ты себя обрекаешь
На муку?» — «Не буду я мучиться там!
Здесь ждет меня страшная мука.
Да если останусь, послушная вам,
Меня истерзает разлука.
Не зная покоя, ни ночью, ни днем,
Рыдая над бедным сироткой,
Все буду я думать о муже моем
Да слышать упрек его кроткий...»
К чему же, спрашивается, здесь стихотворная форма,
когда она ровно ничего не прибавляет к рассказу ни в
красоте, ни в силе впечатлений? И таких опытов с некра-
совскими стихами можно сделать множество. Что же это
доказывает? Это доказывает, что стихотворная форма,
по природе своей, не необходима для большинства сю-
жетов, изображаемых автором, и не существенна для
передачи его настроения, что она мало пригодна для
того материала, которым автор так часто наполняет свой
текст. «Язык богов» не сливается с этим материалом в
одно целое, он не преобразовывает его в нечто лучшее и
легко спадает с него, как бренная шелуха... Почему же
Некрасов употреблял в этом случае стихи? Можно ду-
мать, что Некрасов добросовестно заблуждался и часто
сам не подозревал, что пишет рифмованную прозу»1.
Некрасов «надолго приучил русскую публику требо-
вать от стихов прозы». Итак, многие стихотворения Не-
красова— это «поэзия обиходная, удешевленная для
всеобщего употребления, поэзия-аплике, мельхиоровая;
политура с нее местами уже сходит и со временем сой-
дет совсем»1 2.
Все эти субъективно-эстетические рассуждения об
индивидуальном стиле Некрасова (в той же мере и о
всяком другом индивидуальном стиле или о стиле лите-
1 С. А. Андреевский, О Некрасове, стр. 163—167.
2 Т а м же, стр. 168—169.
96
ратурного направления) должны быть исторически рас-
смотрены ^объяснены на фоне общих процессов и зако-
номерностей развития истории литературного языка и
стилей художественной литературы в связи с историей
общества, с историей народа. При этом глубокое кон-
кретно-историческое понимание самих стилей художест-
венной литературы невозможно без основательного
знания литературного языка соответствующей эпохи
и характера связей его с языком художественной литера-
туры того же времени.
Вот почему целесообразно прежде всего подойти к
изучению языка художественной литературы в целом,
отправляясь от задач истории литературного языка1.
2
Не подлежит сомнению, что язык художественной ли-
тературы в своем историческом движении не может
изучаться независимо от истории общенародного разго-
ворного языка и его ответвлений и от истории литера-
турного языка. Известно, что характер отношений между
народно-разговорным языком с его территориальными и
социально-групповыми диалектами и жаргонами и между
литературным языком исторически изменчив. Следова-
тельно, исторически изменяются связи и взаимодействия
языка художественной литературы с народно-разговор-
ным языком, а также и с литературным языком в соб-
ственном смысле. Так, например, в период образования
и развития народностей поэзия, точнее некоторые жанры
художественной литературы, нередко пользуются «чу-
жим», во всяком случае, не родным для той или иной
народности языком (ср., например, функции галисий-
ского языка в Испании; арабского —в странах Востока
п т. п.). Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что
до сих пор не изучены ни изменения в объеме и со-
держании понятия «художественная литература», ни
различия в характере отношений художественной лите-
1 Ср. замечания Рикардо Пиккио (V. V. Vinogradov, Общие
проблемы и задачи изучения языка русской художественной лите-
ратуры, in «Известия АН СССР, Отделение литературы и языка»,
1957, т. 16, вып. 5, стр. 407—429J. «Ricerche Slavistiche», V—1957.
97
ратуры к другим областям культуры народов в разные
эпохи. Между тем весь этот обширный комплекс проблем
тесно связан с изучением положения и функций «языка»
художественной литературы в той сложной языковой
системе (складывающейся нередко из отдельных, част-
ных функциональных систем), которая называется
«литературным языком». Например, в древней Руси
художественная литература развивалась как на на-
родно-литературном языке восточного славянства, так и
на старославянском языке русской редакции.
Вопрос о функциональной дифференциации этих двух
типов древнерусского поэтического языка, а также о
специфических качествах языка древнерусской художест-
венной литературы соотносительно с другими разновид-
ностями письменно-литературного языка той эпохи иссле-
дован очень мало. В этом направлений историками древ-
нерусской литературы (акад. В. М. Истриным, акад.
В. И. Ламанским, акад. А. С. Орловым, чл.-корреспон-
дентами АН СССР В. П. Адриановой-Перетц и Д. С. Ли-
хачевым, проф. И. П. Ереминым, акад. Н. К. Гудзием
и др.) сделано гораздо больше конкретно-исторических
наблюдений, чем историками древнерусского литера-
турного языка в наше время. Есть попытки (в работах
проф. Л. П. Якубинского, Г. О. Винокура) рассматри-
вать язык древнерусской художественной литературы
как особый стиль литературного языка, соотносительный
с двумя другими стилями — стилями памятников цер-
ковной письменности и памятников юридической и
бытовой письменности1. Так профессор Г. О. Винокур
рассматривает язык древнерусской художественной лите-
ратуры как «такую форму скрещения книжных и оби-
ходных средств речи, при которой те и другие совме-
щаются как более или менее равноправные участки еди-
ного и цельного акта речи. Этот акт речи уже внутри
себя стилистически разнообразен и не однозначен»1 2.
В этом древнерусском «литературно-художественном»
стиле, осуществляющем совмещение и взаимопроникно-
вение книжного и обиходного начал языка, оба эти на-
чала сливаются в своеобразное синтетическое единство
1 См. Л. П. Якубинский, История древнерусского языка,
М. 1955; Г. О. Винокур, Русский язык, М. 1945.
2 Г. О. Винокур, Русский язык, стр. 66.
98
или по крайней мере обнаруживают тенденцию к та-
кому слиянию Ч
Г. О. Винокур утверждает, что «такое синтезирова-
ние двух начал в языке есть самое характерное явление
истории русского литературного языка в целом»1 2. Од-
нако в концепции Г. О. Винокура выделение языка древ-
нерусской художественной литературы в особый стиль
древнерусского литературного языка на основе отвле-
ченного принципа — синтезирования народных восточно-
славянских и старославянских или церковнославянских
«начал» — является малоубедительным, историко-линг-
вистически необоснованным. Самые принципы синтеза
книжного и обиходного «начал» в стиле древнерусской
художественной литературы Г. О. Винокуром не раскры-
ваются. Внутренние, специфические, дифференциальные
признаки этого стиля в их конкретных формах — фоне-
тических, грамматических и лексико-фразеологических —
не описываются. Этому мешает и то обстоятельство, что
стилистическая характеристика церковно-книжного и де-
лового стилей в книге Г. О. Винокура вращается в рам-
ках самых общих и тривиальных грамматических и лек-
сических примет. Кроме того, историки древнерусской
литературы указали на огромную роль не только восточ-
нославянской разговорно-бытовой речи, но и языка де-
ловой письменности и языка народной словесности, древ-
нерусского фольклора в развитии стилей древнерусской
художественной литературы. Таким образом, можно пред-
полагать, что язык древнерусской художественной
литературы включал в себя все разновидности древне-
русской устной и письменно-литературной речи, их своеоб-
разно используя и «синтезируя». Его внутренние специ-
фические качества, широта его состава и своеобразие
его функций выводят его за пределы простой «соотноси-
тельности» с другими стилями древнерусского литера-
турного языка. Естественно, что по отношению к древ-
ним периодам развития русской литературы и русского
литературного языка до XVI—XVII веков — при пока
еще неясных контурах литературно-языковых норм и
пределов их колебаний — специфика словесно-художест-
венных отклонений от типических свойств разных видов
1 См. Г. О. Винокур, Русский язык, стр. 73—74.
2 Т а м же, стр. 74.
99
письменно-литературной речи остается малоопределен-
ной. Она чаще всего относится к сфере словесных обра-
зов, развернутых метафор или композиционно-ритмиче-
ского строения речи. Своеобразия сочетания и объедине-
ния разностильных и разнотипных элементов книжносла-
вянской и народно-русской речи, характерные именно для
словесно-художественных произведений той эпохи, все
еще не изучены и не раскрыты, хотя в последние десятиле-
тия накопилось немало новых наблюдений в этой области.
Таким образом, сохраняет всю свою актуальность за-
дача, в настоящее время несколько схематически и одно-
сторонне разрабатываемая историками древнерусской
литературы (XI—XIV вв.),— задача изучения структур-
ных качеств и выразительных средств языка древнерус-
ской художественной литературы в его развитии
соотносительно и сопоставительно с исторически изменяю-
щейся системой (или «системами») древнерусского пись-
менно-литературного языка в его разных типах.
Само собой разумеется, что в последующую эпоху
(XV—XVII вв.), в эпоху становления и развития велико-
русской народности, состав, функции, стилевые жанры
и приемы синтезирования разных речевых стихий в языке
русской художественной литературы делаются разно-
образнее и сложнее; процессы столкновения и объеди-
нения разностильных элементов — интенсивнее, глубже
и дифференцированнее. Достаточно сослаться на наблю-
дения академика А. С. Орлова и А. Н. Робинсона над
стилями исторической беллетристики XVI—XVII веков,
В. П. Адриановой-Перетц—над стилями сатирических
сочинений XVII века, И. П. Еремина — над «барокко»
Сим. Полоцкого, Д. С. Лихачева — над процессами раз-
вития речевых характеристик персонажей в литературе
XV—XVII веков и над стилистическими тенденциями
«второго южнославянского влияния».
Между тем в установившихся представлениях о раз-
витии русского литературного языка в эту эпоху (XV—
XVII вв.) обычно выделяются лишь два стиля: деловой,
или, по позднейшей терминологии, приказный, и литера-
турно-книжный. Согласно этой концепции «литературно-
художественный стиль», выступавший в древней Руси
как самостоятельная система, в великорусский период
развития русского литературного языка как бы сливается
с церковно-книжным стилем. Иными словами: литера-
100
Турно-художественные произведения этой эпохи будто бы
утрачивают свою стилистическую специфику1. Несом-
ненно, что в действительности развитие языка русской
художественной литературы в эту эпоху шло совершенно
по иному пути. Система стилей художественной литера-
туры в XVI—XVII века и самые структурные качества
их были сложнее, разнообразнее и противоречивее, чем
в XI—XIV веках.
Сложность и многообразие стилевых форм в составе рус-
ской художественной литературы именно в эпоху позднего
средневековья, естественно, вызывали потребность в стили-
стическом упорядочении, в разграничении основных стили-
стических потоков и систем. Идея о дифференциации трех
«родов глаголания» выкристаллизовывается на почве раз-
вития стилей и жанров художественной литературы со вто-
рой половины XVI —начала XVII века.
Теория трех стилей, складывавшаяся еще в латин-
ской литературе (Цицерон, Гораций, Квинтилиан) 1 2,
была возрождена в эпоху Ренессанса и классицизма
(в XVII и XVIII вв.). Она получила своеобразные на-
циональные и конкретно-исторические черты в разных
европейских странах. Ею воспользовались и русские пи-
сатели XVI—XVII веков, а затем М. В. Ломоносов, пре-
красно знакомый с риторическими и стилистическими
теориями далекого прошлого и своей эпохи.
Теория трех стилей стремилась охватить не только
жанры художественной литературы, науки и публици-
стики, но и вообще все разновидности речи, в то время
сочетавшиеся с представлением о письменно-литератур-
ном русском языке. Поэтому одной из важнейших задач
изучения истории языка русской художественной лите-
ратуры является лингвистическое исследование всех ли-
тературных жанров с XVII века в их движении, в их со-
отношениях и в их структурных преобразованиях с точ-
ки зрения соответствия их нормам теории трех стилей.
Особенно острой и неотложной является задача изуче<
1 См. мою статью «О понятии стиля языка (применительно к
истории русского литературного языка)», «Известия АН СССР.
Отделение литературы и языка», 1955, т. XIV, вып. 4.
2 См. Е. A. Curtins, Die Lehre von der drei Stilen im Altertum
und Mittelalter. Romanische Forschungen, 1952, S. 57—69. Ср. также:
A. Galdi, Trois etudes de A. J. Efimov sur la langue litteraire russe.
«Acta linguistica», 1955, Budapest, t. V, fasc. 1—2, p. 253.
101
ния конструктивных качеств, языкового состава и гра-
ниц социально-речевых и функциональных колебании
так называемого «среднего стиля» русского литературно-
го языка XVIII века. Ведь еще до сих пор очень распро-
странено предположение, что именно на почве среднего
стиля сформировалась система общерусского националь-
ного литературного языка и что именно в этой области
скрещивались особенно глубоко и разносторонне обще-
литературный язык и язык художественной литературы.
Так, по словам Г. О. Винокура, «создание высокого и
низкого слогов было, собственно, заслугой перед русской
литературой соответствующего периода, а по отношению
к самому русскому языку оказалось полезным лишь
косвенно. Именно оно оставляло свободный путь для раз-
вития так наз. среднего слога, предназначавшегося пре-
имущественно для литературы не художественной, а
научной и публицистической, то есть именно такого рода
письменности, где особенно успешно мог продолжаться
процесс скрещения книжной и обиходной речи в единый
и цельный общеписьменный русский язык».
Таким образом, до Карамзина общая генеральная ли-
ния развития русского литературного языка, а следова-
тельно, и основные процессы формирования русского на-
ционального литературного языка будто бы проходили за
пределами наиболее интенсивно разрабатывавшихся и
наиболее богатых сфер языка русской художественной
литературы. «Будущее русского литературного языка,—
писал Г. О. Винокур,— вырастало именно в пределах
среднего стиля, каковы бы ни были собственно литера-
турные достоинства двух остальных в применении к соот-
ветствующим литературным жанрам»х. Все эти отвле-
ченные соображения нуждаются в коренном историко-
лингвистическом и историко-литературном пересмотре.
Нет никаких оснований говорить о резком стилевом
разрыве и разобщении между высокими жанрами лите-
ратуры и такими видами научной и политической публи-
цистики XVIII века, как торжественные речи, научные
доклады на парадных заседаниях, правительственные
манифесты, церковные проповеди и т. п.
Точно так же не было непреступаемой границы меж-
ду средним стилем художественной литературы (ср. раз-
1 Г. О. Винокур, Русский язык, стр. 124—125.
102
витие повести и романа в XVIII в.) и средним стилем де-
ловой, журнальной и научной прозы Ч Литературная об-
работка «просторечия» служила мощным двигателем,
сближающим национальный литературный язык с на-
родно-разговорным языком.
Создание нормативной «Российской грамматики»
М. В. Ломоносовым содействовало, хотя и в разной сте-
пени и даже в разных отношениях, как развитию русско-
го литературного языка и становлению его общенацио-
нальных норм, так и развитию языка русской художест-
венной литературы.
Итальянский философ-марксист А. Грамши считал
создание нормативной грамматики необходимым сред-
ством развития общности языка и национальной культу-
ры. «Грамматика — «история» или «исторический доку-
мент»,— пишет он,— «фотография» определенной фазы
национального (коллективного) языка, исторически сло-
жившегося и находящегося в непрерывном развитии, или
основные черты этой фотографии». Единая норматив-
ная грамматика «стремится охватить всю национальную
территорию и всю сферу языка, чтобы упорядочить его
в унитарно-национальном языке; вместе с тем это подни-
мает на более высокий уровень и «индивидуальные»
выразительно-художественные возможности речи, по-
скольку создает более мощный и однородный костяк
национального языкового организма, коего всякий инди-
вид является отражением и истолкованием».
Нормативная грамматика имеет особенное значение
для культурного развития широких народных масс1 2.
Место или функциональное положение языка русской
художественной литературы в системе национального
русского литературного языка XVIII — XX веков остает-
ся неисследованным с исторической точки зрения. Ни-
кто не отрицает, что соотношение языка художествен-
ной литературы и норм общего литературного языка за
это время претерпевало очень существенные изменения.
Это в равной мере относится как к грамматическим, так
и к лексико-фразеологическим свойствам литературной
1 См. мою статью «Проблема исторического взаимодействия ли-
тературного языка и языка художественной литературы», «Вопросы
языкознания», 1954, № 4.
2 A. Gramsci, Letteratura е vita nazionale, 1950, Torino,
Einaudi, p. 197—199, 204.
103
речи. Например, Л. Н. Толстой остро подмечал измене-
ния в стилистической системе русского литературного
языка в конце XIX — начале XX века, в принципах под-
бора и связи слов. Об этом писал А. М. Горький:
«Нередко он говорил мне:
— Вы хорошо рассказываете — своими словами,
крепко, не книжно.
Но почти всегда замечал небрежности речи и гово-
рил вполголоса, как бы про себя:
— Подобно, а рядом — абсолютно, когда можно ска-
зать — совершенно!
Иногда же укорял:
— Хлибкий субъект—разве можно ставить рядом
такие несхожие по духу слова? Нехорошо...» 1
Многим казалось, что словарь языка художествен-
ной литературы гораздо шире и многосоставнее, стили-
стически и диалектологически разнообразнее лексической
системы литературного языка в собственном смысле.
Академик И. В. Ягич в письме к академику А. А. Шах-
матову (из Вены 9/21 марта 1895 г.) писал: «Что ка-
сается словаря русского, мне казалось бы, что не следо-
вало бы ограничиться писателями 19-го столетия, это не
будет тогда исторический словарь нового литературного
языка. Надо бы, по-моему, как я уже Вам писал, вынуть
из писателей 18-го и 19-го столетий известное, не очень
широкое, но и не очень узкое, число и на основании их
сочинений создать словарь» (Архив АН СССР).
Процесс образования общенациональной нормы рус-
ского литературного языка, протекавший при активном
содействии художественной литературы, способствовал
возникновению и эстетическому осознанию двух взаимо-
связанных категорий словесно-художественного творчест-
ва — историзма как стилеобразующей категории и ре-
ализма как метода литературного изображения соци-
ально-исторической действительности. Таким образом, и
в XIX веке — при всей сложности и многообразии
процессов развития художественной литературы — она
играла огромную роль в формировании и разви-
тии русского литературного языка. Дело в том, что
национальная нормализация всех сторон структуры
1 А. М. Горький, Лев Толстой (заметки), Сб. «Л. Н. Толстой
в воспоминаниях современников», т. II, Гослитиздат, 1955, стр. 387.
104
литературного языка сопровождалась социально-исто-
рической оценкой вариантных и вообще сосуществующих
способов выражения: отжившее, устарелое, узко провин-
циальное или диалектное уступало место живому, об-
щепризнанному, национально оправданному; старое
соотносилось с актуальным, современным; принцип исто-
рической оценки и исторического разграничения высту-
пал как мерило при канонизации норм. Характерен все
возрастающий во второй половине XVIII века интерес к
древнерусским памятникам, их языку, к древнерусской
терминологии и фразеологии, к истории русского наро-
да. В 20 — 30-х годах XIX века начинают разрабатывать-
ся на базе углубляющихся реалистических тенденций
принципы исторической стилизации языка, появляются
исторические повести, драмы и романы с ориентацией на
стиль эпохи (ср. отход А. А. Бестужева-Марлинского от
стиля карамзинских мнимоисторицеских повестей «На-
талья, боярская дочь» и «Марфа Посадница»; развитие,
хотя и в разной степени и в разных формах сочетания с
романтическими традициями, реалистических приемов
исторического изображения в «Юрии Милославском» За-
госкина и в «Арапе Петра Великого». А. С. Пушкина; тор-
жество реалистического метода в «Капитанской дочке»).
Состав языка русской реалистической художествен-
ной литературы неизмеримо расширяется по сравнению
с предшествующей литературой. Живая русская речь в
многообразных ее профессиональных, социальных и ди-
алектных проявлениях с 30-х и особенно с 40-х годов
XIX века широким потоком хлынула в художественную
литературу и стала пластической массой для лепки об-
разов, национально-типических характеров, а также для
построения диалога.
Вот несколько иллюстраций на применение разных
выражений и разных социально-речевых стилей в рус-
ской реалистической художественной литературе с рез-
ким характеристическим изменением их функций.
«— Здравия желаем,— сказал Яков, вводя старуху в
приемную.— Извините, все беспокоим вас, Максим Ни-
колаич, своими пустяшными делами. Вот извольте ви-
деть, захворал мой предмет. Подруга жизни, как это го-
ворится, извините за выражение» (А. Чехов, Скрипка
Ротшильда, в речи гробовщика Якова Бронзы). В пове-
сти «Три года» А. П. Чехов так описывает манеру речи
105
старшего приказчика в торговом доме Лаптевых — По-
чаткииа: «Старший приказчик, высокий мужчина лет 50,
с темною бородой, в очках и с карандашом за ухом,
обыкновенно выражал свои мысли неясно, отдаленными
намеками, и по его хитрой улыбке видно было при этом,
что своим словам он придавал какой-то особенный, тон-
кий смысл. Свою речь он любил затемнять книжными сло-
вами, которые он понимал по-своему, да и многие обык-
новенные слова часто употреблял он не в том значении,
какое они имеют. Например, слово «кроме». Когда он
выражал категорически какую-нибудь мысль и не хотел,
чтоб ему противоречили, то протягивал вперед правую
руку и произносил; Кроме!
И удивительнее всего было то, что его отлично по-
нимали остальные приказчики и покупатели. Звали его
Иван Васильевич Початкин, и родом он был из Каши-
ры. Теперь, поздравляя Лаптева (с браком.—'В. В.), он
выразился так: — С вашей стороны, заслуга храбрости,
так как женское сердце есть Шамиль» (гл. V).
В рассказе А. П. Чехова «Бабье царство» изобра-
жен присяжный поверенный Лысевич — краснобай, ци-
ник и декадент. Говорит он «вычурно», «складно, плав-
но, без запинки». «Прописная мораль в оригинальной
форме вызывает у него слезы. Обе записные книжки у
него исписаны необыкновенными выражениями, которые
он вычитывает у разных авторов, и когда ему нужно бы-
вает отыскать какое-нибудь выражение, то он нервно
роется в обеих книжках и обыкновенно не находит».
Вот образец его речи:
«Милая, читайте Мопассана! Одна страница его
даст вам больше, чем все богатства земли! Что ни строка,
то новый горизонт. Мягчайшие, нежнейшие движения
души сменяются сильными, бурными ощущениями, ваша
душа точно под давлением сорока тысяч атмосфер обра-
щается в ничтожнейший кусочек какого-то вещества не-
определенного, розоватого цвета, которое, как мне кажет-
ся, если бы можно было положить его на язык, дало бы
терпкий, сладострастный вкус. Какое бешенство перехо-
дов, мотивов, мелодий! Вы покоитесь на ландышах и
розах, и вдруг мысль, страшная, прекрасная, неотразимая
мысль неожиданно налетает на вас, как локомотив, и
обдает вас горячим паром и оглушает свистом. Читайте,
читайте Мопассана! Милая, я этого требую!»
106
Чехов затем иронически характеризует принципы
подбора слов в стиле речи Лысевича: «После длинного
вступления, в котором было много таких слов, как де-
моническое сладострастие, сеть из тончайших нервов, са-
мум, кристалл и т. п., он, наконец, стал рассказывать со-
держание романа».
В реалистической художественной литературе в ха-
рактерологических целях широко используется экспрес-
сивное значение фонетико-морфологических прираще-
ний и каламбурных видоизменений слова и его слово-
образовательной структуры. Например, в речи дьякона
Ахиллы (из «Соборян» Лескова): «Вот бог меня убей
шельма какая у нас этот Николавра! — взвыл вдруг от
удовольствия дьякон Ахилла и, хлопнув себя ладонями
по бедрам, добавил: — Глядите на него,— маленький, а
между тем он, Клапштос, с царем разговаривал». Са-
мый характер экспрессивных новообразований обуслов-
лен общим социальным стилем личности.
Очень показателен диалог в «Приключениях, почерп-
нутых из моря житейского» А. Ф. Вельтмана, построен-
ный на каламбуре, на столкновении разных значений и
оттенков слов, особенно глагола биться: «—Не забыла
ли ты, душа моя, подорожную? — спросил он прежде
всего у дамы.
— О нет, я ничего не забыла.
— И сердце, полное любовью, с тобой?
— О, вот оно, вот! чувствуешь, как бьется?.
„ Худо уложено, возлюбленная моя! — подумал Дмит-
рицкий,— в дорогу должно так укладывать всё, чтоб не
билось “».
Структура образов в разных стилях словесно-худо-
жественного творчества — важный специфический пред-
мет исследования науки о языке литературы. Самые
принципы определения экспрессивно-семантической при-
роды словесных образов, критерий их типологической
классификации, изучение основных направлений их раз-
вития в той или иной национальной литературе, общие
законы их организации в разноязычных литературах —
все это большие проблемы стилистики художественной
литературы. У нас в этой сфере больше индивидуальных
конкретных наблюдений, чем историко-семантических
обобщений и стилистических разграничений.
Вот несколько иллюстраций.
107
«...Образы Чехова — оригинальны, смелы. «Волост-
ной старшина и волостной писарь до такой степени про-
питались неправдой, что самая кожа на лице у них была
мошенническая» («В овраге»).
«Лицо Пимфова раскисает еще больше, вот-вот рас-
тает от жары и потечет вниз за жилетку» («Мысли-
тель») .
До Чехова — сказать так не рискнули бы. Тут Чехов
выступает в роли новатора: он впервые начинает поль-
зоваться приемами импрессионизма»1.
Об эпитетах Твардовского — конкретно-точных и по-
этических— очень хорошо говорил Конст. Ваншенкин:
«Вспоминаю начало «Соловьиного сада»:
Я ломаю слоистые скалы
В час отлива на илистом дне,
И таскает осел мой усталый
Их куски на мохнатой спине.
Эпитеты очень точны: скалы — слоистые, дно — илистое,
осел — усталый, спина его — мохнатая.
Эпитеты эти точны, но так мог сказать каждый на-
блюдательный человек, а не обязательно поэт.
Но немного дальше идет:
По ограде высокой и длинной
Лишних роз к нам свисают цветы.
Не пышных, не ярких, не блеклых, не каких-либо еще,
а именно лишних. Там, за оградой, все увито розами,
там их, грубо говоря, достаточно, слишком много, и вот
лишние свисают на эту сторону. Так увидеть мог толь-
ко поэт, художник.
У больших поэтов эпитеты так точны, что мы их за-
частую даже не замечаем.
Эпитеты, поражающие нас, встречаются не слишком
уж часто, в этом тоже их сила.
Вот эпитет Твардовского о финской кампании («Две
строчки»).
На той войне незнаменитой.
Предельно и даже как-то невероятно точно, такого не при-
думаешь. И здесь нет ничего пренебрежительного к лю-
дям той войны, нет, это... написано «среди большой вой-
1 Е. Замятин, Лица. Изд. имени Чехова, Нью-Йорк, 1955,
стр. 48.
108
ны жестокой», когда финская кампания отодвинулась в
далекое прошлое и когда шла всеобщая народная война.
Или:
И ведь живая смерть страшна
И солдату тоже.
О смерти сказать, что она живая! То есть не какая-
то смерть вообще, о которой думают несколько абст-
рактно, вроде бы не всерьез, а вот она, увиденная в гла-
за,— живая смерть»
Таким образом, и тут перед нами — сложные задачи
изучения способов и видов взаимодействия литератур-
ного языка и языка художественной литературы и
вместе с тем изучения путей их расхождения, изучения
специфических особенностей языка художественной ли-
тературы. Далеко не всякое словесно-художественное
произведение движется в рамках установившихся или
устанавливающихся норм литературного языка со свой-
ственными ему функциональными стилями речи. Следо-
вательно, даже подходя к языку художественной лите-
ратуры с критериями и понятиями науки о языке, мы
можем и должны не только проследить его связи и отно-
шения с литературным языком и его стилями в разные
периоды литературно-языкового развития, но и открыть
своеобразные специфические качества языка художест-
венной литературы в его историческом движении.
Ведь когда говорят о «языке писателя», о «языке
художественной литературы», о «языке литературного
произведения», то слово язык употребляется здесь в
двух совершенно различных смыслах: 1) в смысле от-
ражения или частичного воплощения общей системы
того или иного национального (общенародного) языка
и 2) в смысле «языка искусства», то есть системы
средств художественного выражения. В первом случае
в языке художественного произведения выделяются эле-
менты системы литературного языка и его стилей, а
также возможные примеси диалектной, профессиональ-
ной или вообще социально-групповой речи. Следова-
тельно, в основном здесь решаются вопросы о значении
данного литературного произведения для истории ли-
тературного языка и его стилей.
1 Константин Ваншенки н, Перечитывая Твардовского (Ко-
роткие заметки), «Новый мир», 1958, № 3, март, стр. 192—193.
109
Отступления от общелитературной нормы, а также
новообразования в той или иной речевой сфере оцени-
ваются в исторической перспективе или как вклад авто-
ра в развитие литературного языка или как продукт
индивидуального речетворчества, порожденный художест-
венными устремлениями писателя, но не нашедший при-
знания и продолжения в дальнейшей истории общели-
тературной речи. Само собой разумеется, что при таком
изучении могут быть открыты те или иные приемы или
способы словесно-художественного творчества, прису-
щие индивидуальному стилю автора или даже того ли-
тературного направления, к которому он принадлежал
или которому следовал. Но проблемы литературно-сло-
весного искусства в этом случае отступают на задний
план перед вопросами и задачами истории литератур-
ного языка.
Совсем в ином плане движется исследование струк-
туры литературно-художественного произведения в ас-
пекте «языка искусства» и его форм. Об этом лет три-
дцать тому назад так писал М. А. Петровский в статье
«Поэтика и искусствоведение»1: «Искусство всегда есть
выражение некоторых имманентных ему содержаний
(Gestalt), и система этих выражающих знаков есть
язык искусства в прямом, а не метафорическом смысле.
Этот язык не есть язык понятий, но и не есть система
прямых и непосредственных симптомов переживаний,
доступных только одному их сопереживанию. Это есть
сфера своеобразных смыслов, сообщаемых искусст-
вом, в его формах как знаках, если угодно — как симво-
лах. Постижение или овладение этим языком требует
своей методики, создание и разработка которой есть за-
дача художественной герменевтики; примат в ее отноше-
нии области литературоведения над другими областями
искусствознания обусловливается самой словесной приро-
дой искусства поэзии, которое оно исследует, и поддержи-
вается, конечно, наличием такой разработанной ди-
сциплины, как филологическая герменевтика»1 2. Таким
образом, язык искусства — это система художественных
1 По поводу труда Оскара Вальцеля: Gehalt und Gestalt im
Kunstwerk des Dichters. Handbuch der Literaturwissenschaft. Akade-
mische Verlagsgesellschaft Athenaion, Potsdam, 1923.
2 M. А. Петровский, Поэтика и искусствоведение, «Искус-
ство», т. III, вып. II—III, стр. 123—124.
110
форм, их значений и функций. В художественной Ли-
тературе эта система возникает на основе синтеза ком-
муникативной функции литературного и народно-разго-
ворного языка с функцией выразительной и изобрази-
тельной.
К. А. Федин по этому вопросу писал: «Как же мож-
но поставить вопрос о языке в художественной литера-
туре? Установить правильное отношение к вопросу о
языке — значит установить правильное отношение к во-
просу о форме произведения.
Язык есть одно из главных слагаемых формы и, зна-
чит, вместе с нею служит средством к цели. В этом и
должна состоять основа нашего отношения к вопросу о
языке в художественной литературе. Это и отличает нас
от литературных морфологов, для которых слово — са-
мостоятельный материал и словесные задачи могут быть
самоцелью» В «Записной тетради» того же писателя:
«Слагаемых стиля много. Трудность овладения ими за-
ключается в том, что они лишены абсолютного сущест-
вования. Ритм, мелодика, словарь, композиция не живут
независимой жизнью, они связаны наподобие шахмат-
ных фигур: как нельзя двинуть пешкой без того, чтобы
не изменилось положение всех других фигур на доске,
так нельзя «поправить» в произведении литературы
только ритмику, только словарь, не повлияв при этом
на другие слагаемые стиля. Зачеркивая слово, я меняю
строй фразы, ее музыку, ее стопу, ее отношение к ок-
ружающей сфере.
Но основой стиля, его душой является язык. Это —
король на шахматной доске стиля. Нет короля —не мо-
жет быть никакой игры. Нет языка — нет писателя.
«Если у автора нет слога, он никогда не будет писа-
телем. Если же есть слог, свой язык, он, как писатель,
не безнадежен. Тогда можно рассуждать о других сто-
ронах его писаний».
Так сказал Чехов»1 2.
Задачи исследования стилистическо-речевой специ-
фики художественной литературы оказываются тесно
связанными с изучением общих закономерностей разви-
1 Конст. Федин, Писатель. Искусство. Время, «Советский
писатель», М. 1957, стр. 338. См. «К дискуссии о языке» (1933).
2 Т а м же, стр. 344—345.
111
тия литературного языка й вместе с тем далеко выходя-
щими за границы такого изучения. Исследование язы-
ка художественной литературы как словесного искус-
ства неотделимо от исторического анализа форм и типов
композиционной структуры литературных произведений,
приемов речевого построения образов персонажей, гос-
подствующих в ту или иную эпоху принципов организа-
ции «образа автора».
Специфические качества литературно-художествен-
ного произведения, характеризующие общий «стиль эпо-
хи», то есть в сущности совокупность стилистических
шаблонов господствующей школы, отстоявшуюся си-
стему литературных приемов, могут явиться и часто
являются объектом борьбы, предметом преодоления для
великих художников слова. На основе такого отталки-
вания от ставших трафаретом «литературных красот»
складывается и развивается индивидуальный стиль
крупного писателя, возникает новое словесно-художест-
венное течение. Яркой иллюстрацией может служить
стиль романа Ф. Достоевского «Подросток», в котором,
как известно, повествование ведется от лица самого
«подростка», окончившего курс гимназиста. Это его ав-
тобиографические записки. «Я записываю лишь собы-
тия, уклоняясь всеми силами от всего постороннего, а
главное от литературных красот... Я — не литератор, ли-
тератором быть не хочу, и тащить внутренность души
моей и красивое описание чувств на их литературный
рынок почел бы неприличием и подлостью» («Подрос-
ток», ч. I, гл. I). Однако это — не только литературный
манифест, но и выразительный способ раскрытия обра-
за и характера самого подростка как литературно-об-
щественного типа 60-х годов.
Изучение языка художественной литературы соотно-
сительно с литературным языком и его стилями в широ-
ком контексте культурно-политической истории народа
должно опираться также на знание системы изобрази-
тельных средств общенародного языка в ее истории.
Законы словесно-художественного творчества народа,
отражающиеся и в развитии его языка, определяют
направление, характер речетворчества писателей, строй
образов и состав экспрессивных красок, используемых
в литературных произведениях.
112
з
Исследование языка художественной литературы со-
относительно с литературным языком и его стилями в
свете тех же категорий и понятий, которые лежат в ос-
нове системы литературного языка, тенденций и законо-
мерностей его развития, не может дать исчерпывающе-
го и ясного представления о специфических качествах
языка художественной литературы и о внутренних зако-
нах его истории. Самые приемы и принципы отношения к
языку художественной литературы и его оценки уводят
нас в особую сферу стилистических категорий и поня-
тий. А. Ф. Кони вспоминает такое высказывание Л. Тол-
стого о языке русской художественной литературы
XIX века: «Язык большей части русских писателей стра-
дает массою лишних слов или деланностью. Встречают-
ся, например, такие выражения, как «взошел месяц,
бледный и огромный» — что противоречит действитель-
ности, или — «сжатые зубы виднелись сквозь открытые
губы». Это свойство особенно заметно у женщин-писа-
тельниц. Чем они бездарней, тем они болтливей... Насто-
ящий учитель литературного языка — Диккенс. Он умел
всегда ставить себя на место изображаемых лиц и ясно
представить себе, каким языком каждое из них должно
говорить»'.
И. А. Бунин в неоконченной книге о Чехове вспо-
минает свой разговор с Чеховым о стиле описания при-
роды: «Очень трудно описывать море. Знаете, какое
описание моря читал я недавно в одной ученической те-
тради? «Море было большое» и только. По-моему, чу-
десно». Бунин комментирует: «„...Море было большое".
Ему, с его постоянной жаждой наивысшей простоты, с
его отвращением ко всему вычурному, напряженному,
казалось это „ чудесным “»1 2.
Можно вспомнить также замечания современников о
чеховском ритме. «Явился чеховский ритм с нагромож-
дением .мелких предложений, связанных простым «и», с
напевно-грустною расстановкою слов, со специальными
приемами импрессионизма, усиливающими настроение,
1 А. Ф. Кони, Лев Николаевич Толстой. Сб. «Л. Н. Толстой
в воспоминаниях современников», Гослитиздат, М. 1955, т. I, стр. 333.
2 И. А. Б у н и н, О Чехове, Изд. имени Чехова, 1955, Нью-Йорк,
стр. 49—50.
5 В. В. Виноградов
113
с вынесением «было» в начало фразы и т. п. («и оттого,
что прошел дождь, казалось, что все вымылось», и т. д.,
«если прищурить глаза и смотреть вдаль, то кажется,
что»... и т. д.).
Чехов писал:
« — И во сне или в бреду показалось преосвященно-
му, будто в толпе подошла к нему его мать, и, принявши
от него вербу, отошла и все время глядела на него ве-
село, с доброй, радостной улыбкой, пока не смешалась
с толпой. И почему-то слезы потекли у него по лицу...
Был апрель в начале, и после теплого весеннего дня ста-
ло прохладно, и в мягком холодном воздухе чувствова-
лось дыхание весны... Надо было ехать шагом, и по обе
стороны кареты, в лунном свете, ярком и покойном, пле-
лись по песку богомольцы. И все молчали, задумавшись,
все было кругом приветливо, молодо, так близко, все —
и деревья, и небо, и даже луна, и хотелось думать, что
так будет всегда...»
Чехов еще был жив, когда вдруг вся молодежь во-
круг него подхватила его стиль.
„ — Было что-то неуловимо общее в наружности ее и
жены Рыбальского. И теперь доктор представлял себе
Лизу необыкновенно ясно, и от любви к ней ему хотелось
плакать... В темном уснувшем лесу особенно хорошо ду-
малось и вспоминалось. Мрачное настроение капитана
раздражало, и почему-то было жаль этого угрюмого че-
ловека"» Г
Очень интересна воспроизведенная В. Г. Короленко
характеристика метода творчества Ф. М. Достоевского,
принадлежащая Г. И. Успенскому: «Глеб Иванович за-
думался и потом, указывая двумя пальцами в тесное
пространство между открытой дверью кабинета и сте-
ной, сказал:
— Посмотрите вот сюда... Много ли тут за дверью
уставится?
— Конечно, немного,— ответил я, еще не понимая
этого перехода мысли.
— Пара калош...
— Пожалуй.
— Положительно: пара калош. Ничего больше...
1 А. А. Измайлов, Помрачение божков и новые кумиры М
1910, стр. 154—155.
114
И вдруг, повернувшись ко мне лицом и оживляясь,
он докончил:
— А он сюда столько набьет... человеческого стра-
данья, горя... подлости человеческой... что прямо на че-
тыре каменных дома хватит...» Ч
Интересны комментарии В. Г. Короленко к стилисти-
ческой манере речи самого Г. И. Успенского:
«Впоследствии мне пришлось не раз встречаться с
этим изумительным уменьем Успенского — двумя-тремя
словами, комбинацией первых попавшихся на глаза
предметов — объяснить и иллюстрировать сложные яв-
ления, для которых другим нужны длинные рассуждения
и множество слов... Его суждения всегда бывали крат-
ки, образны, били в самую сущность явления и часто
освещали его с неожиданной стороны. И никогда в
них не было того легкого остроумия, в котором чувст-
вуется равнодушие к предмету и безразличная игра
ума» 1 2.
Все эти иллюстрации говорят о том, что специфика
«языка» художественной литературы не может быть рас-
крыта во всей ее сложности только с помощью методов
и приемов лингвистического изучения языковой системы
или структуры.
Конечно, было бы очень просто стать на позицию фу-
туристической эстетики и признать основной закономер-
ностью развития поэтического языка или языка художе-
ственной литературы тенденцию к «деформации», к
«остраннению» или к нарушению общелитературных
языковых норм. Так, под влиянием русских футуристиче-
ских концепций поэтического языка, связанных с имена-
ми В. Хлебникова, О. М. Брика, Л. П. Якубинского,
В. Б. Шкловского, Р. О. Якобсона и др., в основном^ и
представлены многие процессы развития чешского по-
этического языка как особой самостоятельной сферы
языкового движения в известном труде академика
Б. Гавранка «История чешского литературного языка»3.
Но это — односторонняя и ошибочная точка зрения. Ее
идеологические корни легко найти в таких высказывани-
1 В. Г. Короленко, О Глебе Ивановиче Успенском (Черты
из личных воспоминаний), Собр. соч., т. 8, М. 1955, стр. 18.
2 Т а м ж е.
3 В. Havranek, Vyvoj spisovneho jazyka ceskeho ceskoslo-
venska vlastiveda, rada II, Praha, 1930.
5* 115
ях раннего футуризма: «Меня спрашивают,— националь-
на ли поэзия? —Я скажу, что все арабы черны, но не все
торгуют сажей —и потом еще — страусы прячутся под
кустами (Strauch). Да. Путь искусства через национа-
лизацию к космополитизму» Ч Однако эта национализа-
ция осуществляется через индивидуальное мифотворче-
ство, а не через литературный язык: «ваш язык для тор-
говли и семейных занятий»1 2. С точки зрения лингвиста,
эта манифестация футуризма — невежественное, анти-
историческое и вместе с тем патологическое проявление
индивидуализма.
В издании «Заумники» (1922) заявлялось о «всемир-
ном» языке поэзии: «Заумные творения могут дать все-
мирный поэтический язык, рожденный органически, а
не искусственно как эсперанто». Показательно, что эта
тенденция освободиться во имя заумно-космополитиче-
ской сущности поэзии от семантики национально-лите-
ратурных языков сопровождалась заботой о новом обра-
зе поэта как возрожденного Адама, который, сбросив с
«парохода современности» предметно-смысловой груз
литературных слов, выражений и отчасти конструкций,
в звуковой и письменно-чувственной оболочке звучаний
непосредственно осязает «мифы мира». Образ поэта
становится в непосредственное отношение к мифосло-
ву — помимо общества, нации, помимо «мира челове-
ческих сущностей». «До нас,— писали футуристы,— ре-
четворцы слишком много разбирались в человеческой
«душе» (загадки духа, страстей и чувств), но плохо зна-
ли, что душу создают баячи, а так как мы, баячи, бу-
детляне, больше думали о слове, чем об затасканной
предшественниками «Психее», то она умерла в одиноче-
стве и теперь в нашей власти создать любую новую...
захотим ли?...—! Нет!.. Пусть же лучше поживут сло-
вом как таковым, а не собой» 3.
Таким образом, даже в эстетике и поэтике футуриз-
ма отрыв поэтического языка от национального литера-
турного языка — или, вернее: разрыв (хотя и не полный,
а иногда даже мнимый, постулируемый, но не осущест-
1 Н. и Д. Б у р л ю к, Поэтические начала, «Футуристы», М.
1914, № 1—2, стр. 84.
2 Т а м же.
3А* Крученых и В. Хлебников, Слово как таковое, М.
1913, стр. 11.
116
вляемый) между языком художественной литературы и
общим литературным языком мотивируется не только
формальными соображениями о необходимости и
эстетической целесообразности художественных откло-
нений от общенародного языка, но и своеобразными
представлениями об образе поэта — «баяча» или «будет -
лянина», о новом идеологически мотивированном отно-
шении поэтического языка к языку национальному, об
интернациональной всемирной основе языка поэзии.
Следовательно, историческое изучение «языка худо-
жественной литературы» нельзя отрывать от исследова-
ния социально-идеологически обусловленных и господ-
ствующих в ту или иную эпоху взглядов на отношение
писателя, его художественной системы к письменно-ли-
тературному и народно-разговорному языку в их разно-
видностях и взаимодействиях. Так, в древнерусской
литературе, по крайней мере в некоторых ее жанрах (на-
пример, в летописно-повествовательном, житийном, про-
поведническом и т. д.), выступали образы повествовате-
лей — религиозных моралистов и «истинных христиан»,
которые руководствовались в системе своего изложения
и изображения не только церковной «табелью о ран-
гах», но и церковно-канонизированными, как бы «пред-
установленными» образами святых: мучеников, велико-
мучеников, преподобных подвижников, христианских
героев — князей и т. п. Профессор И. П. Еремин назвал
такой стиль «агиографическим». Этот стиль целиком
базируется на системе церковнославянского языка и
вместе с тем связан со строго определенными книжно-
славянскими формулами изображения действий и пере-
живаний человека, с церковно-книжными приемами изо-
бражения внутренней сущности представителя той или
иной религиозно-моральной категории лиц, его внешне-
го облика и всего уклада его поведения. Ярлык —
агиографический — слишком общ, но в основном подхо-
дящ. Важно лишь изучить вариации и разновидности
этого стиля в историческом движении (ср. «словоплету-
щий» и «словоплодящий» стиль книжников конца XIV —
XVI вв.).
Само собой разумеется, что формы отношений языка
художественной литературы к другим разновидностям
письменно-литературной и народно-разговорной речи бы-
вают различны по жанрам и по разным литературным
117
направлениям. Следовательно, они обусловлены в изве-
стной мере специфическими закономерностями разви-
тия форм и жанров художественной литературы. Речь
идет не только о специфических конструктивных свойст-
вах стихотворного языка, но и о языке художественной
прозы. В соответствии с различиями в «образе автора» и
воспроизводимой исторической действительности есть,
например, существенная разница у Пушкина в отноше-
нии к литературному языку тридцатых годов в стиле
«Капитанской дочки» и «Пиковой дамы». В «Капитан-
ской дочке» применены своеобразные принципы истори-
ческой стилизации языка.
Правда, Пушкин пользуется лишь наиболее типиче-
скими и выразительными, стержневыми — и в то же вре-
мя не очень резкими —чертами языка изображаемого
быта. Для этого Пушкин создает в системе повествова-
тельного стиля исторического романа несколько прелом-
ляющих призм. Он вмещает самого повествователя «Ка-
питанской дочки» в изображаемую историческую среду.
Он как бы устраняет исторического романиста, а на его
место ставит мемуариста, непосредственного свидетеля
описываемых событий. Вместо искусственной роман-
тической декламации современного писателя звучит
живой голос человека другой эпохи. Реалистический
принцип индивидуальной характеристики речи ведет к
ограничению внешних лексических средств исторической
стилизации. «Дух века», веющий в образе мыслей, в обы-
чаях и свычаях, в отдельных характерах, не нуждается
в настойчивых напоминаниях о нем посредством ста-
ринных слов и оборотов. Формы бытовой и письменно-
деловой речи последней трети XVIII века еще не были
изжиты в начале XIX века. На них указывали типиче-
ские слова и формы экспрессии, сохранявшиеся у дво-
рян — представителей старшего поколения или у стари-
ков дворовых. И Пушкин, сохраняя историческое прав-
доподобие общего семантического колорита речей своих
персонажей, изредка прибегает к характеристическим
выражениям языка эпохи. Например, в речи Ивана Игна-
тьича: «Донести ему по долгу службы, что в фортеции
умышляется злодействие, противное казенному интересу»;
в речи Ивана Кузьмича: «Хорошо, коли отсидимся или
дождемся сикурса»; «Чаятелыю, за неприличные гвар-
дии офицеру поступки»; в речи Швабрипа: «Вы мне
118
дадите сатисфакцию» и т. п. В основном же речи дейст-
вующих лиц построены на основе экспрессивно-характе-
ристических форм современной Пушкину живой разго-
ворной речи и ее стилей. Понятно, что письменные
документы, вводимые в записки Гринева, требовали
гораздо более ярких и разнообразных примет стиля
эпохи.
Сюда же примыкает казенно-канцелярская речь ге-
нерала, носящая резкий отпечаток влияния синтаксиса
немецкого языка: «Должен я вам объявить, что с моей
стороны я совершенно с мнением прапорщика согласен:
ибо мнение сие основано на всех правилах здравой так-
тики, которая всегда почти наступательные движения
оборонительным предпочитает». Проблема исторической
стилизации у Пушкина из плоскости грамматической и
главным образом лексико-фразеологической переносит-
ся в сферу семантическую. Этому углублению принци-
пов исторической стилизации содействовало резкое сме-
щение экспрессивных границ между речами персона-
жей и повествовательным стилем. В повествователе
были объединены два лика: типический представитель
изображаемой эпохи и. автор-художник. И в той мере,
в какой образ повествователя входил в круг действующих
лиц романа, его стиль должен был носить в себе специ-
фические черты образа мыслей и языка той эпохи. Но
чаще всего для Пушкина стиль эпохи воплощался в экс-
прессивных красках повествования, в иерархии предме-
тов, в связи лексико-фразеологических звеньев речи,
словом, в семантическом колорите изображения, а не во
внешних архаизмах выражения.
Вот несколько иллюстраций:
«...Я был записан в Семеновский полк сержантом, по
милости майора гвардии князя Б., близкого нашего род-
ственника... Я считался в отпуску до окончания наук.
В то время воспитывались мы не по-нынешнему. С пя-
тилетнего возраста отдан я был на руки стремянному
Савельичу, за трезвое поведение пожалованному мне в
дядьки. Под его надзором на двенадцатом году выучил-
ся я русской грамоте и мог очень здраво судить о свой-
ствах борзого кобеля. В это время батюшка нанял для
меня француза, мосье Бопре, которого выписал из Мо-
сквы вместе с годовым запасом вина и прованского
масла...»
119
Или: «Молодой человек! Если записки мои попадут-
ся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие из-
менения суть те, которые происходят от улучшения нра-
вов, без всяких насильственных потрясений»... «Опы-
ты мои, для тогдашнего времени, были изрядны, и
Александр Петрович Сумароков, несколько лет после,
очень их похвалял».
Но иногда и лексические средства несколько дальше
уводили от господствующих норм русской повествова-
тельной речи 20—30-х годов.
«Мысль о переведении моем из Белогорской крепости
меня ужасала...» (Слово — переведение не встречается
в других сочинениях Пушкина.)
«С трудом удержал я порыв негодования, чувствуя
бесполезность заступления» Ч
«Это приуготовило меня к чему-то важному, ибо
обыкновенно письма писала ко мне матушка»1 2.
«Их грозные лица, стройные голоса, унылое выраже-
ние, которое придавали они словам и без того вырази-
тельным,— все потрясало меня каким-то пиитическом
ужасом».
«Наши генералы готовились к дружному содейст-
вию» 3.
Стиль исторического повествования у Пушкина ди-
намичен и многопланен. Язык автора впитывает в себя
речь и мышление персонажей, присущие им приемы
1 Слово заступление, малоупотребительное в языке Пушкина,
свойственно главным образом стилям журнальных статей и офици-
альных писем. В повествовательном стиле, кроме «Капитанской
дочки», оно применено в «Дубровском» в таком контексте: «Наконец
Шабашкин тихонько отпер двери, вышел на крыльцо и с уни-
женными поклонами стал благодарить Дубровского за его мило-
стивое заступление». См. «Словарь языка Пушкина», том второй,
1957, стр. 102.
2 Глагол приуготовить, производное от него существительное
приу гот селение, и один раз встречающееся прилагательное приугото-
вительный свойственны преимущественно стилю журнальных статей
Пушкина. Слово приуготовить в повествовательном стиле других
сочинений Пушкина, кроме «Капитанской дочки», не употребляется.
3 Слово содействие в значении «совместное действие» употреб-
ляется А. С. Пушкиным лишь применительно к военным действиям.
Кроме «Капитанской дочки», оно встречается в этом значении в
«Истории Пугачева»: «Темнота зимнего утра, глубина снега и изну-
рение лошадей препятствовали дружному содействию войск». Любо-
пытно, что в обоих случаях слово содействие сочетается с опреде-
лением дружный.
120
драматического переживания и осмысления событий.
В стиле повествования выражается не только личность
автора или образ старинного мемуариста, но остро зву-
чат разные живые голоса эпохи. Так, в «Капитанской
дочке» повествовательный стиль окрашивается непре-
станно в разные субъективные цвета, в нем отражается
строй выражения мыслей и чувств разных лиц описы-
ваемой среды.
Например: «Прачка Палашка, толстая и рябая дев-
ка, и кривая коровница Акулька как-то согласились в
одно время кинуться матушке в ноги, винясь в преступ-
ной слабости и с плачем жалуясь на мусье, обольстив-
шего их неопытность. Матушка шутить этим не люби-
ла и пожаловалась батюшке. У него расправа была ко-
ротка; он тотчас потребовал каналью француза. Доло-
жили, что мусье давал мне свой урок».
«Матушка в слезах наказывала мне беречь мое здо-
ровье, а Савельичу смотреть за дитятей».
«Мы отужинали у Аринушки. Зурин поминутно мне
подливал, повторяя, что надобно к службе привыкать».
•Ср.: «Савельич встретил нас на крыльце. Он ахнул,
увидя несомненные признаки моего усердия к службе».
«Попадья... рассказала мне... как Марья Ивановна
имела с нею всегдашние сношения через Палашку (дев-
ку бойкую, которая и урядника заставляет плясать по
своей дудке)».
«Дядька не утаил, что барин бывал в гостях у
Емельки Пугачева и что-де злодей его таки жаловал»
и т. п....
Понятно, что эта живая смена разных экспрессивных
красок лишь углубляла историческое правдоподобие
изображения, лишь обостряла семантический колорит
эпохи.
Прием несобственно прямой или чужой речи расши-
рял смысловую перспективу повествования, содействуя
свободному и разнообразному отражению быта и ха-
рактеров изображаемого времени,— при сравнительно
немногочисленных отклонениях или отступлениях пове-
ствовательного стиля от норм современного Пушкину
литературного языка.
Другой иллюстрацией того положения, что проблема
автора неотрывна от всякого литературного произведе-
ния и что нельзя непосредственно включать язык сло-
121
весно-художественного произведения в строй литера-
турного языка без выяснения их соотношения, без выяс-
нения социально-речевой структуры «образа повество-
вателя», может служить сказ лесковской повести о
Левше. Без понимания системы социально-экспрессив-
ных речевых средств художественного произведения
нельзя осмыслить способов использования народно-
разговорного и литературно-книжного языка в его ком-
позиции. Структура образа автора и связанная с ней
гамма экспрессивно-речевых красок различны в раз-
ных видах художественной прозы и стиха.
Сказ как форма литературно-художественного пове-
ствования, широко, применяемая в реалистической ли-
тературе XIX века, прикреплен к «рассказчику» — по-
среднику между автором и миром литературной дейст-
вительности. Образ рассказчика в сказе накладывает
отпечаток своей экспрессии, своего стиля и на формы
изображения персонажей, которые уже не самораскры-
ваются в речи, а лишь воспроизводятся сказителем. Вы-
сказывания действующих лиц в сказовой новелле не
являются собственным раскрытием их образов, а даны
как формы отношений между стилем повествования и
социально-речевыми стилями самих персонажей. Поэто-
му своеобразие сказового диалога заключается не
столько в принципах его драматического построе-
ния, сколько в принципах его воспроизведения рассказ-
чиком.
Происходит как бы включение разных речевых сфер
в стилевой план сказа. Формы этого включения много-
образны— от полного поглощения речевых своеобразий
персонажей экспрессией рассказчика до сохранения в
литературной «транскрипции» всех индивидуальных осо-
бенностей говорения. В последнем случае рассказчик
как бы разыгрывает сцены бесед между героями своего
повествования, показывая их актерские «маски», их
экспрессию.
Рассказчик — речевое порождение писателя, и образ
рассказчика (который выдает себя за «автора») —это
форма литературного артистизма писателя. Образ ав-
тора усматривается в нем как образ актера в творимом
им сценическом образе. Вообще характером речи «ска-
зителя», ее отношением к литературно-повествовательным
формам определяется в сказе соотношение образа рас-
122
сказчика с образом автора — писателя. Чем меньше в
сказе социально-экспрессивных ограничений, чем слабее
его социально-речевая замкнутость, то есть чем сильнее
тяготение сказа к формам общего литературного языка,
тем острее выступает в нем момент писательства, а чем
теснее сближение образа рассказчика с образом писа-
теля, тем разностороннее могут быть формы диалога,
тем более возможностей для экспрессивной дифферен-
циации речей разных персонажей. Ведь «рассказчик»,
поставленный на далекое речевое расстояние от автора,
объективируя себя, тем самым печать своей субъектив-
ности накладывает на речь персонажей, ее нивелируя.
В силу этого образ рассказчика колеблется, иногда
расширяясь до пределов «образа писателя», «автора».
Соотношение между образом рассказчика и образом «ав-
тора» динамично даже в пределах одной сказовой ком-
позиции. Это величина переменная. Динамика форм
этого соотношения меняет непрестанно функции основ-
ных словесных сфер сказа, делает их колеблющимися, се-
мантически многопланными. Лики рассказчика и автора
покрывают (вернее перекрывают) и сменяют один друго-
го, вступая в разные отношения с образами персонажей.
На «Левше» Н. С. Лескова удобно продемонстриро-
вать одну (и притом не очень сложную) категорию ска-
зовых соотношений образов рассказчика, автора и пер-
сонажей. Сказ «Левши» — анонимен. Рассказчик яв-
ляется заданной формой «народно-эпического» повество-
вания (цеховой-«легенды»). На нем тем самым ставится
знак автора. Сказ воссоздается как литературная обра-
ботка. Образ автора делается ее конструктивной фор-
мой. В «Левше» поэтому есть два ряда словесных форм:
одни — возводятся к рассказчику, соотнесены с его об-
разом и этот образ создают; другие — идут от автора,
связаны с разными ликами его литературного перево-
площения. Две эти словесно-стилистические цепи пере-
плетаются. Их сплетение и движение определяют сю-
жетную композицию «Левши».
В «Сказе о тульском косом Левше и о стальной блохе»
все основные стилистические свойства определяются
образом цехового сказителя эпического склада. Этот
образ создается экспрессией сказового монолога. Ска-
зовый монолог организуется при посредстве таких лек-
сических средств, которые, будучи соотнесены с систе-
123
Мой литературного языка, понимаются как ее «наруше-
ния», дифференциальные «переосмысления», ведущие к
образу «внелитературного», из простонародно-рабочей
среды, рассказчика (Платов «этого склонения не лю-
бил...» «...Был человек женатый и все французские раз-
говоры считал за пустяки, которые не стоят воображе-
ния...» и т. д.). Вместе с тем они скрепляются в структур-
ное единство своеобразными приемами синтаксического
развертывания рассказа (ср. например, торжественно-
эпическую расстановку слов, отодвигающую глагол в
конец синтаксического единства: «он захотел по Европе
проездиться и в разных государствах чудес посмо-
треть...» «По всему посольству приказ дан, чтобы ни-
кто чихать не смел»; «тут велели расписку дать, а
Левшу до разборки на полу в коридор посадить» и т. д.;
приемы наивно-удивленных описаний через гиперболи-
ческое перечисление: «Приезжают в пребольшое зда-
ние— подъезд неописанный, коридоры до бесконечности,
а комнаты одна в одну, и, наконец, в самом главном зале
разные огромадные бюстры и посредине под валдахином
стоит Аболон полведерский»; эмоционально-контрастные
характеристики состояния героя — с помощью противи-
тельных конструкций: «было ему и радостно, что он
англичан оконфузил, а тульского мастера на точку вида
поставил, но было и досадно...» и мн. др.).
В этих фразеологических и синтаксических формах
сказа, как формах «характеристических», конструирует-
ся образ эпического сказителя с ярко выраженной «со-
циальной характерологией».
Этот сказитель характером своей экспрессии окуты-
вает не только повествовательный монолог, но и формы
диалога в новелле. Ведь они даются в пересказе рас-
сказчика, в акте его сказового воспроизведения. Конеч-
но, и тут различие между повествованием и разговором
несколько отражается на приемах синтаксического по-
строения. Лексические же средства и в сказе и в диа-
логических частях оказываются общими. Повествова-
тельной стихией сказа часто поглощаются диалогические
отрезки, которые вливаются в нее при посредстве ввод-
ных слов: «де, говорит», «что, мол» и т. п. Диалог те-
ряет свои «драматические» формы. Вместо собственных
речей персонажей звучит непрямая передача их скази-
телем. Возникают формы диалогизированного сказа.
124
«Англичане удивляются и друг дружку поталкивают:
— Ox-де, мы маху дали!»
«... Платов было очень рассердился, потому что го-
ворит: «Для чего такое мошенничество! Дар сделали и
миллион за то получили, и все еще недостаточно! Фут-
ляр,— говорит,— всегда при всякой вещи принадле-
жит...»
«... А Платов отвечает: «Мне, ваше величество, ни-
чего для себя не надо, так как я пью-ем, что хочу, и всем
доволен, а я,— говорит,— пришел доложить насчет этой
нимфозории, которую отыскали: это,— говорит,— так и
так было, и вот как происходило»1.
Те же функции сказовой униформации диалога осу-
ществляет и перенос фразеологии повествования в реп-
лики персонажей (Ср. в сказе: «Платов остался с обидою
и лег дома на досадную укушетку... Объездил он все
страны и везде через свою ласковость всегда имел са-
мые междоусобные разговоры со всякими людьми...» —
и в речах царя: «...ты... на свою досадную укушетку боль-
ше не ложись, а поезжай на тихий Дон и поведи там с
моими донцами междоусобные разговоры насчет их жиз-
ни и преданности...» В сказе: «...вдруг прыгнула и на од-
ном лету прямое дансе и две верояции в сторону, потом
1 Ср. монолог тульских оружейников: «Против нее,— говорят,—
надо взяться подумавши и с божиим благословением» и мн. др. под.
Ср. иные приемы превращения чужой речи в непрямую:
«...Государь ему говорит:
— Так и так, завтра мы с тобою едем их оружейную кунстка-
меру смотреть. Там,— говорит,— такие природы совершенства, что
как посмотришь, то уже больше не будешь спорить, что мы, рус-
ские, со своим значением никуда не годимся...»
«Государь... ваахался ужасно.
— Ах, ах, ах,— говорит,— как это так... как это даже можно
так тонко сделать! — И к Платову по-русски оборачивается и го-
ворит: — Вот если бы у меня был хотя один такой мастер в Рос-
сии, так я бы этим весьма счастливый был и гордился, а того мас-
тера сейчас же благородным бы сделал...»
«Платов... ничего не говоря, себе в карман спустил, потому что
«он сюда же,— говорит,— принадлежит, а денег вы и без того у нас
много взяли».
«Платов... Левше только погрозился: — Я тебе,— говорит,— та-
кой-сякой-этакой, еще задам...»
«Помилуй, скажи,— говорит государь,— это уже очень сильно
мелко...»
«Он отвечал, что мы,— говорит,— очень сладко не приучены»...
и мн. др.
125
в другую, и так в три верояции всю кавриль станцева-
ла...» и в речи Платова: «у меня есть их же мелкоскоп...
сим ключом через пузичко эту нимфозорию можно заве-
сти, и она будет скакать в каком угодно пространстве и
в стороны верояции делать...» и мн. др.)
Диалоги царя и Платова, англичан, Левши и тульских
оружейников характеризуются общими чертами: во
всех — одни и те же приемы каламбурной этимологиза-
ции иностранных слов 1, одни и те же принципы переос-
мысления литературной фразеологии путем создания
«внелитературных» или каламбурных, народно-этимоло-
гических вариантов к ней1 2, одни и те же формы наруше-
ния литературной «синтагматики» фраз на основе мнимо-
го «недоосмысления» (вернее: дифференциального
переосмысления) привычных сочетаний 3, однородная со-
циально-экспрессивная окраска реплик (ведь все речи,
даже царя, Платова, государыни, графа Чернышева, Ско-
белева — выключены из атмосфер «литературно-интелли-
гентской» речи), тождественная словообразовательная
система 4 и общие схемы синтаксической организации 5.
Так сказ, вмещая в себя диалогические формы, при-
водит их к одному знаменателю. Вместе с тем образ рас-
сказчика в «Левше» является литературным фокусом
1 «Нимфозория» — в речи англичан, царя, Платова и химика;
«мелкоскоп» — в речи аглицких мастеров, Платова, царя; «досад-
ная укушетка» — в речи царя; «полную пуплекцию получил» — в
речи Платова и т. п.
2 «Это — безрассудок» — в речи государя; «это вашему вели-
честву наше покорное поднесение» — в речи аглицких мастеров;
«ты, говорит, к духовной беседе невоздержан» (слова государя);
«мне никакие забавы не обольстительны» (императрица). «Девушку
смотрят не таясь, а при всей родственности» (Левша). «Он — в си-
лах и тоже в этой части опытный» (Платов) и мн. др.
3 «Они моего слова не проронят» (в речи царя): «наша работа
против такого размера гораздо секретнее» (в речи Левши); «его бы
приодеть надо — он в чем был взят, и теперь очень в злом виде»
(в речи Платова); «иначе я могу род помешательства достать»
(Левша); «не знаю теперь, за какую надобность надо мною такое
повторение» (Левша) и мн. др.
4 «У него, говорит, хоть и шуба Овечкина, так душа человеч-
кина» (в речи полшкипера); у нас есть и боготворные иконы и гро-
боточивые главы» (в речи Левши).
5 «Как это так... как это даже можно так тонко сделать!..» (го-
сударь) ; «так очень много куришь, что у меня от твоего дыму в
голове копоть стоит...» «аглицкая нация тоже не глупая, а довольно
даже хитрая...» (в речи туляков) и т. п.
126
колеблющихся значений. Сначала образ рассказчика по-
нимается как коллективная маска («мы»), воплощающая
«тульский» рабочий мир с его приемами речи. Однако
сказ «Левши» не вмещается без остатка в образ цехового
рассказчика. Он предполагает ведь с самого начала си-
стему литературного языка, как бы под него подложен-
ную, подразумеваемую, как фон его семантических узо-
ров. В самой его структуре заложены основания для пони-
мания его как условной формы авторского повествования.
В главе третьей «автор» показывается в примеча-
нии— в образе реального комментатора не им творимой
легенды: «„Поп Федот" не с ветра взят: император Алек-
сандр Павлович перед своею кончиною в Таганроге ис-
поведовался у священника Алексея Федотова-Чеховского,
который после того именовался «духовником его величе-
ства» и любил ставить всем на вид это совершенно слу-
чайное обстоятельство. Вот этот-то Федотов-Чеховский,
очевидно, и есть легендарный „поп Федот"». Но из под-
строчных примечаний «образ писателя» и свойственные
ему формы речи постепенно прокрадываются в текст по-
вествования (ср. в четвертой главе пояснение слов Пла-
това— «в Сестербеке»: «Тогда еще Сестрорецк Сестербе-
ком звали...»).
Уже с четвертой главы в последовательно раскрываю-
щуюся структуру повествования начинают врываться та-
кие ноты, такие словесные образования и конструкции,
которые ведут не к тульскому рассказчику, а непосред-
ственно к «писателю». Они потом все напрягаются, рас-
тут, прерываясь иногда сказовыми цитатами. Сказ, вклю-
чаясь в строй авторского повествования, теперь становит-
ся цитатой. В этом случае он уже — не форма повество-
вания, а авторский прием «иронического» освещения той
литературной действительности, в которой «живут» пер-
сонажи. Изменения в функциях образа рассказчика, со-
относительные с экспрессивными колебаниями образа
автора,— стержень композиционной структуры «Левши».
Пока (до 4-й главы) сказ развертывается, как подчерк-
нуто (хотя и мнимо) «чистая», то есть с заданной направ-
ленностью к одному социальному характеру (рассказчи-
ку), форма бытовой речи, до сих пор лишь некоторые,
как бы случайные, приемы повествования выдают сло-
весную игру не столько рассказчика, сколько автора, не
очень плотно прикрытого маской цехового сказителя.
127
И все же двойственность «субъекта» повествования
продолжает быть заданной, но не открытой. Условность
образа рассказчика еще не разоблачается, хотя и под-
сказывается. Например: «Платов... дерябнул хороший
стакан, на дорожный складень богу помолился, буркой
укрылся и захрапел так, что во всем доме англичанам ни-
кому спать нельзя было. Думал: утро ночи мудренее...»
Кроме комических сочетаний фраз этого типа, на автора
с четвертой главы намекают превращения сказа в лите-
ратурно-повествовательную речь без всякой иронической
окраски, с тем же отношением к предмету повествования,
что и у сказителя, но с иным синтаксическим рисунком,
с иной «интонацией». Например: «Удивительная блоха
из аглицкой вороненой стали оставалась у Александра
Павловича в шкатулке под рыбьей костью, пока он скон-
чался в Таганроге, отдав ее попу Федоту, чтобы сдал
после государыне, когда она успокоится. Императрица
Елизавета Алексеевна посмотрела блохины верояции и
усмехнулась, но заниматься ею не стала». Но общность
экспрессивной окраски в формах изображения сближает
образ автора с образом рассказчика, несмотря на коле-
бания синтаксических, а отчасти и лексических форм.
Двупланность «субъекта речи» еще не переходит в двой-
ственность или раздвоение его.
Но вот (в главе шестой) соотношение стилевых форм
меняется. Авторская речь становится основным фоном,
на котором, как юмористические цитаты, выступают фра-
зеологические отголоски сказа (например: «долго еще
будут ноги остекливши и руки трястись...» или вот яркий
образчик сочетания разнородных языковых сфер — ав-
торской и сказовой: «Эти меры побуждения действовали
до того успешно, что нигде лошадей ни у одной станции
нельзя было удержать, а всегда сто скачков мимо оста-
новочного места перескакивали...» и др. под.).
Приемы комбинации и переплетения этих двух стилей
повествования очень разнообразны. Образ автора как
бы кружит семантику повествования, вступая в разные
отношения с образом рассказчика. Открытым выступле-
нием «автора» структура речи необыкновенно расширяет-
ся. (Являются такие церковно-живописные цитаты:
«Икона эта «вида грозного и престрашного» — святитель
Мир-Ликийских изображен на ней «в рост», весь одеян
сребропозлащенной одеждой, а лицом темен и на одной
128
руке держит храм, а в другой меч — „ военное одоление"»
и др. под.).
Выделяются два авторских лика: литературного рас-
сказчика, который сменяет на короткое время цехового
сказителя, сохраняя при этом его «сочувствие» к миру
повествования \ и другой — комментатора, открывающе-
го читателю подлинный смысл вещей с иронической
далекостью от легенды. Теперь стилевая двупланность
литературного произведения оказывается обнаженной.
Возникают как бы две наложенные одна на другую плос-
кости семантического разрешения. Образ автора усмат-
ривается в характере «игры» сказовыми формами, дале-
кими от литературной семантики. Например, в таком от-
резке: «А те лица, которым курьер нимфозорию сдал,
сию же минуту ее рассмотрели в самый сильный мелко-
скоп и сейчас в публицейские ведомости описание, что-
бы завтра же на всеобщее известие клеветой вышел»,—
выражения: публицейские ведомости, клеветой воспри-
нимаются сначала как народные этимологии непонятных
слов литературного языка: полицейские ведомости, фель-
етон. В соотношении же с образом писателя это недо-
осмысление приобретает форму иронической издевки.
Смысловые тенденции авторского повествования по
разным направлениям ищутся в сказе, их искание «пред-
писано» и образует второе подводное смысловое течение
новеллы, которая прерывается на примечании «морские
басни» к Крымской кампании. («А доведи они Левшины
слова в свое время до государя,— в Крыму на войне с не-
приятелем совсем бы другой оборот был»).
В заключение автор спешит вручить читателю новый
смысловой ключ к новелле. Он подчеркивает «баснослов-
ный склад легенды и эпический характер его главного
героя», который «как олицетворенный народной фанта-
зией миф» может служить «метким и верным воспомина-
нием эпохи». Автор решительно выходит за пределы мира
повествования, облекаясь в тогу общественного морали-
1 Ср. авторский сказ в главе седьмой: «Отслужили они молебен
у самой иконы, потом у каменного креста, и, наконец, возвратились
домой «нощию» и, ничего никому не рассказывая, принялись за дело
в ужасном секрете. Сошлись они все трое в один домик к Левше,
двери заперли, ставни в окнах закрыли, перед Николиным образом
лампадку затеплили и начали работать. День, два, три сидят и
никуда не выходят, все молоточками потюкивают. Куют что-то та-
кое, а что куют — ничего неизвестно...»
129
ста и раскрывая социальный смысл своей эпической фан-
тазии: «Таких мастеров, как баснословный Левша, теперь,
разумеется, уже нет в Туле: машины сравняли неравен-
ство талантов и дарований, и гений не рвется в борьбе
против прилежания и аккуратности».
Таким образом, в произведениях художественной ли-
тературы, в их стилевой структуре, в многообразии их ре-
чевой экспрессии, в образах авторов (хотя бы и безымян-
ных) как бы воплощено отношение писателей ко всем
«сокровищам родного слова», к литературному языку
своей эпохи, к способам его использования и преобразо-
вания. Конечно, в историческом романе реалистического
типа и в сказе, связанном с образом рассказчиков из ог-
раниченной профессиональной социальной среды, худо-
жественно мотивированные отступления от норм литера-
турного языка особенно ощутительны и многообразны. Но
даже тогда, когда стиль автора целиком движется в сфе-
ре литературной речи, внутренняя связь всех элементов
этого стиля, принципы отбора и сочетания форм литера-
турной речи образуют своеобразное литературно-художе-
ственное единство, обусловленное общими тенденциями
развития художественной литературы или эстетикой и по-
этикой отдельных ее направлений и жанров. Можно ут-
верждать, что формы отношения языка художественной
литературы к литературному и народно-разговорному
языку в ту или иную эпоху типизированы, обобщены, хотя
и могут быть очень разными и даже противоречивыми в
различных литературных школах и направлениях. Само
собой разумеется, что степень индивидуализации этих
отношений возрастает вместе с развитием литературной
культуры личности и индивидуальных художественных
стилей, особенно интенсивно в русской реалистической
литературе с 40—50-х годов XIX века. Поэтому в высшей
степени необходимы исследования, ставящие своей зада-
чей выяснение языковых и стилистических своеобразий
таких направлений художественной литературы, которые
носят отвлеченные названия сентиментализма, романтиз-
ма, реализма в их разных вариациях, ит. п. Так возникает
специфический круг стилистических проблем, понятий и
категорий, без исторического анализа и осмысления ко-
торых невозможно изучение внутренних качеств и зако-
нов развития языка художественной литературы нового
времени. Среди этих проблем особенно важное место за-
130
нимают вопросы о стилистической структуре образа
автора и образов героев, связанные с историческими из-
меняющимися принципами отбора и синтеза речевых
средств.
4
Образ автора-писателя, как и образ оратора, имеет
в истории литературы разные лики, разные формы свое-
го воплощения, обусловленные различиями компози-
ционных функций. Подвижен, меняет свою структуру в
истории художественной литературы не только самый
образ автора-писателя, но меняются его, так сказать,
видовые формы. Существен здесь не только принцип
жанрового деления — новеллист, романист, драматург,
лирик и т. п., но важны и самые функционально диффе-
ренцированные типы писательства. По признаку более
общих словесно-эстетических делений Л. Шюккинг
в своей «Социологии литературного вкуса» очень одно-
сторонне охарактеризовал эту историческую изменчи-
вость образа писателя. Так, отмечая более быстрые и
более блестящие победы импрессионизма в изобразитель-
ных искусствах, чем в литературе, и в связи с этим изме-
нения взаимоотношения этих искусств, Шюккинг пишет:
«Если прежде в изобразительном искусстве долгое время
господствовали литературные идеи, то теперь картина
совершенно изменилась. Даже в языке отразилось пре-
обладающее значение изобразительного искусства. Так,
в первой половине столетия (XIX), когда говорили об ис-
кусстве вообще, нередко разумели поэзию. «Поэт —чело-
век превыше всех стоящий»,— говорит Левин Шюккинг.
О «поэте» говорит и Шелли в своих принципиальных
статьях об искусстве. В конце века в подобных случаях
говорят о «художнике», то есть употребляют слово, кото-
рое для прошлых поколений означало только человека,
занимающегося искусством изобразительным. Большин-
ство наших словарей не отмечают этого изменения»1.
Замечание кажется поверхностным, но оно указывает
верный путь. Образ автора меняет исторические формы
своей ориентации. Вместе с тем он дробится в разные
эпохи на разные категории. Так, в эпоху зарождения рус-
1 Л. Шюккинг, Социология литературного вкуса, Л. 1928,
стр. 58.
131
ской натуральной школы в начале 40-х годов поэт, бел-
летрист, художник, литератор и сочинитель выступают
как разные виды писательской личности, автора-прозаи-
ка и стихотворца, вызывавшие и неодинаковую оценку и
принципиально иесродные приемы истолкования изобра-
жаемого ими мира.
Независимо от различий содержания и назначения
в образе автора известной эпохи могут отстояться неко-
торые общие свойства литературного «актерства». Это —
особые экспрессивные формы, как бы «поза» и «жест»
литератора — в характере его произведений, его словес-
ных выступлений. Эта специфическая «литературность»
имеет аналогии в сценическом искусстве. И здесь уста-
навливается традицией исторически изменяющийся штам-
пованный облик актера с застывшими формами выраже-
ний. Против такой театральности в недавнюю эпоху бо-
ролся К. С. Станиславский. «Литературное актерство»
или «позерство» также меняет свои формы в истории ли-
тературы. Тут сказываются классовые и социально-груп-
повые литературные вкусы. От них зависят типические
черты литературно-стилистических поз в образе автора.
Например, в 40-х годах XIX века носителем «литератур-
ности» как специфической формы высокого словесного
актерства был Н. Кукольник. Каждая литературная шко-
ла в своих манифестах и в своей писательской практике
обычно объединяется вокруг нового понимания структуры
образа автора в произведении. При этом в разных лите-
ратурных направлениях и в разные эпохи выдвигаются,
как основные, разные, несовпадающие признаки автор-
ской личности. Так, Карамзин в своей статье «Что нужно
автору» устанавливает типические черты автора сенти-
ментальной школы конца XVIII — начала XIX века:
«Творец всегда изображается в творении и часто против
воли своей». Творчество — портретно, субъективно,—
заявляет Карамзин. Отсюда — вопрос о «настроении»,
об особой душевной экспрессии стиля. Автор как носи-
тель особой душевной настроенности, следовательно и ми-
ровоззрения, характеризуется своеобразными словесно-
портретными формами своего экспрессивно-худо-
жественного облика, вернее «души и сердца своего».
«Когда ты хочешь писать портрет свой, то посмотрись
прежде в верное зеркало: может ли быть лицо твое
предметом искусства, которое должно заниматься
132
одним изящным, изображать красоту, гармонию, и рас-
пространять в области чувствительного приятные впе-
чатления?» Образ писателя, понимаемый как портрет
«души нежной», сверкающей «искрами страстного чело-
веколюбия», полной милосердия, сострадания, доброде-
тели и чуждой хладной мрачности, раскрывается в та-
кой характеристике: «Естьли всему горестному, всему
угнетенному, всему слезящему открыт путь в чувстви-
тельную грудь твою; естьли душа твоя может возвы-
ситься до страсти к добру, может питать в себе святое,
никакими сферами не ограниченное желание всеобщего
блага: тогда смело призывай богинь парнасских — оне
пройдут мимо великолепных чертогов, и посетят твою
смиренную хижину— ты не будешь бесполезным писа-
телем и никто из добрых не взглянет сухими глазами
на твою могилу»
Структура образа автора для историка литературы
связана с общественной идеологией, характерологией и
психологией, с типичными для того или иного общест-
венного уклада образами деятелей, особенно тех, кото-
рые подвизаются на поприще публичной словесности.
А. Ф. Кони в своей статье «Приемы и задачи обви-
нения» писал: «...Ораторские приемы совсем не одина-
ковы для всех вообще публичных речей ...например, су-
дебному оратору и оратору политическому приходится
действовать совершенно различно. Речи политического
характера не могут служить образцами для судебного
оратора, ибо политическое красноречие совсем не то,
что красноречие судебное. Уместные и умные цитаты,
хорошо продуманные примеры, тонкие и остроумные
сравнения, стрелы иронии и даже подъем на высоту
общественных начал — далеко не всегда достигают
своей цели на суде»1 2. Тот же Кони пытается опреде-
лить типические формы образа прокурора в послерефор-
менный период: «Основные черты слагавшегося рус-
ского типа обвинителя были — за исключением редких,
но печальных уклонений в область бездушной рито-
рики,— спокойствие, отсутствие личного озлобления
против подсудимого, опрятность приемов обвинения,
чуждая и возбуждению страстей, и искажению данных
1 Карамзин, Сочинения, изд. А. Смирдина, т. III, СПб. 1848,
стр. 370—372.
2 А. Ф. К о н и, На жизненном пути, т. I, М. 1914, стр. 125.
133
дела, и, наконец, что весьма важно, полное отсутствие
лицедейства в голосе, в жесте и в способе держаться на
суде. К этому надо прибавить простоту языка, свобод-
ного, в большинстве случаев, от вычурности или от
громких и «жалких» слов» Ч И Кони рассказывает, как
он ограждал от «уклонений» этот образ обвинителя.
Когда один товарищ прокурора сообщил ему о своей
манере речи: «ну, хоть я и проиграл, но зато ему (то
есть подсудимому.— В. В.) всю морду сапогом выма-
зал,— останется доволен», Кони «устранил его надолго
от выступлений в качестве обвинителя» 1 2.
Проблема ораторской характерологии не безраз-
лична для теории литературы. Ведь литература часто
транспонирует в свою сферу те субъектные категории,
которые возникли и сложились в других областях сло-
весного творчества. Образ автора соотносителен с дру-
гими субъектными категориями словесного выражения.
Так, в эпоху Ломоносова писатель-прозаик был лишь
частной разновидностью ритора: «Представленная от
Ритора материя словесно или письменно,— писал Ло-
моносов,— называется слово, которого щитают три
рода: указательной, советовательной, судебной. Указа-
тельной состоит в похвале или в охулении, советова-
тельной в присоветовании или отсоветовании, судебной
в оправдании или в обвинении». Далее Ломоносов, кон-
статируя, что «последний род слова в нынешние веки
больше не употребляется», продолжает: «Предлагаемое
слово может быть изображено прозою или поэмою.
В прозе располагаются все слова обыкновенным поряд-
ком, и части не имеют точно определенной меры и со-
гласия складов. В поэме все части определены извест-
ною мерою и притом имеют согласие складов в силе
и звоне. Первым образом сочиняются Проповеди, Исто-
рии и учебные книги. Последним составляются Оды и
других родов стихи. Риторика учит сочинять слова
прозаические; а о сложении поэм предлагает Поэзия»3.
В другой редакции (1748) Ломоносов присоединил два
параграфа (9 и 10), в которых взаимоотношения прозы
и поэмы в сфере словесно-риторических форм опреде-
1 А. Ф. Кони, На жизненном пути, т. I, стр. 103.
2 T а м же, стр. 104.
3 Сочинения М. В. Ломоносова, с объяснит, примечаниями акад.
М. И. Сухомлинова, т. III, СПб. 1895, стр. 17—18.
134
ляются точнее. У них устанавливается «купно обоим
общее» (это — «материя, ибо о одной вещи можно пи-
сать прозою и стихами») и «особливо каждому
отменное». Этим общим в прозе и поэме ведает рито-
рика, или учение о красноречии. А специальные формы
прозы исследует оратория — в отличие от поэзии, «пред-
лагающей о стихотворстве учение».
Тесная связь поэтики с риторикой заставляет иссле-
дователя литературы зорко следить за историческими
взаимоотношениями образов писателя и оратора и их
взаимодействиями. Из «Риторики» Ломоносова уместно
привести еще одну цитату, поясняющую историческую
изменчивость понятия «образа автора» — на специаль-
ной стилистической детали. Перед Ломоносовым стояла
живая проблема его литературной современности: это
вопрос о изобретении «витиеватых» речей (иначе «за-
мысловатых слов» или «острых мыслей»), то есть пред-
ложений, в которых «подлежащее и сказуемое сопря-
гаются некоторым странным, необыкновенным или и
чрезъестественным образом, и тем составляют нечто
важное или приятное»... Определяя отношение к этой
стилистической примете или приему «великих начальни-
ков красноречия», как Гомер, Демосфен и Цицерон, Ло-
моносов принужден признать, что «в самые древнейшие
времена за острыми мыслями авторы, как видно, не
так гонялись, как в последовавшие потом и в нынешние
веки. Ибо ныне не имеющее острых мыслей слово уже
не так приятно кажется, как бы оно впрочем велико и
сильно ни было» Г Эта своеобразная стилистическая
установка образа ритора (как прозаика, так и поэта),
определяющая критерий художественной оценки, рас-
крывается в таких заключительных советах: «Ни в чем
красноречие так не утверждается на примерах и на
чтении и подражании славных авторов, как в витиева-
том роде слова; и нигде больше не служит остроумие,
как в сем случае; ибо не токмо сие требуется, чтобы
замыслы были нечаянны и приятны, но сверьх того
весьма остерегаться должно, чтобы за ними из-
лишке гоняючись не завраться, которой погрешности
часто себя подвергают нынешние писатели»1 2.
1 Сочинения М. В. Ломоносова, с объяснит, примечаниями
акад. М. И. Сухомлинова, т. III, стр. 190—191.
2 Т а м же, стр. 204—205.
135
Л. Толстой говорил: «Во всяком художественном
произведении важнее, ценнее и всего убедительнее для
читателя собственное отношение к жизни автора и все
то в произведении, что написано на это отношение. Цен-
ность художественного произведения заключается не
в единстве замысла, не в обработке действующих лиц и
т. п., а в ясности и определенности того отношения
самого автора к жизни, которое пропитывает все произ-
ведение. В известные годы писатель может даже до не-
которой степени жертвовать отделкой формы, и если
только его отношение к тому, что он описывает, ясно и
сильно проведено, то произведение может достичь своей
цели» *. Любопытно, что Л. Толстой рассматривает
образ автора, как он выступает в художественном про-
изведении, одновременно в плане формы и в плане со-
держания, в плане экспрессивно-оценочной идейной
позиции писателя. Действительно, в самом художествен-
ном творчестве Л. Толстого происходят резкие измене-
ния в структуре образа автора — в связи с изменениями
в его мировоззрении и в его стиле. Достаточно, напри-
мер, сопоставить в творчестве Л. Толстого способы вы-
ражения образа автора (с многообразием их экспрес-
сивных вариаций и сближений с «внутренней речью»,
с «внутренними монологами» персонажей) в «Войне и
мире» или «Анне Карениной», с одной стороны, и в
«Воскресении», с другой, чтобы убедиться в глубоких
качественных различиях этих форм и категорий тол-
стовского стиля, характеризующих его историческое
движение.
Любопытно, что именно в романе «Воскресение»
выражен с глубокой определенностью и исчерпывающей
полнотой толстовский принцип понимания, оценки и
изображения человеческой личности: «Одно из самых
обычных и распространенных суеверий то, что каждый
человек имеет одни свои определенные свойства, что
бывает человек добрый, злой, умный, глупый, энергич-
ный, апатичный и т. д. Люди не бывают такими. Мы
можем сказать про человека, что он чаще бывает добр,
чем зол, чаще умен, чем глуп, чаще энергичен, чем апа-
1 Слова Л. Толстого, записанные В. Г. Чертковым («Литератур-
ное наследство», № 37—38, стр. 525). Ср. сборник «Лев Толстой
об искусстве и литературе», т. I, «Советский писатель», М. 1958,
стр. 233.
136
тичен, и наоборот; но будет неправда, если мы скажем
про одного человека, что он добрый или умный; а про
другого, что он злой или глупый. А мы всегда так де-
лим людей. И это неверно. Люди как реки: вода во
всех одинаковая и везде одна и та же, но каждая река
бывает то узкая, то быстрая, то широкая, то тихая, то
чистая, ^то холодная, то мутная, то теплая. Так и люди.
Каждый человек носит в себе зачатки всех свойств
людских и иногда проявляет одни, иногда другие и бы-
вает часто совсем не похож на себя, оставаясь все
между тем одним и самим собою. У некоторых людей
эти перемены бывают особенно резки. И к таким лю-
дям принадлежал Нехлюдов. Перемены эти происхо-
дили в нем и от физических и от духовных причин.
И такая перемена произошла в- нем теперь» (гл. LIX).
Так изменения в структуре образа автора сразу же
сказались и в новой концентрированной и усиленной —
по сравнению с прежними толстовскими приемами изо-
бражения лиц — системе речевого выражения внутрен-
него мира персонажей.
Для историка литературы здесь как бы открыт сек-
рет толстовской системы изображения человека, осо-
бенно по отношению к его творчеству последнего
периода. Между тем задача историка языка художест-
венной литературы состоит в том, чтобы путем последо-
вательного анализа стиля, экспрессивных качеств
авторского повествования и строя речей толстовских
героев в их соотношениях и взаимодействиях воспро-
извести типы речевых структур толстовских персона-
жей в их внутренней эволюции — на протяжении всего
творчества этого великого художника — и связать их
с общими изменениями толстовского стиля, в том числе
и с изменениями в построении образа автора.
Вот — чрезвычайно важные для изучения стилисти-
ческих форм построения образа автора — три характер-
ных признания М. М. Пришвина из его повести («по-
вести о неудавшемся романе») «Журавлиная родина»
(по первоначальному тексту в «Новом мире») Ч
«Сущность творческого процесса, как изживания
своего «я» в «мы», до того общепризнана, что часто
даже газетный корреспондент начинает описание сло-
1 «Новый мир», 1929, кн. IV, V и VI.
137
вами: «Рано утром, отправляясь на место побоища, мы
сели в автомобиль...», хотя сел он один. Ловкому бел-
летристу едва ли встречается затруднение писать от
третьего лица. Но я до сих пор с трудом могу перейти
от первого лица к третьему, вначале непременно чувст-
вую утрату силы, и только мало-помалу сживаюсь со
своим «героем». Много раз в начале своей деятельности
я советовался с другими, начинающими писать, и ока-
зывалось, что так бывает со многими, что-то похожее
на девственный стыд. И до сих пор отрывать имена ге-
роев своих от себя не могу без утраты, но зато когда
говорю л, то, конечно, это я уже сотворенное, это мы
Мне этого я никогда не совестно, его пороки не мои
личные пороки, его добродетели возможны для всех.
Люди, животные, растения, реки — все это я просмат-
риваю как бы до дна, где их индивидуальность исче-
зает и воскресает личностью не в механическом смеше-
нии всех, а в ритмической связи с другими. Раньше я
думал, что чувствовать себя как мы во время писания
свойственно всем, и потому научиться писать очень не-
трудно. Так думают все новички, но скоро постигают
всю трудность, даровитые или честные начинают делать
опыты с собственной жизнью, одни из них потом стано-
вятся настоящими художниками, а то просто мучени-
ками, легкие люди садятся в готовую форму, как в ав-
томобиль, и едут легко и выгодно беллетристами»
(кн. IV, стр. 8—9) Ч
«...Я знаю, что для творчества надо выходить из
себя и там вне себя забывать свои лишние мысли до
того, что потом если и напишется о себе, то это будет
уже я сотворенное и, значит, как мы» (там же, стр. 20) 1 2.
«Это (время выхода в свет книги М. Пришвина «Ко-
лобок».— В. В.) было время борьбы с натуралистическим
и гражданским направлением литературы, умирающим в
«Русском богатстве». Поэтическое «Я» разрозненно вы-
бивалось из обветшалых форм, прислоняясь к ницше-
анскому сверхчеловеку, очищалось, утончалось, пока,
наконец, не заключило себя в формулу: «Я — бог». То
было величайшее дерзновение, подобное прыжку со ска-
лы, в чаянии полета без крыльев, с помощью одной
1 См. также Мих. Пришвин, Журавлиная родина, Московск.
товарищество писателей, 1933, стр. 12—13.
2 Т а м же, стр. 31.
138
только веры в себя. Трагедия автора сверхчеловека об-
щеизвестна... Вслед за первым поэтом, посмевшим объ-
явить себя богом, появилось бесчисленное множество
богов, Все было похоже, как если бы Заратустра при-
шел в тропический лес, разостлал бы холст, накатал бы
его на себя, как делают ловцы обезьян, потом опять
раскатал бы холст и удалился. После того обезьяны,
как это известно, подражая человеку, завертываются
в холст и в таком виде их ловят.
Множество поэтов закаталось в богов и в таком
смешном виде были изловлены. Тогда началась новая
форма морально-эстетической болезни: богоискатель-
ство. Какое-то наивное воспитанное во мне чувство
пристойности не дало мне возможности проделать впол-
не серьезно опыты самообожествления. и последующего
богоискательства... Из этнографа я стал литератором с
обязательством к словесной форме, как таковой. Под-
ражая богам, я тоже стал писать о себе, но в совершен-
но обратном направлении с декадентами: поскольку в
этом «Я» было общего всему миру. На этом пути я так
и остался» (кн. V, стр. 17—18) Ч
И наконец:
«В своем увлечении живо-писать, значит, всматри-
ваясь в натуру и оставляя в ней все на месте, различать
или находить в ней лицо, я иногда дохожу до того, что
становлюсь в тупик от необходимости переменить имя
описываемой личности. Не знаю, почему так приходится
в большинстве случаев, что имя, носимое человеком, от-
вечает внутренним особенностям личности, и при пер-
вой записи все испортишь, если возьмешь имя другое:
тогда все пойдет вкривь и вкось. А когда потом прижи-
вешься к имени, от себя чего-нибудь прибавишь, то и
технически трудно бывает заменить: тогда нужно бы-
вает, чтобы в новом имени было непременно столько же
слогов, иначе ритм будет нарушен, фраза перестанет
звучать. А сколько личных необъяснимых препятствий:
Алексея представляешь себе с трубкой в зубах, а пере-
менить на Николая, то Николай почему-то выходит без
трубки. И так много всего... К счастью, в большинстве
случаев при описании деревенских людей, крестьян, ку-
старей, рабочих не приходится думать, что обидишь:
1 Мих. Пришвин, Журавлиная родина, стр. 53—54.
139
грехи-то их, плутовство, воровство, пьянство, при бедно-
сти жизни, так простительны, что можно смело писать
о всех по-хорошему, разве только с легкой улыбкой.
Это не идеализация, а скорее терпение золотопромыш-
ленника, отмывающего горы песка из-за крупинки золо-
та. И очень часто бывает даже, что и без всякой про-
мывки, с чистой совестью и радостным удивлением на-
зываешь человека собственным именем» (кн. VI,
стр. 30—31) Ч
В сущности, в приведенных высказываниях
М. М. Пришвина раскрываются и художественно-пси-
хологический и литературно-исторический и словесно-
стилистический аспекты проблемы образа автора. Устра-
нение из повествования субъективно-экспрессивных
форм речи не может быть полным. Авторские приемы
построения художественной действительности не могут
утратить своего индивидуального характера. Образ ав-
тора, изъятый из мира повествования, как действующее
лицо, как форма его экспрессивно-смыслового освеще-
ния, все же не перестает мыслиться и присутствовать
в художественном произведении, в его стиле. Художе-
ственная действительность по приемам своей организа-
ции узнается как форма творчества того или иного пи-
сателя. Принципы группировки, отбора «предметов»,
способы изображения лиц, носят на себе знаки опреде-
ленной авторской индивидуальности. Тяготёние к «объ-
ективности» воспроизведения и разные приемы «объек-
тивного» построения — все это лишь особые, по соотно-
сительные принципы конструкции образа автора. Заме-
чательно об этом показание Н. Г. Чернышевского—в
предисловии к неоконченному роману, который имел в
рукописи несколько названий, в.разной мере свидетель-
ствовавших об одном — о маскировке авторского обли-
ка, о стремлении к его предельной объективности. Вот
эти заглавия:1 2 1) Повести в повести. Роман, посвящен-
ный тому лицу, для которого писан. Н. Чернышевский;
2) Повести в повести. Роман, посвященный а ш-11е
В. М. Ч. (Всякой моей читательнице) Эфиопом; 3) По-
1 Любопытно, что в отдельном, издании повести «Журавлиная
родина» фразы, начиная со слов «к’счастью» до «и очень часто бы-
вает»,— исключены.
2 Неизданные произведения Н. Г. Чернышевского, «Литература
и марксизм», М. 1928, кн. 3, стр. 3-—4.
140
вести в повести.— Роман или не роман, ч. I. Рассказ Ве-
рещагина; 4) Перл создания, Повести в повести, роман
или не роман, сборник или не сборник, писанный неиз-
вестной или неизвестным, или неизвестными, посвящен-
ный а ш-Пе В. М. Ч. или автором, или авторами, или
одним из авторов. Само заглавие произведения как бы
направлено к преодолению «субъектности»: с образа ав-
тора совлекается даже категория числа, то есть единич-
ности или множественности. Предисловие описывает эту
художественную тенденцию: «Написать роман без люб-
ви— без всякого женского лица — это вещь очень труд-
ная. Но у меня была потребность испытать свои силы
над делом, еще более трудным: написать роман чисто
объективный, в котором не было бы никакого следа не
только моих личных отношений,— даже никакого следа
моих личных симпатий. В русской литературе нет ни од-
ного такого романа. «Онегин», «Герой нашего време-
ни» — вещи прямо субъективные; в «Мертвых душах» нет
личного портрета автора или портретов его знакомых; но
тоже внесены личные симпатии автора, в них-то и сила
впечатления, производимого этим романом. Мне кажет-
ся, что для меня, человека сильных и твердых убеждений,
труднее всего написать так, как писал Шекспир: он из-
ображает людей и жизнь, не выказывая, как он сам ду-
мает о вопросах, которые решаются его действующими
лицами в таком смысле, как угодно кому из них. Отелло
говорит «да», Яго говорит «нет» — Шекспир молчит, ему
нет охоты высказывать свою любовь или нелюбовь
к «да» или «нет». Понятно, я говорю о манере, а не о
силе таланта.... Ищите, кому я сочувствую... Вы не най-
дете этого... В самом «Перле создания» каждое поэти-
ческое положение рассматривается со всех четырех сто-
рон,— ищите, какому взгляду я сочувствую или не сочув-
ствую. Ищите, как одно воззрение переходит в другое,—
совершенно несходное с ним. Вот истинный смысл за-
главия «Перл создания» — тут, как в перламутре, все пе-
реливы всех цветов радуги. Но, как в перламутре, все
оттенки только скользят, играют по фону снеговой бе-
лизны. Потому относите к моему роману стихи эпиграфа:
Wie Schnee, so weiss,
Und kalt, wie Eis,—
второй ко мне.
141
«Белизна, как белизна снега» — в моем романе, «но
холодность, как холодность льда» — в его авторе... быть
холодным, как лед,— это было трудно для меня, чело-
века очень горячо любящего то, что люблю. Я успел в
этом. Потому вижу, что у меня есть настолько силы
поэтического творчества, насколько нужно мне, чтобы
быть романистом... Мои действующие лица — очень
различны по выражению, какое приходится иметь их
лицам... Думайте о каждом лице, как хотите: каждое
говорит за себя: «на моей стороне полное право»,— су-
дите об этих сталкивающихся притязаниях. Я не сужу.
Эти лица хвалят друг друга, порицают друг друга,—
мне нет дела до этого»1.
Из всех показанных иллюстраций (а количество их
можно увеличить до бесконечности, особенно если вый-
ти за пределы русской литературы) ясно, что проблема
образа автора, являющаяся организационным центром
или стержнем композиции художественного произве-
дения, играющая огромную роль в системе как индиви-
дуального стиля, так и стиля целых литературных на-
правлений, может изучаться и освещаться в плане ли-
тературоведения и эстетики, с одной стороны, и в плане
науки о языке художественной литературы, с другой.
Оба эти разных подхода, разных метода исследования
одной и той же проблемы, одного и того же предмета
будут обогащать и углублять друг друга. Мало того:
один и тот же писатель может разными способами реа-
лизовать свой идейно-художественный замысел, относя-
щийся к образу автора в том или ином произведении.
Так, Ф. М. Достоевский в романе «Бедные люди» соз-
дает очень сложную стилистическую структуру образа
«бедного человека» в лице Макара Девушкина, наделяя
его авторскими функциями и социалистическими идеями
в духе В. Белинского и В. Майкова* 2. Но, само собой
разумеется, если не само действующее лицо романа, а
подставной рассказчик будет комментировать и с мо-
рально-дидактической точки зрения обобщать и объяс-
нять, «идеологизировать» поступки и действия персо-
нажа, то лик автора, его образ выступит или проступит
в сказе непосредственно, и тем самым с рассказчика как
бы срывается его маска, его идейно-стилистический
{ «Литература и марксизм», 1928, кн. 3, стр. 10—12.
2 Об этом подробнее см. на стр. 478—492 настоящей работы.
142
грим. Так и было у Достоевского в первоначальном тек-
сте рассказа «Честный вор». Этот рассказ приписан «бы-
валому человеку», который заканчивал свое повество-
вание таким сентиментальным нравоучением в духе
автора-гуманиста: «порочный человек... коль, несмотря
на свою порочную жизнь все еще не загубил в себе все-
го человека... умрет... не от постыдного дела, а с тоски,
потому что все свое самое лучшее... во имя чего чело-
веком еще звался, за ничто загубил... Емеля-то мой,
если б остался в живых, был бы не человек, а примерно
сказать — плевое дело. А что вот умер с тоски, да от со-
вести, так всему свету доказал на себе, что каков он ни
был, а все человек»1.
Это рассуждение, несмотря на то что в формах сво-
его выражения сохраняет черты речи «бывалого чело-
века» (например: «коль», «Емеля-то мой» «не человек,
а примерно сказать — плевое дело»; «а что вот умер»,
«каков он ни был, а все человек»), относится в боль-
шей степени к «образу автора», накладывая на него
краски гуманистического проповедника. Любопытно, что
Достоевский затем исключил этот моралистический ак-
корд. Само собой разумеется, что аналитический метод
воссоздания «образа автора» по экспрессивным формам
и оттенкам индивидуального стиля, на основе внутрен-
ней динамики речевых средств, выражающих отношение
автора к изображаемой действительности, особенно
трудно и сложно применять к изучению таких произве-
дений, в которых идеологические мотивы и краски ле-
жат густым слоем на переднем плане картины. Здесь
в настоящее время литературоведы чувствуют себя пол-
ными хозяевами. Так, по отношению к творчеству Сал-
тыкова-Щедрина, несмотря на наличие целого ряда ра-
бот о его стиле, о стиле его сатиры и т. п., задача ис-
следования стилистической специфики построения «об-
раза автора» или «образов автора» в произведениях
этого великого сатирика пока даже еще не поставлена.
Между тем в литературоведческом плане эта проблема
получила интересное и разностороннее освещение.
Первое лицо, от имени которого чаще всего ведется
рассказ в сочинениях Салтыкова-Щедрина,— это осо-
бое художественное «я», то более, то менее приближа-
1 Ф. Достоевский, Рассказы бывалого человека, «Отечест-
венные записки», 1848, т. 57, стр. 305.
143
ющееся к автору. Несмотря на вариации этого образа,
в нем есть устойчивое ядро, черты «определенного ти-
па». А. С. Бушмин в статье «Образ рассказчика в произве-
дениях Салтыкова-Щедрина» так характеризует типи-
ческие свойства щедринского «рассказчика». По словам
А. С. Бушмина, «это литератор умеренно-либеральных
воззрений, сформировавшийся в условиях 40-х годов;
он критически взирает на действительность, и в то же
время исполнен наивных упований; в зависимости от
политической обстановки он колеблется то вправо, то
влево, под давлением правительственных репрессий
склоняется к примирению, в наиболее трудные моменты
стремится внешним образом приспособиться к реакции
или укрыться от нее, но вместе с тем он всегда остается
в состоянии тайной оппозиции к политическому режиму.
Это лицо наделено совершенно явными чертами служеб-
ной, социально-политической и литературной биографии
самого Щедрина, но, несмотря на это, оно далеко не
тождественно автору, находится от него на значитель-
ной идейной дистанции. Рассказчик как бы повторяет
внешнюю биографию писателя, но с иными последстви-
ями для своего внутреннего духовного развития». «Ав-
тор, выступающий в литературной маске наивного, не-
далекого рассказчика,— это, конечно, прием не новый, он
имеет длительную традицию в литературе» (см. образы
Белкина, Рудого Панька, Макара Девушкина и др.).
«Увиденная глазом гениального художника, но пере-
данная в форме наивно-бесхитростного восприятия, со-
циальная действительность раскрылась читателю как бы
изнутри, непосредственно сама в себе, и это давало свой
огромный художественно-познавательный эффект».
«Почему именно такая фигура рассказчика усвоена
Щедриным? ...Повествование от лица «среднего чело-
века» придавало изображаемым картинам характер
большей объективности». «Либеральный рассказчик
в данном случае выступал в двойственной роли: служил
объектом сатиры, разоблачавшим себя своим трусливым
поведением, и в то же время оружием сатирика в обличе-
нии наиболее отрицательных явлений жизни»1. «По мере
1 А. С. Бушмин, Образ рассказчика в произведениях Салты-
кова-Щедрина, «Труды Отдела новой русской литературы», М.—Л.
1957, стр. 185—186.
144
того как произведения Щедрина приобретали все более
высокий сатирический накал, фигура благодушно на-
строенного «фрондера» оказывалась недостаточной, мало
подходящей для выражения наиболее сильных авторских
эмоций — негодования, гнева, злой иронии, сарказма.
Требовалось соответствующее лицо, которое объективи-
ровало бы эти авторские настроения. Появляется Глу-
мов» «Отныне наряду с художественным «я» Глумов
становится в сатире Щедрина тем действующим лицом,
из-за которого постоянно проглядывает сам автор»1 2.
«Рассказчик и Глумов играют также значительную
роль в эзоповской системе сатирика, в сложной тактике
обхода цензурных препятствий. Щедрин, как нередко
с ним бывает, сам раскрывает это в следующих словах,
обращенных Глумовым к «я» — рассказчику: «Ты должен
был выдумать, что у тебя есть какой-то приятель Глу-
мов, который периодически с тобой беседует и проч.
Сознайся, что ты этого Глумова выдумал только для
реплики, чтобы объективности припустить, на тот случай,
что ежели что, иметь бы готовую отговорку: я, мол, сам
по себе ничего, это всё Глумов напутал» (XV, 347) »3.
«Однако в 80-е годы — годы жесточайшей правитель-
ственной реакции — неоднократно прежде применяв-
шаяся маска умеренного либерала оказывалась уже не-
достаточным, слишком прозрачным прикрытием. И вот
в «Современной идиллии», а затем в «Сказках» мы
встречаемся с неожиданным, дерзким приемом. Самые
резкие свои нападки на политическую реакцию, на пра-
вящие верхи сатирик вкладывает в уста таких персона-
жей, которые, в отличие от «рассказчика-либерала», уже
не имеют никаких точек идейного сближения с автором
и потому не могут вызвать политических подозрений
правительства»4. Так, в сказе «Ворон-челобитчик», во-
рон, «олицетворяющий мужицкого ходока-правдоиска-
теля, тщетно прошел все правительственные инстанции,
не встретив нигде сочувствия, добрался до самого на-
чальника края коршуна и услышал от него вдохновляю-
1 А. С. Бушмин, Образ рассказчика в произведениях Салты-
кова-Щедрина, стр. 187.
2 Т ам же, стр. 188.
3 Т а м же, стр. 196.
4 Там же, стр. 196—197.
6 В. В. Виноградов
145
щие слова: «Посмотри кругом —везде рознь, везде
свара; никто не может настоящим образом определить,
куда и зачем он идет... Оттого каждый и ссылается на
свою личную правду. Но придет время, когда всякому
дыханию сделаются ясными пределы, в которых жизнь
его совершаться должна,— тогда сами собой исчезнут
распри, а вместе с ними рассеются как дым и все мелкие
«личные правды». Объявится настоящая, единая и для
всех обязательная Правда: придет и весь мир осияет.
И будем мы жить все вкупе и влюбе. Так-то, старик!
А покуда лети с миром и объяви вороньему роду, что
я на него, как на каменную гору, надеюсь» (XVI, 243).
Социалистическую речь произносит царский сановник» L
Как бы ни относиться к этой концепции развития и
смены «образов автора» в творчестве Салтыкова-Щед-
рина, перед нами показательный опыт литературоведче-
ского решения проблемы образа автора. Способы этого
решения очень далеки от путей стилистического реше-
ния той же проблемы, от изучения ее приемами и мето-
дами науки о языке художественной литературы. По-
этому было бы важно для сопоставления привести на-
глядную иллюстрацию тех приемов изучения и решения
проблемы образа автора, которые может предложить
наука о языке художественной литературы. Благодарный
материал для этого представляет стиль А. П. Чехова.
Для Чехова проблема «образа автора» или, как он
выражался, «субъективности» стиля, связи образа автора
и образов действующих лиц еще в раннем периоде лите-
ратурной деятельности приобретает чрезвычайное зна-
чение. Н. А. Лейкину он пишет: «Я держусь мнения, что
изложение в форме писем устарелая вещь. Оно годится,
если вся соль сидит в самих письмах (напр., отноше-
ние станового, любовные письма), но как форма лите-
ратурная, оно не годится во многих отношениях: встав-
ляет автора в рамки—это главное...»1 2.
1 А. С Бушмин, Образ рассказчика в произведениях Салты-
кова-Щедрина, стр. 200.
2 Письма А. П. Чехова, под редакцией М. П. Чеховой, т. I, М.
1913, стр. 200.
146
Объективность авторского изложения выражается и
в социально-характеристическом правдоподобии диало-
гов. Персонажи не должны говорить за автора. Оцени-
вая лейкинский рассказ «Праздничное», Чехов заме-
чает: «Очень хороший рассказ. Одна есть в нем фраза,
портящая общий тон. Это — слова городового: «в соблазн
вводишь казенного человека»; чувствуется натяжка и
выдуманность» Ч
В письме к брату А. П. Чехов настойчиво предосте-
регает от «личного элемента»: «И кому интересно знать
мою и твою жизнь, мои и твои мысли? Людям давай лю-
дей, а не самого себя»1 2. О своем произведении «Скучная
история. (Из записок старого человека)» А. П. Чехов
писал А. Н. Плещееву (24 сентября 1889 г.): «Самое
скучное в нем, как увидите, это длинные рассуждения,
которых, к сожалению, нельзя выбросить, так как без
них не может обойтись мой герой, пишущий записки.
Эти рассуждения фатальны и необходимы, как тяжелый
лафет для пушки. Они характеризуют и героя, и его на-
строение, и его вилянье перед самим собой»3. Когда
А. С. Суворин как публицист-фельетонист увидел в этих
рассуждениях отражение чеховских идей, А. П. Чехов
решительно восстал против такого субъективно-идеоло-
гического истолкования его стиля: «Если я преподношу
Вам профессорские мысли, то верьте мне и не ищите
в них чеховских мыслей. Покорно Вас благодарю. Во всей
повести есть только одна мысль, которую я разделяю и
которая сидит в голове профессорского зятя, мошенника
Гнеккера, это «спятил старик»! Все же остальное приду-
мано и сделано... Где Вы нашли публицистику? Неужели
Вы так цените вообще какие бы то ни было мнения, что
только в них видите центр тяжести, а не в манере вы-
сказывания их, не в их происхождении и проч.?» 4
В письме к А. С. Суворину (1 апреля 1890 г.) Чехов
дает обобщающую формулировку своих принципов по-
строения «образа автора»: «Вы браните меня за объ-
ективность, называя ее равнодушием к добру и злу, от-
сутствием идеалов и идей и проч. Вы хотите, чтобы я,
изображая конокрадов, говорил бы: кража лошадей есть
1 Письма А. П. Чехова, т. I, стр. 219.
2 Там ж е, т. II, стр. 379.
3 Т а м же, стр. 423.
4 T а м же, стр. 437.
6
147
зло. Но ведь это и без меня давно уже известно. Пусть
судят их присяжные заседатели, а мое дело показать
только, какие они есть. Я пишу: вы имеете дело с коно-
крадами, так знайте же, что это не нищие, а сытые люди,
что это люди культа и что конокрадство есть не просто
кража, а страсть. Конечно, было бы приятно сочетать
художество с проповедью, но для меня лично это чрез-
вычайно трудно и почти невозможно по условиям тех-
ники. Ведь чтобы изобразить конокрадов в 700 строках,
я все время должен говорить и думать в их тоне и чув-
ствовать в их духе, иначе, если я подбавлю субъектив-
ности, образы расплывутся и рассказ не будет так ком-
пактен, как надлежит быть всем коротеньким рассказам.
Когда я пишу, я вполне рассчитываю на читателя, по-
лагая, что недостающие в рассказе субъективные эле-
менты он подбавит сам»
Конкретные иллюстрации новых чеховских принципов
соотношения субъективных и объективных элементов
стиля можно извлечь из рассказа «В родном углу»1 2.
Здесь прежде всего рисуется картина степи, пустын-
ной, однообразной, бесконечной, просторной и свободной.
Само изображение делается с точки зрения неопреде-
ленного, множественного, любого субъекта, без заметной
примеси авторской экспрессии. Оценочные определения
и характеристики выражают общее впечатление. Начи-
нается рассказ назывными, номинативными предложе-
ниями. «Донецкая дорога. Невеселая станция, одиноко
белеющая в степи, тихая, со стенами, горячими от зноя,
без одной тени и, похоже, без людей».
И далее представляется состояние любого приехав-
шего на эту станцию путника. Сначала как будто возни-
кает движение среди безлюдного затишья, но и оно
растворяется и замирает, и лишь степь и ее аксессуары
(представленные посредством номинативно-описатель-
ных и глагольно-характеристических предложений) стоят
недвижно или привычно раскрываются перед вами:
«Поезд уже ушел, покинув вас здесь, и шум его слы-
шится чуть-чуть и замирает, наконец... Около станции
пустынно и нет других лошадей, кроме ваших. Вы
1 Письма А. П. Чехова, т. III, стр. 44.
2 А. П. Чехов, Поли. собр. соч., т. IX, Гослитиздат, 1948,
стр. 232 и след.
148
садитесь в коляску,— это так приятно после вагона,—
и катите по степной дороге, и перед вами мало-помалу
открываются картины, каких нет под Москвой, громад-
ные, бесконечные, очаровательные своим однообразием.
Степь, степь — и больше ничего; вдали старый курган
или ветряк; везут на волах каменный уголь... Птицы
в одиночку низко носятся над равниной, и мерные дви-
жения их крыльев нагоняют дремоту. Жарко. Прошел
час-другой, а все степь, степь, и все курган вдали. Ваш
кучер рассказывает что-то, часто указывая кнутом в сто-
рону, что-то длинное и ненужное, и душой овладевает
спокойствие, о прошлом не хочется думать...» Эти кар-
тины, данные обобщенно как бы в общечеловеческом
плане, затем воспроизводятся повторно, отраженно, че-
рез призму сознания и речи Веры Ивановны Кардиной.
«— Все, как было,— сказала Вера, оглядываясь... Нужно
было проехать от станции верст тридцать, и Вера тоже
поддалась обаянию степи, забыла о прошлом и думала
только о том, как здесь просторно, как свободно...»
В стиль повествования все шире и разнообразнее
включаются субъективно-экспрессивные формы мысли
и речи Веры.
«Степь, степь... Лошади бегут, солнце все выше, и ка-
жется, что тогда, в детстве, степь не бывала в июне та-
кой богатой, такой пышной; травы в цвету — зеленые, жел-
тые, лиловые, белые, и от них, и от нагретой земли идет
аромат; и какие-то странные синие птицы по дороге...»
И в дальнейшем вся композиция повествования пред-
ставляет собой чередование, взаимодействие, а иногда
и взаимопроникновение трех речевых стихий: объектив-
ного авторского повествовательного стиля, глубоко лич-
ных, динамических экспрессивно-смысловых форм речи
и сознания Веры, выражающих развитие ее глубокой ду-
шевной трагедии, растущее в ней отвращение к пош-
лости и неинтеллигентности жизни тетушки и дедушки,
ее неуменье найти самостоятельный путь жизни, и дра-
матических сцен, иногда просто коротких реплик, выска-
зываний действующих лиц. «Образ автора» открывается
во внутренней связи всех элементов повествования, в его
смысловой направленности, в драматической силе образ-
ных обобщений, в своеобразном реалистическом симво-
лизме художественного изображения жизни.
Особенно ярко и глубоко приемы сплетения автор-
149
ского стиля с субъективно-речевыми выражениями на-
строений и внутренних терзаний Веры обнаруживаются
в изменяющихся образах степи. Именно в этой образно-
смысловой сфере сцены жизни степной усадьбы полу-
чают чрезвычайно острую окраску широких художествен-
ных обобщений, направленных против пошлости, рутины,
жестокости и социальной опустошенности обессмыслен-
ного и обессмысливающего буржуазного быта.
«Этот простор, это красивое спокойствие степи гово-
рили ей, что счастье близко и уже, пожалуй, есть; в сущ-
ности тысячи людей сказали бы: какое счастье быть мо-
лодой, здоровой, образованной, жить в собственной
усадьбе!»
Ср. в самом начале: «ей, здоровой, умной, красивой,
молодой — ей было только 23 года — недоставало до сих
пор в жизни именно только этого простора и свободы».
Но дальше, в изображении размышлений Веры, ощу-
щается как будто примесь авторского стиля:
«И в то же время нескончаемая равнина, однообраз-
ная, без одной живой души, пугала ее, п минутами было
ясно, что это спокойное зеленое чудовище поглотит ее
жизнь, обратит в ничто». Еще более сложным и вместе
с тем еще более скрытым (или скрытным) является вы-
ражение авторской экспрессии в передаче субъективно-
личного, «тяжелого, злого чувства» Веры, проникшейся
презрением и злобой к своей эгоистической, лицемерной
и бездушной тете Даше: «В груди у Веры камнем повер-
нулось тяжелое, злое чувство. Она негодовала, ненави-
дела тетю; тетя надоела ей до тоски, до отвращения...
Но что делать? Оборвать ее на слове? Нагрубить ей?
Но какая польза? Положим, бороться с ней, устранить
ее, сделать безвредной, сделать так, чтобы дедушка не
замахивался палкой, но — какая польза? Это все равно,
что в степи, которой конца не видно, убить одну мышь
или одну змею. Громадные пространства, длинные зимы,
однообразие и скука жизни вселяют сознание беспомощ-
ности, положение кажется безнадежным, и ничего не
хочется делать,— все бесполезно».
В конце рассказа образ степи выступает уже как
символ сломившей Веру стихии, и тут как будто экспрес-
сия внутренней речи самой Веры совсем поглощает стиль
авторского повествования: «И идя, куда глаза глядят,
она решила, что выйдя замуж, она будет заниматься хо-
150
зяйством, лечить, учить, будет делать все, что делают
другие женщины ее круга; а это постоянное недоволь-
ство и собой и людьми, этот ряд грубых ошибок, которые
горой вырастают перед-тобою, едва оглянешься на свое
прошлое, она будет считать своею настоящею жизнью,
которая суждена ей, и не будет ждать лучшей... Ведь
лучшей и не бывает! Прекрасная природа, грезы, му-
зыка говорят одно, а действительная жизнь другое.
Очевидно, счастье и правда существуют ^где-то вне
жизни... Надо не жить, надо слиться в одно с этой рос-
кошной степью, безграничной и равнодушной, как веч-
ность, с ее цветами, курганами и далью, и тогда будет
хорошо... Через месяц Вера жила уже на заводе» (то есть
вышла замуж за доктора Нещапова: «Он славный... Про-
живем как-нибудь»).
Новые формы сплетения, слияния, противопоставле-
ния и взаимодействия элементов авторского и субъектив-
но-экспрессивного, идущего от персонажа, остро дают
себя знать и в способах изображения’действующих лиц
рассказа «В родном углу». Вот одна иллюстрация. Сна-
чала дается внешний портрет дедушки: «Дедушка был
с большой седой бородой, толстый, красный, с одышкой
и ходил, выпятив вперед живот и опираясь на палку».
Далее, дедушка выступает в свете рассказов тети Даши,
ее речевой экспрессии, ее образов: «Как видишь, живем
хорошо, лучше и не нужно. Только вот одно: дедушка
твой плох! Беда, как плох! Задыхается и уж забываться
стал. А ведь — помнишь? — какое здоровье, какая сила!
Неукротимый был человек... Прежде, бывало, чуть при-
слуга не угодит или что, как вскочит и — «Двадцать пять
горячих! Розог!» А теперь присмирел и не слыхать его.
И то сказать, не те времена теперь, душечка; бить нельзя.
Оно, конечно, зачем бить, но и распускать тоже не сле-
дует.
— Тетя, а их теперь бьют? — спросила Вера.
— Приказчик, случается, бьет, а я нет. Бог с ними!
И дедушка твой, по старой памяти, иной раз замахнется
палкой, но бить не бьет.
Тетя Даша зевнула и перекрестила рот, потом пра-
вое ухо».
У тети Даши — -при разговоре о дедушке — непре-
менно возникает стереотипная фраза о розгах, о «два-
дцати пяти горячих»:
151
«— Не в духе твой дедушка,— шептала тетя Даша.—
Ну, да теперь ничего, а прежде не дай бог: „Двадцать
пять горячих! Розог!"»
После показа дедушки в экспрессивно-драматическом
представлении тети Даши, автор выводит на сцену са-
мого дедушку и характеризует его формами то своего
объективно-повествовательного стиля, то внутренней
речи Веры.
«Дедушка сидел все на одном месте и раскладывал
пасьянс или дремал. За обедом и за ужином он ел ужасно
много; ему подавали и сегодняшнее, и вчерашнее, и хо-
лодный пирог, оставшийся с воскресенья, и людскую
солонину, и он все съедал с жадностью, и от каждого
обеда у Веры оставалось такое впечатление, что когда
потом она видела, как гнали овец или везли с мельницы
муку, то думала: „Это дедушка съест"».
Но далее происходит некоторое обособление или от-
деление рассказа от мыслей и речи Веры. Стиль автор-
ского повествования как бы непосредственно сказывается
в обобщенно-объективном изображении дедушки, в вы-
боре и отборе основных, типических обнаружений или
вариаций его социального бытия и поведения:
«Большей частью он молчал, погруженный в еду или
в пасьянс; но случалось, за обедом, при взгляде на Веру,
он умилялся и говорил нежно:
— Внучка моя единственная! Верочка!
И слезы блестели у него на глазах. Или вдруг лицо
у него багровело, шея надувалась, он со злобой глядел
на прислугу и спрашивал, стуча палкой:
— Почему хрену не подали?
Зимою он вел совершенно неподвижную жизнь, ле-
том же иногда ездил в поле, чтобы взглянуть на овсы и
на травы, и, вернувшись, говорил, что без него везде
беспорядки, и замахивался палкой». В дальнейшем те-
чении повести образ дедушки возникает лишь в сфере
внутренней речи и внутренних монологов Веры и всегда
связывается с представлением о животных, которых он
неминуемо съест.
Например: «И когда потом тетя вышла, Вера стояла
среди своей комнаты, не зная, одеваться ей или опять
лечь. Противная постель, глянешь в окно — там голые
деревья, серый снег, противные галки, свиньи, которых
съест дедушка»...
152
Еще более тонки и сложны нити, связывающие раз-
ные токи и формы экспрессии, в системе изображения
тети Даши, доктора Нещапова и самой Веры Ивановны
Кардиной. Так, при изображении тети Даши экспрессив-
ные словесные краски, применяемые автором и Верой,
сначала как бы соединяются и сливаются.
Вот ее внешний портрет: «Тетя, дама лет сорока двух,
одетая в модное платье с высокими рукавами, сильно
стянутая в талии, очевидно, молодилась и еще хотела
нравиться; ходила она мелкими шагами, и у нее при
этом вздрагивала спина».
Ср. также в авторском повествовании: «Тетя Даша
занималась хозяйством. Сильно затянутая, звеня брас-
летами на обеих руках, она ходила то в кухню, то в ам-
бар, то на скотный, мелкими шагами, и спина у нее
вздрагивала; и когда она говорила с приказчиком или
с мужиками, то почему-то всякий раз надевала pince-
nez».
Эгоистический, хищный, лицемерный, эксплуататор-
ский, неинтеллигентный и претенциозный облик тети
Даши остро продемонстрирован как в ее собственных
репликах, так и в авторском изображении ее поведения
и во внутренних монологах Веры.
Например: «И учить мужицких детей в то время, как
тетя Даша получает доход с трактиров и штрафует му-
жиков,— какая это была бы комедия!»
Однако было бы большим заблуждением думать, что
экспрессия авторского повествования созвучна и соотно-
сительна с экспрессией «несобственно прямой речи»,
внутренних монологов Веры. Образ автора, иногда как
бы заслоненный приемами драматического самораскры-
тия Веры, вместе с тем всем ходом повествования и сти-
листического движения сюжета отделен и от этого пер-
сонажа. Особенно остро это своеобразие объективно-
авторского изображения выступает в описании сцены
истерики Веры, ее внезапного злобного и грубого при-
падка, при котором в ней выходят наружу черты тети
Даши и дедушки:
«Алена издала какой-то стон, словно птичий, и уро-
нила на ковер золотые часы.
— Вон отсюда! — крикнула Вера не своим голосом,
вскакивая и дрожа всем телом.— Гоните ее вон,
она меня замучила! — продолжала она, быстро идя за
153
Аленой по коридору и топоча ногами.— Вон! Розог!
Бейте ее!»
Конечно, анализ своеобразных форм и принципов
построения образа автора в системе стиля Чехова можно
было бы продолжить и углубить даже на том же мате-
риале рассказа «В родном углу».
Можно было бы подвергнуть подробному разбору
применение синтаксических конструкций в экспрессивно-
изобразительных целях, изменения в эпитетах — в связи
с разной направленностью повествовательного стиля,—
способы построения диалогических сцен и внутренних
монологов персонажей и т. д. и т. д. Но из приведенных
иллюстраций и без того ясно, что проблема образа ав-
тора, по разному, разными методами и с разных исход-
ных позиций исследуемая литературоведом и историком
языка художественной литературы, является централь-
ной проблемой стилистики и поэтики.
6
Итак, в композиции художественного произведения
динамически развертывающееся содержание раскрыва-
ется в смене и чередовании разных форм и типов речи,
разных стилей, синтезируемых в «образе автора» и его
создающих как сложную, но целостную систему экспрес-
сивно-речевых средств. Именно в своеобразии этой ре-
чевой структуры образа автора глубже и ярче всего вы-
ражается стилистическое единство композиционного це-
лого. Об этом с необыкновенной простотой и ясностью
писал Л. Толстой в «Предисловии к сочинениям Гюи де
Мопассана»: «Люди, мало чуткие к искусству, думают
часто, что художественное произведение составляет одно
целое потому, что в нем действуют одни и те же лица,
потому, что все построено на одной завязке, или описы-
вается жизнь одного человека. Это несправедливо. Это
только так кажется поверхностному наблюдателю: це-
мент, который связывает всякое художественное произ-
ведение в одно целое и оттого производит иллюзию от-
ражения жизни, есть не единство лиц и положений, а
единство самобытного нравственного отношения автора
к предмету. В сущности, когда мы читаем или созерцаем
художественное произведение нового автора, основной
154
вопрос, возникающий в нашей душе, всегда такой: «Ну-
ка, что ты за человек? И чем отличаешься от всех людей,
которых я знаю, и что можешь мне сказать -повою о том,
как надо смотреть на нашу жизнь?» Что бы ни изобра-
жал художник: святых, разбойников, царей, лакеев — мы
ищем и видим только душу самого художника»1.
То, что говорит Л. Толстой, одинаково относится и к
идеологической позиции писателя и к стилистическим
формам его- литературного образа. В «образе автора», в
его речевой структуре объединяются все качества и осо-
бенности стиля художественного произведения: распре-
деление света и тени при помощи выразительных рече-
вых средств, переходы от одного стиля изложения к дру-
гому, переливы и сочетания словесных красок, характер
оценок, выражаемых посредством подбора и смены слов
и фраз, своеобразия синтаксического движения. Так от-
крывается новый, еще более глубокий пласт в исследова-
нии стилистики художественной литературы. Он связан
с изучением языка и стиля литературного произведения
как словесно-художественного единства.
Так, проблема сатирического в стилистическом пла-
не не может быть сведена к принципам и приемам се-
мантических или синтаксических сдвигов и лексических
замен. Указание на такого рода приемы не захватывает
сущности явления и ничего не объясняет. Необходима
характеристика одновременно и логических форм неожи-
данной связи понятий и стилистических способов их сло-
весного выражения, связанная с своеобразием речевой
структуры самого образа автора. Вот несколько салты-
ковских определений: «...желания суть натуральные
вожделения, представляемые на благоусмотрение». Уже
в этом определении содержится признак оценки, «благо-
усмотрения» со стороны того, кому эги желания «пред-
ставляются».
«Кто судья в этом деле? Кто может разделить твои
желания на категории, а сии последние — на роды и
виды? Не ты ли? Но ведь ты только можешь желать,
а не анализировать... Кто же? Ответ на этот вопрос за-
ключается в том определении, которое дано мною же-
ланиям вообще. Желания, сказал я выше, суть нату-
1 «Л. Н. Толстой о литературе», Гослитиздат, М. 1955,
стр. 286.
155
ралъные вожделения, представляемые на благоусмотре-
ние... Ужели этого недостаточно, чтобы вразумить тебя?
Не думай, однако же, чтобы я предлагал устройство
особенной какой-либо канцелярии для разбора твоих
желаний,— нет, я далек от такой мысли, хотя, сама по
себе взятая, она весьма почтенна. Я далек от этой мы-
сли лишь потому, что канцелярия в сем разе наверное
превратится в целое министерство; министерство же
образует из себя пять отдельных главноуправлений, что,
по нынешнему состоянию финансов, едва ли не будет
для государства отяготительно. Итак, пускай канцеля-
рия на этот случай заменится одним общим представле-
нием о начальстве».
И далее идет в форме перечисления существенных
признаков — определение существа начальства:
«Ежели нет у тебя прав, а есть одни желания, ежели
сии последние разнообразны, и ежели притом канцеля-
рии учредить невозможно, то ясно, что разбор твоих
вожделений может принадлежать лишь начальству. Во-
первых, оно стоит на высоте; во-вторых — одарено муд-
ростью; в-третьих, наконец, может дать и не дать.
Скажи: обладаешь ли ты хотя одним из сих качеств?» 1
Совсем иной тип сатирического стиля, иные формы
словесного выражения категории сатирического, также
обусловленные индивидуальным своеобразием структу-
ры образа автора, наблюдаются в «Бесах» Ф. М. Досто-
евского при характеристике Степана Трофимовича Вер-
ховеиского; «Исследований не оказалось; но зато ока-
залось возможным простоять всю остальную жизнь, бо-
лее двадцати лет, так сказать, «воплощенной укоризной»
пред отчизной, по выражению народного поэта:
Воплощенной укоризною
Ты стоял перед отчизною,
Либерал-идеалист.
Но то лицо, о котором выразился народный поэт,
может быть и имело право всю жизнь позировать в этом
смысле, если бы того захотело, хотя это и скучно. Наш
же Степан Трофимович, по правде, был только подра-
1 М. Е. С а л т ы к о в-Щ е д р и н, Признаки времени. I. Завеща-
ние моим детям, Поли. собр. соч. М. Е. Салтыкова-Щедрина, изд.
5-е, т. VII, 1906, стр. 8-10.
156
жителем сравнительно с подобными лицами, да и стоять
уставал и частенько полеживал на боку. Но хотя и на
боку, а воплощенность укоризны сохранялась и в лежа-
чем положении,— надо отдать справедливость,— тем бо-
лее, что для губернии было и того достаточно. Посмот-
рели бы вы на него у нас в клубе, когда он садился в
карты. Весь вид его говорил: «Карты! Я сажусь с вами
в ералаш! Разве это совместно? Кто ж отвечает за это?
Кто разбил мою деятельность и обратил ее в ералаш?
Э, погибай Россия!» — и он осанисто козырял с червей»
(«Бесы», ч. I, гл. первая, II). Ср. в ч. I, главе второй, V—
в словах самого Степана Трофимовича: «Укоряет, зачем
я ничего не пишу? Странная мысль!.. Зачем я лежу? Вы,
говорит, должны стоять «примером и укоризной»: Mais,
entre nous soit dit, что же и делать человеку, которому
предназначено стоять «укоризной», как не лежать,—
знает ли она это?»
«Впоследствии, кроме гражданской скорби, он стал
впадать и в шампанское» («Бесы», ч. I, гл. первая, II).
«Я знаю наверное, что она всегда внимательнейшим
образом эти письма прочитывала, даже в случае и двух
писем в день, и прочитав, складывала в особый ящичек,
помеченные и рассортированные; кроме того слагала их
в сердце своем» («Бесы», ч. I, гл. первая, III).
О приемах и принципах изучения языка художест-
венных произведений у нас писалось очень много, осо-
бенно с 20-х годов этого столетия1. Но образцов исто-
рико-стилистического анализа литературных произведе-
ний разных жанров у нас почти нет или почти совсем
нет. Ведь каждое крупное художественное произведение
занимает свое место в контексте современной ему ху-
дожественной литературы и находится в связи и соотно-
шении не только с другими произведениями того же ав-
тора, но и с чужими произведениями того же жанра и
даже смежных жанров. От него тянутся нити аналогий,
соответствий, контрастов, родственных связей по всем
направлениям, даже в глубь литературного прошлого.
Так, исторически менялось соотношение категорий
стиха и прозы. Менялось и понимание структурных свя-
зей и различий между стилями стихотворной и прозаи-
1 См., например, мою статью «Язык художественного произве-
дения», «Вопросы языкознания», 1954, № 5.
157
ческой речи. Общеизвестна близость фразеологии и спо-
собов построения образов в жанрах сентиментальной
прозы конца XVIII и начала XIX века и романтиче-
ской 20—30-х годов XIX века к стиховым. Со второй
половины 30-х годов, а особенно с 40-х годов развива-
ются сложные процессы «опрозаичиванья» (или «про-
заизации») стихотворной речи. Само собой разумеется,
что у художника-прозаика могла складываться и резко
индивидуальная оценка стиховых форм словесного твор-
чества.
Относясь отрицательно к стихотворной речи, Л. Тол-
стой говорил, что «поэты связаны размером и рифмой
и нередко подгоняют под них свои образы и выражения;
они не свободны в выражении своих мыслей»... «Впро-
чем, он соглашался с тем, что у поэтов, особенно у Пуш-
кина, иногда искание рифмы приводит к удачным выра-
жениям»1. В этом смысле очень характерны суждения
Л. Толстого о недостатках пушкинского стихотворного
языка, который он высоко ценил. С. Л. Толстой пишет:
«Он называл прекрасным стихотворением «Тучу», в ко-
тором одно лишь слово неудачно. Он рассказывал, что
Тургенев предлагал ему и Фету угадать это слово. Оба
отгадали. Это было слово «обвивала» в стихе «И мол-
ния грозно тебя обвивала». Молния не обвивает тучу.
Отец, по примеру Тургенева, предлагал этот вопрос раз-
ным лицам и по ответам судил об их художественном
чутье. Про стихотворение «Анчар» он говорил: «По это-
му прекрасному стихотворению видно, как поэты свя-
заны рифмой. Слово «лыки» понадобилось для рифмы
к «владыки», а какие лыки могут быть в пустыне?..»1 2
Разбирая известный отрывок из «Евгения Онегина»:
«Зима. Крестьянин, торжествуя» и т. д., «он говорил:
«Почему крестьянин торжествует? В том нет никакого
торжества, что выпал снег. Выражение «как-нибудь» в
стихе «Его лошадка, снег почуя, плетется рысью как-
нибудь»— неправильно: «как-нибудь» взято для рифмы
к слову «путь». Это слово поставлено вместо ,,кое-как“3».
Л. Н. Толстой не раз выражал ту мысль, что в худо-
жественном произведении каждое слово должно быть
1 С. Л. Толстой, Очерки былого, Гослитиздат, 1956,
стр. 80—81.
2 Там же, стр. 81.
3 Т а м же, стр. 82.
158
внутренне оправдано, мотивировано и связано с ком-
позицией целого. Это требование распространялось и на
стихотворения. Профессор В. Ф. Лазурский вспоминает
отзывы Л. Толстого о позднем стиле Фета. Л. Толстой
прочитал фетовские стихи:
Говорили в древнем Риме,
Что в горах, в пещере темной
Богоравная Сивилла,
Вечно юная, живет,
Что ей все открыли боги,
Что в груди чужой сокрыто,
Что таит небесный свод.
Только избранным доступно
Хоть не самую богиню,
А священное жилище
Чародейки созерцать...
В ясном зеркале ты можешь,
Взор в глаза свои вперяя,
Ту богиню увидать.
Неподвижна и безмолвна,
Для тебя единой зрима
На пороге черной двери,—
На нее тогда смотри!
Но, когда заслышишь песню,
Вдохновенную тобою,—
Эту дверь мне отопри!
— Ну, что это? не понимаю: почему черная дверь, а
не пунцовая? А ну, кто это поймет, тому двугривенный
дам»1.
Вместе с тем многозначность поэтического слова по-
стоянно подчеркивалась Л. Толстым. Не раз восхища-
ясь тютчевскими стихами (из стих. «Есть в осени пер-
воначальной») :
И паутины тонкий волос
Блестит на праздной борозде,
их лаконической обобщенностью и конкретной точно-
стью и особенно своеобразным употреблением в них
слова — праздный, Л. Толстой прибавлял: «Особенность
поэзии в том, что в ней одно слово намекает на мно-
гое» 1 2.
1 В. Ф. Л а з у р с к и й, Дневник. Сб. «Л. Н. Толстой в воспо-
минаниях современников», т. II, стр. 24—25. См. «Литературное
наследство», т. 37—38, М. 1939, стр. 444.
2 В. Г. Чертков, Записи. Сб. «Л. Н. Толстой в воспомина-
ниях современников», т. II, стр. 63.
159
«Здесь,— говорил Л. Толстой,— это слово «празд-
ный» как будто бессмысленно и не в стихах так сказать
нельзя, а между тем этим словом сразу сказано, что
работы окончены, все убрали, и получается полное впе-
чатление. В умении находить точные образы и заклю-
чается искусство писать стихи»...
Вспомнив стих Фета: «Дыханьем ночи обожгло» (из
стихотворения «Осенняя роза»), Л. Толстой отмечает ту
же тенденцию поэтической речи «выразить одним словом
целый ряд понятий и контрастов „морозом обожгло"»1.
Таким образом, анализ стиля литературного произ-
ведения должен опираться на глубокое историческое по-
нимание языка художественной литературы во всем
многообразии ее родов и жанров и на понимание зако-
номерностей развития стилистических особенностей того
жанра, к какому относится или примыкает данное про-
изведение. Так, речь драматических произведений пред-
ставляется как совокупность систем композиционного
объединения диалогических отрезков в целостную худо-
жественную структуру. Поэтому исследование языка
драмы должно прежде всего стремиться раскрыть те
художественные тенденции, которые скрыты в диалоги-
ческой форме.
Являясь комбинацией реплик, замыкающихся в свое-
образные диалогические единства, драматическая речь
образует своей фактурой, своей канвой некоторый ди-
намический ряд с известной последовательностью сло-
весных переходов. В этой динамике реплик, вступающих
одна с другой в различные соотношения, осуществля-
ются определенные принципы смысловых связей. Рече-
вая ткань драмы реализует ту или иную систему прие-
мов сцепления речевых кусков.
Диалогическая речь разорвана, прерывиста. Она по
большей части слагается из сочетания разных видов
разговорной речи. Следуя друг за другом, реплики про-
тивостоят друг другу. Дробность и разнообразие лек-
сико-фразеологических и синтаксических форм психоло-
гически «навязывается» необходимостью различить со-
беседников. Вместе с тем в этом многообразии речевых
переходов ищется система соотношений, предполагаются
1 В. Г. Чертков, Записи. Сб. «Л. Н. Толстой в воспомина-
ниях современников», т. II, стр. 63.
160
некоторые обобщенные и индивидуальные принципы ком-
позиции. Конечно, заранее очевидно, что формы этих,
соотношений разнообразны. Например, возможен такой
тип их, когда значительные по объему диалогические'
объединения сцепляются по принципу контраста, несо-
гласованности в их «бытовой» окраске. Ведь диалог в
своей семантике определяется не только значением слов,
жестов и мимики, но и «обстановкой». Следовательно,
он предполагает в известных пределах «бытовую» при-
уроченность, по крайней мере иллюзию ее. В общест-
венном сознании закреплены шаблоны диалогов, диф-
ференцированных по типичным категориям быта. Так,
говорится: «официальный разговор», «служебный»,
«интимный», «семейная беседа» и т. п. Даже с пред-
ставлениями о разных формах социального взаимодей-
ствия, каковы, например, «судебный процесс», «дискус-
сия», «прения» и т. п., у нас соединяются определенные
ассоциации о сопровождающих их формах речеведения.
Как существуют разйые виды социально-экспрессивной
окраски слов, так есть и разные типы социально-экс-
прессивных разновидностей диалога.
В строении драмы могут быть художественно исполь-
зованы нарушения традиционной, ожидаемой экспрес-
сивной окраски диалога, вмещенного в известную об-
становку. Кроме того, самый принцип сочетания диало-
гических кусков иногда покоится на разорванности,
резкой непримиримости экспрессии неожиданно «сдви-
нутых» форм диалога. Так, в композиции «Ревизора»
Гоголя не раз можно наблюдать применение этого при-
ема (ср., например, диалог Хлестакова с Лукой Луки-
чом — действ. IV, явл. V).
Для устранения недоразумений необходимо напом-
нить, что драматическая речь может быть решительно
оторвана от соотношений с реальными условиями быта.
Тогда она имеет умопредставляемую мотивировку в сю-
жетно-тематической композиции и в строении художест-
венных образов. В этом случае искусственное построение
диалога той или иной фантастической пьесы еще ярче
выступает на фоне привычных форм бытового диалога.
Диалогические формы здесь бывают лишены той или
иной социально-экспрессивной окраски бытовой речи.
Взять в качестве примера хотя бы «Землю» В. Брюсова.
Патетика книжного «красноречия» с торжественной
161
синтаксической конструкцией предполагает условные
стили декламаторского исполнения. Никакой диф-
ференциации в формах социально-речевой экспрес-
сии здесь нет. Отграничение диалогических частей
осуществляется лишь тематически — в сфере одного
типа речи.
Особая область речевых эффектов связана с той
семантической двойственностью, которая возникает в ре-
зультате столкновения объективной значимости слов в
диалоге с их субъективной смысловой направленностью.
Функции словесного ряда в драме — не только выраже-
ние предметных значений, которые в нем потенциально
заложены, но и воплощение индивидуальных смыслов,
которые к нему приурочены в связи с развитием образа
персонажа. Здесь разумеется не извлечение из слов
эмоционного сопровождения, не общее отражение в них
структуры художественного образа, которая, включая
их в себя, через них создается. Но в реплике, приписан-
ной тому или иному персонажу, угадывается смысл
именно его речи. А сверх этого смысла усматривается
отношение его к объективному содержанию данной сло-
весной цепи. Как художественный прием драматиче-
ского построения возможна преднамеренная «игра» этой
двойственностью окутывающих речь экспрессивно-смыс-
ловых «оболочек». Персонаж может говорить каламбу-
рами, их не замечая (ср. разные формы этого приема
в пьесах Гоголя, Островского, Горького и др.). С точки
зрения персонажа, смысл речи прямолинейно прост и
чужд всякой каламбурной направленности. Но в объек-
тивной семантической ткани слов ее наличность очевид-
на. Возникает своеобразная «наслойка» на реплику, как
бы чуждая намерениям говорящего персонажа, но явно
входящая в художественную структуру драмы1.
Еще сложнее — цепь вопросов строения драматиче-
ского языка, связанных со структурой художественных
образов, характеров. Тут вскрывается новый слой в
семантике диалогической речи. Драматический образ не
1 Ср., например, у Гоголя в речи Городничего: «Насчет же
внутреннего распоряжения и того, что называет в письме Андрей
Иванович грешками, я ничего не могу сказать. Да и странно гово-
рить. Нет человека, который бы за собою не имел каких-нибудь
грехов, это уж так самим богом устроено, и волтерианцы напрасно
против этого говорят».
162
описывается автором. Самое большее: в афише, предпо-
сланной действию, он снабжается краткой и поверхност-
ной «рекомендацией», своеобразным «паспортом», кото-
рый лишь направляет читателя на ту или иную эмоцио-
нальную оценку его драматического «поведения», но ни
в малой мере не раскрывает индивидуального «тона»
образа. Следовательно, персонаж свой характер раскры-
вает в динамике драмы, как смысловое звено в общей
композиции «действия» и в своих речах. Речевая харак-
теристика персонажа строится на основе закрепления за
данным образом не только определенной лексики (те-
матическая характеристика), но и определенных экс-
прессивно-синтаксических и стилистико-фразеологиче-
ских форм, индивидуальной системы мимического и пан-
томимического выражения. Образ — то единство, кото-
рое связывает все реплики персонажа.
И. С. Тургенев в своем разборе комедии А. Н. Ост-
ровского «Бедная невеста» отметил одну своеобразную
черту стиля Островского, связанную с приемами рече-
вого построения образов национальных характеров. Сточ-
ки зрения Тургенева, это — «ложная манера». Он так ее
описывает: «Эта ложная манера состоит в подробном до
крайности и утомительном воспроизведении всех частно-
стей и мелочей каждого отдельного характера, в каком-
то ложно-тонком психологическом анализе, который обык-
новенно разрешается тем, что каждое лицо беспрерывно
повторяет одни и те же слова, в которых по мнению ав-
тора, и выражается его особенность. Мы не хотим этим
сказать, чтобы эти слова были неверны, но художество не
обязано только повторять жизнь, и во всех этих бес-
конечно малых чертах теряется та определенность, стро-
гость рисунка, которых требует внутреннее чувство чи-
тателя даже от самой разыгравшейся и смелой фанта-
зии. Невозможно перечесть, сколько раз Анна Петровна
говорит о себе, что она женщина слабая, сырая, что как
можно без мужчины в доме, и т. д. Положим, что это
вечное хныканье идет к ее брюзгливой, вялой и, при
всей доброте, глубоко эгоистической натуре, но надобно
же знать во всем и меру. Этот же самый прием, состоя-
щий в бесконечном повторении удачного или комиче-
ского выражения, употребляется г. Островским посто-
янно, с какими бы лицами он ни имел дело. Г-жа Хорь-
кова повторяет беспрерывно, что она, конечно, женщина
163
необразованная, а сын ее — образованный, но все-таки
уважает ее. Служанка Дарья ни разу не выходит на
сцену без одного и того же восклицания; г. Добротвор-
ский слова не скажет, не повторив, что он знал батюшку
Марьи Андреевны с детства, и т. д. К чему, спраши-
вается, человеку с талантом г. Островского приклеивать
своим героям такие ярлыки, напоминающие свитки с
словами, выходящими изо рта фигур на средневековых
картинках!» *.
Во «Власти тьмы» Л. Толстого легко найти пример
своеобразного строения диалога, в котором каждый из
собеседников говорит о своем интимном, вкладывает в
слова конкретно-личное, индивидуальное содержание,
хотя объективно течение реплик оказывается логически-
прямым. Получается такое соотношение: собеседники,
вращаясь в кругу одних и тех же словесных высказы-
ваний, осмысляют их различно; каждый подразумевает
свое, другому недоступное вещное обозначение, но об-
щая ткань драматической речи от этого не разрывается,
напротив развертывается в стройно-прямом порядке.
Для читателя же сразу ясны и объективное течение
речи, и индивидуальное подразумевание, и общая на-
правленность всей драматической беседы, т. е. как бы
все три плана значений.
Митрич произносит монолог перед Никитой. Лейтмо-
тив: не боюсь никого. «Теперь запил — пью! И не боюсь
никого. Потому не вру, а как есть... Чего их бояться,
дерьма-то? Нате, мол, вот он я! Мне поп один сказывал.
Дьявол — он самый хвастун. Как, говорит, начал ты хва-
стать, сейчас ты и заробеешь. А как стал робеть от людей,
сейчас он, беспятый-то, сейчас и сцапал тебя и попер,
куда ему надо. А как не боюсь я людей-то, мне и легко.
Начхаю ему в бороду, лопатому-то — матери его порося-
тины! Ничего он мне не сделает. На, мол, выкуси!
Никита (крестится). И что же это в самом деле?
(Бросает веревку.)
М и т р и ч. Чего?
Никита (поднимается). Не велишь бояться людей?
Митрич. Есть чего бояться, дерьма-то. Ты их в
^бане-то погляди, все из одного теста, у одного потолще
1 И. С. Тургенев, Несколько слов о новой комедии г. Ост-
ровского «Бедная невеста», Собр. соя., т. XI, М. 1956, стр. 140—141.
164
брюхо, а то потоньше, только и различки в них. Вона
кого бояться! В рот им ситного пирога с горохом!
Никита, Митрич, Матрена (выходит из двора).
Матрена (кличет). Что, идешь, что ль?
Никита. Ох! Да и лучше так-то. Иду! (Идет ко
двору)».
В реплике всегда дана обращенность к собеседнику.
Поэтому реплика характеризует не только того персо-
нажа, от кого она исходит, но и тех, к кому она направ-
лена. Сама экспрессия, эмоционная выразительность и
лексико-синтаксическое построение реплики обуслов-
лены ее адресом. Приемы соотношений реплик зависят
от форм отношений персонажей и вместе с тем их опре-
деляют. В пределах одной реплики ее смысл оказывает-
ся переменным, если изменяются направления в харак-
тере обращений.
Семантика реплики определяется ее «применением».
Характер отношений ее объективного смысла к тому
значению, которое она получает в данной ситуации,
обусловливает выразительную силу реплики, ее драма-
тические функции.
В «Вишневом саду» Чехова Лопахин, коверкая реп-
лики Гамлета, восклицает: «Охмелия, иди в монастырь...»
«Охмелия, о нимфа, помяни меня в твоих молитвах!»
Предметно-смысловое содержание тут опустошено. В
объективном плане, мелькая приглушенно, как ответ на
замечание Вари, что свадьбой нельзя шутить, оно соз-
дает лишь эффект комического выражения, особенно в
связи с народной этимологией Офелии — Охмелия.
Однако как своеобразные формы индивидуальных
«междометий», выражающих смущенную иронию, эти
слова характеризуют не только трагикомический драма-
тизм взаимоотношений Лопахина и Вари, но и получают
своеобразное эмоционально-смысловое наполнение.
Вот — кусок той сцены, в котором легко открываются
глубоко драматические и вместе комические приемы со-
отношения реплик (действ. II). После того как прохожий
своей декламацией: «Брат мой, страдающий брат... Выдь
на Волгу, чей стон...» и просьбой: «Мадемуазель, по-
звольте голодному россиянину копеек тридцать...» —
выудил у Любови Андреевны золотой, Варя, испуган-
ная, говорит:
165
«Варя (испуганная). Я уйду... я уйду... Ах, мамоч-
ка, дома людям есть нечего, а вы ему отдали золотой.
ЛюбовьЛндреевна. Что же со мной, глупой, де-
лать! Я тебе дома отдам все, что у меня есть. Ермолай
Алексеич, дадите мне еще взаймы!..
Лопахин. Слушаю.
Любовь Андреевна. Пойдемте, господа, пора.
А тут, Варя, мы тебя совсем просватали, поздравляю.
Варя (сквозь слезы). Этим, мама, шутить нельзя.
Лопахин. Охмелия, иди в монастырь...
Гаев. А у меня дрожат руки: давно не играл на
бильярде.
Лопахин. Охмелия, о нимфа, помяни меня в твоих
молитвах!»
Все эти соображения и иллюстрации, относящиеся к
стилистике только одного жанра литературных произ-
ведений — именно драмы, свидетельствуют о том, что
изучение «языка» (или стиля) литературного жанра, с
одной стороны, может привести к важным обобщениям и
выводам, связанным с характеристикой структурных и
речевых особенностей этого и других жанров художест-
венной литературы, с другой — содействует углублен-
ному пониманию понятий и категорий стилистики худо-
жественной речи или «языка художественной литерату-
ры» в целом, с третьей — является базой исследований
«индивидуального стиля» писателя. Только детальное
обследование стиля всех основных произведений писа-
теля во всей сложности и своеобразии их структуры как
целостных словесно-художественных единств может
дать материал для описания индивидуального стиля пи-
сателя и для выяснения условий и закономерностей его
формирования и развития на фоне общей истории сти-
лей художественной литературы.
ш
ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
1
Язык — материал и, по определению А. М. Горького,
«первоэлемент» художественной литературы. Однако в
критических и исторических очерках, посвященных твор-
честву писателей, общие, нередко очень субъективные
оценки языка и стиля их произведений выражаются са-
мыми трафаретными фразами. Литературная критика и
сейчас не может здесь опереться на прочные достижения
филологической науки.
Еще в конце прошлого столетия академик Ф. Е. Корш
возмущался тем субъективным произволом, которым
обычно руководствовались критики и литературоведы
того времени в своих суждениях о языке и стиле писа-
теля. Взаимные разногласия между такими «ценителями»
были чрезвычайно велики. По словам Ф. Е. Корша, «где
один видит банальность, другой открывает живые обра-
зы»; то, что одному кажется психологической нелепостью,
другому — «до такой степени естественным, что всякий
читатель мог предвидеть именно такую развязку», и т. п.
Многие из этих литературных судей, писал Ф. Е. Корш,
напоминают того пушкинского критика, «человека впро-
чем доброго и благонамеренного», который, по словам
поэта, «выставил несколько отрывков и вместо всякой
критики уверял, что таковые стихи сами себя дурно реко-
мендуют» Ч Характерно, что академик Ф. Е. Корш, вы-
ступив на борьбу с господствовавшими в его время субъ-
ективными приемами литер ату рно-эстетической оценки,
1 Ф. Е. Корш, Разбор вопроса о подлинности окончания «Ру-
салки» Пушкина..., «Известия Отд. русск. яз. и словесности Имп
АН», т. III, кн. 3, М. 1898, стр. 639.
167
сам впал в еще больший и худший грех, грех субъектив-
ного отрицания качественной разницы между гениальным
и плоским, художественно-творческим и поддельным: он
пытался доказать принадлежность Пушкину бездарной
подделки окончания «Русалки» (Д. Зуева).
Суждения Ф. Е. Корша о субъективизме стилисти-
ческих вкусов, высказанные шестьдесят лет назад, стран-
ным образом перекликаются с ироническим отношением
некоторых современных критиков к соответствующим
оценкам языка и стиля литературных произведений.
В журнале «Звезда» напечатан рассказ-пародия
В. Полякова «Обыкновенная история (Три критика и
один рассказ)». Тут сатирически изображается, как раз-
норечиво судят об одном и том же сочинении, именно
о рассказе «Рыболов Щукин», о его языке и стиле раз-
ные критики. В одном журнале появляется восторжен-
ная рецензия на этот рассказ под названием «Большое
в малом». Рецензент пишет: «Автор дал своему герою
остроумную фамилию — «Щукин», и мы уже по одной
фамилии героя видим, что и отец его и дед его были
рыболовами, что опыт передавался из поколения в по-
коление. Автор умеет одним штрихом передать биогра-
фию человека. Цитирую: «его видавшая виды рука сжи-
мала удочку». Одной крохотной фразой автор умеет
передать внешность героя: «уже немолодой». Как это
просто, лаконично и вместе с тем впечатляюще!» Ч
В другом отзыве, носящем заглавие «Автор плавает по
поверхности», содержится в корне противоположная
оценка того же рассказа, его языка и стиля: «Автор на-
вязывает своему герою фамилию Щукин. Герой —токарь.
Спрашивается — почему не Станков, пе Фрезов., не Скоро-
стное наконец, а Щукин? Фамилия «Щукин» остается
всецело на совести автора... Рассказ написан беспомощно
и безграмотно. Берем на выборку несколько первых по-
павшихся цитат: «горячее солнце» (как будто оно может
быть холодным!); «бабочка притаилась в усах» (надо
знать бабочек!)»1 2. Сравни в рассказе: «улыбка, как ма-
ленькая веселая бабочка, притаилась в его усах» и так
далее, и так далее.
1 В. Поляков, Обыкновенная история (Три критика и один
рассказ), «Звезда», 1953, № 8, стр. 125.
2 Та м же, стр. 126.
168
Изучение языка художественного произведения и
определение способов его стилистического анализа — это
проблемы, которым у нас посвящено очень много статей
и исследований, но которые еще очень далеки не только
от научного решения, но даже и от более или менее
удовлетворительного объяснения. Изучение языка худо-
жественного произведения тесно связано с более ши-
рокими задачами исследования языка художественной
литературы и ее стилей, а также языка того или иного
писателя. Понимание словесного состава и композицион-
ного строя художественного произведения во многом за-
висит от правильного освещения функциональных свое-
образий языка художественной литературы в соответ-
ствующую эпоху, от подлинно научного истолкования
категорий и понятий художественной речи, «поэтического
языка», от знания исторических закономерностей разви-
тия литературных стилей, от степени изученности инди-
видуально-поэтического стиля данного автора и т. п.
Основной категорией в сфере лингвистического изу-
чения художественной литературы обычно признается по-
нятие индивидуального стиля (то есть своеобразной, ис-
торически обусловленной, сложной, но представляющей
структурное единство системы средств и форм словес-
ного выражения в ее развитии). В стиле писателя, соот-
ветственно его художественным замыслам, объединены,
внутренне связаны и эстетически оправданы все исполь-
зованные художником языковые средства. Вместе с тем
в стилистике индивидуально-художественного творчества
иногда очевиднее и острее выступают элементы будущей
системы национально-литературного языка и ярче отра-
жаются функциональные пережитки языкового прошло-
го. В голосе великого художника часто слышится голос
всего народа. Вследствие сложности всех этих взаимо-
отношений исторические законы развития литературных
стилей —в тесной связи с развитием литературы как ши-
рокой области культуры и в связи с развитием народного
и литературного языка — еще совсем не раскрыты.
Не так давно наши литературоведы жаловались:
«Ощупью, в густом лесу необследованных фактов, спо-
тыкаясь ежеминутно о корни еще не истлевших тради-
ций, возвращаясь неоднократно на дороги, уже раньше
169
заводившие в тупик, бредут исследователи литературы
в поисках теории литературных стилей» Ч
Путь конкретно-исторического изучения «языка» от-
дельных художественных произведений (конечно, при со-
ответствующей теоретической направленности) может до-
стовернее всего привести к решению больших проблем
стиля писателя и языка художественной литературы.
Вопрос о языке отдельного художественного произве-
дения и ограниченнее и специфичнее.
Язык разных художественных произведений одного и
того же автора может иметь существенные отличия. Об
этом писал М. Исаковский (применительно к поэзии):
«Даже в пределах поэзии, создаваемой одним и тем же
человеком, нельзя пользоваться одним и тем же «секре-
том», открытым раз и навсегда. Такого «секрета» быть
не может. В каждом отдельном произведении поэта —
если, конечно, это произведение по-настоящему талант-
ливо— заключен уже свой особый „секрет"»1 2.
Целью и задачей изучения языка художественного
произведения «является показ тех лингвистических средств,
посредством которых выражается идейное и связанное с
ним эмоциональное содержание литературных произве-
дений» 3.
Каждое литературное произведение, будет ли оно в
своем строе целиком зависеть от традиции и восходить
к ней, или, противопоставленное ей, будет стремиться
к освобождению от ее стеснений,— во всяком случае за-
нимает определенное место в контексте современной ему
литературы. Оно вступает в соотношение с другими про-
изведениями того же жанра и разных смежных жанров.
От него тянутся нити аналогий, соответствий, контра-
стов, родственных связей по всем направлениям, даже
в глубь литературного прошлого.
Художественное произведение может и должно изу-
чаться, с одной стороны, как процесс воплощения и ста-
новления идейно-творческого замысла автора и — с дру-
1 А. И. Б е л е ц к и й, К построению теории литературных сти-
лей. Сб. «Памяти П. Н. Сакулина», М. 1931, стр. 9.
2 М. Исаковский, О советской массовой песне. «О писа-
тельском труде. Сборник статей и выступлений советских писате-
лей», М. 1953, стр. 77—78.
3 Л; В. Щ е р б а, Опыты лингвистического толкования стихо-
творений. Сб. «Советское языкознание», т. II, Л. 1936, стр. 129.
170
гой — как конкретно-исторический факт, как закономер-
ное звено в общем развитии словесно-художественного
искусства народа. Изучение художественного произведе-
ния, его языка, содержания должно опираться на глу-
бокое понимание общественной жизни соответствующего
периода развития народа, на разностороннее знание куль-
туры, литературы и искусства этой эпохи, на ясное пред-
ставление о состоянии общенародного разговорного и ли-
тературного языка и его стилей в то время, на глубокое
проникновение в творческий метод автора и в своеобра-
зие его индивидуального словесно-художественного ма-
стерства.
Так, понимание многих- выражений в пушкинском «Ев-
гении Онегине» невозможно без знания культуры и ли-
тературы того времени. Вот две иллюстрации.
«Перекрахмаленный нахал» (8, XXVI): «В этом стихе,
со столь характерным для Пушкина применением тонких
аллитераций, речь идет о кембриковом шейном платке
лондонского франта. Моду крахмалить (слегка) батист
пустил Джордж Бруммель в начале века, а ее преувели-
чением подражатели знаменитого чудака вызывали в
двадцатых годах насмешку со стороны французских пти-
метров» х.
В стихах:
В пяти верстах от Красногорья,
Деревни Ленского, живет
И здравствует еще доныне
В философической пустыне
Зарецкий, некогда буян,
Картежной шайки атаман,
Глава повес, трибун трактирный,
Теперь же добрый и простой
Отец семейства холостой,
Надежный друг, помещик мирный
И даже честный человек:
Так исправляется наш век! —
два крылатых выражения, взятых у Вольтера. Еще
Н. О. Лернер указал, что строка: «И даже честный че-
ловек»— перевод известной фразы в конце вольтеров-
ского «Кандида». В. Набоков-Сирин отметил, что и по-
следняя строка тоже из сочинений Вольтера, а именно,
из примечания, сделанного им в 1768 году к началу чет-
1 В. Набоков-Сирин, Заметки переводчика, «Новый жур-
нал», XLIX, 1957, Нью-Йорк, стр. 141—142.
171
вертой песни «Женевской гражданской войны»: «Obser-
vez, cher lecteur, combien le siecle se perfectionne»Ч Про-
изведения Пушкина насыщены афоризмами и цитатами,
крылатыми выражениями из художественной литера-
туры — русской и западноевропейской 1 2.
А. С. Шишков писал по поводу стихов сумароковской
басни:
Толчки проезжий чует,
И в нос, и в рыло, и в бока,
Однако епанча гораздо жестока:
Хлопочет,
И с плеч идти не хочет.
«...глагол хлопочет, заступающий место целого стиха, не
мог бы иметь той силы, когда бы вместе с другими сло-
вами, а не один особенно стоял. Он здесь по двум при-
чинам хорош: первое, что, стоя один, лучше показывает
силу свою, второе, что соединяет в себе два понятия;
ибо хлопочет, говоря о человеке, значит суетится, забо-
тится; говоря же... о бездушной вещи, значит беспре-
станно хлопает, трепещет. Сие последнее знаменование
оного можем мы почувствовать из того, что глаголов
топает, хлопает, в учащательном иначе сказать не мо-
жем, как топочет, хлопочет. Епанча представляет здесь
и то и другое: в одном случае глагол хлопочет, точно
так же, как и не хочет, изображает в ней некое одарен-
ное чувствами существо; в другом случае тот же глагол
хлопочет изображает ее как вещь бесчувственную, тре-
пещущую от ветра. Сие соединение понятий в одном и
том же слове делает красоту изображений; ибо кратким
изречением многие мысли в уме рождает» 3.
Особенно много недоразумений вызывает именно ис-
толкование и понимание самых простых слов в строе
литературного произведения, имеющих за собою длин-
1 В. Набоков-Сирин, Заметки переводчика, «Новый жур-
нал», 1957, кн. XLIX, стр. 140—141.
2 Цитаты получают новую жизнь, новое применение в струк-
туре разных произведений. Но вместе с тем состав цитаты, ее экс-
прессия влияет на ее литературное использование, иногда даже
предопределяет ситуацию и стилистические оттенки ее употребле-
ния. Так ходячая цитата из рассказа Чехова «Брак по расчету»:
«Позвольте вам выйти вон» — уже в силу галантно-комической
вульгарности своего построения может вместиться лишь в стиль
фамильярно-шутливого или иронического изображения.
3 А. С. Шишков, Собр. соч. и перев., Сравнение Сумарокова
с Лафонтеном..., ч. XII, СПб. 1828, стр. 127—129.
172
ную историю употребления. Обычно читатель, встретив
такое слово у писателя XVIII и даже XIX века, вклады-
вает в это слово привычный, современный смысл. Иногда
общий смысл фразы как будто не противоречит такому
пониманию. Например, в «Горе от ума» Грибоедова
Лиза дает такую характеристику Скалозубу: «Да-с, так
сказать, речист, а больно не хитер»х. Кажется есте-
ственным понять в этом ироническом контексте слово —
речист в значении: болтлив, говорлив. Так, например,
это и сделал составитель статьи о слове речистый в
«Толковом словаре русского языка» под редакцией про-
фессора Д. Н. Ушакова 1 2. Однако здесь же и откры-
вается ошибочность такого истолкования. В самом деле,
с цитатой из Грибоедова здесь сопоставлена фраза из
«Отцов и детей» Тургенева: «Митя уже бегает молод-
цом и болтает речисто». Но в этом последнем примере
речисто, конечно, не означает: говорливо, болтливо, а
значит: «произнося, выговаривая ясно, чисто, чеканно»,
(ср. Словарь Академии российской, 1822, ч. V,
стр. 1040). Действительно, в русском литературном
языке XVIII и первой половины XIX века, слово речи-
стый имело два значения. Одно — высокое, церковносла-
вянское, уже отмиравшее к началу XIX века: красноре-
чивый. Это значение «Словарем церковнославянского и
русского языка» 1847 года прямо признано церковным,
то есть устарелым 3. Второе же, живое и широко рас-
пространенное в литературном языке XVIII и первой
половины XIX века значение определяется так: «имею-
щий ясное, чистое произношение. Речистый выговор».
Речистый было антонимом слова косноязычный4. Таким
образом, Лиза подчеркивала чеканную, по-военному чет-
кую, внушительную манеру речи Скалозуба, но не на-
ходила в этом ясном и чистом выговоре, в этой само-
уверенности речи блестков ума. В «Повести о Горе-
Злочастии»: «Укротила скудость мой речистый язык».
Ср. в письме гр. Дмитриева-Мамонова (первой трети
XIX в.): «Вот третий день какая надо мною насмешка.
С вечера прикажу я очень речисто и громко истопить
1 А. С. Грибоедов, Горе от ума, Гослитиздат, 1955, стр. 41.
2 Толковый словарь русского языка, т. III, 1939, стр. 1353.
3 См. Словарь церковнославянского и русского языка, 2-е изд.,
т. 4, 1867, стр. 173.
4 См. «Словарь Академии российской», 1822, ч. V, стр. 121.
173
все печки, и на приказ мой ответствуют: хорошо, будет
исполнено, а на утрие... топят лучинками, навоняя при
том слегка салом и сажею» Ср. у Тургенева в «Дыме»:
«Он (Ворошилов —В. В.) вдруг оживился и так и по-
мчался, как добрый конь, лихо и резко отчеканивая
каждый слог, каждую букву, как молодец-кадет на вы-
пускном экзамене, и сильно, но не в лад размахивая
руками. С каждым мгновением он становился все речи-
стей, все бойчей, благо никто его не прерывал: он слов-
но читал диссертацию или лекцию» 1 2.
Позднее — в разговорном языке второй половины
XIX века — это значение угасло и слово речистый стало
обозначать: словоохотливый, обладающий даром речи,
способностью много и хорошо говорить. Например, у
Н. С. Лескова в «Полуношниках» (в мещанском сказе):
«Как я только вышла и пошла — сейчас мне попался
очень хороший человек извозчик — такой смирный, но
речистый — очень хорошо говорил».
В рассказе Б. Садовского «Сын белокаменной Мо-
сквы»: «Насколько Денис Васильевич (Давыдов.—
В. В.) был хлопотлив, стремителен и речист, настолько
Алексей Петрович (Ермолов.— В. В.) был неподвижно-
величав и молчаливо спокоен»3.
В языке литературно-художественного произведения
нередко используются самым разнообразным образом
и с самыми различными функциями социально-экспрес-
сивные краски речи изображаемой среды. Например, в
очерке В. А. Гиляровского «Балаган» — при изображе-
нии мелкого провинциального актерства конца XIX ве-
ка— применяются общенародные слова и выражения в
разговорно-профессиональном актерском употреблении
(названия театральных декораций): «Ханов более два-
дцати лет служил по провинциальным сценам. Он начал
свою сценическую деятельность у знаменитого в свое
время антрепренера Смирнова и с бродячей труппой, в со-
рокоградусные морозы, путешествовал из города в город
на розвальнях. Играл он тогда драматических любовни-
ков и получал двадцать пять рублей в месяц при хозяй-
1 «Русский архив», 1896, т. I, стр. 52.
2 И. С. Тургенев, Собр. соч., т. IV, М. 1954, стр. 16.
3 Борис Садовский, Сын белокаменной Москвы (1837),
«Аполлон», 1910, октябрь — ноябрь, № 11, «Литературный альма-
нах», стр. 16.
174
ской квартире и столе. Квартирой ему служила уборная
в театре, где в холодные зимы он спал, завернувшись в
море или небо, положивши воздух или лес под голову.
Утром он развертывался, катаясь по сцене, вылезал из
декорации весь белый от клеевой краски и долго чи-
стился» Ч
Зависимость социально-экспрессивных значений и
употреблений слов от мировоззрения, культуры и быта
социальной среды, ее языка ярко сказывается в истории
переносных выражений, которыми обозначался в рус-
ском языке эротический интерес мужчины к женщине.
Так, в светской дворянской речи XVIII в. возникло слово
махаться в значении: флиртовать, волочиться.
П. И. Мельников в «Бабушкиных россказнях» писал:
«Махаться с кем в XVIII столетии употреблялось вместо
нынешнего волочиться за кем. Перевод s’eventer — обма-
хиваться веером. Веер, как и мушки, прилепленные на
лицо, играли важную роль в волокитствах наших праде-
дов и прабабушек. Куда прилеплена мушка, как и куда
махнула красавица веером — это была целая наука».
Ср. там же, в «Бабушкиных россказнях»: «Ах, как любил
покойник об амурах козировать (causer.— В. В.),ах,как
любил!.. Бывало, не токма у мужчин, у дам у каждой до
единой переспросит — кто с кем «махается», каким вее-
ром, как и куда прелестная нимфа свой веер держит»1 2.
В позднее распространившемся выражении волочиться
за кем-нибудь (ср. опытный волокита), также связанном с *
жаргоном дворянства, есть налет иронической экспрессии.
В Академическом словаре 1847 года это значение толко-
валось так: «Стараться преклонить к плотской любви» 3.
Военно-офицерским духом пахнет распространившееся
с 20—30-х годов выражение приударить в значении: на-
чать усиленно флиртовать, волочиться. Ср. в воспомина-
ниях генерал-майора князя А. В. Трубецкого об
А. С. Пушкине: «Дантес часто посещал Пушкиных. Он
ухаживал за «Наташей», как и за всеми красавицами
(а она была красавица), но вовсе не особенно «приуда-
1 Вл. Гиляровский, Трущобные люди. Этюды с натуры,
Гослитиздат, М. 1957, стр. 53.
2 П. И. Мельнико в-П ечерский, Поли. собр. соч., 1909,
т. I, стр. 209.
3 Словарь церковнославянского и русского языка, изд. 2-е, т. I,
1867, стр. 322.
175
рял», как мы тогда выражались, за нею» Ч У А. Ф. Пи-
семского в романе «Взбаламученное море»: «За ней что-
то флигель-адъютант очень уж приударяет». В очерке
А. Чужбинского «Стоянка в Дымогаре»1 2: «Полковой
адъютант начал ударять за городничихой...»
Буржуазно-мещанский колорит ощутителен в слове —
ухаживать (ср. претенциозно-мещанское словообразова-
ние по типу «европеизмов»: ухажор).
Быт и мировоззрение социальной группы, с которой
ассоциируется то или иное выражение в литературном
сознании эпохи, накладывают на него свой отпечаток. От
этого отпечатка нередко и зависит экспрессивная окраска
слова в литературном языке или в языке художественной
литературы.
Взаимоотношения разных общественных групп отра-
жаются в экспрессивных оттенках, облекающих соответ-
ствующий круг слов и выражений. Д. Н. Мамин-Сибиряк,
изображая в своем очерке «На чужой стороне» взаимо-
отношения между «деревенщиной», приходившей в сто-
. лицу на отхожие промыслы, и представителями городских
демократических масс, заметил: «У Петьки (огородни-
ка.— В. В.) был целый ряд выражений, которые произво-
дили на деревенщину особенное впечатление, как неопро-
вержимое доказательство высшей культуры: «не тот ко-
ленкор», «неглиже с отвагой», «рвань коричневая», «ан-
тик с гвоздикой» или «английское с мылом» и т. д.»3.
Ср. у Лескова в очерке «Воительница» характеристику
галантерейного стиля торговки: «...обращение у Домны
Платоновны было тонкое. Ни за что, бывало, она в го-
стиной не скажет, как другие, что «была, дескать, я во
всенародной бане», а выразится, что «имела я, сударь,
счастие вчера быть в бестелесном маскараде»; о бере-
менной женщине ни за что не брякнет, как другие, что
она, дескать, беременна, а скажет: «она в своем марьяж-
ном интересе», и тому подобное» 4. Ср. у А. Чехова в
рассказе «Хороший конец» в речи кондуктора: «Я человек
образованного класса, при деньгах, но ежели взглянуть
на меня с точки зрения, то кто я? Бобыль, все равно, как
1 «Русская старина», 1901, январь — март, стр. 258.
2 А. Чужбинский, Очерки прошлого, СПб. 1863, стр. 152.
3 Д. Н. М а м и н - С и б и р я к, Поли. собр. соч., Пг. 1917, т X
стр. 339.
4 Н. С. Лесков, Собр. соч., т. I, М. 1956, стр. 151.
176
какой-нибудь ксендз. А потому я весьма желал бы соче-
таться узами игуменея, то есть вступить в законный
брак с какой-нибудь достойной особой»1.
Изучение экспрессии звуков, форм и знаков, слов и
оборотов обычно относится к области стилистики. При
этом указывают на необходимость строго различать фор-
мы индивидуальной и коллективной экспрессии. «Необ-
ходимо тщательно отличать экспрессивные качества речи,
имеющие своим источником личные свойства и состоя-
ния говорящего или пишущего, от таких фактов языковой
экспрессии, которые коренятся в общественной психоло-
гии и представляют собой проявления именно обществен-
ной реакции на принадлежащий данному обществу язык.
Это важно потому, что в последнем случае экспрессивные
качества речи становятся в сущности уже объективной
принадлежностью самих фактов языка, переставая быть
только свойством носителя языка... Следовательно, субъ-
ективными соответствующие экспрессивные качества язы-
ка являются только по происхождению, с точки зрения
их психологического генезиса, тогда как реально, в исто-
рической действительности, они существуют как вполне
объективные свойства тех или иных звуков, форм и зна-
ков. Вот почему мы имеем право утверждать, что дей-
ствительно в самом языке, а вовсе не в психологии гово-
рящих и пишущих, которая лингвиста непосредственно
не интересует, кроме звуков, форм и знаков, есть еще не-
что, именно экспрессия, принадлежащая звукам, формам .
и знакам. Из всего этого следует, что одно дело стиль язы-
ка, а другое дело стиль тех, кто пишет или говорит»1 2.
Об иронической экспрессии, облекающей архаизмы,
в том числе и церковнославянизмы в русском литератур-
ном языке, говорит Петр Степанович Верховенский в
«Бесах» Достоевского: «...мне эти трагедии наскучили
вельми,— и, заметьте, я говорю серьезно, хоть и употреб-
ляю славянские выражения».
Экспрессивные краски легко смешиваются и переходят
одна в другую. Грубые слова, вызванные гневом, нена-
вистью, раздражением, могут приобрести смягченное зна-
чение. Бранные выражения могут стать ласкательными,
1 А. П. Чехов, Собр. соч., т. V, М. 1955, стр. 300.
2 Г. О. В и н о к у р, О задачах истории языка, «Ученые записки
Московского гор. пед. института. Кафедра русск. яз.», т. V, вып. I,
1941, стр. 17.
7 В. В. Виноградов
177
дружескими. Однако разным эпохам, разным социальным
слоям общества присущи свои типические формы рече-
вой экспрессии, характерные способы экспрессивно-рече-
вого выражения. Они не могут не учитываться в художе-
ственных произведениях реалистического характера, осо-
бенно в исторических жанрах. Так, множество
экспрессивных выражений, представляющих собою или
фонетические вариации вульгарных слов, или искажен-
ные «народно-этимологические» образования, распростра-
нились в просторечии из языка скоморохов и шутов.
В «Записках» И. В. Селиванова так характеризуется
стиль обращения и речи шутов XVIII — начала XIX века
в связи с изображением последнего могикана поколения
шутов — Ивана Савельича Сальникова: «Иногда у него
были такие сальные, даже и для тогдашнего времени,
выходки, что теперь, когда мода на эти шутки прошла,
теперь даже и поверить трудно, что их допускали в по-
рядочном доме... Рассказывали мне, что однажды, когда
у князя (Д. В. Голицына, московского генерал-губерна-
тора.— В. В.) были гости и княгиня играла в карты, а
Иван Савельевич расхаживался по гостиным, он вдруг
подошел к ней, заглянул ей в карты и сказал: «Ах, Та-
нечка, ma chere, какая к тебе игра-то припендерила!».
...Одной девице, очень знатной фамилии, которая была
известна, как хорошая пианистка, он тоже в большом
обществе сказал: „Машенька, ma chere, поди сыграй
на фортепихалъцах-то“»].
В своих «Записках» А. М. Тургенев (1772—1863)
иронически писал о лингвистических распоряжениях им-
ператора Павла: «Император Павел высочайше повелеть
соизволил выключить из ученого словаря несколько слов
русских и не употреблять ни в речах, ни в письмоводстве:
стражу называть караулом 1 2, отряд — деташементом,
исполнение — экзекуциею, объявление — публи-
кацией), действие — акциею.
Вследствие сего особого' повеления шеф лейб-грена-
дерского полка Лобанов заставил священника полко-
вого на заутрене воскресной петь в ирмосе вместо «на
1 «Русская старина», 1882, март, стр. 626.
2 Ср. в распоряжении правительства от 30 марта 1800 г.:
«Предписывается всем вообще в донесениях к его имп. вели-
честву не помещать слова стража, но вместо оного писать караул»
«Русская старина», 1887, октябрь, стр. 204.
178
божественной страже богоглаголивый Аввакум» — «на
божественном карауле»!»
Ш. Балли подчеркивал, что бессознательное, есте-
ственное употребление слов, выражений, конструкций,
выходящих за пределы общего языка, если оно зависит
также от степени образования, воспитания, профессии и
других жизненных, социальных условий, отражает лишь
социальную физиономию говорящего лица, его харак-
тер, его принадлежность к тому или иному социально-
бытовому кругу. С стилистической точки зрения все это
нейтрально и может вызвать ту или иную реакцию лишь
у представителей другой среды, у лиц другой культуры
или другого уровня образования. Но все это еще не вы-
ражает оценки самого говорящего субъекта, его отноше-
ния к действительности, хотя и отражает его культурно-
общественную природу. Например, для личности великого
русского композитора М. Глинки было невыразительно,
что он, хорошо говоря на многих европейских языках,
«никак не мог совершенно очистить своего русского языка
от смоленского выговора; так, например, он говорил: буш-
мак, самывар, пумада и проч.»1 2. Но зато к области экс-
прессивных средств речевого стиля М. И. Глинки относи-
лась его склонность к передразниванию, к шуточным фра-
зам, «которые он очень любил; так, например, ему понра-
вилась где-то слышанная им фраза, которую он нередко
повторял при случае: «богомерзкая и человекопротивная
физиономия». Это он выговаривал, ударяя на о, окая» 3.
Экспрессивная внушительность почти обессмысленных
(с коммуникативной и познавательной точек зрения) вы-
ражений мастерски очерчена как социальное явление
И. С. Тургеневым в рассказе «Лебедянь» (из «Записок
охотника») — при изображении поручика Хлопакова:
«Особенность поручика Хлопакова состоит в том. что
он в продолжение года, иногда двух, употребляет
постоянно одно и то же выражение, кстати и не-
кстати, выражение нисколько не забавное, но кото-
рое, бог знает почему, всех смешит. Лет восемь тому
назад он на каждом шагу говорил: «мое вам почитание,
покорнейше благодарствую», и тогдашние его покровите-
1 «Русская старина», 1885, октябрь, стр. 66.
2 «Русская старина», 1871, т. IV, июль, стр. 48.
3 Т а м же, стр. 50.
7*
179
ли всякий раз помирали со смеху и заставляли его по-
вторять «мое почитание»; потом он стал употреблять до-
вольно сложное выражение: «нет, уж это вы того, кес-
кесэ,— это вышло выходит», и с тем же блистательным
успехом; года два спустя придумал новую прибаутку:
«не ву горяче па, человек божий, обшит бараньей ко-
жей» и т. д. И что же! эти, как видите, вовсе незатейли-
вые словечки его кормят, поят и одевают...
— Ну,— подумал я при виде Хлопакова,— какая-то
его нынешняя поговорка?..
— Что, каково, брат? — спросил князь Хлопакова.
— Что ж? известно, рррракалиооон, как есть рррра-
калиооон!
Князь прыснул со смеху.
— Как, как? повтори!
— Рррракалиооон! — самодовольно повторил отстав-
ной поручик.
«Вот оно, слово-то!» — подумал я».
Ср.: «Хлопаков заерзал кием по руке, прицелился и
скиксовал.
— Э, рракалиоон,— закричал он с досадой.
Князь опять рассмеялся.
— Как, как, как?
Но Хлопаков своего слова повторить не захотел; надо
же пококетничать».
В романе Ф. Сологуба «Мелкий бес» среди галереи
второстепенных персонажей находится как бы выхвачен-
ный из живой жизни образ купца Тишкова, который «го-
ворил под рифму всякий вздор очень весело и быстро».
Его рифмованные скороговорки имеют смысл отвлеченной
экспрессивной игры созвучиями и могут восприниматься
лишь как единое целое, как прибаутки и присловья.
«Скучаев сказал:
— Зря болтают на человека.
— Зря болтают, правды не знают,— тотчас же под-
хватил Тишков, молодцевато наливая себе рюмку англий-
ской горькой. Видно было, что он не думает о том, что
ему говорят, а только ловит слова для рифмования.
— Он ничего, парень душевный, и выпить не ду-
рак,— продолжал Скучаев, наливая себе и не обращая
внимания на рифмачество Тишкова.
— Если выпить не дурак, значит парень так и сяк,—
бойко крикнул Тишков и опрокинул рюмку в рот.
180
— А что с мамзелью вяжется, так это что же! — го-
ворил Скучаев.
— От мамзели клопы в постели,— ответил Тишков.
— Кто богу не грешен, царю не виноват!
— Все грешим, все любить хотим.
— А он хочет грех венцом прикрыть.
— Грех венцом прикроют, подерутся и завоют...
Тишкову было все равно, слушают его или нет; он
не мог не схватывать чужих слов для рифмачества и дей-
ствовал с неуклонностью хитро придуманной машинки-
докучалки» Ч
Экспрессивные формы речи не только отражают субъ-
ективно-характеристическую и идейную оценку, а также
выражают стиль личности, социальной группы, но и лег-
ко поддаются переводу на интеллектуальный язык. На-
пример, Н. В. Шелгунов в «Воспоминаниях (Из прошло-
го и настоящего)» так характеризует историю отношений
между отцами и детьми за шестьдесят лет истории рус-
ского общества с 40-х годов XIX века по 900-е годы. «Во-
обще недоразумения между отцами и детьми разреша-
лись в шестидесятых годах легко, и прежняя форма се-
мейного управления уступила сама собой свое место
новой форме, основанной на большем равенстве и сво-
боде. Когда я был маленьким, нас учили говорить: «па-
пенька», «маменька» и «вы», потом стали говорить:
«папа», «мама» и тоже «вы»; в шестидесятых годах рез-
кая реакция ниспровергла эти мягкие формы и сами отцы
учили детей говорить: «отец», «мать», «ты». Теперь гово-
рят: «папа», «мама» и тоже «ты». Вот простая и наглядная
история вопроса об отцах и детях за шестьдесят лет» 1 2.
Идейная сторона экспрессивной оценки ярко выра-
жена в суждении К. С. Станиславского о слове «вообще».
Протестуя против безжизненной и схематической
«игры вообще» во имя живого реалистического и индиви-
дуально-стилистического воспроизведения сценического
образа, К. С. Станиславский так изображает экспрес-
сивные оттенки слова и понятия «вообще»:
«Какое это ужасное слово «вообще»!
Сколько в нем неряшества, неразберихи, неоснова-
тельности, беспорядка.
1 Ф. Сологуб, Мелкий бес, Academia, М.—Л. 1933,
стр. 138—140.
2 Н. В. Шелгунов, Сочинения, СПб. 1891, т. II, стр. 710.
181
Хотите съесть чего-нибудь «вообще»? Хотите «вооб-
ще» поговорить, почитать? Хотите повеселиться «вообще»?
Какой скукой, бессодержательностью веет от таких
предложений...
Сыграйте мне любовь, ревность, ненависть «вообще»!
Что это значит? Сыграть окрошку из этих страстей и их
составных элементов? Вот ее-то, эту окрошку страстей,
чувств, мыслей, логики действия, образа, и подают нам
на сцене актеры — «вообще»...
Подлинное искусство и игра «вообще» несовместимы.
Одно уничтожает другое. Искусство любит порядок и гар-
монию, а «вообще»—беспорядок и хаотичность...
«Вообще» — поверхностно и легкомысленно... «Вооб-
ще»— хаотично и бессмысленно... «Вообще» — все начи-
нает и ничего не кончает»
Историзм — основа правильного, научного понима-
ния явлений. Исторично должно быть и отношение к
языку художественного произведения, в том числе и
современного. К этому выводу приходили крупнейшие
представители нашего отечественного языкознания
уже в XIX веке. В понятие историзма входит признак
социально-групповой и стилистической дифференциро-
ванности речи.
Великий русский и украинский лингвист А. А. По-
тебня писал: «Всякое познание по существу исторично
и имеет для нас значение лишь по отношению к буду-
щему»1 2. И в другом месте: «Всякое наблюдение дан-
ного момента вызывает наблюдение предшествующего и
вытягивается в нить истории, нити сплетаются в посто-
янно возобновляемую ткань жизни» 3.
2
В эпоху развития национальной культуры художе-
ственной литературе и языку ее произведений принадле-
жит огромная культурно-образовательная роль.
1 К. Станиславский, Работа актера над собой, Гослит-
издат, М. 1938, стр. 106—107.
2 А. А. П о т е б н я, Из записок по теории словесности, Харь-
ков, 1905, стр. 25.
3 Там же, стр. 642.
182
Наши писатели сознают это. «По отношению каждого
человека к своему языку,— пишет К. Паустовский,—
можно совершенно точно судить не только о его культур-
ном уровне, но и о гражданской ценности. Истинная лю-
бовь к своей стране немыслима без любви к своему
языку».
И он же констатирует, что «с вывихнутой речью при-
ходится сталкиваться не только в учреждениях и на вы-
весках... много искаженных, испорченных слов проникает
в газеты и даже в художественную литературу»1. У на-
ших писателей нередки неоправданные нарушения лите-
ратурно-языковой нормы, отступления от нее.
В. Инбер грустно признается: «Мы пишем часто очень
серым языком. Об этом следует помнить и все время чув-
ствовать слово. Язык — это тот материал, из которого
мы строим наши вещи»1 2.
«Поэты часто втягивают слова-уродцы в свои произ-
ведения» 3.
Между тем А. М. Горький учил: «Не умея держать в
руке топор—дерева не стешешь, а не зная языка хо-
рошо,— красиво, просто и всем приятно — не напи-
шешь»4. «...Язык является костью, мускулом, нервом,
кожей фактов и поэтому точность, ясность, простота
языка совершенно необходимы для того, чтобы пра-
вильно и ярко изображать процессы создания фактов
человеком и процессы влияния фактов на человека»5.
Писатель — носитель и творец национальной культуры
речи. Пользуясь общенародным языком своего времени,
он отбирает, комбинирует, и в соответствии с своим твор-
ческим замыслом — объединяет разные средства словар-
ного состава и грамматического строя своего родного
языка. Поэтому-то и читатель прежде всего восприни-
мает и оценивает язык художественного произведения,
его словесный и фразеологический состав, его граммати-
ческую организацию, его образы, приемы сочетания слов,
1 К. Паустовский, Поэзия прозы, «Знамя», 1953, №9,
стр. 175.
2 В. Инбер, Помогать поэтам, «Литературная газета», 3 ок-
тября 1953 г., № 117.
3 Т а м же.
4 М. Горький, Материалы и исследования, Изд. АН СССР,
т. I, 1934, стр. 305.
5 М. Горький, О литературе, 1937, стр. 376.
183
способы построения речи разных действующих лиц с точ-
ки зрения современной культуры речи, с точки зрения
стилистических норм современного данному художествен-
ному произведению национального литературного языка,
его правил и законов его развития. Отступая в силу тех
или иных художественных задач от этих норм и правил,
писатель обязан внутренне, эстетически оправдать свои
речевые новшества, свои нарушения общей национально-
языковой нормы. Всем памятен завет А. М. Горького:
«Необходима беспощадная борьба за очищение литера-
туры от словесного хлама, борьба за простоту и ясность
нашего языка, за честную технику, без которой невоз-
можна четкая идеология» *.
Вместе с тем необходимо помнить и то, о чем писал
К. Фосслер в статье «Грамматические и психологические
формы в языке»: «...то, что с точки зрения языка является
ошибкой, может, если оно возникает из самобытной на-
туры, иметь художественную ценность; в искусстве гос-
подствует право личности, в грамматике—право кол-
лектива» * 2.
Для того чтобы представить себе возможности и пер-
спективы поэтического преобразования общих языковых
форм и категорий, можно привести такой пример из
«Воспоминаний о Горьком» Владимира Познера. Обед.
Горький «внезапно прерывает трапезу и с мечтательным
меланхолическим видом начинает барабанить пальцами
по столу. Один за другим все присутствующие замолкают
и следят за ним украдкой: какую еще новую шутку он го-
товит? Но даже самые недоверчивые видят: Алексей Мак-
симович совершенно серьезен, настолько, что даже пере-
стает барабанить по столу и начинает покручивать усы. На-
конец он говорит: «Знаете ли вы, что банк — муж банки?»
Так возникает игра в «замужества»: чай — муж чай-
ки, пух — муж пушки, полк — муж полки, ток — муж точ-
ки, нож — муж ножки... Теперь уже несколько дней у
всех наморщенные лбы, отсутствующие взгляды, все без-
молвно шевелят губами: сосредоточенно отыскивают но-
вые словосочетания»3.
’М. Горький, О литературе. Литературно-критические ста-
тьи, М. 1953, стр. 651.
2 «Проблемы литературной формы», Academia, Л. 1928, стр. 176.
3 Владимир Познер, Воспоминания о Горьком, «Москва»,
1958, № 3, стр. 192.
184
В структуре художественного произведения происхо-
дит эмоционально-образная, эстетическая трансформация
средств общенародного языка. Все средства языка выра-
зительны, надо лишь умело пользоваться ими. Вот один
из многих возможных примеров. Описывая внешность
доброго, но бесталанного и безвольного Петра Петровича
Каратаева, Тургенев заметил: «Небольшие опухшие глаз-
ки глядели—и только...»1, и в этой связи самое простое
слово — глядеть приобретает глубокий образный смысл.
Легко заметить, какое яркое художественное значение
приобретают в стиле Гоголя страдательные конструкции,
с помощью которых изображается пассивное, как бы ме-
ханизированное и предустановленное жизненной тради-
цией, ее автоматизмом, восприятие действительности со
стороны героя, а также его поведение.
«Не без радости был вдали узрет полосатый шлах-
баум» 1 2. «Здесь был испущен очень глубокий вздох». «За-
то, может быть, от самого создания света не было упо-
треблено столько времени на туалет. Целый час был по-
священ только на одно рассматривание лица в зеркале...
Отпущено было в зеркало несколько поклонов в сопро-
вождении неясных звуков, отчасти похожих на француз-
ские, хотя по-французски Чичиков не знал вовсе». «При
расставании слез не было пролито из родительских глаз;
дана была полтина меди на расход и лакомства и, что
гораздо важнее, умное наставление».
Как уже указано, всестороннее изучение и глубокий
анализ языка художественного произведения невозможны
без знания культуры языка и социально-исторического
контекста соответствующей эпохи. Ведь та литературно-
языковая норма, в аспекте которой оцениваются элемен-
ты стиля словесно-художественного произведения, яв-
ляется составной частью контекста.
Широкий контекст литературного языка и его сти-
лей, а также общенародного разговорного языка с его
разветвлениями является историческим фоном и истори-
ческой средой осмысления и оценки способов стилистиче-
ского построения словесно-художественного произведе-
1 И. С. Тургенев, Петр Петрович Каратаев, Собр. соч., т. I,
М. 1953, стр. 311.
2 Н. В. Гоголь, Мертвые души, Поли. собр. соч., т. VI, изд.
АН СССР, 1951, стр. 21. Далее цитируется по тому же изданию
(стр. 36, 161, 225).
185
ния. Вот несколько истордко-лексикологических справок,
очень существенных для понимания стилистических свое-
образий русской реалистической литературы XIX века,
преимущественно второй его половины.
Разговорное выражение — для очистки совести — сло-
жилось под влиянием церковнославянским. Оно могло
сначала укорениться или в среде духовенства, или слу-
жилой, чиновничьей. Характерно, что в «Церковном сло-
варе» П. Алексеева было отдельно помещено фразеоло-
гическое сочетание — очистити совесть — «дух учинить
спокойным. Евр. 9, 14. Христос очистит совесть нашу от
мертвых дел»1.
Слово подпитие в значении попойка встречается преи-
мущественно в форме: в подпитии. Это — явный церковно-
славянизм, распространившийся из среды духовенства,
монашества и мелкого чиновничества 1 2.
М. А. Караулов в работе «Говор гребенских казаков»
констатировал, что говору казаков чуждо было наречное
слово здесь: «Лет шесть-семь назад школьники лишь в
школе употребляли слово здесь, а дома говорили только
тут, рискуя в противном случае подвергнуться насмеш-
кам: до такой степени прочна была традиция»3.
Я. К. Грот писал о русском литературном языке 60—
70-х годов XIX века: «Современный литературный язык
вообще стремится к упрощению, к большему и большему
сближению с языком разговорным, отбрасывая постепен-
но слова тяжелые, напыщенные, слишком искусствен-
ные в своем образовании, каковы, например, отживаю-
щие свой век слова: преуспеяние, споспешествовать,
преткновение, и им подобные»4.
Все это важно знать как при изучении языка литера-
турного произведения с стилистической точки зрения, так
и при характеристике его языковых фактов в плане об-
щей истории литературного языка.
Если исследователь идет от языка произведения к
изучению общенародного или литературного языка эпохи,
1 П. Алексеев, Продолжение Церковного словаря, М. 1779,
стр. 175.
2 Ср. там же, стр. 192.
3 М. А. Караулов, Говор гребенских казаков. «Материалы
для этнографии Терской области», СПб. 1902, стр. 3.
4 Записка о Толковом словаре Даля, «Записки Ймп. АН», 1871,
т. XX, кн. I, стр. 19.
186
то искомые нормы и общие черты языка не должны непо-
средственно отождествляться с языком отдельного лите-
ратурного произведения. Очень показательны в этом
смысле оценки индивидуальных нарушений стилистиче-
ских норм современного русского языка, содержащиеся в
разнообразных читательских и критических откликах на
произведения советской художественной литературы. Так,
в статье В. Любовцева правильно отмечены факты откло-
нения от современной литературно-языковой нормы в
стиле «Повестей и рассказов» В. Авдеева. Например:
«Вид у него был торжественный, словно он держал за
щеками какую-то приятную тайну», «впереди ятаганом ви-
лась река» и т. п. У поэта Н. Тряпкина встречаются такие
стихи:
И много там русских друзей и подруг,
Чьи синие очи — бадановый луг
В четвертом томе БСЭ читаем: «Бадан... многолетние
травы с ползучим корневищем и безлистным стеблем...
Цветки с лилово-красными лепестками»... «Следователь-
но, в переводе с поэтического языка на прозаический, эта
фраза звучит так: «Чьи синие очи — лилово-красный
луг» 1 2. В «Волшебных рассказах» Н. Москвина есть такие
выражения: «...кричит он, но почтительно, хотя и не в
себе весь». «Стоит Сергей Митрофаныч над пустым уж
телефоном.'» 3. Ср. у Ф. Гладкова в повести «Завет отца»:
«Он не только играл языком, но и руками: снимет одну
рубашку — сделает руками какую-то быструю запутан-
ную фигуру, как фокусник, снимет другую—еще более
замысловато жонглирует перед своими глазами»4.
Н. Леонтьев в рецензии на альманах «Север» в сти-
хах В. Жилкина отмечает неточность и смысловую рас-
плывчатость обозначения явлений, как результат невни-
мания к конкретным условиям жизни и труда. «В. Жил-
кин утверждает, что владелец лесозавода «скапливал
богатства в закрома», что в колхозе «ждет не дождется
1 Н. Т р я п к и н, Новые стихи, «Октябрь», 1953, № 5, стр. 76.
2 Вл. Любовцев, О стилистических и языковых небрежно-
стях, «Московский комсомолец», 13 августа 1953 г.
3 Н. Москвин, Волшебные рассказы, «Знание», 1953, №7,
стр. 158.
4 Ф. Гладков, Клятва. Повести, «Сов. писатель», 1944,
стр. 160.
187
вспашки пласт», а «ручьи не вьются в талом блеске»,
что «струи Волги... закрепят каспийские пески»1.
Другой архангельский поэт В. Мусиков начинает сти-
хотворение о Радищеве такими строками:
Рванулась долу коренная,
Клубя дорогу за спиной...
«Ни «рвануться долу», ни «клубить дорогу за спиной»
коренная, конечно, не могла»1 2.
В книге С. Голубова «Доблесть» находим такое сло-
воупотребление: «С обеден засвистал ветер, обложил небо
серыми тучами, и дробный дождик повалился на землю
сначала косыми полосами холодной воды, а потом мел-
кой и редкой россыпью»3. «Лес был облит холодным ог-
нем, в котором ветви деревьев, покрытые свежим белым
снегом, казались паутинным гнездом гигантского брил-
лиантового паука» 4. «Ни день, ни ночь... Давно бы пора
открыться утру. Но горизонт так сдвинулся ненастьем,
что ничего нельзя было разобрать кругом»5.
В романе Бор. Соловьева «Крепче камня» не может
не поразить читателя неясное (южновеликорусское или
книжнославянское) применение глагола — расточаться.
«В сумраке тускло поблескивали темные, тихие воды, рас-
плывались угрюмые, поросшие лесом горы, а где-то вда-
леке со стороны Лыньевска вставало и расточалось дым-
ное, слабое зарево»6.
«...она шла по пустым, мглистым улицам, над кото-
рыми со стороны завода порой вставало и расточалось
дымное зарево».
Ср. в том же романе: «Деревья сверкали и вспыхи-
вали от солнца, и за стволами, за расточительной зеленью
поблескивали, как стальные лезвия, узкие полоски еле
угадываемой реки».
Здесь же областное слово изгаляться, галиться (в зна-
чении «издеваться», «насмехаться», «измываться») пре-
1 «Новый мир», 1954, № 4, стр. 238.
2 Т ам же.
3 С. Голубов, Атаман и фельдмаршал, «Доблесть. Повести
и рассказы», «Сов. писатель», 1945, стр. 42.
4 Т а м же, стр. 106.
5 С. Голубов, «Стерегущий», там же, стр. 148.
6 Б. Соловьев, Крепче камня, Гослитиздат, Л. 1939, стр. 94.
Дальше цитируется по тому же изданию.
188
вращено в голиться, изголятъся: «Это коренная бело-
гвардейщина озорует и изголяется». «Каково нам прихо-
дилось, каково над нами изголялись, об этом и не рас-
скажешь». «А мы их принимаем с полным удовольстви-
ем — не обижаем и не годимся над ими».
В речи действующих лиц—изголятъся: «Все бы ему
над кем изголяться, личность свою оказывать». «Глав-
ное, изголяются они над народом, потому что у них силы
много». «А вы,— обернулся он к смеющимся зрителям,—
видите, что паренек глупый, безобидный, и рады изго-
ляться над ним» и др. под.
А. Зорич, автор книги «Капитан дальнего плавания»
(Одесское областное издательство, 1957), по словам ре-
цензента Евг. Юнги, обнаруживает «явное пренебреже-
ние к слову», хотя и призывает устами своей героини
Ольги Лагуненко к борьбе со штампами. «...— А ты, вме-
сто того чтобы учиться самому писать хорошо, пытаешься
перенимать скверные штампы. Ну, что это за тарабар-
щина, посмотри: «С огромным подъемом включилась в
это начинание молодая крановщица». Русский язык обед-
нел, что ли? Образов, мыслей, слов тебе не хватает? Не
смей так писать, так бюрократы, а не журналисты пи-
шут»,— категорически требует от работника редакции
поэта Ручейкова журналистка Ольга Лагуненко, одна из
главных героинь романа».
«Злой издевкой над автором книги,— замечает Евге-
ний Юнга,— выглядит эта тирада, особенно, когда чита-
тель воочию убеждается в таком, к примеру, отношении
А. Зорич к языку:
«Ветер к ночи усилился, однако четкая линия факти-
ческого выполнения графика медленно, но неуклонно об-
гоняла плановую», «со стороны моря подполз также пло-
вучий кран, мощный и внешне неуклюжий», «шесть согну-
тых спин будто сами направили шлюпку в пучину»,
«покорно пил нашатырный спирт, нарзан, боржом, ессен-
туки и прочие лечебные воды»; «если обычная жена мужа
пилит, то журналистка —ведь это целый лесопильный за-
вод», «до своей секретарши почимчиковал» и т. д. и т. п.» Ч
О повести Л. Карелина «Общежитие», напечатанной в
журнале «Юность», читатели отзывались так:
1 Е. Юнга, Когда автор пренебрегает добрым советом... «Ли-
тературная газета», 7 сентября 1957 г., № 108.
189
«В повести немало мест, вызывающих недоумение. Но
среди них выделяется описание «бушующего перед
смертью домика». Вот оно. «Что-то таинственное и страш-
ное совершалось сейчас на глазах у людей. Таинствен-
ное и страшное потому, что, разваливаясь, маленький до-
мик словно ожил и даже взбунтовался, швыряя во все
стороны куски своих стен, осколки стекла».
Стиль автора более чем неровен, он то поднимается
до выспреннего тона, то опускается до явной бессмыс-
лицы. Повесть пестрит жаргонными словечками.
А сколько в повести надуманных и грубо стилизован-
ных слов и выражений! Чтобы наглядно показать их
«красоты», попытаемся при помощи их дать характери-
стику повести. У автора повести, несомненно, есть талант
и наив, но нет еще уменья уделывать свою повесть, он
перемогаясь, придумал массу пошлости и грязи, свалил
все это в общаге (общежитии) и тем самым вызверился
на советскую молодежь. Автор оскуднел яркими положи-
тельными типами и с округлой самодовольностъю начал
мышиную возню с ухоженными им отрицательными ге-
роями. Ему и не помыслилось, что он раздувает теневые
стороны и смакует пошлятину. Автор вместо тщательной
работы над повестью сбагрил ее в редакцию журнала
«Юность», где, не опамятовав, напечатали ее и даже го-
товы считать переворотом в юношеской литературе».
К этому отзыву присоединилась в конце концов и редак-
ция „Литературной газеты"»1.
В сущности, требование соответствия нормам литера-
турного языка и установившимся типам соотношений и
взаимодействий между его стилями предъявляется ко
всякому литературному тексту. Однако острота этого тре-
бования значительно смягчается по отношению к научно-
исследовательским и техническим сочинениям. Но если
то или иное произведение этого рода обнаруживает тен-
денцию к занимательной популяризации или претензии
на художественность изложения, то сразу же повышается
читательский интерес к качествам его стиля.
Например, в «Горестных заметах» журнала «Звезда»
помещен под заглавием «Без языка» иронический отзыв о
1 Г. Н е ф о до в, Ю. Нефедов, П. Крючков, К. Редкова,
Без уважения к читателю (Письмо в редакцию), «Литературная
газета», 10 сентября 1957 г., № 109.
190
языке книги профессора И. А. Саркизова-Серазини «Под
небом Италии» (Географиздат, М. 1957) L Здесь читаем:
«Книга пестрит такими, например, сочетаниями слов:
«Возвышенный мост» (стр. 8).
«Отдаленная жизнь» (стр. 62).
«Обратное возвращение» (стр. 9).
«В досадном жесте схватился руками за голову...»
(стр. 30).
«Видя перед собой людей, хорошо одетых в совре-
менную одежду...» (стр. 11).
«Колизей имеет форму эллипса более 0,5 км в об-
хвате»... (стр. 85).
• Всех перлов, впрочем, не перечесть! Их ассортимент к
тому же достаточно широк... У бедного читателя язык отни-
мается, и, выражаясь языком проф. И. М. Саркизова-Се-
разини, он в досадном жесте хватается руками за голову».
Для характеристики небрежного и неряшливого фелье-
тонно-газетного стиля можно привести примеры из фелье-
тона Д. Заславского «Единица измерения».
«Честному, самоотверженному труду стахановца,
ударника, изобретателя, лауреата сопутствует и денеж-
ная премия — сопутствует, но не ведет. Денежной пре-
мией поощряется успех трудящегося, но не деньгами из-
меряется он сам, не от денег почет ему» 1 2.
Легко заметить, что присоединение глагола ведет,
который требует иного управления, чем глагол сопут-
ствует (вести кого-что, а сопутствовать кому-чему), ло-
мает всю синтаксическую конструкцию фразы. Точно так
же выражение «не от денег почет ему» может быть поня-
то и в смысле: не со стороны денег почет ему. Предлог
от здесь употреблен неряшливо вместо: ради, из-за.
Таким образом, общественное понимание языка худо-
жественного произведения в контексте современного ему
общенародного, общенационального языка, сопровожда-
ется оценкой стилистических «находок», удачных творче-
ских «открытий» писателя, соответствующих законам
развития этого языка, и выделением погрешностей, оши-
бок, немотивированных отклонений от языковой нормы3.
1 «Звезда», 1957, № 8, стр. 223.
2Д. Заславский, Единица измерения, «Правда», 31 июля
1947 г., № 197(10588).
3 Само собой разумеется, что так называемые «уродливые, за-
соряющие язык словечки и выражения» могут быть употреблены в
191
Например, профессор Р. Ф. Брандт отметил в языке
Игоря Северянина «...обилие сложных слов, из коих
многие звучат слишком на немецкий лад, примыкая к
редким и дурным образцам, как «небосвод» и «кораб-
лекрушение», то есть представляя приклейку предмет-
ницы или прикладка (имени существительного или при-
лагательного.— В. В.) к неизмененной — не укороченной,
не распространенной — предметнице. Таковы: солнце-
свет — немецкое Sonnenlicht (Крымская трагикомедия);
бракоцепь — Ehekette (В березовом коттедже); «порвав
злоцепь с печалью и нуждой» (Памяти А. М. Жемчуж-
никова); лесофея— Waldfee (Лесофея); «пьеро» —
костюмы и стихотомы (Поэза истребления); у окна
альпорозы в корзине (Эксцессерка); у лесоозера (В ша-
ле березовом); Златолира — заглавие сборника...; зла-
тополдень и женоклуб (Клуб дам); лисопрофиль (Ли-
содева); ...грёзофарс (Ананасы, Увертюра); под ало-
желтый лесосон (Регина); «Лиробасня» (заглавие);
оркестро-мелодия (На премьере); звукоткань, электро-
бот и в луносне (Издевательство); «Ядоцветы» (загла-
вие); горлоспазма (Загорной); ...призыво-крики...
(Колье рондо); ...лунопаль (ibid.— В. В.)-, ...бронзольвы
(Поэза для Брюсова); ...разнотоны (Поэзоконцерт);
...сребротоны (Поэза о тысяча первом знакомстве);
...Белолилия (В шале березовом); с белорозой... (В го-
спитале); мне стало скучно в иностранах (Крымская
трагикомедия)»1.
Ср. «цветоплеть (Романс III); ...бичелучье... (Брин-
дизи); плутоглазка (Валентина); ...ветропрбсвист,
...крылолет... (Ананасы, Увертюра)»* 1 2 и др. под.
В философском журнале «Логос» за 1910 год Б. Бу-
гаев (Андрей Белый) упрекал переводчика книги
Э. Бутру «Наука и религия в современной филосо-
фии» —В. Базарова в том, что он употребляет нерус-
ские выражения, например, «подгитоживаются (?) вме-
комических или сатирических произведениях как средства речевой
характеристики персонажей. Ср., например, с одной стороны, статью
Бориса Тимофеева «Правильно ли мы говорим? (Заметки писателя)»,
«Звезда», 1958, № 2, стр. 247—251, и комический рассказ И. Ко-
стюкова «На разных языках», «Крокодил» за 1958 г., № 6, стр. 6.
1 Проф. Р. Ф. Б р а н д т, О языке Игоря Северянина. «Критика
о творчестве Игоря Северянина», М. 1916, стр. 138—139.
2 Там же, стр. 139.
192
сто подводятся итоги»Ч Но слова подытоживать, поды-
тоживаться прижились. Само собой разумеется, что
оценка новообразований или непривычных выражений
в тексте литературного произведения нередко носит
очень субъективный характер.
Например, А. Шемшурину казались неоправданными
неологизмами или стиховыми вульгаризмами В. Брю-
сова такие для нас привычные слова, как соседить:1 2
Со мной соседили орлы.
( «Возвращение» )
неоглядный:3
Скиталец дерзкий в неоглядном море.
(«Дон-Жуан»)
последыш,:4
Последыши и баловни природы.
(«К счастливым»)
Ср. в повести современного советского писателя Л. Бо-
рисова «Утро обещает»: «Количество учащихся растет,
старые опытные педагоги уходят на покой, а вновь испе-
ченные еще неопытны, многие из них весьма и весьма сла-
боваты в знании русского языка. А как говорят? «пошли»
вместо «пойдем», «бронь» вместо «броня», «зачитала»
вместо «прочла», «пошила» вместо «сшила»,— не скажут
«два дня», а непременно «пара»! Да и слово «непременно»
уже забывается, вместо него говорят «обязательно»5.
В некоторых случаях «ошибка» или «недоразумение»
в области словотворчества или индивидуального, нового
словоупотребления современного писателя вызывается
недооценкой тонких семантических и стилистических от-
тенков старой фразеологии. Общеизвестно выражение
«блудный сын», связанное с евангельской притчей (ср.,
например, у А. С. Пушкина в «Станционном смотрите-
ле»). В большом «Словаре современного русского лите-
ратурного языка», издаваемом Академией наук СССР,
1 Б. Бугаев, Э. Бутру, Наука и религия в современной фи-
лософии, перев. В. Базарова, изд-во «Шиповник», СПб. 1910, «Ло-
гос», 1910, кн. 1, стр. 284.
2 «„...соседили орлы“—или неправильно вновь произведено, или
что-то уж очень дряхлое». А. Ш е м ш у р и н, Стихи В. Брюсова и
русский язык, М. 1908, стр.’ 13.
3 Т а м же, стр. 34.
4 «Последыши... Бог мой, какое слово!», там же, стр. 84.
5 «Звезда», 1954, № 6, стр. 52.
193
о слове «блудный» говорится следующее: «Блудный, ая,
ое. Распутный, развратный (церк.) [Царь Василисе:]
Чего боишься? Я тебя не на-дух Зову к себе. За блуд-
ное житье Эпитемьи не положу тяжелой. А. Остр., Ва-
силиса Мелентьевна, д. II, явл. 9. В устар, выражении:
Блудный сын (из евангельской притчи) — ушедший из
родительского дома и после скитаний, растратив в по-
рочной жизни полученное от отца имущество, с раская-
нием вернувшийся к нему обратно. Я все имущество до
последней копеечки растранжирил. И вот пришел я к
вам проситься, дяденька, как блудный сын. Тург., Отр.
из воспом. своих и чужих. Отчаянный, III <>. Рас-
пространительно: человек, вернувшийся к родителям
после неудачных скитаний и поисков лучшей жизни
(устар.)» *.
В четырехтомном нормативном академическом «Сло-
варе русского языка», задача которого — «показать со-
временное состояние словарного состава русского литера-
турного языка и представить с необходимой полнотой
его лексику», отмечаются два слова-омонима блудный
(что едва ли правильно) 1 2. Одно из этих слов, определяе-
мое как прилагательное к блуд (устар.— распутство, раз-
врат), признается устарелым. Другое же употребляется
лишь в выражении «блудный сын», которое характери-
зуется как «шутливое» и круг применения этого слова
очерчивается так: «о члене семьи или какого-л. коллек-
тива, не подчиняющемся его воле, нарушающем его устои
(из евангельской притчи о непокорном сыне, ушедшем
из родительского дома, а после скитаний и распутной
жизни с раскаянием вернувшемся к отцу)»3.
Источником всех этих сведений является «Толковый
словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова
(т. I, ОГИЗ, М. 1935, стр. 157): «Блудный, ая, ое (церк.).
1 Словарь современного русского литературного языка, т. I,
А—Б. Изд. АН СССР, М.—Л. 1948, стр. 519.
2 То же деление на два омонима в однотомном «Словаре рус-
ского языка» С. И. Ожегова. Но ср. в «Словаре русского языка,
составленном Вторым отделением Имп. Акад, наук», редакция акад.
Я. К. Грота, СПб. 1895, т. I, А—Д: «Блудный, ая, ое; — ден, дна, о.
Любодейный, распутный, развратный. Притча о блудном сыне»
(стр. 214).
3 Словарь русского языка, т. I, А—И, М. 1957, Гос. изд. ино-
странных и национальных словарей, стр. 116.
194
Прил. к блуд. Блудный грех. О Блудный сын /взято из
евангелия/ — 1) о сыне, вышедшем из повиновения роди-
телям, порвавшем с родительским домом (устар.)}
2) перен. о члене какого-л. коллектива, не подчиняющем-
ся его воле, действующем по-своему (шутл.).
На таком фоне не может не представиться странным
и несколько комичным образование сочетания слов —
блудный отец (ср. блудный сын) и такое его применение
в повести Александра Былинова «Рота уходит с песней»:
«События развернулись стремительнее, чем ожидал Ко-
тельников. Семья его приехала из Вольска нежданно-не-
гаданно и встретила сочувствие у командующего и члена
военного совета. Через много дней, очнувшись от всего
происшедшего, Котельников понял, что семью нарочно
вызвали, удружил кто-то из поборников нравственности.
Встреча состоялась в холодной гостинице. Валентина по-
старела и казалась Котельникову совсем чужой. Ребята
держали себя стойко, по-мужски, и с любопытством по-
глядывали на блудного отца» L
Впрочем, выражение — блудный отец, как синоним
словосочетания отец-греховодник употребляется и в фель-
етоне Сем. Нариньяни «Вопрос к судье»:1 2 «Судье сле-
довало бы выставить отца-греховодника за дверь. А судья
пожалел его, посочувствовал, посоветовал: «Поезжайте в
родное село да разузнайте, как зовут ваших детей».
Федор Филиппович едет и узнает, что его старшую
дочь зовут не Тасей, а Марией. И хотя Мария Федоровна
Скворцова работает тут же рядом, в Белгородской обла-
сти, библиотекаршей, блудный отец не поехал к ней, чтобы
посмотреть, как выглядит его дочь после тридцатилетней
разлуки».
Само собой разумеется, что анализ речевых элемен-
тов литературного произведения — с точки зрения живых
форм и категорий современной языковой системы — не
может не учитывать искусственных или неискусных, не
соответствующих языковой действительности построений
писателя. Например, у Ник. Никитина в сборнике расска-
зов и повестей «Полет» есть рассказ «Белый лес», и в
этот рассказ вмонтировано такое «удостоверение»: «Дано
гр-ке Щукачевой Дарье для ненатурального спирта в
1 «Новый мир». 1957, № 8, стр. 48.
2 См. «Правда», 2 октября 1957 г., № 275.
195
том, что имеет малютку и не имеет сосания в грудях и
имеет машинку для уготовления малютки, сие удостове-
ряем без всякой цели.
Предволисполком Зубкин».
О степени остроумия этого удостоверения, сочиненного
Ник. Никитиным, каждый волен судить по своему вкусу
и по своим потребностям. Но едва ли это удостоверение
может дать интересный материал для изучения приемов
использования художником слова письменной и разговор-
ной бытовой фразеологии, свойственной тому или иному
социально-речевому стилю
В заметке К. А. Федина «Из литературных бесед» на-
ходим такое утверждение, которое нельзя не признать
правильным: «Борьба за мастерство писателя не есть
борьба за «обточенность», «отшлифованность», «грамма-
тичность» языка. Это борьба за индивидуальный язык
каждого писателя, будь то даже «неотшлифованный»
язык Льва Толстого» 1 2.
Чрезвычайно важно изучение изобразительных средств
народного языка. Законы словесно-художественного твор-
чества народа, отражающиеся и в развитии его языка,
определяют направление, характер индивидуального рече-
творчества писателя, строй образов и состав экспрессив-
ных красок, используемых в литературных произведениях.
В развитом литературном языке выделяются разно-
образные стили, то есть более или менее устойчивые,
целесообразно организованные системы словесного выра-
жения. Их состав и соотношение исторически изменяются.
Понятие стиля языка основано не столько на совокуп-
ности установившихся «внешних» лексико-фразеологиче-
ских и грамматических примет, сколько на своеобразных
внутренних экспрессивно-смысловых принципах отбора,
объединения, сочетания и мотивированного применения
выражений и конструкций. Кроме того, стили языка соот-
носительны, и эти соотношения подчинены определенным
правилам, ограничивающим и упорядочивающим формы
разностильных смешений.
В языке художественного произведения могут встре-
1 См. мои «Заметки о языке советских художественных произ-
ведений» в сб. «Вопросы культуры речи», вып. 1, М. 1955.
2 Конст. Федин, Писатель. Искусство. Время, М. 1957,
стр. 390—391.
196
чаться и сочетаться выражения и обороты, свойственные
разным стилям литературного языка. Например, в «Под-
нятой целине» Михаила Шолохова (в главах из 2-й книги
романа) так изображается неприятное состояние кулака
Якова Лукича Островнова после тяжелых сновидений:
«В самом мрачном настроении он оделся, оскорбил дей-
ствием ластившегося к нему кота, за завтраком ни с того
ни с сего обозвал жену «дурехой», а на сноху, неуместно
вступившую за столом в хозяйственный разговор, даже
замахнулся ложкой»1. Здесь юридический термин — ос-
корбил действием применен по отношению к коту и постав-
лен в один ряд с бытовыми обозначениями поступков утра-
тившего душевный покой врага советской власти. От соче-
тания разностильных выражений увеличивается сатири-
ческая сила изображения.
Вместе с тем одно и то же выражение в разном сти-
листическом окружении может приобрести разные оттен-
ки и выполнять разные экспрессивно-смысловые функции.
Примером может служить употребление церковнославян-
ского выражения «гром небесный грянет» или «небесный
гром грянет» у Пушкина в шуточном стиле в стихотво-
рении о Кишиневе, месте ссылки поэта, и в торжествен-
ном восточно-библейском стиле «Подражаний Корану»:
Проклятый город Кишинев,
Тебя бранить — язык устанет!
Когда-нибудь на грешный кров
Твоих запачканных домов
Небесный гром, конечно, грянет...
В третьем «Подражании Корану»:
Но дважды ангел вострубит;
На землю гром небесный грянет:
И брат от брата побежит
И сын от матери отпрянет.
Смешение или соединение выражений, принадлежащих
к разным стилям литературного языка, в составе худо-
жественного произведения должно быть внутренне оправ-
дано или мотивировано. Иначе возникает комическое
столкновение или переплетение разных стилей, свидетель-
ствующее (если оно не является целенаправленным) о
недостатке речевой культуры у автора.
1 Михаил Шолохов, Поднятая целина, главы из 2-й книги
романа, «Огонек», 1954, апрель, № 15, стр. 4.
197
На вред немотивированного смешения стилей указы-
вал М. Исаковский в статье «О советской массовой
песне»: «В песне «Гаданье» взят старинный народный
сюжет и совершенно механически приспособлен к нашей
современности. И мы видим, что из этого ничего не вы-
шло. А в языке получилась своеобразная смесь «фран-
цузского с нижегородским»:
Если зыбью бирюзовой
Заколышется река —
На крылечке на тесовом
Поджидай ты моряка.
«Бирюзовая зыбь» и «на крылечке на тесовом» — это
из совершенно разных словарей, и вряд ли эти выраже-
ния можно поставить рядом. Тем более их нельзя вло-
жить в уста деревенской девушки» 1. Вместе с тем имен-
но в языке художественного произведения часто откры-
ваются самые широкие возможности и просторы для
смешения и взаимодействия разных стилей литератур-
ного языка и разговорной речи.
Сами писатели непосредственно ощущают глубокие
внутренние различия между стилями языка. «Ученый
язык,— писал А. И. Герцен,— язык условный, под титла-
ми, язык стенографированный, временный, пригодный
ученикам; содержание спрятано в его алгебраических
формулах»1 2. А. Блок заметил о стилях газеты: «Язык ху-
дожественного отдела ничем не должен походить на
язык телеграмм и хроник»3. А в другом месте он же за-
явил: «Газетный уличный язык в лирическом окружении
эстетизируется». Фет писал Перцову (от 17 марта
1891 г.): «В стихотворении «Да, это он» так меня коро-
бит слово из фельетона: сочувствую» 4.
И. А. Бунин в «Речи на юбилее „ Русских ведомо-
стей"» так характеризовал газетный стиль писателей и
критиков символистско-декадентского толка в первое
пятнадцатилетие XX века:
«Послушайте писателя нового типа: он, на своем пош-
1 М. Исаковский, О советской массовой песне. «О писа-
тельском труде. Сб. статей и выступлений советских писателей», М.
1953, стр. 90—91.
2 А. И. Герцен, Соч., т. III, СПб. 1905, стр. 138.
3 А. Блок, Искусство и газета, Собр. соч., т. IX, М. 1936,
стр. 97.
4 П. Перцов, Литературные воспоминания, 1890—1902,
М.—Л. 1933, стр. 103.
198
лом жаргоне, своими устами или устами своего крити-
ка,— и чаще всего газетного,— скажет вам, что он соз-
дал несметное количество новых ценностей, преобразо-
вал прозаический язык, возвел на высоту и обогатил
стихотворный, затронул глубочайшие вопросы духа, «выя-
вил» новую психику, поставил себе великие «задания»,
стремится к великим «достижениям» и «возможностям»,
он, не стыдясь, назовет себя «мудрым», «многогран-
ным», «дерзновенным», „солнечным"»
Как разнообразны характеристические функции раз-
ностильных слов и оборотов литературной речи в языке
художественной литературы и как сложны стилистиче-
ские превращения и перемещения таких выражений в
многообразии художественных контекстов и композиций
можно увидеть на примере из «Подростка» Ф. М. До-
стоевского — предсмертной записки девушки-самоубий-
цы: «„Маменька, милая, простите меня за то, что я пре-
кратила мой жизненный дебют. Огорчившая васОля“...
— Какая странная записка! — воскликнул я в удив-
лении.
— Чем странная? — спросил Васин.
— Разве можно в такую минуту писать юмористиче-
скими выражениями?
Васин глядел вопросительно.
— Да и юмор странный,— продолжал я,— гимнази-
ческий условный язык между товарищами... Ну, кто мо-
жет в такую минуту и в такой записке к несчастной ма-
тери,— а мать она ведь, оказывается, любила же,— на-
писать: «прекратила мой жизненный дебют»!
— Почему же нельзя написать? — все еще не пони-
мал Васин.
— Тут ровно никакого и нет юмора,— заметил нако-
нец Версилов,— выражение, конечно, неподходящее, со-
всем не того тона, и действительно могло зародиться в
гимназическом или там каком-нибудь условно-товари-
щеском, как ты сказал, языке, али из фельетонов каких-
нибудь, но покойница, употребляя его, наверно и не за-
метила, что оно невтоне, и поверь, употребила его в этой
ужасной записке совершенно простодушно и серьезно.
— Этого быть не может, она кончала курс и вышла
с серебряной медалью.
1 И. А. Бунин, Поли. собр. соч., т. VI, Пг. 1915, стр. 317.
199
— Серебряная медаль тут ничего не значит. Нынче
многие так кончают курс» (гл. 10, I) ’.
Некоторые стили литературного языка в ту или иную
эпоху могут переживать своеобразный процесс смешения
с другими стилями. Этот процесс нередко отражается бо-
лезненно на общей структуре стиля соответствующей
разновидности прозы. Л. Гумилевский в статье «Проб-
лемы жанра» так отзывается о научно-техническом по-
пулярном стиле, претендующем на художественную изо-
бразительность: «Наивное представление о художествен-
ности, как об «образной речи», чрезвычайно характерно
для людей науки и техники, обращающихся к литера-
туре. Это заставляет их рассказывать, например, о ра-
боте трактора в таких выражениях: «С одного маха —
трах», «из дверки повалит дым и гарь», надо «набухать
керосину», «воздух может вылезти», «рвануло как из
пушки», «затолкаем всю смесь», «рванул взрыв», «ясное
дело — шибанет», „прет трактор с неудержимой силой11» 1 2.
В структуре художественного произведения — в зави-
симости от его идейного содержания, от сферы изобра-
жаемой действительности и творческого метода авто-
ра— могут сочетаться, сталкиваться и вступать во вза-
имодействие очень разнообразные стили литературного
языка и народно-разговорной речи. Достаточно сослать-
ся на сложный стилистический состав хотя бы таких
произведений, как «Евгений Онегин» и «Медный всад-
ник» Пушкина, «Мертвые души» Гоголя, «Война и мир»
Л. Толстого, «Соборяне» Н. Лескова, «Дуэль» Чехова
и многие другие.
Особенно сложны и разнообразны бывают формы
стилистических сочетаний, столкновений и объединений
в сказовых жанрах художественной литературы. Вот
одна иллюстрация из рассказа А. И. Куприна «С улицы»,
который ведется от лица опустившегося попрошайки-
полуинтеллигента:
«Надо стрелять быстро, чтобы не надоесть, не задер-
жать, да и фараоновых мышей опасаешься, поэтому и
стараешься совместить все сразу: и кротость, и убеди-
тельность, и цветы красноречия. Бьешь на актера, на-
1 Ф. М. Достоевский, Подросток, Собр. соч., т. VIII М
1957, стр. 202. ’ ’
2 Лев Г у м и л е в с к и й, Проблемы жанра, «Литературная
газета», 18 мая 1946 г., № 21(2284). J
200
пример: «Милостивый государь, минуту внимания! Дра-
матический актер — в роли нищего! Контраст поистине
ужасный! Злая ирония судьбы! Не одолжите ли несколь-
ко сантимов на обед?» Студенту говорю так: «Коллега!
Помогите бывшему рабочему, административно лишенно-
му столицы. Три дня во рту маковой росинки не было!»
Если идет веселая компания в подпитии, вали на ориги-
нальность: «Господа, вы срываете розы жизни, мне же до-
стаются тернии. Вы сыты, я — голоден. Вы пьете лафит и
сотерн, а моя душа жаждет казенной водки. Помогите на
сооружение полдиковинки бывшему профессору белой и
черной магии, а ныне кавалеру зеленого змия!» Ничего...
засмеются и дадут. Часто больше, чем ждешь!
Какие козыри между нами были!..»1
Примененные писателем и реализуемые в его произ-
ведении правила семантического соединения слов, спо-
собы образного выражения или словесного изображе-
ния, формы синтаксической сочетаемости слов и слово-
сочетаний, приемы отбора и употребления предложений,
формы и типы столкновения и смешения разных языко-
вых стилей — могут обогащать и расширять систему на-
ционально-литературного языка. Но для этого они долж-
ны быть подчинены правилам его функционирования и
внутренним законам его развития, должны двигаться
в русле основных тенденций его развития. С этих же то-
чек зрения должен рассматриваться и изучаться язык
литературных произведений прошлого.
В реалистической художественной литературе нахо-
дят отражение «лингвистические вкусы», социально-ре-
чевые эстетические оценки и излюбленные шаблоны речи
разных социальных групп. У А. П. Чехова в рассказе
«Бабье царство» так изображается эстетическое прекло-
нение влюбленной горничной Маши перед лакеем Ми-
шей и стилем его речи.
«Когда через залу проходила Анна Акимовна (хозяй-
ка завода, купчиха.— 5. В.) с Машей, он склонил голову
вниз и несколько набок и сказал своим приятным, медо-
вым голосом:
— Честь имею поздравить вас, Анна Акимовна, с вы-
сокоторжественным праздником рождества Христова.
1 А. И. Куприн, Собр. соч. в шести томах, т. 3, Гослитиздат,
М. 1957, стр. 255.
201
Анна Акимовна дала ему пять рублей, а бедная Маша
обомлела. Его праздничный вид, поза, голосито,что он
сказал, поразили ее своею красотою и изяществом»1.
Однако речи того же Миши вызывают совершенно
иную реакцию и оценку со стороны самой Анны Акимов-
ны, воспитанной гувернантками и усвоившей интелли-
гентские навыки.
Миша произносит следующую речь в ответ на рас-
суждение Анны Акимовны, что «в праздничных поряд-
ках в сущности много жестокого»: «—...Конечно, я необ-
разованный человек, Анна Акимовна, но так понимаю,
бедные должны всегда почитать богатых. Сказано: бог
шельму метит. В острогах, в ночлежных домах и в каба-
ках всегда только одни бедные, а порядочные люди, за-
метьте, всегда богатые. Про богатых сказано: бездна
бездну призывает.
— Вы, Миша, всегда выражаетесь как-то скучно и
непонятно,— сказала Анна Акимовна и пошла в другой
конец залы» 1 2.
Из предшествующего изложения следует, что изуче-
ние языка словесно-художественного произведения не-
пременно должно опираться на глубокое и свободное зна-
ние не только общей системы литературного языка соот-
ветствующей эпохи, но и его стилистических вариаций.
3
Анализ связи и взаимодействия разных стилистиче-
ских средств в структуре художественного произведения
нс может не коснуться вопроса о шаблонах литератур-
ного выражения, свойственных те.м или иным стилям
языка, и о приемах их употребления в языке соответст-
вующего произведения.
В разных стилях литературного языка образуются,
скапливаются и застывают фразовые «штампы», шабло-
ны, окостенелые выражения. Таким выражениям нередко
свойственна риторичность, ходульность, стремление изо-
бражать содержание чертами, далекими от действитель-
ности. Злоупотребление такими шаблонами в авторском
1 А. П. Чехов, Поли. собр. соч. и писем, т. VIII, Гослитиздат,
1947, стр. 308.
2 Т а м же, стр. 313.
202
языке художественного произведения убивает простоту
и естественность повествования. Плеханов очень резко
писал о любителях пышной, но штампованной речи:
«Покойный Г. И. Успенский заметил в одной из своих
немногочисленных критических статей, что существует
порода людей, которая никогда и ни при каких обстоя-
тельствах не выражается просто... По выражению
Г. И. Успенского, люди этой породы стараются думать
басом, подобно тому, как стараются говорить басом
иные школьники, желающие показаться большими»
В понятии литературного штампа, клише отсутствует
признак эстетической ценности и образно-смысловой на-
сыщенности выражения. Напротив, для него характерна
некоторая смысловая опустошенность и условность. Ср.
у Чехова в рассказе «Учитель словесности»: «Мир праху
твоему, скромный труженик».
К области фразеологических штампов близки те тра-
диционные выражения литературного языка, в которых
стертость экспрессивного значения противоречит ритори-
ческой приподнятости словесного отбора. По большей
части это — пережитки литературных стилей, бывших
когда-то модными и влиятельными. Эти трафаретные вы-
ражения теряют выразительную силу и получают отпеча-
ток безвкусного велеречия. Таково, например, выраже-
ние: сердце обливается кровью.
Для освещения той стилистической почвы, на которой
выросло это выражение, могут служить такие строки из
повести одного из низкосортных писателей 30-х годов
актера К. Баранова «Ночь на рождество Христово»:
«Глаза его не пролили ни одной капли слез, но ежели бы
медик взрезал молодому человеку грудь и посмотрел, ка-
кою запекшеюся кровью облилось его сердце, то бы тор-
жественно объявил, что несчастного сироту спас один
только бог, а искусство врачей в таком случае ничтожно».
О таких клише литературного языка первой четверти
XIX века Пушкин писал: «...Что сказать об наших пи-
сателях, которые, почитая за низость изъяснить просто
вещи самые обыкновенные, думают оживить детскую
прозу дополнениями и вялыми метафорами! Эти люди
никогда не скажут дружба, не прибавя: «сие священное
1 Г. В. Пл еханов, Собр. соч., т. XVI, 2-е изд., М.— Л. 1928,
стр. 31.
203
чувство, коего благородный пламень, и проч.» Должно
бы сказать: рано поутру, а они пишут: «Едва первые лу-
чи восходящего солнца озарили восточные края лазур-
ного неба». Как это все ново и свежо, разве оно лучше
потому только, что длиннее?» *.
Ср. также: «...пока неумолимые Парки прядут еще
нить жизни, как говорит г. Филимонов в одном трога-
тельном газетном объявлении о поступившей в продажу
книжке своего сочинения»1 2.
Фразеологическим штампом книжно-патетической
речи при изображении сильного стремления было выра-
жение: стремиться к чему-нибудь всеми фибрами души
или всего существа.
Например, у Чехова в рассказе «Пассажир 1-го клас-
са»: «...когда я был помоложе, я всеми фибрами души
моей стремился к известности»3.
Ср. у Горького в рассказе «Варенька Олесова»:
«Весь, каждым фибром своего существа, он стремился
к ней»4.
Можно даже говорить о штампах остроумия и калам-
бура.
Например: тонкий намек на толстое обстоятельство.
В разных социально-речевых стилях фразеологиче-
ские клише бывают очень различны по своему лексиче-
скому составу и семантическому строю в зависимости от
присущего данной среде лингвистического вкуса.
Конечно, понятие фразеологического клише отно-
сительно. Вмещенное в соответствующий контекст, сти-
листически оправданное — клише становится новообра-
зованием. Замечателен такой пример из повести Чехо-
ва «Три года»: Лаптев влюблен в Юлию Сергеевну, дочь
неприятного ему доктора. «Он сообразил теперь, что от-
ца нет дома, что если понесет теперь Юлии Сергеевне
ее зонтик, то, наверное, он застанет дома ее одну, и серд-
це у него сжалось от радости. Скорей, скорей! Он взял
1 А. С. П у ш к и н, Начало статьи о русской прозе, Поли. собр.
соч. т. IX, Academia, 1937, стр. 30.
2 А. С. Пушкин, Если звание любителя отечественной лите-
ратуры..., там же, стр. 64.
3 А. П. Чехов, Пассажир 1-го класса, Собр. соч., т. IV М.
1955, стр. 383.
4 М. Горький, Варенька Олесова, «Избранное», М. 1944,
стр. 217.
204
зонтик и, сильно волнуясь, полетел на крыльях любви.
На улице было жарко» Ч
В ироническом или пародическом стиле нередко не
только используются штампы живого или чаще отжива-
ющего, архаического литературного жанра, но и обна-
жаются приемы и схемы их построения.
Например, у Чехова в рассказе «Брак по расчету»
пародируются фразеологические шаблоны восходящего
к Гоголю стиля комического изображения:
«Но вот кончается ужин... Наступает ночь. Благово-
спитанный автор надевает на свою фантазию крепкую
узду и накидывает на текущие события темную вуаль
таинственности.
Розоперстая Аврора застает еще Гименея в Пятисо-
бачьем переулке, но вот настает серое утро, и дает авто-
ру богатый материал для части второй и последней»1 2.
У Чехова обычен также прием иронического приме-
нения таких штампов в пародиях или патетических ре-
чах комических персонажей.
Например, в рассказе «Страшная ночь» Иван Петро-
вич Панихидин говорит: «Темная, беспросветная мгла
висела над землей»... «мысль о смерти, даже намек на
нее, повергают меня в уныние...» 3.
В повести А. П. Чехова «Три года» так характери-
зуются стилистические шаблоны из сферы пышно-цве-
тистой риторической прозы в языке романов Кости
Кочевого: «Любовного элемента он избегал, будто сты-
дился, природу описывал часто и при этом любил упо-
треблять такие выражения, как прихотливые очертания
гор, причудливые формы облаков или аккорд таин-
ственных созвучий...»4.
Формулы-клише связаны с разными бытовыми си-
туациями, с разными условностями этикета, с разными
стилями речи. Поэтому они нередко используются в ху-
дожественной литературе для характеристики бытового
стиля персонажей.
Например, формула разговорно-эпического воспоми-
нания о давних событиях—при встрече с старыми зна-
1 А. П. Чехов, Три года, Собр. соч., т. VII, М. 1956, стр. 422.
2 А. П. Чехов, Брак по расчету, там ж е, т. II, стр. 425.
3 А. П. Ч е х о в, Страшная ночь, там же, стр. 447.
4 А. П. Чехов, Три года, там ж е, т. VII, стр. 458.
205
комыми после долгой разлуки: сколько (или много) воды
утекло с тех пор.
Например, у Тургенева в «Дыме»: «Вспомните, мы
десять лет не виделись, целых десять лет. Сколько воды
утекло с тех пор!»
В стихотворении А. Н. Плещеева «Старики»:
Сколько мы лет не видались с тобою!
Сколько воды с той поры утекло...
У Чехова в рассказе «Княгиня»:
«„ Что бы еще такое сказать ему?“ — подумала кня-
гиня.— Сколько времени мы с вами не виделись, одна-
ко!— сказала она.— Пять лет! За это время сколько
воды в море утекло, сколько произошло перемен, даже
подумать страшно!» \
Из штампов, связанных с ритуалом приветствий при
встрече, можно отметить гиперболическое выражение
устной речи: «Сколько лет, сколько зим!» Оно оторва-
лось от более полного высказывания.
Ср. у В. Ф. Одоевского в рассказе «Необойденный
дом»: «А, здорово, старушонка,— сказал он,— подобру
ди, поздорову ли поживаешь; сколько лет, сколько зим
с тобой не видались, а все я тебя тотчас узнал... как бы-
ла, так и есть!» 1 2
Понятно, что в этой экспрессивной группе слов воз-
можна перестановка частей. Например, у Чехова в рас-
сказе «Толстый и тонкий»:
«Порфирий! — воскликнул толстый, увидев тонкого.—
Ты ли это? Голубчик мой! Сколько зим, сколько лет!»3
Но ср. у Чехова же в рассказе «Ионыч»:
«„Сколько лет, сколько зим!“ — сказала опа, подавая
Старцеву руку, и было видно, что у нее тревожно би-
лось сердце»4.
Несомненно, что степень допустимости шаблонов и
их функции различны в разных стилях языка художест-
венной литературы. Фет писал о языке поэтическом: «По-
эзия непременно требует новизны, и ничего для нее нет
убийственнее повторения, а тем более самого себя. Хотя
1 А. П. Чехов, Собр. соч., т. VI, М. 1955, стр. 256—257.
2 В. Ф. Одоевский, Необойденный дом, Сочинения, ч. III,
СПб. 1844, стр. 61.
3 А. П. Чехов, Толстый и тонкий, Собр. соч., т. IT, М 1954,
стр. 193.
4 А. П. Чехов, Ионыч, там ж е, т. VIII, стр. 334.
206
бы меня самого, под страхом казни, уличали в таких по-
вторениях, я, и сознавшись в них, не могу их не порицать.
Под новизной я подразумеваю не новые предметы, а но-
вое их освещение волшебным фонарем искусства»1.
Сатирическая борьба с штампованной литературной
фразой очень ощутительна, например у А. П. Чехова и у
А. М. Горького.
Нельзя не заметить склонности к такого рода высоко-
парным «красотам штиля», например, в языке способно-
го советского писателя Ф. Наседкина. Так, в романе
«Красные горки» читаем: «Золотарев вслушивался в
прерывистый стон ветра, и ему казалось, что в этом сто-
не был выражен глухой протест охваченной тревогой
природы против неистовой, разрушительной работы вет-
ра»1 2. Так, в конце концов выходит, что стонущий ве-
тер выражает глухой протест против самого себя. А. П.
Чехов не раз говорил о том, как обедняют и искусст-
венно ограничивают свое творчество писатели, падкие до
общих мест, жалких слов и трескучих описаний, думаю-
щие, что «без этих орнаментов не обойдется дело». О та-
ких писателях тонко заметил Эмиль Золя: они «усваи-
вают стиль, носящийся в воздухе. Они подхватывают
готовые фразы, летающие вокруг них. Их фразы ни-
когда не идут от их личности, они пишут так, словно
кто-то сзади им диктует; вероятно поэтому им стоит
только отвернуть кран, чтобы начать писать»3. Таким
образом, следует отличать шаблоны, клише разных сти-
лей литературного языка от речевых шаблонов разных
стилей художественной литературы, хотя тут могут быть
и совпадения.
С необыкновенной остротой и силой стилистические
шаблоны или штампы русской художественной повест-
вовательной литературы конца XIX — начала XX века
продемонстрированы в рассказе А. И. Куприна «По за-
казу». Писатель Илья Платонович Арефьев ломает го-
лову над рассказом для литературного альманаха, изда-
ваемого «в пользу детской санатории». Рассказ должен
1 А. А. Фет, Письмо к К- Р. от 27/XII 1886 г., «Русские пи-
сатели о литературе», Л. 1939, т. I, стр. 444.
2 Ф. Наседкин, Красные горки, «Молодая гвардия», 1953,
стр. 5.
3 Эмиль Золя, О романе, «Литературные манифесты фран-
цузских реалистов», Изд. писателей в Ленинграде, 1935, стр. 109.
207
пробудить в сердце читателя «чувства милосердия, неж-
ности и тихой радости».
Насмешливый ум фельетониста «как будто нарочно
дразнит его, подсказывая ему шаблонные фразы» из ба-
нальных повестей современных писателей и писательниц.
Вот — несколько образцов таких трафаретных манер по-
вествования.
«Он подошел к окну, прижался пылающим лицом к
холодному стеклу, по которому, точно слезы, струились
дождевые капли». Или: «Был тихий майский вечер. Солн-
це садилось, озаряя своим пурпурным светом окрест-
ность...»
«Хорошо было бы написать рассказ сплошь из таких
милых фразочек,—соблазняет Илью Платоновича старая
привычка смотреть на все с юмористической стороны.—
Да. Так бы и начать: «На башне св. Стефана глухо проби-
ло полночь. Из-за угла невзрачной лачуги показался
незнакомец высокого роста. Лицо его было закутано
широким плащом. Шляпа с пером и длинная шпага на
боку доказывали его благородное происхождение».
Или — вот образец стиля дамской чувствительной по-
вести с изображением старого полковника в качестве
рассказчика:
«В комнате воцарилась гробовая тишина. Старый
полковник окончил рассказ и почему-то слишком долго
выколачивал о решетку камина свою трубку, отвернув-
шись от слушателей. Наконец он выпрямился и, отирая
глаза, сказал дрожащим голосом: «Черт побери! Какой,
однако, у вас крепкий табак, ротмистр!» — «А что же
сталось с несчастной Заирой?»—решилась спросить
после долгого молчания дама с палевой розой в волосах.
«Она умерла»,— глухо ответил старый полковник».
Или — из повести о легкомысленной жене, возвраща-
ющейся к покинутому мужу с первым ударом пасхаль-
ного колокола. «Револьвер выпал из его рук и с грохо-
том покатился по полу. Он широко размахнул свои
объятия, она упала к нему на грудь, и их уста слились
в долгом, долгом поцелуе...»
Затем следует рассказ о солдате, стоящем в пас-
хальную ночь на часах.
«Какая-то черная тень промелькнула на белом фоне
тюремной стены, ярко освещенной луной. Часовой бы-
стро, привычной рукой взвел курок и прицелился. Но в
208
эту минуту в воздухе торжественно-гулко разлился пер-
вый звук благовеста, и ружье медленно опустилось
вниз... Глубокий вздох облегчения вырвался из взволно-
ванной груди» и так далее и так далее».
«...Недурно тоже заморозить на улице нищую де-
вочку, глядящую в. освещенные окна богатого дома.
«Снег медленно падал мягкими пушистыми хлопьями,
засыпая неподвижную фигуру ребенка, на лице которо-
го застыла блаженная улыбка». Впрочем, это из рож-
дественских тем...
А впрочем, и еще хорошенькая темочка. «Блед-
ный, изнуренный мальчик любуется на куличи, выстав-
ленные в роскошной кондитерской. Неожиданно появ-
ляется на сцену таинственный господин с золотыми оч-
ками и непременно в богатой лисьей шубе... Завязывает-
ся разговор. Оказывается, что «тятька» у мальчика
умер, столетний «дедка», согнутый в дугу, не слезает с
печи, «мамка» лежит больная, сестренка... ну и так да-
лее. «Веди меня туда»,— решительно говорит господин
в золотых часах, и через полчаса у мамки появляется
хорошее вино и лекарство, прописанное лучшим докто-
ром, дедку накормили манной кашей и купили ему теп-
лый набрюшник, изнуренный мальчик, «радостно блестя
глазенками», прыгает вокруг стола, на котором красует-
ся недорогая пасха, скромный кулич и десяток красных
яиц, а господин в лисьей шубе незаметно скрылся, не
сказав даже своего имени, но оставив па столе кошелек,
наполненный золотом»
Употребление риторических штампов может про-
скальзывать и в языке большого художника слова.
Так, в первом сборнике стихотворений Некрасова
«Мечты и звуки» (1840) есть стихотворение «Смерти»,
а в нем такое сочетание фразовых клише лирического
стиля начала XIX века:
Когда душа огнем мучений
Сгорает в пламени страстей.
Ср. у Вал. Брюсова в стихотворении «Еще закат»:
Мерно вьет дорога одинокий путь1 2.
1 А. Куприн, По заказу, Собр. соч., т. 2, М. 1957,
стр. 511—514.
2 В. Брюсов, Еще закат, «Пути и перепутья». Собр. стихотв.,
т. I, М. 1908, стр. 109.
8 В. В. Виноградов
209
У К. Федина в книге «Горький среди нас»: «Смо-
ленщину в те годы обуревала жгучая горячка: с на-
стойчивостью воды, рассочившей плотину, крестьяне
уползали из деревень на хутора» Ч
4
В стилистику национального языка входит не толь-
ко система разных его стилей, но и совокупность разно-
образных конструктивных форм и композиционных
структур речи, вырабатывающихся в связи с развитием
форм общения. Сюда относятся не только типичные для
эпохи формы и типы монологической речи, но и речевые
стандарты письма, делового документа и многое другое.
В языке литературного произведения нередко наблюда-
ются отражения этих композиционно-речевых систем
бытового общения.
Известный критик и поборник реализма в русском
искусстве В. В. Стасов писал Л. Толстому: «Мне до-
вольно давно уже хочется немножко порассказать Вам
мои соображения насчет «монологов» в комедиях, дра-
мах, повестях, романах и т. д. новых писателей, особ-
ливо русских, и авось скоро напишу Вам несколько слов
обо всем этом. У меня целые таблицы с выписками, со-
ставленными из разных авторов, и авось Вы пожертвуете
несколько минут, чтобы пробежать это.— Мне кажется,
что в «разговорах» действующих лиц ничего нет труднее
«монологов». Здесь авторы фальшат и выдумывают бо-
лее, чем во всех других своих писаниях,— и именно
фальшат условностью, литературностью и, так сказать,
академичностью. Почти ни у кого и нигде нет тут на-
стоящей правды, случайности, неправильности, отрывоч-
ности, недоконченности и всяких скачков. Почти все ав-
торы (в том числе и Тургенев, и Достоевский, и Гоголь,
и Пушкин, и Грибоедов) пишут монологи совершенно
правильные, последовательные, вытянутые в ниточку и в
струнку, вылощенные и архилогические и последова-
тельные (sic!). А разве мы так думаем сами с собой?
Совсем не так.
1 К. Федин, Горький среди нас, ч. II, Гослитиздат, 1944
стр. 117.
210
Я нашел до сих пор одно единственное исключение:
это граф Лев Толстой. Он один дает в романах и дра-
мах— настоящие монологи именно со всей неправиль-
ностью, случайностью, недоговоренностью и прыжками.
Но как странно! У этого Льва Толстого, достигшего в
монологах большего, чем весь свет, иногда встречаются
(хотя редко!) тоже неудовлетворительные монологи, не-
множко правильные и выработанные»1.
Следовательно, и в этом кругу композиционно-рече-
вых категорий язык художественного произведения, хотя
и в индивидуально-творческом преломлении, но так или
иначе отражает стилистические явления, развивающиеся
на базе общенародного языка в сфере общественной
жизни.
Показательны записи бытовых диалогов, реплик, от-
дельных замечаний, деловых бумаг и т. п. в заголовках
или записных книжках писателей.
Например, у Гоголя: «Встреча мужиков».
«— Сват, здорово.
— Здорово, сват.
— А что табак-то есть?
— Есть.
— Ну еще здорово! (Нюхает.)
— Да что ж ты, сват, к нам того...
— Я было того, жена-то таё, я тут уж и ну»1 2.
У Чехова в повести «Дуэль» остро использована и
юмористически освещена характерная черта бытового
диалога — приспособление к строю речи собеседника:
«...Около духана остался один только дьякон.
— Ходил духан, пил чай,— сказал он Кербалаю.—
Мой хочет кушать.
Кербалай хорошо говорил по-русски, но дьякон ду-
мал, что татарин скорее поймет его, если он будет го-
ворить с ним на ломаном русском языке.
— Яичницу жарил, сыр давал.
— Иди, иди, поп,— сказал Кербалай, кланяясь.—
Все дам... И сыр есть, и вино есть... Кушай чего хо-
чешь» 3.
1 «Лев Толстой и В. В. Стасов, Переписка 1878—1906 гг.», Л.
1929, стр. 265.
2 Н. В. Гоголь, Поли. собр. соч., т. VII, Изд. АН СССР, 1951,
стр. 325.
3 А. П. Чехов, Собр. соч., т. VI, М. 1955, стр. 472.
8*
211
о
При оценке и осмыслении языка художественного
произведения с точки зрения норм и правил общенарод-
ного языка и его живых «ответвлений», необходимо об-
ратить внимание на то, что в способах речевого отбора
и использования разных средств общенародного разго-
ворного и литературного языка представителями разных
общественных групп отражается социальная характеро-
логия; здесь находят выражение разные социальные ха-
рактеры. В каждой более или менее самоопределившей-
ся социальной среде в связи с ее общественным бытием
и материальной культурой складывается свой словесно-
художественный вкус, своеобразный социально-речевой
стиль. Для писателя эта бытовая словесность социаль-
ной среды, выражающая ее стремления, вкусы, отноше-
ние к жизни и свойственная этой среде манера словес-
ного изложения является источником речевого воспроиз-
ведения разных национально-характеристических типов.
Стилистика общенародного разговорного и литера-
турного языка, изучая экспрессивные оттенки слов, вы-
ражений и конструкций, отчасти учитывает и эту их
характеристическую окраску. Именно в эту сторону на-
правляли внимание и литературных критиков и фило-
логов при осмыслении бытовых выражений Пушкин, Го-
голь, а за ними' и другие великие творцы великой рус-
ской реалистической литературы XIX и XX веков.
Важность этой характерологической стороны речи в
ее связи с социальным обликом говорящего тонко под-
черкнул К- Маркс, говоря в «Святом семействе» о зна-
чении языковых средств при изображении преступного
мира: «В притонах преступников и в их языке отражает-
ся характер преступника, они составляют неотъемлемую
часть его бытия, их изображение входит в изображение
преступника...» 1
Социально-бытовое расслоение разговорно-обиход-
ных стилей общенародной речи, а также специфические
оттенки жаргонного словоупотребления дают материал
для художественных характеристик среды и связанных
с ней персонажей.
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. Ill, М.—Л. 1929,
стр. 78.
212
Н. Гиляров-Платонов в своих воспоминаниях «Из
пережитого» ярко изображает процесс роста речевой
«цивилизации» в малокультурной среде, прежде всего,
в среде провинциального духовенства, и связанные с
этим процессом изменения социально-речевого стиля:
«Мы — я и сестры — ко многому тянулись действитель-
но потому, что находили новое более просвещенным.
«Что это ты сказал: инда я испужался?— замечает мне
сестра,— нужно говорить: даже я испугался. Не говори:
сем я возьму, а позвольте взять». Это были уроки веж-
ливости и благовоспитанности действительно, хотя по-
истине и жаль, что просительное «сем» не получило
гражданства в литературе; оно так живописно и так
идет к прочим вспомогательным глаголам, заимствован-
ным от первичных физических действий: «стал», «по-
шел», «взял»!.. Мы умирали от стыда, когда случалось
обмолвиться перед посторонними и сказать о комнатах
«горница», «боковая», «топлюшка». Горница переимено-
валась в «залу», топлюшка в «кухню», даже прихожая в
«переднюю». Что было необразованного, невежливого в
«горнице» или «прихожей»? Тут действовал уже слепой
пример, потребность приличия, в других случаях именуе-
мого модой. Но мода сравнивает вчерашнее с нынешним,
а здесь сравниваются не времена, а общественные слои» Ч
Не менее ярко выступают характерные особенности
социально-экспрессивной оценки слов в таком диалоге
между Бальзаминовой и ее сыном—мелким чиновником
в комедии Островского «Свои собаки грызутся, чужая
не приставай»:
«Бальзаминова. Вот что, Миша, есть такие
французские слова, очень похожие на русские, я их
много знаю; ты бы хоть их заучил когда, не досуге. По-
слушаешь иногда на именинах или где на свадьбе, как
молодые кавалеры с барышнями разговаривают,— про-
сто прелесть слушать.
Бальзаминов. Какие же это слова, маменька?
Ведь как знать, может быть, они мне и на пользу пойдут.
Бальзаминова. Разумеется, на пользу. Вот слу-
шай! Ты все говоришь: «Я гулять пойду!» Это, Миша,
нехорошо. Лучше скажи: «Я хочу проминаж сделать!»
1 Н. Гиляров-Платонов, Из пережитого, т. I, М. 1886,
стр. 150.
213
Бальзаминов. Да-с, маменька, это лучше. Это
вы правду говорите! Проминаж лучше.
Бальзаминова. Про кого дурно говорят, это—
мараль.
Бальзаминов. Это я знаю-с.
Бальзаминова. Коль человек или вещь какая-
нибудь не стоит внимания, ничтожная какая-нибудь,—
как про нее сказать? Дрянь? Это как-то неловко. Лучше
сказать по-французски: «Гольтепа!»
Бальзаминов. Гольтепа. Да, это хорошо.
Бальзаминова. А вот если кто заважничает,
очень возмечтает о себе, и вдруг ему форс-то собьют,—
это «асаже» называется.
Бальзаминов. Я этого; маменька, не знал, а это
слово хорошее. Асаже, асаже...
Бальзаминова. Дай только припомнить, а то я
много знаю.
Бальзаминов. Припоминайте, маменька, припо-
минайте! После мне скажете!»1
В этой же связи уместно вспомнить такой диалог из
комедии А. Н. Островского «Тяжелые дни»:
«Мудро в. Да, есть слова, есть-с. В них, сударыня,
таинственный смысл сокрыт, и сокрыт так глубоко, что
слабому уму-с...
Настасья Панкратьевна. Вот этаких-то слов
я, должно быть, и боюсь. Бог его знает, что оно значит, а
слушать-то страшно...
Мудр о в. Вот, например, металл! Что-с? Каково
слово! Сколько в нем смыслов! Говорят: «презренный ме-
талл»! Это одно значит; потом говорят: «металл звеня-
щий». «Глагол времен, металла звон!» Это значит, су-
дарыня, каждая секунда приближает нас ко гробу.
И колокол тоже металл. А то есть еще благородные ме-
таллы...
Настасья Панкратьевна. Ну, будет, батюш-
ка, будет. Не тревожьте вы меня! Разуму у меня немно-
го, сообразить я ваших слов не могу; мне целый день и
будет представляться.
М у д р о в. Вот тоже я недавно в одном сочинении
читал, хотя и светского писателя, но достойного ува-
жения. Обаче, говорит...
1 А. Н. Островский, Поли. собр. соч., т. II, М. 1950, стр. 326.
214
Настасья Панкратьевы а. Оставьте, я вас
прошу. Уж я такая робкая, право, ни на что не похоже.
Вот тоже, как услышу я слово: «жупел», так руки-ноги
и затрясутся» Ч
Ср. также в комедии «Грех да беда на кого не жи-
вет»:
«Жм и г ул и н а. Слова низкие и даже довольно
грязные, которые при людях воспитанных никогда не
говорят.
Бабаев. Ну, предположите, что я человек невоспи-
танный. Какие же слова, скажите!
Ж м и г у л и н а. ...Вам интересно слышать эти слова,
так извольте! К хозяйству относится кухня и всякие
простонародные вещи: сковорода, сковородник, ухват.
Разве это не низко?» 1 2
Наиболее прямым и непосредственным выражением
отношения к предмету сообщения является интонацион-
но-мелодическая сторона речи. Верье в своей работе
«Английская метрика» так характеризует экспрессив-
ную интонацию: «Благодаря почти бесконечному числу
своих тональностей, пауз, тонов, нот и их комбинаций,
столь же различных, сколько и неопределенных, она
передает с поразительной точностью самые сложные
эмоции, самые тонкие оттенки и самые мимолетные чув-
ства» 3. Интересны идущие в том же направлении мысли
М. Мусоргского (из письма к Ц. А. Кюи,3 июля 1868 г.4):
«В моей «opera dialogue» я стараюсь, по возможно-
сти, ярче очерчивать те перемены интонации, которые
являются в действующих лицах во время диалога, по-
видимому, от самых пустых причин, от самых незначи-
тельных слов, в чем и таится, мне кажется, сила гого-
левского юмора. Так, например, в сцене со Степаном,
последний вдруг меняет ласковый тон па озлобленный,
после того как барин доехал его ваксой (мозоли я вы-
пустил). В сцене с Феклой такие моменты нередки; от
хвастливой болтовни до грубости или сварливой вы-
ходки для нее один шаг»...
А. П. Чехов в рассказе «Враги» описание «голо-
1 А. Н. Островский, Поли. собр. соч., т. III, стр. 321—322.
2 Та м же, стр. 271—272.
3 Р. V е г г i е г, Essai sur les principes de la metrique anglaise,
vol. I, Paris, 1909, стр. 103 и след.
4 В. Стасов, Статьи о Мусоргском, М. 1922, стр. 37.
215
са», интонаций и движений Абогина делает стержнем
его характеристики:
«По голосу и движениям вошедшего заметно было,
что он находился в сильно возбужденном состоянии.
Точно испуганный пожаром или бешеной собакой, он
едва сдерживал свое частое дыхание и говорил быстро,
дрожащим голосом, и что-то неподдельно-искреннее,
детски-малодушное звучало в его речи. Как все испуган-
ные и ошеломленные, он говорил короткими, отрывисты-
ми фразами и произносил много лишних, совсем не иду-
щих к делу слов».
«Голос Абогина дрожал от волнения; в этой дрожи
и в тоне было гораздо больше убедительности, чем в
словах. Абогин был искренен, по замечательно, какие бы
фразы он ни говорил, все они выходили у него ходуль-
ными, бездушными, неуместно цветистыми и как будто
даже оскорбляли и воздух докторской квартиры, и уми-
рающую где-то женщину. Он и сам это чувствовал, а по-
тому, боясь быть непонятым, изо всех сил старался
придать своему голосу мягкость и нежность, чтобы
взять если не словами, то хотя бы искренностью тона» г.
В языке художественной литературы при воспроизве-
дении речи персонажей используются разнообразные
свойства экспрессивного синтаксиса и экспрессивного
произношения — социально-характеристические и инди-
видуальные.
Ср. у М. А. Альбова в повести «Юбилей»:
«Характерною особенностью речи Ивана Демьянови-
ча было то, что он начинал ее не иначе, как придаточ-
ным предложением, такими словами, как например, «по-
тому что», «который» и проч., и в конце концов поселял
в своем слушателе чувство безысходной тоски, а в ином,
смотря по характеру, даже и злость» 1 2.
Характерны комментарии И. С. Тургенева (в расска-
зе «Два помещика») при описании манеры речи гене-
рал-майора Вячеслава Илларионовича Хвалынского:
«...Он никак не может обращаться с дворянами небога-
тыми или нечиновными, как с равными себе людьми.
Разговаривая с ними, он обыкновенно глядит на них
1 А. Чехов, Враги, Поли. собр. соч. и писем, т. VI, М. 1946,
стр. 27, 30.
2 М. Н. Альбов, Юбилей, Сочинения, т. IV, СПб., изд.
А. Ф. Маркса, стр. 76.
216
сбоку, сильно опираясь щекою в твердый и белый ворот-
ник, или вдруг возьмет да озарит их ясным и неподвиж-
ным взором, помолчит и двинет всею кожей под волоса-
ми на голове; даже слова иначе произносит и не гово-
рит, например: «Благодарю, Павел Васильевич», или:
«Пожалуйте сюда, Михайло Иваныч», а: «Боллдарю,
Палл Асилич», или «Па-ажалте сюда, Михалл Ваныч».
С людьми же, стоящими на низших ступенях общест-
ва, он обходится еще страннее: вовсе на них не глядит и
прежде чем объяснит им свое желание или отдаст приказ,
несколько раз сряду, с озабоченным и мечтательным ви-
дом, повторит: «Как тебя зовут?., как тебя зовут?», уда-
ряя необыкновенно резко на первом слове «как», а осталь-
ные произнося очень быстро, что придает всей поговорке
довольно близкое сходство с криком самца-перепела» х.
Ср. у того же И. С. Тургенева в рассказе «Гамлет
Щигровского уезда» (из «Записок охотника») —изобра-
жение речи сановника: «...молодых людей должно в стро-
гом повиновении держать, а то они, пожалуй, от вся-
кой юбки с ума сходят» (Детски веселая улыбка про-
мчалась по лицу всех гостей; у одного помещика даже
благодарность заиграла во взоре). «Ибо молодые люди
глупы» (Сановник, вероятно, ради важности, иногда
изменял общепринятые ударения слов)»1 2.
В «Отцах и детях» Тургенев так характеризует ма-
неру речи Петра, лакея Кирсановых: «Он совсем окоче-
нел от глупости и важности, произносит все е, как ю:
тюпюрь, обюспючюн».
Ср. у Д. М. Мамина-Сибиряка в повести «Не то»: «При-
асходно, дама с кошечкой!..— прошипел Ефим Иваныч,—
для пущей язвительности он коверкал слова и, находя это
очень остроумным, сам первый заливался сухим, дребез-
жащим смехом,— приасходно, Леонида Гавриловна...»3.
Любопытна в «Яме» А. И. Куприна своеобразная
графическая передача экспрессивно-фонетической де-
формации слов в цыганско-любительском стиле страст-
ного романса: «...этот же распрекрасный кавалер, мало
того, что хочет красоты,— нет, ему подай еще подобие
1 И. С. Тургенев, Собр. соч., т. I, М. 1953, стр. 243.
2 Т а м же, стр. 342.
3 Д. Н. М а м и н - С и б п р я к, Поли. собр. соч., т. X, Пг. 1917,
стр. 498.
217
любви, чтобы в женщине от его ласк зажегся бы этот
самый «агонь безу-умнай са-та-ра-са-ти!», о которой
поется в идиотских романсах» х.
Само собой разумеется, что принципы воспроизведе-
ния социально-типической характерности речи не могут
быть натуралистическими. Художественное произведение
не является памятником или документом ни областной
диалектологии, ни социальной жаргонологии.
А. М. Горький так писал об этом в связи с анализом
языка романа В. П. Ильенкова «Ведущая ось»:
«Взбрыкнул, трушились, встопорщил, грякнул, буруздил
и десятки таких плохо выдуманных словечек, все это —
даже не мякина, не солома, а вредный сорняк, и есть
опасность, что семена его дадут обильные всходы, засо-
рят наш богатый, сочный, крепкий литературный язык.
Автор может возразить: «Такие слова — говорят, я их
слышал!» Мало ли что и мало ли как говорят в нашей
огромной стране,—литератор должен уметь отобрать для
работы изображения словом наиболее живучие, четкие,
простые и ясные слова» 1 2.
Вместе с тем, несомненно, что писатель-реалист изо-
бражает национальные характеры с свойственной им ма-
нерой выражения как порождение строго определенных
общественно-исторических условий. В качестве иллю-
страции можно сослаться на различия в стиле, в органи-
зации речи между такими персонажами горьковской
драмы «Мещане», как Нил и Петр Бессеменов.
Великий русский драматург Александр Николаевич
Островский заявил: «...мы считаем первым условием ху-
дожественности в изображении данного типа верную пе-
редачу его образа выражения, то есть языка, и даже
склада речи» 3.
6
Язык литературно-художественного произведения рас-
считан на восприятие, понимание и оценку его в аспекте
общенародного, общенационального языка. Правда, в
1 А. И. Куприн, Собр. соч., т. 5, М. 1958, стр. 92.
2 М. Г о р ь к и й, О литературе. Литературно-критические ста-
тьи, М. 1955, стр. 562.
3 А. Н. Островский, О театре. Записки, речи и письма,
изд. 2, «Искусство», М.—Л. 1947, стр. 208.
218
художественном произведении, особенно там, где это
оправдано идейным замыслом писателя, жанром произ-
ведения (ср., например, приемы стилизации языка эпохи
в историческом романе) и его композицией, может быть
мобилизован «архивный фонд» старинной речи, приме-
нены элементы классовых, социально-групповых жарго-
нов и народно-областных говоров, в качестве иллюстра-
ции использованы документальные стили исторических
и литературных памятников. Но язык подлинно худо-
жественного произведения не может далеко и значитель-
но отступать от основы общенародного языка, иначе он
перестанет быть общепонятным. Более свободные отхо-
ды от общенациональной нормы возможны для художе-
ственного произведения лишь в области лексики. Нель-
зя глубоко и всесторонне понять язык художественного
произведения, а следовательно, и смысл этого произве-
дения, не зная общенародного и литературного языка
того времени, когда оно было создано, во всех их ответ-
влениях. На почве недостаточного знания литературного
языка соответствующей эпохи, особенно его словарного
состава, происходили и происходят многочисленные не-
доразумения и разнообразные ошибки при толковании
литературных текстов и исторических документов. Вот
несколько примеров.
А. Н. Афанасьев, автор известного исследования о
«Поэтических воззрениях славян на природу», в своих
воспоминаниях о Московском университете рассказы-
вает про ошибку знаменитого историка С. М. Соловьева,
который летописное выражение «борове» (то есть дере-
вья, бор, лес) принял за форму именительного падежа
множественного числа от слова «боров» — свинья: «По-
чему бы не поправить указанной ему Беляевым (в «Мо-
сквитянине») ошибки, что половцы шли на наши полки
густою массою, как бор, лес (аки борове), а не как
свиньи, как угодно было Соловьеву»х.
Профессор В. И. Веретенников в своем исследовании
«История тайной канцелярии Петровского времени»
(Харьков, 1910) выражение «с очей на очи», относящее-
ся к допросу и свойственное приказно-деловой речи
XVI—XVII века, истолковал в смысле: «наедине». Отсю-
1 Из студенческих воспоминаний А. Н. Афанасьева, «Русский
архив», 1911, № 2, стр. 185. Ср. «Русская старина», 1886, август,
стр. 378—379.
219
да он заключил, что ведение политических следствий по
«слову и делу» уже в XVII веке облекалось особой тай-
ной. Между тем выражение «с очей на очи» указывает
на очную ставку. В этом именно значении оно употреб-
ляется, между прочим в «Уложении» царя Алексея Ми-
хайловича (II гл., 16 ст.: «того, на кого тот извет бу-
дет, сыскати и поставити с изветчиком с очей на очи») Ч
Ср. также в Домострое: «поставя с очей на очи».
Ср. в диссертации С. Г. Вилинского «Послания старца
Артемия» (XVI в.): «Артемий был спрошен по поводу ого-
вора его Башкиным. Башкин на соборе, «став с ним с очей
на очи», уличал его во всем том, в чем оговорил» 1 2. «Нек-
тарий писал и говорил „с очей на очи на того же Артемья
многия богохульный и иныя еретическия виньГ»3.
В русском литературном языке XVIII века слово пись-
мо могло выражать общее значение: произведение, со-
чинение. Когда возник вопрос о том, что такое «сатири-
ческие письма», помещенные, по словам Н. И. Новико-
ва, С. Башиловым в журнале В. Г. Рубана «То и се» 4,
профессор Н. М. Петровский заметил: «При значитель-
ном, до сих пор не обследованном, влиянии (в лексиче-
ском смысле) польского языка на русский в XVIII веке
возможно, что слово «письмо» значило у нас не только
litterae [буквы, письменность], но и «opus» (ср. польск.
«pismo»), а потому «Сатирические письма» могут обо-
значать «Сатирические произведения». Установление со-
временного значения того или другого технического
термина может предохранить исследователя от весьма
серьезных ошибок в выводах»5. Известны случаи непра-
вильного истолкования смысла целых литературных
произведений, вызванные ошибочным, антиисторическим
пониманием значения отдельных слов и выражений.
Историки русской литературы, анализируя неокон-
ченную повесть Пушкина «Из записок молодого чело-
1 См. Записки Имп. Харьковского ун-та, 1914, кн. I, стр. 79—80.
2 Записки Имп. Новороссийского ун-та, Одесса, 1907 т 106
стр. 131—132.
3 Там же, стр. 134.
4 В* П- Семенников, Русские сатирические журналы,
1709—1774. Разыскания об издателях их и сотрудниках, СПб 1914
стр. 69.
5 «Известия Отд. русск. яз. и словесности Имп. АН», 1914
т. XIX, кн. 4, стр. 271.
220
века» как повесть о декабристе опирались на оши-
бочное толкование слова — «родина». «Судя по началу
повести и сохранившемуся на одном из ее листов плану
не написанных (или не дошедших до нас?) глав, соци-
ально-политическая острота вещи связана была, глав-
ным образом, с ее концовкой, обозначенной Пушкиным
только одним словом — «Родина»,— писал профессор
Ю. Г. Оксман.— Эта лаконическая запись, открывая
простор самым широким догадкам о развязке задуман-
ной Пушкиным вещи, прежде всего ассоциируется с тра-
гическим переломом судьбы всех солдат и офицеров
Черниговского полка — с декабрьским восстанием
1825 года»1. Все это построение основано на неправиль-
ном отожествлении значения двух современных синони-
мических серий слов, которые резко различались в язы-
ке Пушкина — слов: родина и отечество — отчизна» 1 2.
Слово — родина в языке Пушкина не имело того
острого общественно-политического и притом револю-
ционного смысла, который был связан со словом — оте-
чество (и отчасти со словом — отчизна). Достаточно со-
слаться на употребление слова — родина в стихотворе-
ниях: «Городок», «Дон», «Янко Марнавич» (из цикла
«Песни Западных славян»), «На возвращение государя
императора из Парижа в 1815 году [Александру]», «По-
гасло дневное светило», «К Овидию»; в поэмах «Руслан
и Людмила» (песнь I, ст. 407); «Кавказский пленник»
(ч. I, ст. 301; ч. II, ст. 12); в «Арапе Петра Великого»,
в «Дубровском» и «Истории Пугачева». Значение слова
«родина» ярко выступает в связи с тем циклом образов,
который предназначался для предисловия к «Повестям
Белкина» и затем нашел себе место в «Истории села Го-
рюхина» и позднее в «Дубровском» 3.
1 «Звезда», 1930, № 7, стр. 218—219. Ср. также С. М. Петров,
Исторический роман А. С. Пушкина, М. 1953, стр. 81.
2 «Родина — место, где кто родился. Побывать на своей родине».
(Словарь Академии российской, ч. V, 1822, 1055); Ср. «Общий цер-
ковно-славяно-российский словарь П. И. Соколова», 1834, ч. II.
стр. 1134; ср. также «Словарь церковнославянского и русского
языка, составленный Вторым отделением Ими. Акад, наук», т. IV,
СПб. 1847, стр. 67.
3 Ср. в «Дубровском»: «Через 10 минут въехал он на барский
двор. Он смотрел вокруг себя с волнением неописанным. Двена-
дцать лет не видал он своей родины. Березки, которые при нем были
только что посажены около забора, выросли и стали теперь высо-
221
Язык литературно-художественного произведения,
вливаясь в общий поток развития языка в целом, может
рассматриваться как памятник и источник истории
этого языка. Однако язык этого памятника представляет
лишь часть системы литературного (или шире: общена-
родного языка), использованную писателем для оформ-
ления и выражения своего художественного замысла.
Следовательно, вполне правомерны исследования, по-
священные анализу грамматических конструкций или
лексики и фразеологии того или иного произведения —
в связи с общими процессами развития литературного
языка. Но значение этого языкового материала как
в аспекте общей истории языка, так и в отношении
структуры данного произведения может быть уяснено
и понято лишь в том случае, если этот материал глу-
боко освещается с точки зрения активных, живых отно-
шений современной ему лексической или грамматиче-
ской системы общенародного языка. Важно, например,
знать не только то, какие слова или группы слов исполь-
зованы писателем, но и то, какие словарные пласты
оставлены в стороне, какие были возможности выбора
и что в конце концов отобрано и почему.
Для исследования языка художественного произве-
дения важно не только наличие тех или иных языко-
вых явлений в нем. Иногда многозначителен самый
факт отсутствия привычных для той или иной эпохи
речевых средств. Тем более приобретает значения созна-
тельный, подчеркнутый отказ художника от некоторых
форм или видов языкового выражения.
Могут представлять интерес даже сведения об ан-
типатии того или иного писателя к известным словам.
С. Л. Толстой писал о Л. Н. Толстом: «К некоторым
словам у него была антипатия, не знаю почему. Он не
любил и никогда не употреблял, кроме слова «зря»,
слов: словно, молвил, сниматься (вместо фотографиро-
ваться)» х.
кими ветвистыми деревьями». Ср. в «Истории села Горюхина»:
«...и через 10 минут въехал на барский двор. Сердце мое сильно
билось — я смотрел вокруг себя с волнением неописанным. 8 лет
не видал я Горюхина. Березки, которые при мне были посажены
около забора, выросли и стали теперь высокими, ветвистыми де-
ревьями» и т. п.
1 С. Л. Толстой, Очерки былого, Гослитиздат, 1956, стр. 87.
222
Само собой разумеется, что лишены научного значе-
ния попытки установить непосредственную связь лек-
сики того или иного произведения с идеологией писа-
теля — без всякого анализа словарного состава литера-
турного языка соответствующей эпохи и без выяснения
внутренних структурных качеств стиля писателя, его
поэтики, принципов композиции его сочинений — в связи
с идейно-художественными замыслами. Эта порочная
тенденция нашла выражение во многих кандидатских
диссертациях нашего времени. Вот две случайно вы-
бранные иллюстрации. В автореферате диссертации
А. И. Федосова «Лексика и фразеология романа
А. М. Горького „ Мать “ » написано: «Чтобы показать
руководящую роль коммунистической партии в подго-
товке революции, борьбу пролетариата за освобождение
трудящихся, Горький, естественно, прибегает к словам:
партия, свобода, освобождение, демократия, завоевание,
уничтожение; освободить, освобождать, разрушить, за-
воевать, победить, потребовать; свободный, свободней-
ший и под. ... К лексике, связанной с идеей угнетения,
порабощения, эксплуатации, в романе относятся слова:
гнет, нищета, насилие, цепи; эксплуатировать, порабо-
тить, гноить, грабить, пожрать; порабощен, оковавший
и т. п.»1. В автореферате кандидатской диссертации
А. М. Дряхлушина «Лексика «сказок» М. Е. Салты-
кова-Щедрина» читаем: «Весьма употребительны у Щед-
рина имена существительные с продуктивным суффик-
сом -ство. Он использует их для создания пародий на
реакционную и либеральную печать, образуя яркие и
сильные обличительно-сатирические речевые средства:
«ругали (генералы) мужика за его тунеядство»} «в мире
псов, точно так же, как и в мире людей, лесть, пронырст-
во»; „вот богачество-то и течет все мимо да скрозь“»1 2.
Хотя содержание произведения само по себе не яв-
ляется предметом лингвистического изучения, однако
это содержание воплощено в словесной художественной
структуре произведения и как бы извлекается из нее.
Стиль художественного произведения не может быть
оторван от этого содержания. Состав речевых средств и
1 А. И. Федосов, Лексика и фразеология романа А. М. Горь-
кого «Мать», автореферат канд. диссертации, М. 1953, стр. 6.
2 А. М. Дряхлушин, Лексика «сказок» М. Е. Салтыкова-
Щедрина, автореферат канд. диссертации, М. 1953, стр. 10.
223
их функциональное употребление зависят от характера
отношения автора к изображаемой действительности,
к предметам и явлениям изображаемого мира. Вот —
иллюстрация. Вит. Бианки приводит яркие примеры
«биологической безграмотности» (как он выражается)
из рецензии Ореста Мальцева на книжку М. Усова
«Рассказы о птицах» («Литературная газета», № 6,
1953). Мальцев пишет: «Многим ли известно, что лесная
птица сорокопут, славящаяся (?) своим воинственным
криком (?? — В. Б.), заготовляет на зиму (!! — В. Б.)
корм оригинальнейшим методом (! — способом?)—ло-
вит ящериц, насекомых и, словно шашлык (?!—В. Б.),
накалывает их для сушки (!! — В. Б.) на веточки?»
«Здесь,— комментирует В. Бианки,— что ни слово, то
ерунда с биологической точки зрения. Сорокопуты (их
у нас несколько видов) действительно накалывают свою
живую добычу на иглы, которыми так изобилуют юж-
ные растения, но совсем не «для сушки», как уверяет
нас критик, а как раз для того, чтобы ящерки, жуки,
птенцы, выкраденные этим певчим хищником из гнезда,
в зной сохранились живыми подольше, не «портились»
бы: сорокопуты едят только «свежинку», и, разумеется,
эти перелетные птицы никаких ящериц и насекомых на
зиму (!!) себе не запасают»1.
В стихотворении А. Яшина «Тетерев» 2 изображается
тетерев-косач или «полевой тетерев» так:
Словно первый парень на пиру,
Он ходил-гулял в глухом бору...
Вит. Бианки комментирует: «Тетерева никогда не то-
куют и вообще не живут «в глухом бору». Полевой же
тетерев, о котором речь у Яшина, токует на больших
полянах по опушкам березовых рощ и т. д. Автор в та-
ком духе продолжает:
Оглядел окрестный березняк
(это в «глухом-то бору»!)
И к тетерке соколом подсел —
Расфранченный
Дураком дурак.
1 Вит. Бианки, Письмо в редакцию, «Звезда», 1953 № 10,
стр. 162.
2 Александр Яшин,
1953 г., № 59(3088)}.
Тетерев, «Литературная газета», 19 мая
224
Сел он против моего ствола,
А тетерка — чучелом была.
В. Бианки сопровождает анализ этих стихов таким
комментарием: «И за что автор хорошую птицу назвал
«дураком» — совершенно неизвестно: так тетереву и по-
ложено— подлетать к тетерке, даже если она — чучело.
А вот самого автора тов. Яшина «Литературная газета»
обязана привлечь к суду за браконьерство: весной на
току (о котором рассказывает Яшин) охота на тетере-
вов с чучелами строжайше запрещена» Ч
Изучая язык писателя-реалиста, советские филологи
не раз подчеркивали важность исследования в том или
ином художественном произведении «ассортимента ти-
пичных предметов и явлений, подаваемого в оболочке
слов и их сочетаний, приросших к реалиям в изобра-
жаемой среде и эпохе»1 2.
Таким образом, характер словоупотребления, отно-
шение слова к действительности, обнаруживающее сте-
пень ее знания, глубину охвата, точность и тонкость
разграничения предметов, неразрывно связаны с даль-
нейшим развертыванием и показом соответствующего
круга явлений в композиции сочинения..
Любопытно признание Л. Толстого, объясняющее
его неудовлетворенность своей работой над историче-
ским романом из эпохи конца XVII — начала XVIII ве-
ка: «Никак не могу живо восстановить в своем вообра-
жении эту эпоху, встречаю затруднения в незнании
быта, мелочей, обстановки» 3.
Лейбниц говорил: «При употреблении языка следует
обращать особое внимание на то, что слова есть не
только знаки мыслей, но и знаки вещей; нам нужны
знаки не только для того, чтобы изъяснить наше мнение
другому, но и для того, чтобы подсобить сложиться
самой мысли»4.
1 «Звезда», 1953, № 10, стр. 162.
2 А. С. Орлов, Язык русских писателей, М—Л. 1948,
стр. 149.
3 П. Попов, Незаконченные исторические романы [Л. Тол-
стого] «Литературное наследство», № 19—21, М. 1935, стр. 682.
4 См. J. Stenzel, Philosophic der Sprache, Leipzig — Berlin,
1934, S. 62.
225
7
В языке художественного произведения следует раз-
личать две стороны, которым соответствуют и два раз-
личных способа анализа, два различных аспекта его
изучения. С одной стороны, выступает задача уяснения
и раскрытия системы речевых средств, избранных и ото-
бранных писателем из общенародной языковой сокро-
вищницы. Само собой разумеется, что в индивидуально-
художественном стиле возможно осложнение этого
общенародного языкового фонда посредством включе-
ния в него или присоединения к нему речевых средств
народно-областных говоров, а также классовых жарго-
нов и разных профессиональных, социально-групповых
арго. Исследование характеров и внутренних мотивов
объединения всех этих языковых средств в одну
систему словесного выражения, а также изучение функ-
ций отдельных элементов или целой серии, совокупно-
сти внутренне объединенных речевых явлений в соответ-
ствии с своеобразием композиции художественного
произведения и творческого метода писателя и состав-
ляет одну сторону, один аспект анализа стиля писателя.
Можно сказать, что такой анализ осуществляется на
основе соотношения и сопоставления состава литера-
турно-художественного произведения с формами и эле-
ментами общенационального языка и его стилей,
а также с внелитературными средствами речевого обще-
ния. Индивидуальное словесно-художественное творче-
ство писателя вырастает на почве словесно-художе-
ственного творчества всего народа.
Следовательно, язык литературного произведения
необходимо, прежде всего, изучать, отправляясь от по-
нятий и категорий общей литературно-языковой системы,
от ее элементов и вникая в приемы и методы их индиви-
дуально-стилистического использования. Однако и при
этом изучении приходится обращаться к таким вопро-
сам, к таким явлениям и категориям индивидуальной
стилистики, которые выходят далеко за пределы стили-
стических явлений общелитературной речи (например,
к вопросам о структуре и нормах «авторского» повест-
вовательного стиля, о «несобственно прямой речи»,
о разных социально-речевых стилях диалога, об эк-
спрессивно-смысловых обогащениях выражений и обо-
226
ротов в композиции и контексте целого произведения
и т. п.). Но есть и иной путь лингвистического исследо-
вания стиля литературного произведения как целост-
ного словесно-художественного единства, как особого
типа эстетической, стилевой словесной структуры. Этот
путь — от сложного единства к его расчленению.
Л. Толстой в дневнике 1853 года пишет: «Манера,
принятая мною с самого начала,— писать маленькими
главами, самая удобная. Каждая глава должна выра-
жать одну только мысль или одно только чувство» Г
Члены словесно-художественной структуры усматри-
ваются в самой системе организации, во внутреннем
единстве целого. Это — прежде всего те стилевые
отрезки или потоки, те композиционные типы речи,
связь и движение которых образует единую динамиче-
скую конструкцию. Далее, это могут быть — при от-
сутствии конструктивного разнообразия в строе цело-
го — те композиционные члены строфы, абзацы и т. п.,
которые по субъективно-экспрессивной окраске речи,
или по употреблению форм времени, или по семантиче-
скому своему строю, или по своеобразиям синтаксиче-
ского построения отличаются друг от друга и следуют
один за другим, соотносятся один с другим, подчиняясь
тому или иному закону структурного сочленения. Грани
между отдельными частями литературного произведе-
ния не привносятся извне, а понимаются из самого
единства целого. Эти части, а также границы и связи
между ними, определяются не только приемами непо-
средственных сцеплений, но также и смысловыми пере-
сечениями в разных плоскостях (ср. принципы непол-
ного, но динамически развертывающегося параллелиз-
ма — синтаксического и образно-фразеологического —
в структуре повести Гоголя «Нос», прием образных от-
ражений в строе пушкинской «Пиковой дамы» и т. п.).
Таким образом, структура целого и его значение уста-
навливается путем определения органических частей худо-
жественного произведения, которые сами в свою очередь
оказываются своего рода структурами и получают свой
смысл от того или иного соотношения словесных элемен-
тов в их пределах. И этот анализ идет до тех пор, пока
предельные части структуры не распадаются в синтакси-
1 Л. Толстой, Поли. собр. соч., т. 46, стр. 217; ср. стр. 214.
227
ческом плане на синтагмы, а в лексико-фразеолОгичё-
ском плане на такие отрезки, которые уже нечленимы
для выражения индивидуального смысла в строе данного
литературного произведения. И все эти элементы или
члены литературного произведения рассматриваются и
осмысляются в их соотношениях в контексте целого.
Понятно,. что с помощью такого стилистического
анализа отдельных литературных произведений значи-
тельно расширяется и обогащается понимание стиля
художественного произведения.
Анализ лексико-фразеологического состава и прие-
мов синтаксической организации литературного произ-
ведения повертывается в иную сторону, в сторону
осмысления индивидуально-стилистических целей и за-
дач употребления всего этого языкового богатства, в сто-
рону уяснения последовательности и правил соединения
и движения элементов в композиции художественного
целого. Как и для чего сочетаются в структуре изучае-
мого произведения разные стилевые пласты лексики?
Какие приемы и средства применяются писателем для
создания новых значений и новых оттенков разных
слов и выражений? Какими путями достигаются те
«комбинаторные приращения смысла», которые разви-
ваются у слов в контексте целого произведения? Каков
образный строй произведения? Каковы излюбленные
приемы метафоризации? На каких семантических осно-
вах зиждется та индивидуальная система образно-худо-
жественного выражения, которою определяется смысл
целого литературно-художественного памятника? Ка-
кими методами экспрессивной расценки слов и выраже-
ний пользуется писатель в изучаемом произведении?
Какая связь между лексико-фразеологическим и син-
таксическим строем произведения? Каковы изобрази-
тельные функции синтаксических форм? Как отра-
жается на формах синтаксического построения и на
приемах лексического отбора «несобственно прямая
речь»? Чем отличаются по своей лексико-фразеологиче-
ской структуре и по своему синтаксическому строю раз-
ные формы монологической и диалогической речи
в структуре литературного произведения? и т. д. и т. д.
Освещение всех этих вопросов приближает исследо-
вателя к пониманию индивидуального стиля изучаемого
литературного произведения.
228
8
Громадная роль в процессе создания художествен-
ного произведения принадлежит, с одной стороны, изби-
рательной, а с другой стороны, комбинирующей и син-
тезирующей работе автора, направленнойодновременно
и на изображаемую действительность и на формы ее
отражения в словесной композиции произведения, в его
языке, в его стиле. Об этой активно-избирательной на-
правленности словесного творчества поэта очень тонко
и точно писал В. Маяковский, подчеркивая необходи-
мость «выводить поэзию из материала», «давать эссен-
цию фактов», «сжимать факты до того, пока не полу-
чится прессованное, сжатое, экономное слово», а не
«просто накидывать какую-нибудь старую форму на
новый факт». Тут же Маяковский выдвигает требова-
ние: «Перемена плоскости, в которой совершился тот
или иной факт, расстояние — обязательно»х. Вместе
с тем, по словам Маяковского, «надо точно учитывать
среду, в которой развивается поэтическое произведение,
чтобы чуждое этой среде слово не попало случайно».
Это положение иллюстрируется черновой строчкой из
стихотворения, посвященного С. Есенину:
Вы такое, МИЛЫЙ МОЙ, умели.
«„Милый мой"—фальшиво, во-первых, потому, что оно
идет вразрез с суровой обличительной обработкой
стиха; во-вторых, этим словом никогда не пользовались
мы в нашей поэтической среде; в-третьих, это — мелкое
слово, употребляемое обычно в незначительных разго-
ворах, применяемое скорее для затушевки чувства, чем
для оттенения его; в-четвертых — человеку, действи-
тельно размякшему от горести, свойственно прикры-
ваться словом погрубее... Кроме того, это слово не
определяет, что человек умел — что умели?
Что Есенин умел?.. Как не подходило бы к нему при
жизни:
Вы такое петь душе умели.
Есенин не пел (по существу он, конечно, цыгано-ги-
таристый, но его поэтическое спасение в том, что он хоть
1 В. Маяковский, Как делать стихи? «О писательском
труде. Сб. статей и выступлений советских писателей», М. 1953,
стр. 47—48.
229
при жизни не так воспринимался, и в его томах есть
десяток и поэтически новых мест). Есенин не пел, он
грубил, он загибал. Только после долгих размышлений
я поставил это «загибать»!» Ч
Смысл слова в художественном произведении нико-
гда не ограничен его прямым номинативно-предметным
значением. Буквальное значение слова здесь обрастает
новыми, иными смыслами (так же, как и значение
описываемого эмпирического факта вырастает до сте-
пени типического обобщения). В художественном про-
изведении нет и во всяком случае не должно быть слов
немотивированных, проходящих только как тени не-
нужных предметов. Отбор слов неразрывно связан со
способом отражения и выражения действительности
в слове. Предметы, лица, действия, явления, события
и обстоятельства, называемые и воспроизводимые в худо-
жественном произведении, поставлены в разнообразные,
внутренние, функциональные отношения, они взаимосвя-
заны. Эта взаимосвязь и смысловая многообъемность
слов и выражений в строе художественного произведе-
ния чрезвычайно ярко показаны Львом Николаевичем
Толстым в.его известной статье: «Кому у кого учиться
писать, крестьянским ребятам у нас, или нам у кре-
стьянских ребят?» Рассказывая о необыкновенном худо-
жественном чутье яснополянского мальчика Федьки
Морозова, писавшего сочинение на пословицу: «Лож-
кой кормит, стеблем глаз колет», Толстой подробно
останавливается на одном выражении, на одной «побоч-
ной черте», предложенной Федькой: «...кум надел бабью
шубенку». «Сразу не догадаешься, почему именно
бабью шубенку,— а вместе с тем чувствуешь, что это
превосходно и что иначе быть не может,— пишет
Л. Н. Толстой.— Каждое художественное слово, при-
надлежит ли оно Гете или Федьке, тем-то и отличается
от нехудожественного, что вызывает бесчисленное мно-
жество мыслей, представлений и объяснений. Кум,
в бабьей шубенке, невольно представляется вам тще-
душным, узкогрудым мужиком, каков он, очевидно, и
должен быть. Бабья шубенка, валявшаяся на лавке и
первая попавшаяся ему под руку, представляет вам еще
1 В. Маяковский, Как делать стихи? «О писательском
труде. Сб. статей и выступлений советских писателей», стр. 47—48.
230
и весь зимний и вечерний быт мужика. Вам невольно
представляются, по случаю шубенки, и позднее время,
во время которого мужик сидит при лучине, раздевшись,
и бабы, которые входили и выходили за водой и убирать
скотину, и вся эта внешняя безурядица крестьянского
житья, где ни один человек не имеет ясно определенной
одежды и ни одна вещь своего определенного места.
Одним этим словом: «надел бабью шубенку» отпечатан
весь характер среды, в которой происходит действие,
и слово это сказано не случайно, а сознательно» Ч
«Для того, чтобы подчеркнуть бедность проситель-
ницы,— пишет Чехов А. Лазареву-Грузинскому,—не
нужно тратить много слов, не нужно говорить о ее жал-
ком, несчастном виде, а следует только вскользь ска-
зать, что она была в рыжей тальме» 1 2.
В письме к брату Чехов писал: «В описаниях при-
роды надо хвататься за мелкие частности, группируя
их таким образом, чтобы по прочтении, когда закроешь
глаза, давалась картина. Например, у тебя получится
лунная ночь, если ты напишешь, что на мельничной
плотине яркой звездочкой мелькало стеклышко от раз-
битой бутылки и покатилась шаром черная тень собаки
или волка» 3.
Этот прием Чехов сам использовал в рассказе
«Волк», написанном в том же 1886 году4.
«На плотине, залитой лунным светом, не было ни
кусочка тени; на середине ее блестело звездой гор-
лышко от разбитой бутылки. Два колеса мельницы, на-
половину спрятавшись в тени широкой ивы, глядели
сердито, уныло...
Нилов вздохнул всей грудью и взглянул на реку...
Ничто не двигалось. Вода и берега спали, даже рыба
не плескалась... Но вдруг Нилову показалось, что на
том берегу, повыше кустов ивняка, что-то похожее на
тень прокатилось черным шаром. Он прищурил глаза.
Тень исчезла, но скоро опять показалась и зигзагами
покатилась к плотине.
1 Л. Н. Толстой, Поли. собр. соч., т. 8, М. 1936, стр. 306.
2 А. Лазарев-Грузинский, А. П. Чехов. «А. П. Чехов в
воспоминаниях современников», Гослитиздат, 1954, стр. 122.
3 А. П. Чехов, Письмо Ал. П. Чехову 10 мая 1886 г., Поли,
собр. соч., Письма, т. ХШ, М. 1948, стр. 215.
4 Ср. также этот же словесный образ в чеховской «Чайке».
231
«Волк!» — вспомнил Нилов» *.
А. Серафимович рассказывает о том, как он учился
изображению предметов у Чехова: «Мне один из това-
рищей как-то указал: «Посмотри, как пишет Чехов».
Ему нужно было дать жизнь в уездном городе. Мы бы
с вами написали, что вот-де уездный город, немощеные,
пыльные улицы, свиньи разгуливают и проч. Длинная
история... А как Чехов пишет? «Из-за острога всходила
луна...» А потом начинает рассказ. И перед вами —
уездный город. Острог ведь бывает только в уездном
городе. В деревне острога не бывает. В Москве, в этой
громаде, его не увидишь,— в уездном же городе он вы-
пирает. Или так: есть у Чехова одно место, где ему
надо было дать лунную ночь. Так он написал: «От мель-
ницы тянулась уродливая тень, а в венце плотины
блестел осколок бутылки...» А мы бы написали:
«Взошла луна, она лила голубоватый свет...» и т. д.»1 2.
Словоупотребление писателя обусловлено его уме-
нием найти необходимый и характерный для соответ-
ствующего художественного замысла способ образного
обобщения предмета, явления, действия и т. п.
Д. В. Григорович в известных своих «Литературных
воспоминаниях» очень живо рассказывает о первом уроке
словесного мастерства, данном ему Ф. М. Достоев-
ским, таким же в то время начинающим писателем, ка-
ким был и Григорович, только что написавший свою пер-
вую удавшуюся вещь — очерк «Петербургские шарман-
щики».
Достоевский «...по-видимому, остался доволен моим
очерком,—пишет Григорович,—хотя и не распростра-
нялся в излишних похвалах; ему не понравилось только
одно выражение в главе Публика шарманщика. У меня
было написано так: когда шарманка перестает играть,
чиновник из окна бросает пятак, который падает к но-
гам шарманщика. «Не то, не то,— раздраженно загово-
рил вдруг Достоевский,— совсем не то! У тебя выходит
слишком сухо: пятак упал к ногам... Надо было сказать:
пятак упал на мостовую, звеня и подпрыгивая...» Заме-
1 А. П. Чехов, Волк, Собр. соч., т. IV, М. 1955, стр. 145.
2 А. Серафимович, Из истории «Железного потока»,
«О писательском труде, Сб. статей и выступлений советских пи-
сателей», М. 1953, стр. 213.
232
чание это,— помню очень хорошо,— было и для меня
целым откровением. Да, действительно: звеня и подпры-
гивая— выходит гораздо живописнее, дорисовывает дви-
жение. Художественное чувство было в моей натуре;
выражение: пятак упал не просто, а звеня и подпрыги-
вая,— этих двух слов было для меня довольно, чтоб по-
нять разницу между сухим выражением и живым, худо-
жественно-литературным приемом» L
«В разговоре с начинающим писателем Н. Лещин-
ским Л. Толстой 28 сентября 1909 года сказал: «Вот вы
пишете об ужасном случае. Но у вас много слов: «страш-
ный», «ужасный». Это не годится. Видно, на вас повлияли
современные писатели, особенно Леонид Андреев. Он все
пишет страшными словами. Страшные вещи надо, наобо-
рот, писать самыми простыми, „нестрашнымисловами"»1 2.
О принципах поэтического изображения А. Фет пи-
сал: «Насаждая свой гармонический цветник, поэт не-
вольно вместе с цветком слова вносит его корень, а на
нем следы родимой почвы. При выражении будничных
потребностей сказать ли: Ich will nach der Stadt или:
я хочу в город — математически одно и то же. Но в пес-
не обстоятельство, что die Stadt steht, а город городит-
ся— может обнажить целую бездну между этими двумя
представлениями. Кроме корня, каждое слово имеет
свойственные его почве запах, конфигурацию и влияние
на окружающую его область мысли, в совершенное подо-
бие растению, питающему известных насекомых, кото-
рые, в свою очередь, питают известных птиц, и т. д.» 3.
9
Слова и выражения в художественном произведении
обращены не только к действительности, но и к другим
словам и выражениям, входящим в строй того же произ-
ведения. Правила и приемы их употребления и сочета-
1 Д. В. Григорович, Литературные воспоминания, Л. 1928,
стр. 131.
2 Н. Н. Г у с е в, Отметки Л. Толстого на томе рассказов М. Ар-
цыбашева, «Летописи Государственного литературного музея», кн. 2,
1938, стр. 276.
3 А. Фет, Два письма о значении древних языков в нашем
воспитании, «Литературная библиотека», 1867, апрель, стр. 58.
233
ния зависят от стиля произведения в целом. В контексте
всего произведения слова и выражения, находясь в тес-
ном взаимодействии, приобретают разнообразные допол-
нительные смысловые оттенки, воспринимаются в слож-
ной и глубокой перспективе целого. Связь выражения,
словесного образа со смыслом целого, с ситуацией и
с положениями действующих лиц, с общим замыслом
художественного произведения очень ярко, например,
выступает в способах сатирического применения фразео-
логических оборотов у Салтыкова-Щедрина. Вот при-
мер: рассказчик размышляет о некоем Берсеневе: «Этот
человек мечтательный и рыхлый... у которого только
одно в мысли: идти по стопам Грановского. Но идти не
самому, а чтоб извозчик вез» («Дневник провинциала
в Петербурге») х. Другим ярким примером может слу-
жить образное, глубоко обобщенное употребление слова
вещь в заключительных сценах пьесы Островского
«Бесприданница». Лариса, отказавшись от своего же-
ниха Карандышева и покинутая Паратовым, в отчаянии
думает о самоубийстве, но не находит в себе силы для
того, чтобы самой осуществить эту мысль. В ней лич-
ность раздавлена, она убеждается в том, что она — толь-
ко вещь1 2. Происходит такая сцена.
«Карандышев. Они не смотрят на вас, как на
женщину, как на человека,— человек сам располагает
своей судьбой; они смотрят на вас, как на вещь. Ну, если
вы вещь,— это другое дело. Вещь, конечно, принадлежит
тому, кто ее выиграл, вещь и обижаться не может.
Лариса (глубоко оскорбленная). Вещь... да, вещь!
Они правы, я вещь, а не человек. Я сейчас убедилась в
том, я испытала себя... я вещь! (С горячностью.) Нако-
нец слово для меня найдено, вы нашли его. Уходите!
Прошу вас, оставьте меня!
Карандышев. Оставить вас? Как я вас оставлю,
на кого я вас оставлю?
Лариса. Всякая вещь должна иметь хозяина, я
пойду к хозяину.
1 М. Е. Салтыков-Щедрин, Поли. собр. соч., т. VII, изд.
А. Ф. Маркса, СПб. 1906, стр. 401.
2 См. статью Н. С. Г р о д с к о й, Из творческой истории драмы
А. Н. Островского «Бесприданница», «Ученые записки Московского
гор. пед. института им. В. П. Потемкина, т. XLVIII, Кафедра рус-
ской литературы», вып. 5, 1955, стр. 324 и след.
234
Карандышев (с жаром). Я беру вас, я ваш хо-
зяин. (Хватает ее за руку).
Лариса (оттолкнув его). О нет! Каждой вещи своя
цена есть... Ха, ха, ха... я слишком, слишком дорога
для вас.
Карандышев. Что вы говорите! мог ли я ожидать
от вас таких бесстыдных слов?
Лариса (со слезами). Уж если быть вещью, так од-
но утешение — быть дорогой, очень дорогой...» 1
Одни и те же языковые явления, например, явления
лексической синонимии и омонимии, могут получать са-
мое разнообразное применение, приобретать резко от-
личные функции — в зависимости от структуры художе-
ственного произведения, его идейного замысла и ком-
позиции.
Например, у С. Маршака в стихотворении «Про Се-
режу и Петю» среди других средств изображения нераз-
личимости братьев-близнецов используются синоними-
ческие выражения, обозначающие — в разном свете
с разной экспрессией — одно и то же действие или яв-
ление.
Петя бросил снежный ком
И попал в окошко.
Говорят, в стекло снежком
Угодил Сережка1 2.
Смысловая дифференциация синонимов и их сопо-
ставление могут быть использованы в диалогической
речи с целью характеристики.
В качестве примера можно указать на сцену из «Гро-
зы» А. Н. Островского.
Кабанова требует от сына, чтобы он перед отъездом
приказал жене, как она должна жить без него. Кабанова
сама формулирует эти требования, но сын, смягчая их
грубый тон, по-своему повторяет их.
«Кабанова. Чтоб сложа ручки не сидела, как ба-
рыня!
Кабанов. Работай что-нибудь без меня!
Кабанова. Чтоб в окна глаз не пялила!
Кабанов. Да, маменька, когда же она...
Кабан о в а. Ну, ну!
1 А. Н. Островский, Поли. собр. соч., т. VIII, М. 1950,
стр. 229—230.
2 С. Маршак, Про Сережу и Петю. «Огонек», 1954, № 11,
стр. 28.
235
Кабанов. В окна не гляди!»1
Тут ярко выступает синонимический параллелизм по
логическому смыслу однородных, но по экспрессивной
окраске совсем несхожих, почти контрастных форм вы-
ражения.
В романе Вс. Кочетова «Молодость с нами» читаем:
«...Она подумала о том, что при всех богатствах рус-
ского языка в нем нет хорошего слова, с которым бы
можно было обратиться к этому сероглазому товарищу.
Сказать: «молодой человек» —в этом есть нечто обыва-
тельское, глупое. Сказать: «юноша» — ну прямо-таки из
сладенькой повести о жизни ремесленного училища,
в которой всех мальчишек высокопарно называют юно-
шами. Что же остается? Грубое «парень»? Нет, для мо-
лодых мужчин не нашли, не придумали такого поэтиче-
ского, красивого, нежного слова, которое хоть в слабой
мере равнялось бы слову, найденному для молодых жен-
щин... Вот тот юноша-парень-молодой человек вздумает
если обратиться с чем-либо к ней, он что скажет? Он ска-
жет, конечно: девушка. Оле очень захотелось, чтобы со-
сед обратился к ней, спросил бы ее о чем-нибудь.
И он обратился, он спросил. Он встал со своей ска-
мьи, подошел к Олиной, и Оля вдруг услышала: «Юная
леди! Извините, пожалуйста, сколько сейчас время?»
Оля даже вздрогнула от удивления, которое тотчас сме-
нилось возмущением. «Надеюсь, это относится не ко
мне?»,— ответила она гордо. «Именно, к вам».— «Если
ко мне, то, во-первых, я не леди, а во-вторых, говорят не
«сколько время», а «который час». Понятно?»1 2
Но — при всей широте и многообразии способов функ-
ционально-стилистического использования синонимов
в композиции разных художественных произведений —
в индивидуально-речевом употреблении всегда есть связь
и соотношение с языковой системой. Например, Н. И. Пи-
рогов пишет в «Дневнике старого врача» о синонимах:
хотеть-желать.
«Я различаю, может быть и неосновательно, но для
меня внятно: хотеть, желать. Хотеть можно и сознатель-
но, и бессознательно, но всегда с действием; желать же
можно только сознательно и строго анализируя, всегда
1 А. Н. О с т р о в с к и й, Поли. собр. соч., т. II, М. 1950, стр. 231.
2 «Звезда», 1945, № 9, стр. 83—84.
236
без действия. Недаром в царствование Николая Павло-
вича я никогда и ни от одного солдата в госпитале не
слыхал слова: «я хочу».— «Хочешь есть?» — спросишь,
бывало; «Не желаю, ваше превосходительство»,— слы-
шишь ответ. Не может оно быть, чтобы это было слу-
чайно. Да, желать можно только сознательно и, собст-
венно, без действия; но переход от «я желаю» к «я хо-
чу» так может быть быстр, что его не всегда можно уло-
вить, и потому иногда и желание (как хотенье) может
быть действующим» Ч
Таким образом, в зависимости от структуры художе-
ственного произведения, его композиции, изображаемых
характеров, воплощенного в нем замысла видоизме-
няются формы и функции одних и тех же стилистиче-
ских явлений, например, синонимического употребления
слов и выражений, причем смысловые пределы синони-
мических соотношений и связей тут неизмеримо расши-
ряются по сравнению с общеязыковой семантикой.
Можно также отметить совершенно различные функ-
ции лексической омонимии в составе художественных
произведений разного строя и типа. В примечании к
третьей главе «Евгения Онегина» (не вошедшем в печат-
ный текст) Пушкин писал: «Кто-то спрашивал у ста-
рухи: «По страсти ли, бабушка, вышла ты замуж?» —
«По страсти, родимый,— отвечала она.— Приказчик и
староста обещались меня до полусмерти прибить».
В старину свадьбы, как суды, обыкновенно были при-
страстны». Этот отрывок почти полностью вошел в пуш-
кинское «Путешествие из Москвы в Петербург»: «Спра-
шивали однажды у старой крестьянки, по страсти ли
вышла она замуж. «По страсти,— отвечала старуха,—
я было заупрямилась, да староста грозился меня высечь».
Таковые страсти обыкновенны». Литературное слово
страсть — «увлечение, чувственная любовь» и народно-
разговорное страсть—«страх» здесь каламбурно сопостав-
лены для выражения глубоких социальных контрастов.
Совсем иной характер носят глубокомысленные рас-
суждения чиновника Поджабрина об омонимической
многосмысленности слова знатный в очерке Гончарова
«Иван Савич Поджабрин».
1 Н. И. Пирогов, Дневник старого врача. Соч., т. II, Киев,
1910, стр. 212.
237
«— А вот там, во втором этаже, где еще такие слав-
ные занавесы в окнах?
— Там-с одна знатная барыня, иностранка Цейх.
— Знатная! — говорил Иван Савич Авдею,— что это
у него значит?.. Она может быть знатная потому, что
в самом деле знатная, и потому, что, может быть, дает
ему знатно на водку, или знатная собой?..» 1
Слова и выражения приобретают в контексте всего
произведения разнообразные дополнительные смысло-
вые оттенки, воспринимаются в сложной и глубокой об-
разной перспективе (ср. «Пиковая дама» у Пушкина,
«Мертвые души» у Гоголя, «Хамелеон» у Чехова, «Дач-
ники» у Горького и т. п.).
Тонкие смысловые оттенки слова, его стилистические
нюансы, его связи с параллельными, синонимическими
выражениями, его звуковые переклички с другими сло-
вами далекого значения (омонимами)—все это остро-
умно учитывалось Гоголем и активно использовалось
для художественно-изобразительных целей. В языке Го-
голя весь смысловой строй слова приходил в движение
и сиял яркими красками художественной выразительно-
сти. Потенциальные выразительные ресурсы слова слу-
жили великому художнику средством воплощения его
идейного замысла.
Очень часто Гоголь для сатирического обличения и
разоблачения изображаемой социальной среды прибе-
гал к каламбурному обнажению самых важных, основ-
ных для ее миропонимания слов и терминов. Таково, на-
пример, слово место для чиновников в мире мертвых душ,
описываемых Гоголем.
В соответствии с принципом обобщения или генера-
лизации, очень существенным для гоголевского стиля,
губернские чиновники в «Мертвых душах» изображают-
ся в виде двух контрастных рядов образов: «...одни
тоненькие, которые все увивались около дам... Другой
род мужчин составляли толстые или такие же, как Чи-
чиков, то есть не так чтобы слишком толстые, однако ж
и не тонкие. Эти, напротив того, косились и пятились от
дам...»2 Хрупкость и воздушность тоненьких символизи-
1 И. А. Го н ч а р о в, Собр. соч., т. VII, М. 1954, стр. 23.
“Н. В- Гоголь, Мертвые души, Поли. собр. соч., т. VI, Изд.
АН СССР, 1951, стр. 14. Далее цитаты по тому же изданию.
238
руется уменьшительно-пренебрежительной формой имени
прилагательного — тоненький (ср. «не так чтобы слиш-
ком толстые, однако ж и не тонкие»).
Для тоненьких мысль о месте не характерна. «Увы!
толстые умеют лучше на этом свете обделывать дела
свои, нежели тоненькие. Тоненькие служат больше по
особенным поручениям или только числятся и виляют
туда и сюда». У них нет оседлого места: «...их существо-
вание как-то слишком легко, воздушно и совсем нена-
дежно». Напротив, социальная сущность толстых опре-
деляется их отношением к месту. Гоголь каламбурно
сталкивает два значения слова — место: должность и
пространство, занимаемое кем-нибудь (напр., когда он
сидит): «Толстые же никогда не занимают косвенных
мест, а все прямые, и уж если сядут где, то сядут на-
дежно и крепко, так что скорей место затрещит и угпет-
ся под ними, а уж они не слетят».
Тот же принцип каламбурного столкновения двух раз-
ных значений слова история кладется Гоголем в основу
характеристики Ноздрева: «Ноздрев был в некотором
отношении исторический человек. Ни на одном собрании,
где он был, не обходилось без истории». В это сложное
ироническое сплетение смыслов вовлекаются и те оттен-
ки значений, которые были связаны с устойчивыми вы-
ражениями — исторический человек, историческая лич-
ность. Для изображения Ноздрева Гоголь воспользовал-
ся и другим видом каламбурного словоупотребления.
Подвергнув этимологическому переосмыслению жаргон-
ный шулерский термин — передержка, он применил его
в чисто физическом, конкретном смысле (в смысле —по-
тасовка) по отношению к знаменитым ноздревским ба-
кенбардам, которые символизировали необыкновенную
телесную крепость, «плодородие» этого типа.
«В картишки... играл он не совсем безгрешно и чи-
сто, зная много разных передержек и других тонкостей,
и потому игра весьма часто оканчивалась другою игрою:
или поколачивали его сапогами, или же задавали пере-
держку его густым и очень хорошим бакенбардам».
Отпечаток каламбурного словоупотребления может
возникнуть и в том случае, когда целый ряд слов профес-
сионального, конкретного значения употреблен в экс-
прессивном, переносном смысле и образует как бы вос-
ходящую лестницу синонимов.
239
Так, Гоголь сочетает глаголы — ввернуть, скрепить,
загвоздить с выражением — «кое-какое крепкое словцо»
и использует соответствующие фразеологические едини-
цы в качестве своеобразного рефрена. Именно так по-
строен рассказ Чичикова о дворовом человеке Попове.
«Должен быть грамотей: ножа, я чай, не взял в руки,
а проворовался благородным образом. Но вот уж тебя,
беспашпортного, поймал капитан-исправник. Ты стоишь
бодро на очной ставке. «Чей ты?» — говорит капитан-ис-
правник, ввернувши тебе, при сей верной оказии, кое-ка-
кое крепкое словцо, «Такого-то и такого-то помещи-
ка»,— отвечаешь ты бойко. «Зачем ты здесь?» — говорит
капитан-исправник. «Отпущен на оброк»,— отвечаешь
ты без запинки. «Где твой пашпорт?» — «У хозяина, ме-
щанина Пименова».— «Позвать Пименова! Ты Пиме-
нов?» — «Я Пименов».— «Давал он тебе пашпорт
свой?» — «Нет, не давал он мне никакого пашпорта».—
«Что ж ты врешь?» — говорит капитан-исправник с при-
бавкою кое-какого крепкого словца. «Так точно,— отве-
чаешь ты бойко,— я не давал ему, потому что пришел
домой поздно, а отдал на подержание Антипу Прохорову,
звонарю». —«Позвать звонаря! Давал он тебе паш-
порт?»— «Нет, не получал я от него пашпорта».— «Что
же- ты опять врешь?» — говорит капитан-исправник,
скрепивши речь кое-каким крепким словцом. «Где ж
твой пашпорт?» — «Он у меня был,— говоришь ты про-
ворно,— да, статься может, видно, как-нибудь дорогой
пообронил его».— „А солдатскую шинель,— говорит ка-
питан-исправник, загвоздивши тебе опять в придачу
кое-какое крепкое словцо,— зачем стащил?"» В сущности,
в этом примере характерный для Гоголя прием исполь-
зования разнообразных очень выразительных синонимов
осложнен каламбурным их подбором и размещением.
При однородности значения и даже при общности сти-
листической окраски — в выражениях: «ввернуть кое-ка-
кое крепкое словцо», «скрепить речь кое-каким крепким
словцом», «загвоздить кое-какое крепкое словцо», сопо-
ставленных друг с другом и сменяющих одно другое,
начинают смутно проступать и первичные, конкретные
значения глаголов — ввернуть, скрепить, загвоздить.
Прием сопоставления прямого и переносного значе-
ний, как основа каламбура, Гоголем также применяется
нередко.
240
Каламбур в языке Гоголя бывает связан также с воз-
рождением образного или первоначального этимологиче-
ского значения в слове. Почти всегда этот прием слу-
жит для обострения и подчеркиванья комического несо-
ответствия или комической несообразности. Например,
«Деревня Маниловка немногих могла заманить своим
местоположением».
«Манилов никак не хотел выпустить руки нашего ге-
роя и продолжал жать ее так горячо, что тот уже не
знал, как ее выручить».
Каламбуры Гоголя могут покоиться также на созву-
чиях основных частей слов, значения которых уже да-
леко отошли друг от друга. Например, во втором томе
«Мертвых душ»:
«...поселился на время у такого мирного и смирного
хозяина».
«Все было опущено и запущено как у мужика, так и
у хозяина».
Каламбурным сближениям, сопоставлениям и проти-
вопоставлениям подвергаются в языке Гоголя не только
корневые части слов, но и приставки и суффиксы в соче-
тании с одной и той же основой. Все это неизмеримо уве-
личивает изобразительную силу слова.
Например: «Засим начал он слегка поворачивать
бричку,— поворачивал, поворачивал, и, наконец, выворо-
тил ее совершенно набок».
Ср. «Надобно сказать, что у нас на Руси, если не уг-
нались еще кой в чем другом за иностранцами, то да-
леко перегнали их в уменье обращаться».
В сущности, близко к каламбуру подходит и прием
мнимой тавтологии, когда к существительному и глаголу,
расширившим свои значения, присоединяется в качестве
определения слово с той же основой, и это слово как бы
возвращает своему определяемому истинный, первона-
чальный смысл.
Например: «Все оказалось в нем, что нужно для этого
мира — и приятность в оборотах и поступках, и бойкость
в деловых делах». «Все распушено в пух».
Но, пожалуй, самым острым и разительным приемом
каламбурного словоупотребления в языке Гоголя являет-
ся прием слияния омонимов (то есть слов разных, но
совпадающих по своей звуковой форме) или неожидан-
ной замены одного слова другим — омонимичным.
9 В. В. Виноградов
241
Так, в «Мертвых душах», защищая свободу художе-
ственного употребления любого народного слова, даже
того, которое услышано на улице (если только без него
не может обойтись истинный художник-реалист), автор
обрушивается на антинародный жаргон так называемого
«высшего общества»: «...если слово с улицы попало
в книгу, не писатель виноват, виноваты читатели и преж-
де всего читатели высшего общества; от них первых не
услышишь ни одного порядочного русского слова, а
французскими, немецкими и английскими они, пожалуй,
наделят в таком количестве, что и не захочешь... Вот
каковы читатели высшего сословия, а за ними и все при-
читающие себя к высшему сословию! А между тем какая
взыскательность! Хотят непременно, чтобы все было на-
писано языком самым строгим, очищенным и благород-
ным, словом, хотят, чтобы русский язык сам собою спу-
стился вдруг с облаков, обработанный, как следует,
и сел бы им прямо на язык, а им бы больше ничего, как
только разинуть рот да выставить его». Так — в резуль-
тате каламбурного слияния — звуковой язык, язык слов
и язык во рту совпали.
Точно так же Гоголь поступил с впервые пущенным
в широкий литературный оборот словом кулак, которое
приобрело потом историко-социологический смысл, став-
ши обозначением одного из гнуснейших порождений ка-
питализма. Это слово возникло в жаргоне офеней, тор-
говцев, разъезжавших с своим товаром по деревням и
наживавших на нем, не без жульничества и ростовщи-
чества, большие деньги. Гоголь применил это слово к об-
разу Собакевича и вложил его в речь Чичикова (тоже
кулака, но более широкого и тонкого склада): «Вот уж,
точно, как говорят, неладно скроен, да крепко сшит!..
Родился ли ты уж так медведем или омедведила тебя
захолустная жизнь, хлебные посевы, возня с мужиками,
и ты через них сделался то, что называют человек-ку-
лак? Но нет: я думаю, ты все был бы тот же, хотя бы
даже воспитали тебя по моде,.пустили бы в ход, и жил
бы ты в Петербурге, а не в захолустье... тогда бы у тебя
были чиновники, которых бы ты сильно пощелкивал,
смекнувши, что ведь они не твои же крепостные, или гра-
бил^бы ты казну!» Таким образом, Гоголь впервые в рус-
ской художественной литературе выводит тип кулака
и вводит в русский литературный язык слово кулак, за-
242
тем получившее широкую известность (ср. изображение
кулаков у Кокорева, И. С. Никитина, Салтыкова-Щед-
рина и др.). Это новое литературное слово Гоголь ка-
ламбурно сближает с словом кулак в значении — «кисть
руки, сжатая для удара». Несомненно, это—разные
слова, омонимы. То обстоятельство, что иногда эти сло-
ва ошибочно в «Толковых словарях русского языка»
помещаются под одним словом (например, в словаре
под редакцией Д. Н. Ушакова),— следует отнести к чи-
слу печальных недоразумений. Гоголь же, каламбурно
сливши эти два слова, заставляет Чичикова изречь це-
лый ряд афоризмов: «Нет, кто уж кулак, тому не разо-
гнуться в ладонь! А разогни кулаку один или два паль-
ца,' выйдет еще хуже».
Ср. еще примеры гоголевских каламбуров:
«Но голова его не была склонена приветливо набок,
не доставало ловкости в оборотах. Его мысли были за-
няты существенными оборотами и соображениями».
Сюда же можно присоединить формы каламбурных
новообразований, вступающих в противоречие со значе-
ниями слов-омонимов. При этом этимология и внутрен-
ние формы неологизма нередко показываются автором
тут же:
«...Он явился веселый, радостный, ухвативши под
руку прокурора... бедный прокурор поворачивал на все
стороны свои густые брови, как бы придумывая средство
выбраться из этого дружеского подручного путешествия».
Традиционная основа каламбура — слияние омони-
мов или соединение словесных звеньев от двух разных
семантических цепей, связанных с этими омонимами.
Например: «Но уже исстари замечено, что чем глупее
и нелепее дичь, тем более на нее бывает стрелков»...
К этому приему примыкает вообще сближение в пре-
делах одного синтаксико-семантического целого слов
однозвучных, но имеющих разные значения:
«Охлопьями лезла хлопчатая бумага».
Сюда же относятся случаи нарочитого смешения или
сопоставления разных значений одной основы или одного
слова.
«Их экипажи столкнулись и запутались, и дядя Ми-
тяй с дядею Миняем взялись распутывать дело».
«Подошедши к бюро, он [Плюшкин] переглядел их
[деньги] еще раз и уложил тоже чрезвычайно осторожно
9
243
в один из ящиков, где, верно, им суждено быть погребен-
ными до тех пор, покамест отец Карп и отец Поликарп,
два священника его деревни, не погребут его самого».
Ср. «Все, что ни было под начальством его, сделалось
страшными гонителями неправды; везде, во всех делах
они преследовали ее, как рыбак острогой преследует ка-
кую-нибудь мясистую белугу, и преследовали ее с таким
успехом, что в скором времени у каждого очутилось по
нескольку тысяч капиталу».
Прием каламбурных сближений слов органически
входит в общую систему сатирического стиля Гоголя.
«Произнесенное метко,— по словам Гоголя,— все равно,
что писанное, не вырубливается топором. А уж куды
бывает метко все то, что вышло из глубины Руси». Ка-
ламбур в том смысле, как его понимал Гоголь, и в тех
функциях, в которых его применял Гоголь,— является
характерным признаком народного русского стиля. Он
находит широкое применение в народных загадках, по-
говорках и пословицах (например, «Черного кобеля не
вымоешь добела»; «Молодец — на овец, а на молодца — и
сам овца» и т. п.). Русские пословицы Гоголь считал наи-
более ярким воплощением национального-русского стиля.
«Сверх полноты мыслей,— говорил Гоголь,— уже в са-
мом образе выражения в них отразилось много народных
свойств наших, в них все есть: издевка, насмешка, попрек,
словом — все шевелящее и задирающее за живое».
В экспрессивно-образном употреблении слова отра-
жается «...толкование действительности» Г С этим кру-
гом смысловых элементов слова связаны и сложные сло-
весные композиционные формы поэтического творчества.
«Элементарная поэтичность языка, то есть образность
отдельных слов и постоянных сочетаний... ничтожна срав-
нительно с способностью языков создавать образы из со-
четания слов, все равно образных или безобразных»1 2.
Ср. у Вельтмана в «Приключениях, почерпнутых из
моря житейского» раскрытие образного фона слова
жила: «Знаете ли вы людей, которых называют жилами.
В самом зарождении своем это* полипы в человеческой
1 Ср. у А; А. Потебни: «Поэзия (искусство) как и наука, есть
толкование действительности, ее переработка для новых, более слож-
ных, высших целей жизни» («Из записок по теории словесности»
стр. 67). ’
2 Т а м же, стр. 104.
244
форме. Только что выклюнутся из яйца, мозглявые с ви-
ду, как сморчки, они уже тянут жилы неестественным
своим криком; спокойны только тогда, когда сосут грудь,
сосут досуха. Глаза и руки у них тянутся ко всему, все
подай, или беги от крику...
Из этого числа людей был Филипп Савич, помещик
Киевской губернии. Имея самую слабую и хилую ком-
плекцию, он выжилил, наконец, себе тучное здоровье;
не имея в себе ничего, что бы могло нравиться жен-
щине, он выжилил любовь; не имея состояния, выжилил
жену с состоянием».
У Тургенева в «Дневнике лишнего человека»: «Ее са-
мое— я это видел — подмывало, как волной. Словно мо-
лодое деревцо, уже до половины отставшее от берега,
она с жадностью наклонялась над потоком, готовая от-
дать ему навсегда и первый расцвет своей весны, и всю
жизнь свою» Г
Специфика образно-художественного осмысления сло-
ва сказывается даже в функциях собственных имен, вы-
бранных и включенных писателем в состав литератур-
ного произведения. Они значимы, выразительны и соци-
ально характеристичны как прозвища.
Типично рассуждение капитана Лебядкина в «Бесах»
Достоевского: «...я, может быть, желал бы называться
Эрнестом, а между тем принужден носить грубое имя
Игната,— почему это, как вы думаете? Я желал бы назы-
ваться князем де Монбаром, а между тем я только Ле-
бядкин, от лебедя,— почему это?» 1 2.
В рассказе Н. Г. Помяловского «Вукол» дядюшка
Семен Иванович так рассуждает об эмоциональной
окраске звуков и их комбинаций в имени Вукол: «Ну, что
ты, братец, за кличку дал своему чаду,— говорил он отцу
Вукола, Антипу Ивановичу.— Да ты вникни в это слово!..
Вукол!.. вслушайся в это слово хорошенько... Вукол!..
в угол!., кол!., ха, ха, ха! Ведь это, братец ты мой, пре-
странное слово. А uy-ка, покажи его... По шерсти, по
шерсти, брат, кличка. Именно Вукол».
1 Ср. у того же Тургенева в повести «Два приятеля» употреб-
ление глагола подмывать в переносно-бытовом значении: «Оба при-
ятеля часто стали ездить к Степану Петровичу, особенно Борис
Андреич совершенно освоился у него в доме. Бывало, так и тянет его
туда, так и подмывает. Несколько раз он даже один ездил».
2 Ф. М. Достоевский, Собр. соч., т. VII, М. 1957, стр. 187.
245
Попятно, что к этой эмоционально-экспрессивной
оценке звукового строя имени примешиваются и социаль-
ные вкусы среды, аффективно окрашенные соображения
о различиях личных имен в разных слоях общества.
Ср., например, у А. Коптяевой в романе «Иван Ива-
нович»: «Очень уж просто мы с тобой живем, отец! —за-
говорила она (сестра милосердия Елена Денисовна, жена
фельдшера.— В. В.) с ласковой усмешкой.— Ребятишек
назвать по-интеллигентному и то не сумели. Эка неви-
даль: Наталья, Михаил, Павел да Борис! У людей-то вон
Алики да Милорики. А жена Пряхина всех перещеголя-
ла: Ланделий у ней да Камилочка. Ланделий! Вот имеч-
ко, так конфетами и пахнет! Она й себя из Прасковьи в
Паву переделала. Все по-заграничному...» (ч. I, гл. 11).
Закономерности развития и сцепления образов в их
тесной смысловой связи, создающей внутреннее единство
словесной композиции художественного произведения,
можно непосредственно наблюдать, например, в речевой
ткани таких чеховских рассказов, как «Устрицы», «Си-
рена» и др.
Важны изучение и оценка пропорциональности в
строе образов произведения. По словам профессора Пе-
шковского, «чем писатель экономнее в образах, тем силь-
нее они, при прочих равных условиях, действуют на чи-
тателя». Заслуживает глубокого внимания и другая
мысль профессора Пешковского — о том, что «дело не
в одних образных выражениях, а в неизбежной образно-
сти каждого слова, поскольку оно преподносится в худо-
жественных целях, поскольку оно дается, как это теперь
принято говорить, в плане общей образности... Специаль-
ные образные выражения являются только средством уси-
ления начала образности, дающим в случае неудачного
применения даже более бледный результат, чем обыч-
ное употребление слова. Другими словами, «образное»
выражение может оказаться бледнее безобразного»х.
Вместе с тем, так как художественное произведение
включается в широкий контекст литературы — как пред-
шествующей, так и современной, то осмысление многих
речевых и стилистических явлений в структуре художе-
1 А. М. Пешковский, Принципы и приемы стилистического
анализа и оценки художественной прозы, сб. «Ars poetica», вып. I,
М. 1927, стр. 63. Ср. также: А. М. Пешковский, Вопросы мето-
дики родного языка, лингвистики и стилистики, М.—Л. 1930.
246
ственного произведения невозможно вне этого контекста
и его конкретно-исторических своеобразий. Примером
может служить сказка Салтыкова-Щедрина «Верный
Трезор». Здесь сатирически — в образе пса Трезора —
изображен реакционный публицист М. Н. Катков1.
Адепт классического образования, Катков начинял
свои статьи сверх всякой меры разными «pro domo sua»,
«nolli me tangere», «suum cuique», «divide et impera»,
«inde irae», «sine die», «ceterum censeo», «horribile dictu»,
«patres conscripti», «magnum arcanum» и т. п. Он встав-
ляет латинские выражения и там, где есть вполне заме-
няющие их русские: «Интернационалка впервые органи-
зовалась sub auspiciis польского дела», «Билль принят
палатой общин nemine contradicente» и т. п.
Щедрин дал ряд блестящих пародий на «фразистый»
стиль Каткова. Здесь пародируется, в частности, и упо-
требление им кстати и некстати латинских цитат1 2. Этим
и объясняется обилие в «Верном Трезоре» латинских
выражений, столь, казалось бы, мало уместных в приме-
нении к псу и особенно в его речи:
«С .утра до вечера так на цепи и скачет, так и зали-
вается! Caveant consules!»; «Трезорка... не выл от боли
под ударами арапника, а потихоньку взвизгивал: шеа
culpa! mea maxima culpa!»; «А я вот сам от себя, motu
proprio, день и ночь маюсь, недоем, недосплю, инда осип
от беспокойства» 3.
10
Та же спаянность со структурой целого художествен-
ного произведения, та же экспрессивная выразитель-
ность и изобразительность, которая наблюдается в упо-
1 См. статью Б. Я. Бухштаба «Сказка Щедрина „Верный Тре-
зор“», «Вестник Ленинградского ун-та», 1951, № 3, стр. 48—49.
2 Ср. отрывок из ранней пародии Щедрина на стиль Каткова
(из цикла «Наша общественная жизнь», 1863): «Г. Катков... Тут
даже не место сказать timeo Danaos et dona ferentes, потому что
это и не данайцы совсем, а просто сотрудники «Дня», которых могут
опасаться только гг. Чичерин и Павлов. А потому я предлагаю:
отвергнуть предложение г. Чичерина, формулировав этот отказ сло-
вами: risum teneatis, amici!» [Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Поли,
собр. соч., т. VI, М. 1941, стр. 232].
3 Н. Щедрин (М. Е. Салтыков}, Поли. собр. соч., т. XVI, М
1937, стр. 158, 160—161.
24?
треблении слов и выражений, свойственна и синтаксиче-
ским формам и конструкциям. Пояснить эту мысль
можно примерами.
У Блока в «Стихах о прекрасной даме» нет имени су-
ществительного, которое определялось бы словами
странных и новых, в таких строках:
Странных и новых ищу на страницах
Старых испытанных книг L
Сочетание слов странных и новых является здесь суб-
стантивным новообразованием, новым составным имено-
ванием. Или другой прием — «назвать не называя».
Задыхалась тоска, занималась душа.
Распахнул я окно, трепеща и дрожа,
И не помню, откуда дохнуло в лицо,
Запевая, сгорая, взошла на крыльцо.
Эти синтаксические приемы, служащие для создания
атмосферы таинственной неопределенности, типичны дЛхЯ
антиреалистического стиля символистов.
И. И. Огиенко в критическом разборе книги В. И. Чер-
нышева «Правильность и чистота русской речи»
в 1912 году писал: «Очень часто у современных писателей
находим особый строй предложения, слишком краткий;
в предложениях недостает подлежащего или сказуемого,
а подчас того и другого вместе. Так, в русском переводе
С. Пшибышевского (см. «Универсальная библиотека»,
№ 166) читаем: «Нет, не годится... Нет выхода. Отвра-
щение...» (стр. 37). Особую краткость и отрывистость
предложений находим в романе И. Рукавишникова «Про-
клятый род» (печатался в «Современном мире» за
1901 г.),— здесь эта «краткость» доходит до курьезов.
Вот примеры (из VI кн. «Современного мира»): «...Так.
Скучно. А там в университете люди. Много людей. Не
могу я людей. В гимназии тоже мука была. Я один люб-
лю. Один» (8). „Хотел застрелиться. Промахнулся. Край-
не нервная организация. Впал в обморочное состоя-
ние"»1 2. Этот нервно-судорожный стиль синтаксического
1 В. А. Пяст комментировал: «Это имя (новых — чего?) стуча-
лось, просилось, Блок не назвал его, но мало того, так отогнал его,
что оно вовсе исчезло из стихотворения, и не отгадывается, не вну-
шается ничуть... Именно память воспринимающего тщетно ищет:
новых—-чего? и не может найти...» (Вл. Пяст, Стихи о прекрас-
ной даме, «Аполлон», 1911, № 8, стр. 71.)
2 «Филологические записки», 1912, вып. IV, стр. 512—513.
248
построения внутренних монологов и речей действующих
лиц, а также сказа должен выражать остроту и лихо-
радочную смену мыслей и переживаний.
Интересной иллюстрацией художественных функций
синтаксических форм может служить полемика, возник-
шая вокруг таких пушкинских стихов из «Бориса
Годунова»:
Встань, бедный самозванец.
Не мнишь ли ты коленопреклоненьем,
Как девочки доверчивой и слабой
Тщеславное мне сердце умилить?
Эти стихи одинаково читаются во всех списках траге-
дии и в издании 1831 года. Но в академическое издание
сочинений А. С. Пушкина 1 профессором Г. О. Винокуром,
воспринявшим девочки как форму дательного падежа
единственного числа, внесено исправление:
...Как девочке доверчивой и слабой...
Г. О. Винокур объяснял это так: «...Пушкин мог напи-
сать «девочки» и в значении дательного падежа, но такое
написание создает затруднения для понимания этого
места, и нам показалось возможным в данном случае им
не дорожить, оговорив допущенное исправление в ком-
ментарии» 1 2.
Профессор Б. П. Городецкий в рецензии на академи-
ческое издание «Бориса Годунова» справедливо признал
мотивировку Г. О. Винокура «неубедительной». «Дело не
в том,— заметил Б. П. Городецкий,— что Пушкин мог
написать (как думает Г. О. Винокур) форму «девочки»
в значении дательного падежа. У Пушкина форма «де-
вочки» (то есть форма родит, пад.) необходима по смыслу
всей строфы: сердце доверчивой и слабой девочки.
Если бы мы попробовали изложить прозой приведенные
выше пушкинские строки, то получилось бы, примерно,
следующее: «Не надеешься ли ты коленопреклонением
умилить мое сердце, как умилил бы ты тщеславное
сердце доверчивой и слабой девочки». Марина ведет
с Димитрием сложную и тонкую игру, и не в ее интересах
открыть так просто и скоро перед ослепленным страстью
1 А. С. Пушкин, Поли. собр. соч., т. VII, 1937, стр. 62.
2 Та м же, стр. 430.
249
Димитрием свое действительное холодное тщеславие.
Попробуем изложить прозой чтение, предлагаемое
Г. О. Винокуром: «Не надеешься ли ты коленопрекло-
неньем умилить мне тщеславное сердце, как доверчивой
и слабой девочке». Как видим, разница здесь есть. В пер-
вом случае (у Пушкина) тщеславная Марина... говорит
с Димитрием, искусно маскируя свое подлинное лицо.
Во втором случае (у Винокура) тщеславная Марина
сразу же заявляет о своем тщеславии»1. Не подлежит
сомнению, что в данном случае прав Б. П. Городецкий,
а не Г. О. Винокур.
Экспрессивно-выразительные функции синтаксических
конструкций в строе художественного произведения мо-
гут быть очень разнообразны. Эта проблема не раз слу-
жила предметом интересных исследований и наблюдений
наших филологов (напр., применительно к синтаксису
прозаических и стихотворных сочинений Пушкина, к син-
таксису стиха Маяковского, к синтаксису художествен-
ной прозы Карамзина, Гоголя, Тургенева и др). Однако
не следует видеть в синтаксическом строе художествен-
ного произведения прямого и непосредственного отраже-
ния жизни и смешивать синтаксические формы с семан-
тическим содержанием речи, как это, например, наблю-
дается в статье А. В. Чичерина «Работа Льва Толстого
над романом о „Декабристах"»1 2:
«Роман «Декабристы»,— пишет А. В. Чичерин,— на-
чинается синтаксическим периодом объемом в 698 слов,
состоящим из ряда сложных предложений, тесно связан-
ных между собой. Внутри этого периода-монстра основ-
ное место занимает сложноподчиненное предложение с
девятью придаточными временными, четырьмя дополни-
тельными, пятью причастными, четырьмя деепричастны-
ми, двумя сравнительными, одним определительным пред-
ложениями. В одиннадцати случаях в этом сложном пред-
ложении встречаются однородные члены, по 8, по 6 (два
раза), по 3 (четыре раза), причем трижды за неисчерпан-
ным перечнем следуют: «и много других» или «и т. п.».
Такое строение речи шло совершенно вразрез с тра-
дициями пушкинских повестей, лермонтовской и турге-
1 См. «Пушкин, Временник Пушкинской комиссии», 4—5. М.—Л
1939, стр. 531.
2 «Ученые записки Львовского государственного университета
им. Ивана Франко», т. XXIV, вып. 2, 1953, стр. 137.
250
невской прозы. Гоголь создавал подобные нагроможде-
ния либо пародируя громоздкий стиль канцелярии, либо
сгущая сильное лирическое волнение, причем знамени-
тый, пародийно щеголяющий своею витиеватой затяну-
тостью период из «Шинели» («Даже в те часы...») все же
втрое короче совсем не шутливого, а продиктованного
только настоятельною, серьезной внутрённей потребно-
стью периода, открывающего роман «Декабристы».
Сложное синтаксическое строение, которым начаты
«Декабристы», является полнейшим выражением совер-
шенно нового аналитико-синтетического стиля, все связы-
вающего и все расчленяющего, все охватывающего и все
дробящего. Новаторство поэтического мышления, прони-
кающего в процессы и противоречия бурлящей окружаю-
щей жизни, определяет новаторство в применении синтак-
сических форм.
Весь этот период открывается такими словами:
«Это было недавно, в царствование Александра II,
в наше время — время цивилизации, прогресса, вопросов
возрождения России и т. д. и т. п.; в то время, когда
победоносное русское войско возвращалось из сданного
неприятелю Севастополя, когда вся Россия торжество-
вала уничтожение черноморского флота и белокаменная
Москва встречала и поздравляла с этим счастливым
событием остатки экипажа этого флота...»
Стало быть, с первых строк задача Толстого — изобра-
жение современности — не одного дворянского гнезда, не
одной Гороховой улицы, не одного департамента, а все-
объемлющей сферы современной ему социально-полити-
ческой жизни. Стало быть, во-вторых, задача состоит
в том, чтобы опрокинуть, разбить устоявшиеся в либе-
ральном (и дворянском и буржуазном) обществе пред-
ставления о том, что наступила эра «цивилизации» и
«прогресса», что все идет хорошо. Стало быть, в-третьих,
дело заключается в том, чтобы вскрыть все кричащие
противоречия современной автору русской • жизни в их
трагической, а порой и трагикомической неразрывности
и единства.
Стремлением обнять и связать в одно целое беспо-
рядочное и бурлящее течение русской жизни объясня-
ется возникновение сложных синтаксических форм.
Сарказм автора определяет и внутренний строй
отдельного отрезка речи («когда победоносное русское
251
войско возращалось из сданного неприятелю Севасто-
поля...») и несообразность всего содержания, объеди-
ненного периодом в одно неразрывное целое.
Совокупность частных событий, как проявление одной
общей неразберихи и бессмыслицы российской современ-
ности второй половины пятидесятых годов порождает
эту мощную панораму, разношерстную и цельную»...
И далее А. В. Чичерин точно так же говорит не о син-
таксической конструкции, не о способах ее построения и
даже не о формах связи или связывания элементов или
частей этого периода с последовательными этапами смыс-
лового движения речи, а о своих субъективных впечатле-
ниях от этого отрезка толстовского романа, об его им-
прессионистически воспринимаемой семантике. «Сила
иронии этих шестисот девяноста восьми слов — в про-
стоте сцепления фактов, в отсутствии шутливости или
явного гнева, в спокойной горечи тона. А между тем
сколько сарказма...
Избраны наиболее прямые, наиболее резкие выраже-
ния, хотя бы они и оскорбляли слух и казались вульгар-
ными: „...когда в 12-ом году мы отшлепали Наполеона I
и... когда в 56 году нас отшлепал Наполеон Ш...“»
Таким образом, синтаксическое строение толстов-
ского периода-монстра А. В. Чичериным вовсе не ана-
лизируется; приемы связи синтаксического и смыслового,
лексико-фразеологического, образного и даже общего
логического движения речи не раскрываются и не объяс-
няются. Остается неясным, неразрешенным даже самый
простой вопрос, всякое ли сложно-синтаксическое соору-
жение в русском языке должно отражать «противоречия
бурлящей окружающей жизни»; или же это — специфи-
ческая особенность стиля Л. Толстого. Но тогда на
А. В. Чичерине лежала обязанность — подвергнуть тща-
тельному стилистическому анализу всю систему экспрес-
сивно-выразительных функций синтаксических форм
в «языке» Л. Толстого. Между тем А. В. Чичерин меха-
нически связывает с синтаксическими формами толстов-
ского языка свои представления о художественной манере
и художественном «мышлении» Л. Толстого.
Некоторые буржуазные языковеды и литературоведы
(например, Л. Шпитцер, Вейсгербер и др.) анализ худо-
жественного стиля писателя сводят к показу только инди-
видуальных своеобразий приемов его словоупотребления
252
и словосочетания. С этими индивидуальными приметами
художественного выражения они прямо и непосредствен-
но связывают идеологию и мироощущение (или миро-
восприятие) художника. Но из всего предшествующего
изложения очевидно, что как изучение стиля художест-
венного произведения, так и его понимание невозможны
без детального анализа всей речевой структуры целого.
11
В композиции целого произведения динамически раз-
вертывающееся содержание, во множестве образов отра-
жающее многообразие действительности, раскрывается
в смене и чередовании разных функционально-речевых
стилей, разных форм и типов речи, в своей совокупности
создающих целостный и внутренне единый «образ
автора». Именно в своеобразии речевой структуры образа
автора глубже и ярче всего выражается стилистическое
единство целого произведения.
А. М. Горький, характеризуя творчество Чехова и
индивидуальное своеобразие его стиля, такими словами
описывал «образ автора» в сочинениях Чехова в статье
«По поводу нового рассказа А. П. Чехова „В овраге“»:
«У Чехова есть нечто большее, чем миросозерцание —
он овладел своим представлением жизни и таким обра-
зом стал выше ее. Он освещает ее скуку, ее нелепости, ее
стремления, весь ее хаос с высшей точки зрения. И хотя
эта точка зрения неуловима, не поддается определению —
быть может потому, что высока,— но она всегда чувство-
валась в его рассказах и все ярче пробивается в них. Все
чаще слышится в его рассказах грустный, но тяжелый и
меткий упрек людям за их неуменье жить, все красивее
светит в них сострадание к людям и — это главное!—
звучит что-то простое, сильное, примиряющее всех и вся.
Его скорбь о людях очеловечивает и сыщика и грабителя-
лавочника, всех, кого она коснется. «Понять —значит
простить»,— это давно сказано и это сказано верно. Чехов
понимает и говорит — простите! И еще говорит — помо-
гите! Помогите жить людям, помогите друг другу!..» 1
1 М. Горький и А. Чехов, Переписка, статьи, высказы-
вания, Гослитиздат, М. 1951, стр. 124.
253
В другой статье о Чехове А. М. Горький писал: «И в
каждом из юмористических рассказов Антона Павловича
я слышу тихий, глубокий вздох чистого, истинно челове-
ческого сердца, безнадежный вздох сострадания к лю-
дям, которые не умеют уважать свое человеческое досто-
инство и, без сопротивления подчиняясь грубой силе, жи-
вут, как рабы, ни во что не верят, кроме необходимости
каждый день хлебать возможно более жирные щи, и ни-
чего не чувствуют, кроме страха, как бы кто-нибудь силь-
ный и наглый не побил их» А
Насколько недифференцированно или безразлично
могли литературоведы относиться к качественным свое-
образиям индивидуально-художественного стиля, связан-
ным с «образом автора» или «героя», показывает такой
пример.
Пушкинская элегия «Ненастный день потух...», как
известно, обрывается взволнованным противопоставле-
нием «Но если» и глубокой эмоциональной паузой:
Никто ее любви небесной недостоин.
Не правда ль: ты одна... ты плачешь... Я спокоен
Но если..................................
В прижизненном издании пушкинских стихотворений
1826 года это стихотворение названо «Отрывком». В связи
с этим открылась возможность гадать, не было ли у этой
элегии конца 1 2.
В экземпляре пушкинских стихотворений издания
.1829 года, принадлежавшем П. А. Ефремову, оказались
вписанными такие стихи, как заключительный аккорд
элегии:
Но если праведно она заклокотала,
Но если не вотще ревнивая тоска,
И с вероломства покрывало
Сняла дрожащая рука...
Тогда прости любовь — с глаз сброшена повязка;
Слепец прозрел, отвергши стыд и лесть,
Взамен любви в душе лелеет месть
И всточенный кинжал той повести развязка.
1 М. Горький и А. Чехов. Переписка, статьи, высказыва-
ния, стр. 137.
2 См. М. Л. Го ф м а н, Окончание элегии «Ненастный день по-
тоо’ <<ПУШКИНСКИЙ сборник. Памяти проф. С. А. Венгерова», М.—Пг.
254
Невозможно эти риторические упражнения связывать
с именем Пушкина. С самого начала возникает комиче-
ский разрыв с предшествующими стихами:
Но если праведно она заклокотала...
Кто она? Раньше она— это образ печальной и оди-
ноко тоскующей женщины. Теперь же — без всякой под-
готовки— является она — клокочущая ревность с отвле-
ченно-риторическим эпитетом праведно. Вся манера речи
меняется: вместо прерывистой, взволнованной, простой и
выразительной речи появляются риторические штампы.
Показательны рифмы: повязка — развязка; не мотивиро-
вано употребление вотще в функции сказуемого двучлен-
ного предложения; в высоком декламационном стиле
диссонансом звучат выражения: Взамен любви в душе
лелеет месть... всточенный кинжал.
Бросается в глаза полный отказ от драматического
стиля элегии: говорит теперь не лирический герой, а по-
сторонний декламатор — напыщенный, начиненный лите-
ратурными стандартами и эмоционально-опустошенными
фразеологическими штампами трескучего мнимороман-
тического стиля.
Между тем М. Л. Гофман склонен был не сомневаться
в принадлежности Пушкину этих стихов, хотя они, даже
по его оценке, «уступают предыдущим стихам в худо-
жественном совершенстве и художественной вырази-
тельности...»1.
Есть глубокая, принципиальная разница в языковед-
ческом и литературоведческом подходе к изучению сти-
левой структуры как характера персонажа, так и «образа
автора». Лингвист отправляется от анализа словесной
ткани произведения, литературовед —от общественно-
психологического понимания характера.
По словам- профессора Л. И. Тимофеева, «характер
(как простейшая единица художественного творчества)
и есть то целое, в связи с которым мы можем понять те
средства, которые использованы для его создания, то есть
язык и композицию» 1 2. Анализ характеров будто бы уяс-
1 См. М. Л. Гофман, Окончание элегии «Ненастный день
потух», стр. 231.
2 Л. И. Тимофеев, Теория литературы, М. 1945, стр. 99.
Ср. Л. И. Тимофеев, Стихи и проза, М. 1938.
255
няет решительно все языковые и композиционные формы
литературного произведения. Стилистические особенности
литературного произведения «...художественно мотивиро-
ваны теми характерами, которые в нем изображены» х.
Л. И.Тимофеев утверждал даже, что «поэтический язык —
это прагматический язык в его особой функции —
объективации образа...»1 2 3 или характера. «Характер»
в понимании Л. И. Тимофеева — внеречевая, хотя и
определяющая формы речи, абстрактная социально-пси-
хологическая категория художественного мышления.
Проблема построения литературного характера или
типа, естественно, отчасти выходит за пределы лингви-
стической стилистики художественной речи. В этой проб-
леме есть изобразительная и сценическая сторона.
А. К. Толстой так отзывался об образе Чертопханова из
«Записок охотника» Тургенева: «Какую великолепную
вещь он мог бы сделать из Чертопханова! Если бы толь-
ко он разработал этот характер артистично, не удовле-
творяясь лишь одним наброском, он мог бы совершить
литературный и философический фокус,— он мог бы за-
ставить всех преклоняться перед человеком без воспи-
тания, неумным, грубым, грязным, пьяным, вращаю-
щимся в кругу неинтересном... Он мог бы возбудить
к этому человеку общий энтузиазм.
Что до меня касается, я восхищался этим человеком —
таким, каким он его сотворил,— одна только «присядка»
в конце мне испортила картину.
Чертопханов может быть пьян и груб, но он не должен
плясать, ему это не идет» л
Распределение света и тени при помощи выразитель-
ных речевых средств, переходы от одного стиля изложе-
ния к другому, переливы и сочетания словесных красок,
характер оценок, выражаемых посредством подбора и
смены слов и фраз, синтаксическое движение повество-
вания—создают целостное представление об идейной
сущности, о вкусах и внутреннем единстве творческой
личности художника, определяющей стиль художествен-
ного произведения и в нем находящей свое выражение.
1 Л. И. Тимофеев, Теория литературы, стр. 126.
2 Л. Тимофеев,, Проблемы стиховедения, М. 1931, стр. 18.
3 А. Д. Т о л с т о й, Письмо А. К. Толстого к С. А. Миллер от
6 октября 1852 г., Поли. собр. соч., т. IV, СПб. 1908, стр. 43.
256
Об этих внутренних пружинах авторского стиля гово-
рил А. А. Фадеев в статье «Труд писателя»: «Нужно
воспитывать в себе умение находить такой ритм, такой
словарь, такое сочетание слов, которые вызвали бы у чи-
тателя нужные эмоции, нужное настроение» Г
В «образе автора», в его речевой структуре объеди-
няются все качества и особенности стиля художествен-
ного произведения. Об этом есть прямые свидетельства
писателей, стремящихся раскрыть свое отношение к сред-
ствам и формам словесно-художественного выражения,
изображения и обобщения действительной жизни.
Ги де Мопассан характеризует как высший стиль тот,
который внушает впечатление полной адекватности выра-
жения выражаемому: «Обыкновенно под «стилем» пони-
мают манеру, при помощи которой каждый писатель вы-
ражает свою мысль...» Гюстав Флобер «...не представ-
лял себе «стилей» в виде ряда особых форм, из которых
каждая носит печать автора и в которой отливаются все
мысли писателя; но он верил в стиль как в единствен-
ную, безусловную манеру выразить свою мысль во всей
ее красочности и силе... Итак, стиль должен быть, так
сказать, безличным и заимствовать свои качества от
мысли и силы зрительного восприятия.
Обуреваемый этой безусловной верой в то, что суще-
ствует лишь одна манера, одно слово для выражения
известной вещи, одно прилагательное для ее-определения,
один глагол для ее одушевления, он предавался нечелове-
ческой работе, чтобы найти в каждой фразе это слово,
этот эпитет, этот глагол»1 2.
Эта декларация может дать ключ к изучению приемов
построения «образа автора» в стиле произведений Фло-
бера. Но «адекватность выражения выражаемому» в ху-
дожественном творчестве всегда индивидуальна.
Л. Толстой, боровшийся за правду и чистоту языка,
так писал о риторическом стиле газет и фельетонов сво-
его времени: «Настоящее тогда, когда я пишу преимуще-
ственно для того, чтобы самому себе уяснить свою мысль,
верно ли я думаю; вроде того, как изобретатель машины
делает модель, чтобы узнать, не наврал ли он. В слове
1 А. Фадеев, Труд писателя, «Литературная газета», 22 фев-
раля 1951 г., № 22, (2740), стр. 3.
2 «Литературные манифесты французских реалистов», стр. 200.
257
это так же видно, как на модели, если кто пишет для себя,
для уяснения самому себе своей мысли. В этом-то и
ужасная разница двух родов писания: они стоят рядом и
как будто очень мало отличаются одно от другого... Два
рода писания как будто похожи, а между ними бездна,
прямая противоположность: один род законный, боже-
ский, это — писанное человеком для того, чтобы самому
себе уяснить свои мысли — и тут внутренний строгий
судья недоволен до тех пор, пока мысли не доведены до
возможной ясности, и судья этот старательно откидывает
все, что может затемнить, запутать мысль, даже слова,
выражения, обороты. Другой род, дьявольский, часто со-
вершенно по внешности похожий на первый, это — писа-
ние, писанное для того, чтобы перед самим собою и пе-
ред другими затемнить, запутать истину, и тут чем боль-
ше искусства, ловкости, украшений, учености, ино-
странных слов, цитат, пословиц, тем лучше... Это — то
писание, которое... я ненавижу всеми силами души...»1.
Само собой разумеется, что это заявление или саморас-
крытие Л. Толстого нуждается в общественно-историче-
ском истолковании. Анализ стиля произведений Л. Тол-
стого, относящихся к последним десятилетиям его жизни
и литературной деятельности, должен показать конкрет-
ные признаки и индивидуальные качества речевой струк-
туры «образа автора» в языке писателя за этот период.
Но очень важны уже самые указания великих худож-
ников слова на смысл и первостепенное значение этой
задачи. Речевой структуре «образа автора» как цент-
ральной проблеме стилистического анализа художест-
венного произведения необходимо посвятить отдельное
исследование.
Так сложны и многообразны вопросы и задачи, свя-
занные с пониманием, изучением и толкованием языка
художественного произведения.
1 «Летописи [Гос. лит. музея]», кн. 2 —Л. Н. Толстой, М. 1938,
стр. 143—144.
IV
ПРОБЛЕМА АВТОРСТВА И ПРАВИЛЬНОСТИ ТЕКСТА
ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
1
С историей литературного языка и историей «языка»
(стилей) художественной литературы тесно связан цикл
прикладных филологических дисциплин, в развитии ко-
торых лингвистические приемы- и принципы исследования
играют не меньшую роль, чем приемы литературоведческие
и исторические, вообще — историко-филологические в
широком смысле этого термина. Сюда прежде всего отно-
сятся критика текста и литературная эвристика, то есть
система способов и методов определения подлинности
или подложности текста, а также установления его автор-
ства, принадлежности тому или иному писателю, лите-
ратурно-общественному деятелю \ В самом деле, история
древнерусского литературного языка, а также истори-
ческая стилистика древнерусского литературно-художе-
ственного творчества подверглись бы коренным преобра-
зованиям и получили бы совершенно иную направлен-
ность, если бы был историко-филологически оправдан
тезис профессора А. Мазона (и его немногочисленных
сторонников) о поддельности «Слова о полку Игореве».
1 См., например, Б. Томашевский, Писатель и книга, Л.
1928; Г. Винокур, Критика поэтического текста, М. 1927; сб. «Во-
просы текстологии», Изд. АН СССР, М. 1957; П. Берков,
Об установлении авторства анонимных и псевдонимных произведе-
ний XVIII века, «Русская литература», 1958, № 2, стр. 180—189.
259
В истории русской филологической науки почти при
самом ее зарождении возник вопрос о подлинности и под-
ложности письменного текста, а также о приемах и прин-
ципах определения автора литературного произведения.
«Путь критики и выяснения поддельности сомнительного
сочинения,— писал академик В. Н. Перетц,— указан был
еще пр. Максимом Греком, преследовавшим свои религи-
озные и церковные задачи»1. Само собою разумеется, что
методы и принципы критики текста, а также литературной
эвристики существенно различаются в зависимости от
своеобразных исторических условий развития письмен-
ности и литературы в разнообразные эпохи жизни народа.
Применительно к различию этих условий, но, естественно,
в рамках их понимания — в аспекте своей эпохи, фаль-
сификаторы и мистификаторы создают или производят
литературные подделки. Технические, палеографические,
а отчасти культурно-исторические и литературно-художе-
ственные принципы подделок древнерусских рукописей и
произведений народной словесности в первые десятиле-
тия XIX века интересно описаны академиками А. Н. Пы-
пиным и М. И. Сперанским 1 2.
Очень симптоматично распространение подделок ста-
рины в эпоху общеевропейского романтизма, вызвавшего
и на Западе несколько раньше, чем у нас, полосу лите-
ратурных мистификаций в области истории и литерату-
ры, относящихся к старине. Мечтания в духе «Оссиана»
окрашивали в это время представления о мифологии древ-
ности. «Подделки начала XIX века,— писал М. Н. Спе-
ранский,— помогают нам наметить путь, которым прошли
палеография и научная критика текста»3. Любопытно
1 В. Н. П е р е т ц, Из лекций по методологии истории русской
литературы, Киев, 1914, стр. 327.
2 А. Н. П ы п и н, Подделки рукописей и народных песен («Па-
мятники древней письменности», CXXVII), б. м., 1898; М. Н. Спе-
ранский, Русские подделки рукописей в начале XIX века (Бар-
дин и Сулакадзев), «Проблемы источниковедения», сб. V, М. 1956;
см. также Мих. Макаренко, Молитовник великого князя Воло-
димера и Сулакадзев. «Сборник статей в честь акад. А. И. Соболев-
ского», АН СССР, М.—Л. 1928; В. Ф. Покровская, Еще об
одной рукописи А. Н. Сулакадзева, «Труды Отдела древнерусской
литературы», т. XIV, М.—Л. 1958, стр. 634—636.
3 М. Н. Сперанский, Русские подделки рукописей в начале
XIX века (Бардин и Сулакадзев), «Проблемы источниковедения»,
сб. V, стр. 45.
260
также, что уже в это время складывались и некоторые
шаблоны стиля фальсифицируемых произведений. Осо-
бенно характерна в этом отношении деятельность извест-
ного русского фольклориста и собирателя старины —
И. П. Сахарова, сочетавшего в своих трудах мотивы
антикварной романтики с сильным налетом народниче-
ского патриотизма, склонность к мистификации и художе-
ственную фантазию. О стиле сахаровских подделок руко-
писей и народных песен А. Н. Пыпин заметил: «Его
подправки — всегда прикрасы, и в песнях — обыкновен-
но в мнимоархаическом и чувствительном роде. В под-
делках, указывающих его собственный литературный вкус,
он выработал себе особенный стиль в тоне какого-то при-
читания, тягучий и слащавый и крайне неприятный своею
видимою ложью. Никто никогда не слыхал в народных
песнях и не читал в старых памятниках ничего подобного
тому, что находим, например, в начале... сказки об Акун-
дине» L Вот это сусально-«народное» начало: «Соиз-
вольте выслушать, люди добрые, слово вестное, приго-
лубьте речью лебединой словеса не мудрыя, как в стары
годы, прежние, жили люди старые. А и то-то, родимые,
были веки мудрые, народ все православный! Живали
старики не по-нашему, не по-нашему, по-заморскому, а
по-своему, православному. А житье-то, а житье-то было
все привольное, да раздольное. Вставали раным-ранень-
ко, с утренней зарей, умывались ключевой водой со бе-
лой росой»1 2 и т. д. и т. д.
Приемы и мотивы подделок в древнерусской письмен-
ности и применительно к ней в новое время были очень
различны. Они больше всего привлекали внимание рус-
ских филологов. Признаки палеографические, свидетель-
ства языка, способы внутреннего анализа текста —все это
широко разрабатывалось и практически проверялось на
конкретных примерах древнерусских памятников и их
имитаций. Впрочем, в самой древнерусской письменности,
по словам В. Н. Перетца, «в литературной области мы
встречаемся с подделками гораздо реже, чем в области
документов юридических»3. Часть подделок вызвана
1 A. H. Пы п и н, Подделки рукописен и народных песен («Па-
мятники древней письменности», CXXVII), стр. 31.
2 Т а м же.
3 В. Н. Перетц, Из лекций по методологии истории русской
литературы, Киев, 1914, стр. 327.
261
религиозной и политической борьбой между разными об-
щественными группами Ч Особенно остро и широко воз-
никают здесь вопросы атрибуции: принадлежности того
или иного древнерусского сочинения известному автору
или определенной литературной среде. Исследователь
древнерусской литературы сталкивается с массой ано-
нимных и псевдонимных или ложно надписанных про-
изведений: авторы часто старались скрыть себя и при-
писывали свои сочинения какому-нибудь знаменитому
отцу церкви. Согласно данным картотеки древнерус-
ской письменности, составленной академиком Н. К. Ни-
кольским и находящейся в Библиотеке Академии наук
СССР (с 1936 г.), число древнерусских анонимных
сочинений доходит почти до двух с половиной тысяч
(2360 единиц). Общий же алфавитный список русских
авторов и их сочинений картотеки Н. К. Никольского
составляет 9220 единиц. В действительности авторов и
литературных произведений было в древней Руси го-
раздо больше.
Что же касается подделок рукописной старины, столь
частых в конце XVIII и первые десятилетия XIX века, то
их поток иссякает уже к середине XIX века. По-видимому,
одной из последних (если, конечно, оставить в стороне
индивидуальные ученые мистификации) была напечатан-
ная в «Новгородских губернских ведомостях» за 1849 год
(№41, 42 и 47) рукопись старицы игуменьи Марии,
урожденной княжны Одоевской. Это — мнимый дневник
русской боярышни конца XV, начала XVI века. М. П. По-
годин быстро разоблачил подделку. Печатая в «Москви-
тянине» отрывок из этой рукописи, он заявил: «...это
подлог, мистификация. Нет, скажу я неизвестному Нов-
городскому Макферсону, вы не искусились еще сполна
в Истории! Вы смешали Иоанна III с Иоанном IV... Наз-
вать думного дьяка... Подвойским похоже на то, чтоб на-
звать частного пристава квартальным; Подвойский думный
дьяк не существует, так же как квартальный частный
пристав! Вы называете в другом месте немецкого гостя
купеческим,— это то же, что сказать военный солдат!..
Найдя эти несообразности, я потом увидел их уже
через строку. Например, русская боярышня никогда не
1 См. В. С. Иконников, Опыт русской историографии, т. I
кн. I, Киев, 1891, стр. 133—136.
262
назовет отца только по имени без отчества... и проч,
и проч.» Ч
Приемы и принципы лингвистического и историко-фи-
лологического анализа древнерусских памятников, а также
подделок древнерусской рукописной старины были затем
перенесены и в область новой русской литературы, но с
соответствующими видоизменениями и усложнениями.
Ведь в древнерусской литературе, по крайней мере до
середины XVII века, проблема индивидуального стиля,
его отношений к литературному языку, к его разно-
видностям не играет такой, роли, как в русской литературе
XVIII и особенно XIX и XX веков. Кроме того, пропуски,
изменения или дополнения в тексте древнерусского произ-
ведения, характеризовавшие его литературную историю,
даже после распространения книгопечатания, по большей
части не сближались и не отождествлялись с фальсифи-
кациями или подделками в собственном смысле этого
слова. Между тем в новой литературе частичное искаже-
ние текста иногда переключается в фальсификацию
целого, в литературную мистификацию 1 2. Вопрос о пра-
вильности литературного текста здесь органически спле-
тается с проблемой типических своеобразий индивидуаль-
ного стиля писателя. «Только в том действительно
случае, когда мы непреложно убеждены в полном несоот-
ветствии наличного текста тому подлинному выражению,
которое диктуется контекстом индивидуального автор-
ского стиля, мы вправе прибегать к конъектурам и иным
текстуальным исправлениям. Не забудем, что всякая
текстуальная поправка равносильна утверждению о ее
подлинности, то есть принадлежности самому автору»3.
Самая проблема подлинности и подложности литера-
турного текста, лингвистико-стилистических способов
атрибуции по отношению к русской литературе нового
времени наполняется новым содержанием. Понятие «под-
линности» или «подделки» расширяется. Ведь не только
произведение в целом может быть подложным, по под-
дельными, неподлинными часто бывают и отдельные его
части самого разнообразного объема. Поддельных целост-
1 «Москвитянин», 1850, № 3, кн. I, отдел VI (Смесь), стр. 29—
61. См. также Н. Барсуков, Жизнь и труды М. П. Погодина,
кн. XI, СПб. 1897, стр. 190—192.
2 См. Е. Ланн, Литературная мистификация, М.—Л. 1930.
3 Г. О. Винокур, Критика поэтического текста, стр. 69.
263
ных или цельных произведений в русской литературе XIX
века не так много. Когда была разоблачена поддельность
напечатанных в «Русской старине» за 1872 год «Новых
отрывков и вариантов» второй части «Мертвых душ»
Гоголя, «Вестник Европы» в заметке «Подделка Гоголя»
писал: «Литературная фальсификация у нас еще большая
редкость,— потому, конечно, что наша литература еще
очень небогата произведениями, подделка которых могла
бы представить тот или другой интерес и вызвать промыш-
ленников этого рода» Ч
Но если подделок в виде целых литературных произве-
дений или значительных частей их (особенно, если не при-
нимать во внимание мемуарную литературу) в истории
русской литературы послеломоносовского периода было
не очень много, то тексты сочинений многих русских пи-
сателей этой эпохи далеко не всегда были подлинными
в истинном смысле этого слова. В них встречалось много
цензурных пропусков и замен, редакционно-издательских
искажений и ошибок. Собрания сочинений выдающихся
русских прозаиков и особенно поэтов были очень непол-
ными. Стихи одного поэта нередко включались в поэтиче-
ское хозяйство другого1 2. Таким образом, проблема уста-
новления подлинного литературного текста, освобождения
его от ошибок, переделок и подделок, вызванных разными
причинами и обстоятельствами, в русской филологии XIX
и особенно XX века получает гораздо более конкретный и
индивидуализированный характер. При этом она при-
обретает чрезвычайно важное и актуальное значение
в сфере изучения истории «языка» или стилей художест-
венной литературы. Сама же история литературного
языка становится острым и могучим средством определе-
ния времени, условий и качеств той или иной подделки.
Например, при обсуждении вопроса об авторе «Новых
отрывков и вариантов» второй части «Мертвых душ» до-
1 «Вестник Европы», 1873, кн. 8, стр. 822.
2 Что традиция произвольного включения чужих стихотворений
в собрание сочинений какого-нибудь поэта еще очень жива доныне,
свидетельствует, например, такое письмо М. Полякова в редакцию
журнала «Вопросы литературы» (1958, № 1, стр. 255): «Считаю
нужным довести до сведения читателей, что в вышедшем под моей
редакцией сборнике «Стихотворения А. Н. Плещеева» (Библиотека
поэта; малая серия, Л. 1957) ошибочно помещено стихотворение
«И дышит все в создании любовью». И действительно, это отрывок
из стихотворения А. Полежаева «Ожесточенный».
264
статочно было — для опровержения принадлежности их
Гоголю — указать хотя бы на такую синтаксическую кон-
струкцию с явной примесью польского (или разговорно-
диалектного украинского) влияния, не свойственную язы-
ку Гоголя: «...Что же делалось потом до самого ужина,
право, уже и сказать трудно. Кажется, просто, ничего не
делалось. Разве что подержалось (sic!) на коленях смаз-
ливую Палашку или Авдотку, приходивших в спальню
для уборки комнаты» 1. Как известно, автором подделки
под Гоголя был полковник Н. Ф. Ястржембский.
Кроме продуктов литературной мистификации и их
анализа, научная критика текста уже во второй половине
XVIII века и в первые десятилетия XIX века начинает
заниматься изучением и оценкой доброкачественности
изданий сочинений русских писателей (ср. издательскую
деятельность Новикова, текстологические и семантиче-
ские комментарии Карамзина в «Московском журнале»
и др. под.). Вопросы полноты и правильности текстов
произведений разных писателей занимают большое ме-
сто в литературно-критической деятельности В. Г. Белин-
ского. Работа над собиранием и изданием сочинений
А. С. Пушкина сыграла огромную роль в распростране-
нии и развитии общественного интереса к проблемам
текстологии, критики текста. Постепенно в нашей отече-
ственной филологии утверждается то положение, которое
применительно к основным задачам текстологии в обоб-
щенной форме, кажется, проще всего было выражено
Посом: «Вся наука критики текста состоит в том, чтобы
из претендующего на подлинность текста реконструиро-
вать текст действительный, законный, подлинный» 1 2.
Следовательно, при изучении языка художественной
литературы необходимо, с одной стороны, опираться на
подлинные, правильные тексты анализируемых худож-
ников слова, а с другой стороны, ясно представлять удель-
ный культурно-исторический вес и литературно-художест-
венное качество подделок, а также их место в общем
движении стилей литературы. Но все это не дано иссле-
дователю стилей художественной литературы как гото-
вый материал. Он сам обязан — вместе с литературове-
1 «Русская старина», 1872, т. V, стр. 89.
2 Н. J. Р о s, Kritische Studien uber philologische Methode,
Heidelberg, 1923, S. 13.
265
дами, а иногда и с историками — принимать активное
участие в подготовке и обработке этого материала. И его
роль в этой деятельности — одна из главных, руководя-
щих, особенно если он способен широко пользоваться
помощью остальных отраслей историко-филологических
знаний. Ведь филологическая критика текста, даже тогда,
когда она подкрепляет свои силы фактами истории, лите-
ратуры, искусства и других сфер культуры, все же остает-
ся «индивидуальной критикой» (как выражается один из
столпов европейской филологии — А. Бёк1), то есть кри-
тикой с ориентацией на индивидуальный стиль автора.
Критика текста смыкается с эвристикой, то есть с уче-
нием о системе приемов, помогающих определять и на-
ходить автора сочинения путем систематизации и расшиф-
ровки данных текста, в том числе и лингвистико-стилисти-
ческих, а также иногда по внешним историческим
условиям возникновения и существования текста. Ано-
нимных и псевдонимных словесных произведений, инте-
ресных, а иногда и необходимых для полной и верной
картины историко-литературного и художественно-стили-
стического движения, открывается огромное количество
в литературной продукции нового времени.
Проблема определения авторства имеет большое значе-
ние для истории русской литературы XIX века и еще боль-
шее для предшествующей литературы классицизма.
Профессор Г. А. Гуковский правильно выделял как ха-
рактерное явление классицизма «принципиальную аноним-
ность литературных произведений XVIII века» 1 2. Множе-
ство торжественных од на разные случаи появлялось без
имени поэтов, сочинивших их. Романы, сборники стихотво-
рений, поэмы, сборники статей, моральные и философиче-
ские трактаты, переводы и оригинальные произведения
выходили анонимно. Журналы наполнялись анонимными
произведениями. Задача определения авторов этой огром-
ной литературной продукции очень важна, но встречает
много трудностей. Само собой разумеется, что разрешение
этой задачи невозможно без тонкого, точного и глубокого
знания стилистики русской художественной литературы
1 См. A. Boeckh, Encyklopadie und Methodologie der philo-
logischen Wissenschaften, Leipzig, 1877.
2Г. А. Гуковский, О русском классицизме. Сб. «Поэтика.
Временник Отдела словесных искусств Гос. ин-та истории искусств»,
Academia, Л. 1929, № 5, стр. 56 и след.
266
XVIII века в ее историческом движении. Журналы
XIX века, игравшие еще более значительную роль в раз-
витии русской национальной литературы, чем журналы
XVIII столетия, кишат анонимными и псевдонимными со-
чинениями.
Во многих случаях безымянность или псевдонимность
сочинений служит препятствием для установления их
ближайших связей и отношений с другими важнейшими
явлениями процесса литературно-художественного раз-
вития. И в этой области стилистике художественной лите-
ратуры принадлежит едва ли не решающее слово. Важ-
ность решения вопроса об авторстве в отношении некото-
рых анонимных текстов обусловлена тем, что в широких
кругах общества, в том числе и среди литературоведов,
все еще очень распространен принцип поприщинской атри-
буции: «...очень хорошие стишки:
Душеньки часок не видя,
Думал, год уж не видал;
Жизнь мою возненавидя,
Льзя ли жить мне, я сказал.
Должно быть, Пушкина сочинение» (Гоголь, Записки
сумасшедшего). В статье «Новооткрываемын Пушкин»
В. Я. Брюсов выражал глубокую тревогу в связи с воз-
раставшим болезненным пристрастием русских лите-
ратуроведов к открытию не известных ранее произве-
дений А. С. Пушкина. «Мы с жадностью ловим каждое
вновь воскрешенное слово великого поэта потому, что
надеемся увидеть новое отражение его великого
духа,— писал В. Я. Брюсов.— Опубликование же с име-
нем Пушкина того, что ему в действительности не
принадлежит, конечно, наносит нашей литературе только
вред. Это искажает в нашем сознании истинный образ поэ-
та, затемняет наши представления о нем, наводит исследо-
вателей и толкователей на ложные пути, наконец, «соблаз-
няет малых сих». Исследователь, приписывающий Пуш-
кину такие-то стихи или такую-то прозу, берет на себя
огромную ответственность, безмерно большую, чем уве-
ряя, что открыл неизвестное произведение какого-либо
второстепенного поэта. Сообщая, например, неизданные
стихи, скажем, Федора Глинки или даже Полежаева, исто-
рик обращается преимущественно к специалистам; печа-
тая новые строки Пушкина, он в конце концов оказывает
267
влияние на умы всей читающей России, особенно если это
открытие вносится в «собрания сочинений» великого поэ-
та»1. По мнению В. Я. Брюсова, только конкретно-истори-
ческие факты и указания (наличие автографа, напечатан-
ный при жизни текст за подписью автора или под извест-
ным нам псевдонимом, достоверные свидетельства
современников) могут служить вполне надежным крите-
рием принадлежности произведения тому или иному авто-
ру. Значение так называемых «внутренних признаков» со-
чинения чаще всего спорно и не вполне доказательно.
Так, по внутренним признакам было бы невозможно
доказать авторство Пушкина по отношению к стихотворе-
нию «Черная шаль», если допустить, что нам неизвестно
ни из какихисточников, кому принадлежит это произведе-
ние. Внутренние признаки стихотворения (размер, мело-
драматичность сюжета, обилие архаизмов и риторики и
т. п.) таковы, что могут служить серьезным препятствием
для атрибуции его Пушкину. Напротив, в стихотворении
Ф. Туманского «Птичка» («Вчера я растворил темницу
воздушной пленницы моей») «...так много пушкинского —
в манере и отдельных выражениях, что не знай мы с до-
стоверностью, кто автор этого стихотворения, можно было
бы, тоже не без убедительности, доказывать, что его
написал Пушкин»1 2. В. Я. Брюсов в доказательство шатко-
сти основ для атрибуции произведения по «внутренним
признакам» ссылается на исторический опыт изобрази-
тельных искусств, особенно живописи: «много раз поэтам
«внутренним признакам» (манера письма и т. п.) одна
и та же картина приписывалась разными знатоками
и исследователями самым различным художникам!»3.
«Наводнять сначала журналы сомнительными сенса-
циями с именем Пушкина, а потом сочинения Пушкина
сомнительными страницами, есть подлинный грех перед
русским обществом. За эфемерную и легко добываемую
славу «открывателей» должны будут горько расплачи-
ваться русские читатели»4.
По мнению В. Я. Брюсова, трудности точного опреде-
ления пушкинского текста по «внутренним признакам»
его художественной манеры прежде всего порождаются
1 В. Брюсов, Мой Пушкин, М.—Л. 1929, стр. 189.
2 Т а м же, стр. 190.
3 Т а м же.
4 Т а м же, стр. 194.
268
отсутствием ясного критерия для разграничения индиви-
дуального стиля и общего стиля эпохи: «...у каждой эпохи
есть своя манера писать, свой язык, свой круг идей и инте-
ресов, свои излюбленные выражения... вполне освобо-
диться от этой «печати своего времени» не под силу и ге-
нию. Есть нечто общее в словаре, в слоге, в приемах
творчества, в самом способе мыслить между великими соз-
даниями Пушкина и порой совершенно ничтожными пи-
саниями его современников, особенно же писателей, при-
надлежавших к пушкинскому кругу, то есть группировав-
шихся около «Северных цветов» и «Литературной газеты».
Кроме того, огромное влияние Пушкина сказывалось и
в том, что его языку, его манере письма прямо подра-
жали, старались «писать, как Пушкин». Наконец, лица,
знавшие Пушкина лично, сходившиеся с ним в одной
гостиной, в одной редакции, естественно, запоминали его
меткие суждения по разным, тем более литературным
вопросам и потом, быть может даже бессознательно, по-
вторяли эти суждения в своих статьях. При Пушкине
никто не писал «совсем так, как пишет Пушкин», и мно-
гие писали более или менее похоже на Пушкина» 1.
В. Я. Брюсов полагал, что с развитием таких лингви-
стических дисциплин, как история русского литературного
языка и стилистика русской художественной речи, от-
кроются более широкие возможности определять автор-
ство по «внутренним признакам» и что, следовательно,
значение показаний языка и стиля повысится. «Чтобы дей-
ствительно научным образом доказывать, путем стилисти-
ческого и филологического разбора, принадлежность
новооткрытого произведения перу Пушкина, необходимо
располагать безмерно большими вспомогательными сред-
ствами, нежели те, какие сейчас имеются. Раньше должен
быть составлен полный словарь пушкинского языка, глу-
боко уяснены его поэтика, ритмика и рифмика, сделаны
длинные ряды стилистических подсчетов (относительно
употребления Пушкиным особых выражений, оборотов
речи, рифм, ритмов и т. д.), и параллельно изучен язык
и стиль других писателей пушкинской эпохи. Мы вполне
убеждены, что такого рода подготовительные работы...
действительно позволят впоследствии заключать почти
с полной достоверностью от данного произведения к его
1 В. Брюсов, Мой Пушкин, стр. 191.
269
автору. Но, пока ничего этого нет или все имеется только
в скудных зачатках, розыски автора «по внутренним при-
знакам» произведения, делаемые, так сказать, «кустарным
способом», по памяти, всегда будут приводить в область
субъективных утверждений и произвольных догадок»
В последние десятилетия у литературоведов открылась
жажда приписывать при малейшей возможности понра-
вившиеся им анонимные сочинения революционным де-
мократам — Белинскому, Салтыкову-Щедрину и др. Но,
быть может, еще хуже боязнь включать в собрание сочи-
нений великого писателя то, что ему принадлежит, но что
может современному читателю не понравиться по идеоло-
гическим соображениям 1 2.
Рецензируя тома «Литературного наследства» (тт. 55,
56 и 57), посвященные литературно-общественной дея-
тельности В. Г. Белинского, Я. А. Эльсберг замечает:
«„Литературное наследство"... помещает (т. 57) дискус-
сионные сообщения по вопросу о некоторых рецензиях,
приписанных Белинскому (сообщения Б. Белова, В. Куле-
шова, Ю. Оксмана, В. Потявина и др.). В этой связи
нужно высказать пожелание о том, чтобы публикации,
основанные на косвенных данных, по преимуществу идей-
ных и стилистических сопоставлениях, подвергались более
строгой и взыскательной критической проверке. Не каж-
дая рецензия, написанная в духе Белинского, оказывав-
шего столь мощное влияние на всю современную ему про-
грессивную журналистику, может считаться принадле-
жащей перу великого критика»3.
Профессор П. Н. Берков справедливо заметил: «Срав-
нительное текстоведение или сравнительное изучение
текстов показывает, что нормальный, естественный путь
всяких приурочиваний анонимных произведений идет по
линии атрибуции их крупным, а не мелким, литературным
деятелям. Наоборот, в подавляющем числе случаев при-
писание анонимного произведения мелкому автору бы-
вает безошибочным»4.
1 В. Брюсов, Мой Пушкин, стр. 192.
2 См. С. Машинский, В борьбе за классическое наследие,
«Новый мир», 1958, № 3, стр. 219.
3 «Вестник АН СССР», 1951, № 10, стр. 142.
4 П. Н. Берков, «Хор ко превратному свету» и его автор.
«XVIII век. Сб. статей и материалов», под ред. А. С. Орлова М.—Л.
1935, стр. 197—198.
270
Однако в конце XIX века и в Первые десятилетня
XX века были выдвинуты три очень важных метода опре-
деления подлинности и подложности литературного
текста, а также определения имени его автора.
2
Еще в подготовительный период образования русской
национальной литературы (с XVI по XVIII в.) начинает
складываться представление об индивидуальной ма-
нере или индивидуальном стиле писателя. Так, с именем
протопопа Аввакума во второй половине XVII в. связы-
валось убеждение, что его сочинения и послания по голосу,
по индивидуальному тону речи резко отличаются от сочи-
нений всех других писателей и деятелей этого времени.
Своеобразное понимание манеры Аввакума сказывалось и
в подражаниях его творчеству. Развитие русской литера-
туры в XVIII веке, несмотря на распределение основных
ее жанров по трем стилистическим категориям, укрепляло
и обостряло сознание и оценку специфических качеств
индивидуального стиля и различий между манерами раз-
ных сочинителей. Распространение пародий и эпиграмм,
особенно с середины XVIII века, убедительно свидетель-
ствуют об этом. Автора узнавали по стилю — и часто не
ошибались. В XIX веке не только углубилось понимание
отличительных свойств индивидуально-художественных
стилей русской литературы, но и складывались в широких
кругах интеллигентного общества обобщенные мнения о
сущности «пушкинского начала», «гоголевского начала»,
о стилистике разных словесно-художественных школ —
«натуральной школы», разных разветвлений русского ре-
ализма второй половины XIX века и т. д. Однако все эти
представления не вылились в форму эстетически обосно-
ванных и исторически дифференцированных концепций
или систем литературно-художественного творчества.
Поэтому к выделению, воспроизведению или характери-
стике индивидуального литературно-художественного
стиля всегда примешивалась значительная доля субъек-
тивно-эстетической оценки. Особенно ясно и широко бес-
почвенность этих субъективных оценок того или иного
индивидуального стиля проявлялась при обсуждении
подделок под стиль русских классиков. Общеизвестны
271
случаи приписывания Пушкину и включения^ в круг его
творчества не принадлежащих ему сочинений. В 1872—
1873 годах, когда обсуждался вопрос о принад-
лежности Гоголю опубликованных в «Русской старине»
«Новых отрывков и вариантов» второй части «Мертвых
душ», некоторые журналы и газеты (например, «Вестник
Европы», «Голос» и др.) от безудержного восхищения «не-
подражаемым юмором Гоголя, искрящимся в этих отрыв-
ках», неожиданно переходили к полному отрицанию ху-
дожественных качеств стиля этой подделки.
На этом историко-литературном фоне становится
понятным, почему у нас прежде всего как антитезис, по
контрасту выдвигается метод определения подлинности
или подложности текста, а также его атрибуции по объ-
ективно-историческим качествам его стиля («языка»),
его литературно-художественной техники. Этот принцип
нашел наиболее своеобразное и широкое выражение
в работе академика Ф. Е. Корша, посвященной разбору
вопроса о подлинности окончания «Русалки» А. С. Пуш-
кина
Ф. Е. Корш стремился целиком отрешиться от субъек-
тивно-эстетических квалификаций и оценок так назы-
ваемого «пушкинского» стиля и встать на твердую объек-
тивно-историческую почву языка Пушкина и литератур-
ного языка его эпохи. Однако характерное для того
времени неудовлетворительное состояние филологических
знаний о языке Пушкина, о стиле разных жанров пушкин-
ского творчества, о лирическом, драматическом и эпиче-
ском стилях литературы пушкинской эпохи, о нормах
русского литературного языка первых десятилетий
XIX века привело к тому, что Ф. Е. Корш подменил под-
линную историческую картину развития языка русской
художественной литературы того времени и конкретное
изображение или определение места пушкинского стихо-
творного стиля в этой исторической композиции своими
собственными представлениями о характерных — ритми-
ческих, рифмических, синтаксических и лексико-фразео-
логических особенностях пушкинского стиля (подтверж-
денными очень большим, однако не исчерпывающим и
1 Ф. Корш, Разбор вопроса о подлинности окончания «Ру-
салки» Пушкина по записи Д. П. Зуева, ИОРЯС, т. III, кн. 3, 1898,
стр. 633—785; т. IV, кн. 1, 1899, стр. 1—100; т. IV, кн. 2, 1899,
стр. 476—588.
272
исторически не осмысленным, количеством конкретных
параллелей из пушкинской стихотворной речи). При этом
смешение абстрактно-грамматического и лексикологиче-
ского принципа анализа фактов зуевской подделки окон-
чания «Русалки» Пушкина с принципом историко-эстетиче-
ской оценки качеств пушкинского стиля привело к тому,
что Ф. Е. Корш бездарные и пошлые, иногда объясняемые
старческим эротизмом фальсификатора факты стиля
«поддельщика» Д. П. Зуева признал за «пушкинские».
В результате эстетическая критика того времени — в лице
А. С. Суворина и его сторонников — оказалась историче-
ски более правой и глубокой, чем Ф.Е. Корш с его так на-
зываемым историко-филологическим методом1. Она спра-
ведливо признала «завершение» Д. П. Зуевым поэмы «Ру-
салка» подделкой, а не подлинным произведением велико-
го поэта — вопреки всем доводам и материалам Ф. Е. Кор-
ша, доказывавшего подлинность зуевской подделки.
В основу работы Ф. Е. Корша «Разбор вопроса о под-
линности окончания «Русалки» Пушкина по записи
Д. П. Зуева» легли следующие положения:
1. Необходимо при определении подлинности или под-
ложности текста опираться на объективно-исторические
факты литературного языка или стилистики художествен-
ной речи соответствующей эпохи, а не на субъективно
устанавливаемые признаки или приметы индивидуальной
творческой манеры. Апелляция к художественным каче-
ствам индивидуального стиля писателя, к его своеобра-
зиям кажется Ф. Е. Коршу неизбежно связанной с субъек-
тивно-эстетической оценкой, с субъективным пониманием
его достоинств. «Эстетическая оценка тех или других мест
и мотивов основана на личном вкусе каждого критика, не
всегда, конечно, совпадающем со вкусом самого Пушкина,
а никак не на сравнении с бесспорно подлинными его
произведениями»1 2.
При анализе приписываемых Пушкину текстов
Ф. Е. Корш рекомендует вникать глубже в объективно-
исторические особенности пушкинского языка, в своеоб-
разное употребление некоторых слов или конструкций,
например, в более свободное употребление дательного
падежа вместо предложной конструкции:
1 См. сб. «Подделка «Русалки» Пушкина», СПб. 1900.
2 Ф. Корш, Там же, ИОРЯС, т. Ш, кн. 3, стр. 638—639.
10 В. В. Виноградов 273
Охотно клонит слух прилежный
Рассказам юных усачей.
(„Евгений Онегин")
Однако вопросов о том, в какой мере особенности
пушкинского стиля или вообще стихотворной речи того
времени отклоняются от общих норм литературного язы-
ка первой трети XIX века и каковы литературные нормы
русского языка в пушкинскую эпоху, то есть в период
с 10-го до конца 30-х годов XIX века,— Ф. Е. Корш не
ставит и не решает.
Таким образом, отношение индивидуального стиля пи-
сателя к системе современного ему литературного языка
и к языку современной художественной литературы
Ф. Е. Корш не изучает. Отсюда — отсутствие историче-
ского фона и исторической перспективы в его анализе сти-
хотворного стиля Пушкина. Ф. Е. Корш рекомендует, не
затрудняя себя историко-лексикологическим анализом тех
или иных слов, не придавать значения при определении
подлинности или подложности текста наличию в нем
слов, не употребительных в стиле предполагаемого авто-
ра, если они соответствуют общим принципам словооб-
разования русского языка. Например, Зуев употребил
слово огневой, не встречающееся в языке Пушкина.
Ф. Е. Корш указывает: «От слова огонь у Пушкина есть
прилагательные огненный (в переносном смысле, напри-
мер: «Как сладостно,—- но, боги, как опасно...» I, 197:
И огненный, волшебный разговор) и огнистый («Галуб»
III, 540: Уж потухал закат огнистый), но едва ли он мог
найти какое-нибудь препятствие к употреблению пра-
вильного и даже нередкого огневой, когда он признавал
прилагательные круговой... гробовой... громовой... роко-
вой... и др.»1. Трудно сомневаться в том, что для пуш-
кинской эпохи, для поэтического языка 20—30-х годов,
невозможны были синтаксические конструкции такого
типа:
Ждала тебя, безумно мстить хотела...
За ночи, князь, с разлучницей моей...—
то есть «за ночи, проведенные с разлучницей».
1 Ф. Корш, там же, ИОРЯС, т. IV, кн. 1, стр. 99—100. Любо-
пытно, что в «Словаре Академии Российской» отмечено слово огне-
вой с таким ударением — огневая болезнь — горячка (ср. огневица},
«Словарь Акад. Российской», 1822, ч. IV, стр. 184.
274
Однако Ф. Е. Корш готов и такие конструкции — за
отсутствием противоречащих данных в его собственных
филологических материалах — признать «пушкинскими».
Таким образом, при сопоставлении выражений и оборо-
тов подделки с собственно пушкинскими у Ф. Е. Корша
отсутствует точность, внутренняя однородность и исто-
рико-стилистическая оправданность сравнений. Так, лег-
ко, но внутренне неубедительно оправдывается парал-
лелями из сочинений Пушкина стих зуевской подделки:
Пронесемтесь над рекою (в значении «проплывем по
реке»). «Трудно понять над буквально, то есть как бы
сверху, без прикосновения к предмету, находящемуся вни-
зу, также в следующем месте отрывка «Сон»: Еще роса
над свежей муравой (I, 134) и в первой песне «Руслана
и Людмилы»: Едва не пляшет над седлом (II, 207).
Над вместо на и в зачеркнутой строфе «Домика
в Коломне»:
Мне, видно, с ними над Парнасской высью
Век не бывать! (III, 154)» 1
Особенно близкой параллелью кажутся Ф. Е. Кор-
шу стихи «П. А. Осиповой»:
Но и вдали, в краю чужом,
Я буду мыслию всегдашней
Бродить Тригорского кругом,
В лугах, у речки, над холмом,
В саду под сенью лип домашней.
Отсюда — вывод: «Итак, здесь мы имеем дело не с
ошибкой неумелого фальсификатора, а с особенностью
пушкинского языка, что знаменательно тем более, чем
легче эта особенность ускользает от внимания. Итак —
над холмом значит «на вершине холма», а над рекою —
„по поверхности реки"1 2. Совершенно ясно, что выраже-
нию над рекою Ф. Е. Корш приписывает совсем иное
значение, чем сочетаниям над холмом и над седлом.
2. По мнению Ф. Е. Корша, лишь полное совпадение
в стиле и индивидуальной технике словесного творчества
может служить верным признаком подлинности текста,
принадлежности его соответствующему писателю. Между
тем само понятие индивидуального стиля, в том числе и
пушкинского, не является вполне устойчивым, единооб-
1 Ф. Корш, там же, ИОРЯС, т. IV, кн. 1, стр. 98.
2 Т а м же.
10*
275
разным и целостным. „Пушкинские стихи “ —что это
такое? Это понятие совсем не так определенно, как то
кажется многим ценителям поэзии. «Пушкинский стих»
значит не тот, который мне, такому-то, нравится или ко-
торый находится в печатном собрании сочинений Пуш-
кина, а прежде всего — тот, который, будучи даже не
совсем правилен по языку, построен по пушкинской тех-
нике: едва ли можно дать иное определение, когда речь
идет об отдельном стихе, без связи с предыдущим и с
последующим, особенно до более точного выяснения
частностей»
Таким образом, по убеждению Ф. Е. Корша, только
знание правил и принципов пушкинской техники, то
есть ритмики, форм стиха, приемов сочетаемости слов,
отбора синтаксических конструкций и т. д., может помочь
исследователю разобраться в вопросе о подлинности или
подложности текста. Однако сама система пушкинского
стиля, пушкинской стихотворной техники не воспроизво-
дится Ф. Е. Коршем во всех ее существенных и посто-
янных признаках и допустимых отклонениях. Он исходит
из субъективного представления о доминирующих, типич-
ных свойствах пушкинской системы стихосложения,
пушкинской ритмики и синтаксического построения строк
или строф, словоупотребления и т. п., допуская широкую
амплитуду колебаний. В связи с этим открываются воз-
можности втиснуть в этот воображаемый пушкинский
стихотворный кодекс самые разнообразные и далеко не
пушкинские явления стихотворной речи.
Следовательно, принципы описания и восстановле-
ния системы индивидуального стиля в историческом ас-
пекте у Корша остаются очень зыбкими, неопределенны-
ми и расплывчатыми. Этой неопределенности способ-
ствует признание наличия в самом пушкинском стиле
категорий «пушкинского» и «непушкинского», которые
не подвергаются точной историко-стилистической рас-
шифровке. Точка зрения Ф. Е. Корша на характерные
признаки языка писателя сводится к выделению некото-
рой суммы очень общих технических речевых приемов
как типических примет «языка» сочинений данного авто-
1 Ф. Корш, Разбор вопроса о подлинности окончания «Ру-
салки» Пушкина по записи Д. П. Зуева, ИОРЯС, т. III, кн. 3, 1898,
стр. 639—640.
276
ра. Конкретно-исторический контекст общенационально-
го литературного языка в его развитии отсутствует в кон-
цепции Корша. Сравнений и сопоставлений с языком
других писателей-современников у него тоже нет. Уже
заранее можно сказать, что по этим признакам легче
было приписать Пушкину зуевскую подделку, чем дока-
зать ее подложность (особенно если приложить изобре-
тательность и усилия к оправданию «непушкинских» от-
клонений). Рассматриваются, например, повторения слов
«для усиленного выражения понятия», «для изображения
затрудненности мысли или речи», «для выражения по-
степенности и вообще продолжительности или много-
кратности»; доказывается наличие в пушкинском стихе
неблагозвучного сочетания разных слогов (у Зуева: «С ми-
нута той, как ты ее покинул», у Пушкина: «По потря-
сенной мостовой...», «И именем своим подругам называ-
ла» и т. п.); приводятся параллели словоупотребления,
чаще всего для случаев, лишенных индивидуальной сти-
листической характерности. Например, у Зуева: «Ах,
в кустике там птенчик встрепенулся...», и у Пушкина:
Сотворив обряд печальный,
Вот они во гроб хрустальный
Труп царевны молодой
Положили, и толпой
Понесли в пустую гору,
И в полуночную пору
Гроб ее к шести столбам
На цепях чугунных там
Осторожно привинтили
И решеткой оградили...
(„Сказка о мертвой царевне и ee.ua
богатырях'О
Совершенно очевидно, что при таком общем представ-
лении о технических приемах пушкинской манеры и при
допущении многообразных отклонений от основной ее
нормы, правда, также обнаруживающих некоторое, хотя
и неустойчивое, постоянство,— ясные и несомненные
признаки пушкинского языка и стиля чрезвычайно сужи-
ваются и искажаются,— убедительность их становится
очень условной. Цель анализа предполагаемых пушкин-
ских произведений таким путем сводилась — при наличии
некоторого числа соответствий с системой пушкинского
языка — к оправданию противоречий и отступлений от
воображаемой нормы пушкинской стихотворной техники.
277
3. Вместе с тем Ф. Е. Корш не изучает эволюции пуш-
кинского стиля, исторического движения разных его жан-
ров. Он не интересуется также специфическими свойства-
ми лирического стиля Пушкина в его соотношении со
стилями других поэтов той же эпохи. Допуская наличие
в стиле Пушкина «погрешностей» и «несообразностей»,
«непушкинских» стихов, Ф. Е. Корш не определяет гра-
ниц и признаков возможных отклонений пушкинского
стиля от «идеальной» нормы (как она представляется
даже самому Коршу).
По мнению Ф. Е. Корша, указания на несоответствия
отдельных оборотов, слов, форм и выражений нормам
пушкинского стиля (или в соответствующих случаях —
другого выдающегося, крупного писателя) мало доказа-
тельны при решении вопроса о подлинности или подлож-
ности связываемого с именем Пушкина литературного
текста. Ф. Е. Корш считает, что критерий совершенст-
ва— плохая мера «пушкинского стиха», так как у Пуш-
кина много слабых стихов, содержащих погрешности
против рифмы и даже языка и стиля. «В глазах крити-
ков, полагающих неотъемлемым признаком каждого сти-
ха Пушкина всестороннее совершенство, какой-нибудь
из каждой пары плохо срифмованных стихов должен
быть отвергнут, как неподлинный» 1. «Трудно, кажется,
отрицать,— заявляет Ф. Е. Корш,— что у Пушкина есть
произведения, по содержанию или по изложению доволь-
но далекие от совершенства, например «Под вечер
осенью ненастной» или «Черная шаль», не говоря о ме-
нее распространенных стихотворениях, а из перевод-
ных— «Воевода», во всех отношениях стоящее ниже под-
линника, от которого перевод отличается невыгодно не
одною формой, но и редакцией конца»1 2. Правда,
Ф. Е. Корш тут же признает, что «при сравнении с пол-
ным собранием сочинений других поэтов, не только рус-
ских, но также иностранных, у Пушкина неудачных про-
изведений окажется поразительно мало». Вместе с тем
он подчеркивает, что, говоря о совершенстве или несо-
вершенстве, следует, «отложив оценку эстетическую»,
придавать значение лишь «внешней технической сторо-
не». В доказательство своей мысли Ф. Е. Корш приводит
1 Ф. Корш, там же, ИОРЯС, т. III, кн. 3, стр. 664.
2 Т а м же, стр. 664—665.
278
многочисленные случаи, как ему кажется, «неправильно-
сти в построении и распределении рифм» в стиле Пуш-
кина1. Перечисляются такие примеры и однородные
с ними:
Татьяна, по совету няни,
Сбираясь ночью ворожить,
Тихонько приказала в бани
На два прибора стол накрыть;
Но стало страшно вдруг Татьяне...
И я — при мысли о Светлане
Мне стало страшно — так и быть...
С Татьяной нам не ворожить.
(„Евгений Онегин".)
Иль просто будет добрый малый,
Как вы да я, как целый свет?
По крайней мере, мой совет:
Отстать от моды обветшалой.
Довольно он морочил свет,
Знаком он вам? И да и нет.
(Там же.)
Ф. Е. Кррш находит в пушкинских стихах много и
других погрешностей. Например, в «Медном всаднике»:
И бледный день уж настает...
Ужасный день! Нева всю ночь
Рвалася к морю против бури,
Не одолев их буйной дури...
И спорить стало ей не в мочь.
Объясняется наличие таких шероховатостей и непра-
вильностей в языке Пушкина, по мнению Ф. Е. Корша,
тем, что Пушкин «работал» над своими произведения-
ми «не как работник, а как поэт, то есть писал и усовер-
шенствовал написанное лишь до тех пор, пока дело шло
легко и его занимало; если же оно надоедало ему, он
его просто бросал, иногда лишь на время, но подчас — и
навсегда, чему свидетельством служат многочисленные
отрывки и неоконченные произведения»1 2.
«Мелочи он исправлял сравнительно редко, и притом
или очень скоро по написании того, что подлежало из-
менению, или наоборот, через значительный промежуток
времени, когда написанное и тут же брошенное случайно
попадалось ему на глаза»3.
1 Ф. Корш, там же, ИОРЯС, т. III, кн. 3, стр. 665 и сл.
2 Т а м же, стр. 689.
3 Та м же, стр. 695.
279
Ф. Е. Корш так представлял себе отношение Пушки-
на к текстам своих сочинений: «Пушкин отделывал свои
произведения до сдачи их в типографию, но поступали
они туда далеко не всегда в том виде, которым сам
«взыскательный художник» был вполне доволен, а по
напечатании он редко перечитывал их, как видно из от-
сутствия поправок во вторых изданиях, вышедших еще
при жизни автора, несмотря на более или менее грубые
ошибки в первых»1. Впрочем, Корш допускает примене-
ние эстетического мерила, но только в такой общей фор-
мулировке: «В стихотворении, принадлежащем Пушкину,
за исключением ранних и неотделанных произведений,
всегда есть несколько стихов «пушкинских» в лучшем
смысле этого выражения. Если в поэтическом произве-
дении, относимом к поре зрелости поэта, нет ни одного
«пушкинского» стиха, оно написано не им. Как ни щекот-
ливо прибегать к эстетическому мерилу для определения
принадлежности какого-нибудь стихотворения, потому
что de gustibus non disputandum, однако проверки по-
средством отыскания «пушкинских» стихов избежать не-
возможно; но доказательство это убедительно лишь
в том случае, если в рассматриваемом произведении та-
кие стихи попадаются не поодиночке, а целыми группа-
ми и в относительно большом количестве»1 2.
Убежденный в том, что у Пушкина много «непушкин-
ских» стихов, стихов с погрешностями в рифме, ритме и
языке, Ф. Е. Корш, естественно, должен был еще больше
ослабить требования к «пушкинскому» в записи Д. П. Зуе-
ва: «Стоит ли особо говорить о том, что от записи г. Зуе-
ва по памяти нельзя требовать такой точности, как от
списка с подлинника, да еще доведенного до последней
степени совершенства, когда и по рукописям самого Пуш-
кина иногда бывает трудно установить истинный текст?
Было бы вопиющей нелепостью решать вопрос о происхо-
ждении сообщенного им отрывка на основании отдель-
ных слов или частей стиха,— критического приема, от
которого не поздоровилось бы самому Пушкину»3.
Точно так же доказывается возможность признать
«пушкинскими» такие сомнительные, третьесортные или
низкосортные «стихи»:
1 Ф. Корш, там же, ИОРЯС, т. III, кн. 3, стр. 674.
2 Т а м же, стр. 730.
3 Т а м же, стр. 746.
280
Что скажешь, князь?.. Как приглянулась дочь?
Красавица, красавцем зачатая,—
Тобой! В тебя рожденная лицом.
Целесообразность употребления слова приглянулась
обосновывается так: «Русалка собирается не сватать
дочь за отца, к тому же малолетнюю, а утопить этого
отца, завлекши его в воду посредством дочери, впечат-
ление от которой на него по этой причине не безраз-
лично» Ч Ф. Е. Корш не находит ничего пошлого в выра-
жении Русалки «Красавица, красавцем зачатая»; он
иронизирует, что оригинальнее было бы в этой связи «уро-
дом зачатая». По мнению Корша, лучше сделал бы кри-
тик, если бы нашел здесь не пошлость, а неточность, так
как «зачинает» собственно женщина. Точно так же
Ф. Е. Корш считает вполне поэтическим оборот: В тебя
рожденная лицом, ссылаясь на «весьма обыкновенное
уродиться в кого, откуда недалеко и простое родиться
в кого, а поэтический язык предпочитает простые глаго-
лы сложным»1 2. Не объясняется лишь одно: все ли.равно
по-русски сказать: уродилась в кого-нибудь или «в тебя
рожденная лицом», и уместен ли здесь страдательный
оборот от несуществующего выражения: «родить кого-
нибудь лицом в кого-нибудь».
Квалификация стиля Зуева как «пушкинского» и
оправдание его нелепостей становится главной задачей,
навязчивой идеей «разбора» Ф. Е. Корша. Пред нами
стихи:
Дочь не берег — о внучке не печалься!
Прочь с глаз! Продавец дочери проклятый!
Это — слова Русалки. Ф. Е. Корш сначала оправды-
вает психологически это «гневное восклицание», в кото-
ром вылилось разом мелькнувшее в уме Русалки с осо-
бенной яркостью «воспоминание о недостойной роли отца
в ее отношениях к предмету ее мести». Затем идут до-
казательства принадлежности этих стихов Пушкину.
«Первый из этих стихов напоминает пословицу, отмечен-
ную Пушкиным в его «Разборе пословиц» (V, 137):
Не твоя печаль чужих детей качать с толкованием:
«то есть не твоя забота», из которого видно, что он обра-
тил внимание именно на то слово, производным от кото-
рого в соответствующем смысле он воспользовался здесь»
1 Ф. Корш, там же, ИОРЯС, т. IV, кн. 1, стр. 62.
2 Т а м же.
281
(то есть печаль — печалиться) \ Естественно, что внима-
ние Корша должно было привлечь невозможное для
Пушкина ударение слова продавец. И тут Ф. Е. Корш
находит оправдание этого явно «непушкинского» и не
литературного зуевского промаха: «ударение продавец
в литературном произношении необычно, но влияние ана-
логии сложных книгопродавец, христопродавец и, пожа-
луй, заимодавец так естественно, что прежде, чем бра-
ковать такое ударение безусловно, не мешает навести
справки, не употребительно ли оно в каком-нибудь говоре
русского языка. Вероятно, аналогией ударения сложных
полдневный, ежедневный, трехдневный и т. п. объясняет-
ся и ударение днёвный у Пушкина в стихе «Погасло
дневное светило...» при обычном дневной в стихотворении
«Когда для смертного погаснет шумный день...»: „И сон,
дневных трудов награда"»1 2.
И в заключение: «...несмотря на гениальность и не-
обыкновенный вкус Пушкина и вопреки легенде о худо-
жественной законченности всего, выпущенного им в свет,
его напечатанные произведения, по той или другой при-
чине, хотя бы только с формальной стороны не всегда
совершенны, и потому при исследовании подлинности
приписываемых ему сочинений нельзя пользоваться в ка-
честве мерила оценкой с точки зрения совершенства»3.
Таким образом, при отсутствии или недостаточности
объективно-исторических знаний о системе индивидуаль-
но-поэтического стиля Пушкина, о нормах лирического
стиля пушкинской эпохи, о соотношении и взаимодей-
ствии стилистики стихотворной речи и норм общелитера-
турного языка в ту эпоху, Ф. Е. Корш, отказавшись от
принципов субъективно-эстетической оценки пушкинско-
го стиля, сам впадает в ошибку смешения объективно-
исторических качеств пушкинского стиля с собственным,
ограниченным, а потому тоже очень субъективным пред-
ставлением об «идеальной норме» или идеальном каноне
пушкинского мастерства — при широком допущении воз-
можных для творчества Пушкина отклонений от этого
идеального канона.
1 Ф. Корш, там же, ИОРЯС, т. IV, кн. 1, стр. 53.
2 Tа м же. Ср. в «Словаре Академии Российской» (ч. V, СПб.
1822, стр. 519): «Продавец, вца, с. м. 2 скл. Кто продает что. Знает
цену купец и продавец».
3 Там ж е, т. III, кн. 3, стр. 682.
282
4. При неясном, антиисторическом понимании суще-
ства пушкинского стихотворного языка в его жанровой
дифференциации и в его стилистических видоизменениях
Ф. Е. Корш, естественно, не мог и не стремился указать
те несомненные признаки, по которым может быть опре-
делена подложность приписываемого Пушкину текста.
Явные несообразности зуевского текста окончания
«Русалки» Ф. Е. Корш истолковывает как доказательство
не фальсификации, а «добросовестности» воспроизведения.
Он так и пишет: «Но крепко ручается за добросовестность
Д. П. Зуева неправильный стих, оставленный им в пол-
ной неприкосновенности»1. Речь идет о таком месте:
Он очи выклюет, княжие очи!
И дочери (sic!) на дно реки пошлет
Подарочек. Пусть тешится подарком!
(Бросается на князя. Борьба.)
Те же и дочь мельника.
Русалочка
Мама, мама. Злой дедка обижает!..
Скорее, мама, помоги!
Дочь мельника появляется над водой.
Дочь мельника
Уйди!
Ф. Е. Корш прекрасно видит все «несовершенства»
языка этой сцены. «Очень странно», по его словам, слово
мама как с ударением на начальном слоге, так как этот
хорей не оправдан в ямбическом размере, так и с ударе-
нием на конце, так как это противоречит «русскому упо-
треблению» («Мама, мама. Злой дедка обижает!..»).
Ф. Е. Корш готов для спасения авторства Пушкина
предложить простую перестановку: «Злой дедка оби-
жает! Мама, мама!»1 2, как будто перед ним стоит зада-
ча— превратить или преобразовать Зуева в Пушкина.
Не нравится Коршу и такой стих: «Подарочек. Пусть те-
шится подарком!». Подарочек в виде приложения к очи
(als Qeschenk) и сопоставление двух разных форм того
же слова, подарочек и подарок едва ли могут быть при-
знаны удачными оборотами»3.
1 Ф. Корш, там же, ИОРЯС, т. IV, кн. 1, стр. 49.
2 Т а м же.
3 Т а м же, стр. 47.
283
Корш предпочел бы такой стих: «В подарочек: пусть
тешится им дочка». Еще лучше будет, если выбросить
подарочек, совсем. Тогда останутся стихи:
Он очи выклюет, княжие очи!
И дочери на дно реки пошлет:
Пусть тешится подарком!
Русалочка
Мама, мама!
Однако в этом случае окажется неполным стих:
«Злой дедка обижает». «Но ведь он,— говорит
Ф. Е. Корш,— не полон и по смыслу: мельник обижает
не внучку, а князя, и русалочке не с чего было вводить
мать в такое недоразумение» L
Казалось бы, что подложность текста этой нелепой
сцены ясна. Однако Корш считает необходимым «восста-
новить первоначальный текст» (чей и какой? да и был ли
здесь текст первоначальный?), так как уже заранее от-
бросил всякую мысль о возможности зуевской подделки.
Реконструированный стих получает такую форму: «Сюда!
Отца злой дедка обижает». Следовательно, Ф. Е. Корш
даже свое собственное «сочинение» непрочь признать
«пушкинским», то есть удовлетворяющим требованиям
подлинного пушкинского текста.
В том же духе и стиле Ф. Е. Корш истолковывает как
пушкинские и такие «лебядкинские» стихи, вложенные
в уста любимца князя:
Сказки! Непраздною... погибла... важность!
По-моему, сама подговорилась:
Князь молод и горяч, красавец безотказный,
Богат и щедр. Должна быть рада дура!
Не конюх, князь ее бабенкой справил.
Вот ты не князь, а на своем веку
Чай не с одной девчоночкой спознался?..
Уже сам Зуев признался, что в «видах приличия» он
изменил для печати такие стихи из речи того же любим-
ца князя:
Охотою слюбилась,
Не силой взял. Сам знаешь поговорку
О псице. Аль забыл? Ну, и молчи.
1 Ф. Ко рш, там же, ИОРЯС, т. IV, кн. 1, стр. 48.
284
В новой «переработке» Зуева эти строки приобрели
такую «приличную» форму:
...охотой отдалася,
Не силой взял. Сам знаешь поговорку:
«Насильно мил не будешь». И молчи,
И не болтай пустого, ты не баба!
Ф. Е. Корш делает отсюда такое заключение: «Это
объяснение самовольных перемен в тексте, которые сам
г. Зуев признал впоследствии излишними, доказывает
лучше всяких свидетельств и доводов, что не он виноват
в выражениях, оскорбивших стыдливость наших крити-
ков. Пушкин смотрел на условное приличие гораздо сни-
сходительнее г. Зуева» Ч
Правда, Коршу не нравятся тут два стиха:
Сказки! Непраздною... погибла... важность!
Князь молод и горяч, красавец безотказный...
Первый был бы лучше, если бы вместо важность! тут
звучало восклицание: эка важность! Во втором двусмы-
сленно безотказный1 2, особенно в сочетании со словом
красавец. «Во всяком случае такой стих, каковы бы ни
были причины его недостатков, не мог быть одобрен
Пушкиным»; но Ф. Е. Корш и тут находит оправдание:
«то же можно сказать с уверенностью о многих стихах
его неотделанных произведений»3.
Там, где Ф. Е. Корш находит не только не пушкин-
ские, но и не вполне литературные обороты, он предла-
гает свои исправления и конъектуры, как будто он вы-
ступает в роли зуевского адвоката-защитника. Например:
Что падаешь?.. Споткнулся? Это что?
Труп мельника!.. Ну от часу не легче!
«„Ну от часу*—не по-русски и не по-пушкински,—
замечает Корш,— ср. в «Страннике»:
Но скорбь час от часу меня стесняла боле (II, 164);
в «Цыганах»:
В уме моем минувши лета
Час от часу темней, темней (II, 355)...
1 Ф. Корш, там же, ИОРЯС, т. IV, кн. 2, стр. 485.
2 Любопытно, что слово безотказный фигурирует как новообра-
зование советской эпохи в одной из статей, посвященных современ-
ному русскому языку, в новейших американских изданиях
(см. Л. Тан, Запечатленный язык, «Новый журнал», XXIII, Нью-
Йорк, 1950, стр. 275).
3 Ф. Корш, там же, ИОРЯС, т. IV, кн. 2, стр. 526.
285
Очевидно,— заключает Корш,— что вместо Ну надобно
поставить чао 1.
Общие выводы Ф. Е. Корша из анализа зуевской под-
делки таковы: «За исключением очевидных погрешно-
стей, проскользнувших в запись по запамятованью, и не-
которых неудачных выражений, естественных в первом
наброске, текст г. Зуева не содержит в себе почти ни од-
ного оборота или слова, которых не оказывалось бы
в бесспорных произведениях Пушкина. То же можно ска-
зать и о риторической и метрической стороне этого тек-
ста» 1 2. Этот вывод слишком общ и чересчур снисходите-
лен (по отношению к творчеству Зуева).
Следующий вывод ничем не обоснован, так как Корш
не сопоставлял словаря «Русалки» со словарем однород-
ных по теме и стилю произведений других поэтов:
«...у какого бы поэта, кроме Пушкина, мы ни стали
искать выражений, общих с концом «Русалки», у всех
сходство ограничится лишь отдельными местами, по
большей части очень немногими, а полный материал для
сличения с текстом г. Зуева дает один Пушкин»3.
Последний вывод — эстетико-патетический: «Где у
нас тот поэт и вместе знаток Пушкина, который мог бы
написать то, что сохранил от забвения Д. П. Зуев?»4.
В своей более поздней статье «Опыты окончания „Ру-
салки"», посвященной сравнительно-оценочному анализу
зуевской подделки и двух- других попыток окончания
«Русалки» [Крутогорова (Штукенберга) и И. О. П.
(Е. А. Богдановой)]5, Ф. Е. Корш писал, что при оценке
близости языка этих трех произведений к пушкинскому
«пригодился бы пушкинский глоссарий, до сих пор еще не
составленный» 6. Пока же он утверждал, что все сравнения
указывают на превосходство записи Зуева: «...или он был
беспримерным, неслыханным знатоком пушкинской фор-
мы (чего за ним никто не подозревал), или — не он ав-
тор опороченного критикой окончания „Русалки"»7.
1 Ф. Корш, там же, ИОРЯС, т. IV, кн. 2, стр. 542—543.
2 Та м же, стр. 578.
3 Т а м же, стр. 578—579.
4 Та м же, стр. 579.
5 «Пушкин и его современники. Материалы и исследования»,
вып. III, СПб. 1905.
6 Там же, стр. 8.
7 Т а м же, стр. 9.
286
«В зуевской записи критика указала необычные уда-
рения продавец, мама и сказки; но как произносил Пуш-
кин первое слово, по-видимому, неизвестно, а последние
два находятся в явно испорченных или неотделанных
стихах. Но вообще эта запись со стороны языка (кажет-
ся, кроме слова огневой), грамматических форм, син-
таксиса и просодии не заключает в себе ничего проти-
воречащего пушкинскому употреблению, в риторике же
представляет полное сходство с несомненными произве-
дениями Пушкина»1.
Характеризуя влияние либретто оперы Даргомыжско-
го «Русалка» на произведения Штукенберга и Богдано-
вой, Ф. Е. Корш приходит к следующему выводу: «Со
своей стороны Штукенберг и г-жа Богданова, умышлен-
но или бессознательно, внесли в свои продолжения кое-
что пушкинское. Присутствия пушкинского элемента в
зуевской записи не отрицают и те критики, которые счи-
тают ее подделкой»1 2. В окончании «Русалки» по записи
Д. П. Зуева этого «пушкинского» особенно много. «Его
продолжение «Русалки»,— говорит Ф. Е. Корш,— во всех
отношениях несравненно ближе к несомненным произве-
дениям Пушкина, чем два другие (и чем вельтмановское,
не говоря уже об опере), хотя г-жа Богданова, по-види-
мому, даровитее Д. П. Зуева»3.
Таким образом, первая в истории русской литерату-
ры попытка применения метода определения подлинно-
сти и подложности текста, а также установления его ав-
тора по объективно-историческим данным языка и стиля
оказалась неудачной в силу отсутствия у Ф. Е. Корша
глубоких знаний по истории русского литературного язы-
ка, по исторической стилистике русской художественной
литературы, а также по пушкинскому стилю.
Опыт Ф. Е. Корша — лишь отрицательный пример при-
менения того метода, который при строгом конкретно-исто-
рическом понимании его существа, целей и необходимых
условий способен дать ценные и плодотворные результа-
ты. Освобождение этого метода от примеси субъективизма
и дилетантизма, углубление его историко-стилистических
основ позволило профессору Б. В. Томашевскому восста-
1 «Пушкин и его современники. Материалы и исследования»,
вып. III, стр. 8.
2 Т а м же, стр. 21.
3 Т а м же, стр. 22.
287
новить подлинный пушкинский текст «Гавриилиады» и
дать всестороннюю характеристику стиля этой поэмы1.
На основе тех же принципов объективно-историческо-
го анализа индивидуально-стилистической системы Пуш-
кина в ее историческом существе и в ее отношении к ли-
тературному языку своей эпохи была установлена при-
надлежность Пушкину целого ряда анонимных статей и
заметок «Литературной газеты» за 1830 год1 2.
В немецкой филологии также делались попытки наме-
тить принципы анализа языка и стиля художественного
произведения с целью установить принадлежность ано-
нимного литературного текста той или иной литературно-
стилистической школе, тому или иному писателю3.
Историческая конкретизация и уточнение знаний
о стиле отдельных писателей, больше всего — Пушкина,
сопровождается пониманием и отрицательных признаков,
то есть того, что не может быть свойственно художе-
ственно-стилистической системе этого автора. Вот — одна
из возможных иллюстраций.
Н. О. Лернер высказал предположение о принадлеж-
ности Пушкину заметки в № 50 «Литературной газеты»
от 3 сентября 1830 года, представляющей собой ответ
редакции на «Письмо из Рима к издателю Л. Г.»
С. П. Шевырева (№ 36 «Литературной газеты» от
25 июня 1830 г.). По мнению Лернера, и слог, и содер-
жание, и стих Баратынского, которого Пушкин цитиро-
вал часто, и личное раздражение автора, скрыто направ-
ленное против Н. И. Надеждина и «Вестника Европы»
(и нашедшее исход также в эпиграмме Пушкина на
«взрослого болвана»—автора «лакейских диссертаций»:
«Мальчишка Фебу гимн поднес...»), и, наконец, знание
английского языка и литературы, обнаруживаемое кри-
тиком,— все это говорит за авторство Пушкина4. По-
1 А. С. П у ш к и н, Гавриилиада. Поэма; ред., примеч. и коммен-
тарии Б. Томашевского, Пб. 1922.
2 В. В. Виноградов, Неизвестные заметки Пушкина в «Ли-
тературной газете» 1830 г., в кн. «Пушкин. Временник пушкинской
комиссии (Ин-та лит-ры АН СССР)», 4—5, М.—Л. 1939.
3 См., например, F. J. Schneider, Stilkritische Interpretationen
als Wege zur Attribuierimg anonymer deutscher Prosatexte, Berlin,
1954.
4 См. H. Л e p h e p, Новооткрытые страницы Пушкина, «Северные
записки», 1913, февраль, стр. 33—35; см. «Пушкин», т. VI («Б-ка ве-
ликих писателей», под ред. С. А. Венгерова), Пг. 1915, стр. 202—203.
!88
этому указанная заметка помещена в собрании сочине-
ний Пушкина под редакцией Венгерова и, наконец, в
IX томе «Сочинений Пушкина» издания Академии наук
СССР (Л. 1928, стр. 418—419). Язык этой заметки лишен
ярких индивидуальных примет. Однако в ней есть слова,
обороты и выражения, которые несвойственны языку
Пушкина, неизвестны в подлинно пушкинских произве-
дениях. Таковы, например: 1) слово повершать (ср. по-
верхность), в соответствие нашему заключать, завер-
шать: «Самуил Роджерс... повершает эти выисканные
нежности следующим размышлением». В «Словаре Ака-
демии российской» (ч. IV, СПб. 1822) слово повершать
не указано. В «Словаре церковнославянского и русского
языка» (т. III, СПб. 1847, стр. 239) приведен лишь гла-
гол повершить как совершенный вид глагола вершить
(вершить дело). Повершать является лишь в словаре
Даля. Очевидно, это слово ощущалось в первой трети
XIX в. как разговорно-областное, как диалектизм. Нет
слова повершать и в картотеке «Словаря языка Пушки-
на» (Ин-т русского языка АН СССР); 2) слово криво-
толки. В «Словаре Академии российской» кривотолк
объясняется как обозначение лица: «тот, кто некоторые
уставы или предания по заблуждению или с умысла тол-
кует несогласно с истинным смыслом» (ч. III, СПб. 1814,
стр. 411). То же значение указано в «Словаре церковно-
славянского и русского языка» (т. II, СПб, 1847, стр. 222).
Значение «вздорное или неправое суждение» впервые
отмечено словарем Даля. Ср. у Пушкина в «Евгении
Онегине»:
Иди же к невским берегам,
Новорожденное творенье!
И заслужи мне славы дань —
Кривые толки, шум и брань!
Но ср. у О. Сомова в «Обозрении российской словесно-
сти» о «Литературной газете»: «доброе мнение публики
было для нее лучшим ответом на все привязки и криво-
толки недоброжелательства и зависти» 3) такие рито-
рические перифразы: «образчик прорицаний сего Эдин-
бургского оракула поэтов» (ср. у Пушкина в стихах мета-
форическое обозначение великих писателей: «оракулы ве-
ков»; «Вольтер — оракул Франции»): «Всеэто изложено
1 «Северные цветы» на 1831 год, СПб. 1830, стр. 23.
289
в таком тоне и в таких благородных выражениях, унизано
такими выходками и намеками» и др. Ср . также непуш-
кинские конструкции: «кропать об этом же предмете»; у
Пушкина глагол кропать сочетается с винительным паде-
жом прямого объекта: «Кропай, мой друг, посланье к Ли-
де» (В. Л. Пушкину) Кроме того, в этой же статье «Ли-
тературной газеты» есть одно характерное выражение,
излюбленное О. Сомовым: «В утешение друзьям поэзии
и правды, напомним им приговор Edinburgh-I^eview».
Ср. в «Обозрении российской словесности» О. Сомова:
«...друзья литературы и правды желали видеть дру-
гие, более откровенные и беспристрастные суждения
о произведениях словесности русской...»1 2. Таким обра-
зом, автором разбираемой статьи «Литературной газе-
ты» следует признать О. Сомова.
Нужны большие, разнообразные и глубокие исследо-
вания как в области истории русского литературного
языка, так и в области истории языка русской художе-
ственной литературы, чтобы историко-стилистический
метод атрибуции занял подобающее ему место в науч-
ной критике текста и эвристике. В настоящее время от
окончательного решения многих конкретных вопросов
атрибуции осторожный историк языка художественной
литературы еще должен воздерживаться. Вот пример.
В № 45 «Литературной газеты» от 9 августа 1830 го-
да— в том номере, в котором находятся связанные
с именем Пушкина статьи «Новые выходки противутак
называемой литературной нашей аристократии...»,— и
«В газете: «Le furet» напечатано известие из Пекина...»,
помещены бытовые сценки под заглавием «Бал за Мо-
скворечьем». Есть основания предполагать авторство
Пушкина. Но они могли быть написаны или Пушкиным,
или Вяземским. Стиль диалога, общая тема разложе-
ние столичной дворянской аристократии и восхождение
торгового, промышленного сословия, противопоставле-
ние фешенебельной Тверской и буржуазного Замоскво-
речья— все это близко Пушкину и способно подтвердить
гипотезу о принадлежности этих сцен именно ему. Но
от окончательного суждения лучше воздержаться. Вот
полный текст этих драматических отрывков.
1 См. «Словарь языка Пушкина», т. II, М. 1957, стр. 413.
2 «Северные цветы» на 1831 год, стр. 22.
290
Бал за Москворечьем
На Тверской. Подъезд с улицы.
Черский (выходит из кареты). Принимает Вера
Ивановна?
Швейцар. Вера Ивановна сейчас едет.
Черский. Куда?
Швейцар. На бал.
Вера Ивановна (выходит на крыльцо). Это чья
карета? А! Черский, поедемте вместе на бал к Замар-
бицкой.
Наденька. Мурбазицкой, maman.
Черский. Я с Базарбицкой незнаком.
Вера Ивановна. Нужды нет: провинциялка.
Я вас представлю; я везу с собою toute ma societe.
Черский. Да я в сапогах.
Вера Ивановна. Все равно: за Москвой-рекой.
Поезжайте же за нами. Наденька, садись.
Наденька. До свидания, Андрей Иванович.
Черский. Со мною первый кадриль, не правда ли?
За Москвой-рекой. Освещенные сени. Убранная лестница.
Вера Ивановна. Какая даль и какая мостовая!
Наденька. Подождемте же Черского.
Входит Пронский.
Вера Ивановна. Так! Пронский уж тут. Он и в
Чухлому попадет на бал.
Пронский. Да вы-то как сюда попали?
Наденька. Посмотрите, посмотрите: чем убрана
лестница! ананасами!
Туров. Да; я об них все ноги переколол.
Пронский (смотрит в лорнет). В самом деле ана-
насы. Я сюда сбегаю после.
Вера Ивановна. Какой вы жадный! Срежьте и
мне один.
Наденька. Вот и Черский.
Вера Ивановна. Идите же все за мною. Как,
бишь, зовут хозяйку?
Наденька. Бур... как, бишь?
Туров. Мар... Ей-богу, не знаю.
Пронский. Чумарзицкая, кажется.
291
Вера Ивановна. Никогда от вас толку не добь-
ешься. ______
Там же.
Пронский. Вообразите! Четверть шестого.
Черский. Какова хозяйка? Настоящая калачница.
Вера Ивановна. Дочка недурна.
Туров. А куда манерится. Господи! Что за лица
встречаешь за Москвой-рекой!..
Черский. Бал удался.
Пронский. Так: мороженое было солоно, а шам-
панское тепло.
Черский. К теплому шампанскому я привык. На
балах иначе не бывает. Больше пенится: позволенная
экономия.
Лакей {Вере Ивановне). Карету вашу подают.
Вера Ивановна. Прощайте, messieurs. Завтра
к нам милости просим.
Пронский {зевая). А право было очень весело.
з
Наряду с историко-стилистическим методом атрибу-
ции, опирающимся на систему знаний о литературном
языке соответствующей эпохи, о языке художественной
литературы того времени и об индивидуально-художе-
ственных стилях, выдвигался метод узнавания подлин-
ности или подложности текста, а также имени его автора
по принципу избирательности, по принципу отбора наи-
более характеристических и типических признаков (пре-
жде всего — лексических и фразеологических, а затем и
грамматических, свойственных манере выражения того
или иного автора).
Профессор П. Н. Берков считает действенными такие
критерии и принципы атрибуции литературных текстов:
«Определение автора анонимного произведения может
быть признано безусловным и без наличия каких-либо
документов, устанавливающих этот факт, в том случае,
если соблюдаются некоторые непременные условия, при
этом в своей совокупности, а не порознь взятые. Усло-
вия эти следующие:
а) идеологическое единство данного произведения с
292
произведениями предполагаемого автора, относящимися
к тому же времени;
б), стилистическое единообразие данного произведе-
ния с прочими относящимися к тому же времени произ-
ведениями предполагаемого автора; впрочем, следует
учитывать возможность стилизации или, наоборот, наме-
ренного сглаживания языковых особенностей (конспира-
ция) и т. д.;
в) совпадение биографических фактов, отразивших-
ся в анонимном произведении, с известными фактами
биографии автора.
Помимо этих, так сказать, положительных условий
необходимо соблюдение еще одного отрицательного —
доказательства непринадлежности данного произведения
другим претендентам» L
Самое основное, сложное и трудное в этом методе
атрибуции — исторически оправданное, стилистически
направленное и филологически целесообразное примене-
ние принципа избирательности характеристических рече-
вых примет индивидуального стиля. Применяя свои при-
емы определения подлинности текста к помещенной
в «Ежемесячных сочинениях» за май 1755 года аноним-
ной статье «О качествах стихотворца рассуждение»,
П. Н. Берков считает доказательством стилистического
совпадения манеры анонима с языком Ломоносова на-
личие некоторого количества лексических, фразеологиче-
ских и грамматических соответствий. Сюда относятся
такие образования существительных на -ство, как живо-
писство (ср. «Соч. М. В. Ломоносова», с объяснительны-
ми примеч. М. И. Сухомлинова, т. IV, СПб. 1898,
стр. 290), недостоинство, взаимство, проницательство,
«Обороту «О качествах стихотворца рассуждение» соот-
ветствует в произведениях Ломоносова выражение: «о на-
шей версификации вообще рассуждение». Фразе «сие
самое есть светилом», встречающейся в анонимном рассу-
ждении, отвечает оборот: «сие есть причиною» (т. IV,
стр. 293). Оборот «он... в физике свою забаву и упражне-
ние находил» имеет параллель в сочинениях Ломоносова
(т. IV, стр. 194) „ физика —мои упражнения*»1 2.
1 П. Н. Берков, Ломоносов и литературная полемика его
времени (1750—1765), М.—Л. 1936, стр. 160.
2 Т а м же, стр. 162.
293
Все эти языковые явления, не носящие глубокого от-
печатка стилистической индивидуальности автора, ка-
жутся П. Н. Беркову характерными приметами ломоно-
совского стиля. Между тем синтаксические «обороты»
и фразеологические сцепления слов, выделенные
П. Н. Берковым, типичны вообще для литературного
языка той эпохи, для его высокого и среднего стиля.
Нет ничего специфически ломоносовского и в словах жи-
вописство, недостоинство, взаимство, проницателъство.
Так, в «Словаре русского языка, составленном Вторым
отделением Имп. Акад, наук» (т. II, СПб. 1907, стб.441),
слово жавописство иллюстрируется примерами не только
из «Риторики» Ломоносова, но и из журнала «Подень-
щина» («Начало живописства приписывается многим и
разным народам»).
Не более убедительно и такое сопоставление: «Мысль,
приводимая в рассуждении «О качествах стихотворца»:
«Те, кто праведно на себя имя стихотворца приемлют,
ведают, каковой важности оная... есть наука; другие, на-
против, написав несколько невежливых рифм или не-
складных песен, мечтают, что оная не доле простирается,
как их знание постигло»,— повторяется с сохранением
даже некоторых слов (курсив мой.— В. В.) и в статье
«О нынешнем состоянии словесных наук в России»: «Легко
рассудить можно, коль те похвальны, которым рачение
о словесных науках служит и украшением слова и чистого
языка, особливо своего природного. Противным образом
коль вредны те, которые нескладным плетеньем хотят
прослыть искусными и, осуждая самые лутчие сочине-
ния, хотят себя возвысить» (ср. также в стихотворении
Ломоносова «Пахомию»: «Нравоучением преславной Те-
лемак//Стократ полезнее твоих нескладных врак)»
Слово нескладный, которое подчеркивает П. Н. Берков
в этих сопоставлениях, на самом деле является общели-
тературным для той эпохи и никакого отпечатка инди-
видуального стиля Ломоносова не содержит.
Едва ли могут быть признаны вполне убедительными
также указания на то, что автор этого рассуждения «не-
дурно знал теорию искусств, в особенности живописи и
музыки», что сказывается в его рассуждениях и в упо-
1 П. Н. Б е р к о в, Ломоносов и литературная полемика его вре-
мени (1750—1765), стр. 166—167
294
требляемой им терминологии. «Приятная музыка многих
услаждает, но несравненно те ею веселятся, которые пра-
вильную гармонию тонов целых и половинных, их дигрес-
сию и резолюцию чувствуют». «Исключительной осведом-
ленностью» во «всей совокупности проблем физики»
П. Н. Берков объясняет упоминание «о правилах меха-
нических, гидравлических и проч.», «о свойствах и сое-
динениях тел, в исчислении меры и веса, тягости и упру-
гости воздуха и всех жидких тел», «о плоской и сфериче-
ской навигации» и т. п. По мнению П. Н. Беркова,
«прекрасное знание физики, свидетельствуемое приведен-
ным отрывком, вместе с тем говорит и о том, что автор не
менее прекрасно владел русской физической терминоло-
гией» Ч Дальше был использован ход рассуждения логи-
ческий и простой: кто же мог в ту эпоху все это обнять,
кроме Ломоносова? Вывод ясен: да, только один Ломоно-
сов мог написать такое рассуждение.«О качествах стихо-
творца». Но этот вывод — не исторический, а эмоциональ-
но-патетический.
Между тем есть один, с точки зрения лингвиста, име-
ющий решающее значение довод против принадлежности
рассматриваемого рассуждения М. В. Ломоносову. Для
П„ Н. Беркова все здесь сводится к орфографии ряда
слов. Фактически же это — глубокая разница в трансли-
терации и произношении имен античных деятелей, в их
русской языковой форме. Ломоносов, что было естествен-
но для выученика духовной школы, писал и произносил
эти имена на древний латинский и греческий лад. Для
автора же «О качествах стихотворца рассуждения» ти-
пична и характерна передача этих слов, как утверждает
П. Н. Берков, по правилам немецкой орфографии. «Так,
Ломоносов писал: риторика, просодия... Лукиян, Лукре-
ций, Эсхил; в тексте же «Рассуждения» приведена, так
сказать, немецкая орфография—реторика... прозодия,
Люциан, Люкреций, Эшил и др.»1 2 (ср. также у Ломо-
носова междуметие, в «Рассуждении о качествах стихот-
ворца» — междометие). По мнению П. Н. Беркова, «это
обстоятельство, даже если не считать, что подобное пра-
вописание могло быть проведено в анонимной статье
1 П. Н. Б е р к о в, Ломоносов и литературная полемика его вре-
мени (1750—1765), стр. 163—164.
2 Там же, стр. 162.
295
намеренно, с целью «конспирации», все же не может слу-
жить доводом против Ломоносова; он не мог держать
корректуру этой работы не только как автор, скрывавший
свое отношение к «Рассуждению» (так, например, в своем
отчете о работах за 1755 год он не упоминает этой статьи)
(но ведь он и не должен был упоминать в своем отчете
о чужих работахВ, В.), но и по той причине, что с на-
чала мая и до 1 августа 1755 г. был уволен в отпуск
в свое имение, куда и отправился вскоре после произнесе-
ния «Слова похвального Петру Великому» 26 апреля
1755 года. Таким образом, корректуру держал не сам
Ломоносов, а, вероятно, Миллер или кто-либо из коррек-
торов Академии наук, и этим можно объяснить своеобра-
зие орфографии отмеченных слов»1.
Несомненно, что здесь делается ряд произвольных,
необоснованных и даже невероятных допущений и пред-
положений — и все это только для утверждения авторства
Ломоносова. П. Н. Берков не приводит никаких данных
в пользу своего мнения о том, что Миллер, Теплов или
кто-нибудь другой исказил ломоносовскую систему пере-
дачи иноязычных собственных имен. Если обратиться
к рассуждению «О качествах стихотворца», то здесь най-
дем и Демостена, и Рюбенса, и Молиэра и т. п. (ср. Те-
рентия вместо Теренция} 1 2.
Можно привести другой, более достоверный, пример
узнавания или определения автора по некоторым типи-
ческим примерам языка и стиля, но сопряженным и с
другими признаками. Есть все основания утверждать, что
Н. М. Карамзин написал помещенную в «Московском
журнале» басню «Соловей и ворона». Это сочинение не
указано в библиографическом перечне сочинений и пере-
водов Карамзина, составленном С. Пономаревым. Кроме
того, к этой басне есть примечание издателя «Московского
журнала», как будто противопоставляющее Карамзина
1 П. Н. Б е р к о в, Ломоносов и литературная полемика его вре-
мени (1750—1765), стр. 162—163.
2 Так как есть веские основания (особенно убедительно они
сформулированы в докторской диссертации Л. Б. Модзалевского
о Поповском), что автором статьи «О качествах стихотворца рас-
суждение» был адъюнкт Академии и противник Ломоносова —
Теплов, то эта статья не включена в т. 7 последнего академического
издания полного собрания сочинений М. В. Ломоносова. Против
этого возражал П. Н. Берков в рецензии, помещенной в журнале
«Вопросы языкознания» (1953, № 6, стр. ПО).
296
«сочинителю сей басни». Выражение «безграмотные рус-
ские стихотворцы» поясняется издателем в таком духе:
«То есть те, которые ни читать, ни писать не умеют;
но я, нижеподписавшийся, не знаю ни одного русского
стихотворца, который бы не умел ни читать, ни писать,
и потому думаю, что сочинитель сей басни говорит о фан-
томах своего воображения.— Издатель». Однако своеоб-
разная ирония этого примечания со стороны издателя
очевидна. И едва ли можно придавать серьезное значе-
ние этой шутливой полемике издателя с «сочинителем сей
басни» и видеть в ней доказательство того, что автор
басни ничего общего не имеет с издателем «Московского
журнала». Скорее, наоборот. Вот текст этой басни:
Соловей и ворона
«В прекрасной весенний вечер сидел любезной соло-
вей на розовом кусточке и пел свои восхитительные пес-
ни. Все птицы слетелись и в глубоком молчании слушя
ли его пение. Наконец, соловей умолк; но птицы все еще
сидели и слушали, ибо сладкой голос его все еще отзы-
вался в их слухе. Между прочими пернатыми была тут
и ворона, глупая, но честолюбивая тварь. «Неужели,—
думает она,— один соловей петь умеет? Разве у меня
нет голосу? И разве не могу я'сесть на этот куст?» С сею
мыслию ворона поднялась, села на розовую ветвь (кото-
рая от ее тяжести пригнулась к земле) и запела, или,
лучше сказать, закаркала во все горло. Что же вышло?
Все птицы, услышав ее противное карканье, поднялись
и полетели прочь от розового кусточка. Ворона рассер-
дилась, пустилась вслед за ними и кричала им издали:
«Разве вы глухи? Разве вы не слышите, что и я пою?» —
«Да не так, как соловей»,— отвечал ей тетерев, котэрой
летел позади прочих птиц.
Безграмотные русские стихотворцы! и вы поете;
но...»1
Бросается в глаза стилистическое сходство этой бас-
ни со стихотворной басней того же Карамзина «Соловей,
галки и вороны», написанной позднее и напечатанной
в «Аонидах...» (1796, кн. I):
1 «Московский журнал», 2-е изд., ч. Ill, М. 1801, стр. 204—206.
297
Прошедшею весною,
Вечернею зарею
В лесочке сем певал любезной соловей.
Пришла опять весна. Где друг души моей?
Ах, нет его! Зачем он скрылся? —
Зачем? В лесочке поселился
Хор галок и ворон. Оне и день и ночь
Кричат, усталости не знают.
И слух людей (увы!) безжалостно терзают!
Что ж делать соловью? — Лететь подале прочь!
Жестокие врали и прозой и стихами!
Какому соловью петь можно вместе с вами?
Несомненно сходство мыслей и образов обеих басен.
Есть совпадения и в выражениях: «Прошедшею весною,
Вечернею зарею» (ср. «В прекрасной весенний вечер»);
«любезной соловей», «Жестокие врали и прозой и стихами!
Какому соловью петь можно вместе с вами?» (ср. «Безгра-
мотные русские стихотворцы! и вы поете, но...») и др. под.
Пауза, неожиданный обрыв синтаксической цепи —
типический прием Карамзина (например в обращении
от «издателя к читателям») 1. «Я издал уже одиннадцать
книжек — пересматриваю их, и нахожу много такого, что
мне хотелось бы теперь уничтожить или переменить. Та-
кова участь наша! Скорее Москва-река вверьх пойдет,
нежели человек сделает что-нибудь беспорочное — и горе
тому, кто не чувствует своих ошибок и пороков! Однако
смело могу сказать, что издаваемой мною журнал имел
бы менее недостатков, если бы 1791 год был для меня
не столь мрачен; если бы дух мой... Но читателям,
конечно, нет нужды до моего душевного расположения».
В сказке «Прекрасная царевна и щистливой Карла»:1 2
«Один утирался белым платком, другой глядел в землю,
третий закрывал глаза рукою, четвертый щипал на себе
платье, пятый стоял прислонясь к печке и смотрел себе на
нос, подобно индейскому брамину, размышляющему о на-
туре души человеческой; шестой — но что в сию минуту де-
лал шестой, седьмой и прочие, о том молчат летописи».
Таким образом, метод узнавания автора текста по
типическим приметам его стиля требует точного отгра-
ничения индивидуально-типических признаков от того, что
имеет более широкое употребление в литературном
обиходе того времени. Кроме того, сам этот метод имеет
1 «Московский журнал», 2-е изд., ч. IV, 1801, стр. 239.
2 Там ж е, ч. VII, кн. 2, 1792, стр. 219.
298
несколько вариаций. В нашей отечественной филологии
одна из них получила теоретическое обоснование в работе
Ф. И. Витязева «К методологии литературной эвристики»
4
Мысль о необходимости развития и укрепления такой
отрасли филологии, которая помогла бы организации
правильных поисков автора при изучении анонимных и
псевдонимных текстов, неоднократно возникала у мно-
гих исследователей русской литературы и публицистики
XIX века. Некоторые из них, делясь опытом своей работы в
этой области, стремились самостоятельно построить на ос-
нове собственной практики теоретические обобщения. Так,
Ф. И. Витязев, который установил авторство П. Л. Лавро-
ва по отношению к анонимной статье «Письмо провинциа-
ла о задачах современной критики», напечатанной в «Оте-
чественных записках» (№ 3, 1868, стр. 123—142), пишет,
исходя из этого опыта, этюд «по теории и практике эв-
ристики», «по методологии литературной эвристики»1 2.
Ф. И. Витязев предлагает присвоить филологической
дисциплине, занимающейся вопросами подлинности и
подложности текста, наименование «литературная эври-
стика». Он считает ее областью литературоведения, в на-
ши дни приобретающей особо актуальный характер. «Ведь
не надо забывать, что советская литература получила в
наследство от дореволюционного периода сотни тысяч
анонимных статей, заметок и рецензий, авторы которых до
сих пор еще не раскрыты. Изучение произведений таких
крупнейших писателей, как М. Е. Салтыков, Г. 3. Елисеев,
В. В. Берви-Флеровский, Н. К- Михайловский, Г. В. Пле-
ханов и целого ряда других совершенно немыслимо без
знания основных методов литературной эвристики»3.
В соответствии с данными традициями критики тек-
ста Ф. И. Витязев различает среди средств литературной
эвристики формальный и внутренний анализ. К области
формального анализа он относит язык и стиль произ-
1 Ф. Витязев, Анонимная статья «О задачах современной
критики», как материал по методологии литературной эвристики.
«Звенья», VI,. М.—Л. 1936.
2 «Звенья», VI, стр. 749 и сл.
3 Та м же, стр. 749.
299
ведения, характер заглавия его и псевдонимной подписи
(если она есть). С формальным анализом почему-то свя-
зывается также изучение автобиографических замеча-
ний, имеющихся в тексте произведения, и редакционных
примечаний к нему (если такие оказываются налицо).
«Внутренний анализ или анализ по существу,— по словам
Ф. И. Витязева,— имеет целью обследование самого со-
держания литературного произведения. Здесь обычно
применяется метод сравнения идей, и вопрос об автор-
стве решается на основании их полного совпадения или
близкого сходства. При применении этого метода надо
брать, как правило, наиболее основные, характерные и
оригинальные идеи какого-либо автора и с их помощью
производить анализ анонимной статьи, то есть, другими
словами, идти от известных и вполне проверенных уже
работ к неизвестному»1.
Однако самые принципы идеологического анализа и
его, так сказать, техника, направленная на раскрытие
образа автора, Ф. И. Витязевым не определяются и не
описываются. Между тем собственные наблюдения
Ф. И. Витязева над двумя «оригинальными идеями»
Лаврова [а) патетизм и б) литературная адвокатура],
наведшие его на предположение о принадлежности
статьи «О задачах литературной критики» П. Л. Лавро-
ву, возбуждают целый ряд принципиальных вопросов
эвристики. Прежде всего возникает вопрос, в какой
мере убедительно и доказательно для эвристики абстракт-
ное и схематическое сопоставление сходных или более
или менее однородных «идей», но воплощенных в дале-
кие или стилистически разнотипные словесные формы.
Не следует ли в таких случаях придавать больше всего
значения самим речевым способам выражения идей, сло-
весным, фразеологическим формам их воплощения? Ис-
пользуя общий литературный язык, его стили для худо-
жественного, научного или публицистического творчества,
писатель вырабатывает свой индивидуальный стиль с при-
сущими ему устойчивыми приемами фразеологического
оформления тех или иных мыслей, с индивидуализиро-
ванной системой образов, с более или менее последова-
тельным употреблением тех или иных конструктивных
принципов литературного синтаксиса, с определенными
1 «Звенья», VI, стр. 758—759.
300
приемами отбора лексики и терминологии. В этом отно-
шении внутренний анализ Ф. И. Витязева явно недоста-
точен и с методологической точки зрения мало удовле-
творителен, хотя приводимые им сопоставления и цитаты
из сочинений П. Л. Лаврова в высшей степени показа-
тельны. Вот иллюстрации.
В качестве одной из основных идей Лаврова
Ф. И. Витязев выделяет мысль о «патетическом действии
художественных произведений». «Это заветная и любимая
мысль Лаврова, которая красной нитью проходит через
все его работы. Для Лаврова,— говорит Ф. И. Витязев,—
не существует ни эстетики, ни искусства без патетиче-
ского воздействия их на человека» х. Эта мысль находит
в разных сочинениях П. Л. Лаврова совершенно однород-
ные, совпадающие формы выражения. Например, в статье
«Наука психических явлений и их философия» он пишет
«...художественное произведение имеет в виду область
аффектов: оно создается под влиянием патетического на-
строения и не будет художественным, если не произведет
патетического действия» («Отечественные записки»,
1871, № 3, стр. 81—82) 1 2 3.
Та же терминология и та же фразеология, по мнению
Ф. И. Витязева, характерна для статьи «О задачах совре-
менной критики» (стр. 125): «Надо быть слепым и глу-
хим в истории... чтобы не заметить, что патетическое дей-
ствие художественных произведений зависит от требова-
ний жизни...» «Критика... которая бы оценила произведе-
ние без всякого отношения к его патетическому действию,
была бы... довольно жалкой критикой...» «...все художе-
ственные произведения... заключают в себе элементы про-
грессивный и консервативный, не только по содержанию,
вносимому в произведение умственным, нравственным и
гражданским развитием художника, но и по патетиче-
скому действию на публику...»8.
Еще более стилистически своеобразна индивидуаль-
ная система образов и соответствующих фразеологиче-
ских оборотов, связанных с идеей «литературной адво-
катуры». В представлении П. Л. Лаврова, пишет
Ф. И. Витязев, литературный критик — «„это не более,
1 «Звенья», VI, стр. 759.
2 Т а м же.
3 Т а м же, стр. 760.
301
не менее, как адвокат, который выступает перед присяж-
ными, роль которых играет в данном случае читающая
публика. Критик — отнюдь не судья. В роли судьи высту-
пает история0... «В литературной адвокатуре клиент ни-
когда не личность... не тот или другой автор, но опреде-
ленное теоретическое миросозерцание, определенный прак-
тический идеал; авторы же и их произведения суть лишь
разбросанные документы и свидетели, на которые опи-
рается адвокат и которые имеют значение лишь в той
мере, в какой они ясно выражают надлежащее миросо-
зерцание и надлежащий идеал» («Библиограф», 1869,
№ 1, стр. 3—4; см. также стр. 1, 2 и 5)»1. Тот же образ
«адвокатуры», говорит Ф. И. Витязев, переносится
П. Л. Лавровым в сферу понимания и изображения по-
литической борьбы.
В своих «Исторических письмах» П. Л. Лавров (под
псевдонимом «П. Л. Миртов») пишет: « „Каждый мысля-
щий человек, вошедший в организм партии, становится
естественным адвокатом не только того, кто уже теперь
к ней принадлежит, но и того, кто завтра может войти в
нее... Как единая мысль, единая цель составляют внут-
реннюю силу партии, так взаимная адвокатура состав-
ляет ее внешнюю силу» («Неделя», 1868, № 16, стр. 485—
486. Отдельное изд.— СПб. 1870, стр. 117—119)» 1 2.
Тот же строй образов, связанных с темой обществен-
но-идеологических отношений и взаимодействий, пишет
Ф. И. Витязев, наблюдается и в статье «О задачах со-
временной критики». Здесь читаем: «Журнал никогда
не произносит приговора: его произносит публика.,,
«Правда» журнала не может и не должна быть правдою
судьи; это — правда адвоката, выбирающего себе кли-
ента по своим убеждениям и, во имя вечных начал истины
и справедливости, разъясняющего права своего клиента.
Без правды адвоката правда судьи невозможна в лите-
ратурном процессе» (стр. 138, а также 139) »3.
В других случаях Ф. И. Витязев, говоря о «побочных
идеях», вынужден анализировать способы употребления
терминов и их индивидуальное осмысление в языке Лав-
рова. «В чисто лавровском понимании,— пишет он,— вве-
1 «Звенья», VI, стр. 760.
2 Там же, стр. 761.
3 Т а м ж е.
302
дено в «Письмо» и слово цивилизация.,. Всякий другой
писатель здесь бы сказал слово культура, но Лавров, как
известно, противопоставлял эти понятия. Для него циви-
лизация — понятие прогрессивно-динамическое. Культура
же — элемент, связанный с преданием, привычкой, за-
стоем» Таким образом, «внутренний анализ» произве-
дения не может быть оторван от изучения языка и стиля
автора, от наблюдений над способом выражения идей и
их связей, типичным для стилистической манеры иссле-
дуемого писателя. Рекомендуемые же Ф. И. Витязевым
методические приемы «анализа языка и стиля статьи» для
определения ее автора должны быть признаны весьма
случайными. Они ни в какой мере не соответствуют соб-
ственным требованиям и представлениям Ф. И. Витязева.
По его словам, «в нашей литературе слишком часто зло-
употребляют ссылками на «стиль или язык» автора.
Сказать вообще, что такая-то статья «по стилю и языку»
Салтыкова, Михайловского или Лаврова, значит ровно
ничеш не сказать. Подобные общие и притом глубоко
безответственные заявления давно пора сдать в архив,
какими бы громкими именами они ни прикрывались»1 2.
Именно путем таких общих бездоказательных ссылок на
стиль и язык автора произведен целый ряд ошибочных
атрибуций, и сочинения некоторых писателей пополни-
лись чужими произведениями.
Ф. И. Витязев выдвигает совершенно верное, но труд-
но выполнимое требование: «Анализ языка любого писа-
теля должен быть так же точен, как анализ любой мате-
матической формулы». Однако сюда же Ф. И. Витязев
присоединяет странное и туманное замечание: «Но даже
при наличии подобного самого точного анализа ограничи-
ваться одним внешним исследованием «стиля и языка»
статьи при определении ее автора отнюдь нельзя. Подоб-
ный формализм таит в себе большие опасности. Дело в
том, что у некоторых писателей бывает очень много об-
щего в стиле и языке, не говоря уже о влиянии самой
эпохи, оставляющей на них один и тот же отпечаток»3.
Совершенно ясно, что, рассуждая о стиле и языке,
Ф. И. Витязев не обнаруживает отчетливого понимания
1 «Звенья», VI, стр. 762.
2 Та м же, стр. 758.
3 Та м же.
303
ни того, ни другого. И действительно, проблема стиля и
языка писателя сводится у Ф. И. Витязева к индивиду-
альному набору слов. «Каждый крупный писатель,—
пишет он,— обязательно имеет свой набор слов, к кото-
рым он особенно сильно тяготеет и которые довольно ча-
сто употребляет в своей речи. Сюда же относится особая
транскрипция (? — В. В.) отдельных слов, целый ряд спе-
циальных, только одному ему свойственных, оборотов речи
и т. п. Этот чисто инстинктивный подбор любимых «сло-
вечек» является, несомненно, результатом двух скрещи-
вающихся влияний. С одной стороны, здесь сказываются
индивидуальные особенности и наклонности писателя, а
с другой — здесь имеется вполне определенное влияние
исторической эпохи, в которой он слагался и работал...
Вот почему перед тем, как говорить о «языке и стиле»
того или иного писателя, надо прежде всего составить
словарь его любимых, специфически ему свойственных,
слов. Подобный словарь и должен явиться тем ключом,
которым безошибочно можно расшифровывать авторство
любого писателя» ’. Итак, ключом к языку и стилю
писателя, а следовательно, и к определению автора не-
подписанных или подписанных псевдонимом произведе-
ний является лексикон любимых «словечек», «типических
для того или иного автора слов и выражений». Это —
широко распространенное убеждение. Л. Шпитцер в ра-
боте «Словесное искусство и наука о языке» писал:
«...такие излюбленные слова и обороты встречаются по-
всюду у самых лучших писателей, если только уметь ви-
деть, и они должны неизбежно существовать в силу
постоянства художественной интуиции поэта... Лишь ча-
стая повторность явления дает нам право заключить о
присутствии некоторой внутренней константы... Надежнее
всего, если бы это не было так скучно, были бы в таких
случаях статистические таблицы с процентными отноше-
ниями...»1 2.
Каковы же те индивидуально лавровские словечки и
выражения, по которым Ф. И. Витязев определяет при-
надлежность этому публицисту анонимной статьи? Сюда
относятся слова, выражения и обороты разной значимо-
сти, разной показательности. Вот их перечень: тому не-
1 «Звенья», VI, стр. 754—755.
2 «Проблемы литературной формы», Academia, 1928, стр. 216.
304
сколько лет (назад) (вместо несколько лет тому назад);
касаться до чего-нибудь (вместо касаться чего-нибудь);
характеристичный (вместо характерный); определительно
(вместо определенно); уяснить и производное уяснитель;
частое употребление слов индифферентизм, достоинство в
самых различных модуляциях [достоинство человеческое,
достоинство личности, достоинство литературы и т. д.);
выработать (в «Исторических письмах» — 60 раз, в
статье «Знание и революция» — 19 раз и т. п.). Кроме
этих будто бы чисто лавровских слов, Ф. И. Витязев от-
мечает еще ряд других, которые «взятые во всей своей
совокупности, да еще при наличии других типично лав-
ровских выражений..., также приобретают свой вес и
значение при определении автора анонимной статьи» *.
Сюда относятся: важный, воплотить, вносить, обработка,
обусловливать, отстаивать, прогресс, прогрессисты, про-
грессивный, усвоить, установлять, установление, усо-
мниться.
Нельзя не признать этот «набор слов» довольно слу-
чайным. И трудно представить себе возможность досто-
верного «узнавания» сочинений П. Л. Лаврова по этим
«приметам». Об этом догадывается и сам Ф. И. Витязев,
так как он встретил «много типично лавровских слов» в
языке Ю. Г. Жуковского. «Вот почему анализ «языка и
стиля» статьи должен обязательно дополняться другими
формальными признаками и, как правило, еще исследо-
ванием произведения по существу»1 2.
Легко заметить, что во взглядах Ф. И. Витязева на
принципы атрибуции литературных произведений есть не-
ясность в двух направлениях или отношениях. Прежде
всего, это касается изучения приемов и способов обнару-
жения тождества идей, выраженных в произведении, для
которого подыскивается автор или которое приписывает-
ся тому или иному писателю, с мировоззрением соответ-
ствующего литературного деятеля. Методика сопоставле-
ния или отождествления содержания анонимного сочи-
нения с тематикой произведений подходящего писателя —
самый слабый пункт современных атрибуций, направлен-
ных по пути бездоказательного пополнения сокровищницы
творчества передовых представителей русской литера-
1 «Звенья», VI, стр. 758.
2 Т а м же.
11 В. В. Виноградов 305
туры XIX, а отчасти и XX века всякого рода сомнитель-
ными анонимными сочинениями.
Вот показательный пример. В «Литературной газете»
от 29 мая 1951 года было опубликовано сообщение док-
тора филологических наук В. Нечаевой «Неизвестная по-
весть В. Г. Белинского». В. Нечаева, ссылаясь на совпа-
дение идей, доказывала, что повесть «Человек не совсем
обыкновенный», напечатанная в журнале «Телескоп»
(ч. XVII, 1833) и подписанная фамилией «Лесовинский»,
принадлежит перу великого критика и революционного
демократа В. Г. Белинского.
Предположение В. Нечаевой вызвало возражения.
Читатель «Литературной газеты» Ю. Калугин (Одесса)
обратился в редакцию с письмом, в котором доказывал,
что Белинский не мог быть автором этой повести, написан-
ной в «чувствительном» духе. Ю. Калугин напомнил, что
всего несколько месяцев отделяют выход в свет этой пове-
сти от появления «Литературных мечтаний», в которых мо-
лодой критик поднял голос против приторной чувствитель-
ности, слезливости, против нагромождения разных ужасов,
против всякой фальши, против риторических стилей.
«Как выяснилось,— писала «Литературная газета»,—
эти и другие возражения имели основания. Недавно ли-
тературовед Л. Крестова-Голубцова установила, что по-
весть «Человек не совсем обыкновенный», помещенная
в «Телескопе», была перепечатана и вошла в книгу
А. Т. «Повести о том, о сем, а больше ни о чем» (1836).
Под инициалами А. Т. скрывается забытый ныне писа-
тель Алексей Григорьевич Тепляков. Таким образом, при-
писывать повесть «Человек не совсем обыкновенный»
перу В. Г. Белинского нет оснований»
В большинстве литературоведческих исследований по
атрибуции для доказательства принадлежности аноним-
ного сочинения тому или иному крупному писателю чаще
всего ограничиваются лишь указаниями на совпадение
или близость идей, даже без детального семантико-стили-
стического сопоставления и анализа форм их выражения.
Именно таким образом приписана Белинскому значитель-
ная часть неподписанных рецензий в тех журналах, в
которых он был руководящим критиком (см., например,
т. XIII «Полного собрания сочинений В. Г. Белинского»,
1 «Литературная газета», 2 сентября 1952
306
ред. В. С. Спиридонова, Гослитиздат, Л. 1948). Те же
принципы применялись и по отношению к публицистиче-
ским статьям, в которых нашим литературоведам захоте-
лось увидеть «руку» Салтыкова-Щедрина (см., например,
т. VIII «Полного собрания сочинений Н. Щедрина
(М. Е. Салтыкова)», ГИХЛ, М. 1937). Нередко на той
же основе устанавливается авторство Герцена по отно-
шению ко многим материалам «Колокола». Правда, ино-
гда, кроме совпадения, сходства или близости идей, для
большей убедительности мысли об авторстве какого-ни-
будь крупного писателя в отношении того или иного про-
изведения в нем выделяются характеристические языко-
вые приметы в виде единичных слов, оборотов, иногда
даже грамматических конструкций (без глубокого кон-
кретно-исторического обоснования их индивидуального
своеобразия). Сюда относится одно из типичных рассуж-
дений, задача которого доказать, что Н. Г. Чернышевский
был автором напечатанного в № 64 герценовского «Ко-
локола» от 1 марта 1860 года «Письма из провинции»
за подписью «Русский человек»: «Чернышевскому свой-
ственно употребление родительного падежа после глагола
надеяться... Пример такого же употребления находим и в
письме»1. Далее цитируется то место из письма «Рус-
ского человека», где автор говорит о либералах, кото-
рые «еще надеются мирного и безобидного для крестьян
разрешения вопроса». В подтверждение же, что Черны-
шевскому действительно была свойственна такая форма
управления при глаголе надеяться, делается ссылка на
его статью «Русская беседа и ее направление», откуда
приведена, между прочим, такая фраза: «Нет, этого
нельзя было надеяться» (соч., т. IX, стр. 213)1 2.
Б. П. Козьмин, отвергая возможность приписать пись-
мо «Русского человека» Н. Г. Чернышевскому, справед-
ливо замечает, что употребление родительного падежа по-
сле глагола надеяться (вместо винительного с предлогом
на) не было индивидуальной особенностью Чернышевско-
го, что оно было широко распространено и у других
писателей того времени. Характерно, что в «Словаре
1 Г. Берлинер, Н. Г. Чернышевский и его литературные
враги, М.—Л. 1930, стр. 78 [см. сообщение Б. П. Козьмина «Был ли
Н. Г. Чернышевский автором письма «Русского человека» к Гер-
цену?» («Лит. наследство», № 25—26, М.. 1936, стр. 580)].
2 Т ам же.
11
307
Академии российской» (ч. III, СПб. 1814, стр. 1061) при
глаголе надеяться обе конструкции — надеяться чего и
надеяться на кого, что — признаны равноправными: «на-
деяться успехов в чем. Он надеется лучшего счастья. На
его честность, слово, верность, правосудие можно на-
деяться».
Более подробную историко-синтаксическую справку в
конструкциях глагола надеяться можно получить хотя бы
у автора диссертации: «Язык Чернышевского» профес-
сора А. Ф. Ефремова.
«Для нашей современности,— писал он,— совершенно
необычным, даже странным представляется управление
глагола «надеяться» родит, пад., какое находим, напри-
мер, в романе Чернышевского «Что делать?»: «Скоро я
убедился, однако же, что надеяться этого — вещь на-
прасная» («Ч. д.?», 307). «У него это есть, только он как
будто этого не надеется» («Ч. д.?», 72). «Он никогда не на-
деялся ее взаимности» («Ч. д.?», 398). В романе этот обо-
рот встречается только в трех указанных случаях — в
речи Лопухова и Веры Павловны, но он несомненно яв-
ляется фактом языка самого Чернышевского, как показы-
вают его статьи: «этого нельзя было надеяться» («Рус-
ская беседа и ее направление». Соч.,Т.П, 126) и письма:
«чего можно и не надеяться» («Литературное наследство»,
т. II, 333), «чего она было надеялась» для своих дочерей
(там же, 1878, 520). Больше: такой оборот является фак-
том языка современников Чернышевского, например,
Л. Толстого («так не похоже на то, чего он надеялся»,
см. «Война и мир» в соч. под ред. Бирюкова, т. IV, 200).
Данный оборот — результат влияния языковой тради-
ции. Этот оборот «продолжал употребляться не только в
первой четверти XIX в., на что указывает Востоков («Рус-
ская грамматика», 1831, № 129, стр. 180), а даже... и в
60-е годы, но изредка. Его вытеснил винит, с предлогом
«на», которым чаще, чем родительным, пользовались и
Чернышевский с Л. Толстым. Этот процесс вытеснения
одного падежа другим происходил и в книжном и в раз-
говорном языке. Интересно, что в сборнике пословиц
Даля, появившемся в 1862 году, только в одной посло-
вице при глаголе «надеяться» стоит родительный падеж
(«Надейся добра, а жди худа»), в остальных же — ви-
нительный с предлогом «на» («На ветер надеяться —
без помолу быть» и др.). Вл. Даль. Пословицы русского
308
народа, изд. 3-е. СПб —М. 1904, т. I, стр. 21,
23, 94» Ч
Однако Б. П. Козьмин из факта неосведомленности
наших литературоведов в области истории русского лите-
ратурного языка делает странный вывод: «Этот пример
служит яркой иллюстрацией того, с какой осторожно-
стью надлежит относиться к «стилистическим особенно-
стям» при установлении авторства...»1 2.
Между тем такое заключение не только нелогично, но
и фактически неверно. Ведь история падежных конструк-
ций с глаголом надеяться, привлекавшая внимание еще
А. А. Потебни, филологом не может быть использована
для показательной характеристики индивидуальных сти-
лей русской литературы второй половины XIX века.
Нельзя пренебрегать фактами истории языка и стили-
стики только потому, что литературоведы их не знают
или не умеют ими пользоваться. Например, были по-
пытки определения автора не только с помощью анализа
«сходства стиля и хода мыслей» соответствующего ано-
нимного произведения и сочинений какого-нибудь писа-
теля, но и посредством указаний на общность отдельных
диалектизмов в языке сопоставляемых произведений. Так,
В. П. Семенников, доказывая принадлежность «Отрывка
путешествия в ***и***Т***» (из новиковского «Живо-
писца» на 1772 г.) перу А. Н. Радищева, ссылался на
слово адонье (одонье) — «местное народное, не употреби-
тельное в литературном языке»3. Между тем оно встре-
чается и у Радищева, и в «Отрывке путешествия...». Как
указано в словаре Даля, это выражение встречается в
Новгородской, Саратовской, Тамбовской, Тульской и Во-
ронежской губерниях. Отсюда, по мнению В. П. Семен-
никова, «делается понятным, почему Радищев знает это
неупотребительное в литературном языке слово: он ро-
дился в Саратовской губернии, а это выражение распро-
странено на его родине. Но если тем же характерным
словом пользуется и автор «Отрывка», то мы можем счи-
1 А. Ф. Ефремов. Особенности синтаксического управления
в языке Н. Г. Чернышевского в исторической перспективе. «Ученые
записки Саратовского гос. пед. института», вып. V, 1940. Сб., посвя-
щенный 50-летию со дня смерти Н. Г. Чернышевского, стр. 108.
2 «Литературное наследство», № 25—26, стр. 580.
3 В. П. Семенников, Когда Радищев задумал «Путешествие», М.
1916, стр. 27.
309
тать этот факт очень важным для нас указанием»1. Ко-
нечно, все это очень наивно и ошибочно. Если слово
одонье не входит в лексическую систему современного
русского литературного языка, это вовсе не значит, что в
XVIII и в начале XIX века оно было неупотребительным
в литературном обиходе. В «Словаре Академии россий-
ской» оно не сопровождается никакой стилистической
пометой1 2. Оно помещено в «Русско-французском сло-
варе... или этимологическом лексиконе русского языка»
Ф. Рейфа (т. I, СПб. 1835, стр. 253) и в академическом
«Словаре церковнославянского и русского языка» (т. III,
СПб. 1847, стр. 32). Следовательно, нельзя из употребле-
ния слова одонье в анонимном «Отрывке путешествия
в*** 'р***>> делать вывод об авторстве Радищева 3.
Таким образом, доказательство общности автора на осно-
ве сходства идей в сопоставляемых произведениях не по-
лучает достаточного подкрепления в случайных указаниях
на совпадения в них отдельных выражений и конструк-
ций. Ведь этим способом вовсе не устанавливается един-
ство системы выражения идентичных мыслей.
Традиционное понимание задач критики текста в этой
сфере соотношений недиалектично. В основу поисков аде-
кватного текста или доказательства общности, единства
стиля кладется принцип раскрытия отношений «между
сообщаемым и внешними формами сообщения»4, как буд-
то сообщаемое или выражаемое нам дано или заранее
известно вне этих «внешних форм сообщения». На такой
почве возникает отрыв идеологии писателя от его стиля.
Характерно в данном смысле рассуждение профессора
Г. О. Винокура о недопустимости введения в текст «Рус-
ских ночей» В. Ф. Одоевского позднейших, относящихся
к 60-м годам XIX века, идеологических исправлений и
1 В. П. Семенников, Когда Радищев задумал «Путешествие», М.
1916, стр. 28.
2 См. «Словарь Академии российской», ч. IV, СПб. 1822,
стр. 227: «Одонье, нья и умал. Одоньице... Кладь снопов не молочен-
ного хлеба наподобие сенного стога на столбах и помостах, но го-
раздо менее скирда. Скласть снопы в одонье».
3 Именно данные языка и стиля свидетельствуют о том, что
этот «Отрывок» не принадлежит Радищеву. Вопрос же о принад-
лежности его Новикову нуждается в дополнительных историко-сти-
листических исследованиях.
4 Г. Винокур, Критика поэтического текста, М. 1927, стр. 25.
310
дополнений автора и о целесообразности использования
чисто стилистических поправок того же времени. «Идео-
логические» изменения, по мнению профессора Винокура,
«искажают основной смысл и своеобразие „Русских но-
чей“»как памятника нашей литературы и общественности
в период 30-х годов. Но «что можно возразить,— спраши-
вает Г. О. Винокур,— против чисто стилистических попра-
вок, которых не так-то мало, а может быть и большин-
ство? Так, например, конец первого абзаца «Бала» в пер-
вой редакции читался: «...в полупотухших, остолбенелых
глазах мешалась горькая зависть с бешеным воспо-
минанием прошедшего,— и все вертелось, прыгало, бес-
новалось в сладострастном безумии...» Позднее Одоев-
ский поправил: „горькая зависть с горьким воспоми-
нанием прошедшего“» Ч Доводы Г. О. Винокура в пользу
последней поправки основаны на его личном вкусе, про-
извольны и антиисторичны: «Авторский замысел здесь
совершенно ясен: гораздо удачнее здесь параллелизм
«горькой зависти и горького воспоминания», чем парал-
лелизм «бешеного воспоминания с беснующимся сладо-
страстным безумием». Нет решительно никаких оснований
отвергать эту поправку, нисколько не нарушающую об-
щую идеологию «Русских ночей» и улучшающую чте-
ние» 1 2.
Ссылка на совпадение идей, выраженных в аноним-
ном или псевдонимном сочинении, с мировоззрением, со
взглядами того или иного автора может быть доказа-
тельной лишь в том случае, если будет убедительно по-
казана общность стилистических принципов воплощения
одинаковых идей. Здесь уместно напомнить высказыва-
ния Флобера о соотношении, связи идей и формы в ли-
тературно-художественном произведении: «Для меня же,
как бы мне за это ни попало, сказать, что в такой-то
фразе отделена форма от сущности, значит сказать,— я
это утверждаю,— что оба эти слова лишены смысла...
Идея существует лишь благодаря форме. Представьте
себе идею, которая не имела бы формы: это невозмож-
но,— как невозможна форма, которая не выражала бы
1 Г. Винокур, Критика поэтического текста, стр. 49; ср.
В. Ф. Одоевский, Соч., ч. I, СПб. 1844, стр. 81; его же, Рус-
ские ночи, под ред. С. А. Цветкова, М. 1913, стр. 111.
2 Г. Винокур, там же, стр. 49.
311
какой-нибудь идеи»1. В качестве попытки именно такой
постановки проблемы атрибуции анонимного текста и его
истолкования могу сослаться на свою статью «Неизве-
стное стихотворение Н. М. Карамзина»1 2.
Другое затруднение, которое связано с применением
метода узнавания автора, а также определения подлин-
ности текста по индивидуальному «набору» слов, по
«ключевым» словам («les mots cles») и выражениям,
касается принципов выделения, собирания и систематиза-
ции таких слов3. Ф. И. Витязев руководствуется общим
впечатлением о частоте употребления излюбленных слов,
сложившихся на основе изучения творчества данного
автора, убеждением в наличии соответствующего лекси-
ческого набора или его основной части в каждом из про-
изведений этого писателя. Однако в этом случае всегда
грозит опасность принять социально-групповое или жан-
ровое за индивидуальное. Ведь соответствующий «набор»
слов может быть типичным не только для индивидуаль-
ного стиля отдельного писателя, но и для целой группы
представителей того или иного жанра в литературе того
времени.
Мало того: некоторые из языковых компонентов та-
кого индивидуального набора могут оказаться общим до-
стоянием соответствующего стиля литературного языка
в эту эпоху. Ведь самый процесс отграничения или обо-
собления серии лексических элементов, характерных для
того или иного индивидуального литературного стиля, ис-
торически последовательно может осуществляться лишь
на фоне глубокого и отчетливого, точного изображения
или воспроизведения всей лексико-фразеологической си-
стемы литературного языка этого времени во всем много-
образии его стилей и жанровых вариаций. Вот почему
при опоре на субъективные, хотя бы и очень проверен-
ные на опыте, представления о типичном для того или
иного писателя «наборе» или «подборе» слов нередко
1 Цит. по кн.: А. М. Ев л ахов, Реализм или ирреализм?
Очерки по теории художественного творчества, т. I, Варшава, 1914
стр. 213.
2 «Сб. статей, поев. А. Скафтымову». «Ученые записки Сара-
товского государственного университета», 1958.
з Ср. G. Matore, Le methode en lexicologie, Paris, 1953,
312
бывали и ложные атрибуции. Правда, возможен и дру-
гой — математический или статистический метод выде-
ления «ключевых слов» в творчестве того или иного пи-
сателя Но здесь данный способ узнавания подлинности
текста или имени его автора уже сближается с серией
других методов — методов статистических.
Знаменитый революционный деятель Н. А. Морозов
напечатал в 1915 году статью «Лингвистические спектры»
с подзаголовком «Средство для отличения плагиатов от
истинных произведений того или другого известного ав-
тора. Стилеметрический этюд»1 2 3 * * *. Термин «стилеметрия»
Н. А. Морозов заимствует у тех филологов-класси-
ков, которые занимались исследованием стилисти-
ческих примет и стилистических отличий слога Платона
и других писателей античного мира. Особенно заинтере-
совали Н. А. Морозова работы Гомперца, В. Лютослав-
ского, Кампбелля (Кэмпбела), Диттенбергера, Гефера,
Дросте и других исследователей творчества Платона, до-
казывавших принадлежность Платону, подлинность текста
разных диалогов посредством статистического изучения
употребительности разных форм, слов, в том числе и
служебных, а также выражений, фразеологических обо-
ротов, иногда дублетных, синонимических слов8.
По мнению Н. А. Морозова, работы этого типа инте-
ресны как попытки найти объективный метод определе-
ния типических особенностей индивидуального склада
речи или слога, хотя самый выбор в качестве материала
для стилеметрического исследования диалогов, приписы-
ваемых Платону, казался Н. А. Морозову сомнительным.
«Различия в слоге различных произведений «Платона»
1 Ср. Р. Guiraud, Bibliographic critique de la statistique
linguistique Utrecht-Anvers, 1954.
2 H. А. Морозов, Лингвистические спектры, ИОРЯС, т. XX,
кн. 4, 1915. В сокращенном виде то же учение о «лингвистических
спектрах» изложено Н. А. Морозовым в главе IV (стр. ПО—139J
книги III его исследования «Христос» (М.— Л. 1927).
3 См., например, С. Ritter, Die Sprachstatistik in Anwendung
auf Platon und Goethe, «Neue Jahrbiicher fur das klassische Altertum»,
Bd. XI, 1903. Ср. также Const. Ritter, Neue Untersuchungen uber
Platon, Munchen, 1910.
3ia
(то есть приписываемых Платону и не вызвавших у сти-
леметристов сомнения в их подлинной принадлежности
греческому философу.— В. В.) оказались так велики,—
пишет Н. А. Морозов,— что покрыли собою колебания в
слоге других однородных с ним авторов, и таким обра-
зом сразу лишили зарождавшуюся стилеметрию всякого
практического значения. Этому же способствовало и то,
что границы ее области были отодвинуты платонистами
далеко за их естественные пределы. Вместо того чтоб под-
считывать общеупотребительные, часто встречающиеся
в языке служебные частицы, начали, наоборот, обра-
щать внимание на редкие выражения, на необычные
формы, да и в подсчете обычных служебных частиц не
соблюдалось никакого общего масштаба. Подсчеты вели
обыкновенно на страницу того или иного издания и циф-
ры давались в таком виде, что соотношения их по вели-
чине не представлялись наглядными» *.
Н. А. Морозов стремился пойти своим путем. Он ре-
шил, «отбросив все редкие слова, ограничиться наиболее
частыми и общими для всех родов литературы»1 2 и вос-
пользоваться для открытия стилеметрических законов на-
блюдениями над русскими классиками XIX века. Он ис-
ходил из убеждения, что в языке «все... элементы имеют
определенную пропорцию», так как «в природе и в обыч-
ной жизни человека все очень многократные события,
кажущиеся случайными, принимают при достаточном
числе повторений закономерный характер...»3. Отсюда
делался вывод, что статистические закономерности суще-
ствуют и в явлениях нашей живой устной и письменной
речи. «...Самые слова должны иметь в ней различную
частоту своей повторяемости»4. Этот принцип лежал в
основе стилеметрических работ, посвященных анализу
слога Платона и других античных писателей. Но, по мне-
нию Н. А. Морозова, слабая сторона трудов Гомперца,
Лютославского и других состояла именно в том, что они
придавали значение частоте употребления обычных зна-
менательных слов, зависящей в значительной степени от
темы, от предмета речи, от содержания книги. «В зооло-
гии будут часто встречаться имена животных и частей их
1 Н. А. Морозов, Лингвистические спектры, стр. 96—97.
2 Там же, стр. 97.
3 Та м же.
4 Там же, стр. 100.
314
тела, в химии имена реагентов и химических реакции, со-
всем не употребительные в обычном языке. В истории на-
родов будут часты собственные имена различных деяте-
лей и географические названия... Местоимение я будет
чаще встречаться в рассказах, излагаемых от имени пер-
вого лица. Местоимения он и она, во всех их падежах, бу-
дут часты в обычном романе» Ч
Н. А. Морозов полагал, что гораздо более, чем слова,
относящиеся к знаменательным частям речи, определяют
склад или слог писателя служебные или распорядитель-
ные частицы человеческой речи. «Это прежде всего союзы,
предлоги и отчасти местоимения и наречия, а затем и не-
которые вставные словечки, вроде то-есть, например, или
и так 'далее. Затем идут деепричастные и причастные
окончания, как задние приставные частицы, характери-
зующие среднюю сложность фразы у того или другого
автора» 1 2. С лингвистической точки зрения этот перечень
не может не показаться странным и внутренне противоре-
чивым. Но то, что здесь сказано о деепричастных и при-
частных конструкциях, в дальнейшем не находит никакого
развития3. Все внимание и весь интерес Н. А. Морозова
сосредоточены на «распорядительных частицах», разли-
чия в употреблении которых представляются ему наибо-
лее характерными для индивидуального склада речи (ср.,
например, своеобразия в употреблении таких синоними-
ческих служебных слов: так как и потому что; между и
среди или средь; иной — другой и т. д.).
Естественно, перед Н. А. Морозовым встал вопрос:
«Нельзя ли по частоте таких частиц узнавать авторов, как
по чертам их портретов?»4. Конечно, необходимо учиты-
вать исторические изменения в составе и употреблении
этих частиц. «Возьмем хотя бы частицу ибо, часто встре-
чающуюся в русском языке еще в первой четверти
XIX века. Очевидно, что вместо нее на графике совре-
менных нам писателей будет зияющая зазубрина... Точно
так же слово весьма оставит вместо себя пустоту, потому
что оно заменилось теперь почти нацело словом очень
1 Н. А. Морозов, Лингвистические спектры, стр. 100—101.
2 Там же, стр. 101.
3 Впрочем, ср. там же, стр. 94: «У одних фраза длинная, с по-
стоянными придаточными предложениями, у других — короткая; у
одних очень часты деепричастия, а у других их почти совсем нет».
4 Н. А. Морозов, Лингвистические спектры, 102.
315
й т, д. и т. д. Даже у современных друг другу писателей
должны появляться свои оригинальные зазубрины, свой-
ственные лишь им одним, благодаря антипатии того или
другого автора к той или другой служебной частице»1.
Н. А. Морозов считает самым верным средством опре-
деления подлинности или подложности текста составление
графикой частоты употребления распорядительных ча-
стиц в языке произведений и сопоставление показаний та-
ких графиков. «Все это,— по словам Морозова,— делает
такие графики подобными световым спектрам химиче-
ских элементов, в которых каждый элемент характери-
зуется своими особыми зазубринами, так что астроном
легко и надежно определяет по ним химический состав
недоступных нам небесных светил»1 2. Отсюда и назва-
ние — «лингвистические спектры», а исследование по
этим спектрам авторов Морозов склонен был считать
лингвистическим анализом, соответственно спектральному
анализу состава небесных светил. Чтобы не давать очень
сложных общих спектров, Морозов различал спектры
«предложные, союзные, местоименные... и т. д., судя по
тому, что они представляют»3. Само собой разумеется,
что нельзя решать вопроса по какому-либо одному не-
достаточно показательному спектру, например по сов-
падению показателей частоты употребления предлогов
в, на и с. Так, по утверждению Морозова, этот «глав-
ный предложный спектр» однороден у Пушкина и Турге-
нева, хотя и очень отличен от соответствующего предлож-
ного спектра у Гоголя (преобладание предлога на над в,
у Пушкина же, наоборот, сильное преобладание пред-
лога в). Характерно, что предлоги в и на Морозов
«брал для простоты счета суммарно, не расчленяя на
падежи, перед которыми они стоят»4.
Для получения вполне достоверных показаний, по
мнению Н. А. Морозова, «необходимо составить очень
длинный многочисленный спектр или несколько корот-
ких, но разнородных по своему содержанию спектров, и
это тем более необходимо, что не всякий член спектра
постоянен у данного автора по частоте своего употреб-
1 Н. А. Морозов, Лингвистические спектры, 102.
2 Т а м же.
3 Там же, стр. 104.
4 Там же, примеч. на стр. 105.
316
ления»1. Так, «у каждого автора, писавшего более полу-*
века, лингвистический спектр не может оставаться все
время совершенно неизменным. Он должен подвергаться
медленной эволюции, как и световые спектры физиче-
ских тел, изменяющиеся по мере повышения темпера-
туры» 1 2. Для составления спектров берутся тысячи слов
из сочинений разных писателей или целые произведе-
ния — более или менее соразмерные. Н. А. Морозов со-
ставляет также «естественные» спектры и по употреб-
лению союзов и, а в языке Пушкина, Гоголя, Л. Тол-
стого. Однако отсутствие специальной языковедческой
подготовки иногда резко сказывается у Морозова в при-
емах выделения союза и сопоставления разных значе-
ний или функций.
Вот некоторые из спектральных наблюдений
Н. А. Морозова: отсутствие будто у Тургенева («Бри-
гадир», «Перепелка», «Малиновая вода»), избыток этой
частицы у Гоголя («Майская ночь», «Страшная месть»,
«Тарас Бульба», «Нос»); полное отсутствие ибо у Турге-
нева и Л. Толстого («Три смерти», «Три старца»,
«Смерть Ивана Ильича», «Корней Васильев»); может
без быть — у Гоголя, может быть — у Карамзина: всё
как наречие редко у Пушкина, часто у Гоголя и Тол-
стого; местоимение всякий у Гоголя заменяется через
каждый; то же, по-видимому, у Толстого, а у Тургенева
наоборот, и т. п. Приводятся в таблицах цифровые
данные, статистические подсчеты.
Этого рода лингвистический анализ, по мнению
Н. А. Морозова, дает «объективные основы для сужде-
ний об одноавторности и разноавторности произведе-
ний. Что же касается до применимости этого метода ко
всякому языку и ко всякой эпохе, то в этом не может
быть сомнения. Все различие в слоге у разных писате-
лей, одинаких по языку и по роду своего творчества,
именно и заключается в средней длине и сложности их
фразы и в различном употреблении ими служебных
частиц речи»3. Это обобщение, относящее к пробле-
мам сущности стиля и стилистических различий,
наивно и не выдерживает ни малейшей научной кри-
1 Н. А. Морозов, Лингвистические спектры, стр. 102.
2 Та м же, стр. 106.
3 Т а м же, стр. 113.
317
тики. Но для стилистической концепции Н. А. Морозова
оно было очень существенно, так как лексико-фразеоло-
гическим различиям стиля, а также различиям конст-
рукций и словорасположения Морозов не придавал
большого значения. Метод стилистического исследова-
ния, основанный на подсчете частоты употребления
«конструктивных частиц», кажется Морозову очень
ценным. «В своем окончательном виде этот метод еще
нов, а потому и целесообразное и объективное приме-
нение его, как и всего нового, может привести к неожи-
данно важным результатам» *.
Несостоятельность точки зрения Н. А. Морозова на
принципы определения подлинности и подложности
платоновских текстов отмечена в статье В. Э. Сеземана
о лингвистических спектрах Морозова1 2. Как указал
В. Э. Сеземан, Н. А. Морозов не считается с эволюцией
стиля писателя, с возможными изменениями в способах
отбора слов при длительном сроке литературной деятель-
ности автора. «Литературное наречие автора, писавшего
в течение полустолетия, и притом, вероятно, с много-
летними перерывами, и испытавшего на себе разнооб-
разнейшие влияния, не могло не претерпеть весьма
значительных изменений; причем более естественно
предположить, что эти изменения совершались не
плавно, а скачками»3. Кроме того, Н. А. Морозов
упускает из виду ритм художественной прозы. Между
тем «стилистические особенности писателя — его сло-
варь, предпочтение им тех или других распорядитель-
ных частиц, а также расстановка слов в предложении,—
все это в значительной мере обусловлено ритмическим
строем его речи» 4. Вместе с тем были отмечены недо-
статки выдвинутого Н. А. Морозовым применения ста-
тистического метода к изучению стиля (прежде всего
лексики) разных писателей и с точки зрения математи-
ческой статистики.
Образец статистического исследования литератур-
ного текста еще раньше был дан академиком А. А. Мар-
1 Н. А. Морозов, Лингвистические спектры, стр. 127.
2 В. Сеземан, «Лингвистические спектры» г. Морозова и Пла-
тоновский вопрос, ИОРЯС, т. XXII, кн. 2, 1918, стр. 70 и сл.
3 Та м же, стр. 78.
4 Там же, стр. 79.
318
ковым1. В качестве обязательного условия успешности
применения математического метода автором было вы-
двинуто положение, что постоянство итогов, другими
словами — устойчивость их, не принимается на веру,
а устанавливается в самом исследовании, причем дол-
жен быть выяснен и размер колебаний. Ссылки же на
постоянство других итогов, если бы даже они были
совершенно верными, и на общий закон больших чисел
нисколько не доказывают устойчивости рассматривае-
мых итогов. Между тем это условие в работе Н. А. Мо-
розова не соблюдено.
Критике морозовского применения статистического
метода А. А. Марков посвятил еще одну статью1 2. По
словам А. А. Маркова, в статье Н. А. Морозова «Линг-
вистические спектры» «нет' и попытки доказать, что
приведенные итоги характерны для русских писателей,
а не относятся только к тем немногим отрывкам (по
тысяче слов в каждом), которые были подвергнуты
подсчету»3. Произведенные А. А. Марковым подсчеты
употребления тех же самых «распорядительных» частиц,
например, отрицания не, предлогов в и на, на других
отрывках в тысячу слов из сочинений тех же писателей
привели его к совсем иным результатам, к иным циф-
рам. «Примеры большого разногласия итогов, относя-
щихся к одному и тому же писателю,— пишет
А. А. Марков,— встретились и автору «Лингвистических
спектров», но он приписал такое разногласие вообра-
жаемой особенности писателя (графа Толстого): какой-
то специальной корректурной обработке»4. «Итак, под-
счеты немногих тысяч последовательных слов в произ-
ведениях различных писателей... представляют шаткое
основание для заключений об особенностях речи каж-
дого из этих писателей; замена одних тысяч слов дру-
1 А. А. Марков, Пример статистического исследования над
текстом «Евгения Онегина», иллюстрирующий связь испытаний в
цепь, «Известия Имп. АН», Серия VI, т. VII, № 3, 1913, стр. 153—
162. (Это исследование, как пишет автор, относится к «последова-
тельности 2 тыс. русских букв, не считая ъ и ь, в романе А. С. Пуш-
кина «Евгений Онегин», которая заполняет всю первую главу и
шестнадцать строф второй»).
2 А. А. М а р к о в, Об одном применении статистического ме-
тода, «Известия Имп. АН», Серия VI, т. X, 1916, стр. 239—242.
3 Т а м же, стр. 239.
4 Т а м же, стр. 240.
319
гими может превращать такие заключения в противопо-
ложные, что и указывает на сомнительность их. Только
значительное расширение поля исследования (подсчет
не пяти тысяч, а сотен тысяч слов) может придать за-
ключениям некоторую степень основательности, если
только границы итогов различных писателей окажутся
резко отделенными, а не обнаружится другое весьма
вероятное обстоятельство, что итоги всех писателей
будут колебаться около одного среднего числа, подчи-
няясь общим законам языка»1.
Однако неудача морозовского метода «лингвистиче-
ских спектров» не свидетельствует о том, что примене-
ние статистического метода к определению подлинности
или подложности литературного текста, а также в целях
его атрибуции не может привести к точным и доказа-
тельным выводам, к успешному решению этих вопросов.
Широкое развитие статистического исследования сло-
варного состава языка, изучение частотности употребле-
ния разных групп слов в речевом общении начинают
все больше и больше влиять и на стилистическое изу-
чение лексики не только литературного языка, но и
языка художественной литературы. См., например, мно-
гочисленные работы профессора П. Гиро по статистиче-
скому изучению словаря произведений классиков
французского театра и стихотворного творчества фран-
цузских поэтов-символистов2. Профессор Ж. Маторе
полагает, что работы П. Гиро помогут обнаружить не-
которые законы, которым подчинена стилистика писа-
теля3. Однако надо прямо сказать, что словари или
лексикологические исследования, стремящиеся воспроиз-
вести и отразить статистическую структуру лексики
того или иного национального языка (немецкого —
словарь Ф. Кединга, французского, английского, чешско-
го, русского — работа Г. Иоссельсона, испанского — сло-
варь В. Оса и др. под.) 4, еще недостаточно четки и точны
в распределении лексической системы языка по группам
слов в отношении частоты употребления, в определении
1 А. А. Марков, Об одном применении статистического ме-
тода, «Известия Имп. АН», серия VI, т. X, 1916, стр. 241—242.
2 Ср. также Р. Guiraud, Les caracteres statistiques du voca-
bulaire, Paris, 1954 (тут же: La poetique de Valery)\
3 Cm. G. Ma tore, Le methode en lexicologie, p. 31.
4 См., например, «Вопросы языкознания», 1957, № 4, стр. 117—
118. Ср. сб. «Вопросы статистики речи», изд. МГУ, 1958.
320
количественных закономерностей функционирования
словаря, лишены ясной стилистической перспективы и
пока не могут служить базой для выяснения динамики
или исторических тенденций развития лексики языка.
Следовательно, предстоит еще очень большая работа
в области статистического изучения лексики, для того
чтобы на основе данных об индивидуальных различиях
в частоте употребления тех или иных разрядов слов,
тех или иных лексических дублетов, синонимов и т. п.
делать выводы о специфике индивидуальных стилей той
или иной эпохи и решать вопросы о приурочении ано-
нимных произведений к определенным авторам. Вместе
с тем применение статистического метода в области
научной критики текста и эвристики должно быть при-
знано очень ограниченным. Ведь даже в том случае,
если этот метод на основе точного решения вопроса
о количественных закономерностях индивидуального
словоупотребления будет приводить к правильному вы-
воду об авторской принадлежности текста, о его
подлинности, он не в состоянии приблизить нас к глу-
бокому пониманию экспрессивно-семантической и эстети-
ческой специфики индивидуального стиля, его соотно-
шения с другими стилями, его места в историческом
движении художественной литературы и его значения
в общем развитии культуры народа. Математико-стати-
стический механизм дифференциации стилей по коли-
чественным признакам лишь в самой малой степени
может раскрыть перед нами законы их внутреннего
развития, а также их связи и взаимодействия. Ведь
в данном случае при решении вопроса отсутствует глав-
ное условие научно-филологической критики текста —
исчерпывающее понимание содержания, ясное знание
широкого культурно-исторического контекста.
Кроме того, статистический механизм атрибуции
никак не связан с решением основной задачи филоло-
гической критики — воссоздания критически проверен-
ного текста произведения. Само понятие конъектуры,
то есть гипотетически восстановленного подлинного
выражения в тексте вместо ошибочного, искаженного,
неисправного, в общем чуждо статистическому методу.
Следовательно, этот метод может быть лишь важным
вспомогательным средством при решении вопросов
авторства, подлинности и подложности текста. Подска-
321
зывая ответы на эти вопросы, он нуждается в историко-
филологической опоре, в критике и оценке полученных
ответов по их существу — как литературно-эстетиче-
скому, так и историко-литературному. В этой связи
становится понятным, почему теория «лингвистических
спектров» Н. А. Морозова не получила у нас дальней-
шего развития, усовершенствования и уточнения. На-
против, она была неправомерно переведена или перене-
сена некоторыми нашими филологами совсем в другую
плоскость и сблизилась с приемом или методом субъек-
тивно-избирательной характеристики стиля писателя.
Термин «лингвистический спектр» стал иногда упо-
требляться в расширенном смысле. Понятие «лингви-
стического спектра» применяется к совокупности тех
признаков языка и стиля, которые признаются наиболее
типичными для того или иного автора. Так, проф.
А. Ф. Ефремов в работе «Язык Н. Г. Чернышевского»
пишет; «В результате изучения языка Чернышевского
устанавливается его «лингвистический спектр»: логиза-
ция синтаксических конструкций и наличие заключи-
тельных союзов итак, значит, следовательно, стало
быть и др., наличие специальных логико-синтаксических
расчленителей и пояснительного союза то есть, повторение
слов без перечисляющей интонации, самоотрицание и
самоутверждение, языковые средства выражения высше-
го напряжения, отяжеление номинативных конструкций,
согласование нечленного прилагательного в единствен-
ном числе с местоимением вы вежливости, именительный
предикативный при неидеальных связках, внутрифразо-
вые вопросы, объединение сложноподчиненных предло-
жений, мнимая интимизация, архаичность синтаксическо-
го управления, компаратив на -ейш-, наличие наречия
гораздо при компаративе с приставкой по-, деепричастие
несовершенного вида на -ши и -вши, глагол прошедшего
времени совершенного вида с частицей -сь (-ся) в роли
сказуемого, форма творительного падежа на -ию, плю-
рализация, суффиксальные образования на -ние со зна-
чением совершенного вида, употребление некоторых слов,
некоторые особенности произношения и т. д.»...1
1 А. Ф. Ефремов, Язык Н. Г. Чернышевского, «Ученые за-
писки» [Саратовского гос. пед. института], вып. XIV, Кафедра рус-
ского языка, 1951, стр. 378.
322
«Лингвистический спектр» в этом смысле, по убеж-
дению А. Ф. Ефремова, «дает возможность установить
авторство Чернышевского в отношении некоторых работ.
Так, на основании лингвистических данных можно счи-
тать его автором прокламации «Барским крестьянам»
и критической статьи о пьесе Островского «Бедность не
порок»,— статьи, помещенной... в собрании сочинений
Чернышевского и в собрании сочинений Добролюбова.
По лингвистическим данным есть возможность судить и
о степени активности Чернышевского в его редакторской
работе над статьями, какие проходили через его руки,
особенно над наиболее важными в идеологическом отно-
шении. Безымянная, например, рецензия на книгу Бруно
Гильдебранда «Политическая экономия настоящего и
будущего» («Современник», 1861, № 3) подверглась с
его стороны такой сильной переработке, что она по свое-
му содержанию, по приемам композиции, по текстологи-
ческим соответствиям и по языку приобрела характер,
присущий индивидуальному стилю Чернышевского. Юри-
дически, по показаниям самого Чернышевского в письме
к И. А. Панаеву от 10 апреля 1861 года, автором рецен-
зии был не Чернышевский, а по конторским книгам от
11 апреля 1861 года — Самоцветов, по существу же ав-
тор ее — Чернышевский, так что фамилия «Самоцветов»
звучит как подставная фамилия» *.
Приемы определения «лингвистического спектра»
писателя в понимании А. Ф. Ефремова сводятся к вы-
делению характеристических, отличительных «языко-
вых особенностей» автора, специфических примет его
индивидуального стиля. «Изучение языковых особен-
ностей Чернышевского при учете его лингвистических
высказываний и при сопоставлении его языковых осо-
бенностей с языковыми особенностями его современни-
ков, а где нужно и с языковыми особенностями его
предшественников,— пишет А. Ф. Ефремов,— выясняет
стилевые позиции его как революционного демократа,
вскрывает его языковую специфику, его «лингвистический
спектр», его отношение к традициям и языковой современ-
ности, а также уясняет его место в общей перспективе
истории развития русского литературного языка»1 2.
1 А. Ф. Ефремов, Язык Н. Г. Чернышевского, там ж е,
стр. 379.
2 Там же, стр. 5.
323
А. Ф. Ефремов признает, что отбор языковых осо-
бенностей писателя, показательных для познания его
творческой индивидуальности,— дело сложное и тонкое.
«...Языковое своеобразие у Чернышевского,— пишет
он,— двояко: одно вытекает из идейно-стилистических
установок, а другое — из индивидуальных привычек,
социально не противопоставлено и может быть в какой-
то мере сопоставлено с подобными особенностями
языка тех или других писателей и литературного языка
его времени вообще, а в некоторых случаях и с особен-
ностями языкового прошлого. Своеобразие проявляется
во всех разделах языка Чернышевского, но, конечно, не
все моменты этих разделов своеобразны и входят в его
«лингвистический спектр». Не все языковые особенно-
сти сознательно, преднамеренно использованы им пред-
почтительно перед другими; некоторую долю их сле-
дует объяснить крепко усвоенной привычкой» *. В этой
интерпретации понятие «лингвистического спектра»
сближается с принципами литературной эвристики
Ф. И. Витязева и входит в круг субъективно-избиратель-
ных приемов определения автора анонимного литера-
турного текста.
6
Задачи и приемы научной критики текста и эври-
стики безмерно расширяются и усложняются, когда мы
вступаем в стилистически необъятную, почти беспре-
дельную сферу проблем восстановления и издания пра-
вильного литературного текста. Однако избежать хотя
бы поверхностного и частичного соприкосновения с этой
сферой —даже при суженном изложении методов
эвристики, способов узнавания подлинности и подлож-
ности текста — невозможно. Ведь работа над установле-
нием правильного текста писателя и историко-стилисти-
ческая (а также культурно-историческая) оценка
степени его правильности — лучшая школа познания
стиля писателя в широком историческом — языковом и
литературном — контексте. В самом деле, не всегда
даже обозначение автора под текстом (или над тек-
стом) того или иного произведения служит несомненной
’А. Ф. Ефремов, Язык Н. Г. Чернышевского, там же,
стр. 9.
324
гарантией принадлежности ему этого сочинения. Нуж-
ны историко-документальные и историко-стилистические
доказательства. Вот характерный пример из истории
издания сочинений Е. А. Баратынского. В первом томе
академического издания его стихотворений под редак-
цией М. Л. Гофмана помещено стихотворение «Романс»
(«Не позабудь меня») Ч Оно извлечено из «Полного но-
вейшего песенника в тринадцати частях... собранного
И-м Гурьяновым», ч. 12 (М. 1835, стр. 50—51). Здесь
оно напечатано с подписью «Баратынский». Между тем
впервые оно было опубликовано в «Невском альманахе»
за 1825 год (СПб. 1825, стр. 52—53) с подписью «Князь
Цертелев»1 2. Стиль этого «Романса» очень далек от сти-
ля Баратынского. Однако текстолог, подобно влюб-
ленной женщине, нередко видит то, что ему хочется и
чего в действительности нет. Тот же М. Л. Гофман по-
местил в первом томе академического издания стихо-
творений Е. А. Баратынского стихотворение «Смерть
Багговута» (стр. 111—112) с примечанием, что оно «на-
печатано в «Северном архиве» 1829 года, № 5, стр. 171,
под заглавием «Смерть Багговута 6 октября 1812 г.»
и с подписью „Баратынский"» (стр. 279). Стихотворе-
ние это, чрезвычайно слабое в художественном отно-
шении, имеет очень мало общего со стилем и творче-
ством Баратынского. Сделанная П. Филипповичем про-
верка приведенных в академическом издании «фактов»
показала, что действительно стихотворение «Смерть
Багговута» находится в «Сыне отечества» и «Северном
архиве» (т. I, СПб. 1829, стр. 171—172), но без подписи
автора и снабжено примечанием: «Сочинение юноши,
еще находящегося в одном из казенных учебных заве-
дений. Талант виден»3.
Критерий подлинности может быть применен и к тек-
сту неточному, контаминированному, искаженному лишь
в отдельных словах, фразах. Например, в пушкинском
стихотворении «С Гомером долго ты беседовал один..-.»
1 Е. А. Баратынский, Поли. собр. соч., т. I, под ред. и с
примеч. М. Л. Гофмана («Акад, б-ка русск. писателей», вып. 10),
Спб. 1914, стр. 147.
2 См. статью П. Филипповича, Об академическом издании
стихотворений Е. А. Баратынского, «ЖМНП», Новая серия, 1915,
март, стр. 194.
3 Т а м же, стр. 195.
325
стих «Разбил ли ты свои скрижали» долгое время пе-
чатался так: «Разбил (разбив) листы своей скрижали».
Правильное чтение литературного текста зависит не
всегда только от внимательного и острого глаза, но и от
понимания стиля писателя. Вот характерный пример.
В пушкинской заметке о «Путешествии В. Л. П.» до по-
следнего академического издания сочинений А. С. Пуш-
кина печаталось: «„Для тех, которые любят поэзию не
только в ее лирических порывах или в дивном вдохнове-
нии элегии... “ Следует: „ в унылом вдохновении элегии “ »
Изучение литературного произведения в его созида-
нии, в процессе его оформления опирается на семанти-
ческий и стилистический подход к рукописям, прежде
всего к черновикам, а затем и к печатным текстам.
«„Новая манера” чтения пушкинских черновиков,— пи-
сал профессор С. М. Бонди,— характеризуется именно
стремлением понять смысл, значение и место каждого
написанного слова, отдельной буквы (курсив мой.—
В. В.). Осмыслить всякое написание в двояком смысле:
с одной стороны — с точки зрения окончательного ре-
зультата работы Пушкина над данным местом: в какой
мере приближается данное чтение к этому окончатель-
ному, удовлетворившему автора результату; с другой
стороны — с точки зрения того, в какой момент работы
возникло данное написание, после каких других, в ка-
кой последовательности вообще писался текст, дающий
в результате сложный, перечерканный и перемаранный
черновик. Обе эти точки зрения — телеологическая и
хронологическая — в сущности представляют собой две
стороны одного и того же, а именно — исследования
сплошного, целеустремленного процесса написания дан-
ного произведения или части его»1 2. Такое изучение свя-
зано с последовательным изложением всего хода работы
поэта, всех написаний, зачеркиваний, колебаний, воз-
вращений к первоначальному чтению. Это изложение
осуществляется в виде связных, осмысленных вариантов
к словам, стихам, фразам и т. д.
1 См. В. Гиппиус, О текстах критической прозы Пушкина,
«Пушкин. Временник Пушкинской комиссии», 4—5, М.—Л. 1939,
стр. 568.
2 С. М. Бонд и, Неосуществленное послание Пушкина к «Зе-
леной лампе», «Пушкин. Временник Пушкинской комиссии», 1.
М,—Л. 1936, стр. 33—34.
326
В рукописях, как в своеобразной стенограмме или
словоулавливающем аппарате, отражаются тончайшие
оттенки и колебания авторского замысла и форм его
стилистического воплощения. Варианты словесно-худо-
жественного оформления, извлекаемые из рукописей,
представляют драгоценнейший источник для понимания
и изучения процесса творчества данного произведения,
изменений и роста творческого замысла, для исследо-
вания языка и стиля писателя. Ту текстологическую
точку зрения, те принципы воспроизведения текста, ко-
торые были выработаны в академическом издании сочи-
нений Пушкина, удобнее всего можно назвать стилисти-
ко-семасиологическими. Главная задача — «все понять в
рукописи, осмыслить ее форму»; отдельные слова, фра-
зы и т. д. должны читаться «на основании понимания
всего целого», расшифровываться «в данном конкрет-
ном контексте и с помощью этого контекста»1. Воспро-
изводя работу автора над текстом, мы «повторяем вслед
за автором весь ход его работы, воспроизводим в своем
сознании все варианты, придуманные автором (и отбро-
шенные им), и именно в той последовательности, в ко-
торой они придумывались и отбрасывались, для нас ста-
новится яснее смысл всех его поправок, мы начинаем
как бы изнутри видеть весь текст, понимая его в его
становлении, и потому это понимание легко подсказы-
вает нам и расшифровку вовсе неразборчивого слова, и
простое и естественное заполнение недописанного второ-
пях автором»1 2.
Это движение «по следам творившего поэта», «по
течению его мыслей» представляется С. М. Бонди как
процесс текстологического «сопереживания» авторского
творческого акта. Текстолог этого типа до некоторой
(правда, несоизмеримо малой!) степени наталкивается
«на те же ассоциации, которые возникали у поэта». «Ко-
нечно, нам,— пишет С. М. Бонди,— не придет в голову
именно тот самый эпитет, то самое слово, которое при-
шло в голову в этом месте Пушкину. Но глядя на нераз-
борчиво или с искажающей опиской написанное слово,
фразу, мы, подготовленные всей последовательностью
1 .С. Бонди, О чтении рукописей Пушкина, «ИАН СССР.
Отделение обществ, наук», № 2—3, 1937, стр. 570.
2 Т а м же, стр. 585.
327
•предыдущего хода мыслей поэта, всей совокупностью от-
вергнутых и принятых вариантов, гораздо легче поймем,
расшифруем его, догадаемся о его смысле»1. Текстолог
должен «ухватить нить создания произведения», хотя
бы «небольшой кончик» ее, и с ее помощью дойти до
окончательного текста. Может возникнуть сомнение: не
слишком ли большая роль — при такой интерпретации
текста — отводится художественной интуиции филолога
в ущерб его конкретно-исторической исследовательской
деятельности? Любопытно, что и сам С. М. Бонди от-
мечает некоторые недостатки и ограниченные возможно-
сти новых принципов текстологической реконструкции
работы писателя над своим произведением. Он видит
два основных недостатка: 1) полностью вся последова-
тельность работы писателя этим способом «показана
быть не может прежде всего потому, что мы далеко не
всегда можем быть вполне уверены, что точно знаем эту
последовательность. В большинстве случаев она видна
из анализа рукописи, но есть случаи, когда рукопись
ничего не дает в этом смысле»; 2) «в нашем способе
подачи черновика текст дается, как правило, в после-
довательности самого произведения (от первых его
строк к последним), между тем как иной раз (и нередко)
пишется оно не подряд, а то, что ближе к концу,— рань-
ше предыдущего и т. п.» 1 2.
Филологи, увлеченные изучением рукописей избран-
ного писателя и скептически оценивающие степень до-
стоверности печатных текстов прижизненных изданий,
ссылаются на невнимательность авторской правки и на
обилие ошибок и искажений со стороны переписчиков и
корректоров. Правда, количественные соотношения пра-
вильного и испорченного текста произведений разных
авторов, хотя бы XIX и XX веков, никем не определя-
лись. Тем не менее существует такая точка зрения, что
подлинный текст любого литературно-художественного
произведения прошлого — это не реально-исторический
факт, не реальная данность, а только искомое, которое
нужно установить, или задача (почти — загадка), кото-
1 С. Бонди, Новые страницы Пушкина, М. 1931, стр. 6.
2 С. Бонди, Отчет о работе над IV томом [акад. изд. Пуш-
кина], «Пушкин. Временник Пушкинской комиссии», 2, М.— Л.
1936, стр. 462.
328
рую следует разрешить, и что каждое слово такого про*
изведения должно быть подвергнуто испытанию и оправ-
данию. Выдвигается как основное условие реконструк-
ции окончательного текста требование обязательной
проверки текста «по всем рукописям, с тем чтобы, по
возможности, довести проверку до автографического
написания каждого слова»1.
Таким образом, у нас в некоторых кругах филологов
распространен крайний скептицизм в оценке достовер-
ности и подлинности печатного авторского текста, даже
помещенного в прижизненном авторизованном издании.
Считается, что вполне правильным и адекватным яв-
ляется лишь «автографическое написание». Слепая вера
в показания рукописи затемняет значение исправлен-
ного и проверенного автором печатного произведения. По
мнению таких филологов, истинный, подлинный текст
произведения можно восстановить и получить, только
«идя от прижизненного издания к рукописям (автогра-
фам и авторизованным копиям), с тем чтобы, по воз-
можности, каждое слово классического творения было
подтверждено автографическим написанием его или
другой рукописью, заменяющей автограф (если имеются
прямые тому доказательства). Лишь при таком анализе
устанавливается действительно неискаженный текст»1 2.
Никаких разъяснений того, какими преимуществами
обладают «авторизованные копии» или «другие руко-
писи, заменяющие автограф» по сравнению с автори-
зованным печатным текстом произведения, не искажен-
ного цензурой, нет. Между тем даже наличие «автогра-
фического написания слова» не обеспечивает безуслов-
ных прав этого слова или выражения на включение в
подлинный текст.
В академическом издании первого тома «Мертвых
душ» в текст внесен из первоначальной черновой руко-
писи Гоголя целый ряд «автографических написаний»,
которые не были включены ни в одну из последующих
редакций, ни в первопечатный текст, а заменены там
другими выражениями или вовсе изъяты. Например, в
1 Н. К. Гудзий, В. А. Жданов, Вопросы текстологии, «Но-
вый мир», 1953, № 3, стр. 236.
2 Т а м же, стр. 232.
329
речи Коробочки первоначально содержалось такое опи-
сание мер борьбы с болями в пояснице и ломотой в
ноге: «Я-то мазала свиным салом и скипидаром тоже
смачивала» L Но затем — во всех последующих рукопи-
сях (даже в той, которая была написана в большей
своей части под диктовку Гоголя) и в первоначальном
тексте — глагольная форма мазала иронически заме-
нена, очевидно для стилистической симметрии со словом
смачивала, формой несовершенного вида другого гла-
гола — смазывала: «Я-то смазывала свиным салом и
скипидаром тоже смачивала»1 2. Никаких оснований для
возвращения к самому первому варианту не было, кро-
ме субъективного ощущения редактора, что с точки зре-
ния современного литературного словоупотребления
глагол мазать в сочетании со «свиным салом» к ноге
и пояснице более применим, чем глагол смазывать. Но
с этой же точки зрения редактору следовало бы забра-
ковать и глагол смачивать. Скипидаром поясницу те-
перь не смачивают, а натирают.
Вот еще один пример немотивированного возвращения
к самому раннему рукописному варианту в академиче-
ском издании «Мертвых душ» Гоголя. Речь идет об описа-
нии внешнего вида Коробочки. «Минуту спустя вошла хо-
зяйка, женщина пожилых лет, в каком-то спальном чеп-
це, надетом наскоро, с фланелью на шее...»3 На следую-
щий день после приезда Чичикова она является перед
ним уже в несколько улучшенном виде: «Она была одета
лучше, нежели вчера,— в темном платье, и уже не
в спальном чепце, но на шее все-таки было что-то навяза-
но»4 (в одной из первоначальных редакций намотано) 5.
Вместо слова все-таки во всех последующих редакциях
стоит выражение все также: «...и уже не в спальном
чепце, но на шее все также было что-то навязано» 6.
Несомненно, что все также здесь более оправдано.
Оно воспроизводит в памяти читателя первоначальное
описание убора Коробочки. Противительное все-таки,
1 Н. В. Гоголь, Поли. собр. соч., т. VI, Изд. АН СССР, 1951,
стр. 49, 278.
2 Там же, стр. 371; см. также стр. 718 и 910.
3 Т а м же, стр. 45.
4 Т а м же, стр. 48—49.
5 Т а м же, стр. 371.
6 Там же, стр. 718.
330
напротив, намекает на комическую, но внутреннюю, как
бы постоянную связь между чепцом и чем-то намотан-
ным, навязанным на шее. Во всяком случае, воспроизво-
дить самый ранний вариант этого места в академическом
издании не было никаких оснований, кроме субъектив-
ных домыслов о порче, произведенной переписчиком.’
В первой, черновой редакции речь Плюшкина, обра-
щенная к Прошке, звучала так: «Поставь самовар,
слышь! да вот, возьми ключ да отдай Мавре, чтобы по-
шла в кладовую... Там на полке есть сухарь от кулича,
который привезла Александра Степановна, чтобы по-
дала его к чаю... Постой, куда же ты? Дурачина!.. Эхва,
дурачина!.. Э, какой же ты дурачина!.. Чего улепеты-
ваешь? Бес у тебя в ногах, что ли, чешется? Ты выслу-
шай прежде..:»1. Но уже в копии первоначальной руко-
писи (а эта копия создавалась при участии автора, «из-
менявшего текст») Гоголем были выброшены из этой
речи два предложения: «Э, какой же ты дурачина!.. Чего
улепетываешь?»1 2. Можно догадываться и о тех стили-
стических мотивах, которые побудили Гоголя выбросить
эти две фразы. После междометного восклицания с на-
родно-областной окраской «Эхва, дурачина!» синонимич-
ное литературно-разговорное предложение «Э, какой же
ты дурачина!» звучало диссонансом. Его экспрессия —
скорбно-укоризненная — не соответствовала грубому и
резкому тону приказаний и окриков в обращении Плюш-
кина к Прошке. Точно так же последующая фраза
«Чего улепетываешь?» вызывала представление о стрем-
лении Прошки ускользнуть, скрыться от барина, увиль-
нуть от исполнения его приказаний. Ведь улепетывать
означает не просто «бежать» или «убегать», а именно с
желанием избавиться, освободиться от чего-нибудь не-
приятного. Поэтому нет никаких достоверных оснований
считать пропуск фраз ошибкой переписчика и восстанав-
ливать их в окончательном тексте «Мертвых душ».
Очень интересна рукописная эволюция такой фразы
из IV главы «Мертвых душ»: «Взобравшись узенькою
деревянною лестницею наверх, в широкие сени, он встре-
тил отворившуюся со скрипом дверь и вместе с нею ис-
ходивший свет и толстую старуху в пестрых ситцах, про-
1 Н. В. Гоголь, Поли. собр. соч., т. VI, стр. 317.
2 Там же, стр. 434.
331
говорившую: „Сюда пожалуйте!"»1. Так было в римской
рукописи, написанной под диктовку Гоголя. Здесь при-
менен типичный для гоголевского стиля прием присое-
динительного перечисления названий предметов разных
функциональных рядов («встретил... дверь... свет... ста-
руху»), Однако выражение «вместе с нею (дверью) исхо-
дивший (свет)» было двусмысленно и противоречиво
(дверь не исходила и свет исходил не вместе с дверью,
а вместе с ее отворением). Вот почему уже в следующем
списке «Мертвых душ», подвергнувшемся авторской
правке, исходивший сеет был выброшен, и соответствую-
щие части фразы приняли следующую форму: «...встре-
тил отворившуюся со скрипом дверь и вместе с нею тол-
стую старуху в пестрых ситцах...»1 2. В цензурной руко-
писи в первопечатном тексте отсутствует и сочетание
вместе с нею: «Он встретил отворившуюся со скрипом
дверь и толстую старуху в пестрых ситцах, проговорив-
шую: „Сюда пожалуйте!"3. В академическом издании
«Мертвых душ» восстановлена первоначальная черно-
вая редакция текста этого отрезка4, хотя для такой ре-
конструкции не было уважительных причин.
Привязанность к «автографическим написаниям» по-
буждает текстологов включать в окончательный текст
из рукописей все те слова и фразы, относительно кото-
рых не видно, что они были вычеркнуты автором собст-
венноручно. Так, в последнейцензурной рукописи
«Мертвых душ» и в первопечатном тексте реплика Чи-
чикова о ценах на мертвые души и покупателях их, об-
ращенная к Коробочке, имела такой вид:
«— Страм, страм, матушка! просто страм! Ну, что
вы это говорите, подумайте сами! Кто ж станет поку-
пать их! Ну, какое- употребление он может из них сде-
лать?»5. Но в двух предшествующих рукописях (РК,
РП) последние фразы звучали так: «Кто ж станет поку-
пать их. На что они им? Ну, какое употребление он мо-
жет из них сделать?»6. Можно предполагать, что пред-
ложение «На что они Гто есть мертвые души] им?»
1 Н. В. Гоголь, Поли. собр. соч., т. VI, стр. 62.
2 Та м же, стр. 723.
3 Т а м же, стр. 911.
4 См. там же, стр. 62.
5 Та м же, стр. 53.
“Там же, стр. 910 и 720.
332
выброшено самим Гоголем, так как оно создавало не-
связность речи. В самом деле, форма местоимения им
соответствовала предшествующему вопросительному
кто («Кто ж станет покупать их!»). Но в последней фра-
зе с тем же местоимением кто была связана форма един-
ственного числа он: «Ну, какое употребление он может
из них сделать?» Получалась грамматическая несообраз-
ность. Между тем в академическом издании выпущенное
вопросительное предложение «На что они им?» вклю-
чено в состав авторизованного, окончательного текста.
Возможно, что в главе XI устранение эпитета иска-
женный при слове веселье в выражении «предался ди-
кому, искаженному веселью, какому предается разбой-
ник в пьяную минуту» вызвано стремлением Гоголя из-
бежать семантических оттенков, связанных с украин-
ским словом скаженный1.
Иногда в рукописных вариантах, отличающихся от
предшествующих написаний только начертанием двух-
трех букв, а часто и одной, с одинаковым основанием
можно видеть и ошибку переписчика и поправку ав-
тора. Найти те или иные основания для решения вопро-
са в пользу авторского улучшения стиля нетрудно, но
сделать их бесспорно доказательными во многих слу-
чаях очень трудно. Так, в рукописях «Мертвых душ»
Гоголя: в ранних (РЛ, РК)—«все ободрительные и
понудительные крики, которыми потчевают лошадей»,
в позднейших (РП, РЦ) и в первопечатном тексте —
«все ободрительные и побудительные крики»1 2.
От гипноза автографа и от доверчивой слепоты при
чтении печатного текста предохраняет только глубокое
знание стиля писателя, хорошая осведомленность в об-
ласти истории литературного языка и исторической сти-
листики художественной литературы во всем многообра-
зии ее разновидностей.
С изучением литературного языка и языка литератур-
но-художественного творчества неразрывно связаны проб-
лемы научной критики текста и эвристики. Здесь языко-
знание и литературоведение, поддерживая друг друга,
сплетаются в тесном и глубоком единстве на исконной
родственной почве филологии и истории речевой культуры.
1 Но см. в академии, изд. «Мертвых душ» восстановление пер-
воначального текста (там же, стр. 229, 920 и 845);.
2 Т а м же, стр. 715.
V
ОБ ИДЕЙНЫХ И СТИЛИСТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ И МОТИВАХ
ЛИТЕРАТУРНЫХ ПЕРЕДЕЛОК И ПОДДЕЛОК
1
Когда говорят и пишут об историко-литературном
процессе и законах его развития, то — при всей спор-
ности, а подчас и неопределенности и неясности отдель-
ных понятий и категорий, сюда относящихся,— все же
имеют в виду прежде всего историческое движение сти-
лей художественной литературы, их взаимодействие,
борьбу и смену — в связи с историей общественной жизни
и мысли, в связи с историей разных форм и сторон куль-
туры народа.
Изучаемые с этих точек зрения потоки литературного
движения, даже в пределах истории развития словесно-
художественного творчества одного народа, оказываются
чрезвычайно сложными, многосоставными или много-
слойными, внутренне разнородными, с сталкивающи-
мися и бьющими в разные стороны и с разных сторон
течениями и волнами.
На поверхности этих потоков, а иногда и в их глу-
бине могут с новой силой, в новом освещении, в новом
виде появляться литературные произведения прошлого
и активно влиять на формирование и развитие новых
словесно-художественных систем. Любопытно, что при
таком повторном литературном восприятии нередко ме-
няется коренным образом даже представление о стили-
стике художественно возрожденных к активному участию
334
h новом литературном движении произведений писателя
прошлого. Показательны в этом отношении, например,
высказывания, статьи и книги деятелей декадентского
и символистского направления русской литературы на-
чала XX столетия о стиле Гоголя (В. Брюсова, В. Роза-
нова, И. Анненского, Д. Мережковского, А. Белого и др.)
или о стиле Тютчева и Фета (В. Брюсова, К. Бальмонта
и др.). В отдельных случаях, там, где было удобно и воз-
можно, возникают переделки и даже подделки произве-
дений умерших писателей.
Переосмысление и переоценка литературных произве-
дений находят свое выражение в очень многообразных
формах. Часто сам автор — в соответствии с измене-
ниями в своем художественном методе или мировоззре-
нии — существенно переделывает свои сочинения после
их опубликования (например, И. А. Крылов — в работе
над текстом некоторых из своих басен, Ф. М. Достоев-
ский— над «Двойником», А. Н. Толстой — над своей
трилогией «Хождение по мукам», А. Фадеев — над «Мо-
лодой гвардией», Л. Леонов — над пьесой «Золотая ка-
рета» и т. д.). Поэтому отдельные произведения как бы
раздваиваются, возникают вариантные формы воплоще-
ния того же замысла, иногда разные редакции одного
сочинения печатаются как особые произведения (ср., на-
пример, разные редакции «Портрета» и «Тараса Буль-
бы» Гоголя, некоторых лицейских стихотворений Пуш-
кина, отдельных сочинений Некрасова, Гл. Успенского
и др. русских писателей XIX и XX вв.).
В академическом издании сочинений Е. А. Баратын-
ского1 редактор М. Л. Гофман за основные принял пер-
вопечатные тексты произведений этого поэта. Для лири-
ческих стихотворений, а также поэм этот принцип оправ-
дывался желанием сохранить в стихах Баратынского то
первоначальное «сердечное чувство», которое часто будто
бы утрачивалось во время переделок, «побеждаемое
умом». «Другие редакции» стихотворений, особенно в пер-
вом томе сочинений Баратынского, выделялись в особый
отдел. В сущности, читателю внушалось очень субъ-
ективное, искаженное представление о стиле Баратын-
ского, об его развитии и его изменениях. Редактор про-
1 См. Е. А. Баратынский, Поли. собр. соч., тт. I и II, под
редакцией и с примечаниями М. Л. Гофмана, СПб. 1914, Пг. 1915.
335
тиворечиво, но упорно твердил об усиливающейся с го-
дами сухости стиля Баратынского и об ослаблении
у поэта непосредственного вдохновения. Так, отметив,
что в приемах переработки стихотворений для издания
1827 года обнаруживается стремление к простоте и кон-
кретности выражения, и что «еще более строго отнесся
поэт к усвоенному им тону мечтательно-романтическому
и сентиментальному, осмеянному им в 1824 году в посла-
нии к Богдановичу» (здесь заявлялось, что «у новейших
марак Душаувянулаъ сердце отцвело»)?М. Л. Гофман
вслед за этим неожиданно возвращается к своему при-
вычному лейтмотиву: «И если можно заметить, что за-
мена менее простых выражений более простыми часто
бывает в ущерб цельности и стильности стихотворений,
то этот упрек еще более применим к тем переработкам,
в которых поэт побеждает умом свое старое «сердечное
чувство», отчего стихотворение становится более сухим
и менее непосредственно-вдохновенным»1 2.
Несмотря на вынужденные признания, что передел-
ками своих произведений Баратынский чаще всего до-
бивался «большей точности, сжатости (в редких слу-
чаях— развития), образности и музыкальности»3, все же
редактор Академического издания предпочитал и печа-
тал на первом месте ранние, первоначальные тексты
лирических стихотворений и поэм этого поэта. О том,
чем и как отличались разные редакции одного и того же
стихотворения, можно судить по такому сопоставлению
отрывков первой и второй редакции стихотворения
«Ропот»4:
Ужели близок час свиданья!
Тебя ль, мой друг, увижу я!
Как грудь волнуется моя
Тоскою смутной ожиданья!
Он близок, близок день свиданья!
Тебя, мой друг, увижу я!
Скажи: восторгом ожиданья
Что ж не трепещет грудь моя?
Родная хата, край родной,
С пелен знакомые дубравы,
Куда невинные забавы
Слетались к нам на голос твой,—
1 Е. А. Баратынский, Поли. собр. соч., т. II, стр. 283—284.
2 Т а м же, стр. 284.
3 Т а м же, стр. 283.
4 См. рецензию П. П. Филипповича на акад, издание сочинений
Е. А. Баратынского «ЖМНП», 1916, апрель, стр. 323—325.
336
Я их увижу! Друг бесценный,
Что ж сердце вещее грустит?
Что ж ясный день не веселит
Души для счастья пробужденной!
Когда напечатанное произведение подвергается не-
однократным переделкам со стороны автора, то, естест-
венно, может возникнуть вопрос: сколько же «редакций»
этого произведения? Обычно — печатаются и разграни-
чиваются две редакции одного и того же произведения —
ранняя и поздняя, окончательная. Но и это делается, или
во всяком случае делалось, не всегда с одинаковым осно-
ванием. Так, П. П. Филиппович справедливо упрекал
М. Л. Гофмана — редактора академического собрания
сочинений Е. А. Баратынского в том, что ему «всякое
разночтение» представляется особой редакцией. Напри-
мер, в сказке «Телема и Макар» в издании 1835 года
есть лишь две новых строки сравнительно с изданием
1827 года, причем эти две строки восстановлены из
текста «Северных цветов» за 1827 год (где также была
напечатана эта сказка). Спрашивается, можно ли текст
этого произведения в издании 1835 года считать его «но-
вой редакцией» и печатать отдельно? 1
П. Филиппович выдвигал такой принцип изда-
ния стихотворений, прошедших сложный путь пере-
делок:
«Руководясь правильным понятием о «редакции» сти-
хотворения, следует печатать в основном тексте все ре-
дакции... но в их окончательном, наиболее исправном
виде, а в отделе вариантов приводить к ним разночте-
ния «списков». Таким образом художественные достиже-
ния поэта и в ранний период его деятельности, и в позд-
нейшее время не останутся в тени. Исследователь же,
пользуясь отделом вариантов, сумеет и детальнее вос-
становить так или иначе эволюцию творчества поэта»1 2.
Следовательно во многих случаях литературное произ-
ведение изменчиво и динамично, его стиль претерпевает
исторические трансформации. Литературное произведе-
ние, как бы развиваясь, реализуется в разных вариациях,
в «разных редакциях». Нельзя сказать, чтобы этот
1 Е. А. Баратынский, Поли. собр. соч., т. II, стр. 241.
2 П. П. Филиппович, О втором томе академического изда-
ния сочинений Баратынского, «ЖМНП», 1916, апрель, стр. 327.
12 В. В. Виноградов 337
вопрос у пас был освещен с разных сторон в широкой
исторической перспективе Г
Характерен такой факт. С. М. Бонди в своей книге
«Новые страницы Пушкина» (1931) обратил внимание
на то, что прекрасное пушкинское стихотворение «На хол-
мах Грузии лежит ночная мгла...» в первый раз напеча-
тано самим Пушкиным под заглавием «Отрывок»:1 2
«Два раза напечатав эти стихи под таким названием,
поэт определенно указывал на их композиционную не-
законченность; на то, что они или остались недописан-
ными или представляют собой извлечение, «отрывок»
более крупного написанного или ненаписанного произве-
дения»3. Работая над этим произведением, Пушкин со-
здал и другие вполне законченные и дописанные строфы.
Вникая в эти стихи, С. М. Бонди приходит к выводу,
что Пушкин после напечатания «Отрывка» создал но-
вую редакцию этого произведения. Если бы у нас не было
данного самим Пушкиным печатного текста и двух его
беловых автографов, то единственной, окончательной ре-
дакцией этого стихотворения были бы восемь стихов,
получающиеся от соединения первой и четвертой строф
черновика. А сейчас эти стихи, не отменяя, конечно, из-
вестной печатной редакции, являются данным самим
Пушкиным (а вовсе не произвольно скомпанованным
редактором) новым вариантом знаменитого стихотворе-
ния, вариантом вполне законченным, значительно отли-
чающимся от стихотворения «На холмах Грузии...» и, по-
жалуй, не уступающим ему в художественном отношении:
Все тихо — на Кавказ идет ночная мгла,
Мерцают звезды надо мною.
Мне грустно и легко, печаль моя светла,
Печаль моя полна тобою.
1 Ср., например, замечания С. Машинского по поводу двух
стихотворений «Тебе, Кавказ, суровый царь земли...» и двух редак-
ций стихотворения «Прощай, немытая Россия...» во втором томе ака-
демического издания сочинений Лермонтова, «Новый мир», 1958
№ 3, стр. 220—221.
2 «В первый раз —в «Северных цветах» за 1831 г., стр. 56, а
затем в третьей части Стихотворений Александра Пушкина, СПб.
1832, стр. 15; здесь в тексте они не носят никакого названия, в
оглавлении же обозначены так: «(На холмах Грузии лежит ночная
мгла). Отрывок». С. Бонди, Новые страницы Пушкина, Изд.
«.Мир», 1931, стр. 9.
3 Т а м же.
338
Я твой по-прежнему, тебя люблю я вновь —
И без надежд, и без желаний,
Как пламень жертвенный, инета моя любовь
И нежность девственных мечтаний.
«Это стихотворение,— заключает С. М. Бонди,— от-
ныне должно печататься среди сочинений Пушкина, ря-
дом с «Отрывком» («На холмах Грузии...»), как вполне
законченная прекрасная вариация того же замысла»
Некоторое время действительно это стихотворение
включалось (в 30-е годы) в основной кодекс собрания
сочинений Пушкина. Потом оно ушло в примечания или
комментарии.
Само собой разумеется, что можно рассматривать с
точки зрения общих тенденций и закономерностей разви-
тия литературы и те изменения в текстах сочинений, кото-
рые производятся авторами еще до их опубликования (на-
пример, Пушкиным в работе над «Медным всадником»,
Гоголем — над вторым томом «Мертвых душ», Достоев-
ским — над «Идиотом» или «Бесами», Л. Толстым — над
«Войной и миром» и т. д.).Это — проблемы так называе-
мой «творческой истории» литературного произведения.
Переделка может осуществляться и не самим писа-
телем, а его редакторами, тоже писателями — по тем или
иным соображениям, связанным с состоянием современ-
ной им литературы, или с своими собственными литера-
турными вкусами. Достаточно сослаться на работу
В. А. Жуковского как редактора оставшихся после смерти
поэта неизданных сочинений Пушкина, на И. С. Турге-
нева как редактора стихотворений А. Фета и т. п.1 2. Кроме
того, к области «переделок» могут быть отнесены также
основанные на личных или общественно-групповых вку-
совых ощущениях или на политической предусмотри-
тельности текстологов-литературоведов, а также редак-
ционно-издательских работников, изменения и «улучше-
ния» текста сочинений издаваемых писателей. Наконец,
переделка текстов художественных произведений может
производиться цензурой или применительно к ее требо-
ваниям (ср., например, изменения текста сочинений
Пушкина, Гоголя, Некрасова, Салтыкова-Щедрина,
1 С. Бонди, Новые страницы Пушкина, стр. 28—29.
2 См. о переделках, об изменениях текста литературных про-
изведений в книге Б. Томашевского, Писатель и книга. Очерки
текстологии, «Прибой», 1928.
12* 339
Марко Вовчка и др. в дореволюционных изданиях по
цензурным соображениям).
В отдельных случаях «переделка» смыкается и даже
почти сливается с «подделкой» (ср., например, самоволь-
ную правку П. Свиньиным текста повести Гоголя «Вечер
накануне Ивана Купала»). Впрочем, деятельность раз-
ных редакторов и издателей литературных произведений,
исторические изменения в понимании объема, характера
и границ их вмешательства в авторское творчество до сих
пор еще очень мало исследованы. Современники очень
много говорили о редакторском произволе О. И. Сен-
ковского в «Библиотеке для чтения» и возмущались им.
Н. В. Гоголь в статье «О движении журнальной литера-
туры в 1834 и 1835 году» так характеризовал редакцион-
ную работу Сенковского: «в »Библиотеке для чтения"
случилось еще одно, дотоле неслыханное на Руси явле-
ние. Распорядитель ее стал переправлять и переделывать
все почти статьи, в ней печатаемые, и любопытно то, что
он объявлял об этом сам довольно смело и откровенно.
«У нас,— говорит он,— в «Библиотеке для чтения», не
так, как в других журналах: мы никакой повести не
оставляем в прежнем виде, всякую переделываем: иногда
составляем из двух одну, иногда из трех, и статья зна-
чительно улучшается нашими переделками». Такой стран-
ной опеки до сих пор на Руси еще не бывало» !.
Сам О. И. Сенковский очень гордился своим уменьем
преобразовывать или изменять стиль и идейное содер-
жание литературного произведения. Цензору А. В. Ни-
китенко он пишет о своих экспериментах с одним из ро-
манов Евгения Сю (в русском переводе): «Хороший
цензор и верный друг, я сам принялся за дело. Переде-
лано на славу. Все устранено. Окончание романа такое
нравственное, что, право, совестно. Не станут верить.
Скажут: Жан Поль Рихтер, а не Сю. Все сцены предрас-
судительные и даже только сомнительные просто уни-
чтожены... Весь сен-симонизм — прочь, вон...»1 2.
В рецензии на «Рассказы дяди Прокопья, изданные
А. Емичевым», О. И. Сенковский открыто и даже ци-
нично заявляет, что в редактируемой им «Библиотеке
1 Н. В. Гоголь. Поли. собр. соч., т. VITT, стр. 162.
2 В. Каверин, Барон Брамбеус. История Осипа Сенковского,
журналиста, редактора «Библиотеки для чтения». Л. 1929, стр. 68.
340
для чтения» основной стиль и связанная с ним идеоло-
гия — редакторские. Он пишет о том, что у «Библиотеки
для чтения» есть «ящик с пречудным механизмом внутри,
работы одного чародея». Если в этот ящик положить
рассказ без слога, без содержания, без замысловатости
и повернуть несколько раз рукоятку, то рассказ этот
перемелется весь, выгладится, выправится и выйдет из
ящика довольно приятным и блестящим, по крайней мере
четким. «Многие, многие им пользуются! Говорят, что
иные, воспользовавшись для славы и для разного другого
прочего выгодами этого ящика, кричат потом в публике,
что, дескать, их статьи перемолоты, переправлены, не то,
что было. Чего тут жаловаться? Не хотите быть пере-
правлены? Не суйтесь в «Библиотеку для чтения»! Вы
знаете, что есть такой ящик. Печатайте свои произведения
отдельными книжками или отдавайте их в такие журналы,
которые под словом «редакция» понимают просто «чте-
ние корректуры». В «Библиотеке для чтения» редакция
значит редакция в полном смысле этого слова, то есть со-
общение доставленному труду принятых в журнале форм,
обделки слога и предмета, если они требуют обделки...»1.
Иногда переделка произведения бывала связана
с переходом его в иную социальную среду. Например,
Н. Курганов, помещая произведения А. П. Сумарокова
в своем «Письмовнике», подвергал существенной пере-
делке их текст. Так, «большие изменения в руках Курга-
нова претерпела басня Сумарокова «Старуха»: три стиха
выброшены, один оставлен, несколько строчек объеди-
нено, изменено расположение слов, вставлена песня
«Во ржи береза зелененька стояла». Нужно отметить,
что выброшенные Кургановым строчки были своего рода
лирическими отступлениями, столь характерными для су-
ма роковской басенной манеры письма: «Не возвращают-
ся назад к истокам воды, Ни к нам прошедшие младые
годы», «Из этого теперь я басенку скрою». Все эти из-
менения привели к полному разрушению ритма и раз-
мера басни и к серьезному искажению ее содержания.
1 В. Каверин, Барон Брамбеус. История Осипа Сенковского,
журналиста, редактора «Библиотеки для чтения», стр. 66—67. Ср.
также А. С. Долинин, Из истории борьбы Гоголя и Белинского
за идейность в литературе, «Ученые записки Ленинградского гос.
пед. института», т. XVIII, факультет языка и литературы, вып. 5, Л.
1956, стр. 26—58.
341
Вместо остроумной, живо и изящно написанной Сумаро-
ковым притчи, получилась какая-то безобразная словес-
ная куча. Легко понять возмущение и волнение поэта
(то есть Сумарокова.—В. В.). Подобная же операция
проделана была Кургановым и над другим произведе-
нием Сумарокова — над притчей: «Апреля первое число».
Из первой строфы взяты два стиха из шести, вторая
строфа опущена, третья взята целиком»1.
Вот текст притчи о первом апреля
у Сумарокова:
Апреля в первый день обман,
Забава общая в народе,
На выдумки лукавить дан,
Нагая правда в нем не в моде.
И все обманом заросло
Апреля в первое число.
Одни шлют радостную весть,
Друзей к досаде утешают,
Другие лгут и чем ни есть
Друзей к досаде устрашают,
Лукавство враки принесло
Апреля в первое число.
На что сей только день один
Обмана праздником уставлен?
Без самых малых он причин
Излишне столько предрославлен,
Весь год такое ремесло,
Так целый год сие число...1 2
и у Курганова:
Апреля в первый день обман
На выдумки лукавить дан.
На что сей только день один
Обмана праздником уставлен?
Без самых малых он причин
Излишне столько препрославлен
Весь год такое ремесло,
Так целый год сие число...3
Любопытно в этой связи вспомнить общие наблюде-
ния историков русской литературы XVIII века: «Соста-
вители сборников вообще не стесняются в обращении с
поэтами; Курганов вырывает из стихотворения Ломоно-
сова «Вечернее размышление о божием величестве» две
строфы, вторую и третью, переставляет их, называет
их «Небо» и печатает как отдельное стихотворение
(«Письмовник», изд. 1809, ч. II, стр. 26); Лука Сичкаревв
1 А. В. Кокорев, Сумароков и русские народные картинки,
«Ученые записки Московского ордена Ленина гос. университета
имени М/ В. Ломоносова», вып. 127. Труды Кафедры русской лите-
ратуры, кн. 3, 1948, стр. 236.
2 А. П. Сумароков, Избранные произведения, Л. 1957. Биб-
лиотека поэта. Большая серия, 2-е изд., стр. 295—296.
3 «Письмовник Николая Курганова», 1796, 6-е изд., часть вто-
рая, стр. 26.
142
«Зрителе мира» дает стихотворениям свои названия, вы-
рывает из оды В. Петрова Г. Г. Орлову 1771 года 6 строф,
называет их «О постоянной славе» и помещает их в
сборнике как законченную пиесу (стр. 221) и т. д.»1.
Впрочем, переделки, хотя они так же, как и поддел-
ки частей художественного сочинения, в принципе ори-
ентируются па некоторое приноровление или приспособ-
ление к основным элементам стилевой структуры дан-
ного произведения (хотя бы с целью его исправления и
улучшения), все же качественно отличаются от подде-
лок. Разумеется ближе к подделкам те переделки, кото-
рые исходят не от самого автора. В этом случае общим
для переделок и подделок является акт (или признак)
закрепления за писателем текста, им не написанного.
Правда, общественно-психологические мотивы таких де-
яний могут быть в высшей степени различны, иногда
прямо противоположны. Большая разница между пере-
делками и подделками заключается также в степени и
характере использования авторских текстов (авторский
текст сочинения является базой и материалом для пе-
ределок, подделки же обычно ставят своей задачей со-
здание нового авторского текста — по образцу извест-
ных сочинений этого автора).
Подделки принято относить к числу «литературных
мистификаций». Однако само содержание этого термина
не может считаться вполне определенным1 2. «По самому
факту своего возникновения и развития,— писал Ю. Ма-
санов,—литературная мистификация есть средство лите-
ратурной полемики, общественно-политической сатиры и
противоцензурной маскировки»3. Но под эту характери-
стику не подойдет, например, подделка окончания
пушкинской «Русалки» Д. Зуевым. Кроме того, подделки
могут быть продуктом или проявлением литературной
моды, господствующих литературных увлечений (см., на-
пример, подделки пушкинских стихотворений в пушкин-
скую эпоху), а иногда даже индивидуальных замыслов,
1 Г. А. Гуковский, О русском классицизме. Сб. «Поэтика».
Временник Отдела словесных искусств Гос. института истории
искусств, вып. V, Academia, Л. 1929, стр. 59.
2 См. Ю. Маса нов, Литературные мистификации, в сб. 1(18)
«Советская библиография», М. 1940, стр. 126—145. Ср. также:
Евгений Ланн, Литературная мистификация, МЛ. 1930.
3 Ю. Масанов, Литературные мистификации, стр. 126.
343
склонностей и вкусов. Существенным признаком лите-
ратурной мистификации признается наличие элементов
стилизации. «Без этого элемента мистификация не мо-
жет существовать. В самом деле, вряд ли с первого же
раза мистификация не будет отвергнута, если не содер-
жит особенных моментов, характерных именно для сти-
ля мистифицируемого писателя. Мистификатор обязан
подчинить свой стиль стилю мистифицируемого автора»1.
Это правильно, но этого мало. Прежде всего не всякая
стилизация может быть названа мистификацией или под-
делкой. В качестве примера можно сослаться на «Ше-
стую повесть Белкина», написанную М. Зощенко, на лес-
ковские или ремизовские стилизации жанров древнерус-
ской литературы, на продолжение «Мертвых душ» Ва-
щенко-Захарченко и т. д. Кроме того функции, признаки
и характер стилизации при подделках могут быть очень
разнородными. Во всяком случае, здесь возникает ряд
важных и до сих пор совершенно неисследованных
проблем истории литературы и истории языка художест-
венной литературы.
о
Рядовой читатель литературного произведения довер-
чиво относится к его печатному тексту и обычно припи-
сывает самому автору все его несообразности (если они
есть). И — по большей части он бывает прав1 2. Вопрос
несколько осложняется, когда произведение написано
двумя писателями (например, Некрасовым и Станиц-
ким — псевдоним А. Панаевой). Еще затруднительнее
разграничить по отношению к индивидуальной автор-
ской ответственности части такого произведения, в сочи-
нении которого принимали участие три разных автора.
Такова, например, повесть «Как опасно предаваться че-
столюбивым снам», написанная совместно Григорови-
чем, Ф. Достоевским и Некрасовым (принадлежат ли
Некрасову, кроме стихотворных вставок, также прозаи-
ческие отрезки?)' и помещенная в альманахе «Первое
апреля» (1846). Ведь даже при общности словесно-худо-
1 Ю. Маса но в, Литературный мистификации, стр. 127.
2 См. Б. Томашевский, Писатель и книга. Очерки тексте-
логин. «Прибой», стр. 155—158.
344
жественной школы, у этих писателей на первой заре
творчества у каждого уже были свои индивидуальные
стилистические склонности и отличия. Внимательный
анализ языка и стиля этого произведения, а также его
композиционной структуры должен открыть те швы, по
которым сцеплялись и соединялись заготовленные раз-
ными авторами части и куски в одно целое. Само собой
разумеется, что возможны формы и более слитного, со-
гласованного коллективного творчества. Во всяком слу-
чае, здесь выступает интересная и важная задача опре-
деления авторства по отношению к частям целого или
даже отдельным элементам его структуры.
Но ведь та же задача может возникнуть и примени-
тельно к произведению, весь текст которого безогово-
рочно приписывается одному автору. Понятно, что для
такой постановки вопроса должны быть серьезные ос-
нования. Они могут извлекаться из исторических свиде-
тельств, документальных данных, из анализа рукопис-
ного наследия писателя и даже из внимательного изу-
чения самого текста произведения.
Естественно, что далеко не всегда непосредственные
указания на искажение, порчу текста, на его фальси-
фикацию можно извлечь из самого литературного произ-
ведения с помощью его непосредственного анализа.
Однако бывают такие случаи, когда неисправность,
«поддельность» или, вернее, искаженность текста обна-
руживается сразу же в композиционных и вещественно-
логических противоречиях и непоследовательностях раз-
вития сюжета. В этом отношении представляет большой
интерес ранний рассказ А. П. Чехова «Неприятная исто-
рия», впервые напечатанный в «Петербургской газете»
1887 года (№ 175, 29 июня, стр. 3. «Летучие заметки»)
и позднее не включавшийся автором ни в сборники рас-
сказов, ни в собрания сочинений1. Действие рассказа не
сложно. Дмитрий Григорьевич Жирков, поужинавший и
хорошо выпивший, в проливной дождь едет на дачу к
своей любовнице. Он везет с собой в корзинке платье от
модистки, а также букет, конфеты и сыр. Извозчик до-
ставил путника к даче, дотащил корзину с платьем до
крыльца, снова взобрался на козлы, чмокнул губами и
1 А. П. Чехов, Поли. собр. соч., т. VI, ОГИЗ, 1946,
стр. 452—458.
345
уехал. Вышедшая на звонок Жиркова горничная Дуня-
ша сообщает, что ночью приехал барин из Парижа.
Жирков, у которого роман с Надеждой Осиповной на-
чался только месяц тому назад, еще не знал ее мужа.
Ему было только известно, что муж ее родом француз,
фамилия его Буазо и что занимается он комиссионер-
ством. На фотографии он выглядел «дюжим буржуа лет
сорока, с усатой, франко-солдатской рожей». Жиркову
ст-ало весело от неожиданного приключения. Желая спа-
сти привезенное бальное платье от дождя, он решил еще
раз позвонить и отдать корзину Дуняше. Но на звонок
вышел сам Буазо и спросил за дверью: «Кто издесь?»
Жирков, решив соврать что-нибудь, спросил: «Это дача
Злючкина?». В ответ послышался сердитый голос: «Уби-
гайтесь к чегту з вашей Злюшкин!»
Приключение Жиркова «с каждою минутою стано-
вилось все курьезнее и курьезнее. Он с особенным удо-
вольствием думал о том, как завтра он будет описывать
приятелям и самой Наде свое приключение, как пере-
дразнит голос мужа и всхлипыванье калош... Приятели,
наверное, будут рвать животы от смеха.
«Одно только подло: платье промокнет!» — думал он».
Через полчаса, весь промокший Жирков решается снова
позвонить и, соврав что-нибудь другое, отдать мужу
платье. Сам же он хотел найти убежище в будке для
музыкантов в дачном парке. Когда Буазо опять вышел на
звонок, Жирков сказал: «Модистка ш-me Катишь при-
слала г-же Буазо платье. Извините, что так поздно».
Буазо отворил дверь, представ перед Жирковым «точно
такой же, как и на карточке, с солдатской рожей и с
длинными усами; впрочем, на карточке он был изобра-
жен франтом, теперь же стоял в одной сорочке». Буазо
принял корзину, сыр и букет. Затем Жирков просил по-
зволения побыть здесь в сенях, пока пройдет дождь.
«Француз запер дверь и ввел Жиркова в маленькую,
очень знакомую залу. В зале было все по-старому, толь-
ко на столе стояла бутылка с красным вином и на стуль-
ях, поставленных в ряд среди залы, лежал узенький,
тощенький матрасик». Это было ложе супруга Буазо.
«Ну, права этого супруга, вероятно, не особенно ши-
роки,— думал Жирков.— Черт знает что за матрац!»
Француза мучили укусы каких-то насекомых. «Везде
карьошо, тепло, а тут в Расея холод и эти кумыри...
Крамори... les cousins. Проклятый кузаются». Через не-
которое время после разговора с Жирковым француз
лег, но вскоре, мучимый комарами, опять вскочил с сво-
его ложа и пошел в соседнюю комнату.
«Скоро он вернулся pi еще раз приложился к бу-
тылке.
— Сейшац жена выйдет,—сказал он, зевая.— Я по-
нимаю, вам деньги нужно?
«Час от часу не легче,— думал Жирков.— Прекурьез-
но! Сейчас выйдет Надежда Осиповна. Конечно, сделаю
вид, что не знаю ее».
Послышалось шуршанье юбок, отворилась слегка
дверь, и Жирков увидел знакомую кудрявую головку
с заспанными щеками и глазами». Узнав Жиркова, На-
дежда Осиповна «вскрикнула, засмеялась и вошла в за-
лу.— Это ты? — спросила она.— Что это за комедия? Да
откуда ты такой грязный?» Жирков, смущенный присут-
ствием Буазо, не знал, как держать себя, но Надежду
Осиповну муж не тревожил.
«— Ах, понимаю! — догадалась барыня.— Ты, вероят-
но, Жака испугался? Забыла я предупредить Дуняшу...
Вы знакомы? Это мой муж Жак, а это Степан Андреич...
Платье привез? Ну, merci, друг... Пойдем же, а то я
спать хочу. А ты, Жак, спи...— сказала она мужу.— Ты
устал в дороге».
Тут, прежде всего, бросается в глаза то обстоятель-
ство, что Жиркову дается новое имя и отчество — Сте-
пан Андреич. До этого он откликался на обращение к
Дмитрию Григоричу. Так было в начале рассказа: «Жир-
ков поймал в потемках шишечку звонка и дернул два
раза. За дверью послышались шаги.
— Это вы, Дмитрий Григории? — спросил женский
шепот.
— Я, восхитительная Дуняша!—ответил Жирков.—
Отворяйте скорее, а то я промокаю до костей».
Далее несообразности текста все увеличиваются.
«Жак удивленно поглядел на Жиркова, пожал плечами
и с сердитым лицом направился к бутылке. Жирков то-
же пожал плечами и пошел за Надеждой Осиповной».
Куда он пошел? Читатель подумает, что — в ее ком-
нату. Нет, такому предположению решительно противо-
речат следующие далее строки, представляющие Жир-
кова среди грязной дороги или во всяком случае в
347
созерцании грязной дороги и в благочестивых размыш-
лениях: «Он глядел на мутное небо, на грязную дорогу
и думал: «Грязно! И куда только не заносит нелегкая
интеллигентного человека!»
И он стал думать о том, что нравственно и что без-
нравственно, о чистом и нечистом. Как часто случается
это с людьми, попавшими в нехорошее место, он вспом-
нил с тоской о своем рабочем кабинете с бумагами па
столе, и его потянуло домой».
И что же? Неожиданно оказывается, что до этого
Жирков все-таки находился в соседней комнате, очевид-
но, комнате Надежды Осиповны. Правда, о Надежде
Осиповне не говорится уже ни слова: она исчезает из
рассказа. Остается спящий Жак.
«Он тихо прошел черев валу мимо спавшего Жака.
Всю дорогу он молчал, старался не думать о Жаке, ко-
торый почему-то лез ему в голову, и уж не заговаривал
с извозчиком. На душе у него было так же нехорошо,
как и на желудке». Тут все остается загадочным: и вне-
запно появившийся извозчик, и даже желудочное недо-
могание.
Невольно возникает подозрение, не произведено ли
редактором механическое сокращение чеховского рас-
сказа или вообще не подвергся ли этот рассказ столь ра-
дикальной редакторской переработке, что разрушенной
оказалась вся его композиция. Ведь конец рассказа и
с стилистической и с эмоционально-идейной точек зре-
ния никак не связан с предшествующим развитием сю-
жета. Только одна фраза в этом конце: «Всю дорогу
он молчал, старался не думать о Жаке, который почему-
то лез ему в голову, и уж не заговаривал с извозчи-
ком»,— контрастно напоминает о начале повествования.
Ведь рассказ начинается юмористической беседой под-
выпившего Жиркова с извозчиком:
«У тебя, извозчик, сердце вымазано дегтем. Ты, бра-
тец, никогда не был влюблен, а потому тебе не понять
моей психики. Этому дождю не потушить пожара души
моей, как пожарной команде не потушить солнца. Черт
возьми, как я поэтически выражаюсь! Ведь ты, извоз-
чик, не поэт?
— Никак нет.
— Ну вот видишь ли...
348
Жирков нащупал, наконец, у себя в кармане портмо-
не и стал расплачиваться.
— Договорились мы с тобой, друже, за рубль с чет-
вертаком. Получай гонорарий. Вот тебе руб, вот три
гривенника. Пятачец прибавки. Прощай и помни обо
мне. Впрочем, сначала снеси эту корзину и поставь на
крыльцо. Поосторожней, в корзине бальное платье жен-
щины, которую я люблю больше жизни».
Весь рассказ, не считая концовки, написан в воде-
вильно-комических тонах. Самое изображение ненастной
погоды, грязи, дождя окружено легкой иронией: «...пос-
ле полуторачасовой езды из города по грязи и под дож-
дем его ожидало тепло и молодая женщина... Приятно
озябнуть и промокнуть, если знаешь, что сейчас согре-
ешься».
«И ему стало вдруг смешно и весело. Его поездка к
ней из города на дачу, в глубокую ночь и под пролив-
ным дождем, казалась ему забавным приключением;
теперь же, когда он нарвался на мужа, это приключе-
ние стало казаться ему еще курьезнее.
— Презанимательная история, ей-богу! — сказал он
себе вслух».
«Наступив в лужу и набрав в калошу, он сердито
плюнул, но тотчас же опять засмеялся».
На этом фоне кажутся механически приклеенными,
стилистически не мотивированными, внутренне далекими
от предшествующего изложения уже первые строки за-
ключения:
«Он глядел на мутное небо, на грязную дорогу и ду-
мал: „Грязно! И куда только не заносит нелегкая интел-
лигентного человека!“»
Стиль этого восклицания и самохарактеристика
Жиркова — «интеллигентный человек» — резко поража-
ют неожиданностью и безвкусием.
Ведь из всего контекста повествования ясно, что со-
всем не «нелегкая занесла» Жиркова на эту дачу, а ро-
маническое похождение, стремление к женщине, которую
он, по его словам, «любит больше жизни». В этой связи
еще более непонятно, чем вызвана ссылка на «интелли-
гентного человека».
Кроме того, как в самой семантике повествования,
так и в грамматических формах связи соседних частей
повествования возникал разрыв между новеллой и ее
349
концовкой. В предшествующих строках передавалась
быстрая смена действий (движений) двух персонажей —
Жака и Жиркова. Глаголы, обозначающие эти движе-
ния, облечены в формы прошедшего времени совершен-
ного вида.
«Жак удивленно поглядел на Жиркова, пожал пле-
чами и с сердитым лицом направился к бутылке. Жир-
ков тоже пожал плечами и пошел за Надеждой Осипов-
ной». А далее неожиданно появляются- формы прошед-
шего несовершенного вида как формы длительного или
сопровождающего действия: «Он глядел на мутное небо,
на грязную дорогу и думал...» Когда все это было? ког-
да он пришел в комнату Надежды Осиповны или когда
шел туда? Раньше было описано, как Жак ходил в эту
комнату:
«— Проклятый кумари,— проворчал он и, потерев
одной шершавой ногой о другую, вышел в соседнюю
комнату.
Жирков слышал, как он разбудил кого-то...»
Следовательно, Жирков не мог глядеть на мутное
небо и на грязную дорогу по пути в комнату Надежды
Осиповны. Об этом же говорит и последующее изложе-
ние, особенно фраза: «Он тихо прошел через залу мимо
спавшего Жака». Смысл слов: «пошел за Надеждой
Осиповной», и вслед за тем: «Он тихо прошел через за-
лу...»— непосредственно несоотносим, в нем не выражена
прямая последовательность действий, предполагаются
какие-то опущенные, но необходимые для понимания
естественного движения сюжета звенья.
Еще менее мотивирован и понятен последующий рез-
кий переход к морализующему, дидактическому тону по-
вествования: «И он стал думать о том, что нравственно
и что безнравственно, о чистом и нечистом».
Соответствующий круг идей и связанная с ним лек-
сика— совсем не представлены в предшествующем по-
вествовании. В сущности, единственное место, которое во
всем этом рассказе подводило к общественным пробле-
мам,— это было изображение беседы Жиркова с Буазо:
«Буазо налил полстакана вина, сделал очень серди-
тое лицо и выпил.
— Всю ночь не спал,— сказал он, садясь на матра-
сик.— Les cousins и какой-то скотин все звонит, спраши-
вает Злюшкин.
350
И француз умолк и поник головою, вероятно, в ожи-
дании, когда пройдет дождь. Жирков почел долгом при-
личия поговорить с ним.
— Вы, значит, были в Париже в очень интересное
время,— сказал он.— При вас Буланже в отставку вы-
шел.
Далее Жирков поговорил про Греви, Дерулэда, Зола
и мог убедиться, что эти имена француз слышал от него
только впервые. В Париже он знал только несколько
торговых фирм и свою tante m-ше Blessor и больше ни-
кого. Разговор о политике и литературе кончился тем,
что Буазо еще раз сделал сердитое лицо, выпил вина и
разлегся во всю свою длину на тощеньком матрасике».
Что же касается самой оценки «забавного» приклю-
чения с Надеждой Осиповной и ее мужем — monsieur
Буазо, то она самим Жирковым все время интерпрети-
руется в водевильно-комическом роде — без всякого
стремления к моралистическим сентенциям.
Ведь раньше дважды было подчеркнуто, что Жирков
уже предвкушает удовольствие ’рассказать в сгущенных
комических тонах свои приключения приятелям, а также
самой Наде.
«Приключение его с каждою минутою становилось
все курьезнее и курьезнее. Он с особенным удовольст-
вием думал о том, как завтра он будет описывать прия-
телям и самой Наде свое приключение, как передразнит
голос мужа и всхлипыванье калош...» (Любопытно, что
еще в самом начале рассказа было употреблено выра-
жение «издав носом всхлипывающий звук» по отно-
шению к извозчику:
«— Ну, пого-ода! — проворчал он укоризненно и,
крякнув со вздохом, издав носом всхлипывающий звук,
неохотно взобрался на козлы»).
И отношение приятелей к этим комическим похожде-
ниям Жиркова рисовалось недвусмысленно, хотя и не
вполне литературно’ — с стилистической точки зрения:
«Приятели, наверное, будут рвать животы от смеха».
Тем менее связи с этим построением рассказа можно
обнаружить в такой сентенции: «Как часто случает-
ся это с людьми, попавшими в нехорошее место, он
вспомнил с тоской о своем рабочем кабинете с бумагами
на столе, и его потянуло домой». Здесь все непонятно:
И что значит «нехорошее место», и почему Жиркова
351
потянуло к рабочему кабинету и к бумагам на столе, и
как он вступил в число «людей, попавших в нехорошее
место».
Само собой разумеется, что когда подобная внешняя
и внутренняя разорванность частей встречается у такого
писателя, как А. П. Чехов, хотя бы и в раннем периоде
его творчества, она не может не вызвать насторожен-
ности читателя (в том числе и историка литературы и
историка языка художественной литературы). Возника-
ют вопросы: чем вызваны явления этого рода? типичны
ли они вообще для литературы этого времени? Как от-
носились к ним автор, редактор и читающая публика?
Может быть, такого рода приемы композиционной «пре-
рывистости» и неприлаженности частей объясняются
господством жанров «сценок», наспех сколоченных анек-
дотов, «летучих заметок» и т. п. в «Петербургской газе-
те», где в литературно-художественном отделе царил
Н. Лейкин?
Известны постоянные напоминания Н. А. Лейкина
А. П. Чехову об объеме рассказов.
В первом же письме Лейкина к Чехову (от 6 ноября
1882 г.) содержится такое пожелание: «К сожалению,
все это длинно... пишите покороче». Лейкин настаивает
на присылке ему мелких «прозаических вещиц». 31 де-
кабря 1882 года он пишет Чехову: «Вы теперь успели
приглядеться и видите, что нужно «Осколкам»... Мне
нужно именно то, что Вы теперь присылаете, то есть ко-
ротенькие рассказы, сценки».
9 января 1883 года Лейкин снова напоминает: «Ожи-
даю от Вас рассказцев маленьких».
Некоторые рассказы из-за несоответствующего «Ос-
колкам» объема Лейкин отсылал обратно Чехову:
«...Приходится мне возвращать Вам Ваши «Летающие
острова»... Вещица длинная для „ Осколков“»(1 марта
1883 г.).
27 марта 1884 года возвращают Чехову рассказ «Ста-
рая верба», с пометкой — «Совсем не для юмористиче-
ского журнала». Возвратили Чехову и рассказ «Он по-
нял» из альманаха «Стрекоза» как неподходящий для
последнего со следующим отзывом: «Очерк почти лишен
юмористического содержания и его несложная фабула
не соответствует относительно значительному объему»
(Письмо Василевского Чехову — Гос. б-ка им.
352
В. И. Ленина). 18 мая 1884 года Лейкин пишет Чехову
о его рассказе «Русский уголь»: «Длинноват и не юмо-
ристичен» (Письмо Лейкина Чехову —Гос. б-ка им.
В. И. Ленина). А 5 января того же года Лейкин сообщал:
«Рассказ Ваш сократил. Нельзя было не сократить,
слишком много срочных новогодних статей накопилось...
В рассказе Вашем я переменил заглавие и назвал
рассказ «Либерал». Так короче и лучше...» «За мелкие
вещицы стою горой и я,— писал А. П. Чехов редак-
тору «Осколков»,— и если бы я издавал юмористический
журнал, то херил бы все продлинновенное. В московских
редакциях я один только бунтую против длиннот... но в
то же время, сознаюсь, рамки, «от сих до сих» приносят
мне немало печалей. Мириться с этими ограничениями
бывает иногда очень не легко. Например... Вы не при-
знаете статей выше 100 строк, что имеет свой резон...
У меня есть тема. Я сажусь писать. Мысль о «100» и «не
больше» толкает меня под руку с первой же строки.
Я сжимаю, елико возможно, процеживаю, херю — и
иногда (как подсказывает мне авторское чутье) в ущерб
и теме и (главное) форме. Сжав и процедив, я начинаю
считать... Насчитав 100—120—140 строк... я пугаюсь и...
не посылаю... Чаще всего приходится наскоро пережевы-
вать конец и посылать не то, что хотелось бы... Как обра-
зец моих печалей посылаю Вам статью «Единственное
средство». Я сжал ее и посылаю в самом сжатом виде,
и все-таки мне кажется, что она чертовски длинна для
Вас, а между тем, мне кажется, напиши я ее вдвое боль-
ше, в ней было бы вдвое больше соли и содержания»1.
О рассказе «Трагик» Чехов писал Лейкину в августе
1883 года: «Неплохой рассказ вышел бы, если бы не
рамки... Пришлось сузить даже самую суть и соль...
А можно было бы и целую повесть написать на эту
тему» 1 2.
То же писал Чехов и о рассказе «Экзамен на чин»:
«„Экзамен на чин* милая тема, как тема бытовая и для
меня знакомая, но исполнение требует не часовой рабо-
ты и не 70—80 строк, а побольше... Я писал и то и дело
херил, боясь пространства. Вычеркнул вопросы экзаме-
1 А. П. Чехов, Поли. собр. соч., т. ХШ, ОГИЗ, 1948, стр. 42
(Письмо Лейкину от 12 января 1883 г.).
2 Т а м же, стр. 71.
353
наторов-уездников и ответы почтового приемщика —
самую суть экзамена» *.
Подобных выдержек из переписки Чехова с редакто-
рами юмористических журналов имеется немало 1 2.
Редакция «Полного собрания сочинений и писем»
А. П. Чехова (А. М. Еголин, Н. С. Тихонов, редактор
тома 1\. Д. Муратова) не затруднила себя изучением
вопросов редакторской правки чеховского текста. Руко-
пись чеховского рассказа «Неприятная история» не
сохранилась. И редакторы как последнего, так и пре-
дыдущих изданий Полного собрания сочинений Че-
хова, не заметив бессвязности композиции, механи-
чески перепечатывали этот рассказ по тексту «Петер-
бургской газеты» без всяких комментариев.
3
Изучение литературных переделок и подделок, с од-
ной стороны, является предметом текстологии, литера-
турной эвристики или критики текста, а с другой,— вхо-
дит в круг истории литературы и истории языка худо-
жественной литературы.
Какие сложные и интересные вопросы стилистиче-
ские, историко-литературные, идеологические или исто-
рико-общественные возникают при исследовании разных
видов переделок и подделок, может показать история
с новыми отрывками и вариантами II тома «Мертвых
душ» Гоголя, опубликованными в журнале «Русская
старина».
В этом журнале за 1872 год, в январском номере
были напечатаны «новые отрывки и варианты» первых
трех глав II тома «Мертвых душ» Н. В. Гоголя.
По сообщению редакции, публикуемые отрывки со-
хранились в рукописи, принадлежавшей другу и товари-
щу Гоголя — Н. Я. Прокоповичу (ум. в 1857 г.). Руко-
пись эту Н. Я. Прокопович подарил своему сослуживцу
по преподаванию в Петербургском кадетском корпусе —
1 А. П. Чехов, Поли. собр. соч., т. XIII, стр. 97.
2 См. В. М. Родионова, Чехов и юмористическая журнали-
стика восьмидесятых годов. «Ученые записки Московского гос. пед.
института им. В. И. Ленина», т. CXV, Кафедра русской литературы,
вып, 7, М. 1957, стр. 356—357.
354
ПОЛКОВНИКУ Н. Ф. Я'Му, который с своей стороны, по-
зволил снять с нее точную копию своему приятелю — ди-
ректору училищ Могилевской губернии, а позднее ди-
ректору С.-Петербургского коммерческого училища —
М. М. Богоявленскому. Эту-то копию М. М. Богоявлен-
ский «весьма обязательно» предоставил редакции «Рус-
ской старины» для напечатания драгоценных материа-
лов на страницах журнала. Редакция не сомневалась в
подлинности гоголевского текста и не допускала ни ма-
лейшей мысли о возможности подделки.
По словам редакции, в новых, еще не бывших в печа-
ти отрывках и варьянтах «Мертвых душ», хотя и незначи-
тельных по объему, «искрится неподражаемый, умерший
с Гоголем юмор, поразительная меткость выражения и
художественное воспроизведение лиц, местностей, всего,
до чего только касалась кисть гениального мастера»1.
Кроме того, новые варьянты текста «Мертвых душ»,
писала редакция журнала, «интересны уже потому, что
они знакомят нас с процессом творчества бессмертного
художника» 1 2.
После тщательного сличения копии М. М. Богояв-
ленского с изданиями II тома «Мёртвых душ» (Труш-
ковского и Кулиша) были установлены следующие глав-
нейшие различия.
«1) Совершенно новые эпизоды: в рассказе о службе
Тентетникова, именно столкновение с начальником отде-
ления Леницыным и арест Тентетникова.
2) Рассказ дяди Тентетникова, действительного стат-
ского советника, о графе Сидоре Андреевиче и его с ним
обращении.
3) Речь Тентетникова к крестьянам и крестьянкам по
приезде в деревню, и рассуждение мужиков и баб о ба-
рине.
4) За исключением этих трех эпизодов, не вошедших
в печатные издания, весь рассказ о жизни Тентетникова
в деревне передан в рукописи против печатного значи-
тельно короче, причем во многих словах и целых оборо-
тах встречаются разности против соответственных мест
в изданиях.
5) Во II главе — в рукописи совершенно новые ме-
1 «Русская старина», 1872, январь, стр. 89.
2 Т а м же.
355
ста: размышления Бетрищева о службе и о «подлецах»,
которые ее продолжают; замечание его о Михайловском-
Данилевском и др.
6) Сватовство Чичикова у генерала Бетрищева его
дочери Улиньки за Тентетникова.
7) Обед Чичикова у Бетрищева.
8) Возвращение Чичикова к Тентетникову; рассказ
его о визите Бетрпщеву, о сватовстве, об истории гене-
ралов. Тентетников принимает на себя роль историогра-
фа и едет с Чичиковым к Бетрищеву. Примирение.
9) В прочих местах II главы рукопись представляет
разности против изданий в отдельных словах и выра-
жениях.
10) В III главе рукопись имеет ненапечатанные
подробности о предобеденной закуске у Петуха, и сон
Чичикова; прочие затем места этой главы отличаются от
изданий 1855, 1857 и следующих годов только некоторы-
ми словами и выражениями, но эти различия, хотя и ма-
ловажные, встречаются во многих местах» *.
Некоторые из этих «дополнений» совпадали с тем, что
сообщалось о содержании не дошедших до нас частей II
тома «Мертвых душ» близкими друзьями Гоголя после
его смерти. Племянник Гоголя Н. П. Трушковский, впер-
вые издавший (в 1855 г.) уцелевшие пять глав II тома,
в своем предисловии писал:
«Начало первой главы: описание деревни Тентетни-
кова (как и вообще все описанные местности), затем вос-
питание Тентетникова в школе, поступление его на
службу, поправлено и переделано столько раз, что даже
трудно решить, что именно следует выбирать...
Вторая глава прервана в самом интересном месте,
когда следует примирение генерала с Тентетниковым и
разговор их о 1812 годе; да и в самом разговоре гене-
рала с Чичиковым, по рассказам слышавших чтение са-
мого автора, недостает многого»1 2.
Не все журналы и не все читатели пришли в слепой
и безудержный восторг от вновь напечатанных в «Рус-
ской старине» отрывков и вариантов второго тома «Мерт-
вых душ» Гоголя. Так, «Русский вестник», издаваемый
1 «Русская старина», 1872, январь, стр. 88—89.
2 Там же, стр. 87. Ср. также Лев Арнольд и, Мое зна-
комство с Гоголем, «Русский вестник», 1862, № 1, стр. 74—78.
356
М. Катковым, поместил по поводу этих «Новых отрыв-
ков» из «Мертвых душ» в отделе «Смесь» заметку, в
которой отдельные эпизоды, содержащиеся в них, счи-
таются мало удачными, бледными: «лучшие места...— это
сватовство Чичикова и рассказ о нем Тентетникову.
В них виден прежний Гоголь, Гоголь первой части
«Мертвых душ». Чичиков в деле сватовства, со своими
блестящими импровизациями в пользу Тентетникова, ко-
торого он возводит в историографы генералов, прелестен.
Те же эпизоды, которые входят в биографию Тентетни-
кова: ссоры его с начальником, приезд в деревню и
проч.— очень слабы и бледны. Придумано может быть и
не дурно, но ничего не вышло»1.
Но само собой разумеется, и в этом критическом
суждении не выражалось и не содержалось никакого
сомнения в подлинности напечатанных «новых отрыв-
ков», в принадлежности их Гоголю.
Вообще, несмотря на расхождения в оценке художе-
ственных качеств разных частей «новых отрывков и ва-
риантов» «Мертвых душ», сначала никто не заметил и
не заподозрил в них подделки. Позднее, когда остро
встал вопрос о фальсификации гоголевского текста, кри-
тик «Вестника Европы» Д. в заметке «Подделка Гоголя»
писал: «Прошло почти полтора года со времени напеча-
тания нового варианта в «Старине», и в литературе,
в которой до сих пор действуют многие из давних почи-
тателей Гоголя и даже из его личных друзей,— не было
возбуждено никакого сомнения о том, чтобы этот третий
вариант почему-либо не мог принадлежать Гоголю»1 2.
И в другом месте тот же автор высказывается еще более
решительно: «Сколько мы помним, не многие, а никто
не говорил в печати о подделке, до заявления самого
г. Я-го» Гт. е. Ястржембского]3.
Тот же «Вестник Европы» пытается объяснить, по-
чему никому не пришла в голову мысль о подделке, или
примеси подлога — сразу же после ознакомления с но-
выми отрывками и вариантами второго тома «Мертвых
душ». По мнению названного журнала, это «очень не-
удивительно, и вот почему:
1 «Русский вестник», 1872, январь, т. 97, стр. 410.
2 «Вестник Европы», 1873, август, кн. 8, стр. 823—824.
3 Та м же, стр. 830, примеч. 2.
357
Во-первых, надо, конечно, приписать скромности
г. Ястржембского, что он называет свою подделку не-
ловкой... в некоторых частях это — подделка очень, даже
как будто слишком, ловкая...»1
Тут заключается намек на то, что Ястржембский
будто бы не подделывал Гоголя, но выдал за свою под-
делку гоголевское, извлеченное из рукописи Прокоповича.
«Но отдав здесь справедливость «ловкости» подделки
и невольно нарушая этим ложную скромность г. Я-го, мы
должны, однако, сказать, что вообще г. Я-ий все-таки
преувеличивает дело. Вставки, им сделанные, по его сло-
вам,—в целом так невелики, представляют так мало
чего-нибудь яркого и характерного, что их очень легко
было потерять в общем впечатлении чтения: какие-
нибудь 6—7 страниц вставок в разных местах на 80 стра-
ниц целого подлинного текста дают слишком мало опоры
для заключений об их подлинности или неподлинности.
Рюмка воды на целую бутылку крепкого вина очень
мало изменила бы его вкус и его крепость,— эта «под-
делка» была бы почти незаметна на обыкновенный вкус.
Кроме того, главное, на что обращали внимание
в 3-м варианте, (То есть в «новых вариантах и отрыв-
ках».— В. В.) была не столько прибавка, сколько исклю-
чение, именно исключение того места, где был сделан
враждебный намек о Белинском и введение двух слов
о «человеческом достоинстве». Отсюда и было выведено
мнение, что в настроении Гоголя могла произойти неко-
торая перемена. Исключение этого враждебного намека
не представляло ничего невероятного: этот намек нахо-
дится во 2-м из известных текстов 2-й части; но в 1-м
тексте его также нет, как и в 3-м варианте. Этот намек
был, без сомнения, помещен в эпоху переписки Гоголя
с Белинским; и весьма естественно мог быть выпущен
после, когда Белинский умер, и Гоголя могли посетить
другие мысли. Прибавка слов о «человеческом достоин-
стве», как замена прежнего, могла иметь значение; и
странно было бы говорить, что подобная мысль была бы
невозможна для самого Гоголя. Начало первой главы
вообще сокращено; но из этой отрицательной переделки,
конечно, трудно было бы что-нибудь заключать о под-
делке. Прибавка о ссоре Тентетникова с Лепицыным
1 «Вестник Европы», 1873, кн. 8, стр. 837.
358
столь безразлична, что из нее также ничего не следо-
вало... Г. Ястржембскому не следует заблуждаться о ли-
тературном значении его подделки» Г Но это суждение,
высказанное в самый разгар полемики вокруг «под-
делки Гоголя» и стремившееся повернуть в новую сто-
рону ранее высказанные в «Вестнике Европы» взгляды
на «третий вариант» первых трех глав II тома «Мертвых
душ» (первыми двумя вариантами считались напечатан-
ные в изданиях Трушковского и Кулиша), носило очень
односторонний характер, тем более что критик «Вестника
Европы» Д. готов был увидеть в большей части новых
отрывков и вариантов подлинный текст черновой руко-
писи Гоголя по списку, полученному Ястржембским от
Н. Я. Прокоповича. «Если бы мы верили в спиритизм,—
заявлял он,— мы подумали бы, что когда г. Я-ий «на-
скоро» делал свои вставки, он, вероятно, беседовал
с духом Гоголя... Мы повторим г. Я-му просьбу поде-
литься с публикой этим удивительным способом изуче-
ния великих писателей...»1 2
Таким образом, появление новых вариантов II тома
«Мертвых душ» было сначала воспринято как интерес-
ное и естественное пополнение ценных фактических дан-
ных, относящихся к последней «смутной» поре гоголев-
ского творчества.
4
«Новые отрывки и варианты» II тома «Мертвых душ»
Гоголя возбудили общественный интерес. По словам га-
зеты «Голос» (1873, № 185), «все почти органы нашей
печати заговорили об этих «вариантах» и чрезвычайно
заинтересовались ими». Естественно возникло стремление
определить, что нового вносят эти отрывки и варианты в
понимание последнего этапа гоголевского творчества,
в понимание колебаний и изменений его общественно-
политических и литературно-эстетических взглядов.
В «Вестнике Европы» (1872, кн. 7, июль) была напе-
чатана литературная заметка В. П. Чижова «Последние
годы Гоголя» (по поводу «Новых отрывков и вариантов»
ко 2-му тому «Л'1ертвых душ» в «Русской старине» 1872,
1 «Вестник Европы», 1873, кн. 8, стр. 837—838.
2 Там же, стр. 837.
359
январь). Она и пыталась раскрыть значение обнародо-
ванных новых текстов для изучения последней стадии
творческого пути Гоголя. Автор начинает свою статью
указанием на то, что последний период деятельности
Гоголя, некогда возбуждавший столько противоречивых
толков, продолжает оставаться загадочным и мало разъ-
ясненным. Между тем, все более распространяется тен-
денция подвергать это время деятельности Гоголя «ре-
шительному огульному осуждению». «Преждевременная
дряхлость некогда великого таланта делается аксиомою.
Ранняя художническая несостоятельность признается
стоящею вне всякого сомнения» \
«Тем отраднее для нас,— продолжает В. Чижов,—
всякое нежданное открытие, бросающее хотя какой-
нибудь свет на внутреннюю жизнь и -творчество Гоголя
в этот период его существования. Таким открытием яв-
ляются неизвестные отрывки и варианты ко 2-му тому
«Мертвых душ», обнародованные в первой книжке «Рус-
ской старины» за нынешний год. Они ярко обнаруживают
перед нами своеобразную силу таланта Гоголя в те годы,
когда он был занят окончательною отделкою своего лю-
бимого произведения; они проливают ясный свет на са-
мые важные стороны его авторской деятельности. Вместе
с тем они раскрывают перед нами его отношения к совре-
менникам, в особенности к Белинскому»1 2. В. Чижов
придает такое большое значение этим вариантам, что
готов на основании извлеченных из них свидетельств
предложить новое решение вопроса об окончательном
тексте и идейном существе всего второго тома «Мерт-
вых душ».
По мнению В. Чижова, первые редакции II тома
«Мертвых душ», изданные Кулишом, свидетельствуют,
что новый труд созидался в духе тех понятий, совокуп-
ность которых намечена автором в его «Переписке с
друзьями».
Так, в изображении идеального наставника Але-
ксандра Петровича Гоголь представил ту самую науку
жизни, которая преподана в «Переписке» и которая
«учила сочетать искусство практической истины с без-
1 В. П. Чижов, Последние годы Гоголя, «Вестник Европы»,
1872, кн. 7, стр. 432.
2 Т а м же, стр. 432.
360
деятельностью мысли, подчиняющейся внешнему автори-
тету»1. Вообще вся концепция первых набросков II тома
«Мертвых душ» пропитана консервативными, реакцион-
ными мыслями и даже выражениями «Переписки с
друзьями».
«Общий смысл поэмы,— по мнению В. Чижова,—
может быть выражен в немногих словах. Все сословия,
звания и должности в государстве должны оставаться
тем, чем они были; но все, от мала до велика, должны
быть перевоспитаны в духе довольства своим относи-
тельным положением и своими относительными средст-
вами, чтобы строгим исполнением возложенных на себя
обязанностей поднять уровень общего благосостояния.
Призвание автора заключается в том, чтобы возвысить
это благосостояние, побудив всех и каждого к исполне-
нию этих обязанностей» 1 2.
По мнению Чижова, этот первый очерк поэмы был
доведен до конца уже одновременно с изданием в свет
«Переписки с друзьями», то есть к началу 1847 года
(ср. статью Л. Арнольди, Мое знакомство с Гоголем.
«Русский вестник», 1862, т. 37). Но «Переписка» Гоголя
вызвала возмущение и недоумение передовых слоев рус-
ского общества. Белинский пишет свое знаменитое
письмо к Гоголю.
По мнению В. Чижова, это письмо оказало громадное
влияние на Гоголя и «было в высшей степени благотвор-
ным для его .художественной деятельности» 3.
«При новом просмотре написанных глав «Мертвых
душ» восставала перед ним грозная тень неподкупного
критика с его беспощадными филиппиками и резкою
речью»4. Сначала «Гоголь, в порыве неостывшей досады
не мог воздержаться, чтобы не кольнуть ненавистного
критика, или, в лучшем случае, чтоб не внести в свою
поэму намека на образ, долженствовавший запечатлеть
собою характер господствовавшего и, по мнению автора,
уклонившегося с должного пути, духа времени»5. В. Чи-
жов истолковывает в этом смысле образ «резкого на-
правления недоучившегося студента, набравшегося муд-
1 «Вестник Европы», 1872, кн. 7, стр. 433.
2 Т а и же, стр. 437.
3 Там же, стр. 443.
4 Там .ж е, стр. 444.
5 Т а м же.
361
роста из современных брошюр и газет». Чижов видит
в этом сатирический намек на Белинского. «Но этого
мало. «Начитавшийся всяких брошюр, недокончивший
учебного курса эстетик» поименовывается ниже в числе
членов противузаконного общества... Уязвленное само-
любие писателя тешилось подобными нелепыми выход-
ками,— и все-таки издавать написанное в том виде, как
оно было набросано, оставалось немыслимым»1. Годы
текли. И Гоголю, внимательно следившему за ходом рус-
ской литературы и за ее важнейшими событиями, идейно-
художественными течениями, становилось ясно, что «для
успеха его поэмы необходимо было выбросить из нее
тенденциозную подкладку».'«Волею или неволею прихо-
дилось следовать совету и указаниям Белинского»1 2.
Любопытно, что вслед за откликом на письмо Белин-
ского к Гоголю в «Бесах» Ф. М. Достоевского (в речи
Степана Трофимовича Верховенского и Шатова) статья
В. П. Чижова «Последние годы Гоголя» в либеральном
«Вестнике Европы» открывала собою историю широкого
общественного, литературного и научного обсуждения
этого письма в нашей легальной печати. Здесь напеча-
тано было «несколько наименее криминальных страниц
письма Белинского»3.
И все же В. Чижов старается причесать Гоголя в стиле
и духе либерала 40-х годов. По мнению В. Чижова, са-
мый последний этап работы Гоголя над II томом «Мерт-
вых душ» и нашел свое выражение в «новых вариантах»,
изданных «Русскою стариной» и составляющих как бы
третью редакцию текста этой части «Мертвых душ».
Тут «моралист очевидно стушевывается перед худож-
ником. Безукоризненные, твердою рукою нанесенные
очерки первоначальной картины остались неприкосновен-
ными; все наросшие, со временем, безобразные пятна,
пестрившие картину и спутывавшие ее определенные кон-
туры, тщательно устранены»4. Нот «фантастической
школы с ее фантастическим наставником». Вместе с тем
«дано большее развитие рассказу о службе Тентетникова
1 «Вестник Европы», 1872, кн. 7, стр. 444.
2 Там же, стр. 445.
3 JO. Г. Оксман, Письмо Белинского к Гоголю как истори-
ческий документ, «Ученые записки Саратовского гос. университета
имени Н. Г. Чернышевского», т. XXXI, 1952, стр. 169.
4 «Вестник Европы», 1872, кн. 7, стр. 445.
362
под эгидою его дяди, действительного статского совет-
ника Онуфрия Ивановича, и весь этот рассказ,— пишет
В. Чижов,— дышит правдою и светлым юмором, осо-
бенно в обрисовке подначальничтеских отношений этого
последнего к его патрону, графу Сидору Андреевичу. Эти
страницы напоминают лучшие вдохновения нашего не-
подражаемого комика»1. В описании возвращения Тен-
тетникова в деревню и жизни его там, по мнению В. Чи-
жова, «видна полная решимость Гоголя разорвать с про-
шедшим». Так въезд в деревню возбуждает в Тентетни-
кове лишь «дорогие сердцу воспоминания детства».
«Тентетников, этот очевидно симпатичный автору герой,
предназначаемый им для «дивного, прелестного» созда-
ния, Улиньки, проникнут уже не началами гоголевской
морали, не. сентенциями «Переписки с друзьями», а воз-
зрениями и убеждениями Белинского. Он поистине яв-
ляется сыном своего времени, носителем его дум и го-
ворит его языком. Письмо Белинского пошло в дело!»2
Например, Тентетников пользуется выражением — чув-
ство человеческого достоинства, трижды повторенным
в письме Белинского. Согласно оценке В. Чижова, «с не-
поддельным комизмом рисует Гоголь встречу Тентетни-
кова с крестьянами». В деревне Тентетников не зани-
мается деятельностью в духе «Переписки» Гоголя, а
быстро успокаивается и облекается в халат. В. Чижов
стремится и тут подчеркнуть художественный объекти-
визм Гоголя. «Не даром радовался Гоголь своей работе,
и говорил своим друзьям, что с первой главы туман со-
шел. На место однообразных вариаций на ту же тему,
какими являлись прежние лица поэмы, более или менее
верно выхваченные из действительности, но все окра-
шенные в цвет воззрений и убеждений автора, получи-
лись живые лица, с типическими различительными при-
знаками. Автор замечательно спокойно относился к этим
признакам, хотя бы они были ему мало симпатичны, и
не торопился наложить на них клеймо отвержения, как
бы сознавши ту истину, что разногласие голосов необ-
ходимо для гармонии хора и что разнообразие убежде-
ний совместимо с единодушием стремлений на пути мир-
ного преуспения. Исчезала вся накопившаяся фальша,
1 «Вестник Европы», 1872, кн. 7, стр. 445.
-Там же, стр. 445—446.
363
и художник снова возвращался на стезю художественной
правды. Его поэма освобождалась от противоречивого
смешения несовместимых признаков в очертании лиц и
характеров и, подобно его прежним произведениям, ста-
новилась верным зеркалом действительности, не кривив-
шим отражаемые черты своими прихотливыми изгибами,
а воспроизводившим их в их жизненной целостности.
Всюду обнаруживается стремление к простоте и есте-
ственности, даже в обрисовке характера Улиньки устра-
нены лишние восклицания и напускные восторги...»1 Осо-
бенно симптоматичными и характерными кажутся В. Чи-
жову новые штрихи, внесенные в образ Петуха. «В изве-
стное описание приезда Чичикова к помещику Петуху вве-
дены новые эпизоды о закуске Петуха и сне Чичикова,
превосходно дорисовывающие этот мастерской этюд» 1 2. И
хотя эта фигура не предназначалась играть никакой роли
в дальнейшей интриге «Мертвых душ», тем не менее, осо-
бенно после этих дополнительных «мастерских штрихов»,
она остается «эскизом, достойным кисти великого худож-
ника, которым поневоле залюбуется всякий любитель»3.
В. Чижов считает несомненным, что «та же кисть про-
шла и по остальным лицам поэмы» — с теми же целями
и намерениями освободить их образы от внушений и идей
«Переписки с друзьями». «После введенного в первую
главу эпизода о служебных отношениях сановников, без
внутреннего противоречия не могла сохраниться прежняя
поза идеального генерал-губернатора, развязывающего
запутавшиеся нити поэмы. Таков, как он есть, он по всей
справедливости мог заслужить от каждого из своих под-
чиненных отзыв Онуфрия Ивановича о графе Сидоре
Андреевиче: „Знаешь ли, брат, каков мой начальник
граф Сидор Андреевич. Вот уж, можно сказать, собака,
а добрейшая, благороднейшая душа“»4.
В заключение В. Чижов на основании изучения новых
вариантов и отрывков, относящихся к первым трем гла-
вам II тома «Мертвых душ», предлагает на суд и убеж-
дение читателей возникшие у него соображения и общие
выводы о процессе творчества Гоголя в последний период
его литературной деятельности.
1 «Вестник Ев.ропьг>, 1872, кн. 7, стр. 447.
2 Там же, стр. 443.
3 Т а м же, стр. 447.
4 Та м же, стр. 447—448.
364
Ошибочно думать, будто творческие силы Гоголя
в это время истощились, и что он, работая над вторым
томом «Мертвых душ», «вытягивал из себя клещами
фразу за фразой», как выразился Берг1. Гоголь страдал
«плодовитостью резонерства, увлекавшего его за пре-
делы художественного труда». «Метаясь из стороны
в сторону, он делал свой урезы, добавления и очищения
под влиянием самых разнородных мотивов»1 2. Великий
писатель, по мнению В. Чижова, «вышел торжествующим
из этой борьбы и снова является перед нами в полном
цвете таланта, художником, вполне владеющим своими
средствами и носящим в душе твердо намеченный идеал
своего создания»3. Есть свидетельства людей, близко
знавших Гоголя, что им был уже вполне закончен весь
2-й том, состоявший из одиннадцати глав (как и первый
том). «Получался памятник, резанный на меди и пред-
назначенный переходить в своей законченной красоте
из века в век, на удивление и поучение будущих худож-
ников»4. Душевная болезнь побудила Гоголя к сожже-
нию «с такой любовью взлелеянного произведения».
«Если мы спросим себя,— заканчивает свою статью
В. Чижов,— была ли минута сожжения минутою про-
светления художника, сознавшего неизмеримую пропасть
между своею истинною задачею и призванием и между
ее посильным исполнением, или же то была минута воз-
врата к давно забытым колебаниям и сомнениям совести,
почуявшей разлад между греховностью земных интере-
сов и житейских тревог и между безмятежностью души,
ищущей вечного успокоения, то выбор между этими от-
ветами едва ли может показаться сомнительным.
Счастливый случай не ранее, как через двадцать лет
по смерти великого писателя, дал нам возможность за-
глянуть в его душу и прозреть луч света среди окутав-
ших ее сумерек. Будем надеяться, что другая подобная
случайность, раньше или позже, еще светлее озарит
мглу, окружающую его могилу, и еще выше поднимет
его звезду на небосклоне, отечественной поэзии»5. Сло-
1 Н. В. Б е р г, Воспоминания о Н. В. Гоголе. 1848—1852, «Рус-
ская старина», 1872, январь, стр. 126.
2 «Вестник Европы», 1872, кн. 7, стр. 448.
3 Т а м же.
4 Т а м же.
5 Т а м же, стр. 448—449.
365
вом, В. Чижов готов причислить Гоголя к либералам,
к прогрессистам 40—50-х годов.
Так складывается и начинает распространяться мне-
ние о возврате Гоголя в последние годы его жизни к худо-
жественной манере «Ревизора» и первого тома «Мертвых
душ» и связанным с этой манерой эстетическим воззре-
ниям. Этот отход от «диких идей» «Переписки с друзь-
ями» связывался, прежде всего, с влиянием знаменитого
письма Белинского к Гоголю.
о
Умеренно либеральный «Вестник Европы» не только
проявил большую доверчивость к новой публикации тек-
стов второго тома «Мертвых душ». На страницах этого
журнала — не без влияния идей В. Чижова о «новых от-
рывках и вариантах» — сделал несколько любопытных
замечаний и А. Н. Пыпин в своих исторических очерках:
«Характеристики литературных мнений от двадцатых до
пятидесятых годов»1.
В главе VII «Характеристики литературных мнений»,
посвященной Гоголю* 2, А. Н. Пыпин стремится опреде-
лить значение творчества этого писателя в истории рус-
ской литературы и общее «направление» его литературной
деятельности. «При жизни Гоголя его направление,—
прежде почти бесспорно определяемое • его известными
произведениями,— стало предметом споров с появлением
«Переписки»; решение вопроса было невозможно при
жизни писателя, которому еще предстояла деятель-
ность,— примирение двух сторон было немыслимо. Но
деятельность кончилась и стала делом истории»3. Да-
лее говорится о посмертных изданиях сочинений и писем
Гоголя, о ведущейся работе над его биографией, о по-
явившихся в печати воспоминаниях о Гоголе и исследо-
ваниях его творчества. «Многие стороны в характере и
деятельности Гоголя стали определяться яснее, и реше-
ние исторического вопроса де’лалось возможнее. В по-
следнее время собралось вообще много мелкого, но до-
* 1 См. «Вестник Европы», 1871, май, сентябрь и декабрь; 1872,
май, ноябрь и декабрь; 1873, апрель, май и июль.
2 См. «Вестник Европы», 1873, кн. 4, апрель, стр. 471—547.
3 Т а м же, стр. 473,
366
вольно важного материала»1. Среди этого материала
в подстрочной библиографической справке на первом
месте указаны «Новые отрывки и варианты ко второму
тому „Мертвых душ“», сообщенные М. Богоявленским, и
статья В. П. Чижова по поводу них — «Последние годы
Гоголя»1 2, А. Н. Пыпин присоединяется к тому мнению,
что в творчестве Гоголя не было «перелома» или «из-
мены». «Направление его последних годов имело основа-
ние в его давнишних понятиях, кроме которых он никогда
и не имел других»3. Но независимо от этого его произ-
ведения лучшей поры творчества стали могущественной
общественной силой. «С произведениями Гоголя совер-
шался акт сознания, один из самых важных, какие были
в новейшей истории общества»4. И сам Гоголь в послед-
ний период своей жизни отступился от своих произведе-
ний,— потому что действие их на общество «превышало
степень теоретического понимания, вынесенную им из
его школы и из его отношений»5.
Характеризуя эволюцию творчества Гоголя, столкно-
вение в его личности двух стремлений, двух течений об'
щественной мысли — «истинных задатков общественного
сознания» и «немудреного запаса» социальной филосо-
фии— консервативного мировоззрения, А. Н. Пыпин
стремится разъяснить внутреннее движение Гоголя
к идеям «Переписки с друзьями». Затем он рассказывает
о письме Белинского к Гоголю, которое «произвело на
автора «Переписки» самое сильное впечатление», и о не-
которых колебаниях Гоголя. «Во всяком случае, оче-
видно, что у Гоголя являлись новые мысли вовсе не
в духе «перелома»; как будто он втайне сознавал спра-
ведливость возражений, и в нем являлась потребность
«примирения»...» «Перед ним начинает мелькать слабый
проблеск действительных общественных вопросов — но
его понимание все еще только догадка, спутанная его
привычными понятиями»6.
«Гоголь до самого конца остался в противоречии
между своими теоретическими понятиями и внушениями
1 «Вестник Европы», 1873, кн. 4, стр. 474.
2 Т а м же.
3 Т а м же, стр. 478.
4 Та м же, стр. 479.
5 Т а м же.
6 Там же, стр. 523.
367
его поэтической природы»1. Это сказывается и в его ра-
боте над вторым томом «Мертвых душ». «В нем остался
след обеих сторон его внутренней жизни,—и свободные
порывы таланта, и вялые попытки провести придуман-
ную тенденцию»1 2. Повествование в «Мертвых душах»
явно направлено к цели — убедить читателя в справед-
ливости той морали, которую излагала «Переписка».
А. Н. Пыпин (так же, как и В. Чижов) различает три
редакции второго тома «Мертвых душ» Гоголя.
«Первая редакция второго тома по всем вероятиям
современна «Переписке» — совершенно та же тенденция,
много сходства даже в отдельных выражениях... Вторая
редакция составлялась, по-видимому, довольно долго, и
позднее «Переписки». Некоторые подробности несом-
ненно принадлежат тому времени, когда Гоголь вел пере-
писку с Белинским»3.
А. Н. Пыпин соглашается с В. П. Чижовым, что в об-
разе «недоучившегося студента, набравшегося мудрости
из современных брошюр и газет», заключен намек на
Белинского. «Фальшивая тенденция, подложенная в эту
работу, давала только жалкие результаты»4. Но Гоголь
долго трудится над новой редакцией второго тома «Мерт-
вых душ». «По-видимому, талант еще не покидал Гоголя
и служил ему, когда он давал ему простор и свободу.
Он пробивался во 2-м томе при всех нелепостях его тен-
денции... Так, Гоголь заставляет своего генерал-губер-
натора говорить чиновникам назидательно-пиэтистиче-
скую речь, совершенно невозможную, но картина рус-
ского управления в этой речи поражает своей правдой и
может напомнить настоящего Гоголя»5.
В «Новых отрывках и вариантах», сообщенных М. Бо-
гоявленским, А. Н. Пыпин усматривает третью редакцию
второго тома «Мертвых душ». Он пишет об этом так:
«Наконец, изданные недавно варианты 2-го тома пред-
ставляют третью редакцию, быть может ту самую, о ко-
торой Гоголь в 1850 году говорил М. А. Максимовичу,
что с нее «туман сошел» (с первой главы). В рассказе
являются новые эпизоды, а из прежних исчезают те под-
1 «Вестник Европы», 1873, кн. 4, стр. 530.
2 Там же, стр. 542—543.
3 Т а м же, стр. 544.
4 Т а м же.
5 Т ам же, стр. 545—546.
368
робности, которые Гоголь рассчитывал для своих тенден-
циозных целей. Так, нет здесь удивительной школы, где
преподавалась «наука жизни»; герой романа уже не пре-
дается мечтаниям о патриархальном значении и высоком
смысле помещичьей власти, и в нем скорее можно видеть
человека с новыми понятиями. Как прежде в изображе-
нии «недоучившегося студента» Гоголь хотел отомстить
Белинскому за статью и за письмо, так здесь, напротив,
заметно влияние письма Белинского: например, Белин-
ский несколько раз повторяет мысль о необходимости
пробуждать в народе чувство «человеческого достоин-
ства», и Гоголь сообщает теперь своему герою эту са-
мую мысль, которой не было и признака в прежних ре-
дакциях. Сам «недоучившийся студент» уже не находится
в числе соседей Тентетникова... Таким образом, можно
думать, что последние работы Гоголя над вторым томом
уже отступали от направления «Переписки» в другую,
лучшую сторону; ему объяснялись хоть некоторые сто-
роны нового образа мыслей, к которому он, вместе с пе-
тербургскими друзьями, относился прежде с таким вы-
сокомерием и враждой» Г
Следовательно, А. Н. Пыпин не только не сомневается
в подлинности «Новых отрывков и вариантов» к первым
трем главам II тома «Мертвых душ», но и в значитель-
ной степени соглашается с тем истолкованием их смысла
и историко-литературного значения, которое дано в
статье В. П. Чижова «Последние годы Гоголя». Правда,
А. Н. Пыпин считает, что талант Гоголя в последние
годы его жизни «был действительно надломлен и его
физическим истощением, а еще более той ложью поня-
тий, которую в течение стольких лет Гоголь в себе вос-
питывал, а друзья усердно поддерживали. Мудрено
предположить, чтобы Гоголь в состоянии был вынести
происходившую в нем борьбу и снова действовать в лите-
ратуре с его прежнею силою; напротив, и сожжение
второго тома перед смертью было вероятно результатом
этого мучительного сознания, последним порывом его
прежнего свободного поэтического чувства»1 2.
Таким образом, «Вестник Европы» в лице своих кри-
тиков удостоверил подлинность «Новых отрывков и ва-
1 «Вестник Европы», 1873, кн. 4, стр. 546—547.
2 Там же, стр. 547.
13 В. В. Виноградов 369
риантов» из «Мертвых душ» Гоголя и предложил более
или менее одинаковое, подчеркивающее силу идеологи-
ческого влияния письма Белинского на Гоголя, объясне-
ние их историко-литературного значения. Вот почему,
когда было заявлено о подделке гоголевского текста, па
«Вестник Европы» обрушились ирония и удары газетных
фельетонистов.
В газете «Русский мир»1 появился язвительный
фельетон, в котором, среди прочих новостей, сообщалось
и о происшествиях, связанных с появлением «Новых от-
рывков и вариантов» Гоголя. Фельетонист иронически
отозвался о «прогрессирующей критике», поторопив-
шейся «воспользоваться подделкой для своих тенден-
циозных целей».
Газета «Голос» также выразила недоумение, почему
редакция «Вестника Европы», напечатавшая статью
В. Чижова и мнение А. Н. Пыпина об огромном значении
вновь появившихся «новых отрывков и вариантов» Го-
голя, «хранит красноречивое молчание и ничего не го-
ворит о ложных выводах своих критиков»1 2. Ведь кри-
тики «либерального органа» — «Вестника Европы» не
только не увидели «неловкости подделки», но, основы-
ваясь на «вариантах», «вывели из них свои умозаключе-
ния о личности Гоголя»3.
«„Что же все это значит?0 — спрашиваю я словами ре-
дакторов «Русской старины»,— пишет обозреватель «Го-
лоса».— Это значит, что нет ничего легче, как подделы-
вать Гоголя, что люди образованные не могут найти раз-
личие между мнимым и настоящим Гоголем и печатают
«подделку» вместо оригинала»4.
6
Прошел почти год со времени опубликования новых
вариантов ко II тому «Мертвых душ» в «Русской ста-
рине». В октябре 1872 года Н. Ф. Ястржембский, отправ-
1 Z.Z.Z. Наблюдения и заметки, «Русский мир», 1873, № 169,
стр. 1.
2 —р, Литературные и общественные курьезы, «Голос», 1873,
№ 185 от 6 июля, стр. 2.
3 T а м же, стр. 1.
4 Т ам же, стр. 2.
370
ляя редакции журнала «Русская старина» рукопись
своих собственных «Воспоминаний», в конце сопрово-
дительного письма (от 31 октября) выразил удивление,
как мог М. М. Богоявленский, без его ведома и согласия,
напечатать варианты и отрывки «Мертвых душ». «Ачто
если эти отрывки подделка? А в этом я почти не сомне-
ваюсь»,— писал Н. Ф. Ястржембский. Встревоженный
редактор попросил, правда, спустя больше чем три месяца
(5 февраля 1873 г.) объяснить смысл этих намеков.
Н. Ф. Ястржембский в ответ (письмо от 13 февраля
1873 г.) заявил «откровенно»: «Варианты эти написаны
мною, тринадцать лет тому назад; никогда не предна-
значались к печати и написаны по особому случаю»1.
И далее рассказывается об этом случае. В Могилеве в
1859 году Н. Ф. Ястржембский сблизился с М. М. Бого-
явленским. Оба были страстными поклонниками Гоголя.
Но М. М. Богоявленский восторгался Гоголем безус-
ловно, независимо от изменений в его художественном
методе и общественных взглядах. Ястржембский же,
«признавая Гоголя великим писателем за первые его ли-
тературные произведения, и в особенности за первую
часть «Мертвых душ», негодовал за его «Переписку с
друзьями» и за вторую часть „Мертвых душ“». И вот
однажды, «в оживленном споре», Ястржембский заявил,
что он находит 2-ю часть «Мертвых душ» крайне неудач-
ным продолжением первой, но что у него «есть пере-
делка трех первых глав второй части, гораздо удачнее
произведения Гоголя», и что М. М. Богоявленский .не
узнает, Гоголь ли это писал, или кто другой. Так, по пер-
воначальному объяснению Н. Ф. Ястржембского, попали
мнимые варианты второго тома «Мертвых душ» к
М. М. Богоявленскому. Между тем на самом деле это
была подделка самого Ястржембского, который, недо-
вольный вторым томом «Мертвых душ», его реакционной
направленностью, переделал по своему убеждению пер-
вые главы его. Однако М. М. Богоявленский не заподоз-
рил и не узнал подделки. Он просил Ястржембского
подарить ему рукопись, как «драгоценность». Он упре-
кал своего прцлтеля в том, что тот, «имея у себя такую
драгоценность, не предает ее печати». Напрасно Ястр-
1 Заметка «Подделка под Гоголя (литературный курьез)», «Рус-
ская старина», 1873, август, стр. 245.
13* 371
жембский уверял Богоявленского, что он «не осмелится
никогда выдать за гоголевское то, что принадлежит
чьему-то досужему перу».
Ястржембский предложил М. М. Богоявленскому
снять копию с своей рукописи, которую он сочинил, опи-
раясь на имевшийся у него список второй части «Мерт-
вых душ». Копия была снята. Подлинник остался у
Ястржембского и был затем представлен им редакции
«Русской старины». Но в то время Ястржембский не
счел нужным сообщить Богоявленскому о том, что он сам
является автором подделки, что варианты «сделаны им
собственноручно». Правда, он «положительно уверял»
М. М. Богоявленского, что эти варианты и отрывки «пи-
сал не Гоголь». Но, очевидно, его уверения не подей-
ствовали. Когда через 13 лет варианты и отрывки были
напечатаны в «Русской старине» по сделанной копии как
подлинные тексты Гоголя, Ястржембский пришел в не-
годование. Однако он не объявил немедленно о своем
авторстве, «рассчитывая, что читающая публика сама
увидит неловкость подделки под Гоголя и оставит ее без
внимания». И что же? появились статьи (например,
В. Чижова в «Вестнике Европы», 1872, июль), в которых
варианты Ястржембского расценивались как свидетель-
ство резкого перелома в мировоззрении Гоголя за по-
следний период его жизни. В этих вариантах увидели
«полное отречение Гоголя от диких идей, высказанных
им в «Переписке с друзьями», ...вследствие известного
письма к нему Белинского»1. И Ястржембский в силу
этого считает своим долгом раскрыть свою мистифика-
цию, заявить о своей неосторожной шутке публично.
Редакция «Русской старины» оказалась в тяжелом
положении. Присланный Ястржембским и написанный
его рукою список «на пожелтевшей от времени бумаге»
как будто подтверждал достоверность его признания в
подделке. В своем следующем письме в редакцию «Рус-
ской старины» (от 22 февраля 1873 г.) Н. Ф. Ястржемб-
ский добавлял, что он действительно получил от
Н. Я. Прокоповича (в сороковых годах) «для списания
2-ую часть «Мертвых душ», ходившую тогда по рукам,
в рукописи. В 1859 году, когда зашла речь о 2-й части
«Мертвых душ» и когда я сказал, что М. М. Богоявлен-
1 «Русская старина», 1873, август, стр. 246.
372
ский не узнает подделки под Гоголя, я переписал имев-
шуюся у меня рукопись, и наскоро сделал известные вам
вставки. Я счел неудобным тогда же сознаться перед
М. М. [Богоявленским] в мистификации, которую он мог
бы найти обидною для себя. Я позволил ему снять ко-
пию с моей рукописи, взяв с него слово, что рукопись
никогда не будет напечатана»1. Однако редакцию «Рус-
ской старины» поразило то обстоятельство, что прислан-
ная Ястржембским рукопись подделки содержала очень
немного помарок и поправок. «Таким образом,—писала
редакция,— чтобы устроить свою шутку, г. Ястржемб-
ский, судя по внешнему виду доставленной им рукописи,
должен был предварительно составить те изменения и
дополнения, какие им признаны нужными, и потом своею
рукою не только написать все 74 страницы тетради в
лист, но и «разрешить» таковую работу г. Богоявлен-
скому. Как ни мало вероятною представилась нам по-
добная шутка-monstre, тем не менее мы готовы уже были
исполнить заявленное нам г. Ястржембским желание»1 2,
то есть оповестить через журнал о «литературном курье-
зе» или подделке весь русский читающий мир. Но тут
снова выступил на сцену М. М. Богоявленский. Он на-
шел в своем домашнем архиве письмо к нему Ястржемб-
ского (от 14 февраля 1861 г.) с такими двусмысленны-
ми заявлениями: «Напечатание вариантов «Мертвых
душ» предоставляю вашему усмотрению, но прошу вас
при издании не упоминать обо мне. Хотя я и получил
этот список от покойного Прокоповича в сороковых го-
дах, но не вполне уверен, что это сочинение самого Гого-
ля, а вводить публику в заблуждение было бы грешно»3.
Вся история представлялась запутанной, противоречивой.
М. М. Богоявленский иронически писал редактору «Рус-
ской старины» (от 27 июня 1873 г.), что ему больше нече-
го сказать: «разве похвастать одним, что я открыл больше,
чем думал,— я открыл Гоголя 2. Жаль только, что этот
прекрасный талант обнаружился несколько поздно».
Редакция «Русской старины», попав в это злополуч-
ное положение и не зная, как из него выйти, пусти-
лась в иронические, но двусмысленные рассуждения:
1 «Русская старина», 1873, август, стр. 246—247.
2 Т а м же, стр. 247.
3 Т а м же.
373
«Во всем этом есть действительно какая-то «прискорб-
ная мистификация» со стороны г. Ястржембского; но что
именно должно отнести к ней — мы решительно недоуме-
ваем: то ли, что он, по его уверению, творил в 1859 году,
дополняя и исправляя Гоголя? То ли, что он писал г. Бо-
гоявленскому в 1861 году, уверяя, что именно этот список
получен от г. Прокоповича и что г. Богоявленский мо-
жет его напечатать по своему усмотрению, или же, на-
конец, к области мистификации принадлежит ныне напе-
чатанное покаяние г. Ястржембского йв неосторожной
шутке?"»1.
Н. Ф. Ястржембский, мучимый авторским раскаянием,
стал писать покаянные извинительные письма в газеты
(например, в «Биржевые ведомости», в «С.-Петербург-
ские ведомости» и др.). В этих письмах также были не-
которые противоречия и вариации в изложении мотивов
и обстоятельств подделки. Однако признание своего ав-
торства или сочинительства Ястржембским было сделано
в самой решительной категорической форме. «Когда...
появилось мнение литераторов, с серьезным заключением,
что эти варианты доказывают, будто Гоголь, под влия-
нием Белинского, отрекся от идей, высказанных им в
«Переписке с друзьями»; когда я подумал, что это мне-
ние может укорениться в публике и, пожалуй, перейдет
в учебники,— тогда я счел молчание преступлением...»1 2
«Меня могут спросить, почему я в свое время не со-
знался перед М. М. [Богоявленским] в мистификации? На
это я отвечу, что подобное сознание могло бы показаться
обидным человеку, утверждающему, что он изучил Го-
голя до того, что сразу узнает подделку под него. Впро-
чем, я раскаиваюсь в том, что не сделал этого сознания;
оно закончило бы мистификацию и не повело бы к по-
следствиям, вызванным напечатанием вариантов»3.
Вместе с тем Ястржембский, с своей стороны, спраши-
вал М. М. Богоявленского, почему тот не напечатал вари-
антов ни в 1859 году, ни в 1861 году, почему, печатая, не
сообщил о возможности сомнения в принадлежности их
Гоголю. «Наконец, если бы статья моя была списком с
чьей-нибудь рукописи, неужели в течение 13 лет не на-
1 «Русская старина», 1873, август, стр. 248.
2 Там же, стр. 249; «С.-Петербургские ведомости», 1873,
№ 184, стр. 2.
3 «Русская старина», 1873, август, стр. 249.
374
шелся бы другой список этой рукописи? Да и мог ли бы
я решиться выдавать за свое то, что могло быть в других
руках и в чем меня можно было бы легко уличить?» Г
Таким образом, Н. Ф. Ястржембский, заявив, что он
«не ищет литературной известности», решил не остав-
лять публику в заблуждении насчет имени подлинного
творца новых отрывков «Мертвых душ». «Я не ищу лите-
ратурной известности, не придаю никакого значения на-
писанным мною вариантам; удивляюсь, что в них не
узнана сразу неловкая подделка под Гоголя. Повторяю
уже сказанное раз: я мог позволить себе шутку с чело-
веком, утверждавшим, что он вполне изучил Гоголя, но
не могу позволить себе мистифицировать публику»1 2.
В заключении письма (от 2 июля 1873 г.) Н. Ф. Ястр-
жембский объяснил, как, почему и с какой целью он
осмелился на подделку текста второго тома «Мертвых
душ» Гоголя.
«Гоголь был мой любимый писатель; я долго изучал
'его, я знал почти наизусть все его творения, и в особен-
ности первую часть «Мертвых душ»; я восхищался этою
первою частью, и в то же время страшно негодовал на
Гоголя за его «Переписку с друзьями» и за вторую часть
«Мертвых душ». Под влиянием известного письма Бе-
линского, я часто обдумывал, как бы следовало переде-
лать вторую часть «Мертвых душ», чтобы она сделалась
достойным продолжением первой. Еще до прискорбной
мистификации с Mi. М. [Богоявленским] у меня были на-
броски вставок и переделок второй части, и я восполь-
зовался ими, когда предстала надобность испытать, до
какой степени М. М. изучил любимого им и мною автора.
Мне не стоило большого труда переделать три первые
главы второй части, и я это сделал в течение нескольких
дней. Имей я тогда больше времени, я переделал бы и
остальные главы. Я вставил известный в свое время все-
му Петербургу анекдот о графе Сидоре Андреевиче, слу-
чившийся в 1854 году, то есть после кончины Гоголя.
Я заставил генерала Бетрищева сказать о Михайлов-
ском-Данилевском то, что вместе со многими слышал в
Витебске за обедом, в 1856 году, от одного генерала, уча-
ствовавшего в Отечественной войне и тоже как-то забыто-
1 «Русская старина», 1873, август, стр. 249.
2 Т а м же.
375
го Данилевским; я описал завтрак у Петра Петровича Пе-
туха со сцены, которой, вместе с другими, был свидетелем
здесь, в Могилеве, у одного барина-сибарита, любившего
плотно поесть и угостить и хваставшегося тем, что он не
знает, что такое скука; я дополнил недосказанное у Го-
голя примирение Тентетникова с Бетрищевым и сватов-
ство Чичикова. Одним словом, я, а не кто другой, напи-
сал варианты, напечатанные в „Русской старине"»1.
Редакция «Русской старины» — скорее для самоуспо-
коения и самооправдания, чем по существу дела — при-
нялась разыскивать и устанавливать разные действи-
тельные и мнимые противоречия в показаниях Ястр-
жембского (о том, почему он решился на подделку, как
и когда он производил свои вставки и исключения, в ка-
кое время он получил список от Н. Я- Прокоповича, этот
ли список с своими исправлениями и дополнениями или
свою фальсифицированную копию он давал для списы-
вания М. М. Богоявленскому и т. п.). Дело в том, что
М. М. Богоявленский в особом письме в редакцию
«Русской старины» (от 27 июня 1873 г.) отрицал, что
он вел литературные споры с Ястржембским о Гоголе
или о каком-нибудь другом писателе, и тем самым
отвергал у своего бывшего приятеля наличие прямого
повода к мистификации и подделке рукописей Гоголя.
М. М. Богоявленский решительно утверждал, что Ястр-
жембский никогда не брал с него слова не печатать ока-
завшиеся в списке варианты. Если же М. М. Богоявлен-
ский не напечатал до 1872 года снятой им копии 2-ой
части «Мертвых душ», то «только потому, что рассказан-
ный в одном из вариантов анекдот о графе Сидоре Анд-
реевиче мог быть принят, хотя, конечно, ошибочно, за
характеристику весьма некогда известного и сильного,
по своему положению, вельможи, но за несколько лет до
своей смерти оставшегося „не у дел"»1 2.
Редакции «Русской старины» казалось загадочным,
«несмотря на все объяснения г. Ястржембского, как мог-
ло случиться, что человек, по летам своим вполне по-
чтенный, бывший профессор механики, сыграв шутку
в 1859 году, не только позволяет себе не разъяснить ее
1 «Русская старина», 1873, август, стр. 250.
2 Там же, стр. 251.
376
тогда же своему «весьма уважаемому знакомому», а
еще письменно усиливает в нем это заблуждение два го-
да спустя; удостоверение г. Ястржембского, что именно
«этот список, 2-й части «Мертвых душ» получен им
от Н. Я. Прокоповича, давало право М. М. [Богоявлен-
скому] не обратить внимания на бездоказательное сом-
нение, в том же письме выраженное, что это сочинение
не самого Гоголя»1. Словом, полной уверенности в под-
делке рукописи Гоголя как будто не было у самой редак-
ции «Русской старины». Она боялась сделаться жертвой
какой-нибудь новой «шутки» со стороны Н. Ф. Ястр-
жембского и, напечатав его письмо спустя почти четыре
месяца после его получения, осмотрительно заявляла:
«Как бы то ни было, однако, мы приглашаем читателей
«Русской старины», хотя бы до поры до времени, а имен-
но впредь до каких-нибудь новых данных или могущих
быть документальных разъяснений этого, вполне ориги-
нального литературного случая, признать полковника
Н. Ф. Ястржембского автором напечатанных в 1872 году
дополнений, переделок и поправок ко 2-й части „Мерт-
вых душ“»1 2.
Впрочем, стремясь всячески оправдать себя и выйти
из конфузного положения, редакция «Русской старины»
делала к этому заявлению очень двусмысленное приме-
чание: «Наиболее непреложным документальным разъ-
яснением мог бы послужить список 2-й части «Мертвых
душ» — руки Н. Я. Прокоповича, если бы таковой ока-
зался с теми самыми вариантами, автором которых яв-
ляется теперь Н. Ф. Ястржембский»3. Далее указыва-
лось на то, что, хотя редакция стремится печатать доку-
менты и литературные материалы по подлинникам,
но иногда ей приходится довольствоваться списками и
копиями. «Печатая, таким образом, материал иногда по
спискам, а не по подлинникам, мы всегда предпосылаем
объяснения, откуда, как и в каком виде дошли к нам
издаваемые рукописи...»
Словом, все необходимые предосторожности были
соблюдены, все было в полном порядке и относительно
1 «Русская старина», 1873, август, стр. 250—251,
2 Там же, стр. 251.
3 Т а м же.
377
лжегоголевских вариантов. «Мы, впрочем, нисколько не
сожалеем, что они изданы, напротив, как мастерски,
даже художнически набросанные очерки, они весьма ин-
тересны; но их место не в первом отделе нашего журна-
ла, а в Листках из записной книжки «Русской старины»,
в отделе курьезов, куда бы мы их и поместили, если бы
только хотя тень сомнения в том, что они принадлежат
не Гоголю, была бы нам своевременно заявлена»1.
Точку зрения «Русской старины» на высокие худо-
жественные достоинства подделки Н. Ф. Ястржембского,
по-видимому, разделяли многие литераторы и читатели
в 70-е годы (само собой разумеется, у некоторых эта
точка зрения сменилась прямо противоположной, когда
было заявлено с фальсификации).
Г. П. Данилевский призывал литераторов и литера-
туроведов к «тщательному расследованию рукописей от-
рывков» и «сверке их со всеми материалами, оставши-
мися после смерти великого писателя». Такая работа
«не замедлит, вероятно, пролить истинный свет на это,
по малой мере, странное явление. Но пока перед публи-
кой, как перед древним Соломоном, стоят две матери
«оспариваемого дитяти», и одна из них, не боясь того,
что своим заявлением предает его на заклание, хладно-
кровно говорит: «дитя мое!». Но г. Богоявленского, ка-
жется, можно успокоить: «второго» Гоголя он не откры-
вал, а опубликовал отрывки настоящего, не самозван-
ного Гоголя»1 2.
В письменных объяснениях Н. Ф. Ястржембского,
кроме его упорных саморазоблачений, современников
поражали также неустойчивость и легкомыслие оправ-
даний3. Дело становилось «темным» и «принимало раз-
меры какой-то чудовищной нелепости, в которой ничего
сообразить нельзя»,—заявляет «Голос» после письма
Ястржембского от 2 июля4.
Необходимы были «дальнейшие заявления, объясне-
ния, разоблачения, дознания».
1 «Русская старина», 1873, август, стр. 251—252.
2 Г. Данилевский, Письмо в редакцию (По поводу новых
отрывков из второго тома «Мертвых душ» Гоголя), «С.-Петербург-
ские ведомости», 1873, № 210, стр. 2.
3 См., например, очерки —р, Литературные и общественные
курьезы, «Голос», 1873, № 191, стр. 1.
4 W., Литература и жизнь, «Голос», 1873, № 218, стр. 2,
378
Обсуждение «подделки под Гоголя» в газетах и жур-
налах продолжалось в течение всего 1873 года. Это об-
суждение направилось, в основном, по двум руслам.
С одной стороны, высказывались недоумения и сомнения
по вопросу о мотивах подделки, о процессе подделки, об
объеме и качестве дополнений или «прибавок», о смыс-
ле и причинах «исключений» или изъятий, о противоре-
чиях в объяснениях Н. Ф. Ястржембского, о том, была
ли в его распоряжении какая-нибудь иная, более пол-
ная рукопись II тома «Мертвых душ», кроме изданных
Трушковским и Кулишом. Н. Ф. Ястржембский активно
отвечал на все эти замечания и обращенные к нему уп-
реки, а иногда — вопросы. Им написано больше десяти
писем, в которых неизменно подчеркивалась «поддель-
ность» связанных с его именем новых отрывков и вари-
антов «Мертвых душ» и излагались побуждения, на-
строившие его на литературную мистификацию1.
Все это имеет, конечно, больше общественно-истори-
ческий и социально-психологический, чем историко-ли-
тературный интерес. Однако самый факт горячего
стремления у части русского общества — исправить и
сделать более «прогрессивным» творческий путь Гоголя
на последнем его этапе был в высшей степени симпто-
матичен. Он, естественно, не мог не вызвать отклика и
со стороны тех реакционных групп русского общества,
которые в «Перепискес друзьями» Гоголя и в последую-
щем его творчестве не видели ни отхода Гоголя от целе-
сообразной просветительной деятельности на благо наро-
да, ни «измены» Гоголя основным морально-обществен-
ным идеям русского прогресса (как они его понимали).
1 См. письма Н. Ф. Ястржембского в газетах: «Биржевые ве-
домости», 1873, № 163 и 167 (письмо Н. Ф. Ястржембского и
статья «Литературные мистификации и литературные курьезы»);
«С.-Петербургские ведомости», 1873, № 167, № 184 и № 220; «Го-
лос», 1873, № 185, № 191, № 218, № 237, № 257 и 278 (ответ
Н. Ф. Ястржембского «Вестнику Европы»). Кроме того, часть пере-
писки воспроизведена в журнале «Русская старина» в статье «Под-
делка под Гоголя (Литературный курьез)», 1873, кн. 8. В этой
связи следует также упомянуть о письме М. М. Богоявленского в
«С.-Петербургских ведомостях», 1873, № 175, и о письме Г. П. Да-
нилевского в той же газете и откликах на него со стороны Ястр-
жембского в «Голосе» и «С.-Петербургских ведомостях».
379
Вместе с тем подделка Ястржембского в некоторых
статьях подверглась более широкому историко-литера-
турному, идейно-художественному, эстетическому и сти-
листическому анализу — в связи с указаниями на харак-
терные черты гоголевского стиля вообще, второго тома
«Мертвых душ», в частности. Здесь разоблачение под-
делки производилось как с идеологических, таки с эсте-
тических и стилистических позиций. Любопытно, что ста-
тьи этого рода в большей их части исходили от лиц,
враждебно относящихся к литературно-общественной
деятельности Белинского и к идейным, социально-поли-
тическим воззрениям его современных поклонников и
почитателей.
Среднее, половинчатое положение среди этих двух ла-
герей занял критик Д., выступивший в «Вестнике Европы»
(1873, № 8 и 9) с двумя заметками: «Подделка Го-
голя». Почему-то принято в этом Д. видеть автора пове-
стей и романов Г. П. Данилевского Ч Однако во второй
из этих двух заметок появившееся раньше письмо
Г. П. Данилевского в редакцию газеты «С.-Петербург-
ские ведомости» (1873, № 210) цитируется как письмо
другого, постороннего лица. Да и в письме этом — при
близости общих точек зрения и оценок с заметками Д.—
сообщаются новые подробности о неизвестных страницах
2-й части «Мертвых душ», не привлекавшиеся к делу в
первой заметке Д.
Г. П. Данилевский в своем «Письме в редакцию»
«С.-Петербургских ведомостей» заявлял:
«Через несколько дней после того, как эти отрывки
явились в «Русской Старине», мне, одному из первых,
пришлось напечатать о них в периодических петербург-
ских изданиях без моей подписи, две статьи. Как тогда,
так и теперь, несмотря на категорическое заявление
г. Ястржембского, я позволяю себе быть того мнения, что
отрывки, о которых идет речь, принадлежат не кому
иному, как Гоголю». Г. П. Данилевский чрезвычайно вы-
соко оценивает литературно-стилистические качества этих
отрывков, ссылаясь на художественную обработку в них
каждой фразы. Совершенно очевидно, что, говоря о своих
1 Ср. С. А. Венгеров, Источники словаря русских писате-
лей. Гоголь, под 1873 г., т. I, СПб. 1900, стр. 801; Ю. Мас а но в,
Литературные мистификации, стр. 137.
380
статьях, появившихся в петербургских периодических из-
даниях сразу же после опубликования «Новых отрывков
и вариантов „Мертвых душ“», Г. П. Данилевский не мог
иметь в виду напечатанной в «Вестнике Европы» в
1873 году первой заметки Д. «Подделка Гоголя». Следо-
вательно, это может служить новым доказательством того,
что критик «Вестника Европы» Д.— вовсе не Г. П. Дани-
левский. Да и оценка художественных качеств отрывков
в заметке Д. и в письме Г. П. Данилевского совсем не
совпадает. Оба критика обнаруживают здесь разное по-
нимание одного и того же литературного текста—при
частичном сближении их взглядов на работу Ястржемб-
ского как на плагиат. По мнению Д., плагиат можно
подозревать только в отдельных частях текста новых от-
рывков и вариантов, напоминающих по сюжету воспо-
минания Л. Арнольди. А Г. П. Данилевский прямо заяв-
ляет: «Но пока тщательная и строгая литературная экс-
пертиза даст об этом свое заключение, не я, вероятно,
один останусь убежденным в том, что вряд ли кто, кроме
Гоголя, мог написать страницы, подобные тем, в которых
изображаются столкновения Тентетникова с его началь-
ником Леницыным; арест Тентетникова; размышление
Бетрищева о службе вообще; сон Чичикова о Петухе;
сватовство Чичиковым — для Тентетникова — дочери
Бетрищева; речь Тентетникова перед его крестьянами,
и проч, и проч.» Ч
Помещая заметку Д. «Подделка Гоголя», в которой
высказывалось предположение, что «новые варианты» —
не только и даже не столько подделка Н. Ф. Ястржемб-
ского, сколько плагиат из Гоголя (по списку Прокопо-
вича), «Вестник Европы», как утверждал «Голос», «как-
то слишком горячо принялся за объяснения, может быть,
чувствуя косвенным образом потребность выгородить себя
из всей этой кутерьмы» 1 2.
Заметка Д. «Подделка Гоголя» начинается такими
словами: «Литературная фальсификация у нас еще боль-
шая редкость,— потому конечно, что наша литература
еще очень небогата произведениями, которых подделка
1 Г. Данилевский, Письмо в редакцию (По поводу новых
отрывков из второго тома «Мертвых душ» Гоголя), «С.-Петербург-
ские ведомости», 1873, № 210, стр. 2.
2 W., Литература и жизнь, «Голос», 1873, № 218, стр. 2.
381
могла бы представить тот или другой интерес и вызвать
промышленников этого рода. Тем не менее недавно про-
изошел факт подобного рода, где впрочем подделка —
чего обыкновенно не бывает — заявлена и ревниво дока-
зывается самим лицом, совершившим подделку» Г Далее
излагается внешняя история напечатания «Новых отрыв-
ков и вариантов» к трем первым главам второго тома
«Мертвых душ» и обнаружения их поддельности. Гово-
рится о статье В. Чижова и при этом констатируется:
«В одном из прежних вариантов находится ясный и очень
враждебный намек на Белинского; этого намека в третьем
варианте уже нет, и в изображении Тентетникова явля-
ются, с другой стороны, новые черты, по которым можно
было предполагать новый оттенок -в мыслях Гоголя. Эти
подробности упомянуты были несколькими словами и в
«Характеристиках литературных мнений» (А. Н. Пыпи-
на), в главе о Гоголе»1 2. Подчеркивается, что именно по-
явление статьи В. Чижова и упоминание о «третьем ва-
рианте» II тома «Мертвых душ» в «Характеристиках
литературных мнений» А. Н. Пыпина побудили
Н. Ф. Ястржембского «положить конец этой прискорбной
мистификации и вывести из заблуждения читающую пуб-
лику».
«Благородная откровенность, с которой г. Ястржемб-
ский заявил о своей подделке,— писал Д.,— заслуживает,
конечно, всякой похвалы. Г. Богоявленский поступил
очень опрометчиво, печатая, как гоголевское, то, о чем ему
прямо говорили, что это писано не Гоголем. Но, к сожа-
лению, при ближайшем рассмотрении дела, в рассказе
г. Я-го на первых же порах оказались прискорбные не-
точности, трудно объяснимые,— так что «вся истина»
г. Я-го выходила как будто бы „не вся"»3. Отмечается,
что Ястржембский медленно и без большой охоты, по
крупицам открывал «всю истину», что в его признаниях
много непримиримых противоречий, особенно в отноше-
нии рукописи, полученной от Прокоповича. В ответ на
заявление Н. Ф. Ястржембского, что он «не ищет лите-
ратурной известности», Д. замечает: «Скромность г. Я-го
без сомнения похвальна, как и откровенность, но в его
1 «Вестник Европы», 1873, кн. 8, стр. 822.
2 Там же, стр. 823.
3 Т ам же, стр. 825.
382
понятиях и здесь есть некоторая ошибочность. «Литера-
турная известность», о которой может думать здесь
г. Я-ий, есть известность фальсификатора — единствен-
ная, какую он мог бы приобрести»1.
Сосредоточив свое внимание на «„противоречиях" у
Ястржембского, касающихся рукописи Прокоповича», ав-
тор статьи в «Вестнике Европы» спрашивает: «Каким
образом г. Ястржембский’ мог в сороковых годах полу-
чить ее от Прокоповича <<в том виде, как она была напе-
чатана?»... «Если у Прокоповича была в сороковых годах
рукопись 2-й части, она могла представлять собой только
одну из предварительных редакций, и по указанному осно-
ванию,— можно положительно сказать — никак не могла
походить на ту рукопись, которая была впоследствии на-
печатана: наконец «напечатаны» два текста, который же
разумеет г. Я-ий»?1 2 «Какова была рукопись, получен-
ная им от Прокоповича, и куда она девалась?»3 Так, с
одной стороны, ставились под сомнение показания и за-
явления Н. Ф. Ястржембского о рукописи, которая легла
в основу его подделки, и о характере самой подделки, а
с другой стороны, и идея третьего варианта 2-й части
«Мертвых душ», выдвинутая в статьях В. Чижова и
А. Н. Пыпина. Критик «Вестника Европы» находит «не-
точность и так сказать легкость в мыслях» у
Н. Ф. Ястржембского в объяснении способа подделки п
ее мотивов. «Прежде всего г. Я-ий — по его словам —
именно под влиянием известного письма Белинского ду-
мал переделать 2-ю часть так, чтоб она была достойным
продолжением первой. В переделке его это заметно очень
мало. Единственная переделка, которой можно придать
такой смысл, это — исключение прежних намеков Гоголя
на Белинского и вставка одной фразы о человеческОхМ
достоинстве»4. Все остальное никак не связано с осуще-
ствлением этой цели, «совершенно безразлично» по от-
ношению к ней (анекдот о графе Сидоре Андреевиче, суж-
дение о Михайловском-Данилевском и все это могло
быть сказано как в сороковых, так и пятидесятых годах).
Например, вся вставка о графе Сидоре Андреевиче со-
стоит в следующем:
1 «Вестник Европы», 1873, кн. 8, стр. 830.
2 Та м же, стр. 832—833.
3 Там же, стр. 837.
4 Та м же, стр. 834.
383
«Знаешь ли, брат, каков мой начальник, граф Сидор
Андреевич? (говорит Тентетникову его дядя). Вот уж,
можно сказать, собака, а добрейшая, благороднейшая
душа. Сколько раз он меня, действительного статского
советника, называл дураком, ну что дураком, просто по-
матерному выругает, и что же? Через два часа ничего
не помнит, и опять дружески разговаривает, спрашивает,
скоро ли жена опять отелится»1.
«Но еще страннее,— продолжает Д.,— то, что г. Я-ий
как будто считает своей выдумкой и то, что принадлежит
настоящему Гоголю»1 2 (например, рассуждение Петуха
о скуке). Еще больше недоумения вызывает у Д. другое
совпадение текста г. Я-го с настоящим Гоголем (прими-
рение Тентетникова с Бетрищевым и сватовство Чичи-
кова). Между тем это — единственная большая вставка
в сочиненных Ястржембским «вариантах Гоголя». «Что
эти сюжеты, «примирение» и «сватовство», которые оста-
лись недосказаны в сохранившемся тексте 2-й части, были
однако у Гоголя, это было известно из воспоминаний лиц,
слышавших 2-ю часть от самого Гоголя: г. Я-ий мог это
узнать из примечаний Шевырева, повторяемых до сих
пор в изданиях 2-й части [«Мертвых душ»]. Но чего не
мог узнать г. Я-ий в 1859 году ни из каких печатных дан-
ных,— это — подробностей, с какими эти сюжеты явля-
лись у Гоголя: эти подробности должны были уже вполне
принадлежать фантазии г. Я-го, и он действительно гово-
рит, что сам,,дополнил недосказанное"»3. И вот тут автор
«критической статьи» — Д. в ироническом тоне выражает
удивление и восхищение перед даром изумительной до-
гадки, интуиции Н. Ф. Ястржембского. «Оказывается, что
подробности, вставленные г. Я-им в рассказ о «примире-
нии» в 1859 году, до чрезвычайности совпадают с тем,
что только в 1862 году стало известно об изложении
этого сюжета у самого Гоголя,— из напечатанных тогда
воспоминаний людей, лично слышавших чтение 2-й части
от самого Гоголя»4.
В этом случае автор заметки в «Вестнике Европы»
имел в виду те сведения о развитии сюжета второго тома
1 «Вестник Европы», 1873, кн. 8, стр. 834.
2 Т а м же.
3 Т а м же, стр. 834—835.
4 Т а м же.
384
«Мертвых душ» (пребывание Чичикова у Бетрищева, его
ложь о том, что Тептетников пишет историю Отечествен-
ной войны и о генералах, отличившихся в этой войне, при-
мирение Тентетникова с Бетрищевым, сватовство и т. п.),
которые были сообщены в воспоминаниях брата Смирно-
вой Л. И. Арнольди в «Русском вестнике» за 1862 год
(№ 1) под заглавием «Мое знакомство с Гоголем». Со-
поставив изложение сюжетного развития «Мертвых душ»
в этих эпизодах у Л. И. Арнольди с «новыми отрывками»
Н. Ф. Ястржембского, Д. заключает: «Сходство очевидно,
и до такой степени удивительно, что г. Я-ий должен бы
был открыть нам подробнее те способы его изучения Го-
голя, какими он достиг такого феноменального отгадыва-
ния того, что действительно было у Гоголя» Г В этих фра-
зах содержался намек на то, что Н. Ф. Ястржембский
выдавал за подделку и новое подлинно гоголевское, со-
державшееся в полученной им от Прокоповича или как-
нибудь иначе рукописи. «Естественно было некоторым сла-
бым критикам ошибиться, когда г. Я"ИЙ так изумительно
совпадал с настоящим Гоголем»1 2. С другой стороны, Д.
предостерегает Н. Ф. Ястржембского от преувеличенной
оценки художественных качеств своей собственной под-
делки, ссылаясь на критические суждения А. Н. Пыпина
об угасании гоголевского таланта (в «Характеристиках
литературных мыслей») в период работы над II томом
«Мертвых душ».
«Излагая свойства 2-го тома «Мертвых душ», автор
«Характеристик» (то есть А. Н. Пыпин.— В. В.), по-види-
мому, вовсе не увлекся новыми красотами, которые г. Я-ий
прибавил с целью сделать 2-ю часть «достойным продол-
жением» первой. Автор «Характеристик», упоминая со-
держание 2-го тома, высказывает о нем (сравнительно с
первым) такое общее впечатление: «...все это такие без-
жизненные, натянутые фигуры, все это так фальшиво, что
бросается в глаза явное и жалкое падение таланта, загнан-
ного на совершенно ему несвойственную дорогу,— точно
вместо Гоголя читаешь «нравственно-сатирический» ро-
ман тридцатых годов». Автор «Характеристик»,— пишет
далее Д.,— был, конечно, не совсем справедлив к Гоголю,
если в этом выводе основывался и на вставках, сочинен-
1 «Вестник Европы», 1873, кн. 8, стр. 837.
2 Т а м же.
385
пых г. Ястржембским. Но последний должен видеть, что
его подделка имеет не весьма высокую литературную
цену, если ее нельзя было отличить от произведения, обли-
чающего «жалкое падение» гоголевского таланта, если
в своих вставках он мог сравняться только с «нравствен-
но-сатирическим романом тридцатых годов», то есть ро-
маном, например, Фаддея Булгарина. Когда автор «Ха-
рактеристик» делал свое заключение о настроении Гоголя
в последние годы, то и это заключение утверждалось
главным образом вовсе не на 3-м варианте, а на том
впечатлении, которое 2-я часть «Мертвых душ» произвела
на Аксаковых. Аксаков-отец считал «Переписку» Гоголя
позорной книгой, следовательно, далеко не сочувствовал
ее тенденциям, но после, слушая Гоголево чтение 2-го
тома, он все-таки мог быть поражен удивлением». По
этому впечатлению Аксакова-отца, повторившемуся при
двух чтениях различных текстов 1-й главы 2-го тома,—
и можно было предполагать, что настроение Гоголя ста-
новилось иное, чем то, каким отмечена эпоха «Перепис-
ки» Г Таким образом, здесь делалась попытка оправдать
общую концепцию творчества Гоголя, изложенную
А. Н. Пыпиным, а отчасти В. П. Чижовым, независимо
от подделки Ястржембского. В заключение же критик
«Вестника Европы» высказывал пожелание, чтобы
г. Ястржембский сказал, наконец, все, что действительно
следует сказать в его положении, и выяснил все пункты
«темного» дела, исправил неточности и устранил проти-
воречия.
«Иначе, мы опасаемся, он может навлечь на себя об-
винения, способные дать неблагоприятный оборот литера-
турной известности, приобретенной его подделкой Го-
голя» 1 2. Редакция «Вестника Европы» от себя прибавила
к статье своего критика резкую ироническую отповедь
Н. Ф. Ястржембскому: «...Г. Я-ий пытается уверить нас,
что теперь он признается, повинуясь голосу совести; но
разве г. Я-ий считал себя бессмертным? Разве он не мог
думать, что не только 13 лет спустя после «шутки», но
13 дней после того он мог умереть, и теперь было бы не-
кому рассеять ложь. Да оно так и могло бы случиться,
если б г. Б[огоявленск]-ий пережил г-на Я-го. Зная ма-
1 «Вестник Европы», 1873, кн. 8, стр. 838—839.
2 Т а м же, стр. 839.
386
меру г-па Я-го отвечать па возражения, мы почти вперед
знаем, что он теперь сделает: вероятно, на днях он пошлет
в газеты извлечение из своего духовного завещания, ко-
торое он мог составить на следующий день после шутки
и где он кается в своем грехе. Дело в том, что г. Я-ий
очень хорошо понимает, что его мог бы поразить оконча-
тельно один воскресший Гоголь; уверенный в невозмож-
ности такого опровержения, он и взялся стоять «твердо».
Все это походит со стороны г. Я-го более на «утку», не-
жели на шутку, и за ним пока можно признать не «славу»
подделки Гоголя, а ловкость в подделке под подделку —
и то не очень большую» Г Статья «Подделка Гоголя» в
«Вестнике Европы» ставила своей задачей выяснить исто-
рико-литературное значение «новых отрывков и варьян-
тов» II тома «Мертвых душ» Гоголя — и после заявлений
об их подложности, после саморазоблачений Н. Ф. Ястр-
жембского. В этой статье остро давала себя знать тен-
денция оправдать (хотя бы в самом основном) точки зре-
ния В. П. Чижова и А. Н. Пыпина на последние годы
жизни и литературной деятельности Гоголя и в соответ-
ствии с этим показать неубедительность, противоречивость
и сомнительность утверждений Н. Ф. Ястржембского
о том, что «новые отрывки и варианты» являются всецело
продуктом его личного творчества. Критик «Вестника
Европы» Д. намекал на то, что Ястржембского можно
подозревать и обвинять не только (а может быть и не
столько) в подделке, сколько в плагиате. По-видимому,
в его руках был какой-то новый список, включавший в
себя и неизвестные части второго тома «Мертвых душ»,
список, сделанный с рукописи Н. Я. Прокоповича. На это
предположение наталкивает сходство некоторых эпизодов,
содержащихся в вариантах Ястржембского, с тем, что
стало потом известно о содержании второй части «Мерт-
вых душ» Гоголя из сообщений ближайших друзей этого
писателя. Заметка «Вестника Европы» сразу же вызвала
оживленное обсуждение в журнально-газетной прессе.
Газета «Голос»1 2 обвиняла «Вестник Европы» в том, что
он своевременно не откликнулся на саморазоблачения
Ястржембского, долго «умалчивал» о скандальном эпи-
зоде с подделкой второй части «Мертвых душ» и, не про-
1 «Вестник Европы», 1873, кн. 8, стр. 840.
2 W., Литература и жизнь, «Голос», 1873, № 218, стр. 2.
387
явив должной самокритичности, не отказался откровенно
и прямо от своих ошибочных обобщений и заключений
(в статьях В. П. Чижова и А. Н. Пыпина), сделанных
на основе подделки.
Во второй заметке Д. «Подделка Гоголя», помещенной
в 9-й книге «Вестника Европы» за 1873 год отвергается
обвинение «Голоса» (1873, № 218), что желание найти
в подделке Ястржембского элементы плагиата из какой-
то неизвестной гоголевской рукописи «Мертвых душ» лишь
«запутало» дело. Во второй своей заметке критик «Ве-
стника Европы» продолжает настаивать, что показания
Ястржембского о происхождении самых крупных допол-
нений к тексту 2-й части «Мертвых душ» (о примирении
Тентетникова с Бетрищевым с помощью Чичикова, о ви-
зите к Бетрищеву, о сценах сватовства и сближении с
Улинькой) недостоверны: «с вероятностью можно было
думать, что прибавка принадлежала самому Гоголю и
взята (так или иначе) из его собственной черновой те-
тради» ’. Сам Ястржембский в статье, напечатанной в
газете «С.-Петербургские ведомости» (1873, № 220), не
приводит новых неопровержимых фактов и вполне досто-
верных соображений в защиту своего полного авторства —
по отношению ко всему известному тексту, ко всем «допол-
нениям» второй части «Мертвых душ». «Деяние г. Я-го
во всяком случае имело очень непривлекательный вид...
Если речь идет о действительном варианте Гоголя, кото-
рый, в том или другом случае, присваивается себе пла-
гиатором по каким-нибудь личным соображениям, то
дело перестает быть шуткой. Оно становится непозволи-
тельным шутовством против одного из величайших писа-
телей русской литературы» 1 2.
В другой газете — «Биржевые ведомости» (1873,
№ 208) —высказано согласие с догадкой «Вестника Ев-
ропы», «что г. Я-й не подделал вариантов, а старается
присвоить себе написанное Гоголем» 3.
В то же время эта газета не соглашается с понима-
нием новых отрывков из Гоголя как третьей, то есть
последней редакции 2-й части «Мертвых душ» и высказы-
1 Д., Подделка Гоголя. Заметка вторая (и последняя), «Вест-
ник Европы», 1873, кн. 9, стр. 450.
2 Т а м же.
3 Ч. П., Заметки о журналистике, VIII, «Биржевые ведомости»,
1873, № 208, стр. 1.
Зй8
вает свои собственные соображения о раннем времени их
возникновения.
Вторая заметка в «Вестнике Европы» стремится истол-
ковать в пользу гипотезы о принадлежности всего текста,
или по крайней мере значительной части вариантов, са-
мому Гоголю противоречия в объяснениях Н. Ф. Ястр-
жембского, почему он решился мистифицировать
М. М. Богоявленского, и несоответствие этим объясне-
ниям признаний и воспоминаний самого М. М. Богоявлен-
ского *. К тому времени в «С.-Петербургских ведомостях»
(1873, № 210) появилось, как уже говорилось выше, пись-
мо Г. П. Данилевского — известного писателя-романиста.
В этом письме Г. П. Данилевский заявляет, что, доставши
по смерти Гоголя список 2-й части «Мертвых душ» и на-
ходя в нем много пробелов, он не раз говорил о них с
друзьями Гоголя (С. Т. Аксаковым, М. С. Щепкиным,
С. П. Шевыревым) и от них слышал, что во 2-й части,
как читал ее сам Гоголь, находились именно некоторые
из тех подробностей, которые теперь Ястржембский вы-
дает за написанные им. «Помню, что в числе мест, пропу-
щенных в доставшемся мне тогда списке второй части
«Мертвых душ»,— писал Г. П. Данилевский,— мне ука-
зывали и на анекдот о милостивых побранках графа Си-
дора Андреевича и на разговор Бетрищева с Чичиковым
о Михайловском-Данилевском, военном историке двена-
дцатого года. Оба эти места, как известно, явились ныне
в оспариваемых (то есть приписываемых себе) г. Ястр-
жембским отрывках».
Поэтому Г. П. Данилевский не сомневается, что новые
варианты писаны самим Гоголем. По его мнению, трудно
допустить, чтобы кто-нибудь, кроме Гоголя, мог напи-
сать то, для чего требуется: знать и любить Россию, как
знал и любил ее Гоголь; быть истинным русским челове-
ком; иметь огромную писательскую практику и хотя ча-
стицу гоголевского таланта.
В своем отклике на заметку «Вестника Европы»
(в «С.-Петербургских ведомостях», 1873, № 220)
Н. Ф. Ястржембский ничего не сказал о том, как объяс-
нить сходство эпизодов, содержащихся в его «подделке»,
с тем, что несомненно было у самого Гоголя — по сви-
детельству его друзей и знакомых.
1 «Вестник Европы», 1873, кн. 9, стр. 452.
389
«Г. Я-ий,—пишет Д. в своей второй заметке,— дол-
жен понять, что нас интересует (как и читающую публику
должно интересовать) в этом деле вовсе не его собствен-
ное сочинительство, а именно тот подлинный текст (про-
коповичевский список), который был у г. Я-го в его на-
стоящем, не перепорченном виде, был им списан и служил
ему текстом для его «переделок»...» 1 По мнению Д., в
прокоповическом списке можно предполагать текст, во-
все не «сходный» с напечатанным, и это?’ текст «желатель-
но было бы разыскать». «Подлинник Прокоповича мог
заключать настоящие гоголевские варианты, и г. Я-ий мог
только спутать и перепортить их своим кропанием, кото-
рого теперь и сам не разберет» 1 2.
Заканчивается заметка разбором ответа Ястржембско-
го Г. П. Данилевскому. В своем письме-ответе Г. П. Дани-
левскому, напечатанном в «Голосе» в отделе «За и про-
тив»3, Ястржембский продолжал решительно настаивать
на своем полном авторстве по отношению к «Новым
вариантам» и подчеркивал, что главное в этой его рабо-
те— не дополнения, а изъятия, исключения из 2-й части
«Мертвых душ» того, что там отзывалось «Перепискою
с друзьями» (исключение похвального гимна образцово-
му наставнику Тентетникова, исключение образа недо-
учившегося студента, изменения в изображении обраще-
ния Тентетникова с крестьянами по приезде в деревню).
«Эти исключения,— писал Н. Ф. Ястржембский,— сде-
ланы мною под влиянием письма Белинского. И если я
понял мысль Белинского, если по его мысли попытался
переделать 2-ю часть «Мертвых душ», то за эту попытку,
как бы она ни была неудачна, можно мне простить дерз-
кое намерение «подделаться под Гоголя», тем более что
я это делал для себя, никогда не предназначал мои ва-
рианты к печати, и, когда они были напечатаны без моего
ведома, долго не решался заявить, что они писаны
мною» 4. В этой связи Н. Ф. Ястржембский стремился
убедить публицистов из «Вестника Европы» в следующем:
«Ничем не доказывается и не докажется, чтоб Гоголь,
под конец жизни, переменил свои несчастные убеждения
1 «Вестник Европы», 1873, кн. 9, стр. 454.
2 Т а м же.
3 Николай Ястржембский, К вопросу о подделке «Мерт-
вых душ» Гоголя, «Голос», 1873, № 233, стр. 4.
4 Там ж е.
390
и особенно, чтоб он сделал это под влиянием недоучив-
шегося студента с зловредным, либеральным направле-
нием. Если б эта перемена действительно последовала в
Гоголе (факт психически невозможный), если б он дей-
ствительно переделал вторую часть «Мертвых душ» по
совету Белинского — неужели не проговорился бы он об
этом перед близкими своими знакомыми? Неужели Акса-
ковы, Шевырев, Щепкин, Погодин и другие не вспомнили
бы, что Гоголь, под конец жизни, отрекся от диких идей,
высказанных в «Переписке с друзьями»?.. Странно, не-
постижимо! ...Странный случай! Для разъяснения дела
о подлинности варьянтов необходимо свидетельство давно
умерших. И выходит, что «Мертвые души» Гоголя вызы-
вают на сцену мертвые души» *. Вместе с тем Н. Ястр-
жембский уверяет, что рукопись' с теми же вариантами,
написанная рукой Прокоповича, не существовала и не
могла существовать. Ведь варианты эти — произведение
самого Ястржембского, созданное в 1859 году, когда уже
не было в живых ни Гоголя, ни Прокоповича. И тут же
Н. Ф. Ястржембский оспаривает заявление «Русской ста-
рины», что в его, Ястржембского, рукописи «нет и следов
поправок и вставок, а есть только незначительные исправ-
ленные описки. Показание «Русской старины»,— утверж-
дает Ястржембский,— оказывается неправильным. В воз-
вращенной мне рукописи я насчитал, кроме описок, 28 по-
марок и исправлений и И вставок и дописок. Как ни
незначительны эти исправления и дописки, все же они
доказывают, что статья писана, а не списана мною. Я по-
казываю мою рукопись всем, кому угодно ее видеть»1 2.
Автор второй заметки в «Вестнике Европы», возражая
Ястржембскому, указывает на «длинную вставку», гово-
рящую о примирении с Бетрищевым и о сватовстве Тен-
тетникова, и тут же прибавляет следующее: «По поводу
исключений, на которые теперь опирается г. Я-ий (как
прежде опирался на прибавки, теперь им умалчиваемые)
и которые должны были удалить из 2-й части то, что
отзывалось Перепиской с друзьями, можно еще заметить
что удалено, к сожалению, не все: удален намек на Бе-
линского, но не удален намек на Грановского»3. Автор
1 «Голос», 1873, № 233, стр. 4.
2 Т а м же.
3 «Вестник Европы», 1873, кн. 9, стр. 455.
391
заметки в заключение еще раз перечисляет те вопросы,
которые оставлены Ястржембским без ответа (сходство
отдельных эпизодов своей «подделки» с рассказом, ко-
торый читан был самим Гоголем, указания Г. П. Дани-
левского на наличие у самого Гоголя анекдота о графе
Сидоре Андреевиче и т. п.). «Г. Я:й не объясняет, куда
девалась копия, снятая им со списка Прокоповича».
В дополнительном разъяснении, напечатанном в той
же газете «Голос», Н. Ястржембский заявил: «В подкреп-
ление своего мнения, Данилевский приводит одно обстоя-
тельство, которое я не могу оставить без ответа. Он го-
ворит, что после смерти Гоголя, в пятидесятых годах, он
слышал — не помнит от кого — будто бы, в числе пропу-
щенных мест, в списке второй части «Мертвых душ», ему
указывали на анекдот о «милостивых» побранках графа
Сидора Андреевича и на разговор Бетрищева с Чичико-
вым о военном историке М.-Данилевском. На это я скажу,
что анекдот о гр. Сидоре Андреевиче мог слышать г. Да-
нилевский не раньше 1854 года, потому что то, что дало
повод к этому анекдоту, случилось только в 1854 году,
во время крымской кампании и, стало быть, уже после
смерти Гоголя. Мнение, подобное высказанному Бетри-
щевым о М.-Данилевском, мог также слышать г. Дани-
левский от какого-нибудь генерала, участвовавшего в
Отечественной войне, потому что много было генералов,
недовольных тем, что о них не упомянул М.-Данилевский.
Немудрено, что и Гоголь мог слышать отзывы этих гене-
ралов и что намерен был заставить Бетрищева сказать то,
что мною вложено ему в уста. Но то верно, что оба эти
варьянта и все опубликованные «Русскою стариною»,
писаны не Гоголем, а мною» Г
Таким образом, несмотря на резкие возражения
Ястржембского против обвинения его в плагиате, несмотря
на его просьбы «верить искренности его слов»,— все же
«Вестник Европы», а за ним и некоторые газеты, на-
пример, «Биржевые ведомости», распространяли и сеяли
предположение, что в «новых отрывках и вариантах», по
крайней мере частично, нашли отражение куски подлин-
но гоголевской неизвестной рукописи, присвоенной или
усвоенной Н. Ф. Ястржембским.
1 Н. Ястржембский, К вопросу о подделке «Мертвых
душ» Гоголя, «Голос», 1873, № 233, стр. 2.
392
На проблему «подделки» — по идеологическим сооб-
ражениям, из желания вернуть Гоголю славу до конца
прогрессивного писателя — наслоилось много разнород-
ных фактов, общественных вопросов, историко-литера-
турных обобщений и журналистских побуждений. При-
шли в движение и историко-литературные концепции, и
принципы текстологии и критики текста, и представления
о нормах морали и общественного поведения в кругу пе-
дагогов и писателей, и проблемы эстетической оценки
литературных произведений, и разногласия в сфере об-
щественно-политических мировоззрений и идеалов.
В своем заключительном «Изложении дела»1
Н. Ф. Ястржембский еще раз подробно передает с своей
точки зрения всю историю с новыми отрывками и вариан-
тами «Мертвых душ». Тут много повторений прежнего,
но есть некоторые новые детали, отчасти связанные с кри-
тикой противоречий и несоответствий в прежних объяс-
нениях Н. Ф. Ястржембского. Так, утверждается, что
Н. Ястржембский, располагая копией, сделанной еще в
40-х годах с рукописи второго тома «Мертвых душ», при-
надлежавшей Н. Я. Прокоповичу, после появления извест-
ного зальцбруннского письма Белинского, «часто обдумы-
вал, как бы следовало переделать вторую часть «Мертвых
душ», чтоб она могла сделаться достойным продолже-
нием первой. Обдумывая, я пытался,— пишет Н. Ястр-
жембский,— переделать имевшуюся у меня рукопись,
исключая из нее те места, которые отзывались «Перепи-
скою с друзьями», и делая вставки и дополнения к недо-
сказанному Гоголем. Таким образом, составлялась у меня
тетрадь набросок, которые я делал для себя, не имея
и мысли сделать их когда-нибудь известными печати.
Когда случилась надобность в испытании г. Богоявлен-
ского, я воспользовался этими набросками, переписал
имевшуюся у меня рукопись, изменил ее, сделал вставки
и дополнения и исключил некоторые места. В этом изме-
ненном виде я дал мою рукопись г. Богоявленскому» 1 2.
Так Н. Ф. Ястржембский пытался устранить все сомнения
по поводу происхождения и дальнейшей судьбы текста
новых отрывков и вариантов «Мертвых душ», выражен-
1 Николай Ястржембский, Изложение дела о варьянтах,
«Мертвых душ», напечатанных в январской книжке «Русской ста-
рины» за 1872 год, «Голос», 1873, № 278, стр. 2.
2 Т а м ж е.
393
ные «Русской стариной», «Вестником Европы» и другими
печатными органами — в связи с заявлениями о подделке.
Н. Ф. Ястржембский объяснял задержку 'в своих вы-
ступлениях о подделке тяжелыми событиями в своей лич-
ной жизни, своим семейным горем, а также нежеланием
причинять неприятность М. М. Богоявленскому и редак-
ции «Русской старины». Но затем саморазоблачающие
письма Н. Ф. Ястржембского появлялись регулярно Е
Н. Ф. Ястржембский старается также устранить про-
тиворечия в вопросе о рукописи Н. Я. Прокоповича.
«С чего взял г. Богоявленский, что Прокопович подарил
мне свою рукопись, и еще на память — этого уж я реши-
тельно не понимаю. Он знал очень хорошо, что рукопись,
которую я давал ему, была вся исписана моею рукой и
вовсе не была подарком Прокоповича» 1 2. Копия с руко-
писи Прокоповича у Н. Ф. Ястржембского, оказывается,
не сохранилась. Ведь она стала ненужной после опубли-
кования текстов 2-го тома «Мертвых душ» Трушковским
и Кулишем.
Наконец здесь же Н. Ф. Ястржембский пытается объ-
яснить совпадение одного' из своих вариантов с тем, что
сохранилось в воспоминаниях Арнольди. Автор «Заметки»
в «Вестнике Европы» видел в этом совпадении неопровер-
жимое доказательство того, что варианты писаны Гого-
лем. «В рукописи, по которой я писал варьянты,— объяс-
няет Н. Ф. Ястржембский,— было несколько пробелов,
недописанных мест Гоголем, и на некоторых из них была
набросана как бы программа недосказанного. За дав-
ностью времени (через тринадцать с лишком лет!) я не
припомню теперь, была ли подобная программа к приве-
1 В сентябре 1872 г. (в редакцию «Русской старины», которая
медлила с ответом 4 месяца), от 12 февраля 1873 г. (на это письмо
также не было ответа в течение 4 месяцев), 13 июня 1873 г. в ре-
дакцию «С.-Петербургских ведомостей» («С.-Петербургские ведо-
мости», 1873, № 167); ответ «Русской старины» в «С.-Петербург-
ских ведомостях», 1873, № 175; ответы от 19 августа и 8 сентября
на письмо Г. П. Данилевского, на выпады «Русской старины» и на
заметки в «Вестнике Европы» («Голос», 1873, № 233 и 257);
письмо от 7 августа снова с ответом на вторую заметку в «Вест-
нике Европы» («С.-Петербургские ведомости», 1873, № 220); за-
ключительное письмо в «Голосе» (1873, № 278)—свод предшест-
вующих признаний и изложение всего хода дела о подделке, «по-
следнее слово».
2 Н. Ястржембский, Изложение дела..., «Голос», 1873,
№ 278, стр. 2.
394
денному «Заметкою» варианту; но если была, немудрено,
что, при выполнении ее, могли попасть в вариант неко-
торые слова программы. Не менее того, весь этот варъянт
и все остальные принадлежат мне, и приписывать их Го-
голю против всякой очевидности и бездоказательно
может тот, кто проникнут слишком сильным желанием
убедить публику, что варианты писаны Гоголем, и кому
слишком неловко сознаться в ошибке» Г
В конце своего «последнего слова» Н. Ястржембский
еще раз категорически заявляет о своем авторстве в от-
ношении вариантов II тома «Мертвых душ». Когда «на-
шлись люди, не усомнившиеся в их подлинности, я счел
долгом заявить, что они не принадлежат Гоголю. Я сде-
лал это с самопожертвованием, зная наперед, как будет
принято мое заявление. Я исполнил мой долг — долг со-
вести и не заслуживаю, чтобы меня обвиняли в тяжком
преступлении — в намерении присвоить себе чужую лите-
ратурную собственность. Меня не интересует то, признают
ли за мною варьянты, но я никогда не соглашусь с тем,
что эти варьянты писаны Гоголем».
Естественно, что эта дискуссия в связи с саморазобла-
чением Ястржембского должна была затронуть, обеспо-
коить и тех людей из ближайшего окружения Гоголя в
последнюю пору его творчества, которые еще оставались
в живых.
В «Русской старине» (1873, декабрь) появилась статья
кн. Д. Оболенского «О первом издании посмертных сочи-
нений Гоголя, 1855 (Воспоминания)», которая начина-
лась такими словами: «Автор вариантов «Мертвых душ»
отыскался. Г. Ястржембский многократно печатно зая-
вил, что не ожидал от своей литературной шалости таких
серьезных последствий; что читающая публика введена
в заблуждение помимо его воли и желания и что, нако-
нец, опубликованные варианты всецело принадлежат перу
его — г. Ястржембского. Некоторые, однако, продол-
жают относиться к этому заявлению с недоверием и, по-
видимому, остаются в убеждении, что варианты эти пи-
саны Гоголем»1 2.
Д. Оболенский сразу же выражает твердую убежден-
1 Н. Ястржембский, Изложение дела..., «Голос», 1873,
№ 278, стр. 2.
2 «Русская старина», 1873, декабрь, стр. 940.
395
кость в том, что эти варианты и слог их носят явные
признаки неудачной подделки под манеру Гоголя. Д. Обо-
ленский категорически заявляет: «Материально невоз-
можно, чтобы в чьих-либо руках могла находиться руко-
пись II части «Мертвых душ», несогласная с теми вариан-
тами, которые изданы были в 1855 году Трушковским,
а впоследствии г. Кулишем»1. Это утверждение Д. Обо-
ленский старается подкрепить личными воспоминаниями
и авторитетными свидетельскими показаниями. Кроме
того, Д. Оболенский делает целый ряд критических заме-
чаний по поводу стиля вариантов Ястржембского:
«Неужели мог Гоголь, хотя бы начерно, написать та-
кую фальшь, как, например, разговор крестьян Тентет-
никова и суждение их о барине:
«— А что, дядя Пахом, барин-то говорит красно?
— Ну, известно, что красно, ведь их только тому
и учат.
— А что бишь он говорил; я стоял подальше и не
расслышал?
— Ну, а бог его ведает, что он баял. Что-то похоже
на то, как отец Афанасий в церкви бает. Вестимо книжки;
это не по нам.
Бабы тоже рассуждали:
— Ишь какой он добренький, и в ноги то кланяться
не дает. А уж молодец какой! И все говорит: полюбите
меня, полюбите, да и посматривает на девок. Ишь ты
какой, весь в покойника отца» («Русская старина», 1872,
январь, стр. 95).
Неужели мог Гоголь, вместо великолепного описания
въезда Тентетникова в деревню, написать такую безгра-
мотную, сентиментальную ерунду, как, например:
«И вдруг забилось у него сердце. И ему живо пред-
ставились все подробности его счастливого детства, и он
увидел себя малюткой, которого вел за руку отец, гуляя
по полям; и он увидел мать, выходящую навстречу отцу,
возвращающемуся с усталым малюткой, и он почувство-
вал себя на руках матери, которая прижимала его к серд-
цу и спрашивала с нежностью, не слишком ли он устал»,
и т. д. («Русская старина», 1872, январь, стр. 94)» 1 2.
Д. Оболенский уверяет также, что в тексте II тома
1 «Русская старина», 1873, декабрь, стр. 940
2 Т а м же.
396
«Мертвых душ» «ничего подобного на глупые анекдоты о
директорской шипели и галошах и о Сидоре Андреевиче,
вставленные в варианты, изданные в 1872 году, не было и
быть не могло, ибо причина выхода в отставку Тентетни-
кова имела весьма глубокое нравственное основание»1.
Д. Оболенский стремится объяснить так же, как и кри-
тик «Вестника Европы» Д., причины того, почему Ястр-
жембский дополнил свои варианты новыми сценами путе-
шествия Чичикова по поручению Бетрищева (ср. статью
Л. И. А р н о л ь д и, Мое знакомство с Гоголем, «Русский
вестник», 1862, № 1). Рассказы о содержании первых
глав II тома «Мертвых душ», исходившие от С. П. Шевы-
рева, семейства Аксаковых и А. О. Смирновой, были
очень распространены в разных кругах русского общества
40—50-х годов. Все это, по мнению Д. Оболенского, и по-
служило некоторой фактической базой для подделок и
переделок Ястржембского.
Представляют большой общественно-идейный и исто-
рико-литературный интерес последние строки статьи кн.
Д. Оболенского, направленные против истолкования лите-
ратурной деятельности Гоголя Белинским и находивши-
мися под его влиянием передовыми демократическими
кругами 50—60-х годов. Д. Оболенский противопостав-
ляет установившейся в этой социальной среде общест-
ственно-политической оценке прогрессивных сторон го-
голевского творчества то понимание личности Гоголя, а в
связи с этим и его сочинений, которое сложилось в круж-
ке, близком к Гоголю в последнюю полосу его жизни.
«С лишком 20 лет прошло со дня кончины Гоголя,—
и мы еще не имеем беспристрастной и верной оценки тво-
рений и личности этого великого моралиста. А между тем
время идет, и кружок людей, испытавших на себе силу
нравственного влияния Гоголя и оценивших уже после его
смерти все непонятные стороны характера и духовной
жизни этого необыкновенного человека,— все редеет и ре-
деет. Некоторые из новейших исследований о значении
Гоголя должны служить укором тем почитателям его,
которые могли бы разъяснить всю ошибочность исходной
точки воззрения современных мыслителей на значение
писателей, подобных Гоголю. Неужели суждено Гоголю, в
глазах грядущих поколений, запять то незавидное место,
1 «Русская старина», 1873, декабрь, стр. 945.
397
которое отводят ему нынешние ценители заслуг писателя,
всецело преданного одной высоконравственной мысли
без всякого отношения к изменчивым политическим и
социальным стремлениям современного общества?» 1
Следовательно, образ Гоголя — моралиста и религиоз-
ного мыслителя-подвижника — должен с этой точки зре-
ния поглотить и растворить в себе лик великого обличи-
теля общественных язв русского самодержавно-крепо-
стнического режима.
S
Литературная полемика начала семидесятых годов,
развернувшаяся по вопросу о последних годах творчества
Гоголя — в связи с обсуждением подложности «новых от-
рывков и вариантов» второго тома «Мертвых душ»,— не
могла не привлечь внимания Ф. М. Достоевского и не
увлечь его к участию в этих спорах. Известно, что зна-
чило для Достоевского письмо Белинского к Гоголю;
известно также, как сложно и изменчиво было отношение
Достоевского к гоголевскому творчеству. Да и то направ-
ление, которое приняла дискуссия о «третьем варианте»
второй части «Мертвых душ», и самый образ Н. Ф. Ястр-
жембского, как он вырисовывался в потоке его покаян-
но-полемических писем,— все это было прямой находкой
для Достоевского-публициста.
Есть сведения о том, что интерес Достоевского к Го-
голю был велик и в начале 70-х годов. Именно в это
время «сам Достоевский в одной из черновых записей ука-
зал на прямую связь позднего Гоголя с психологией «под-
полья», столь характерной для Опискина (из романа
«Село Степанчиково и его обитатели».— В. В.). Претен-
дуя на роль проповедника, учителя жизни, Гоголь публич-
но отрекался от «Ревизора» и «Мертвых душ» и в «Заве-
щании», которым открывались «Выбранные места из пере-
писки с друзьями», объявлял, что его последнее лучшее
произведение «Прощальная повесть» будет опубликовано
после его смерти. Однако повесть эта так и не была на-
писана»1 2. Достоевский видел в этом яркое свидетельство
1 «Русская старина», 1873, декабрь, стр. 953.
2 См. Ф. М. Достоевский, Собр. соч. в десяти томах, т. II,
Гослитиздат, 1956, примеч., стр. 658—659.
398
духовного краха Гоголя. «Это то самое подполье, которое
заставило Гоголя в торжественном завещании говорить
о последней повести, которая выпелась из души его и ко-
торой совсем не оказалось в действительности. Ведь, мо-
жет быть, начиная свое завещание, он и не знал, что на-
пишет про последнюю повесть» (ЦГАЛИ, фонд Ф. М. До-
стоевского, опись I, № И, л. 68/об.) Ч
Интересны опубликованные А. С. Долининым руко-
писные фрагменты Ф. М. Достоевского из «Дневника
писателя» (1877), характеризующие отношение его к
Гоголю.
«В главе четвертой двойного номера «Дневника писа-
теля» за июнь-июль 1877 года Достоевский говорит, меж-
ду прочим, о непременной потребности у русского чело-
века «пооригинальничать» как о следствии самолюбия,
в особенности «самолюбия от необыкновенного величия».
«Русский «великий человек» всего чаще не выносит своего
величия. Право, если б можно было надеть золотой фрак,
из парчи, например, чтоб уж не походить на всех прочих
и низших, то он бы откровенно надел его и не постыдился».
Тема эта, о «золотом фраке», кажется ему милой, и он
хотел бы «особо поговорить о ней», привести „наглядные
примеры “»1 2. А. С. Долинин и публикует отрывок, где в ка-
честве наглядного примера стремления «великого чело-
века» надеть, в отличие от всех прочих, «золотой фрак»,
приводится Гоголь с его «Перепиской с друзьями»3.
«Про золотой фрак мне пришла мысль наверно еще
лет тридцать тому назад, во время «Исповеди», «Пере-
писки с друзьями», «Завещания» и последней повести
Гоголя. Мне всю жизнь потом представлялся этот не вы-
несший своего величия человек, что случается со всеми
русскими, но с ним случилось это как-то особенно с тре-
ском. Вероятнее всего, что Гоголь сшил себе золотой
фрак еще чуть ли не до „Ревизора"». (Рукописные за-
метки ко 2-й главке IV главы «Дневника писателя», июль-
август 1877 г.) 4.
Однако едва ли можно отсюда сделать вывод, что
1 См. Ф. М. Достоевский, Собр. соч., т. II, стр. 658—659.
2 А. С. Долинин, Новое о Ф. М. Достоевском, «Ученые за-
писки Ленинградского гос. пед. института им. М. Н. Покровского»,
т. IV. Факультет языка и литературы, вып. 2, Л. 1940, стр. 314.
3 Т а м же.
4 Т а м же, стр. 319.
399
«Гоголя воспринял Достоевский на всю жизнь именно так,
как понимал его Белинский».
В этой связи особый интерес приобретают отклики на
подделку Ястржембского и его саморазоблачение в «Граж-
данине» за 1873 год. Для «Гражданина» это было время
редакторства Ф. М. Достоевского. Обе статьи «Гражда-
нина», в которых иронически излагается и сатирически
комментируется история с новыми отрывками и вариан-
тами второго тома гоголевских «Мертвых душ», писа-
лись, несомненно, при ближайшем участии Ф. М. Досто-
евского. Одна статья в № 34 «Гражданина» начинает цепь
очерков «Из текущей жизни» \ помещенных в этом
номере газеты-журнала. С этими очерками непосред-
ственно связана помещенная в том же номере «Заметка от
редакции», которая, естественно, не могла миновать пера
и активного вмешательства редактора — Достоевского.
Кроме того, в самом стиле очерков «Из текущей жиз-
ни» есть сходство с стилем Ф. Достоевского. Сюда преж-
де всего относятся приемы стилистического анализа лже-
гоголевских вариантов:
«Наконец — перемены в отдельных словах и выраже-
ниях... их много, но все они не в пользу вариантов,— они
слабее и как-то площе в сравнении с тем, как было в
печатном издании; так, например, по-прежнему, в числе
департаментских товарищей Тентетникова двое «были,
то, что называется огорченные люди»; в вариантах раз-
бавлено: «были то, что называется разочарованные, огор-
ченные люди». Одно словечко лишнее, и уж ослаблен
«неподражаемый юмор»1 2. Или еще — описание Улиньки
начинается в вариантах так: «Наружностью Улинька
была удивительно изящное существо. Душевными каче-
ствами она пленяла всякого». В печатном издании этого
не было, да кажется не могло и быть, и если Гоголь когда-
нибудь написал эти два предложения, то при дальней-
шей обработке своего произведения непременно должен
был их вычеркнуть: так они пошловаты!»3. В пользу ав-
торства. Достоевского применительно ко всей серии очер-
ков «Из текущей жизни» в № 34 «Гражданина» за
1 «Гражданин», 1873, № 34, стр. 934—935.
2 Иронически примененная цитата из журнала «Русская ста-
рина», которая этими словами характеризовала стиль подделки.
3 «Гражданин», 1873, № 34, стр. 935.
400
1873 год говорит специфический интерес их автора к се-
мантическому выделению и характеристике экспрессии
слов: «Есть слова, которые бывают и приличны и непри-
личны, смотря по тому, в каком смысле они употреблены.
И есть люди, которые осторожность в выборе приличных
слов доводят до крайности. Мы знаем, например, таких,
которые боятся употреблять выражение: отхожие промы-
слы, потому что входящий в него эпитет, поставленный
перед другим существительным, означает предмет, избе-
гаемый в разговоре, для которого всячески придумывают
наиболее приличные термины, прибегая преимущественно
к французскому языку. Другие не любят употреблять при-
лагательное потребный, потому что оно, по созвучию, на-
поминает другое прилагательное: непотребный... Говорим
о том, до чего может простираться условность приличия
в речи устной и письменной. Но приличие деяний и по-
ступков уже совсем не так условно, по крайней мере по
отношению к известному веку и известной гражданствен-
ности» Г
На мысль об авторстве Достоевского в отношении
очерков наводит и острый разговорно-иронический стиль
изложения с типичными для манеры Достоевского прие-
мами внутренней драматизации и язвительными оратор-
скими обращениями к читателю (например, «Ну, прочли
читатели «Русской старины» отрывки и варианты, сли-
чить их тщательно и вдумчиво с печатным изданием, мо-
жет быть, не потрудились да на том и. успокоились.
И больше года продолжалось их спокойствие, но вдруг...
совершается чудо: варианты превращаются в подделку,
а Гоголь — в г. Ястржембского! Действие этого чудесного
явления было столь сильно, что многие некоторое время
безмолвствовали, немотствуя, как Захария во храме...—
Но г. Ястржембский непоколебим и крепко стоит на
своем: хоть пришлось бы, говорит, пострадать за прав-
ду — не отступлюсь: я подделал Гоголя!»1 2, и т. п.), и свое-
образная строфическая композиция частей с изображени-
ем нарастающих чудес, и фактические ссылки на соб-
ственный литературный и общественный жизненный опыт.
Например: «Кто жил в Петербурге в сороковых годах,
тот, может быть, припомнит, на кого похожи этот граф
1 «Гражданин», 1873, № 34, стр. 935.
! Там же, стр. 934.
.14 В. В. Виноградов 401
и его подчиненный действительный статский совет-
ник» 1.
Впрочем, едва ли можно отнести к изображению не-
посредственных впечатлений самого Ф. М. Достоевского,
бывшего в начале 50-х годов в Омском остроге, следую-
щие строки: «Многие, конечно, помнят, как еще задолго
до издания, вскоре после смерти Гоголя, пошли по рукам
списки первых глав этого II тома; как усердно и благо-
говейно их тогда переписывали; как бились над вкрав-
шимися явными описками, исправляя их по собственным
догадкам. И у меня, пишущего эти строки, до сих пор
цела написанная второпях и разными почерками тетрадь,
заключающая три первых главы, в том самом виде и с
теми же пропусками, с какими они появились потом в
печати»1 2. Но и в этих фразах нет ничего такого, что бы
решительно отстраняло возможность связывать их с До-
стоевским как их автором и редактором. Ведь здесь не
говорится, что в годы, непосредственно следующие за
смертью Гоголя, сам автор усердно и благоговейно пере-
писывал рукопись второго тома «Мертвых душ», нахо-
дясь в Москве или в Петербурге. Ведь и рукопись вто-
рой части «Мертвых душ», переписанная разными чужи-
ми почерками, могла быть приобретена автором позд-
нее— уже после освобождения из тюрьмы. Во всяком
случае, это — изложение широко известных в то время
литературно-общественных фактов.
Статья «Гражданина» о новых вариантах «Мертвых
душ» начиналась такими ироническими фразами:
«С недавнего времени в нашей текущей литературе
стали появляться чудеса, бросающие читающий люд от
изумления к изумлению. Началось с легкой руки
г. Ястржембского»3.
Далее излагалась история появления новых отрыв-
ков «Мертвых душ». «Казалось, нет тут* ничего удиви-
тельного; дело очень естественное... Что же мудреного,
казалось, что, кроме напечатанных лоскутков, сохрани-
лись и другие, содержащие другую редакцию, более ран-
нюю или позднейшую. Ведь известно, что Гоголь подвер-
гал эту часть своей поэмы бесчисленным исправлениям
1 «Гражданин», 1873, № 34, стр. 935.
2 Там же, стр. 934.
3 Та м же.
402
и переделкам... Но вдруг... совершается чудо: варианты
превращаются в подделку, а Гоголь — в г. Ястржемб-
ского!»1 Сначала все «безмолвствовали, немотствуя как
Захария во храме. Потом мало-помалу начались объяс-
нения; но и в объяснениях этих послышалось нечто стран-
ное: как будто объясняющим хотелось уверить г: Ястр-
жембского, что он совсем не подделывал Гоголя, что это
ему только так показалось или во сне пригрезилось...
Впрочем, желание это отчасти и понятно: сама «Русская
старина», печатая отрывки и варианты, тогда же сказала,
что «в них искрится неподражаемый, умерший с Гого-
лем юмор, поразительная меткость выражения и художе-
ственное воспроизведение лиц, местностей, всего, до чего
только касалась кисть гениального мастера». Читатели,
по прочтении отрывков и вариантов, вряд ли то же по-
думали...»1 2 3. Далее ирония, характерная для стиля До-
стоевского, сгущается с еще большей силой: «Но г. Ястр-
жембский непоколебим и крепко стоит на своем: хоть бы
пришлось, говорит, пострадать за правду — не отступ-
люсь: я подделал Гоголя! Тут, кажется, следовало бы
всем обрадоваться и сказать г. Ястржембскому: так пи-
шите же, скорее и больше, больше! пусть еще ярче заис-
крится умерший с Гоголем, а в вас воскреснувший
юмор и поразительная меткость, и художественное вос-
произведение — все это будет манной небесной для на-
шей словесной пустыни, в усладу нам, алчущим и жаж-
дущим! Никто, однако, не сказал этого, потому что слу-
чилось повое чудо...»8. И далее в ироническом освещении
изображается выступление Г. П. Данилевского в «С.-Пе-
тербургских ведомостях» (1873, № 210) по поводу новых
вариантов «Мертвых душ»: «Откуда ни возьмись
г. Г. Данилевский с своим воспоминанием: 30 июня сего
1873 года он вдруг вспомнил, что в начале пятидесятых
годов и у него был рукописный экземпляр II тома «Мерт-
вых душ», тоже со множеством пробелов, о которых он
разговаривал с друзьями уже умершего тогда Гоголя,
и кто-то из них,— уж не помнит г. Данилевский — кто:
Сергей Тимофеевич Аксаков, Михайло Семенович Щепкин
или г. Шевырев (все, к сожалению, скончавшиеся),— ска-
1 «Гражданин», 1873, № 34, стр. 934.
2 Т а м же.
3 Т а м же.
14* 403
зал ему тогда, что в рукописи его пропущены, между
прочим, анекдот о побранках графа Сидора Андреевича
и разговор Бетрищева с Чичиковым об его однофамильце,
то есть военном историке 12-го года Михайловском-Дани-
левском; а эти-то оба места и явились в новых отрыв-
ках и вариантах, которые приписывает себе г. Ястржемб-
ский... Ну, еще ли это не чудо? Кто же грезил: видел ли
г. Данилевский вещий сон о графе Сидоре Андреевиче в
устах одного из достопамятных покойников, или г. Ястр-
жембский в сонном видении подделывал Гоголя?» Г
Иронически вводятся затем метафоры из судебной
практики.
«Может быть, когда-нибудь формальное литератур-
ное следствие разрешит этот мудреный вопрос, а если, в
ожидании такого следствия, сделать теперь же только
легкое «предварительное дознание», то выйдет, как нам
кажется, одно из двух: или надо признать отрывки и
варианты «Русской старины» в самом деле работою
г. Ястржембского, или, если уже непременно нужно, во
что бы то ни стало отнять у него авторское право на
эту работу,— считать их первоначальным и весьма не-
обработанным наброском Гоголя»1 2. Однако далее вы-
сказывается целый ряд очень веских соображений сло-
весно-эстетического, композиционного и стилистического
характера, которые очень убедительно доказывают не-
сомненное наличие подделки гоголевского текста.
Эти соображения, прежде всего, касаются «вставок»,
которых не было в печатных изданиях текста II тома
«Мертвых душ». «Анекдот о графе Сидоре Андреевиче,
занимающий всего шесть строк, не содержит в себе ни-
чего, особенно искрящегося, а эффектен потому только,
что списан с натуры»3. Далее указывается на то, что
жителям Петербурга сороковых годов этот анекдот хо-
рошо известен. «Несколько фраз о Михайловском-Да-
нилевском, вставленных в разговор Бетрищева с Чичи-
ковым, тоже не придают особенной художественности
этому разговору, и без того художественному. Перед-
обеденная закуска у Петуха и сон Чичикова, правда,
очень живописны, но ведь это — вариация на
1 «Гражданин», 1873, № 34, стр. 934—935.
2 Т а м же, стр. 935.
3 Т а м же.
404
тему, данную в печатном издании; вариация распро-
странила тему, но не придала никакой новой черты ни
Петуху, ни Чичикову. Таковы и все вставки»1. Следую-
щий прием изменений гоголевского текста в «вариан-
тах и отрывках»,— это пропуски, исключения. Здесь
«выпущены те именно места, которые как бы вызваны
были лирическим настроением Гоголя. Например, иде-
ального воспитателя Александра Петровича совсем нет;
выпущена небольшая тирада о наслаждениях, живущих
в Петербурге, несмотря на сумрачную его наружность»
(стр. 17 в издании Трушковского 1856 г.); выпущено
чрезвычайно ’поэтическое место о том, куда глядели и
что видели вдали глаза Тентетникова, когда «вблизи ла-
дилось сельское дело» (там же, стр. 26—27) »1 2. Не
улучшают качеств гоголевского стиля, а лишь ослабляют
его силу «перемены в отдельных словах и выражениях».
Из всего этого делаются автором статьи следующие
выводы:
«1) все, что «искрится» в отрывках и вариантах, ис-
крилось и в прежнем печатном издании;
2) «поразительная меткость выражения» вся при-
надлежит прежнему изданию, а в вариантах она только
ослаблена;
3) ни одного «лица» и ни одной «местности», вновь
художественно воспроизведенных,— в вариантах не
имеется и, наконец,
4) с выпуском нескольких мест, проникнутых лири-
ческим настроением, текст по вариантам стал суше и
холоднее, нежели в прежнем печатном издании»3.
Ироническая концовка замыкает этот анализ: «А
чудо все-таки остается чудом!»
Участие Ф. М. Достоевского в подготовке этого фель-
етона «Из текущей жизни» демонстрируется и приема-
ми композиционного связывания его частей, состоящими
в широких аналогиях и сопоставлениях внешне разно-
родных явлений. Второй очерк начинается так: «Вторая
чудотворная группа изображает гг. Суворина и Го-
лубева. Тут тоже превращение: были, кажется, со всею
ясностью у всех перед очами: железнодорожное безо-
1 «Гражданин», 1873, № 34, стр. 935.
2 Т а м же.
3 Т а м же.
405
бразие, виновник безобразия, его обличитель, достовер-
нейшее сведение... И вдруг, у всех же на глазах, все это
мгновенно исчезло, явились: ложь и диффамация, оскорб-
ленная невинность, клеветник, злонамеренная утка...»1
«...и в этом таинственном событии есть нечто общее
с историей о вариантах. Как там чуялось тайное жела-
ние уверить г. Ястржембского, что он наяву не подде-
лывал Гоголя, так и тут слышалось нам если не в лите-
ратуре, то в частной жизни подобное же желание уве-
рить г. Голубева, что он только во сне видел себя не-
винным...» 1 2
9
Журнал-газета «Гражданин» .под редакцией
Ф. М. Достоевского не ограничился и не мог ограни-
читься одним, хотя и очень острым и внушительным,
откликом на споры о подлинности и подложности но-
вых отрывков и вариантов второго тома «Мертвых душ».
В «Дневнике писателя» Ф. М. Достоевского (а этот
«Дневник» в структуре журнала играл центральную
композиционную роль, роль идеологического центра, или
тематического стержня) уже в самом начале 1873 года
были подняты вопросы о Белинском, о социализме и
атеизме, о русском революционно-материалистическом
движении, о судьбах и роли его в истории русской куль-
туры, об образах русских революционных демократов.
Личность Н. Ф. Ястржембского — поклонника Белин-
ского, почитателя его письма к Гоголю благодаря упор-
ству своих разоблачений — при всей их противоречиво-
сти — не могла не стать объектом художественно-пуб-
лицистической интерпретации Ф. М. Достоевского. И
действительно, в № 45 «Гражданина» за 1873 год3 по-
является новая статья, посвященная той же истории с
новым вариантом «Мертвых душ» Гоголя, с подделкой
их текста, под заглавием «Неоцененное побуждение».
Однако вопрос об авторе этой статьи труднее, чем в от-
ношении очерков «Из текущей жизни» в № 34, и припи-
сать ее безоговорочно самому Достоевскому как редак-
1 «Гражданин», 1873, № 34, стр. 935.
2 Т а м же.
3 См. стр. 1207—1210.
406
тору было бы поспешно — вследствие целого ряда
осложняющих обстоятельств.
Статья носит ярко индивидуальный характер, в ней
постоянно мелькает местоимение «я». Стиль статьи очень
близок к стилю «Дневника писателя» Достоевского.
Однако в напечатанном «Подробном обозначении содер-
жания 52 №№ «Гражданина» за 1873 год», которым на-
чинается печатный полный комплект этого журнала-
газеты, в моем экземпляре эта статья подписана буквой
П. (Неоцененное побуждение. По поводу подделки под
Гоголя П). Никакая другая статья в «Гражданине» за
этот год не приписана автору с таким инициалом. Статья
Вл. Пуцыковича, ставшего секретарем редакции, и
К. П. Победоносцева (а также А. Порецкого) подписы-
вались иначе, другими инициалами, другими сокраще-
ниями имен и фамилий (В-ра П-ча, В. П-ча и др. под.).
Кроме того, нельзя не отметить, что вопреки обыкнове-
нию перед буквой П нет ожидаемой точки. (Напеча-
тано: «По поводу подделки Гоголя П.», а не так, как
следовало бы: «По поводу подделки Гоголя. П.»). Тем
не- менее сразу же признать это обозначение опечаткой
было бы произвольно. Следовательно, можно думать,
что схема статьи заготовлена каким-то П., например,
Вл. Пуцыковичем. Но доля личной редакторской «прав-
ки» Ф. М. Достоевского в ней очень сильна. В этом не
может быть сомнения. Ее стиль очень близок к стилю
Достоевского.
На статье «Неоцененное побуждение» лежит несом-
ненная печать и авторства, и редакционного вмеша-
тельства Ф. М. Достоевского. Конец ее мог быть напи-
сан только самим Достоевским. Начинается статья с
оправдания самого заглавия. Оно продиктовано жела-
нием не «отпугнуть» читателя, ибо сюжет касается «той
истории о вариантах, которая уже грозит превратиться
в сказку про белого бычка». Автор хочет говорить о
«неоцененном побуждении» Ястржембского, о том по-
буждении, которое он неизменно объясняет во всех своих
многократных покаяниях и за которое, по собственным
его словам, ему «можно простить дерзкое намерение
подделаться под Гоголя». «Уж не знаю, право, простят
ли его «Русская старина» и «Вестник Европы», которые
особенно сердито к нему относятся, но во всяком случае
следовало бы по крайней мере оценить побуждение...
407
«Да что же это за побуждение такое?» — спросите вы.
Это — забота об испорченной репутации Гоголя, напи-
савшего «Переписку с друзьями» и в довершение беды
несколько неполных глав II тома «Мертвых душ» в духе
той же «Переписки». Ястржембскому, находившемуся
под сильным влиянием известного письма Белинского к
Гоголю, «пала... на душу великая скорбь об утраченной
репутации Гоголя и вслед за тем желание — чтоб II том
очистился и не отзывался больше духом «Переписки».
Он стал его очищать и очистил три первые главы». Да-
лее иронически заявляется, что г. Ястржембский «не на-
меревался исправлять репутацию покойного Гоголя
в глазах всей русской публики; он не хотел, так сказать,
заслонить собою Гоголя, выдав свою переделку за го-
голевский вариант. Нет, он «делал это для себя», ему
хотелось только помечтать наедине «о том, каким следо-
вало бы быть II тому поэмы у настоящего, так сказать
незаблудившегося Гоголя — автора „Ревизора41// и I тома
«Мертвых душ» (именно «таким, как сделал его он,
г. Ястржембский»). «Смотрите, какое доброе, благодуш-
ное и в то же время совершенно либеральное побуж-
дение! И никто-то до сей минуты не оценил его по до-
стоинству»1. В чем же состояла произведенная Ястр-
жембским чистка? Особенно три места «Мертвых душ»:
«похвальный гимн образцовому (sic) наставнику Тен-
тетникова», изображение «недоучившегося студента с
зловредным либеральным направлением» — злобный на-
мек на Белинского и «рабские поклоны крестьян» при
приезде Тентетникова в деревню «поразили г. Ястржемб-
ского запахом «Переписки» и были поэтому признаны
подлежащими очищению». «Я,— писал Ястржембский,—
заставил Тентетникова остановить крестьян, пришедших
к нему с рабскими поклонами, и произнести речь (ко-
нечно для них непонятную) о человеческом достоинстве,
о том, что он — такой же человек, как и они, что чело-
век обязан уважать себя и не унижаться пред равным
себе существом. Всего этого нет в «Переписке с друзь-
ями». Ведь не осталось никаких признаков, по которым
можно было бы думать, что Гоголь, под конец жизни,
отрекся от диких идей, высказанных в „Переписке с
друзьями
1 «Гражданин», 1873, № 45, стр. 1208.
408
Автор статьи «Неоцененное побуждение» доказывает,
что г. Ястржембский неправильно понимает все три ме-
ста «Мертвых душ», им так или иначе исправленные, и
вообще обнаруживает плохое знание гоголевских тек-
стов. Так, он не удосужился воспользоваться изданием
Кулиша 1857 года. «Чтобы оценить всю важность произ-
веденной им операции,— читаем в «Гражданине»,—нуж-
но рассмотреть, что представляют эти места в заражен-
ном состоянии и чем стали после их очищения». Автор
статьи «Неоцененное побуждение» в своем критическом
анализе опирается на тексты, напечатанные в двух из-
даниях II тома «Мертвых душ»: Трушковского 1856 го-
да и Кулиша 1857 года.
«Во-первых, «образцовый наставник»... Над этим
образом Гоголь, кажется, особенно долго возился
(курсив мой.— В. В.); должно быть, он не легко ему да-
вался, по крайней мере у Кулиша в этом месте исправ-
ленного текста приведено, в виде подстрочных выносок,
множество изменений и вставок». Далее, сопоставив
разные варианты гоголевского текста, критик из редак-
ции «Гражданина» не находит в этом месте того смысла,
который вкладывал в него Ястржембский. Ведь тот
считал, что образцовый наставник Тентстникова унижал
и оскорблял своих питомцев, «с гнусною целью при-
учить их терпеливо и позорно переносить все унижения
и оскорбления, какие могут их встретить в жизни». В ис-
правленном тексте Кулиша «есть две фразы, которые
могли поразить педагогическое чутье г. Ястржембского,
именно те, что в заведении Александра Петровича (об-
разцового наставника) «презрению товарищей подвер-
гался тот, кто не стремился быть лучше» и «обиднейшие
прозвища должны были переносить взрослые ослы и
дураки от самых малолетних и не смели их тронуть
пальцем». Хороша, или дурна такая воспитательная си-
стема — об этом могут спорить педагоги, но едва ли
можно усмотреть в ней ту гнусную цель, которую усмо-
трел г. Ястржембский. Стало быть, не это его смущало.
Не то ли разве место, что было в первоначальном тек-
сте и где говорится, что наставник требовал от воспи-
танников высшего курса «ума высшего, умеющего вы-
несть всякое оскорбление»? Но от этих слов очистил
свой текст сам Гоголь, и исправленный текст, уже без
этих слов, издан в свет в 1857 году, а г. Ястржембский
409
производил свою чистку в 1859 году. Должно быть в
продолжении двух лет до него не доходило издание Ку-
лиша, иначе он может быть и пощадил бы Александра
Петровича. Жаль! Впрочем, это не единственная черта,
которою обрисован «образцовый наставник». Он «знал
детей» и «умел двигать их»; «шалун уходил от него не
повесивши нос, но подняв его»; потому что «в самом
упреке Александра Петровича было что-то ободряющее,
что-то говорившее: подымайся выше, несмотря на то, что
ты упал»; «он обыкновенно говорил: я требую ума, а не
чего-либо другого»; «многих резвостей он не удерживал,
видя в них начало развития свойств душевных»; он упо-
треблял «все, что способно образовать из человека твер-
дого мужа»; «юноша с самого начала искал только
трудностей, алча действовать там, где больше препятст-
вий, где нужно было показать большую силу души».
Наконец,, «как любили его все мальчики!» Вот видите ли,
читатель; ведь мы с вами и не знаем, что все это зна-
чило— «унижать и оскорблять питомцев с гнусною
целью»; что все это отзывалось „дикими идеями Пере-
писки*». В статье «Гражданина», таким образом, в глу-
боко иронической отповеди отрицается наличие здесь так
называемых «диких идей Переписки»: «В самом деле!
Что если бы понабралось у нас больше таких наставни-
ков, стремящихся образовать твердых мужей, да еще
возбуждающих в детях горячую любовь к себе,— теперь
может быть и застрелиться было бы некому. Что было
бы толку-то!» Как известно, борьба с эпидемией само-
убийства и анализ общественных причин этого явления
составляли одну из важных тем художественного и пуб-
лицистического творчества Достоевского в этот период.
Второй образ, возмутивший и оскорбивший Ястр-
жембского, это — образ «недоучившегося студента» с зло-
вредным либеральным направлением. И здесь автор
статьи «Неоцененное побуждение», пользуясь вариан-
тами текста «Мертвых душ» в изданиях Трушковского
и Кулиша, прежде всего подчеркивает, что у Гоголя дана
иная стилистико-фразеологическая характеристика этого
персонажа: «резкого направления недоучившийся сту-
дент, набравшийся мудрости из современных брошюр и
газет». «Но, кроме того, в обоих текстах, изданных Ку-
лишем, есть в другом месте вставка, которой не было
в издании Трушковского. В ней говорится, что Тентетни-
410
ков в молодости замешался было в какое-то «филантро-
пическое общество» устроенное «с необыкновенно об-
ширною целью доставить счастье всему человечеству»,
и что в числе лиц, затеявших это общество, был — по пер-
воначальному тексту — «недоучившийся студент», а по
исправленному «недокончивший учебного курса эстетик».
Которое из^этих двух лиц,— продолжает автодз статьи,—
деревенский ли сосед, или участник в филантропическом
обществе был «с зловредным либеральным направле-
нием», я не знаю,—таких слов у Гоголя, как видите, не
было; которое из этих двух лиц намекает на Белинского,
я тоже не знаю. Не оба ли? А может быть ни то, ни дру-
гое?..» И хотя «Вестник Европы» одобряет Ястржемб-
ского за попытку уничтожить намек на Белинского, автор
статьи в «Гражданине» сомневается в целесообразности
этих домыслов поклонников Белинского: «А все-таки мне
кажется, что г. Ястржембский, думая о намеке и нахо-
дясь под влиянием Белинского, не помнил многого из
Гоголя,— иначе его пристыдили бы следующие слова
I тома Гоголевой поэмы: «Достаточно сказать только,
что есть в одном городе глупый человек, это уже и лич-
ность: вдруг выскочит господин почтенной наружности
и заключит: ведь я тоже человек, стало быть я тоже
глуп, словом вмиг смекнет в чем дело»... Ну, вот должно
быть и г. Ястржембский смекнул в чем дело... А я, с своей
стороны, смекаю, что Гоголь, исправляя II том в 1851 году,
когда Белинский уже давно лежал в могиле, вряд ли
решился бы оставить намек на него, мертвого, если б это
был действительно намек. Если г. Ястржембский знает
зальцбруннское письмо, то ему следовало бы знать
также,— а если знал да забыл, то припомнить хоро-
шенько,— и ответ Гоголя на это письмо, писанный из
Остенде. Похоже ли там что-нибудь на «озлобление»?
Там говорил только потрясенный организм, разбитое
сердце да христианская кротость (все образы — Достоев-
СКОГО! _ в. В.). Там помнится, говорилось (и говори-
лось ведь не для печати): «поверьте мне, что и вы и я
виновны равномерно перед ним (веком), и вы и я пере-
шли в излишество. Я по крайней мере сознаюсь в этом;
не сознаетесь ли и вы?»... «А покамест помыслите прежде
всего о вашем здоровье» и пр. И говоря так с живым
Белинским, стал бы Гоголь делать на него мертвого ядо-
витый намек! Нет! Говоря не шутя, мне стыдно за тех,
411
кто верит в действительность этого намека. Кто в этих
словах о недоучившемся студенте, невольно рисующих
перед нами какого-то безбородого юношу с длинными,
откинутыми назад волосами, провидел... кого же? Бе-
линского!.. тот «смекнул в чем дело»!» Переходя к треть-
ему пункту переделок г. Ястржембского, автор статьи
«Неоценевдое побуждение», прежде всего характеризует
гоголевские тексты (в общем сходные), относящиеся
к описанию встречи Тентетникова с крестьянами при
приезде в деревню и цитирует это место по изданию
Трушковского. Затем он выделяет следующее дополне-
ние Ястржембского к изображению этой сцены: «И —
все подходили к нему и кланялись в ноги. Тентетникову
не понравилось это унижение человеческого достоин-
ства. Он остановил низкие поклоны и стал говорить му-
жикам речь о том, что «человек должен уважать себя,
а не унижаться перед равным себе существом», что он
такой же человек, как и они,— что он приехал с тем,
чтобы их просветить и осчастливить. И многое говорил
им Тентетников в духе равенства и свободы, о котором
начитался в книгах. Мужики слушали и ничего не по-
нимали. Но на вопросы, которые по временам делал
Тентетников, приговаривая беспрестанно: «не правда ли,
мои друзья?», бормотали: «вестимо, родимый».— Не знаю,
как вам, читатель,— комментирует автор,— а мне ка-
жется, что достаточно одного этого места, даже одних
слов: «все подходили к нему и кланялись в ноги», чтобы
снять с г. Ястржембского обвинение в плагиате, с кото-
рым так горячо накинулся было на него «Вестник Ев-
ропы», и отдать этот «вариант» в его вечную и исключи-
тельную литературную собственность. Гоголь был на-
столько чуток к жизни русского народа, что не мог
допустить такой неправдоподобности из нравов и обычаев
бывших помещичьих крестьян. Придет, бывало, мужик
один или целой своей семьей к барину с какой-нибудь
просьбой, например, просить невесту для сына, ну, по-
жалуй, и упадет в ноги, но чтобы крестьяне, без всякого
особенного повода и вызова, миром творили земные по-
клоны барину, да еще молодому, «жиденькому», в пер-
вый раз к ним приехавшему,— этого не бывало и не
могло быть, это было не принято. Но г. Ястржембскому
были необходимо нужны «рабские поклоны», чтоб было
над чем совершить операцию. И он отлично это устроил;
412
только не знаю я, бывают ли в хирургической практике
такие случаи, чтобы врач умышленно произвел болезнь
для того только, чтобы сделать операцию. Может быть
и бывают!»1
Нельзя отрицать близости всех этих мыслей и стиля
их изложения к творчеству и мировоззрению Ф. М. До-
стоевского. Но особенно яркий колорит стиля Достоев-
ского носят заключительные строки статьи «Гражда-
нина». «Итак — вся история вышла, весь сыр-бор заго-
релся оттого только, что назад тому лет четырнадцать
г. Ястржембский находился под влиянием письма Бе-
линского. И чудный психический факт при этом заме-
чается: кажется, будто г. Ястржембский как попал под
влияние Белинского, так под ним и застыл...
И многие годы над ним протекли
По воле владыки небес и земли!
Мне кажется, что он во все эти годы ни разу не прикос-
нулся к Гоголю, прежде им столь любимому, а «Пере-
писку с друзьями» не только изгнал из своей библиотеки,
но, по изгнании, даже окурил библиотеку если не лада-
ном, то хоть уксусом пополам с одеколоном...
И многие годы над ним протекли...
А в эти многие годы можно было бы из числа «диких
идей» Переписки выделить несколько идей, не только
не диких, но и ныне вполне достойных благосклонного
внимания современных литературных деятелей. Там
говорится, например, что «если писатель станет оправды-
ваться какими-нибудь обстоятельствами, бывшими при-
чиною неискренности, или необдуманности, или поспеш-
ной торопливости его слова, тогда и всякий несправед-
ливый судья может оправдаться в том, что брал взятки
и торговал правосудием, складывая вину на свои тесные
обстоятельства»... «Потомству нет дела до того, кто был
виною, что писатель сказал глупость или нелепость».
И потому «обращаться с словом нужно честно». Там го-
ворится еще, что о наших поэтах «в журналах говорили
много, разбирали их даже весьма многословно, но вы-
сказывали больше самих себя, нежели разбираемых
поэтов» (истина, сбывшаяся над самим Гоголем!). Там
1 «Гражданин», 1873, № 45, стр. 1209.
413
же говорится, что Одиссея (в переводе Жуковского)
«вновь даст вновь почувствовать всем нашим писателям
ту старую истину, которую век, мы должны помнить и
которую всегда позабываем, а именно: по тех пор не при-
ниматься за перо, пока все в голове не установится
в такой ясности и порядке, что даже ребенок в силах будет
понять и удержать все в памяти». (Пророчество — увы! —
не сбывшееся!) Все это, как видите, идеи совсем не ди-
кие и даже такие, которые «век мы должны помнить, но...
По воле владыки небес и земли,
застыли люди под разными влияниями, не слышат тече-
ния жизни и, о ком бы ни заговорили, все по-прежнему
только „высказывают самих себя“».
10
В связи с обсуждением и анализом поддельных «Но-
вых отрывков и вариантов» к первым трем главам II тома
«Мертвых душ» Гоголя в 70-х годах XIX века был вы-
двинут ряд важных вопросов, связанных с изучением
творческого пути Гоголя, с изменениями в его мировоз-
зрении, в его стиле, в его художественной системе.
В итоге дискуссии поддельный характер напечатанных
«Русской стариной» отрывков и вариантов «Мертвых
душ» был раскрыт с полной убедительностью, особенно
в статьях Ф. М. Достоевского (точнее: в статьях «Граж-
данина»). Наиболее глубокими и продуктивными оказа-
лись для развития самой науки о литературе и о стили-
стике художественной литературы те соображения, кото-
рые относились к проблеме связи и соотношения стиля
и идеологии.
Сразу же — еще до разоблачения литературной ми-
стификации или фальсификации — бросились в глаза
идеологические мотивы стилистических изменений, ха-
рактерных для нового текста второй части «Мертвых
душ». В статье В. П. Чижова и в посвященной творчеству
Гоголя главе пыпинских «Характеристик литературных
мнений» было обращено внимание именно на эту сто-
рону. Изменения в тексте первых глав второй части
«Мертвых душ», опубликованном в «Русской старине»,
объяснялись некоторым отходом Гоголя от идеологиче-
414
ской позиции «Переписки с друзьями», возвратом — под
влиянием страстного письма Белинского— к прогрес-
сивно-обличительным тенденциям «Ревизора» и первой
части «Мертвых душ». С этой точки зрения интерпрети-
ровались как «прибавки» к тексту первой главы, так и
«исключения» из нее, сокращения целого ряда эпизодов.
К такому объяснению примкнул затем и сам автор
подделки — Н. Ф. Ястржембский, выступивший через год
со своими саморазоблачениями. Объясняя свои внутрен-
ние побуждения — «подделаться под Гоголя» и очистить
первые главы второй части «Мертвых душ» от «диких
идей Переписки», Н. Ф. Ястржембский придавал особен-
ное значение трем своим «просветительским» опера-
циям (см. выше, стр. 408—412).
До некоторой степени с той же задачей — «либерали-
зации» стиля второго тома «Мертвых душ» — можно свя-
зать и отдельные изменения, хотя и гораздо менее зна-
чительные, во второй главе, напр., размышления Бетри-
щева о службе и «подлецах», которые ее продолжают.
Однако было совершенно очевидно (и на это сразу же
обратили внимание и газетные фельетонисты, и критик
«Вестника Европы» Д., и Г. П. Данилевский, и Ф. М. До-
стоевский, точнее: авторы или автор статей в «Гражда-
нине»), что большая часть стилистических поправок и
«прибавок» во второй и третьей главах второй части
«Мертвых душ» вызвана вовсе не идеологическими по-
буждениями и даже не стремлением как-то сблизить
общий тон, экспрессивные краски второго тома «Мерт-
вых душ» с первым, а является плодом вольных упраж-
нений в гоголевском стиле, продуктом увлечения юмори-
стическими приемами Гоголя. Это обстоятельство в гла-
зах некоторых критиков 70-х годов бросало тень и
на первую главную идеологическую задачу подделки.
С одной стороны, возникало подозрение, нет ли тут ми-
стификации и даже плагиата со стороны Н. Ф. Ястр-
жембского, и не содержал ли список Прокоповича новый,
неизвестный вариант гоголевской работы над текстом
«Мертвых душ». Однако эта мысль подтверждалась лишь
указаниями (Г. П. Данилевского, а также критика Д.
в «Вестнике Европы») на сюжетные совпадения с гого-
левским замыслом (на основании свидетельств друзей
Гоголя, слышавших его чтения отрывков из «Мертвых
душ»). Но никто не занялся подробным стилистическим
415
анализом поправок и прибавок в тексте Н. Ф. Ястржемб-
ского. Мысль о «плагиате», отвергнутая и опровергнутая
в статье «Гражданина»: «Неоцененное побуждение», не
была затем никем поддержана.
С другой стороны, после заявки о подделке прежняя
восторженная оценка стиля «новых отрывков и вариан-
тов» второго тома «Мертвых душ» сменилась суждениями
диаметрально противоположного характера. В них кри-
тики уже не находили следов «искрящегося», «неподра-
жаемого юмора» Гоголя, а видели лишь посредственные,
малоудачные имитации. Кроме статей «Гражданина»,
ни в одной из других статей о подделке, помещенных
в журналах и газетах семидесятых годов, не было при-
ведено никаких веских данных в пользу этого мнения.
В высшей степени целесообразно — в исторической
перспективе — отметить и выделить некоторые общие
принципы стилистических изменений в тексте «Мертвых
душ», порожденных стремлением выпрямить идеологиче-
скую линию творческого пути Гоголя, устранить искрив-
ления и отступления в развитии его мировоззрения и сло-
весно-художественного искусства.
Прежде всего необходимо отметить в подделке
Н. Ф. Ястржембского сильную примесь стандартной ли-
беральной публицистической журнальной речи, особенно
в первой главе:
«Вся эта галиматья слушалась всеми воспитанниками
заведения»;1 «Тентетников заразился сильным негодо-
ванием против общества вообще, и против начальников,
стесняющих свободу человека, в особенности»; «...два
приятеля, игравшие роли разочарованных и огорчен-
ных»; «Тентетникову не понравилось это унижение чело-
веческого достоинства... И многое говорил им Тентетни-
ков в духе равенства и свободы, о котором начитался
в книгах»; «барин доброе существо, но ленив и без энер-
гии»; «Ему, занятому мыслями об усовершенствовании
человека вообще, и русского в особенности, все эти ме-
лочи деревенского хозяйства показались до того тягост-
ными и противными, что он скоро запретил и говорить
о хозяйстве»; «...Генерал, как генерал, не любил противо-
1 Здесь и далее (до конца главы) даются цитаты из вариантов
Н. Ф. Ястржембского, опубликованных в «Русской старине», 1872,
январь, стр. 89—117
416
речий и возражений; а Тентетников, как человек, про-
никнутый уважением к своему человеческому достоин-
ству, не любил признавать деспотическую власть генера-
ла в суждениях»; «...Генералу не приходилось остаться
в дураках перед молокососом» и др. под.
Ср. во внутреннем монологе генерала Бетрищева: «Че-
ловек с истинными достоинствами непременно, встретив-
ши на службе зависть и недоброжелательства, бросит
службу. Только дураки да подлецы умирают на службе
ц, пожалуй, дослуживаются и до генерал-губернаторов».
Само собой разумеется, что этот принцип насыщения
повествовательного стиля фразеологическими шаблонами
публицистической речи — без всякой художественной ее
индивидуализации — чужд Гоголю. Между тем в «новых
отрывках и вариантах» Ястржембского наблюдается ши-
рокое проникновение книжно-публицистических элемен-
тов той или иной идеологической окраски — независимо
от индивидуально-характеристических особенностей сти-
ля персонажей — в диалогическую речь действующих лиц.
«Тентетников не выдержал: „Я уважаю тех, которые
заслуживают уважение и которые уважают сами себя.
Служу не начальству, а государю и отечеству, и прези-
раем теми, которые исполняют лакейские должности
у своих начальников"». Ср. в речи того же Тентетникова:
«Нет, дядюшка, я понимаю всю великость, всю святость
моих обязанностей. Я буду жить в деревне, улучшу быт
моих крестьян, образую их нравственно и религиозно
и сделаю из них людей, тогда как они теперь скоты».
В речи генерала Бетрищева: «Ведь если он ограни-
чится одними печатными сведениями, каким-нибудь Ми-
хайловским-Данилевским, то пропустит не одного истинно
отличившегося на поле чести в это достославное время».
«Я ему не раз твердил, что русский мужик и чело-
век— две вещи совершенно различные, и что его фи-
лантропия совершенная дичь. Он не соглашался со мною,
но согласится со временем. Относительно гордости, ко-
торая была причиной нашей размолвки, * я даже ценю
эту гордость, это уважение к себе, в особенности когда
он сам сознается, что она иногда неуместна в отношении
к людям, имеющим свои заслуги перед отечеством».
«Тогда генерал сказал: похвальное занятие; у нас не
разработана история самого интересного времени, вре-
мени борьбы России с неприятелем в 12-м году».
417
Подвергается такому же стандартно-книжному, ри-
торическому преобразованию, лишенному всякой коми-
ческой окраски, даже речь Чичикова. Например:
«...вы занимаетесь историею Человечества вообще.
Но посудите, генерал, русский генерал, поймет ли он
важность, пользу ваших исследований. Иное дело исто-
рия о генералах. Это ему понятно, он сам генерал».
Необходимо указать и на своеобразные, но также
шаблонные, приемы сатирического словоупотребления,
связанные с определенными формами публицистиче-
ского стиля. Например: «Конечно, Леницын был из
подленьких. Но какое дело подчиненному до того, под-
лец ли, или нет его начальник, и какое начальник имеет
право на полное душевное уважение своих подчинен-
ных».
«По природному своему телячьему свойству, Тентет-
ников поддался их влиянию».
«В сущности ему все равно было что ни писать, по-
тому что до сих пор он занимался только обдумыванием
сочинения».
Вместе с тем широкое использование книжно-публи-
цистического стиля в отдельных случаях смыкается с та-
кой же книжною риторико-дидактической манерой по-
вествования. Вот пример сентиментально-декламационно-
го стиля изображения детских воспоминаний: «И вдруг
забилось у него сердце. И ему живо представились все
подробности его счастливого детства; и он увидел себя
малюткою, которого вел за руку отец, гуляя по полям;
и он увидел мать, выходящую навстречу отцу, возвра-
щающемуся с усталым малюткой, и он почувствовал
себя на руках матери, которая прижимала его к сердцу
и спрашивала с нежностью, не слишком ли он устал;
и невольные слезы брызнули из глаз Андрея Ивановича,
и он упрекнул себя в том, что в первый раз только вспом-
нил о родителях, что до сих пор не поклонился даже их
праху».
При сохранении некоторых гоголевских внешних,
прежде всего — синтаксических приемов организации по-
вествования (например, цепи присоединительных соче-
таний предложений с повторными союзами и анафориче-
скими началами) —весь этот отрывок поражает одно-
образием лексики и ее банально-чувствительным под-
бором.
418
Характерны также идейно-направленные, с дидак-
тико-иронической экспрессией, но маловыразительные и
лишенные живых типических красок бытового многооб-
разия разговоры крестьян —в «прибавках» Н. Ф. Ястр-
жембского:
«Барин приказал угостить мужиков водкою и за-
кускою.
Пошла попойка и разговоры.
— А что, дядя Пахом, барин-то говорит красно?
— Ну, известно, что красно, ведь их только тому
и учат.
— А что бишь, он говорил; я стоял подальше и не
расслышал?
— Ну, а бог его ведает, что он баял. Что-то похоже
на то, как отец Афанасий в церкви бает. Вестимо книжки:
это не по нам».
Таким образом, все разговоры мужиков за угощением
являются лишь однотонной иллюстрацией той мысли,
что «мужики слушали [речь барина] и ничего не пони-
мали».
Что же касается разговоров баб, то и их направлен-
ность прямолинейна:
«Бабы тоже рассуждали: „Ишь какой он добренький,
и в ноги-то кланяться не дает. А уж молодец какой!
И все говорит: полюбите меня, полюбите, да и посмат-
ривает на девок. Ишь ты какой, весь в покойника отца"».
Ср. в повествовательном тексте Н. Ф. Ястржембского:
«Деревенские красавицы, к которым Андрей Иванович
обращался в речи своей с словами: полюбите меня, по-
любили и страшно надоели».
Сюда же относится еще одно место в самом начале
первой главы «Новых отрывков и вариантов» с ярко
выраженным полонизмом в синтаксической конструкции:
«Что же делалось потом до самого ужина, право, уже
и сказать трудно. Кажется, просто ничего не делалось.
Разве что подержалось (sic!) на коленях смазливую
Палашку или Авдотку, приходивших в спальню для
уборки комнаты».
Таким образом, идеологическая трансформация го-
голевского текста производилась Н. Ф. Ястржембским,
кроме исключения неподходящих образов и речевых от-
резков, посредством насыщения как повествования, так
и речей действующих лиц, главным образом книжными,
419
публицистически закрепленными за необходимым кругом
либеральных идей, стилистически однотипными фразами
и выражениями. Лишь разговоры крестьян, совершенно
единичные в тексте новых отрывков, строятся путем ими-
тации деревенски-народпого слога, но с однотонной экс-
прессией. Экспрессивно-стилистическое многообразие го-
голевского стиля всеми этими переделками и доделками
заметно уменьшалось, а газетно-журнальная публици-
стическая струя усиливалась.
Однако Н. Ф. Ястржембский не ограничился одной
примесью публицистических, отвлеченно-обличительных
элементов. Он пытался в отдельных местах вплести
в ткань гоголевского повествования комические сцены,
юмористические образы и экспрессивно-разговорные вы-
ражения и тем самым усилить правдоподобие своих
публицистических и дидактических вставок.
Вот — несколько примеров:
«Заниматься книгою не надоело, и она одна спасала
молодого человека от отчаяния —и он сосал ее по целым
дням»х. «Хозяин улепетывал все с необыкновенною ско-
ростью, так что масло в два ручья текло у него по под-
бородку, а ему некогда было обтереться салфеткою, пот-
чивал Чичикова, не разговаривая, потому что рот был
весь набит донельзя, а только подсовывая то то, то
другое, и издавая какие-то невнятные звуки».
«Заснул наш Чичиков уже на каком-то индюке.
И грезился ему во сне Петр Петрович Петух, откорм-
ленным, огромным индюком, без перьев. И видел он, как
повар поймал индюка, посадил живого на вертел и стал
припекать, обливая горячим маслом. И странное дело,
показалось еще, что Петр Петрович, в виде индюка, сидя
на вертеле, приговаривал беспрестанно: «Поджарь, под-
жарь, припеки хорошенько!..» Всю ночь грезились эти
бредни Павлу Ивановичу». Таким образом, в подделке
Н. Ф. Ястржембского повествовательно-юмористическая
1 Впрочем, в примечании к своему письму, помещенному в
«Голосе» (1873, № 233, За и против. К вопросу о подделке «Мерт-
вых душ» Гоголя) Н. Ф. Ястржембский писал: «В напечатанном
«Русскою стариною» тексте одна фраза искажена и лишена смысла.
У меня сказано: «Заниматься книгою надоело. Одна только трубка
не надоела, и он (Тентетников) сосал ее по целым дням». В тексте
напечатано: «Заниматься книгою не надоело, и он сосал ее по це-
лым дням». Фраза без смысла, потому что никто не сосет книгу».
42U
струя должна была умерять и нейтрализовать отвле-
ченно-публицистическую.
Может быть, история с подделкой «новых отрывков и
вариантов» второго тома «Мертвых душ» и не очень
значительна, по опа дает в высшей степени интересный
историко-литературный и стилистический материал для
обсуждения и освещения важных вопросов науки о языке
художественной литературы, особенно вопроса о связи
стилистических изменений литературного произведения
с идейно-смысловыми, а также вопроса о способах во-
площения и выражения в стилевой структуре словесно-
художественного сочинения тех признаков и качеств, ко-
торые связываются с основными направлениями разви-
тия литературы, например, с критическим реализмом.
VI
РЕАЛПЗМ II РАЗВИТИЕ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА
1
Вопрос о связи литературного реализма с развитием
литературного языка и языка художественной литературы
до сих пор еще не был предметом пристального и всесто-
роннего исследования. Между тем этот вопрос далеко не
безразличен для выяснения общих исторических условий и
времени формирования реализма как метода словесно-
художественного творчества, а также его национальной
специфики и стилистических своеобразий его отношения
к языку как материалу и «первоэлементу» художествен-
ной литературы. Если даже оставить в стороне представ-
ление о реализме как об извечной, чуждой специфических
народных и исторических примет категории искусства,
противостоящей антиреализму или ирреализму (а иногда
идеализму), то все же проблема реализма в литературе,
изучаемая в исторической плоскости и исторической пер-
спективе, окажется окутанной скоплением противоречий
и притом прежде всего теоретического, а затем историче-
ского или хронологического и стилистического харак-
тера. Так, многим историкам и филологам представ-
ляется несомненным, что народно-словесному творчеству,
во всяком случае тем его жанрам, которые к эпохе обра-
зования народностей освободились от мифотворческих
тенденций и не восприняли религиозно-книжных влия-
ний, реализм присущ как непосредственная жизненная
сила, как субстанциональное начало народной историче-
ской правды и художественной правдивости. Отсюда
возникает желание, например, найти реализм в тех про-
изведениях древнерусской литературы, которые носят
отпечаток влияния народной поэзии (в «Слове о полку
422
Игорево», в летописных фольклорных легендах, в пове-
сти о разорении Рязани Батыем, в «Задонщине», в ска-
зании о Мамаевом побоище и т. п.).
В. Адрианова-Перетц в своей проблемной статье
«Древнерусская литература и фольклор» говорит о борьбе
в древнерусской литературе двух мировоззрений ~ рели-
гиозно-христианского и народно-трудового, фольклор-
ного в таком духе: «Вопрос о реалистическом и антиреа-
листическом, идеалистическом начале в художественном
стиле древнерусской литературы неразрывно связан
именно с этой борьбой двух мировоззрений. В своем
стремлении к реалистическому писатели приближались
к лучшей части устного эпоса, и тогда, например в рас-
сказе о Куликовской битве, события изображались в пол-
ном соответствии с действительным их ходом (ср. За-
донщину и сказание о Мамаевом побоище, где победу
приносит выступление засадного полка); когда же берет
верх идеалистическая «философия истории», продикто-
ванная религией, автор переходит на язык антиреалисти-
ческой церковной фантастики, и вместо засадного полка
на поле битвы выходят «святых мученик полки», во главе
с «воинами» Георгием, Борисом и Глебом, Дмитрием
Солунским и „архистратигом Михаилом"» Г
Так же прямолинейно прежде приписывал или пред-
писывал реализм некоторым видам древнерусского на-
родного творчества Д. Лихачев. В своей работе «Изобра-
жение людей в летописи XII—XIII веков», характеризуя
летописца как средневекового «службиста», который
«пишет то, что ему следует писать по своему служеб-
ному положению», Д. Лихачев так определяет систему
русского средневекового литературно-художественного
воспроизведения и изображения персонажа. Созданный
феодальным классом светский идеал феодала был вполне
оригинален, точно разработан и по-своему впечатляющ.
Рядом с ним заметны следы и другого идеала человече-
ского поведения —идеала народного, подлинно гумани-
стического и подлинно самобытного. Однако подчинен-
ная феодалам литература с трудом позволяет судить
о нем. Изыскания фольклористов позволяют, очевидно,
ближе подойти к этому идеалу.
ч «Труды Отдела древнерусской литературы», т. VII, Изд. АН
СССР, М.—Л. 1949, стр. 6.
423
Так обстоит дело с системой, которую применяют
к изображению людей авторы средневековья; если же
приглядеться к исключениям из этой системы, то в них
всюду заметно стихийное проникновение в литературу
элементов реалистичности, точное следование натуре,
действительности, появление в литературе любовно на-
блюденного и любовно переданного. Система — идеали-
стична, исключения из нее — стихийно материалистичны.
Последним принадлежит будущее. Жизнь побеждает
схему, элементы реалистичности — идеалистическую
систему.
В этом разрушении феодальных представлений о лич-
ности только как об элементе феодальных отношений
огромная роль принадлежит «народному творчеству»...
Новое отношение к человеческой личности станет осозна-
ваться самими авторами только с конца XVI — начала
XVII веков. Это время, когда в литературе появляются
первые изображения элементов человеческого харак-
тера L
«В течение пяти столетий в русской литературе идет
борьба проникающих в нее снизу реалистических эле-
ментов с идеалистической литературной системой. Си-
стема нарушается и вновь восстанавливается на новой
основе. Неподвижная и инертная по самой своей сути,
она тем не менее искусственно поддерживается извне —
официальной идеологией класса феодалов и его потреб-
ностями, различными на различных этапах исторического
развития. Однако реалистические элементы проникают
в литературу все интенсивнее, пока не начинают осозна-
ваться как явления нового и положительного характера
и пока они не находят себе уже в XVII веке своего на-
стоящего проводника — демократические слои населе-
ния»1 2. Таким образом, Д. Лихачев предполагает, что
некое мистическое начало, именуемое им «элементами
реализма» или «реалистическими элементами», неиз-
менно присуще словесному творчеству народа в силу его
внутренней природы.
1 См. об этом Д. Лихачев, Проблема характера в истори-
ческих произведениях начала XVII века, «Труды Отдела древне-
русской литературы», т. VIII, 1951.
2 «Труды Отдела древнерусской литературы», т. X, 1954.
стр. 42—43.
424
Позднее Д. Лихачев стремился освободиться от сме-
шения понятий реализма с материализмом, антиреализма
с идеализмом. Самое отношение к развитию «реалистич-
ности», «реалистических элементов» и «реалистических
тенденций», «реализма» принимает в его работах не-
сколько более исторический характер. Однако и в этих
работах тяготение к «реалистичности», «реалистические
тенденции» и «реалистические элементы» в древнерус-
ских произведениях непременно появляются в связи
с указаниями на проникновение мотивов и стилистиче-
ских форм народной поэзии в письменную литературу.
Этот общий принцип кладется даже в основу вообще
изучения процессов формирования письменной литера-
туры на базе устной народной поэзии. Вопрос о «реали-
стических тенденциях» и «реалистических элементах»
фольклора обычно выдвигается при изображении процес-
сов образования письменной литературы на фольклорной
баз-е, а этот путь от фольклора к письменной литературе
прошли в Советском Союзе более сорока народов, кото-
рые до революции или вовсе не имели письменности, или
имели ее в зачаточных неразвитых формах. М. Богда-
нова в статье «От фольклора к письменной литературе
(из наблюдений над киргизской акынской поэзией)»
утверждает, что киргизская устная и акынская поэзия,
развивая реалистические тенденции, стала той художест-
венно-поэтической основой, на которой выросла письмен-
ная литература киргизского народа.
«Киргизская письменная художественная литература
получает свое подлинное развитие лишь после Великой
Октябрьской революции, и формируется она уже на
основе народной, богатой многовековыми художественно-
поэтическими традициями устной и акынской поэзии,
в которой сложились свои реалистические традиции и
нашли воплощение народно-освободительные идеи, жив-
шие в народе и получившие особую возможность раз-
виваться в годы русской революции 1905—1907 годов
и в период восстания 1916 года... Рост реалистических
тенденций в творчестве народных певцов и отражает
развитие той высокой для фольклора стадии, которая
приближает его к литературе» Ч
1 «Вопросы литературы», 1957, № 1, стр. 147; ср. также
стр. 152.
425
Вообще же в настоящее время у нас, например, вся
история русского народно-поэтического творчества пред-
ставляется как последовательное и прямолинейное дви-
жение его по пути реализма или на пути к реализму.
Достаточно отметить хотя бы некоторые вехи этого пути,
пользуясь указаниями авторов обобщающего труда «Рус-
ское народное поэтическое творчество», изданного Ин-
ститутом русской литературы (Пушкинским домом) Ака-
демии наук СССР.
Излагая историю русского народного поэтического
творчества, в частности историю его первых этапов,
наши фольклористы придают особенное значение раз-
витию и усилению в нем признаков художественности,
а затем расширению форм и способов отражения и во-
площения живой современной действительности. Именно
эта последняя черта и рассматривается в работах по ис-
тории русского фольклора как свидетельство роста реа-
листических тенденций или реалистических элементов
в народно-поэтическом творчестве. Так, в былевом эпосе
XIII—XV веков «заметно общее движение... к большей
историчности содержания, причем... оно сказывалось
главным образом в широких обобщениях, предметом
которых являлись исторические судьбы народа. Этот
процесс характеризовался и другой тенденцией — стрем-
лением к исторической конкретности изображения. И одна
и другая тенденция сказывалась на былевом эпосе.
Но с особой силой эти тенденции проявились в создании
нового эпического жанра — исторической песни»1.
В коллективном академическом труде, посвященном
русскому народному поэтическому творчеству X — на-
чала XVIII века об «исключительном реализме» народ-
ной словесности речь раньше всего заходит примени-
тельно к жанру сказки XIII—XV веков: «Былина и
сказка различными художественными методами отра-
жают народную жизнь. Действительность отражается
в сказке через поэтический вымысел. В прямое соответ-
ствие фабулы сказки реальной жизни никто не верит,
И хотя человеческие отношения во многих сказках изоб-
ражаются с исключительным реализмом, самую фабулу
1 «Русское народное поэтическое творчество», т. I. Очерки по
истории русского народного поэтического творчества X — начала
XVIII вв., Изд. АН СССР, М.-Л. 1953, стр. 283.
426
сказки и героев ее народ всегда считает вымыслом»1.
Вообще жизнь сказки XIII—XV веков характеризуется
«тяготением к историчности содержания и к социальной
тематике»1 2, в чем и находятся признаки «исключитель-
ного реализма».
Характеризуя общие тенденции развития русского
народно-поэтического творчества в XIII—XV веках,
М. Скрипиль писал: «Движение этих эпических жанров
в направлении возрастающей историчности и конкрет-
ности ее выражения, в направлении все более глубо-
кого осознания классовых противоречий и поисков при-
чин, создающих эти противоречия, представляет собой
основную линию развития не только этих жанров, но
и всей народной поэзии XIII—XV веков в целом, так как
эпос занимал в ней основное место. Народная поэзия
этого времени действительно являлась выразительницей
крепнущего национального сознания русского народа»3.
В современном изображении развития народно-поэти-
ческого творчества XVI века («периода укрепления цент-
рализованного русского государства») «реалистичность»
выступает гораздо более широко, ярко и определенно.
«В XVI веке русский эпос ищет путей обновления
и находит их в еще более точном и конкретном изобра-
жении действительности, чем это характеризовало его
жизнь в предшествующий период. Исподволь изменяется
в эту эпоху и художественный метод изображения эпи-
ческого героя. В соответствии с большой историчностью
содержания эпических произведений и художественный
метод их характеризуется усилением реалистичности
в трактовке художественных образов. В большей мере
это относится к исторической песне, в меньшей, но все
же значительной,— к былевому эпосу»4.
В заключение М. Скрипиль и Б. Путилов приходят
к следующим выводам:
«Народная поэзия этого времени еще теснее, чем
предыдущий период, сближалась с конкретной историче-
ской действительностью... Историческая песня становится
преобладающим жанром эпоса XVI века именно потому,
что в ней находило удовлетворение достигшее более вы-
1 «Русское народное поэтическое творчество», т. I, стр. 290.
2 Там же, стр. 293.
3 Т а м же, стр. 300.•
4 Т а м же, стр. 345.
427
сокого уровня народное историческое сознание. Художе-
ственный метод эпических жанров, которые и в этот пери-
од продолжают оставаться основными жанрами народной
поэзии, претерпевает глубокие изменения. В художествен-
ном методе не только исторической песни, но и былевой
поэзии и сказки обнаруживается явное стремление к
большей, чем в предшествующий период, реалистичности
повествования и трактовки художественных образов» \
С XVII века реалистическое изображение действи-
тельности— согласно принятой характеристике народно-
поэтического творчества — становится основным призна-
ком русской народной поэзии.
«Военно-историческое песенное творчество середины
XVII столетия,—пишут В. Адрианова-Перетц и Б. Пу-
тилов,— прочно связано... с конкретными событиями
эпохи и сохранило немало имен деятелей того времени,
географические названия, отдельные характерные под-
робности и черты событий и военного быта. Отражая
конкретные факты военной истории, сочетая реалистиче-
ское изображение действительности и свободный поэти-
ческий вымысел, песни всегда выявляют в описываемых
событиях их общее содержание, ставят и в какой-то мере
решают на конкретном материале общие вопросы, инте-
ресующие народные массы»1 2.
В былине XVII века, по сравнению с позднейшей,
больше реалистических моментов в описаниях, которые
со временем становятся изображением не столько реаль-
ного, сколько желаемого высшего качества3.
Таким образом, согласно этому представлению о пу-
тях развития русского народно-поэтического творчества,
его форм и принципов отражения в нем действитель-
ности, реализм как метод художественного изображения
выкристаллизовывается в истории народной поэзии го-
раздо раньше, чем в художественной письменной лите-
ратуре. Любопытно, что соответственно этой концепции
русский поэтический фольклор приобретает яркий нацио-
нальный колорит уже в XVI—XVII веках, то есть еще
до образования русской нации. Об этом говорится сле-
дующее: «Русский исторический фольклор XVI—XVII ве-
1 «Русское народное поэтическое творчество», т. I, стр. 346—347.
2 Т а м же, стр. 387.
3 Т а м же, стр. 427.
428
ков в своей лучшей части — замечательное явление рус-
ской народной поэзии, явление глубоко национальное.
Идейно-художественная значимость этого фольклора вы-
ражается не только в том, что в основе его лежит рус-
ская действительность, реальная жизнь, классовая борь-
ба, определяющие его содержание и формы, но и в том,
что в исторических песнях, преданиях, сказках, посло-
вицах и поговорках проявились некоторые существенные
черты русского национального характера»1.
Необходимо в этой же связи отметить еще одно об-
стоятельство, подчеркиваемое некоторыми нашими фоль-
клористами.
Неразрывная связь всего живого облика былины в за-
писи XVII века с живым языком именно этого вре-
мени— факт, делающий эти записи особо ценными.
Вместе с тем богатая их лексика «говорит о том, что
фольклор в XVII веке охватывал и выражал интересы
более широких социальных групп общества, чем в по-
следующие эпохи... что, являясь в широком и полном
смысле слова народным, язык фольклора был передовым
языком своего времени, несмотря на традиционность
произведений, и определял пути сложения русского лите-
ратурного языка» 1 2. Очевидно, имеется в виду процесс об-
разования русского национального литературного языка.
Об этом В. Адрианова-Перетц писала так: «Рост значения
устнопоэтической речи в развитии национального литера-
турного языка в XVII веке был одним из проявлений ос-
вобождения человеческой мысли от власти господствую-
щей религиозной идеологии. Народное поэтическое твор-
чество сыграло огромную положительную роль в ускоре-
нии этого процесса и вместе с тем в усилении реалисти-
ческих тенденций русской литературы»3. Указание на
связь возникновения или развития реализма с процессом
освобождения человеческой мысли от власти господствую-
щей религиозной идеологии стало одним из основных тези-
сов современной теории развития реализма в искусстве.
О народно-поэтическом творчестве петровского вре-
мени (начало XVIII века) читаем: «Яркие художествен-
1 «Русское народное поэтическое творчество», т. I, стр. 415.
2 А. П. Евгеньева, Язык былин в записях XVII века. ИАН
ОЛЯ, 1944, т. III, вып. 4, стр. 176. Ср. «Русское народное поэтиче-
ское творчество», т. I, стр. 427—428.
3 «Русское народное поэтическое творчество», т. I, стр. 538.
429
ные обобщения, издавна свойственные русскому народ-
ному творчеству, углубляются в произведениях, создан-
ных по следам крупнейших событий эпохи, конкретнее
характеризуют исторический процесс, и в этом углубле-
нии обобщений заключается движение народного твор-
чества к реализму. Конкретности изображения способст-
вует, между прочим, большое количество реалий нового
быта... Самая лексика народной поэзии значительно обо-
гащается благодаря этому стремлению перенести в худо-
жественный рассказ подробности нового быта — воен-
ного, экономического, административного» х.
Само собой разумеется, что при описании дальнейших
этапов развития разных жанров народной словесности
в XVIII веке и в первой половине XIX века еще более
охотно и еще более интенсивно подчеркивается все про-
должающееся усиление в ней «реалистичности», «реали-
стических элементов» и «реалистических тенденций»1 2.
Однако нигде прямо не говорится, когда и как про-
исходит в русском фольклоре превращение или качест-
венное преобразование этих «реалистических тенденций»
или «реалистичности» в реализм в собственном смысле
и каковы специфические качества или особенности этого
фольклорного или народно-поэтического реализма —
в его отношении к реализму письменной художественной
литературы.
Легко заметить, что так называемое «движение на-
родно-поэтического творчества к реализму» определяется
степенью и характером охвата «действительности». Та-
ким образом, здесь в самое понятие реализма вклады-
ваются очень широкие и стилистически неопределенные
признаки «отражения действительности» то в более или
менее условных, то в конкретных формах, но всегда
с помощью приемов народного словесного искусства.
Между тем словесное искусство, ориентирующееся на дей-
ствительность, может быть очень разнородным по своему
методу, по своим внутренним качествам, по своей поэтике
и стилистике. Н. Конрад предложил для такого типа
литературных направлений и произведений термин «ли-
1 «Русское народное поэтическое творчество», т. I, стр. 527.
2 «Русское народное поэтическое творчество», т. II, кн. I.
Очерки по истории русского народного поэтического творчества се-
редины XVIII — первой половины XIX в., Изд. АН СССР, 1955,
стр. 128, 227 и др.
430
тература действительности». Но этот термин мало при-
меним к продуктам устнопоэтического творчества. Вместе
с тем, едва ли можно выводить реалистическое искусство,
например Пушкина в «Пиковой даме» или Толстого
в «Войне и мире» и «Анне Карениной», из приемов и
форм народной словесности. Следовательно, необходимо
точное определение содержания терминов «реалистиче-
ские тенденции», «реалистические элементы», «реали-
стичность» и «реализм», когда они применяются к произ-
ведениям устной народной словесности XIII—XIX веков.
Однако эта неопределенность, неясность понимания
сущности «реалистичности», «реалистических элемен-
тов» или «реалистических тенденций» в разных формах
и жанрах фольклора не мешает историкам русской ли-
тературы связывать «становление» и «рост реализма»
в творчестве русских писателей XIX и XX веков с обра-
щением их к источникам народной поэзии. Такие связую-
щие нити отыскиваются в литературной деятельности
Пушкина, Гоголя, даже Лермонтова, а позднее редко
по отношению к какому-нибудь крупному писателю се-
редины и второй половины XIX века (кроме, быть может,
Достоевского — до каторги) не ставился вопрос о «реа-
листической» живительности интереса к фольклору.
Фольклор, народная словесность считается для всех
эпох развития литературы могучим источником распро-
странения или рассадником «реалистических тенденций»,
а иногда и прямо реализма. К этому резервуару или
«кладезю» реализма припадают все писатели, истощен-
ные антиреалистическими увлечениями.
С влиянием фольклора и «народно-речевой стихии»,
просторечия связывается, например, становление реали-
стического метода А. Н. Толстого. По словам Л. Поляк,
в «Сорочьих сказках» закладывалась основа будущего
реалистического стиля писателя, начиналась борьба
с мнимой «поэтичностью». «Обращение Алексея Тол-
стого к фольклору было не только органично, но оно
сыграло, несомненно, большую роль в укреплении пи-
сателя на позициях реалистического искусства, в форми-
ровании его художественного метода» 1 (ср. те же рас-
1 Л. М. Поляк, Роль фольклора в становлении реалистиче-
ского метода А. Н. Толстого (У источников творчества). ИАН ОЛЯ,
1956, т. XV, вып. 4, стр. 359, 362, 364.
431
суждения в отношении А. Чапыгина, В. Шишкова и дру-
гих писателей советской эпохи ’).
Таким образом, вопрос о «реалистических тенден-
циях» в истории жанров народной поэзии, о приложи-
мости понятия «реализм» к фольклору разных эпох и о
содержании этого понятия в стилистике и поэтике народ-
ного поэтического творчества, а также вопрос о фольк-
лоре как источнике реализма в литературе XIX и
XX веков — нуждается в глубоких конкретно-историче-
ских литературоведческих и лингвистических исследова-
ниях. В настоящее же время происходит мнимое объяс-
нение одного неизвестного посредством другого, тоже
неизвестного.
2.
Есть и другой стилистический предрассудок, доволь-
но крепко припаянный к рассуждениям о русском ли-
тературном реализме. Этот предрассудок в обобщенной
форме сводится к убеждению, что основные признаки и
характерные свойства реализма заключены в народно-
разговорной речи. Эта речь реалистична по своей при-
роде, а потому и в тех произведениях, литературы, в
которых основным формирующим фактором является
народно-разговорная речь или ее элементы, реализм
всегда бывает налицо как «вечный спутник» или как
метафизическое «субстанциональное начало» живой на-
родной речи. С этой точки зрения, например, реалисти-
ческими признаются те части древнерусской летописи,
которые в народно-сказовой форме повествуют о проис-
шествиях или фиксируют случившиеся события.
Так, И. Еремин выделяет в Киевской летописи как
памятнике литературы два стиля — документально-ска-
1 Между тем еще Белинский предостерегал от смешения реа-
листических тенденций развития литературы с воздействием на
нее народного творчества. Он считал, что создание народной реа-
листической литературы не должно означать механического возрож-
дения традиционных форм народного творчества. В частности, он
решительно отрицал возможность современного поэтического твор-
чества в духе древнего героического эпоса, отстаивая историче-
скую точку зрения. «Эпопея «нашего времени,— писал он,— Исто-
рический роман» (В. Г. Белинский, Поли. собр. соч., т. II, СПб.
1900, стр. 54)». См. Б. Богомолов, В. Г. Белинский о народном
творчестве. Сб. «Наследие Белинского», М 1952, стр. 158.
432
зовый и агиографический. Стиль документально-сказо-
вый характерен для погодных записей и летописных рас-
сказов. «Летописный рассказ в не меньшей степени до-
кументален, чем погодная запись. Он — прямое отраже-
ние реальной действительности... Как и всякий рассказ
очевидца, он нередко отмечен печатью той непосредст-
венности, которая так характерна для такого рассказа,
не претендующего на литературность и преследующего
цели простой информации. Своими отчетливыми «сказо-
выми» интонациями он порою производит впечатление
устного рассказа, только слегка окниженного в процессе
записи»1. «Той же документальностью характеризуется
и встречающийся в летописных рассказах диалог; он, как
правило, так же деловит, конкретен и фактичен, как и
речь монологическая»1 2. «Документален, наконец, самый
язык летописи — ее удивительный словарь, весь насы-
щенный терминами своего времени, ходячими в феодаль-
ной среде XII века словами и оборотами речи»3. «Не-
которые из этих слов и словосочетаний образны, но об-
разность эта не литературного происхождения: она идет
непосредственно от речевой практики XII века, от жи-
вого языка, обычного в княжеско-дружинной среде и
хорошо известного летописцу»4.
Из этого анализа делается такой вывод: «...и погод-
ная запись и летописный рассказ объединяются един-
ством одного и того же метода отражения исторической
действительности. Думаю, что метод этот — он нуж-
дается в историко-литературном определении — есть все
основания называть реализмом. Разумеется, этот реа-
лизм нельзя отождествлять с реализмом литературы
нового времени. Такое отождествление было бы и антиис-
торично, и искажало бы действительное положение ве-
щей. О реализме Киевской летописи в привычном для
нас понимании этого термина в смысле метода, харак-
терного для литературы XIX—XX веков, не может быть,
конечно, и речи. Реализм летописца — средневекового
типа; он стоит еще на той грани, которая едва отделяет
литературу от документа; фиксируя во временной после-
1 И. П. Еремин, Киевская летопись как памятник литера-
туры. «Труды Отдела древнерусской литературы», т. VII, стр. 72—73.
2 Т а м же, стр. 77.
3 Т а м же, стр. 79.
4 Т а м же, стр. 80.
15 В. В. Виноградов
433
довательпости отдельные факты, с протокольной точ-
ностью иногда воспроизводя внешнюю канву событий,
реализм летописца не обнаруживает признаков творче-
ского переосмысления этих событий, не может возвысить-
ся до каких-либо обобщений, явно предпочитая идти по
линии эмпирической регистрации исторических событий,
иногда со своими оценками и морально-политическими
комментариями»х.
Анализ агиографического книжнославянского стиля
дает И. Еремину «дополнительный материал для харак-
теристики качественного своеобразия средневекового ре-
ализма». «Находясь еще в скованном и связанном виде,
в стадии «документального» отражения действительно-
сти, чисто эмпирической фиксации отдельных фактов,
средневековый реализм становился в литературе не
только рядом с отражениями в ней устноэпических
форм выражения, но он наталкивался и на сопротивле-
ние чрезвычайно сильных в ней в эпоху феодализма си-
стем художественного отражения действительности —
антиреалистических по своей природе; не имея еще воз-
можности в силу своей ограниченности заменить собою
эти системы, он становился рядом с ними. Значение этого
факта трудно переоценить: прорываясь на том или ином
участке, он постепенно расшатывал эти системы в лите-
ратуре, так же как в живописи отдельные «реалии» под-
рывали, расшатывали традиционное для средневе-
ковья антиреалистическое понимание формы и простран-
ства».
По мнению И. Еремина, в русской литературе «про-
цесс этот уже начался очень рано,— в XII воке во всяком
случае...»1 2. Таким образом, здесь принцип «документа-
лизма», изложение, опирающееся на народно-разговор-
ную и деловую речь,— считаются структурной базой
средневекового реализма3.
1 И. П. Еремин, Киевская летопись как памятник литера-
туры, там же, т. VII, стр. 81.
2 Т а м же, стр. 96—97.
3 Впрочем, от своего утверждения о наличии в древнерусской
литературе реалистического стиля, реалистического метода воспро-
изведения действительности И. П. Еремин в самое последнее время
отказался — см. его статью «О художественной специфике древне-
русской литературы», «Русская литература», Л. 1958, № 1,
стр. 75 -82.
434
В сущности, объединением теории фольклорного «реа-
лизма» и народно-разговорного «реализма» является
точка зрения М. Сперанского на развитие русской пове-
сти в XVII веке.
«Повести о бражнике, об Аггее, о молодце, коне и
сабле, «о молодце и девице», наконец, «Богатырское сло-
во» и «Горе-Злочастие» — все эти, как и некоторые
другие повести,— писал М. Сперанский,— объединяются
между собою (при различной, разумеется, степени та-
лантливости и различии форм, в зависимости от источ-
ников) свободным отношением к книжной традиции,
близостью к устной словесности, своим стилем, сбли-
жающим их с этой словесностью и живой речью, а так-
же своим более отчетливо выраженным чувством окру-
жающей действительности — реализмом» Г В свободном
отношении к книжнославянскому источнику, в народно-
разговорных чертах стиля и языка, в «проблесках реа-
лизма» М. Сперанский и видит «довольно отчетливо
складывающуюся поэтику новой русской повести, исто-
рия которой протекает уже в XVIII веке» 1 2.
Если по отношению к древнерусской художественной
литературе в понятии «реализма» иногда объединяются
изобразительные средства разговорно-бытовой речи
и народной поэзии, то применительно к русской худо-
жественной литературе XIX и XX веков значения слова
«реализм» нередко раздваиваются, и реализм то пони-
мается в стилистическом, то в чисто идеологическом
плане. Как многозначно и неопределенно употребление
термина «реализм»,— можно судить по языку статьи
Л. Поляк о «Железном потоке» А. Серафимовича.
Здесь читаем: «В некоторых случаях Серафимович на-
меренно прибегал к стилевым контрастам для передачи
всего своеобразия эпохи, причудливо переплетая «высо-
кое» с «низким», романтический пафос с грубым и суро-
вым реализмом. Так чередуются в эпопее напряженные
драматические сцены, полные романтической патетики,
высокого трагизма, с бытовым, насыщенным националь-
ным колоритом, добродушным юмором... Еще резче и
последовательнее даны эти антитезы в языке эпопеи. Вы-
1 М. Н. Сперанский, Эволюция русской повести в XVII в.,
«Труды Отдела древнерусской литературы», т. I, Изд. АН СССР,
М.—Л. 1934, стр. 150.
2 Т а м же, стр. 161.
15
435
сокая, книжная романтико-патетическая лексика, декла-
мационная интонация, торжественный ораторский син-
таксис контрастно сочетаются с народным просторечием,
пересыпанным вульгаризмами, со сниженно-бытовой раз-
говорной струей»1. Из контекста ясно, какой смысл здесь
вкладывается в слово «реализм»: это — бытовой колорит,
сниженно-бытовая «разговорная струя». «Реализм» про-
тивопоставляется «романтической патетике, книжнопа-
тетической струе». Но через четыре страницы уже высту-
пает другое, идеологическое понимание «реализма».
«„Железный поток* —это произведение глубоко реа-
листическое не потому, что оно построено на докумен-
тальном материале, и даже не потому, что оно передает
все оттенки местного колорита, дыхание края и его на-
рода; реализм «Железного потока» — в обобщении об-
раза этого народа, в раскрытии смысла исторического
события, перспективы революционной борьбы. «Желез-
ный поток» — это произведение одновременно револю-
ционно-романтическое, потому что оно воплощает герои-
ческие дела и подвиги советского народа, разбуженного
великой революцией, охваченного патриотическим поры-
вом, устремленность народа к прекрасному будущему»1 2.
Утверждаемая связь реализма с народной речью
иногда приводила к отождествлению или односторонне-
му сближению понятий реализма и народности литера-
туры. В. Адрианова-Перетц в работе «Историческая ли-
тература XI—начала XV века и народная поэзия» пи-
сала: «Понятие «народность древнерусской литературы»
определялось всем ходом исторического развития и на
каждом этапе истории феодального строя имело свои
характерные признаки. В это понятие прежде всего вхо-
дило умение писателя уловить то новое в исторической
действительности, что отвечало интересам трудового на-
рода, и выразить это в художественной форме, стремя-
щейся к реалистическому изображению, выразить сред-
ствами литературного языка, свободного от элементов,
чуждых строю общенародного языка»3.
1 Сб. «А. С. Серафимович, Исследования, воспоминания,
материалы, письма». Изд. АН СССР, М —Л. 1950, стр. 125.
2 Т а м же, стр. 129.
3 «Труды Отдела древнерусской литературы», т. VIII, 1951,
стр. 95. Ср. также Д. С. Лихаче в, Возникновение русской
литературы, Изд. АН СССР, М.—Л. 1952, стр. 215—216.
436
Связь реализма с народно-разговорной речью не мо-
жет и не должна быть представляема в отвлеченном, ан-
тиисторическом плане. Разговорность стиля «интерме-
дий» XVII и начала XVIII века не делает их явлением
реалистического искусства. Степень использования эле-
ментов народно-разговорной речи не пропорциональна
степени «реалистичности» произведения. Самые способы
художественного применения народно-разговорной речи
бывают очень разнообразны (ср., например, стиль Мель-
никова-Печерского, Лескова и Н. Успенского). Относя-
щиеся к простому слогу произведения литературы эпо-
хи классицизма XVIII века не являются продуктами
реалистического творчества.
Естественно, возникает вопрос, можно ли непосред-
ственно связывать реализм в литературе как художест-
венный метод отражения и воспроизведения действи-
тельности с теми или иными разновидностями народно-
поэтической и народно-разговорной речи; если же здесь
есть глубокие связи и соотношения, то спрашивается,
всегда ли они существовали, или же они развиваются в
строго определенную историческую эпоху. Кроме того,
если верно, что реалистическая литература (по крайней
мере у нас в России) с 30—40-х годов XIX века яв-
ляется основной движущей силой литературно-художест-
венного развития, то следует признать, что она развива-
ется не только на базе стилей народной словесности и
не только на основе народно-разговорной речи во всем
многообразии ее профессиональных социально-группо-
вых и территориальных разветвлений, а также жаргон-
ных отслоений, но она захватывает в сферу своего раз-
вития все богатство разновидностей литературно-книж-
ной и письменно-деловой речи. Достаточно указать на
различия стилей таких представителей реализма в рус-
ской литературе, как Гоголь, Герцен, Тургенев, Черны-
шевский (в его беллетристических произведениях),
Л. Толстой, Салтыков-Щедрин и Гл. Успенский. Поэто-
му нельзя обойти более общей проблемы: как реализм
связан с развитием литературного языка и языка худо--
жественной литературы в целом? Распространяются ли
принципы и приемы реалистического изображения жиз-
ни, присущие стилям фольклора и народно-разговорной
речи, на другие стили и разновидности литературного
языка и языка художественной литературы, или же на-
437
родно-разговорный язык как речевой концентрат всей
познавательной деятельности народа и его культуры, до-
стигши высокой степени исторического развития, лишь
в определенную эпоху становится пригодным для того,
чтобы стать средством и «первоэлементом» образования
и прогрессивного движения реалистической литературы?
Как исторически определить и охарактеризовать ту сту-
пень развития языка народа, когда он накапливает силы
для обслуживания таких сложных высших форм словесно-
го искусства, как литературно-реалистические произведе-
ния? Как самый язык художественной литературы,
развиваясь и оказывая воздействие на историю общелите-
ратурного языка, достигает той сложной системы стилисти-
ческих и характерологических форм и оттенков речевой
экспрессии, которая присуща реалистическому искусству?
Естественно, что самая постановка этих вопросов
предполагает историческое понимание реализма как ме-
тода словесно-художественного выражения и изображе-
ния, метода, связанного со строго определенными кон-
кретно-историческими течениями и явлениями литерату-
ры. Между тем широко распространены и иные теории
реализма в литературе, опирающиеся как на теоретический
фундамент на априорное убеждение в неразрывной связи
реализма с революционной идеологией, независимо от
конкретно-исторических изменений в системе форм лите-
ратурного выражения. Так как язык и идеология — вещи
разные и на одном и том же языке могут найти выраже-
ние противоположные взгляды и системы мировоззрения,
то при отношении к реализму только как к общественно-
идеологическому течению вопрос о связи реализма с
развитием литературного языка теряет смысл и целесо-
образность. В этом случае оказывается единственно
целесообразным рассмотрение вопроса о связи или соот-
носительности реалистических «стилей» с определенными
системами мировоззрений, общественных идеологий. Но
прежде чем уходить в эту новую область уже не фило-
логического, а историко-идеологического или обще-
ственно-исторического исследования, необходимо под-
робнее остановиться на этих социально-философских
теориях русского реализма и на их отношении к во-
просам реалистической стилистики и поэтики, к вопро-
сам художественно-словесного своеобразия реалистиче-
ского метода.
438
3
Наряду с теориями возникновения и развития реа-
лизма, так или иначе связывающими признаки реализ-
ма как художественного метода -со своеобразием на-
родно-разговорной речи и стилей фольклора, со специ-
фическими качествами стилистики народно-разговорного
или литературного языка, а также языка художествен-
ной литературы,— у нас имеют широкое распростране-
ние теории реализма как общественно-идеологического
течения. При этом вопросы специфики литературы как
сферы словесно-художественного творчества нередко со-
всем затушевываются или устраняются.
Так, среди многих наших литературоведов укорени-
лось убеждение, что становление реализма в России свя-
зано исключительно с возникновением и подъемом рево-
люционно-освободительного движения. Развитие рус-
ского реализма ставится в прямую и непосредственную
зависимость от развития революционной идеологии и
освободительного движения Г Отцом и основоположни-
ком реализма объявляется Радищев.
Литературоведы этого лагеря и близких к нему пози-
ций полагают, что русская литература в конце XVIII —
начале XIX века «подошла к реализму» и что это при-
ближение к реализму является заслугой «демократи-
ческого направления», в которое входили Радищев, его
ученики — Пнин, Попугаев, Борн и другие, а также На-
режный, Крылов. По словам У. Фохта, «данное направ-
ление ближе других подошло (а другие-то все-таки
«подходили». —В, В.) к реализму, в особенности в
творчестве Крылова». В последующий, декабристский,
период — в первой половине 20-х годов,— «налицо от-
четливое проявление реалистических тенденций, подгото-
вившее торжество реализма как ведущего направления
следующего периода развития нашей литературы (Пуш-
кин уже начала 20-х годов, Рылеев, особенно Грибое-
дов)». Затем в 30—40-е годы «в процессе изживания
субъективизма и отвлеченности романтизма окончатель-
но складывается... реализм. Преодолевая противоречия
1 См. статью «Реализм» в БСЭ, т. 36, стр. 161. Ср. критиче-
ские замечания Я. Эльсберга в статье «Некоторые проблемы исто-
рии русского реализма», ИАН ОЛЯ, т. XV, вып. 2, 1956,
стр. 102—103.
439
декабристских воззрений, Пушкин утверждает реалисти-
ческий метод в литературе. Рост народного движения и
осознание его исторического значения — основа победы
реализма в литературе...» Таким образом, «реализм в
литературе» понимается целиком как общественно-идео-
логическое направление. Особые художественно-стили-
стические формы выражения для него не специфичны.
Основная тенденция его эволюции — от Пушкина к Гер-
цену «заключается во все большем внимании писателей
к непосредственному изображению общественных отно-
шений, во все большей отчетливости их общественных
позиций, во все большем приближении к демократиче-
ской, а затем и революционно-демократической идеоло-
гии»1. В таком же духе характеризуется и позднейший
период развития критического реализма (с середины
50-х до начала 80-х годов); после этого начинаются
«подступы к социалистическому реализму».
При такой характеристике реализм теряет все черты
метода словесно-художественного изображения жизни и
должен быть отнесен к истории общественной мысли как
своеобразная реалистическая идеология.
Правда, в другой своей статье «Развитие реализма в
русской литературе XIX века» У. Фохт как будто вы-
ходит за пределы абстрактно-идеологической трактовки
реализма. Тут в описание реализма входит и отношение
к действительности, направленное на «установление
объективной ее сущности», и типические характеры в
типических обстоятельствах, и тяготение к определенным
жанрам, и специфическая характерология, и даже язык.
Так, о языке реалистических произведений говорится:
«В отношении языка реализму свойственна установка
на объективное называние явлений, лишенное тех эле-
ментов экспрессии, которые присущи, например, роман-
тизму»1 2. «Путешествие» Радищева не дотягивает до ре-
ализма потому, что в нем, между прочим, обнаружи-
вается «подчинение языка не столько задачам точного
называния явлений, сколько целям внушить читателям
авторские представления»3. Впрочем, «Евгению Онеги-
1 У. Р. Фохт, Опыт периодизации истории русской классиче-
ской литературы эпохи критического реализма (1790—1902), ИАН
ОЛЯ, т. XIII, вып. 6, 1954, стр. 514—516.
2 ИАН ОЛЯ, т. XVI, вып. I, 1957, стр. 20.
3 Т а м же, стр. 21.
440
ну» Пушкина «роль авторского «я» в романе», также,
естественно, связанная с желанием внушить читателям
авторские представления, не помешала стать «полноцен-
ным реалистическим произведением, с исключительной
глубиной вскрывшим сущность действительности, в нем
изображенной» \ Объясняется это тем, что для У* Фохта
все другие признаки реализма, кроме идеологического,
и в этой статье представляются как бы прибавочными,
необязательными, такими, какие могут обнаруживаться
и в нереалистических произведениях. Например, «реали-
стическая характерология» присуща «Слову о полку
Игореве» (образ Ярославны). Кроме того, хотя субъек-
тивизм и догматизм противопоказаны реализму, но при
идеологической прогрессивности, обеспечивающей хоро-
шее понимание действительности, можно говорить и о
«дидактическом реализме».
Вообще же реализм или реалистический метод чаще
всего связывается У. Фохтом только с идеологией писа-
теля.
«Идейная близость к декабристскому движению по-
зволила Грибоедову дать действительно реалистическое
произведение — гениальную комедию «Горе от ума"»1 2.
(А Рылееву почему не позволила? — 5. В.).
«Необходимость решить вопрос о сущности дворян-
ства, его лучших представителей, привела Пушкина к
открытию реалистического метода, единственно плодо-
творного в решении так поставленной проблемы»3.
Любое направление реализма демократично. Однако
реализм может быть критическим («реалистическое изоб-
ражение прежде всего уходящей, исторически обречен-
ной действительности») и социалистическим («реалисти-
ческое изображение не только уходящей, но и становя-
щейся действительности, действительности становящего-
ся или развивающегося социализма»).
Понятно, что реализм как общая категория искус-
ства связан с развитием общества, с развитием наций,
1 ИАН ОЛЯ, т. XVI, вып. I, стр. 23. Ср. также указание на
такое речевое средство психологического реализма, как «музыкаль-
ность речи Тургенева, рассчитанная на передачу оттенков и нюан-
сов душевных переживаний» (очевидно, независимая от их «объ-
ективного называния»), там же, стр. 27.
2 Т а м же, стр. 22.
з Та м же, стр. 23.
44!
со всем развитием передовой культуры, прогрессивных
социальных идей. Но реализм как художественный ме-
тод той или иной сферы искусства не может быть сведен
к одним «воззрениям».
Точно так же можно признать слишком оптимистич-
ным заявление, что «сравнительно легко установить ос-
новные линии развития реализма под углом зрения
идейных задач, которые решаются на различных этапах
его исторического развития» !.
Вообще говоря, те, кто смешивает реализм как на-
правление и метод художественного творчества с об-
щественной идеологией, часто впадают в безвыходные и
странные противоречия. Так, В. Днепров в статье
«В защиту реалистической эстетики» высказывает, с од-
ной стороны, как будто исторически обоснованные суж-
дения о реалистической литературной системе (о «ху-
дожественной системе реализма»). Он пишет: «Господ-
ствующий вкус обладает мощной силой эстетической
принудительности. Он покоряет даже своих противников,
он распространяется на всю сферу общественного созна-
ния определенной эпохи, он заставляет до известного
момента самые разнообразные исторические тенденции
говорить на общем художественном языке... Вот в Рос-
сии после 40-х годов устанавливается монополия реали-
стического вкуса, полнейшая гегемония реалистического
направления. Здесь противоположные политические и
идеологические тенденции художественно проявляются
внутри реализма. Реакционер Достоевский и революцио-
нер Чернышевский — оба были сознательными предста-
вителями реалистической эстетики. Даже писатели,
защищавшие старину, бога или теорию «искусства для
искусства», не решались отойти от реализма — было
слишком ясно, что только произведения, созданные этим
методом, могут рассчитывать на доверие и влияние»1 2.
И рядом с такого рода заявлениями находятся диа-
метрально противоположные декларации:
«Из деятельного революционного отношения к жизни,
из революционного взгляда на мир естественно и неиз-
бежно вырастает реалистическое искусство» 3.
1 Основные этапы развития реализма в мировой литературе,
ИАН ОЛЯ, т. XVI, вып. I, 1957, стр. 12.
2 «Звезда», 1957, № 8, стр. 184.
з Т а м же, стр. 185.
442
А реализм Достоевского или реализм Л. Толстого?
Реализм Тургенева? Реализм Бунина? Они тоже вырос-
ли из революционного взгляда на мир?
«Глубокая и органичная связь революционного про-
летарского мировоззрения с художественным реализмом
подтверждена громадным опытом рабочего движения и
социалистического строительства»
Таким образом, здесь термину «реализм» приписы-
ваются очень разнообразные значения. Неясен понятий-
ный (то есть терминологический) смысл и таких выра-
жений, которыми широко пользуется В. Днепров:1 2
«реалистическое художественное содержание», «реалисти-
ческая социальная критика», «художественный язык реа-
лизма», «реалистическое преобразование формалистиче-
ских (или формалистских) приемов», «синтез художест-
венных форм, призванных выразить различное жизнен-
ное содержание», «историческая структура эмоций»,
«строение основного нравственного и психологического
тона литературы», «язык эмоций», «художественный
язык классиков реализма XIX века» («современное реа-
листическое искусство не может говорить на художест-
венном «языке» классиков реализма XIX века»); «двад-
цативековой художественный язык, сложившийся в
современном буржуазном искусстве»; «новая всемирно-
историческая форма реализма» и многие другие.
Любопытно, что в зависимости от того, включаются
ли в понятие современного реализма идейные или идео-
логические признаки — отношение к миру, демократии и
социализму, обнаруживаются резкие различия даже в
принципах разграничения художественных течений. Так,
В. Огнев в статье «О реализме и новаторстве» заявляет,
что по отношению к реализму делятся сегодня лагери в
искусстве. Реалистам противопоставляется очень разно-
образный по идейным вкусам и убеждениям «лагерь»
противников реализма, таких, которые придумывают
идею подкопа под реализм или стремятся к «ревизии
реализма»3. Напротив, Д. Тамарченко в статье «К спо-
рам о реализме» утверждает: «Не по отношению к реа-
лизму, а по отношению к делу мира, демократии и со-
1 «Звезда», 1957, № 8, стр. 186.
2 Там же, стр. 187, 192, 194 и др.
3 «Знамя», 1957, № 3, стр. 194, 195.
443
циализма делятся сегодня лагери в искусстве»1. До сих
пор идут споры по вопросу о том, «является ли социали-
стический реализм творческим методом или методом по-
знания действительности, мировоззрением писателя или
принципом его эстетического отношения к действитель-
ности»1 2. К сожалению, конкретным анализом средств
художественного выражения, приемов композиционного
построения, типических форм структуры образов героев
и т. д., характерных для социалистического реализма,
наши литературоведы почти не занимаются. Они само-
вольно освобождают себя от этой сложной и трудной за-
дачи такой «революционной фразой»: «Практика талант-
ливых художников слова, работающих в разных странах
в духе социалистического реализма, показывает, какими
бесконечно разнообразными средствами может осущест-
вляться партийное революционно-преобразуюшее вос-
произведение реального мира в искусстве»3. Тут упор
делается на «революционно-преобразующее содержа-
ние» социалистической литературы. А применительно к
«бесконечно разнообразным средствам» раскрытия и во-
площения этого содержания рекомендуется руководст-
воваться точкой зрения Козьмы Пруткова: «Нельзя
объять необъятного». На этой почве укрепляется проти-
вопоставление социалистического реализма как чисто
идеологического направления реализму прошлого.
Б. Реизов пишет в статье «О литературных направ-
лениях»: «Литературные направления прошлого мы
иногда склонны рассматривать по аналогии с социали-
стическим реализмом. Никто не сомневается в том, что
социалистический реализм — это качественно новое,
принципиально отличное от других направление. Поня-
тие социалистического реализма, при всем богатстве и
разнообразии его выражений, предполагает совершенно
определенное мировоззрение, связанную с этим мировоз-
зрением политическую позицию, четко направленное об-
щественное действие произведения и его высокое худо-
жественное качество... Ничего подобного не заключено в
содержании понятия классицизма, романтизма, реализм
ма, символизма, натурализма и других «измов». Известно,
1 «Звезда», 1957, № 9, стр. 208.
2 Там же, стр. 215.
3 Т. Моты лев а, Споры о реализме, «Вопросы литературы»,
1957, № 3, стр. 51.
444
что политические взгляды и общественные позиции писа-
телей, которых мы зачисляем в школу «реалистов», совер-
шенно различны, так как различны их мировоззрения»1.
Таким образом, при понимании реализма только как
революционно-идеологического течения, происходит от-
рыв литературного реализма не только от истории лите-
ратурного языка, от национальной специфики условий и
тенденций его развития, но и от закономерностей разви-
тия стилей самой художественной литературы (ср. реа-
лизм Радищева и реализм Демьяна Бедного, реализм
Герцена и реализм Маяковского и т. д.). Ведь «стилевые
вариации» социалистического реализма «неизмеримо
многообразны».
4
Само собой разумеется, что гораздо чаще высказыва-
ются смешанные или эклектические взгляды на проис-
хождение и распространение русского реализма. Тут от-
дается обильная словесная дань всем соображениям и
терминам, которые выдвигались в авторитетных источни-
ках в связи с упоминанием реализма: выступают на сце-
ну (однако без точного определения и конкретно-истори-
ческого объяснения) принципы изображения типичных
характеров в типичных обстоятельствах, и подъемы на-
родного духа, и «освободительные идеи», «многовековое
устнопоэтическое творчество народа», и даже «художест-
венный опыт всего человечества». Иногда изложение
проблемы реализма осложняется желанием или потреб-
ностью увидеть в развитии русского реализма последо-
вательные параллели и соответствия с историей запад-
ноевропейского искусства и литературы. Поэтому при
признании таких общих этапов развития реализма, как
реализм Возрождения (по мнению некоторых наших
историков литературы, именно в эту эпоху возник реа-
лизм в связи «с антифеодальным освободительным дви-
жением, со становлением буржуазных наций, со всем
развитием передовой науки и культуры, в частности ес-
тествознания, с борьбой за свободу личности»1 2), реа-
1 «Вопросы литературы», 1957, № 1, стр. 88.
2 Я. Е. Эльсберг, Некоторые проблемы истории русского
реализма, ИАН ОЛЯ, т. XV, вып. 2, 1956, стр. 102
445
Лизм Просвещения, затем просто реализм («социально-
исторический реализм») или же сразу критический реа-
лизм и т. п.— возникает стремление найти и в истории
русского искусства и русской литературы черты и крас-
ки реализма Возрождения и реализма Просвещения.
Приходят на ум Рублев и протопоп Аввакум как носи-
тели и нововводители реализма Возрождения. Впрочем,
тут же звучат успокоительные заверения: «Нет основа-
ний для того, чтобы говорить о том, что в русском худо-
жественном развитии существовал этап, который мог бы
быть назван реализмом Возрождения»1.
В таком случае возникновение русского реализма
связывается с эпохой Просвещения. Сразу же возникает
вопрос, кого из «писателей-просветителей XVIII — начала
XIX века назвать реалистом.
Кандидатов не так много, но они, как мы уже виде-
ли, есть: Радищев, Фонвизин, Крылов, затем Нарежный,
а может быть, Державин и Новиков. М. Горький, ко-
торый хотя и не был историком литературы, но оказал
сильнейшее влияние на наших литературоведов во вторую
четверть текущего столетия, в фонвизинском «Недоросле»
видел начало русской реалистической литературы1 2.
«Реализм русского Просвещения,— пишет Я. Эльс-
берг,— характеризуется прежде всего именем Фонвизина,
причем в его творчестве, как и в западноевропейской про-
светительной литературе, ясно заметны элементы резонер-
ства и риторики, след влияний классицизма. Но Фонви-
зин, особенно в «Недоросле», создал хотя сравнительно
еще мало индивидуализированные, но столь живо и резко
очерченные характеры, что некоторые из них и посейчас
помогают узнавать и клеймить невежество, дикость и
грубость»3.
Историки русской литературы, склонные относить
возникновение русского реализма к последним цесяти-
летиям XVIII века, бывают очень обеспокоены состав-
лением полного списка реалистов-зачинателей. Так,
Н. Степанов, разбирая работу К. Пигарева «Творчество
Фонвизина» (М. 1954), упрекает ее автора в «уклончи-
1 Я. Е. Эльсберг, Некоторые проблемы истории русского
реализма, там же, стр. 104—105.
2М. Горький, История русской литературы, Гослитиздат,
М. 1939, стр. 16.
з ИАН ОЛЯ, т. XV, вып. 2, стр. 105.
446
вости», «излишней осторожности» за то, что тот не дал
ясного ответа на вопрос, являлся ли Фонвизин реа-
листом или только стоял на пути к реализму (почему
же не двигался? — В. В,).
Сам Н. Степанов находит в творчестве Фонвизина
«реалистические тенденции», а в комедии «Недоросль»
«реалистическую основу» — по-видимому, «реалистиче-
ские» образы Простаковой, Скотинина и Митрофануш-
ки. Он пишет об этом так: «Основной линией развития
литературы XVIII в. было усиление, постепенное вызре-
вание в ней реалистического метода. Черты жизненной
правды и реалистические тенденции можно видеть и в
произведениях приверженцев классицизма и в сентимен-
тализме. Однако в стихах Державина, в комедиях Фон-
визина и Капниста, в сатирической прозе Новикова и
Крылова, не говоря уже о «Путешествии» Радищева, эти
реалистические тенденции, это сближение литературы с
жизнью сказались по-разному. Следует иметь в виду,
что реалистические тенденции в литературе XVIII в. еще
нельзя отождествлять со зрелым, окончательно сформи-
ровавшимся реализмом литературы XIX века — с реализ-
мом Пушкина и Гоголя. Самое понимание действитель-
ности, даже у наиболее передовых писателей XVIII ве-
ка, оставалось метафизическим, абстрактным, лишено
было подлинного историзма. Этим объясняется как ра-
ционалистический характер поэтики классицизма, так и
непонимание исторической связи и обусловленности яв-
лений у писателей-просветителей.
Моралистический способ отражения жизни, разделе-
ние на исключающие друг друга начала (положитель-
ное и отрицательное) также ограничивало реалистичес-
кие тенденции литературы XVIII века, даже в ее высших
и лучших проявлениях. В комедии Фонвизина «Недо-
росль», при всей ее реалистической основе, при всей
типичности многих ее образов, все же сохранилось деле-
ние на односторонне отрицательных и односторонне
положительных персонажей, причем положительные пер-
сонажи остались моралистическими схемами, лишенны-
ми конкретных жизненных черт. Самое изображение
людей в литературе XVIII века является одноплановым:
в характерах отсутствует развитие. Реалистические тен-
денции литературы XVIII века наиболее полно сказа-
лись в изображении среды—типических условий, поро-
447
дивших тех или иных персонажей, но связь их со сре-
дой, историческая обусловленность явлений оставались
непонятными. Только Фонвизину в образах Простако-
вой, Скотинина, Митрофанушки удалось показать кон-
кретное своеобразие характеров, в полной мере индиви-
дуализировать их» Г
Иногда к именам зачинателей русского реализма при-
соединяется имя Н. И. Новикова. При этом в отдельных
работах указывается на то, что Новиков последовательно
переходил от стиля классицизма к стилю реалистическо-
му. Так, в заметке А. Савенкова «К биографии Н. И. Но-
викова» читаем: «...перестает быть загадочной некоторая
разностильность «Отрывка», напечатанного в «Живопис-
це» в качестве XIV главы из путевых записок, ибо почти весь
материал «Трутня» и «Живописца» неоспоримо свидетель-
ствует о том, что стиль Н. И. Новикова претерпевал внут-
реннее развитие и изменился, последовательно переходя
от стиля классицизма к стилю реалистическому»1 2.
Некоторые историки русской литературы к числу
зачинателей русского реализма относят также Н прежней
го как предтечу Гоголя3.
Трудно сказать, закрывается ли список допушкин-
ских претендентов на звание реалистов после перечня
этих имен. Ведь все они объединяются одним призна-
ком-приближением к действительности и к ее соци-
ально-характеристическим образам. Но этот признак,
иногда называемый «элементами реализма», можно, хо-
тя и в меньшей степени, обнаружить в творчестве целого
ряда других писателей второй половины XVIII века (на-
пример, М. Чулкова, П. Плавильщикова и т. п.).
5
В соответствии с очень широким признаком — отра-
жения действительности или ориентации на действитель-
ность — принято говорить о «реалистических тенденци-
1 ИАН ОЛЯ, т. XIV, вып. 2, 1955, стр. 199.
2 «Вопросы истории русской журналистики», «Ученые записки
Ленинградского гос. университета». Серия филологических наук,
1957, № 218, стр. 204.
3 См. В. Ф. Переверзев, У истоков русского реального ро-
мана, М. 1937, стр. 7; ср. также Н. Л. Степанов, У истоков
русского реалистического романа, «Литературная учеба», 1937, VII.
448
ях» в литературно-художественном творчестве разных
эпох. Такие тенденции отыскиваются во всех направле-
ниях новой европейской, в том числе и русской, литера-
туры — в классицизме, сентиментализме и романтизме.
Наличием «реалистических тенденций» характеризуются,
как сказано выше, и некоторые жанры древнерусской
литературы. Однако художественная суть и стилистиче-
ская природа этих «реалистических тенденций» точно
не определяются и не описываются.
Профессор Б. Реизов справедливо заметил: «...при-
знак правдивости, который является основным в понятии
реализма, неизбежно уничтожает всякие другие возмож-
ные признаки и один определяет реализм... Следова-
тельно, единственной спецификой «реалистов» является
то, что их произведения отражают действительность и
отражают ее более или менее правдиво,— более или
менее,— так как ни одно не отражает действительности
с полной точностью...»
Вместе с тем, признавая антиисторический панхро-
нический характер такого понимания реализма как «ка-
чества эстетической категории», профессор Б. Реизов не
отвергает его, а в нем видит основу эстетики социали-
стического реализма: «„Реализм", как «правда в искус-
стве», шире и больше какой бы то ни было «школы»,
больше всех и каждого писателя прошлого. Это понятие,
эстетическое и политическое вместе, боевое и вечное,
лежит в основе эстетики социалистического реализма,
в котором реализм, как правда—должен получить свое
полное осуществление» 1. Мало того: именно на базе это-
го понятия Б. Реизов предлагает судить о реализме раз-
ных национальных литератур.
«Надо помнить, что формы «правдивого» искусства
многообразны, и поэтому нельзя определять реалисти-
ческое качество литератур всех эпох и народов сравне-
нием с «реалистической школой» XIX века, с программой
реализма, принятой в старых учебниках. Это значит —
попросту упразднить все исторические и национальные
формы искусства ради одной-единственной»1 2.
Академик Т. Павлов, признавая реализм как метод и
1 Б. Реизов, О литературных направлениях, «Вопросы лите-
ратуры», 1957, № 1, стр. 106.
2 T а м же, стр. 110.
449
направление конкретно-историческим явлением разных
национальных литератур, предлагает в то же время на-
зывать реалистическим принципом искусства «сущност-
но-специфическую природу всякого истинного искусст-
ва», его свойство создавать «художественные субъектив-
ные образы объективных вещей и явлений (общества и
природы)» *.
Ведь «всякое истинное искусство, оставившее тот или
иной след в истории человечества и так или иначе до-
шедшее до нас, не могло бы быть вообще искусством,
если бы оно в той или иной форме и степени не давало
своеобразных субъективных образов объективных вещей
и явлений, если бы оно не давало нам своеобразной
конкретной правды о своем обществе и времени, не вы-
полняло бы свою основную роль художественного по-
знания и художественного целенаправленного изменения
объективной действительности»1 2. Таким образом, по
мнению Т. Павлова, степень художественной ценности
произведения зависит от того, в какой мере и как в нем
воплощается и дает себя знать этот основной реалисти-
ческий принцип подлинного искусства, иначе говоря, в
какой мере это произведение выполняет свою познава-
тельную функцию. Однако здесь лишь с измененной тер-
минологией говорится о той же «правдивости искусства»,
об образно-художественном отражении реальной дейст-
вительности.
К «художественному воссозданию истины жизни» как
основе реалистического искусства (причем понятие «ис-
тины жизни» детально не раскрывается) иногда присо-
единяется существенный признак (однако также не опре-
деляемый в точно сформулированных понятиях) — «в
формах самой реальной жизни». Что такое «формы самой
реальной жизни» в их историческом развитии как струк-
турно организующий признак реализма? Для эпохи Воз-
рождения сюда, по мнению С. Петрова, относится при-
знание объективного, суверенного, независимого от не-
бес значения внутреннего мира человека3 и изображение
1 Тодор Павлов, О наших дискуссиях. По всем ли вопросам
и при всех ли обстоятельствах мы будем дискутировать? «Нева»,
1958, № 1, стр. 174.
2 Т а м же.
3 С. Петров. О реализме как художественном методе, «Во-
просы литературы», 1957, № 2, стр. 10.
450
человеческих характеров и бурных страстей в соответ-
ствии с реальными жизненными отношениями и интере-
сами людей (это — «сенсуалистический реализм» Шекс-
пира и других писателей Возрождения). Для эпохи Про-
свещения сюда, по мнению С. Петрова, относится
«включение в литературу общественной среды, как актив-
ного фактора жизни» и соответственно — новые формы
художественного воспроизведения общественной среды, ее
влияния на характеры людей, изображение зависимости
человека от обстоятельств, связанных с его обществен-
ным положением (это — просветительский или рацио-
налистический реализм Фильдинга, Дидро, Бомарше и
других писателей Просвещения). Однако оба эти после-
довательно развивающихся вида так называемого «реа-
лизма» («сенсуалистический» и «просветительский») опи-
раются на «метафизический способ мышления» и харак-
теризуются «отсутствием исторического взгляда на
вещи». При своем интернациональном характере они,
естественно, никак не связаны со специфическими зако-
номерностями развития отдельных национальных языков
и даже литератур. Им приписываются лишь самые общие
и абстрактные художественно-стилистические приметы.
С. М. Петров даже освобождает себя от обязанности
определить культурно-исторические и историко-литера-
турные, эстетические условия возникновения реализма в
отдельных национальных литературах. Этот универсаль-
ный план развития форм реализма раскрывается и вне
рамок истории русской литературы. Правда, упоминается
для характеристики отсутствия конкретно-исторического
(то есть реалистического) подхода к жизни «самое вы-
сокое ПО’ уровню реализма» произведение русской лите-
ратуры XVIII века — комедия Фонвизина «Недоросль».
Только с самого конца XVIII века, а точнее, с первых
десятилетий XIX века, согласно концепции С. Петрова,
историзм, став существеннейшей чертой общественного
мышления, порождает новую форму реализма — реа-
лизм национально-исторический. «Появляются нацио-
нальный пейзаж, этнографические элементы. Широкой
волной хлынул в литературу фольклор. Речевые харак-
теристики персонажей, их язык приобретает исторический
и местный колорит»Ч Пушкин и Бальзак, по мнению
1 «Вопросы литературы», 1957, № 2, стр. 23.
451
С. Петрова, являются наиболее типическими представи-
телями этого национально-исторического реализма. Со-
поставление Пушкина с Бальзаком по их стилю, по их
роли и по функциям их творчества в истории мировой
литературы остается на совести автора: оно никак не
аргументировано в плоскости художественно-стилистиче-
ской и национально-специфической или национально-исто-
рической. Тем более странным представляется такое об-
общение: «То, что сделал Пушкин для развития реа-
лизма в русской литературе, сделал Бальзак для
западноевропейской» Ч Следовательно, творчество Баль-
зака теряло черты национально-исторического реализма
французской литературы и становилось реалистической
основой развития английской, немецкой,.итальянской, ис-
панской, чешской, словацкой, сербской, болгарской и
других европейских национальных литератур.
Все это говорит об исторической и историко-литера-
турной беспочвенности рассуждений С. Петрова. Нацио-
нально- или социально-исторический реализм XIX века
даже в том антиисторическом и антинациональном осве-
щении, которое дано ему С. Петровым, имеет очень мало
общего с сенсуалистическим и рационалистическим мето-
дами изображения жизни человека и общества. Ссылка
на «чувство времени» и на «естественные результаты
правдивого изображения жизни» в литературе Возрожде-
ния и Просвещения ничего не объясняют в общем поня-
тии реализма, так же как и указание на «универсаль-
ность в изображении внутреннего мира человека»1 2.
Основным недостатком умозрительных построений
С. М. Петрова является отсутствие точного общего эсте-
тического или теоретического определения реализма как
исторической категории искусствоведения в его разных
литературных воплощениях или модификациях. Признав
реализм специфическим методом литературного искус-
ства, С. М.’ Петров скользит затем по поверхности исто-
рии развития отдельных западноевропейских националь-
ных литератур и избирает нужные ему литературные на-
правления в истории литератур Англии и Франции. Но
почему реализм характерен был именно для данных ли-
тератур (кроме общих предпосылок о прогрессивности
1 «Вопросы литературы», 1957, № 2, стр. 27.
2 Т а м же, стр. 36—38.
452
истории развития соответствующих народов), С. М. Пет-
ров не объясняет. А с историей немецкой литературы у
него получается даже совсем не историческое недоразу-
мение. Между тем у нас есть близкие к концепции
С. М. Петрова взгляды на реализм как на общую кате-
горию литературного искусства.
Стало более или менее стандартным такое описание
реалистического метода: «Реалистический метод предпо-
лагает правдивое конкретно-историческое воспроизведе-
ние реальной действительности в художественных фор-
мах, эстетически выражающих ее объективные свойства,
черты, закономерности»1. Однако это описание во всех
отношениях недостаточно. Оно прежде всего не содержит
конкретно-исторического указания на эпоху, когда скла-
дываются социально-политические и культурные условия
для соответствующего воспроизведения реальной действи-
тельности. Вместе с тем в таком описании ничего не го-
ворится о том, всякая ли система «художественных форм,
эстетически выражающих объективные свойства, черты
и закономерности» действительности, может быть отне-
сена к реализму. Правда, иногда в описание реалистиче-
ского метода включаются дополнительные разъяснения,
относящиеся к этому вопросу. Утверждается, что «раз-
витие реалистического метода находится в прямой связи
с утверждением народности в искусстве» и что «внима-
ние к национальным особенностям народной жизни не
является монополией реализма, в разной мере оно свой-
ственно и другим художественным направлениям».
Так, А. Караганов пишет: «Романтики, например,
очень много сделали для развития национального начала
в искусстве, для изучения народного творчества, нравов,
обычаев и т. д. Но, поэтизируя народную старину, на-
циональное своеобразие современных им нравов и обы-
чаев, романтики и в этом случае не преодолевали изве-
стной отвлеченности своего идеала, своего понимания
поэзии и красоты. Им не хватало социально-историче-
ской конкретности в подходе к народной поэзии. Реализм
поднимается до такой конкретности»1 2. Итак, суть реа-
лизма заключается именно в «социально-исторической
1 См., например, А. Караганов, Черты творческого метода,
«Новый мир», 1957, № И, стр. 254.
2 Т а м же, стр. 256.
453
конкретности» воспроизведения народной жизни. Что же
такое представляет собою эта «социально-историческая
конкретность» в системе реалистического изображения
действительности, когда и при каких условиях она появ-
ляется? Что для нее нужно в предшествующем разви-
тии искусства вообще, литературы в частности? На эти
вопросы обычно звучат очень глухие и очень пеопределен-
ныеютветы. Вот некоторые разновидности таких ответов:
«В отличие от искусства других направлений реалистиче-
ское искусство ищет реальные источники, причины, дви-
гатели человеческого поведения в окружающих человека
жизненных обстоятельствах, в опыте и уроках обществен-
ной практики» 1. Вместе с тем эта конкретность — исто-
рическая, социально-индивидуальная — определяет и спо-
собы воспроизведения внутреннего мира человека.
Все эти рассуждения движутся по общей абстрактной
дороге размышлений, далеких как от конкретно-истори-
ческих закономерностей развития отдельных националь-
ных литератур, так и общих законов истории литературы
в ее связях с историей народа.
Были у нас и попытки поставить на конкретно-истори-
ческую почву вопрос о соотношении категорий метода и
стиля по отношению к разным направлениям словесно-
художественного искусства — классицизма, романтизма и
реализма. Значение стиля жанра и преобладание его над
стилем индивидуальным по отношению к классицизму у
пас было очень остро и разносторонне продемонстриро-
вано профессором Г. А. Гуковским в его работах, отно-
сящихся к истории русской литературы XVIII века (на-
чиная со статей «О русском классицизме» и с книги «Рус-
ская поэзия XVIII в.»). Можно до известной степени
согласиться и с формулой: «Классицизм есть художе-
ственный метод и одновременно стиль». Но уже гораздо
сложнее вырисовывается проблема соотношения катего-
рий метода и стиля в сентиментализме или предроман-
тизме и романтизме. Едва ли здесь безоговорочно можно
говорить о господстве «общей формы» над многообразием
индивидуальных стилей, особенно по отношению к ро-
мантизму. Недаром историки русской литературы до са-
мого последнего времени ведут споры о стиле Радищева,
1 См. А. Караганов, Черты творческого метода, «Новый
мир», 1957, № 11, стр. 257.
454
причем связь его с сентиментализмом или отрицается
или подвергается все большим ограничениям — в на-
правлении реализма. Если же в области романтизма по-
ставить рядом романтические стили Пушкина (в поэзии),
Лермонтова, Гоголя (в его ранних повестях), Тютчева,
Вельтмана, Лажечникова и мн. др., то сразу станет ясно,
что романтизм — это метод, но не стиль. Вот почему с
многочисленными оговорками, ограничениями и исправ-
лениями можно признать некоторое зерно исторической
истины в следующих рассуждениях: «Никто не может
указать на какие-либо общие формальные признаки ли-
тературы критического реализма». «В дореалистических
методах преобладал общий стиль, а в методах реалисти-
ческих преобладает стиль индивидуальный» х.
Итак, попытки «универсальной» характеристики лите-
ратурного реализма, оторванные от истории развития на-
циональных литературных языков и от своеобразий сти-
листического развития художественных литератур отдель-
ных народов, пока оказываются при настоящем состоянии
науки об истории мировой литературы методологически
малопродуктивными и малосодержательными. Во всяком
случае, они пока еще ничего или почти ничего не дают для
исследования развития реализма в русской литературе.
Само собою разумеется, что в таких общих построе-
ниях от замены слова «реализм» выражениями «реали-
стические тенденции» или «элементы реализма» суть
дела мало изменяется.
Б. Реизов остроумно охарактеризовал метафизиче-
ское отношение наших литературоведов к «элементам
реализма»: «Мы членим на направления одно и то же
творчество, одно и то же произведение. И если найдется
в каком-нибудь уголке «элемент» мечты, или «элемент»
правды, или невыразительная деталь, критика тотчас вы-
пускает залп своих терминов, словно в этом и заключает-
ся историко-литературное исследование.
Действительно, «направления» часто и закономерно
превращаются в «элементы», из которых строится весь
реальный литературно-исторический процесс. Этот процесс
предстает как чередование или сочетание («скрещиванье»)
одних и тех же литературных элементов. В одном и том
1 В. Днепров, О творческом методе и художественных сти-
лях, «Звезда», 1958, № 2, стр. 220—221.
455
же произведении литературовед .находит несколько эле-
ментов.
«Элементы» живут в творчестве и в истории само-
стоятельной жизнью. Элементы реализма, как утверж-
дают некоторые критики, существуют в течение многих
веков, вкрапленные в произведениях самых различных
писателей. Речь идет уже не о том, что писатель прав-
диво изобразил какое-то явление действительности, а о
том, что в его творчество попали элементы реализма.
А если бы кусочек реализма или реалистического «ме-
тода» не попал к нему, то ничего бы он и не отразил.
Получается, что реализм «нисходит» на писателей во-
преки всему и даже помимо их воли и позволяет им со-
здавать правдивое искусство. При этом исчезает и по-
следний признак исторического изучения литературы» Ч
Среди тех неясных терминов и понятий, которые свя-
зываются с характеристикой реализма, надо упомянуть
и о «реалистической функции». Так, А. Иващенко в своей
статье «К вопросу о критическом реализме и реализме
социалистическом» пишет о натурализме Золя и его уче-
ников: «Натурализм как метод с присущими ему фило-
софскими и эстетическими чертами — метафизичен, ан-
тиисторичен, не давал возможности его последователям
проникнуть в жизнь глубже «коры явлений». Натурали-
стические же моменты в произведениях Золя и других
реалистов приобретают нередко, хотя и не всегда, реали-
стическую функцию»1 2.
Ср. тут же: «Метод — явление подвижное и сложное,
что подтверждается и творчеством, например, Норриса,
который эволюционировал от собственно натуралистиче-
ских произведений, таких, как «Мак Тиг» и «Вандовер и
Зверь», к реалистическому роману «Спрут», хотя и этот
роман ire свободен от натуралистических моментов, остав-
шихся неподчиненными законам реалистической типиза-
ции и прозвучавших антиреалистически»3,
Кроме «реалистических тенденций», «элементов реа-
лизма» и «реалистических функций», нередко выступает
на сцену «реалистичность изображения». Очевидно, под
1 Б. Р е и з о в, О литературных направлениях, «Вопросы ли-
тературы», 1957, № 1, стр. 114—115.
2 «Вопросы литературы», 1957, № 1, стр. 42.
3 Т а м же, стр. 42—43.
456
«реалистичностью» понимается характер отношения к
действительности и степень близости к ней литературного
отражения. В этом смысле русский реализм иногда на-
зывается «самым реалистичным из всех реализмов».
Вследствие теоретической бедности работ по общей
эстетике и по теории литературы у нас до сих пор еще
мало исследован вопрос о генезисе тех художественно-
стилистических форм и приемов, которые объединяются
в системе реализма, и об их качественном преобразова-
нии в процессе такого функционального объединения.
G
В истории русской литературы окончательное утверж-
дение или даже «открытие» реализма почти всегда припи-
сывается Пушкину, как «началу всех начал». Б. Бурсов
так описывает возникновение русского реализма: «Реа-
лизм начинает формироваться еще в творчестве русских
писателей XVIII века. Но попытка их создать общенацио-
нальную реалистическую литературу не могла завер-
шиться полным успехом. Их значение заключалось в
том, чтобы подготовить гигантский подвиг, совершенный
гением Пушкина.
Открытие реализма Пушкиным Белинский ставит в
зависимость от великого подъема народного духа в Оте-
чественной войне 1812 года и от передовых освободи-
тельных идей, находившихся в тесной связи с ней. Геро-
изм русского народа в этой войне был исторически под-
готовлен. Гений Пушкина, таким образом, есть следствие
исторического развития русского народа и русской лите-
ратуры. Он связан не только с именами Державина,
Фонвизина, Крылова и Радищева, но и с многовековым
устным поэтическим творчеством народа»
Некоторые вариации в формулировку значения Пуш-
кина в истории русского реализма вносятся Я. Эльсбер-
гом с точки зрения концепции развития всеобщей или ми-
ровой литературы. По мнению этого исследователя, в рус-
ском реализме, продолжившем некоторые существенные
черты реалистической литературы Возрождения и Про-
1 Б. И. Бурсов, Роман М. Горького «Мать» и вопросы социа-
листического реализма, Гослитиздат, М. 1955, стр. 7.
457
свещепия, уже во второй четверти XIX века выступили
совершенно новые черты — черты критического реализ-
ма. «Именно в России и в творчестве Пушкина, впервые
в литературе мировой, выступили характерные особенно-
сти критического реализма. Пушкин не только продолжил
и развил традиции предшествующих этапов художествен-
ного развития человечества, он дал их в новом синтезе
и в сочетании с чертами критического реализма»1.
«Глубокий историзм, свойственный Пушкину, соче-
тался в его творчестве с таким ясным, светлым, оптими-
стически полнокровным восприятием жизни во всей ее
красоте, что традиции и черты, характерные для реализ-
ма Возрождения, а также Просвещения явственно ощу-
тимы здесь. Вместе с тем в реализме Пушкина явно
проявляются особенности критического реализма, однако
это понятие не покрывает собой всего своеобразия твор-
ческого метода автора „Евгения Онегина“» 1 2.
Нередко — при провозглашении Пушкина первым под-
линным реалистом в русской литературе — говорится,
что в творчестве Пушкина отчетливо проявилась нацио-
нальная специфика русского реализма, определенная усло-
виями русской исторической жизни и подготовленная
основными особенностями предшествующего ему рус-
ского литературного развития. Тут же прибавляется, что
Пушкин установил «нормы», основные стилевые прин-
ципы, специфику русского «художества», «русского сло-
весного искусства» (Д. Благой) 3. Однако вслед за этим
сообщается о наличии различных и до сих пор в своем
своеобразии далеко еще не достаточно изученных «мо-
ментов и этапов» в развитии русского реализма. Реализм
Гоголя существенно отличается от реализма Пушкина.
В свою очередь от реализма Пушкина и Гоголя отли-
чается реализм Некрасова и Салтыкова-Щедрина и т. п.
И тут же говорится об общих, родовых чертах, о внут-
реннем единстве особого русского национального типа
реализма. Между тем стилистика русской художествен-
ной литературы на протяжении XIX века претерпела бо-
1 Я. Е. Эльсберг. Некоторые проблемы истории русского
реализма, ИАН ОЛЯ, т. XV, вып. 2, 1956, стр. 105.
2 Т а м же, стр. 107.
3 Доклад Д. Благого «Особенности русского реализма» на
дискуссии по реализму, организованной 12—18 апреля 1957 г. Ин-
ститутом мировой литературы АН СССР им. А. М. Горького.
458
лее резкие и быстрые изменения, чем система стилей об-
щего литературного языка с 30—40-х годов вплоть до со-
ветской эпохи.
В отдельных случаях Пушкин вообще признается «пер-
вым великим представителем» новой эпохи в истории
искусства1. Ему —наряду с Вальтером Скоттом —при-
писывается открытие основных принципов национально-
исторического реализма и — наряду с Бальзаком — соци-
ально-исторического реализма. Выработанный Вальтером
Скоттом в опыте художественного освоения далекого про-
шлого национально-исторический принцип изображения
общественной жизни Пушкин стал применять к изобра-
жению современной действительности. Вместе с тем
«одним из величайших завоеваний реализма Пушкина,
основополагающим его принципом явилось изображение
человеческой личности в процессе ее развития в ходе
самой жизни... Обе эти важнейшие проблемы реализма
как художественного метода впервые в мировой литера-
туре были решены Пушкиным»1 2. «Социальный и нацио-
нально-исторический принципы были привнесены Пуш-
киным и в сферу поэтического языка, став основой рече-
вой характеристики персонажей и в «Борисе Годунове»,
и в «Евгении Онегине». В «Капитанской дочке» каждый
персонаж говорит своим языком, соответствующим его
времени, уровню его культуры, его характеру, обществен-
ному положению. Особенно наглядна речь Пугачева —
подлинно народная по своей пословичности, по энергично-
сти выражений, по «живописному способу выражаться», в
чем Пушкин видел одну из черт русского народного типа»3.
Легко заметить, что и при таком выдвижении роли
индивидуального стиля и индивидуального словесно-худо-
жественного творчества Пушкина в качестве высшей и
наиболее полной концепции реализма самые закономер-
ности развития реализма как в истории русской, так и в
истории западноевропейских литератур остаются не опре-
деленными.
Что касается дальнейшего, послепушкинского периода
русской литературы XIX века, то здесь — наряду со ссыл-
ками на ход развития самой русской общественно-полити-
1 С. П е т р о в, О реализме как художественном методе, «Во-
просы литературы», 1957, № 2, стр. 24.
2 Та м же, стр. 25.
3 Т а м же, стр. 26 и 27.
459
ческой жизни — всегда указывается на великую роль
«принципов пушкинского реализма», которые в разных на-
правлениях развиваются и углубляются всеми русскими
классиками вплоть до Горького. «Старый реализм в твор-
честве Толстого и Чехова достиг вершин в критическом
обличении, в анализе и объяснении жизни»х. В этой связи
нельзя не вспомнить очень интересных высказываний
М. Горького о реализме в письмах к А. П. Чехову:
«Говорят, например, что «Дядя Ваня» и «Чайка» —
новый род драматического искусства, в котором реализм
возвышается до одухотворенного и глубоко продуманно-
го символа»1 2 (письмо от декабря 1898 года).
«Читал «Даму» вашу [то есть «Даму с собачкой»].
Знаете, что вы делаете? Убиваете реализм. И убьете вы
его скоро — насмерть, надолго. Эта форма отжила свое
время — факт!.. Дальше вас никто не может идти по сей
стезе, никто не может писать так просто о таких простых
вещах, как вы это умеете. После самого незначительного
вашего рассказа — все кажется грубым, написанным не
пером, а точно поленом»3.
Любопытно также такое замечание Горького о реа-
лизме XIX века: «...Но по отношению к таким писателям-
классикам, каковы Бальзак, Тургенев, Толстой, Гоголь,
Лесков, Чехов,—трудно сказать с достаточной точно-
стью, кто они, романтики или реалисты? В крупных ху-
дожниках реализм и романтизм всегда как будто соеди-
нены. Бальзак — реалист, но он писал и такие романы,
как «Шагреневая кожа», произведение очень далекое от
реализма, Тургенев тоже писал вещи в романтическом
духе, так же как и все другие крупнейшие наши писа-
тели, от Гоголя до Чехова и Бунина»4.
Об этом же писал А. А. Фадеев: «...Если романтизм
прогрессивен, в нем — в большей или меньшей степени —
наличествует правда жизни, ему присущи элементы реа-
лизма. И всякому настоящему большому реализму свой-
ственна романтика». «...Реализм может выступать и в
1 С. П е т р о в, О реализме как художественном методе, «Во-
просы литературы», 1957, № 2, стр. 48.
2 М. Горький и А. Чехов. Переписка, статьи, высказыва-
ния, Гослитиздат, М. 1951, стр. 28.
3 Т а м же, стр. 61.
4 Максим Горький, Рабселькорам и военкорам о том, как я
учился писать, ГИЗ, М. 1928, стр. 11.
460
романтической форме, особенно в поэзии. Но не только
в поэзии. Бальзак — реалист и в «Шагреневой коже» и в
«Кузине Бетте», хотя в первом произведении форма в
значительной мере романтична, во втором — строго реа-
листична»
Вопрос об историческом соотношении и взаимодей-
ствии романтизма и реализма как в русской литературе,
так и в литературах других европейских стран не может
считаться всесторонне исследованным и вполне освещен-
ным. Решения, которые иногда предлагаются по этому
вопросу нашими критиками и литературоведами, даже
по отношению к русской литературе не могут не пора-
зить своим схематизмом и прямолинейностью. Например,
В. Днепров в статье «О творческом методе и художе-
ственных стилях» пишет: «В России, где реалистическое
искусство выступило не только с беспощадной критикой
общества, но и создало поэтические образы передовых
людей, искателей добра и правды, где литература оказа-
лась способной и к изображению высоких и положитель-
ных явлений,— именно здесь реалистическое искусство
наиболее решительно и бесповоротно вытеснило роман-
тизм. Чем решительнее и последовательнее становился
революционный демократизм Белинского, тем неприми-
римее великий критик выступал против романтизма, ис-
ходя не только из эстетических задач, но и из историче-
ских и политических; на достигнутой тогда ступени
революционной зрелости освободительного движения
неопределенность стремлений романтика не подходила
бойцу, который „в самом зле ищет путей выхода из
него“»1 2. Русскому пути развития отношений между реа-
лизмом и романтизмом противополагается путь истори-
ческого движения реализма в его соотношении с роман-
тизмом во французской литературе. Здесь, «существуя,
так сказать, «по принципу дополнительности», романтизм
вынужден приспособляться к господствующему реали-
стическому вкусу. Романтизм явным образом художе-
ственно деформируется» и выступает «не как самостоя-
тельное, «нормальное» направление, а как явление, на
котором отразились противоречия метода критического
1 С. Преображенский, А. Фадеев в работе над рукопи-
сями своих статей, «Вопросы литературы», 1957, № 1, стр. 197.
2 «Звезда», 1958, № 2, стр. 210—211.
461
реализма. Тут своего рода закономерность: чем более
исключаются возможности изображения положительного
во французской литературе критического реализма, тем
более высвобождаются возможности самостоятельного су-
ществования романтических произведений» *.
Односторонность и прямолинейность этих суждений
очевидна. В самом деле, что дают они для изучения и
понимания соотношения и взаимодействия реалистиче-
ских и романтических принципов изображения действи-
тельности в творчестве Тургенева, Гончарова, Л. Тол-
стого, А. К. Толстого, Ф. М. Достоевского, А. Н. Остров-
ского и др.?
Еще более пестрая и противоречивая картина полу-
чится, когда речь зайдет, например, о судьбах русской
исторической драмы. Следовательно, вопрос о судьбах
романтизма в истории русской литературы неотделим от
задачи конкретно-исторического исследования развития
реалистических стилей в истории русской литературы
второй половины XIX и первой половины XX века. А эта
задача до сих пор в сущности еще не вышла из сферы
подготовительных дискуссий.
Высказывалась мысль (теми, кто реализм связывает
лишь с литературами XIX века), что реализм как метод
художественного познания и отражения действительно-
сти складывается и развивается только в условиях гос-
подства капиталистического строя, глубокого раскрытия
коренящихся в нем противоречий, при очень высоком
уровне развития не только литературного искусства, но
и всего культурно-исторического развития вообще,— раз-
вития общественного сознания, философской и собствен-
но исторической мысли. Отмечалось также, что «появле-
ние в XIX веке реалистического искусства слова связано
с определенным уровнем развития самого его материа-
ла — языка художественной литературы, который, нима-
ло не теряя в своей поэтической выразительности, обре-
тает качества точности, ясности и простоты, сообщающие
ему предельную общепонятность, дающие возможность
четкого реалистического воспроизведения в слове объек-
тивно существующей действительности»1 2. Но все эти об-
щие положения не были подтверждены конкретно-истори-
1 «Звезда», 1958, № 2, стр. 211.
2 Из доклада Д. Д. Благого «Особенности русского реализма».
462
ческпм анализом ни языкового, ни литературно-художе-
ственного материала и не связывались с поисками общих
закономерностей развития художественной литературы.
7
Если не ставить себе широкой задачи — разобраться
во всех значениях и оттенках термина реализм, как он
применяется к явлениям мировой и, в частности, русской
литературы, а ограничиться узкой целью выяснения язы-
ковых и стилистических условий, создающих наиболее
благоприятную почву для возникновения и развития так
называемого «реалистического метода» или «реалистиче-
ского искусства слова» в той или иной национальной
литературе, то сразу же возникает вопрос: возможно ли
оформление реализма как целостного метода, связанного
с глубоким пониманием национальных характеров, с тон-
ким использованием социально-речевых вариаций обще-
народного языка, с художественным воспроизведением
национально-характеристических свойств разных типов в
их словесном выражении,— до образования националь-
ного языка?
Мысль о связи развития реалистических направлений
в искусстве с развитием наций, хотя и не вполне ясно и
убедительно обоснованная, высказывается в статье
Р. Самарина: «К проблеме реализма в западноевропей-
ских литературах эпохи Возрождения»1. «...Развиваю-
щийся и углубляющийся историзм, национальный характер
содержания и формы, все увеличивающиеся возмож-
ности объективного изображения человека в его разви-
тии, в его общественной обусловленности, в его личной
сложности, использование богатств национального языка
для изображения объективного мира — вот некоторые
важнейшие приметы реалистического метода в литера-
туре, вполне сложившиеся к тому времени, когда его на-
чинают определять термином «реализм» (то есть в искус-
стве XIX века)»,— пишет проф. Р. Самарин1 2. Признавая,
что единство всех этих черт проявляется только в реа-
лизме XIX века, профессор Самарин находит их начала
1 «Вопросы литературы», 1957, № 5, стр. 40 и след.
2 Т а м же, стр. 42.
463
в эпохе Возрождения. В новом искусстве этой эпохи «в
каждой стране в неповторимой своеобразной националь-
ной форме наметились черты нового творческого метода,
который на более позднем этапе своего развития будет
назван реализмом»1. Поэтому открывается возможность
ретроспективно применять этот термин и это понятие к
соответствующим явлениям литературы эпохи Возрожде-
ния. «Рождались новые нации Европы, несшие в зачатке
будущие противоречия, будущую дилемму двух культур
в единой национальной культуре. Рождались и новые
языки, новые национальные литературы Европы, из ко-
торых каждая пошла своим путем, выдвинула свои про-
блемы, свои великие имена. Процесс складывания наций
и развитие реалистических направлений в рождающейся
национальной литературе находятся в определенной
связи. Это видно на примере стран, где процесс склады-
вания наций шел особенно интенсивно — в Англии и
Франции — и даже в тех странах, где формирование на-
ций, начавшееся в эпоху Возрождения, шло затем мед-
ленными темпами (Италия, Испания). Конечно, это со-
отношение нельзя абсолютизировать и механически
навязывать всем национальным литературам. Но и игно-
рировать его было бы ошибкой». Сюда же делается при-
мечание: «Связь между этими двумя процессами — фор-
мированием нации и становлением реализма — убеди-
тельно прослеживается в ряде литератур XIX—XX веков,
стремительно возрождающихся в это время (например,
литературы балканских народов) и решительно меняю-
щих свой характер (например, японская литература
после 60-х годов XIX века или литература Индии после
второй мировой войны)»1 2. Однако чем вызвана эта связь
между зарождением реализма и образованием нации и
каков характер этой связи, Р. Самарин не объясняет. Он
даже не ставит этой проблемы. Гораздо больше усилий
профессор Р. Самарин употребляет на доказательство
того, что зарождающийся в эпоху Возрождения реализм
носит социальный характер и проникнут чувством исто-
ризма. «Формирование нового взгляда на историю чело-
вечества сказалось в сатире Эразма, в лирике дю Белле
(цикл «Римские древности»), в драматургии Шекспира.
1 «Вопросы литературы», 1957, № 5, стр. 43.
2 Там же, стр. 43—44.
464
Конечно, наивный историзм Возрождения еще безмерно
далек от глубоких исторических концепций XIX века,
легших в основу критического реализма...»1
Правда, профессор Р. Самарин готов связать генезис
реализма с народным творчеством, а расцвет народного
творчества с процессом рождения наций. Но и в этих
декларациях остается очень много неясного как с соци-
ально-исторической, так и с историко-литературной и ис-
торико-лингвистической точек зрения.
«Отличительной чертой реализма эпохи Возрождения
является вообще его тесная генетическая связь с народ-
ным творчеством, связь самая непосредственная, выра-
жающаяся не только в заимствовании сюжетов, образов,
тем, но и в языке, и в системе всех художественных
средств, и в системе стихосложения.
Народное творчество в самых различных своих фор-
мах переживает в эпоху Возрождения — а особенно в
XVI веке — пору блестящего, невиданного расцвета, свя-
занного с процессом рождения наций. Появление таких
гениев, как Рабле, Шекспир, Сервантес, Лопе де Вега,
в XIV веке — великих итальянцев, было возможно только
при условии этого могучего расцвета и на основе всего
того, что было завоевано народным творчеством в каж-
дой из этих стран в эпоху Возрождения. Итальянская
новелла и бурлескная поэзия, театр масок на ранней ста-
дии своего развития и английская баллада, английский
и испанский театры на ранних этапах их истории, немец-
кая народная песня и фастнахтшпиль, французские сотй
и фарсы, немецкие и французские народные книги
XVI века — стали могучей основой нового искусства,
смело обращавшегося к этим истокам правды, героизма,
веселья, мужества, гнева. Нет сомнения, что именно в
народных истоках, впервые так широко использованных
в литературе, оказавших широчайшее воздействие на об-
щество, следует искать подлинную основу зарождающе-
гося реалистического искусства эпохи Возрождения. Не
преуменьшая роли античной литературной традиции в
развитии реализма эпохи Возрождения, должно при-
знать, что она — фактор вторичного значения по сравнению
с народными истоками реализма эпохи Возрождения»1 2.
1 «Вопросы литературы», 1957, № 5, стр. 47.
2 Т а м же, стр. 48.
16 В. В. Виноградов 465
Между тем можно предполагать наличие строго зако-
номерного соотношения между оформлением реализма
как специфического метода словесно-художественного
изображения и процессами образования национальных
литературных языков и стилей национальных литератур.
Само собой разумеется, что здесь меньше всего можно
выдвигать общую унифицированную схему, пренебрегаю-
щую национально-историческими своеобразиями разви-
тия культур, литератур и литературных языков. Но мож-
но утверждать одно: реализм как словесно-художествен-
ная система в литературе того или иного народа не
может сложиться до образования соответствующего на-
ционального литературного языка, он возникает и разви-
вается или в связи с созданием нормы национального
литературного языка и осознанием многообразия социаль-
но-речевых стилей народно-разговорной речи, или в за-
висимости от специфических социально-исторических
условий течения этих процессов в той или иной нацио-
нальной культуре-—после того, как сформировался
национальный литературный язык, претерпел соответ-
ствующие изменения в своей структуре и в своих вза-
имодействиях с языком художественной литературы, с
ее стилями (например, во французской литературе, а
также и в литературах польской, чешской и др.).
Ведь только в процессе стайовления национального
языка и его литературных норм происходит глубокое
осознание всего внутреннего единства его системы и его
стилевого многообразия в пределах этой системы, и мно-
гочисленных его вариаций социально-речевого и внелите-
ратурно-диалектного типа, а также жаргонных откло-
нений. Вместе с тем несомненно, что постепенная фикса-
ция общенациональной нормы литературного выражения
во всех частях языковой структуры связана с углублен-
ной оценкой живых и жизнеспособных элементов народ-
но-разговорной и литературно-письменной речи и с устра-
нением или ограничением употребления форм и кон-
струкций—обветшалых, провинциально-диалектных или
социально-замкнутых. Именно в эпоху закрепления еди-
ной общенациональной нормы литературного языка полу-
чает широкое общественное признание и распространение
своеобразный историзм как нормализующая и стилеобра-
зующая категория в области литературы и литературного
языка. В истории русского литературного языка этот про-
46G
цесс достигает особенной интенсивности в 30—40-е годы
XIX века или, как часто говорят, во второй четверти
XIX века.
Характеризуя стилистику реализма, Ю. Сорокин, в
частности, говорил о русской художественной литера-
туре с 30-х годов XIX века, то есть с того времени, когда
сложилась и получила глубокое отражение и воплощение
общенациональная норма литературно-языкового выра-
жения: «Реализм отбросил старые стилевые перегородки
в языке; он призывал пользоваться всем многообразием
речевых средств общенародного языка, заботясь прежде
всего о наиболее полном соответствии слова выражаемой
идее, о конкретности речи, о точности и выпуклости рече-
вых характеристик»1.
Обращаясь к русскому средневековью, мы находим
если не билингвизм, не «двуязычие», то во всяком случае
наличие двух типов литературного языка. Оба применя-
лись и в древнерусской художественной литературе. Один
из этих типов — книжнославянский — был насыщен от-
влеченной лексикой и формулами, сложившимися в сфере
научно-богословской мысли, христианской морали и сред-
невековой религиозной символики. Стилистическая си-
стема художественного выражения, связанная с этим ти-
пом литературного языка, была далека от бытовой кон-
кретности и от многообразия жизненных характеров. По
наблюдениям Д. Лихачева, раннее средневековье не знает
чужого сознания, чужой психологии, чужих идей как
предмета объективного, самоустраненного изображения.
Чужая речь еще не дается в литературе как самостоя-
тельная. Мысль литературных героев, их внутренняя
жизнь, их высказывания, их поступки изображаются
в морализующей авторской интерпретацииi 2. Нет стили-
стической базы для изображения характеров, воплощаю-
щих специфические качества восточнославянской народ-
ности. Если в высоких жанрах древнерусской литературы
XIV—XVI веков, связанных с развитием того же книжно-
славянского типа языка, усложняется и обогащается
i Ю С. Сорокин, К истории термина «реализм» в русской
критике, ИАН ОЛЯ, т. XVI, вып. 3, 1957, стр. 198.
2 Д. С. Лихачев, Изображения людей в летописи XII—XIII в.
«Труды Отдела древнерусской литературы», т. X; его же, ,Про-
блемы характера в исторических произведениях начала XVII в.
«Труды Отдела древнерусской литературы», т. VIII.
16*
467
лексика и фразеология, относящаяся к изображению
внутренней, эмоциональной жизни человека, то все же
приближения к воспроизведению национально-характери-
стических свойств русских людей в их типическом выра-
жении и типических ситуациях здесь еще нет. Сочетание
же, а затем и переплетение книжнославянского и народ-
но-литературного типов языка в системе трех «родов гла-
голания» или трех стилей (с XVII века) приводило к
распределению образов персонажей в зависимости от их
идеологического наполнения, а иногда — и социальной
принадлежности (цари, властители, герои, монахи, пья-
ницы, дельцы, простые люди и т. д.) —по разным стилям.
Вот почему в XVII веке, когда по мнению историков
древнерусской литературы намечаются новые признаки
изображения характера, выступают лишь своеобразные
литературные маски, различные по своей экспрессивной
тональности, но, в основном, рисуемые какой-нибудь од-
ной речевой краской — или высокого слога, или фоль-
клорного, а также бытового просторечия х. Попытка про-
топопа Аввакума в своем «Житии» сочетать просторечно-
бытовую манеру изображения с книжно-агиографической,
церковнославянской не привела ни к художественному
единству, ни к целостному образу героя. Динамически
сменяющиеся кадры бытового сказа прерываются уни-
фицирующей проповедью, в которой яркие краски просто-
речия тускнеют в бледном ореоле «истинного христиа-
нина» — святого великомученика.
Наряду с пословичными персонажами, лубочными ма-
сками, комическими групповыми «силуэтами» и т. п.,
выступают и старые лики высокой книжности, подвер-
гающиеся постепенно преобразованию по правилам клас-
сицизма. Бытовые детали и просторечие, характерные для
демократической литературы XVII века, очень далеки
от приемов так называемой «реалистической рисовки»
30—50-х годов XIX века. Применение к литературным
произведениям XVII века выражения «реалистический
вымысел» не более чем эффектная фраза (противопостав-
ленная «абстрагирующему историзму»).
Деление языка художественной литературы XVIII ве-
ка на три стиля — с прикреплением к каждому из них
1 См. Д. С. Л и х а ч е в, От исторического имени литературного
героя к вымышленному, ИАН ОЛЯ, 1956, т. XV, вып. 3.
468
строго определенного жанра — не давало простора изоб-
ражению национальных характеров в их развитии. Ведь
согласно поэтике’классицизма ни одна комическая черта
не должна осквернять высокую трагедию и унижать ее
героев, и ни одна возвышенная черта не должна загряз-
пяться просторечием. Изображение отвлеченных схем по-
роков и добродетелей, способностей или чувств в виде
абстрактных человеческих сущностей статично. Для клас-
сицизма реальная действительность не живая жизнь
индивидуального человека в конкретно-исторических усло-
виях его социального существования, а механически по-
нятые и отвлеченно представляемые силы человеческой
психики или категории разума. Эстетика классицизма —
антиисторична, она направлена на мир вечных сущностей.
Само собою разумеется, что русская художественная
литература и в XVII и в XVIII веках оказывала огром-
ное влияние на процесс становления национального ли-
тературного языка и на развитие социально-речевых сти-
лей разговорной речи. Например, Г. Гуковский справед-
ливо заметил о трагедиях Сумарокова: «Без сомнения,
воздействие стихотворного диалога сумароковских тра-
гедий на речевую практику русской интеллигенции
XVIII столетия было значительно и благородно. Сумаро-
ковская простота, ясность и эмоциональность диалогиче-
ского языка дисциплинировали и воспитывали язык почи-
тателей его трагедийного творчества, не имевших до него
образцов благородного, умного и свободного разговора
о делах чувства и о делах мировоззрения»
Интересно также замечание Г. Винокура о пере-
устройстве обиходной речи русского интеллигентного об-
щества в последние десятилетия XVIII века, и далее в
первой половине XIX века, иначе говоря, об образовании
устойчивых норм разговорной формы национального ли-
тературного русского языка.
«По мере того как язык среднего слога оседал в бы-
товой, повседневной речи носителей русской националь-
ной культуры, превращаясь, таким образом, из языка
книжно-письменного в язык общий, в прежней бытовой
речи русского дворянства совершалось расслоение... Изве-
стные элементы этой речи вытеснялись из употребления,
1 «История русской литературы», т. III, Изд. АН СССР, М. Л.
1941, стр. 400.
469
отходя в область употребления вульгарного, провинци-
ального и т. п., другие, наоборот, закреплялись в упо-
треблении общем, сливаясь там в одно целое с элемен-
тами книжного происхождения. Следовательно, в какой-то
момент русской истории формы, слова, выражения жи-
вого просторечия из числа тех, которые не закреплялись
в общем употреблении, приобретали значение художе-
ственных узоров на среднем фоне нового общеупотреби-
тельного языка, совершенно так же, как это происходило
с соответствующими разрядами славянизмов. Но в сере-
дине XVIII века подобное характерологическое, специ-
фически художественное назначение элементов живой
речи принадлежало литературе, вероятно, в относитель-
но редких случаях. От исследователя художественных
свойств языка в произведениях низких жанров, во всяком
случае, требуется большой такт для того, чтобы не при-
нять общеупотребительное за сознательно отобранное»
Конечно, все эти процессы нормализации националь-
ного русского литературного языка, сопровождавшиеся
развитием и осознанием новой системы функционально-
речевых стилей, а также новых способов группировки
социально-речевых характеристических примет у пред-
ставителей разных сословий и профессиональных групп,—
углубляли и расширяли способы и возможности сло-
весно-художественного изображения персонажей из раз-
ных социальных сфер. Уже в XVII веке обозначались
новые приемы литературной рисовки разных социально-
групповых портретов — монахов, кабацких ярыжек, пев-
чих и т. п., особенно в сатирическом плане. В литературе
XVIII века черты социально-профессиональной харак-
терологии выступают еще резче и острее. Но даже
у наиболее оригинальных писателей второй половины
XVIII века и самого начала XIX века социально-рече-
вые приметы образов литературных персонажей лишены
семантической глубины и психологической перспективы.
Так, у Фонвизина в комедии «Бригадир» речь персона-
жей пародически представляет или комически утрирует
различия между социально-речевыми стилями разных
слоев дворянства середины и третьей четверти XVIII века.
Речь советника — смесь церковнославянского языка
1 «История русской литературы», т. IV, Изд. АН СССР,
М.— Л. 1947, стр. 111—112.
470
с приказно-канцелярским стилем; речь советницы и
Иванушки — отражение жаргона петиметров, щеголей и
щеголих XVIII века, речь бригадира содержит в значи-
тельной дозе выражения военной социально-групповой
лексики с сильной примесью низкой простонародности;
речь бригадирши целиком погружена в атмосферу про-
винциально-помещичьей «простонародности». Речь Со-
фии и Добролюбова воплощает авторское понимание
норм и форм книжно-публицистической речи. Однако
вся эта сложная социально-стилевая дифференциация
речевых стилей внутри комедии не направлена на углуб-
ленное воспроизведение характеров. Дело в том, что
экспрессивно-профессиональные или социально-группо-
вые краски здесь не создают психологической глубины
изображения. Они используются чаще всего как средства
комической рисовки и комических контрастов.
По замыслу Фонвизина, речь представителей разных
групп русского общества настолько различна, что эти
персонажи не в состоянии понять друг друга. Следова-
тельно, динамика речевого движения в диалогическом
потоке скована. Внутренние связи, соотношения и кон-
трасты образов персонажей, образующие «подводное
течение» реалистической драмы, здесь отсутствуют.
Речевое взаимонепонимание становится источником
комических каламбуров. Так, бригадирша не разумеет
смысла церковнославянских ходячих аллегорий в речи
советника и вкладывает в них прямое бытовое содер-
жание:
«Советник. Нет, дорогой зять! Как мы, так и
жены наши, все в руце создателя. У него все власы
главы нашея изочтены суть.
, Бригадирш а. Ведь вот, Игнатий Андреевич. Ты
меня часто ругаешь, что я то и дело деньги да деньги
считаю. Как же это? Сам господь волоски наши считать
изволит, а мы, рабы его, мы и деньги считать леним-
ся,— деньги, которые так редки, что целый парик изо-
чтенных волосов насилу алтын за тридцать достать
можно» (действие I, явление 1).
После другой такой же сцены непонимания (дей-
ствие II, явление 3) бригадирша признается: «Я церков-
ного-то языка столько же мало смышлю, как и француз-
ского».
С той же комической нарочитостью речь офранцузив-
471
Шихся петиметров и щеголих противопоставляется про-
сторечию старого поколения дворян1.
Художественная литература конца XVIII века, содей-
ствуя образованию единой системы русского националь-
ного литературного языка и кодификации его норм (ино-
гда в узком, классовом, социально ограниченном их по-
нимании), в то же время отражала и социально-групповые
различия между разными разговорными стилями рус-
ского общества и тем самым способствовала осознанию
стилистического многообразия языка при внутреннем
единстве его структуры. Так, по мнению П. Н. Беркова,
к которому он пришел в результате внимательного изу-
чения языка русской комедии XVIII века, «реальный
язык русского общества XVIII века в различных классо-
вых его проявлениях может быть лучше всего изучен
именно в, так сказать, массовой комедии тех лет, в каком-
нибудь «Зговоре» Лукина (издан анонимно в 1783 г.), в
«Походе под шведа» И. Кокошкина (1790), в «Побеге
от долгов, или раскаявшемся моте» И. Нехачина (1792)
и т. д. и т. д.»1 2.
Передовые писатели второй половины XVIII и начала
XIX веков (Фонвизин, Новиков, Радищев, Державин,
Карамзин, Крылов и другие) с разных сторон и в раз-
ных направлениях открывают в литературе новые сред-
ства словесного выражения и новые сокровища «природ-
ного» русского слова. Их творчество уже не умещается в
формальные рамки теории трех стилей. Они производят
сложную перегруппировку литературно-речевых элемен-
тов. Вслед за Новиковым Карамзин стремился (правда,
с очень большими стилистическими ограничениями, про-
диктованными классовым пониманием путей развития как
языка художественной литературы, так и общелитератур-
ного языка) дать образцы доступного широкому чита-
тельскому кругу одного языка «для книг и для общества»,
чтобы «писать, как говорят, и говорить, как пишут».
В первые три десятилетия XIX века яснее вырисовы-
ваются новые стилистические нормы единой и целостной
системы русского литературного языка. Пушкин в своем
1 См. мои «Очерки по истории русского литературного языка
XVII-XIX вв.», изд. 2-е, М. 1938, стр. 149.
2 П. Н. Берков, О языке русской комедии XVIII в., ИАН
ОЛЯ, 1949, т. VIII, вып. I, стр. 49.
472
творчестве разрешает проблему литературного выраже-
ния «глубоких чувств» и «поэтических мыслей» посред-
ством самой простой народной речи. Принудительная
связь жанра и стиля языка разрывается. Возникают и
укрепляются новые литературные жанры (например, ро-
мантическая и историческая поэма, роман в стихах, сти-
хотворная повесть и т. д.). Язык одного и того же худо-
жественного произведения свободно совмещает в себе
самые разнообразные формы речи, прежде разобщенные
и разделенные по трем стилям (например, язык «Евгения
Онегина», «Медного всадника» и других). При наличии
общей твердой нормы национально-языкового выраже-
ния свободно развиваются многообразные функциональ-
ные социально-речевые и индивидуальные стили лите-
ратурной речи. Романтизм ускорил процесс развития ин-
дивидуальных стилей, привил интерес к истории, правда,
при очень условном понимании задач художественно-исто-
рического изображения. Понятия исторической характер-
ности и народности, выдвинутые романтизмом, подверга-
ются в творчестве Пушкина коренному «реалистическому»
преобразованию. Культивируется принцип объективно-
исторического соответствия стиля изображаемому миру
действительности. Новые глубокие художественные гори-
зонты открывает историзм как метод мышления и лите-
ратурного изображения. В укреплении и развитии скла-
дывающейся новой системы художественного изображе-
ния огромную роль сыграло творчество Пушкина,
особенно с конца 20-х годов XIX века. Историческая дей-
ствительность, по Пушкину, должна изображаться в свете
ее культурного стиля, в свете ее собственных социаль-
ных, в том числе и речевых, норм, вкусов и оценок. Так,
в творчестве Пушкина заложены были общие основы
«реализма» как системы словесного искусства и даны та-
кие образцы нового метода, как «Капитанская дочка» и
«Пиковая дама». С гораздо большей полнотой и широтой'
реализм раскрылся лишь в стилистике и поэтике так на-
зываемой «натуральной школы» 40—50-х годов XIX века.
Образование национального литературного языка-,
ведет к коренному изменению понятия «народности»
литературы. Этот вопрос привлек к себе обостренное
внимание Пушкина, Гоголя и Белинского. Все они были
согласны в том, что принцип народности в литературе
определяется глубиной художественного проникновения
473
в сущность народной жизни и соответствующими истори-
ческой действительности. средствами ее речевого вос-
произведения.
И. С. Тургенев в рецензии на «Повести, сказки и рас-
сказы казака Луганского», помещенной в «Отечественных
записках» за 1846 год, писал: «У нас еще господствует
ложное мнение, что тот-де народный писатель, кто гово-
рит народным язычком, подделывается под русские шу-
точки, часто изъявляет в своих сочинениях горячую лю-
бовь к родине и глубочайшее презрение к иностранцам...
Но мы не так понимаем слово «народный». В наших гла-
зах тот заслуживает это название, кто, по особому ли
дару природы, вследствие ли многотревожной и разно-
образной жизни, как бы вторично сделался русским, про-
никнулся весь сущностью своего народа, его языком, его
бытом. Мы употребляем здесь слово «народный» не в том
смысле, в котором оно может быть применено к Пушкину
и Гоголю,— но в его исключительном, ограниченном зна-
чении. Для того, чтобы заслужить название народного
писателя в этом исключительном значении, нужен не
столько личный, своеобразный талант, сколько сочув-
ствие к народу, родственное к нему расположение, нужна
наивная и добродушная наблюдательность» х.
Социально-историческая основа литературного воспро-
изведения жизни разных слоев народа в их типических
представлениях заключается в глубоком знании их быта,
их культуры, их социально-речевой стилистики.
Точно так же французские реалисты конца 40-х,
начала 50-х годов, опираясь «на традиции, выработан-
ные французской литературой уже в 30-е годы... требо-
вали точного воспроизведения действительности в ее обы-
денности, серости и скуке, изображения средних классов,
мелкой буржуазии по преимуществу, провинциального
мещанства, богемы, требовали непременно прозы, прозы
грубой, необработанной, как обыкновенная речь, и вме-
сте с тем «чувства», которое возникает при непосред-
ственной встрече писателя с грустной или веселой дей-
ствительностью. Глупость торговца в отставке, дурной за-
пах на лестнице, засаленный костюм консьержа, добрая
женщина, пекущая пироги, затравленный учениками и
1 И. С. Тургенев, Собр. соч., т. И, Гослитиздат, М. 1956,
стр. 99—100.
474
дирекцией школьный учитель,— все это восхищало своей
правдивостью и непретенциозностью»...1
«В острой полемике», возникшей вокруг этой школы,
под словом «реализм» сначала понимали бытопись, со-
временную тему, «низкие» сюжеты, пошлые персонажи,
отсутствие «идеала», отсутствие идеального героя в том
смысле, в котором понимали эти слова прежде, эмпи-
рическое изображение деталей»1 2.
В. Г. Белинский в своем обзоре «Русская литература
в 1845 году» писал: «Если бы нас спросили, в чем со-
стоит существенная заслуга новой литературной шко-
лы,— мы отвечали бы: в том именно, за что нападает
на нее близорукая посредственность или низкая зависть,—
в том, что от высших идеалов человеческой природы и
жизни она обратилась к так называемой «толпе», исклю-
чительно избрала ее своим героем, изучает ее с глубоким
вниманием и знакомит ее с нею же самою. Это значило
повершить окончательно стремление нашей литературы,
желавшей сделаться вполне национальною, русскою, ори-
гинальною и самобытною; это значило сделать ее выра-
жением и зеркалом русского общества, одушевить ее
живым национальным интересом»3.
8
Таким образом, к 30—40-м годам XIX века опреде-
лились нормы русского национального литературного
языка и наметились пути дальнейшего развития языка
русской художественной литературы. В русской литера-
туре стремительно протекает процесс словесно-художе-
ственного отражения и воплощения современной и прош-
лой жизни русского общества во всем разнообразии ее
классовых, профессиональных и других социально-груп-
повых разветвлений. Этой цели служили ярко обозначив-
шиеся в творчестве Пушкина два принципа художествен-
ного изображения: принцип широкого использования
социально-речевых стилей изображаемой общественной
1 Б. Реизов, О литературных направлениях, «Вопросы ли-
тературы», 1957, № 1, стр. 106—107.
2 Там же, стр. 107.
3 В. Г. Белинский, Собр. соч. в 3-х томах, т. 3, Гослитиз-
дат, М. 1948, стр. 15.
475
среды, в качестве ее собственного речевого само-
определения, связанного с ее бытом, ее культурой и
ее историей, и принцип воспроизведения социальных ха-
рактеров с помощью их собственных «голосов» как в
формах диалога, так и в формах «чужой» или непрямой
речи в структуре повествования. Вот — характерная
иллюстрация из пушкинских неоконченных «Записок
молодого человека», частично включенных в компози-
цию «Станционного смотрителя»:
«Давно ли я был еще кадетом? Давно ли будили
меня в 6 часов утра, давно ли я твердил немецкий урок
при вечном шуме корпуса? Теперь я прапорщик, имею в
сумке 475 р., делаю что хочу и скачу на перекладных в
местечко В., где буду спать до 8 часов и где уже никогда
не молвлю ни единого немецкого слова...
При мысли о моей свободе, об удовольствиях пути и
приключениях, меня ожидающих, чувство несказанной
радости, доходящей до восторга, наполнило мою душу.
Успокоясь мало-помалу, наблюдал я движение перед-
них колес и делал математические исчисления. Нечув-
ствительным образом сие занятие меня утомило, и путе-
шествие уже казалось мне не столь приятным, как сна-
чала»1.
Однако — при всей широте и свободе изображения
характеров — стиль Пушкина в основном не выходит да-
леко за границы устанавливающейся национальной нор-
мы литературно-языкового выражения. Он чуждается
экзотики народно-областных выражений, почти не поль-
зуется разговорными арготизмами (кроме игрецких —
карточных в «Пиковой даме», военных, например, в «До-
мике в Коломне», условно-разбойничьих в «Капитанской
дочке», которые все требуются контекстом воспроизво-
димой действительности). В стиле Пушкина очень огра-
ничено применение элементов профессиональных и со-
словных диалектов города (ср. в «Женихе», в «Гробов-
щике» и других). Пушкин, в общем, лишь для углубления
экспрессивно-семантической перспективы изображения
прибегает к краскам канцелярской речи и разговор-
но-чиновничьего диалекта, которые играют такую зна-
чительную роль в стиле произведений Гоголя и Достоев-
1 А. С. Пушкин, Поли. собр. соч., т. VIII, Изд. АН СССР,
М—Л. 1948, стр. 403.
476
ского. Словом, стилю Пушкина еще чужды резкие
приемы социально-речевой, профессиональной, жаргон-
ной и отчасти народно-областной типизации, столь ха-
рактерные для «реалистических стилей» натуральной
школы 40—50-х годов.
Сближение языка русской художественной литера-
туры со стилями народно-разговорной речи и устной
народной словесности в 30—50-х годах XIX века было
тесно связано с созданием национально-типических об-
разов персонажей из разной социальной среды. Укреп-
лявшийся в передовой русской литературе этого времени
реализм как метод литературного изображения истори-
ческой действительности в соответствии со свойствен-
ными ей социальными различиями быта, культуры и
речевых навыков требовал от писателя широкого зна-
комства со словесно-художественными вкусами и со-
циально-речевыми стилями разных сословий, разных
кругов русского общества. Жизненные обороты и инто-
нации, сила реальной характеристики речей гоголевских
персонажей настолько поражали современников, что
высказывалось мнение: «автор — стенограф»1. Ни один
из русских писателей не создал такого, как Гоголь, ко-
личества типов, которые вошли бы в литературный и
бытовой обиход в качестве имен нарицательных. Однако
гоголевские типы даже бедных людей были лишены
внутреннего психологического самораскрытия. Поэтому
Достоевский, А. Плещеев, А. Пальм, Некрасов, Д. Гри-
горович, Тургенев, Салтыков-Щедрин и другие в сере-
дине 40-х годов выдвинули новую задачу аналитиче-
ского изображения внутреннего мира национально-типи-
ческих характеров из разных социальных сфер, преиму-
щественно низшего круга, с помощью их речевого
самораскрытия.
9
Для характеристики этих новых приемов изображе-
ния социальных характеров целесообразно произвести
более или менее подробный анализ речи Макара Девуш-
1 См. мою статью «Язык Гоголя и его значение в истории рус-
ского языка». Сб. «Материалы и исследования по истории русского
литературного языка», т. Ill, М. 1953, стр. 18—20.
477
кина из «Бедных людей» Достоевского. Это — важная
веха в развитии русского реализма.
В «Бедных людях» Достоевского образ «сказочника»
отпечатлевается в эпиграфе (из рассказа кн. В. Ф. Одо-
евского «Живой мертвец») как своеобразной форме
«предисловия». Однако авторское «я» не показано здесь
непосредственно. Оно даже как индивидуальный образ
не выделяется из общей категории «сказочников». Пре-
поднесена иронически, то есть с требованием обратного,
«непрямого» осмысления, оценка мнимого «читателя»
(фактически — писателя, загримированного под опреде-
ленный сорт читателей), направленная к целой школе
«натуральных» сказочников: «Ох, уж эти мне сказоч-
ники! Нет чтобы написать что-нибудь полезное, прият-
ное, усладительное, а то всю подноготную в земле вы-
рывают!.. Вот уж запретил бы им писать! Ну на что это
похоже? читаешь... невольно задумаешься,— а там вся-
кая дребедень и пойдет в голову; право бы запретил им
писать; так-таки просто вовсе бы запретил». Этот ро-
пот «читателя» — ироническая самохарактеристика авто-
ра. В нем утверждается как конструктивная форма ро-
мана образ писателя определенной художественной идео-
логии: сказочник — враг «приятной, усладительной»
манеры изображения; он трагически срывает покровы с
интимных тайн, «всю подноготную в земле вырывая»; он
стремится разбудить в голове читателя «запретные»,
опасные вопросы. Конечно, именно так осмысляется
эпиграф лишь на фоне всей композиции «Бедных лю-
дей». Первоначально же он только настраивает на по-
иски «запретных» мыслей, «всякой дребедени». Образ
рассказчика ищется теперь в формах построения обра-
зов персонажей, «авторов» переписки.
В дальнейшем предметом анализа будет лишь речь
Макара Девушкина.
Речь Девушкина строится из таких слов, фраз и их
композиционных вариаций, в которых социально-экс-
прессивные оттенки или непосредственно ведут к образу
«старого, неученого» титулярного советника, или не про-
тиворечат его структуре, ее не ломают. Основа речи Де-
вушкина—разговорное городское «просторечие», в ко-
тором добрую половину составляет фразеология мелкого
служило-чиновничьего сословия, играющая такую суще-
478
ственную роль в процессе образования и эволюции бы-
товой городской речи XIX века1.
В «Бедных людях» слой просторечия художественно
приспособлен к выражению заданного «характера». Об-
раз Девушкина рисуется Достоевским не только как ин-
дивидуальный характер, но и как символ известной со-
циально-общественной категории (мелкого городского
чиновничества). Эта сторона литературной личности Де-
вушкина создается в формах непосредственно-открытой
«чиновничьей» экспрессии его речи. «Письмо такое чет-
кое, хорошее, приятно смотреть и его превосходительство
довольны; я для них самые важные бумаги перепи-
сываю». Художественно демонстрируются социально-ре-
чевые и вместе характерологические сигналы мелкочи-
новничьей «сущности». Речь Девушкина прежде всего
«оканцелярена». Она местами подходит к формам док-
лада, «отношения», пестрит формулами, терминами кан-
целярского делопроизводства или близкими к ним.
Рядом с формами чиновничье-разговорной речи1 2
утверждается стилистика канцелярской письменности3.
Другие разновидности этой речи художественно при-
способлены к тем стилистическим формам, которые за-
1 Примеры этого «просторечия»: «Затирает ее в работу словно
ветошку какую-нибудь»; «И, святые вы мои! о чем заговорит, за-
несет подчас!..» «...деньгу уметь зашибить...» «...Это я все у них
наметался...» «...Пятьсот дай не дай, хоть тресни, да дай! а нет —
так мы тысячу другой раз в карман кладем» (в смысле: «по-
лучаем»). «Зашиб бы я себе славу, Варенька»; «...жили тогда со
мною стенка об стенку человек пятеро молодого, раззадорного на-
роду»} «...чтобы и в твою конуру не пробрались». «Это Емеля подбил
меня, я и пошел к нему —к офицеру-то».
Ср. употребление иностранных слов: «...а мы потом уж там вне
дома где-нибудь рандеву дадим», «...испечет тебе пашквиль» и т. д.
(Все цитаты даются по первому изданию «Бедных людей»).
2 «Делу дадут другой смысл»; «кабалу стряпал что ли какую-
нибудь?» «...Отнеслись намедни в частном разговоре Евстафий Ива-
нович...» «Вот потому-то я и службой не взял». «Каждый чин тре-
бует совершенно соответственной по чину распеканции». «Бла-
гообразие всегда умеет найти». «Присудили выправить в его пользу
с купца знатную сумму денег...»
Как чиновничья воспринимается экспрессия таких выражений:
«Ну, так вот, вчера подходит ко мне Тимофей Иванович, и лично
изволит показывать, что — вот, дескать, бумага нужная, спешная...»
3 «...не полагайте чего-нибудь предосудительного». «Книжку
вашу, полученную мною 6-го сего месяца, спешу возвратить вам...»
«...в нарушении общественного спокойствия... никогда не замечен».
479
даны как основные социально-языковые приметы об-
раза. Они выходят за пределы норм общего письменного
языка.
«Просторечие» в системе литературного языка часто
по своей стилистической окраске сближается с архаи-
ческой стихией, теряющей широкое употребление. На
этом принципе социально-речевых соотношений основан
широкий влив в речь Девушкина устарелой для свет-
ского быта 40-х годов церковно-книжной фразеологии.
Например: «Воздадим благодарение небу». «...Всякое
состояние определено Всевышним на долю человече-
скую». «...Из многих мест в честь ему хвалы воссылают-
ся и слезы благодарности льются...» «Добрые дела не
остаются без награды и добродетель всегда будет увен-
чана венцом справедливости божией...»
Любопытны здесь приемы разрушения целостности
привычно-литературных фраз. Этим путем язык Девуш-
кина выводится за пределы интеллигентской речи. На-
пример: «для утоления жажды, так только единственно
для жажды».
Кроме церковнославянской лексики, речь Девуш-
кина из круга тех архаических формул книжной или
письменной речи, которые нередко переходили затем и
в разговорно-бытовой язык, берет банальную фразеоло-
гию «галантных» изъявлений, обычно придавая ей офи-
циально-чиновничий колорит: «Завтра же буду иметь
наслаждение удовлетворить вас вполне...» «Я, маточка,
почел за обязанность тут же и мою лепту положить».
«Изъявляете желание, маточка, в подробности узнать
о моем житье-бытье и обо всем меня окружающем».
«Они (генерал) доселе не оказывали мне особенных зна-
ков благорасположения».
Печать архаической чувствительности носят и рито-
рические фигуры чиновничьего «философствования»:
«Сравнил я вас с птичкой небесной на утеху людям и
для украшения природы созданной...» «Мы, люди, жи-
вущие в заботе и треволнении, должны тоже завидовать
беззаботному и невинному счастью небесных птиц».
В этом плане необходимо рассматривать и торже-
ственные эвфемизмы Девушкина, вроде: «Аксентий Ива-
нович таким же образом дерзнул на личность Петра
Петровича» (в смысле: ударил по лицу).
И сюда же должны быть отнесены приемы канце-
480
лярской синтагматики фраз: «Как гражданин считаю
себя собственным сознанием моим как имеющего свои
недостатки, но вместе с тем и добродетели».
Фразы и конструкции книжно-письменной речи
(иногда с оттенком старомодности) могут и не иметь
непосредственно в своем семантическом облике привкуса
«просторечности», но получать этот привкус из контек-
ста, от непривычного соседства с разговорной или вуль-
гарной фразеологией, от нарушенного употребления:
«Я на досуге во внутренность сердца моего проник»;
«вот уже скоро тридцать лет стукнет моему служебному
поприщу...»; «купил у него духов каких-то, да мыла
благовонного на весь капитал». «Сброд этих лизо-
блюдников разных и старикашек негодных вас, моего
ангельчика, на болезненный одр свести хочет».
Ср.: «но он [кусок хлеба] есть, трудами добытый,
законно и безукоризненно употребляемый». «Посылаете
мне еще полтинничек, Варенька, и этот полтинничек мне
мое сердце пронзил».
Городское «просторечие», чиновничий и канцелярский
жаргоны, разные виды книжной речи, перемещенные во
внеинтеллигентский социальный круг,— являются теми
«литературными» формами, при посредстве которых пи-
сатель-реалист относит своего героя к социально-быто-
вой почве. Так Достоевский создает иллюзию бытового
правдоподобия образа Девушкина, «соотнесенности» его
с реальной категорией мелкого чиновничества. Но этой
социальной природой, ограждаемой условными стили-
стическими сигналами, содержание образа Девушкина
не исчерпывается. В формах его индивидуализации от-
крывается выход за пределы социально-бытовой связан-
ности. Эта индивидуализация образа создается «лич-
ностными», субъективно-экспрессивными формами стиля.
В кругу субъективно-экспрессивных форм девуш-
кинского стиля прежде всего выделяются формы харак-
теристические, формы, конституирующие самый образ
Девушкина, как «бедного человека», как персонажа
«мещанской» драмы и одновременно социально-идеологи-
ческого романа с сентиментальной окраской. Эти формы
удобнее показать на примерах, чем схематически пере-
числить. Вот пример искусно построенной «обмолвки»
о кухне, «обмолвки», которую Девушкин неудачно ста-
рается эвфемистически затушевать описаниями и кото-
481
рая вновь прорывается, утверждаясь как сообщение о
«действительности».
«Я живу в кухне, то есть что я? Обмолвился, не в
кухне, совсем не в кухне, а знаете вот как: тут подле
кухни есть одна комната (а у нас, нужно вам заметить,
кухня чистая, светлая, очень хорошая), ну так вот, как
я вам сказал, есть одна небольшая комнатка, уголок та-
кой скромный... вот видите ли, кухня большая в три
окна, так у меня вдоль поперечной стены перегородка,
так что и выходит как бы еще комната, нумер сверх-
штатный; все просторное, удобное, и окно есть, и все,—
одним словом, совершенно удобное. Ну, вот это мой уго-
лочек. Ну, так вы и не думайте, маточка, чтобы тут что-
нибудь такое; чтобы тут тайный смысл какой был: что
вот дескать кухня! — то есть я, пожалуй, и в самой этой
комнате за перегородкой живу, но это ничего... Я себе
ото всех особнячком, помаленьку живу, втихомолочку
живу...». Здесь все — и спотыкающееся течение как бы
непрестанно извиняющейся, прячущей лишения речи, и
амбиция, заставляющая стыдливо отрицать свой угол в
кухне, и эвфемистические замещения неприятного слова
термином из чиновничьего языка — нумер сверхштатный,
и мнительная боязнь «тайного смысла», который может
быть извлечен «чужим человеком» из его речи, и робкие
успокаивающие ссылки на «гордость» бедняка, живу-
щего «особняком»,— все эти стилистические приметы
непосредственно ведут к образу Девушкина и опреде-
ляют его сюжетную позицию в романе1.
1 В конце письма опять беспокойное возвращение к теме о ком-
нате: «Вы, впрочем, не думайте чего-нибудь и не сомневайтесь, ма-
точка, обо мне-то, что я такую комнату нанял. Нет, это удобство
заставило, одно удобство соблазнило меня. Я ведь, маточка, деньги-
то коплю, откладываю; у меня денежка-то водится. Вы не смот-
рите на то, что я такой тихонькой, что, кажется, муха меня кры-
лом перешибет. Нет, маточка, я про себя-то не промах. Ну, так вы
насчет меня и успокойтесь, родная моя, и не полагайте чего-нибудь
предосудительного...»
Ср. другие виды «поправок» в письме, отвергающем «роман-
тические» фигуры первого любовного послания и настойчиво твер-
дящем о «старости»: «Да, подшутили вы надо мной, стариком...
Не пускаться бы на старости лет с клочком волос в амуры, да в
экивоки...» «Неприлично мне на старости лет в составлении стиш-
ков упражняться...» «Мы, старые, то есть пожилые люди, к старым
вещам, как к родному чему, привыкаем». И в конце письма: «Стар
я стал, матушка Варвара Алексеевна, чтобы попусту зубы-то ска-
лить! И надо мной засмеются, жоли я других начну пересмеивать...»
482
Наивно-детский, заплетающийся, пересыпанный ста-
ромодными словами, комичный сильным чиновничьим
налетом и внелитературным употреблением иностранных
слов, с высот фантазии срывающийся к сапогам (кото-
рые образуют индивидуальную примету, постоянный об-
раз в портрете и речи Девушкина — в противовес образу
шинели для гоголевского Акакия Акакиевича),— вот
характеристический стиль мечтаний бедного человека:
«Ведь каково это было бы, когда бы всякий сказал, что
вот-де идет сочинитель литературы и пиита Девушкин,
что вот, дескать, это и есть сам Девушкин. Ну, что бы
я тогда, например, с моими сапогами стал делать? Они
у меня, замечу вам мимоходом, маточка, почти всегда
в заплатах, да и подметки, по правде сказать, отстают
иногда весьма неблагопристойно. Ну, что тогда б было,
когда бы все узнали, что вот у сочинителя Девушкина
сапоги в заплатках! Какая-нибудь там контесса-дюшесса
узнала бы, ну, что бы она-то, душка, сказала?..»
Той же «характерностью» запечатлены приемы ис-
пользования речевых форм, носящих острый привкус
чиновничьей экспрессии подобострастия: «Я, маточка,
рассчитал сегодня, как мне будет лучше и удобнее его
превосходительству долг отдать. А отдать-то как можно
поскорее нужно; непременно нужно, Варенька. Они и
сами-то человек не богатый. Они мне сами во всем при-
знались. Конечно, у них здесь и домик свой есть, и даже
два домика есть, и деревенька-другая есть, но как же
вы хотите, маточка, как же вы это так хотите, они ведь
жить-то должны не по-нашему. Ведь они, ангельчик мой,
лицо. Они человек не простой, не наш брат темный че-
ловек. Они, там, по-своему должны фигурировать. У них,
вон, звезда есть, дескать, знай наших — вот что! Так вот
и отдать им, по сему случаю, нужно как можно скорее...»
Тут такие выражения, как «они — лицо», «они чело-
век не простой, не наш брат темный», «они по-своему
должны фигурировать», отражающие экспрессию мелко-
чиновничьего «благоговения», сочетаются с типичными
для простодушного Девушкина наивными осмыслениями
генеральской психологии и генеральского быта («У них,
вон, звезда есть, дескать, знай наших —вот что!») и с
мнительной тревогой убеждений, обращенных к Варень-
ке, в необходимости скорейшей уплаты долга.
Эти характеристические формы речи самим Девушки-
483
ным с скрытым юмором иногда комментируются со свое-
образной стилистической точки зрения. Он так обсуждает
вопрос о применимости к своему образу клички «ло-
велас», которая дана ему Ротозяевым. «А что тогда лове-
ласом-то он меня назвал, так это вовсе не брань или
название какое неприличное: он мне объяснил. Это сло-
во в слово с иностранного взято и значит проворный ма-
лый, и если покрасивее сказать, политературнее, так зна-
чит парень-плохо не клади — вот! А не что-нибудь та-
кое... Шутка невинная была, ангельчик мой, а я-то неуч
сдуру и обиделся...»
Кроме того, непосредственное обнажение характери-
стических форм речи Девушкина происходит при пере-
сказе, как бы при переводе
рассуждений Вареньки:
Например у Вареньки:
«Знает бог, буду ли я сча-
стлива; в его святой неис-
поведимой власти судьбы
мои, но я решилась...»
им в свою речевую систему
у Девушкина:
«Конечно, во всем воля бо-
жия; это так, это непремен-
но должно быть так; то
есть тут воля-то божия не-
пременно должна быть; и
промысел творца небесно-
го, конечно, и благ и неис-
поведим, и судьбы тоже, и
они то же самое,— Федора
тоже в вас участие прини-
мает» *.
Этой экспрессивной «характерностью», по которой
узнается индивидуальный образ Девушкина, окрашен
каждый отрезок девушкинского письма, так как в каж-
дом атоме его речи запечатлена структура его лично-
сти. Все письма вместе и клочок любого из них говорят
об одном образе, светятся его стилем и экспрессией. По-
добно тому, как социально-языковые сигналы узкопро-
фессионального, сословного или классового круга полу-
1 Для надлежащего понимания сопоставляемых фраз необхо-
димо помнить, что Девушкин писал это «сам не свой».
484
чают в реалистическом искусстве обобщенное значение
и поэтому, являясь знаками социологического определе-
ния героя, в то же время разрушают, стирают эту кре-
постную зависимость персонажа от литературно присво-
енной ему социальной среды, точно так же и характери-
стические формы личности могут стать приемом
реалистического обобщения «характера» до пределов
общенациональных или общечеловеческих. Это кажется
парадоксальным. Тем не менее роль характеристических
примет в речи Девушкина действительно двойственна.
С одной стороны, они определяют его литературную фи-
зиономию как драматического персонажа, раскрываю-
щего себя в сказово-письменных монологах; с другой,—
при их посредстве закрепляются за Девушкиным такие
формы выражения и такие формы «личности», которые
явно выводят его образ из рамок персонажа сказово-
драматической новеллы и делают его «маской» образа
автора-сказочника.
«Авторство» Девушкина усложняет словесную компо-
зицию его образа. Оно связано с тайными «экскурсиями»
Девушкина за пределы мелкочиновничьей сферы выра-
жения. Характерологические формы не только «устанав-
ливают» образ персонажа-рассказчика, но и создают
прикрытие для вылазок самого «автора» в стан Девуш-
кина. Язык «бедного человека» как бы закован в цепи
характеристических приемов лексико-синтаксической
организации. Ими, этими приемами, погашаются, ней-
трализуются противопоказания семантических форм бо-
лее литературного, «интеллигентского» типа, которые не-
редко вставлены в мозаику девушкинских писем. Напри-
мер, фразы: «воздух дышит весенними ароматами, и вся
природа оживляется»,— кажутся слишком «литератур-
ными» для Девушкина. Они выступают над плоскостью
девушкинской речи. Однако такое значение приобретают
они лишь в том случае, если их вынуть из экспрессивно-
го контекста, в котором их стилистический облик ассими-
лируется окружением. Их литературность ослабляется
соседними фразами, а потом даже решительно преодо-
левается разговорно-чиновничьим заключением: «Что это
какое утро сегодня хорошее, маточка! У нас растворили
окошко; солнышко светит, птички чирикают, воздух ды-
шит весенними ароматами, и вся природа оживляется —
485
йу, и остальное там все было тоже соответственное; все
в порядке по-весеннему» L
Есть такие примеры, где отклонение в сторону «ли-
тературности» еще больше. Оно затем как бы уравнове-
шивается напряжением характеристических форм:
«Квартирка-то была, знаете, маленькая такая: стены
были... ну, да что и говорить-то! — стены как стены, не
в стенах и дело, а вот воспоминания-то обо всем моем
прежнем на меня тоску нагоняют... И странное дело —
все приятные такие воспоминания. Даже что дурно было,
на что подчас и досадовал, и то в воспоминаниях как-то
очищается от дурного и предстает воображению моему
в привлекательном виде1 2. Тихо жили мы, Варенька; я
да хозяйка моя, старушка, покойница... Хорошая была
она женщина и недорого брала за квартиру...»
«...У меня все сердце надорвалось, и потом всю ночь
мысль об этих бедняках меня не покидала, так что и за-
снуть не удалось хорошенько».
«Ну, как же, Варенька, уступил я более из сострада-
ния к человечеству, чем по собственному влечению. Так
вот как грех этот произошел, маточка! Мы уж как вме-
сте с ним плакали! Вас вспоминали. Он предобрый, очень
добрый человек, и весьма чувствительный человек»3.
Особенно внушительно отступление в сторону лите-
ратурного повествования в рассказе о смерти Горшкова:
«Она рассказывает, что она работала с полчаса и так
погрузилась в размышление, что даже не помнит, о чем
она думала, говорит только, что она и позабыла об му-
же. Только вдруг она очнулась от какого-то ощущения,
и гробовая тишина в комнате поразила ее прежде всего.
Она посмотрела на кровать и видит, что муж лежит все
в одном положении...»
1 Любопытно, что в ответном письме Вареньки Доброселовой
эта фраза пародически сломана: «благоухания летают, и птички
чирикают».
2 Ср. в повести Вареньки: «Воспоминания, радостные ли, горь-
кие ли, всегда мучительны; по крайней мере так у меня; но и муче-
ние это сладостно...»
3 Ср. начало письма от 5 сентября: «Я сегодня, ангельчик мой,
много испытал впечатлений... По небу ходили длинными широкими
полосами тучи. Народу ходила бездна по набережной, и народ-то,
как нарочно, был с такими страшными, уныние наводящими лица-
ми...» Здесь экспрессия отдельных слов вводит «литературное» по-
вествование в контекст девушкинских писем.
486
Литературность словаря и синтаксиса этого отрезка,
не прерываемая ни одним сигналом девушкинского го-
вора, заставляет связывать «авторство» с самим «ска-
зочником». Этот рассказ о смерти Горшкова, со слов его
жены, не требует драматического созерцания облика Де-
вушкина, предполагает уход персонажа за кулисы. Вот
почему непосредственно за этим отрезком —как бы в
возмещение стилистического перерыва — субъективность,
«характерность» девушкинской речи стремительно ра-
стет, и назойливо мелькает личность Девушкина, как
повествователя, с его специфическим или индивидуаль-
но-характеристическим отношением к событиями Она по-
дошла к нему, сдернула одеяло, смотрит, а уж он холо-
денек — умер, маточка, умер Горшков, внезапно умер,
словно его громом убило. А от чего умер — бог его зна-
ет. Меня это так сразило, Варенька, что я до сих пор
опомниться не могу. Не верится что-то, чтобы так просто
мог умереть человек. Этакой бедняга, горемыка этот
Горшков! Ах, судьба-то, судьба какая!..»
«Раздвоение» девушкинского стиля, структурная ос-
ложненность его «писательскою» речью соответствуют
своеобразным литературным функциям образа «бедного
человека».
В той мере, в какой формы речи возводятся непосред-
ственно к образу Девушкина и не выходят за пределы
возможностей его литературной характерологии, письма
являются самораскрытием персонажа. По отношению же
к «сказочнику» они понимаются, как им созданная, но
от его субъективной сферы отрешенная форма драмати-
ческой объективации художественного образа. С этой
точки зрения — словесная композиция писем представля-
ет как бы непосредственное выражение литературной
личности Девушкина; их субъективность целиком связа-
на с его образом. Но сам образ Девушкина — это форма
художественной «действительности», созданной сказоч-
ником. Будучи формой реалистической концентрации ху-
дожественного мира, этот образ в то же время выража-
ет отношение образа автора к образу той действитель-
ности, которая строится в рассказе Девушкина. Ведь в
письмах Девушкина есть не только социальный субъект,
литературный персонаж, как бы сам себя непосредствен-
но раскрывающий, но и художественно вмещенный в его
сознание мир лиц, вещей и движения. Этот мир не толь-
487
ко описывается, изображается Девушкиным, но и ком-
ментируется им с социально-политической и философ-
ской точки зрения. Следовательно, художественная дей-
ствительность писем Девушкина — выражение его
образа и вместе с тем субъективное отражение некоего
обобщенного чиновничьего мира. Но и то и другое яв-
ляется раскрытием той «подноготной», которую «выры-
вает в земле» сказочник, следуя поэтике реализма. Как
второй план построения, как «подводное течение», дви-
жется тематика произведения, заданная эпиграфом и
сводимая к «образу сказочника».
Получается сложная структура субъективных отно-
шений, которую необходимо стилистически распутать.
Характеристическими формами девушкинского обра-
за прикрыты, но не всегда скрыты литературные отголос-
ки «авторской» речи — в письмах Девушкина. Вот поче-
му еще современники «Бедных людей» находили в этом
романе такие словесные отрезки, которые как бы выпа-
дают из сфер выразительности, связанных с образом
Девушкина. Так, Никитенко отметил изысканность не-
которых фраз: «Он человек с репутацией, а я что? —
Просто не существую...»! «Сапоги новые... с таким сла-
дострастием надеваешь...» Ср.: «вызывают, вызывают
эту актрису, просто беснуются». «Я выбежал в бешен-
стве каком-то неслыханном...»; «как начнут они состя-
заться, да спорить об разных материях, так уж тут я
просто пасую...»
Ср.: «Да нет же, маточка, не позволю, вооружаюсь
всеми силами против такого намерения...»
Но чаще всего эти стилистические порывы обнару-
живаются в морально-психологических и лирических
комментариях Девушкина к повествованию. Так, пере-
ходя от романтического, «фигурного» строя писем к «на-
туральному» и вместе с тем перемещаясь из одной экс-
прессивной сферы в другую, Макар Девушкин не толь-
ко изображает, описывает этот переход, но и обобщает
его, как некий психологический закон человеческой нату-
ры, вскрывает его причины в общечеловеческой психике.
«...Сияние такое было на сердце... Уж потом только
как осмотрелся, так все .стало по-прежнему и серенько и
1 Ср.: «Я всегда делал так, как, будто бы меня и на свете не
было. Так что едва ли его превосходительство были известны о су-
ществовании моем...»
488
темненько. Все те же чернильные пятна, все те же столы
и бумаги, да и я все такой же; так, каким был, совер-
шенно таким же и остался,— так чего же тут было на
Пегасе-то ездить?.. Знать, это мне все сдуру так показа-
лось...» И тогда речь, вращавшаяся в кругу характери-
стических форм экспрессии «бедного человека», как бы
соскакивает с своей орбиты и приближается к авторско-
му языку: «А ведь случается же иногда заблудиться так
человеку в собственных чувствах своих, да завести око-
лесную. Это ни от чего иного происходит, как от излиш-
ней глупой горячности сердца»1. Это — аналогии к ли-
рическим отступлениям гоголевской повествовательной
манеры в период «Шинели» и «Мертвых душ».
Итак, Макар Девушкин не только организует в своих
письмах-рассказах характер бедного человека, но и от-
ражает в них лик сказочника, «образ автора».
В образе Макара Девушкина — две литературных
ипостаси: он — персонаж демократического «натурально-
го» романа, литературный символ «бедного человека» из
среды городской, мелкочиновничьей буржуазии, и вместе
с тем он — сам писатель-реалист, обличитель социаль-
ных противоречий и экономических несоответствий сов-
ременной ему общественной жизни.
Ведь по письмам Девушкина, как по его литератур-
ным произведениям, можно восстановить его поэтику.
И такой подход к его писаниям правомерен. Девушкин
сам неоднократно намекает на возможность отношения
к нему, как «к пиите и сочинителю литературы». Исто-
рико-литературный анализ приводит к определению
манеры творчества Девушкина, как «натуральной». Сбли-
жение с формами реалистического стиля могло произой-
ти тем легче, что автор-реалист как бы спускался в сре-
ду своих героев, из их языковой системы черпая
художественные краски для изображения,— Макар же
1 Ср. такой же психологический комментарий, к «гордости»
Горшкова, после того как была восстановлена судом его «честь»:
«Впрочем, различные бывают характеры.— Вот я, например, на та-
ких радостях гордецом бы не выказался, ведь чего, родная моя,
иногда и поклон лишний и унижение изъявляешь, не от чего иного,
как. от припадка доброты душевной и от излишней мягкости сердца...
Но впрочем не во мне тут и дело-то...»
Ср. там же: «Даже что дурно было, на что подчас и досадовал,
и то в воспоминаниях как-то очищается от дурного, и предстает во-
ображению моему в привлекательном виде...»
489
Девушкин сюжетно скован пределами своей квартиры
и своей канцелярии, то есть своего мира. Приемы «на-
турального» обобщенно-реалистического описания лишь
синтаксически и экспрессивно приспособлялись к обра-
зу Девушкина.
Вот характерные для натуральной школы приемы
портретного изображения, слегка приправленные экс-
прессией девушкинского письма: «И хозяйка-то наша,
уж такая она право — она, знаете ли, такая маленькая,
нечистая старушонка, целый день в туфлях да в шлаф-
роке ходит; и целый день все кричит на Терезу...»
«...какой-нибудь слесарный ученик в полосатом хала-
те, испитой, чахлый, с лицом, выкупанным в копченом
масле, с замком в руке».
В том же «натуральном» реалистическом плане изо-
бражает Девушкин движения, позы, мимическую «игру»
своих героев и сопровождающие ее формы разговора:
«Ну, так вот вошел мой Горшков, кланяется, слезин-
ка у него, как и всегда, на ресницах гноится, шаркает
ногами, а сам слова не может сказать...»
«Вот точно так и сегодня приник, присмирел, ежом
сижу, так что Ефим Акимович (такой задирала, какого
и на свете до него не было) сказал во всеуслышание:
«Что, дескать, вы, Макар Алексеевич, сидите сегодня
таким у-у-у!»— да тут такую гримасу скорчил, что все,
кто около него и меня ни были, так и покатились со
смеху...»
И образ «Ноева ковчега», которым символизированы
петербургские углы, подчеркивает юмористические тен-
денции творчества Девушкина: «...длинный коридор, та-
кой темный, и по правде немного нечистый. По правую
руку глухая стена, а по левую все двери, да двери, точ-
но нумера, все так в ряд простираются. Ну вот и нани-
мают эти нумера, а в- них по одной комнатке в каждом;
живут в одной и по двое, и по трое. Порядку не спра-
шивайте— Ноев ковчег!»
Этих иллюстраций достаточно, чтобы рассмотреть в
образе Девушкина завуалированный экспрессией бедно-
го человека лик писателя-реалиста.
Эта литературная «двуличность» или «двуликость»
Девушкина определяет двойственное, колеблющееся .от-
ношение его к «образу автора» в «Бедных людях». Как
персонаж «натурального» мира Девушкин — центр,
490
«душа» изображаемой им действительности. В этом пла-
не он помогает автору вскрыть основы «натуры», ее
«подноготную» — как бы изнутри ее самое описать го-
родские «углы», трущобы L Девушкин выступает как
выразитель мелкочиновничьего мира и далее — вообще
мира бедных людей, и этот мир через его речевое по-
средство как бы самораскрывается. Но мало того. Как
«автор», Девушкин эту обобщенно-символическую функ-
цию своего образа сам же и подчеркивает, комментиру-
ет, объясняет. Так, в письме от 12 июня, отстаивая свое
гражданское достоинство, свою государственную необ-
ходимость и свою общечеловеческую сущность, право на
«равенство» («А скажу я вам, родная моя, что я хоть и
темный человек, глупый человек, пожалуй, но сердце
у меня такое же, как и у другого кого...»), он свои инди-
видуальные бытовые формы рассматривает социально-
обобщенно, как формы профессионально-сословные, как
формы «крысы-чиновника» («Да крыса-то эта нужна,
да крыса-то пользу приносит, да за крысу-то эту держат-
ся»). В других случаях, возвышаясь над этими бытовы-
ми рамками «голи-чиновника», он поднимает свой образ
на социальные высоты «бедного человека» вообще. Ма-
кар Девушкин выступает от лица «бедных людей», объ-
ективно, хотя и ссылками на свой личный опыт, характе-
ризуя в социо-психологическом разрезе всю категорию
«бедных людей»: «Бедные люди капризны,— это уж так
от природы устроено. Я это и прежде чувствовал, а те-
перь еще более почувствовал. Он, бедный-то человек, он
взыскателен; он и на свет-то божий иначе смотрит, и на
каждого прохожего косо глядит, да вокруг себя смущен-
ным взором поводит, да прислушивается к каждому сло-
ву,— дескать, не про него ли там что говорят? Что вот,
дескать, что же он такой неказистый?.. И ведомо каж-
дому, Варенька, что бедный человек хуже ветошки и ни-
какого ни от кого уважения получить не может, что уж
там ни пиши! Они-то, пачкуны-то эти, что уж там ни
пиши! все будет в бедном человеке так, как было...»
И далее — проблема бедного человека переносится в
плоскость социально-экономических коллизий. Изобра-
жение унижений от бедности, представленное своеобраз-
1 «Ну, в какую же я трущобу попал, Варвара Алексеевна, ну
уж квартира».
491
ным «делегатом» от бедных людей — Девушкиным, есте-
ственно, сопровождается экспрессией негодования, обле-
каясь в форму социального и вместе «гуманического»
протеста: «Вон Емеля говорил намедни, что ему где-то
подписку делали, так ему за каждый гривенник, в неко-
тором роде, официальный осмотр делали. Они думали,
что даром свои гривенники ему дают. Ан нет; они за-
платили за то, что им бедного человека показывали...»
Так сам Макар Девушкин ведет свой образ по пути
идейных обобщений, в духе социальных, публицистиче-
ских идей Белинского и В. Майкова.
Присматриваясь к общей манере описаний Девушки-
на, приходится признать, что этот прием генерализиру-
ющего воспроизведения действительности — существен-
нейший признак его реалистической литературной систе-
мы. Этот прием применяется Девушкиным не только при
объяснениях собственной «личности», но распространя-
ется и на другие сюжетные формы, которые, таким обра-
зом, типизируются; Девушкин, являясь продолжателем
гоголевской (эпохи «Шинели» и «Мертвых душ») мане-
ры повествования, вносит в нее очень существенные «по-
правки», так как «переводит» ее, эту манеру, в мир ре-
альной действительности, художественно обоснованной
на принципах утопического социализма. Поэтому, даже
при общих с гоголевскими формами генерализации, че-
ловеческая сущность в изображении Девушкина получа-
ет совершенно иное семантическое определение.
Авторский облик, его идейная позиция в структуре
«Бедных людей» отыскивается не столько в лексико-
синтаксических формах речи, сколько в приемах при-
способления к художественной характерологии образа
Девушкина таких публицистических средств выражения
и таких идеологических концепций, которые созданы
и привычно бытуют в сфере интеллигенции, а следова-
тельно, мыслятся как непосредственно соотносящиеся не
с личностью Девушкина, а с образом автора, с его
поэтикой.
Такой подробный стилистический анализ одного
литературного образа был необходим для того, чтобы по-
казать речевую и стилистическую сложность, семантиче-
скую углубленность и конкретно-историческую оправдан-
ность образа персонажа в новой художественной систе-
ме реализма, разрабатывавшейся в русской литературе
492
40—50-х годов. Быть может, этот анализ хотя бы отча-
сти поможет увидеть новизну стилистического синтеза
идеологических и речевых элементов в структуре реали-
стического произведения.
Интересно хотя бы бегло коснуться индивидуальных
своеобразий реалистического метода в творчестве других
писателей того же времени, например И. С. Тургенева.
Любопытный материал для освещения этого- вопроса
можно извлечь из рассказа И. С. Тургенева «Уездный
лекарь» (впервые напечатанного в журнале «Современ-
ник», 1848, т. VII, под заглавием: «Бедное семейство»).
Он относится к циклу «Записок охотника». Рассказ уезд-
ного лекаря, переданный его собственными словами, то
есть в формах своеобразного социально-речевого стиля,
но с яркими приметами индивидуальной личности вклю-
чен в рамку авторского повествования. Автор-охотник
дает общую характеристику лекаря, познакомиться с ко-
торым заставила его неожиданно застигшая в уездной
городской гостинице простудная болезнь. Скупыми и точ-
ными словами обозначаются черты внешнего облика
уездного лекаря, его профессиональные действия: «...я
послал за доктором. Через полчаса явился уездный ле-
карь, человек небольшого роста, худенький и черноволо-
сый. Он прописал мне обычное потогонное, велел приста-
вить горчичник»1. Но далее неожиданно присоединяется
ироническое перечисление побочных характеристических
действий лекаря с своеобразными качественными опре-
делениями: «весьма ловко запустил к себе под обшлаг
пятирублевую бумажку, причем, однако, сухо кашлянул
и глянул в сторону, и уже совсем было собрался отпра-
виться восвояси...» Таким образом посредством указания
косвенных примет выдвигается практицизм доктора, его
расчетливость, вызванная бедностью и условиями жиз-
ни. Эта черта очень рельефно затем раскрывается и в
собственном рассказе лекаря и в заключительных стро-
ках повествования: «Мы сели в преферанс по копейке.
Трифон Иваныч выиграл у меня два рубля с полтиной —
и ушел поздно, весьма довольный своей победой».
Наряду с этой чертой выдвигается разговорчивость
лекаря и бойкость его языка («Пустился мой доктор в
5 И. С. Тургенев, Собр. соч., т. I, Гослитиздат, М. 1953,
стр. 110. Далее текст цитируется по этому же изданию
(стр. 110—119);.
493
разговоры. Малый он был не глупый, выражался бойко
и довольно забавно»).
Автор стремится реалистически оправдать неожидан-
ную откровенность случайного своего компаньона.
«Странные дела случаются на свете: с иным человеком
и долго живешь вместе и в дружественных отношениях
находишься, а ни разу не заговоришь с ним откровенно,
от души; с другими же едва познакомиться успеешь —
глядь: либо ты ему, либо он тебе, словно на исповеди,
всю подноготную и проболтал. Не знаю, чем я заслу-
жил доверенность моего нового приятеля,— только он,
ни с того ни с сего, как говорится, «взял» да и рассказал
мне довольно замечательный случай; а я вот и довожу
теперь его рассказ до сведения благосклонного читате-
ля. Я постараюсь выражаться словами лекаря». Итак
перед нами — воспроизведение сказа или рассказа лека-
ря. Этот драматический сказ сопровождается авторски-
ми ремарками, комментариями, своеобразными режис-
серскими отметками движений, жестов и поз рассказчи-
ка. Вот — иллюстрации.
Сказ начинается гоголевским приемом: « — Вы не из-
волите знать,— начал он расслабленным и дрожащим го-
лосом (таково действие беспримесного березовского та-
баку),— вы не изволите знать здешнего судью, Мылова,
Павла Лукича?.. Не знаете... Ну, все равно (он откаш-
лялся и протер глаза)... Вдруг (мой лекарь часто упо-
треблял слово: вдруг) говорят мне: человек вас спраши-
вает». Ср. здесь же: «Передаю вдруг карты непременно-
му члену Каллиопину».
«Кое-как я ее успокоил, дал ей напиться, разбудил
горничную и вышел.— Тут лекарь опять с ожесточением
понюхал табаку и на мгновение оцепенел».
«Больная не поправлялась... День за день, день за
день... Но вот-с... тут-с... (лекарь помолчал). Право, не
знаю, как бы вам изложить-с (он снова понюхал таба-
ку, крякнул и хлебнул глоток чаю). Скажу вам без
обиняков, больная моя... как бы это того... ну, полюбила,
что ли, меня... или нет, не то чтобы полюбила... а, впро-
чем... право, как это, того-с... (лекарь потупился и по-
краснел)».
«Насчет фигуры (лекарь с улыбкой взглянул на
себя) также, кажется, нечем хвастаться», и т. п.
Все это создает впечатление реальной, живой, драма-
494
тически окрашенной речи, в которой ярко выражается
личность рассказчика, его робость, его волнение, его от-
ношение к пережитым событиям, его состояние в момент
воспоминаний о трагедии своей жизни, о любви к умира-
ющей девушке. Прежде всего остро выступают социаль-
но-типические черты речевого стиля полуинтеллигента
с провинциальным отпечатком:
«...и дороги такие, что фа! Да и сама беднеющая,
больше двух целковых ожидать тоже нельзя, и то еще
сумнительно».
«...стоит тележчонка перед крыльцом»; «и кучер, ра-
ди уважения, без шапки сидит»; «смело бей на две де-
позитки!»; «в окнах свет: знать, ждут», и мн. др. под.
Вместе с тем речь эта индивидуализирована. В ней
есть своеобразная последовательность синтаксического
движения, повторяющиеся формы, индивидуальные спо-
собы драматических перерывов, воспроизведения внут-
ренней борьбы, своеобразные отражения разговорно-ре-
чевого автоматизма. Вот несколько иллюстраций одно-
типного синтаксического построения, однотипных син-
таксических сцеплений и переходов.
«Не знаете... Ну, все равно».
«Ну, хорошо,— это понимаете, наш хлеб...»
«Ну, думаю, видно, брат, господа-то твои не на зо-
лоте едят...»
«Ну, говорю, теперь следует больную в покое оста-
вить».
«Ну, встал, растворил тихонько дверь, а сердце так
и бьется», и др.
Или: «Однако долг, вы понимаете, прежде всего: чело-
век умирает».
«Однако, думаю, делать нечего: долг прежде всего».
Ср.: «Дорога адская: ручьи, снег, грязь, водомоины,
а там вдруг плотину прорвало — беда! Однако приез-
жаю», и др. под.
Ср. также: «Гляжу: стоит тележчонка перед крыль-
цом; лошади крестьянские — пузатые, препузатые...»
«Смотрю: комната чистенькая, в углу лампада, на
постеле девица лет двадцати, в беспамятстве».
«Гляжу: горничная спит, рот раскрыла и храпит
даже, бестия! а больная лицом ко мне лежит и руки раз-
метала, бедняжка!» и др. под.
495
Однотипны и способы выражения внутренней речи,
сопровождавшей восприятие предметов и событий:
«Ну, думаю, видно, брат, господа-то твои не на зо-
лоте едят»...
«Однако, думаю, делать нечего...»
«А у ней опять жар, думаю я про себя. Пощупал
пульс: точно, жар».
Ср.: «Старушка меня со слезами благодарит; а я про
себя думаю: „Не стою я твоей благодарности"».
«А тут, вижу, дело-то не тем пахнет», и др. под.
Как лейтмотив через все повествование проходят
разнообразные, но внутренне, семантически соотноси-
тельные формы выражения, оценки явлений и событий
с точки зрения бедного человека, бедного лекаря, кото-
рый должен прежде всего оценивать все факты с прак-
тической или экономической точки зрения.
«Говорят, записку принес,— должно быть, от боль-
ного. Подай, говорю, записку. Так и есть: от больного...
Ну, хорошо,— это, понимаете, наш хлеб...»
«Да и сама беднеющая, больше двух целковых ожи-
дать тоже нельзя, и то еще сумнительно, а разве хол-
стом придется попользоваться да крупицами какими-ни-
будь».
«Гляжу: стоит тележчонка перед крыльцом; лошади
крестьянские — пузатые, препузатые, шерсть на них —
войлоко настоящее, и кучер, ради уважения, без шапки
сидит. «Ну,— думаю,— видно, брат, господа-то твои не
на золоте едят...» Вы изволите смеяться, а я вам скажу:
наш брат, бедный человек, все в соображенье принимай...
Коли кучер сидит князем, да шапки не ломает, да еще
посмеивается из-под бороды, да кнутиком шевелит —
смело бей на две депозитки!. А тут, вижу, дело-то не тем
пахнет».
«Однако,— продолжал он,— на другой день больной,
в противности моим ожиданиям, не полегчило. Я поду-
мал, подумал и вдруг решил остаться, хотя меня другие
пациенты ожидали... А вы знаете, этим неглижировать
нельзя: практика от этого страдает», и др. под.
«Люди они были хоть и неимущие, но образованные,
можно сказать, на редкость... Отец-то у них был чело-
век ученый, сочинитель; умер, конечно, в бедности, но
воспитание детям успел сообщить отличное; книг тоже
много оставил».
496
«Я вам говорю: чрезвычайно образованное было се-
мейство,— так мне, знаете, и лестно было».
Само собой разумеется, что в сказе лекаря встре-
чаются и обычные докторские профессионализмы, отра-
жается лекарский способ выражения.
Например: «Захватываю самонужнейшие лекарства» —
«думаю, пойду посмотрю, что делает пациент? А спаль-
ня-то ее с гостиной рядом».
«Я подумал, подумал и вдруг решился остаться,
хотя меня другие пациенты ожидали... А вы знаете, этим
неглижировать нельзя: практика от этого страдает».
«Другие уже начинают замечать, что ты потерялся, и
неохотно симптомы тебе сообщают, исподлобья глядят,
шепчутся... Э, скверно!»
«Возьмешь, бывало, рецептурную книгу... ведь тут оно,
думаешь, тут».
«Консилиум, говоришь, нужен; я на себя ответствен-
ности не беру».
С другой стороны, социально характеристичны формы
речи, выражающие отношение к крепостной горничной:
«Гляжу: горничная спит, рот раскрыла и храпит даже,
бестия!»
«Вот-с, сижу я однажды ночью, один опять, возле
больной. Девка тут тоже сидит и храпит во всю иванов-
скую... Ну, с несчастной девки взыскать нельзя: затор-
мошилась и она».
«Девку, говорю, разбудите, Александра Андреевна».
В разных экспрессивных формах речевых изъявлений,
лексико-фразеологических сочетаний и синтаксических
конструкций выражается скромная и робкая самооценка
доктора, его приниженное социальное сознание своего
положения и своего места в обществе. Нельзя прежде
всего не обратить внимания на частоту повторения в речи
лекаря некоторых стереотипных выражений вежливого
подобострастия.
Например: «Вы не изволите знать... вы не изволите
знать здешнего судью...»
«Вы изволите смеяться, а я вам скажу: наш брат,
бедный человек, все в соображение принимай».
«Я говорю: „Не извольте беспокоиться...“»
«Я опять-таки говорю: «Не извольте беспокоиться» —
докторская, знаете, обязанность...»
«Чего вы?—говорю— Будет жива, не извольте бес-
17 В. В. Виноградов
497
покоиться»; «...мы вам кровь пустили, сударыня; теперь
извольте почивать», и др. под.
Всякие признания, лестные для лекаря, сообщающие
о симпатии и любви к нему со стороны девушки-дво-
рянки, высказываются затрудненно, не сразу, сопровож-
даются всякого рода оговорками:
«Но вот-с... тут-с... (лекарь помолчал). Право, не
знаю, как бы вам изложить-с... (он снова понюхал та-
баку, крякнул и хлебнул глоток чаю). Скажу вам без
обиняков, больная моя... как бы это того... ну, полюбила,
что ли, меня... или нет, не то чтобы полюбила... а, впро-
чем... право, как это, того-с... (лекарь потупился и по-
краснел) .
—- Нет,— продолжал он с живостью,— какое полю-
била! Надо себе, наконец, цену знать. Девица она была
образованная, умная, начитанная, а я даже латынь-то
свою позабыл, можно сказать, совершенно... Я, напри-
мер, очень хорошо понял, что Александра Андреевна —
ее Александрой Андреевной звали — не любовь ко мне
почувствовала, а дружеское, так сказать, расположе-
ние, уважение, что ли...»
Ср. употребление ограничительно-модальных выра-
жений: «...только меня, смею сказать, полюбили в доме
как родного».
События и размышления рассказчика обозначаются
просто и точно, разговорно-конкретно, но в процессе их
движения и внутреннего осознания, иногда полного
колебаний и борьбы. Непосредственность самораскрытия
выражается с помощью вводных слов и модальных
включений или присоединений, часто обращенных к со-
беседнику. Например: «Вот, изволите видеть, дело было
этак, как бы вам сказать — не солгать, в великий пост,
в самую ростепель». Иногда прерывистость речи, обилие
модальных и местоименно-указательных слов являются
симптомом взволнованности рассказчика, его стыдливо-
сти и робости, отсутствия решимости прямо назвать или
описать предмет или происшествие, для него необычные
и слишком «возвышенные».
«Больная не поправлялась... День за день... Но вот-с...
тут-с... (лекарь помолчал). Право, не знаю, как бы вам
изложить-с... (Он снова понюхал табаку, крякнул и
хлебнул глоток чаю). Скажу вам без обиняков, больная
моя... как бы это того... ну, полюбила, что-ли, меня... или
498
нет, не то чтобы полюбила... а, впрочем... право, как это,
того-с... (лекарь потупился и покраснел)».
Ср.: «Но дураком господь бог тоже меня не уродил:
я белое черным не назову; я кое-что тоже смекаю. Я, на-
пример, очень хорошо понял, что Александра Андреевна —
ее .Александрой Андреевной звали— не любовь ко мне
почувствовала, а дружеское, так сказать, расположение,
уважение, что ли. Хотя она сама, может быть, в этом от-
ношении ошибалась, да ведь положение ее было такое,
вы сами рассудите... Впрочем,— прибавил лекарь, кото-
рый все эти отрывистые речи произнес, не переводя духа
и с явным замешательством,— я, кажется, немного за-
рапортовался. Этак вы ничего не поймете... а вот, по-
звольте, я вам все по порядку расскажу».
Лекарь систематически вставляет в свой рассказ
слова, обращенные к собеседнику.
«Однако долг, вы понимаете, прежде всего».
«Вы изволите смеяться, а я вам скажу: наш брат,
бедный человек, все в соображенье принимай...»
«Поверите ли, едва дотащился».
«Право не знаю, как бы вам изложить-с...»
«...Я, кажется, немного зарапортовался... Этак вы ни-
чего не поймете... а вот, позвольте, я вам все по порядку
расскажу».
«Вы не медик, милостивый государь; вы понять не
можете, что происходит в душе нашего брата...»
Кроме того, он широко пользуется модально-ограни-
чительными выражениями: «надо правду сказать»,
«можно сказать», «смею сказать» и др. под.
Например: «... меня, смею сказать, полюбили в доме,
как родного».
Ср. также при обращении к формулам книжной речи:
«все сообщения, так сказать, прекратились совершенно».
Различие в культуре общей и социально-речевой
между уездным лекарем и больной барышней экспрес-
сивно-разнообразно и семантически тонко передается
рассказчиком как в повествовательном стиле, так и
при воспроизведении диалогических сцен.
«Вздумалось ей спросить меня, как мое имя, то есть
не фамилия, а имя. Надо же несчастье такое, что меня
Трифоном зовут. Да-с, да-с; Трифоном, Трифоном Ива-
нычем. В доме-то меня все доктором звали. Я, делать
нечего, говорю: «Трифон, сударыня». Она прищурилась,
17*
499
покачала головой и прошептала что-то по-французски,—
ох, де, недоброе что-то,— и засмеялась потом, нехорошо
тоже».
Очень показательны формы сопоставления и противо-
поставления социально-речевых стилей лекаря и барыш-
ни-дворянки уже в первой их встрече.
«...Как она вдруг раскроет глаза и уставится на меня!..
«Кто это? кто это?» Я сконфузился. «Не пугайтесь, го-
ворю, сударыня: я доктор, пришел посмотреть, как вы
себя чувствуете».— «Вы доктор?» — «Доктор, доктор...
Матушка ваша за мною в город посылали; мы вам кровь
пустили, сударыня; теперь извольте почивать, а дня этак
через два мы вас, даст бог, на ноги поставим».
Ср. также: «А то возьмет меня за руку и держит, гля-
дит на меня, долго, долго глядит, отвернется, вздохнет и
скажет: «Какой вы добрый!» Руки у ней такие горячие,
глаза большие, томные. «Да, говорит, вы добрый, вы хо-
роший человек, вы не то, что наши соседи... нет, вы не
такой... как я это до сих пор вас не знала!» — „Алек-
сандра Андреевна, успокойтесь, говорю... я, поверьте,
чувствую, я не знаю, чем заслужил... только вы успо-
койтесь, ради бога, успокойтесь... все хорошо будет, вы
будете здоровы"».
Воспроизводя все многообразие интонаций и экспрес-
сивных конструкций разговорно-бытовой речи, рассказ
лекаря вмещает в себя также драматические представ-
ления разных сцен окружающей жизни. Одни из этих
сцен изображаются с сохранением признаков бытового
диалога, но как бы включенными в повествовательный
тон рассказа, другие непосредственно воспроизводятся
в их драматическом течении. Все это делает рассказ ле-
каря необыкновенно емким и — при кажущейся непо-
средственной простоте — очень сложным, насыщенным
разнообразными отражениями живой жизни. В малую
форму вдвинуто богатое жизненное содержание в ярком
динамическом и драматическом воплощении.
С одной стороны, передаются сцены как бы с при-
глушенными интонациями самих собеседников, однако
в формах прямой или несобственно прямой речи с час-
тыми повторениями форм говорю, говорит, дескать и т. п.
«Вдруг говорят мне: человек вас спрашивает. Я говорю:
что ему надобно? Говорят, записку принес,— должно
быть, от больного. Подай, говорю, записку...»
500
«Пишет ко мне помещица, вдова, говорит, дескать,
дочь умирает, приезжайте, ради самого господа бога
нашего, и лошади, дескать, за вами присланы». «На-
встречу мне старушка, почтенная такая, в чепце. «Спа-
сите, говорит, умирает». Я говорю: „Не извольте бес-
покоиться... Где больная?"»
«Тут же другие две девицы, сестры,—перепуганы,
в слезах. «Вот, говорят, вчера была совершенно здорова
и кушала с аппетитом; поутру сегодня жаловалась на
голову, а к вечеру вдруг вот в каком положении»... Я
опять так говорю: «Не извольте беспокоиться»,— доктор-
ская, знаете, обязанность,— и приступил».
«...Сестры к ней нагнулись, спрашивают: «Что с то-
бою?»— «Ничего»,— говорит, да и отворотилась...
Гляжу — заснула. Ну, говорю, теперь следует больную
в покое оставить».
Но в некоторых случаях воспроизведение чужой речи
получает развернутую форму. И чужая речь сохраняет
все свои индивидуальные экспрессивно-драматические
свойства. Таково, например, воспроизведение бреда
больной.
«Она посмотрела на меня, да как возьмет меня вдруг
за руку. „Я вам скажу, почему мне не хочется умереть, я
вам скажу, я вам скажу... теперь мы одни; только вы,
пожалуйста, никому... послушайте..."».
Полна острого драматизма, экспрессивной напря-
женности, тонких сопоставлений и контрастов двух со-
циально-речевых стилей сцена признания в любви.
«Вдруг словно меня кто под бок толкнул, обернулся я...
Господи, боже мой! Александра Андреевна во все глаза
на меня глядит... губы раскрыты, щеки так и горят. «Что
с вами?» — «Доктор, ведь я умру?» — «Помилуй бог!» —
«Нет, доктор, нет, пожалуйста, не говорите мне, что я
буду жива... не говорите... если б вы знали, послушайте,
ради бога, не скрывайте от меня моего положения!— а
сама так скоро дышит.— Если я буду знать наверное,
что я умереть должна... я вам тогда все скажу, все!» —
„Александра Андреевна, помилуйте!"».
Внутренняя драматизация сказа состоит в передаче
всех набегающих одно на другое и нередко противо-
речащих одно другому мыслей и чувств. Синтаксиче-
ское построение облекается в формы внутреннего диа-
лога или противительного столкновения прерывающихся
501
фраз: «Ну, это еще все ничего... Да живет-то она в два-
дцати верстах от города, а ночь на дворе, и дороги та-
кие, что фа! Да и сама беднеющая, больше двух цел-
ковых ожидать тоже нельзя, и то еще сумнительно, а
разве холстом придется попользоваться да крупицами
какими-нибудь. Однако долг...»
«Я нагнулся; придвинула она губы к самому моему
уху, волосами щеку мою трогает,— признаюсь, у меня
самого кругом пошла голова,— и начала шептать... Ни-
чего не понимаю... Ах, да это она бредит...»
«...Другие уже начинают замечать, что ты потерялся,
и неохотно симптомы тебе сообщают, исподлобья глядят,
шепчутся... Э, скверно! Ведь естьже лекарство, думаешь,
против этой болезни, стоит только найти. Вот не оно ли?
Попробуешь — нет, не оно! Не даешь времени лекарству
как следует подействовать... то за то хватишься, то за
то.'Возьмешь, бывало, рецептурную книгу... ведь тут оно,
думаешь, тут! Право слово, иногда наобум раскроешь:
авось, думаешь, судьба... А человек меж тем умирает; а
другой бы его лекарь спас. Консилиум, говоришь, нужен,
я на себя ответственности не беру. А уж каким дур-аком
в таких случаях глядишь! Ну, со временем обтерпишься,
ничего...»
Рассказ состоит или из быстрых, стремительных, ла-
конически воспроизводимых драматических сцен, или из
последовательного точного называния сменяющихся одно
за другим или сопутствующих одно другому действий,
связанных с ними мыслей, переживаний.
Например: «Вот, слава богу, успокоилась; пот высту-
пил, словно опомнилась, кругом поглядела, улыбнулась,
рукой по лицу провела... Сестры к ней нагнулись...»
«Вот мы все. на цыпочках и вышли вон; горничная
одна осталась на всякий случай. А в гостиной уж само-
вар на столе, и ямайский тут же стоит: в нашем деле без
этого нельзя. Подали мне чай, просят остаться ночевать...
я согласился: куда теперь ехать! Старушка все охает».
«Шептала, шептала, да так проворно и словно не
по-русски, кончила, вздрогнула, уронила голову на по-
душку и пальцем мне погрозилась. «Смотрите же, док-
тор, никому...» Кое-как я ее успокоил, дал ей напиться,
разбудил горничную и вышел».
Быстрое и взволнованное называние движений, дейст-
вий и событий прерывается короткими эмоциональными
502
восклицаниями, динамическим изображением душевных
реакций в форме своеобразных припоминаний или
всплесков внутренней речи, или признаний, обращенных
к собеседнику.
Например: «А я из комнаты больной не выхожу,
оторваться не могу, разные, знаете, смешные анекдотцы
рассказываю, в карты с ней играю. Ночи просиживаю.
Старушка меня со слезами благодарит; а я про себя ду-
маю: „Не стою я твоей благодарности “».
«Начнет со мной разговаривать, расспрашивает меня,
где я учился, как живу, кто мои родные, к кому я езжу?
И чувствую я, что не след ей разговаривать, а запретить
ей, решительно этак, знаете, запретить — не могу. Схвачу,
бывало, себя за голову: „Что ты делаешь, разбойник?"...»
«Поверите ли, хоть самому в гроб ложиться; а тут
мать, сестры наблюдают, в глаза мне смотрят... и дове-
рие проходит. «Что? Как?» — «Ничего-с, ничего-с!»
А какое ничего-с, ум мешается».
Очень своеобразны способы выражения нарастаю-
щего любовного чувства к больной девушке.
«Гляжу, знаете,— ну, ей-богу, не видал еще такого
лица... красавица, одним словом! Жалость меня так и
разбирает. Черты такие приятные, глаза...»
«Вот я лег, только не могу заснуть,— что за чудеса!
Уж на что, кажется, намучился. Все моя больная
у меня с ума нейдет. Наконец, не вытерпел, вдруг встал;
думаю, пойду посмотрю, что делает пациент?»
«Я нагнулся; придвинула она губы к самому моему
уху, волосами щеку мою трогает,— признаюсь, у меня
самого кругом пошла голова,— и начала шептать».
«Надо правду сказать, я сам чувствовал сильное
к ней расположение».
«Признаюсь вам откровенно — теперь не для чего
скрываться — влюбился я в мою 'больную».
Тема любви к молодой умирающей девушке — тема
романтическая. Она могла бы быть воплощена в формы
романтико-риторического стиля с его пышной метафори-
ческой фразеологией, с свойственной ему патетической
декламацией, с напряженно-эмоциональными диалогами
и ариями любовников. Социальные условия, специфи-
ческие качества бытовой обстановки при этом отходили
на задний план и не получали детализированного сло-
весного воплощения. Между тем в реалистическом
503
стиле рассказа «Уездный лекарь» вся трагедия пред-
смертной любви девушки и ответного чувства лекаря
раскрывается в форме безыскусственного драматиче-
ского рассказа самого любовника во всех ее незамысло-
ватых социально-бытовых перипетиях и подробностях.
В контраст с возвышенным, патетическим представ-
лением трагических эпизодов любви и смерти в роман-
тической поэтике и стилистике рассказ лекаря полон
просторечно-бытовых, экспрессивно окрашенных выра-
жений. Новый метод изображения своеобразно и ярко
отражает глубокую борьбу и смятение чувств, робость
и растерянность лекаря, страстную самоотверженность
девушки, мучительную жажду любви — в самых про-
стых и обыденных выражениях: «...вошел к ней опять
в комнату уже днем, после чаю. Боже мой, боже мой!
Узнать ее нельзя: краше в гроб кладут. Честью вам
клянусь, не понимаю теперь, не понимаю решительно,
как я эту пытку выдержал. Три дня, три ночи еще про-
скрипела моя больная... и какие ночи! Что она мне гово-
рила!.. А в последнюю-то ночь, вообразите вы себе,—
сижу я подле нее и уж об одном бога прошу: прибери,
дескать, ее поскорей, да и меня тут же...»
Ср.: «Из одних моих рук лекарство принимала...
Приподнимется, бедняжка, с моею помощью, примет и
взглянет на меня... Сердце у меня так и покатится.
А между тем ей все хуже становилось, все хуже: умрет,
думаю, непременно умрет».
Трагический колорит сгущается оттого, что больная,
лишь узнав от врача о своей близкой, неминуемой
смерти, решается на признание в своей любви.
«И она словно обрадовалась, лицо такое веселое
стало; я испугался. «Да не бойтесь, не бойтесь,
меня смерть нисколько не стращает». Она вдруг при-
поднялась и оперлась на локоть. «Теперь... ну, теперь я
могу вам сказать, что я благодарна вам от всей души,
что вы добрый, хороший человек, что я вас люблю».
Я гляжу на нее, как шальной; жутко мне, знаете. „Слы-
шите ли, я люблю вас... “». Но лекарь сначала отвечает
той же стереотипной подобострастной фразой: «Алек-
сандра Андреевна, чем же я заслужил!» Однако далее
сцена принимает еще более напряженно драматический
характер, так как умирающая чувствует себя все более
свободной от стеснительных уз поведения «порядочной
504
барышни», а лекарь лишь постепенно преодолевает и
свою робость и сознание своего лекарского долга под
влиянием любви. Александра Андреевна переходит на
ты, лекарь же даже после открытого признания в своей
любви продолжает обращаться к ней на вы, говоря
в утешение банальные фразы: «мы испросим у вашей
матушки благословение... мы соединимся узами, мы
будем счастливы».
Трагический образ чистой, решительной и страстной
девушки выступает еще ярче и рельефнее на фоне кон-
траста с нерешительным, робким лекарем, который,
даже потерявши на время голову от любви и сострада-
ния, не освобождается от сознания своего социального
неравноправия и своего ничтожества. Драматизм поло-
жения усиливается тем, что лекарь «кое-что тоже сме-
кал», и самая любовь к нему больной, вызванная отча-
яньем и сознанием близости смерти, казалась ему
«горькой».
«Чувствую я, что больная моя себя губит; вижу, что
не совсем она в памяти; понимаю также и то, что не
почитай она себя при смерти,— не подумала бы она
обо мне; а то ведь, как хотите, жутко умирать в два-
дцать пять лет, никого не любивши; ведь вот что ее
мучило, вот отчего она, с отчаянья, хоть за меня ухвати-
лась,—понимаете теперь?»
В этом отношении очень экспрессивна и трагична
сцена, в которой в ответ на утешения лекаря и на выра-
жение надежды — «соединиться узами», больная отве-
чает: «Нет, нет, я с вас слово взяла, я должна умереть...
ты мне обещал... ты мне сказал...» Передав эту сцену,
лекарь признается: «Горько было мне, по многим при-
чинам горько. И посудите, вот какие иногда приключа-
ются вещицы: кажется ничего, а больно».
Трагический контраст предсмертных сцен углуб-
ляется драматическим разрывом между формами лако-
нического изображения страшных мучений лекаря («По-
верите ли, я чуть-чуть не закричал... бросился на колени
и голову в подушки спрятал. Она молчит, пальцы ее
у меня на волосах дрожат; слышу: плачет...» — «Скажу
вам откровенно: я не понимаю, как я в ту ночь с ума не
сошел», и т. п.) и между банальностью его реплик в от-
вет на страстные и откровенные речи больной и его пове-
дением— при неожиданном появлении старушки матери.
505
«Вдруг старушка мать —шасть в комнату... Уж я ей
накануне сказал, матери-то, что мало, дескать, надежды,
плохо, и священника не худо бы. Больная, как увидела
мать, и говорит: «Ну, вот, хорошо, что пришла...
посмотри-ка на нас, мы друг друга любим, мы друг
другу слово дали».— «Что это она, доктор, что она?»
Я помертвел... «Бредит-с, говорю, жар...» А она-то:
«Полно, полно, ты мне сейчас совсем другое говорил, и
кольцо от меня принял... Что притворяешься? Мать моя
добрая, она простит, она поймет, а я умираю — мне не
к чему лгать, дай мне руку...» Я вскочил и вон выбежал.
Старушка, разумеется, догадалась».
Легко заметить в творческом методе и стиле Турге-
нева, как они отражаются в рассказе «Уездный лекарь»,
много общего с творческим методом Ф. М. Достоевского
в период работы над «Бедными людьми». Можно пред-
полагать даже некоторое влияние Достоевского на Тур-
генева. Но вместе с тем бросаются в глаза и резкие
отличия художественно-стилистических систем Достоев-
ского и Тургенева как в жанре повествования, так и
в построении образов действующих лиц и в общих прин-
ципах драматизации разговорно-бытовой речи.
Заканчивается рассказ лекаря возвратом от повести
о драматическом происшествии, связанном с мотивами
любви и смерти и проникнутом «возвышенными чувст-
вованиями», к комической и вместе с тем страшной
повседневности:
«Нашему брату, знаете ли, не след таким возвышен-
ным чувствованиям предаваться. Наш брат думай об
одном: как бы дети не пищали да жена не бранилась.
Ведь я с тех пор в законный, как говорится, брак всту-
пить успел... Как же... Купеческую дочь взял: семь
тысяч придано. Зовут ее Акулиной; Трифону-то под стать.
Баба, должен я вам сказать, злая, да благо спит целый
день... А что ж преферанс?»
Так трагически-контрастно заключает свой горький
рассказ уездный лекарь.
*
Наши великие писатели не придерживались одной
замкнутой системы реалистического изображения. Тур-
генев писал Л. Толстому (в письме от 3/15 января
1857 года): «Системами дорожат только те, которым
506
вся правда в руки не дается, которые хотят ее за хвост
поймать; система — точно хвост правды — но правда
как ящерица; оставит хвост в руке — а сама убежит;
она знает, что у ней в скором времени другой вырастет» \
Реализм как метод художественного изображения
действительности в истории русской литературы XIX века
не только развивается, но и расслаивается. При сохране-
нии некоторых внутренних основ словесно-художествен-
ного воплощения и изображения реальной жизни, он
вместе с тем порождает в русской литературе XIX века
целый ряд литературно-художественных систем, нередко
в отдельных и, притом очень важных частях и элементах
своей структуры противопоставленных одна другой
(ср., например, поэтику и стилистику Тургенева и поэ-
тику и стилистику Достоевского; поэтику и стилистику
Салтыкова-Щедрина и поэтику и стилистику Льва Тол-
стого и т. д.). Само собой разумеется, что называние всех
этих систем или форм реализма «критическим реализ-
мом» слишком обще и нуждается в конкретно-историче-
ской дифференциации. Исследование взаимодействия,
борьбы и смены форм и типов реализма, их соотношений
с другими методами и системами художественного изоб-
ражения в истории русской литературы XIX века и пер-
вой половины XX века — одна из центральных проблем
истории русского литературного искусства, истории
«языка» русской литературы, ее исторической сти-
листики.
1 Толстой и Тургенев, Переписка, Изд. М и С. Сабаш-
никовых, 1928, стр. 31.
VII
О СВЯЗИ ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО
ЯЗЫКА И СТИЛЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1
Связь и взаимодействие процессов развития литера-
турного языка и его стилей с процессами развития
стилей художественной литературы особенно ярко обна-
руживаются в кругу явлений, относящихся к формиро-
ванию и эволюции жанров исторической повести, исто-
рической драмы и исторического романа в русской ли-
тературе первой половины XIX века.
Образование общенациональной нормы литератур-
ного выражения в первые десятилетия XIX века обост-
рило интерес к разграничению и сопоставлению явлений
речи живых, продуктивных и обветшалых, выпадающих
из системы активных литературно-языковых отношений.
Вопросы истории русского языка, исторического взаимо-
действия разных его составных стихий и стилей, стрем-
ление определить общие тенденции развития литератур-
ной речи, осознать принципы синтеза прежних славяниз-
мов и элементов разговорно-бытового «просторечия»,
вопрос об «европеизмах» и о месте русского языка
в кругу других языков европейской цивилизации свя-
зывались с пониманием национальных основ русского
литературного языка. «История в наше время есть центр
всех познаний, наука наук, единственное условие вся-
кого развития: направление историческое обнимает
все»,— заявлял И. В. Киреевский в «Обозрении русской
словесности 1829 года»1. Становилось все более очевид-
ным, что развитие литературного языка обусловлено
1 Альманах «Денница», 1830, стр. XXII—XXIII.
508
развитием общества. «Язык идет всегда наравне с успе-
хами оружия и славы народной, с просвещением, с нуж-
дами общества, с гражданской образованностью и люд-
скостью»,— говорил К- Н. Батюшков в своей речи
«О влиянии легкой поэзии на язык» (1816) Г Осущест-
вление задачи национальной нормализации русской
литературной речи выдвигало проблему изучения и
отграничения провинциализмов, простонародно-област-
ных выражений и конструкций. Представлялось целесо-
образным одни из диалектизмов сдать в архив истории,
признать пережитками ’ донационального прошлого, а
другие, использовать в тех или иных сферах литера-
турного употребления. Однако прежде всего надо было
и те и другие познать и собрать.
Н. И. Греч убеждал читателей: «Желательно было
бы, чтоб почтенные обитатели провинций, особенно же
сельское духовенство и удалившиеся от шуму света и
службы в поместия свои дворяне, стали замечать и соби-
рать областные наречия, особые выражения, необыкно-
венные грамматические формы, присловицы и другие
особенные свойства языка в разных странах неизмери-
мой России; и тем способствовали составлению сначала
обозрения, а потом словаря и сравнительной грамма-
тики русских провинциализмов»1 2. Ту же задачу выдви-
гал и И. Ф. Калайдович: «Весьма бы не худо было
собрать словарь языка простого народа и показать
грамматические отличия оного от чистого, общеупотре-
бительного наречия»3. С 10-х годов XIX века высказыва-
ния этого рода слышались с разных сторон и печатались
в разных журналах. В «простонародной» речевой сти-
хии, с одной стороны, открывались «необыкновенные
выражения», «замысловатые изъяснения мыслей и
чувств»4. Изучение областных сокровищ живого рус-
ского слова должно было помочь «разрешить многие
недоумения о происхождении слов русских, а с тем
вместе исправить и обогатить язык отечественный, язык,
долженствующий, может быть, скоро поступить на сте-
пень языков необходимых, языков общественных»,—
1 К. Батюшков, Сочинения, т. I, СПб. 1850, стр. 38.
2 «Сын отечества», 1820, ч. LXI, стр. 271.
3 «Труды Общества любителей Российской словесности, Сочи-
нения в прозе и в стихах», М. 1824, ч. V, стр. 334.
4 Ф. Глинка, Письма к другу, ч. III, СПб. 1817, стр. 73.
509
так думал М. Н. Макаров, один из беллетристов, архео-
логов и фольклористов той эпохи1.
С другой стороны, интерес к областным, территори-
альным или провинциальным разновидностям русской
речи вызывался необходимостью определить точные гра-
ницы норм литературно-разговорного и литературно-
письменного выражения. Следовало внести ясность
в проблему взаимодействия литературного языка и
областных вариаций народно-разговорной речи и огра-
ничить наметившуюся в кругах последователей Карам-
зина, поклонников «нового слога российского языка»,
тенденцию к отрицанию или сужению литературного
значения «простонародных выражений». Вопрос о функ-
циях и составе разговорно-бытового просторечия и про-
стонародности в литературном языке приобретал боль-
шую остроту и злободневность: «до какой степени допу-
скаемы могут быть слова простонародные и низкие,
которых хотя начало сыскать и трудно, но коих упот-
ребление почти повсеместное»* 2. Литературная оценка
простонародных выражений и конструкций сопровож-
далась также изучением их исторической значительности
и значимости. Ведь в наших летописях, грамотах, ста-
ринных песнях и разных преданиях встречаются диа-
лектизмы3. Кроме того, «нельзя не заметить, что во мно-
гих словах, совершенно забытых в языке хорошего
общества, но сохраненных где-нибудь между кресть-
янами, скрываются объяснения на историю нашего оте-
чества»4. Таким образом, диалектизмы рассматрива-
лись как характеристические показатели старины, как
сохранившиеся осколки или куски древнерусской речи,
как отражение прошлой жизни. Это — был третий
аспект широкой проблемы отношения национального
русского литературного языка к живой народно-разго-
ворной речи.
Наконец, в различиях народно-разговорной речи
представителей разных сословий, разных социальных
групп находили выражение различия их социально-рече-
’ «Труды Общества любителей Российской словесности», 1826,
ч. I, стр. 287—288.
2 «Вестник Европы», 1819, ч. CVII, № 20, стр. 276.
3 См. «Труды Общества любителей Российской словесности».
1817, ч. VIII, стр. 239—245.
4 «Вестник Европы», 1817, ч. XCV, № 20, стр. 308.
510
вых стилей и отражались различия их социальной харак-
терологии. «Всякое звание,— писал А. А. Бестужев-Мар-
линский в статье «Новый русский язык»,— имеет у нас
свое наречие. В большом кругу подделываются под
jargon de Paris. У помещиков всему своя кличка. Судьи
не бросили еще понеже и поелику. У журналистов во-
ровская латынь. У романтиков особый словарь туманных
выражений, даже у писарей и солдат свой праздничный
язык. В каждом классе, в каждом звании отличная тара-
барщина...; но купчики, пуще всего купчики, любят гово-
рить свысока, то есть сбирать кучу слов» \ Неустойчи-
вость и недостаточно четкая определенность норм
литературно-разговорного выражения порождали одно-
стороннее представление о резкой социально-групповой
раздробленности разговорно-народного языка и об отсут-
ствии в нем единства. В статье «Европеизм и народность»
Н. И. Надеждин заявлял: «У нас нет языка разговорного
общего: у нас есть разговор мужика, разговор купца,
разговор ученого, разговор подьячего, разговор военно-
го, разговор степного помещика, разговор светского
столичного человека... Одно и то же слово имеет совер-
шенно разные, часто противоположные смыслы в этом
вавилонском смешении разговоров... Надо переплавить
все эти разнородные элементы и вылить из них один
чистый, образованный изящный разговор, которого не
стыдились бы и книги...» 1 2.
Проблема социально-речевой характерологии, разли-
чий в стилистических вкусах разных социальных групп
обсуждалась не только в аспекте национальной норма-
лизации литературного языка, но и в аспекте историче-
ском. Так, О. И. Сенковскому крестьянская речь пред-
ставлялась более примитивной и архаической. «Мужики
древние,— писал он,— говорили так же, как мужики
XIX века; но бояре никогда не говорили, как мужики.
Древняя русская аристократия была непросвещена, могла
даже иметь грубые привычки, но она не была груба на
словах»3.
Очень интересна для характеристики противоречивых
1 А. А. Марлинский, Поли. собр. соч., ч. XII, СПб. 1839,
стр. 75.
2 Н. И. Надеждин, Европеизм и народность, «Телескоп»,
1836, ч. XXXI, стр. 226-228.
3 «Русский архив», 1882, кн. III, стр. 150,
511
взглядов литературной среды 20—30-х годов на способы
исторической стилизации языка воспроизводимой эпохи
высказанная в журнале «Телескоп» мысль, что в эпоху
феодализма у русских еще не было «общего слова», ибо
«язык, раздробленный на многочисленные наречия по
всей обширности древней русской земли, нигде,не достиг
литературного образования, которое одно возводит его
на ступень всеобщей национальной речи»1. Все шире
раскрывающаяся неизмеримая стихия русской разговор-
ной речи, обострившийся интерес к изучению и описанию
социально-речевых и областных разновидностей народ-
ного языка, ясно осознанная потребность исторического
анализа языковых явлений, укрепляющаяся тенденция
связать развитие народного и литературного русского
языка с историей русского народа, с развитием русского
общества — все это открывало новые перспективы изоб-
ражения жизни в разные эпохи и перед деятелями худо-
жественной литературы. Прошлое и разные социальные
сферы современного общества начинали все ярче и
нагляднее выступать в своеобразиях социально-истори-
ческих и социально-групповых дифференциальных кра-
сок русского языка на фоне его устанавливающейся
национально-литературной нормы.
В сочинениях В. Г. Белинского очень широко и ясно
отразилось обостренное внимание русского общества 30-х
и 40-х годов XIX века к вопросу об общенациональной
норме литературного выражения. «Создатель и власте-
лин языка,— по словам Белинского,— народ, общество»1 2.
Белинский усердно и систематически отмечает социально-
экспрессивную окраску выражений, их принадлежность
к тому или иному социально-речевому стилю. Например,
«Это не то, что на человеческом языке называется
«любить», а — то, что на мещанском языке называется
«амуриться»...3; «...страшные ссоры между (выражаясь
маленько-мужицким слогом) закадышными друзьями!»4
и др. под. В следующей иронической речи специфические
выражения купеческой среды выделены курсивом: «Чего
доброго! теперь и поштенное купечество с бородою, от
1 «Телескоп», 1832, ч. 10, стр. 243.
2 В. Г. Белинский, Поли. собр. соч. под редакцией С. Вен-
герова, т. IX, СПб. 1910, стр. 375.
3 Там же, т. VI, СПб. 1903, стр. 156.
4 Там же, т. VIII, СПб. 1907, стр. 187.
512
которой попахивает маненько капусткою и лучком, даже
и оно, идя по улице с хозяйкою, ведет ее под руку, а не
толкает в спину коленом, указывая дорогу и заказывая
зевать по сторонам»1. В письме к П. В. Анненкову (от
15 февраля 1848 г.) Белинский упрекает Тургенева в том,
что тот «пересаливает в употреблении слов орловского
языка»1 2.
Понятно, что при глубоком понимании национально-
языковой нормы литературной речи В. Г. Белинский
решительно выступает против смешения народности
«с простонародностью и отчасти тривиальностью»3. Даже
в произведениях для простого народа «не должно слиш-
ком гоняться за мужицким наречием»4.
Стремясь к твердым языковым нормам в области
правил синтаксического построения литературной речи,
Белинский выступает против «синтаксической какогра-
фии», «дурной расстановки предложений»5, нарушения
законов согласования и управления, и т. п. С точки зре-
ния общенациональной языковой нормы он рассматри-
вает вопросы об архаизмах и заимствованных словах.
Тот же принцип соответствия норме национально-литера-
турного выражения или приближения к ней ложится в
основу оценки Белинским значения литературно-языко-
вой и стилистической деятельности Державина, Карам-
зина, Крылова и других русских писателей прошлого и
настоящего. О слоге «Истории государства российского»
Карамзина Белинский писал; «...слог этой истории какой-
то академический, искусственный, лишенный естествен-
ности, тщательно округленный, обделанный, ритми-
ческий, певучий, с прилагательными после существитель-
ных»6. По мнению В. Г. Белинского, язык героев Карам-
зина в «Истории» и «Марфе Посаднице» не соответствует
характеру времени. Белинский так отзывается об
историческом слоге Карамзина: «...речи, сохранившиеся
в летописях, он лишает их грубой, но часто поэтической
простоты, придает им характер какой-то витиеватости,
1 В. Г. Белинский, Поли. собр. соч., т. XII, стр. 115.
2 Белинский, Письма, т. III, СПб. 1914, стр. 337—338.
3 В. Г. Белинский, Поли. собр. соч., т. I, СПб. 1900, стр. 384;
ср. также т. II, стр. 356.
4 Там ж е, т. VIII, стр. НО.
5 Т а м ж е, т. II, стр. 163; т. IX, стр. 33 и др.
6 Т а м ж е, т. IX, стр. 289.
513
риторической плавности, симметрии и заботливой стили-
стической отделки, так что эти речи, в его переводе, яв-
ляются похожими на перевод речей римских полковод-
цев из истории Тита Ливия... Русского в них нет ничего,
кроме слов»1.
Высоко ценя язык Крылова, Грибоедова и других ве-
ликих писателей послекарамзиновского периода, Белин-
ский считал язык Пушкина высшим воплощением на-
ционально-литературной нормы.
Интересны совпадения мыслей Белинского о путях на-
ционализации русского литературного языка с идеями
некоторых декабристов, например Кюхельбекера.
В. К. Кюхельбекер указал на некоторую зависимость
пушкинской стилистики, пушкинского тяготения к широ-
кому литературному использованию живой народно-раз-
говорной речи от почина Грибоедова и Крылова: «Впо-
следствии Пушкин очень хорошо понял тайну языка Гри-
боедова и ею воспользовался». А эта тайна состояла в
широком применении «опущений союзов, сокращений,
подразумеваний», «тех мнимых неправильностей, тех
оборотов и выражений, без которых живой разговорный
язык не может обойтись, но о которых молчат... грам-
матики и риторики»1 2.
В. К. Кюхельбекер заметил в своем «Дневнике», что
«дух русского языка и характера любит метафоры»3.
Все, что было национально-ценного в предшествую-
щей культуре русского слова, в творчестве Пушкина
«явилось как разрешенная загадка, как уже обретенное
слово, как исполнение, как единство, полнота и целость
разнообразного и многостороннего»4.
2
Параллельно и в тесном взаимодействии с процесса-
ми формирования русского литературного языка проте-
кали процессы сложения и развития национальной рус-
ской литературы и ее стилей. «Нужно свое семя, своя
1 В. Г. Белинский, Поли. собр. соч., т. VIII, стр. 259.
2 Дневник В. К. Кюхельбекера, М. 1929, стр. 92—93.
3 Там же, стр. 76.
4 В. Г. Белинский, Поли. собр. соч., .т. V, стр. 361.
514
почва, удобренная богатыми знаниями, деятельной и до*
блестной жизнью — историей; нужны наконец благо-
творные лучи всеоживляющего солнца-гения»,— писал
«Московский вестник». «История, язык и золотые памят-
ники древней словесности свидетельствуют, что мы не
нуждаемся ни в семени, ни в почве, но нет у нас органи-
ческого развития» L Между тем «в наше время поэзия
будет мертва без помощи истории, как физика без ма-
тематики»1 2. Все ярче и острее выступает идея о тра-
дициях и путях создания русской самобытной нацио-
нальной литературы. «Если бы Державин был более
знаком с русской стариною, если бы он не увлекался
ложным об ней понятием, по которому Карамзин пола-
гал необходимым скрашивать родное наше, даже в
самой истории,— может быть, ему суждено бы было
начать период истинно национальной поэзии нашей.
Теперь этот долг за Пушкиным. При Державине не наста-
вало еще время русской литературной самобытности»,—
писал Н. Полевой в «Московском телеграфе»3. Позднее
в своем труде «Общественное движение в России при
Александре I» А. Н. Пыпин так писал о развитии «чув-
ства национальности» после Отечественной войны
1812 года: «Давно стали сознавать у нас, что двенадца-
тый год был эпохой в истории нашего внутреннего раз-
вития в том отношении, что с него начинается сильный
поворот к национальному сознанию, что русская жизнь
с этого времени, оставив прежнюю подражательность, вы-
ходит на дорогу народности, что литература с этих пор
принимает национальный характер, и первый поэт, вырос-
ший под впечатлением этого времени, был Пушкин»4.
Укрепление и распространение романтизма и роман-
тических теорий обостряло интерес к специфическим
особенностям русской национальной культуры и литера-
туры. «Национальное» и «историческое» становились си-
нонимами. «В наше время,— читаем в журнале «Ате-
ней»,— с образованием нашего духа все историческое,
1 «Московский вестник», 1827, ч. II. Критика. Альманахи на
1827 год, стр. 69, 70.
2 Т а м же, Теория изящных искусств. Парадоксы, стр. 166.
3Н. Полевой, Сочинения Державина, «Московский теле-
граф», 1832, № 18, стр. 225.
4 А. Н. Пыпин, Общественное движение в России при Алек-
сандре I, СПб. 1885, стр. 275.
515
национальное должно иметь особенную прелесть и зани-
мательность»1.
Позднее о том же, но более расчлененью, писал
В. Г. Белинский: «Век наш —по преимуществу истори-
ческий век. Историческое созерцание могущественно и
неотразимо проникло собою все сферы современного
сознания. История сделалась теперь как бы общим ос-
нованием и единственным условием всякого живого зна-
ния: без нее стало невозможно постижение ни искусст-
ва, ни философии. ...Само искусство теперь сделалось по
преимуществу историческим: исторический роман и исто-
рическая драма интересуют теперь всех и каждого боль-
ше, чем произведения в том же роде, принадлежащие к
сфере чистого вымысла»1 2.
Понятие «историзма» надо отличать от «историческо-
го». Обращаясь к историческим темам, русские авторы
XVIII века писали на самом деле авантюрные и филосо-
фические романы, иногда с явным публицистическим
уклоном в сторону современности, в сторону тенденци-
озного отражения мыслей и настроений текущего по-
литического момента (ср. «Нума», «Кадм и Гармония»,
«Полидор» Хераскова). «Привлекательности басносло-
вия» и «вымыслы» торжествовали над историческим
правдоподобием. Херасков, П. Захарьин (автор «При-
ключений Клеандра, храброго царевича Лакедемонско-
го»), Пракудин (автор «Валерии»), Ф. Эмин и др., при
всем различии их стилей, были одинаково далеки
от стремления с помощью словесно-художественных
средств — хотя бы и современной литературной речи —
создать исторический, этнографический или местный ко-
лорит изображаемых событий. Попытки освещения во-
сточнославянской богатырской старины у М. Чулкова в
его «Русских сказках» (1780) и «Славонских сказках»
(«Пересмешник»— 1766 г.), а также у М. Попова в «Сла-
венских древностях» (1770), в «Вечерних часах, или
Древних сказках славян древлянских» В. Левшина
(1787) и некоторых других сочинениях второй половины
XVIII в. были также полны традиционных ситуаций и
стилистических форм героических поэм и рыцарских ро-
1 «Атен ей», 1830, ч. I, № 1, стр. 96.
2 В. Г. Белинский, Собр. сочинений в 3-х томах, т. 2, Гос-
литиздат, М. 1948, стр. 225.
516
Манов эпохи классицизма. Исторический и этнографии^
ский фон развертывания сюжетов в этих «славенских»
рассказах и повестях был очень схематичен и условен.
Строя свои авантюрные фабулы на основе праистории
славян, наслаивая на них былинную и вообще фольклор-
ную старину, авторы этих псевдоисторических повество-
ваний обильно уснащали свои «сказки» и повести о «сла-
венских древностях» вымыслами и занимательной прият-
ностью классического баснословия.
М. М. Херасков, следуя правилам умеренно-высокого
слога, в своих эпических поэмах пользовался «печатны-
ми и письменными известиями» исторического характе-
ра. «Но да памятуют мои читатели,— предупреждал он в
«Историческом предисловии» к своей эпической поэме
«Россиада»,— что как в эпической поэме верности исто-
рической, так в дееписаниях поэмы искать не должно»
При назывании и перечислении исторических событий
автор не прибегает к приемам исторической стилизации
языка, строя «Россиаду» по схеме классической эпопеи.
«В романах Ф. А. Эмина и М. М. Хераскова уже мо-
жно видеть слабое и извращенное стремление вплести
историю в фабулу романа; но здесь пока царит ложно-
классическая напыщенность и полное искажение каких-
либо исторических фактов и народных преданий,— пи-
сал Н. К- Козмин в «Очерках из истории русского роман-
тизма».— Исторический элемент «Натальи, боярской
дочери» Карамзина (1792) и «Добродетельной Розаны»
Лазаревича (1782) бледен в высшей степени; что же ка-
сается до языка, которым написаны эти повести, то, да-
же по собственному признанию авторов, «старинные лю-
бовники говорили не совсем так, как здесь говорят они»
(см. «Наталью, боярскую дочь»)»1 2.
Б. В. Томашевский в очень интересной статье «Исто-
ризм Пушкина» писал: «Нельзя считать проявлениями
исторического мышления классические трагедии во вку-
се Княжнина и Сумарокова с их «применениями» и «ал-
1 Творения М. Хераскова, вновь исправленные и дополненные,
ч. I, М. 1796, стр. XIV.
2 Н. К. Козмин, Очерки из истории русского романтизма.
Н. А. Полевой, как выразитель литературных направлений совре-
менной ему эпохи. «Записки историко-филологического факультета
Императорского С.-Петербургского ун-та», ч. LXX, СПб. 1903,
стр. 76.
517
люзиями». Неисторичны баллады с их обращением К
преданиям и легендам прошлого, трактуемым в сенти-
ментально-фантастическом вкусе, совершенно чуждом
всякой древности. Наконец, лишены историчности те пе-
релицовывания, современных автору идей и выхваченные
из истории «эпизоды», в которых историческими являются
только имена и весьма произвольно истолковываемые
поступки избранных героев. Равно нельзя отнести к обла-
сти исторических взглядов отдельные публицистические
замечания и суждения о событиях более или менее отда-
ленного прошлого, если они не связаны с органическим
интересом к этому прошлому, независимо от того, как бы
ни были любопытны и остроумны подобные афоризмы»
С 80-х годов XVIII века начинает формироваться но-
вый жанр «исторической повести», в которой рассказы-
вается— на широком абстрактно-историческом фоне —
об одной, иногда очень сложной, серии приключений
двух любовников. Сюда относятся «Добродетельная Ро-
зана» Лазаревича, вышедшая в 1782 году под этим за-
главием, а в 1780 году под именем «Гонимы», «Повесть
о Героде»—1780 год, «Громовой» А. Измайлова —
1796 год, «Рогвольд» Нарежного— 1789 год и некоторые
другие. Эти повести в сущности лишены стилистических
признаков исторического, этнографического и местного
«колоритов». «Перспектива исторической действительно-
сти, характеристика эпохи, в которую развертывается
целая — часто запутанная — сеть героических и роман-
тических событий, или совершенно отсутствует, или
представлена убогим перечислением исторических имен,
неуверенными датами, географическими и этнографи-
ческими терминами, робкими описаниями старинных
одеяний и аксессуаров бытовой обстановки»1 2.
В повестях этого типа осуществляется расширение
аксессуаров этнографической обстановки, широко при-
меняется бытовая терминология, реально-вещественная
лексика. Например, в повести «Добродетельная Розана»
(1782): «Весьма обширная степь, не имеющая ни лозы
на себе растущей, есть их прибежище, войлочные палат-
1 «Ученые записки Ленинградского университета, № 173, Серия
филологических наук», вып. 20, 1954, стр. 44.
2 Н. Апостолов, Карамзин как романист-историк, «ЖМНП»,
1916, апрель, стр. 194.
518
ки, у них кибитками называемые, служат им защитою от
непогодного времени, нечистота везде и во всякой кибит-
ке у них столь велика, что всякий наигрубейший рос-
сийский крестьянин почувствует, оную видя, отвращения
к жилищам печенежским; всегдашнее ржание их лоша-
дей составляет ушам скучную и несносную мусику; за-
жженные кучи лошадиного кала вокруг и внутри жилищ
их курятся непрестанно, дымом из них исходящим на-
полняют воздух и делают оный обонянию совсем непри-
ятным... Пища их всего более производила в чувствах
Розаны отвращение, потому, что она состояла из жаре-
ного мяса упалых лошадей, и они с большею жадностью и
объедением пожирали сию мертвечину, нежели когда они
принуждены бывали, за неимением падали, сами убивать
скотину, говоря: то де приятнее, что Бурхан убил» L
Но в основном русские исторические повести и рома-
ны конца XVIII и начала XIX века, например, историче-
ские повести Карамзина и рассказы Нарежного («Сла-
венские вечера») носят на себе глубокие следы ритори-
ки и антиисторизма.
В «Славенских вечерах» Вас. Нарежного, посвящен-
ных первым русским князьям, звучит патетическая декла-
мация в духе оссиановских поэм. В сентиментальной
рамке риторических упражнений неясно изображаются
абстрактно-поэтические картины древнерусского быта.
Эти картины рисуются в таком стиле: «Туманом покры-
ты были власы востекающего над градом Киевом Све-
товида. Сизый Днепр с глухим ревом медленно катил в
берегах волны свои; умолкло пение птиц сладкогласных.
Один вран чернокрылый издавал вопли по дубраве,— и
хищный волк вторил ему грозным завыванием. Востекла
юная супруга воюющего Игоря, князя Киевского, прекрас-
ная Ольга с одра златотканного. Мрачными взорами
узрела она с высокого терема своего и горы, и долы Киев-
ские, и волны Днепровские, и дубравы тенистые. Воздох-
нула она об отсутствии супруга своего, ратующего в пре-
делах земли Древлянския. Давно уже златоверхий терем
ея обезлюдел и ложе брачное охладело» (Игорь. Ве-
чер XIII) 1 2. Так описывается утро в Киеве, когда Ольга,
1 Лазаревич, Добродетельная Розана, СПб. 1782, стр. 61—62.
2 В. Т. Нарежный, Славенские вечера, ч. II, СПб. 1826,
стр. 99—100.
519
проводивши Игоря к древлянам, тоскует о его отсут-
ствии.
А вот описание ясного вечера в Турове: «Прекрасная
заря вечерняя воссияла на кротком голубом небе. Румя-
ные лучи ея озлащали крепкие зубцы высоких башен
града Турова и цветные кровли теремов князя Любо-
слава. Игривый ветерок, резвясь в пространстве воздуш-
ном, колебал листья кедров высоких, спускался на розу
благовонную и роскошно отдыхал в объятиях царицы
цветов прелестный; вся природа, увеселяющаяся дневны-
ми трудами своими, простирала длани к вожделенному
успокоению» (Любослав). Вечер X) 1.
В начале XIX века появляются исторические отрывки
и повести с примесью собственно исторического элемен-
та и даже с стремлением черпать фактический или сю-
жетный материал непосредственно из летописи или из
других памятников старины, например, любопытный
исторический отрывок Геракова «Князь Меншиков»
(1801), «Ксения, княжна Галицкая» неизвестного авто-
ра (1808), исторические повести С. Глинки (изд. в 1810 г.),
исторические повести Марлинского, ряд исторических
романов из жизни Украины (Малороссии) Ф. Н. Глинки,
Ореста Сомова (Порфирия Байского), В. Т. Нарежного
(«Запорожец» и «Бурсак» в сборнике 1824 г.) 1 2 и др.
Но одни из этих произведений носили слишком явный
отпечаток оссиановской традиции и сентиментально-ри-
торической патетики («Славенские вечера» Нарежного),
другие — стиля повестей Карамзина и декламационной
манеры «исторических» рассказов XVIII века. В них еще
не выступали с полной рельефностью и остротой те чер-‘
ты художественно-исторического, полуромантического и
полуреалистического романа, которые связывались с име-
нем Вальтера Скотта.
С самых первых лет XIX столетия количество сенти-
ментально-риторических повестей с сюжетом на истори-
1 В. Т. Нарежный, Славенские вечера, ч. II, СПб. 1826,
стр. 31.
2 Н. Белозерская. Вас. Троф. Нарежный, СПб. 1896, ч. I,
стр. 58—68 (обзор исторических романов конца XVIII и начала
XIX столетия). Н. Петров, Очерки истории украинской литера-
туры XIX столетия. Киев, 1884, стр. 174 и след. И. И. Замотин,
Романтизм двадцатых годов XIX столетия в русской литературе
т. II, изд. 2-е, СПб. 1913, стр. 344—345.
520
ческие темы все возрастает *. Крупнейшие литераторы
того времени — Карамзин, М. Н. Муравьев («Оскольд»),
Жуковский («Марьина роща»), Батюшков, С. Н. Глинка,
Н. А. Арцыбашев («Рогнеда») и другие пишут произве-
дения в этом жанре.
«Интерес к историческим темам в декабристской сре-
де сочетался с идеализацией вечевого строя и Новгород-
ской республики. Отсюда тяготение к истории древней-
ших времен русского государства. И Мих. Орлов и Ник.
Муравьев упрекали Карамзина за то, что он не касается
истории русских и славянства вообще до Рюрика. Об
этом же говорит косвенным намеком В. Ф. Раевский в
«Вечере в Кишиневе». Эпизоды, связанные с борьбой за
вольность, особенно привлекают внимание декабристов.
Поэтому в особенной степени достойными исторического
изучения и исторического изображения в художествен-
ных произведениях считался ранний период Новгород-
ского и Киевского государства, затем эпоха длительной
борьбы Новгорода за свою независимость. Более поздние
эпохи менее интересуют декабристов. Из них только один
А. Корнилович сосредоточил свое внимание на петров-
ской эпохе. События XVIII века представлялись уже как
бы современностью, и где-то в середине века проходила
граница, отделяющая историю от настоящего времени.
Критерием историчности была древность... Это характерно
и для исторических сюжетов в художественной прозе. Ис-
торические повести 20-х годов тяготеют к средневековью»1 2.
Декабристы увлекались летописями, их стилем. Так,
Кюхельбекер считал «отечественные летописи» «лучшими,
чистейшими, вернейшими источниками для нашей 'сло-
весности» 3. «Летописи вдохновляли творчество Одоев-
ского, А. Бестужева, Рылеева, Кюхельбекера. А. И. Одо-
евский писал в 1833 году: „С очень давних пор история
России служит источником моих обычных вдохновений —
1 См., например, перечень таких повестей во II томе Собр.
соч. К- Н. Батюшкова (СПб. 1885) под редакцией акад.
Л. Н. Майкова в примечаниях редактора к повести Батюшкова
«Предслава и Добрыня». Ср. также в книге Н. Белозерской,
В. Т. Нарежный, СПб. 1896, ч. I, стр. 63.
2 Б. В. Томашевский, Историзм Пушкина. «Ученые за-
писки Ленингр. ун-та, № 173, Серия филологических наук», вып. 20,
1954, стр. 55.
3 В. Кюхельбекер, О направлении нашей поэзии, особенно ли-
рической в последнее десятилетие. «Мнемозина», 1824, ч. II, стр. 42.
521
древняя история, столь простая и иногда столь прекрас-
ная в устах наших монахов-летописцев"» Ч А. А. Бесту-
жев-Марлинский заявлял: «В летописях Псковской и
Новгородской встречаются места трогательные, испол-
ненные рассуждений справедливых, а не одни случаи»1 2.
В 20-х и в начале 30-х годов XIX века — в связи с
оживлением интереса к проблемам национальной рус-
ской культуры и русского национального литературного
языка — при косвенном содействии увлечения историче-
скими романами Вальтера Скотта и вызванными ими
художественно-историческими произведениями в литера-
турах западной Европы — у нас складывается новый вид
исторической повести и исторического романа с гораздо
большей ориентацией на воспроизводимую историческую
действительность, ее быт, ее стили и ее язык. Вслед за
историческими повестями Марлинского «Роман и Ольга»,
«Дума Святослава», «Наезды» и романом М. Н. Заго-
скина «Юрий Милославский» (1829), появляется: «Га-
рольд и Елизавета», историческая повесть Эртеля (СПб.
1831), «Марина Мнишек» Ив. Гурьянова (М. 1831),
«Ольга Милославская», соч. Глхрва (М. 1831), «Стрель-
цы» К. Масальского (1832), «Федора» П. Сумарокова
(1830) и др. Историческая повесть расчищает и подготов-
ляет пути движения историческому роману.
В. Г. Белинский, обращаясь к трафаретному истори-
ческому романисту, так характеризовал процесс производ-
ства шаблонных исторических повестей и романов 30-х го-
дов: «Частью по французским переводам, частью по дрян-
ным российским переложениям ты познакомился с Валь-
тером Скоттом,— и тебе, самонадеянному юноше-само-
учке, показалось, что ты разгадал тайну таланта вели-
кого шотландца и что тебе ничего не стоит самому
сделаться таким же «романтиком».— И вот ты начал
тайком перелистывать историю Карамзина, браня ее
вслух (как «классическое» произведение), и, бывало,
возьмешь из нее напрокат какое-нибудь событие да лица
два-три, завяжешь им глаза, да и пустишь их играть
в жмурки с картонными марионетками собственного
твоего изобретения... И сколько повестей наделал ты из
1 См. С. С. Волк, Исторические взгляды декабристов, М.— Л.
1958, стр. 291.
2 А. А. Марлинский, Поли. собр. соч., СПб. 1847, т. IV.
я. XI, стр. 137.
522
степенной русской истории, заставив чинных русских
бояр мстить по-черкесски, клясться не иначе, как смер-
тью и адом, и кричать на каждой странице: га!.. Злодей,
ты уцепился за новейшую историю, которую изучил из
«Московских ведомостей»; ты не пощадил и Наполеона,
не убоялся оскорбить его развенчанной тени и смело за-
ставил его играть престранную роль в твоих площадных
сказках, сводить и знакомить его с разными романтиче-
скими чудаками, незаконными детьми твоей фантазии...» 1
Очень острый характер приобретает дискуссия об от-
ношении исторического романа к истории как науке, о
связи и взаимодействии исторического романа и истории.
О. И. Сенковский заявлял: «Душе моей противно брать
в руки незаконнорожденного ребенка: исторический ро-
ман, по-моему, есть побочный сынок, без роду, без пле-
мени, плод соблазнительного прелюбодеяния истории с
воображением. Я стою за чистоту нравов и лучше желал
бы иметь дело с законными чадами или одной истории,
или одного воображения»1 2.
В противовес этому суждению В. Г. Белинский под-
черкивал огромную художественную и культурно-истори-
ческую роль романа как средства познания исторической
действительности. «Есть люди,— писал он,— которые от
души убеждены, что исторический роман есть род ложный
и оскорбляющий достоинство и Искусства и Истории.
Одно из важнейших доказательств их состоит в том, что
романисты часто искажают историческую истину; но по-
нимают ли эти люди, что такое историческая истина?»3
Белинский полагал, что «в поэзии действительности»,
то есть в реалистическом искусстве историческому рома-
ну, как форме художественного воплощения исторической
истины, принадлежит огромная роль. В историческом ро-
мане история как наука сливается с искусством. Исто-
рическая истина — «дух эпохи», воплощенный в худо-
жественно обобщенном изображении.
В статье, написанной в связи с выходом в свет «Юрия
Милославского» М. Н. Загоскина4, Н. Полевой, характе-
ризуя исторический роман Вальтера Скотта, так изобра-
1 В. Г. Белинский, Собр. соч. в 3-х томах, Гослитиздат, М.
1948, т. 2, стр. 453.
2 О. Сенковский, Собр. соч., т. VIII, СПб. 1859, стр. 44.
3 В. Г. Белинский, Поли. собр. соч., т. II, СПб. 1900, стр. 54.
4 «Московский телеграф», 1829, № 24, стр. 463—464.
523
жает сущность, цель и -построение романов этого жанра:
«Избрать такое историческое событие, которое дало бы
средство поэтически разыграться воображению; выста-
вить толпу характеров и лиц, заставить их действовать и
говорить, совершенно скрывшись за ними; не иметь ни
одного героя, в котором бы автор высказывал самого
себя; перенестись совершенно в тех людей, которых изо-
бражаешь, во время, которое описываешь; представить
ряд событий, перепутанных одно с другим, и переходом
от одного к другому, мелкою живописью подробностей,
изображением непостижимо верным века, нравов, обы-
чаев, поверьев заставить читателя забыться, думать, что
он живет, действует вместе с действующими лицами ро-
мана — вот стороны, которые представляются в романах
В. Скотта, при самом поверхностном их рассмотрении».
А. Скабичевский в статье «Наш исторический роман в
его прошлом и настоящем» писал, что в 30-х годах у нас
исторические романы «посыпались как из рога изобилия.
Как велика была эта эпидемия исторической беллетри-
стики, можно судить по числу наиболее выдающихся
имен, подвизавшихся в то время на этом поприще. Так,
кроме Пушкина, Гоголя, Загоскина и Лажечникова, мы
видим в качестве русских В. Скоттов: Р. Зотова, Н. По-
левого, Ф. Булгарина, Н. Кукольника, П. Свиньина,
Ал. Кузмича, Воскресенского, П. Федорова, А. Андреева,
А. Чуровского и проч. Женский труд, в свою очередь, не
замедлил представить свою лепту всеобщему увлечению
в лице О. Шишкиной... и другой безвестной писатель-
ницы, написавшей роман «Супруги Владимира» и затем
историческую повесть, одно обширное, но совершенно
безграмотное заглавие которой может свидетельствовать
о том, что это за произведение. Вот это замечательное за-
главие: «Шигоны. Русская повесть XVI столетия. С точ-
ным описанием житья-бытья русских бояр, их прибытия в
отчины, покорность жен, пиры вельможей и наконец Цар-
ская вечеринка. Мимоходом замечены монахи того вре-
мени, их поклонницы; не забыты и истинно святые мужи,
как то старцы: Семион Курбский, Вассиан Патрикеев и
Максим Грек, в достоверную эпоху вторичного брака царя
Василия Иоановича. Выбрано из рукописей издательни-
цею «Супруг Владимира». Москва 1834 года» !.
1 А. Скабичевский, Сочинения, т. II, СПб. 1890, стр. 746.
524
Во второй половине 30-х годов волна исторических
драм, повестей и романов начинает спадать. В предисло-
вии к сочинению О. Шишкиной] «Князь Скопин-Шуй-
ский, или Россия в начале XVII столетия» заявлялось:
«В продолжение многих лет исторические романы чрез-
вычайно нравились, все были в восторге от Вальтера
Скотта и созданный или, лучше сказать, прославленный
им род сочинений вообще почитали искусною приманкою,
чтобы заставить изучаться Истории и внушить уваже-
ние к предкам. Но, как известно, ничто в мире не может
долго равно пленять вкус. Об этом толкуют во всех об-
ществах, пишут во' всех журналах; тем хуже для тех, ко-
торые не хотят этому верить или, ,веря, не могут превоз-
мочь своей природы и во всем и всегда опаздывают»1.
Интерес к художественному воспроизведению истори-
ческой действительности в повести и романе, естественно,
приводит к постановке и обсуждению вопроса, все ли
эпохи русской истории могут дать надежный, заниматель-
ный и достоверный материал для искусства романиста.
Ведь роман должен представлять «полную картину жиз-
ни в ее деятельном развитии, строго подчиняясь всем
вещественным условиям истины». «Он есть та же исто-
рия, только отраженная не в прямом, а искусственно
устроенном зеркале, где явления сохраняют свои физи-
ономии и цвет, но переменяют относительное положение
свое друг к другу для образования цельной картины,
сообразно с предположенною идеею»1 2. При таком пони-
мании задач и целей исторического романа у критика
«Телескопа» (Н. И. Надеждина?) возникает сомнение в
возможности представить в ярких образах исторического
романа события первых шести веков русской историче-
ской жизни. Отечественные предания, относящиеся к
этому времени, представляют нам, по словам критика,
только «дремучий лес безличных имен, толкущихся в
пустыне безжизненного хаоса». И Карамзину не удалось
«оцветить сию мрачную пустоту риторическою прелестью
рассказа», ибо «ему не с чего было записывать». «При
совершенном бездействии пружин, коими возбуждается
народная деятельность, у нас не могло выработаться
1 О. Ш., Князь Скопин-Шуйский, или Россия в начале XVII сто-
летия, СПб. 1835, ч. I, стр. V—VI.
2 «Телескоп», 1832, ч. 10, стр. 233 и след. «Летописи отечест-
венной словесности».
525
тогда ни одного глубокого характера, ни одной резкой
физиономии». «Таким образом из тысячелетнего цикла
нашей истории шесть веков не принадлежат собственно
биографии русского народа и, следовательно, не сущест-
вуют для русского романа. С Иоанна III должно считать
собственно жизнь русского народа. Но и здесь целые два
века протекли еще в младенческих нестройных движе-
ниях организующегося государства. Сии два века состав-
ляют посему только введение в настоящую историю на-
шего отечества». «Эти два века представляют не роскош-
ную жатву для русского исторического романа». Полная
русская история начинается не дальше Петра, да и эта
«первая глава» нашей истории «так свежа, так нова».
Любопытно, что исторические романы Пушкина посвя-
щены разным периодам именно этой «полной русской
истории».
Попытку широких обобщений в области развития
русского исторического романа в XIX веке представляет
статья профессора В. В. Сиповского «Русский историче-
ский роман первой половины XIX ст.» (Тезисы) Т Она
отчасти опирается на предшествующее двухтомное (в
трех книгах) исследование того же автора «Очерки из
истории русского романа и повести XVIII в.». В русской
литературе XVIII века профессор В. В. Сиповский раз-
личает четыре направления «формации» того, что тогда
условно называли «историческим романом», или четыре
типа исторических романов: 1) роман классический с
двумя разновидностями — роман любовный и роман по-
литический, в котором под покровом древности разре-
шаются жгучие политические проблемы XVIII века;
2) роман авантюрно-рыцарский с двумя разновидностя-
ми — роман пародийный, травестирующий фантастику
средневековья, и роман сентиментальный; 3) роман ис-
торический (в узком смысле), черпающий свое содержа-
ние из истории древней, допетровской Руси и летописей
и 4) роман мемуарно-исторический, черпающий содер-
жание из устных преданий и мемуаров XVIII века. Пер-
вые два типа романа (классический и рыцарский) во
второе десятилетие XIX века умирают. Зато широко раз-
вертывается эволюция двух других групп романов.
1 «Сборник статей в честь акад. А. И. Соболевского», Изд.
АН СССР, Л. 1928.
526
В развитии исторического романа в русской литера-
туре XIX века В. В. Сиповский выделяет три потока:
1) Романы, изображающие жизнь древней Руси (по
преимуществу Киевской). Этот цикл развивается особен-
но интенсивно в первые три десятилетия XIX века.
Романы о древней Руси оказались жанром неустой-
чивым и не очень продуктивным. Они строились на ос-
нове летописи и эпических сказаний. Элементы историз-
ма в их стиле очень условны. В прозе здесь преобладал
декламативно-риторический стиль. Подавляющее боль-
шинство этих романов относилось к киевскому циклу,
к изображению событий, связанных с историческими
именами княгини Ольги, Игоря и Ольги, Рогнеды, Свя-
тополка Окаянного. Очень большую роль в некоторой ча-
сти этих романов играли былинно-сказочные мотивы.
Типичным и лучшим произведением этого рода являет-
ся роман Вельтмана «Светославич, питомец вражий».
2) Романы, относящиеся к истории Украины, обнару-
жили большую устойчивость. В преобладающей части их
широко представлены элементы украинского языка и
стилистические формы украинского фольклора.
3) Но особенно производителен и живуч был тип мему-
арно-исторического романа. Одни из романов этого типа
изображали жизнь Московской Руси, черпая материал
и фразеологию из «Истории государства российского»
Карамзина и из разнообразных изданных к тому време-
ни исторических сочинений и источников. Другие изобра-
жали жизнь XVIII века и — одна группа их —жизнь
начала XIX века. Они опирались на предания и мемуа-
ры, а также на другие исторические источники.
Тип историко-бытового романа достигает своего апо-
гея в 1831—1834 годах.
«Начиная с 40—50-х годов, исторический роман вытес-
няется «обыкновенными историями» — героями являют-
ся «обыкновенные люди»: мелкие провинциальные дво-
ряне, чиновники, купцы, крестьяне, мещане и рабочий
люд; входят в моду «физиологические очерки» и, задол-
го до романов Достоевского, появляются на страницах
русского романа «бедные люди», «униженные и оскорб-
ленные» противоречиями социального порядка»1.
1 В. В. Сиповский, Русский исторический роман первой по-
ловины XIX ст. «Сб. статей в честь акад. А. И. Соболевского»,
стр. 63—68.
527
И. С. Тургенев в рецензии на историческую драму
С. А. Гедеонова констатировал, что в 40-х годах «нрав-
ственно-сатирические и исторические романы старого по-
кроя убиты; но исторические драмы существуют...»
«Исторический роман, историческая драма... Если
каждого из нас так сильно занимает верное изображе-
ние развития самого обыкновенного человека, то какое
впечатление должно производить на нас воспроизведе-
ние развития нашего родного народа, его физиономии,
его сердечного, его духовного быта, его судеб, его вели-
ких дел?.. Кто решается — не смиренно и терпеливо пе-
ресказать судьбы своего народа, следя современным
бытописаниям, но в живых образах и лицах воссоздать
своих предков, избегнуть холода аллегорий и не впасть
в сухой реализм хроники, действительно представить
некогда действительную жизнь,— тому мало даже боль-
шого таланта: если в сердце его не кипит русская кровь,
если народ ему не близок и не понятен прямо, непо-
средственно, без всяких рассуждений, пусть он лучше не
касается святыни старины...» 1
Тургенев заканчивает критический обзор драмы С. А.
Гедеонова о Прокопии Ляпунове такими словами: «Мы
восставали и восстаем против злоупотребления патрио-
тических фраз, которые так и сыплются из уст героев
наших исторических драм,— восставали и восстаем от-
того, что желали бы найти в них более истинного пат-
риотизма, родного смысла, понимания народного быта,
сочувствия к жизни предков... пожалуй, хоть и к народ-
ной гордыне... Кто нам доставит наслаждение поглядеть
на нашу древнюю Русь? Неужели не явится, наконец, та-
лант, который... покажет нам, наконец, русских живых
людей,— говорящих русским языком, а не слогом,— вме-
сто тех странных существ, которые под именами исто-
рическими и вымышленными так давно и так безотрад-
но мелькают перед нашими глазами! Или в pendant
малороссу Тарасу Бульбе нам все еще должно удовле-
творяться русским Чичиковым?
Да, русская старина нам дорога, дороже, чем дума-
ют иные. Мы стараемся понять ее ясно и просто; мы не
1 И. С. Тургенев, рец. «Смерть Ляпунова. Драма в пяти
действиях в прозе. Соч. С. А. Гедеонова, СПб. 1846». Собр. соч.,
т. XI, М. 1956, стр. 57—58.
528
превращаем ее в систему, ие втягиваем в полемику; мы
ее любим не фантастически вычурною, старческою лю-
бовью; мы изучаем ее в живой связи с действительно-
стью, с нашим настоящим и нашим будущим, которое
совсем не так оторвано от нашего прошедшего, как
опять-таки думают иные. Но повторяем: пусть истинный
талант,— какие бы ни были его теоретические, истори-
ческие убеждения,— передаст нам нашу старину...» 1
Отмечалось, что волны наивысшего подъема интереса
к историческим жанрам падают в истории русской ли-
тературы XIX века на 30-е и 60-е годы. Но «если в 20—
40-е годы историзм отражался преимущественно в худо-
жественной прозе (хотя отдельные писатели совмещают
в себе одновременно интерес к повествовательным и дра-
матургическим жанрам — например, Кукольник, Розен,
Полевой, не говоря уже о Пушкине и Гоголе), то в 60-е
годы превалирует историческая драма. Целый ряд писа-
телей, ранее не проявлявших или почти не проявлявших
интереса ни к истории, ни к исторической драме, обна-
руживает вдруг увлечение именно этим жанром. Доста-
точно назвать имена Островского, А. Толстого, Мея,
Аверкиева, Чаева, чтобы убедиться в том, что мы имеем
здесь дело не с спорадическим явлением, а с процессом,
имеющим некую общую логику и закономерность»1 2.
Однако попытки вскрыть эту закономерность пока еще
не увенчались успехом. Ведь нельзя же считать откры-
тием закономерности этого процесса такие абстрактно-
социологические формулы: «Необычайно острый стык
социальных антагонизмов в первой половине 60-х годов
не только породил мощную волну историзма, но и соз-
дал естественные предпосылки к тому, чтобы этот исто-
ризм отлился в искусстве в наиболее интенсивную, то
есть драматическую, форму»3. Необходимо связывать
судьбы русского исторического романа как с специфи-
ческими процессами развития русской национальной
культуры, с социально-политическими и идеологически-
ми движениями в истории русского общества, так и с за-
кономерностями развития русского национального лите-
ратурного языка и стилей художественной литературы.
1 И. С. Тургенев, Собр. соч., т. XI, стр. 69—70.
2 С. Машинский, Историческая повесть Гоголя, «Совет-
ский писатель», М. 1940, стр. 12—13.
3 Там же, стр. 13.
18 В. В. Виноградов 529
3
Есть параллелизм и взаимодействие между процес-
сами образования, закрепления и осознания норм на-
ционального русского литературного языка, между про-
цессами формирования и развития реализма как мето-
да литературно-художественного изображения и между
изменениями композиционных форм и структур русской
художественно-исторической прозы.
Стиль исторической повести и исторического романа
последней четверти XVIII века и начала XIX века вооб-
ще не выделяется из общей системы стилей русской ли-
тературы той эпохи и из системы стилей литературного
языка этого времени. Правда, уже при осознании общих
контуров национально-языковой нормы современного
литературного выражения с 20-х годов остро выступает
проблема языка исторической драмы, а затем и языка
исторической повести, исторического романа как одна
из важнейших проблем их поэтики. Широкий общест-
венный интерес был возбужден вопросом о способах ре-
чевой стилизации эпохи при воспроизведении среды, бы-
та и образов героев в художественно-историческом про-
изведении.
В тесной связи с этим кругом проблем в 20-е
и ЗО-е годы находилась и общая проблема истори-
ческого изложения, проблема стиля истории как яв-
ления науки и культуры. Любопытно, что значительная,
если не преобладающая, часть видных исторических ро-
манистов и драматургов этого времени были в той или
иной степени и историками. Кроме Пушкина и Гоголя,
историей как наукой занимались А. Корнилович, Кю-
хельбекер, Булгарин, Вельтман, Н. Полевой, Погодин и
другие.
Историзм как стилеобразующая категория в литера-
туре и как категория, нормализирующая в истории сло-
жения и развития национального литературного языка,
глубоко охватывает в 20—-30-е годы всю область художе-
ственной и бытовой, даже деловой культуры речи. По
отношению к жанрам художественно-исторической лите-
ратуры на этой почве возникают споры о принципах
стилизации «языка эпохи», о приемах употребления его
отдельных элементов, о границах и формах или видах
уклонений от современной литературно-языковой нормы,
530
допустимых и целесообразных в сфере исторического по-
вествования или диалога.
Ведь — и все это носителям национально-языковой
нормы было ясно — в основе стиля художника-историка
должна и может лежать лишь система современного ему
литературного языка, языка его среды и его эпохи, эпохи
читателей, к которым он обращается. Само собой разу-
меется, что при художественном воспроизведении дале-
кого исторического прошлого был возможен, а иногда и
необходим, выход за пределы наличной языковой тра-
диции. Но как бы ни многочисленны и обильны были за-
имствования из языка исторических памятников, из язы-
ка изображаемой среды и эпохи, они при всех условиях
остаются только частичными уклонениями от наличной
языковой традиции.
Система современного языка образует семантический
стержень художественного выражения, она является
тем языковым фоном, на котором выступают отдельные
красочные пятна исторической стилизации. Она заложе-
на в структуре художественного произведения как объ-
ект отталкивания или сопоставления, как критерий всех
отклонений и уклонений в область исторических форм
выражения — архаичных, областных, иноязычных.
Никто из исторических романистов той эпохи не стре-
мился к полной археологической точности и не достигал
ее даже в исторической драме. Известно, что «подлинная
речь героя так же мало уместна, как его настоящий са-
пог в живописном портрете» (Геббель). Но архаизация
языка в историческом романе нередка.
Историзм, направленный на далекое прошлое, вовсе
не предполагает у писателя такого же знания языка, бы-
та и мировоззрения минувших эпох, какое непосредст-
венно дано современнику изображаемой эпохи. На это
указывал еще Пушкин. И все же в каких-то пределах
явные, очевидные всем анахронизмы в языке, в деталях
изображения нарушают реалистическую достоверность и
художественную убедительность исторического представ-
ления.
«Рассматривая историческое сочинение,— указывал
Н. М. Муравьев1,— следует вникать в дух, в каком оно
написано: „не приданы ли векам отдаленным мысли на-
1 См. «Литературное наследство», т. 59, 1954, стр. 582.
18*
531
шего века, не приписаны ли праотцам понятия, приоб-
ретенные уже внуками?0»1 Конечно, все это в высшей
степени относительно и определяется общим историче-
ским сознанием и историческим кругозором разных сло-
ев общества того или иного времени, свойственным им
чутьем «исторической правды». Ведь абсолютным зна-
нием эпохи не обладает даже записной историк культу-
ры. Кроме того, между знанием быта и мировоззрения
эпохи и знанием ее языка нет и не может быть прямого
соответствия. Так, ни один историк Киевской Руси, ни
один историк древнерусской литературы не может по-
хвалиться даже в скромной мере активным знанием
древнерусской языковой системы, живой восточносла-
вянской речи. Весь этот широкий круг вопросов, тесно
связанных с процессом формирования общенациональных
норм русского литературного языка и с исторической
оценкой его прошлых судеб, выдвигается в 20—30-е годы
XIX века в светлое поле культурно-общественной жизни.
Историзм, укрепившийся как стилеобразующая ка-
тегория в русском литературном сознании начала
XIX века, был органическим элементом романтического
мировоззрения. Именно в это время, по словам А. А. Бе-
стужев а-Марлинско го, «история сделалась страстью Ев-
ропы, и мы сунули нос в историю; а русский ни с мечом,
ни с калачом шутить не любит. Подавай ему героя ох-
вата в три, ростом с Ивана Великого и с таким славным
именем, что натощак и не выговорить. Искромсали Ка-
рамзина в лоскутки; доскреблись и до архивной пыли;
обобрали кругом изустное предание»
Остро встал вопрос о различиях мировоззрения раз-
ных эпох, о том, чтобы «образ мыслей» того или иного
века приобрел самостоятельную историческую и худо-
жественную ценность как проблема национального са-
мосознания.
Бестужев-Марлинский чрезвычайно ярко характери-
зует самый метод тогдашнего исторического жизнепони-
мания и общественные условия, его поддерживавшие:
«История была всегда, свершалась всегда. Но она ходи- 1 2
1 С. С. Волк, Исторические взгляды декабристов, М.—Л. 1958,
стр. 133.
2 А. А. Марлинский, О романе Н. Полевого «Клятва при
гробе господнем», Сочинения, т. XI, СПб. 1838, стр. 249.
532
ла сперва неслышно, будто кошка, подкрадывалась не-
взначай, как тать... скоро история оборачивалась сказ-
кою. Теперь иное. Теперь история не в одном деле, но и
в памяти, в уме, на сердце у народов. Мы ее видим, слы-
шим, осязаем ежеминутно; она проникает в нас всеми
чувствами... «Барин, барин!—кричит вам гостинодвор-
ский сиделец,— купите шапку эриванку».— «Не прика-
жите ли скроить вам сюртук по-варшавски?» — спраши-
вает портной. Скачет лошадь — это Веллингтон. Взгля-
дываете на вывеску, Кутузов манит вас в гостиницу,
возбуждая вместе народную гордость и аппетит... Вонза-
ете вилку в сладкий пирог — его имя Наполеон!.. Дай-
те гривну, и вам покажут за гривну злосчастие веков,
Клитемнестру и Шенье, убийство Генриха IV и Ватер-
лоо, Березину и св. Елену, потоп Петербургский и зем-
летрясения Лиссабона... История теперь превращается
во все, что вам угодно, хотя бы вам было это вовсе не
угодно... Она то герой, то скоморох; она Нибур и Видок
через строчку, она весь народ, она история, наша исто-
рия, созданная нами, для нас живущая. Мы обвенчались
с ней волей и неволею, и нет развода. История половина
каша, во всей тяжести этого слова»1.
Независимо от исследования тех общих культурно-
исторических и социально-политических причин, которые
содействовали осознанию своеобразий исторического
изображения в стиле романтического искусства и поро-
дили проблему «исторического колорита» как явления
языка и стиля, совершенно очевидно, что в эпохи форми-
рования нации, национального литературного языка и
национальной культуры — при бурном смещении пла-
стов современности — обостряется ощущение различий в
стилях разных эпох, и категория исторической относи-
тельности, а также категория исторического своеобра-
зия, исторической «характерности» становятся формами
познания как настоящего, так и прошлого. Однако не
подлежит сомнению, что именно жанру исторического
романа суждено было возбудить общественный интерес
к вопросам о своеобразиях и отличиях речевых и куль-
турных стилей русской старины, разных эпох истории
русского общества и о средствах их словесно-художест-
венного выражения.
1 А. А. Марлинский, Сочинения, т. XI, стр. 254—256,
533
4
В формировании стилей исторической повести и исто-
рического романа в первые десятилетия XIX века выда-
ющаяся роль принадлежит Н. М. Карамзину.
Проблема исторической стилизации так же чужда
Карамзину, как еще чуждо ему ощущение внутренних
различий в системах жизнепонимания, свойственных
разным эпохам и разным классам. Известно, что Ка-
рамзин постепенно расширял употребление «архаизмов»,
старинных терминов и выражений в языке своего исто-
рического повествования, хотя и сближал эти цитаты из
старинных памятников по грамматическому их складу с
общими формами своего языка. Ф. И. Буслаев, давший
небольшой список архаизмов из «Истории государства
российского» в своей книге «О преподавании отечествен-
ного языка», заметил: «Карамзин так осторожен в своих
частых выписках из древних памятников, что по боль-
шей части объясняет их для читателя из боязни быть
непонятым; от того бывает иногда неловкость, особенно
если филологическое толкование вкладывается в уста
исторического лица: не заплатил ли я ему выхода или
царской пошлины? IV, 179» Ч
Употребление старинных названий здесь используется
не столько как художественно-выразительный прием сти-
лизации, а больше как орудие исторического познания, как
средство расширения исторического кругозора читателя.
Но еще гораздо раньше того, как определился стиль
«Истории государства российского» Карамзина, посред-
ством тех же приемов «отталкивания» от современности
сформировался стиль исторической повести Карамзина.
В повести «Наталья, боярская дочь» (1782) обнаружи-
вается стремление упростить и обогатить описательными
деталями, относящимися к бытовой стороне прошлой
жизни, стиль повествования о старине и старинных собы-
тиях, происходит своеобразная художественная мистифи-
кация с «исторической истиной», которая противопостав-
ляется установившимся современным приемам риториче-
ского повествования и изображения. Описывая, как
ошиблась няня Натальи, приняв людей Алексея за разбой-
1 Ф. И. Буслаев, О преподавании отечественного языка, Л.
1941, стр. 230.
534
ников (во время бегства Натальи из родительского дома),
Карамзин говорит, что он мог бы представить свою геро-
иню во власти каких-нибудь варваров,— «и чувствитель-
ный человек пролил бы слезы горести и скорби, но в таком
случае я удалился бы от истины, на которой основано мое
повествование».
По словам Н. Апостолова, «Карамзин достиг в своей
повести значительного реализма и тонкости в отношении
к бытовой стороне нашей прошлой жизни, но в отношении
типизации эпохи и воспроизведения исторической среды
достижения автора ограничились его платоническим же-
ланием. Проникновение Карамзина в бытовую обстановку
старой русской жизни сказалось в авантюрных эпизодах
повести, в увозе невесты, в подкупах няни и т. п. Истори-
ческий же колорит поддерживается только одним, правда,
рельефным изображением тюремной жизни Натальи»
В первой исторической повести Карамзина проблема
исторического колорита не связана с отходом от устано-
вившихся тогда норм сентиментального стиля. В повест-
вовательном языке «Натальи, боярской дочери» нет ника-
кой примеси «исторической стилизации» в позднейшем
понимании этого термина. Проблема воспроизведения ха-
рактеристических примет языка изображаемой эпохи еще
не возникает. Только изредка происходит отталкивание от
бытовых этикеток современности, чуждых далекому про-
шлому. Например, в повести «Наталья, боярская дочь»:
«Боярин Матвей после обеда заснул (не на вольтеров-
ских креслах, так как ныне спят бояре, а на широкой ду-
бовой лавке)»...1 2
Или: «В старину не было ни клобов, ни маскарадов,
куда ныне ездят себя казать и других смотреть: и так
где же, как не в церкви, могла тогда любопытная девушка
поглядеть на людей?» 3
Проблема исторической характеристики средствами
старинного языка далека от Карамзина. Согласно его ху-
дожественному мировоззрению, «язык истинной чувстви-
тельности» одинаков во все времена. Повествовательная
стихия этого рода враждебна драматизму. Диалогические
1 Н. Апостолов, Карамзин как романист-историк, «ЖМНП»,
1916, апрель, стр. 203.
2 Карамзин, Сочинения, т. III, СПб. 1848, стр. 99.
3 Т а м же, стр. 90.
535
отрезки коротки и однотонны. И они не включают в себя
никаких экспрессивно-языковых примет изображаемого
времени. Правда, автор сам в своих примечаниях преду-
преждает об этом читателя, как бы настраивая его на
вольную постановку старинных речей или на их свобод-
ное представление. «Читатель догадается, что старинные
любовники говорили не совсем так, как здесь говорят они,
но тогдашнего языка мы не могли бы теперь и понимать.
Надлежало только некоторым образом подделаться под
древний колорит»1. Но эта подделка основана на чисто
негативных, отрицательных признаках. В диалоге высту-
пают те же формы современной речи, лишь слегка осво-
божденные от цветов салонного стиля, рассчитанные на
иллюзию патриархальной простоты (ср. «уехать тихонько
из дому родительского! Что же будет с батюшкою?» —
«Что ж беды, естьли тебя узнают?» и т. п.). Кроме немно-
гих названий: лобное место («и кровь главных бунтов-
щиков пролилась на лобном месте»), панцирь с надписью:
«С нами бог! Никто же на ны!»— в языке повести нет
никаких отголосков старины.
Внушая читателю убеждение в заботе автора о прав-
доподобии исторических описаний, Карамзин ссылается
на показания «старых людей». Описывая обычай у бога-
тых бояр каждый двунадесятый праздник веселиться и
делиться всем с неимущими, наш автор добавляет, что
«в истине сего его уверял не один старый человек». Пред-
ставляя, как Алексей перед отправлением в поход снаря-
жает свою супругу панцирем, сделанным из медных ко-
лец, на которых было написано «С нами бог! Никто же
на ны!», Карамзин заботливо (хотя и наивно) оговари-
вается, что «в оружейной московской палате он видел
много панцирей с сей надписью».
Если «Наталья, боярская дочь» представлена пове-
стью, услышанною от «бабушки моего дедушки», то
«Марфа Посадница, или Покорение Новгорода» взята
из «старинного манускрипта». И тут есть предупрежде-
ние относительно слога повести: «В наших летописях
мало подробностей сего великого происшествия, но слу-
чай доставил мне в руки старинный манускрипт, кото-
рый сообщаю здесь любителям истории и — сказок,
исправив только слог его, темный и невразумительный».
1 Н. М. К а р а м з и н, Сочинения, т. VI, М. 1820, стр. 131.
536
В повествовательном стиле «Марфы Посадницы»
также встречаются редкие кусочки древней номенкла-
туры, иногда с примечаниями: «посадники с золотыми
на груди медалями, тысячские с высокими жезлами,
бояре, люди житые со знаменами и старосты всех пяти
концов новгородских», «гостей иностранных» (то есть
купцов), «на лобном месте», «клятвенные грамоты»
(дружественные трактаты), «святому прапору» и неко-
торые другие. Но это лишь самый необходимый мини-
мум историко-бытовой обстановки, вовсе не нарушаю-
щей лексической системы возвышенного или парадного
карамзинского стиля.
Историческая повесть типа «Марфы Посадницы» —
это декламационно-повествовательный монолог автора
с такими же декламационными партиями действующих
лиц, очень походившими одна на другую по своему сло-
варному составу и синтаксическому строю. Все речи
унифицированы и согласованы со стилем автора и с его
мировоззрением. Лишь в отдельных и немногих ме-
стах вкраплены наиболее известные или характерные
исторические термины.
Н. Апостолов отмечает наличие в «Марфе Посадни-
це» множества «модных тогда неоклассических фраз».
«Небо помирилось с нами, и мечи татарские иступи-
лись»,— заявляет боярин Холмский. «Призываю не-
бо»,— вещает Марфа, «хвала небу,— повторяет она в
другом месте,— небо искушает любимцев своих». Когда
народ спрашивает ее: «Кто поможет великому граду?»,
она отвечает: «Небо!» Это пристрастие к неоклассиче-
ским формам диалога, а равно и характерное в данном
случае употребление всевозможных мифологических
имен, идет параллельно с «идейным», так сказать при-
страстием Карамзина в «освещении» исторических со-
бытий, чем также умаляется стремление автора сохра-
нить свой объективизм в воспроизведении исторической
эпохи. Совершенно нетрудно уловить в речах москов-
ских послов, в характеристике Иоанна III (сентимен-
тально идеализированного), наконец, в рассуждениях
автора — его тенденциозность, с которой он оправды-
вает поступки Иоанна»1.
1 Н. Апостолов, Карамзин как романист-историк, «ЖМНП»,
1916, апрель, стр. 210.
537
Уже в 1832 году в предисловии к своему роману
«Клятва при гробе господнем» Н, Полевой писал о
«Марфе Посаднице» Карамзина: Карамзин «не понял
величия кончины новгородской вольности, вставил мно-
жество звонких, но пустых фраз, речей, выдумал небы-
валых героев, заставил их говорить по-своему» х.
Любопытно, что в период, отделяющий «Наталью, бо-
ярскую дочь» от «Марфы Посадницы» (с 1792 по 1803 г.)
Карамзин занимался детальным изучением летописей
и исторических сочинений — русских, византийских, за-
падных; постепенно убавлялся его пылкий романтиче-
ский дух1 2.
5
От карамзинской исторической повести отпочкова-
лось одно из значительных и интересных стилевых на-
правлений в развитии русского исторического романа.
Оно связано с именем Бестужева-Марлинского, автора
«старинной повести» «Роман и Ольга» (1822). К этой
повести было сделано автором примечание: «Течение
моей повести заключается между половинами 1396 и
1398 годов (считая год с марта, по тогдашнему стилю).
Все исторические происшествия и лица, в ней упоминае-
мые, представлены с неотступною точностью, а нравы,
предрассудки и обычаи изобразил я, по соображению,
из преданий и оставшихся памятников. Языком ста-
рался я приблизиться к простому настоящему русскому
рассказу, и могу поручиться, что слова, которые многим
покажутся странными, не вымышлены, а взяты мною
из старинных летописей, песен и сказок» 3. Следователь-
но, автор ставит себе новую художественную задачу —
исторической стилизации речи своих древнерусских ге-
роев. Тут едва ли не впервые по принципиальным сооб-
ражениям выдвинут основной лексико-фразеологический
источник стилизации старинного языка — без различия
эпох — народные песни и сказки.
1 Н. Полевой, Клятва при гробе господнем. Русская быль
XVI ст., М. 1832, стр. XXXIX.
2Н. Апостолов, Карамзин..., там же, стр. 207.
3 А. Марлинский, Русские повести и рассказы, 1834, ч. VII,
стр. 235—236.
538
Приемы использования этого источника в разных
стилях исторического романа были различны. Но с тех
пор до нашего времени с палитры народно-поэтического
творчества берутся авторами исторических романов ис-
торические краски для изображения быта и воспроиз-
ведения речи любого времени, особенно же для изобра-
жения русской жизни допетровской эпохи.
Открыв этот источник, Бестужев-Марлинский расши-
ряет сферу диалогической речи в структуре историче-
ского романа. Он драматизирует стиль исторической
повести и исторического романа. Но между речью исто-
рических героев и повествовательным языком автора
еще нет резкой границы, особенно в словаре. Правда,
именно в речь действующих лиц, более богатую интона-
циями и конструкциями разговорного языка, чаще встав-
ляются образы и фразы, по большей части несколько
изысканные, из народной речи и из народной словес-
ности (преимущественно пословицы и поговорки). На-
пример:1 «Моей ли Ольге он чета». «У нее корабли в
море — у него журавли в небе», или: Роман — «го-
разд повесть слово на вечах, в беседах»; «удал на игруш-
ках военных». Выражение «игрушки военные» пояс-
няется в сноске: «Так назывались на Руси турниры; см.
5-й том «Ист. гос. росс.» Карамзина, примеч. 251». Вот
еще примеры речи именитых граждан новгородских
XIV века: «Тогда без золотого гребня не расплести ему
косы моей Ольги». «Любовь девушки — лед вешний...
и другой жених оботрет ее слезы бобровым рукавом
шубы своей»; «вольному воля» и т. п.
Но все это лишено конкретно-исторического коло-
рита, выражая общее романтическое представление о
народном русском стиле. Из народной речи изготовля-
ются даже каламбуры: «Брат Симеон! Сердце не слуга,
ему не прикажешь! — За то можно отказать»-
Но наряду с такими фамильярно-бытовыми выраже-
ниями в составе диалогической речи, как «обили по-
роги», «крушиться»; «стольничать добром народа»
и т. п., звучат пышные романтические тирады любов^-
ника, напоминающие стиль гусаров из других повестей
Марлинского: «Женщины, женщины,— произнес он с
1 Здесь и дальше цитаты даются по указ, изданию,
стр. 236—277.
539
дикою усмешкою,— и вы хвалитесь любовию, постоян-
ством, чувствительностью. И для чего же было льстить
мне коварными взорами, речами ласки и надежды?
Чтобы убийственным нет оледенить сердце любовника!»
и т. п. Даже в официальных речах, произносимых на вече,
слышится романтическая декламация начала XIX века.
Здесь нет и тени старинного языка.
Такую же неорганическую смесь народно-поэтиче-
ской и разговорно-бытовой фразеологии с романтиче-
ской риторикой представляют речи и всех других лиц
повести. Примесь романтической стилистики еще гуще
в ливонских исторических повестях Марлинского.
В повествовательный же стиль самого автора, по-
строенный в духе эмоционального стиля карамзинской
школы, вставлены отдельные древнерусские термины,
относящиеся к названиям чинов и сословий, вооружения
и поверий. Все эти термины объясняются в примечаниях.
Эта орнаментально-терминологическая сторона историче-
ского стиля в повести «Роман и Ольга» заимствована из
«Истории государства российского» Карамзина, «Раз-
говоров о древностях Новгорода» преосвященного Евгения
и «Опыта о древностях русских» Гр. Успенского.
В повествовательном языке есть «косясчатое окош-
ко», «ясный день Рюэня» — сентябрь, и «договорная
мирная грамота с рижанами», и «бобровые прилбицы»
(то есть шлемы или наличники) и «стрикусы» (стено-
битные орудия), и некоторые другие предметы старин-
ного быта, перенесенные из описания древностей русских
Гр. Успенского.
Повествовательный стиль полон лирической и рито-
рической декламации. Он. пересекается эмоциональ-
ными обращениями к героям в духе карамзинской тра-
диции. Естественно и показательно, что язык «старин-
ной повести» у Бестужева-Марлинского подделывается
под современную словесность, под стиль автора; модер-
низуется даже стиль документа XIV века. Вот язык на-
каза, данного Новгородом боярскому сыну Роману
Ясенскому: «Ты молод, но ум не ждет бороды, и нам не
старого, а бывалого надо. Внимай!.. Крепко держи наш
совет на уме, тайною запечатлей осторожность испол-
нения, а в остальном указ своя голова».
Нет необходимости привлекать к анализу другие ран-
ние исторические повести Марлинского «Замок Нейгау-
540
зеп», «Ревельский турнир». Сам А. А. Бестужев так опре-
делял историческое значение этих своих повестей: «Исто-
рические повести Марлинского, в которых он, сбросив
путы книжного языка, заговорил живым русским на-
речием, служили дверьми в хоромы полного романа»1.
Характерно мнение Пушкина о стиле «Ревельского
турнира» А. А. Бестужева-Марлинского: «Твой Влади-
мир говорит языком немецкой драмы, смотрит на солн-
це в полночь, etc. Но описание стана Литовского, раз-
говор плотника с часовым—прелесть...»1 2
Следовательно, Пушкин выделяет в стиле Марлин-
ского, как затем и в стиле исторического романа Заго-
скина, народные, разговорно-бытовые сцены.
В заметке «Несколько слов от сочинителя повести
„Андрей, князь ПереяславскийБестужев заявлял:
«Нечего и сомневаться, что по духу времени и вкусу я
был романтик до конца ногтей»3.
Позднее А. А. Марлинский, быть может под влия-
нием Пушкина, решительно высказался как против ана-
хронизмов, так и против археологического натурализма
в стиле исторического романа. «Пусть не залетают,—
писал он,— настоящие мысли в минувшее, и старина го-
ворит языком ей приличным, но не мертвым. Так же
смешно влагать неологизмы в уста ее, как и прежнее
наречие, потому что первых не поняли бы тогда, вто-
рого не поймут теперь»4.
Нетрудно заметить, в какую сторону в русской ро-
мантической литературе 20—30-х годов XIX века дви-
жется решение вопроса об «историческом колорите» в
языке. Прежде всего открывается обильный, неисчер-
паемый источник национально-исторической стилизации,
в котором отыскиваются основные, устойчивые, кон-
стантные черты народного русского стиля. Это — фольк-
лор, устное народное творчество. К. С. Аксаков в своем
исследовании «Ломоносов в истории русской литерату-
ры и русского языка» (1846) предложил глубокое, не
утратившее значения до сих пор, объяснение художест-
венно-исторического значения народной поэзии: «Рус-
1 А. Марлинский, Поли. собр. соч., т. XI, СПб. 1840,стр.292.
2 А. С. Пушкин, Письма, т. I. Под редакцией Б. Л. Модза-
левского, Гиз, 1926, стр. 136.
3 Сб. «Декабристы». Сост. Вл. Орлов, М.—Л. 1951, стр. 159.
4 А. Марлинский, Поли. собр. соч., т. XI, стр. 348.
541
скин язык был всегда, когда был русский народ, и был
всегда русским, тем же языком, которым говорим мы и
теперь, только условленный временем, именно характе-
ром первоначального периода; но он не имел в те отда-
ленные времена памятников. Правда, не всякая живая
речь народа умирает; выражения, в которых он слагает
свои практические заметки, результаты своих наблюде-
ний, еще лучше — его песни, также сказки, предания,
где поэтически являет он всю глубину своей сущности,
не пропадают по произнесении; рождается отзыв, и, по-
вторяясь в течение долгих времен, они доходят до позд-
нейших потомков. Но, во-первых: очень трудно опреде-
лить время песен и пословиц, если исторические собы-
тия не помогут положительно; во-вторых: самый язык
песен, повторяясь в разные времена, произносясь жи-
выми устами, невольно изменяется и принимает в себя
иногда оттенок или слово, современные эпохе их про-
изношения; но это только в отношении к языку, и то
скорее к внешней стороне его; поэтический характер и
дух языка также, большею частию и почти всегда, не
меняется... Даже в отношении к языку можно устранить
многое, неловко приставшее к древнему его виду, и
если многое прибавилось, изменилось, утратилось при
живом повторении, то также многое сохранилось, пото-
му что песня, а также другие создания народные, пере-
давались, и изменение в ней было разве невольное. По-
словица говорит: из песни слова не выкинешь»1.
Вопрос о формах и приемах устнопоэтического на-
родного творчества, фольклора как об одном из глав-
ных источников исторических красок был предрешен.
И в последующем развитии исторической повести и ис-
торического романа, начиная с романов Загоскина и
Лажечникова, фольклорная струя все ширится, и язык
фольклора выполняет все более разнообразные функции
как в повествовательном стиле исторического романа,
так и в диалогической речи действующих лиц. Само
собою разумеется, что всего этого еще было мало даже
для создания иллюзии исторического правдоподобия, а
тем более для глубоко-драматической речевой характе-
ристики древнерусских характеров и исторических лиц.
1 К. Аксаков, Ломоносов в истории русской литературы и
русского языка, М. 1846, стр. 112—113.
542
Из современного культурного языка с примесью язы-
ка фольклора нельзя кроить все речи действующих
лиц — так казалось многим русским историческим ро-
манистам конца 20-х, начала 30-х годов. Проблема язы-
ка и стиля исторического романа тогда тесно связы-
вается с проблемой языка и стиля исторической драмы.
Вопрос о том, как должны говорить исторические лица,
чтобы быть похожими на свои «подлинники», на свои
оригиналы, как строить романисту речи своих героев,
чтобы читатель поверил в их историческое правдоподо-
бие,— все острее выступает в русской литературе с конца
20-х годов, особенно в связи -с все углубляющимся об-
щественным сознанием многообразия социально-речевых
стилей современности.
При решении проблемы языка в историческом ро-
мане, как и других произведениях, где изображается
среда, к которой не принадлежат автор и его читатели,
необходимо остерегаться механистических концепций, в
основе которых лежит популярное представление о то-
жестве языка и мысли. Язык служит для сообщения
мысли, но это не значит, что одну и ту же мысль нельзя
выразить разными средствами языка или что разные
мысли нельзя выразить языковыми средствами одного
и того же типа. Например распространенное (но вуль-
гарное) представление, будто в историческом романе
действующие лица должны говорить «языком своего
времени», логически предполагает мнение, будто язык
исторического романа должен быть тем архаичнее, чем
дальше отстоит от нашей изображаемая в романе эпоха.
Однако отношения между языком исторического ро-
мана и изображаемой им эпохи лишены принудительно-
документального характера: важна не точность цитаты,
а впечатление читателя, зависящее от художественной,
а не хроникальной правды.
В связи с этим в качестве источника исторического
романа первостепенное значение приобретают разного
рода памятники вообще народной речи, многие явления
которой окрашены обобщенно-историческим колоритом
и потому пригодны при художественном воспроизведе-
нии любой отдаленной от нас эпохи, без точных хроно-
логических приурочений (например, допетровской Руси
на всем ее протяжении и даже XVIII века).
Так как о любом предмете можно говорить на любом
543
языке, следовательно, и на своем собственном, то впол-
не возможно изображение событий прошлого без всякой
имитации языка изображаемого времени. Проблема
языка исторического романа в ее специфичности возни-
кает только тогда, когда автор ставит себе сознатель-
ную и отчетливую цель — не только дать художествен-
ную картину известной эпохи в ее политических собы-
тиях, психологии, нравах и характерах, но изобразить
эту эпоху так же и в самом ее языке, показать не толь-
ко, о чем думали и говорили герои романа, но и какими
словами, грамматическими формами и их связями поль-
зовались они при этом.
6
Для стиля романтического исторического романа ха-
рактерна драматизация событий. В композиции такого
романа все расширяется диалогическая речь, звучат
разные голоса разных исторических лиц. Н. Полевой в
предисловии к своему историческому роману «Клятва
при гробе господнем» (1832), писал: «Воображаю себе,
что с 1433 по 1441 год я живу в Руси, вижу главные
лица, слышу их разговоры, перехожу из хижины подмо-
сковного мужика в Кремлевский терем, из собора Успен-
ского на Новгородское вече, записываю, схватываю чер-
ты быта, характеров, речи, слова, все излагаю в после-
довательном порядке, как что было, как одно за другим
следовало: это история в лицах... Прочь торжественные
сцены, декламации и все coups de theatre! Пусть все
живет, действует и говорит, как оно жило, действовало
и говорило... Воображайте, что я, директор русского те-
атра в XV веке, обещал вам представить: комедию о
том, как Василий Косой и брат его Димитрий Шемяка
поссорились на свадебном пире с Великим князем Ва-
силием Васильевичем Темным, в 1433 году, и о том, что
из того воспоследовало — не более! Мое дело обставить
сцену надлежащими декорациями и одеть актеров»1.
Константин Масальский в предисловии к историче-
скому роману «Стрельцы» (1832) заявлял: «Сочинитель
хотел в форме романа представить сии события со всей
возможною подробностию и верностию, держась не
1 Н. Полевой, Клятва при гробе господнем, стр. LVII—LIX.
5-14
столько повествовательного, сколько драматического
способа изложения. В повествовании, сколь бы оно ни
было совершенно, мы слышим рассказ автора, разделяем
с ним его мысли и чувствования. В драме мы видим са-
мые лица, действовавшие во время событий, узнаем ха-
рактер их и страсти, намерения и желания, добродетели
и пороки не из рассказа, а из слов и поступков их...
История сделалась бы еще занимательнее, если б дра-
матический способ изложения был для нее возможен.
Но историк может только влагать в уста своих героев
такие слова, которые сохранились в летописях или в
других исторических актах, хотя часто слова сии при-
надлежат летописцу, а не герою; должен соображать
исторические материалы, часто одни другим противоре-
чащие, и, освещая мрак прошедшего светильником исто-
рической критики, говорить читателю: так было, или так
долженствовало быть. Для него необходим слог повест-
вовательный, коего главные достоинства суть сила и
краткость. Чем более расскажет он важных и замеча-
тельных происшествий и чем короче будет рассказ его,
тем большую он окажет услугу читателю. Представляя
картину целых веков и тысячелетий, он по необходимо-
сти должен упускать подробности, часто весьма занима-
тельные и любопытные, дабы не быть принужденным
написать вместо одного тома десять. Подробности сии
суть сокровища для исторического романиста. В четырех
томах историк опишет четыре века, а романист четыре
года или даже месяца, и никто ему ни слова не скажет,
если только книга его приятна и заманчива. Романист
имеет полное право умолчать об оных, и рассказать по-
дробно только то, что может приятно занять читателя...»
«Исторический романист старается представить про-
шедшее в заманчивом и привлекательном виде... Од-
нако ж романист не должен отступать от истины в про-
исшествиях важных. Выводимые им на сцену историче-
ские лица должны говорить и действовать сообразно с
их истинными характерами. Слова и поступки их не
должны нисколько противоречить истории»1.
Таким образом, согласно этой умеренно-традицион-
ной концепции, исторический романист в отличие от
историка может и даже должен пользоваться при вос-
1 К. М а с а л ь с к и й, Стрельцы, СПб. 1832, ч. I, стр. 4—5.
545
произведении речей исторических лиц средствами лите-
ратурного языка своего времени. Но, понятно, «одежда,
нравы, обычаи и обряды, состояние религии, нравствен-
ности и умственного образования, дух законодательства,
должны быть романистом представлены в верной карти-
не, которая не отвлекала бы однако ж внимания от хода
происшествий» г. Следовательно, даже с этой точки зрения
необходим некоторый элемент стилизации древнерусской
речи, между прочим и в разговорах действующих лиц.
«В вымыслах, необходимых для завязки и развязки,
должно строго соблюдать правдоподобие и дух времени,
которое описывается, и стараться все вымышленные
происшествия представлять в связи с истинными, как
последствия оных, как подробности, дополняющие и объ-
ясняющие повествование Истории или по крайней мере
ей не противоречащие» 1 2.
Любопытно, что К. Масальский в своем романе вы-
деляет цитаты из исторических источников курсивом.
«Места в романе, напечатанные косыми буквами, за-
ключают в себе выписки, без всякой перемены слога, из
исторических источников, или для показания, как у нас
в описанное в романе время выражались и писали, или
для приведения подлинных слов и письменных актов,
почему-нибудь любопытных и замечательных» 3. Тем са-
мым история и вымысел как бы сопоставлялись или
противопоставлялись.
Вопрос о языке действующих лиц исторического ро-
мана из древнерусской жизни допетровского времени был
разрешен большинством русских романистов 30-х годов
из романтического лагеря в одном направлении. Было
очевидно, что живая народная речь XI—XVII веков во
всем многообразии ее стилей не нашла отражения в
древнерусских памятниках. Но отголоски или осколки
этой речи в древнерусской письменности, если отрешиться
от графической, орфографической, фонетической и грам-
матической оболочки старинного языка, говорили о неко-
торой близости древнерусского устного языка к современ-
ному просторечию и особенно к живым говорам демо-
кратических масс крестьянства, купечества, мещанства.
1 К. Масальский, Стрельцы, СПб. 1832, ч. I, стр. 5.
2 Там же, стр. 6.
’Там же, стр. 18.
546
В 20—30-х годах была глубоко осознана связь языка
письменных памятников феодальной эпохи с диалект-
ными расслоениями русского языка, и в связи с этим
активно подыскивались объяснения и соответствия не-
понятным словам и выражениям древнерусских текстов
в современных народных говорах.
Русский исторический роман 30-х годов сыграл ог-
ромную роль в демократизации стилей нового русского
литературного языка и языка русской художественной
литературы. Волны живой народной речи с ее област-
ными вариациями и сословно-профессиональными раз-
ветвлениями тогда сильнее всего вливались в русский
литературный язык при посредстве исторической пове-
сти и исторического романа из древнерусской жизни.
Правда, признание народной речи основой историче-
ской стилизации языка старинных героев не разре-
шало всех затруднений. Например, возникает проблема
социальной дифференциации разговорных стилей по
отношению к старине, к разным периодам русской
истории.
О. И. Сенковский иронически писал: «Мужики древ-
ние говорили так же, как мужики в XIX веке, но бояре
никогда не говорили, как мужики»1.
Историческое изображение во многих романах 30-х
годов механически вплеталось в нравоописательные, уни-
фицированные дидактические части повествования, со-
всем лишенные аромата и старины и историзма. Критик
«Телескопа», разбирая роман Булгарина «Выжигин»,
•писал: «Автор вклеил происшествия 1812 года не преж-
де как по окончании нравоописательной части романа
или, наоборот, вставил интригу, написав сперва исто-
рические сцены»1 2. Получилась полная разобщенность
истории и вымысла, механическое их соединение.
Принцип дифференциации глав повествовательных
и чисто исторических с особенной последовательностью
применялся Р. Зотовым в романах «Леонид, или Некото-
рые черты из жизни Наполеона» (1832) и «Таинствен-
ный монах, или Некоторые черты из жизни Петра I»
(1842). «У него правильно чередуются главы, в которых
разговаривают и действуют герои, и главы, в которых
1 «Русский архив», 1882, кн. III, стр. 150.
2 «Телескоп», 1831, ч. 3, № 9, стр. 357—358.
547
автор ограничивается сухим и кратким пересказом исто-
рических событий. Читая последние главы, вы забываете
порою, что перед вами роман, а не краткий учебник по
русской истории. Впрочем, весьма многие современники
и особенно современницы Р. Зотова были за это как
нельзя более благодарны ему, так как они смело могли
не читая перевертывать те главы, в которых излагается
скучная история, и переходить лишь к тем, где заклю-
чались разговоры действующих лиц романа» Ч
7
Первое удачное разрешение вопроса о структуре уст-
ной, разговорно-бытовой речи древнерусских героев в
историческом романе было предложено М. Н. Загоски-
ным в «Юрии Милославском». С. Т. Аксаков говорил,
что «русский ум, дух и склад речи впервые послышались
на Руси в этом романе». Здесь, по признанию А. С. Пуш-
кина, «добрый наш народ, бояре, казаки, монахи, буйные
шиши — все это угадано, все это действует, чувствует,
как должно было действовать, чувствовать в смутные
времена Минина и Авраамия Палицына. Как живы, как
занимательны сцены старинной русской жизни!.. Разго-
вор (живой, драматический везде, где он простонароден)
обличает мастера своего дела. Но неоспоримое дарова-
ние г. Загоскина заметно изменяет ему, когда он при-
ближается к лицам историческим. Речь Минина на ни-
жегородской площади слаба: в ней нет порывов народ-
ного красноречия... Можно заметить два-три легких
анахронизма и некоторые погрешности противу языка
и костюма. Например, новейшее выражение: столбовой
дворянин употреблено в смысле человека знатного рода
(мужа честна, как говорят летописцы); охотиться вме-
сто ездить на охоту; пользовать вместо лечить»1 2.
У Загоскина широко использованы социально-груп-
повые расслоения современной устнобытовой речи в
разговоре действующих лиц из разных сословий. Вот
иллюстрации: «Г-н земский,— сказал с важностью ку-
пец,— его милость дело говорит: не личит нашему брату
1 А. Скабичевский, Сочинения, СПб. 1890, т. II, стр. 768.
2 А. С. Пушкин, Сочинения, т. VIII, Academia, 1936, стр. 59—60.
548
злословить такого знаменитого боярина, каков светлый
князь Димитрий Михайлович Пожарский»1.
«Кабы знато да ведано, так я меж слов повыспросил
бы у боярских холопей» (речь Кудимыча).
«— Не знаем-ста, как ты,— отвечал Наливайко.
— Вишь, батька-то стоит за них грудью,— прибавил
Матерой».
Бояре в бытовом обиходе говорят просторечно. Их речь
мало чем отличается от крестьянской по своему словарю:
«Спасибо, добрый человек! — сказал Юрий.— Я боль-
но прозяб и лягу отогреться на печь». Ср.: «Однажды
блаженной памяти царь Феодор Иоаннович, идя к обед-
не, изволил сказать мне: „Ты, Лесута, малый добрый,
знаешь свою стряпню, а в чужие дела не мешаешься*1».
В языке прозы той эпохи уже установился шаблон
имитации речи поляков (так же, как и евреев западного
края).
Примесь старинной терминологии в диалоге незна-
чительна. Названия предметов воспроизводимого быта
и времени вводятся лишь как исторические термины.
«— Как-ста бы не платить,— отвечал хозяин,— да
тяга больно велика: поборы поборами, а там, как по-
едешь в дорогу: годовщина, мыт, мостовщина...»
Лишь речь боярина Замятни-Опалева имитирует
стиль древнерусского книжника, она пестрит церковно-
славянскими цитатами из священного писания.
«И да расточатся врази его! — заревел басом Замят-
ня-Опалев.— Да прейдет живот их, яко след облака и
яко мгла разрушится от луч солнечных».
Ср.: «„Не красна похвала в устах грешника", глаго-
лет премудрый Сирах,— сказал Замятия, осуша свой ку-
бок,— а нельзя достойно не восхвалить: наливка ей-же-
ей преизрядная!»
Точно так же цитатой из сказаний о смутном вре-
мени является речь архимандрита Феодосия к народ-
ному ополчению нижегородскому.
Речь бояр приближается в нужных случаях к тор-
жественной речи оратора XIX века. Например,— речь
Юрия Милославского:
1 М. Н. Загоскин, Юрий Милославский, Поли. собр. соч.,
т. I, изд. «Копейка», СПб. 1912, стр. 16. В дальнейшем все цитаты
даются по этому изданию (стр. 14—194)'.
549
«Нет, Алексей, я уважаю храбрых и благородных
поляков. Придет время, вспомнят и они, что в их жилах
течет кровь наших предков-славян; быть может, внуки
наши обнимут поляков, как родных братьев, и два силь-
нейшие поколения древних владык всего севера соль-
ются в один великий и непобедимый народ.
— Не погневайся, боярин, ты, живя с этими ляха-
ми, чересчур мудрен стал, и говоришь так красно, что я
ни словечка не понимаю».
М. Н. Загоскин решительно преобразовал карамзин-
скую манеру исторического повествования. Суть этого
преобразования не только в ослаблении высокой рито-
рики, не только в усилении бытового элемента речи,
М. Н. Загоскин расширил круг старинной вещевой тер-
минологии в составе повествования. Он стремится к ар-
хеологической точности обозначений, хотя и не злоупо-
требляет старинными словами. Названия сословий, дол-
жностей, чинов, военного снаряжения, одежды, монет,
напитков — очень осторожно и умело вводятся в язык
повествователя-романиста. Они нередко поясняются в
подстрочных примечаниях. Но самое главное: пользуясь
старинными терминами, Загоскин, следуя за Карамзи-
ным, сопоставляет обозначаемые ими предметы с соот-
ветствующими предметами современного быта. Метод
исторических параллелей обостряет восприятие историче-
ской перспективы, внушает иллюзию непосредственного
знакомства автора с изображаемой средой и культурой,
ее языком и номенклатурой.
Вот иллюстрации:
«Домашний простонародный быт тогдашнего време-
ни почти ничем не отличался от нынешнего; внутреннее
устройство крестьянской избы было то же самое: та же
огромная печь, те же полати, большой стол, лавки и
передний угол, украшенный иконами святых угодников.
В течение двух столетий изменились только некоторые
мелкие подробности: в наше время в хорошей белой
избе обыкновенно кладется печь с трубою, а стены
украшаются иногда картинками, представляющими
«Шемякин суд» или «Мамаево побоище»; в XVII веке
эта роскошь была известна одним боярам и богатым
купцам гостинной сотни. Следовательно, читателям не-
трудно будет представить себе внутренность постоялого
двора, в котором, за большим дубовым столом, сидело
550
несколько проезжих. Пук горящей лучины, воткнутой
в светец, изливал довольно яркий свет на все общество;
по остаткам хлеба и пустым деревянным чашам можно
было догадаться, что они только что отужинали, и вме-
сто десерта запивали гречневую кашу брагою, которая
в большой медной ендове стояла посреди стола».
Тот же прием применяется при описании домов бояр
и дворян того времени, при изображении обеда и пере-
числении блюд.
В некоторых случаях старинные термины подверга-
ются стилистической оценке. Автор извиняется за их
грубость, за их неэтикетный, несалонный характер, под-
черкивая, что страсть к исторической истине — неволь-
ная причина его отступлений от требований современ-
ной эстетики: «От беспрестанного движения... распахнул-
ся его смурый однорядок и... открылись вышитые крас-
ной шерстью на груди его кафтана две буквы: 3 и Я,
означавшие, что он принадлежит к числу полицейских
служителей, которые в то время назывались... я боюсь
оскорбить нежный слух моих читателей, но соблюдая
сколь возможно историческую истину, должен сказать,
что их в XVII столетии называли земскими ярыжками».
Особенно многослойно — с четырьмя рядами стили-
стических сопоставлений — описание Муромских лесов:
«Знаменитые в народных сказках и древних преда-
ниях дремучие леса Муромские и доныне пользуются не-
оспоримым правом — воспламенять воображение русских
поэтов. Тот, кому не случалось проезжать ими, с ужасом
представляет себе непроницаемую глубину этих диких пу-
стынь, сыпучие пески, поросшие мхом и частым ельни-
ком, непроходимые болота, мрачные поляны, устланные
целыми поколениями исполинских сосен, которые породи-
лись, взросли и истлевали на тех же самых местах, где
некогда возвышались их прежние, современные векам
прародители; одним словом, и в наше время многие вооб-
ражают Муромские леса:
Жилищем ведьм, волков,
Разбойников и злых духов...
Но, к сожалению юных поэтов наших и к счастию
всех путешественников, они давно уже потеряли свою
пиитическую физиономию. Напрасно бы стали мы искать
окруженную топкими болотами долину, где некогда, по
551
древним сказаниям, возвышалось на семи дубах непри-
ступное жилище Соловья-Разбойника; никто в селе Кара-
чарове не покажет любопытному путешественнику того
места, где была хижина, в которой родился и сиднем
сидел тридцать лет могучий богатырь Илья Муромец.
О ведьмах не говорят уже и в самом Киеве; злые духи
остались в одних операх, а романтические разбойники,
по милости классических капитан-исправников, вовсе пе-
ревелись на святой Руси... Но, что всего несноснее: этот
дремучий лес, который в старину представлялся вообра-
жению чем-то таинственным, неопределенным, бесконеч-
ным,—весь вымерен, разделен на десятины, и сочинитель
романа не найдет в нем ни одного уголка, которого бы
уездный землемер не показал ему на общем плане всей
губернии... С лишком’ за двести лет до этого, то есть во
времена междуцарствия, хотя мы и не можем сказать ут-
вердительно, живали ли в Муромских лесах ведьмы, ле-
шие и злые духи, но по крайней мере это народное по-
верье существовало тогда еще во всей своей силе; что же
касается до разбойников, то, несмотря на старания губных
старост, огнищан и всей земской полиции тогдашнего вре-
мени, дорога Муромским лесом вовсе была не безопасна».
М. Н. Загоскин лишь в единичных случаях прибегает
к приему цитаты из старинного письменного источника.
Кроме речи архимандрита, он пользуется выдержкой из
«Сказания» Авраамия Палицына для изображения этого
исторического лица:
«Перед столом, на скамье, сидел старец в простой
черной ряске и рассматривал с большим вниманием тол-
стую тетрадь, которая лежала перед ним на столе. При-
ход Юрия не прервал его занятия; он взял перо, попра-
вил несколько слов и прочел вслух: «В сей бо день гетман
Сапега и Лисовский, со всеми полки своими, польскими
и литовскими людьми, и с русскими изменники, побе-
гоша к Дмитрову никем же гонимы, но десницею божией...»
Тут он написал еще несколько слов, встал с своего места
и благословляя подошедшего к нему Юрия, спросил лас-
ково: какую он имеет до него надобность?»
Однажды выражения летописца XVII века включены
в ткань повествования для характеристики героизма рус-
ских полководцев. «Начальники осажденного войска
князь Долгорукий и Голохвостов, готовясь, по словам
летописца, отражавшим образность древнерусской поэти-
552
ческой речи, на трапезе кровопролитной испить чашу
смертную за отечество — целовали крест над гробом
святого Сергия: сидеть в осаде без изм.ены — и сдержали
свое слово».
Таким образом, повествовательный язык «Юрия Ми-
лославского» — это литературный язык первых десятиле-
тий XIX века, с ярким отпечатком официально-патриоти-
ческого стиля публицистики этого времени и вместе с
тем — с некоторыми лексическими отступлениями от
современной нормы. Выход за рамки наличной языковой
традиции, создавая частные и не очень многочисленные
уклонения от нее, мотивируется задачами исторического
изображения. Той же цели служит социальная характеро-
логия разговорно-народной речи, причем подчеркиваемая
автором неоднократно общность быта, характеров и со-
циальных взаимоотношений между изображаемой эпо-
хой и современностью — на фоне раскрываемых разли-
чий — способствует обобщенному художественному пони-
манию воспроизводимой среды и эпохи.
Временами ощущается разрыв между стилем повест-
вователя, его субъективизмом, его современной офици-
ально-публицистической фразеологией и речами действу-
ющих лиц, особенно теми, в которых густа и сильна де-
мократически-просторечная окраска.
В предисловии ко второму своему историческому ро-
ману «Рославлев» М. Н. Загоскин заявлял, что в «Юрии
Милославском» и «Рославлеве» он «имел в виду описать
русских в две достопамятные исторические эпохи, сход-
ные меж собою, но разделенные двумя столетиями». При
этом, подчеркивая неизменность патриотических, а так-
же — согласно убеждению автора — религиозных и мо-
нархических чувств русского народа, М. Н. Загоскин
в то же время в «Рославлеве» желал доказать, что «на-
ружные формы и физиономия русской нации совершенно
изменились». По словам Загоскина, «исторический ро-
ман — не история, а выдумка, основанная на истинном
происшествии»
Так как речь русских людей в эпоху Отечественной
войны 1812 года была очень близка к речи конца 20-х —
начала 30-х годов XIX века, то М. Н. Загоскин поль-
1 М. Н. Загоскин, Рославлев, или Русские в 1812 г., М.
1955, стр. 13. В дальнейшем все цитаты даются по этому изданию.
553
зуется как дифференциальными приметами историче-
ского стиля двумя видами речевых явлений: I) специ-
фическими терминами и выражениями изображаемого
времени (преимущественно — в повествовании) и 2) об-
щим семантическим колоритом речи — в воспроизведе-
нии разговоров между представителями разных слоев
общества 1812 г.
Вот примеры воспроизведения номенклатурно-быто-
вой стороны жизни начала XIX века:
«.Тафтяные капотцы красавиц среднего состояния».
«Молодые и старые щеголи, в уродливых шляпах а 1а
cendrillon».
«Возле окна, закинув назад голову, сидел на модной
козетке один из домашних ее поэтов».
«...и гусарские сапоги со шпорами на твоем наслед-
ственном объяринном канапе».
«...он в модном фраке, с бадинкою в руке, расхаживал
под аркадами Пале-Рояля...» и т. п.
В речах действующих лиц, кроме широкого использо-
вания экспрессивных и социально-диалектных красок
разговорной речи (например, «конечно, стол не ахти
мне» — в речи худощавого старика; «лишь только мы вы-
ехали из околицы, так нам и пырь в глаза батька Ва-
силий»— в речи провинциала-помещика Ильменева.
«И рад бы ехать, да, вишь, дорога-то какая. Чему и
быть: уж с неделю места, дождик так ливмя и льет»,—
в речи извозчика: «На селе все мужички стали меж собой
калякать: «Что, дискать, это? Уж барыня-то наша не
изменница ли какая? Поит и кормит злодеев наших».
И анагдась так было расшумаркались, что и приказчик
места не нашел. Что, дискать, этому нехристю смотреть
в зубы? в колья его, ребята!»; ср. речь семинариста с ла-
тинскими фразами и др.)1, встречаются также типиче-
ские признаки изображаемой эпохи в виде отдельных фор-
мул, выражений и терминов.
1 Ср. в разговоре уланского ротмистра Сборского с пехотным
капитаном Зарядьевым:
«...О спажинках? Что за спажинки?» — спросил Сборский. За-
рядьев перестал курить и, взглянув с удивлением на Сборского,
повторил: «Что за спажинки?.. Неужели ты не знаешь?.. Да, бишь,
виноват!., совсем забыл: ведь вы, кавалеристы, народ модный, вос-
питанный, шаркуны. Вот кабы я заговорил с тобой по-французски,
так ты бы каждое слово понял... У нас на Руси зовут спажинками
успенский пост».
554
Например, в речи Зарецкого:
«L’homme du Destin и его великая нация так зазна-
лись, что способа нет».
В речи Степана Кондратьевича:
«Подошли наши резервы, к ним также подоспел се-
курс».
Совершенно те же особенности языка, те же формы
соотношений разных стилевых элементов встречаются и в
других более поздних исторических романах М. Н. Заго-
скина. Например, в романе «Брынский лес»1. Правда,
здесь формы церковнославянского языка очень своеобраз-
ны и широко использованы в речах раскольников (вооб-
ще, применение церковнославянской фразеологии в ха-
рактеристических целях — один из излюбленных прие-
мов исторического стиля Загоскина).
Например: «А где же поворот в Толстошеино?
— Обратись вспять, чадо! Зришь ли тамо четыре дре-
ва, их же березами нарицают?
— Четыре березы? Вижу, отец Пафнутий, вижу.
— На восточной стране оных, среди мелкодревесия,
и обретается путь, ведущий в сие гнездилище разврата
и нечестия, глаголемое село Толстошеино».
В речи боярина Куродавлева есть цитаты из древне-
русских челобитий. «Вот я с теми же поддьяками и уда-
рил челом Федору Алексеевичу, что мне князя Григория
Пронского меньше быть невместно».— «А мы, дескать,
государь, холопи твои Куродавлевы, кому в версту, тому
в версту, а кто нас меньше, тот меньше, и не которым де-
лом не мочно тому быть больше нас». Это — своеобраз-
ное отражение местнической терминологии и фразе-
ологии.
Даже в речи высокопарного купца густо замешаны
книжные славянизмы: «Все в руце божией, пожили мы
во всяком гобзовании»; о «часомерье»: «не бо человек
ударяше, но человековидно, самозванно, страннолепно и
сотворено человеческою хитростию».
Вот стиль описаний:
«Надетая через плечо берендейка или ремень с приве-
шенными к нему деревянными патронами и привязанная
к седельной луке ручница, то есть ручная короткая пи-
i М. Н. Загоскин, Брынский лес, Поли. собр. соч., СПб.
1898, т. II; примеры взяты со страниц 260, 300, 306, 307, 383 и 421.
555
щаль, доказывали, что он имел при себе не одно холодное
.оружие».
«На нем был долгополый, запачканный чернилами
кафтан с высоким козырем, то есть стоячим воротником,
на ногах поношенные желтые сапоги; на голове шелковая
тафья, или круглая шапочка, похожая на жидовскую
ермолку».
Таким образом, в стиле Загоскина наблюдается тен-
денция к стандартизации и шаблонизации приемов исто-
рического повествования. Субъективно-оценочное отно-
шение автора к персонажам, открыто публицистическое
выражение своих взглядов, носящих яркий отпечаток
«квасного патриотизма», монархизма и официально-цер-
ковной религиозности, отсутствие стилистического разно-
образия и семантической глубины в обрисовке характе-
ров — все это и многое другое говорит о том, что система
исторического изложения, разработанная М. Н. Загоски-
ным, далека от реализма. Образы действующих лиц ри-
суются почти всегда одной речевой краской. В них нет
движения. Они статичны. Возникает несоответствие меж-
ду драматическою живостью отдельных сцен и отсут-
ствием развития характеров. То, что было прогрессивным
в первом романе М. Н. Загоскина и сближало его роман-
тико-исторический стиль с общими процессами форми-
рования национального литературного русского языка и с
развитием стилистических категорий реализма и исто-
ризма, не нашло дальнейшего развития в творчестве
М. Н. Загоскина.
Вопрос о цитатах или вообще «заимствованиях» из
древнерусских памятников, о стилистических функциях их
в историческом повествовании и в речах исторических
лиц, возбужденный М. Н. Загоскиным, не получил одно-
образного решения в русской литературе 30-х годов. Он
был связан с общей проблемой отношения исторического
романа к древнерусской письменности XI—XVII веков
как источнику художественных красок. М. Н. Загоскин,
создавая условно-романтический стиль исторического
романа, хотя и с некоторыми красками и чертами
будущего реализма, стиль, опирающийся главным обра-
зом на формы современного русского языка, его народ-
но-речевых стилей и на язык фольклора, всячески ограни-
чивал применение древнерусских цитат и выражений ста-
ринного языка. Но другие второстепенные и менее талант-
556
ливне писатели карамзинской школы были непрочь
в однообразный стиль повествования вставлять большие
выписки из старинных произведений, относящихся к изо-
бражаемым событиям (например, К. Масальский).
Но такая чисто иллюстративная функция документа
лишала роман художественности. Открытое эстетически
немотивированное введение такого исторического сырья
уже в то время расценивалось, как недостаток твор-
ческих возможностей автора.
8
Несмотря на значительные отличия в общем стиле
изложения, несмотря на решительную склонность к ро-
мантической фразеологии и романтическим эффектам изо-
бражения — в ущерб нравоописательно-бытовой стороне
романа, несмотря на наличие прогрессивных убеждений,
сказывавшихся в некоторых художественно-исторических
замыслах, И. И. Лажечников в основном принимает вы-
двинутые Загоскиным принципы отношения к языку древ-
нерусской старины, к так называемому языку изображае-
мой эпохи. Любопытно, что действие первого историче-
ского романа И. И. Лажечникова «Последний Новик»
происходит в Лифляндии. В главе первой автор так объ-
ясняет свой выбор этого места действия: «В палладиу-
мах наших, Троицком монастыре, Нижнем-Новгороде,
Москве, разгуливало уже вместе с истиной воображение
писателя, опередившего меня временем, известностью и
талантами своими» (то есть Загоскина) Ч
И. И. Лажечников вырабатывает свой собственный
стиль на основе глубокого самостоятельного синтеза ху-
дожественных манер Бестужева-Марлинского и Загос-
кина. Он расширяет применение терминов изображаемой
эпохи в описаниях, выделяя их курсивом как цитаты — для
исторической расцветки повествования. Кроме того, сво-
боднее вводится цитатный материал из деловых доку-
ментов эпохи для характеристики культурно-историче-
ского стиля среды. Например, в романе «Последний
Новик» не раз звучат цитаты из Воинского устава
'И. И. Лажечников, Последний Новик, Собр. соч., т. I,
СПб. 1858, стр. 15.
557
петровского времени: «Важнее этих преступников был
третий, казак Матвей Шайтанов, чернокнижен,, ружья
заговоритель и чародей. А как по толкованию первого
артикула Воинского устава «наказание сожжения есть
обыкновенная казнь чернокнижцу, ежели оный своим
чародейством вред кому учинил, или действительно1 с диа-
волом обязательства имеет»; но поелику он чародейством
своим никому большого вреда не учинил, кроме заговора
ружей, присаживания шишки на носу и прочаго и про-
чаго, и от обязательства с сатаною отрекся по увещанию
священника: то приговаривался он к прогнанию шпицру-
теном и церковному публичному покаянию» *.
Вообще И. И. Лажечников стремится к широкой и сво-
бодной романтической расцветке повествовательного
стиля, между прочим и к историческим краскам старин-
ных выражений и цитат, однако без всякого злоупотреб-
ления ими.
В речь же действующих лиц у Лажечникова выраже-
ния и цитаты из сочинений изображаемого времени вво-
дятся крайне скупо и всегда — художественно оправдан-
но, при этом они нередко комментируются или автором
или самими героями. Так, в романе «Последний Новик»
один из положительных героев князь Вадбольский, иро-
нически посмеиваясь над немцем фон Верденом, демон-
стрирует варваризмы модного русско-европейского стиля
петровской эпохи: «Ох, батюшка, Петр Алексеевич! одним
ты согрешил, что наш язык и наружность обасурманил...
Буди же по-твоему, фон Верден! Слушай же мой дис-
курс. Когда обрели мы неприятеля в ордере де баталии
и увидели, что регименты его шли в такой аллиенции, как
на муштре, правду сказать, сердце ёкнуло не раз у меня
в груди; но, призвав на помощь Святую Троицу и Божью
матерь казанскую, вступили мы, без дальнейших компли-
ментов, с неприятелем в рукопашный бой. Войско наше,
яко не практикованное, к тому ж и пушки наши не при-
спели, скоро в конфузию пришло и ретироваться стало.
Виктория шведам формально фа-во-ри-зи-ро-ва-ла.
Желая с Полуектовым персонально сделать диверсию
важной консеквенции, и надеясь, что она будет иметь
добрый сукцес, решились мы с ним в конфиденции: в
1 И. И. Лажечников, Последний Новик, Собр. соч., СПб.
1858, т. I, ч. II, стр. 13.
558
Принцшши атаковать... Уф, родные, окатите меня водою!
Мочи нет! не выдержу, воля ваша! Понимай меня или
не понимай фон Верден, а я буду говорить на своем
родном языке»1.
Изображение раскольников и представление их речи,
как и у Загоскина, в романе «Последний Новик» осущест-
вляются с помощью церковнославянского языка; исполь-
зуются и документы раскольничьей литературы XVII —
начала XVIII столетия, таково, например, письмо царевны
Софии Алексеевны, но в нем есть явные дополнения авто-
ра, нарушающие стиль эпохи: «О! кабы я могла сказать
Владимиру изустно, что для него нету родины, как для
меня нету венца и царства»1 2.
Петр Великий говорит цитатами из собственных пи-
сем, слегка модернизованными3. Речь Петра больше
всего стилизована. Но в основном и она чаще всего скла-
дывается из форм русского литературного языка первой
трети XIX века лишь с небольшой примесью петровских
выражений. Например, «Дошли до меня весточки в не-
коей конфиденции... а с какой стороны ветер дул, не могу
тебе поведать — в другое время, ты знаешь, я с своих
плеч снял бы для тебя рубашку — вот изволишь видеть,
кум, дошли до меня весточки, что ты под Мариенбургом
спровадил какого-то голяка, шведского пленного, куда,
на какую потребу, бог весть!» Ср. письмо Петра4.
Меньшиков же пользуется стилем литературного по-
вествования 20—30-х годов XIX века:
«Herr Kapitain!—сказал вдруг Меньшиков,— две
огненные точки светятся неподалёку от нас; это должны
быть фонари на кораблях неприятельских».
В «Ледяном доме»5 еще меньше отражения языка
первой половины XVIII века. Повествовательный стиль
автора почти свободен от цитат (ср. эпиграфы из Канте-
мира). Лишь при описании Петербурга (ч. II) исполь-
зованы некоторые официальные и специальные термины
1 И. И. Лажечников, Последний Новик, Собр. соч., СПб.
1858, т. I, ч. II, стр. 61.
2 Там ж е, ч. III, стр. 103—105; следующие две цитаты из
ч. IV, стр. 65 и 50.
3 Т а м ж е, ч. IV, стр. 45—50.
4 Т а м же, стр. 210.
5 И. И. Лажечников, Ледяной дом, Собр. соч., т. III; по-
следующие цитаты по этому произведению взяты из частей I, III
и IV.
559
XVIII в.: большая прешпектива, нарочитые дома, коме-
диантский театральный дом и нек. др. (ч. II). Кроме
того, приведена большая — в несколько страниц — цитата
из книжки Георга Вольфганга Крафта «Подлинное и
обстоятельное описание построенного в Санкт-Петербурге
в генваре 1740 года ледяного дома и всех находившихся
в нем домовых вещей и приборов»... (СПб. 1741). Выде-
ляется также как цитата мнение Волынского (ч. IV).
Даже донос Горденки написан стилем официальной пу-
блицистики XIX века (ч. IV). Зато шире и разнообразнее
применяются простонародные и народно-поэтические
романтические формы сказа (ср. рассказ старушки,
ч. II), рассказ цыганки (ч. III), сочиненный для охотни-
ков «натуральной истории».
В речах действующих лиц нет и тени стилизации. Бирон
и Остерман говорят языком XIX века. Государыня лишь
однажды в своей речи, как цитату, употребляет старин-
ное народное выражение, соответствующее народному
слову — сглаз:
«—Я хочу перекрестить свою Лелемико от призору
очес-».
Письма Волынского писаны романтическим стилем
начала XIX века: «Куда бежать мне с моим сердцем,
растерзанным мукою любви?» — «Безумный! До чего
довел я тебя... и вот небо, которое тебе обещал! Что
должен я сделать, чтобы возвратить тебе прежнее спо-
койствие и счастье?»
В «Ледяном доме» исторически стилизована лишь
речь Тредиаковского (что и естественно в силу особой
функциональной роли «исторических лиц»). Например:
«Она едва, едва коснулась моей ланиты, и рой блаженства
облепил все мое естество. Не памятую, что со мною тогда
совершалось, памятую только, что это прикосновение
было нечто между трепанием руки и теплым дуновением
зефира. Проникнутое, пронзенное благодарностью сердце
бьет кастальским ключом, чтобы воспеть толикое благо-
денствие, ниспосланное на меня вознесенною превыше
всех смертных».
«И доложить вам осмеливаюсь, что стоит только неко-
торые слова, резвунчики, прыгунчики, как горные козочки,
вытеснить, и на место их вогнать траурные и тяжелые, как
черные волы, с трудом раздирающие плугом утробу
земную».
560
«Возлягте упованием своим на меня, как на адаман-
тов камень».
Приводятся стихи «Телемахиды» (ч. I), а также сти-
хотворение «Здравствуйте женившись, дурак и дурка»...
Еще смелее и откровеннее отказ от прямых археоло-
гических и архивных принципов исторической стилиза-
ции в романе Лажечникова «Басурман» В «Прологе»
роман связывается с «Сказанием о некоем немчине, иже
прозван бе бесерменом», Это сказание будто бы найдено
автором, а «в сердце столбца — итальянская рукопись»,
герой которой — тот же немчин.
«Разбираю листы русской хартии, как лепестки до-
рогого цветка, готового облететь. Едва, едва успеваю
спасти от разрушения половину ее. Итальянская рукопись
более уцелела. Из них-то и составил я «Повесть о басур-
мане», пополнив из истории промежутки, сделанные
разрушительным временем». Уже это сочетание мнимой
русской повести XVI века с итальянской подчеркивает
свободу автора от специфически русской стилизации
старинного рассказа. Автор — защитник художествен-
ного «обмана». «Лишь бы обман был похож на истину
и нравился, так и повесть хороша, а розыски истори-
ческой полиции здесь не у места». Исторический рома-
нист «должен следовать более поэзии истории, нежели
хронологии ее... Он должен быть только верен харак-
теру эпохи и двигателя ее, которых взялся изобразить.
Не его дело перебирать всю меледу, пересчитывать
труженически все звенья в цепи этой эпохи и жизни
этого двигателя: на то есть историки и биографы. Мис-
сия исторического романиста — выбрать из них самые
блестящие, самые занимательные события, которые
вяжутся с главным лицом его рассказа и совокупить их
в один поэтический момент своего романа. Нужно ли
говорить, что этот момент должен быть проникнут иде-
ей?»... Таким образом, романтическая поэзия должна
торжествовать над историей.
В «Басурмане» повествовательный стиль свободен от
всякой исторической стилизации. Только историко-бытовые
термины, обычно поясняемые в скобках или примечаниях,
нередко мелькают в описательных частях: колодки — ска-
меечка для ног; кизылбахский — персидский; дробницы
1 И. И. Лажечников, Басурман, Собр. соч., тт. V и VI; ци-
таты взяты из частей I, II, III, IV и VII.
]9 В. В. Виноградов
561
или угорские (венгерские) пенязи (ч. I); алтабасный
(парчовый) (ч. III); колонтари (латы), сулицы (металь-
ные копья), шестопер (знак воеводства) (ч. I). Характе-
рен ввод цитат из «Истории государства российского»
Карамзина — при описании покорения Твери (ч. III) и из
примечаний к «Истории» (ч. IV) — со ссылкой на русскую
Клио. И в конце романа оправдывается обращение к ска-
занию о немчине как к историческому источнику и приво-
дятся цитаты из летописного повествования о немчине.
«Вот зачем приезжал Антон Эреншейн на Русь! Да
еще затем, чтобы оставить по себе следующие почетные
и правдивые строки в истории:
„Врач немчин Антон приеха (в 1485) к великому
князю; его же в велице чести держал великий князь;
врачева же Каракачу, царевича Даньярова, да умори его
смертным зелием за посмех. Князь же великий выдал
его «татарам», они же свели его на Москву-реку под
мост зимою и зарезали ножом как овцу“».
Легко заметить и здесь столкновение двух языковых
пластов — древнерусского и современного, резкий пере-
ход от одного к другому.
И. И. Лажечников прилагал все старания к тому,
чтобы придать колорит среды и эпохи речам действующих
лиц. Это, однако, достигается не средствами натурали-
стической имитации или голых заимствований из памят-
ников старины. В речи бояр здесь по временам оставля-
ются древнерусские термины XIII—XVI веков, которыми
выражаются или характерные представления того вре-
мени или типичные предметы и явления. Сюда же под-
мешана старинная фразеология с налетом церковно-книж-
ного языка.
Например, в речах Мамона и Русалки: «Идет слух,
будто мерит корабленники зобницами. Мудрено ль? На-
хватал в Новогороде — буди не в осуждение его милости
сказано — упаси нас Господи от этого греха! (здесь он
перекрестился), добыча воинская — добыча праведная».
Слово зобница поясняется: «хлебная мера того времени».
Ср. в речи Мамона — образ: «Смотри, пятенщик мой,—
прибавил Мамон, грозя кулаком в ту сторону, где стоял
дом воеводы Образца,— глубоко выжег ты пятно на-груди
моей». «Пятенщик, ставивший клеймо на лошадях и сби-
равший за то пошлину в казну или на монастыри, кото-
562
рым эта пошлина предоставлялась грамотою». Ср. сцену
вызова на поединок:
«— Поля! позываю тебя на поле! — вскричал Мамон.
— На поле! —вскричал Хабар,— давно nopal Бог да
судит нас! — И враги, поцеловав крест, выбрав каждый
своего стряпчего (секунданта) и поручника, расстались
с жаждой крови один другого».
Законник и делец Гусев приводит цитаты из судебника.
Например: «Око господне блюдет законных владык,—
сказал Гусев,— тебя же особо, господине князь великий,
для устроения и блага Руси».
Исторический колорит подчеркивается экспрессивной
игрой света и тени. Описание Москвы глазами иностранца
дает колеблющуюся двойственную перспективу восприя-
тия. Самые речи Аристотеля Фиоравенти и лекаря Ан-
тония, разукрашенные романтической фразеологией,
близкие к современному литературно-художественному
и публицистическому стилю, по контрасту обостряли вос-
приятие старорусского колорита в языке русских бояр.
Умело использованы краски народно-поэтического языка,
например, в рассказах Афони — Афанасия Никитина,
в речах, причитаниях вдовы Семеновой, в изображении
суеверий, свойственных эпохе.
Участие в романе Афанасия Никитина, рассказываю-
щего о своих путешествиях словами своего «Хождения»,
придает особенную выразительность и силу колориту
прошлого. Атмосфера древнерусского быта очень сгу-
щается. Но основа диалогической речи и тут — живой
литературный язык XIX века с его синтаксисом, мор-
фологией, с его фразеологией и с его стилистическими
расслоениями. Общий дух эпохи воссоздается посредст-
вом1 осмотрительного употребления старинных этикетных
формул и церковно-книжных выражений.
Так формировался со второй половины 20-х годов
условно-романтический стиль русского исторического ро-
мана. Правда, элементы романтики и реалистических
устремлений обычно переплетались в структуре одного
и того же произведения. Стало ясно, что мировоззрение
и быт минувших эпох могут и должны быть воссоздава-
емы, главным образом, средствами .современного нацио-
нального литературного языка. В самом деле, ни семан-
тические системы древнерусского языка в их исторической
смене, ни системы форм их выражения не были досга-
19*
563
точно известны. В древнерусских памятниках находились
лишь материальные куски древнерусского языка: их функ-
ции и место в системе целого трудно было определить.
Живая древнерусская разговорная речь с ее экспрессив-
ными окрасками и социальными стилями и вовсе пока
была сокрыта. Предполагалось, что архаичная по своему
словарному составу народная речь, особенно крестьян-
ская областная, ближе древнерусскому разговорному
языку, чем устнолитературный язык интеллигенции.
Естественно было слышать голоса русской старины и в
стилевых формах фольклорной речи. Народные сказки, по
цветистому выражению Марлинского,— это facsimile ума,
поверий, нравов и быта старины.
«Садитесь на лихую тройку и проезжайте по святой
Руси. У ворот каждого города старина встретит вас с
хлебом и солью, с приветливым словом, напоит вас медом
и брагою, смоет, спарит долой все ваши заморские при-
тиранья, и ударит челом в напутье каким-нибудь преда-
нием, былью, песенкой»
Церковнославянский язык представлялся богатым
источником, откуда следовало черпать приемы построения
торжественных речей придворного и боярского круга,
духовенства и раскольников.
Все эти средства исторической стилизации относились
к числу художественных форм выражения, необходимых
в стиле исторического романа. Сложнее и туманнее был
вопрос о приемах и границах использования языка древне-
русских письменных источников, прежде всего летописей,
деловых актов, юридических памятников, повестей и т. п.
Начиная с петровского времени языковый материал вос-
принимался тогда как еще не отмерший исторический
пласт, кое-где еще лежавший на поверхности современно-
сти. Вообще же все это — была сфера истории, историче-
ского документа, сфера примечаний к историческому
труду или цитат в языке автора. В характере их исполь-
зования и полагалось тогда основное различие между
историком и поэтом, между археографом и историческим
романистом. Необходимо, по выражению Бестужева-Мар-
линского, «просевать пепел русской старины» (предисло-
вие к «Андрею, князю Переяславскому») 2.
1 А. А. М а р л и н с к и й, Поли. собр. соч., т. XI, стр. 307.
5 Там же, стр. 9.
564
Характерна защита церковно-книжного стиля гудон-
ника в романе Н. Полевого «Клятва при гробе господ-
нем»: «Некоторые журналисты упрекают автора, зачем
он заставил гудочника говорить книжным слогом в рас-
сказе дедушке Матвею о политическом быте Руси, осо-
бенно об Иерусалиме. Но знают ли эти господа, что для
святыни и для учености у нас до сих пор между священ-
никами, семинаристами и работными людьми ведется осо-
бый книжный язык? Мы должны писать как говорим, но
в старину грамотеи любили говорить как писали»
Понятно, что если в романе выводились исторические
лица, голос которых был известен и современному чита-
телю (например, Петр Первый, Тредиаковский — у Ла-
жечникова, Ломоносов — у К. Полевого), то приходилось
прибегать к широкому использованию их сочинений, вы-
сказываний, к цитации источников. Вообще же, кроме
историко-бытовых терминов и некоторых наиболее ти-
пичных и острых выражений, передающих стиль эпохи,
ввод выписок из старинных рукописей требовал стили-
стической мотивировки и производился в редких случаях.
Лишь в романах-хрониках типа булгаринского «Дмит-
рия Самозванца», представлявшего, по остроумному за-
мечанию Марлинского, «газетную Россию», широко при-
менялся метод перебоя публицистического повествования
цитатами из летописей и других древнерусских памят-
ников.
.9
Стили русского исторического романа складываются
в 20—30-е годы XIX века на базе все более определяю-
щейся в своих основных конструктивных свойствах и нор-
мах системы национального русского литературного языка
и ее функционально-речевых стилей. Становление и за-
крепление национальной нормы литературно-языкового
выражения сопровождалось осознанием отличий от нее
стилей письменности и речи иных эпох. Исторические по-
вествователи прежде всего столкнулись с необходимостью
называть и описывать вещи, реалии старого быта, свое-
образные музейные предметы, неотделимые от воспроиз-
водимой старины. В большей или меньшей степени как
1 А. А. Марлинский, Поли. собр. соч., т. XI, стр. 315—316.
565
в авторское повествование, так и в речи действующих
лиц исторического романа просачивается терминология
или номенклатура изображаемой эпохи. Персонажи, раз-
говаривая между собою, в отдельных случаях употреб-
ляют архаичные термины, при этом иногда они пользу-
ются словами своего, то есть далекого от читателя вре-
мени, и для обозначения таких вещей и понятий, которые
существовали и в эпоху автора. Однако все это, созда-
вая некоторый исторический колорит изображения, еще не
вводило в понимание быта и мировоззрения эпохи, ее
стиля. Встал вопрос о речи как предмете исторического
воспроизведения и как средстве исторической характери-
стики. Простым копированием источников нельзя достиг-
нуть не только реализма, но даже правдоподобия или
правдивости изображения. Так думал Загоскин. Этого
принципа придерживался и Лажечников. Пушкин, оце-
нивая роман Загоскина «Юрий Милославский», отметил
наличие в его стиле анахронизмов как существенный не-
достаток романа. Здесь указывался важный структурный
принцип стиля реалистического романа: необходимо при
выборе слов и выражений избегать явных анахронизмов,
то есть таких речевых средств, на которых лежит оче-
видный отпечаток языка другой эпохи и другой куль-
туры. Острое хронологическое (вернее: культурно-истори-
ческое) несоответствие с эпохой в стилевых формах
изображения, включение в строй художественно-историче-
ского повествования таких средств языка, которые вызы-
вают представление о современной или близкой к совре-
менности действительности, неоправданная модернизация
художественного воспроизведения прошлой жизни — все
это противоречит внутреннему существу реалистического
стиля и убивает правдоподобие исторического изложения.
Правда, уже в творчестве Загоскина, а затем и Лажеч-
никова стали вырабатываться принципы описательно-
характеристического, обобщенно-авторского воспроизве-
дения языка избранной эпохи и среды. В этом случае
автор не столько показывает, как говорят его герои, сколь-
ко рассказывает об этом. Само собой разумеется, что при
таких приемах исторического изображения в значитель-
ной степени устраняется опасность анахронизмов. Однако
эти приемы сталкивались с очень активным в поэтике
романтизма принципом драматического представления
событий и народных характеров. Проблема связи и соот-
566
ношения стиля автора и речей действующих лиц в рус-
ском историческом романе не была разрешена романти-
ческой поэтикой.
Нельзя не вспомнить суждений К. А. Федина о языке
исторического романа и о принципах исторической стили-
зации: «Ретроспективность должна заключаться в истори-
чески точном изображении состояний и мышления героев,
но не в том, что автор коррегирует прошлое настоящим.
Здесь надо быть последовательным до словаря: можно
и нужно говорить только языком времени действия.
Богатство мыслей и всей внутренней жизни героев
этим нисколько не стесняется. Очень важно, что речь ге-
роев, произносимая вслух, и язык их размышлений — раз-
ные. Думают люди, так сказать, языком «внеисториче-
ским», потому что мысль забегает вперед как наиболее
свободная, не контролируемая историей форма психоло-
гической работы. А выражаются вслух — наиболее стес-
ненно, связанные условиями, контролем исторической
действительности. Поэтому в диалогах, в прямой, про-
износимой речи героев никогда не могут быть слова
безотносительные к эпохе, которую описываешь. Это —
закон для романа исторического. Но что такое история
применительно к художественному произведению? Это
буквально — вчера и сегодня. Вчера не говорили так,
как сегодня, уже по одному тому, что вчера запреща-
лось говорить так, как разрешается нынче. Язык
1956 года не свойствен 1941-му. Именно поэтому я,
художник, реставрирующий 1941 год, не имею права
выражать тогдашнюю мысль нынешним словарем» L
10
Решение вопроса о языке и стиле исторического ро-
мана, которое было предложено Загоскиным, Лажечни-
ковым и их сторонниками, не удовлетворяло многих исто-
риков и археологов, знатоков старинного русского языка.
Одним, как А. Вельтман, казалось, что романтическая
экзотика древнерусской речи — сама в себе таит неисчер-
паемые возможности эстетического воздействия и художе-
ственных эффектов. Другие, как Погодин, думали, что
историческая истина требует большого доверия к языку
1 Конст. Федин, Писатель. Искусство. Время, стр. 391.
567
источников, к языку древнерусской письменности. Извест-
ны мысли М. П. Погодина о древнерусском языке.
Этот язык, по мнению Погодина, был тот же, что и ста-
рославянский. И это немудрено: восточные славяне, по
Погодину, участвовали в заселении Балканского полуост-
рова и государственном устроении Балкан. Их поселения
доходили до Солуня, города, с которым связываются
имена изобретателей славянского письма — Кирилла
и Мефодия. Была, конечно, разница в слоге, в мировоз-
зрении, даже в способе мышления между разными со-
циальными слоями древней Руси.
В своих «Исторических афоризмах» М. П. Погодин
писал: «Доселе рассуждают более всего об одной поли-
тической истории. Нужна история жилищ человеческих:
пещера, изба, дом, дворец. Пищи: вода, сырое мясо, соус;
мореплавания: выдолбленный пень, лодка, корабль, паро-
ход. Политики, ремесл и т. д.» '. Для Погодина идеал —
историк-художник, в котором народ достигает своего
самопознания. Такой историк занимается внутреннею,
душевною историей народа. «История ума и сердца чело-
веческого должна составлять важнейшую часть истории».
«История — картина великого мастера: время стерло с
нее живые краски, невежество испортило гениальный чер-
теж, злонамеренность провела свои кривые линии...
Какой знаток возьмется восстановить ее?»
«В языке происходят изменения, кажется, случайные,
а взгляните на всю его историю — это развитие правиль-
ное, по общему закону».
«История для нас есть еще поэма на иностранном
языке, которого мы не понимаем, и только знаем значение
некоторых слов, много-много эпизодов».
«Много заблуждений происходят от того, что мы по
языку нашего времени судим об языке древнем: язык у
всякого народа сначала был гораздо меньше, по мере его
понятий; послушайте теперь” крестьянина — сколькими
словами он выражает все свои мысли! Знать несколько
соседних языков было гораздо легче. Язык разрастается
соразмерно с народонаселением, временем жизни и пр.».
«История загромождена теперь формулярными спис-
ками».
1 М. П. Погодин, Исторические афоризмы, М. 1836, стр. 8;
след. стр. 10, 11, 53, 61, 68, 77, 86 и 90.
568
В этих «афоризмах» изложена целая программа пони-
мания истории и способов ее конкретно-исторического вос-
произведения. Археологические и реставраторские тен-
денции уводят стиль исторического романа 30-х годов от
современного литературного языка. Роман у таких писа-
телей, как Вельтман, превращается как бы в стилизован-
ное произведение воспроизводимой эпохи (правда, ослож-
ненное пародическими упражнениями современного авто-
ра). Такой роман уже требует исторической расшифров-
ки, словаря и энциклопедического справочника, критики
текста. Романист-реставратор в пылу исторического усер-
дия или иронической «игры» с историей, извлекает из пыли
веков самые далекие от современности, самые непонятные
выражения, пересыпая ими и речь героев и язык автор-
ского повествования. Он щеголяет цитатами из летопи-
сей, государственных актов и публицистических произве-
дений изображаемого времени. Он' разбрасывает щедрой
горстью номенклатуру XIII—XVI или XVII веков, думая,
что вместе с названиями входит в его сочинение сама
живая жизнь, быт того времени.
Правда, исторический материал нуждается в осмысле-
нии. Но можно ли, оставаясь на почве словаря XII—XIV
или XV—XVII веков, средствами далекой от нас языко-
вой системы осветить воспроизводимую действительность
и сделать ее понятной и близкой современному читателю?
Последовательный метод языкового реставраторства
засорял глаза писателя и читателя. У Погодина был такт
историка-художника, и он не так далеко зашел в своих
требованиях документально-исторической истины. Ведь
полной точности и абсолютной последовательности изо-
бражения здесь достигнуть было невозможно. Натурали-
стическая фотографичность речи неосуществима в приме-
нении к далекому прошлому. И все же М. Погодин в пре-
дисловии к своей «Марфе Посаднице» с гордостью заяв-
лял, что в ней «едва ль найдется несколько выражений,
которых бы он не указал в памятниках того времени» 1.
Погодин не отрицал значения стилей современной на-
родной — крестьянской, мещанской речи для воссоздания
разговорных стилей древнерусского быта. Он призывал
лишь к более широкому использованию древнерусской
фразеологии, языка и стиля древнерусских памятников.
1 М. Погодин, Марфа Посадница, М. 1830, стр. IV.
569
Действительно, в драматическом языке трагедии По-
година, наряду с свободным и разнообразным примене-
нием «простонародной» грубой речи, много древнерус-
ского языкового материала, несравнимо больше, чем в
диалоге исторического романа у Загоскина и Лажечни-
кова. Например:
Потщимся
Явить себя... доверенности граждан...
Достойными. (Борецкий)
Молитеся да идет чаша мимо. (Марфа)
И взмялася опять земля блажная. (Иоанн)
Конца незря делам сим богоотметным. (Он же)
И милосердый
Нас защитил от злаго обстоянья. (Марфа).
Особенно далеко в использовании древнерусских вы-
ражений пошел М. П. Погодин в своем сочинении «Исто-
рия в лицах о Дмитрии Самозванце». Правда, и здесь
бытовое просторечие даже в языке бояр и Самозванца
носит яркий отпечаток современного мещанского говора:
«Надо мазать попа по губам» (Самозванец). «Ни в зуб
толкнуть, братцы. Хоть зарежь» (Шуйский). «Полно пу-
стяки околачивать» (кн. Сицкий).
Но официально-торжественные речи бояр восходят
к языку летописи и староцерковной письменности. Напри-
мер, князь Трубецкой говорит: «И молим, чтобы господь
осенил тебя крылу своею, отженул от тебя всякого врага
и сопостата и злаго обстояния и чтоб ты царствовал над
нами, рабами своими, в долготу дней» *.
М. П. Погодин в своем художественно-историческом
творчестве, однако, так и не дошел до жанра историче-
ского романа, хотя и стремился к нему.
11
С иной художественной мотивировкой на защиту ре-
ставрационного отношения к древнерусскому языку как
структурно-стилистическому элементу исторического ро-
мана выступил А. Ф. Вельтман. В 1833 году он выпустил
1 М. П. Погодин, История в лицах о Дмитрии Самозванце,
М. 1835, стр. 6.
570
свой первый исторический роман «Кащей Бессмертный».
Это, собственно, роман историко-фантастический. Дей-
ствие «Кащея Бессмертного» относится к XII—XIV ве-
кам. Композиция романа — прихотливо-прерывистая.
Вельтман пытается разрешить проблему исторического
воспроизведения старинных быта и нравов с помощью
языка древних памятников, их изобразительных средств,
а также языка фольклора. Перегружая роман археоло-
гией и этимологией, он стремится вызвать у читателя
полное ощущение старинной жизни. Языческое богослу-
жение, пиры с кушаниями и питиями, торжественные про-
цессии в городе и деревне, свадебные обряды, прием
гостей, княжеский совет, дорожная езда — самые разно-
образные явления и черты древнерусского быта воссоз-
даются в натуре с археологическими подробностями, со
свойственной тому времени сложной номенклатурой. Бы-
товой древнерусский словарь как бы опрокидывает-
ся на голову читателя, очень часто без всяких тол-
кований, как воспоминание или наваждение экзотического
давнего русского языка. При этом писатель вовсе не за-
ботится о том, чтобы дать понятие о вещах как о ма-
териальной основе и связи человеческих действий, его
увлекала самая новизна и неизвестность имен, «игра» с
непривычными, как бы «чужими» словами.
Например: «Другое кружало уставлено было златою и
серебряной утварью, кнеями, лукнами, куфами, стопами,
раковинами, обделанными в золото, конобами и проч.» \
Понятно, что и в этой старинной номенклатуре многое
создано игривой фантазией автора, например собствен-
ные имена — Боиборзовна, Тир и т. п. Древние слова и
выражения вводятся и там, где им нег синонимов в совре-
менном языке, и там, где такие синонимы есть. В диалоге
сохраняется областная окраска древнерусского языка —
в фонетике и даже в морфологии:
«Тысяцкий велел его привести к себе:
— А шо, Суждальцю, каково-ти от хлеба Ноугорочь-
ково?
— Чествую, господине тысячьский, сълнце тепло и
красно простре горячую лучю своюинанебозиих,— отве-
чал весело суздалец.
1 А. Ф. Вельтман, Кащей Бессмертный. Былина старого вре-
мени, М. 1833, ч. I, стр. 100.
571
— Шо радует ти? Ноугорочькое сердце плакалось бы
по воле, яко Израиля при Фаравуне царю еюпетстем.
— Вольно мне радоватися горю и я волен!» 1
Благожелательный Вельтману критик 30-х годов
(М. Лихонин), отмечая эту «новую дорогу поэтического
представления русской старины», писал, что Вельтман
слеплял язык Кащея, как камешки мозаики, из современ-
ных тем векам сказаний и летописей. «Слово о полку
Игореве» было — наряду с летописями — основной сокро-
вищницей изобразительных средств для Вельтмана.
Было бы странно в этих заимствованиях из древнерус-
ских памятников не найти историко-лингвистических
«ошибок». Отступления от фактов исторической морфоло-
гии древнерусского языка, нарушения его синтаксического
строя, смешения грамматических явлений разных эпох —
здесь почти на каждом шагу. Но задача Вельтмана — во-
все не в адэкватном воспроизведении речи древнерусских
людей, а в создании специфического имитирующего стиля
исторического изображения и воспроизведения.
Таким образом, здесь — упор на романтическую эк-
зотику древнерусского языка, на его орнаментальные и
живописующие функции. С этой тенденцией связано при-
чудливое словотворчество А. Вельтмана на основе древне-
русского языкового материала. Этимологические калам-
буры автора обостряли восприятия новизны стиля. Вельт-
ман, сверх того, хотел создать впечатление живого устного
языка русской древности — во всем его областном и ин-
дивидуально-характерном многообразии. Поэтому — в от-
личие от других исторических романистов, изображав-
ших древнерусский быт, Вельтман почти не прибегает к
церковно-книжной речи. Он предпочитает современные
областные слова и выражения, как более близкие к
старинному языку (пересовец, лопоть, воронец, ощепки
и т. п.).
Поляки в «Кащее» говорят условно-польским языком
со стилизованной польской фонетикой, словообразова-
нием; речам черногорцев придана сербская окраска.
Таким образом, в этом историческом романе искус-
ственно и иногда искусно столкнулись разные языки
славянского мира — в их разных пластах и в причудливом
индивидуально-художественном авторском искажении.
1 А. Ф. Вельтман, Кащей Бессмертный, там же, стр. 18—19.
572
Вместе с тем, народно-поэтическая, былинная и ска-
зочная стилизация авторского языка в отдельных местах
романа доведена до предела. Увлеченный новизною Бе-
линский сказал, что Вельтман «глубоко изучил старин-
ную Русь в летописях и сказках и как поэт понял ее своим
чувством» Но у Вельтмана все это залито отсветом иро-
нии. При этом в повествовательном стиле автора древне-
русские выражения выделены как цитаты. Автор насмеш-
ливо извиняется за свою манеру перед читателем.
«Не кори мене, господине богу милый читатель, за то,
что я не везде буду говорить с тобой языком наших пра-
дедов.
И ты, цвете прекрасный, читательница, дчь (дочь)
Леля, пресветлое сълнце, словутцюю! Взлелеял бы тебя
словесы Баяновы, пустил бы вещие персты по живым
струнам и начал бы старую повесть старыми словесы; да
боюся, уноет твое сердце жалобою на меня, и ты пошлешь
меня черным вранам на уедие»1 2. Легко заметить, что
Вельтман иногда смешивает графические формы древне-
русской письменности XV—XVI веков (слънце, дчь
и т. п.) с произносительной системой языка восточно-
славянской народности.
Таким образом, воспроизводящий, имитирующий стиль
речей действующих лиц, здесь не столько создает иллю-
зию его погруженности в древнерусскую речевую сти-
хию и в древнерусскую культуру, сколько служит сред-
ством затейливой орнаментации диалога и источником
чисто словесных художественных эффектов.
Но А. Ф. Вельтман понимал, что по этому пути даль-
нейшее движение при тогдашнем знании древнерус-
ского языка и древнерусской письменности невозможно.
Кроме того, цельной картины событий древнерусской
истории не получалось. Правда, современники вопроша-
ли: «-Не такова ли и древняя Русь в памяти народа,
в картинах поэтов и в самых сказаниях историка?»
(«Северная пчела»). Но дело было не в этом, так как
исторически обоснованного ответа на эти вопросы не
было, да и не могло в то время быть.
Следующий, принадлежащий Вельтману роман из
древнерусской жизни «Святославич, вражий питомец.
1 В. Г. Белинский, Собр. соч. в 3-х томах, т. 1, стр. 81.
2 А. Ф. Вельтман, Кащей Бессмертный, ч. I, стр. 49—50.
573
Диво времен красного солнца Владимира» (1835) прямо
превращается в энциклопедический сборник «палеогра-
фии, этнографии, географии, истории, мифологии, имено-
словий, наречий, просторечий, пословиц, поговорок, ско-
роговорок», как писал кн. Шаликов в «Ученых записках
Московского университета» (1835, ч. X). Нет ни характе-
ров, ни быта: все расплылось в игре стилистических красок
и слов Ч
Во всех романтических и натуралистических художе-
ственных решениях проблемы языка и стиля исторического
романа, появившихся в русской литературе 30-х годов
XIX века, обозначилось несколько общих противоречий:
Это, во-первых, резкий контраст между повествова-
тельным стилем автора и речью исторических лиц. Язык
художественно-исторического повествования, с одной сто-
роны, нося на себе яркий отпечаток личности автора,
его взглядов, его субъективного отношения к изображае-
мой исторической действительности, непосредственно сли-
вался с общим потоком художественно-повествовательной
литературы 20—30-х годов XIX века. Ведь он по большей
части ничем не отличался от повествовательного или
дидактического стиля нравственно-описательного или ро-
мантико-психологического романа. В этих случаях чаще
всего он был неисторичен, не носил на себе никакого от-
печатка духа эпохи и не воспроизводил ее. В нем выра-
жался романтический или публицистический образ автора.
Само собой разумеется, что при развитии системы реали-
стического воплощения действительности возможно было
глубокое воспроизведение и старого быта средствами
современного литературного языка. Это доказали отчасти
А. С. Пушкин, но особенно Л. Толстой.
С другой стороны, язык исторического повествования
в 20—30-е годы нередко продолжал стилевые традиции
«Истории государства российского» Карамзина. И в этом
случае он был декламативно однообразен, несмотря на
древнерусскую расцветку отдельных обозначений, несмотря
на вторжение цитат из древнерусских памятников и
осколков их языка. Новый метод организации повество-
вательно-исторического стиля, предложенный Вельтма-
ном, оказался беспочвенным.
1 Ср. Б. Б у х ш т а б, Первые романы А. Вельтмана. Сб. «Рус-
ская проза», 1926.
574
Во-вторых, принципы построения речей действующих
лиц исторического романа также были слишком схема-
тичны. Исторические лица изредка говорили цитатами из
своих сочинений, писем или из современных им докумен-
тов, чаще же употребляли в своей речи установившиеся
штампы современной литературной фразеологии или про-
стонародной речи. Оставалась неразрешенной проблема
развития характера и его индивидуально-стилистического
воплощения.
12
Проблема вольного и широкого развития характера,
изображения его внутренней жизни средствами живой
драматической речи возникла еще раньше сильно распро-
странившегося увлечения историческим романом — в
20-е годы XIX века в связи с поисками новых форм исто-
рической драмы. Пушкин глубоко самостоятельно и близ-
ко к реализму разрешил эту проблему в стиле «Бориса
Годунова». Здесь давались ответы на вопросы: как тра-
гедии «перейти от своего разговора размеренного, важ-
ного и благопристойного к грубой откровенности народ-
ных страстей, к вольности суждений площади?.. Где,
у кого выучиться наречию, понятному народу?» 1
Критикуя стиль «Марфы Посадницы» Погодина, Пуш-
кин особенно останавливается на исторической характер-
ности речей, на смене экспрессивных красок в стиле от-
дельных персонажей: «Поэту не хотелось совсем унизить
новгородского предателя — отселе заносчивость его речей
и недраматическая (то есть неправдоподобная) снисходи-
тельность Иоанна... изменник не говорил бы уже воль-
ным языком новгородца. Зато с какой полнотою, с каким
спокойствием развивает Иоанн государственные свои
мысли! — и заметим, откровенность — вот лучшая лесть
властителя и единственно его достойная»i 2.
Пушкин — противник метода историко-археологиче-
ской реставрации, то есть натурализма. Он не стоит даже
за педантически «строгое соблюдение костюма, красок
времени и места», но он — враг модернизации историче-
ских фактов. Стилевым фоном, нейтральной речевой сре-
i А. С. Пу шкин, Поли. собр. соч., т. IX, Academia, 1937, стр. 177.
2 Там же, стр. 181.
575
дой драмы в «Борисе Годунове» является поэтический
язык 20—30-х годов XIX века. Но в эту речевую стихию
вмешаны и формы бытового просторечия, и элементы
древнерусского летописного стиля, и обороты старинной
церковной книжности. Принципы смешения и сочетания
этих разнородных речевых стихий дифференцированы
смотря по ситуации и по характеру лица. Торжественные
монологи царя (например, при вступлении на престол),
официальная речь думного дьяка, монологи патриарха,
кн. Шуйского в царской думе, Пимена в повествовании
о прошлом, молитва мальчика — «государева чаша» —
все это слагается в значительной мере из возвышенно-
официальных славянизмов, восходящих к стилям древне-
русской письменности. Стиль эпохи сказывается и в строе
формул общественно-бытового этикета, вмещающих в себя
выражения старинного языка, цитаты из «Истории госу-
дарства российского» Карамзина, а чаще из примечаний
к ней, отголоски летописей и сказаний смутного времени.
При этом примесь старинного летописного языка, языка
древнерусской письменности не нейтрализует живой дра-
матической экспрессии, не вредит историко-бытовому
правдоподобию разговорной речи, ее многообразным
оттенкам. Но самое главное: стилевые краски эпохи по-
могают индивидуализации их характеров. Гамма экспрес-
сивных красок в речи отдельных персонажей очень раз-
нообразна и выразительна. Речевые стили главных пер-
сонажей индивидуально-характерны.
Современники Пушкина отметили в «Борисе Годуно-
ве» «эту удивительную гибкость драматического стиля,
отливающегося нежными, но живыми оттенками разно-
образных личностей». В «Курсе теории словесности»
М. Чистякова1, приятеля Белинского, очень тонко и ост-
ро характеризуется этот принцип конкретно-историче-
ской индивидуализации речи, впервые с такой широтой
и'свободой осуществлённый в стиле «Бориса Годунова».
«Главная забота Самозванца—уверить всех, что он —
истинный царевич Димитрий: это усилие внушить, втол-
ковать другим мысль о законности своих требований
беспрестанно высказывается и составляет господствую-
щую ноту в языке его: „Я знаю дух народа моего"» и
1 М. Чистяков, Курс теории словесности, СПб. 1847, ч. II,
стр. 274 и след.
576
т. п. Истинный царевич так часто не говорил бы о сво-
их правах.
Речь самозванца изменяется, смотря по тому, с кем
он говорит. Беседуя с патером... он не говорит «право-
славная церковь», а просто — восточная; римского пер-
восвященника называет не папой, не святейшим отцом,
но наместником Петра; заключительным amen намекает
о своих привычках и, следовательно, о своей любви
к формам духовного сословия и языка. Он выражается
умно, положительно и в то же время с осторожною
двусмысленностью, давая знать, что иезуиты найдут
в нем достойного ученика...
Собаньскому он бросает одно пустое, но звонкое сло-
во: «Чадо свободы»; подобными словами не раз очаро-
вывали надутую и бездомовную шляхту...
В ласке к казакам есть несколько особенно метких
выражений: «Я знал донцев», «не сомневался видеть ка-
зачьи бунчуки»; «если бог поможет», «по старине», «воль-
ной Дон». Это — в духе казаков тогдашнего времени.
С поэтом Отрепьев употребляет педантский, школьный
язык латино-польских стихотворцев своей эпохи; «союз
меча и лиры», «лавр их обвивающий», «латинская муза»,
«парнасские цветы», «пророчества пиитов» (vates) —эти
аллегории избитые и обветшалые, неизбежные принад-
лежности ложно-классической оды, этот возглас — сто-
кратно (terque, quaterque), этот напыщенный тон и этот
прекрасный стих, выдернутый из Горация,— все удиви-
тельно проникнуто тогдашнею современностью...
В патере виден иезуит, тонкий, хитрый, прикрываю-
щий свои корыстные намерения святыми именами — не-
бесная благодать, духовный долг и негодованием к ог-
лашенному свету... Поляк ничего не мог сказать лучше
того, что он — Собаньский, вольный шляхтич. Тут вся
его знаменитость, вся история и вся будущность — ни-
чтожество. Челобитье Хрущова исполнено энергических
выражений и странной, дикой народности того века.
Карела — смел, горд, умен, ловок и комически ори-
гинален, кланяясь головами всех войск. Стихотворец
говорит выражениями холодного подобострастия и при-
творной скромности, которые сделались общим местом
в посвящениях книг»1.
1 М. Чистяков, Курс теории словесности, ч. II, стр. 282.
577
Официальный стиль Пимена, речь Бориса, речь Са-
мозванца, речь Марии Мнишек в сложной совокупности
их реплик и монологов — это разные индивидуальные
стили, выражающие исторический характер персонажей
и развитие их характеров в драме.
Достаточно сопоставить такие цитаты:
Из речи Пимена — с его книжно-церковной фразео-
логией и религиозными образами:
К его одру, царю едину зримый
Явился муж необычайно светел...
...Тогда уж и меня
Сподобил бог уразуметь ничтожность
Мирских сует...
С тех пор я мало
Вникал в дела мирские...
Ср. в речи Григория Отрепьева—еще монаха:
Успел бы я, как ты, на старость лет,
От суеты, от мира отложиться,
Произнести монашества обет
И в тихую обитель затвориться...
...А мой покой бесовское мечтанье
Тревожило, и враг меня мутил...
Характерно воспроизведение речей Ивана Грозного:
Предстану здесь алкающий спасенья...
Прииду к вам, преступник окаянный,
И схиму здесь честную восприму...
Из речи патриарха в прозаическом бранно-каратель-
ном жанре:
«Пострел окаянный!.. Уж эти мне грамотеи!.. Ах, он
сосуд дьявольский!.. Поймать, поймать врагоугодника, да
и сослать в Соловецкий, на вечное покаяние».
Из его же стихотворной речи, носящей яркий отпеча-
ток стиля проповеди или церковного воззвания:
Бесовский сын, расстрига окаянный,
Прослыть умел Димитрием в народе;
Он именем царевича, как ризой
Украденной, бесстыдно облачился:
Но стоит лишь ее раздрать —и сам
Он наготой своею посрамится...
578
Из речи Самозванца — с его государственной ритори-
кой и элегическими вариациями:
Сыны славян, я скоро поведу
В желанный бой дружины ваши грозны.
Несчастный вождь! как ярко просиял
Восход его шумящий, бурной жизни.
Как медленно катился скучный день!
Как медленно заря вечерня гасла!
Из речи Бориса, наиболее богатой разнообразными
экспрессивно-стилистическими красками и драматически
насыщенной:
Кто чувствами в порочных наслажденьях
В младые дни привыкнул утопать,
Тот, возмужав, угрюм и кровожаден,
И ум его безвременно темнеет...
Но счастья нет моей душе. Не так ли
Мы смолоду влюбляемся и алчем
Утех любви, но только утолим
Сердечный глад мгновенным обладаньем,
Уж охладев, скучаем и томимся?..
Ах! Чувствую: ничто не может нас
Среди мирских печалей успокоить...
Обнажена моя душа пред вами:
Вы видели, что я приемлю власть
Великую со страхом и смиреньем.
Сколь тяжела обязанность моя!
В драматической форме Пушкин видел противовес
элегическому направлению 20-х годов, характеризовав-
шему русский романтизм. Пушкинское решение вопроса
об обобщенном, типически-характерном «историческом
колорите» изображения опиралось на широкое изучение
и свободное использование исторических источников, от-
носящихся к воспроизводимой эпохе1.
«Пушкин считал, что достаточно сохранить историче-
ский колорит обычаев, речи, внешнего поведения, чтобы
избежать упреков в искажении исторической истины. Но
психологию действующих лиц (а трагедия понималась
1 См. О. А. Державина, «Трагедия Пушкина «Борис Году-
нов» и русские исторические повести начала XVII века». «Ученые за-
писки Московского городского педагогического института им.
В. П. Потемкина», т. XLIII, 1954, Кафедра русской литературы,
вып. 4.
579
как литературное изображение человеческой психологии
преимущественно перед другими жанрами литературы)
следовало восстанавливать не только по памятникам, но
на основании знания «человеческой природы», человече-
ского сердца, более или менее неизменного в основных
своих движениях. И поэтому не только в летописях, но и
у Тацита искал Пушкин исторических аналогий, типиче-
ских черт, характерных формул для изображения собы-
тий царствования Бориса Годунова»1.
Эти исторические анализы не имеют ничего общего с
«намеками» и «применениями» трагедий позднего класси-
цизма. Для Пушкина решающее значение имел принцип
исторической верности. Исторические аналогии лишь раз-
двигали горизонт понимания конкретно-исторических
событий. Однако в «Борисе Годунове» (так же как и в
«Полтаве»; а в ином аспекте и в «Арапе Петра Вели-
кого») «...понимание исторического процесса не лишено
еще черт исторического романтизма. Еще предпосылка
неизменности человеческой природы, своеобразного круго-
вращения судеб человечества определяла понимание со-
бытий» 1 2.
13
В 30-е годы XIX века в творчестве Пушкина опреде-
ляются в основных чертах принципы нового реалистиче-
ского искусства; формируются способы художественного
построения типического характера, обусловленного исто-
рически и социально. «Для Пушкина история является
уже картиной поступательного движения человечества,
определяемого борьбой социальных сил, протекающей в
разных условиях для каждой страны. Именно это непре-
рывное движение вовлекает и настоящее в общий ход.
Для Пушкина критерий историзма уже не определяется
более исторической отдаленностью событий прошлого.
Поэтому историческая точка зрения одинаково присут-
ствует как в изображении прошлого, так и в изображе-
нии настоящего. В этом отношении особенно характерна
повесть «Пиковая дама», писавшаяся одновременно с
1 Б. В. Том а ш ев с кий, Историзм Пушкина, «Ученые записки
Ленннгр. ун-та, № 173, Серия филологии, наук», вып. 20, стр. 62.
2 Т ам же, стр. 64.
580
«Медным всадником». В ней каждое действующее лицо
является представителем определенной исторической и
социальной формации» Ч
Принцип индивидуально-характерной речи, соответ-
ствующей духу воспроизводимого мира, принцип, органи-
чески связанный с принципом «верного изображения лиц
исторических характеров и событий», переносится Пуш-
киным из исторической драмы в сферу исторического ро-
мана (ср. речи разных персонажей в «Арапе Петра Ве-
ликого») . Но тут границы и формы исторической стилиза-
ции речей героев видоизменяются под влиянием общей
повествовательной композиции романа. Структура диа-
логической речи в романе зависит от разных отношений
драматических сцен к стилю авторского повествования.
Все разговоры здесь вставлены в общий контекст повест-
вования. Они, в сущности, не всегда воспроизводятся как
действие в его широком движении, а во многих случаях
лишь передаются повествователем или как бы иллюстри-
руют повествование (ср. первые три главы «Арапа Петра
Великого»).
Автор, понятно, не должен «перебираться» в изобра-
жаемую эпоху «с тяжелым запасом своих домашних при-
вычек, предрассудков и дневных привычек». Его зада-
ча — «воскресить минувший век во всей его истине».
А для этого Пушкин стремится, собрав небольшой запас
наиболее характерных выражений эпохи, сгустить общий
семантический колорит изображения — при минимальном
отклонении от общепринятых и общепонятных средств
современного ему литературного русского языка. Образ
мыслей того или иного времени, особенная физиономия
эпохи, даже самый язык иных веков могут быть вос-
созданы без резкого отрыва от живого, действенного
общерусского языка — с некоторым использованием его
архивного фонда и с устранением анахронизмов. Прин-
ципы исторической стилизации в понимании Пушкина
были органически чужды и враждебны приемам натура-
листического копирования, методу археологической ре-
ставрации языка эпохи.
Даже в своей «Истории Пугачева» «Пушкин не только
не склонен был заимствовать из источников архаические
слова, архаические формы и архаические обороты речи,
• Б. В. Томашевский, Историзм Пушкина, стр. 85.
581
но, наоборот, вел с ними весьма последовательную
борьбу» Ч
Основным принципом творчества Пушкина с конца
20-х годов становится принцип соответствия речевого
стиля изображаемому миру исторической действительно-
сти, изображаемой среде, изображаемому характеру.
Белинский ошибочно полагал, что в стиле «Бориса Году-
нова» этот принцип нашел свое «полное и оконченное»
выражение. Метод художественного воспроизведения
исторической действительности у Пушкина был свободен
от малейших признаков не только натуралистической
реставрации, но и романтической идеализации. Пушкин
создавал иллюзию правдивого изображения времени и
национальности соответствием речевой семантики нацио-
нальным типам и положениям, быту и эпохе. Вместе с
тем он не допускал анахронизмов и «погрешностей про-
тиву местности». Действительность должна рисоваться в
свете ее культурного стиля, в свете ее собственных норм,
вкусов и оценок, в свете ее речевой семантики. Именно с
этой точки зрения Пушкин решительно осуждает стиль
исторического романа таких подражателей Вальтера
Скотта, которые быт данной эпохи изображают в духе
своего времени.
Выдвинутый Пушкиным реалистический принцип
исторической характерности и народности не мирится ни
с однообразно-декламативными тенденциями повество-
вательно-исторического стиля Марлинского, ни с тради-
ционно-патриотической патетикой исторических описаний
и рассуждений Загоскина, ни с безлично официальным
дидактизмом булгаринского стиля, ни с натуралистиче-
ской экзотикой стиля Вельтмана, ни с романтической на-
пряженностью стиля Лажечникова.
У Пушкина как реалиста-историка стиль исторического
повествования и изображения близок к простой «летопис-
ной» записи основных и наиболее характерных событий
или к скупым и лаконическим наброскам мемуаров, хро-
ники, которые являются как бы экстрактом из множества
наблюдений, сгущенным отражением широкой картины
жизни. В этом отношении показателен интерес Пушкина
к безыскусственным запискам, воспоминаниям и тому по-
1 См. Г. Блок, Пушкин в работе над историческими источ-
никами, Изд. АН СССР, М. 1949, стр. 47.
582
добной бытовой словесности, к своеобразным историче-
ским документам1.
Тут есть близость в оценке значения мемуаров для
развития стилей реалистического исторического романа
между Пушкиным и Белинским. Белинский писал по по-
воду «Записок о походах 1812 и 1813 гг.» (1835): «К числу
самых необыкновенных и самых интересных явлений в
умственном мире нашего времени принадлежат Записки
или Memoires. Это суть истинные летописи наших времен,
летописи живые, любопытные, писанные не добродуш-
ными монахами, но людьми, по большей части, образо-
ванными и просвещенными, бывшими свидетелями, а
иногда и участниками этих событий, которые описываются
ими со всей откровенностью, какая только возможна в
наше время, со всеми подробностями, которых ищет и ро-
манист и драматург и историк и нравоописатель и фило-
соф. И в самом деле, что может быть любопытнее этих
Записок: это история, это роман, это драма, это все, что
вам угодно! Что может быть важнее их?»1 2.
В этой связи очень важное значение приобретает ха-
рактеристика А. С. Пушкина и его художественно-истори-
ческого стиля, исходящая от кн. П. А. Вяземского:
«В Пушкине было верное понимание истории; свойство,
которым одарены не все историки... Он не историю во-
площал бы в себя и в свою современность, а себя пере-
нес бы в историю и в минувшее... Пушкин был одарен
воображением и, так сказать, самоотвержением личности
своей настолько, что мог отрешать себя от присущего и
воссоздавать минувшее, уживаться с ним, породниться с
лицами, событиями, нравами, порядками, давным-давно
замененными новыми поколениями, новыми порядками,
новым общественным и гражданским строем...»3
Суть летописно-мемуарного или историко-бытового
стиля состоит в .быстром и сжатом обозначении и пере-
числении предметов и событий, которые выхватываются
из широкого потока жизни и отражают его сложное дви-
жение, будучи как бы «опорными пунктами» его. Возни-
кает впечатление стремительной сцепки и неожиданной,
1 См. В. В. Виноградов, Стиль Пушкина, М. 1941, стр. 523
и след.
2 В. Г. Белинский, Поли. собр. соч., т. II, СПб. 1900, стр. 80.
3 «Пушкин в воспоминаниях современников», Гослитиздат, 1950,
стр. 108.
583
но многозначительной -сдвинутости коротких фраз, между
которыми предполагается «бездна пространства». Исто-
рический стиль в художественной системе Пушкина ста-
новится основой и конструктивным центром стиля худо-
жественного реализма. Семантическая емкость и много-
значительный лаконизм пушкинской повествовательной
речи предполагают применение лишь наиболее типиче-
ских и выразительных и в то же время не очень резких
и не очень далеких от современного понимания черт языка
изображаемой эпохи, изображаемого быта. И вместе с тем
этот быт с его вкусами, оценками, социальными противо-
речиями, с его специфическим культурным стилем, с его
речевыми «свычаями и обычаями» воспроизводился Пуш-
киным во всей его глубине и типической многослойное™.
В пушкинском стиле исторического повествования в
30-х годах устанавливаются новые формы отношений
между повествовательным стилем и стилями речей дейст-
вующих лиц.
Распределение исторических теней и красок между
речью автора и речью персонажей в композиции произ-
ведения имеет громадное значение для оценки языка
исторического романа. В стиле исторического романа
20—30-х годов определились две основные формы отно-
шений между речью автора и речью персонажей. Речь
автора независима от речи персонажей и от исторической,
«цитатной» расцветки речи персонажей. Это свободный
стиль авторской речи. Автор говорит своим собственным
языком и разрешает в нем такие стилистические задачи,
которые не связаны непосредственно с задачей воспро-
изведения исторических особенностей языка (ср. стиль
исторических повестей и романов Марлинского, отчасти
Загоскина, Лажечникова и др.). В исторических романах
таких писателей, как Ф. Булгарин, К. Масальский, Р. Зо-
тов и др., повествовательный стиль автора иногда сбли-
жался со стилем научно-популярного исторического
очерка. Противоположен имитирующий стиль авторской
речи. Он состоит в том, что в речь автора более или ме-
нее обильно вводятся языковые средства из числа слу-
жащих для прямого воспроизведения языка эпохи и
среды. Автор как бы сам становится персонажем своего
романа, сливается со своими героями и иногда говорит
их языком, а не своим собственным (ср. стиль истори-
ческих романов Вельтмана).
584
Между этими двумя крайними полюсами возможны
разные промежуточные формы отношений. К ним и стре-
милась романтическая поэтика исторического романа.
Своеобразие пушкинского решения этой проблемы со-
стояло в том, что стиль исторического повествования де-
лается у него многослойным или многопланным. В нем
сочетается несколько преломляющих призм. Пушкин раз-
рушает субъектную ограниченность повествовательного
(так же как и лирического) монолога, которая характери-
зовала стиль XVIII и начала XIX века. В._реалистическрм.
стиле пушкинского исторического романа «автор» как
мемуарист или рассказчик обычно сам является одним
из представителей изображаемой среды, и рисует ее в
свете его социально-речевого самоопределения, тем самым
сближаясь по стилю выражения с другими действующими
лицами. Происходит непрестанное, динамическое смеще-
ние границ между повествовательным стилем и речами
персонажей, так как повествователь — не только типи-
ческий представитель изображаемой эпохи, но в то же
время и современный автор-художник.
Повествователь у Пушкина — это не только много-
гранная призма отражения исторической действительно-
сти, но и форма ее внутреннего раскрытия и идейного
осмысления. Он так же многозначен и противоречив, как
она сама. Повествовательная речь впитывает в себя ре-
чевые стили персонажей, присущие им приемы выраже-
ния и осмысления жизненных событий. Прием несобст-
венно прямой речи расширяет экспрессивно-смысловую
перспективу повествования. Возникает внутренняя «дра-
матизация», встреча и смена разных голосов эпохи в речи
самого автора. Вместе с тем в ней выражается не только
образ рассказчика-современника изображаемых собы-
тий, но и личность автора — современника читателей.
От этого речь персонажей не унифицируется. Принцип
индивидуальной характерности стиля персонажа сохра-
няет всю свою силу. Так, по-словам Н. И. Черняева, «в
«Капитанской дочке» нет двух действующих лиц, кото-
рые говорили бы одинаковым языком: у каждого есть
свои оттенки, хотя Пушкин совсем не гонялся за этногра-
фической и иною безусловной точностью и вообще воз-
держивался от приемов прямолинейного реализма (так,
например, Рейнсдорп говорит у него ломаным русским
языком только в одной, первой сцене, в других сценах
читатель должен сам дополнять воображением акцент
генерала, но это ни мало не мешает цельности впечат-
ления, и каждая фраза Рейнсдорпа и своим духом, и
своим построением обличает в нем немца). Как хороши
диалоги героев «Капитанской дочки», так хороша и их
письменная речь... Язык грозного послания Гринева-отца
Савельичу; язык, которым написан ответ Савельича;
письмо Марьи Ивановны Петру Андреичу; официальные
бумаги Рейнсдорпа о появлении самозванца и об исчез-
новении Гринева из Оренбурга — все это прекрасно
обрисовывает и эпоху, и действующих лиц романа,
бравшихся за перо. Даже коротенькая записка Зурина
к обыгранному им Гриневу очень типична... В «Капитан-
ской дочке» мы имеем целый ряд великолепных образ-
цов разговорной и письменной речи прошлого столетия,
представляющих постепенные переходы от простонарод-
ного говора к литературному языку и к языку наиболее
образованных слоев общества» Г
Новые приемы и принципы структуры образа автора
исторического романа окончательно определяются в
творчестве Пушкина с самого конца 20-х годов или с на-
чала 30-х годов. Во всяком случае, в стиле «Арапа Петра
Великого» еще можно наблюдать индивидуальные свое-
образия пушкинского исторического стиля в их, так ска-
зать, объективной сущности, независимо от новых форм
структуры образа автора-историка. Здесь ярко обнару-
живаются характерные черты пушкинского повествова-
тельного стиля, еще не осложненного экспрессивно-харак-
теристическими приемами отражения и обнаружения об-
раза мемуариста — современного наблюдателя — здесь
еще нет полного разрыва с романтической поэтикой и
стилистикой исторического романа. Вот — типичные об-
разцы этого нового стиля, тяготеющего к реализму, но
еще не воплощающего основных черт и приемов пушкин-
ского реалистического метода:
«По свидетельству всех исторических записок, ничто
не могло сравниться с вольным легкомыслием, безумст-
вом и роскошью французов того времени. Последние годы
царствования Людовика XIV, ознаменованные строгой
1 Н. И. Черняев, «Капитанская дочка» Пушкина, М. 1897,
стр. 173—174; ср. Н. И. Фокин, Роман А. С. Пушкина «Капитан-
ская дочка», автореф., изд. ЛГУ, Л. 1955.
586
набожностию двора, важностию и приличием, не оставили
никаких следов. Герцог Орлеанский, соединяя многие
блестящие качества с пороками всякого рода, к несча-
стию, не имел и тени лицемерия. Оргии Пале-Рояля не
были тайною для Парижа; пример был заразителен. На
ту пору явился Law; алчность к деньгам соединилась с
жаждою наслаждений и рассеянности; имения исчезали;
нравственность гибла; французы смеялись и рассчиты-
вали, и государство распадалось под игривые припевы са-
тирических водевилей» Ч
Или:
«Ибрагим с любопытством смотрел на новорожден-
ную столицу, которая подымалась из болота по манию
самодержавия. Обнаженные плотины, каналы без набе-
режной, деревянные мосты повсюду являли недавнюю
победу человеческой воли над супротивлением стихий.
Дома казались наскоро построены. Во всем городе не
было ничего великолепного, кроме Невы, не украшенной
еще гранитною рамою, но уже покрытой военными и тор-
говыми судами».
Речь представителей старых традиций — родственни-
ков, домочадцев и приятелей Ржевского близка к просто-
речию — иногда несколько старообразному — и густо на-
сыщена отголосками фольклорного стиля. В этом отноше-
нии особенно выделяется стиль шутихи Екимовны, в не-
которых случаях напоминающий стили раешника или
интермедий (ср.: «поючи да пляшучи, женишков поджи-
даючи»; «по царскому наказу, по боярскому приказу, на
смех всему миру, по немецкому маниру» и т. п.).
Ср. в речи бывшего рязанского воеводы Кирилы Петро-
вича: «По мне жена как хочешь одевайся: хоть кутафьей,
хоть болдыханом»; в речи Гаврила Афанасьевича Ржев-
ского: «Сказал бы словечко, да волк недалечко» и др. под.
Любопытно выражение повествовательного стиля — в
применении к Марье Ильиничне: «Язык у нее так и
свербел».
Само собою разумеется, что в речах персонажей есть
некоторые элементы, правда очень скромные, историче-
ской стилизации: «Не приказал ли тебе царь ведать ка-
1 А. С. Пушкин, Арап Петра Великого, Поли. собр. соч., изд.
АН СССР, 1957, т. VI, стр. 10. Далее цитируется по тому же изда-
нию (стр. 10—52)\
587
кое-либо воеводство? — сказал тесть.— Давно пора. Али
предложил быть в посольстве? что же? ведь и знатных
людей, не одних дьяков посылают к чужим государям.
—' Нет,— отвечал зять, нахмурясь.— Я человек ста-
рого покроя, нынче служба наша не нужна, хоть, может
быть, православный русский дворянин стоит нынешних
новичков, блинников да басурманов,— но это статья осо-
бая» Ч
В «Арапе Петра Великого» находит широкое приме-
нение принцип индивидуализации и социально-бытовой
характерности речи отдельных персонажей. Однако этот
принцип мало касается речи Петра и совсем не прости-
рается на речь Ибрагима. Речь Петра не соотносится с
его документально-историческим стилем.
С несобственно прямой речью нельзя смешивать об-
щих отражений в повествовательном стиле характерных
слов и выражений изображаемой эпохи. Например, «Отец
ее (Наташи.— В. В.), несмотря на отвращение свое от
всего заморского, не мог противиться ее желанию учиться
пляскам немецким у пленного шведского офицера».
«Россия представлялась Ибрагиму огромной масте-
ровою, где движутся одни машины, где каждый работ-
ник, подчиненный заведенному порядку, занят своим
делом». Интересно в этом отношении иронически-мета-
форическое употребление морского термина «салюто-
вать»— в применении к Петру и английскому шкиперу,
которые за шашками «усердно салютовали друг друга
залпами табачного дыма».
В речи Ибрагима ясно дают себя знать примеры,
приемы и отголоски романтического стиля. Вот — харак-
терный пример — выражение «глубоких размышлений»
Ибрагима.
«Жениться! — думал африканец,— зачем же нет?
ужели суждено мне провести жизнь в одиночестве и не
знать лучших наслаждений и священнейших обязанно-
стей человека потому только, что я родился под пятна-
дцатым градусом? Мне нельзя надеяться быть любимым:
детское возражение! разве можно верить любви? разве
существует она в женском, легкомысленном сердце? От-
1 См. комментарии к этому диалогу в статье Б. Л. Богород-
ского «О языке и стиле романа А. С. Пушкина „Арап Петра Вели-
когсА>, «Ученые записки Ленинградского гос. пед. ин-та им.
А. И. Герцена», т. 122, 1956, Кафедра русского языка.
588
казавшись навек от милых заблуждений, я выбрал иные
обольщения — более существенные».
Таким образом, в стиле «Арапа Петра Великого», не-
смотря на наличие многих из тех приемов словесно-
художественного выражения и изображения, которые
войдут позднее в структуру реалистического стиля пуш-
кинского исторического романа, еще слишком свежи
принципы романтической стилистики.
Повествовательный стиль, оторванный от разговор-
ной речи большинства действующих лиц повести, окра-
шен субъективно-авторской экспрессией. В эту же
экспрессивную атмосферу как своеобразные коммента-
рии к изложению событий вмещены и авторские афо-
ризмы. Например, «Сладостное внимание женщин, почти
единственная цель наших усилий, не только не радовало
его сердца, но даже исполняло горечью и негодованием».
«Мысль, что природа не создала его для взаимной
страсти, избавила его от самонадеянности и притязаний
самолюбия, что придавало редкую прелесть обращению
его с женщинами».
«Графиня, прежде чем он сам, угадала его чувства.
Что ни говори, а любовь без надежд и требований тро-
гает сердце женское вернее всех расчетов обольщения».
«Мервиль первый заметил эту взаимную склонность
и поздравил Ибрагима. Ничто так не воспламеняет любви,
как одобрительное замечание постороннего. Любовь слепа
и, не доверяя самой себе, торопливо хватается за всякую
опору».
«Ибрагим проводил дни однобразные, но деятельные —
следственно, не знал скуки. Он день от дня более при-
вязывался к государю, лучше постигал его высокую душу.
Следовать за мыслями великого человека есть наука са-
мая занимательная».
Очень заметны формы романтической фразеологии,
романтической риторики: «Каждый стон ее раздирал его
душу; каждый промежуток молчания обливал его ужа-
сом... вдруг он услышал слабый крик ребенка».
«...он содрогался; ревность начинала бурлить в афри-
канской его крови, и горячие слезы готовы были течь по
его черному лицу».
Вместе с тем при авторской передаче мыслей и чувств
персонажей их «внутренняя речь» нивелируется и вдви-
гается в общее движение повествовательного стиля, не
589
сохраняя открыто выраженной экспрессии стиля соответ-
ствующего действующего лица.
«Он (Ибрагим.— В. В.) чувствовал, что он для них
род какого-то редкого зверя, творенья особенного, чужого,
случайно перенесенного в мир, не имеющий с ним ничего
общего. Он даже завидовал людям, никем не замечен-
ным, и почитал их ничтожество благополучием».
Ср. близкие образы в романтическом стиле письма
Ибрагима к Леоноре. «Зачем силиться соединить судьбу
столь нежного, столь прекрасного создания с бедствен-
ной судьбою негра, жалкого творения, едва удостоенного
названия человека?»
«Он увидел, что новый образ жизни, ожидающий его,
деятельность и постоянные занятия могут оживить его
душу, утомленную страстями, праздностию и тайным
унынием. Мысль быть сподвижником великого человека
и совокупно с ним действовать на судьбу великого народа
возбудила в нем в первый раз благородное чувство често-
любия».
Даже при непосредственном изображении мыслей и
переживаний героя перечисляются лишь как бы основ-
ные вехи, ио которым движется его сознание.
«Труднее было ему удалить от себя другое, милое вос-
поминание: часто думал он о графине Д., воображал ее
справедливое негодование, слезы и уныние... но иногда
мысль ужасная стесняла его грудь: рассеяние большого
света, новая связь, другой счастливец — он содрогался:
ревность начинала бурлить в африканской его крови, и
горячие слезы готовы были течь по его черному лицу».
«Какие чувства наполнили душу Ибрагима? ревность?
бешенство? отчаяние? нет; но глубокое, стесненное уны-
ние. Он повторял себе: это я предвидел, это должно было
случиться».
«Она с усилием приподняла голову и вдруг узнала
царского арапа. Тут она вспомнила все, весь ужас буду-
щего представился ей. Но изнуренная природа не полу-
чила приметного потрясения. Наташа снова опустила го-
лову на подушку и закрыла глаза... сердце в ней билось
болезненно».
В «Истории села Горюхина» выступают черты нового
повествовательно-исторического стиля. В нем находят
рельефное отражение и образ Белкина, и образы соста-
вителей погодных записей, прежде всего прадеда Андрея
590
Степановича Белкина, и образ горюхинского дьячка,
автора летописи, «отличающейся глубокомыслием и ве-
леречием необыкновенным», и отголоски изустных преда-
ний, и формулы приказной речи, и следы других источ-
ников, а на всей этой сложной повествовательной системе
лежит яркий сатирический и иронический отпечаток «об-
раза автора».
В стиле «Капитанской дочки» достигает наибольшей
глубины индивидуализация речей действующих лиц,
конкретизирующая и разнообразно оттеняющая типиче-
ские свойства разных социально-речевых стилей. Иссле-
дователи творчества Пушкина уже указывали на то, что
у каждого из персонажей «Капитанской дочки» свой стиль
речи, соответствующий духу и образу мыслей эпохи.
Кроме того, Пушкиным мастерски используются и свое-
образия письменных стилей изображаемого времени и
жаргонно-иносказательный способ выражения, и даже
поэтические вкусы, стилевые формы как народно-словес-
ного искусства, так и дворянской художественной лите-
ратуры сумароковской школы. Эпиграфы своеобразно
освещают историческое правдоподобие изложения. Вме-
сте с тем изменяются и углубляются принципы и приемы
отбора слов и выражений в соответствии с духом и сти-
лем воспроизводимой эпохи. Индивидуально-характери-
стические приметы стиля отдельных действующих лиц
своим повторением обостряют впечатление своеобразия,
типичности и историчности их речи.
Например, в речи Савельича, кроме постоянных упоми-
наний о дитяти («Как покажусь я на глаза господам? что
скажут они, как узнают, что дитя пьет и играет»1; «Ты ви-
дишь, что дитя еще не смыслит, а ты и рад его обобрать,
простоты его ради»; «Господи владыко! ничего кушать не
изволит! Что скажет барыня, коли дитя занеможет?»;
«Жениться! — повторил он.— Дитя хочет жениться!»),
забавен рефрен, относящийся к «проклятому мусье»:
«Слава богу,— ворчал он про себя,— кажется, дитя
умыт, причесан, накормлен. Куда как нужно тратить
лишние деньги и нанимать мусье, как будто и своих лю-
дей не стало!»
1 А. С. Пушкин, Капитанская дочка, Поли. собр. соч., т. VI,
изд. АН СССР, 1957, стр. 405. Далее цитируется по тому же изда-
нию (стр. 394—541).
591
«А кто всему виноват? проклятый мусье. То и дело,
бывало к Антипьевне забежит: «Мадам, же ву при, вод-
ки». Вот тебе и же ву при! Нечего сказать: добру наста-
вил, собачий сын. И нужно было нанимать в дядьки ба-
сурмана, как будто у барина не стало и своих людей!»
«Нет, батюшка Петр Андреич! не я, проклятый мусье
всему виноват: он научил тебя тыкаться железными вер-
телами да притопывать, как будто тыканием да топа-
нием убережешься от злого человека! Нужно было на-
нимать мусье да тратить лишние деньги!»
Для стиля Ивана Кузьмича Миронова характерен за-
чин: «А (да) слышь ты»...
«А слышь ты, Василиса Егоровна,— отвечал Иван
Кузьмич,— я был занят службой: солдатушек учил».
«Да, слышь ты,— сказал Иван Кузьмич,— баба-то
не робкого десятка».
«А слышь ты, Василиса Егоровна правду говорит.
Поединки формально запрещены в воинском артикуле».
«Принять надлежащие меры! — сказал комендант,
снимая очки и складывая бумагу.— Слышь ты, легко ска-
зать. Злодей-то видно силен».
«А слышь ты, матушка, бабы наши вздумали печи то-
пить соломою».
«Слышь ты, Василиса Егоровна,— сказал он ей по-
кашливая.— Отец Герасим получил, говорят, из горо-
да...» — «Полно врать, Иван Кузьмич,— перервала ко-
мендантша»...
«А слышь ты, матушка, и в самом деле, не отправить
ли вас подале, пока не управимся мы с бунтовщиками».
Ср.: «Ты мне не государь, ты вор и самозванец,
слышь ты!»
Можно было бы продемонстрировать и другие харак-
теристические признаки индивидуальных стилей таких,
например, персонажей, как Василиса Егоровна, Иван
Игнатьич, Пугачев1, генерал Андрей Карлович и др.
Вместе с тем в диалогах «Капитанской дочки», быть
может отчасти в творческое развитие и реалистическую
переработку традиции, шедшей от комедий Фонвизина, а
еще далее от интермедий конца XVII и начала XVIII ве-
1 Ср., например, дважды употребленное Пугачевым поговороч-
ное выражение: «Казнить так казнить, миловать так миловать» —
«Казнить так казнить, жаловать так жаловать».
592
ка, осуществляются остро-характеристические противо-
поставления и сопоставления разных социально-речевых
стилей, подчеркивающие их специфику.
Например, в разговоре генерала Рейнсдорпа, в речи
которого «сильно отзывался немецкий выговор», с моло-
дым Гриневым. «Он распечатал письмо и стал читать его
вполголоса, делая свои замечания. «Милостивый госу-
дарь Андрей Карлович, надеюсь, что ваше превосходи-
тельство»... Это что за серемонии? Фуй, как ему не со-
фестно! Конечно: дисциплина перво дело, но так ли пи-
шут к старому камрад?., «ваше превосходительство не
забыло»... гм... «и... когда... покойным фельдмаршалом
Мин... походе... также и... Карол инку»... Эхе, брудер! так
он еще помнит стары наш проказ? «Теперь о деле...
К вам моего повесу»... гм... «держать в ежевых рукави-
цах»... Что такое ешовы рукавиц? Это должно быть рус-
ска поговорк... Что такое «дершать в ешовых рукави-
цах?» — повторил он, обращаясь ко мне.
— Это значит,— отвечал я ему с видом как можно
более невинным,— обходиться ласково, не слишком
строго, давать побольше воли, держать в ежовых рука-
вицах.
— Гм, понимаю... «и не давать ему воли»... нет,
видно ешовы рукавицы значит не то...»
В разговоре между Гриневым, Иваном Игнатьичем и
капитаншей Мироновой:
«А смею спросить,— продолжал он,— зачем изволили
вы перейти из гвардии в гарнизон?» — Я отвечал, что та-
кова была воля начальства. «Чаятельно, за неприлич-
ные гвардии офицеру поступки»,— продолжал неутоми-
мый вопрошатель.— «Полно врать пустяки,—сказала
ему капитанша,— ты видишь, молодой человек с дороги
устал; ему не до тебя... (держи-ка руки прямее...) А ты,
мой батюшка,— продолжала она, обращаясь ко мне,— не
печалься, что тебя упекли в наше захолустье. Не ты пер-
вый, не ты последний».
Еще острее социально-речевые различия стилей об-
нажаются в сопоставлениях и противопоставлениях пред-
метно-однозначных, но экспрессивно-разнотипных выра-
жений — в разговоре Швабрина с Василисой Егоровной:
«— Василиса Егоровна прехрабрая дама,—заметил
важно Швабрин.— Иван Кузьмич может это засвиде-
тельствовать.
20 в. В. Виноградов
593
— Да, слышь ты,— сказал Иван Кузьмич; — баба-тб
не робкого десятка».
Не менее тонко и характерно показаны экспрессивные
словесные и фразеологические расхождения между со-
циальными стилями речи в разговоре Ивана Игнатьича
и Гринева о поединке.
«Я в коротких словах объяснил ему, что я поссорился
с Алексеем Иванычем, а его, Ивана Игнатьича, прошу
быть моим секундантом. Иван Игнатьич выслушал меня
со вниманием, вытараща на меня свой единственный
глаз. «Вы изволите говорить,— сказал он мне,— что хо-
тите Алексея Иваныча заколоть и желаете, чтоб я при
том был свидетелем? Так ли? смею спросить».
— Точно так.
— Помилуйте, Петр Андреич! Что это вы затеяли! Вы
с Алексеем Иванычем побранились? Велика беда! Брань
на вороту не виснет. Он вас побранил, а вы его выру-
гайте; он вас в рыло, а вы его в ухо, в другое, в третье —
и разойдитесь; а мы вас уж помирим. А то: доброе ли
дело заколоть своего ближнего, смею спросить? И добро
б уж закололи вы его: бог с ним, с Алексеем Иванычем; я
и сам до него не охотник. Ну, а если он вас просверлит?»
Ср. относящиеся к фехтованию и поединку на рапирах
и саблях выражения Савельича: «тыкаться железными
вертелами да притопывать».
Ср. также изображение поединка, дуэли в речи Ва-
силисы Егоровны: «Он, изволишь видеть, поехал за город
с одним поручиком, да взяли с собою шпаги, да и ну друг
в друга пырять; а Алексей Иваныч и заколол поручика,
да еще при двух свидетелях!»
Ср. также соотношение имен — Фридерик и Федор Фе-
дорович в разговоре Гринева с Пугачевым: «...Как ты ду-
маешь: прусский король мог ли бы со мною потягаться?»
Хвастливость разбойника показалась мне забавна.
— Сам как ты думаешь? — сказал я ему,— управился
ли бы ты с Фридериком?
— С Федор Федоровичем? А как же нет?»
Необходимо признать также, что хронологическая
близость пугачевщины к пушкинской эпохе, богатство
мемуарно-исторической литературы и устных преданий о
пугачевском движении, преемственная связь современ-
ных великому поэту социально-речевых стилей с соответ-
ствующими стилями второй половины XVIII века — все
594
это способствовало усилению «историзма» в строе диало-
гической речи «Капитанской дочки».
В высшей степени показательно для понимания пуш-
кинского взгляда на различия между стилем истории и
стилем мемуаров такое заявление: «Не стану описывать
оренбургскую осаду, которая принадлежит истории, а не
семейственным запискам». Следовательно, в стиле ме-
муарно-художественного изображения Пушкин не допу-
скает пространных исторических экскурсов описательного
характера, относящихся к известным фактам истории.
Ср. также ироническое повествование об Анне
Власьевне — жене смотрителя в Царском селе. «Она
рассказала, в котором часу государыня обыкновенно
просыпалась, кушала кофей, прогуливалась; какие вель-
можи находились в то время при ней; что изволила она
вчерашний день говорить у себя за столом, кого принима-
ла вечером,— словом, разговор Анны Власьевны стоил
нескольких страниц исторических записок и был бы дра-
гоценен для потомства».
Несомненно, что основным средством реалистическо-
го преобразования всей стилистической системы истори-
ческого романа в творчестве Пушкина были новые прин-
ципы структуры «образа автора», «образа повествова-
теля» и новые формы взаимоотношений между стилем
повествования и стилями речей действующих лиц. Эти
два круга стилистических явлений -соотносительны
и взаимосвязаны. Повествователь-мемуарист является
участником и современником воспроизводимых событий.
Он вместе с тем носитель стиля эпохи — и притом литера-
турно-обобщенного. Ведь он пишет свои записки не толь-
ко для себя, но и для читателя. Вот несколько примеров:
«Мне приснился сон, которого никогда не мог я по-
забыть и в котором до сих пор вижу нечто пророческое,
когда соображаю с ним странные обстоятельства моей
жизни. Читатель извинит меня: ибо вероятно знает по
опыту, как сродно человеку предаваться суеверию, не-
смотря на всевозможное презрение к предрассудкам».
«Молодой человек! если записки мои попадутся в
твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие измене-
ния суть те, которые происходят от улучшения нравов,
без всяких насильственных потрясений».
...«отправился в комендантский дом, заранее вообра-
жая себе свидание с Пугачевым и стараясь предугадать,
20* 595
чем оно кончится. Читатель легко может себе предста-
вить, что я не был совершенно хладнокровен».
«Читатель легко себе представит, что я не преминул
явиться на совет, долженствовавший иметь такое вли-
яние на судьбу мою».
Ср. также: «Я потупил голову; отчаяние мною овла-
дело. Вдруг мысль мелькнула в голове моей: в чем оная
состояла, читатель увидит из следующей главы, как го-
ворят старинные романисты».
Восприятие и оценка повествовательного стиля, его
сложной структуры углубляется тем обстоятельством,
что Петр Андреич Гринев сам рекомендует себя как «со-
чинителя» и даже стихотворца. «У Швабрина было не-
сколько французских книг. Я стал читать, и во мне про-
будилась охота к литературе. По утрам я читал, упраж-
нялся в переводах, а иногда и в сочинении стихов».
Далее мемуарист причисляет себя к писателям су-
мароковской школы. Все это, окутанное легкой иронией
издателя, иллюстрируется песенкой: «Мысль любовну
истребляя».
Ср. сравнение в повествовательном стиле «Капитан-
ской дочки»: «Сердце мое заныло, когда очутились мы в
давно знакомой комнате, где на стене висел еще диплом
покойного коменданта, как печальная эпитафия прошед-
шему времени».
Литературно-художественными интересами Гринева
мотивируется его страсть к наблюдению как страшных,
так и комических происшествий, аналитическая точность
восприятия и воспроизведения их, артистическое к ним
отношение. Все это содействует лаконической динамич-
ности, точности и драматической объективности изобра-
жения, устраняя эмоционально-субъективные черты вы-
ражения, типичные для романтического стиля.
Например, после помилования Гринева: «Меня под-
няли и оставили на свободе. Я стал смотреть на про-
должение ужасной комедии». Ср. далее о присяге: «Все
это продолжалось около трех часов».
«Невозможно рассказать, какое действие произвела
на меня эта простонародная песня про виселицу, распе-
ваемая людьми, обреченными виселице. Их грозные
лица, стройные голоса, унылое выражение, которое при-
давали они словам и без того выразительным,— все по-
трясало меня каким-то пиитическим ужасом».
596
«Несмотря на чувства, исключительно меня волно-
вавшие, общество, в котором я так нечаянно очутился,
сильно развлекало мое воображение. Но Пугачев привел
меня в себя своим вопросом...» Внутренние изменения и
широкие видоизменения повествовательно-исторического
стиля в «Капитанской дочке» мотивировались и тем, что
самое повествование Гринева отражало два разных исто-
рических периода, которые иногда и сопоставлялись.
С одной стороны, происшествия, люди, речи и докумен-
ты времени пугачевского восстания воспроизводились в
их «исторической истине», в формах языка и стиля того
времени. А с другой стороны, Гринев как мемуарист из-
лагает события семидесятых годов XVIII века уже спу-
стя несколько десятилетий «в кроткое царствование им-
ператора Александра». Таким образом, стиль его изло-
жения, пусть и в разной мере, характеризует две эпохи
и тем самым до некоторой степени сближается с язы-
ком современности. Например, «Пытка в старину так была
укоренена в обычаях судопроизводства, что благоде-
тельный указ, уничтоживший оную, долго оставался безо
всякого действия... Даже и ныне случается мне слышать
старых судей, жалеющих об уничтожении варварского
обычая. В наше же время никто не сомневался в необхо-
димости пытки, ни судьи, ни подсудимые».
Ср. также: «Когда вспомню, что это случилось на
моем веку и что ныне дожил я до кроткого царствова-
ния императора Александра, не могу не дивиться быст-
рым успехам просвещения и распространению правил
человеколюбия».
Ср.: «Пугачев мрачно ждал моего ответа. Наконец (и
еще ныне с самодовольствием поминаю эту минуту)
чувство долга восторжествовало во мне над слабостию
человеческою».
Необходимо помнить также, что издателю «семейные
записки» Гринева были доставлены его внуком. Следо-
вательно, стиль этих записок, нося налет старомодности,
а иногда и отпечаток несколько архаического способа
изложения, в то же время связан с речевыми формами
пушкинской современности как стиль старшего или
«стариковского поколения» дворян екатерининского вре-
мени.
Язык повествователя приобретает экспрессивную мно-
гоплановость и стилистическую сложность или много-
597
слойность, однако без нарушения внутреннего единства
его системы и «образа автора»: это единство формирует-
ся семантическим колоритом изложения и изображения
и вместе с тем отсутствием анахронизмов, соответстви-
ем повествовательно-исторического стиля мемуариста
духу воспроизводимой эпохи. Специфические качества
речи мемуариста — современника изображаемых собы-
тий— время от времени дают себя знать в общем стиле
повествования, опирающемся на систему русского лите-
ратурного языка и его стилей в 30-е годы XIX века.
Вот несколько иллюстраций:
«А^атушка была еще мною брюхата, как уже я был
записан в Семеновский полк сержантом, по милости май-
ора гвардии князя Б., близкого нашего родственника.
Если бы паче всякого чаяния матушка родила дочь, то
батюшка объявил бы куда следовало о смерти появив-
шегося сержанта, и дело тем бы и кончилось». Ср.:
во внутренней речи Гринева, в «думах про себя»:
«К чему послужило мне то, что еще в утробе матери я
был уже гвардии сержантом! Куда это меня завело?
В *** полк и в глухую крепость на границу киргиз-кай-
сацких степей!..»
«Опыты мои, для тогдашнего времени, были изрядны,
и Александр Петрович Сумароков, несколько лет после,
очень их похвалял».
«Раздав сии повеления, Иван Кузьмич нас распу-
стил».
Отбор слов — несколько архаических, официально-
деловых — подчеркивает и обостряет восприятие стиля
эпохи: «...по препоручению комендантши он нанизывал
грибы для сушенья на зиму».
«Их поминутные возмущения, непривычка к законам и
гражданской жизни, легкомыслие и жестокость требова-
ли со стороны правительства непрестанного надзора для
удержания их в повиновении».
«Схвачен чбыл башкирец с возмутительными ли-
стами».
«Разбойник объявлял о своем намерении немедлен-
но идти на нашу крепость; приглашал казаков и солдат
в свою шайку, а командиров увещевал не супротивлять-
ся, угрожая казнию в противном случае».
«Солдаты громко изъявили усердие».
«...по торопливой услужливости брадатого казака»,
598
«я прибегнул к утешению всех скорбящих и, впер-
вые вкусив сладость молитвы, излиянной из чистого, но
растерзанного сердца, спокойно заснул...»
«...между гнусными изветами злодеев».
В повествовательный стиль «Капитанской дочки» не-
заметно вплетаются голоса персонажей. Эта «несобст-
венно чужая» речь придает повествованию экспрессив-
ное многообразие и — вместе с тем — яркий колорит
эпохи. Отзвуки социально-речевого стиля персонажа, зву-
чащие в повествовательной речи, иногда находят общее
соответствие по своей экспрессивной окраске, по своему
строю в прямых высказываниях другого действующего
лица сходного социального положения. Например: «От
песенок разговор обратился к стихотворцам, и комен-
дант заметил, что все они люди беспутные и горькие
пьяницы, и дружески советовал мне оставить стихотвор-
ство, как дело службе противное и ни к чему доброму не
доводящее».
Ср. в речи Ивана Игнатьича: «В фортеции умышляет-
ся злодействие, противное казенному интересу».
При изображении первой встречи Гринева с Зуриным
повествовательный стиль вбирает в себя характерные
любимые выражения и афоризмы этого гусара.
«Зурин пригласил меня отобедать с ним вместе чем
бог послал, по-солдатски».
«Зурин... предложил .мне играть в деньги, по одному
грошу, не для выигрыша, а так, чтоб только не играть
даром, что, по его словам, самая скверная привычка».
«...Зурин велел подать пуншу и уговорил меня попро-
бовать, повторяя, что к службе надобно мне привыкать;
а без пуншу что и служба!»
«Зурин поминутно мне подливал, повторяя, что на-
добно к службе привыкать».
Ср.: «Савельич встретил нас на крыльце. Он ахнул,
увидя несомненные признаки моего усердия к службе».
Там, где повествование сосредоточивается на отноше-
нии к изображаемым событиям со стороны Василисы
Егоровны, элементы ее стиля, ее речевой экспрессии
включаются в стиль рассказа мемуариста.
«Василиса Егоровна не могла заснуть и никак не мо-
гла догадаться, что бы такое было в голове ее мужа, о
чем бы ей нельзя было знать».
«Василиса Егоровна сдержала свое обещание и нико-
599
му не сказала ни одного слова, кроме как попадье, и то
потому только, что корова ее ходила еще в степи и мог-
ла быть захвачена злодеями».
За повествователем стоит «издатель» повести, кото-
рый, согласно послесловию, решился, «с разрешения род-
ственников, издать ее особо, приискав к каждой главе
приличный эпиграф и дозволив себе переменить некото-
рые собственные имена». Художественно обобщающая
и вместе с тем исторически предопределяющая функция
эпиграфов в композиции «Капитанской дочки» извест-
на. Она была предметом многочисленных исследований.
Но внутренняя, структурная роль «издателя-редактора»,
конечно, не ограничивается лишь подбором эпиграфов
и сменой имен. Она мотивирует вместе с тем оригиналь-
ность и выразительность новых форм повествования и
изображения, как бы непосредственно выхваченных из
исторически достоверных «семейных записок», но дове-
денных до высоты современного издателю литературно-
го искусства.
Так, необыкновенно интересен для характеристики
новых реалистических принципов изображения персона-
жей такой эпизод. После пирушки освобожденный от ви-
селицы Гринев остается «глаз на глаз» с Пугачевым.
«Несколько минут продолжалось обоюдное наше мол-
чание. Пугачев смотрел на меня пристально, изредка
прищуривая левый глаз с удивительным выражением
плутовства и насмешливости. Наконец он засмеялся, и
с такою непритворной веселостью, что и я, глядя на не-
го, стал смеяться, сам не зная чему».
Таким образом, в повествовательном стиле «Капи-
танской дочки» происходит сложное взаимодействие об-
раза мемуариста Гринева и автора-художника. И в той
мере, в какой образ повествователя входил в круг дейст-
вующих лиц романа, его стиль воплощал специфические
черты образа мыслей и языка изображаемой эпохи. Та-
ким образом, в стиле исторического романа Пушкин со-
здает совершенно новые формы отношений между речью
автора и речью действующих лиц, а также новые прин-
ципы построения повествовательно-исторического стиля.
В творчестве Пушкина стиль исторического воспроизве-
дения постепенно образует ядро начавшей формировать-
ся со второй половины 20-х годов системы пушкинского
художественного реализма.
600
14
Своеобразные приемы синтеза народно-поэтической
романтики и реалистических приемов исторического
изображения, отчасти порожденных влиянием пушкин-
ского стиля, были разработаны Гоголем. В рецензии на
исторический роман «Основание Москвы, или Смерть бо-
ярина Степана Ивановича Кучки» Сочинение И... К...ва
(СПб. 1836) Гоголь так характеризовал стиль основной
массы русских исторических романов 30-х годов: «Автор
обыкновенно заставляет говорить своих героев слогом
русских мужичков и купцов, потому что у нас в продол-
жение десяти последних лет со времени появления рома-
нов в русском кафтане возникла мысль, что наши исто-
рические лица и вообще все герои прошедшего должны
непременно говорить языком нынешнего простого наро-
да и отпускать как можно больше пословиц. В послед-
ние года два или три новая французская школа, выра-
зившаяся у нас во многих переводных отрывках и мело-
драмах на театре, проявила заметное свое влияние даже
и на них. От этого произошло чрезвычайно много самых
странных явлений в наших романах. Иногда русский му-
жичок отпустит такую театральную штуку, что и римля-
нин не сделает... Какой-нибудь Василий, Улита или Сте-
пан Иванович Кучка после какой-нибудь русской за-
машки, отпустивши народную поговорку, зарычит вдруг
„смерть и ад!11»1.
Таким образом, Гоголь здесь разоблачает шаткость
национально-исторических основ в широко распростра-
нившейся стандартной стилевой структуре русского
исторического романа 30-х годов, обусловленную подра-
жанием иностранным образцам. Кроме того, установив-
шиеся однообразные шаблоны воспроизведения речей
«всех героев прошедшего» на базе бытового просторе-
чия и его стилей с примесью русских пословиц сближа-
ли действующих лиц исторического романа с современ-
ными «мужичками и купцами» тоже в их стандартном
литературном представлении.
В незаконченном романе Гоголя «Гетьман» картины,
близкие по приемам изображения действительности к ре-
1 Н. В Гоголь, Поли. собр. соч., т. VIII, изд. АН СССР
1952, стр. 202.
601
алистическим, чередуются с мелодраматическими сцена-
ми, насыщенными фантастикой.
В гоголевской повести-эпопее, повести-думе — «Та-
расе Бульбе» объединились разные и притом далекие,
даже как будто противоречивые экспрессивные средст-
ва и художественные стили: беззаботный юмор и высо-
кий гражданский пафос, народно-песенный лиризм и
торжественно-эпический стиль, новые качества реали-
стического изображения и многообразные элементы ро-
мантизма.
Стиль «Тараса Бульбы» уже в редакции «Миргоро-
да» очень сложен по своему составу. Эта сложность
особенно сильно дает себя знать в структуре повествова-
тельной речи автора. Повествование, с одной стороны,
насыщено обозначениями и простыми выражениями бы-
товой разговорной речи, иногда с налетом украинизмов.
Например: «Сыновья его только что слезли .с коней. Это
были два дюжие молодца, еще смотревшие исподлоба,
как недавно выпущенные семинаристы. Крепкие, здоро-
вые лица их были покрыты первым пухом волос, которо-
го еще не касалась бритва»1. «Бульба повел сыновей
своих в светлицу, из которой пугливо выбежали две здо-
ровые девки в красных монистах, увидевши приехавших
паничей, которые не любили спускать никому».
«Молодой бурсак вскипел: с безумною смелостью
схватил он мощною рукою своею за заднее колесо и
остановил колымагу. Но кучер, опасаясь разделки, уда-
рил по лошадям, они рванули — и Андрий, к счастию,
успевший отхватить руку, шлепнулся на землю, прямо
лицом в грязь».
«Они слышали своим ухом весь бесчисленный мир
насекомых, наполнявших траву, весь их треск, свист,
краканье...»
«Им опять перегородила дорогу целая толпа музы-
кантов, в средине которых отплясывал молодой запоро-
жец, заломивши чертом свою шапку и вскинувши ру-
ками».
«...вся толпа отдирала танец...»
Таким образом, там, где повествование направлено
в сторону быта, в сторону непосредственной передачи
1 Н. В. Гоголь, Поли. собр. соч., т. II, изд. АН СССР, 1937,
стр. 279. Далее цитируется по тому же изданию (стр. 279—354).
602
окружающей обстановки и протекающих событий и дей-
ствий, стиль «Тараса Бульбы» конкретен, то полон жи-
вых обозначений предметов, нередко с гиперболической
их характеристикой, то превращается в динамический
очерк сменяющихся действий с лирико-поэтическими их
определениями.
Например: «Бурсаки вдруг преобразились: на них
явились, вместо прежних запачканных сапогов, сафьян-
ные красные, с серебряными подковами, шаровары, ши-
риною в Черное море, с тысячью складок и со сборами,
перетянулись золотым очкуром. К очкуру прицеплены
были длинные ремешки с кистями и прочими побря-
кушками для трубки. Казакин алого цвета, сукна яркого,
как огонь, опоясался узорчатым поясом; чеканные ту-
рецкие пистолеты были задвинуты за пояс; сабля бряка-
ла по ногам их».
«Около молодого запорожца четыре старых выраба-
тывали довольно мелко своими ногами, вскидывались,
как вихорь, на сторону, почти на голову музыкантам, и
вдруг, опустившись, неслися вприсядку и били круто и
крепко своими серебряными подковами тесно убитую
землю».
Ср.: «Тут все состояло из сильных резкостей: трубы,
тряпки, шелуха, выброшенные разбитые чаны. Всякий,
что было только у него негодного, швырял на улицу, до-
ставляя прохожим возможные удобства питать все чув-
ства свои этою дрянью. Сидящий на коне всадникчуть-
чуть не доставал рукою жердей, протянутых через ули-
цу из одного дома в другой, на которых висели жидов-
ские чулки, коротенькие панталонцы и копченый гусь».
«Мардохай размахивал руками, слушал, перебивал
речь, часто плевал на сторону и, подымая фалды полу-
кафтанья, засовывал в карман руку и вынимал какие-то
побрякушки, причем показывал прескверные свои пан-
талоны».
Местами, там, где это вызывалось художественными
замыслами автора, повествовательный стиль принимает
широкое лирическое течение, сближаясь с стихотворным
языком. Он подвергается размеренной ритмической
организации с чередующимися повторами. В него глубо-
ко проникают поэтические образы и особенно образы на-
родного словесно-художественного творчества. В отдель-
ных случаях ритмический строй этой взволнованной
603
повествовательной речи вбирает в себя несобственно
прямую, «внутреннюю речь» персонажа.
Например: «Молодость без наслаждения мелькнула
перед нею, и ее прекрасные свежие щеки и перси без лоб-
заний отцвели и покрылись преждевременными морщи-
нами. Вся любовь, все чувства, всё, что есть нежного и
страстного в женщине, всё обратилось у ней в одно ма-
теринское чувство. Она с жаром, с страстью, с слезами,
как степная чайка, вилась над детьми своими. Ее сыно-
вей, ее милых сыновей берут от нее, берут для того, что-
бы не увидеть их никогда. Кто знает, может быть, при
первой битве, татарин срубит им головы, и она не будет
знать, где лежат брошенные тела их, которые расклюет
хищная подорожная птица и за каждый кусочек кото-
рых, за каждую каплю крови она отдала бы все».
«Как хлебный колос, подрезанный серпом, как моло-
дой барашек, почувствовавший смертельное железо, по-
вис он головою и повалился на траву, не сказавши ни
одного слова».
В повествовательном стиле, в основном, сосредоточе-
ны все те средства, с помощью которых воссоздается дух
или колорит эпохи. Здесь наблюдаются частые ссылки
на своеобразия «тогдашнего», то есть изображаемого,
века. Прием сопоставления с современностью, с совре-
менным бытом способствует тому, что описание прошло-
го осуществляется посредством системы современного
литературного языка. Но самое подчеркиванье этого со-
поставления обязывает к широкому воспроизведению и
комментированию предметно-бытовой и социально-поли-
тической обстановки воспроизводимой эпохи в ее соот-
ношении с современностью. Отсюда два новых пласта в
структуре повествовательного стиля — формы историче-
ского описания и исторического рассуждения. Например:
«Все в светлице было убрано во вкусе того времени;
а время это касалось XVI века, когда еще только что
начинала рождаться мысль об унии. Все было чисто,
вымазано глиною. Вся стена была убрана саблями и
ружьями. Окна в светлице были маленькие, с круглыми
матовыми стеклами, какие встречаются ныне только
в старинных церквях».
«Бульба был упрям страшно. Это был один из тех
характеров, которые могли только возникнуть в грубый
XV век, и притом на полукочующем Востоке Европы, во
604
время правого и неправого понятия о землях, сделав-
шихся каким-то спорным, нерешенным владением, к
каким принадлежала тогда Украйна. Вечная необходи-
мость пограничной защиты против трех разнохарактер-
ных наций — все это придавало какой-то вольный,
широкий размер подвигам сынов ее и воспитало упрям-
ство духа. Это упрямство духа отпечаталось во всей силе
на Тарасе Бульбе».
«Тогдашний род учения страшно расходился с обра-
зом жизни. Эти схоластические, грамматические, рито-
рические и логические тонкости решительно не прикаса-
лись к времени, никогда, не применялись и не повторя-
лись в жизни. Ни к чему не могли привязать они своих
познаний, хотя бы даже менее схоластических. Самые
тогдашние ученые более других были невежды, потому
что вовсе были удалены от опыта».
«Вообще можно сказать, что на Запорожье не было
никакого теоретического изучения или каких-нибудь об-
щих правил...»
Повествовательный стиль «Тараса Бульбы» вместе
с тем обнаруживает те же качества гиперболизма, ед-
кой иронии, нередко связанной то с высокими, то с сни-
женными просторечно-бытовыми образами, непринуж-
денной, не стесненной светскими запретами свободы на-
родного юмора и острых сравнений.
Например: «Торговки, сидевшие на базаре, всегда
закрывали руками своими пироги, бублики, семечки из
тыкв, как орлицы детей своих, если только видели про-
ходившего бурсака. Консул, долженствовавший, по обя-
занности своей, наблюдать над подведомственными ему
сотоварищами, имел такие страшные карманы в своих
шароварах, что мог поместить туда.всю лавку зазевав-
шейся торговки».
«...ректор и профессоры-монахи не жалели лоз и пле-
тей, и часто ликторы, по их приказанию, пороли своих
консулов так жестоко, что те несколько недель почесы-
вали свои шаровары. Многим'из них это было вовсе ни-
чего и казалось немного чем крепче хорошей водки с
перцем; другим, наконец, сильно надоедали такие бес-
престанные припарки...»
«...большая часть гуляла с утра до вечера, если в
карманах звучала возможность...»
«Тарас поглядел на этого Соломона, какого еще не
605
было на свете, и получил некоторую надежду. Дей-
ствительно, вид его мог внушить некоторое доверие:
верхняя губа у него была просто страшилище. Толщи-
на ее, без сомнения, увеличилась от посторонних
причин».
«Гайдук завил рукою верхние усы и пропустил
сквозь зубы звук, несколько похожий на лошадиное
ржание».
В повествовательном стиле «Тараса Бульбы» широ-
ко представлено типичное для языка Гоголя сочетание
высокой фразеологии с вульгарной лексикой.
Например: «Он, можно сказать, плевал на все про-
шедшее и с жаром фанатика предавался воле и товари-
ществу таких же, как сам, не имевших ни родных, ни
угла, ни семейства, кроме вольного неба и вечного пира
души своей».
«Иные рассуждали с жаром, другие даже держали
пари; но большая часть была таких, которые на весь
мир и на все, что ни случается в свете, смотрят, ковыряя
пальцем в своем носу».
«Крыши домов были усеяны народом. Из слуховых
окон выглядывали престранные рожи в усах и в чем-то
похожем на чепчики. На балконах, под балдахинами,
сидело аристократство. Хорошенькая ручка смеющейся,
блистающей, как белый сахар, панны держалась за пе-
рилы».
Там, где повествовательный стиль в «Тарасе Буль-
бе» достигает вершин лирического пафоса, он прибега-
ет к напряженной риторике романтической поэтики и
стилистики. Например: «Он... положил, во что бы ни
стало, взять город. И он бы исполнил это. Свирепый, он
бы протек, как смерть, по его улицам. Он бы вытащил
ее своею железною рукою, ее, обворожительную, неж-
ную, блистающую; свирепо повлек бы ее, схвативши за
длинные, обольстительные волосы, и его кривая сабля
сверкнула бы у ее голубиного горла...»
«Все дышало силою, свыше естественной. Это не был
дикий энтузиазм, порожденный отчаянием: это было
что-то совершенно другое. Какое-то вдохновение весело-
сти, какой-то трепет величия ощущался в сердцах этой
гульливой и храброй толпы».
«Казалось, он стоял на воздухе, и это, вместе с вы-
ражением сильного бессилия, делало его чем-то похо-
606
жим на духа, представшего воспрепятствовать чему-
нибудь сверхъестественною своею властью и увидевше-
го ее ничтожность».
В изображении природы, женской красоты и жен-
ской любви, а также любви к женщине романтические
формы стиля выступали особенно рельефно и напря-
женно—с свойственной творчеству Гоголя остро эроти-
ческой фразеологией.
«Пред ним беспрерывно мелькали ее сверкающие,
упругие перси, нежная, прекрасная, вся обнаженная
рука; самое платье, облипавшее вокруг ее свежих, дев-
ственных и вместе мощных членов, дышало в мечтах его
каким-то невыразимым сладострастием».
«Он почувствовал, как электрически-пламенная щека
ее коснулась его щеки, и лобзание,— у, какое лобза-
ние! — слило уста их, прикипевшие друг к другу».
Показательны напряженно-метафорические и пред-
метно-непредставимые формулы, служащие для изобра-
жения любовной страсти героя:
«...вся гордая сила юности зажглась вдруг самым то-
мительным приливом беспокойства нестерпимого и стра-
стного».
«Вся грудь его была проникнута самым пронзитель-
ным острием радости».
Ср/, «...глаза ее, глаза чудесные, пронзительно-яс-
ные, бросали взгляд долгий, как постоянство».
«Она была томна; она была бледна, но белизна ее
была пронзительная, как сверкающая одежда серафима.
Гебеновые брови, тонкие, прекрасные, придавали что-то
стремительное ее лицу, обдающее священным трепе-
том сладкой боязни в первый раз взглянувшего на нее.
Ресницы ее, длинные, как мечтания, были опущены и
темными тонкими иглами виднелись резко на ее небес-
ном лице».
Иногда повествование осложнялось философским
раздумьем автора, который попутно излагал свои взгля-
ды, свои афоризмы. Например: «Нельзя было без дви-
жения всей души видеть, как вся толпа отдирала та-
нец, самый вольный, самый бешеный, какой только ви-
дел когда-нибудь мир, и который, по своим мощным
изобретателям, носит название козачка. Только в одной
музыке есть воля человеку. Он в оковах везде. Он сам
себе кует еще тягостнейшие оковы, нежели налагает на
607
него общество и власть везде, где только коснулся жиз-
ни. Он — раб, но он волен только потерявшись в беше-
ном танце, где душа его не боится тела и возносится
вольными прыжками, • готовая завеселиться на веч-
ность». Это — типический прием и типическая фразеоло-
гия романтической стилистики.
Отношение повествователя к предметам изображения
изредка выражается в восклицаниях.
Например: «Черт вас возьми, степи, как вы хо-
роши!»
Ср. при слиянии повествования с формами несобст-
венно прямой речи сыновей Бульбы:
«Прощайте и детство, и игры, и всё, и всё!»
Ср. также: «Так вот Сеча! Вот то гнездо, откуда вы-
летают все те гордые и крепкие, как львы! Вот откуда
разливается воля и козачество на всю Украйну!»
Экспрессивная обособленность повествовательного
стиля от диалогической речи персонажей подчеркивает-
ся авторскими комментариями к выражениям действу-
ющих лиц.
Например, в речи матери, жены Бульбы: «И придет
же в голову! Как можно, чтобы дитя било родного отца?
Притом будто до того теперь: дитя малое, проехало
столько пути, утомилось (это дитя было двадцати слиш-
ком лет и ровно в сажень ростом)...»
«Это все дрянь чем набивают вас: и академия, и все
те книжки, буквари и филозофия,— все это ка зна що я
плевать на все это!» Бульба присовокупил еще одно сло-
во, которого, однако же, цензора не пропускают в печать
и хорошо делают».
Диалогические отрывки в композиции «Тараса Буль-
бы» полны украинских диалектизмов, украинских на-
родно-песенных образов и оборотов. Стиль речи евреев,
особенно Янкеля, подчинен определившимся еще в 20-е
годы XIX века правилам представления еврейского жар-
гона.
Следовательно, в стиле «Тараса Бульбы» ранней ре-
дакции явно преобладают стихии романтической поэти-
ки и стилистики.
Стиль народно-поэтического творчества, главным об-
разом украинского, в структуре «Тараса Бульбы» вто-
рой редакции еще теснее и разностороннее сплетается с
книжно-патетической стихией русского литературного
608
языка. Повторы, семантико-фразеологические и синтак-
сические контрасты, противопоставления частей, слож-
ные формы синтаксической конфигурации и другие при-
емы сочетания принципов народно-песенного ритмическо-
го построения с книжно-патетическими формами выра-
жения— все это образует сложную композицию речи,
совмещающей в себе черты отвлеченно-книжного иэпи-
чески-народного, украинского, а иногда и великорусско-
былинного повествования с чертами живого драматиче-
ского диалога. При этом в повествовательный стиль го-
раздо чаще, чем в первой редакции, включаются формы
речи, присущие самим изображаемым героям. Тут Го-
голь находится в непосредственной зависимости от пуш-
кинских принципов субъективно-экспрессивной много-
плановости повествовательного изложения. Вместе с тем
повествовательно-исторический стиль Гоголя отнюдь не
является механическим соединением двух разнославян-
ских стихий. Гоголь обратился к народно-песенному
творчеству украинского народа как к живому источнику
историко-этнографических красок речи. Народно-поэти-
ческая, украинская фразеология, образные семантиче-
ские и синтаксические формы фольклорно-песенного
стиля, обработанные в духе гомеровских поэм, расце-
ниваются Гоголем как новый арсенал выразительных
средств национально-исторического повествования.
Художественно-изобразительные средства и синтак-
сические конструкции украинской народно-песенной
речи творчески и глубоко обдуманно вводятся Гоголем
в сложную и стилистически многообразную систему
языка русской художественной литературы, языка рус-
ского исторического романа из быта старой Украины.
Переделка «Тараса Бульбы» способствовала углуб-
лению реалистических тенденций и усилению их значе-
ния в структуре повести. Но романтическая струя в сти-
ле гоголевской эпопеи не иссякла и даже не отступила
на второй план. Произошло усложнение синтеза двух
художественных систем, во всяком случае осуществлено
их новое своеобразное взаимопроникновение.
Гоголь внимательно прислушивается к голосам тех
литературных критиков, которые утверждали, что основ-
ная задача исторического романа — не столько воспро-
изведение «людей знаменитых», «лиц исторических»,
сколько народа и его жизни в ту или иную эпоху. Так,
609
«Телескоп» считал назначением романа — «представ-
лять не столько жизнь отдельных лиц и тем менее вели-
кие характеры, кои всегда отличаются резкой особно-
стью, как жизнь народную»
В статье «О преподавании всеобщей истории» Го-
голь считает главной задачей историка: наиболее полно
и объективно отразить роль народа, «чтоб народ со все-
ми своими подвигами и влиянием на мир проносился
ярко, в таком же точно виде и костюме, в каком был
он в минувшие времена»1 2.
Широко пользуясь историческими источниками
(«История русов», «История о казаках запорожских»
кн. Мышецкого, «Описание Украины» Боплана и т. д.)3
и черпая из них детали, Гоголь приводит их к общему
знаменателю своего повествовательного стиля и вклю-
чает их данные, их терминологию и фразеологию в исто-
рико-бытовой строй авторского повествования. Он даже
подчеркивает картинно-избирательный принцип художе-
ственно-исторического повествования в отличие от лето-
писно-фактического: «Нечего описывать всех битв, где
показали себя козаки, ни всего постепенного хода кам-
пании: все это внесено в летописные страницы» («Та-
рас Бульба» во второй редакции)4.
Во второй редакции «Тараса Бульбы», увеличившей
объем романа больше чем в полтора раза, сохранились
большие стилистические отрезки прежнего текста. Одна-
ко общая система соотношения частей разного стилисти-
ческого строения в композиции «Тараса Бульбы» резко
изменилась. Прежде всего существенно возросли в своем
качестве и приобрели гораздо большую историческую
конкретность и дифференцированность формы историче-
ского повествования. Здесь необходимо различать две
тенденции. Одна состоит в том, что стиль исторического
повествования стремится охватить воспроизводимые
предметы и явления во всех их подробностях, изобразить
1 «Телескоп», 1831, т. IX, стр. 367.
2 Н. В. Гоголь, Поли. собр. соч., т. VIII, изд. АН СССР, 1952,
стр. 27.
3 См. «Историю Малой России» Бантыш-Каменского, «Записки
о Малой России» Шафонского, «Летописное повествование о Малой
России» Ригельмана, также упоминаемые Гоголем.
4 Н- ™ Гоголь> Поли. собр. соч., т. II, изд. АН СССР, 1937,
стр. 166. Далее цитируется по тому же изданию (стр. 46—172).
6Ю
их наглядно и жизненно-характерно. Вот несколько при-
меров из вновь написанных страниц второй редакции
исторической эпопеи:
«Кончился поход,— воин уходил в луга и пашни, на
днепровские перевозы, ловил рыбу, торговал, варил пиво
и был вольный козак. Современные иноземцы дивились
тогда справедливо необыкновенным способностям его. Не
было ремесла, которого бы не знал козак: накурить ви-
на, снарядить телегу, намолоть пороху, справить кузнец-
кую, слесарную работу и, в прибавку к тому, гулять
напропало, пить и бражничать, как только может один
русский — всё это было ему по плечу. Кроме рейстровых
Козаков, считавших обязанностью являться во время
войны, можно было во всякое время, в случае большой
потребности, набрать целые толпы охочекомонных: стоило
только есаулам пройти по рынкам и площадям всех сел
и местечек и прокричать во весь голос, ставши на теле-
гу: «Эй, вы, пивники, броварники! полно вам пиво ва-
рить, да валяться по запечьям, да кормить своим
жирным телом мух! Ступайте славы рыцарской и чести
добиваться! Вы, плугари, гречкосеи, овцепасы, бабо-
любы! полно вам за плугом ходить да пачкать в землю
свои желтые чоботы, да подбираться к жинкам и
губить силу рыцарскую! Пора доставать козацкой
славы!»
И слова эти были, как искры, падавшие на сухое де-
рево. Пахарь ломал свой плуг, бровари и пивовары ки-
дали свои кади и били бочки, ремесленник и торгаш по-
сылал к черту и ремесло и лавку, бил горшки в доме.
И все, что ни было, садилось на коня».
Вот также одно из конкретно-исторических- допол-
нений второй редакции «Тараса Бульбы», обильное бы-
товыми аксессуарами изображаемой эпохи: «Сечь со-
стояла из шестидесяти с лишком куреней, которые очень
походили на отдельные, независимые республики, а еще
более походили на школу и бурсу детей, живущих на
всем готовом. Никто ничем не заводился и не держал у
себя. Все было на руках у куренного атамана, который
за это обыкновенно носил название батька. У него были
на руках деньги, платья, вся харчь, саламата, каша и
даже топливо; ему отдавали деньги под сохран. Неред-
ко происходила ссора у куреней с куренями. В таком
случае дело тот же час доходило до драки. Курени по-
611
крывали площадь и кулаками ломали друг другу бока,
пока одни не пересиливали, наконец, и не брали верх,
и тогда начиналась гульня».
Ср. также: «Все занимало их: разгульные обычаи
Сечи и немногосложная управа и законы, которые каза-
лись им иногда даже слишком строгими среди такой
своевольной республики. Если козак проворовался, ук-
рал какую-нибудь безделицу, это считалось уже поно-
шением всему козачеству: его, как бесчестного, привязы-
вали к позорному столбу и клали возле него дубину, ко-
торою всякий проходящий обязан был нанести ему удар,
пока таким образом не забивали его насмерть. Не пла-
тившего должника приковывали цепью к пушке, где
должен был он сидеть до тех пор, пока кто-нибудь из то-
варищей не решался его выкупить и заплатить за него
долг. Но более всего произвела впечатленья на Андрия
страшная казнь, определенная за смертоубийство. Тут
же, при нем, вырыли яму, опустили туда живого убий-
цу и сверх него поставили гроб, заключавший тело им
убиенного, и потом обоих засыпали землею. Долго по-
том все чудился ему страшный обряд казни, и все пред-
ставлялся этот заживо засыпанный человек вместе с
ужасным гробом».
Подготовка к походу рисуется во второй редакции
«Тараса Бульбы» в форме широкого живописного по-
лотна со множеством конкретно-бытовых сцен, распре-
деленных по разным частям картины: «Там обшивали
досками челн; там, переворотивши его вверх дном, коно-
патили и смолили; там увязывали к бокам других чел-
нов, по козацкому обычаю, связки длинных камышей,
чтобы не затопило челнов морскою волною; там, далеко
прочь, по всему прибрежью разложили костры и кипяти-
ли в медных казанах смолу на заливанье судов. Быва-
лые и старые поучали молодых. Стук и рабочий крик
подымался по всей окружности; весь колебался и дви-
гался живой берег». В первой редакции этой картине со-
ответствовали такие абстрактно-эмоциональные фразы:
«Бывалые поучали других с каким-то наслаждением, со-
храняя при всем том степенный, суровый вид. Весь бе-
рег получил движущийся вид, и хлопотливость овладела
дотоле беспечным народом».
Ср. также; «Все рабочие, остановив свои работы, под-
няв топоры, долота, прекратили стукотню и смотрели в
612
ожидании». В первой редакции: «Здравствуйте! — отве-
чали работавшие в лодках, приостановив свое занятие».
При описании подготовки к пешему походу: «Те
исправляли ободья колес и переменяли свежие оси в те-
легах; те сносили на возы мешки с провиантом, на другие
валили оружие; те пригоняли коней и волов. Со всех
сторон раздавались топот коней, пробная стрельба из
ружей, бряканье саблей, бычачье мычание, скрып пово-
рачиваемых возов, говор и яркий крик и понуканье».
Ср. также при изображении первых событий похода
запорожцев на Польшу, при описании ночи перед изме-
ной Андрия («Поле далеко было занято раскиданными
по нем возами с висячими мазницами, облитыми дегтем,
и всяким добром и провиантом, набранным у вра-
га» и т. д.).
Конкретно, в полном соответствии с народной бота-
никой и ее терминологией, описывается природа. Напри-
мер: «Перед ним видны были широкие листы лопуха;
из-за него торчала лебеда, дикий колючий бодяк и под-
солнечник, подымавший выше всех их свою голову».
Любопытно впервые появившееся во второй редак-
ции «Тараса Бульбы» сравнение подземелья, по кото-
рому шли в город Дубно Андрий и татарка, с киевскими
пещерами (в плане сознания и опыта Андрия).
«Он с любопытством рассматривал сии земляные
стены, напомнившие ему киевские пещеры. Так же, как
и в пещерах киевских, тут видны были углубления в
стенах, и стояли кое-где гробы; местами даже попада-
лись просто человеческие кости, от сырости сделавшиеся
мягкими и рассыпавшиеся в муку. Видно, и здесь также
были святые люди и укрывались также от мирских
бурь, горя и обольщений».
Легко заметить, что этот историко-бытовой стиль
исторического повествования легко включал в себя и
элементы народно-поэтического творчества — украинско-
го, а иногда и русского. Например:
«...Когда все поречья, перевозы, прибрежные пологие
и льготные места усеялись козаками, которым и счету
никто не ведал, и смелые товарищи их были вправе от-
вечать султану, пожелавшему знать о числе их: «Кто
их знает! у нас их раскидано по всему степу: что байрак,
то козак» (что маленький пригорок, там уж и козак)».
«...Он вытащил отцовский походный казанок и с ним
613
отправился к кашевару их куреня, спавшему у двух де-
сятиведерных казанов, под которыми еще теплилась
зола. Заглянувши в них, он изумился, видя, что оба
пусты. Нужно было нечеловеческих сил, чтобы съесть,
тем более что в их курене считалось меньше людей, чем
в других. Он заглянул в казаны других куреней,— везде
ничего. Поневоле пришла ему в голову поговорка: „За-
порожцы, как дети: коли мало — съедят, коли много,—
тоже ничего не оставят“».
В последних частях «Тараса Бульбы» синтез исто-
рико-бытового и фольклорно-песенного стиля подчинен
задаче создания народно-героической эпопеи, своеобраз-
ной исторической поэмы.
Впечатление глубокой и подлинной историчности,
реальной достоверности повествования производит пе-
ренесенный Гоголем в сферу исторического романа
прием перечисления лиц, принимающих участие в том
или ином действии, событии. Этим подчеркивалась как
бы строгая фактичность, документальная точность исто-
рического сообщения. Вот — один из наиболее харак-
терных примеров.
«И все стали переходить кто на правую, кто на ле-
вую сторону. Которого куреня большая часть перехо-
дила, туда и куренной атаман переходил; которого ма-
лая часть, та приставала к другим куреням; и вышло
без малого не поровну на всякой стороне. Захотели
остаться: весь почти Незамайновский курень, большая
половина Поповичевского куреня, весь Уманский ку-
рень, весь Каневский курень, большая половина Стеб-
ликивского куреня, большая половина Тымошевского
куреня. Все остальные вызвались идти в догон за тата-
рами. Много было на обеих сторонах дюжих и храбрых
Козаков. Между теми, которые решились идти вслед за
татарами, был Череватый, добрый старый козак, Поко-
тыполе, Лемиш, Прокопович Хома; Демид Попович тоже
перешел туда, потому что был сильно завзятого нрава
козак — не мог долго высидеть на месте; с ляхами попро-
бовал уже он дела, хотелось попробовать еще с татарами».
С другой стороны, своеобразно углубилась и публи-
цистическая и историко-обобщающая, славянофильская
тенденция в авторской повествовательной речи, которая
приобретает то архаически-проповеднический, то эпиче-
ский колорит.
614
«...бранным пламенем объялся древле-мирный сла-
вянский дух, и завелось козачество — широкая, разгуль-
ная замашка русской природы...»
«Это было, точно, необыкновенное явленье русской
силы: его вышибло из народной груди огниво бед».
Ср. также: «Тарас... готовился разом и вдруг разбу-
дить их всех, гикнувши по-козацки, чтобы вновь и с
большею силою, чем прежде, воротилась бодрость каж-
дому в душу, на что способна одна только славянская
порода, широкая, могучая порода перед другими, что
море перед мелководными реками. Коли время бурно,
всё превращается оно в рев и гром, бугря и подымая
валы, как не поднять их бессильным рекам; коли же
безветренно и тихо, яснее всех рек расстилает оно
свою неоглядную склянную поверхность, вечную негу
очей».
«Известно, какова в русской земле война, поднятая
за веру: нет силы сильнее веры. Непреоборима и грозна
она, как нерукотворная скала среди бурного, вечноив-
менчивого моря».
«Да разве найдутся на свете такие огни, муки и та-
кая сила, которая бы пересилила русскую силу!»
В тесной связи с усилением конкретности и нагляд-
ной изобразительности в стиле второй редакции «Тараса
Бульбы» находится стремление автора представлять
некоторые лица и события в живописном или скульптур-
ном аспекте. Например: «Когда же поворотился он, что-
бы взглянуть на татарку, она стояла пред ним, подобно
гранитной статуе, вся закутанная в покрывало, и от-
блеск отдаленного зарева, вспыхнув, озарил только одни
ее очи, одеревеневшие, как у мертвеца».
«Свет усилился, и они, идя вместе, то освещаясь
сильно огнем, то набрасываясь темною, как уголь, тенью,
напоминали собою картины Жерардо della nolle. Све-
жее, кипящее здоровьем и юностью, прекрасное лицо
рыцаря представляло сильную противоположность с из-
нуренным и бледным лицом его спутницы».
В повести «Тарас Бульба» Запорожская Сечь в фор-
мах словесно-художественного воплощения выступает
единой, монолитной силой. Она как бы воплощает един-
ство и волю всего украинского народа. И этому содей-
ствует широкое использование стилистики украинских
народных дум.
615
Близость стиля исторической повести Гоголя к стилю
украинских дум нигде не сказывается, пожалуй, так
ярко и выразительно, как в области поэтических срав-
нений.
Ср.: «Как орлы озирали они вокруг себя очами все
поле и чернеющую вдали судьбу свою. Будет, будет все
поле с облогами и дорогами покрыто торчащими их бе-
лыми костями, щедро обмывшись козацкою их кровью
и покрывшись разбитыми возами, расколотыми саблями
и копьями».
«А он между тем, объятый пылом и жаром битвы,
жадный заслужить навязанный на руку подарок, по-
несся, как молодой борзой пес, красивейший, быстрей-
ший и молодший всех в стае. Атукнул на него опытный
охотник,— и он понесся, пустив прямой чертой по воз-
духу свои ноги, весь покосившись набок всем телом,
взрывая снег и десять раз выпереживая самого зайца в
жару своего бега».
Таким образом, Гоголь нашел основу стиля своего
лирико-исторического повествования в народной поэзии,
в украинских народных думах. Во второй редакции «Та-
раса Бульбы» слышатся отзвуки гомеровского эпоса и
«Слова о полку Игореве».
Гоголь стремится воскресить дух минувших эпох с
помощью стиля народных песен, исторических песен и
дум. Для Гоголя «песни Малороссии — все, и поэзия, и
история, и отцовская могила». В них нет точных хроно-
логических или территориальных обозначений историче-
ского события. Но когда художник-историк «захочет уз-
нать верный быт, стихии характера, все изгибы и от-
тенки чувств, волнений, страданий, веселий изображае-
мого народа, когда захочет выпытать дух минувшего
века, общий характер всего целого и порознь каждого
частного, тогда он будет удовлетворен вполне; история
народа разоблачится перед ним в ясном величии» V
«Что все черствые летописи... пред этими звонкими,
живыми летописями!»1 2. «Это народная история, живая,
яркая, исполненная красок, истины, обнажающая всю
жизнь народа»3.
1 «ЖМНП», 1834, апрель, стр. 17.
2 Н. В. Г о г о л ь, Письма, под ред. В. И. Шенрока, т. I, стр. 263.
3 Н. В. Гоголь, Поли. собр. соч., т. VIII, изд. АН СССР, 1952,
стр. 90.
616
Высокая оценка Гоголем народно-песенного творче-
ства украинского народа, многочисленные текстуаль-
ные, образные и сюжетные совпадения «Тараса Бульбы»
и украинских дум придали особенную остроту гоголев-
ской постановке и решению вопроса о многообразии сти-
листических функций исторических народных песен
и дум в стиле исторического романа. Н. Ю. Шведова в
статье «Принципы исторической стилизации в языке по-
вести Гоголя „Тарас Бульба"» стремилась классифици-
ровать принципы и приемы исторической стилизации в
языке второй редакции этой повести Гоголя, опираю-
щиеся на использование форм украинской народной сло-
весности1. Подчеркивается «живая связь постоянных
эпитетов в «Тарасе Бульбе» с постоянными эпитетами
в украинских думах и песнях»1 2, новый синтез разно-
стильных элементов в области качественно-оценочной
лексики, создающей экспрессию «гомеровской эпич-
ности». «Творческое использование народно-поэтических
средств придает языку «Тараса Бульбы» характерный
песенный колорит. Той же цели служит широкое ис-
пользование в языке повести устойчивых народно-поэти-
ческих выражений фразеологического характера, отно-
сящихся к казацкой жизни и славе, к воинским подви-
гам и к вере»3. Во второй редакции «напевные ритмы
украинских дум пронизывают всю ткань повести, прида-
вая ей неповторимый музыкальный колорит. Ритмика
дум сочетается в повести с ритмами русских былин, ста-
ринных воинских повестей и гомеровского эпоса, поэти-
ческий размер которого часто переносится Гоголем в от-
дельные строки и сцепления синтагм»4.
В повествовательном стиле усиливается лиризм, ста-
новятся все более разнообразными эмоционально-ритми-
ческие связи, контрасты и соотношения синтаксических
единиц, особенно при включении в повествование дум и
размышлений героев.
Например, при изображении бранного пыла Андрия:
«Пиршественное зрелось ему в те минуты, когда раз-
горится у человека голова, в глазах все мелькает и
1 «Материалы и исследования по истории русского литератур-
ного языка», т. Ill, М. 1953, стр. 46.
2 Т а м же, стр. 47.
3 Т ам же, стр. 49.
4 Та м же, стр. 53.
617
мешается, летят головы, с громом падают на землю кони,
а он несется, как пьяный, в свисте пуль, в сабельном
блеске и в собственном жару, нанося всем удары и не
слыша нанесенных»1. При изображении мыслей Остапа
и Андрия, получивших материнское благословение и по
кипарисному образу: «Что-то пророчит им и говорит это
благословенье? Благословенье ли на победу над врагом
и потом веселый возврат на отчизну с добычей и славой,
на вечные песни бандуристам, или же?.. Но неизвестно
будущее, и стоит оно пред человеком подобно осеннему
туману, поднявшемуся из болот. Безумно летают в нем
вверх и вниз, черкая крыльями, птицы, не распознавая в
очи друг друга, голубка — не видя ястреба, ястреб — не
видя голубки, и никто не знает, как далеко летает он от
своей погибели...»
Лирический тон автора окрашивает всю эпопею. Рас-
сказ о людях и событиях насыщен лирическими отступ-
лениями, особенно в героических сценах. Автор нередко,
как бы представляя себя участником событий, высказы-
вает свои суждения об изображаемом герое, обращается
к своим запорожцам с призывами и раздумьями.
Взволнованная торжественность речи органически
сочетается с живой красочностью и конкретностью уст-
ного словесного выражения, с социальным многообра-
зием разговорно-бытовой фразеологии и лексики, осо-
бенно в драматических сценах.
Своеобразие гоголевского стиля возвышенного эпи-
ческого повествования выражается в многообразии при-
соединительных конструкций с ритмическими повторами
частей, сцепляемых посредством союзов и или а. На-
пример:
«На миг смешанно сверкнули перед ним головы,
копья, дым, блески огня, сучьи с древесными листьями,
мелькнувшие ему в самые очи. И грохнулся он, как под-
рубленный дуб, на землю. И туман покрыл его очи».
«Оглянулись козаки, а уж там, сбоку, козак Мете-
лыця угощает ляхов, шеломя того и другого; а уж там,
с другого, напирает с своими атаман Невылычкий; а у
возов ворочает врага и бьется Закрутыгуба; а у дальних
1 Н. В. Гоголь, Тарас Бульба, Поли. собр. соч., т. II, изд.
АН СССР. 1937, стр. 85. Далее цитируется по тому же изданию
(стр. 42—167).
618
возов третий Пысаренко отогнал уже целую ватагу.
А уж там, у других возов, схватились и бьются на самых
возах».
Вместе с тем жизненно-бытовая конкретизация по-
вествования сопровождается расширением разговорно-
бытовой струи, ее социально-речевых стилей, профессио-
нальной и жаргонной лексики в языке автора. Доста-
точно сопоставить такие фразы двух редакций:
редакции «Миргорода» позднейшей
«И отец с сыном, вместо
приветствия после давней
отлучки, начали преусерд-
но колотить друг друга».
«Бульба присовокупил еще
одно слово...»
«Земля глухо гудела на
всю округу, и в воздухе
только отдавалось: тра-та-
та, тра-та-та».
«И отец с сыном, вместо
приветствия после давней
отлучки, начали садить
друг другу тумаки и в бо-
ка, и в поясницу, и в грудь,
то отступая и оглядываясь,
то вновь наступая».
«Здесь Бульба пригнал в
строку такое слово...»
«Земля глухо гудела на
всю округу, и в воздухе да-
лече отдавались гопаки и
тропаки, выбиваемые звон-
кими подковами сапогов».
В стиле «Тараса Бульбы» второй редакции самая
система речевой образности получает более разговор-
ный характер. Например, выражение — «широкочлени-
стые запорожцы» заменено словами — «широкоплечие,
дюженогие запорожцы...» Отвлеченно-книжные стан-
дартные образы: «Содрогание пробежало по всей толпе;
молчание, какое обыкновенно предшествует буре, остано-
вилось на устах всех, и, миг после того, чувства, пода-
вляемые дотоле в душе силою дюжего характера, брыз-
нули целым потоком речей», уступили место образам —
конкретным, свежим, и динамичным: «Колебнулась вся
толпа. Сначала на миг пронеслося по всему берегу мол-
чание, которое устанавливается перед свирепою бурею,
и потом вдруг поднялись речи, и весь заговорил берег».
Интересно, что во второй редакции «Тараса Бульбы»
устраняются некоторые «европеизмы», заимствованные
слова. Например, в первой редакции: «...нужно было
иметь только флегматическую наружность запорожца,
619
чтобы не смеяться ото всей души»; во второй: «...нужно
было иметь только одну хладнокровную наружность за-
порожца, чтобы сохранить во все время неподвижное
выраженье лиц и не моргнуть даже усом,— резкая черта,
которою отличается доныне от других братьев своих
южный россиянин». В первой редакции: «Остап и Анд-
рий... жадные узнать новые эволюции и вариации вой-
ны...»; во второй редакции этих слов нет. Ср. тут же
в первой редакции: «Он теперь уже казался чем-то атле-
тическим, колоссальным»,— во второй редакции эта фра-
за выброшена. Такого рода изменения в лексике ис-
торического повествования довольно многочисленны.
Стремление к конкретизации и точности обозначений ска-
зывается также в устранении ряда отвлеченно-беспред-
метных метафорических оборотов романтического стиля.
Например: «Вся грудь его была проникнута самым
пронзительным острием радости».
«...она была бледна, но белизна ее была пронзи-
тельна, как сверкающая одежда серафима».
Расширение разговорно-бытовой струи вызывало бо-
лее разнообразную драматизацию повествования.
«Тарас Бульба крякнул от нетерпения, и досадуя, что
конь, на котором сидел он, мешал ему пуститься
самому».
Ср. во второй редакции: «Эх, если бы не конь!» —
вскрикнул Тарас,— «пустился бы, право, пустился бы
сам в танец!»
Становится экспрессивно острой, непринужденной и
красочной самая структура кратких реплик, вкраплен-
ных в рассказ. Например, в первой редакции:
«Гетьман и полковники решились отпустить Потоцкого
не прежде, как заключивши трактат, обеспечивший бы
во всем Козаков. Но непреклонный Тарас вырвал из бе-
лой головы своей клок волос, когда увидел такое, по
словам его, бабье малодушие полковников. «Не попущу,
полковники, чтобы вы учинили такое дело!» — вскричал
он твердо. На этот раз совет его был отвергнут. «Эй,
не верьте, паны, ляхам!» — повторил он опять тем же го-
лосом, помахивая нагайкою и хлестнувши ею по пушке».
Во второй редакции: «Согласился гетьман вместе с
полковниками отпустить Потоцкого, взявши с него клят-
венную присягу оставить на свободе все христианские
церкви, забыть старую вражду и не наносить никакой
620
обиды козацкому воинству. Один только полковник не
согласился на такой мир. Тот один был Тарас. Вырвал
он клок волос из головы своей и вскрикнул:
„ Эй, гетьман и полковники! не сделайте такого бабь-
его дела! не верьте ляхам: продадут псяюхи!"».
Вместе с драматизацией повествовательного стиля и
с его оснащением конкретно-бытовыми деталями проис-
ходит также расширение диалогической речи и ее экс-
прессивно-стилистическое усложнение в композиции
«Тараса Бульбы». Так несколько общих фраз первой ре-
дакции: «„Что ж делать?" — отвечал кошевой с таким же
хладнокровием; — «нужно подождать». Но этим Бульба
не был доволен»,— во второй редакции превращаются в
стилистически и композиционно сложную и острую дра-
матическую сцену.« „Так, стало «быть следует, чтобы про-
падала даром козацкая сила, чтобы человек сгинул, как
собака, без доброго дела, чтобы ни отчизне, ни всему
христианству не было от него никакой пользы? Так на
что же мы живем, на какого черта мы живем, растолкуй
ты мне это. Ты человек умный, тебя недаром выбрали
в кошевые, растолкуй ты мне, на что мы живем?"
Кошевой не дал ответа на этот запрос. Это был упря-
мый козак. Он немного помолчал и потом сказал:
«А войне все-таки не бывать».— «Так не бывать вой-
не?» — спросил опять Тарас. «Нет».— «Так уж и думать
об этом нечего?» — «И думать об этом нечего».
«Постой же ты, чертов кулак! — сказал Бульба про
себя,— ты у меня будешь знать!» И положил тут же от-
мстить кошевому».
Ср. также новую драматическую сцену низвержения
старого кошевого и выбора Кирдюга.
Показательны изменения в диалоге между Бульбой
и Янкелем.
В редакции «Миргорода»:
«Сейчас запрягай воз и
вези меня!»
«А как же, вы думаете, мне
спрятать пана?»
В последней редакции:
«Сейчас запрягай воз и ве-
зи меня!»
«А пан думает, что .так
прямо взял кобылу, за-
пряг, да и: «Эй, ну, пошел,
сивка!» Думает пан, что
можно так, как есть, не
спрятавши, везти пана?».
621
Вместе с тем становятся более конкретными, диффе-
ренцированными и сценически точными описания поз
и движений говорящих лиц.
Например: «,,Чшш!“ — произнесла татарка, сложив с
умоляющим видом руки, дрожа всем телом и оборотя
в то же время голову назад, чтобы видеть, не проснулся
ли кто-нибудь от такого сильного вскрика, произведен-
ного Андрием». Ср. в первой редакции: «,,Тише. ради
бога, тише!44—говорила татарка и закуталась в козацкий
кобеняк, который было сбросила с себя».
«„Молчи ж, говорят тебе, чертова детина!44—закри-
чал Товкач сердито, как нянька, выведенная из тер-
пенья, кричит неугомонному повесе ребенку: „Что поль-
зы знать тебе, как выбрался? Довольно того, что вы-
брался...44»
Драматизация стиля и экспрессивное разнообразие
диалога выражаются также в создании острых сцен с
быстрым чередованием реплик, например, при изображе-
нии массовой сцены выборов кошевого атамана:
«— Кукубенка выбрать!—кричала часть.
— Не хотим Кукубенка! — кричала другая.— Рано
ему, еще молоко не обсохло!
— Шило пусть будет атаманом! — кричали одни.—
Шила посадить в кошевые!
— В спину тебе шило! — кричала с бранью толпа.—
Что он за козак, когда прокрался, собачий сын, как та-
тарин? К черту в мешок пьяницу Шила!
— Бородатого, Бородатого посадим в кошевые!
— Не хотим Бородатого! К нечистой матери Борода-
того!
— Кричите Кирдюга! — шепнул Тарас Бульба неко-
торым.
— Кирдюга! Кирдюга!— кричала толпа.— Борода-
того! Бородатого! Кирдюга! Кирдюга! Шила! К черту
с Шилом! Кирдюга!».
Само собой разумеется, что лирический тон пове-
ствования, переходящий в напряженные монологи, об-
ращения и авторские комментарии, еще более содей-
ствует драматизму изображения.
Например:
«И погиб козак! Пропал для всего козацкого рыцар-
ства! Не видать ему больше ни Запорожья, ни отцов-
ских хуторов своих, ни церкви божьей! Украйне не ви-
622
дать тоже храбрейшего из своих детей, взявшихся защи-
щать ее. Вырвет старый Тарас седой клок волос из
своей чупрыны и проклянет и день, и час, в который по-
родил на позор себе такого сына».
Ср. также авторские предупреждения и обращения,
направленные к героям:
«Не добивай, козак, врага, а лучше поворотись на-
зад! Не поворотился козак назад, и тут же один из слуг
убитого хватил его ножом в шею».
«Козаки, козаки! не выдавайте лучшего цвета вашего
войска! Уже обступили Кукубенка...» и др. под.
Естественно, что только полный и всесторонний ана-
лиз гоголевской исторической повести-эпопеи может
привести к ясному и расчлененному пониманию сложной
стилистической структуры ее последнего варианта. Но и
из общих наблюдений над характером переработки пер-
воначального текста этой повести ясно, что все углуб-
ляются реалистические тенденции в ее строе, все шире
и многоцветнее становится народно-поэтическая струя и
в повествовательном стиле, но особенно в речах героев
(в связи с усилением лирического и трагического па-
фоса), все напряженнее и драматичнее звучат диалоги.
И тем не менее формы романтического стиля, способы
романтического воспроизведения событий не исчезают,
не устраняются. Самая народно-лирическая стихия
иногда сливается или сочетается с романтическими
«веяниями» и приемами выражения. Гоголь как бы
стремится к новому синтезу или новому композицион-
ному объединению приемов реалистического и романти-
ческого изображения на народно-эпической основе в
структуре исторического романа. Формировался новый,
оригинальный жанр романтико-реалистической народ-
ной эпопеи. Этот род исторического романа не нашел
продолжения в дальнейшем развитии форм и типов рус-
ского исторического романа на протяжении XIX века.
Пушкинские традиции реалистического и историче-
ского романа оказались как бы прерванными, так как в
этой сфере и Гоголь и Лермонтов1 лишь частично вос-
пользовались достижениями пушкинского реалистиче-
ского метода.
1 См. мою статью «Стиль прозы Лермонтова» в лермонтовском
томе «Литературного наследства» (вып. I), М. 1941, т. 43—44.
623
15
Тридцатые годы XIX века —период расцвета рус-
ского ’исторического романа, который имел сложную
судьбу в истории русской литературы досоветского пе-
риода и затем возродился к новой жизни в советскую
эпоху. В 30-е годы XIX века наметились основные стили
исторического романа и обозначались основные противо-
речия, связанные с проблемой художественно-историче-
ского воспроизведения. Именно тогда в разных очерках
выступили контуры романтической, натуралистической и
реалистической поэтики в сфере исторической повести и
исторического романа. Исторический роман временно ста-
новится основным двигателем национальной русской лите-
ратуры. Процессы развития стилей русского историче-
ского романа глубоко и тесно связываются с главными
направлениями развития русского литературного языка.
Тогда же определились разные принципы использо-
вания элементов старинного языка, так называемого
языка изображаемой среды и эпохи в системе историче-
ской стилизации речевых форм исторического романа.
Было ясно, что даже при обостренном стремлении к ху-
дожественной имитации языка эпохи ни о какой исто-
рической «точности» или речевой адэкватности говорить
не приходится. История русского языка тогда была не
разработана. Если исключить «Слово о полку Игореве»
и прямые цитаты из «Русской правды», грамот и юри-
дических документов, имеющих дату, все остальные
формы лексики, фразеологии и синтаксиса древнерус-
ского языка от XI по XVII век (включительно) пред-
ставлялись в самом общем, недостаточно дифференци-
рованном виде. Правда, уже сложились известные пред-
ставления об истории одежды, оружия, жилища и
других сторон быта — с их названиями, с их номенкла-
турой. Но эта история быта выходила за пределы
собственно истории языка. Вот почему исторические
романисты 30-х годов не выработали и не могли выра-
ботать более или менее твердых различий между языко-
выми приемами исторической стилизации киевской
эпохи, периода зарождения Московского государства и
эпохи XVI—XVII века, непосредственно предшествующей
формированию русской нации. Нередко одни и те же ста-
ринные выражения встречались и в романах, изобра-
624
жающих XV век, и в романах, посвященных воспроиз-
ведению XVII века.
Мало того, чем дальше уходил сюжет романа в
глубь истории, особенно в дописьменную славянскую
старину, тем менее писатели 30-х годов прибегали к фор-
мам древнерусского письменного языка, ограничиваясь
помощью народно-поэтической речи. Было очевидно, что
между историей древнерусского языка, речевыми мате-
риалами древнерусских памятников и между хронологи-
ческим приурочением того или иного сюжета историче-
ского романа, художественными приемами историче-
ского повествования не только нет прямого соответствия,
но нет и отдаленной связи.
Писатели-стилизаторы создали несложный инвентарь
или индекс отступлений от норм грамматики и лексики
современного литературного языка и свободно пользова-
лись разными элементами этой искусственной системы
для драматического представления русских в любом
веке — от X по XVI и даже XVII включительно — или
для орнаментального изображения древнерусской ста-
рины также почти любой эпохи.
Новые методы реально-исторического воспроизведе-
ния, выдвинутые Пушкиным и примененные им к не-
давнему прошлому — к событиям второй половины
XVIII века и начала XIX века, не нашли дальнейшего
развития в русском историческом романе середины и
второй половины 30-х годов. При всей своей зависи-
мости от Пушкина Гоголь и Лермонтов пошли иными
путями. В стилях их исторического повествования слиш-
ком явственно, многообразно и глубоко сказывалось
влияние романтической поэтики и стилистики. Со вто-
рой половины 30-х годов уже начинался спад волны
увлечения историческим романом. Приемы условного
изображения старины противоречили поэтике возникав-
шей и развивавшейся натуральной школы. Одним из
лозунгов нового литературного течения, возобладавшего
над всеми другими направлениями русской художе-
ственной литературы в 40-е годы, был принцип широкого
художественного использования бытовой речи самой
изображаемой среды, принцип ее «натурного» воспроиз-
ведения. В связи с этим исторический роман в поэтике
натуральной школы отходил на задний план и подвер-
гался критике и сомнениям как жанр условный, фанта-
21 В. В. Виноградов
625
стический или романтический. Допускалось лишь ирони-
чески-обличительное и сатирическое употребление форм
старинного языка, нашедшее впоследствии такую
острую символическую обобщенность в «Истории одного
города» Салтыкова-Щедрина.
Из писателей, связанных с натуральной школой, лишь
Писемский в последнюю пору своей литературной дея-
тельности упражнялся и в историческом романе на сю-
жеты не позднее XVIII века. Но язык исторического ро-
мана Писемского не обнаруживал никаких отличий от
языка других его романов, кроме включения цитат из
некоторых произведений литературы изображаемой
эпохи. Проблема исторической драмы обособляется от
истории развития исторического романа и обнаружи-
вает своеобразные закономерности в способах и прин-
ципах ее разрешения.
В рецензии на роман (в четырех частях) Евг. Тур
«Племянница» И. С. Тургенев писал: «Роман — роман в
четырех частях! знаете ли, что, кроме женщины, никто в
наше время в России не может решиться на такой труд-
ный, на такой во всяком случае длинный подвиг? И в
самом деле чем наполнить четыре тома? Исторический,
вальтер-скоттовский роман — это пространное, солидное
здание, со своим незыблемым фундаментом, врытым в
почву народную, с своими обширными вступлениями в
виде портиков, со своими парадными комнатами и тем-
ными коридорами для удобства сообщения,— этот роман
в наше время почти невозможен: он отжил свой век, он
несовременен... У нас, может быть, его пора еще не при-
шла,— во всяком случае он к нам не привился — даже
под пером Лажечникова. Романы «а la Dumas», с коли-
чеством томов ad libitum у нас существуют, точно; но
читатель нам позволит перейти их молчанием. Они, по-
жалуй, факт, но не все факты что-нибудь значат.
Остаются еще два рода романов более близких между
собой, чем кажется с первого взгляда, романов, которые,
во избежание разных толкований, не везде удобных, мы
назовем по имени их главных представителей: сандов-
скими и диккенсовскими. Эти романы у нас возможны
и, кажется, примутся; но теперь спрашивается, на-
столько ли высказались уже стихии нашей обществен-
ной жизни, чтобы можно было требовать четырехтом-
ного размера от романа, взявшегося за их воспроизведе-
626
ние? Успех в последнее время разных отрывков, очер-
ков, кажется, доказывает противное. Мы слышим пока
в жизни русской отдельные звуки, на которые поэзия
отвечает такими же быстрыми отголосками. Пример Го-
голя тут ничего не значит: во-первых, для таких людей,
как он, эстетические законы не писаны, и он без всякой
гордыни мог говорить об устремленных на него очах
всей России; а во-вторых, в том, что он свои «Мертвые
души» назвал поэмой, а не романом,— лежит глубокий
смысл. «Мертвые души», действительно, поэма — пожа-
луй, эпическая, а мы говорим о романах»1.
Жанр исторического романа к 60—70-м годам вы-
рождается в разновидность исторического очерка или
авантюрного, сюжетного романа. Он переходит в руки
профессиональных историков (Костомаров, Мордовцев
и др.) или легких беллетристов (Салиас, позднее Всево-
лод Соловьев).
16
С. Л. Толстой так определяет отношения Л. Толстого
к русскому историческому роману этого периода:
«В исторических романах, вроде «Юрия Милославского»
и «Князя Серебряного» — подражаниях Вальтеру Скот-
ту, которого отец не любил,— он указывал на неверное
понимание быта эпохи; к историческим романам Дани-
левского, Мордовцева, Салиаса, Вс. Соловьева и других
относился пренебрежительно»1 2.
Л. Толстой ищет новой формы исторического романа.
«Я,— пишет он,— бесчисленное количество раз начинал
и бросал писать ту историю из 12-го года, которая все
яснее, яснее становилась для меня и которая все на-
стоятельнее и настоятельнее просилась в ясных и опре-
деленных образах на бумагу. То мне казался ничтож-
ным прием, которым я начинал, то хотелось захватить
все, что я знаю и чувствую из того времени, и я созна-
вал невозможность этого, то простой, пошлый литера-
турный язык и литературные приемы романа казались
мне столь несообразными с величественным, глубоким
и всесторонним содержанием, то необходимость выдум-
1 И. С. Тургенев, Рец. «Племянница. Роман, соч. Евгении
Тур. 4 части, Москва, 1851». Собр. соч., т. XI, М. 1956, стр. 121 122.
2 с. Л. Толстой, Очерки былого, стр. 79—80.
21
627
кою связывать те образы, картины и мысли, которые
сами собою родились во мне, так мне становились про-
тивны, что я бросал начатое и отчаивался в возможно-
сти высказать все то, что мне хотелось и нужно выска-
зать... Больше всего меня стесняют предания как по
форме, так и по содержанию. Я боялся писать не тем
языком, которым пишут все, боялся, что мое писание
не подойдет ни под какую форму, ни романа, ни повести,
ни поэмы, ни истории... Мы, русские, вообще не умеем
писать романов в том смысле, в котором понимается
этот род сочинений в Европе... Я не знаю ни одного
художественного русского романа, ежели не называть
такими подражания иностранным. Русская художествен-
ная мысль не укладывается в эту рамку и ищет для себя
новой» Ч
Л. Толстой включил в структуру русского художе-
ственно-исторического романа в небывалых дотоле раз-
мерах две языковых сферы, две системы стилей, правда,
не чуждые стилям русского литературного языка 60-х
годов и предшествующей поры, но очень далекие от его
центра, от его сердцевины. На них легла основная на-
грузка исторической стилизации. Прежде всего это были
стили военной прозы, с ярким отпечатком профессио-
нальной терминологии и с несколько архаическими осо-
бенностями выражения, которые вообще нередки в спе-
циальных ответвлениях общественной письменности и
речевого быта. Использование военного стиля, оправ-
данное позицией автора как военного историка и теоре-
тика, не только расширяло и разнообразило систему по-
вествовательного стиля, но и накладывало на нее свое-
образный колорит, близкий к языку изображаемой
эпохи. Включенные в роман, хотя и с большой осмотри-
тельностью, отрывки и выражения военных документов
эпохи Отечественной войны 1812 года выступали как
красочные мазки, как живые исторические свидетель-
ства — на фоне военных описаний самого автора. Неда-
ром «Книжный вестник» 1866 года отмечал, что главный
интерес произведения «в описаниях военных действий, в
каких-то беллетристических реляциях того времени»1 2.
1 Л. Н. Толстой, Вступления, предисловия и варианты начал
«Войны и мира», Поли. собр. соч., т. 13, М. 1949, стр. 53—55.
2 «Книжный вестник», 1866, № 16—17, стр. 347.
628
Военный стиль «Войны и мира» всасывает в себя и от-
части растворяет разнородные стили военно-мемуарной
литературы. Язык военного повествования, язык белле-
тристических реляций и военно-патриотических фельето-
нов здесь смешивается и сливается с историческим и
научно-публицистическим стилями. Пушкинские методы
исторической стилизации нашли дальнейшее развитие и
преобразование лишь у Л. Толстого в языке «Войны и
мира». «Война, и мир» — это была сначала военно-семей-
ная хроника из эпохи 1812 года, затем документально-
историческая эпопея. В рамки исторического изображе-
ния была введена целая система философско-историче-
ских взглядов автора. Кроме того, в общей идейной
концепции романа лихорадочно бился пульс злободнев-
ной публицистики 60-х годов. Таким образом, «Война и
мир» Л. Толстого представляет собою новый жанр исто-
рического романа на философско-публицистической
основе. Синкретизм жанра был органически связан с
синкретическими или синтетическими отношениями
к формам русского литературного языка, с одной сто-
роны, середины XIX века, а с другой, самого начала
XIX века.
При посредстве военно-профессионального стиля на-
писаны батальные картины и дан анализ сражений. Сюда
же относятся и отражения стилей военной науки и тех-
ники, и разные профессиональные диалекты военного
ремесла, и стили официальных реляций, и фразеология
разговорных стилей военной среды. Военный язык,
вместе с тем, служит для воспроизведения или воссозда-
ния официальных отчетов и газетных сообщений о со-
временных событиях. И чаще всего здесь не бывает
прямого цитирования документов эпохи, а лишь их ча-
стичное использование. Некоторая общность военной
терминологии начала и середины XIX века обостряет
стилизационную роль военной речи. Кроме того, с воен-
ным языком был тесно связан письменно-деловой стиль,
которым также пользовался Толстой в философских
рассуждениях и военных описаниях. И в этой области
выражения не было резкой разницы между русским язы-
ком начала и середины XIX века. Все эти архаические
краски углубляли впечатление стиля эпохи. А внедрение
в композицию романа писем-документов, вроде письма
Кутузова к старому князю Болконскому, очень сдер-
629
жанная и скупая стилизация устной речи исторических
лиц (например, в речи графа Кочубея: «Да это затруд-
нительно, понеже образование весьма мало распростра-
нено») — все это внушало иллюзию глубокой погружен-
ности автора в речевую атмосферу начала XIX века. Ма-
сонские увлечения Пьера обрисовываются посредством
широкого включения масонской литературы начала
XIX века с ее своеобразным церковнославянским язы-
ком и религиозно-философским, дидактическим стилем.
Вместе с тем вовлечение в речевую ткань романа
французского языка служило способом экспрессивной
характеристики стиля и строя мысли, чуждого русскому
народу. «Пошлость образа мыслей многих персонажей
аристократического круга выражена в шаблонных фран-
цузских фразах, заслоняющих смысл явлений дешевою,
банальной шуткой»1. Чередование французского и рус-
ского языка встречается здесь не только в стиле доку-
ментов, в речах персонажей, но и в стиле повествователя-
автора. Толстой считал этот речевой дуализм художе-
ственным отражением духа эпохи. Он писал: «Занимаясь
эпохой начала нынешнего века, изображая лица русские
известного общества, и Наполеона, и французов, имев-
ших такое прямое участие в жизни того времени, я не-
вольно увлекся формой выражения того французского
склада мыслей больше, чем это было нужно. И потому,
не отрицая того, что положенные мною тени, вероятно,
неверны и грубы, я желал бы только, чтобы те, которым
покажется очень смешно, как Наполеон говорит то по-
русски, то по-французски, знали бы, что это им кажется
только оттого, что они, как человек, смотрящий на порт-
рет, видят не лицо со светом и тенями, а черное пятно
под носом» 1 2. Использование французского языка было
условным. Даже речь французов в романе складывалась
то из русских, то из французских выражений. Это была
игра света и тени. Прежде всего, так выражалось
противопоставление двух национальных стилей, двух
типов мышления. Французский национально-языковый
стиль представляется Л. Толстому условно-театральным,
1 А. В. Ч и ч е р и н, О языке и стиле романа «Война и мир»,
изд. Харьковского гос. университета, 1953, стр. 42.
2 Л. Н. Толстой, Несколько слов по поводу книги «Война и
мир», Поли. собр. соч., т. 16, М. 1955, стр. 8—9.
630
склонным к красивой фразе и искусственной позе, рус-
ский— простым и правдивым, чуждым всякой услов-
ности. Этот контраст отчасти определял и сферы приме-
нения двух языков и их экспрессивные краски. Вместе
с тем он углублял патриотическую противопоставлен-
ность родного, русского французскому, вражескому. Во-
вторых, смешение русского с французским, типичное
для дворянской культуры начала XIX века, непосред-
ственно вводило читателя в духовную атмосферу жизни
высших классов русского общества того времени. На-
пример, характерен искаженный русско-французский
стиль патриотических писем Жюли Карагиной-Друбец-
кой: «Я имею ненависть ко всем французам, равно и к
языку их, который я не могу слышать говорить» или: «Мы
восторжены через энтузиазм к нашему обожаемому им-
ператору». Сам Толстой в оправдание такого широкого
ввода в роман французского языка ссылался на харак-
тер того времени: «Есть характер того времени (как и
характер каждой эпохи), вытекающий из большой от-
чужденности высшего круга от других сословий, из цар-
ствовавшей философии, из особенностей воспитания, из
привычки употреблять французский язык и т. п. И этот
характер я старался, сколько умел, выразить»1.
Широко используя формы французского языка, сво-
бодно создавая русско-французские стили своих героев,
Л. Толстой не всегда драматически воспроизводит ха-
рактеристические особенности их речи, а нередко лишь
объясняет их, характеризует, как историк быта и нра-
вов. Например, кн. Василий Курагин «говорил на том
изысканном французском языке, на котором не только
говорили, но и думали наши деды». Пьер «начал ожив-
ленно, изредка прерываясь французскими словами и
книжно выражаясь по-русски».
Наконец, у Л. Толстого с необыкновенным искус-
ством использована антитеза французского, антинацио-
нального и русского, народного — при сатирической об-
рисовке придворно-аристократической среды начала
XIX века.
Таким образом, широкое применение французского
языка, вовсе не подчиненное методу натуралистического
воспроизведения языка эпохи, все же сгущало истори-
1 Л. Н. Толстой, Поли. собр. соч., т. 16, стр. 8.
631
ческий колорит изображения. Современная Л. Толстому
критика находила, что Л. Толстой злоупотребил фран-
цузским языком. Для указания на стиль эпохи Л. Тол-
стому было достаточно «одного его свидетельства,
пожалуй двух, трех фраз на книгу, и ему все охотно
поверили бы» 1. Или характерны в этом отношении за-
явления в рецензии «Голоса»: «Для того чтоб показать,
что Наполеон, или другое какое-либо лицо говорит по-
французски, достаточно было бы ему одну первую его
фразу написать по-французски, а остальные по-русски,
исключая каких-либо двух-трех особенно характеристи-
ческих оборотов, и мы без труда догадались бы, что вся
тирада произнесена на французском языке» 1 2.
Пределы использования французского языка объяс-
няются не только многообразием его функций в струк-
туре романа, но и полемическим отношением Л. Тол-
стого к стилям русской литературы 60-х годов.
Л. Н. Толстой прибегает также к немецким фразам
для того, чтобы усилить «впечатление от того внутрен-
него разнобоя, которое вносили в русскую армию немец-
кие генералы». «Немецкий язык официальных докумен-
тов, «с насмешливой улыбкой» читаемых Кутузовым
вслух, немецкие реплики австрийских генералов в опи-
сании событий 1805 года усугубляют впечатление, что
русская армия находится на чужбине, что союзники
думают, понимают события, чувствуют совершенно
иначе, чем русские»3.
«Все случаи применения на страницах «Войны и
мира» французской или немецкой речи существенным
образом обогащают роман, давая в подлиннике харак-
терную и типичную речь и мышление людей изображае-
мого времени, русских — членов великосветского обще-
ства, французов и немцев. С этим связано и пародийное
изображение беспомощной русской речи некоторых со-
вершенно офранцуженных аристократов. Но у основных
персонажей романа, даже принадлежащих к высшему
кругу, все же, конечно, решительно преобладает русская
речь» 4.
1 «Книжный вестник», 1866, № 16—17, стр. 347.
2 «Голос», 1868, № 105, стр. 1.
3 А. В. Чичерин, О языке и стиле романа «Война и мир»,
стр. 39—40.
4 Там же, стр. 43.
632
Средством обострения исторической достоверности
художественного изображения служит Л. Толстому но-
вый прием, прием полемического анализа тех историче-
ских картин эпохи, которые содержались в трудах при-
сяжных историков 1812 года. Этот прием не уводил
автора от стилей современного ему литературного языка.
Вместе с тем усвоенный у Пушкина и подвергшийся
углубленному и своеобразному стилистическому разви-
тию принцип субъектных изменений повествовательного
стиля создает сложную систему призм, преломляющих
действительность.
Благодаря этой индивидуально, творчески преобра-
зованной системе форм субъектной многоплановости воз-
никает иллюзия, что достигнута высшая степень объек-
тивности. «Из этого стремления соблюсти объектив-
ность,— по словам Н. Н. Страхова,— происходит, что у
гр. Толстого нет картин и описаний, которые он делал
бы от себя»1.
Точно так же К. Леонтьев верность толстовского сти-
ля духу, общепсихической музыке эпохи ставил в зави-
симость от того, каким языком рассказываются события,
приключения действующих лиц, от того, какими выра-
жениями передаются чувства героев и т. п. «Для полной
иллюзии, для полного удовлетворения, мне недостаточно
того, что рассказано, для меня важно и то, как оно рас-
сказано и даже кем — самим ли автором, например, или
человеком того времени, той местности, той нации и
веры, того сословия, которые автором изображаются.
В последнем случае при удачном приеме иллюзию со-
хранить гораздо легче»1 2. В повествовательном стиле
«Войны и мира» рассказывается автором внутренняя
сторона изображаемых событий — в свете речи и созна-
ния людей того времени. Способ изображения действи-
тельности как бы органически слит с мировоззрением
людей той эпохи, с их социально-речевыми стилями. На
почве этого сближения открывается возможность модер-
низировать персонажи, придав им формы мысли и речи
людей 60-х годов, однако не совсем лишив их признаков
исторической характерности, не оторвав их от контекста
изображаемой эпохи.
1 См. В В. Виноградов. О языке Льва Толстого, «Литера-
турное наследство», т. 35—36, стр. 173.
2 Там же, стр. 173—174.
633
Самый стиль авторского повествования в «Войне и
мире», не включая в себя элементов, вовсе чуждых и
непонятных русскому читателю 60-х годов, представлял
собою очень сложную, многослойную структуру, объеди-
няющую разные стилевые пласты, которые тянули то к
литературному языку 60-х годов, то к речевым обычаям
начала XIX века. С одной стороны, на стиле самого
Л. Толстого до 70-х годов был явный налет стародворян-
ской речевой культуры, насыщенной европеизмами в их
французском обличье. Сложность' языка «Войны и мира»
увеличивалась от разнообразия личин автора, который
выступал и как художник-мастер словесного изображе-
ния, и как историк, и как военный специалист, и как
публицист и философ. С другой стороны, язык автора,
как бы просвечивая приемами мысли и выражения опи-
сываемых героев, становится разностильным и приобре-
тает необыкновенную глубину и сложность смысловой
перспективы. Тут Толстой идет еще дальше Пушкина,
отправляясь от него. В повествовательном стиле Л. Тол-
стого усилена воспроизводящая тенденция художествен-
ного речеведения. В повествовательном стиле «Войны
и мира» гораздо резче, глубже и драматичнее, чем
у Пушкина, смешивается и сталкивается голос автора
с голосами персонажей.
Остается сказать несколько слов о формах историче-
ской стилизации речи действующих лиц «Войны и
мира». Л. Толстой создал новые стилистические прие-
мы выражения духовного мира личности. Утверждая
внеисторичность, вневременность сознания в его основ-
ном, «природном» чувственном содержании, Л. Толстой,
естественно, чуждается внешних, показных, реставра-
ционно-натуралистических примет стиля эпохи.
Непосредственное выражение переживаний и мыслей
личности, по Толстому, всегда более или менее одно-
родно. Но Л. Толстой глубже и разнообразнее, чем Пуш-
кин, изображает внутренние противоречия личности в их
динамическом течении и развитии. Для этого он разра-
батывает новые принципы и формы внутреннего моно-
лога, новые способы литературного воспроизведения
«внутренней речи». Вся эта сфера переживаний и отно-
шений может быть выражена средствами современного
языка. Однако речевые «позы», разные типы стилистиче-
ских манер, свойственных эпохе и исторически изменяй*
634
fibtx, наслаиваются на «живую жизнь». Социально-язы-
ковый характер, историческая индивидуальность сла-
гается не только из прямых, правдивых, естественных
выражений сознания, но и из свойственных эпохе манер
стилизации. Воспроизведение такой манеры требует
введения лишь немногих, характеристически-речевых
примет, типичных для бытовых характеров изображае-
мой эпохи, тем более, что эта манера, по Толстому,
далеко не всегда дает себя знать. Краски стиля эпохи, из-
влекаемые из литературных и бытовых стилей того вре-
мени, в разной степени наложены на образы разных лиц.
Особенно ярки и густы они в речи старого князя Бол-
конского. Речь такого героя, как Андрей Болконский,
почти совсем свободна от них. Л. Толстой нередко огра-
ничивается психологически мотивированным единичным
показом историко-бытовой манеры речи того или иного
лица. Так, при первом появлении в романе Денисова
после демонстрации его картавого выговора и ухарски-
гусарского стиля речи с богатым бранным лексиконом
изображается тот же Денисов — Давыдов в его литера-
турно-романтической маске, и его бытовой гусарский
стиль смешивается с языком любовной лирики начала
XIX века. Все описание лирического вдохновения Дени-
сова, сидящего за бутылкой водки с колбасой, глубоко
иронично.
«Мы спим, пока не любим. Мы дети пг’аха... а полю-
бил— и ты бог, ты чист, как в пег’вый день создания...
Это еще кто? Гони его к чег’ту, некогда!—крикнул он
на Лаврушку».
Недаром эти новые принципы исторического изобра-
жения многим, в том числе и Тургеневу, казались неис-
торичными. «Где тут черты эпохи? Где краски историче-
ские?» Фет же увидел главную задачу романа в том,
чтобы «выворотить историческое событие наизнанку и
рассматривать его не с официальной шитой золотом сто-
роны нарядного кафтана, а с сорочки, т. е. рубахи, ко-
торая к телу ближе и под тем же блестящим общим
мундиром у одного голландская, у другого батистовая,
а у иного немытая, бумажная, ситцевая».
После «Войны и мира» Л. Толстого старая стили-
стика и прежняя поэтика исторического романа пред-
ставлялись безнадежно устарелыми и малосодержатель-
ными. Художественное проникновение в глубь истории
635
многим писателям второй половины XIX и начала
XX века стало казаться легче осуществимым с помощью
воспроизводящего стиля, основанного на языковых сред-
ствах старины и как бы непосредственно вводящего в
быт и мировоззрения изображаемой эпохи. Это была,
конечно, не только художественная иллюзия, но и слож-
ная литературно-художественная задача, вызванная рос-
том и развитием стилей русской литературы. Созданию
новых типов исторического романа предшествовала под-
готовительная работа в смежных областях художествен-
ной литературы и истории. Стилистические искания Лес-
кова, старорусские имитации Горбунова, упражнения
в древнерусском стиле А. К. Толстого, позднее — рестав-
рации А. Ремизова открыли путь новым формам вос-
производящего исторического стиля, во многом откло-
нявшимся от классической поэтики и стилистики реали-
стического исторического романа Пушкина и Л. Тол-
стого. Расширявшиеся знакомства с древнерусскою
письменностью и искусством, раскрывавшееся в потоке
издаваемых памятников многообразие старорусских сти-
лей лишь углубляли эти новые тенденции.
Но наряду с ними наметились и новые возмож-
ности художественного синтеза тех форм выражения,
которые были открыты Пушкиным и Л. Толстым. Осве-
щение этих новых путей развития стилей исторического
романа вводит нас уже в историю русской литературы
XX столетия.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В этой книге выдвигается и освещается очень не-
большой круг проблем, относящихся к широкой, но ма-
лоисследованной области — к науке о языке художе-
ственной литературы (быть может, точнее: к науке о
стилях художественной литературы в их историческом
развитии и современном состоянии). Эта наука пока еще
не установила твердых границ своих по отношению
к исторической поэтике, а отчасти и к истории литера-
туры, с одной стороны, и к истории литературного языка,
с другой. Она еще не определила с необходимой точно-
стью все объекты своего исследования и основные ме-
тоды. Естественно, что в центре внимания прежде всего
оказываются две темы:
1) о словесно-художественной структуре литератур-
ного произведения, о его стиле и его авторе;
2) о связи процессов развития стилей литературно-
художественных произведений или стилей художествен-
ной литературы с закономерностями истории литератур-
ного языка.
Такие важные категории словесно-художественного
творчества нового времени, как историзм и реализм,
формируются в неразрывной связи с развитием обще-
ства, национальной культуры и с развитием националь-
ного литературного языка.
На пути исследования намеченных вопросов автор
не мог не столкнуться еще с тремя сериями проблем
637
теории стилей художественной литературы: 1) с пробле-
мами связи стиля и идеологии, 2) с проблемами изобра-
жения персонажей и построения «образа автора» и
3) с проблемами соотношения индивидуального стиля
писателя и стиля литературного направления. Однако
эти серии вопросов лишь в самых общих чертах и кон-
турах обрисовываются в этой книге. Они должны стать
предметом особых самостоятельных работ. Точно так же
выделяется в отдельную конкретно-историческую моно-
графию вскользь затронутый вопрос об эвристике и
о принципах определения автора литературного произ-
ведения на основе свидетельства языка и стиля. Вни-
мательный анализ литературной деятельности Карам-
зина в связи с изучением стилистических направлений
90-х годов XVIII века и начала XIX века приводит
к открытию нескольких неизвестных произведений Ка-
рамзина, чрезвычайно важных для понимания его твор-
ческого пути. Исследование стиля статей, помещенных
в «Литературной газете» Дельвига, помогает установить
авторство большей части этих статей и точнее опреде-
лить границы и характер пушкинского участия в этом
издании. Но особенный интерес представляют неизве-
стные фельетоны и художественные очерки Ф. М. До-
стоевского, извлеченные из журналов 70-х годов. При-
надлежность их великому художнику доказывается по-
средством тех же эвристических приемов исследования
их языка и стиля. Все эти новые материалы и лягут
в основу особого исследования по эвристике и критике
текста. Таким образом, в тесной связи с настоящей кни-
гой находятся четыре, которые должны последовать
за ней:
1) Образ автора и типы его стилистической струк-
туры в русской художественной литературе, преимуще-
ственно XIX—XX веков.
2) Индивидуальные стили и процессы их обобщения
и «рассеяния» в русской литературе с конца XVIII века
до начала XX века.
3) Отражения индивидуальных стилей в анонимной
литературе.
4) Стиль и идеология.
Само собой разумеется, что горизонт теоретических
обобщений и конкретно-исторических выводов расши-
ряется при применении историко-типологических сопо-
638
ставлений и сравнений, то есть при рассмотрении соот-
ветственных процессов и явлений в истории разных
литератур. Но при современном положении поэтики и
стилистики художественной литературы иногда целесооб-
разно — во имя точности и ясности критериев и катего-
рий стилистического исследования — жертвовать широ-
той сравнительно-исторического анализа. Начинать при-
ходится с изучения закономерностей развития стилей
отдельных национальных литератур. Фундамент этой
работы еще скромнее и уже. Он складывается из наблю-
дений над русской художественной прозой нового вре-
мени.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Абаев В. И.—20.
Аввакум, протопоп — 35, 36, 271,
446, 468.
Авдеев В. Ф.— 187.
Аверкиев Д. В.— 529.
Авилова Н. С.— 69.
Адрианова-Перетц В. П.— 98,100,
423, 428, 429, 436.
Аксаков К- С.— 541—542.
Аксаков С. Т.— 386, 389, 403, 548.
Аксаковы — 386, 391, 397.
Александр I — 127, 128, 221,
515, 597.
Александр II — 251.
Алексеев В. М.— 24.
Алексеев П.—186.
Алексей Михайлович — 220.
Альбов М. Н.— 216.
Андреев А.— 524.
Андреев Л. Н.— 91, 92, 233.
Андреевский С. А.— 94—96.
Андрей, кн.—57, 541,564.
Андрей Белый— 11, 192 — 193,
335.
Анна Ивановна — 560.
Анненков П. В.— 513.
Анненский И. Ф.— 335.
Апостолов Н. Н.— 518, 535, 537,
538.
Арнольди Л. И.—356, 361, 381,
385, 394, 397.
Артемий —220
Арцыбашев М. П.—233.
Арцыбашев Н. А.—521.
А. Т. (см. Тепляков А. Г.).
Афанасьев А. Н,— 219.
Багговут К- Ф.—325.
Базаров В.—192—193.
Байрон Д.-Г.— 93.
Байский Порфирий (см. Сомов
Орест).
Балли Ш.—179.
Балухатый С. Д.— 49.
Бальзак О.—451—452, 459—461.
Бальмонт К. Д.— 335.
Бантыш-Каменский Н. Н.—610.
Баранов К- Н.— 203.
Баратынский Е. А.— 57, 288,
325, 335—337.
Бардин — 260.
Барон Брамбеус (см. Сенков-
ский О. И.).
Барсуков Н. П.— 263.
641
Батый — 423.
Батюшков К. Н.— 57, 61,509, 521.
Башилов С.— 220.
Башкин — 220.
Белецкий А. И.—49, 170.
Белинский В. Г.— 81, 142 , 265,
270, 306, 341, 358, 360—363,
366—370, 374, 380, 382—383,
390-391, 393, 397-398, 400,
406, 408, 411—415, 432,
457, 461, 473, 475, 492,
512-514, 516, 522-523, 573,
576, 582, 583.
Белов Б. С.—270.
Белодед И. К-—68.
Белозерская Н.~ 520—521.
Беляев И. Д.— 219.
Берви-Флеровский В. В.—299.
Берг Н. В.—365.
Бергсон А.— 19.
Берков П. Н.— 259, 270,292—296,
472.
Берлинер Г. О.— 307.
Бернштейн С. И.— 15, 16, 23—25.
Бестужев-Марлинский А. А.— 57,
105, 511, 520—522, 532—533,
538-541,557, 564-565,582,584.
Бёк A. (A. Boeckh) —266.
Бианки В. В.—224—225.
Бирон Э.-И.— 560.
Бирюков П. И.— 308.
Благой Д. Д.—73, 458, 462.
Блок А. А.—198, 248.
Блок Г. П.— 581-582.
Богданова Е. А.—286—287.
Богданова М. И.—425.
Богданович И. Ф.— 336.
Богомолов Б. И.—432.
Богородский Б. Л.—588.
Богоявленский М. М.— 355,367—
368, 371-379, 382, 386, 389,
393-394.
Бодуэн де Куртене И. А.— 13,
20, 24, 89.
Бомарше — 451.
Бонди С. М.— 16, 31,32, 73, 326—
328, 338—339.
Боплан Г.—610.
Борецкий И.А.— 570.
Борис Годунов— 64, 249, 459,
575-576, 578—580, 582.
Борисов Л.—193.
Борисова М. Б.— 65.
Борн И. М.—439.
Боткин В. П.— 93.
Бочаров С. Г.— 77.
Брандт Р. Ф.— 192.
Брик О. М.— 12, 115.
Бруммель Д.— 171.
Брюсов В. Я.—И, 161, 192—193,
209, 267—270, 335.
Бугаев Б. Н. (см. Андрей Белый).
Будагов Р. А.— 51, 65—67.
Будде Е. Ф.— 7, 8, 90.
Булаховский Л. А.— 56—59.
Булгарин Ф. В.— 386, 524. 530,
547, 565, 582, 584.
Бунин И. А.— 113, 198—199, 443,
460.
Бур люк Н. и Д.— 116.
Бурсов Б. И.— 457.
Буслаев Ф. И.— 6, 63, 87, 534.
Бутру Э.— 192—193.
Бухштаб Б. Я.— 247, 574.
Бушмин А. С.— 144—146.
Былинов А.— 195.
Вальцель О.— 110.
Ваншенкин К. Я.— 108—109.
Василевский И. Н.— 352.
Василий Васильевич Темный,
кн.— 544.
Василий Иванович, кн.— 524.
642
Василий Косой— 544.
Ващенко-Захарченко М. Е.— 344.
Введенская Л. А.— 70.
Вейсгербер Л. (L. Weisgerber)—
89, 252.
Веллингтон А.-У.— 533.
Вельтман А. Ф.—57, 107,244—
245, 287, 455, 527, 530, 567,
569—574 , 582, 584.
Вельфлин Г.—41.
Венгеров С. А.—254, 288—289,
380, 512.
Веретенников В. И.— 219.
Верье П. (Р. Verrier) — 23, 215.
Видок Э.-Ф.—533.
Вилинский С. Г.— 220.
Винокур Г. О.— 16, 20, 32, 40,
60—66, 89, 98—99, 102, 177,.
249, 250, 259, 263, 310—311,’
469.
Винокур Т. Г.—65.
Витязев Ф. И.—299—305, 312,
324.
Владимир, кн.— 260, 524, 574.
ВЛП (см. Пушкин В. Л.).
Волк С. С.— 522, 532.
Волынский А. П.— 560.
Волькенштейн В. М.— 49.
Вольтер— 171—172 , 289.
Воскресенский М. И.— 524.
Востоков А. X.— 308.
Вышеславцева С.— 25.
Вяземский П. А.— 290 , 583.
Гавранек Б. (В. Havranek)— 78,
115.
Гальди A. (A. Galdi)—101.
Гаршин В. М.— 37.
Гвоздев А. Н.— 68, 90.
Геббель Ф.— 531.
Гедеонов С. А.— 528.
Гельгардт Р. Р.—75.
Генрих IV —533.
Гераков Г. В.— 520.
Гете И.-В.—93, 230, 313.
Герцен А. И.— 65, 69, 198 , 307,
437, 440, 445, 588.
Гефер — 313.
Гильдебранд Б.— 323.
Гиляров-Платонов Н. П.— 213.
Гиляровский В. А.— 174—175.
Гиппиус В. В.— 326.
Гиро П. (Р. Guiraud)— 313, 320.
Гладков Ф. В.— 64, 187.
Глинка М. И.— 179.
Глинка С. Н.— 520—521.
Глинка Ф. Н. — 267, 509,
520.
Глхрв — 522.
Гоголь Н. В.—7, 14, 23, 41, 57,
74, 79, 81, 86, 161—162, 185—
200, 205, 210—212, 227, 238—
244, 250—251, 264—265, 267,
272, 316—317, 329—333, 335,
339—341, 354—421, 431, 437,
447—448, 455, 458, 460, 473, 474,
476—477, 483, 489, 492, 494,
524, 529-530, 601—623, 625,
627.
Голицын Д. В.— 178.
Голохвостов — 552.
Голубев — 405—406.
Голубов С. Н.— 188.
Гомер — 135, 325, 609, 616,
617.
Гомперц —313—314.
Гончаров И. А.— 237—238,462.
Гораций— 101, 577.
Горбунов И. Ф.— 636.
Городецкий Б. П.— 249—250.
Горький А. М.—6, 52, 62, 64—65,
68, 70г79, 81, 86, 104, 162,
167, 183—184, 204, 207, 210,
643
218, 223, 238, 253—254, 446,
458, 460.
Гофман В. А.— 51—54.
Гофман М. Л. — 254 — 255,
325, 335-337.
Грамши A. (A. Gramsci) —103.
Грановский Т. Н,—234, 391.
Греви — 351.
Греч Н. И.- 509.
Грибоедов А. С.— 32, 173, 210,
439, 441, 514.
Григорович Д. В.— 232, 233, 344,
477.
Гродская Н. С.—234.
Гроссман Л. П.— 49.
Грот Я. К.—6, 8, 90, 186, 194.
Гудзий Н. К.-98, 329.
Гуковский Г. А.— 49, 266, 343,
454, 469.
Гумбольдт В.—20, 21.
Гумилевский Л. И.—200.
Гурычева М. С.— 73.
Гурьянов Ив.—325, 522.
Гусев Н. Н.— 233.
Д.—357, 359, 380-388, 390-392,
397, 415.
Давыдов Д. В.— 174, 635.
Даль В. И.—186, 289, 308—309,
474.
Данилевский Г. П.—378—381,
389—390, 392, 394, 403, 415,
627.
Дантес Ж.—175.
Даргомыжский А. С.—287.
Дельвиг А. А.—57, 638.
Демосфен — 135, 296.
Демьян Бедный —445.
Державин Г. Р.—447, 457, 472,
513, 515.
Державина О. А.—579.
644
Дерулэд — 351.
Дидро Д.—451.
Диккенс Ч.— 113, 626.
Диттенбергер — 313.
Дмитриев И. И.— 69.
Дмитриев-Мамонов А. М.— 173—
174.
Дмитрий, царевич —576, 578.
Днепров В.— 442—443, 455, 461.
Добролюбов Н. А.—323.
Долгорукий — 552.
Долинин А. С.— 341, 399.
Достоевский Ф. М.— 23, 39, 49,
86, 112, 114, 142—143, 156,
177, 199—200, 210, 232, 245,
335, 339, 344, 362, 398 — 403,
405 — 415, 431, 442 — 443,
462, 477, 492, 506 - 507, 527,
638.
Дросте —313.
Дружинин А. В.— 93.
Дряхлушин А. М.—223.
Дю Белле Ж-~- 464.
Дюма А. (отец) — 626.
Евгений — 540.
Евгеньева А. П.—429.
Евлахов А. М.— 312.
Еголин А. М.— 354.
Екатерина II—597.
Елисеев Г. 3.— 299.
Емичев А.—340.
Еремин И. П.—98, 100, 117,
432—434.
Ермолов А. П.— 174.
Есенин С. А.—229—230.
Ефимов А. И.—72—74, 79, 87—
88, 101.
Ефремов А. Ф.—69, 308 — 309,
322 - 324.
Ефремов П. А.—254.
Жданов В. А.—329.
Жемчужников А. М — 192.
Жилкин В.— 187.
Жирмунский В. М.— 16, 19, 23,
31, 41—44, 47,48.
Жорж Санд — 626.
Жуковский В. А.—49,57, 61, 94,
339, 414, 521.
Жуковский Ю. Г.—305.
Загоскин М. Н.— 105, 522—524,
541—542, 548—557, 559, 566—
567, 570, 582, 584.
Замотин И. И.—520.
Замятин Е. П,— 108.
Заславский Д. О.— 191.
Захарьин П. М.—516.
Звегинцев В. А.— 15.
Золя Э.—207, 351, 456.
Зорич А. А.— 189.
Зотов Р. М.— 524, 547—548, 584.
Зощенко М. М.— 344.
Зуев Д. П.— 168, 272—277, 280—
287, 343.
Иван III—262, 526, 537, 570,
575.
Иван IV—262, 578.
Иванов В. И.— 11.
Иващенко А. Ф.— 456.
Игорь, в. кн. Киевский—519—
520, 527.
Игорь, кн. Новгород-Северский —
259, 570, 616, 624.
Игорь Северянин — 192.
Измайлов А. А.— 114.
Измайлов А.— 518.
Иконников В. С.— 262.
Ильенков В. П.— 218.
Ильф И. А.—51, 65—67.
Инбер В. М.— 183.
И. О. П. (см.Богданова Е. А.).
Иоссельсон Г.— 320.
Исаковский М. В. — 64, 170,
198.
Истрин В. М.— 98.
Каверин В. А.—340—341.
Казак «Луганский (см. Даль В. И.).
Калайдович И. Ф.—509.
Калугин Ю.—306.
Кантемир А. Д.— 559.
Капнист В. В.—447.
Караганов А. В.— 453—454.
Карамзин Н. М.—61, 86, 102,
132 — 133, 250, 265, 296,
298, 312, 317, 472, 510, 513—
515, 517—522 , 525, 527, 532,
534—540, 550, 562, 574, 576,
638.
Караулов М. А.— 186.
Карелин Л. В.— 189.
Каринский Н. М.— 9.
Катков М. Н.—247, 357.
Кацнельсон С. Д.— 20.
Квинтилиан — 101.
К... в И.—601.
Кединг Ф.~ 320.
Киреевский И. В.— 508.
Кирилл — 568.
Княжнин Я. Б.—517.
Козмин Н. К.—517.
Козьма Прутков — 444.
Козьмин Б. П.— 307, 309.
Кокорев А. В.— 342.
Кокорев И. Т.—243.
Кокошкин И. А.— 472.
Колбасин Е. Я.—93.
Кольцов А. В.—57.
Кони А. Ф.— 113, 133—134.
Конрад И. И.—73, 430.
Копорский С. А.—69.
645
Коптяева А. Д.—246.
Корнилович А. О.— 521, 530.
Короленко В. Г.—114, 115.
Корш Ф. Е.— 167-168, 272—287.
Костомаров Н. И.— 627.
Костюков И.— 192.
Кочетов В. А.— 236.
Кочубей В. П.— 630.
К. Р.—207.
Крафт Г.-В.—560.
Крестова-Голубцова Л.— 306.
Кривонкина М. Я.—70.
Кронеберг — 39.
Крутогоров — 286—287.
Крученых А. Е.— 116.
Крылов И. А.—53-55, 335,
439, 446—447, 457, 472,
513—514.
Крючков П.— 190.
Кузмич Ал.—524.
Кукольник Н. В.—132, 524, 529.
Кулешов В. И.—270.
Кулиш П. А.—355, 359—360,
379, 394, 396, 409—410.
Куприн А. И.— 200—201, 207—
209, 217—218.
Курганов Н. Г.—341—342.
Курциус Е.-А. (Е. A. Curtius) —
101.
Кутузов М. И—533, 629, 632.
Кемпбэлл — 313.
Кюи Ц. А.—215.
Кюхельбекер В. К.— 514,521,530.
Лавров П. Л.— 299—305.
Лажечников И. И.— 455, 524, 542,
557—563, 565—567, 570, 582,
584, 626.
Лазарев-Грузинский А. С.— 231.
Лазаревич —517, 518—519.
Лазурский В. Ф.— 159.
Ламанский В. И.—98.
Ландри Е. (Е. Landry) —23.
Ланн Е. Л.— 263, 343.
Ларин Б. А.— 21, 22.
Лафонтен Ж.— 172.
Левин В. Д.— 68.
Левшин В. А.— 516.
Лезин Б. А.— 49.
Лейбниц Г.-В.—225.
Лейкин Н. А.— 146, 352—353.
Лернер Н. О.—171, 288.
Леонов Л. М.—23, 64, 335.
Леонтьев К. Н.—633.
Леонтьев Н.— 187.
Лермонтов М. Ю.— 14, 23, 35, 55,
57, 70, 79, 86, 89, 338, 431,
455, 623, 625.
Лесков Н. С.—23, 31,49, 55, 107,
122—130, 174, 176, 200, 344,
437, 460, 636.
Лесовинский (см. Тепляков А. Г.).
Лещинский Н.—233.
Лжедимитрий — 249 — 250, 565,
570, 576—579.
Лисовский — 552.
Лихачев Д. С.— 98, 100, 423—
425, 436, 467—468.
Лихонин М. Н.— 572.
Лобанов — 178.
Ломоносов М. В.—7, 101, 103,
134—135, 293—296, 342, 541.
542, 565.
Лопе де Вега — 465.
Лоу (Law) — 587.
Лукиан — 295.
Лукин В. И.— 472.
Лукреций — 295.
Любовцев В.— 187.
Людовик XIV —586.
Лютославский В.— 313—314.
Ляпунов Прокопий — 528.
646
Мазон А.— 259.
Майков В. И.—7.
Майков В. Н.— 142, 492.
Майков Л. Н.—7, 521.
Макаренко М.—260.
Макаров М. Н.— 510.
Максим Грек — 260, 524.
Максимович М. А.— 368.
Макферсон Д.—262.
Мальцев О. М.—224.
Мамай—423, 550.
Мамин-Сибиряк Д. Н.— 176, 217.
Мандельштам И. Е.'—11.
Марков А. А.—318—320.
Марко Вовчок — 340.
Маркс А. Ф.— 216, 234.
Маркс К. — 212.
Марр Н. Я.—20.
Марфа Посадница — 105, 536—538,
569—570, 575.
Маршак С. Я.— 235.
Масальский К. П.—522, 544—546,
557, 584.
Масанов Ю. И.—343, 344, 380.
Маторе Г. (G. Matord) — 312, 320.
Машинский С. О. — 270, 338,
529.
Маяковский В. В.— 14, 29, 64—66,
229—230, 250, 445.
Мей Л. А.—529.
Мейлах Б. С.— 73.
Мельников-Печерский П. И.— 7,
175, 437.
Меньшиков, кн.—520, 559.
Мережковский Д. С.— 335.
Мефодий — 568.
Миллер Г.-Ф.—296.
Миллер С. А.—256.
Минин К.— 548.
Миртов П. Л. (см. Лавров П. Л.).
Михайловский Н. К.— 299, 303.
Михайловский-Данилевский
А. И.—356, 375—376, 383, 389.
392, 404, 417.
Мнишек Марина — 249—250, 578.
Модзалевский Б. Л.—541.
Модзалевский Л. Б.—296.
Мольер — 296.
Мопассан Г. — 106, 154, 257.
Мордовцев Д. Л.— 627.
Морозов Н. А.—313—322.
Морозов Ф.— 230.
Москвин Н. Я.— 187.
Моты лев а Т. Л. — 444.
Муравьев Н. М.—521, 531—532.
Муравьев М. Н.—521.
/Муратова К. Д.— 354.
Мусиков В. П.— 188.
Мусоргский М. П.— 215.
Мышецкий — 610.
Набоков-Сирин В.—171—172.
Надеждин Н. И.—288, 511, 525.
Наполеон I — 252, 523, 533, 547,
630.
Наполеон III — 252.
Нарежный В. Т.— 57, 439, 446
448, 518—521.
Нариньяни С. Д.— 195.
Наседкин Ф. И.— 207.
Некрасов Н. А.—69, 81, 86, 92—
96, 209, 335, 339, 344, 458
477.
Нектарий — 220.
Нефедов Г.— 190.
Нефедов Ю.— 190.
Нехачин И.— 472.
Нечаева В. С.—306.
Нибур Б.-Г.— 533.
Никитенко А. В.— 340, 488.
Никитин Афанасий — 563.
Никитин И. С.— 242.
Никитин Н. Н-— 195—196.
647
Николай I—237.
Никольский Н. К.—262.
Новиков Н. И.—220, 265, 310,
446-448, 472.
Норрис Ф.— 456.
Ныоболт Г. (Н. Newbolt) —46.
Обнорский С. П.— 89.
Оболенский Д. А.—395—398.
Овидий — 221.
Огиенко И. И.— 248.
Огнев В.—— 443.
Одоевский А. И.—521—522.
Одоевский В. Ф.—206, 310—311,
478.
Ожегов С. И. — 194.
Озеров В. А.— 10.
Оксман Ю. Г.—221, 270, 362.
Ольга, кн. Киевская — 519, 527.
Орлов А. С.—55—56, 98, 100,
225, 270.
Орлов В. Н.—541.
Орлов Г. Г.—343.
Орлов М. Ф.—521.
Ос В.—320.
Осипова П. А.—275.
Остерман А. И.—560.
Островский А. Н.— 162—164, 194,
213-215, 218, 234-236, 323,
462, 529.
П. —407.
Пабаусская Т. И.—72.
Павел I — 178.
Павлов Н. Ф —247.
Павлов Т.—449—450.
Палицын Авраамий — 548, 552.
Пальм А. И.— 477.
Панаев И. А.—323.
Панаева А. Я.—93—94, 344.
648
Патрикеев Вассиан — 524.
Паустовский К. Г.— 183.
Переверзев В. Ф.—448.
Перетц В. Н.—260-261.
Перцов П. П.— 198.
Петерсон М. Н.— 68.
Петр 1—65, 105, 219, 221, 296,
521, 526, 547, 558—559, 565,
580-581, 586-589.
Петров В. П.— 343.
Петров Е. П.— 51, 65—67.
Петров Н. И.—520.
Петров С. М.—221, 450—453,
459—460.
Петровский М. А.— 110.
Петровский Н. М.—220.
Пешковский А. М.— 23—26, 36—
39, 47, 246.
Пигарев К. В.—446.
Пиккио Р.— 97.
Пирогов Н. И.—236—237.
Писемский А. Ф.— 176, 626.
Плавильщиков П. А.— 448.
Платов М. И.— 124—128.
Платон —313—314, 318.
Плеханов Г. В.— 203, 299
Плещеев А. Н.— 147, 206, 264,
477.
Пнин И. П.— 439.
Победоносцев К. П.—407.
Погодин М. П.—262—263, 391,
530, 567—570, 575.
Пожарский Д. М.— 549.
Познер Влад.— 184.
Покровская В. Ф.—260.
Полевой К. А.— 565.
Полевой Н. А.—515, 517,
523—524, 529—530, 532, 538,
544.
Полежаев А. И. —264, 267.
Поливанов Е. Д.— 12.
Полоцкий Симеон — 100.
Поляк Л. М.— 431, 435-436.
Поляков В. С.— 168.
Поляков М. Я.— 264.
Помяловский Н. Г.—245.
Пономарев С. И.—296.
Попов М. В.—516.
Попов П.— 225.
Поповский Н. Н.—296.
Попугаев В. В.—439.
Порецкий А.—407.
Пос Г.-И. (H.-J. Pos) —265.
Поспелов Г. Н.— 48.
Поспелов Н. С.— 32, 73.
Потапов В. С.— 65.
Потапов П. О.— 10.
Потебня А. А.— 11, 13 , 20, 182,
244, 309.
Потявин В.— 270.
Пракудин — 516.
Преображенский С.— 461.
Пришвин М. М.— 137— 140. х
Прокопович Н. Я.— 354, 358 —
359, 372 — 374, 376 — 377,
381 —383, 385, 387, 390 — 391,
393—394, 415.
Пугачев Е.—65, 120—121, 221,
459, 581, 592, 594—595, 597,
600.
Путилов Б. Н.—427—428.
Пуцыкович Вл.— 407.
Пушкин А. С.— 7, 8, 23, 26, 31,
32, 35, 40, 41, 49, 57, 61—64,
70, 76, 80, 86, 94, 105, 118—
121, 167—168, 171—172, 175,
193, 197, 200, 203—204,210, 212,
221, 227, 237—238, 249—250,
254—255, 265, 267—269, 272—
290, 316—318, 325—328, 335,
338—339, 343, 426, 431, 439—
441, 447, 451—452, 455, 457—
459, 472—477, 514—515, 517,
521, 524, 526, 529—531,
541, 548, 566, 574-600, 609,
623, 625, 629, 633-634,
636—637.
Пушкин В. Л.—290, 326.
Пушкина Н. Н.—175.
Пшибышевский С. — 248.
Пыпин А. Н.— 260—261,366—370,
382—383, 385—388, 515.
Пяст В. А.—248.
Рабле Ф.—465.
«—р» — 370.
Радищев А. Н.—49, 86, 188,
309—310, 439—440, 445-447,
454, 457, 472.
Раевский В. Ф.—521.
Райнов Т.— И.
Редкова К.—190.
Реизов Б. Г.— 444, 449, 455-456,
475.
Рейнгард Э. (Е. Reinhard) — 23.
Рейф Ф.—310.
Ремизов А. М.— 344, 636.
Решетников Ф. М.— 69.
Ригельман —610.
Риттер К. (С. Ritter) — 313.
Рихтер Жан-Поль — 340.
Робинсон А. Н.— 100.
Рогнеда —521, 527.
Роджерс Самуил — 289.
Родионова В. М.—354.
Розанов В. В.— 335.
Розанов И. Н.— 16, 31.
Розен Е. Ф.— 529.
Рубан В. Г.— 220.
Рубенс П.-П.—296.
Рублев А.— 446.
Рукавишников И.— 248.
Рылеев К. Ф. — 69, 439, 441,
521.
Рюрик — 521.
649
Сабашниковы М. и С.—507.
Савенков А.— 448.
Садовский Б.—174.
Сакулин П. Н.— 170.
Салиас Е. А.— 627
Салтыков-Щедрин М. Е.— 39, 49,
74,87, 88, 143—146, 156,223,234,
243, 247, 270, 299, 303, 307,
339, 437, 458, 477, 507, 626.
Сальников И. С.— 178.
Самарин Р. М. —463, 465.
Самоцветов (см. Чернышевский).
Сапега — 552.
Саран Т. (Т. Saran) — 23.
Саркизов-Серазини И. А.— 190—
191.
Сахаров И. П.— 261.
Свиньин П. П.—340, 524.
Святополк Окаянный—527.
Сеземан В. Э.— 318.
Селиванов И. В.— 178.
Семенников В. П.—220, 309—310.
Сенковский О. И,—57, 340—341,
511, 523, 547.
Сен-Симон де Рувруа А.-К.— 340.
Серафимович А. С.—232, 435—
436.
Сервантес — 465.
Сечкарев В. (V. Setschkareff)—83.
Сиверс Эд. (Ed. Sievers) —23.
Симонов К. М.— 65.
Сиповский В. В.— 526—527.
Сиротина В. А.—68.
Сицкий — 570.
Сичкарев Лука — 342.
Скабичевский А. М.—524, 548.
Скафтымов А. П.—312.
Скобелев М. Д.—126.
Скопин-Шуйский М. В. —525.
Скотт В.—459, 520, 522, 524—
525, 582, 626—627.
Скрипиль М. О.— 427.
650
Скрипчер В. (W. Scripture) — 23.
Слепцов В. А.—69.
Смирдин А. Ф.—133.
Смирнов—174.
Смирнова А. О.—385, 397.
Соболевский А. И.— 260, 526—
527.
Соколов П. И.—221.
Соловьев Б. И.— 188—189.
Соловьев Веев. С.—627.
Соловьев С. М.—219.
Сологуб Ф.— 180—181.
Сомов Орест — 289—290, 520.
Сорокин Ю. С.— 87, 467.
Соссюр Ф.—13.
Софья Алексеевна — 559.
Спасович В. Д.— 39.
Сперанский М. Н.— 260, 435.
Спиридонова В. С.—306.
Срезневский И. И.—89.
Станицкий (см. Панаева А. Я.).
Станиславский К. С.— 132, 181 —
182.
Стасов В. В.—210—211, 215.
Степанов Н. Л.—446—448.
Степанова В. В.— 65.
Страхов Н. Н.— 633.
Суворин А. С.— 147, 273, 405.
Сумароков А. П.—7, 120,172, 341—
342, 469, 517, 591, 596, 598
Сумароков П.—522.
Сулакадзев А. Н.—260.
Сухово-Кобылин А. В.— 49.
Сухомлинов М. И.— 134—13",
293.
Сю Е.—340.
Тамарченко Д. Е. — 443 — 444.
Тан Л.— 285.
Тацит —580.
Твардовский А. Т.— 108—109.
Теннер И. (J. Tenner)—23.
Теплов Г. Н.— 296.
Тепляков А. Г.— 57, 306.
Теренций — 296.
Тимофеев Б.— 192.
Тимофеев Л. И.— 15, 16, 30—32,
44—47, 68, 255—256.
Тит Ливий — 514.
Тихонов Н. С.— 354.
Толстой А. К.—256, 462, 529,
636.
Толстой А. Н. —64, 65, 335,
431.
Толстой Л. Н.— 14, 23, 37, 38,
41, 54, 74—77, 79, 81, 86,
104, 113, 136-137, 154—155,
158—160, 164—165, 196, 200,
210—211, 222,225, 227, 230—
231, 233, 250—252, 257—258,
308, 317, 319, 339, 431, 437,
443, 460 , 462, 506—507, 574,
627—636.
Толстой С. Л.— 158, 222, 627—
628.
Томашевский Б. В.— 16, 23—27,
29, 31—32, 48, 68, 73, 259,
287—288, 339, 344, 517, 521,
580—581.
Тредиаковский В. К.—7, 56, 560—
561, 565.
Тренев К. А.—70.
Трубецкая Е. И,— 94—96.
Трубецкой А. В.— 175.
Трубецкой Д. Т. — 570.
Трушковский Н.П.—355,356, 359,
379, 394, 396, 405, 409—410,
412.
Тряпкин Н. И.— 187.
Туманский Ф. А.— 268.
Тургенев А. М.— 178.
Тургенев И. С.—23, 26, 37, 41,44,
50, 57, 93, 158, 163-164, 173,
174, 179—180, 185,194,206,210,
216—217, 245, 250, 256, 316—
317, 339, 437, 441, 443, 460,
462 , 474, 477 , 493—507 , 513,
528, 626—627, 635.
Тур Евг.— 626—627.
Тынянов Ю. Н.— 16, 19, 24, 31,
32, 48.
Тютчев Ф. И.— 335, 455.
Тютяева А. А.— 70.
Унбегаун Б.-О. (В. О. Un be-
gan n) — 29.
Усов М. В.—224.
Успенский Г. И.— 114—115, 203,
335, 437.
Успенский Гр.— 540.
Успенский Н. В.— 69,437.
Ушаков Д. Н — 173, 194, 243.
Фадеев А. А.— 64, 257, 335,460—
461.
Федин К. А.— 64, 111, 196, 210,
567.
Федор Алексеевич — 555.
Федор Иванович — 549.
Федоров П.— 524.
Федосов А. И.— 223.
Федотов-Чеховский А.— 127.
Феодосий — 549.
Фет А. А. — 158 — 160, 198,
206, 207, 233, 335, 339,
635.
Филимонов В. С.— 204.
Филиппович П. П.— 325, 336—
337.
Фильдинг Г.—451.
Фиоравенти Аристотель — 563.
Флобер Г.— 257, 311.
Фокин Н. И.— 586.
651
Фонвизин Д. И.— 86, 446—448,
451, 457, 470—472, 592.
Фортунатов Ф. Ф.— 89.
фосслер К.— 48, 90, 184.
Фохт У. Р.—439-441
Ханов—174.
Херасков М. М.— 516—517.
Хлебников В. В.— 13, 14, 17, 53,
115, 116.
Цветков С. А.— 311.
Цертелев — 325.
Цицерон—101, 135.
Чаев Н. А.—529.
Чапыгин А. П.— 432.
Чернышев В. И.—6, 7, 9,248.
Чернышев, гр.— 126.
Чернышевский Н. Г.— 69, 81,
140-142, 307—309, 322—324,
362, 437, 442.
Черняев Н. И.—585-586.
Чертков В. Г.— 136, 159—160.
Чехов Ал-др П.—231.
Чехов Ант. П.-37, 54, 70, 72,
74, 81, 86, 92, 105—107,
108, 111, 113—114, 146—
154, 165—166, 172, 176—177,
200—207, 211, 215—216, 231—
232, 238, 246, 253-254, 345—
354, 460.
Чехова М. П.— 146.
Чивилихин А.— 68.
Чижов В. П. — 359-370, 372,
382-383, 386—388, 414.
Чистяков М. Б.— 576—577.
Чичерин А. В.—75—77, 250—
252, 630, 632.
Чичерин Б. Н.—247.
Чужбинский А. С.—176.
Чуковский К. И.—91, 92.
Чулков М. Д.—448, 516.
Чуровский А.— 524.
Ч. П.—388.
Шаликов П. И.— 574.
Шафонский А. Ф. —610.
Шахматов А. А.— 6, 8, 89, 104.
Шведова Н. Ю.—68, 74, 617.
Шевырев С. П.— 288, 384, 389,
391, 397, 403.
Шекспир В.— 141, 451, 464—465.
Шелгунов Н. В.— 181.
Шелли П.-Б.— 131.
Шелюто Г. А.— 71.
Шемшурин А.— 193.
Шемяка Дм.— 544, 550.
Шенрок В. И.— 616.
Шенье А.—533.
Шестакова О. А.— 68.
Шиллер Ф.— 93.
Шишкина О.—524—525.
Шишков А. С.— 91, 172.
Шишков В. Я.— 64, 65, 432.
Шкловский В. Б.— 14, 115.
Шнейдер Ф.-И. (F. J. Schneider)—
288.
Шолохов М. А.— 64, 197.
Шор Р. О.—20.
Шпитцер Л.— 3, 48, 90, 91, 252,
304.
Штенцель И. (J. Stenzel)—225.
Штокмар М. П.—16, 31, 32.
Штукенберг (см. Крутогоров).
Шуйский, кн.—570,576.
Шюккинг Левин—131.
Шюккинг Людвиг—131.
Щепкин М. С.—389, 391, 403.
Щерба Л. В.— 10, 13, 22—24, 32,
35, 50—51, 88, 89, 170.
652
Эйхенбаум Б. М — 12, 14—18,
31.
Эльсберг Я. Е.— 49, 270, 439,
445—446, 457—458.
Эмин Ф. А.— 516—517.
Энгельгардт Б. М.— 14, 17—18.
Энгельс Ф.— 212.
Эразм Роттердамский — 464.
Эренштейн Ант.— 561—562.
Эрлих В. (V. Erlich) — 83.
Эрте ль — 522.
Эсхил — 295.
Юзбашева Н. Л.— 65.
Юнга Е. С.— 189.
Ягич В. (V.Jagic) —7.
Ягич И. В.—104.
Якобсон Р. О.—12—14,16,17,115.
Якубинский Л. П.— 12—13, 14,
21, 22, 32, 98, 115.
Ярхо Б. И.—31.
Ястржембский Н. Ф.— 265,
353, 357—359, 370—398,
400—404, 406—413, 415—417,
419—420.
Яшин А. Я.— 224—225.
W —378, 381, 387.
Z.Z. Z. — 370.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Отавтора ........................................ 3
I. Изучение языка художественной литературы в совет-
скую эпоху (Приемы, вопросы, итоги)............ 5
II. Общие проблемы и задачи изучения языка русской
художественной литературы.......................84
III. Язык художественного произведения .........167
IV. Проблема авторства и правильности текста литератур-
ного произведения...............................259
V. Об идейных и стилистических проблемах и мотивах лите-
ратурных переделок и подделок...................334
VI. Реализм и развитие русского литературного языка . . 422
VII. О связи процессов развития литературного языка и
стилей художественной литературы................508
Заключение .....................................637
Указатель имен .................................641
Виктор Владимирович Виноградов
О ЯЗЫКЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Редакторы С. Гиждеу и Ф. Кузьмин
Художественный редактор Г. Масляненко
Технический редактор М. Позднякова
Корректор Н. Бондарчук
Сдано в набор 9/ХП 1958 г.
Подписанок печати 27/II 1959 г. А00336
Бумага 84Х108*/sa — 20,5 печ. л. = 33,62 усл.-печ. л.
35,3 уч.-изд. л. Тираж 15 000. Заказ № 2546.
Цена 15 р. 60 к.
Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19
Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова Московского
городского Совнархоза.
Москва, Ж-54, Валовая, 28.