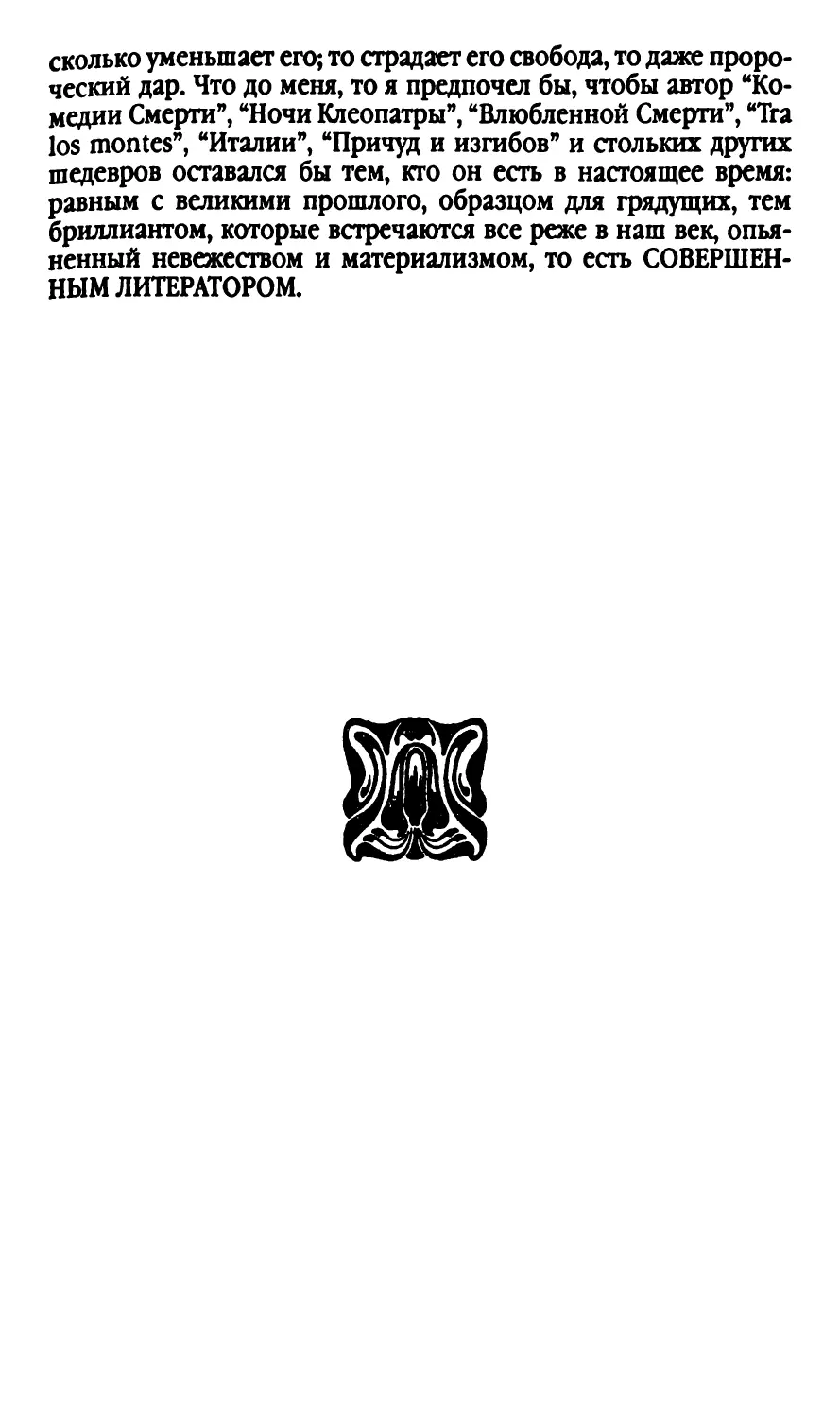Текст
символы
ВРЕМЕНИ
РАИ
Клуб
ЛЮБИТЕЛЕЙ
ГАШИША
символы
ВРЕМЕНИ
ГАШИШ
31
БЕЗУМИЕ
40
КАЙФ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В КОШМАР
45
ТЫСЯЧА ВТОРАЯ НОЧЬ
51
ЧТО ТАКОЕ ГАШИШ
94
ЧЕЛОВЕКОБОГ
112
МУКИ ОПИУМА
151
символы
ВРЕМЕНИ
Искусственный
рай
ГАШИША
/ТМФ
МОСКВА
1997
ББК84.4Фр.
Б 75
Составление и перевод
BJA. Осадченко
В оформлении книги использованы произведения
художников П. Крога и М. Пайнтнера
Бодлер Ш/и др.
Б 75 Искусственный рай. Клуб любителей гашиша. —
М.: Издательство «Аграф», 1997. — 416 с
Предлагаемая читателям книга построена на произведениях Шарля
Бодлера и Теофиля 1Ътье на тему о воздействии наркотиков на твор-
ческий процесс. Открывают книгу эссе Илье, вместе с которым Бод-
лер посещал парижский Клуб любителей гашиша. Являясь ориги-
нальным исследованием, книга включает обширный комментарий.
Мнение авторов парадоксально и во многом противоречит сего-
дняшнему пониманию проблем, связанных с наркотиками...
ББК84.4Фр.
ISBN 5-7784-0030-6
Ж
© «Аграф», 1997
РАЙ ИСКУССТВА
Шарля Бодлера
Брат, ищущий в наш век железный,
Как я, в свой рай неторный путь,
Жалей меня... Иль проклят будь!
Ш. Бодлер. Эпиграф к осужденной книге
Человечество совсем мало зна-
ет о Рае и Аде. Церковь, как православная, так и католическая, поч-
ти не распространяясь о райских кущах, советует заботиться о
том, как избегнуть адовых мук. Описания разных потусторонних
ощущений, которые имеются в изобилии, говорят лишь о том, что
их авторов не пустили в Рай (или в Ад) дальше передней. Эреб и
Валгалла не увлекают уже ни праздный, ни творческий ум. Потуск-
нел и рай Мильтона, и ад Данте. Современный мир, зачарованный
своей Снежной королевой — Наукой, стал к ним холоднее и бес-
чувственнее. Великие учителя всех мастей, иногда спускающиеся
со столпов, чердаков и насестов Высшего знания на безграмот-
ную землю, тоже не упразднили этот вопрос. Он все равно остает-
ся и состоит в следующем: какое невиданное блаженство может
заменить земную жизнь и какой ужас— сравниться с земными
ужасами?
Рай и Ад принадлежат к странам с неизвестной географией.
Здесь у человека нет иного путеводителя, кроме его собственной
веры. Дело в том, что они не являются местом сбора хороших или
дурных людей; Ад и Рай - это результат всей человеческой жизни.
Духовная жизнь не есть нечто, присущее только духовным людям;
она есть у каждого человека. Но, как всякий процесс, она имеет
два направления. “Не идти вперед — значит, идти назад”,— гово-
рили древние; если человек не занимается своей духовной жиз-
нью, то он уменьшает свой духовный потенциал. Как ныряльщик,
не набравший в легкие достаточно воздуха, пока его ноги стояли
на земле, он задохнется в среде, опирающейся исключительно на
духовность.
Одним словом, чтобы жить в этом новом мире, нужно работать
еще на Земле. Какова же эта работа? Марсель Пруст говорил, что
она — прямая противоположность тому, что ежеминутно совер-
шается в нас самолюбием, пристрастием, здравым смыслом и
привычкой. Эта работа, продолжает он, направлена против чере-
5
ды практических целей, ложно называемых нами жизнью. Такова,
по словам Пруста, работа всякого настоящего художника. А теперь
сравните это утверждение со словами Жан-Поля Сартра о Бодле-
ре: “Он [Бодлер] отказался от реальных поездок за границу, пред-
почел дальним путешествиям вечные переезды с квартиры на
квартиру и, наконец, добровольно пошел на литературный полу-
успех.” И далее “Этот человек отверг жизненный опыт... он ниче-
му не научился”*. Поистине, фамусовские рассуждения, которые
можно и заключить вздохом этого героя Грибоедова:
Послушали б, что делали отцы,
Учились бы, на старших глядя!
Прошу заметить, что персонаж, которого Фамусов столь горя-
чо призывал учиться, тоже славно писал и переводил, то есть, по-
просту говоря, был литератором, как и его прототип в жизни.
В статье Бодлера “О вине и гашише” есть описание любопыт-
ной сцены. Двое пьяниц шли в кабаре, но один из них свалился в
ручей и отказался идти дальше. “Его друг, — пишет Бодлер, — один
идет в кабаре и возвращается с веревкой в руке. Безусловно, ему
невыносима мысль плыть в одиночку и в одиночку бежать за сча-
стьем; поэтому он и отправился в коляске искать своего друга. Ко-
ляска — это веревка; этой коляской он обвязывает ему поясницу.
Лежащий друг улыбается: он, разумеется, понял его материнскую
заботу. Второй затягивает узелок, а затем начинает идти, словно
ласковая, тихая лошадь. Тот человек, которого везут, вернее, тащат
волоком, начищая его спиной мостовую, не перестает улыбаться
невыразимой улыбкой”. Но, самое интересное, это его описание
реакции толпы: она “остается в недоумении, ибо то, что слишком
прекрасно, то, что превыше поэтических сил человека, произво-
дит скорее изумление, чем умиление”.
Можно представить себе это брезгливое недоумение. Впрочем,
такая реакция вполне понятна. Что прекрасного, а тем более поэ-
тического может быть в этой совершенно вульгарной сцене? Че-
ловек, пьяный на людях,— это же возмутитель спокойствия, оск-
вернитель нравственности. Для того чтобы оценить эту сцену, на-
до обладать большим сочувствием к человеку; возможно, даже, что
не будет преувеличением сказать, что такое понимание требует
сочувствия святого. Ведь Бодлер отнюдь не смеется над этими
пьяницами, наоборот, он восхищается ими. В том, что веревка
' Читатель макет ознакомиться с текстом зтой в патам смысле чудной
(с ударением на любам слоге) статьи в книге: Шарль Бодлер. Цветы ам
Стихотворения в прозе. - М.: Высш, шк., 1993.
б
превращается в экипаж, есть нечто детское; у взрослых не может
быть такой условности, слишком похожей на юродство.
Кстати, западное христианство не знает почитания юродивых,
что естественно для общества, соблюдающего форму в общении
между людьми. В почитании же юродивых отражается стремление
к парадоксу святости, происходящей от глумления над собой и
миром. Но в этом обществе всякий, кто стремится “разорвать со-
лидарные связи с людьми”, употребляя выражение Сартра, не за-
служивает не только поклонения, но вообще названия человека.
Может быть, не случайно, что многие юродивые на Руси были ро-
дом “из земли немецкой”, то есть чужой, ибо немцем (немым) то-
да называли всякого, кто говорил на непонятном языке. На роди-
не для их подвига просто не было места.
Для Бодлера существовала безусловная связь между отноше-
нием к пьянству и отношением к детям. В своей статье “Мораль
игрушки” он написал: “Есть такие родители, которые ни за что не
хотят покупать детям игрушки... Не знаю, почему, но мне кажет-
ся, что они исповедуют протестантизм... Это те же люди, кото-
рые охотно подадут нищему франк, чтобы тот подавился хлебом,
но никогда не дадут ему и гроша на кабак”. Разумеется, эта фра-
за несколько натянута: вряд ли нищий станет объявлять, зачем
ему нужны деньги. Но каково предложение! Подать нищему для
того, чтобы он выпил в кабаке! Зачем? С какой стати? Эта идея
кажется вздорной и вызывающей. Но Бодлер ставит нищего вро-
вень с детьми бедняков. “Наполните свои карманы этими ма-
ленькими изобретениями [игрушками] и, проходя мимо кабаков,
подарите их незнакомым бедняцким детям”. Вот связь между
пьянством и детством. Для среднего человека равно непривычно
(если не сказать больше), дать ли нищему на кабак или бедному
ребенку — игрушку. Ему, как правило, все равно, кто протягивает
к нему руку для него главное, что тянутся к его кошельку ему ди-
ко, страшно и неприятно допустить, что кто-то может тянуться к
его сердцу.
В этой связи примечательно упоминание протестантизма, кото-
рый предполагает прямую и какую-то вульгарную связь между ве-
рой и преуспеянием. Если ты преуспеваешь, значит, ты угоден Богу,
говорит он. Неудачник, пьяница, юродивый — для протестанта это
все синонимы проклятия. А Бодлер говорит о забытых и безымян-
ных пьяницах, пишет Песнь вина. “Бэре тому,— чье себялюбивое
сердце, глухое к невзгодам его собратьев, никода не слышало этой
песни!” tye же здесь тщательно поддерживаемая дистанция между
собой и миром, дистанция денди, о которой говорит Сартр? Но вот
пример настоящей дистанции, взятый, правда, несколько из другой
оперы: “Только мы высадились, не успели шагу шагнуть, нас окру-
7
жили джентльмены во фраках, в котелках, в белых галстуках Не то
мистер Денди со своим семейством, не то министр иностранных
дел со свитой, не то агенты тайной полиции — по костюму не разбе-
решь. Ну, подошли поближе, поздоровались, разговорились, и зна-
ете, что оказалось? Оказалось, что это у них нищие. В Англии так
просто попрошайничать строжайше запрещено законом, а во фра-
ке — пожалуйста. Если кто и подаст, считается, что нищих нет, а
просто помог джентльмен джентльмену”1. Тому, кто сочтет это пре-
увеличением, художественным вымыслом, можно предложить дру-
гой пример,— куда худший, взятый из мира людей искусства. “Я по-
мню, — пишет Бодлер, — как один насмешливый художник, которо-
му дали фальшивую монету, сказал: я приберегу ее для какого-ни-
будь нищего... А другой, как мне помнится, говорил: почему нищие
не просят милостыню в перчатках? Им бы охотнее подавали. А еще
один: не подавайте этому: он безвкусно одет; его лохмотья плохо
идут ему”. Это уже не социальная дистанция, это отчуждение друго-
го, эстетического порядка. Голый человек как-то неприятен; его ну-
жно непременно чем-то обмотать, как египетскую мумию, чтобы
своим видом он не портил общее благодушие. Вот она, истинная
эстетизация зла. Отсюда уже недалеко до воеводы Дракулы из рус-
ских сказаний, который однажды собрал всех просящих милосты-
ню в одно место и сжег их из чисто эстетических соображений.
Марсель Пруст, которого мы цитировали выше, считал, что ис-
кусство является плодом нашего внутреннего, а не внешнего чело-
века, который проявляется в своих привычках, в глазах общества,
в своих грехах Как всякий человек, Бодлер тоже грешен. Он гне-
вается на Анселя, своего опекуна, нанятого матерью, за отказ вы-
дать ему часть наследства. Он шлет матери кучу писем с клятвен-
ным обещанием сегодня же, сейчас же отхлестать Анселя по ще-
кам. Потом он пишет следующее “Ударить старика, да еще в присут-
ствии его семьи — дело малопочтенное; но мне нужно удовлетво-
рение; как быть, если этого удовлетворения я не получу?” Заметь-
те, что он отказывается от своего намерения не потому, что оно
некрасиво, а потому, что оно малопочтенно. И наконец, наступает
развязка: “Мое вчерашнее письмо к Анселю было благопристой-
ным. Благопристойно прошло и примирение”. Сартр называет
это конформизмом, подкрепляя свое суждение множеством фак-
тов, в том числе безучастным поведением Бодлера на суде над его
собственной книгой. En pendant он приводит пример Андре Жи-
да, защищавшего свой гомосексуализм. “Он... шел к собственной
морали, — пишет Сартр, — изо всех сил пытаясь создать для себя
' Отрывок из детской книги Андрея Некрасова "Приключения капитана
Врунгеля". Se non е vero, е bene trovato.
8
некий новый свод законов”. Не правда ли, отличная идея? Каждо-
му — свой свод законов! Жаль, что на нее уже не может отклик-
нуться маркиз де Сад, который настойчиво призывал по закону
обязать всякую женщину отдаваться всякому мужчине. Не нужно
забывать, что собственная мораль означает собственный суд. Та-
кой суд каждый из нас и без того частенько вершит в своей душе.
Остается вложить в руки этого суда власть — и дело сделано. А об-
рести власть над человеком, как показывает пример Раскольнико-
ва, совершенно не сложно: главное, иметь такую прихоть.
Но если Бодлера и можно упрекнуть в конформизме, то только
не по отношению к собственным прихотям. “Если Добродетель и
Любовь не примешаны к нашим удовольствиям, — писал он, - то
все наши удовольствия превратятся в муки и угрызения совести”.
далее он совершенно удивительно выразился об обретении пра-
ведности через искусство: “Красота... не более чем ожидание сча-
стья. Красота станет формой, залогом предельной щедрости, пре-
данности своему служению, верности исполнения долга, тонкости
восприятия взаимосвязей. Уродство станет жестокостью, алчно-
стью, глупостью, ложью”. Разумеется, речь здесь идет о духовной,
одухотворенной, святой Красоте. Если Ад и Рай действительно ре-
зультат жизни человека, то можно утверждать, что Красота есть
также ожидание Рая, его предвкушение.
Творчество имеет прежде всего личное значение. Это не про-
фессия, а скорее образ жизни — способ существования, который
диктует равнозначный способ выражения. Здесь Фрейд, называв-
ший художника “самоизлечивающимся невротиком”, прошел, по
крайней мере, по околице истины. Но не все художники таковы:
среди них есть и мнимые больные. Подчас выставить себя боль-
ным даже модно. Но Бодлер был, во-первых, болен непритворно,
а во-вторых, отклонением совсем иного рода. “Если когда-либо и
страдал человек болезнью, не связанной с медициной, — написал
он в письме к матери, - то это, конечно, я”. Что же это была за бо-
лезнь? Ее характер проясняется, если сравнить творчество с выра-
щиванием цветов и с отношением к цветам вообще. Кто-то не лю-
бит цветы и не понимает, зачем они; другому нравится любовать-
ся цветами; третий хочет сам выращивать их; четвертый добива-
ется каких-то особенных цветов. Творчество — это своего рода
желание завести свой собственный сад,- активное желание своей
красоты. Именно это непреодолимое желание заставляло Бодлера
мучиться вопросами нравственности и пользы искусства, и, так
как творчество это — фатум, он должен был ответить на эти воп-
росы, и не столько для того, чтобы иметь творческую состоятель-
ность, сколько для того, чтобы просто жить в каком-то подобии
мира с самим собой. Но мира не получилось. “Вы знаете, что я це-
9
нил литературу и любые другие искусства только тогда, когда они
преследовали цели, далекие от морали, — пишет он в письме, — и
что меня вполне удовлетворяет красота замысла и стиля”. А вот
другой полюс: “Отсутствие в искусстве праведности и истины оз-
начает отсутствие искусства... порождает пошлость, черствость
души, непомерную гордыню и эгоизм”.
Эти поистине проклятые вопросы преследовали Бодлера всю
жизнь. Словно эпидемия, они переносились в стихи. “Скажи, отку-
да ты приходишь, Красота? — спрашивал он с каким-то маниа-
кальным упорством. —Ты Бог иль Сатана?” Но нет ответа, нет успо-
коения. Он даже пытался вообще отрешиться от этой дилеммы:
Не все ль равно: лишь ты, царица Красота,
Освобождаешь мир от тягостного плена,
Шлешь благовония и звуки, и цвета!
Но уйти невозможно, ибо эта проблема слишком важна для не-
го. Мало того, именно она была главной причиной его творческих
колебаний. Туг поневоле поверишь Набокову, который утверждал,
что писателю наступает конец, когда его начинают волновать во-
просы типа: что такое искусство? кому оно нужно? и тд. Бодлеру
конец не пришел, зато его плодовитость была окончательно по-
дорвана. Но, как сказал о нем Поль Валери, не нужно забывать, что
“плодовитость поэта измеряется не числом стихов, а скорее ши-
ротой их воздействия”. Бодлер навязчиво искал у искусства духов-
ное обоснование. Зачем? Все дело в том, что, как уже говорилось
выше, искусство — не профессия, а образ жизни. Этот образ жиз-
ни должен иметь оправдание. Если вспомнить, что, кроме литера-
туры, Бодлер не умел делать ничего другого, то нужда в оправдан-
ном существовании становится очевидной. Чехов называл меди-
цину своей законной женой, а литературу — любовницей. У Бод-
лера во всех смыслах кругом были одни любовницы. Правда, у не-
го была мать, которая служила ему не богом, как полагает Сартр, а
нравственным мерилом, воплощением совести. Нетрудно увидеть,
что он и относился к ней как к своей собственной совести, увеще-
вая, тревожа, пугаясь ее, целыми днями не решаясь вскрыть ее
письма. То, что у нее сложились весьма грубые, невежественные
представления о взаимоотношениях литературы и нравственно-
сти, было только к лучшему: ему требовалось не понимание, а ско-
рее ригоризм. По той же причине Бодлер не ставил под сомнение
христианские ценности. Он прекрасно понимал, что свобода —
это освобождение воли, а не порабощение ее прихотями. “Все мне
позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ни-
что не должно обладать мной*.
10
Бодлер мог бы стать выдающимся живописцем. Его детские ри-
сунки говорят о раннем и сильном художественном даровании. Ма-
ло того, что всю жизнь он испытывал огромный интерес к изобра-
зительному искусству, но его поэтическое вдохновение отталкива-
лось от него. “Воспеть культ изображений” — вот его главная
страсть. Почему же в конце концов он стал поэтом? Но, прежде чем
ответить на этот вопрос, нужно понять, чем поэзия отличается от
прочих искусств. Во-первых, поэзия очень требовательное искусст-
во; по выражению Иосифа Бродского, она допускает минимум шар-
латанства: с третьей строки уже ясно, с кем имеешь дело. Во-вто-
рых, она, будучи чрезвычайно образным и емким средством выра-
жения, принадлежит к области невидимого. Древние говорили, что
поэзия — это говорящая живопись. Поэтому она требует от читате-
ля воображения. Люди без воображения вообще не понимают поэ-
зии, не могут отличить хороших стихов от плохих и, наоборот, счи-
тают шарлатанством ее притязания на истину. Но поэзия не зани-
мается истиной. Ее область — Идеал. “Ну и что? — можно сказать. —
Все искусства заняты поиском идеала красоты”. Дело в том, что по-
эзия, посвященная целиком поиску такого идеала,— плохая поэзия.
Настоящий, подлинный идеал поэзии другой. Она устремлена к
Идеалу состояния*. Для такого идеала живопись слишком матери-
альна, музыка — несемантична, а проза — длинна.
Возьмем, к примеру, знаменитое стихотворение Лермонтова,
вряд ли нуждающееся в напоминании. Каждый, кто хотя бы одна-
жды читал его, без труда освежит в памяти этот парус, преобража-
ющий собой душу поэта. Но если парус — это поэтическая душа,
то по какому морю он странствует? Это море неопределенности,
потенциальности, загадки, для погружения в которую нужны бу-
ри, бедствия, муки, потрясения. Поэзия живет этой загадкой, пла-
вает в ней, в своей привычной среде. Этим состоянием погружен-
ности в загадку поэт и делится с читателем — он создает у него со-
стояние поэтического откровения, которое Поль Валери называл
состоянием вдохновленности.
А вот другой пример. У поэта Геннадия Айги есть стихотворе-
ние под названием “Спокойствие гласного”. Оно состоит из од-
ной-единственной буквы “а”. На первый взгляд это творение ка-
жется насквозь эпатажным и не имеющим ничего общего с “Пару-
сом”, но это не совсем так Хотя вряд ли на свете найдется чита-
' Подтверждением этому служит, например, "Манифест сюрреализма’
образца 1924 года, к которому мы еще вернемся. Там, в частности, есть сле-
дующая фраза: "Она [поэзия] несет в себе совершенное воздаяние за все муки,
претерпеваемые нами.... Наступает время, когда она объявит конец деньгам
“ одна совершит преломление небесного хлеба для земли!.. Нужно лишь дать
себе труд заниматься поэзией* (Андре Бретон).
11
тель, которого оно вдохновит, это стихотворение тоже является
выражением идеала состояния своего создателя. Если у Лермонто-
ва это буря, то у Айги — спокойствие. Я — поэт, объявляет этот
идеал, поэт, уверенный в себе и имеющий свой особенный глас
(голос). Хотя здесь нет никакой загадки, у таких стихов большой
потенциал: сказавший “а”, может сказать “б” и т.д. Что из того, что
любой грамотный человек с легкостью сделает то же самое? Если
изобразительное искусство, как утверждают, приблизилось к чис-
тоте линии, то искусство поэтическое стоит на пороге чистоты
состояния, правда отдающей хлороформом.
Кстати, о хлороформе. Когда писался “Искусственный рай”,
это вещество, которое сейчас почти не применяется для наркоза,
только вошло в употребление. Бодлер упоминает, как один гене-
рал, тяжело раненный в Алжире, умер на операционном столе, не-
смотря на хлороформ (скорее даже благодаря ему). Этот генерал
был мужественным человеком и мог бы без всяких ухищрений пе-
ренести физическую боль. Офицер, рассказавший эту историю,
сделал из этого такой вывод: “Ему был нужен не хлороформ, а
взгляды всей армии и звуки полковой музыки. Тогда он, возможно,
выжил бы”. Иными словами, хлороформ не только унизил этого
генерала перед лицом страдания, но и подписал ему смертный
приговор. А вот другое упоминание хлороформа, уже в связи с на-
стоящим приговором. “Давать осужденному на смерть хлороформ
было бы сочтено безбожием: ведь тем самым у преступника отня-
ли бы сознание собственного величия и лишили бы его надевды
попасть в Рай”. То есть здесь хлороформ не только унижает пре-
ступника, но и лишает его возможности заслужить Рай страдани-
ем. Мнимая благотворительность служит здесь вечному прокля-
тию, трамплином в Ад. Жить без боли — это соблазнительно.
Впрочем, почему только жить? Убирать без боли — тоже неплохо.
А убивать без боли — это уже совсем хорошо. Какое спокойствие
знать, что жертва не чувствует боли! А если при этом исключить
кровь, пугающую некоторых из слабонервных, то быть палачом
сможет каждый (уж коль скоро каждый может быть судьей).
Однако уничтожение физической боли еще ничего не реша-
ет. Как же тоеда душевные страдания, неудовлетворенность, же-
лание недостижимого счастья, муки любви, творческие муки,
смерть? Если вспомнить, что русское слово “смерть” похоже по
звучанию на немецкое “schmerz” (боль), то смерть выступает вы-
сшим метафизическим страданием, пиком боли. Восхождение к
этой вершине совершается через множество других страданий —
физических и метафизических. Комфорт жизни не смягчает, а
даже усугубляет болезненность этого пути, по которому идут все.
Но вот благая весть:
12
“Великая тайна счастья, о которой столько веков спорили фи-
лософы, наконец-то бесповоротно открыта! Счастье можно ку-
пить за грош и хранить в кармане жилетки; восторг лежит в пу-
зырьке, а мир духа можно стяжать по желанию!”
Это воскликнул Любитель опиума. А вот откровение энтузиа-
ста гашиша:
“Никогда еще я не тонул в благовониях подобного блаженства;
я столь самозабвенно растворился в его волнах, столь избавился
от себя, этого ненавистного свидетеля, вечного проводника, что я
впервые осознал, каким может быть существование простейших
духов — ангелов и душ, разделенных с телом”.
Оказывается, главная прелесть искусственного рая состоит в
самозабвении. Человек, сбросивший тяжесть своего я, превраща-
ется в ангела. Он взмывает в небеса. После возвращения земля ка-
жется ему неприглядной, действительность бледнеет перед его
ощущениями. Ну чем не рай, даром что искусственный? Нравст-
венность вроде бы удовлетворена: посетитель этого рая любит
ближнего куда больше, чем тот заслуживает; он сострадателен, де-
ликатен, щедр, доброжелателен. Вот любитель опиума, сочувст-
вующий беднякам участием в их удовольствиях; а вот любитель
гашиша, прямо-таки обхаживающий обыкновенного аптекаря —
пока, правда, тот не выставил его вон. Мир претерпевает чудесное
преображение “Мне казалось, что я впервые был удален и нахо-
дился вне шума жизни; что грохот, лихорадка и борьба приоста-
новились; что тайные тяготы сердца получили передышку, выход-
ной день, избавление от всякой людской работы”. Над всем реет
бесконечность: “.. .беспредельность действия, беспредельность от-
дыха!” И наконец, совершается победа над смертью: “Надежда,
цветущая на дорогах жизни, больше не противоречила покою,
обитавшему в могилах..”. Одним словом, здесь есть все, что мож-
но ожидать от настоящего рая, кроме Бога.
Можно разминуться с Богом в жизни, но не встретить Его в
Раю — это уже духовная патология. Сце нет Бога, там нет и челове-
ка, сказал один писатель, там только тень человека. И действи-
тельно, на примере наркотического опьянения видно, что от че-
ловека остается лишь некое виртуальное пространство. В быстрой
смене метаморфоз теряется даже форма. Стоит взглянуть на дере-
во — “и вот вы — дерево”. Стоит увидеть птицу в небе — “и вот вы
сами — птица”. “А вот вы сидите и курите. В силу невероятной
ошибки... вы приписываете своей трубке... странную способность
выкуривать вас”. Сознание становится неустойчивым в высшей
степени; для того, чтобы просто быть, ему нужно вселиться в кого-
то или во что-то, приобрести форму. При этом “человек не сам вы-
зывает образы, но образы встают перед ним с деспотичной навяз-
13
чивостью”. То есть этот рай не только искусственный, но еще и
принудительный. От его козлотигров, овцеслонов, птицебыков,
единорогов, грифонов и прочих фантазмов невозможно отвести
взгляд. Такой рай можно вполне назвать сюрреалистическим.
Сравните это замечание со следующим отрывком из “Манифеста
сюрреализма”:
“Сюрреализм не отпускает по желанию тех, кто отдался ему.
Можно сказать, что он действует на ум, как наркотики; подобно
им, он порождает некое состояние принуждения и может вызвать
в человеке ужасный переворот”.
Этот ужасный переворот стоит отметить, потому что искусст-
венный рай, помимо сюрреализма форм, отличается еще и сюр-
реализмом другого рода. Человек здесь принужден не только не-
отрывно созерцать формы, но и столь же неотрывно восхищаться
собой. После того как его покинул “ненавистный свидетель” — со-
весть, он слышит от своей души те же слова, что и царица из ска-
зки Пушкина — от зеркальца:
Ты на свете всех милее,
Всех румяней и белее.
В этом самолюбовании он сначала становится лучшим из лю-
дей, а затем Богом, что вполне логично: должен же кто-то быть Бо-
гом в этом раю? Здесь уже проявляется нравственный сюрреа-
лизм. В camera obscura наркомана, в театре одного актера и зрите-
ля, разыгрывается космогоническая комедия, которая начинается
с исправления мира и заканчивается прямо-таки наполеоновской
узурпацией Божьего престола. “Сражение выиграно”, — пишет Бо-
длер, правда, в связи с другим персонажем. “Он проезжает верхом
под Триумфальной аркой. Его сердце ликует”. А между тем этот
узурпатор по-прежнему находится на острове Святой Елены, хуже
того — на своем собственном острове, на планете, затерянной в
глубинах его внутреннего космоса. Он не знает, что “изгнан из зе-
мли общего счастья”. Никто никогда не доберется до его тюрьмы:
подобно настоящему Аду, искусственный рай заперт изнутри; ког-
да его благолепие рухнет, наступит ночь. Правда, в ней будут му-
чительные видения, но от этого она не станет светлее. Здесь можно
снова дополнить наш комментарий цитатой из “Манифеста сюрреа-
лизма”:
“Это прекраснейшая из ночей, ночь озарений,по сравнению с
ней день кажется ночью”.
Так как искусственный рай попросту является зеркальным от-
ражением настоящего Рая, то по закону зеркальности здесь зло
становится добром, день — ночью, а человек — Богом. Но есть у
него еще одна любопытная особенность: мало того, что он пред-
14
ставляет собой исключительно кривое зеркало — чтобы этот рай
облекся в как можно более яркую мишуру, ему нужна препариро-
ванная действительность. “Желая вполне насладиться магически-
ми чарами гашиша, надо их приготовить заранее и, так сказать,
изобрести мотивы для его... беспорядочных фантазий”. 1b есть
этот рай не только сам является искусственным, но и опирается на
искусственную, театрализованную реальность. Бодлер назвал его
«театром серафимов”, и, уж коль скоро это театр, то поверим клас-
сику, сказавшему, что ружье, висящее на стене в первом акте, дол-
жно выстрелить в третьем, тем более что этот выстрел в конце
концов действительно раздается.
Надо сказать, что именно в третьем акте проявляется главное
различие между двумя противоположными типами людей, чьи
ощущения стали предметом изучения для Бодлера. Itpofl “Поэмы
о гашише”, первой части “Искусственного рая”,- человек мод-
ный. Такой человек, по словам Шатобриана, “должен был являть
собою образ, на первый взгляд болезненный и печальный... быть
вида несколько запущенного, ни гладко выбритым, ни совсем за-
росшим, но таким, словно щетина нечаянно выросла у него в
мгновенье отчаяния; иметь развеваемые ветром локоны, пронзи-
тельный взгляд, возвышенные, блуждающие, роковые глаза, губы,
поджатые в презрении к человечеству, и утомленное, байронов-
ское сердце, погруженное в отвращение к миру и в загадку бытия”.
Самое замечательное в этом описании — это борода, выросшая
якобы нечаянно; так и видишь этого страдальца, придирчиво, со
“взглядом лягушки, взывающей к Идеал/1, оценивающего в зерка-
ле свою щетину, и если артистический Париж был полон “мягких
войлочных шляп, бархатных курток, красных блуз, запущенных
бород и растрепанных волос”, то Брюссель — и подавно. Бодлер
убедился в этом, отправившись туда читать лекции по своей кни-
ге “Искусственный рай’ и рассчитывая продать одному издателю
полное собрание своих сочинений. “Меня приняли здесь за поли-
цейского агента (ловко подстроено!), — пишет Бодлер, — за педе-
раста (я сам распространил этот слух, и мне поверили!)”. Едва ли
это рекламный трюк, предпринятый от отчаяния (хотя его лекции
едва посещали). Это скорее условный рефлекс на пошлость, на
оригиналов артистического жанра, тех самых “блаженных чере-
пах”, на которых, как Бодлер уверяет нас, не действует ничего, да-
же яд. Мы можем, вслед за Сартром, назвать этот жест попыткой
выделить себя — все равно это не меняет его рефлекторной при-
роды. “Сегодня утром я имел глупость публично прочесть несколь-
ко листков, - признается он. — Тотчас же сто атмосфер лени нава-
лились на меня, и я остановился перед ужасной бесполезностью
объяснять что бы то ни было кому бы то ни было”.
15
Таков герой “Поэмы о гашише”. Добавим, что это тот же человек,
кто подает нищему фальшивую монету; кто может поджечь лес из
сущего любопытства посмотреть, как будет разгораться пламя; кто
любит абстрактную добродетель и вполне конкретный, собствен-
ный каприз — словом, духовный лентяй, который давно продал ду-
шу и сделал это с меньшим волнением, чем если бы потерял на про-
гулке визитную карточку. Это также человек светский, благоразум-
ный; даже увлекаясь, он умеет вовремя остановиться. У него проч-
ное положение в жизни, ему все сходит с рук Если Любитель опиу-
ма нашел свой ад уже на земле, то этот бездельник может спокойно
жить до Страшного суда. Это, наконец, такой человек, которому хо-
чется от наркотика, помрачающего ум, вдохновения и проблеска
гениальности. 'Пцетность и опасность вдохновения ему непонятны.
“Мне бесконечно лучше написать в полном сознании и в совершен-
ной ясности слабую вещь, чем родить по милости экстаза и поми-
мо себя прекраснейший в мире шедевр”1. Эти слова ему показались
бы святотатством.
Честно говоря, такое смутило бы не только его. Ъцетность
вдохновения еще можно понять: оно не только не заменяет собой
работу, но и рождается из нее. Но опасность? Она тоже есть и
очень тонкого свойства. Существует притча о страннике, который
пришел в один монастырь и с разрешения настоятеля обратился к
братии с речью о Христе. Он говорил вдохновенно, поэтически,
так, что его слушатели плакали от умиления,— все, кроме настоя-
теля, который в душе укорял себя за жестокосердие. Когда стран-
ник окончил говорить и собрался уходить, настоятель, провожая
его, спросил: “Кто ты?“ “Я — Дьявол!” — ответил тот. “Зачем же ты
говорил о Христе?” — “Затем, чтобы те, кто умилились мне, отве-
тили бы за это”. Нет нужды объяснять, что вдохновение и есть тот
самый христолюбивый странник. Дело здесь не только в духовных
искушениях: вдохновение может подтолкнуть и к обыкновенной
пошлости. Герой одного из “Стихотворений в прозе”, настроен-
ный на совершение какого-то великого, блистательного поступка,
в итоге сбросил горшок с цветами на стекольщика. “Прошу заме-
тить, — говорит он, — что дух мистификации, являющийся у неко-
торых не плодом мысленных или логических усилий, а результа-
том внезапного вдохновения, имеет много общего, хотя бы по го-
рячности желания, с тем настроением — истерическим, по мне-
нию врачей, и сатанинским, по мнению тех, кто мыслит немного
глубже, — которое неудержимо толкает нас на ряд опасных и не-
сообразных поступков”. Если также вспомнить, что Валери назы-
вал вдохновение “неверной молнией”, то напрашивается вывод,
' Валери Паль. “Слово о Малларме*.
16
что, раз для достижения поэтического Идеала мало даже самого
естественного вдохновения, то что говорить о вдохновении,
навеянном наркотиком?
Как уже было замечено, любитель гашиша, несмотря на места-
ми проявляющуюся вздорность и капризность своего характера,
весьма благоразумен. Он позаботился о том, чтобы во время опь-
янения рядом находился бы какой-нибудь трезвый свидетель, “не
участвующий в блаженном отравлении, чтобы наблюдать за безу-
мием и не пускать к окнам тех, кто сочтет себя окрыленным”. Од-
ним словом, этот клуб похож на детский сад, где обязательно дол-
жен быть воспитатель для усмирения не в меру раздухарившихся
детей. Да и самим этим детям нужно общество: в одиночку они
редко склонны блажить. Все это, повторим, те люди, “кого изне-
жило счастье, кого судьба беспошлинно наделила добродетелью и
здоровьем”. А вот жертвы судьбы. Де Квинси рассказывает о хи-
рурге, который “стал принимать опиум из-за одной чрезвычайно
позорной болезни (не дающей никакой надежды на излечение),
поражающей один определенный орган. Эта болезнь выражалась
в небольшом воспалении, не сильном, но хроническом; с ней он
сражался, по-моему, более двадцати лет; сражался до победы, если
можно назвать победой то, чтобы сделать жизнь выносимой для
себя и одновременно избавить от позора жену и детей, совершен-
но зависящих от него”. Можно не говорить о том, что это была за
болезнь и почему Бодлер не приводит этот отрывок. “В этом тес-
ном, но преисполненном отвращения мире, — читаем в “Двойст-
венной комнате”, — один только знакомый предмет радует мой
взор: склянка с опиумом; старинная и страшная подруга, как все
подруги, увы! щедрая на ласки и измены”. Это уже люди, так ска-
зать, потерявшие равновесие в жизни и находящиеся в свободном
падении. Как и в случае любителей гашиша, наркотик тоже прино-
сит им радость, но он же превращает их мозг в йлерею шепотов —
знаменитый неф в соборе Святого Павла в Лондоне, <де любое
слово, сколь бы тихо оно ни было произнесено, усиливается до
громового раската. Приведем лишь один образец этого чудовищ-
ного превращения. Любитель опиума, как он сам сообщает о себе,
был обречен воскреснуть до своей смерти; и вот ему был явлен са-
мый что ни на есть неформальный Судный день:
♦Сон начинался с музыки, которая часто слышится в моих
снах, с какого-то музыкального вступления, способного пробу-
дить душу и держать ее в напряжении; с музыки, похожей на увер-
тюру к коронации, которая, как и последняя, создаст впечатление
парада, движения бесконечных рядов кавалерии и поступи бесчи-
сленных армий. Настало утро славного дня, дня томления и наде-
жды для человеческой души, переживающей какое-то таинствен-
17
ное затмение, мучимой какой-то ужасной тревогой. Неизвестно
где, непонятно как какие-то незнакомые мне существа вели битву,
борьбу, накал которой я ощущал; она развивалась, будто колос-
сальная драма или музыкальный отрывок, и ощущаемое мной со-
страдание мучило меня из-за неопределенности места, причины,
существа и исхода дела. И как обычно бывает во сне, ще мы не-
пременно становимся центром всего движения, я имел и одновре-
менно не имел силы разрешить его; я бы имел силу, если бы толь-
ко мог подняться до желания и, однако, не имел этой силы: я был
придавлен весом восьми Аглантид или тяжестью неискупимой ви-
ны. Вгубже, чем когда-либо, опускался свинцовый зонд, я лежал
неподвижнее мертвеца. Затем страсть запела во мне глубоким, го-
рообразным тоном. На карту был поставлен какой-то коренной
интерес, какое-то дело, важнее которого не отстаивал меч, не воз-
вещала труба. Внезапно набежали тревоги; то тут, то там слыша-
лись уторопленные шаги бесчисленных беженцев, которые спаса-
лись в страхе. Я не знал, от чего они бегут: от добра или зла; затем
свет и тьма, трубы и человеческие лица, и в конце с чувством без-
возвратной утраты показались будто бы женские черты, лица, уз-
нать которые я жаждал непременно, любой ценой, но которые не
мог удержать дольше, чем на миг; затем сцепленные руки, душера-
здирающие расставания и, наконец: “Прощай навсегда!” — пого-
жие на вздох адовых темниц, когда мать-кровосмесительница воз-
глашает ненавистное имя Смерти; этот звук был подхвачен: “Про-
щай навсегда!” И снова, и снова эго порождало эго: “Прощай на-
всегда!”»
Бодлер говорит, что этот сон был последним из тех, что видел
Любитель опиума. В тексте самого Де Квинси я не нашел подтвер-
ждения этому; но я охотно верю, что этот сон — и вправду послед-
нее из того, что может увидеть душа перед тем, как отправиться ту-
да, где она будет вечно созерцать уже саму себя.
Однако у Де Квинси есть и другое, куда более важное открове-
ние. “Для Бога настоящее есть будущее, — воспроизводит его Бод-
лер, — и ради будущего Он приносит в жертву настоящее челове-
ка”. То есть жизнь, которую люди стремятся разукрасить комфор-
том, избавить от всяческих страданий и неудобств, в любом слу-
чае приносится в жертву ради будущего. Можно быть самым про-
жженным атеистом, не признавать ни рая, ни воскресения, но не-
возможно не признать, что человек является жертвой собствен-
ной жизни. Если учесть, что смерть — всего лишь вопрос перспе-
ктивы, то жизнь вообще выпадает из этой перспективы как некий
иррациональный остаток. Это уже агония, сколько ни приукраши-
вай ее наркотиками, алкоголем или другими развлечениями. Не
помню кто — кажется, Сент-Экзюпери - сказал, что жизнь нарко-
18
тична, и об этом следует помнить всем любителям денег, женщин,
телевидения и виртуальной реальности. Жизнь хочет, чтобы чело-
век забыл, что он жертва и что его единственная перспектива —
смерть. Мы уже говорили, что поэзия стремится к своему Идеалу
состояния. Но жизнь — обыденная, простая, сермяжная, матери-
альная жизнь - совершенно противоречит поэзии прежде всего
тем, что у нее нет и не может быть Идеала. Идеал все1да сверхъес-
тествен: ни здоровье, ни сытость, ни благополучие не делают
жизнь сверхъестественной. Если жизнь рождает поэзию, то лишь
вопреки себе. Поэзия, как и вера,— это сопротивление жизни. Ма-
ло того, “поэзия — это самое реальное из всего, что существует на
свете, но до конца истинной она может быть лишь в ином мире”.
Но для начала взглянем на этот мир. Для того чтобы понять,
что он куда ближе к аду, чем к раю, достаточно просто оглянуться.
И мы увидим все тех же старух, вдов, старых паяцев, нищих и пья-
ниц. У них тот же взгляд, как и сто лет назад. “Вы хотите знать, по-
чему я ненавижу вас сегодня?” — спрашивает Бодлер того, кто не-
довольно восклицает по поводу всех этих обломков жизни: “Мне
невыносимы эти люди с их широко раскрытыми, точно ворота,
глазами!” Самодовольство — самое отвратительное лицо пошло-
сти. “Я не утверждаю, будто Радость не может сочетаться с Красо-
той, но, по-моему, Радость - одно из самых пошлых ее украше-
ний..”. Он предпочитал зрелищам счастья зрелища поражения и
катастрофы. “Я видел сейчас образ старого писателя, переживше-
го то поколение, которое он забавлял с таким блеском, — это о
дряхлом, немощном, бесполезном паяце,— образ старого поэта
без друзей, без семьи, без детей, доведенного до падения нищетой
и общественной неблагодарностью..”. Мир кишит адом такого ро-
да, но насколько этот ад благороднее, красивее, достойнее, чем
другой, “милый ад” отягощенной довольством души!
Теперь вернемся к искусственному раю. Думаю, не нужно ни-
кому доказывать, что ад довольства и искусственный рай — это со-
общающиеся сосуды. Они в равной мере пусты и означают лишь
одно: духовную смерть. Ни тот ни другой не дают спасения. Оба
отказываются быть жертвой жизни и поэтому становятся жертвой
самих себя. Время от времени один говорит другому: “Право... вы
утомляете меня без меры и без жалости; послушать, как вы взды-
хаете, подумаешь, что вы страдаете больше, чем... дряхлые нищен-
ки, собирающие хлебные корки у порога кабаков... Если б, по
крайней мере, ваши вздохи выражали угрызения совести, они де-
лали бы вам некоторую честь; но они говорят лишь о пресыщении
довольства и о тягости покоя”. И вот, оказывается, какой парадокс:
все соглашаются, что жизнь коротка, но при всей краткости этой
жизни в ней почему-то находится страшно много места для скуки.
19
Тогда-то и встает перед каждым спасительный призрак искусст-
венного рая, который, как уже говорилось, далеко не ограничива-
ется одними наркотиками. Что же делать, не страдать же от скуки?!
“Рождаемся мы не все для варенья и яблок, но, между прочим, и
для кислого существования”,— написал однажды Василий Роза-
нов. Да, все надоедает: и магазины, и мода, и мысли, и поэзия, и
проза. Но все-таки:
Страданье - путь один в обитель славы вечной,
Туда, ще адских ков, земных скорбей конец;
Из всех веков и царств Вселенной бесконечной
Я для себя сплету мистический венец!
И дальше.
И будет он сплетен из чистого сиянья
Святого очага, горящего в веках,
И смертных всех очей неверное мерцанье
Померкнет перед ним, как отблеск в зеркалах!
Мало что можно сказать после таких строк. Наверное, самое
удивительное волшебство поэзии и вообще искусства состоит в
том, что в их стране страдание не противоположно счастью и уж
совсем не равнозначно горю. Там это совершенно особое состоя-
ние. В мире поэзии нет счастья в смысле высшего благополучия.
Но в нашей жизни если и есть счастье, то оно прежде всего в том,
что эта жизнь большей частью остается тайной для других. Одна
из множества статей об авторе “Искусственного рая”, которые мне
попадались в руки, называлась так “Легенда и правда о Бодлере”.
Разумеется, она была посвящена развенчанию легенды и торжест-
ву правды. Сколько бы я ни был согласен с этой правдой и не сог-
ласен с легендой, мне бы не хотелось видеть ее торжество. Правда
всегда ущербна - совершенна и прекрасна только тайна. И тайна
умеет защитить себя. Поэтому, как говорится в одной современ-
ной книге, Одиссей солгал, будто он слышал, как поют сирены.
Когда он проплывал мимо их острова, сирены молчали.
В. Осадченко
Теофиль
Готье
Клуб любителей
гашиша
ТРУБКА ОПИУМА
Недавно я навестил своего дру-
га Альфонса Карра — при свете дня он сидел на диване с за-
жженной свечой и держал в руке трубку из вишневого дерева,
снабженную фарфоровым грибком, на который он капал ка-
кую-то бурую массу вроде сургуча; эта масса вспыхивала и тре-
щала в горниле грибка, а он через маленький мундштук янтар-
ного цвета вдыхал дым, который распространялся по комнате
со смутным запахом восточных благовоний.
Не говоря ни слова, я принял устройство из рук моего дру-
га и приложился к наконечнику; после нескольких затяжек я
ощутил некое головокружение, не лишенное приятности и
весьма напоминающее первые признаки опьянения.
Будучи занят в тот день и не имея досуга для кутежа, я пове-
сил трубку на гвоздь; мы спустились в сад поздороваться с ге-
оргинами и немного поиграть с Шутцем, беззаботным живот-
ным, не знавшим иного занятия, кроме как чернеть на зеленой
подстилке травы.
Я пришел домой, пообедал и отправился в театр смотреть
какую-то пьесу, а затем вернулся спать в силу необходимости
добраться сюда и посредством этой краткочасовой смерти по-
лучить познание смерти окончательной.
Выкуренный мною опиум, вместо того чтобы оказать ожида-
емое снотворное действие, привел меня в нервное возбуждение,
как крепкий кофе,— я ворочался в постели, будто карп в жаров-
не или курица на вертеле, беспрестанно дергая одеяло, к страш-
ному неудовольствию моего кота, свернувшегося клубком в угол-
ке перины.
Наконец долгожданный сон запорошил мне зрачки своей
золотой пылью; мои глаза потеплели и отяжелели — я заснул.
По истечении одного-двух совершенно черных, неподвиж-
ных часов я увидел сон.
Вот он.
Я снова оказался в комнате своего друга Альфонса Карра —
как и наяву утром; он сидел на своем диване, обитом желтым
камчатым шелком, с трубкой и при зажженной свече; только
23
солнце не заставляло голубые, зеленые и красные отражения
витражей порхать по стенам тысячецветными мотыльками.
Точно так же, как и несколько часов назад, я взял трубку из
его рук и принялся медленно втягивать пьянящий дым. Нега,
полная блаженства, не замедлила овладеть мной; я почувство-
вал такое же головокружение, как и тогда, когда курил настоя-
щую трубку.
До сих пор мой сон точно держался пределов обитаемого
мира, повторяя, будто зеркало, мои дневные действия.
Утопая в груде подушек, я лениво откинул назад голову, сле-
дя за сизыми спиралями, которые, клубясь несколько минут в
воздухе, затем сливались в ватный туман.
Мои глаза, естественно, уперлись в эбеновый потолок с зо-
лочеными арабесками.
В силу предшествующего видениям экстатического внима-
ния, с которым я разглядывал его, он показался мне синим, но
насыщенно-синим, будто кусок покрывала ночи.
“Стало быть, вы перекрасили потолок в синий цвет”, — сказал
я Карру, который по-прежнему непроницаемо и молчаливо по-
тягивал другую трубку, выпуская больше дыма, чем печная тру-
ба зимой или пароход в любое время года.
“Ничего подобного, сын мой, — ответил он, высунув нос из
облака. — Мне, однако, сдается, что вы выкрасили свой желудок
в красный цвет бутылкой какого-нибудь бордо вроде лафита”.
“Увы! Вы совсем не угадали; я всего лишь выпил жалкий ста-
кан подслащенной воды, в котором все муравьи мира собра-
лись утолить жажду,— там была просто школа плавания для на-
секомых!
Видимо, потолку надоело быть черным, вот он и посинел;
если не считать женщин, я не знаю на свете ничего капризнее
потолков; так что это всего-навсего выдумка потолка, самая
что ни на есть обыкновенная”.
Сказав это, Карр снова спрятал нос в облаке дыма с доволь-
ным видом человека, давшего ясное и полное объяснение.
Меня, однако, оно убедило лишь наполовину: мне с трудом
верилось в существование столь необыкновенных потолков, и
я по-прежнему взирал на тот, что был над моей головой, не без
чувства некоторого беспокойства.
А он все синел и синел, будто море у горизонта, и звезды в
нем раскрыли свои золотые ресницы; эти неимоверно тонкие
ресницы простирались до самой комнаты, наполняя ее приз-
матическими пучками.
24
Его лазурную поверхность пересекали какие-то черные ли-
нии, в которых я скоро узнал перекрытия верхних этажей до-
ма, сделавшихся прозрачными.
Несмотря на обычно присутствующую во сне способность
принимать самые отъявленные странности как нечто само со-
бой разумеющееся, все это стало казаться мне настораживаю-
ще подозрительным, я и подумал, что если бы мой друг Эски-
рос, по прозвищу Мистик, был здесь, то он дал бы более удов-
летворительное объяснение, чем Альфонс Карр.
И, словно эта мысль имела силу заклинания, Эскирос вдруг
предстал перед нами вроде спаниеля Фауста, выскакивающего
из-за печки.
У него было весьма оживленное лицо и торжествующий
вид; потирая руки, он сказал:
“Я слежу за противоположностями и обнаружил говорящую
Мандрагору”.
Это явление поразило меня, и я сказал Карру:
“О, Карр! Представьте себе, сюда вошел Эскирос, которого
только что не было, а ведь никто не открывал ему дверь”.
“Нет ничего проще,— ответил Карр. — Входят как раз в за-
крытые двери, так принято; в открытые двери ходят только
плохо воспитанные люди. Вы же знаете, что говорят, когда хо-
тят кого-нибудь оскорбить: “Вот любитель ломиться в откры-
тую дверь!”
Я не нашел ничего возразить против столь рассудительно-
го объяснения и пребывал в убеждении, что присутствие Эски-
роса само по себе было оправданным и законным.
Между тем он взирал на меня со странным выражением, его
глаза необычайно расширились; они пылали и круглились,
будто монеты, раскаленные в горниле, его тело растворялось и
тонуло в тени так, что мне были видны лишь два горящих, лу-
чистых зрачка.
Огненные нити и потоки магнитных разрядов мигали и
кружились вокруг меня, пересекаясь все запутаннее, затягива-
ясь все сильнее; искристые провода тянулись к каждой моей
поре, прирастая к коже, будто волосы к голове. Я находился в
состоянии полнейшего лунатизма.
Я видел мелкие белые хлопья, пересекающие синее про-
странство потолка, как клочья шерсти, унесенные ветром, или
ожерелье из голубей, выстроившееся в воздухе.
Я силился угадать, что это было, когда какой-то низкий и
краткий голос прошептал мне на ухо: “Это духи!!!” Пелена спа-
25
ла с моих глаз; белые дымки приобрели более отчетливые
очертания, и я ясно различил длинную череду облаченных в
покрывало фигур, следующих по карнизу справа налево и со-
вершающих очевидное восхождение, словно некое царствен-
ное дуновение поднимало их в воздух вместо крыльев.
В углу комнаты на потолочной лепнине виднелись очертания
сидящей девушки, завернутой в длинное кисейное покрывало.
Ее совершенно босые ноги, скрестившись, небрежно свиса-
ли; в остальном же они были очаровательны, напоминая свои-
ми размерами и прозрачностью прекрасные яшмовые ножки,
столь же белые и чистые, которые выдаются из-под черной
мраморной юбки антикварно-музейной Исцды.
Прочие призраки мимоходом хлопали ее по плечу со сло-
вами:
Мы уходим к звездам, пойдем же с нами.
Тень с алебастровыми ножками отвечала им:
Нет! Я не хочу к звездам, мне хочется пожить еще полгода.
Вереница наконец скрылась, и тень осталась в одиночестве,
болтая своими хорошенькими ножками и ударяя стену утон-
ченной розовой пяткой нежного бледно-розового оттенка,
словно сердцевина дикого колокольчика; несмотря на рас-
плывчатость ее форм, я чувствовал, что она молода, желанна и
очаровательна, и моя душа устремлялась к ней, простирая ру-
ки и расправляя крылья.
Из умысла или сострадания тень поняла мое смятение и
сказала нежным, хрустальным голосом губной гармоники:
Если ты дерзнешь припасть к губам той, что была мною и чье
тело покоится в черном городе, то я проживу еще полгода, и моя
вторая жизнь будет отдана тебе.
Я поднялся и спросил себя:
Интересно, это игра воображения или происходящее все-
таки не сон?
Это был последний проблеск лампы рассудка, погашенной
сном.
Я спросил двух моих друзей, что они думают обо всем этом.
Невозмутимый Карр сделал вид, будто в этом происшествии
нет ничего необыкновенного, что он много перевидал в этом
роде и что я весьма наивен, раз удивляюсь таким пустякам.
Эскирос объяснил все действием магнетизма.
Ну ладно, хорошо, я отправлюсь туда; но я в домашних туф-
лях...
Ничего, — сказал Эскирос.—Я предчувствую у дверей экипаж.
26
Я вышел и в самом деле увидел кабриолет, запряженный па-
рой лошадей, который, видимо, кого-то ждал. Я сел в него.
Кучера не было. Лошади везли сами по себе; они были сов-
сем черными и неслись столь остервенело, что их спины под-
нимались и опускались, как волны, и целый дождь искр извер-
гался позади них.
Сперва мы ехали по улице Тур-д’Овернь, затем Бельфон, за-
тем Лафайет, а оттуда уже по таким улицам, названия которых
были мне неизвестны.
По мере движения экипажа окружавшие меня предметы
принимали странные формы: это были мрачные дома, кото-
рые скрючились у обочины дороги, как старые пряхи, доща-
тые изгороди, уличные фонари, удивительно похожие на висе-
лицы; вскоре дома внезапно исчезли, и экипаж оказался в чи-
стом поле.
Мы катились по мрачной, темной равнине с низким свин-
цовым небом и нескончаемой чередой хилых деревцев по обе-
им сторонам дороги, которые бежали навстречу экипажу це-
лой армией черенков, обращенных в бегство.
Не было ничего ужаснее этого сереющего пространства в
тонких штрихах черных силуэтов деревьев — тусклую глубину
этого полумрака не нарушала ни блестка света, ни одна горя-
щая звезда.
Наконец мы прибыли в незнакомый мне город, чьи здания
весьма странной постройки, едва различимые во мраке, пока-
зались мне слишком мелкими для обитания; несмотря на то
что экипаж был куда шире, чем проезжие улицы, он катился
без задержки — дома расступались влево и вправо, словно изу-
мленные крестьяне, давая ему проехать.
После множества поворотов я почувствовал, что экипаж об-
рушился подо мной, а лошади превратились в пар, — я добрал-
ся до места.
Красноватый свет пробивался сквозь щель в незапертой
бронзовой двери. Я толкнул ее и оказался в низкой, выложенной
черно-белым мрамором комнате со сводчатым каменным по-
толком; старинная лампа, стоящая на тумбе из фиолетовой
брекчии, отбрасывала тусклый свет на лежащую фигуру, кото-
рую я вначале принял за статую, похожую на те, что покоятся в
готических храмах,— со сложенными руками и борзой у ног; но
вскоре я понял, что то была настоящая женщина.
Ее бескровная бледность могла сравниться разве что со све-
жим желтоватым воском; матово-белые, будто просфора, руки
27
были сложены под сердцем; глаза были закрыты, а ресницы
дотягивались до середины щек; все в ней было мертво, только
рот, свежий, как цветущий гранат, горел бурной, яркой жиз-
нью, растягиваясь в полуулыбке счастливого сна.
Склонившись над нею, я приложился к ее губам и запечат-
лел поцелуй, который должен был оживить ее.
Ее влажный рот, теплый, как будто дыхание только что ос-
тавило его, трепетал под моими губами, возвращая мне поце-
луй с невероятным жаром и пылкостью.
Здесь в моем сне есть провал: я не знаю, как вернулся из
черного города — возможно, верхом на облаке или на гигант-
ской летучей мыши,— но я отлично помню, что оказался с Кар-
ром в том же самом доме, не похожем ни на мой, ни на его —
вообще ни на какой известный мне дом.
Меащу тем вся внутренняя отделка, вся обстановка были
ужасно знакомы мне; я отчетливо видел камин в духе Людови-
ка XVI, ширму в цветных разводах, лампу с зеленым абажуром
и этажерки, полные книг, расходящиеся от углов камина.
Я занял глубокое кресло с пухлыми подлокотниками, а
Карр, упираясь обеими пятками в притолоку, сидя у меня на
плечах и почти что на голове, с жалостливым и отрешенным
видом слушал рассказ о моих похождениях, которые сам я счи-
тал сном.
Внезапно послышался оглушительный звонок — мне доло-
жили, что со мной желает говорить одна дама.
Пусть дама войдет, — ответил я, несколько взволнованный
в предчувствии того, что должно было произойти.
Дама в белом, с черной накидкой на плечах вошла легкой
походкой и остановилась в светлом сумраке, создаваемом лам-
пой.
В силу какого-то чудесного явления я увидел в ее фигуре
смену трех разных лиц: одно мгновенье она походила на Ма-
либран, затем на М..., затем на ту, которая тоже говорила, что
не хочет умирать и чьи последние слова были: “Дайте мне бу-
кет фиалок”.
Но скоро все эти сходства рассеялись, словно тень в зерка-
ле, черты лица обрели твердость и определенность, и я узнал
умершую, которую обнимал в черном городе.
Ее наряд был чрезвычайно прост, без иного украшения,
кроме золотого обруча в темно-каштановых волосах, эбеновы-
ми гроздьями ниспадавших по ее гладким, бархатным щекам.
Два розовых пятнышка запечатлелись на высоте ее скул, а ее
28
таза блестели, словно полированные серебряные шарики; в ос-
тальном же она обладала красотой античной камеи, и белокурая
прозрачность ее тела лишь подчеркивала это сходство.
г Стоя передо мной, она просила, умоляла меня о весьма
странном деле: сказать ее имя.
Я без колебаний ответил, что ее зовут Карлотта, что было
правдой; после она рассказала мне, что она была певицей, что
умерла юной, не познав прелестей жизни, и что, прежде чем
навсегда погрузиться в вечный покой, она желает насладиться
красотой мира, упиться всеми наслаждениями и потонуть в
океане земных радостей; что она чувствует в себе неутолимую
жажду жизни и любви.
И, высказав все это с невыразимой поэзией и красноречи-
ем, она обвила руками мою шею и запустила свои тонкие паль-
цы в пряди моих волос.
Она разговаривала стихами чудной красоты, которая не
снилась даже величайшим из когда-либо рожденных поэтов, а
когда и стихов уже не хватало для передачи ее мысли, она ок-
рыляла ее музыкой — то были рулады, ожерелье из звуков бо-
лее безупречных, чем чистота жемчуга, распев нот далеко за
пределами человеческих возможностей — все самое нежное, о
чем только может мечтать душа и ум, самое мило-игривое, са-
мое любовное, само пылкое, самое невыразимое.
Жить полгода, еще полгода— вот припев всех ее кантилен.
Я совершенно ясно видел, что' она хочет сказать, еще преж-
де, чем ее мысль совершала путь от головы или сердца до губ,
и сам заканчивал начатый ею стих или песню; для нее я был
столь же проницаем, и она бегло прочитывала меня.
Не знаю, когда кончились эти исступления, более не сдер-
живаемые присутствием Карра, но я вдруг ощутил, как нечто
грубо-шерстяное вдруг прошлось по моему телу; я открыл гла-
за и увидел своего кота, который терся своими усами о мои
вместо утреннего приветствия, ибо неверный свет зари уже
просачивался сквозь занавески.
Так и завершился мой опийный сон, который не оставил
иного следа, кроме смутной грусти — обычного исхода галлю-
цинаций такого рода.
ГАШИШ
Нам давно приходилось слышать,
впрочем без особого доверия, о чудесном действии, оказываемом
гашишем. Мы уже знакомы с галлюцинациями, вызываемыми ку-
рением опиума; о гашише же нам было известно лишь пона-
слышке. Друзья-востоковеды множество раз обещали познако-
мить нас с ним, но то ли из-за трудностей с приобретением дра-
гоценного вещества, то ли по какой-либо иной причине, это на-
мерение до сих пор оставалось невоплощенным. Словом, так бы-
ло до вчерашнего дня: теперь же рассказ о несыгранных пьесах
заменит анализ наших собственных ощущений.
Во все времена народы Востока, которым религия запрещает
употреблять вино, искали в различных составах удовлетворения
свойственной всем людям нужды в возбуждении ума, которую на-
роды Запада утоляют посредством спирта и продуктов брожения.
Жажда идеала столь велика в человеке, что он изо всех сил тщит-
ся ослабить путы, привязывающие душу к телу, и, поскольку со-
стояние исступления доступно не всем, то он пьет для радости, ку-
рит для забвения, глотает для безумства — все это в форме вина,
табака или гашиша. Вот странная забота! Чуть красной жидкости,
затяжка дыма, ложка зеленоватой массы, и душа, эта неосязаемая
сущность, мгновенно преображается; серьезные люди соверша-
ют чудачества, уста молчаливых невольно извергают слова, Ibpa-
клит разражается хохотом, а Демокрит — рыданиями.
Вппиш — это экстракт цветка конопли (Cannabis indica), сва-
ренный в масле с фисташками, миндалем и медом до получения
своеобразного, довольно приятного на вкус конфитюра, весьма
напоминающего повидло из абрикоса. Именно этот гашиш Ibp-
ный Старец заставлял вкушать исполнителей заказанных им
убийств - отсюда и происходит слово assassin, то есть hachadiin
(вкушающий гашиш).
Дозы количеством с ложку довольно для тех, кто не привычен
к этой регалии истинно верующего. Вппиш запивают нескольки-
ми чашечками кофе без сахара на арабский манер, а затем, как
обычно, садятся за стол, ибо конопляный дух начинает действо-
вать лишь спустя несколько времени. Один из наших товарищей,
30
доктор ***, заядлый любитель гашиша, много путешествовавший
по Востоку, оказался первым под его действием, приняв большую
дозу, чем мы; он увцдел в своей тарелке звезды, а в супнице — не-
босвод; затем, отвернувшись к стене, он говорил сам с собой и
разражался хохотом с сияющим взором и в полном ликовании. Я
чувствовал себя совершенно спокойным вплоть до конца ужина,
хотя зрачки другого моего соседа странно заблистали, вдруг сде-
лавшись до невероятности бирюзово-голубыми. Когда приборы
унесли, я, будучи еще в полном рассудке, сел на диван, как можно
удобнее устроившись между квадратными марокканскими по-
душками, в ожидании экстаза. Спустя несколько минут меня охва-
тило общее онемение. Казалось, тело растворяется и становится
прозрачным. Я отчетливо видел в своей груди съеденный мною
гашиш в виде изумруда, источающего мириады мельчайших ис-
корок; мои ресницы бесконечно удлинились, золотыми провода-
ми закручиваясь на колесики из слоновой кости, которые само-
стоятельно вращались с заворожительной скоростью. Вокруг ме-
ня струились и сыпались потоки цветных камней, арабесков, бес-
престанную смену которых можно сравнить лишь с калейдоско-
пом; если отдельными мгновениями я еще видел своих товари-
щей, то в искаженном виде — то были полу-люди, полу-растения,
стоящие на одной ноге с задумчивым видом ибиса, страусы, хло-
пающие крыльями, столь странными, что я покатывался от хохо-
та в своем углу; чтобы влиться в шутовство этого спектакля, я стал
подбрасывать в воздух свои подушки, ловя и закручивая их с лов-
костью жонглера-индуса. Один из этих господ обратился ко мне
по-итальянски, что всемогуществом гашиша было переведено
для меня на испанский язык. Вопросы и ответы были почти рас-
судительными и касались вещей нейтральных — театральных
или литературных новостей.
Первый приступ подходил к концу. Через несколько минут я
вполне обрел хладнокровие, не ощущая головной боли или ка-
ких-либо иных симптомов, сопровождающих винное опьянение,
и премного дивясь тому, что только что случилось. Но едва мину-
ло полчаса, как я вновь попал в царство гашиша. На сей раз виде-
ние было более сложным и более необычным. В беспорядочно
освещенном воздухе кувыркались в вечном коловращении мири-
ады бабочек, шелестя крыльями, будто веером. Впднтские цветы
с хрустальной чашечкой, огромные мальвы, золотые и серебря-
ные лилии вырастали и распускались вокруг меня с треском, по-
хожим на гроздья салюта. Мой слух чудесно развился; я слышал
цветные звуки. Зеленые, красные, синие, желтые звуки находили
31
на меня отчетливо различимыми волнами. Опрокинутый стакан,
скрип кресла, сказанное шепотом слово вибрировали и отдава-
лись во мне раскатами грома; даже собственный голос казался
мне столь сильным, что я не осмеливался говорить из боязни раз-
рушить стены или разорваться на части, как бомба; хронометры,
числом более пятисот, распевали мне время своими звонкими,
медными, серебряными голосами. Каждый цветущий предмет из-
давал звук гармоники или эоловой арфы. Я купался в океане зву-
ка, где островками света плавали обрывки мелодий из “Люции”
или “Цирюльника”. Никогда еще я не тонул в благовониях подоб-
ного блаженства; я столь самозабвенно растворился в его волнах,
столь избавился от себя, этого ненавистного свидетеля, вечного
проводника, что я впервые осознал, каким может быть существо-
вание простейших духов-ангелов и душ, разделенных с телом. Я
был, словно губка посреди моря: потоки счастья пересекали меня
каждую минуту, входя и выходя через поры моего тела, ибо я сде-
лался проницаемым, и все мое существо, до последнего капил-
лярного сосуда, всасывало в себя цвет того фантастического ок-
ружения, куда я был погружен. Звуки, запахи, свет наводняли ме-
ня посредством множества тонких, как волос, трубок, в которых я
слышал свист магнитных течений. По моим расчетам, это состо-
яние длилось около трехсот лет, ибо ощущения сменялись в та-
ком количестве и с такой быстротой, что достоверное измерение
времени стало невозможным. После приступа я увидел, что он
длился всего четверть часа.
Опьянение гашишем отличает то, что оно не имеет длящегося
характера; оно схватывает и оставляет вас, возносит вас в небеса
и опускает на землю безо всякого перехода — как во время безум-
ства бывает проблеск сознания. Третий — последний и самый
причудливый — приступ завершил мой вечер, проведенный на
восточный манер,— здесь произошло раздвоение моих видений.
Двойное отражение образов на сетчатке моего глаза было совер-
шенно симметричным; однако вскоре волшебное вещество, толь-
ко что переваренное мною, еще яростнее осадило мой мозг, пре-
вратив меня на час в совершенного безумца. Фантазия предлага-
ла мне всевозможные образы во вкусе Пантагрюэля: козлотигры,
овцеслоны, запряженные птицебыки, единороги, грифоны, чудо-
вища — все атрибуты ужасных снов скакали, метались, летали,
визжали в комнате; хобот оканчивался листвой, руки — рыбьими
плавниками; какие-то гетероклитные существа с часами вместо
зрачков ходили на ножках от кресла, а огромные носы танцевали
качучу на курьих лапках; самому себе я представлялся попугаем
32
царицы Савской, любовницы покойного Соломона. Я изо всех
сил подражал голосам и крикам сей честной птицы. Видения сде-
лались столь причудливыми, что меня охватило желание зарисо-
вать их, и менее, чем за пять минут я с невероятной быстротой на-
бросал на обороте писем, на багажных квитанциях, на первых
попавшихся клочках бумаги—дюжины две самых фантастичных
рисунков. Один из них был портрет доктора *’* в том виде, в ка-
ком он представился мне: за роялем, одетый по-турецки, с солн-
цем на спине рубашки. Ноты вылетают из клавиш в виде ракет и
изящно завитых спиралей. Другой рисунок, с надписью: “Живот-
ное будущего”, изображал живой паровоз с лебединой шеей —
она оканчивалась змеиной пастью, извергающей клубы дыма; чу-
довищные лапы составлены из блоков и колес, и каждой паре ко-
лес соответствует пара крыльев; античный Меркурий на хвосте
животного признает, несмотря на сандалии, свое поражение.
Благодаря гашишу мне удалось срисовать с натуры портрет домо-
вого — до сих пор я лишь слышал, как они стонут и ворочаются
по ночам в моем старом буфете.
Однако довольно безумств. Чтобы полностью передать га-
шишные видения, потребуется целый том, к тому же разве рядо-
вой журналист может позволить себе повторить конец света?
2—511
Клуб
ЛЮБИТЕЛЕЙ ГАШИША
I
ОТЕЛЬ ПИМОДАН
Одним декабрьским вечером,
повинуясь мистическому позыву, облаченному в загадочные
выражения, понятные лишь посвященным и бессмысленные
для остальных, я забрался в один удаленный квартал, некий оа-
зис одиночества в Париже. Река, охватывая его обеими руками,
кажется, защищает его от вторжения цивилизации, ибо имен-
но в старом здании острова Сент-Луи, отеле Пимодан, выстро-
енном Лозеном, один странный клуб, в котором я с недавних
пор состоял, устраивал свои ежемесячные собрания, на одном
из которых я должен был впервые присутствовать.
Стояла черная ночь, хотя было едва ли шесть часов.
Туман, еще более сгустившийся от близости к Сене, закутал
все предметы в свою вату, то тут, то там разорванную и проды-
рявленную красноватыми ореолами фонарей и полосками
света, которые вырывались из освещенных окон.
Затопленный дождем тротуар сверкал под фонарями, будто
вода, отражающая свет; морозный ветер, насыщенный части-
цами льда, хлестал по всему телу, составляя своими утробными
завываниями скрипичную часть симфонии; гонимые им пото-
ки выводили басы, разбиваясь об арки мостов,— в этом вечере
сосредоточилась вся суровая поэзия зимы.
Среди массы мрачных строений, стоящих вдоль этой пус-
тынной набережной, было трудно различить нужный дом; од-
нако с высоты своего сиденья моему кучеру удалось-таки про-
честь на мраморной дощечке наполовину позолоченное на-
звание старинной гостиницы, места собрания посвященных.
Я приподнял резной молоток, так как использование звон-
ков с кожаной кнопкой еще не пришло в эту отсталую страну,
и услышал, как шнурок несколько раз безуспешно скрипнул;
наконец старая, ржавая щеколда поддалась под более энергич-
ным напором, и дверь, сколоченная из крепких досок, смогла
повернуться на своих петлях.
При моем появлении за желтоватым стеклом показалась го-
лова старой привратницы, обрисованная мерцанием свечи,—
совершенно как на картине Скалкена. Голова состроила мне
34
странную гримасу, и тощий палец, высовываясь из швейцар-
ской, указал мне дорогу.
Насколько я мог различить в бледном отсвете, который от-
брасывает любое, даже самое темное небо, двор, который я пе-
ресекал, был окружен какими-то остроконечными строениями
старинной архитектуры; я чувствовал, что ноги у меня промо-
кли, словно от ходьбы по полю, так как щели между плитами
заросли травой.
Высокие окна узкого лестничного проема, пламенеющие
на мрачном фасаде, вели меня и не давали сбиться с пути.
Войдя в подъезд, я оказался у подножия одной из тех огром-
ных лестниц, которые сооружали во времена Людовика XIV и
на которых современное здание могло бы с легкостью спля-
сать. Египетская химера в духе Лебрена, оседланная Амуром,
вытянула свои лапы на постаменте, держа свечу в когтях, изог-
нутых в форме подсвечника.
Наклон лестницы был пологим; удобное распределение
мест для отдыха и площадок свидетельствовало о таланте ар-
хитектора прошлого и величии жизни прошлых веков; взбира-
ясь по великолепным пролетам в своем тощем фраке, я чувст-
вовал себя пятном на фоне этого сооружения и узурпатором
чужого права — я вполне обошелся бы и лестницей черного
хода.
Стены покрывали картины, большей частью без рам, копии
шедевров итальянской и испанской школ, а в темной вышине
смутно обозначался огромный потолок, разрисованный фре-
сками на темы из мифологии.
Я добрался до нужного этажа.
Дверь я узнал по тамбуру из утрехтского бархата, примято-
го и лоснящегося, чья пожелтевшая бахрома и торчавшие гво-
зди говорили о долгой службе.
Я позвонил; мне открыли с обычными предосторожностя-
ми, и я оказался в огромной зале, освещенной на дальнем кон-
це несколькими лампами. Войдя туда, посетитель отступал на
пару веков назад. Казалось, время, которое столь быстротечно,
не коснулось этого здания и, словно маятник, который поза-
были поднять, указывало своей стрелкой на одну и ту же дату.
Стены, отделанные белокрашенным деревом, были наполо-
вину увешаны темными полотнами, несущими на себе отпеча-
ток эпохи; на огромной печи стояла статуя, будто украденная с
аллеи Версаля. На куполообразном потолке выгнулась аллего-
рия во вкусе Лемуана и, возможно, написанная им же.
2*
35
Я приблизился к освещенной части залы, где у стола прохо-
дило оживленное собрание множества человеческих фигур, и,
едва только свет, коснувшись, выдал меня, как мощное “ура”
прокатилось по гулким глубинам старинного здания.
Вот он! Вот он! — закричали одновременно множество го-
лосов. — Дайте ему его долю!
Доктор стоял у буфета, где был поднос, уставленный ма-
ленькими блюдцами из японского фарфора. На каждое блюд-
це он клал, рядом с серебряной ложечкой, зеленоватую пасту
или конфитюр, извлеченный шпателем из хрустальной вазы.
Фигура доктора излучала воодушевление — глаза искри-
лись, щеки играли румянцем, жилки на висках надулись, а рас-
ширенные ноздри с силой вдыхали воздух.
Это будет вычтено из вашей порции рая, — сказал он, про-
тягивая мне отпущенную долю.
После того как каждый съел свою часть, подали кофе по-
арабски, то есть с гущей и без сахара.
Затем все уселись за стол.
Читатель, конечно, удивился этой перестановке в кулинар-
ных правилах; в самом деле, перед ужином не принято пить
кофе, а конфитюр обычно едят на десерт. Эта подробность, ко-
нечно, требует объясниться.
II
ОТСТУПЛЕНИЕ
На Востоке некогда существовала чудовищная секта, руко-
водимая одним шейхом, принявшим для себя титул Горного
Старца или князя Убийц.
Этот Горный Старец требовал беспрекословного подчине-
ния; подданные ему Убийцы с абсолютной преданностью ис-
полняли его приказы, какими бы они ни были; их не останав-
ливала никакая опасность, даже верная смерть. По знаку сво-
его предводителя они бросались вниз с башни, закалывали мо-
нарха в его собственном дворце в присутствии стражи.
Каким же образом Горный Старец добивался столь полного
самоотречения?
При помощи чудесного вещества, обладающего свойством
вызывать замечательные галлюцинации, рецепт которого он
имел.
Принявшим его трезвая жизнь представлялась столь тоск-
36
ливой и бесцветной, что они с радостью приносили ее в жерт-
ву ради того, чтобы снова попасть в рай своих грез; ибо вся-
кий, убитый при исполнении приказа шейха, попадал сразу на
небо или, случись ему выжить, снова бывал допущен ко вкуше-
нию блаженства из таинственного состава.
Итак, зеленая паста, которую нам раздавал доктор, в точно-
сти повторяла то, что Горный Старец некогда тайком вводил в
желудки своих приверженцев, дабы заставить их поверить,
будто ему принадлежит небо Магомета и трехликие гурии, то
есть то был гашиш, откуда происходит hachichin (гашишист),
корень слова assassin (убийца), жестокое значение которого
превосходно объясняет кровавые нравы сообщников Горного
Старца.
Люди, видевшие, как я выходил из своего дома в тот час, ко-
гда простые смертные принимают пищу, совершенно не поду-
мали бы, что я иду на остров Сент-Луи — место благочестивое
и, если хотите, даже патриархальное,— чтобы отведать стран-
ное блюдо, которое много веков назад служило какому-то са-
мозваному шейху в качестве возбуждающего средства для по-
нуждения познавших его к убийству. Ничто в моем исключи-
тельно буржуазном облике не наводило на подозрение о столь
чрезмерном пристрастии к Востоку — я был скорее похож на
племянника, приглашенного на обед к своей старой тетушке,
чем на верующего, готового отведать небесные блаженства Му-
хаммеда в компании дюжины арабов, к тому же бывших фран-
цузами до мозга костей.
Если бы прежде вам сказали, что в 1845 году, в эту эпоху
бирж и железных дорог, в Париже существовал орден любите-
лей гашиша, не описанный Гаммером, то вы не поверили бы, и,
однако же, это совершенная правда, как всегда бывает с не-
правдоподобными вещами.
III
АГАПА
Пищу подали необычным образом, в самой разной, причу-
дливой и красочной, посуде.
Огромные бокалы из венецианского стекла, испещренные
^™Ралями молочного цвета, немецкие кубки в изображениях
гербов и сцен из легенд, фламандские кружки в крупинках глазу-
ри и тонкошейные фужеры, все к тому же расставленные на тро-
стниковых циновках, заменяли стаканы, бутылки и графины.
37
Матовый фарфор от Луи Лебефа и цветастый английский
фаянс — украшение столов буржуа — сверкали в их отсутствие;
ни одна тарелка не походила на другую, но каждая имела свое
особенное отличие: Китай, Япония, Саксония представляли
здесь образцы своего прекраснейшего фарфора и богатейших
красок — чуть обломанного, чуть надтреснутого, но все изы-
сканного вкуса.
Большинство блюд составляла эмаль от Бернара де Палис-
си или лиможский фаянс, и временами столовый нож вдруг
обнаруживал под настоящими кушаньями рельеф какой-ни-
будь рептилии, лягушки или птицы. Съедобный угорь и отли-
тый уж переплетались друг с другом своими кольцами.
Честный мещанин несколько ужаснулся бы при виде своих
соседей: волосатых, бородатых, усатых или завитых невероят-
ным образом, размахивающих кинжалами шестнадцатого ве-
ка, малайскими Крисами, навахами, и склонившихся над пи-
щей, которая приобрела подозрительный вид в неровном от-
свете ламп.
Ужин подходил к концу, некоторые из самых ярых посвя-
щенных уже ощутили на себе действие зеленого вещества; я же
со своей стороны почувствовал полную перемену вкуса. Вода,
которую я пил, казалась на вкус изысканнейшим из вин, мясо
превращалось в моем рту в малину, и наоборот. Я бы не отли-
чил котлету от рыбы.
Мои соседи представились мне в несколько странном виде:
у них были огромные зрачки мартовского кота, носы вытяну-
лись в хоботы, а рты шарообразно округлились. Их фигуры вы-
делялись сверхъестественными оттенками.
Один, бледный и чернобородый, хохотал над какой-то не-
видимой сценой; другой ужасно силился поднести стакан к
своим губам, и его судорожные усилия подстегивали собой ог-
лушительные крики.
Этот, охваченный нервным порывом, невероятно ловко
вращал большими пальцами; тот, с мутным взглядом и опав-
шими руками откинувшись на спинку стула, с наслаждением
отдался бездонному морю самоуничтожения.
Я, упершись локтями в стол, обозревал все это в последних
лучах рассудка, который то уходил, то возвращался, словно
свечка, готовая погаснуть. Мои члены пронизывало притуплен-
ное ощущение теплоты, и безумие, словно волна, что, оставляя
на скале пену, отступает, чтобы обрушиться вновь, находило и
откатывалось от моего мозга, пока совсем не овладело им.
38
Вшлюцинация, эта странная хозяйка, наконец вселилась в
меня.
— в гостиную, в гостиную! — закричал один из соседей. —
Разве вы не слышите небесные хоры? Музыканты уж давно си-
дят за пюпитрами!
В самом деле, сквозь шум разговора до нас порывами доно-
сились чудные звуки.
IV
ГОСПОДИН, КОТОРОГО НИКТО НЕ ЗВАЛ
ТЪстиная представляла собой огромную комнату с золоче-
ной лепниной на стенах, расписным потолком, сатирами на
фризах, преследующими нимф в розах, и высоким камином
мраморного цвета с широкими брокателевыми занавесками,
которые источали роскошь прошедших лет.
Мебель с гобеленами, диваны, кресла и бержерки такой ши-
рины, что они могли с легкостью вместить кринолины гра-
финь и маркиз, приняли любителей гашиша в свои мягкие,
всегда раскрытые объятия.
Мне приглянулся стульчик, стоящий на углу камина, я усел-
ся на него и без сопротивления отдался на волю сказочного
снадобья.
Спустя несколько минут мои товарищи исчезли один за
другим, не оставив никаких следов, кроме теней на стене, бы-
стро поглощенных ею: так исчезают, высыхая, бурые пятна, ос-
тавленные водой на песке.
С этого времени вам придется довольствоваться рассказом
просто о личных впечатлениях, ибо я перестал осмысливать
происходящее.
В гостиной властвовало одиночество, нарушаемое лишь не-
сколькими сомнительными просветами; затем красная молния
вдруг прошла по моим ресницам; бесчисленное множество
свечей зажглось само по себе, и я ощутил омовение теплого,
золотистого света. Место, 1де я находился, было прежним но,
однако, отличалось, как набросок отличается от картины; все
было величественнее, богаче, роскошнее. Действительность
служила лишь отправной точкой для великолепия галлюцина-
ции.
Я пока никого не видел и тем не менее угадывал присутст-
вие целой толпы.
39
Я слышал шелест тканей, шарканье туфель, голоса, которые
шептались, щебетали, шепелявили и сюсюкали, приглушенные
взрывы хохота, скрип ножек столов и кресел. Стучала посуда,
открывались и закрывались двери — происходило нечто чрез*
вычайное.
Загадочный персонаж появился передо мной внезапно.
Как он попал сюда? Я не знал; вид его между тем не вызывал
у меня никакого ужаса: его нос выгибался в птичий клюв, зеле-
ные глаза, которые он часто вытирал огромным носовым плат-
ком, были окружены тремя бурыми кольцами, высокий белый
крахмальный галстук, в узел которого была вставлена визитная
карточка с надписью: “Давкус-Карота, из Золотого Горшка”, туго
схватывал его тощую шею и морщинил кожу щек в красноватые
складки; тело с выпуклой грудью каплуна стягивал черный кос-
тюм с квадратными басками, откуда свисали целые гроздья бре-
локов. Что же касается его ног, то, надо признаться, что они бы-
ли сделаны из корней мандрагоры — ветвистые, черные, бугри-
стые, все в наростах и сучках, они казались только что вырван-
ными из земли, так как отростки корней все еще были облепле-
ны комьями. Эти ноги вихляли и выгибались с необычайной
подвижностью, и, когда поддерживаемое ими тельце вдруг ока-
залось прямо передо мной, странный персонаж разразился ры-
даниями и, изо всех сил утирая глаза, страдальчески произнес:
— Сегодня придется умереть от смеха!
И слезы, величиной с горошину, покатились по крыльям
его носа.
— От смеха... от смеха... — эхом вторили ему хоры нестрой-
ных, гнусавых голосов.
V
БЕЗУМИЕ
Я взглянул на потолок и заметил целое скопление голов без
тел, вроде херувимов, со столь смешным выражением лица,
столь радостным и глубоко счастливым видом, что я не мог не
разделить их веселье. Их глаза щурились, рты раскрывались, а
ноздри раздувались — такие гримасы мигом рассеяли бы
сплин у всякого. Эти шутовские маски двигались кольцами,
вращаясь в противоположных направлениях, что оказывало
чарующее и головокружительное действие.
Мало-помалу гостиная наполнилась странными создания-
40
ми какие найдешь разве что в офортах Калло и акватинтах
Гойи,- мешанина весьма характерных лохмотьев и рубищ, че-
ловеческих и звериных форм; в любое другое время я насторо-
жился бы от такого соседства, но в этих уродцах не было ниче-
го угрожашщего. Их глаза сверкали не яростью, но лукавством,
и только благодушные улыбки приоткрывали в беспорядке
разбросанные клыки и заостренные зубы.
F Я словно был королем праздника: каждая фигура с преуве-
личенно сокрушенным видом поочередно вступала в светлый
круг, в центре которого я находился, и болтала мне на ухо вся-
кие шутки, из которых я не помню ни одной, но которые тогда
казались мне удивительно остроумными и до полного безумия
наполняли меня весельем.
При каждом новом явлении вокруг меня с громовым ревом
раздавался гомерический, олимпийский, безудержный, оглу-
шительный смех, который, казалось, эхом отдавался в беско-
нечности.
То визгливые, то глухие голоса кричали:
— Ой, уморительно, хватит! Боже, боже, я не хочу! Сил боль-
ше нет!
— Хватит! нет мочи... Хо-хо! Хи-хи! Ха-ха! Ну, и фарс! Вот
так каламбур!
— Довольно, задыхаюсь! умираю! Не смотрите на меня
так... или держите меня, не то лопну...
Вопреки этим полушутовским, полуболезненным мольбам
ужасная веселость все нарастала, рев все усиливался, потолки
и стены дома сдвинулись с места и дрожали, будто человечес-
кая диафрагма, потрясаемые этим безумным, неодолимым,
беспощадным смехом.
Скоро, вместо того чтобы поочередно подходить ко мне,
потешные призраки скопом обступили меня, тряся своими
длинными клоунскими рукавами, путаясь в складках своих
колдовских мантий, смешно сталкиваясь картонными носами,
вздымая облака пудры с париков и фальшиво распевая песни с
невозможными рифмами.
Все создания народного и авторского остроумия собрались
здесь в десятикратном, стократном количестве. То было стран-
ное сборище: неаполитанский Пульчинелла свойски хлопал
по горбу английского Панча; бергамский Арлекин терся своим
черным рылом о напудренную маску французского Паяца, из-
дававшего крики ужаса; болонский врач сыпал табак в глаза
отцу Кассандре; Тарталья галопом скакал на клоуне, а Жиль
41
бил ногой в зад дона Спавенто; Карагез, вооруженный своей
непристойной палкой, дрался на дуэли с шутом Оском.
Подальше беспорядочно возились фантазии из веселых
снов — гибридные создания, бесформенная смесь человека,
животного и всякой утвари: монашенки с колесами вместо ног
и котелком вместо брюха; бородатые воины, сделанные из ста*
канов, с деревянными саблями в птичьих копях; государствен-
ные мужи, приводимые в действие шестернями от жаровни,
короли, по пояс торчащие из солонки в виде башни; алхимики
с головами, устроенными по образцу кузнечных мехов, с час-
тями тела в форме трубок самогонного аппарата; гулящие жен-
щины, составленные из нескольких причудливо вздутых
тыкв,— словом, все, что только может изобразить в лихорадоч-
ном жару карандаш циника, направляемый пьянством.
Все кишело, ползло, скакало, урчало, дышало, как сказал Ite-
те в Вальпургиевой ночи.
Дабы избавиться от чрезмерного рвения этих престранных
созданий, я укрылся в темном углу, откуда мне было видно, как
они пустились в такой пляс, какого не знало ни Возрождение
при Чикаре, ни Опера при Мюзаре, короле дикой кадрили. Эти
танцоры, в тысячу раз превзойдя Мольера, Рабле, Свифта и
Вольтера, выводили своим антраша или балансе столь глубоко
философские комедии, столь высокую сатиру, да еще припра-
вленную столь острой солью, что я в своем углу только держал-
ся за бока*,
Давкус-Карота, все утирая глаза, совершал невообразимые
пируэты и кульбиты, особенно для человека с ногами из кор-
ней мандрагоры, и повторял нарочито жалобным тоном:
— Сегодня придется умереть от смеха!
О, вы, восхищавшиеся высокой чепухой Одри, грубыми вы-
ходками Альсида Тузе, самоуверенной глупостью Арналя, обезь-
яньими гримасами Равеля, вы, считающие себя познавшими
сущность маски комика, кабы вы могли присутствовать на этом
балу Тусгава, созданном гашишем, то вы бы согласились, что
жалкие притворщики наших ничтожных театров годятся лишь
для изображения ангелов на катафалке или памятнике!
Какие перекошенные лица! какие глаза, мерцающие и ис-
крящиеся сарказмами под птичьей перепонкой! какой оскал
рож! сколько криво прорезанных ртов! сколько для смеха гра-
неных носов! сколько брюшек, раздутых от пантагрюэльских
фокусов!
А сколько внезапных и точных сходств, сколько карикатур
42
на зависть Домье и Баварии, сколько фантазий во вкусе чудес*
ных китайских художников, этих Фидиев толстяков и макак,
вспыхивало сквозь скопление этого безобидного кошмара!
Однако не все видения были чудовищными или шутовски-
ми — на этом карнавале форм было место и для грации: у ка-
мина на светлых волосах катилась прелестная головка с перси-
ковыми щечками, показывая в бесконечном приступе веселья
все тридцать два маленьких зуба, налитых, словно рисовые
зерна, и издавая пронзительный, дрожащий, серебряный, за-
ливистый смех, вышитый трелями и органными нотами, кото-
рый проницал мои перепонки и своим нервным магнетизмом
заставлял совершать целую кучу безумств.
Буйство веселья достигло своей наивысшей точки; больше
не слышалось ничего, кроме судорожных вздохов и невнятных
всхлипов. Смех потерял свою звонкость и превратился в хрип,
блаженство сменилось судорогами: припев Давкуса-Кароты
оправдался.
Уже несколько любителей гашиша повалились наземь в
мягкой тяжести опьянения, которая уменьшает опасность па-
дения; восклицания типа: “Боже, как я счастлив! какая радость!
я купаюсь в экстазе! я в раю! я падаю в пропасть наслажде-
ний!”— нарастали, сливались, перекрывали друг друга.
Хриплые крики исторгались из сдавленной груди; руки ис-
ступленно тянулись к какому-то ускользающему видению; пят-
ки и затылки стучали о пол. Настало время капнуть холодной
водой в этот раскаленный пар, не то котел взорвется.
Человеческая оболочка, столь мало способная к наслажде-
нию и столь много — к страданию, не смогла выдержать высо-
кое давление счастья.
Один из членов клуба, не участвующий в блаженном отрав-
лении, чтобы наблюдать за безумием и не пускать к окнам тех
из нас, кто сочтет себя окрыленным, встал с места, открыл
крышку рояля и сел на стул. Его руки, опускаясь одновременно,
вдавились в белизну клавиатуры, и величественный аккорд, за-
звучавший с силой, заглушил все шорохи и изменил направле-
ние опьянения.
VI
КАЙФ
^Начатая тема была, по-моему, партией Агаты из “Фрейши-
ЦД ; эта небесная мелодия быстро развеяла смехотворные ви-
43
дения, обуревавшие меня, как дуновение разгоняет косматые
тучи. Кривляющиеся ларвы забрались под кресла, где спрята-
лись в складках портьеры, издавая сдавленные вскрики,— мне
снова почудилось, что я остался в гостиной один.
Гигантский орган Фрибурга наверняка не издал бы звуча-
ния мощнее, чем этот рояль в руках voyant’a (так называют
трезвого посвященного). Ноты звучали с такой силой, что
вонзались мне в грудь горящими стрелами; вскоре играемая
партия почудилась мне исходящей из меня; мои пальцы бега-
ли по не существующей клавиатуре; голубые и красные звуки
вылетали электрическими искрами; душа Вебера вселилась в
меня.
Закончив отрывок, я продолжал свои внутренние импрови-
зации во вкусе немецкого мэтра, которые приводили меня в
незабываемый восторг; как жаль, что волшебная стенография
не сохранила эти вдохновенные мелодии, слышимые лишь
мне одному, которые я без колебаний ставлю выше шедевров
Россини, Мейербера и Фелисьена Давида.
О, Пилле! О, Ватель! Одна из тридцати опер, созданных
мною за десять минут, в полгода обогатила бы вас.
Начальную, несколько неровную веселость сменили неопи-
суемое блаженство и безграничный покой.
Я перешел в ту счастливую пору гашиша, которую на Восто-
ке называют кайфом. Я потерял ощущение своего тела; связи
материи с.духом оборвались; я по своей воле передвигался в
среде, которая не оказывала мне никакого сопротивления.
Так, по моим представлениям, должны вести себя души в
том благоуханном мире, куда мы попадем после смерти.
Голубоватый пар, райский день, отражение лазурного грота
образовали в комнате атмосферу, где мне виделись лишь смут-
ные, размытые очертания; эта атмосфера, одновременно све-
жая и теплая, влажная и душистая, обнимала меня своим том-
но-нежным целованием, словно вода в ванне; когда я хотел
сменить место, ласковый воздух вскипал вокруг меня потока-
ми блаженных струй; сладкая нега, овладев моими чувствами,
повалила меня на софу, где я медленно оседал, как сброшенная
с плеч одежда.
Так я познал блаженство, которое испытывают, в зависимо-
сти от степени своего совершенства, духи и ангелы при прохо-
ждении сквозь эфир и небесную твердь и которое может соста-
вить целую вечность.
Ничто материальное не примешивалось к этому экстазу;
никакое земное желание не нарушало его чистоту. Даже лю-
бовь не смогла бы усилить его - гашишный Ромео позабыл
свою Джульетту. Напрасно с высоты балкона бедное дитя, скло-
нившись над жасминами, протягивает в ночь свои прелестные
алебастровые ручки — Ромео остается стоять у шелковой лест-
ницы, и, сколь отчаянно я ни был бы влюблен в ангела юности
и красоты, созданного Шекспиром, я должен согласиться, что
для любителя гашиша прекраснейшая из дочерей Вероны не
стоит того, чтобы шевельнуть хоть пальцем.
Так я невозмутимым взором — впрочем, очарованный —
разглядывал целое созвездие женщин идеальной красоты, вен-
чающих фриз своей божественной наготой; я видел отлив са-
тиновых плеч, блеск серебряной груди, розовую вязь малень-
ких ножек, колыхание царственных бедер, не испытывая ни
малейшего вожделения. Прелестные призраки, искушавшие
святого Антония, не имели надо мной никакой власти.
В силу странного чуда через несколько минут созерцания я
слился с неподвижным предметом и сам сделался им.
Так я преобразился в нимфу Сирингу, так как фреска и
вправду изображала дочь Ладона, преследуемую Паном.
Я испытал на себе все ужасы несчастной беглянки и стре-
мился укрыться в сказочных розах, чтобы спастись от чудови-
ща с ногами из бука.
VII
КАЙФ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В КОШМАР
Пока я пребывал в экстазе, вновь появился Давкус-Карота.
Рассевшись, как портной или паша, на своих сообразно
скрещенных корнях, он вперил в меня горящий взор; его клюв
щелкал столь язвительно, столь насмешливо-торжествующий
вид осенял всю его нескладную фигурку, что я невольно задро-
жал.
Угадывая мой ужас, он удвоил свои кривлянья и ужимки,
приближаясь ко мне судорожными прыжками, словно лжера-
неный или безногий калека на своих обрубках.
Я ощутил в ушах дуновение холода, и голос с хорошо изве-
стным мне выговором, хотя я не мог определить, кому он при-
надлежал, сказал мне:
Этот ничтожный Давкус-Карота, продавший ноги за бутылку,
выкрал твою голову и поставил на се место не то что ослиную
башку, как Пак — Боттому, а голову слона!
45
Обуреваемый страшным любопытством, я направился пря-
мо к зеркалу и увидел, что это предупреждение не было лож-
ным.
Меня приняли за индусского или яванского идола: мой лоб
стал высоким, а нос, вытянутый в хобот, изогнулся на груди;
уши хлопали меня по плечам, и, для пущей нескладности, я
был цвета индиго, будто Шива, голубой бог.
Взбешенный, я бросился вдогонку за Давкусом-Каротой, ко-
торый подпрыгивал и визжал и вообще всячески изображал
полный ужас; мне удалось-таки настигнуть его и с такой силой
стукнуть о край стола, что он наконец вернул мне голову, за-
вернутую в носовой платок
Довольный этой победой, я занял прежнее место на диване;
но тут все тот же незнакомый голосок сказал мне:
— Берегись, ты окружен врагами; незримые силы стремятся
завлечь и удержать тебя. Ты здесь в плену: попробуй выйти —
тогда увидишь.
Завеса спала с моей души: мне стало ясно, что члены клуба
не иначе как каббалисгы и колдуны, решившие заманить меня
на погибель.
VIII
TREAD-MILL
С большим трудом я поднялся и направился к двери гости-
ной, которой достиг по истечении значительного времени,—
незримая сила принуждала меня отступать на один шаг из ка-
ждых трех. По моим подсчетам, я прошел этот путь за десять
лет.
Давкус-Карота шел за мной следом, ухмыляясь и бормоча с
лажным участием:
— Если он будет так идти, то постареет по пути.
Между тем мне удалось добраться до смежной комнаты,
размеры которой почудились мне изменившимися до неузна-
ваемости. Она все удлинялась и удлинялась... до бесконечно-
сти. Свет, мерцавший в конце ее, казался дальше неподвижной
звезды.
Обескураженный, я хотел было остановиться, но голосок
сказал мне, почти касаясь меня губами:
— Вперед! Она ждет тебя в одиннадцать часов.
Отчаянно воззвав к своим душевным силам, я сумел огром-
ным напряжением воли оторвать приросшие к земле ноги, ко-
4б
торые я вырвал, словно стволы деревьев. Уродец с мандрагоро-
выми ногами сопровождал меня, высмеивая мои труды и под-
певая монотонно, как пономарь:
— Мрамор берет! Мрамор берет!
Я в самом деле чувствовал, что мои конечности окаменели
и обросли мрамором до самых бедер, как у Дафны в Тюильри;
я был по пояс статуей, подобно заколдованным князьям из
“Тысячи и одной ночи”. Мои отвердевшие пятки ужасно грохо-
тали по полу: я мог бы сыграть Командора из “Дон Жуана”.
Между тем я добрался до площадки лестницы, по которой
попытался спуститься; она была наполовину освещена и в мо-
ем сне приобрела циклопические, колоссальные пропорции.
Оба ее конца, погруженных во мрак, казались мне уходящими
в небеса и в ад, две бездны; подняв голову, я ясно различил в
превосходной перспективе наложения бесконечных лестниц,
пролетов, созданных словно затем, чтобы взобраться на баш-
ню Лилак; спускаясь вниз, я предчувствовал пропасти ступе-
ней, вихри спиралей, обмороки поворотов.
“Наверно, эта лестница проходит сквозь всю землю, — сказал
я себе, продолжая машинальное движение. — Я доберусь до
подножия на следующий день после Страшного суда”.
Фигуры на картинах смотрели на меня с видом сожале-
ния, некоторые даже извивались в мучительном порыве,
словно немые, хотящие дать важный совет в чрезвычайных
обстоятельствах. Можно было бы сказать, что они хотели
предупредить меня о грозящей мне западне; пролеты были
мягкими и обрушивались подо мной, словно мистические
лестницы на сеансе посвящения в масоны. Липкие, дряблые
камни проседали, как жабье брюхо; все новые и новые пло-
щадки и ступени беспрерывно вставали под моими покор-
ными шагами, передо мною вновь возникали те из них, что
я уже преодолел.
Эта карусель, по моим подсчетам, длилась тысячу лет.
Наконец я добрался до передней, где меня поджидала дру-
гая, не менее ужасная напасть.
Химера со свечой в лапах, замеченная мною еще при входе,
преградила мне путь с очевидно враждебными намерениями; в
ее зеленоватых глазах искрилась насмешка, ее сомкнутая пасть
злобно смеялась; она приближалась ко мне почти на брюхе,
волоча в пыли свою бронзовую попону, но не из смирения —
грозная дрожь билась в ее львином теле, а Давкус-Карота раз-
задоривал ее, как собаку, которую хотят натравить.
47
— Кусай его, кусай! Чем не царское блюдо для бронзовой
пасти — мраморное мясо?
Не давая себе ужаснуться при виде этого чудища, я прошел
стороной. Порыв холодного воздуха ударил мне в лицо — пе*
редо мной вдруг оказалось безоблачное ночное небо. Россыпь
звезд запудрила золотом прожилки этого огромного куска ла-
зурита.
Я был во дворе.
Чтобы передать то воздействие, которое оказала на меня
эта мрачная постройка, мне нужен тот резец, которым Пиране-
зи создавал черный цвет на своих чудесных гравюрах: двор
приобрел размеры Марсова поля и за несколько часов оброс
гигантскими зданиями, прорезавшими горизонт частоколом
зубцов, куполов, башен, крыш, пирамид, достойных Рима и Ва-
вилона.
Я был бесконечно изумлен: я никогда не подозревал у ост-
рова Сент-Луи столько монументального величия, к тому же
раз в двадцать превышавшего его настоящие размеры, и я не
без ужаса подумал о могуществе колдунов, сумевших за один
вечер возвести подобные сооружения.
— Ты в плену бесплодных иллюзий; этот дворик совсем мал, —
пробормотал голос. — Он всего двадцать семь шагов в длину и
двадцать пять в ширину.
— Да, да, — пробурчал ветвистый уродец, — если идти семи-
мильными шагами. До одиннадцати часов тебе не добраться:
ты ведь полторы тысячи лет как идешь. Уж наполовину седой...
Будь благоразумным, возвращайся наверх.
Так как я не послушался, ненавистное чудище запутало меня
в чаще своих ног и, помогая себе руками, как крюком, потащи-
ло меня против воли, заставило вновь подняться по лестнице,
1де я уже столько натерпелся, и, к моему крайнему отчаянию,
привело меня в гостиную, откуда я с таким трудом сбежал.
Тут мой разум окончательно помутился: я сделался сума-
сшедшим, безумцем.
Давкус-Карота совершал кульбиты чуть ли не до потолка,
говоря мне
— Идиот. Я вернул тебе голову, но прежде я извлек ложкой
мозг.
Я ощутил приступ ужасно# тоски, ибо, нащупав рукой че-
реп, я обнаружил его открытым — и лишился сил.
48
IX
НЕ ВЕРЬТЕ ЧАСАМ
Очнувшись, я увидел комнату, заполненную людьми в чер-
ном, которые сокрушенно подходили, пожимая друг другу ру-
ки с печальным радушием, словно их постигло общее горе.
Они говорили:
— Время умерло: больше не будет ни лет, ни месяцев, ни ча-
сов. Время умерло, и мы провожаем его в последний путь.
— Верно, оно было старым, но такого я не ожидал: для сво-
его возраста оно прекрасно выглядело,- добавил один, оде-
тый в траур. Я узнал в нем художника своих друзей.
— Вечность износилась, пора положить ей конец, — под-
хватил другой.
— Боже — воскликнул я, пораженный внезапной мыслью,—
если времени больше нет, то когда может наступить одиннад-
цать часов?
— Никогда...— гулко вскричал Давкус-Карота, прилипнув ко
мне своим носом и наконец показываясь в своем подлинном
облике. — Никогда... Теперь всегда будет четверть десятого...
Стрелка останется стоять на той минуте, когда кончилось Вре-
мя, а ты в наказание будешь приходить и смотреть на неподви-
жную стрелку и возвращаться назад, чтобы все начать снова,—
и так до тех пор, пока не изотрешь пятки до костей.
Высшая сила увлекла меня, я четыреста или пятьсот раз
проделал этот путь, с ужасной тревогой вопрошая циферблат.
Давкус-Карота сидел верхом на маятнике, строя мне чудо-
вищные гримасы.
Стрелка не двигалась.
— Несчастный! Ты остановил балансир, — в бешенстве
вскричал я.
— Нет, он движется, как обычно... однако солнца обратятся
в пыль, прежде чем эта железная стрелка сдвинется хоть на
миллионную долю миллиметра.
— Видно, придется призвать злых духов: дело принимает
дурной оборот, — сказал voyant. — Сыграем немного. На сей
раз заменим арфу Давида роялем Эрара.
И, усевшись на стул, он стал играть бодрые, веселые мело-
дии...
Это, видимо, столь претило человеку-мандрагоре, что он
стал уменьшаться, сплющиваться, выцветать и издавать нечле-
49
нераздельные жалобы; наконец, он потерял всякий человечес-
кий облик и повалился на паркет в виде раздвоенного корешка.
Чары рассыпались.
— Аллилуйя! Время воскресло, — закричали детские, радо-
стные голоса. — Погляди-ка теперь на маятник!
Стрелка показывала одиннадцать часов.
— Сударь, ваша карета подана, — сказал мне слуга.
Бред кончился.
Любители гашиша расходились каждый в свою сторону,
будто офицеры после похорон Мальбрука.
Я же легким шагом спустился с лестницы, которая принес-
ла мне столько мучений, и через несколько мгновений я уже
совершенно наяву был в своей комнате; последние пары, соз-
данные гашишем, развеялись.
Ко мне вернулся рассудок или по крайней мере нечто, на-
зываемое так за отсутствием другого определения.
Ясность ума позволила бы мне даже вникнуть в какую-ни-
будь пантомиму или водевиль или же сочинить рифмованные
стихи чередованием трех букв.
Тысяча вторая ночь
Решив с утра ничего не делать и
не жеда* быть потревоженным в этом важном занятии, я не ве*
лел никого принимать. Оградив себя таким образом от назой-
ливых людей (которые, к несчастью, существуют не в одних
лишь мольеровских комедиях), я принял все меры, чтобы
всласть насладиться этим редким удовольствием.
В камине пылал огонь, спущенные занавесы пропускали
лишь слабый свет, и, раскинувшись на полдюжине подушек,
покрывавших мой ковер, я вытягивал к очагу ноги, заставляя
танцевать на них широкие сафьяновые туфли причудливой
формы. На моем рукаве, каку Магомета, спала кошка, и все зо-
лото мира не заставило бы меня изменить позу.
Мой дремлющий взгляд полусознательно блуждал, перехо-
дя с очаровательного эскиза “Магдалина в пустыне” Камилла
Рокеплана на рисунок пером Алиньи и большой пейзаж нераз-
лучных Фешера, Сешана, Диетерля и Досплешена, гордость мо-
его скромного жилища поэта. Чувство реальной жизни поки-
дало меня понемногу, и я уже погружался в море нирваны, где
столько восточных мечтателей потопило свой разум, расша-
танный гашишем и опиумом.
Епубочайшее безмолвие царило в комнате; чтобы не слы-
шать тиканья маятника, я остановил часы, так как в ленивые
минуты не переношу лихорадочной и глупой деятельности
этого медного диска, который ходит из угла в угол своей клет-
ки, не делая шага вперед.
Вдруг невыносимо резкий, нервный звонок прорезал тиши-
ну, — так капля расплавленного свинца с треском погружается в
уснувшее озеро. Я вскочил, точно меня подбросило пружиной,
позабыв о кошке, мирно покоившейся на моем рукаве, и про-
клиная привратницу, пропустившую кого-то ко мне, несмотря
на запрещение. Затем я снова сел, поправляя под локтем подуш-
ки и ожидая объяснения этого неожиданного звонка.
В двери показалась курчавая голова Адольфо-Франческо-
Пержиалла, нечто вроде абиссинского разбойника, о котором я
говорил знакомым, что у меня слуга — негр. Его белые глаза
51
сверкали, ноздри расплющенного носа раздувались, непомер-
но толстые губы распустились в широкую улыбку, которой он
старался придать лукавый вид. Острые собачьи зубы так и бле-
стели. Видно было, что он сгорал от нетерпения заговорить,
гримасничая на все лады, чтобы привлечь мое внимание.
— Что случилось, Франческо? Я ведь ничего не пойму, хоть
вы целый час вращайте глазами, как этот негр с часами на жи-
воте. Довольно пантомимы, постарайтесь объяснить на каком-
нибудь языке, в чем дело и кто это осмелился посягнуть на мой
покой?
Нужно сказать, что Адольфо-Франческо-Пержиалла-Абдул-
ла-Бек-Магомет, абиссинец по рождению, сначала был маго-
метанином, недавно перешел в христианство и говорил на
всех языках, не зная как следует ни одного. Он начинал свою
речь по-французски, продолжал по-итальянски и кончал по-
турецки или арабски; особенно это было заметно, когда дело
касалось щекотливых тем, например неизвестно куда исчез-
нувших бутылок бордо, ликеров или лакомств.
К счастью, у меня несколько друзей-лингвистов. Сначала
мы гоняем его по Европе; истощив итальянский, испанский и
немецкий языки, он старается скрыться в Константинополе,
т.е. начинает лопотать по-турецки, но тут он встречает Альфре-
да и поспешно спасается в Алжир, где его преследует Евгений
шаг за шагом во всех арабских наречиях — от верхнего до ни-
жнего Алжира; в отчаянии Франческо скрывается в бамбора,
галла и других диалектах внутренней Африки, где его могут на-
крыть лишь Абади, Комб и Тамизье. Впрочем, на этот раз он до-
вольно ясно сказал мне на плохом испанском языке: “Una
mujer muy bonita con su hermana quien quiere hablar a usted”.
— Пусть войдут, если они молодые и хорошенькие, иначе
скажи им, что я занят.
Понимавший в этом толк, Франческо исчез и через не-
сколько секунд возвратился в сопровождении двух женщин,
закутанных в белые бурнусы с опущенными капюшонами.
Я вежливо предложил им кресла, но, увидев подушки, они
знаком поблагодарили меня и, освободившись от бурнусов, се-
ли, скрестив по-восточному ноги.
Луч солнца, пробившись в щель между занавесами, осветил
лицо сидевшей против меня женщины. Ей было лет двадцать,
другая, менее красивая, казалась несколько старше. Займемся
более красивой.
Она была одета по-турецки: камзол зеленого бархата, изо-
52
билующий украшениями, стягивал ее осиную талию, шемизет-
ка полосатого газа, застегнутая у шеи двумя бриллиантами, бы-
ла так выкроена, что показывала белую, хорошо сформирован-
ную грудь, платок белого атласа, сияющий золотыми звездами
и блестками, служил ей поясом, широкие шаровары спуска-
лись до колен, тонкие, изящные икры были окутаны по-албан-
ски вышитым бархатом, а маленькие, белые ножки были обуты
в раскрашенные, шитые золотом, сафьяновые туфли; оранже-
вый кафтан, затканный серебряными цветами, и пунцовая фе-
ска с длинной шелковой кистью дополняли этот туалет, до-
вольно причудливый для Парижа этого несчастного 1842 года.
Ее лицо могло служить образцом правильной красоты,
свойственной турецкой расе; на его мертвом фоне, похожем
на тусклый мрамор, таинственно расцветали, точно два чер-
ных цветка, прекрасные восточные глаза, такие чистые и глу-
бокие под длинными веками, выкрашенными лавзонией. Не-
сколько смущенная и взволнованная, она, однако, держала в
одной руке ногу, а другой играла концом косы, украшенной
монетами, лентами и жемчугами.
Другая женщина, одетая менее богато, тоже молчала.
Вспомнив, что в Париж недавно приехали баядерки, я вооб-
разил, что это какие-нибудь альме из Каира или египетские
приятельницы моего друга Доза, ободренные хорошим прие-
мом, оказанным мною прекрасной Амани и ее темнокожим
подругам Сандирун и Рангун, пришли попросить моей протек-
ции фельетониста.
— Чем могу служить вам, сударыни? — спросил я, поднося
руки к ушам и стараясь как можно почтительнее поклониться.
Прекрасная турчанка подняла глаза к потолку, потом опус-
тила их на ковер и остановила глубоко задумчивый взгляд на
сестре. Видно было, что она ни слова не понимала по-фран-
цузски.
— Эй, Франческо, сюда, бездельник, неудавшаяся обезьяна!
Будь полезен хоть раз в жизни!
Франческо приблизился с важным и торжественным видом.
— Так как ты плохо говоришь по-французски, то должен хо-
рошо знать арабский язык. Жалую тебя званием драгомана.
Спроси сначала этих прекрасных незнакомок, откуда они и че-
го хотят!
Пропуская обычные гримасы Франческо, я передам лишь
разговор с турчанками, как будто он происходил непосредст-
венно между нами.
53
Юсподин, — сказала прекрасная дама устами негра, — хотя
вы и литератор, но наверно читали “Тысячу и одну ночь”, араб-
ские сказки, переведенные — вернее говоря, почти переведен-
ные — добряком Галландом, и надеюсь, что имя Шехерезады
вам небезызвестно.
Как же не знать прекрасную Шехерезаду, жену мудрого сул-
тана Шахриара, который, не желая быть обманутым своими
женами, женился вечером, а утром отдавал приказ отрубить го-
лову новобрачной.
Так вот, я именно Шехерезада, а это моя сестра Динарзард,
которая не пропускает ни одной ночи, чтобы не сказать мне:
“Сестра, пока не наступило утро, расскажи нам, если ты не
спишь, одну из твоих прекрасных сказок”.
Весьма польщен вашим визитом, хотя он несколько фанта-
стичен. Чему же я обязан великой честью принимать у себя
прекрасную султаншу Шехерезаду и ее сестру Динарзард?
Я уже истощила весь свой запас сказок, использовав весь
свой волшебный мир: колдуны, джинны (злые духи), волшеб-
ники и волшебницы очень помогали мне, но всему приходит
конец. Достославный султан, тень падишаха на земле, свет све-
та, луна и солнце срединного царства, начинает ужасно зевать
и теребить рукоятку своей сабли. Сегодня утром я рассказала
свою последнюю сказку, и так как мой повелитель милостиво
позволил мне еще сохранить голову, то я прилетела сюда на
волшебном ковре четырех факардинов. Я должна во что бы то
ни стало раздобыть сказку, историю или новеллу, потому что
завтра на заре я должна снова рассказать что-нибудь великому
Шархиару, властителю моей судьбы. Этот дурень Галланд обма-
нул весь мир, утверждая, что, прослушав тысячу первую сказку,
султан удовлетворился этим и подарил мне жизнь; наоборот,
он жаждет, как никогда, рассказов, и только любопытство удер-
живает его жестокость.
Ваш султан Шахриар удивительно похож на нашу публику!
Если мы перестаем ее занимать, она хотя и не рубит нам голо-
вы, но забывает нас, а это не менее жестоко. Ваша судьба меня
трогает, но чем я могу вам помочь?
Уступите мне какой-нибудь фельетон или новеллу из ваше-
го портфеля.
О, очаровательная султанша, у меня ничего нет, я работаю
только тогда, когда голоден, потому что, как сказал Перс, fames
facit poetridas picas. Но я еще Moiy просуществовать три дня.
Пойдите лучше к Карру, если только сможете пробраться сквозь
Я
рой ос, который шумит и бьется крыльями в его окна и двери.
Он полон очаровательных романов, которые и поведает вам ме*
уроками бокса и призывом к охоте. Или подождите фелье-
тона Жюля Жанена, там он сымпровизирует историю, подоб-
ной которой не слыхал султан Шахриар.
Бедная Шехерезада подняла к потолку свои длинные веки,
выкрашенные лавзонией, с таким кротким и умоляющим взгля-
дом, что я смягчился и принял, наконец, важное решение.
У меня действительно есть сюжет, который я хотел использо-
вать в одном из моих фельетонов, но, пожалуй, продиктую его
вам. Вы переведете его на арабский язык, украсив цветами и пер-
лами восточной поэзии. Название уже есть: “Тысяча вторая ночь”
Шехерезада взяла лист бумаги и принялась быстро писать
под диктовку, по восточному обычаю, справа налево. Ей нужно
было торопиться, так как вечером она должна была уже вер-
нуться в столицу Самаркандского царства.
В Каире, на площади Езбекик, жил некогда юноша по име-
ни Махмуд-Бен-Ахмет.
Его родители умерли, оставив ему небольшой капитал, дос-
таточный, однако, чтобы не нуждаться в работе. Другие грузи-
ли суда товарами или сопровождали караваны, которые везли
драгоценные материи из Багдада в Мекку, а Махмуд-Бен-Ахмет
жил без забот, наслаждаясь курением тумбеки в наргиле, да
смакуя шербеты и сухие дамасские варенья.
Хорошо сложенный, красивый и симпатичный, он, однако,
не искал любовных приключений и совершенно спокойно отка-
зывался от богатых и красивых невест, которых ему предлагали.
Он был хорошо образован: бегло читал самые старинные
книги, обладал хорошим почерком, наизусть знал изречения
Корана и примечания толкователей, без ошибки произносил
стихи знаменитых поэтов, которыми обыкновенно испещре-
ны двери мечети. Будучи сам отчасти поэтом, он охотно слагал
звучные, рифмованные стихи, которые очаровательно декла-
мировал на свой собственный лад.
Благодаря наргиле и размышлениям в вечерний час на мра-
морных плитах террасы, голова Махмуд-Бен-Ахмета была не-
сколько экзальтирована, и он решил отдать свое сердце лишь
какой-нибудь пери или в крайнем случае принцессе крови. Это
обстоятельство и было причиной его невнимания к предлага-
емым партиям и отказа продавцам невольниц. Единственным
его другом был его двоюродный брат Абдул-Малек, кроткий и
застенчивый юноша, разделявший его вкусы.
55
Однажды Махмуд-Бен-Ахмет отправился на базар, чтобы
купить несколько флаконов атар-гуллы и других константино-
польских снадобий. Проходя одной очень узкой улицей, он
встретился с богатым паланкином, светло-алые бархатные за-
навески которого были спущены. Его несли два белых мула, а
впереди шли богато одетые зебеки и чауши.
Махмуд прижался к стене, чтобы пропустить пышный кор-
теж, и, как ни быстро это сделал, но все же успел увидать в щель
между половинками занавесок, распахнувшихся от сильного
порыва ветра, красивую женщину на золотых парчовых по-
душках. Видимо, уверенная, что ее никто не видит, она сняла
свою вуаль. Как молния исчезло это видение, но Махмуд-Бен-
Ахмет окончательно потерял голову. На ослепительно белом
лице незнакомки чернели, точно выведенные кисточкой, бро-
ви, гранатовый рот показывал двойной ряд восточных жемчу-
гов, более нежных и чистых, чем те, которые блистают в колье
и браслетах любимой султанши. Выражение ее лица было гор-
дым, но привлекательным, а вся осанка говорила о царствен-
ном происхождении.
Махмуд-Бен-Ахмет долго стоял на месте, ослепленный ви-
дом этой неземной красоты, и возвратился домой с пустыми
руками, забыв о своих покупках.
Всю ночь он грезил прекрасной незнакомкой и, встав, тот-
час же принялся сочинять в ее честь длинные стихи, полные
самых изящных и цветистых сравнений.
Окончив свое произведение, он переписал его на красивый
лист папируса с великолепными заглавными буквами, напи-
санными красными чернилами, и золотыми заставками; затем
положил его в рукав и понес к своему другу Абдулу, от которо-
го не имел секретов.
Ему нужно было идти базаром, и по дороге он зашел к тор-
говцу благовониями, чтобы купить себе атар-гуллу. Там что-то
покупала дама, закутанная в длинную белую вуаль. Однако это
не помешало Махмуду увидеть ее левый глаз, и он тотчас же уз-
нал красавицу из паланкина; его охватило такое волнение, что
он должен был прислониться к стене.
Дама заметила это и ласково спросила Махмуда, что с ним
и не чувствует ли он себя дурно.
Хозяин магазина отвел его в комнату за лавкой, а малень-
кий негритенок принес ему стакан снеговой воды.
Почему вы так взволновались, увидя меня? — спросила с не-
жным участием дама.
56
Махмуд-Бен-Ахмет рассказал, что видел ее в носилках око-
ло мечети султана Еассана в то время, как ветер распахнул за-
навески, и что с этой минуты умирает от любви.
Неужели ваша страсть зародилась так внезапно? — спроси-
ла красавица. — Я не знала, что можно так быстро полюбить!
Действительно, вы не ошиблись, говоря, что встретили меня
вчера; я отправлялась в баню, а так как было жарко, то и под-
няла вуаль. Но вы плохо меня разглядели: я не так хороша, как
вам кажется.
Произнеся эти слова, она подняла вуаль и открыла лицо, си-
яющее такой совершенной красотой, что даже зависть не могла
найти в нем ни малейшего недостатка.
Можете представить, как счастлив был Махмуд-Бен-Ахмет.
Он рассыпался в комплиментах, имеющих, однако, то редкое
достоинство, что они были не преувеличены и совершенно ис-
кренни.
Говоря с большим жаром, он нечаянно выронил из рукава
папирус со стихами, который и покатился по полу.
Что это такое? — спросила дама. — Какой красивый почерк;
видно, что он принадлежит образованному человеку!
Это стихи, — ответил, краснея, юноша, — которые я сочи-
нил сегодня ночью, так как не мог спать. Я старался просла-
вить ими ваши совершенства, но копия слишком бледна в
сравнении с оригиналом, и мои стихи недостаточно блестящи,
чтобы дать понятие о блеске ваших глаз.
Красавица внимательно прочла стихи и сказала, пряча их в
свой ПОЯС:
Хотя в них слишком много лести, но они недурно написа-
ны! — И, поправив вуаль, она вышла из лавки, небрежно сказав:
Иногда, возвращаясь из бани, я покупаю эссенции и духи у
Бедредина.
Эти слова заронили надежду в сердце юноши. Продавец по-
здравил Махмуда с удачей и, уведя его в глубь лавки, шепотом
сказал:
Ведь это Айши, дочь калифа!
Махмуд-Бен-Ахмет возвратился домой совершенно ошело-
мленный, не смея верить своему счастью. Однако, несмотря на
всю свою скромность, он не мог скрыть от себя, что принцес-
са Айши смотрела на него очень благосклонно. Случай, этот
великий сводник, дарил ему счастье, превосходящее самые
дерзкие мечтания. Теперь он был несказанно рад, что не послу-
шал друзей, советовавших ему жениться, и не поддался на со-
57
блазны старух, приносивших ему портреты молодых девушек,
пригодных к браку, хотя все они, как водится, имели глаза га-
зели, лицо — подобное полной луне, волосы — длиннее хвоста
Аль Борака, коня пророка, уста — из розовой яшмы, дыхание —
подобное серой амбре и еще тысячу разных совершенств, тай-
на которых упадет вместе со свадебной вуалью. Как он был
счастлив, чувствуя себя свободным от пошлых уз и имея воз-
можность наконец-то, всецело отдаться страсти!
Как и в прошлую ночь, он не мог заснуть, ворочаясь на сво-
ем диване, а образ принцессы Айши, сверкая, как огненная
птица на фоне заходящего солнца, реял перед его глазами. Он
кончил тем, что встал и вышел на один из тех красивых балко-
нов из кедрового дерева, которые на Востоке укрепляют обык-
новенно на наружной стене дома, чтобы можно было дышать
ночной свежестью.
Сон подобен счастью, он не приходит к тому, кто его ищет,
а потому Махмуд-Бен-Ахмет, чтобы успокоить свои взволно-
ванные мысли, поднялся с наргиле на самую высокую террасу
своего жилища.
Свежий воздух ночи, красота неба, испещренного золотом
звезд, и серебряный лик луны, подобный бледной от любви сул-
танши, склонившейся на решетку беседки, успокоили юношу.
Он был поэтом и не мог оставаться равнодушным, глядя на ве-
ликолепную картину, расстилавшуюся у его ног. С этой высоты
Каир был похож на рельефный план, которым гяуры изобража-
ют свои крепости. Повсюду виднелись террасы, украшенные ро-
скошными растениями и испещренные коврами. Это было так-
же время разлива Нила, и площади блестели, как озера, сады ка-
зались оазисами со своими пальмами, рожковыми деревьями и
индийскими смоковницами. Острова домов с плоскими крыша-
ми, узкие улицы, оловянные купола мечетей, хрупкие, ажурные
минареты, похожие на безделушки из слоновой кости, темные и
освещенные углы дворцов представляли красивое зрелище. А
там, вдали, пепельные пески пустыни смешивали свои оттенки
с молочным цветом небосклона, и три пирамиды Шзеха, смутно
рисуясь на голубоватых лугах, выделялись на горизонте гигант-
скими каменными треугольниками.
Сидя на груде подушек, весь окутанный трубкой своего
наргиле, юноша старался различить в прозрачных сумерках
далекие формы дворца, где спала теперь прекрасная Айши.
Вокруг было так тихо, что все окружающее могло показаться
нарисованной картиной, и единственный звук издавал дым
58
наргиле, проходя сквозь шар горного хрусталя, наполненный
водой.
И вдруг среди этой тишины раздался отчаянный крик, по-
добный тому, который испускает антилопа на берегу источни-
ка, чувствуя на своей шее лапу льва или пасть крокодила у сво-
ей головы. Испуганный, Махмуд-Бен-Ахмет одним прыжком
поднялся со своего ложа и схватился за ятаган, попробовал,
свободно ли он выходит из ножен, и наклонился с балкона в ту
сторону, откуда слышался крик.
Он различил вдали странную группу, состоящую из белой
фигуры и целой стаи черных, бешено преследующих ее. Белая
фигура, точно летящая по верхушкам домов, казалось, была
так близко от своих преследователей, что еще секунда, и они
ее нагонят, если никто не придет ей на помощь.
Подумав сначала, что это пери, за которой гонится рой кол-
дунов, с кусками мяса мертвеца в огромных зубах, или джин-
ны, с перепончатыми плоскими крыльями и когтями, как у ле-
тучей мыши, Махмуд-Бен-Ахмет вытащил из кармана зерна
крапчатого алоэ и начал заклинать духов, произнося девяно-
сто девять имен Аллаха, но он не успел еще произнести двад-
цатого имени, как остановился. Оказалось, что это сверхъесте-
ственное существо, перелетавшее с одного балкона на другой
и перепрыгивающее улицы в четыре и пять футов ширины, ко-
торые разделяют массивные глыбы восточных городов, была
просто женщина, а джинны, преследующие ее,— зебеки, чауши
и евнухи. Две-три террасы и одна улица отделяли беглянку от
балкона, на котором стоял Махмуд, но ее силы, казалось, изме-
няли ей: она судорожно повернула шею и, как загнанная ло-
шадь, чувствуя шпоры, увидала приближающуюся отвратитель-
ную стаю преследователей, сделала последнее усилие и пере-
скочила улицу.
В своем прыжке она задела Махмуд-Бен-Ахмета, не заметив
его, так как луна зашла в этот момент за облако, и бросилась на
другой край террасы, чтобы продолжать свое бегство. Но сле-
дующая улица была слишком широка, и она не надеялась ее пе-
репрыгнуть; тогда она стала искать глазами, куда бы ей спря-
таться, и, увидев большую мраморную вазу, скрылась в ней, как
эльф в цветке лилии.
Разъяренная толпа, точно демоны, стремительно ворвалась
на террасу. Медные и черные, усатые и безбородые лица, свер-
кающие глаза, руки, судорожно сжимающие сабли и кинжалы,
ярость, написанная на этих отвратительных и жестоких физи-
59
ономиях, заставили Махмуда содрогнуться от ужаса, хотя он
был не труслив и великолепно владел оружием. Оглядев пустую
террасу и не найдя беглянки, они продолжали свой путь, не об-
ратив никакого внимания на Махмуд-Бен-Ахмета.
Когда смолкло бряцание их оружия и шлепанье туфель, бег-
лянка подняла из вазы свою хорошенькую бледную голову, ог-
лядываясь вокруг глазами испуганной антилопы, затем, высво-
бодив из вазы плечи, встала в ней, точно пестик огромного
мраморного цветка, не замечая, что на нее смотрит, улыбаясь,
юноша и делает ей ободрительные знаки. Наконец, увидав его,
она со скромным видом и умоляющими жестами подошла и
сказала:
Будьте милосердны, господин, и спрячьте меня от этих демо-
нов в каком-нибудь темном углу вашего дома!
Махмуд-Бен-Ахмет провел ее по лестнице, ведущей к нему в
комнату, тщательно закрыв за собой трап. В комнате при свете
лампы он увидал, что беглянка молода, впрочем, он угадал это
и раньше по серебристому звуку ее голоса. Она была также
очень красива, что, однако, не удивило его, так как при сиянии
звезд он различил ее изящную фигуру. Ей было не больше пят-
надцати лет, на необыкновенно бледном фоне ее лица ярко
выделялись миндалеобразные черные глаза, углы которых
продолжались до висков, ее изящный, благородной формы
нос был так красив в профиль, что заставил бы позавидовать
самую красивую девушку Хиоса или Каира и соперничал с
мраморными богинями, которым поклонялись язычники-гре-
ки, очаровательная шея была необыкновенно бела, и лишь на
затылке краснела тонкая, как волос, пурпурная полоска, не-
сколько крошечных капелек крови выступило на ней. Ее одеж-
да была проста и состояла из камзола, обшитого шелковым га-
луном, муслиновых шаровар и пестрого пояса. Она еще не оп-
равилась от волнения, и ее грудь высоко поднималась и опус-
калась под полосатой газовой туникой.
Несколько успокоившись, она встала на колени перед Мах-
муд-Бен-Ахметом и рассказала ему в красивых выражениях
свою историю:
Я была невольницей в серале богача Абу-Бекера, и моя ви-
на состояла в том, что я передала цветочное послание от одно-
го >фасивого и молодого эмира любимой султанше нашего
господина. Абу-Бекер страшно разгневался, перехватив селям,
велел зашить султаншу в мешок с двумя кошками и бросить в
воду, а мне приказал отрубить голову. Исполнить это должен
60
был Кисляр-Агасси. Но, воспользовавшись беспорядком, кото-
рый водворился в серале при известии о страшной судьбе бед-
няжки Нурмагал, я убежала через открытый трап террасы. Мое
бегство было замечено и вызвало погоню евнухов, зебеков и
албанцев, состоящих на службе у моего господина. Один из
них, именем Месрур, который долго, но тщетно добивался мо-
ей любви, так близко коснулся меня своей кривой саблей, что,
почувствовав ее на шее, я и издала тот ужасный крик, который
вы должны были услыхать. Я была вполне уверена, что пришел
мой последний час, но нет Бога, кроме Аллаха, и Магомет Про-
рок Его! Ангелу Азраилу еще не было позволено взять мою ду-
шу и отнести ее к вратам Алзирата. Теперь вся моя надежда
только на вас. Могущественный Абу-Бекер, наверно, велит ме-
ня искать, а если меня найдут, то Месрур не удовольствуется
царапиной на моей шее, — улыбаясь, сказала она, проводя ру-
кой по красной полоске, оставленной саблей хебека.
Сделайте меня своей рабыней, и я посвящу вам спасенную
вами жизнь. Мое плечо всегда поддержит вас, и мои волосы бу-
дут обтирать пыль с ваших сандалий.
Махмуд-Бен-Ахмет, как и большинство образованных лю-
дей, любящих поэзию, был сострадателен. Лейла (так звали
беглянку) выражалась так изысканно, была так молода и пре-
красна, что ему было нетрудно согласиться на ее просьбу.
Впрочем, едва ли бы юноша был способен выгнать ее из дома,
если бы она была и хуже.
Он показал молодой девушке на персидский ковер с шелко-
выми подушками в углу комнаты и на ужин, состоявший из фи-
ников, цедр, вареных в сахаре, и консервов константинополь-
ских роз. Туг же стояли два кувшина для охлаждения воды из
пористой фивской глины, поставленные на блюдца японского
фарфора и покрытые жемчужными каплями испарины. Собст-
венно, этот ужин был приготовлен для него, но он забыл о нем,
слишком занятый своими мыслями. Устроив Лейлу, он снова
вышел на террасу, чтобы докурить свой наргиле и найти пос-
ледние рифмы для стихов, посвященных принцессе Айши. В
них упоминались иранские лилии, цветы Гулистана и все не-
бесные созвездия.
Встав на рассвете на другой день, Махмуд-Бен-Ахмет вспом-
нил, что у него нет больше бензойных саше, цибета, а также
что его шелковый кошелек настоятельно требует замены. На-
скоро совершив омовение и прочтя молитвы, обратясь на Вос-
ток, он переписал новые стихи, положил их в рукав с намере-
61
нием показать их уже не Абдулу, а принцессе Айши, если он
встретит ее в лавке Бедредина, и вышел из дома. Муэдзин с
балкона минарета объявил только пятый час, на улицах нико-
го не было, кроме феллахов, гнавших на рынок ослов, нагру-
женных финиками, арбузами, курами и разрубленными попо-
лам ягнятами. В квартале, где стоял дворец принцессы Айши,
юноша увидал выбеленные известью зубчатые стены. Никто не
показывался в трех или четырех окнах с деревянными решет-
ками, узкие просветы которых позволяли обитателям дома ви-
деть, что происходит на улице, но не давали ни малейшей на-
дезвды нескромному взгляду извне. Восточные дворцы, в про-
тивоположность французским, прячут все великолепие свое
внутри и, так сказать, поворачивают спину улице. Махмуд-Бен-
Ахмету не удалось, таким образом, ничего узнать. Он видел
только, как туда входили и выходили богато одетые черные ра-
бы; их надменный вид говорил о гордом сознании принадлеж-
ности к знатному дому. Рассматривая толстые стены, влюблен-
ный старался угадать, где именно находятся апартаменты са-
мой принцессы, но все было напрасно: большая дверь, состоя-
щая из арки, вырезанной в виде сердца, была обнесена стеной
и выходила во двор лишь боковой дверкой, так что с улицы ви-
деть ее было очень трудно. Махмуд-Бен-Ахмету пришлось уй-
ти, не открыв ничего интересного, так как время шло и его
могли заметить.
Он отправился к Бедредину, у которого накупил совершен-
но ненужных ему вещей лишь для того, чтобы войти в его рас-
положение. Затем он сел, любезно осведомляясь у хозяина, хо-
рошо ли он продал свои шелковые товары и ковры, привезен-
ные последним караваном из Алешны, и благополучно ли при-
были его корабли — словом, проделал все хитрости влюблен-
ных, чтобы протянуть время и увидеть Айши, но все было на-
прасно: на этот раз она не пришла. С тяжелым сердцем возвра-
щался он домой, называя красавицу жестокой и вероломной,
словно она не исполнила обещания.
Придя домой, он надел туфли в мраморной лепной нише,
устроенной для этой цели около двери, снял кафтан из драго-
ценной материи, который надел, чтобы показаться во всем ве-
ликолепии очам прекрасной принцессы, и вытянулся на дива-
не в изнеможении, близком к отчаянию. Ему казалось, что все
погибло, что мир должен кончиться, и он горько жаловался на
судьбу все из-за того, что не встретил женщину, о существова-
нии которой не знал два дня назад.
62
Он закрыл глаза, чтобы лучше представить себе образ кра-
савицы, и вдруг почувствовал свежесть легкого ветерка, с уди-
влением открыл глаза и увидал подле себя на полу Лейлу; она
обмахивала его опахалом из пальмовой коры — такие опахала
очень распространены на Востоке. Он совершенно забыл о ее
существовании.
Что с вами, дорогой господин? — спросила она мелодичным,
как музыка, голосом. — Какая забота мучает вас? Если бы вашей
рабыне удалось рассеять тучи, окутывающие это чело, она почла
бы себя счастливейшей из смертных и не завидовала бы даже
самой принцессе Айши со всей ее красотой и богатством.
Это имя заставило Махмуда вздрогнуть, подобно больному,
раны которого неосторожно коснулись. Он слегка приподнял-
ся и испытующе посмотрел на Лейлу, но ее лицо было спокой-
но и не выражало ничего, кроме нежной заботливости. Он по-
краснел, точно пойманный на месте преступления, но Лейла,
не замечая этого, продолжала его утешать.
Что должна я сделать, — продолжала она, — чтобы разо-
гнать ваши печальные мысли? Может быть, музыка рассеет ме-
ланхолию. Одна рабыня, бывшая одалиска прежнего султана,
посвятила меня в тайны творчества: я могу импровизировать
стихи и аккомпанировать себе на гуслях.
Говоря это, она сняла со стены гусли лимонного дерева с
ребрами из слоновой кости и шейкой, инкрустированной пер-
ламутром, жемчужными раковинами и черным деревом. На
них она превосходно сыграла “тарабуку” и несколько других
арабских песен.
Красота голоса и нежность музыки рассеяли бы в другое
время тоску Махмуд-Бен-Ахмета, который был вообще склонен
к подобным развлечениям, но теперь его сердце и ум были за-
няты принцессой Айши, и он не обратил внимания на пение
Лейлы.
На другой день счастье снова улыбнулось ему: он встретил
Айши у Бедредина. Невозможно описать его радость: только
тот, кто любил, поймет ее. Он стоял несколько секунд без голо-
са, без дыхания, с туманом в глазах, а принцесса приняла его
волнение благосклонно и ласково заговорила с ним, потому
что ничто не льстит так особам высокого происхождения, как
внушенное ими смущение. Слегка оправившись от неожидан-
ности, Махмуд-Бен-Ахмет употребил все старания, чтобы по-
нравиться Айши, а так как он был молод, красив и выражался
изысканно, то ему показалось, что он достиг этого. Тогда, осме-
63
лев, он попросил, чтобы принцесса назначила ему какое-ни-
будь более удобное место встречи, чем лавка Бедредина.
Я знаю, — говорил он, — что стою в ваших глазах не боль-
ше пыли, которую попирает ваша ножка, что расстояние, отде-
ляющее нас, невозможно преодолеть и в тысячу лет на коне
Пророка, скачущем в галоп, но любовь заставляет быть дерз-
ким, и гусеница, влюбленная в розу, осмелилась заговорить о
своей любви.
Выслушав без малейшего гнева его речь, Айши сказала, гля-
дя на него томным взглядом:
Завтра во время молитвы будьте в мечети султана Гассана под
третьей лампой, там вы увидите черного раба, одетого в желтую
шелковую одежду. Он пойдет впереди, а вы следуйте за ним.
Затем она опустила на лицо вуаль и вышла.
Влюбленный юноша, конечно, явился в мечеть, встал под
третью лампу, не смея двинуться от страха, что его не найдет
черный раб, которого, впрочем, еще не было на его посту.
Правда, Махмуд-Бен-Ахмет пришел на два часа раньше назна-
ченного времени.
Наконец, показался черный раб, одетый в желтую одежду;
он подошел к колонне, около которой стоял Махмуд-Бен-Ах-
мет, внимательно посмотрел на него и сделал едва заметный
знак, приглашая его следовать за собой. Они вышли из мечети.
Раб шел очень быстро, заставляя юношу делать массу поворо-
тов по запуганным улицам Каира. Махмуд хотел заговорить с
ним, но его спутник открыл свой рот, полный крепких белых
зубов, и показал, что язык его был вырезан до корня. Таким об-
разом, ему было очень трудно проболтаться.
Придя, наконец, в совершенно пустынное и незнакомое
Махмуд-Бен-Ахмету место, хотя он был уроженцем Каира, не-
мой остановился перед выбеленной известью стеной, на кото-
рой не было видно двери; затем отсчитал шесть шагов от угла
и с большим вниманием стал искать пружину, видимо спрятан-
ную в щели между камнями. Нашел ее, надавил, от этого повер-
нулась колонна и открыла узкий проход.
Немой вошел туда, а за ним последовал Махмуд-Бен-Ахмет.
Спустившись сначала на сто ступеней, они попали в темный
коридор нескончаемой длины. Ощупывая стены, юноша по-
нял, что они выдолблены в скале и украшены иероглифами, и
догадался, что это коридоры древнего египетского кладбища,
которыми позже воспользовались, чтобы обратить их в тай-
ный ход. В конце коридора мерцали лучи голубого дня. Этот
64
свет проходил сквозь кружево скульптурных украшений залы,
которой кончался коридор. Немой нажал еще одну пружину, и
они очутились в этой зале, вымощенной белым мрамором. По-
среди ее в бассейне бил фонтан, стены были украшены стек-
лянной мозаикой и изречениями из Корана, чередующимися с
цветами и орнаментами; алебастровые колонны поддержива-
ли сводчатый лепной потолок, сработанный как внутренность
улья или сталактитовый грот. Пышные большие пионы, поса-
женные в огромных мавританских вазах белого и синего фар-
фора, довершали украшение этой залы. В одной из стен был
сделан альков, и в нем на возвышении, обложенном подушка-
ми, сидела без вуали принцесса Айши, превосходя своей кра-
сотой гурий четвертого неба.
Сочинили ли вы в мою честь новые стихи, Махмуд-Бен-Ах-
мет? — милостиво спросила она, делая ему знак, чтобы он сел.
Юноша бросился к ее ногам, вытащил из рукава папирус и
страстным голосом начал читать свои стихи, которые и вправду
оказались замечательным произведением. Слушая их, принцес-
са вдруг преобразилась: щеки ее осветились и зарумянились, то-
чно зажженная алебастровая лампа, глаза заблестели, как звез-
ды, испуская яркие лучи, тело сделалось прозрачным и на пле-
чах чуть видно затрепетали крылья бабочки. Но, к несчастью,
Махмуд-Бен-Ахмет, слишком занятый своим произведением, не
заметил этой метаморфозы, а когда кончил декламацию, то пе-
ред ним снова была прежняя принцесса Айши, только теперь
она глядела на него несколько насмешливым взглядом.
Как все поэты, занятый своим созданием, Махмуд забыл,
что самые прекрасные стихи не стоят искренних слов или
взгляда, зажженного любовью. Пери подобны обыкновенным
женщинам, их нужно угадать и взять в тот момент, когда они
стремятся в небеса. Нужно схватить случай за локон, спадаю-
щий на лоб, а воздушного духа — за крыло. Только таким обра-
зом можно стать господином.
У вас редкий поэтический дар, Махмуд-Бен-Ахмет, и ваши
стихи достойны быть написанными золотыми буквами на две-
рях мечети, подле произведений Фирдуси, Саади и Ибн-Бен-
Омаза. Жаль только, что, поглощенный своими великолепны-
ми рифмами, вы не смотрели на меня сейчас: вы бы увидали
нечто, чего уже больше никогда не увидите. Ваше самое пла-
менное желание исполнилось, но вы этого не заметили. Про-
щайте, Махмуд-Бен-Ахмет, не желающий никого любить, кро-
ме пери!
3—511
65
Принцесса Айши величественно поднялась со своего ложа,
подняла портьеру из золотой парчи и исчезла.
К юноше подошел немой и вывел его тем же путем до мече-
ти. Огорченный и удивленный, Махмуд-Бен-Ахмет ломал себе
голову, чтобы объяснить неожиданную выходку принцессы, и
кончил тем, что приписал ее женскому капризу, который дол-
жен пройти. Однако, сколько он ни ходил после этого к Бедре-
дину, покупая бензой и цибетову кожу, он уж больше не встречал
там прекрасной принцессы. Он участил посещения мечети, ста-
новясь у третьей колонны и ожидая черного раба, но все было
напрасно. И Махмуд-Бен-Ахмет впал в глубокую меланхолию.
Лейла всеми способами старалась его развлечь: она играла
на гуслях, рассказывала ему чудесные истории, украшала его
комнату букетами, цвета которых радовали глаз искусно подо-
бранными тонами и чаровали обоняние своим запахом, она
танцевала перед ним с такой грацией и гибкостью, как будто
была одной из знаменитых альме,— всякий был бы тронут ее
вниманием, но голова Махмуд-Бен-Ахмета была занята только
одной мечтой: снова увидеть Айши. Он часто бродил подле ее
дворца, но он казался вымершим, и никто не показывался за
решетками.
Обеспокоенный состоянием своего друга, Абдул-Мелек час-
то навещал его и заметил красоту и грацию Лейлы, которые
вполне равнялись, если даже не превосходили этих качеств
принцессы Айши. Он удивился ослеплению своего друга, и, ес-
ли бы не боялся оскорбить святых законов дружбы, с удоволь-
ствием женился бы сам на молодой рабыне. А Лейла, не теряя
своей красоты, делалась с каждым днем все бледнее, ее боль-
шие глаза стали еще более томными, румянец зари сменился
на ее щеках бледностью лунного света. Однажды, заметив, что
она плакала, Махмуд-Бен-Ахмет спросил ее о причине.
О, мой повелитель, — ответила она, — я боюсь осмелиться
сказать вам об этом! Бедная рабыня, взятая вами из милости в
свой дом, полюбила вас, но что я для вас? Я знаю, что вы не по-
любите простую смертную, вам нужна пери или, в крайнем
случае, султанша. Другие, конечно, удовольствовались бы мо-
лодым и чистым сердцем, не думая о царицах эльфов и доче-
рях калифа! Посмотрите на меня, вчера мне исполнилось пят-
надцать лет, и я, может быть, не хуже Айши. Правда, на моем
челе не блестит волшебный карбункул, нет также и эгрета из
перьев цапли, и меня не сопровождает почетная стража с муш-
кетами, инкрустированными серебром и кораллом, но я умею
66
петь импровизировать на гуслях, я танцую, как сама Эминея, и
предана вам, как сестра. Что же еще нужно, чтобы тронуть ва-
ше сердце?
Махмуд-Бен-Ахмет был смущен словами Лейлы, но ничего
не ответил и, казалось, глубоко задумался. В его душе боролись
два чувства: с одной стороны, ему было больно отказаться от
своей мечты, но с другой - голос благоразумия убеждал его,
что безумно мечтать о женщине, игравшей им и с насмешкой
покинувшей его, между тем как равная ей по красоте и молодо-
сти так страстно добивается его любви.
Лейла на коленях ждала его ответа, и две слезы тихо текли
по ее бледному лицу.
О, зачем сабля Месрура не докончила своего дела! — вос-
кликнула она, подняв руки к своей белой, хрупкой шее.
Окончательно тронутый ее печалью, юноша поднял ее и
поцеловал в лоб.
Как голубка, которую приласкали, Лейла подняла голову,
взяла за руку Махмуд-Бен-Ахмета и сказала:
Посмотрите на меня повнимательнее, не найдете ли вы, что
я похожа на кого-то вам знакомого?
И юноша не мог сдержать крик удивления:
Но это то же лицо, те же глаза и черты, что и у принцессы Ай-
ши! Как же я раньше не заметил этого сходства!
До сих пор вы не удостаивали внимания вашу бедную рабы-
ню, — с легкой насмешкой ответила Лейла.
Если теперь принцесса Айши пришлет ко мне своего негра
с посланием любви, я не пойду за ним! — воскликнул юноша.
Неужели это правда? — спросила Лейла голосом более ме-
лодичным, чем голос бульбуля, когда тот признавался в любви
к своей возлюбленной розе. — Однако не нужно ненавидеть
Айши, которая так похожа на меня!
Вместо ответа Махмуд-Бен-Ахмет прижал ее к своему серд-
цу, и каково было его удивление, когда он увидел, что лицо
Лейлы просветлело, на ее челе засверкал волшебный карбун-
кул, а за прелестными плечами затрепетали прозрачные кры-
лья, расцвеченные глазками, как павлиньи перья: Лейла оказа-
лась пери!
Милый Махмуд-Бен-Ахмет, я не принцесса Айши и не не-
вольница Лейла, мое настоящее имя Будрульбудур, я пери пер-
вого ранга, что видно по моему карбункулу и крыльям. Однаж-
ды, пролетая близ твоей террасы, я услыхала о твоем желании
быть любимым пери. Твое честолюбие мне понравилось: гру-
з*
67
бые невежды, погрязшие в земных удовольствиях, не мечтают
о таких возвышенных наслаждениях. Я хотела испытать тебя и
превратилась в Айши, а потом в Лейлу, чтобы узнать, сумеешь
ли ты угадать пери и полюбить ее в человеческой оболочке.
Твое сердце оказалось более зорким, чем ум, а доброта переси-
лила гордость. Преданность невольницы заставила тебя пред-
почесть ее султанше, и этого я не ожидала. Одно время я, поко-
ренная красотой твоих стихов, чуть не выдала себя, но я боя-
лась, что найду в тебе лишь поэта, влюбленного в свою фанта-
зию, и удалилась, разыграв гордое презрение. Ты захотел те-
перь жениться на невольнице Лейле, и пери Будрульбудур за-
менит ее. Я буду для всех Лейлой, а пери только для тебя, пото-
му что я хочу тебе счастья, а люди не прощают другим удачи.
Хоть я и фея, но могу лишь охранить тебя от злобы и зависти!
Эти условия были с радостью приняты Махмуд-Бен-Ахме-
том, и они сыграли свадьбу, как будто Лейла была только не-
вольницей.
Такова история, продиктованная мною Шехерезаде при по-
средстве Франческо. Понравилась ли она султану и что сталось
с Шехерезадой?
Больше я не видал ее.
Но думаю, что, недовольный историей, Шахриар велел от-
рубить голову бедной султанше.
Мои друзья, возвратившись из Багдада, говорили, что виде-
ли женщину„сидящую на ступенях мечети, которая в своем бе-
зумии выдавала себя за Динарзард из “Тысячи и одной ночи”.
Она повторяла только одну фразу:
Расскажи нам, сестра, одну из твоих прекрасных сказок, ко-
торые ты так хорошо рассказываешь!
Затем она прислушивалась несколько минут, внимательно
ожидая ответа, и, не получив его, начинала плакать, утирая
слезы вышитым золотом платком, который был весь испачкан
кровавыми пятнами.
О ВИНЕ И ГАШИШЕ
КАК ДВУХ РАЗНЫХ СРЕДСТВАХ
УМНОЖЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
I
ВИНО
Человек весьма знаменитый и в
то же время большой глупец — вещи, которые, как кажется,
прекрасно уживаются вместе, в чем я, безусловно, не раз имел
болезненное удовольствие убедиться,— осмелился в одной
гастрономической книге, составленной одновременно с точ-
ки зрения пользы для здоровья и удовольствия, написать к
статье “Вино” следующее: “Изобретателем вина считается пат-
риарх Ной; это напиток, приготовляемый из плодов вино-
градника”.
Что дальше? Дальше ничего: это все. Можно бесконечно ли-
стать эту книгу, вертеть ее во всех направлениях, читать с кон-
ца, с середины, справа налево и слева направо — вы все равно
не найдете более ничего о вине в “Физиологии вкуса” замеча-
тельнейшего и почтеннейшего Брилльа-Саварена: “Патриарх
Ной...” и “это напиток...”
Предположим, что житель Луны или какой-нибудь другой
далекой планеты, путешествуя по нашему миру и устав от
долгих переездов, решил освежить себе рот и согреть желу-
док. Он стремится изучить удовольствия и обычаи нашей Зе-
мли. Он смутно наслышан о чудесных напитках, с помощью
которых граждане сего шара по своей воле приобретают сме-
лость и веселость. Чтобы вернее выбрать, лунный житель от-
крывает оракул вкуса знаменитого и непогрешимого Брил-
льа-Саварена и находит там статью “Вино” с драгоценным
определением: “Изобретателем вина считается... и это напи-
ток, приготовляемый...” Как понятно! Как познавательно!
Прочитав эту фразу, просто невозможно не получить полное
и ясное представление о всех винах, о разнообразии их
свойств, о неудобствах их употребления, о силе их воздейст-
вия на желудок и мозг.
О, милые друзья, не читайте Брилльа-Саварена! Сохрани
Бог тех, кто питается бесполезным чтением; это первое изре-
69
чение из небольшой книжки Лаватера, философа, любящего
людей больше, нежели все магистраты всех времен и народов.
И хотя ни один пирог не назван пока именем Лаватера, память
об этом ангельском человеке еще будет жить среди христиан,
когда сами бравые буржуа позабудут Брилльа-Саварена, эдакое
пошлое недоразумение, мельчайший недостаток которого
призван служить поводом для болтовни откровенно пустыми
цитатами, извлеченными из знаменитого шедевра.
Если новое издание этого лжешедевра все же посмеет вы-
ступить против здравого смысла современного человечества,
то вы, пьющие меланхолики, пьющие весельчаки — все вы,
ищущие в вине воспоминание или забвение и никогда не на-
ходящие их в нужной полноте, не глядите на небо иначе, чем
через дно бутылки1, вы, забытые и безымянные пьяницы —
разве вы купите себе хоть один экземпляр, разве примите зло
за добро, безразличие — за благодеяние?
Я открываю “Крейслериану” божественного Гофмана и чи-
таю там занимательный совет. Для сочинения комической опе-
ры добросовестному музыканту следует угоститься шампан-
ским. Он найдет в нем игривую и легкую веселость, нужную
для этого жанра. Религиозная музыка требует рейнского вина
или жюрансона. Там есть пьянящая горечь, как в глубине вели-
ких идей; но музыка героическая никак не может обходиться
без бургундского вина. В нем есть серьезность фуги и бодрость
патриотизма. Вот, безусловно, лучшее определение, в котором,
помимо энтузиазма пьющего человека, я вижу беспристраст-
ность, делающую немцу великую честь.
Гофман соорудил необыкновенный психологический ба-
рометр, призванный показывать различные температуры и
атмосферные явления его души. В нем есть деления вроде
следующих: “Состояние некоторой ироничности, смягчен-
ной благодушием; состояние одиночества с глубоким недо-
вольством собой; музыкальная веселость, музыкальная бод-
рость, музыкальная бурность, саркастическая веселость, не-
выносимая для меня, стремление выйти из моего я, чрезмер-
ная объективность, слияние моего существа с природой”. Са-
мо собой разумеется, что деления нравственного барометра
Гофмана следуют в порядке щс возникновения, как у обычных
барометров. Мне кажется, что существует очевидное сродство
' Бероальд де Вертишь. Средство стать.
70
между этим психическим барометром и музыкальными свой-
ствами вина.
Перед смертью Гофман начал хорошо зарабатывать. Подоб-
но нашему милому и великому Бальзаку, он лишь ближе к кон-
цу увидел северное сияние своих старинных надежд. В то вре-
мя издатели, которые оспаривали между собой право напеча-
тать его рассказы в своих альманахах, для завоевания его рас-
положения посылали ему вместе с гонораром ящик француз-
ского вина.
II
Кто не познал вас, глубокие радости вина? Кому бы ни бы-
ло нужно заглушить совесть, пробудить воспоминание, уто-
пить боль, предаться фантазиям — все в конце концов призы-
вали вас, таинственного бога, спрятанного в фибрах вино-
градной лозы. Велики зрелища вина, озаренные внутренним
солнцем! Истинна и огненна вторая молодость, поглощаемая
человеком! Но сколь же страшны его грозные блаженства и
томные чары! Однако признайтесь же перед своим сердцем и
совестью, вы, судьи, законники, светские люди — все вы, кого
изнежило счастье, кого судьба беспошлинно наделила добро-
детелью и здоровьем,— признайтесь, кто из вас имеет безжа-
лостное мужество обвинить человека, который пьет от своего
таланта?
К тому же вино не всегда выступает ужасным бойцом, уве-
ренным в своей победе и поклявшимся не иметь ни жалости,
ни милосердия. Вино похоже на человека: никто никогда не
знает, до какой степени его можно превозносить и презирать,
любить и ненавидеть, ни то, к скольким возвышенным деяни-
ям или ужасным злодействам оно способно. Поэтому не будем
к нему жестокими более, чем к самим себе, и станем обращать-
ся с ним как с равным.
Порой мне кажется, будто я слышу, как вино говорит — оно
разговаривает посредством своей души, этого голоса духа,
слышимого лишь одним духам: “Человек, возлюбленный мой,
из глубины моей стеклянной тюрьмы, наперекор пробковым
запорам я желаю возвысить к тебе братскую песнь, полную ра-
дости, надежды и света. Неблагодарности нет во мне; я знаю,
что обязано тебе жизнью. Мне ли не знать, чего стоил труд и
жар дня на твоих плечах. Ты дал мне жизнь, и я воздам тебе. С
71
лихвой я возвращу свой долг, ибо мне великая радость попасть
в гортань, иссушенную работой. Нутро честного человека нра-
вится мне куда больше тоскливых и бессмысленных погребов.
В этой радостной утробе я победно завершу свой удел. Я про-
изведу в желудке труженика великий переполох и, взойдя отту-
да по незримым лестницам в его мозг, исполню там свой пос-
ледний танец.
Слышишь ли ты во мне рождение и отзвук могучих напевов
древних времен, песен любви и славы? Я — душа отчизны,
сколь добродушная, столь и воинственная. Я — воскресная на-
дежда. Работа создает дни преуспеяния, вино создает воскресе-
нья счастья. Опершись на локти за семейным столом, с засу-
ченными рукавами, ты с гордостью прославишь меня и ста-
нешь воистину доволен.
Я зажгу глаза твоей постаревшей жены, старой подруги тво-
их ежедневных печалей и былых надежд. Я сделаю нежным ее
взгляд и зажгу блеск юности в глубине ее зрачков. И твоего ми-
лого малыша, бледненькую, тщедушную лошадку, согнувшуюся
под тем же бременем, что и коренной конь, я раскрашу в пре-
красные цвета его колыбели, для сего нового атлета я сделаюсь
маслом, скрепляющим мускулы древних борцов.
Я лягу на дно твоей груди растительной амброзией. Я буду
зерном, упавшим в борозду, вспаханную страданиями. Наш со-
кровенный срюз родит поэзию. Вдвоем мы станем единым Бо-
гом, мы вспорхнем в бесконечность, как птицы, бабочки, сыны
Божии, благовония — как все крылатые существа”.
Вот что поет вино на своем таинственном языке. Горе тому,
чье себялюбивое сердце, глухое к невзгодам его собратьев, ни-
когда не слышало этой песни!
Мне часто думалось, что если бы Иисус Христос оказался
сегодня на скамье подсудимых, то и ему нашелся бы какой-ни-
будь прокурор, который показал бы, что его преступление отя-
гощено рецидивом. Что же до вина, то здесь рецидив случает-
ся ежедневно. Каждый день оно раздает свои благодеяния.
Именно это, без сомнения, объясняет неистовство моралистов
против него. Коща я говорю моралисты, то под этим понимаю
псевдоморалистов-фарисеев.
Но поговорим о другом, забежав немного вперед. Рассмот-
рим одно из тех таинственных созданий, что живут, так ска-
зать, отбросами больших городов, ибо бывают весьма стран-
ные занятия. Их число неизмеримо. Я иногда с ужасом думал,
72
что существуют занятия, не приносящие никакой радости, за-
нятия без удовольствия, усталость без облегчения, страдания
без награды. Я ошибался. Вот человек, обязанный подбирать
осколки столичных дней. Все, что огромный город отверг, все,
что потерял, все, что презрел, все, что разбил, — все сортирует,
копит этот человек. Он разбирает архивы разврата, скопление
хлама. Он производит отбор, благорассудный выбор; он соби-
рает, как скупой сокровище, отбросы, которые, перемолотые
божеством Промышленности, сделаются предметами пользы
или радости. Вот он, кто в пасмурном свете уличных фонарей,
колыхаемом ночным ветром, восходит по одной из длинных
кривых улиц, населенных мелкими хозяевами холма Святой
Женевьевы. Он облачен в свою рогожную накидку с номером
семь. Он идет, качая головой и спотыкаясь о мостовую, как мо-
лодые поэты, проводящие целые дни в блужданиях и в поисках
рифмы. Он разговаривает сам с собой; он изливает душу в хо-
лоде и мраке ночного воздуха. Этот прелестный монолог мо-
жет посрамить самые лирические трагедии. “Вперед! марш! ба-
тальон! полк! армия!” Совершенный бред Бонапарта на остро-
ве Святой Елены! Кажется, будто номер семь превратился в
стальной скипетр, а рогожная накидка — в императорскую
мантию. Вот он поздравляет свою армию. Сражение выиграно,
но день выдался жарким. Он проезжает верхом под Триуфмаль-
ной аркой. Его сердце ликует. С наслаждением выслушивает он
приветствия ликующего мира. Скоро он изречет кодекс, выс-
ший над всеми известными кодексами. Он торжественно кля-
нется осчастливить свой народ. Нищета и порок удалятся от
человечества.
Между тем его спина и поясница покрыты ссадинами от тя-
жести корзины. Он измучен семейными горестями. Возраст
изводит его. Однако вино, как новое Эльдорадо, расточает ду-
ховное золото на изможденное человечество. Как добрый
царь, оно служит своим подданным и вкладывает в их уста хва-
лу своим делам.
Есть на земном шаре бесчисленная, безымянная толпа, сон
которой не в силах вполне усыпить ее страдания. Вино сочи-
няет для нее песни и поэмы.
Несомненно, многие сочтут меня чересчур снисходитель-
ным. “Вы оправдываете пьянство, идеализируете распутство”.
Признаться, мне не хватает смелости исчислить вред перед
лицом благодеяний. К тому же, как я уже сказал, вино уподоб-
73
ляется людям, а я допускаю, что их преступления равны их до-
бродетелям. Могу ли я поступить лучше? Кроме того, у меня
есть еще одно соображение. Исчезни вино из числа произве-
дений человека, и, я уверен, в здоровье и интеллекте планеты
образуется пустота, порожнее место, ущербность куда более
ужасная, чем все издержки и извращения, в которых обвиня-
ют вино. Не разумнее ли рассудить, что люди, по наивности
или из принципа никогда не пьющие вино, глупы или лице-
мерны; глупы, как люди, не знающие ни человека, ни приро-
ды, как художники, отвращающиеся от традиционных прие-
мов искусства, как рабочие, проклинающие машины; лице-
мерны, как стыдливые гурманы, как фанфароны трезвости,
пьющие втайне от некоего оккультного вина? Человек, кото-
рый не пьет ничего, кроме воды, хранит от своих собратьев
какую-то тайну.
Прошу рассудить: несколько лет назад одна отполирован-
ная, начищенная и выкрашенная, будто промышленное изде-
лие, картина произвела фурор в толпе глупцов на художест-
венной выставке. Это была полная противоположность искус-
ству; против него “Кухня” Дроллинга была все равно что глу-
пость против безумия, самозванство против величия. В этой
микроскопической картине можно было видеть мух в полете.
Как и все, я поддался влечению этого чудовищного предмета,
но я устыдился своей необычайной слабости, ибо то было не-
преодолимое притяжение ужаса. Впрочем, я заметил, что меня
помимо воли привлекло философское любопытство, огром-
ное желание узнать, каков может быть нравственный характер
человека, породившего на свет столь преступное чудачество. Я
заключил сам с собой пари, что он, должно быть, зол до глуби-
ны души. Я навел некоторые справки, и моя интуиция имела
удовольствие выиграть это психологическое пари. Я выяснил,
что это чудовище каждый день вставало рано утром, погубило
свою служанку и не пило ничего, кроме молока!
Еще один или два рассказа, прежде чем мы выведем прави-
ло. Однажды на тротуаре я увидел огромное сборище; мне уда-
лось выглянуть из-за плеч ротозеев, и вот что я рассмотрел: ка-
кой-то человек растянулся спиной на земле с открытыми и не-
подвижно глядевшими в небо, глазами, другой стоял над ним,
разговаривая с ним одними жестами, на которые лежащий от-
вечал только взглядом; у обоих был оживленный и чрезвычай-
но благодушный вид. Жесты стоявшего человека взывали к ра-
74
зуму лежавшего товарища: “Пойдем, пойдем же, счастье совсем
рядом, в двух шагах, дойдем до угла улицы. Берег печали еще
не совсем скрылся из вида, мы пока еще не вышли в открытое
море забвения; пойдем, крепись, дружище, прикажи своим но-
гам угождать твоим мыслям”.
Все это было исполнено плавными колебаниями и качани-
ями. Второй, без сомнения, понимал первого (он к тому же
плавал в ручье), так как его блаженная улыбка отвечала: “Ос-
тавь своего друга в покое. Берег печали уже вполне скрылся в
благословенном тумане; мне больше не нужно просить у неба
забвения”. Мне даже послышалось, будто с его губ слетела не-
ясная фраза, вернее, вздох, едва выраженный словами: “Пора
же и честь знать”. Вот предел возвышенного. Но сейчас вы уви-
дите, что в пьянстве присутствует гипервозвышенное. Его друг,
неизменно полный снисхождения, один идет в кабаре и воз-
вращается с веревкой в руке. Безусловно, ему невыносима
мысль плыть в одиночку и в одиночку же бежать за счастьем;
поэтому он и отправился в коляске искать своего друга. Коля-
ска — это веревка; этой коляской он обвязывает ему поясницу.
Лежащий друг улыбается: он, разумеется, понял его материн-
скую заботу. Второй затягивает узелок, а затем начинает идти,
словно ласковая, тихая лошадь, и так довозит своего друга до
встречи со счастьем. Тот человек, которого везут, вернее, тащат
волоком, начищая его спиной мостовую, не перестает улыбать-
ся невыразимой улыбкой.
Толпа остается в недоумении, ибо то, что слишком прекра-
сно, то, что превыше поэтических сил человека, производит
скорее изумление, чем умиление.
Был один гитарист-испанец, который долгое время путеше-
ствовал вместе с Паганини; это случилось до великого офици-
ального прославления Паганини.
Вдвоем они вели широкую, бродячую жизнь богемы — жизнь
странствующих музыкантов, людей без роду, без племени.
Вдвоем, скрипка да гитара, они давали концерты всюду, где бы
ни проходили. Вот так они довольно долго блуждали по раз-
ным странам. Мой испанец был столь талантлив, что мог бы
сказать, как Орфей: “Я — повелитель природы”.
Гце бы он ни проходил, звеня струнами и заставляя их со-
звучно дрожать под своими пальцами, он был неизменно окру-
жен толпой. С таким даром никогда не умрешь с голоду. За ним
шли, как за Иисусом Христом. Как отказать в пище и приюте
75
человеку, гению, волшебнику, который исполняет для твоей ду-
ши свои самые прекрасные, сокровенные, неизвестные, таин-
ственные напевы! Меня уверяли, что этот человек, чей инстру-
мент мог издавать лишь чередование звуков, с легкостью доби-
вался от него непрерывного звучания. Паганини заведовал
деньгами, распоряжался их общими средствами, что никого не
удивляло.
Касса находилась при администраторе; переживая взлеты и
падения, она сегодня лежала в сапоге, завтра — между двумя
парами одежды. Когда гитарист, который сильно пивал, спра-
шивал о финансовом состоянии, Паганини отвечал, что в кас-
се не осталось ничего или, по крайней мере, почти ничего, ибо
Паганини, подобно старым людям, вечно боялся нужды. Испа-
нец верил ему или делал вид, что верит, и, устремив взгляд на
дорогу, к горизонту, ласкал и бередил свою неразлучную под-
ругу. Паганини шел по другой стороне дороги. Таков был их
взаимный уговор, дабы не мешать друг другу. Так каждый из
них учился и работал на ходу.
Затем, добравшись до места, обещавшего некоторую выру-
чку, один из них играл что-нибудь из своих сочинений, дру-
гой импровизировал подле него вариацию, аккомпанемент,
сопровождение. Никто никогда не узнает, сколько радости и
поэзии было в этой жизни трубадура. Они расстались, неиз-
вестно почему. Испанец стал путешествовать в одиночку. Од-
нажды вечером он добрался до какого-то городка в Юре; он
попросил вывесить объявление о концерте в зале мэрии.
Иначе говоря, лишь с его участием: никаких других инстру-
ментов, кроме гитары. Для знакомства он сыграл в несколь-
ких кафе, и в городе нашлись некоторые музыканты, которые
подивились его странному таланту. В итоге на концерт при-
шло много народа.
В одном из уголков города, близ кладбища, мой испанец об-
наружил другого испанца, земляка. Тот был вроде погребаль-
ного предпринимателя, мраморщика, изготовлявшего памят-
ники. Как все мастера похоронных дел, он весьма любил вы-
пить. Поэтому бутылка и общая родина далеко завели обоих;
музыкант больше не покидал мраморщика. Даже в день кон-
церта, в назначенный час они были вместе, но где? Вот что
требовалось узнать. Были проверены все кабаре города, все ка-
фе. Наконец его вместе с другом обнаружили в неописуемом
притоне, обоих в совершенно пьяном виде. Последовали сце-
76
ны в духе Кеана и Фредерика. Наконец он было согласился ид-
ти играть, но тут ему взбрела одна мысль: “Ты будешь играть со
мной”,— сказал он своему другу. Тот отказался: у него была
скрипка, но он играл на ней, как ужаснейший деревенский
скрипач. “Ты будешь играть, или же я не иду”.
Не помогли ни увещевания, ни призывы к здравому смыс-
лу: пришлось смириться. И вот они на эстраде, перед утончен-
ной местной буржуазией. “Принесите вина”,— сказал испа-
нец. Создатель памятников, которого знали все, но отнюдь не
с музыкальной стороны, был слишком пьян, чтобы чувство-
вать стыд. Когда принесли вино, им стало невтерпеж ждать,
пока откупорят бутылки. Наши несносные гуляки обрубили
им горло ударами ножа, как люди дурного тона. Посудите, ка-
кое впечатление они произвели на разодетую провинцию! Да-
мы отпрянули, а многие кавалеры сочли себя оскорбленными
перед этими двумя пьяницами, наполовину похожими на су-
масшедших.
Однако некоторые не подавили стыдом свое любопытство
и нашли смелость остаться — и правильно сделали. “Начи-
най”, — приказал гитарист мраморщику. Невозможно опи-
сать, какого рода звуки излились из пьяной скрипки: Вакх в
бреду тесал пилою камень. Что он играл, что тщился сыграть?
Неважно: главное, зазвучал мотив. Внезапно какая-то реши-
тельная и мягкая мелодия, переменчивая и одновременно
единая, окутала, приглушила и утопила собою визг и шум. Ik-
тара пела так высоко, что скрипки больше не было слышно. А
между тем это был все тот же мотив, пьяный мотив, начатый
мраморщиком.
Пггара источает огромное богатство звука; она струится,
поет, восклицает с величайшим ликованием, уверенностью и
небывалой чистотой выговора. Пггара испанца импровизиро-
вала вариацию на тему скрипки слепого музыканта. Она поз-
воляла ей вести себя, роскошно и заботливо прикрывая жал-
кую наготу ее звуков. Читатель поймет, что это невозможно
описать; я сам опираюсь на рассказ серьезного и честного сви-
детеля. В итоге публика опьянела куда больше, чем сам испа-
нец. Его чествовали, поздравляли, приветствовали с невидан-
ным энтузиазмом. Однако характер народа этой страны ему,
безусловно, не пришелся по вкусу, ибо он согласился играть
лишь один-единственный раз.
Ifte же он теперь? Какое солнце созерцало его последние
77
сны? Какая земля приняла его безродные останки? Какая кана-
ва стала приютом для его агонии? Цце пьянящий запах давно
увядших цветов? Ifte волшебные краски былых закатов?
III
Разумеется, в моих словах нет ничего нового. Вино извест-
но всем, оно и любимо всеми. Когда на свет явится истинный
врач-философ, которого пока не видно, он сможет написать
могучее исследование о вине, о своего рода двойственной пси-
хологии, две стороны которой составляют вино и человек. Он
объяснит, как и почему некоторые напитки содержат в себе
способность усиливать сверх меры личность мыслящего суще-
ства, создавать, так сказать, третье я, совершать мистическое
действие, где человек в естественном состоянии и вино, жи-
вотный бог и бог растительный, берут на себя роль Отца и Сы-
на в Святой Троице; вместе они порождают Святого Духа, выс-
шего человека, в равной степени исшедшего из них двоих.
Есть люди, у которых восстановление чувствительности
под действием вина происходит с такой силой, что их ноги
становятся тверже, а слух — необычайно тонким. Я знал одно-
го человека, ослабленное зрение которого обретало в пьянст-
ве свою изначальную проницательность. Вино превращало
крота в орла.'
Один неизвестный писатель древности сказал: “Ничто не
сравнится с радостью пьющего человека: разве что радость вы-
пиваемого вина”. В самом деле, вино играет тайную роль в
жизни человечества, столь тайную, что я не удивлюсь, если ка-
кой-нибудь рассудительный ум, поддавшись некоему пантеи-
стическому искушению, наделит его своего рода личностью.
Вино и человек производят на меня впечатление двух друзей-
борцов, то дерущихся, то мирящихся друг с другом. Побежден-
ный всегда обнимает победителя.
Есть злые пьяницы; это люди, злые по своей природе. Дур-
ной человек становится отвратительным, как добрый — ми-
лейшим.
Теперь поговорим о веществе, несколько лет назад вошед-
шем в моду,- об одном прелестном наркотике для определен-
ной категории дилетантов, воздействие которого ошеломляет
и потрясает совсем иначе, нежели вино. Я собираюсь тщатель-
78
но описать все его действия, чтобы после, вернувшись к изоб-
ражению различных качеств вина, сравнить эти два искусст-
венных средства, посредством которых человек, обостряя
свою личность, создает в себе, так сказать, некое божество.
Я хочу показать неудобства гашиша, самое малое из кото-
рых, несмотря на все доселе неизведанные сокровища благо-
душия, на первый взгляд зарождаемые им в сердце или, вернее,
в мозгу человека, самый малый недостаток которого, состоит в
антисоциальности, тогда как вино глубоко человечно, и, осме-
люсь сказать, оно по действию почти человек.
IV
ГАШИШ
При сборе урожая конопли у работников, как мужчин, так и
женщин, происходят странные явления. Говорят, что от урожая
исходит неведомый головокружительный дух, который кружит
у ног и коварным образом восходит до самого мозга. 1Ьлова у
сборщика урожая идет кругом, а иной раз наполняется видени-
ями. Члены слабеют и отказываются служить. Впрочем, и мне
случалось ребенком, играя и катаясь по кучам скошенной лю-
церны, испытывать сходные ощущения.
Были попытки приготовить гашиш из французской коноп-
ли. Все они до сих пор оказывались неудачными, и беснова-
тые, желающие любой ценой получить волшебную радость,
продолжают употреблять тот гашиш, что пересек Средиземное
море, то есть приготовленный из индийской или египетской
конопли. В состав гашиша входит отвар индийской конопли,
сливочное масло и небольшое количество опиума.
Вот зеленый конфитюр с характерным запахом, столь от-
четливым, что он вызывает некоторое отвращение, как, впро-
чем, всякий тонкий запах, доведенный до предела своей силы
и, так сказать, плотности. Возьмите его, плотный, как орех,
положите в чайную ложку, и вы обретете счастье — счастье во
всей своей хмельной полноте, со всем безумством юности и
бесконечными красотами. Вот оно, счастье, в маленьком ку-
сочке конфитюра; берите его без страха, от этого не умира-
ют; физическим органам он не наносит никакого сугубого
ущерба. Возможно, у вас станет поменьше воли, но это дру-
гой вопрос.
Чтобы дать гашишу взыграть в полную силу, его обыкновен-
79
но нужно растворить в очень горячем черном кофе и прини-
мать натощак; ужин откладывается до десяти часов вечера или
до полуночи; позволяется съесть лишь весьма легкий суп. На-
рушение этого столь простого правила приводит или к рвоте,
когда наркотик и ужин вступают в противоречие друг с другом,
или же к ослаблению действия гашиша. При подобном исходе
многие — по незнанию или по глупости — обвиняют гашиш в
бессилии.
Сразу после приема малой дозы наркотика, что, впрочем,
требует определенной решимости, ибо, как я уже говорил,
смесь столь пахуча, что у некоторых она вызывает приступы
тошноты, вы немедленно оказываетесь в состоянии беспо-
койства. Вы смутно наслышаны о чудесном действии гашиша,
в вашем воображении сложилось свое особое представление,
идеал опьянения, и вам не терпится узнать, оправдает ли дей-
ствительность ожидаемое. Промежуток времени между при-
нятием напитка и первыми признаками может быть разным в
зависимости от темперамента, а также от привычки. Люди,
знакомые с гашишем и привыкшие употреблять его, иногда
ощущают первые признаки вторжения по прошествии полу-
часа.
Я забыл сказать, что, так как гашиш вызывает у человека ум-
ножение личности и в то же время весьма обостренное воспри-
ятие обстоятельств и окружения, вам следует проверять его на
себе лишь при благоприятных обстоятельствах и окружении.
Если всякая радость, чувство благополучия бьет через край, то
всякое страдание, всякое беспокойство становятся бесконечно
глубокими. Не проводите такой эксперимент на себе, если вам
предстоит выполнить какое-нибудь неприятное дело, если ваша
душа отмечена тоской, если вам нужно оплатить счет. Как я го-
ворил, гашиш не пригоден для действия. В нем нет утешения ви-
на; он лишь сверх меры раздувает личность человека в тех об-
стоятельствах, в которых она находится. По возможности нужна
красивая обстановка или прекрасный пейзаж, свободный, ни-
чем не отягощенный дух, а также несколько сообщников, чей
душевный темперамент близок к вашему; также не помешает не-
много музыки.
В большинстве случаев новички во время своего первого
посвящения жалуются на медлительность действия. Они ожи-
дают его с нетерпением, и, когда его скорость не отвечает же-
ланию, они впадают в крикливое недоверие, чем очень веселят
80
тех, кто в курсе дела и знает поведение гашиша. И правда, за-
бавно наблюдать проявление и умножение признаков дейст-
вия даже в самом этом недоверии. Сначала вас охватывает не-
которая веселость, нелепая и безудержная. Тривиальнейшие
слова, простейшие мысли приобретают новый, причудливый
облик Эго веселье невыносимо вам, но противиться ему бес-
полезно. Демон вселился в вас; все усилия, которые вы пред-
принимаете для сопротивления, лишь ускоряют развитие бо-
лезни. Вы смеетесь над собственной глупостью и безумием; ва-
ши товарищи смеются вам в лицо, и вы не сердитесь на них за
это, ибо в вас начинает проявляться благодушие.
Эта изнурительная веселость, эта беспокойная радость, без-
защитность, нерешительность болезни обычно продолжаются
недолго. Иногда случается, что люди, совершенно неспособ-
ные играть словами, сыплют бесконечными каламбурами, со-
вершенно невероятными взаимосвязями идей, призванными
сбить с толку лучших мастеров этого шутовского искусства.
Через несколько минут связь мыслей становится столь смут-
ной, нити, которые связывают ваши понятия, слабеют на-
столько, что только ваши сообщники, ваши единоверцы могут
понимать вас. Ваши шутки, взрывы вашего смеха покажутся
верхом глупости всякому человеку, который не находится в
том же состоянии, что и вы.
Здравомыслие этого несчастного страшно веселит вас, его
хладнокровие доводит вас поистине до предела иронии; из
всех людей он кажется вам самым безумным и смешным. Что
же до ваших товарищей, то их вы прекрасно понимаете. Скоро
вы будете понимать друг друга одними глазами. Это положе-
ние и вправду весьма смешно для тех людей, которые испыты-
вают непонятную радость от того, что кто-то находится не в
одном мире с ними. Им глубоко жаль такого человека. С этих
пор мысль о превосходстве брезжит на горизонте вашего ин-
теллекта. Скоро она непомерно раздуется.
Я был свидетелем двух весьма забавных сцен, случившихся
на этой первой стадии. Один известный музыкант, не знавший
о действии гашиша и, возможно, никогда не слышавший о нем,
попал в общество людей, где почти все приняли наркотик. Ему
пытаются втолковать о его чудесном воздействии. На эти уди-
вительные рассказы он благосклонно улыбается, как человек,
расположенный порисоваться несколько минут из приличия,
будучи хорошо воспитанным. Кругом раздается смех, ибо на
81
первой стадии человек, принявший гашиш, наделен чудесным
пониманием смешного. Взрывы смеха, непонятные глупости,
запутанная игра словами, вычурные жесты все продолжаются.
Музыкант заявляет, что эти шутки дурны и к тому же утоми-
тельны для их авторов.
Веселье нарастает. “Если эти шутки веселят вас, то меня ни-
сколько”, — сказал музыкант. “Довольно и того, что весело
нам”, — эгоистично ответил один из больных. Зала наполняет-
ся нескончаемыми взрывами смеха. Рассердившись, мой музы-
кант решает уйти. Но кто-то закрыл дверь и спрятал ключ. Дру-
гой, встав перед ним на колени, просит у него прощения и со
слезами на глазах заявляет ему от имени общества, что, хотя
оно с глубочайшим сочувствием относится к нему и к его
ущербности, оно при этом не меньше чувствует вечное благо-
душие.
Его умоляют сыграть, и он соглашается. Однако едва скрип-
ка начала свою музыку, как ее звуки, распространяясь по дому,
стали захватывать то тут, то там кого-нибудь из больных. Слы-
шатся глубокие вздохи, душераздирающие стоны, льются по-
токи слез. Напуганный музыкант прекращает играть, ему ка-
жется, будто он попал в сумасшедший дом. Он подходит к че-
ловеку, больше всего тронутому блаженством; он спрашивает,
как тот себя чувствует и чем ему можно помочь. Один рассуди-
тельный ум, еще не отведавший блаженного наркотика, пред-
лагает принести лимонад и кислоту. Но больной возбужденны-
ми глазами взирает на него с невыразимым презрением; толь-
ко гордость удерживает его от куда большей обиды. В самом
деле, что может хуже раздражить больного радостью, чем же-
лание излечить его?
А вот, как мне кажется, одно чрезвычайно любопытное яв-
ление: служанка, которой поручили принести табак и прохла-
дительные напитки людям, принявшим гашиш, завидя вокруг
себя странные лица с чрезмерно расширенными глазами и
словно попав в злокачественное окружение этого общего су-
масшествия, разразилась взрывом безумного смеха, уронила
поднос, который разбился вместе со всеми чашками и стакана-
ми, и в страхе убежала со всех ног. Все рассмеялись. На следу-
ющий день она призналась, что в течение нескольких часов
испытывала необыкновенное чувство, ей было так весело, не-
весть почему. Между тем она не принимала гашиш.
Наступление второй стадии сопровождается ощущением
82
прохлады в конечностях и огромной усталости; у вас, как го-
ворится, ватные руки, тяжесть в голове и общее одеревене-
ние во всем существе. Ваши глаза расширены, словно безжа-
лостное возбуждение тянет их во все стороны. Ваше лицо
покрывается бледностью, оно становится сине-зеленоватым.
Губы сужаются, съеживаются и, кажется, хотят провалиться
внутрь. Хриплый, глубокий шепот исходит из вашей груди,
словно ваше прежнее тело не в силах выдерживать вес вашей
новой природы. Чувства становятся наделенными чрезвы-
чайной тонкостью и остротой. Глаза проницают бесконеч-
ность. Ухо различает тончайшие звуки среди пронзительней-
шего шума.
Начинаются галлюцинации. Предметы внешнего мира
приобретают чудовищные очертания. Они предстают перед
вами в доселе неизведанных формах. Затем они искажаются,
преображаются и, наконец, проникают в ваше существо, или
скорее вы проникаете в них. Происходят самые невероятные
ошибки, совершенно необъяснимые перестановки мыслей.
Звуки раскрашиваются, краски озвучиваются. Музыкальные
ноты становятся цифрами, и, по мере того как музыка разво-
рачивается в вашем ухе, вы с ужасной скоростью выполняете
громоздкие арифметические вычисления. А вот вы сидите и
курите; вы представляетесь себе сидящим в трубке, и именно
трубка выкуривает вас; вы выдыхаете самого себя в виде си-
зых облаков.
Вы прекрасно ощущаете себя там, лишь одно занимает и
тревожит вас: как выбраться из трубки? Это мыслительное уси-
лие длится целую вечность. Краткое озарение после большого
усилия позволяет вам взглянуть на часы. Вечность длилась все-
го лишь минуту. Вы захвачены новым потоком мыслей; минуту
он будет удерживать вас в своем живом водовороте, и эта ми-
нута снова растянется в вечность. Соотношение времени и бы-
тия нарушилось из-за бесчисленного множества и напряжения
мыслей и ощущений. За один час проживается несколько че-
ловеческих жизней. Здесь вправду есть что-то от сюжета “Шаг-
реневой кожи”— никакого равенства между органами и насла-
ждением.
Время от времени личность исчезает. Объективность,
свойственная поэтам-пантеистам и великим актерам, разви-
вается в вас столь непомерно, что вы сливаетесь с создания-
ми внешнего мира. Вот вы дерево, стонущее на ветру и по-
83
ющее природе свои растительные мелодии. А вот вы парите
в лазури бесконечно широкого неба. Всякое страдание ис-
чезло. Борьбы больше нет, вы восхищены, вы уже не прина-
длежите себе, и это не тяготит вас. Вдруг понятие времени
исчезает совсем. Лишь периодически наступает краткое про-
буждение. Вам кажется, будто вы выходите из волшебного,
фантастического мира. Правда, у вас остается способность
наблюдать за собой, завтра вы сохраните воспоминание о
некоторых из своих ощущений. Но вы никак не можете ис-
пользовать эту психологическую способность. Попробуйте-
ка взять в руку перо или карандаш: эта работа окажется вы-
ше ваших сил.
В другой раз музыка рассказывает вам нескончаемые поэ-
мы, бросает вас в ужасные драмы или феерии. Она соединяет-
ся с предметами, которые находятся перед вашими глазами.
Потолочная роспись, даже посредственная или скверная, ужа-
сающе оживает. Прозрачная, чарующая вода течет по дрожа-
щей лужайке. Пышнотелые нимфы взирают на вас большими
глазами, которые прозрачнее воды и лазури. У вас есть место и
роль в сквернейших картинах, в грубейших обоях, которыми
оклеивают стены в гостиницах.
Я заметил, что вода приобретает ужасное очарование для
всякого мало-мальски художественного духа, просвещенного
гашишем. Струи воды, фонтаны воды, великолепные водопа-
ды, голубые пространства морей бегут, дремлют, поют в глуби-
не вашей души. В таком состоянии вряд ли стоит оставлять че-
ловека у каких-нибудь прозрачных вод; как рыбак из баллады,
он может поддаться влечению ундины.
Ближе к концу вечера можно перекусить, но это действие
проходит небезболезненно. Ощущения настолько превосходят
материальность, что больше всего хочется по-прежнему лежать
на дне интеллектуального рая, растянувшись во весь рост. Ино-
гда, правда, развивается чрезвычайный аппетит, однако нужно
много смелости, чтобы взять в руки бутылку, вилку и нож.
Третья стадия, отделенная от второй усилением криза, ког-
да за головокружительным опьянением следует новая напасть,
представляет собой нечто неописуемое. Это то, что на Востоке
называют кайфом, абсолютное счастье. Здесь нет никакого
вращения и беспорядка. Это одно безмятежное, неподвижное
блаженство. Все философские проблемы разрешены. Все на-
сущные вопросы, мучащие теологов и приводящие в отчаяние
84
мыслящее человечество, нашли свое прояснение и объясне-
ние. Всякое противоречие превратилось в единство. Человек
перешел в разряд богов.
Что-то говорит в вас: “Ты выше всех людей, никто не пони-
мает то, что ты думаешь, что ты ощущаешь сейчас. Они даже
не способны понять всю глубину твоей любви к ним. Но не
стоит ненавидеть их за это; нужно пожалеть их. Перед тобой
открыта бесконечность счастья и добродетели. Никто никог-
да не узнает, какой степени добродетели и просвещенности
ты достиг. Живи же в одиночестве своей мысли и избегай
обижать людей”.
Одним из самых забавных проявлений гашиша является
доведенная до безумства осмотрительности боязнь обидеть
кого бы то ни было. Кабы у вас была сила, вы даже скрыли бы
само сверхъестественное состояние, в котором находитесь,
чтобы только не вызвать беспокойство у последнего из людей.
У людей мягкой и художественной души любовь в этом вы-
сшем состоянии принимает самые невероятные формы и
склоняется к самым причудливым сочетаниям. Необузданная
распущенность может смешиваться с горячим и нежным оте-
ческим чувством.
Последнее из моих наблюдений не менее любопытно. На
следующее утро при виде дня, посетившего вашу комнату, вы
прежде всего ощущаете глубокое изумление. Время совершен-
но исчезло. Только что была ночь — и вот уже день. “Спал я или
не спал? Длилось ли опьянение всю ночь и не сократилась ли
моя ночь с отменой времени до размеров одной секунды? Или
же я был погребен в пучину сна, исполненного видений?” Ни-
кто не знает этого.
Вам кажется, будто вы ощущаете чудесное благополучие и
легкость духа; ни следа усталости. Но едва вы встаете на ноги,
как тут же проявляются остатки прежнего хмеля. Ослабевшие
ноги с робостью ведут вас, вы боитесь разбиться, словно хруп-
кий предмет. Огромное утомление, не лишенное некоторой
прелести, охватывает ваш дух. Вы не способны к работе и к ре-
шительному действию.
Вот наказание за кощунственную расточительность, с кото-
рой вы столь безрассудно растратили свою нервную энергию.
Вы разбросали свою личность на все четыре стороны: теперь
вам будет очень трудно собраться и сосредоточиться.
85
V
Я не хочу сказать, что описанные мною действия гашиш
оказывает на всех людей. Я приблизительно рассказал о тех яв-
лениях, которые обычно бывают, за исключением нескольких
вариаций, у людей художественного и философского склада.
Однако бывают такие характеры, у которых наркотик вызыва-
ет лишь шумное безумие, бурную веселость, похожую на кру-
жение, танцы, прыжки, топот, взрывы смеха. Они созданы
лишь, так сказать, для голой материальности гашиша. Они не-
выносимы для одухотворенных людей, которые чувствуют к
ним огромную жалость. Их гнусная личность рождает бурю.
Однажды я видел, как уважаемый магистрат, человек почтен-
ный, как говорят о себе светские люди, один из тех, чья наи-
гранная вескость всегда сопутствует им, пустился плясать кан-
кан, к тому же из непристойнейших, едва лишь гашиш овладел
им. Внутренний, подлинный монстр обнаружился. Этот чело-
век, осуждавший поступки себе подобных, этот Togatus, тайком
изучил канкан.
Таким образом, можно угверждать, что безличность, объек-
тивность, о которой я говорил и которая представляет собой
не что иное, как чрезмерное развитие поэтической натуры,
никогда не проявится в гашише этих людей.
VI
В Египте правительство запрещает продажу и торговлю га-
шишем, по крайней мере внутри страны. Несчастные, одержи-
мые этой страстью, обращаются к аптекарю, чтобы под видом
покупки другого лекарства получить свою небольшую, заранее
приготовленную дозу. Египетское правительство совершенно
право. Никогда еще здравомыслящее Государство не могло вы-
жить при употреблении гашиша. Наркотик не воспитывает ни
воинов, ни граждан. В самом деле, человеку под страхом физи-
ческого вырождения и духовной смерти запрещено изменять
первоначальные условия своего существования и нарушать
равновесие своих чувственных способностей при помощи
этих средств. Кабы существовало правительство, заинтересо-
ванное в разложении своих подданных, то ему нужно было бы
поощрять употребление гашиша.
86
Говорят, что это вещество не причиняет какого-либо физи-
ческого ущерба. Это верно, по крайней мере до сих пор, ибо
мне неизвестно, в какой степени можно утверждать, что чело-
век, который исключительно смотрит сны и не способен к дей-
ствию, находится в добром здравии, даже если все его члены
чувствуют себя хорошо. Но под удар попадает воля, а это са-
мый ценный орган. Никогда человек, могущий посредством
ложки конфитюра немедленно заполучить себе все небесные
и земные блага, не приобретет и тысячной доли их своим тру-
дом. А прежде всего нужно жить и работать.
Мысль поговорить в одной и той же статье о вине и гашише
возникла у меня потому, что между ними и вправду есть неко-
торое сходство: чрезмерное развитие поэтической стороны
человека. Неистовое увлечение человека любыми веществами,
опасными или безопасными, которые усиливают его лич-
ность, свидетельствует о его величии. Он стремится все время
согреть свои надежды и взлететь в бесконечность. Но посмот-
рим на результат. Вот жидкость, способствующая пищеваре-
нию, укрепляющая мышцы и обогащающая кровь. Даже при-
нимаемая в больших количествах, она не вызывает ничего,
кроме весьма кратковременных нарушений. А вот вещество,
прерывающее пищеварительные функции, ослабляющее чле-
ны и могущее вызвать опьянение на целые сутки. Вино укреп-
ляет волю, гашиш уничтожает ее. Вино поддерживает человека
физически, гашиш является орудием самоубийства. Вино рас-
полагает к доброте и общению. Гашиш приводит к замкнуто-
сти. Одно, так сказать, трудолюбиво, другое глубоко лениво. В
самом деле, зачем работать, трудиться, писать, производить
что бы то ни было, когда можно одним махом приобрести рай?
Наконец, вино создано для работающего народа, который за-
служивает, чтобы пить его. Гашиш же принадлежит к разряду
радостей одиночки; он создан для жалких оазисов. Вино по-
лезно, оно плодотворит. Гашиш бесполезен и опасен1.
1 Исключительно для напоминания следует сказать о недавней попытке
применения гашиша для лечения сумасшествия. Сумасшедший, принимаю-
щий гашиш, заболевает другим безумием, изгоняющим первое, и, когда
хмель проходит, настоящее сумасшествие, которое является нормальным
состоянием больного, возвращается в свои владения, как в нас - рассудок
и здоровье. Об этом даже потрудились написать книгу. Врача, который
изобрел эту чудную систему, философом, по крайней мере, не назовешь.
87
VII
Я закончу эту статью прекрасными словами, которые при-
надлежат не мне, а Барберо, замечательному и малоизвестно-
му философу, теоретику музыки и профессору консерватории.
Мы находились вместе в одном обществе, где были люди, кото-
рые приняли блаженный яд, и он с невыразимым оттенком
презрения заметил мне: “Не понимаю, зачем разумному и оду-
хотворенному человеку нужны искусственные средства для до-
стижения поэтической красоты. Подъем духа и воля — вот все,
что нужно, чтобы возвыситься до сверхматериального сущест-
вования. Великие поэты, философы и пророки чистейшим уп-
ражнением воли приходили в состояние, в котором они были
одновременно причиной и следствием, субъектом и объектом,
гипнотизером и сомнамбулой”.
С ним я совершенно согласен.
Шарль
Б ОДЛЕР
Искусственный
рай
Посвящается ЖЖ.Ф.
Милый друг!
Здравый смысл убеждает нас, что все земное призрачно и что
подлинная действительность существует лишь во сне. Чтобы вос-
принять истинное блаженство так же, как искусственное, нужно
вначале иметь смелость вкусить его, и, возможно, блаженства за-
служивает тот, у кого счастье, как его понимают смертные, не вы-
зывает ничего, кроме тошноты.
Недалеким людям покажется странным и даже вызывающим,
что картина искусственных наслаждений посвящается женщине,
сталь привычному источнику наслаждений самых естественных.
Однако совершенно очевидно, что, как видимыймир проникает в ду-
ховный, питает его и способствует развитию той неуловимой сущ-
ности, которую мы называем своей личностью, так же и женщина
отбрасывает на наши сны мрачнейшую тень или проливает ярчай-
ший свет. Женщина обладает фатальной способностью к преобра-
жению; она живет иной жизнью, отличной даже от ее собственной;
духовно она существует в воображении, которое она одновременно
гнетет и обогащает.
Впрочем, понятна ли причина для такого посвящения или нет —
неважно. Нужно ли автору для удовлетворения, чтобы его книгу по-
няли другие, кроме него самого и той, для которой она написана? Да
и важно ли, наконец, писать для кого бы то ни было? Что до меня,
то живые привлекают меня столь мало, что, подобно некоторым
праздно-чувствительным дамам, которые, говорят, по почте посы-
лают свои излияния воображаемым подругам, я охотно писал бы для
одних мертвецов.
Но эту книжку я посвящаю не мертвецу, но той, которая в лю-
бой болезни бодрствует и живет во мне и которая ныне обращает
взоры к небесам, месту всех преображений. Как и из страшного сна-
добья, человек обладает чудесной привилегией извлекать новые, изо-
щренные удовольствия даже из боли, из катастрофы, из неизбежно-
сти.
В этой картине ты встретишь грустного и одинокого прохоже-
го, погруженного в зыбкий людской поток и обращенного своим серд-
цем и мыслями к далекой Электре, которая в прошлом отирала пот
с его лба и смачивала его губы, иссушенные лихорадкой, и ты угада-
ешь благодарность иного Ореста, свидетелем кошмаров которого
ты часто бывала и от которого ты отгоняла ужасный сон своей
легкой, материнской рукой.
Ш.Б.
90
Поэма о гашише
I
ЛЮБОВЬ К БЕСКОНЕЧНОСТИ
Люди, умеющие наблюдать за
собой и хранящие в памяти свои впечатления; люди, сумев-
шие, подобно Гофману, создать свой духовный барометр, час-
то замечают внутри себя прекрасное время, счастливые дни,
чудные минуты. В такие дни человек пробуждается с юной, де-
ятельной душой. Едва с его век спадает оцепенение сна, как ок-
ружающий мир предстает перед ним с могучей отчетливостью,
точностью очертаний, во всем великолепии красок. В мире ду-
ховном открываются широкие дали, наполненные новыми ис-
тинами. Человек, осененный этой красотой, к несчастью ред-
кой и преходящей, чувствует в себе одновременно больше
творчества и больше праведности — одним словом, больше
благородства. Однако самое замечательное в этом исключи-
тельном состоянии души и чувств, которое без преувеличения
можно назвать райским по сравнению с тяжелым мраком еже-
дневного существования, это его независимость от какой-либо
видимой, легко определяемой причины. Не находит ли оно
вследствие строгой, мудрой жизни? Это объяснение первым
приходит на ум; однако нам приходится признать, что часто
это удивительное состояние, своего рода чудо, проявляется как
бы вследствие высшей, невидимой, внешней силы как раз пос-
ле того, как человек злоупотребил своими физическими спо-
собностями. Не является ли оно наградой за прилежную мо-
литву и духовную ревность? Постоянная возвышенность устре-
млений, обращение духовных сил к небу, бесспорно, больше
всего способствует этому духовному здоровью, столь яркому и
славному; но в силу какого бессмысленного закона оно иногда
проявляется после изощренного насилия над разумом, ис-
пользование которого столь же далеко от честного и разумно-
го, как самоистязание — от здоровой гимнастики? Поэтому
предпочтительнее считать это необычное состояние души
подлинной благодатью, волшебным зеркалом, в котором чело-
век призван увидеть себя во всей красоте, тем, кем он должен
и может стать; ангельским побуждением, дружелюбным при-
зывом к порядку. По той же причине одна из духовных школ,
91
распространенная в Англии и Америке, считает такие сверхъ-
естественные феномены, как призраки, привидения и тд., про-
явлениями божественной воли, стремящейся пробудить в душе
человека воспоминание о мире невидимом.
Кроме того, это чудесное, необычное состояние, в кото-
ром все силы находятся в равновесии, в котором воображе-
ние, при всей своей поразительной силе, не втягивает нрав-
ственное чувство в опасные авантюры, в котором обострен-
ная чувствительность не страдает от болезни нервов, этих
обычных советчиков преступления или отчаяния,— словом,
это прекрасное состояние ничем не предзнаменуется. Не-
предсказуемое, как призрак, оно похоже на наваждение, но
наваждение ускользающее, из которого мы должны были бы
вынести, кабы имели мудрость, уверенность в лучшей жизни
и надежду на ее достижение через ежедневное упражнение
воли. Эта острота мысли, приподнятость чувств и духа всякий
раз призваны стать для человека высшим благом, столь вож-
деленным, что человек, не тревожась преступлением законов
своей природы, везде и во все времена искал в физической
науке, в фармацевтике, в грубейших напитках, в тончайших
запахах средство избежать хотя бы на несколько часов своего
грязного жилища и, как сказал автор “Лазаря”, “одним махом
приобрести рай”. Увы! Человеческие пороки, ужасные на-
столько, насколько можно себе представить, доказывают (ко-
гда вырастают до бесконечности!) любовь человека ко всему
бесконечному; только эта любовь часто сбивается с пути. В
метафизическом смысле избитую пословицу “Все дороги ве-
дут в Рим” можно так применить к нравственному миру: все
приводит к награде или наказанию — двум формам вечности.
Человеческая душа исполнена страстями, которые должны
быть в преизбытке; но эта несчастная душа, природная по-
врежденность которой столь же велика, сколь ее внезапная,
почти парадоксальная способность к высшему добру и доб-
родетели, изобилует парадоксами, которые позволяют ей ис-
пользовать во зло переполняющую ее страсть. Ей кажется,
что она никогда не продает себя целиком. Она забывает, что
ее игра тоньше и сильнее, чем увлечение, и что Дух Зла, отдай
ему на откуп хоть волос, не преминет захватить и голову. Этот
видимый господин видимой природы (я имею в виду челове-
ка), возжелавший рая из лекарств, из забродивших напитков,
подобен маньяку, заменившему настоящую мебель и естест-
венный сад декорациями, нарисованными на полотне и вста-
92
вленными в раму. В этом повреждении чувства бесконечно*
сти и кроется, как кажется, причина всех преступных изли-
шеств, начиная с уединенного пристрастия литератора, кото-
рый, ища в опиуме облегчения физического страдания и об-
наружив источник извращенных наслаждений, понемногу
превратил его в потребность, в солнце своей духовной жиз-
ни, и кончая омерзительным пьянством рабочих, которые, с
головой, осененной пламенем славы, позорно валяются в
придорожной грязи.
Среди наркотиков самыми подходящими для создания то-
го, что названо мною искусственным Идеалом — не считая алко-
голя, который быстро производит буйство плоти, подавляя ду-
ховные силы, и ароматических веществ, чрезмерное употреб-
ление которых, развивая воображение человека, истощает его
физически — являются гашиш и опиум, энергетически наибо-
лее сильные, удобные в употреблении и доступные вещества.
Цель данного исследования — рассмотреть загадочные воздей-
ствия и болезненные наслаждения, вызываемые этими нарко-
тиками, а также вопрос бессмертия, который присутствует в
погоне за ложным идеалом.
Изучение опиума уже сделано так блестяще и с медицин-
ской, и с поэтической стороны, что я не смею ничего добавить.
Поэтому я ограничусь приведением в своем исследовании ана-
лиза этой необычайной книги, которая никогда полностью не
переводилась на французский язык. Ее автор, человек выдаю-
щийся, с богатой и изысканной фантазией, но ныне удалив-
шийся от дел, осмелился с трагической искренностью расска-
зать о радостях и муках, некогда обретенных им в опиуме, а в
самой драматичной части своей книги он повествует о сверх-
человеческих усилиях воли, которые потребовались ему, что-
бы избавиться от проклятия, которому он неразумно подверг
самого себя.
Я же стану говорить о гашише, основываясь на многих и
тщательных расспросах, записках или признаниях умственно
одаренных людей, которые давно пристрастились к этому нар-
котику. Я лишь сведу все эти различные свидетельства в некое
подобие монографии, выбрав человеческий тип, склонный к
опытам такого рода и легко поддающийся объяснению и опи-
санию.
II
ЧТО ТАКОЕ ГАШИШ?
Записки Марко Поло, над которым, как и над некоторыми
другими путешественниками древности, несправедливо смея-
лись, проверены учеными и заслуживают нашего доверия. Я
не стану описывать вслед за ним, как Горный Старец помещал
своих опьяненных гашишем учеников (отсюда Haschischins
или Assassins) в сад наслаждений, чтобы внушить им предста-
вление о рае как о воздаянии за полное и безоговорочное по-
слушание. О тайном обществе наркоманов читатель может
справиться в книге Гаммера и в воспоминаниях Сильвестра де
Саси, которые содержатся в XVI томе “Мемуаров академии
письменности и литературы”, а об этимологии слова assassin
— в его письме редактору “Монитора” под номером 359 от
1809 года. По словам Геродота, скифы собирали семена коно-
пли и бросали их на раскаленные в огне камни. Это было по-
добие бани с еще большим ароматом, чем в греческой пар-
ной, и их возбуждение было столь велико, что они кричали от
радости.
Гашиш в самом деле пришел к нам с Востока; возбуждающее
действие конопли было хорошо известно еще в Древнем Егип-
те, откуда под разными названиями она распространилась в
Индию, Алжир и Аравию. Но вот совсем близкий пример любо-
пытного опьянения растительными испарениями. Не говоря
уже о детях, испытывающих необычайное головокружение по-
сле катания и игр на поле со скошенной люцерной, всем изве-
стно, что во время жатвы конопли то же состояние испытыва-
ют работники обеих полов; говорят, что жатва порождает ми-
азмы, которые вредно действуют на их мозг. У жнеца кружится
голова, иногда бывают видения. Временами его члены слабеют
и отказываются служить. Мы слышали о сомнамбулических
кризах у русских крестьян — как говорят, из-за употребления
конопляного масла в приготовлении пищи. А кто не знает о
странном поведении кур, наевшихся семян конопли, о неукро-
тимом нраве лошадей, которых крестьяне перед скачками на
свадьбах и престольных праздниках кормят коноплей, слегка
размоченной в вине?
Однако французская конопля не годится для приготовле-
ния гашиша — по крайней мере, согласно многим опытам, из
нее не получается наркотик, равный по силе гашишу. Пппиш,
или индийская конопля (cannabis indica), принадлежит к се-
мейству крапивных и во всем схожа с нашей коноплей, но по-
следняя не достигает такого действия. Он обладает чрезвычай-
но сильными возбуждающими свойствами, которые вот уже
несколько лет привлекают внимание ученых и светской публи-
ки. Ценность гашиша зависит от места произрастания: знато-
ки ценят бенгальскую коноплю; египетская, константинополь-
ская, персидская и алжирская конопля обладает теми же свой-
ствами, но в чуть меньшей степени.
Гашиш (или “трава”, то есть трава в высшей степени, слов-
но арабы хотели выразить в слове “трава” источник всех мате-
риальных наслаждений) существует под разными названиями
в зависимости от состава и способа приготовления на месте
сбора.* в Индии это банжи, в Африке — терьяки, в Алжире и
Аравии — маджунд и тд. Гашиш варят в определенное время го-
да — он обладает наибольшей силой, когда цветет; поэтому
только венчики используются для приготовления, о котором
нужно сказать несколько слов.
Вязкий экстракт гашиша, как его готовят арабы, получается
при кипячении свежих венчиков растения в масле с добавле-
нием малого количества воды. После полного испарения жид-
кости остается вещество, похожее на зеленовато-желтую пома-
ду, с неприятным запахом гашиша и жженого масла. В таком
виде его употребляют маленькими шариками, весом два-четы-
ре грамма; но из-за отвратительного запаха, который со вре-
менем только крепнет, арабы кладут вязкий экстракт в разные
конфитюры.
Самым распространенным из этих конфитюров является
давамеск — смесь вязкого экстракта, сахара и ароматических
веществ, например ванили, корицы, фисташков, миндаля, мус-
ката. Иногда туда кладут даже шпанскую муху — в целях, не
имеющих ничего общего с обычным применением гашиша. В
этом новом виде гашиш вполне приятен, его можно прини-
мать дозами по пятнадцать, двадцать и тридцать грамм, с кусо-
чком вафли либо с кофе.
Хотя опыты Смита, Гастинеля и Декуртиля имели целью от-
крыть принцип действия гашиша, его химический состав, не-
смотря на все усилия, по-прежнему мало изучен; его свойства
в основном относят на счет резинообразного вещества, кото-
рое содержится в нем в довольно большом количестве — от де-
сяти до ста процентов. Для получения этой резины высушен-
ное растение перемалывают в грубую муку и несколько раз
промывают в спирте, который затем перегоняют для частич-
95
ного отделения остального вещества; затем состав выпарива*
ют до получения вытяжки; эту вытяжку обрабатывают водой,
которая растворяет посторонние вязкие включения, тогда как
резина остается в своем чистом виде.
Это мягкое вещество темно-зеленого цвета обладает силь-
ным, типичным запахом гашиша. Пять, десять, пятнадцать
миллиграммов его достаточно для получения поразительных
результатов. Но и гашишин, который можно принимать в виде
шоколадных пастилок или маленьких имбирных таблеток, об-
ладает, как давамеск и вязкий экстракт, более или менее силь-
ным действием разного характера в зависимости от темпера-
мента человека или обостренности его нервов. Это либо без-
мерная, неукротимая веселость, либо чувство благополучия и
полноты жизни, либо двусмысленный сон, полный видений.
Однако есть феномены, которые повторяются довольно часто,
особенно у людей сходного темперамента и образования; при
всем разнообразии существует нечто объединяющее, которое
позволяет мне без особого труда составить вышеупомянутую
монографию опьянения.
В Константинополе, Алжире и даже во Франции гашиш ку-
рят, смешивая его с табаком; однако желаемое действие прояв-
ляется весьма умеренно, так сказать, лениво. Я слышал, что не-
давно путем дистилляции из гашиша извлекли масло, облада-
ющее вроде бы гораздо более сильным действием, чем все до
сих пор известные составы; однако оно еще недостаточно изу-
чено, чтобы я мог с уверенностью говорить о результатах. Не
лучше ли добавить, что чай, кофе, алкогольные напитки явля-
ются мощными катализаторами, которые в той или иной сте-
пени ускоряют наступление этого таинственного опьянения?
Ш
ТЕАТР СЕРАФИМОВ
Что вы чувствуете? Что вы видите? Нечто удивительное, да?
Невероятные сцены? Это интересно? Ужасно? Опасно? — вот
обычные вопросы, адресуемые посвященным со смесью любо-
пытства и страха. Такое детское нетерпение узнать бывает у
людей, никогда не покидавших домашний очаг, перед лицом
человека, вернувшегося из далеких, загадочных стран. Опьяне-
ние гашишем кажется чудесной страной, огромным театром
фокусов и розыгрышей, где все необычно и непредсказуемо.
Здесь и кроется ошибочное предубеждение. И, так как для обы-
96
кновенного читателя и любопытного в слове “гашиш” содер-
жится представление о странном, перевернутом мире, ожида-
ние удивительных снов (вернее, галлюцинаций, которые, кста-
ти, не так часты, как это принято считать), мне хочется сразу
отметить важное отличие феномена сна от действия гашиша.
Во сне, в этом полном приключений ночном происшествии,
есть нечто действительно чудесное; но привычность этого чу-
да ослабляет загадку. Сны человека бывают двух видов. Пер-
вые, заполненные обыденной жизнью с ее заботами, желания-
ми, грехами, более или менее связаны с предметами, увиден-
ными днем, которые без разбора запечатлелись на огромном
полотне памяти. Это естественный сон, в нем сам человек. Но
другие сны! бессмысленные, неожиданные, без связи и отно-
шения к характеру, жизни и чувствам сновидца! такой сон, ко-
торый я бы назвал иероглифическим, очевидно, представляет
собой сверхъестественную сторону жизни; именно из-за его
бессмысленности древние считали его божественным. По-
скольку он необъясним естественным образом, его возникно-
вение приписывали причинам, находящимся вне человека; да-
же сегодня кроме онейроманов существует философская шко-
ла, которая видит в такого рода снах то упрек, то совет,— в об-
щем нравственно-символическую картину, рожденную в са-
мой душе сновидца.
В опьянении гашишем нет ничего подобного. Мы не выхо-
дим за пределы естественного сна. Правда, благодаря яркости
красок и быстроте восприятия опьянение представляет собой
один сплошной сон, однако с оттенком, присущим данному
человеку. Человек захотел сновидения, и оно управляет им; но
это сновидение поистине плод своего создателя. Повеса тщит-
ся искусственно привить своей жизни и мыслям сверхъестест-
венное; но, несмотря на случайную силу своих ощущений, он
становится лишь раздутым образом самого себя, тем же чис-
лом, возведенным в высокую степень. Он раб, но раб самого
себя, то есть своей преобладающей части; желая сделаться ан-
гелом, он стал скотом, временно наделенным огромной силой,
если можно назвать силой сверхчувствительность без способ-
ности умерить или использовать ее.
Пусть светские люди и любопытные, желающие испытать
неземную радость, знают, что в том, что они находят в гашише,
нет никакого чуда, нет ничего, кроме чрезмерно раздутого ес-
тества. Под действием гашиша мозг и организм обнаруживают
обыкновенные, присущие данной личности явления, размно-
4—511
97
женные и усиленные, но верные своему происхождению. Че*
ловек не свободен от неизбежности своего телесного и душев-
ного темперамента: гашиш становится увеличительным зерка-
лом впечатлений и обычных мыслей человека, но не более.
Вот наркотик перед вашими глазами: сгусток зеленой мас-
сы, плотной, как орех, со специфическим запахом, вызываю-
щим некоторое отвращение и легкую тошноту как, впрочем,
любой другой запах, доведенный до предельной силы и, так
сказать, насыщенности. Позволю себе мимоходом заметить,
что это утверждение можно перевернуть, что самый отврати-
тельный, отталкивающий запах, доведенный до наименьшего
количества и воздействия, может принести удовольствие. Вот
оно, счастье! оно помещается в чайной ложке! счастье со всем
его опьянением, всем безумием, всем ребячеством! Оно про-
глатывается без боязни; от него не умирают. Оно не касается
телесных органов. Возможно, позднее слишком частое прибе-
гание к его чарам уменьшит силу воли; возможно, вы в мень-
шей степени будете человеком, чем сейчас, но наказание так
далеко, а сущность будущей катастрофы так трудно опреде-
лить! Чем вы рискуете? Получить назавтра легкое нервное уто-
мление. Но разве каждый день вы не рискуете подвергнуть се-
бя большему наказанию ради меньшего блага? Итак, решено:
для увеличения силы и воздействия вы разбавляете дозу вязко-
го экстракта в чашке черного кофе; вы заботливо принимаете
ее на пустой желудок, отложив прием пищи на девять или де-
сять часов вечера, чтобы дать яду полную свободу действия; в
крайнем случае вы слегка перекусите через час. Теперь вы дос-
таточно снарядились для длинного и непривычного путешест-
вия. Зашипел пар, поезд тронулся, но в отличие от проспа
пассажиров вы обладаете удивительной привилегией: не знать
цели своего движения. Вы хотели этого — да здравствует неиз-
бежность!
Надеюсь, вы правильно выбрали время для этого приклю-
чения. Всякий совершенный разврат требует совершенной
праздности. К тому же вам известно, что гашиш создает пре-
увеличенный образ не только человека, но обстоятельств и
окружения; вы свободны от обязанностей, требующих точно-
сти, аккуратности; от семейных неприятностей; от мук любви.
Здесь требуется осторожность. Эти неприятности, беспокой-
ство, память о долге, которые в определенный момент взыва-
ют к воле и вниманию, проницают опьянение, словно удар ко-
локола, и отравляют радость. Беспокойство становится трево-
98
гой, неприятность — пыткой. Итак, если все предварительные
условия соблюдены, то хорошая погода, благоприятное окру-
жение, например красочный пейзаж или поэтически укра-
шенное жилище, особенно если ожидается музыка,— все это
только к лучшему.
Обычно в опьянении гашишем прослеживаются три до-
вольно легко определяемые стадии, и небезынтересно наблю-
дать у новичков наступление начальных признаков первой
стадии. Вы смутно наслышаны о чудесном действии гашиша; в
вашем воображении сложилось свое особое представление,
некий идеал опьянения; вам не терпится узнать, оправдает ли
действительность ожидаемое. Этого вполне достаточно, чтобы
с самого начала привести вас в возбужденное состояние, бла-
гоприятное для властного и экспансивного характера яда.
Большинство новичков на первом этапе посвящения жалуется
на замедленность действия; они ожидают его с детским нетер-
пением, и, когда наркотик не подчиняется их прихотям, они
впадают в крикливое недоверие, чем весьма веселят закорене-
лых посвященных, знающих поведение гашиша. Первые при-
знаки действия, словно приближение давно зреющей грозы,
проявляются и множатся даже от самого этого недоверия. Сна-
чала вас охватывает какая-то веселость, нелепая и безудерж-
ная. Эти приступы беспричинного веселья, которых вы почти
что стыдитесь, все повторяются, сменяясь периодами отупе-
ний,во время которых вы тщетно пытаетесь сосредоточиться.
Простейшие слова, тривиальнейшие мысли приобретают но-
вый, причудливый облик; вы даже дивитесь, что до сих пор
считали их столь простыми. Ваш мозг беспрестанно обнару-
живает нелепые сходства и сравнения, которые невозможно
предугадать, сыплет бесконечной игрой слов, попытками шу-
тить. Демон вселился в вас; бессмысленно противиться этой
веселости, болезненной, как щекотка. Время от времени вы
смеетесь над самим собой, над собственной глупостью и безу-
мием, и ваши товарищи, если они рядом, тоже смеются над ва-
шим и своим состоянием, но беззлобно, и вы не обижаетесь.
Эта веселость, то вялая, то бурная, эта беспокойная радость,
беззащитность, нерешительность болезни продолжаются не-
долго. Скоро связь мыслей становится столь смутной, путевод-
ная нить, соединяющая ваши мысли, слабеет настолько, что
только сообщники могут понимать вас. Но даже в этом нет ни-
какой уверенности: возможно, им лишь кажется, будто они по-
нимают вас, а вы — их. Эта шаловливость и похожие на взры-
4*
99
вы приступы смеха представляются настоящим безумием или
как минимум маниакальной глупостью всякому человеку, не
находящемуся в том же состоянии. Также рассудительность и
здравомыслие, упорядоченность мыслей благоразумного сви-
детеля, который не пьян, смешит и веселит вас, словно поме-
шательство особого рода. Роли перепутались. Его хладнокро-
вие доводит вас поистине до предела иронии. Сколь же загадо-
чно-нелепо положение человека, испытывающего непонятную
радость от того, что другой не находится с ним в одной упряж-
ке! Сумасшедшему жаль мудреца, и с этих пор мысль о превос-
ходстве брезжит на горизонте его интеллекта. Скоро она уве-
личится, разбухнет и засверкает, как метеор.
Я был свидетелем подобной сцены, которая зашла слишком
далеко, и ее нелепость была понятна лишь тому, кому известно,
хотя бы наружно, действие наркотика и огромная разница в
диапазоне переживаний, которую он создает между двумя ин-
теллектами, считающимися равными. Один известный музы-
кант, не знавший о действии гашиша и, возможно, не слышав-
ший о нем, попал в общество людей, принявших наркотик. Ему
пытаются втолковать о чудесном воздействии гашиша. На эти
удивительные рассказы он благосклонно улыбается из любез-
ности, как человек, расположенный порисоваться несколько
минут. Но души, обостренные ядом, быстро угадывают его пре-
зрительность и осыпают насмешками. Эта взрывы веселья, эта
игра словами, перекошенные лица, вся нездоровая атмосфера
в целом раздражает его и вынуждает заявить, возможно рань-
ше, чем он этого хотел, что эти шутки дурны и, кроме того, уто-
мительны для тех, кто предпринял их. Смех озаряет души при-
сутствующих, словно молния. Их радость удваивается. “Если
эти шутки веселят вас, то меня нисколько”, — сказал музыкант.
“Довольно и того, что весело нам”, — эгоистично ответил один
из больных. Не зная, с кем он имеет дело — с настоящими бе-
зумцами или людьми, изображающими сумасшествие, наш му-
зыкант счел за лучшее убраться восвояси; но кто-то закрыл
дверь и спрятал ключ. Другой, встав перед ним на колени, по-
просил у него прощения от имени общества и нагло заявил,
правда, со слезами на глазах, что, несмотря на его духовную
ущербность, которая, возможно, вызывает некоторое сочувст-
вие, все проникнуты к нему чувством глубокой дружбы. Музы-
кант решает остаться и даже ввиду настоятельных просьб
снисходит до того, чтобы немного сыграть. Однако звуки
скрипки, распространяясь по дому, словно новая зараза, захва-
100
тывают (это еще слабо сказано) то одного больного, то друго-
го. Слышится хриплый, глубокий шепот, раздаются внезапные
рыдания, льются ручьи молчаливых слез. Напуганный музы-
кант прекращает играть и, подойдя к человеку, больше всего
тронутому блаженством, спрашивает, как он себя чувствует и
чем ему можно помочь. Один из его помощников, человек пра-
ктический, предлагает принести лимонад и кислоту. Но боль-
ной возбужденными глазами смотрит на обоих с невырази-
мым презрением. Как! Лечить человека, который болен избыт-
ком жизни, болен радостью!
Как видно из этой истории, доброжелательность занимает
довольно большое место в ощущениях, вызываемых гашишем;
это вялая, ленивая, немая доброжелательность, которая проис-
ходит от растроганности нервов. Опираясь на это наблюде-
ние, один человек рассказал мне о приключении, происшед-
шем с ним в состоянии такого опьянения, и, так как он в точ-
ности сохранил в памяти свои ощущения, я вполне представил
себе то нелепое, безвыходное положение, в которое поставила
его эта разница в диапазоне и уровне переживаний, о которой
я только что говорил. Я не помню, впервые ли он принял га-
шиш или нет; оказалась ли доза слишком сильной или нарко-
тик имел на него, без какой-либо другой видимой причины
(что часто случается), гораздо большее действие. Этот человек
рассказал мне, что сквозь его радость, эту высшую радость чув-
ствовать себя преисполненным жизнью и гением, он вдруг
увидел предмет ужаса. Очарованный красотой своих ощуще-
ний, он был внезапно напуган. Он спросил себя, что станет с
его интеллектом и органами, если это состояние, которое он
принял за сверхъестественное, усугубится, если его нервы все
более обострятся. Из-за способности к преувеличению, кото-
рой обладает духовное око больного, этот страх, должно быть,
стал невообразимо велик. “Я был, — говорит он, — как лошадь,
которая, закусив удила, несется в пропасть, хочет остановить-
ся и не может. Это и вправду был ужасный галоп, моя мысль,
рабыня обстоятельств, окружения, случая и всего того, что
только заключено в слове “случайность”, приобрела поистине
рапсодический поворот. Слишком поздно,— беспрестанно, в
отчаянии повторял я себе. Когда эта полоса чувств, которая ка-
залась мне бесконечно долгой, но которая, возможно, заняла
всего несколько минут, прошла; когда вслед за стадией неис-
товства я наконец ощутил в себе способность погрузиться в
красоту, столь милую восточным людям, меня постигло новое
101
горе. Новое, детски-тривиальное беспокойство обрушилось на
меня. Я вдруг вспомнил, что вечером приглашен на ужин в
компанию серьезных людей. Я увидел себя в окружении умной
и деликатной толпы, [де каждый владеет собой, принужден-
ным тщательно скрывать состояние своего духа, под светом
многочисленных ламп. Я считал, что мне это вполне удастся,
но почти изнемогал при мысли о тех усилиях воли, которые
мне придется употребить. Не знаю, по какому случаю, но сло-
ва из Евангелия: “Горе тому, чрез которого соблазн прихо-
дит!”— вдруг всплыли в моей памяти, и, желая забыть, силясь
забыть их, я беспрестанно повторял их в душе. Мое горе (то
было настоящее горе) приняло невиданные размеры. Несмот-
ря на слабость, я решил собраться с силами и обратиться в ап-
теку, ибо я не знал противоядия и хотел появиться в обществе,
куда меня призывал долг, со свободной, не обремененной ду-
шой. Но на пороге аптеки одна мысль внезапно захватила ме-
ня, задержав на несколько мгновений и заставив задуматься. Я
мимоходом взглянул на свое отражение в стекле витрины, и
мое лицо поразило меня: бледность, сжатые губы, расширен-
ные глаза! Из-за какой же глупости я иду тревожить честного
человека! Прибавьте к этому ощущение позора, которого я хо-
тел избежать, страх, что в аптеке окажутся другие люди. Но над
всеми чувствами преобладала моя внезапная доброжелатель-
ность к незнакомому аптекарю. Я представлял этого человека
столь же чувствительным, как я сам в эту прискорбную минуту,
и, так как я также вообразил себе, будто его слух и душа долж-
ны, как мои собственные, отзываться на малейший шум, я ре-
шил войти на цыпочках. Мне нужно быть сугубо деликатным,
говорил я себе, рассчитывая на милосердие этого человека. За-
тем я поклялся вслед за шагами приглушить голос: вы знаете
его, этот голос гашиша? грубый, глубокий, гортанный, очень
похожий на голос застарелых опиоманов. Полученный резуль-
тат был прямо противоположным желаемому. Решив успоко-
ить аптекаря, я встревожил его. Ему не было известно ничего
об этой болезни, он о ней никогда не слыхал. Между тем он
разглядывал меня с любопытством, к которому примешива-
лось сильное недоверие. За кого он принимал меня: за сума-
сшедшего, злоумышленника или нищего? Разумеется, ни за то-
го, ни за другого, ни за третьего; но все эти мысли посетили
меня: пришлось долго объяснять ему (надо ведь!), что такое
конфитюр из конопли и для чего он нужен, все время повто-
ряя, что это не опасно, что ему нет причины для беспокойства,
102
что мне нужно всего только средство смягчить или перебить
действие, упирая на свое чувство искреннего сожаления за
причиненное неудобство. В конце концов — представьте себе
все унижение, которое заключалось для меня в этих словах,—
он просто попросил меня уйти. Такова была награда за мое
преувеличенное сострадание и за доброжелательность. Я при-
шел на вечер и никому не доставил неприятности. Никто даже
не догадывался о тех сверхчеловеческих усилиях, которые по-
надобились мне, чтобы не отличаться от других. Но я никогда
не забуду мук поэтического опьянения, отягощенного благо-
пристойностью и чувством долга!”
Несмотря на естественное сочувствие мученику воображе-
ния, я не мог удержаться от смеха, слушая этот рассказ. Чело-
век, который рассказал мне его, не исправился. Он продолжал
требовать от проклятого конфитюра то возбуждение, которое
нужно искать в себе; но, как человек разумный, степенный,
светский, сократил дозы, что позволило участить прием нар-
котика. Позже он вкусит от гнилых плодов своей привычки.
Вернемся к обычному развитию опьянения. После первой
стадии детского веселья наступает как бы временное умиро-
творение. Однако вскоре новые события возвещают о себе
ощущением прохлады в конечностях (которая у некоторых
может даже превратиться в сильный холод) и чрезвычайной
слабости в членах; ваши руки становятся ватными, а в голове и
в самом существе своем вы ощущаете досадное отупение и
оцепенение. Ваши глаза расширяются; неумолимое возбужде-
ние словно тянет их во все стороны. Бледность покрывает ва-
ше лицо. Вы сжимаете и прикусываете губы с одышечным дви-
жением, присущим самолюбивому человеку, томимому высо-
кими целями, отягощенному глубокими раздумьями или соби-
рающемуся с духом для разбега. Горло слипается. Во рту сухо
от жажды, которую было бы бесконечно приятно утолить, если
бы прелесть неги не оказалась куда более сладкой и не проти-
вилась любому перемещению тела. Хриплый, глубокий шепот
исходит из вашей груди, словно ваше прежнее тело не в силах
выносить желания и жизнедеятельность вашей новой души.
Время от времени вы переживаете сотрясение, принуждающее
вас сделать невольное движение, как после напряженного дня
или бурной ночи, когда вздрагиваешь перед тем, как наконец
заснуть.
Прежде чем продолжить, я хочу в связи с ощущением свеже-
сти, о котором сказано выше, рассказать одну историю, при-
103
званную подтвердить, сколь разнообразно могут проявляться в
людях одни и те же явления, даже чисто физические. На сей
раз говорить будет литератор, признаки литературного темпе*
рамента которого можно, как мне кажется, уловить в первых
нескольких фразах его рассказа.
“Я принял умеренную дозу вязкого экстракта,— рассказы-
вал он мне,— и все шло как нельзя лучше. Болезненная весе-
лость продолжилась недолго, и я пришел в состояние неги и
удивления, которое почти равносильно счастью. Мне грезил-
ся спокойный, беспечный вечер. Но, к несчастью, волею слу-
чая мне выпало сопровождать кого-то на спектакль. Я принял
твердое решение скрыть свое огромное желание праздности и
покоя. Так как все экипажи в моем квартале оказались заняты-
ми, пришлось совершить длинный путь пешком, сквозь не-
стройный грохот экипажей, пустые разговоры прохожих, це-
лый океан тривиальностей. Легкая свежесть уже коснулась
кончиков моих пальцев; вскоре она преобразилась в весьма
чувствительный холод, словно я погрузил обе руки в ведро с
ледяной водой. Но это не причиняло мне страдание; это ост-
рое ощущение проницало меня скорее как некое наслажде-
ние. Между тем мне казалось, что по мере этого бесконечного
пути холод все больше овладевает мною. Я дважды или триж-
ды спросил человека, которого сопровождал, действительно
ли так холодно; он ответил, что, напротив, даже слишком теп-
ло. Устроившись, наконец, в театре, в ложе, которая предна-
значалась мне, и имея перед собой три или четыре часа отды-
ха, я посчитал, что достиг земли обетованной. Чувства, сдер-
живаемые мною в пути с той немногой энергией, которой я
мог располагать, вырвались на свободу, и я отдался на волю
своего тихого безумства. Холод все нарастал, хотя я видел лю-
дей, легко одетых или даже отирающих пот со лба. Меня за-
хватила счастливая мысль, что я избранник, которому дано
право испытывать холод летом в театре. Этот холод возрастал
с тревожной силой, но я был прежде всего исполнен любо-
пытством узнать, какой степени он может достигнуть. Нако-
нец, он достиг такой точки, стал таким совершенным, таким
полным, что все мои мысли как бы замерзли; я был думающим
куском льда; мне представлялось, будто я высечен из цельной
ледяной глыбы, и эта глупая галлюцинация вызывала во мне
гордость, возбуждала некое неописуемое моральное удовле-
творение. К моей странной радости добавлялась уверенность,
что служители не знают ни о моей природе, ни о превосход-
104
стве над ними; а какое счастье думать, что мой товарищ не мо-
жет даже предположить, какие причудливые ощущения захва-
тили меня! Моя скрытность была вознаграждена, и мое иск-
лючительное наслаждение для всех было тайной.
Кроме того, едва я вошел в ложу, как мои глаза поразило
впечатление мрака, который казался мне родственным с холо-
дом. Вполне возможно, что обе эти мысли по очереди занима-
ли меня. Гашиш, как вы знаете, всегда вызывает ощущение яр-
кого света, великолепного блеска, фонтана жидкого золота;
ему хорош всякий свет, будь то ровно струящийся или рассы-
пающийся блестками свет канделябров, восковых свечей на
празднике Богородицы или потоки розового, закатного света.
Казалось, ничтожная люстра театра расточала достаточно све-
та для удовлетворения этой неутолимой жажды ясности; мне
представлялось, как я уже говорил вам, будто я вступил в цар-
ство мрака, вдобавок постепенно сгущающегося; я воображал
себе полярную ночь и вечную зиму. Что же касается сцены (об-
ставленной для комедии), то освещенной была она одна, бес-
конечно маленькая и далекая, очень далекая, словно в огром-
ном стереоскопе. Не скажу вам, чтобы я слушал актеров: вы
знаете, что это невозможно; время от времени моя мысль ми-
моходом цеплялась за обрывок фразы и, подобно умелому тан-
цору, пользовалась им, как трамплином, чтобы ускакать в свои
далекие фантазии. Может показаться, что спектакль, слушае-
мый таким образом, не имеет логических связей; неправда — я
раскрыл весьма тонкий смысл в драме, созданной моим рассе-
янным состоянием. Ничто не удивляло меня, я был отчасти по-
хож на того поэта, который, впервые слушая “Эсфирь”, ничуть
не поразился тому, что Аман признается в любви царице. Это,
как вы догадываетесь, то место, когда он бросается к ногам Эс-
фири и молит о прощении за свои преступления. Если все дра-
мы слушать таким способом, то они окажутся просто прекрас-
ными, даже драмы Расина.
Актеры казались мне чересчур маленькими, со слишком
четкими очертаниями, как у Мейсонье. Я отчетливо различал
не только такие мельчайшие детали туалета, как рисунок на
ткани, покрой, пуговицы и тд., но даже полосу на лбу, отделя-
ющую накладные волосы, а также белый, голубой и красный
грим. И эти лилипуты были покрыты холодным, магическим
светом — как писаная маслом картина под тонким стеклом. Ко-
гда я наконец смог выбраться из этой пещеры ледяного мрака;
когда рассеялась моя внутренняя фантасмагория и я был пре-
105
доставлен самому себе, то я ощутил такую огромную усталость,
какой не испытывал ни от какой, сколь угодно долгой и напря-
женной работы”.
Именно на этой стадии опьянения проявляется новая тон-
кость, высшая обостренность всех чувств. Обоняние, зрение,
слух, осязание одинаково участвуют в этом процессе. Пизу ви-
дится бесконечность. В хаосе шума ухо слышит почти неразли-
чимые звуки. Вот здесь и начинаются галлюцинации. Предме-
ты внешнего мира медленно, постепенно принимают неверо-
ятные очертания; они искажаются и преображаются. Затем на-
ступает время раздвоения, ошибок и преображения мыслей.
Звуки раскрашиваются, краски озвучиваются. Вы можете ска-
зать, что это вполне естественно, и всякий поэтический ум в
своем здравом, обычном состоянии легко роэвдает эти анало-
гии. Но я уже предупреждал читателя, что в опьянении гаши-
шем нет решительно ничего сверхъестественного: просто эти
аналогии облечены в непривычную живость; они проницают,
наполняют, отягощают ум своим деспотичным характером.
Музыкальные ноты становятся цифрами, и если вы одарены
некоторыми способностями к математике, то мелодия, слыши-
мая гармония, сохраняя свой услаждающий, чувственный ха-
рактер, преобразуется в громоздкое арифметическое действие,
тде цифры порождают цифры, и вы отслеживаете его развитие
с непостижимой быстротой и легкостью счетной машины.
Иногда бывает так, что личность исчезает, и объективность,
свойственная поэтам-пантеистам, развивается в вас столь не-
померно, что созерцание предметов внешнего мира заставля-
ет вас забыть о своем собственном существовании, и вы скоро
сливаетесь с ними. Ваш взгляд останавливается на красивом
дереве, которое гнет ветер; через несколько секунд то, что в по-
этическом уме стало бы естественным сравнением, у вас ста-
новится реальностью. Вы изливаете дереву свои чувства, жела-
ния или тоску; его шум и дрожь делаются вашими, и вот вы —
дерево. Равным образом птица, парящая в небесах, преобра-
жает вначале извечное стремление воспарить над действи-
тельностью; и вот вы сами — птица. А вот вы сидите и курите.
Ваше внимание вскользь останавливается на сизых облачках,
которые исходят из вашей трубки. Идея испарения, медленно-
го, постепенного, вечного овладевает вашим умом, и скоро вы
относите эту идею к своим собственным мыслям, к своему мы-
слящему веществу. В силу невероятной ошибки, преображения
или мысленного qui pro quo вы чувствуете испарение самого
106
себя; вы приписываете своей трубке (в которой вместо табака
сидите вы в скрюченном, сжатом виде) странную способность
выкуривать вас.
К счастью, это бесконечная иллюзия длится не больше ми-
нуты, ибо в мгновение прозрения вы с огромным усилием су-
мели взглянуть на часы. Но вот вас захватывает поток новых
мыслей; он будет еще минуту вертеть вас в своем бурном водо-
вороте, эта другая минута станет еще одной вечностью, ибо
чувство времени и бытия совсем исказилось из-за огромного
числа и плотности ощущений и идей. Можно сказать, что за
час проживаешь несколько человеческих жизней — как в фан-
тастическом романе, который проживают вместо того, чтобы
написать. Связь между телесными органами и переживаниями
отсутствует, и именно поэтому это опасное занятие достойно
осуждения: в нем исчезает свобода.
Когда я говорю о галлюцинациях, не нужно понимать это
слово буквально. Между чистой галлюцинацией, которая часто
встречается во врачебной практике, и галлюцинацией или
скорее ошибкой чувств в том состоянии ума, которое вызыва-
ет гашиш, есть весьма тонкая разница. В первом случае галлю-
цинация внезапна, совершенна и неизбежна; более того, она
не имеет ни повода, ни объяснений в предметах внешнего ми-
ра. Больной видит формы и слышит звуки, которых на самом
Деле нет. Во втором случае галлюцинация развивается почти
произвольно; она не становится совершенной, ее созревание
зависит лишь от воображения. Наконец, у нее есть предлог.
Звук складывается в отчетливые слова, но он есть на самом де-
ле. йаз человека, опьяненного гашишем, видит странные фор-
мы, но, прежде чем стать странными или ужасными, эти фор-
мы были простыми и естественными. Энергичность, поистине
говорящая живость галлюцинации, вызванной опьянением,
нисколько не упраздняет изначальной разницы. Наша галлю-
цинация связана с окружением и настоящим временем, а чис-
тая галлюцинация — нет.
Для лучшего понимания этого буйства воображения, созре-
вания призраков и поэтических мук, к которым приговорен
мозг, отравленный гашишем, я приведу еще одну историю. На
сей раз рассказывать будет не праздный молодой человек, не
литератор, но дама — дама вполне зрелая, любопытная, спо-
собная увлекаться, которая, поддавшись желанию познако-
миться с ядом, описала другой даме главнейшие свои видения.
Я передаю ее рассказ буквально:
107
“Сколь бы причудливы и необычны ни были те ощущения,
которые я извлекла из своего двенадцатичасового безумия
(двенадцати или двадцатичасового — я не могу сказать), я ни-
когда больше к ним не вернусь. Духовное возбуждение при
этом очень сильно, последующая усталость очень велика, и на-
конец я нахожу в этой глупости нечто преступное. Но все-таки
я поддалась любопытству; к тому же это была общая затея у мо-
их старых друзей, где я не видела большого зла в том, чтобы
немного пожертвовать собственным достоинством. Преэвде
всего я должна сказать вам, что этот проклятый гашиш — пре-
коварная вещь. Временами кажется, что опьянение прошло, но
то лишь ложное успокоение: после передышки все повторяет-
ся снова. Именно в таком переходном состоянии я и находи-
лась около десяти часов вечера; мне казалось, что я избавлена
от этого переизбытка жизни, который, правда, доставил мне
много радости, но радость эта не обошлась без тревог и стра-
ха. Я с удовольствием, словно после долгого пути, села ужи-
нать: до тех пор я благоразумно воздерживалась от еды. Но не
успела я подняться из-за стола, как безумие схватило меня, как
кот мышку, и яд снова принялся играть с моей несчастной го-
ловой. Хотя я живу недалеко от замка моих друзей и к моим ус-
лугам был экипаж, я была столь подавлена необходимостью за-
снуть и избавиться от этого непреодолимого безумия, что с ра-
достью приняла предложение остаться до завтра. Вы знаете
этот замок;-часть, где живут хозяева, распланировали, обстави-
ли и укрепили на современный манер, но ту часть, где обычно
никто не живет, оставили так, как есть, в старом стиле и со ста-
рыми украшениями. Было решено, что мне постелят в старой
части замка, и для этого выбрали самую маленькую спальню,
вроде будуара, чуть выцветшего и расшатанного, что, впрочем,
не лишало его прелести. Мне нужно хоть как-то описать его,
чтобы вам было понятно необычайное видение, жертвой кото-
рого я стала; видение, занявшее целую ночь, где у меня не бы-
ло удовольствия замечать ход времени.
Этот будуар был очень маленьким и узким. На высоте кар-
низа начинался сводчатый потолок; стены были покрыты уз-
кими, длинными зеркалами, которые отделялись друг от друга
панно с нарисованными на них пейзажами в легком стиле. На
высоте карниза на всех четырех стенах были изображены ал-
легорические фигуры: одни — в покое, другие — в беге или в
палете. Поверх них было несколько ярких птиц и цветы. Поза-
ди фигур возвышалась решетка, нарисованная с обманкой и
108
повторяющая естественный изгиб потолка. Потолок покрыва-
ла позолота, поэтому все пространство мещду прутьями и фи-
гурами было золоченым, а в центре золото прерывало лишь
геометрическое сплетение обманчивой решетки. Как видите,
это несколько напоминает изящную клетку, изысканную клет-
ку для огромной птицы. Нужно добавить, что ночь была свет-
лой, прозрачной и такой полнолунной, что даже после того,
как я погасила свечу, изображения остались, освещенные не
моим внутренним оком, как можно вообразить, но этой свет-
лой ночью, отсветы которой падали на золоченые узоры, зер-
кала и пестрые краски.
Сначала меня поразило широкое пространство, открывав-
шееся сбоку, со всех сторон — чистые реки, в чьих спокойных
водах отражались зеленые пейзажи. Как вы догадываетесь, это
было навеяно отражением нарисованных пейзажей в зерка-
лах. Подняв глаза, я увидела заходящее солнце, похожее на
расплавленный, остывающий металл — золоченый потолок.
Но решетка наводила на мысль, что я нахожусь в какой-то
клетке или в доме, открытом со всех сторон, и что от всех этих
чудес меня отделяют лишь прутья моей великолепной тюрьмы.
Сперва я смеялась над своим впечатлением; но чем дольше я
смотрела, тем больше укреплялась мания, тем больше она на-
полнялась жизнью, плотью, деспотичной реальностью. Теперь
мной завладела мысль о заточении, которая, нужно сказать,
особо не мешала тем разнообразным удовольствиям, которые
я извлекала из спектакля, проходящего вокруг меня и надо
мной. Мне казалось, что я надолго, может быть, на тысячи лет
заключена в эту изысканную клетку на фоне феерических пей-
зажей, среди блистающих горизонтов. Я думала о “Спящей
красавице”, о грядущем искуплении, о предстоящем освобож-
дении. Над моей головой порхали яркие тропические птицы,
и, поскольку мне был слышен звук колокольчиков экипажей,
которые ездили вдалеке по тракту, оба впечатления сливались
воедино, и я приписывала эту таинственную песнь птицам —
мне казалось, что это они поют своими медными голосами.
Они конечно же смеялись надо мной и радовались моей нево-
ле. Резвые обезьяны, насмешливые сатиры, казалось, потеша-
лись над лежащей пленницей, приговоренной к неподвижно-
сти. Но мифологические божества взирали на меня с чарую-
щей улыбкой, словно призывая смиренно терпеть колдовство,
зрачки их глаз сверкали из-под ресниц, словно чтобы встре-
титься со мною взглядом. Я решила, что, если за мои старые
109
ошибки, за неведомые мне самой грехи я заслужила это вре-
менное наказание, я, однако, могу рассчитывать на милосер-
дие свыше, которое, приговаривая меня к благоразумию, пред-
лагало мне более строгие удовольствия, чем удовольствия кук-
лы, которыми заполнена наша юность. Как видите, нравствен-
ные соображения не были чужды моему видению; но нужно
признаться, что удовольствие созерцать эти формы, яркие кра-
ски, представлять себя центром фантастической драмы часто
вытесняло все прочие мысли. Это состояние длилось долго,
очень долго... До утра? Не знаю. Просто я вдруг увидела в сво-
ей комнате утреннее солнце; я сильно удивилась и, несмотря
на все усилия памяти, так и не смогла определить, спала ли я
или смиренно перенесла сладкую бессонницу. Только что бы-
ла ночь — как вот уже день! И однако же, я многое пережила, о!
очень многое... Ощущение или скорее измерение времени
пропало, ночь измерялась только количеством моих мыслей.
Сколь бы долгой она ни казалась с этой точки зрения, мне, од-
нако, представлялось, что она длилась всего несколько секунд
или что ее не было вообще.
Что же до моей усталости, то она была огромной. Говорят,
что одержимость поэтов и творцов напоминает то, что испы-
тала я, хотя я всегда считала, что люди, взявшиеся взволновать
нашу душу, должны быть наделены очень спокойным темпера-
ментом; но если поэтическое безумие похоже на то, что дос-
тавила мне чайная ложка конфитюра, я думаю, что удовольст-
вия публики дорого обходятся поэтам; я не без некоторого об-
легчения, прозаического удовлетворения наконец ощутила
возврат в свое я, в свое интеллектуальное я, то есть в действи-
тельность”.
Рассуждение поистине благоразумное! Но мы воспользуем-
ся рассказом нашей дамы лишь для того, чтобы извлечь спуда
кое-какие полезные замечания, которые восполнят наше весь-
ма общее описание ощущений, вызванных гашишем.
Рассказывая об ужине, она сказала, что он пришелся как
нельзя кстати, в то мгновение, когда временное просветление,
казавшееся окончательным, позволило ей вернуться в действи-
тельность. Как я уже говорил, перерывы и обманчивое затишье
и вправду бывают; гашиш часто вызывает дикий голод и почти
всегда - преувеличенную жажду. Но обед или ужин, вместо
окончательного отдыха, приносят возобновление действия,
головокружительный криз, на который жаловалась наша дама
и за которым следовал ряд волшебных видений, слегка окра-
110
шейных страхом, которым она предалась окончательно и по*
корно. Ужасный голод и жажду, о которых мы говорим, невоз-
можно утолить без некоторого труда, так как человек чувству-
ет себя настолько выше всего материального или скорее на-
столько подавлен своим опьянением, что ему нужно набраться
храбрости, чтобы взять в руки бутылку или вилку.
Окончательный криз, вызванный перевариванием пищи,
происходит очень бурно; с ним невозможно бороться, и такое
состояние было бы невыносимым, если бы продолжалось дол-
го и не уступило место другой стадии опьянения, которая в
упомянутом случае выразилась в дивных видениях, слегка пу-
гающих и одновременно полных утешения. Это новое состоя-
ние на Востоке называют кайфом. Нет больше ни шума, ни
смятения — наступает спокойное, неподвижное блаженство,
достославное упокоение. Вы уже давно не владеете собой, но
это больше не тревожит вас. Боль и ощущение времени пропа-
дают, а если и смеют проявиться, то как часть главного чувст-
ва, и против своей привычной формы они, как поэтическая
меланхолия в сравнении с настоящей болью.
Но прежде всего заметим, что в рассказе нашей дамы (я
привел его именно с этой целью) галлюцинация не является
настоящей: она берет начало в происходящем вовне; тут мозг,
как кривое зеркало, искаженно отражает свое окружение. Да-
лее мы видим вмешательство того, что я бы назвал нравствен-
ной галлюцинацией: наша дама представляет себя объектом
искупления; но женский темперамент, не склонный анализи-
ровать, не позволяет ей заметить удивительно оптимистичный
характер галлюцинации. Благосклонный взгляд олимпийских
богов живописуется типично гашишными красками. Я не могу
сказать, что нашу даму терзают угрызения совести; но ее мыс-
ли, на мгновенье подернутые меланхолией и сожалением, бы-
стро окрасились надеждой. Нам еще представится случай про-
верить это замечание.
Что же до усталости, то она и вправду велика, но проявляет-
ся не сразу, и вы вынуждены признать ее не без удивления.
Прежде всего, когда вы убеждаетесь, что на горизонте вашей
жизни встал новый день, вы испытываете поразительное об-
легчение; вам кажется, что невыразимая легкость духа взыгра-
ла в вас. Но вы едва держитесь на ногах, так как отголосок опь-
янения следует за вами и удерживает вас, словно оковы ваше-
го недавнего рабства. Ваши расслабленные ноги едва переста-
вляются, на каждом шагу вы страшитесь разбиться вдребезги,
111
как стекло. Огромное измождение (некоторые утверждают, что
оно не лишено прелести) охватывает вас, распространяясь по
телу, как туман по полям. На несколько часов вы не способны
ни к работе, ни к действию. Вот наказание за кощунственную
расточительность, с которой вы растратили свою нервную
энергию. Вы разбросали свою личность на все четыре сторо-
ны, и теперь сколько усилия нужно вам, чтобы собраться и со-
средоточиться!
IV
ЧЕЛОВЕКОБОГ
Пора оставить в покое все эти фокусы и больших марионе-
ток, рожденных из чадного, вздорного мозга. Поговорим о бо-
лее серьезных вещах: об изменении человеческих чувств —
словом, о нравственной стороне гашиша.
До сих пор я составлял краткую монографию опьянения,
ограничившись описанием основных его черт, особенно фи-
зических. Но, как мне кажется, духовному человеку важнее уз-
нать о воздействии гашиша на духовную часть человека, то
есть об изменении, искажении и преувеличении его обычных
чувств и нравственных представлений, которые в этой исклю-
чительной атмосфере претерпевают подлинное преломление.
Человек; который, долгое время предаваясь опиуму или га-
шишу, сумел, несмотря на слабость и привычку к своему рабст-
ву, найти в себе силы освободиться от него, представляется
мне беглым каторжником. Он внушает больше восхищения,
чем никогда не оступавшийся благоразумен, который всегда
тщательно избегал искушения. Англичане зачастую определя-
ют любителей опиума терминами, могущими показаться че-
ресчур сильными тем, кто не знает ужасов этого падения:
enchained, fettered, enslaved! И эти узы — узы долга, узы пре-
ступной любви — сотканы из газа, из паутины! Ужасная свадь-
ба человека с самим собой! “Я стал рабом опиума; он привязал
меня к себе, и вся моя работа, все мои планы окрасились в цвет
моих сновидений”, — говорит муж Лигеи; но в скольких других
прекрасных отрывках из Эдгара По, несравненного поэта, убе-
жденного философа, который всегда уместен в связи с загадо-
чными недугами души, описывается мрачный и соблазнитель-
ный блеск опиума? Эгей, любовник светлой Береники, расска-
зывает об изменении своих чувств, которое вынуждает его
112
приписывать ненормальную, извращенную ценность простей-
шим явлениям: “Неустанно размышлять часами, остановив
взгляд на какой-нибудь пустой фразе на полях или в тексте
книги; пребывать в задумчивости большую часть летнего дня,
сидя в причудливой тени, протянувшейся через обои или по-
толок; забываться на целую ночь, наблюдая пламя лампы или
угли очага; мечтать целыми днями в запахе какого-нибудь
цветка; монотонно повторять какое-нибудь заурядное слово,
пока от силы повтора его звук не погасит в уме какой бы то ни
было смысл, — вот некоторые из самых обычных и наименее
пагубных из моих умственных упражнений, аберраций, кото-
рые, разумеется, небеспримерны, но которые неподвластны
объяснению и анализу”. А чувствительный Опост Бедло, кото-
рый каждое утро перед прогулкой принимал свою дозу опиу-
ма, признается нам, что главная выгода, которую он извлекал
из своего ежедневного отравления, заключается в преувели-
ченном интересе к любым, даже тривиальнейшим вещам: “Ме-
жду тем опиум возымел свое обычное действие, которое состо-
ит в обострении интереса к внешнему миру. В дрожании лист-
ка, в цвете былинок, в форме клевера, в жужжании пчелы, в го-
рении бутона розы, во вздохе ветра, в смутных отголосках ле-
сных запахов преображался целый мир вдохновения, дивная,
пестрая череда разнородных и музыкальных мыслей”.
Так устами этих персонажей говорит повелитель страха,
царь тайны. Эти два качества опиума совершенно справедли-
вы и для гашиша; в обоих случаях ум, недавно свободный, ста-
новится рабом; но слово музыкальный, которое так хорошо
определяет поток мыслей, подсказанных и направленных
внешним миром и прихотью обстоятельств, гораздо ближе к
ужасной правде в случае гашиша. Здесь рассудок — это обло-
мок, брошенный на волю волн, здесь поток мыслей бесконеч-
но быстрее и музыкальнее. Думаю, можно вполне определенно
сказать, что гашиш действует гораздо более бурно, возбуждает
гораздо сильнее. Я не знаю, приведет ли десятилетнее отравле-
ние гашишем к тем же катастрофическим последствиям, что и
десятилетнее отравление опиумом; я просто говорю, что бли-
жайшие последствия гашиша более пагубны; если первый —
тихий соблазнитель, то второй — неукротимый демон.
В этой последней части мне хочется описать и дать анализ
нравственного разрушения, причиняемого опасным и сладо-
стным упражнением,— разрушения столь великого, опасности
столь глубокой, что те, кто возвращается из боя с легкими ра-
113
нениями, представляются мне храбрыми беглецами из пеще-
ры многоликого Протея, Орфеями, победившими ад. Тому, кто
сочтет мои выражения чрезмерно метафоричными, я скажу,
что яды-возбудители кажутся мне не только самыми чудовищ-
ными и вернейшими из всех средств в распоряжении Духа
Тьмы для приобретения и порабощения несчастного человече-
ства, но и одним из его самых совершенных воплощений.
На сей раз, чтобы облегчить свою задачу и прояснить ана-
лиз, я вместо приведения отдельных рассказов сосредоточу
свои наблюдения на одном вымышленном персонаже. Итак,
мне нужно выбрать подходящий склад души. В своей “Испове-
ди” Де Квинси не без основания утверждает, что опиум, вместо
того чтобы усыпить человека, возбуждает его, но делает это ес-
тественным для него образом, поэтому для оценки чудес опиу-
ма бессмысленно рассматривать какого-нибудь торговца ско-
том — он не увидит ничего, кроме скота и пастбищ. Словом, я
не собираюсь описывать тяжелые фантазии грузчика, опья-
ненного гашишем. Какое удовольствие это может доставить?
Кому будет охота читать это?
Для чистоты опыта я должен собрать все лучи в единую то-
чку, должен поляризовать их; и этой трагической точкой ста-
нет выбранная мной душа, подобная той, которая в XVIII веке
называлась чувствительным человеком, которую романтики
окрестили непонятым человеком и которой в буржуазных
семьях и среди буржуазии в целом обычно присваивают эпи-
тет оригинала.
Полунервный, полужелчный темперамент — вот что больше
всего благоприятствует развитию опьянения; добавим сюда об-
разование, занятия формой и цветом; нежное сердце, утомлен-
ное несчастьем, но еще готовое воспрянуть; мы даже, если угод-
но, готовы признать грехи прошлого и тот след, который они не-
минуемо оставили в легко возбудимой натуре,— если не угрызе-
ния совести, то по крайней мере, сожаление о бездарно растра-
ченном времени. Нелишне вспомнить увлечение метафизикой,
знание разных философских теорий о судьбе человеческого ро-
да, а также любовь к добродетели — добродетели абстрактной,
стоической или мистической, которая изображается во всех
книгах, составляющих пищу современного инфантилизма, как
предел устремлений возвышенной души. Если к этому добавить
утонченность чувств, которую я опустил как необязательное ус-
ловие, то, как мне кажется, мы получим полное собрание при-
знаков современного чувствительного человека, которое можно
114
назвать банальной формой оригинальности. Теперь посмотрим,
что станет с этой личностью, доведенной до крайности под дей-
ствием гашиша. Мы проследим весь путь развития человеческо-
го воображения до последнего, ослепительного алтаря, до веры
личности в свое собственное божество.
Если вы один из таких людей, то ваша врожденная любовь
к форме и цвету найдет себе обильную пищу на первой же ста-
дии опьянения. Краски становятся непривычно пронзитель-
ными, проницая мозг с победной силой. Тонкая, посредствен-
ная и даже безвкусная потолочная роспись вдруг оживает; гру-
бейшие обои на гостиничных стенах разворачиваются вели-
колепными диорамами. Пышнотслые нимфы смотрят на вас
большими глазами, которые глубже и чище небесных вод; ан-
тичные герои, облаченные в жреческие или военные доспехи,
обмениваются с вами простым, торжественно-доверительным
взглядом. В прозрачном языке гибкости линий вы прочитыва-
ете возбуждение и страстность души. Между тем происходит
переход в то загадочное, временное состояние, где глубина
жизни с ее бесчисленными проблемами со всей своей полно-
той предстает в зрелище (сколь бы естественным и тривиаль-
ным оно ни было) преображения предметов в говорящие сим-
волы. Фурье и Сведенборг, один — с его аналогиями, другой —
с соответствиями, воплощаются в нечто растительное и живот-
ное, что попадается на глаза, наставляя вас не голосом, но
формой и цветом. Способность к аллегории принимает в вас
невиданные размеры; мимоходом заметим, что аллегория, глу-
боко духовный прием, презираемый нами из-за бездарных ху-
дожников, но на деле являющий собой одну из самых простых
и естественных форм поэзии, обретает законную власть в ду-
ше, озаренной гашишем. Магическая кисть распространяется
на всю жизнь, окрашивая ее в торжественность и освещая глу-
бину. Зубчатые пейзажи, туманные горизонты, города, убелен-
ные мертвенной бледностью грозы или освещенные жаром за-
ходящего солнца; глубины пространства, напоминающие глу-
бины времени; танцы, жесты или реплики актеров, если вы по-
пали в театр; фраза, случайно прочитанная вами в книге, — все
мироздание, наконец, предстает перед вами в новой, доселе
неслыханной славе. Даже грамматика, скучнейшая грамматика
преображается в набор колдовских заклинаний; слова воскре-
сают в плоти и крови: существительное в своей величествен-
ной сущности; прилагательное в виде его прозрачного, лазур-
ного одеяния; глагол, ангел движения, как двигатель фразы.
115
Музыка, другой язык, милый слуху людей ленивых или глубо-
ких, ищущих отдохновения в смене деятельности, рассказыва-
ет вам о вас, читает поэмы о вашей жизни, внедряется в вас, а
вы сливаетесь с ней. Она говорит о вашей страсти, уже не смут-
но и расплывчато, как, бывало, скучными вечерами в опере, но
обстоятельно, уверенно, где каждый ритм соответствует опре-
деленному движению вашей души, каждая нота преобразуется
в слово, и вся поэма входит в вас, как живой словарь.
Не нужно думать, что все эти явления происходят в душе
беспорядочно, на фоне подчеркнуто кричащей действитель-
ности и внешнего разброда. Внутреннее око преображает и
облагораживает все предметы до полного удовлетворения ду-
ха. Именно на этой стадии повышенного наслаждения и чувст-
вительности возникает любовь к чистой воде, проточной или
стоячей, которая столь поразительно проявляется у какой-ни-
будь художественной натуры. Зеркала служат толчком для это-
го видения, напоминающего духовную жажду и происходяще-
го вместе с жаждой физической, о которой я говорил выше, бе-
гущая вода, игра воды, великолепные водопады, голубое про-
странство моря струится, поет, дремлет с невыразимым очаро-
ванием. Вода предстает подлинной обаятельницей, и, хотя я не
слишком верю в безумие, вызываемое гашишем, я не поручусь,
что созерцание чистой водной среды безопасно для духа,
влюбленного в прозрачность пространства, и что старинная
легенда об ундине не обернется для любителя трагичной ре-
альностью.
Мы, кажется, достаточно поговорили о чудовищном расши-
рении времени и пространства, этих двух взаимосвязанных
понятий, с которыми дух сталкивается без печали и страха. С
меланхоличным наслаждением смотрит он в глубину лет и
храбро бросается в бесконечность. Полагаю, что вы догада-
лись, что все чувства и мысли претерпевают это ненормаль-
ное, тираническое расширение, например благожелатель-
ность, достаточно хороший, как кажется, образец которой я
уже дал, или любовь. Идея красоты должна, естественно, занять
огромное место в том темпераменте, который я обрисовал.
Гармония, равновесие, размеренность движений представля-
ются человеку абсолютно необходимыми, должными не толь-
ко для всего тварного мира, но и для него самого, наделенного
на этой стадии криза поразительной способностью понимать
ритм всеобщего бессмертия. И если наш фанатик лично лишен
красоты, не думайте, что он долго страдает от очевидности
116
этого, что он взирает на себя как на диссонанс в мире гармо-
нии и красоты, созданном его воображением. Многочислен-
ные и удивительные софизмы гашиша в целом внушают опти-
мизм, а главнейший и самый действенный из них тот, который
преобразует желаемое в действительность. Во многих случаях
он присутствует и в обычной жизни — но здесь сколько в нем
жара и тонкости! Да и как может существо, столь одаренное
пониманием гармонии, своего рода жрец Прекрасного, быть
исключением и дырой в своей собственной теории? Нравст-
венная красота с ее силой, благодать с ее соблазнами, красно-
речие с его подвигами — все они вначале представляются ис-
правителями тайного уродства, затем утешителями и, наконец,
полными славословцами скипетра воображения.
Что же касается любви, то я слышал, что многие люди на
почве школярского интереса спрашивали об этом людей, иску-
шенных в употреблении гашиша. Что может произойти с лю-
бовным опьянением, и без того достаточно сильным в своем ес-
тественном состоянии, когда оно находится внутри другого опь-
янения, как солнце —внутри солнца? Вот вопрос, которым зада-
ется множество умов, называемых мною интеллектуальными
ротозеями. Вместо ответа на тайную, само собой подразумевае-
мую часть вопроса, которую я не смею произнести, я отошлю
читателя к Плинию, который, дабы рассеять многие ложные
представления, писал о некоторых качествах конопли. Кроме
того, известно, что вялость является обычным следствием зло-
употребления людьми своими нервами и веществами, их возбу-
ждающими. И, так как речь идет не о физической способности,
но о чувствах или чувствительности, я просто прошу читателя
учесть, что воображение человека, опьяненного гашишем, уси-
ливается в чрезвычайной степени, которую так же трудно изме-
рить, как и предельную силу ураганного ветра, а его чувства обо-
стряются до столь же трудно определимой степени. Поэтому мо-
жно представить, что легкое, невиннейшее прикосновение, на-
пример рукопожатие, может стократно возрасти от состояния
души и чувств и очень быстро привести к тому синкопу, кото-
рый на пошлом языке смертных зовется верхом блаженства. Од-
нако гашиш бесспорно пробуждает в воображении, занятом лю-
бовными темами, нежные воспоминания, облагороженные бо-
лью и страданием. Не менее очевидно, что умственное возбуж-
дение сильно смешивается с чувственным; и, наконец, для под-
тверждения безнравственного характера гашиша в этом вопро-
се довольно будет отметить, что секта исмаилитов (тех исмаи-
117
литов, которые вышли из Assassins) возвела женскую половину
своего символа до поклонения, далеко превосходящего покло-
нение бесстрастного Лингама,— до абсолютного, совершенного
культа. Поэтому нет ничего необычного (ведь каждый человек
является отражением истории) видеть, как непристойная ересь,
чудовищная религия возникает в сознании, отдавшемся на ми-
лость адского вещества и смеющемся над истощением своих
собственных сил.
Так как мы заметили, что при опьянении гашишем даже к
незнакомцам проявляется необыкновенная благосклонность,
своего рода филантропия, возникающая скорее от жалости,
чем от любви (здесь обнаруживается первый зародыш сата-
нинского духа, который затем развивается с чрезвычайной
быстротой), но доходящая до страха причинить какое-либо
неудобство, то можно представить, во что может превратиться
мельчайшая сентиментальность, обращенная на любимого че-
ловека, играющего или игравшего важную роль в нравствен-
ной жизни больного. Культ, преклонение, молитвы, счастли-
вые сны возникают и распаляются с преувеличенной силой, с
всплеском искусственного огня; как залпы салюта, они очаро-
вывают и тают во тьме. Нет такого чувственного предмета, к
которому раб гашиша не проникся бы нежной любовью. Жела-
ние быть покровителем, пылкое и преданное чувство отцовст-
ва может смешиваться с грязной чувственностью, которую га-
шиш всегда Найдет как объяснить и оправдать. Он даже идет
дальше этого. Мне кажется, что на грехи прошлого, оставив-
шие в душе горький след, муж или любовник (в нормальном
состоянии) взирают лишь с грустью, как на грозовой отголо-
сок прошлого; эта горечь может смениться сладостью; необхо-
димость прощать изгибает, смягчает воображение, и сами уг-
рызения совести в этой дьявольской драме, происходящей в
одном длинном монологе, могут возбуждать и подогревать
восторженность сердца. Да, угрызения совести! Разве я не прав
в том, что философскому сознанию гашиш представляется со-
вершенным орудием сатаны? Угрызения совести, непривыч-
ные для блаженства, скоро тонут в упоительном созерцании их
самих, в некоем сладостном анализе, столь скоротечном, что
человек, этот дьявол во плоти, выражаясь языком сведенборг-
цев, не замечает его вящей непроизвольности и ежесекундно-
го приближения к дьявольскому совершенству. Он восхищен
своими угрызениями, он прославляет его, одновременно теряя
свою свободу.
118
Так мой воображаемый человек, избранная мною душа дос-
тигает той степени радостного спокойствия, когда он принуж-
ден восхищаться собой. Все противоречия стираются, все фи-
лософские проблемы проясняются или, по крайней мере, ка-
жутся таковыми. Все дает пищу радости. Полнота жизни вызы-
вает преувеличенную гордость. Внутренний голос (увы, его
собственный!) говорит ему: “Теперь ты вправе считать себя вы-
ше всех людей; никто не знает и не может понимать того, что
думаешь и чувствуешь ты; они не способны оценить даже твою
благосклонность к ним. Ты царь, не узнанный прохожими, за-
творник своего убеждения — но что тебе до того? Разве в тебе
нет этого царственного презрения, столь облагораживающего
душу?"
Однако представим, что время от времени это счастье
пронзается и омрачается тягостными воспоминаниями. Извне
навеянная мысль может оживить неприятное прошлое. Сколь-
кими глупостями и подлостями, недостойными царя мысли и
порочащими его идеальное достоинство, исполнено прошлое?
Не сомневайтесь, что человек, опьяненный гашишем, храбро
сражается с призраками, исполненными упреков, и даже умуд-
ряется извлечь из своих гадких воспоминаний новые зерна
горделивой радости. Вот путь его рассуждений: после первого
болезненного ощущения он с интересом рассматривает свой
поступок или чувство, память о котором омрачила его нынеш-
нюю славу, причины, вызвавшие такое поведение, обстоятель-
ства, окружающие его, и, если он не находит в обстоятельствах
достаточного оправдания или по меньшей мере смягчения
своего греха, не думайте, что он побежден! Проследим за хо-
дом его рассуждений, как за работой открытого для глаз меха-
низма: “Этот нелепый, гадкий или подлый поступок, краткая
память о котором столь встревожила меня, полностью проти-
воречит моей подлинной природе, нынешней моей природе, и
само мое страстное осущение его, инквизиторское тщание
моего расследования и суда доказывают мое превосходство и
божественную склонность к добру. Сколько людей на свете мо-
гут так беспристрастно судить, так строго осуждать себя?” И он
не только осуждает, но славит себя. Едва ужасное воспомина-
ние поглощено созерцанием идеала добра, чистоты и гения,
как он искренне предается оргии духовного триумфа. Мы уже
видели, как, будучи одновременно исповедником и духовни-
ком, что кощунственно противоречит таинству исповеди, он
легко отпустил себе грехи или, что хуже, нашел в своем осуж-
119
дении новую пищу для гордости. Теперь из созерцания снов и
мыслей о добродетели он заключает о своей практической
склонности к добру; влюбленность, с которой он обнимает
призрак добродетели, кажется ему дост аточным, решительным
доказательством положительной силы, нужной для осуществ-
ления идеала. Он совершенно смешивает сон с действием, и
между тем, как его воображение все пуще подогревается чара-
ми собственной ретушированной, идеализированной души,
заменяя личность на соблазнительный образ ее самой, нищей
волей и богатой тщеславием, он наконец в апофеозе объявля-
ет ясно и просто то, что заключает для него целый мир гнус-
ных радостей: “Я, лучший из людей!”
Не напоминает ли это Жан-Жака, который после своей все-
ленской исповеди не без некоторого удовольствия испустил
столь же победный крик (по крайней мере разница была неве-
лика), с равной искренностью и убеждением? Для создания
превосходного представления о своих нравственных достоин-
ствах ему вполне хватило страсти, с которой он созерцал доб-
родетель, и размягченности нервов, наполнявших его глаза
слезами при виде доброго дела или от мысли обо всех добрых
делах, которые ему хотелось совершить. Жан-Жак опьянел и
без гашиша.
Стоит ли продолжать изучение этой сладостной монома-
нии? Нужно ли объяснять, как под влиянием яда наш знакомец
скоро сделался центром вселенной? как он стал утрированным
воплощением пословицы, говорящей, что страсть все подчи-
няет себе? Он так верит в свою добродетель и в свой гений, что
нетрудно угадать, к чему он придет. Все внешние предметы
внушают и возбуждают целый рой мыслей, еще более красоч-
ных, живых, безмерно изящных, окрашенных колдовскою ки-
стью. “Эти величественные города, говорит он себе, с декора-
циями из прекрасных зданий, великолепные корабли, в нос-
тальгической праздности качающиеся на рейде и будто пере-
дающие наши мысли: когда мы отправимся к счастью? — му-
зеи, исполненные чудесными формами и пьянящими краска-
ми, библиотеки с полным собранием трудов Науки и снов Му-
зы, многочисленные инструменты, говорящие в унисон, кол-
довские женщины, соблазняющие искусством туалетов и
скромностью взглядов,— все это создано для меня, для меня,
для меня! Для меня работало, страдало и умирало человечест-
во — для того, чтобы стать пищей, pabulum’oM моей неутоли-
мой жажды чувства, знания, красоты!” Не будем продолжать
120
yiy речь. Неудивительно, какая конечная, высшая мысль изы-
дет из мозга сновидца: “Я стал Богом!” — какой звериный,
страстный крик вырвется из его груди с такой силой, что, кабы
пьяная воля и убежденность обладали положительным дейст-
вием, этот крик поверг бы наземь небесных ангелов: “Я — Бог!”
Но скоро буря гордости спадет до умиротворенной, немой,
томной красоты, и всеобщность бытия окрасится и как бы ос-
ветится серной зарей. Если смутное воспоминание случайно
коснется души убогого счастливца — а нет ли другого Бога? —
то, поверьте, он воспрянет перед ним, объявит свою волю и
бесстрашно сразится с ним. Кто из французских философов,
смеясь над новыми немецкими доктринами, сказал: “Я бог, ко-
торый скверно пообедал”? Эта ирония не достигнет сознания,
восхищенного гашишем; оно спокойно ответит: “Возможно, я
скверно пообедал, но я Бог”.
V
МОРАЛЬ
Но завтра! ужасное завтра! расслабленность, усталость во
всех членах, размягченность нервов, судорожные приступы
слез, невозможность сколько-нибудь длительной работы жес-
токо указывают вам, что вы сыграли в запретную игру. Страш-
ная природа, лишенная давешнего яркого покрова, напомина-
ет грустные остатки пиршества. Более всего пострадала воля,
самое ценное качество. Говорят — и это почти правда,— что
наркотик не причиняет никакого телесного вреда, по крайней
мере тяжкого. Но можно ли говорить о благополучии или да-
же о телесном здравии человека, не способного к действию,
годного только на то, чтобы видеть сны? Мы достаточно изу-
чили душу человека, чтобы знать, что тот, кто может при по-
мощи ложки конфитюра заполучить себе все земные и небес-
ные блага, никогда не добудет и тысячной доли этого своим
трудом. Можно ли вообразить себе государство граждан, одур-
маненных гашишем? Хороши же граждане! хороши воины!
хороши законодатели! Даже на Востоке, где так распростране-
но использование наркотиков, некоторые правительства
осознали необходимость запретить их В самом деле, челове-
ку под страхом физического вырождения и духовной смерти
запрещено изменять первоначальные условия своего сущест-
вования и нарушать равновесие своих чувственных способно-
стей при помощи средств, предназначенных для расстройства
121
его судьбы и замены ее неизбежностью нового рода. Вспом-
ним замечательный символический образ Мельмота. Его ужа-
сные страдания происходят из-за несоответствия между его
чудесными способностями, приобретенными через союз с
дьяволом, и средой, в которой он, будучи Божьим созданием,
принужден жить. И никто из тех, кого он хочет искусить, не
согласен купить себе на тех же условиях его страшную приви-
легию. В самом деле, всякий человек, не принимающий усло-
вия жизни, продает свою душу. Легко проследить связь между
сатанинскими созданиями поэтов и живыми существами, об-
реченными принимать возбуждающие вещества. Человек за-
хотел стать Богом — и вот в силу неподвластного ему нравст-
венного закона он падает ниже, чем даже его собственная
природа. Эта душа продана без остатка.
Бальзак, несомненно, считал, что нет для человека худшего
стыда и острейшего страдания, чем отказ от своей воли. Я од-
нажды встретил его в собрании за обсуждением чудесного
действия гашиша. Знавшие его люди угадывали его интерес.
Но сама мысль о том, чтобы думать поневоле, его явно пугала.
Ему показали давамеск; он осмотрел его, понюхал и вернул,
даже не прикоснувшись. Его выразительное лицо удивитель-
ным образом выдавало борьбу между его почти детским лю-
бопытством и отвращением перед отказом от воли. Любовь к
собственному достоинству взяла верх. В самом деле, трудно
представить себе теоретика воли, духовного близнеца Луи
Ламбера, согласного принять в себя частицу этого драгоцен-
ного вещества.
Несмотря на замечательную службу, которую сослужили че-
ловеку эфир и хлороформ, мне кажется, что с точки зрения
философии духа это же нравственное клеймо ложится на все
современные изобретения, которые принижают свободу чело-
века и уменьшают необходимую боль. Я не без некоторого вос-
хищения выслушал однажды парадоксальный вывод одного
офицера, рассказавшего мне о тяжелой операции в Эль-Агуате
на одном французском генерале, который умер, несмотря на
хлороформ. Генерал этот был очень храбрым человеком, од-
ним из тех, кого можно по праву назвать рыцарем. “Ему был
нужен не хлороформ, — сказал офицер, — но взгляды всей ар-
мии и звуки полковой музыки. Тогда он, возможно, выжил бы”.
Хирург был иного мнения, чем этот офицер, зато капеллан, не-
сомненно, оценил бы такие чувства.
После всех приведенных соображений совершенно иэлиш-
122
не настаивать на безнравственном характере гашиша. Сравни
я его с самоубийством, с медленным самоубийством, с окрова-
вленным и вечно заостренным орудием — ни один рассуди-
тельный ум не возразит мне. Уподобь я его колдовству, чаро-
действу, стремящемуся через воздействие на материю и при
помощи пут, лживость и тем более силу которых невозможно
доказать, добыть власть, недозволенную человеку или позво-
лительную только достойным ее,— ни один философский ум
не осудит это сравнение. Церковь осуждает чародейство и кол-
довство ровно постольку, поскольку они противятся божест-
венным замыслам, устраняют работу времени и стремятся
обесценить требования чистоты и нравственности; и посколь-
ку она, Церковь, считает законными и истинными лишь те бо-
гатства, которые приобретены благонамеренным прилежани-
ем. Мы называем мошенником игрока, нашедшего средство
играть наверняка; как же назвать человека, желающего за не-
большую плату приобрести себе счастье и талант? Безнравст-
венность этого средства состоит в самой его надежности, как
предположительная надежность чародейства обеспечивает
ему адово клеймо. Нужно ли добавлять, что гашиш, подобно
всем радостям одиночки, делает человека бесполезным для ос-
тальных людей, а общество — ненужным человеку, повергая
его в беспрестанное самолюбование и день за днем приближая
к ослепительной бездне, в которой он любуется своим ликом
Нарцисса?
Но что, если ценой собственного достоинства, чести и сво-
боды воли человек все же мог извлечь из гашиша огромные ду-
ховные выгоды, превратить его в своего рода мыслительный
аппарат, в плодовитый инструмент мысли? Этот вопрос мне
часто доводилось слышать и я отвечаю на него. Прежде всего,
как я уже объяснял, гашиш не открывает в человеке ничего,
кроме самого человека. Правда, этот человек, так сказать, воз-
веден в куб и доведен до крайности, но так как он равным об-
разом уверен, что память о полученных впечатлениях сохра-
нится и после оргии, ожидание пользы на первый взгляд не ка-
жется ему лишенным смысла. Однако прошу заметить, что мы-
сли, из которых рассчитывают извлечь так много, на самом де-
ле не столь прекрасны, какими они кажутся под их преходящи-
ми нарядами, в их волшебной мишуре. Они ближе к земле, чем
к небу, и обязаны большей частью своей красы нервному воз-
буждению, алчности, с которой ум набрасывается на них. Да-
лее, само это ожидание представляет собой порочный круг. До-
123
пустим на время, что гашиш доставляет или по меньшей мере
усиливает талант; но мы забываем, что для гашиша характерно
подавление воли, и, сколько он дает с одной стороны, столько
же забирает с другой, то есть, полученным воображением
нельзя воспользоваться. Наконец, стоит подумать, представляя
себе человека достаточно целеустремленного и сильного, что-
бы удержаться от этой альтернативы, о другой, фатальной, чу-
довищной опасности, присущей любым привычкам. Все вско-
ре превращается в необходимость. Тот, кто прибегает к помо-
щи яда, чтобы думать, вскоре не сможет думать без яда. Пред-
ставляете себе страшную участь человека, скованное вообра-
жение которого больше не действует без помощи гашиша или
опиума?
В философских работах ум человека, повторяя движение
звезд, должен двигаться по кривой, которая приводит его к от-
правной точке. Закончить — значит замкнуть круг. В начале я
говорил о чудесном состоянии, когда человеческий дух оказы-
вается осененным особой благодатью; я сказал, что, желая бес-
конечного окрыления надежд и воспарения в бесконечность,
человек во всех странах и во все времена выказывал необуз-
данное пристрастие к любым веществам, даже опасным, кото-
рые, возбуждая его личность, могли мгновенно Воскресить в
его глазах этот дешевый рай, предмет всех его вожделений, и,
наконец, что этот отважный дух, увлекаясь, сам того не зная, до
адовых глубин, тем самым свидетельствовал о своем перво-
зданном величии. Но человек не настолько покинут, не на-
столько лишен честных средств для стяжания неба, чтобы быть
вынужденным взывать к лекарствам и колдовству; ему нет нуж-
ды продавать свою душу в уплату за ласки и расположение гу-
рий. Что стоит рай, приобретенный за счет здравия в вечно-
сти? Я представляю себе человека (брамина ли, поэта или фи-
лософа-христианина), возведенного на Олимп духовности; во-
круг него музы Рафаэля или Мантеньи, утешая за долгие посты
и прилежные молитвы, сходятся в благороднейшем танце, об-
ращают к нему нежнейшие взгляды и ослепительнейшие улыб-
ки; божественный Аполлон, многоопытный наставник (Франка-
виллы ли, Альбрехта Дюрера, Гольциуса или кого-то другого —
неважно; разве у каждого человека, достойного того, не может
быть своего Аполлона?) трогает своим смычком чувствитель-
нейшие струны. Под ним у подножия горы, в терниях и в гря-
зи, группа людей, свора рабов строит гримасы радости и ис-
торгает вой под жгучим действием яда; и опечаленный поэт
124
говорит сам себе: “Эти несчастные, не познавшие ни постов,
ни молитв, отказавшиеся от искупления трудом, вдут от чер-
ной магии средств возвыситься в мгновение ока до сверхъес-
тественного существования. Магия обманывает их, зажигая им
ложное счастье и ложный свет; а мы, поэты и философы, омо-
лодили свою душу упорным трудом и созерцанием; с помощью
прилежного упражнения воли и постоянного благородства ус-
тремлений мы создали себе сад подлинной красоты. Уверив-
шись, что вера передвигает горы, мы совершили единственное
чудо, на которое нас сподобил Господь!”
Любитель опиума
I
ОРАТОРСКИЕ ПРИЕМЫ
V/, праведный, тонкий и всемогу-
щий опиум! Ты даешь сердцам бедных и богатых бальзам для
неизлечимых ран и тревог, возмущающий дух — сиятельный
опиум! ты своими могучими речами затупляешь решимость
злобы и на одну ночь возвращаешь виновному человеку наде-
жды его юности и его прежние руки, незапятнанные кровно;
ты приносишь гордому человеку преходящее забвение
Вины без искупленья, обиды без отмщенья;
ты лжесвидетельствуешь на судище снов ради торжества не-
винности, принесенной в жертву; ты размываешь клятвопре-
ступления; отменяешь приговор неправедных судей; ты возво-
дишь на лоне мрака из воображаемых материалов сна и с бо-
лее глубоким искусством, чем Фидий и Пракситель, города и
храмы, превосходящие своим блеском Вавилон и Гекатомпи-
лос; а из хаоса сна, полного видений, ты извлекаешь на солне-
чный свет давно погребенные лики красоты, знакомые и бла-
гословенные лица, не поврежденные могилой. Только ты, ты
один даешь человеку все эти сокровища, и тебе принадлежат
ключи от рая, о, праведный, тонкий и всемогущий опиум!” Но,
прежде чем автор нашел в себе смелость издать в честь своего
любимого опиума этот страстный крик признания в любви,
сколько хитрости, сколько ораторских приемов было исполь-
зовано! Прежде всего это извечная оговорка тех, кому предсто-
ит сделать порочащее их признание и которые между тем поч-
ти решились угодить:
“Благодаря цели, на которую я его употребил, у меня есть
уверенность, что эти мемуары будут не просто занимательны-
ми, но и в значительной степени полезными и поучительны-
ми. Именно с этой надеждой я их письменно изложил, и это
извинит меня за нарушение осторожности и приличия, кото-
рые не позволяют большинству из нас выставить напоказ свои
собственные ошибки и слабости. Действительно, нет лучшего
средства потрясти английское здравомыслие, чем вид челове-
ческого существа, выставляющего на всеобщее обозрение
свои нравственные рубцы и язвы и сбрасывающего с себя по-
126
крывало целомудрия, в которое его облекло время или снисхо-
ждение к человеческой слабости”.
В самом деле, добавляет он, обыкновенно преступление и
страдание избегают взглядов публики и даже на кладбище укло-
няются от общества, словно они смиренно отреклись от всяко-
го права водить дружбу с большой человеческой семьей. Но в
случае Любителя опиума преступления нет — только слабость,
причем столь простительная! Так он доказывает в предваряю-
щей мемуары автобиографии; к тому же выгода для других, вы-
текающая из записей опыта, купленного такой дорогой ценой,
может в большой мере возместить насилие, совершенное над
целомудрием, и создать законное исключение из правил.
В этом обращении к читателю мы находим некоторые све-
дения о таинственном народе любителей опиума, нации со-
зерцателей, затерянной на лоне активного населения. Это про-
фессора, философы, лорд из высшего общества, заместитель
министра; если столь великое множество примеров, взятых из
высшего слоя общества, стало без особых усилий известно од-
ному-единственному человеку, сколь же ужасная статистика
может получиться по всему населению Англии! Три аптекаря
из удаленных кварталов Лондона утверждают (в 1821 году), что
число любителей опиума огромно и что вопрос отделения тех,
которые взяли его употребление в привычку, от тех, которые
желают приобрести его в преступных целях, представляет для
них каждодневную трудность. Но опиум уже докатился до ни-
зов общества, и в Манчестере по субботам после полудня при-
лавки продавцов наркотиков полны пилюль, приготовленных
в ожидании вечернего спроса. Для рабочих мануфактур опиум
имеет экономическую привлекательность, так как из-за сниже-
ния зарплаты пивное и другое алкогольное буйство стало до-
рогим удовольствием. Но не верьте, что, когда зарплата повы-
сится, английский рабочий бросит опиум и вернется к грубым
радостям алкоголя. Чары уже пущены в ход, воля покорена, и
воспоминание о наслаждении установит свое неизбывное гос-
подство.
Если грубые существа, доведенные до скотского состояния
каждодневной, унылой работой, могут найти в опиуме огром-
ное утешение, каково же его воздействие на тонкий, образо-
ванный ум, на пылкое, утонченное воображение, особенно ес-
ли оно прежде подверглось обработке плодоносящей болью —
на мозг, отмеченный трагической мечтательностью, touched
with pensiveness, по изумительному выражению нашего авто-
127
ра? Вот сюжет замечательной книги, которую я намерен раз-
вернуть перед глазами читателя, словно фантастический гобе-
лен. Разумеется, я многое пропущу; Де Квинси во многом от-
клоняется от своей темы; слово humourist относится к нему с
большим правом, чем к кому бы то ни было; в одном месте он
сравнивает свою мысль с тирсом, простой палкой, обязанной
всем своим видом и чарами сложному сплетению листьев, опу-
тывающих ее. Чтобы читатель не упустил ничего из трагичес-
ких картин, составляющих существо книги, и из-за ограничен-
ности места, которым я располагаю, мне придется, к большому
сожалению, опустить много занятных отступлений, много
изысканных рассуждений, непосредственно не относящихся к
опиуму, а просто иллюстрирующих характер любителя опиу-
ма. Между тем книга достаточно живо написана, чтобы дога-
даться о нем даже при столь сжатом изложении, даже по прос-
тому отрывку.
Сама книга (“Confessions of an English opium-eater, being an
extract from the life of a scholar”) состоит из двух частей: первая —
“Исповедь”; вторая, дополняющая ее — “Suspiria de profundis”.
Каждая из них делится на разделы, некоторые из которых я про-
пущу, являющиеся следствиями или приложениями. Разделение
первой части, исключительно простое и логичное, подсказано
самим сюжетом: “Предварительная исповедь”; “Прелести опиу-
ма”; “Муки опиума”. “Предварительная исповедь”, на которой я
собираюсь" остановиться немного подробнее, имеет легко уга-
дываемую цель. Нужно, чтобы читатель познакомился с персо-
нажем, полюбил и оценил его. Автор, задавшийся целью при-
влечь живое внимание к такому на первый взгляд скучному сю-
жету, как описание опьянения, стремится показать, до какой сте-
пени это оправданно; он хочет завоевать себе симпатию на
пользу всей книги. Наконец, и это очень важно, рассказ о неко-
торых событиях, возможно заурядных самих по себе, но тяже-
лых и серьезных по ощущению того, кто пережил их, становит-
ся своеобразным ключом к необычайным переживаниям и ви-
дениям, которые впоследствии станут осаждать ум автора. Не
однажды старец, склонившись над столиком в кабаре, видел се-
бя живущим в давно исчезнувшей обстановке; его опьянение
сделано из канувшей в былое юности. Также события, расска-
занные в “Исповеди”, заняли важное место в последующих ви-
дениях. Они воскресли, будто' сны, которые являются не чем
иным, как искаженными или преображенными воспоминания-
ми какого-нибудь тяжелого дня.
128
II
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИСПОВЕДЬ
Нет, не в поисках преступного и праздного наслаждения он
начал употреблять опиум, но просто для притупления боли в
желудке, последствия жестокой привычки голодать. Он познал
ужас голода со времени своей первой молодости, и к двадцати
восьми годам зло и средство против него впервые вошли в его
жизнь после довольно долгого периода счастья, спокойствия и
достатка. Обстоятельства возникновения этого рокового ужаса
вскоре станут известны читателю.
Будущий любитель опиума был семи лет от роду, когда умер
его отец, оставив его на попечение воспитателей, должных
обеспечить ему образование в различных школах. Способно-
сти к литературе, особенно к изучению греческого языка, про-
явились у него очень рано. В тринадцать лет он писал по-гре-
чески; в пятнадцать мог не только сочинять по-гречески стихи
в лирических размерах, но даже свободно, без затруднений го-
ворить, коей способностью был обязан каждодневной привы-
чке переводить с листа на греческий язык английские газеты.
Необходимость находить в памяти и в воображении разнооб-
разные конструкции для выражения абсолютно современных
идей и понятий на мертвом языке создала ему подручный сло-
варь, намного сложнее и объемнее того, который возникает
после тупого заучивания чисто литературных тем. “Этот маль-
чик, — говорил один из учителей, показывая его кому-то, — мо-
жет куда лучше выступить перед толпой афинян, чем вы или я —
перед толпой англичан”. К несчастью, нашего скороспелого
эллиниста забрали у этого замечательного учителя; пройдя че-
рез руки черствого педагога, обеспокоенного только, тем, как
бы ребенок не обнаружил его невежество, он был отдан на по-
печение хорошего, важного профессора, который также гре-
шил отсутствием порядочности и ни чем не напоминал пыл-
кую, искристую ученость первого. Плохо, когда ребенок может
судить своих учителей и ставить себя выше их. Ученики пере-
водили Софокла, а перед открытием класса усердный профес-
сор, archididascalus, проводил по заученной грамматике и лек-
сике чтение хором, убирая перед началом урока все трудные и
спорные места. Между тем наш юноша (ему исполнилось сем-
надцать лет) горел желанием поступить в университет, но
лишь впустую донимал этим своих опекунов. Один из них, че-
S—511
129
ловек добрый и благоразумный, жил очень далеко. Из остав-
шихся троих двое вверили свои полномочия в руки четверто-
го, и этот последний изображается самым упрямым и свое-
вольным ментором в мире. Наш предприимчивый юноша при-
нимает важное решение: сбежать из школы. Он написал пись-
мо одной очаровательной и сиятельной даме, несомненному
другу семьи, у которой он ребенком сидел на коленях, с прось-
бой выслать пять гиней. Вскоре пришел ответ, полный мате-
ринской благосклонности, и вдвое большая сумма. Так как в
его школьном кошельке было еще две гинеи, двенадцать гиней
казались огромным состоянием ребенку, не познавшему каж-
додневных потребностей жизни. Оставалось лишь совершить
побег. Следующий отрывок является одним из тех, которые я
не смею сократить. К тому же читателю полезно время от вре-
мени самому наслаждаться проникновенной, женственной ма-
нерой автора.
“Доктор Джонсон сделал одно весьма верное замечание
(притом глубоко чувственное, чего не скажешь обо всех его за-
мечаниях), что невозможно в последний раз без некоторой
сердечной грусти сознательно делать то, что давно привык де-
лать. Я глубоко ощутил справедливость этого, когда собрался
покинуть место, которое не любил и где не был счастлив. Вече-
ром накануне того дня, когда я должен был бежать, я с грустью
слушал звуки вечерней молитвы в старинной, высокой класс*
ной комнате, потому что слушал ее в последний раз; на пере-
кличке перед сном, когда мое имя было, как обычно, названо
первым, я вышел вперед и, проходя мимо присутствующего
при этом директора, поздоровался с ним; с интересом разгля-
дывая его лицо, я думал про себя: он стар и немощен, я никог-
да больше не увижу его на этом свете. Я оказался прав: больше
я его не видел и не увижу. Он любезно, с добродушной улыбкой
посмотрел на меня, поздоровался — вернее, распрощался — в
ответ, и мы расстались, к его неведению, навсегда. Я не мог не
чувствовать глубокое уважение к его уму; он всегда хорошо от-
носился ко мне, оказывал множество любезностей, и я страдал
при мысли об унижении, которое неминуемо наносил ему.
Наступило утро, когда я должен был броситься в мирское
море, утро, цвет которого в огромной мере окрасил всю мою
дальнейшую жизнь. Я жил в доме директора, где мне с самого
приезда выделили особую комнату, служившую одновременно
спальней и рабочим кабинетом. В три с половиной часа я
встал с постели и с глубоким волнением созерцал старинные
130
башни... озаренные первым светом, которые начали просту-
пать в ореоле безоблачного июньского угра. Я был тверд и не-
преклонен в своем замысле и, однако, томился смутным пред-
чувствием препятствий и невидимых опасностей; если бы я
мог предвидеть грозу, настоящий град несчастий, который
должен был вскоре обрушиться на меня, я был бы, наверно,
взволнован по-иному. Глубокая умиротворенность утра мягко
оттеняла мое беспокойство, почти излечивала его. Тишина бы-
ла глубже, чем ночью, а тишина утра трогает меня больше, чем
любая другая, так как свет, каким бы обильным и сильным он
ни был, хоть как полуденный свет в другие времена года, ка-
жется отличным от дневного прежде всего из-за отсутствия че-
ловека; поэтому мир природы и безгрешных Божьих созданий
кажется глубоким и прочным, пока присутствие человека с его
беспокойным, мятущимся духом не нарушило его святости. Я
оделся, захватил свою шляпу и перчатки и на некоторое время
задержался в своей комнате. Полтора года эта комната служи-
ла бастионом моих мыслей; здесь я проводил за чтением и
уроками долгие ночные часы; и, если уж сказать правду, в пос-
леднее время я, созданный для любви и нежных уз дружбы, по-
терял веселость и счастье в лихорадочной борьбе против сво-
его наставника; с другой стороны, такой юноша, как я, любя-
щий чтение, посвятивший себя духовным исканиям, не мог не
вкусить нескольких добрых часов даже посреди своего уны-
ния. Я не удержался от слез при взгляде на кресло, каминную
трубу, письменный стол и другие знакомые предметы, которые
я, наверно, больше не увижу. С тех пор до времени написания
этих строк прошло восемнадцать лет, и, однако, я даже в это
мгновение отчетливо вижу, будто это было вчера, очертания и
выражение того предмета, на котором я остановил прощальный
взгляд: это был портрет моей искусительницы...1, висевший
под каминной трубой, глаза и рот которой были столь прекра-
сны, а все лицо излучало столько доброты и божественной не-
возмутимости, что я тысячу раз ронял перо или книгу, испра-
шивая у этого образа утешение, словно богомолец у своего
святого покровителя. Пока я был поглощен созерцанием этого
образа, часы глубоким голосом возгласили четыре. Я потянул-
ся к портрету, поцеловал его и, тихо выйдя, навеки закрыл за
собой дверь!
' Возможно, той дамы, которая прислала ему десять гиней. (Примечание
Ш. Бодлера).
5*
131
Смешное и грустное так тесно переплетено и смешано ме-
жду собой в нашей жизни, что я не могу без улыбки вспомнить
один случай, который произошел следом и едва не заставил
отложить выполнение моего плана. У меня был непомерно тя-
желый чемодан, где помимо одежды хранилась почти вся моя
библиотека. Трудность состояла в том, чтобы донести его до
экипажа. Моя комната находилась в поднебесье, и, что хуже
всего, лестница, ведущая к этому углу здания, заканчивалась
коридором, который проходил мимо двери в комнату директо-
ра. Слуги любили меня, и, зная, что любой из них не откажет
мне в тайной помощи, я посвятил в свои затруднения лакея ди-
ректора. Он поклялся исполнить все, что хочу, и, когда насту-
пил решающий момент, он поднялся по лестнице за чемода-
ном. Я очень боялся, чтобы эта задача не оказалась непосиль-
ной для одного человека, но этот лакей был крепкий малый
С плечами как у Атланта, чтобы нести
1руз самых мощных из империй,
и со спиной широкой, как равнина Солсбери. Он взялся до-
нести чемодан сам, тогда как я в беспокойстве поджидал его в
конце последнего пролета. Некоторое время я слышал, как он
спускался твердым, медленным шагом; но к несчастью, из-за
своего волнения в связи с приближением к опасному месту в
нескольких шагах от коридора его нога поскользнулась, и тя-
желый груз, свалившись с его плеч, полетел по лестнице с та-
ким ускорением на каждом пролете, что, когда он достиг само-
го низа, он доехал или скорее с адским грохотом доскакал до
самой двери в спальню archididascalus’a. Моей первой мыслью
было то, что все погибло и что единственной возможностью
для отступления было пожертвовать багажом. Однако после
мгновенного размышления я решил дождаться конца проис-
шествия. Лакей был страшно напуган за себя и за меня; но, не-
смотря на это, невольное ощущение комичности досадного
события охватило его так сильно, что он разразился смехом,
но смехом долгим, оглушительным, безудержным, способным
пробудить Семерых Спящих. Звуки этой музыки веселья, зву-
чавшие в ушах самого оскорбленного начальства, заставили
меня присоединиться к ней не столько из-за досадной оплош-
ности с чемоданом, сколько из-за ее нервного воздействия на
лакея. Мы оба, естественно, ожидали, что доктор выскочит из
своей комнаты, так как обычно, заслышав хоть мышь, он вы-
прыгивал, как сторожевой пес из будки. Но — удивительное де-
132
до — в этом случае, когда раскаты нашего хохота стихли, из его
комнаты не донеслось ни звука, ни даже шелеста. Доктор стра-
дал болезненным недугом, который некоторое время мешал
ему спать, но который, когда ему удавалось заснуть, очевидно,
делал его сон глубже. Ободренный этой тишиной, лакей вновь
взвалил груз на свои плечи и достиг конца спуска без приклю-
чений. Я подождал, пока чемодан водрузят на тележку на его
пути к экипажу. Таким образом, без иного проводника, кроме
Провидения, я отправился пешком с маленьким свертком под
мышкой, где были кое-какие туалетные принадлежности, с то-
миком любимого английского поэта в одном кармане, а в дру-
гом — с томиком в одну двенадцатую листа, содержащим око-
ло девяти пьес Эврипида”.
Наш школяр тешился мыслью добраться до Вестморленда;
однако причина, которую он не объясняет нам, заставила его
изменить маршрут и двинуться в северную Галлию. Проведя
некоторое время в блужданиях по Денбигширу, Мерионетширу
и Кернарвонширу, он остановился в весьма подходящем ма-
леньком доме в Б..., откуда его вскоре изгнал случай, уязвив-
ший его юную гордость самым комичным образом. Хозяйка
дома служила у епископа не то гувернанткой, не то няней.
Обычно не только дети священников, но даже их прислуга
проникнута сугубой гордостью английского духовенства. В ма-
леньком городке, каким был Б..., сам факт проживания в семье
епископа уже, очевидно, считался своего рода отличием; поэ-
тому с уст добродушной дамы не сходили выражения вроде:
“Милорд сделал это, милорд сделал то; милорд был незаменим
в Парламенте, незаменим в Оксфорде..”. Возможно, она счита-
ла, что молодой человек должен был выслушивать эти речи не
без уважения. Однажды, когда она ушла выполнять свои обя-
занности перед епископом и его семьей, тот спросил о ее де-
лах. Узнав, что она сдает свое жилище внаем, уважаемый пре-
лат тут же посоветовал ей быть очень разборчивой в выборе
жильцов. “Бетти, — сказал он, — помните, что через это место
проходит большая дорога, ведущая в столицу, поэтому оно,
очевидно, призвано служить пристанищем для всяких ирланд-
ских мошенников, которые оставили долги на острове Мэн”. И
добродушная дама, с гордостью рассказывая о своей встрече с
епископом, не преминула добавить свой ответ: “О, милорд, я
не думаю, чтобы этот джентльмен был мошенником, посколь-
ку..”. — “Так вы не думаете, чтобы я был мошенником! — раз-
драженно воскликнул молодой человек — Отныне я избавлю
133
вас от необходимости думать о таких вещах”. И он поспешил
уйти. Бедная хозяйка была готова уступить, но, так как злость
принудила молодого человека выпустить в адрес епископа
весьма нелестные определения, примирение стало невозмож-
ным. “Я был и вправду возмущен тем, — говорит он, — с какой
легкостью этот епископ оклеветал человека, которого никогда
не видел, и мне хотелось тут же по-гречески высказать ему свое
мнение, которое, будучи доводом в пользу моей невиновности,
одновременно принудило бы епископа (на что я, по крайней
мере, надеялся) отвечать на том же языке; в чем я ничуть не со-
мневался, так это в том, что мне удастся доказать, что, хотя я не
столь богат, как его Преосвященство, я куда лучший эллинист.
Более здравые мысли вытеснили этот ребяческий замысел..”.
Снова начинается бродячая жизнь; но, странствуя от одно-
го постоялого двора к другому, он быстро истощил свой запас
денег. Пятнадцать дней ему приходилось ежедневно довольст-
воваться всего одним блюдом. Физические упражнения и гор-
ный воздух, сильно возбуждающие молодой желудок, весьма
усугубили тяготы его скудного питания, состоявшего из одно-
го чая или кофе. Наконец, даже чай и кофе сделались непозво-
лительной роскошью: за время всего своего пребывания в Гал-
лии ему пришлось жить исключительно на ягодах тутовника и
шиповника. Время от времени чье-нибудь гостеприимство,
будто праздник, скрашивает это существование анахорета, и
обычно он платил за это гостеприимство услугами писца. Он
выполнял секретарские обязанности для крестьян, имевших
родителей в Лондоне или Ливерпуле. Еще чаще это были лю-
бовные письма девушек, которые прежде работали служанка-
ми в Шрюзбери или в каком-либо другом городке на побере-
жье Англии и которые просили его написать к своим возлюб-
ленным, оставленным там. В книге есть даже трогательный
эпизод такого рода. В удаленной части Мерионетшира — Лан-
и-Стиндре — он немногим более трех дней жил у молодых лю-
дей, которые обходились с ним с милой сердечностью; четве-
ро сестер и трое братьев, все из которых говорили по-англий-
ски, были наделены от природы необычайной порядочностью
и красотой. Он написал письмо для одного из братьев, кото-
рый, прослужив на военном корабле, надеялся получить свою
часть трофеев, а также два тайных любовных письма для двух
сестер. Своей искренностью, природными дарованиями и це-
ломудренным стыдом, который проступал, когда они диктова-
ли свои указания, эти простодушные создания навевали мечты
134
о чистых и нежных грациях на гравюрах в подарочных кни-
гах. Он так хорошо справился со своим делом, что белокурые
девушки были просто очарованы его умением примирить тре-
бования их гордого целомудрия с тайным желанием высказать
самые сердечные слова. Но одним угром он заметил у них не-
обычайное смущение, почти печаль; это вернулись их преста-
релые родители, люди ворчливые и черствые, которых не бы-
ло дома из-за посещения ежегодного собрания методистов в
Кернарвоне. На все обращения к ним молодого человека они
отвечали не иначе, каю “Dym Sassenach” (no English). “Что бы
молодые люди ни говорили в мою пользу, я сразу понял, что
мой талант писателя любовных писем был для этих суровых
шестидесятилетних методистов столь же ничтожной рекомен-
дацией, как мои сапфические или алкеические стихи”. И из
страха, чтобы великодушное гостеприимство молодежи не об-
ратилось в руках огрубелых стариков в жестокое наказание, он
возобновил свое необычное странствие.
Автор не говорит нам, какие изобретательные средства по-
могли ему, вопреки его бедности, наконец достичь Лондона.
Однако здесь его бедность, доселе терпимая, определенно ста-
новится ужасной, превратившись в почти ежедневную агонию.
Вообразите себе шестнадцать мучительных недель постоянно-
го-голода, едва скрашиваемого крохами хлеба, ловко подоб-
ранными со стола человека, о котором мы будем говорить ни-
же; два месяца, проведенные под открытым небом; и наконец,
сон, нарушаемый бесконечными страхами и содроганиями.
Школярское предприятие и вправду стоило ему дорого. По на-
ступлении сурового времени года, будто впридачу к его стра-
даниям, хуже которых, казалось, не могло быть, ему удалось
найти кров, но какой! Человек, на завтраке которого он при-
сутствовал, где подбирал хлебные крошки (тот считал его
больным и не знал, что у него не было решительно ничего),
позволил ему ночевать в огромном пустом особняке, который
снимал. Из мебели в этой пыльной пустыне, кишащей крыса-
ми, был только стол и несколько стульев. Среди запустения, од-
нако, жила бедная девочка, не лишенная ума, но более чем
простая, определенно некрасивая и лет двенадцати на вид, ес-
ли только терзающий ее голод не состарил ее лицо презвде
времени. Была ли она простой служанкой или родной дочерью
упомянутого человека, автор так никогда и не узнал. Несчаст-
ная брошенная девочка была счастлива узнать, что отныне у
нее есть товарищ на черные ночные часы. Особняк был огром-
135
ным и особенно гулким из-за отсутствия мебели и ковров; за-
лы и лестницы были наполнены шумом крысиной возни. Из-за
физических страданий от голода и холода несчастная девочка
умудрилась приобрести воображаемое зло: страх перед приви-
дениями. Молодой человек пообещал охранять ее от них, что,
довольно весело добавляет он, “было единственной защитой,
которую я мог предложить ей”. Эти двое несчастных, истощав-
ших, голодных, дрожащих существ спали на полу, подкладывая
под голову пачки протокольных бумаг и укрываясь лишь ста-
рой кавалерийской шинелью. Позднее, однако, они нашли на
чердаке старый чехол от дивана, обрывок ковра и пару других
тряпок, которые дали им немного тепла. Бедный ребенок при-
жимался к нему, чтобы согреться и обезопасить себя от врагов
с того света. Когда он был болен не сильнее обычного, он брал
девочку на руки, и та, согретая братской близостью, часто так
и засыпала, тогда как он никак не мог уснуть. За два последних
месяца страданий он много спал днем — вернее, вдруг впадал
в забытье дурного сна, преследуемый бурными видениями; он
то просыпался, то засыпал, боль и страх резко прерывали его
сон, а истощение неудержимо нагоняло его вновь. Какому нер-
вному человеку неведом этот собачий сон, как эллиптически
сильно определяет его английский язык? Ведь нравственные
муки оказывают действие, сходное с физическими страдания-
ми, с голодом. Вы слышите свой стон; иногда вас будит собст-
венный голос; желудок беспрестанно сводит, словно губку,
сжимаемую сильной рукой; грудная клетка вздымается и опа-
дает; дыхание прерывается, а страх растет до тех пор, пока че-
ловеческая природа, найдя противоядие в самом обострении
боли, не изойдет криком, сотрясающим все тело, который на-
конец доставляет резкое облегчение.
Хозяин дома возвращался то неожиданно и очень рано, то
вовсе не приходил. Из страха перед судебными исполнителя-
ми он был все время настороже, и ему, как Кромвелю, прихо-
дилось всякий раз ночевать в другом месте, разглядывать в за-
мочную скважину лица тех, кто стучал ему в дверь, завтракать
в одиночестве одним чаем с кусочком хлеба или несколькими
печеньями, купленными по пути, и никого не приглашать к се-
бе. Именно во время этого чрезвычайно скромного завтрака
молодой человек под хитроумным предлогом находил возмо-
жность остаться в комнате и завязать разговор; затем он с как
можно более равнодушным видом собирал со стола остатки
хлеба; однако иногда ему не оставалось ничего. Все уже было
136
съедено. Девочку же никогда не допускали в хозяйский каби-
нет, если так можно назвать нагромождение бумажного хлама
и обрывков пергамента. В шесть часов этот загадочный персо-
наж снимался с места и закрывал свою комнату. Угром, при
первом же его появлении, девочка спускалась вниз, чтобы за-
няться своими обязанностями. С началом рабочего дня хозяи-
на юный бродяга уходил из дому блуждать по городу, сидеть в
парках или где-нибудь еще. К ночи он возвращался в свое за-
брошенное жилище, где с ударом молотка девочка, сбиваясь с
ног, бежала открывать ему дверь.
Уже в более зрелом возрасте, 15 августа, в день своего рож-
дения, в десять часов вечера автору захотелось бросить взгляд
на это пристанище его былых страданий. В ярком свете како-
го-то красивого салона он увидел людей, пьющих чай с самым
довольным видом,— странный контраст с мраком, холодом, ти-
шиной и запустением этого же здания, десять лет назад при-
ютившего у себя голодного студента и девочку-подкидыша.
Позднее он предпринял некоторые усилия, чтобы отыскать
след бедного ребенка. Выжила ли она? Стала ли матерью? От-
вета не было. Он любил ее, как товарища по несчастью, так как
она не была ни красивой, ни обаятельной, ни даже умной. Ни-
какой прелести, кроме человеческого лица — простой челове-
чности, доведенной до самого жалкого вида. Но, как говорил,
по-моему, Робеспьер своим холодно-жгучим языком, мерзлым
и ледяным, как абстракция: “Человеку всегда в удовольствие
глядеть на человека!”
Но кем был и чем занимался этот человек, жилец со столь
загадочными повадками? Он был одним из тех деловых людей,
какие есть в любом большом городе, погруженным в сложные
махинации, уклоняющимся от закона и отложившим свою со-
весть до лучших времен, благоприятных для этой обремени-
тельной роскоши. При желании автор, как он сам сообщает
нам, мог бы замечательно развлечься за счет этого несчастно-
го, рассказав нам забавные сцены, уморительные эпизоды; но
он пожелал предать забвению все, кроме одного: что этот че-
ловек, столь достойный презрения с других сторон, был всегда
любезен и даже щедр — по меньшей мере в пределах своих
возможностей. За исключением бумажного святилища, все ос-
тальные комнаты были отданы в распоряжение двоих детей,
которые каждый вечер имели, таким образом, огромный вы-
бор и могли на ночь разбить шатер где только им было угодно.
Однако у молодого человека была и другая подруга, о коей
137
пришло время сказать. Чтобы достойно передать следующий
эпизод, мне бы хотелось, образно говоря, одолжить перо у ан-
гела — до того целомудренной, искренней, сердечной и со-
страдательной кажется мне эта картина. “Во все времена, — го-
ворит автор, — я славился способностью говорить на равной
ноге more socratico с любым человеческим существом: мужчи-
ной, женщиной, ребенком — со всеми, с кем только меня мог
свести случай; эта привычка способствовала познанию чело-
веческой души, доброму расположению и внутренней свободе,
присущей человеку, желающему заслужить звание философа.
Ведь философ должен смотреть на мир не глазами несчастно-
го, ограниченного создания, полного узкоэгоистических пред-
рассудков, которое зовется светским человеком, но, напротив,
должен считать себя по-настоящему соборным существом, на-
ходящимся в равном общении и отношениях со всем, что есть
наверху или внизу: с людьми образованными и без образова-
ния, с виновными и с невинными”. Позднее мы обнаружим
этот дух всеобщего милосердия и братства — раздутый и уси-
ленный особенным свойством опьянения — среди радостей,
дарованных опиумом. На улицах Лондона — в еще большей
мере, чем в Галлии,— наш лишенный социальных предрассуд-
ков студент был своего рода перипатетиком, уличным филосо-
фом, находящимся в бесконечных раздумьях посреди сутоло-
ки большого города. Следующий эпизод может показаться не-
много странным для английского писателя, так как в британ-
ской литературе принято выставлять целомудрие едва ли не
напоказ; совершенно определенно, однако, что тот же самый
сюжет, приукрашенный французским пером, может быстро
обернуться в shocking, тогда как здесь нет ничего, кроме изя-
щества и приличия. Короче говоря, наш бродяга был связан
узами платонической дружбы с перипатеткой любви. Энн не
была одной из тех дерзких, ослепительных красавиц, чьи кол-
довские глаза блистают сквозь туман и которые делают ореол
из своего бесстыдства. Энн была совсем простым, обыкновен-
ным созданием, ограбленным и брошенным, как множество
других, доведенных предательством до нравственного паде-
ния. Однако она была наделена тем невыразимым изяществом,
изяществом слабости и доброты, которое Гете умудрился рас-
пространить на всех женщин своего воображения, сделав из
своей маленькой Маргариты с красными руками бессмертное
создание. Сколько раз во время унылых странствий по беско-
нечной Оксфорд-стрит, среди суматохи бурлящего большого
138
города голодный студент призывал свою несчастную подругу
просить помощи у магистрата от мерзавца, ограбившего ее,
предлагая ей положиться на его свидетельство и красноречие!
Энн была еще моложе, чем он: ей было всего шестнадцать лет.
Сколько раз она защищала его от офицеров полиции, которые
хотели изгнать его из домов, где он обитал! Однажды она сде-
лала больше того, бедный подкидыш: она и ее друг сидели на
ступеньках одного дома, мимо которого, как признается он, он
с тех пор никогда не мог пройти без того, чтобы у него не сжа-
лось сердце под гнетом воспоминаний, и без того, чтобы не
отдать должное памяти этой бедной и щедрой девушки. В тот
день он чувствовал себя слабее и болезненнее, чем обычно; но,
едва он присел, как боль, казалось бы, улетучилась. Он уронил
голову на грудь своей сестры по несчастью, как вдруг вы-
скользнул у нее из рук и навзничь упал на ступени крыльца.
Без сильного взбадривающего средства все было бы кончено
для него — по крайней мере он навсегда бы впал в состояние
непоправимой слабости. И на этом переломе судьбы потерян-
ное существо, познавшее в мире лишь оскорбления и неправ-
ду, протянуло ему дружескую руку. Она вскрикнула от ужаса и,
не теряя ни секунды, бросилась бежать по Оксфорд-стрит, вер-
нувшись почти тотчас же со стаканом пряного портвейна, ко-
торый оказал чудесное лечебное воздействие на пустой желу-
док, к тому же неспособный к приему твердой пищи. “О, моя
юная благодетельница! сколько раз в последующие годы, ока-
завшись в безлюдных местах и вздыхая о тебе с сердцем, испо-
лненным грусти и неподдельной любви, сколько раз я желал,
чтобы благословение признательного сердца тоже имело
сверхъестественное преимущество и силу, которую древние
приписывали проклятию отца, преследующего свою цель с не-
преодолимым упорством рока! — чтобы моя благодарность то-
же могла получить от неба способность неотступно преследо-
вать, гнаться за тобой, подстерегать тебя, захватывать врас-
плох, достигать тебя до самого густого мрака лондонских тру-
щоб или даже, если возможно, до мрака могилы, чтобы пробу-
дить тебя подлинной вестью мира, прощения и окончательно-
го примирения!”
Чтобы испытывать такие чувства, нужно много страдать, ну-
жно иметь одно из тех сердец, которые от страданий раскры-
ваются и смягчаются, а не закрываются и грубеют. Бедуин ци-
вилизации узнает в Сахаре больших городов довольно мело-
дий нежности, не слышимых уху человека, чувствительность
139
которого ограничивает home и семья. В подводном мире сто-
лиц, как в пустыне, есть нечто такое, что укрепляет и отшлифо-
вывает сердце человека, что укрепляет его иным образом, по-
ка оно не развращено и не ослаблено до нравственного паде-
ния и до самоубийства.
Однажды через несколько дней после вышеописанного слу-
чая он повстречал на Албемарл-стрит старинного друга своего
отца, который узнал его по наследственному сходству; он ис-
кренне, ничего не скрывая, ответил на все вопросы, но взял с
него слово не выдавать его опекунам. Напоследок он оставил
адрес своего хозяина, странного юриста. На следующий день
он получил в письме, которое последний исправно передал
ему, банкноту в десять ливров.
Читатель может спросить, почему юноша с самого начала не
искал выхода из нищеты, будь то постоянная работа или по-
мощь со стороны старинных друзей семьи. Что до этого пос-
леднего средства, то оно влекло за собой очевидную опасность.
Опекунов могли уведомить, а по закону они могли силой вер-
нуть юношу в школу, откуда он сбежал. Ибо со своей энергией,
которая часто встречается в самых женственных и чувствитель-
ных характерах, он скорее мог перенести любые лишения и
опасности, чем полагаться на столь унизительную возмож-
ность. И, кроме того, где найдешь этих друзей отца, умершего
десять лет назад,— друзей, имена многих из которых он забыл?
Что же до рабрты, то он, несомненно, мог бы получать сносную
плату за корректуру греческих текстов и чувствовать себя весь-
ма способным справиться со своими обязанностями образцо-
вым образом; но как представиться уважающему себя издате-
лю? Наконец, как он признается нам, ему никоща не приходи-
ло в голову, что литературный труд может сделаться источни-
ком какого-либо дохода. Чтобы выбраться из своего прискорб-
ного положения, он лелеял только одну мысль: взять в долг в
счет наследства, которое полагалось ему по праву. В конце кон-
цов он свел знакомство с какими-то евреями, темные дела кото-
рых обслуживал упомянутый юрист. Доказательство обосно-
ванности его надежд не вызывало труда: его заверения можно
было проверить по отцовскому завещанию в Doctor’s commons.
Однако оставался вопрос, совершенно неожиданный для него:
удостоверение личности. Он предъявил несколько писем, кото-
рые его сверстники-друзья — среди них граф... и даже его отец
маркиз... написали к нему во время пребывания в Галлии и ко-
торые он всегда носил в кармане. Наконец, евреи снизошли до
140
обещания ссудить две-три сотни ливров при условии, что
юный граф (бывший, заметим, не старше его) даст согласие по-
ручиться за возврат, когда придет срок. Как можно догадаться,
заимодавец хотел не только извлечь из сделки выгоду, весьма
маленькую для него, но и завязать знакомство с юным графом,
которому, по его сведениям, причиталось огромное наследство.
Так что, едва получив эти десять ливров, наш юный блудный
сын готовится к отъезду в Итон. Чуть позднее три ливра были
оставлены будущему заимодавцу в уплату за формальности; не-
которая сумма денег также отошла юристу за его немебелиро-
ванное гостеприимство; пятнадцать шиллингов были исполь-
зованы для наведения туалета (какого туалета!); наконец, не-
счастная Энн тоже получила часть этого достойного богатства.
Одним мрачным зимним вечером он направляется в сторону
Пикадилли в сопровождении бедной девушки с намерением
добраться до Солт-хилла на почтовом судне, идущем в Бри-
столь. Так как у них было еще свободное время, они зашли на
Голден-сквер и присели на уголке Шеррард-стрит, в отдалении
от суеты и огней Пикадилли. Он уверял, что не забудет ее и при-
дет на помощь, как только это ему станет возможно. В этом и
вправду был долг, даже повелевающий долг, и в это мгновение
он ощущал к этой сводной сестре нежность, умноженную со-
страданием, которое было навеяно его собственным крайним
измождением. Несмотря на все удары его здоровью, он был
сравнительно весел и полон надежд, а Энн была ужасно груст-
на. В минуту прощания она обвила руками его шею и молча за-
плакала. Он надеялся вернуться самое позднее через неделю, и
они договорились, что, начиная с вечера пятого дня, она еже-
дневно будет ждать его до шести часов в конце Грейт-Тичфилд-
сгрит, которая обычно служила им гаванью и пристанищем в
О1ромном море Оксфорд-сгрит. Таким образом, он посчитал,
что принял все меры предосторожности для того, чтобы не по-
терять ее; но он забыл одно: Энн так и не сказала ему свою фа-
милию или же, если она и сказала, то он позабыл это как нечто
мало важное. Изысканные дамы с большими претензиями,
большие читательницы романов любят называть себя мисс Ду-
глас, мисс Монтегю и тд., однако наиболее скромных из бед-
ных девушек знают лишь по именам, полученным при креще-
нии: Мэри, Джейн, Франсиз и тд. Кроме того, так как Энн в это
время страдала простудой и сильной хрипотой, то он, занятый
в эти критические минуты поиском лучших слов для утешения
и советами поберечь себя, совершенно позабыл спросить ее
141
фамилию, что было бы вернейшим средством отыскать ее след
в случае несостоявшейся встречи или долгого перерыва в их
сообщениях.
Я опускаю подробности путешествия, не примечательного
ничем, кроме нежности и доброты толстого эконома, на руках
которого наш герой от слабости и тряски экипажа уснул, слов-
но на груди кормилицы, и кроме долгого сна на открытом воз-
духе между Слау и Итоном, откуда ему пришлось возвращаться
назад, когда он внезапно проснулся на руках своего соседа, уже
в полном неведении миновав Солт-хилл на шесть или семь
миль. Достигнув цели своей поездки, он узнает, что юный лорд
больше не живет в Итоне. В отчаянии он просится на обед к
лорду Д., другому старинному другу, с которым, однако, состо-
ял в куда менее тесных связях. Это был первый приличный
стол, куда он был допущен за многие месяцы, а между тем он
не смог ни к чему прикоснуться. В Лондоне, в день получения
своей банкноты, он купил два маленьких хлебца в какой-то бу-
лочной, которую два месяца или шесть недель до того пожирал
глазами с таким вожделением, что вспоминал об этом почти с
унижением. Он, однако, заболел от столь вожделенного хлеба
и многие недели после этого не мог без опаски прикоснуться
ни к какой пище. Среди самой роскоши и комфорта его аппе-
тит исчез. Когда он объяснил лорду Д... плачевное состояние
своего желудка, тот, к его великой радости, велел принести ви-
но. Что же до подлинной цели путешествия, то он не добился
услуги, о которой собирался просить графа ... и о которой в
свою очередь просил лорда Д..., то есть последний, не желая
огорчать его полным отказом, дал согласие поручиться за не-
го, но на определенных условиях. Ободренный этим половин-
чатым успехом, он после трехдневного отсутствия возвращает-
ся в Лондон к своим знакомым евреям. К несчастью, заимодав-
цы отказываются принять условия лорда Д..., и его ужасное су-
ществование могло бы возобновиться, на это раз с худшими
последствиями, кабы в начале этой новой катастрофы, в силу
случайности, которая нам не объясняется, не нашелся выход
со стороны его опекунов и кабы полное примирение не изме-
нило его жизнь. Он поспешно покидает Лондон и наконец, че-
рез некоторое время, поступает в университет. Лишь спустя
много месяцев он смог вновь увидеть театр своих юношеских
мытарств.
Но что сталось с несчастной Энн? Каждый вечер он искал
ее; каждый вечер он ждал ее на углу Тичфилд-стрит. Он спра-
142
шивал о ней у всех, кто мог знать ее; в последние часы своего
пребывания в Лондоне он пустил в ход все средства, которыми
располагал, чтобы разыскать ее. Он знал улицу, ще она жила,
но не знал дома; кроме того, как он смутно помнил, еще до их
расставания ей пришлось съехать из-за грубости хозяина. Сре*
ди тех людей, к которым он обращался, одни по пылкости его
вопросов заключали о непристойности причин его поисков и
отвечали смешком; другие, сочтя это погоней за девушкой, ук-
равшей у него какую-нибудь ерунду, естественно, не желали
прослыть доносчиками. Наконец, перед окончательным отбы-
тием из Лондона он оставил свой будущий адрес человеку,
знавшему Энн лично, и, однако, больше никогда не слышал о
ней. Среди всех горестей его жизни это было самым тяжелым
несчастьем. Заметьте, что человек, говорящий нижеследую-
щее, это человек суровый, отличающийся как духовностью
своих взглядов, так и возвышенностью слога.
“Если она осталась жива, мы, должно быть, часто искали друг
друга в огромном лабиринте Лондона — возможно, всего в не-
скольких шагах друг от друга: для лондонской улицы такого рас-
стояния достаточно, чтобы разделить навеки! Несколько лет я
надеялся, что она жива, и я хорошо помню, что во время своих
поездок в Лондон я просмотрел множество женских лиц в наде-
жде встретить ее. Если бы я увидел ее хоть на мгновение, я бы уз-
нал ее и среди тысячи, так как, не будучи красивой, она отлича-
лась мягким выражением лица и особенно изящной манерой
нести голову. Я искал ее, повторяю, с надеждой. Да, искал года-
ми! Но теперь мне было бы страшно встретить ее, и эта ужасная
простуда, так испугавшая меня в минуты прощания, теперь доста-
вляет мне утешение. Я больше не хочу видеть ее; я грежу о ней —
и не без удовольствия — как о человеке, давно сошедшем в мо-
гилу,— хочу верить, в могилу Магдалины — восхищенной этим
миром прежде, чем оскорбления и жестокость исказили и выма-
рали ее детскую душу; прежде, чем грубость повес завершила ги-
бель той, которой они нанесли первые удары.
Вот я и избавился от тебя, Оксфорд-стрит, мачеха с камен-
ным сердцем, слышавшая вздохи сирот и выпившая слезы де-
тей! Настало время, когда я больше не осужден мучительно ме-
рять шагами нескончаемые тротуары, томиться ужасными сна-
ми или голодной бессонницей! Мы — я и Энн — имеем доволь-
но последователей, которые прошли нашими стопами, наслед-
ников наших бедствий, других воздыхающих сирот; другие де-
ти пролили свои слезы; а ты, Оксфорд-стрит, ты с тех пор эхом
М3
вторишь стонам бесчисленных сердец. Но та буря, которую я
пережил, казалась мне предвестницей долгой поры хорошей
погоды...”
Так неужели Энн исчезла? О, нет! Мы вновь повстречаем ее
в опиумных мирах; странным и преображенным призраком
она медленно возникнет из дыма воспоминаний, словно джин
из паров бутылки в “Тысяча и одной ночи”. Что же до любите-
ля опиума, то страдания детства пустили в нем глубокие корни,
которые станут деревьями, и эти деревья отбросят свою мрач-
ную тень на все окружение его жизни. Однако эти новые стра-
дания, предчувствие которых передается нам на последних
страницах автобиографической части, он перенесет с мужест-
вом и стойкостью зрелого духа, и они будут в огромной мере
смягчены глубочайшим и нежнейшим сочувствием. Эти стра-
ницы содержат благороднейшее воззвание и выражение са-
мой теплой благодарности к отважной спутнице, неустанно
сидящей у изголовья, на котором отдыхает мозг, терзаемый эв-
менидами. Орест опиума нашел свою Электру, которая многие
годы отирала с его лба пот ужасов и смачивала его губы, иссу-
шенные в лихорадке. “Ты была моей Электрой, милая спутница
моих последних лет! И ты не хотела, чтобы греческая сестра
взяла верх над английской супругой ни в благородстве духа, ни
в терпеливой любви!” Давно, в своей юношеской нищете, блу-
ждая по Оксфорд-стрит в полнолунные ночи, он часто устрем-
лял взгляд (что было его ничтожным утешением) на широкие
дороги, пересекающие самое сердце Марии-заступницы и ве-
дущие за город; и, путешествуя в мыслях по этим длинным пу-
тям, прерываемым светом и тенью, он говорил себе: “Вот доро-
га на север, вот дорога на..., и, имей я крылья горлицы, вот ку-
да бы я летел на поиски утешения!” Человек, как все люди, слеп
в своих желаниях! Ведь именно там, на севере, в том самом ме-
сте, в той самой долине, в том столь вожделенном доме он дол-
жен был найти себе новые страдания и весь реестр жестоких
призраков! Но там же пребывает Электра целебной доброты, и
пока он еще в задумчивом одиночестве слоняется по громаде
Лондона с сердцем, сжимаемым бесчисленными горестями,
требующими сладкого бальзама домашней ласки, глядя на ули-
цы, которые устремляются на север от Оксфорд-стрит, с мечта-
ми о своей возлюбленной Электре, ожидающей его в той са-
мой долине, в том самом доме, этот человек восклицает, как
некогда дитя: “О, имей я крылья горлицы, вот куда бы я поле-
тел на поиски утешения!”
144
Пролог завершен, и я, не убоявшись солгать, могу пообе-
щать читателю, что за занавесом откроется самое удивитель-
ное, изощренное и прекрасное из всех видений, которые ког-
да-либо вспыхнули на бумажном снегу от хрупкого орудия ли-
тератора.
III
ПРЕЛЕСТИ ОПИУМА
Как я уже говорил вначале, автор этих мемуаров пришел к
частому, а затем регулярному употреблению опиума в силу не-
обходимости облегчить страдания организма, ослабленного
злоключениями своей молодости. Он не отрицает и даже ис-
кренне признает, что непреодолимое желание вновь вкусить
от таинственной прелести, которая открылась ему с самого на-
чала, склоняло его к частому повторению опытов; он хочет в
этом иметь лишь извинение. Но первое знакомство автора с
опиумом состоялось при тривиальнейших обстоятельствах.
Однажды во время приступа зубной боли он счел причиной
своих страданий перерыв в гигиене, и, так как с детства при-
вык ежедневно окунать голову в холодную воду, то неразумно
1фибегнул к своей привычке, которая на сей раз оказалась
опасной. С мокрыми волосами он лег в постель. В результате
он получил сильную ревматическую боль в голове и в лице, ко-
торая длилась не менее двадцати дней. На двадцать первый
день, дождливым осенним воскресеньем 1804 года, бродя по
улицам Лондона, чтобы отвлечься от боли (это было его пер-
вым свиданием с Лондоном после поступления в университет),
он повстречал товарища, который посоветовал ему опиум. Че-
рез час после приема раствора опиума в количестве, пропи-
санном аптекарем, всякая боль исчезла. Но эта радость, в то
мгновение показавшаяся ему столь великой, была ничто по
сравнению с новыми удовольствиями, которые внезапно от-
мылись ему. Какой подъем духа! Какие внутренние миры! Не-
ужели это и есть панацея, pharmakon nepenthes, от всех чело-
веческих страданий?
“Великая тайна счастья, о которой столько веков спорили
философы, наконец-то бесповоротно открыта! Счастье можно
купить за грош и хранить в кармане жилетки; радость лежит в
пузырьке, а мир духа можно стяжать по желанию! Возможно,
читатель подумает, что я насмехаюсь, ко я издавна привык шу-
тить с горя и могу твердо сказать, что недолго смеяться тому,
145
кто завел дела с опиумом. Сама сущность этих удовольствий
сурова и торжественна, и даже на пике счастья любитель опи-
ума не может представляться allegro; даже тогда он говорит и
думает, как пристало penseroso".
Прежде всего автор желает снять с опиума некоторые наве-
ты: опиум не усыпляет — по крайней мере ум — и не пьянит: ес-
ли опийная настойка, принимаемая в чрезмерном количестве,
и может опьянить, то не из-за опиума, а по причине содержа-
щегося в ней спирта. Затем он приводит сравнение между дей-
ствием алкоголя и опиума с весьма четким определением раз-
ницы: наслаждение от вина идет по восходящей до предела,
после чего уменьшается, тогда как уже наступившее действие
опиума остается неизменным в течение восьми или десяти ча-
сов; первое дает острое наслаждение, последнее — хроничес-
кое; там пламя, здесь — равномерный и продолжительный жар.
Но главное различие коренится в том, что вино нарушает ум-
ственные способности, тогда как опиум возводит ум в состоя-
ние высшего порядка и гармонии. Вино лишает человека само-
контроля, а опиум делает контроль над собой более гибким и
размеренным. Всем известно, что вино дает сильнейший, но
краткий толчок презрению и восхищению, любви и ненавис-
ти. Опиум же сообщает чувствам глубокое ощущение дисцип-
лины и подобие божественного здравия. Напившиеся вина
клянутся в вечной дружбе, жмут руки и исходят слезами по ни-
кому не понятным причинам; при этом чувственная часть че-
ловека, вероятно, достигает своего апогея. А расточение доб-
родушия под действием опиума проходит без приступов; здесь
скорее наблюдается восстановление первоначальной доброты
и справедливости, воссоздание естественного состояния, сво-
бодного от всякой горечи, которая время от времени подрыва-
ет благородство духа. Наконец, сколь велики бы ни были пре-
имущества вина, можно сказать, что оно часто граничит с бе-
зумием или по крайней мере со странностью поведения и что
после определенного предела оно, так сказать, скрадывает и
расточает энергию ума; опиум же на первый взгляд всегда ути-
шает возбудимое и собирает расточаемое. Одним словом, при
посредстве вина господствует чисто физическая, зачастую да-
же грубая часть человека, тогда как любитель опиума вполне
ощущает, что очищенная часть его существа и его нравствен-
ные пристрастия достигли наибольшей гибкости и прежде все-
го что его ум приобрел утешительную, безоблачную ясность.
Автор также отрицает, будто за воодушевлением ума под
146
действием опиума непременно следует равнозначный упадок
и что использование этого наркотика порождает в качестве ес-
тественного и немедленного следствия застой и торможение
умственных свойств. Он утверждает, что на протяжении десяти
лет он на следующий день после разгула всегда пребывал в от-
личном умственном здравии. Что же до этого торможения, о
котором столько писалось и в которое верится прежде всего
по огрубению турков, то он утверждает, что никогда не знал
его. Вероятно, опиум, согласно своему определению, в конце
оказывает наркотическое действие; но вначале он всегда бод-
рит и воодушевляет человека, причем это возвышение духа
длится не менее восьми часов; поэтому это вина любителя
опиума, если он не рассчитал прием своего средства так, что-
бы вся тяжесть наркотического действия попала на естествен-
ный сон. Чтобы читатель сам мог судить о способности опиу-
ма притупить свойства английского мозга, автор приводит два
образца своих наслаждений и, решая этот вопрос скорее ил-
люстрациями, чем аргументами, рассказывает, каким образом
он между 1804 и 1812 годами часто проводил в Лондоне опи-
умные вечера. Он был тружеником и, заполняя все свое время
суровыми занятиями, считал, что, как все люди, имеет право
изредка искать облегчение и развлечения на свой собствен-
ный вкус.
“Бог даст, в ближайшую пятницу я предполагаю выпить”, —
говорил покойный граф де..., и наш автор также заранее уста-
навливал, когда и сколько раз в течение определенного време-
ни удариться в любимый разгул. Это случалось один раз в три
недели, иногда чаще, обычно вторничным или субботним ве-
чером, когда играли оперу. То было славное время Грассини.
Музыка ложилась на его слух не как простая логическая чере-
да приятных звуков, но как ряд знаковых memoranda, как на-
бор заклинаний, вызывающих на свет перед его внутренним
оком всю прожитую жизнь. Толкование и просвещение музыки
опиумом — вот в чем состоял его умственный разгул, высоту и
сочность которого легко может понять всякий хоть немного
утонченный ум. Многие спрашивают, какие положительные
мысли заключены в звуках; они забывают или скорее не знают,
что музыка, которая с этой стороны сродни поэзии, представ-
ляет собой чувства, а не мысли; разумеется, она наводит на мы-
сли, но сама не содержит их. Вся его жизнь, по его словам,
оживала в нем не усилием памяти, но как содержимое, вопло-
щенное в музыке; ее созерцание больше не было болезнен-
147
ным; всякая обыденность и грубость, присущая всему челове-
ческому, была либо исключена из этого таинственного воскре-
сения, либо растворена и утоплена в дымке идеальности, и его
былые страсти теперь оказались возвышенными, облагоро-
женными, одухотворенными. Сколько раз он должен был
вновь увидеть в этом ином театре, разожженном в его душе
опиумом и музыкой, дороги и холмы, которыми ходил он, бег-
лый школяр, и своих любезных хозяев из Галлии, и мрак впе-
ререз со светом на огромных улицах Лондона, и свои долгие
страдания, утешаемый Энн и надеждой на лучшее будущее!
Разговоры по-итальянски и мелодичность языка из женских
уст в зале во время антракта усиливали очарование вечера —
ведь всем известно, что незнание языка обостряет чувстви-
тельность слуха к его гармонии. Точно так же никто не может
лучше насладиться пейзажем, чем тот, кто видит его впервые,
когда природа предстает во всей своей необычности, еще не
затертой слишком частым взглядом.
Но иногда субботним вечером другое искушение с еще бо-
лее необычным и не менее колдовским вкусом брало верх над
его любовью к итальянской опере. Это удовольствие, достато-
чно заманчивое, чтобы поспорить с музыкой, можно назвать
дилетантизмом в благотворительности. Наш автор пережил
несчастья и суровые испытания, совсем молодым оставшись
наедине с безразличным потоком огромного города. Даже ес-
ли бы его душа не была, как мог заметить читатель, доброй,
тонкой и любящей, то и тогда можно было легко предполо-
жить, что за долгие дни своих скитаний и еще более долгие
тоскливые ночи он должен был полюбить и пожалеть бедня-
ков. Бывший школяр желает снова увидеть эту жизнь унижен-
ных; хочет проникнуть в самое сердце этой обездоленной мас-
сы, и, как пловец обнимает море и теснее сближается с приро-
дой, он стремится, так сказать, принять омовение толпы. Здесь
тон повествования достигает такой высоты, что я должен усту-
пить место самому автору:
“Это удовольствие, как я уже сказал, могло состояться толь-
ко субботним вечером. Чем же отличался субботний вечер от
вечера любого другого дня? От каких трудов я должен был от-
дохнуть? Какую награду получить? И что еще должно занимать
меня в субботний вечер, кроме приглашения послушать Грас-
сини? Действительно, мой весьма логичный читатель, все, что
вы говорите, неопровержимо. Но люди по-разному проявляют
свои чувства, и если большинство из них показывает интерес
148
к беднякам, так или иначе сочувствуя их бедам и горестям, то я
в то время был расположен выражать свои интерес, сочувствуя
их удовольствиям. Я недавно видел скорби нищеты; я доволь-
но повидал их, чтобы любить освежать свои воспоминания; но
радости бедняка, утехи его души, расслабления его телесной
усталости никогда не бывают болезненными для созерцания.
Субботний вечер означает для бедняка периодический возврат
к отдыху; самые враждебные друг другу секты сходятся на этом
и признают эту точку братского соединения; в этот вечер поч-
ти весь христианский мир отдыхает от трудов. Этот отдых слу-
жит введением в другой отдых; целый день и две ночи отделя-
ют его от недавней усталости. Именно поэтому субботним ве-
чером мне всегда кажется, что я сам освободился от ярма тяже-
лой работы, что я должен получить мзду и что я заслужил пра-
во насладиться роскошью отдыха. Чтобы как можно шире ох-
ватить зрелище, которому я столь глубоко сочувствовал, я суб-
ботним вечером после приема опиума имел обыкновение, не
заботясь о выборе дороги или длине пути, забредать далеко в
сторону всех рынков, где только собирались бедняки, чтобы
истратить свой заработок. Я выслеживал и подслушивал не од-
но семейство, состоящее из мужчины, женщины и одного-
двоих детей, когда они обсуждали планы, средства, возможно-
сти своего бюджета или цены на обиходные товары. Постепен-
но я узнавал их желания, затруднения или мнения. Несколько
раз мне приходилось слышать недовольное бурчание, но чаще
всего их лица и слова выражали смирение, надежду и безмяте-
жность. И на сей счет я должен сказать, что в целом бедняк ку-
да больший философ, чем богач, когда выказывает более ско-
рую и более живую покорность тому, что он считает непопра-
вимым злом или невозвратной утратой. Всякий раз, когда вы-
падал случай или когда это можно было сделать без страха по-
казаться навязчивым, я вмешивался в их разговор и высказы-
вал свое мнение по обсуждавшемуся поводу, которое, хотя не
всегда было рассудительным, всегда благосклонно принима-
лось. Когда повышались заработки или когда ожидалось их
скорое повышение; когда фунт хлеба становился чуть дешевле
или когда разносился слух, будто лук и масло скоро подешеве-
ют, я чувствовал себя счастливым; но когда случалось против-
ное, я извлекал из опиума утешение. Дело в том, что опиум
(подобно пчеле, которая без разбора извлекает нужное себе и
из розы, и из печной сажи) обладает искусством покорять се-
бе все чувства и приводить их в порядок. Некоторые прогулки
149
заставляли меня покрывать большие расстояния — любитель
опиума слишком счастлив, чтобы наблюдать бег времени. А
иногда в попытке вернуться на прежний курс, устремляя
взгляд по всем правилам навигации на полярную звезду в че-
столюбивом поиске своего северо-западного прохода и во из-
бежание повторного огибания всех мысов и отрогов, которые
встретились мне во время первого путешествия, я внезапно
вступал в лабиринт переулков, в загадочный мир тупиков, в
проблемы никуда не ведущих улиц, созданных, чтобы глу-
миться над мужеством носильщиков и сбивать с толку извоз-
чиков. Временами мне начинало вериться, что я только что
открыл, первым из всех, несколько terrae incognitae, и я сом-
невался, отмечены ли они на современных картах Лондона.
Но по прошествии нескольких лет я заплатил жестокую плату
за все эти фантазии — теперь, когда человеческое лицо деспо-
тически вторглось в мои сны и когда мои рассеянные блужда-
ния по громаде Лондона повторились во сне с ощущением
нравственной и умственной растерянности, смутившей мой
разум и встревожившей мою совесть...”
Таким образом, опиум вовсе не обязательно порождает без-
действие или заторможенность, напротив, он часто ввергал
нашего мечтателя в самую бурную сердцевину общественной
жизни. Однако театры и рынки обыкновенно не являются из-
любленными темами любителя опиума, особенно когда он на-
ходится в состоянии совершенной радости. Толпа тяготит его;
сама музыка приобретает грубый, чувственный характер. Он
больше ищет уединения и тишины как обязательных условий
своих экстазов и глубоких сновидений. Если вначале автор сей
исповеди и бросался в толпу, в людской поток, то это было его
реакцией на слишком живую склонность к мечтаниям и к чер-
ной меланхолии, плоду его юношеских невзгод. В своих науч-
ных изысканиях, как и в обществе людей, он искал спасения от
своего рода ипохондрии. Позднее, котда восстановилась его
истинная сущность и рассеялся сумрак давних гроз, ему каза-
лось, что он может безбоязненно пожертвовать всем этим ра-
ди вкуса к уединенной жизни. Не раз ему случалось летом про-
водить напролет прекрасную ночь, сидя у окна с заката до вос-
хода солнца, без движения и даже без побуждения переменить
место, наполняя взгляд огромным пространством моря и боль-
шого города, пребывая в долгих и сладких раздумьях, навеян-
ных этим зрелищем. Великая природная аллегория простира-
лась перед ним:
150
“Город в пелене дымки и мягкого ночного света преобра-
жал собою землю с ее печалями и могилами, находящимися
далеко внизу, но не совсем забытыми и не выпавшими из мое-
го взгляда. Океан с его вечным дыханием, но осененный глубо-
ким покоем, являл собой мою душу и то влияние, которое уп-
равляло ею. Казалось, я впервые был удален и находился вне
шума жизни; что грохот, лихорадка и борьба приостанови-
лись; что тайные тяготы сердца получили передышку, выход-
ной день, избавление от всякой людской работы. Надежда, цве-
тущая на дорогах жизни, больше не противоречила покою,
обитавшему в могилах, движение моего ума казалось мне
столь же неустанным, как сами небеса, и, однако же, всякое
беспокойство было приглушено алкиониным покоем; это спо-
койствие казалось итогом не бездействия, но величественного
противостояния равномогущих сил — беспредельность дейст-
вия, беспредельность отдыха!
О, праведный, тонкий и всемогущий опиум!.. Тебе принад-
лежат ключи от рая!..”
Здесь и возникают эти странные проявления благодарно-
сти, заверения в признательности, которые я вынес в начало
своего труда и которые могли бы служить эпиграфом к нему.
Это словно букет, оставшийся от праздника. Скоро благолепие
рухнет, и грозы соберутся в ночи.
IV
МУКИ ОПИУМА
Его первое знакомство с опиумом состоялось в 1804 году. С
тех пор минуло девять счастливых, облагороженных трудами
лет. Чем же теперь занят наш герой (он, конечно, заслуживает
это имя), живя в затворничестве вдали от Оксфорда, в глубине
горной страны? Употреблением опиума! Чем еще? Изучением
немецкой метафизики, чтением Канта, Фихте, Шеллинга.
Замкнувшись в небольшом особняке с прислугой в лице од-
ной-единственной служанки, он проводит часы в созерцании
и покое. Не женат? Пока нет. И все время употребляет опиум?
Каждый субботний вечер. И эта беспечная жизнь длится с того
самого злосчастного, дождливого воскресенья 1804 года? Увы,
да! Что же сталось со здоровьем после такого долгого и регу-
лярного злоупотребления? По его собственному утверждению,
никогда прежде он не чувствовал себя лучше, чем весной 1812
года. Заметим, что до настоящего времени он был всего лишь
151
дилетантом и опиум еще не превратился для него в ежеднев-
ную потребность. Дозы всегда были умеренными и благора-
зумно принимались с промежутком в несколько дней. Возмож-
но, это благоразумие и умеренность отсрочили приход страш-
ного возмездия. В 1813 году для него началась новая эпоха. За
год до этого, летом, какое-то болезненное событие, в которое
он нас отказывается посвящать, так нарушило его душевное
состояние, что это не могло не сказаться и на телесном здоро-
вье; с 1813 года он страдает ужасным расстройством желудка,
удивительно напоминающим его страдания в беспокойные
ночи, проведенные в глубине прокурорского дома, которые
преследовали его во всех его прежних мучительных снах. Вот
оно что! К чему распространяться об этом рецидиве и в подроб-
ностях описывать все приступы? Борьба была долгой, боли —
изнурительными и ужасными, а спасение — всегда рядом, на
расстоянии вытянутой руки. Я не боюсь сказать всем жажду-
щим бальзама, эликсира от ежедневного страдания, расстраи-
вающего течение жизни и посрамляющего все усилия воли,—
всем им, страдальцам духа, страдальцам тела, я скажу: кто из
вас без греха, первый брось камень в нашего больного! Таким
образом, все прояснилось; кроме того, он умоляет поверить,
что он не мог поступить иначе, как начать принимать опиум
ежедневно: это было нужно, необходимо, без этого не было
жизни. И потом, разве так уж много храбрецов, которые умеют
упорно, ежеминутно набираясь новых сил, сражаться с болью,
с мукой, не знающей ни отдыха, ни усталости, за один только
далекий призрак освобождения? Кажущаяся доблесть и упор-
ство не заслуживают столь уж великой похвалы, потому что
тот, кто сопротивляется малое время, может истратить за это
малое время огромное количество скрытой энергии. Разве че-
ловеческий темперамент не столь же бесконечно разнообра-
зен, что и дозы химических веществ? “В том состоянии нерв-
ного расстройства, в котором я нахожусь, бесчеловечный мо-
ралист мне противен не меньше, чем несваренный опиум!”
Прекрасное, бесспорное замечание! Ведь речь идет не о смяг-
чающих, но об оправдывающих обстоятельствах
Таким образом, кризис 1813 года имел выход, который
нетрудно угадать. С этих пор спрашивать нашего отшельника,
принимал ли он в такой-то день опиум или нет, было бы все
равно что осведомиться, дышали ли в этот день его легкие, ра-
ботало ли его сердце. Конец посту, конец рамадану, конец воз-
держанию! Опиум стал частью жизни! Незадолго до 1816 года —
152
по его собственным словам, прекраснейшего, светлейшего го-
да в его жизни — он вдруг и почти без усилия сократил днев-
ную дозу опиума с трехсот двадцати граммов, то есть с восьми
тысяч капель настойки, до сорока, и тем самым его странный
рацион уменьшился на целых семь восьмых. Облако глубокой
тоски, окутавшее его мозг, рассеялось в один день, будто по ма-
новению волшебной руки; вернулась острота ума, и он снова
смог поверить в счастье. Он принимал не более тысячи капель
настойки в день (какое воздержание!). Это лето он в духовном
смысле словно провел на Сен-Мартене. Он перечитал Канта и
понял его — по крайней мере так ему казалось. Легкость, весе-
лость духа вновь в преизбытке наполнили его (грустные слова
для перевода непереводимого), благоприятствуя как работе,
так и филантропическим упражнениям. Этот дух благораспо-
ложения и услужливости, скажем так, благодушия к ближнему,
который несколько напоминает (говорю без намерения ос-
корбить нашего вполне серьезного рассказчика) благодушие
пьяниц, однажды проявился, без видимых причин и самым
странным образом, в отношении какого-то малайца. Запомни-
те его: мы встретимся с ним позже; он появится, разложенный
на ужасное множество лиц. Кто в силах рассчитать, сколько
раз какое-нибудь событие может эхом отразиться в жизни че-
ловека? Кто может без содрогания представить себе бесконеч-
ное расхождение кругов на водной глади души от случайно
брошенного камня? Короче говоря, однажды в дверь тихой
обители постучался малаец. Что мог делать он в горах Брита-
нии? Возможно, он пробирался к порту, расположенному в со-
рока милях отсюда. Служанка, уроженка этих гор, знавшая по-
малайски не больше чем по-английски, и в жизни не видевшая
тюрбан, чрезвычайно всполошилась. Однако, вспомнив, что ее
господин был муж ученый, который должен был знать все язы-
ки земли, а может, и луны, она бросилась к нему с мольбой изг-
нать из кухни обосновавшегося там дьявола. Наверное, эти два
лица, взиравшие друг на друга, являли собой замечательный и
забавный контраст: одно — саксонски высокомерное, другое —
азиатски покорное; одно — розовато-свежее, другое — желтова-
то-желчное, оживленное маленькими, подвижными, беспокой-
ными глазками. Чтобы спасти свою честь в глазах служанки и
соседей, ученый муж заговорил по-гречески; малаец, разумеет-
ся, ответил по-малайски; оба ничего не поняли, и все обош-
лось хорошо. Малаец около часа отдыхал на залитой солнцем
кухне, а потом сделал вид, что собирается в путь. Этот несчаст-
153
ный азиат, если только он шел пешком от самого Лондона, це-
лых три недели ни с кем не мог перемолвиться ни словом. Для
облегчения видимых страданий этой одинокой души наш рас-
сказчик, посчитав, что выходец из тех мест должен знать, что
такое опиум, перед расставанием преподнес ему в подарок ог-
ромный кусок драгоценного вещества. Можно ли благороднее
обнаружить свое расположение? Судя по выражению лица, ма-
лаец был знаком с опиумом: он лишь немного откусил от кус-
ка, который мог бы принести смерть сразу нескольким людям.
Конечно, сердобольной душе нашего героя было тревожно; од-
нако никаких слухов о трупе малайца, найденном на столбо-
вой дороге, в округе не ходило: видимо, этот странный путник
был достаточно знаком с ядом, и желанная цель благодушия,
таким образом, была достигнута.
Как я уже сказал, наш любитель опиума покамест испыты-
вал подлинное счастье ученого и отшельника, влюбленного в
комфорт: в прекрасный особняк, в замечательную библиотеку,
собранную с тщанием и вкусом, в зиму, бушующую в горах.
Разве уютное жилище не подчеркивает поэтичность зимы, а
зима — поэтичность жилища? Заснеженный особняк стоял в
глубине небольшой долины, замкнутой довольно высокими
горами; он словно купался в пене кустов, которые от боярыш-
ника до жасмина весной, летом и осенью своими цветастыми
узорами покрывали стены и облекали окна в душистую рамку.
Однако наилучшим временем года для столь мечтательного,
вдумчивого человека, как наш герой, была зима, и чем суровее
зима, тем лучше. Есть люди, которые благодарят небеса за мяг-
кую зиму и счастливы, когда она кончается. Но он кавдый год
требовал от неба столько снега, мороза и льда, сколько оно
могло вместить. Он требовал такой зимы, как в Канаде, как в
России; он хотел купить ее за свои деньги. С нею все его гнез-
до делалось теплее, уютнее, роднее: и свечи, которые зажига-
лись в четыре часа дня, и отличный холл с красивым ковром, с
тяжелыми гардинами, ниспадавшими до карниза, и прекрас-
ная мастерица чая, и сам чай с восьми часов вечера до четырех
ночи. Без зимы все эти удовольствия невозможны; всякий ком-
форт требует суровой температуры и к тому же дорого стоит;
так что наш сновидец имел полное право требовать, чтобы зи-
ма столь же честно платила свой долг, как и он — свой. Неболь-
шая гостиная выполняла двоякую роль. Скорее ее можно на-
звать библиотекой: именно здесь были собраны пять тысяч то-
мов, купленных по одному, как истинный апофеоз прилежа-
154
ния. В камине горит яркий огонь; на подносе две чашки с
блюдцами — милосердная Электра, предчувствие которой пе*
редается и нам, украсила его жилище всем волшебством своих
ангельских улыбок. К чему описывать ее красоту? Пусть чита-
тель считает, что эта светозарная способность является чисто
физическим качеством, принадлежащим рукотворной кисти.
И вот, наконец, самое главное: сосуд с настойкой, да что сосуд —
огромный графин! Ведь мы слишком далеко от аптек Лондона,
чтобы регулярно возобновлять запас; том немецкой метафизи-
ки нависает над краем стола, свидетельствуя о неизменных ин-
теллектуальных наклонностях владельца. Горный ландшафт,
тихая обитель, роскошь или скорее прочное благосостояние,
обилие времени на созерцание, суровая зима, способствую-
щая умственному напряжению,— да, это и вправду счастье, то-
чнее, его последние проблески: предгрозовое затишье, пир во
время чумы. Теперь мы вплотную подошли к тому роковому
времени, когда “пришла пора прощаться с блаженством, с зи-
мой и летом, с покоем души, с улыбкой и смехом, с надеждой и
безмятежными мечтами, с благословенным утешением сна!”
'фи года подряд наш сновидец будет словно изгнан из земли
общего счастья, ибо он наконец достиг “Илиады бедствий, до-
стиг мук опиума”. Это мрачное время он провел в бесконечном
сгущении тьмы, разрываемой яркими, мучительными видени-
ями:
Как будто гений
Окрасил кисть в цвет бедствий
и затмений.
Эти строки Шелли, торжественные и воистину мильтонов-
ские, хорошо передают, так сказать, краски опиумного пейза-
жа; там черны небеса и замкнут горизонт вокруг мозга, закаба-
ленного опиумом. Бесконечность ужаса и тоски, но величай-
шая тоска — в бессилии вырваться из-под пытки!
Прежде чем продолжить рассказ, наш осужденный (мы по-
зволим себе иногда называть его так, хотя он, по-видимому,
принадлежит к тем осужденным, которые всегда готовы снова
впасть во грех) предупреждает нас, что в этой части книги бес-
полезно искать строгий порядок — по крайней мере хроноло-
гический. Во время ее написания он жил в Лондоне в одиноче-
стве и в бессилии создать из тягостных, отвратительных вос-
поминаний упорядоченный рассказ. Он был вдали от много-
численных друзей, которые обыкновенно оказывали ему сек-
155
ретарские услуги и которые помогли бы разобрать бумаги. Он
писал без обиняков, почти без стыда, выставляя себя на суд
благосклонного читателя, через пятнадцать или двадцать лет
после описываемых событий. Желая прежде всего восстано-
вить в памяти ужасное время, он употребил на это все усилия,
на которые только был способен, не зная точно, найдутся ли
впоследствии силы или возможности.
Но почему, могут спросить, не попробовать освободиться
от ужасов опиума, бросив употреблять его или уменьшив дозы?
Да, он предпринимал длительные, болезненные усилия, чтобы
уменьшить количество; но те, кто были свидетелями его скорб-
ной борьбы, его нескончаемой агонии, первыми умолили его
оставить эти попытки. Тогда почему не уменьшать дозу хотя бы
на одну каплю в день или смягчить эффект добавлением воды?
Но, как он рассчитал, пройдет много лет, прежде чем таким об-
разом будет достигнута сомнительная победа. К тому же все
любители опиума знают, что до достижения определенной ме-
ры можно без труда и даже с удовольствием уменьшать дозу,
однако после преодоления этого рубежа всякое уменьшение
причиняет сильнейшие страдания. Почему тогда не смириться
с временной слабостью, пусть даже на несколько дней? Но сла-
бости нет, страдание состоит не в этом. Уменьшение дозы, на-
против, увеличивает жизненные силы; пульс улучшается, здо-
ровье укрепляется, но отсюда происходит ужасное расстрой-
ство желудкй, которое сопровождается обильным выделением
пота и ощущением общего недомогания из-за нарушения рав-
новесия между физической силой и здоровьем души. Действи-
тельно, легко представить, как тело, земная часть человека, со-
вершенно покоренная опиумом и доведенная до полного сми-
рения, желает вернуть свои права, а душа, которая до сих пор
одна пользовалась благосклонностью, теперь впадает в неми-
лость. Нарушенное равновесие хочет восстановиться, но не
может сделать этого безболезненно. Даже если забыть о рас-
стройстве желудка и чрезмерном выделении пота, легко пред-
ставить себе тревогу нервного человека с внезапно разбужен-
ными жизненными силами и с беспокойной, вялой душой. В
этом ужасном положении зло кажется больному лучше выздо-
ровления, и он с поникшей головой отдается на волю судьбы.
Наш любитель опиума давно оставил свои труды. Иногда по
просьбе жены и другой дамы, которая приходила к ним на ча-
епитие, он соглашался читать вслух стихи Вордсворта. Време-
нами он жадно набрасывался на книги великих поэтов, однако
156
философия, его главное занятие, пребывала в полном забве-
нии. Философия и математика требуют длительных, непре-
рывных занятий, но его душа отступала перед лицом этой еже-
дневной обязанности с тайным, унылым сознанием своей сла-
бости. Большой труд, которому он поклялся отдать все свои си-
лы и который заимствовал название из reliquiae Спинозы —
“De emendatione human! intellectus”,- остался незаконченным
в ожидании решения своей судьбы, своим заброшенным ви-
дом напоминая фундамент огромного здания, начатого расто-
чительным правительством или бездумным архитектором. То,
что было призвано стать подтверждением силы, сделалось все-
го лишь свидетельством слабости и самонадеянности. К сча-
стью, ему в развлечение осталась политическая экономия. Хо-
тя она должна бы считаться наукой, то есть органическим це-
лым, некоторые из ее составных частей невозможно выделить
и рассмотреть по отдельности. Иногда жена вслух читала ему о
спорах в парламенте или о новых книгах по политической
экономии, но то было скудной пищей для глубокого литерато-
ра и эрудита, да и любой человек, овладевший логикой, посчи-
тал бы это за умственный сор. Меэеду тем в 1819 году ему при-
слали из Эдинбурга книгу Рикардо. Едва начав читать первую
главу, он вспомнил, что когда-то сам предрекал появление за-
конодателя этой науки, и вскричал: “Вот он!” Возродился инте-
рес и любопытство. Однако больше и радостнее всего его уди-
вило то, что чтение все еще могло увлечь его. Это, естественно,
лишь усилило его восхищение перед Рикардо: ведь столь глу-
бокий труд родился в Англии девятнадцатого века — в той Ан-
глии, где, как он считал, давно умерла всякая мысль. Рикардо
одним махом вывел закон, создал основу, пролив свет на мра-
чный хаос научных данных, в которых заблудились его пред-
шественники. Возбужденный, помолодевший, примиренный с
мыслями и работой, наш сновидец садится писать, точнее, ди-
ктовать своей супруге. Ему показалось, что проницательный
глаз Рикардо упустил из виду кое-какие важные факты, алгеб-
раический анализ которых мог бы составить небольшую за-
нятную книгу. В результате этого болезненного усилия на свет
появились “Пролегомены ко всем будущим системам полити-
ческой экономии”1. Он договорился с провинциальной типо-
графией, отстоящей на расстоянии восемнадцати миль от его
' Что бы ни говорил Де Квинси о своем духовном бессилии, эта книга или
подобная ей, имеющая отношение к Рикардо, вышла в свет после его смерти.
См. каталог ПСС его сочинений.
157
жилища; в целях ускорения набора был даже нанят дополни-
тельный наборщик; выход книги дважды объявлялся в печати,
но — увы! — оставалось написать предисловие (слабость перед
предисловием!) и изящное посвящение Рикардо — непомер-
ный труд для ума, ослабленного прелестями бесконечных ор-
гий. О, унижение нервного человека, затравленного атмосфе-
рой души! Ужасное, непреодолимое бессилие сковало его, как
полярные льды; договоренность была отменена, наборщик
уволен, а “Пролегомены” стыдливо и надолго заброшены ря-
дом со своим старшим братом, знаменитой книгой, навеянной
Спинозой.
Ужасное положение! Обладать умом, кишащим идеями, и не
иметь силы преодолеть тот мост, который отделяет поля вооб-
ражения от урожаев действия. Если читатель этих строк познал
необходимость самоотдачи, мне не нужно описывать ему все
отчаяние благородного, пророческого, тонкого ума, борюще-
гося с проклятием весьма особого рода. Ненавистные чары!
Все, что до сих пор говорилось о размягчении воли под дейст-
вием гашиша, применимо и к опиуму. Ответ на письмо? Непо-
сильный труд, откладываемый с часу на час, со дня на день, из
месяца в месяц. Денежные дела? Жалкое непонимание. Домаш-
няя экономия приходит в большее запустение, чем экономия
политическая. Если бы мозг, ослабленный опиумом, ослабел
целиком, если бы, грубо говоря, он совсем отупел, зло, видимо,
было бы меньшим или по крайней мере выносимым. Но люби-
тель опиума не теряет ничего из своих душевных устремлений;
он понимает свой долг, любит его; он желает выполнить все
возможные условия, однако сила его действия больше не отве-
чает высоте замысла. Действие! О чем это я? Может ли он наде-
яться хотя бы на попытку? Ведь кошмар своим огромным ве-
сом сокрушает волю целиком. Наш несчастный, таким обра-
зом, становится неким Танталом, пламенеющим любовью к
своему долгу и отчаявшимся исполнить его; душой, чистой ду-
шой — увы! — приговоренной желать недостижимого; доблест-
ным воином, оскорбленным в самых дорогих чувствах, окол-
дованным фатальной необходимостью лежать в постели и сне-
даемым бессильной злобой!
Итак, пришло медленное, но ужасное наказание. Увы! Оно
должно было проявиться не только через бессилие ума, но и
через ужасы упроченной и ожесточенной человеческой при-
роды. Любопытен первый признак, обнаружившийся в физи-
ческой экономии нашего любителя опиума, который является
158
точкой отсчета, зародышем целой череды страданий. Обыкно-
венно дети наделены удивительной способностью видеть, точ-
нее, создавать на благодатном полотне ночи целый мир причу-
дливых видений. Иногда эта способность проявляется неволь-
но, однако некоторые дети могут вызывать и рассеивать сны
по своей воле. По аналогии наш рассказчик заметил, что пре-
вратился в ребенка. Уже к середине 1817 года эта опасная спо-
собность доставляла ему мучительное беспокойство. Перед на-
ступлением сна тягостные и яркие образы проплывали перед
его глазами; возникали бесконечные здания античного, торже-
ственного вида. Так как то, что мы видим во время бодрствова-
ния, переходит в сновидения, все, что глаз вызвал к жизни из
мрака, воспроизводится во сне с тревожной, невыносимой яр-
костью. Мидас превращал в золото все, к чему прикасался, и
самому себе казался истязаемым этой ехидной способностью.
Наш же любитель опиума превращал любой предмет своих ви-
дений в неизбежную действительность. Несмотря на внешнюю
красоту и поэтичность, эта фантасмагория сопровождалась
глубокой тревогой и черной тоской. Каждую ночь ему каза-
лось, что он бесконечно долго опускается в пропасть без еди-
ного проблеска света, в немыслимую глубину без надежды и
силы подняться. Даже после пробуждения он ощущал печаль и
упадок духа, близкий к отчаянию. Этот феномен у некоторых
людей проявляется и под действием гашиша, когда ощущение
сначала пространства, а затем времени сильно изменяется. Па-
мятники и пейзажи приобретают для человеческого глаза бо-
лезненно большие размеры. Пространство раздувается до бес-
конечности. Однако острейшую тревогу вызывает растяжи-
мость времени; чувства и мысли одной ночи растягиваются на
целый век. Кроме того, в голове возникают безобразнейшие
события детства, давно забытые сцены, живя какой-то новой
жизнью. После пробуждения их можно не вспомнить, но во
сне их узнаешь мгновенно. Как утопающий видит в высшую
минуту агонии всю свою жизнь, словно в зеркале; как прокля-
тый Богом в одно мгновение прочитывает ужасный счет за все
свои земные помыслы; как звезды, скрадываемые светом дня,
вновь проступают ночью, также и надписи, бессознательно от-
печатанные в памяти, проявляются, словно под действием
симпатических чернил.
Наш рассказчик иллюстрирует главные черты своих снов
через несколько образов странного и страшного происхожде-
ния; в одном из них в силу той особенной логики, которая уп-
159
равляет событиями сна, два весьма удаленных друг от друга ис-
торических факта причудливо совместились в его сознании. В
детской душе нашего деревенского жителя комедия, с которой
начинается действие, часто заканчивается трагедией:
“В юности и даже впоследствии я увлекался чтением Тита
Ливия; в часы отдохновения он доставлял мне одни из самых
приятных минут; признаюсь, я считаю его манеру и стиль пре-
восходнее всех прочих римских историков. И все ужасное,
торжественное звучание, все могучее воплощение славы рим-
ского народа я ощущал в двух словах, которые так часто встре-
чаются в рассказах Тита Ливия: “Consul Romanus” — особенно
когда консул предстает в своем военном величии. Иначе гово-
ря, слова “король”, “султан”, “регент” или другие титулы, при-
надлежащие людям, которые воплощают собой славу великого
народа, не внушают мне такого уважения. Не будучи большим
любителем исторической литературы, я тем не менее очень
тщательно и критически изучил один период из истории Анг-
лии — парламентские войны,— который привлекал меня нрав-
ственным величием своих участников и любопытными мемуа-
рами многих очевидцев, переживших это смутное время. Эти
две составляющие моего досужего чтения, которые часто дава-
ли пищу моим размышлениям, теперь питали мои ночные ви-
дения. Перед сном мне часто приходилось видеть что-то похо-
жее на репетицию театрального представления, которое затем
разыгрывалбеь в уютном мраке: толпу дам, будто на празднике
с танцами. Я слышал такой разговор или сам говорил себе:
“Вот жены и дочери тех, которые мирно собрались за одним
столом и которые связаны узами брака или кровного родства;
и, однако, после известного августовского дня 1642 года улыб-
ки исчезли с их лиц, и потом они встречались друг с другом
лишь на поле брани; и в Марстон-Муре, Ньюбери или Нэзби
они обрубили узы любви жестоким ударом клинка и смыли
кровью всякое воспоминание о былой дружбе”. Дамы танцева-
ли и казались столь же привлекательными, словно при дворе
Георга IV, а между тем я даже во сне знал, что они вот уже две-
сти лет лежат в могиле. Но вся эта помпезность была обречена
на внезапное исчезновение: вслед за хлопком в ладоши разда-
лись слова, от звука которых вздрогнуло мое сердце: “Consul
Romanus!” И тут же, сметая все перед собой, в великолепии сво-
его воинского одеяния, с шуршанием туники о копье, в окру-
жении центурионов и под громогласные, ликующие крики
римских легионов являлся Павел Эмилий или Марий”.
160
В его мозгу возникали удивительные, чудовищные здания,
похожие на те зыбкие сооружения, которые глаз поэта разли-
чает среди облаков, окрашенных заходящим солнцем. Но
вскоре все эти воображаемые террасы, башни, стены, уходя-
щие в невообразимые высоты и ниспадающие в беспросвет-
ные глубины, сменились озерами и огромными водными про-
странствами. Вода становится навязчивым элементом. Как мы
уже заметили из рассказа о гашише, мозг питает странную лю-
бовь к жидкостям и их загадочному очарованию. Не правда ли,
что меаду двумя этими наркотическими веществами существу-
ет удивительное сходство, по крайней мере в их воздействии
на воображение, или, если угодно, что человеческий мозг под
их влиянием охотнее упивается определенными образами?
Скоро вода меняет характер; прозрачные озера, сверкающие,
словно зеркала, превращаются в моря и океаны. Затем все это
водное великолепие, доселе причиняющее беспокойство толь-
ко своим повторением и размерами, претерпевает новую мета-
морфозу, начинается ужасное наваждение. Наш рассказчик так
любил толпу, так сладострастно погружался в людской поток,
что человеческое лицо не могло не сыграть в его снах деспоти-
чную роль. Таким образом, проявилось то, что я, кажется, на-
звал тиранией человеческого лица. “Вдруг из подвижной воды
Океана всплыло лицо человека; море казалось усеянным бес-
численным множеством голов, обращенных к небу: злобные,
молящие, отчаявшиеся лица закружились в танце на водной
поверхности, тысяча за тысячей, мириада за мириадой, поко-
ление за поколением, столетие за столетием; мое возбуждение
стало беспредельным, моя душа вздымалась и перекатывалась,
как океанские волны”.
Читатель уже заметил, что человек не сам вызывает образы,
но образы встают перед ним с деспотичной навязчивостью.
Он бессилен развеять их, так как его воля подорвана и больше
не управляет способностями. Поэтическая память, некогда не-
иссякаемый источник радости, сделалась неистощимым арсе-
налом орудий пытки.
В 1818 году наш герой испытывал жестокие страдания от
уже упомянутого нами малайца; то был невыносимый посети-
тель. Как пространство и время, малаец тоже распадался на
множество лиц. Он преображал собой саму Азию — древнюю,
чопорную, чудовищную Азию, изощренную, как ее храмы и ре-
лигии,— зде все, начиная с обиходных сторон жизни и кончая
следами классических, великих времен, которые она хранит в
fr—311
161
себе, создано для смущения и одурманивания души европейца.
Но не только Китай, причудливый и искусственный, чудесный
и старомодный, как волшебная сказка, угнетал его мозг. Этот
образ, естественно, увлекал за собой образ соседней Индии,
столь же загадочный и тревожный для западной души; затем
Китай и Индия сливались с Египтом в грозную триаду, в изощ-
ренный кошмар, в целый клубок тревог. Короче говоря, малаец
вызвал к жизни весь огромный и легендарный Восток Не могу
отказать себе в удовольствии привести следующие прекрасные
страницы:
“Каждую ночь этот человек переносил меня в круг азиат-
ской жизни. Не знаю, разделит ли читатель мои ощущения на
этот счет, но я часто думал, что, если бы меня силой принуди-
ли покинуть Англию и жить в Китае, среди тамошних нравов,
манер и обихода, я бы сошел с ума. Причины моего страха глу-
боки, и некоторые из них присущи другим людям. В целом юж-
ная Азия представляет собой сплетение ужасных образов и
страшных ассоциаций; уже потому, что она является колыбе-
лью человечества, она должна внушать бог весть какой благо-
говейный ужас. Но есть и другие причины. Никто не станет ут-
верждать, что влияние странных, варварских и причудливых
предрассудков Африки или диких племен любой другой части
света может сравниться с древними, непоколебимыми, жесто-
кими и запутанными религиями Индостана. В давности азиат-
ских предметов, учреждений, анналов, верований есть нечто
столь поразительное, а в древности племен и их названий —
нечто столь превосходное, что этого хватит, чтобы уничто-
жить юность личности. Молодой китаец кажется мне воскрес-
шим жителем допотопных времен. Даже англичане, которые
выросли в совершенно иной среде, невольно содрогаются пе-
ред таинственным превосходством этих каст, каждая из кото-
рых развивалась отдельно и с незапамятных пор отказывалась
смешиваться с другими. Невозможно не чувствовать уважения
перед именем Ганга и Евфрата. Эти чувства усиливает еще и то,
что южная Азия тысячелетиями была и остается самой насе-
ленной частью земли, огромной offlcina gentium. В этих краях
люди растут, как трава. Пространные империи, извечная смесь
огромного населения Азии, усиливают благоговение перед ве-
личием образов и названий Востока. В частности, в Китае, не-
зависимо от того, что общего есть у него с остальной южной
Азией, я был напуган образом жизни, обычаями, неприязнью,
чувственной стеной, которая отделяет нас от него и которую
162
невозможно постичь. Я скорее бы сжился с сумасшедшими или
с дикими зверями. Чтобы понять весь мифологический ужас и
муки, которые азиатские видения внушили моей душе, чита-
тель должен войти во все эти и многие другие представления,
которые я не упомянул или не успел изложить.
При двух взаимосвязанных условиях — тропический зной
и отвесный свет — я собирал всех существ: птиц, животных,
земноводных, деревья и растения, обычаи и картины, прису-
щие тропикам, и помещал эту смесь в Китай или в Индостан.
По аналогии я прихватывал Египет со всеми его богами, вводя
их в игру с теми же правилами. Обезьяны, попугаи, какаду не-
подвижно смотрели на меня, освистывали, гримасничали, без
умолку трещали обо мне. Я укрывался в пагодах, столетиями
просиживая там под самой крышей, или в глубине потайных
комнат. Я был идолом, жрецом; мне поклонялись, меня прино-
сили в жертву. Я спасался от гнева Брахмы в чаще азиатских
лесов; Вишну ненавидел меня; Шива строил мне западни. Вне-
запно я натыкался на Исиду с Осирисом; мне говорили, что я
что-то совершил, какое-то страшное преступление, от которо-
го содрогнулись ибис с крокодилом. На тысячу лет меня заклю-
чали в каменный гроб вместе с мумиями и сфинксами, в узкие
казематы в сердце вечных пирамид. Крокодилы покрывали ме-
ня своими ядовитыми поцелуями, а я лежал в груде непонят-
ных, липких предметов, в грязи и камышовых зарослях Нила.
Я привожу лишь легкую смесь из своих восточных видений,
чудовищный театр которых неизбежно приводил меня в такое
изумление, что в нем на некоторое время тонул даже страх. Но
рано или поздно чувства наплывали вновь, в свою очередь по-
глощая изумление и освобождая меня не столько от ужаса,
сколько от некой ненависти и отвращения к видимому мною.
Над каждым существом, над каждой формой, над каждой угро-
зой возмездием, мрачным казематом тяготело ощущение веч-
ности и бесконечности, которое вызывало во мне тревогу и
приступы безумия. За исключением одного или двух раз, во
сне не было причин для животного страха. До сих пор мои
страхи были нравственными и душевными. Но главными дей-
ствующими лицами здесь выступали ужасные птицы, змеи и
крокодилы — особенно последние. Злосчастный крокодил
внушал мне больше ужаса, чем все остальные. Увы! Я был при-
нужден жить с ним веками (так было всегда в моих снах). Ино-
ifla я сбегал, оказываясь в китайских домах с обстановкой из
камышовых столиков. Ножки всех столиков и диванов каза-
6*
163
лись наделенными жизнью; повсюду, со всех сторон за мной
следила отвратительная крокодилья голова с маленькими гла-
зками, размножаясь до невероятности, а я пребывал там, пол-
ный изумления и страха. Эта чудовищная рептилия столь час-
то преследовала меня, что сон часто кончался одинаково: я
слышал нежные голоса, которые обращались ко мне (мне
слышно все даже сквозь сон), и сразу просыпался. Было совсем
светло, и мои дети, держась за руки, стояли у моей постели;
они пришли показать свои разноцветные туфельки и новые
наряды, чтобы я одобрил их перед тем, как они отправятся на
прогулку. И переход от злосчастного крокодила и других мон-
стров и безобразных уродов моих снов к этим невинным соз-
даниям, к этому простодушному человеческому детству был
столь ужасен, что от сильного внезапного отвращения моей
души я плакал и, не в силах остановиться, целовал их детские
личики”.
Читатель, должно быть, ожидает появления в этой галерее
давних впечатлений, повторенных во сне, печального образа
несчастной Энн. Теперь настал и ее черед. Наш рассказчик за-
метил, что смерть дорогих нам людей и созерцание смерти во-
обще оказывают на нашу душу наибольшее влияние летом, чем
в другие времена года. Небо кажется высоким, далеким, беско-
нечным. Облака, по которым глаз оценивает величину небес-
ного купола, кажутся более объемными, собранными в боль-
шую плотную массу; свет и картины заходящего солнца лучше
передают характер бесконечности. Но главная причина коре-
нится в противоречии между буйством жизни и безжизненным
холодом могилы. Кроме того, эти две противопоставленные
друг другу идеи так связаны единой нитью, что одна наводит
на другую. Наш рассказчик признается, что в бесконечные лет-
ние дни ему тяжело не думать о смерти; мысль о смерти знако-
мого или дорогого человека навязчивее всего осаждает его ду-
шу именно в это пышное время года. Однажды ему привиде-
лось, будто он сидит на крыльце своего дома; было майское
воскресное утро (во сне), пасхальное воскресенье — в книге
снов нет противоречий. Перед ним простирался знакомый, но
увеличенный и облагороженный колдовством сна пейзаж. Го-
ры своей высотой превосходили Альпы, а леса и долины у их
подножия были бесконечно пространнее; изгороди украшали
белые розы. В столь ранний час не было видно ни души, кроме
диких зверей, отдыхавших на кладбище поверх зеленеющих
могил, особенно вокруг усыпальницы одного ребенка, которо-
164
го он нежно любил (этого ребенка и вправду похоронили тем
летом, и поутру, до восхода солнца, наш рассказчик наяву ви-
дел животных, отдыхавших вблизи его могилы). Тогда он ска-
зал себе:
“До восхода еще далеко; сегодня Пасха, день прославления
первых плодов воскресения мертвых. Пожалуй, я пойду прогу-
ляться и позабуду свою старую боль; воздух свеж и тих, высо-
кие горы тянутся далеко в небеса, лесные поляны расточают
кладбищенский покой, роса охладит жар моего лица, и мои не-
счастья наконец исчезнут”. Когда он отворил дверь в сад, пей-
заж по одну сторону от него вдруг преобразился. Было по-пре-
жнему раннее утро пасхального воскресенья, но декорация
стала восточной. На горизонте обозначились купола и башни
какого-то огромного города (возможно, в память об увиден-
ной в детстве картинке из Библии). На камне неподалеку от не-
го, в тени иудейских пальм, сидела женщина. Это была Энн!
“Она обратила ко мне внимательный взгляд, и после долго-
го молчания я сказал: “Наконец-то я отыскал вас!” Я ждал отве-
та, но она не произнесла ни слова. Со времени нашей послед-
ней встречи ее лицо не изменилось — и, однако, оно было дру-
гим! Семнадцать лет назад, когда в тусклом свете уличных фо-
нарей, падавшем на ее лицо, я в последний раз целовал ее гу-
бы (твои губы, Энн: они были чисты для меня), слезы сочились
из ее глаз; теперь эти слезы высохли, она казалась красивее,
чем тогда, и одновременно неизменной, ничуть не постарев-
шей. Ее спокойный взгляд был наделен необычайно торжест-
венным выражением, отчего я взирал на нее в каком-то страхе.
Вдруг ее лицо потемнело; обернувшись к горам, я обнаружил
испарения, клубившиеся вокруг нас; в один миг все исчезло,
откуда-то наплыла густая мгла, в мгновение ока я очутился да-
леко, очень далеко от горной страны; я прогуливался с Энн по
Оксфорд-сгрит в тусклом свете фонарей, как семнадцать лет
назад, когда мы оба — она и я — были детьми”.
Наш рассказчик приводит еще один образец своих болез-
ненных видений, и этот последний сон (он увидел его в 1820
году), столь ужасный, сколь смутный и неуловимый, проникну-
тый каким-то обостренным чувством, разворачивается на под-
вижном, резиновом фоне неопределенности. Я бессилен пере-
дать все волшебство английского стиля:
“Сон начинался с музыки, которая часто слышится в моих
снах, с какого-то музыкального вступления, способного пробу-
дить душу и держать ее в напряжении; с музыки, похожей на
165
увертюру к коронации, которая, как и последняя, создает впе-
чатление парада, движения бесконечных рядов кавалерии и
поступи бесчисленных армий. Настало утро славного дня, дня
томления и надежды для человеческой души, переживающей
какое-то таинственное затмение, мучимой какой-то ужасной
тревогой. Неизвестно где и непонятно как какие-то незнако-
мые мне существа вели битву, борьбу, накал которой я ощущал;
она развивалась, будто колоссальная драма или музыкальный
отрывок, и ощущаемое мной сострадание мучило меня из-за
неопределенности места, причины, существа и исхода дела. И
как обычно бывает во сне, где мы непременно становимся цен-
тром всего движения, я имел и одновременно не имел силы
разрешить его; я бы имел силу, если бы только мог подняться
до желания, и, однако, не имел этой силы: я был придавлен ве-
сом восьми Атлантид или тяжестью неискупимой вины. Diy6-
же, чем когда-либо, опускался свинцовый зонд, я лежал непод-
вижнее мертвеца. Затем страсть запела во мне глубоким, хоро-
образным тоном. На карту был поставлен какой-то коренной
интерес, какое-то дело, важнее которого не отстаивал меч, не
возвещала труба. Внезапно набежали тревоги; то тут то там
слышались уторопленные шаги бесчисленных беженцев, кото-
рые спасались в страхе. Я не знал, от чего они бегут: от добра
или зла; затем свет и тьма, трубы и человеческие лица, и в кон-
це с чувством безвозвратной утраты показались будто бы жен-
ские черты.лица, узнать которые я жаждал непременно, любой
ценой, но которые не мог удержать дольше, чем на миг; затем
сцепленные руки, душераздирающие расставания, и наконец:
“Прощай навсегда!” — похожее на вздох адовых темниц, когда
мать-кровосмесительница возглашает ненавистное имя Смер-
ти; этот звук был подхвачен: “Прощай навсегда!” И снова, и
снова эхо порождало эхо: “Прощай навсегда!”
И я проснулся в судорогах и громко вскричал: “Нет, я не хо-
чу больше спать!”
V
ЛОЖНАЯ РАЗВЯЗКА
Де Квинси чрезвычайно сократил конец своей книги — по
крайней мере против первоначально задуманного. Мне пом-
нится, что при первом прочтении ее много лет назад (мне то-
гда не была известна вторая часть, “Suspiria de profimdis”, кото-
рая еще не вышла в свет) я время от времени задавался вопро-
166
сом: каким может быть конец такой книги? Смерть? Безумие?
Но автор, постоянно выступающий от первого лица, очевидно,
пребывал в состоянии здоровья, которое, даже не будучи нор-
мальным и отличным, тем не менее позволило ему взяться за
литературный труд. Наиболее вероятным мне показался статус
кво, то есть, он привык к своим страданиям, покорился ужас-
ным последствиям своего странного рациона; и наконец я ска-
зал себе: “Робинзон мог в конце концов отбыть со своего ост-
рова; какое-нибудь судно могло пристать к берегу, сколь бы не-
изведанным он ни был, и забрать с собой одинокого изгнан-
ника; но кто из людей может избегнуть империи опиума?” По-
этому, продолжал я свои рассуждения, эта удивительная книга,
правдивая исповедь или чистое творение ума (последнее пред-
положение было невероятным из-за атмосферы правдивости,
окружавшей все в целом, и неподражаемо искренней интона-
ции, сопровождавшей каждую подробность) — это книга без
развязки. Очевидно, книги, как и события, бывают без развяз-
ки. Существуют вечные положения, в категорию которых по-
падает все, что относится к неизлечимому, непоправимому.
Мне вспомнилось, что с самого начала любитель опиума в од-
ном месте объявил, что в конечном счете ему удалось разо-
рвать, кольцо за кольцом, ту порочную цепь, которая сковыва-
ла все его существо. И все же развязка была для меня совер-
шенно неожиданной, и, искренне говоря, узнав о ней, я ин-
стинктивно восстал против нее, несмотря на всю ее хитроум-
ную правдоподобность. Не знаю, разделит ли читатель мое
впечатление на сей счет, но, в самом деле, тонкий, изощрен-
ный способ, которым несчастный выбрался из заколдованно-
го лабиринта, показался мне изобретением на потребу своего
рода британскому ханжеству, жертвоприношением, где правда
уродуется во славу целомудрия и предрассудков общества.
Вспомните, сколько оговорок предваряет его рассказ об Илиа-
де бедствий, и с которой осторожностью он утвердил свое пра-
во на исповедь, даже ведущую к пользе. Одним хочется нравст-
венной развязки, другим — развязки успокоительной. Напри-
мер, женщины не любят, когда зло получает награду. А что ска-
жет публика в наших театрах, если в конце пятого акта не бу-
дет катастрофы, навязанной чувством справедливости и при-
званной восстановить естественное, вернее, обманчивое рав-
новесие,— не будет катастрофы возмездия, с нетерпением
ожидаемой все четыре долгих акта? Короче говоря, по-моему,
публике не нравится безнаказанность, которую она склонна
167
считать за наглость. Возможно, Де Квинси был такого же мне-
ния и поставил его себе в правило. Если бы вышенаписанное
случайно попалось ему на глаза, то можно представить себе
его невольную снисходительную улыбку на мое заведомое и
оправданное недоверие; ведь в любом случае я полагаюсь на
его собственные слова, столь искренние и проникновенные в
остальном, и уже могу объявить о третьем преклонении перед
черным идолом (что предполагает существование второго), о
котором мы поговорим позже.
Как бы то ни было, вот развязка. Власть опиума уже давно
проявлялась не в колдовстве, а в муках, и муки эти (что совер-
шенно правдоподобно и согласуется со всяким опытом труд-
ного отвыкания от застарелых привычек, независимо от их
происхождения) начались с первых попыток избавиться от его
повседневной тирании. Из двух казней — продолжать или пре-
рвать употребление — автор, по собственному признанию, из-
брал то, что давало надежду на освобождение. “Сколько опиу-
ма я принимал тогда, я не могу сказать: опиум покупал мой
друг, который позднее отказался от платы за это; поэтому не-
возможно определить, какое количество его я употребил за
год. Однако мне кажется, что я принимал его крайне нерегу-
лярно и что доза колебалась от пятидесяти или шестидесяти до
ста пятидесяти гранул в день. Прежде всего меня заботило со-
кращение этой дозы до сорока, тридцати и, наконец, как мож-
но чаще, до двенадцати гранул”. Он добавляет, что из различ-
ных средств, которые он испробовал, единственную пользу
принесла аммиачная настойка валерианы. Но к чему (это его
слова) продолжать рассказ об излечении и выздоровлении?
Ведь книга написана для того, чтобы показать чудесное дейст-
вие опиума как в наслаждении, так и в муках; таким образом,
книга закончена. Мораль повествования касается одних люби-
телей опиума. Пусть они задрожат, пусть узнают из этого заме-
чательного примера, что даже после семнадцати лет употреб-
ления и восьми лет злоупотребления опиумом можно бросить
эту привычку. Пусть они, добавляет он, удвоят свои усилия и
наконец добьются такого же результата!
“Иеремия Тейлор высказал предположение, что рождаться,
вероятно, так же больно, как и умирать. По-моему, это очень
близко к истине, и в течение долгого срока, посвященного
уменьшению доз опиума, я испытал все муки человека, перехо-
дящего от одного способа существования к другому. Результа-
том этого была не смерть, а своего рода физическое возрожде-
168
ние... Мне еще осталось кое-что в напоминание о моем преж-
нем состоянии; я пока не совсем спокойно сплю; ужасный раз-
мах и натиск бури еще не полностью стихли; легионы, насе-
лявшие мои сновидения, отступили, но не ушли совсем; мой
сон тревожен и, подобно райским вратам, на которые оберну-
лись наши прародители, всетда предстает, говоря страшными
стихами Мильтона,
Весь в грозных ликах, в огненных руках”.
Послесловие (от 1822 года) предназначено для дальнейше-
го, более основательного подтверждения правдоподобности
этой развязки, для придания ей, так сказать, строгой медицин-
ской физиономии. Снижение дозы в восемь тысяч капель до
умеренной, колеблющейся от трехсот до ста шестидесяти, са-
мо по себе было довольно блестящей победой. Но усилие, ко-
торое предстояло совершить, требовало еще столько сил,
сколько автор не мог предположить, тогда как необходимость
этого усилия становилась все более очевидной. Он, в частно-
сти, заметил некоторое огрубение, отсутствие чувствительно-
сти в желудке, что казалось предвестником какого-то злокаче-
ственного заболевания. Врач подтвердил, что продолжение
приема опиума даже в меньших дозах может привести к тако-
му результату. С этих пор он поклялся бросить опиум, бросить
навсегда. Рассказ об его усилиях, колебаниях, физических му-
ках от первых побед воли в самом деле представляет интерес.
Сначала он неизменно уменьшает дозы, дважды достигает ну-
ля, затем наступает откат назад, когда он вполне восполняет
предыдущее воздержание. Таким образом, опыт шести первых
недель принес в результате ужасное раздражение во всем орга-
низме, особенно в желудке, который то возвращался к обыч-
ной жизнедеятельности, то испытывал отчуждение; возбуж-
денное состояние, не прекращающееся ни днем, ни ночью; сон
(каков сон!) максимум три часа в сутки и столь непрочный, что
были слышны малейшие звуки; постоянную опухоль нижней че-
люсти; язвы во рту, а из более или менее сносных симптомов —
оглушительное чиханье, которое, кстати, всегда сопровождало
его попытки восстать против опиума (этот новый недуг про-
должался ино1да два часа с возвратом два-три раза в день);
кроме того, озноб и, наконец, ужасный насморк, какого нико-
гда не было при власти опиума. Путем употребления желчи ему
удалось вернуть желудок в нормальное состояние, то есть за-
быть. как другие люди, о его существовании. На сорок второй
169
день прежние тревожные признаки наконец исчезли, уступив
место другим, однако неизвестно, было ли это следствием ста-
рого злоупотребления опиумом или его подавления. Так,
обильное потение, которым вплоть до Рождества сопровожда-
лось любое сокращение дневной дозы, полностью исчезло в
более теплое время года. Другие физические страдания можно
приписать действию теплого и сырого июля в той части Анг-
лии, где находилось его жилище.
Автор даже потрудился (по-прежнему в помощь несчаст-
ным, которые могли оказаться в подобном положении) приве-
сти синоптическую таблицу, даты и количественные сведения
за первые пять недель, в которые он переломил ход своего
славного начинания. Правда, наблюдались ужасные падения,
например с нуля до 200, 300, 350. Но, возможно, восхождение
было чересчур быстрым, неравномерным, что вызывало нену-
жные страдания, иногда принуящающие его прибегать к помо-
щи самого источника зла.
В искусственности — по крайней мере частичной — такой
рязвязки меня всегда убеждал шутливый, игривый, почти на-
смешливый тон, преобладающий во многих местах этого пос-
лесловия. Например, чтобы доказать, что он не уделяет своему
злосчастному телу того фанатичного внимания, которое ему
уделяют больные, проводящие время в наблюдении за собой,
автор как бы в наказание за перенесенные муки подвергает
свое тело, это постыдное “рубище”, позорному обращению,
которому по закону подвергаются худшие из злодеев, и, по-
скольку, по мнению лондонских врачей, из изучения столь за-
коренелого любителя опиума, как он, можно было бы извлечь
кое-какую научную пользу, охотно отдает им свое тело. Заве-
щая свое имущество правителю, некоторые из богатых граж-
дан Рима неблагоразумно упорствовали в жизни, как забавно
отметил Светоний, и Цезарь, охотно принимавший завещан-
ное, сильно оскорблялся таким безбожно затянувшимся суще-
ствованием. Однако любитель опиума не опасается проявле-
ний бестактности со стороны врачей. Он знает, что ими дви-
жут чувства, схожие с его собственными, то есть чистая любовь
к науке, которая подтолкнула его самого сделать сей мрачный
дар из своих останков. Пусть же это завещание не вступит в си-
лу как можно дольше, пусть сей проникновенный писатель,
этот больной, замечательный даже в своих насмешках, сохра-
нится для нас дольше хрупкого Вольтера, который, как говорят,
умирал двадцать четыре года1!
170
1 Пока писались эти строки, в Париж пришло известие о смерти Томаса
Де Квинси. Поэтому мы выражаем надежду на продолжение этой славной
судьбы, которая прервалась сталь внезапно. Достойный соперник и друг
Вордсворта, Кольриджа, Саути, Шарля Ламба, Хацлитта и Вильсона оста-
вил обширное наследие, среди которого важнейшими являются следующие
произведения: “Confessions of an English opium-eater”; “Suspiria de profundis”;
“The Caesars”; “Literary reminiscence”; “Essays on tbe poets”; “Autobiographic
sketches”; “Memorials”; “Tbe Note book”; “Theological essays”; “Letters to a young
man”; “Classic records reviewed or dicipbered”; Speculations, literary and philo-
sophic, with german tales and other narrative papers”; “Klosterbeim, or tbe
masque”; “Logic of political economy” (1844); “Essays sceptical and anti-scepti-
cal on problems neglected or misconceived”, и т.д. Он оставил о себе репута-
цию не только одного из оригинальнейших, остроумнейших умов старой
Англии, но также одного из любезнейших, милосерднейших людей, которые
составили честь истории литературы, наконец, такого человека, которо-
го он простодушно изобразил в “Suspiria de profundis”, книги, анализ кото-
рой мы намерены предпринять и название которой придает этому при-
скорбному событию вдвойне печальный оттенок. Де Квинси умер в Эдин-
бурге в возрасте семидесяти пяти лет.
У меня перед глазами некролог от 17 декабря 1859 года, дающий пи-
щу для некоторых грустных размышлений. Повсюду в мире невиданное бе-
зумие морализма заняло во всех литературных спорах место чистой лите-
ратуры. Понмартены и прочие салонные проповедники заполонили амери-
канские и английские, равно как и наши, журналы. Уже в связи со странны-
ми надгробными речами на смерть Эдгара По у меня был случай наблюдать,
что траурное поле литературы уважают меньше, чем обыкновенное клад-
бище, где полиция приняла меры по защите могил от невинных осквернений
со стороны животных.
Пусть рассудит беспристрастный читатель. Что нам до того, что
любитель опиума так и не оказал человечеству положительных услуг? Если
его книга прекрасна, мы обязаны ему благодарностью. Разве Бюффон, кото-
рый в таком вопросе вне подозрения, не считал, что удачная фраза, новый
образ выражения имеет для подлинно духовного человека большую цен-
ность, чем научные открытия, - иными словами, что Красота благороднее
Правды?
А что Де Квинси несколько раз показал себя чрезвычайно суровым с
друзьями, то какой автор, познавший литературный пыл, имеет право то-
му удивляться? Он был жесток к самому себе, и, кроме того, как он писал в
одном месте и как писал Кольридж, злость не всегда исходит от сердца;
есть злость ума и воображения.
Но вот вам шедевр критики. В молодости Де Квинси подарил Коль-
риджу значительную часть своего имения: “Несомненно, это благородно и
похвально, хоть и неблагоразумно, - пишет биограф-англичанин, - но
следует помнить, что наступило время, когда, пав жертвой опиума, с по-
шатнувшимся здоровьем и расстроенными делами, он совершенно принял
милосердную помощь своих друзей”. Если мы правильно поняли, это значит,
что не стоит быть нисколько признательным за его щедрость, так как
позднее он сам пользовался щедростью других. У Гения нет подобных черт.
Чтобы подняться до такого, нужно быть наделенным завистливым и свар-
ливым духом критика-моралиста. - Ш.Б.
171
VI
МАЛЕНЬКИЙ ГЕНИЙ
“Исповедь" увидела свет в 1822 году, a “Suspiria”, ее после-
словие и дополнение, написана в 1845-м. Поэтому настроение
этой книги если не отлично от прежнего, то по 1файней мере
мрачнее, печальнее, покорнее. Множество раз, пробегая эти
замечательные страницы, я невольно задумывался о различ-
ных метафорах, которые служат поэтам для описания челове-
ка, вернувшегося с жизненных баталий; здесь и старый моряк
с лицом, изрезанным сеткой глубоких морщин, согревающий
у очага свои героические кости, перенесшие множество испы-
таний; и странник, возвращающийся вечером в поля своей
юности, с нежностью и грустью вспоминающий множество
фантазий, которыми был охвачен его ум, когда он пересекал
все эти страны, уже растворившиеся за горизонтом. В общем,
я бы сказал, что все это имеет оттенок возвращения, который,
не принадлежа к сверхъестественному миру, все же почти чужд
миру человеческому, будучи наполовину земным, а наполови-
ну — неземным, что мы не раз обнаруживали в “Загробных за-
писках”, когда умолкает гнев и уязвленная совесть, и презре-
ние великого Рене перед всем земным вдруг становится беско-
рыстным.
Из “Введения” в “Suspiria” мы узнаем, что, несмотря на под-
виг, проявленный в терпеливом выздоровлении, любитель
опиума пережил второе и третье падение. Он называет это а
third prostration before the dark idol. Даже опуская физиологи-
ческие причины, которые он приводит в свое оправдание —
например, плохо продуманный порядок воздержания,— мне
кажется, что эту беду было легко предугадать. Но на сей раз
больше не было ни борьбы, ни бунта. Борьба и бунт всегда
предполагают какую-то надежду» отчаяние же безмолвствует.
Величайшие страдания там, где нет избавления. Врата, некогда
раскрытые для возвращения, снова закрылись, и человек по-
корно идет навстречу своей участи. Suspiria de profundis! Луч-
шего названия для этой книги трудно придумать.
Автор более не старается убедить нас, что “Исповедь” напи-
сана, хотя бы отчасти, для пользы обществу. Она имеет целью,
признается он, показать могущественное воздействие опиума
на естественное свойство человека видеть сны. Не все люди
способны видеть великолепные сны, и даже обладатели этого
172
дара могут растратить его из-за уменьшения цельности совре-
менной жизни и быстроты материального прогресса. Способ-
ность видеть сны божественна и загадочна, так как через них
человек сообщается с невидимым миром, окружающим его. Но
для свободного развития этой способности необходимо оди-
ночество; чем сосредоточеннее человек, тем масштабнее, глуб-
же его сны. Но разве есть одиночество больше, умиротворен-
нее, дальше от мира земных страстей, чем то, что навеяно опи-
умом?
В “Исповеди’* рассказывается о событиях юности, которые
смогли оправдать употребление опиума. Однако здесь есть два
существенных пробела, один из которых касается снов на поч-
ве опиума во время пребывания автора в университете (так на-
зываемые “Оксфордские видения”), а другой — повествования
о его детских впечатлениях. Таким образом, как и в первой ча-
сти, биография служит здесь для объяснения и проверки, если
так можно выразиться, загадочных странствий ума. Именно в
заметках, относящихся к детству, мы находим зародыши
странных снов взрослого человека и, скажем так, его гения.
Все биографы в той или иной степени признают важность све-
дений о детстве писателя или художника. Но, как мне кажется,
эта важность никогда определенно не утверждалась. Часто,
обозревая произведения искусства не с точки зрения их легко
осязаемой материальности, весьма просто очерченных симво-
лов или очевидной направленности их сюжета, но с точки зре-
ния души, которой они наделены, впечатления воздушности,
заключенного в них, с точки зрения духовного света или мра-
ка, который они проливают на наши души, я ощущал, будто ме-
ня наполняет видение детства их создателей. Маленькие печа-
ли, маленькие радости, непомерно раздутые утонченными чув-
ствами, позднее становятся основой произведения искусства у
взрослого человека, порой не подозревающего об этом. Нако-
нец, чтобы выразиться определеннее, разве нельзя вполне
просто доказать путем философского сравнения работы зре-
лого художника с состоянием его души в детстве, что гений
есть точно сформированное детство, наделенное для самовы-
ражения мужественными и мощными органами? Но я не наме-
рен отдавать эту мысль на откуп физиологии, пусть даже ради
чего-то большего, чем простое предположение.
Поэтому нам предстоит кратко рассмотреть основные впе-
чатления детства любителя опиума, чтобы прояснить себе его
сны, которые во время пребывания в Оксфорде обыкновенно
173
давали пищу его уму. Читатель не должен забывать, что о сво-
ем детстве рассказывает старик, который, вернувшись в детст-
во, до тонкостей осмысливает его, и что в конце концов это
детство, основа позднейших фантазий, рассматривается
сквозь чудесную призму этих фантазий, иными словами,
сквозь прозрачную толщу опиума.
VII
ДЕТСКИЕ ПЕЧАЛИ
Он и его три сестры были очень маленькими, когда умер их
отец, оставив матери значительное состояние, настоящее бо-
гатство английского негоцианта. Комфорт, благополучие, рос-
кошная жизнь на широкую ногу весьма благоприятно сказа-
лись на развитии природной чувствительности ребенка. “Не
имея других товарищей, кроме трех малолетних невинных се-
стер, с которыми я даже всегда спал в одной постели, ведя
замкнутую жизнь в прекрасном, тихом саду, вдали от сцен бед-
ности, угнетения и несправедливости, я и не подозревал под-
линной сложности этого мира”. Не раз он благодарил Прови-
дение за эту несравненную возможность не только воспиты-
ваться в деревенской тиши, но “также формировать свои пер-
вые чувства под влиянием нежных сестер, а не ужасных брать-
ев, всегда гемовых выставить кулаки, horrid pugilistic brothers”.
В самом деле, мужчины, воспитанные женщинами и в женском
кругу, совсем не похожи на остальных мужчин даже при равен-
стве темперамента и умственных способностей. Убаюкивания
кормилицы, материнская ласка, воркование сестер, особенно
старших, своего рода маленьких матерей, преображают муж-
ское существо, так сказать, размягчая его. Человек, с рояодения
окунувшийся в нежную женскую среду, в запах рук, груди, коле-
ней, волос, мягких, плавающих одежд,
Dulce balneum suavibus
Unguentatum odoribus,
приобретает нежность кожи и отчетливый выговор, некое по-
добие гермафродизма, без которых даже суровый и мужест-
венный гений остается неполноценным в смысле совершенст-
ва его искусства. Наконец, добавлю, что ранний вкус к женско-
му миру, mundi muliebris, ко всему его волнистому, блестящему,
ароматному устройству возвышает гения, и я уверен, что моя
174
вдумчивая читательница простит мне почти чувственную фор*
му выражения, равно как и одобрит и поймет чистоту моих
размышлений.
Первой умерла Джейн. Но для ее маленького брата эта
смерть еще не была чем-то осязаемым. Джейн просто ушла;
она, несомненно, вернется. Служанка, которой поручили уход
за больной, за два дня до смерти несколько сурово обошлась с
ней. Об этом стало известно в семье, и с той поры мальчик не
мог смотреть в глаза этой девушке. При ее появлении он опус-
кал взгляд — не от озлобления или тайного чувства мести, а
просто от ужаса; от грубо попранной чувствительности, от
смеси страха и предчувствия — вот какое действие оказала
страшная, впервые открывшаяся правда, что этот мир есть мир
несчастья, борьбы и изгнания.
Однако вторую рану, нанесенную его детскому сердцу, ока-
залось не столь просто излечить. По прошествии нескольких
счастливых лет в свою очередь умерла любимая, благородная
Елизавета, девушка столь рано развитой и благородной души,
что, всякий раз вызывая милый дух из мрака, он, как ему каза-
лось, видел светлый ореол или венец вокруг ее широкого лба.
Известие о кончине еще одного любимого им создания, на два
года старше его и уже внушавшего столько уважения, исполни-
ло его неописуемым отчаянием. На другой день после ее смер-
ти, прежде чем любопытство науки осквернило драгоценные
останки, он решил еще раз взглянуть на сестру. “Детское горе
боится света и бежит от взгляда людей”. Поэтому это послед-
нее посещение должно было происходить втайне и без свиде-
телей. Был полдень, и, когда он вошел в ее комнату, его глаза
столкнулись с огромным, настежь распахнутым окном, через
которое струилось великолепие знойного летнего солнца.
“Стояла сухая, безоблачная погода; лазурная глубина неба со-
вершенно проображала собой бесконечность, и этот величай-
ший символ жизни и жизненной славы было больно созерцать
зрением, постигать сердцем”.
В это золотое время года большое, непоправимое несчастье,
обрушивающееся на нас, имеет более мрачное, более зловещее
лицо. Как мы уже отмечали при разборе “Исповеди”, смерть ока-
зывает на нас более глубокое действие в пышное царствование
лета. “Оно создает ужасное противоречие между тропическим
изобилием жизни и черным небытием могилы. Наши глаза ви-
дят лето, а сознание преследует могила; вокруг нас великолепие
света, а мы пребываем во мраке. И, сталкиваясь, эти два образа
175
оказывают друг на друга невыносимое действие”. Но у ребенка,
который позднее станет человеком начитанным, исполненным
проницательности и воображения, у автора “Исповеди” и
“Suspiria” образ лета и мысли о смерти прочно связаны в этом
противоречии и по другой причине — причине, возникшей из
скрытых взаимосвязей меоду пейзажами и событиями из Свя-
щенного Писания. “Большинство глубоких мыслей и чувств воз-
никает у нас не сразу и не в виде готовой абстракции, а через
сложное сочетание конкретных предметов”. Таким образом, Би-
блия, которую молодая служанка читала детям длинными, стро-
гими зимними вечерами, сильно способствовала образованию
связи методу этими двумя мыслями в его воображении. Эта де-
вушка, знавшая Восток, рассказывала им о климате тех стран и,
в частности, очень подробно о лете. Именно в климате Востока,
в одной из благодатных стран вечного лета, претерпел страсти
праведник, который был больше, чем человек. Очевидно, имен-
но летом его ученики срывали пшеничные колосья. Вербное
воскресенье (Palm Sunday) — не им ли тоже навеяно это пред-
ставление? Sunday, день отдыха, образ глубокого, непостижимо-
го сердцу человека отдыха; palm, пальма, слово, некогда внушав-
шее представление о жизненных силах и силах летней приро-
ды! Величайшее в Иерусалиме событие было близко во время
наступления Вербного воскресения. Иерусалим, который, как
Дельфы, имел значение пупа или центра земли, может по мень-
шей мере оббзначать центр всего смертного. Если там была по-
прана Смерть, то там же она раскрыла свое зловещее чрево.
Именно перед лицом лета, в мучительном преизбытке из-
ливавшемся в траурной комнате, он впервые пришел созер-
цать черты милой усопшей. В доме говорили, что смерть не из-
менила их. Лоб был прежним, но неподвижные веки, бледные
губы, сложенные руки ужасно поразили его, и, пока он замер в
созерцании, поднялся и яростно задул торжественный ветер,
“самый унылый ветер, который я когда-либо слышал”. Впос-
ледствии ему множество раз в летние дни, когда солнце грело
сильнее всего, доводилось слышать, как поднимается все тот
же ветер, “разносящий все тот же глухой, торжественный, ме-
мнонический, религиозный голос”. Это единственный символ
вечности, добавляет он, который позволено слышать челове-
ческому уху. Так трижды в жизни, при тех же обстоятельствах
он слышал все тот же звук — мезвду распахнутым окном и тру-
пом человека, умершего одним летним днем.
Неожиданно его глазам, очарованным блеском жизни, срав-
176
нивающим великолепие и славу небес с холодом, покрывавшим
лицо умершей, открылось странное видение. В лазури будто
обозначился какой-то проход, купол — какая-то дорога, ведущая
в бесконечность. И его дух поднялся на голубых волнах; и эти
волны, и его дух понеслись к престолу Бога; но престол беспре-
станно удалялся перед отчаянным преследованием. В этом не-
обычайном экстазе он уснул, а когда снова очнулся, то обнару-
жил себя сидящим у постели своей сестры. Так одинокий ребе-
нок, подавленный первым горем, оказался восхищенным к Богу,
одинокому в высшей степени. Так инстинкт, превосходящий
любую философию, заставил его искать во сне, ниспосланном с
неба, временное утешение. Тогда ему послышались шаги по ле-
стнице, и, испугавшись быть застигнутым в этой комнате, чтобы
ему не запретили вернуться сюда, он поспешно поцеловал губы
своей сестры и осторожно удалился. На другой день пришли
врачи для вскрытия мозга; он не знал цели их прихода, и, когда
спустя несколько часов они ушли, он вновь попытался проник-
нуть в комнату; но дверь оказалась запертой, а ключ — унесен-
ным. Так он был избавлен от зрелища обесчещенных беспар-
донной наукой останков той, чей умиротворенный образ, не-
подвижный и чистый, словно мрамор или стекло, ему с тех пор
удалось сохранить в неприкосновенности.
Потом были похороны, новые мучения; страдания от поезд-
ки на катафалке вместе с безразличными людьми, которые ве-
ли разговоры, далекие от его боли; ужасные звуки органа, вся
торжественность христианского обряда, слишком тяжелого
для ребенка, с обещаниями религии, которая, возвышая его се-
стру на небесах, ничем не могла восполнить ее утрату на зем-
ле. В церкви ему сказали держать у лица платок. Была ли ему
нужда изображать скорбное лицо и радость сквозь слезы —
ему, который едва стоял на ногах? Свет зажигал цветные витра-
жи, на которых апостолы и святые кичились своей славой; в
последующие дни, когда его приводили на службу, его глаза,
устремленные на бесцветную часть витражей, беспрестанно
смотрели на превращение пухлых облаков в белые занавески
и подушки, на которых покоились страждущие, плачущие,
умирающие детские головки. Эти кроватки поднимались все
выше к небу, возвращаясь к Богу, который так любит детей.
Впоследствии много времени спустя три отрывка из заупокой-
ной службы, которые он хорошо расслышал, но которые, воз-
можно, не слушал или которые разбередили его боль своей,
когда он уже утешился, всплыли в его памяти в глубоко мисти-
177
ческом смысле, со словами освобождения, воскресения и веч-
ной жизни, и стали частой темой его рассуэедений. Но задолго
до этого времени он вкусил от одиночества того незабываемо-
го ощущения, которое свойственно всем глубоким душам, осо-
бенно тем, кто не желает утешения. Раздольная деревенская ти-
шина, лето, прошитое отвесным светом солнца, туманный
полдень наполняли его душу опасным сладострастием. Его гла-
за терялись в небесах и тумане в поисках чего-то безвозврат-
ного, он привык исследовать голубые глубины, разыскивая там
дорогой образ, которому в силу особой привилегии было бы
позволено открыться ему еще раз. К моему величайшему сожа-
лению, он сократил эту чрезмерно длинную часть с рассказом
об этой глубокой, тягучей, безвыходной, как лабиринт, боли.
Вся его сущность была втянута в это, и каждый предмет в свою
очередь становился носителем одной-единсгвенной мысли.
Время от времени эта боль распускалась скорбными, манящи-
ми цветами, одновременно печальными и пышными; их
скорбно-любовный оттенок часто превращался в словесную
игру. Разве траур не имеет своей пищи? Душа расточает не
только искренность слез: в ней также невольно присутствует
неповторимая и новая радость от вида того, как разрастается
эта пылкая, тонкая загадочность, свойственная саду римской
Церкви. Наконец, настало время, когда эта болезненная чувст-
вительность, питавшаяся одними воспоминаниями, и эта без-
мерная страсть к одиночеству могли бы преобразиться в поло-
жительную угрозу — то решающее, критическое время, когда
отчаявшаяся душа говорит себе: “Если те, кого мы любим,
больше не вернутся к нам, что мешает нам отправиться к
ним?” когда одержимое, очарованное воображение с наслаж-
дением вкушает изысканное притяжение могилы. К счастью, с
возрастом пришла работа и вынужденное отвлечение. Ему
пришлось взвалить на себя первый груз в жизни и пригото-
виться к изучению классических наук
На следующих, более веселых страницах мы обнаруживаем
все тот же дух женской нежности, теперь обращенный к жи-
вотным, сим любопытным рабам человека — к кошкам, соба-
кам, всем тем, кого можно легко стеснить, подавить, привязать.
Кстати, разве по своей неистощимой радости, простоте живот-
ное не похоже на некий образ человеческого детства? Здесь
нежность маленького мечтателя, целиком обращаясь на новые
предметы, остается верной своему первоначальному характе-
ру. В более или менее совершенной форме он также любил
178
слабость, невинность и простодушие. Среди главных особен-
ностей и черт, которыми судьба наградила его, следует также
отметить вящую утонченность сознания, которое, в соедине-
нии с его болезненной чувствительностью, безмерно раздува-
ло в его глазах всякую пошлость, а также порождало из мель-
чайших, почти несуществующих промахов страх, который, к
несчастью, был слишком реальным. Наконец, пусть читатель
представит себе ребенка такого склада, лишенного предмета
своего первого и величайшего обожания, любящего одиноче-
ство и не имеющего, кому довериться. Отсюда читатель пре-
красно поймет, что многие феномены, разыгранные в театре
снов, должны быть повторением испытаний первых лет жиз-
ни. Судьба посеяла свои семена; опиум же вырастит всходы и
превратит их в необычайную, пышную растительность. Обра-
зы детства, говоря авторской метафорой, стали естественным
коэффициентом опиума. Эта рано развившаяся способность
идеализировать всякую вещь и придавать ей сверхъестествен-
ный размах — способность, давно культивируемая и использу-
емая им в одиночестве, должна была в Оксфорде под дальней-
шим действием опиума принести плоды, потрясающие и неве-
роятные даже для большинства молодых людей его возраста.
Читатель помнит приключения нашего героя в йллии,
страдания в Лондоне и примирение с опекунами. Теперь он на-
бирается знаниями в университете, как никогда более склон-
ный к мечтаниям, извлекая из вещества, которое познал, как
уверяет нас, в Лондоне из-за болей на нервной почве, опасный
и мощный катализатор для своей скороспелой способности к
сновидениям. Он занял свою новую жизнь переживанием пер-
вой. Сколько раз в часы досуга, после занятий, он видел мрач-
ную комнату, где находился труп его сестры, свет лета и холод
смерти, дорогу, открытую для неземного восторга в лазурном
куполе небес; затем священника в черном стихаре рядом с от-
рытой могилой, опускание гроба на землю, возвращение пра-
ха в прах; и, наконец, витражных святых и мучеников, озарен-
ных солнцем и превращенных в чудесную раму для белых кро-
ваток, милых детских колыбелей, которые возносятся к небу в
сопровождении суровых звуков органа! Все это он пережил
вновь, но пережил с вариациями, фиоритурами, в более насы-
щенных или мимолетных красках; он пережил весь мир своего
детства, но обогащенный поэзией его теперь уже взращенно-
го, утонченного ума, привыкшего извлекать величайшие радо-
сти из одиночества и воспоминаний.
179
VIII
ОКСФОРДСКИЕ ВИДЕНИЯ
ПАЛИМПСЕСТ
“Что есть мозг человека, как не огромный природный па-
лимпсест? Мой мозг — палимпсест, и твой, читатель. Бесчис-
ленные слои мыслей, образов, чувств поочередно оседают на
мозг с мягкостью света. Кажется, будто каждый из них погреба-
ет под собой предыдущий, но ни один не исчезает совсем. Од-
нако между палимпсестом, что несет на себе наложенные друг
на друга греческую трагедию, монашескую легенду и рыцар-
скую историю, и палимпсестом божественным, созданным Бо-
гом, который и есть наша безграничная память, существует та
разница, что в первом случае это фантастический хаос, а во
втором — фатальность характера, навязывающего гармонию
бесконечно далеким друг от друга предметам. Сколь бы бес-
связным ни было существование, единство личности не нару-
шается. Эхо многих воспоминаний, если бы их можно было
пробудить одновременно, соединилось бы в хор, приятный
или болезненный, но логичный и не имеющий диссонансов.
Весьма часто человек, ввергнутый во внезапное событие,
тонущий в воде, видит на пороге смерти весь театр пережито-
го, вспыхнувший вдруг в мозгу. Времени больше нет, и не-
скольких мгновений довольно, чтобы вместить груз годами
накопленных образов и переживаний. В этом опыте, который
случай проводил не один раз, самое необычайное состоит не
в одновременном воскрешении стольких частиц, которые не-
когда следовали друг за другом, а в возвращении всего того,
что человек перестал узнавать, но что теперь он принужден
узнать как свою принадлежность. Таким образом, забвение
лишь временно, и в подобных торжественных обстоятельст-
вах, возможно, в минуту смерти, а также в целом в состоянии
сильного возбуждения под действием опиума, весь громад-
ный и сложный палимпсест памяти разворачивается в мгно-
вение ока со всеми осажденными на нем слоями усопших пе-
реживаний, загадочно забальзамированных в то, что мы на-
зываем забвением.
Гений, меланхолик и мизантроп, в отместку за несправед-
ливость своего века, однажды решает предать огню все свои
рукописи. В ответ на упрек, что это ужасное разрушение, со-
вершенное из ненависти, приканчивает к тому же его собст-
180
венные надежды, он говорит: “Ну так что? Равное, что все это
создано, а, раз создано, значит, оно есть”. Он верил, что все со-
зданное неразрушимо. Как же верно относится это представле-
ние к нашим мыслям, ко всем нашим действиям, хорошим или
дурным! И если в этой вере есть нечто бесконечно утешитель-
ное, когда наш дух поворачивается к той части нас самих, ко-
торую мы охотно рассматриваем, то нет ли в ней чего-то бес-
конечно ужасного в неизбежном будущем, когда наш дух по-
вернется к той нашей части, на которую мы не можем взирать
без ужаса? В духовном, как и в материальном, ничто не исчеза-
ет бесследно. Поэтому любое действие, ввергнутое в хоровод
вселенского действия, само по себе безвозвратно и непопра-
вимо, даже если забыть о его возможных последствиях; поэто-
му всякое помышление неистребимо. Палимпсест памяти
нельзя разрушить.
Да, читатель, бесчисленны поэмы радости или печали, на-
чертанные одна за другой на палимпсесте твоего мозга, и, как
листва девственных лесов, как вечные снега №малаев, как свет,
падающий на свет, их слои беспрестанно накапливаются, и ка-
ждый в свой черед облекается в забвение. Но в час смерти или
же в лихорадке, или в познании опиума все эти поэмы могут
вернуться к жизни. Они не умерли — они спят. Кажется, что
греческая трагедия уступила место монашеской легенде, а мо-
нашеская легенда — рыцарскому роману, но это не так. По ме-
ре движения человека по жизни роман — очарование его мо-
лодости и сказочная легенда — обольщение его детства сами
по себе меркнут и выцветают. Но глубокие детские трагедии —
детские руки, навсегда отнятые от шеи своих матерей, детские
губы, навсегда лишенные ласки своих сестер,— продолжают
жить втайне под другими легендами палимпсеста. Страсть и
болезнь не имеют достаточно силы, чтобы выжечь эти бес-
смертные отпечатки”.
ЛЕВАНА
И ТРИ МАТЕРИ ПЕЧАЛЕЙ
“В Оксфорде я часто видел Левану во сне. Я узнавал ее по
римской символике”. Но кто такая Левана? Это римская боги-
ня, руководительница ребенка в первые часы его жизни, кото-
рая придавала ему, так сказать, человеческое достоинство. “Во
время рождения, коща ребенок впервые вкушал тревожный
181
воздух нашей планеты, его клали наземь. Но почти тотчас, из
страха, чтобы столь великое существо не пресмыкалось по зе-
мле более мгновения, его отец как исполнитель воли богини
Леваны или кто-нибудь из близких родственников, исполняю-
щий волю отца, поднимал дитя в воздух, повелевая ему взирать
с высоты, как царю сего мира; и он обращал лоб ребенка к зве-
здам, возможно говоря при этом про себя: “Взгляните на того,
кто больше вас!” Сей символический акт проображал роль Ле-
ваны. И эта таинственная богиня, никогда не открывавшая
своих черт (кроме как в моих снах) и всегда действующая че-
рез посланцев, берет свое имя от латинского глагола levare, что
значит “поднимать в воздух’, “держать на весу".
Разумеется, многие понимают под Леваной хранительницу,
которая надзирает и заведует воспитанием детей. Однако не
надо думать, что здесь речь идет о педагоге, царе азбуки и
грамматики; нужно прежде всего представить “обширную сис-
тему коренных сил, которая скрыта в самом сердце человечес-
кой жизни и которая неустанно воспитывает детей, шаг за ша-
гом обучая их тому, что есть страсть, борьба, искушение, сила
сопротивления”. Левана облагораживает охраняемого ею че-
ловека, но жестокими средствами. Она сурова и жестока, эта
благая наставница, и ради усовершенствования человека, к ко-
торому она чувствует наибольшую привязанность, она охот-
нее всего использует боль. Ей подвластны три богини, которы-
ми она чертит свои таинственные пути. Подобно тому как есть
три Грации, три Парки, три Фурии, как изначально были три
Музы, также есть три богини печалей. Это наши Матери Печа-
лей.
Я часто видел, как они беседуют с Леваной и даже иногда со
мной. Они говорят? О, нет! Сим могущественным призракам
чуждо несовершенство языка. Они способны внушать слова
через органы человека, когда обитают в человеческом сердце,
но между собой они не пользуются голосом, не произносят
звуков — вечная тишина властвует в их царствах... Старшую
сестру зовут Mater Lachrymarum или Матерь Слез. Денно и
нощно она в бреду и стонах воскрешает исчезнувшие образы.
Это она была в Раме, когда слышался крик Рахили, плачущей
по детям своим и не хотящей утешиться. Она была в Вифлееме,
в ночь, когда меч Ирода вымел всех невинных из их убежищ...
Ее взгляд — то нежный и пристальный, то испуганный и сон-
ный — часто поднимается к облакам, часто обвиняет небеса.
Она носит на голове диадему. И из детских воспоминаний мне
182
известно, что она может перелетать на ветрах, заслышав рыда-
ния литании или гром органа или же завидев сгущение летних
облаков. Эта старшая сестра носит на поясе ключи, могущест-
веннее папских, и открывает ими всякую хижину и всякий дво-
рец. Я знаю, это она все прошлое лето сидела у изголовья сле-
пого нищего, с которым я так любил беседовать и чья набож-
ная светлолицая дочь восьми лет отказалась от искушения
присоединиться к городским торжествам и весь день скита-
лась по пыльным дорогам вместе со своим страждущим отцом.
За это Бог послал ей большую награду. Весной, котда она сама
начала расцветать, он позвал ее к себе. Ее слепой отец все вре-
мя оплакивает ее, и все время в полночь он видит во сне, как
держит в своей руке ее ручку, которая вела его, и все время про-
сыпается во мраке, новом и более глубоком мраке... С помо-
щью этих ключей Матерь Слез мрачным призраком проникает
в комнаты бессонных мужчин, бессонных женщин, бессонных
детей, от Ганга до Нила, от Нила до Миссисипи. И, так как она
родилась первой и ей принадлежит огромнейшая империя, мы
даем ей почетное звание Мадонны.
Вторую сестру зовут Mater Suspiriorum, Матерь Воздыханий.
Она никогда не поднимается на облака, не прогуливается на
ветрах. Нет диадемы на ее лбу. Взгляд ее, кабы был видим, не
показался бы ни нежным, ни пристальным; он ничего не рас-
скажет; в нем найдешь лишь спутанную смесь полуумерших
снов и осколков забытого бреда. Она никогда не поднимает
глаз; ее голова, завитая в тюрбан из локонов, всегда склонена и
всегда смотрит вниз. Она не плачет, не стонет. Время от време-
ни она расточает еле различимые вздохи. Сестра ее, Мадонна,
имеет несколько бурный и необузданный склад, исступленно
требуя от небес возврата своих возлюбленных. Но Матерь Воз-
дыханий никогда не возносит ни криков, ни обвинений и ни-
когда не лелеет бунт. Она смиренна до самоотречения. Ее сла-
дость от существ без надежды... Если она иногда что-то бормо-
чет, то лишь в уединенных местах, скорбных ,как она сама,
среди разрушенных городов, котда солнце опустилось на по-
кой. Эта сестра навещает Пария, Иудея, раба на галерах; жен-
щину, сидящую во мраке и не имеющую ни приюта любви для
своей головы, ни луча надежды для одиночества; всякого плен-
ника в его темнице; всех тех, кого предали и кого отвергли;
всех изгнанных по закону отцов и детей, наследников бесче-
стья. Всех их сопровождает Матерь Воздыханий. Она тоже но-
сит ключ, но он едва ли нужен ей. Ведь ее царство прежде все-
183
го среди шатров Шама и блудных сыновей всех широт. Однако
и среди царей земных ей находятся жертвенники, и даже в
славной Англии есть люди, гордо носящие перед миром голо*
ву и имеющие ее тайную отметину на своем лбу.
Но третья, самая младшая сестра!.. Тсс! о ней говорят лишь
шепотом. Ее владения не велики, иначе погибла бы всякая
плоть, но в этих владениях ее власть абсолютна... Даже сквозь
тройную вуаль из крепа вокруг ее головы, сколь бы высоко она
ни несла ее, снизу виден ярчайший свет ее глаз, свет отчаяния,
не угасающий ни днем, ни ночью, ни в полночь, ни в полдень,
ни в час прилива, ни в час отлива. Это она бросает вызов Богу.
Она также мать безумных и советчица самоубийц... Мадонна
шествует неровным шагом, то медленным, то скорым, но с не*
изменной трагической грацией. Матерь Воздыханий скользит
кротко и осторожно. Но движения самой младшей сестры со*
вершенно непредсказуемы; она бросается вперед тигриными
прыжками. У нее нет ключа, потому что, сколь редко бы она ни
посещала людей, когда ей позволено подойти к чьей-нибудь
двери, она берет ее приступом и вламывается внутрь. Имя ей
Mater Tenebrafum, Матерь Мрака.
Таковы три Эвмениды, или Милостивые Богини (говоря
словами античной лести, навеянной страхом), которые пре-
следовали меня в оксфордских снах. Мадонна говорила своей
таинственной рукой. Она касалась моей головы; она пальцем
призывала Матерь Воздыханий, и ее знаки, которые человек
не может прочитать иначе, как во сне, можно перевести так:
“Смотри! вот тот, кого я с детства посвятила своим алтарям.
Вот тот, кто с детства избран мною. Я сбила его с пути, соблаз-
нила его, и с высоты небес я восхитила его сердце к своему. Че-
рез меня он стал поклоняться идолу; через меня, исполнив-
шись страсти и неги, он возлюбил червя земли и обратился с
молитвами к смрадной могиле. Могила для него священна,
мрак приязнен, развращение свято. Сей юный идолопоклон-
ник приготовлен мною тебе, милая и нежная Сестра Воздыха-
ний! Прими его в свое сердце и приготовь для нашей страш-
ной Сестры. А ты — поворачиваясь к Mater Tenebrarum — в
свой черед прими его от нее. Да будет твой скипетр тяжел на
его главе. Не позволяй никакой женщине с ее нежностью си-
деть близ него в ночи. Изгони всякую слабость надежды, иссу-
ши бальзам любви, выжги источник слез; прокляни его так, как
только ты умеешь проклинать. Да будет он совершенным в сво-
ем пекле; да увидит он то, что видеть не должно,— тошнотвор-
184
ные сцены и несказанные тайны. Пусть прочтет он древние нс*
тины — великие, печальные, ужасные истины. Пусть он воскре-
снет до своей смерти. И тогда исполнится заповеданное нам
Богом — терзать сие сердце до тех пор, пока не закалится дух”.
ПРИЗРАК БРОКЕНА
Поднимемся на Брокен погожим воскресным днем Святой
Троицы. Чудная, безоблачная заря! Однако иногда апрель все
же совершает последние набеги на эту пору обновления и оро-
шает ее своенравными ливнями. Взберемся на вершину горы;
такое утро вернее всего обещает нам знаменитый призрак
Брокена. Этот призрак столь долго бытовал у языческих колду-
нов, присутствовал при стольких поклонениях черным идо-
лам, что его сердце, наверное, развратилось, а вера поколеба-
лась. Сначала для опыта нужно перекреститься и внимательно
следить, согласится ли он повторить это. В самом деле, он по-
вторяет; но приближающееся сплетение волн нарушает форму
предметов и придает ему вид человека, выполняющего свой
долг с отвращением или уклончиво. Повторите опыт, “сорвите
ту анемону, что иначе зовется колдовским цветком — возможно,
она тоже играла свою роль в ужасных ритуалах страха. Поло-
жите ее на камень, повторяющий форму языческого жертвен-
ника; встаньте на колени и, подняв правую руку, скажите: Отче
наш, иже еси на небесех!.. я, твой раб, и сей черный призрак,
коего в сей день Святой Троицы я сделал своим рабом на час, по-
клоняемся тебе на сем жертвеннике истинного поклонения! —
Смотрите! привидение срывает анемону и кладет ее на жерт-
венник; оно становится на колени и поднимает правую руку к
Богу. Правда, оно безмолвствует, но немые могут служить Богу
весьма приемлемым образом”.
Возможно, вы думаете, что этот призрак, испокон веку при-
выкший к слепой преданности, дошел до подчинения любому
культу и что его естественное раболепство лишает такое по-
клонение смысла. Поищем другой способ проверить сущность
сего странного создания. Предположим, что в детстве вы пере-
несли неистребимую боль, испытали неизлечимое отчаяние,
немое горе, что проливает слезы под покровом, как Иудея пе-
ред блеском Рима, печально сидя под своей пальмой. Прекло-
ните голову в память об этом великом страдании. Вот, призрак
Брокена тоже преклонил голову, будто имея человеческое
сердце и желая беззвучным знаком выразить память о боли
185
столь великой, что ее не выразить словами. “Это решающий
опыт. Теперь вы знаете, что видение есть не что иное, как ваше
собственное отражение и что, обращаясь к призраку с выраже-
нием своих тайных чувств, вы превратили его в символичес-
кое зеркало, где при свете дня отражается то, что иначе оста-
лось бы спрятанным навсегда”.
При любителе опиума также находится Темный Толкова-
тель, состоящий в тех же отношениях с его душой, что и при-
зрак Брокена — с путником. Как тот бывает возмущаем бурями,
туманами и ливнями, так и зеркальная сущность Таинственно-
го Толкователя может иметь примесь чужеродных элементов.
“Обычно он говорит только то, что я говорю себе наяву в глу-
боких размышлениях, оставляющих свой след в моем сердце.
Однако иногда его слова изменчивы, как его лик, и не похожи
на те, что употребил бы я. Ни одному человеку не дано осоз-
нать происходящее во сне. Мне кажется, сей призрак в целом
являет собой мое достоверное изображение, но время от вре-
мени им движет добрый Фантаз, повелитель снов”. Можно ска-
зать, что он обнаруживает некоторую связь с хором из гречес-
кой трагедии, который часто выражает сокровенные мысли
главного героя — сокровенные от него самого или не закон-
ченные, — сопровождая их комментарием, пророческим или
относящемся к прошлому, во оправдание Провидения или ус-
покоения пламени тревог, наконец, такие мысли, которые не-
счастный открыл бы сам, кабы сердце дало ему время на раз-
мышление.
САВАННА-ЛА-МАР
Эта галерея грустных картин, широких и трогательных ал-
легорий печали, в которых я нахожу (не знаю, разделит ли это
ощущение читатель, видящий их в сокращении) в равной мере
музыкальное и художественное очарование, дополняется от-
рывком, могущим стать финалом огромной симфонии.
“Господь поразил Саванну-ла-Мар и в одну ночь опустил ее
с нетронутыми памятниками и спящими жителями на твердое
основание океанского дна среди коралловых рифов. Говорит
Господь: “Мною погребена Помпея и спрятана от человеков на
семнадцать веков; сей город будет погребен Мною, но Я не
спрячу его. Он останется для человеков памятником Моего та-
инственного гнева, застывшим в лазурном свете на поколения
вперед, ибо Я заключу его в хрустальный купол Моих тропиче-
186
ских морей”. И часто в штиль сквозь прозрачное тело вод мо-
ряки с проходящих кораблей видели этот затихший город, что,
как говорят, хранится под стеклянным колпаком, пробегались
взглядом по его площадям и террасам, считали его ворота и
колокольни его церквей: “Огромное кладбище, очаровываю-
щее глаз как некое феерическое откровение человеческой
жизни, неизменное в подводных пустынях, удаленное от бурь,
терзающих наш воздух”. Много, много раз в сопровождении
Черного Толкователя он навещал Саванну-ла-Мар в ее нетрону-
том одиночестве. Вместе они смотрели с дозорной башни на
неподвижные колокольни в тщетном ожидании свадеб; они
подходили к органам, больше не славящим ни небесное лико-
вание, ни человеческие печали; вместе они посещали затих-
шие спальни с детьми, спящими уже пять веков.
“Они ждут небесной зари, — очень тихо сказал сам себе
Черный Толкователь, — и когда взойдет эта заря, колокола и
органы воспоют песнь ликования, повторяемую эхом в Раю”.
Затем, повернувшись ко мне, он сказал: “Вот место печалей и
скорбей; но ни малейшее бедствие не находит без воли Божь-
ей. Хорошо пойми это... Настоящее сводится к математичес-
кой точке, но даже эта математическая точка погибнет тысячу
раз, прежде чем можно будет утвердить ее рождение. В настоя-
щем все конечно, и это конечное равным образом бесконечно
в скорости своего движения к смерти. Но для Бога нет ничего
конечного; в Боге нет ничего преходящего; в Боге нет ничего,
что приводит к смерти. Из этого следует, что для Бога настоя-
щее не существует. Для Бога настоящее есть будущее, и ради бу-
дущего Он приносит в жертву настоящее человека. Поэтому
Он являет силу в землетрясениях. Поэтому Он является в стра-
дании. О, глубока пахота землетрясения! О, глубока (здесь его
голос возвышается, как sanctus, возносимый хором в соборе),
глубока работа страдания! Но не меньше этого нужно для воз-
делывания сада Господня. В одну ночь землетрясения Он воз-
водит для человека дивные обители на тысячу лет. Из страда-
ния ребенка Он извлекает духовный урожай Своей славы, ко-
торый иначе бы навеки остался несобранным. Менее суровый
плуг не перевернет непокорную почву. Земле, нашей планете,
обиталищу человека, нужны сотрясения; а страдание, мощней-
шее орудие Бога, часто еще нужнее, да (он торжественно взгля-
нул на меня), оно совершенно необходимо таинственным де-
тям земли!”
187
IX
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на свой в целом символический характер, эти
пространные фантазии, поэтические картины являются для
проницательного читателя куда лучшей иллюстрацией нравст-
венного характера нашего автора, чем будущие биографичес-
кие рассказы или заметки. В последней части “Suspiria” он еще
как бы с удовольствием возвращается к уже столь далеким го-
дам, но самое ценное, здесь и везде, не факты, а комментарий —
комментарий часто черный, горький, скорбный; одиночество
мысли, стремящейся улететь вдаль от этой земли, вдаль от теа-
тра человеческой борьбы; огромный взмах крыльев к небу; мо-
нолог всегда слишком легко ранимой души. Здесь, как и в уже
рассмотренных частях, эта мысль представляет собой тирс, о
котором он столь охотно рассказал с искренностью блудного
сына, хорошо познавшего себя. Сюжет здесь лишь сухая, голая
палка; но игривое переплетение лент, виноградной лозы и
цветов может придать ему богатство, драгоценное для глаз.
Мысль Де Квинси не просто извилиста, это слишком слабо ска-
зано: она причудлива по своей природе. Кроме того, анализ
этих комментариев и размышлений требует весьма много вре-
мени, а мне пора вспомнить, что цель сего труда состоит в том,
чтобы на примере показать воздействие опиума на вдумчивый
ум, склонный к мечтаниям.
Довольно будет сказать, что мыслитель-одиночка охотно
преодолел ту скороспелую чувствительность, которая сдела-
лась источником его стольких ужасов и стольких наслажде-
ний, свою безмерную любовь к свободе и страх, внушаемый
ему ответственностью. “Уже в моей первой молодости ужас
жизни смешался с ее небесной сладостью”. На этих последних
страницах “Suspiria” есть нечто траурное, погибшее и притом
устремленное к земле. Игривость и веселость, готовность по-
смеяться над собой, которую он столько раз подтверждал, еще
проскальзывают кое-где по поводу юношеских странствий; но
что очевиднее всего, что бросается в глаза, это лирические из-
вержения неизлечимой тоски. Например, по поводу людей, ог-
раничивающих нашу свободу, печалящих наши чувства и на-
рушающих законнейшие права юности, он пишет: “О, как они
могут называть себя друзьями этого мужчины или этой жен-
щины, если не кто иной, как этот мужчина или эта женщина в
188
верховный час смерти скажут им на прощание: “Истинно гово-
рю вам, не знаю вас!” Или же он цинично выпускает следую-
щее признание, которое, признаюсь столь же искренне, имеет
для меня почти братское очарование: “Те редкие люди, кото-
рые на этом свете вызывали во мне отвращение, как правило,
были людьми процветающими и уважаемыми. Что же до зна-
комых мне мошенников, которых немало, я обо всех них без
исключения думаю с удовольствием и доброжелательно”. Ми-
моходом заметим, что это благодушное размышление возник-
ло опять-таки по поводу адвоката с сомнительными занятия-
ми. Далее он утверждает, что, если бы жизнь могла по волшеб-
ству раскрыться перед нами, если бы наш глаз, еще юный, мог
пробежаться по ее коридорам, осмотреть залы и комнаты сего
постоялого двора, театры будущих трагедий и наказаний, ожи-
дающих нас и наших друзей, всех, то мы бы отпрянули в ужа-
се! Нарисовав с неподражаемым изяществом и изобилием кра-
сок картину семейного благополучия, великолепия и чистоты,
красота и доброта которой обрамлены ее богатством, он по-
степенно показывает нам грациозных героинь семьи, от мате-
ри до дочерей, всех из которых в свою очередь окутывает тя-
желое облако несчастья; в заключение он говорит: “Мы можем
глядеть смерти в лицо; но если бы знать, как некоторые из нас
знают сейчас, что такое человеческая жизнь, кто тогда смог бы
без содрогания (будучи уведомлен заранее) взглянуть в лицо
часу своего рождения?”
Под одной из страниц я обнаружил примечание, которое
ввиду недавней кончины Де Квинси приобретает скорбное
значение. По замыслу автора “Suspiria de profiindis” должна
быть необычайно дополнена и расширена. В примечании го-
ворится, что легенда о трех Сестрах Печалей послужит для ес-
тественного разделения последующих изданий. Поэтому пер-
вая часть (смерть Елизаветы и скорби ее брата) логически от-
носится к Мадонне или Матери Печалей, новая часть — “Мир
Париев” — должна попасть под покров Матери Воздыханий,
тогда как Матерь Мрака должна опекать “Царство мрака”. Но
Смерть, которую мы не посвящаем в свои замыслы и от кото-
рой не можем требовать согласия, та Смерть, что позволяет
нам мечтать о счастье и добром имени и не говорит ни да, ни
нет, вдруг появляется из засады и одним махом опрокидывает
наши планы, мечты и все идеальное сооружение, в котором мы
мысленно укрываем славу своих последних дней!
189
Заметки к лекциям,
ПРОЧИТАННЫМ ШАРЛЕМ БОДЛЕРОМ
В 1864 ГОДУ В БРЮССЕЛЕ
Господа, я счел излишним де-
лать полный доклад о возбуждающих веществах, общий хара-
ктер которых состоит в порождении слабости, сообразной
возбуждению, и наказания столь же жестокого, сколь живой
была пережитая радость. Было бы также излишним говорить о
вульгарных возбуждающих веществах, как, например, абсент,
чай, кофе, хинное вино или даже кока или эритроксилон, это
необыкновенное растение, листья которого, если их жевать,
приносят бодрость и снимают сонливость, подавляя аппетит,
или же об исландской цикуте, употребление которой, как гово-
рят, позволяет увидеть глазами отравленного мозга всю чудо-
вищность допотопного мира.
Здесь многое имеет отношение к медицине. Мне же хочет-
ся издать книгу не о чистой физиологии, но прежде всего о
нравственности. Я хочу доказать, что искатели рая создают се-
бе ад, готовят его и роют с таким успехом, что, возможно, их
ужаснет само'предвидение его.
Первая часть этой книги “Поэма о гашише” написана пол-
ностью мной. Она состоит из нескольких глав, названия кото-
рых я буду называть поочередно. Вторая и третья части пред-
ставляют собой анализ одной весьма любопытной книги, вы-
шедшей в Англии (“Любитель опиума” Де Квинси), куда я отры-
вочно добавил свои личные размышления. Но, насколько я до-
полнил собой личность автора, я сейчас затруднился бы отве-
тить. Я создал такую амальгаму, что уже не могу распознать,
что исходит от меня,— впрочем, эта доля наверняка незначи-
тельна.
[к стр. 166]
Господа, мы подошли к концу невольных и мучительных
видений опиума. Наше собрание уже столь затянулось, что мне
придется отложить на вечер историю выздоровления, ложного
выздоровления любителя опиума...
190
[к стр. 171, примечание]
...злоба — вот слово, над которым следует поразмыслить
фанатикам всех партий (которые в большинстве своем глуп-
цы, но глупцы опасные).
[к стр. 173]
Детские страдания — первопричина произведений искусст-
ва. Жилище ребенка, дерево, цветы, мрачная комната. Одарен-
ный ребенок, родившийся в таком жилище, не будет похож на
одаренного взрослого, родившегося в иной обстановке.
[к стр. 174]
Вкус к женскому миру возвышает гения. Уверен, что рассу-
дительные дамы, слушающие меня сейчас, поймут почти чув-
ственную форму моих выражений и примут их...
[конец]
Мне остается, господа, сердечно поблагодарить вас за бла-
госклонное гостеприимство и удивительное внимание, оказан-
ное вами этим несколько затянутым лекциям...
Жизнь И ТВОРЧЕСТВО
Эдгара по
У того, кого терзали неудачи и печали,
У того, кому слагали песни горе и нужда,
Ко всему припев единый знали
горе и нужда,
И припев тот: “Никогда”.
Э.По. ‘Ворон” (Пер. В. Брюсова)
Судьба, сидя на своем несокрушимом троне, изде-
вается над ними, напитывает их губку горькой
желчью, а нужда давит их в своих тисках.
Теофиль 1Ътъе. “Тьма"
I
Не так давно на суд наш предстал несчастливец, на челе ко-
торого была вытиснена редкая и странная надпись: “Нет счас-
тья”. Так носил он над глазами ярлык своей жизни, как назва-
ние книги на корешке, и суд признал, что эта необычайная
надпись была жестоко справедлива. В истории литературы
встречаются аналогичные судьбы — истинные проклятия
выпадают люди, у которых слово “несчастье” написано таин-
ственными письменами в глубоких морщинах их чела. Слепой
ангел искупления овладевает ими и безжалостно стегает их
своим бичом в назидание прочим людям. Напрасно они про-
являют таланты, доблести, красоту. У общества есть для них
особая анафема, оно осуждает в них слабости, порожденные
его же гонением. Чего только не делал Пэфман, чтобы смягчить
свою судьбу, чего только не предпринимал Бальзак, чтобы уми-
лостивить рок? Или, быть может, существует какое-то особое
дьявольское Провидение, которое с колыбели уготовляет не-
счастье, которое умышленно посылает одаренные, ангельски
чистые натуры во враждебную среду, как мучеников в цирк?
Или существуют священные души, предназначенные для алта-
ря, обреченные идти к смерти и славе через уничтожение са-
мих себя? Всегда ли кошмар Тьмы будет давить этих избранни-
ков? Напрасно бьются они, напрасно приспособляются к све-
ту, к его попечениям и хитростям. И пусть будут они чрезвы-
чайно бдительны, забьют все выходы, заколотят окна, боясь
192
ядер случая, — Дьявол войдет через замочную скважину. Совер-
шенство будет незащищенным местом в их броне, а выдающи-
еся достоинства — зародышем их проклятия.
Орел, чтобы уничтожить их,
с небосвода
Бросить черепаху на их обнаженную
голову,
Ибо они неизбежно должны погибнуть.
Чтоб голову разбить,
Орел из-под небес,
Обрушит честных на их открытый лоб,
Ибо они должны погибнуть наконец.
Их судьба написана во всем их существе, она сверкает в
мрачном блеске глаз, в движениях, она переливается в жилах с
каждым кровяным шариком.
Один знаменитый современный писатель написал книгу в
доказательство, что поэт не может найти себе подобающего
положения ни в демократическом, ни в аристократическом об-
ществе, ни в республике, ни в монархии, абсолютной или уме-
ренной. И что же? Нашелся ли хоть один человек, который ос-
мелился бы решительно опровергнуть его? Я хочу теперь при-
вести еще одну легенду в пользу этого взгляда, я хочу приба-
вить еще одного святого к списку мучеников, я хочу написать
историю одного из тех великих страдальцев, который, будучи
с избытком одарен поэтическим чувством и страстью, явился
вслед за многими другими в этот подлый мир, чтобы начать тя-
желое испытание гения, поучаясь у более низких людей.
Потрясающая трагедия, жизнь Эдгара По! Его смерть — по-
истине ужасная развязка, и ужас ее усугубляется тривиальнос-
тью. Из всех источников, которые я изучил, для меня стало яс-
но, что Соединенные Штаты были для По лишь громадной
тюрьмой, по которой он лихорадочно метался, как существо,
рожденное дышать в мире с более чистым воздухом, — громад-
ным варварским загоном, освещенным газом. Внутренняя же,
духовная жизнь По, как поэта или даже пьяницы, была посто-
янным усилием освободиться от давления этой ненавистной
атмосферы. Мнение демократического общества — суровая
Диктатура; не требуйте от него ни жалости, ни снисхождения,
ни известной эластичности в применении своих законов к
многообразной и сложной душевной жизни. Можно сказать,
7—511
193
из нечестивой любви к свободе родилась новая тирания, тира-
ния зверей, или зоократия, которая своей жестокой нечувстви-
тельностью походит на идол Джаггернаута. Один из биографов
важно сообщает нам — прекрасные намерения у этого почтен-
ного человека,— что если бы По хотел упорядочить свой ге-
ний и применять свои творческие способности более подходя-
щим для американцев образом, то он мог бы загребать много
денег, был бы a money making author; другой — наивный ци-
ник — говорит, что, как бы ни был велик гений По, для него
лучше было бы обладать только талантом, который всегда учи-
тывается гораздо легче гения; третий — редактор различных
журналов и газет, друг поэта — признается, что По трудно бы-
ло печатать, и ему приходилось платить меньше, чем другим,
так, как произведения его были выше понимания толпы. “Ка-
кая журнальная вонь!” — говорил Жозеф де Местр.
Некоторые пошли даже еще дальше и, соединив крайнее
невежество и некультурность со свирепостью буржуазного
ханжества, вдоволь оскорбляли По, а после его внезапной
смерти грубо издевались над трупом. Особенно отличился в
этом отношении Руфус Грисвольд, который — припомним
мстительное выражение Джоржа Грэхэма — совершил тогда
бессмертную подлость. По, быть может, предчувствуя близость
смерти, поручил Грисвольду и Виллису привести в порядок его
сочинения, написать биографию и таким образом увековечить
его в памяти,потомков. Этот моралист-вампир гнусно оклеве-
тал своего друга в громадной статье, плоской и злобной, поме-
щенной как раз во главе посмертного издания сочинений Эд-
гара По. Значит, нет в Америке запрета пускать собак на клад-
бище? Что касается до Виллиса, то он, наоборот, доказал, что
доброжелательность и скромность всегда сопутствуют истин-
ному уму и что любовь к ближнему, составляющая моральный
долг, является в то же время и одним из главных начал эстети-
ческого чутья.
Поговорите о По с американцем; он, быть может .признает
его гений, может быть, даже будет гордиться им, но с язвитель-
ным тоном превосходства человека положительного он нач-
нет говорить вам о непристойной жизни поэта, об его алкого-
лизированном дыхании, которое от приближения свечки мог-
ло бы вспыхнуть, о его склонности к бродячей жизни. Он ска-
жет вам, что это было беспорядочное и странное существо,
планета, вышедшая из своей орбиты, что он беспрестанно
блуждал из Балтимора в Нью-Йорк, из Нью-Йорка в Филадель-
фию, из Филадельфии в Бостон, из Бостона в Балтимор, из
Балтимора в Ричмонд. И если вы, изумившись такому предис-
ловию к этой ужасной истории, дадите понять, что, быть мо-
жет, не личность только виновата в этом, что трудно мыслить
и неудобно писать в стране, где миллионы владык, где нет сто-
лицы в полном смысле этого слова, где нет аристократии, то
увидите, как широко раскроются глаза вашего собеседника,
как они начнут метать молнии; пена оскорбленного патриотиз-
ма выступит на его губах, и вы услышите, как Америка его уста-
ми будет исторгать проклятия против своей старой матери —
Европы и философии прошлых времен.
Повторяю, я убедился, что Эдгар По и его отечество не сто-
яли на одном уровне. Соединенные Штаты — одновременно
гигантская и юная страна, естественно завидующая старому
континенту. ТЬрдый своим материальным развитием, ненор-
мальным и почти чудовищным, этот новый пришелец в исто-
рии наивно верит во всемогущество промышленности. Он уве-
рен, как и некоторые несчастные среди нас, что оно в конце
концов проглотит Дьявола. Громадную силу имеют там деньги
и время! Забота о материальном благосостоянии, доведенная
до мании национального величия, немного оставляет времени
для мыслей о том, что не принадлежит земле. Эдгар же По про-
исходил из хорошего рода и вдобавок проповедовал, что боль-
шое несчастье его родины заключается в отсутствии благород-
ства расы. “Понятно, — говорил он,— что у народа без арис-
тократии культ Прекрасного должен извратиться, растаять и
исчезнуть”; По раскрыл в своих соотечественниках, даже в их
напыщенной, дорогой роскоши, все признаки дурного вкуса,
свойственного выскочкам; По взирал на Прогресс, эту великую
идею современности, как на исступление ротозеев; По считал
улучшение повседневного обихода позором и грубо отврати-
тельным явлением; и поэтому По был в Америке совершенно
одинок Он верил только в несокрушимое, вечное, в self same,
и обладал — ужасная привилегия в обществе, влюбленном са-
мо в себя! — великим здравым смыслом Макиавелли, который,
как светящийся столб, идет впереди мудрого через пустыню
истории. Что думал, что писал бы этот несчастный, если бы он
слышал проповедницу, предлагающую уничтожить Ад из люб-
ви к роду человеческому, если бы он видел'статистика-филосо-
фа, предлагающего систему взаимопомощи, подписку по ко-
пейке с человека для прекращения войны, уничтожение нака-
зания смертной казнью и орфографии этих двух соотноси-
7*
195
тельных глупостей, и прочих больных, которые, держа нос по
ветру, измышляют глупо-вертлявые фантазии, столь же по-
хвальные, как и чувства, их породившие.
Если вы прибавите к непогрешимому знанию истины (а
при известных условиях это действительно недостаток) заме-
чательно тонкую чувствительность, которую оскорбляла каж-
дая фальшивая нота, утонченность вкуса, который возмущало
все генармоничное, ненасытную любовь к Прекрасному, при-
нявшую вид болезненной страсти, — вы не будете больше
удивляться, что для такого человека жизнь была адом, и он
скверно кончил, — вы будете удивляться тому, как долго мог он
выдержать такую жизнь.
II
Семья По была одной из наиболее уважаемых в Балтиморе.
Его дед с материнской стороны был генерал-квартирмейсте-
ром во время войны за независимость, и Лафайет весьма ува-
жал и любил его. Во время своего последнего посещения Со-
единенных Штатов он пожелал навестить вдову генерала и вы-
разить ей признательность за услуги, оказанные ему ее мужем.
Прадед По женился на дочери английского адмирала Мак-Бри-
да, бывшего в родстве со знатнейшими фамилиями Англии. Да-
вид По, отец Эдгара и сын генерала, безумно влюбился в одну
английскую актрису — Елисавету Арнольд, знаменитую своей
красотой, бежал с ней и обвенчался. Желая теснее связать свою
судьбу с судьбой жены, он сделался актером и выступал вместе
с ней на сценах главных городов Соединенных Штатов. Супру-
ги умерли почти в одно и то же время в Ричмонде, оставив в
крайней нужде и нищете троих малолетних детей, в числе ко-
торых был и Эдгар.
Эдгар По родился в Балтиморе в 1813 г. Эту дату я привожу
на основании его собственных слов, — он сам указал ее, воз-
ражая против утверждения Грисвольда, будто он родился в
1811 г. Если когда-нибудь “дух страсти”, — воспользуюсь выра-
жением самого поэта, — ужасный, бурный дух, царил при чьем-
либо рождении, то это несомненно было рождение По. Истин-
но: По — дитя страсти и приключений.
Богатый балтиморский купец Аллан полюбил маленького
несчастливца, от природы одаренного редкой красотой, и, не
имея детей, усыновил его. Отныне мальчик звался Эдгар Аллан
По. Итак, он был воспитан в довольстве и в лелеял надежду по-
196
лучить со временем такое богатство, которое придает характе*
ру благородную уверенность.
Приемные родители По взяли его с собой в путешествие по
Англии, Шотландии и Ирландии. Прееде чем вернуться домой,
они оставили его у доктора Бренсби, содержавшего превосход-
ный пансион в Сток-Ньюнгтоне, близ Лондона. По сам описал
в “Вильяме Вильсоне” этот странный дом в старом стиле ели-
заветинских времен и впечатления своей школьной жизни. В
1822 г. По возвратился в Ричмонд и продолжил свое учение в
Америке под руководством лучших местных учителей. В Шар-
лоттесвилльском университете, куда он поступил в 1825 г., По
отличался не только способностями, чуть ли нс сверхъестест-
венными, но также почти зловещим изобилием всяких страс-
тей— истинно американская скороспелость,— которые и бы-
ли наконец причиной его исключения. Мимоходом нужно за-
метить, что По уже в Шарлоттесвилле выказал замечательные
способности к естественным и математическим наукам. Впос-
ледствии он широко использовал их в своих странных сказках
и создавал из них самые неожиданные эффекты. Однако у ме-
ня есть причины думать, что этому роду произведений он не
придавал особенной важности и — может быть, именно вслед-
ствие этой преждевременной способности — смотрел на них,
как на легонькие упражнения сравнительно с созданиями чис-
того воображения. Несколько неприятных карточных долгов
вызвали кратковременную ссору с приемным отцом, и Эдгар —
весьма любопытный факт, доказывающий в достаточной сте-
пени, что бы ни говорили, присутствие рыцарского чувства в
его впечатлительной душе,— задумывает принять участие в
греческой войне и собирается идти бить турок. Итак, он отпра-
вился в Грецию. Что стало с ним на Востоке, что он делал там,
изучал ли классические берега Средиземного моря, почему
встречаем мы его вдруг в Петербурге, без паспорта, скомпро-
метированного и замешанного в какое-то дело, принужденно-
го просить помощи у американского посланника Генри Мидле-
тона, чтобы избежать русской тюрьмы, и возвратился ли до-
мой — неизвестно. Здесь пробел, который только он один мог
бы заполнить. Жизнеописание Эдгара По, история его молодо-
сти, приключения в России и переписка давно были обещаны
американскими журналами, но до сих пор не появились.
Возвратившись в 1829 г. в Америку, По выразил желание по-
ступить в военную школу в Весг-Поинте, куда и был принят
вскоре. И тут он, по обыкновению, выказал недюжинные спо-
197
собности и дарования, но в то же время крайнее нежелание
подчиняться дисциплине, за что и был исключен через не-
сколько месяцев. В то же время в приемной семье Эдгара про-
изошел переворот, серьезно повлиявший на дальнейшую его
судьбу. Госпожа Аллан, к которой, кажется, он испытывал чис-
то сыновнюю привязанность, умерла, и Аллан женился вто-
рично на совсем молодой женщине. Происходит семейная
распря — странная и темная история, которую я не могу рас-
сказать здесь, так как она недостаточно высяснена биографа-
ми. Итак, нет ничего удивительного в том, что Эдгар оконча-
тельно порвал с Алланом, а последний, имея детей от второго
брака, совершенно устранил его от наследования.
Вскоре после отъезда из Ричмонда По издал томик своих
стихотворений. Это поистине была блестящая заря. Тот, кто
понимает английскую поэзию, заметит уже здесь неземной от-
тенок стихотворений По, их восхитительную торжествен-
ность, грустное спокойствие, преждевременную опытность —
я сказал бы — врожденную, свойственную великим поэтам.
Нужда заставила его поступить на некоторое время в солда-
ты, и, нужно думать, что он воспользовался скучными досуга-
ми гарнизонной жизни, чтобы собрать материал для своих бу-
дущих произведений — произведений странных, которые
словно должны показать, что странное есть одна из неотдели-
мых частей прекрасного.
Вновь отдавшись литературной жизни, — а это единствен-
ная сфера, где могут дышать некоторые изгнанники из обще-
ства,— По пребывал в крайней нужде, но счастливый случай
помог ему. Издатель одного журнала объявил два конкурса на
лучшую сказку и поэму. Необыкновенно красивый почерк бро-
сился в глаза г. Кеннеди, председателю жюри, и вызвал в нем
желание самому просмотреть рукописи. Оказалось, что По
удостоился обеих наград, но ему выдали только одну. Кеннеди
был чрезвычайно заинтересован незнакомцем, и издатель
журнала привел к нему молодого человека поразительной кра-
соты в потрепанном сюртуке, застегнутом до подбородка. Он
имел вид аристократа, столь же голодного, сколько и гордого.
Кеннеди поступил благородно. Он познакомил По с неким То-
масом Уитом, основавшим в Ричмонде журнал “Southern
Literary Messenger”. Уит был человек энергичный, но без ма-
лейшего литературного таланта и потому нуждался в помощ-
нике. И вот По, еще совсем молодой, в 22 года оказался руко-
водителем журнала, судьба которого была всецело в его руках
198
И он создал ему успех. “Southern Literary Messenger” признал,
что своим распространением и широкой известностью он
обязан этому проклятому чудаку и неисправимому пьянице. В
этом журнале появились впервые его “Удивительное приклю-
чение некого Ганса Пфалля” и несколько других сказок. В тече-
ние почти двух лет Эдгар По работал с изумительной энерги-
ей, удивляя публику рядом своих произведений в новом роде;
в своих же критических статьях он привлекал всеобщее вни-
мание живостью, ясностью и обдуманной строгостью. Эти ста-
тьи появлялись по поводу всевозможных книг, и тут немалую
пользу принесло По его блестящее образование. Нужно еще
заметить, что за этот тяжелый труд он получал вознаграждение
в 500 долларов в год, т. е. 2700 франков.
Тотчас — подчеркивает Грисвольд, а это должно означать:
он считал себя достаточно богатым, идиот! — По женился на
молодой и красивой девушке, одаренной нежной душой и ге-
роическим характером, не имевшей, однако, ни гроша, — до-
бавляет тот же Грисвольд с оттенком презрения. Это была Вир-
гиния Клемм, двоюродная сестра писателя.
Несмотря на услуги, оказанные журналу Эдгаром По, Уит в
конце второго года поссорился с ним. Причины их размолвки,
очевидно, крылись в припадках ипохондрии и пьянства — ха-
рактерных припадках, омрачавших умственное небо поэта,
как мрачные тучи, которые внезапно придают даже самому ро-
мантичному пейзажу оттенок меланхолии и изменяют его до
неузнаваемости.
С тех пор неудачник, как житель пустыни, снимает свою па-
латку и скитается со своими легкими пенатами по главным го-
родам Соединенных Штатов. Повсюду он редактирует журна-
лы или принимает в них участие самым блестящим образом. С
ослепительной быстротой он пишет критические и философ-
ские статьи и сказки, полные таинственности. Сказки эти по-
являются под заглавием: “Tales of the Grotesque and the
Arabesque”. Замечательное и умышленное название! Гротески
и арабески, как орнаменты, пренебрегают человеческой фигу-
рой, а как известно, поэзия По, на взгляд многих, вне-или
сверхчеловечна. Затем из оскорбительных и скандальных за-
меток в разных журналах мы узнаем, что По и его жена опасно
больны и находятся в полной нищете в Фордгаме. Немного
спустя, после смерти жены, По впервые испытывает приступы
белой горячки. Затем появляется новая заметка в одном журна-
ле, более чем жестокая, обвиняющая его в презрении и отвра-
199
щении к свету, и начинается против него умышленный поход
и поистине инквизиционные допросы, от которых ему посто-
янно приходилось защищаться. Это один из самых утомитель-
ных и бесплодных видов борьбы, какие я только знаю.
Без сомнения, своей литературной работой По зарабатывал
столько, что мог существовать, но у меня есть доказательства,
что ему без конца приходилось бороться с самыми отврати-
тельными препятствиями. По, как и много других писателей,
мечтал основать собственный журнал; он хотел быть “у себя”,
и он достаточно настрадался, чтобы иметь право мечтать об
этой пристани для своей мысли. Чтобы осуществить эту мечту
и собрать необходимую сумму, он прибег к публичным лекци-
ям. Известно, что такое эти лекции, — это род спекуляции, уни-
верситет, предоставленный каждому литератору; автор печата-
ет лекцию только тогда, когда извлечет весь доход из ее пуб-
личного чтения.
По однажды уже читал публично в Нью-Йорке свою космо-
гоническую поэму “Эврика”, вызвавшую много споров. Теперь
он решил устроить публичные чтения у себя на родине — в
Виргинии. Он рассчитывал (так он писал Виллису) объездить
запад и юг и надеялся на содействие своих друзей по литерату-
ре и вестпуанской школе. И действительно, он объездил глав-
ные города Виргинии, и Ричмонд снова увидел того, кого знал
еще таким юным, бедным, изнуренным. Все, кто не видел По с
того времени, когда он еще ничем не проявил себя, толпой
прибежали поглядеть на своего знаменитого соотечественни-
ка. Он появился прекрасный, изящный, благородный, как его
гений. Мне кажется даже, что с некоторого времени он снизо-
шел до того, что позволил записать себя членом общества
трезвости. Для лекции он выбрал тему, настолько же широкую,
насколько и возвышенную: “Основы поэзии”, и разработал ее
с той замечательной ясностью, которая составляет его при-
вилегию. Будучи истинным поэтом, он полагал, что цель по-
эзии того же свойства, что и причина ее; он думал, что поэзия
должна иметь целью лишь самое себя.
Восторженный прием преисполнил его бедное сердце гор-
достью и радостью. Он был в таком восхищении, что погова-
ривал об окончательном поселении в Ричмонде, чтобы прове-
сти конец своей жизни в местах, дорогих ему с детства. Между
тем у него было дело в Нью-Йорке, и он уехал туда 4 октября,
жалуясь на озноб и слабость. Прибыв вечером 6 октября в Бал-
тимор, По все еще чувствовал себя больным. Он велел вынести
200
свои вещи на дебаркадер, откуда должен был отправиться в
Филадельфию, а пока зашел в какую-то таверну выпить чего-
нибудь согревающего. К несчастью, там он встретил своих ста-
рых знакомых и запоздал. На следующее утро, при бледном су-
мраке раннего дня, на дороге был найден труп — так ли надо
сказать? Нет, — тело еще живое, но уже отмеченное царствен-
ной печалью смерти. На этом теле, имя которого было неизве-
стно, не нашли ни бумаг, ни денег, и отправили его в госпи-
таль. Там в тот же вечер воскресенья 7 октября 1849 г., Эдгар По
скончался в возрасте 37 лет, сраженный белой горячкой, этим
ужасным гостем, посещавшим уже его мозг один или два раза.
Так ушел из этого мира один из величайших героев литерату-
ры, гений, произнесший в “Черном коте” эти пророческие сло-
ва: “Какой недуг может сравниться с алкоголем?”.
Эта смерть — почти самоубийство, самоубийство, подго-
товлявшееся издавна. Разумеется, она вызвала скандал. Разда-
лось много воплей, и “добродетель” свободно и сладострастно
дала волю своему напыщенному ханжеству. Надгробные речи,
даже наиболее снисходительные, не могли не дать место неиз-
бежной буржуазной морали, которая, конечно, воспользова-
лась таким великолепным случаем. Грисвольд клеветал. Виллис
же, искренно опечаленный, был более чем приличен.
Увы! Тот, кто преступил самые крутые высоты эстетики и
погружался в неведомые пропасти человеческого духа, тот, кто
среди жизни, похожей на бесконечную бурю, нашел новые
средства, новые приемы поражать воображение и пленять
умы, жаждущие прекрасного, — умер в несколько часов на
больничной койке! Что за судьба! Столько величия, столько
несчастий, чтобы возбудить вихрь буржуазного краснобайст-
ва, чтобы сделаться пищей и мишенью для доблестных журна-
листов. Ut declamatio fias!
Такие зрелища не новы; редко свежая и знаменитая могила
не делается ареной скандала. И кроме того, Общество не лю-
бит этих несчастных страдальцев, и потому ли, что они нару-
шают его празднества, или потому, что общество наивно счи-
тает их упреками себе, — оно неоспоримо право. Кто не по-
мнит парижской ругани после смерти Бальзака, который, од-
нако, умер прилично? А вот и не так давно еще — сегодня, 26
января, ровно год — умер писатель изумительного благородст-
ва, высокого ума и который был всегда трезв, умер молчаливо,
никого не тревожа, так молчаливо, что это молчание походило
на презрение, умер на самой глухой улице, какую он только
201
мог найти. А какие ужасные проповеди на его могиле, как утон-
ченно его уничтожали! Один знаменитый журналист, которо-
му сам Христос не внушит великодушия, нашел эту смерть до-
статочно забавной, чтобы прославить ее в грубом каламбуре.
Среди прав человека, которые мудрость XIX века так охотно и
часто перечисляет, были забыты два достаточно важных: пра-
во противоречить самому себе и право умирать. Но Общество
смотрит на умирающего по своей воле, как на негодяя; оно с
наслаждением растерзало бы смертные останки некоторых
людей, подобно тому несчастному солдату, охваченному вам-
пиризмом, который при виде трупа приходит в ярость. А меж-
ду тем можно сказать, что под влиянием известных обстоя-
тельств, после серьезного обсуждения известных противоре-
чий, при крепкой вере в известные догмы и метампсихозы, —
можно сказать, без хвастовства и игры словами, что самоубий-
ство бывает иногда самым разумным поступком в жизни чело-
века. И вот образуется сборище призраков, уже многочислен-
ное; оно посещает нас запросто, и каждый член его восхваляет
свой покой и убеждает нас.
Однако мы должны признать, что печальная кончина авто-
ра “Эврики” вызвала и несколько утешительных исключений,
без которых можно было бы совсем прийти в отчаяние и поте-
рять всякую веру в жизнь. Как я уже говорил, Виллис рассказал
правдиво и даже трогательно о прекрасных отношениях, суще-
ствовавших между ним и По. Джон Нэль и Джорж Грэхэм при-
стыдили Грисвольда. Лонгфелло — а этот тем более заслужива-
ет внимания, что По обращался с ним очень дурно,— с благо-
родством, достойным поэта, воздал должную хвалу По, как по-
эту и прозаику. Некий автор (неизвестный) писал, что Амери-
ка потеряла самый великий ум.
Но чье сердце было разбито, разорвано, пронзено семью
мечами, так это сердце госпожи Клемм. Эдгар был одновре-
менно и ее сыном и дочерью. “Ужасную жизнь,— говорит Вил-
лис, у которого я почти дословно заимствую эти подробнос-
ти,— приходилось ей блюсти и охранять. Эдгар По был тяже-
лым человеком. Помимо того, что работа его была тягостна и
трудна, а сочинения — выше понимания толпы, так что пла-
тить ему дорого нельзя было, он постоянно испытывал денеж-
ные затруднения, и часто ему й его жене не хватало самого не-
обходимого для жизни”. Однажды в редакцию Виллиса вошла
старая, величавая, но кроткая женщина. Это была госпожа
Клемм. Она искала работу для своего дорогого Эдгара. Био-
202
граф передает, что он был прямо изумлен не только ее востор-
женными отзывами и превосходной оценкой гения сына, но и
всем ее внешним видом — нежным и грустным голосом, ее ма-
нерами, немного старомодными, но прекрасными и величест-
венными. И в течение нескольких лет,— прибавляет он,— мы
видели, как она, этот неутомимый служитель гения, бедно и ху-
до одетая, ходила из редакции в редакцию, чтобы продать то
поэму, то статью. Иногда она говорила, что “он” болен,— един-
ственное объяснение, единственная причина, неизменное из-
винение, которое она находила для сына, когда его застигал
внезапный приступ бездеятельности, хорошо знакомый нерв-
ным писателям. Никогда она не позволяла себе произнести
хоть звук, который можно было бы истолковать как падение
веры в гений и волю ее любимца. Когда умерла ее дочь, она
привязалась к Эдгару, пережившему это тяжелое горе, с удвоен-
ной материнской любовью; она поселилась с ним, заботилась
о нем, следила за ним, защищала его от жизни и от самого се-
бя. “Да,— заключает Виллис с высокой беспристрастностью,—
если привязанность женщины, рожденная с первой любовью и
поддержанная человеческой страстью прославляет и освящает
объект ее, то что же следует сказать о том, кто вызвал такую
любовь, чистую, бескорыстную, святую, как небесный ангел-
хранитель?” Хулители По должны были бы в самом деле заме-
тить, что бывают столь могучие обольщения, которые не могут
не быть добродетелями.
Можно представить себе, как ужасна была для несчастной
женщины весть о смерти Эдгара. Она написала Виллису письмо,
из которого привожу несколько строк.
“Сегодня утром я узнала о смерти моего дорогого Эдди...
Можете ли вы сообщить мне хоть несколько сведений, не-
сколько подробностей... О, не покидайте вашего бедного дру-
га в этом тяжелом горе... Попросите М... зайти ко мне... У меня
есть к нему поручение от моего бедного Эдди... Я не считаю
нужным просить вас объявить о его смерти и написать не-
сколько теплых слов о нем. Я знаю, что вы это сделаете. Но не-
пременно скажите, каким прекрасным сыном он был для меня,
его бедной исстрадавшейся матери..”.
Эта женщина кажется мне великой и более чем античной в
своем величии. Сраженная неотвратимым ударом, она думает
только о репутации того, кто был для нее всем. Ее нельзя удов-
летворить, говоря о гении, нужно, чтобы все знали, что он был
человеком долга и чувства.
203
Ясно, что эта мать — светоч, алтарь, зажженный лучом из
глубины неба,— должна быть примером для нашей расы, мало
способной на беззаветную преданность и героизм, на все, что
более, чем простая обязанность. Разве несправедливо поста-
вить во главе сочинений поэта имя той, кто была умственным
солнцем его жизни. Он окружил фимиамом своей славы имя
женщины, чья нежность могла исцелять раны и чей образ бес-
престанно будет витать над мартирологом литературы.
III
Жизнь По, его нрав, манеры, внешний облик — все, что со-
ставляет его личность, представляется мне одновременно
мрачным и блестящим. Внешность его была обольстительна,
странна, и на ней, как и на его произведениях, лежала печать
безграничной меланхолии. В общем По во всех отношениях
был щедро наделен природой. В юности он выказал редкую
склонность ко всяким физическим упражнениям. Несмотря на
небольшой рост, женственные ноги и руки и все свое сущест-
во, проникнутое чисто женским изяществом, он был очень си-
лен и доказал это на нескольких поразительных примерах.
Только, однажды в молодости, он выиграл пари, переплыв рас-
стояние, непосильное для обычных человеческих сил. Можно
сказать, что природа одаряет энергичным характером тех, от
кого ждет великих дел, подобно тому как она наделяет долгий
живучестью деревья, которые должны служить символами пе-
чали и горя. Эти люди, обладая иногда невзрачной внешнос-
тью, сложены атлетами, пригодны к оргиям и работе, склонны
к излишествам и способны к удивительной воздержанности.
У Эдгара По есть несколько характерных черт, единодушно
признаваемых всеми его биографами, таковы: природное вы-
сокое благородство, красноречие, красота, которой он, судя по
рассказам, немного кичился. Его манеры — странное соедине-
ние гордости с восхитительной нежностью — были полны
уверенности. Лицо, походка, движения, посадка головы — все
это указывало, особенно в молодости, что это — избранник.
Существо его дышало всепроницающей торжественностью.
Он был отмечен природой, как фигуры тех прохожих, которые
сразу привлекают внимание наблюдателя и остаются в его па-
мяти. Педантичный и придирчивый 1рисвольд сам признает-
204
ся, что, явившись с визитом к По, он нашел его бледным и
страдающим после болезни и смерти жены и был чрезвычай-
но поражен не только совершенством его манер, но и его бла-
городным лицом, надушенным воздухом его комнаты, мебли-
рованной, впрочем, довольно скромно. Грисвольд не понима-
ет, что поэт больше всех других умеет пользоваться привиле-
гией парижанки и испанки — украшать себя пустяком,— и что
По, влюбленный во все прекрасное, в чем бы оно ни проявля-
лось, уж конечно нашел бы новый способ превратить бедную
хижину в чудный дворец. Разве не писал он в высшей степени
оригинально и интересно проектов интерьера, планов дач, са-
дов, улучшения пейзажа?
Существует прелестное письмо госпожи Фрэнсис Осгуд, од-
ной из приятельниц По, которая сообщила нам весьма любо-
пытные подробности о характере, личности и семейной жиз-
ни поэта. Эта женщина, сама очень интересная писательница,
энергично отрицает все пороки и заблуждения, приписывае-
мые поэту. “Может быть, с мужчинами,— говорит она Грис-
вольду, он был таким, как вы его описываете: как мужчина, вы
можете быть правы. Но я утверждаю, что с женщинами он был
совершенно иным, и женщина, познакомившись с По, могла
питать к нему лишь глубокую симпатию. Я всегда считала его
образцом изящества, благородства и великодушия.
Впервые мы встретились в Астор-Хаузе, Виллис передал
мне за табледотом экземпляр “Ворона”, о котором, по его сло-
вам, автор хотел знать мое мнение. Мистическая, неземная му-
зыка этой поэмы так глубоко поразила меня, что, узнав о жела-
нии его познакомиться со мной, я испытала странное чувство,
похожее на ужас. Он явился. Его красивая, горделивая голова,
темные глаза, блиставшие светом избрания, светом чувства и
мысли, его манеры — все это было смесью невыразимого ве-
личия и нежности. Он поклонился мне спокойно, важно, поч-
ти холодно. Но под этой холодностью так ясно сквозила сим-
патия, что я невольно была глубоко взволнована. С этого
момента и до его смерти мы были друзьями, и я знаю, что в
своих последних словах он вспомнил и обо мне; пока его цар-
ственный разум не был свергнут с трона, он дал мне лучшее до-
казательство своей преданности и дружбы. Особенно великим
казался мне Эдгар По в глубине своей простой и поэтичной ду-
ши. Он был игрив, сердечен, остроумен, то сдержан, то капри-
зен, как избалованный ребенок, но даже среди самых тяжелых
205
литературных работ у него было ласковое слово, добрая улыб-
ка, внимательное и любезное обхождение как для его нежной,
молодой и обожаемой жены, так и для всех его гостей. Беско-
нечные часы проводил он за своим столом, под портретом его
Леоноры, любимой и умершей, всегда усердный, терпеливый,
записывая своим великолепным почерком чудные фантазии,
беспрестанно сверкавшие в его блестящем и бдительном уме.
Однажды утром, помнится, я встретила его более радостным и
оживленным, чем обыкновенно. Виргиния, его нежная жена,
просила меня зайти к ним, и я не могла устоять перед ее прось-
бами... Я застала По, работающего над рядом статей, которые
он издал под заглавием: “The Literati of New-York”. “Посмотри-
те, — говорил он мне, разворачивая с победоносным смехом
несколько свертков исписанной бумаги (он писал на узких по-
лосах, чтобы сообразовать свою рукопись с корректурными
оттисками журналов),— я покажу вам различные степени мое-
го уважения к разным членам вашего литераторского народа.
Они определяются длиной полосы. В каждом из этих свитков
укатан и старательно обсужден кто-нибудь из вас. Иди сюда,
Виргиния, помоги мне”. И они разворачивали один свиток за
другим. Последнему, казалось, не было конца. Виргиния, сме-
ясь, держала один конец полосы и отступала к одному углу
комнаты, муж ее — к другому. Кто же этот счастливец, спроси-
ла я, которого вы удостоили такой бесконечной приветливос-
ти? — “Слышите,— вскричал он,— точно ее тщеславное ма-
ленькое сердечко не подсказало уже ей, что это — она сама”.
“Когда я для поправления здоровья должна была предпри-
нять путешествие, я начала правильную переписку с По. В этом
отношении я поддалась просьбам его жены, думавшей, что я
могла иметь на него благотворное влияние. Что касается до
любви и согласия между По и его женой (это было чудным зре-
лищем для меня), то об этом я могу говорить с полной уверен-
ностью и восторгом. Я не придаю никакого значения несколь-
ким поэтическим эпизодам, в которые По завлек его романти-
ческий характер... Я думаю, что истинно он любил только
свою жену..”.
В рассказах По никогда не говорится о любви. “Элеонора” и
“Лигейя”, собственно говоря, воЬсе не представляют любов-
ных историй; главная идея, вокруг которой вращаются оба
произведения, совершенно иная. Быть может, он думал, что
проза — недостаточно высокий язык для передачи этого
206
странного и почти непереводимого чувства; но зато его стихо-
творения полны описаний любви. Священная страсть является
в них великолепной, блистающей, словно звезда, и всегда слег-
ка отуманенной неизлечимой грустью. В своих статьях По не-
сколько раз говорит о любви как о чем-то таком, что само по
себе заставляет перо трепетать. В “The Domain of Amheim”
(“Поместье Арнгейм”) он утверждает, что четыре основных ус-
ловия счастья следующие: жизнь на свежем воздухе, любовь
женщины, отрешение от всякого честолюбия и созидание но-
вого Прекрасного. Замечание госпожи Фрэнсис Осгуд относи-
тельно рыцарски вежливого отношения По к женщинам под-
крепляется еще тем, что, несмотря на его чудесный талант в
описаниях всего странного и ужасного, во всех его произведе-
ниях нет ни одного места похотливого или грубо-чувственно-
го. Его портреты женщин окружены, так сказать, ореолом; они
сверкают среди неземной дымки, они написаны восторжен-
ным обожателем. Что же касается до незначительных эпизодов
романтического характера, то можно ли удивляться, если
столь нервный человек, характернейшей чертой которого,
быть может, является неудержимое стремление к Прекрасному,
и увлекался иногда флиртом, этим вулканическим, опьяняю-
щим цветком, для которого наиболее благодарной почвой яв-
ляется воспаленный мозг поэтов?
Об удивительной красоте По, о которой говорят несколько
биографов, я думаю, можно приблизительно составить себе
представление, призвав на помощь все широкие, но характер-
ные понятия, заключенные в слове “романтика”,— слове, кото-
рое передает разные виды и оттенки духовной красоты. У По
был широкий властительный лоб. Некоторые выпуклости его
обнаруживали выдающиеся способности — построений, срав-
нения и нахождения причинности; в нем царствовал в горде-
ливом спокойствии дух идеализма, дух эстетики par excellence.
И, несмотря на эти дары, а может быть, именно вследствие из-
бытка их голова По в профиль не быль красива. (Ведь во всех
случаях, когда что-нибудь в каком-либо смысле находится в
чрезмерном количестве, результатом изобилия может быть де-
фицит, результатом злоупотребления — недостаток.) Глаза его,
неопределенного и темного цвета, близкого к фиолетовому,
были одновременно темны и полны блеска. К этому прибавьте
благородный и гордый нос, рот — тонкий и грустный, хотя и с
легкой улыбкой, волосы светло-каштанового цвета, лицо,
207
обыкновенно бледное, с выражением немного рассеянным и
подернутым обычной грустью.
Разговор По был всегда замечателен и существенно поле-
зен. По не был тем, кого называют “хорошим говоруном”,—
это ужасная вещь, — и к тому же как речь его, так и перо боя-
лись всего условного; но обширные познания, великолепный
слог, прекрасная подготовка и впечатления от путешествий по
нескольким странам делали речь его поучительной. Его крас-
норечие, в высшей степени поэтичное, строгое по построе-
нию и в то же время выходящее за пределы всякого известно-
го метода, богатство образов из мира, столь мало посещаемо-
го толпой обыденных умов, его чудесное искусство выводят
новые и таинственные заключения из неоспоримых и необхо-
димых предположений открывать изумительные перспективы,
одним словом, искусство чаровать, заставлять мыслить, меч-
тать, вырывать душу из грязи рутины — вот его замечательные
способности, о которых у многих людей сохранились воспо-
минания. Но случалось — так говорят по крайней мере,— что
поэт внезапно предавался капризу разрушения, резко сталки-
вал своих друзей на землю своим прискорбным цинизмом и
грубо разрушал создание своего ума. Кроме того, нужно заме-
тить, что он был весьма неразборчив в выборе слушателей, но
я полагаю, что читатель без труда найдет в истории и других
великих и оригинальных людей, для которых всякая компания
была хороша. Некоторые умы, одинокие среди толпы, принуж-
денные быть вечно наедине с самим собой, не могут деликат-
ничать в выборе публики. В общем это вид братства, построен-
ного на презрении.
Теперь следует поговорить о пьянстве По, столь прослав-
ленном и столько раз вменявшемся ему в вину. Настойчивость
этих обвинений могла бы дать основание предполагать, что
все остальные американские писатели — ангелы трезвости.
Относительно По несколько версий вероятны, но ни одна не
исключает другой. Раньше всего обратим внимание на указа-
ние Виллиса и г-жи Осгуд, что самого незначительного коли-
чества вина или ликера было достаточно, чтобы совершенно
потрясти его организм. И кроме того, легко можно предполо-
жить, что человек, до такой степени одинокий, так глубоко не-
счастный, смотревший часто на весь социальный строй жиз-
ни, как на парадокс и лицемерие, человек, безжалостно пре-
следуемый судьбой, часто повторявший, что общество — сбо-
208
рище негодяев (это сообщает Грисвольд, скандализованный,
как человек, который думает то же, но никогда этого не ска-
жет), — легко предположить, говорю я, что поэт, еще ребенком
брошенный в случайности свободной жизни, изнуренный тя-
желой и продолжительной работой, искал от времени до вре-
мени забвения в вине. Литературные дрязги, головокружение
от созерцания бесконечного, семейное горе, оскорбительная
нищета — всего этого По избегал в бездне опьянения, как в
предварительной могиле. Но, как бы это объяснение ни было
удачно, я все-таки считаю его недостаточно полным и не дове-
ряюсь ему: слишком уж оно и жалко и просто.
Я узнал, что По пил не как лакомка, но по-варварски, быст-
ро и экономя время, совсем по-американски, словно подготов-
ляя самоубийство, словно намереваясь убить в себе что-то, а
worm that would not die. Рассказывают, что однажды, когда По
решил жениться вторично (церковное оглашение уже после-
довало), кто-то поздравил его с браком, доставлявшим ему
высшие условия счастья и благополучия. По сказал: “Возмож-
но, что вы слышали церковное оглашение моего брака, но хо-
рошенько заметьте себе следующее: я не женюсь". Вслед за тем,
совершенно пьяный, он начал скандалить у дома своей невес-
ты. В этом случае он прибег к своему пороку, чтобы освобо-
диться от клятвопреступления по отношению к его бедной по-
койной жене, чей образ постоянно жил в нем и которую он
воспел в своей восхитительной “Аннабель Ли”. В значитель-
ном количестве случаев я нахожу бесконечно драгоценный
факт предумышленности, факт признанный и достоверный.
С другой стороны, я прочел в длинной статье журнала
“Southern Literary Messenger”, успех которого создал По, что
никогда чистота и закоченность его стиля, ясность его мысли,
увлечение работой не страдали от этой пагубной привычки.
Художественная отделка его превосходных вещей или предше-
ствовала такому припадку, или следовала за ним: после напеча-
тания “Эврики” он надолго предался пьянству, и в то самое ут-
ро, когда “Ворон” вышел в Нью-Йорке и имя поэта передава-
лось из уст в уста, он проходил по Бродвею, совершенно пья-
ный и спотыкаясь.
Заметьте эти слова: предшествовала или следовала указы-
вают, что пьянство могло служить По как для возбуждения, так
я для отдыха.
Бывают мимолетные и поражающие впечатления, при по-
209
вторении еще более мимолетные и еще более поражающие, ко-
торые часто следуют за каким-нибудь внешним признаком —
предупреждением, в роде звука колокола, музыкальной ноты
или забытого запаха; за ними также следует явление, похожее
на другое, уже ранее знакомое и занимавшее аналогичное ме-
сто в прежде возникшей цепи чувствований; всем также изве-
стны странные периодические сны, часто посещающие нас, —
подобно всему этому несомненно в опьянении существуют не
только сцепления мечтаний, но и целые ряды умозаключений,
которые, чтобы вылиться, нуждаются в той атмосфере, в какой
они зародились. Если читатель следовал за мной без отвраще-
ния, он уже понял меня: я думаю, что в большинстве случаев —
не всегда, разумеется, — опьянение было для По лишь мнемо-
ническим средством, методом работы, методом энергичным и
смертельным, но свойственным его страстной натуре. Для не-
го вино было тем, что для литератора — записная книжка. Он
не мог противостоять стремлению вновь узреть чудесные и
ужасные видения, тонкие замыслы, обретенные им в предыду-
щей буре. Это были старые знакомцы, которые повелительно
влекли его к себе, и, чтобы вновь найти их, он избирал самый
опасный, но прямой путь. Часть того, что теперь составляет на-
слаждение для нас, и есть то, что убило его.
IV
О творениях этого своеобразного гения я не буду много го-
ворить — читатели сами выскажут свое мнение. Мне было бы
трудно, но отнюдь не невозможно раскрыть метод и объяснить
процесс его творчества, особенно в той части его произведе-
ний, главный эффект которых заключается в мастерском ана-
лизе. Я мог бы ввести читателя в тайны его творчества и долго
говорить о той особенности американского гения, которая за-
ставляет радоваться преодоленной трудности, разрешенной
загадке, удачному фокусу, которая заставляет его играть с чис-
то детским увлечением и почти нечестиво в мире возможнос-
тей и догадок и создавать “утки”, которым его тонкое искусст-
во придавало вид реальной действительности. Никто, конечно,
не будет считать По только изумительным жонглером, и я
знаю, что он отдавал предпочтение другой части своих произ-
ведений.
210
Я должен сделать здесь несколько более важных замечаний,
к тому же кратких.
Не этим реальным воплощением фантастического, кото-
рое, однако, создало ему славу, По завоюет восхищение мысля-
щих людей, нет, — любовью к прекрасному, знанием истин-
ной гармонии красоты, своей глубокой жалобной поэзией, в
то же время искусно обработанной, прозрачной и безупреч-
ной по форме, как кристалл драгоценного камня, своим заме-
чательным стилем, на редкость точным и прихотливым, сжа-
тым, как колечки кольчуги, тонким и изящным, каждый легкий
оттенок которого хоть немного подвигает читателя к желан-
ной цели, и, наконец, совершенно особой способностью, сво-
еобразной натурой, позволяющей ему обрисовывать, объяс-
нять непогрешимым, увлекательным, ужасным образом ис-
ключения в области нравственного порядка. Другой пример
такого сангвиника (а их немало) — Дидро.
По — писатель нервов и даже чего-то большего, — и луч-
ший, какого я только знаю.
Каждое его вступление к рассказу увлекает, как вихрь. Его
торжественность поражает и заставляет ум быть бдительным.
Раньше всего чувствуется, что речь идет о чем-то важном. И
медленно, мало-помалу разворачивается история, весь инте-
рес которой основан на незаметном уклонении интеллекта в
сторону, на смелой гипотезе, на неосторожном смешении раз-
личных способностей на весах природы. Читатель, охвачен-
ный головокружением, принужден следовать за автором в его
увлекательных выводах.
Никто другой, повторяю, не изображал увлекательнее ис-
ключения из человеческой жизни и природы, страстное любо-
пытство выздоравливающего, переломы времен года, полные
возбуждающей красоты, жары, сырость и туман, когда южный
ветер смягчает и ослабляет нервы, как струны инструмента, а
глаза наполняются слезами, не идущими от сердца. Никто не
описывал лучше галлюцинации, вызывающие сначала сомне-
ния, а вслед затем уверенность и рассудительность, точно кни-
га: абсурд, водворившийся в уме и управляющий им с ужасной
логикой; истерию, захватившую место воли; противоречие
между нервами и умом, и человека, дошедшего до того, что
боль он выражает хохотом. По анализирует все, что мимолет-
211
но, взвешивает невесомое, описывает до мелочей подробным,
научным, ужасным образом все воображаемое, что витает во-
круг нервного человека и приводит его к погибели.
Даже страсть, с которой он бросается в странное из любви
к странному и в ужасное из любви к ужасному, служит мне, что-
бы проверить искренность его произведений и соответствие в
нем человека с поэтом. Я отметил уже, что у некоторых людей
эта страсть часто бывает следствием непримененной обиль-
ной жизненной энергии, иногда — упорного целомудрия или
глубокой, но сдерживаемой чувственности. Сюда же следует
отнести такие явления, как неестественное наслаждение, кото-
рое человек может испытывать при виде собственной крови,
внезапных, бешеных ненужных движений, наслаждение прон-
зительными криками без всякой причины.
В недрах этого творчества, где воздух разрежен, ум может
испытывать глубокую тоску, страх до слез, беспокойство души,
живущей в большом и странном пространстве. Но восхищение
пересиливает — искусство По так велико! Фон и детали там со-
ответствуют чувствам героев. Одиночество на лоне природы
или беспокойная городская жизнь — все это изображено
нервно и фантастично. Как наш Эжен Делакруа, возвысивший
свое искусство до степени высокой поэзии, Эдгар По любит
располагать свои фигуры на зеленоватых и лиловых фонах,
откуда распространяется фосфорический блеск гнилья и дух
бури.
Так называемая неорганическая природа там тождественна
органической и, как она, вздрагивает сверхъестественной,
гальванической дрожью. Пространство углублено опиумом.
Опиум придает таинственный смысл всем окраскам и застав-
ляет все шумы вибрировать с особо значительной звучностью.
Иногда великолепные вспышки, снопы света и красок внезап-
но появляются среди пейзажа, и в глубине виднеются восточ-
ные города с их причудливой архитектурой, окутанные дале-
кой дымкой, а солнце льет золотые дожди.
Герои По или, вернее, герой его — человек со сверхестест-
венными способностями, человек с расшатанными нервами,
человек, пылкая и страждущая воля которого бросает вызов
всем препятствиям; человек со взглядом, острым, как меч, об-
ращенным на предметы, растущие по мере того, как он на них
212
смотрит. Это — сам По. Его женщины, все лучезарные и болез-
ненные, умирают от каких-то странных болезней, говорят го-
лосом, подобным музыке. И это — также он сам. По крайней
мере своими странными стремлениями, познаниями, неизле-
чимой грустью они сильно напоминают личность их творца.
Что же касается до его идеальной женщины, его Титаниды, то
она является в различных образах в его слишком немногочис-
ленных стихотворениях, образах или, вернее, чувствованиях
красоты, которые душа автора сближает между собой и соеди-
няет в обширное, но доступное чувству единство. В нем, быть
может, еще нежнее, чем где-либо, выражается ненасытная лю-
бовь к Прекрасному; Она есть великий титул, т. е. сумма всех
титулов По; пред ней поэты должны преклониться и благого-
веть.
ТЕОФИЛЬ ГОТЬЕ
Хотя мы не подносили воду старушкам, мы находимся
в положении девушки из сказки Перро; стоит нам
только открыть рот, как оттуда сыплется золото, алма-
зы, рубины и жемчуг; иногда нам хотелось бы изверг-
нуть жабу, ужа и крысу, но это не в наших силах.
Теофиль Готье. Причуды и изгибы.
Я не знаю чувства более нелов-
кого, чем восхищение. По трудности удобовыражения оно на-
поминает любовь. Ifte найти выражения, достаточно сильно
окрашенные или отмеченные достаточно нежным оттенком,
которые отвечали бы требованиям изысканного чувства? Люд-
ское уважение — вот бич во всяком порядке вещей, утвержда-
ет одна философская книга, случайно попавшаяся мне на гла-
за; но не подумайте, что гнусное людское уважение стало при-
чиной моей неловкости: это смущение вызвано не чем иным,
как страхом высказаться о предмете моего внимания недоста-
точно благородным образом.
Некоторые биографии легко писать, например людей, чья
жизнь кишит событиями и происшествиями; там нужно всего
лишь записать и расставить факты вместе с их датами; здесь же —
ничего из того разнообразия материала, которое сводит зада-
чу писателя к простой компиляции. Ничего, кроме огромной
духовности! Биография человека, самые драматичные собы-
тия жизни которого происходят в тишине под сводами его
мозга,— это литературный труд совсем другого порядка. Свети-
ло рождается с теми или иными задачами, также и человек. Ка-
ждый с блеском и смирением выполняет уготованную ему
роль. Кто смог бы составить биографию солнца? После того
как светило проявило признаки жизни, его история полна од-
нообразия, света и величия.
В общем, так как мне не остается ничего другого, кроме как
написать историю Идеи фикс, которую я сумел бы выразить и
рассмотреть, то в конце концов мало значит, узнают или не уз-
нают мои читатели, что Теофиль Готье родился в 1811 году в
городе Тарб. На протяжении многих лет я имел счастье быть
его другом, и мне совершенно неизвестно, были ли в детстве
его будущие дарования отмечены школьными успехами, эти-
214
ми детскими венцами, которые зачастую не могут подчинить
себе детей возвышенного ума и которые те в силу фатальности
в любом случае вынуждены делить с толпой ужасных глупцов.
Об этих мелочах я совсем ничего не знаю. Возможно, даже сам
Теофиль Готье ничего не знает об этом, а если случайно и по-
мнит, то я вполне уверен, что ему не доставит удовольствия ви-
деть, как кто-то ворошит этот ученический хлам. Нет человека,
который бы дальше его пошел в величайшем целомудрии ис-
тинного литератора и который испытывал бы больше ужаса,
выставляя то, что сделано, приготовлено и выношено не для
общественности, а для наставления душ, влюбленных в Красо-
ту. Не ждите от него ни мемуаров, ни исповедей, ни воспомина-
ний — ничего такого, что не имеет возвышенной цели.
Соображение, которое усиливает испытываемую мной ра-
дость от передачи Идеи фикс,— это, наконец, и с полной сво-
бодой рассказать о неизвестном человеке. Все, кто размышля-
ли о насмешках истории или о ее запоздалых воздаяниях, пой-
мут, что означает слово “неизвестный” применительно к Тео-
филю Готье. Правда, он весьма много лет наполняет Париж и
его окрестности шумом своих фельетонов; неоспоримо то, что
множество читателей, которым интересно все, что связано с
литературой, с нетерпением ждут его суждения о драматичес-
ких постановках последней недели; еще неоспоримее то, что
его отчеты о посещении Салонов, столь невозмутимые, столь
исполненные искренности и блеска, служат оракулами для
всех изгнанников, которые не могут судить и чувствовать сво-
ими собственными глазами. Для этой разношерстной публики
Теофиль Готье является несравненным и необходимым крити-
ком; и однако же он остается человеком неизвестным. Поз-
вольте мне объясниться.
Предположим, вы помещены в буржуазный салон и пьете ко-
фе после ужина в компании барина и барыни с их барышнями.
Гйусный и глупый жаргон, от которого перу нужно бы воздер-
жаться точно так же, как писателю — от этих утомительных по-
сещений! Скоро начнутся разговоры о музыке, возможно, о жи-
вописи и уж наверняка о литературе. Теофиль Готье тоже в свой
черед будет выставлен на ковер; но после пустых венцов, возло-
женных на него (“как умно! как увлекательно! как хорошо напи-
сано, какой журчащий стиль!” — клеймо журчащего стиля без
разбора ставится на всех известных авторов: видимо, чистая во-
да является самым очевидным символом красоты для всех, кому
по роду занятий не нужно думать); если вы предупредительно
215
заметите, что забыто его главное достоинство, его бесспорное и
самое обаятельное достоинство, что забыли сказать о том, что
он великий поэт, то вы увидите на лицах у всех полное изумле-
ние. “Стиль у него, несомненно, весьма поэтичный”, — скажет
самый чувствительный из всей компании, не понимая, что речь
идет о размере и рифмах. Все это собрание прочитало поне-
дельничный фельетон, но никто за столько лет не нашел ни де-
нег, ни досуга для “Альбертуса”, “Комедии смерти” и “Испании”.
Для француза признать это весьма тяжело, и если бы я не гово-
рил о писателе, стоящем достаточно высоко, чтобы спокойно
сносить все эти оскорбления, то я, кажется, предпочел бы
скрыть это уродство от нашего общества. Однако это так. Между
тем издания его трудов множатся и легко расходятся. Куда они
подевались? В какие шкафы сбежали эти восхитительные образ-
цы истинно французской Красоты? Не знаю, видимо, в какую-то
загадочную область, весьма удаленную от предместья Сен-Жер-
мен или Шоссе-д’Антен, выражаясь языком географии господ
Хроникеров. Я хорошо знаю, что нет такого литератора, такого
хоть сколько-нибудь мечтательного художника, память о кото-
ром не была бы обставлена и разукрашена этими чудесами; од-
нако светские люди, те самые, которые упиваются или притвор-
но упиваются “Раздумьями” или “Гармониями”, не знают об
этом новом сокровище наслаждений и красоты.
Я уже сказал, что признать это весьма мучительно сердцу
всякого француза; но недостаточно лишь объявить факт, нуж-
но попытаться объяснить его. Известно, что Ламартин или Ви-
ктор Пого дольше наслаждались публикой с более выражен-
ным интересом к играм Музы, чем та, которая уже растолстела
к тому времени, когда Теофиль Готье определенно стал знаме-
нитостью. С тех пор эта публика постепенно сократила закон-
ную часть времени, посвященную духовным удовольствиям.
Но само по себе это недостаточно для объяснения, ибо, остав-
ляя в стороне поэта, составляющего предмет этой статьи, я об-
наружил, что публика старалась почерпнуть из поэтических
творений лишь то, что было окрашено (или измарано) неким
политическим ореолом, приправой, свойственной природе ее
нынешних страстей. Она усвоила “Оду Колонне”, “Оду Триум-
фальной арке”, но совсем ничего не знает о мистической, ту-
манной, самой чарующей стороне Виктора Пого. Она часто
цитирует ямбы Огюста Барбье об Июльских днях, но она не
плакала вместе с поэтом над скорбной Италией и не последо-
вала за ним в его путешествии в Лазар дю Норд.
216
Поэтому та приправа, которую Теофиль Готье кладет в свои
произведения и которая представляется изысканнейшей и
наиболее острой на вкус любителей искусства, мало или никак
не действует на небо толпы. Не стоит ли ради быстрой популяр-
ности согласиться, то есть не стоит ли втайне, совсем чуть-чуть
запятнать себя свойским обращением с народом? В литерату-
ре, как и в нравственности, есть опасность, помимо славы,
быть деликатным. Аристократичность отделяет нас.
Откровенно говоря, я не из тех людей, которые видят в
этом прискорбное зло, и, возможно, я уж слишком набросил-
ся на бедных обывателей. Обвинять, противостоять и даже
требовать торжества справедливости — не значит ли это в не-
которой мере превратиться в обывателя? Мы все время забы-
ваем, что ругать толпу — это унизиться самому. С высоты сво-
его положения всякая фатальность кажется нам справедли-
вой. Будем же, наоборот, приветствовать этот аристократизм,
создающий круги одиночества, со всем уважением и вооду-
шевлением, которых он заслуживает. Кроме того, определен-
ное качество имеет, как видно, большую или меньшую цен-
ность в зависимости от века, и в веренице лет есть место для
блестящего реванша. От человеческой странности можно
ждать чего угодно, даже справедливости, хотя и верно, что не-
справедливость для нее бесконечно естественнее. Разве один
политический автор не сказал однажды, что репутация Тео-
филя Готье преувеличена?
II
Моя первая встреча с этим писателем — пусть мир позави-
дует нам за него, как завидует за Шатобриана, Виктора Пого и
Бальзака,— сейчас у меня перед глазами. Я пришел передать
ему небольшую книжку стихов от имени двоих отсутствующих
друзей. Он оказался не таким представительным, как сейчас,
но уже величественным, независимым и грациозным в своем
свободном одеянии. В приеме, оказанном мне, правде всего
поражало отсутствие той сухости, к тому же вполне прости-
тельной, которая свойственна всем людям, привыкшим в силу
своего положения приводить посетителей в трепет. Для опре-
деления этого обхождения я охотнее воспользовался бы сло-
вом “добродушие’’, кабы оно не было столь избитым; для этого
случая оно пригодно, лишь облагороженное и приправленное
217
по рецепту Расина таким хорошим прилагательным, как азиат-
ское или восточное, для придания этому состоянию простоты,
достоинства и мягкости. Что же до беседы (торжественный мо-
мент первой беседы с известным человеком, талантом, еще бо-
лее превосходящим вас, чем возрастом!), то она столь як от-
четливо запечатлелась в глубинах моей души. Котда он увидел
у меня томик стихов, то приятная улыбка озарила его благо-
родную фигуру; он протянул руку с несколько детской жадно-
стью — поистине удивительно, что этот человек, умеющий вы-
разить все и более остальных имеющий право на пресыщение,
обладает живым интересом и с готовностью бросает взгляд вне
себя. Быстро пролистав книжку, он заметил мне, что данные
поэты слишком часто позволяют себе вольные сонеты, иными
словами, неортодоксальные и свободно нарушающие правила
четверостишия. Затем он с любопытно-недоверчивым взгля-
дом спросил меня, будто для проверки, люблю ли я читать сло-
вари. Он сказал мне это как ни в чем не бывало, совершенно
спокойно и таким тоном, каким кто-нибудь осведомился бы,
что составляет мое чтение: путевые заметки или романы. К
счастью, я с детства заразился лексикоманией, и я увидел, что
мой ответ заслужил уважение. Именно говоря о словарях, он
добавил, что “писатель, не умеющий выразить абсолютно все,
сколь бы странной, неуловимой, неожиданной, как камень с
Луны, ни казалась его идея, сколь бы огорошивающей и ли-
шенной материального облика она ни была, не может считать-
ся писателем". Затем мы поговорили о гигиене, об уходе лите-
ратора за своим телом и об обязательной трезвости. Хотя для
иллюстрации этого предмета он взял, как мне помнится, не-
сколько сравнений из жизни танцовщиц и скаковых лошадей —
метод, который он применил к теме (трезвость как свидетель-
ство уважения к искусству и к поэтическому дару) напомнил
мне то, что написано в книгах благочестия о необходимости
уважать наше тело, как храм Божий. Мы сошлись на огромном
самодовольстве века и на безумстве прогресса. Как я обнару-
жил из чтения книг, с тех пор он опубликовал несколько фор-
мул, подводящих итог его рассуждениям, например: “Есть три
вещи, которые цивилизованный человек никогда не сможет
создать: вазу, оружие и конскую сбрую”. Разумеется, речь здесь
идет о красоте, а не о пользе. Я пылко говорил ему о той чуде-
сной силе, которую он показал в сатире и гротеске, но на эти
комплименты он искренне ответил, что в глубине души его
ужасает остроумие и смех, тот смех, что искажает Божье творе-
218
ние! “Иногда показать остроумие позволительно, как для муд-
реца покутить, чтобы доказать глупцам, что он может быть с
ними на равных; но в этом нет необходимости”. Те, кого могло
бы удивить высказанное им мнение, не заметили, что, так как
его душа представляет собой космополитическое зеркало кра-
соты, в котором поочередно со всей очевидностью и блеском
отразились средние века и Возрождение, он с ранних пор час-
то обращался к грекам и к Идеалу античности, что сбивало с
толку тех его поклонников, у которых не было настоящего
ключа от палаты его духовности. В этой связи можно обратить-
ся к “Мадемуазель де Мопен”, где греческая красота с жаром от-
стаивается в полной романтической роскоши.
Все это было сказано с четкостью и решимостью, но без ди-
ктата, без педантизма, с огромным изяществом, но без лишней
утонченности. Слушая эту устную выразительность, столь дале-
кую от века сего и его бурной болтовни, я невольно думал об ан-
тичной просвещенности, о каком-то сократическом эхе, запро-
сто принесенном на крыльях ветра Востока. Я ушел покорен-
ным столь великим благородством и мягкостью, ушел подчи-
ненным этой духовной силе, для которой сила физическая слу-
жит, так сказать, символом, словно для иллюстрации подлинно-
го учения и подтверждения ее новыми доказательствами.
Сколько же лет, махая разноцветными крыльями, унеслось
к алчному небу после этого маленького праздника моей юно-
сти! Но я и до сего часа не могу думать об этом без волнения.
Это прекрасно извиняет меня перед теми, кто за простоту рас-
сказа в начале этого труда о моей близости со знаменитым че-
ловеком мог счесть меня слишком дерзким и даже несколько
наглым. Но да будет известно, что если некоторые из нас и бы-
вали с Готье на дружеской ноге, то лишь потому, что, позволяя
такое обращение, он казался желающим его. Он находил не-
винное удовольствие в сердечном и безыскусном покрови-
тельстве. Это также сближает его с прославленными мужами
античности, которые любили общество молодежи и проводи-
ли с нею серьезные беседы под пышной зеленью, на берегах
рек или у подножия зданий, благородных и простых, как их
собственная душа.
Этому безыскусно обрисованному портрету нужна рука
гравера. К счастью, Теофиль Готье в различных рассказах вы-
полнил роль, относящуюся к искусству и театру вообще, кото-
рая сделала его одним из самых распространенных лиц Пари-
жа. Почти всем знакомы его длинные мягкие волосы, его бла-
219
городная и неторопливая поступь и взгляд, исполненный ко-
шачьей задумчивости.
III
Всякий французский писатель, горящий желанием просла-
вить свою страну, не может без гордости и без сожаления об-
ращать свои взгляды на эту эпоху плодовитости и кризиса, ко-
гда романтическая литература распространилась со столь бур-
ной силой. Шатобриан, как всегда полный сил, но словно по-
коящийся на горизонте, кажется Афонской горой, равнодушно
созерцающей жизнь на равнине; Виктор Гюго, Сент-Бев, Альф-
ред де Виньи омолодили, еще раз воскресили французскую по-
эзию, умершую со времен Корнеля. Ибо Андре Шенье с его не-
жной античностью на манер Людовика XVI не стал достаточно
верным симптомом обновления, а Альфред де Мюссе, женст-
венный и без убеждений, мог бы существовать в любую эпоху,
не переставая быть изящно говорящим ленивцем. Александр
Дюма производил подряд свои страстные драмы, в которых
вулканическое извержение было устроено с мастерством уме-
лого ирригатора. Сколько пылкости для литератора нашего
времени и какой интерес, какое возбуждение публики! “О,
меркнущий блеск! О, солнце, ушедшее за горизонт!” Но в лите-
ратурном движении произошел второй этап, который дал нам
Бальзака, то есть истинного Бальзака, Огюста Барбье и Теофи-
ля Готье. Здесь нам следует отметить, что, хотя последний стал
определенно видным литератором лишь после появления “Ма-
демуазели де Мопен”, его первый поэтический сборник, отваж-
но пущенный в жизнь в разгар революции, относится к 1830 г.
“Альбертус”, как мне кажется, был включен в этот сборник
только в 1832 г. Сколь бы живой и богатой ни была новая лите-
ратурная струя до настоящего времени, нужно признать, что
ей недоставало одного элемента, или что если он и наблюдал-
ся, то редко, как, например, в “Парижской Богоматери”, где Ви-
ктор Пого решительно составил исключение по количеству и
размаху своих талантов: я имею в виду сатиру и чувство гроте-
ска. “Молодая Франция” вскоре доказала, что эта школа попо-
лнилась. Сколь бы легким это произведение ни показалось
многим, оно содержит в себе большие достоинства. Помимо
дьяволической красоты, то есть подкупающего изящества и
смелости юности, оно наполнено смехом, и смехом отмен-
220
ным. Очевидно, в эпоху, полную обмана, автор разразился по-
током иронии и доказал, что он не дурак. Запас здравомыслия
избавил его от подражаний и модных верований. С еще боль-
шей утонченностью “Слеза Дьявола’ продолжила эту жилу, бо-
гатую радостью. “Мадемуазель де Мопен” служила дальнейше-
му уточнению его позиций. Об этом произведении многие
долго говорили, что оно отражает детские страсти, что оно
подкупает скорее сюжетом, чем научной формой, отличающей
его. Надо думать, некоторые люди исходят страстью, чтобы та-
ким образом всюду вставлять ее. Это своего рода мускат, кото-
рым они приправляют все, что едят. По своему чудесному сти-
лю, по правильной и выстраданной красоте, чистой и цвету-
щей, эта книга была настоящим откровением. Такой ее считал
Бальзак, который с тех пор захотел познакомиться с автором.
Обладать не только стилем, но к тому же собственным стилем
было одним из величайших, если не самым величайшим жела-
нием автора “Шагреневой кожи” и “Поиска абсолюта”. Несмо-
тря на тяжеловесность и запутанность его слога, он всада был
одним из наиболее тонких и прихотливых ценителей. С появ-
лением “Мадемуазели де Мопен” в литературе появился Диле-
тантизм, который по своему чудесному и превосходному хара-
ктеру всегда является лучшим доказательством качеств, необ-
ходимых в искусстве. Роман, рассказ, картина, фантазия, изоб-
ражаемая с упорством художника,— любой гимн Красоте преж-
де всего стремились в результате определенно установить ус-
ловие, порождающее произведения искусства, то есть исклю-
чительную любовь к Прекрасному, Идею фикс.
То, что я скажу на этот счет (я буду краток), было известно
давно. Потом все это затуманилось и решительно забылось. В
литературной критике стали проскальзывать странные ереси.
Я не знаю, какая грозовая туча, пришедшая из Женевы, Босто-
на или ада, заслонила собой прекрасные лучи солнца эстети-
ки. Пресловутое учение о единстве Красоты, Истины и Блага
является изобретением современной философомании (стран-
ной заразы, которая состоит в том, что при определении безу-
мия о нем говорят его языком!). Различные объекты духовных
исканий требуют талантов, которые испокон веков были свой-
ственны им; иногда какой-нибудь объект требует лишь одного
таланта, иногда сразу все, что, впрочем, случается крайне ред-
ко, но никогда в одинаковой дозе или в равной степени. Здесь
снова нужно отметить, что, чем больше талантов требует объ-
ект, тем менее он благороден и чист; чем он сложнее, тем боль-
221
ше примесей он содержит. Истина служит основой и целью для
науки; она прежде всего взывает к чистому интеллекту. Чисто-
та стиля тут приветствуется, но красота стиля может и должна
рассматриваться как предмет роскоши. Благо есть основа и
цель нравственных исканий. Благо здесь единственное устре-
мление, исключительная цель Вкуса. Хотя цель истории — Ис-
тина, существует Муза истории для отражения того, что неко-
торые из качеств, нужных историку, подчиняются Музе. Роман
относится к тем сложным жанрам, в которых Истина и Красо-
та могут занимать то большую, то меньшую долю. В “Мадемуа-
зель де Мопен” доля Красоты подавляюще велика. Автор имел
право сделать ее такой. Цель этого романа — изобразить не
нравы или страсти своего времени, но единственную страсть,
особенную натуру, вселенскую и вечную, под действием кото-
рой вся книга, так сказать, бежит в одном русле с Поэзией,
притом не смешиваясь с ней, будучи лишенной двойного эле-
мента: размера и рифмы. Эта цель, этот упор, это устремление
состоят в том, чтобы стилистически верно передать не любов-
ный пыл, но красоту любви и красоту предметов, достойных
любви — словом, передать воодушевление (отличное от стра-
сти), создаваемое Красотой. Душу, не привыкшую блуждать,
смешение жанров и талантов приводит в полное изумление.
Как разные ремесла требуют разных орудий труда, так и раз-
ные объекты духовного поиска требуют талантов под стать се-
бе. Временами, на мой взгляд, позволительно цитировать са-
мого себя, особенно во избежание произвольного пересказа.
Поэтому я повторюсь:
"... Есть другая ересь... заблуждение, еще более укоренивше-
еся: я говорю о ереси поучения, которая в виде неизбежного
следствия подразумевает ересь чувства, истины и морали. Оп-
ределенная группа людей воображает, что цель поэзии состо-
ит во всяческом поучении, что она обязана то укреплять со-
весть, то воспитывать нравы, то изображать нечто с хоть ка-
кой-нибудь пользой... Поэзия же, сколь мало бы люди ни хоте-
ли углубляться в себя, обращаться к своей душе, воскрешать в
памяти примеры былого воодушевления, не имеет иной цели,
кроме Самой себя; она не может иметь никакой другой, и нет
поэмы гениальнее, благороднее, поистине достойнее имени
поэмы, чем та, которая написана исключительно из удовольст-
вия сочинить поэму".
“Я не хочу сказать, будто поэзия не облагораживает нравы —
пусть меня поймут правильно,— будто ее конечный результат не
222
состоит в возвышении человека над обыденными интересами;
это было бы очевидной нелепостью. Я просто говорю, что если
поэт преследовал нравственную цель, то он уменьшил свою по*
этическую силу, и вполне можно побиться об заклад, что его
творение будет негодным. Поэзия не может под страхом смерти
или упадка уподобляться науке или морали; она не имеет Исти-
ну как предмет изучения, не имеет ничего, кроме Самой себя.
Истину доказывают другими способами и по-другому. У песни
нет ничего общего с Истиной. Все, что делает песню прелест-
ной, изящной, притягательной, отнимает у Истины ее авторитет
и могущество. Холодный, спокойный, бесстрастный дух доказа-
тельства отторгает бриллианты и цветы Музы; этот дух — пол-
ная противоположность поэтическому духу”.
“Чистый интеллект устремлен к Истине, Вкус показывает
нам Красоту, а Нравственное Чувство внушает нам Долг. Прав-
да, чувство середины имеет тесные связи с обеими противопо-
ложностями, и от Нравственного Чувства его отделяет одно-
единственное различие, столь тонкое, что Аристотель без ко-
лебаний поместил среди добродетелей кое-какие из его тон-
ких воздействий. Так, в зрелище зла человека вкуса больше все-
го раздражает его уродство, его отклонение от нормы. Зло по-
сягает на справедливость и истину, противоречит интеллекту и
совести; но, подобно нарушению гармонии, подобно диссо-
нансу, оно особенно ранит некоторые поэтические души; и
мне не кажется возмутительным рассматривать всякое наруше-
ние нравственности, нравственной красоты как своего рода
преступление против вселенского ритма и просодии”.
“Именно этот чудесный, бессмертный инстинкт Красоты и
принуждает нас рассматривать Землю и ее зрелища как абрис,
как соответствие Небу. Ненасытная жажда всего потусторонне-
го, которую обнажает жизнь, есть живейшее доказательство
нашего бессмертия. Именно посредством и в то же время через
поэзию, посредством и через музыку душа созерцает загроб-
ные красоты; и когда какая-нибудь изящная поэма вызывает на
глазах слезы, то слезы эти свидетельствуют не об избытке на-
слаждения, а скорее о разбуженной меланхолии, о мольбе нер-
вов, о природе, изгнанной в мир несовершенства, которая же-
лала бы немедленно, даже на самой этой земле, обрести от-
крытый в откровении рай”.
“Таким образом, принцип поэзии, строго и просто, состоит
в устремлении человека к высшей Красоте, и проявлением это-
го принципа является подъем и воспарение души — подъем,
223
совершенно не зависящий ни от страсти, пьянящей сердце1,
ни от истины, питающей разум. Ибо страсть — вещь естествен-
ная, слишком естественная, чтобы не вносить в область чистой
Красоты болезненный разлад; слишком знакомая и слишком
бурная, чтобы не осквернить чистое Желание, изящную Ме-
ланхолию и благородное Отчаяние, населяющие сверхъестест-
венные края Поэзии”.
В другом месте я написал: “В стране, где все подчиняется и
служит идее пользы, наиболее враждебной идее красоты, луч-
ший критик есть человек наиболее почтенный, то есть такой,
чьи склонности и желания ближе всего к склонностям и жела-
ниям публики,— такой, который, смешивая таланты и виды де-
ятельности, определяет всему одну-единственную цель, — та-
кой, который ищет в книге стихов средств для нравственного
совершенства”.
Спустя несколько лет волна благочестия и вправду захлест-
нула театр, поэзию, прозу и критику. Оставим в стороне воп-
рос, какие выгоды может найти лицемерие в этом смешении
обязанностей, какие утешения может отсюда извлечь литера-
турное бессилие. Я же довольствуюсь рассмотрением предпо-
ложительно бескорыстного заблуждения. В эпоху разгула ро-
мантизма, в эпоху бурных излияний, часто прибегали к следу-
ющей формуле: Поэзия сердца! Таким образом, страсти отда-
вали все права, приписывали своего рода непогрешимость.
Сколько же -бессмыслиц и софизмов может навязать француз-
скому языку одна ошибка эстетики! Сердце содержит страсть,
сердце содержит преданность, преступление; лишь Воображе-
ние содержит поэзию. Однако сегодня это заблуждение приня-
ло иной оборот и еще больший размах. К примеру, одна жена
в миг пылкой признательности сказала своему мужу, адвокату:
“О, поэт! люблю тебя!”
Вторжение чувства в область разума! Вот поистине вывод
жены, не знающей употребления слов! Ведь она хочет сказать:
“Ты честный человек и хороший супруг, поэтому ты поэт, и
еще больший поэт, чем те, что пользуются размером и рифмой
'Имитация страсти составляет, наряду с поиском Истины и отчасти
Красоты (но не Пользы), драматическую амальгаму; но страсть также
относит драму во второй ряд в иерархии Красоты. Если я и упустил вопрос
о большей или меньшей степени благородства талантов, то лишь для то-
го, чтобы не забираться слишком далеко; но допущение, что они равны ме-
жду собой, никак не отрицает общую теорию, которую я попытался обри-
совать. (Примечание Бодлера.)
224
для выражения идеи красоты. Осмелюсь даже утверждать, —
храбро продолжает эта дутая драгоценность, — что всякий до-
бропорядочный человек, угождающий своей жене, есть поэт
возвышенный. Далее, я в своей буржуазной непогрешимости
объявляю, что, сколь бы прекрасно кто-нибудь ни слагал сти-
хи, он в меньшей степени поэт, чем человек, влюбленный в
свой дом; ибо дар сложения лучших стихов — ничто по срав-
нению с супружескими талантами, которые есть основа всякой
поэзии”.
Однако члену академии, впавшему в это заблуждение, столь
лестное для адвокатов, есть чем утешиться. У него большая и
блестящая компания, ибо ветер века дует к безумию, барометр
современного разума указывает на грозу. Разве не на наших
глазах известный и со всех сторон почитаемый писатель под
единодушные рукоплескания недавно определил всякую поэ-
зию к любви вместо Красоты! К любви обыденной, домашней
и доброхотной! И написал от ненависти ко всякой красоте:
“Хороший портной лучше трех классиков скульптуры!” И зая-
вил, что если Раймунд Лулль и сделался теологом, то лишь по-
тому, что Бог покарал его за отступление перед раком, пора-
зившим грудь одной дамы, предмета его ухаживаний! Кабы он
искренне любил ее, добавляет он, насколько же прекраснее
она бы сделалась в его глазах от этого недуга! И так он сделал-
ся теологом! Ничего себе, лихо придумано! Тот же автор сове-
тует божественному мужу отхлестать свою жену, когда та при-
ходит молить об утешении покаянием. И какое же наказание
он позволяет нам применить к безвинному, больному и слабо-
му старику, играющему в куклы, возносящему мадригалы в
честь страдания и с наслаждением развалившемуся на грязном
белье человечества? Что до меня, то я знаю лишь одну казнь,
которая оставляет глубокий и вечный след, ибо, как поется в
песне наших отцов, этих жизнерадостных отцов, умевших
смеяться при любых, даже самых последних обстоятельствах:
Насмешка острее,
Чем сталь гильотины.
Я выбираюсь с этой проселочной дороги, куда меня завело
возмущение, и возвращаюсь к важной теме. Чувствительность
сердца вовсе не обязательно благоприятствует поэтическому
труду. Чрезмерная чувствительность сердца может в этом слу-
чае даже помешать. Другое дело — чувствительность воображе-
ния: она умеет выбирать, оценивать, сравнивать, избегать од-
8— 511
225
ного, искать другого, быстро, стихийно. Именно эта чувстви-
тельность, которая обычно зовется Вкусом, дает нам силу укло-
няться от зла и искать добро в поэтическом материале. Что же
до честности сердца, то простая учтивость требует от нас при-
знать, что она есть у всех, даже у поэтов. Считает ли поэт нуж-
ным или нет строить свой труд на основе чистой и праведной
жизни — этого не знает никто, кроме его исповедника или су-
да, в чем его положение совершенно сходно со всеми его со-
гражданами.
Из этого видно, что в моей постановке вопроса, если огра-
ничить значение слова “писатель” теми творениями, которые
порождает воображение, Теофиль Готье является писателем в
высшем смысле, ибо он раб своего долга, ибо он неуклонно
повинуется потребностям своего призвания, ибо вкус к Пре-
красному для него фатум, ибо он сделал из своего долга идею
фикс. Благодаря своему блестящему здравомыслию (я имею в
виду здравомыслие гения, а не среднего человека) он сразу на-
шел себе большую дорогу. Каждый писатель в большей или
меньшей степени отмечен своим главным талантом. Шатобри-
ан воспел болезненное величие меланхолии и скуки. Виктор
Пото, великий и ужасный, мифически чудовищный, своего ро-
да циклопический, проображает собой силы природы и их
гармоничную борьбу. Бальзак, великий, ужасный, а также сло-
жный, изображает чудовище цивилизации со всеми его терза-
ниями, устремлениями и безумствами. Готье есть целиком лю-
бовь к Прекрасному со всеми ее вариациями, выраженными
наиболее приличествующим языком. И заметьте, что почти все
значительные писатели — так называемые подвижники или
мастера — во все века имели близ себя если не аналоги, то по-
добия, готовые заменить их. Поэтому, для того чтобы получить
представление об исчезнувших аналогах и позволить критиче-
скому уму в целостности восстановить связь поколений, доста-
точно, чтобы после гибели цивилизации сохранилась хотя бы
одна поэма определенного жанра. Ибо по своей любви к Пре-
красному, любви огромной, плодотворной, беспрестанно мо-
лодеющей (к примеру, сравните последние статьи о Петербур-
ге и Неве с “Италией” или “Тга los montes”), Теофиль Готье
сочетает в себе достоинства писателя одновременно нового и
уникального. О последнем можно сказать, что у него до сего
времени нет двойника.
Чтобы достойно рассказать о средстве, столь прекрасно
служащем этой страсти к Прекрасному,— иначе говоря, о его
226
стиле,— мне понадобилось бы обладать подобными возможно-
стями, неизменно безупречным знанием языка, этим удиви-
тельным словарем, страницы которого, листаемые божествен-
ным дуновением, раскрываются на нужном, единственно вер-
ном слове, наконец, этим чувством порядка, расставляющем
по местам каждую черту и оттенок, не упуская ни малейшей де-
тали. Если же вспомнить, что к этой чудесной способности Го-
тье добавляется огромное врожденное разумение вселенских
взаимосвязей и символизма, эта кладезь всякой метафоры, то
понимаешь, что он может неизменно, без устали и ошибки, оп-
ределять таинственные положения, которые приобретают
предметы тварного мира под человеческим взглядом. В слове,
в глаголе есть нечто священное, запрещающее нам его случай-
ное употребление. Умение обращаться с языком есть своего
рода заклинание духов. Именно так заставляют цвет говорить
глубоким, вибрирующим языком; так памятники вздымаются и
выступают из глубины пространства; так животные и расте-
ния, представляющие мерзость и зло, кривятся в недвусмыс-
ленной гримасе; так запахи вызывают соответствующие раз-
мышления и воспоминания; так чувства бормочут или ревут
своим извечно схожим языком. В стиле Теофиля Готье есть
правильность, которая очаровывает, изумляет, заставляет заду-
маться о тех чудесах, которые создаются игрой сложной мате-
матической науки. Мне помнится, как в молодости, впервые
вкусив от творчества нашего поэта, я вздрагивал от точного
прикосновения, от безошибочно нанесенного удара, и восхи-
щение порождало во мне некое нервное возбуждение. Понем-
ногу я привыкал к этому совершенству и весь отдавался пре-
красному, плавному и блестящему стилю — как человек на ло-
шади, позволяющей ему забыться, или на корабле, достаточно
прочном для борьбы с ненастьем, непредвиденным компасом,
с борта которого можно досужно созерцать великолепие безу-
пречных красот, сооруженных природой в часы вдохновения.
Именно благодаря этим врожденным талантам, столь заботли-
во взращенным, Готье часто может (тому мы свидетели) сесть
за обыкновенный стол, за конторку и без подготовки написать
критическую статью или роман (что-нибудь требующее безу-
пречной отделки), что на следующий день доставляет читате-
лям столько же удовольствия, сколько удивления вызывает у
типографских наборщиков скоростью и красотой исполне-
ния. Эта быстрота разрешения всех задач стиля и композиции
не может не напомнить о суровом правиле, однажды высказан-
8*
227
ном им в разговоре со мной, из которого он несомненно сде-
лал каждодневный долг: “Всякий человек, неспособный выра-
зить идею, сколь бы тонкой и неожиданной она бы ни каза-
лась, не может быть писателем. Невыразимого не существует”.
IV
Эта постоянная, невольная в силу своей естественности за-
бота о красоте и выразительности должна была подвигнуть ав-
тора на романический жанр, соответствующий его темпера-
менту. Роман и новелла наделены привилегией удивительной
пластичности. Они приспосабливаются ко всем характерам,
облегают все сюжеты и по-своему преследуют разные цели.
Это то поиск чувств, то поиск истины; один роман обращен к
толпе, другой — к посвященным; этот описывает жизнь ушед-
ших веков, тот — молчаливые драмы, разыгрываемые внутри
одного мозга. Роман, занимающий столь важное место рядом
с поэзией и историей, является незаконнорожденным жанром,
владения которого поистине беспредельны. Как множество
других незаконнорожденных, он — дитя, избалованное богат-
ством, которому удается все. Он не подвержен иным неудобст-
вам и не знает иной опасности, кроме собственной безграни-
чной свободы. Новелла, более скованная, сгущенная, пользует-
ся извечными преимуществами ограничения: ее воздействие
сильнее; и, так как время, уделенное прочтению новеллы, куда
меньше времени, необходимого для поглощения романа, она
сохраняет целостность своего воздействия.
Душа Теофиля Готье, поэтичная, выразительная, созерца-
тельная, должна была полюбить эту форму, взлелеять ее и об-
лачить в различные одежды по своему вкусу. Так он совершен-
но преуспел в разнообразных новеллических жанрах, к кото-
рым обращался. Он весьма силен в гротеске и сатире. Именно
его одинокая веселость мечтателя время от времени выпускает
на волю спертый поток радости, всегда сохраняя sui generis
этого дара, стремящегося прежде всего угождать самому себе.
Но где он достиг наибольших высот или показал свой талант
наиболее убедительно и весомо, так это в той новелле, кото-
рую я бы назвал новеллой поэтической. Можно сказать, что
среди бесчисленных форм романа и новеллы, занимавших
или развлекавших человеческий ум, наибольшим предпочте-
нием пользовался роман нравов — именно он лучше всего
228
подходит толпе. Как Парижу больше всего нравится слышать
разговоры о себе, так и толпа находит удовольствие в рассма-
тривании себя в зеркалах. Но когда роман нравов не отмечен
высоким от природы вкусом автора, у него есть большая опас-
ность быть пошлым и даже, так как в искусстве польза измеря-
ется степенью благородства, абсолютно бесполезным. Если
Бальзак создал из этого грубого жанра нечто великолепное,
всегда занимательное и часто возвышенное, то потому что
вложил в него всего себя. Меня много раз поражало, что своей
великой славой Бальзак обязан репутации наблюдателя; мне
всада казалось, что его главной заслугой была мечтатель-
ность, и мечтательность страстная. Все его персонажи наделе-
ны животворной пылкостью, которая оживляла самого его. Все
его вымыслы окрашены в яркие цвета видений. Все актеры его
“Комедии”, от аристократической верхушки до плебейского
дна, больше жаждут жизни, более стойки и искушении в борь-
бе, более терпеливы в несчастье, больше охочи до радости, с
большим смирением жертвуют собой, чем показывает нам на-
стоящая комедия жизни. Одним словом, у Бальзака все, даже
швейцары, гениальны. Воля наполняет все души по самое гор-
ло. В этом сам Бальзак. И, поскольку все создания внешнего
мира предстают перед его внутренним оком со всей отчетли-
востью и пронзительностью, он заставил эти фигуры судорож-
но извиваться; он углубил их тени и усилил свет. Его дивная
страсть к подробностям, происходящая от неуемного желания
увидеть все, все показать, все угадать, на все намекнуть прину-
ждала его, помимо прочего, резче проводить главные линии
ради сохранения целостности композиции. Иногда он напо-
минает мне офортистов, вечно недовольных результатом тра-
вления и превращающих в овраги первоначальные бороздки
офортной доски. Из этого удивительного и естественного уст-
ремления рождаются чудеса. Однако это устремление обыкно-
венно относят к недостаткам Бальзака. Точнее было бы сказать,
что именно в этом его достоинства. Кто еще может похвалить-
ся счастливым дарованием и способностью применить метод,
который позволяет убедительно облачить в свет и порфиру са-
мую простую обыденность? Кто может сделать это? Ибо, по
правде сказать, кто не делает этого, тот не делает ничего осо-
бенного.
Муза Теофиля Готье населяет более призрачные миры. Ее
мало беспокоит — слишком мало, как считают некоторые,—
как Кокле, Пипле или Кто-угодно проводят свой день и что
229
больше нравится госпоже Кокле — комплименты урядника, ее
соседа, или конфеты аптекаря, который в свое время слыл од-
ним из самых заводных танцоров в Тиволи. Эти загадки не за-
нимают ее. Она ищет удовольствия на высотах, менее посеща-
емых, чем улица Ломбардов: она любит пейзажи страшные, су-
ровые или чарующие своим однообразием; голубые берега
Ионии или слепящие пески пустыни. Она охотно живет в рос-
кошно убранных комнатах, где витают пары изысканного аро-
мата. Ее персонажи — боги, ангелы, священник, король, любов-
ник, богач, бедняк и тд. Она любит воскрешать усопшие горо-
да и твердить восставшим мертвецам их прерванные страсти.
Не размер и рифму заимствует она у поэзии, но торжествен-
ность или мощь краткости ее языка. Избавившись таким обра-
зом от обыденной суеты реальной жизни, она с большей сво-
бодой преследует свою мечту о Прекрасном; но при этом она
подвергает себя большой опасности утратить зримость и ося-
заемость, не будь она столь податливой и послушной дочерью
создателя, умеющего вдыхать жизнь во все, на что ни взглянет.
Наконец, оставляя в стороне метафору, новелла поэтического
жанра бесконечно прибавляет в достоинстве; у нее более бла-
городный, более общий тон, зато ей грозят большие потери по
части реальности или магии правдоподобия. И однако же кто
не помнит пир Фараона, танец рабов и победное возвращение
армии из “Романа мумии”? Воображение читателя переносит-
ся в действительность; оно вдыхает истину; оно упивается вто-
рой реальностью, созданной волшебством Музы. Я не выбирал
примера — это первое, что подсказала мне память; я мог бы
привести десятки других.
Когда перелистываешь сочинения мастера, уверенного в
твердости своей воли и руки, то трудно выбирать, так как все
отрывки предстают перед взглядом или памятью с равным
ощущением точности и завершенности. И однако же я бы
охотно посоветовал, как образец не только искусства выраже-
ния, но и как образец таинственной утонченности (ибо клави-
атура чувств у нашего поэта намного длиннее, чем принято
считать), столь широко известную историю “Царя Кандавла”.
Конечно, трудно было бы выбрать тему более избитую, драму с
развязкой более повсеместно предсказуемой; но истинные пи-
сатели любят эти трудности. Луг все достоинства (созданная
языком абстракция) коренятся в толковании. Если там и есть
заурядное, избитое чувство, понятное всем женщинам, то это
целомудрие. Но здесь целомудрие высшего порядка, похожее
230
на религиозное; здесь культ женщины ради нее самой; здесь
целомудрие архаическое, азиатское, причастное всему миру
древности, подлинный цветок оранжереи, гарема или гинекея.
Взгляд невежды оскверняет его не меньше, чем рот или рука.
Созерцание равно обладанию. Кандавл показал своему другу
Внесу тайные прелести своей супруги — Кандавл виновен и
поэтому погибает. Впредь Пггес становится единственным воз-
можным супругом царицы, столь дорожащей собой. Но разве
Кандавлу нечем оправдаться? Разве он не жертва чувства, в рав-
ной мере властного и странного, жертва невозможности для
человека чувствительного и художественного в одиночку вы-
носить бремя огромного счастья? Очевидно, такое толкование
этой истории, такой анализ чувств, породивших факты, на-
много превосходит притчу Платона, где Вггес выведен про-
стым пастухом, обладателем талисмана, с помощью которого
он легко совращает супругу своего царя.
Так, разной походкой и в различных нарядах, шествует эта
странная муза — муза без национальности, наделенная непо-
стоянством Алкивиада; иногда у нее на голове восточная мит-
ра, величественный и священный вид, ленточки на ветру; в
другой раз она выступает словно царица Савская на пиру, с ма-
леньким медным зонтиком в руке восседая на фарфоровом сло-
не — украшении каминов в галантный век Но больше всего
она любит, сидя под ароматными берегами Внутреннего моря,
рассказывать нам своим золотым слогом о “славе Греции и ве-
личии Рима”; здесь она воистину “подлинная Психея, возвра-
тившаяся из подлинно Святой земли”!
Эта врощенная любовь к форме и к совершенству формы
непременно должна была сделать из Теофиля Готье исключи-
тельного критика. Никто лучше него не сумел выразить сча-
стье, которое дарит воображению вид прекрасного произведе-
ния искусства, будь то самое скорбное или самое ужасное, что
только можно представить. Превращение ужасного в прекрас-
ное под действием художественного выражения и наполнение
души спокойной радостью за счет ритмически организован-
ного страдания является одной из чудесных привилегий искус-
ства. В качестве критика Теофиль Готье познал, полюбил и
разъяснил в своих Салонах и превосходных путевых заметках
азиатскую, греческую, римскую, испанскую, фламандскую,
голландскую и английскую красоту. Когда работы всех евро-
пейских художников торжественно собираются на проспекте
Монтеньи, будто на своеобразный эстетический консилиум, то
231
кто первым лучше всего отозвался об английской школе, о ко-
торой даже самая образованная часть публики могла судить
лишь по далеким воспоминаниям о Рейнольдсе и Лоренсе? Кто
сразу подметил различные, по существу новые достоинства
Лезли, обоих Гантов: одного — натуралиста, другого — родона-
чальника прерафаэлитов; Маклиза с его дерзкой композицией,
пылкого и уверенного в себе Миллэ, обстоятельного поэта Дж.
Шалона, рисующего полуденные гулянья в парках, галантного,
как Ватто, мечтательного, как Клод, Гранта, последователя Рей-
нольдса — 1\ка, рисующего венецианские сны Ландзеера, у ко-
торого звери взирают осмысленным взглядом, этого странно-
го Патона, наводящего на мысль о Фюзелли и с терпением
иных веков выводящего пантеистические мотивы, Катермоля с
его акварелями на темы истории, а также еще одного, чье имя
я не могу вспомнить (Кокрелл или Кендаль?), мечтателя-архи-
тектора, сооружающего на бумаге города с мостами, опираю-
щимися на слонов, между ног которых с развернутыми паруса-
ми проплывают огромные трехмачтовые корабли? Кто смог
немедленно британизировать свой талант? Кто нашел подхо-
дящие слова для описания этой чарующей свежести и туман-
ных глубин английской акварели? 1^е бы ни был продукт худо-
жественного творчества, требующий описания и объяснения,
Готье всегда готов сделать это.
Я убежден, что именно благодаря его бесчисленным статьям
и чудесным путевым заметкам молодежь (имеющая врожден-
ную любовь к прекрасному) получает дополнительное образо-
вание, недостающее ей. От Теофиля Готье она получила любовь
к живописи, как от Виктора Пого — пристрастие к археологии.
Этот постоянный труд, продолжаемый с таким терпением, был
тяжелее и достойнее похвалы, чем казалось вначале; вспомним,
что Франции, точнее сказать, французской публике (за исклю-
чением немногих художников и писателей) не свойственна ху-
дожественность; эта публика философская, моралистическая,
изощренная, любящая рассказы и анекдоты, но сама по себе ни-
как не художественная. Она чувствует или скорее судит последо-
вательно, аналитически. Другие народы, более избранные, чув-
ствуют немедленно, сразу, синтетически.
Там, где не требуется видеть ничего, кроме красоты, наша
публика не ищет ничего, кроме правды. Когда требуется быть
художником, француз делается литератором. Однажды я увидел
в Салоне на ежегодной выставке двух солдат, с недовольством
рассматривающих кухонный интерьер, “йе же туг Наполеон?”—
232
спросил один (из-за ошибки в каталоге кухня была помечена
цифрой, законно принадлежащей к знаменитой битве). “Ду-
рак! — ответил другой. — Не видишь, вот варят суп к его возвра-
щению”. И они ушли, довольные собой и художником. Такова
Франция. Я передал этот случай одному генералу, который на-
шел в нем повод для восхищения чудесной смекалкой француз-
ского солдата. Ему следовало бы добавить: чудесной смекалкой
всех французов в вопросах живописи! Эти солдаты — сущие ли-
тераторы.
V
Увы, поэтичность свойственна Франции ничуть не больше.
Все мы в той или иной степени, даже наименее шовинистиче-
ски настроенные из нас, умели защитить Францию в гостях, на
дальних берегах; сумеем же здесь, у себя, среди, семьи сказать
правду: у Франции нет поэтичности; откровенно говоря, она
даже испытывает врожденный ужас перед поэзией. Среди пи-
сателей, слагающих стихи, она всегда выбирает наиболее про-
заических. Я искренне полагаю — прошу истинных ценителей
Музы простить меня! — что в начале этой статьи мне до конца
не хватило мужества, когда я говорил о том, что Франция с тру-
дом переваривает Красоту, не приправленную политикой. Ну-
жно было бы сказать наоборот: сколько ни приправляй Красо-
ту политикой, она все равно вызывает несварение желудка —
вернее, французский желудок немедленно отвергает ее. Это
происходит, как мне кажется, не только потому, что Провиде-
ние создало Францию скорее для поиска Истины, чем Красо-
ты, но также оттого, что утопический, коммунистический, ал-
химический характер всех умов допускает лишь одну-единст-
венную страсть — социальное поведение. Здесь каждый хочет
быть похожим на всех при условии, что все будут похожи на
него. Из этого противоречия рождается борьба, которая затра-
гивает лишь социальные формы, социальный уровень, навязы-
вая им единообразие. Отсюда разрушение и угнетение всякой
оригинальности характера. К тому же истинные поэты пред-
стают баснословными и чуждыми созданиями не только в ли-
тературном плане: можно сказать, что во всяком творчестве ве-
ликий человек у нас — чудовище. В других странах оригиналь-
ность, напротив, изобилует, избыточествует, как некошеная
трава. Там нравы не препятствуют этому.
Будем же любить своих поэтов тайно и сокровенно от всех.
233
За границей же мы вправе похвалиться ими. Пусть наши сосе-
ди говорят: Шекспир и Гете! Мы можем ответить им: Виктор
Пого и Теофиль Готье! Возможно, покажется странным, что о
жанре, который составил последнему главное достоинство,
главную славу, я рассказал меньше, чем об остальных. Я, коне-
чно, не могу изложить здесь полный курс поэтики и просодии.
Даже если в нашем языке существует достаточное количество
терминов, пригодных для объяснения той или иной поэзии,
возможно ли мне отыскать их? Есть стихи, в которых, как в не-
которых женщинах, слились оригинальность и правильность
черт; они непостижимы, их можно лишь любить. Теофиль Го-
тье прошел, с одной стороны, великую школу меланхолии, ос-
нованную Шатобрианом. Его меланхолия по своему характеру
даже более позитивная и чувственная, подчас граничащая с
античной тоской. У него есть стихи — в “Комедии Смерти”, а
также среди навеянных поездкой в Испанию,— в которых от-
разились бездонность и ужас небытия. Перечитайте, к приме-
ру, отрывки о Зурбаране и Вальдес-Леале, чудесное толкование
надписи на циферблате часов Уруни: “Vulnerant omnes, ultima
necat”, наконец, превосходную симфонию под названием
“Мрак”. Я называю это симфонией, так как это стихотворение
подчас напоминает мне о Бетховене. И этот поэт, обвиненный в
чувственности, временами даже впадает в католический ужас —
столь сильной становится его меланхолия. С другой стороны,
он ввел в поэзию одно новшество, называемое мною утешени-
ем через искусство, через все предметы художественного твор-
чества, которые радуют глаз и развлекают ум. В этом смысле он
истинный новатор; он заставил французскую поэзию сказать
больше, чем она высказала до сих пор; ему удалось усилить яс-
ность и объемность изображаемого за счет множества подроб-
ностей, не нарушая его целостности или общего контура. Его
поэзия, одновременно величественная и манерная, торжест-
венно шествует, словно придворная дама в пышных одеяниях
Истинной поэзии в целом свойственно иметь спокойное тече-
ние как великим рекам, впадающим в море,— в свою погибель
и бесконечность,— и избегать спешки и рывков. Лирическая
поэзия стремится вперед, но всегда мягким, волнистым движе-
нием. Все порывчатое и прерывистое противно ей, и она отсы-
лает это к драме или роману нравов. Поэт, талант которого мы
любим столь страстно, глубоко познал эти фундаментальные
вопросы, прекрасно доказав это посредством систематическо-
го и постоянного внедрения величавого александрийского
234
стиха в восьмисложную поэзию (“Эмали и камеи'). Именно от-
сюда прежде всего появился результат, который можно полу-
чить путем слияния двоякого элемента, живописи и музыки, за
счет мелодической широты и правильной, симметричной
мантии более чем точной рифмы.
Стоит ли мне снова напомнить здесь о сборнике неболь-
ших стихотворений из нескольких строф, представляющих со-
бой любовные или мечтательные интермедии и похожих, од-
ни — на скульптуры, другие —на цветы, третьи — на украше-
ния, но все в красках более утонченных или блестящих, чем
краски Индии и Китая, и все с очертаниями более безупречны-
ми и решительными, чем мраморные или стеклянные предме-
ты? Всякий любитель поэзии знает их наизусть.
VI
Я попытался (удалось ли, не знаю) выразить восхищение,
которое вызывают у меня произведения Теофиля Готье, и выве-
сти причины, оправдывающие это восхищение. Некоторые,
даже среди писателей, могут не разделить мое мнение. Но ско-
ро со мной согласятся все. В глазах сегодняшней публики Тео-
филь Готье всего лишь блестящий ум; в глазах потомков он бу-
дет мастером литературы, и не только французской, но и евро-
пейской. По своему шутливому, несмешливому характеру,
твердой решимости не поддаться на обман он немного фран-
цуз; но, будь он целиком француз, он не был бы поэтом.
Стоит ли говорить о его нравах, столь безупречных и благо-
душных, о его услужливости, о его искренности, когда он мо-
жет быть искренним, когда ему не противостоит пошлость, о
его поминутной пунктуальности в исполнении всех своих обя-
занностей? Все писатели имели множество возможностей оце-
нить эти благородные качества.
Его ум порой упрекают в пробелах по отношению к рели-
гии и политике. Будь у меня желание, я бы мог написать другую
статью с победным опровержением этого несправедливого уп-
река. Я знаю, и мне будет достаточно, если люди духовные пой-
мут меня, когда я скажу им, что одного желания порядка, про-
питывающего светлый ум Теофиля Готье, достаточно для того,
чтобы предохранить его от всякого заблуждения в политике и
в религии, и что у него, более чем у кого-либо другого, есть
чувство вселенского подчинения, начертанное поверх всего
235
его существа, во всех градациях вечности. Порой говорят о его
очевидной холодности, об отсутствии у него человечности. И
в этой критике есть некоторая легкость, недомыслие. Всякий,
кто любит человечество, никогда не преминет, по определен-
ному поводу, благоприятному для филантропических деклама-
ций, процитировать известное изречение:
Homo sum; nihil bumani а те alienum puto.
На это поэт имеет право ответить: “На меня возложена
столь высокая обязанность, что quidquid humani a me alienum
puto. Моя задача сверхчеловечна!” Но, дабы не злоупотреблять
своим правом, наш поэт мог бы просто сказать (я, знающий
его сердце, столь нежное и сочувствующее, уверен, что он
вправе сделать это): “Вы считаете меня холодным, но не види-
те, что это спокойствие существует нарочно, чтобы ваша мер-
зость и варварство никогда не оставались в покое, о, люди про-
зы и преступления! То, что вы называете безразличием, есть не
что иное, как покорность отчаяния; она может смягчаться
лишь изредка, когда рассматривает злобу и глупость как неиз-
лечимую болезнь. Мой взгляд упорно обращен к чистой Музе
лишь для того, чтобы избежать прискорбного видения вашего
безумия и жестокости”.
Именно это отчаяние убедить или исправить что бы то ни
было несомненно привело к тому, что, как нам порой прихо-
дилось видеть в последнее время, Готье ослабел и, по-видимо-
му, стал отпускать тогда-сегда хвалебные слова в сторону гос-
подина Прогресса и весьма влиятельной дамы — Промышлен-
ности. В подобных случаях не нужно спешить ловить его на
слове: этот пример лишь подтверждает, что презрение порою
слишком облагораживает душу. Ибо свои истинные мысли он
хранит про себя, легкостью своего снисхождения (которое
способен оценить лишь тот, кто ясно видит в потемках) свиде-
тельствуя просто о желании жить в мире со всеми, даже с Про-
мышленностью и Прогрессом, этими деспотичными врагами
всякой поэзии.
Мне множество раз приходилось слышать сожаление, что
Готье никогда не состоял на государственной службе. Очевид-
но, во многих областях, особенно в отношении изящных ис-
кусств, он мог бы оказать Франции бесценные услуги. Но, взве-
сив “за” и “против”, лучше оставить все так, как есть. Сколь бы
далеко ни простирался человеческий гений, сколь бы велика
ни была его добрая воля, государственная служба всегда не-
236
сколько уменьшает его; то страдает его свобода, то даже проро-
ческий дар. Что до меня, то я предпочел бы, чтобы автор “Ко-
медии Смерти”, “Ночи Клеопатры”, “Влюбленной Смерти”, “Тга
ios montes”, “Италии”, “Причуд и изгибов” и стольких других
шедевров оставался бы тем, кто он есть в настоящее время:
равным с великими прошлого, образцом для грядущих, тем
бриллиантом, которые встречаются все реже в наш век, опья-
ненный невежеством и материализмом, то есть СОВЕРШЕН-
НЫМ ЛИТЕРАТОРОМ.
Благочестивые
драмы и РОМАНЫ
Некоторое время назад огром-
ное безумие благочестия охватило прозу и театр. Ребяческий
разгул так называемой романтической школы вызвал такой от-
вет, что она заслуживает обвинения в преступной оплошности,
несмотря на чистые намерения, которые, казалось бы, двигали
ею. Добродетель, безусловно, великая вещь, и до настоящего
времени ни один писатель, если он в своем уме, не дошел до
того, чтобы .утверждать, что творения искусства должны про-
тиворечить великим законам нравственности. Вопрос состоит
лишь в том, чтобы выяснить, способствуют ли так называемые
добродетельные авторы тому, чтобы добродетель была любима
и уважаема, удовлетворена ли добродетель тем, как ей служат.
Здесь мне приходят на ум два примера. Эмиль Ожье, один
из самых горделивых столпов буржуазного благочестия, один
из рыцарей здравого смысла, написал пьесу ‘‘Цикута”, в кото-
рой мы видим, как молодой буян, любитель славно пожить и
выпить, законченный эпикуреец, в конце концов влюбляется в
чистые глаза.молодой девушки. Мы уже видали великих раз-
вратников, вдруг бросающих в окно всю роскошь своей жизни
и идущих искать в аскетизме и бедности горечь неведомых
блаженств. Такое было бы еще ничего, хотя и весьма неориги-
нально. Но это было бы свыше добродетельных сил публики
господина Ожье. Мне думается, он хотел доказать, что в конце
концов нужно непременно остепениться и что добродетель
просто счастлива принять то, что ей оставил разврат.
Послушаем, как Габриелла, добродетельная Габриелла вме-
сте со своим добродетельным мужем прикидывает, сколько
времени добродетельной скаредности нужно, с учетом про-
центов, добавленных к капиталу и приносящих другие про-
центы, для получения десяти или двадцати тысяч ливров рен-
ты. Сколько именно лет (пять или десять) неважно: я не помню
цифр поэта. После этого, как говорят двое благочестивых суп-
ругов:
Мы роскошь мальчика завесгь себе позволим!
О, рога всех дьяволов бесчестья! О, душа Тиберия и марки-
238
за де Сада! Чем же они будут заниматься все это время? Неуже-
ли мне нужно марать перо названиями всех пороков, которым
они будут вынуждены предаться ради выполнения своего доб-
родетельного плана? Или же поэт надеется убедить сие честное
собрание мелочных людей, что оба супруга живут в совершен-
ном целомудрии? Не хотел ли он случаем склонить их взять не-
сколько уроков у китайских экономов и господина Мальтуса?
Нет, невозможно добросовестно написать стихи, полные по-
добной гнусности. Господин Ожье всего только ошибся, и его
ошибка несет в себе наказание ему. Он говорил языком торгов-
цев, языком обывателей, приняв его за язык добродетели. Мне
говорят, что у писателей этой школы есть удачные куски, хоро-
шие стихи и даже остроумие. Черт возьми! Чем можно изви-
нить пристрастие, если оно не имеет никакой ценности?
Между тем ответ не замедлил прийти — ответ яростный и
вздорный. Бурное предисловие к “Мадемуазель де Мопен”, ос-
корбительное для глупого буржуазного лицемерия и наглого
самодовольства школы здравого смысла, отомстило за буйство
романтизма. Увы, да! В этом есть месть. Если “Кеан, или Беспо-
рядок и Талант”, казалось, хотел убедить, что эти два термина
всегда связаны между собой по необходимости, то Габриелла в
отместку причислила своего супруга к поэтам!
О, поэт! Люблю тебя.
И это о нотариусе! Взгляните, как эта благочестивая буржу-
азия любовно воркует у плеча своего мужа и томно строит ему
глазки, как это делают в романах, прочитанных ею! Взгляните,
как все нотариусы в зале рукоплещут автору, который обраща-
ется с ними на равных и мстит всем тем негодяям, которые ве-
рят, что задача поэта состоит в выражении лирических поры-
вов души в размере, подчиненном традиции! Вот ключ к боль-
шому успеху.
Вначале говорили: поэзия сердца! Так приходит в упадок
французский язык, а дурные литературные страсти уничтожа-
ют его точность.
Мимоходом стоит заметить параллелизм глупости, а также
одни и те же языковые странности, которые обнаруживаются в
противоположных друг другу школах. Так, есть шумная толпа
поэтов, огрубелых от языческого сладострастия и беспрестан-
но употребляющих слова “святой”, “святая”, “восторг”, “молит-
ва” и т.д. для описания предметов и существ, не имеющих ни-
чего святого или восторженного и, даже совсем наоборот, до-
239
водящих поклонение женщине до отвратительнейшего бого-
хульства. Один из них в приступе святого эротизма дошел до
того, что написал: “О, моя прекрасная католичка!” Но доволь-
но марать грязью алтарь. Все это тем более смешно, что жен-
щины поэтов — это обыкновенно весьма гадкие шлюхи, из ко-
торых менее дурны те, что варят суп и не платят другому лю-
бовнику.
Рядом со школой здравого смысла и с буржуа приличных и
тщеславных типов подрос и размножился опасный народец,
состоящий из сентиментальных гризеток, тоже примешиваю-
щих Бога в свои дела, из Лизетт, которые привыкли все изви-
нять во имя веселого французского нрава, из публичных де-
вок, сохранивших невесть где и как ангельскую чистоту, и тд.
Это лицемерие другого рода.
Сейчас школу здравого смысла можно назвать школой от-
мщения1. Что обеспечило успех “Жерому Патюро”, этому гну-
сному выходцу из Куртиля, где пошлые сорванцы забрасыва-
ют грязью и мукой поэтов и ученых? Кроткий Пьер Леру, чьи
многочисленные сочинения подобны словарю человеческих
верований, написал возвышенные и трогательные страницы,
которые автор “Жерома Патюро” вряд ли читал. За Прудона
Европа будет вечно завидовать нам. Виктор Пого удачно сочи-
нил несколько красивых строф, и я не вижу, чтобы ученый Ви-
олет-ле-Дюк был неуклюжим архитектором. Месть! Месть! Ну-
жно дать мелочной публике отдохнуть. Все сии творения
представляют собой подобострастные ласки для страстей раз-
гневанных рабов.
Есть слова, великие и ужасные, которые беспрестанно вста-
ют в литературной полемике: искусство, красота, польза, нрав-
ственность. Получилась невероятная путаница, и в силу недос-
татка философской мудрости каждое слово забирает себе по-
ловину знамени, утверждая, что другое не имеет никакой цен-
' Вот история происхождения этого прозвища - шкала здравого смыс-
ла. Несколько лет назад в редакции "Корсэр-Сатан" по поводу успеха одной
пьесы вышеназванной школы один из редакторов в припадке литературно-
го возмущения вскричал: “Есть же люди, которые полагают, что здравый
смысл создает комедию!" Он хотел сказаты'Ведь не только здравый
смысл". И т.д. Главный редактор, человек весьма наивный, нашел это изре-
чение сталь ужасно комичным, что захотел пустить его в печать. С этого
дня ‘Корсэр-Сатан’ и следам многие другие газеты стали пользоваться
этим терминам как ругательством, а молодые люди, принадлежащие к вы-
шеназванной шкале, объединились под ним, как под знаменем, а также сши-
ли себе из него штанишки. (Примечание Ш. Бодлера.).
240
ности. Конечно, в столь короткой статье нельзя выставлять ка-
кие-либо философские претензии, и я не хочу утомлять чита-
телей попытками демонстрации безусловных эстетических
истин. Я буду как можно более краток и буду говорить на язы-
ке здравомыслящих людей. Мне больно видеть, что в обеих из
противостоящих друг другу школах - буржуазной и социали-
стической — обнаруживаются схожие ошибки. “Нравствен-
ность! Нравственность!”— кричат с обеих сторон в миссионер-
ском запале. При этом одна, естественно, проповедует буржу-
азную мораль, другая — социалистическую. Тем самым искус-
ство превращается в вопрос пропаганды.
Полезно ли искусство? Да. Почему? Потому что оно — искус-
ство. Существует ли вредное искусство? Да. Эго то, которое на-
рушает условия жизни. Порок соблазнителен, его и нужно изо-
бражать соблазнительным; но он несет с собой сильнейшие
нравственные болезни и страдания; нужно описать их. Изучай-
те все язвы, как врач, исполняющий свои обязанности в боль-
нице, и школа здравого смысла — школа исключительно нрав-
ственная — больше не найдет, в чем упрекнуть вас. Всегда ли
преступление получает свое наказание, а добродетель — на-
граду? Нет. И однако же если ваш роман, ваша драма сделаны
хорошо, то ни у кого не возникнет желания нарушить законы
природы. Вера в единство целого — первое необходимое усло-
вие для существования здорового искусства. Пусть кто-нибудь
покажет мне хотя бы одно-единсгвенное творение воображе-
ния, которое сочетало бы в себе все условия красоты и которое
было бы вредным.
Один молодой писатель, автор добротных сочинений, но
увлеченный в тот день социалистической софистикой и при-
няв узкую точку зрения, подверг в “Ля Смен” нападкам Бальза-
ка по вопросу нравственности. Бальзак, который сильно стра-
дал от горьких упреков лицемеров и который придавал этому
вопросу большое значение, воспользовался возможностью оп-
равдаться в глазах двадцати тысяч читателей. Я не буду повто-
рять содержание его двух статей; они прекрасны своей ясно-
стью и искренностью. Бальзак заглянул в глубь вопроса. Он на-
чал с наивного и комично-простодушного подсчета своих до-
бродетельных и преступных персонажей. “Несмотря на извра-
щенность общества, которое создано не мною, преимущество
все-таки остается за добродетелью”,— писал он. Затем он пока-
зал, что на свете мало таких больших подлецов, злая душа ко-
торых не имела бы утешительной изнанки. Перечислив все на-
241
ного закона и уже окружающие их, словно земной ад, он обра-
тился к слабым и легко впечатлительным сердцам со следую-
щими словами, сколь зловещими, столь же и комичными: “Го-
ре вам, господа, если судьба Люсьенов и Лусго наполняет вас
вожделением!”
В самом деле, нужно изображать пороки такими, какие они
есть, или вовсе не замечать их. И если читатель не имеет внут-
ри себя философского и религиозного проводника, сопровож-
дающего его при чтении книги, тем хуже для него.
У меня есть друг, который много лет твердил мне про Бер-
кена. Вот это писатель! Беркеи! прелестный, добрый, утеши-
тельный, благодетельный — словом, великий писатель! Ребен-
ком я не был знаком с его сочинениями, по счастью или несча-
стью не читая ничего, кроме толстых книг для взрослых. Одна-
жды, когда мой мозг был отягощен этим модным вопросом —
нравственность в искусстве,— писательское провидение под-
сунуло мне под руку томик Беркена. Прежде всего я увидел, что
дети у него разговаривают как, взрослые, как в книгах, и что
они поучают своих родителей. “Вот образец лживого искусст-
ва”,— сказал я себе. Но далее я обнаружил, что мудрость у него
беспрестанно осыпают сладостями, а подлость непременно
высмеивают наказанием. Если вы мудры, вам дадут конфетку —
вот основа этой морали. Добродетель — sine qua non успеха.
Тут поневоле усомнишься, был ли Беркен христианином. “Вот
образец вредного искусства”,— сказал я себе на этот раз. Ибо
воспитанник Беркена, вступая в жизнь, весьма скоро склонится
к другой морали: успех — sine qua non добродетели. Кроме то-
го, ярлык благого преступления обманет его, и с помощью ре-
цептов учителя он поселится на постоялом дворе порока, буду-
чи убежден, что ночует под сенью нравственности.
Что ж! Беркен, де Монтион, Эмиль Ожье и многие другие
почтенные лица — все они заодно. Они убивают добродетель
точно так же, как Леон Фоше, который недавно нанес литера-
туре смертельную рану своим сатанинским указом в пользу
благочестивых пьес.
Премии приносят несчастье. Академические премии, пре-
мии добродетели, разнообразные награды — все эти дьяволь-
ские изобретения поощряют лицемерие и препятствуют сти-
хийным порывам свободного сердца. Когда я вижу человека,
который требует для себя крест почета, мне кажется, что я слы-
шу, как он говорит императору: “Я действительно исполнил
242
свой долг; но если вы не объявите об этом всему миру, то, кля-
нусь, я больше не исполню его”.
Что мешает двум подлецам объединиться ради получения
премии Монтиона? Один притворится бедным, другой — бла-
готворительным. В официальных премиях есть нечто ущерб-
ное для человека и человечества и затмевающее целомудрие и
добродетель. Мне, по крайней мере, не хотелось бы иметь дру-
гом человека, получившего награду за добродетель: я боюсь
обнаружить в нем безжалостного тирана.
Что же касается писателей, то их награда — уважение рав-
ных и касса книжных магазинов.
Какого черта сюда вмешивается господин министр? Может,
ему хочется наплодить лицемерие ради удовольствия награж-
дать его? Бульварная литература скоро сделается местом не-
скончаемой проповеди. Когда у какого-нибудь автора подхо-
дит плата за квартиру, он пишет благочестивую пьесу; если у не-
го много долгов — пьесу ангельскую. Чудное установление!
Позднее я еще вернусь к этому вопросу; я расскажу о попыт-
ках обновления театра, которые предприняли двое великих
умов Франции: Бальзак и Дидро.
Советы
МОЛОДЫМ ЛИТЕРАТОРАМ
Рецепты, предлагаемые для чте-
ния, являются плодом опыта; опыт же предполагает опреде-
ленную сумму ошибок; каждый совершает их — все или почти
все, и я надеюсь, что мой опыт будет проверен опытом каждо-
го.
Упомянутые рецепты не претендуют на большее, чем vade
mecum, и не имеют иной пользы, чем быть юности честным
зерцалом. И это немалая польза! Вообразите себе свод правил
вежливости, написанный некой госпожой Варенс с сердцем
умным и добрым,— искусство одеваться с пользой, унаследо-
ванное от матери. Так и я вкладываю в эти рецепты, посвящен-
ные молодым литераторам, всецело братскую нежность.
I
О ВЕЗЕНИИ И НЕВЕЗЕНИИ
У НАЧИНАЮЩИХ
Молодые писатели, которые в разговоре о своем молодом
собрате говорят с оттенком зависти: “Хороший дебют — как
ему повезло!”, не задумываются о том, что всякий дебют всегда
предваряется и является результатом двадцати других дебютов,
неизвестных остальным.
Я не знаю, может ли известность прийти когда-нибудь, как
удар грома; более того, я считаю, что успех в арифметической
или геометрической пропорции, в зависимости от силы писа-
теля, является следствием предыдущих успехов, часто невиди-
мых невооруженным глазом. Он может быть медленным нако-
плением молекулярных успехов, но чудесным и спонтанным
всплеском — никогда.
“Мне не везет”,— говорит тот, кто не имел еще достаточно
успеха и не знает об этом.
Я представляю собой частицу из тысячи обстоятельств, ко-
торые окружают человеческую волю и которые сами для себя
являются своими законными причинами; они описывают ок-
244
ружность, в которую заключена воля; но окружность эта под-
вижная, живая, вращающаяся и ежедневно, ежеминутно, ежесе-
кундно меняющая свой круг и центр. Все человеческие воли,
заточенные в нее и увлекаемые ею, каждое мгновение изменя-
ют свое взаимное поведение — это и составляет свободу.
Поэтому невезения нет. Если вам не везет, значит, вам чего-
то не хватает; познайте же его, это что-то, и изучите поведение
соседних воль, чтобы вам было легче сместить окружность.
Приведу один пример из тысячи. Многих из ценимых и лю-
бимых мною людей возмущают знаменитости нашего време-
ни. Эжен Сю, Поль Феваль — вот ныне действующие логогри-
фы; однако талант этих людей, сколь бы пустым он ни был, тем
не менее существует, а раздражение моих друзей не существу-
ет, вернее, оно существует в меньшей степени, ибо это напрас-
ная трата времени, самой большой ценности в мире. Вопрос
состоит не в выяснении превосходства литературы души или
формы над модной литературой. Все это слишком очевидно,
по крайней мере для меня. Но это справедливо лишь наполо-
вину, поскольку в том жанре, в котором вы хотели бы работать,
вы не проявили столько же таланта, сколько Эжен Сю в своем.
Возбудите столько же интереса новыми средствами; обретите
равную и превосходящую силу с противоположным направле-
нием; удвойте, утройте, удесятерите дозу до одинаковой кон-
центрации, и вы больше будете не вправе поносить буржуа,
ибо буржуа будет с вами. А до тех пор — vac vic t is! ибо ничто не
истинно, кроме силы, которая и есть высшая справедливость.
II
ГОНОРАРЫ
Сколь бы прекрасным ни было здание, оно прежде всего —
прежде, чем откроется его красота,— имеет определенное ко-
личество метров в высоту и в ширину. Также и литература, наи-
менее осязаемая из материй, есть прежде всего воздвижение
колонн, и литературный архитектор, чье имя само по себе не
приносит барышей, должен продаваться за любую цену.
Есть молодые люди, которые говорят: “Стоит ли убиваться,
раз это стоит так мало?” Они смогли бы отдаться гениальному
сочинению, и в этом случае ими двигала бы лишь насущная
необходимость, закон природы; сами по себе они не воспаря-
ются — при плохой оплате они могли бы утешиться славой;
плохая оплата позорна для них.
245
Я выражу все, что мог бы написать на сей счет, в следующем
заключительном изречении, которое я отдаю на размышление
всем философам, историкам и деловым людям: “Богатство
приходит лишь через добрые чувства!”
Те, кто говорят: “Зачем надрываться за гроши!”, это те, кто
позднее, когда их достигнет слава, стремятся продавать свои
книги по 200 франков за лист и, отвергнутые, возвращаются на
другой день, скинув долой 100 франков.
Поэтому разумным будет тот, кто скажет: “Я считаю, что это
стоит столько, потому что я талантлив; но, если нужно пойти
на уступки, я сделаю это ради чести остаться с вами”.
III
О СИМПАТИЯХ И АНТИПАТИЯХ
В литературе, как в любви, симпатии возникают невольно,
тем не менее их нужно проверять, и рассудку здесь принадле-
жит последнее слово.
Истинные симпатии похвальны, ибо они из одного делают
два; ложные — отвратительны, ибо они дают лишь одно, минус
примитивное безразличие, которое лучше ненависти,— необ-
ходимое следствие глупости и разочарования.
Поэтому я принимаю и приветствую дружбу постольку, по-
скольку она зиждется на важнейших связях разума и характе-
ра. Она является одним из священных проявлений природы,
одним их многочисленных приложений святой истины: “В
единстве сила”.
Тот же закон искренности и простодушия должен управлять
антипатиями. Однако есть люди, которые до самозабвения
плодят и ненависть, и восхищение. Это совершенно неразум-
но; это значит наживать себе врагов — без всякой выгоды и
пользы. Выстрел, не попавший в цель, ранит не меньше сердце
соперника, которому он был предназначен, не говоря уже о
том, что слева или справа можно задеть свидетелей схватки.
Однажды во время урока фехтования меня потревожил
один из моих заимодавцев; я спустил его с лестницы ударами
рапиры. Когда я вернулся, учитель фехтования, добродушный
силач, который опрокинул бы меня наземь одним дуновением,
сказал мне: “Фу, как сильно вы негодуете! Вы же поэт! Фило-
соф!” Я потерял время, достаточное для двух боев, запыхался,
246
был постыжен и, кроме того, заслужил презрение другого че-
ловека — заимодавца, который не сделал мне большого зла.
В самом деле, ненависть — это драгоценное зелье, яд, доро-
же яда Боржиа, ибо она сделана из нашей крови, нашего здо-
ровья, нашего сна и на две трети из нашей любви! Ее нужно бе-
речь!
IV
О КРИТИКЕ
Не нужно прибегать к критике, кроме как в борьбе против
пособников лжи. Если вы сильны, то нападение на сильного
человека погубит вас; будьте же инакомыслящим лишь в неко-
торых вопросах, и это будет всегда в вашу пользу в определен-
ных случаях
Существуют два способа критики: посредством изогнутой
линии и посредством прямой линии, то есть наикратчайшим
путем.
Достаточное количество примеров изогнутой линии можно
найти в статьях Ж. Жалена. Изогнутая линия привлекает пуб-
лику, но не учит ее.
Прямой линией сейчас с успехом пользуются некоторые
английские журналисты; в Париже она вышла из употребле-
ния; мне кажется, ее забросил даже сам Гранье де Кассаньяк.
Этот способ состоит в том, чтобы сказать: “Господин X... — бес-
честный человек и, кроме того, глупец, что я и намерен дока-
зать” — и доказать это! — во-первых, во-вторых, в-третьих и тд.
Я рекомендую этот способ тем, кто верит в разум и в сильный
кулак.
Неудачная критика — прискорбное событие; это стрела, ко-
торая вернулась или по меньшей мере ободрала вам руку на
отлете; это пуля, которая может убить вас своим рикошетом.
V
МЕТОДЫ КОМПОЗИЦИИ
В наше время нужно быть плодовитым, то есть нужно хо-
дить быстро; — нужно торопиться медленно; нужно, чтобы ка-
ждый выстрел достигал цели и чтобы ни один штрих не пропа-
дал даром.
247
Чтобы быстро писать, нужно много думать, выносить сюжет
в себе на прогулке, в ванной, в ресторане и даже у любовницы.
Э. Делакруа однажды сказал мне: “Искусство есть вещь столь
идеальная и ускользающая, что никакие орудия труда непри-
годны для него вполне, никакие средства недостаточны”. То же
самое касается и литературы; поэтому я не сторонник выскаб-
ливания написанного: оно затуманивает зеркало мысли.
Некоторые из наиболее выдающихся и наиболее созна-
тельных — например, Эдуар Урлиак — начинают с того, что ис-
писывают множество бумаги; у них это называется заполнить
полотно. Сие непонятное действие совершается затем, чтобы
не потерять ничего. Затем при каждой повторной попытке на-
писанное расширяют и углубляют. Будь результат даже превос-
ходным — все равно это злоупотребление талантом и време-
нем. Заполнить полотно еще не значит испещрить его краска-
ми; это значит набросать все детали, расположить массы в лег-
ких и прозрачных тонах. Полотно должно быть заполнено — в
уме — еще до того, как писатель возьмет в руку перо, чтобы на-
писать название.
1Ъворят, что Бальзак создавал оригинал и варианты фанта-
стическим и беспорядочным образом. Роман тем самым про-
ходит ряд перерождений, где теряется не только единство фра-
зы, но и сочинения в целом. Несомненно, именно этот неуда-
чный метод часто придает его стилю впечатление чего-то
смутного, скомканного и чернового — единственный недоста-
ток этого великого бытописателя.
VI
О ПОВСЕДНЕВНОМ ТРУДЕ
И ВДОХНОВЕНИИ
Оргия больше не является сестрой вдохновения: мы порва-
ли с этим блудным родством. Быстрота нервного возбуждения
и слабость некоторых прекрасных умов — достаточное свиде-
тельство против этого ненавистного предрассудка.
Весьма основательное, но регулярное питание — единст-
венная вещь, необходимая для плодотворных писателей. Вдох-
новение есть воистину сестра повседневного труда. Эти два
противоречия никак не исключают друг друга, как все проти-
воречия, составляющие природу. Вдохновение можно подчи-
нить себе, как голод, как пищеварение, как сон. В душе несом-
248
ненно присутствует некая небесная механика, которой нужно
не стыдиться, но извлекать из механики тела, как врачи, самую
славную ее часть. Если хочешь жить в настойчивом созерца-
нии будущего труда, повседневный труд будет помогать вдох-
новению, так же как хорошо написанное помогает просветле-
нию мысли и как спокойная и могучая мысль помогает писать
хорошо, ибо время писать плохо уже миновало.
VII
О ПОЭЗИИ
Что же до тех, которые успешно предаются или преданы
поэзии, то я советую им никогда не бросать ее. Поэзия прина-
длежит к тем искусствам, которые приносят наибольшую отда-
чу; но это своеобразное вложение средств, при котором про-
центы получаешь поздно, но зато в большом количестве.
Меня обуревает искушение процитировать хорошие стихи,
которые разорили их издателя.
С нравственной точки зрения поэзия установила такое раз-
граничение между умами первого и второго порядка, что даже
наиболее буржуазная часть публики не ускользает от этого де-
спотичного влияния. Мне известны люди, которые не читают
подчас посредственные статьи Теофиля Готье лишь потому, что
он написал “Комедию Смерти”; они, безусловно, не чувствуют
все благолепие этого сочинения, но знают, что он — поэт.
Сколь же удивительно, что всякий здоровый человек может
обойтись без еды два дня, без поэзии — ни одного?
Искусство, которое удовлетворяет самые насущные потреб-
ности, будет всегда самым почитаемым.
VIII
ЗАИМОДАВЦЫ
Вы, несомненно, вспомните комедию под названием “Бес-
порядок и Талант”. То, что беспорядок часто сопровождает та-
лант, попросту доказывает ужасную силу таланта; к несчастью,
многим молодым людям в этом названии видится не случай-
ность, но необходимость.
Я сильно сомневаюсь в существовании заимодавцев у Гете;
даже сам Гофман, беспутный Гофман брал взаймы лишь в
крайней нужде, постоянно стремясь освободиться от нее, и
249
умер в то время, когда расширенные жизненные возможности
давали его таланту более сияющий взлет.
Никогда не имейте заимодавцев; делайте, если угодно, вид,
будто они у вас есть,— вот все, что я могу пожелать вам.
IX
О ЖЕНЩИНАХ
Коль скоро мне нужно соблюсти закон противоположно-
стей, управляющий нравственными и физическими категори-
ями, я должен поместить в разряд женщин, опасных для лите-
раторов, честную женщину, синий чулок и актрису. Честную
женщину, поскольку она непременно принадлежит двум муж-
чинам и является весьма посредственной пищей для деспоти-
чной души поэта. Синий чулок, поскольку это просто неудав-
шийся мужчина. Актрису, поскольку она поверхностно знакома
с литературой и говорит на жаргоне, — одним словом, посколь-
ку она женщина не в полном смысле этого слова, и публика ей
дороже любви.
Вы можете представить себе поэта, влюбленного в свою же-
ну и вынужденного смотреть, как она играет какую-нибудь
роль? По-моему, он должен будет поджечь театр.
Вы можете представить себе того же поэта, обязанного на-
писать роль для своей жены, у которой нет таланта?
И как этот поэт корпит над тем, чтобы посредством эпи-
грамм передать публике у авансцены те страдания, которые
эта публика причиняет ему через самое дорогое существо — то
существо, которое азиаты запирают за семью замками, прежде,
чем приехать в Париж изучать право? Так как все истинные ли-
тераторы подчас испытывают ужас перед литературой, то я до-
пускаю для них, гордых и свободных душ, утомленных умов,
лишь два возможных типа женщин: проституток или дурочек.
Любовь или очаг. Братья, стоит ли объяснять причины?
Как возвращают долги
ГЕНИАЛЬНЫЕ ЛЮДИ
Следующий анекдот был рас*
сказан мне с просьбой не передавать никому, поэтому я и хочу
сообщить его всем.
...Он был мрачен, судя по нахмуренным бровям, губам
большого рта, не столь растянутым и отвислым, чем обычно, и
походке, перебиваемой резкими остановками, которой он бо-
роздил взад-вперед двойной подъезд Оперы. Он был мрачен.
Это был именно он, самый могучий коммерческий и лите-
ратурный ум XIX века, поэтический мозг, усеянный цифрами,
словно кабинет финансиста; это был именно он, человек ле-
гендарных банкротств, гиперболических и фантасмагорных
предприятий с вечно незаженным по забывчивости светиль-
ником, великий покупатель снов, неустанный искатель абсолю-
та; он — самый примечательный, забавный, любопытный и тще-
славный из всех персонажей “Человеческой комедии”; он —
сколь невыносимо оригинальный в жизни, столь же дивный в
своих писаниях, сей взрослый ребенок, распухший от гени-
альности и тщеславия, обладающий столькими качествами и
столькими недостатками, что не хватает духа отделить одни из
страха утратить другие и тем самым нарушить эту неисправи-
мую и фатальную чудовищность!
Почему же великий человек был столь мрачен, почему он
брел, уткнув подбородок в брюхо и заставляя свой морщини-
стый лоб сжиматься в “Шагреневую кожу”?
Мечтал ли он о дешевых ананасах, о мостике, висящем на
стеблях лианы, о вилле без лестницы с будуарами, затянутыми
кисеей? Может, какая-нибудь принцесса лет сорока одарила
его одним из тех глубоких взглядов, которыми красота почита-
ет гения? Или же его мозг, отягощенный мыслями о какой-ни-
будь промышленной машине, был терзаем всеми “Муками изо-
бретателя” сразу?
Увы, нет! нет, грусть великого человека была грустью обы-
денной, приземленной, низкой, постыдной и нелепой; он на-
ходился в том унизительном положении, столь знакомом всем
нам, когда каждый пролет минуты несет на своих крыльях на-
251
дежду на избавление; когда, уставившись в циферблат часов,
гений изобретения ощущает потребность удвоить, утроить,
удесятерить свои силы сообразно бегу времени и скорости
приближения рокового часа. Прославленный автор Теории ве-
кселя должен был наутро уплатить тысячу двести франков, а
между тем был уже поздний вечер.
В подобных обстоятельствах бывает, что душа, разбитая, со-
крушенная, раздавленная силой необходимости, вдруг вырыва-
ется из своей тюрьмы неожиданным и победным фонтаном.
Именно это, видимо, и случилось с великим романистом,
ибо судорога, искажавшая горделивые черты, сменилась улыб-
кой на его губах; его взор оживился, и наш герой, успокоенный
и хладнокровный, направился к улице Ришелье степенным и
размеренным шагом.
Он поднялся в дом, где богатый и процветающий коммер-
сант пил чай у камина, отдыхая от дневных трудов; его приня-
ли со всеми почестями, подобающими его имени, и спустя не-
сколько минут он изложил цель своего прихода в следующих
словах:
“Не хотите ли, чтобы послезавтра в “Ле Сьекль” и “Деба” в
разделе “Разное” вышли две большие статьи о “Французах в
изображении их самих”? Две мои большие статьи, подписан-
ные моим именем? Мне нужно полторы тысячи франков. Для
вас это весьма выгодное дело”.
Видимо, издатель, тем и отличный от своих собратьев, на-
шел это рассуждение разумным, ибо договор был скреплен
тотчас же. Наш герой, передумав, настоял, чтобы полторы ты-
сячи франков были выплачены по выходу первой статьи; затем
он, умиротворенный, вернулся в подъезд Оперы.
Спустя несколько минут он увидел молодого человека не-
большого роста, со злобным и умным лицом, который некогда
написал поразительное предисловие к “Величию и упадку Це-
зара Биротго” и который уже прославился в журналистских
кругах своим шутовским и почти кощунственным остроумием;
пиетизм еще не подрезал ему когти, и ханжеский пушок при-
крывал их своим блаженным мракобесием.
“Эдуард, не хотите ли получить завтра полторы сотни фран-
ков? — Черт возьми, конечно! — Хорошо! Зайдем выпить кофе”.
Молодой человек выпил чашечку кофе, внезапно привед-
шего в возбуждение всю его тщедушную южную натуру.
“Эдуард, мне нужно назавтра три больших колонки из “Раз-
ного” о “Французах в изображении их самих” — утром и, про-
252
шу учесть, рано утром; ибо я должен успеть переписать статью
своей рукой и подписать своим именем; это очень важно”.
Великий человек произнес эти слова с тем очаровательным
ударением и тем великолепным голосом, которым порой гово-
рят другу, которого не желают принимать: “Прошу прощения,
дорогой мой, что я держу вас в дверях; но я наедине с принцес-
сой, чья честь в моих руках — вы понимаете...”
Эдуард пожал ему руку, как благодетелю, и побежал садить-
ся за работу.
Великий романист заказал вторую статью на улице Наварен.
Первая статья через день появилась в “Ле Сьекль”. Странное
дело, она не была подписана ни малым, ни великим челове-
ком, но третьим именем, хорошо известным среди богемы тех
лет за свою любовь к котам и комической опере.
Второй друг был и до сих пор остается толстым, ленивым и
лимфатичным; кроме того, у него нет никаких идей, он умеет
лишь нанизывать и отделывать слова, как Осаги — свои ожере-
лья, и, так как набить словами три больших колонки гораздо
дольше, чем создать том идей, его статья вышла лишь несколь-
кими днями позже. Она попала даже не в “Деба”, а в “Ля Пресс”.
Вексель на тысячу двести франков был оплачен; все оста-
лись совершенно довольны, кроме издателя, который был поч-
ти доволен. Вот как возвращают долги... гениальные люди.
Если какой-нибудь негодяй сочтет это за шутку дешевой га-
зетенки и за нападки на славу величайшего человека нашего
времени, он постыдно ошибется; я просто хотел показать, что
великий поэт сумел найти развязку для векселя столь же легко,
как и для самого запуганного романа.
Мораль игрушки
кого лет назад — сколько, я
не смог бы сказать, ибо это событие восходит к туманным вре-
менам моего первого детства,— моя мать привела меня в гости к
некой госпоже Панкук. Была ли она матерью, женой, невесткой
настоящего Панкука? Не знаю. Я помню, что это был весьма ти-
хий особняк, один из тех, где по краям двора зеленеет трава,
стоящий на одной безлюдной улице — улице Пуатвен. Этот дом
слыл очень гостеприимным, и по определенным дням он делал-
ся ярко освещенным и шумным. Я много слышал об одном кос-
тюмированном бале, ще Александр Дюма, которого тогда звали
молодым автором “Генриха III”, под руку с Элизой Меркер, пере-
одетой в пажа, произвел большое впечатление.
Я совершенно отчетливо помню, что эта дама была облаче-
на в мех и бархат. Спустя некоторое время она сказала: “А это-
му мальчику я хочу подарить кое-что на память обо мне”. Она
взяла меня за руку, и мы прошли через множество помещений;
затем она открыла дверь в какую-то комнату, где мне предста-
вилось необыкновенное и воистину феерическое зрелище.
Стен видно не было — до того они были покрыты игрушками.
Потолок исчезал под цветением игрушек, которые свисали
дивными сталактитами. На полу едва оставалась узкая полоска
для прохода. Здесь был целый мир игрушек всякого рода — от
самых дорогих до самых скромных, от простейших до самых
сложных.
“Это сокровищница для детей”, — сказала она. — Я выделяю
им небольшие средства, и, когда ко мне приходит какой-ни-
будь милый мальчик, я привожу его сюда, чтобы он унес с со-
бой подарок на память обо мне. Выбирайте”.
С чудесной, искрометной проворностью, характерной для
тех детей, у которых желание, размышление и действие соста-
вляют, так сказать, единое качество, отличающее их от опус-
тившихся взрослых людей, у которых, наоборот, размышление
поглощает почти все время, я тотчас же схватил самую краси-
вую, самую дорогую, самую видную, самую яркую, самую не-
обычную игрушку. Моя мать возмутилась такой нескромно-
254
стью и упорно противилась тому, чтобы я унес эту игрушку с
собой. Она хотела, чтобы я удовлетворился предметом беско-
нечно посредственным. Однако я не мог согласиться на это, и,
дабы уладить дело, смирился с золотой серединой.
Мне часто мечталось познакомиться со всеми милыми
мальчиками, которые, преодолев уже к тому времени добрую
часть жестокой жизни, давно обладают другими вещами, неже-
ли игрушки, и чье беспечное детство когда-то получило на па-
мять подарок из сокровищницы мадам Панкук.
Это событие стало причиной того, что я не могу остано-
виться перед магазином игрушек и обвести взглядом сложный
хаос их странных форм и несовместимых друг с другом цветов
без того, чтобы подумать о даме, облаченной в мех и бархат,
представшей предо мной феей игрушки.
Кроме того, у меня надолго осталась привязанность и оп-
равданное восхищение перед этой необыкновенной вещью,
которая своим лощеным видом, слепящим всплеском красок,
неровностью жестов и решительностью очертаний столь хо-
рошо воплощает в себе детские представления о красоте. В
большом магазине игрушек необычайно весело, что делает его
предпочтительнее великолепных апартаментов буржуа. Разве
не жизнь в миниатюре кипит в нем — только намного красоч-
нее, чище и ярче, чем настоящая жизнь? Там находишь сады,
театры, дивные туалеты, глаза, чистые, будто бриллиант, щеки,
горящие от румян, прекрасные зубы, кареты, всадников, коню-
хов, пьяниц, шарлатанов, банкиров, комедиантов, шутов, похо-
жих на фейерверк, кухни и целые армии, отменно послушные,
с кавалерией и артиллерией.
Все дети разговаривают со своими игрушками; игрушки
становятся актерами в огромной драме жизни, уменьшенной
темным объемом их маленького мозга. Своими играми дети
являют свою огромную способность к абстракции и великую
силу воображения. Они играют и без игрушек. Я не имею в ви-
ду девочек, которые играют во взрослых женщин, ходят в гос-
ти друг к другу, приводят своих воображаемых детей и разгова-
ривают о своих туалетах. Бедняжки подражают своим матерям:
они предваряют свою бессмертную будущую ограниченность,
и ни одна из них, я уверен, не станет моей женой. Но вот дили-
жанс, извечная драма дилижанса, которую изображают стулья:
дилижанс—стул, лошади—стулья, пассажиры—стулья, один
лишь ямщик — живой! Упряжь остается неподвижной и, одна-
ко, с ошеломляющей быстротой проглатывает воображаемые
255
расстояния. Какая простота постановки! Как тут не покраснеть
от бессилия воображения пресыщенной публике, которая тре-
бует от театров физического и механического правдоподобия
и не осознает, что пьесы Шекспира могут быть одинаково пре-
красными и при варварской простоте декораций?
А детские игры в войну! нет, не у стен Тюильри, с настоящи-
ми ружьями и саблями,— я имею в виду ребенка, который сам
по себе, в одиночку руководит и проводит сражение двух ар-
мий. Солдатами ему могут быть пробки, домино, шашки, кости;
укреплениями будут чурки, книги и тд.; снарядами — шарики
или что угодно; там будут потери, мирные договоры, заложни-
ки, пленники, дань. Я обнаружил у многих детей убеждение,
что то, что составляет военное поражение или победу, измеря-
ется большим или меньшим числом потерь. Позже, влившись в
общую жизнь и вынужденные сражаться сами во избежание
поражения, они узнают, что в победе часто присутствует неоп-
ределенность и что победа не является подлинной, если она не
есть своего рода вершина наклонной плоскости, откуда армия
несется с невероятной быстротой, или же первый член беско-
нечно растущей прогрессии.
Эта способность удовлетворять свое воображение свиде-
тельствует о духовности детства в его художественных замыс-
лах. Игрушка представляет собой первое посвящение ребенка
в искусство, вернее, первый его плод, и, уже во взрослом воз-
расте, более-совершенные плоды не согреют так его душу, не
воодушевят в такой же степени, не дадут столько же веры.
Изучите же этот огромный детский mundus, рассмотрите
варварскую, примитивную игрушку, где для изготовителя сло-
жность состоит в создании как можно более правдоподобного
образа из как можно более простых деталей и при как можно
меньшей цене: например, вот плоскостной шут, приводимый в
движение одним-единственным рычажком; кузнецы, ударяю-
щие по наковальне; лошадь с всадником из трех частей — че-
тыре колышка вместо ног, лошадиный хвост служит свистком,
а у всадника иногда бывает маленькое перо, что уже большая
роскошь, — все это пятигрошовые, трехгрошовые, грошовые
игрушки. Верите ли вы, что эти простые образы создают в ду-
ше ребенка реальность не меньшую, чем все чудеса одного-
единственного дня в году, являющие собой скорее вредное
принуждение, чем подарок детской поэзии?
Таковы игрушки бедняков. Поэтому, выходя угром с твер-
дым намерением в одиночестве побродить по большим ули-
256
ц^м, наполните свои карманы этими маленькими изобретени-
ями и, проходя мимо кабаков, под деревьями, подарите их не-
знакомым бедняцким детям, которых встретите по пути. Вы
увидите, как их глаза безмерно расширятся. Сперва они не ре-
шатся взять, усомнившись в своем счастье; но затем их руки с
жадностью схватят подарок, и они убегут, как коты, решившие
съесть подальше от вас кусок, который вы дали им, научив-
шись опасаться людей. Воистину это будет для вас большим
развлечением.
Что до игрушек бедняков, то я видел вещи еще более про-
стые, но и более грустные, чем грошовые игрушки,— это живые
игрушки. На дороге, за решеткой чудесного сада, на краю кото-
рого виднелся прелестный особняк, стоял миловидный, румя-
ный ребенок, одетый на загородный манер весьма кокетливо.
Роскошь, беспечность и привычное зрелище богатства делают
таких детей столь хорошенькими, что просто не верится, что
они созданы из того же теста, что и дети из семей со средним
достатком или бедных. Рядом с ним на траве лежала чудная ку-
кла, столь же румяная, как и ее хозяин,— лакированная, позоло-
ченная, в красивой одежде, с бусами и плюмажем. Но ребенка
не занимала его кукла, и вот на что он смотрел. По другую сто-
рону ограды, на дороге, среди зарослей крапивы и чертополо-
ха играл другой ребенок, грязный, весьма тщедушный, один из
тех мальчишек, под носом у которых сопля медленно пробива-
ет себе дорожку через грязь и пыль. Сквозь символические же-
лезные прутья бедняцкий ребенок показывал ребенку богато-
му свою игрушку, которую последний рассматривал с такой
жадностью, словно какую-то редкость и диковину. Ибо эта иг-
рушка в решетчатой коробке, которой размахивал и тряс ма-
ленький грязнуля, была живая крыса! Его родители из эконо-
мии позаимствовали игрушку у самой жизни.
Мне кажется, что дети обыкновенно оказывают влияние на
свои игрушки, иными словами, что их выбор определяется на-
клонностями и желаниями — правда, смутными, еще не выра-
женными, но весьма реальными. Однако я не хочу утверждать,
что не имеет места и обратное, то есть что игрушки не оказы-
вают влияние на ребенка, особенно в случае предрасположен-
ности к литературе или искусству. Не будет удивительным, ес-
ли ребенок такого типа, которого родители водят главным об-
разом в театр, дабы он мог по-прежнему получать удовольст-
вие от спектаклей и марионеток, уже привык рассматривать
театр как наиболее изысканную форму красоты.
9—511
257
В последнее время все больше распространяется один род
игрушек, о котором я не могу отозваться ни хорошо, ни плохо.
Я имею в виду игрушки научные. Равный недостаток этих иг-
рушек — их дороговизна. Но они могут подолгу развлекать и
развивать в голове ребенка вкус к чудесным и неожиданным
эффектам. К их числу относится стереоскоп, который делает
плоское изображение круглым и выпуклым. Он существует уже
несколько лет. Хуже известен более древний фенекитоскоп.
Представьте себе какое-нибудь движение, к примеру упражне-
ние танцора или жонглера, разложите и раздробите его на оп-
ределенное число движений; вообразите, что каждое из этих
движений — числом до двадцати, если угодно,— отдельно изо-
бражено фигурой жонглера или танцора и что все они нанесе-
ны по окружности на картонный круг. Установите этот круг, а
также другой круг с двадцатью маленькими окошками, распо-
ложенными на равных расстояниях друг от друга, на ось, наса-
женную на конец рукоятки, которую вы держите в положении
заслона перед камином. Двадцать маленьких фигурок, изобра-
жающих разложенное движение одной фигуры, отражаются в
зеркале, расположенном перед вами. Приложите глаз на высо-
те окошек и быстро вращайте круги. От скорости вращения
двадцать окошек сливаются в сплошную окружность, через ко-
торую в зеркале видно отражение двадцати танцующих фигу-
рок, соверщенно похожих друг на друга и с невероятной точ-
ностью выполняющих одинаковые движения. Каждую фигурку
дополняют девятнадцать других. На круге скорость вращения
делает ее невидимой; в зеркале же, отражаясь через поворот-
ное окошко, она становится неподвижной, выполняя на одном
месте движения, распределенные между всеми двадцатью фи-
гурками. Число изображений, которые можно создать таким
образом, безгранично.
Мне также хотелось бы сказать несколько слов о поведении
детей в том, что касается игрушек, и о мнении их родителей в
этом трогательном вопросе. Есть такие родители, которые ни
за что не хотят покупать детям игрушки. Это суровые, чересчур
суровые люди, не изучавшие природу и обычно делающие не-
счастной жизнь окружающих. Не знаю, почему, но мне кажет-
ся, что они исповедуют протестантизм. Они не знают и не до-
пускают поэтических средств провождения времени. Это те же
люди, которые охотно подадут нищему франк, чтобы тот пода-
вился хлебом, но никогда не дадут ему и гроша на кабак. Когда
258
я думаю об определенном типе сверхрассудительных людей,
чуждых поэзии, что причинили мне столько страданий, я не-
пременно чувствую, как ненависть напрягает и теребит мои
нервы.
Существуют и другие родители, которые считают игрушки
предметом молчаливого поклонения; есть одежда, которую
разрешают одевать хотя бы по воскресеньям, но игрушки тре-
буют совсем иного обращения! Едва друг семьи оставит свой
дар в детской, как не в меру экономная мать спешит спрятать
игрушку в шкаф со словами: “Она слишком хороша для твоего
возраста; получишь ее, когда вырастешь!” Один из моих друзей
признался мне, что ему никогда не позволялось вволю насла-
диться своими игрушками. “А когда я вырос,— прибавил он,— у
меня появились другие увлечения”. Кроме того, есть дети, ко-
торые сами поступают так же: они не пользуются своими иг-
рушками, берегут их, содержат в порядке, создают из них му-
зеи и библиотеки и время от времени показывают их своим
маленьким друзьям, требуя, чтобы те не трогали их руками. Я
остерегаюсь этих взрослых детей.
Большинство мальчишек больше всего хочет узнать, что
внутри игрушки — одни через некоторое время, другие тотчас
же. От скорости наплыва этого желания зависит долговечность
игрушки. У меня нет смелости осуждать эту детскую манию:
ведь это первая метафизическая склонность. Когда это жела-
ние укоренится в сердцевине детского мозга, оно с необычай-
ной силой и проворством наполняет собой его пальцы до са-
мых ногтей. Ребенок вертит игрушку в руках, царапает, трясет,
бьет ее о стену, бросает на землю. Временами он повторяет
свои механические движения, подчас в обратном направле-
нии. Чудеса прекращаются. Подобно толпе осаждающих Тю-
ильри, ребенок совершил последнее действие; наконец он
вскрывает игрушку, он оказался сильнее. Но что же внутри? Вот
здесь и начинается остолбенение и тоска.
Есть и другие дети, которые разбивают игрушку, едва она по-
падает им в руки, едва они рассмотрят ее; что касается этих, то,
признаюсь, мне неизвестно, какое загадочное чувство движет
ими. Охватывает ли их суеверная злость при виде этих малень-
ких предметов, подражающих человечеству, или же они хотят
подвергнуть их своего рода масонскому испытанию, прежде
чем ввести в свою детскую жизнь? — Puzzling question!
9*
259
Письма Ш. Бодлера
ПИСЬМО ПРОВИЗОРА КОЛЛЕЖА ЛЮДОВИКА ВЕЛИКОГО ПОЛ-
КОВНИКУ ОПИКУ, ОТЧИМУ БОДЛЕРА
18 апреля 1839 г.
Сударь,
Этим угром ваш сын, у которого помощник директора по-
требовал письмо, переданное одним из товарищей, отказался
его отдать, разорвал на куски и проглотил. Вызванный ко мне,
он заявил, что предпочитает любое наказание выдаче тайны
товарища, и на просьбу объясниться в интересах последнего,
подверженного самым неприятным подозрениям, ответил,
мне насмешками, наглость которых я не обязан терпеть. Отсы-
лаю вам этого молодого человека, одаренного довольно замет-
ными способностями, но все испортившего дурным нравом,
который установленный порядок коллежа и так неоднократно
терпел.
Примите, сударь, с выражением моих сожалений, уверение
в самых почтительных и глубоких чувствах.
Виктору ПОЮ
[Париж. Вторник 25 февраля 1840 г.]
Сударь,
Недавно я был на представлении “Марион де Лорм”; красо-
та этой драмы настолько очаровала меня и осчастливила, что
я жажду познакомиться с автором и поблагодарить его лично.
Я еще ученик и, быть может, совершаю беспримерную дер-
зость; но я абсолютно не знаю правил приличия этого мира и
думаю, что вы будете снисходительны. — Похвалы и благодар-
ность студента не должны вас глубоко тронуть после тех, что
расточало столько знатоков. Вас, без сомнения, окружает такое
количество людей, что вы должны мало заботиться о привле-
чении еще одного навязчивого человека. — Однако если бы вы
знали, насколько наша любовь, любовь молодых, искренна и
260
правдива; мне кажется (возможно, это от самомнения), что я
понимаю все ваши произведения. Я люблю вас, как люблю ва-
ши книги; я считаю вас добрым и благородным, потому что вы
способствовали многим реабилитациям, потому что, вместо
того чтобы уступать общественному мнению, вы его часто гор-
до и с достоинством реформировали. Я представляю, что воз-
ле вас, сударь, познал бы массу добрых и великих вещей; я
люблю вас, как любят героя, книгу, как любят чисто и бескоры-
стно все прекрасное. Может быть, я чересчур смел, что волей-
неволей посылаю вам эти похвалы по почте; но я хотел бы вы-
разить вам живо, просто свою любовь и восхищение и дрожу
от страха показаться смешным. Тем не менее, сударь, посколь-
ку вы сами были молоды, вы должны понять эту любовь к авто-
ру, которую внушает книга, и это охватывающее вас желание
поблагодарить его вслух, смиренно поцеловать его руки; разве
поколебались бы вы в девятнадцать лет написать то же писа-
телю, избраннику вашей души, господину Шатобриану, напри-
мер?
Все это не очень красиво сказано, и я думаю лучше, чем пи-
шу; но надеюсь, что, будучи таким же молодым, как мы, вы до-
гадаетесь об остальном, и столь новый и необычный поступок
не слишком шокирует вас, и вы соблаговолите осчастливить
меня ответом. Признаюсь, что ходу его с крайним нетерпением.
Будете ли вы так добры или нет, примите уверения в моей
вечной признательности.
Ш. Бодлер.
Нарциссу АНСЕЛЛЮ
[Париж.] 30 июня 1845 г.
Когда м-ль Жанна Лемер доставит вам письмо, я буду
мертв. — Она об этом не знает. Вам известно мое завещание. —
Кроме части, предназначенной матери, м-ль Лемер должна
унаследовать все, что я оставляю, после оплаты вами некото-
рых долгов, перечень которых приложен к письму.
Я умираю в страшном беспокойстве. — Вспомните наш
зимний разговор. — Я желаю, я хочу, чтобы мои последние на-
мерения строго выполнялись.— Два человека могут оспаривать
завещание; моя мать и брат, причем оспаривать только под
предлогом умопомрачения. — Мое самоубийство, добавленное
к различным беспорядкам жизни, может только послужить то-
му, что они лишат м-ль Лемер всего, что я хочу ей оставить.—
Следует поэтому объяснить вам мое самоубийство и поведение
26)
по отношению к м-ль Лемер таким образом, чтобы это письмо,
адресованное вам, и вы, прочитавший его Жанне, смогли ее за-
щитить в случае, если завещание будет атаковано вышеупомя-
нутыми лицами.
Убиваю себя — без печали.— Не испытываю ни одного из
тех потрясений, что люди называют печалью.— Мои долги ни-
когда не были источником печали. Нет ничего более легкого,
чем возвыситься над подобными вещами. Я убиваю себя пото-
му, что не могу больше жить, потому что невыносимо устал
каждый раз засыпать и просыпаться. Убиваю себя потому, что
я бесполезен другим—и опасен для себя самого.— Убиваю по-
тому, что считаю себя бессмертным и надеюсь.—В то время,
когда я пишу эти строки, сознание мое настолько ясно, что я
еще составляю несколько записок для господина Теодора де
Банвиля и обладаю всей необходимой силой, чтобы заняться
своими рукописями,
Я завещаю и даю все, чем владею, даже мебель и портрет, м-
ль Лемер — потому что она является единственным существом,
в котором я обрел некоторый покой.—Может ли кто-нибудь
порицать меня за то, что я хочу оплатить редкие наслаждения,
которые нашел на этой отвратительной земле?
Я мало знаю своего брата,— он нежил ни во мне, ни со мной
и не предается во мне.
Мать, которая так часто и всегда невольно отравляла мою
жизнь, тем более не нуждается в этих деньгах.— У нее муж, у
нее есть человеческое существо, привязанность, дружба.
У меня же есть только Жанна Лемер.— Я нашел отдых лишь
в ней и не желаю страдать при мысли, что ее хотят лишить мо-
его дара, под предлогом того, что я не в здравом уме.— Вы раз-
говаривали на днях со мною.— Разве я сумасшедший?
Если бы я знал, что, упрашивая мать лично, раскрывая пе-
ред нею глубочайшее смирение своего духа, я могу добиться
того, чтобы не искажали мою последнюю волю, я сделал бы
это немедленно,—настолько я уверен, что, будучи женщиной,
она поймет меня лучше, чем всякий другой, и, быть может, ока-
жется способной сама отвратить брата от неразумного сопро-
тивления.
У Жанны Лемер — единственной женщины, которую я лю-
бил,- нет ничего. Именно вам, господин Анселль, одному из
редких людей одаренных мягким и возвышенным умом, я даю
свой последний наказ относительно нее.
Прочтите ей это — необходимо, чтобы она знала о завеща-
262
нии и защитите, в случае, если моим последним распоряжени-
ям будут противиться. —Помогите ей понять, вы, человек осмо-
трительный, силу и значение какой-либо суммы денег.— По-
пытайтесь найти какую-нибудь разумную мысль, из которой
она смогла бы извлечь пользу и которая сделает полезными
мои последние намерения.— Направляйте ее, советуйте ей; ос-
мелюсь ли сказать: любите ее—для меня по крайней мере. Ука-
жите ей на мой ужасный пример — как беспорядочность ума и
жизни приводит к мрачному отчаянию или полному уничто-
жению.— Разум и польза! Умоляю об этом!
Считаете ли вы реальным, что это завещание могут оспари-
вать, и дадут ли мне право совершить истинно добрый и ра-
зумный поступок перед смертью? Теперь вы ясно видите, что
завещание это—не фанфаронство, не вызов социальным и се-
мейным устоям, а просто выражение того человеческого, что
остается во мне,— любви и чистосердечного желания помочь
существу, которое было порой моей радостью и покоем.
Прощайте!
Прочтите же ей это письмо,— я верю в вашу лояльность и
знаю, что вы не уничтожите его.
Немедленно дайте ей денег. Она ничего не знает о моих по-
следних распоряжениях и только ожидает, что я помогу ей вы-
браться из затруднений.
Даже в случае, если эту последнюю волю будут оспаривать,
смерть имеет полное право на щедрость.
Другое письмо, которое она передаст, предназначенное
лишь для вас, содержит перечень долгов, которые нужно пога-
сить, чтобы память обо мне была безупречна.
Ш. Бодлер.
Мадам МАРИ
Париж, Орлеанский квартал, 15
[начало 1852 ?]
Мадам,
Возможно ли, что я не должен вновь вас увидеть? Для меня
это очень важно, ибо я доведен до такого состояния, когда ва-
ше отсутствие явилось огромной утратой для моего сердца.
Едва узнав что вы отказались позировать и что невольно я
стал этому причиной, я ощутил странную грусть. Я захотел на-
писать вам, несмотря на то, что не любитель писем. В них поч-
263
ти всегда раскаиваешься. Но я ничем не рискую, потому что ре-
шил принадлежать вам вечно.
Вы согласны, что наша долгая беседа в четверг была доволь-
но необычной? Именно этот разговор вверг меня в новое со-
стояние и послужил причиной письма.
Мужчина, который говорит: “Я вас люблю!”—и умоляет, и
женщина, отвечающая: “Любить вас? Мне! Никогда! Единствен-
ный обладает моей любовью. Горе тому, кто придет после него;
он добьется лишь моего безразличия и презрения!” И этот
мужчина, за удовольствие смотреть подольше в ваши глаза,
позволяет вам говорить ему о другом, говорить лишь о нем,
воспламеняться лишь для него и думать лишь о нем. Из всех
этих признаний следует весьма своеобразный вывод: для меня
вы отныне не просто желанная женщива, а женщина, которую
любят за ее искренность, за ее страсть, за ее молодость и ее су-
масбродство!..
Я много потерял в этих объяснениях, так как вы были столь
решительны, что я тотчас же должен был покориться; но вы,
Мадам, вы от этого много выиграли. Вы внушили мне почте-
ние и глубокое уважение. Будьте же всегда такой и храните ее
хорошенько, эту страсть, что делает вас такой прекрасной, та-
кой счастливой.
Вернитесь, умоляю вас, и я сделаюсь нежным и скромным в
своих желаниях. Я заслуживал вашего презрения, когда отве-
тил, что удовлетворился бы крохами. Я лгал. О! если бы вы зна-
ли, какой вы были прекрасной в тот вечер!..
Не осмеливаюсь делать комплименты, это так банально! Но
ваши глаза, ваш рот, весь ваш одухотворенный живой облик
проходит теперь перед закрытыми глазами, и я чувствую, что
это окончательно. Возвращайтесь, на коленях прошу вас; не
стану уверять, что во мне не будет любви, но ведь вы не може-
те помешать мне мысленно бродить по вашим рукам, вашим
таким прелестным пальцам, вашим глазам, в которых вся ваша
жизнь, всему вашему обожаемому чувственному существу. Да, я
знаю, что вы этого не позволите но успокойтесь, вы для меня —
предмет культа, и невозможно вас осквернить; я увижу вас та-
кой же лучезарной, как прежде. Вы так добры, так красивы, так
благоуханны! Вы для меня — жизнь и движение, не из-за стре-
мительности ваших жестов и бурной стороны вашей натуры, а
из-за ваших глаз, которые внушают поэту лишь бессмертную
любовь.
Как объяснить вам, до какой степени я люблю их, ваши гла-
264
за, и насколько ценю вашу красоту? Она заключает в себе пре-
лести, которые в вас друг другу не противоречат: грацию ре-
бенка и женщины. О! Поверьте, говорю это от всего сердца, вы
восхитительное создание, и я люблю вас страстно. Целомуд-
ренное чувство навечно привязывает меня к вам. Вопреки ва-
шей воле, вы отныне будете моим талисманом, моей силой. Я
люблю вас, Мари, это неопровержимо, но любовь, которую я
испытываю к вам,— это любовь христианина к Богу. А потому
никоща не называйте постыдным земным словом, столь часто
компрометируемым, этот бестелесный и загадочный культ, эту
пленительную и чистую привязанность, которая связывает
мою душу с вашей, вопреки вашей воле. Это было бы святотат-
ством!
Я был мертв, вы меня возродили. О! Вы не знаете — всего,
чем я вам обязан! Я нашел в вашем взоре ангела неведомых ра-
достей; ваши глаза приобщили меня к счастью души, самому
совершенному, самому нежному. Теперь вы моя единственная
повелительница, моя страсть и моя красота, вы та частица ме-
ня самого, которую создала духовная ласка.
Вами, Мари, я силен и велик. Как Петрарка, я обессмерчу
свою Лауру. Будьте моим ангелом-хранителем, моей Музой и
Мадонной, и ведите меня путями Прекрасного.
Соизвольте сказать мне хоть одно словечко, умоляю вас,
единственное. В жизни каждого есть решающие, полные со-
мнений дни, когда выражение дружбы, взгляд, какие-нибудь
несколько строк подталкивают вас к нелепостям или безу-
мию! Уверяю вас, я именно в таком состоянии. Ваш ответ бу-
дет реликвией, которую я выучу наизусть и на которую буду
молиться. Если бы вы знали, как вы любимы! Смотрите, я у ва-
ших ног; слово, скажите хоть одно словечко... Нет, вы не про-
изнесете его!
Счастлив, бесконечно счастлив тот, кого вы избрали среди
всех, вы, полная мудрости и красоты, вы, такая желанная, та-
лант, ум и сердце! Какая женщина сможет вас когда-нибудь за-
менить? Не осмеливаюсь добиваться визита, вы мне откажете в
нем. Предпочитаю ждать. Я буду ждать годами, и когда вы уви-
дите себя настойчиво любимой, с почтительностью, с абсо-
лютным бескорыстием, вы вспомните тогда, что начинали ме-
ня истязать, и признаете, что это было дурно.
В конце концов, я не волен отказываться от ударов, которые
идолу вздумалось мне наносить. Вам понравилось выставлять
265
меня за дверь, мне понравилось вас обожать,— проблема ис-
черпана.
Ш. Бодлер.
Мадам ОПИК
[Париж.] Суббота 21 марта 1852 г.
2 часа пополудни.
Два часа; чтобы мое письмо ушло сегодня, я могу писать те-
бе только в течение двух с половиной часов, а мне о многом
нужно сказать. Пишу из кафе напротив большой почты, среди
шума триктрака и бильярда, для большего спокойствия и воз-
можности размышлять.— Как случилось, что за девять месяцев
не нашлось и дня, чтобы написать матери, даже чтобы побла-
годарить ее? Это в самом деле феномен. И все время об этом
думать, и все время себе твердить; я напишу. И все дни проно-
сятся в бесполезной беготне или в изготовлении немощных
статей, сделанных наспех, чтобы заработать немного денег. Ты
найдешь в этом письме вещи, которые тебе, несомненно, по-
нравятся и докажут, что если я еще сильно страдаю от некото-
рых недостатков, мой дух, вместо отупения, возвышается; ты
найдешь и другое, что тебя ранит. Но не сама ли ты поощряла
меня говорить все, и, в сущности, кому же мне жаловаться? Бы-
вают дни, когда одиночество приводит в отчаяние,
Мое письмо будет беспорядочным. Это неизбежное следст-
вие душевною состояния, в котором я нахожусь, и недостатка
времени в моем распоряжении. Я разделю его, так сказать, на
части, по мере того как стану вспоминать некоторые из важ-
нейших событий, о которых должен сообщить и которые я
ежедневно с давних пор обдумываю.
Присоединяю к письму несколько своих статей, вырезан-
ных из газеты, чтобы не перегружать письмо. Не рассержусь,
если ты прочтешь их, когда найдешь время. Сильно сомнева-
юсь, что ты их до конца поймешь; не сочти это за дерзость. Но
они уж слишком специфически парижские, и сомнительно, что
они могут быть поняты вне среды, для которой и в которой бы-
ли написаны. Благородные драмы и романы, номера отмечены
карандашом: 0,2,3,4,5, f>. Языческая школа: 6 (sic). Два стихо-
творения о сумерках: 7,8.
Я написал и другую вещь, которая, понравится тебе больше
и которой почти удовлетворен. Поскольку я не могу вложить в
письмо книги, необходимо, чтобы ты была так добра одолжить
266
или купить у господина Монье (в читальне или книжной лав-
ке?), мадридского корреспондента “Ревю де Пари”, не знаю ка-
кой номер, появившийся в Париже 1 марта, и тот, что появит-
ся 31 марта, а в Мадрид прибудет, вероятно, 5 или 6 апреля. Я
нашел одного американского писателя, вызвавшего во мне не-
вероятную симпатию, и написал две статьи о его жизни и твор-
честве. Написаны они горячо: но ты, несомненно, обнаружишь
там некоторые черты необыкновенного перевозбуждения. Это
последствие мучительной ненормальной жизни, которую я ве-
ду; кроме того, это написано — ночью; иногда я работал от 10
до 10 часов. Я был вынужден работать по ночам для спокойст-
вия и во избежание невыносимой вздорности женщины, с ко-
торой живу. Иногда я убегаю из дому, чтобы иметь возмож-
ность писать, иду в библиотеку, или в читальный зал, или к
торговцу вином, или в кафе, как и сегодня. Вот причина моего
постоянного раздражения. Разумеется, не в таких условиях —
пишутся крупные произведения. — Я основательно забыл анг-
лийский, что еще более затруднило работу. Зато уж теперь
знаю его очень хорошо. Во всяком случае, я считаю, что довел
дело до благополучного конца.
Не вздумай отдаваться материнским радостям прочесть все
это прежде, чем мне ответить. Сначала ответь, хотя бы в трех
строках; и даже отложи на завтра или послезавтра советы или
размышления, которые вызовет мое письмо.
Оно уйдет сегодня вечером — 27
28
29 оно будет в Байоне.
Предполагаю, что оно прибудет в Мадрид 1-го, что малове-
роятно, и что ты ответишь мне — 2 апреля.
Таким образом, я смогу получить твой ответ 7-го <...>.
Возвращаюсь к своим делам. Я объяснюсь очень быстро, но
сделаю так, что в этих немногих словах будут содержаться для
тебя, кто меня знает, много мыслей.
Жанна стала препятствием не только к моему счастью, это
было бы пустяком; я тоже умею жертвовать удовольствиями и
доказал это; — но еще и к совершенствованию моего ума. Де-
вять минувших месяцев — решающий опыт.
В подобных условиях никогда не удастся исполнить тех ог-
267
ромных обязанностей, которые лежат на мне, погасить долги,
завоевать имя, получить известность, облегчить страдания, ко-
торые тебе причинил. Раньше в ней были некоторые достоин-
ства, но она их утратила, а я стал более проницательным.
Жить с существам, которое не признательно ни за одно ваше
усилие; которое им препятствует по нечуткости или постоян-
ной озлобленности; которое считает вас только своим слугой
и своей собственностью; с которым нельзя поговорить ни о
политике, ни о литературе; созданием, которое ничему не хо-
чет научиться, хотя вы и предлагаете свои услуги; созданием,
которое не восхищается мною, даже не интересуется моими
занятиями; которое швырнуло бы мои рукописи в огонь, если
бы это принесло больше денег, чем публикация: которое вы-
бросило мою кошку, единственное развлечение в доме, и при-
вело собак, потому что их вид мне неприятен; которое не уме-
ет или не хочет понять, что крайняя экономия в течение одно-
го только месяца позволила бы мне, благодаря этой времен-
ной передышке, закончить большую книгу,— словом, возмож-
но ли это? Возможно? Я пишу со слезами стыда и ярости; и во-
истину я рад, что у меня не было никакого оружия; я думаю о
случае, когда невозможно повиноваться разуму, и о той страш-
ной ночи, когда я ударил ее по голове консолью. Вот что я на-
шел там, где десять месяцев назад думал найти облегчение и
покой. Подведу итог своим раздумьям, чтобы дать представле-
ние обо всех размышлениях: я глубоко убежден, что только
женщина, которая выстрадала и родила, способна сравняться с
мужчиной. Деторождение — единственная вещь, придающая
самке моральное значение. Что касается молодых женщин,
праздных и бездетных, то в них нет ничего, кроме кокетства,
неумолимости и элегантной подлости.— Стоит, однако, при-
нять решение. Вот уже четыре месяца я об этом думаю. Но что
делать? Невероятное тщеславие преобладает над моим страда-
нием: не покидать эту женщину, не дав ей достаточно крупной
суммы. А где ее взять, если деньги, которые я зарабатывал, вме-
сто того чтобы копиться, исчезали изо дня в день, а моя мать,
которой я писать больше не осмеливался, потому что ничего
хорошего не мог сообщить, не могла предложить этих боль-
ших денег, так как у нее их нет. Видишь, как хорошо рассудил.
И все же нужно уйти. Но уйти навсегда.
Итак, вот что я решил: начну с начала; то есть с ухода. По-
скольку я не могу дать ей крупной суммы, буду еще неодно-
кратно давать деньги, что для меня нетрудно, так как я зараба-
268
тываю довольно легко и, прилежно работая, смогу зарабаты-
вать больше. Но я не увижу ее никогда. Она сделает все, что за-
хочет. Да провалиться ей в преисподнюю, если ей так туда хо-
чется! Эта борьба стоила мне десяти лет жизни. Все юношес-
кие иллюзии исчезли. Осталась только горечь, быть может,
вечная.
А что станет со мною? Не прошу устраивать для меня квар-
тиру, потому что еще и теперь, хотя я очень изменился, она
подверглась бы большой опасности. Меблированная комната
внушает мне ужас. В ожидании лучшего я решил укрыться у
врача моих друзей, который возьмет с меня 150 франков, вме-
сто 240, как с других, за прелестную комнату и сад, отличный
стол, холодную ванну и два душа день. Это немецкий режим,
прекрасно подходящий к лихорадочному состоянию, в кото-
ром я нахожусь,
Хочу воспользоваться концом срока найма нашей кварти-
ры, назначенным на 7 апреля,— наша квартира уже снята пре-
емниками,— чтобы удрать. Но у меня нет ни гроша. Я написал
много вещей, которые будут напечатаны только в следующем
месяце, но после 8-го. Теперь понимаешь, в чем драматизм по-
ложения? Что делать?
<...>
Прощай, пожалей меня, думая о невыносимых наказаниях,
которые я себе приготовил.
Настоятельно рекомендую тебе попросить у продавца два
моих отрывка об Эдгаре Аллане По.
Шарль.
Мадам ОПИК
[Париж.] Суббота 26 марта 1853 г.
Я знаю, что очень огорчу тебя; невозможно, чтобы в письме
не проглядывало болезненное состояние моего духа, не считая
признаний, которые я должен тебе сделать. Но иначе посту-
пить нельзя. Несмотря на многочисленность писем, которые я
написал тебе мысленно, поскольку в течение года представлял,
что каждый месяц пишу тебе,— мое письмо будет кратким. Я
нахожусь в таком затруднении и все настолько сложно, что ед-
ва могу уделить час этому письму, которое, вместо того чтобы
быть для меня удовольствием, является совершенно противо-
положным.— Уже давно я так запутался, что не могу даже най-
ти времени для работы.
269
Начну с самого неприятного, самого тягостного.— Пишу те-
бе обледенелыми пальцами, так как горят последние два поле-
на.— Меня будут преследовать за долг, который нужно было за-
платить вчера,— Меня будут преследовать и за другой, в конце
месяца. Этот год, то есть время с прошлого апреля до сего-
дняшнего дня, был истинным бедствием, хотя я обладал всем,
чтобы сделать его другим. Я бесконечно доверяю тебе. Необы-
чайная снисходительность, высказанная тобой во время при-
езда в Париж, позволяет обо всем рассказать, и, я надеюсь, ты
не сочтешь меня совершенным безумцем, так как я сам отдаю
отчет в своем безумии. Кроме того, к чему скрывать и фабри-
ковать письмо, полное радости и лживых признаний, в тот миг,
когда мой дух настолько отягчен тоской, что я почти не сплю
больше, а если и сплю, то меня часто мучают невыносимые
кошмары и лихорадка?
Отчего не написать тебе раньше, не правда ли? — Как же те-
бе не стыдно, скажешь ты.—Мне препятствовало собственное
решение: всегда сообщать тебе только радостные новости.— И
еще решение: никогда не просить у тебя ни гроша.— Сегодня
это невозможно.
После получения твоих денег — тому уже год — и даже
вследствие невинного недоразумения, в котором я виноват,—
получил больше, чем ты хотела,— немедленно использовал их,
как уже сообщал об этом. Я оплатил накопившиеся за год дол-
ги и жил один,
Здесь вновь начинается несчастье.— Я жил в доме, хозяйка
которого настолько заставляла меня страдать своей хитрос-
тью, бранью, надувательством, и чувствовал себя так плохо,
что уехал, по привычке не сказав ни слова. Я не должен был ей
ничего, но имел глупость позволить начислять плату, не живя
там,— откуда следует, что сумма, которую я должен, представ-
ляет плату за жилище, в котором я не жил. Я знаю, что это гнус-
ное создание имело дерзость тебе написать,- А я оставил у
нее, воображая, что смог бы послать за ними в будущем,— все
свои книги, все рукописи, одни завершенные, другие начатые,
папки, полные бумаг, письма, рисунки, то есть все наиболее
ценное, что у меня есть; и документы. В течение этого време-
ни один издатель — издатель богатый и приятный — увлекся
мною и заказал книгу.— Часть нужных рукописей — там.— Я
попытался начать сначала, купил книги и упорно не писал те-
бе. 10 января контракт обязывал сдать книгу; я получил деньги
и отдал рукопись настолько незавершенную, что после компо-
270
новки первых страниц заметил, что исправление и переработ-
ка, которые нужно сделать, так значительны, что стоит лучше
перелить формы и перекомпоновать заново. Весь этот язык не
знаком тебе: это значит, что фрагмент, сделанный наборщика-
ми, как бы недействителен,— по моей вине,— и честь обязыва-
ла меня компенсировать убыток. Владелец типографии, не по-
лучивший корректурных листов, рассердился: издатель счел
меня сумасшедшим и был в ярости! — Он сказал мне ясно: “Не
беспокойтесь ни о чем. Вы ищете издателя уже много лет; я
займусь вашими делами и напечатаю все, что вы напишете”. —
Я вынудил его, несчастного, отказаться от зимней продажи,
вот уже три месяца, не осмеливаюсь ни писать ему, ни видеть-
ся с ним. Книга постоянно на моем столе, прерванная — Я оп-
латил половину типографских издержек,— Книготорговый до-
говор, который будет, безусловно, заключен между Францией
и Соединенными Штатами, сделает нев'озможным, по крайней
мере без новых расходов, публикацию нашей книги.— Поисти-
не я теряю от этого голову.— Книга эта была точкой отправле-
ния новой жизни.— За ней должна была последовать публика-
ция моих стихотворений, перепечатка “Салонов”, соединен-
ных с работой о “Карикатуристах”, оставшейся у этого мерзко-
го создания, о котором я говорил; за нее я получил больше
двухсот франков от “Ревю де Пари”, а это мешает извлечь хоть
один грош.
Человек, который счел меня сумасшедшим, который ниче-
го не может понять в моих опозданиях и чья добрая воля была
для меня началом литературной репутации, должен теперь
принимать меня за вора.—Смогу ли я когда-нибудь помирить-
ся с ним?
Это еще не все. Директор Оперы заказал мне либретто но-
вого жанра, чтобы положить его на музыку признанным музы-
кантом; я даже думаю, что закажут это дело Мейерберу. Это бы-
ло бы большой удачей, может быть, постоянной рентой. Есть
пятидесятилетние люди с громким именем, которые никогда
не добивались подобной милости,— Но неприятности и беспо-
рядок порождают такую вялость, такую меланхолию, что я не
явился ни на одно свидание.— К счастью, я не получил ничего.
И это еще не все,— Компаньон директора “Театр дю Буль-
вар” просит у меня драму. Она должна быть прочитана в этом
месяце.— Она не сделана.— Из уважения к моему знакомству с
этим господином шеф клаки ссудил мне триста франков, кото-
рым суждено было отразить катастрофу прошлого месяца. Ес-
271
ли бы драма была готова, ничего не случилось бы; я бы попро-
сил компаньона директора оплатить этот долг или отсрочил
бы его в счет будущих бенефисов пьесы или за счет продажи
моей части билетов. Но драма не написана. Ее растерзанные
куски у вышеупомянутой владелицы дома, а срок платежа — че-
рез шесть дней, в конце месяца; что со мной станет? — Что
произойдет?
Есть мгновения, когда меня охватывает желание спать бес-
конечно; но я не могу заснуть, так как всегда думаю. Нет охоты
говорить, что я провел зиму без дров. Но это глупо.
Итак, чтобы подвести итоп этот год ясно показал мне, что я
могу реально зарабатывать деньги, а при усердии и последова-
тельности — много. Но предшествующие беспорядки, но не-
скончаемая нужда, новый долг, ослабление энергии из-за мел-
ких неприятностей, наконец, моя склонность к мечтательнос-
ти — все свели на нет.
Я должен тебе сообщить еще кое о чем. Ты так добра и так
умна, что я считаю долгом сказать все.— Мои муки еще не пе-
речислены.
Вот уже год, как я расстался с Жанной, о чем я тебе писал и
в чем ты сомневалась, а это меня ранило: почему ты предпола-
гаешь, что у меня есть необходимость что-либо утаивать от те-
бя? — Некоторое время я навещал ее два-три раза в месяц, что-
бы дать немного денег.— Теперь она серьезно больна и нахо-
дится в крайней нужде.— Я об этом никогда не говорю с госпо-
дином Анселлем, презренный слишком обрадовался бы это-
му.— Очевидно, небольшая часть того, что ты мне пошлешь,
достанется ей.— И вот я уже раскаиваюсь в том, что сообщил
тебе все это, потому что ты в порыве грубых материнских ком-
бинаций способна послать ей деньги, не предупредив меня,
через господина Анселля.— Это было бы редкостным неприли-
чием. Ведь ты не хочешь снова ранить меня, не правда ли? Эта
мысль растет, запечатлевается в сознании и терзает меня.— В
конце концов я объясню тебе, как мучаюсь от этого: она меня
заставляла страдать, не так ли? — Сколько раз — а недавно еще
и тебе год вазад — сколько раз я жаловался! Но перед подоб-
ным разрушением и такой глубокой печалью, я чувствую, как
мои глаза наполняются слезами и — чтобы быть до конца от-
кровенным — сердце угрызениями. Дважды я закладывал ее
драгоценности и мебель, заставлял влезать для меня в долги,
подписывать векселя, избил ее и, наконец, вместо того, чтобы
272
показать ей, как должен вести себя такой человек, как я, всегда
подавал пример распутства и беспорядочной жизни. Она стра-
дает — и она молчит. — Разве нет причины для угрызений? Раз-
ве не я виноват в этом, как и во всем остальном?
Я был обязан к твоей старости дать тебе радость надежды
на мой талант — и не сделал этого.
Я виновен перед самим гобой.— Это несоответствие между
волей и способностью является чем-то непостижимым для ме-
ня.— Почему, имея такую праведную, такую ясную мысль о дол-
ге и пользе, я всегда совершаю обратное?
А разве этот идиот Анселль не говорил недавно, что напи-
сал тебе о моем хорошем самочувствии! Глупец, он не видит
ничего и ничего не понимает. Не хочу тебя зря беспокоить. К
тому же я обладаю настолько крепким здоровьем, что оно мо-
жет все преодолеть. Но это мерзкое существование и водка,— с
которыми я покончу,— на несколько месяцев испортили мне
желудок, а кроме того, у меня невыносимые нервные расстрой-
ства,— точно у женщины.— Впрочем, это было неизбежно.
Теперь ты понимаешь, почему в ужасном одиночестве, ко-
торое окружает меня, я так хорошо понял гений Эдгара По и
почему так хорошо описал его страшную жизнь?
По этому поводу я скажу тебе, что и эта проклятая книга, и
потеря доверия моего издателя, и задержки, и случайности, ко-
торых я боюсь, как и этот интернациональный договор, о ко-
тором я говорил сейчас,— словом, это дело, бесспорное еще
три месяца назад и становящееся день ото дня все более рас-
плывчатым и непонятным, волнует меня по другой причине. Я
радовался, что приготовил тебе необычный сюрприз.— Я хо-
тел послать господину Опику красивый экземпляр своей кни-
ги, напечатанной на лучшей бумаге и в чудесном переплете. Я
отлично сознаю, что никакой привязанности между нами быть
не может, но он бы понял, что посылка книги, которая в целом
будет удивительной,— свидетельство моего уважения (если бы
я когда-нибудь смог выпутаться) и доказательство, что я в свою
очередь дорожу его уважением.
Ты бы это знала, и ты бы испытала некоторое удовлетворе-
ние.
Это было моей единственной целью. Настоятельно прошу
тебя не говорить об этом ни слова <...>.
273
Мадам САБАТЬЕ
[Версаль.] Понедельник 9 мая 1853 г.
Поистине, Мадам, я прошу тысячу извинений за это глупое
анонимное рифмоплетство, ужасно отдающее ребячеством; но
что же делать? Я эгоист, как дети и больные. Я думаю о люби-
мых людях, когда страдаю. Обычно я думаю о вас в стихах, а
когда стихи готовы, не могу отказать себе в желании предло-
жить их взору той, кто является их объектом. В то же время я
прячусь, как кто-нибудь, испытывающий крайний страх перед
смешным. Не кроется ли что-то в высшей степени комическое
в любви? — особенно для тех, кто ее не достигает.
Но клянусь, что я навязываю собственные переживания в
последний раз: и если моя пламенная дружба к вам продлится
так же долго, как она длилась до сих пор, к тому времени, ког-
да я скажу хоть словечко об этом, мы оба станем стариками.
Каким бы абсурдным это вам ни показалось, знайте, что
есть сердце, над которым вы не смогли бы посмеяться, не про-
явив жестокости, и где ваш образ живет вечно.
Фернану ДЕНУАЙЕ
[Париж. Конец 1853 или начало 1854г.]
Мой дорогой Денуайе, вы просите у меня стихотворения
для вашей маленькой книги, стихотворения о Природе, не так
ли? О лесах, больших дубах, зелени, насекомых, солнце, без со-
мнения? Но вы хорошо знаете, что я не способен умиляться зе-
ленью и моя душа не поддается этой своеобразной новой ре-
лигии, которая всада будет, мне кажется, для всякого интел-
лектуального человека чем-то шокирующим. Никогда не пове-
рю, что “душа Богов живет в растениях”, даже если бы она там
жила, я бы все равно в этом сомневался и оценивал бы свою
гораздо выше стоимости освященных овощей. Более того, я
даже всегда считал, что в цветущей и обновляющейся Природе
есть что-то наглое и удручающее.
Не имея возможности удовлетворить вас полностью, следуя
точным пунктам программы, посылаю вам два стихотворных
отрывка представляющих нечто вроде итога грез, которые
осаждали меня в часы сумерек. В глубине лесов, под сводами,
напоминающими своды ризниц и соборов, я думаю о наших
274
удивительных городах, а необычайная музыка, которая роко-
чет в вершинах, кажется мне “воплощением человеческих сте-
наний”.
КОНТРАКТ
[30 декабря 1856 г.]
Между гг. Пулэ-Маласси и Эженом де Бруазом, издателями-
книготорговцами Алансона, с одной стороны,
и г-ном Шарлем Бодлером, литератором; с другой стороны,
заключен следующий договор*.
Г-н Ш. Бодлер продает гг. Пулэ-Маласси и Эжену де Бруазу
книги, одна из которых — “Цветы зла”, а другая — “Эстетичес-
кий антиквариат”.
Г-н Шарль Бодлер сдаст “Цветы зла” двадцатого января бу-
дущего года, а “Эстетический антиквариат” в конце февраля.
Каждый тираж предусматривает тысячу экземпляров. Г-н Ш.
Бодлер получит за каждый напечатанный том, независимо от
того, продан он или нет, двадцать пять сантимов, то есть вось-
мую часть цены, обозначенной в каталоге гг. Пулэ-Маласси и
Эжена де Бруаза. Г-ну Ш. Бодлеру запрещается воспроизведе-
ние, под какой бы то ни было формой, всего или частичного
материала, содержащегося в этих двух книгах.
Г-н Ш, Бодлер может предложить эти книги или одну из них
другому издателю лишь в том случае, если гг. Пулэ-Маласси и
Эжен Бруаз, имея в магазине лишь весьма малое количество
экземпляров, откажутся их перепечатывать.
Копия составлена в Париях, тридцатого декабря тысяча во-
семьсот пятьдесят шестого года.
Огюст Пулэ-Маласси Ш. Бодлер
Мадам ОПИК
[Париж.] Четверг 9 июля 1857 г.
Уверяю вас, вы нисколько не должны беспокоиться обо мне;
напротив, это вы вызываете во мне живейшее беспокойство, и,
конечно, не письмо, полное скорби, которое вы мне послали,
способно его смягчить. Вы заболеете, если не будете заботить-
ся о себе, и это худшее из несчастий, а для меня невыносимей-
шая из тревог. Я хочу, чтобы вы не только отвлеклись, но и на-
шли бы новые радости. — Решительно, я считаю, что мадам
Орфила разумная женщина.
275
Что касается моего молчания, не ищите в нем иного смыс-
ла, кроме одного из тех изнеможений, которые, к моему вели-
кому бесчестью, порой овладевают мною, мешая не только от-
даться какой-либо работе, но даже исполнить простейшие обя-
занности. Кроме того, я хотел бы одновременно написать вам,
послать ваш молитвенник и свой сборник стихотворений.
Молитвенник еще не закончен: переплетчики, даже самые
толковые, настолько глупы, что кое-какие детали необходимо
поправить. Это немного рассердило меня, но вы останетесь до-
вольны.
Что касается стихотворений (появившихся полмесяца на-
зад), то я сначала, как известно, не намеревался вам их показы-
вать. Но, хорошенько подумав, решил, что, поскольку все рав-
но услышите разговоры об этой книге или по крайней мере уз-
наете по рецензиям, которые я пошлю,— стыд с моей стороны
был бы таким же безумием, как показная добродетель с вашей.
Я получил для себя шестнадцать экземпляров на плохой бума-
ге и четыре на верже. Я сохранил для вас один из них, и если
вы его еще не получили, то потому, что я хотел послать его в
переплете.— Вы знаете, что я ценил литературу и любые другие
искусства только то1да, когда они преследовали цели, далекие
от морали, и что меня вполне удовлетворит: красота замысла
и стиля. Но эта книга, с заглавием “Цветы зла”, которое гово-
рит само за себя, отмечена, как вы убедитесь в этом страшной
и холодной красотой; она создавалась с яростным терпением.
К тому же доказательство ее позитивной ценности заключает-
ся в зле, о котором она повествует. Книга приводит людей в
неистовство. Впрочем, сам испугавшись ужаса, который внушу,
я уничтожил треть в корректурах. Мне отказывают во всем: в
оригинальности и даже в знании французского языка. Я сме-
юсь над всеми этими болванами и знаю, что эта книга, с ее до-
стоинствами и недостатками, оставит след в памяти образо-
ванных людей наряду с лучшими стихотворениями В. Itoro, Т.
Готье и даже Байрона.— Единственный совет: поскольку вы жи-
вете с семьей Эмон, постарайтесь, чтобы книга не попала в ру-
ки м-ль Эмон. Что касается кюре, которого вы, несомненно,
принимаете, можете ему показать. Он подумает, что я проклят,
и не осмелится вам об этом сказать,— Распустили слух, что я
подвергнусь преследованию; но его не будет. У правительства,
на шее которого страшные выборы в Париже, нет времени
преследовать безумца.
Тысяча извинений за все это чванливое ребячество. Я мно-
276
го думал о приезде в Онфлер, но не смел с вами говорить об
этом. Думал и о том, чтобы прижечь свою лень и уничтожить
ее навсегда на берегу моря, без всяких легкомысленных заня-
тий, ожесточенной работой, будь то третий том переводов Эд-
гара По или первая моя драма, которую я должен поневоле
произвести на свет.
Но есть дела, которые невозможно осуществить без библи-
отек, без эстампов и без музея. Прежде всего необходимо раз-
решить вопрос
"Эстетических достопримечательностей",
“Ночных стихотворений”
и “Исповедей опиофага”.
“Ночные стихотворения” предназначаются для “Ревю де де
монд”; “Опиофаг” — новый перевод великолепного писателя,
неизвестного в Париже. Это для “Le Moniteur” <...>.
Поставу ФЛОБЕРУ
[Париж.] Вторник 25 августа 1857 г.
Дорогой друг, около пяти часов я черкнул вам второпях
словцо с единственной целью доказать свое раскаяние в том,
что не ответил на ваши сердечные чувства. Но если бы вы зна-
ли, в какую пропасть детских занятий я погружен! И статья о
“Госпоже Бовари” отодвигается еще на несколько дней! Какая
остановка в жизни, это нелепое приключение!
Комедия была сыграна в четверг, и это тянулось долго!
Наконец: 300 франков штрафа, 200 с издателей, изъятие но-
меров 20,30,39,80,81 и 87. Подробнее я напишу вам ночью.
Весь ваш, вы это знаете.
Ш. Бодлер.
ИМПЕРАТРИЦЕ
[Париж] 6 ноября 1857 г.
Мадам,
Необходима вся величайшая самонадеянность поэта, чтобы
осмелиться занимать внимание Вашего Величества таким не-
значительным делом, как мое. Я имел несчастье быть осужден-
ным за сборник стихотворений, названный: “Цветы зла”, так
как ужасающая откровенность заголовка не смогла достаточно
защитить меня.
Я верил, что создал прекрасное и значительное произведе-
277
ние, а тем более произведение светлое; его сочли довольно
мрачным, чтобы вынудить меня переделать книгу и исключить
несколько кусков (шесть из ста). Должен заметить, что Право-
судие обошлось со мной с удивительной вежливостью и даже
выражения приговора содержало признание моих возвышен-
ных и чистых намерений. Но штраф, увеличенный непонятны-
ми для меня издержками, превосходит возможности вошед-
шей в поговорку бедности поэтов, и, ободренный столькими
свидетельствами уважения со стороны высокопосгавленых
друзей и вместе с тем убежденный, что сердце императрицы
полно сострадания ко всем терзаниям, как духовным, так и ма-
териальным, я, после десяти дней колебания и робости, решил
домогаться всемилостивой доброты Вашего Величества и про-
сить Вас ходатайствовать за меня перед господином Минист-
ром Юстиции.
Соблаговолите, Мадам, принять уверения в чувстве глубоко-
го почтения, с которым я имею честь быть преданнейшим и
покорнейшим слугой и подданным
Вашего Величества.
Шарль Бодлер
Набережная Вольтера, 19
Мадам ОПИК
[Париж.] 25 декабря 1857 г.
День Рождества.
Дорогая мама, сегодня вечером или ночью (увы! если у ме-
ня будет для этого время) я напишу вам длинное письмо и от-
правлю пакет, уже давно приготовленный для вас. Я сказал: ес-
ли у меня будет для этого время, потому что я впал уже не-
сколько месяцев назад в одну из ужасных апатий, которые на-
рушают все. Мой стол с начала месяца завален корректурными
листами, к которым я не решался прикоснуться, а всегда насту-
пает момент, когда нужно, несмотря на сильное страдание, вы-
браться из бездны безразличия.
У этих проклятых праздников есть привилегия жестоко на-
поминать нам о беге времени, а как оно плохо использовано и
сколько в нем скорби! Сегодня вечером я объясню, почему,
приняв решение всегда быть занятым вами, я резко положил
конец всякой откровенности, и, если вы меня даже не совсем
поймете, согласитесь по крайней мере, что я до некоторой сте-
пени достоин прощения.
278
Одиночество без привязанностей и без работы, конечно
же, страшная вещь; но, так как вы смелее меня, я уверен, что вы
переносите ваше лучше, чем я свое. Я нахожусь в том достой-
ном жалости состоянии души и тела, когда завидую судьбе
всех.
Пакет, который я для вас сохранил, состоит прежде всего из
нескольких моих статей, появившихся во второй половине го-
да (меня еще вызывали в прокуратуру и едва не стали пресле-
довать за статью о “Госпоже Бовари”, книге судимой, но оправ-
данной); затем из нескольких статей о “Цветах зла”; по этим
нескольким (их появилось под конец столько, что, утомлен-
ный как восхвалениями, так и глупой бранью, я не снисходил
до того, чтобы их читать) вы можете судить о страшном взры-
ве, вызванном книгой, в которую я хотел вложить частицу сво-
его гнева и разочарования; — наконец, из самой книги, кото-
рую вы так странно оттолкнули, когда сочли полезным присо-
единить свои упреки к оскорблениям, засыпавшим меня со
всех сторон.
Я хотел преподнести вам к Рощдеству третий том Эдгара По,
но только что сознался, что корректуры уже целый месяц валя-
ются на столе, а я не могу стряхнуть с себя мучительное мало-
душие.
Это мой экземпляр “Цветов”; я должен его вам, поскольку
ваш отдал господину Фулду. Эти два экземпляра напечатаны на
голландской бумаге. Себе я приобрету обыкновенный. Я дрожу
от лени при мысли, что для легальной продажи этой книги
нужно полностью ее перепечатать и сочинить шесть новых
стихотворений, чтобы заменить отвергнутые.
Итак, с более детальным письмом я отошлю пакет сегодня
вечером или самое позднее завтра утром.
Целую вас и умоляю быть впредь более снисходительной,
ибо я никогда, уверяю, не нуждался в этом так сильно. Если
когда-либо и страдал человек болезнью, не связанной с меди-
циной,— так это, конечно, я.
Шарль.
Виктору ПОГО
[Париж.] Пятница [23?] сентября 1859 г.
Сударь, я очень нуждаюсь в вас и взываю к вашей доброте.
Несколько месяцев назад я написал о моем друге Теофиле Го-
тье довольно длинную статью, вызвавшую у глупцов такой
взрыв смеха, что я счел нужным выпустить ее маленькой бро-
279
шюрой, чтобы доказать, что никогда не раскаиваюсь.— Я по-
просил сотрудников газеты послать вам номер. Не знаю, полу-
чили ли вы его; но я узнал от нашего общего друга Поля Мери-
са, что вы были так добры, что написали мне письмо, которое
до сих пор невозможно найти; “Ль’артист” счел необходимым
отправить, его по адресу, где я уже давно не живу, вместо того,
чтобы послать в Онфлер, мое истинное местожительство, где
ничего не теряется. Невозможно поэтому определить имело ли
ваше письмо прямое отношение к упомянутой статье; как бы
то ни было, я испытываю горькое сожаление.— Письмо от вас,
сударь, кого никто из нас так долго не видел, от вас, кого я
встречал лишь дважды и с тех пор прошло почти двадцать
лет,—вещь такая приятная и такая ценная! — Необходимо, од-
нако, разъяснить, почему я совершил это величайшее непри-
личие; послал вам печатный экземпляр, не сопроводив его
письмом, каким-нибудь выражением чувств, свидетельством
уважения и преданности. Один из глупцов, о которых я гово-
рил (на этот раз слишком остроумный, я хочу сказать — мелоч-
но остроумный), сказал мне: “Как! Вы будете иметь наглость
послать эту статью господину Пого! Разве вы не чувствуете, что
она не понравится ему!” — Вот, несомненно, колоссальная глу-
пость. Так вот”. Сударь, хотя я и знаю, что гений органично
включает в себя критический дух и необходимую снисходи-
тельность, я оробел и не осмелился вам написать.
Должен теперь кое-что объяснить вам. Я знаю ваши произ-
ведения наизусть, а ваши предисловия показывают мне, что я
вышел из рамок обычно излагаемых вами теорий о связи мо-
рали с поэзией. Но в то время, когда мир удаляется от искусст-
ва с таким ужасом, когда люди позволяют отупить себя идеей
исключительной утилитарности, я считаю, что не кроется
большого вреда в том, чтобы немного преувеличить противо-
положный смысл. Возможно, я требовал слишком многого. Но
это для того, чтобы получить необходимое. В конце концов, ес-
ли к моим размышлениям и примешалось немного азиатского
фатализма, я думаю, что достоин извинения. Отвратительный
мир, в котором мы живем, прививает вкус к одиночеству и фа-
тализму
Особенно я хотел направить мысль читателя к этой велико-
лепной литературной эпохе, в которой вы были истинным ко-
ролем и которая живет во мне как восхитительное воспомина-
ние детства.
Что касается писателя, о котором идет речь в статье и чье
280
имя послужило предлогом к моим собственным критическим
соображениям, сознаюсь вам по секрету, что я знаю пробелы
его удивительного ума. Не раз, думая о нем, я был удручен со-
знанием, что Бог не захотел проявить абсолютную щедрость. Я
не солгал, я просто избежал, завуалировал, утаил. Если бы ме-
ня вызвали в качестве свидетеля в суд и если бы мое совершен-
но правдивое показание могло повредить существу, избранно-
му самой Природой и любимому моим Сердцем,— уверяю вас,
я солгал бы с гордостью; — потому что законы ниже чувства,
потому что дружба, по своей натуре, непогрешима и неуправ-
ляема. Но наедине с вами мне, представляется абсолютно не-
нужным лгать.
Я нуждаюсь в вас. Мне нужен голос более громкий, чем мой
собственный и голос Теофиля Готье,— ваш диктаторский го-
лос. Я нулодаюсь в защите. Я покорно напечатаю то, что вы со-
благоволите написать. Не смущайтесь, умоляю вас. Если вы
найдете в этих корректурах нечто достойное порицания, знай-
те, что я представлю ваше порицание послушно и без особого
стыда. Не является ли ваша критика лаской, поскольку это
честь?
Стихотворения, которые я прилагаю к письму, уже с давних
пор резвятся в моем мозгу. Второй отрывок был создан с це-
лью подражания вам (смейтесь же над моим самомнением, я и
сам над ним смеюсь), после того, как я перечитал некоторые
из ваших сборников, где столь изумительное милосердие сме-
шивается с трогательной фамильярностью. Я замечал порой в
картинных галереях жалких мазилок, копирующих картины
мастеров. Хорошо ли, плохо ли они писали, но иногда без сво-
его ведома вкладывали в эти копии что-то свое, великое или
тривиальное. Это послужит, может быть (может быть!), оправ-
данием моей дерзости. Когда “Цветы зла” выйдут вновь, в три
раза превосходя по материалу тот, что упразднил суд, с каким
удовольствием посвящу я один из разделов поэту, произведе-
ния которого меня столькому научили и доставили столько на-
слаждений в юности!
Помню, как вы послали после этой публикации странный
комплимент насчет моего клейма, которое вы определили как
знак отличия. Тогда я не понял этого как следует, потому что
был разгневан потерей времени и денег. Но сегодня, сударь, я
понимаю очень хорошо. Я чувствую себя весьма непринужден-
но с моим клеймом и, знаю, что отныне, в каком бы жанре ли-
тературы себя ни проявил, я останусь чудовищем и оборотнем.
281
В последнее время, благодаря амнистии, ваше имя у всех на
устах. Извините ли вы меня за беспокойство, которое одолева-
ло меня не больше четверти секунды? Я слышал разговоры во-
круг: “Наконец-то вернется Виктор Пого!” — Я нашел, что эти
слова делают честь сердцу этих славных людей, но не их суж-
дению. Пришла ваша нота, которая нас утешила. Я хорошо
знал, что поэты стоят Наполеонов и что Виктор Пого не мо-
жет быть менее великим, чем Шатобриан.
Мне сказали, что вы обитаете в высоком поэтичном месте,
соответствующем вашему духу, и чувствуете себя счастливым
среди шума ветра и воды. Вы никогда не будете столь счастли-
вы, сколь вы велики. Мне сказали еще, что вас обуревают сожа-
ления и ностальгия. Это, может быть, неправда. Но если это
правда, вам хватит и дня в нашем грустном, в нашем скучном
Париже, в нашем Париже-Нью-Йорке, чтобы полностью изле-
читься. Если бы меня не связывали обязанности, я отправился
бы на край света.— До свидания, сударь, и если бы порой мое
имя произносилось в вашей счастливой семье, я испытал бы
огромное счастье.
Ш. Бодлер.
Корректуры мне не нужны.— Еще некоторое время я буду
жить в Париже в отеле “Дьепп”, на улице Амстердам.
ПИСЬМО ПОГО БОДЛЕРУ
6 октября 1859 г.
Ваша статья о Теофиле Готье, сударь,— одна из тех страниц,
которые настойчиво будят мысль. Редкое достоинство — заста-
вить мыслить; дар одних избранных.
Вы не ошибаетесь, предвидя некоторые разногласия между
нами. Я понимаю всю вашу философию (ведь, как и всякий по-
эт, вы философ); и больше, чем понимаю: я признаю ее; но со-
храняю свою. Я никогда не говорил: Искусство для Искусства; я
всегда говорил: Искусство для Прогресса.
В основе своей это равнозначно, и ваш ум слишком про-
никновенен, чтобы не чувствовать этого. Вперед! это слово
Прогресса; это также и клич Искусства. В этом — вся поэзия.
Ite.
Что делаете вы, когда пишете эти захватывающие стихотво-
рения “Семь стариков” и “Маленькие старушки”, которые по-
святили мне, за что я вам благодарен? Что вы делаете? Вы ша-
282
гаете. Вы идете вперед. Вы одариваете небеса Искусства неве-
домо каким мрачным лучом. Вы создаете новый трепет.
Искусство не способно к совершенствованию, я сказал это,
думаю, одним из первых, следовательно, я это знаю; никто не
превзойдет Эсхила, никто не превзойдет Фидия; но можно с
ними сравняться, а чтобы сравняться с ними, нужно перемес-
тить горизонт Искусства, подняться выше, идти дальше, ша-
гать. Поэт не может идти один, нужно, чтобы человек также
шел вперед. Следовательно, шаги человечества — суть те же
шаги Искусства, Следовательно, слава Прогрессу.
За Прогресс я страдаю в настоящий момент и готов умереть
за него.
Теофиль Готье — великий поэт, и вы славите его как млад-
ший брат, и вы им являетесь. У вас, сударь, благородный ум и
щедрое сердце. Вы пишете глубокие и часто просветленные ве-
щи. Вы любите Прекрасное. Вашу руку
Виктор Пого.
Что касается травли,— это только почести. Смелее!
Рихарду ВАГНЕРУ
[Париж.] Четверг 17 февраля I860 г.
Сударь,
Я всегда представлял себе, что как бы ни был привычен к
славе великий артист, он не равнодушен к искреннему ком-
плименту, если этот комплимент как бы возглас благодарности
и этот возглас обладает своеобразной ценностью, так как ис-
ходит от француза, то есть человека, мало склонного к энтузи-
азму и рожденного в стране, где почти ничего не смыслят как
в поэзии и живописи, так и в музыке. Прежде всего, я хотел бы
сказать, что обязан вам величайшим музыкальным наслажде-
нием, которое когда-либо испытывал. Я нахожусь в возрасте,
коща не забавляются письмами к знаменитостям, и еще долго
колебался бы, если бы каждый день мне на глаза не попадались
смешные, мерзкие статьи, где делаются всевозможные усилия,
чтобы опорочить ваш гений. Вы не первый человек, сударь, из-
за которого я вынуоден страдать и краснеть за мою страну. В
конце концов негодование меня подтолкнуло засвидетельст-
вовать вам свою признательность; я сказал себе: хочу отли-
чаться от скопища этих глупцов.
Первый раз, когда я пошел в Итальянскую оперу слушать ва-
ши произведения, я был весьма плохо настроен и даже, созна-
283
юсь, полон предвзятых мнений, но мне простительно; я так ча-
сто бываю обманут; я наслышался столько музыки шарлатанов
с большими претензиями! Вами же я был покорен сразу. То,
что я испытал, неописуемо, и если бы вы соизволили не сме-
яться, я попытался бы это выразить. Во-первых, мне показа-
лось, что я знаю эту музыку, и позднее, размышляя над этим,
понял, откуда подобный мираж: мне почудилось, что эта музы-
ка была моей собственной, и я узнавал ее, как каждый человек
распознает то, что ему суждено любить. Неумным глазам такая
фраза показалась бы чудовищно смешной, особенно если на-
писана кем-нибудь, кто, подобно мне, не знает музыки и чье
воспитание ограничилось прослушиванием (с большим удо-
вольствием, правда) нескольких прекрасных отрывков из Ве-
бера и Бетховена.
Затем отличительная черта, которая меня в особенности
поразила: величие. Это великое творчество, и оно возвеличи-
вает. Повсюду в ваших творениях я находил торжественность
мощного гула, величественных сторон природы и торжествен-
ность великих страстей человеческих. Сразу же чувствуешь се-
бя захваченным и покоренным. Один из наиболее удивитель-
ных отрывков, принесших мне новое музыкальное ощуще-
ние,— тот, что предназначен изображать религиозный экстаз.
Эффект, произведенный “Интродукцией приглашенных” и
“Брачным праздником”, неизмерим. Я почувствовал всю цар-
ственность жизни, более щедрой, чем наша. И вот еще что: я
часто испытывал ощущение весьма причудливого свойства:
гордость и радость понимания, проникновения, полной само-
отдачи, поистине чувственный восторг, который напоминает
взлет или погружение в морские волны. И музыка в то же вре-
мя дышала гордостью жизни. Вообще эта глубокая гармония
напоминала мне наркотики, которые учащают пульс вообра-
жения. Наконец, я испытал также — умоляю вас не смеяться —
чувства, происходящие, вероятно, от склада моего ума и обыч-
ных моих настроений. Повсюду есть что-то порывистое и ув-
лекающее, что-то понуждающее подняться еще выше, что-то
чрезмерное и все превосходящее. Например, если воспользо-
ваться сравнениями, позаимствованными у живописи, я пред-
ставил обширное пространство мрачно-красного цвета. Если
этот цвет выражает страсть, я вижу, как он постепенно прохо-
дит через все оттенки красного и розового к раскаленности
пекла. Показалось бы трудным, даже невозможным, достичь
чего-нибудь более пламенного; и все же последний взрыв ос-
284
тавил более белый след на белизне, служащей фоном. Это бу-
дет, если хотите, высшим криком души, достигшей своего па-
роксизма.
Я начал было описывать некоторые размышления об от-
рывках “Тангейзера” и “Лоэнгрина”, которые мы слышали, но
убедился в невозможности все выразить.
Я бы нескончаемо продолжал это письмо. Если вы меня по-
няли, благодарю вас за это. Мне остается добавить лишь не-
сколько слов. Начиная с того дня, когда я услышал вашу музы-
ку, я говорю без конца, особенно в горькие мгновения; “Если
бы по крайней мере я мог чуть-чуть послушать вечером Вагне-
ра!” Несомненно, есть и другие вроде меня. В общем, вы долж-
ны быть довольны публикой, чей инстинкт намного превосхо-
дит скверное знание журналистов. Почему бы вам не дать еще
несколько концертов, добавить новые отрывки? Вы побудили
нас познать предвкушение новых наслаждений. Имеете ли вы
право лишать нас остального? — Еще раз благодарю вас, су-
дарь; вы вернули меня к самому себе и к великому в самые тя-
желые часы жизни. Не прилагаю свой адрес, потому что вы,
быть может, подумали бы, что я чего-то прошу у вас.
Мадам ОПИК
/Нейи.] 1 января 1861 г.
Дорогая мамочка,
Невозможно в первый день нового года не предаться самым
мрачным размышлениям о минувшем и не сказать себе: ах! ес-
ли бы по крайней мере хоть в этом году было чуть-чуть радост-
ней!
Добавлю еще: умоляю тебя сделать все возможное, чтобы
чувствовать себя хорошо, оставаться живой и деятельной.
Я обосновался здесь (в Нейи, улица Луи-Филиппа, 4) полме-
сяца назад и, по обыкновению, очень несчастен. Пойми это
скорее в моральном смысле, чем в физическом.
Я вернулся также к своей старой идее — окончательно посе-
литься в Онфлере, кроме одной недели в месяц (поскольку мне
невозможно избавиться от Парижа из-за дел), и тогда система-
тично оплатить все долги. Так как из соображений, которые,
быть может, разъясню, я не вернусь, вероятно, в Нейи.
Я не ответил на твое письмо. А что я мог ответить? Ты зна-
ешь, что я подавлен расстройствами, как физическими, так и
духовными, полон тревог,— и ко всему этому ты добавляешь
285
оскорбления. Если бы по крайней мере оскорбления придава-
ли гениальность!
Умоляю, подумай об опеке! Это терзает меня на протяже-
нии семнадцати лет. Ты не смогла бы ни вообразить, ни понять
то зло, которое было причинено со всех точек зрения. То, что
я говорю, противоречит, может быть, твоему миропониманию.
Во всяком случае, в данный момент зло непоправимо.
Прежде чем упаковать вещи (а они многочисленны), необ-
ходимо отвести бурю 10 января и произвести на свет две ста-
тьи, чтобы раздобыть деньги на отъезд.
Я мог бы (только бы дела устраивались так, как они замыс-
лены) подготовить отъезд с 15-го до 20-го.— Вопреки твоему
абсурдному запрещению, я привезу тебе новогодние подарки.
“Цветы зла” окончены. Сейчас работаю над обложкой и
портретом. Здесь тридцать пять новых стихотворений, а каж-
дое старое основательно переработано.
Впервые в жизни я почти доволен. Книга почти хороша, и
она останется, эта книга, свидетельством моего отвращения и
ненависти ко всему на свете.
Как ты себя чувствуешь? Ты не можешь доставить мне боль-
шего удовольствия, как сообщить, что чувствуешь себя хоро-
шо.
Тебе очень холодно?
А берег?
Обнимаю тебя от всего сердца.
Шарль.
Мадам ОПИК
[Париж, 6 мая 1861 г.]
Дорогая мама, если ты обладаешь истинным гением мате-
ринства и еще не устала, приезжай в Париж, приезжай со мной
повидаться, постарайся это сделать. Я же по тысяче страшных
причин не могу приехать в Онфлер на поиски того, в чем так
нуждаюсь: чтобы меня немного ободрили и приласкали. В кон-
це марта я тебе писал: “Увидимся ли мы когда-нибудь?” Я нахо-
дился в одном из тех кризисов прозрения, когда видишь ужас-
ную правду. Я отдал бы не знаю что, лишь бы провести не-
сколько деньков около тебя, тебя, единственного существа, к
которому привязана моя жизнь, неделю, три дня, несколько ча-
сов.
Ты не читаешь достаточно внимательно моих писем, ты ду-
286
маешь, что я лгу или по крайней мере преувеличиваю, когда
говорю о своем отчаянии, о здоровье, об ужасе перед жизнью.
Я сказал, что желал бы тебя видеть и не могу отправиться в Он-
флер. В твоих письмах много заблуждений и неверных мыс-
лей, которые мог бы исправить разговор, и не хватило бы ше-
сти томов писем, чтобы разрушить.
Каждый раз, когда я беру в руки перо, чтобы обрисовать
свое положение, я испытываю страх; боюсь тебя убить, пора-
зить твое слабое тело. А я, хоть ты и не подозреваешь этого, по-
стоянно нахожусь на грани самоубийства. Я верую в то, что ты
страстно любишь меня; у тебя ум слеп, зато характер так вели-
кодушен! Я горячо любил тебя в детстве; позднее, под бреме-
нем твоей несправедливости, я отказывал тебе в уважении,
словно материнская несправедливость могла допустить отсут-
ствие сыновнего уважения; я часто в этом раскаивался, хотя по
привычке ничего не говорил. Я больше не являюсь неблаго-
дарным, вспыльчивым ребенком. Долгие размышления о моей
судьбе и твоем характере помогли мне понять все мои заблуж-
дения и все твое великодушие. Но в общем, зло причинено,
оно совершено из-за твоей неосторожности и моих ошибок.
Видимо, нам предначертано любить друг друга, жить друг для
друга и окончить нашу жизнь так благородно и так нежно, на-
сколько это возможно, И тем не менее из-за скверных обстоя-
тельств, в которых я нахожусь, я убежден, что один из нас убь-
ет другого и что в конце концов мы убьем друг друга. После мо-
ей смерти ты не проживешь долго, это очевидно. Я единствен-
ное, что дает тебе силу жить. Неоспоримо, что после твоей
смерти, в особенности если бы я явился ее причиной, я убил
бы себя. Твоя смерть, о которой ты часто говоришь с таким
смирением, ничего бы не исправила в моем положении; опека
осталась бы в силе (почему бы и нет?), ничто не было бы опла-
чено, и я, кроме терзаний, испытывал бы чудовищное ощуще-
ние полного одиночества. Мне себя убить — но это абсурд, нс
правда ли? “Ты оставишь свою старую мать совершенно од-
ну”,— скажешь ты. Признаюсь, даже не имея полного права на
самоубийство, я полагаю, что бездна страданий, которые я ис-
пытываю уже около тридцати лет, оправдали бы меня. “А
Бог!”—скажешь ты. Я всем сердцем (с искренностью, о которой
никто, кроме меня не знает!) хочу верить, что невидимое выс-
шее существо заинтересовано в моей судьбе: но что сделать,
чтобы в него поверить?
(Мысль о Боге заставляет меня подумать об этом проклятом
287
кюре. Я не хочу, чтобы ты советовалась с ним с чувством боли,
которое вызовет мое письмо. Этот кюре — мой враг, по чистой
глупости, может быть.)
Что касается самоубийства, идее не навязчивой, но прихо-
дящей в определенные моменты, есть одна вещь, которая
должна тебя успокоить. Я не могу себя убить, не приведя дела в
порядок. Все мои бумаги в Онфлере в величайшем беспорядке.
Следовательно, нужно проделать в Онфлере немалую работу.
И, будучи там, я уже не смог бы от тебя оторваться. Ты можешь
предположить, что я не хотел бы осквернить твой дом какой-
нибудь недостойной выходкой. Кроме того, ты сошла бы с ума.
К чему самоубийство? Из-за долгов? Да, и все-таки над ними
можно возвыситься. Скорее из-за ужасной усталости, происхо-
дящей от слишком затянувшейся невыносимой ситуации. Каж-
дое мгновение убеждает, что у меня нет больше вкуса к жизни.
Очень неблагоразумно ты поступила в пору моей юности. Твоя
неосторожность и мои прежние ошибки давят на меня со всех
сторон. Мое положение отчаянное. Есть люди, которые меня
приветствуют, есть такие, что со мною заигрывают, может
быть, есть и те, что мне завидуют. Литературное мое положе-
ние более чем благополучное. Я могу писать все, что захочу.
Все будет напечатано. Поскольку у меня непопулярный вид
мышления, я заработаю мало денег, но впоследствии приобре-
ту огромную известность, я знаю это,— лишь бы мне хватило
мужества выжить. Но душевное мое здоровье... отвратительно;
безнадежно, быть может. У меня есть еще планы: “Мое обна-
женной сердце”, романы, две драмы, одна из которых для
Французского Театра,— будет ли когда-нибудь все это осуще-
ствлено? Не думаю. Мое положение в обществе ужасно,—
именно здесь кроется величайшее зло. Никакого покоя. Оскор-
бления, обиды, унижения, о которых ты и помыслить не мо-
жешь и которые разъедают воображение, парализуют его. Я за-
рабатываю немного денег, это правда; если бы у меня не было
долгов и не имей я больше состояния, Я СТАЛ БЫ БОГАЧОМ, да
будет проклято это слово; я смог бы давать тебе деньги, смог
бы без опасения быть щедрым к Жанне. Мы поговорим о ней
сейчас. Ты сама вызвала эти объяснения.— Все деньги уплыва-
ют на расточительное и нездоровое существование (я живу
очень плохо) и на оплату или скорее недостаточное погаше-
ние старых долгов, на судебные издержки, гербовую бумагу и
проч.
Теперь поговорим о более приятных, то есть текущих, де-
288
лах. Так как действительно мне необходимо спастись и ты
единственная можешь меня спасти. Я один, без друзей, без лю-
бовницы, без собаки и без кота, которым бы мог пожаловать-
ся. У меня нет ничего, проме портрета отца, который всегда
молчит.
Я в таком же страшном состоянии, что испытывал осенью
1844 года. Покорность хуже ярости.
Но физическое мое здоровье, в котором я нуждаюсь для те-
бя, для себя, для своего дела,—вот вопрос! Необходимо сказать
тебе об этом, хотя ты и обращаешь на это мало внимания. Не
хочу говорить о нервных заболеваниях, подтачивающих меня
день за днем и уничтожающих смелость: о рвотах, бессоннице,
кошмарах, слабости. Об этом я очень часто тебе говорил. Но
бесполезно стыдиться тебя. Ты знаешь, что в ранней молодос-
ти я переболел сифилисом, от которого позднее счел себя пол-
ностью излеченным. В Дижоне, после 1848 года, был новый
взрыв. И снова временное облегчение. Теперь он возвращает-
ся и принимает новую форму: пятна на коже и поразительная
усталость во всех суставах. Можешь поверить мне; я себя знаю.
Быть может, тоскливое состояние, в котором я нахожусь, мой
ужас усугубляют болезнь. Но мне необходим строгий режим, и
не при моем образе жизни я смогу его соблюдать.
Оставляю все это в стороне и возвращаюсь к мечтам; я ис-
пытываю удовольствие еще прежде, чем изложу их. Кто знает,
смогу ли я еще раз открыть тебе всю свою душу, которую ты
никогда не ценила и не понимала! Пишу без колебаний, на-
столько убежден, что это правда.
В детстве у меня был период страстной любви к тебе; слу-
шай и читай без страха. Этого я тебе никогда не говорил. Я
вспоминаю об одной прогулке в фиакре; ты вышла из психиа-
трической больницы, куда была помещена, и показала мне,
чтобы доказать, что думала о своем сыне, рисунки пером, кото-
рые сделала для меня. Ты думаешь, у меня страшная память?
Позднее площадь Saint-Andre -des-Arts и Нейи. Долгие прогул-
ки, постоянная нежность! Я вспоминаю набережные, такие пе-
чальные по вечерам. Ах! Это было для меня счастливым време-
нем материнских ласк Извини, что называю счастливым вре-
менем то, что было, несомненно, скверным для тебя. Но я все-
гда жил в тебе; ты была только моей. Ты была одновременно и
божеством и товарищем. Быть может, ты удивишься, что я мо-
гу говорить со страстью о времени, давно ушедшем. Я и сам
удивлен этим. Возможно, оттого, что я испытал еще раз жела-
10—511
289
ние смерти, старые вещи так живо вырисовываются в вообра-
жении.
Ты знаешь, какому жестокому воспитанию хотел меня вслед
за этим подвергнуть твой муж; мне уже сорок лет, а я не могу
вспоминать без содрогания о коллежах, а тем более о страхе,
который внушал мне отчим; я его все-таки любил. Кроме того,
сегодня я достаточно умудрен, чтобы воздать ему должное. В
конце концов, он был упрям и неловок. Касаюсь этого неглубо-
ко, потому что уже вижу слезы на твоих глазах. Наконец, я убе-
жал и с тех пор совершенно покинут. Я полюбил только удо-
вольствие, вечное возбуждение, путешествия, красивую ме-
бель, картины, девиц и т. п. Я за это жестоко наказан сегодня.
Что касается опеки, скажу лишь слово: сегодня я знаю огром-
ную силу денег и понимаю важность всего, что имеет к ним от-
ношение; я представляю, что ты воображала себя очень лов-
кой, ты думала, что заботишься о моем благе; но лишь одно ме-
ня преследовало всегда: как случилось, что тебе на ум не при-
шла такая мысль: “Возможно, мой сын никогда не будет в той
степени, как я, обладать чувством ответственности за свое по-
ведение; но возможно также, что он станет человеком замеча-
тельным в других отношениях В таком случае, что я должна
делать? Осужу ли его на двойственное, противоречивое суще-
ствование, почитаемое, с одной стороны, отвратительное и
презираемое — с другой? Осужу ли я его на то, чтобы он влачил
до старости'позорное клеймо; клеймо, которое причиняет
вред, является причиной бессилия и горечи?” Очевидно, если
бы ты не прибегла к опеке, все было бы промотано. Нужно бы-
ло приобрести вкус к работе. Юридический совет состоялся,
все промотано, а я стар и несчастен.
Возможно ли омоложение? В этом весь вопрос.
У этого возвращения к прошлому лишь одна целы показать,
что меня можно извинить, если не полностью оправдать. Если
ты чувствуешь упреки в том, что я пишу, знай по крайней мере,
что это нисколько не умаляет моего восхищения твоим вели-
кодушным сердцем, моей признательности за твое самопо-
жертвование. Ты всегда жертвовала собой. Единственный дар,
которым ты обладаешь,— это гений самопожертвования. В те-
бе меньше разума, чем милосердия. Я же с тебя требую больше-
го. Я прошу одновременно совета, поддержки, полного взаи-
мопонимания, чтобы спасти меня. Умоляю тебя, приезжай,
приезжай. Я нахожусь на грани нервного напряжения, у меня
на исходе нервы, мужество, надежда. Я предвижу непрерывный
290
ужас. Я предвижу заторможенность своей литературной жиз-
ни. Я предвижу катастрофу. Ведь можешь же ты на неделю вос-
пользоваться гостеприимством друзей, Анселля, например. Я
отдал бы все что угодно, лишь бы тебя увидеть, обнять тебя.
Предчувствую несчастье, но не могу сейчас приехать к тебе.
Париж мне омерзителен. Уже дважды я допустил серьезную не-
осторожность которую ты расценишь более сурово; кончится
тем, что я потеряю голову.
Прошу у тебя своего счастья и требую от тебя твоего, если
нам еще суждено познать это <...>.
Прощай, я доведен до изнеможения. Если вернуться к дета-
лям моего состояния, то я не спал и не ел уже почти три дня; я
задыхюсь,— А нужно работать.
Нет, не говорю тебе прощай, так как надеюсь тебя увидеть.
О! Прочти меня очень внимательно, постарайся хорошень-
ко понять.
Знаю, это письмо болезненно отзовется в тебе, но ты, ко-
нечно же, найдешь в нем тон мягкости, нежности и даже на-
дежды, который так редко слышала.
А я люблю тебя.
Ш.Б.
Жюдит ГОТЬЕ
[Париж.] 9 апреля 1864 г.
Мадемуазель,
Недавно у одного из друзей я нашел вашу статью в
“Moniteur” от 29 марта, корректурные листы которой ваш отец
в прошлом передал мне. Он вам, несомненно, рассказал, какое
удивление я испытал, читая их. Если я тотчас же не написал
вам, чтобы поблагодарить, то единственно из робости. Мужчи-
на робкий по природе может чувствовать себя неловко перед
прекрасной юной девушкой, даже если и знал ее совсем iqx>-
шечной — особенно когда она оказывает ему услугу,— и он мо-
жет бояться или своего чрезмерного почтения и холодности,
или слишком горячей благодарности.
Первым моим впечатлением,— всегда, впрочем, прият-
ным,— было, как я уже сказал, изумление. Затем, когда мне
больше не позволительно было сомневаться, я испытал чувст-
во, которое сложно выразить: наполовину удовольствие, что
тебя так хорошо поняли, наполовину радость сознания, что у
ю*
291
одного из моих старых и самых строгих друзей есть дочь,
вполне достойная его.
В столь корректном анализе “Эврики” вы сделали то, что в
вашем возрасте я, быть может, сделать не сумел бы и что не
способно делать множество зрелых мужей, именующих себя
писателями. Наконец, вы доказали мне то, что я охотно счел
бы невозможным: молоденькая девушка может найти в книгах
серьезное развлечение, совершенно отличное от тех глупых и
вульгарных увеселений, которыми заполнена жизнь всех жен-
щин.
Если бы я еще не боялся вас обидеть, злословя о вашем по-
ле, я сказал бы, что вы заставили меня усомниться в скверном
мнении, которое я составил о женщинах вообще.
Не возмущайтесь этими комплиментами, столь причудливо
смешанными с дерзостью: я достиг возраста, когда невозмож-
но себя исправить, даже ради лучшей и прелестнейшей особы.
Поверьте, мадемуазель, что я навсегда сохраню воспомина-
ние об удовольствии, которое вы мне доставили.
Шарль Бодлер.
Теофилю ТОРЕ
Брюссель, Taveme du Globe
[приблизительно 20 июня 1864 г.]
Милостивый государь,
Не знаю,- помните ли обо мне и наших старых спорах.
Столько лет минуло, и так быстро! Я весьма прилежно читаю
то, что вы пишете, и хочу поблагодарить за удовольствие, кото-
рое вы доставили мне, защищая моего друга Эдуара Манэ2 от-
давая ему хоть сколько-нибудь справедливости. Необходимо
лишь уточнить несколько деталей в том мнении, которое вы
высказали.
Господин Манэ, которого считают безумным и неистовым,
человек очень лояльный, очень простой, который делает все
возможное, чтобы быть благоразумным, но, к несчастью, отме-
чен романтизмом с самого рождения.
Словечко “подражание” несправедливо. Манэ никогда не
видел Гойю, Манэ никогда не видел Греко, Манэ никогда не ви-
дел и галереи Пурталеса. Это кажется вам невероятным, но это
так.
Я сам в оцепенении восхищался этими загадочными совпа-
дениями.
В то время, когда мы изумлялись этим великолепным испан-
292
ским музеем, который глупая французская республика, в своем
чрезмерном уважении собственности, вернула принцам Орле-
анским, господин Манэ был ребенком и служил на корабле.
Ему столько говорили о подражании Гойе, что теперь он
стремится увидеть картины Гойи.
Правда, он, не знаю где, видел Веласкеса.
Вы сомневаетесь во всем, что я сказал? Вы сомневаетесь,
что такие удивительные геометрические параллелизмы могут
проявляться в природе. Ну хорошо! меня обвиняют в подража-
нии Эдгару ПО!
Знаете ли вы, почему я так терпеливо переводил По? Пото-
му что он напоминал меня. Первый раз, когда я открыл его
книгу, я с ужасом и восторгом увидел не только сюжеты, замы-
шляемые мною, но и ФРАЗЫ, которые я обдумывал и написан-
ные им на двадцать лет раньше.
Et nunc, erudimini, vos qui judicatis..!
He сердитесь; но сохраните обо мне в уголке вашего мозга
добрую память. Я буду благодарен вам за любую услугу, оказан-
ную Манэ.
Шарль Бодлер.
Несу эту писульку господину Берарди, чтобы он передал ее
вам.
Буду иметь смелость, или скорее полный цинизм, пожелать,
чтобы вы процитировали мое письмо или по крайней мере не-
сколько строк. Ведь я сказал вам чистую правду.
Приложение
ШАРЛЬ БОДЛЕР
Б первый раз я встретился с
llUp.DIH.rl pdo л DCipvlMJlVM V
Бодлером в середине 1849 г. в отеле Пимодан, где я занимал ря-
дом с Фернандом Буассаром фантастическое помещение, ко-
торое сообщалось с его помещением потайной лестницей,
скрытой в толще стен и, наверно, посещаемой тенями пре-
красных женщин, коща-то столь любимых Лозен.
Там жила та самая восхитительная Магух, которая в ранней
молодости позировала для Миньоны Шефера, а позднее для
“Славы раздающей венки” Поля Делароша, также как и другая
красавица, бывшая тогда во всем великолепии своей красоты,
которой Клезенже обязан своей женщине, украшенной змеей
изваянием, где страдание напоминает пароксизм наслаждения
и где ощущается такой трепет напряженной жизни, какого ре-
зец никогда не достигал и никогда не превзойдет.
Шарль Бодлер был тогда еще непризнанным талантом, в те-
ни зреющим для славы с той настойчивостью воли, которая у
него удваивала вдохновение; однако имя его уже приобретало
известность среди поэтов и художников, вызывало у них смут-
ный трепет ожидания, и молодое поколение, следовавшее за
великим поколением 1830 г., казалось, возлагало на него боль-
шие надежды. Он считался самым значительным на тех таин-
ственных сборищах, где намечается слава будущего.
Я часто слышал о нем, но не знал ни одного из его произве-
дений.
Наружность его поразила меня. Он очень коротко стриг
свои прекрасные черные волосы, которые, образуя правиль-
ные выступы на ослепительно-белом лбу, облегали его, как
чалма; взгляд его глаз цвета испанского табака был полон ума,
глубины и проницательности, может быть, даже слишком на-
стойчивой; рот, с очень большими зубами, скрывал под легки-
ми шелковистыми усами свои живые, чувственные и ирониче-
ские изгибы, напоминающие губы на портретах Леонардо да
Винчи; нос, тонкий и изящный, немного округленный, с трепе-
щущими ноздрями, казалось, вдыхал слабые, отдаленные аро-
294
маты; на подбородке была заметна глубокая впадина, как бы от
последнего прикосновения перста ваятеля; синеватый цвет
старательно выбритых, слегка припудренных щек представлял
контраст с ярким румянцем скул; изящная и белая, как у жен-
щины, шея свободно выступала из отложного воротничка,
подвязанного узким галстуком из легкой клетчатой шелковой
индийской материи.
Его одежда состояла из широкого пальто черной блестящей
материи, брюк орехового цвета, белых чулок и лаковых боти-
нок; все было изысканно-опрятно и корректно, все носило на
себе умышленный отпечаток английской простоты и как бы
подчеркивало намерение выделить себя из артистического жа-
нра мягких войлочных шляп, бархатных курток, красных блуз,
запущенных бород и растрепанных волос. В этой строгой
внешности не было ничего слишком свежего, слишкого бью-
щего в глаза. Дендизм Шарля Бодлера чуждался всего слишком
нарядного, слишком показного и нового, чем так дорожит тол-
па и что так неприятно истинному джентльмену. Позднее он
даже сбрил усы, считая ребячеством и мещанством сохранять
этот остаток старого показного шика. Освобожденная таким
образом от лишней растительности голова Бодлера напомина-
ла голову Лоренса Стерна; сходство это увеличивалось еще
привычкой Бодлера прикладывать в разговоре указательный
палец к виску, а это, как известно, и есть поза английского
юмориста на портрете, приложенного к его произведениям.
Таково было впечатление, произведенное на меня в это
первое свидание внешностью будущего автора “Цветов зла”.
В “Новых парижских камеях” Теодора де Банвиля, одного
из лучших и вернейших друзей поэта, утрату которого мы оп-
лакиваем, есть следующее описание портрета Бодлера, сделан-
ного еще в юности, до начала его литературной известности.
Прошу позволения привести здесь следующие строки этой
прозы, равной по совершенству самым прекрасным стихам;
они рисуют нам Бодлера таким, каким его знали мало и каким
он — увы! — был недолго.
“Портрет, написанный Эмилем Деруа,— один из редких ше-
девров новейшей живописи — изображает нам Бодлера в двад-
цать лет, в то время, когда богатый, счастливый, любимый, уже
прославленный, он писал свои первые стихотворения, при-
знанные Парижем, диктующим законы остальному миру. Ред-
кий пример лица поистине неземного, в котором соединилось
295
так много счастливых задатков, столько силы и неотразимой
обворожительности. Чистая, удлиненная, мягко изогнутая ли-
ния бровей над веками, дышащими восточной негой; продол-
говатые черные глаза с несравненным блеском, ласкающие и
властные, которые точно обнимают, вопрошают и отражают в
себе все окружающее; изящный нос, в строгих очертаниях ко-
торого было что-то ироническое, слегка округленный и выда-
ющийся на конце, тотчас же вызывающий в памяти знамени-
тую фразу поэта: “Моя душа порхает в волнах благовоний по-
добно тому, как души других парят в музыке”. Изогнутые и оду-
хотворенные губы своей яркостью и свежестью еще напомина-
ют пышный плод. Очертания круглого подбородка говорят о
высокомерии и силе, как у Бальзака. Все лицо покрыто зной-
ной, смуглой бледностью, сквозящей розовыми опенками бо-
гатой и прекрасной крови; его украшает юношеская безуко-
ризненная борода молодого бога; высокий, широкий и вели-
колепно очерченный лоб обрамлен черными, густыми, преле-
стными волосами, вьющимися от природы, как у Паганини, и
ниспадающими на шею, подобную шее Ахилла или Антиноя”.
Не следует принимать этот портрет в буквальном смысле,
мы видим его сквозь двойную идеализацию живописи и по-
эзии; но это не уменьшает искренности его изображения, и в
свое время он был точен. У Бодлера была пора полного расцве-
та и высшей красоты, что и констатируется этим несомненным
свидетельством. Редко случается, чтобы поэт или художник до-
стиг известности еще в пору юношеской прелести. Слава при-
ходит позднее, когда труды, жизненная борьба и пытки страс-
тей уже изменили его прежний образ; от него остается только
измятая, увядшая маска, на которую каждое страдание наложи-
ло свой стигмат или синевой, или морщиной. Этот-то послед-
ний образ, полный, однако, своеобразной красоты, и остается
в памяти. Такова же была и судьба Альфреда де Мюссе. В моло-
дости, со своими белокурыми волосами, он был подобен Фебу-
Аполлону, и медальон Давида изображает его нам прекрасным,
как Бог.
У Бодлера к его исключительности, к его умению избегать
всякой вычурности примешивался какой-то оттенок экзотич-
ности, как бы отдаленное благоухание стран, более любимых
солнцем. Когда я узнал, что Бодлер долго путешествовал по
Индии, мне все стало ясно. В противоположность несколько
распущенным нравам артистов Бодлер строго держался самых
296
узких условностей, и его вежливость доходила до такой чрез-
вычайности, что могла казаться деланной. Он взвешивал фра-
зы, употреблял только самые изысканные выражения и неко-
торые слова произносил таким тоном, как будто бы желал их
подчеркнуть и придать им таинственное значение: в его голо-
се слышались курсивы и заглавные буквы. Он презирал шарж,
бывший в большой чести в Пимодан, за его театральность и
грубость, но сам не останавливался перед парадоксом и гипер-
болой. С видом очень простым, очень естественным и совер-
шенно безучастным, точно он приводил какое-нибудь общее
место о красоте в духе Прюдома или говорил о погоде, Бодлер
ронял какую-нибудь сатанинскую аксиому или отстаивал с ле-
дяным хладнокровием какую-нибудь теорию — математически
нелепую, так как он и в развитие своих безумств вносил стро-
гий метод. Уй его, минуя слова и черты, видел вещи со своей
особенной точки зрения, которая изменяла их очертания, как
меняются очертания предметов, на которые смотрят с птичье-
го полета или снизу; он схватывал отношения, которые усколь-
зают от других и приводят их в недоумение своей логической
странностью. Жесты Бодлера были медлительны, редки и уме-
ренны, не размашисты; он не переносил южной жестикуля-
ции. Не любил он также беглой речи, и британская холодность
казалась ему необходимой принадлежностью хорошего вкуса.
Он имел вид денди, хранящего среди богемы свое достоинст-
во, свои манеры и тот культ самого себя, который отличает че-
ловека, пропитанного принципами Брюмеля.
Таким оказался он мне при первой встрече, которую я так
хорошо помню, как будто бы она произошла вчера, и я мог бы
на память набросать ее.
Мы находились в большом салоне в самом чистом стиле
Людовика XIV с резьбой, покрытой потемневшей, но удиви-
тельного тона позолотой, с выступами карнизов, на которых,
вероятно, какой-нибудь ученик Лесюера или Пуссена, работав-
ший в отеле Ламбер, нарисовал во вкусе этой эпохи нимф,
преследуемых в тростниках сатирами. На обширном камине
из пиринейского мрамора, красного с белым, стояли часы в
виде вызолоченного слона в полной упряжи, подобного слону
Пора на картине Лебрена; на спине слона была боевая башня
с вделанным в нее эмалевым циферблатом с синими цифрами.
Кресла и диваны были старинные, с обивкой вышедшего из
моды цвета, на которой была изображена охота, исполненная
297
Oudry или Desportes. В этом салоне происходили собрания
клуба гашишеров, в которых и я принимал участие и которые
описаны мною в другом месте со всеми их экстазами, грезами
и галлюцинациями, с наступавшим за ними полнейшим изне-
можением.
Как я сказал выше, мы собирались у Фернана Буассара. Его
короткие, белокурые, курчавые волосы, белое и румяное лицо,
серые глаза, искрящиеся умом, красные губы и жемчужные зу-
бы, казалось, свидетельствовали об избытке здоровья, достой-
ном кисти Рубенса, и обещали продолжительность жизни, вы-
ходящую за обычные пределы. Но увы! Кто может предвидеть
судьбу человека? Буассар, который обладал всеми данными для
счастья и который даже и не знал сладких горестей семейной
жизни, угас несколько лет назад, на много лет пережив самого
себя, от болезни, подобной той, которая унесла и Бодлера. Бу-
ассар был одним из наиболее одаренных юношей; он обладал
поразительно восприимчивым умом и одинаково хорошо по-
нимал живопись, поэзию и музыку; но в нем, быть может, ар-
тист страдал от дилетанта: восхищение брало у него слишком
много времени, восторги слишком истощали его силы. Без со-
мнения, он сделался бы превосходным художником, если бы
его принудила к тому железная рука необходимости,— верным
залогом этого служил успех, который имел в салоне его “Эпи-
зод отступления из России”. Но, не оставляя живописи, он раз-
влекался другими искусствами: играл на скрипке, устраивал
квартеты, разбирал Баха, Бетховена, Мейербеера и Мендельсо-
на, изучал языки, писал критические статьи и прелестные со-
неты. Он предавался искусству с каким-то сладострастием, и
никто не наслаждался великим творением с большею утончен-
ностью, страстностью и чувственностью. Он так изумлялся
прекрасному, что забывал выражать пережитое, думая, что воз-
вратил то, что так глубоко прочувствовал. Его разговор очаро-
вывал своей веселостью и неожиданностями; он владел редким
даром создавать слова, и, когда он говорил, перед вами проно-
сились всевозможные причудливые выражения, итальянские
“concetti” и испанские “agudezas”, подобно фантастическим
фигурам Калло, проделывающим смешные и грациозные гри-
масы.
Любя, подобно Бодлеру, сильные и необычные ощущения,
хотя бы и опасные, он захотел познать тот искусственный рай,
который впоследствии заставляет так дорого расплачиваться
298
за искусственно вызванные экстазы, и злоупотребление гаши-
шем должно было без сомнения расстроить это могучее и цве-
тущее здоровье. Это воспоминание о друге юности, с которым
мы жили под одной кровлей, о романтике доброго старого
времени, которого не посетила слава, так как он слишком лю-
бил славу других, чтобы подумать о своей собственной, не бу-
дет, вероятно, неуместным здесь, в этой заметке, предназна-
ченной служить предисловием к Полному собранию сочине-
ний нашего общего друга.
В тот день там был также Жан Фёшер, скульптор, подобный
Ж. Тужону, Ж. Пилону и Бенвенуто Челлини. Его произведения,
полные вкуса, вдохновения и грации, исчезли почти совер-
шенно, скупленные промышленниками и торговцами и пу-
щенные в продажу — чего они вполне заслуживали — за про-
изведения самых знаменитых художников для того, чтобы
сбыть их богатым любителям, ничего от этого не потерявшим.
Фёшер, помимо таланта ваятеля, обладал невероятной способ-
ностью к подражанию, и ни один актер не воплощал так типа,
как он. Он сочинил комические диалоги сержанта Бридэ со
стрелком Питу; число диалогов удивительно возросло, и они
до сих пор еще вызывают неудержимый смех.
Фёшер умер первый, и из четырех художников, собравших-
ся в тот день в салон отеля Пимодан, жив только я один.
Полулежа на канапе и облокотясь на подушку с неподвиж-
ностью, к которой ее приучила профессия натурщицы, Магух в
белом платье, причудливо усеянном красными кружевами, по-
добно мелким капелькам крови, рассеянно слушала парадоксы
Бодлера, не выражая ни малейшего удивления на своем лице
чистейшего восточного типа; она играла кольцами, украшав-
шими пальцы ее рук, столь же совершенных, как и ее тело, кра-
сота которого сохранилась навсегда благодаря слепкам.
Около окна “Женщина со змеей” (лучше не называть ее
здесь ее настоящим именем), бросив на кресло свою накидку
из черного кружева и восхитительнейшую маленькую шляпку,
какую когда-либо сооружала Хюси Оке и мадам Бов..., встряхи-
вала свои чудные темно-рыжие волосы, еще совсем сырые —
она приехала прямо из школы плавания — и от всего ее тела,
задрапированного кисеей, исходил, как от наяды, свежий за-
пах купания. Взглядом и улыбкой она поощряла турнир речей
и время от времени бросала в него и свое слово, то насмешли-
вое, то одобрительное, и словесная борьба возгоралась снова.
299
Прошли они, эти дивные часы досуга, когда поэты, худож-
ники и прекрасные женщины собирались поговорить об ис-
кусстве, литературе и любви, как во времена Бокаччо. Время,
смерть, властные обстоятельства жизни разделили эти кружки
людей, собиравшихся по взаимной симпатии, но воспомина-
ние о них дорого каждому, кто имел счастье участвовать в них,
и невольная нежная грусть овладевает мною, когда я пишу эти
строки.
Вскоре после этой встречи, Бодлер занес мне том стихов от
имени двух отсутствующих друзей. Сам он рассказывал об
этом посещении в одной литературной записке, касающейся
меня, в таких выражениях почтительного поклонения, что я не
решился бы их привести. С этого момента между нами завяза-
лась дружба, в которой Бодлер всегда хотел сохранить отноше-
ния любимого ученика к благосклонному учителю, хотя он
был обязан своим талантом только самому себе и почерпал все
только из своей собственной оригинальности. Никогда, при
самой тесной близости, он не погрешил против этой почти-
тельности, которую я находил чрезмерной и от которой с удо-
вольствием бы его освободил. Он заявлял об этом неоднократ-
но, и посвящение “Цветов зла”, обращенное ко мне, сохранит
в своей лапидарной форме безусловное выражение этой по-
этической дружеской преданности.
Если я останавливаюсь на этих подробностях, то не для то-
го, чтобы — как говорят — придать себе больше цены, а пото-
му, что они рисуют неизвестную сторону души Бодлера.
Этот поэт, которого стараются ославить сатанинской нату-
рой, отдавшейся злу и извращенности (разумеется, в литера-
турном смысле), был способен на самую высокую любовь и
поклонение. А ведь отличительное свойство Сатаны именно в
том, что он не может ни поклоняться, ни любить. Свет его ос-
корбляет, слава для него — невыносимое зрелище, которое за-
ставляет его закрывать глаза своими крыльями летучей мыши.
Никто, даже в самый разгар романтизма, не проявлял относи-
тельно учителей большого почтения и обожания, чем Бодлер;
он всегда был готов воздать им заслуженную дань каждения и
делал это без всякого ученического раболепства, без фанатиз-
ма сеида: он и сам был мэтром, имел свое собственное царст-
во, свой народ, свои верховные права.
Может быть, следовало бы, дважды описав Бодлера во всем
блеске его юности и в полном расцвете сил, изобразить его и
300
таким, каким он стал в последние годы своей жизни, перед тем,
как болезнь занесла над ним свою руку и запечатала своей пе-
чатью его уста так, чтоб они не могли более говорить в этом,
мире. Его лицо исхудало и как бы одухотворилось; глаза каза-
лись больше, нос заострился и получил более резкие очерта-
ния; губы таинственно сомкнулись и, казалось, хранили сарка-
стические тайны в своих углах; к прежнему румянцу щек при-
мешивались желтые оттенки загара и утомления. Что касается
лба, слегка лишенного волос, он выиграл в величине и, так ска-
зать, в твердости: он казался высеченным из какого-то особен-
но твердого мрамора. Тонкие, шелковистые, длинные волосы,
уже поредевшие и почти совершенно седые, придавали этому
лицу, в одно и то же время и уже состарившемуся и еще моло-
дому, почти жреческий вид.
Шарль Бодлер родился в Париже 21 апреля 1821 года, в од-
ном из тех старых домов на улице Отфейль, на углах которых
возвышались башенки в виде перечницы и которые, вероятно,
исчезли совершенно, благодаря городским властям, слишком
приверженным к прямой линии и широким путям.
Он был сын г-на Бодлера, старого друга Кондорсе и Каба-
ниса, человека выдающегося, образованного и сохранившего
ту обходительность XVHI века, которой не уничтожили совер-
шенно, как это думают, претенциозно-грубые нравы республи-
канской эпохи. Это свойство перешло и к поэту, который все-
гда сохранял самую изысканную вежливость.
В ранние годы Бодлер не был чудо-ребенком, пожинающим
школьные лавры. Он даже с трудом сдал экзамен на бакалавра
и был принят почти из милости. Г-н Бодлер умер, и его жена,
мать Шарля, вышла за генерала Опика, бывшего позднее по-
сланником в Константинополе. В семье не замедлили возник-
нуть неудовольствия по поводу рано проявившегося у Бодлера
призвания к литературе.
Эти родительские страхи при проявлении у сына зловеще-
го поэтического дара — увы! — очень законны, и напрасно, по
нашему мнению, биографы поэтов упрекают отцов и матерей
в недомыслии и прозаичности. На какое печальное, неопреде-
ленное и жалкое существование — не говоря уже о денежных
затруднениях — обрекает себя тот, кто вступает на тернистый
путь, который зовется литературной карьерой.
С этого дня он может считать себя вычеркнутым из числа
людей: всякая деятельность для него прекращается; он более
301
не живет, он только — наблюдатель жизни. Всякое ощущение
влечет его к анализу. Непроизвольно он раздваивается и, за не-
достатком другого объекта, делается собственным шпионом.
Если нет трупа, он сам растянется на черной мраморной пли-
те и каким-то чудом, нередким в литературе, вонзит скальпель
в собственное сердце. А как жестока борьба с Идеей, этим не-
уловимым Протеем, принимающим всевозможные формы,
чтобы ускользнуть, и выдающим свою тайну лишь тогда, когда
его принудят силой показаться в своем истинном виде!
Овладев Идеей, как овладевают врагом, растерянным и тре-
пещущим под коленом победителя, надо ее поднять, облечь в
сотканное для нее с таким трудом словесное одеяние, прикра-
сить его и драпировать строгими или грациозными складками.
Если борьба затягивается, то нервы раздражаются, мозг
воспламеняется, восприимчивость становится слишком тон-
кой, является невроз с его капризным беспокойством, с его
бессонницей, исполненной галлюцинациями, с его не подда-
ющимися определению страданиями, болезненными прихотя-
ми, фантастическими извращениями, с его безумной энергией
и нервными прострациями, с его стремлением к возбуждаю-
щим средствам и отвращением от всякой здоровой пищи. Я не
сгущаю красок многие смерти подтверждают истинность мо-
их слов!
Я имею в виду только талантливых поэтов, познавших сла-
ву и умершйх, по крайней мере, на лоне своего Идеала. А что
было бы, если бы мы спустились в те загробные миры, где
блуждают, среди теней младенцев, мертворожденные призва-
ния, бесплодные порывы, личинки идей, не нашедших ни
крыльев, ни форм, ибо желание еще не власть, любовь не об-
ладание. Веры недостаточно, нужна благодать. В литературе,
как и в теологии, дела без милосердия — ничто! Родители и
не подозревают всего ада терзаний; чтоб его познать как сле-
дует, надо самому спуститься по его кругам в сопровождении
не Виргилия или Данте, а какого-нибудь Лусто, Люсьена де
Рюбампре или кого-нибудь из журналистов Бальзака; но все-
таки они инстинктивно предчувствуют опасности и страда-
ния, свойственные жизни артиста или литератора, и старают-
ся спасти от нее своих детей, которых любят и которым жела-
ют положения, счастливого в общечеловеческом смысле.
Только раз с тех пор, как земля вращается вокруг солнца,
нашлись родители, горячо желавшие иметь сына для того, что-
302
бы посвятить его поэзии. Сообразно с этим намерением ре-
бенку дали самое блестящее литературное образование — и, по
жестокой иронии судьбы, из него вышел Шапелен, автор “Дев-
ственницы’’. Надо сознаться, что дело не выгорело!..
Бодлера отправили путешествовать, чтобы дать другое на-
правление его мыслям, в которых он упорствовал. Его отпра-
вили очень далеко. Порученный капитану корабля, он объехал
морем Индию, видел острова Маврикия, Бурбон, Мадагаскар,
может быть, Цейлон, некоторые места в устьях Ганга и все-та-
ки не отказался от своего намерения стать поэтом. Ъцетно ста-
рались заинтересовать его торговлей, — сбыт товаров не зани-
мал его; торговля быками для доставления бифштексов англи-
чанам в Индии не прельщала его, и из всего длинного путеше-
ствия он вынес только ослепление пышностью, которое и со-
хранил на всю жизнь. Его пленяло небо, на котором блистают
созвездия, неизвестные в Европе; великолепные исполинские
растения со всепроникающим ароматом, прекрасные причуд-
ливые пагоды, смуглые фигуры, задрапированные в белые тка-
ни, — вся эта экзотическая природа, такая знойная, мощная и
яркая; в своих стихах он часто вновь и вновь возвращается от
туманов и слякоти Парижа к этим странам лазури, света и аро-
матов. В его самых мрачных произведениях будто открывает-
ся окно, через которое, вместо черных труб и дымных крыш,
глядит на вас синее море Индии или какой-нибудь золотой бе-
рег, где легкой поступью проходит стройная фигура полунагой
жительницы Малабара, несущая на голове глиняный кувшин.
Не желая вторгаться в личную жизнь поэта, мы все-таки позво-
лим себе выразить предположение, что именно во время этого
путешествия он создал себе культ черной Венеры, которому и
остался верен всю жизнь.
Когда он вернулся из этих дальних странствований, насту-
пило как раз его совершеннолетие. Не было больше никаких
оснований (даже не возникало и денежных затруднений — он
был богат, по крайней мере на некоторое время) противиться
призванию Бодлера. Призвание это только окрепло в борьбе с
препятствиями, и ничто не могло теперь отклонить поэта от
его цели. Поселившись в маленькой холостой квартире под
крышей того самого отеля Пимодан, где мы с ним встретились
позднее, как сказано выше, он начал вести ту жизнь, полную
беспрестанно прерываемой и возобновляемой работы, бес-
плодного изучения и плодотворной лени, ту жизнь, какую ве-
303
дет каждый писатель, ищущий свой собственный путь. Бодлер
нашел его скоро. Он открыл не по сю, а по ту сторону роман-
тизма неисследованную землю, нечто в роде дикой и грубой
Камчатки, и на самой крайней точке ее построил себе, как го-
ворит признававший его Сент-Бев, беседку или — скорее —
юрту причудливой архитектуры.
Тогда были уже написаны многие из тех произведений, ко-
торые находятся в “Цветах зла”. Бодлер, как все прирожденные
поэты, с самого начала овладел формой и создал свой собст-
венный стиль, которому он позднее придал еще большую вы-
разительность и отделку, но все б том же направлении.
Бодлеру часто ставят в упрек умышленную вычурность и
чрезмерную оригинальность, которой он стремится достиг-
нуть во что бы то ни стало, особенно же так называемый “ма-
ньахизм”. На этом пункте следует остановиться. Есть люди, ко-
торые вычурны от природы. У них простота была бы, наобо-
рот, афектацией. Им пришлось бы приложить много стараний
и много работать над собой для того, чтобы сделаться просты-
ми. Извилины их мозга расположены таким образом, что идеи
как бы изгибаются, запутываются и закручиваются в спираль,
вместо того чтобы следовать прямой линии. Первыми у них
являются идеи самые сложные, самые утонченные и самые на-
пряженные. Они видят вещи под странным углом зрения, из-
меняющим их вид и перспективу. Из всех образов их преиму-
щественно поражают образы наиболее причудливые, необыч-
ные, наиболее фантастично-далекие от данного предмета, и
они умеют вплетать их в основу таинственной нитью, тотчас
же распутывающейся.
Таков был ум Бодлера — и там, где критики хотели видеть
работу, усилие, преувеличение или искусственный пароксизм,
там имело место только вполне свободное проявление лично-
сти. Его стихи, благоухающие, как изысканные и редкие духи в
прекрасно-огранненых флаконах, давались ему не труднее,
чем другому какое-нибудь общее место, дурно рифмованное.
Бодлер, воздавая великим учителям прошлого дань удивле-
ния, которую они заслужили с исторической точки зрения, не
брал их за образцы для подражания: им посчастливилось
явиться в период юности мира, так сказать на заре человечест-
ва, когда еще ничто не нашло себе изображения, и всякая фор-
ма, всякий образ, всякое чувство имели прелесть девственной
новизны. Великие общие места, лежащие в основе человечсс-
304
кой мысли, были тогда в полном своем расцвете и удовлетво-
ряли наивных гениев, говоривших с народами, не вышедшими
из детства. Но, благодаря повторениям, эти общие поэтичес-
кие темы поистерлись, как монета от долгого обращения. Кро-
ме того, жизнь сделалась сложнее, обогатилась сведениями и
идеями и не укладывается более в этих искусственных сочета-
ниях доброго старого времени.
Насколько обворожительна настоящая невинность, на-
столько раздражает и вызывает отвращение кривлянье, пред-
ставляющееся наивным. Наивность не свойственна XIX веку;
для передачи его мыслей, мечтаний, посылок нужен язык бо-
лее сложный, чем так называемый классический стиль. Лите-
ратура, подобно суткам, имеет свое утро, свой полдень, вечер и
ночь. Вместо тщетных пререканий об относительном превос-
ходстве утренней зари или сумерек следует изображать тот
именно час, который переживается, и теми красками, которые
необходимы для передачи эффектов именно этого часа. Разве
у заката не может быть своей собственной красоты, как и у ут-
ра? Эта красноватость меди, это зеленоватое золото, эти оттен-
ки бирюзы, сливающиеся с сапфиром все эти краски, пылаю-
щие и разрешающиеся в большой общий пожар, эти облака
странных и чудовищных форм, пронзенные лучами света и ка-
жущиеся гигантскими развалинами воздушного Вавилона, —
разве в них меньше поэзии, чем в розоперстой Авроре, кото-
рою мы восхищаемся?.. Но давно уже пролетели Часы, предва-
рявшие колесницу Дня на плафоне Гвидо!..
Поэт “Цветов зла” любил то, что ошибочно называется сти-
лем декаданса и есть не что иное, как искусство, достигшее той
степени крайней зрелости, которая находит свое выражение в
косых лучах заката дряхлеющих цивилизаций: стиль изобре-
тательный, сложный, искусственный, полный изысканных от-
тенков, раздвигающий границы языка, пользующийся всевоз-
можными техническими терминами, заимствующий краски со
всех палитр, звуки со всех клавиатур, усиливающийся передать
мысль в самых ее неуловимых оттенках, а формы — в самых
неуловимых очертаниях; он чутко внимает тончайшим откро-
вениям невроза, признаниям стареющей и извращенной стра-
сти, причудливым галлюцинациям навязчивой идеи, перехо-
дящей в безумие. Этот “стиль декаданса” — последнее слово
языка, которому дано все выразить и которое доходит до край-
ности преувеличения. Он напоминает уже тронутый разложе-
305
нием язык Римской империи и сложную утонченность визан-
тийской школы, последней формы греческого искусства, впав-
шего в расплывчатость. Таким бывает необходимо и фатально
язык народов и цивилизаций, когда искусственная жизнь заме-
няет жизнь естественную и развивает у человечества неизвест-
ные до тех пор подробности.
Кроме того, этот слог, презираемый педантами, далеко не
легкая вещь: он выражает новые идеи в новых формах и сло-
вах, которых раньше не слыхивали. В противоположность
“классическому стилю” он допускает неясности, и в тени этих
неясностей движутся зародыши суеверия, угрюмые призраки
бессонницы, ночные страхи, угрызения совести, вздрагиваю-
щей и озирающейся при малейшем шорохе, чудовищные меч-
ты, которые останавливаются только перед собственным бес-
силием, мрачные фантазии, которые способны изумить весь
мир, и все, что скрывается самого темного, бесформенного и
неопределенно-ужасающего в самых глубоких и самых низких
тайниках души.
Понятно, что 1400 коренных слов языка не удовлетворяют
автора, который взял на себя тяжелую задачу изобразить со-
временные идеи и вещи в их бесконечной сложности и мно-
гообразной окраске. Таким образом Бодлер, который, несмот-
ря на малые успехи при экзамене на бакалавра, был хорошим
латинистом, наверное, предпочитал Виргилию и Цицерону
Апулея, Петрония, Ювенала, бл. Августина и Тертуллиана, слог
которого имел мрачный блеск черного дерева. Бодлер дохо-
дил даже до церковной латыни, той прозы и тех гимнов, в ко-
торых рифмы воспроизводят забытый античный ритм. Он на-
писал под заглавием “Franciscae meae Laudes” к “ученой и бла-
гочестивой модистке” (как гласит посвящение) латинские
стихи, рифмованные в той форме, которую Бризе называет
тройственной, — состоящей из трех рифм, которые следуют
одна за другой, вместо того чтобы переплетаться, как в Данто-
вой терцине. К этому странному стихотворению присоедине-
но не менее странное примечание, которое я привожу здесь;
оно объясняет и подкрепляет только что сказанное мною о
стиле языка декаданса.
“Не кажется ли читателю вместе со мной, что язык послед-
него времени латинского декаданса — последний вздох силь-
ного человека, уже созревшего и подготовленного к духовной
жизни,— удивительно удобен для выражения страсти, как ее
306
понимает и чувствует современный поэтический мир? Мисти-
цизм — это полюс магнита, противоположный тому полюсу
чувственности, который исключительно знал Катулл и его по-
следователи, поэты грубые и животно-чувственные.
Этот удивительный язык своими солецизмами и варвариз-
мами передает, как мне кажется, доведенную до чрезмерности
распущенность страсти в ее самозабвении и пренебрежении
правилами. Слова, взятые в новом значении, обнаруживают
обворожительную неловкость северного варвара, преклоняю-
щего колена перед римской красотой. Даже каламбур, пройдя
через это педантическое заикание, как бы приобретает дикую
грацию и детскую неправильность”.
Не следует заходить слишком далеко. И Бодлер, если ему не
надо выразить какого-нибудь удивительного отклонения, ка-
кой-нибудь неизвестной стороны души или вещи, выражается
языком чистым, ясным, правильным и настолько точным, что
самые строгие судьи ни в чем его не упрекают. Это особенно
заметно в его прозе, когда он говорит о предметах более обык-
новенных и менее отвлеченных, чем в своих стихах, почти
всегда полных крайней концентрации.
Что касается философских и эстетических теорий Бодлера,
то он примыкает к доктрине Э. По, которого, однако, в то вре-
мя он еще не переводил, но с которым у него была поразитель-
ная конгениальность. К нему применимы его собственные сло-
ва об американском авторе в предисловии к “Необычайным
рассказам”: “Он считал прогресс, великую современную идею,
за экстаз легковерных и называл усовершенствования челове-
чества рубцами и прямолинейными мерзостями. Он верил в
неизменное, в вечное, в self-same и обладал — о! жестокое пре-
имущество — среди самовлюбленного общества тем великим
Здравым смыслом Макиавелли, который, подобно огненному
столбу, шествует перед мудрецом в пустыне истории”.
Бодлер чувствовал непреодолимый ужас перед филантро-
пами, прогрессистами, утилитаристами, гуманистами, утопис-
тами и всеми, кто тщится что-нибудь изменить в неизменной
природе и в роковом устройстве общества. Он не мечтал об уп-
разднении ада или гильотины для большего удобства грешни-
ков и убийц; он не думал, что человек роэвден добрым, и допу-
скал первородный грех как элемент, который всегда найдется
в глубине самых чистых душ, т.е. ту греховность, которая, как
дурной советчик, всегда натолкнет человека на то, что для не-
307
го гибельно — и именно потому, что это гибельно, из одного
удовольствия воспротивиться закону, ради одной прелести ос-
лушания, помимо всякой чувственности и соблазна. Такую гре-
ховность он констатировал и бичевал и в других и в себе, как
застигнутого на месте преступления раба, но воздерживался от
всякого проповедничества, считая эту греховность неизлечи-
мой в силу вечного проклятия.
Напрасно близорукие критики обвиняли Бодлера в без-
нравственности. Эта очень удобная для завистливой посредст-
венности тема обвинения всегда радостно подхватывается фа-
рисеями, людьми в роде Ж. Прюдома. Никто не питал более
высокомерного отвращения к духовной низости и телесному
безобразию, чем Бодлер. Он ненавидел зло как отклонение от
математической правильности, от нормы, и в качестве безу-
пречного джентльмена презирал его как неприличное, смеш-
ное, мещанское и, главное, неопрятное. Если он часто касался
предметов безобразных, отвратительных и болезненных, то
это объясняется теми чарами, которые заставляют замагнити-
зированную птицу спускаться к нечистой пасти змеи. Но часто
сильным взмахом крыла он разрушает эти чары и вновь под-
нимается в самые лазурные области чистого духа. Он мог бы
вырезать девизом на своей печати слова: “Сплин и Идеал”, ко-
торые служат заглавием 1-й части тома его стихов. Если его бу-
кет составлен из странных цветов с металлическим оттенком,
с головокружительным запахом, — венчик которых, вместо ро-
сы, содержит едкие слезы или капли aqua toffana, — он может
ответить, что иные цветы и не растут на черной и насыщенной
гниющими веществами почве, какова почва кладбища сгарче-
ски-хилых цивилизаций, где среди вредных миазмов разлага-
ются трупы прошлых веков; без сомнения, незабудки, розы,
маргаритки, фиалки — все это приятные весенние цветы, но
их не встретишь на грязной мостовой большого города.
Кроме того, раз Бодлер постиг грандиозность тропическо-
го пейзажа с его вздымающимися, как грезы, гигантскими де-
ревьями необычайной красоты, его мало трогали жалкие
сельские пейзажики городских окрестностей, и он не прихо-
дил в восторг, подобно Гейневским филистерам, от романти-
ческого расцвета новой зелени и не лишался чувств от чири-
канья воробьев. Он любит следовать по всем закоулкам Пари-
жа, этого громадного полипа, за бледным человеком, иска-
женным, изнывающим в судорогах искусственных страстей и
308
реальной современной скуки, любит захватить его врасплох
в его тревоге, страхах, бедствиях, падениях, в его неврозе и
отчаянии. Он наблюдает, как копошатся, подобно кольцам га-
дюки под разгребенным мусором, зарождающиеся дурные
инстинкты, низкие привычки, лениво погрязшие в тине, в
грязи, и при этом зрелище, которое и привлекает его внима-
ние и внушает ему отвращение, им овладевает неисцелимая
меланхолия; он не считает себя лучше других и страдает, ви-
дя, как чистый свод небес и целомудренные звезды окутыва-
ются нечистыми испарениями.
Понятно, что с подобными идеями Бодлер стоял за безус-
ловную свободу искусства, он не допускал для поэзии иной це-
ли, кроме поэзии, иной миссии, кроме пробуждения в душе чи-
тателя ощущений прекрасного в безусловном смысле этого
слова. К этому ощущению в наше далеко не наивное время он
считал необходимым прибавить некоторые эффекты неожи-
данности, удивления, изысканности. Насколько возможно, он
изгонял из поэзии риторику, страсти и рабски-точное воспро-
изведение действительности. Подобно тому как не следует
употреблять в ваянии куски только что вылепленные, так и он
хотел, чтобы всякий предмет, прежде чем войти в сферу искус-
ства, испытал бы превращение, которое соединило бы его с
тонкой средой, идеализируя и удаляя от тривиальной действи-
тельности. Эти принципы могут поразить при чтении некото-
рых стихов Бодлера, в которых ужасное кажется желанным; не
следует заблуждаться: это ужасное всегда — и в своей сущнос-
ти и в своем проявлении — преобразовано лучом в духе Ремб-
рандта или чертой величия в духе Веласкеса, обнаруживающей
породу под отвратительным безобразием. Смешивая в своем
котле все фантастически-странные и кабалистически-ядови-
тые составные части, Бодлер может сказать вместе с ведьмами
Макбета: “Прекрасное — ужасно, ужасное — прекрасно!” Это
преднамеренное безобразие не противоречит высшей цели
искусства, и стихи, подобные “Семи старикам” или “Старуш-
кам”, заставили св. Иоанна поэзии, грезящего на Патмосе-
Гернсей, сделать следующую характеристику автора “Цветов
зла”: “Вы обогатили небо искусства каким-то мертвящим лу-
чом; вы создали новый вид ужаса”. Но это только так сказать,
тень таланта Бодлера, та огненно-рыжая или холодно-синева-
тая тень, которая служит ему для оттенения основной яркой
манеры изображения. Этому таланту — с виду неровному, ли-
309
хорадочному и мучительному — присуща чистая ясность. На
горных вершинах он спокоен: Pacem summa tenent.
Но, вместо того чтобы излагать эти идеи автора, гораздо про-
ще предоставить ему говорить самому за себя:
“Если только захотеть углубиться в себя, вопрошать свою
душу, вызывать воспоминания своих восторгов, то у поэзии нс
будет иной цели, кроме самой поэзии; она не может иметь дру-
гой цели, и никакая поэма не будет столь возвышенна, столь
благородна, столь поистине достойна названия поэмы, как та,
которая будет написана единственно из удовольствия напи-
сать поэму. Я не могу сказать, что поэзия не облагораживает
нравы (пусть меня хорошенько поймут), что ее конечный ре-
зультат не состоит в возвышении человека над интересами
толпы. Это было бы очевидною нелепостью. Я говорю, что по-
эт, преследуя моральную цель, уменьшает поэтическую силу, и
без риска можно утверждать, что произведение его будет дур-
но. Поэзия не может под страхом смерти или падения ассими-
лироваться с наукой или моралью. Предметом ее должна быть
она сама, а не истина. Истина доказывается иными способами
и в ином месте. У истины нет ничего общего с песнями; все,
что составляет очарование, неотразимую прелесть песни,—
все это только лишило бы истину власти и могущества. Холод-
ный, спокойный, бесстрастный дух доказательства пугает Музу
с ее алмазами и цветами: ведь он — безусловная противопо-
ложность Духу поэзии. Чистый разум стремится к Истине, эсте-
тический вкус ищет Красоты, а моральное нравственное чувст-
во научает нас Долгу. Правда, чувство золотой середины имеет
близкое соприкосновение с двумя крайностями и так мало
разнится от морального нравственного чувства, что Аристо-
тель не поколебался занести в разряд добродетелей некоторые
из его тонких проявлений. Итак, что особенно возмущает че-
ловека с развитым вкусом в зрелище порока, так это его безо-
бразие, дисгармоничность. Порок покушается на справедли-
вость и истину, возмущает разум и совесть; но, как нарушение
гармонии, как дисонанс, он особенно оскорбляет поэтичные
души, и я считаю уместным смотреть на всякое нарушение мо-
рали — моральной красоты — как на преступление против ми-
рового ритма, мировой просодии.
“Этот дивный, этот бессмертный инстинкт прекрасного за-
ставляет нас видеть в земле и ее зрелищах только намек, отра-
жение соответствий небесному. Неутолимая жаэеда всего, что
310
по ту сторону, что скрыта за жизнью,— самое яркое доказатель-
ство нашего бессмертия. Красоту и величие, скрытые за моги-
лой, душа провидит в поэзии и через поэзию, в музыке и через
музыку. И когда чудная поэма вызывает слезы на наши глаза, то
слезы эти льются не от избытка наслаждения, они скорее сви-
детельствуют о проснувшейся грусти, об одухотворении нер-
вов, о природе, страждущей в несовершенстве, которая стре-
мится сейчас же, здесь же, на могиле, овладеть открывшимся
для нее раем.
“Итак, начало, принцип поэзии, говоря кратко и просто,—
стремление человека к высшей Красоте, а проявление этого
начала — в энтузиазме, в возвышенном состоянии души, энту-
зиазме, свободном от страсти, опьяняющей сердце, и от исти-
ны, питающей разум. Ведь страсть — вещь земная, даже слиш-
ком земная, чтоб не ввести режущего, фальшивого звука в цар-
ство красоты; слишком обыденная и слишком резкая, чтобы не
оскорбить чистые желания, нежную грусть и благородное от-
чаяние в надземных областях поэзии”.
Хотя мало найдется поэтов, более блещущих оригинально-
стью непроизвольных вдохновений, чем Бодлер, все-таки он
утверждает — вероятно, из отвращения к ложному лиризму,
притворяющемуся, что верит в сошествие огненных языков на
писателя, но с трудом рифмующего строфу,— что истинный
творец вызывает, направляет и изменяет по своей воле эту та-
инственную способность литературного творчества; в предис-
ловии к переводу знаменитой поэмы Эдгара По, озаглавлен-
ной “Ворон”, мы находим следующие строки — полуирониче-
ские, полусерьезные, где собственная мысль Бодлера форму-
лируется под видом анализа мысли американского писателя.
“Говорят, поэтика составляется по образцам поэм. Вот поэт,
который утверждал, что его поэма была составлена по прави-
лам поэтики. Конечно, он был великим гением и более вдохно-
венным, чем кто-либо, если под вдохновением разумеет энер-
гию, интеллектуальный энтузиазм и власть держать свои спо-
собности в напряженном состоянии. Но он также любил рабо-
тать более чем кто-либо другой; он любил повторять — он, ав-
тор безупречной оригинальности, — что оригинальности надо
учиться; но это, конечно, не значит, чтобы можно было пере-
дать оригинальность путем обучения. Случай и непонятное —
два великих врага. Отдавался ли он вдохновению из какого-то
странного и забавного тщеславия, гораздо менее чем ему было
311
свойственно по природе? Одерживал ли свой природный дар,
чтобы уступить лучшую часть воле? Я склонен так думать; хотя,
впрочем, не следует забывать, что гений его, при всей своей
пылкости и живости, был страстно предан анализу, комбини-
рованию и расчету. Одной из его любимых аксиом было: "В
поэме, как и в романе, в сонете, как и в новелле — все должно
клониться к развязке. Хороший автор видит уже последнюю
строчку, когда только пишет первую”. Благодаря такому удиви-
тельному методу автор может начать свое произведение с кон-
ца и работать, когда ему вздумается и над какой угодно частью.
Поклонники творчества иступления, может быть, будут возму-
щены такими циничными правилами; но всякий может посту-
пать по своему вкусу. Всегда полезно показать, какую выгоду
искусство может извлечь из сознательности, и дать понять
светским людям, какого труда требует тот предмет роскоши,
который зовется поэзией. В конце концов, гению всегда разре-
шается маленькая примесь шарлатанства, что даже идет к нему.
Это подобно румянам на щеках от природы прекрасной жен-
щины, новая прикраса для духа”.
Эта последняя фраза характерна и выдает особенную склон-
ность поэта к искусственности. Он, впрочем, и не скрывал этой
склонности. Ему нравилась эта сложная и иногда деланная кра-
сота, которая вырабатывается у цивилизаций очень развитых и
очень испорченных. Чтобы выразить свою мысль образно, ска-
жем, что он предпочел бы наивной молодой девушке, вся косме-
тика которой заключается в чистой воде, женщину более зре-
лую, употребляющую все средства изощренного кокетства пе-
ред туалетом, уставленным всякими эссенциями и щипчиками.
Глубокий аромат кожи, пропитанной благовониями, подобно
коже Эсфири, которую погружали шесть месяцев в пальмовое
масло и шесть месяцев в кинамон, прежде чем представить ее
царю Артаксерксу, оказывал на него опьяняющее действие. Лег-
кий слой румян китайской розы или гортензии на свежей щеке,
мушки, вызывающе налепленные в углах губ или глаз, подрисо-
ванные веки, окрашенные в рыжий цвет и посыпанные золотом
волосы, губы и кончики пальцев, оживленные кармином,— все
это нравилось ему. Он любил это ретуширование природы ис-
кусством, благодаря которому опытная рука делает заметнее
прелесть, очарование и характер физиономии. Он во всяком
случае не разразился бы добродетельными тирадами против
косметики и кринолина. Все, удалявшее мужчину, а особенно
312
женщину от природного состояния, казалось ему счастливым
изобретением. Такие мало применимые вкусы сами объясняют-
ся и понятны у поэта декаданса, автора “Цветов зла”. Мы никого
не удивим, если прибавим, что простому запаху розы или фиал-
ки он предпочитал бензой, амбру и даже мускус, презираемый в
наше время, а также аромат некоторых экзотических цветов, ко-
торый слишком силен для наших умеренных стран. Относи-
тельно запахов у Бодлера была такая удивительно изощренная
впечатлительность, какая встречается только у жителей Востока.
Он с наслаждением проходил всю гамму благоуханий и мог с
полным правом применить к себе фразу, цитируемую Банвилем,
которая приведена в начале статьи при описании поэта:
“Моя душа порхает в волнах благовоний подобно тому, как
душа других парит в музыке”.
Он любил также туалеты изысканно-элегантные, капризно-
роскошные, дерзко-фантастичные, в которых было что-то на-
поминающее актрису или куртизанку: хотя сам он одевался
всегда со строгой простотой, но вкус ко всему преувеличенно-
му, кричащему, противоестественному, почти всегда противо-
положный классически-прекрасному, был для него признаком
человеческой воли, исправляющей по-своему формы и цвета,
присущие материи. Там, где философ находит только предлог
для декламации, он видел доказательства величия. Извраще-
ние, т. е. удаление от нормального типа, невозможно для жи-
вотного, неизбежно руководимого неизменным инстинктом.
На том основании поэты вдохновения, творящие бессозна-
тельно и безвольно, внушали ему некоторое отвращение, и он
хотел, чтобы в самой оригинальности имело место искусство и
работа.
Бодлер был натурой тонкой, сложной, резонирующей, пара-
доксальной и более склонной к философствованию, чем обык-
новенно бывают поэты. Эстетика творчества очень его занима-
ла: он был полон систем, которые пытался осуществить, и все,
что он делал, было подчинено плану. По его мнению, литерату-
ра должна быть намеренной, и доля случайного в ней должна
быть доведена до возможного минимума. Это не мешало ему,
как истинному поэту, пользоваться счастливыми случайностями
возникающими в процессе творчества и теми красотами, кото-
рые неожиданно распускаются из глубины самой темы, подоб-
но цветам, случайно попавшим в семена сеятеля. Каждый ху-
дожник до некоторой степени подобен Лопе де Вега, который в
313
момент сочинения своих комедий всякие правила запирал на
шесть замков — con seis Haves.
В пылу работы, произвольно или нет, он забывает все сис-
темы и парадоксы.
Слава Бодлера, в течение нескольких лет не выходившая за
пределы небольшого кружка, центром которого всегда стано-
вится нарождающийся гений, вдруг прогремела, когда он явил-
ся перед публикой с букетом “Цветов зла”, букетом, не имею-
щим ничего общего с невинными поэтическими пучками на-
чинающих Цензура взволновалась, и несколько стихотворе-
ний, бессмертных по своей мудрости, которая так глубока, так
скрыта под искусственными формами и покровами, что для
понимания этих произведений читателям необходимо было
высокое литературное образование, были изъяты из сборника
и заменены другими, менее опасными по своей исключитель-
ности. Обыкновенно сборники стихов не производят много
шума; они появляются на свет, прозябают втихомолку, так что
самое большее двух-трех поэтов достаточно для нашего умст-
венного потребления. Вокруг Бодлера сейчас же возник шум и
блеск, а когда волнение утихло, то признали, что он дал — что
очень редко — произведение оригинальное, обладающее со-
вершенно особенной прелестью. Вызвать новые, еще неизве-
данные ощущения — величайшее счастье, которое может вы-
пасть писателю, а особенно поэту.
“Цветы зла” — одно из тех счастливых названий, которые
найти бывает труднее, чем обыкновенно думают. Оно резюми-
рует в краткой и поэтичной форме общую идею книги и ука-
зывает ее направление. Хотя очевидно, что и по намерению, и
по исполнению Бодлера надо отнести к романтической школе,
но у него нет ясно выраженной связи ни с одним из великих
учителей этой школы. Его стих, утонченной и искусной конст-
рукции и иногда слишком сжатый, охватывающий предмет
скорее как панцирь, чем как одежда, представляет при первом
чтении некоторые затруднения и неясности. Это зависит не от
недостатков автора, но от того, что самые предметы, о которых
он говорит, так новы, что еще никогда раньше не были переда-
ны литературными средствами. Поэтому пришлось создавать
язык, ритм и палитру. Но он не мог помешать тому удивлению,
которое должны были вызвать у читателя стихи, настолько не-
похожие на все писавшиеся раньше. Для изображения этой
ужасающей его извращенности он сумел найти болезненно-
314
богатые оттенки испорченности, зашедшей более или менее
далеко, эти тоны перламутра и ржавчины, которые затягивают
стоячие воды, румянец чахотки, белизну бледной немочи, жел-
тизну разлившейся желчи, свинцово-серый цвет зачумленных
туманов, ядовитую зелень металлических соединений, пахну-
щих, как мышьяковисто-медная соль, черный дым, стелющий-
ся в дождливый день по штукатурке стен,— весь этот адский
фон, как бы нарочно созданный для появления на нем какой-
нибудь истомленной, подобной привидению, головы, и всю
эту гамму исступленных красок, доведенных до последней сте-
пени напряжения, соответствующих осени, закату солнца, по-
следнему моменту зрелости плода, последнему часу цивилиза-
ций. Книга открывается обращением к читателю, которому ав-
тор, вместо того чтобы ублажать его, как это обыкновенно де-
лается, говорит самые жестокие истины, обвиняя его, несмот-
ря на его лицемерие, во всех пороках, которые он порицает в
других, обличает его в том, что он питает в своем сердце вели-
чайшее чудовище современности — Скуку, при всей своей ме-
щанской пошлости плоско грезящую о римских жестокостях и
разврате, обличает в чиновнике — Нерона, в лавочнике — Ге-
лиогабала.
Другое стихотворение величайшей красоты, названное без
сомнения в силу иронической противоположности “Благосло-
вением”, изображает появление в мире поэта предмета изум-
ления и отвращения для собственной матери, стыдящейся пло-
да своих недр: поэта, преследуемого глупостью, завистью и яз-
вительными насмешками, жертву вероломной жестокости ка-
кой-нибудь Далилы, с радостью предающей филистимлянам
его, обнаженного, обезоруженного, обритого, предварительно
истощив над ним весь запас утонченно-жестокого кокетства,
поэта приходящего, наконец, после оскорблений, несчастий,
мук, очищенным крестными страданиями к вечной славе, к
светлому венцу, предназначенному на чело мучеников, стра-
давших за Истину и Красоту.
Следующее за этим маленькое стихотворение, озаглавлен-
ное “Солнце”, заключает что-то в роде безмолвного оправда-
ния поэта в его бесцельных странствованиях. Веселый луч бле-
стит над грязным городом, автор выходит из дому и, примани-
вая, как поэт, свои стихи на дудочку — пользуясь живописным
выражением старого Матюрена Ренье,— бродит по отврати-
тельным переулкам, по улицам, в которых закрытые ставни
315
скрывают, подчеркивая их, тайны сладострастия, по всему это-
му лабиринту мрачных, сырых и грязных старых улиц с кри-
выми, зараженными домами, в которых там и сям вдруг на как-
ом-нибудь окошке блеснет цветок или головка девушки. Поэт,
подобно солнцу, входит всюду: в больницу и во дворец, в при-
тон и в церковь, всегда чистый, всегда лучезарный, всегда бо-
жественный, безразлично проливая свой золотой блеск на па-
даль и на розу.
В “Паринии” поэт является нам плавающим в небесах, в
надзвездных сферах, в светозарном эфире на границах нашей
вселенной, исчезающий в глубине бесконечного, как малень-
кое облачко; он упивается этим разреженным и целительным
воздухом, до которого не подымаются миазмы земли и кото-
рый благоухает дыханием ангелов: не надо забывать, что
Бодлер, несмотря на частые обвинения его в материализме —
упрек, который глупость никогда не преминет бросить талан-
ту,— напротив, одарен был в высокой степени даром спириту-
альности, как сказал бы Сведенборг. Он обладал также и даром
“соответствования” (correspondance), если держаться того же
мистического языка, т.е. умел открыть тайной интуицией от-
ношения, невидимые для других, и таким образом сблизить
неожиданными аналогиями, которые может уловить только яс-
новидящий, предметы, на поверхностный взгляд самые дале-
кие и самые-противоположные. Всякий истинный поэт одарен
в большей или меньшей степени этим качеством, составляю-
щим самую сущность его искусства.
Без сомнения, Бодлер в эту книгу, посвященную изображе-
нию современной испорченности и развращенности, занес
много отвратительных картин, в которых обнаженный порок
валяется в грязи во всем безобразии своего позора: но поэт с
величайшим отвращением, с презрительным негодованием и
с возвратом к Идеалу, чего часто не бывает у сатириков, стиг-
матизирует и неизгладимо клеймит каленым железом все эти
нездоровые тела, натертые мазями и свинцовыми белилами.
Нигде жажда девственного и чистого воздуха, непорочной бе-
лизны снегов Гималаев, безоблачной лазури, неугасаемого све-
та не проявляется с большим пылом, чем в этих произведени-
ях, заклейменных безнравственными, как будто бичевание по-
рока есть сам порок и как будто сам делается отравителем тот,
кто опишет аптеку ядов дома Борджиа.
Этот способ не нов, но он всегда удавался, и некоторые лю-
316
ди делают вид, что верят, будто нельзя читать “Цветов зла” без
стеклянной маски, какую носил Экзили, когда работал над сво-
им знаменитым порошком наследственности. Я часто читал
стихи Бодлера — и не упал замертво с искривленным лицом, с
телом, покрытым черными пятнами, как будто после ужина с
Ваноццой в винограднице папы Александра VI. Все эти неле-
пости, к несчастью вредные, потому что все глупцы принима-
ют их с восторгом, заставляют художника, достойного этого
имени, пожимать плечами от удивления, когда ему сообщают,
что синее нравственно, а красное неприлично. Это почти то
же самое, что сказать, что картофель добродетелен, а белена
преступна.
Прелестное стихотворение о запахах разделяет их на клас-
сы, возбуждающие различные идеи, ощущения и воспомина-
ния. Бывают запахи свежие, как тело ребенка, зеленые, как лу-
га весной, бывают напоминающие розовую зарю и несущие с
собой невинные мысли. Другие — подобные мускусу, амбре,
бензою, нарду, ладану — великолепны, торжественны, светски,
вызывают мысли о кокетстве, любви, роскоши, празднествах и
блеске. Если их перенести в сферу цветов, они соответствуют
золоту и пурпуру.
Поэт часто возвращается к этой мысли о значении запахов.
Около дикой красавицы, капской синьоры или индийской ба-
ядерки, затерявшейся в Париже, имевшей, кажется, своей ми-
ссией усыпить его тоскливый сплин, он говорит о том смешан-
ном запахе “мускуса и гаваны”, который переносит его душу к
берегам, любимым солнцем, где в теплом синем воздухе выри-
совываются веером листья пальм, где мачты кораблей покачи-
ваются от гармонической морской зыби, а молчаливые не-
вольники стараются отвлечь молодого господина от его томи-
тельной меланхолии.
Далее, спрашивая себя, что останется от его произведений,
он сравнивает себя со старым закупоренным флаконом, забы-
тым среди паутины, в каком-нибудь шкапу, в пустом доме. Из
открытого шкапа вырываются вместе с затхлостью прошлого
слабый запах платьев, кружев, пудрениц, который воскрешает
воспоминания о минувшей любви, о былом изяществе: и если
случайно открою липкий и прогорклый флакончик, оттуда вы-
рвется едкий запах английской соли и уксуса четырех разбой-
ников, могучее противоядие современной заразе. Много раз
вновь появляется этот интерес к благоуханиям, как тонкое об-
317
лачко окружающим существа и предметы. У очень немногих
поэтов найдем мы эту заботливость: они обыкновенно доволь-
ствуются введением в свои стихи света, красок, музыки; но
редко случается, чтоб они влили в них эту каплю ионской
эссенции, которой муза Бодлера никогда не упускает случая
смочить губку своего флакона или батист платка.
Так как мы заговорили об исключительных вкусах и ма-
леньких маниях поэта, то скажем, что он обожал кошек, подоб-
но ему влюбленных в ароматы и приводимых запахом валерь-
яны в какую-то экстатическую эпилепсию. Он любил этих оча-
ровательных животных, покойных, таинственных, мягких и
кротких, с их электрическими вздрагиваниями, с их любимой
позой сфинксов, которые, кажется, передали им свои тайны;
они бродят по дому бархатными шагами, как genii loci, или
приходят, садятся на стол около писателя, думают вместе с ним
и смотрят на него из глубины своих зрачков с золотистыми
крапинками с какой-то разумной нежностью и с таинственной
проницательностью. Они как бы угадывают мысль, спускаю-
щуюся из мозга на кончик пера и, протягивая лапку, хотят пой-
мать ее налету. Они любят тишину, порядок и спокойствие, и
самое удобное место для них — кабинет писателя. Они с уди-
вительным терпением ждут, чтоб он окончил свою работу, и
все время испускают гортанное и ритмическое мурлыканье,
точно аккомпанемент его работы. Иногда они приглаживают
языком какое-нибудь взъерошенное местечко своего меха, по-
тому что они опрятны, чистоплотны, кокетливы и не терпят
никакого беспорядка в своем туалете, но все это они делают
так скромно и покойно, как будто опасаются развлечь его или
помешать ему.
Ласки их нежны, деликатны, молчаливы, женственны и не
имеют ничего общего с шумной и грубой резкостью, свойст-
венной собакам, которым между тем выпала на долю вся сим-
патия толпы.
Все эти достоинства были оценены Бодлером, который не
раз обращался к кошкам с прекрасными стихами (в “Цветах
зла” их три), где он воспевает их физические и моральные ка-
чества; и он часто их выводит в своих сочинениях как харак-
терную подробность. Кошки изобилуют в стихах Бодлера, как
собаки на картинах Паоло Веронезе, и служат как бы его под-
писью. Надо также сказать, что у этих красивых животных,
благоразумных днем, есть другая сторона — ночная, таинсг-
318
венная, кабалистическая, которая очень пленяла поэта. Кошка,
со своими фосфорическими глазами, заменяющими ей фона-
ри, с искрами, сверкающими из ее спины, без страха бродит в
темноте, где встречает блуждающие призраки, колдуний, алхи-
миков, некромантов, вызывателей теней, любовников, мошен-
ников, убийц, серые патрули и все эти темные лавры, которые
выходят и работают только по ночам. По ее виду кажется, что
она знает самые последние новости шабаша и охотно трется о
хромую ногу Мефистофеля. Ее серенады под балконом других
кошек, ее любовные похождения по крышам, сопровождаемые
криками, подобными крикам ребенка, которого душат, прида-
ют ей достаточно сатанинский вид, оправдывающий до изве-
стной степени отвращение дневных и практических умов, для
которых тайны Эреба не имеют никакой привлекательности.
Но какой-либо доктор Фауст, в коей келье, заваленной ста-
рыми книгами и алхимическими инструментами, всегда пред-
почтет иметь товарищем кошку. Сам Бодлер был похож на
кошку — чувственный, ласковый, с мягкими приемами, с таин-
ственной походкой, полный силы при нежной гибкости, уст-
ремляющий на человека и на вещи взгляд, беспокойно светя-
щийся, свободный, властный, который трудно было выдер-
жать, но который без предательства, с верностью привязывал-
ся к тем, на кого хоть раз устремила его независимая симпатия.
Разные женские образы являются на фоне стихов Бодлера:
одни скрытые под покровами, другие полу-обнаженные, но
так, что им нельзя придать никакого имени. Это скорее типы,
чем личности. Они представляют вечноженственное начало,
и любовь, которую выражает к ним поэт, есть любовь вообще,
а не какая-нибудь одна любовь: мы видели, что в теории он не
допускал индивидуальной страсти, находя ее слишком грубой,
слишком фамильярной, слишком резкой. Одни из этих жен-
щин символизируют бессознательную и почти животную про-
ституцию, с их лицами, наштукатуренными румянами и свин-
цовыми белилами, с подрисованными глазами, накрашенны-
ми губами, подобными кровавым ранам, с шапками фальшивых
волос и украшениями с сухим и жестким блеском; другие — бо-
лее холодной, более опытной и более порочной развращен-
ности, своего рода маркизы де Мертей XIX века, перемещают
порок с тела в душу. Они высокомерны, холодны, как лед, пе-
чальны, находят удовольствие только в удовлетворении злоб-
ности, неутомимы, как бесплодие, мрачны, как скука, полны
319
истеричных и безумных фантазий и лишены, подобно Демо-
ну, способности любить.
Одаренные ужасающей красотой привидений, которую не
оживляет пурпур жизни, они идут к своей цели бледные, бесчу-
вственные, великолепно пресыщенные, по сердцам, которые
они давят своими острыми каблучками. От этой-то любви, по-
хожей на ненависть, от этих удовольствий, более гибельных,
чем сражения, поэт обращается к тому смуглому идолу с экзо-
тическим благоуханием, в дико-причудливом уборе, гибкому и
ласковому, как черная яванская пантера, который его успокаи-
вает и вознаграждает за всех этих злых парижских кошек с ос-
трыми когтями, играющих с сердцем поэта, как с мышью. Но
ни одному из этих созданий —гипсовому, мраморному или из
черного дерева — не отдает он своей души. Над этой черной
кучей зачумленных домов, над этим зараженным лабиринтом,
где кружатся призраки удовольствия, над этим отвратитель-
ным кишением нищеты, безобразия и пороков, далеко, очень
далеко, в неизменной лазури плавает обожаемый призрак Беа-
триче, его Идеал; всегда желанный, никогда недостижимый,
высшая и божественная красота, воплощенная в форме жен-
щины эфирной, одухотворенной, сотканной из света, пламе-
ни, благоухания — пар, мечта, отблеск благоуханного и сера-
фического мира, подобно Лигейе, Морелле, Уне, Элеоноре Эд-
гара По, Серафите — Серафиту Бальзака, этому удивительному
созданию. Йз глубины своих падений, заблуждений и отчая-
ний к этому небесному образу, как к Богоматери — Скоропо-
слушнице, протягивает он руки с криком, слезами и с глубоким
отвращением к самому себе. В часы любовной грусти, к ней хо-
телось бы ему бежать навсегда и сокрыть свое полное блажен-
ство в каком-нибудь таинственно-сказочном убежище или в
идеально-комфортабельном коттедже Гейнсборо, жилища
Герарда Доу или, еще лучше, в кружевном мраморном дворце
Бенереса или Гайдерабада.
Никогда он не увидит иной подруги в своих мечтах. Следу-
ет ли видеть в этой Беатриче, в этой Лауре, не означаемой ни-
каким именем, какую-нибудь девушку или молодую женщину,
действительно существовавшую, страстно и религиозно люби-
мую поэтом во время его пребывания в этом мире? Было бы
романтично предполагать это, и нам не было дано достаточно
глубоко проникнуть в интимную жизнь его сердца, чтобы отве-
чать утвердительно или отрицательно на этот вопрос. В своем
320
совершенно метафизическом разговоре Бодлер много говорит
о своих мыслях, очень мало — о чувствах и никогда — о по-
ступках. Что касается Главы о любви — он наложил в виде пе-
чати на свои тонкие и презрительные губы камею с лицом Гар-
пократа. Всего вернее было бы видеть в этой идеальной любви
только потребности души, порыв неугомонного сердца и веч-
ную тоску несовершенного, стремящегося безусловному.
В конце “Цветов зла” находится ряд стихов о Вине и разных
видах опьянения, которое оно производит, смотря по тому, на
чей мозг оно действует. Нечего и говорить, что здесь нет речи
о вакхических песнях, прославляющих виноградный сок, и ни
о чем подобном. Это — отвратительное и ужасное описание
пьянства, но без нравоучений во вкусе Хогарта.
Картина не нуждается в легенде, и “Вино убийцы” заставля-
ет содрогаться. “Литании Сатане”, богу зла и князю мира,— од-
на из тех холодных насмешек, свойственных автору, в которых
напрасно было бы видеть кощунство. Кощунство не в природе
Бодлера, верящего в высшую математику, установленную Бо-
гом от вечности, малейшее нарушение которой наказывается
самыми жестокими карами не только в нашем, но и в ином ми-
ре. Если он изобразил порок и показал Сатану во всем его тор-
жестве, то, наверно, без всякого снисхождения. Он даже пре-
имущественно занимается Дьяволом, как искусителем, когти
которого повсюду, как будто бы недостаточно прирожденной
человеку порочности, чтоб толкнуть его на грех, на подлость,
на преступление. У Бодлера грех всегда сопровождается укора-
ми совести, пыткой, отвращением, отчаянием и наказывается
сам собой, что и бывает худшей казнью. Но об этом довольно:
мы пишет критический, а не теологический этюд.
Отметим среди стихов, составляющих “Цветы зла”, некото-
рые из самых замечательных, и между ними — “Дон Жуан в
аду”. Эта картина, полная трагического величия, нарисована
немногими мастерскими мазками на мрачном пламени адских
сводов.
Похоронный челн скользит по черной воде, увозя Дон Жуа-
на и кортеж его жертв. Нищий, которого он хотел заставить от-
речься от Бога, этот босяк-атлет, гордый и под своими лохмо-
тьями, подобно Антисфену, гребет вместо старого Харона. На
корме каменный человек, бесцветный призрак, неподвижным
жестом статуи держит руль. Старый Дон Луис указывает паль-
цем на свои седины, осмеянные его предательски-кощунствен-
П—511
321
ным сыном. Сганарель просит у своего господина, отныне не
могущего платить, свое жалованье. Донна Эльвира старается
вызвать прежнюю улыбку любовника на устах презрительного
супруга, а бледные возлюбленные, измученные, покинутые,
преданные, попираемые ногами, как вчерашние цветы, откры-
вают ему вечно обливающиеся кровью раны их сердца. В этом
концерте слез, стенаний и проклятий Дон-Жуан остается бес-
чувственным; он сделал то, что хотел; пусть небо, ад и земля су-
дят его, как хотят, его гордость не знает раскаяния; гром может
его убить, но не заставить его раскаяться.
Своей ясной грустью, своим светлым спокойствием и сво-
им восточным кайфом стихи, озаглавленные “Предсущество-
вание”, представляют собой счастливую противоположность
мрачным картинам чудовищного современного Парижа и по-
казывают, что у поэта на палитре рядом с тушью, смолой, му-
мией и другими мрачными красками имеется целая гамма от-
тенков — свежих, легких, прозрачных, нежно-розовых, иде-
ально-голубых, как дали Брейгеля Райского, способных пере-
дать елисейские пейзажи и миражи мечты.
Следует упомянуть, как об особенности поэта, о чувстве
искусственного. Под этим словом надо понимать творчество,
исходящее всецело от Искусства с полным отсутствием При-
роды. В статье, написанной еще при жизни Бодлера, мы от-
метили эту странную склонность, поразительный пример
которой мьГ видим в стихотворении, озаглавленном “Париж-
ский сон”. Вот строки, пытающиеся передать этот пышный и
черный кошмар, достойный мрачных гравюр Мартинэ:
“Представьте себе сверхъестественный пейзаж, или скорее
перспективу, составленную из металла, мрамора и воды, от-
куда растительность изгнана как нечто неправильное. Все
строго, все гладко, все светится под небом без солнца, без лу-
ны, без звезд. Среди молчания вечности поднимаются осве-
щенные собственным огнем дворцы, колоннады, башни, ле-
стницы, водяные замки, откуда падают, как хрустальные за-
навеси, тяжелые водопады. Синие воды окружены, как сталь
древних зеркал, набережными и бассейнами червонного зо-
лота, где они молчаливо текут под мостами из драгоценных
камней. Кристаллизованный луч служит оправой жидкос-
тей, и порфировые плиты террас, как зеркала, отражают
предметы.
Царица Савская, проходя там, подняла бы свое платье, опа-
322
саясь намочить ноги — так блестит их поверхность. Стиль это-
го стихотворения блещет, как черный полированный мрамор”.
Не странная ли фантазия — это сочетание строгих элемен-
тов, в котором ничто не живет, не трепещет, не дышит, в кото-
ром ни былинка, ни мост, ни цветок не нарушает неумолимой
симметрии искусственных форм, измышленных искусством?
Не кажется ли, что находишься в нетронутой Пальмире или
Паленке, среди останков мертвой и покинутой своей атмосфе-
рой планеты?
Все это, без сомнения, образы причудливые, противоесте-
ственные, близкие к галлюцинации и выдающие тайное жела-
ние невозможного новшества; но мы, со своей стороны, пред-
почитаем их жидкой простоте мнимых поэтических произве-
дений, в которых по канве избитых общих мест вышиваются
старой вылинявшей шерстью узоры мещанской тривиальнос-
ти и глупой сентиментальности: венки из крупных роз, листья
зеленые, как капуста, целующиеся голубки. Иногда нам не
страшно купить что-нибудь редкое ценою неловкости, фанта-
стики и преувеличения.
Иногда дикое нам нравится больше, чем плоское. Бодлер
имеет в наших глазах это преимущество; он может быть дурен,
но никогда не может быть пошл. Его недостатки оригинальны,
как и его достоинства, и даже там, где он не нравится, он дела-
ет это по своей воле, по законам особенной эстетики и в силу
продолжительного размышления.
Кончим этот разбор, уже несколько затянувшийся, хотя и
очень сокращаемый нами, несколькими словами по поводу
стихотворения “Старушки”, которое так поразило Виктора Гю-
го. Поэт, гуляя по улицам Парижа, видит старушек, бредущих
скромной, печальной походкой, и он провожает их, как прово-
жают красивых женщин, узнавая по старому изношенному
Кашмиру, тысячу раз заштопанному, выцветшему, бедно обле-
кающему их тощие плечи, по кусочку распустившегося и по-
желтевшего кружева, по кольцу — воспоминание, с трудом ос-
париваемое у ссудной кассы и готовое соскочить с исхудалого
пальца бледной руки — счастливое и изящное прошлое, жизнь,
полную любви и преданности, может быть, следы былой кра-
соты, еще ощутимой под развалинами убожества и опустоше-
ниями возраста. Он оживляет все эти дрожащие тени, он вы-
прямляет их, вновь облекает юношеским телом эти худые ске-
леты и воскрешает в этих бедных увядших сердцах прежние
и*
323
обольщения. Ничего не может быть смешнее этих Венер Пер-
Лашеза и этих Нинон из бедных семей, проходящих с жалким
видом перед взорами вызвавшего их поэта, подобно процес-
сиям теней, застигнутых светом.
Вопросы метрики, которыми пренебрегают все, кто лишен
чувства формы — а таких очень много в наше время,— по
справедливости считались Бодлером очень важными. Теперь
нет ничего обычнее, как принимать поэтическое за поэзию.
Эти вещи ничего не имеют общего. Фенелон, Ж.-Ж. Руссо, Бер-
нарден де Сен-Пьер, Шатобриан, Ж. Санд — поэтичны, но не
поэты, т. е. они не имеют дара писать даже посредственные
стихи, они лишены специального дарования, которым владе-
ют люди менее даровитые, чем эти знаменитые писатели. Же-
лание отделить стих от поэзии — современное безумие, кото-
рое ведет не иначе, как к уничтожению самого искусства. В
превосходной статье Сент-Бева о Тэне по поводу Поупа и Буа-
ло, к которым автор “Истории английской литературы” отно-
сится презрительно, мы встречаем следующее место, очень
сильное и справедливое, где вещам придано более правиль-
ное освещение, чем великим критиком, который в начале сво-
ей деятельности был великим поэтом и остался им навсегда.
“Что касается Буало, то могу ли я принять странное суждение
одного умного человека, презрительное мнение, которое Тэн,
цитируя его, высказывает за свой счет, не боясь ответственно-
сти: “У Буало есть два сорта стихов: наиболее многочисленные
кажутся стихами хорошего ученика III класса; менее много-
численные кажутся стихами хорошего ученика класса рито-
рики”. Умный человек, говорящий таким образом (Ф. Шльом
Гйзо), не чувствует поэта в Буало; я иду далее: не должно ни-
когда чувствовать поэта в поэте. Я понимаю, что нельзя всю
поэзию сводить к простому ремеслу, но я не понимаю совер-
шенно, каким образом, раз дело идет об искусстве, не прида-
ют никакого значения самому искусству и до такой степени
обесценивают работников, достигших в нем совершенства.
Уничтожьте разом всю поэзию в стихах, это будет более реши-
тельно; если вы этого не делаете, то отзывайтесь с уважением
о тех, кто владел ее тайнами. Буало принадлежал к этим не-
многим Поуп —равным образом”.
Невозможно сказать ни лучше, ни справедливее!
Корда говорят о поэте, то внешняя форма его стихов — вещь
важная и стоит изучения, ибо она составляет значительную
324
часть их внутренней ценности. Это — та проба, которую он вы-
чеканивает на своем золоте, серебре и меди. Стих Бодлера,
принимая все важнейшие усовершенствования романтизма,
каковы: богатая рифма, произвольная подвижность цензуры,
перенос, текучие строки, употребление технических терми-
нов, строгий и полный ритм, непрерывный поток великого
александрийского стиха, весь мудрый механизм просодии и
строения станса и строфы — имеет тем не менее свою собст-
венную архитектонику, свои индивидуальные формулы, струк-
тур. по которой его можно узнать, свои тайны ремесла, свою
печать, так сказать и свою собственную марку “СВ”, которая
всегда приложена к рифме или полустишию.
Бодлер часто употребляет двенадцати и восьмисложный
стих. Это — форма, в которую по преимуществу выливается его
мысль. Стихотворения со сплошной рифмой у него менее мно-
гочисленны, чем разделенные на четырехстишия или стансы.
Он любит гармоничное перекрещивание рифм, отдаляющее
эхо у взятой ноты и дающее уху непредвиденный звук, кото-
рый дополнится позднее, как и нота первого стиха, доставляя
удовлетворение, которое в музыке достигается совершенным
аккордом. Он всегда заботился, чтобы конечная рифма была
полна, звучна и поддерживалась согласной, что создает вибра-
цию, удлиняющую последнюю ноту.
Среди его стихотворений встречается много таких, кото-
рые содержат внешнюю схему — как бы внешний рисунок —
сонета, хотя он ни одного из них не назвал сонетом. Это без
сомнения происходит от литературной щепетильности и от
просодической совестливости; зарождение ею, как мне кажет-
ся, можно видеть в том примечании, где он рассказывает о сво-
ем посещении меня и о нашем разговоре. Читатель, вероятно,
помнит, что Бодлер принес мне томик стихов двух отсутствую-
щих друзей от их имени. В его рассказе мы находим следую-
щие строки: “Быстро перелистав этот томик, он обратил вни-
мание на то, что упомянутые поэты слишком часто позволяют
себе вольные сонеты, т. е. не по правилам, охотно освобождая
себя от закона четверной рифмы”. В это время была уже со-
ставлена большая часть “Цветов зла”, и в ней встречалось до-
вольно много вольных сонетов, не только не имевших четвер-
ной рифмы, но даже таких, в которых рифмы переплетались
совершенно неправильно: в ортодоксальном сонете, каковы
сонеты Петрарки,Феликайи, Ронсара, дю-Белле, С. Беве, среди
325
четверостишия должны заключаться две однообразные риф-
мы — мужские или женские (по выбору автора), что и отлича-
ет четверостишие сонета от обычного четверостишия и опре-
деляет, смотря по тому, дает ли внешняя рифма немое “ё” или
полный звук, хотя и расположение рифмы в двух трехстишиях,
заканчивающих сонет, менее трудное, чем думает Буало, и
именно потому, что тут имеется геометрически-определенная
форма: не так ли на лепных потолках многоугольники и при-
чудливо очерченные части скорее облегчают, чем затрудняют
живописца, определяя пространство, в которое должно заклю-
чить фигуры. Нередко случается, что благодаря ракурсу и ис-
кусному сведению линии удается поместить гиганта в одно из
узких отделений лепного потолка, и произведение выигрыва-
ет от подобной концентрации. Таким образом, великая идея
может свободно двигаться в этих четырнадцати стихах, мето-
дически-распределейных.
Молодая школа допускает множество вольных сонетов, и я
должен сознаться, что это мне особенно неприятно. Зачем, ес-
ли вы желаете быть свободным и по своему вкусу распределять
рифмы, — зачем выбирать строгую форму, не допускающую
никакого отступления, никакого каприза? Неправильность в
правильном, недостаток соответствия в симметрическом —
что же может быть нелепее и противоречивее? Всякое наруше-
ние правила беспокоит нас, как сомнительная или фальшивая
нота. Сонет — поэтическая фуга, тему которой надо переделы-
вать, пока не получится должная форма. Следует безусловно
подчиняться его законам, или же, находя эти законы устарев-
шими, педантичными и стеснительными, совсем не писать со-
нетов.
Итальянцы и поэты плеяды могут в этом случае служить об-
разцами; не бесполезно было бы прочесть книгу, в которой Уи-
льям Коллет трактует о сонете ex protesso. Можно сказать, что
он исчерпал этот предмет. Но достаточно о вольных сонетах,
которые пустил в ход первый Мейнар. Что касается других со-
нетов, то это — только педантические упражнения, образчики
которых можно видеть в Radanus Maurus, в L‘Apollon espagnol
et italien, и в специальном трактате, написанном об этом пред-
мете Антонио Темпо, и которых надо избегать, как трудностей
совершенно ненужных, как китайской головоломки в поэзии.
Бодлер часто стремится к музыкальному эффекту при по-
мощи одного или нескольких стихов, особенно мелодичных,
326
составляющих ритурнель и поочередно вновь появляющихся,
как в итальянской строфе, называемой секстиной, удачные
примеры которой дает в своих многочисленных стихах граф
де Грамон. Он пользуется этой формой, смутно убаюкиваю-
щей, как волшебный напев, едва уловимый в полусне, для того,
чтобы передать грустные воспоминания и несчастную любовь.
Стансы, звучащие однообразно, относят и опять приносят
мысль, покачивая ее, подобно тому как волны своими мерны-
ми завитками катят тонущий цветок, упавший с берега. Подоб-
но Лонгфелло и Эдгару По, он употребляет часто алитерацию,
т. е. определенное повторение какой-нибудь согласной, для то-
го, чтобы произвести впечатление гармонии всем строением
стиха. Сент-Бев, которому известны все эти тонкости и кото-
рый применяет их в своем изысканном искусстве, сказал ког-
да-то в сонете с мягкой, чисто итальянской нежностью:
Sorrente m‘a rendu шоп doux reve infini.
Чуткое ухо понимает прелесть этой плавной грезы, повто-
ренной четыре раза и как бы уносящей вас на своей волне в
беспредельность, подобно тому как перо чайки несется синей
волной Неаполитанского залива.
Частые алитерации встречаются и в прозе Бомарше, и
скальды часто прибегали к ним. Эти тонкости без сомнения
покажутся ничтожными утилитаристам, прогрессистам и
практикам или просто рассудительным людям, которые дума-
ют, подобно Стендалю, что стих — ребяческая форма, годная
для первобытных веков, и требуют, чтобы поэтические произ-
ведения писались прозой, как то приличествует рассудитель-
ной эпохе. Но эти подробности делают стихи хорошими или
плохими и решают вопрос: поэт ли их автор или нет?
Многочисленные длинные слова очень нравятся Бодлеру, и
из трех или четырех таких слов он часто составляет стихи, ко-
торые кажутся безмерными и вибрирующий звук которых за-
медляет ритм. Для поэта слова сами по себе, помимо того
смысла, который они выражают, обладают особенной, им
лишь свойственной красотой и цельностью, как драгоценные
камни, еще не отшлифованные и не оправленные в браслеты,
ожерелья или кольца; они восхищают знатока, который их
рассматривает и разбирает в маленьком сосуде, тде они убра-
ны, как это делает ювелир, оценивающий драгоценности. Есть
327
и среди слов алмазы, сапфиры, рубины, изумруды и другие,
светящиеся, как фосфор от трения, и немалого труда стоит их
выбрать.
Эти великие александрийские стихи, о которых мы говори-
ли выше, умирающие на морском берегу спокойной и глубо-
кой зыбью волны, прибывшей из открытого моря, разбивают-
ся иногда бешеной пеной и высоко взметают свой белый дым
на какой-нибудь дикий и угрюмый утес, чтобы опять рассы-
паться затем горьким дождем. Стихи восьмисложные резки,
сильны, отрывисты, как удары плеткой, они жестоко хлещут
злукгсовесть и лицемерную условность.
Они годятся также и для передачи мрачных причуд: автор за-
ключает в этот размер, как в рамку черного дерева, ночные ви-
ды кладбища, где во мраке сверкают видящие во тьме зрачки
сов, а за зеленовато-бронзовой сетью тисовых дерев скользят
привидения, воры, опустошители могил и похитители трупов.
Восьмисложными стихами он описывает также зловещие небе-
са, по которым катится над виселицами луна, больная от закли-
наний Канидий; он описывает холодную скуку умершей, для ко-
торой ложе разврата заменил гроб и которая грезит в своем уе-
динении, покинутая даже червями, содрогаясь от капель ледяно-
го дождя, просачивающегося сквозь доски ее гроба, или показы-
вает нам в многозначительном беспорядке увядшие букеты, ста-
рые письма, ленты и миниатюры рядом с пистолетами, кинжа-
лами и флаконами лауданума, комнату жалкого влюбленного,
которого во время его прогулок с презрением посещает насме-
шливый призрак самоубийства, потому что даже сама смерть не
может его исцелить от его низкой страсти.
От формы стихов перейдем к канве стиля. Бодлер перепле-
тает шелковые и золотые нити с жесткими и крепкими нитями
пеньки, как в тех восточных тканях, в одно и то же время пыш-
ных и грубых, в которых самые нежные украшения с чарую-
щей причудливостью разбегаются по грубой верблюжьей шер-
сти или по полотну, столь же жесткому на ощупь, как паруса
барки. Самая кокетливая, даже самая драгоценная изыскан-
ность сталкивается с дикой похотью; и из полного опьяняю-
щих ароматов и сладостно-томительных бесед будуара мы по-
падаем в грязный кабак, где пьяницы, мешая кровь с вином,
ударами ножа оспаривают друг у друга какую-нибудь уличную
Елену.
“Цветы зла” — лучший цветок в поэтическом венке Бодлера.
328
В них прозвучала его оригинальная нота, и он доказал, что
можно и после неисчислимого количества стихотворных то-
мов, которые, кажется, исчерпывают самые разнообразные те-
мы, выдвинуть на свет нечто новое и неожиданное, и для это-
го нет надобности отцеплять с неба солнце и звезды или раз-
вертывать всемирную историю, как на какой-нибудь немецкой
фреске.
Но что особенно прославило имя Бодлера, так это — его пе-
ревод Эдгара По; во Франции читают только поэтов в прозе, а
с поэмами знакомятся по фельетонам. Бодлер сроднил нас с
этим удивительным гением столь редкой, столь определенной,
столь исключительной индивидуальности, что она сначала бо-
лее скандализировала, чем пленяла Америку,— не потому, что-
бы произведения По чем-нибудь оскорбляли нравственность:
напротив, он чист, как девственница, как серафим — но пото-
му, что он спутал все привычные идеи, все бывшие в ходу ба-
нальности, и потому, что не было критерия для того, чтобы су-
дить о нем. Эдгар По не разделял ни одной из американских
идей о прогрессе, о способности к совершенствованию, о де-
мократических учреждениях и других декламационных тем,
дорогих для филистеров обоих полушарий. Он не поклонялся
исключительно золотому тельцу; он любил поэзию только как
поэзию и предпочитал прекрасное полезному: ужасная ересь!..
Кроме того, он имел несчастье хорошо писать, а это — дар, ко-
торый заставляет содрогаться глупцов всех стран. Один серь-
езный редактор журнала, кроме того, друг По и человек поря-
дочный, признается, что ему было трудно помещать его статьи,
и что приходилось платить Э. По меньше, чем другим, потому
что он писал слишком аристократически; удивительная при-
чина! Биограф автора “Ворона” и “Эврики” говорит, что, если
бы Эдгар По захотел упорядочить свой гений и применять
свои творческие силы способом, более приличествующим
американской почве, он мог бы сделаться денежным писате-
лем (a money making author); но он не подчинялся дисципли-
не, хотел поступать только по-своему и творить только, тогда,
когда хотел, и на темы, которые ему нравились. Страсть к бро-
дяжничеству заставляла его, как сошедшую с орбиты комету,
переноситься из Балтимора в Нью-Йорк, из Нью-Йорка в Фи-
ладельфию, из Филадельфии в Бостон или Ричмонд, нигде не
удерживаясь. В минуты скуки, отчаяния или слабости, когда за
перевозбуждением, причиненным какой-нибудь лихорадоч-
329
ной работой, следовал упадок сил, так хорошо знакомый писа-
телям, он пил водку — недостаток, за который его горько упре-
кали американцы — образцы умеренности, как всякий знает.
Он не заблуждался относительно гибельных последствий сво-
его порока, он, написавший в “Черном коте” следующую про-
роческую фразу: “Какая болезнь может сравниться с алкого-
лем!” Он пил, не будучи пьяницей, чтобы забыться, чтобы очу-
титься, может быть, в среде галлюцинаций, благоприятной для
его творчества, или даже чтобы покончить с невыносимой
жизнью, избегнув скандала формального самоубийства. Сло-
вом, однажды, застигнутый на улице приступом белой горяч-
ки, он был отнесен в госпиталь и умер там еще совсем молод-
ым, в полном расцвете всех своих способностей, потому что
его печальная привычка нисколько не повлияла ни на его та-
ланты, ни на его манеры, оставшиеся навсегда манерами со-
вершенного джентльмена, ни на его красоту, до конца замеча-
тельную.
Мы описали несколько беглыми чертами наружность Эдга-
ра По, хотя нам не нужно описывать его жизнь; но американ-
ский автор занимал достаточно большое место в интеллекту-
альной жизни Бодлера для того, чтобы стало необходимо по-
говорить о нем здесь более или менее подробно, если не в би-
ографическом отношении, то по крайней мере с точки зрения
теоретической. Эдгар По, конечно, имел влияние на Бодлера,
своего переводчика, особенно в последнее время — увы! —
столь короткой жизни поэта.
“Необыкновенные истории”, “Приключения Артура Гордо-
на Пима”, “Серьезные и забавные истории”, “Эврика” были пе-
реведены Бодлером с такой точностью стиля и мысли, с такой
верной и гибкой свободой, что эти переводы производят впе-
чатление оригинальных произведений и сохраняют все свое
гениальное совершенство. “Необыкновенным историям” были
предпосланы отрывки замечательной критики, в которых пе-
реводчик разбирает, как поэт, выходящий из ряда, и новый та-
лант Эдгара По, которого Франция, по ее полнейшему равно-
душию к иностранным авторам, совершенно не знала, пока
Бодлер его не открыл. Он внес в эту работу, необходимую для
уяснения характера, настолько возвышающегося над обычным
уровнем идей, необыкновенную метафизическую проница-
тельность и редкую тонкость наблюдения. Страницы эти могут
считаться самыми замечательными из всех им написанных.
330
Любопытство было возбуждено до крайней степени этими
таинственными историями, столь математически фантастиче-
скими, которые выводятся при помощи алгебраических фор-
мул и изложение которых подобно судебным допросам самого
проницательного и тонкого следователя. “Убийство на улице
Морг”, “Украденное письмо”, “Золотой жук” — эти загадки, ко-
торые труднее разгадать, чем загадки сфинкса, и разгадка ко-
торых является в конце так правдоподобно, заинтересовали до
бреда публику, пресыщенную романами, описывающими нра-
вы и приключения. Увлекались Августом Дюпеном, обладав-
шим такой удивительной способностью отгадывать, что, каза-
лось, он держит в своих руках нить, связывающую между собой
самые противоположные мысли, и приходить к цели при по-
мощи удивительно правильных выводов.
Изумлялись этому Леграну, более искусному в разбирании
криптограмм, чем Клод Жаке, чиновнику министерства, чита-
ющему в Демаре, в истории Тринадцати, за старой решеткой
португальского посольства, шифрованное письмо Феррагуса;
результатом этого чтения было открытие сокровищ капитана
Кида. Каждый признавался себе, что напрасно перед ним ста-
ла бы возникать при свете пламени красными штрихами на
пожелтевшем пергаменте голова мертвеца и козленок, и лини-
и точек, крестов, запятых и цифр, — он не догадался бы, куда
корсар зарыл свой большой сундук, полный алмазов, драго-
ценностей, часов, золотых цепочек, испанских золотых дубло-
нов, серебряных монет северных стран, пиастров и монет всех
стран, которые вознаградили остроумие Леграна. “Колодец и
маятник” заставил задыхаться от ужаса наравне с самыми
мрачными выдумками Анны Редклиф, Льюиса и преподобного
Метыорина, и голова кружилась при взгляде в глубины крутя-
щейся пропасти Мальстрема, колоссальной воронки, по стен-
кам которой сбегают спиралью корабли, как соломинки в во-
довороте; “Правда о мистере Вольдемаре” потрясла самые
крепкие нервы, а “Падение дома Ашеров” вызвало глубокую
меланхолию. Нежные души особенно трогательными находи-
ли женские фигуры, такие воздушные, прозрачные, романти-
чески-бледные и почти призрачно-красивые, названные по-
этом: Морелла, Лигейя, лэди Ровена-'фэванионь Тримэн, Элео-
нора, которые все — не что иное, как воплощения под разны-
ми формами пережившей смерть единой любви к обожаемому
предмету и продолжающейся через все перевоплощения. С
331
этих пор во Франции имя Бодлера не отделялось от имени Эд-
гара По, и воспоминание об одном тотчас же вызывает мысль
о другом. Иногда кажется даже, что идеи американца целиком
принадлежат французу.
Бодлер, как большинство поэтов того времени, когда искус-
ства, менее разделенные, чем раньше, сближались одно с дру-
гим и часто замещали друг друга, любил, понимал и знал жи-
вопись. Он написал замечательные статьи о Салонах и, между
прочим, брошюры о Делакруа, в которых с чрезвычайной про-
ницательностью и тонкостью разобрал художественную сущ-
ность великого романтического живописца. Бодлер очень ув-
лекался им, и в его размышлениях об Эдгаре По находится сле-
дующая знаменитая фраза: “Подобно нашему Эжену Делакруа,
поднявшему свое искусство на высоту великой поэзии, Эдгар
По любит выводить своих героев на лиловатом и зеленоватом
фоне, откуда поднимается фосфоресценция гниения и запах
грозы”.
Какая верность чувства в этой простой фразе, сказанной
мимоходом о страстном, лихорадочном колорите художника!
Делакруа действительно должен был очаровать Бодлера самой
болезненностью своего таланта, столь смутного, беспокойно-
го, нервного, ищущего, пароксического (если мне будет позво-
лено употребить это слово, которое одно только хорошо пере-
дает мою мысль), всегда мучимого недомоганиями, меланхо-
лией, лихорадочным жаром, судорожными усилиями и нео-
пределенными грезами современной ему эпохи.
Одно время реалистическая школа думала, что может при-
влечь к себе Бодлера. Некоторые картины “Цветов зла”, пол-
ные оскорбительно неприкрашенной правдивости, в которых
поэт не отступал ни перед каким безобразием, могли внушить
поверхностным умам мысль, что он склоняется к этой школе.
Не обращали внимания на то, что эти так называемые реаль-
ные картины всегда были обусловлены самым характером,
особым эффектом или колоритом и, кроме того, служили кон-
трастом для образов идеальных и нежных.
Бодлер откликнулся на эти предложения, посетил мастер-
ские некоторых реалистов и должен был написать о Курбе ста-
тью, которая никогда не появилась в печати. Тем не менее в од-
ном из последних Салонов Фантен в причудливой рамке, в ко-
торой он собрал вокруг медальона Евгения Делакруа в роли
статистов целый сонм живописцев и писателей-реалистов, по-
332
местил в одном углу и Бодлера, с его серьезным взглядом и
иронической улыбкой. Конечно, Бодлер, как почитатель Дела-
круа, имеет право быть там. Но составлял ли он в интеллекту-
альном отношении и по симпатиям часть этой банды, стремле-
ния которой не могли сходиться с его аристократическими
вкусами и с его жаждой красоты? У него, как мы это уже указа-
ли, изображение пошлости и безобразия было только своего
рода протестом и проявлением ужаса, и мы сомневаемся, чтоб
набитая ватой Венера Курбэ, эта ужасная Мариторна-каллипи-
га, когда-нибудь очень нравилась ему, любителю изысканного
изящества, утонченного маньеризма и мудрого кокетства. И
это не потому, чтобы Бодлер не был способен любоваться
грандиозной красотой; тот, кто написал “Великаншу”, должен
был любить Утро и Ночь, этих великолепных колоссов-жен-
щин, которых Микеланджело распростер на могиле Медичи в
таких величественных очертаниях. Кроме того, его филосо-
фия и метафизика не могли не отдалить его от этой школы, ку-
да его не должно причислять ни под каким видом. Он не толь-
ко не любил реального, но отыскивал с любопытством необы-
чайное, и, если встречал что-нибудь исключительное, ориги-
нальное, он следил за этим, изучал его, старался найти конец
клубка и размотать его до конца. Так он увлекся Птзом, таинст-
венною личностью, обычным состоянием которой было
странствование из угла в угол по всей вселенной и рисование
эскизов для английских иллюстрированных журналов. Этот
Шз был в одно и то же время великим путешественником, глу-
боким и быстрым наблюдателем и совершеннейшим юморис-
том; одним взглядом он улавливал характеристические сторо-
ны людей и вещей; несколькими штрихами карандаша он на-
брасывал их силуэты в своем альбоме, подобно стенографу
схватывал эти беглые черты и смело смывал однообразную ок-
раску, чтобы придать им колорит.
Шз не был в точном смысле то, что называется, художни-
ком, но имел особый дар схватывать в несколько минут общий
смысл вещей. Одним взглядом, с несравненным ясновидением,
он во всем открывал характеристическую черту — и только ее
одну — и выдвигал ее, инстинктивно или с намерением прене-
брегая второстепенными чертами. Никто лучше его не схваты-
вал какое-нибудь положение, контур, излом (употребляя вуль-
гарное слово, точно передающее нашу мысль) — все равно,
шло ли дело о денди или о мелком чиновнике, о знатной даме
333
или о девушке из народа. Он обладал в редкой степени чувст-
вом современной испорченности, как в высших, так и в низ-
ших слоях общества, и он также своими рисунками собирал
свой букет цветов зла. Никто не умел передать, как №з, изящ-
ную худобу и блеск красного дерева у беговой лошади; он умел
так же хорошо спустить юбку дамочки на край плетенки, за-
пряженной пони, как усадить напудренного и одетого в мех ку-
чера из богатого дома на огромные козлы большого восьмире-
ссорного экипажа с гербами, отправляющегося на прием во
дворец королевы, с тремя лакеями, увешанными галунами.
Кажется, что в этих остроумных рисунках, фешенебельных
и беглых, посвященных сценам из жизни высшего общества,
он был предшественником искусных художников “Парижской
жизни” — Марселей, Адоль, Морен, Крафти, которые так совре-
менны, так модны и так проницательны. Но, если №з изобра-
жал, заслужив одобрение даже самого Брюмеля, высший ден-
дизм и аристократические манеры dukery, он не менее просла-
вился и изображением продажных нимф салонов Пикадилли и
Аргейл с их нелепыми туалетами и вызывающей походкой; он
не боялся даже спускаться в пустынные трущобы и зарисовы-
вать при свете луны или мигающего газового рожка силуэт ка-
кого-нибудь из призраков наслаждения, которые блуждают по
тротуарам Лондона, а когда находился в Париже, то выслежи-
вал вплоть до ковров, описанных Эженом Сю, утрированные
моды притонов и то, что можно назвать площадным кокетст-
вом. Понятно, что №з искал в этом только “типичности”. Это
была его страсть, и он с удивительною верностью изображал
красочную и необычную сторону типов, манер и костюмов на-
шей эпохи. Такой талант не мог не очаровать Бодлера, кото-
рый действительно очень ценил №з. У меня было около 60 ри-
сунков, эскизов и акварелей этого юмориста, и я подарил не-
которые из них поэту. Подарок этот доставил ему живейшее
удовольствие, и он унес его с большой радостью.
Конечно, Бодлер сознавал все недостатки этих быстрых на-
бросков, которым сам Пгз не придавал никакого значения, ког-
да они бывали перенесены на дерево искусными рисовальщи-
ками “Illustrated London News”; но его поражал этот ум, это яс-
новидение и эта могучая наблюдательность, дарования чисто
литературные, переданные графически. Ему нравилось в этих
рисунках полное отсутствие античного, т. е. классической тра-
диции, и избыток глубокого чувства того, что мы назовем дека-
334
дансом, за неимением слова, лучше соответствующего нашей
идее; но известно, что понимал Бодлер под декадансом. Не ска-
зал ли он где-то по поводу этих литературных определений:
“Мне кажется, что мне представили двух женщин; одна — гру-
бая матрона, ужасающая здоровьем и добродетелью, без вся-
ких манер и взглядов, словом, нечто обязанное только простой
природе; другая — одна из тех красавиц, которые владеют и
мучат в воспоминаниях, соединяя со своим глубоким и необы-
чайным очарованием красноречие туалета, власть над своей
походкой, которые знают себя и владеют собой, с голосом
внятным, как хорошо настроенный инструмент, с взглядами,
отягченными мыслью и выражающими только то, что они хо-
тят выразить. Мой выбор не подлежит сомнению, а между тем
существуют педагогические сфинксы, которые упрекнут меня
в оскорблении чести классицизма”.
Такое оригинальное понимание современной красоты пере-
вертывает вопрос, так как оно смотрит на красоту античную, как
на примитивную, грубую и варварскую — мнение, без сомне-
ния, парадоксальное, но которое можно поддерживать. Бальзак
во многом предпочитал Венере Милосской парижанку элегант-
ную, тонкую, кокетливую, как бы влитую в свой длинный каше-
мир, идущую украдкой на какое-нибудь свидание, с вуалеткой
Шантильи, опущенной на нос, наклоняя голову, так что между
полями шляпы и последней складкой шали виднеется кусочек
шеи цвета слоновой кости, на котором грациозно извиваются
два или три завитка коротеньких волос. Все это имеет свою пре-
лесть, хотя я предпочел бы Венеру Милосскую; но это зависит от
того, что вследствие первоначального воспитания и врожден-
ного мне чувства я более пластик, чем поэт.
Понятно, что с такими идеями Бодлер склонялся некоторое
время к реалистической школе, богом которой был Курбе, а
главным жрецом — Мане. Но если некоторые стороны его при-
роды могли удовлетвориться непосредственным, а не традици-
онным изображением безобразия или, по крайней мере, совре-
менной тривиальности, — его стремления к искусству, изящест-
ву, пышности, красоте увлекали его в высшую сферу, и Делакруа
со своей лихорадочной страстностью, бурным колоритом, по-
этической меланхолией, с своей палитрой заходящего солнца и
мудрой техникой художника декаданса стал и остался его из-
бранным мэтром.
Теперь мы подходим к совершенно особенному произведе-
335
нию Бодлера, наполовину переведенному, наполовину ориги-
нальному, озаглавленному: “Искусственный рай, опиум и га-
шиш”. На нем следует остановиться, потому что оно немало со-
действовало распространению среди публики (всегда готовой
принять за верное всевозможные сплетни о литераторах) мне-
ния о том, что автор “Цветов зла” обыкновенно искал вдохно-
вения в возбуждающих средствах.
Смерть Бодлера, последовавшая за параличом, лишившим
его возможности выражать свою мысль, все еще деятельную и
живую, только подтвердила это предположение. Этот паралич,
говорили, без сомнения произошел от злоупотребления гаши-
шем и опиумом, которым поэт предавался сначала из ориги-
нальничания, а затем по роковому влечению, вызываемому па-
губными средствами. Причиной его болезни были только
утомление, отчаяние, горести и всякого рода затруднения,
присущие жизни всех тех писателей, чей талант не подчиняет-
ся правильной, имеющей легкий сбыт работе, какова
например журнальная, и чьи произведения пугают своей ори-
гинальностью робких редакторов толстых журналов. Бодлер,
как все работники, был воздержан и вполне допускал, что же-
лание создать “искусственный рай” посредством какого-ни-
будь возбудителя — опиума, гашиша, вина, алкоголя или табака —
коренится, по-видимому, в самой природе человека, встреча-
ясь во всех странах, при варварстве, как и при цивилизации,
даже у дикарей; он видел в нем доказательство первородной
извращенности, нечестивую попытку избегнуть необходимого
страдания, чисто сатанинское внушение преступно овладеть
теперь же счастьем, назначенным лишь позднее в награду за
смирение, добрую волю, добродетель, неутомимое стремление
к Добру и Красоте. Он думал, что дьявол говорил гашишерам и
опиофагам, как некогда нашим прародителям: “Вкусите от
плода, и будете, как боги”, и что он не сдержал им своего сло-
ва, как и Адаму с Евой, потому что на другой день бог, расслаб-
ленный, энервированный, падет ниже животного и останется
одиноким в безмерной пустоте, не имея другого средства убе-
жать от самого себя, как только снова прибегнуть к своему яду,
дозу которого он постепенно должен увеличивать. Возможно и
даже вероятно, что Бодлер попробовал гашиша раз или два в
виде физиологического опыта, но он никогда не употреблял
его постоянно. Это счастье, покупаемое в аптеке и уносимое в
жилетном кармане, ему было отвратительно, и он сравнивал
336
экстаз, вызываемый им, с экстазом маньяка, для которого раз-
малеванные полотна и грубые декорации заменили бы насто-
ящую мебель и сады, благоухающие настоящими цветами.
Он приходил только изредка в качестве простого наблюда-
теля на сеансы отеля Пимодан, где наш кружок собирался для
приема давамеска, сеансы, которые я когда-то описал в “Ревью
де де Монд” под заглавием “Клуб любителей гашиша”, приба-
вив к этому рассказы о наших собственных галлюцинациях.
После десятка таких опытов мы отказались навсегда от этого
опьяняющего средства не потому, что оно нам вредило физи-
чески, но потому, что истинному писателю нужны только его
естественные грезы, и он не любит, чтобы его мысль подверга-
лась влиянию какого бы то ни было внешнего средства.
Бальзак пришел раз на один из этих вечеров, и Бодлер так
рассказывает о его посещении: “Бальзак без сомнения думал,
что нет большего позора и более острого страдания, чем отре-
чение от своей воли; я видел его раз на собрании клуба, где
шла речь о чудесном действии гашиша. Он слушал и спраши-
вал с забавным вниманием и живостью. Знавшие его догадыва-
ются, что он должен был очень интересоваться. Но мысль о
том, что его мышление будет совершаться вопреки ему самому,
живейшим образом оскорбила его; ему предложили давамеск,
он посмотрел, понюхал и отдал его назад, не дотронувшись.
Борьба между почти детским любопытством и отвращением к
самоотречению поразительно выдавалась его выразительным
лицом; чувство собственного достоинства одержало верх. Дей-
ствительно, трудно представить себе, чтоб теоретик воли, ду-
ховный близнец Людовика Ламберта, согласился утратить кру-
пинку этой драгоценной субстанции”.
В этот вечер я был в отеле Пимодан, и могу засвидетельство-
вать совершенную точность этого рассказа. Прибавлю только
следующую характеристическую черту: возвращая ложечку
давамеска, предложенную ему, Бальзак сказал, что пробовать
бесполезно, ибо гашиш, он уверен, не оказал бы никакого дей-
ствия на его мозг. Возможно, что этот могучий мозг, в котором
царила воля, укрепленный изучениями, напитанный тонкими
благоуханиями мокка, которого не омрачали ни малейшим об-
лачком три бутылки самого сильного Вуврейского вина, может
быть, и был бы способен противостоять преходящему отравле-
нию индийской конопли. Гашиш, или давамеск, я забыл сказать
это, представляет собою настойку из индийской конопли, сме-
337
шанной с какими-нибудь жирным веществом и фисташками,
чтобы придать ему вид теста или варенья.
Монография о гашише с медицинской точки зрения очень
хорошо написана в “Искусственном рае”, и наука могла бы по-
черпнуть из нее некоторые сведения, потому что Бодлер очень
заботился о щепетильной точности и ни за что на свете не до-
пустил бы ни малейшей поэтической прикрасы в этом столь
дорогом ему вопросе. Он в совершенстве определяет характер,
свойственный галлюцинациям гашиша, ничего не создающим
вновь, но только развивающим исключительные склонности
индивидуума, раздувая их до последней возможности. Вы ви-
дите в них лишь самого себя безмерно увеличенным, утончен-
ным, напряженным, вне времени и пространства, чувство ко-
торых исчезает, в среде сначала реальной, но скоро извраща-
ющейся, обостряющейся, выходящей из границ, где каждая ма-
лейшая подробность при крайней степени интенсивности
приобретает сверхъестественное значение, однако легко по-
нимаемое гашишером, угадывающим таинственное соответст-
вие между этими часто бессвязными образами.
Если вы слышите музыку, которая, кажется, исполняется не-
бесным оркестром и хорами серафимов и перед которой сим-
фонии Гайдна, Моцарта и Бетховена — несносное шари-вари,
то знайте, что чья-нибудь рука дотронулась до пианино, ис-
полняя какую-нибудь прелюдию, или какой-нибудь отдален-
ный орган исполняет среди шума улицы известный отрывок
оперы. Если ваши глаза ослеплены потоками, сверканием, пре-
ломлениями света и бенгальскими огнями, — наверно горят
несколько свечей в канделябрах и подсвечниках. Когда стена,
переставая быть непроницаемой, уходит в воздушную, глубо-
кую, голубоватую даль, подобно окошку, открытому в беско-
нечность, то это значит, что перед мечтателем блестит стекло
со своими смутными тенями и фантастической прозрачнос-
тью. Перед ним нимфы, богини, феи — грациозные, смешные
или страшные — сходят с картин, обой, статуй, сверкают ми-
фологической наготой в своих нишах, а мартышки гримасни-
чают на этажерках. То же самое и с экстазами обоняния, пере-
носящими вас в блахоуханный рай, где чудные цветы, покачи-
вая свои чашечки, подобные кадильницам, шлют свои благо-
вония, невыразимые, тончайшие, вызывающие воспоминания
о прежней жизни, о благоухающих, отдаленных берегах, о бе-
зыскусственной любви на каком-нибудь сказочном острове Та-
338
ити. Нет надобности искать причину всего этого где-нибудь
далеко: в этой комнате найдется гелиотроп или тубероза, саше
испанской кожи или кашемировый платок, пропитанный за-
пахом пачули и небрежно брошенный на кресло.
Понятно, таким образом, что, желая вполне насладиться
магическими чарами гашиша, надо их приготовить заранее и,
так сказать, изобрести мотивы для его необычайных вариаций
и беспорядочных фантазий. Очень важно быть в хорошем рас-
положении души и тела, не иметь в этот день ни забот, ни обя-
занностей, ни назначенного часа, находиться в одной из тех
комнат, которые любил Бодлер и которые Эдгар По в своих
описаниях меблирует с поэтическим комфортом, с причудли-
вой роскошью и таинственным изяществом, — тайное и скры-
тое от всех убежище, которое, так и кажется, ожидает дорогого,
идеального женского образа, который Шатобриан на своем
благородном языке называет “сильфидой”. При таких услови-
ях возможно и даже почти достоверно, что приятные ощуще-
ния естественным путем превратятся в блаженство, восторги и
экстазы, в несказанное наслаждение, значительно превосходя-
щее грубые удовольствия, обещанные правоверным в раю Ма-
гомета, слишком похожем на сераль. Зеленые, красные и бе-
лые гурии, выходящие из жемчужных раковин и отдающиеся
верным, с вечно возрождающейся девственностью, показались
бы вульгарными неряхами в сравнении с нимфами, ангелами,
сильфидами, благоухающими призраками, идеально прозрач-
ными, как бы сотканными из розового и голубого света, выде-
ляющимися на солнечных дисках и горящими на глубине бес-
конечного, подобно серебряным пузырькам, газового напитка
на дне хрустального бокала — все они проносятся перед люби-
телем гашиша бесчисленными легионами, как грезы наяву.
Без этих предосторожностей экстаз может превратиться в
кошмар. Наслаждения обращаются в страдания, радости — в
ужас; страшное беспокойство сдавливает ваше горло, давит ко-
леном ваш живот и гнетет вас своею фантастически громад-
ной тяжестью, точно сфинкс пирамид или слон сиамского ко-
роля, желающий вас расплющить. В другой раз вас охватывает
ледяной холод и делает вас мраморным вплоть до бедер, по-
добно царю в “1001 ночи”, наполовину превращенному в ста-
тую, которого его злая жена каждое утро била по плечам, ос-
тавшимся мягкими.
Бодлер описывает две или три галлюцинации людей раз-
339
личных характеров и одну — испытанную женщиной в стек-
лянном кабинете, украшенном золоченым трельяжем с вью-
щимися по нем цветами, в котором нетрудно узнать будуар
отеля Пимодан; каждое видение он сопровождает аналитичес-
кими и моральными примечаниями, в которых так и сквозит
его непобедимое отвращение ко всякому наслаждению, до-
стигнутому искусственными средствами. Он разбивает мнения
о помощь, которую мог бы найти гений в мыслях, внушаемых
опьянением гашиша. Прежде всего эти идеи не так прекрасны,
как себе их представляют; их очарование зависит главным об-
разом от крайнего нервного возбуждения, в котором находит-
ся данный субъект.
Затем гашиш, вызывающий эти идеи, отнимает в то же вре-
мя возможность пользоваться ими, потому что уничтожает во-
лю и погружает свои жертвы в ленивую скуку, при которой ум
делается не способным ни к какому усилию или работать и
выйти из которой он может только при помощи новой дозы.
“Наконец,— прибавляет он,— допустим на несколько минут
предположение, что есть темперамент, достаточно привыч-
ный и достаточно сильный, чтоб противиться неприятным
действиям предательского вещества; все-таки надо подумать и
о другой опасности, роковой, ужасной опасности приспособ-
ления. Прибегнувший к яду для того, чтобы думать, не будет
уже больше думать без яда. Представьте себе ужасную судьбу
человека, парализованное воображение которого не может
больше функционировать без помощи гашиша и опиума!”
Немного далее он выражает свое убежище следующими
благородными словами: “Все-таки человек не настолько ли-
шен честных средств для достижения неба, чтобы обращаться
к аптеке и колдовству; ему незачем продавать свою душу в уп-
лату за опьяняющие ласки и дружбу гурий. Что это за рай, ко-
торый покупается ценою вечного спасения?” Затем следует
описание чего-то в роде Олимпа на крутой горе, где музы Ра-
фаэля или Мантеньи под предводительством Аполлона окру-
жают своими ритмическими хорами художника, отдавшегося
культу прекрасного, и награждают его за его долгие усилия.
“Под ним,— продолжает автор,— у подошвы горы, в сорной
траве и грязи, толпа человеческих существ, шайка илотов, под-
ражает гримасам наслаждения и испускает стоны, которые у
нее вырывают раны, причиненные ядом, между тем как скорб-
ный поэт говорит: “Эти несчастные, которые не постились, не
340
молились и отказались от искупления трудом, требуют от
черной магии средств подняться разом до сверхъестествен-
ного существования. Магия обманывает их и зажигает для
них ложное счастье и обманчивый свет; между тем лишь мы,
поэты и философы, возродившие нашу душу постоянным
трудом и упорным созерцанием, упражнением воли и неиз-
менным благородством намерений, мы создали для своего
пользования сад истинной красоты. Веря тому, что вера дви-
гает горами, мы совершили единственное чудо, которое нам
разрешил Господь”.
После подобных речей трудно поверить, чтобы автор “Цве-
тов зла”, несмотря на свои сатанинские склонности, часто по-
сещал искусственный рай!
За этюдом о гашише следует этюд об опиуме, но здесь
Бодлер руководился одной странной книгой, очень известной
в Англии: “Исповедь английского любителя опиума”, автором
которой был Де Квинси, известный эллинист, превосходный
писатель, человек, достойный всякого уважения, осмеливший-
ся с трагическим чистосердием сделать в стране, наиболее за-
коснелой в ханжестве, признание в своей страсти к опиуму,
описать эту страсть, изобразить все ее фазисы, перерывы, воз-
враты, борьбу, восторги, упадки, экстазы и фантасмагории, за
которыми следует невыразимая тоска. Де Квинси — вещь поч-
ти невероятная — дошел, понемногу увеличивая дозы, до вось-
ми тысяч капель в день, что, однако, не помешало ему достиг-
нуть семидесятилетнего возраста, так как он умер в 1859 г. и за-
ставил долго ждать докторов, которым завещал, в насмешку и
как любопытный предмет научного эксперимента, свое тело,
насыщенное опиумом. Эта дурная привычка не помешала ему
издать целый ряд литературных и научных трудов, в которых
ничто не обнаруживает рокового влияния того, что он сам на-
зывает своим “Черным Идолом”. Конец книги заставляет пред-
полагать, что лишь благодаря сверхчеловеческим усилиям ав-
тору удалось исправиться; но эта жертва могла быть принесе-
на во имя нравственности и приличий, подобно награждению
добродетели и наказанию преступления в конце мелодрамы,
так как окончательная безнаказанность была бы дурным при-
мером. Де Квинси утверждает, что после 17-летнего употребле-
ния и 8-летнего злоупотребления опиумом он мог отказаться
от этого вредного вещества.
Не надо лишать мужества опиофагов, обладающих доброй
341
волей. Но все-таки сколько любви в этом лирическом воззва-
нии к коричневой жидкости:
“О справедливый, тонкий и могучий опиум! Ты, проливаю-
щий сладкий бальзам в сердце бедняка и богача, на раны, ко-
торые никогда не зарубцовываются, и смягчающий ужасы, ко-
торые возмущают дух; о красноречивый опиум, ты, обезоружи-
вающий своей могучей риторикой решения ярости и на одну
ночь возвращающий преступному человеку надежды молодос-
ти и прежние руки, чистые от крови; ты, дающий гордому че-
ловеку мимолетное забвение “непоправимых грехов и неот-
мщенных оскорблений”? Ты строишь в недрах мрака из мате-
риалов, даруемых воображением, с искусством более глубо-
ким, чем искусство Фидия и Праксителя, селения и храмы, пре-
восходящие своим великолепием Вавилон и Гекатомпилос, и
из хаоса сна, полного сновидений, ты вызываешь на свет солн-
ца прекрасные лики уже давно погребенных красавиц, и доро-
гие, благословенные лики, омытые от оскорблений могилы. Ты
один даешь человеку эти сокровища и владеешь ключами рая,
о справедливый, тонкий и могучий опиум!”
Бодлер не переводит целиком книгу Де Квинси; он выбира-
ет из нее самые выдающиеся места, которые связывает своим
разбором, перемешанным с отступлениями и философскими
размышлениями, так, что получается резюме, представляю-
щее самостоятельное произведение. Ничего не может быть
интереснее биографических подробностей, которыми начи-
наются эти признания и которые рассказывают о бегстве уче-
ника с целью скрыться от тирании попечителей, о его бродя-
чей жизни, нищенской и голодной, на улицах этой великой
пустыни — Лондона, о его пребывании в квартире, превра-
щенной в чулан небрежностью владельца, о его дружбе с ма-
ленькой служанкой-полуидиоткой и Анной, бедной девочкой,
грустной фиалкой, выросшей на тротуаре, невинной и девст-
венной даже в проституции, о примирении его с семьей и
вступлении во владение состоянием, достаточно значитель-
ным для того, чтобы ему можно было предаться любимым за-
нятиям в тиши прелестного коттеджа, в обществе благород-
ной женщины, которую, как Орест опиума, он называет своей
Электрой. Он уже приобрел, вследствие невралгических бо-
лей, неискоренимую привычку к яду и вскоре поглощал его,
без вредных последствий, в громадной дозе — 40 гран в день.
Мало найдется поэтических произведений даже у Байрона,
342
Кольриджа и Шелли, которые превосходили бы странным и
грандиозным великолепием грезы Де Квинси. За ослепитель-
но-яркими видениями, блещущими серебряным и голубым
светом рая и Елисейских полей, следуют другие, более мрач-
ные, чем Эреб, к которым применимы ужасающие стихи по-
эта: “Казалось, что великий живописец окунул свою кисть во
мрак землетрясения и солнечного затмения”.
Де Квинси, бывший одним из самых видных и наиболее ра-
но созревших гуманистов — он знал латинский и греческий
языки десяти лет от роду — находил всегда большое удовольст-
вие в чтении Тита Ливия, и слова “Consul Romanus” звучали для
него, как волшебная и неотразимо-обаятельная формула. Эти
несколько слогов раздавались в его ушах, как вибрации труб,
издающих победные звуки, а когда в его грезах толпы врагов
боролись на поле битвы, оснащенном бледным светом, с глу-
хими стонами и топотом, похожими на отдаленный шум боль-
ших вод, — вдруг таинственный голос кричал эти слова, кото-
рые заглушали все: Consul Romanus. Наступало глубокое мол-
чание, тягостное, томительное ожидание, и вдруг появлялся
консул на белом коне среди бесчисленного муравейника, по-
добно Марию в “Битве с кимврами” Декана — и одним роко-
вым движением решал победу.
В другой раз лица, виденные в действительности, смешива-
лись с грезами и являлись ему, как упрямые призраки, которых
не может прогнать никакое заклинание. Однажды в 1813 г. ка-
кой-то малаец, с желтым и желчным цветом лица, с грустными
глазами, выражающими тоску по родине, приехал из Лондона
и, желая добраться до какого-нибудь порта, но не зная ни од-
ного европейского языка, постучался в дверь коттеджа. Не же-
лая показаться беспомощным перед своими слугами и соседя-
ми, Де Квинси заговорил с ним по-гречески; азиат отвечал по-
малайски, и честь была спасена. Дав ему денег, хозяин котеджа
из щедрости, заставляющей курильщика предложить сигару
бедняку, который, по его предположению, давно был лишен та-
бака, подарил малайцу большой кусок опиума, проглоченный
последним в один прием. Таким количеством можно было
убить семь или восемь человек, непривычных к опиуму, но
желтолицый человек, вероятно, привык к яду, потому что он
ушел с выражением полной благодарности и удовольствия.
Физически его больше никогда не видали, но он сделался од-
ним из самых постоянных посетителей видения Де Квинси.
343
Малаец с шафранным лицом и необычайно черными глазами
стал чем-то вроде гения крайнего Востока, имевшего ключи
Индии, Японии, Китая и других стран, заброшенных на зем-
ном шаре в химерическую и невыразимую даль. Подобно тому
как повинуются проводнику, которого не звали, но за которым
необходимо следовать с роковой неизбежностью, свойствен-
ной снам, Де Квинси по стопам малайца углублялся в области
баснословной древности и невыразимых чудес, которые вызы-
вали в нем чувство глубокого ужаса. “Я не знаю,— говорил он в
своих признаниях,— разделяют ли другие мое чувство в такой
степени, но я часто думал, что если бы я принужден был поки-
нуть Англию и жить в Китае среди обычаев, манер и декорума
китайской жизни, я бы сошел с ума... Молодой китаец кажется
мне каким-то драгоценным существом...
В Китае, за исключением того, что в нем есть общего с ос-
тальной Южной Азией, меня ужасает образ жизни, обычаи, бе-
зусловное отвращение, — та внутренняя стена, которая отделя-
ет нас от Азии и которая слишком широка, чтобы ее можно бы-
ло анализировать; я бы скорее согласился жить с обитателями
луны или дикарями".
С лукавой иронией малаец, который, казалось, понимал это
отвращение опиофага, непременно вел его к громадным горо-
дам, к фарфоровым башням, к крышам, изогнутым, как сабо и
украшенным беспрерывно звенящими колокольчиками, к по-
крытым джонками рекам, через которые ведут скульптурные
драконы в виде мостов, к улицам, загроможденным бесчислен-
ными толпами мартышек, покачивающих своими головками, с
прорезанными вкось глазами, вертящих, как крысы, своими
подвижными хвостиками и бормочущих с бесконечными по-
клонами свои односложные приветствия.
Третья — и последняя часть — “Грез опиофага” носит жа-
лобное название, вполне оправдываемое, —"Suspiria de рго-
fundis”. В одном из этих видений являются три образа, кото-
рых нельзя забыть, таинственно-ужасных, как греческие Мой-
ры, как Матери во П части “Фауста”. Это свита Леваны, суровой
богини, которая поднимает новорожденного с земли и совер-
шенствует его страданием. Как есть три Грации, три Парки, три
Фурии, как было сначала три Музы, так есть и три богини скор-
би, — они наши Матери скорбей.
Самая старшая из них называется Mater Lachrymarum, или
Матерь слез, вторая — Mater suspiriorum, или Матерь воздыха-
344
ний, третья, младшая — Mater tenebrarum, или Матерь мрака,
самая ужасная из всех, о которой самая сильная душа ни может
помыслить без тайного ужаса. Эти скорбные видения не гово-
рят членораздельным языком смертных. Они плачут, вздыха-
ют и делают роковые жесты в смутной тени. Они выражают
этим неведомые страдания, ужас, которому нет имени, чувство
одинокого отчаяния, все страдания, всю горечь, всю скорбь,
гнездящуюся в самой глубине человеческой души. Человек
должен поучиться у этих жестоких наставниц: “таким образом
он увидит вещи, которые не должны быть видимы, отврати-
тельные зрелища и несказанные тайны; он прочтет древние
истины, печальные истины, великие и ужасные истины”.
Понятно, что Бодлер не избавляет Де Квинси от упреков,
которые он обращает ко всем тем, кто желает подняться до
сверхъестественного материальными средствами; но за красо-
ту картин, которые рисует знаменитый поэт и мечтатель, он
очень благосклонен к нему.
Тогда Бодлер уже покинул Париж и разбил свою палатку в
Брюсселе. В этом путешествии не надо искать никакой поли-
тической идеи, здесь было только желание более покойной
жизни и мирного отдыха вдали от возбуждений парижской
жизни.
Это пребывание, кажется, не было ему полезно. В Брюссе-
ле он работал мало, и бумаги его содержат только беглые,
краткие, почти иероглифические заметки, разобрать которые
мог бы только он один. Здоровье его не только не восстанови-
лось, но еще более расстроилось — потому ли, что оно было
уже в худшем состоянии, чем он сам думал, или потому, что
климат не был его благоприятен. Первые признаки болезни
ограничились некоторой медлительностью речи и все более и
более заметным колебанием в выборе слов: но так как Бодлер
часто выражался торжественно и сентенциозно, налегая на
каждое слово, чтоб придать ему больше значения, то и не об-
ратил надлежащего внимания на эти затруднения языка, пред-
вестники ужасной болезни, которая должна была его унести и
скоро проявилась неожиданным приступом. Слух о смерти
Бодлера распространился по Парижу с крылатой быстротой
дурных новостей, которые передаются, кажется, скорее элект-
ричества. Бодлер был еще жив, но известие, хотя и ложное,
было верно, хотя и преждевременно: ему не суждено было
встать после поразившего его удара. Привезенный из Брюссе-
345
ля семьей и друзьями, он прожил еще несколько месяцев, не
имея возможности ни говорить, ни писать, так как паралич
разорвал цепь, соединяющую мысль с речью. Мысль жила еще
в нем, это замечалось по выражению глаз; но она была немой
и пленной, без всяких средств общения с внешним миром, в
той глиняной темнице, которая должна была раскрыться толь-
ко на его могиле.
Зачем останавливаться на подробностях этого печального
конца? Умирать всегда плохо, но для остающихся в живых го-
рестно видеть, как рано уходит замечательный ум, который
еще долго мог бы приносить плоды, и горестно терять на все
более и более пустующем жизненном пути товарища юности.
Кроме “Цветов зла”, переводов из Эдгара По, “Искусствен-
ного рая”, “Салонов” и критических статей, Шарль Бодлер ос-
тавил целую книгу маленьких поэм в прозе, помещавшихся в
разное время в газетах и журналах, которым скоро наскучива-
ли эти тончайшие шедевры, не интересовавшие вульгарного
читателя; это принудило поэта, благородная настойчивость
которого не шла ни на какую сделку, вверить следующую се-
рию их форм, более рискованной, но зато и более литератур-
ной. В первый раз эти вещи, разбросанные повсюду и почти
безнадежно растерянные, были собраны в один том, который
будет не последней заслугой поэта перед потомством.
В коротком предисловии, обращенном к Арсену Уссе,
Бодлер говорит о. том, как ему пришла мысль прибегнуть к
этой форме, представляющей собою нечто среднее между сти-
хами и прозой.
“Я хочу вам сделать маленькое признание. Перелистывая,
по крайней мере, в двадцатый раз знаменитого “Гаспар из
мрака” Алоизия Бертрана (книга, известная вам, мне и некото-
рым из моих друзей, не имеет ли полного права быть названа
знаменитой?), я задумал сделать попытку в подобном же роде
и приложить к описанию современной жизни, или, если хоти-
те, данной, современной и отвлеченной жизни способ, кото-
рый он применил к изображению жизни древней, столь нео-
бычно красочной.
Кто из нас не мечтал в приливе честолюбия о чудесах по-
этической прозы, музыкальной без ритма и рифмы, достаточ-
но гибкой и цепкой, чтобы приспособиться к изображению
лирических движений души к переливам грез, к скачкам со-
знания?” Нечего говорить, что “Маленькие поэмы в прозе” со-
346
вершенно не похожи на “Гаспар из мрака”. Бодлер заметил это
тотчас же, как начал свою работу, и отметил этот случай, кото-
рым всякий другой может быть возгордился бы, но который
мог только глубоко огорчить ум, считавший высшей честью
поэта выполнение именно того, что было предложено. Оче-
видно, Бодлер всегда желал волей направлять вдохновение и
ввести в искусство нечто в роде непогрешимой математики.
Он порицал себя за то, что произвел иное, чем предполагал,
хотя бы это и было, как в данном случае, оригинальное и силь-
ное произведение.
Наш поэтический язык, надо в этом признаться, несмотря
на энергические усилия новой школы сделать его более гиб-
ким и пластичным, совсем не годится для описания редких и
случайных деталей, особенно когда дело идет о предметах со-
временной жизни, как простой, так и пышной. Не боясь, как
прежде, называть вещи собственным именем и не любя пери-
фраз, французский стих отказывается, по самому своему стро-
ению, от выражения значительных особенностей, а если и пы-
тается ввести их в свои узкие рамки, то скоро делается жест-
ким, шероховатым и тяжелым. “Маленькие поэмы в прозе”
очень кстати возместили этот пробел и при этом в такой фор-
ме, которая удовлетворяет условиям самого утонченного ис-
кусства и при которой каждое слово должно быть раньше взве-
шено на весах, более чувствительных, чем весы “Весовщика зо-
лота” Квинтена Массейса, потому что оно должно иметь цену,
вес и звук. Бодлер обнаружил целую новую сторону своего та-
ланта — драгоценную тонкую и причудливую. Он схватил и
уловил нечто неподдающееся выражению, передал беглые от-
тенки, занимающие среднее место между звуком и цветом,
мысли, похожие на мотивы арабесок или на темы музыкаль-
ных фраз. Не только физическая природа, но и самые тайные
движения души, капризная меланхолия, галлюцинирующий
сплин, полный неврозов, прекрасно переданы этой формой.
Автор “Цветов зла” извлек из нее поразительные эффекты, и
иногда дивишься, каким путем язык достигает той резкой яс-
ности солнечного луча, который в голубой дали выделяет баш-
ни, развалины, группу деревьев, вершину горы, благодаря чему
получают изображение предметы, отказывающиеся от всякого
описания и до сих пор не разрешавшиеся словами. Едва ли не
большая слава Бодлера в том, что он дал возможность ввести в
речь целый ряд предметов, ощущений и эффектов, которым не
347
дал названия Адам, великий номенклатор. Ни один писатель не
может претендовать на большую часть, чем такое признание, а
между тем тот, кто написал “Маленькие поэмы в прозе”, бес-
спорно заслужил его.
Трудно, не располагая большим количеством места (а тогда
лучше отослать читателя ксамим произведениям), дать верное
понятие об этих произведениях: картины, медальоны, барель-
ефы, статуэтки, эмали, пастели, камеи следуют друг за другом,
подобно позвонкам в хребте змеи; можно вынуть несколько
звеньев, и куски опять соединяются и живут, так как все они
имеют свою собственную душу и все одинаково судорожно тя-
нутся к недостижимому идеалу.
Прежде чем закончить, как можно скорее, эту заметку, уже
слишком разросшуюся, так как иначе мы не оставили бы места
в этом томе поэту и другу, талант которого мы разбираем, и ком-
ментарии заглушили бы самое произведение, — надо ограни-
читься перечислением заглавий некоторых из "Маленьких поэм
в прозе”, превосходящих, по моему мнению, своей напряженно-
стью, сосредоточенностью, глубиной и прелестью коротенькие
фантазии “Гаспара из мрака”, которыми Бодлер предполагал
воспользоваться как образцами.
Из 50 стихотворений, составляющих сборник и совершен-
но различных по тону и форме, я отмечу: “Пирог”, “Двойная
комната”, “Толпа”, “Вдовы”, “Старый паяц”, “Пол-мира в воло-
сах”, “Приглашение к путешествию”, “Прекрасная Доротея”,
“Геройская смерть”, “Тирс”, “Портреты любовниц”, “Желание
писать”, “Породистая лошадь” и в особенности “Дары луны”,
очаровательное произведение, в котором поэт с волшебной
иллюзией изображает то, что совсем не удалось английскому
живописцу Миллесу в его “Бдении Св. Агнессы”,— проникнове-
ние в комнату ночного светила с его фосфорическим голубо-
ватым светом, с его радужным, сероватым перламутром, с его
пронизанным лучами сумраком, в котором, как мотыльки, тре-
пещут осколки серебра. С высоты своей облачной лестницы
луна склоняется над колыбелью заснувшего ребенка, обливая
его своим полным таинственной жизни светом и своим светя-
щимся ядом: эту бледную головку она, как фея, осыпает свои-
ми странными дарами и шепчет ей на ухо: “Ты вечно оста-
нешься под влиянием моего поцелуя. Ты будешь прекрасна, как
я. Ты будешь любить то, что меня любит и что я люблю: воду,
облака, молчание, ночь, безграничное и зеленое море; воду
348
бесформенную и многообразную, страны, где ты не будешь,
возлюбленного, которого ты не узнаешь, чудовищные цветы,
потрясающие волю ароматы, кошек, замирающих на пианино
и стонущих, как женщины, хриплым голосом”.
Мы не знаем ничего равного этому восхитительному от-
крывку, кроме стихов Ли-Тай-Пея, так хорошо переведенных
Юдифью Уолтер, в которых китайская императрица влачит
складки своего белого, атласного платья по малахитовой лест-
нице, осыпанной алмазными лучами луны. Только лунатик мог
так понимать луну и ее таинственное очарование.
Слушая музыку Вебера, сначала испытываешь ощущение
магнетического сна, что-то в роде успокоения, незаметно уно-
сящего из действенной жизни; затем вдали вдруг зазвучит
странная нота, заставляющая с беспокойством насторожиться.
Эта нота подобна вдоху из волшебного мира, голосу невидимо
зовущих духов. Оберон начинает трубить в свой рог, и откры-
вается волшебный лес, уходящий в бесконечность голубоваты-
ми аллеями, населенный всеми фантастическими существами,
описанными Шекспиром в его “Сне в летнюю ночь”,— и сама
Ъггания появляется в прозрачном платье из серебряного газа.
Чтение “Маленьких поэм в прозе” часто производило на
меня подобное же впечатление: одна фраза, одно единствен-
ное слово, тщательно выбранное и помещенное, вызывало це-
лый неведомый мир забытых, но милых образов, оживляло
воспоминания прежнего далекого существования и заставляло
предчувствовать вокруг таинственный хор угасших идей, шеп-
чущих вполголоса среди призраков беспрестанно отделяю-
щихся от мира вещей. Другие фразы, болезненно-нежные, по-
добно музыке, шепчут утешения в невысказанных горестях и
неизлечимом отчаянии; но надо быть осторожным: они могут
вызвать у вас тоску по родине подобно тому, как пастуший ро-
жок заставил бедного швейцарского ландскнехта из немецко-
го отряда в гарнизоне Страсбурга переплыть Рейн; он был
пойман и расстрелян “за то, что слишком заслушался альпий-
ского рожка”.
Теофиль Готье
20 февраля 1868 г.
Комментарии
л\ак можно заметить, большую
часть настоящего сборника занимают сочинения Бодлера. Со-
ответственно и комментарий к ним гораздо обширнее. В пре-
дисловии Клода Пишуа ко французскому изданию “Искусст-
венного рая”, вместившему в себя три из четырех рассказов Го-
тье, которые мы сочли необходимым включить в нашу книгу,
написано следующее “Коль скоро мы решили совместить в на-
шем томе знаменитые тексты Бодлера и три статьи Теофиля Го-
тье, посвященные той же теме и так же, как и они, составляю-
щие диптих — гашиш и опиум,— то это было сделано не толь-
ко для того, чтобы извлечь из забвения те или иные, порой
очаровательные, страницы — к примеру, гофманоподобные
вариации “Клуба любителей гашиша”; это было сделано преж-
де всего для того, чтобы с большей наглядностью показать ве-
личие Бодлера”. Этому замечанию вторит более откровенное
мнение Андре Жида, высказанное им в 1911 году: “Несомнен-
но, Теофиль Готье занимает значительное место; беда лишь в
том, что он ему плохо соответствует”. Американский поэт Эзра
Паунд, с почтением относившийся к Готье и испытавший в
своем творчестве его влияние, считал, что достижения этого
поэта были плодом скорее его недостатков, чем достоинств -
разумеется, они совершенно неотделимы друг от друга. Нис-
колько не умаляя заслуг Готье, мы тем не менее убеждены, что
в вопросах сущности и смысла искусства вклад Бодлера явля-
ется гораздо более весомым. Что же касается поэзии, то здесь
можно вспомнить мнение Поля Валери, который написал в
своей статье “Место Бодлера”: “Лучшие стихи Бодлера содер-
жат в себе сочетание плоти и духа, смесь торжественности,
пылкости и горечи, вечности и задушевности, редчайший со-
юз воли с гармонией, резко отличающие их от романтической
поэзии, равно как и от парнасской”. Напомним, что Готье был
одним из ярких представителей парнасской школы. Наконец,
приведем слова самого Бодлера: “Мне известны люди, которые
не читают подчас посредственные фельетоны Теофиля Готье
лишь потому, что он написал Комедию Смерти”. Интересно,
350
что разница между двумя поэтами становится особенно оче-
видной именно при сопоставлении “Комедии Смерти” и бод-
леровского стихотворения “Плавание”. Готье просит у Смерти
отсрочку; Бодлер призывает ее как страшную и одновременно
желанную революцию, которая, однако, оставляет мир нетро-
нутым. Возможно, потому, что Готье так любил жизнь, ему бы-
ла мила благородная старость поэта, такая, которая по его сло-
вам, стала бы предвкушением вечности, такая, которая была у
Гете. “Но, — вздохнул он в одном частном разговоре, — для ста-
рости Гете мне не хватает по крайней мере одной вещи: графа
Веймара”.
Конечно, можно привести и другие, противоположные
мнения о значении поэзии Готье, но не будем затевать войну
цитат и ограничимся констатацией простого факта: влияние
Бодлера намного превосходит влияние Готье. Даже название
главного его сочинения — “Цветы зла” — путешествует по све-
ту вполне отдельно и в самых разных обличьях: недавно во
Франции под заголовком “Русские Цветы зла” вышел сборник
современных рассказов, авторы которых по сравнению со
своим предтечей обладают как минимум одним превосходст-
вом — численным. Но если эти цветы сейчас перестали быть
изысканной редкостью и даже местами сделались сорной тра-
вой, то это не вина Бодлера: на его наследии, на этой столь ча-
сто посещаемой части поля великой литературы, как перед
входом в общественный сад города Тарб — родины Теофиля
Готье — теперь, видимо, придется написать: “Вход с цветами
категорически запрещен”.
В заключение следует упомянуть, что огромную по-
мощь в составлении комментариев оказали следующие изда-
ния:
Baudelaire Ch. Ecrits виг I’Art. Edition selon 1’ordre
chronologique etablie, presentee et annotee par Yves
Florenne. P., 1971.
Baudelaire Ch. Curiosltes esthetiques. L’Art romantique et
autres Oeuvres critiques. Textes etablis avec introduction,
releve de variantes, notes et bibliographic par Henri
Lemaitre. P., 1962.
Baudelaire Ch. Les paradls artificlels. Edition etablie et
presentee par Claude Pichois. P., 1961.
Бодлер Ш. Цветы зла /Издание подготовили Н.И. Бала-
шов, И.С. Поступальский. М., 1970.
Delvaille, Bernard. Un tableau synoptique de la vie et des
oeuvres de Theophile Gautier. P., 1968.
351
ТРУБКА ОПИУМА
LA PIPE D’OPIUM
Впервые опубликован 27 сентября 1838 года в газе-
те “Ля Пресс”. В 1852 году рассказ был включен в III том
романа “Тигровая шкура”, а затем, в 1863 году, — в сбор-
ник “Романы и рассказы”, опубликованный издательст-
вом Шарпентье (впоследствии переизданный издательст-
вом Факелль в серии “Библиотека Шарпентье”). По срав-
нению с окончательным текстом, принятым в настоящем
издании, первоначальный текст содержал небольшое ко-
личество отличий.
Русский перевод текста печатается впервые.
Стр. 23. Альфонс Карр (1808-1890)— французский
писатель, автор множества произведений, из которых
наиболее знаменит роман “Женевьева”. В более поздних
сочинениях выступил против католической церкви.
Стр. 24. ...эбеновый потолок с золочеными арабе-
сками — потолок из эбенового, т.е. черного, дерева: очень
твердая древесина некоторых видов тропических деревьев
семейства эбеновых, используемая для изготовления ме-
бели, музыкальных инструментов и т.д. Арабески — вид
сложного .орнамента, состоящего из геометрических фи-
гур, стилизованных цветов и т.д., получивший распро-
странение в европейском искусстве главным образом под
влиянием арабских образцов.
лафит — один из лучших сортов французского ви-
на бордо с легким, тонким и нежным вкусом.
Стр. 25. Эскирос — Анри Альфонс Эскирос (1812-
1876), французский поэт и политик, заключенный в тюрь-
му за книгу “Евангелие от народа”, а впоследствии вы-
сланный из Франции и долгое время живший в Англии,
пока амнистия не позволила ему вернуться на родину.
мандрагора — мандрагора, или Адамово дерево,
корень которого обладает наркотическим действием; древ-
ние верили, что с его помощью можно сделаться невиди-
мым, и носили его как амулет против колдовства.
Стр. 26. Исида — в древней египетской мифологии
богиня жизни и здоровья, покровительница плодородия и
материнства.
352
Стр. 27. ..«мы ехали по улице Тур-д’Овернъ» затем
Белъфон» затем Лафайет» — улицы в Париже.
брекчия (итал. поломанные) — горная порода, со-
стоящая из угловатых обломков, соединенных между со-
бой каким-нибудь минеральным веществом.
просфора — квасный пшеничный хлеб, употребля-
емый на православной литургии для совершения таинства
причащения (греч. “приношение”).
Стр. 28. Людовик XVI (1754-1793) — король Фран-
ции, казненный по приговору национального Конвента во
время Великой французской революции.
Малибран — Мария Фелисита Марибран (1808-
1836), оперная певица, одна из величайших драматичес-
ких певиц, дебютировавшая в 1825 году в Лондоне в “Се-
вильском цирюльнике” Россини.
Стр. 29. Я без колебаний ответил» что ее зовут
Карлотта... — Готье, без сомнения, думал о Карлотте Гри-
зи (1819-1899), оперной певице, дебютировавшей в Пари-
же. Готье первым написал о ней статью. Карлотта Гризи
пела затем в опере “Жизель”, поставленной по либретто
Готье (1841). Он также посвятил ей несколько стихотворе-
ний. Впоследствии Гризи вышла замуж за принца Родзи-
вилла и поселилась в Швейцарии, близ Женевы, где и
умерла.
рулада (фр.) — быстрый, виртуозный пассаж, му-
зыкальная последовательность тонов в быстром движе-
нии, чаще всего трудная для исполнения.
кантилена (итал.) — певучая мелодия.
12—511
ГАШИШ
LE HACHICH
Впервые опубликован 10 июля 1843 года в газете “Ля
Пресс” после рассказа о драме и водевиле. Свою статью Го-
тье начал так: “На этой неделе театральная жизнь выда-
лась, как видите, скудной — одна мелодрама едва ли в пя-
ти актах и водевиль в простейшем своем выражении; это
мало. По причине отсутствия спекталей мы решили дать
самим себе представление, не выходя из комнаты, в угол-
ке дивана. Нам давно приходилось слышать [...]” Без уче-
та рассказа о драме и водевиле этот текст был воспроизве-
ден в “Ле Мессажер”, журнале конституционных принци-
пов, в номере от 11 июля 1843 года под заголовком: “Раз-
ное. Гашиш”. При этом была сделана ссылка на “Ля
Пресс”. Впоследствии этот текст был включен во II том
книги “Восток”, опубликованной издательством Шарпен-
тье в 1877 году. Указанный текст всюду печатался без
сколько-нибудь значительных вариантов.
Русский перевод текста печатается впервые.
Стр. 30. ...рассказ о несыгранных пьесах заменит
анализ наших собственных ощущений — см. примечание
выше.
...Гераклит разражается хохотом, а Демокрит —
рыданиями. — Готье показывает чудесную перемену
чувств на примере двух греческих философов: Гераклита
(ок. 350 г. до н.э.), считавшего движение и изменение ес-
тественными состояниями мира, и Демокрита (ок. 460-
370 гг. до н.э.), чей механический материализм и уверен-
ность в постоянстве вещей принесли ему репутацию “сме-
ющегося философа” в противовес “плачущему Геракли-
ту”, автору изречения “все течет, все изменяется”.
Горный Старец — Готье подробнее останавливает-
ся на нем далее в рассказе “Клуб любителей гашиша”.
Стр. 31. Один из наших товарищей, доктор***... —
это был доктор Моро, который в своей книге “О гашише и
умственном отчуждении. Психологические очерки” (Па-
риж, 1845) написал следующее:
“Теофиль Готье, один из наших наиболее знамени-
тых писателей, слышал о воздействии гашиша. Он выка-
зал передо мной живейшее желание получить возмож-
ность самому судить о нем со всяческими заверениями в
354
том, что он мало расположен верить этому. Я поспешил
удовлетворить его, совершенно убежденный, что для того,
чтобы быстро и полностью развеять его предубеждения,
достаточно всего нескольких граммов давамеска. И, дей-
ствительно, действие гашиша было энергичным и захва-
тывающим, усиленное к тому же тем, что тот, кто испыты-
вал его на себе, меньше опасался его и был, так сказать, за-
хвачен врасплох”.
Стр. 32. эоловая арфа — струнный музыкальный
инструмент, состоящий из деревянного ящика, в котором
натянуто несколько струн, приводящихся в колебание
движением ветра; имеет нежное мелодическое звучание
(от Эола, в древнегреческой мифологии бога ветров).
...мелодий из “Люции" или “Цирюльника" — име-
ются в виду опера “Люция ди Ламермур” итальянского
композитора Гаэтано Доницетти (1797-1848) и опера “Се-
вильский цирюльник” Россини.
Пантагрюэль — главный персонаж романа Фран-
суа Рабле (1483-1553), французского писателя. Имя Пан-
тагрюэля появляется еще в мистериях XV века, где он вы-
ступает как бес, который сыплет соль в рот спящим. Поэ-
тому у Рабле Пантагрюэль имеет при себе судно с грузом
соли и называется королем дипсодов (по-гречески — жаж-
дущие). В романе он также путешествует по островам, на-
селенным разными диковинными существами.
...какие-то гетероклитные существа... — т.е.
странные, необычные существа.
качуча — грациозный испанский танец страстного
характера, исполняемый одним лицом под аккомпане-
мент кастаньеты и на мелодию одной испанской народной
песни.
Стр. 33. царица Савская — царица, приезжавшая в
Израиль послушать мудрость Соломона, царя израильско-
го.
Меркурий — в древнеримской мифологии бог ско-
товодства и торговли, покровитель путников, вестник бо-
гов.
12*
КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ГАШИША
LE CLUB DES HACHICHINS
Впервые опубликован 1 февраля 1846 года в “Ревю
де де монд”, новая серия, выпуск XIII, страницы 520-535.
В 1851 году Готье включил этот текст в III том романа
“Прогулка вчетвером”. Впоследствии “Клуб любителей га-
шиша” составил заключительную главу в сборнике “Рома-
ны и рассказы”, которая следовала сразу за “Трубкой опи-
ума” (издательство Шарпентье, 1863 год). Единственное
важное расхождение между этими двумя вариантами со-
стоит в том, что в “Романах и рассказах” Готье разбил
текст на большее число абзацев, чем в сжатом тексте в “Ре-
вю де де монд”.
Стр. 34. Одним декабрьским вечером... — вот отры-
вок из пригласительного письма, которое Готье получил
от Фернана Буассара (см. примечание к статье “Шарль Бо-
длер”):
“Ты должен прибыть завтра часам к пяти, в воен-
ном мундире — это нужно для того, чтобы фантазия могла
благоприятно развиться и заполнить собою весь вечер”.
остров Сент-Луи — один из двух островов на реке
Сене в центре Парижа, соединенный мостом с более круп-
ным островом — Сите.
Лозен — урожденный Антуан Номпар де Комон
(1633-1723); герцог, фаворит Людовика XIV, получивший
от короля титул маршала Франции.
Стр. 35. Людовик XIV (1643-1715) — король Фран-
ции, во время правления которого главенствующим сти-
лем в архитектуре, мебели и орнаменте было барокко.
Лебрен — Шарль Лебрен (1619-1690), француз-
ский живописец, основатель Академии художеств, автор
фресок в Версальском дворце и различных замках. Его
произведения обнаруживают большую фантазию, но стра-
дают неестественным пафосом и аффектацией.
Амур — в древнегреческой мифологии бог любви,
изображаемый в виде крылатого мальчика с луком и стре-
лами.
утрехтский бархат — бархат, который выпуска-
ли в голландском городе Утрехте.
Версаль — имеется в виду Версальский дворец, за-
городная резиденция короля, выстроенный в 1627 году
при Людовике XIV.
356
Лемуан — Франсуа Лемуан, французский живопи-
сец (1688-1737), картины которого отличаются изяществом,
нежностью колорита, грациозностью и свежестью мотивов.
Стр. 37. гурии — красавицы, которые, по обеща-
нию Магомета, пророка Аллаха, прислуживают правовер-
ным в раю — подобно Валькириям в Валгалле, раю для во-
инов северогерманских мифов.
Гаммер — Иосиф Гаммер-Пургшталь (1774-1856),
австрийский ученый-ориенталист, президент Академии
наук в Вене, в свое время считавшийся лучшим знатоком
Персии, Аравии и Турции.
агапа — вечеря любви у первых христиан.
Стр. 38. Бернар де Палисси (1510-1590) — фран-
цузский живописец по стеклу и гончар, изобретатель спо-
соба покрывать глиняные сосуды и блюда цветной эма-
лью. Эмалированные, декоративные, овальные блюда Па-
лисси отличаются изображениями на их внутренней по-
верхности полурельефных фигур: черепах, змей, раков,
лягушек и растений.
крисы, навахи — наваха — испанский длинный
складной нож, служивший оружием; крис — кинжал,
употреблявшийся малайцами в качестве оружия.
Стр. 39. фриз — бордюр потолка, обычно украшен-
ный сложным орнаментом.
брокателевые занавески — занавески из тяжелой
шелковой материи, вышитой узорами и цветами.
бержерка — длинное, глубокое кресло с мягкой
спинкой (фр.).
Стр.40. Давкус-Карота из Золотого Горшка —
Давкус-Карота, король-морковка, персонаж произведе-
ния Гофмана. “Золотой горшок*9 — название повести Гоф-
мана.
баски — украшения особой формы ниже линии та-
лии.
каплун — выхолощенный, кастрированный петух.
Стр. 41. ...какие найдешь разве что в офортах
Калло и акватинтах Гойи — Жак Калло (1592-1635),
французский рисовальщик, гравер и офортист, которого
отличало умение окружать обаянием романтизма самые
обыкновенные и обыденные вещи. Франциско Хосе де
Гойя-и-Люсьентес (1746-1828), испанский художник и
357
гравер. Его акватинты (гравюры, получаемые травлением
металлической пластины сквозь нанесенную на нее ас-
фальтовую или канифольную пыль) поражают жизненно-
стью изображения и совершенством техники.
...неаполитанский Пульчинелла свойски хлопал
по горбу английского Панча — Пульчинелло — одна из ма-
сок народной итальянской комедии, представляемой на
всех праздниках в Неаполе во время карнавала. Панч —
главное лицо английской кукольной комедии.
Арлекин — одна из масок итальянской comedia
dell* arte.
Тарталъя (итал. “заика”) —характерная маска не-
аполитанской народной комедии.
Жиль — персонаж романа А.Р.Лесажа “История
Жиль Блаза из Сантильяны” (1715-1747).
Стр. 42. Карагез (тур. “черноокий”) — персонаж
народного турецкого театра, представления которого про-
ходили в течение рамазана, мусульманского поста.
...как сказал Гете в Вальпургиевой ночи — имеет-
ся в виду сцена “Вальпургиева ночь” из трагедии Гете
“Фауст”. Ночь накануне праздника католической святой
Вальпургии, день почитания которой (1 мая) совпадал с
языческим праздником начала весны у древних герман-
цев, когда, по народным поверьям, на горе Брокен в Гер-
мании происходит “великий шабаш” ведьм. См. также
примечание к эссе Бодлера “Искусственный рай”.
...выводили своими антраша или балансе... — ант-
раша (фр.) в классическом балете прыжок, во время кото-
рого вытянутые ноги танцовщика скрещиваются в возду-
хе несколько раз. Балансе — исполнение танцевальной
фигуры в трудном положении на точке без опоры.
Арналь — Этьен Арналь (1794-1872), французский
комик, приобретший известность за исполнение ролей в
водевилях.
...кабы вы могли присутствовать на этом балу
Густава... — Густав, герой драматической поэмы Адама
Мицкевича (1798-1856) “Дзяды”, действие которой разво-
рачивается на фоне народных поверий, преданий и суеве-
рий, создающих фантастическую картину, где реальность
смешивается с мистикой.
...сколько брюшек, раздутых от пантагрюэльских
фокусов! — см. примечание к рассказу Готье “Гашиш”.
Стр. 43. ...сколько карикатур на зависть Домье и
Гаварни.„ — Оноре Домье (1808-1879), французский рисо-
358
вальщик и карикатурист, чьи сатирические литографии
обличали современное ему французское правительство и
общество. Поль Гаварни, псевдоним Сульпиция Гюильома
(1804-1866), французского рисовальщика, сатирически
иллюстрировавшего жизнь парижского общества.
...сколько Фидиев толстяков и макак... — см. при-
менение к стр. 27 эссе Бодлера “Искусственный рай”.
Стр. 44. Начатая тема была, по-моему» партией
Агаты из “Фрейшица”... — опера “Вольный стрелок” не-
мецкого композитора Карла Марии Фридриха Эрнста фон
Вебера (1786-1826).
ларвы — по верованиям древних римлян, злые ду-
хи, души умерших злых людей, страшилища, ужасные
привидения.
Фрибург — Фрибург или Фрейбург, город в Швей-
царии, достопримечательный церковью святого Николая
с башней высотой 86 метров и знаменитым органом.
...душа Вебера вселилась в меня. — см. примеча-
ние выше.
...ставлю выше шедевров Россини, Мейербеера и
Фелисъена Давида. — Джоакино Антонио Россини (1792-
1868), великий итальянский композитор, автор опер “Се-
вильский цирюльник” и “Вильгельм Телль”. Джиакомо
Мейербеер (1796-1864), выдающийся французский опер-
ный композитор. Фелисьен Давид, псевдоним Фелисьена
Цезара (1810-1876), французского композитора.
Стр. 45. ...гашишный Ромео позабыл свою Джуль-
етту. — Ромео и Джульетта персонажи одноименной тра-
гедии Вильяма Шекспира (1564-1616), великого англий-
ского драматурга и поэта.
...прекраснейшая из дочерей Вероны... — речь идет о
Джульетте.
Прелестные призраки» которые искушали свято-
го Антония... — имеется в виду Антоний Великий (251-
356), основатель монашества, около тридцати лет живший
в Египте в пещере, среди развалин, неподалеку от Алек-
сандрии, и был искушаем по ночам дьяволом в образе пре-
красной женщины.
Сиринга — нимфа, бежавшая от преследований
Пана и превратившаяся в тростник, из которого Пан выре-
зал себе дудку, названную ее именем.
...изображала дочь Ладона» преследуемую Паном. —
Вог реки в Аркадии, сын Океана и Фетиды, отец Сиринги.
Пан, бог лесов, покровитель стад и пастухов, наводящий
359
на людей ужас своим безобразным видом (отсюда “паниче-
ский страх”); изображался в виде волосатого существа с
козлиными рогами и копытами.
...как Пак Боттому... — Пак и Боттом, персонажи
английского фольклора, где первый выступает как злой
дух, а второй — как добрый.
Стр. 46. ..л был цвета индиго, будто Шива, голу-
бой бог. — в брахманизме и индуизме — один из трех выс-
ших богов, бог-разрушитель.
каббалисты — сторонники каббалы, средневеко-
вого мистического учения в иудаизме, проповедовавшего
поиск основы всех вещей в цифрах и буквах еврейского ал-
фавита.
Tread-mill — здесь: бег на месте (англ.).
Стр. 47. ...как у Дафны в Тюильри... — имеется в ви-
ду статуя нимфы Дафны в Тюильри, дворце в Париже, слу-
жившем со времен Людовика Х1П резиденцией француз-
ских королей и императоров; в 1871 году сожжен коммуна-
рами.
..л мог бы сыграть Командора из Дон Жуана —
тлеется в виду опера “Дон Жуан” Вольфганга Амадея Мо-
царта (1756-1791), великого австрийского композитора.
башня Лилак — башня из цикла о короле Артуре и
рыцарях Круглого стола.
химера — в древнегреческой мифологии чудовище
с огнедышащей львиной пастью, хвостом дракона и туло-
вищем козы.
Стр. 48. Пиранези — Джованни Батиста Пиранези
(1720-1778), итальянский художник, прославившийся
гравюрами на архитектурные темы и способствовавший
появлению неоклассицизма.
Стр. 49. На сей раз заменим арфу Давида роялем
Эрара — арфа пирамидальной формы и небольшого разме-
ра, подобная тому инструменту, на котором израильский
царь Давид играл сочиненные им псалмы. Рояль Эрара —
на самом деле Себастьен Эрар изобрел механизм двойной
педали для арфы, позволяющий перестроить каждую
струну последовательно на два полутона выше.
Стр. 50. ...будто офицеры после похорон Мальб-
рука — граф Джон Черчиль Марльборо (1650-1722), ан-
глийской полководец и государственный деятель, глав-
360
нокомандующий английской армией во время войны за
испанское наследство, разбивший французские войска
при Мальплакэ, герой известной французской народной
песни.
ТЫСЯЧА ВТОРАЯ НОЧЬ
LA MILLE ЕТ DEUXIEME NUIT
Этот рассказ был включен в сборник “Романы и
рассказы” издательства “ Шарпе нтье”, опубликованный в
1863 году.
Русский перевод текста дается по изданию: Готье
Теофиль. Клуб гашишистов. Пер. Л. Перхуровой. М.,
1918.
Стр. 51. Камилл Рокеплан (1806-1894) — француз-
ский живописец, один из наиболее блистательных членов
художественной группы Бонингтона, Изабэ и Делакруа.
Алинъи (1798-1871) — французский живописец.
Готье писал о нем, что он “ищет красоту в каменном дубе
или в олеандре, как греческий скульптор — профиль боги-
ни” и что он “придает стволам деревьев изящество антич-
ной скульптуры”. Бодлер считал, что Алиньи достигает в
своих полотнах сходного, но куда более бедного чувства,
чем Коро — в своих.
Фёшер — см. примечание к статье “Шарль Бод-
лер”.
Стр. 52. Una mujer тиу bonita... — очень красивая
женщина со своей сестрой, которая хочет поговорить с ва-
ми (исп.).
бурнус — род плаща, преимущественно из белой
шерстяной материи с капюшоном.
Стр. 53. шемизетка — манишка.
феска — темно-красная шерстяная шапочка с чер-
ной или голубой кистью.
драгоман — переводчик при посольствах на Восто-
ке (фр.).
Стр. 54. Галланд — Антуан Галланд (1646-1715),
французский востоковед и нумизматик.
fames facit poetridas picas — голод делает поэзию
острой (лат.).
Карр — см. примечание к рассказу “Трубка опиу-
ма”.
Жюль Жанен — см. примечание к статье “Советы
молодым литераторам”.
Стр. 55. наргиле — кальян.
пери — по верованиям восточных народов, крыла-
362
тые нежные духи вроде эльфов (перс.).
Стр. 56. атар-гулла — эфирное розовое масло.
паланкин — носилки в виде крытого кресла.
чауш — полицейский чиновник (тур.).
Стр. 58. Алъ Борак — белая крылатая лошадь, на
которой Магомет, по мусульманскому поверью, совершил
путешествие на небо.
яшма — разноцветный камень из семейства квар-
цев.
амбра — ароматическое сероватое вещество, упот-
ребляемое для приготовления духов.
гяур — неверный иноземец (тур.).
Стр. 60. Хиос — турецкий остров в Эгейском море
к югу от Лесбоса, отделенный от Малой Азии проливом; в
древности славился своим мрамором.
Стр. 61. Азраил — ангел смерти, который, по веро-
ваниям мусульман, принимает последний вздох и душу
умирающего.
Гулистан — резиденция ханов Золотой Орды, не-
далеко от Сарая.
саше — ароматическая подушечка, которая кла-
дется между бельем для придания ему приятного запаха.
цибет — вещество с сильным запахом мускуса, по-
лучаемое от виверы — животного, которое выделяет его.
Стр. 62. феллах — крестьянин. в Египте и Аравии.
Стр. 65. Фирдуси — Абдул Казим Фирдуси (935-
1020), великий персидский поэт, автор поэмы “Шах-На-
ме” (“Книга царей”)* За неканонические места, содержа-
щиеся в этой поэме, ему было отказано в погребении на
мусульманском кладбище.
Саади — шейх Моелих-эддин, знаменитый персид-
ский поэт (1184-1291).
Стр. 66. карбункул — пирон, красный гранат.
О ВИНЕ И ГАШИШЕ
DU VIN ЕТ DU HACHISH
Впервые опубликовано в “Вестнике Ассамблеи”
(Le Messager de I’Assemblee) в выпусках от 7, 8, 11 и 12
марта 1851 года. Впоследствии это эссе, как и “Искусст-
венный рай”, было включено в IV том так называемого
окончательного “Полного собрания сочинений Шарля Бо-
длера” (издательство “Мишель Леви с братьями”, 1869),
подготовленного совместно Шарлем Асселино и Теодором
де Банвилем, которые внесли в текст некоторые измене-
ния, в частности касающиеся орфографии. Текст 1869 го-
да сопровождался следующим примечанием: “В этом пер-
вом исследовании о гашише, опубликованном за десять
лет до второго, можно, естественно, обнаружить некото-
рые наблюдения, повторенные в его окончательной редак-
ции. Сам автор был вправе без зазрения совести использо-
вать этот вариант спустя десять лет, что он и сделал, вос-
произведя отдельными местами и почти в тех же выраже-
ниях истории, приведенные в его предыдущей работе. Не-
смотря на неудачное впечатление вследствие этого, мы
воздержались от внесений изменений и сочли неизбежное
повторение отдельных мест меньшим злом, чем их удале-
ние, которое разрушило бы пропорциональность и равно-
весие той или иной редакции”.
Стр.* 69. патриарх Ной — согласно Библии (Бы-
тие, 10:20), строитель ковчега, родоначальник послепо-
топного человечества, который вместе с сыновьями начал
возделывать землю, насадил виноградник и сделал вино.
Бриллъа-Саварен — Ансельм Брилльа-Саварен
(1755-1826), французский писатель. Его сочинение, упо-
минаемое Бодлером, в свое время пользовалось большим
успехом и многократно переиздавалось.
Стр. 70. Лаватер — Иоганн-Каспар Лаватер (1741-
1801), философ, известный своей попыткой основать “Фи-
зиономику” — психофизиологическую науку с обширным
углублением в эстетику. Мистическая сторона учения Ла-
ватера имела существенное влияние на самых разных пи-
сателей и художников — от Вильяма Блейка до Бодлера и
от Гете до Бальзака.
Бероалъд де Вервиллъ — Франсуа Бероальд де Вер-
ви лль (1558-1612), французский писатель. “Средство
стать” — самое известное из всех его сочинений в прозе, в
364
котором остроумные замечания соседствуют со скабрезны-
ми, было впервые издано анонимно и без обозначения года.
Я открываю “ Крейслериану” божественного Гоф-
мана... — Эрнст Теодор Амадей Гофман (1774-1822), не-
мецкий писатель, автор знаменитых сказок. Бодлер упо-
минает его “духовный барометр” также в эссе “Искусст-
венный рай”.
жюрансон — сорт вина, которое производится из
винограда, выращиваемого во французской Юре.
бургундское вино — французское вино темно-пур-
пурного или белого цвета, ароматное, маслянистое и очень
крепкое, но нежное и приятное на вкус.
Стр. 71. Бальзак — Оноре де Бальзак (1799-1850),
писатель, классик французской литературы, который
считается основателем школы реализма. Собрание его со-
чинений, описывающих нравы общества, известно под на-
званием “Человеческой комедии”.
Порой мне кажется, будто я слышу, как вино гово-
рит... — стихотворный вариант этого фрагмента вошел в
сборник “Цветы зла” под названием “Душа вина”.
Стр. 73. ...населенных мелкими хозяевами холма
Святой Женевьевы — район в Париже.
остров Святой Елены — место ссылки Наполеона I
(1769-1821), императора Франции и короля Италии, после
поражения под Ватерлоо в 1815 году.
Стр. 74. Дроллинг — Мишель-Мартен Дроллинг
(1789-1851), французский исторический и портретный
живописец, чьи произведения отличаются грациозностью
композиции, правильностью рисунка и реализмом изобра-
жения, но производят несколько холодное впечатление.
Стр. 75. Паганини — Николо Паганини (1782-
1840), итальянский скрипач-виртуоз и композитор.
Орфей — Орфей, в древнегреческой мифологии,
певец, чье пение очаровывало не только людей, но и диких
зверей, деревья, скалы, реки.
Стр. 76. Юра — горный район в Швейцарии и
Франции.
Стр. 77. Последовали сцены в духе Кеана и Фреде-
рика. — Эдмунд Кеан (1789-1833), один из величайших
английских актеров-трагиков. Кеан был новатором в сво-
ем искусстве, восстановив на театральной сцене главенст-
365
во натурализма, опиравшегося на подвижность актера
вместо модного тогда статичного положения. Самая изве-
стная роль Кеана — Отелло в одноименной трагедии Шек-
спира. Леон Фредерик (1851*1908), бельгийский физио*
лог, профессор университета в Лееже.
Вакх — в древнегреческой мифологии бог произво-
дительной силы природы и, в частности, вина, так как
первым посадил виноградную лозу и стал приготовлять из
винограда вино.
Стр. 83. Начинаются галлюцинации — есть осно-
вания считать, что Бодлер испытывал на себе действие га-
шиша, возможно, даже до и несомненно после своего путе-
шествия на Реюньон и Маврикий, которое удерживало его
вдали от Парижа с мая 1841 до марта 1842 года. По свиде-
тельству Шарля Кузена, Бодлер именно под действием га-
шиша нарисовал свой портрет в полный рост, изобразив
себя в два раза выше Вандомской колонны.
Здесь вправду есть что-то от сюжета “Шагрене-
вой кожи" — роман Оноре де Бальзака.
Стр. 84. ундина — по средневековым поверьям,
дух воды в образе женщины.
Стр. 86. togatus — тогат, комедиант, актер в тога-
те, древнеримской комедии, получившей свое название от
тоги —национальной одежды римлян.
ИСКУССТВЕННЫЙ РАЙ
LES PARADIS ARTIFICIELS
“Искусственный рай** при жизни Шарля Бодлера
издавался дважды. Третье издание вышло после смерти
поэта. Сначала отдельные части книги были напечатаны в
журнале “Современное обозрение и французское научно-
литературное общество** (Revue contemporaine et
Athenoeum francais) в таком порядке: “Поэма о гашише’* в
номере от 30 сентября 1858 года, а “Искушения и муки
любителя опиума” (то есть “Любитель опиума”) — в номе-
рах от 15 и 31 января 1860 года. Затем Бодлер объединил
эти статьи в единую книгу, опубликованную в 1860 году
издательством Пулэ-Маласси и Де Бруаз, где ранее вышли
“Цветы зла”. В этом издании впервые появилось загадоч-
ное посвящение Ж.Ж.Ф., а также дополненный текст не-
крологической заметки о Де Квинси (дополнение начина-
ется с абзаца, где упоминается статья от 17 декабря 1859
года). Текст издания 1860 года с некоторыми изменения-
ми, сделанными друзьями Бодлера Шарлем Асселино и
Теодором де Банвилем, был включен в IV том так называ-
емого окончательного “Полного собрания сочинений Шар-
ля Бодлера**, опубликованного издательством “Мишель
Леви с братьями”. Этот IV том начинался с “Маленьких
стихотворений в прозе” и заканчивался “Фанфарло” и
“Молодым очарованием”.
На русском языке “Искусственный рай” впервые
вышел в 1912 году в переводе Лихтенштадта. В нашем из-
дании использован новый перевод, сделанный с француз-
ского издания образца 1860 года, которым Шарль Бодлер,
по его собственному признанию, после многочисленных
исправлений остался доволен.
Стр. 90. Посвящается Ж.Ж.Ф. — Существуют
предположения, что книга посвящена некой Жюльетте
Жекс-Фагон, вознамерившейся “спасти сердце Шарля**.
Она была подругой мадам Сабатье, в салоне которой в 50-е
годы собирались литераторы и художники. По другим
предположениям, это посвящение относится к опиуму.
.. .подлинная действительность существует
лишь во сне... — измененная цитата из предисловия Эдгара
По к “Эврике”: “Я предлагаю эту книгу тем, кто верит
снам как единственной реальности!”
Электра — в древнегреческой мифологии дочь
Агамемнона и Клитемнестры, сестра Ифигении и Ореста,
которого она спасла от убийц отца и которому помогала
367
впоследствии в борьбе против Эгиста и Клитемнестры.
Орест — см. предыдущее примечание.
Стр. 91. ...подобно Гофману... — см. примечание к
эссе “О вине и гашише”.
Стр. 92. ...как сказал автор “Лазаря"... — речь
идет о Франсуа Рене Шатобриане (1768-1848), знаменитом
французском писателе, поэте и авторе романтических со-
чинений.
Стр. 94. Марко Поло (1254-1324) — венецианский
путешественник, долгое время состоявший на дипломати-
ческой службе при дворе китайского императора, что обес-
печило ему широкие возможности для путешествий. За-
писки Марко Поло столетиями были главным источником
сведений о странах Азии.
...в книге Гаммера и воспоминаниях Сильвестра де
Саси... — см. примечание к рассказу Готье “Клуб любите-
лей гашиша”.
Геродот (ок. 484 г. до н.э.) — первый греческий ис-
торик, чьи сочинения отличаются богатством содержания
и полнотой сведений едва ли не о всех народах известного
тогда мира.
Стр. 95. ...опыты Смита, Гастинеля и Декур-
тиля... — Джеймс-Эдвард Смит (1759-1828), известный
английский врач и ботаник, основатель Линнеевского об-
щества в Лондоне. Леон-Густав-Киприен Гастинель (1823-
1906), французский композитор. Мишель-Этьен Декур-
тиль (1775-1836), французский врач и ботаник, который
многие годы провел в колониях Франции.
Стр. 102.... горе тому, чрез которого соблазн при-
ходит! — слова из Евангелия от Матфея, 18:7: “Горе миру
от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам; но горе тому
человеку, чрез которого соблазн приходит”.
Стр. 105. “Эсфирь" — опера-оратория Георга Фри-
дриха Генделя (1685-1759), написанная им в 1705 году
для герцога Чандоса по мотивам библейского сюжета об
Эсфири, иудеянке, царице персов, которая была племян-
ницей и приемной дочерью еврея Мордохая и благодаря
своей красоте сделалась женой царя Артаксеркса. Ей уда-
лось расстроить план министра Амана, замышлявшего по-
губить еврейский народ. Аман был повешен, а на его мес-
368
то назначен Мордохай. При этом произошло восстание иу-
деев, в котором было истреблено до 75 000 персов. В па-
мять об этом событии был установлен праздник Пурим.
...что Аман признается в любви царице — см. пре-
дыдущее примечание.
Расин — Жан де Расин (1639-1699), великий фран-
цузский драматург, отличительной чертой творчества ко-
торого считается правдоподобное изображение борьбы и
противоречия страстей.
Мейсонье — Жан Луи Эрнест Мейсонье (1815-
1891), французский художник. Он любил писать фигуры в
костюмах эпохи Людовика XV, причем отличался особен-
ным изяществом рисунка и мастерством изображения
тканей.
Стр. 106. qui pro quo — путаница, недоразумение
(лат.).
Стр. 112. ...enchained, fettered, enslaved! — (англ.)
закованный в цепи, опутанный, порабощенный.
Лигея — персонаж рассказа Эдгара По “Лигея”.
Эгей, любовник светлой Вереники... — персонажи
рассказа Эдгара По “Береника”, который Бодлер перево-
дил на французский язык.
Стр. 113. Огюст Бедло — персонаж рассказа Эдга-
ра По “Воспоминания господина Огюста Бедло”. В своей
статье о творчестве Эжена Делакруа Бодлер приводит сле-
дующий отрывок из этого рассказа: “...воздействие опиу-
ма на чувства заключается в пробуждении к природе
сверхъестественного интереса, который придает каждому
предмету более глубокий, более произвольный, более дес-
потичный смысл”.
Стр. 114. Протей — в древнегреческой мифологии
морское божество, которому приписывали дар прорица-
ния и способность произвольно менять свой вид.
...Орфеями, победившими ад — согласно мифу, Ор-
фей спустился в ад и спас свою жену Эвридику из царства
Аида.
Де Квинси — Томас Де Квинси (1785-1859), анг-
лийский писатель. См. некрологическую заметку Бодлера
на стр. 171.
Стр. 115. Фурье и Сведенборг — Жан-Батист Жо-
зеф Фурье (1768-1830), французский математик и физик,
369
создатель знаменитых рядов Фурье. Эммануэль Сведен-
борг (1688-1772), шведский ученый, философ и религиоз-
ный писатель.
Стр. 117. Плиний — Гай Плиний Второй, извест-
ный как Плиний Старший (23-79 г. н.э.), римский писа-
тель, прославившийся главным образом своей “Естествен-
ной историей”.
Стр. 118. „.поклонение бесстрастного Лингама,.. —
основатель религиозной секты лиигаитов в Южной Индии.
Эта секта, возникшая в ХП веке, стремилась восстановить
культ Шивы. Организация лиигаизма сходна с буддизмом.
Стр. 120. Жан-Жак — 'весьма. распространенное
обозначение Жан-Жака Руссо (1712-1778), французского
писателя и философа, автора знаменитой “Исповеди”,
столь высмеиваемой Бодлером.
pabulum — пища, питание (лат.).
Стр. 121. Кто из французских философов». — это
был Дени Дидро (1713-1784), глава французских энцикло-
педистов, один из самых влиятельных писателей эпохи
Просвещения. Выступил против проповедников религии
разума на стороне откровения и защищал его возмож-
ность. Среди поклонников его ума была императрица Ека-
терина II, которая, когда Дидро был в трудном материаль-
ном положении, выкупила всю его библиотеку.
Стр. 122. Мельмот — персонаж английского рома-
на “Мельмот, или Скиталец” Ч.Р. Метьюрина (1782-
1824), который оказал влияние не только на Бодлера, но и
на все “сатанинское” направление французского роман-
тизма. Мельмот исходил всю землю в поисках человека,
готового погубить свою душу за обладание этим миром, и
не нашел никого.
Луи Ламбер — персонаж романа Оноре де Бальзака.
Эль-Агуат — город в Алжире.
Стр. 123. Нарцисс — в древнегреческой мифоло-
гии сын речного бога Кефиса и нимфы Лейриопы, кото-
рый влюбился в свое собственное отражение, увиденное в
воде источника, и умер от тоски, вызванной этой любо-
вью.
Стр. 124. ..лузы Рафаэля или Мантеньи... — Ра-
фаэль (1483-1520), один из величайших живописцев эпо-
370
хи Возрождения. Андреа Мантенья (1431-1506), итальян-
ский живописец и гравер.
Аполлон — в древнегреческой мифологии сын Зев-
са, бог света, покровитель медицины и искусства.
...Франкавиллы ли, Альбрехта Дюрера, Гольциуса
или кого-то другого... — Пьер Франкавилла, или Фран-
швиль (1548-1616), французский скульптор, приобрет-
ший известность своими четырьмя статуями евангелистов
для генуэзского собора, впоследствии придворный
скульптор короля Генриха IV. Альбрехт Дюрер (1471-
1528), знаменитый немецкий живописец, гравер и рисо-
вальщик. Генрих Гольциус (1558-1617), голландский жи-
вописец и гравер, значительно продвинувший вперед тех-
нику гравировального искусства на меди.
Стр. 126. ...чем Фидий и Пракситель... — Фидии
(род. около 500 г. до н.э.), величайший скульптор Древней
Греции, создатель множества памятников, в частности
статуи Афины Паллады в афинском Парфеноне. Пракси-
тель (около 4 в. до н.э.), знаменитый афинский скульптор,
уцелевшие работы которого включают статую Гермеса, не-
сущего Диониса, которая была обнаружена на Олимпе.
...Вавилон и Гекатомпилос... — Вавилон, город в
Древней Месопотамии, столица Халдейского царства. Ге-
катомпилос (греч. — стовратный), так называли город Феб
в Древнем Египте, чтобы отличать его от греческого Феба,
находящегося неподалеку от Афин.
Стр. 127. touched with pensiveness — с печатью за-
думчивости (англ.).
humourist — здесь: остроумный (англ.).
Стр. 128. "Confessions of an English opium-eater,
being an extract from the life of a scholar^ — Исповедь анг-
лийского любителя опиума: история из жизни ученого
(англ.),
"Suspiria de prof undis" — Вздох из глубины (лат.).
Аллюзия на начало псалома 129: “Из глубины взываю к
тебе, Господи..”.
Стр. 130. Доктор Джонсон — Самуэль Джонсон
(1709-1784), известный как “доктор Джонсон”, английский
писатель и лексикограф, составитель “Словаря английско-
го языка” (1755) и автор “Жизни поэтов” (1779-1781).
Стр. 132. Солсбери — меловое плато в графстве
371
Уилтшир на севере Англии, место последней битвы леген-
дарного короля Артура.
...способным пробудить Семерых Спящих — име-
ются в виду Плеяды, в древнегреческой мифологии —
семь дочерей Атланта и ПлеЙоны, после смерти, согласно
мифу, помещенные Зевсом на небо в виде созвездия.
Стр. 133. Эврипид — один из трех великих гречес-
ких трагиков, автор таких знаменитых трагедий, как
“Ипполит”, “Электра”, “Ифигения”.
Вестморленд — город в Англии.
Северная Галлия — часть Уэльса.
Денбигшир» Мерионетшир» Кернарвоншир —
графства в Уэльсе.
Остров Мэн — остров в северной части Ирланд-
ского моря, принадлежащий Англии.
Стр. 134. анахорет — отшельник, пустынник
(греч.).
Стр. 135. методисты — религиозная секта англи-
канской церкви, члены которой, стремясь жить так, как
изложено в Священном писании, основывали правильно
организованные общины с молельными домами, имеющие
влияние на низшие слои населения.
...как мои сапфические или алкеические стихи —
стихи, написанные сапфическими или алкеическими
строфами, названными по имени их создателей — гречес-
кой поэтессы Сапфо (ок. 612-580 г. до н.э.) и греческого же
лирика Алкея (ок. IV в. до н.э.).
Стр. 136. Кромвель (1599-1658) — Оливер Кром-
вель, государственный деятель Англии, поддержавший
казнь короля Карла I и впоследствии возглавивший пар-
ламент. После восстановления власти Стюартов тело
Кромвеля было вынуто из могилы и повешено на висели-
це.
Робеспьер — Максимилиан Мари Исидор Робеспь-
ер (1758-1794), один из наиболее выдающихся деятелей
Великой французской революции.
Стр. 138. more socratico — на манер Сократа (лат.).
перипатетик — т.е. гуляка (по преданию, Ари-
стотель преподавал своим ученикам философию во время
прогулок). Перипатетическая школа была крупнейшим
центром античной науки. Бодлер использует здесь это по-
372
нятие для создания игры слов: см. далее — перипатетка,
т.е. проститутка.
shocking — шок, шокирование (англ.).
...сделав из своей маленькой Маргариты с красны-
ми руками бессмертное создание — речь идет о персонаже
поэмы Гете “Фауст”.
Стр. 140. home — дом (англ.).
АлбемарлСтрит — улица в Лондоне.
Doctor's commons — нотариальная контора по ре-
гистрации завещаний (англ.).
Стр. 141. Итон — Итонский колледж, основанный
в 1440 году Генрихом VI, откуда можно было поступить в
кембриджский или оксфордский университет.
Пикадилли — улица в центре Лондона.
Солт-хилл, Бристоль — города в западной части
Англии.
Голден-сквер, Шеррард-стрит, Грейт-Тичфилд-
стрит, Оксфорд-стрит — площадь и улицы в Лондоне.
Стр. 142. Слау — городок в Англии.
Стр. 143. Магдалина — Мария Магдалина, неког-
да блудница, святая, одна из жен-мироносиц, бывшая
вместе с Богородицей у Креста Господня.
Стр. 144. эвмениды — в древнегреческой мифоло-
гии богини мщения.
Орест опиума нашел свою Электру... — см. при-
мечание к стр. 1.
Стр. 145. pharmakon nepenthes — букв, лекарство
от скорбей (греч.); лекарство, возможно, опиум, упомина-
ющееся в “Одиссее” Гомера.
Стр. 146. ...не может представляться allegro; да-
же тогда он говорит и думает, как пристало penseroso —
противопоставление разных музыкальных темпов: быст-
рого, веселого и медленного, задумчивого.
Стр. 147. Грассини — оперная певица, обладатель-
ница прекрасного контральто (по словам Де Квинси), не-
когда певшая в Лондоне, но уехавшая в Париж по пригла-
шению Наполеона Бонапарта.
memoranda — множественное число от слова mem-
orandum: сообщение, памятная записка (лат.).
373
Стр. 150. terrae incognitae— множественное число
от выражения terra incognita: неизвестная земля (лат.).
Стр. 151. -.было приглушено алкиониным покоем... —
от Алкионы, в древнегреческой мифологии дочери Эола и
Эгиалы, превращенной Зевсом в зимородка. Когда Алкио-
на сидит на яйцах, ее отец Эол велит утихнуть всем вет-
рам.
...чтением Канта, Фихте, Шеллинга. — Имману-
ил Кант (1724-1804), немецкий философ-идеалист, автор
“Критики чистого разума”. Иоганн Готлиб Фихте (1762-
1814), немецкий философ, который учил, что нравствен-
ный разум есть основа всякого разума. Фридрих Виль-
гельм Иосиф Шеллинг (1775-1854), немецкий философ,
оставивший богатое наследие также в области естествозна-
ния, медицины, теории искусства, богословия.
Стр. 153. Сен-Мартен — остров на реке Сене в Па-
риже.
Стр. 155. Эти строки Шелли... — отрывок из сти-
хотворения “Бунт ислама” английского поэта Перси Биши
Шелли (1792-1822), в свое время исключенного из Окс-
фордского университета за распространение атеистичес-
кого памфлета.
...воистину мильтоновские... — Джон Мильтон
(1608-1674), английский поэт, автор поэмы “Потерянный
рай”, вставший во время гражданской войны на сторону
парламента, что обеспечило ему должность министра ино-
странных дел в правительстве Кромвеля.
Стр. 156. Вордсворт — Вильям Вордсворт (1770-
1850), английский поэт, который вместе с Кольриджем
написал сборник “Лирические баллады”, давший направ-
ление всей “Озерной школе”.
Стр. 157. Спиноза — Барух (Бенедикт) де Спиноза
(1632-1677), голландский философ, который в своей про-
тиворечивой пантеистической доктрине выступал за ин-
теллектуальную любовь к богу. Наиболее известная рабо-
та Спинозы — “Этика”.
De emendatione humani intellectus — Об исправле-
нии человеческого интеллекта (лат.).
Рикардо — Давид Рикардо (1772-1823), англий-
ский экономист, один из основателей так называемой
классической школы, автор “Принципов политической
374
экономии и налогообложения**.
Стр. 158. Тантал — в древнегреческой мифологии
лидийский царь, осужденный Зевсом на вечные муки го-
лода и жажды, несмотря на близость земных плодов и во-
ды; муки Тантала являются символом нестерпимых муче-
ний от сознания близости желанной цели и невозможно-
сти ее достигнуть.
Стр. 159. Мидас — в древнегреческой мифологии
царь фригийский, получивший от Диониса дар превра-
щать в золото все, до чего он дотронется; но, так как даже
пища и питье превращались для него в золото, то он про-
сил Диониса взять обратно этот роковой дар. Он освобо-
дился от него, искупавшись в Пактоле, которая с тех пор
сделался золотоносной рекой.
Стр. 160. Тит Ливий (59 г. до н.э. — 17 г. н.э.) —
знаменитый римский историк, чье главное сочинение со-
ставляет римская история в 142 книгах.
...в Марстон-Муре, Ньюбери или Нэзби... — места
битв парламентской армии Кромвеля с королевскими вой-
сками под командованием Карла I. В Марстон-Муре и Нэзби
королевская армия потерпела полное поражение, а в Ньюбе-
ри была вынуждена отступить с большими потерями.
Георг IV (1762-1830) — король Великобритании и
Ганновера, предававшийся различным порочным удо-
вольствиям, игре, кутежам и разврату, и состоявший в
тайном браке с католичкой Фицгерберт.
...являлся Павел Эмилий или Марий. — Гай Марий
(155-86 гг. до н.э.), римский полководец и политический
деятель. Павел Эмилий, римский полководец, сражав-
шийся в 216 году с Ганнибалом и павший в битве при Кан-
нах.
Стр. 162. officina gentium — здесь: кузница наро-
дов (лат.).
Стр. 163. Брахма — один из трех высших богов в
религиях Индостана. Троица в брахманизме и индуизме
включает Брахму как бога-творца, Вишну как бога-храни-
теля и Шиву как бога-разрушителя.
Вишну ненавидел меня; Шива строил мне запад-
ни. — см. предыдущее примечание.
Внезапно я натыкался на Исиду с Осирисом.» —
Исида в древней египетской мифологии — богиня жизни и
375
здоровья, покровительница плодородия и материнства.
Осирис был первоначально богом плодородия, позднее бо-
гом подземного царства, олицетворяющим ежегодно уми-
рающие и воскресающие силы природы.
Стр. 166. Атлантида — баснословный континент,
который, по свидетельству Платона, занимал некогда
часть Атлантического океана.
...когда мать-кровосмесительница возглашает
ненавистное имя Смерти... — Де Квинси имеет в виду зе-
млю. По греческой мифологии, Гея, богиня земли, произ-
водила из себя самой существ, с которыми (например, с
Ураном и Понтом) она затем вступала в кровосмеситель-
ную связь.
Стр. 167. ...его рассказ об Илиаде бедствий... — Де
Квинси сравнивает свое положение с Троянской войной,
описанной в “Иллиаде” Гомера, когда похищение Пари-
сом прекрасной Елены стало причиной гибели Трои и мно-
гих греческих героев.
Стр. 168. Иеремия Тейлор (1613-1667) — англий-
ский епископ и теолог.
Стр. 169. ...говоря страшными стихами Мильто-
на... — строка из поэмы “Потерянный рай” великого анг-
лийского порта Джона Мильтона (1608-1674).
Стр. 170. Светоний — римский писатель, живший
между 75 и 160 гг. н.э., В своих сочинениях приводит мно-
жество фактов из общественной и личной жизни импера-
торов, в том числе анекдоты и изречения. Источником ему
служили архивы, публичные акты, исторические сочине-
ния, мемуары и устное предание.
Вольтер — литературный псевдоним Франсуа-Ма-
ри Аруэ (1694-1778), французского философа и писателя
эпохи Просвещения
Стр. 171. ...друг Вордсворта, Кольриджа, Саути,
Шарля Л амба, Хацлитта и Вильсона... — поэты “Озерной
школы”.
...важнейшими являются следующие произведения...
— “Исповедь английского любителя опиума”, “Вздох из
глубины”, “Цезари”, “Литературные воспоминания”, “Эс-
се о поэтах”, “Автобиографические наброски”, “Памятни-
ки”, “Записная книжка”, “Теологические эссе”, “Письма
376
к молодому человеку”, “Новый взгляд или разгадка па-
мятников классической письменности”, “Философские и
литературные размышления над германскими сказания-
ми и иным повествовательным материалом”, “Клостер-
гейм, или Маска”, “Логика политической экономии”,
“Скептические и антискептические заметки о забытом
или непонятом”.
Понмартен — Арман де Понмартен, французский
критик.
Бюффон — Жорж Луи Леклер Бюффон (1707-
1788), французский натуралист, способствовавший отде-
лению теологии от естествознания, чья “Всеобщая и част-
ная естественная история” была в свое время переведена
почти на все языки.
Стр. 172. .^все это имеет оттенок возвращения^.
— во французском оригинале здесь присутствует игра слов,
так как слово revenant означает одновременно и человека,
вернувшегося откуда-либо, и приведение.
...презрение великого Рене... — речь идет о Рене Ша-
тобриане и его мемуарных “Загробных записках”, кото-
рые предназначались для печати после смерти автора, но
фактически были изданы при его жизни и вызвали разоча-
рование современников из-за множества нелестных для
них оценок.
a third prostration before the dark idol — третье по-
клонение черному идолу (англ.).
Стр. 174. Dulce balneum suavibis^. — Сладость неж-
ного омовения, благовонность бальзама (лат.) — строки из
оды Бодлера “Похвалы моей Франциске”. См. также при-
мечание к статье Теофиля Готье “Шарль Бодлер”.
mundi muliebris — женские миры (лат.).
Стр. 176. ...именно летом его ученики срывали
пшеничные колосья — речь идет об эпизоде из Евангелия,
где фарисеи, увидев учеников Христа, срывающих пшени-
чные колосья, обвинили их в нарушении субботы.
Дельфы — город у подножия Парнаса, известный
своим оракулом, куда приходили за пророчествами отов-
сюду.
...мемнонический, религиозный голос... — мемно-
нический, от Мемнонова колосса, огромной статуи, па-
мятника эфиопскому царю Мемнону, издававшего звуки
при восхождении и захождении солнца — предположи-
тельно вследствие перемены температуры.
377
Стр. 179. фиоритура — украшение мелодии
(итал.).
Стр. 180. палимпсест — рукопись на пергаменте
поверх смытого или соскобленного текста; палимпсесты
были распространены до начала книгопечатания.
Стр. 182. Подобно тому» как есть три Грации,
три Парки, три Фурии... — Грации, в древнеримской ми-
фологии — три богини красоты: Аглая, Евфросина и Та-
лия; Парки — богини человеческой судьбы; Фурии — бо-
гини мщения и кары.
...как изначально было три Музы... — действитель-
но, вначале было три Музы, которые покровительствовали
поэзии, искусству и науке; впоследствии их стало девять и
они стали покровительствовать: Урания — астрономии,
Каллиопа — эпосу, Клио — истории, Мельпомена — тра-
гедии, Полигимния — гимнам и пантомиме, Талия — ко-
медии, Эрато — любовной поэзии, Терпсихора — танцам и
хоровому пению, Евтерпа — лирической поэзии и музыке.
Это она была в Раме, когда слышался крик Рахи-
ли... — Рама, название местности в Палестине к северу от
Иерусалима; речь идет о пророчестве Иеремии, которое
упоминается в Евангелии от Матфея (глава 2, стихи 16-18)
в связи с рассказом об обстоятельствах рождения Иисуса
Христа, когда иудейский царь Ирод, дабы убить младенца
Христа, приказал истребить всех младенцев в Вифлееме.
Она была в Вифлееме, в ночь, когда меч Ирода... —
см. предыдущее примечание.
Стр. 183. парии — в Индии, низший класс людей,
лишенный всех прав и презираемый как нечистый.
Стр. 184. Шам — арабское название Сирии.
Стр. 185. Брокен — главная вершина Гарца. Уже
во времена христианства там еще долго продолжали при-
носиться жертвы языческим богам — особенно 1 мая, ког-
да здесь имел место таинственный культ, объявленный
христианскими пастырями богомерзким. Первая майская
ночь (Вальпургиева) была посвящена главному торжест-
ву, когда бесноватые всех стран устраивали на вершине
Брокена свои оргии.
Стр. 186. Фантаз — у Овидия: сын сна, бог снови-
дений.
Помпея — древний город на юге Италии, разру-
шенный извержением вулкана Везувий в 79 г. н.э.
378
Стр. 187. sanctus — трисвятое у католиков, что со-
ответствует православному “Свят, свят, свят, Господь Са-
ваоф”.
Стр. 189. Истинно говорю вам, не знаю вас! — сло-
ва Иисуса Христа, сказанные в Евангелии от Матфея
(7:23) в притче о Страшном суде.
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ И ЗАМЕТКИ К ЛЕКЦИЯМ
EXORDE ЕТ NOTES POUR LES CONFERENCES DONNEES
Одной из целей пребывания Бодлера в Брюсселе
весной 1864 года было чтение лекций в художественно-ли-
тературных кругах этого города. Возбуждающим вещест-
вам поэт посвятил три лекции, состоявшиеся 12, 23 мая и
3 июня в присутствии немногочисленной публики, безус-
ловно не заслуживающей тех комплиментов, которыми ее
наградили. В остальном же мнение Бодлера о Бельгии ско-
ро совершенно переменилось, о чем свидетельствует его
памфлет “Бедная Бельгия”. Вступительную часть и замет-
ки к лекциям, а также несколько строк, с переходами,
объяснениями, выводами, Бодлер написал на форзаце эк-
земпляра своего “Искусственного рая”.
Русский перевод текста печатается впервые.
Стр. 190. эритроксилон — кустарник и небольшие
деревья, растущие в Бразилии, Гвиане, Индии и на Мада-
гаскаре, с красной древесиной, невзрачными белыми цве-
тами и простыми листьями, которые жуют туземцы для
поддержания сил.
цикута — зонтичное растение с ядовитым корне-
вищем, в состав которого входит летучий алкалоид (цику-
тин), растущее по берегам рек, на болотах, в канавах и
прудах по всей Европе и Северной Африке.
ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ЭДГАРА ПО
EDGAR РОЕ, SA VIE ЕТ SES OEUVRES
Этот текст, опубликованный в “Ревю де Пари”
(Revue de Paris) в выпуске за март-апрель 1852 года, был
включен в качестве предисловия к переводу “Необыкно-
венных рассказов”, сделанному Бодлером и изданному в
1856 году (после того, как они были напечатаны в несколь-
ких номерах “Ле Пей” с 24 июля 1854 по 20 апреля 1855
года).
Русский перевод текста дается по изданию: Бодлер
Шарль. Эдгар По. Жизнь и творчество. Пер. Льва Когана.
Одесса, 1910.
Стр. 192. Всегда ли кошмар Тьмы». — имеется в ви-
ду поэма Теофиля Готье, три строки которой процитирова-
ны ниже.
Стр. 193. Один знаменитый современный писа-
тель... — речь идет об Альфреде де Виньи (1797-1863),
французском поэте, который, будучи романтиком, борол-
ся с произволом романтизма и с холодной манерностью
классической школы. Замечание, приведенное Бодлером,
содержится в его книге “Стелло, или Визиты к черному
доктору”. Эту тему Бодлер повторяет в своем стихотворе-
нии “Моисей”.
Потрясающая трагедия — жизнь Эдгара По! — на
самом деле, По не был мучеником и как критик, если не
как поэт, пользовался весьма заметным успехом даже в
американском обществе.
Стр. 194. ...походит на идол Джаггернаута. —
Джаггернаут или Джаганатха, так называется у индусов
секты вишнуитов приморский город Пури, названный по
имени Джаггернаута (владыки мира), самого распростра-
ненного из индийских божеств, деяния которого происхо-
дили близ этого города.
a money making author — здесь: процветающий ав-
тор (англ.).
Какая журнальная вонь! — цитата из “Санкт-Пе-
тербургских вечеров” графа Жозефа Марии де Местра
(1754-1821), французского писателя по философии госу-
дарства и одного из самых знаменитых представителей
церковного абсолютизма. Он был посланником в Санкт-
Петербурге, но оставил свой пост в связи с изгнанием иезу-
итов из России. Стоит напомнить, что, по признанию са-
381
мого Бодлера, де Местр и По научили его думать.
Руфус Грисволъд — первый биограф По, которого
можно обвинить скорее в вопиющем непонимании, чем в
подлости. Он вызвал бурю протестов со стороны друзей по-
эта — Грэхэма и Виллиса.
Стр. 195. self-same — самобытность (англ.).
Макиавелли — Николо де Бернардо Макиавелли
(1469-1527), один из величайших государственных деяте-
лей и историков Италии, автор знаменитого сочинения
“Государь”, где в лице Цезаря Борджиа выводится прави-
тель, который, поправ все законы морали и религии, дос-
тигает высшей цели: неограниченной верховной власти.
...проповедницу, предлагающую уничтожить
Ад... — речь идет о Жорж Санд, которую Бодлер ненави-
дел. (“Я не могу думать об этом тупом создании без некой
дрожи ужаса. Если бы я встретил ее, я вряд ли смог удер-
жаться от того, чтобы запустить ей в голову кропильни-
цей”.)
...если бы он видел статистика-философа... —
имеется в виду Жирарден, директор “Ля Пресс”, кото-
рая была в числе изданий, особенно противных Бодлеру.
...уничтожение наказания смертной казнью и ор-
фографии... — для Бодлера “смертная казнь есть результат
мистической идеи, совершенно непонятой сегодня”, и эта
идея имеет определенную связь с дендизмом; отсюда его за-
мечание в цтношении Эдгара По, которого он считал одним
из образцов дендизма. У Готье было другое отношение к ор-
фографии: по его собственным словам, с удовольствием от-
дал бы ее в руки палача. В своих дневниках Бодлер также
проводит связь между “упразднителями смертной казни,
упразднителями души и упразднителями ада”. Среди пос-
ледних самой одиозной является фигура Жорж Санд.
Стр. 196. Его дед... был генерал-квартирмейсте-
ром... — очевидно, здесь ошибка. Далее Бодлер пишет, что
отец Эдгара По был сыном этого генерала, что соответст-
вует истине.
Лафайет — Мари Жозеф Поль маркиз де Лафайет
(1757-1834), французский генерал, отправившийся в Аме-
рику добровольцем для участия в войне за независимость
и с успехом сражавшийся против англичан.
Эдгар По родился в Балтиморе... — на самом деле
По родился в Бостоне 19 января 1809 года.
Стр. 197. В Шарлоттсвилльском университете,
382
куда он поступил в 1825 году... — Эдгар По поступил в
университет штата Вирджиния в 1826 году.
...которые и были наконец причиной его исключе-
ния — на самом деле По забрал из университета его прием-
ный отец, недовольный его поведением.
Итак, он отправился в Грецию — это заблуждение
относительно своей биографии поддерживал сам Эдгар По.
Дело в том, что это путешествие совершил в 1827 году его
брат Генри. Однако По охотно выдавал приключения бра-
та за свои собственные.
Стр. 198. Нужда заставила его поступить... в сол-
даты — это событие произошло до его поступления в Вест-
Пойнт, в период с 1827 по 1829 год. Возможно, По приду-
мал приключения в России именно для того, чтобы скрыть
эти малопривлекательные подробности своей жизни.
Southern Literary Messenger — Южный литератур-
ный вестник (англ.).
Стр. 199. Tales of the Grotesque and the Arabesque —
Необычайные и причудливые истории (англ.).
Стр. 201. Эта смерть — почти самоубийство... —
спорное утверждение. Однако в то время мысль о само-
убийстве преследовала Бодлера, особенно в связи с недав-
ним самоубийством Жерара де Нерваля (см. примечание к
стр. 201). По-видимому, некоторое очарование смертью
было свойственно одновременно По, Нервалю и Бодлеру,
чья духовная общность подчеркивается этим текстом.
Ut declamatio fias! — Какие речи ты вызвал! (лат.).
...умер писатель изумительного благородства... —
это был Жерар де Нерваль (1808-1855), французский поэт,
повесившийся в припадке умопомешательства. Исключи-
тельная черта поэзии Нерваля — живость фантазии. Счи-
тался вместе с Бодлером основателем символизма.
Стр. 202. Лонгфелло — Генри Вордсворт Лонгфел-
ло (1807-1882), американский поэт, автор знаменитой
“Песни о Гайавате”.
Стр. 203. ...она поселилась с ним, заботилась о
нем... — воздавая хвалу матери По, Бодлер, возможно, хо-
тел преподнести урок своей собственной матери, с которой
у него были весьма противоречивые отношения.
Стр. 206. The Literati of New York — литераторы
383
Нью-Йорка.
Стр. 207. par excellence — по преимуществу (фр.).
Стр. 209. убить в себе что-то, a worm that would
not die — червя, который не хочет умирать (англ.).
...которую он воспел в своей восхитительной ыАн-
набель Ли” — вот эти строки:
Ибо луна не восходит,
чтоб не облечь меня в сны -прекрасной Аннабель Ли;
И звезды не светят,
чтоб не явить мне блеск глаз -прекрасной Аннабель Ли;
И так всякий час провожу я в ночи у лона
— моей дорогой, моей любимой, моей жизни и жены,
В этой гробнице у моря —
в могиле у шумного моря.
...в длинной статье журнала Southern Literary
Messenger... — эта статья, которой Бодлер воспользовался
в своих выводах, была опубликована в марте 1850 года.
...опьянение могло служить По как для возбужде-
ния, так и для отдыха. — ср. с эссе “Искусственный рай”
и с поэмой в прозе “Упейтесь!”.
Стр. 211. Дидро — см. примечание к стр. 22 эссе
“Искусственный рай”.
ТЕОФИЛЬ ГОТЬЕ
THEOPHILE GAUTIER
Эта пространная статья — одна из тех, которые
требуют значительного комментария, так как в ней затра-
гивается отношение Бодлера как к романтизму вообще,
так и к концепции “искусство для искусства” — была на-
печатана вначале в журнале “Ль’артист” в номере от 13
марта 1859 года, а затем в ноябре того же года вышла от-
дельной брошюрой в издательстве Пулэ-Маласси. В бро-
шюре статья предварялась письмом Виктора Гюго Бодле-
ру со знаменитыми словами о “новом трепетании” в “Цве-
тах зла” (см. Письма Шарля Бодлера).
Русский перевод текста печатается впервые.
Стр. 215. оракул — жрец, дававший прорицания,
исходившие от божества.
Стр.216. ...удаленную от предместья Сен-Жермен
или Шоссе д'Антен... — фешенебельные районы в Пари-
же.
Ламартин — Альфонс Мари Луи Ламартин (1790-
1869), знаменитый французский поэт, первым выразив-
ший своим творчеством протест против господствующих
материалистических воззрений и сухой, академической
поэзии.
Огюст Барбье — (1805-1882), французский поэт,
выступивший на поэтическом поприще благодаря Июль-
ской революции.
Стр. 217. -от имени двоих отсутствующих друзей
— вероятно, речь идет о коллективном сборнике стихов Пра-
рона, Ле Вавасера и Дозона, куда также вошли несколько
стихотворений самого Бодлера. Этот сборник вышел в свет в
1843 году, тогда же Бодлер впервые встречался с Готье.
Стр. 219. Почти всем знакомы его длинные мягкие
волосы... — так выглядел Готье в конце 50-х годов. В 1867
году Эдмонд Гонкур сделал следующее описание его внеш-
ности:
“Одутловатое лицо, опухшие, впалые черты, уста-
лость в лице, сонливость во взгляде в сочетании с перебоя-
ми в понимании, как у глухого, и со слуховыми галлюци-
нациями, заставляющими его оборачиваться, когда ему
говорят в лицо”.
13—511
385
Стр. 220. ...кажется Афонской горой... — гора на
южной оконечности Афонского полуострова, расположен-
ного на северо-востоке Греции, где находится двадцать
православных монастырей.
Сент-Бев, Альфред де Виньи — Шарль Августин
Сент-Бев (1804-1869), французский писатель и критик,
имевший важное значение для развития романтизма.
Альфред де Виньи — см. примечание к статье “Жизнь и
творчество Эдгара По”.
Корнель — Пьер Корнель (1606-1684), знаменитый
французский драматург, усовершенствовавший язык дра-
матургической поэзии.
Андре Шенье — Андре Мари Шенье (1762-1793),
французский поэт, казненный в Париже за три дня до па-
дения Робеспьера. На его поэзии отразились гармония и
красота греческих и римских образцов.
Альфред де Мюссе (1810-1857) — французский
поэт, чье творчество проникнуто глубиной чувства.
О, меркнущий блеск, О, солнце, ушедшее за гори-
зонт! — цитата из “Внутренних голосов” Виктора Гюго
(Бодлер допустил небольшую неточность, так как у Гюго
было: О, солнца, ушедшие...). Эта страница объясняет ко-
лебания в отношении Бодлера как к самому Готье, так и к
романтизму в целом, в которых его столь часто упрекают.
Будучи убежденным в упадке XIX века, Бодлер часто ис-
пытывал тоску по той великой эпохе, которая упоминает-
ся здесь: воохищение неизбежно увлекает его, и это выгод-
но сказывается на Теофиле Готье, в той мере, в которой он
принадлежит к этому великому поколению. Здесь эстети-
ка берет верх, и Бодлер судит, образно говоря, с точки зре-
ния абсолюта: его духовное расхождение с романтизмом
Гюго, Дюма и Готье, раздутое отвращением как к обожест-
влению прогресса, так и к растяжимому понятию “искус-
ства для искусства” (ср. со статьей “Школа язычников”),
также подталкивает его историческую тоску. Второй Бод-
лер, несомненно, более глубинно-истинный, он и вызыва-
ет наибольший интерес; но первый также требует понима-
ния.
Стр. 221. ...исключительную любовь к Прекрасному,
Идею фикс — здесь также присутствует двусмысленность,
и, возможно, Бодлер здесь искренне заблуждается. Очевид-
но, между дендизмом и дилетантизмом можно усмотреть
определенное взаимоотношение. Более того, исключитель-
ная любовь к Прекрасному — любимая тема Бодлера, равно
как и Идея фикс. Но ко времени написания этой статьи Бо-
386
длер наполнил свой эстетический словарь содержанием, со-
вершенно отличным от того, которое мог вкладывать туда
Теофиль Готье, что доказывает сравнение не только их поэ-
тического творчества, но прежде всего их критических ра-
бот. Впрочем, у Бодлера его собственная тоска, собственные
эстетические мечты часто накладываются на произведения
некоторых авторов, что произошло и в случае Готье: это ес-
тественная цена поэтической критики. Как бы то ни было,
эта иллюзия дала еще одно выражение некоторым из фун-
даментальных тем бодлеровской эстетики.
Я не знаю, какая грозовая туча, пришедшая из Же-
невы, Бостона или ада... — здесь имеется в виду ненависть
Бодлера к эстетическим ересям литературных кругов Бос-
тона, жертвой которых пал Эдгар По.
Стр. 222. Поэтому я повторюсь— — Бодлер приво-
дит здесь два отрывка (IV и III) из “Новых заметок об Эдга-
ре По”, которые предваряли текст “Новых необыкновен-
ных рассказов” в издании 1857 года.
Стр. 223. просодия — система стихотворных разме-
ров, характерных для данного языка и литературы.
абрис — линейные очертания предмета, контур.
Стр. 224. Спустя несколько лет волна благочес-
тия... — ср. со статьей “Благочестивые драмы и романы”.
Мимоходом заметим, что, в то время как негодование Бод-
лера обращено на морализм в литературе и искусстве (а
также на реализм и позитивное искусство), он на мгнове-
ние позволил себе склониться в пользу искусства для ис-
кусства или же по крайней мере поддался новой иллюзии
относительно истинного смысла творчества Готье.
О, поэт, люблю тебя! — ср. со статьей “Благочес-
тивые драмы и романы”, где Бодлер также воспользовался
цитатой из пьесы Эмиля Ожье (но там вместо адвоката
выступает нотариус). Кроме того, этот отрывок заимству-
ет с некоторыми изменениями текст из другой статьи, что,
видимо, доказывает, что, рассказывая о Теофиле Готье,
Бодлер преподносит его как своего рода антипод против
литературного морализма, и с этой точки зрения его суж-
дение носит преувеличенно хвалебный характер.
Стр. 225. Хороший портной лучше трех классиков
скульптуры! — имеется в виду Жюль Мишле (1798-1874),
французский историк, и его книга “Любовь”, изданная в
1858 году. В тексте Мишле говорится буквально следую-
13*
387
щее: “Для кого не очевидно, что большинство ремесел, ес-
ли заглянуть поглубже, на самом деле представляют собой
ответвления искусства? Ремесло сапожника, портного
весьма близко к скульптуре. По правде говоря, за портно-
го, который чувствует, воссоздает и исправляет природу, я
отдал бы трех классиков скульптуры”. По сути, цитата Бо-
длера, несмотря на свою изолированность и существенную
неточность, не искажает смысла оригинала и даже духа
самой части, откуда она была взята и которая вызвала у
Бодлера тем большее возмущение за то, что там превозно-
сится Жорж Санд (вот его размышления о ней в “Фейер-
верках”, XXVI: “...она глупа, тяжеловесна, болтлива..”.).
Раймунд Лулль (1234-1315) — логик, знаменитый
изобретением непогрешимого искусства вынуждать дру-
гих, путем доказательств и оснований, к усмотрению ис-
тины. Самое первое и главное применение своего искусст-
ва Лулль предполагал сделать в пользу христианства, вы-
нудив уверовать в христианскую истину евреев и магоме-
тан. С этой целью он совершил три путешествия в Африку»
но каждый раз встречал там дурной прием и претерпевал
там мучения, от последствий которых и умер.
Тот же автор советует... — на самом деле Мишле
советовал это средство лишь в крайних случаях. Даже сам
Бодлер написал в “Моем обнаженном сердце”, LXIX, сле-
дующее примечание: “О необходимости бить женщин”.
Стр.-226. Тгав 1о8 monies — через горы (ит.).
Стр. 227. Умение обращаться с языком... — знаме-
нитая формула из “Дневников” (“Фейерверки”, XVII).
Здесь Бодлер еще раз позволяет себе увлечься собствен-
ным эстетическим пневматизмом, и, посредством своего
рода духовной экспансии пропитывает им предмет своего
рассказа, в котором он находит то, что вложено им самим.
Возможно, поэтическая иллюзия того же рода с большей
легкостью и изощренностью сказалась на теме литерату-
ры, что объясняет то, что Бодлер в большей степени пал ее
жертвой в этой статье о Готье, чем в своих работах об ис-
кусстве. Правда, он не мог найти в современной литерату-
ре какого-либо соответствия Делакруа.
Стр. 228. Новелла, более скованная, сгущенная». —
видимо, первые успешные шаги в литературе Бодлер со-
вершил в новелле “Фанфарло” (1847), впоследствии став-
шей известной. Ближе к концу жизни его вновь забрало
искушение заняться новеллой, если судить о характере
некоторых из его стихотворений в прозе. Примечательно,
388
что общая мысль, выраженная Бодлером, совпадает с ут-
верждением из “Принципа поэзии” Эдгара По: “Я утвер-
ждаю, что длинной поэмы не существует. Я убежден, что
выражение “длинная поэма” является абсолютным терми-
нологическим противоречием”.
8ui generis — своеобразие (лат.).
Стр. 229. Иногда он напоминает мне офорти-
стов... — Бодлер, испытывавший большой интерес к
офортам, имеет здесь в виду Мериона, которого считал,
как и Бальзак, самым великим парижским художником
XIX века.
Стр. 230. Она охотно живет в роскошно убранных
комнатах... — видимо, в этом для Бодлера было нечто осо-
бенно привлекательное, ибо он всегда мечтал о таких ком-
натах.
Стр. 231. гинекей — женская половина в древне-
греческом доме (греч.).
Кандавл показал своему другу Гигесу... — Кан-
давл, последний царь лидийский из ассирийского рода
Сандонидов, убитый Гигесом, его телохранителем и лю-
бимцем. По Геродоту, Кандавл расхваливал Гигесу красо-
ту своей жены и спрятал его в спальне, чтобы тот убедился
в этом. Но царица заметила Гигеса и на другой день предо-
ставила ему на выбор или убить царя и жениться на ней,
или самому быть казненным. Гигес выбрал первое и после
смерти Кандавла взошел на престол.
Алкивиад (450-404 гг. до н.э.) — греческий полко-
водец, выступавший против Спарты,то на стороне Афин,
то наоборот.
...Психея, возвратившаяся из подлинно Святой зе-
мли! — перевод из Эдгара По. Психея, согласно древнегре-
ческому мифу, красивая молодая девушка, на которой же-
нился Амур и которая причислена к богам; олицетворение
человеческой души.
Стр. 232. ...по далеким воспоминаниям о Рейнольд-
се и Лоренсе? — сэр Джошуа Рейнольдс (1723-1792), анг-
лийский художник-портретист. Сэр Томас Лоренс (1769-
1830), английский живописец.
Клод — Клод Лоррэн (1600-1682), французский
живописец, представитель жанра “идеального” пейзажа.
Гук — Джеймс Кларк Гук (1819-1873), англий-
ский живописец, написавший в 1846 году несколько кар-
389
тин из истории Венеции.
Стр. 234. -.отрывки о Зурбаране и Валъдес-Леале~
— Франческо де Зурбаран (1598*1662), великий испанский
живописец, произведения которого выражают аскетичес-
кий религиозный характер, присущий испанской нации.
Хуан де Вальдес-Леаль (1630-1691), испанский историчес-
кий живописец севильской школы, развившийся далее под
влиянием Мурильо.
...он ввел в поэзию одно новшество, называемое
мною утешением через искусство... — Томас Элиот напи-
сал о поэзии Готье следующее: “В лучших из легких сти-
хотворений Готье присутствует удовлетворенность, равно-
весие формы и содержания, чего нет у Бодлера”.
Vulnerant отпев, ultima necat — каждый благо-
славляет, последний убивает (лат.).
...величавого александрийского стиха... — алексан-
дрийский, или двенадцатисложный, стих французского
происхождения, состоящий из двух шестисложных час-
тей, каждая с подвижным ударением на одном из первых
четырех слогов и с постоянным ударением на шестом сло-
ге.
Стр. 236. Homo sum; nihil humani а те alienum puto
— Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо (лат.).
quidquid humani a mi alienum puto — все человече-
ское мне чуждо.
...презрение порою слишком облагораживает ду-
шу. — измененная цитата, взятая Бодлером из собствен-
ного эссе “Искусственный рай” (см. главу “Человекобог”
из “Поэмы о гашише”).
БЛАГОЧЕСТИВЫЕ ДРАМЫ И РОМАНЫ
LES DRAMES ЕТ LES ROMANS HONNETES
Впервые опубликовано 27 ноября 1851 года в
“Смэн театраль”. Вначале Бодлер хотел использовать за-
главие “Школа добродетели”, возможно, в противовес к
“Школе язычников”, которая на следующий год была на-
печатана в том же издании. Здесь Бодлер разрабатывает
свою постоянную тему, которой он остается верным всю
жизнь, даже в момент выставления своей кандидатуры на
звание академика французской Академии искусств,— те-
му отвращения к той литературе, представителем которой
был Эмиль Ожье.
Русский перевод текста печатается впервые.
Стр. 238. Эмиль Ожье — Эмиль Ожье (1820-1889),
французский драматург, представитель “школы здравого
смысла”, лауреат премии французской Академии искусств.
Его пьеса “Цикута” пользовалась большим успехом.
О, душа Тиберия и маркиза де Сада! — Тиберий
Клавдий Неро, римский император (14-37 гг. н.э.), прав-
ление которого было отмечено многими жестокостями и
убийствами его политических противников. Маркиз де
Сад (1740-1814), французский романист, автор порногра-
фических сочинений, где половое удовлетворение неотде-
лимо от жестокости и насилия.
Стр. 239. Мальтус — Томас Роберт Мальтус (1766-
1834), английский экономист, автор знаменитого тезиса о
превосходящем росте населения по сравнению со средства-
ми к существованию.
Бурное предисловие к "Мадемуазель де Мопен”...
— название романа Теофиля Готье. Вот отрывок из преди-
словия к нему: “Одна из самых вздорных черт той славной
эпохи, в которую мы имеем счастье жить, безусловно со-
стоит в восстановлении прав добродетели, что стало делом
чести для всех газет, независимо от окраски — красной,
зеленой или трехцветной”.
Стр. 240. Что обеспечило успех "Жерому Патю-
ро”... — “Жером Патюро в поисках социального положе-
ния”, остро-сатирический роман Луи Рейбо (1799-1879),
изобличающий безнравственную литературу и опублико-
ванный в 1843 году. Его продолжение — “Жером Патюро
в поисках лучшей из республик” — было напечатано в
391
1848 году. Существовала также театральная постановка
“Жерома Патюро”.
Пьер Леру — французский философ и экономист
(1797-1871), был журналистом и последователем Сен-Си-
мона.
За Прудона Европа будет вечно завидовать нам.
— нельзя не видеть за этим замечанием язвительной на-
смешки Бодлера над Пьером Жозефом Прудоном (1809-
1865), политическим теоретиком и экономистом, автором
знаменитого тезиса “всякая собственность есть преступле-
ние”.
Виолет-ле-Дюк — Эжен Эммануэль Виолет-ле-
Дюк (1814-1879), Французский архитектор и писатель,
вдохновитель возрождения готики во Франции и автор
проектов реставрации многих средневековых зданий, в
том числе парижского собора Нотр-Дам.
Стр. 242. ...если судьба Люсьенов и Лусто... — пер-
сонажи романов Бальзака, являющиеся воплощением
буржуазного зла.
Беркен — Арно Беркен (1749-1791), французский
писатель, автор сочинений для детей и юношества.
sine qua non — обязательное условие (лат.).
де Монтион — учредитель известных премий
французской Академии искусств, одной из которых был
удостоен Эмиль Ожье за свою “Габриеллу”.
Леон Фоше — министр общественных зданий и
внутренних дел в правительстве Людовика Наполеона
(1803-1854). Указом Фоше от 12 октября 1851 года назна-
чалась денежная премия для авторов пьес, благотворно
влияющих на нравственность трудящихся классов.
Стр. 243. ..л расскажу о попытках обновления те-
атра... — этот замысел Бодлер не осуществил.
СОВЕТЫ МОЛОДЫМ ЛИТЕРАТОРАМ
CONSEILS AUX GEUNES LITTERATEURS
Впервые опубликовано 15 апреля 1846 года в “Эс-
при пюблик” за подписью “Бодлер-Дюфей”.
Русский перевод текста печатается впервые.
Стр. 245. Эжен Сю, Поль Февалъ... — Эжен Сю
(1804-1859), французский романист, автор моралистичес-
ких и социальных романов, которым придавал большое
значение Белинский. Поль Феваль (1817-1887), француз-
ский романист, автор популярных романов, президент об-
щества литераторов и вице-президент общества театраль-
ных поэтов.
vae victis — горе побежденным (лат.).
Стр. 247. Жанен — Жюль Жанен (1804-1874),
французский критик и романист, своими остроумными
отзывами имевший большое влияние на французскую ли-
тературу. Будучи вначале последователем романтизма, он
затем встал на сторону школы “здравого смысла”, столь
нелюбимую Бодлером (см. “Благочестивые драмы и рома-
ны”).
Гранье де Кассаньяк — Адольф Гранье де Кассань-
як (1806-1880), французский публицист, главный редак-
тор журнала “Глоб”, получивший известность своей злоб-
ной полемикой, процессами и дуэлями.
КАК ВОЗВРАЩАЮТ ДОЛГИ ГЕНИАЛЬНЫЕ ЛЮДИ
COMMENT ON PAIE SES DETTES QUAND ON A DU GENIE
Впервые опубликовано 23 августа 1846 года в “Эко
де театр9’ в качестве заключительной части “Салона 1846
года”. Анонимный вариант этого текста, кроме последнего
абзаца, был напечатан в “Корсэр-Сатан” в номере от 24 но-
ября 1845 года.
Русский перевод текста печатается впервые.
Стр. 251. Это был именно он... — имеется в виду
Оноре де Бальзак.
Стр. 252. “Эдуард, не хотите ли..99. — речь идет об
Эдуарде Урлиаке, поэте, друге Готье и Нерваля. Урлиак
был одним из первых литераторов, с которыми познако-
мился Бодлер.
Стр. 253. „.третьим именем, хорошо известным
среди богемы... — это был Жерар де Нерваль (см. примеча-
ние к стр. 22 “Жизни и творчества Эдгара По”). Хотя здесь
Бодлер неблагожелательно отзывается о нем, он вскоре из-
менил свое мнение.
Второй друг... — имеется в виду Теофиль Готье, ко-
торый жил на улице Наварен. Из этого замечания видно,
сколь переменчиво было отношение Бодлера к этому поэ-
ту. (см. также письмо Бодлера к Виктору Гюго от 23 сентя-
бря 1859 года).
Осаги —индейское племя в Северной Америке,
обитающее в штате Оклахома. Осаги прежде наводили
страх, отличаясь высоким ростом и воинственным нра-
вом. Мода на них началась в 1840 году, когда они находи-
лись в Париже. О популярности осагов говорит следую-
щая цитата Бодлера: “Бесконечность разнообразия ужаса-
ющим образом проявляется прежде всего в человеческой
природе. Не считая главные типы, разбросанные приро-
дой по разным широтам, я ежедневно вижу, как под моим
окном проходит доброе число калмыков, осагов, индий-
цев, китайцев и древних греков, все из которых более или
менее опарижены” (Салон 1846 года).
394
МОРАЛЬ ИГРУШКИ
MORALE DU JOUJOU
Впервые опубликованный 17 апреля 1853 года в
“Монд Литерэр”, этот текст был частично использован Бо-
длером в одном из его стихотворений в прозе, озаглавлен-
ном “Игрушка бедняка”.
Русский перевод текста печатается впервые.
Стр. 254. Была ли она матерью, сестрой, невест-
кой нынешнего Панкука? — эта мадам Панкук содержала
блестящий салон на улице Пуатвен в Париже.
Стр. 256. mundus — мир (лат.).
Стр. 258. фенекитоскоп — род стробоскопа, в ко-
тором изображения различных положений предмета сли-
ваются в движущуюся картину.
Стр. 259. Puzzling question — сложный вопрос
(англ.).
ПИСЬМА
LETTRES
Полное собрание писем Бодлера в двух томах было
опубликовано во Франции в 1973 году в серии “Библиоте-
ка Плеяды”. Русский текст избранных писем в переводе
И. Карабутенко печатается по публикации журнала “Воп-
росы литературы”, № 4 за 1975 год. Этот перевод был це-
ликом сделан по изданию “Библиотека Плеяды”.
Стр. 260. Письмо провизора — хотя это письмо на-
писано не Бодлером, оно представляет интерес как свиде-
тельство бунтарского характера и бескомпромиссности бу-
дущего поэта.
Стр. 262. Теодор де Банвиль — один из наиболее та-
лантливых поэтов той эпохи, близкий друг Бодлера, од-
ним из первых признавший его талант и готовивший вме-
сте с Асселино третье издание “Цветов зла”.
Стр. 263. Мадам Мари — французские литерату-
роведы считают это письмо Бодлера самым загадочным,
так как до сих пор ничего не узнали об этой незнакомке.
Некоторые полагают, что поэт адресовал письмо своей воз-
любленной, актрисе Мари Добрей, хотя называются имена
и других женщин.
Стр. 267. Я нашел одного американского писате-
ля... — имеется в виду Эдгар По. Бодлер открыл этого авто-
ра в 1847 году, прочитав перевод рассказа “Черный Кот”.
Первый же перевод Бодлера был опубликован 15 июня
1948 года.
Стр. 271. Директор Оперы заказал мне либрет-
то... — директор Нестор Рокплан договорился с Бодлером
о либретто оперы, в которой должны действовать Дон Жу-
ан и Каталина.
Компаньон директора... просит у меня драму —
среди бумаг Бодлера сохранились наброски и названия
различных пьес, так и оставшихся ненаписанными.
Стр. 274. Мадам Сабатье — в доме Аполлонии Са-
батье собирались такие известные писатели и художники,
как Флобер, Готье, Буйе, Дю Кан, Мейсонье. Салон “Пре-
зидентши”, как называли ее друзья, был одним из самых
396
знаменитых в Париже. Для Бодлера мадам Сабатье одно
время воплощала Мадонну.
...за это глупое анонимное рифмоплетство... — на
протяжении некоторого времени Бодлер анонимно посы-
лал Аполлонии Сабатье свои стихи, вошедшие впоследст-
вии в “Цветы зла”. В данном случае Бодлер послал стихо-
творение “Исповедь”. Цикл “мадам Сабатье” традиционно
противопоставляют циклу “Жанны Дюваль”.
...вы просите у меня стихотворения... — в этом
письме Бодлер послал стихотворения “Утренние сумерки”
и “Вечерние сумерки”. Это письмо отражает его отвраще-
ние к “буколической” поэзии, наводнившей литературу
того времени.
Стр. 275. Договор — этот договор интересен прежде
всего как документ, имеющий отношение к “Цветам зла”.
“Эстетический антиквариат9* — впоследствии
эта книга получила название “Эстетические диковины”.
Стр. 277. “Ночные стихотворения99 — один из ва-
риантов заглавия для стихотворений в прозе.
Гюставу Флоберу — несколькими месяцами ранее
Флобер предстал перед судом за роман “Госпожа Бовари”.
По странному стечению обстоятельств обвинителем на
обоих процессах был Эрнест Пинар.
И статья о “Госпоже Бовари99... — после прочте-
ния статьи Бодлера о своей книге Флобер написал ему:
“Ваша статья доставила мне громадное удовольствие. Вы
вошли в тайны произведения так, словно мой мозг был ва-
шим. Оно понято и прочувствовано до конца”.
...изъятие номеров 20, 30, 39, 80, 81 и 87 — то есть
стихотворений “Драгоценности”, “Лета”, “Той, что слиш-
ком весела”, “Лесбос”, “Проклятые женщины”, “Мета-
морфозы вампира”.
Стр. 278. ...перед господином Министром Юсти-
ции. — спустя некоторое время штраф, которым обложили
Бодлера, был значительно снижен.
Стр. 279. ...выпустить ее маленькой брошюрой... —
см. примечания к статье Бодлера “Теофиль Готье”.
Стр. 281. Стихотворения, которые я прилагаю к
письму, — “Семь стариков”, “Старушки”.
Стр. 282. ...менее великим, чем Шатобриан — на-
397
мек на непоколебимую стойкость Шатобриана перед На-
полеоном I.
Не — сокращение от He missa est, что соответству-
ет нашему “С миром изыдем” и означает окончание служ-
бы у католиков (лат.).
Стр. 283. За Прогресс я страдаю в настоящий мо-
мент.,. — любопытно более позднее письмо Бодлера к ма-
тери (11 августа 1862 г.) после получения от Виктора Гюго
ответа на статью об “Отверженных”, из которого мы при-
водим отрывок:
“Это гнусная и вздорная книга. Здесь я показал
свое владение искусством лгать. Он [Гюго] в благодарность
написал мне совершенно нелепое письмо. Это доказывает,
что и великий человек может быть глупцом”.
Рихарду Вагнеру — Бодлер написал о Рихарде Ваг-
нере большую статью “Рихард Вагнер и “Тангейзер” в Па-
риже”, напечатанную 1 апреля 1861 года. Кроме Вагнера
Бодлер ценил музыку Листа, которому посвятил стихо-
творение в прозе “Тирс”. Предполагается, что они состоя-
ли в переписке, но письма эти пока неизвестны.
Стр. 286. ...необходимо отвести бурю 10 янва-
ря... — речь идет об оплате долгов.
“Цветы зла" окончены — имеется в виду второе
издание.
А берег? — регулярные обвалы обрывистого берега,
вдоль которого проходили две улицы, привели в конце
концов к тому, что в настоящее время одна из них закан-
чивается тупиком, а от другой, носящей имя Бодлера, со-
хранилась лишь часть.
Стр. 287. ...об этом проклятом кюре — аббат Жан-
Батист Кардин, кюре приходской церкви в Онфлере.
Стр. 291. Жюдит Готье — писательница, дочь
знаменитого поэта, романиста и критика Теофиля Готье. В
своей книге “Ожерелье дней” она уделила немало страниц
Бодлеру, с которым неоднократно встречалась в доме от-
ца.
Стр. 292. Теофилю Торе — Теофиль Торе, извест-
ный художественный критик, доброжелательно относив-
шийся к Мане, но считавший, что тот использовал в живо-
писи приемы испанских мастеров. Эта мысль была выска-
зана им в статье, напечатанной 15 и 16 июля в “Ль’анде-
панданс бельж”.
398
Стр. 293. Et пипс, erudimini, vos quijudicatis — ви-
доизмененная цитата: “Итак, вразумитесь, цари; научи-
тесь, судьи земли!” (Псалом 2:10) (лат.).
ШАРЛЬ БОДЛЕР
CHARLES BAUDELAIRE
Эта статья была впервые опубликована в 1868 году
в качестве предисловия к изданию “Цветов зла” братьев
Леви, вышедшему после кончины Бодлера.
Русский текст дается по изданию: Бодлер Шарль.
Цветы зла. М., 1908. Пер. Эллиса.
Стр. 294. В первый раз я встретился с Бодлером в
середине 1849 года в отеле Пимодан... — это утверждение
оспаривается, во-первых, Огюстом Витю в его статье, во-
шедшей в книгу “Шарль Бодлер”, опубликованную в 1872
году издательством “Пенсебурд”. Там было написано сле-
дующее: “Теофиль Готье позволит нам заверить его, что в
1849 году ни он, ни Шарль Бодлер не пребывали в отеле
Пимодан”. Кроме того, как утверждает сам Бодлер в ста-
тье, посвященной Теофилю Готье, он впервые встретил по-
следнего тогда, когда “пришел передать ему небольшую
книжку стихов от имени двоих отсутствующих друзей”.
Фернан Буассар — Жозеф-Фернан Буассар де Буа-
денье (1813-1866), весьма любопытная персона. Он был
художником, вероятно, любителем, так как одновременно
слыл и музыкантом. Но прежде всего он был одним из са-
мых изысканных денди своего времени. В эпоху существо-
вания Клуба любителей гашиша и своего посещения отеля
Пимодан Бодлер хорошо знал Буассара. Он был не единст-
венным, кто ценил этого человека, так как о нем также с
симпатией отзывался Делакруа в своих дневниках.
...когда-то столь любимых Лозеном. — см. приме-
чание, к рассказу Готье “Клуб любителей гашиша”.
...позировала для “Миньоны" Шефера, а позднее
для... Поля Делароша — Анри Шефер (1795-1858), фран-
цузский живописец, написавший ряд картин под влияни-
ем романтиков, из которых особенно отличаются работы
на темы произведений Гете. Поль Деларош (1797-1856),
французский живописец, считавшийся, наряду с Делак-
руа, основателем романтического направления в живопи-
си.
Клезенже — Жан-Батист Огюст Клезенже (1814-
1883), французский скульптор, выставлявший сначала
портретные бюсты, а затем большие фигуры, из которых
наиболее известны “Вакханка”, “Нереида” и “Женщина,
укушенная змеей”. Моделью для последней, которая в
400
1847 году пользовалась скандальным успехом, послужила
мадам Сабатье.
Стр. 295. Лоренс Стерн (1713-1768) — англий-
ский писатель, основоположник сентиментализма, был
одним из предвестников настроения, выразившегося в
“Вертере” Гете.
В “Новых парижских камеях" Теодора де Банви-
ля~. — см. примечание к стр. 262 “Писем”.
Эмиль Деруа — французский художник, друг Бод-
лера, чью картину “Алжирские женщины” поэт особенно
ценил.
Стр.296. ...подобную шее Ахилла или Антиноя. —
Ахилл, величайший герой древнегреческого эпоса, выда-
ющийся участник Троянской войны. Антиной, прекрас-
ный юноша, любимец императора Адриана, утопивший-
ся, как полагают, от меланхолии и пресыщения жизнью.
..он был подобен Фебу-Аполлону." — см. примеча-
ние к эссе “Искусственный рай”.
Давид — Жак Луи Давид (1748-1825), француз-
ский живописец, основатель новой школы французской
живописи. Будучи якобинцем и другом Робеспьера, Давид
голосовал за казнь короля, но после падения Робеспьера
был заключен в тюрьму и освобожден лишь по амнистии.
Стр. 297. Брюмелъ — Джордж Брайен Брюмель
(1778-1840), известный как “Beau Brummell” (красавец
Брюмель), английский денди и человек света. Будучи бли-
зким другом принца Уэльского, он ввел среди окружения
принца моду на упрощенные костюмы темных тонов,
снабженные сложным галстуком. Он был душой общества
в Лондоне, но ему пришлось покинуть Англию из-за дол-
гов. Назад он так и не вернулся, окончив жизнь в сума-
сшедшем доме во Франции.
...какой-нибудь ученик Лесюера или Пуссена". —
Эсташ Лесюер, французский живописец (1617-1655), из-
вестный своими картинами из жизни св. Бруно, выпол-
ненными для картезианского монастыря в Париже. Нико-
лай Пуссен (1594-1665), французский живописец, рабо-
тавший под влиянием античного искусства.
.Ma картине Лебрена... — см. примечание к рас-
сказу “Клуб любителей гашиша”.
Стр. 298. ...охота, исполненная Удри или Депор-
том. — Жан Батист Удри (1686-1745), французский жи-
401
вописец, писавший преимущественно животных и неоду-
шевленные предметы. Франсуа Депорт (1661-1743), фран-
цузский живописец, лучшими картинами которого счита-
ются охотничьи сцены и животные.
Мейербеер — см. примечание к рассказу “Клуб
любителей гашиша”.
...итальянские “concetti” и испанские
“agudezas”... — и то, и другое означает остроты, шутки.
Калло — см. примечание к рассказу “Клуб любите-
лей гашиша”.
Стр. 299. Жан Фёшер (1807-1852) — французский
скульптор, чье творчество Бодлер весьма сурово критико-
вал в “Салоне 1846 года”.
Жан Гужон (1510-1568) — французский скульп-
тор, прозванный французским Фидием. Он участвовал в
декоративных работах в Лувре, где исполнил один фриз, и
был большим мастером рельефа.
Бенвенуто Челлини (1500-1571) — итальянский
скульптор и ювелир, выполнивший много изделий по за-
казу семьи Медичи.
Стр. 300. Боккаччо — Джованни Боккаччо (1313-
1375), великий итальянский поэт, автор знаменитого “Де-
камерона”.
...без фанатизма сеида... — то есть истового фана-
тика; происходит от Сеида, невольника и фанатичного по-
следователя Магомета, впервые поверившего в его учение.
Стр. 301. „старого друга Кондорсе и Кабаниса... —
маркиз де Кондорсе (1743-1794), французский ученый, за-
нимавшийся главным образом изучением математичес-
ких наук. Пьер Жан Жорж Кабанис (1757-1808), француз-
ский врач и философ.
Стр. 303. „в сопровождении^ какого-нибудь Лус-
то, Люсьена де Рюбампре„ — см. примечание к статье
“Благочестивые драмы и романы”.
Стр. 304. ...признававший его Сент-Бев... — см.
примечание к статье “Теофиль Готье”.
Стр. 305. Гвидо — Гвидо Рени (1575-1642), италь-
янский живописец, написавший знаменитый плафон “Ав-
рора” во дворце Роспильози.
402
Стр. 306. “Franciscae meae Laudes” — “Похвалы
моей Франциске”, название оды Бодлера, написанной на
латыни.
...как в Дантовой терцине — терцина, форма сти-
хотворения, в которой все произведение распадается на
трехстишия, где первый и третий стих рифмуются между
собой и со средним стихом предыдущего трехстишия.
Стр. 307. Катулл — Валерий Катулл (87-56 гг. до
н.э.), латинский поэт, выдающийся лирик.
Огр. 309. ^заставил св. Иоанна поэзии, грезящего на
ПатмосеТернсей-. — как известно, апостолу Иоанну было яв-
лено на острове Патмос откровение, известное под названием
“Откровение святого Иоанна Богослова” или “Апокалипсис”.
Стр. 310. Расет summa tenent — Все обнимает по-
кой (лат.).
Стр. 312. ...подобно коже Эсфири... — см. примеча-
ние к стр. 12 эссе “Искусственный рай”.
кинамон — тропическое дерево в Азии, имеющее
ароматическую кору, из которой приготовляют специи.
кармин — красный пигмент, получаемый из коше-
нили, насекомых, распространенных в Мексике, Вест-Ин-
дии, Испании и Алжире.
Стр. 313. Лопе де Вега (1562-1635) — испанский
драматург, автор множества комедий.
Стр. 315. ...в чиновнике Нерона, в лавочнике Гелио-
габала — Нерон (37-68 гг. н.э.), римский император, про-
ложивший себе дорогу к власти через множество убийств,
в том числе собственной матери, и отличившийся жесто-
кими гонениями на христиан. Гелиогабал, римский импе-
ратор (218-222 гг. н.э.), посвященный мальчиком в вер-
ховные жрецы бога солнца, для прославления которого он
позднее выстроил храм. Его правление отличалось край-
ним развратом. После потери трона Гелиогабал был убит и
брошен в Тибр.
Матюрен Ренье (1573-1613) — поэт, создатель
классической сатиры во Франции
Стр. 316. ...как сказал бы Сведенборг. — см. приме-
чание к эссе “Искусственный рай”.
...аптеку ядов Борджиа — знаменитый испанский
403
княжеский род, могущество которого началось в Италии в
конце XV и начале XVI столетия. В политической борьбе
члены этого рода часто прибегали к использованию ядов*
Стр. 317. ...как будто после ужина с Ваноццой в ви-
нограднике папы Александра VI — папа Александр VI от-
личался развратной жизнью, его открытой наложницей
была Ваноцца де Катанейс, от которой он имел четверых
сыновей и одну дочь.
Стр. 318. genii loci — в ед. ч. genius loci, дух-покро-
витель определенного места (лат.).
Паоло Веронезе (1528-1588) — итальянский живо-
писец, мастер венецианской школы живописи, большая
часть работ которого находится в Венеции.
Стр. 319.Эреб — в греческой мифологии, подзем-
ный мрак, а также сама преисподняя, царство теней.
Маркиза де Мершей — персонаж романа Шодерло
де Лакло “Опасные связи”.
Стр. 321. Гейнсборо (1727-1788) — английский
живописец, мастер портретной и пейзажной живописи.
Герард Доу (1613-1675) — голландский живопи-
сец, ученик Рембрандта.
Бенарес и Гайдерабад — штаты в Индии, бывшие
княжества. '
Гарпократ — название перешедшего в греко-рим-
ский культ египетского бога Гора.
Вильям Хогарт (1697-1764) — английский живо-
писец и гравер, самая известная работа которого — серия
аллегорических картин “Похождения распутницы” и “По-
хождения повесы”.
...подобно Антисфену, гребет вместо старого Ха-
рона — Антисфен, основатель школы циников, друг Со-
крата. Антисфен отвергал удовольствия, вел самый про-
стой образ жизни и в области этики ставил на первое мес-
то добродетель как единственное средство служения бо-
гам. Очевидно, поэтому Готье заключил, что он, даже пе-
реправляясь через Стикс в царство мертвых, гребет вместо
старого, немощного Харона, перевозчика умерших душ.
Стр. 322. Брейгель Райский (1530-1569) — имеется
в виду Петер Брейгель Старший, фламандский художник.
Мартинэ — Ашиль Луи Мартинэ (1806-1877), фран-
цузский гравер, автор множества гравюр, лучшие из которых
404
сделаны с картин Рафаэля, Мурильо, Делароша и Конье.
царица Савская — см. примечание к эссе “Га-
шиш”.
Стр. 323. Не кажется ли» что находишься в Паль-
мире или Паленке? — Пальмира, город, основанный, по
преданию, Соломоном в сирийской области Пальмирена и
знаменитый своими развалинами времен римского влады-
чества. Паленке, индейское селение в мексиканском шта-
те Чиапас, неподалеку от которого расположены самые из-
вестные памятники строительного искусства древних жи-
телей Америки, представляющие собой усеченные пира-
миды.
Стр. 324. Фенелон (1651-1715) — Франсуа де Сали-
ньяк де ла Мот, французский писатель и архиепископ.
Жан-Жак Руссо — см. примечание к эссе “Искусст-
венный рай”.
Бернарден де Сен-Пьер (1737-1814) — француз-
ский писатель, состоял попеременно то на французской,
то на русской службе, был проводником идей Руссо, с ко-
торым поддерживал тесные отношения.
Шатобриан — см. примечание к эссе “Искусствен-
ный рай”.
Жорж Санд — псевдоним французской писатель-
ницы Амандины Авроры Люции Дюпен, баронессы Дюде-
ван (1804-1876). Среди ее любовников были Альфред де
Мюссе и Фредерик Шопен.
В превосходной— статье о Тэне по поводу Поупа и
Вуало— — Ипполит Тэн (1828-1893), французский исто-
рик, философ и критик. Александр Поуп (1688-1744), ан-
глийский поэт, известный своей сатирической, псевдоэпи-
ческой поэмой “Похищение локона”. Николай Буало
(1636-1711), французский поэт и критик.
Франсуа Гильом Гизо — французский государст-
венный деятель и писатель (1787-1874).
Стр. 325. цезура — деление стихотворной строки
на две части.
Стр. 327. exprotesso — по обязанности (лат.).
Лонгфелло — см. примечание к статье “Жизнь и
творчество Эдгара По”.
Sorrente т'а rendu топ doux reve inf ini — Соренто
вернул мне даль сладкого сна (фр.).
Бомарше — Пьер Огюстен Карон де Бомарше
405
(1732-1799), французский писатель, автор знаменитых
комедий “Севильский цирюльник” и “Женитьба Фигаро”.
скальды — древние скандинавские поэты, барды.
Стендаль — псевдоним Анри Бейля (1783-1842),
французского писателя, автора романов “Красное и чер-
ное” и “Пармская обитель”.
Стр. 328. Канидия — в римских народных сказа-
ниях, прекрасная нифма с чудным голосом.
лауданум — настойка опиума.
...оспаривают». какую-нибудь уличную Елену —
речь идет о Прекрасной Елене, похищенной Парисом, что
стало причиной Троянской войны. Здесь можно вспом-
нить Джеймса Джойса, который в своем романе “Уллис”
совместил греческий эпос с жизнью современного ему го-
рода.
Стр. 331. ...с самыми мрачными выдумками Анны
Редклиф, Льюиса и почтенного отца Метьюрина.» — Ан-
на Редклифф, урожденная Анна Вард (1764-1823), анг-
лийская романистка, основательница жанра готического
романа. Ее сочинения о привидениях, изданные Вальте-
ром Скоттом, имели существенное влияние на движение
романтизма. Джордж Генри Льюис (1807-1878), англий-
ский писатель. Метьюрин — см. примечание к стр. 23 эссе
“Искусственный рай”.
Стр. 332. Курбе — Гюстав Курбе (1827-1885),
французский живописец натуралистического направле-
ния, чьим последователем был Мане и импрессионисты.
Существует набросок статьи Бодлера о реализме, где он
хотел подвергнуть критике поползновения а ля Курбэ в
живописи.
Фантен — Фантен Латур (1808-1881), француз-
ский писатель, автор книги “Похвала Делакруа”.
Стр. 333. ...эта ужасная Мариторна-Каллипи-
га... — Мариторна (фр. “уродина”); Каллипига (греч. “с
прекрасным задом”), эпитет Афродиты, вошедший в
употребление благодаря статуям, где она изображена
смотрящей на свой зад.
Так он увлекся Гизом.» — Константин Гиз, англий-
ский художник, автор акварелей, высоко ценимых Бодле-
ром.
Стр. 334. dukery — герцогство (англ.).
406
...продажных нимф салонов Пикадилли и Аргейл.
— публичные дома в Лондоне.
Эжен Сю — см. примечание к статье “Советы моло-
дым литераторам”.
“Illustrated London News” — газета “Иллюстриро-
ванные новости Лондона”.
Стр. 335. Шантильи — город, где были располо-
жены ткацкие мануфактуры.
Понятно, что с такими идеями Бодлер склонял-
ся... к реалистической школе... — несмотря на то, что эле-
менты реализма встречаются в произведениях Бодлера, он
писал в наброске своей статьи о реализме: “История созда-
ния слова... Он [Шамфлери] мечтал иметь слово, знамя,
утку, лозунг или пароль, чтобы заглушить призыв: Ро-
мантизм. Он считал, что всегда должно быть какое-ни-
будь слово-заклинание, смысл которого можно и не опре-
делять... Всякий хороший поэт всегда был реалистом...
Поэзия — это то, что реально в высшей степени, то, что яв-
ляется полной истиной лишь в другом мире”.
Стр. 338. шари-вари — какофония (фр.).
Стр. 339. сильфида — по средневековым поверьям,
мифологическое существо, населяющее воздух.
сераль — гарем во дворце турецкого султана (перс.-
фр.).
Стр. 343. ...подобно Марию в "Битве с кимврами"
Декана... — Александр Габриель Декан (1803-1860), фран-
цузский художник, написавший ряд картин из восточной
жизни, а также картины на исторические сюжеты. Гер-
манское племя кимвров, соединившись с тевтонами, пы-
талось проникнуть в Италию, но было истреблено Марием
(см. примечание к стр. 50 эссе “Искусственный рай”).
Стр. 346. Алоизий Бертран (1807-1841) — фран-
цузский поэт, автор книги стихотворений в прозе “Гаспар-
полуночник”.
Стр. 347. Квинтен Массейс (1460-1530) — гол-
ландский живописец, родоначальник особого рода жанро-
вых картин с большими поясными фигурами, изображав-
шими менял, счетчиков, весовщиков и т.п.
Стр. 348. Миллее — Джон Эверет Миллее (1829-
407
1896), английский живописец, вначале примыкавший к
прерафаэлитам, но позднее освободившийся от их влия-
ния.
Стр. 349. Ли-Тай Пе (699-762) — китайский поэт,
вначале живший при дворе императора Хинан Цзута, но
затем впавший в немилость и закончивший жизнь бродя-
гой.
Титания — один из главных персонажей комедии
Шекспира “Сон в летнюю ночь”, супруга царя эльфов
Оберона.
Содержание
Рай искусства Шарля Бодлера
Вступительная статья. В. Осадченко.................... ________________........___________...... 5
ТЕОФИЛЬ ГОТЬЕ
Трубка опиума 23
Гашиш 30
Клуб любителей гашиша ______________________________________________________34
I. Отель Пимодан _____________________________________________________34
II. Отступление _______________________________________________________36
III. Агапа __________________________________________________________ 37
IV. Господин, которого никто не знал ________________________________ 39
V. Безумие ___________________________________________________________40
VI. Кайф _____________________________________________________________43
VII. Кайф превращается в кошмар_______________________________________45
VIII. Tread-mill ______________________________________________________46
IX. Не верьте часам __________________________________________________49
Тысяча вторая ночь__________________________________________________________5/
(Перевод Л. Перхуровой)
ШАРЛЬ БОДЛЕР
О вине и гашише как двух разных средствах
умножения личности _________________________________________________________69
I-III. Вино _________________________________________________________ 69
IV-VII. Гашиш ________________________________________________________ 79
ИСКУССТВЕННЫЙ РАЙ
Поэма о гашише______________________________________________________________91
I. Любовь к бесконечности ____________________________________________91
II. Что такое гашиш____________________________________________________94
III. Театр серафимов 96
IV. Человекобог ______________________________________112
N. Мораль_____________________________________________________________121
Любитель опиума ___________________________________________________________126
I. Ораторские приемы ------------------------------------------------126
II. Предварительная исповедь__________________________________________129
III. Прелести опиума •••»**••«••»•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 145
409
IV. Муки опиума ...............................151
V. Ложная развязка 166
VI. Маленький гений 172
VII. Детские печали ___________________________174
VIII. Оксфордские видения _____________________J80
IX. Заключение _________________________________188
Заметки к лекциям, прочитанным Шарлем Бодлером в 1864 году
в Брюсселе 190
Жизнь и творчество Эдгара По ________________________192
(Перевод Л. Когана)
Теофиль Готье •••••••••••••••»•••••••••••••••••••••••«•••••••••••••••••••«••••«
Благочестивые драмы и романы ______________________________________
Советы молодым литераторам ~____________________________..............
Как возвращают долги гениальные люди
Мораль игрушки_____________________________________________________
Письма Шарля Бодлера ______________________________________________
(Перевод И. Карабутенко)
214
....258
-244
-251
—254
...260
ПРИЛОЖЕНИЕ
Т. Готье. Шарль Бодлер _____________________________294
(Перевод Эллиса)
Комментарии В. Осадченко __________....___—........350
Шарль Бодлер и др.
Искусственный рай
Клуб любителей гашиша
серия ♦Символы времени*
Составление и перевод В. Осадченко
Редактор О. Разумеют
Художественный редактор 3. Вуттаев
Техническое редактирование,
компьютерная версткаА Раманов
Корректор Г. Абудеева
ЛР №064478 от 26.02.96.
Подписано в печать 15.07.97. Формат 84Х 108/32.
Гарнитура «Гарамонд». Печать высокая.
Печ. л. 26.0. Тираж 7000 экз. Заказ 511.
Издательство «Аграф», 109544, Москва,
Шереметьевская ул., д. 47, а/я 16.
Отпечатано с оригинал-макета
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»
150049, г. Ярославль, ул. Свободы, 97.
га|И1а1ЯПэпапэпапэ1яга1Я1Я11зпдпяпэла|р1|;д1;з131п1пэпэ1апэяа1Н1а1^
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Ж ЛГР4Ф
ПРЕДСТАВЛЯЕТ КНИГИ
к.
tw <в~—’****'"
Философия, литературоведение,
история, культурология.
Художественная литература
Книги издательства «АГРАФ» оптом и в розницу
можно приобрести в издательстве
Москва, Шереметьевская ул., 47.
Для писем: 109544, Москва, а/я 16.
Тел./факс: 218-1960
E-mail: agraf.ltd@g23.relcom.ru
в Книжной лавке «У Сытина»
тел.: 230-89-00,959-27-00.
Москва, ул.Пятницкая, 73.
в фирме «Крафт» тел./факс: 278-73-80
ул. Новорогожская, 10а.
а
«augxaty)»
шшш шз eogxaa
символы
ВРЕМЕНИ
Б. Раушенбах «Пристрастие»
Борис Викторович Рау-
шенбах — академик Рос-
сийской Академии наук,
один из основателей кос-
монавтики, философ, че-
ловек, способный получать
одинаковое эстетическое
удовольствие от изящной
стройной формулы и древ-
ней иконы — по кругу ин-
тересов и талантов близок
выдающимся мыслителям
эпохи Возрождения.
В этой книге впервые Со-
браны размышления Б.В. Раушенбаха об Ис-
кусстве и Религии, о тенденциях развития ев-
ропейской цивилизации, о судьбе россий-
ской науки и о многом другом, к чему автор
относится с пристрастием.
символы
ВРЕМЕНИ
О. Уайльд «Письма*
Ровно сто лет отделяет нас се-
годня от года, когда была на-
писана «Ъоремная исповедь»
О. Уайльда, его знаменитое «De
Profundis» - без сомнения, са-
мое грандиозное, самое прон-
зительное, самое беспощадное
и самое откровенное его про-
изведение.
Произведение, где он являлся
одновременно и автором, и
главным героем,- своего рода
♦Портрет Оскара Уайльда», на-
писанный им самим. Однако, в действительности
«De Profundis» было всего лишь письмом, адресован-
ным Уайльдом своему злому гению, лорду Альфреду
Дугласу. Точнее - одним из множества писем, напи-
санных Уайльдом за свою не слишком долгую, пона-
чалу блистательную, а потом страдальческую жизнь.
символы
ВРЕМЕНИ
Б. Ахмадулина «Миг бытия»
Белла Ахмадулина в
I течение многих лет писала
| литературные портреты
I тех, кто составили
| содержание её жизни,
| «украсили и оправдали
I своим участием разное
j время общего времени,
! незаметно ставшего
..эпохой».
Набоков и Ахматова, Пастернак и Цветаева,
Ерофеев и Высоцкий, Антокольский и
Твардовский и многие-многие другие
предстают перед нами, увиденные глазами
влюблённого поэта.
Кто не слышал о вреде наркотиков?..
Однако во времена Бодлера, когда употребление
наркотиков только начинало входить в жизнь
человечества, их телесная опасность была вовсе
неведома, тем более опасность нравственная.
Если верить Теофилю Готье, наркотики
считались чем-то вроде заменителя того
возбуждения, которое можно ожидать,
например, от верховой прогулки, от
благодатного утра или от любовницы...
В конце концов, каждый решает за себя,
насладиться ли искусственным раем или
ожидать рая настоящего...
ЛТЯФ