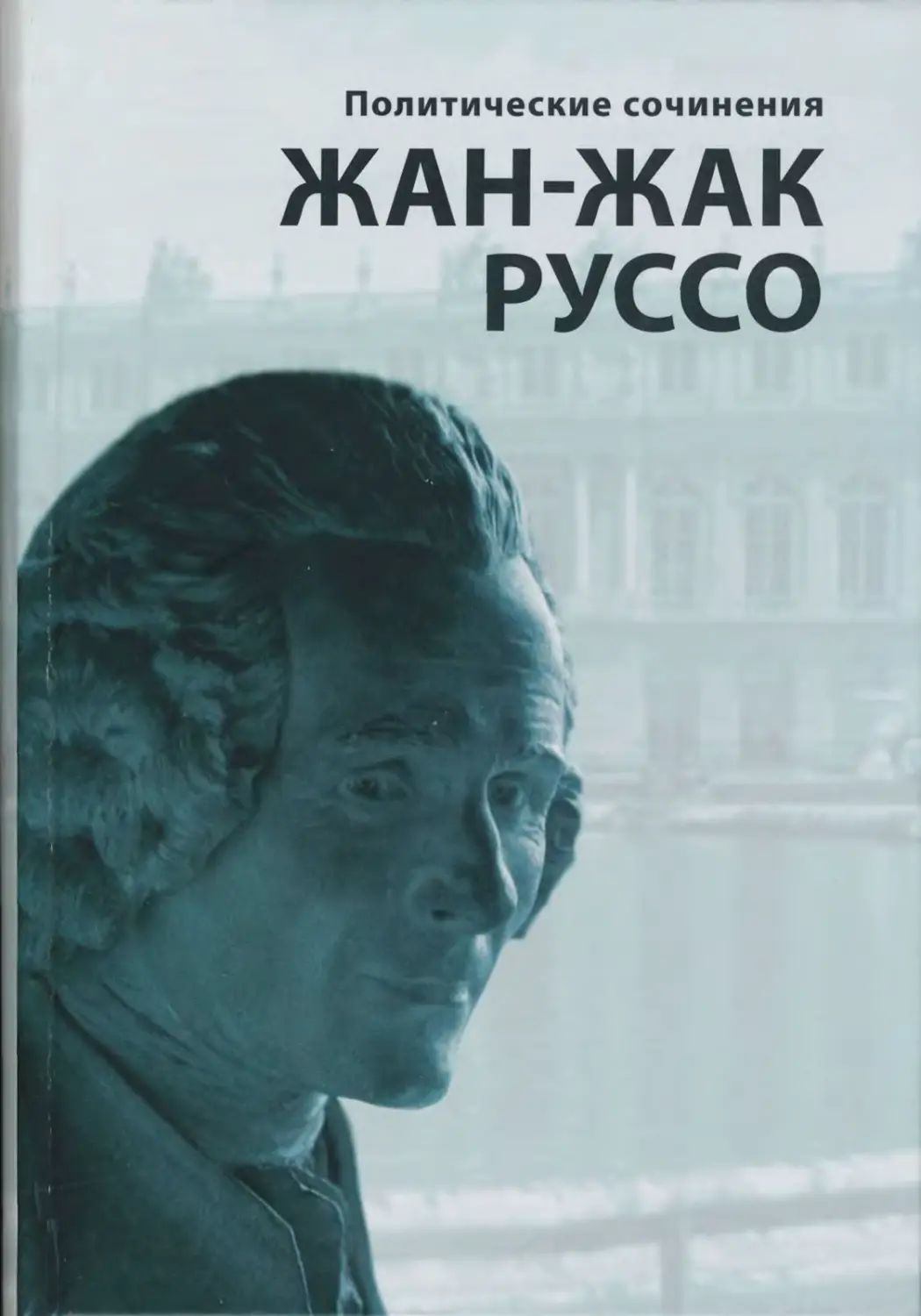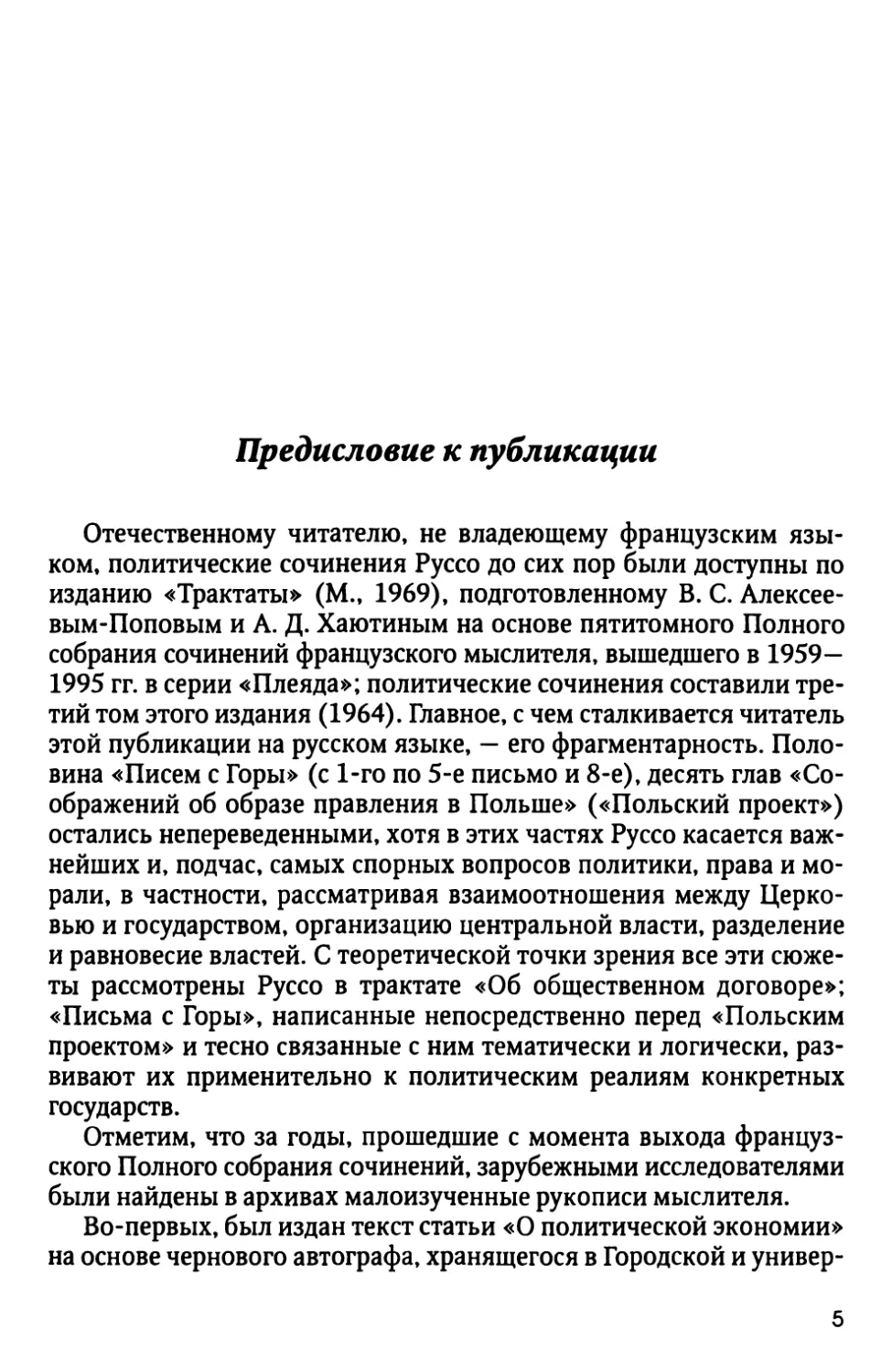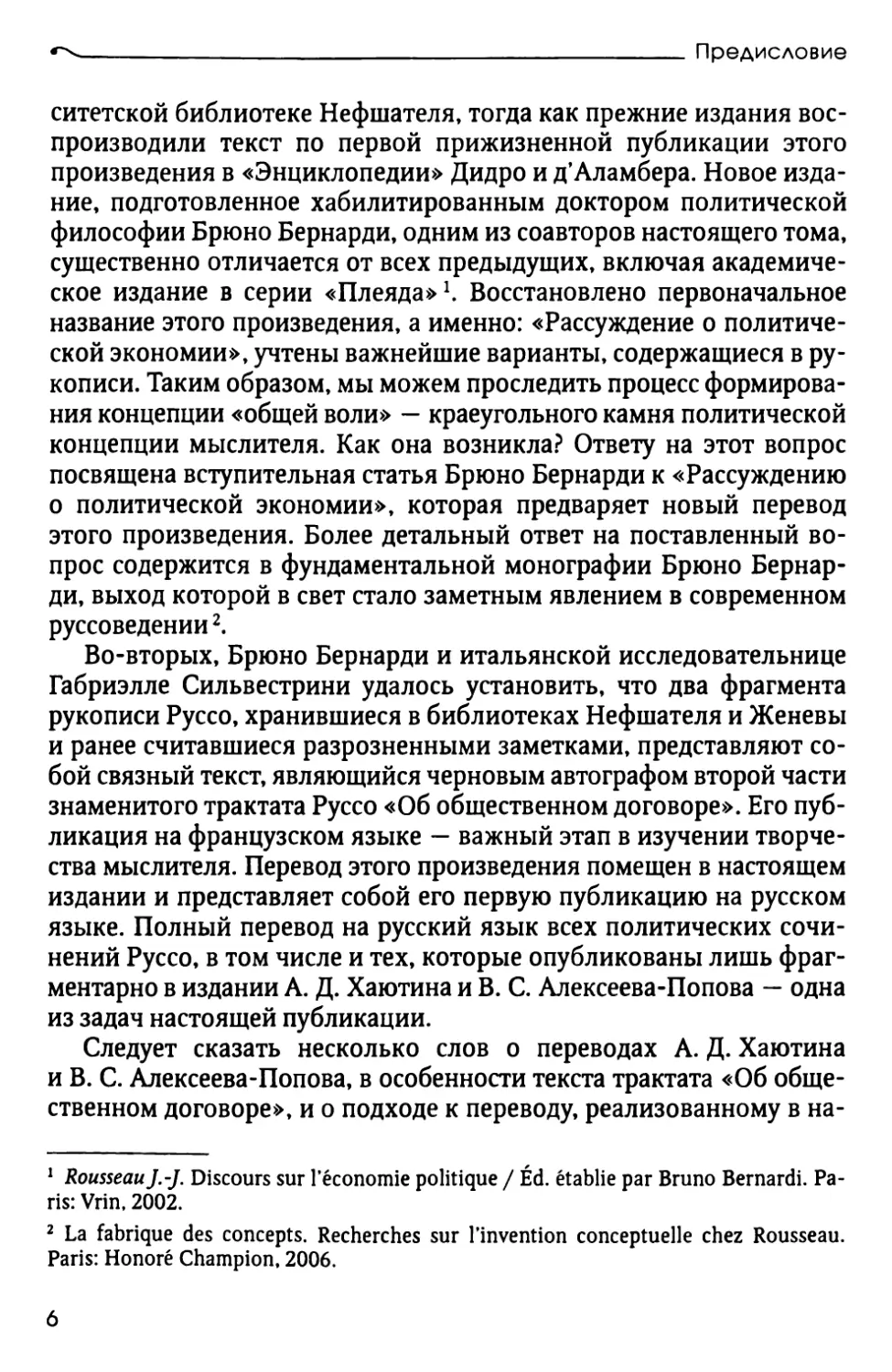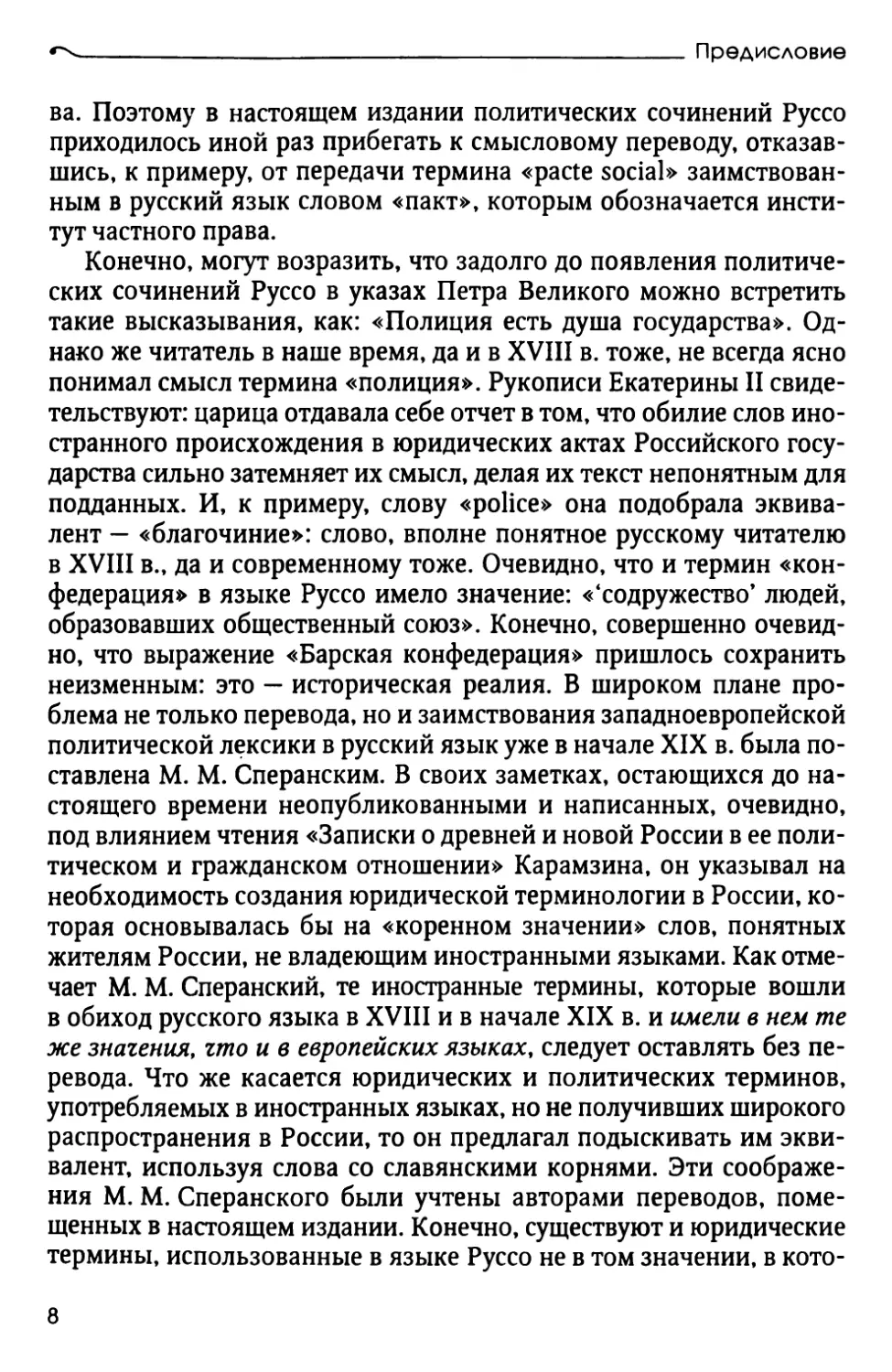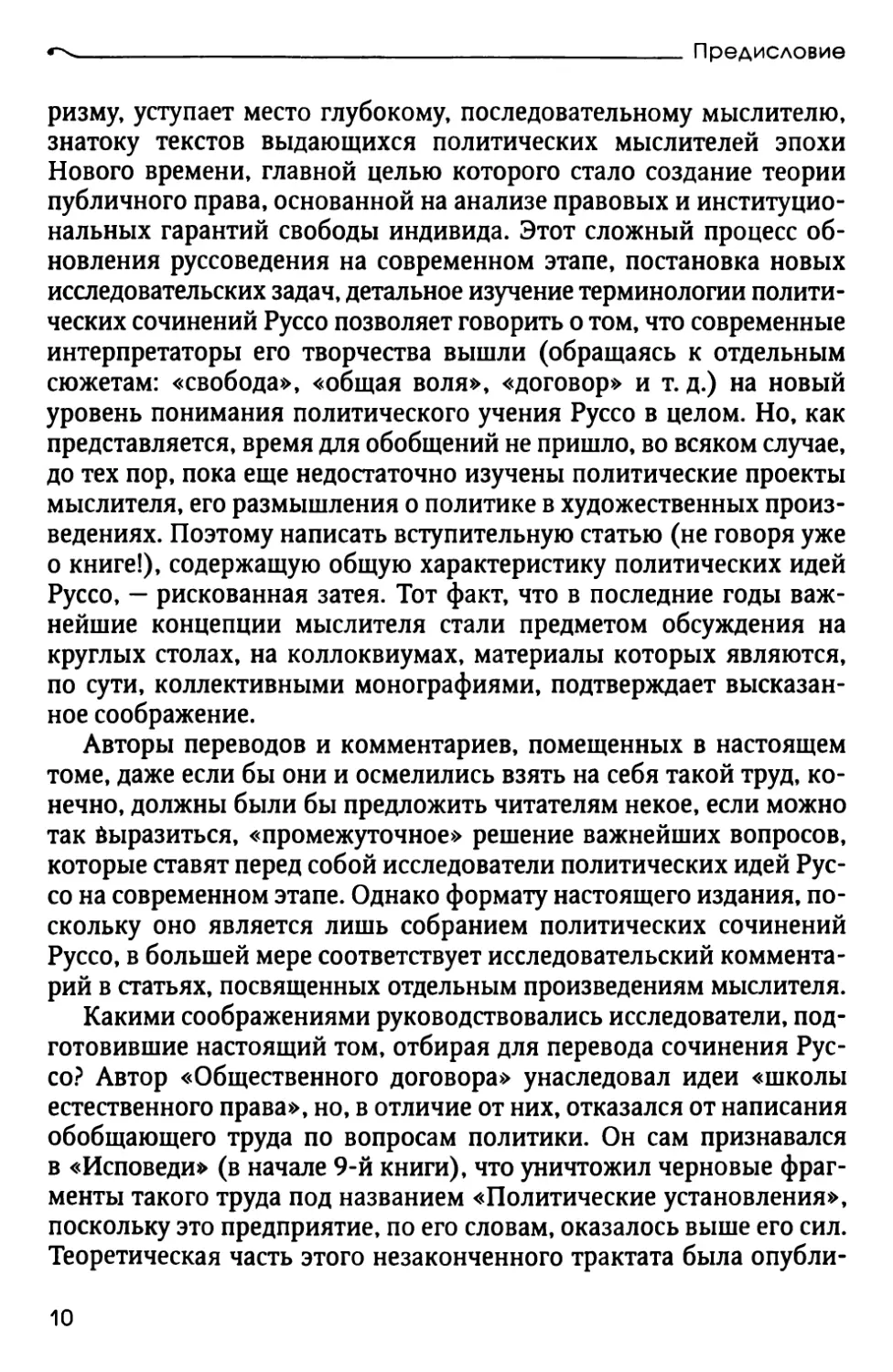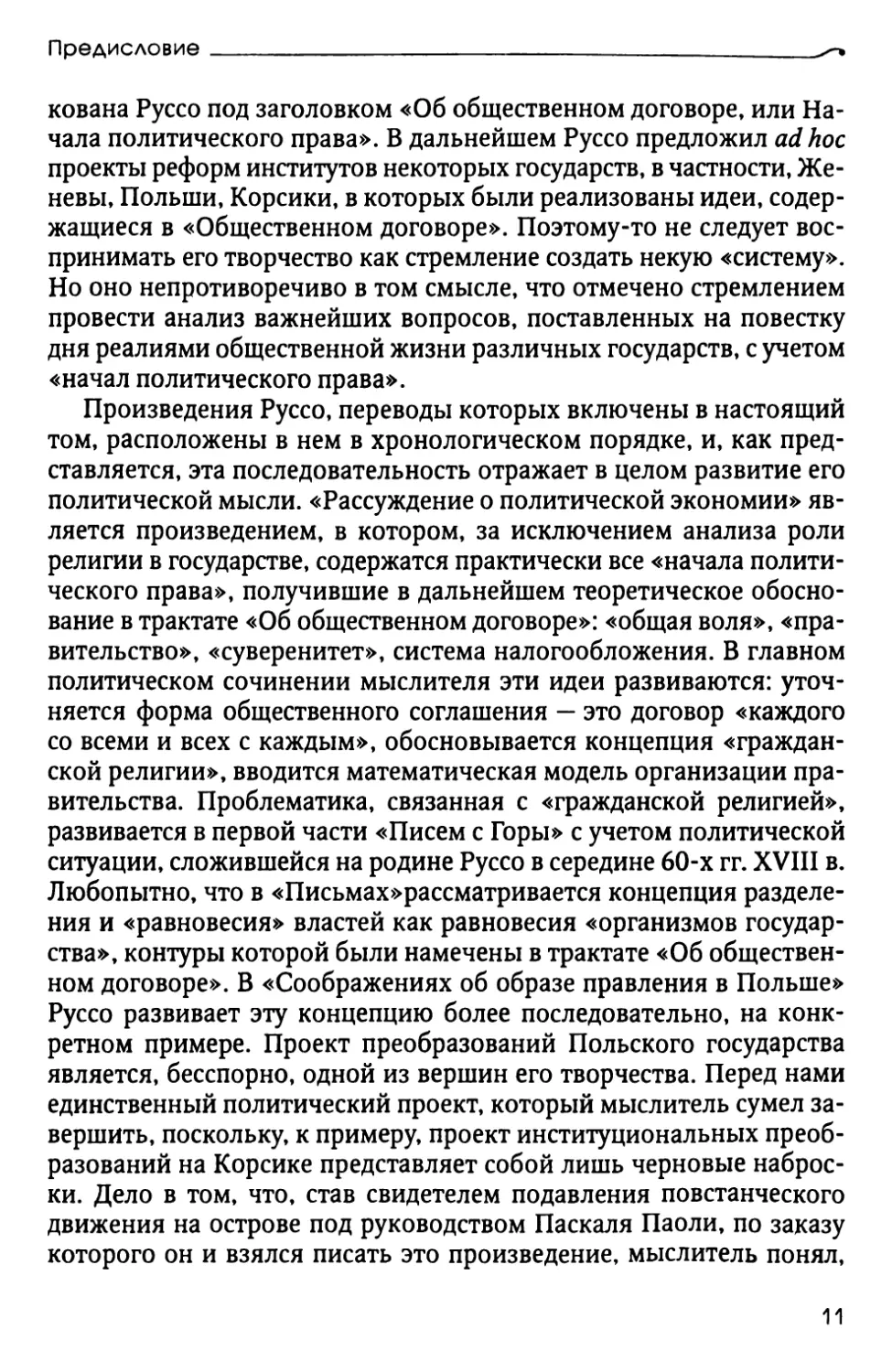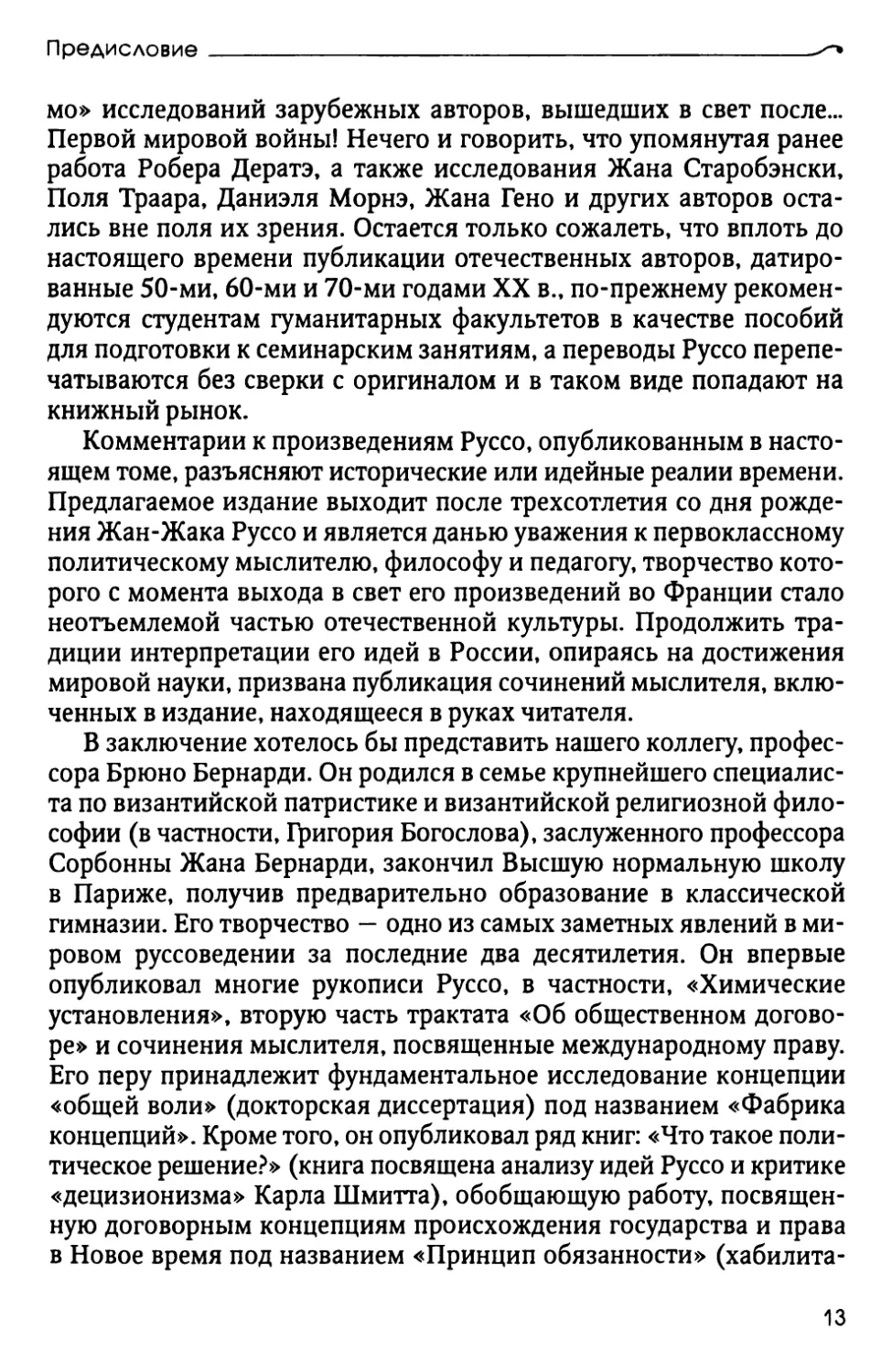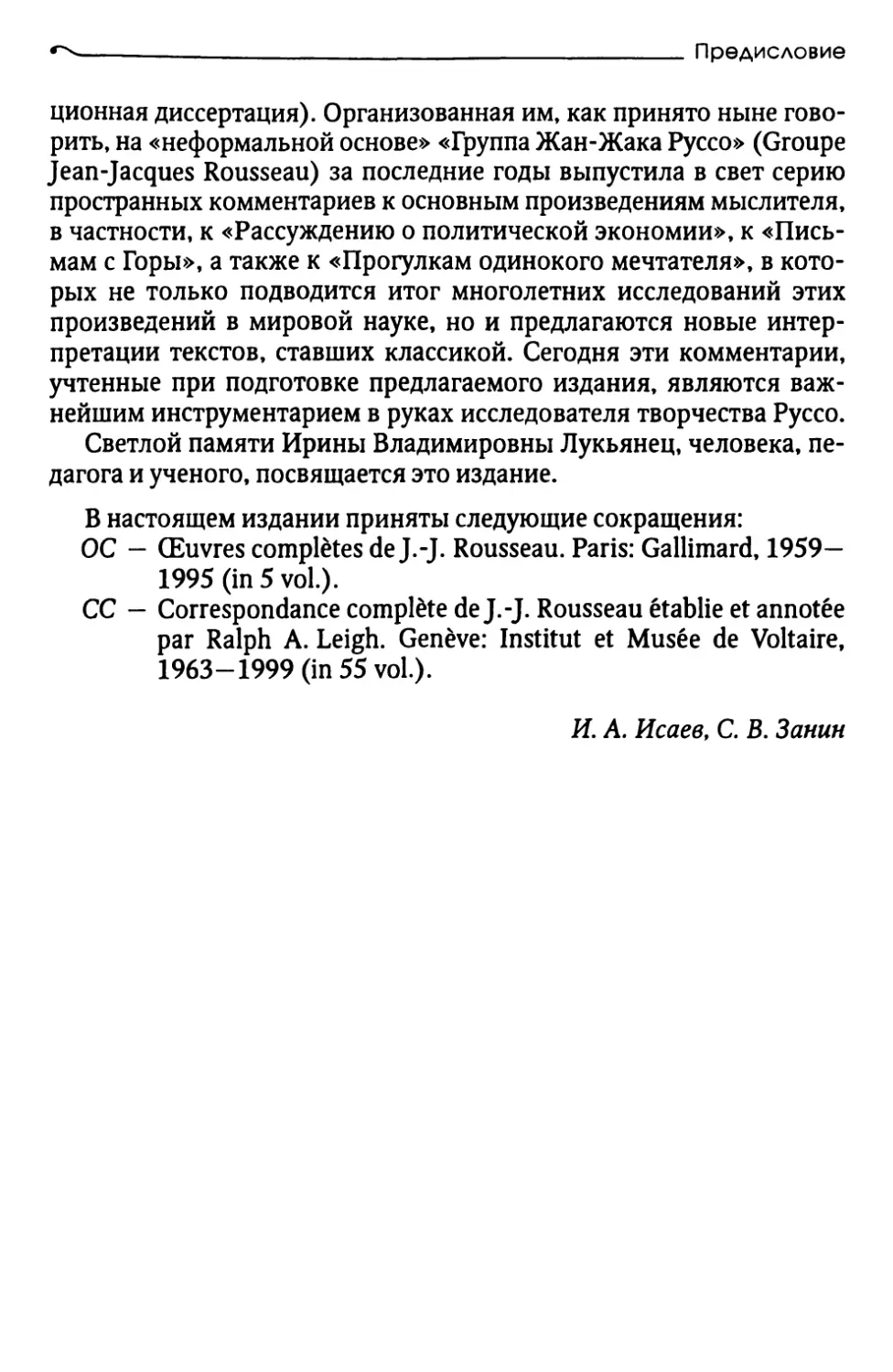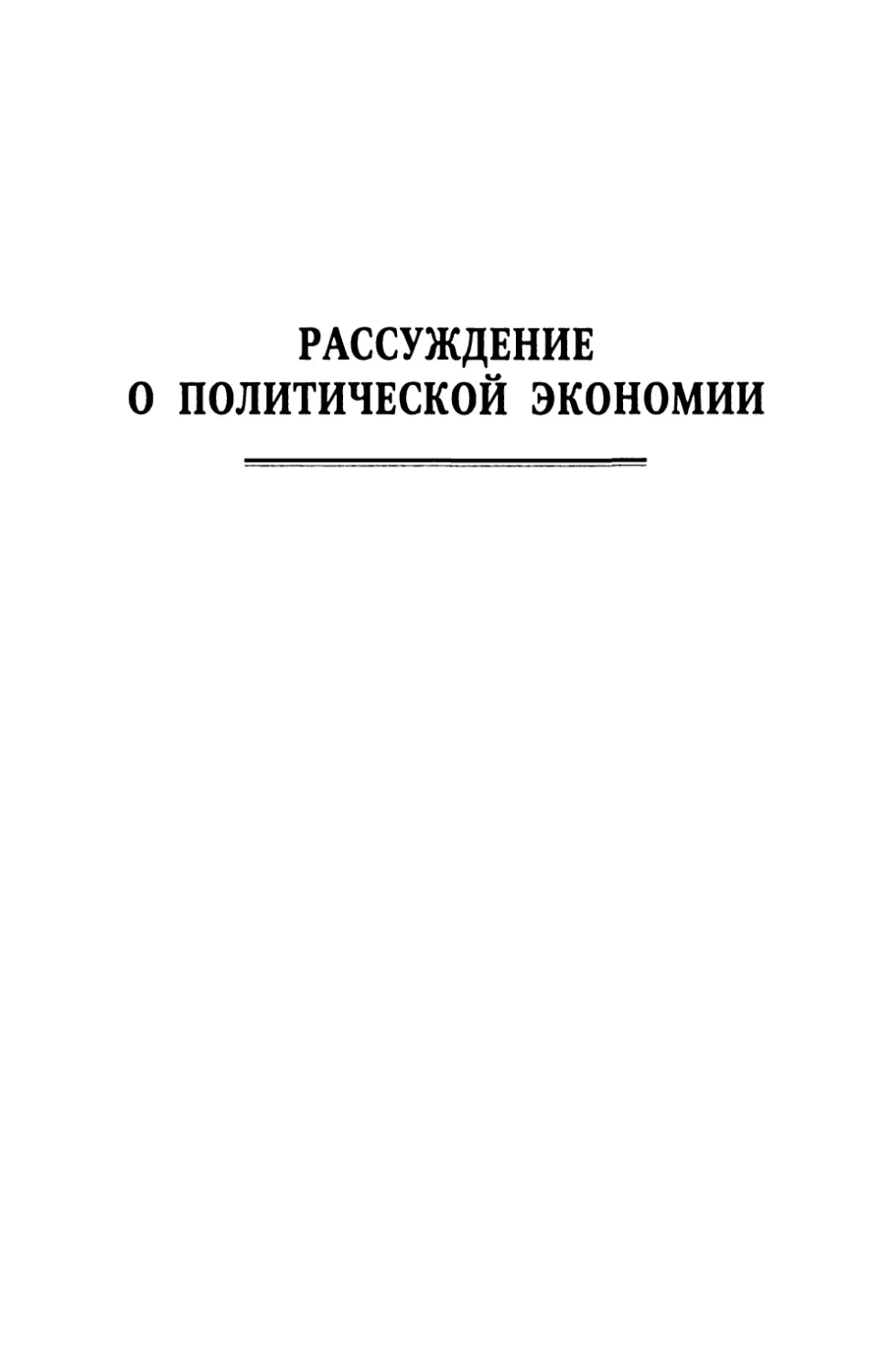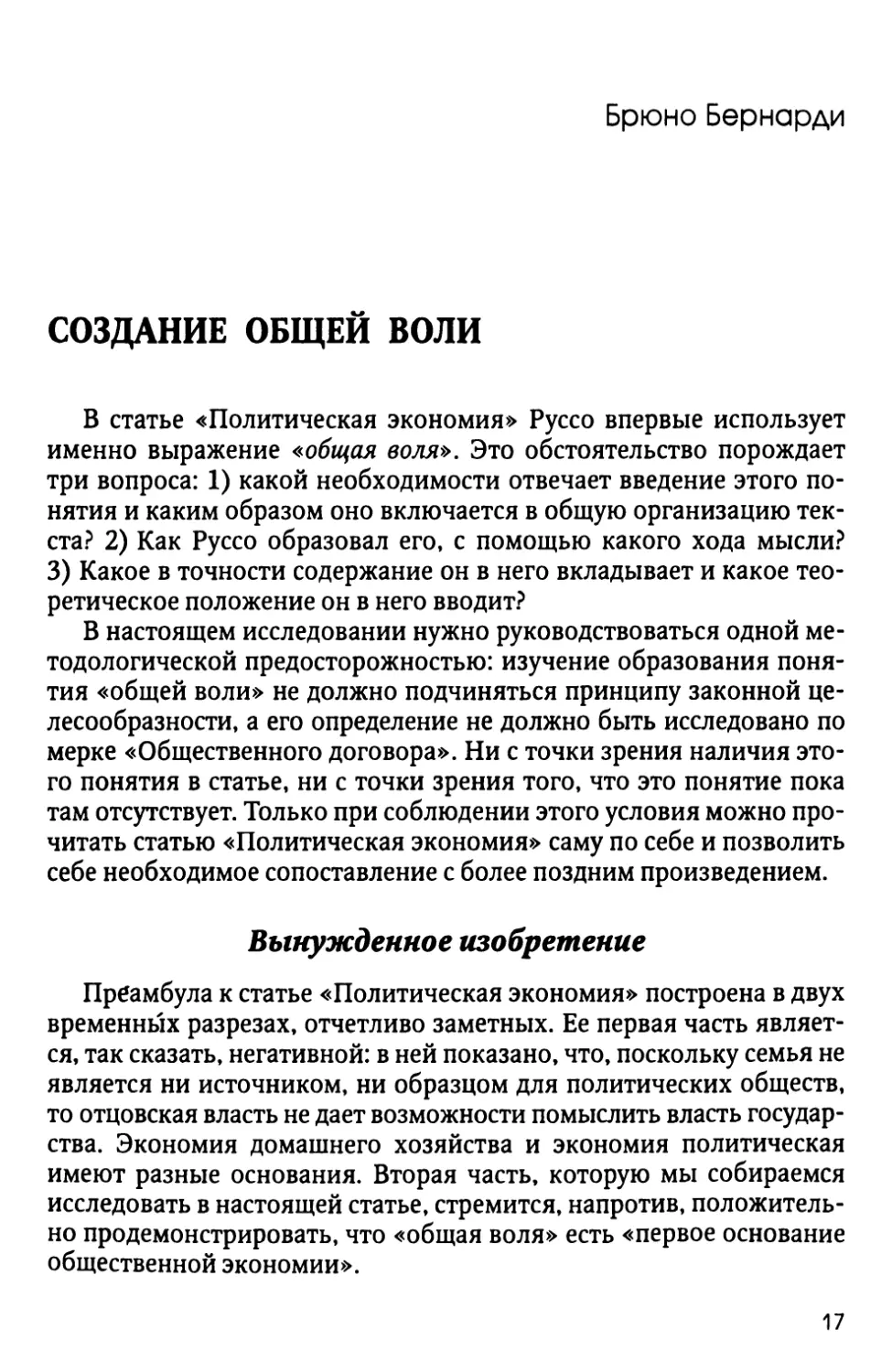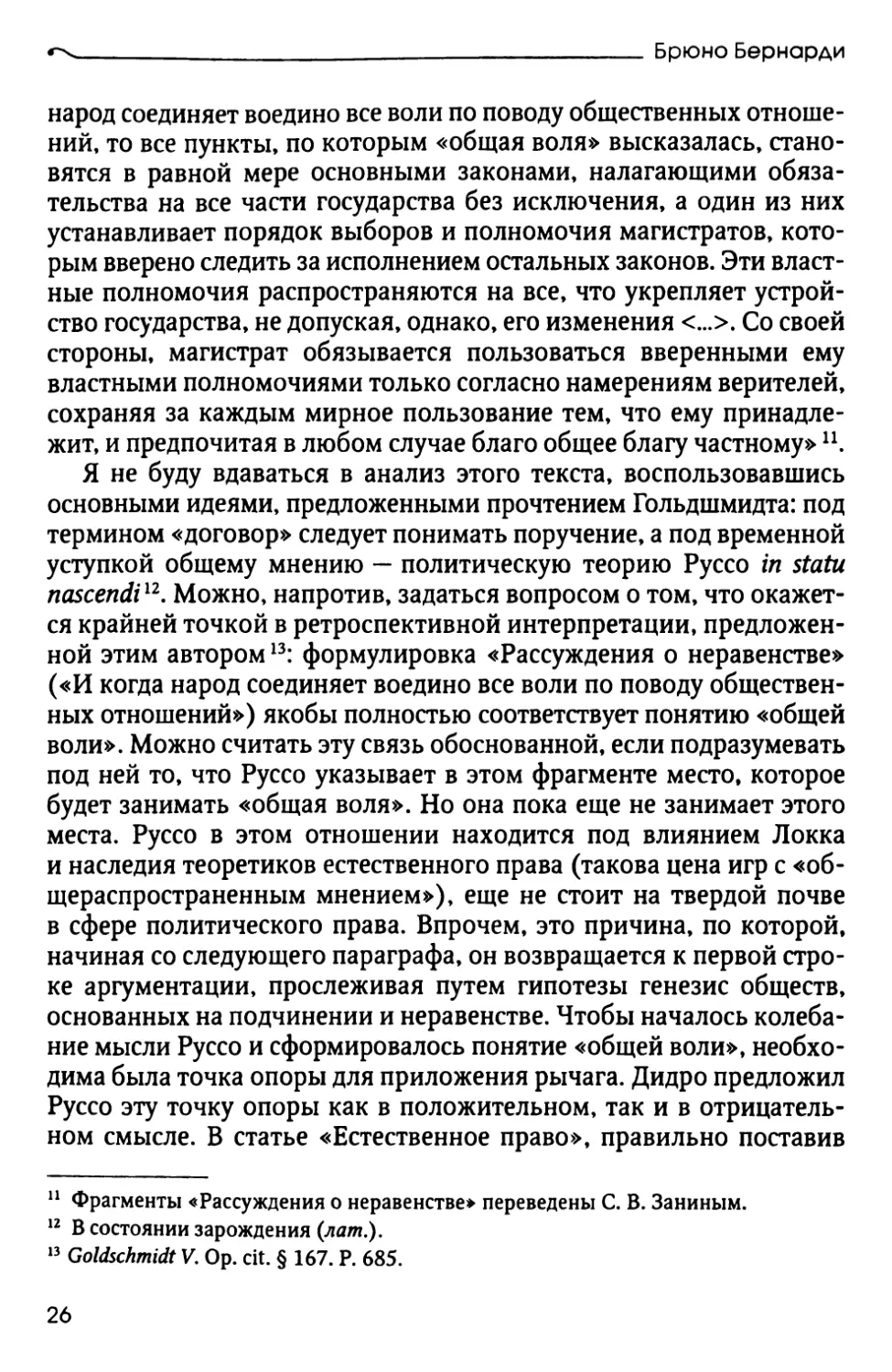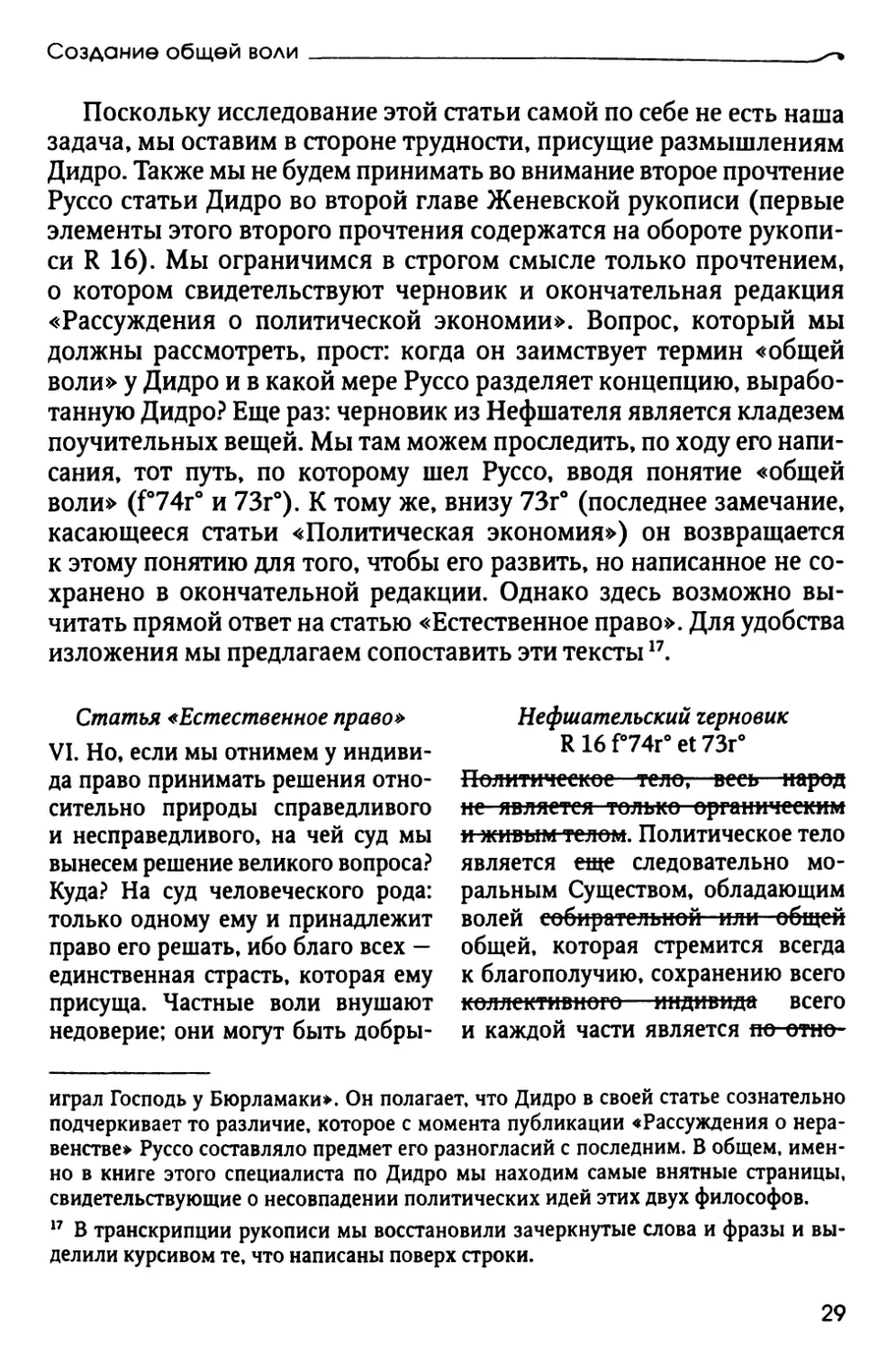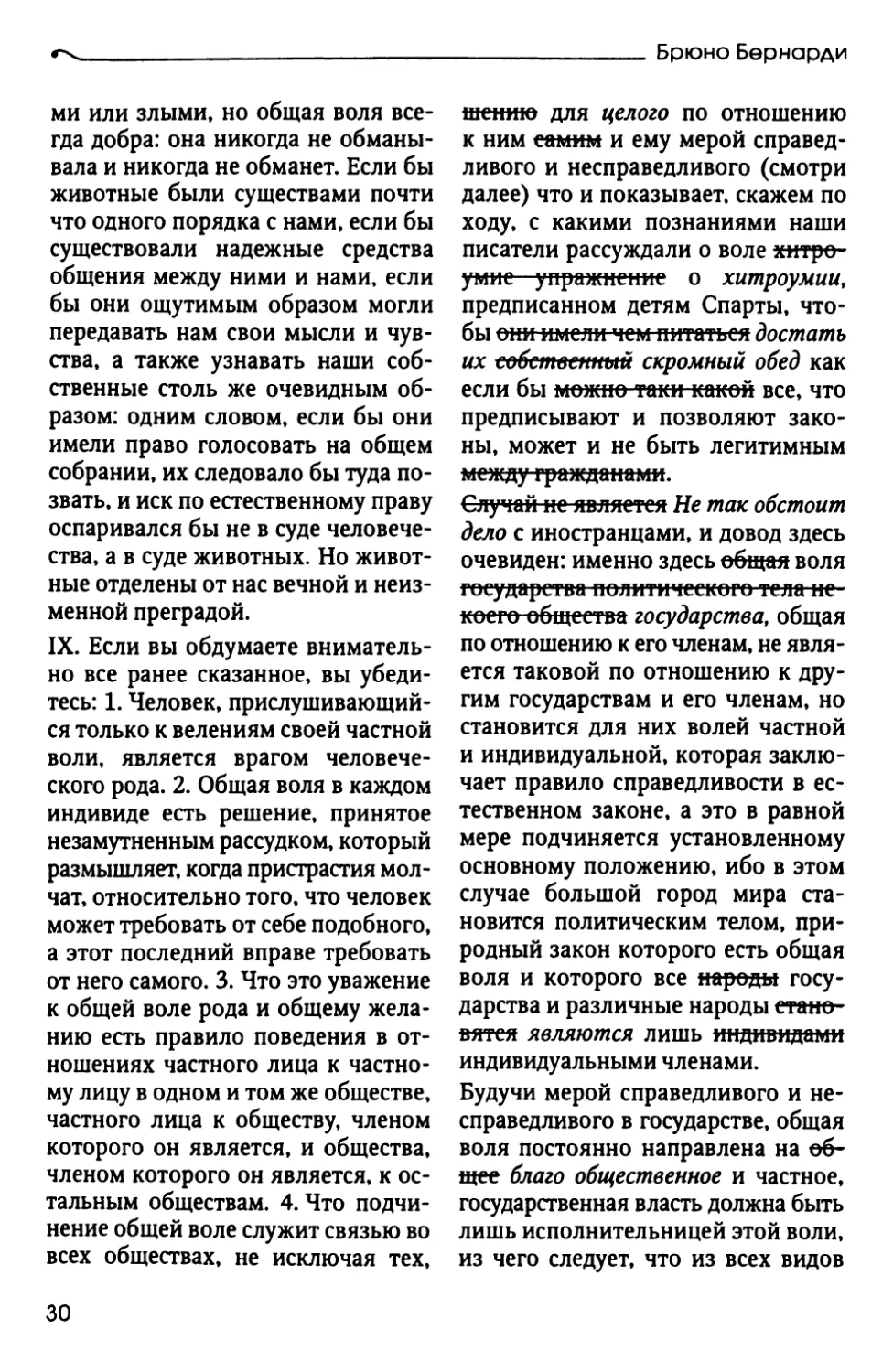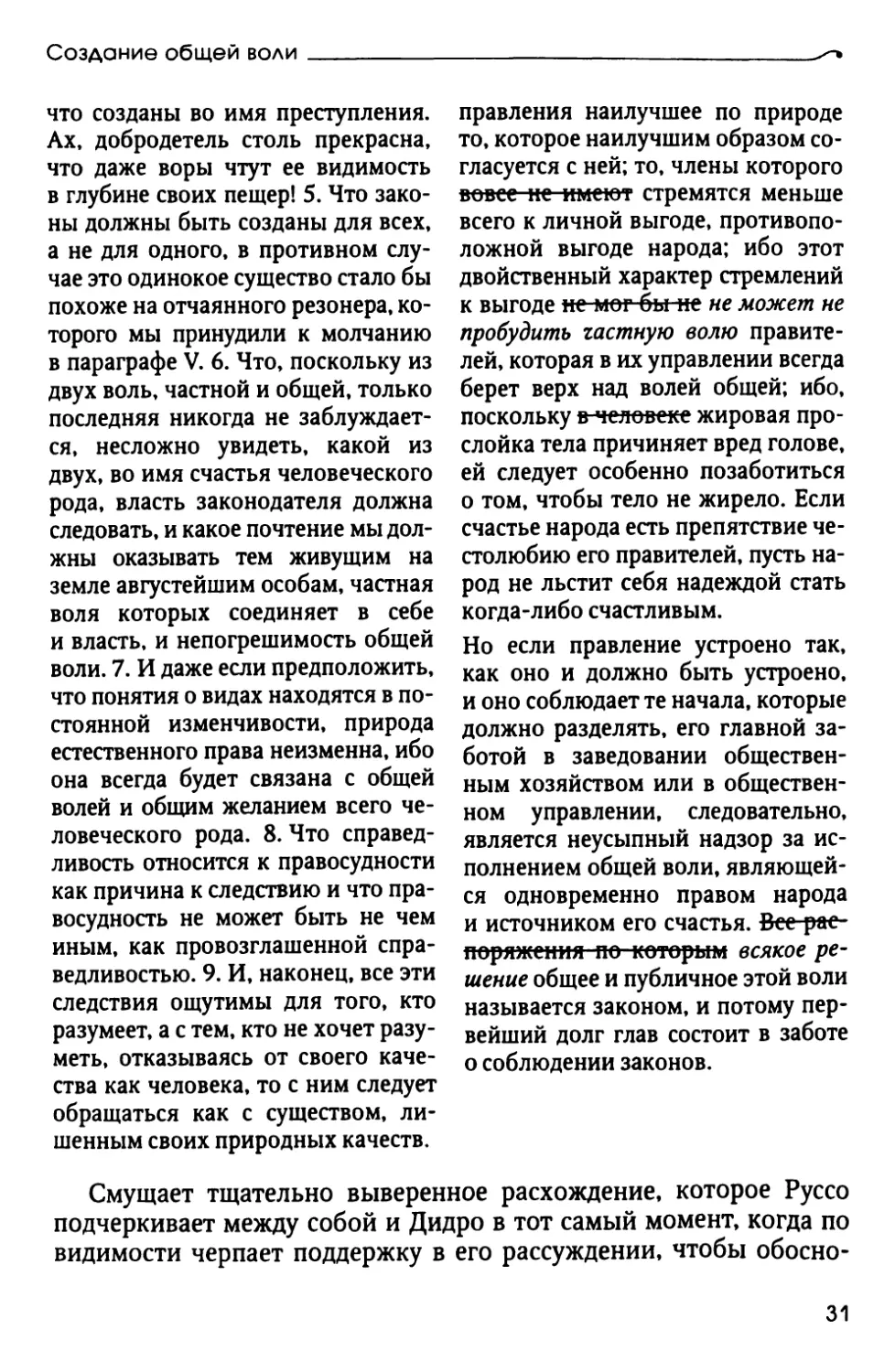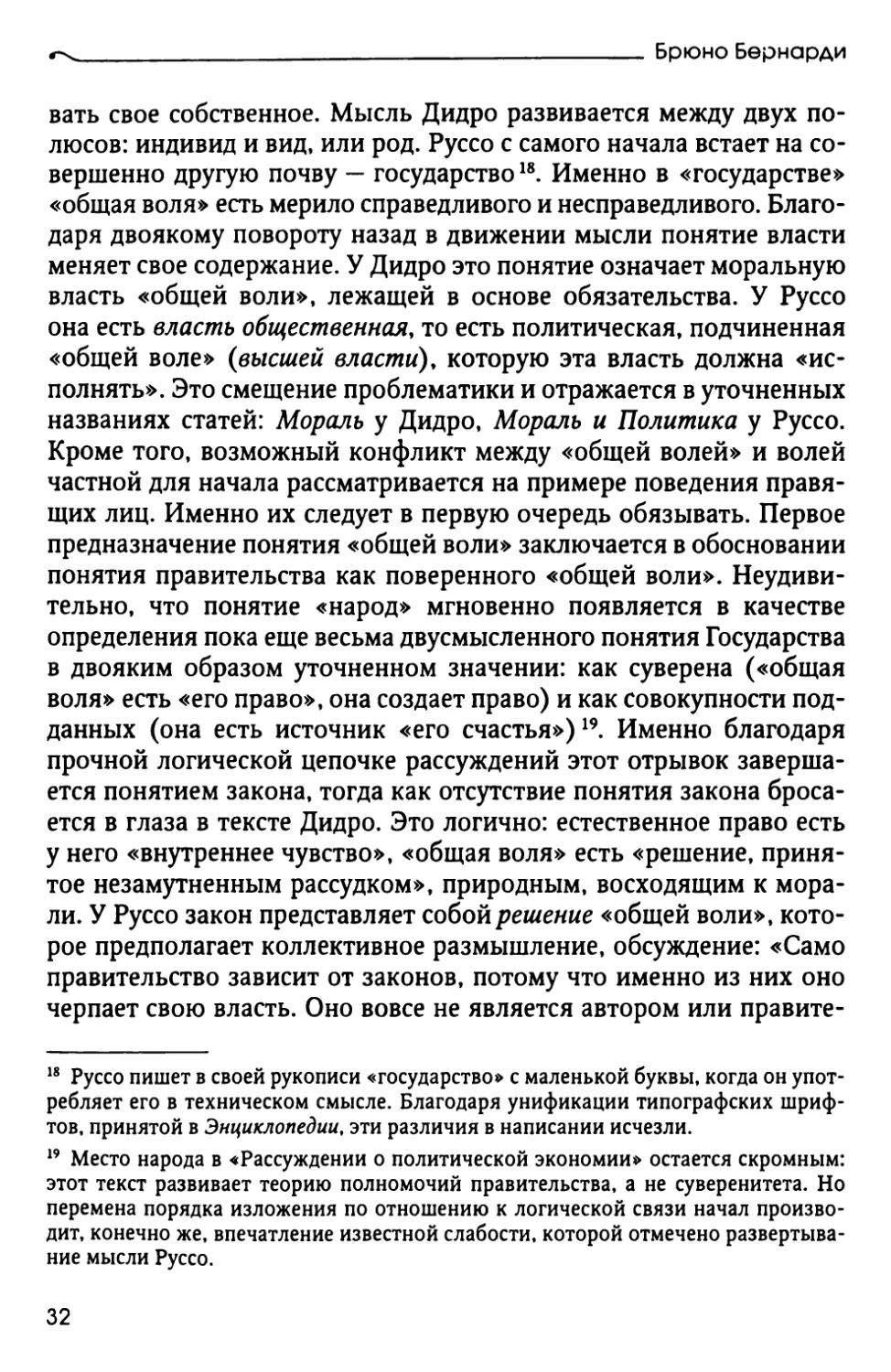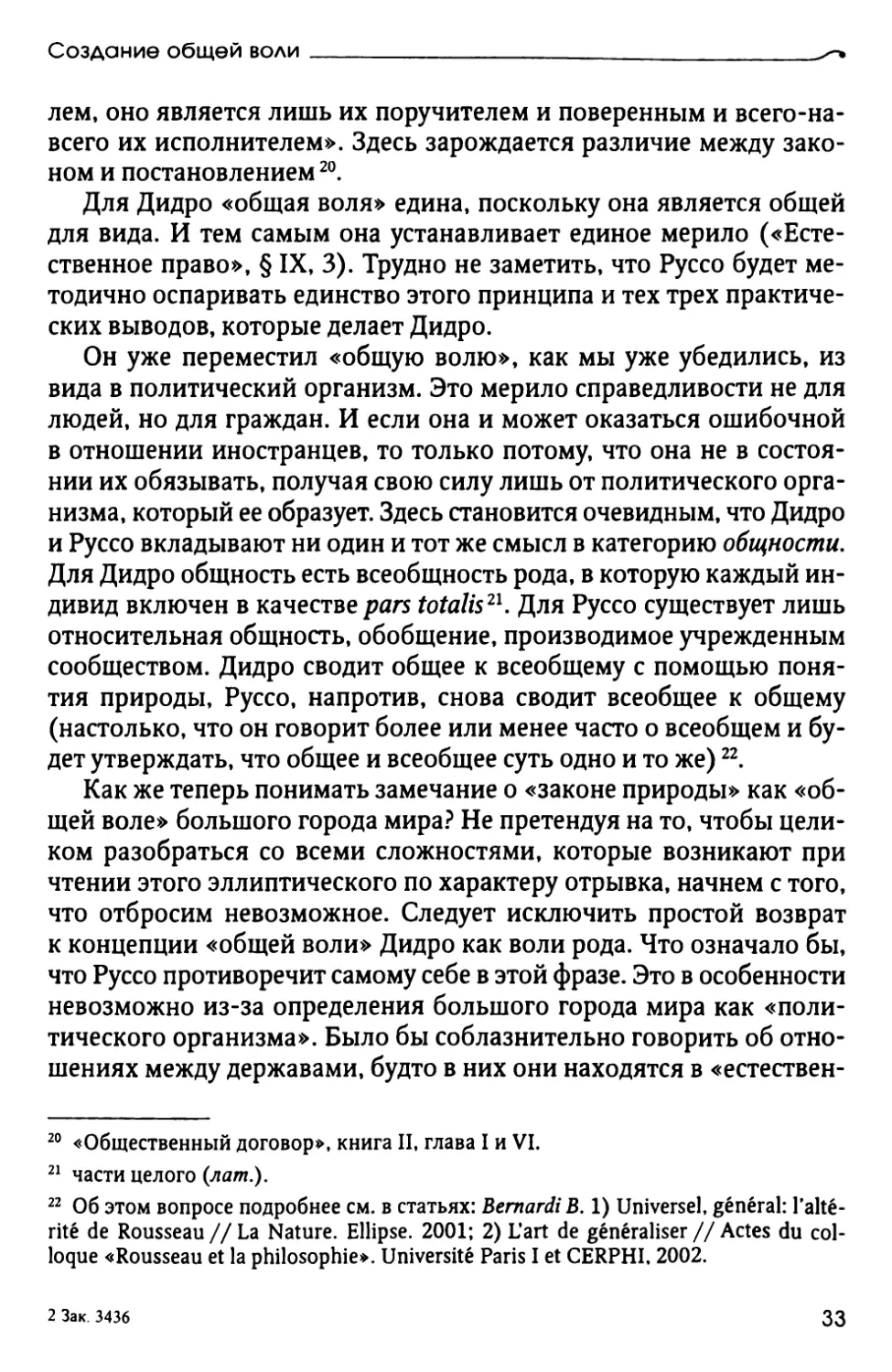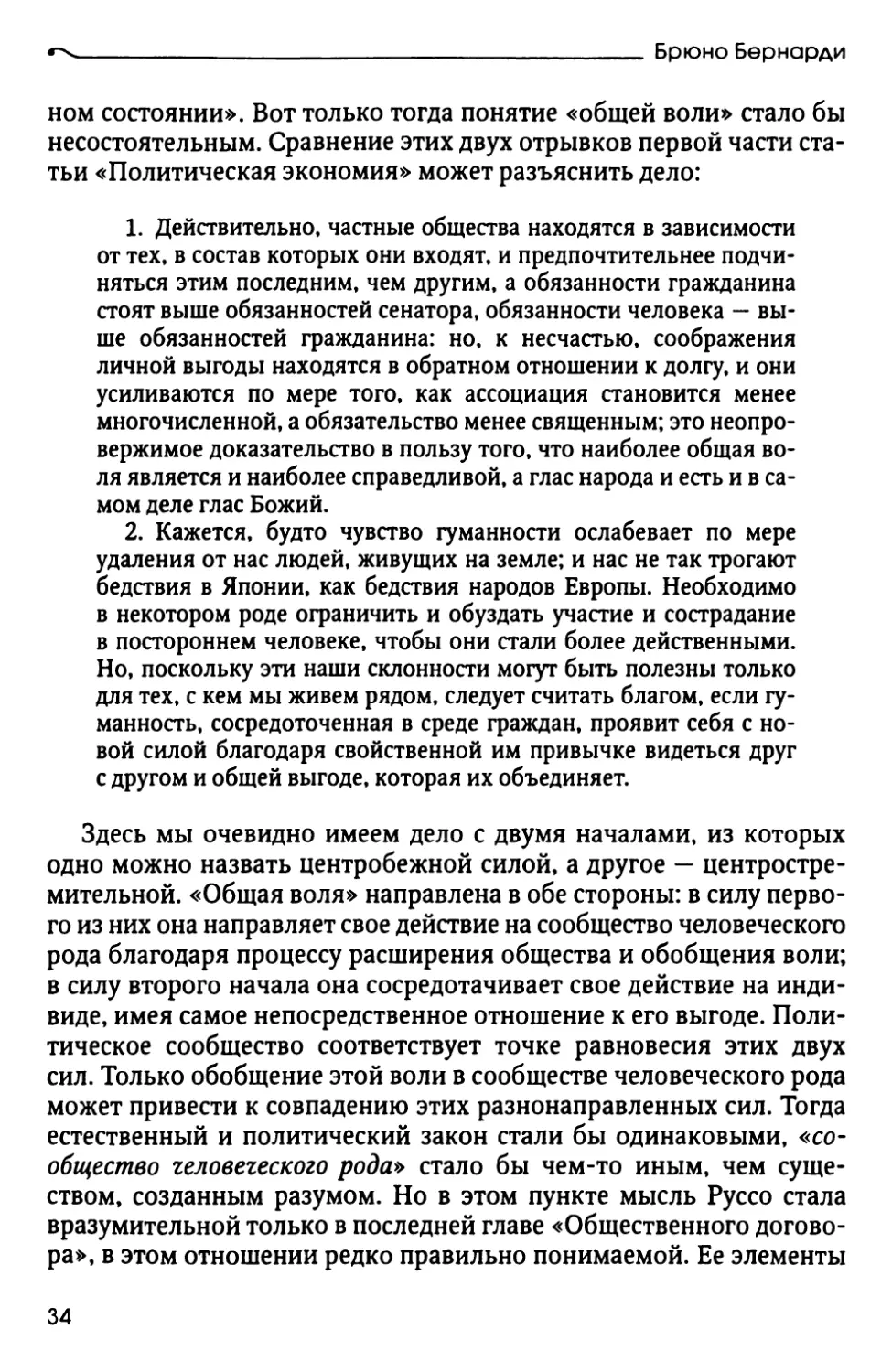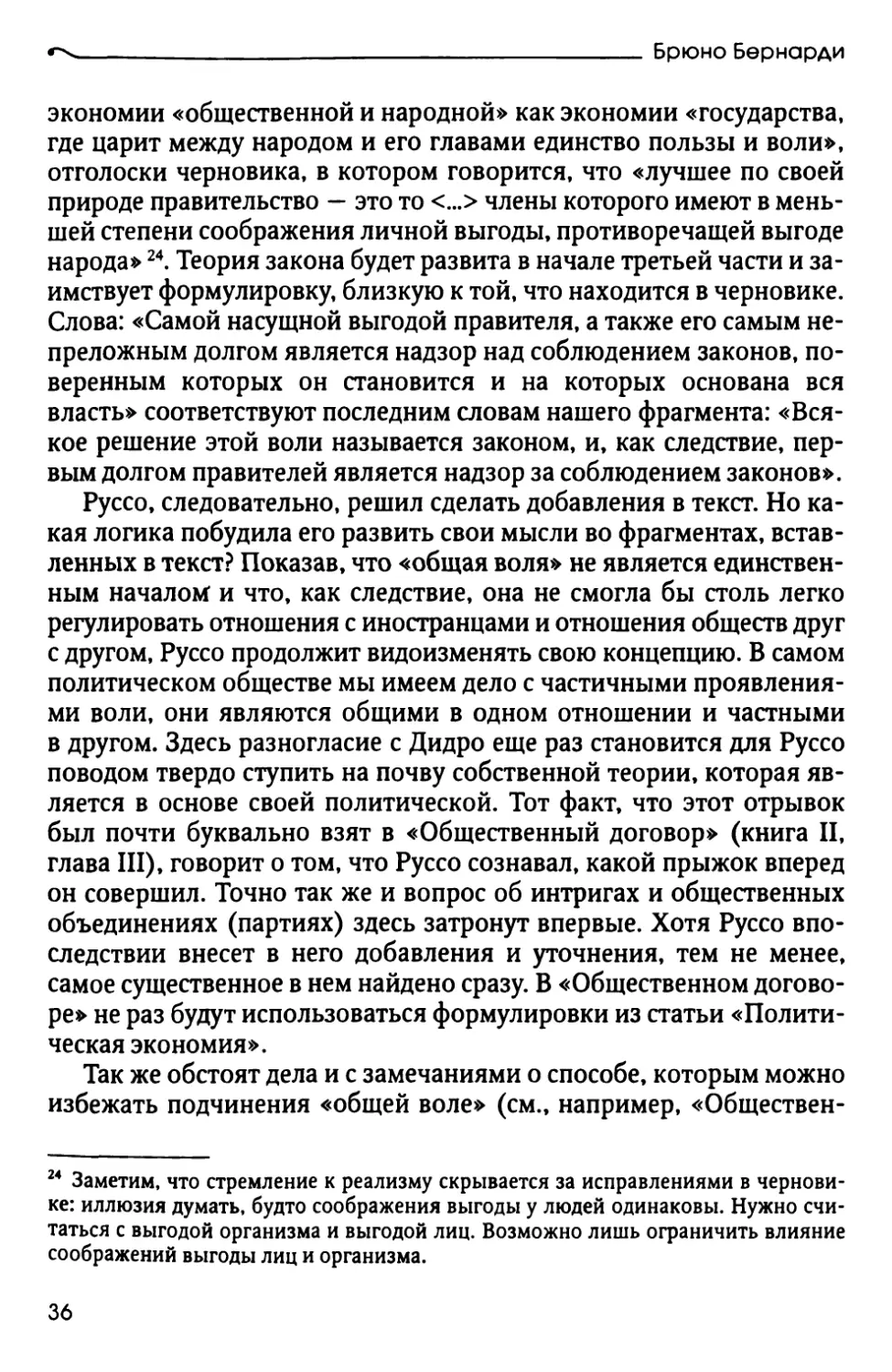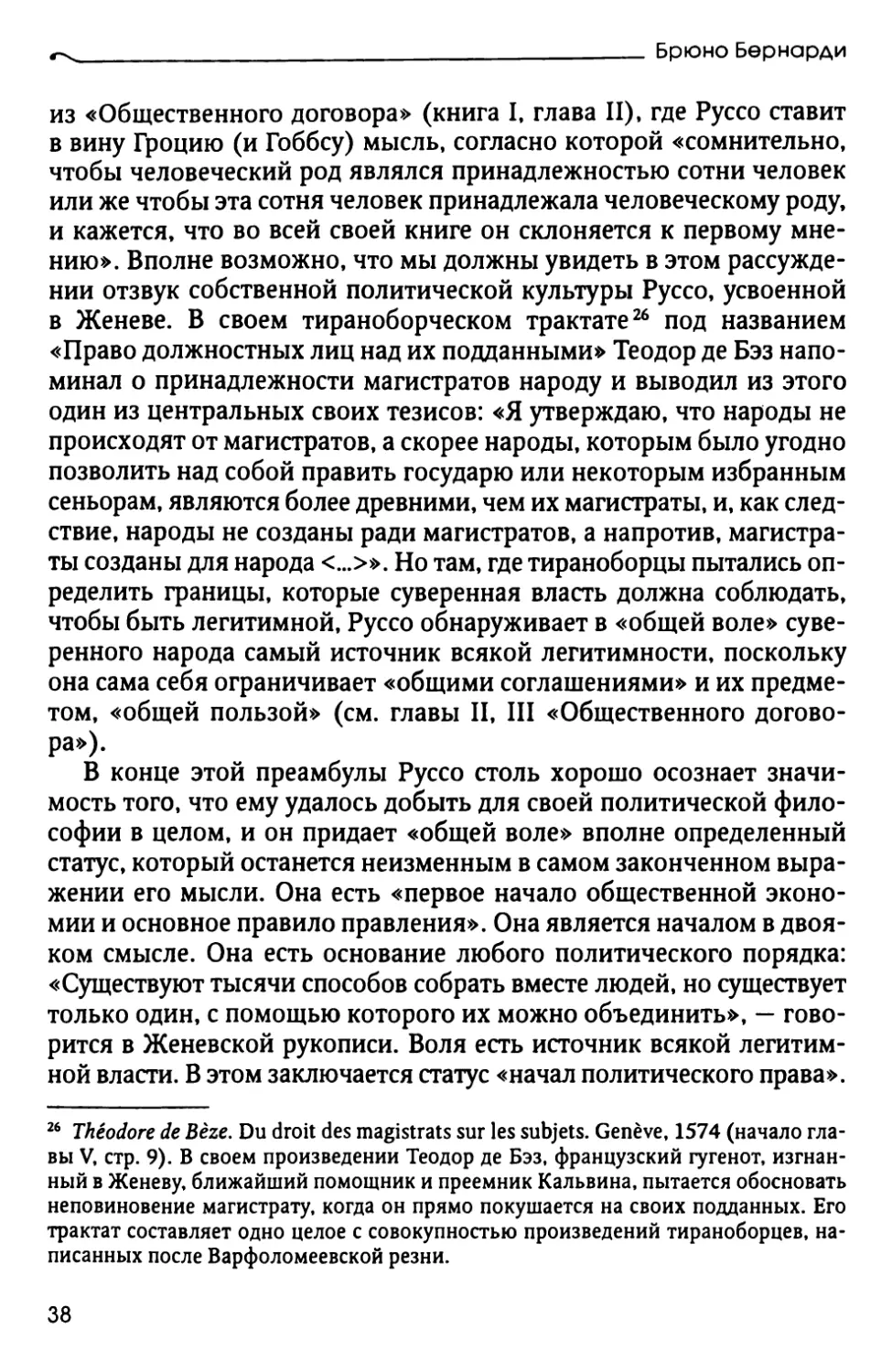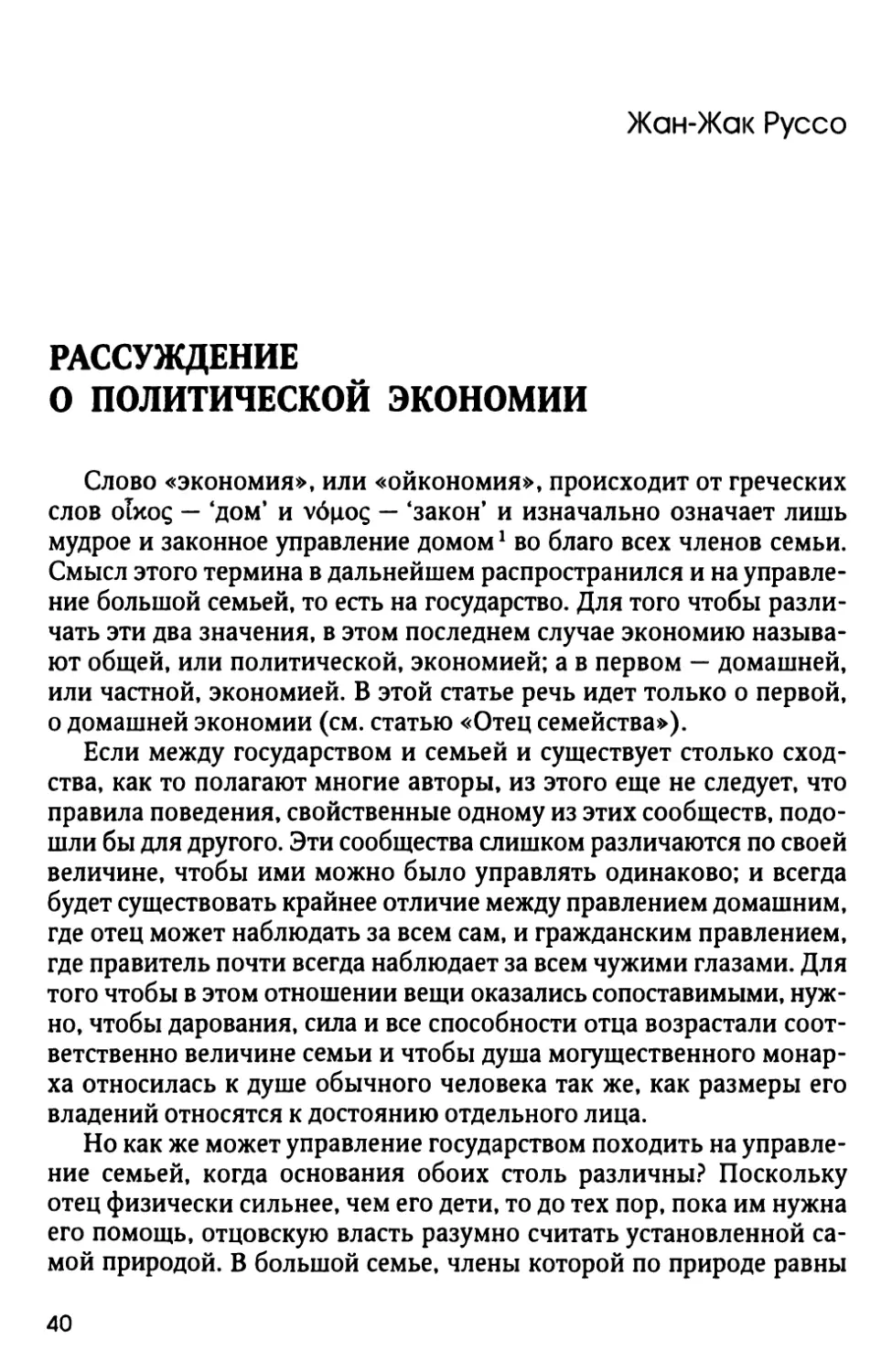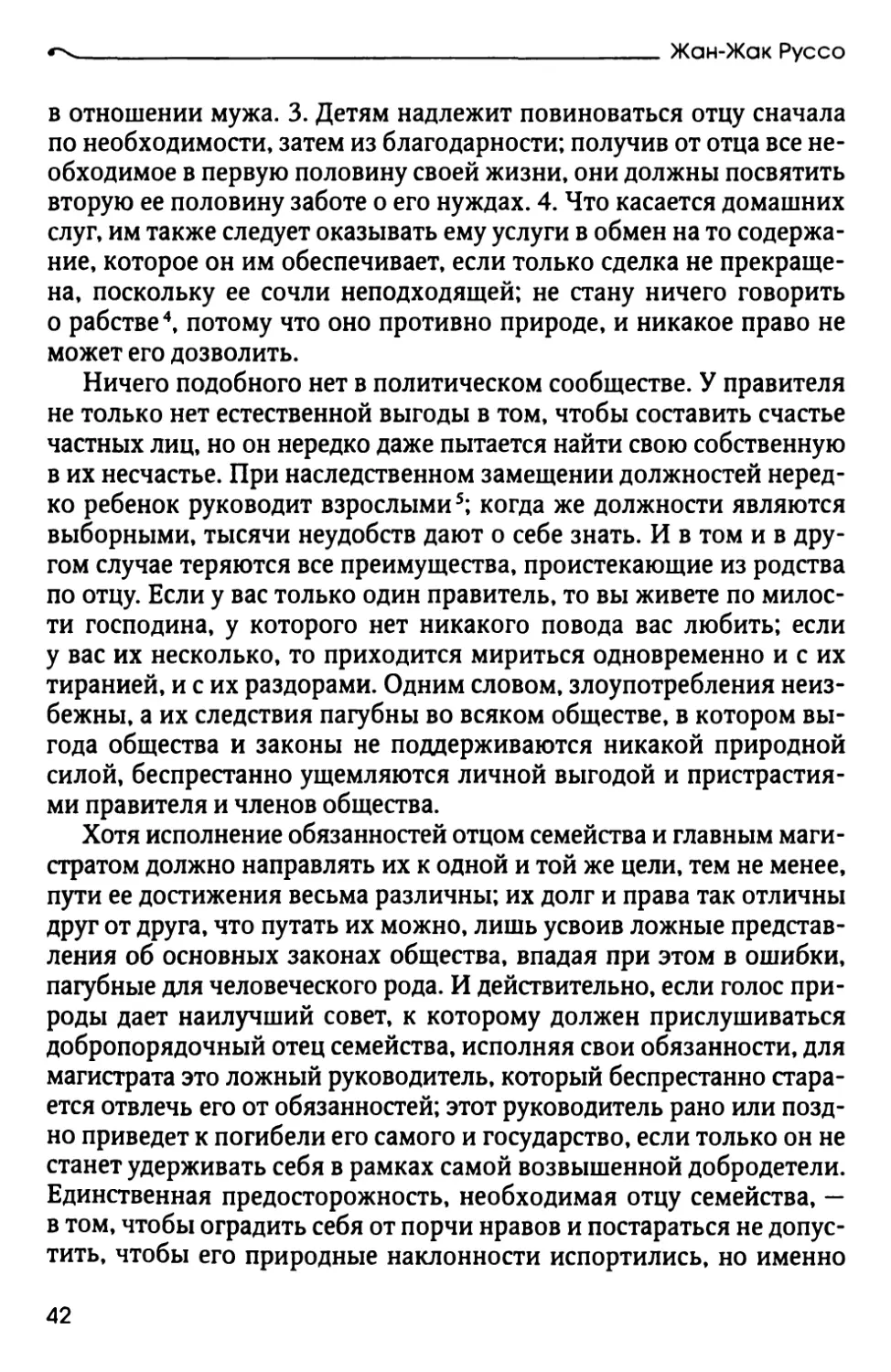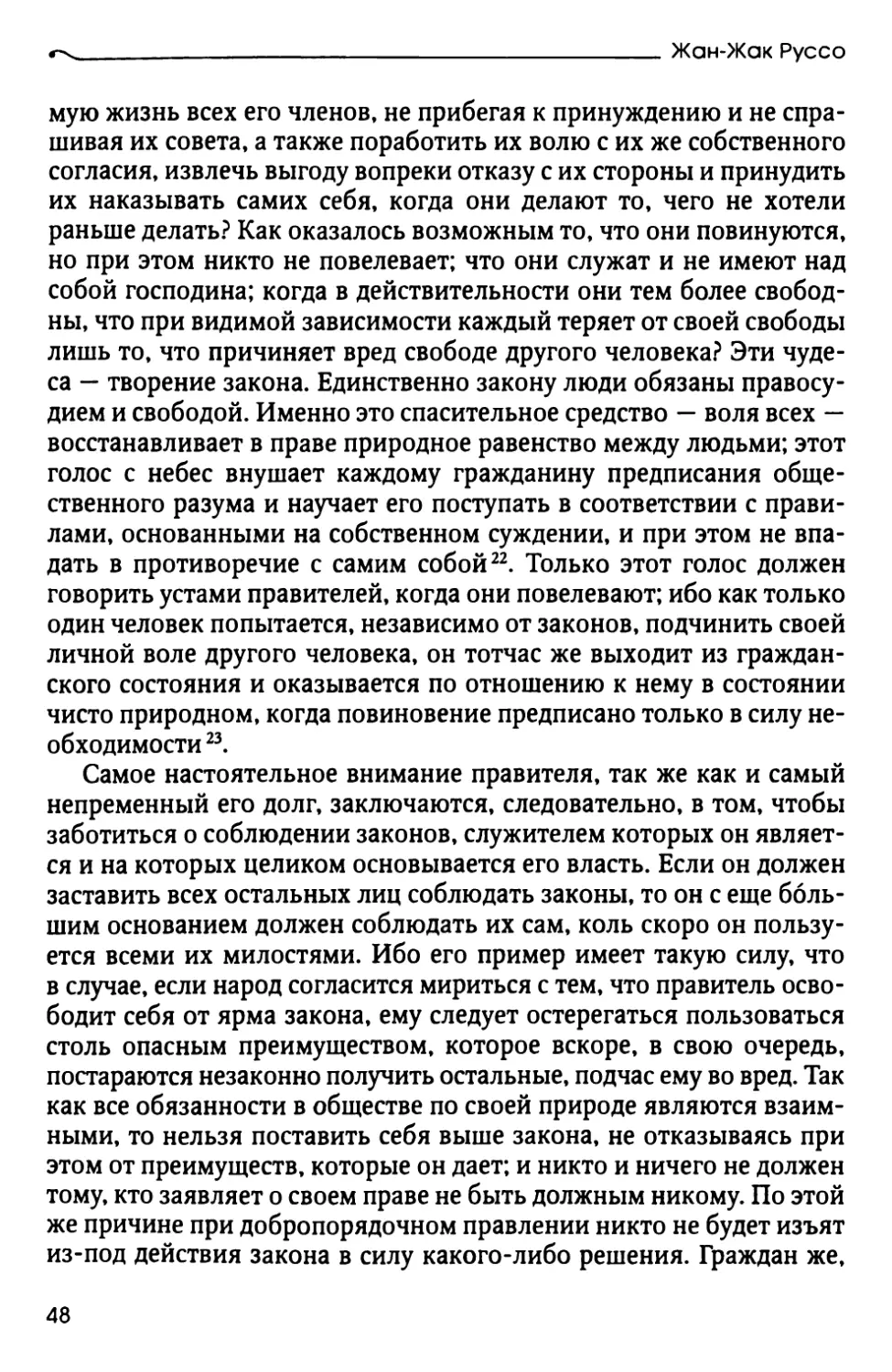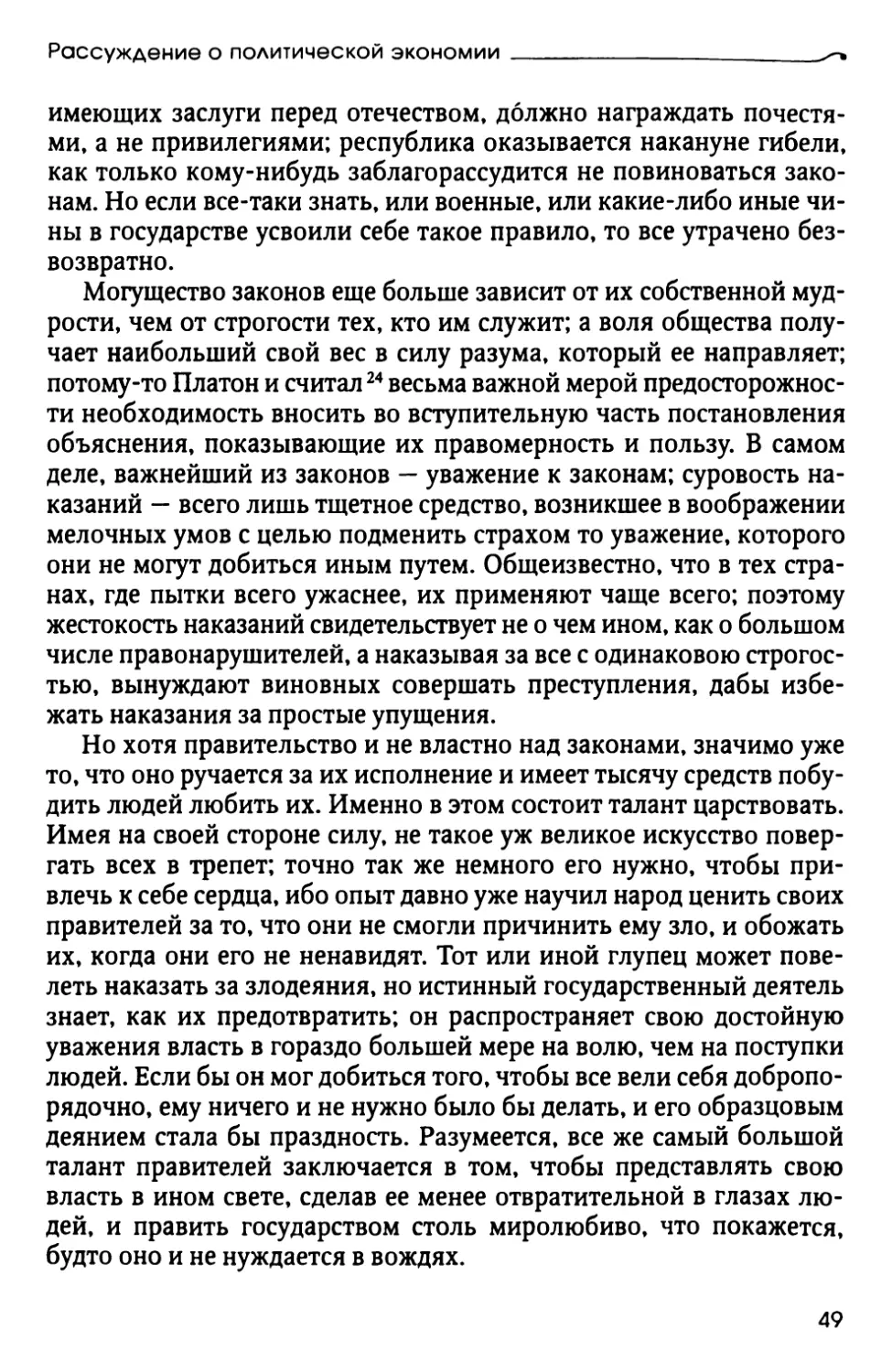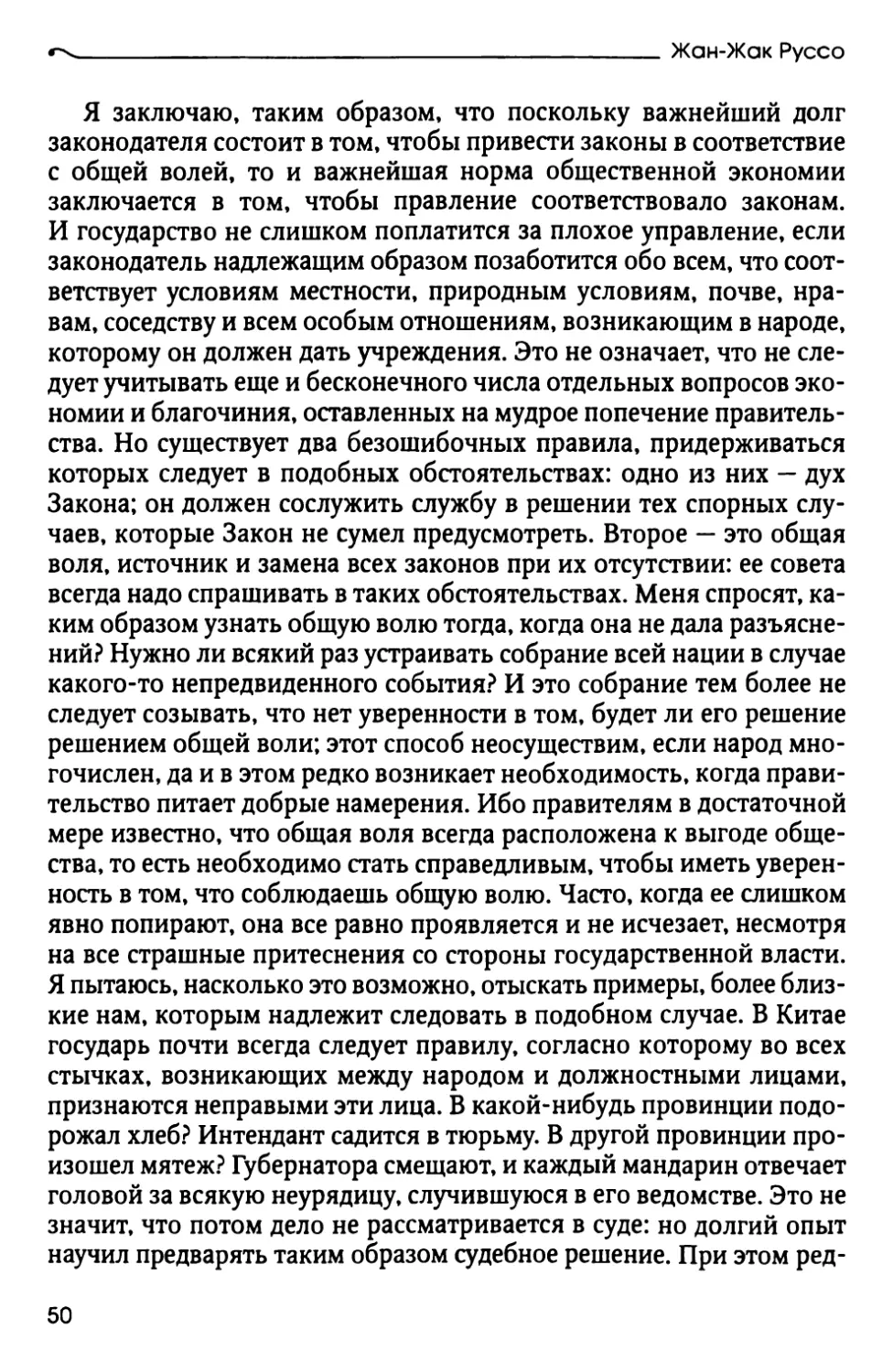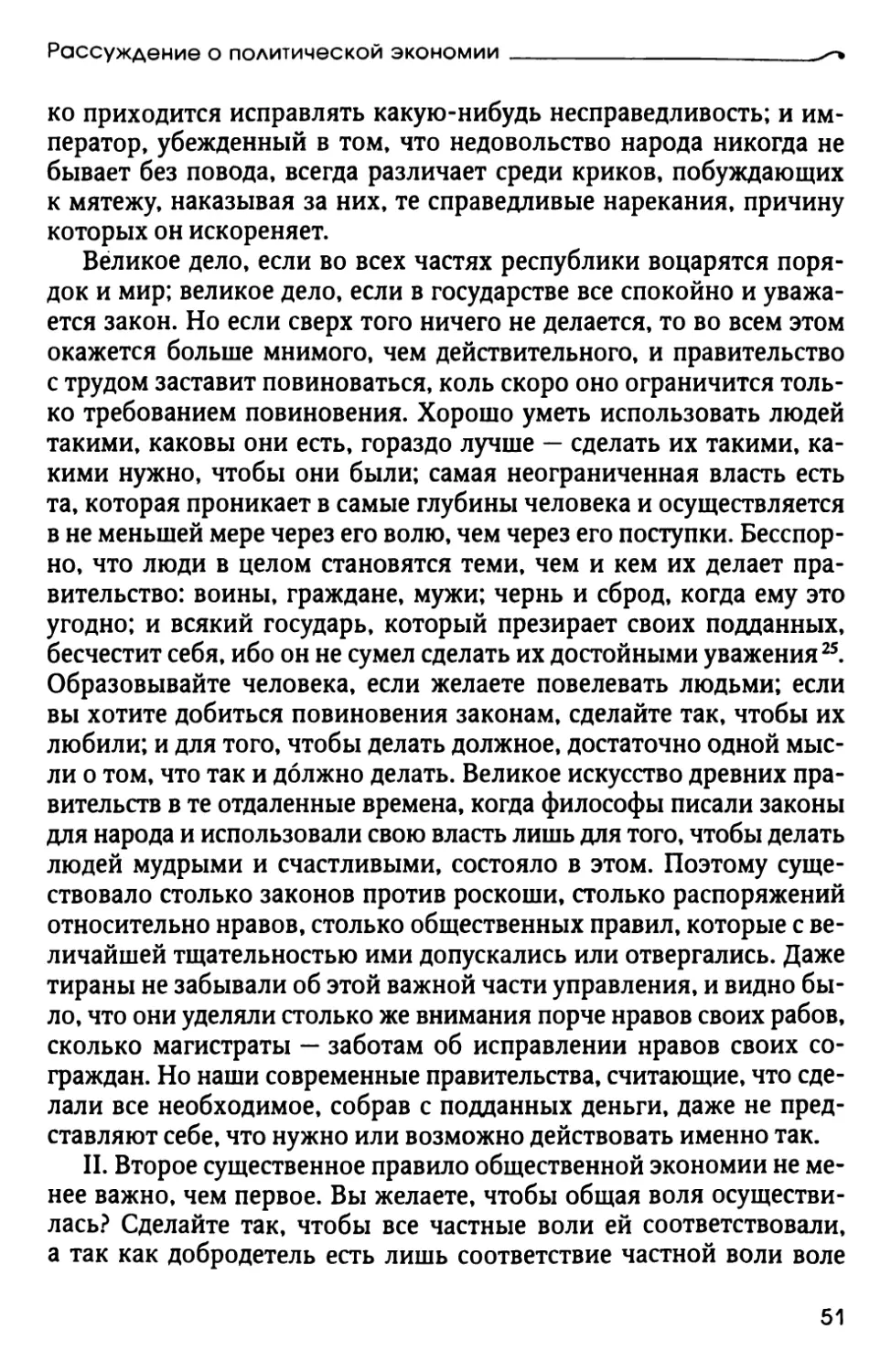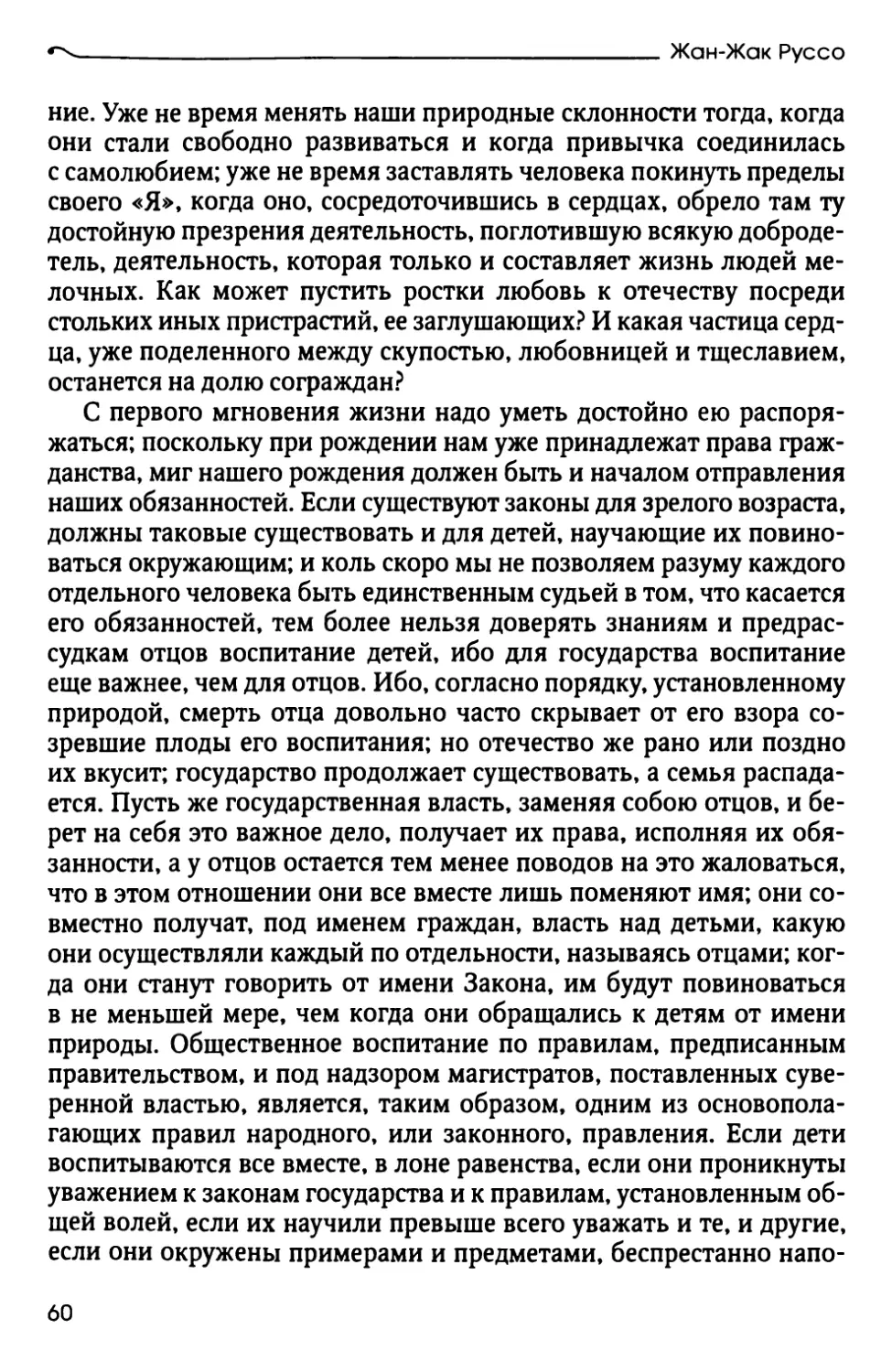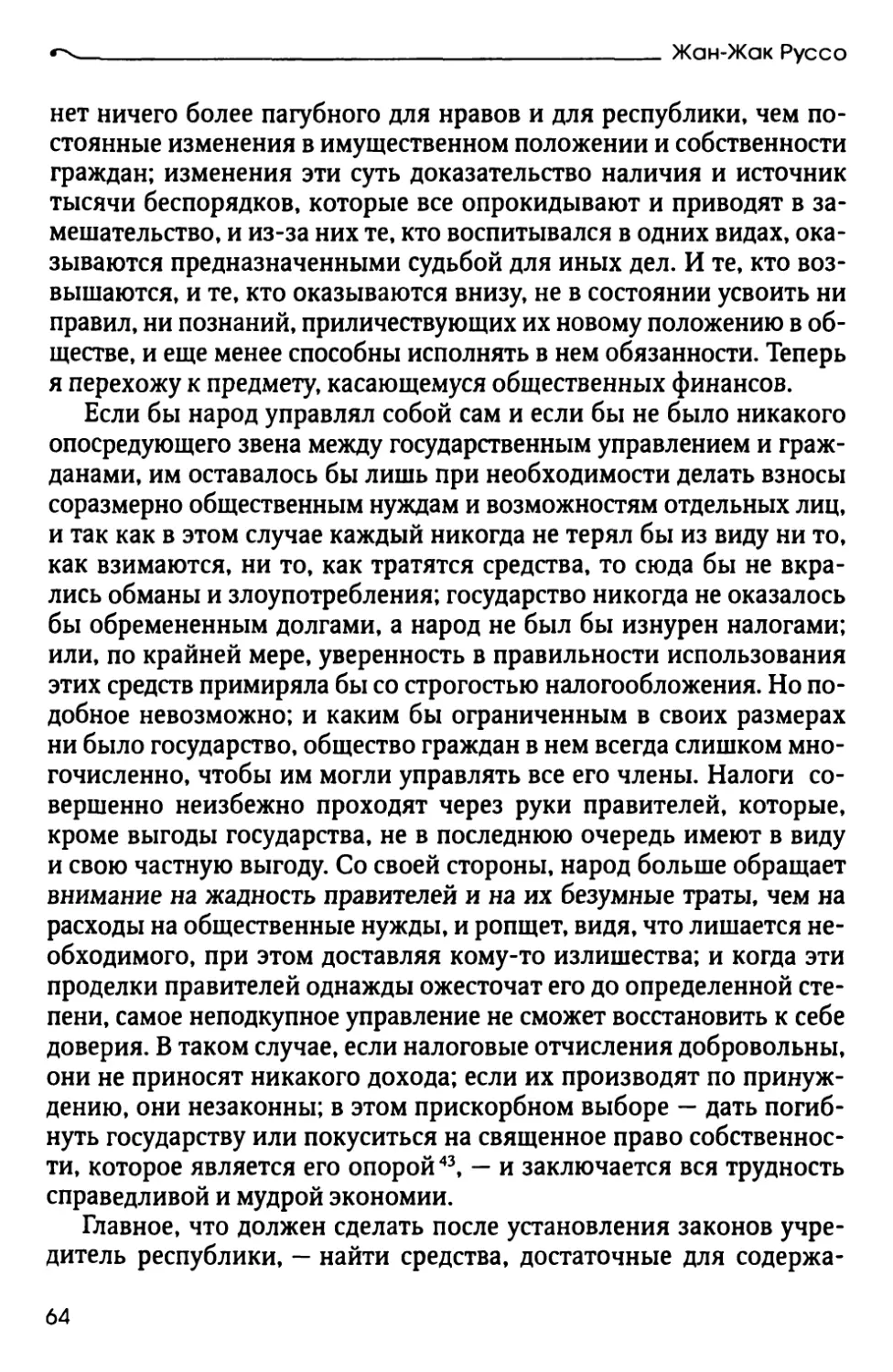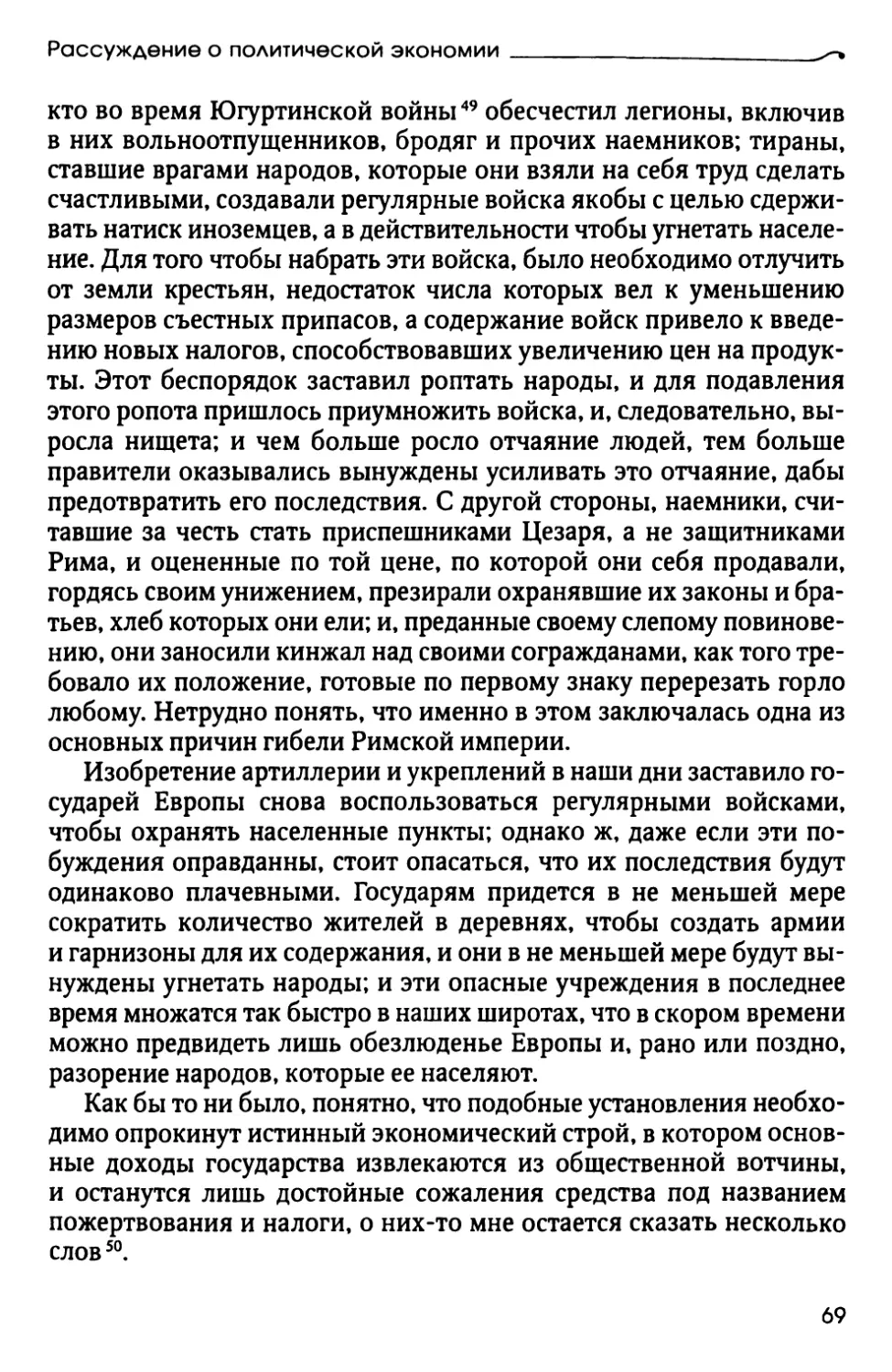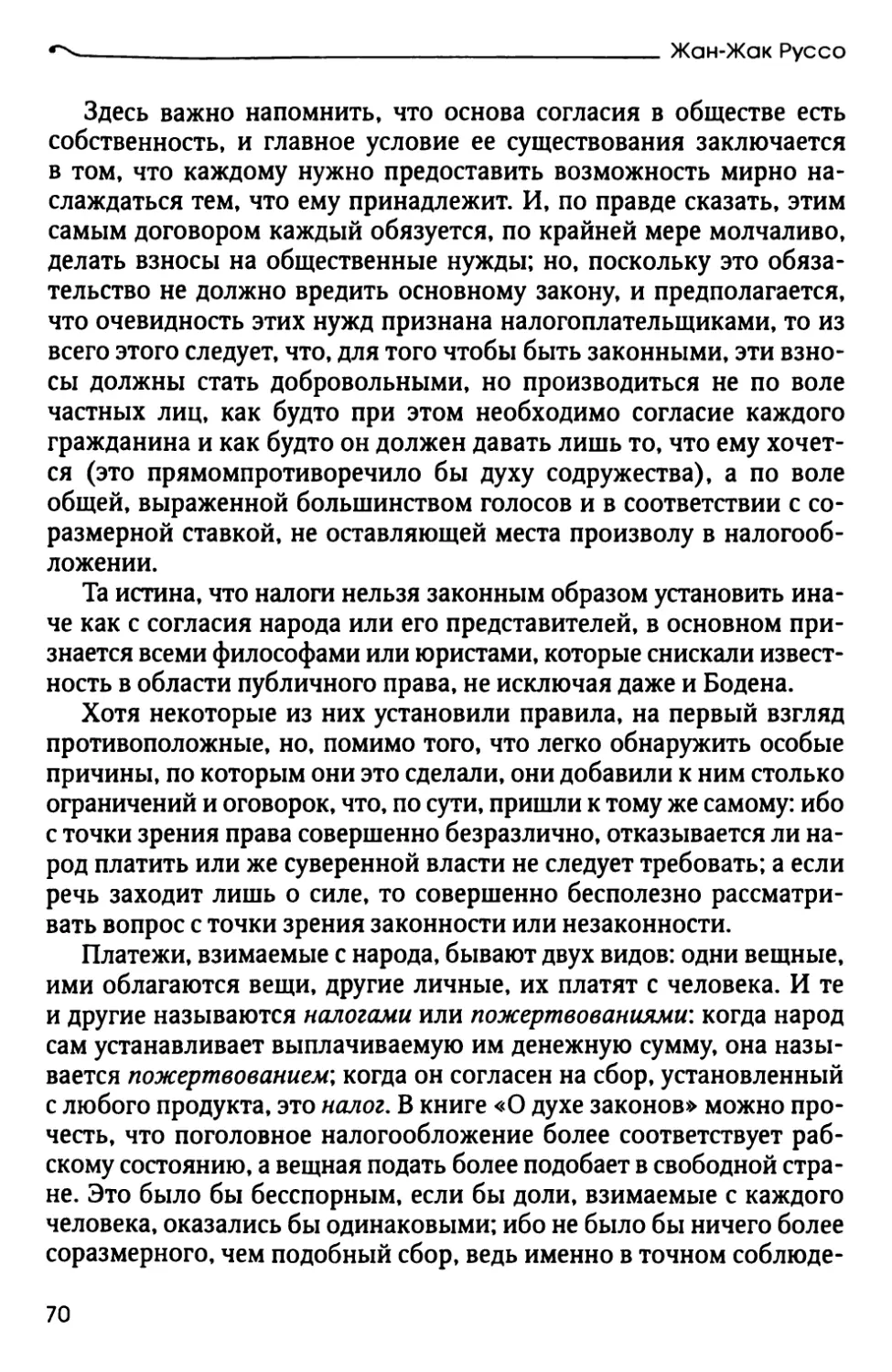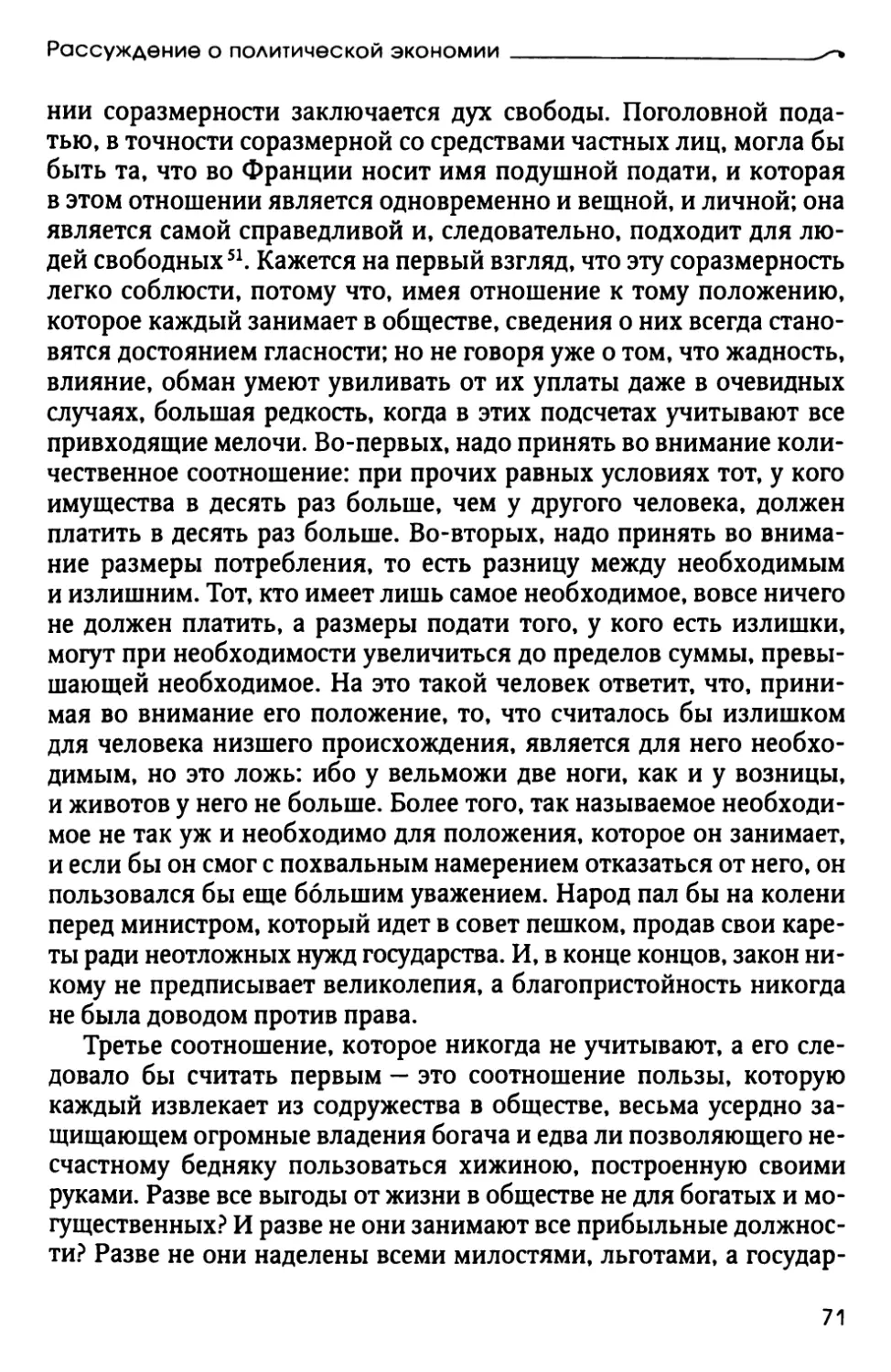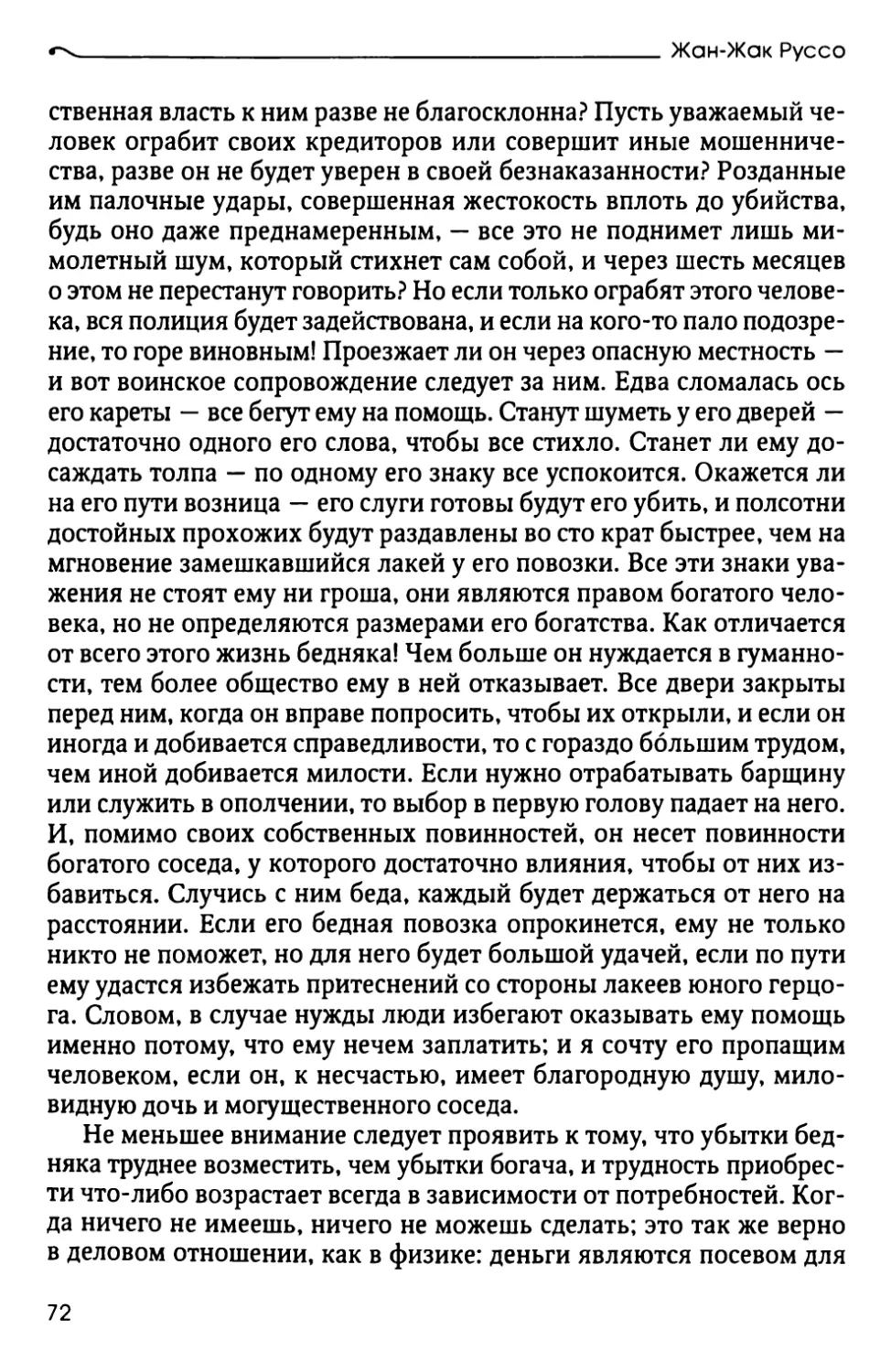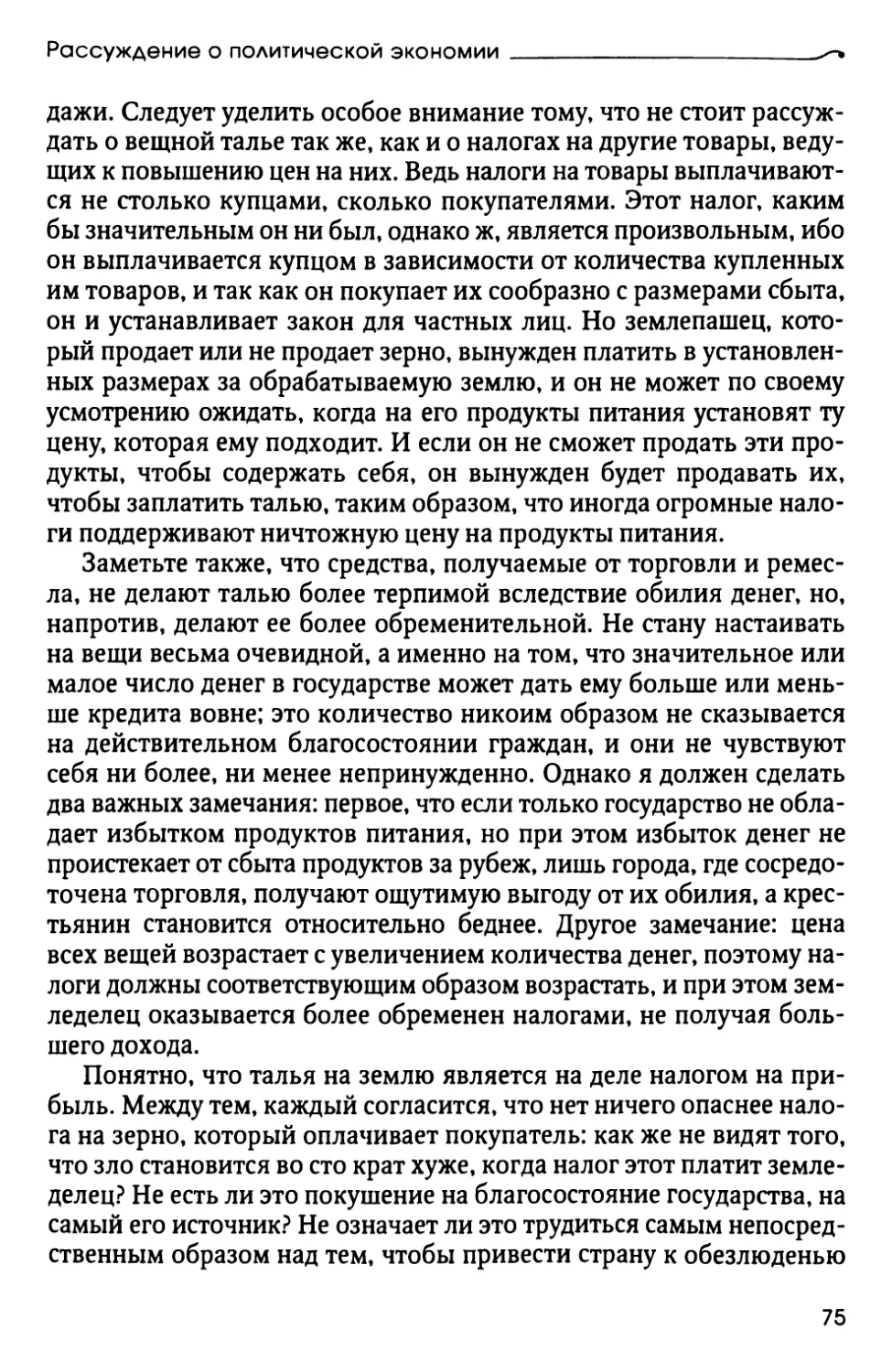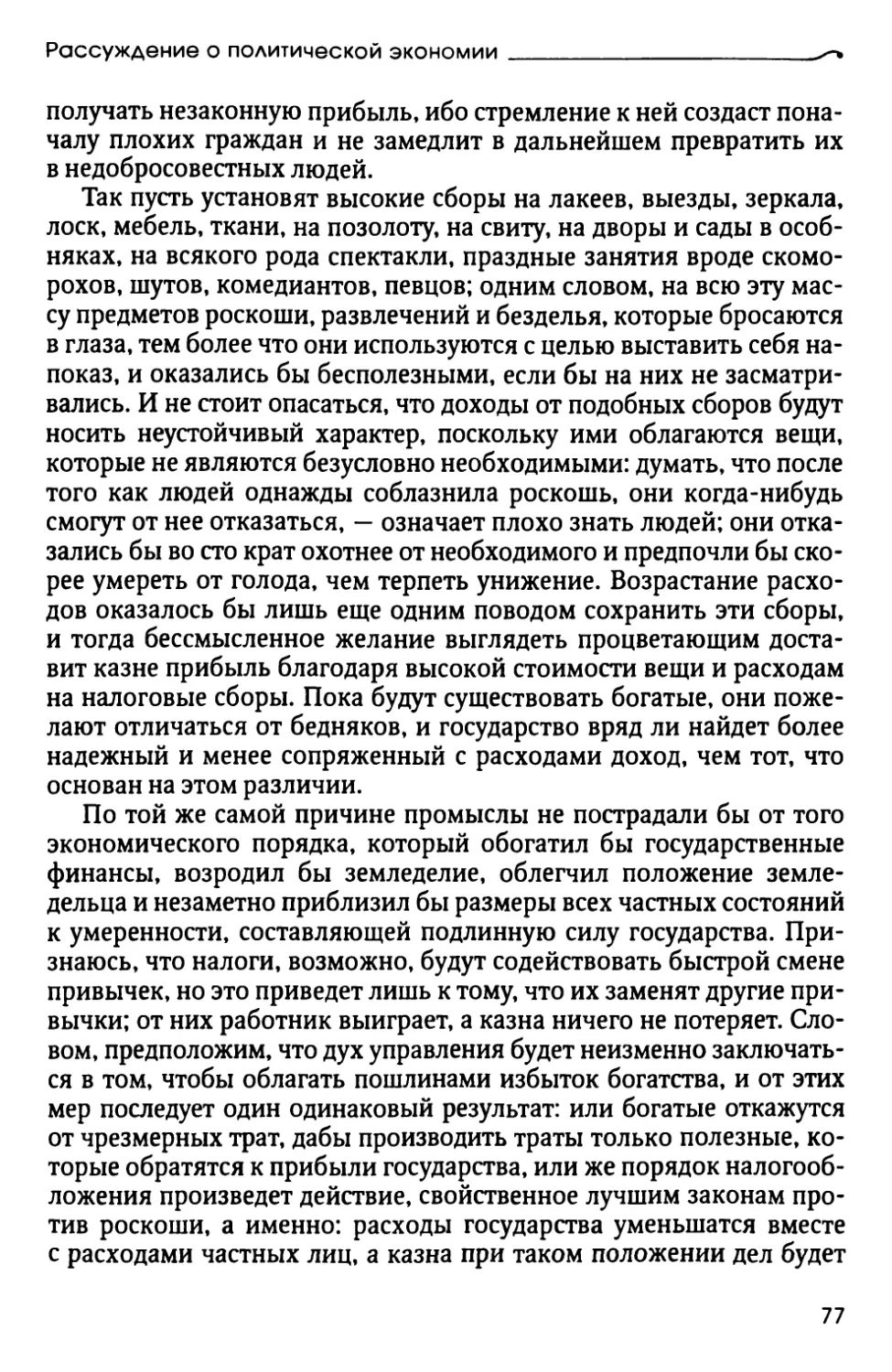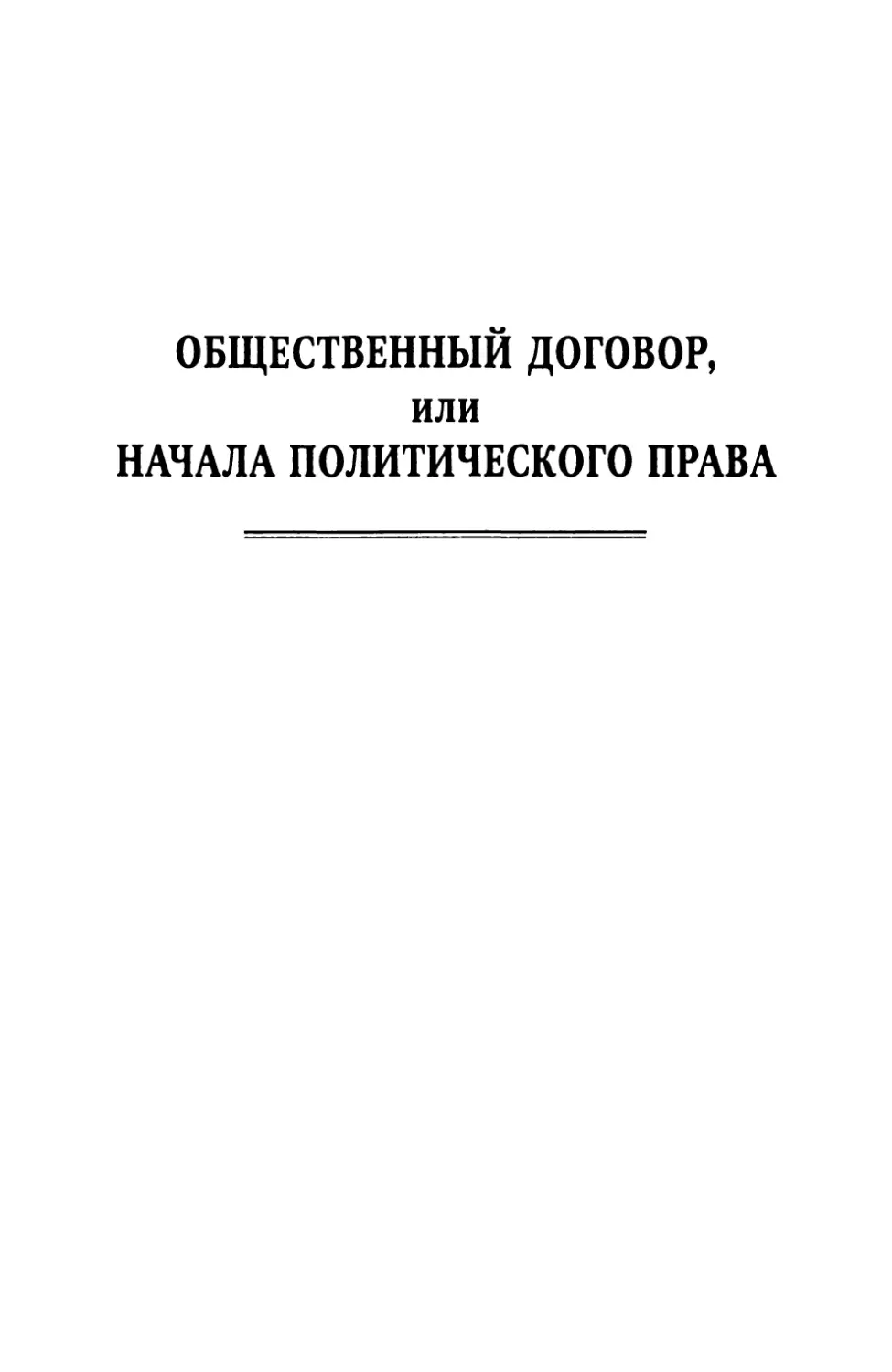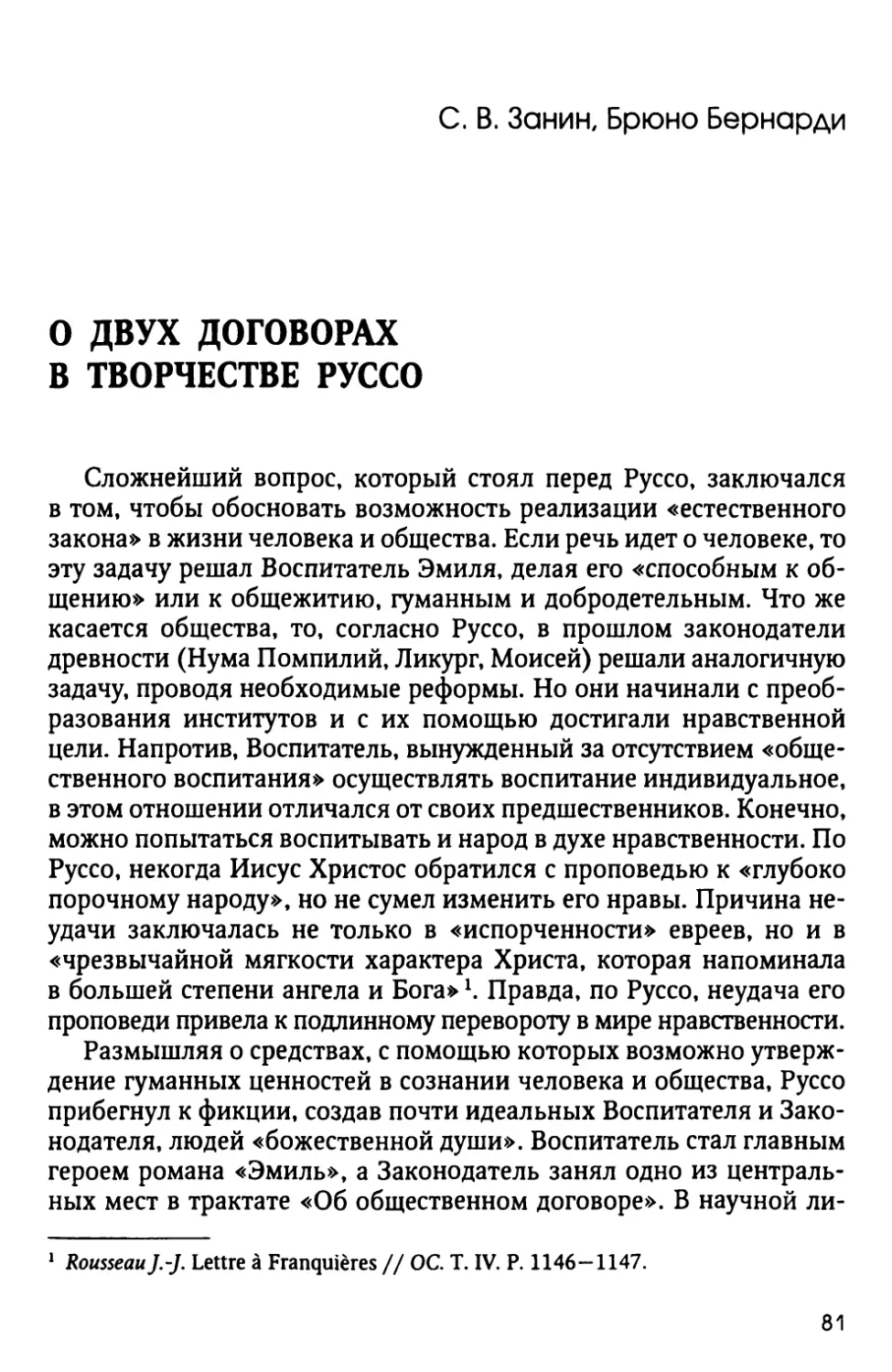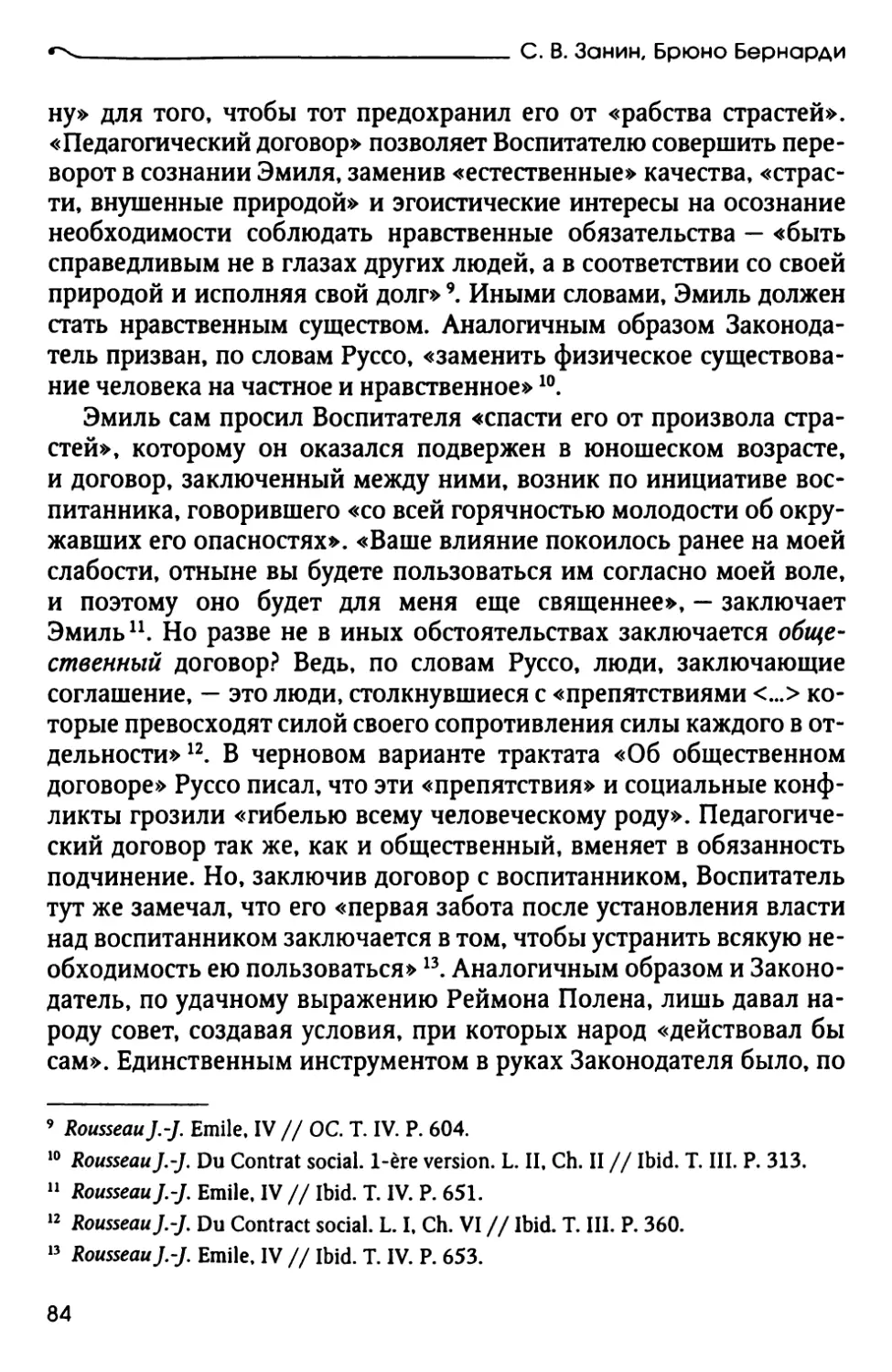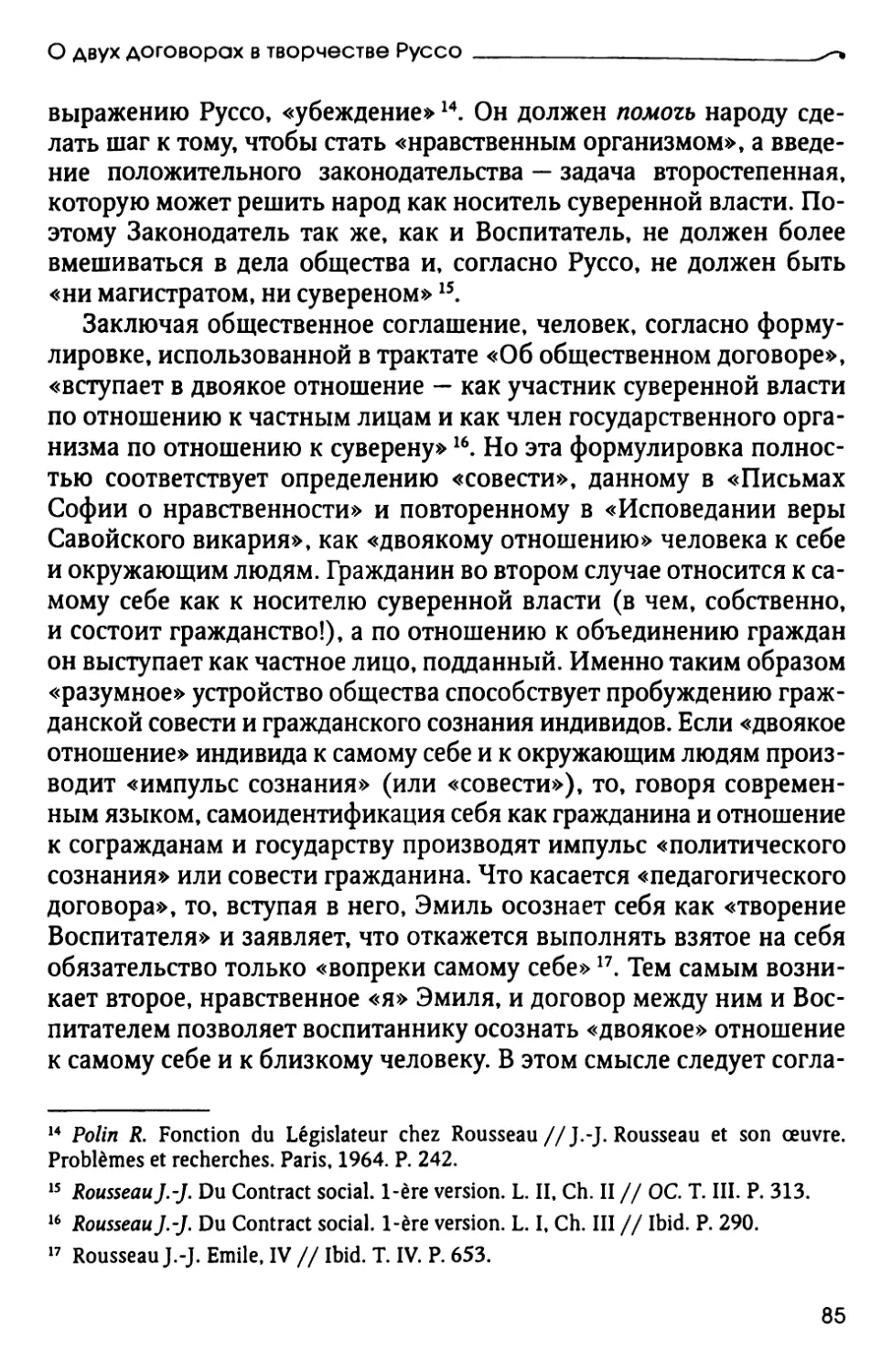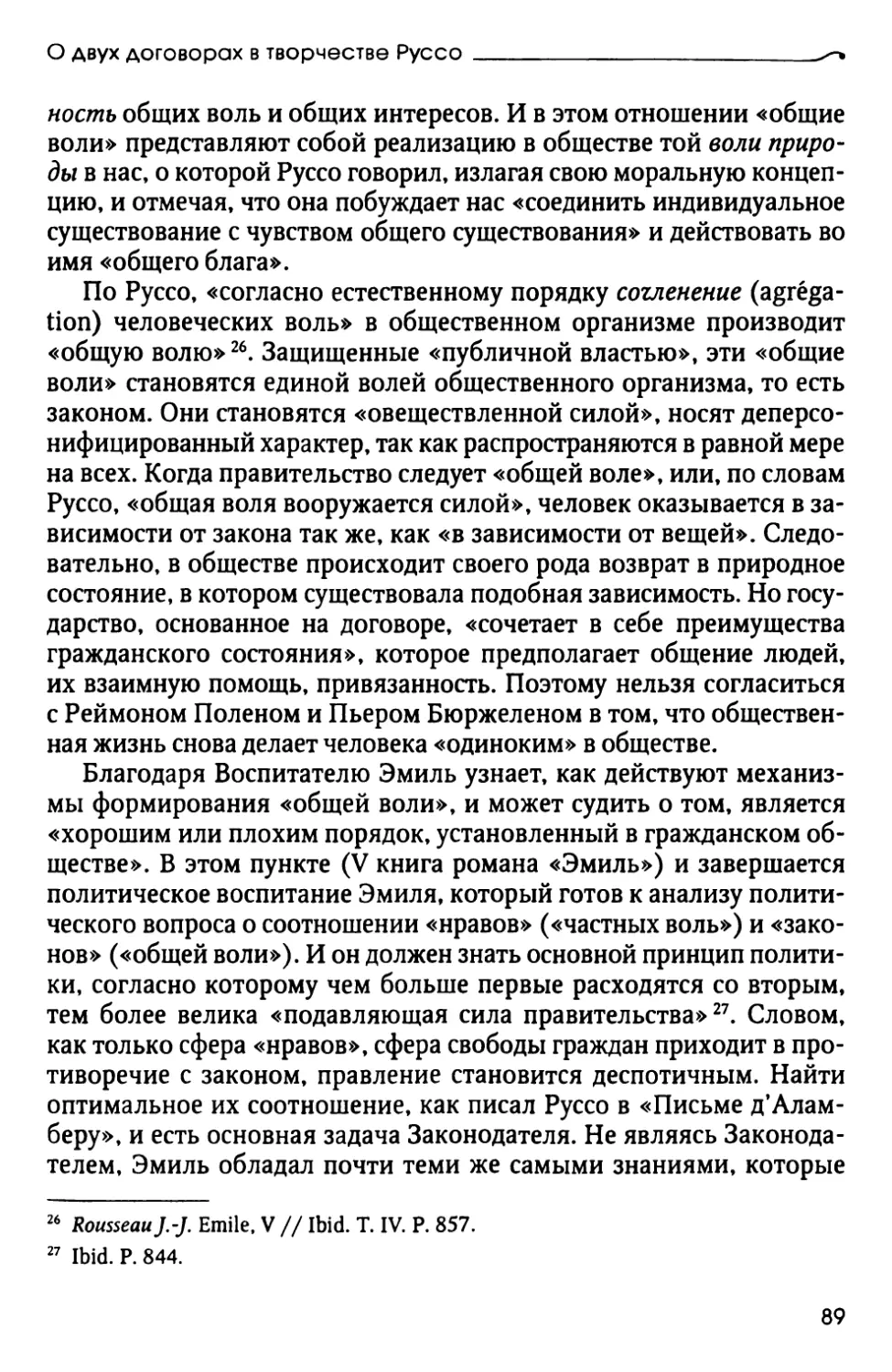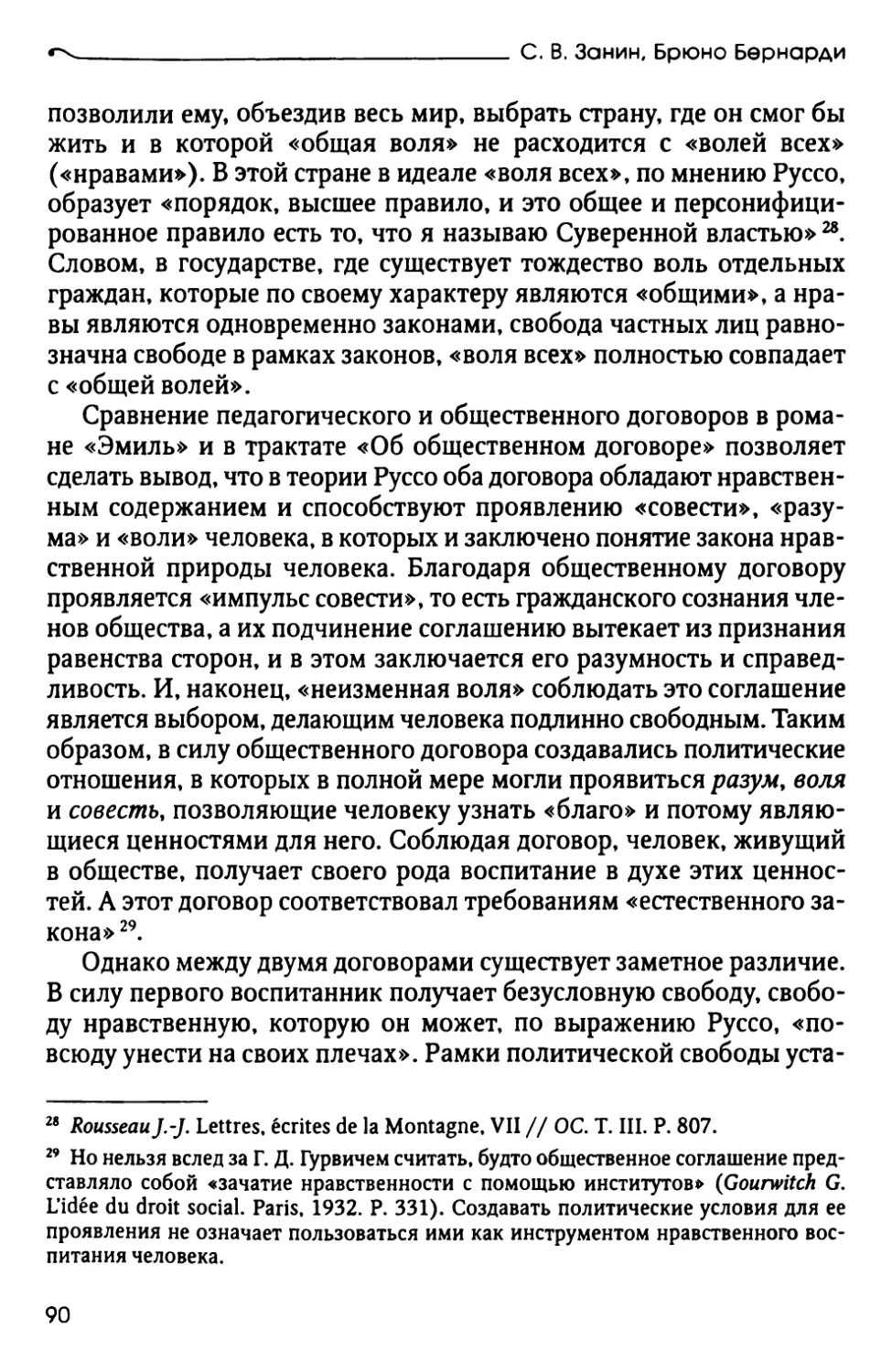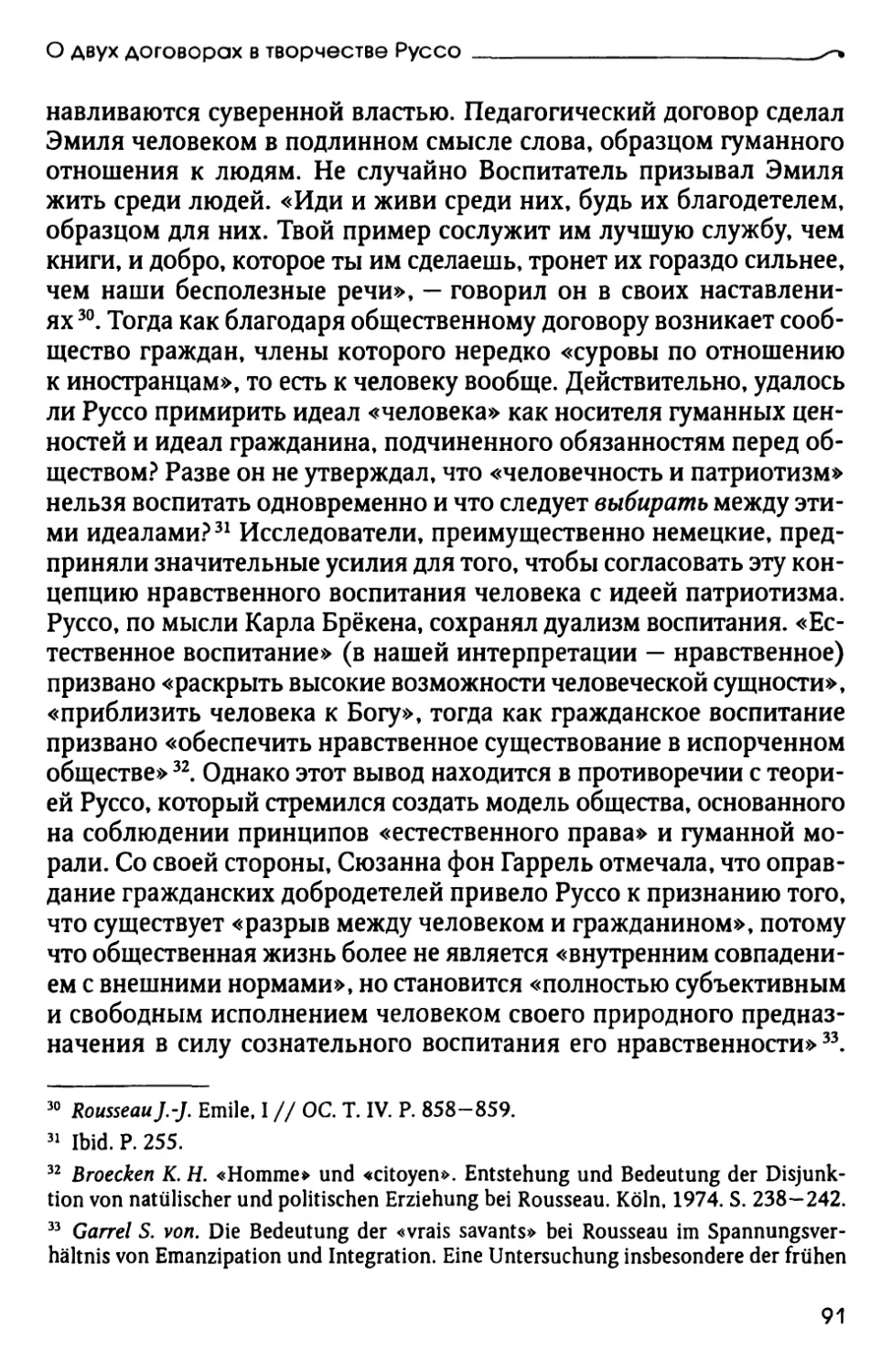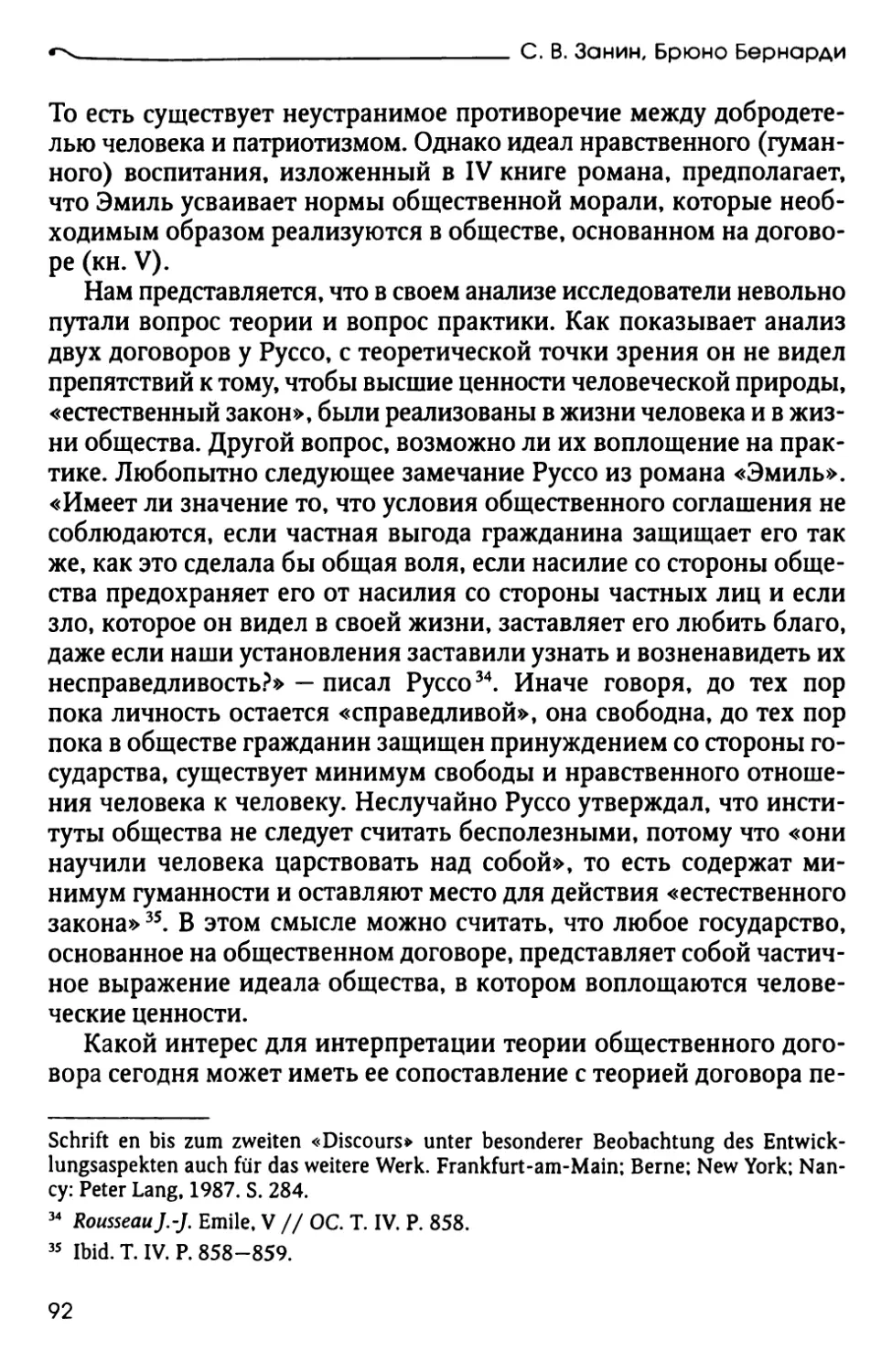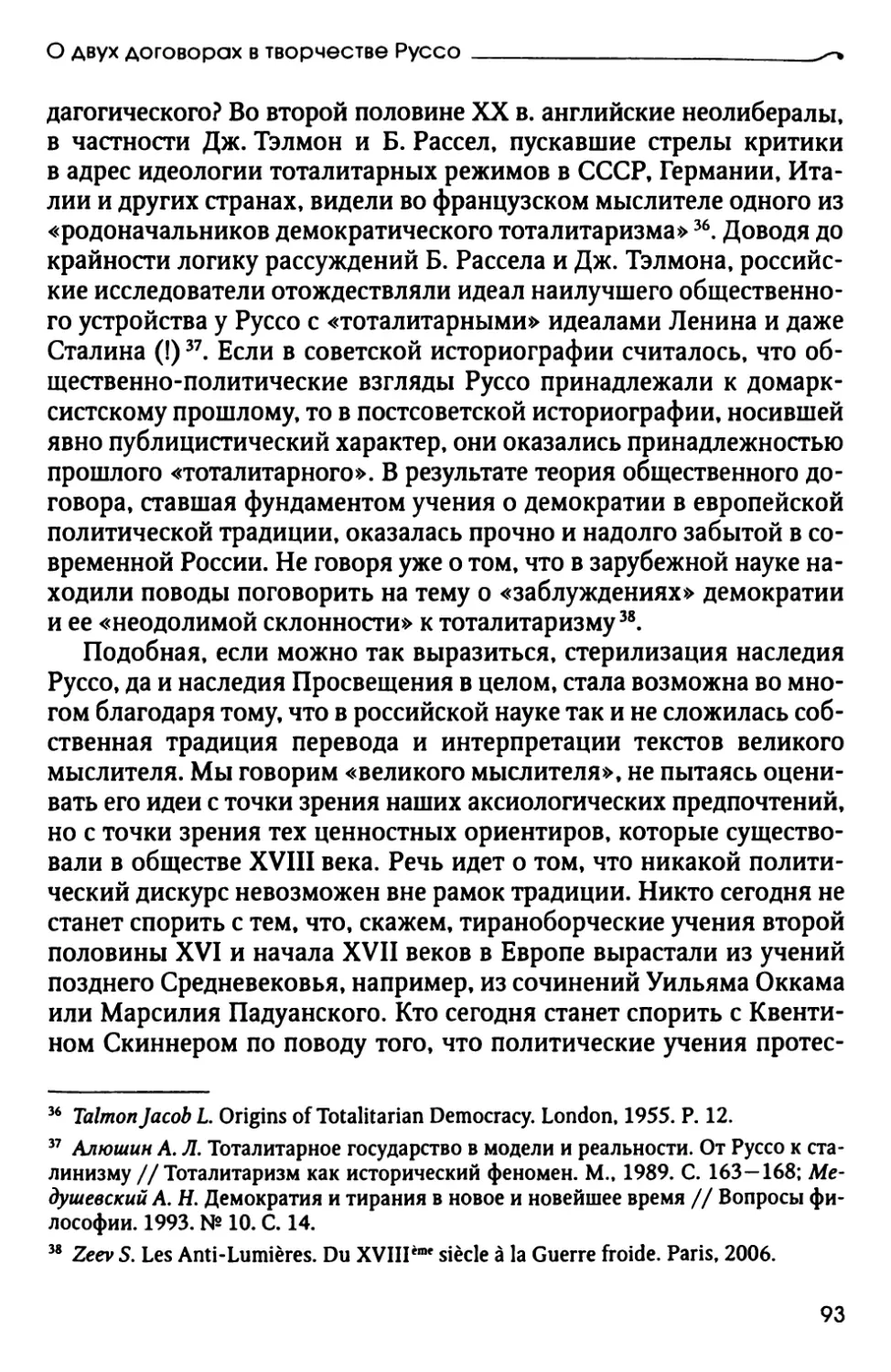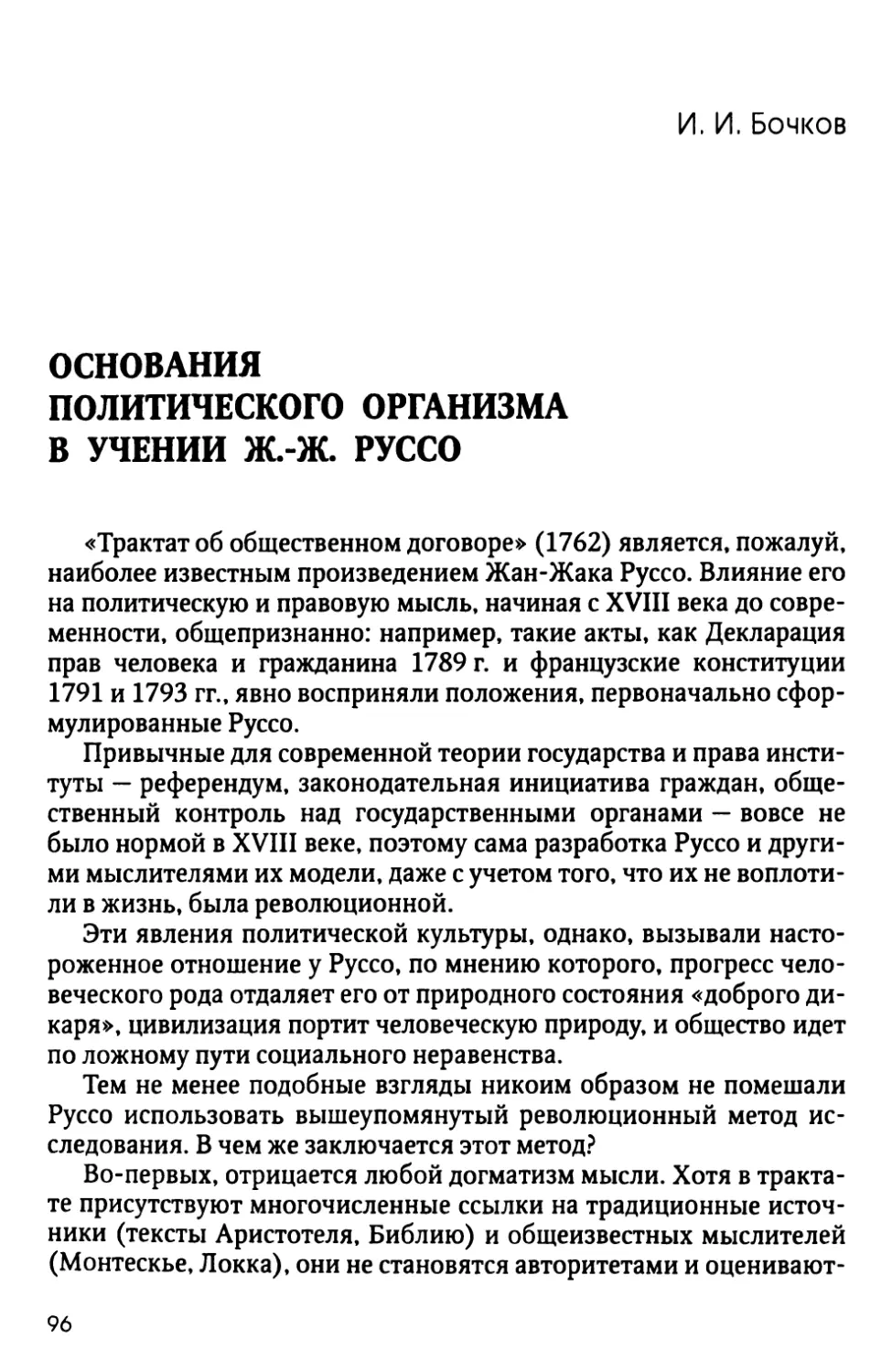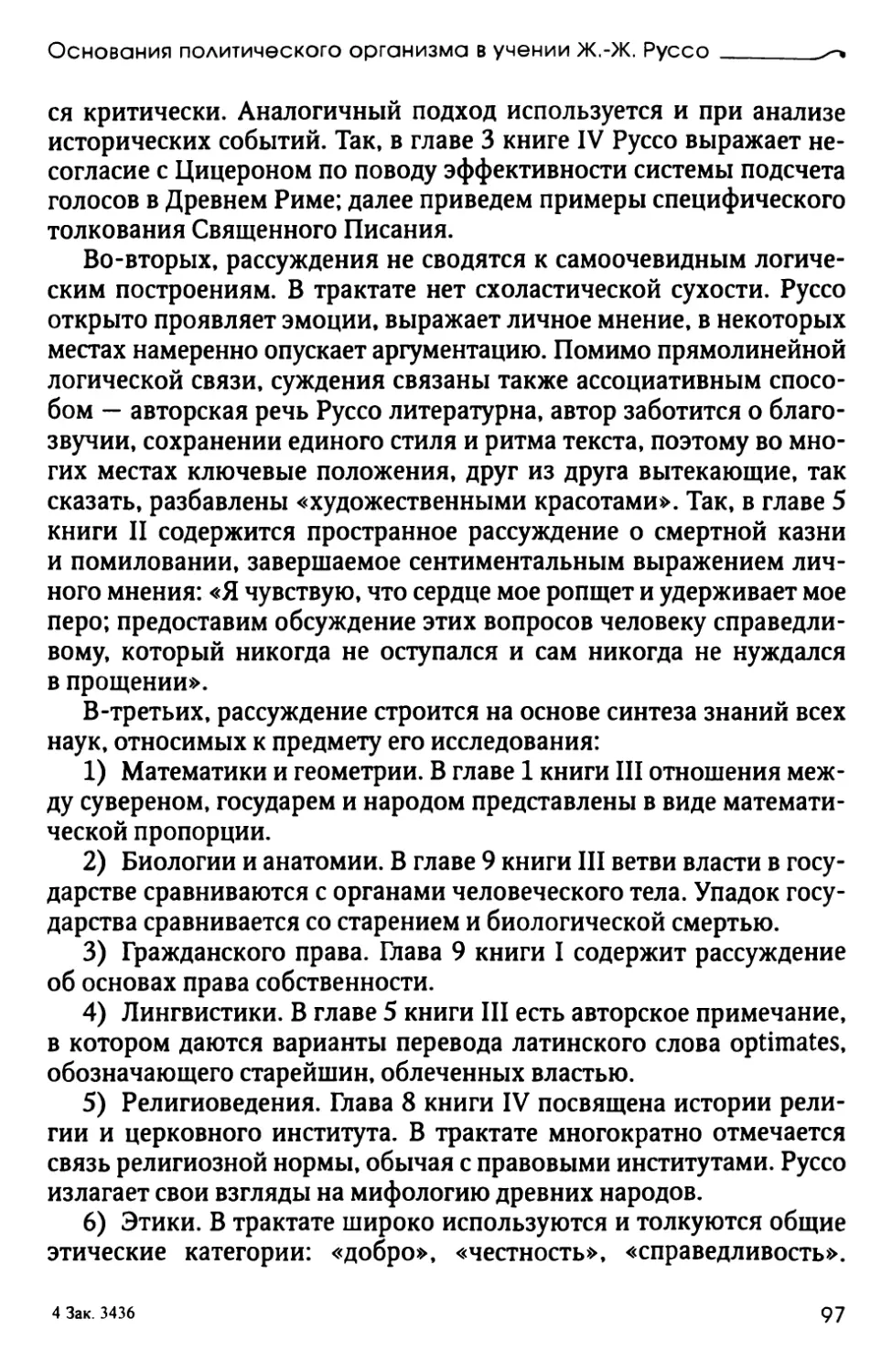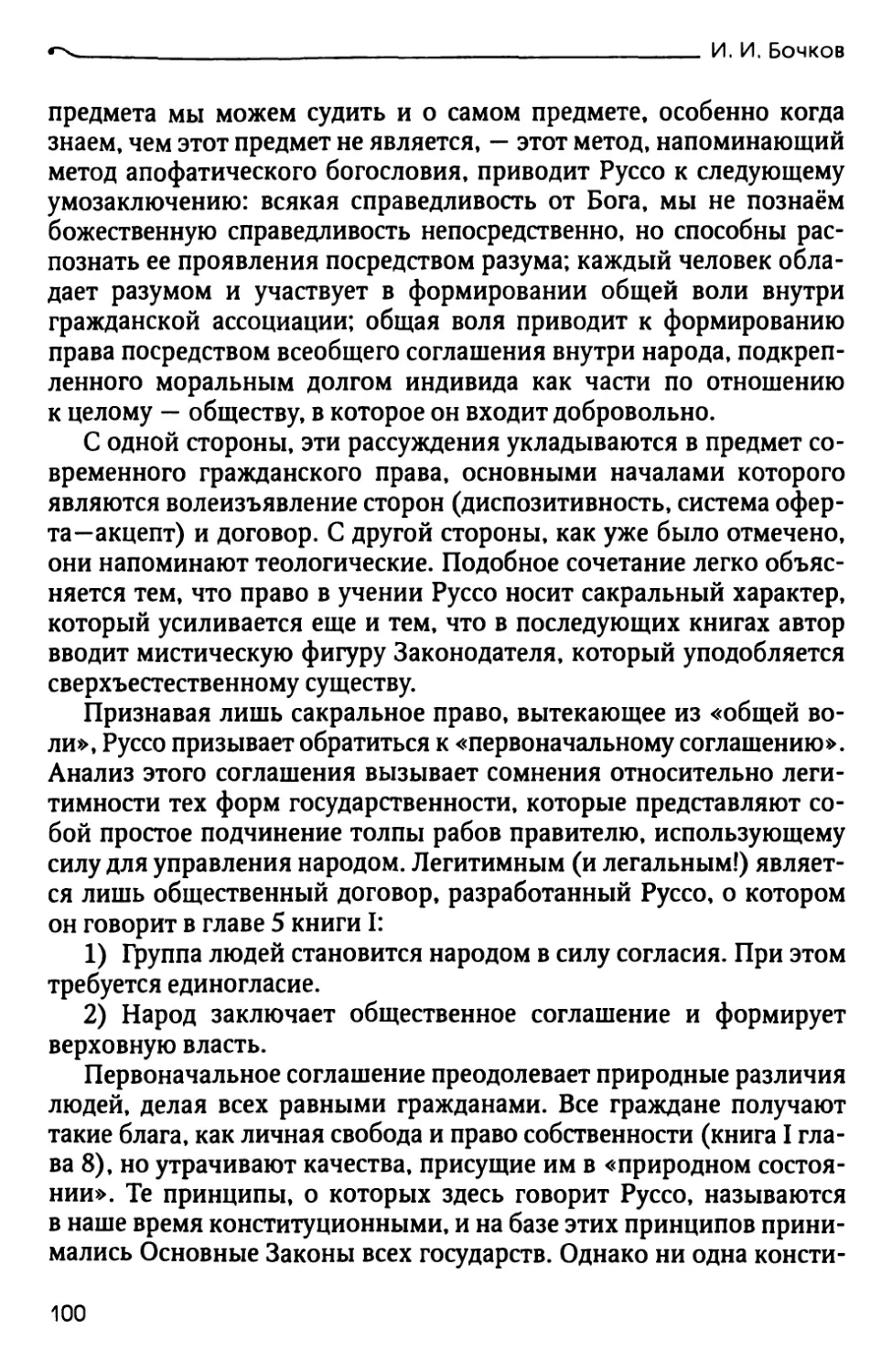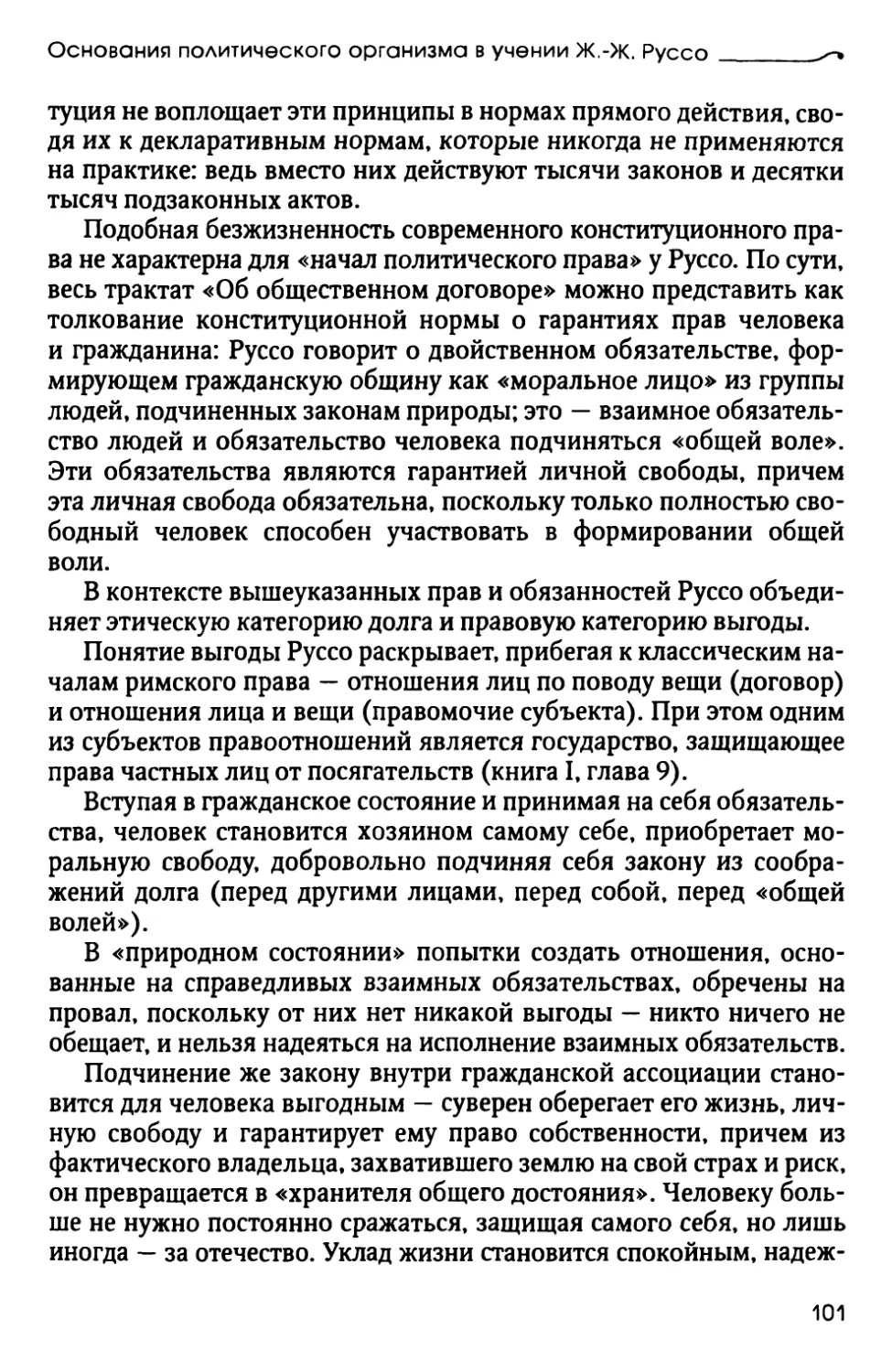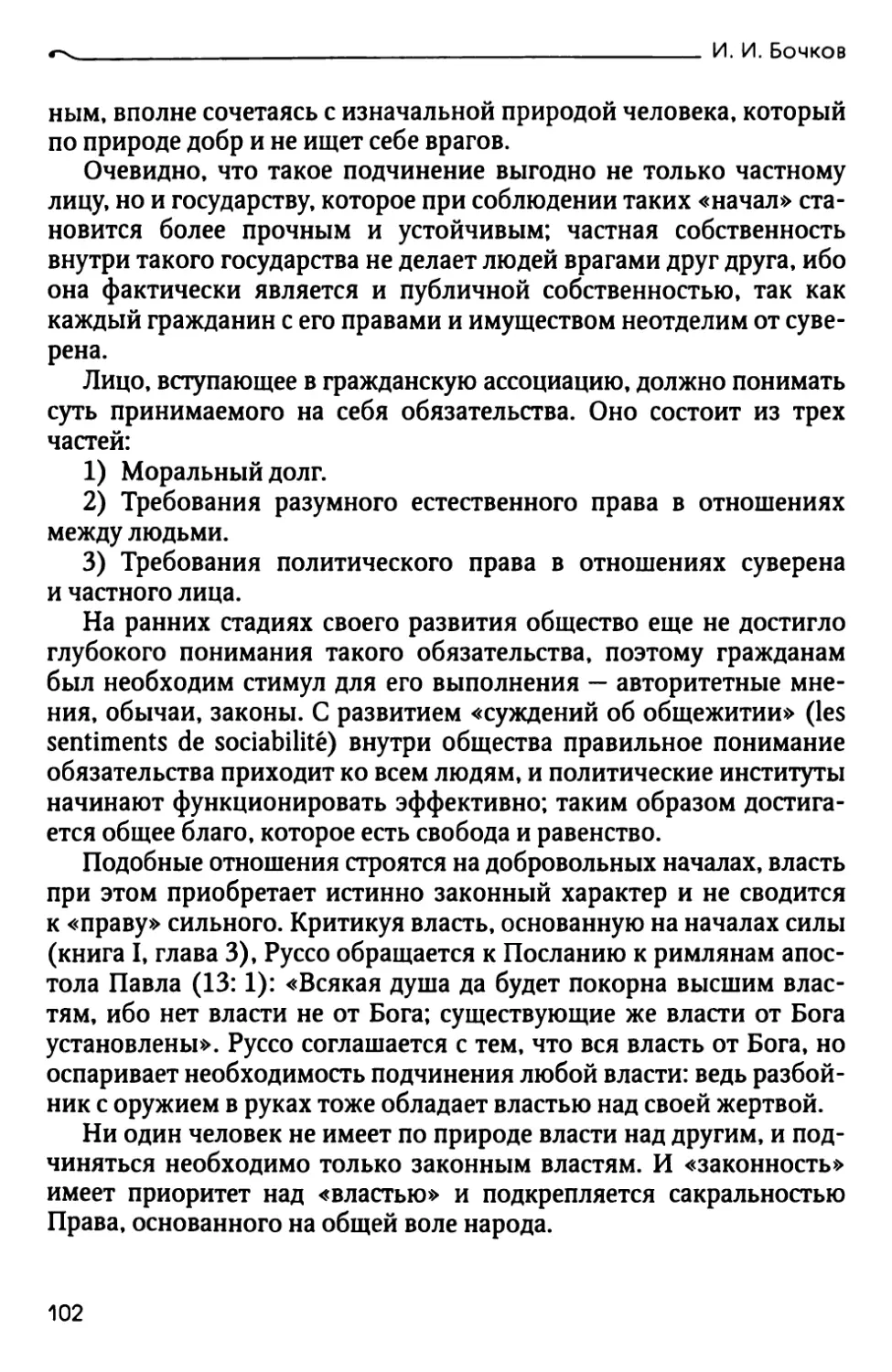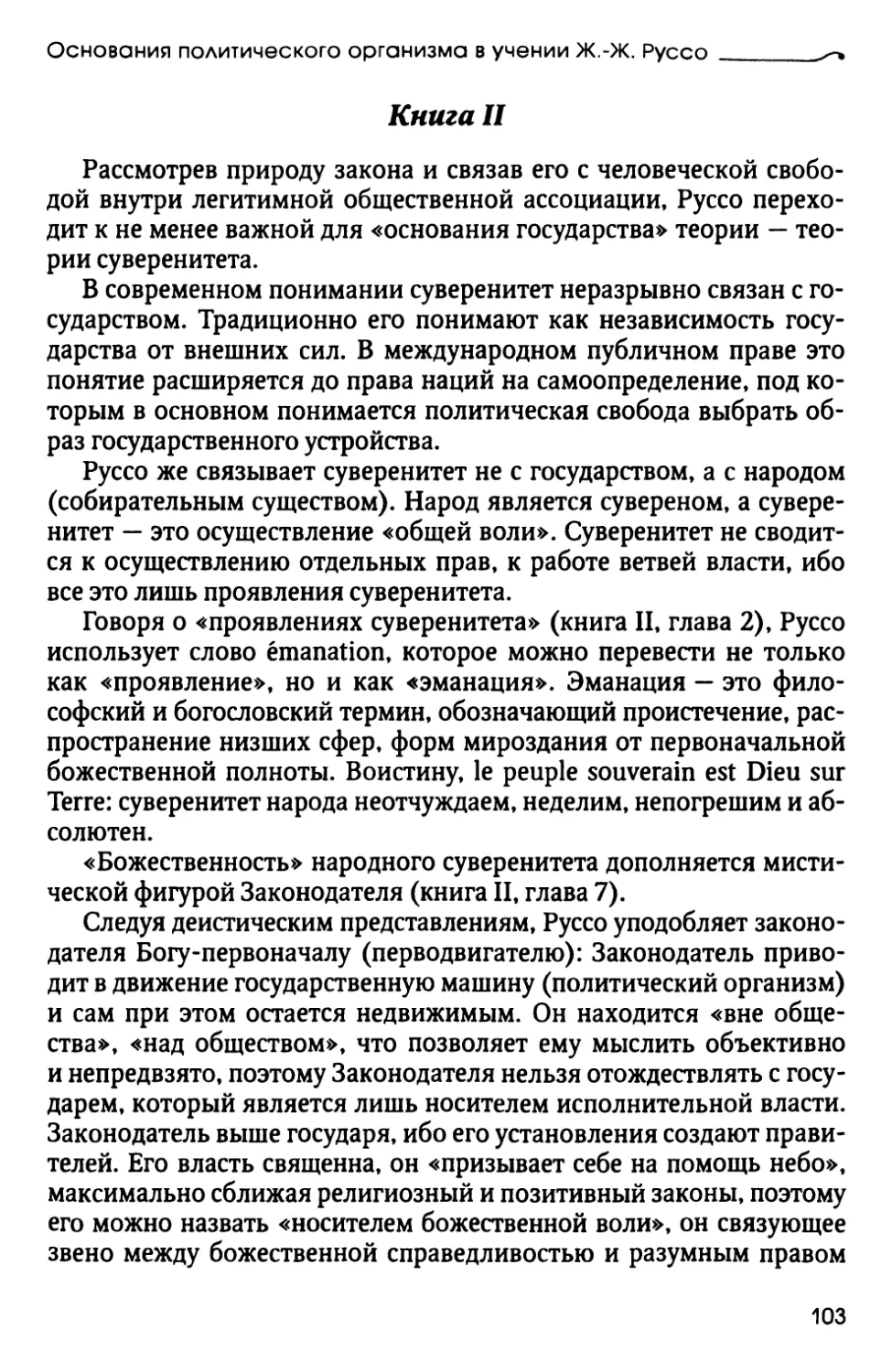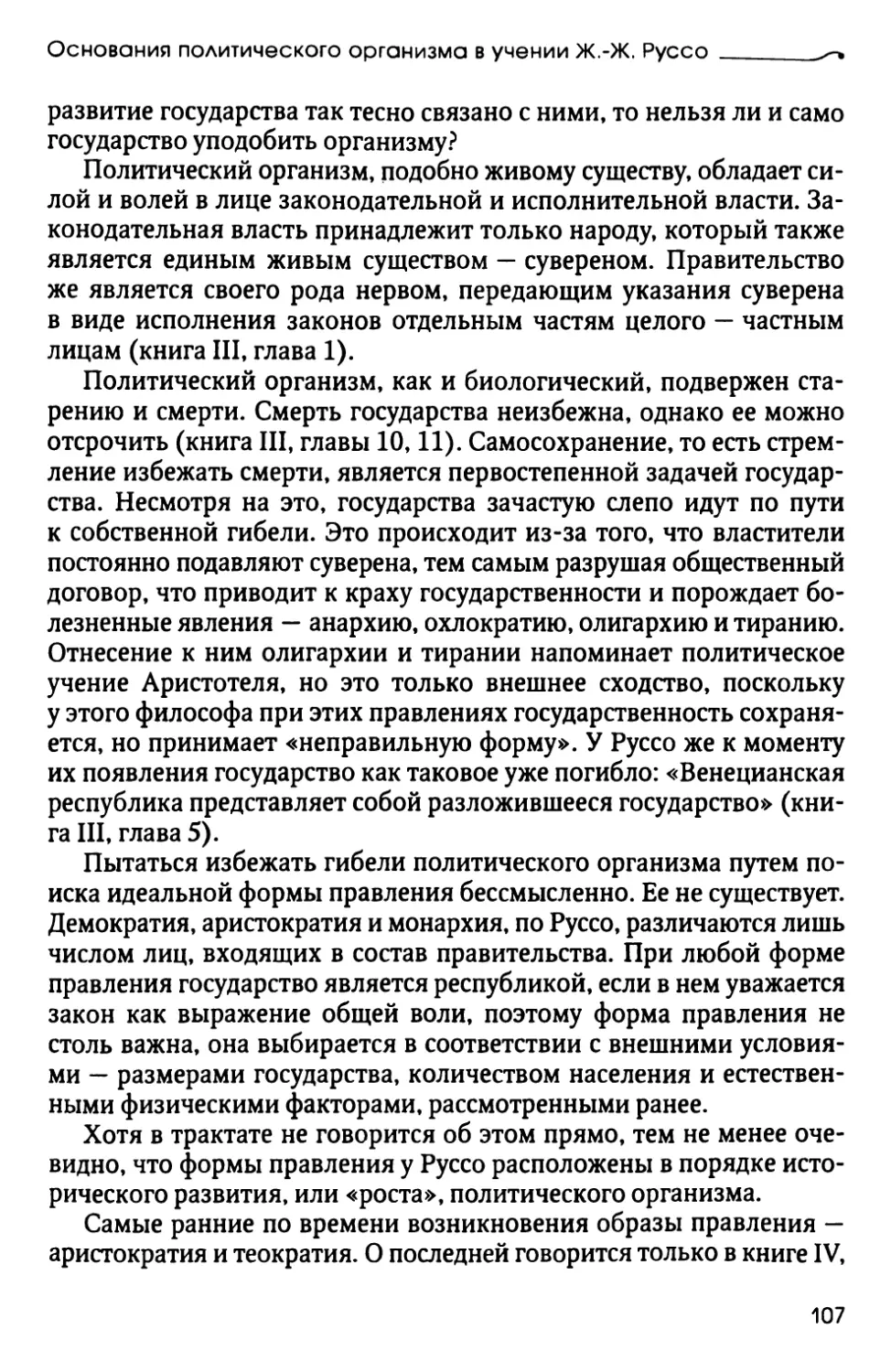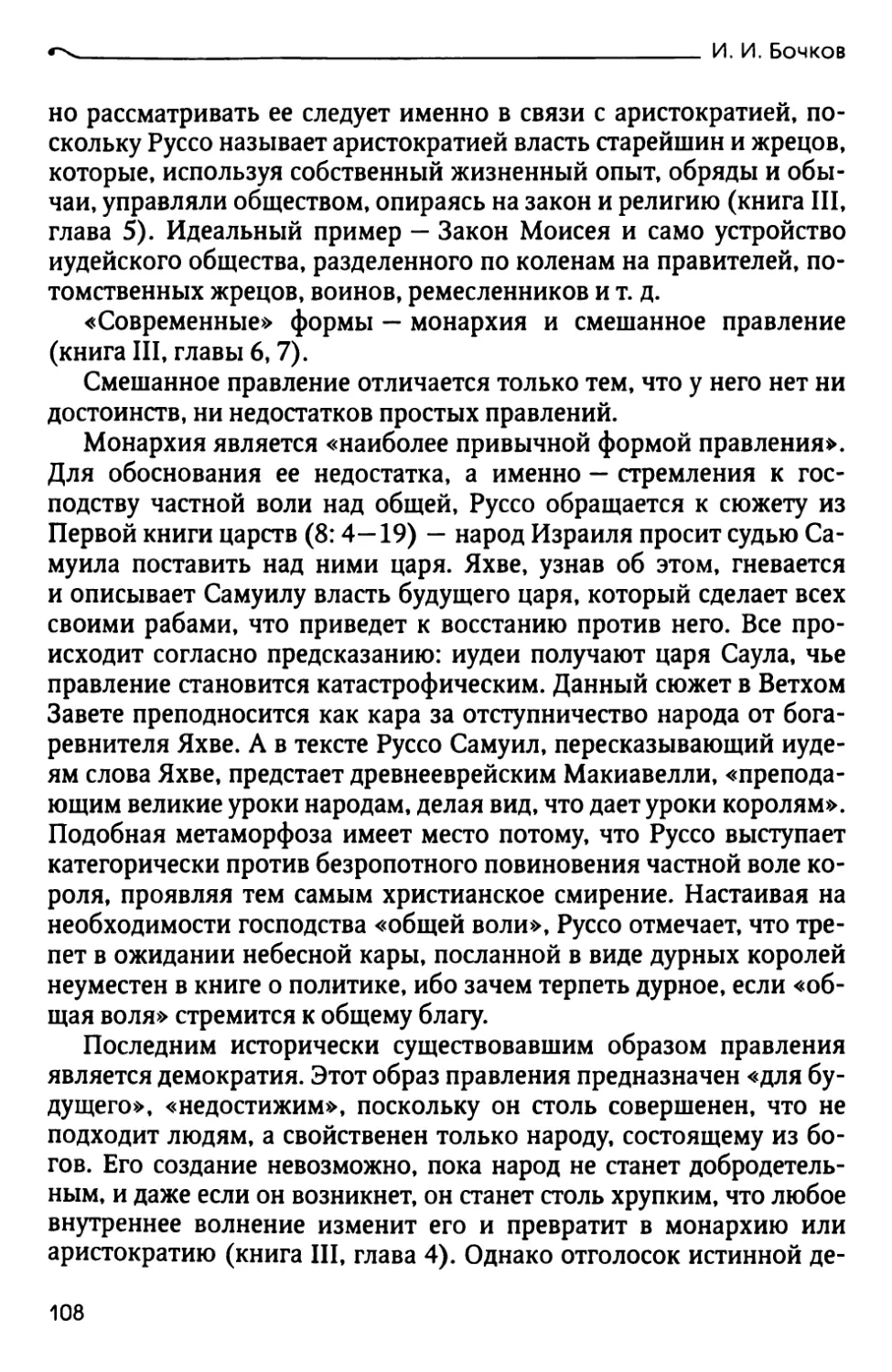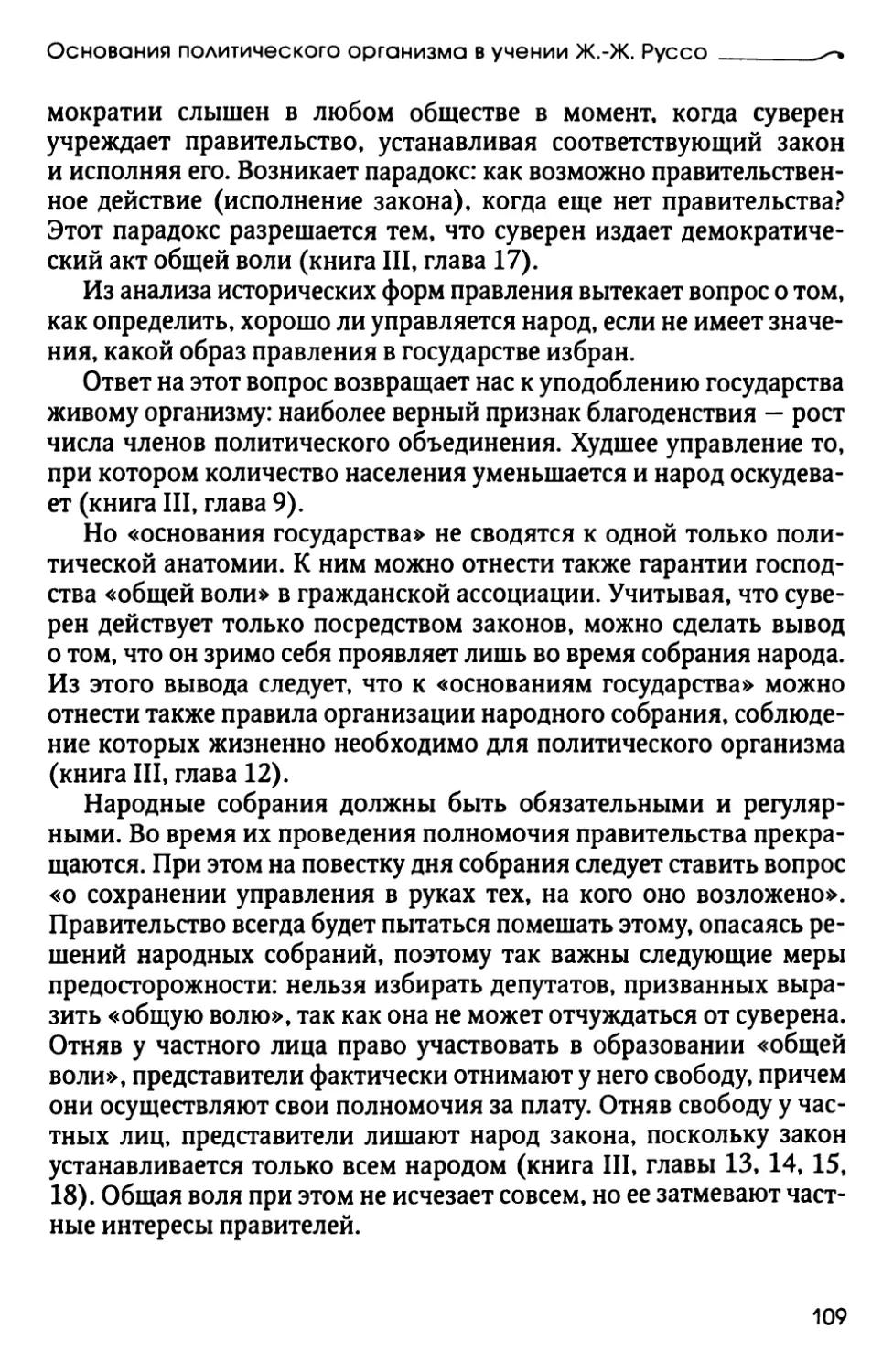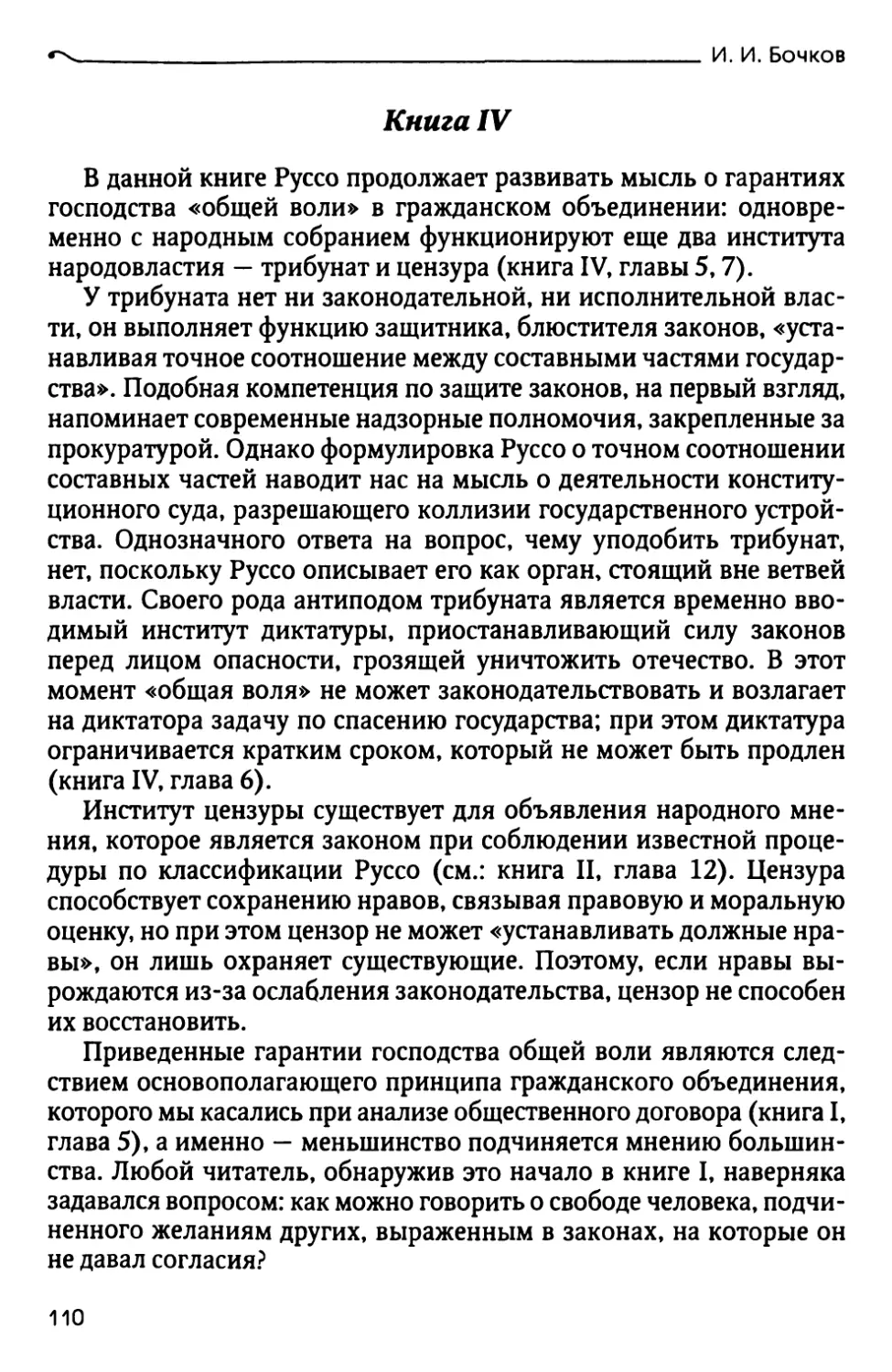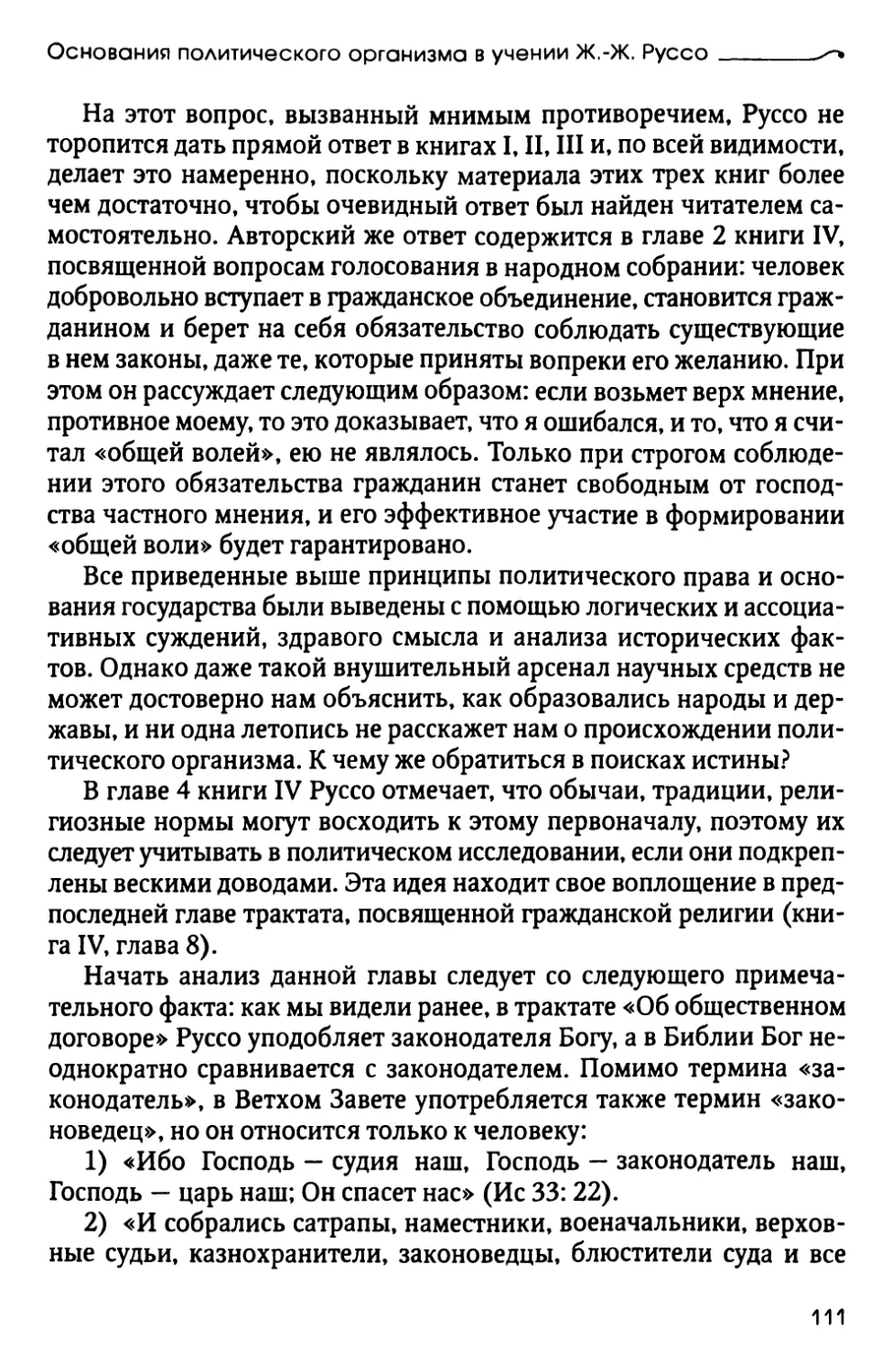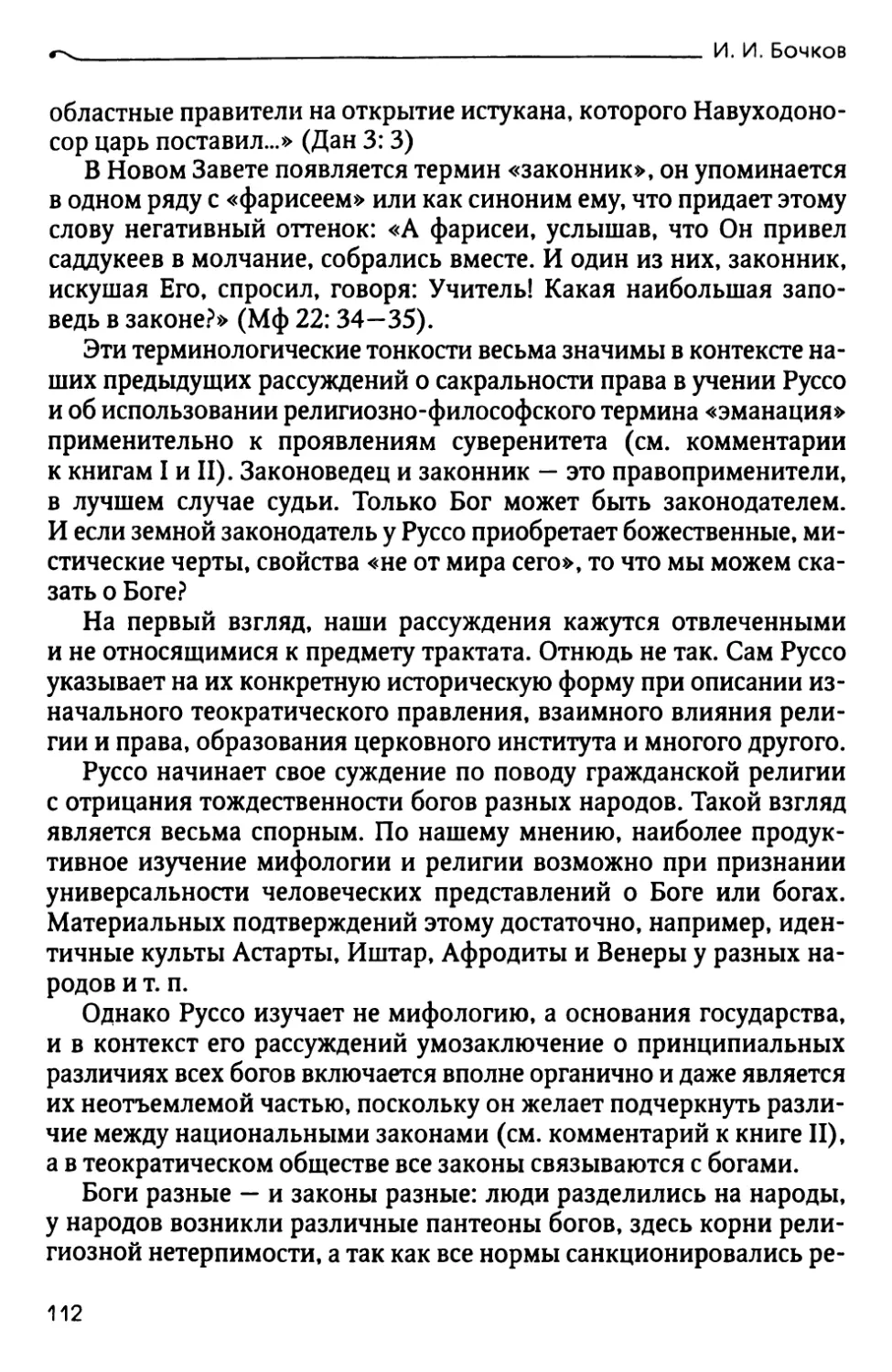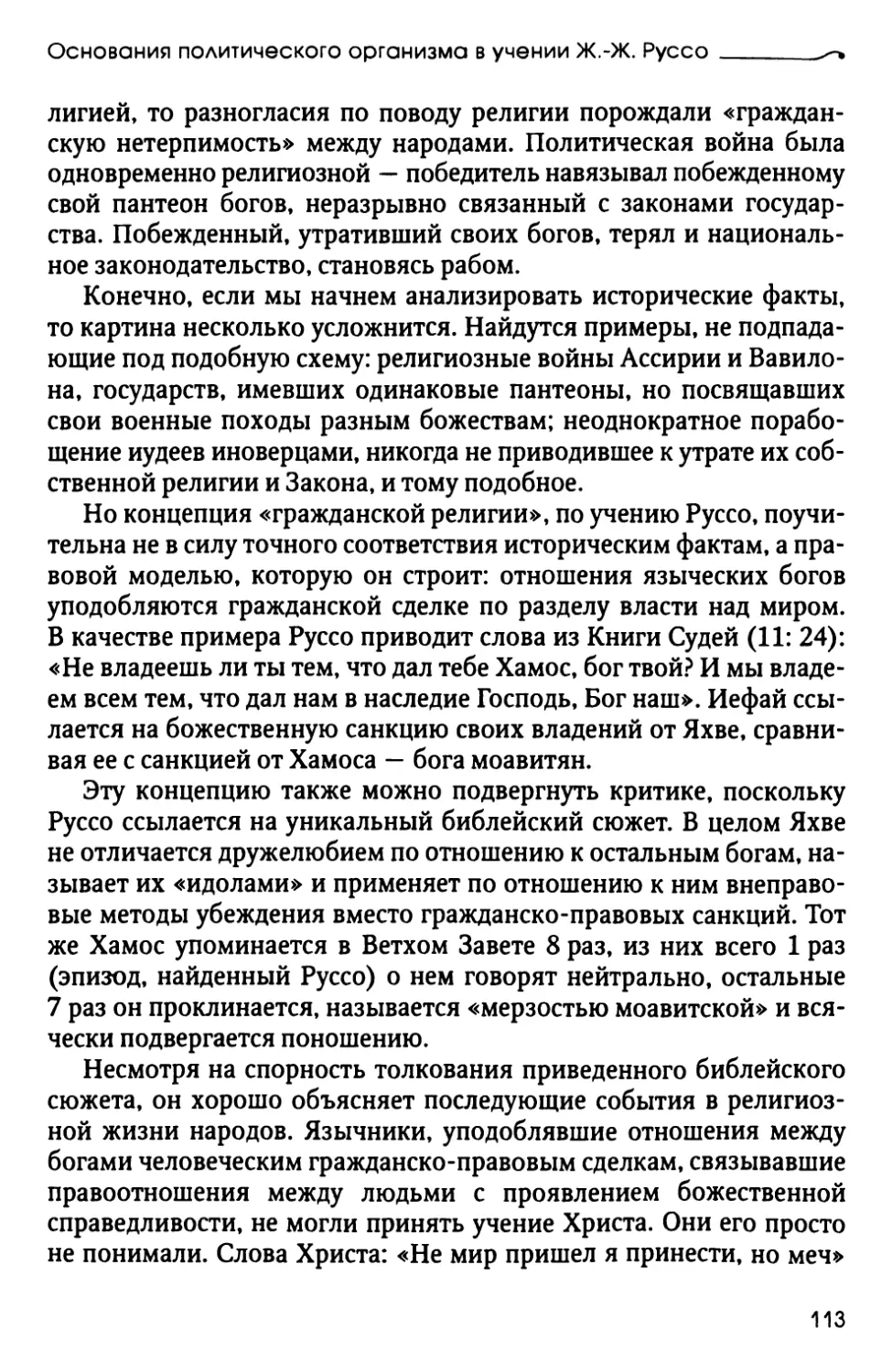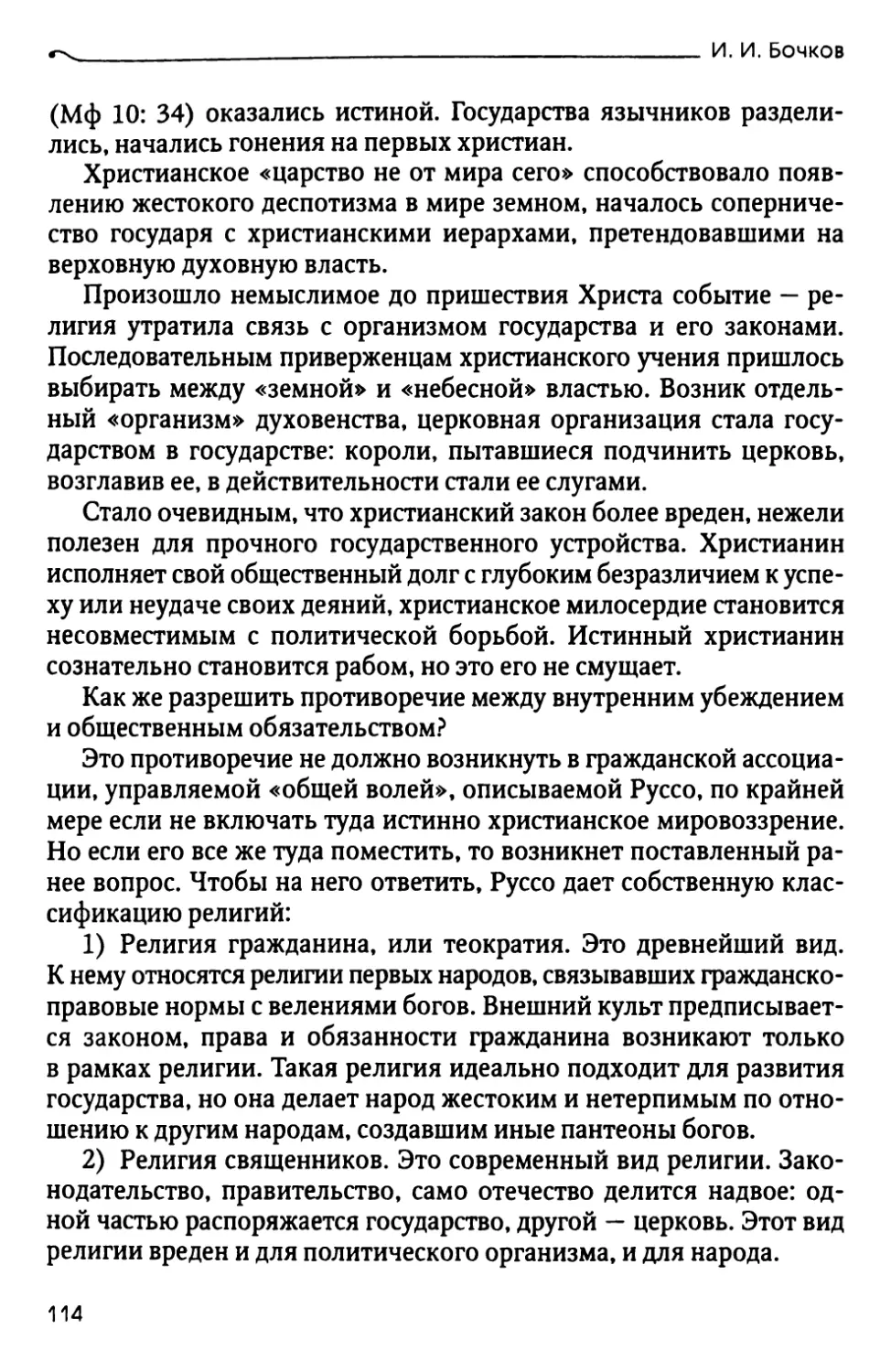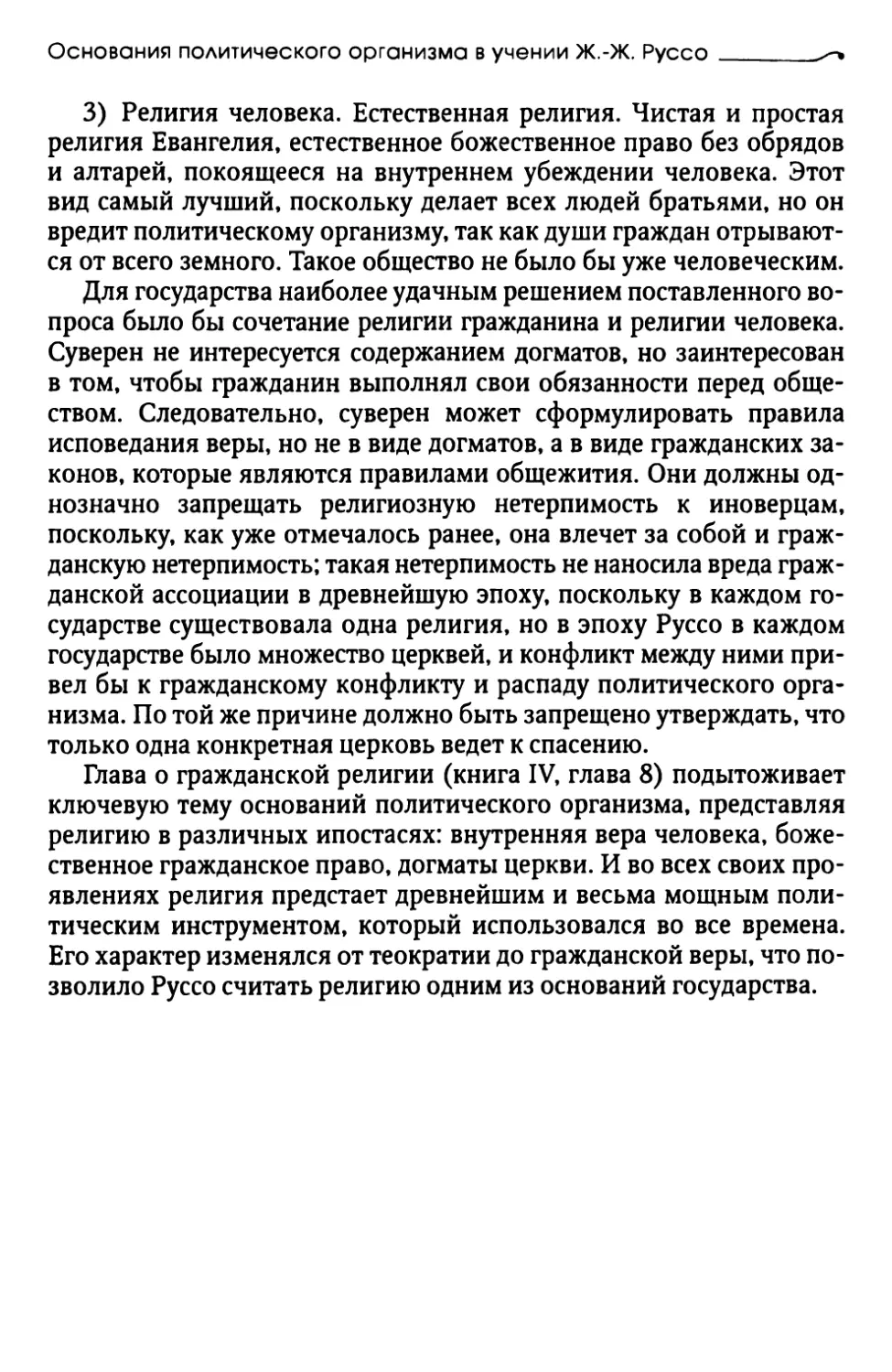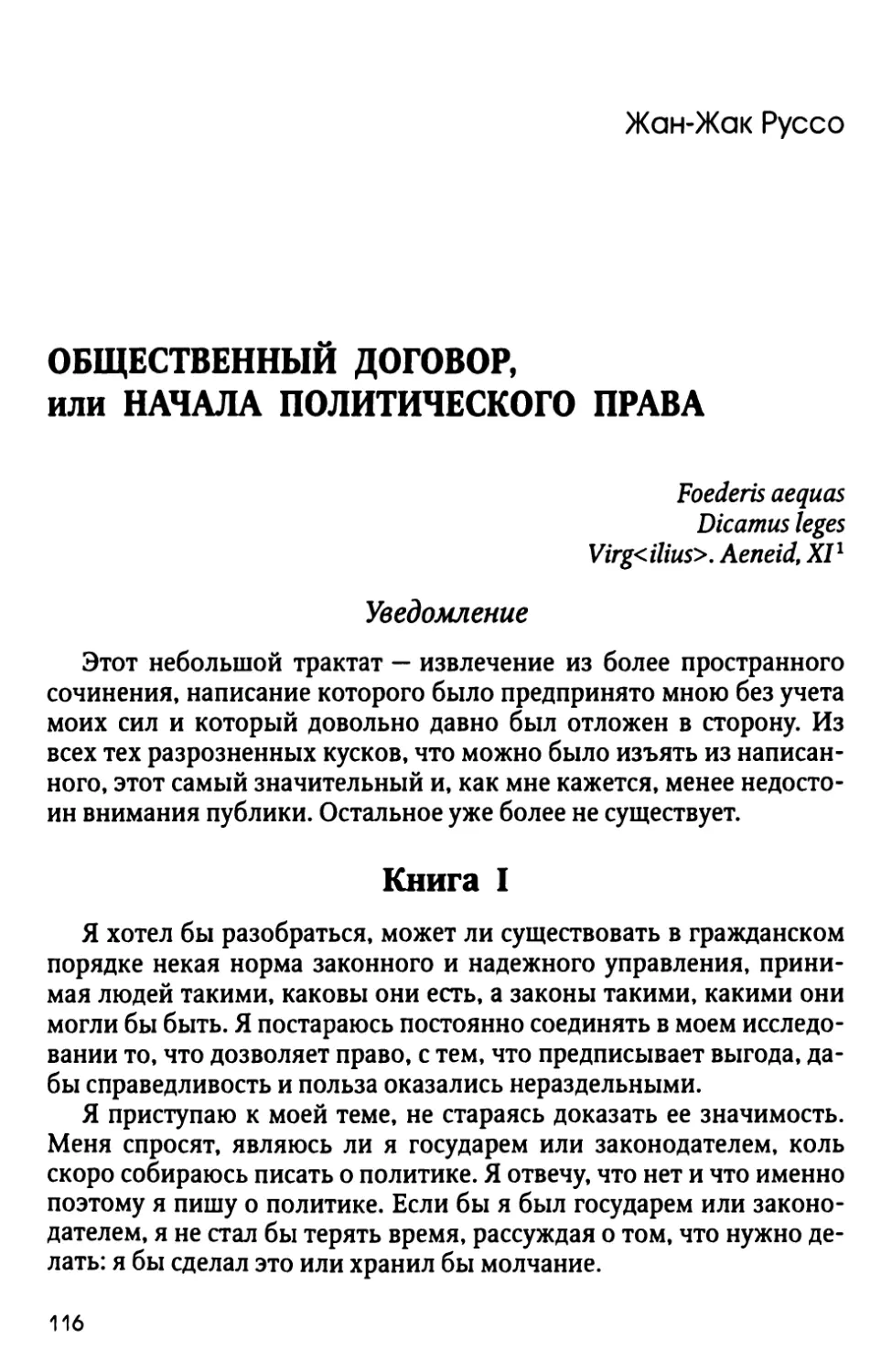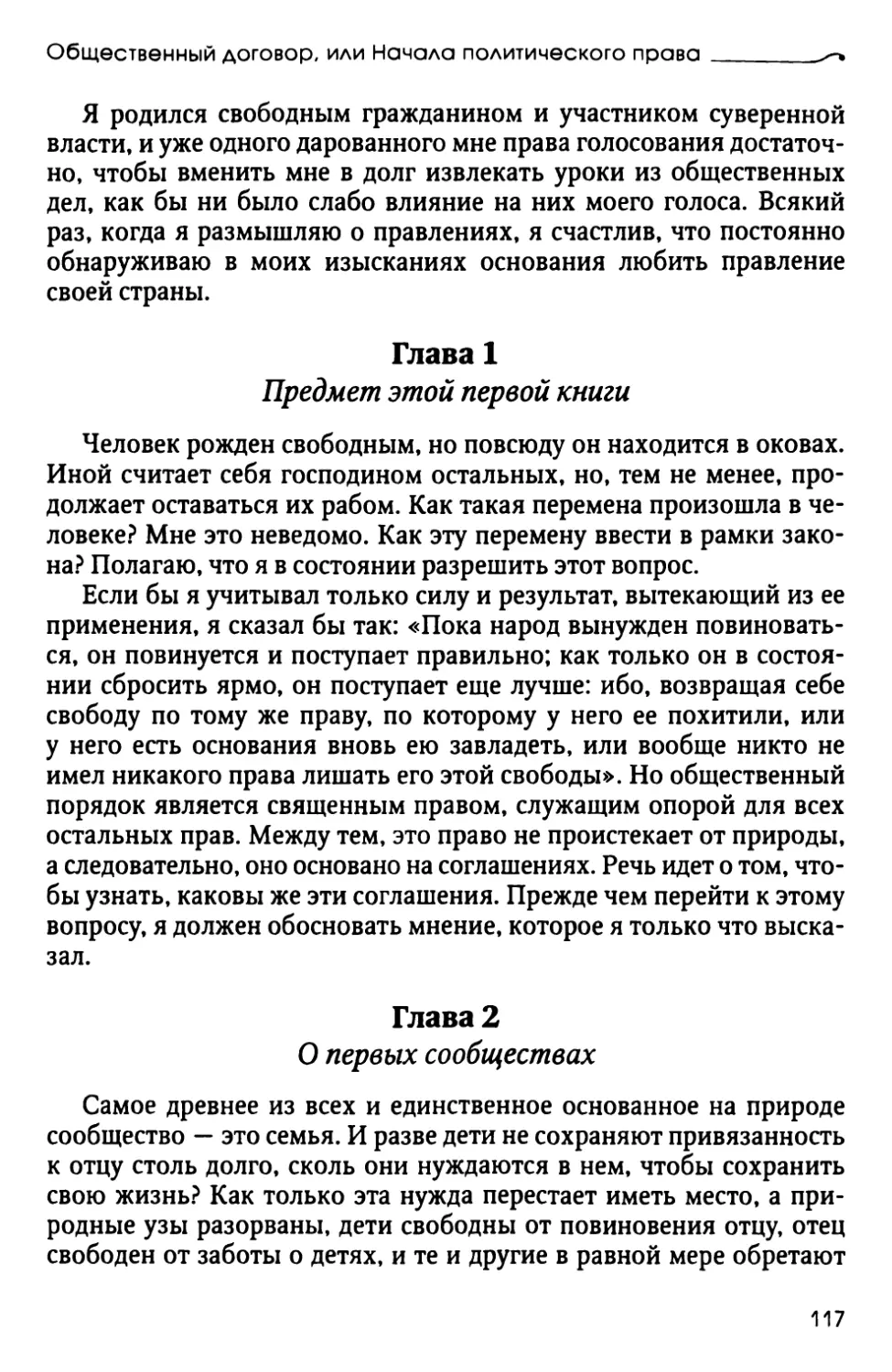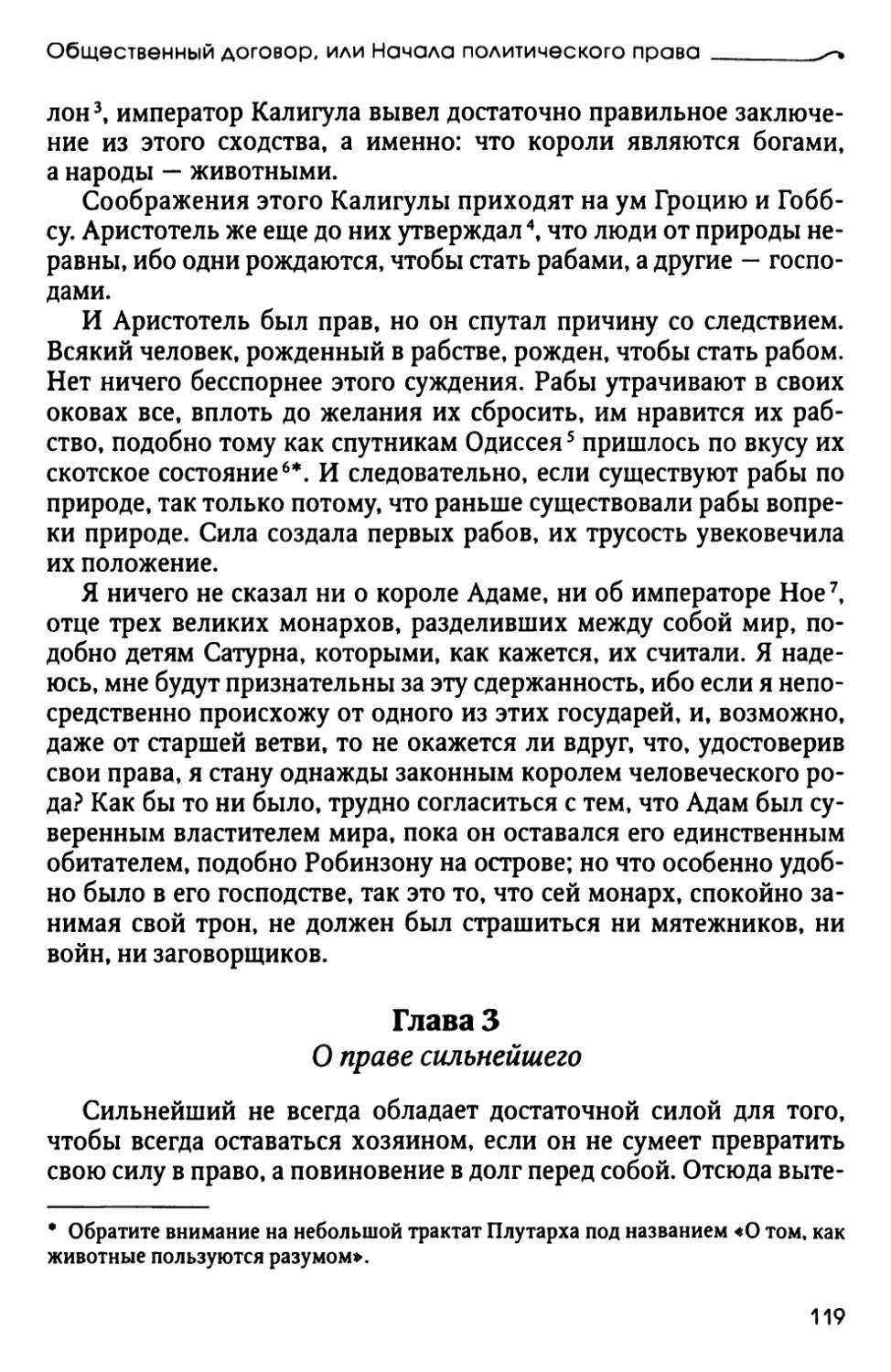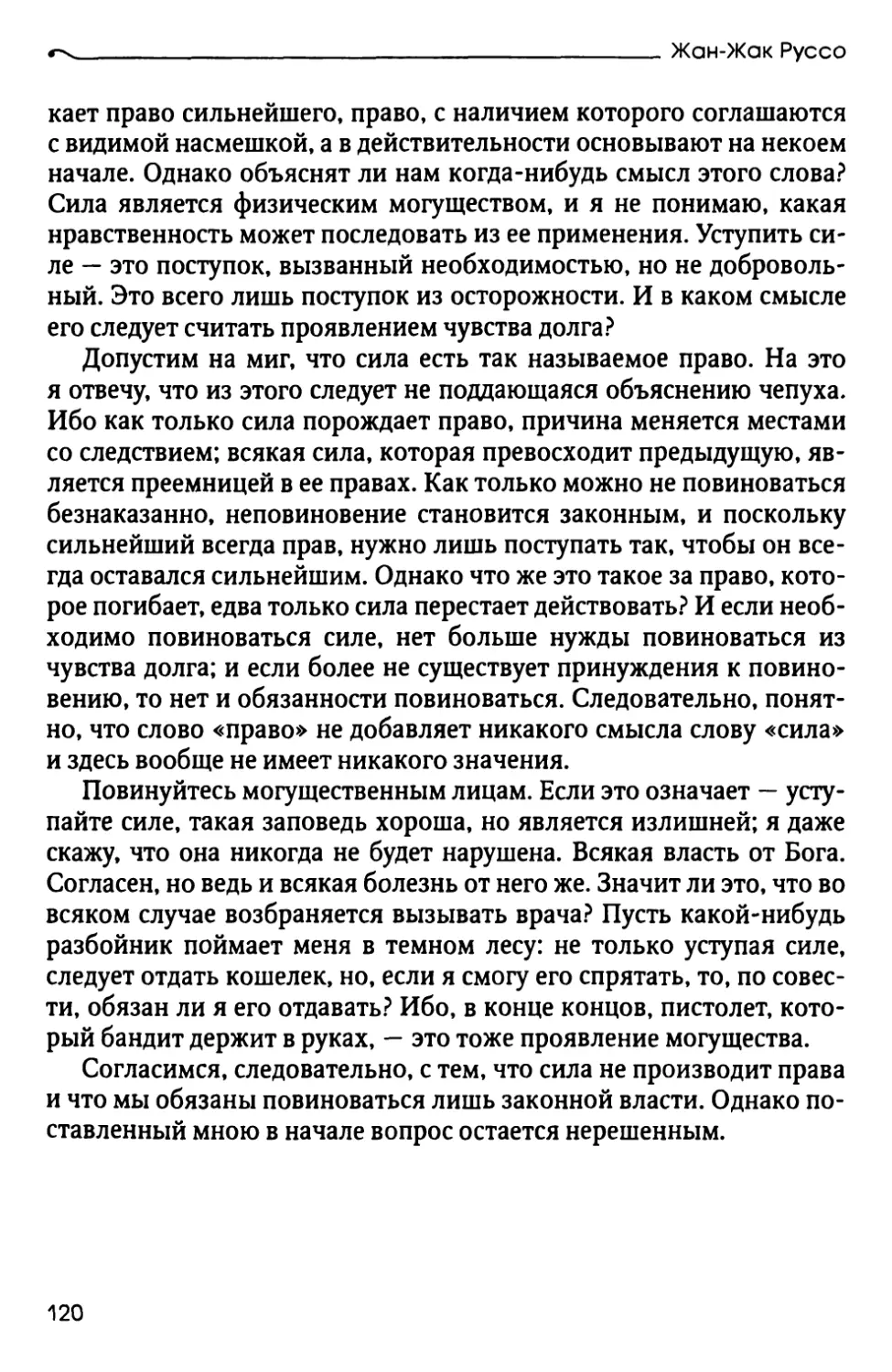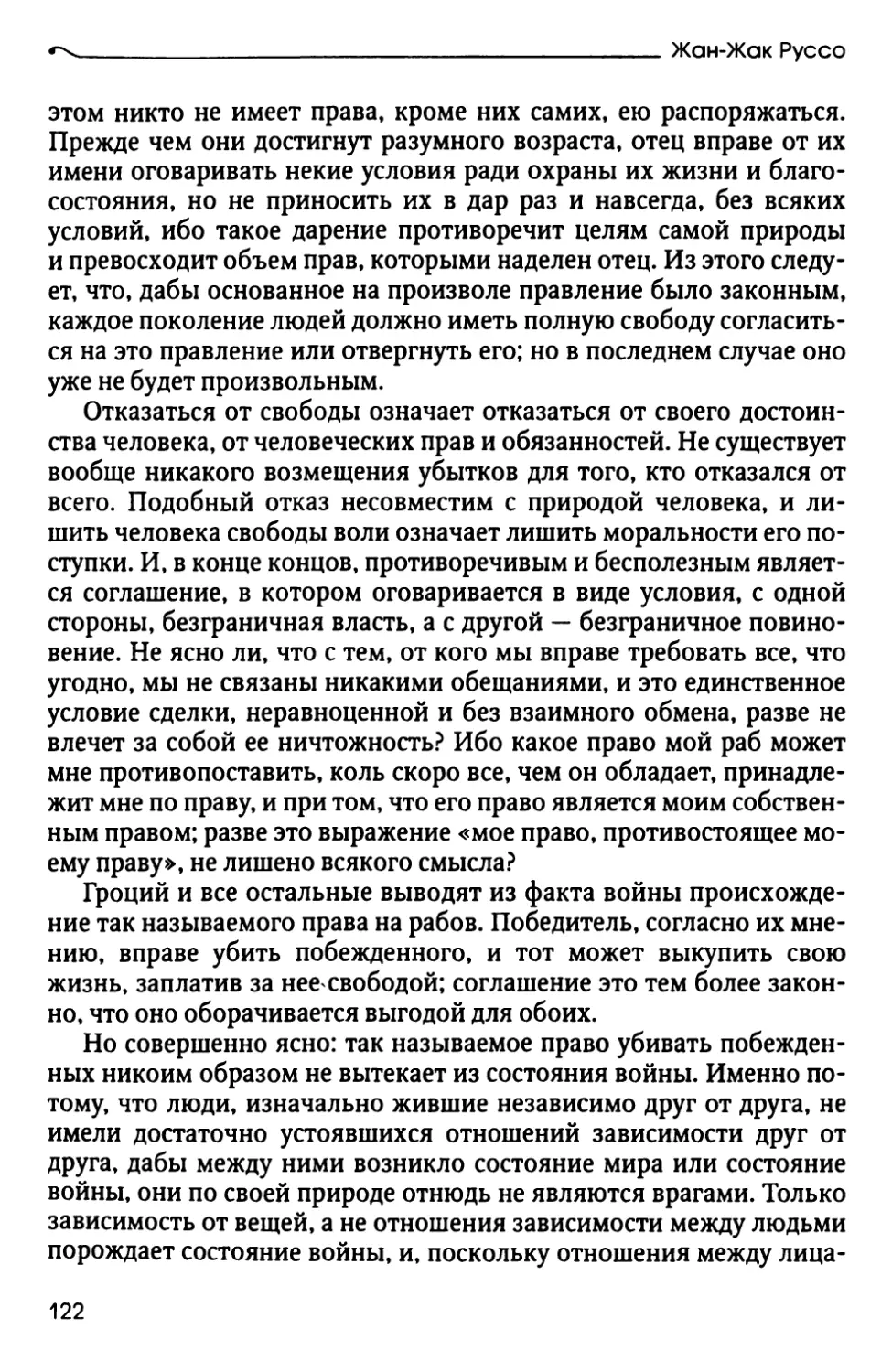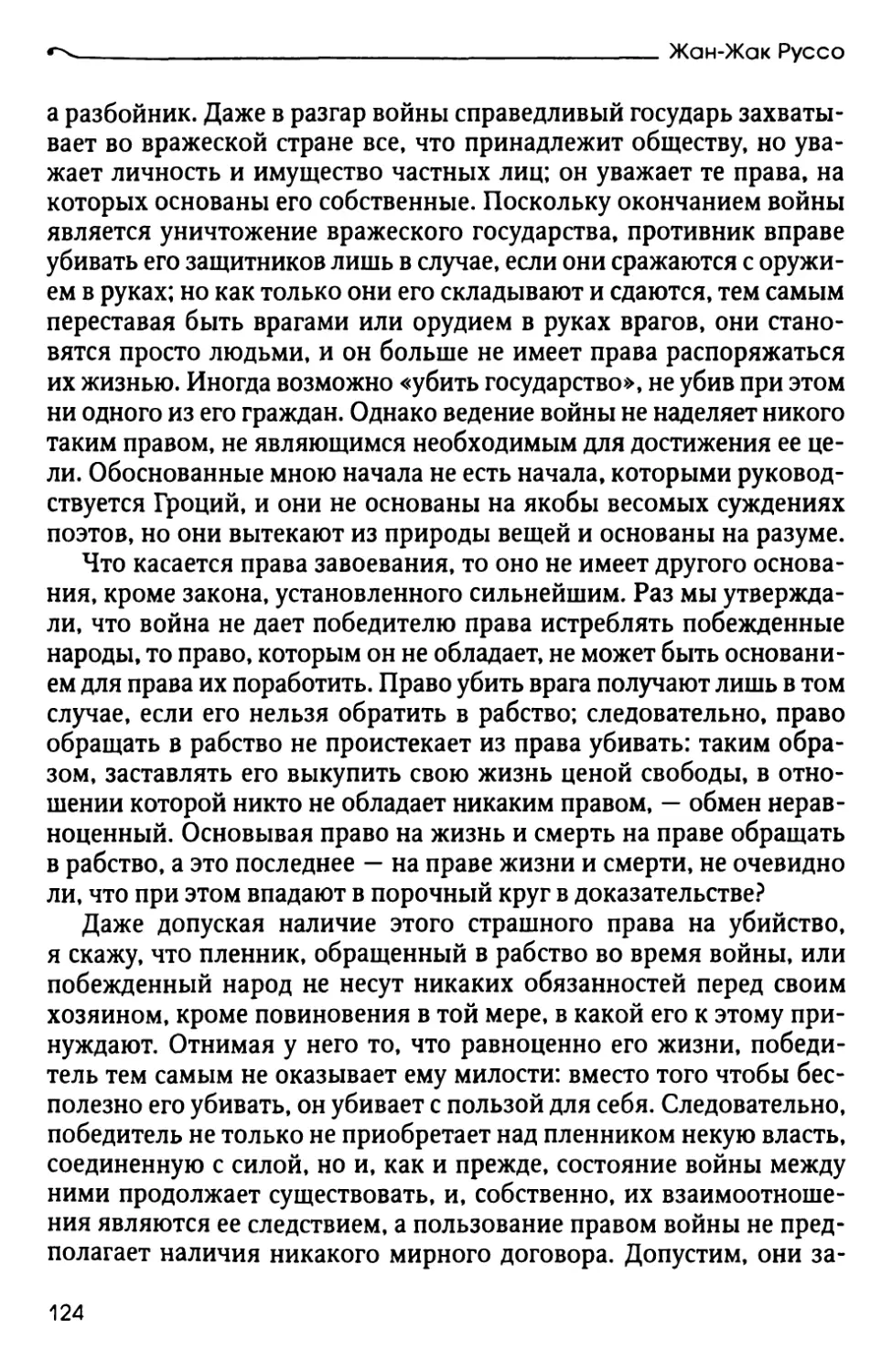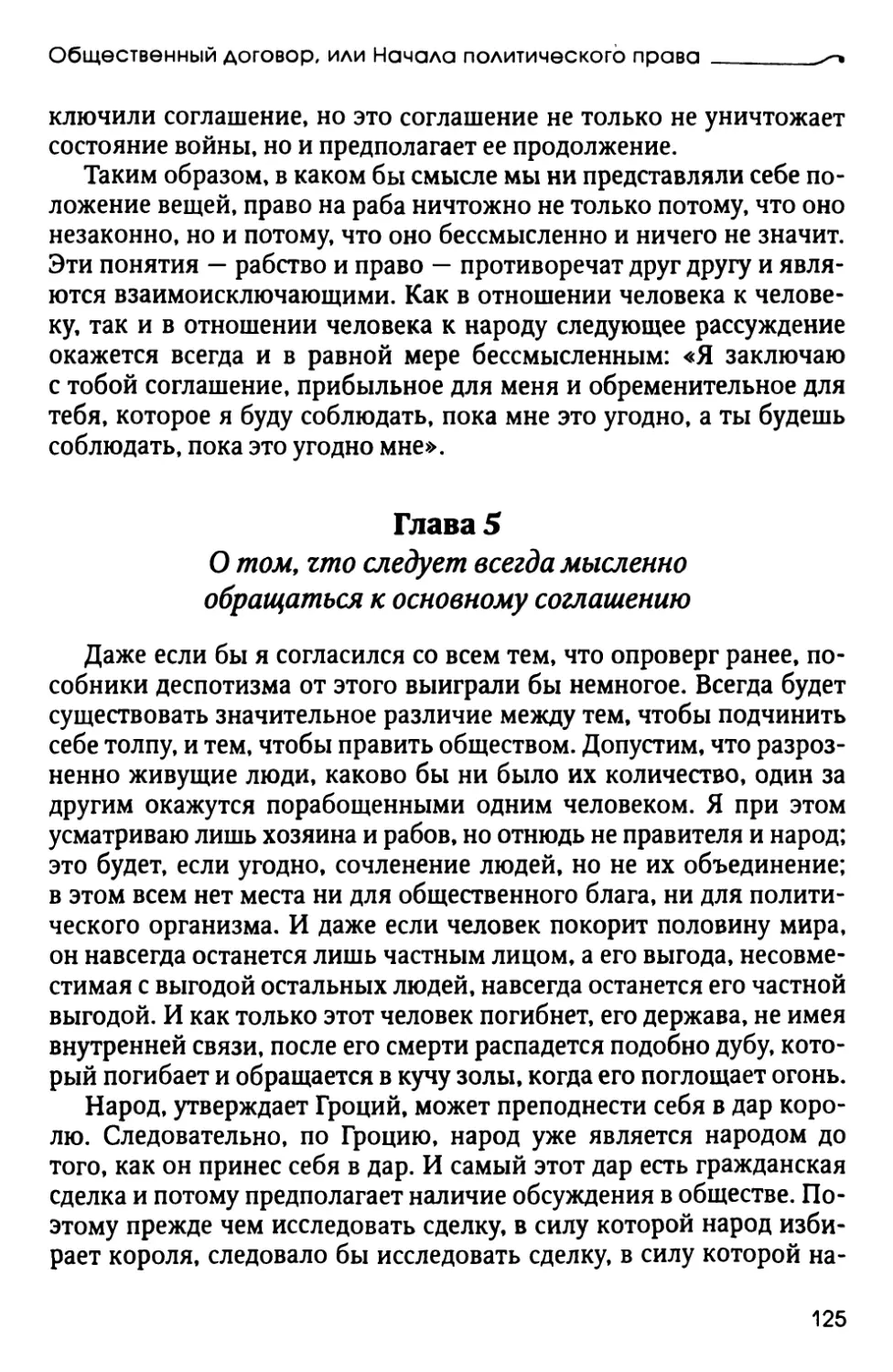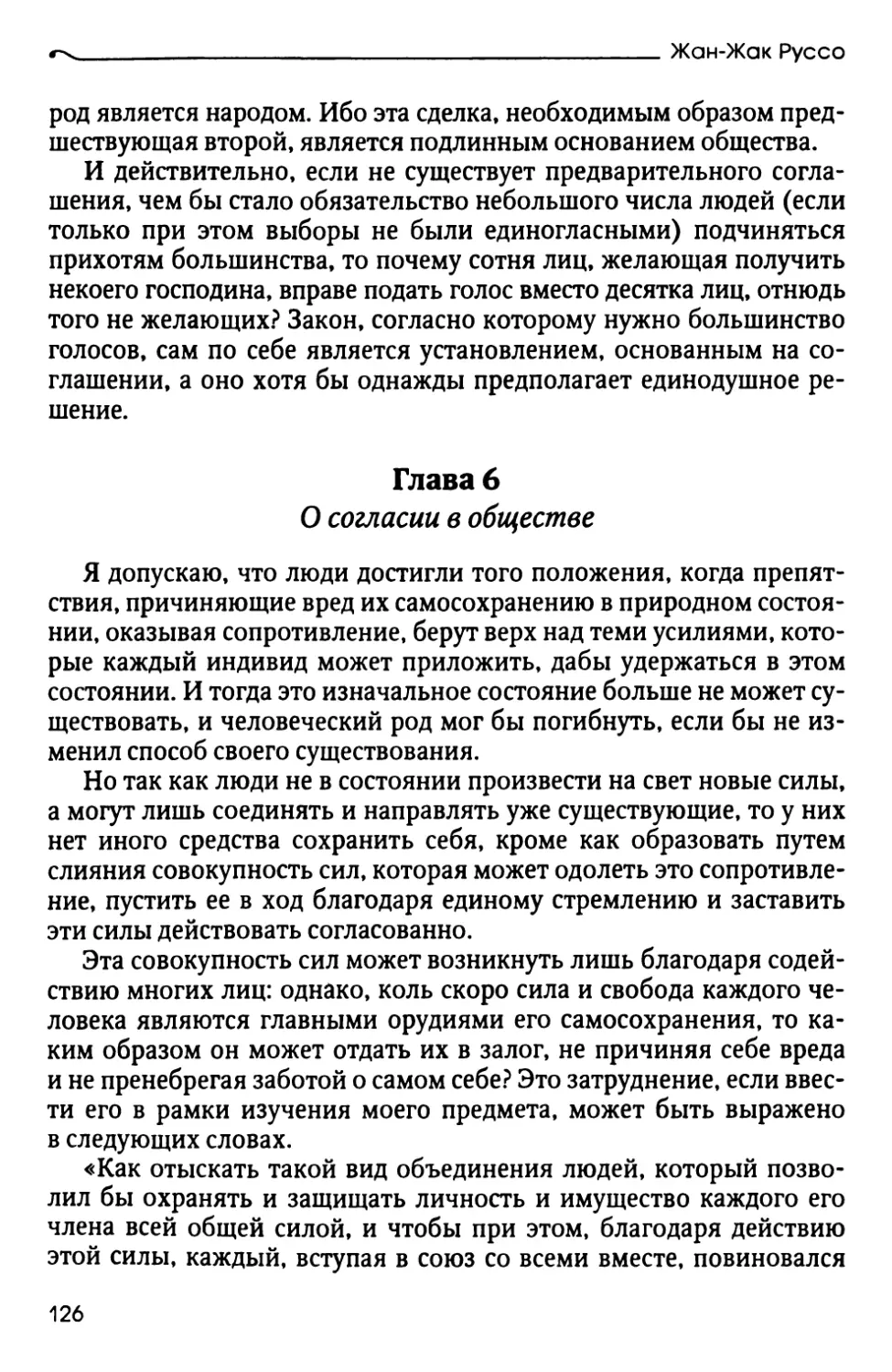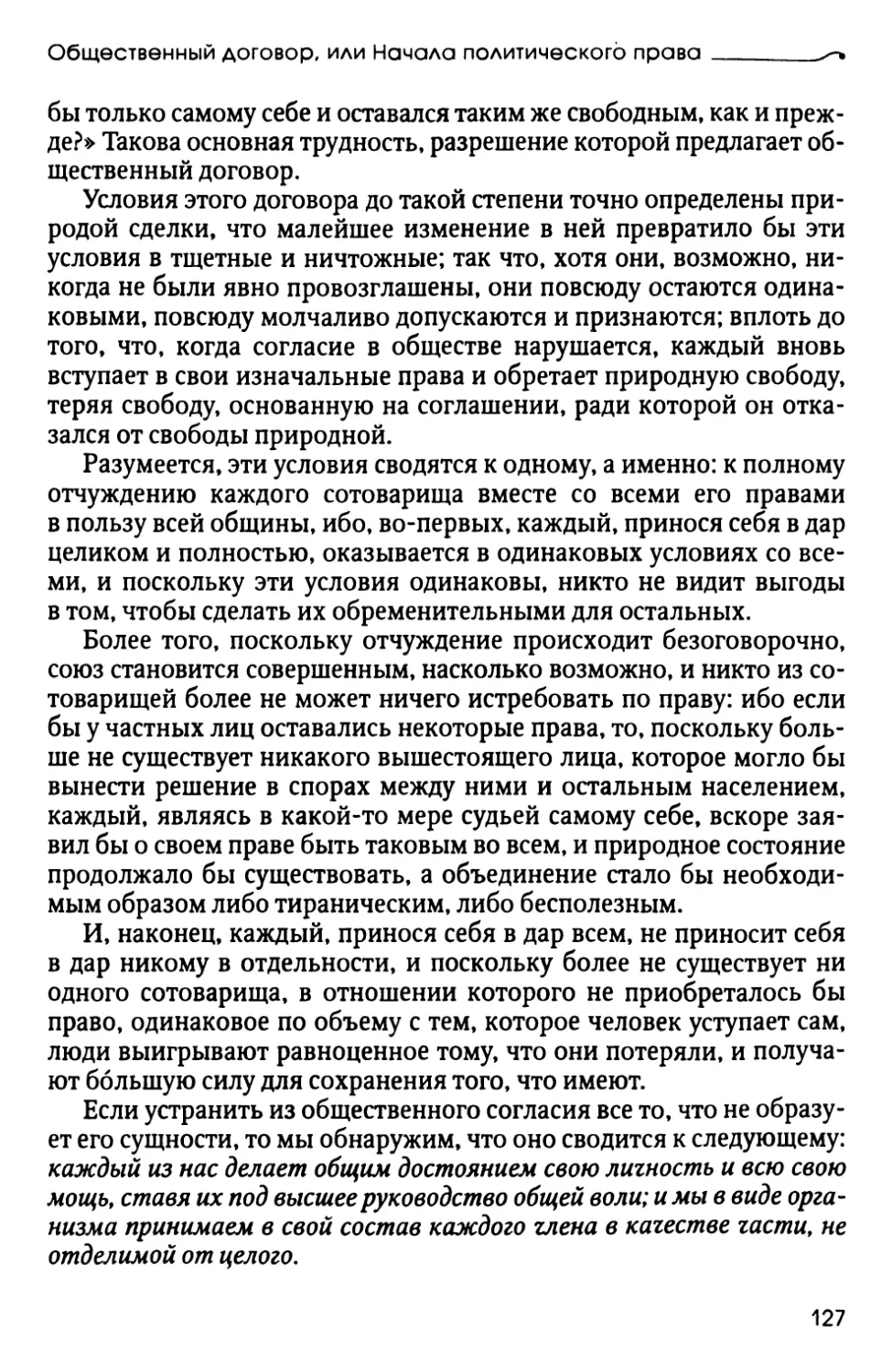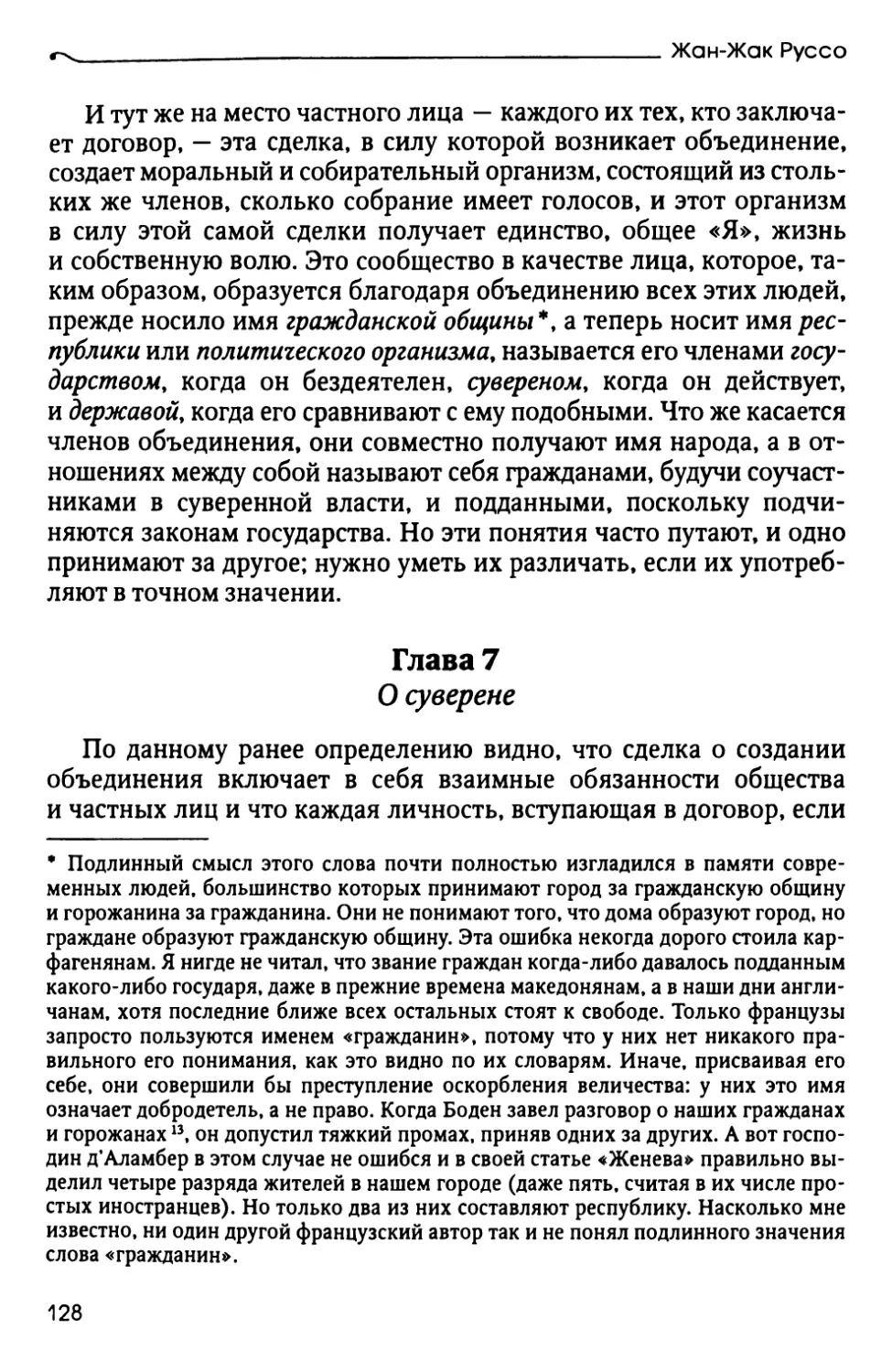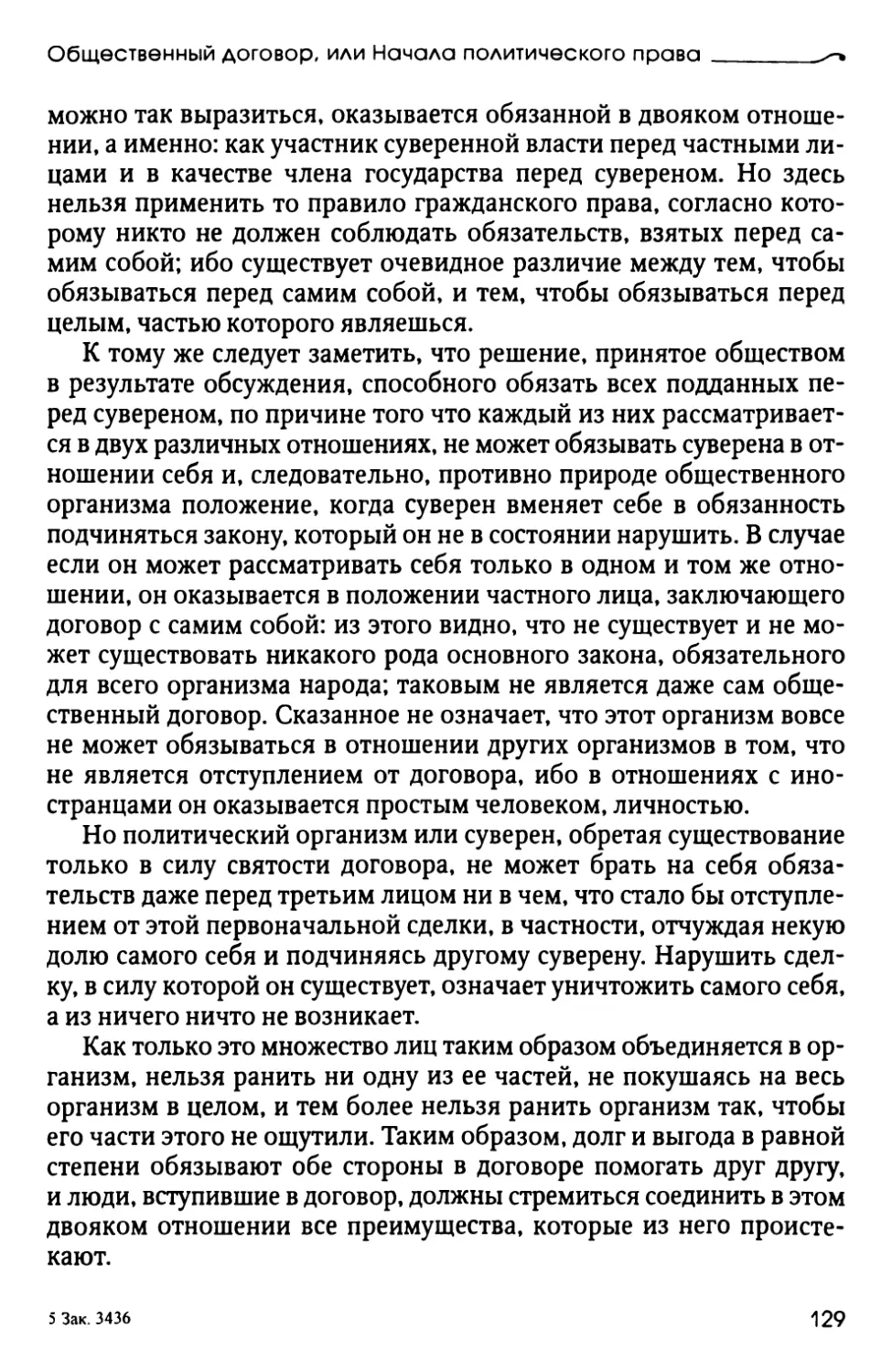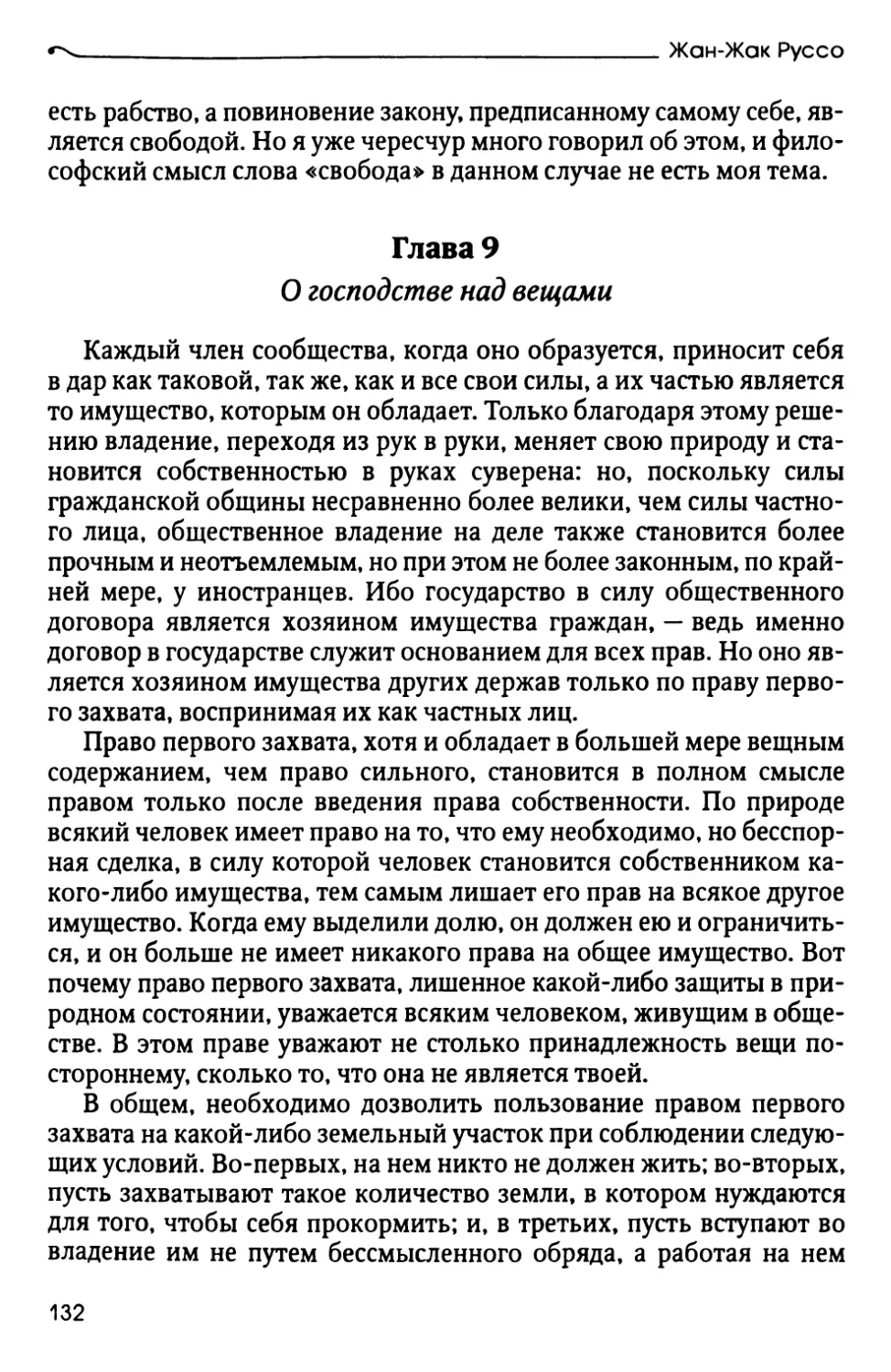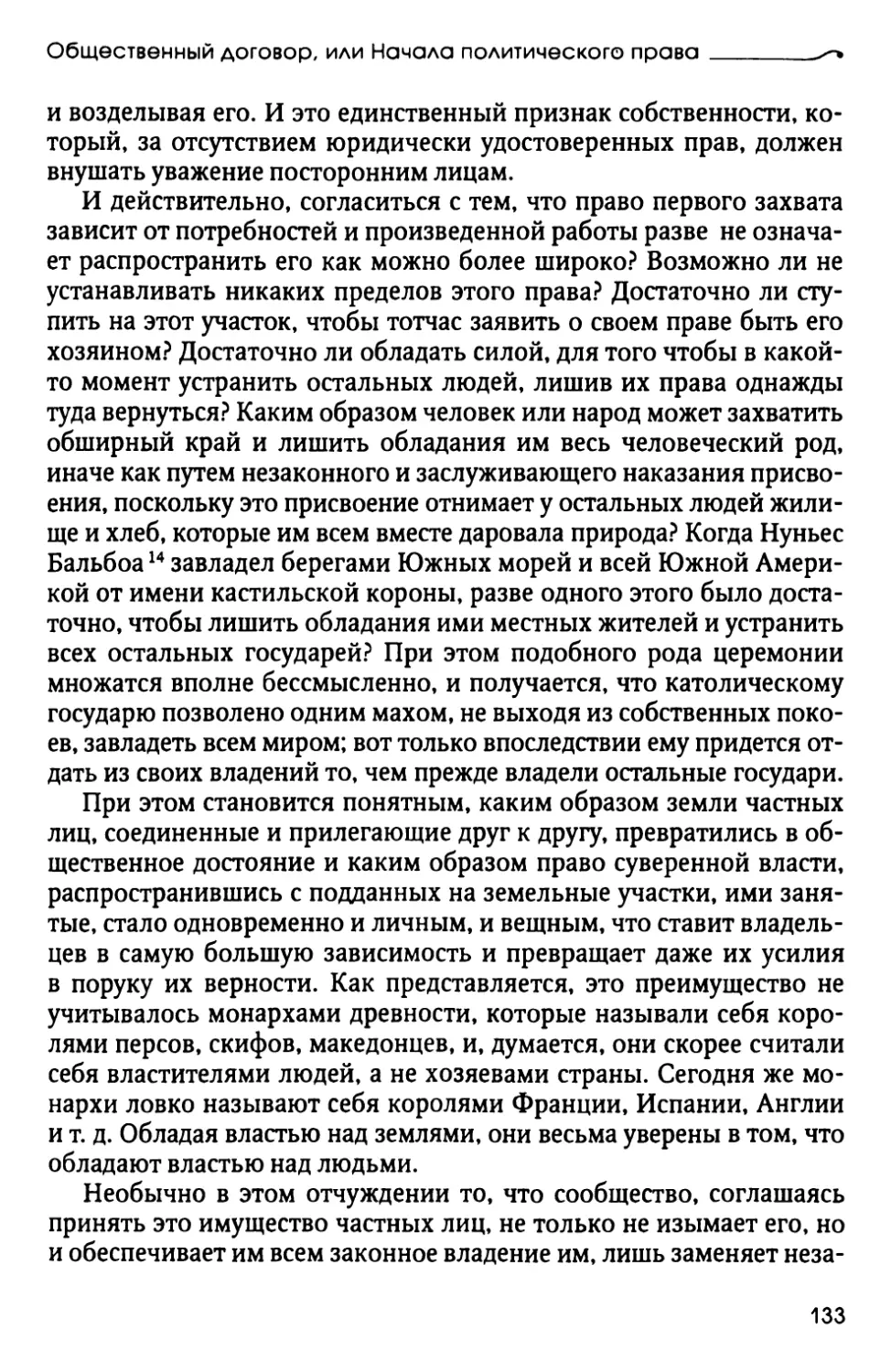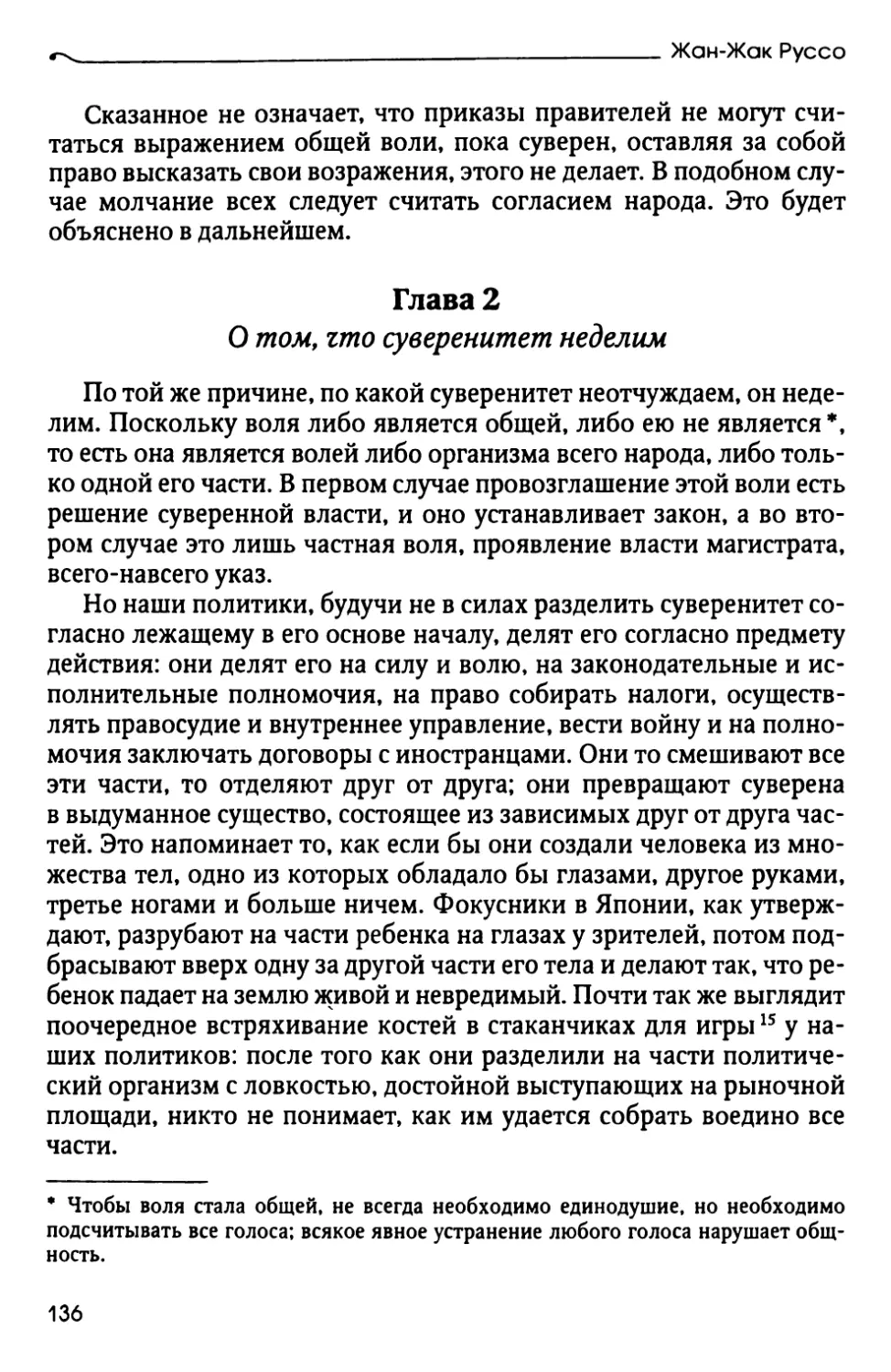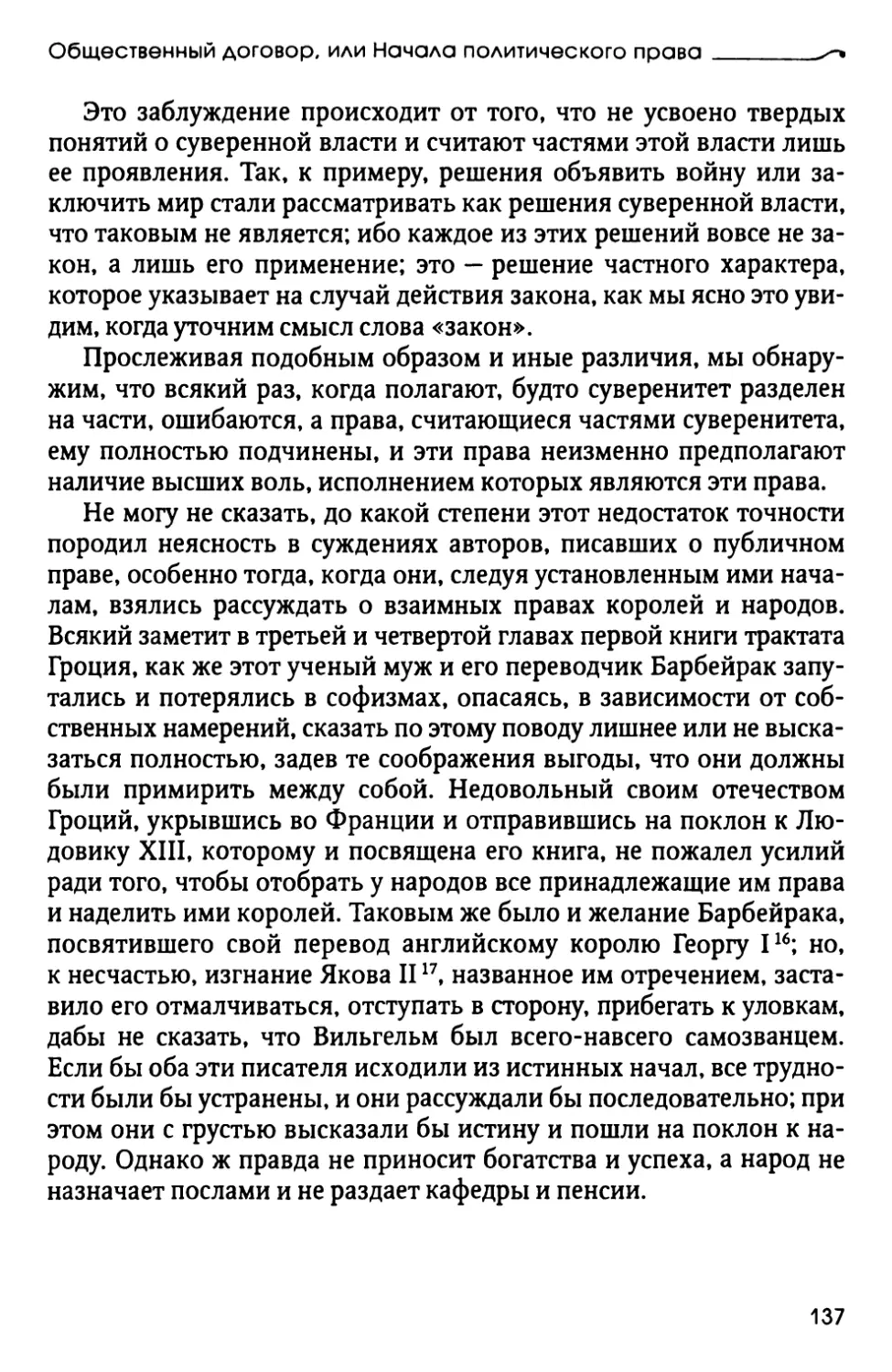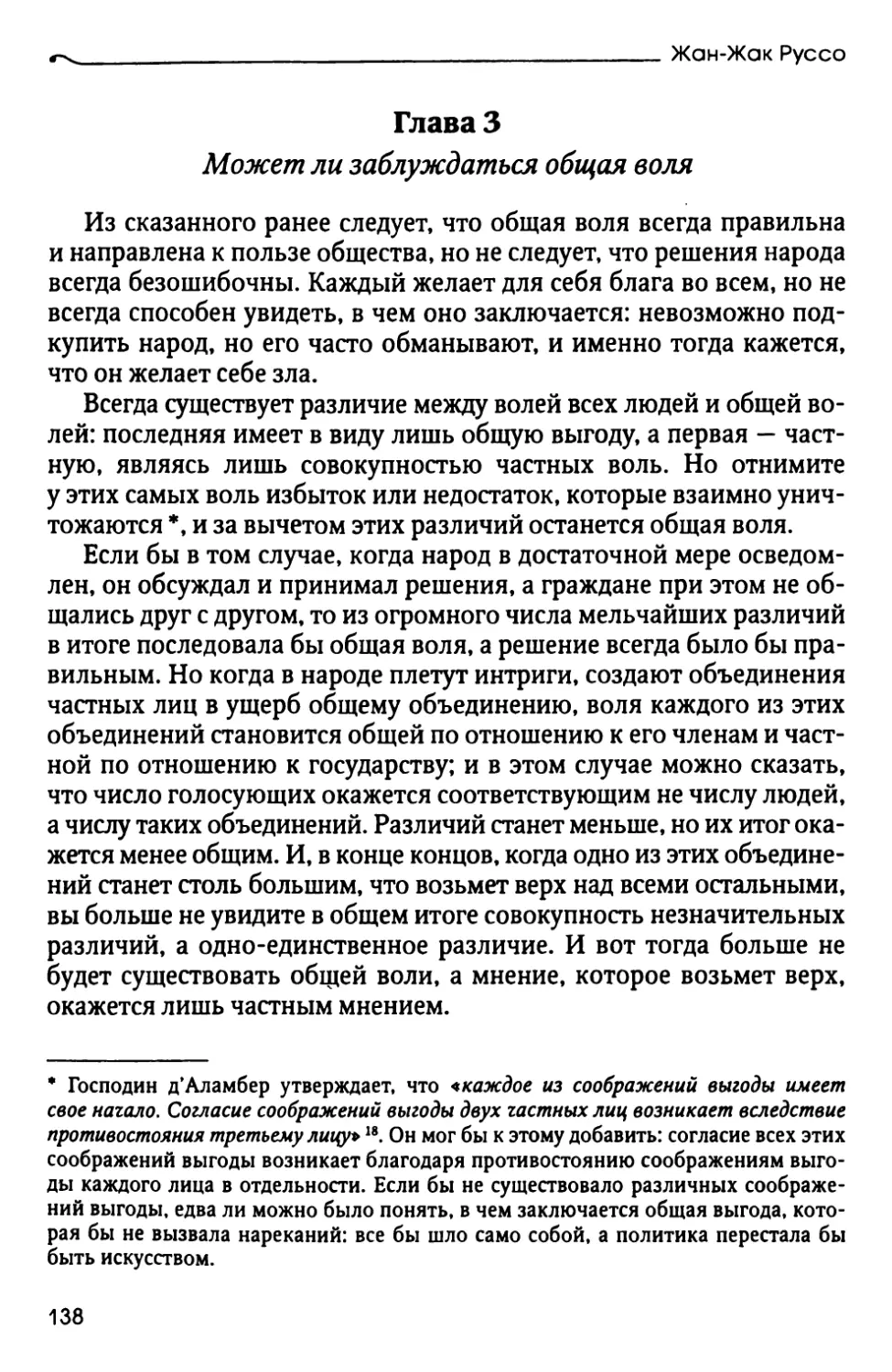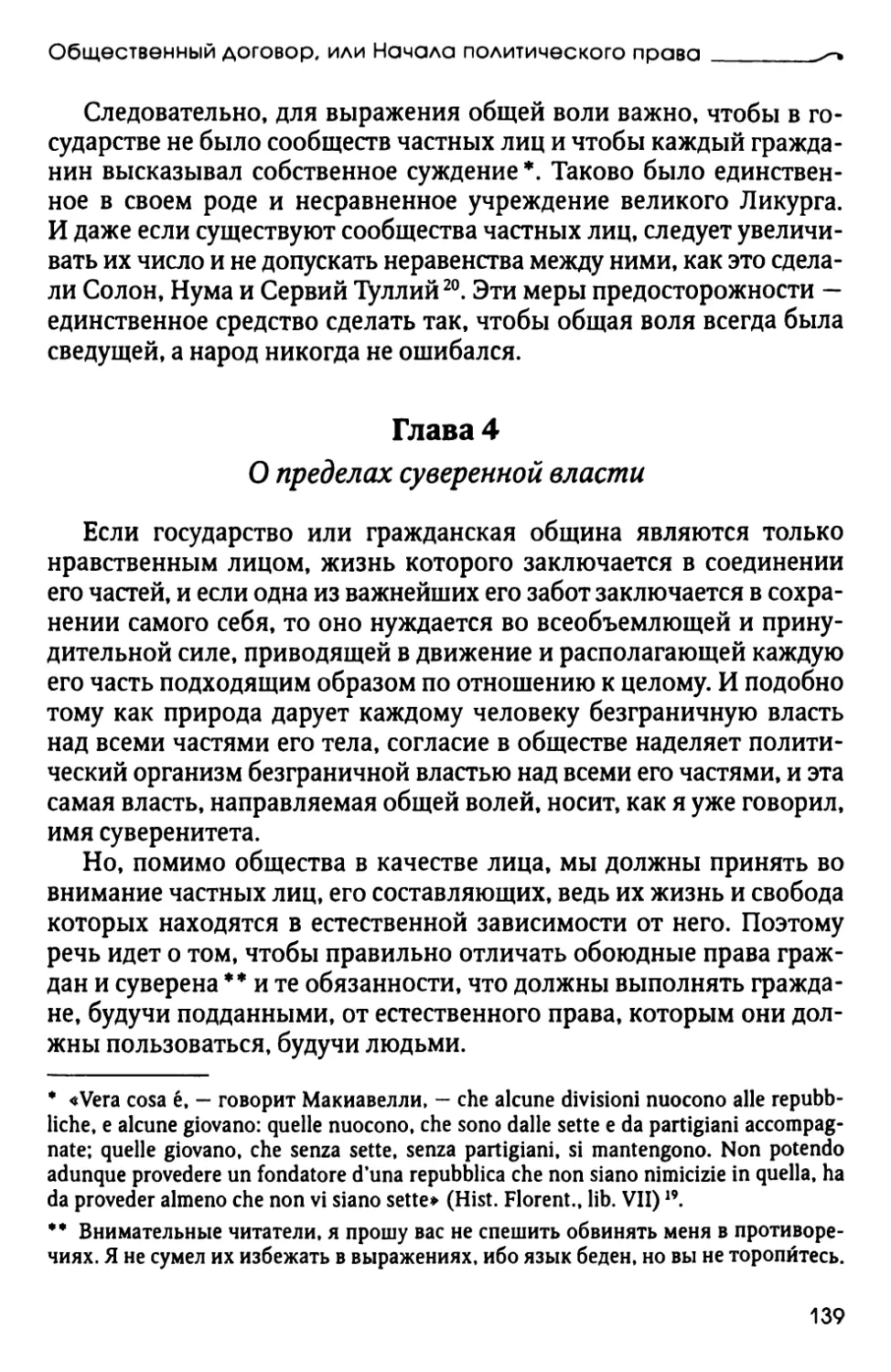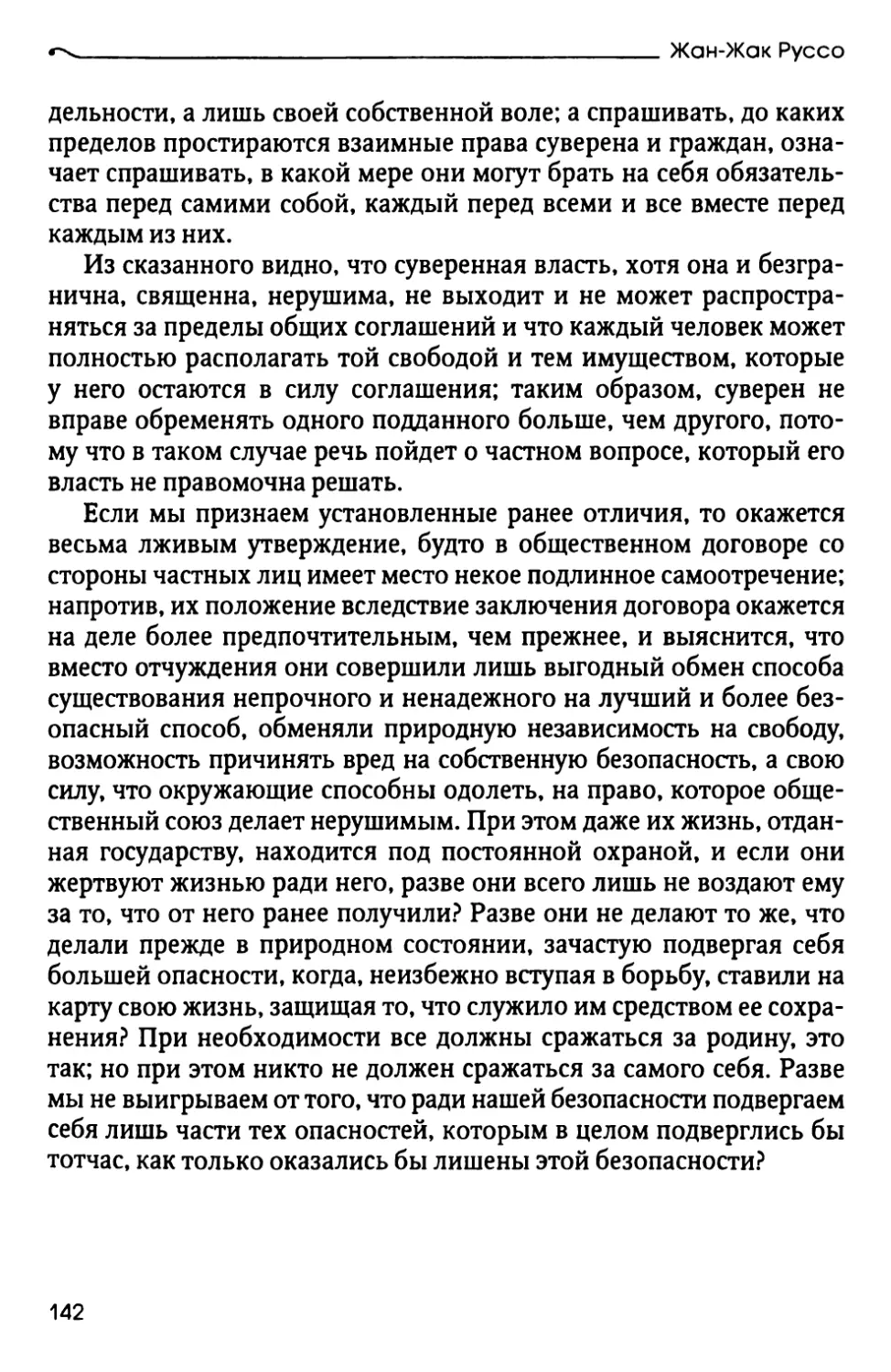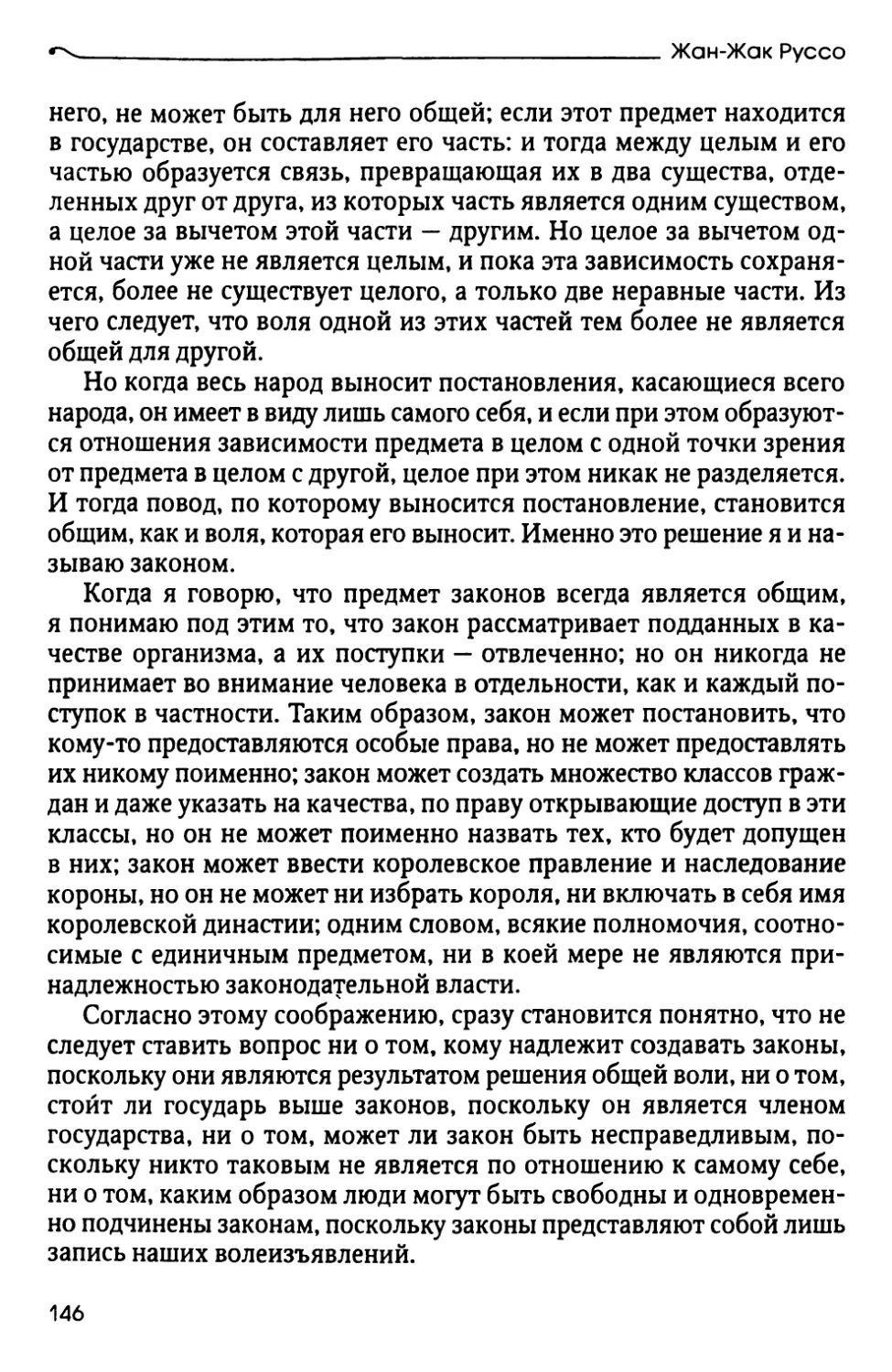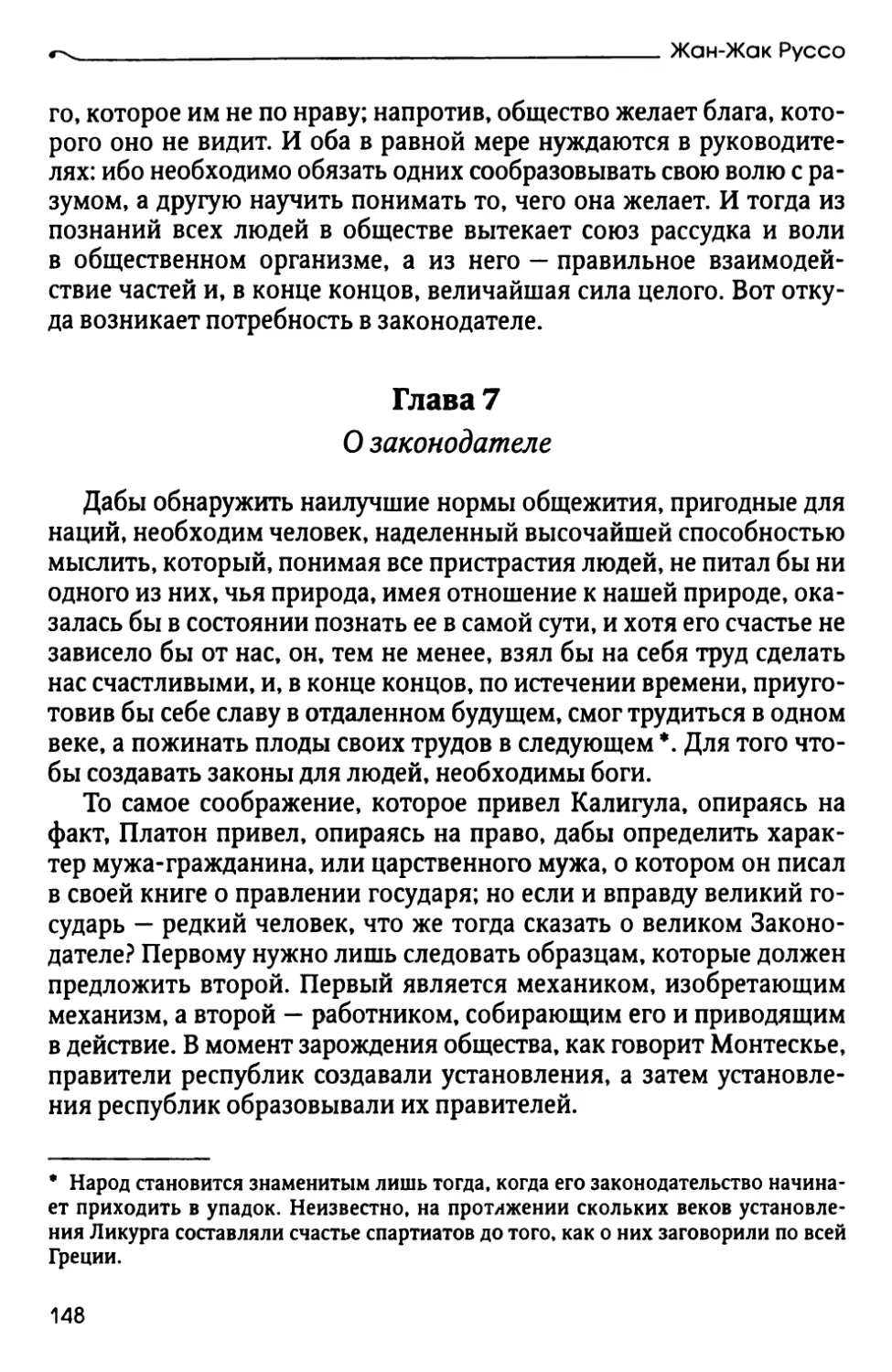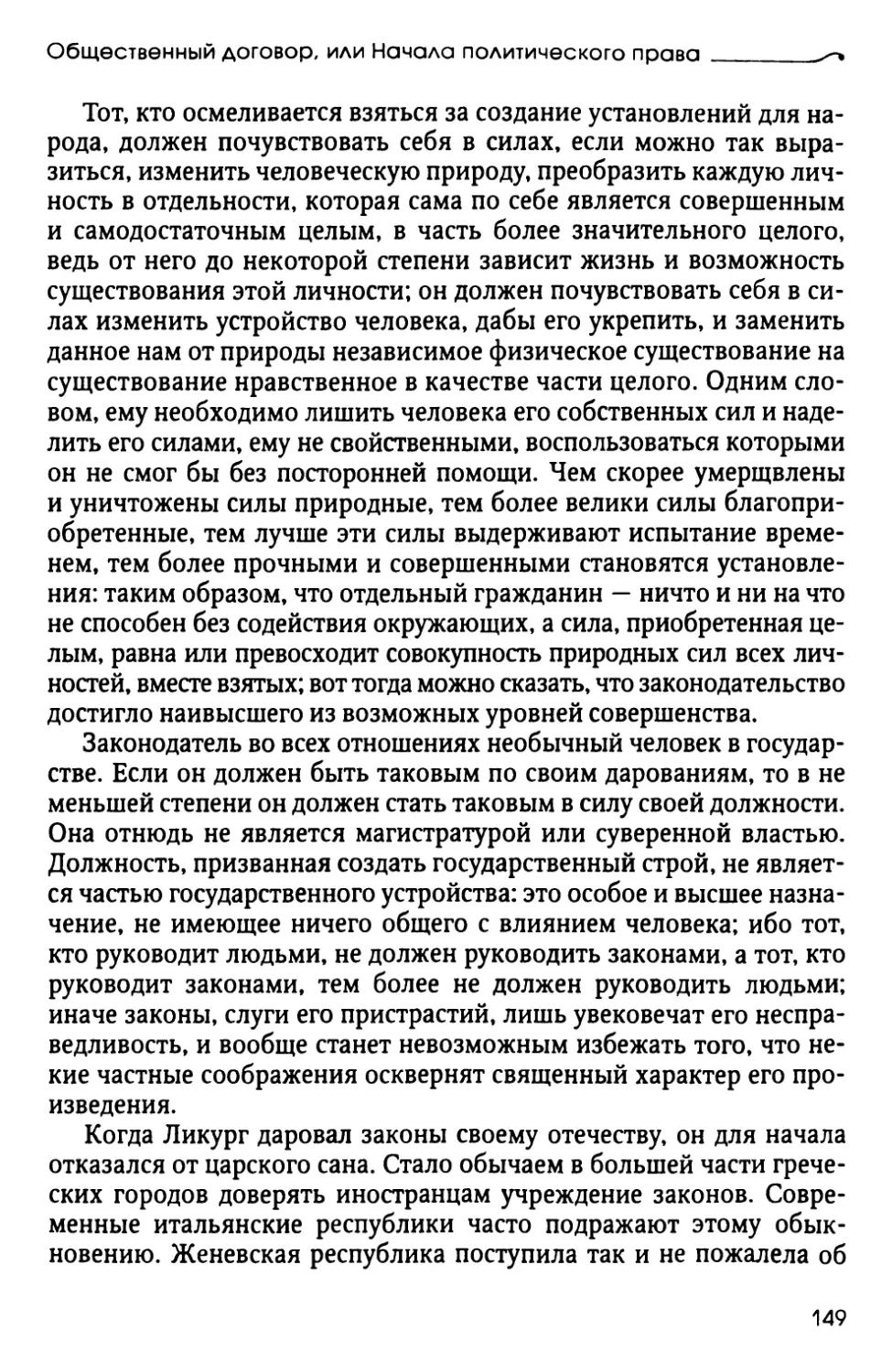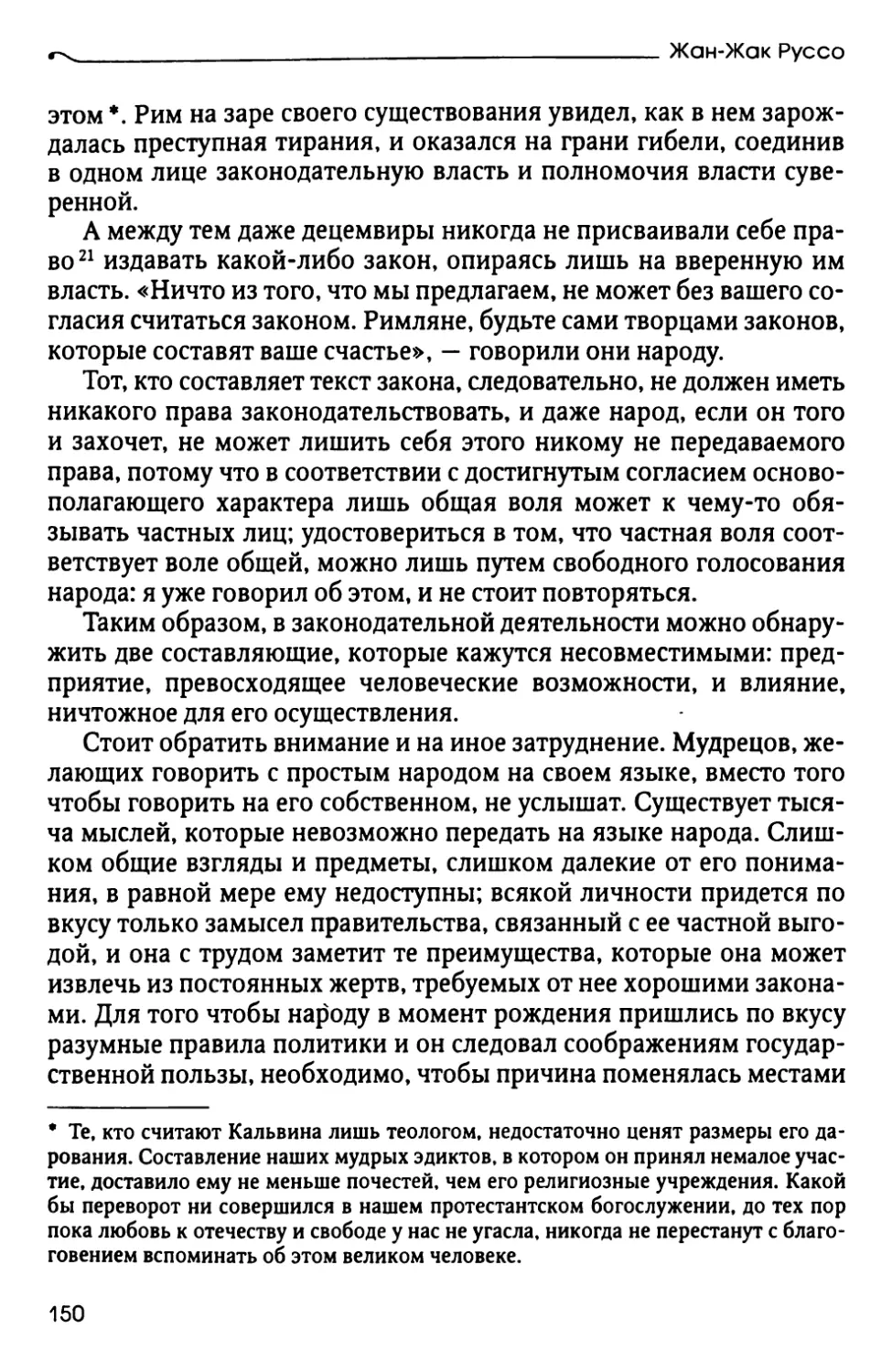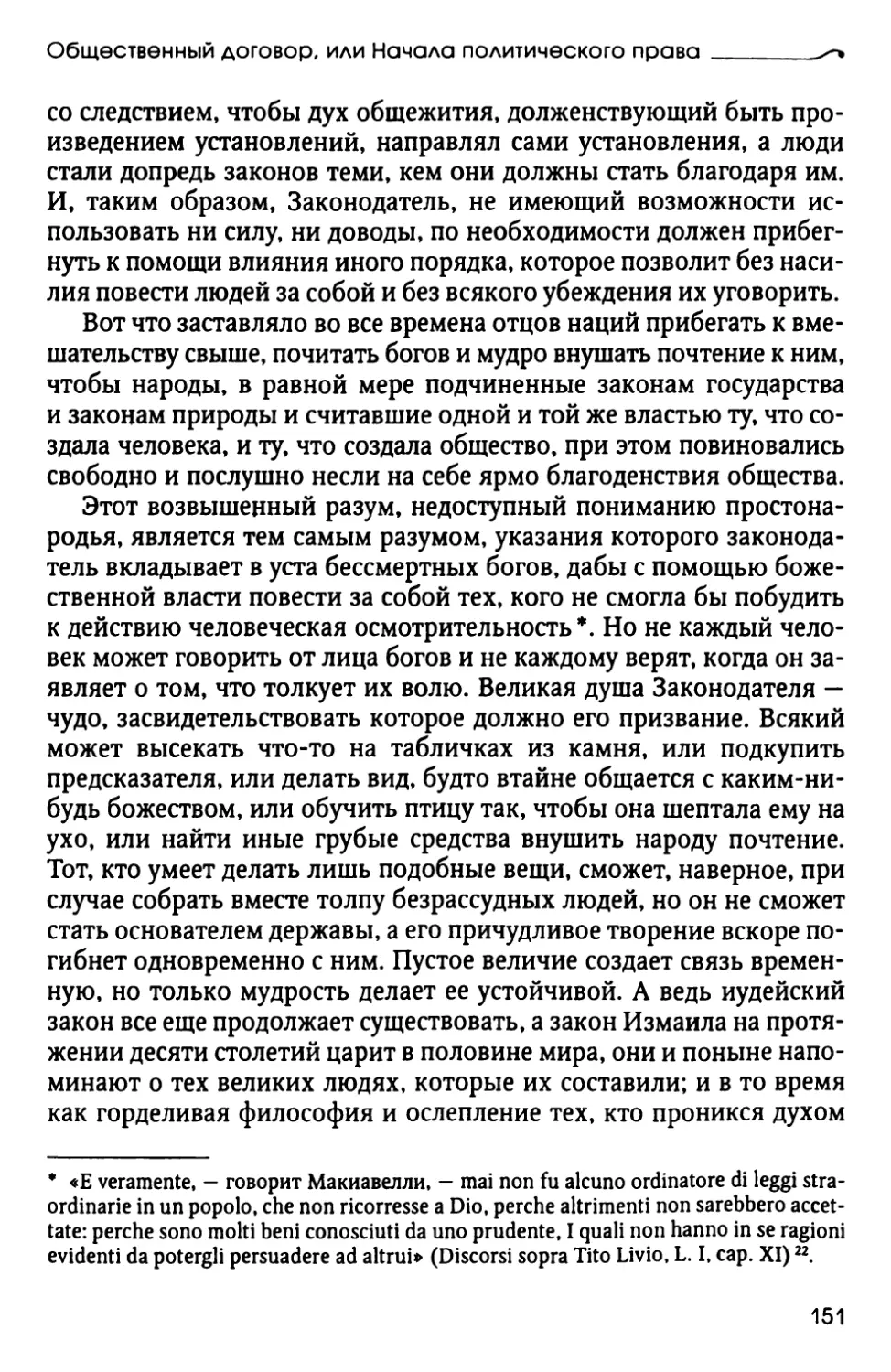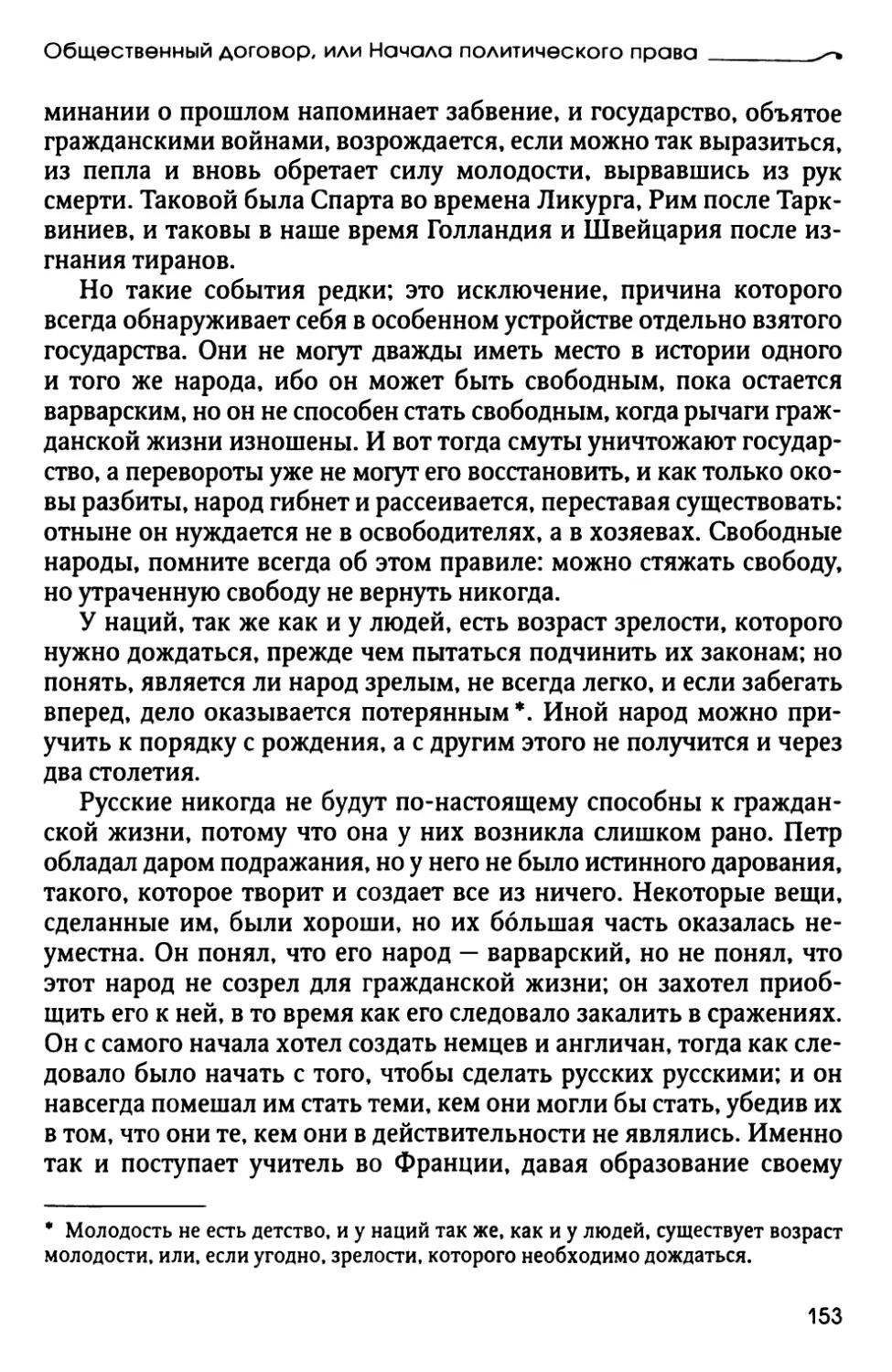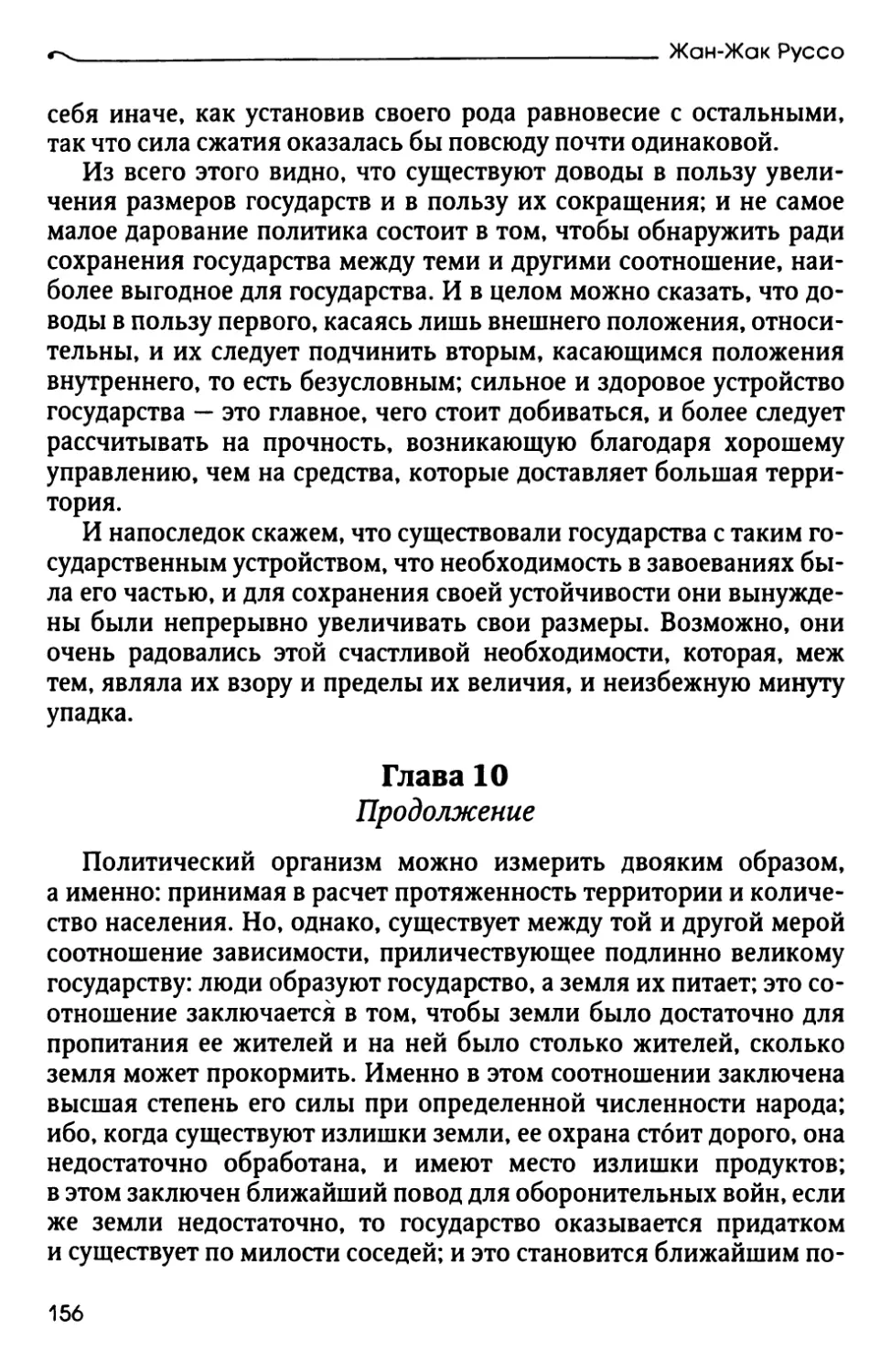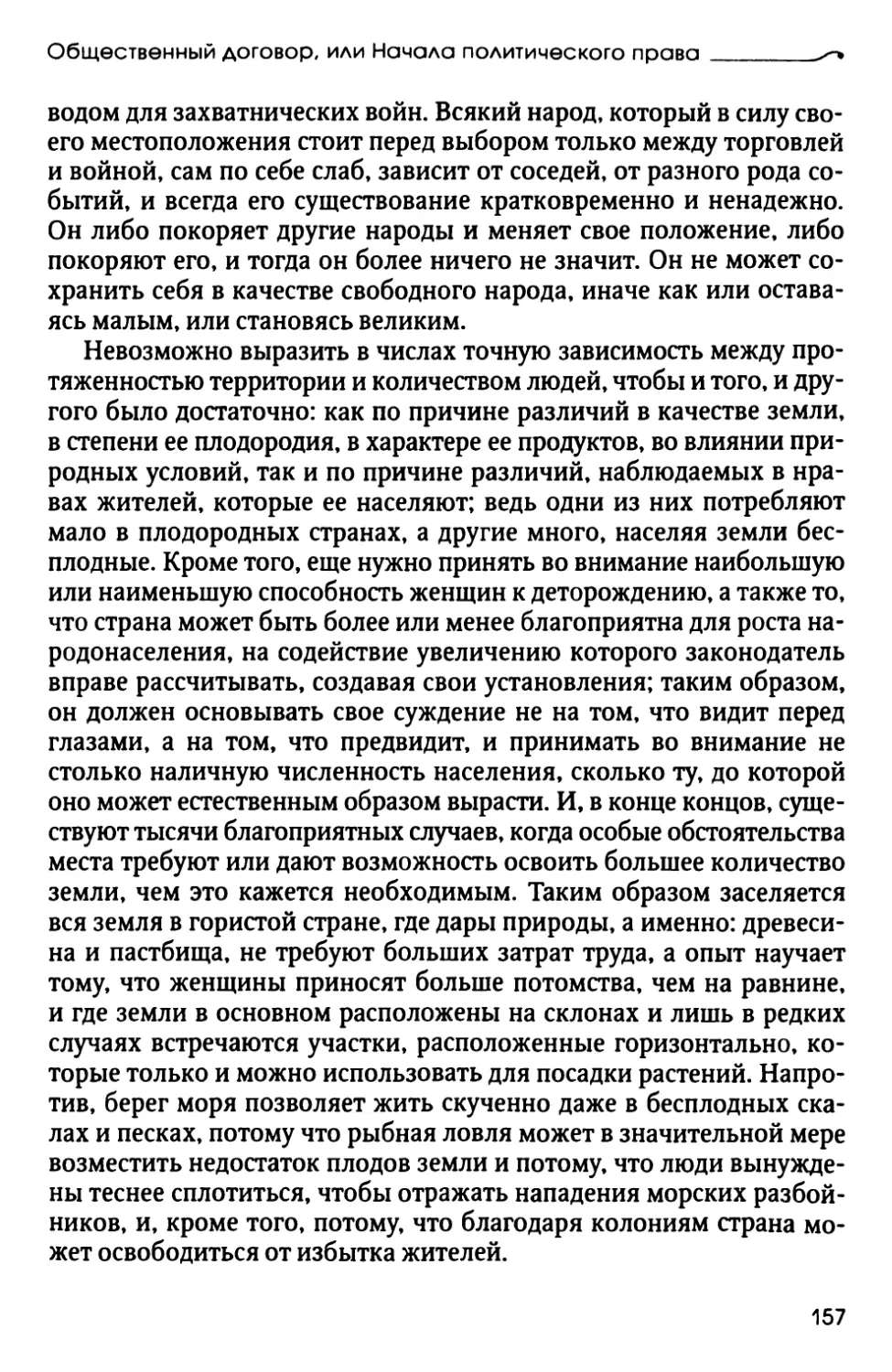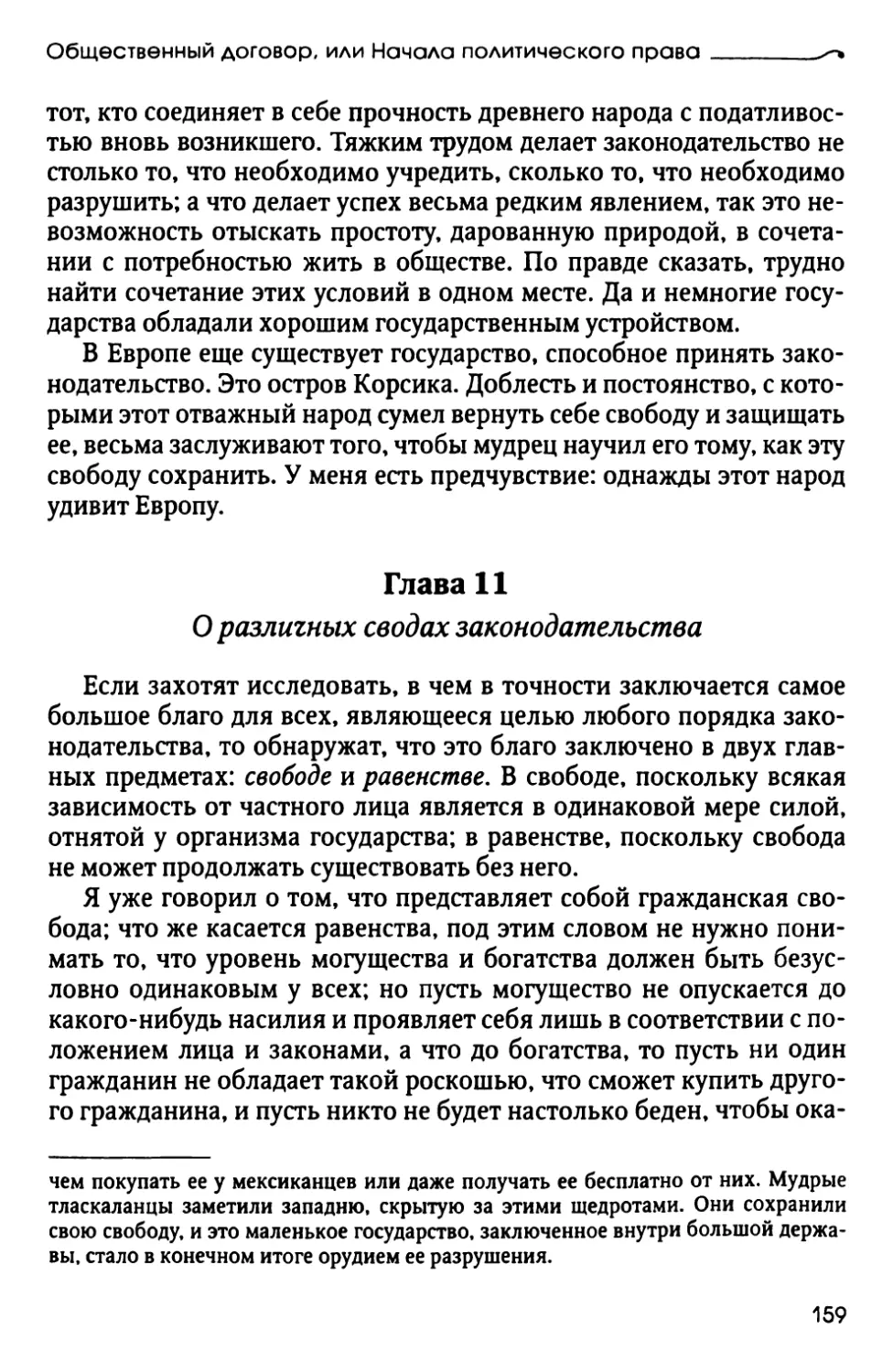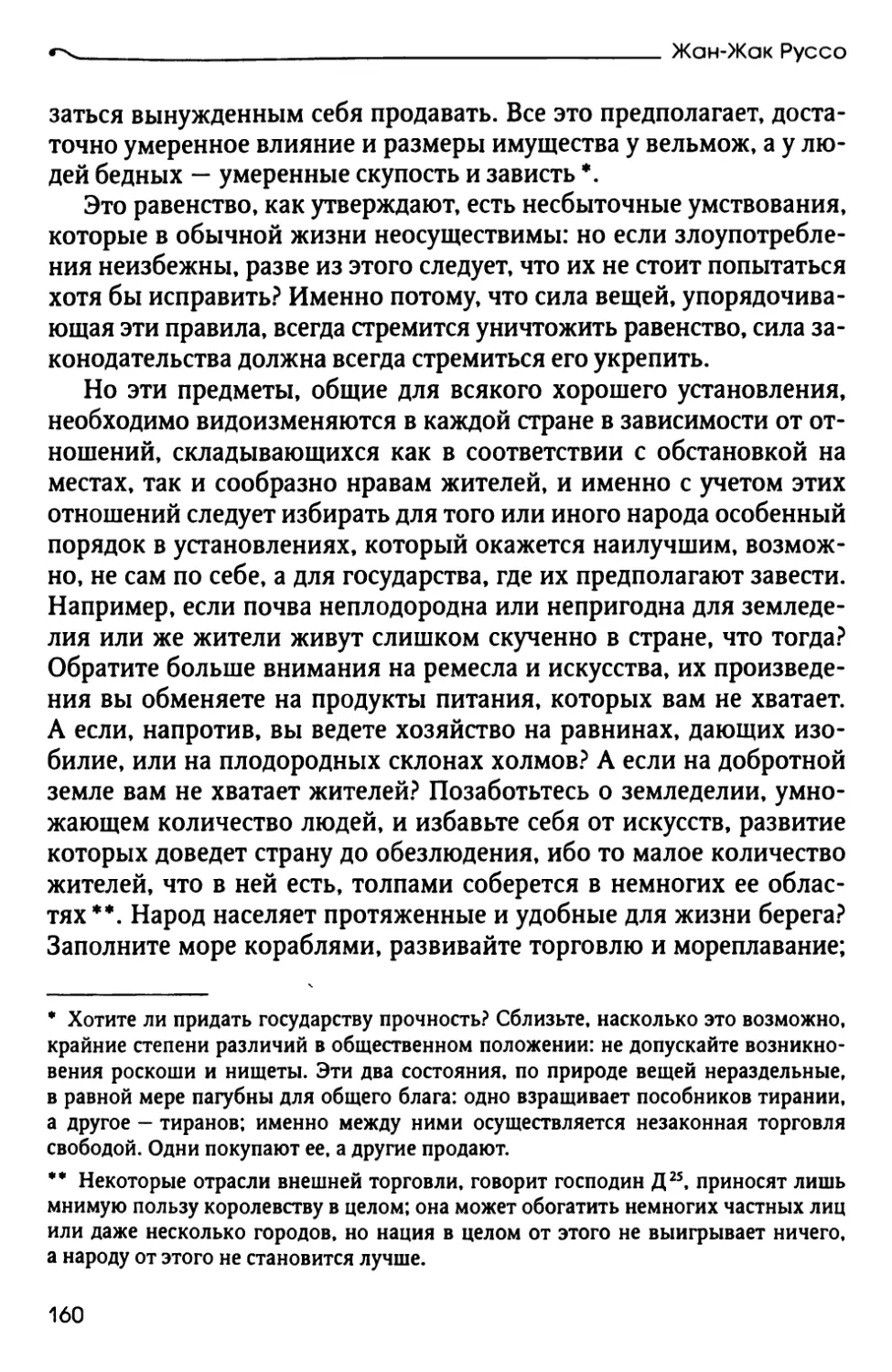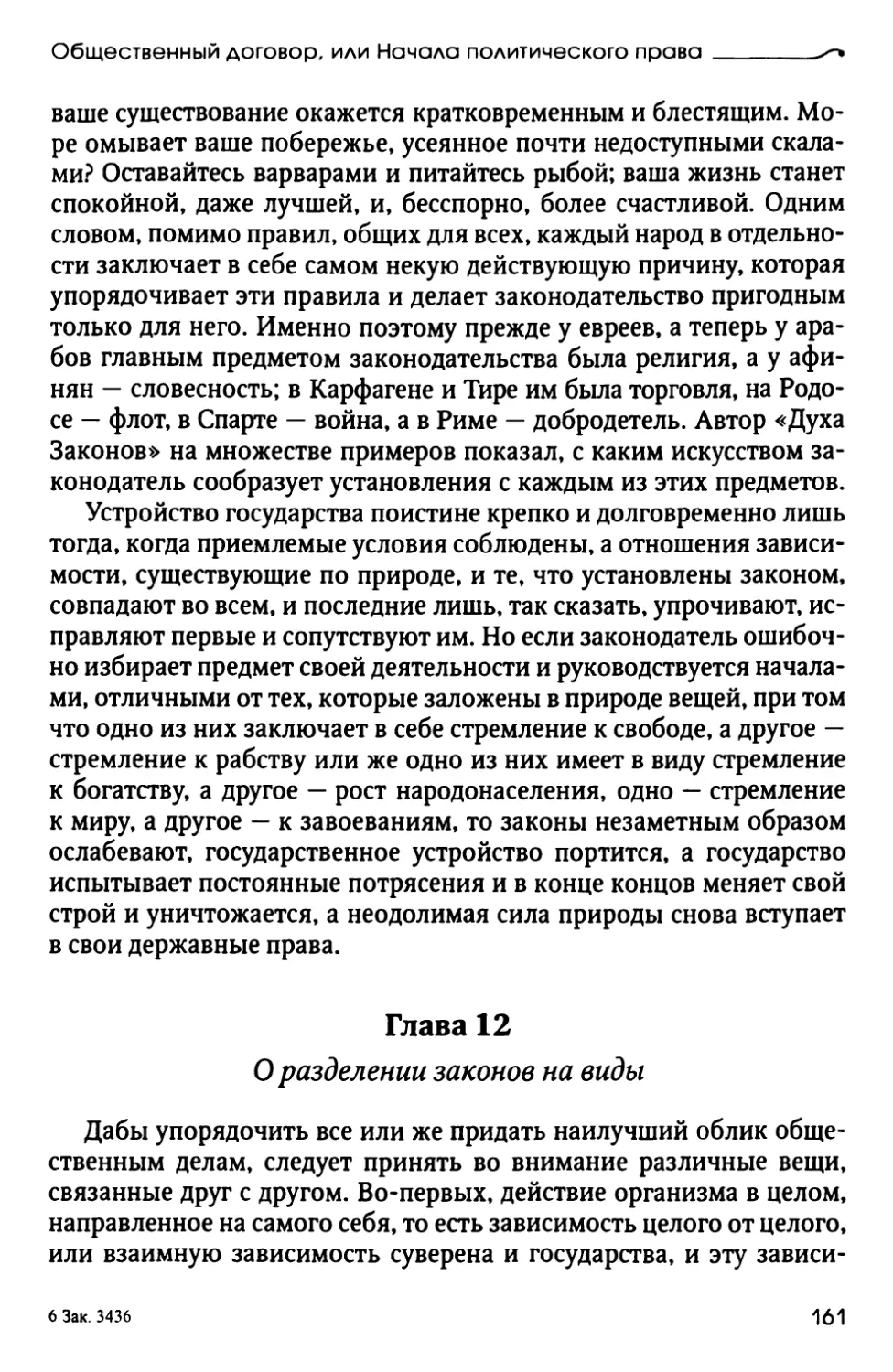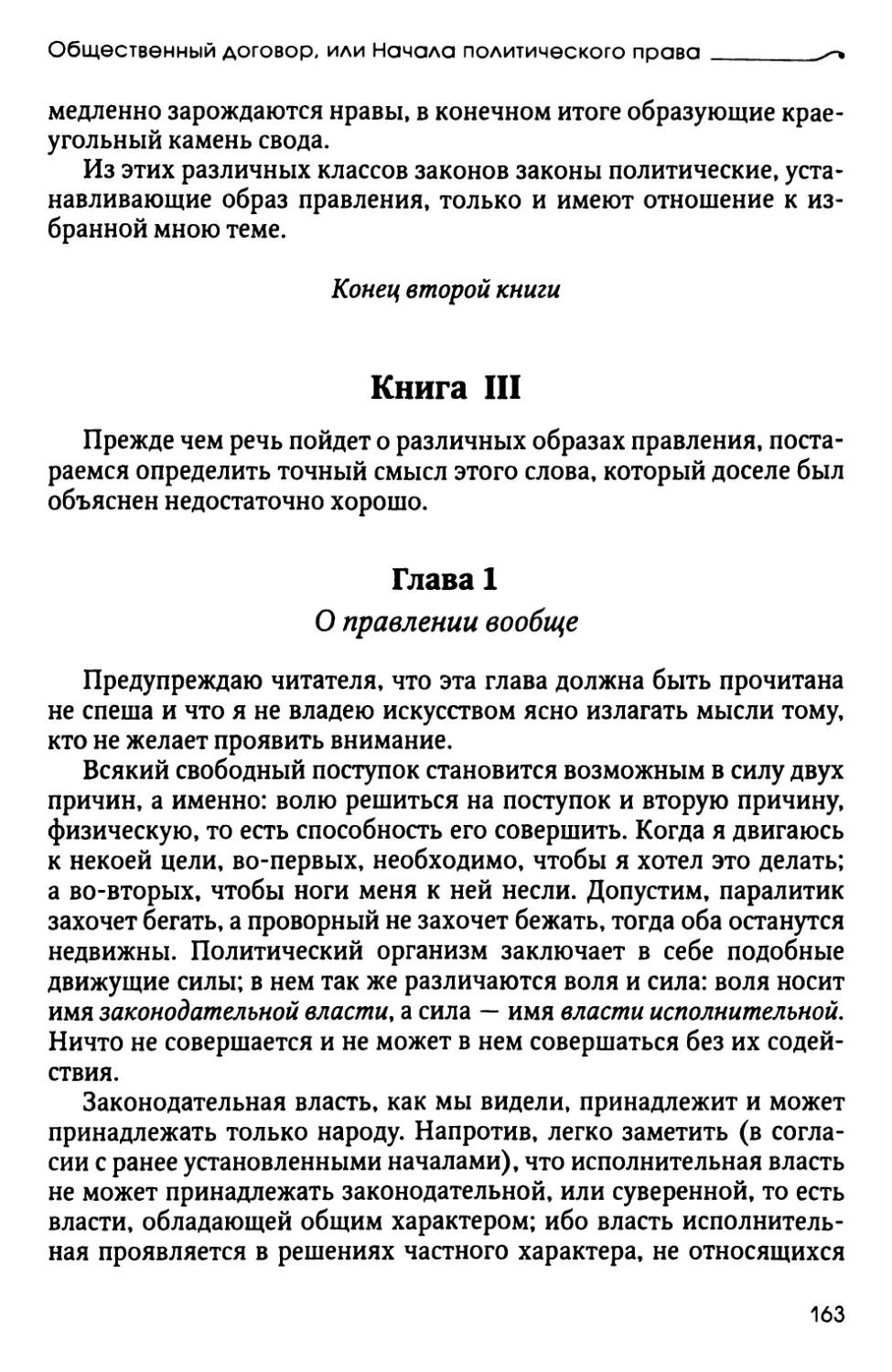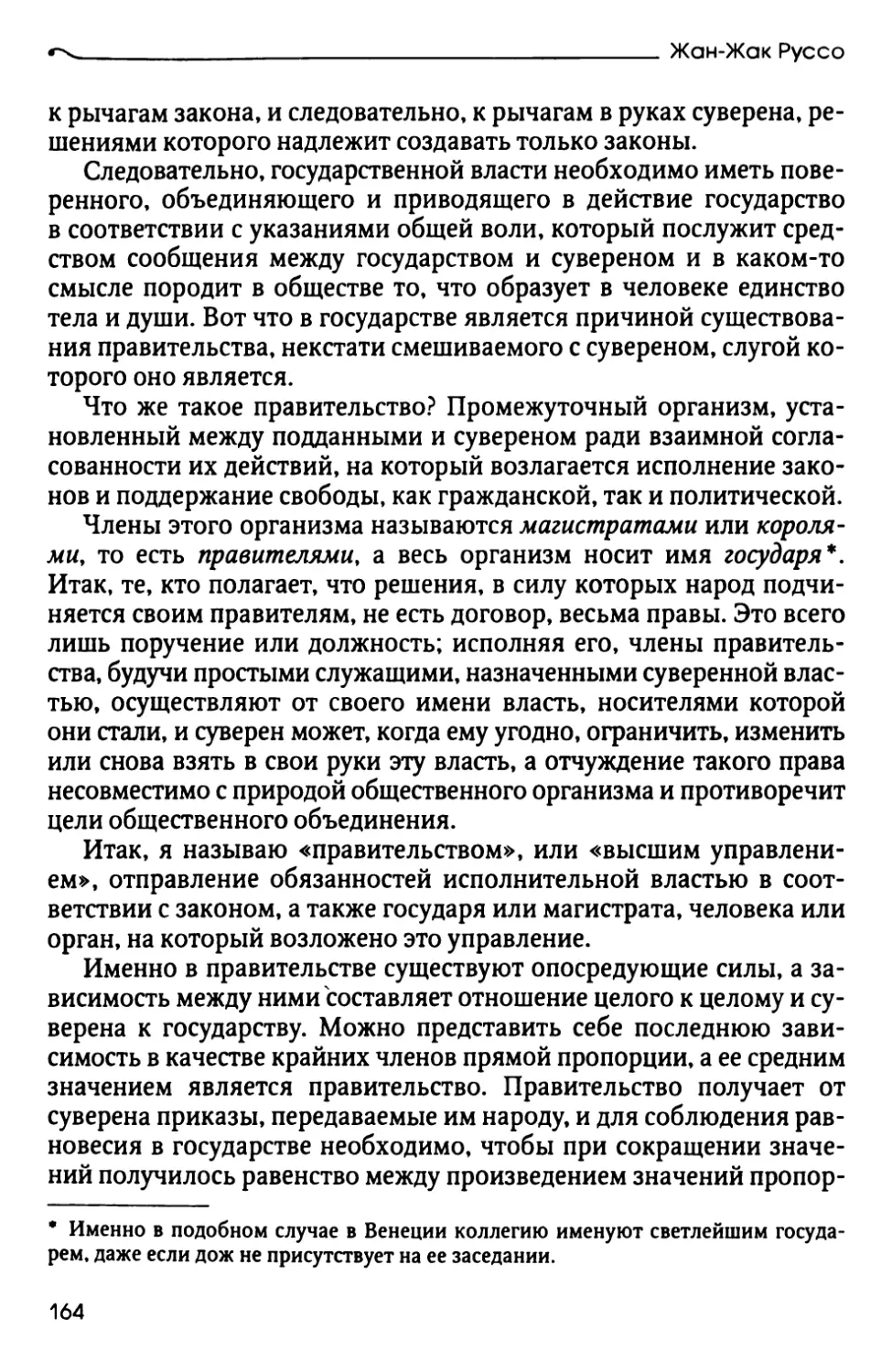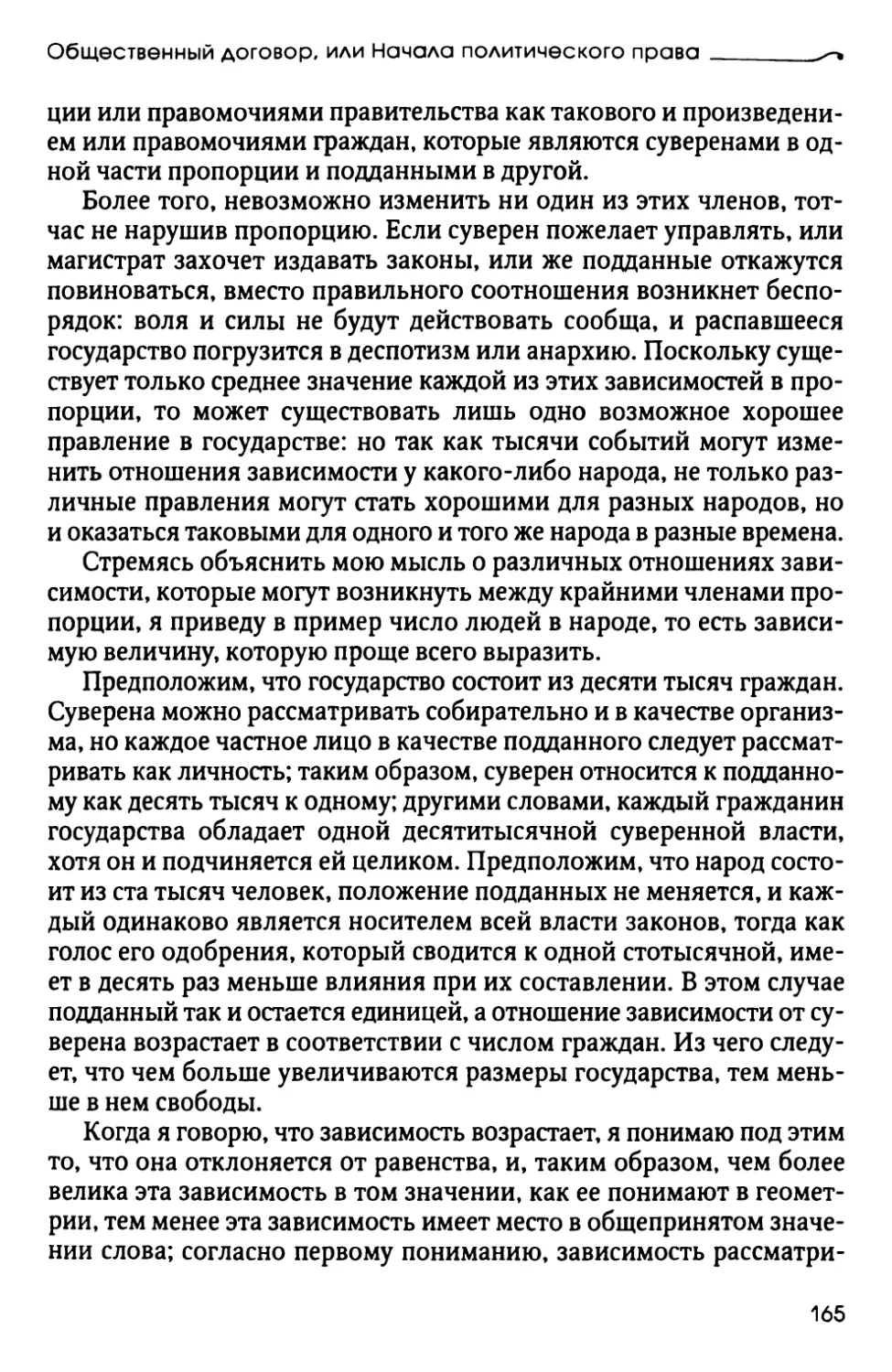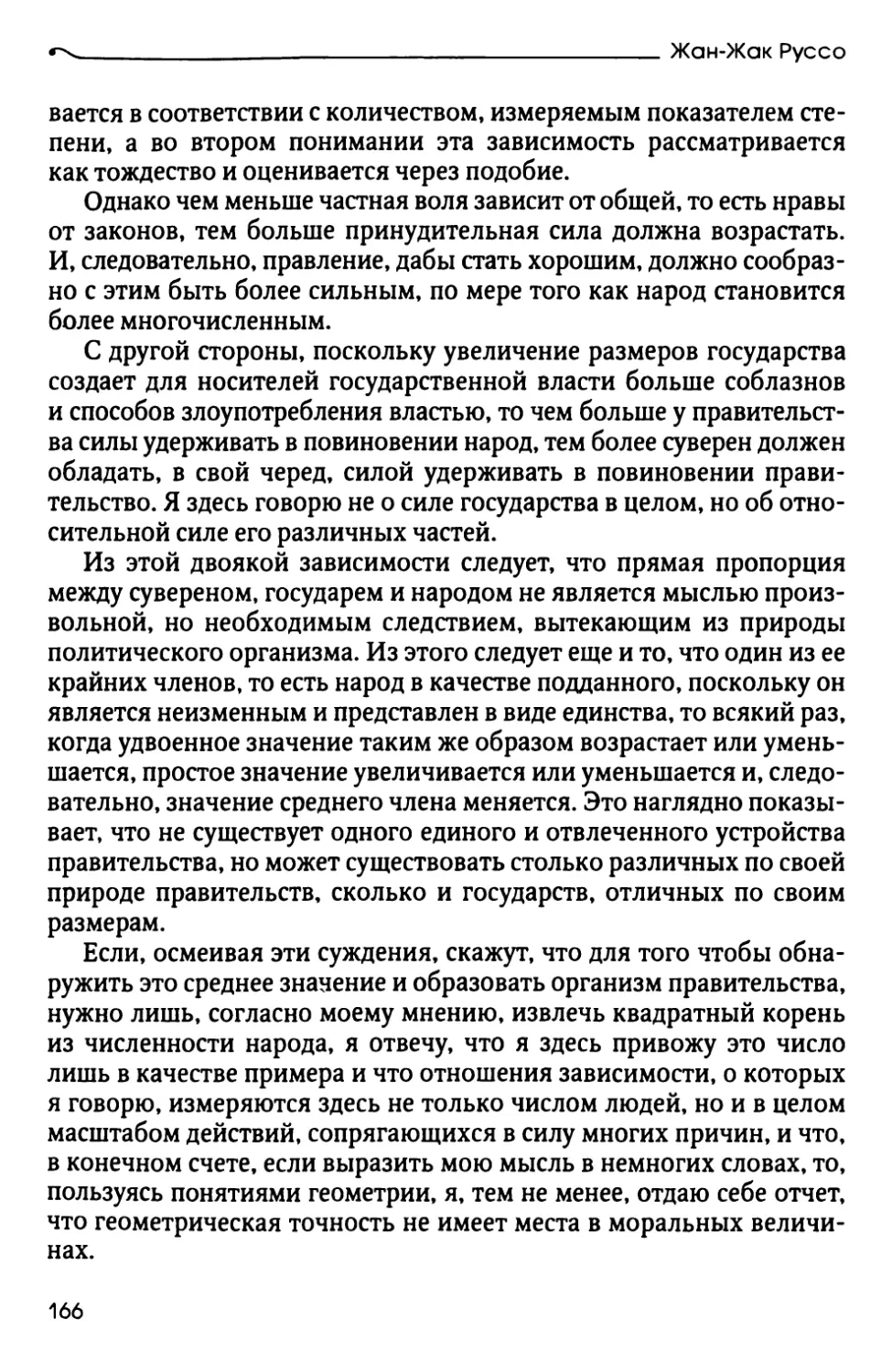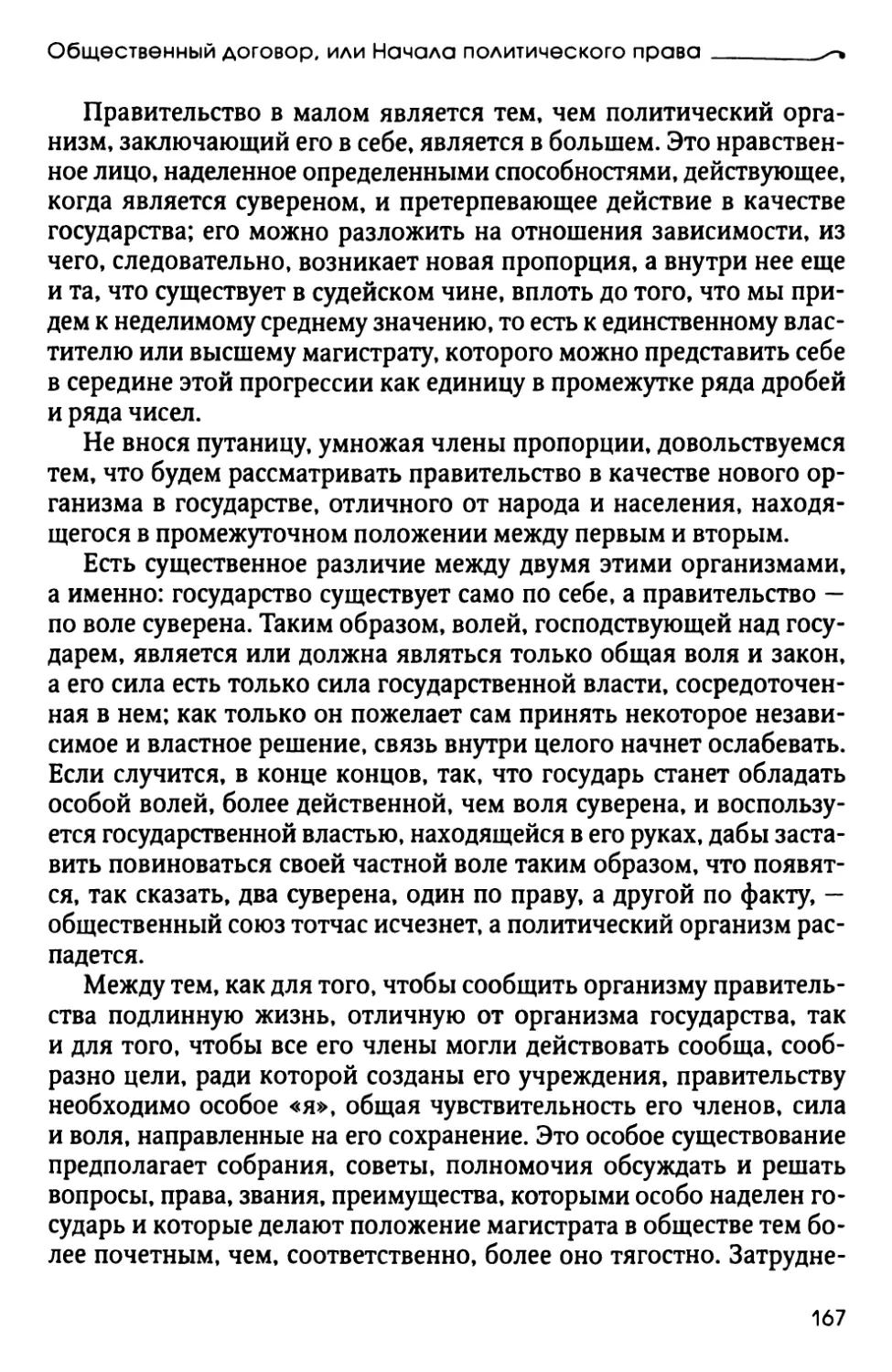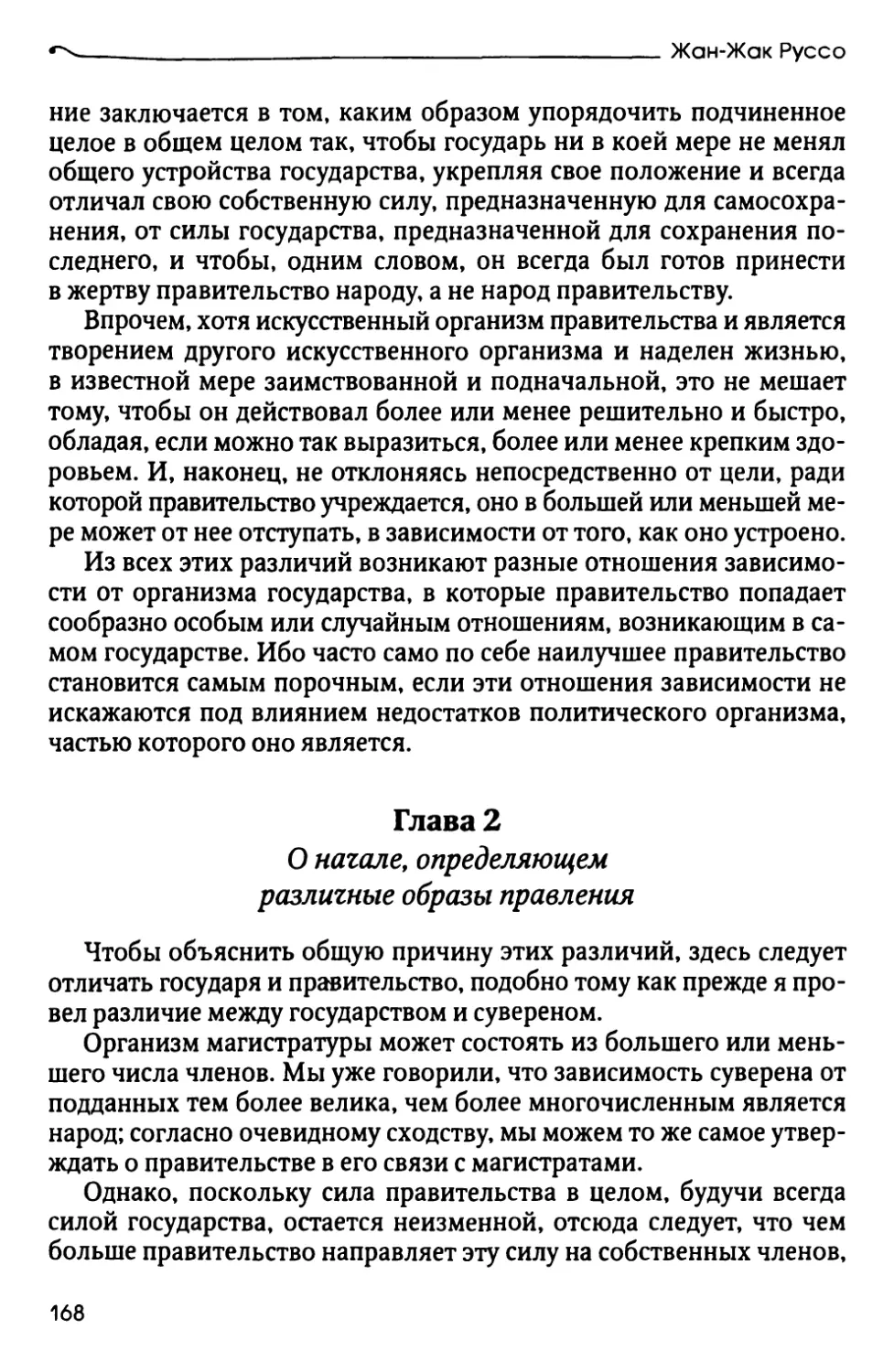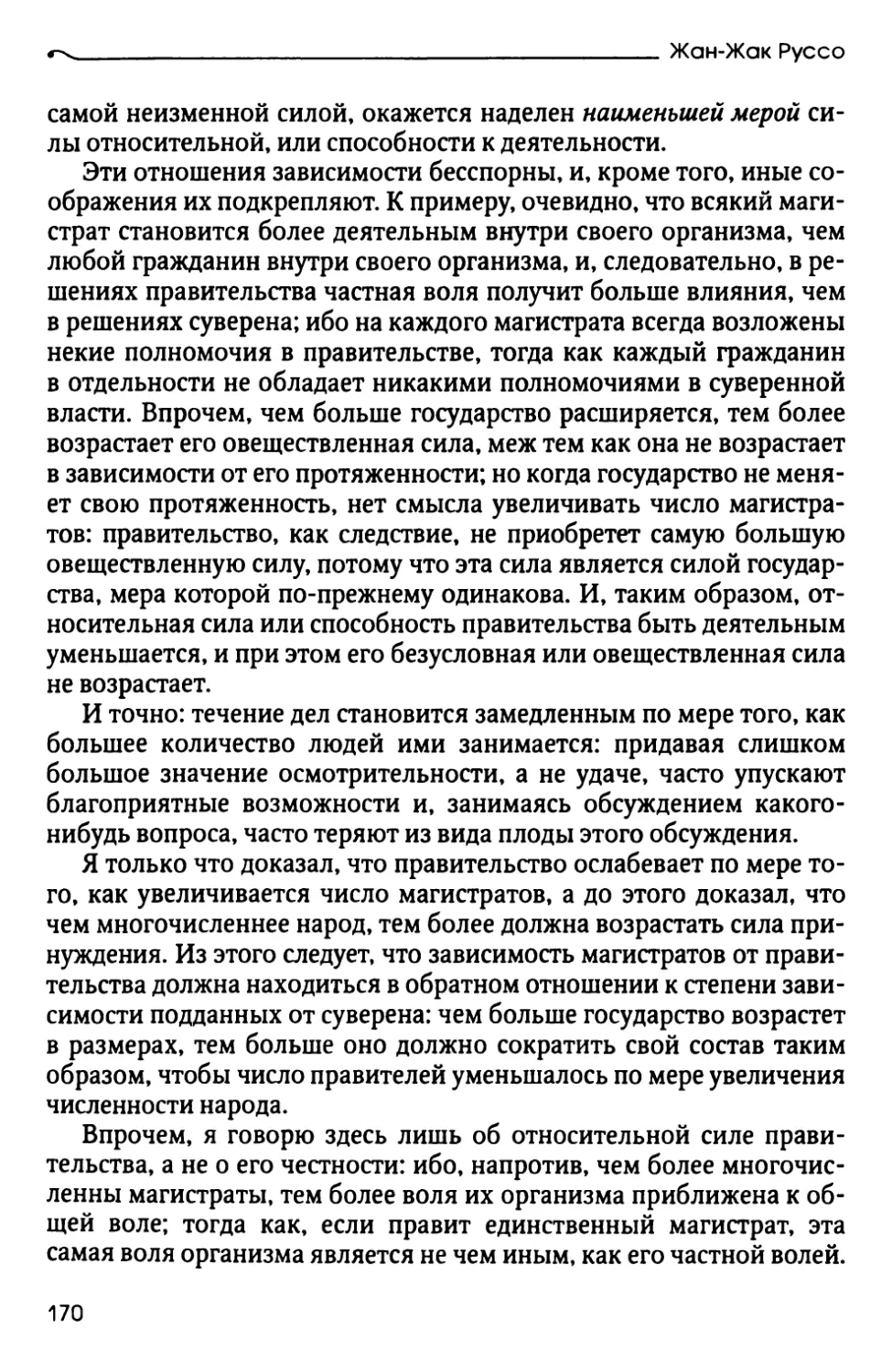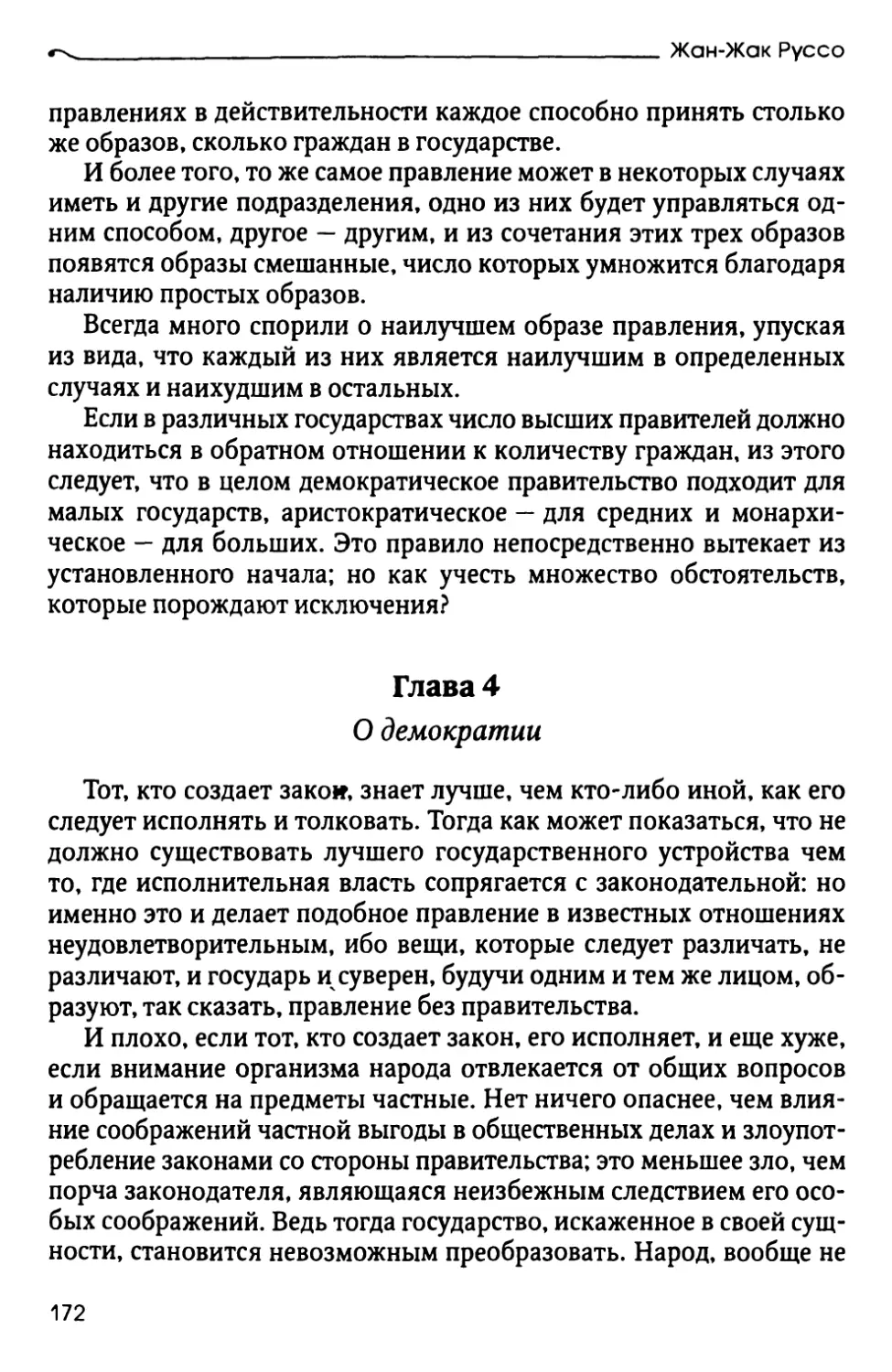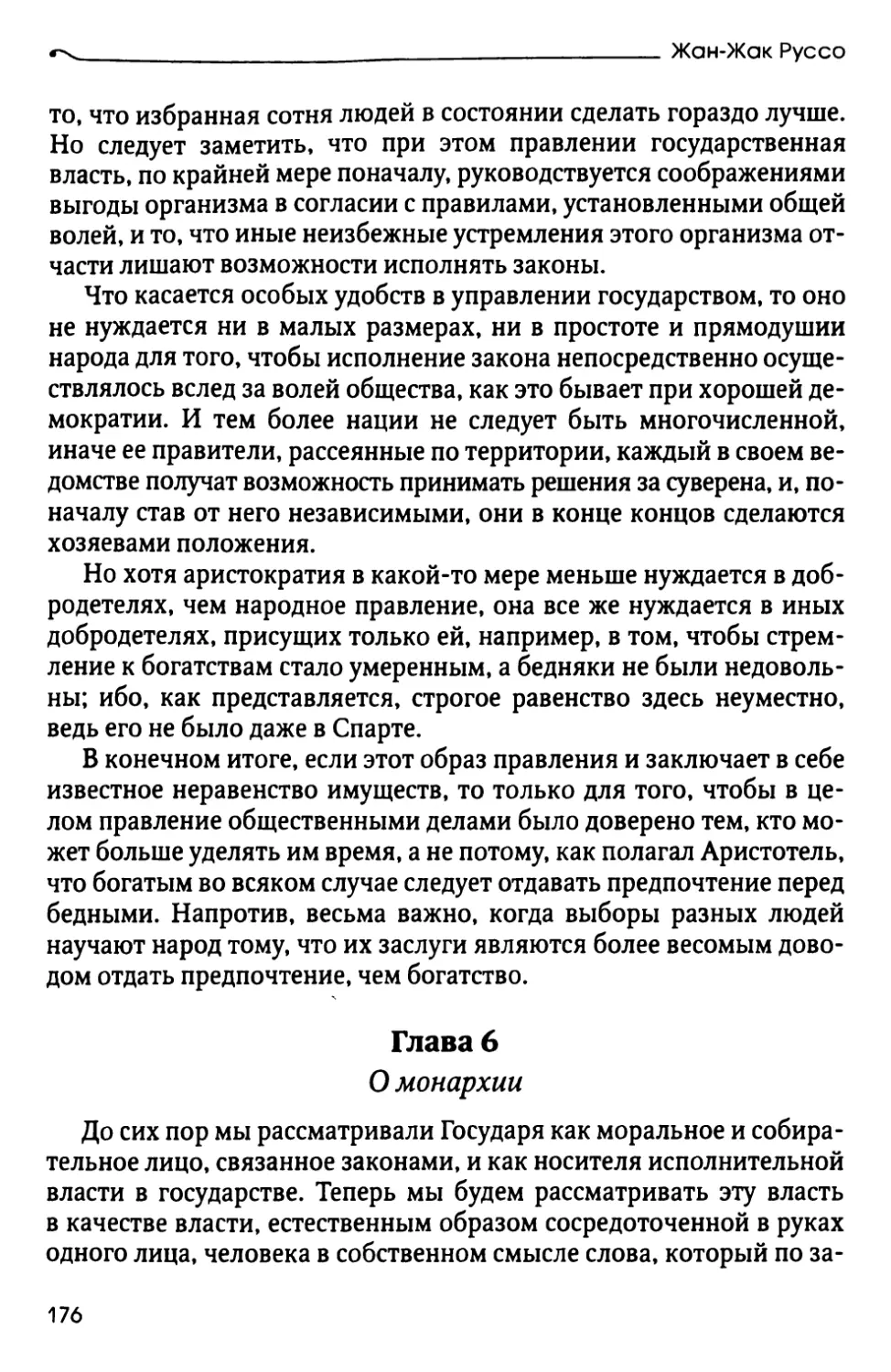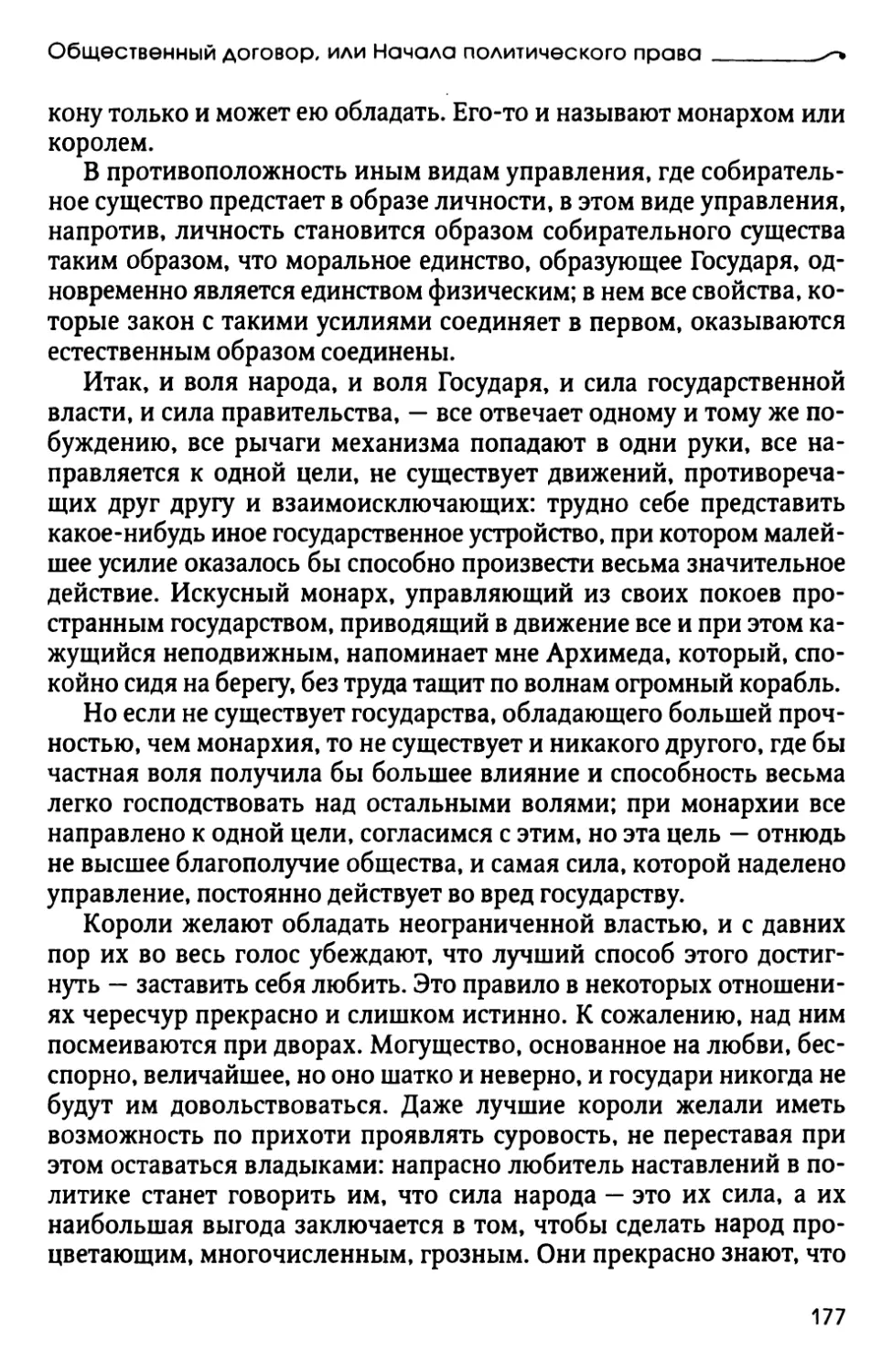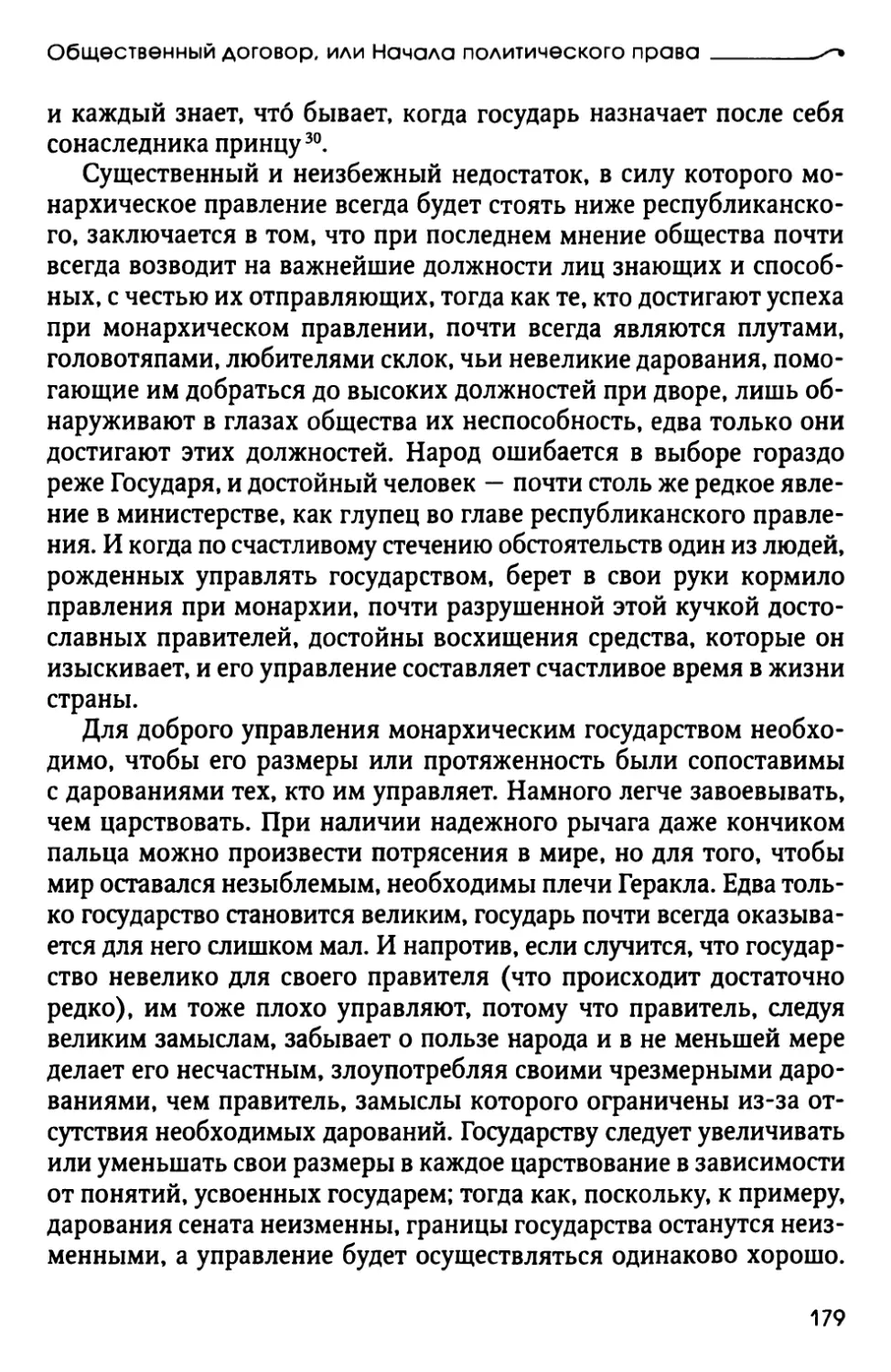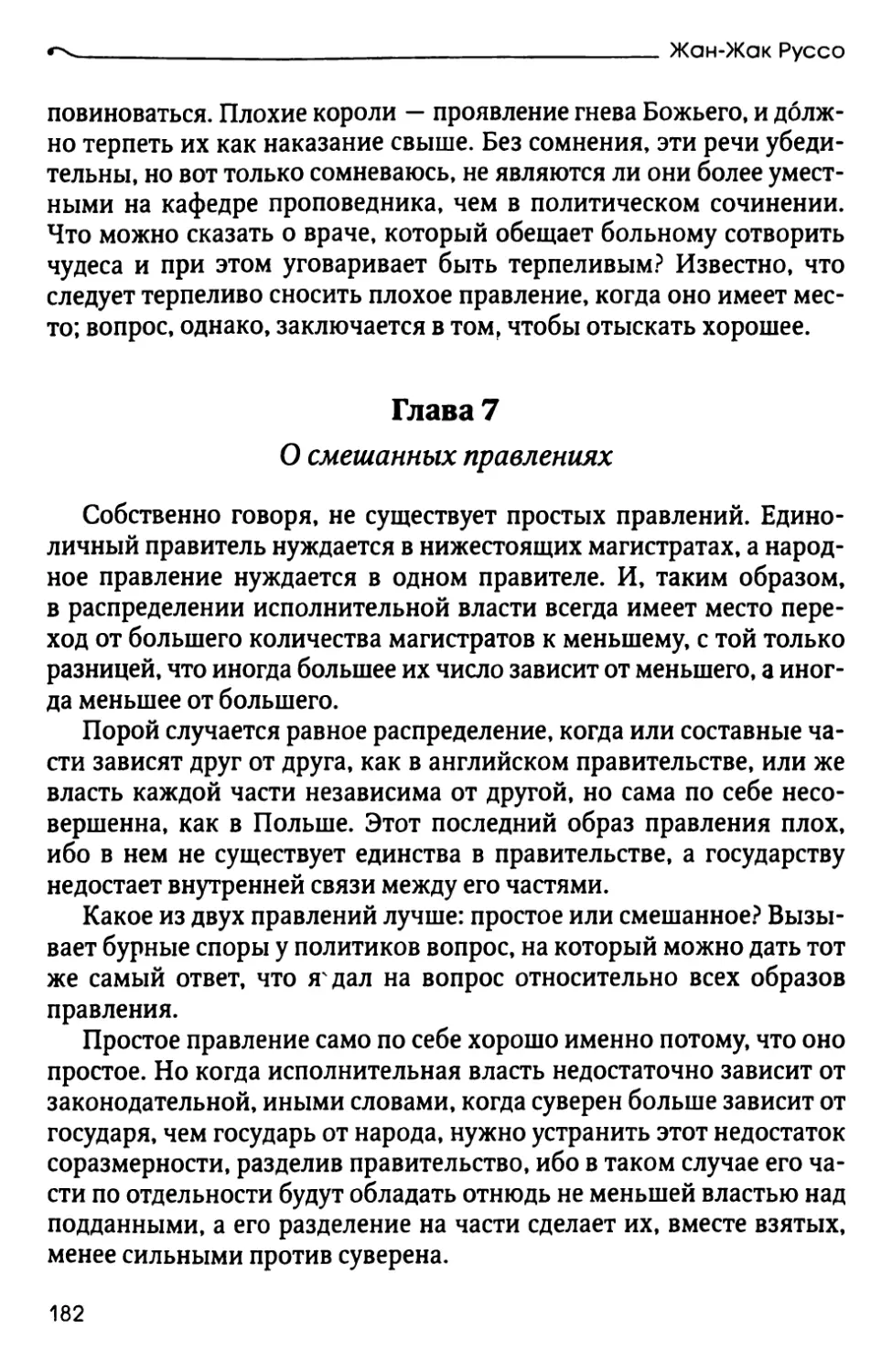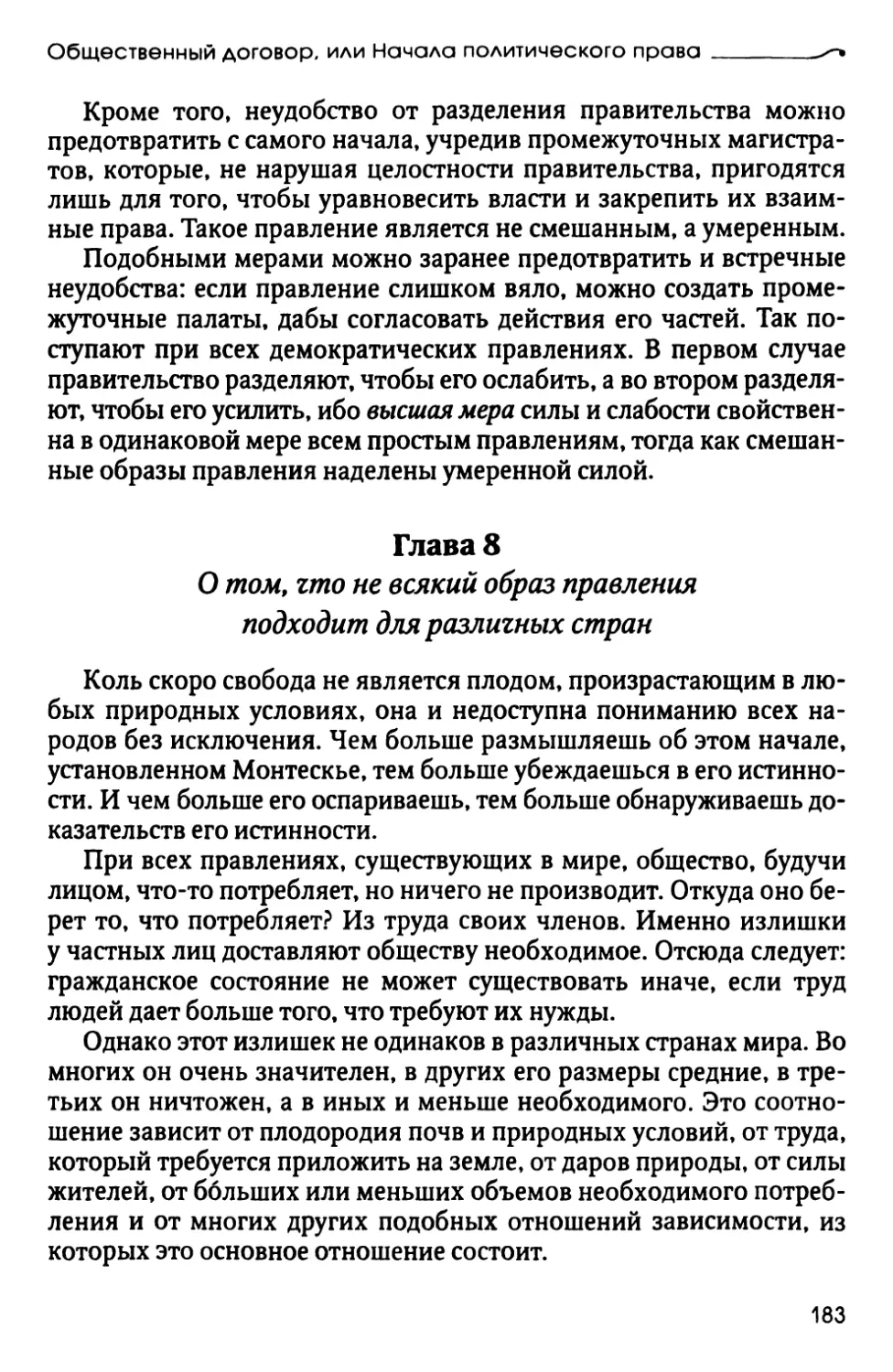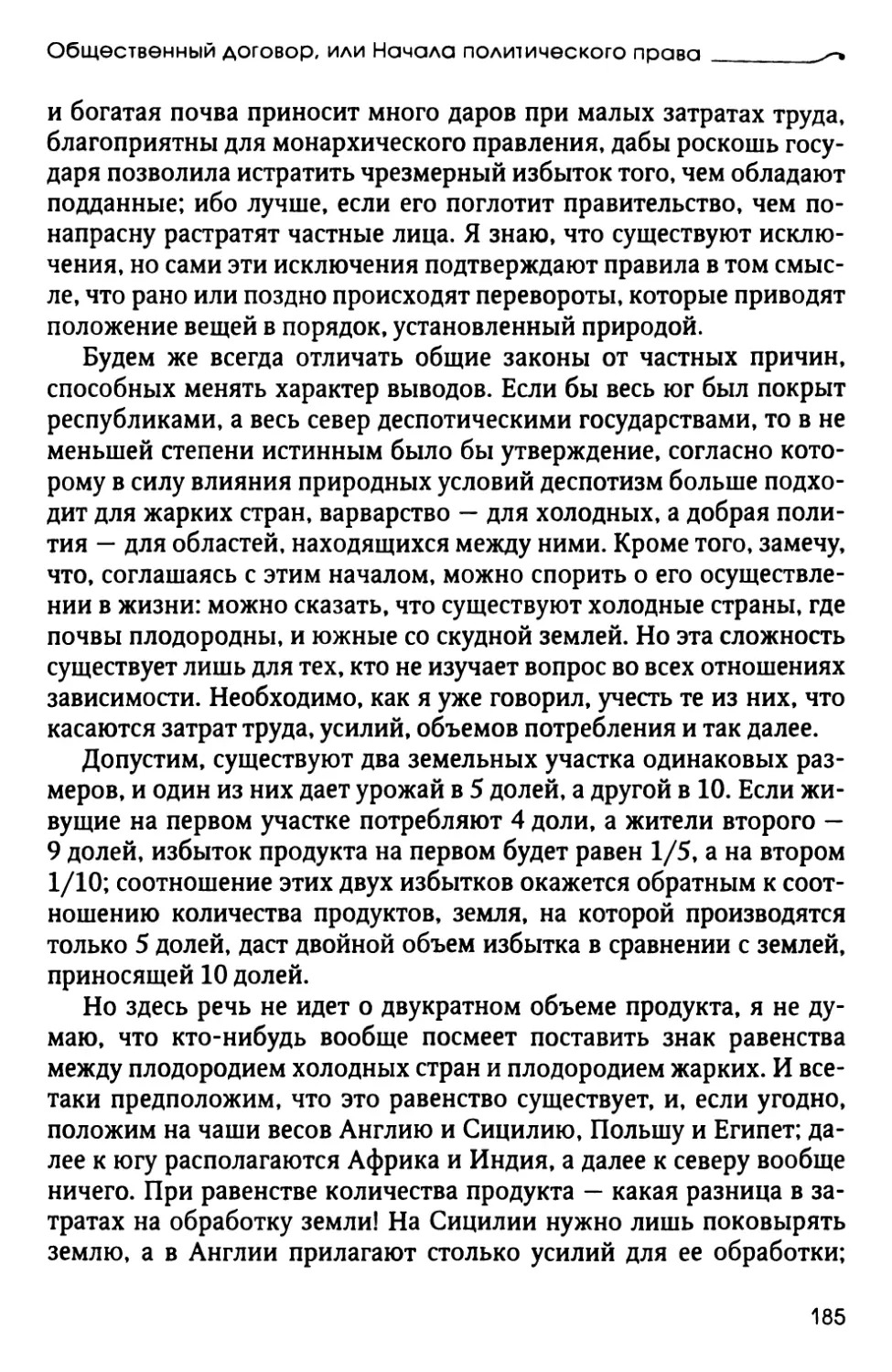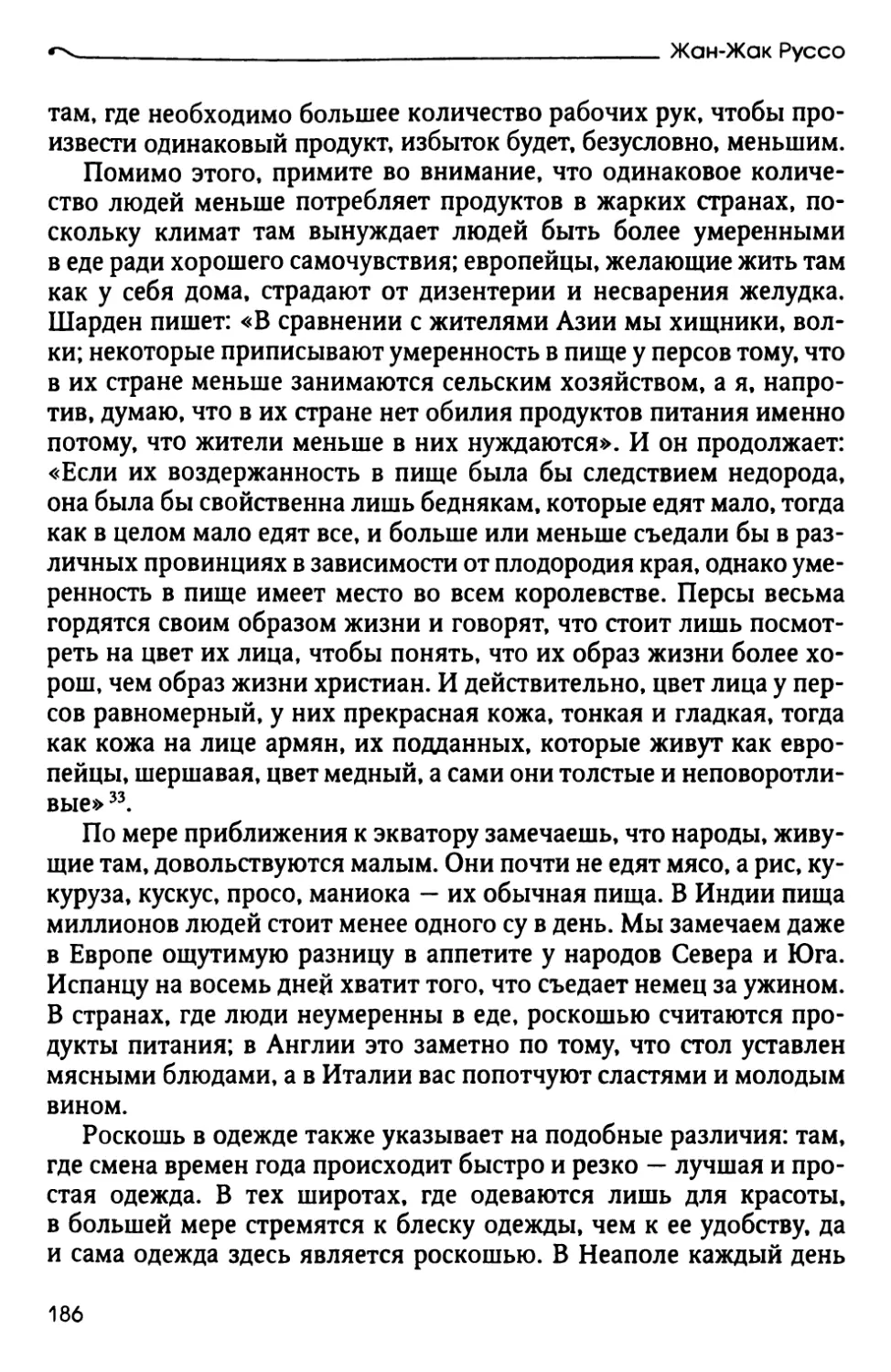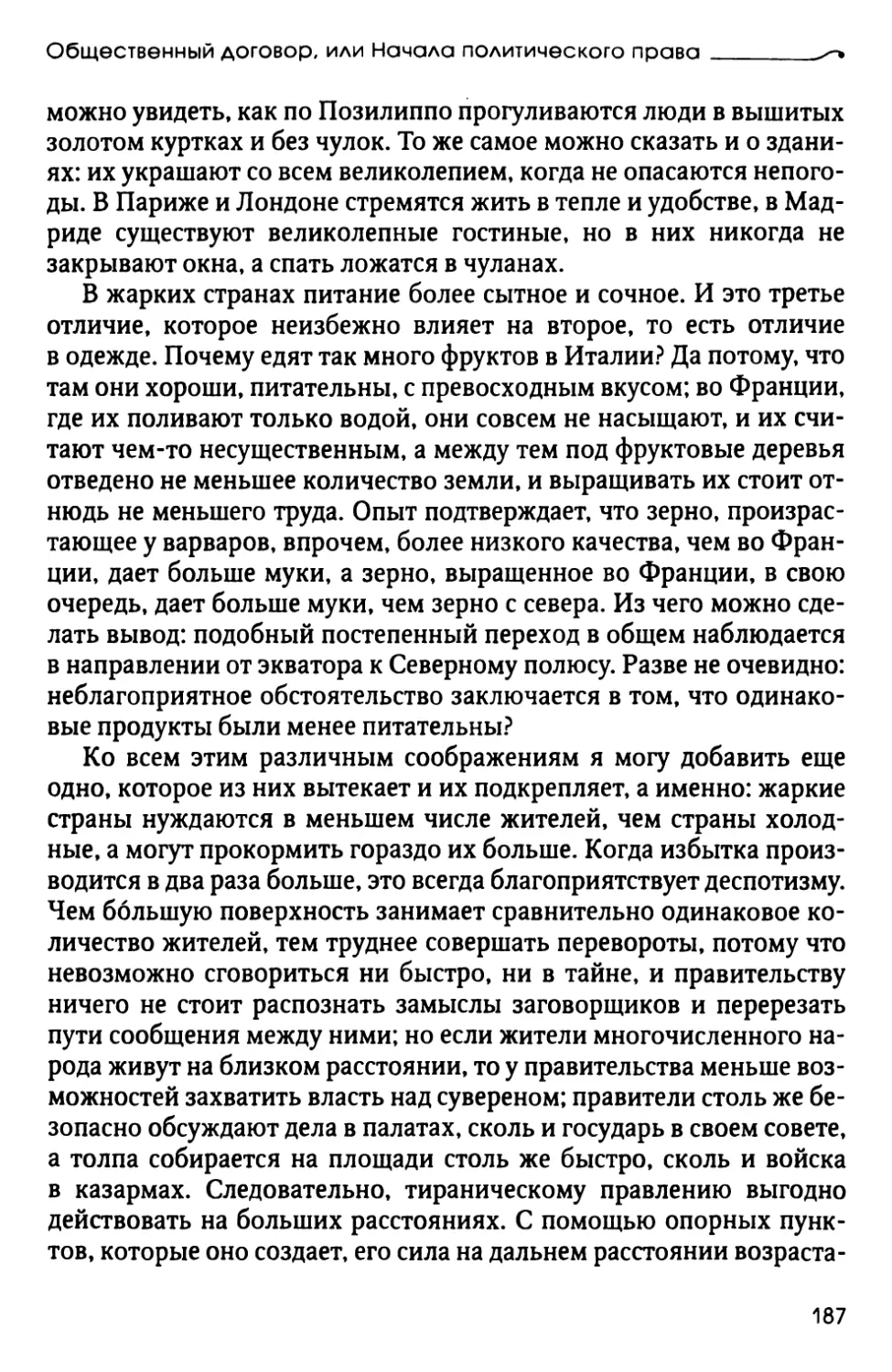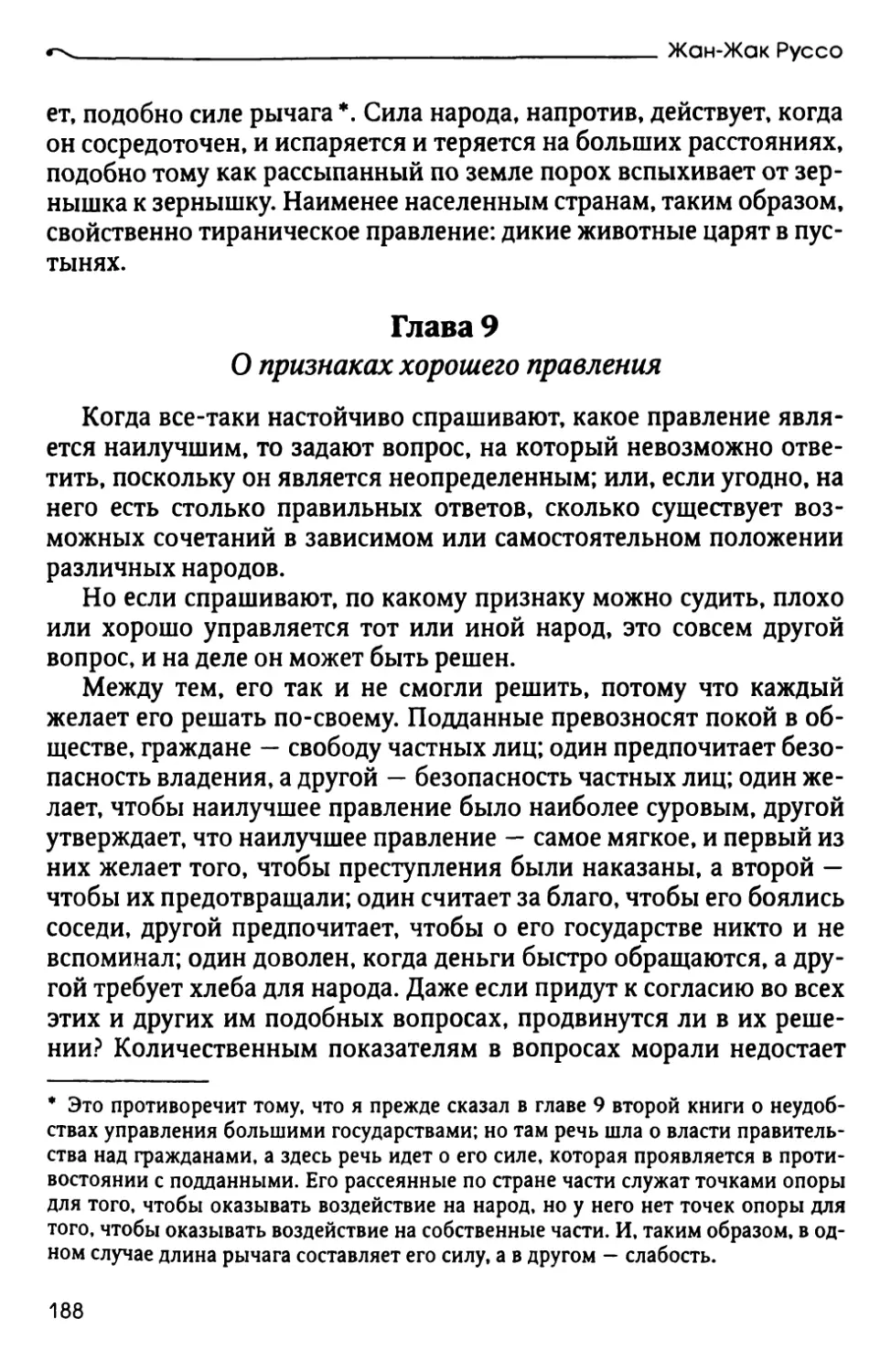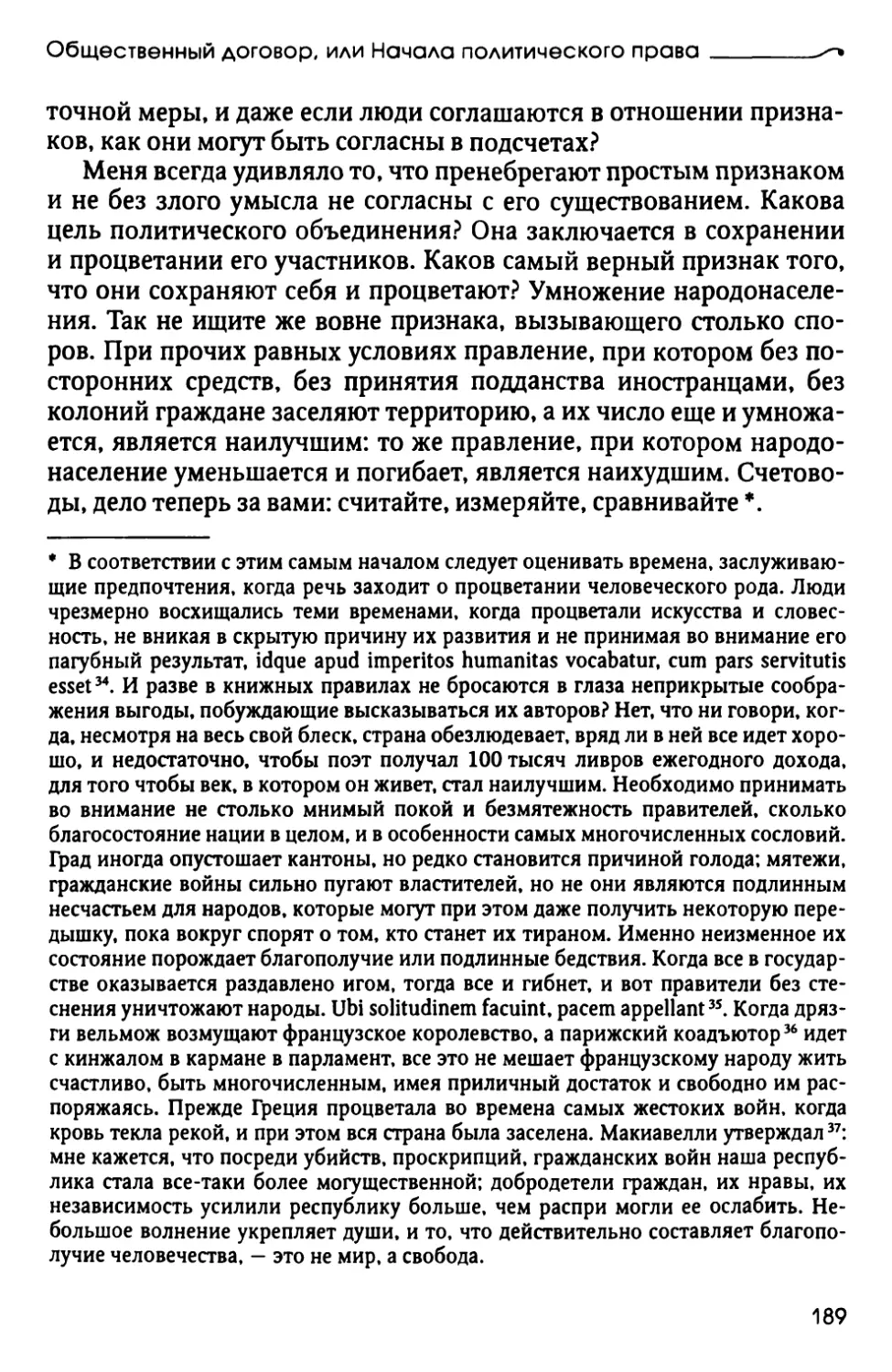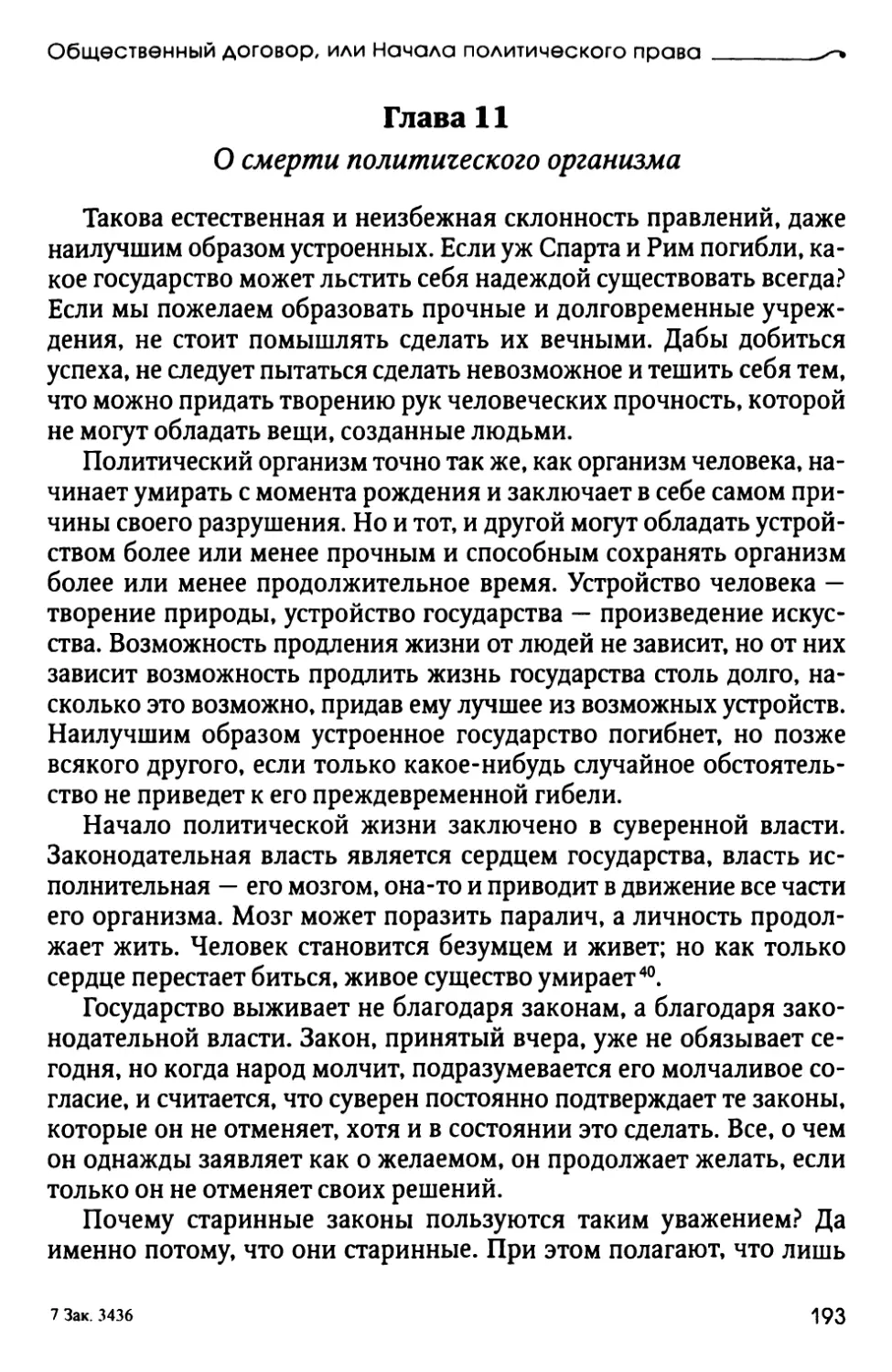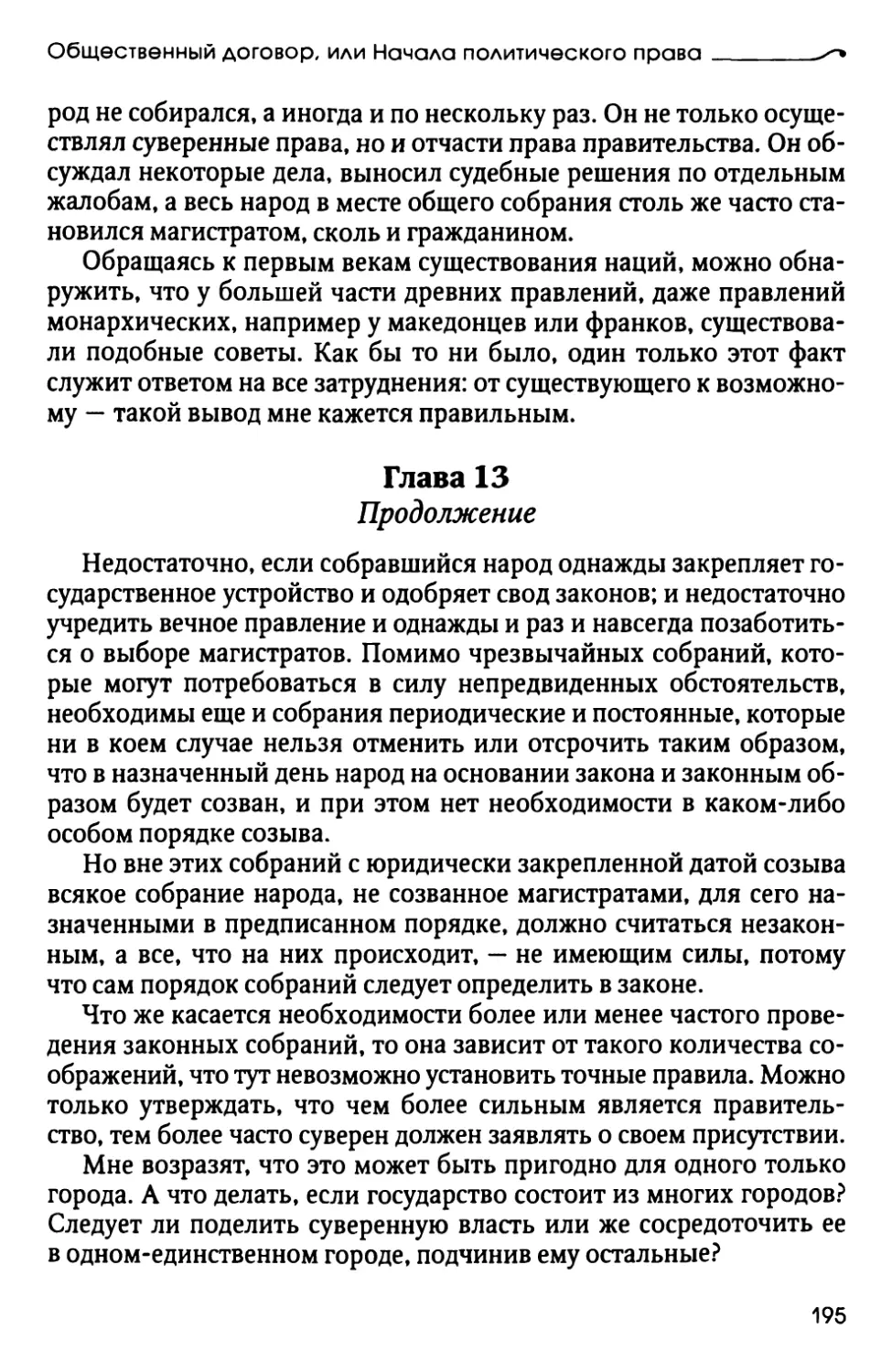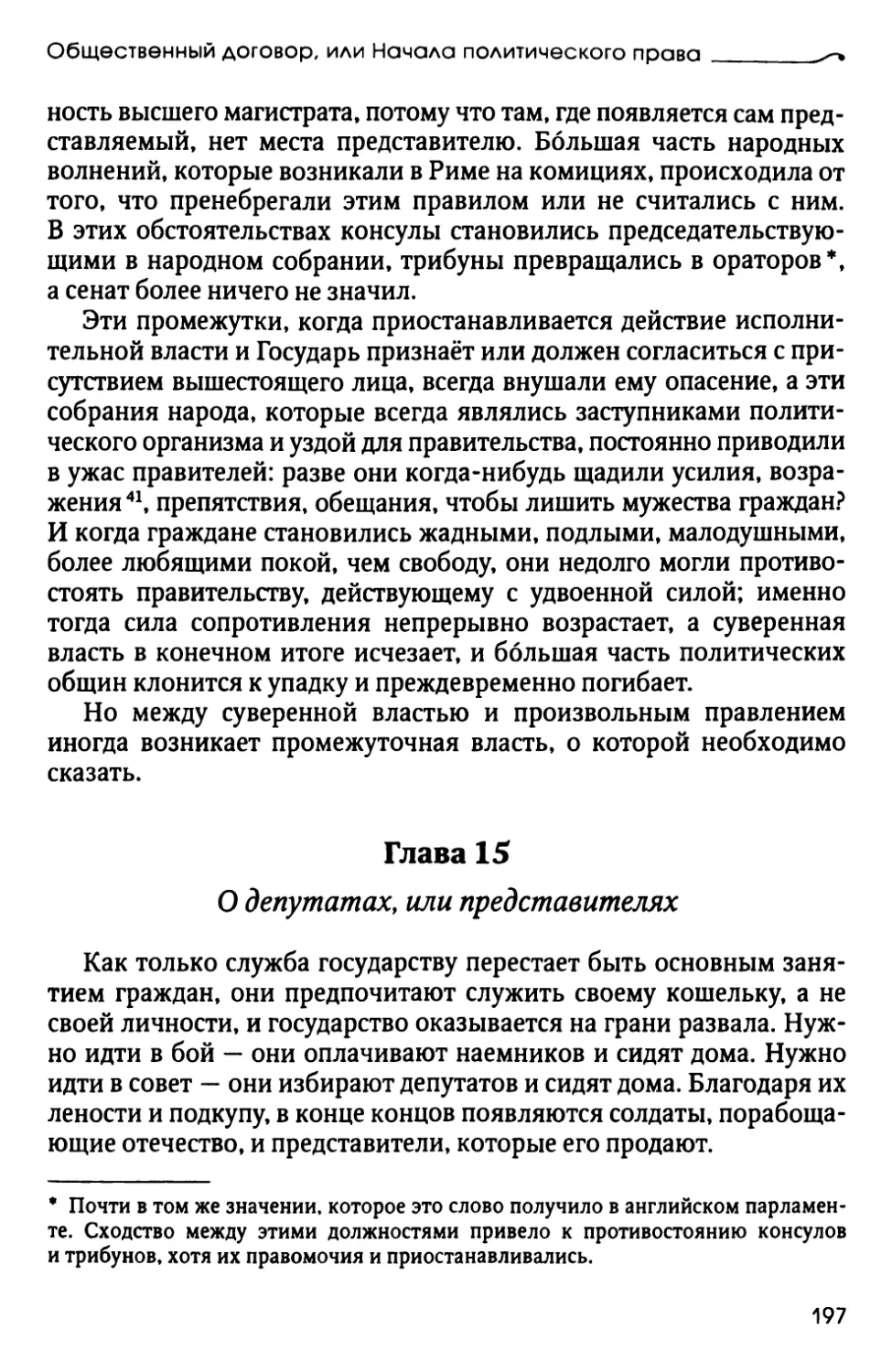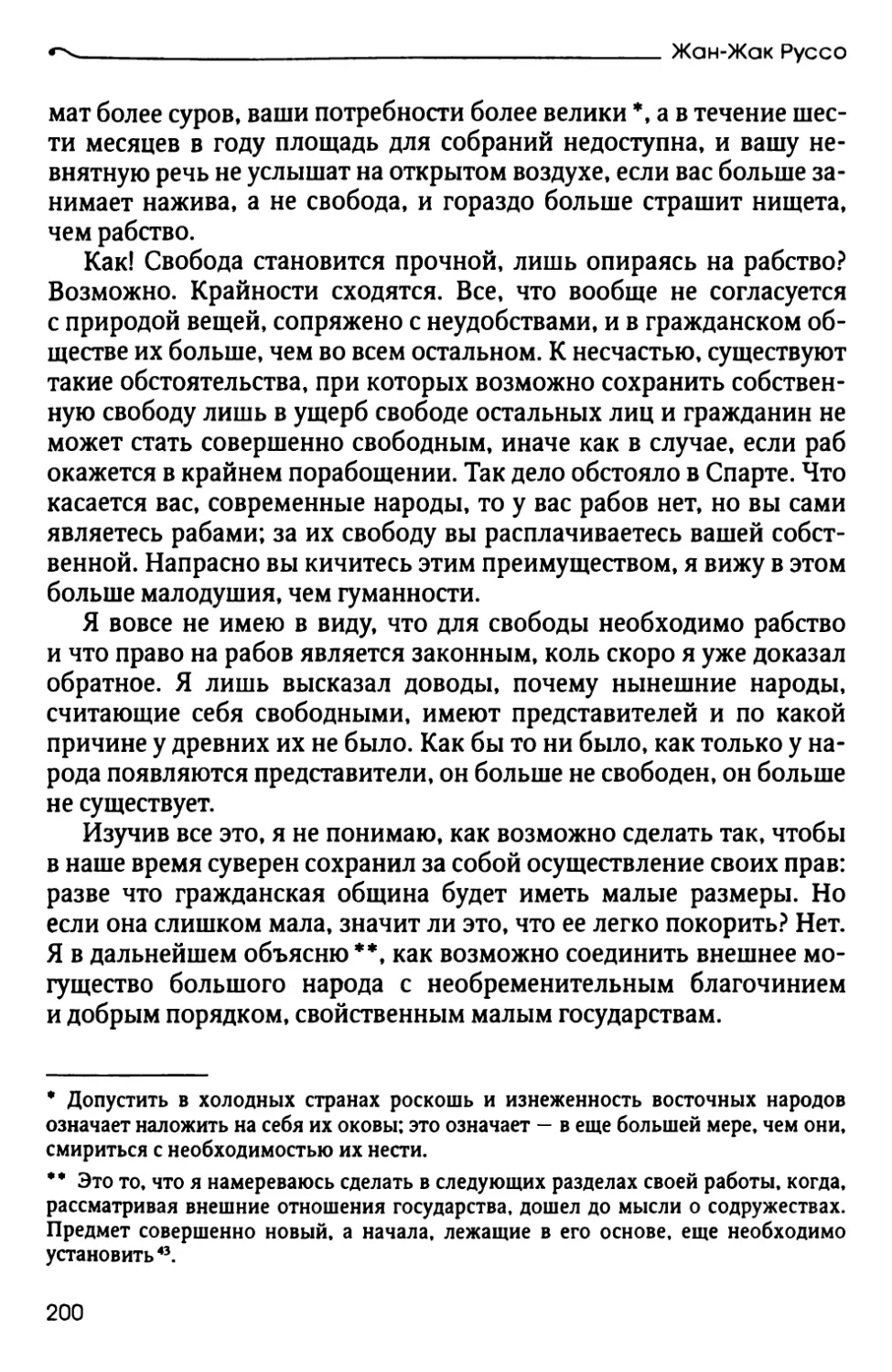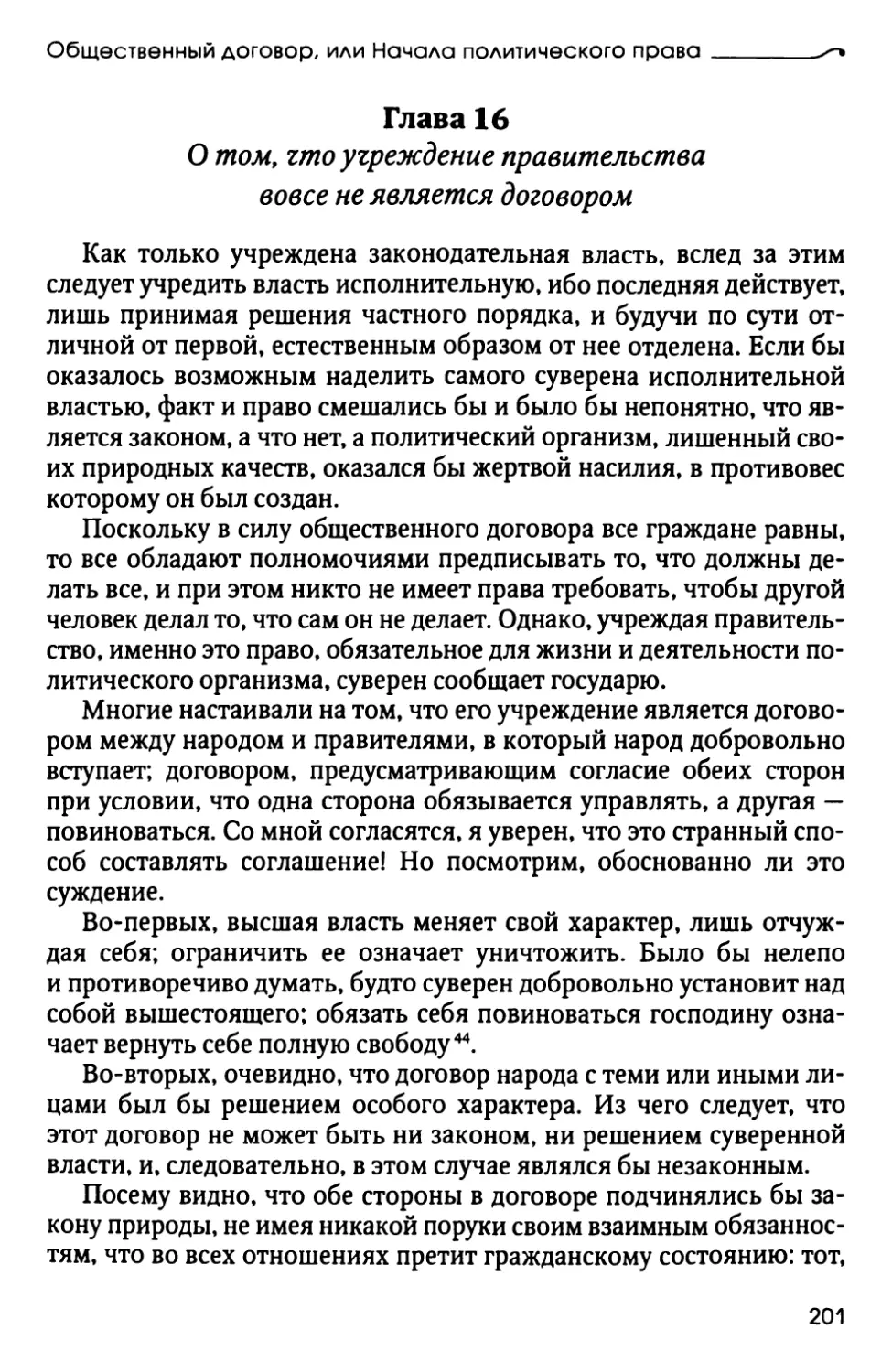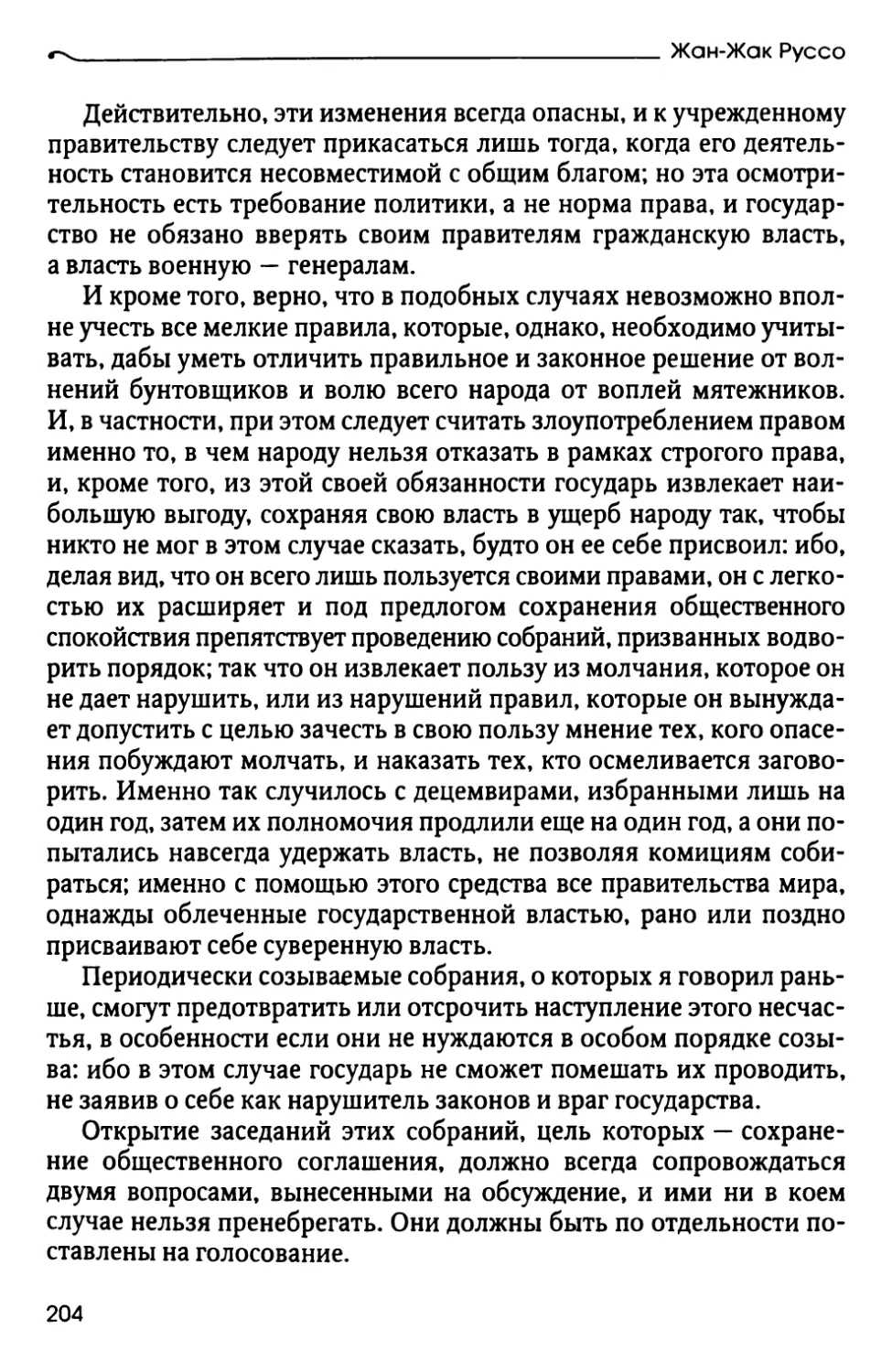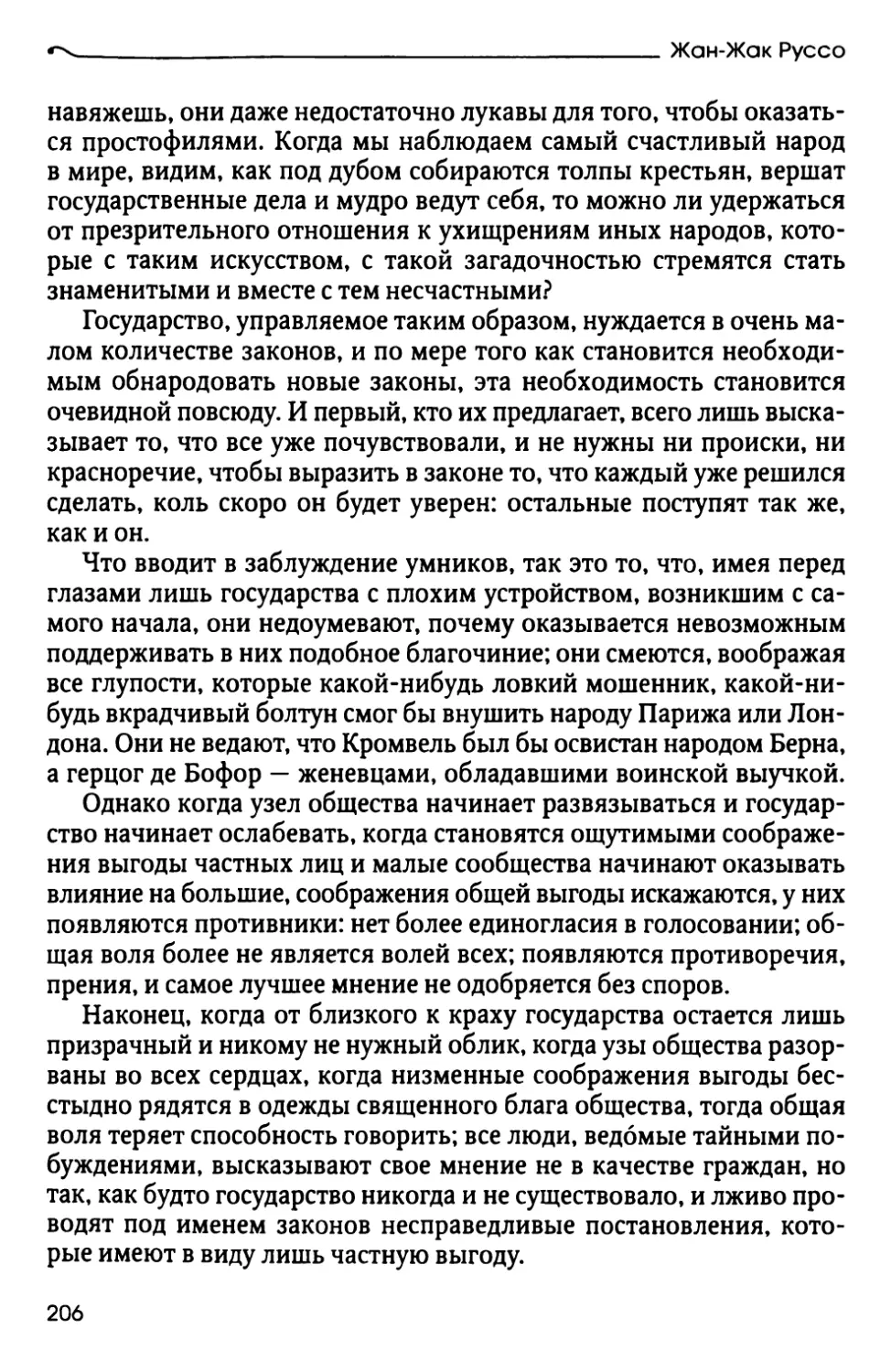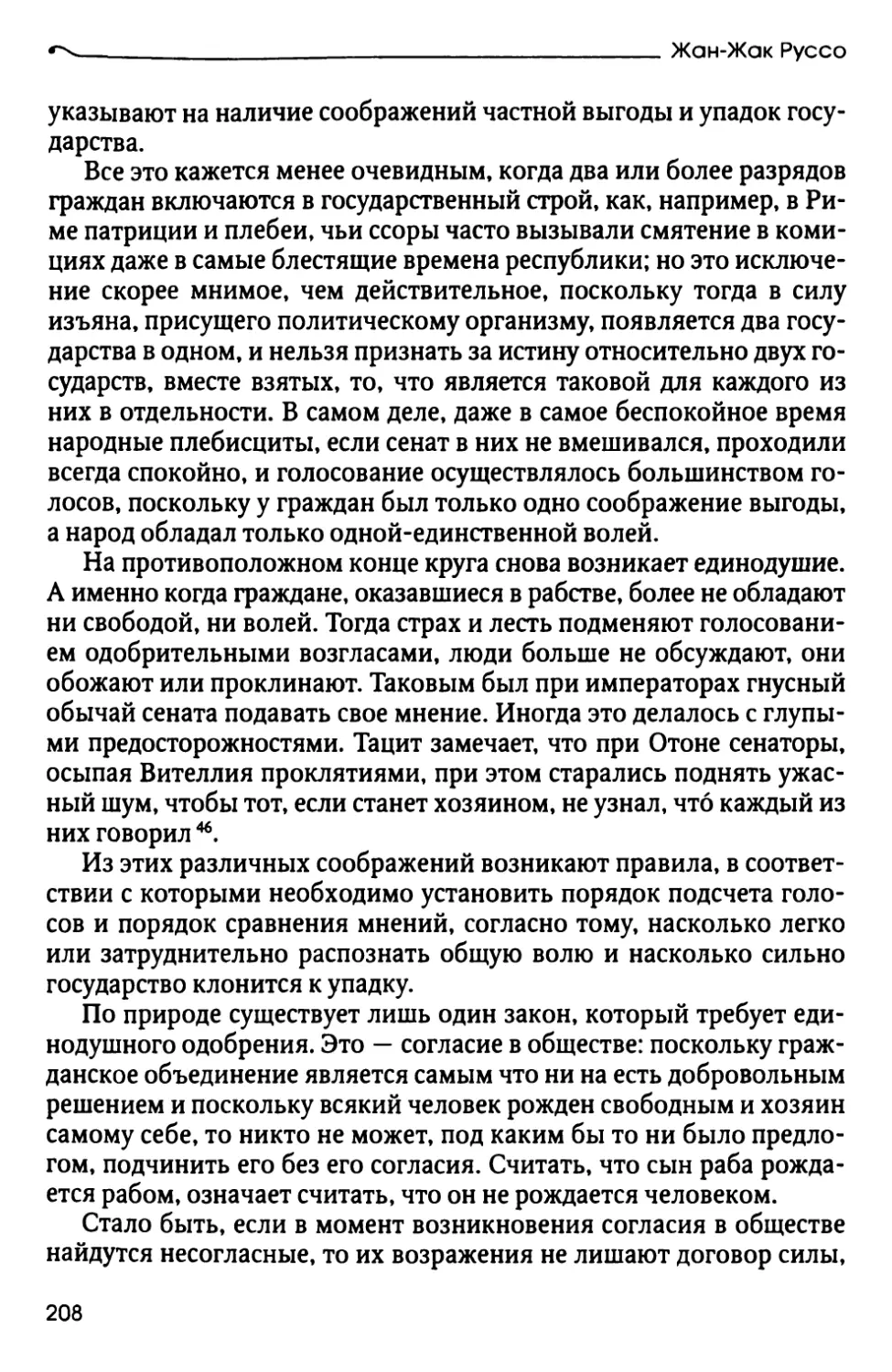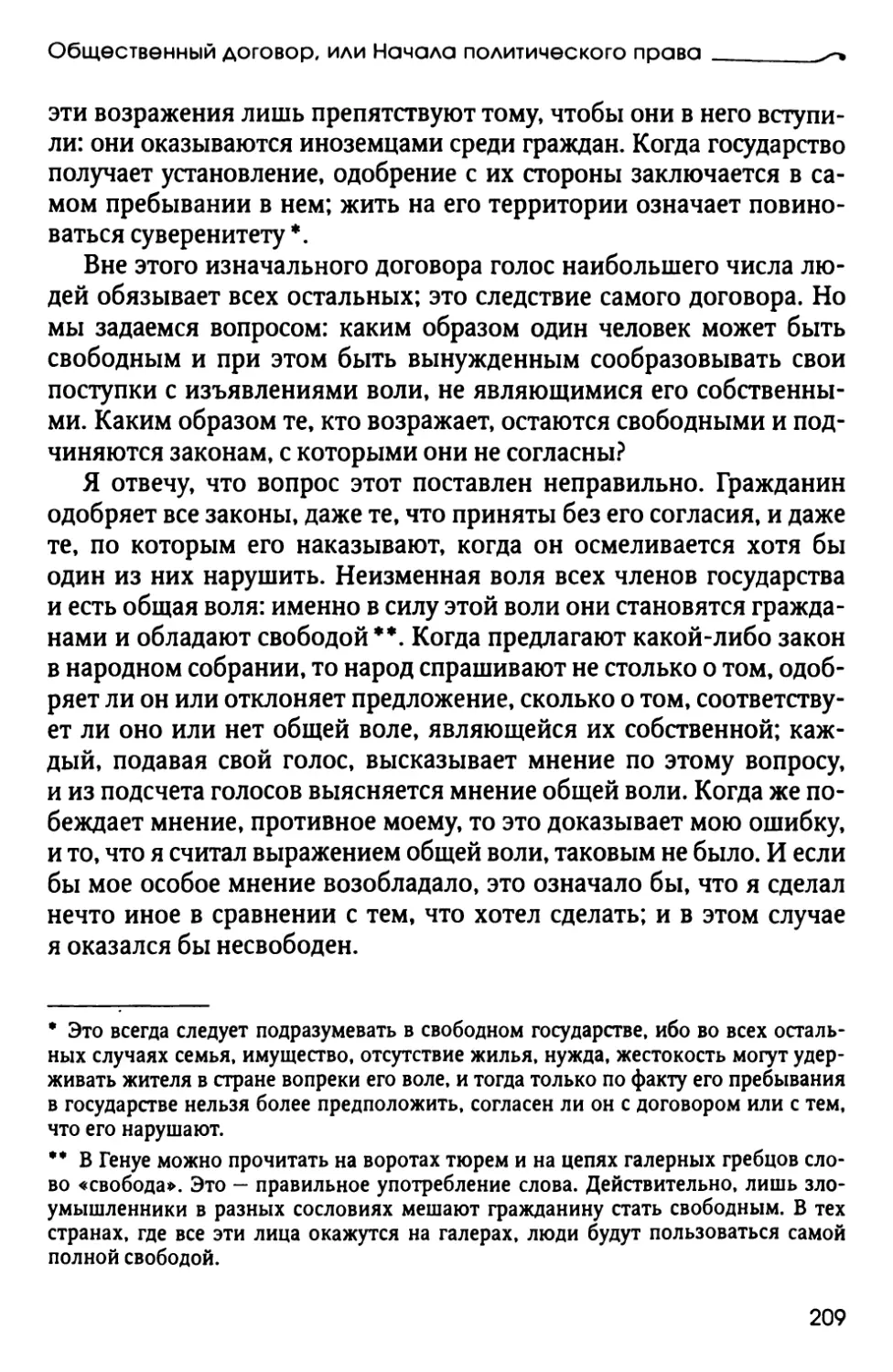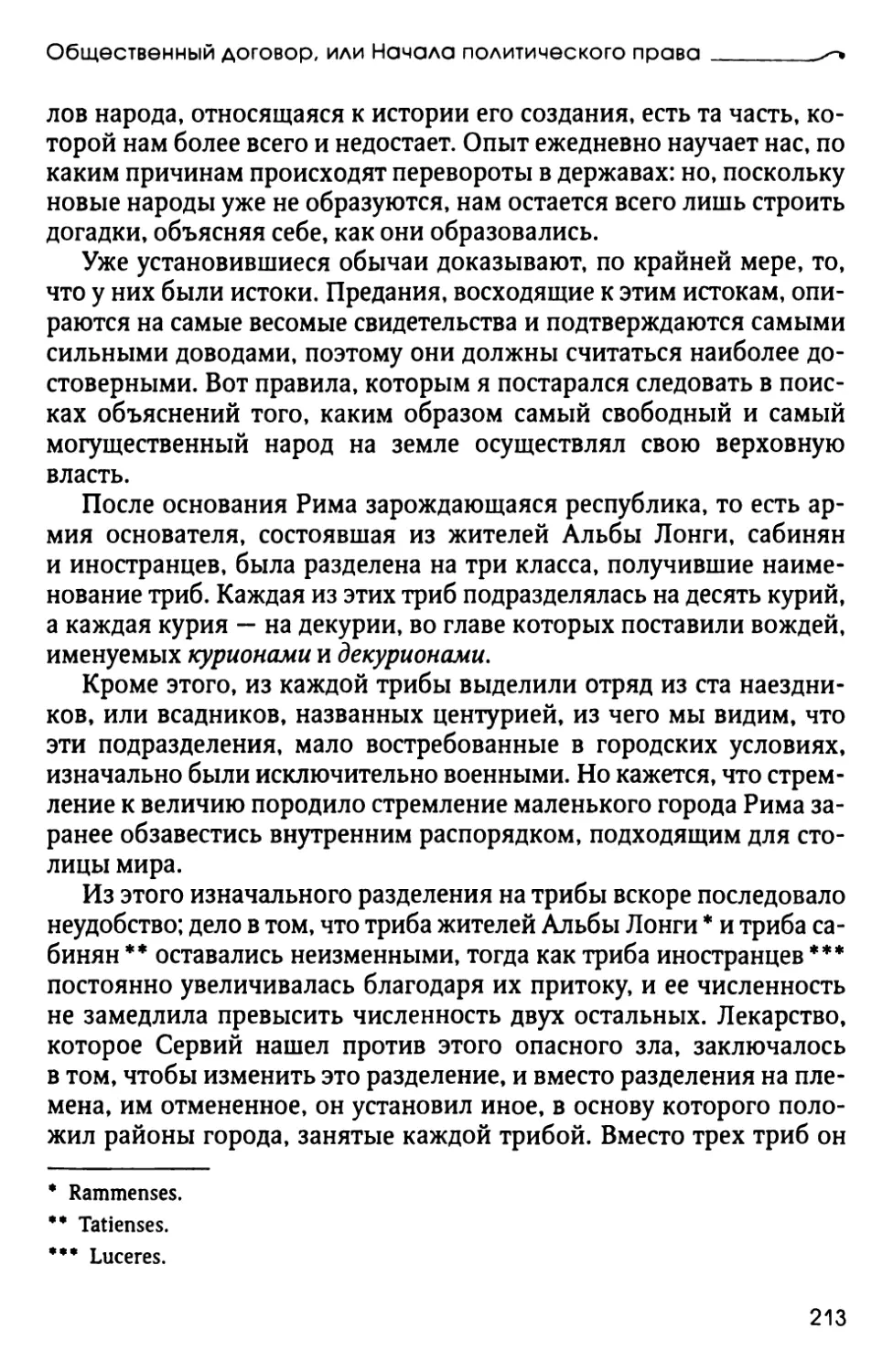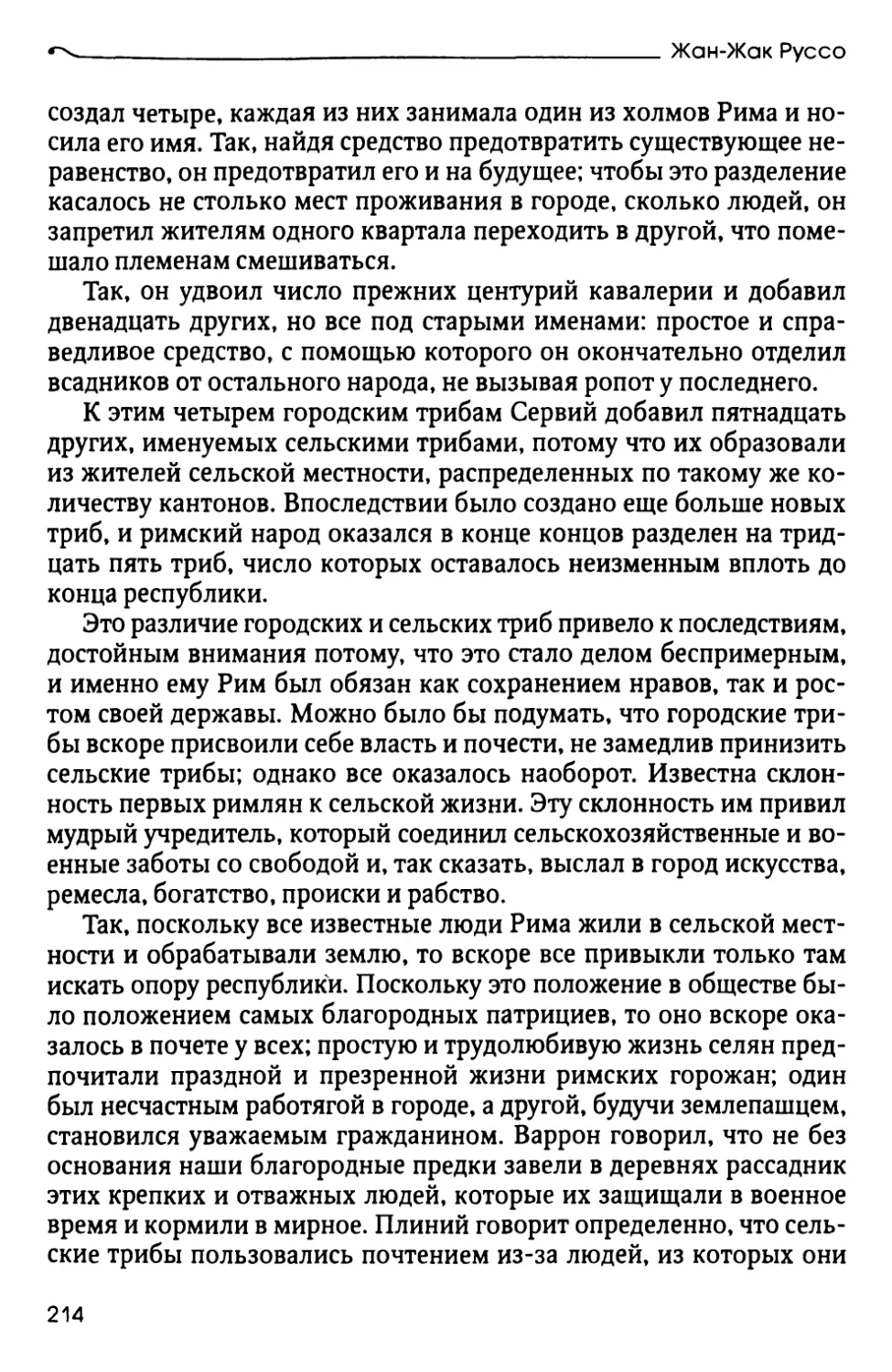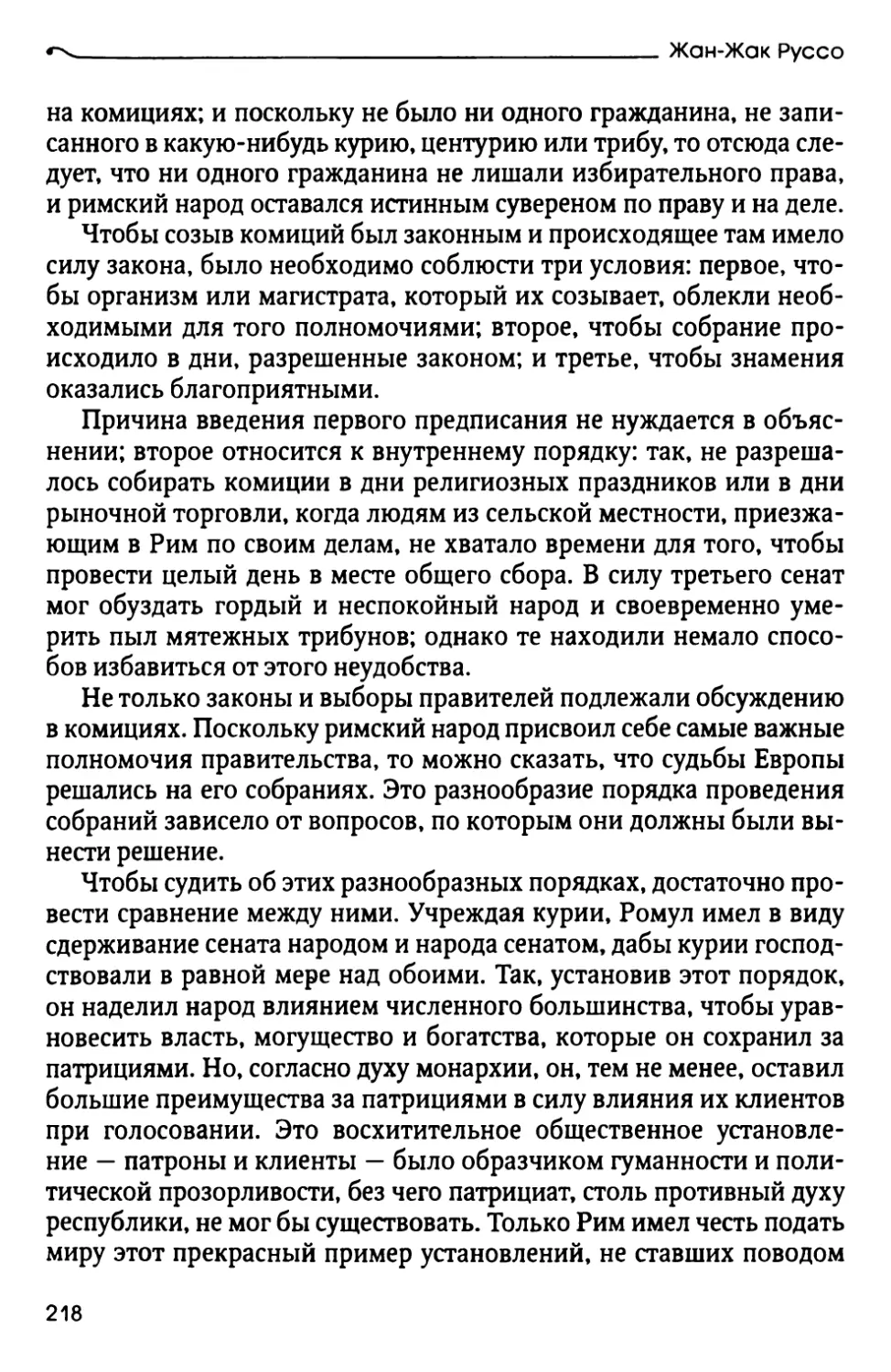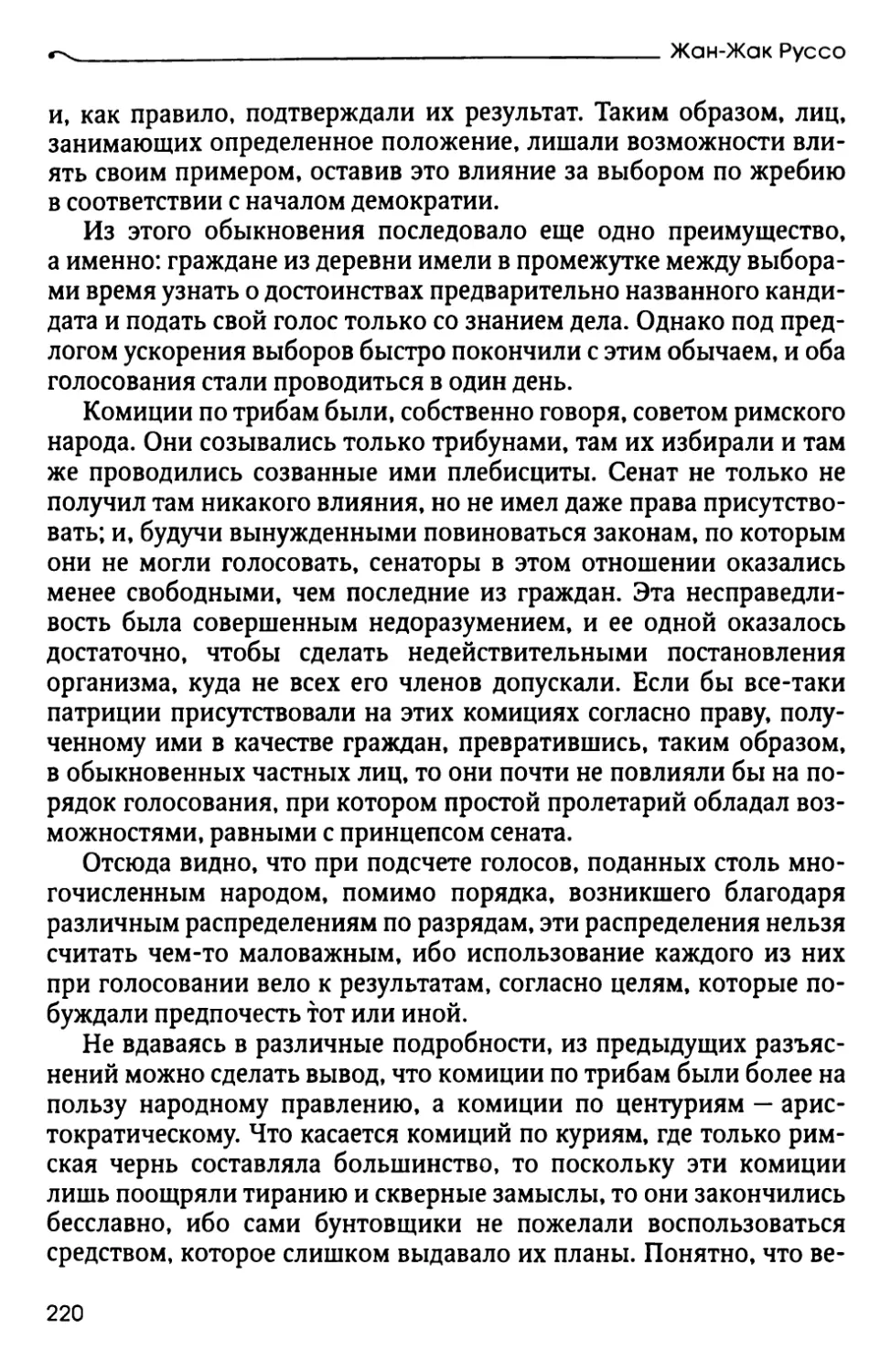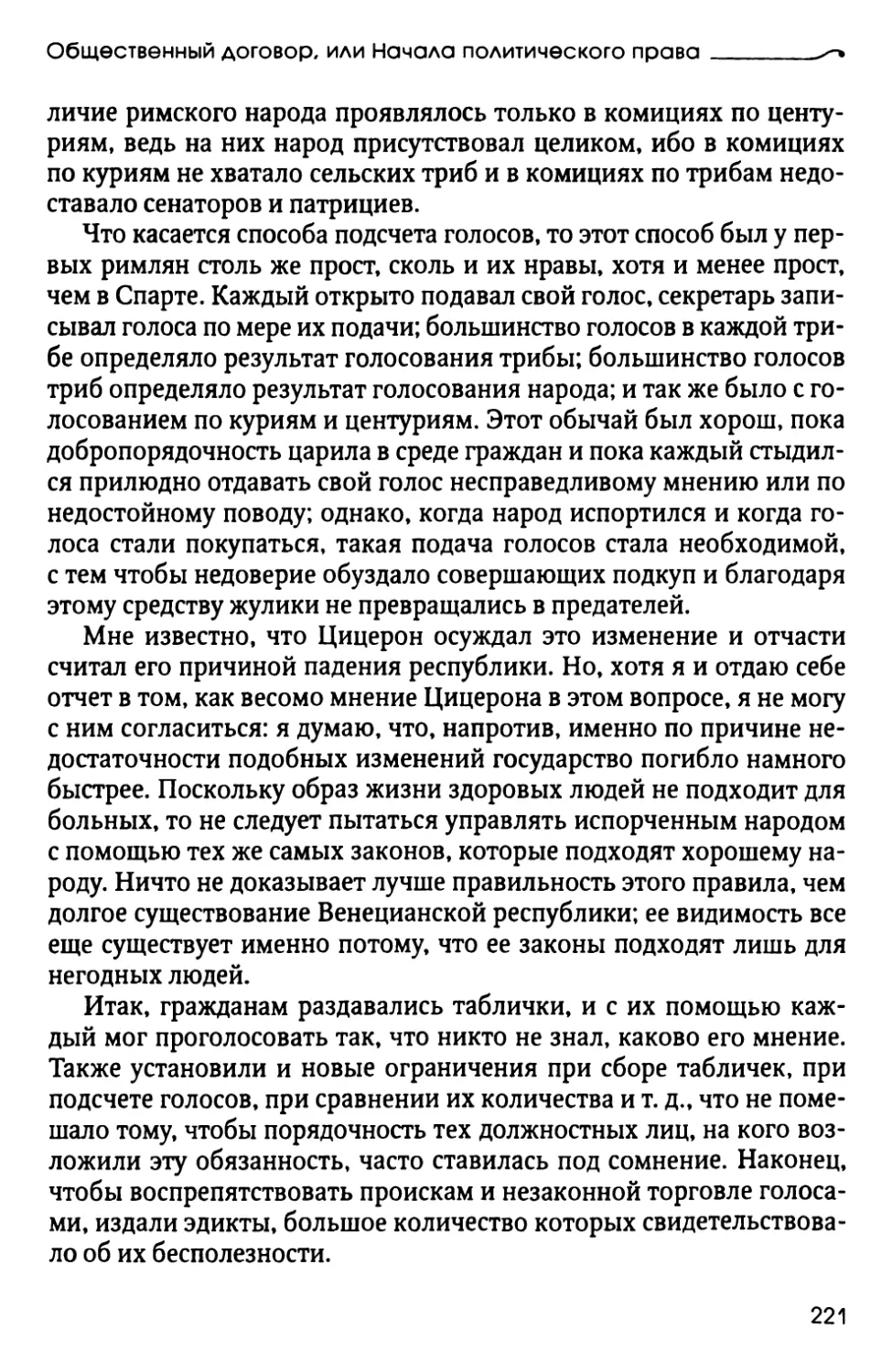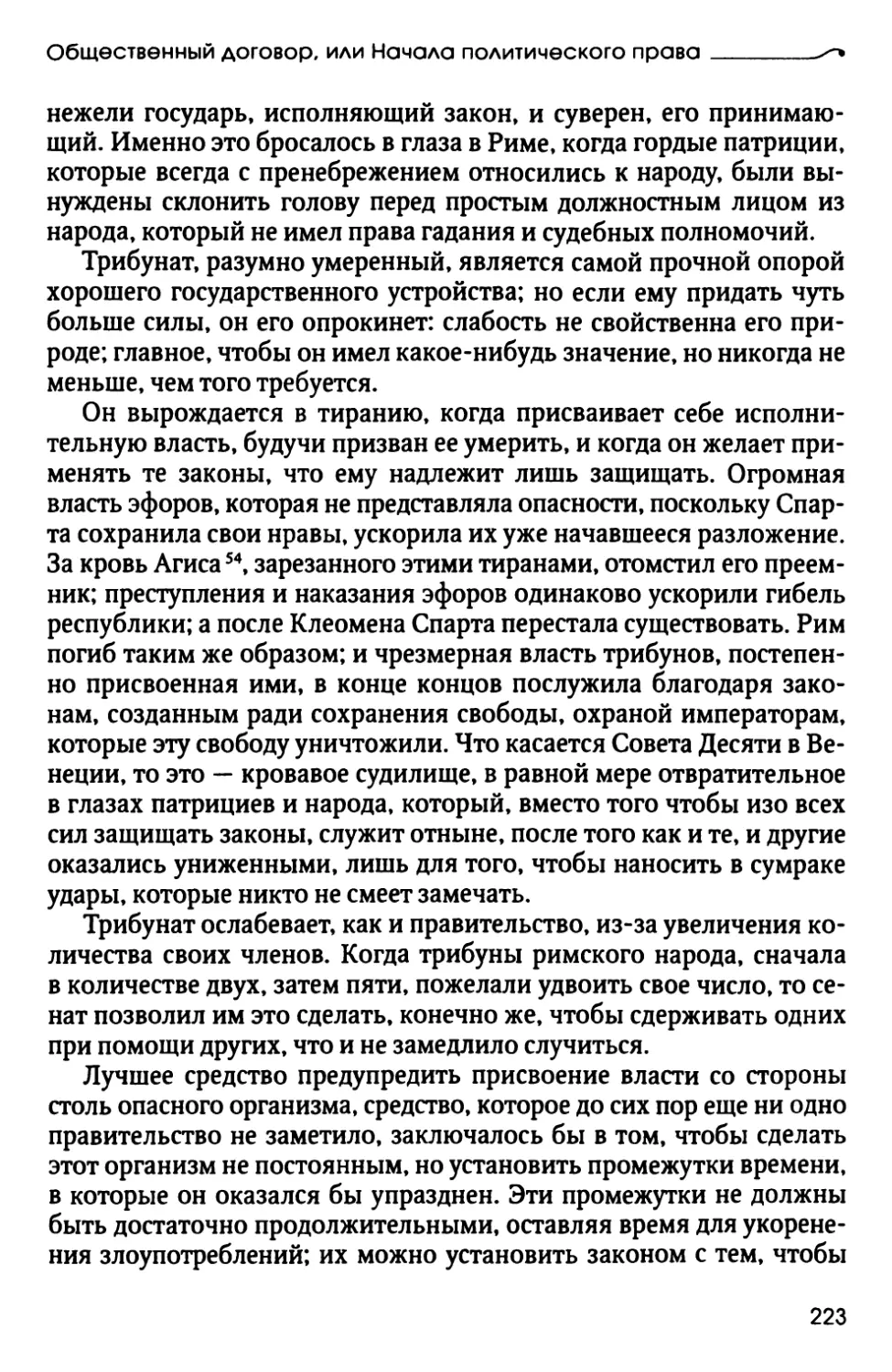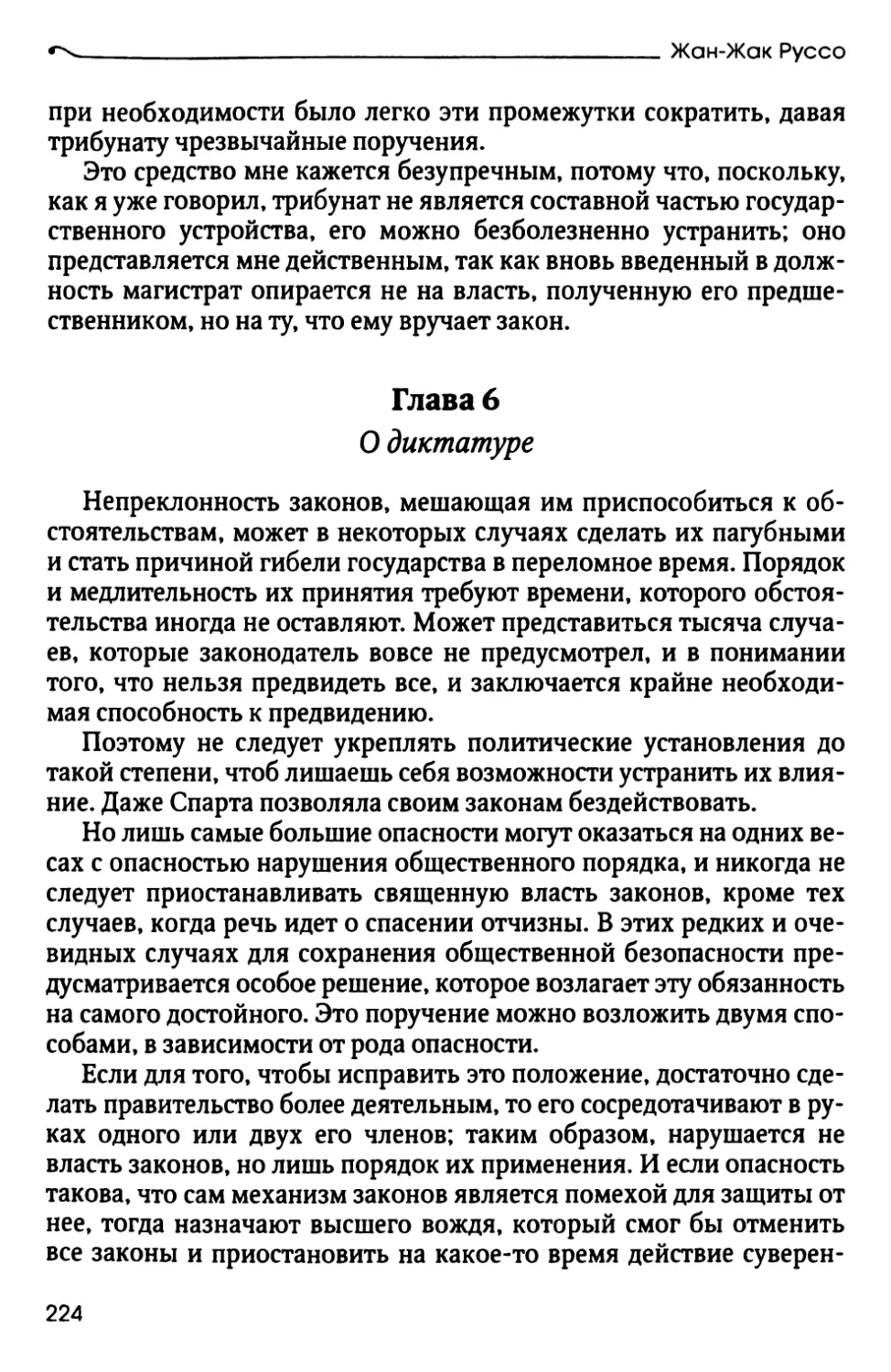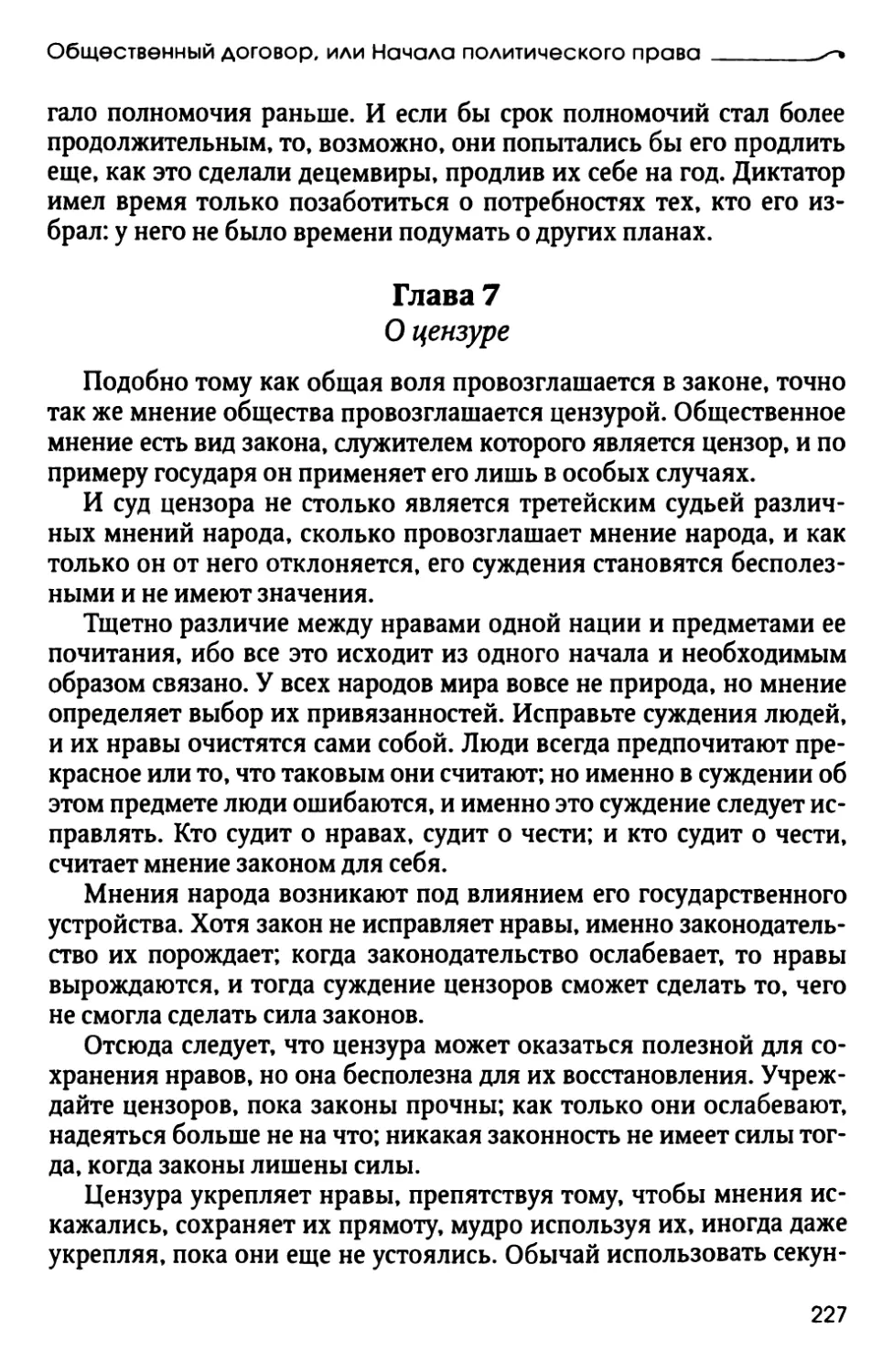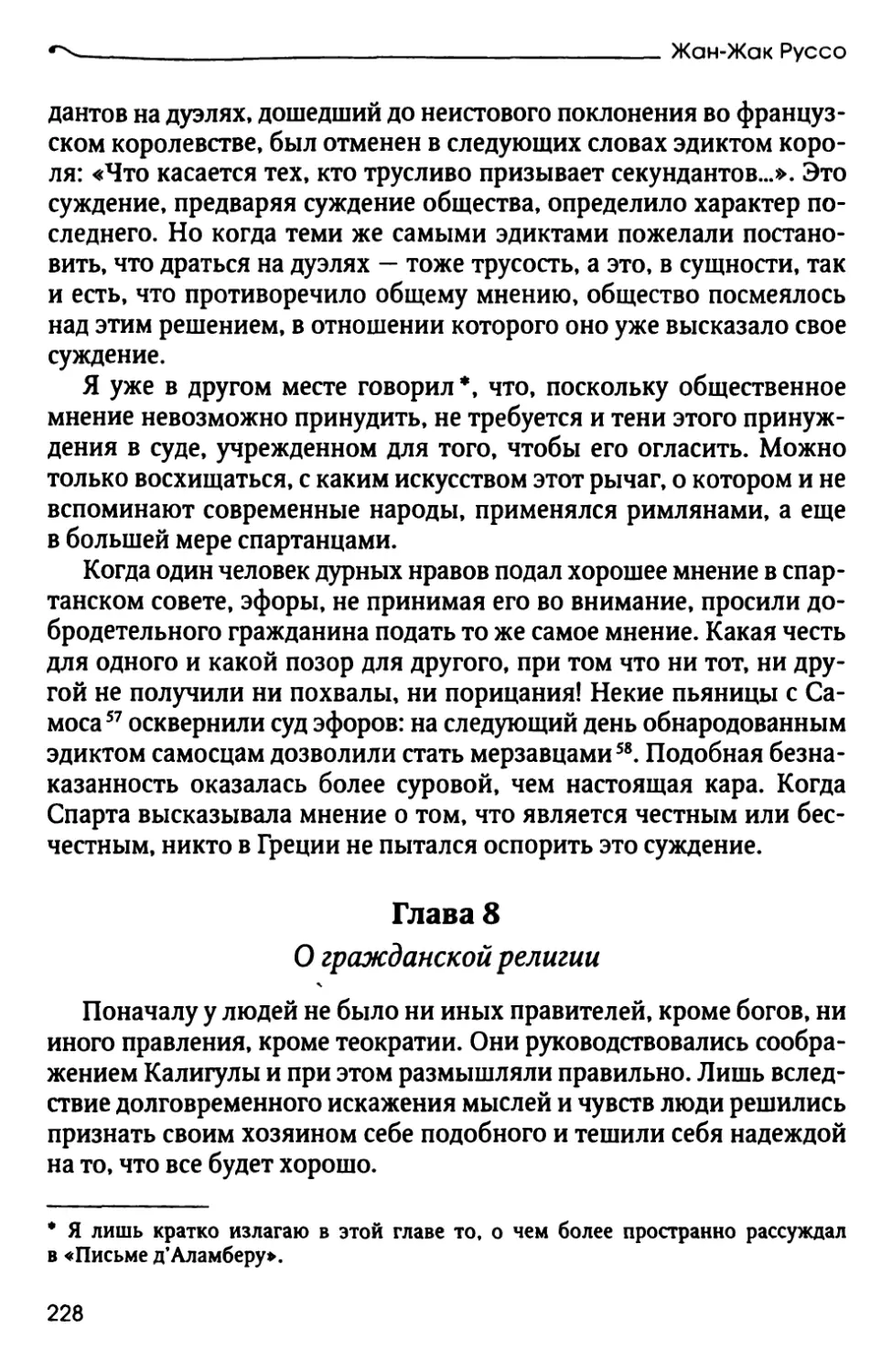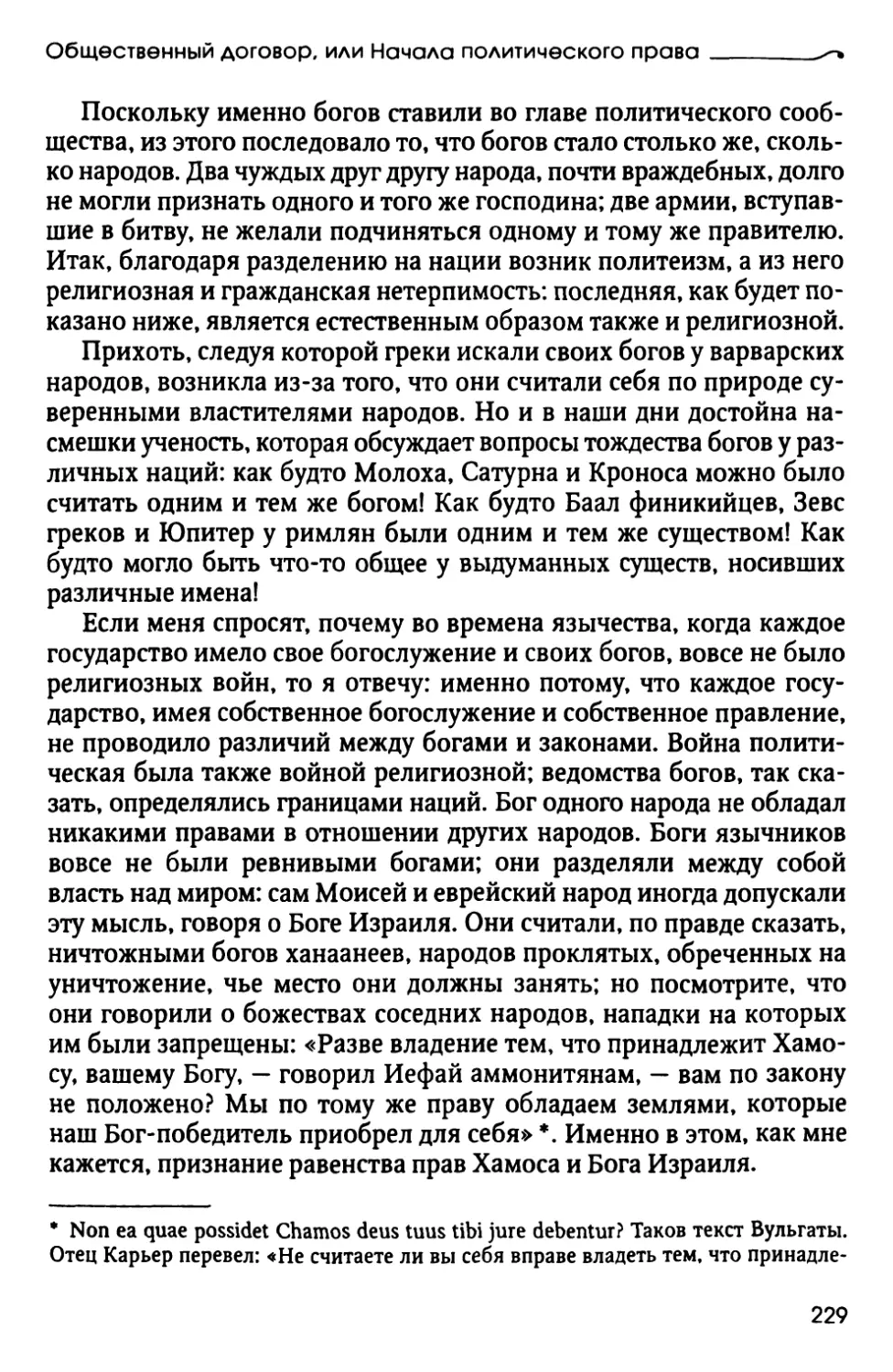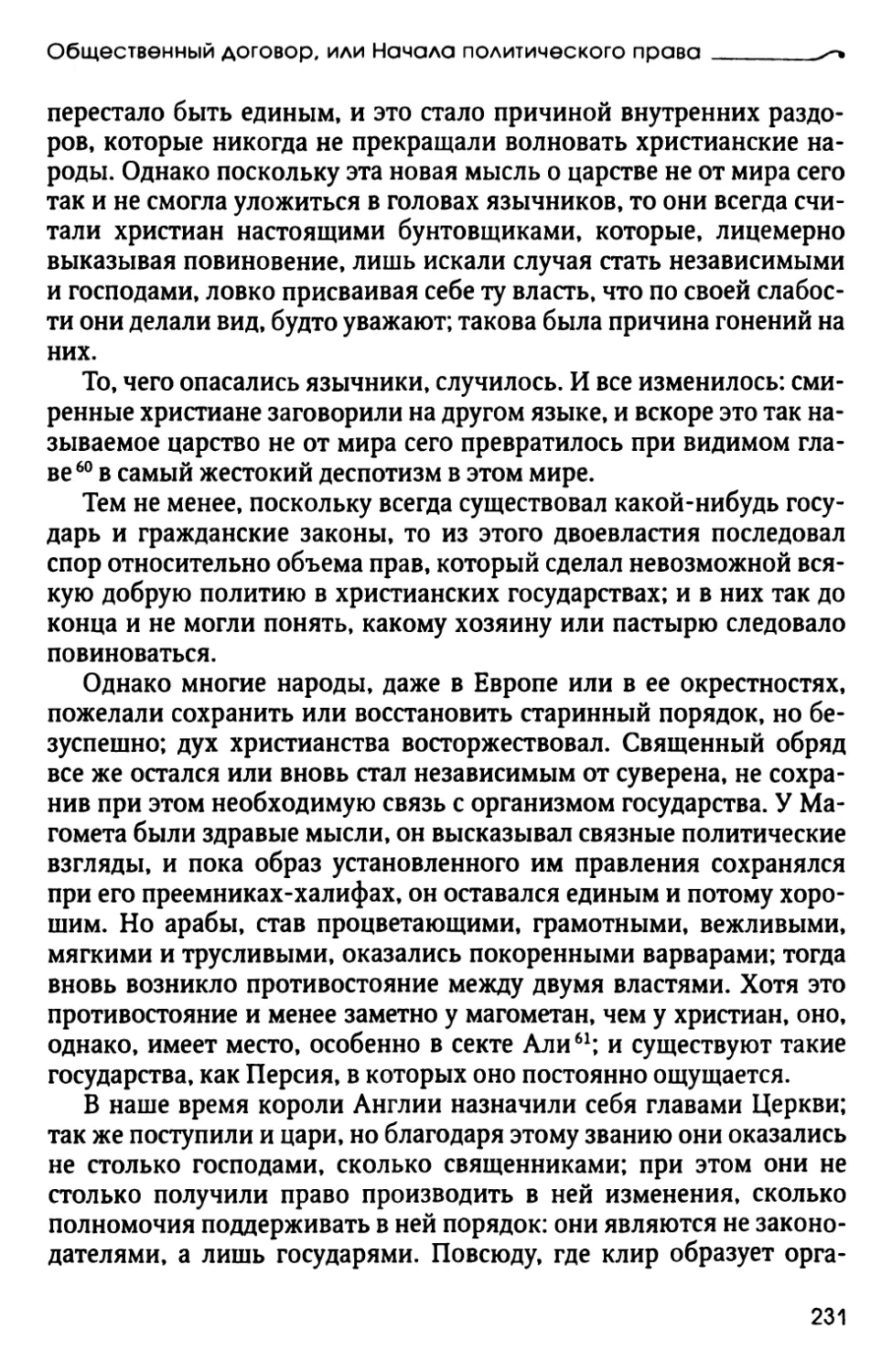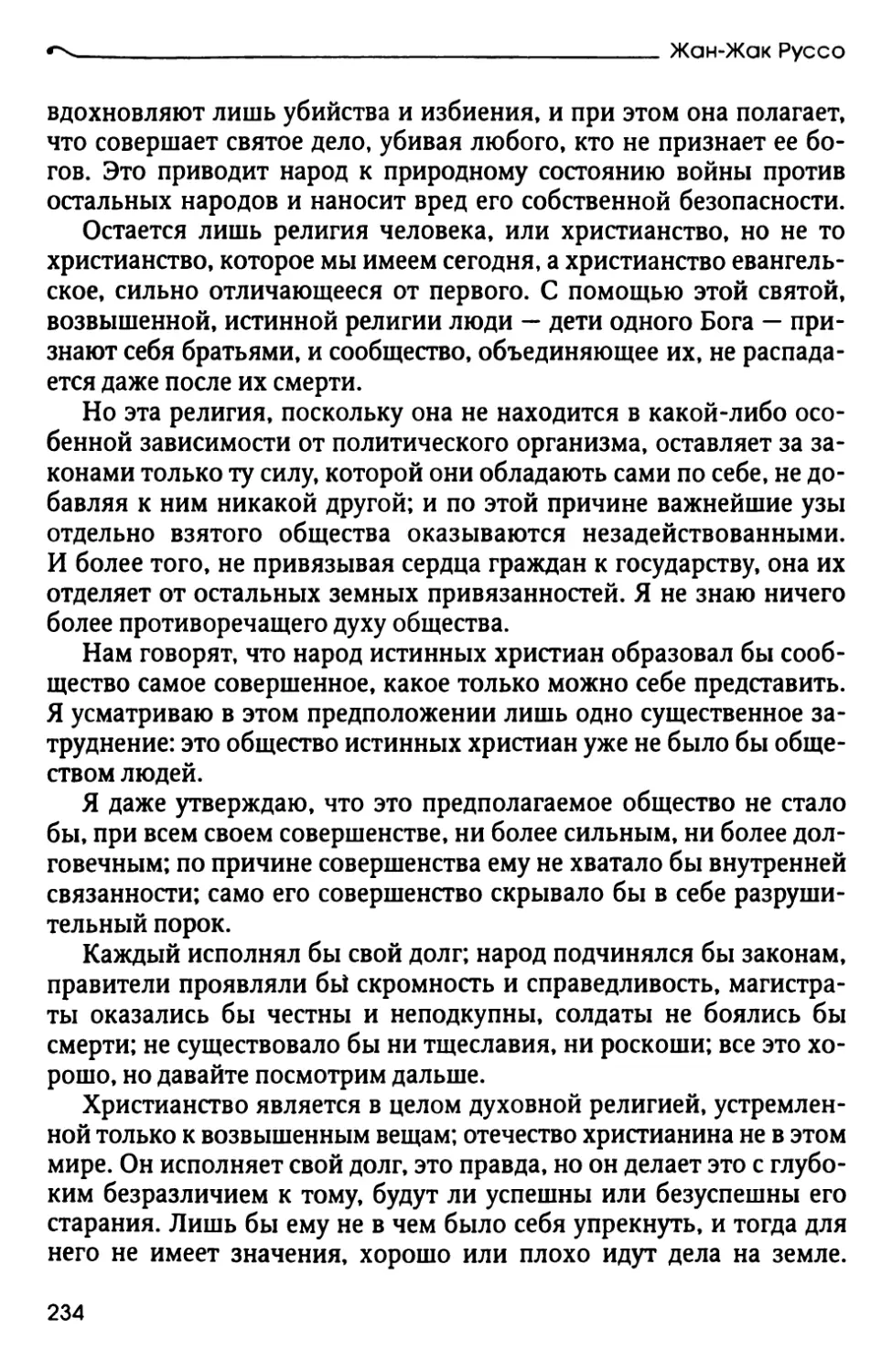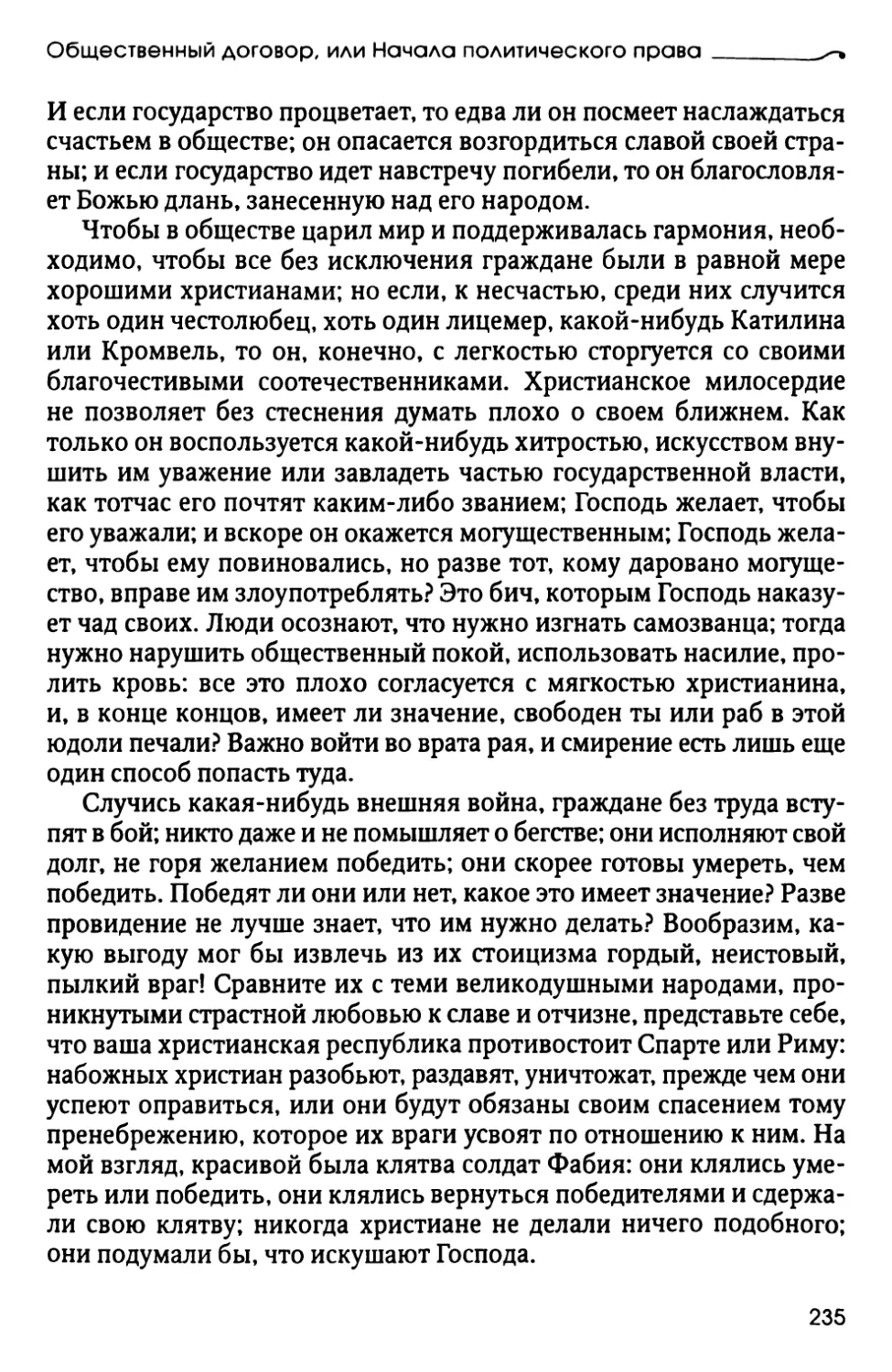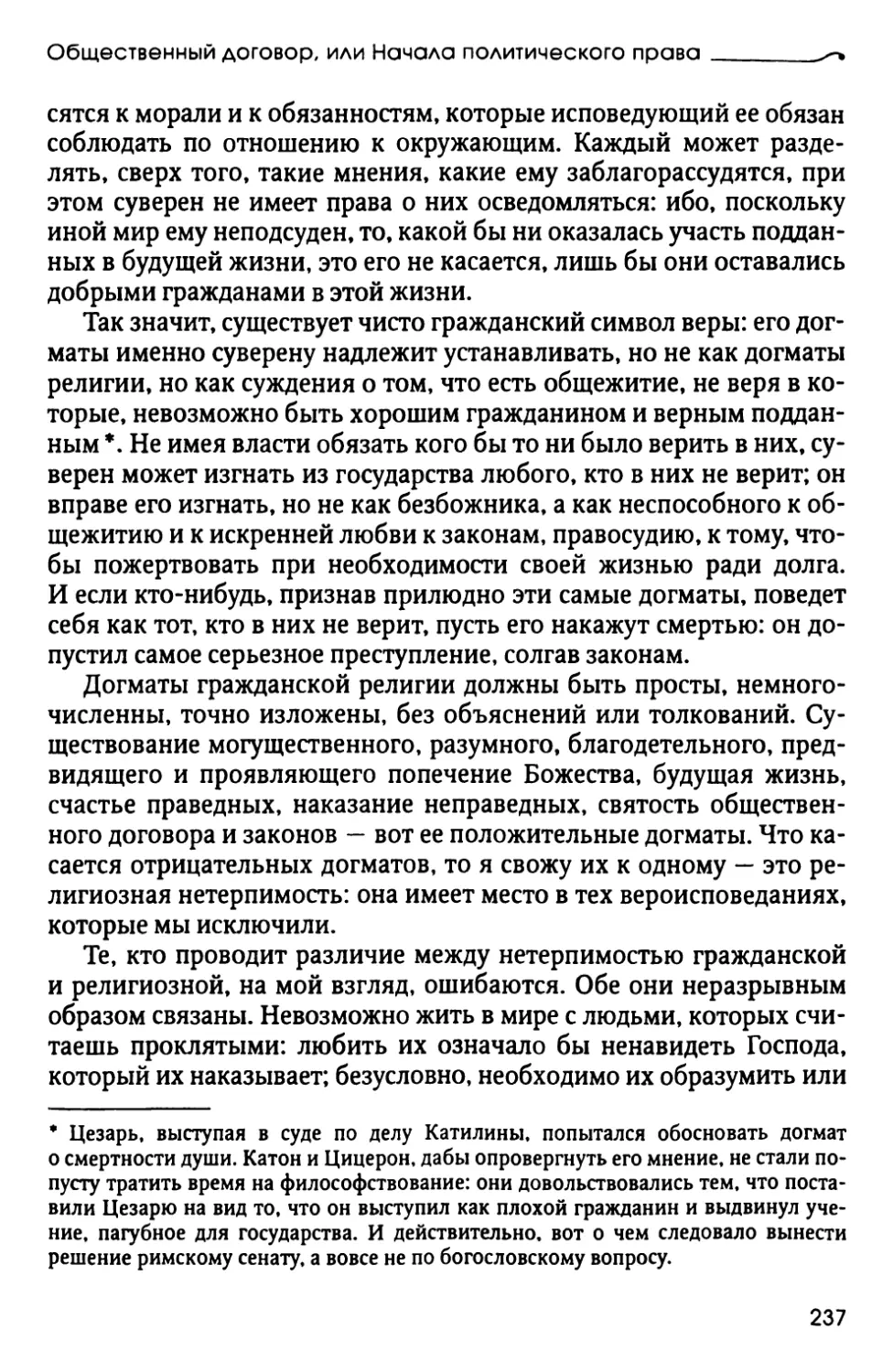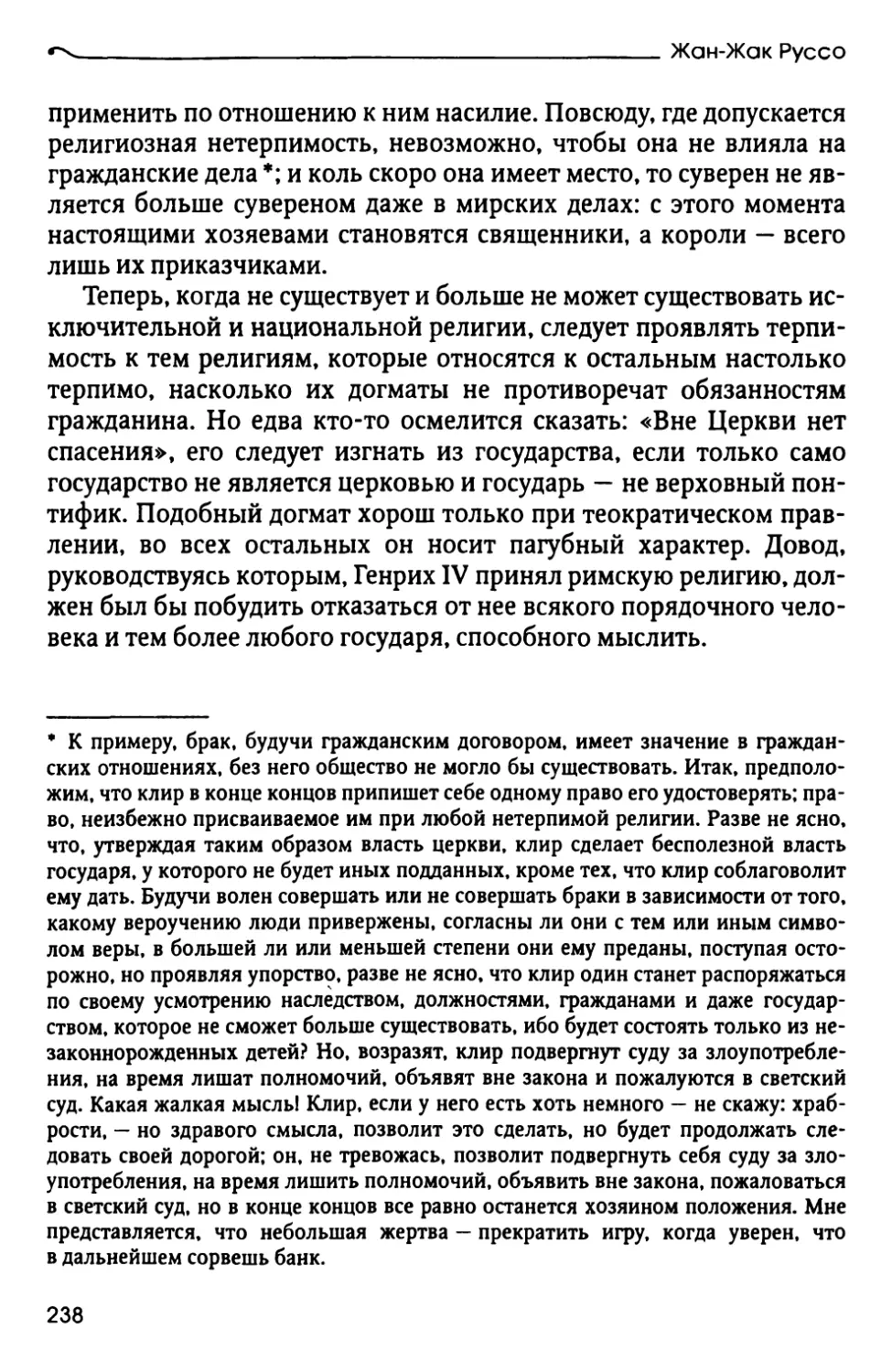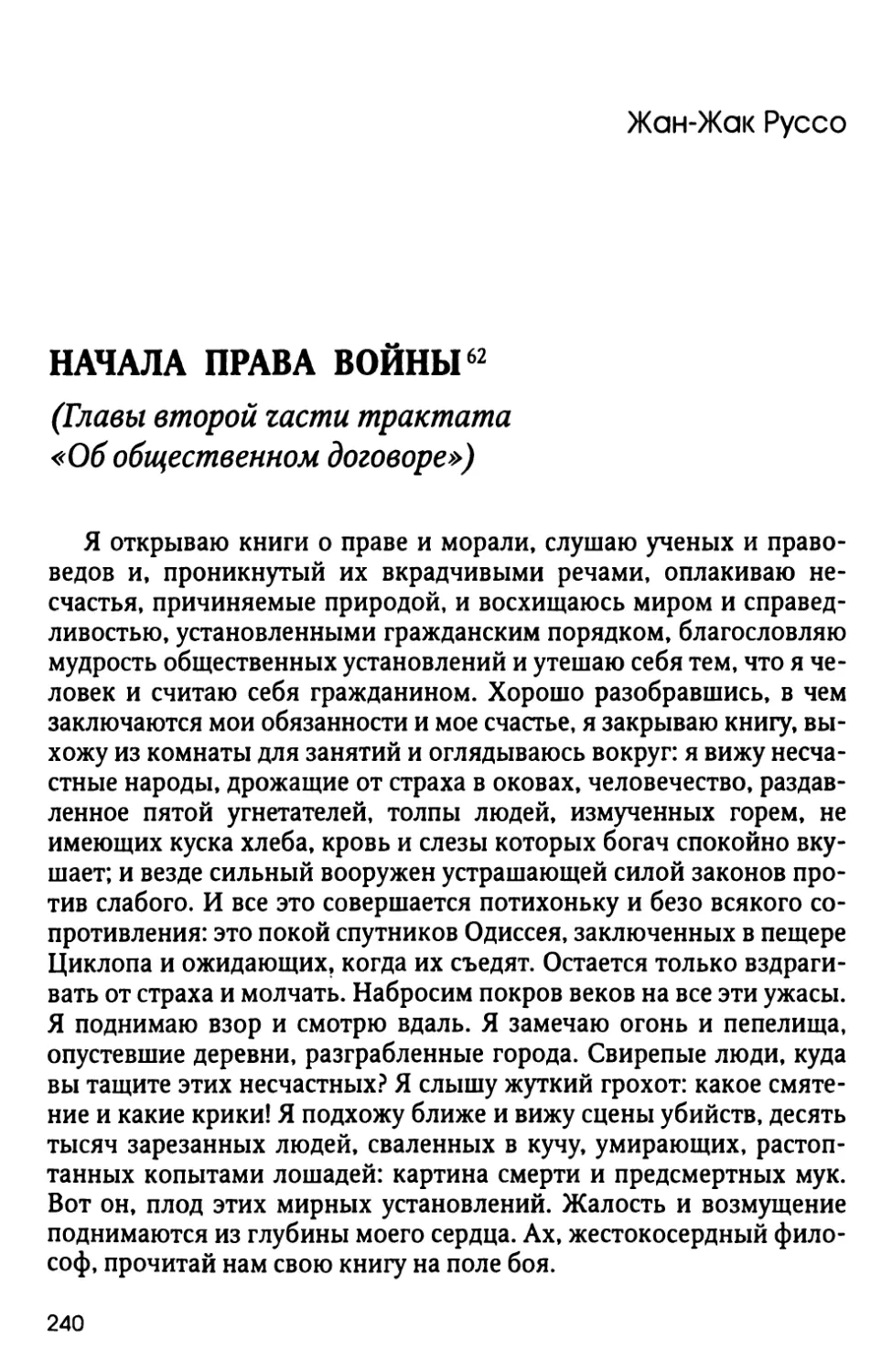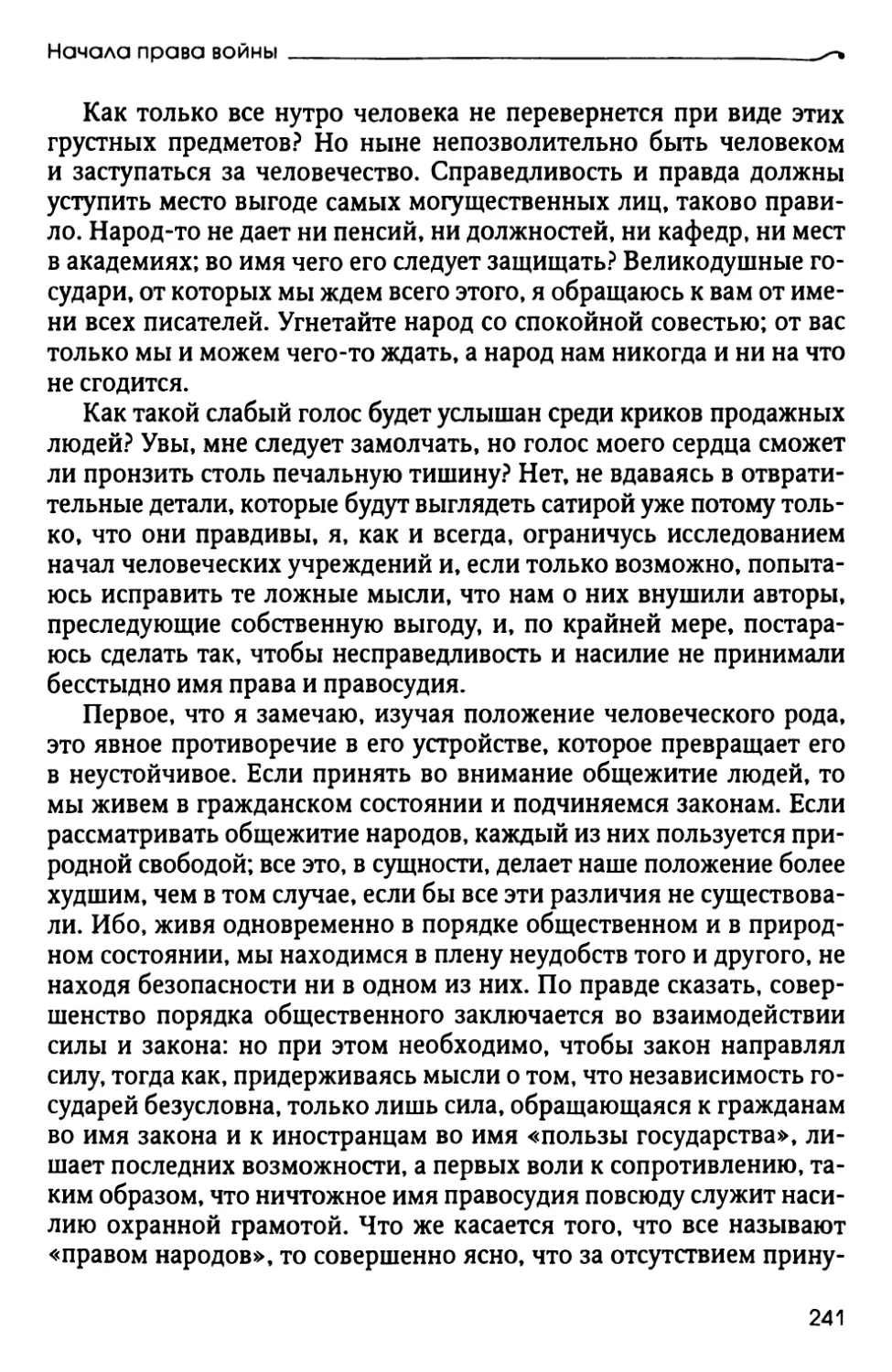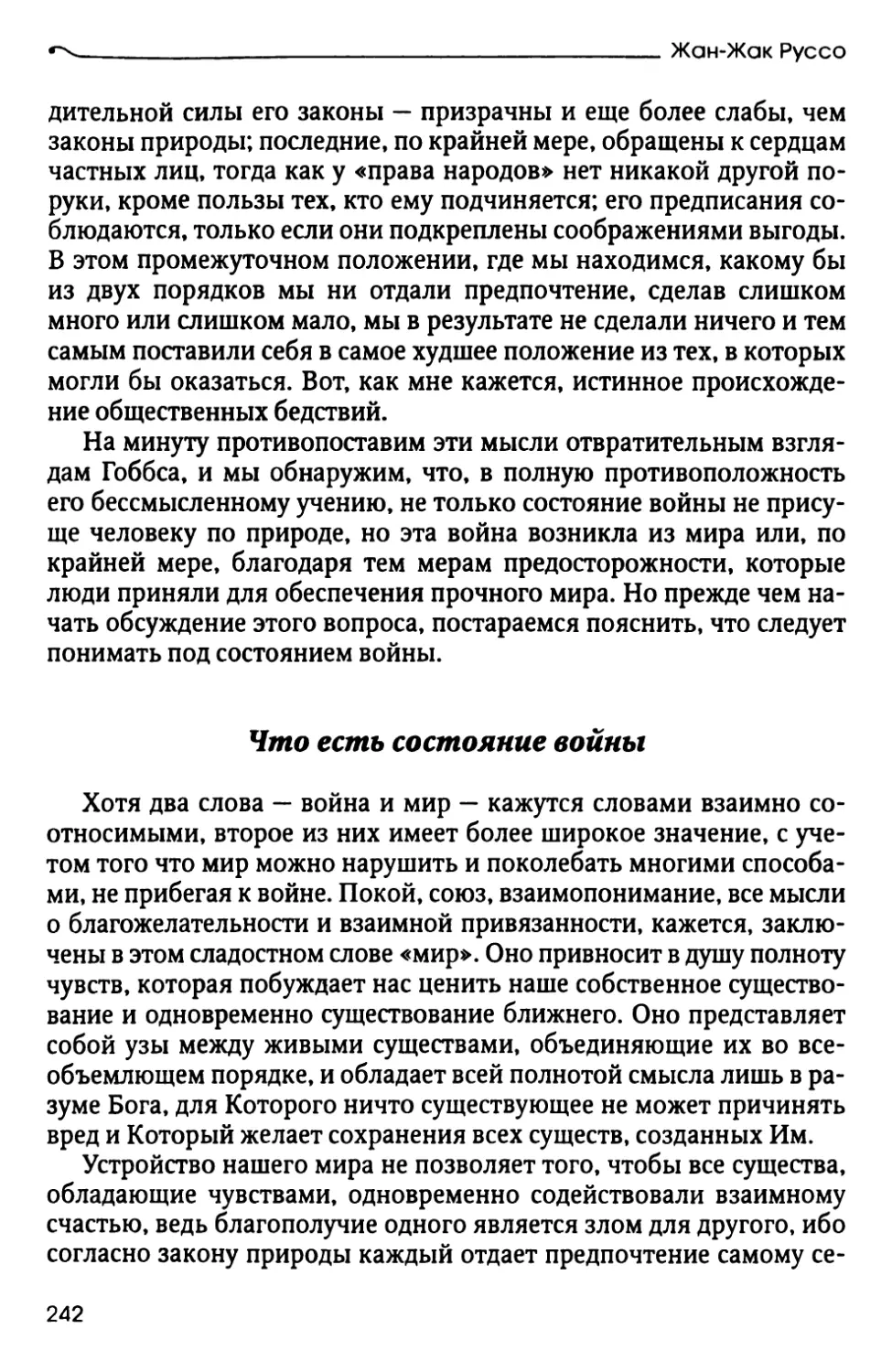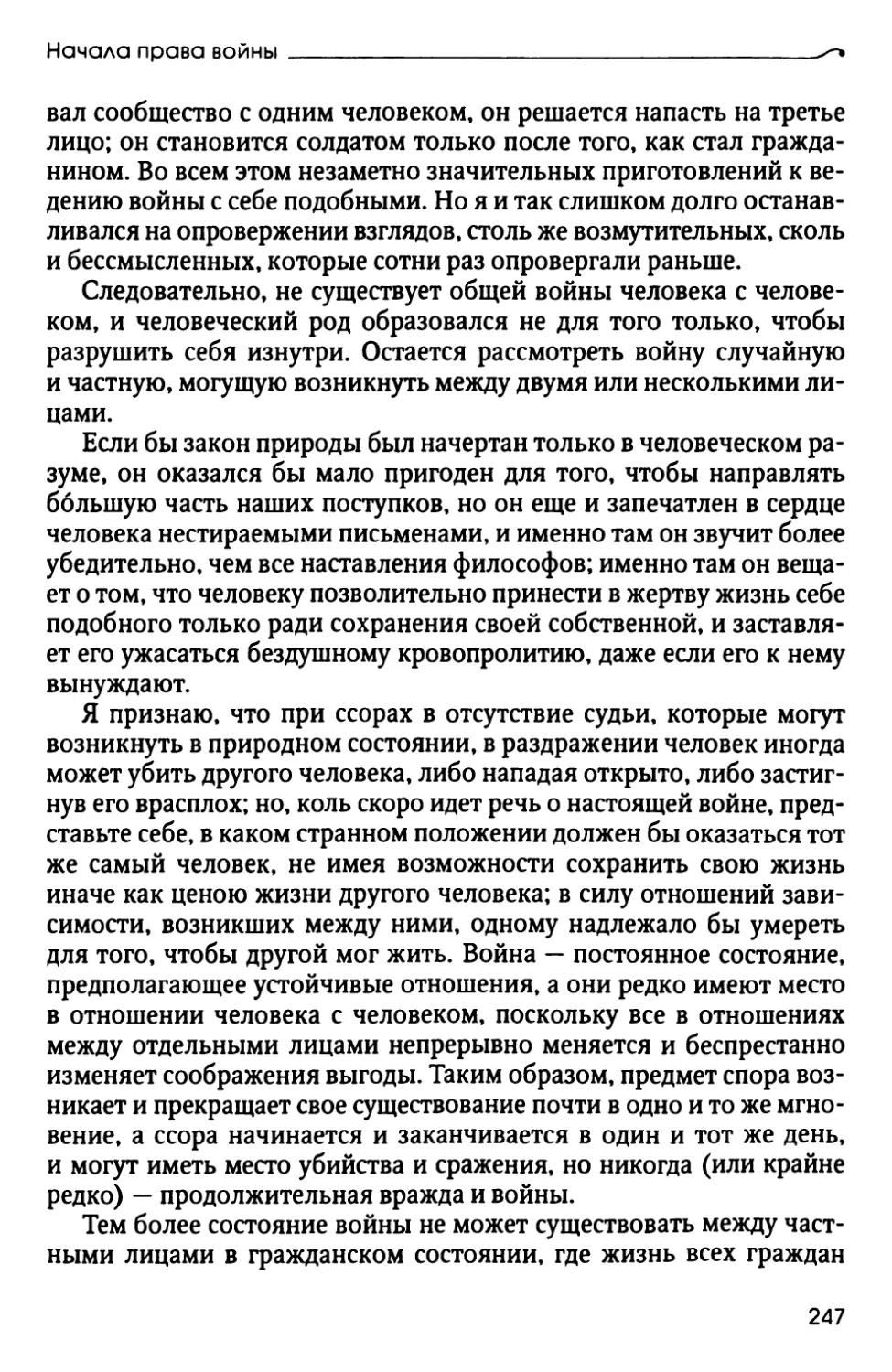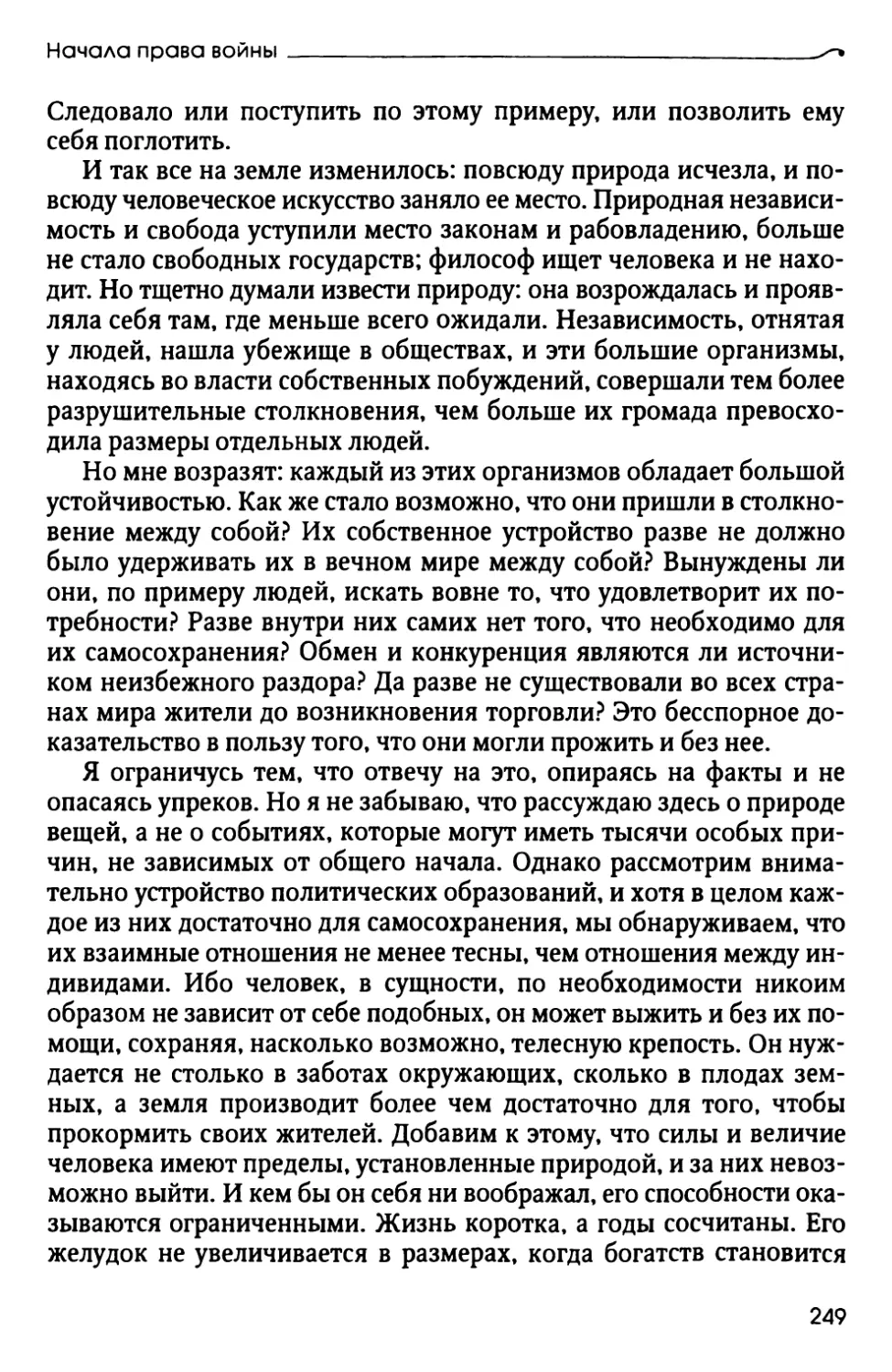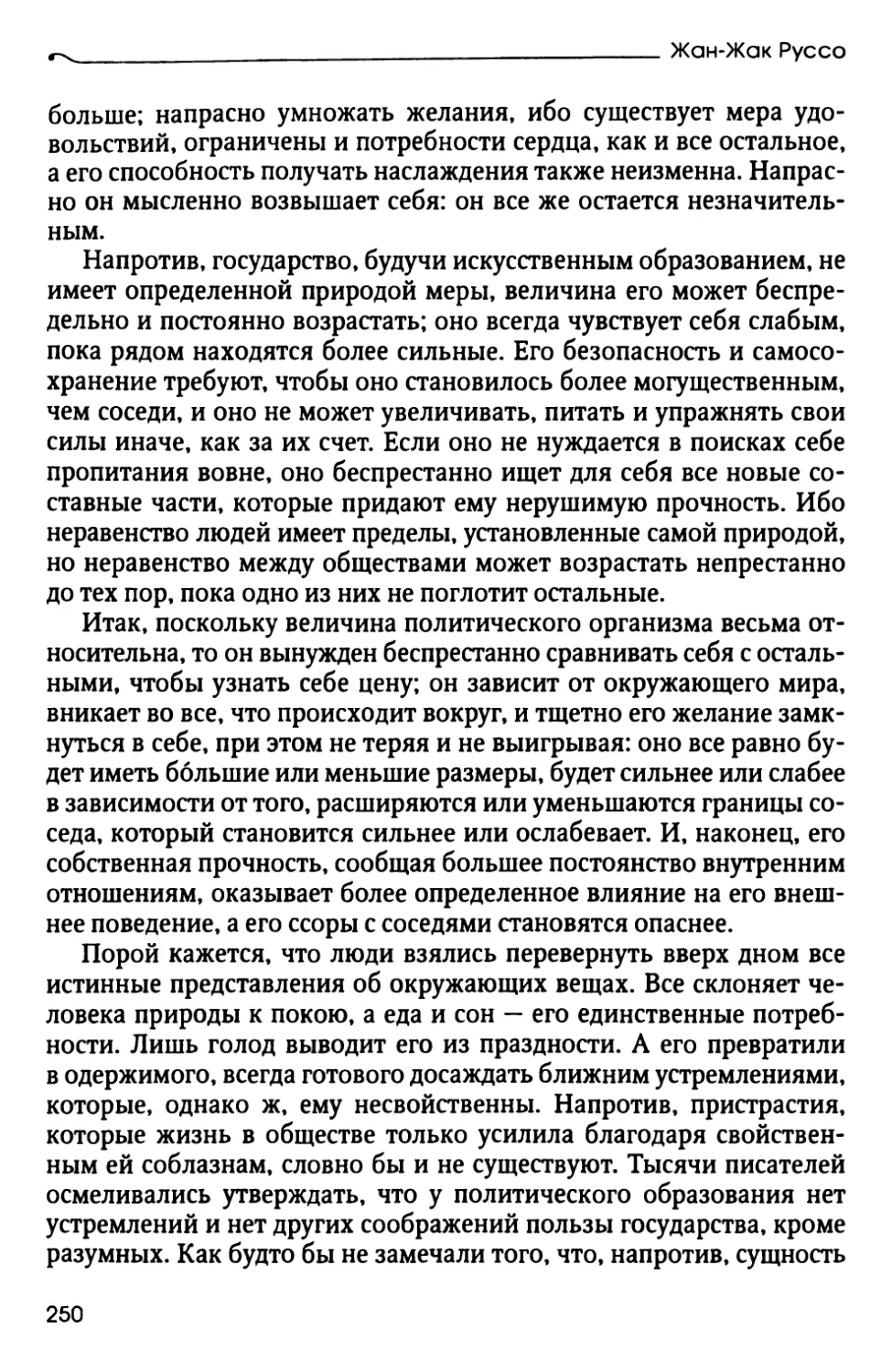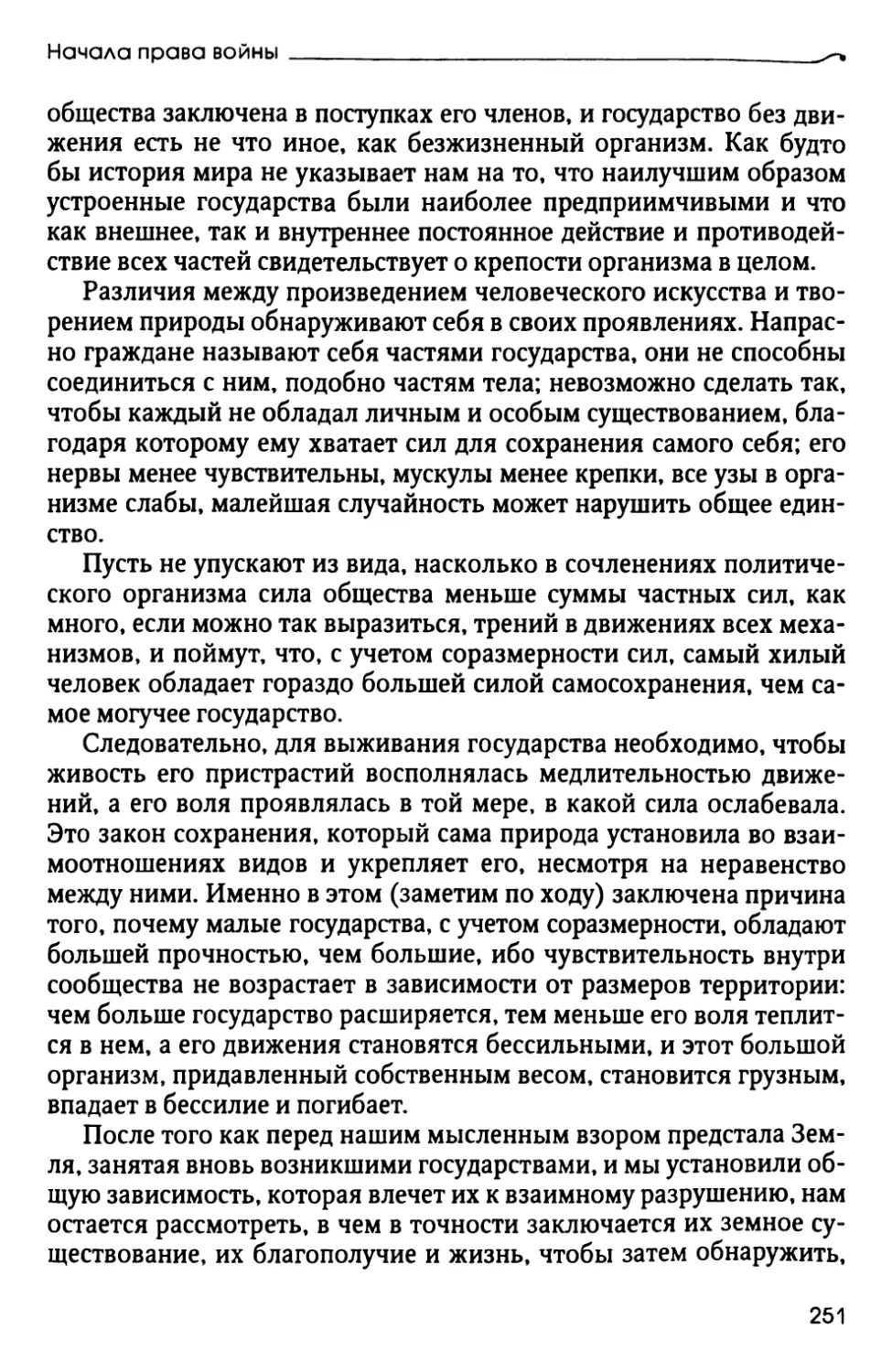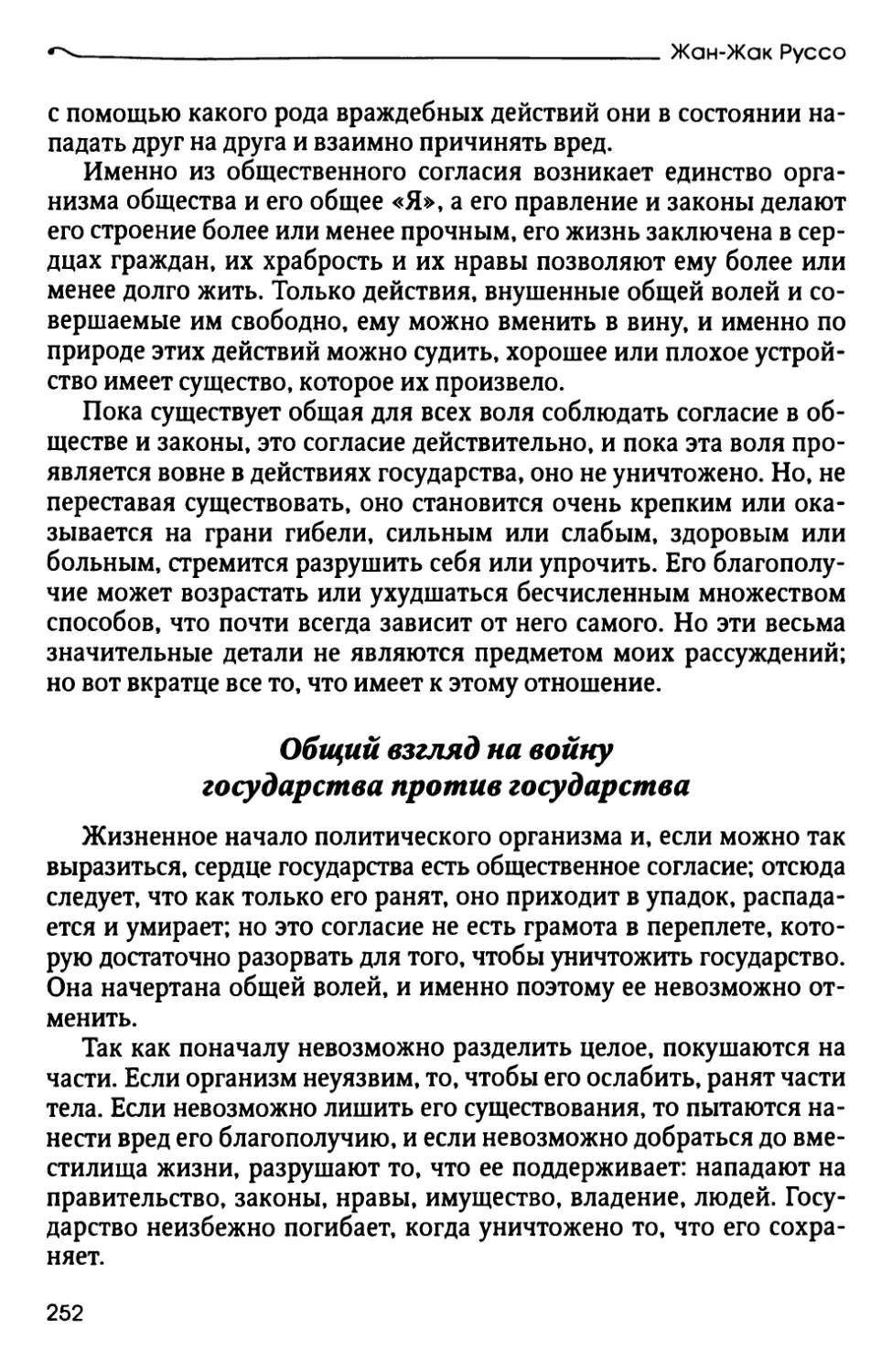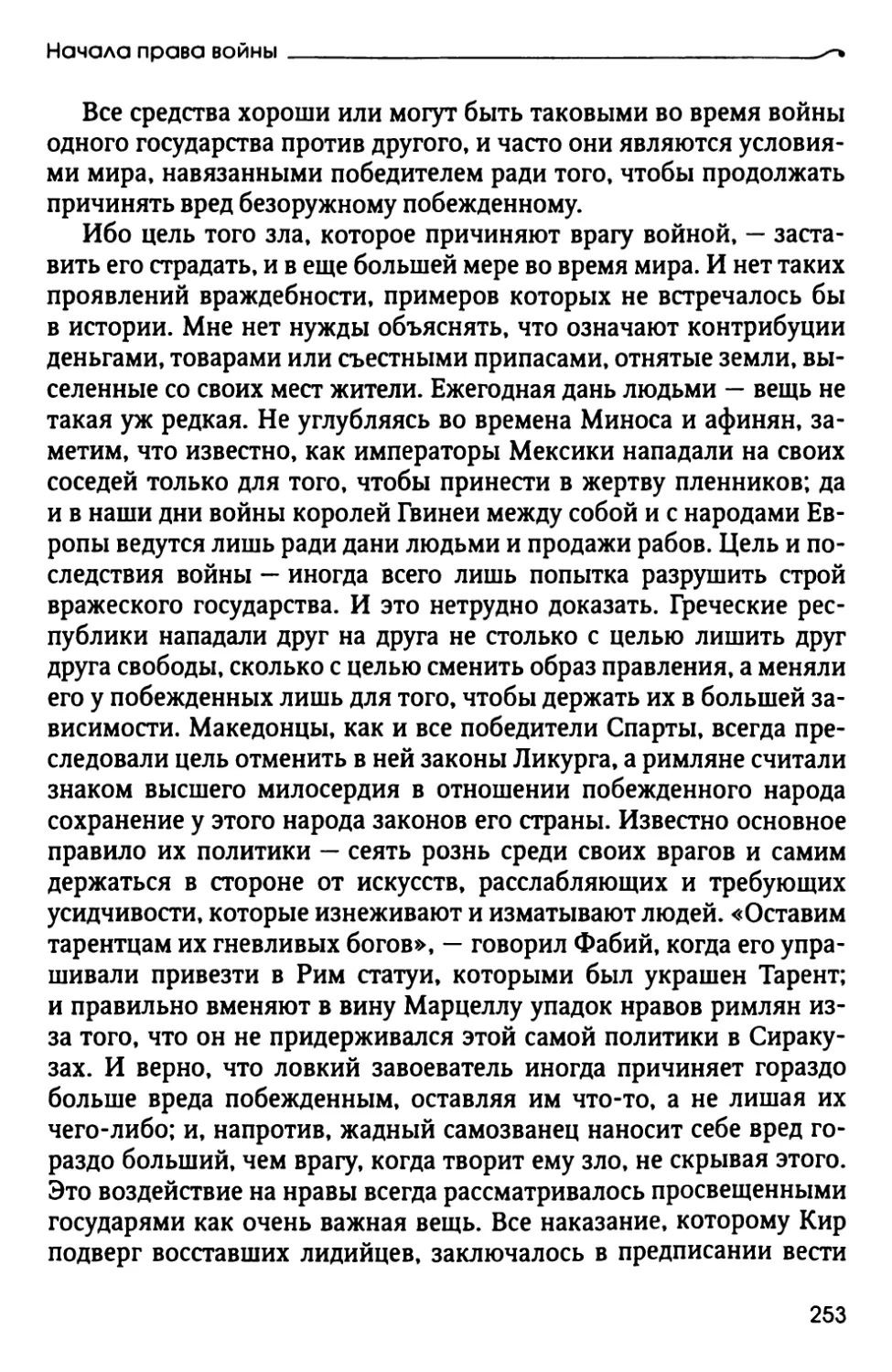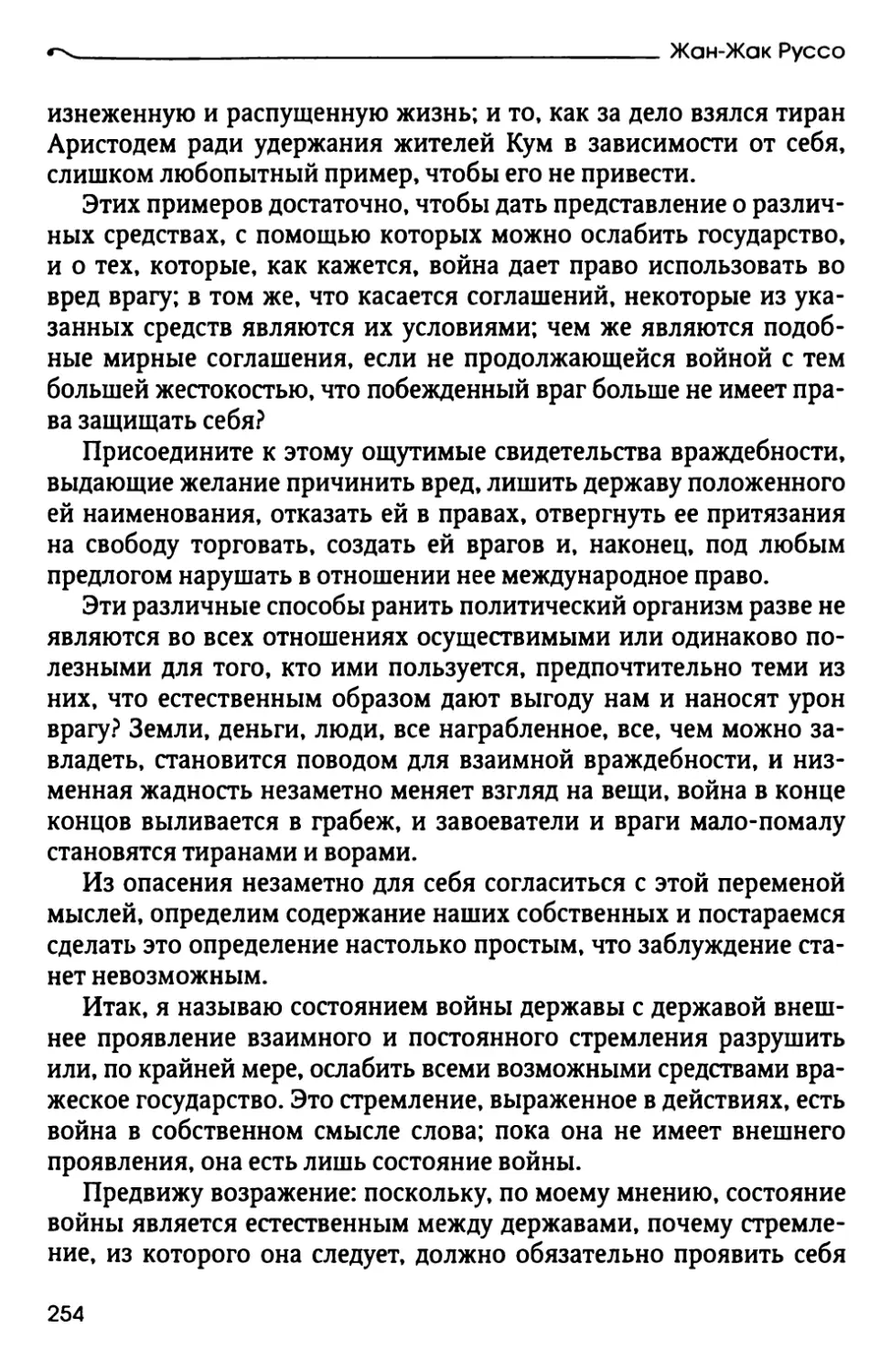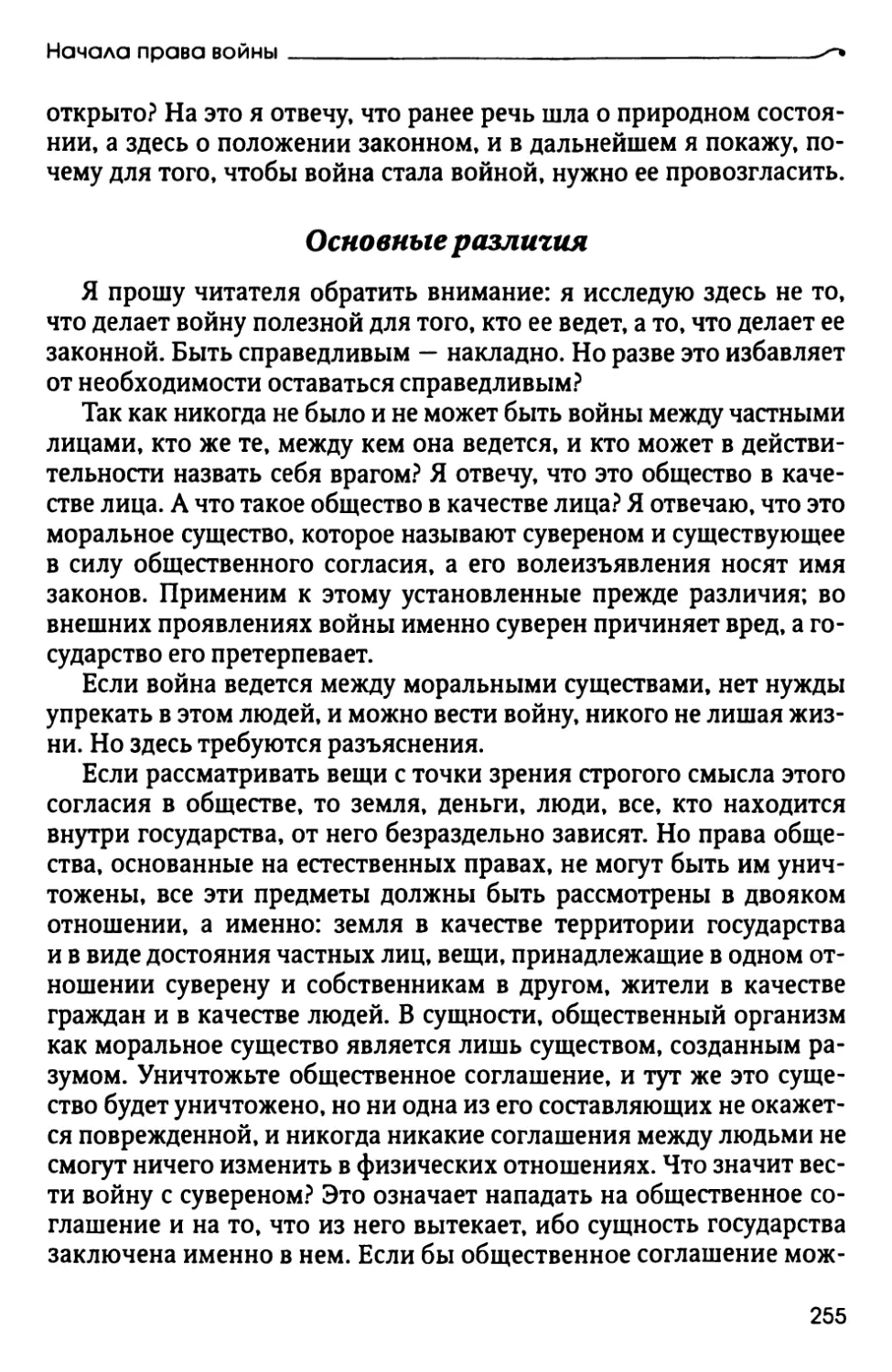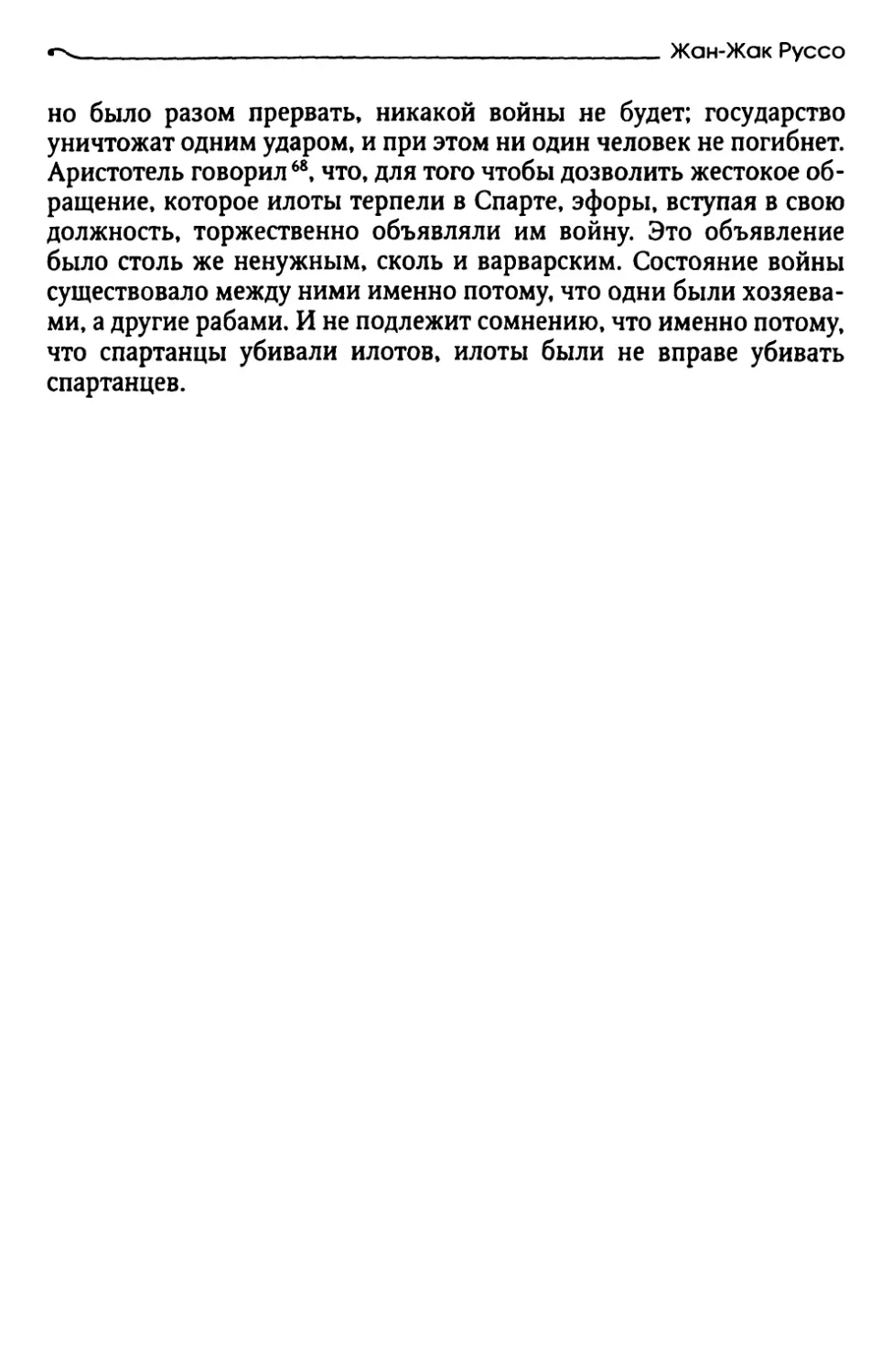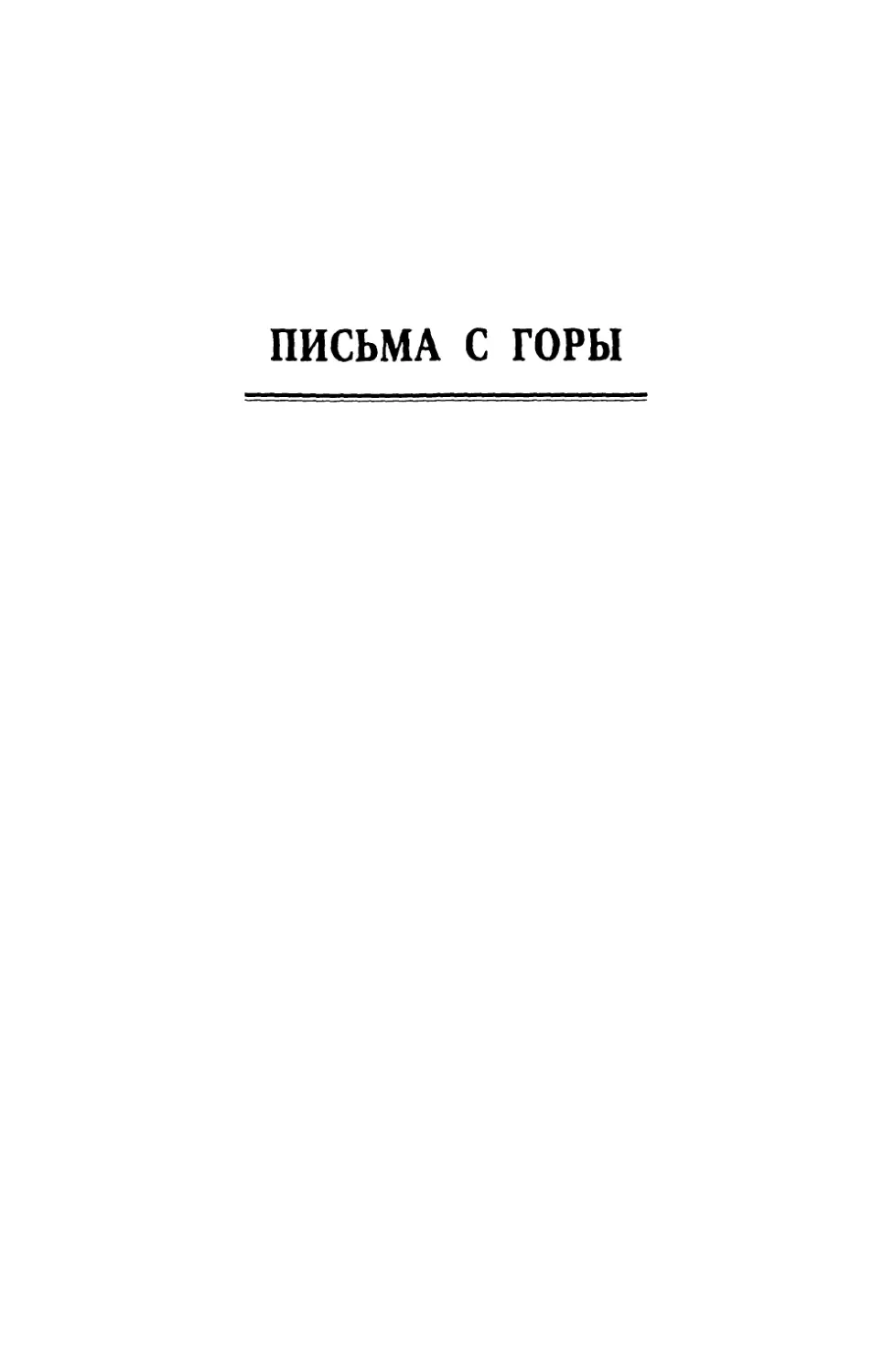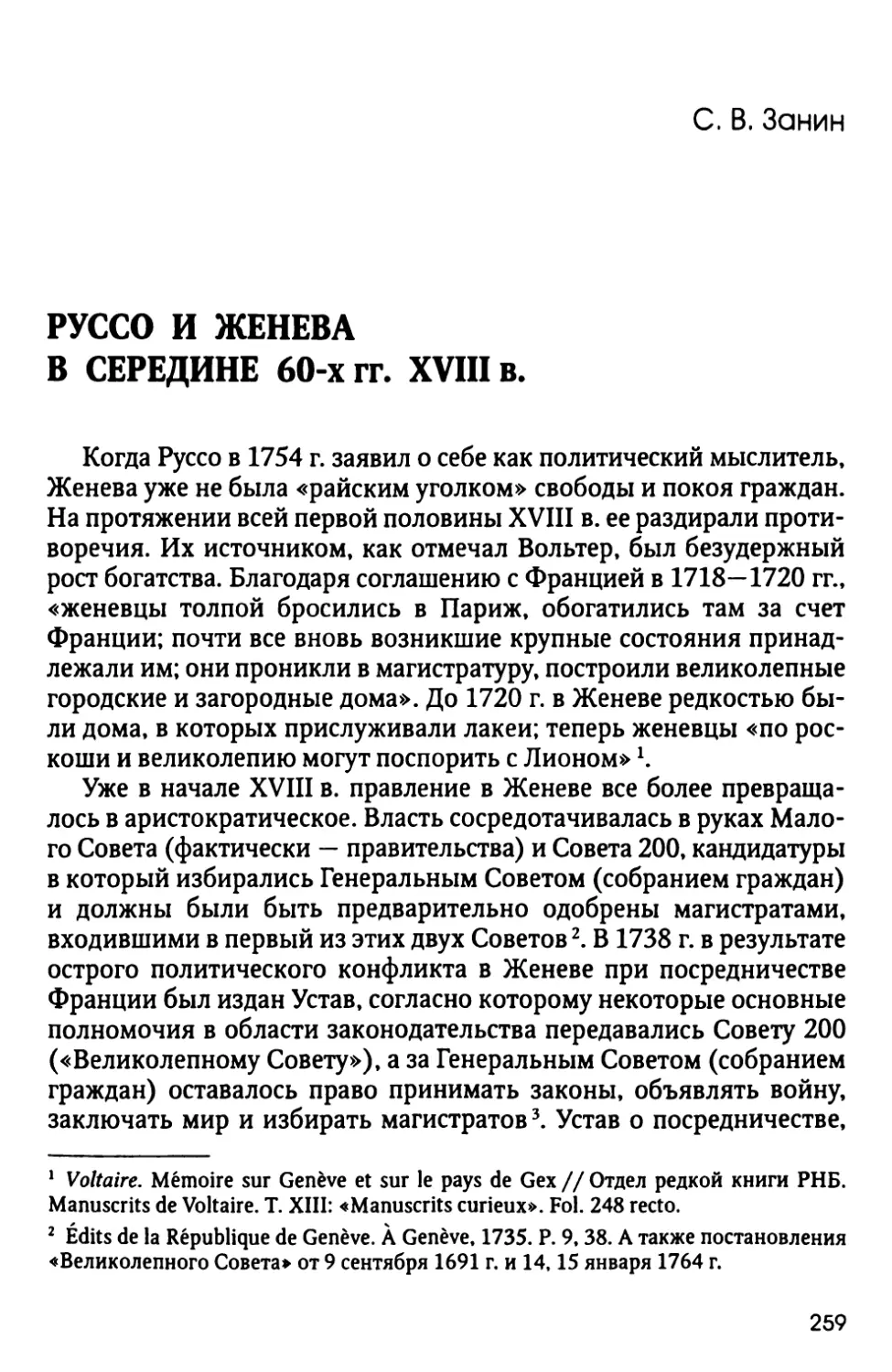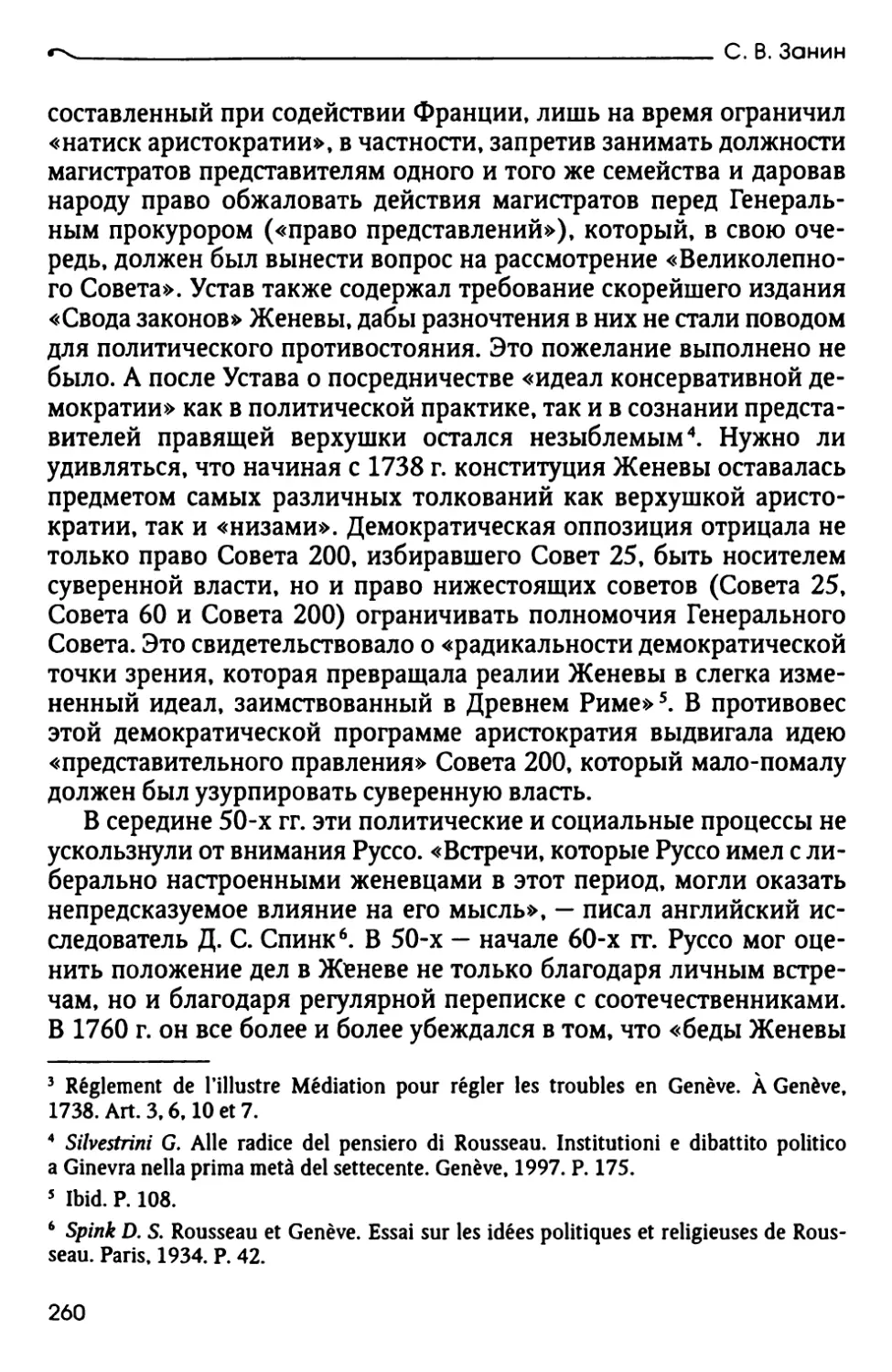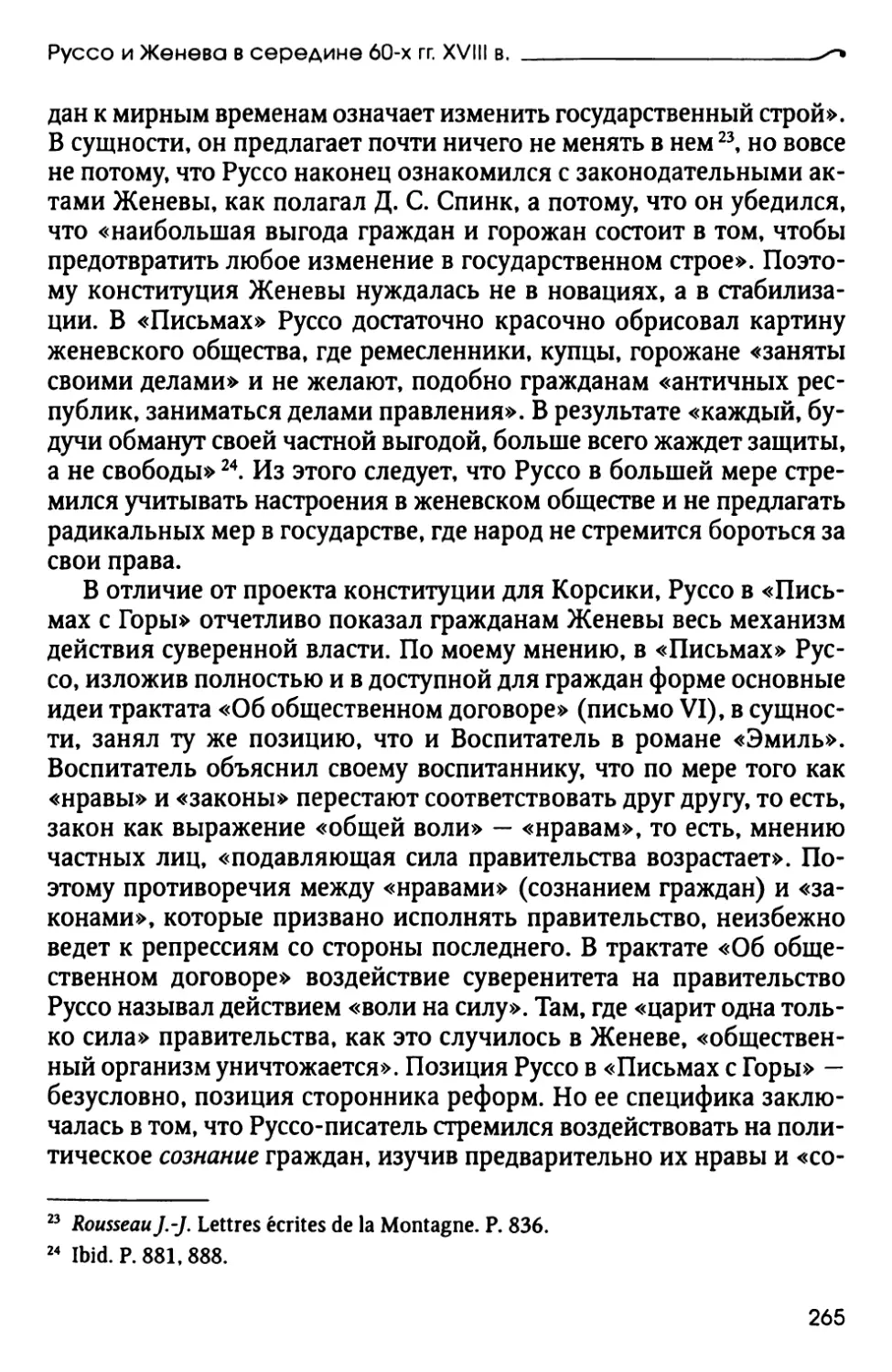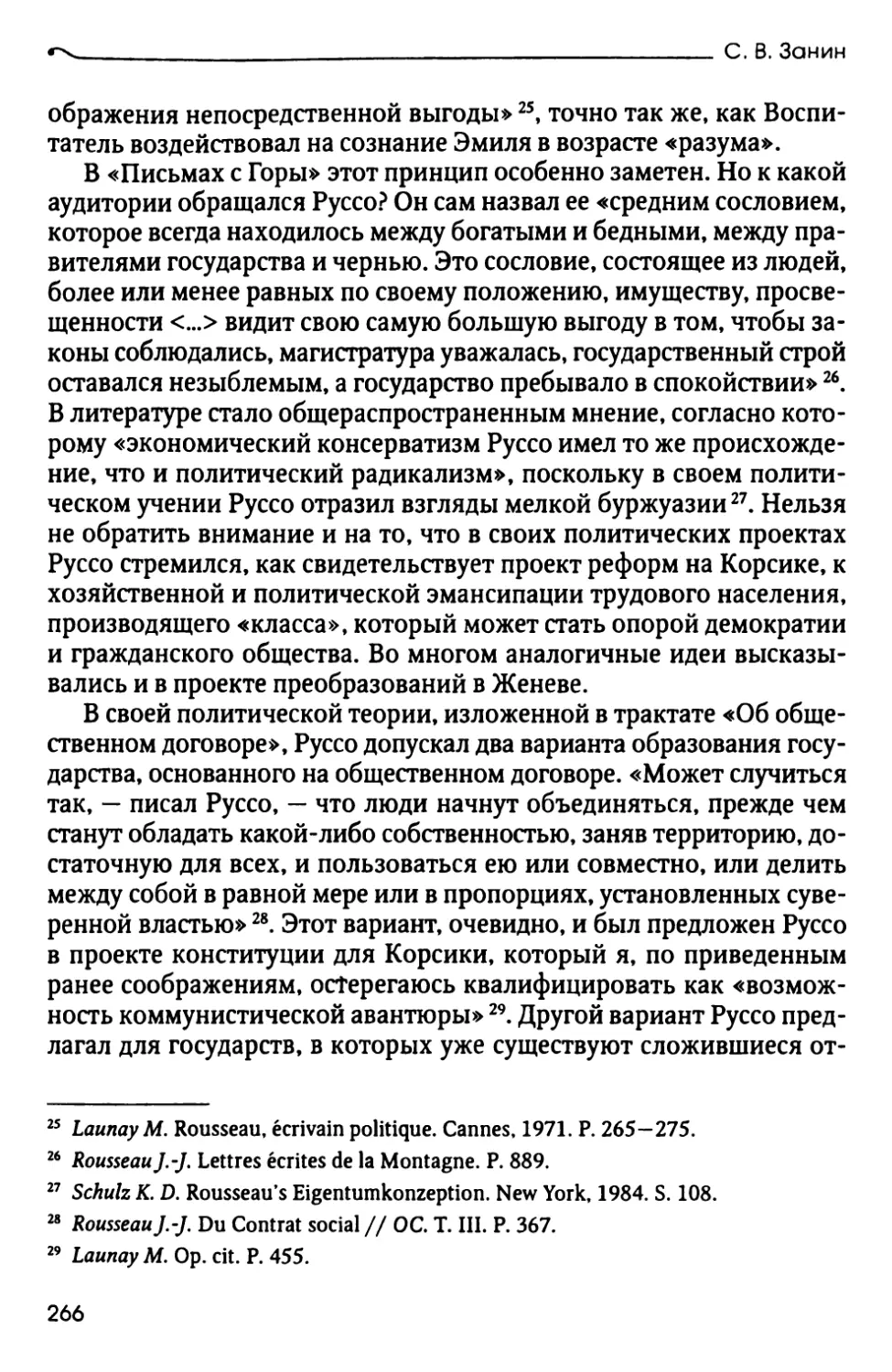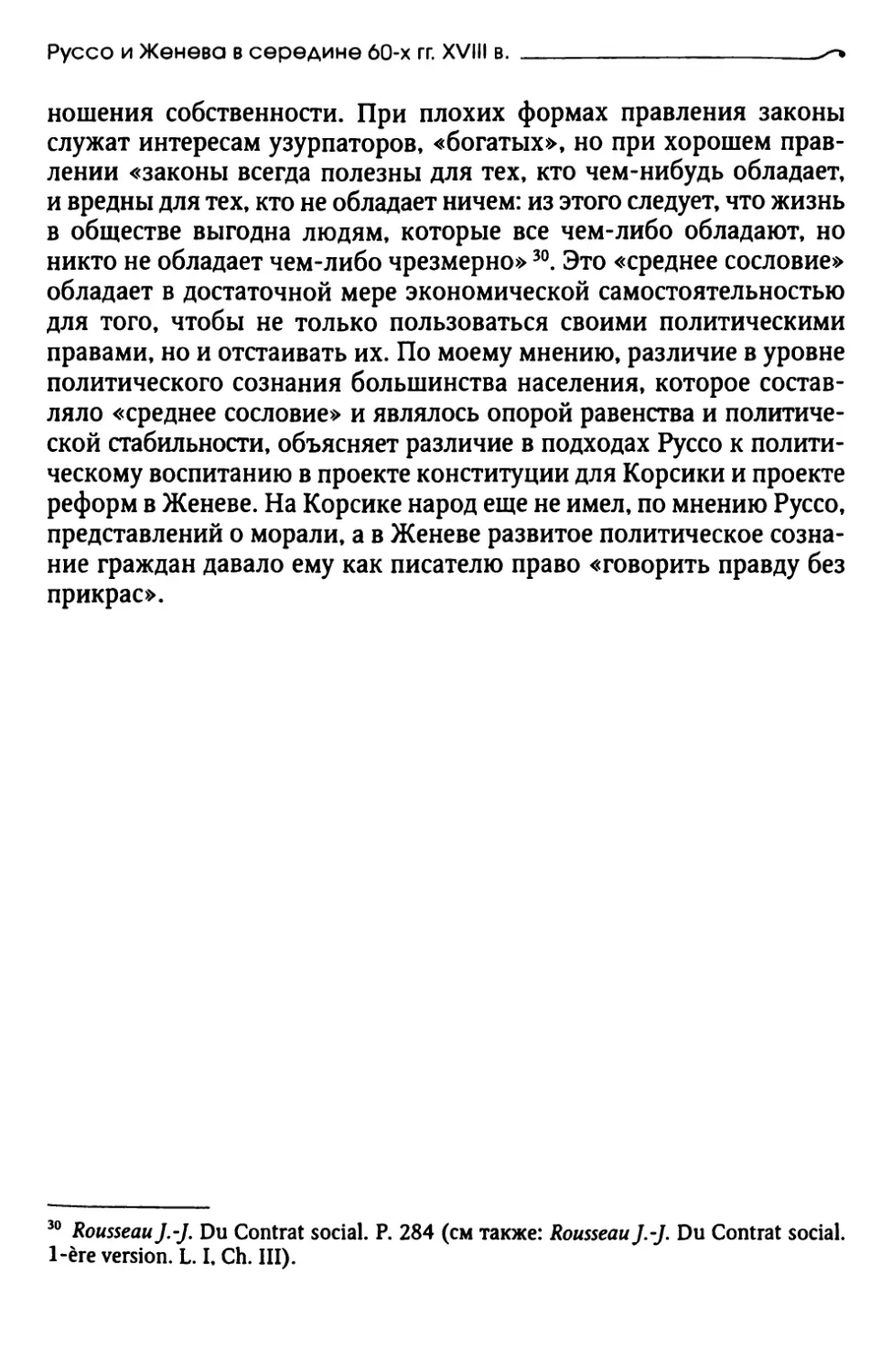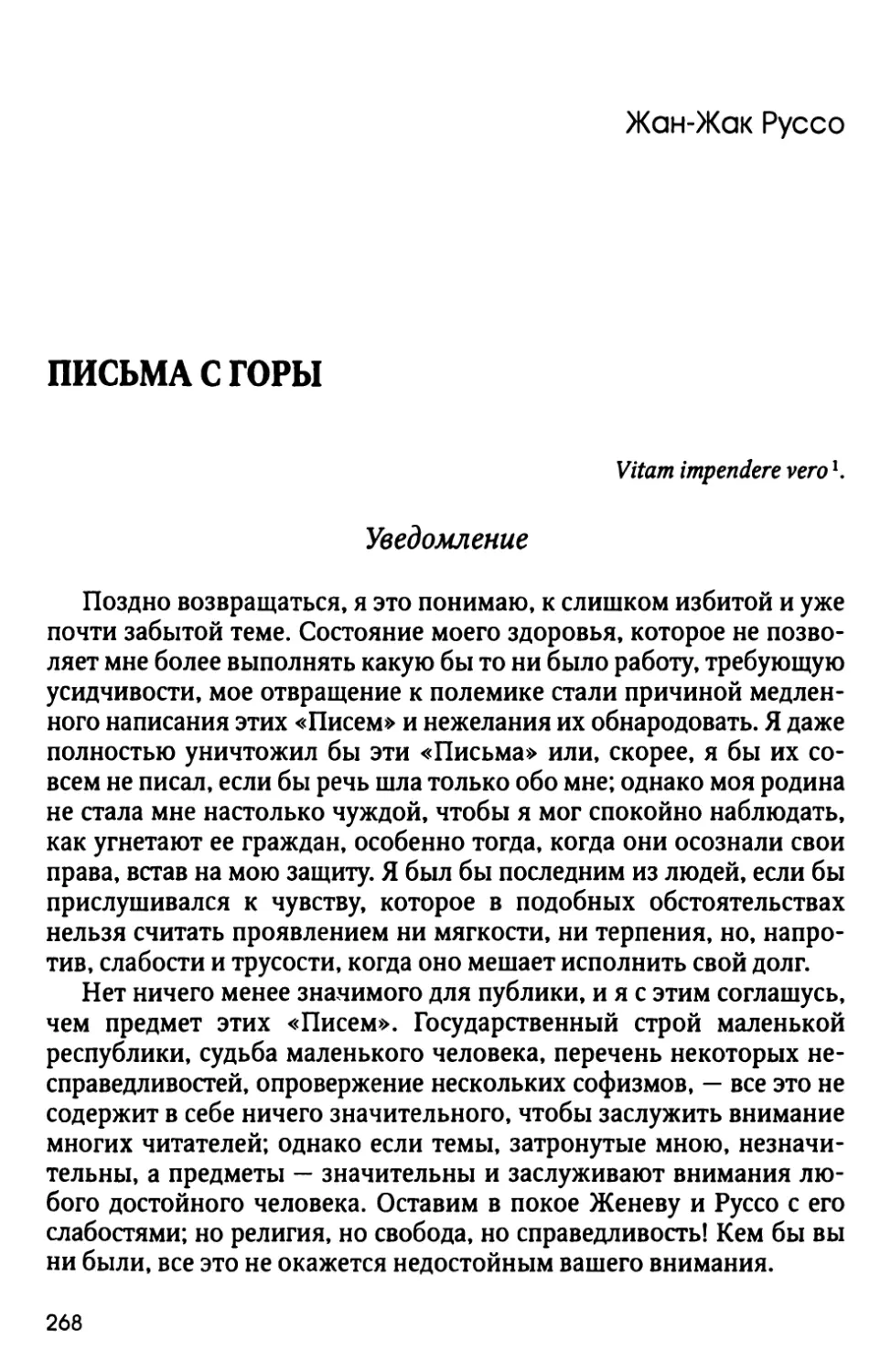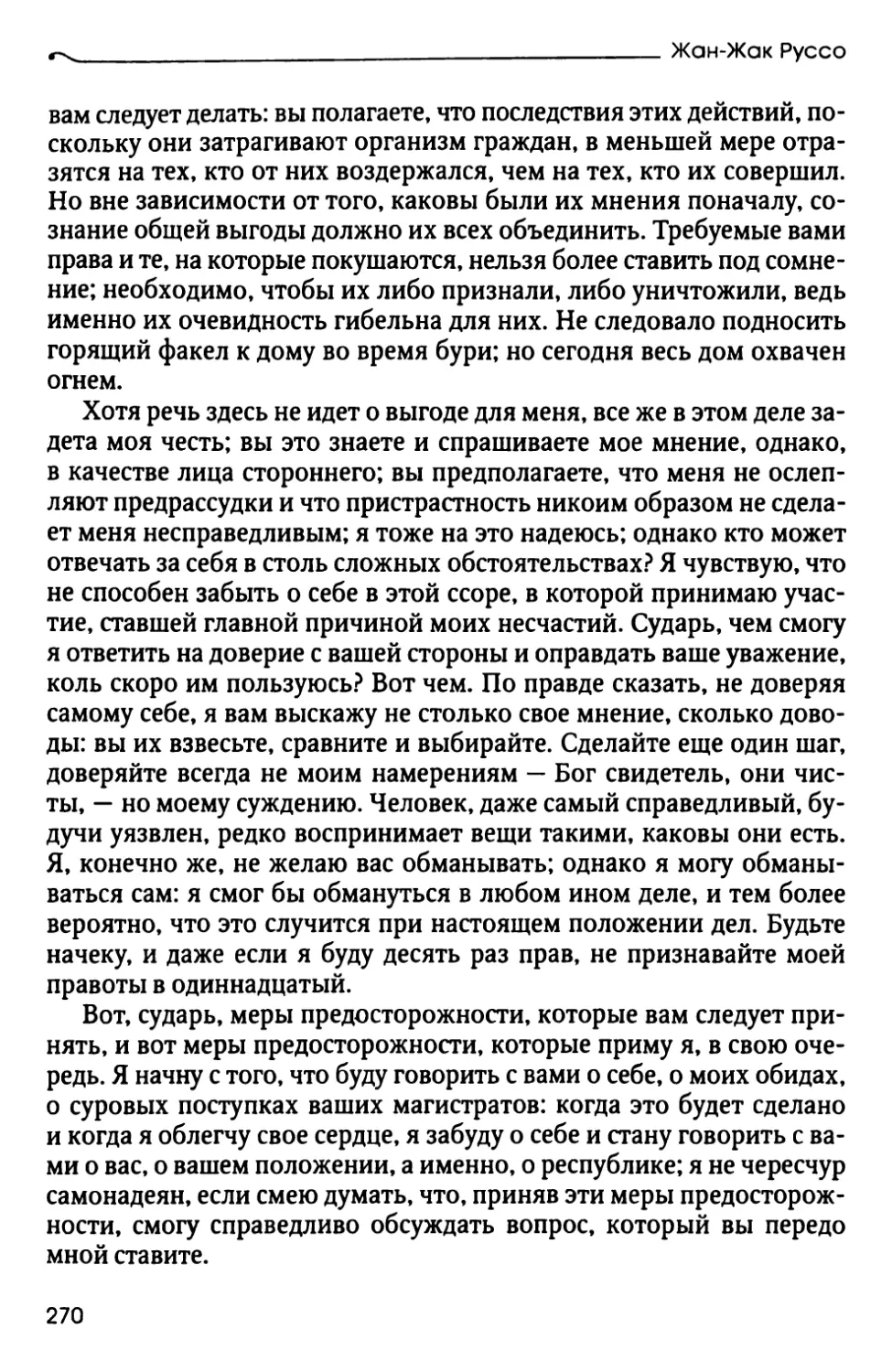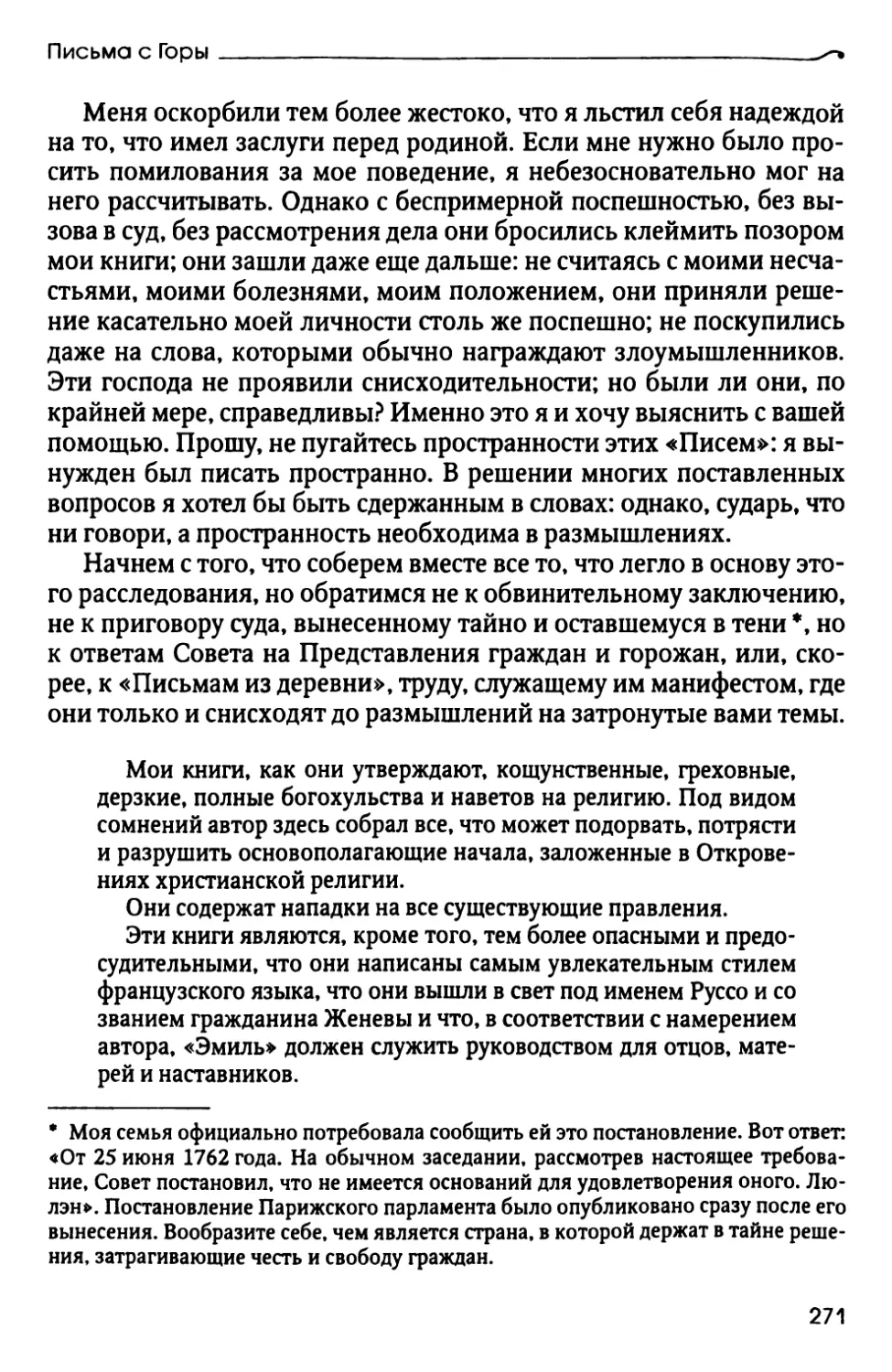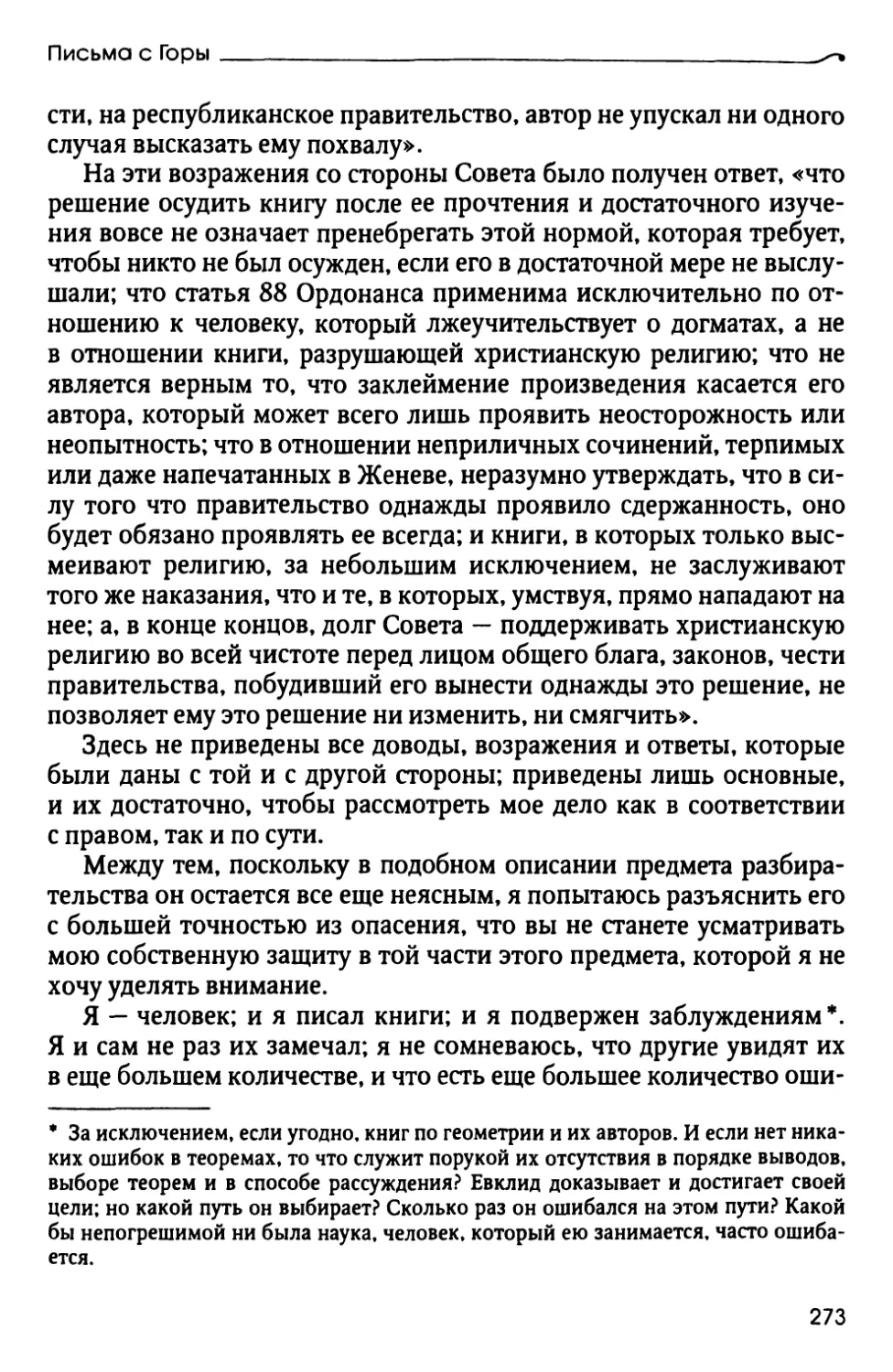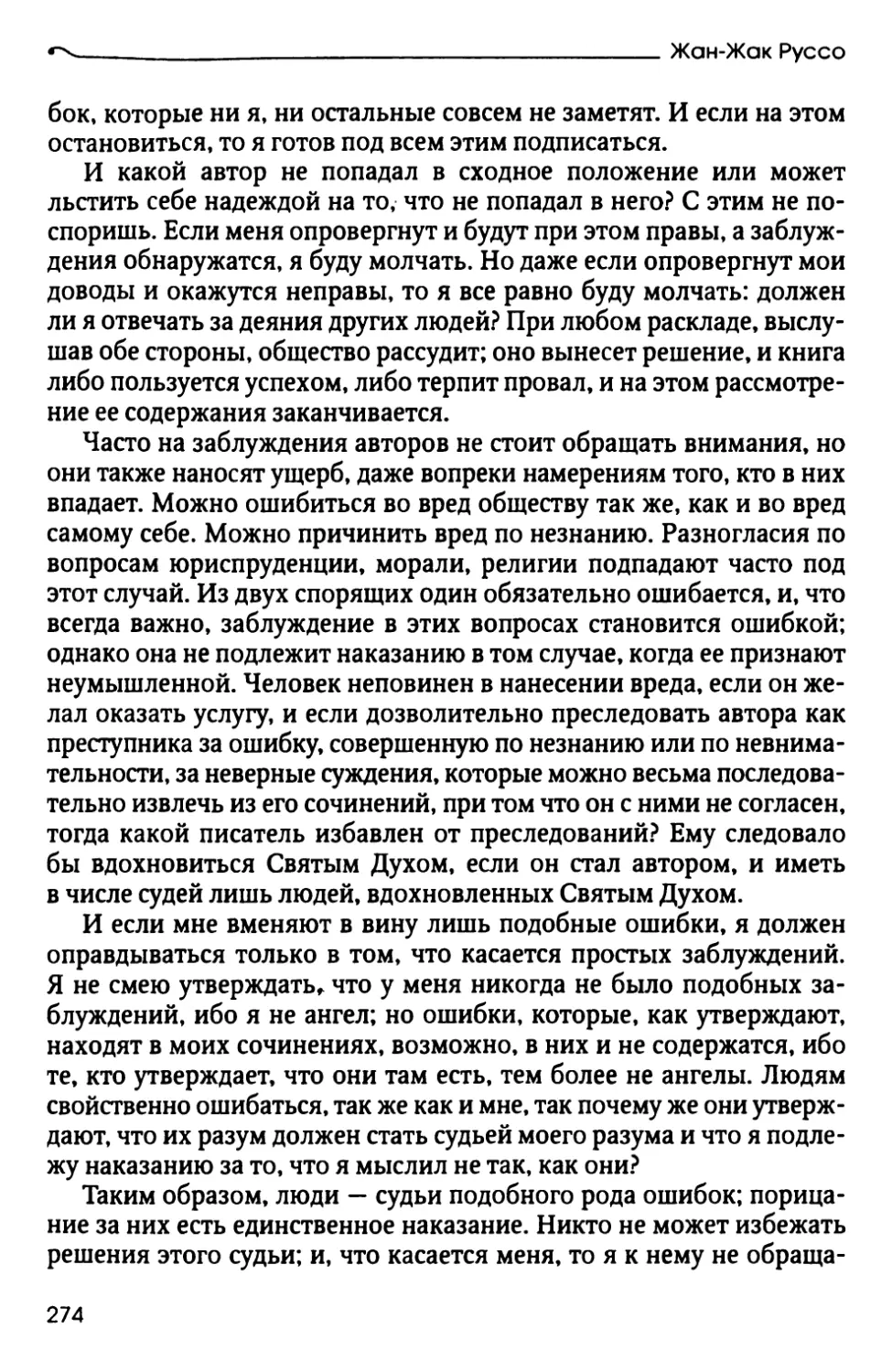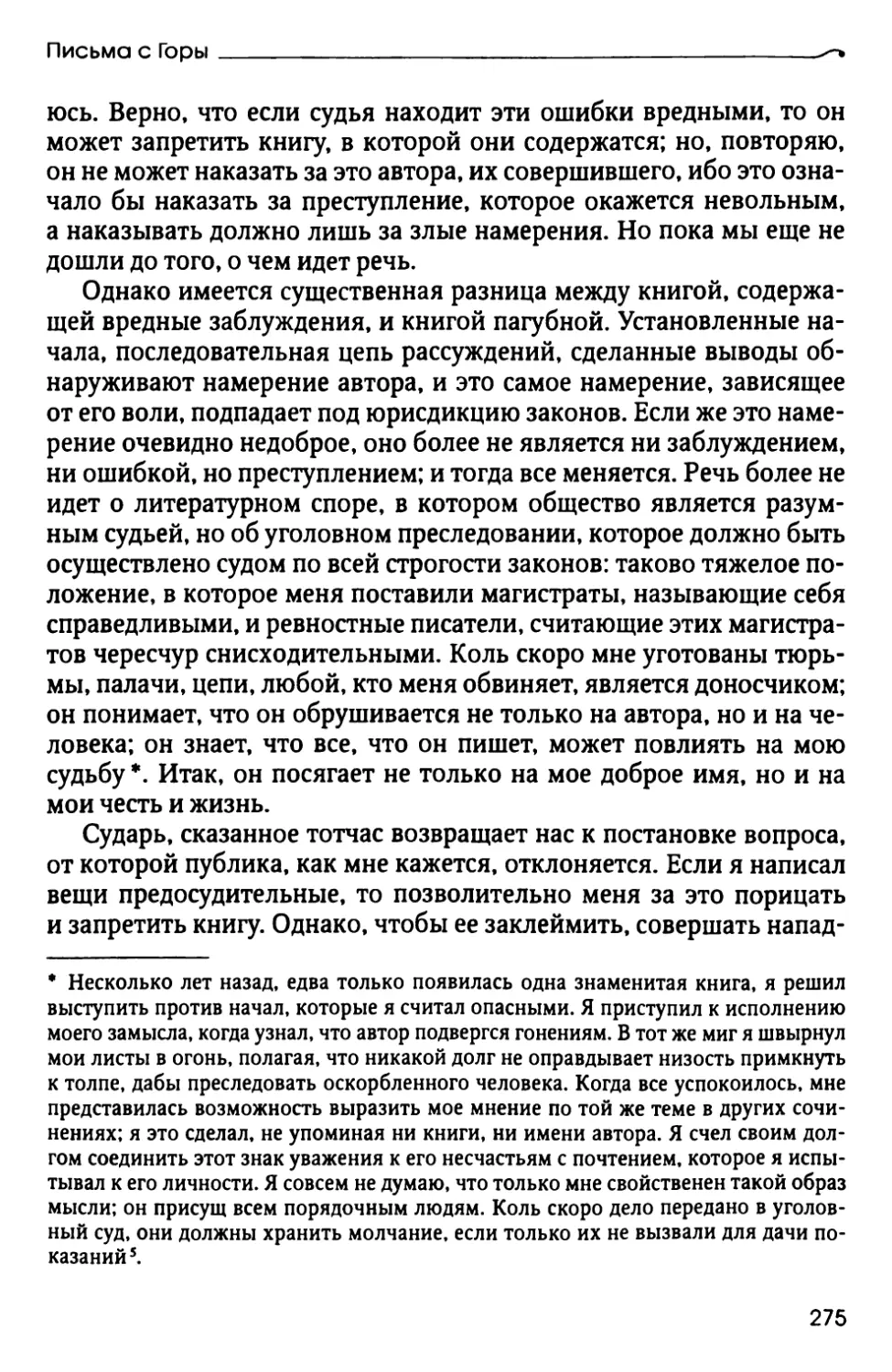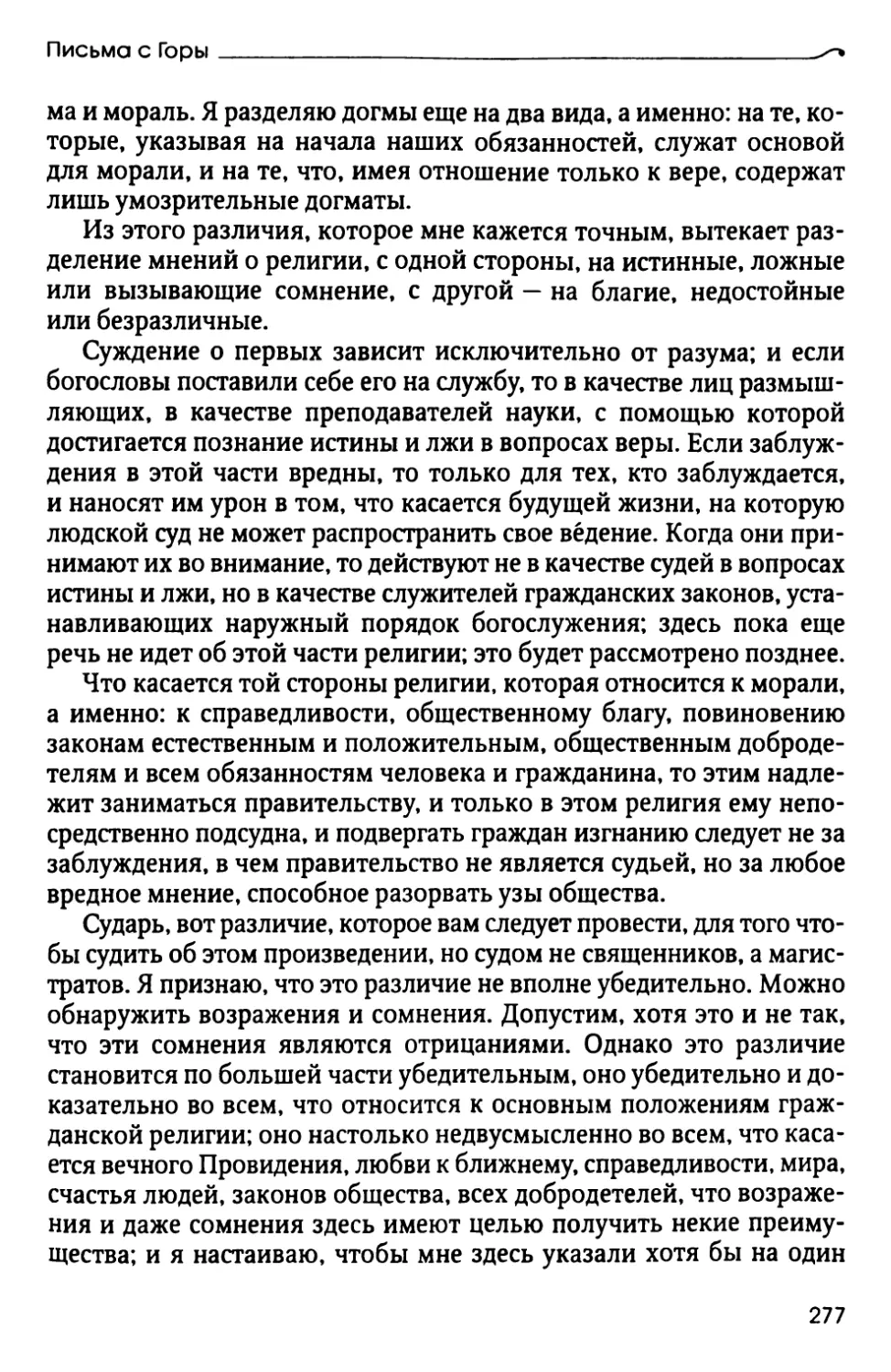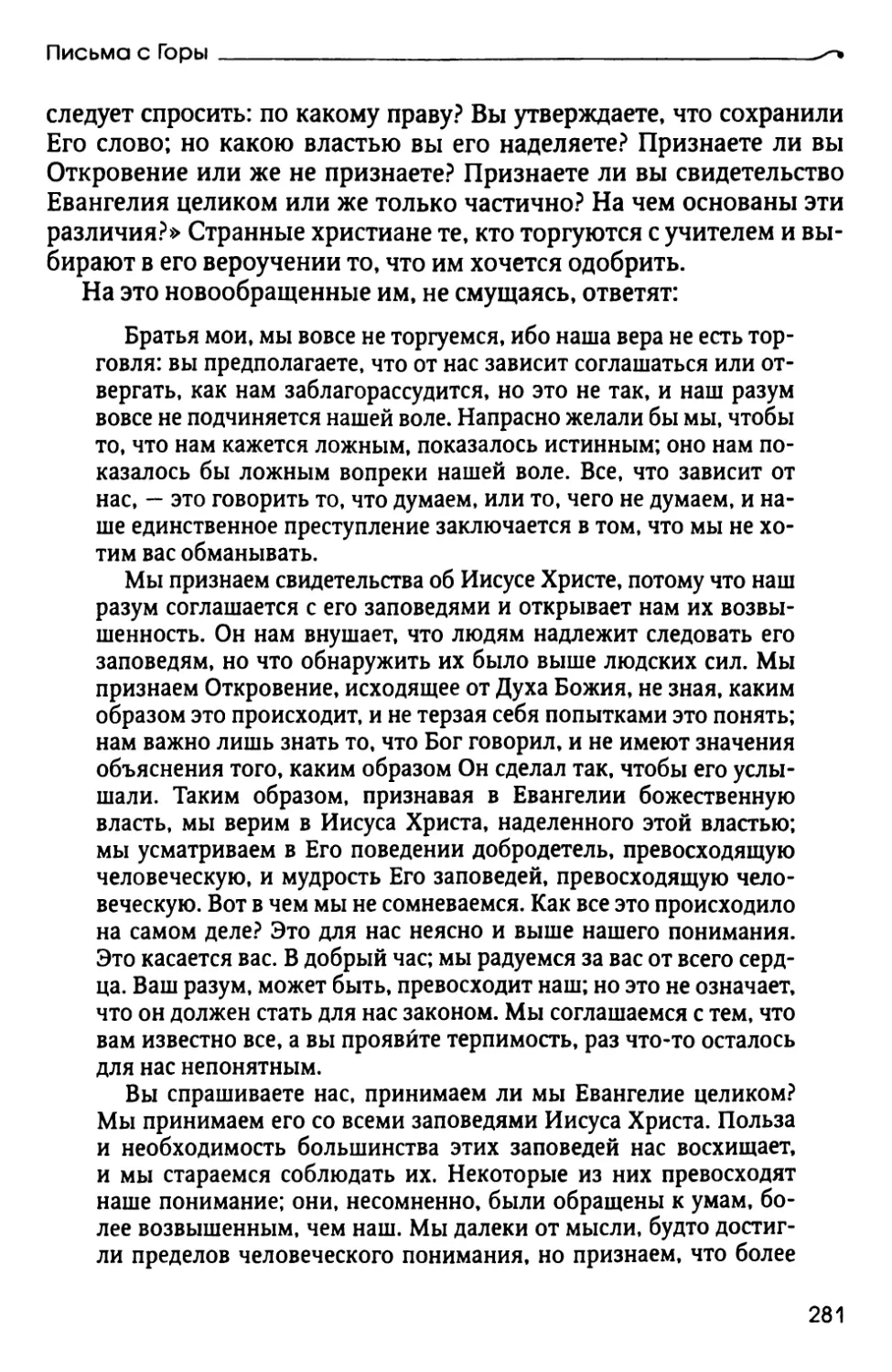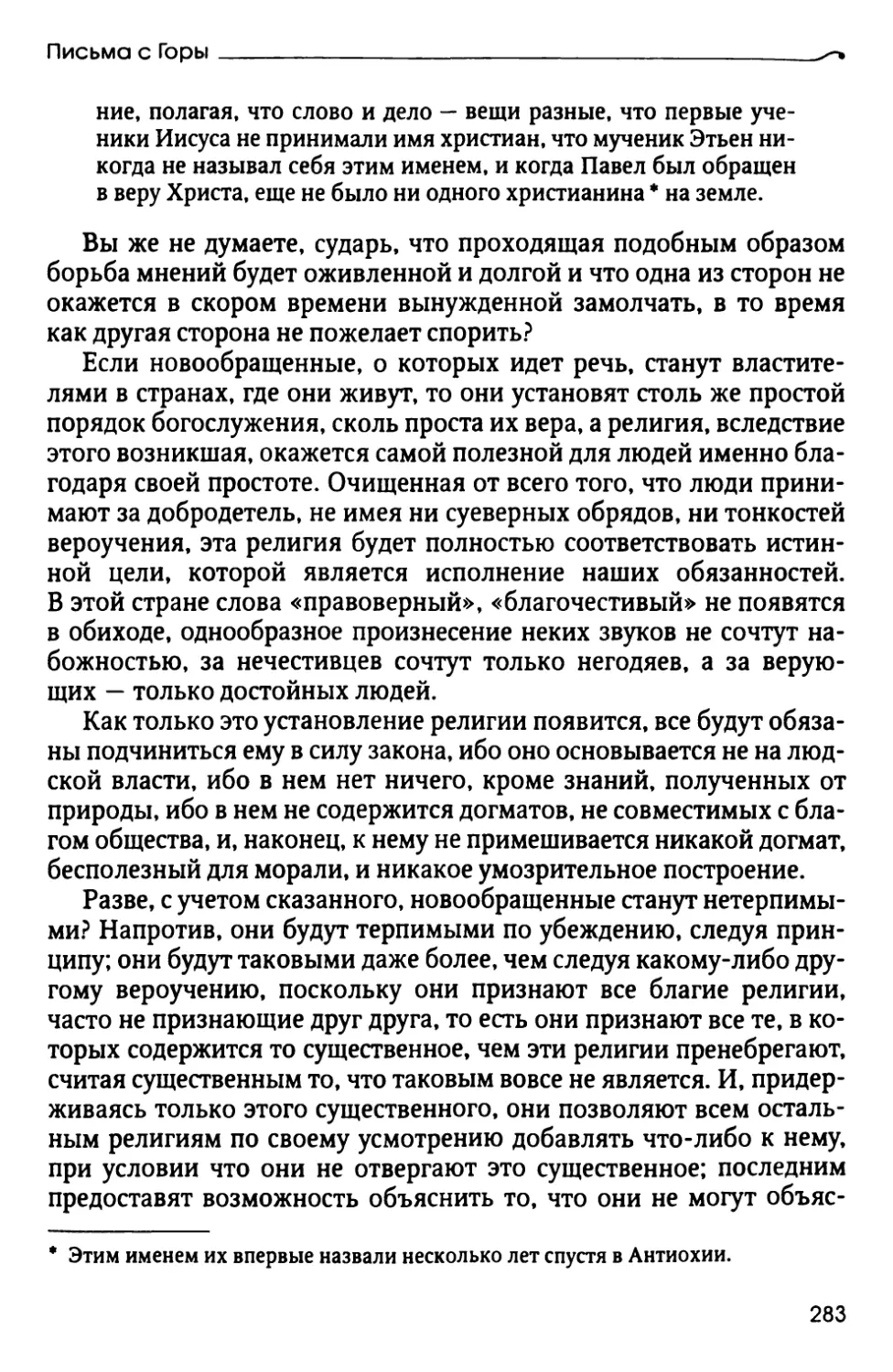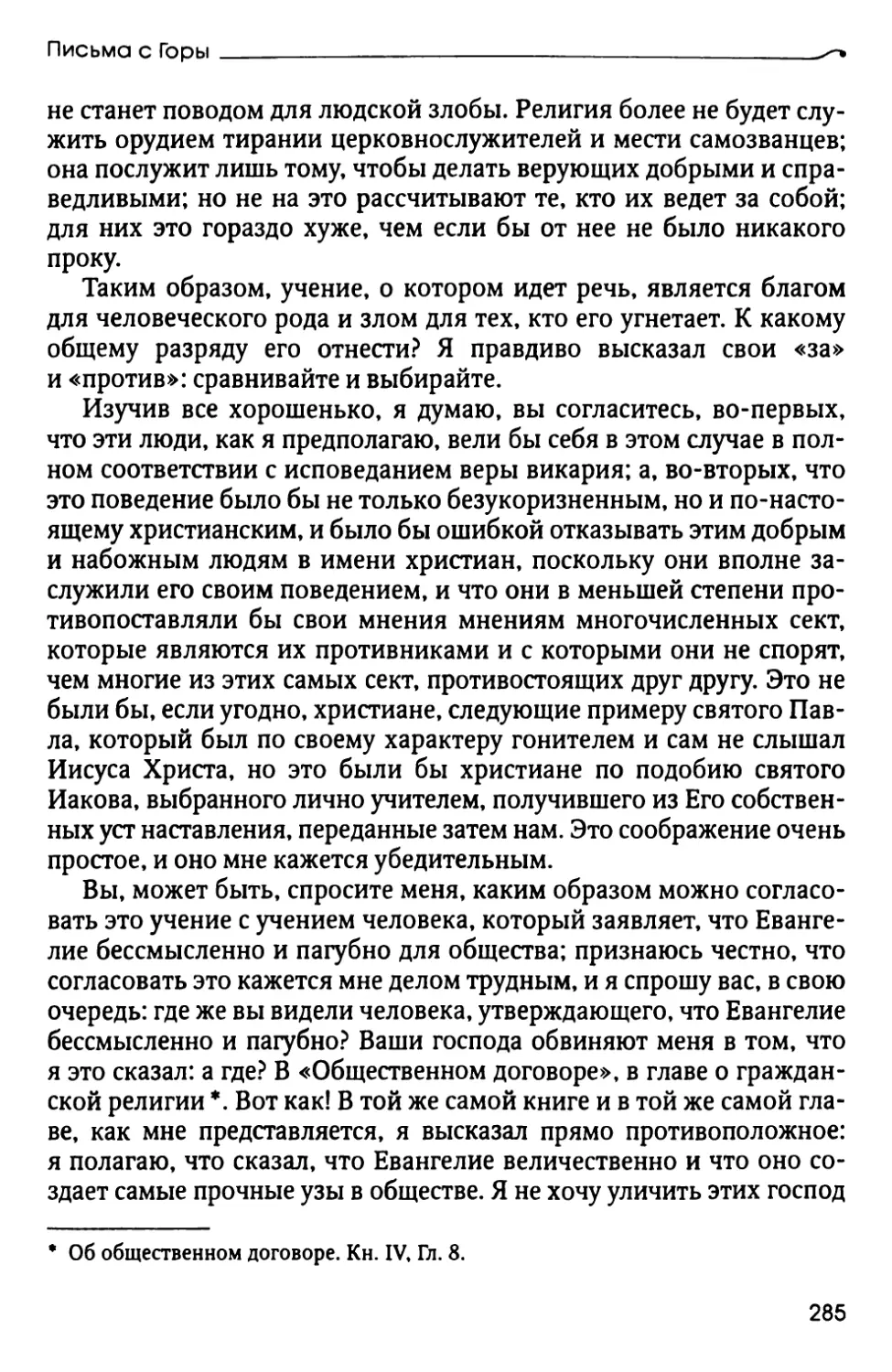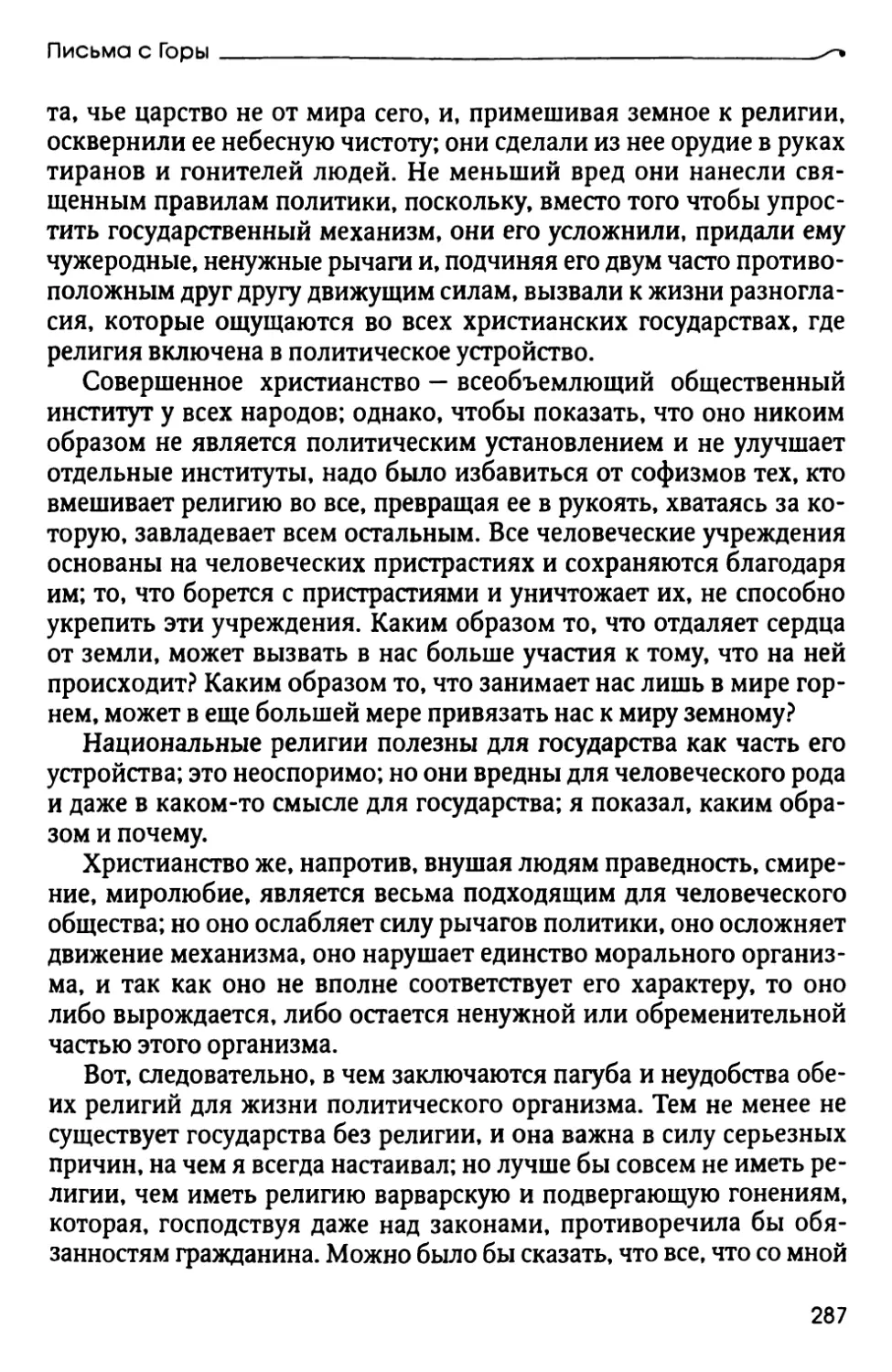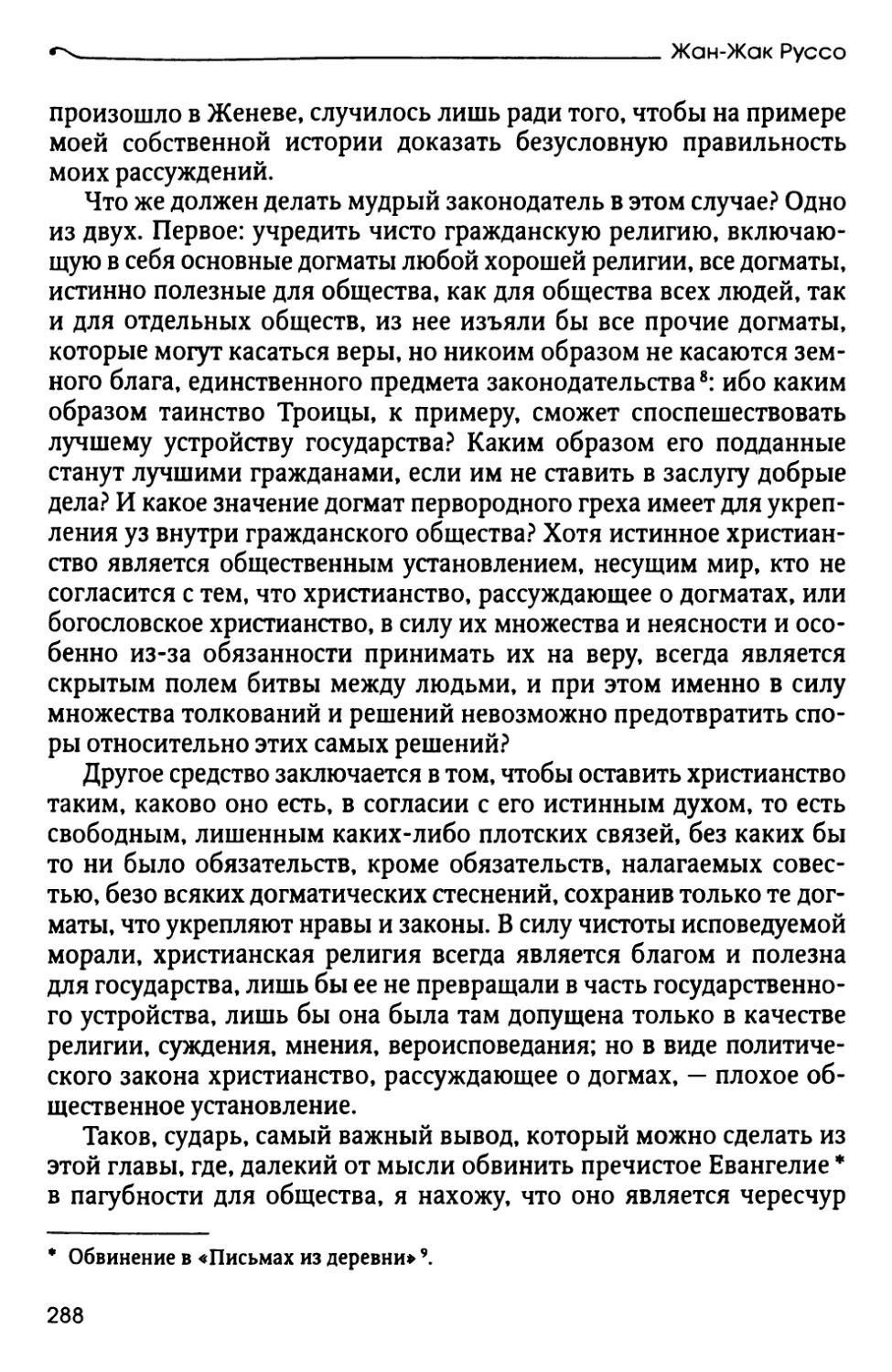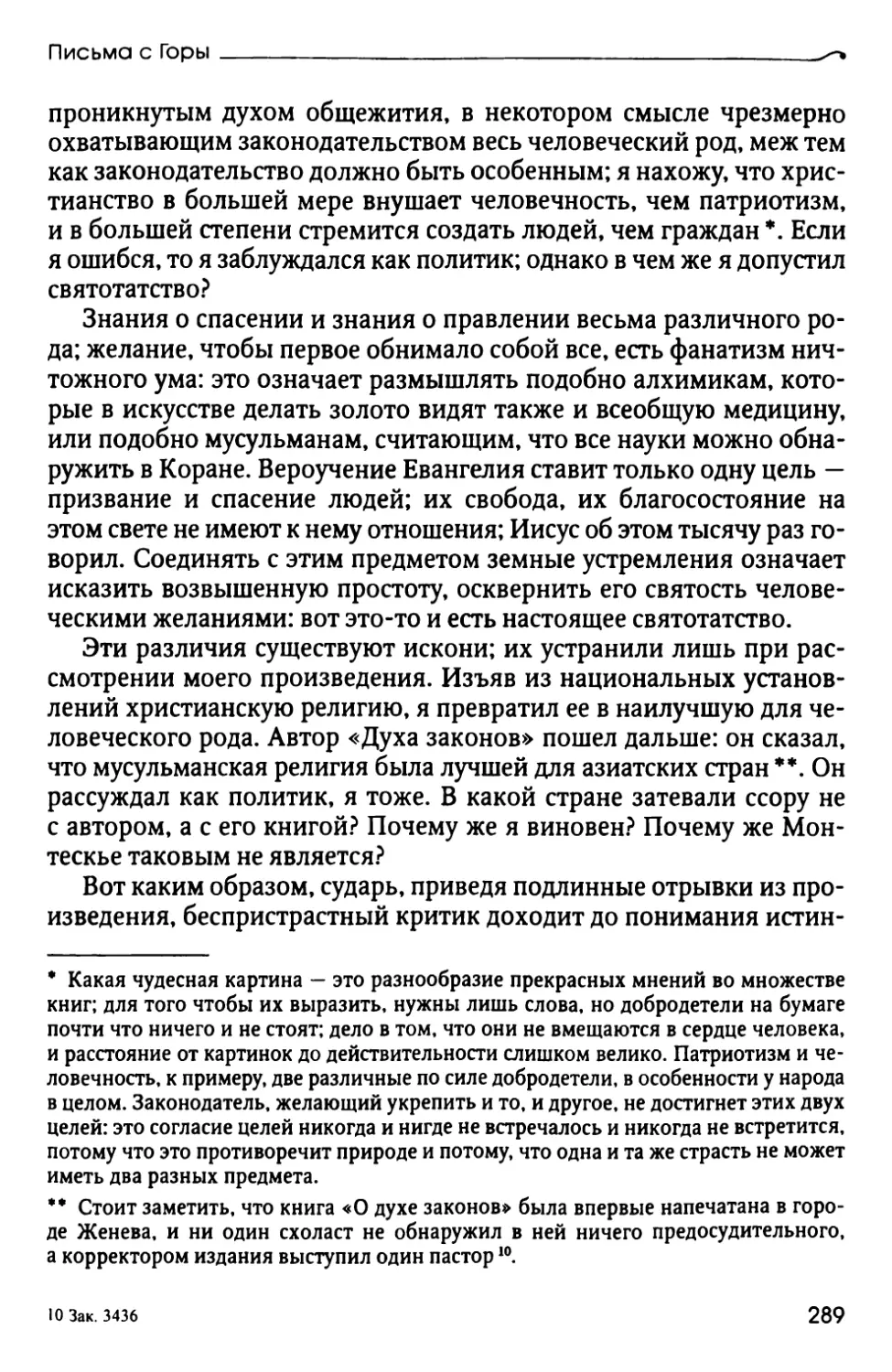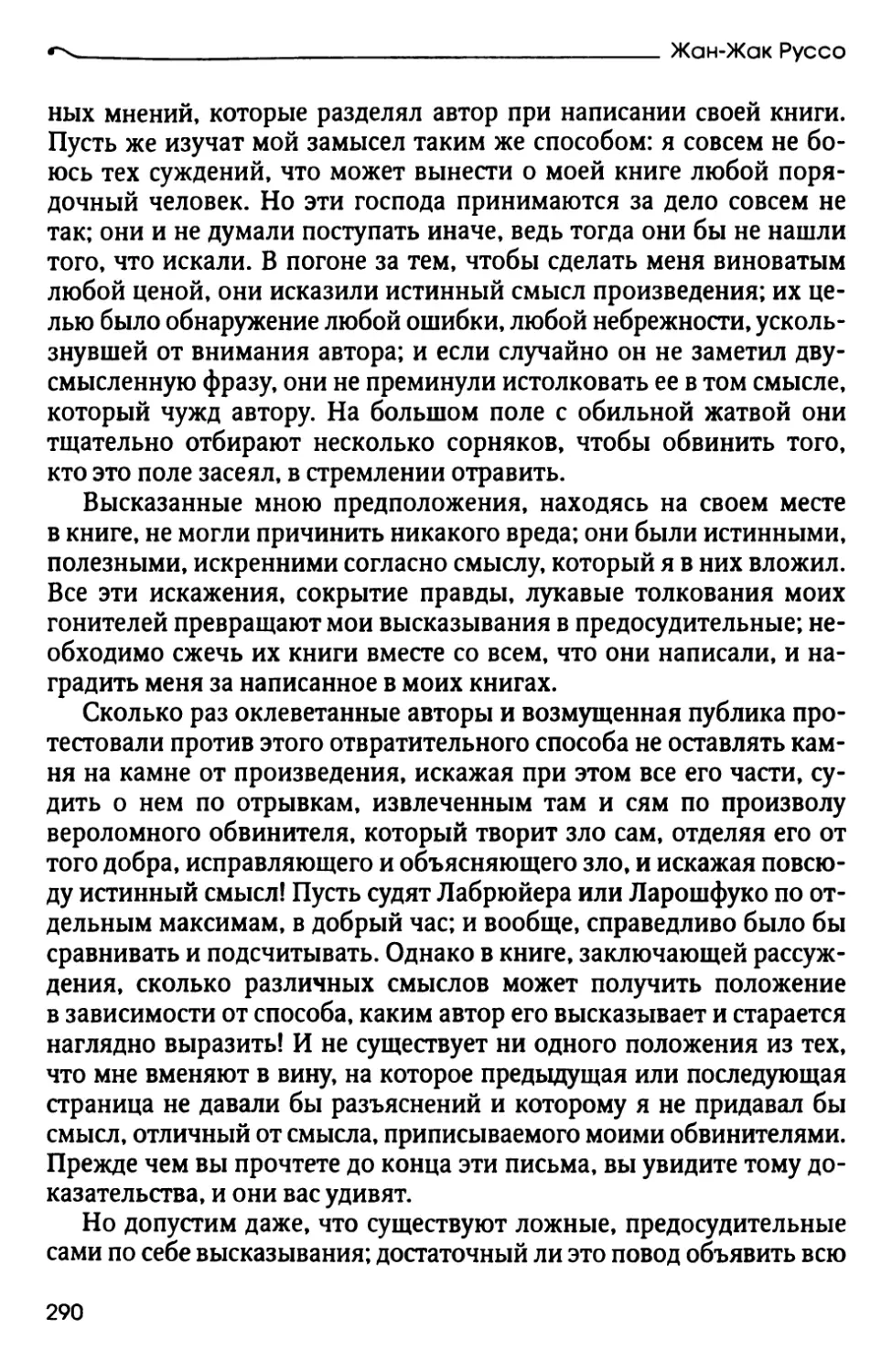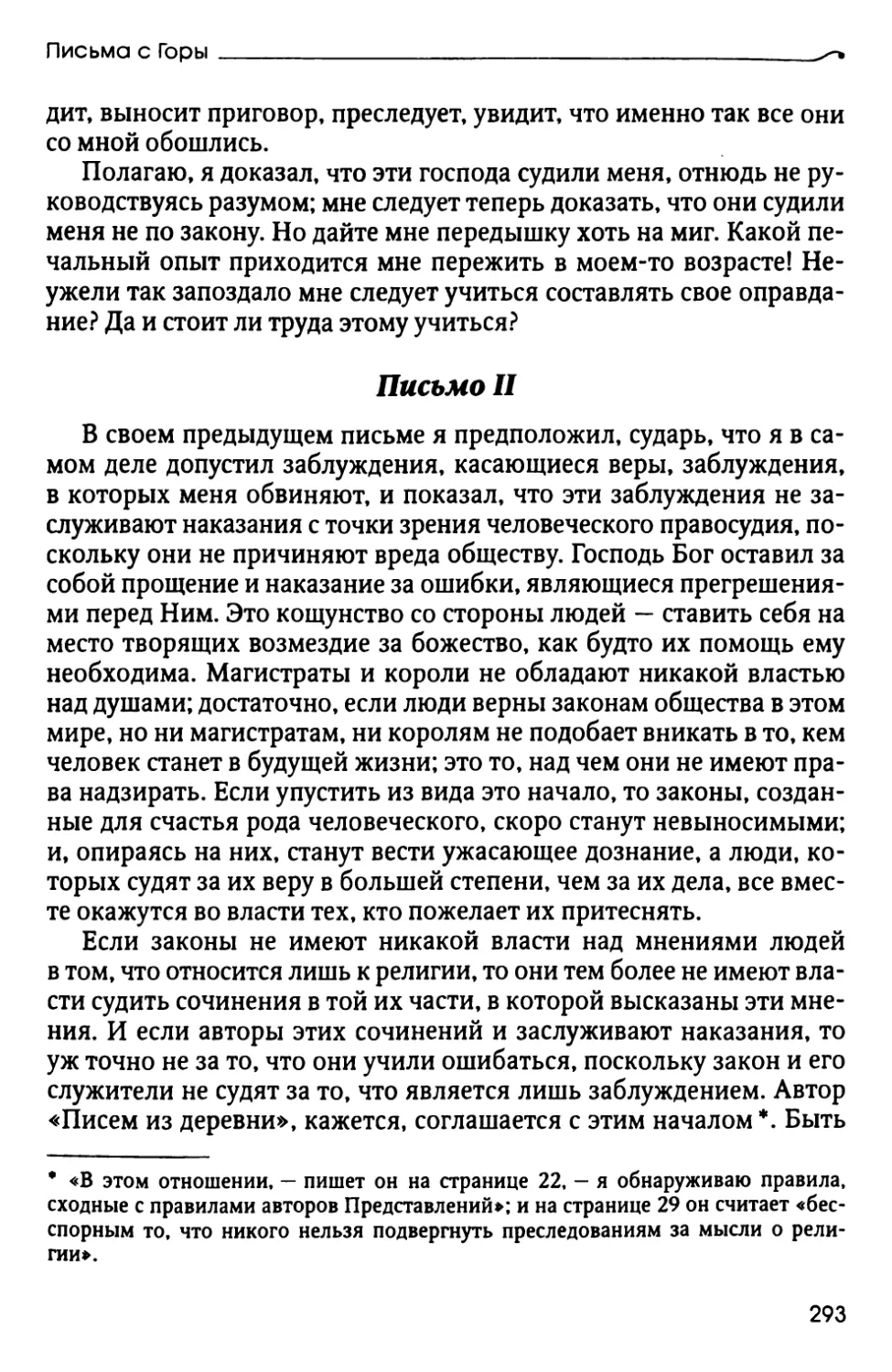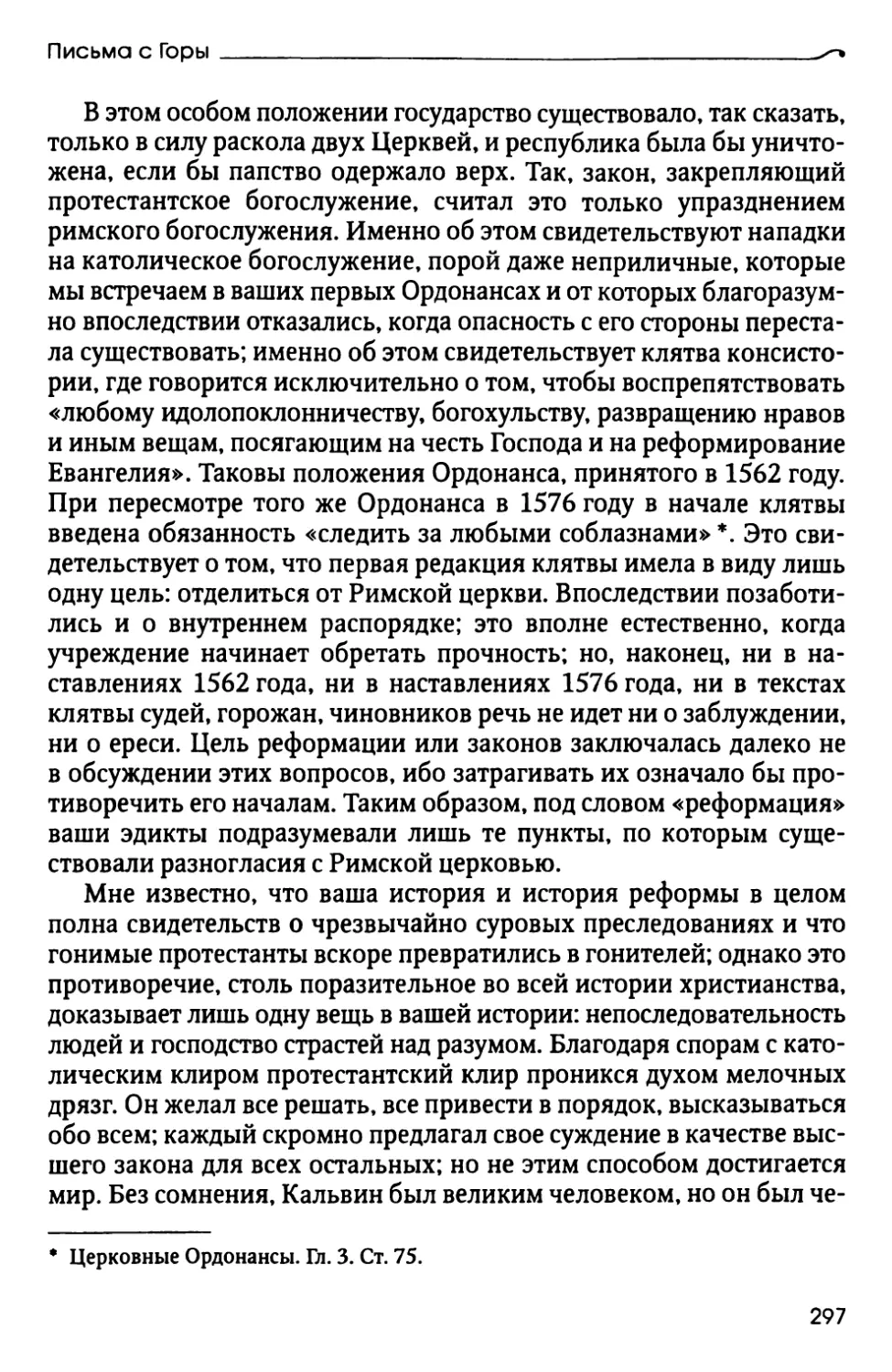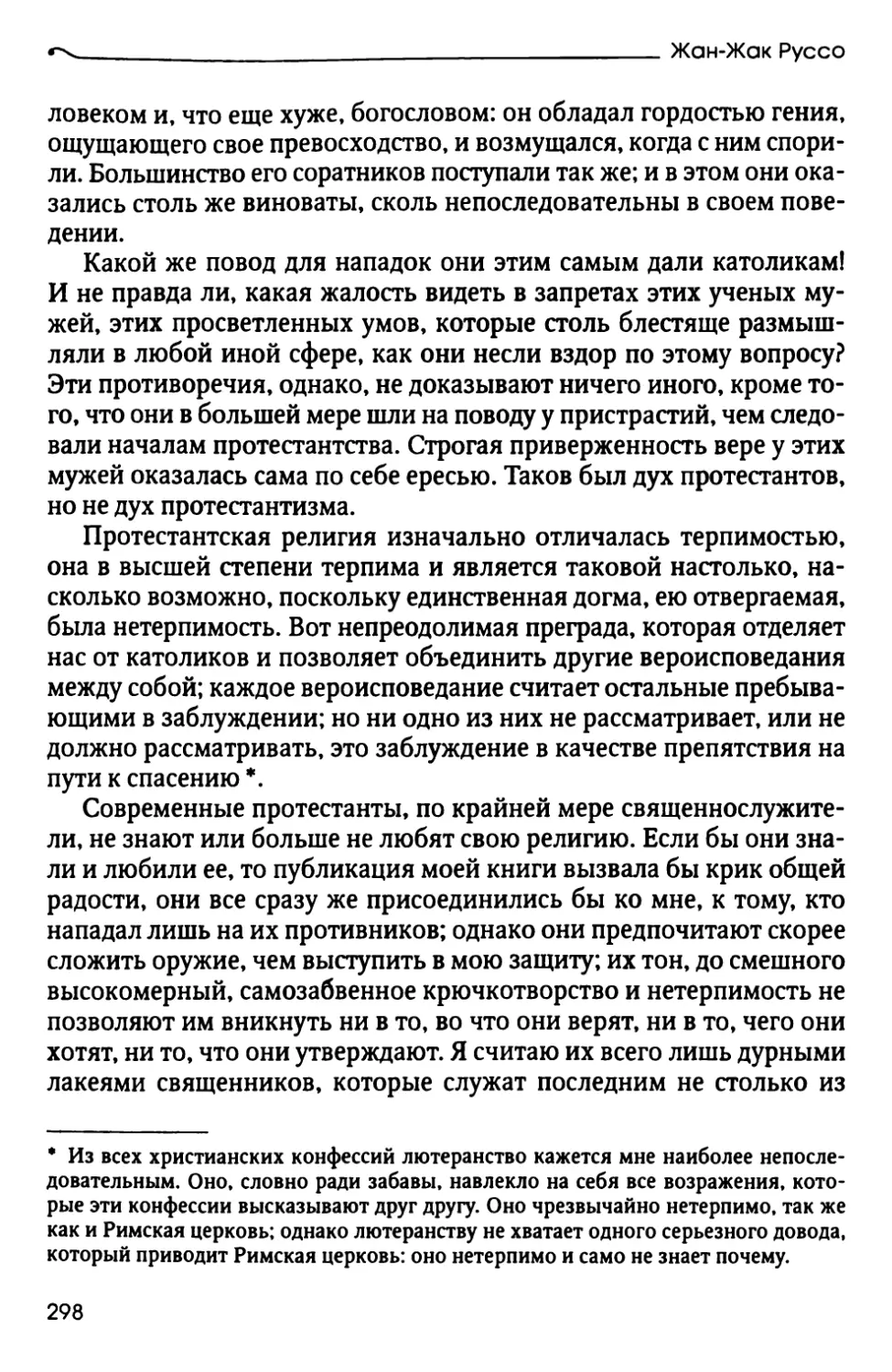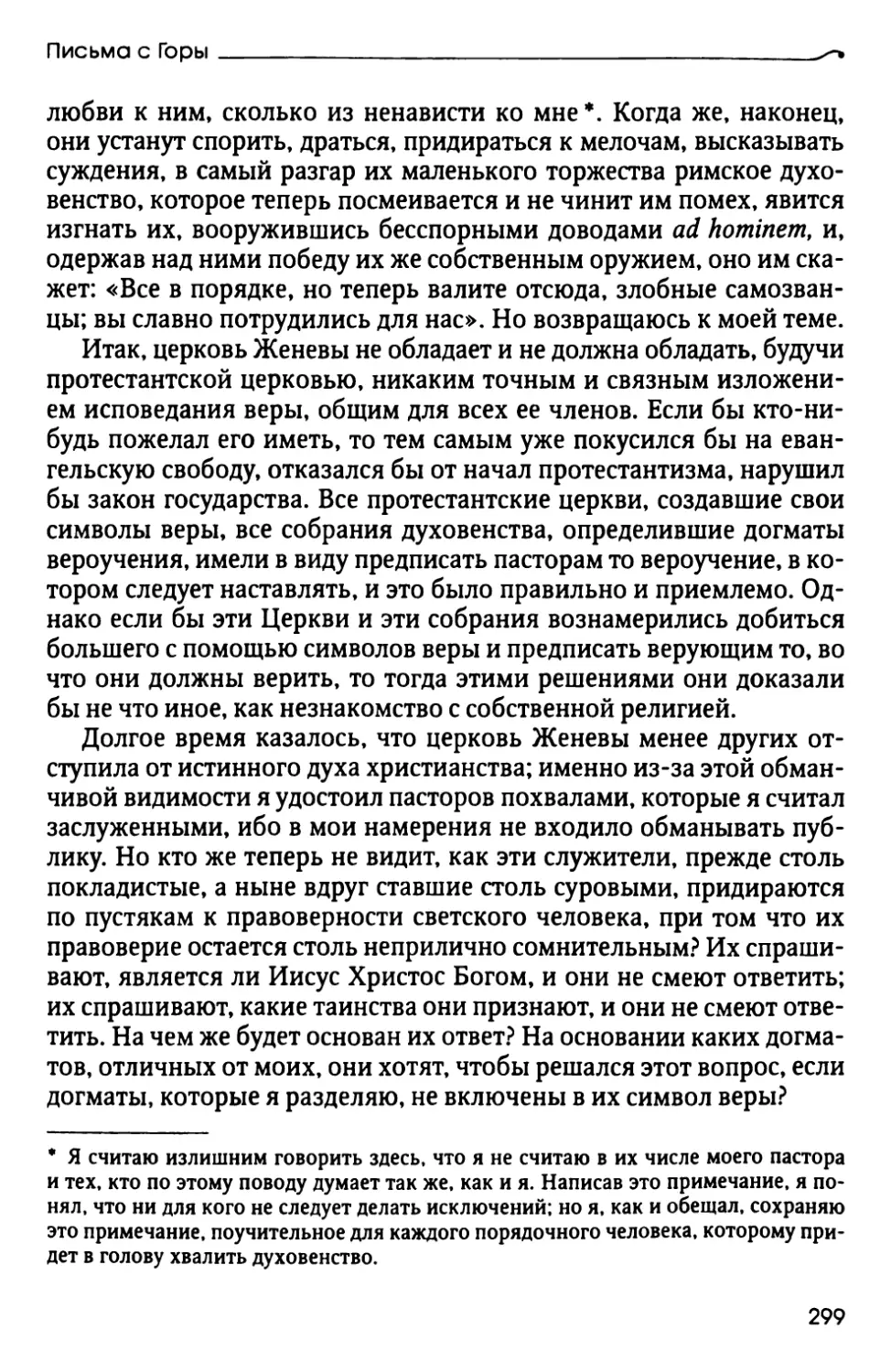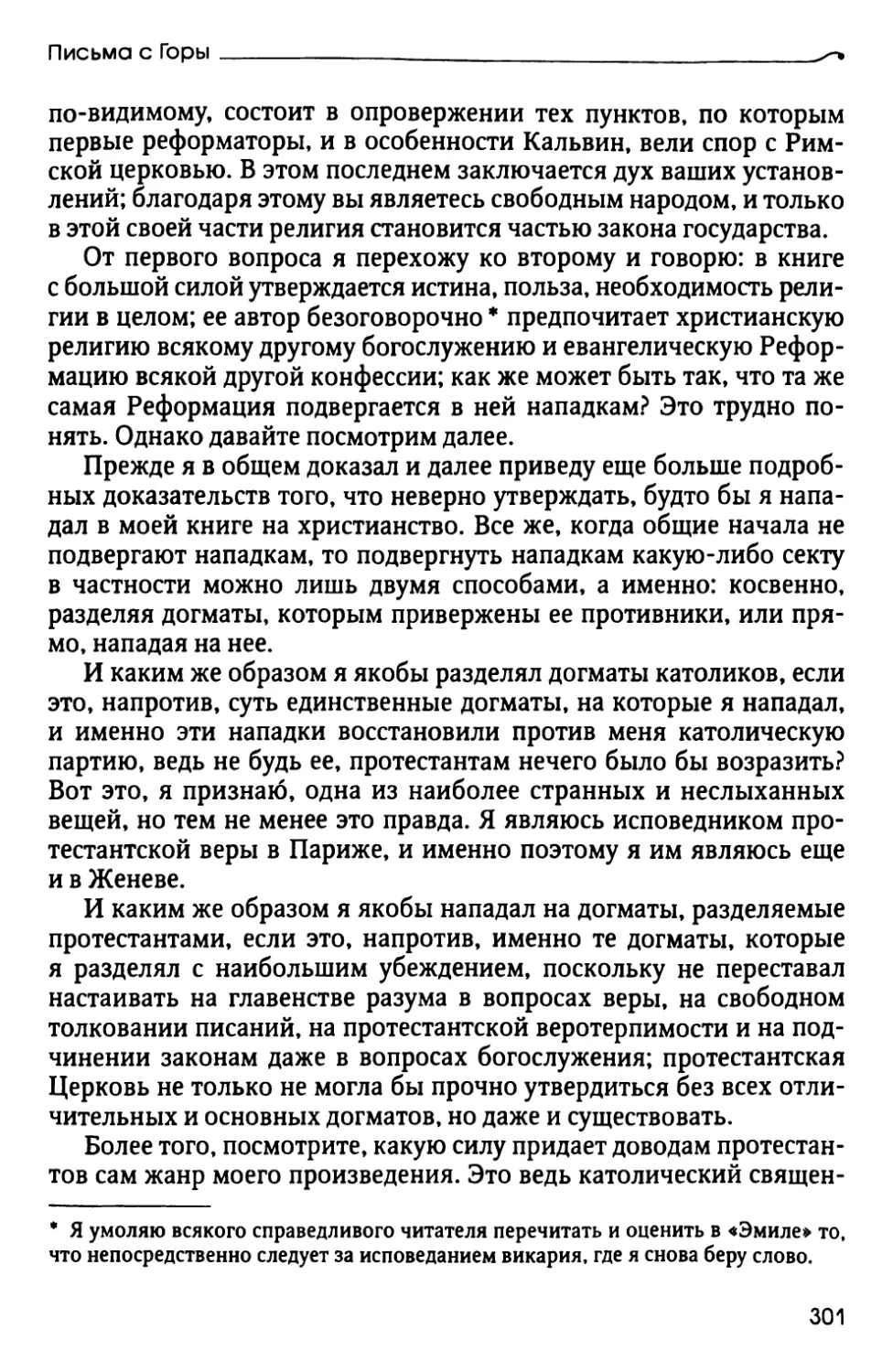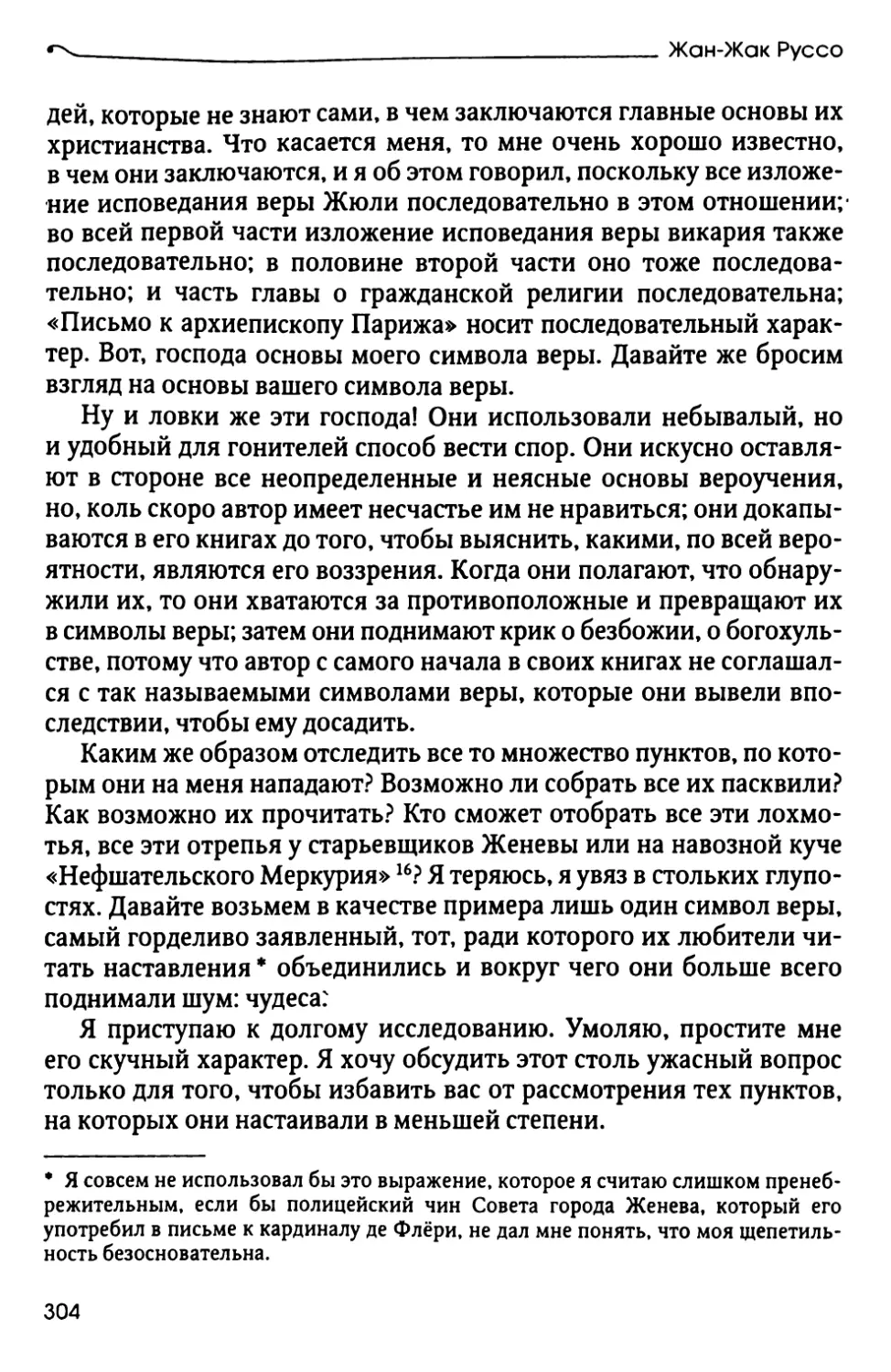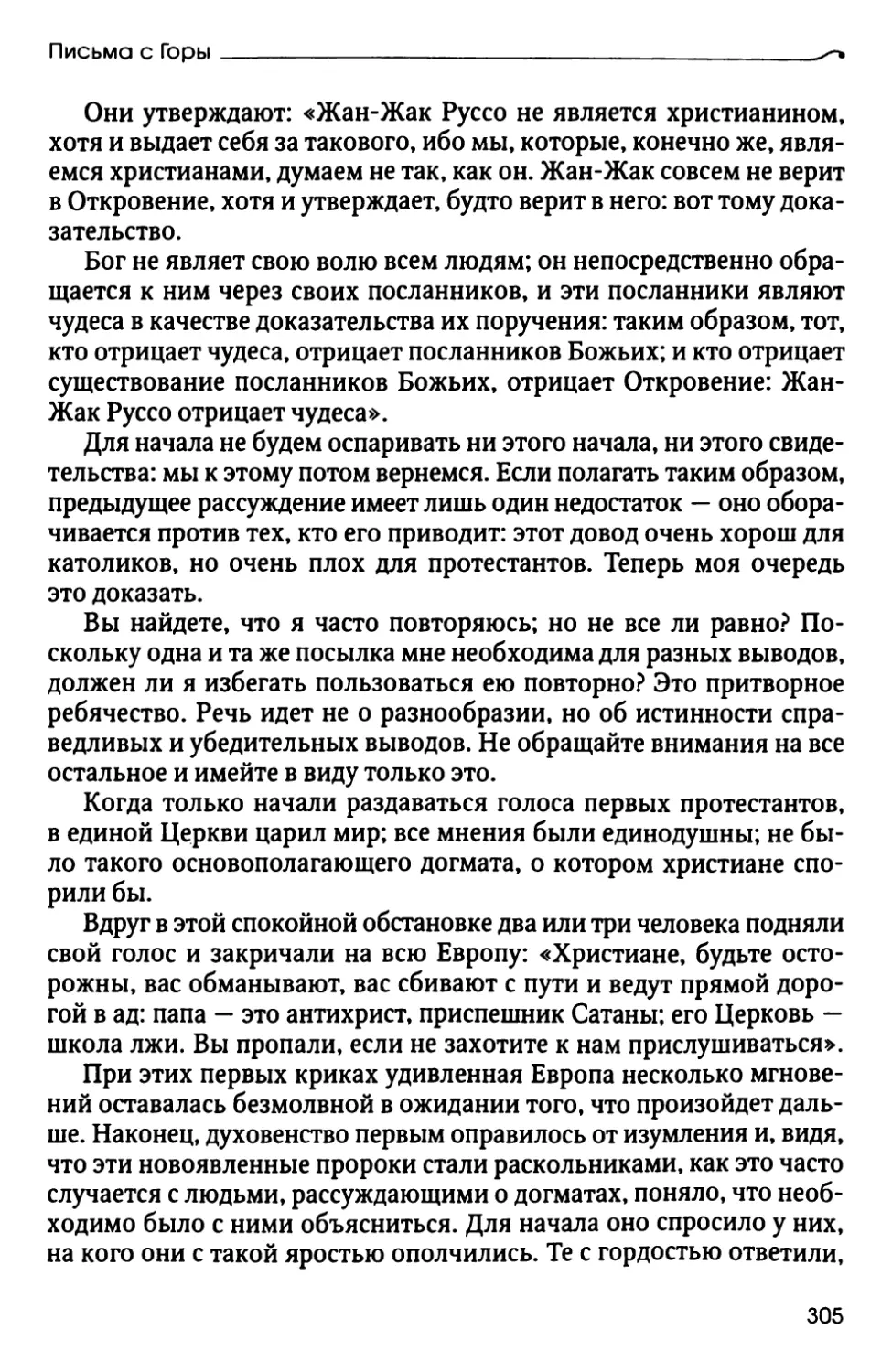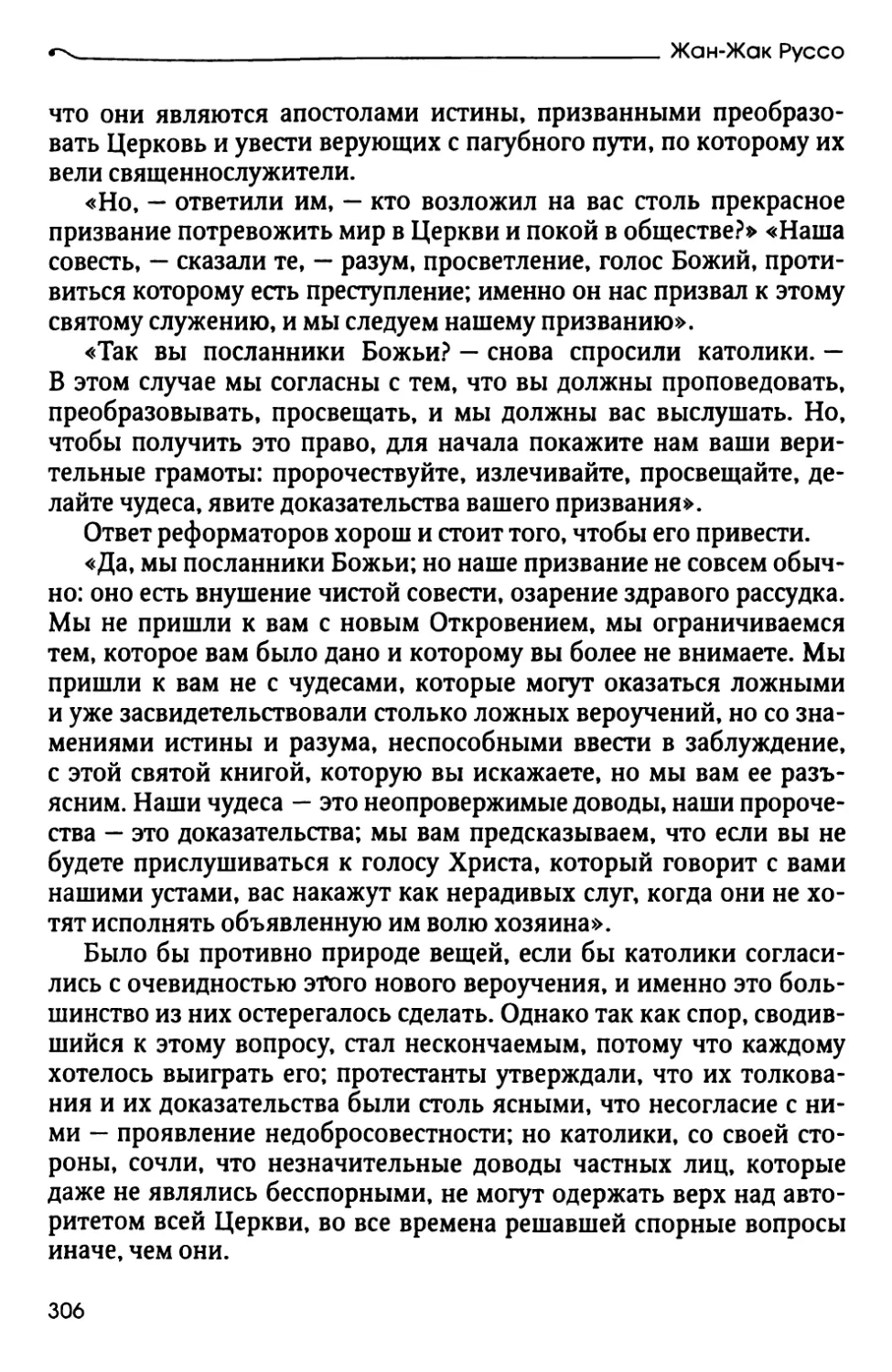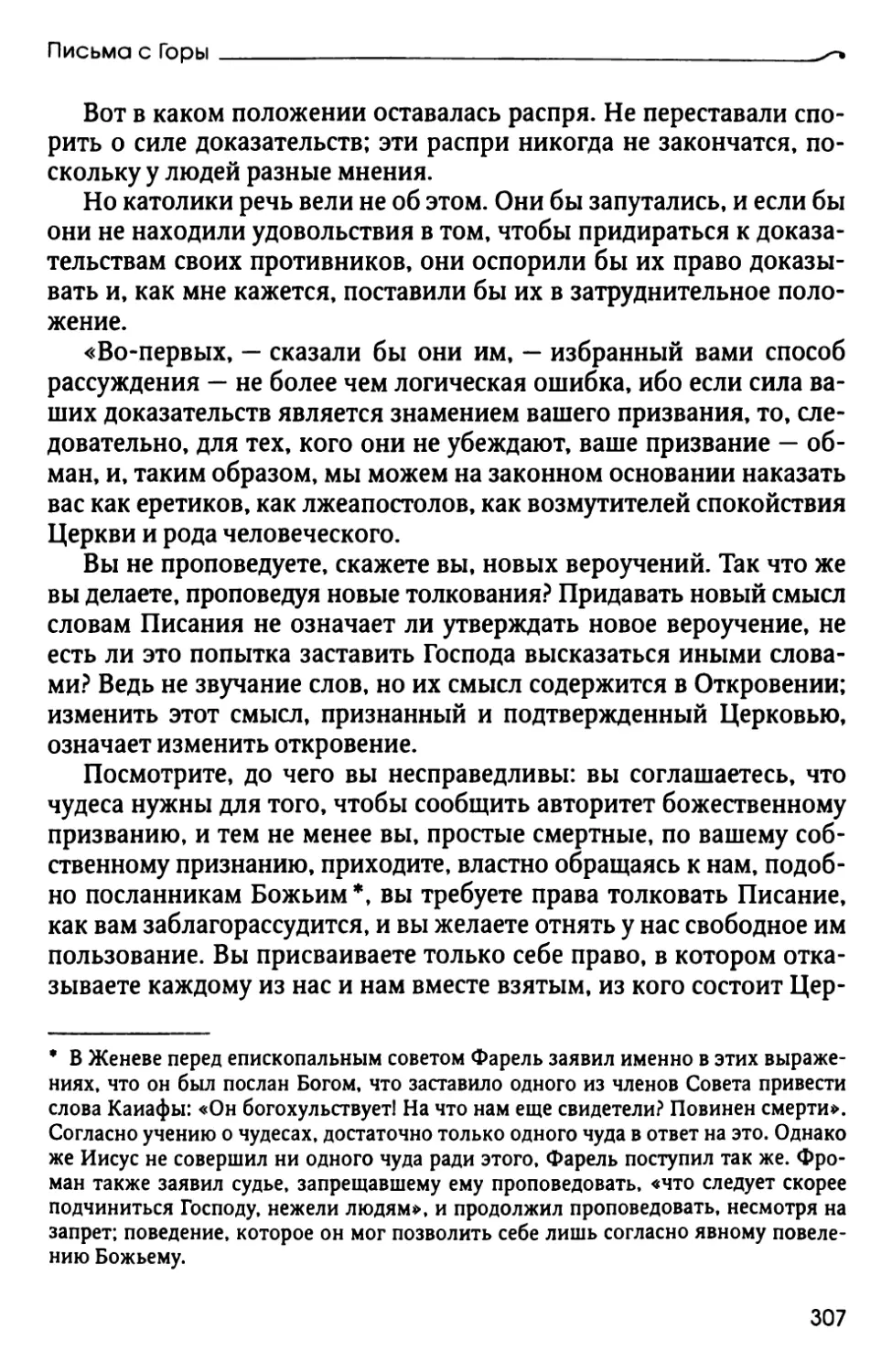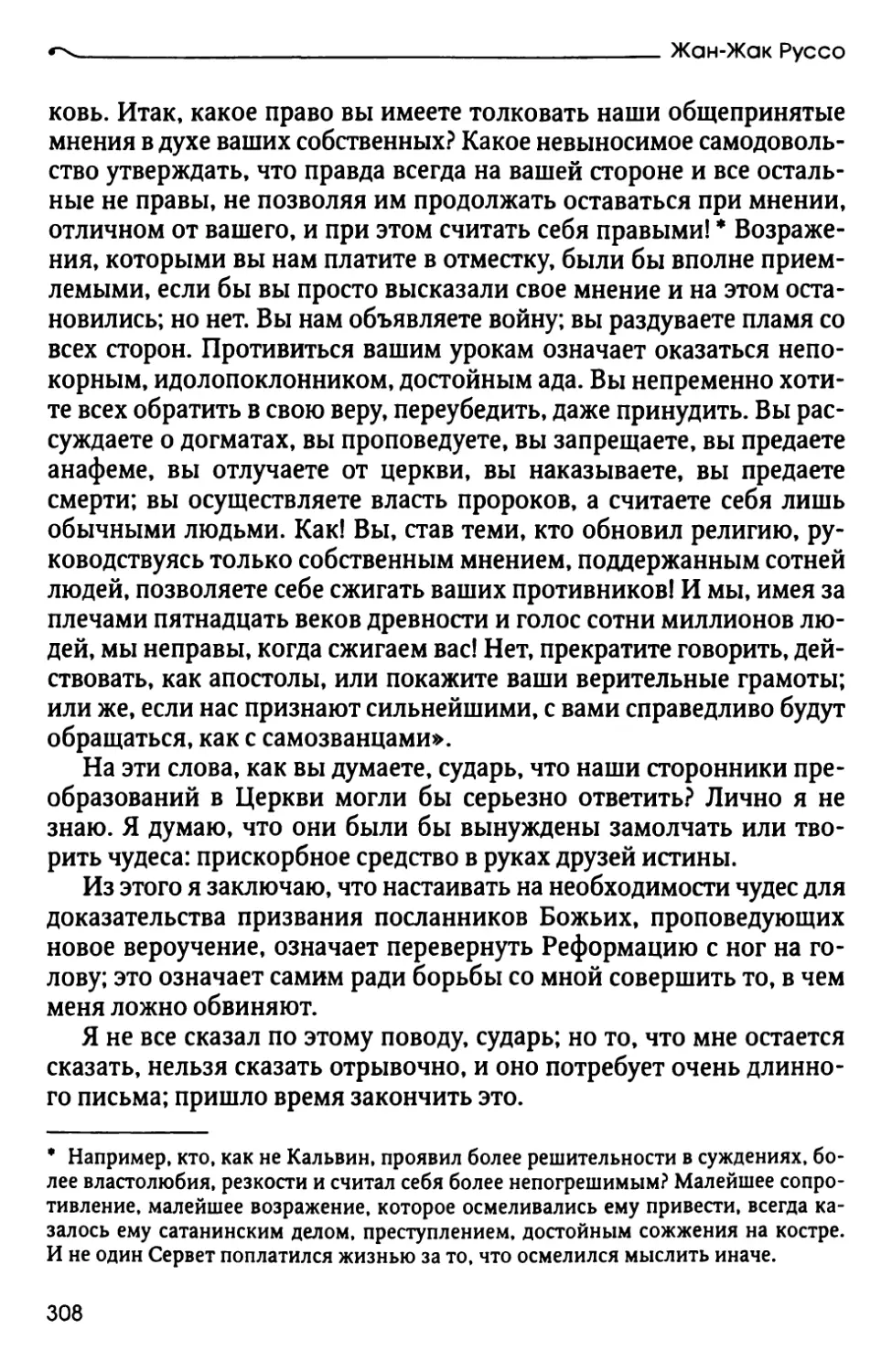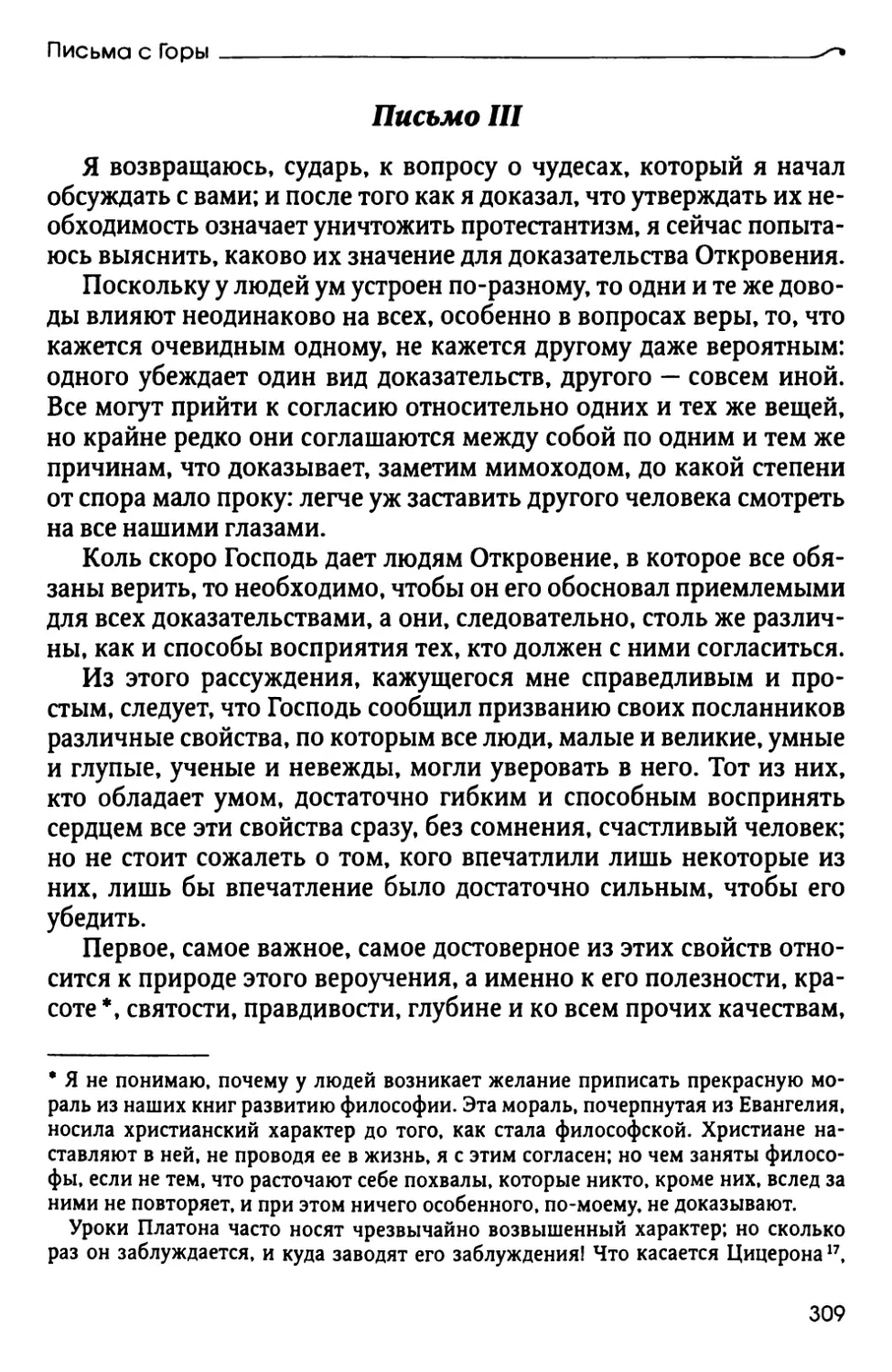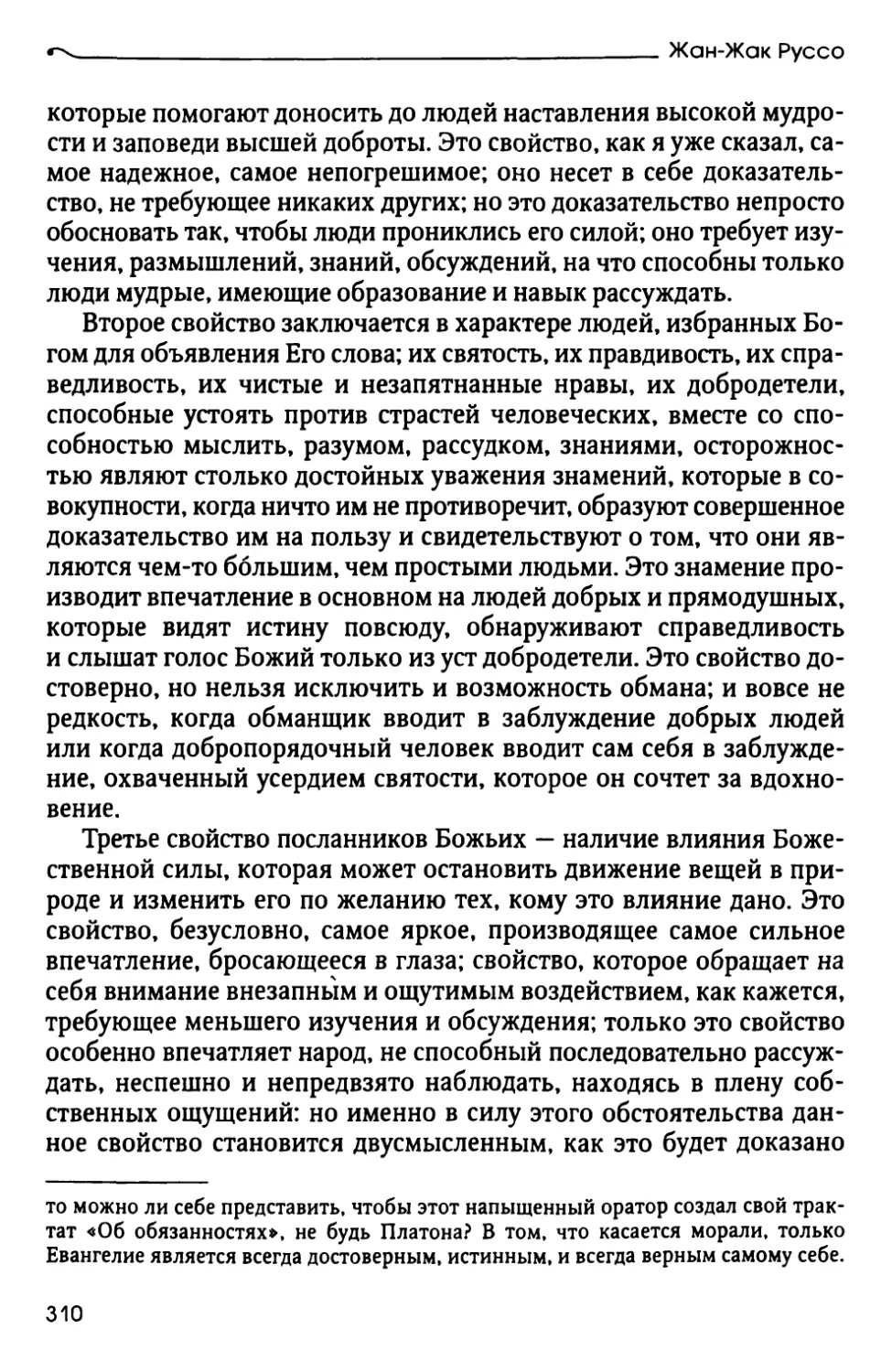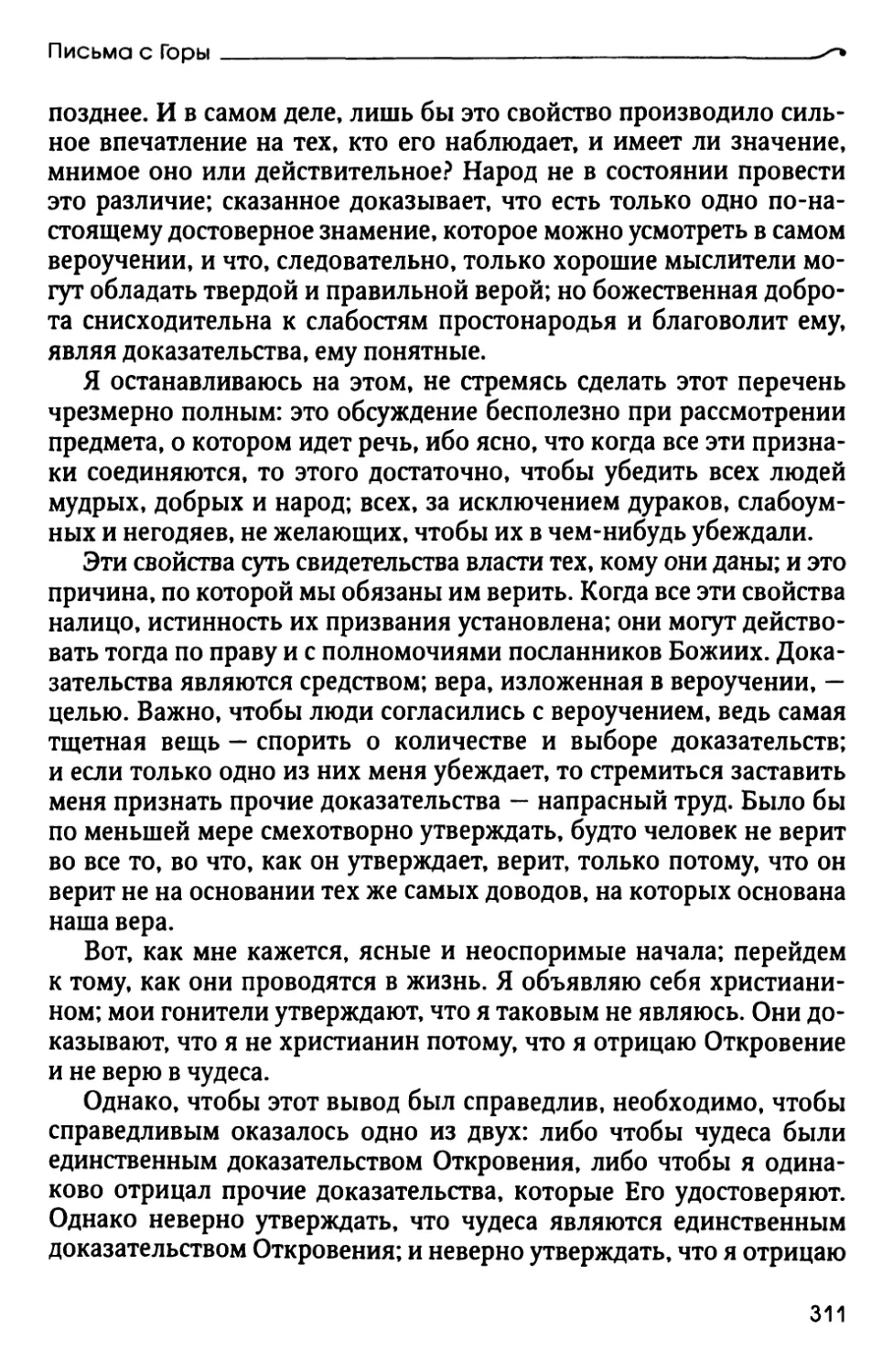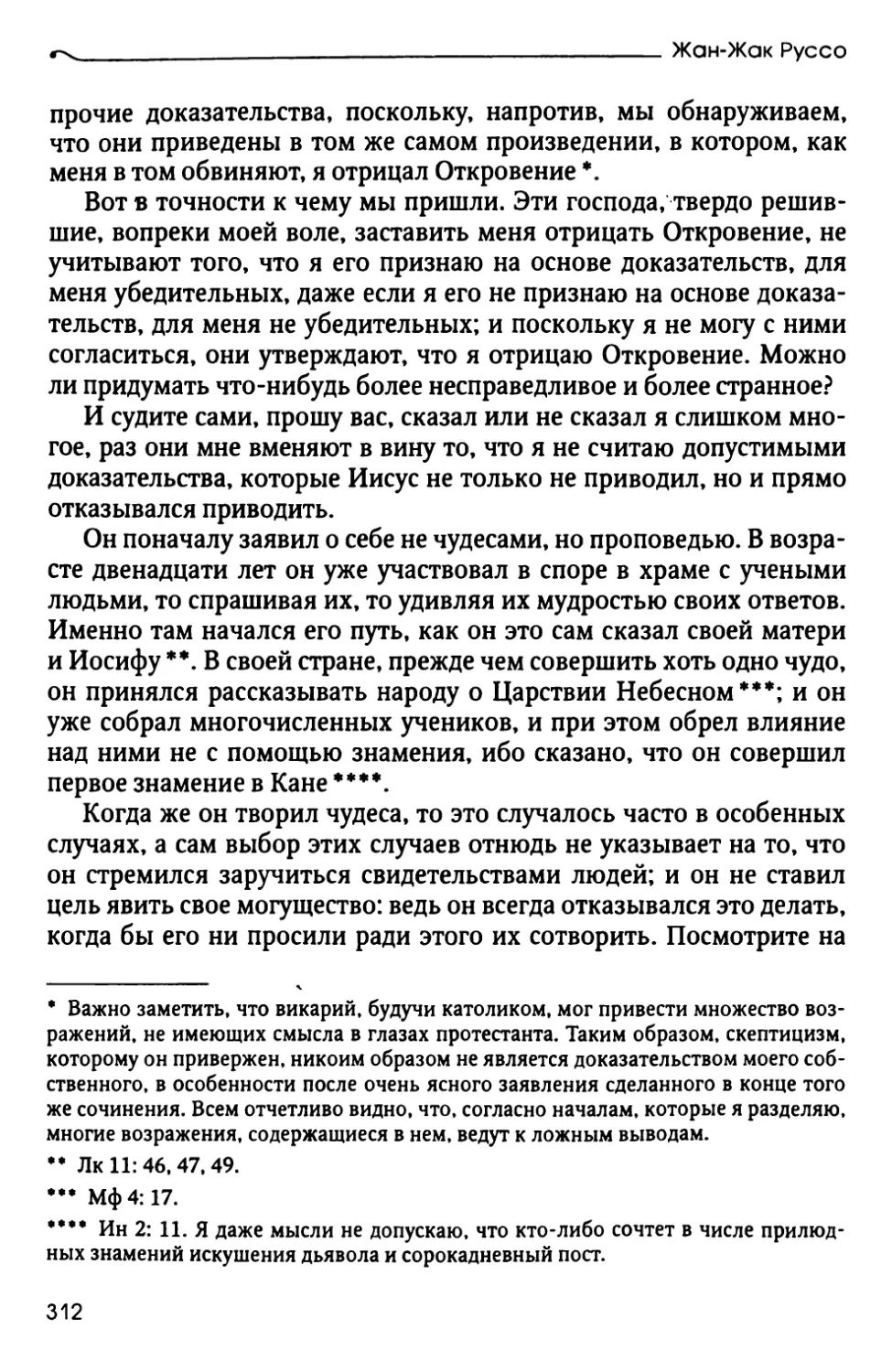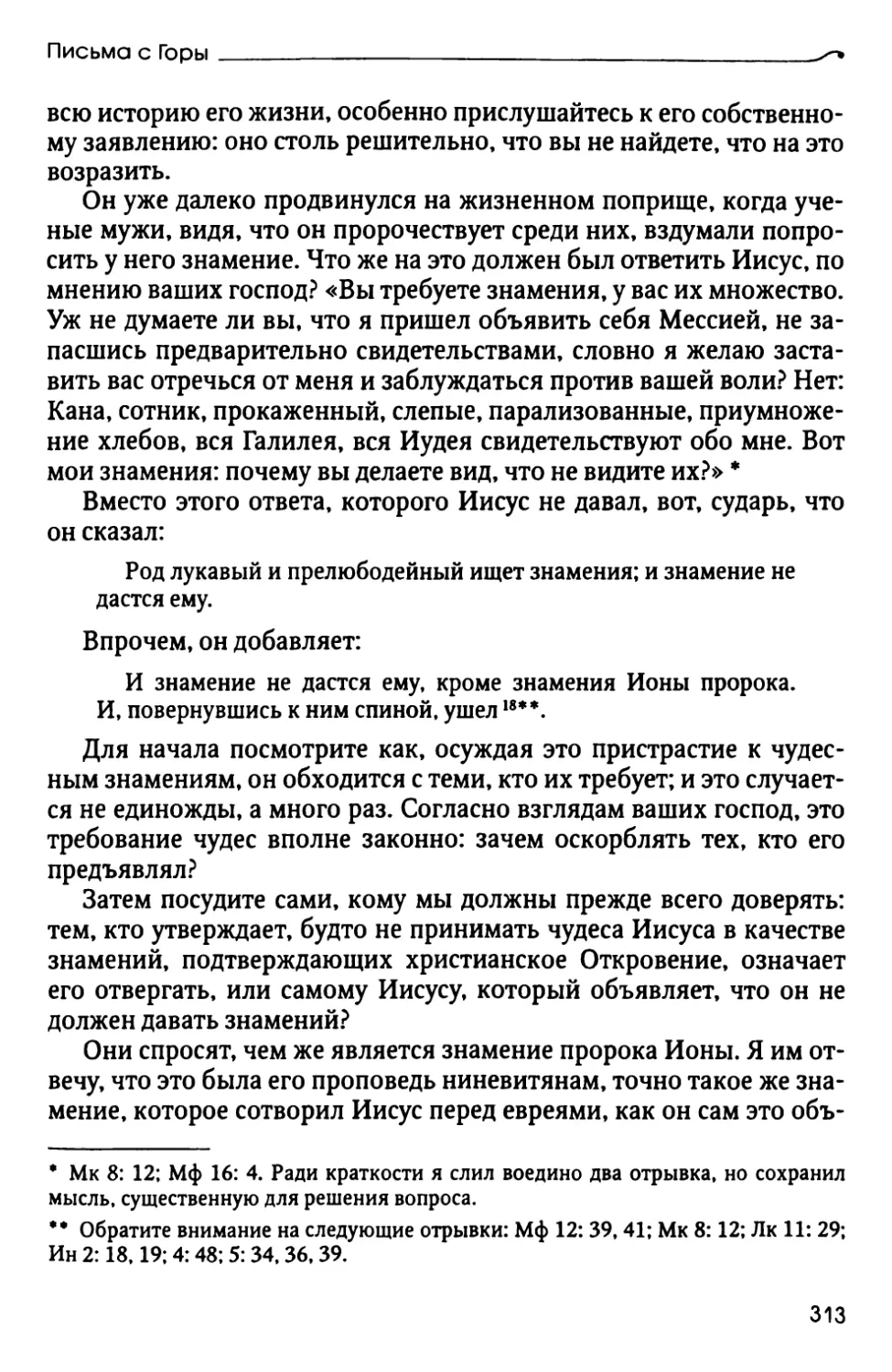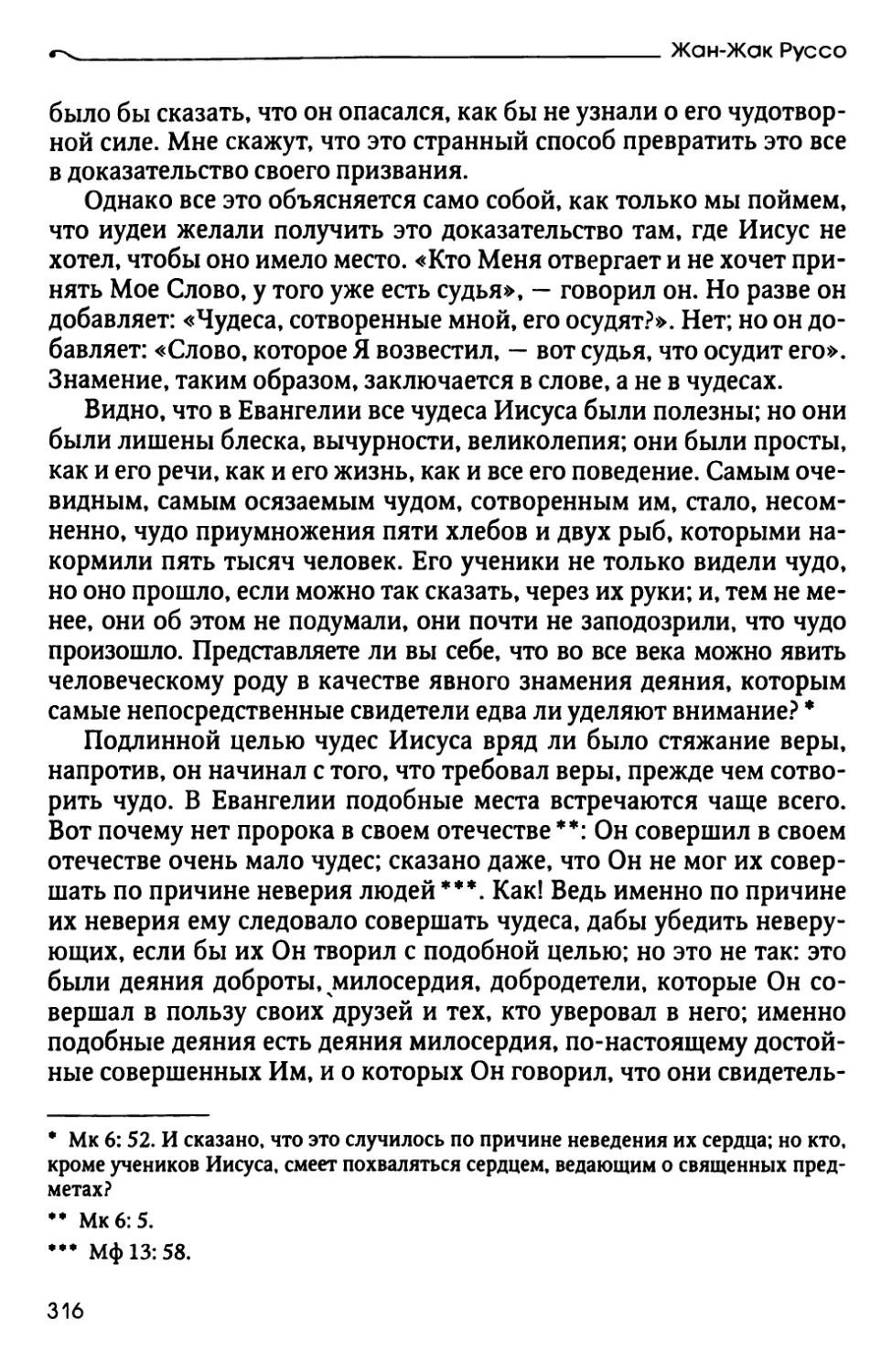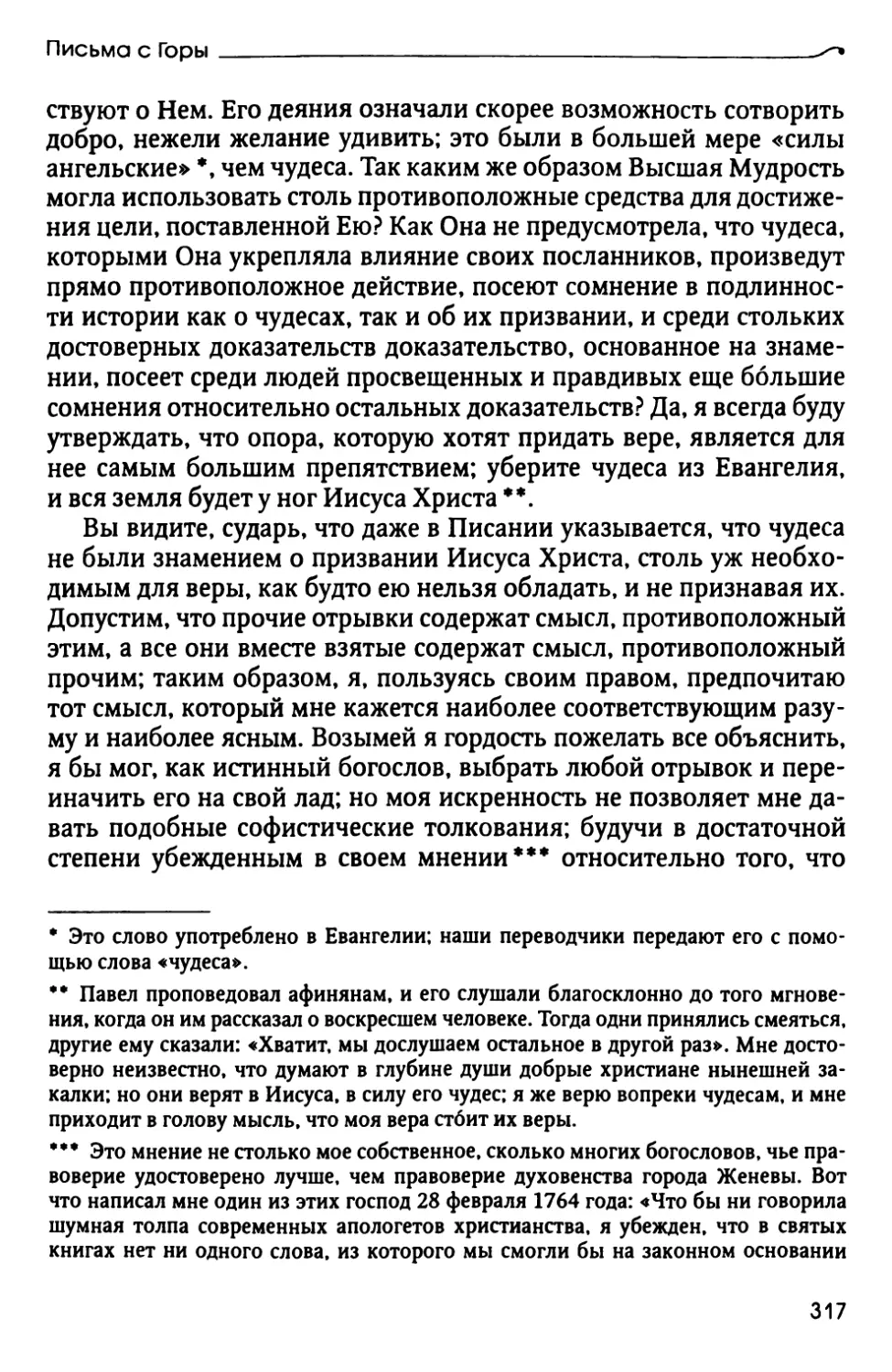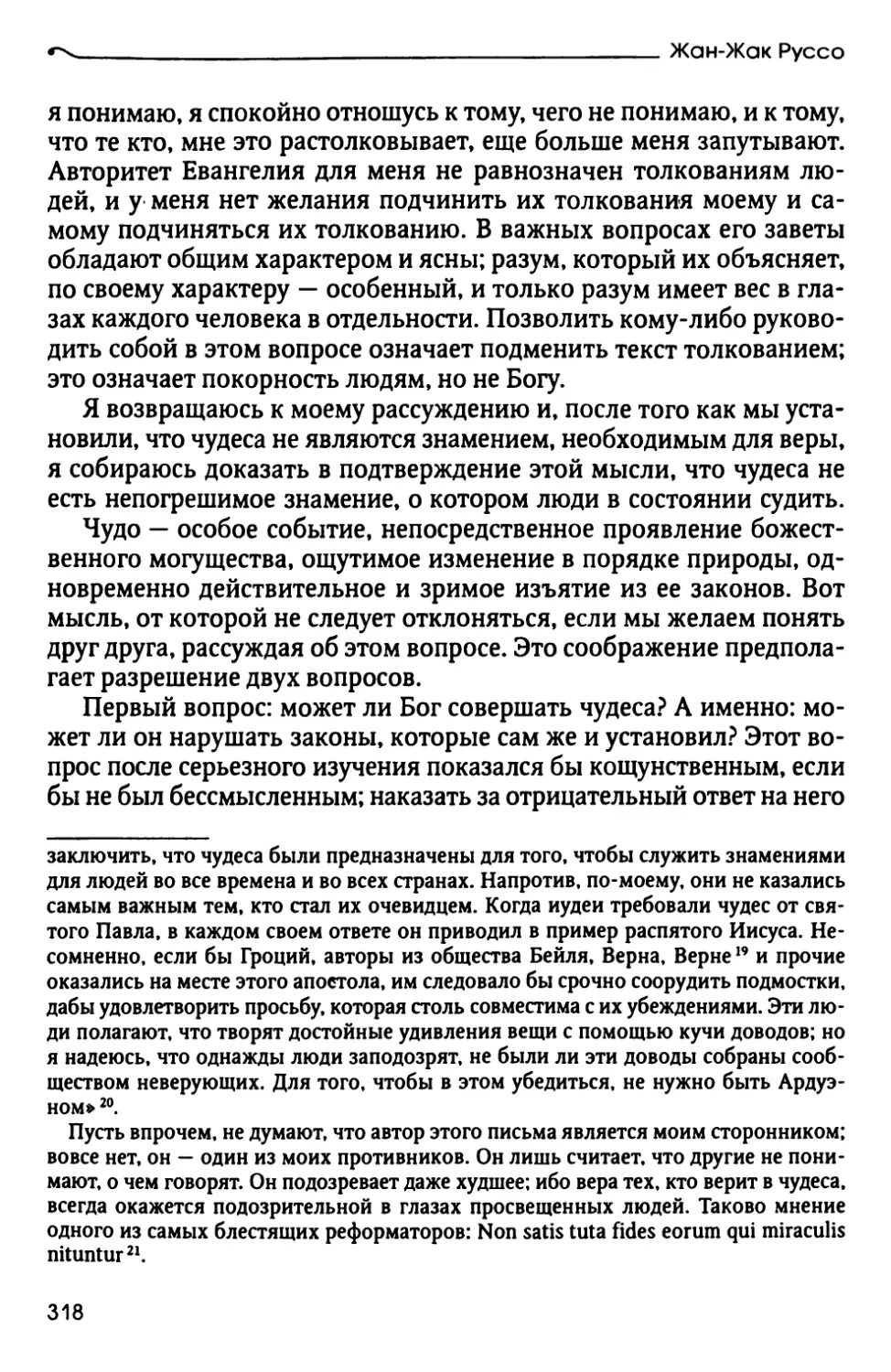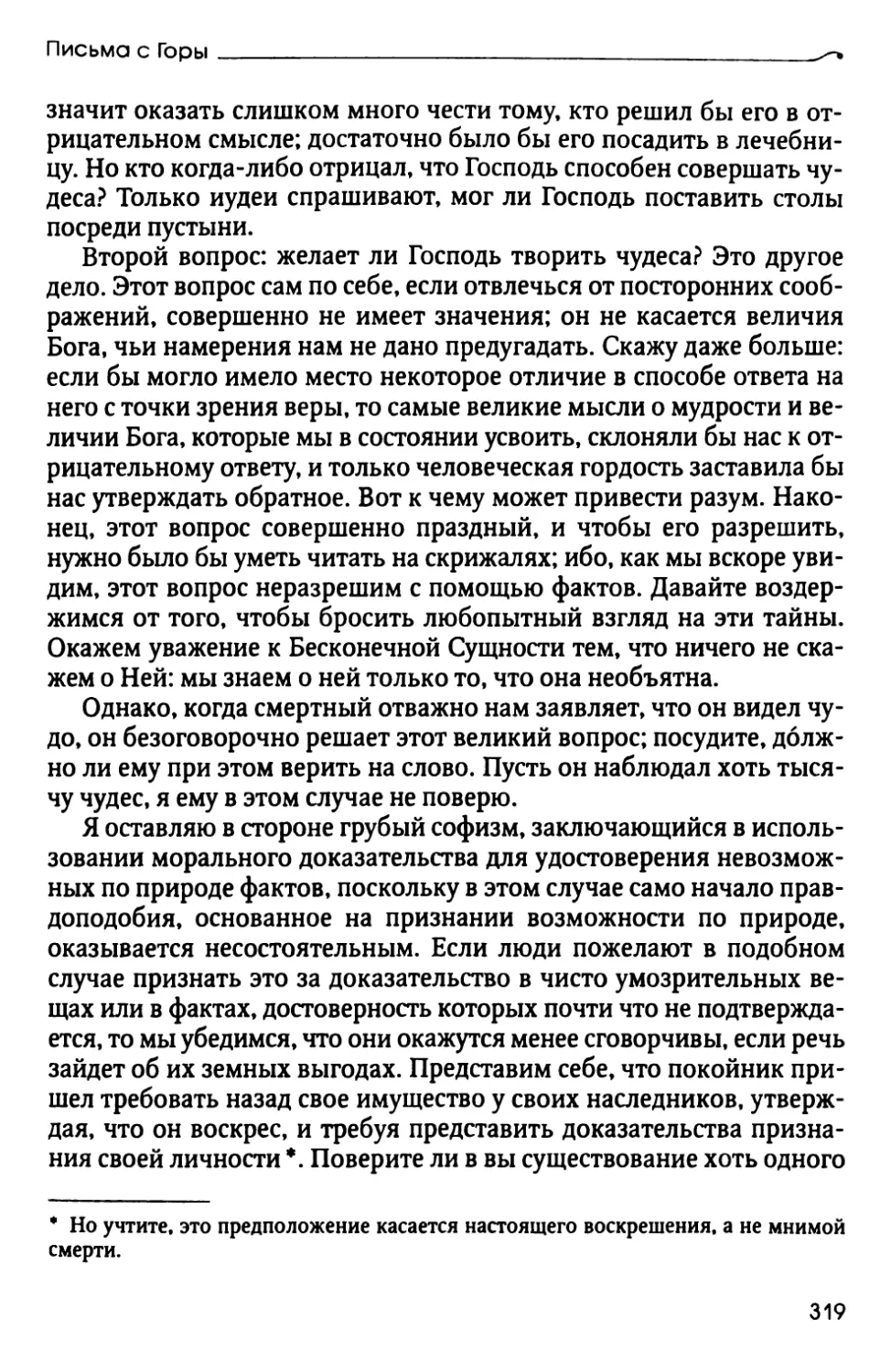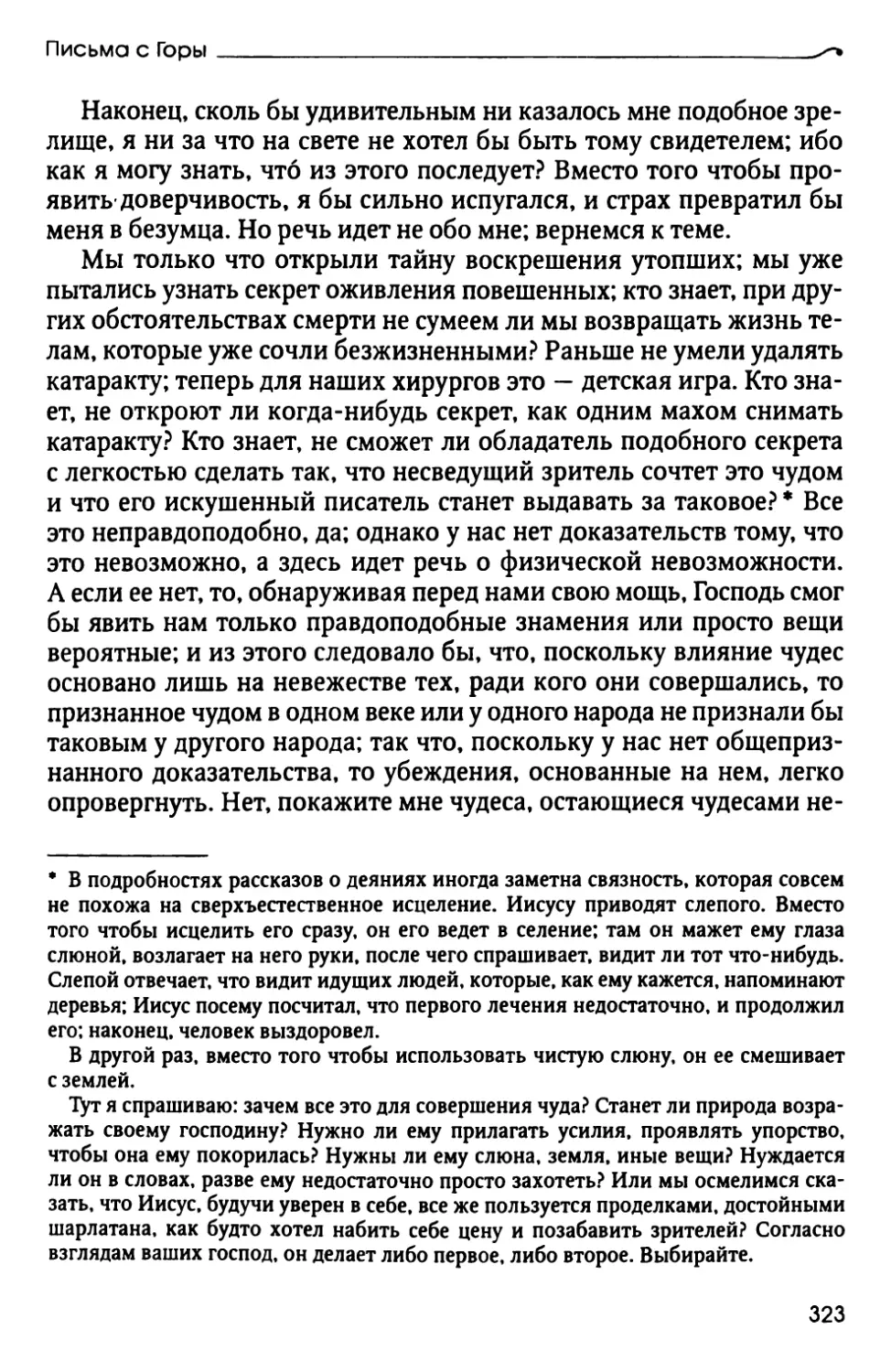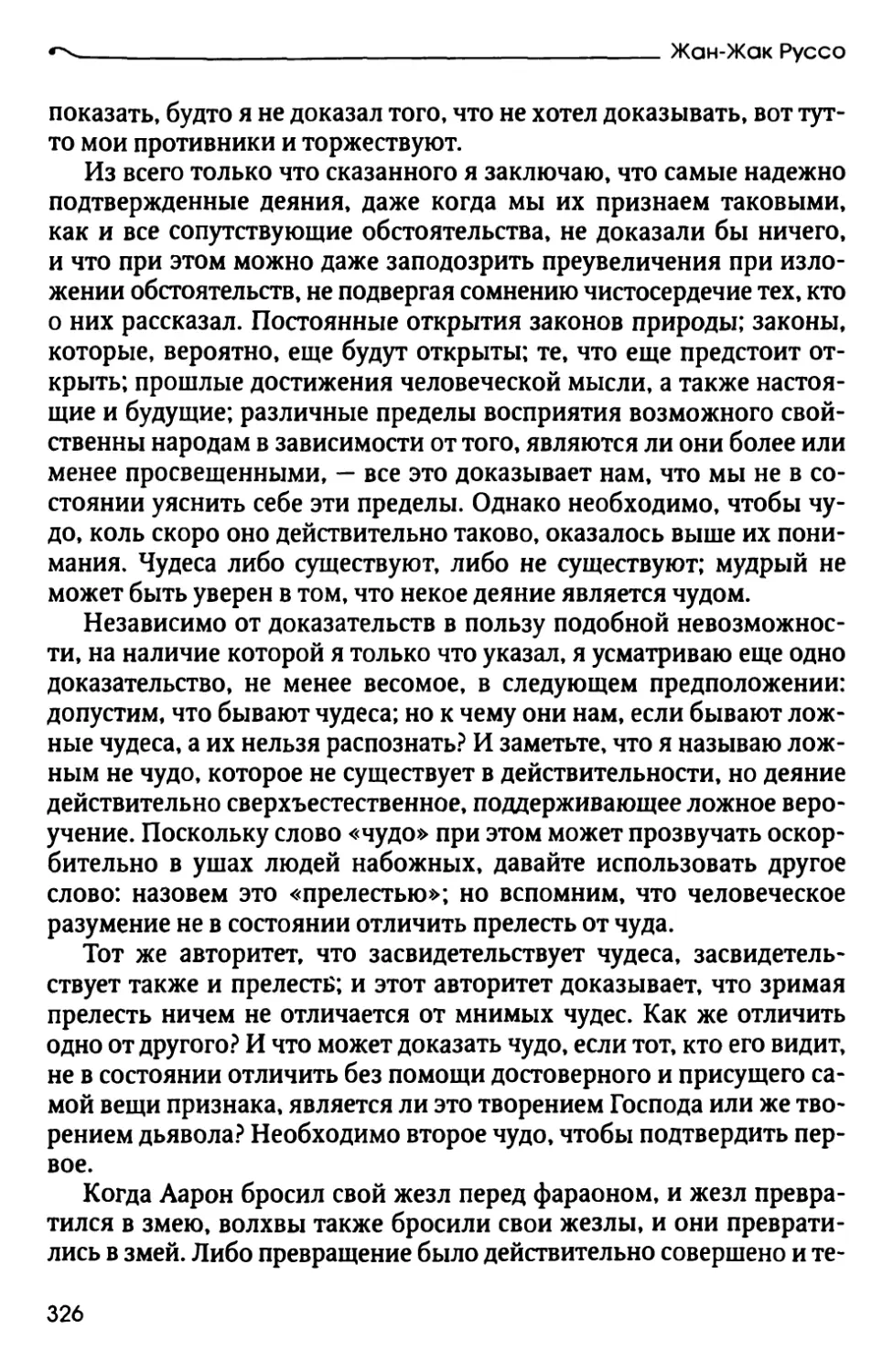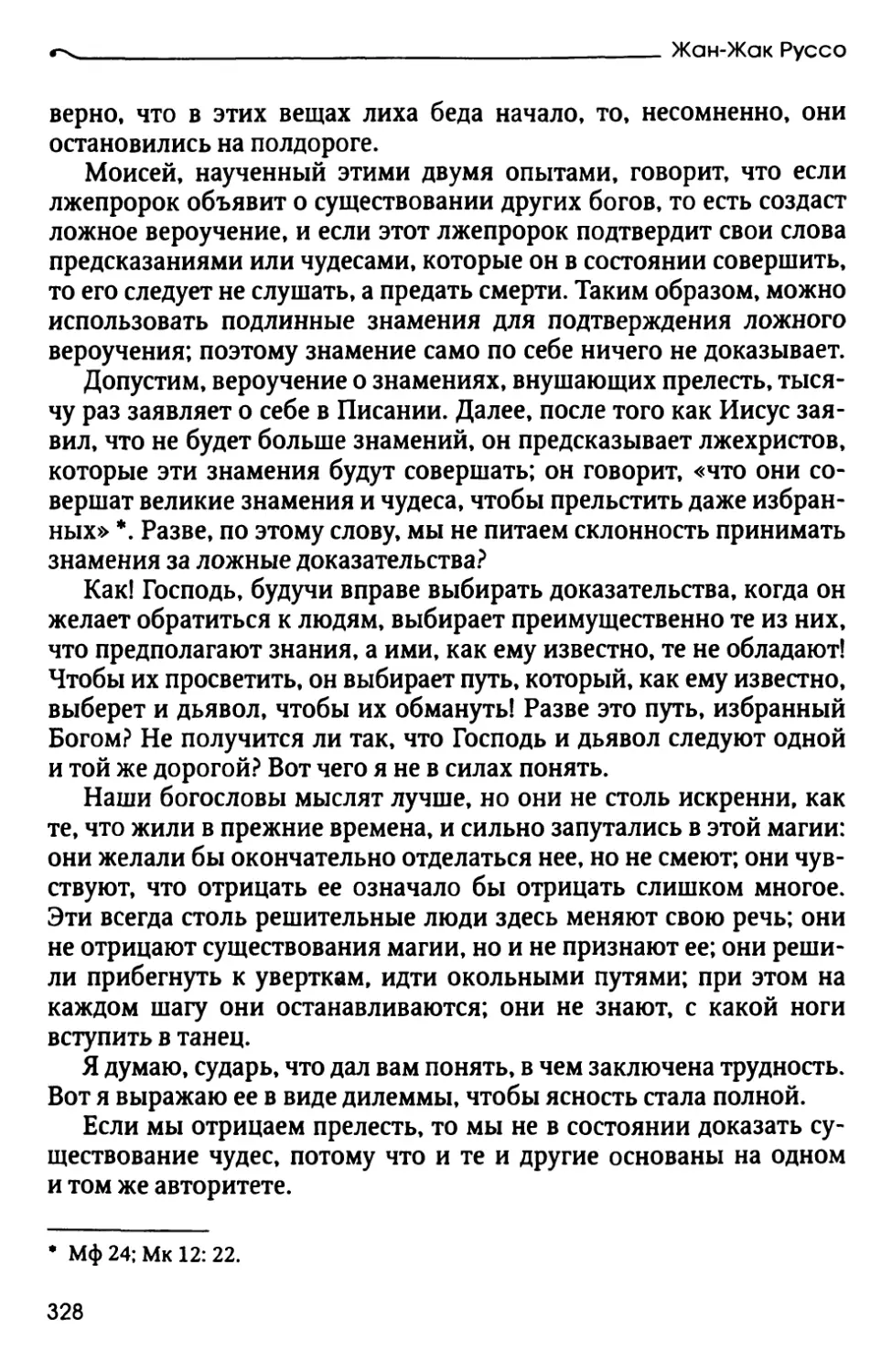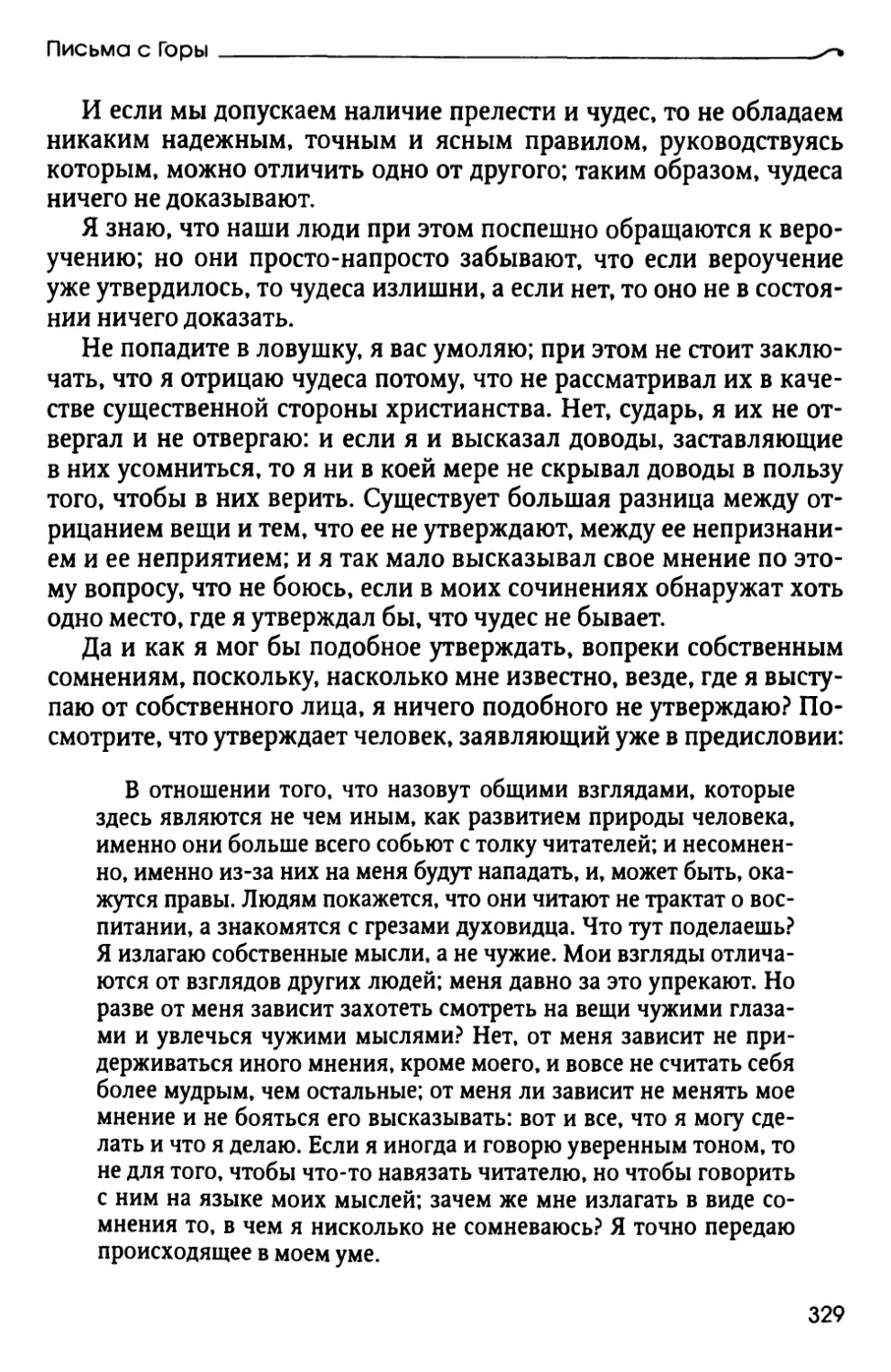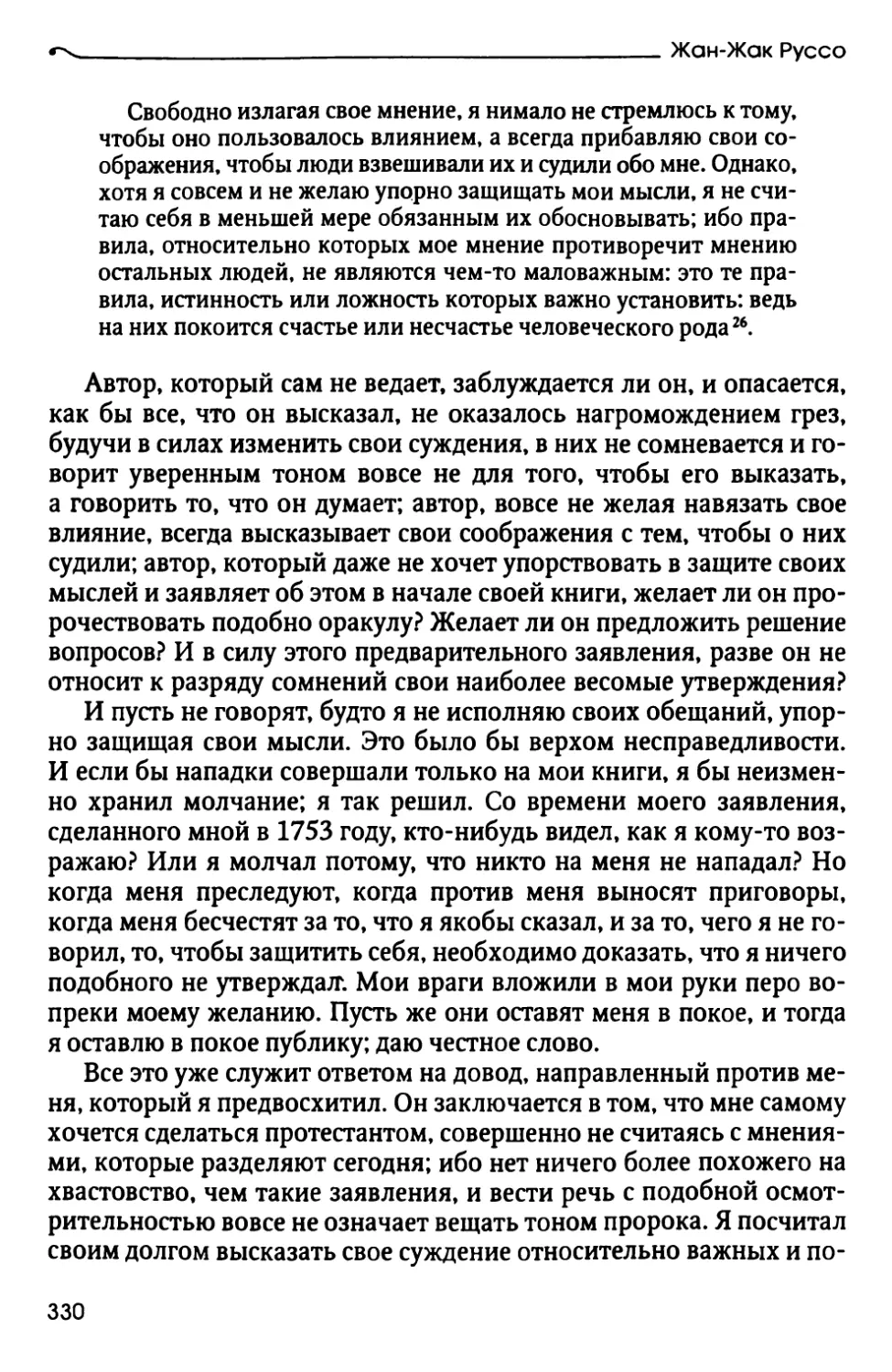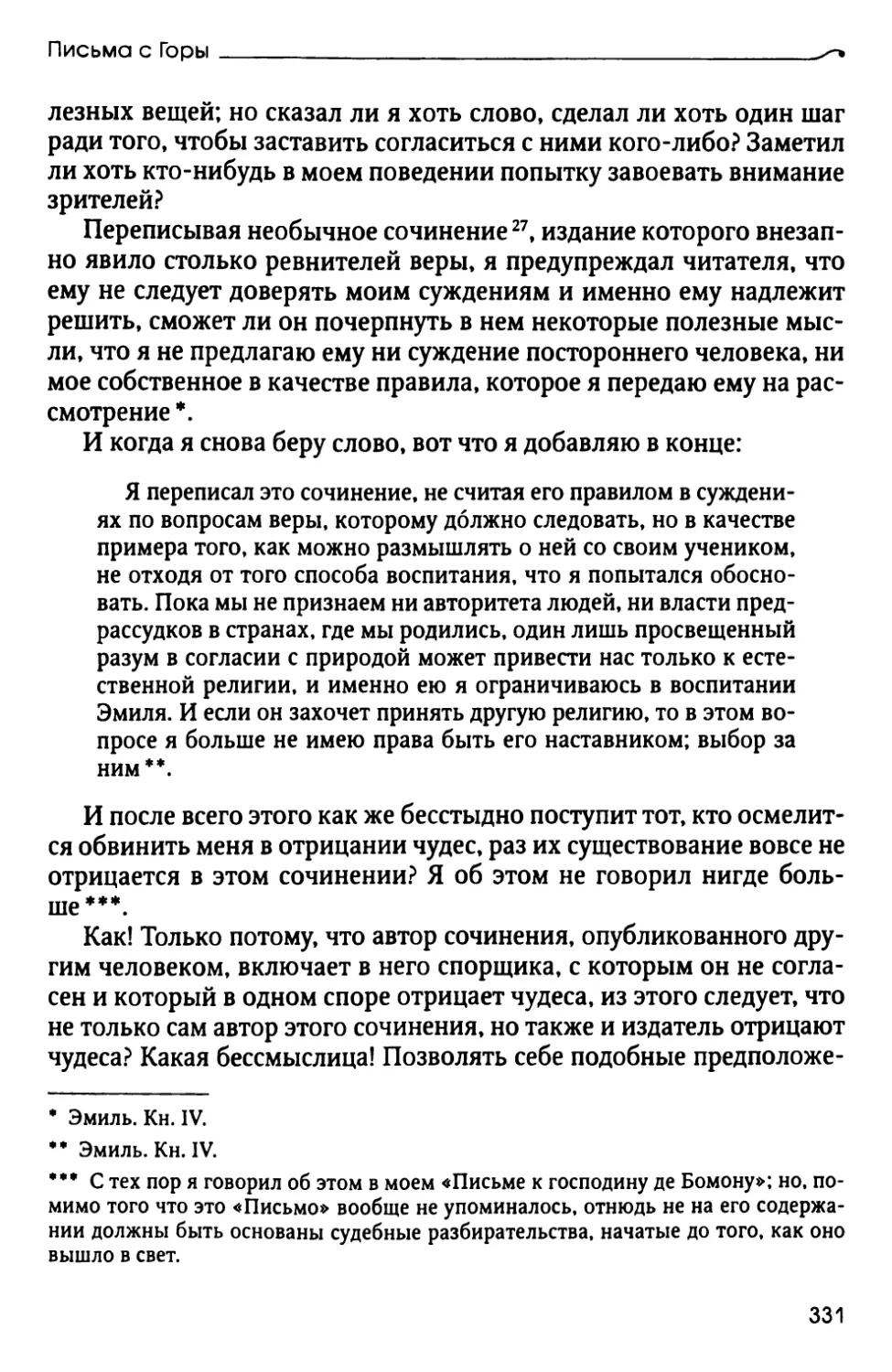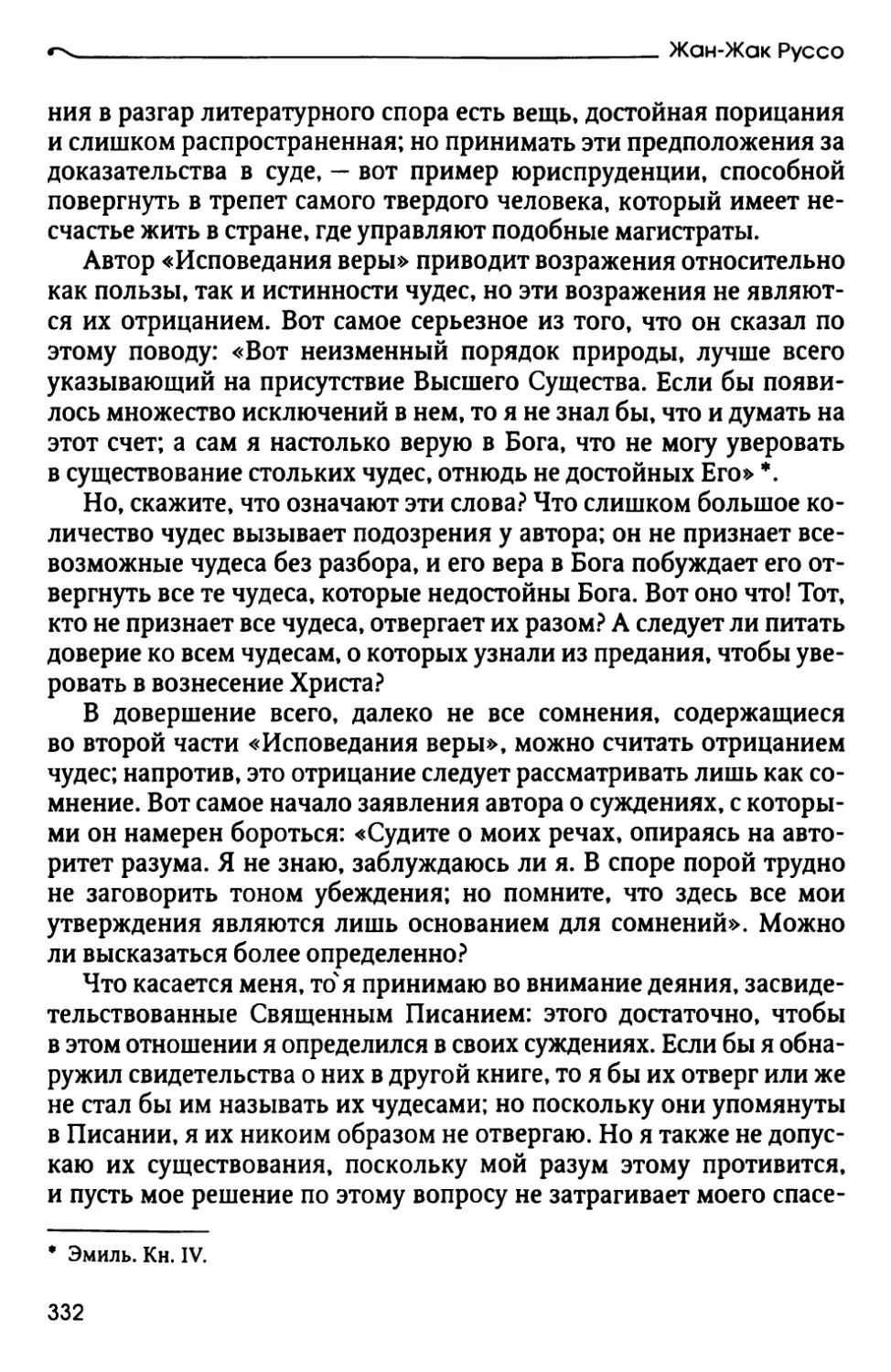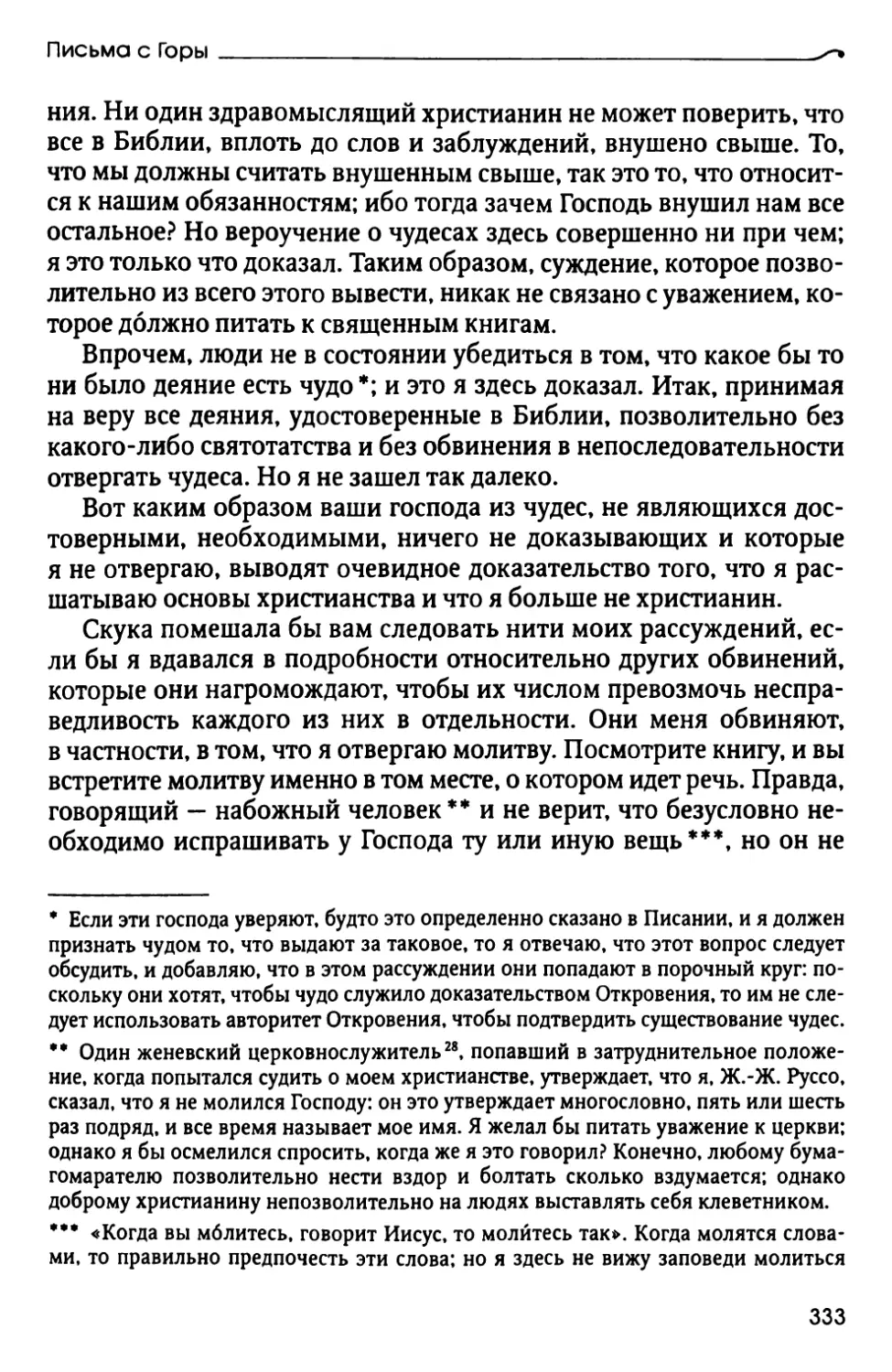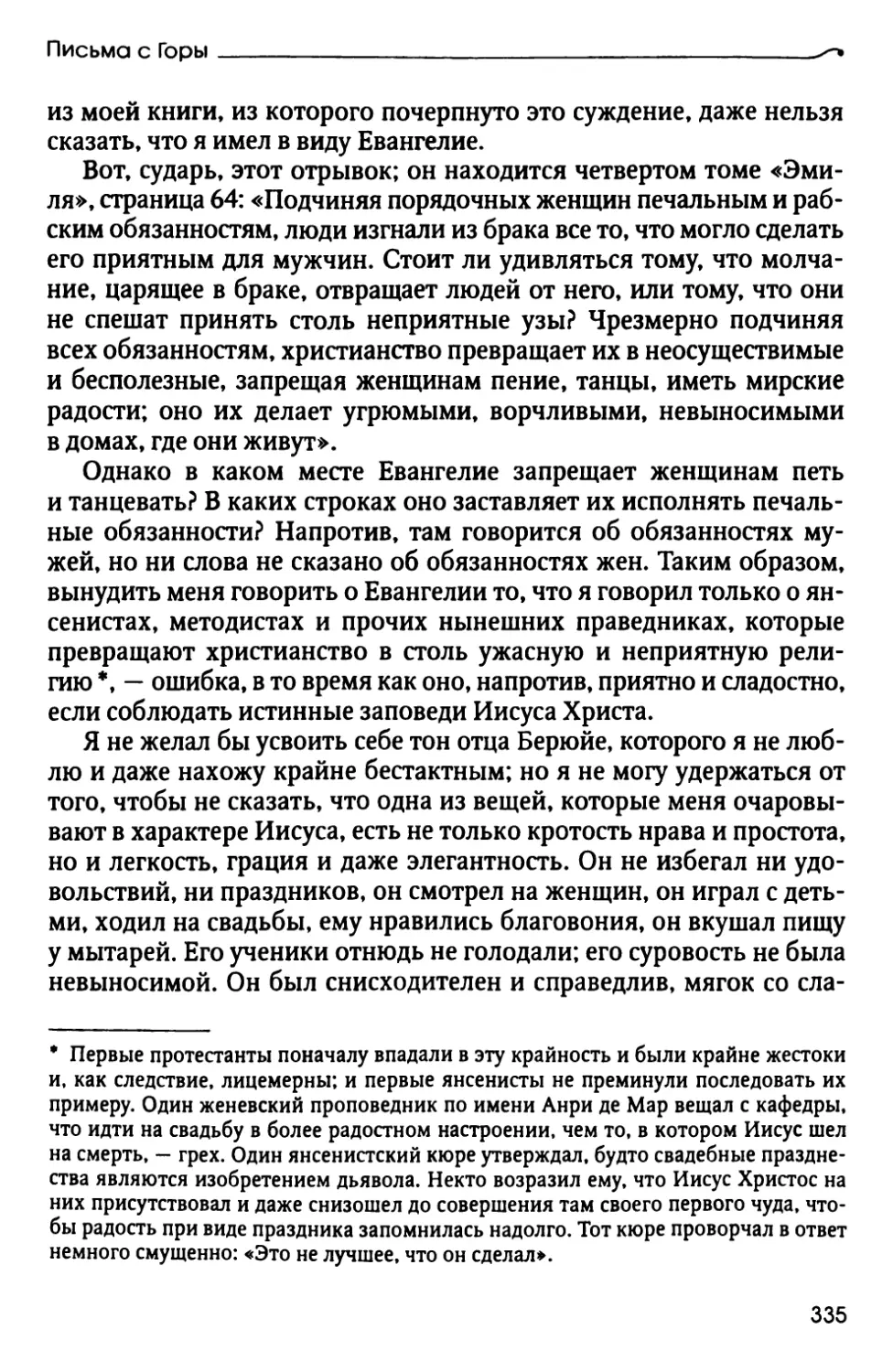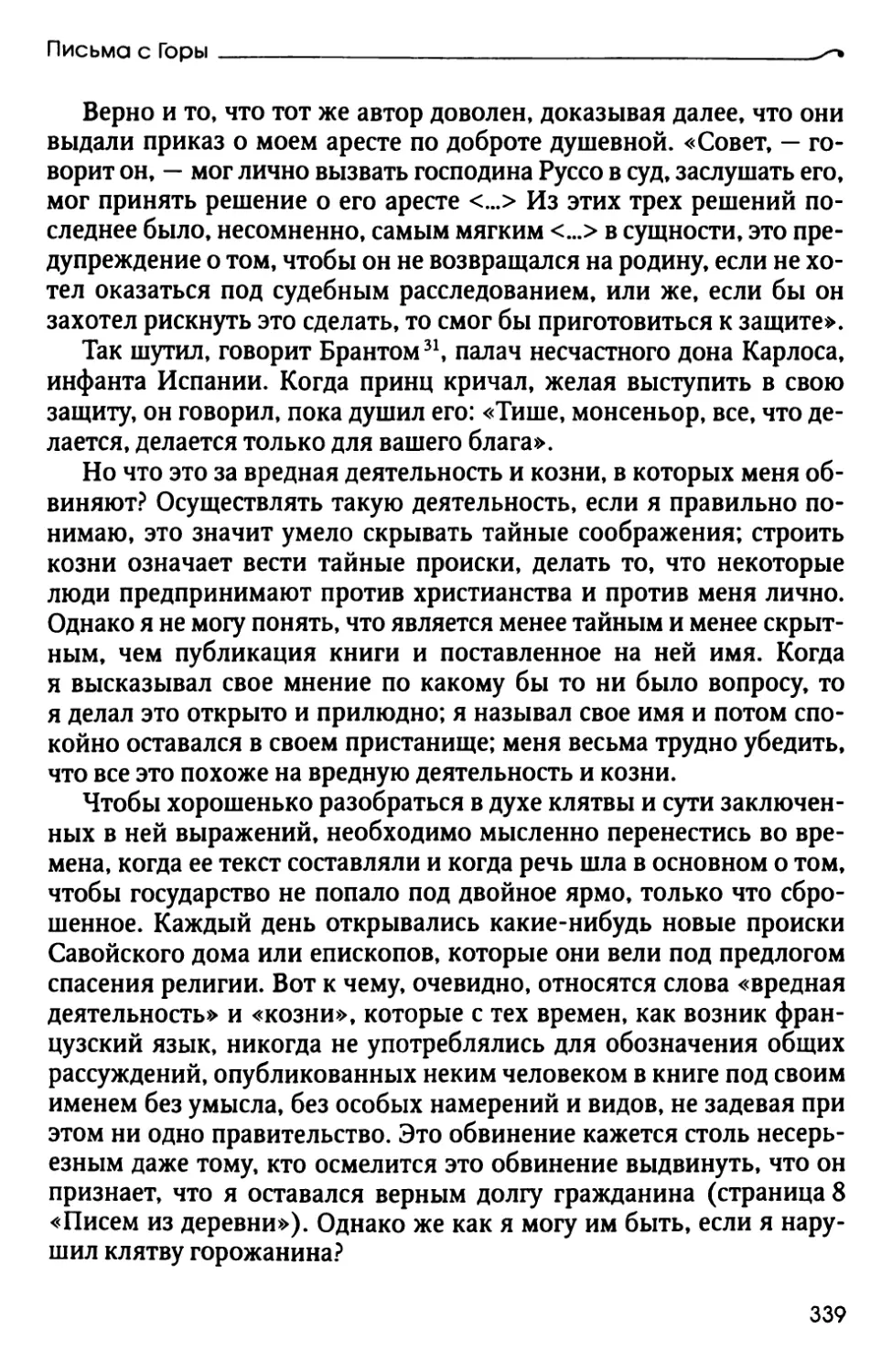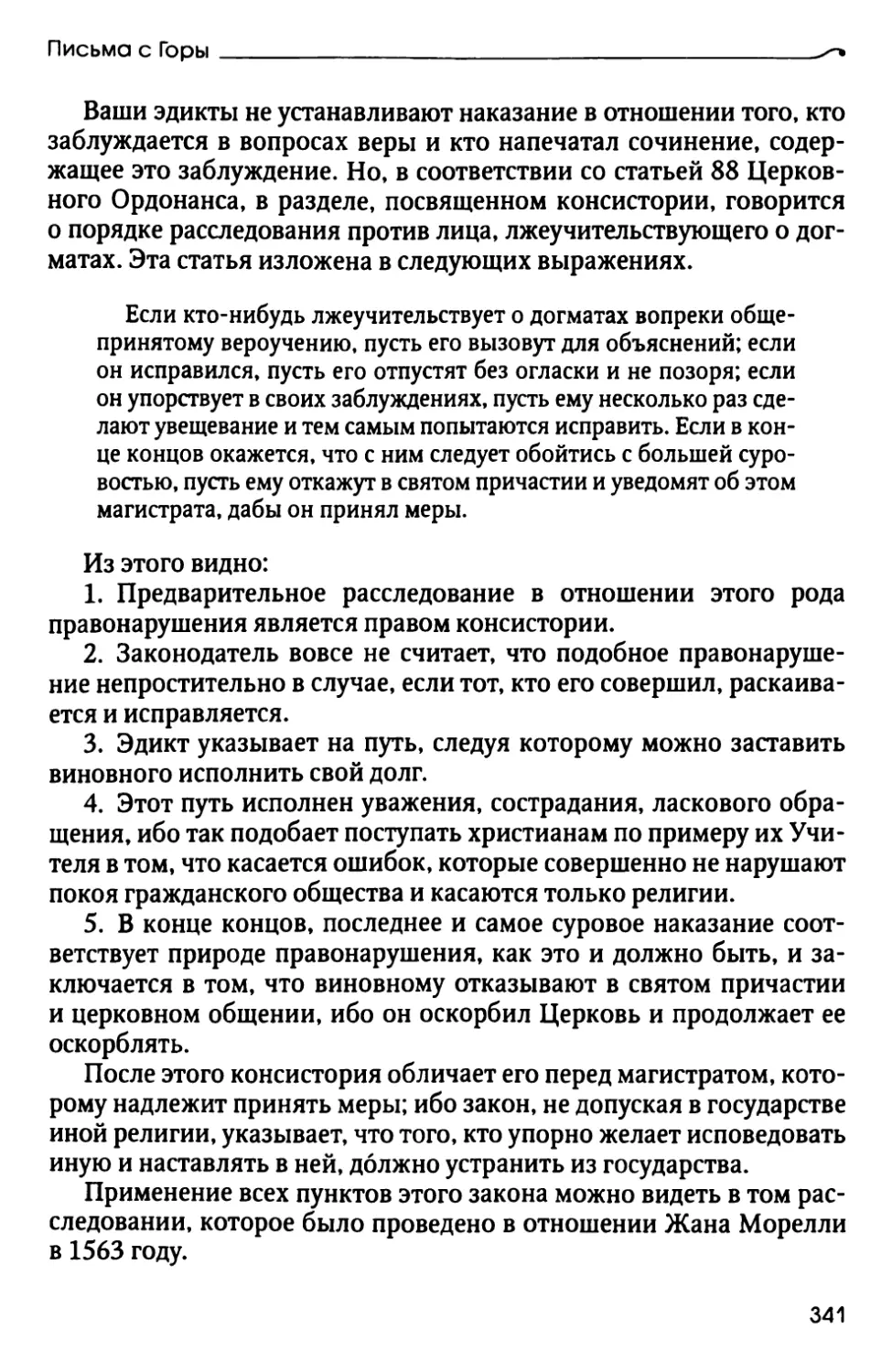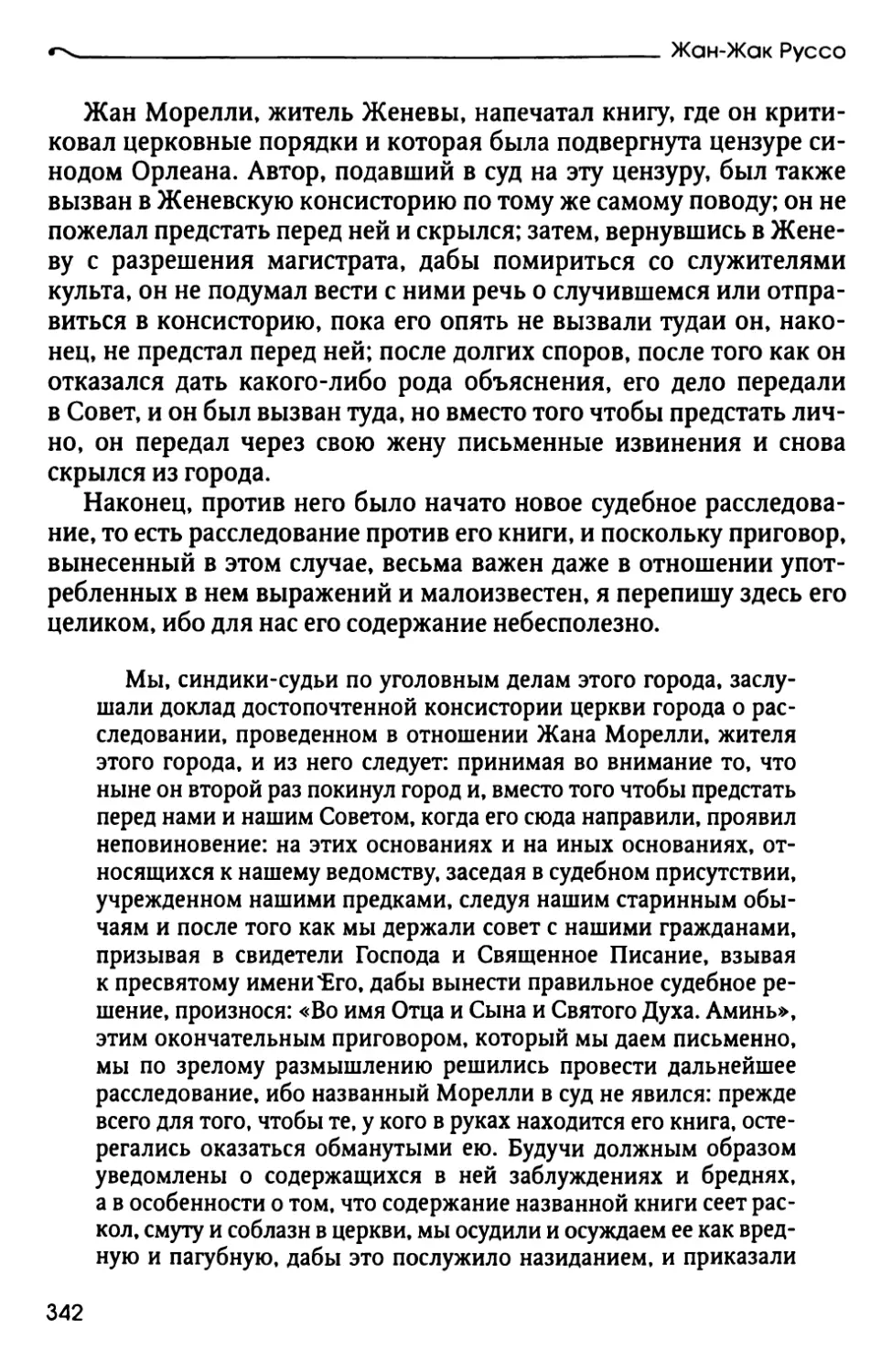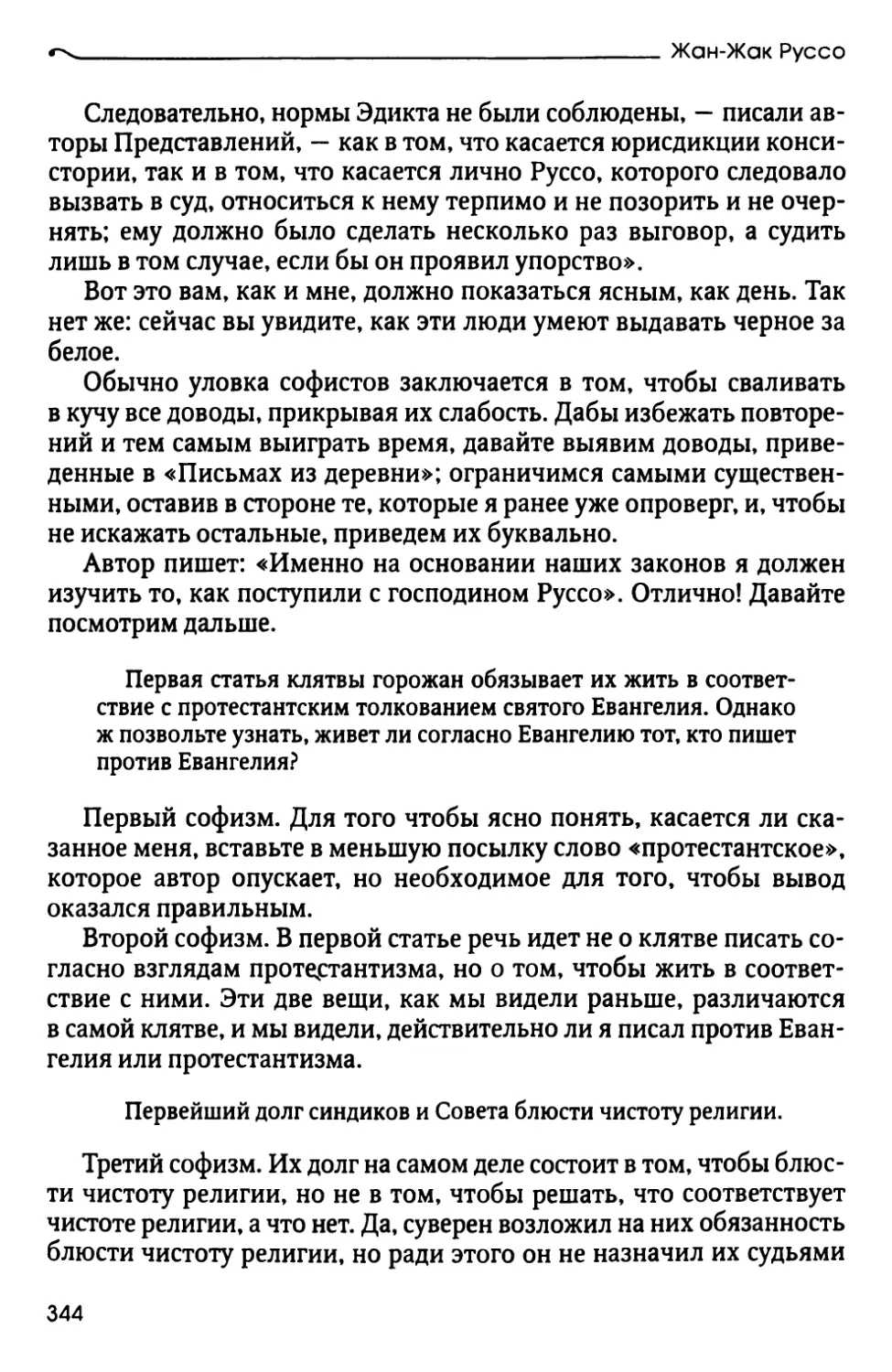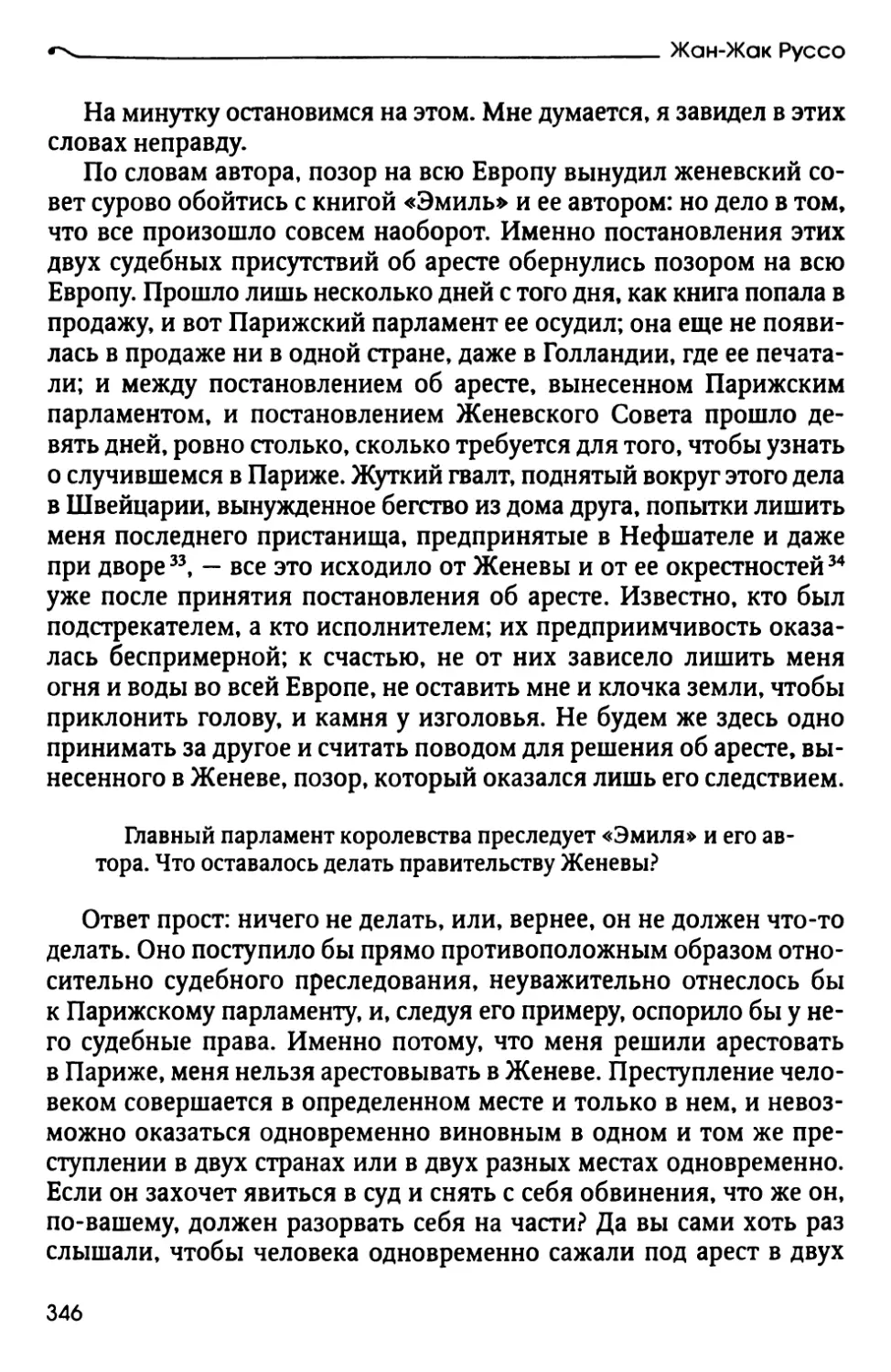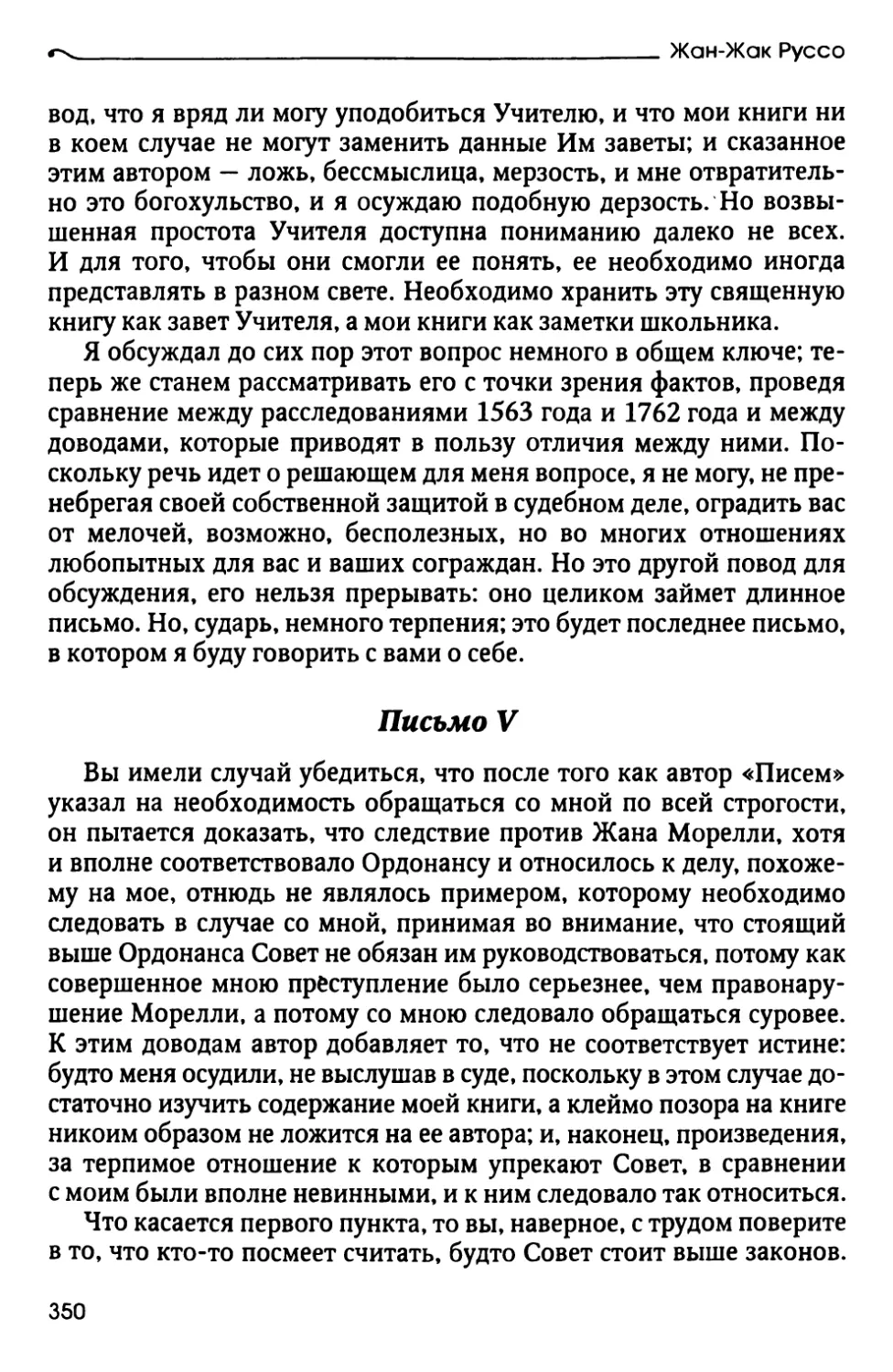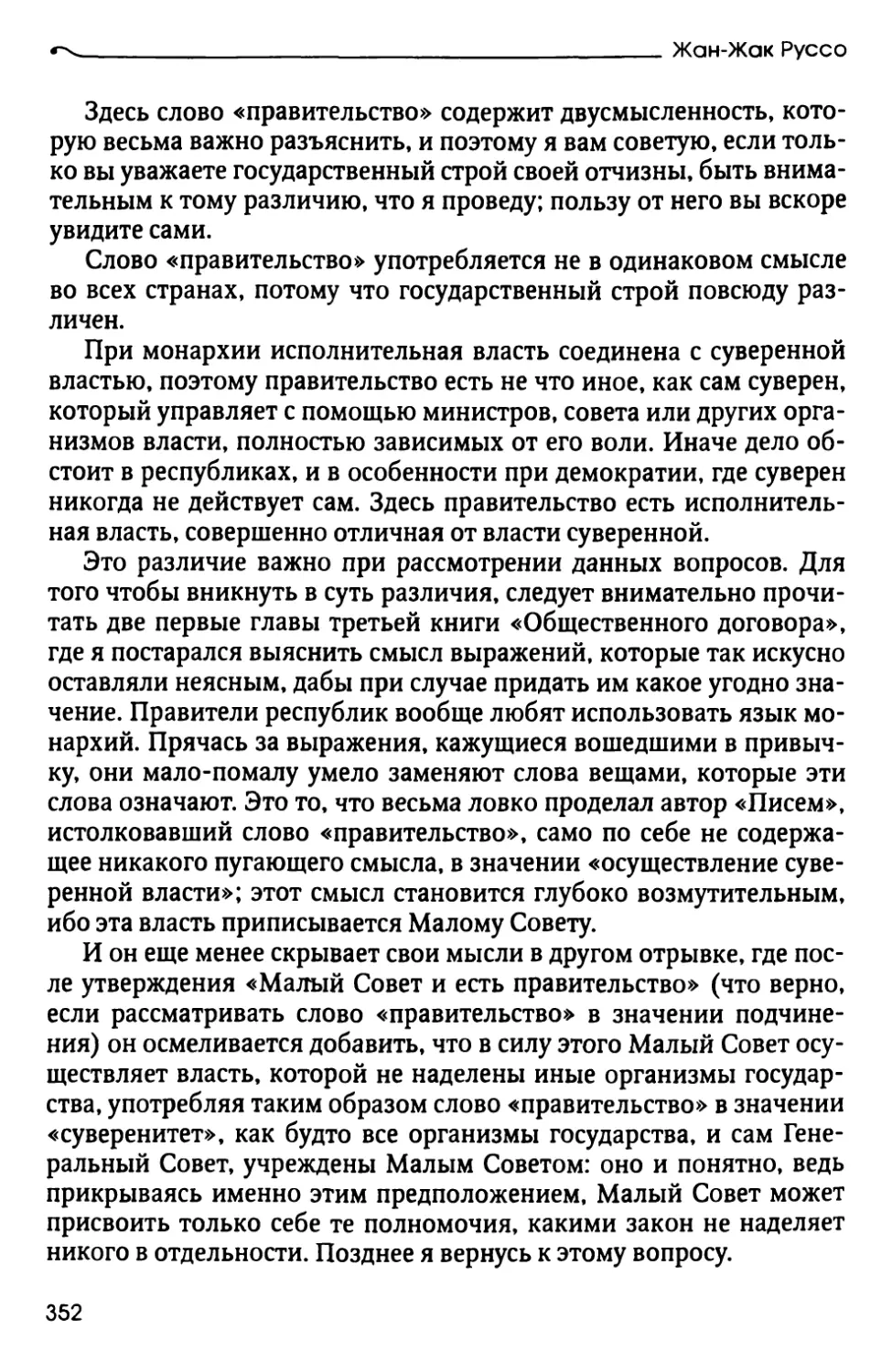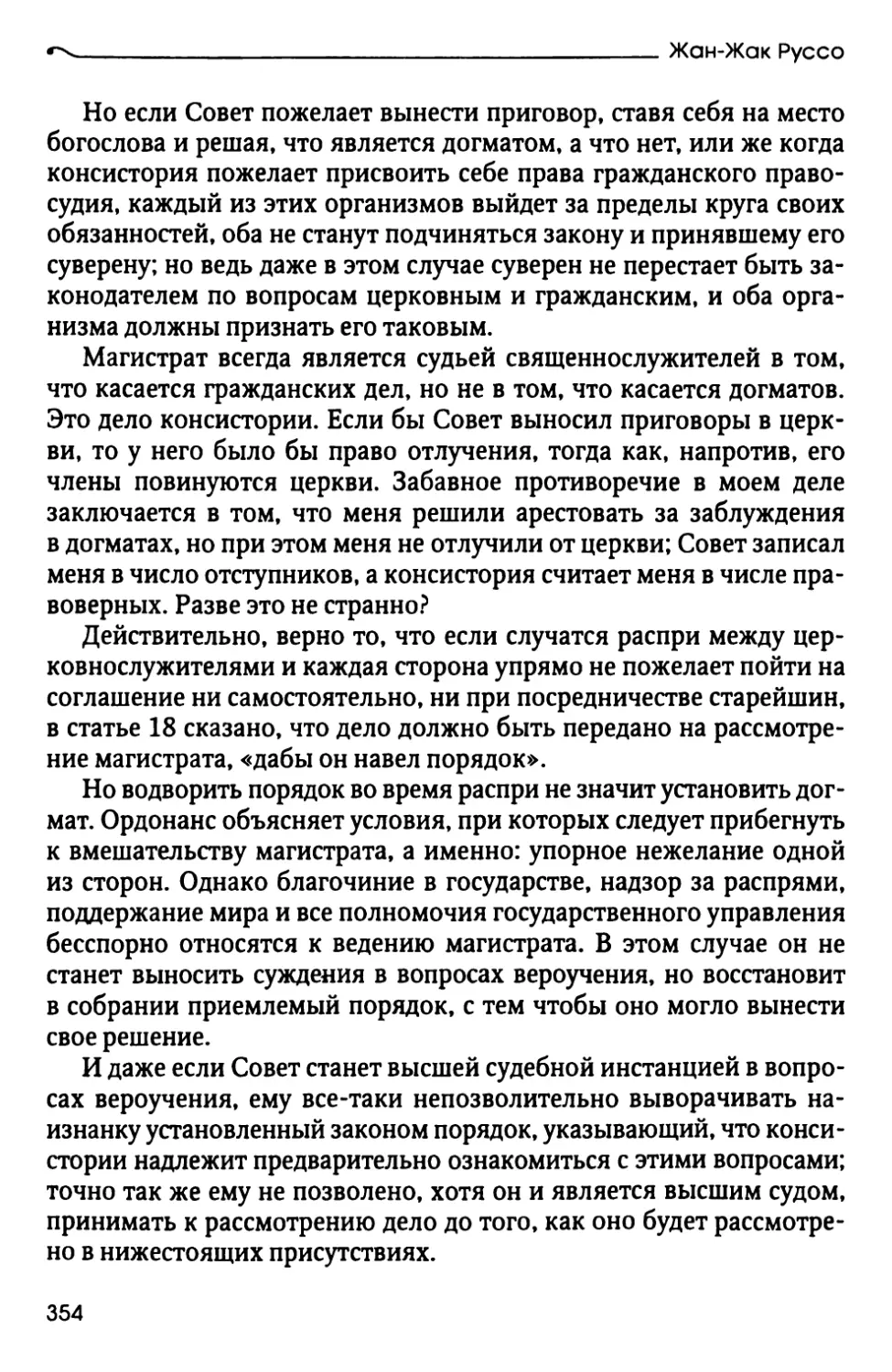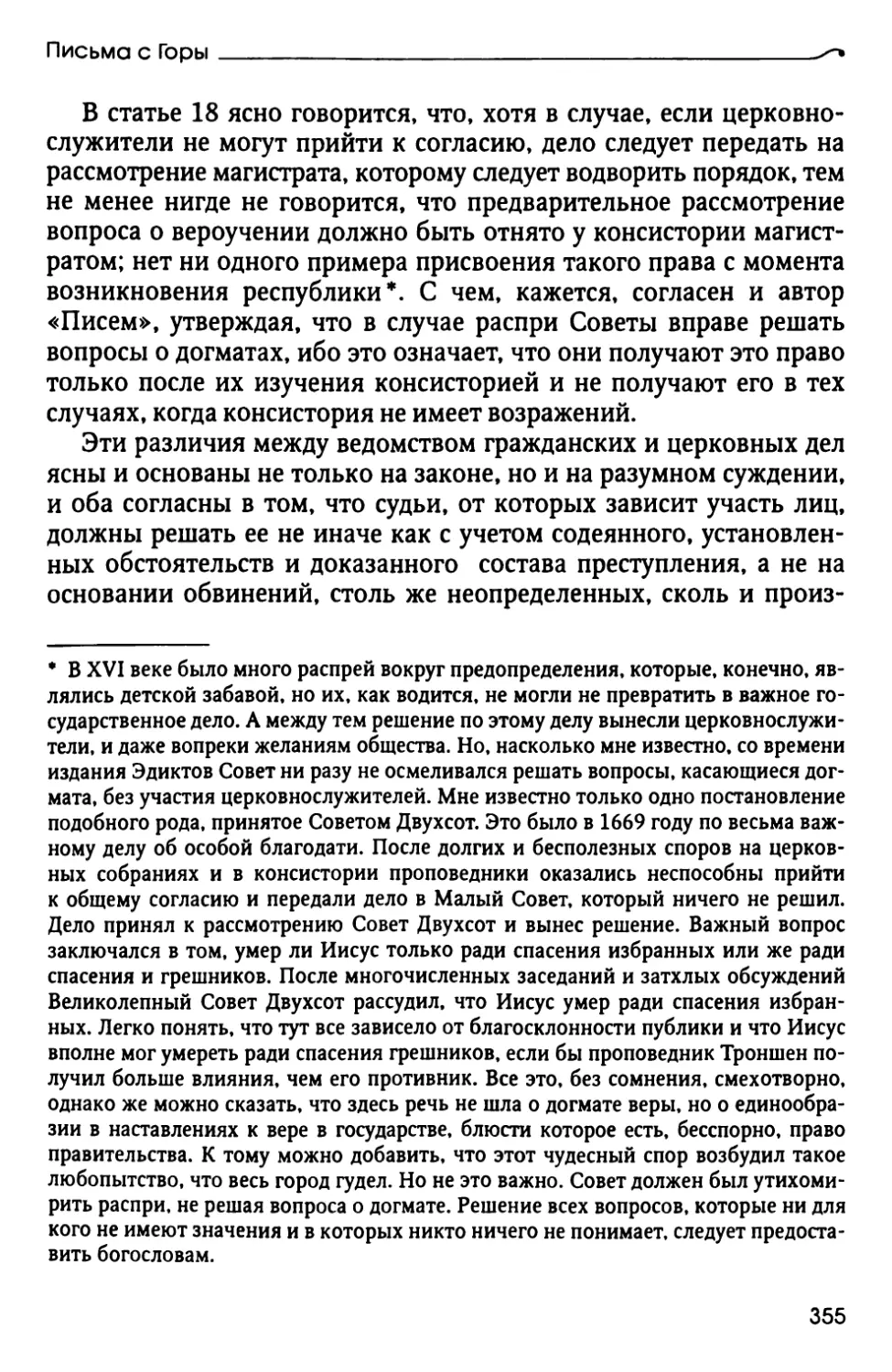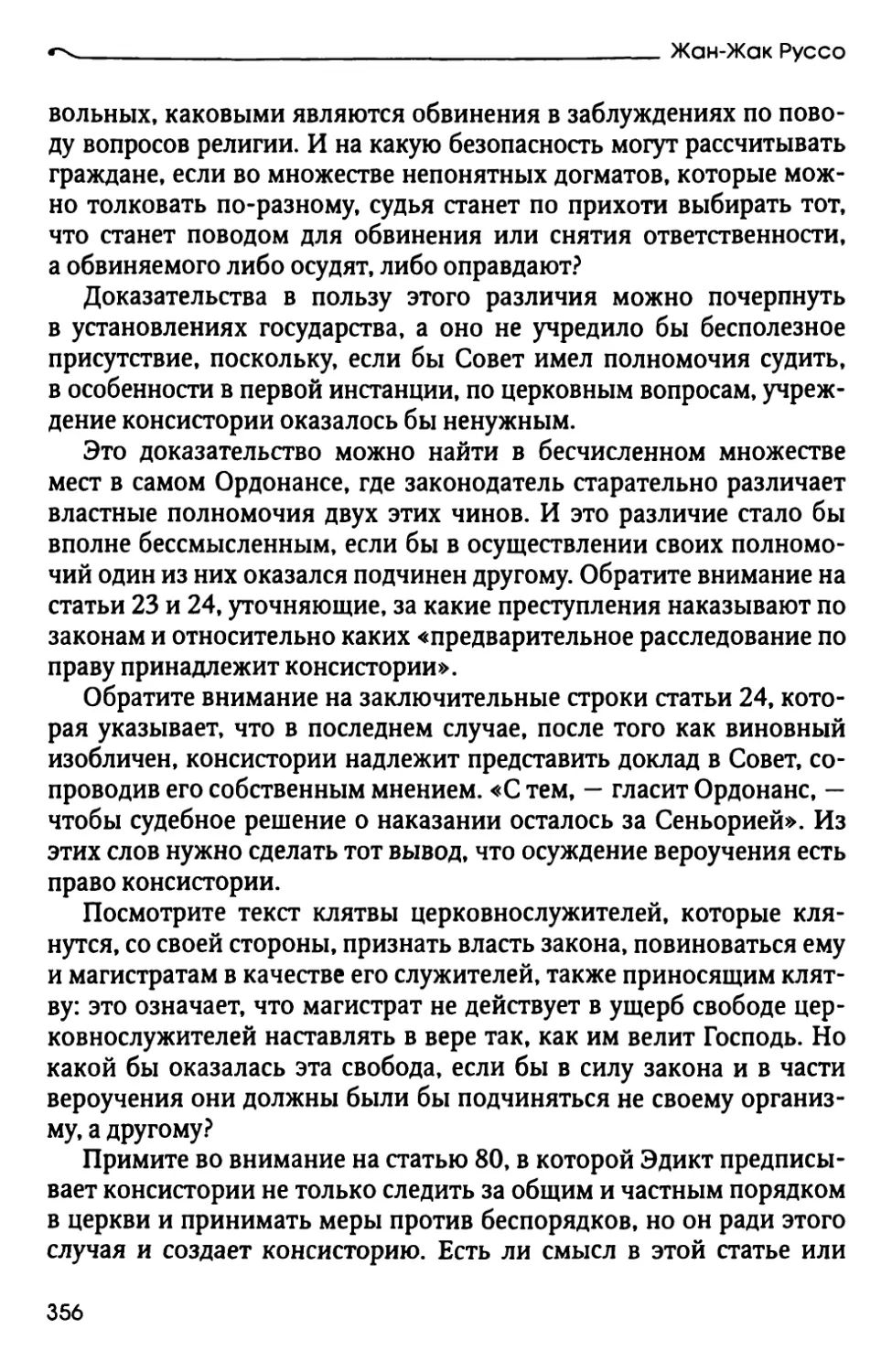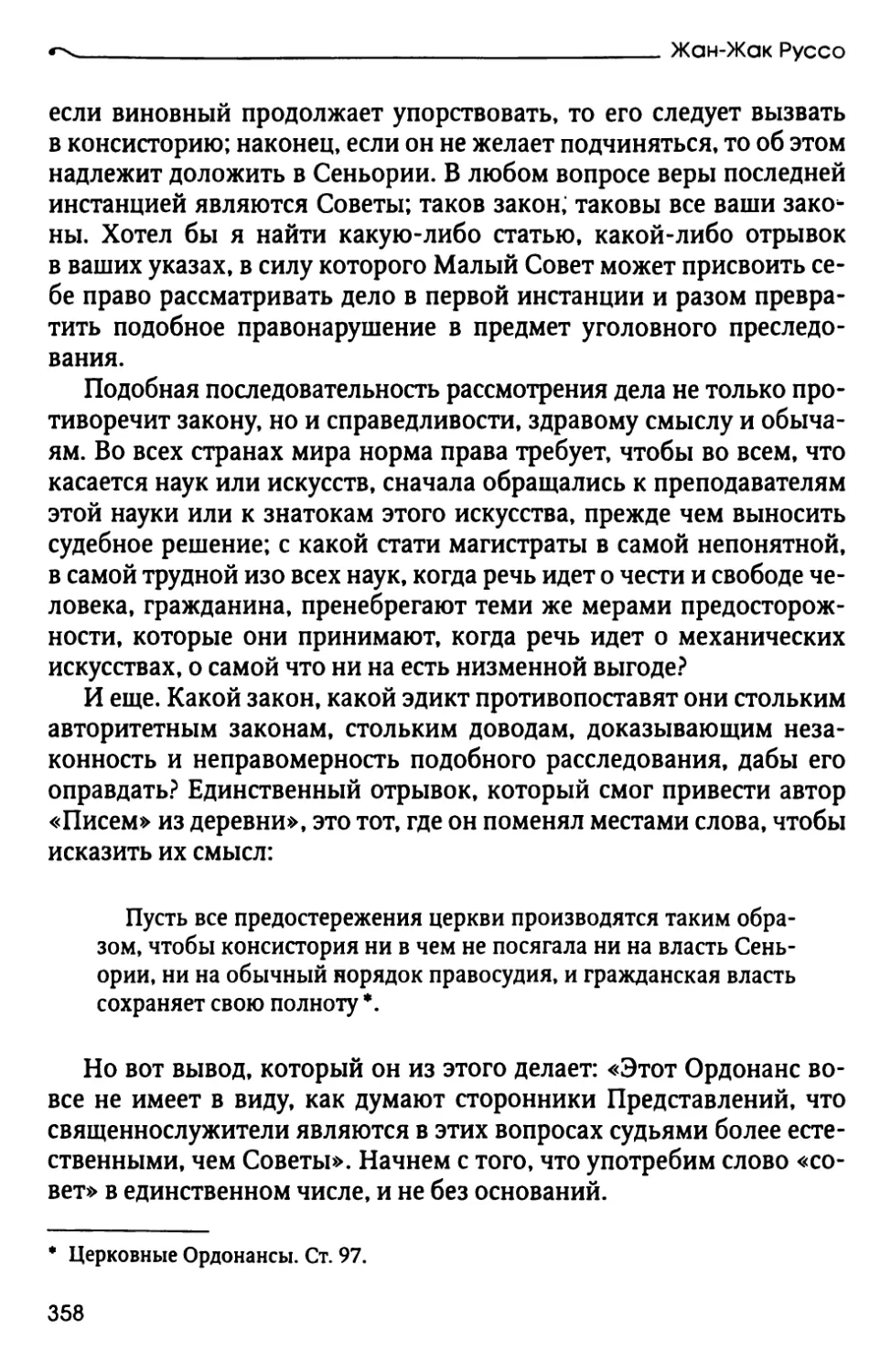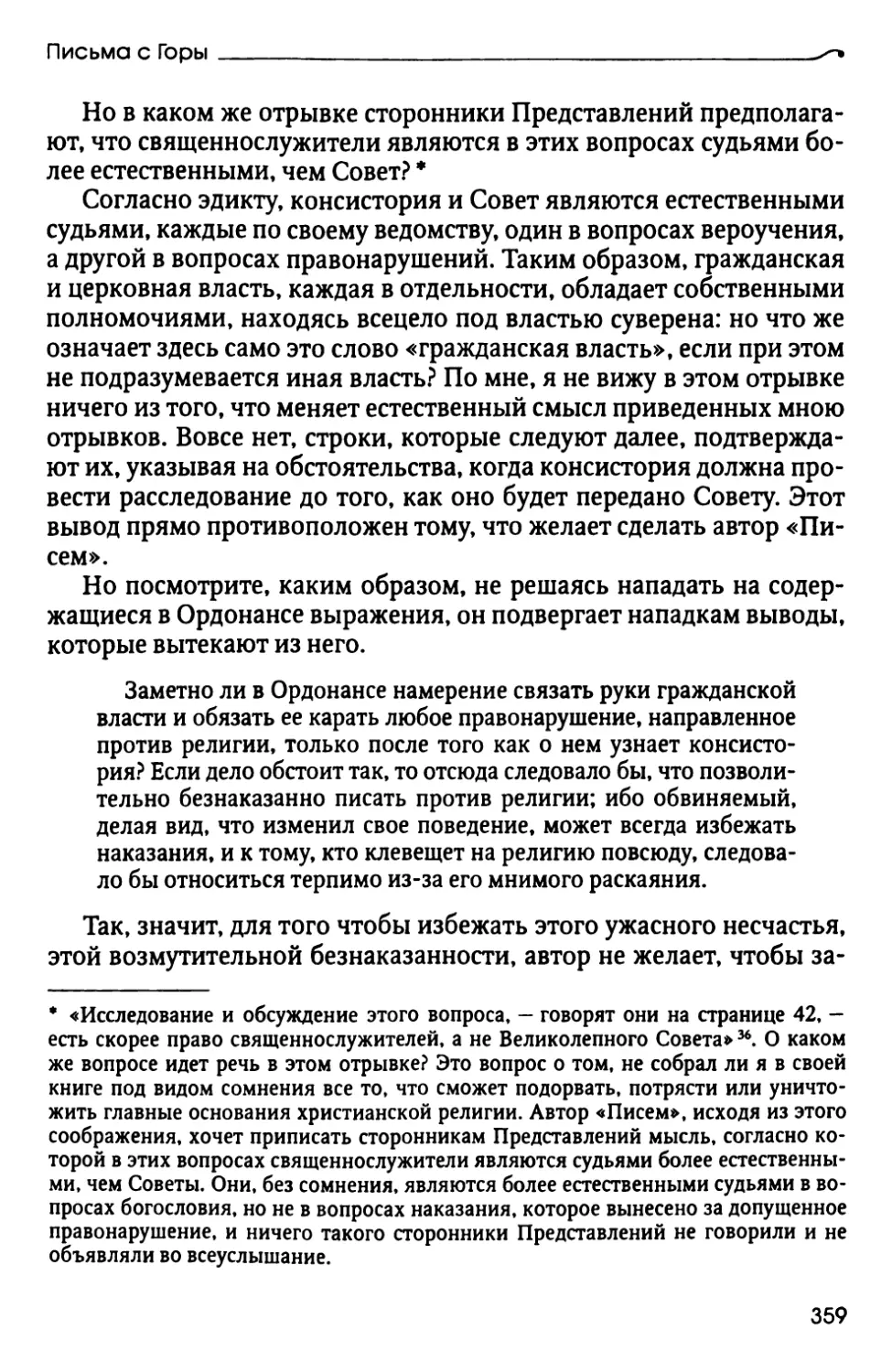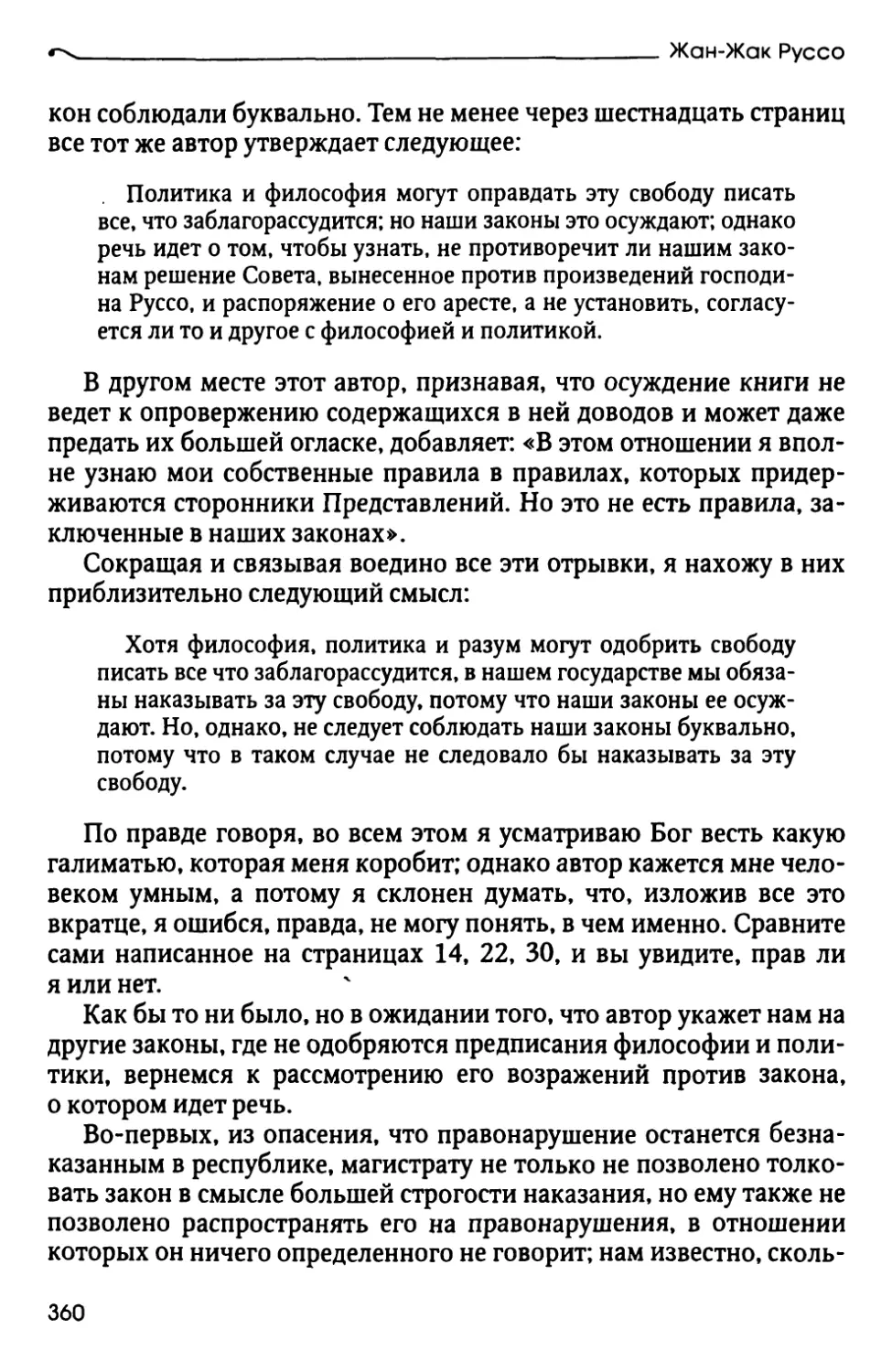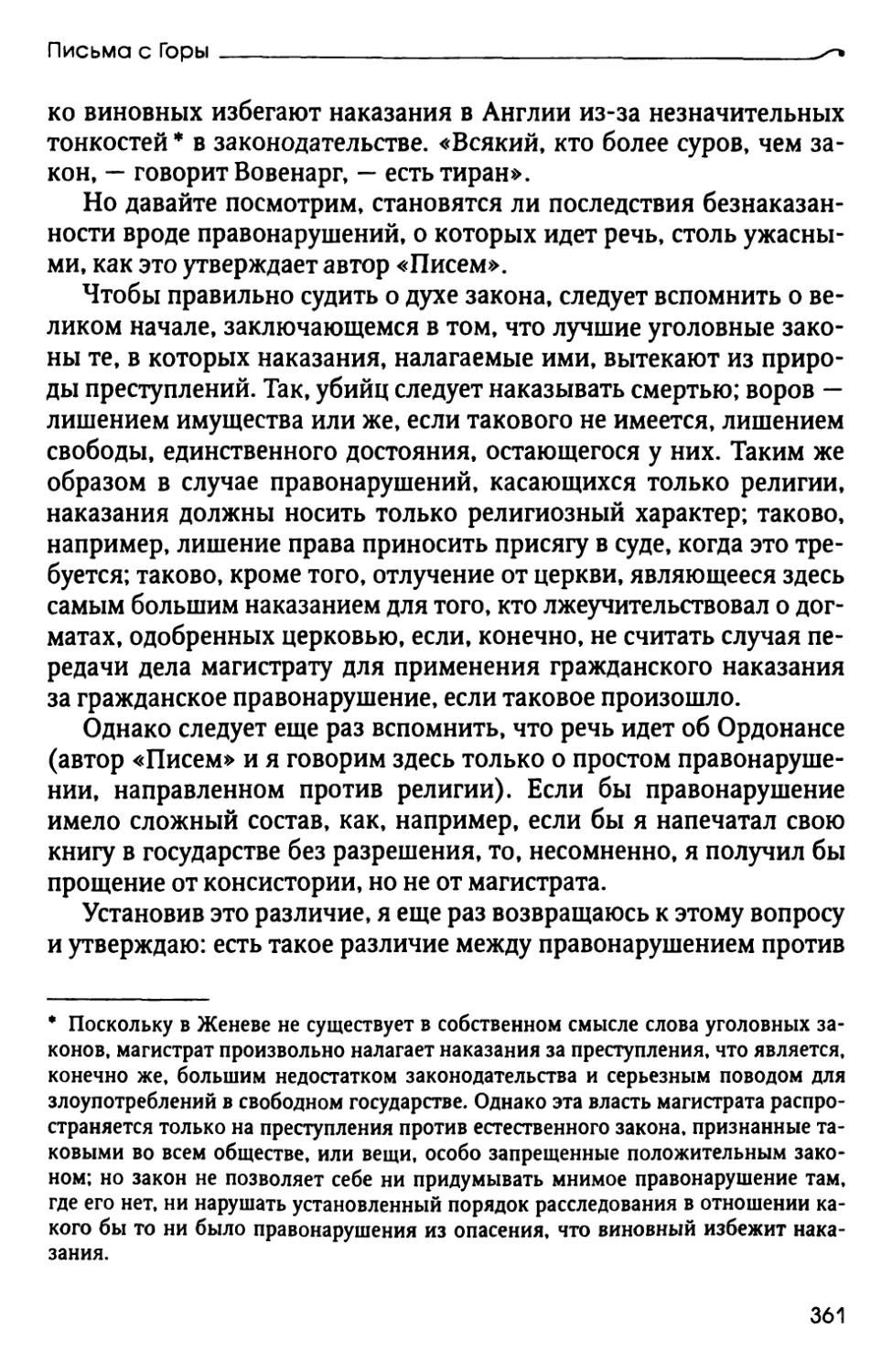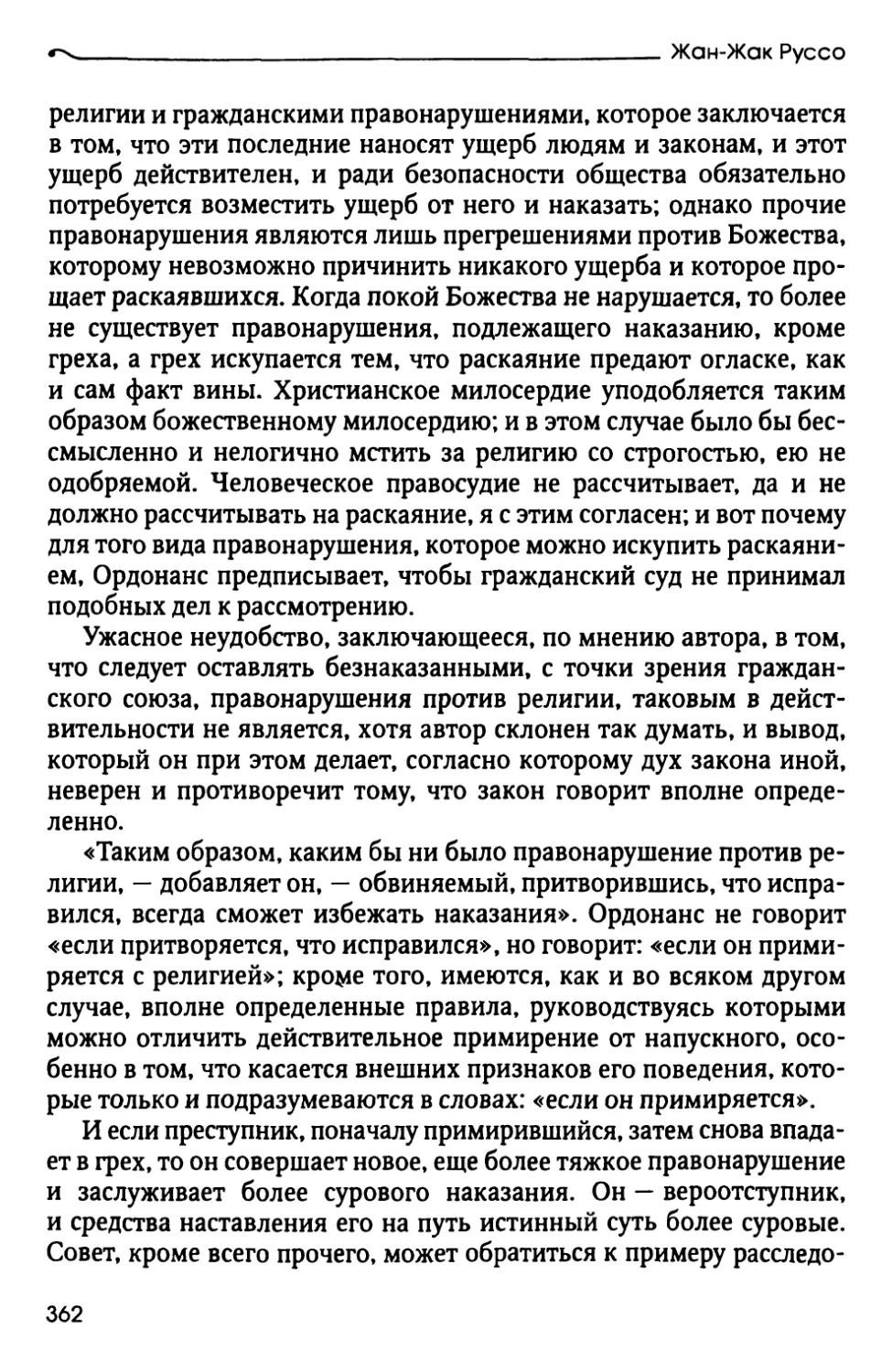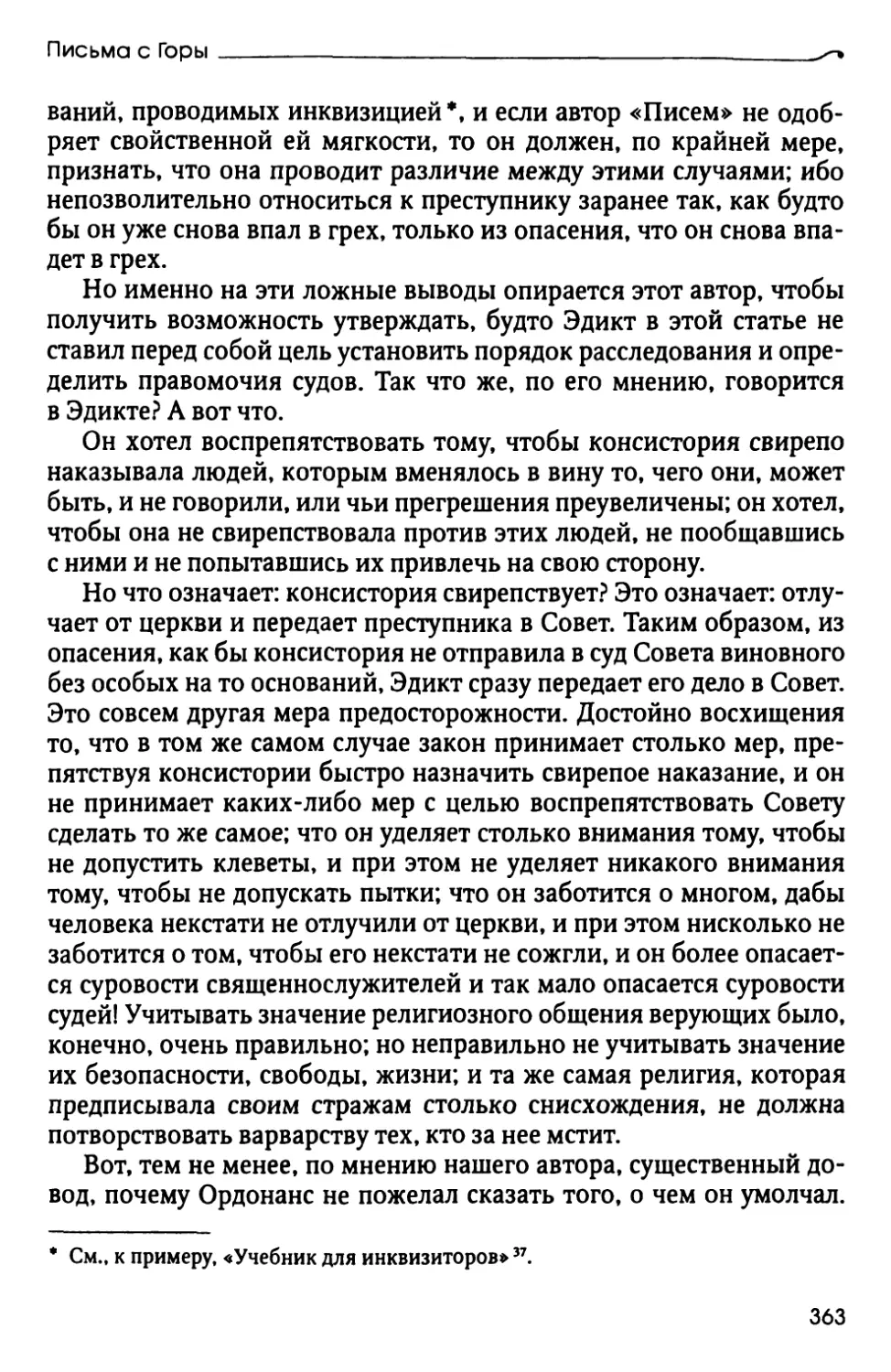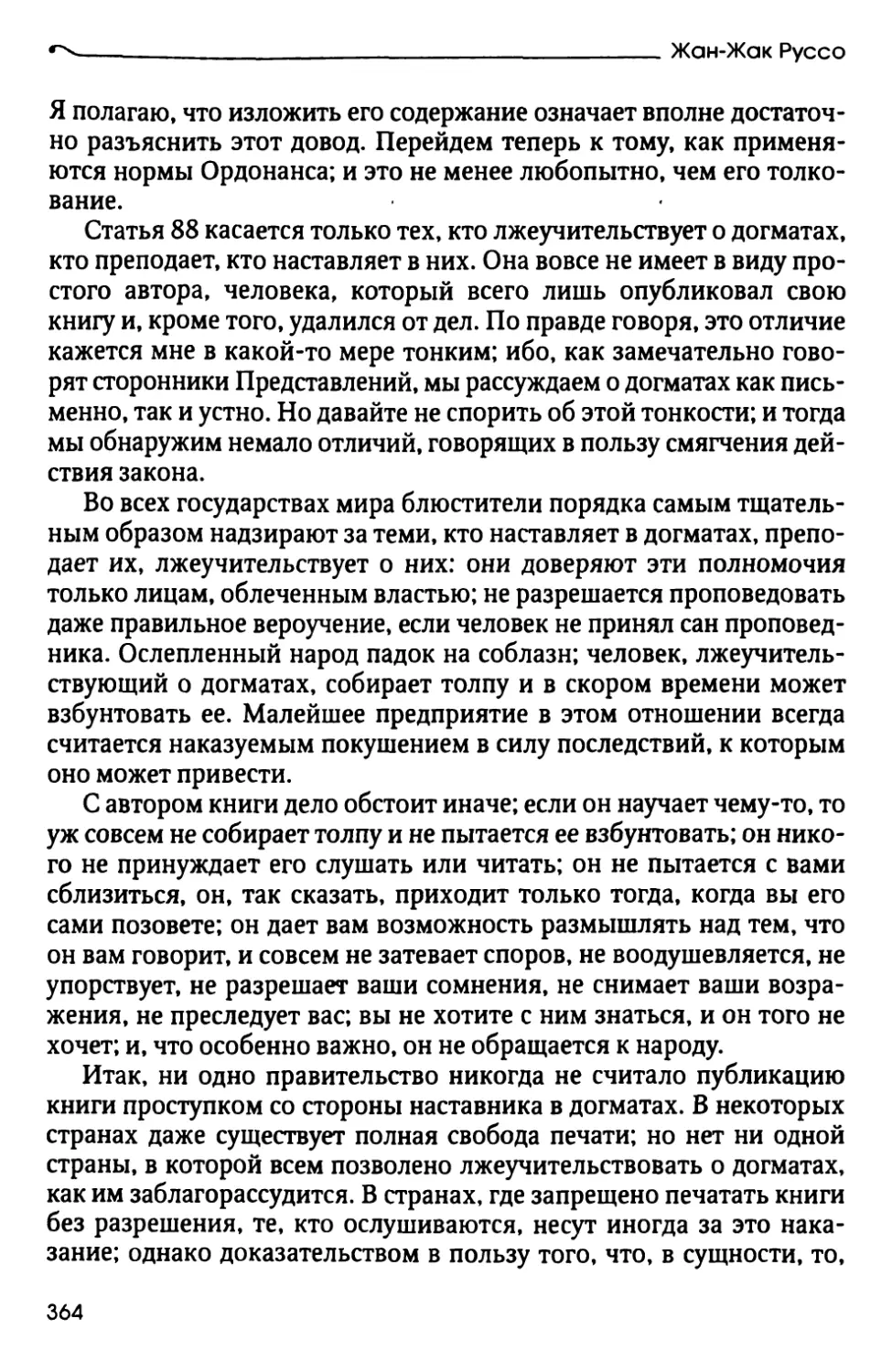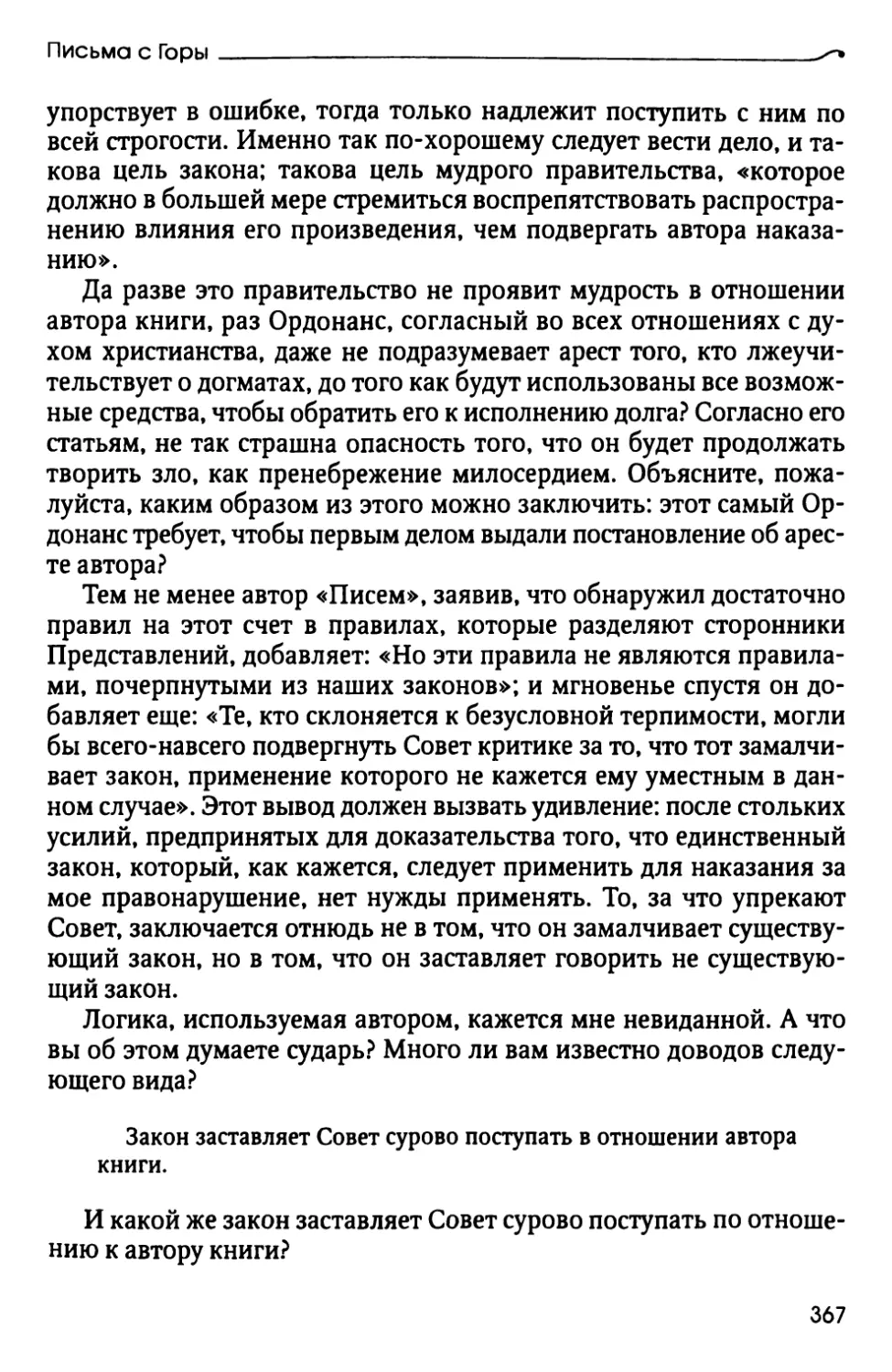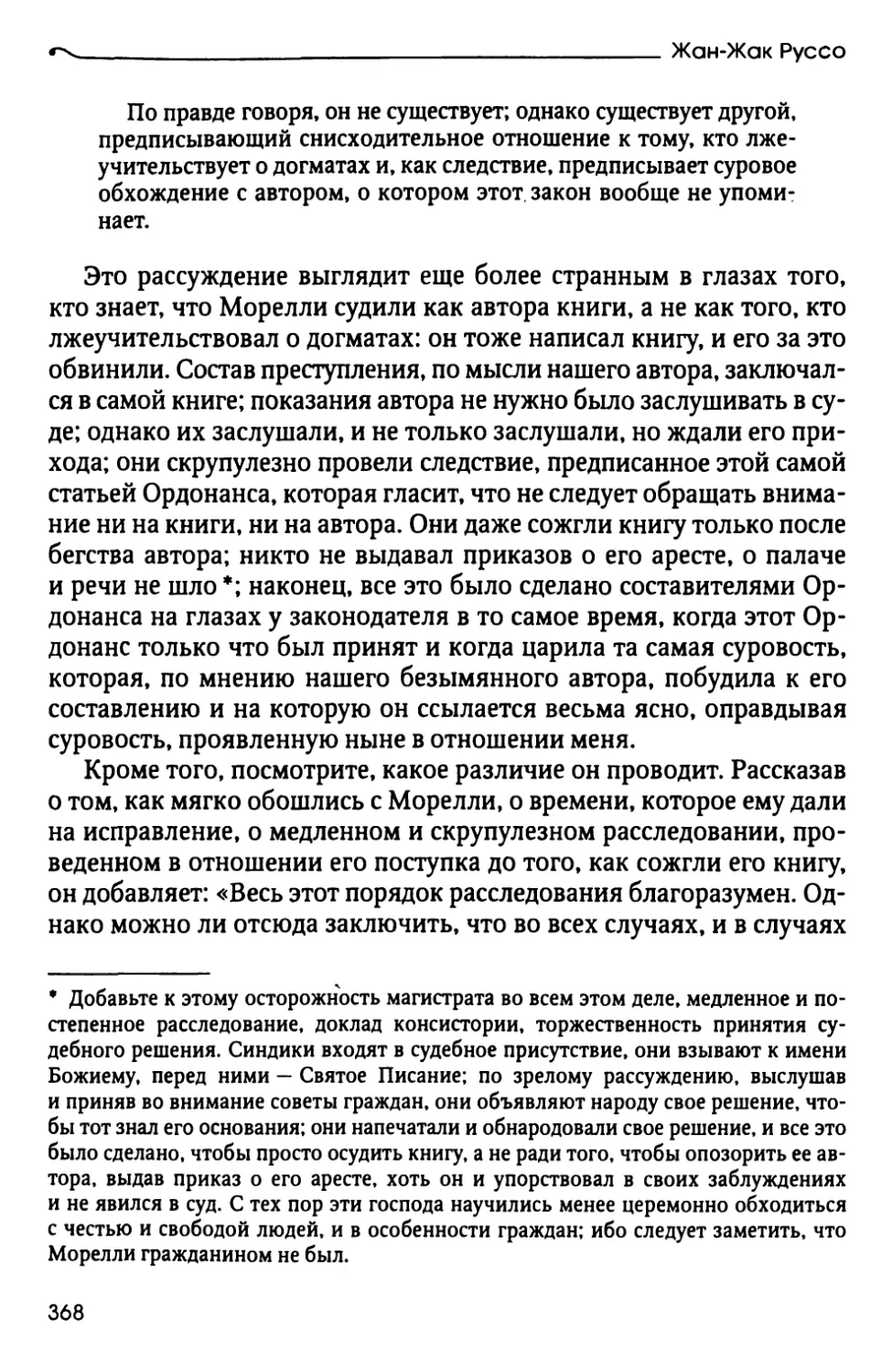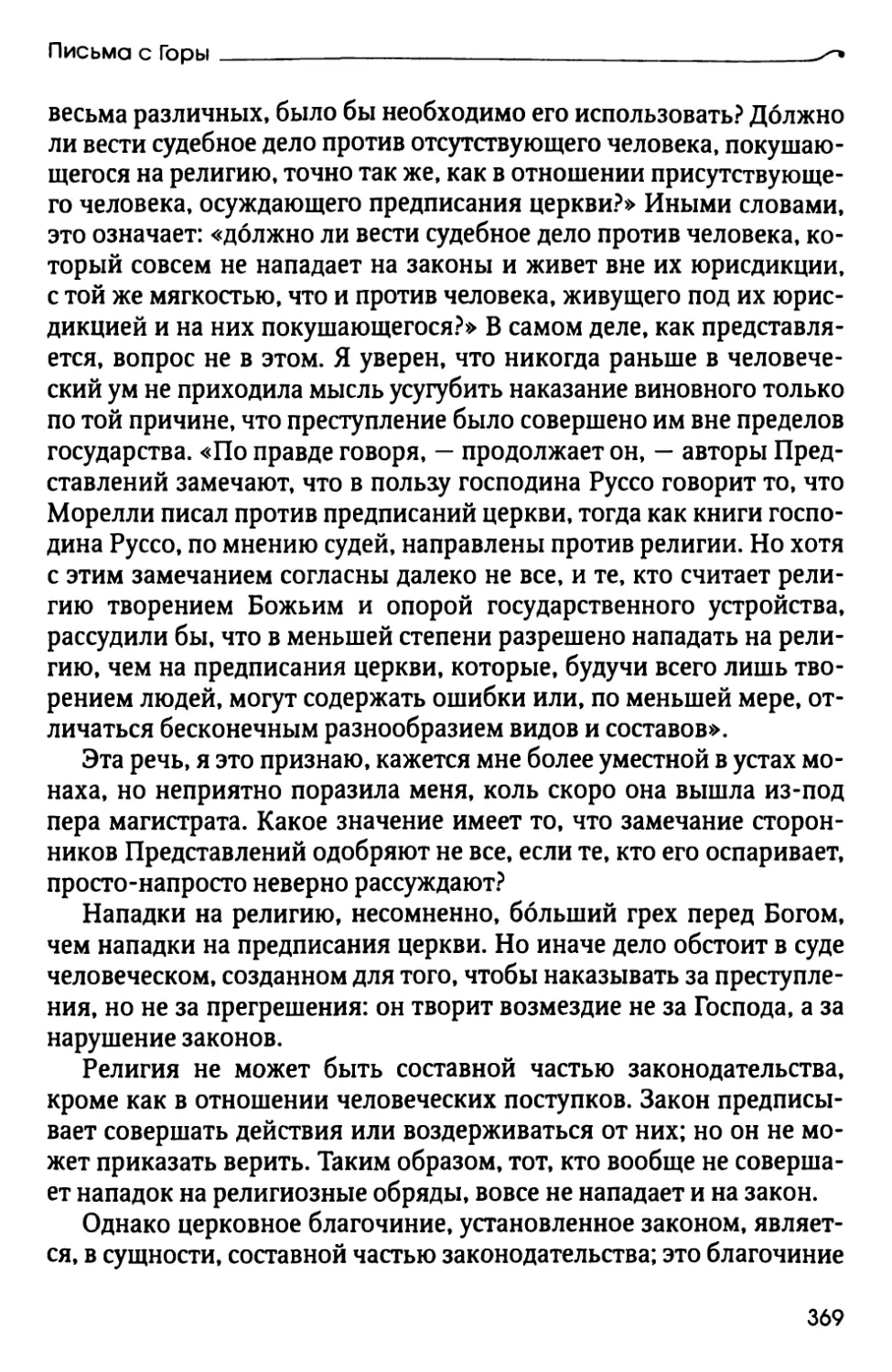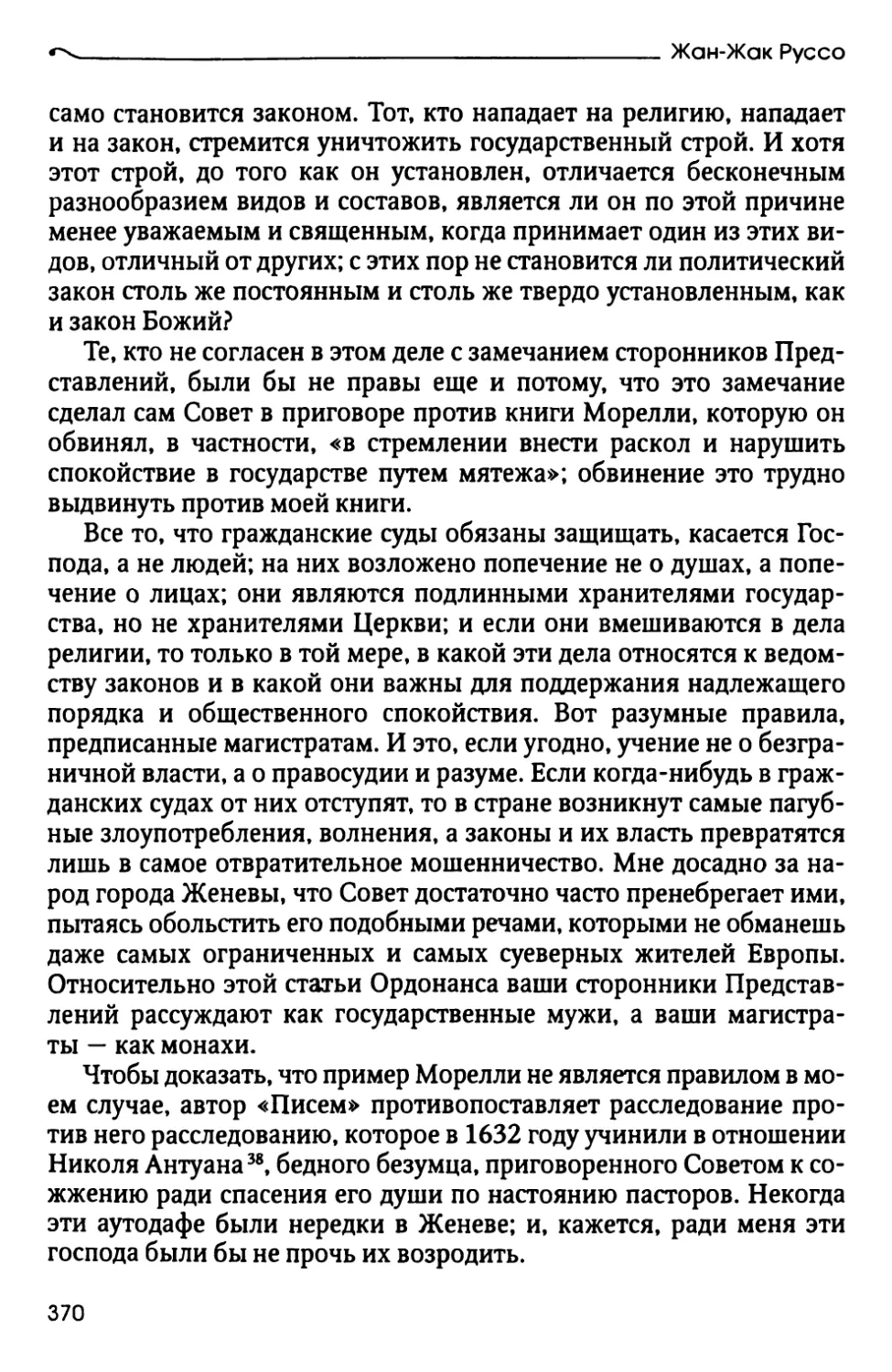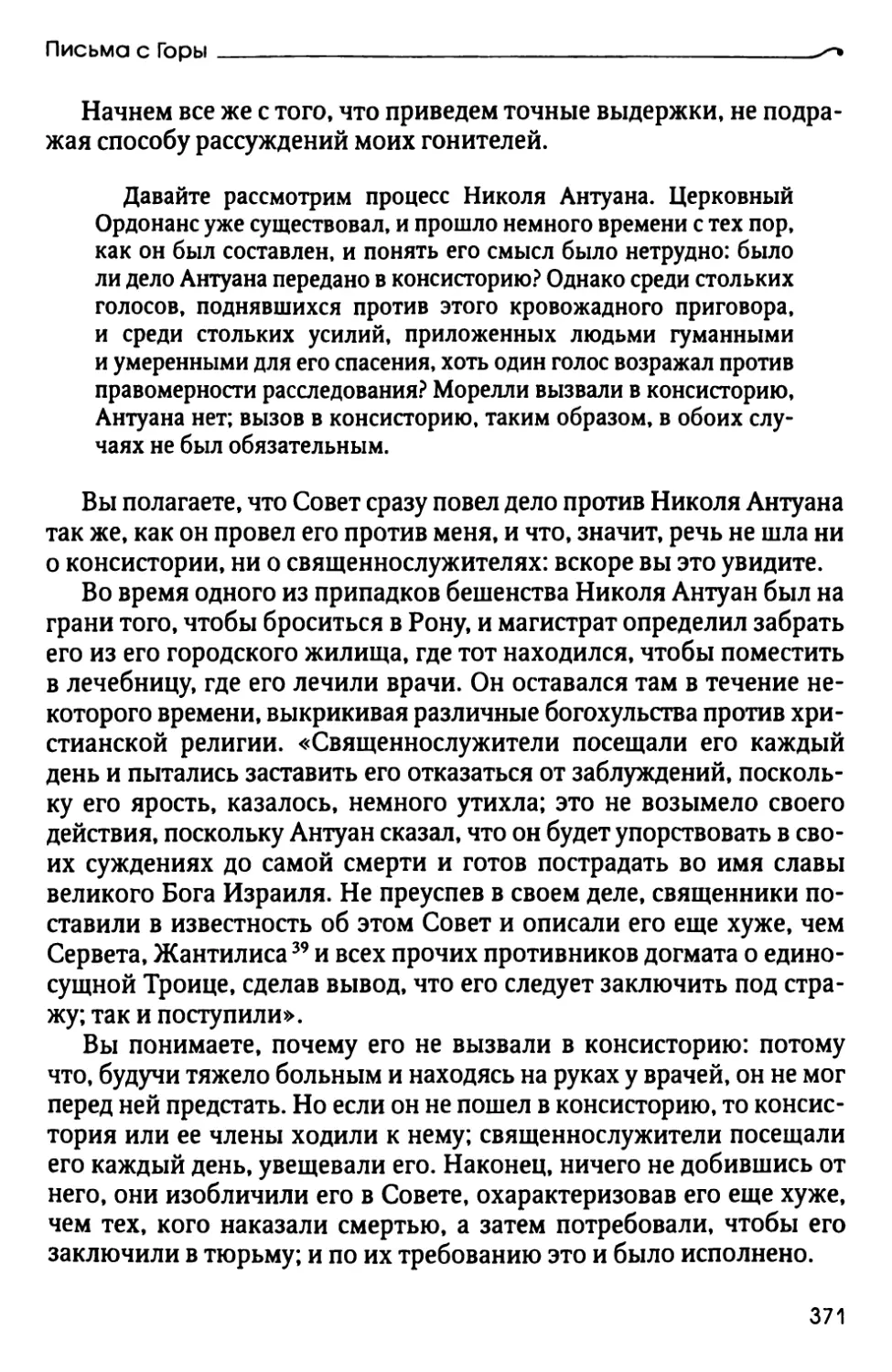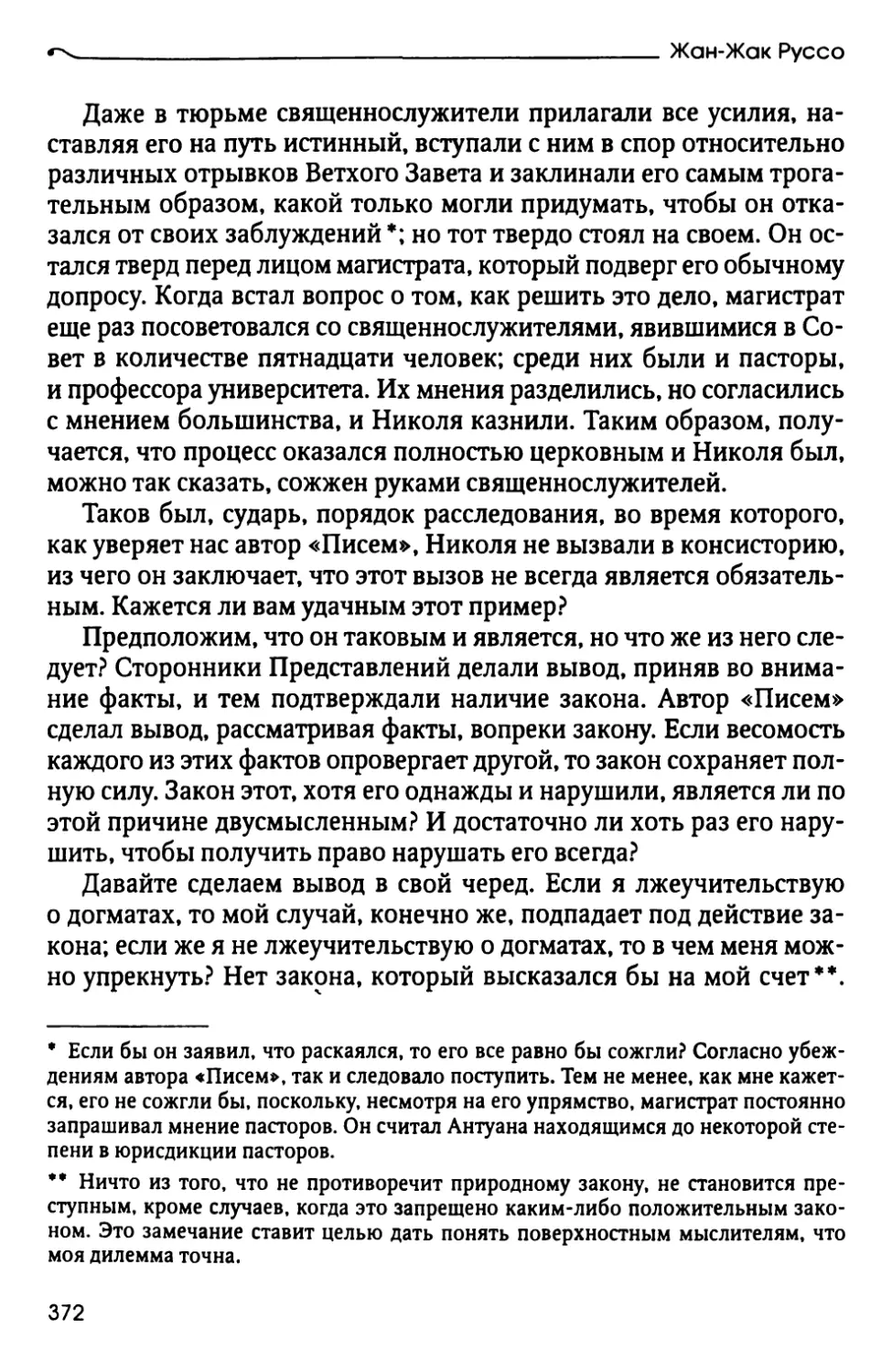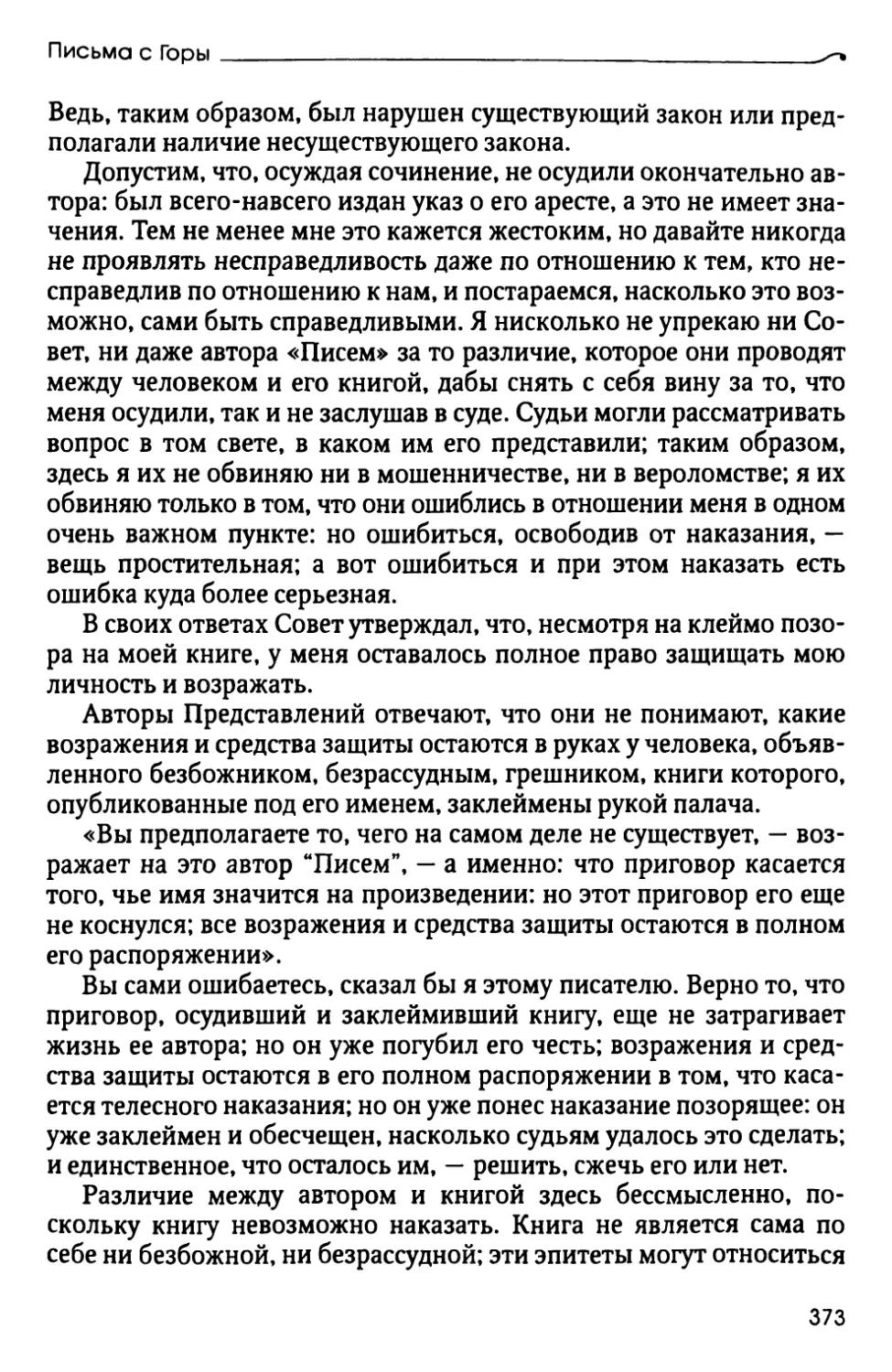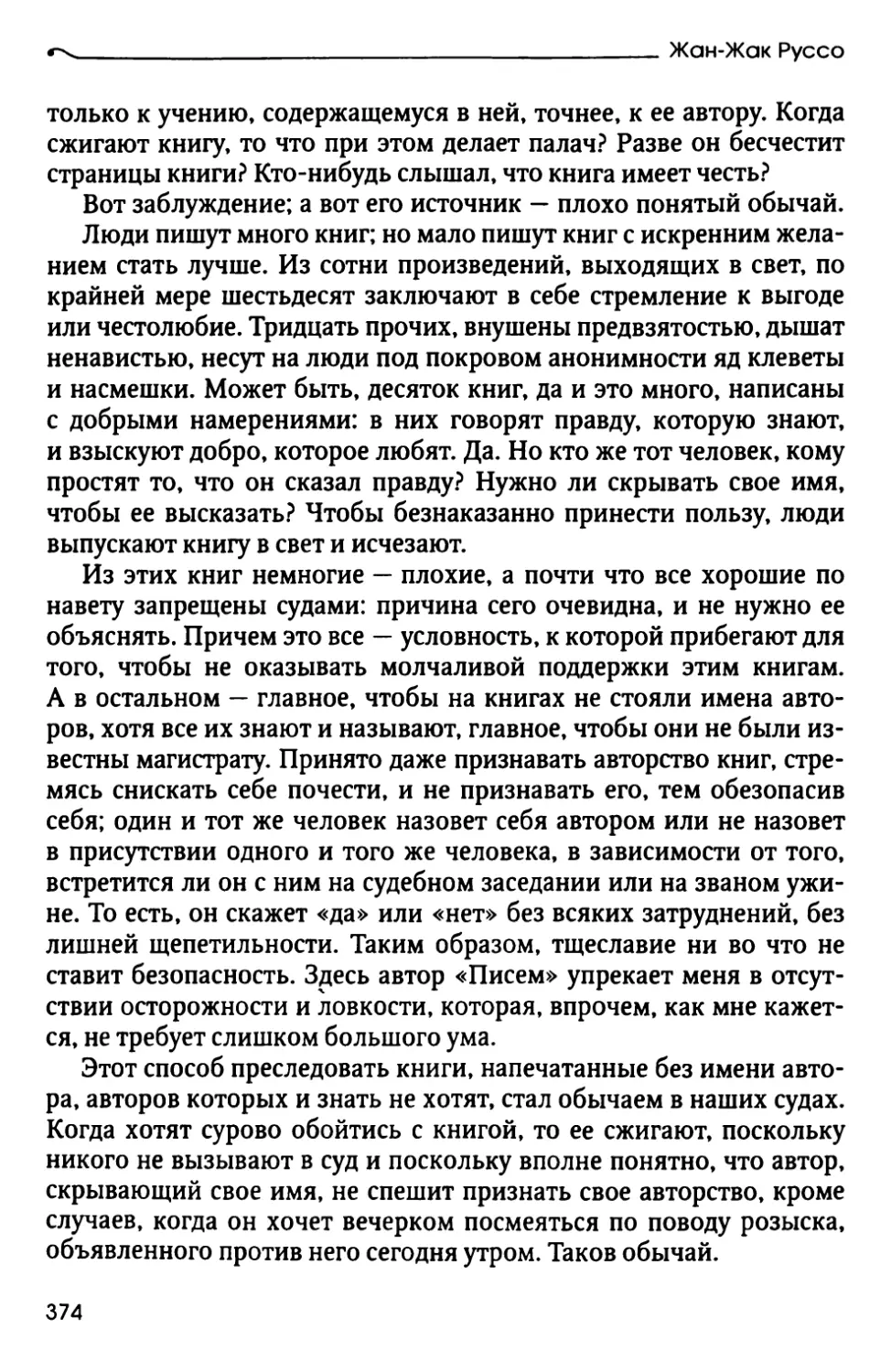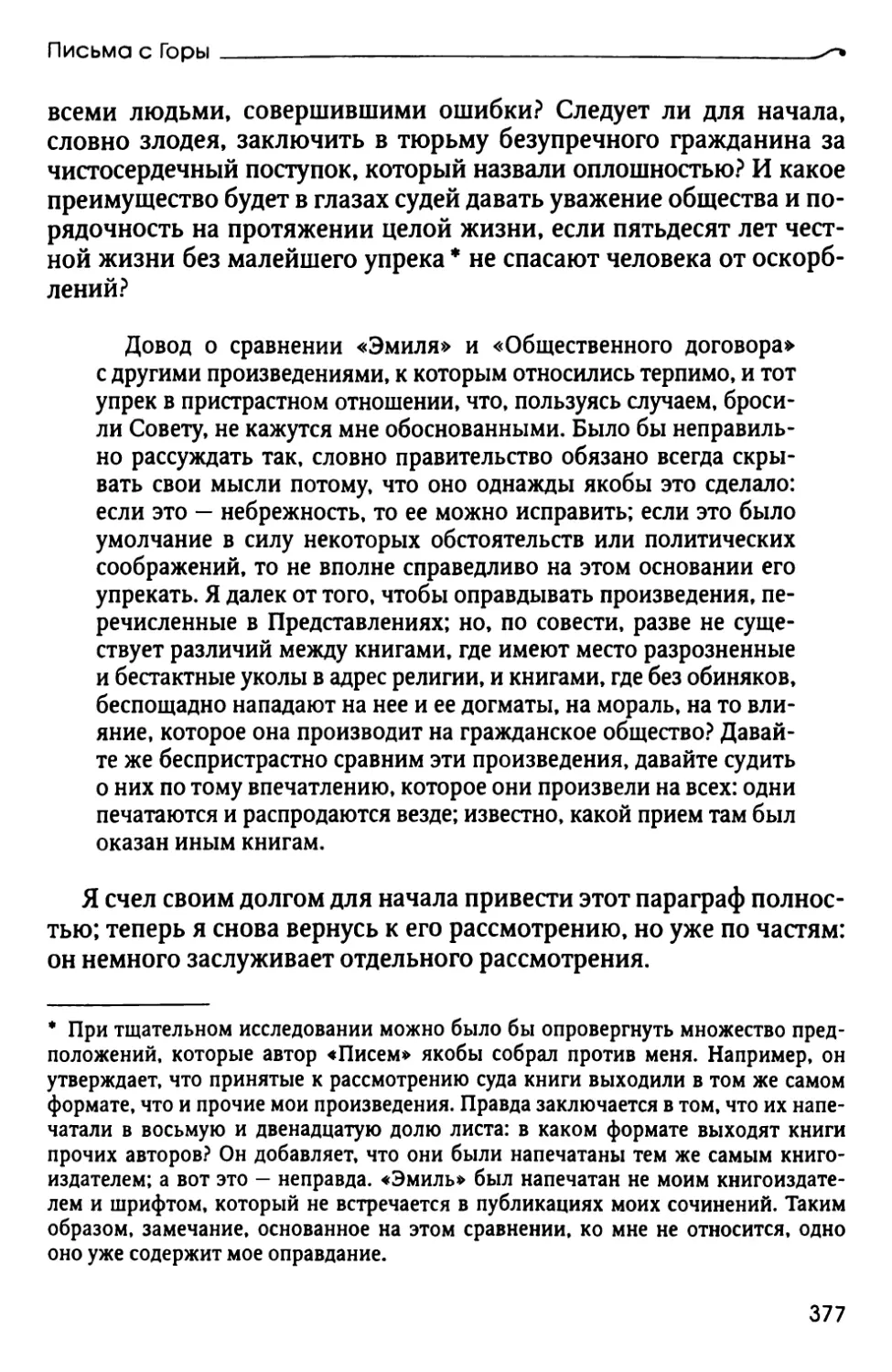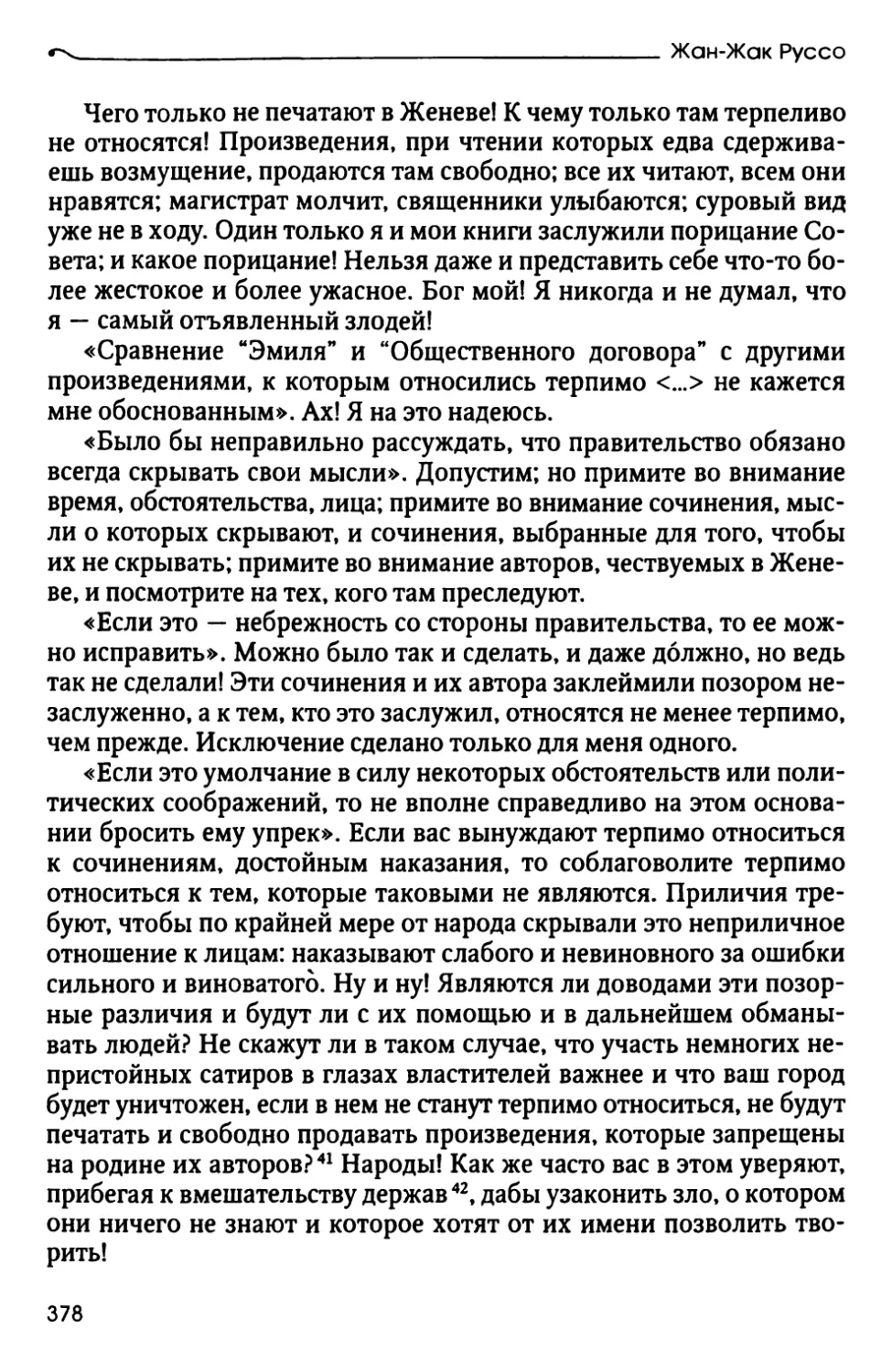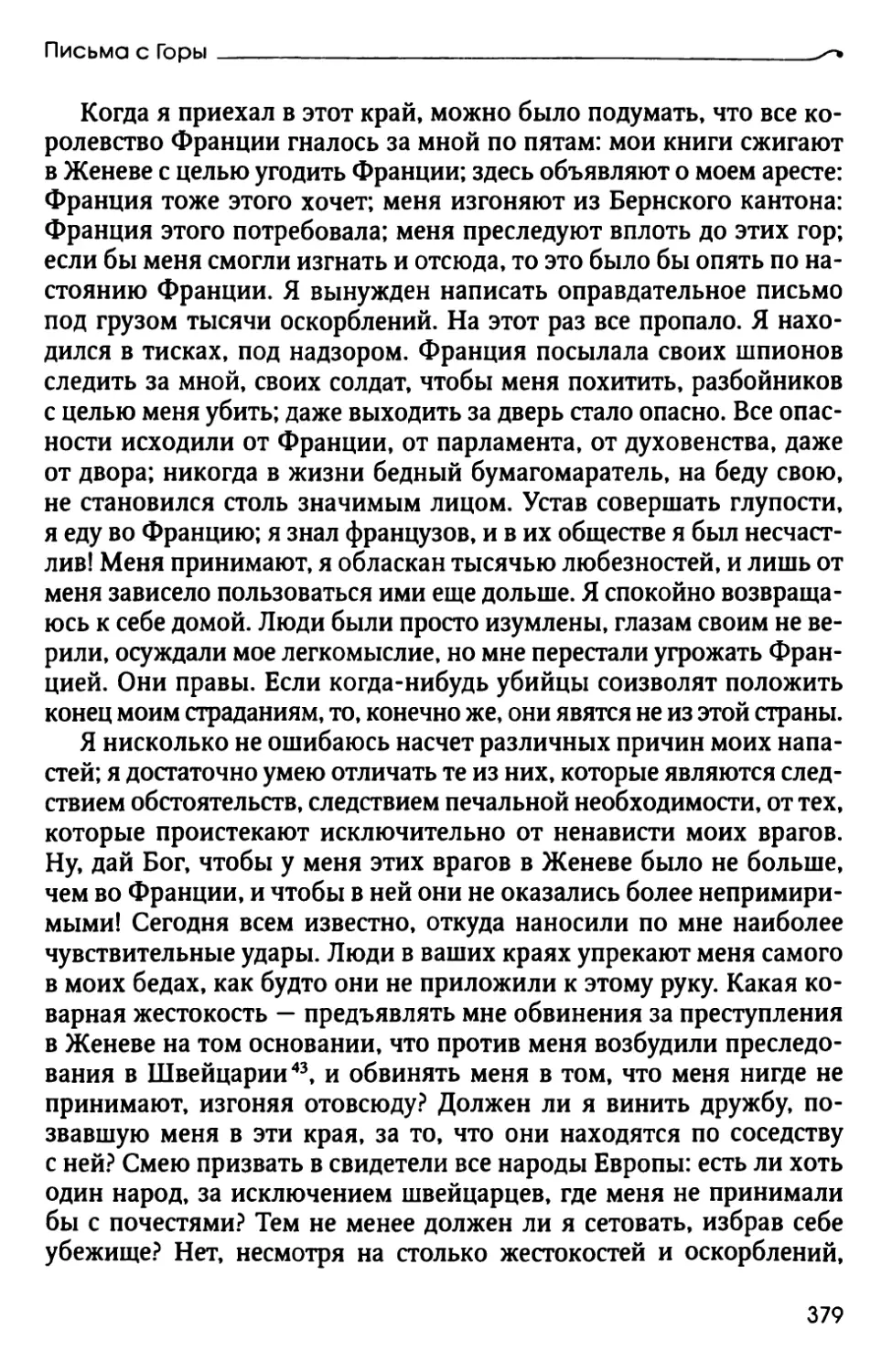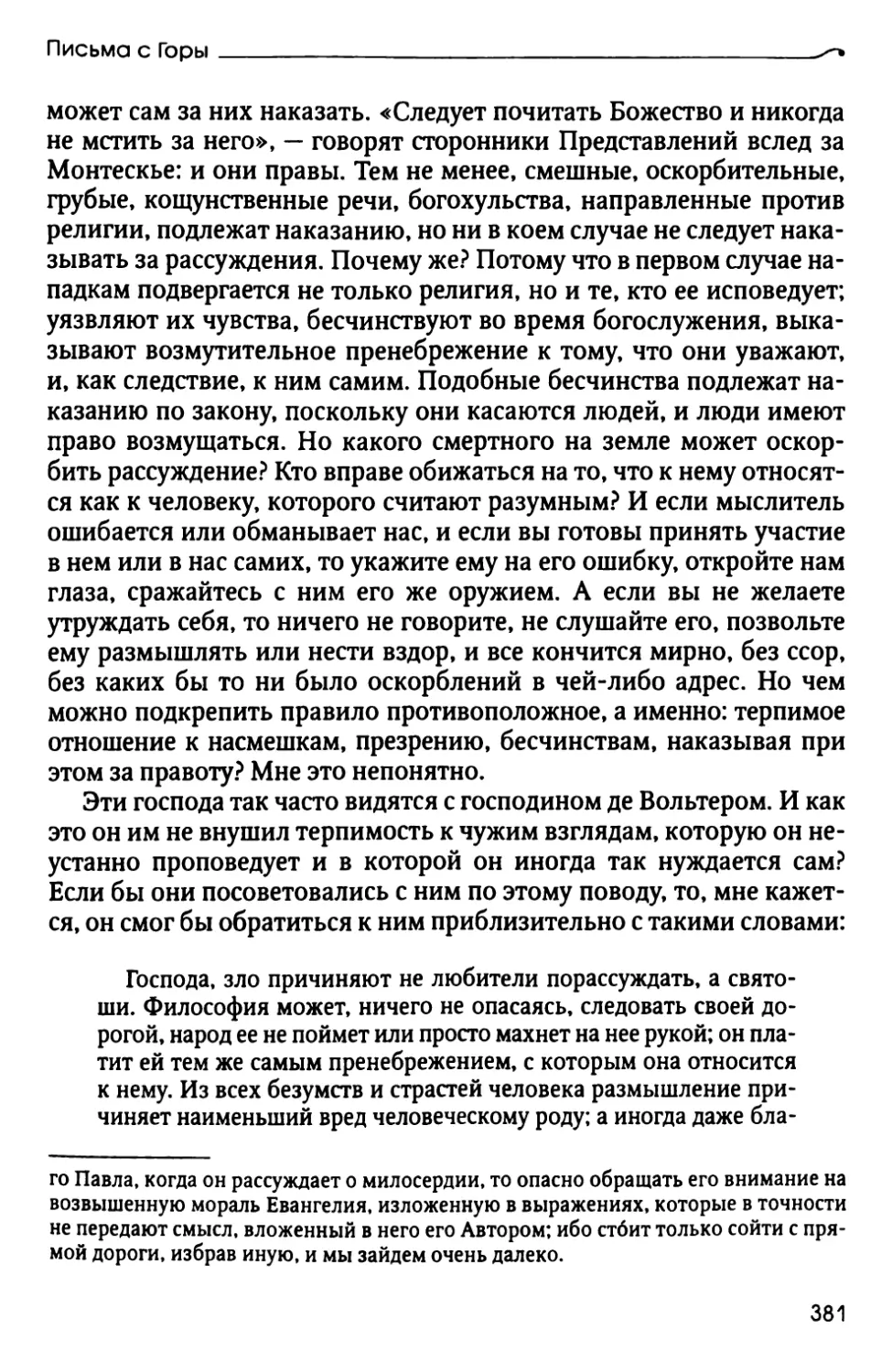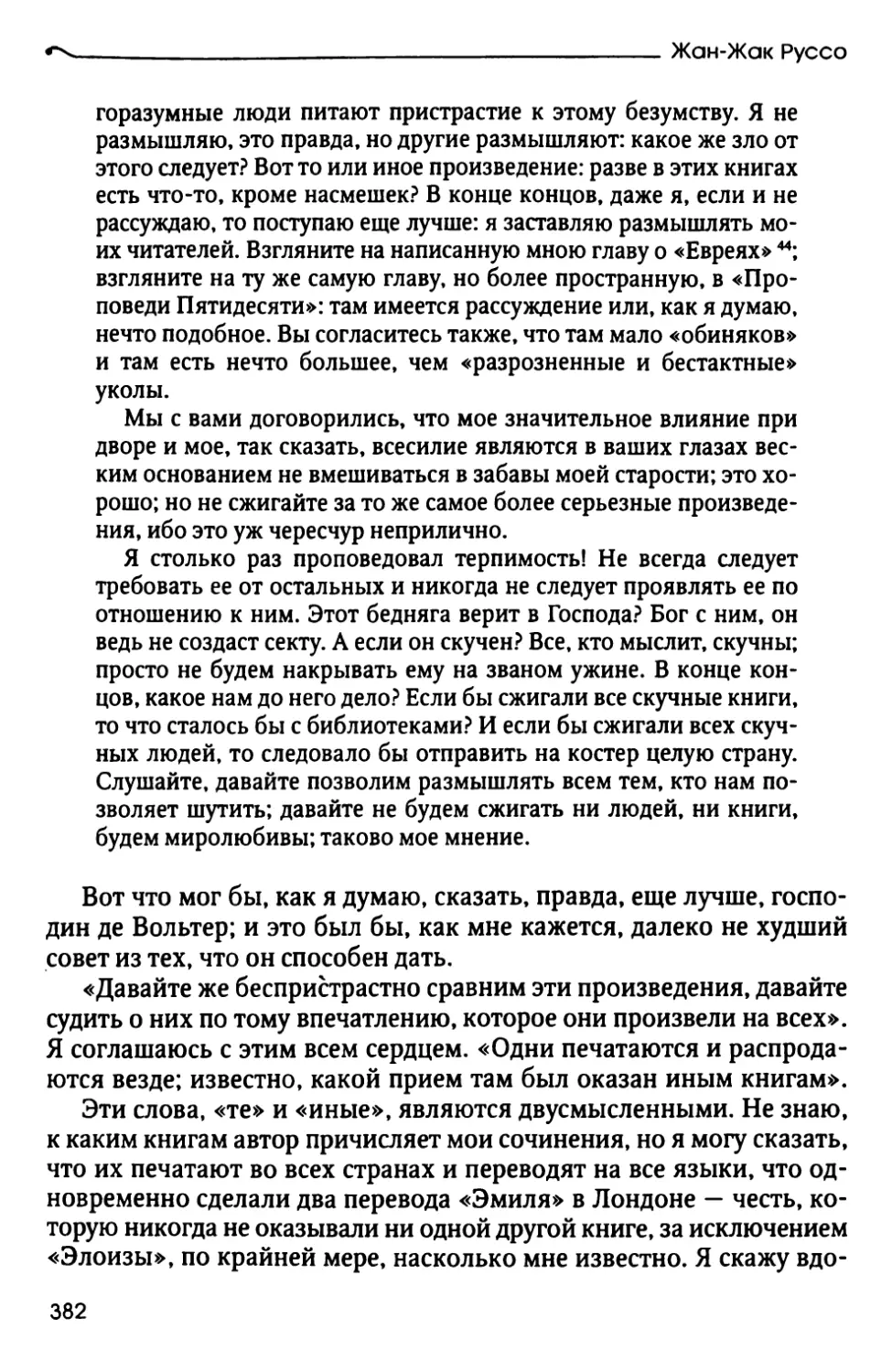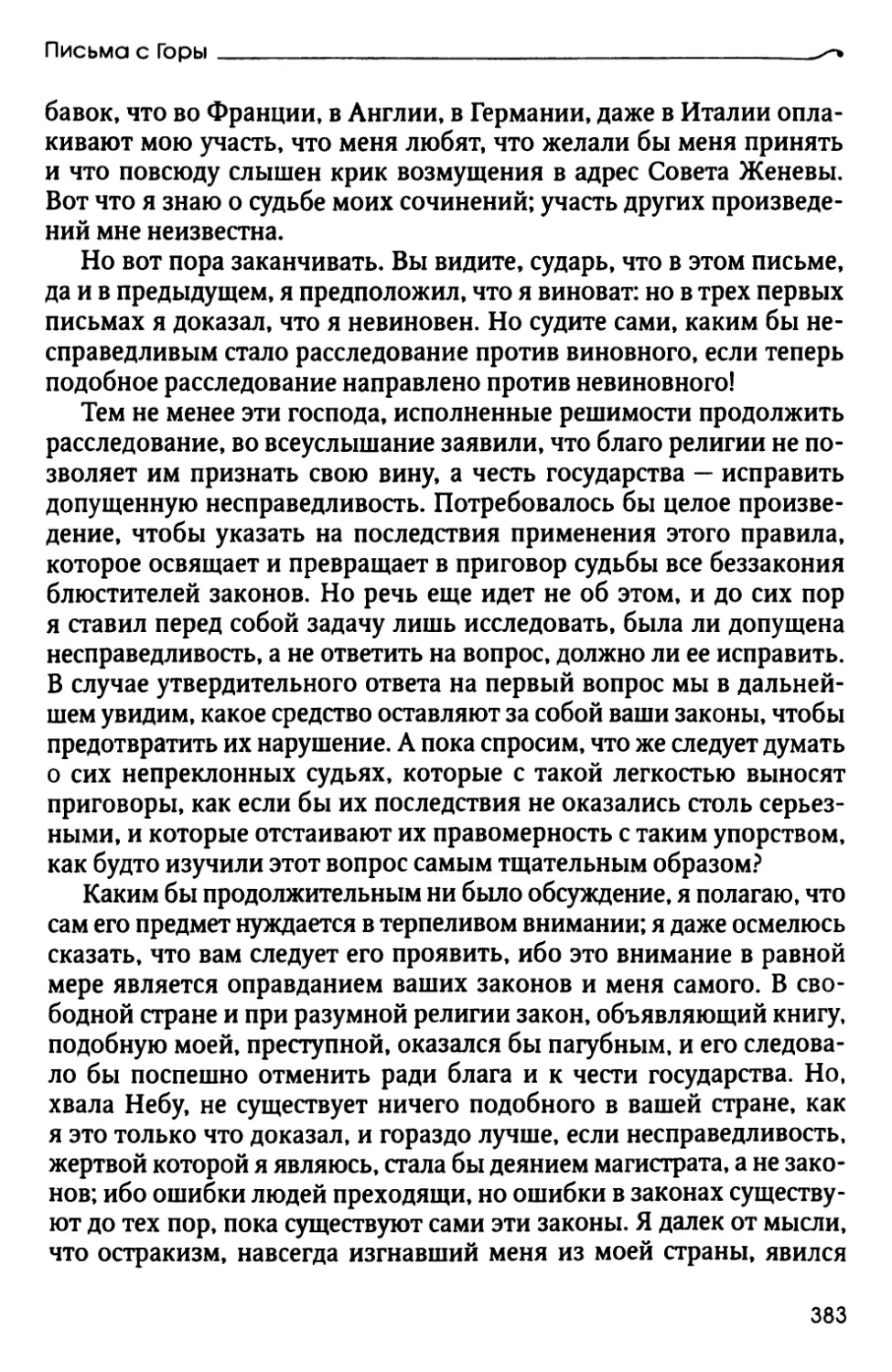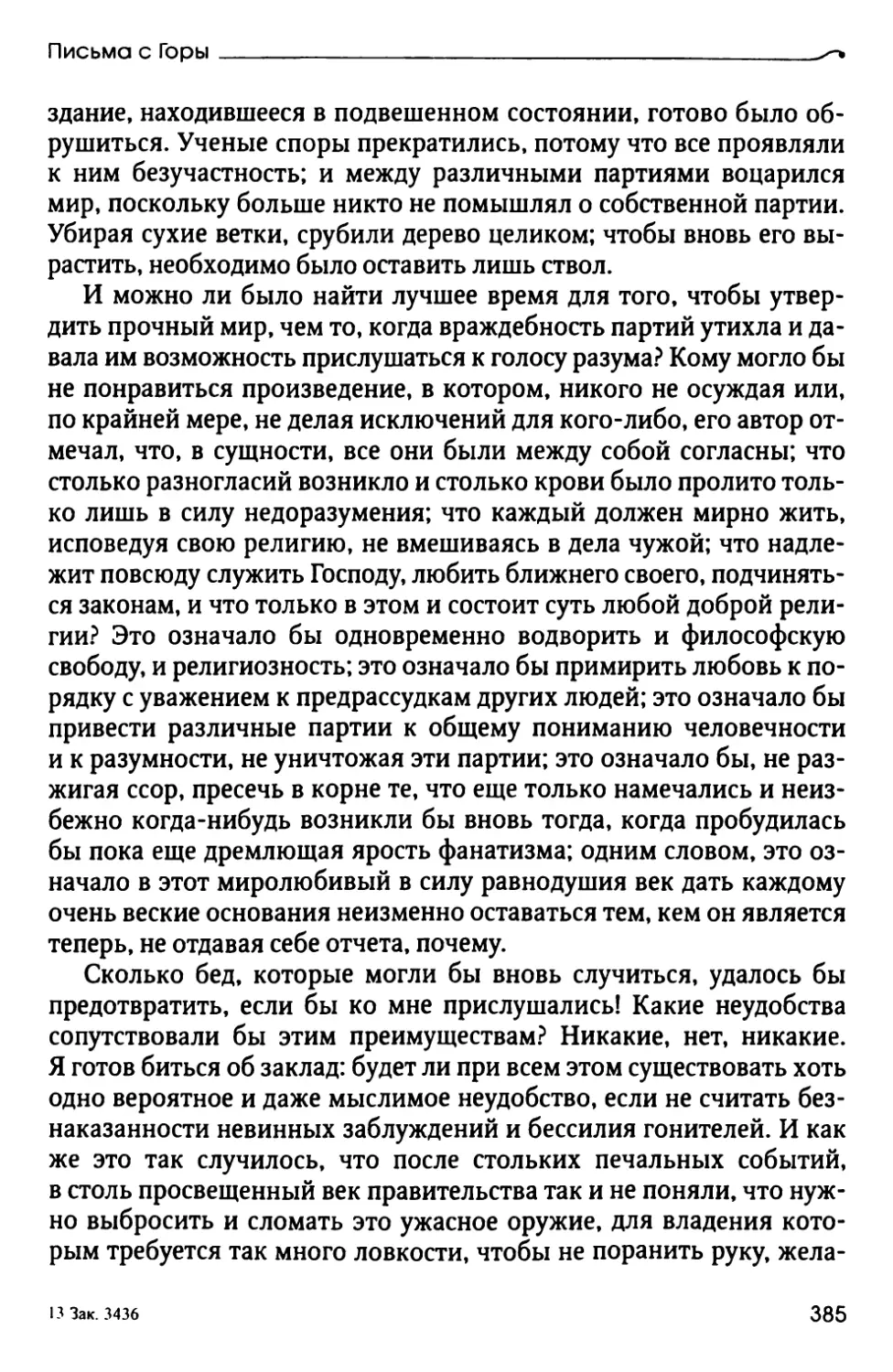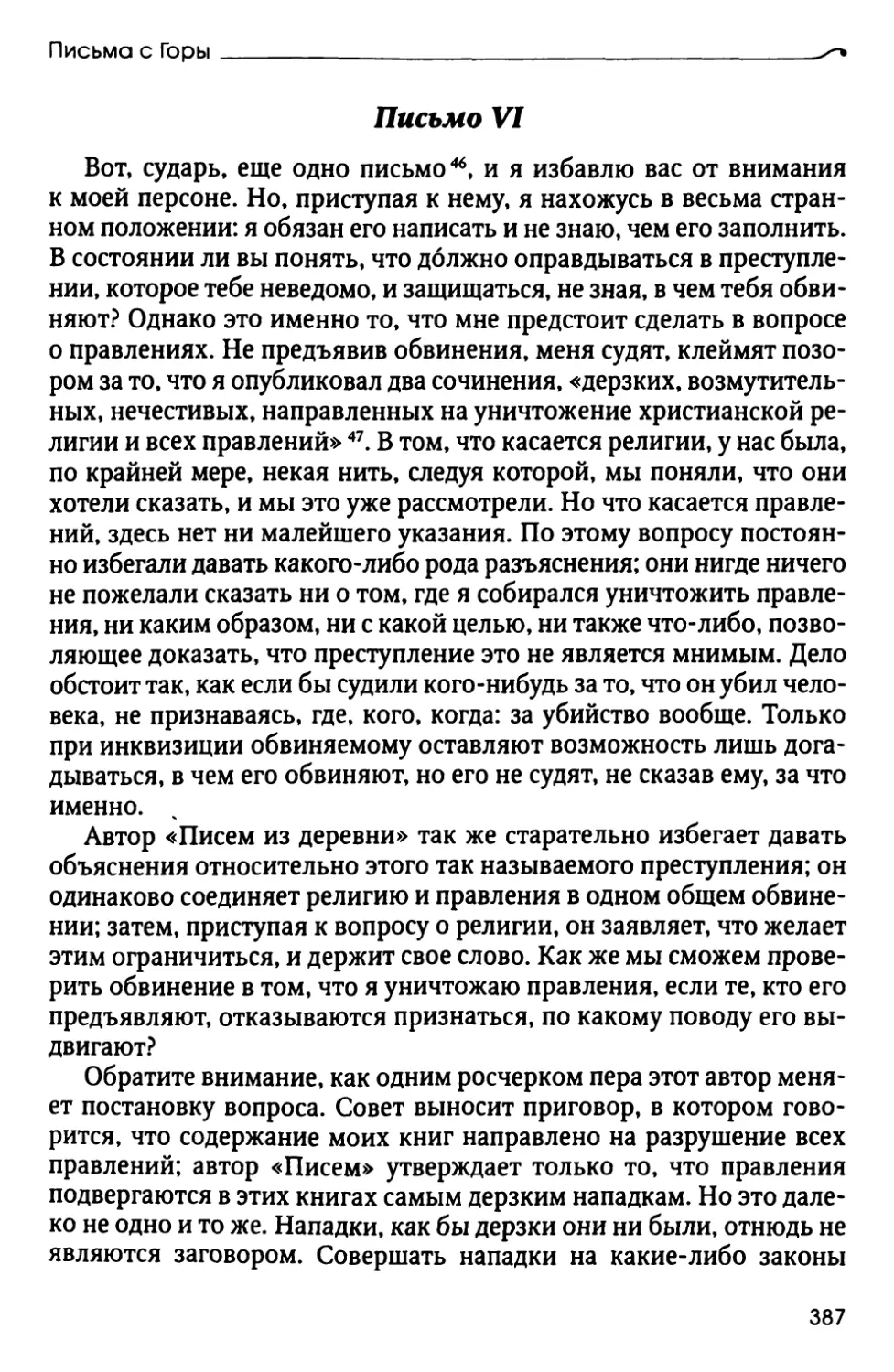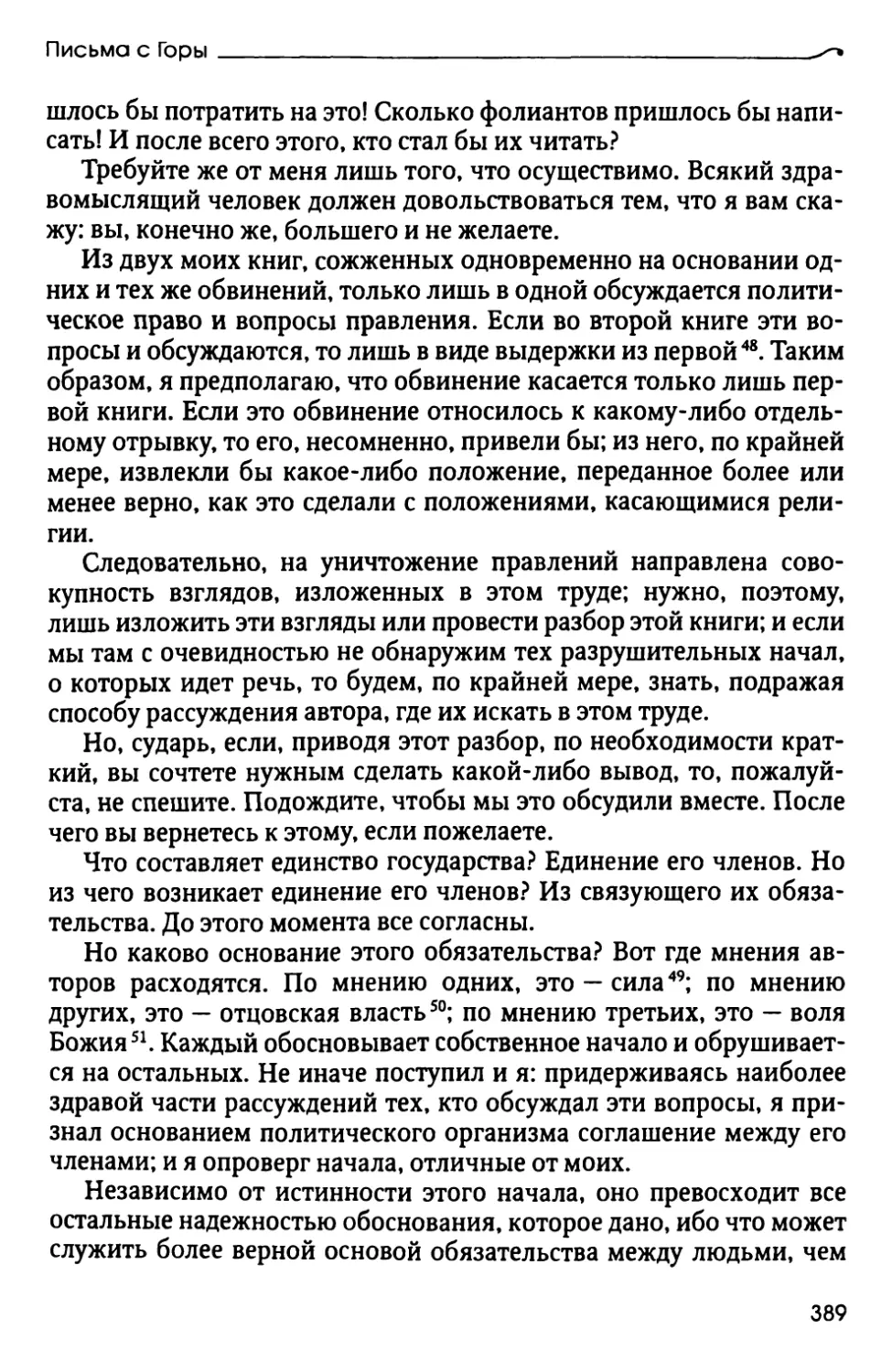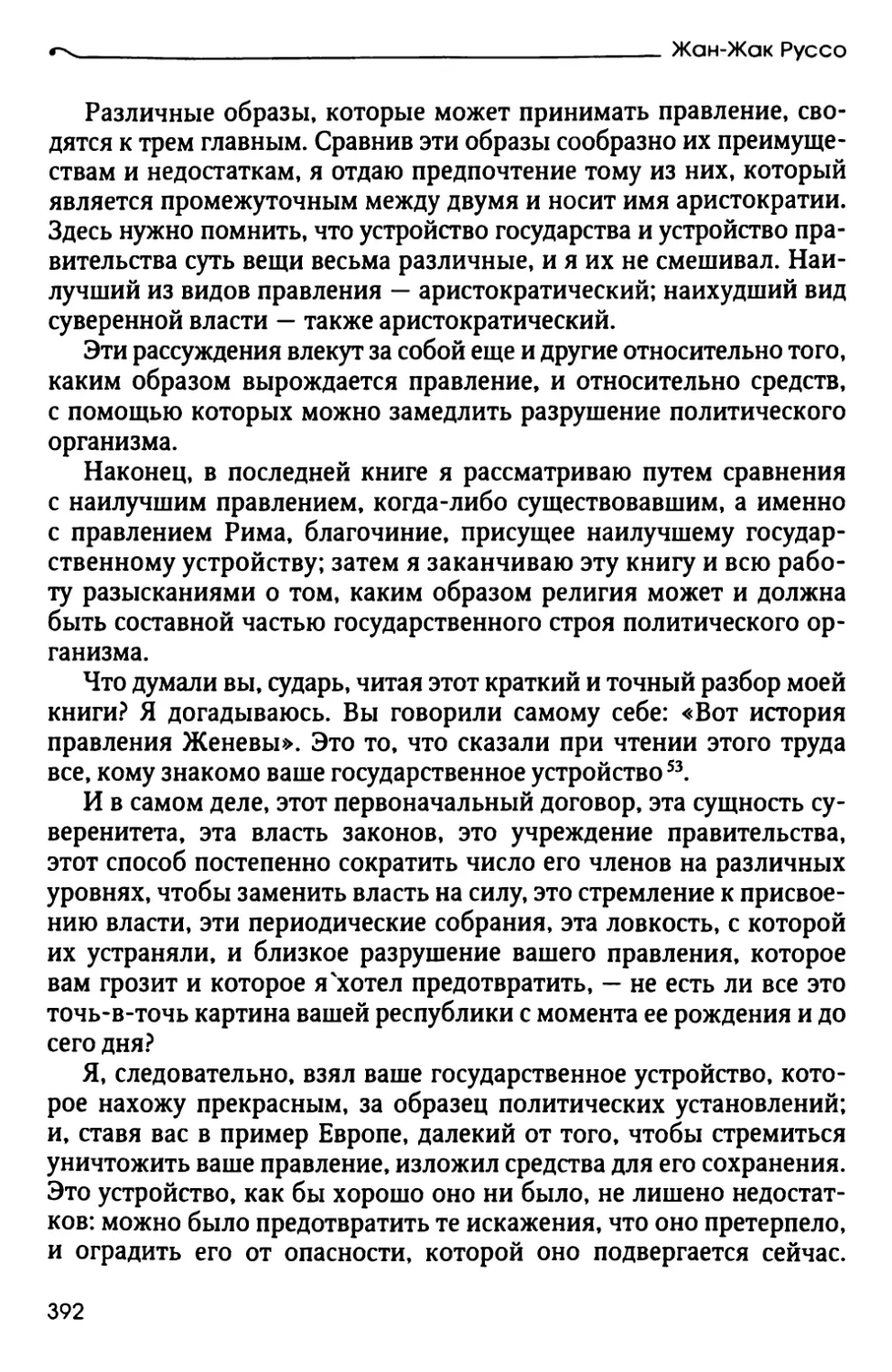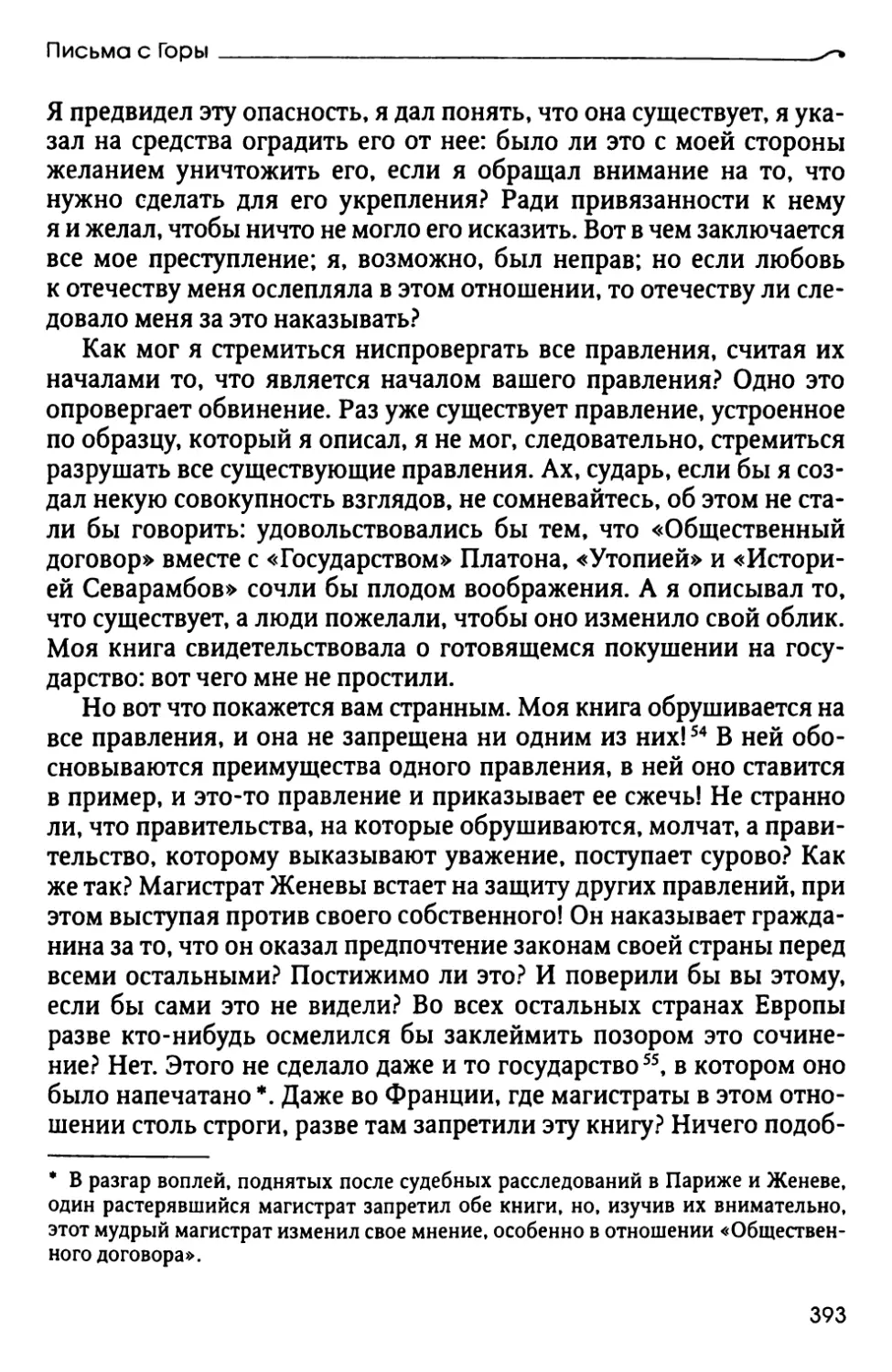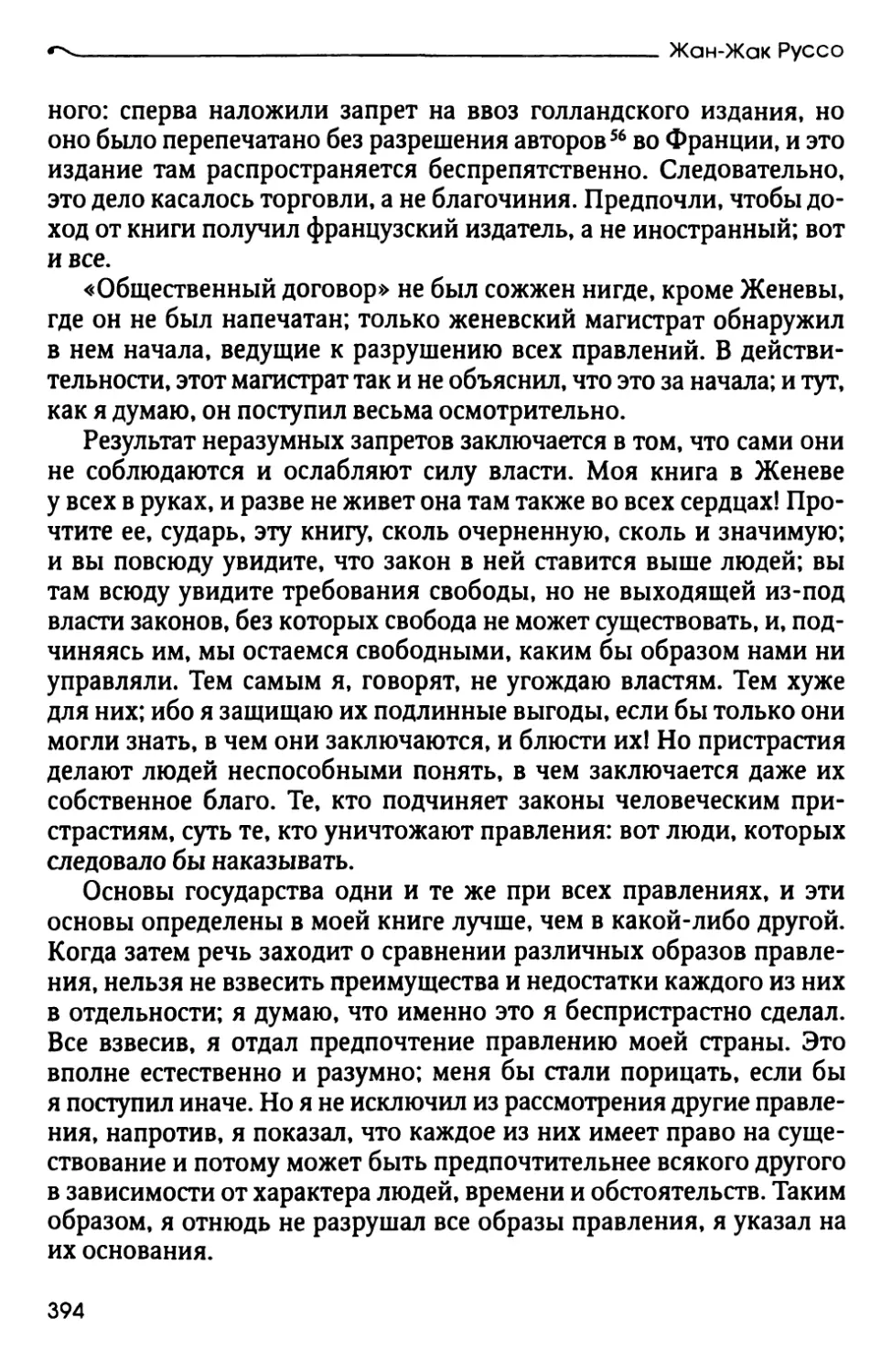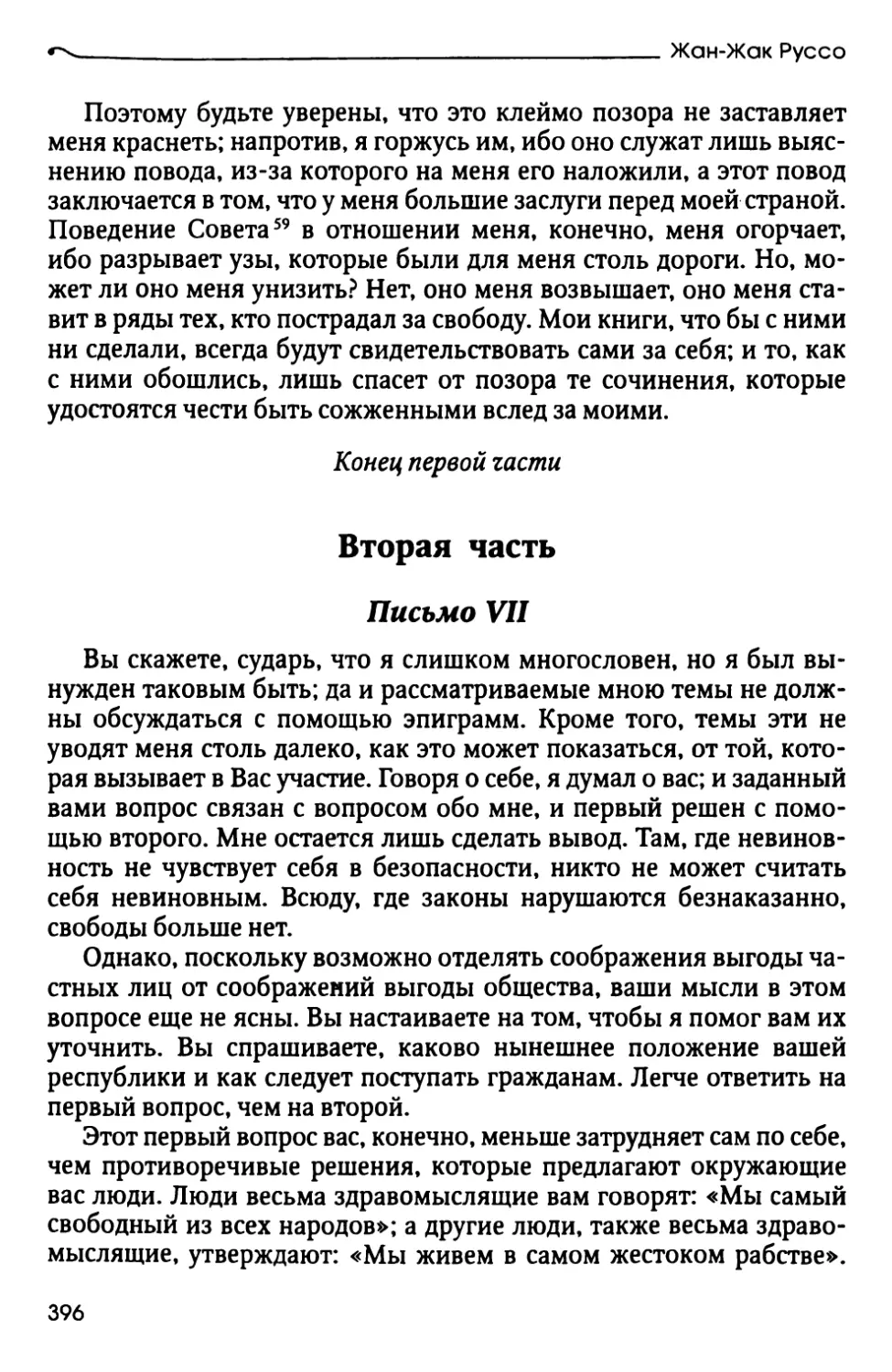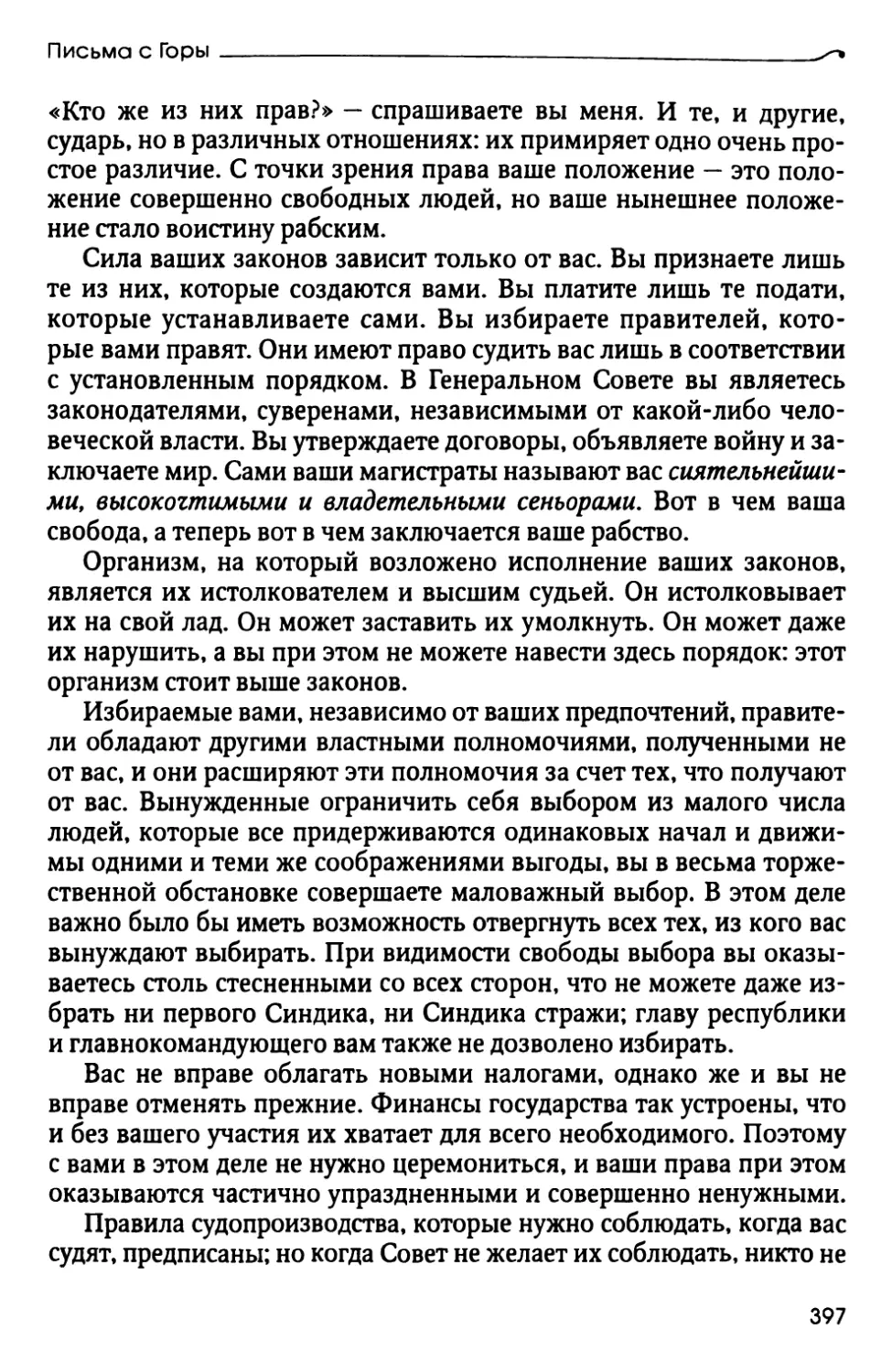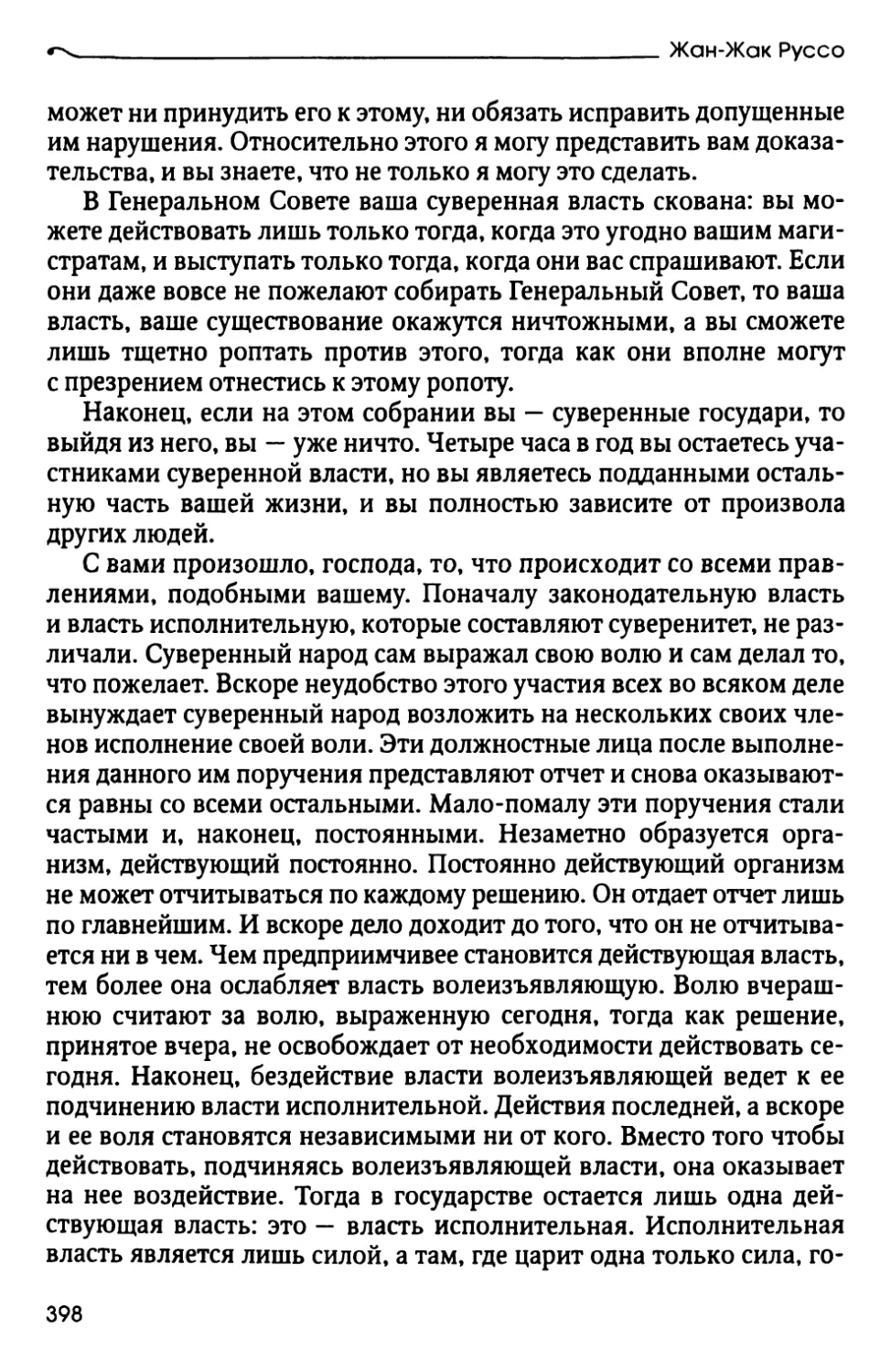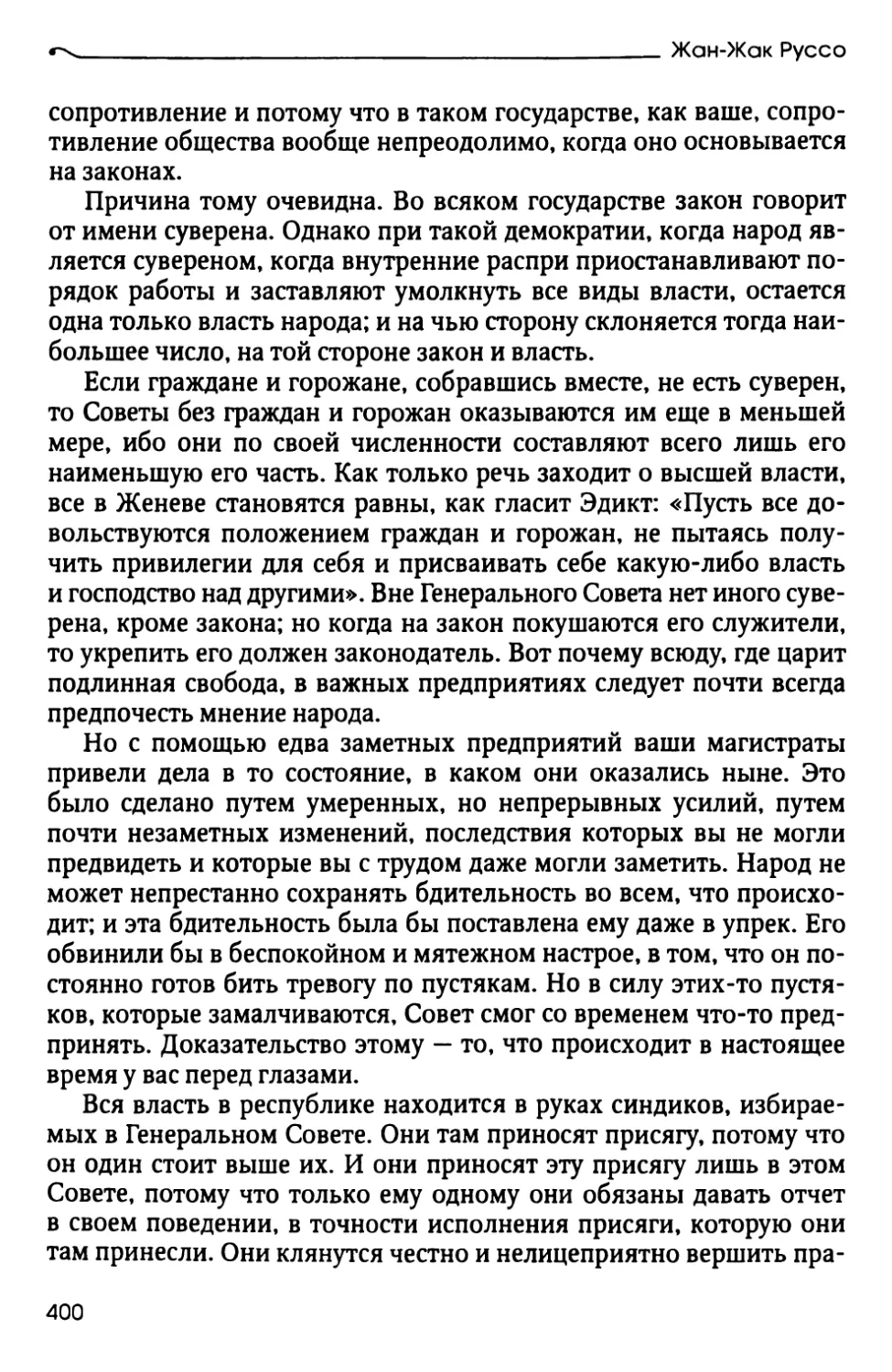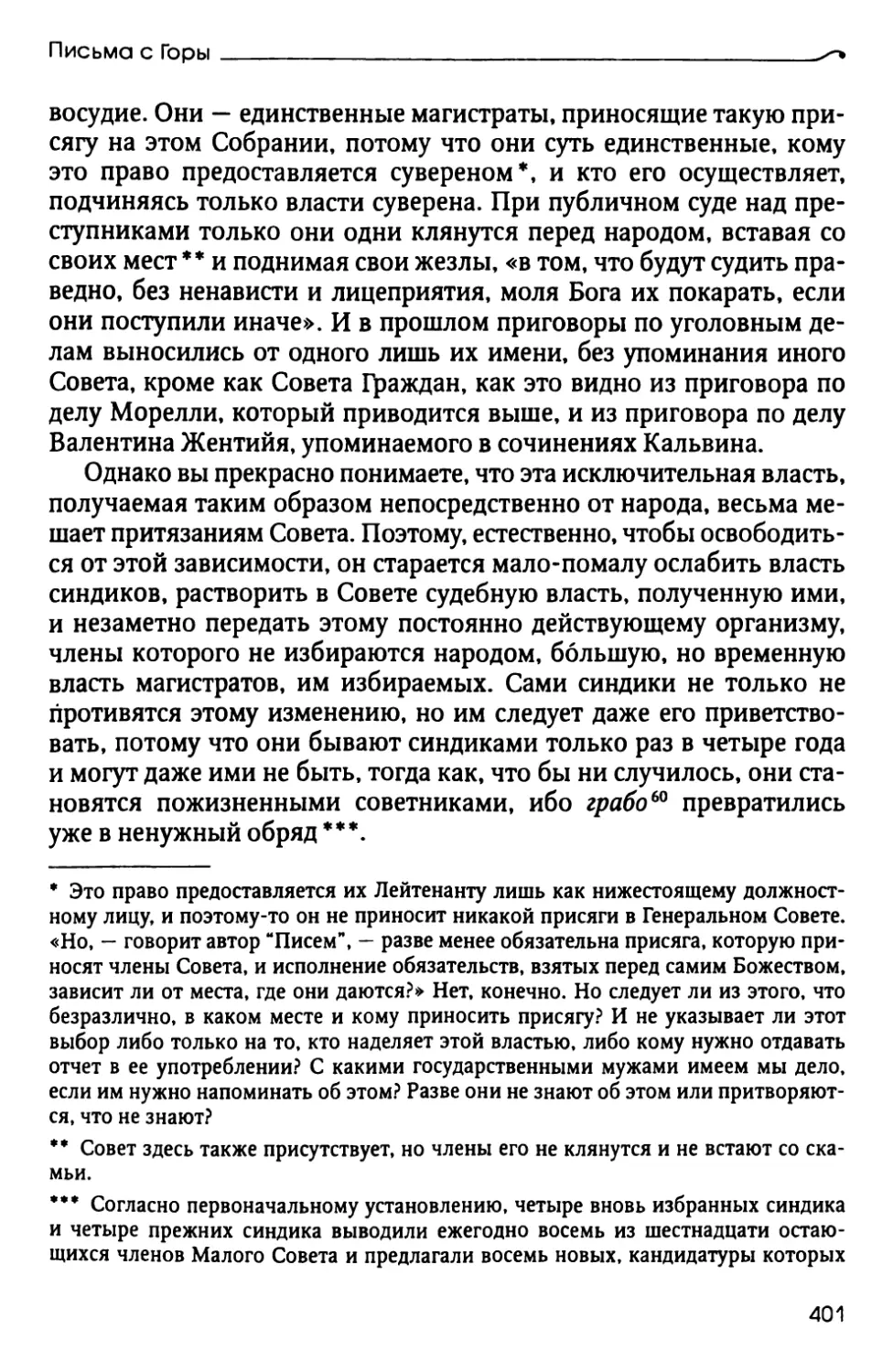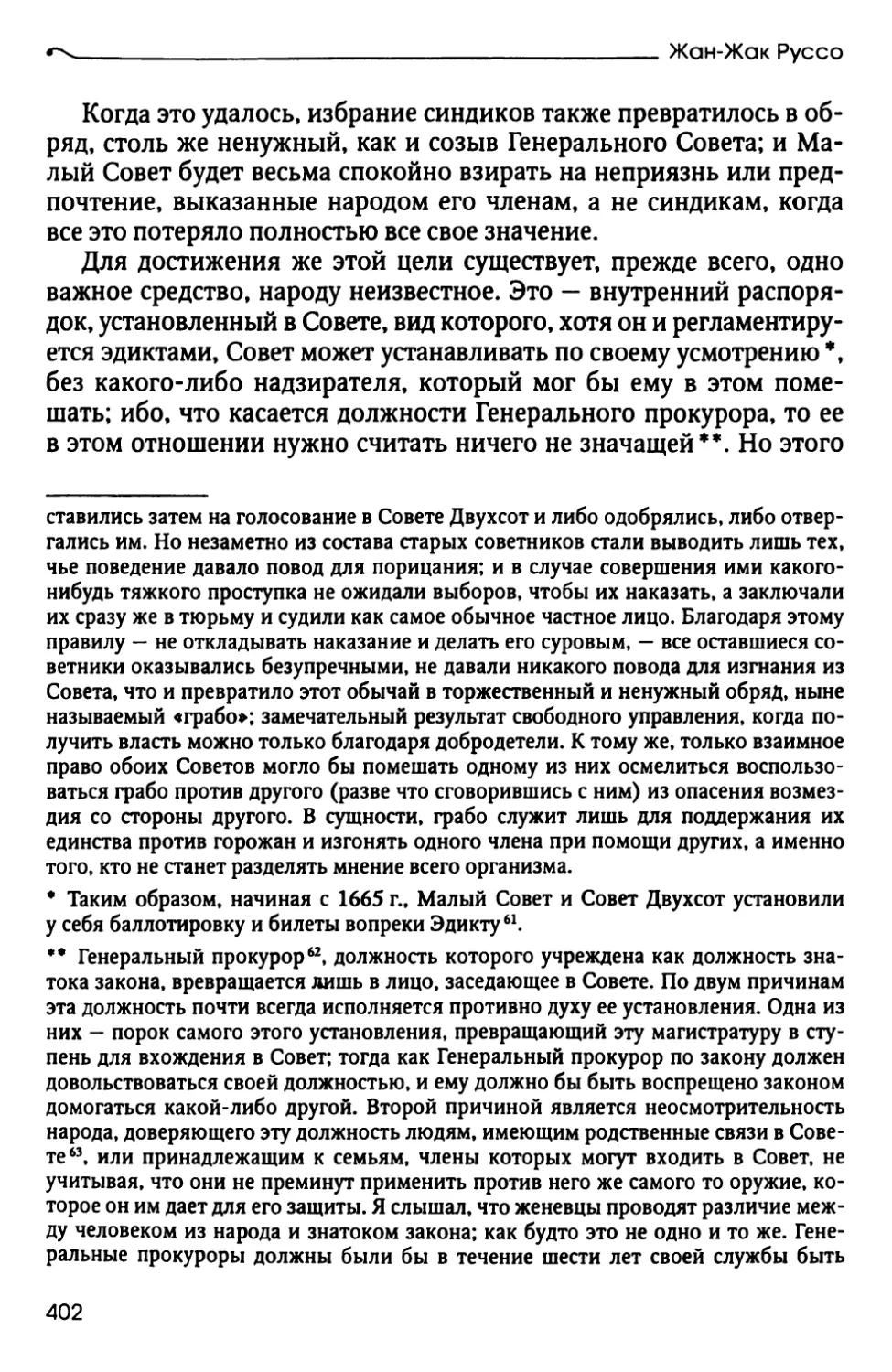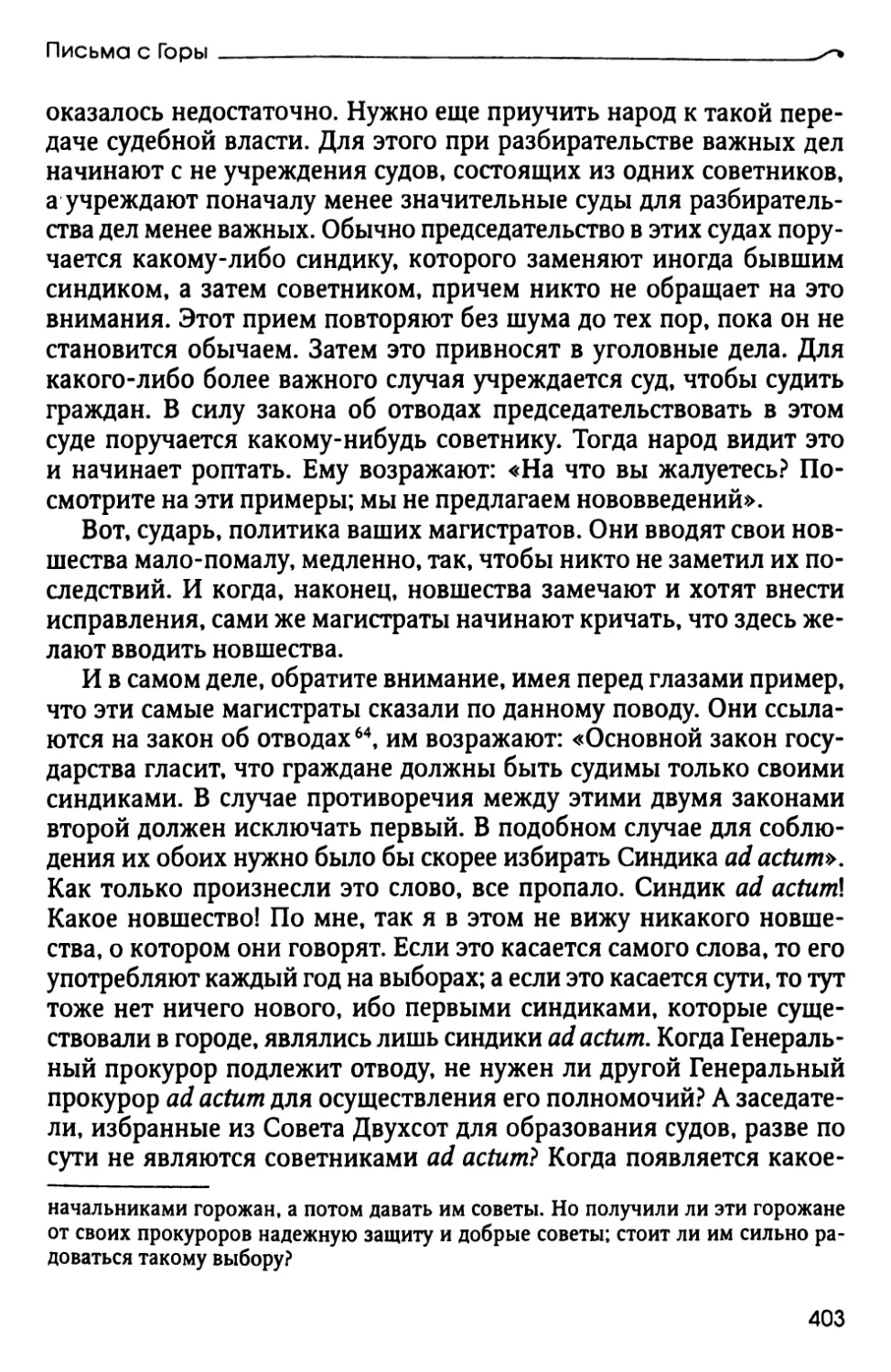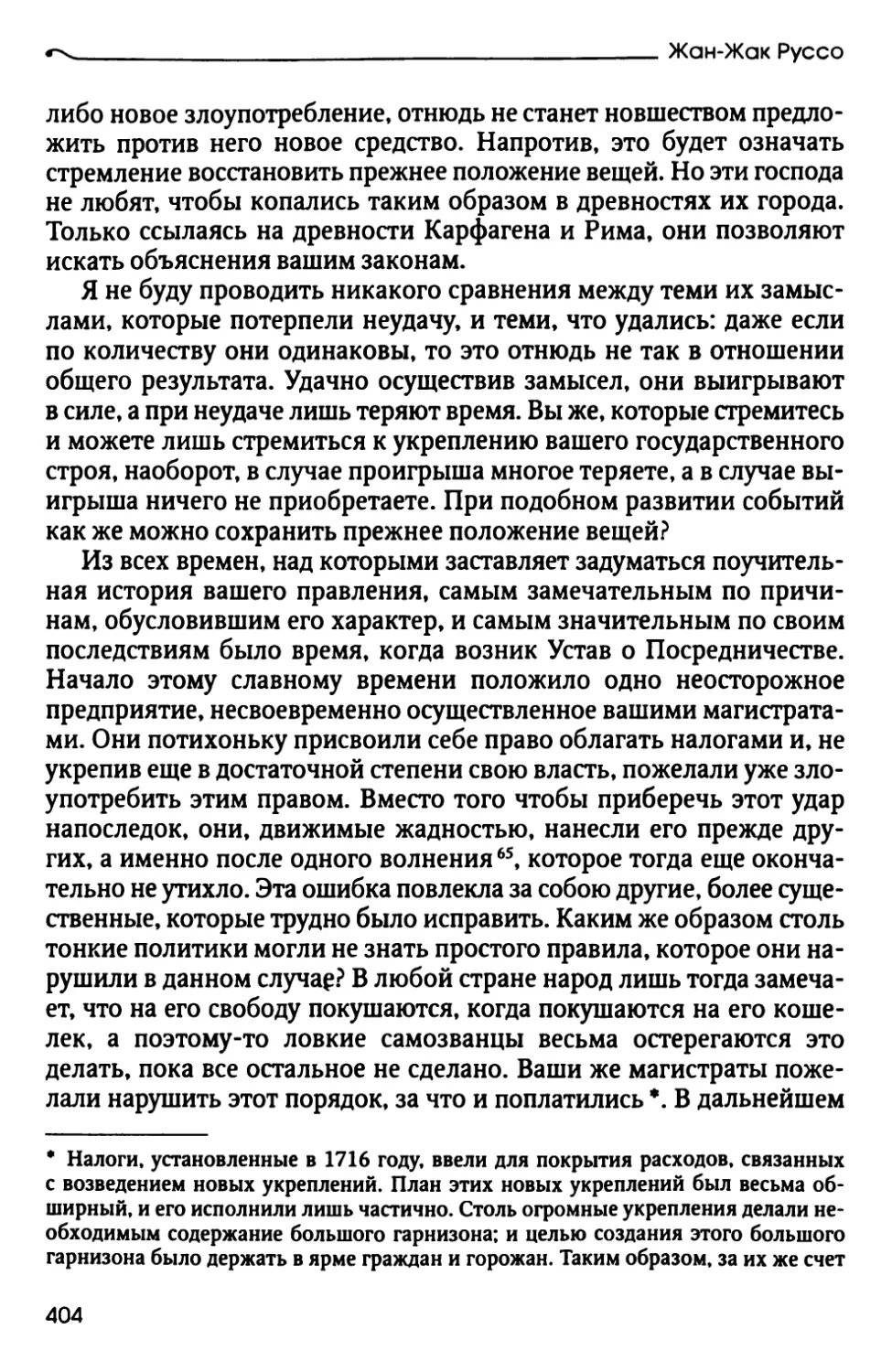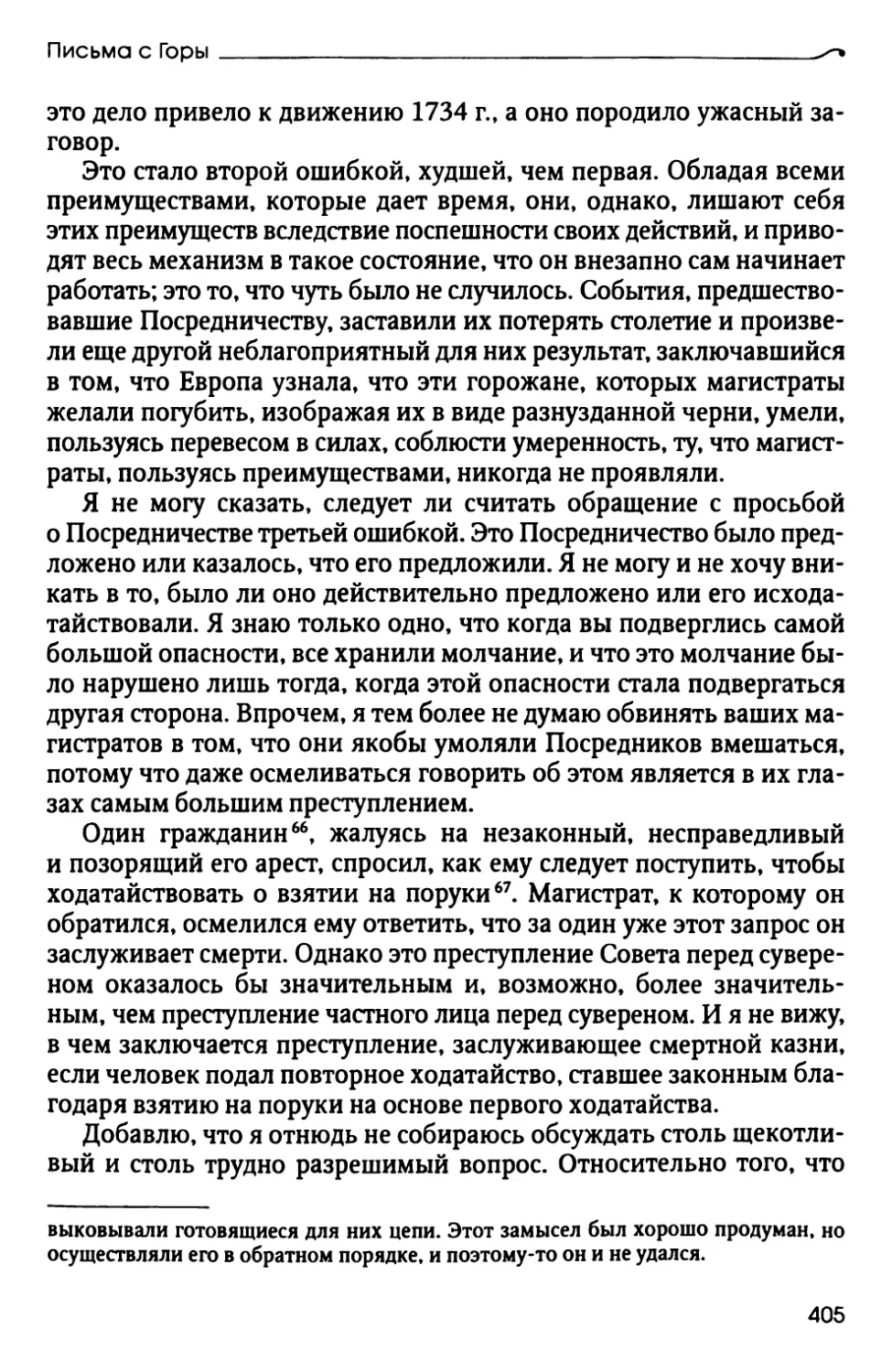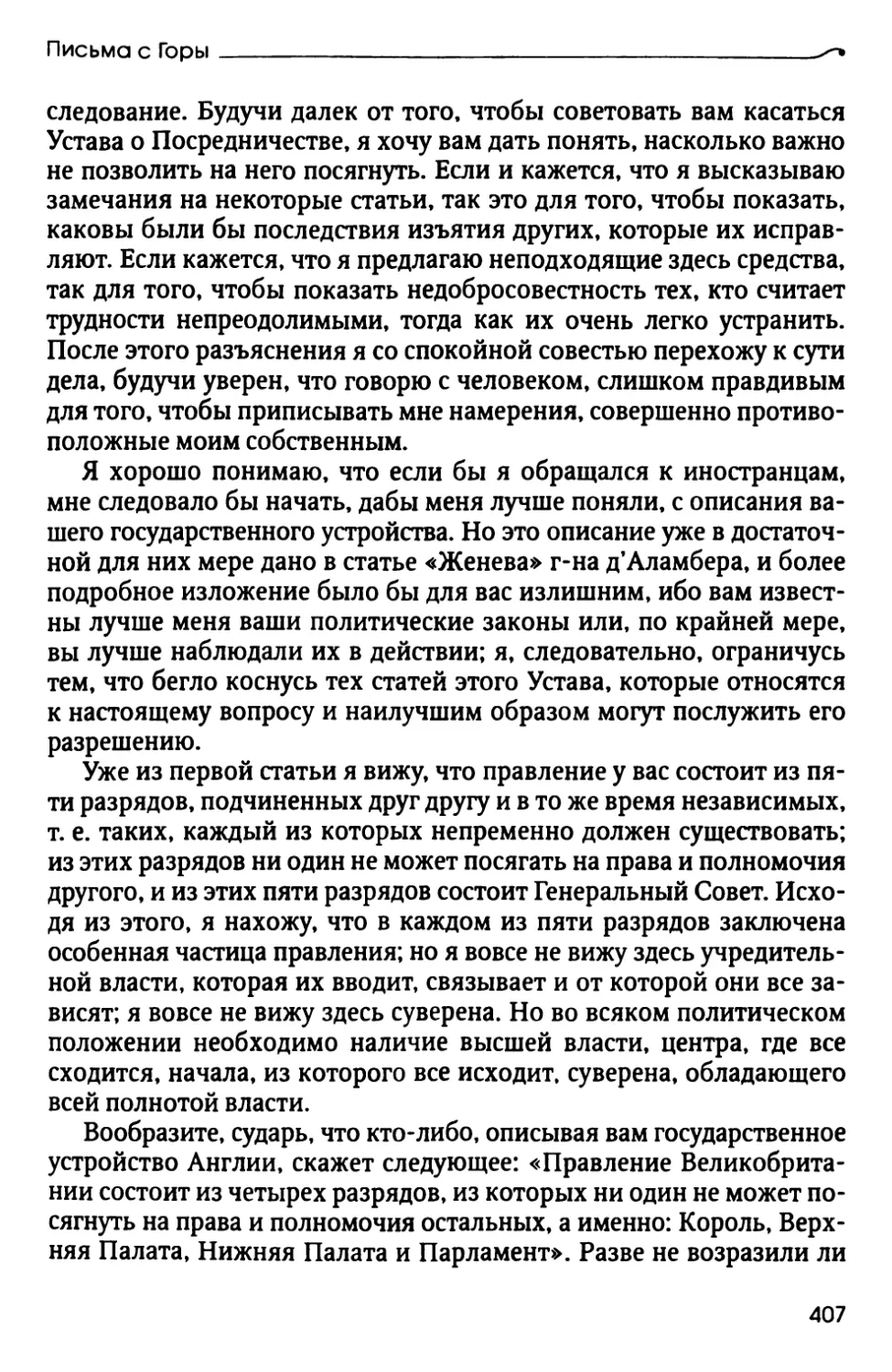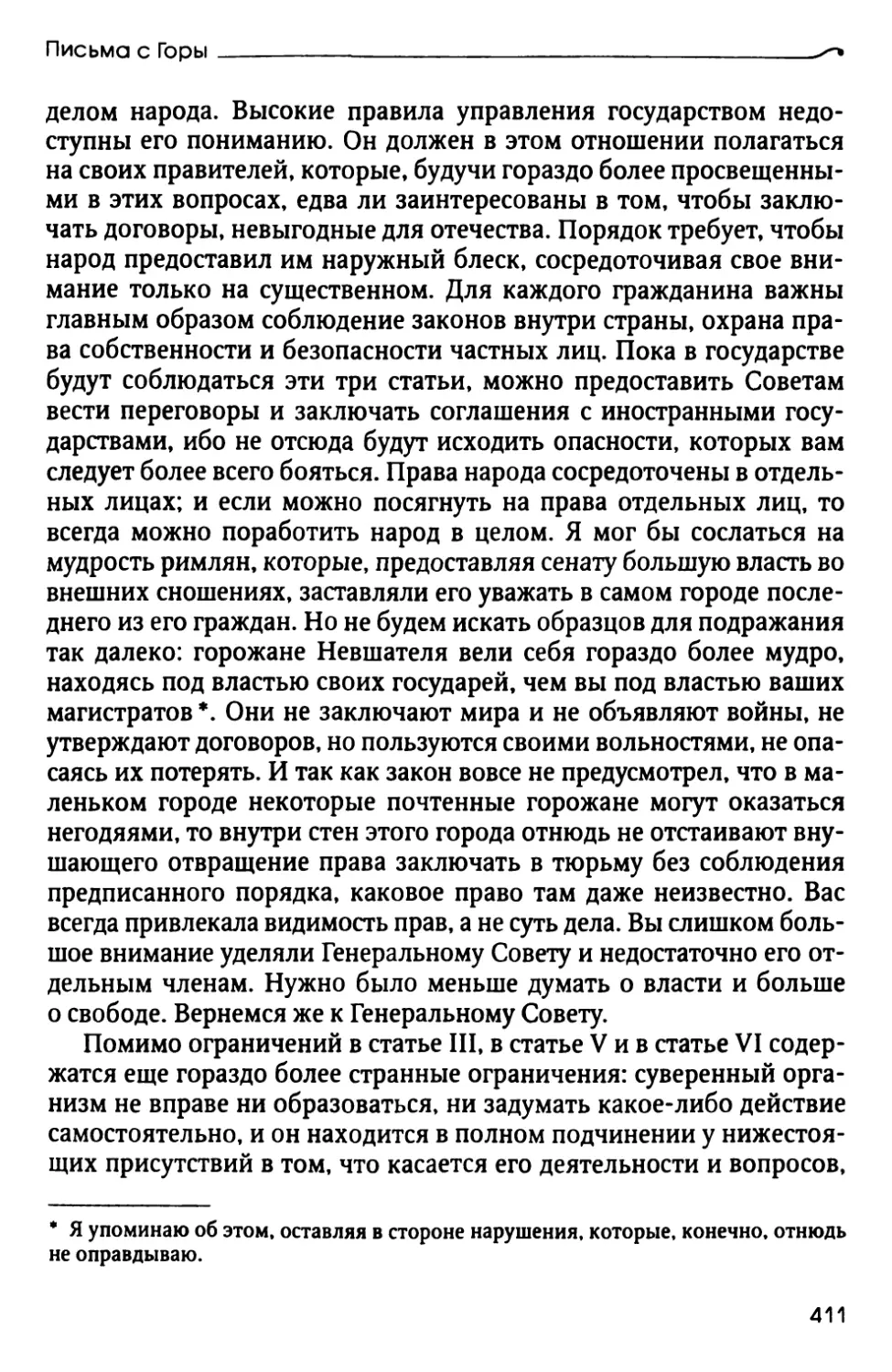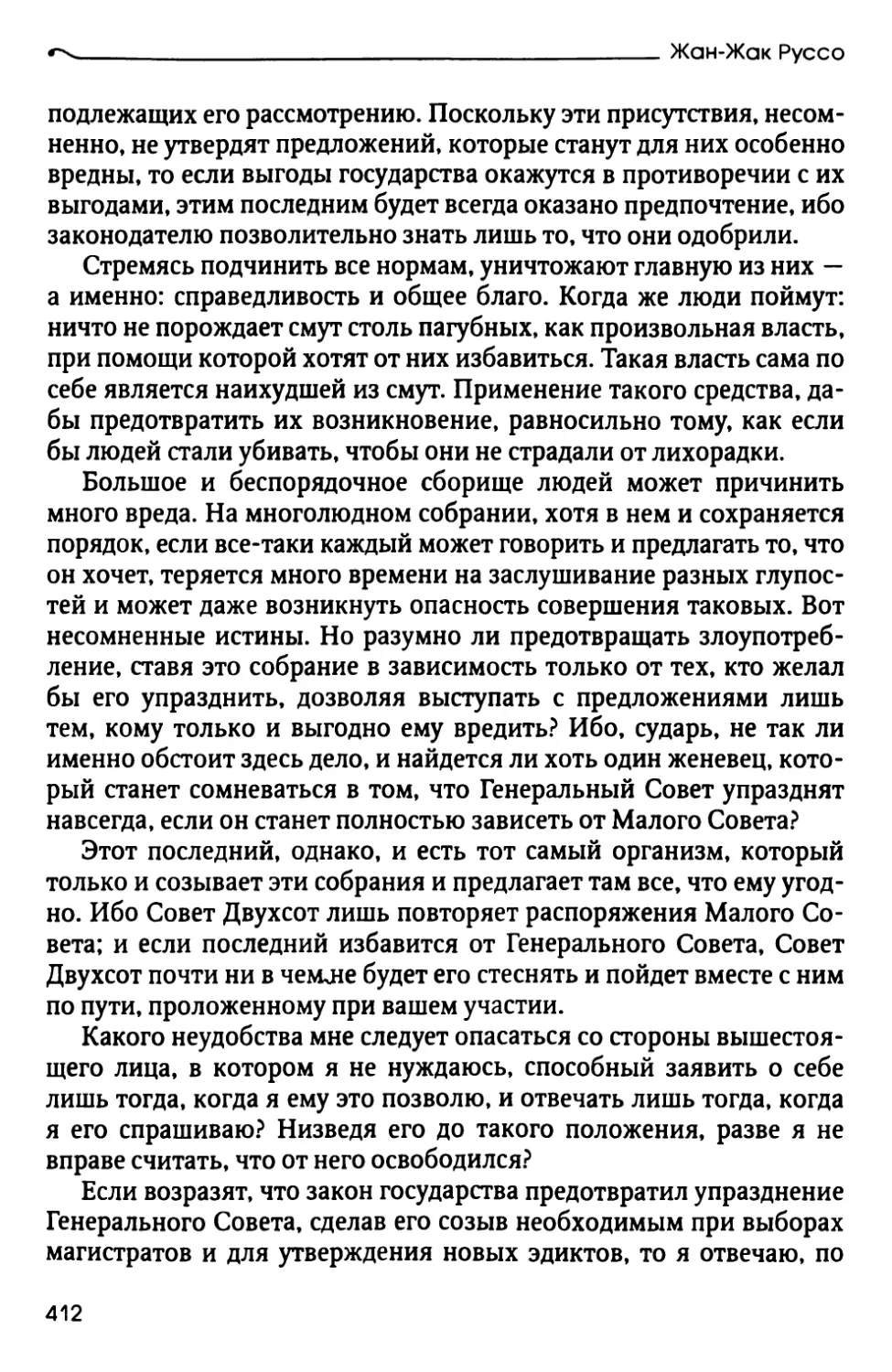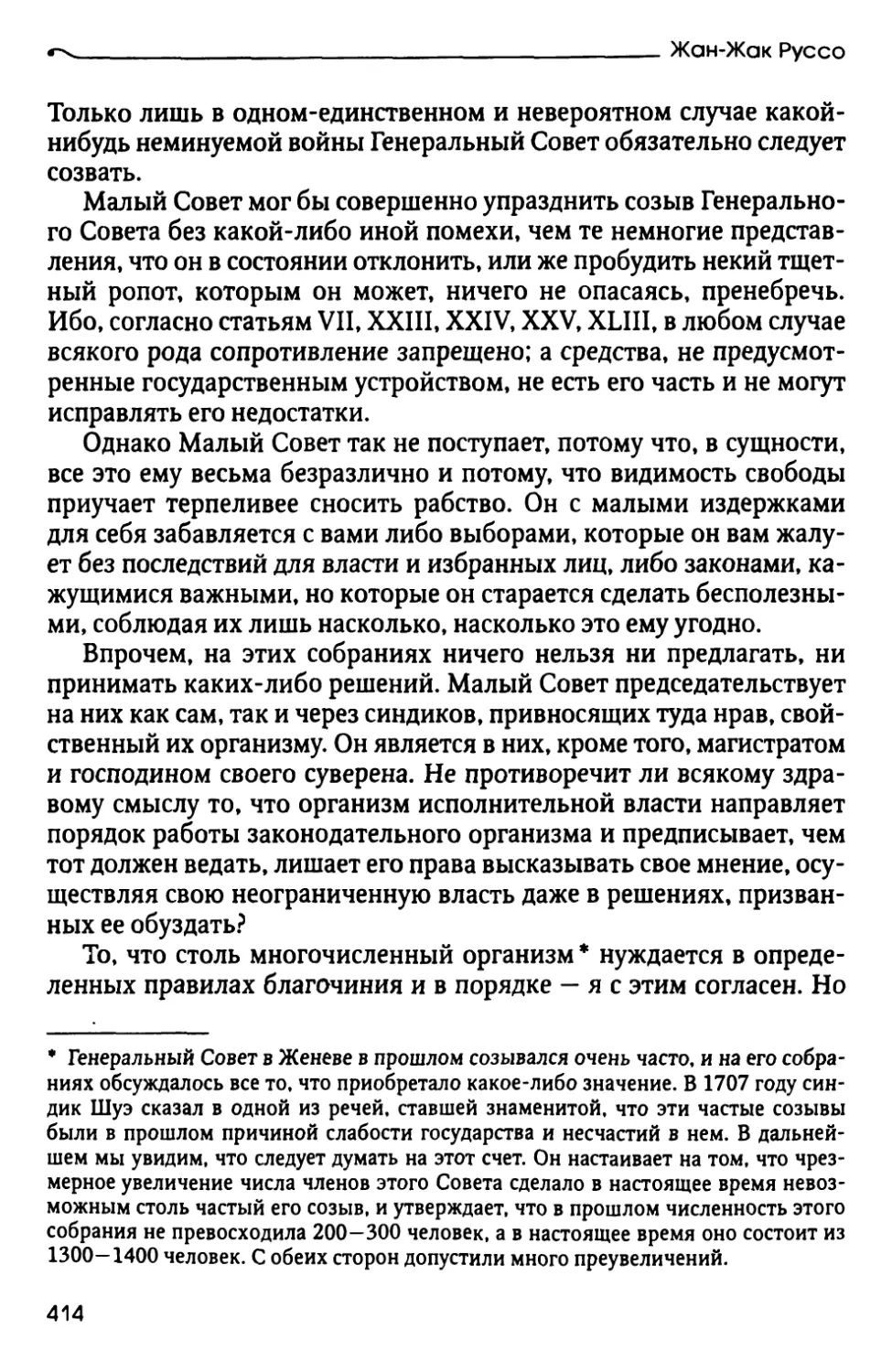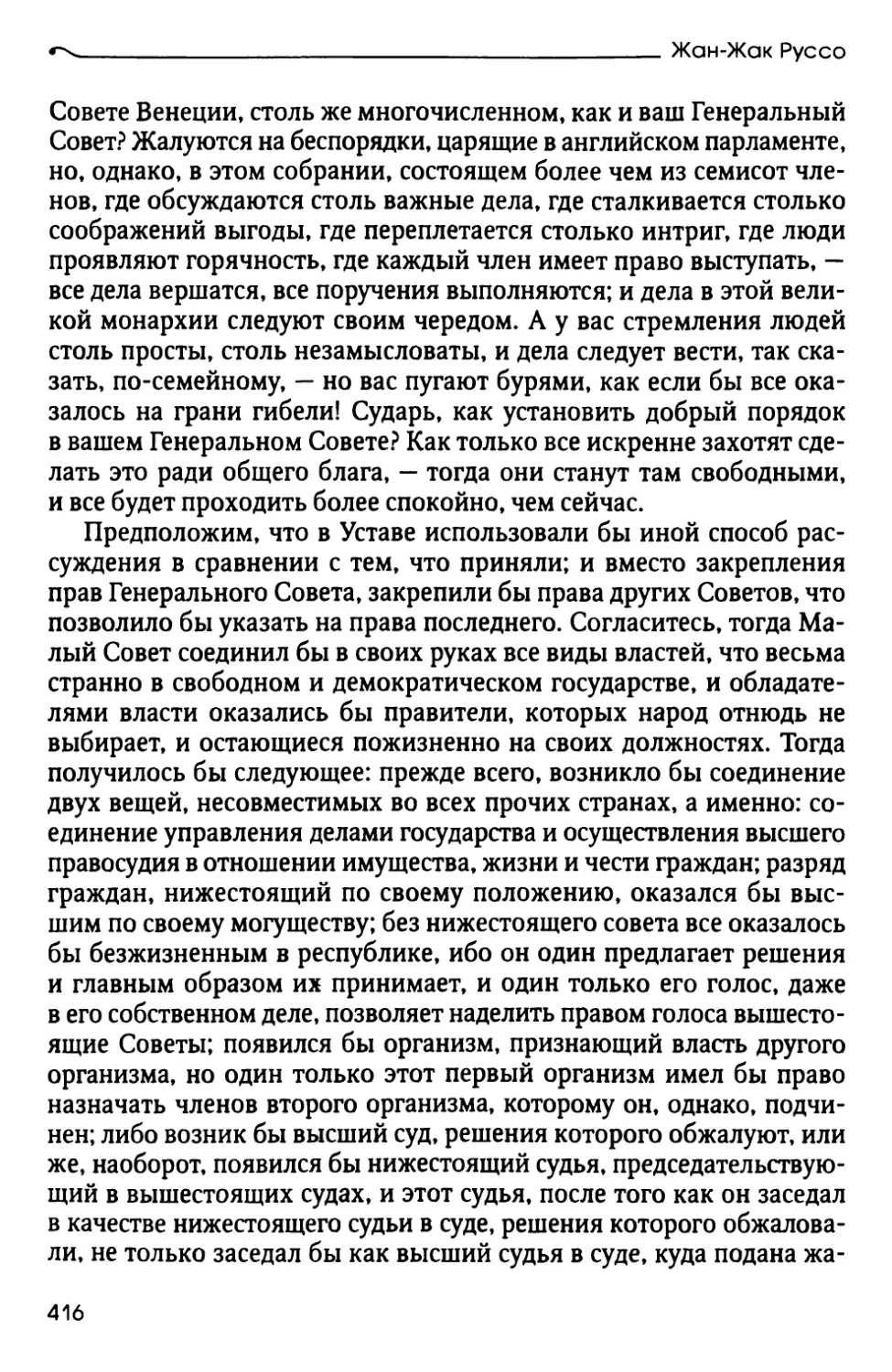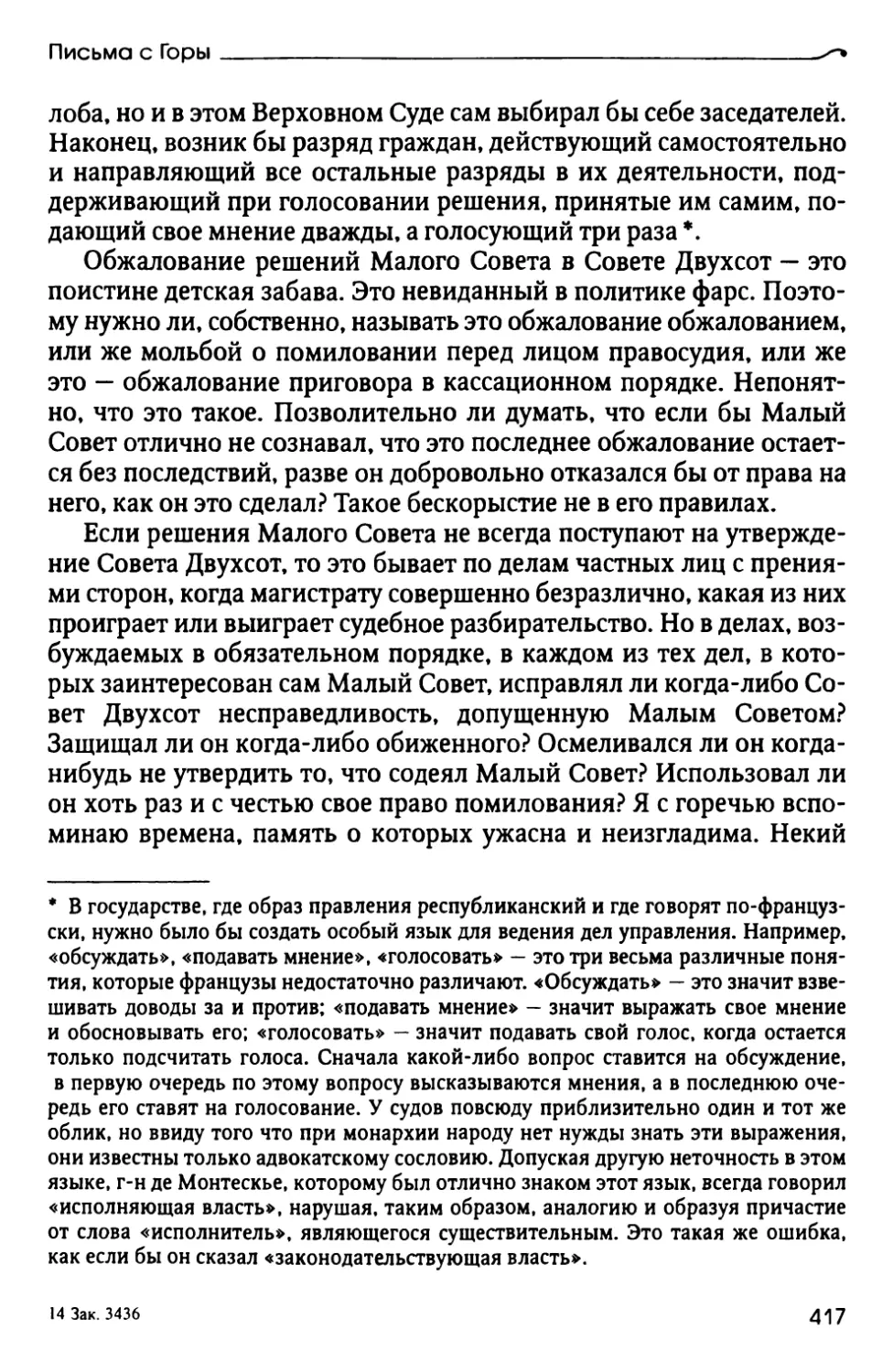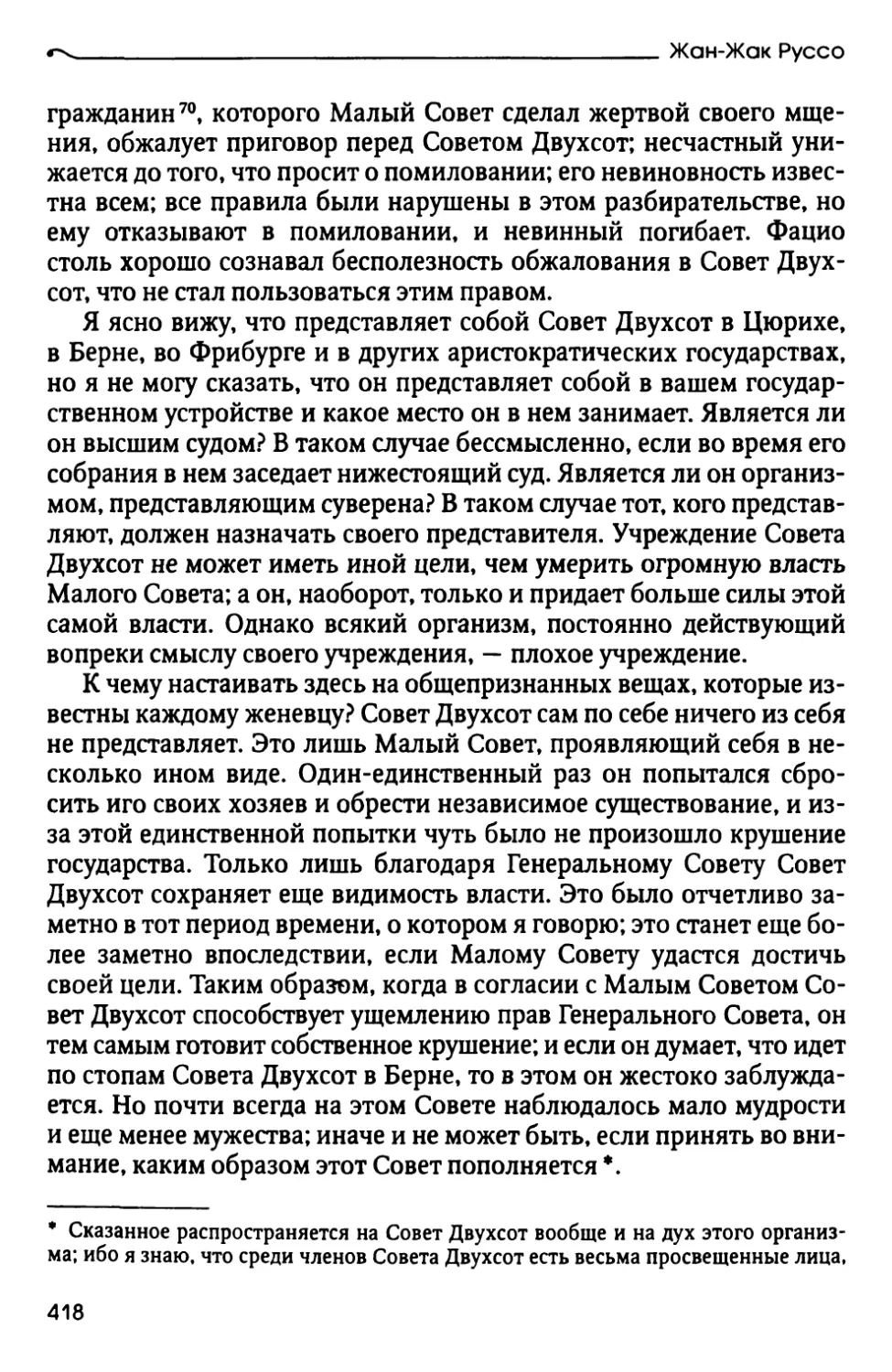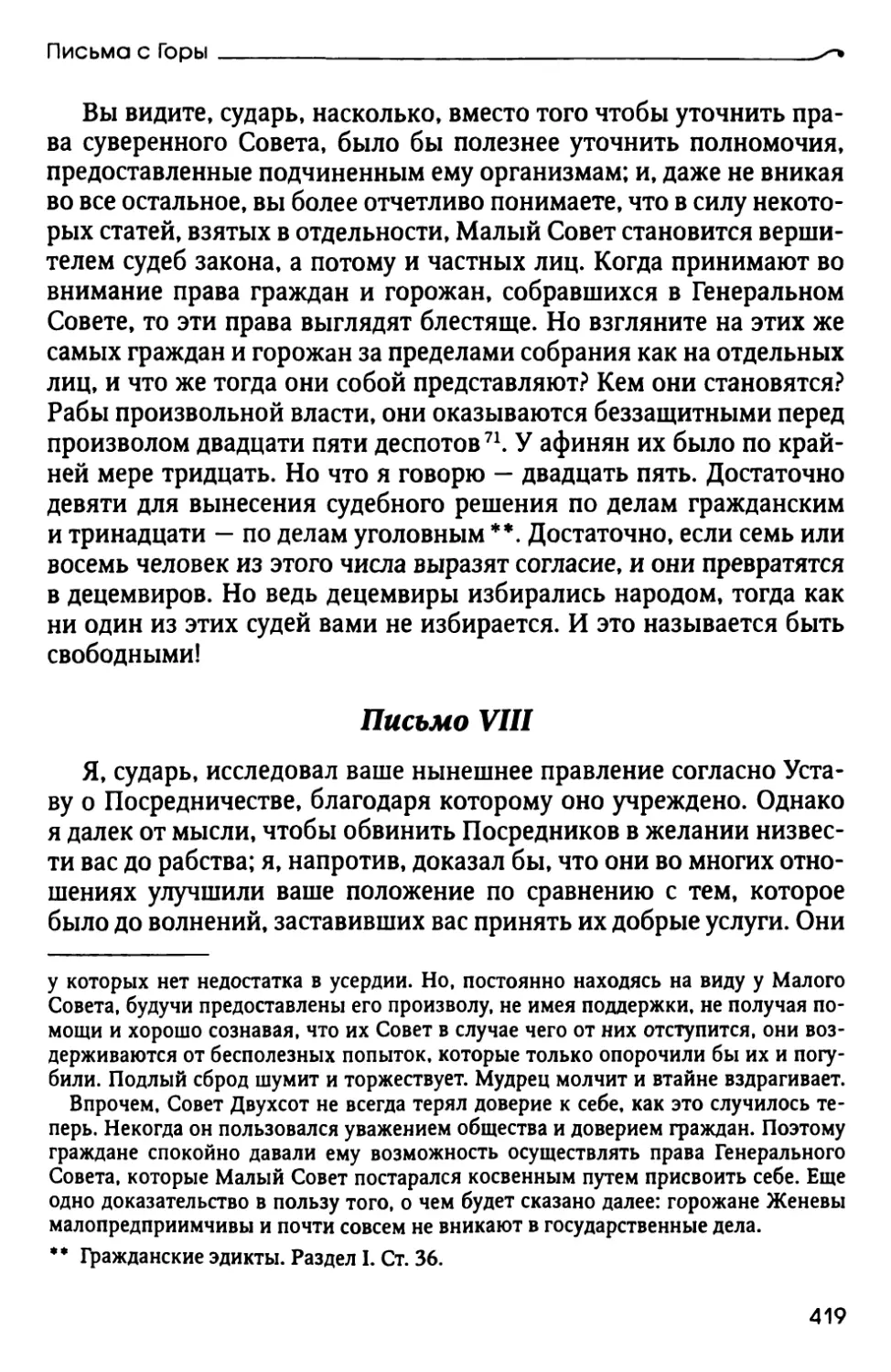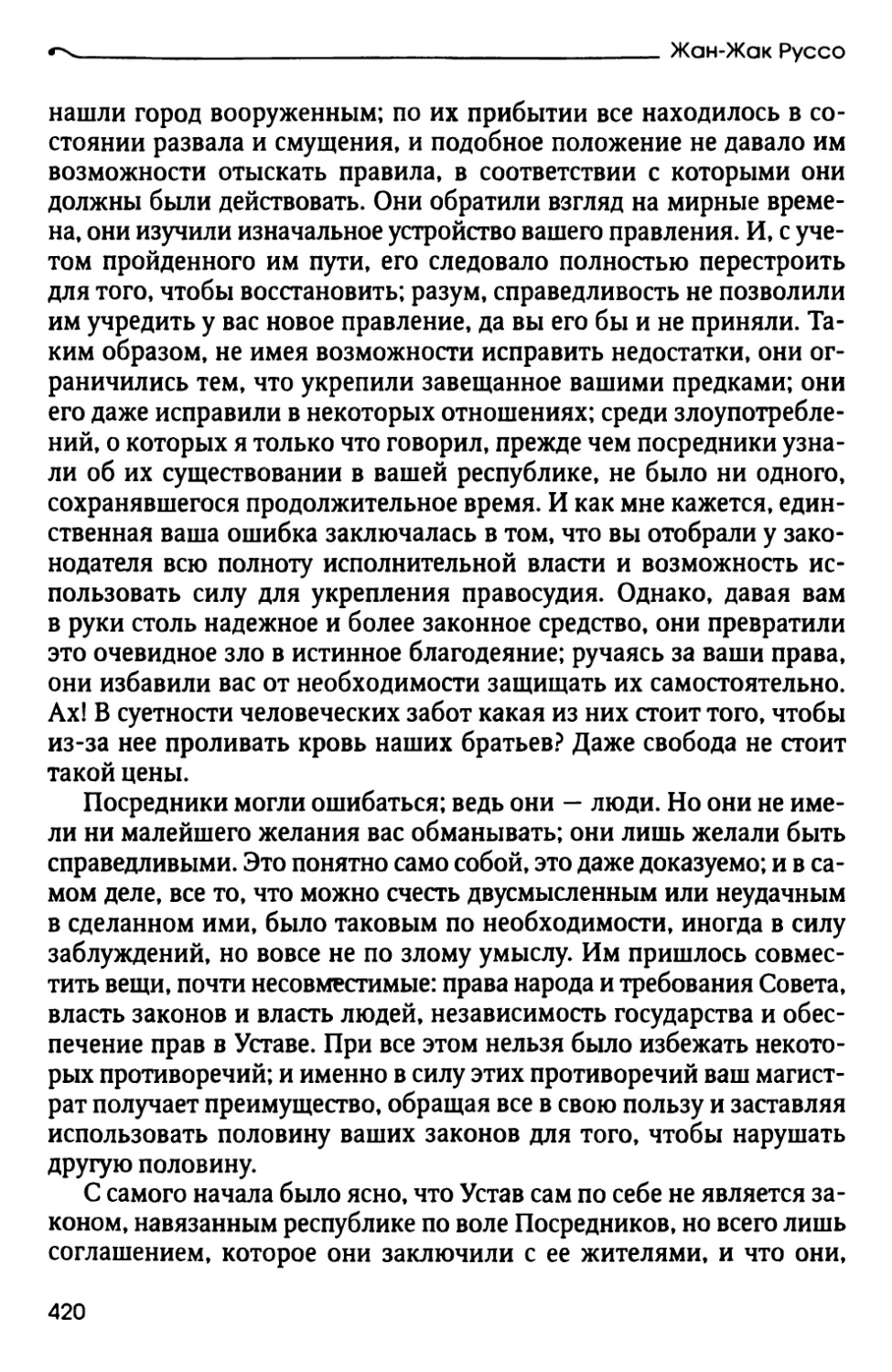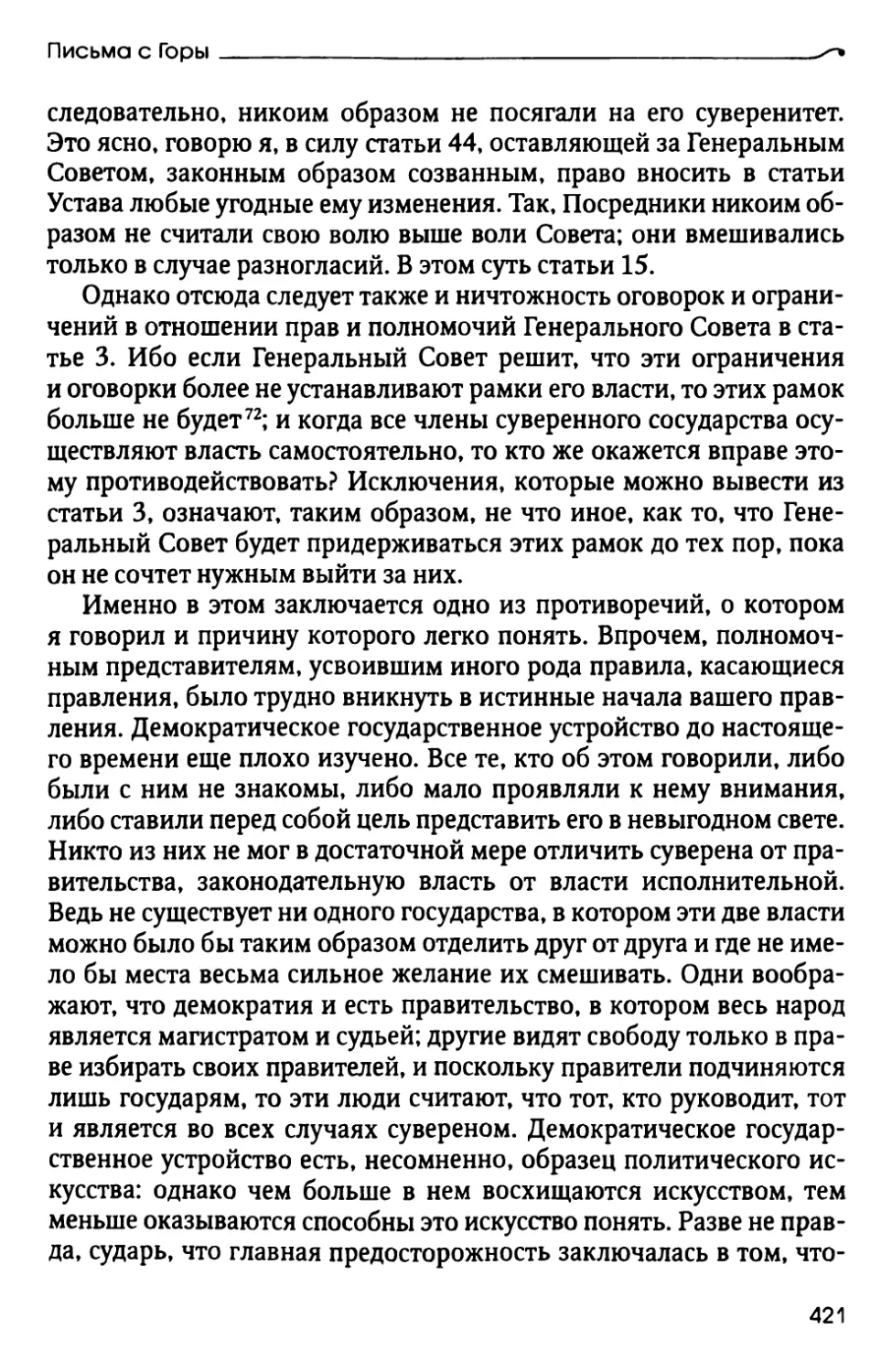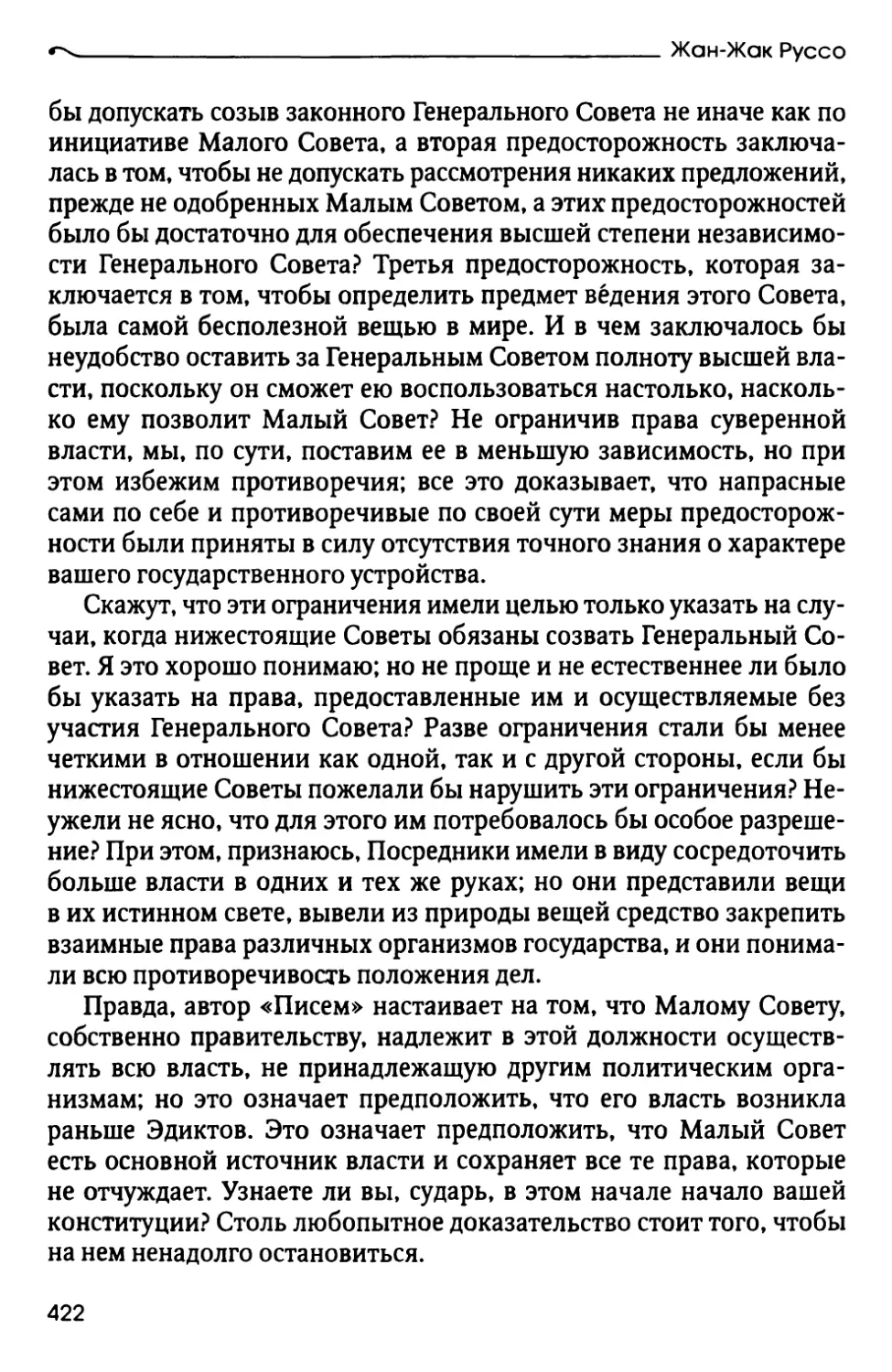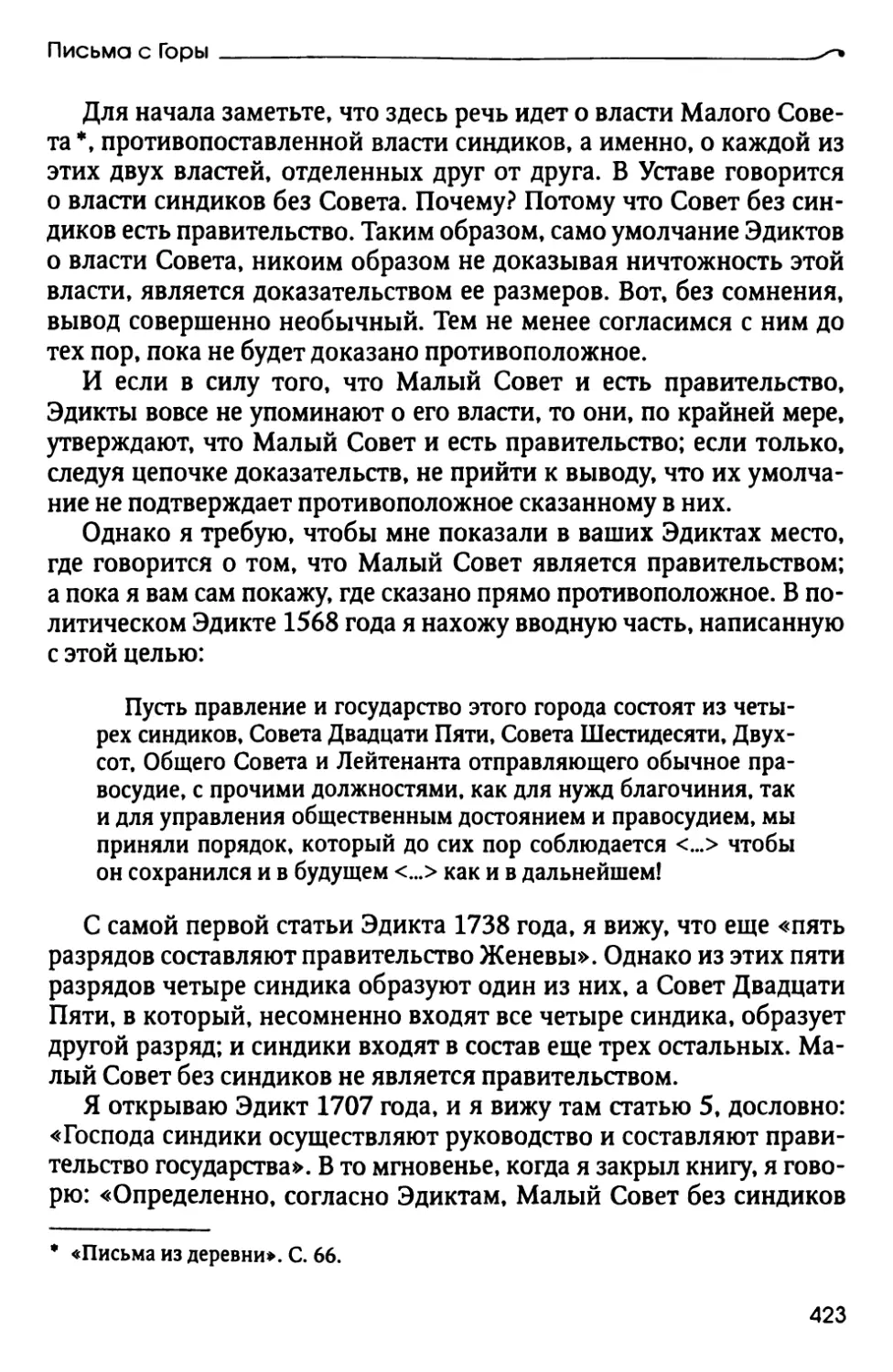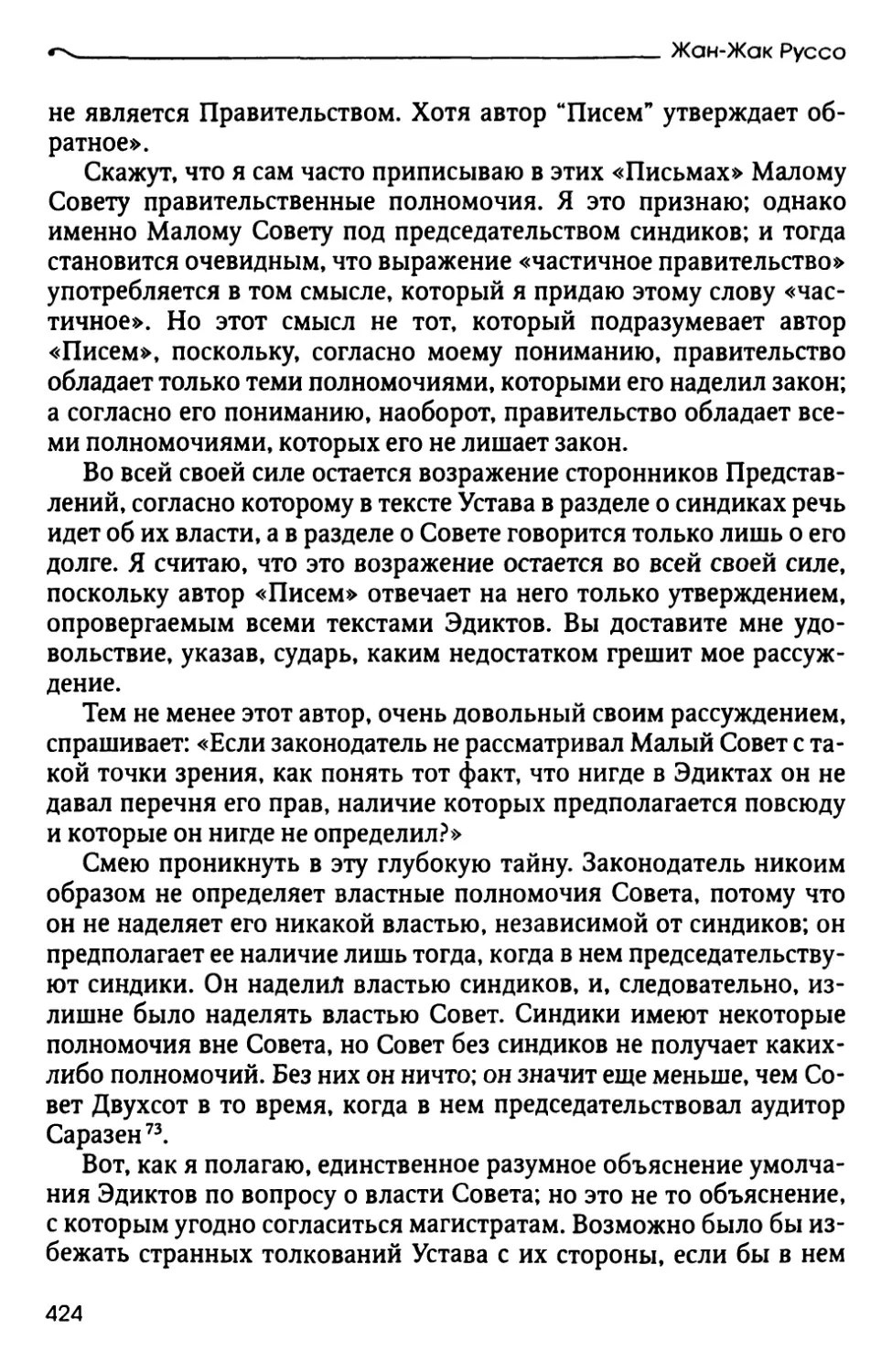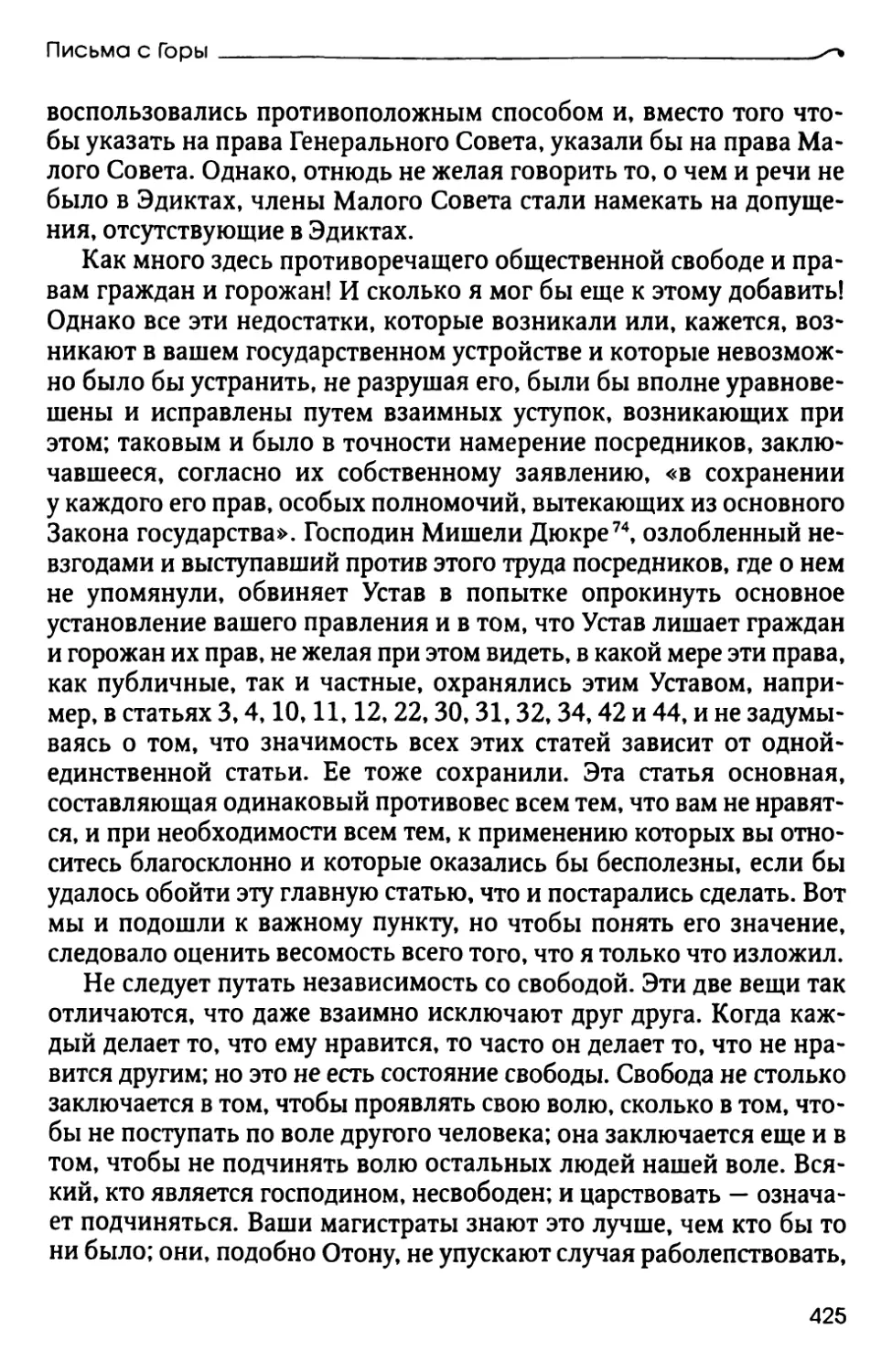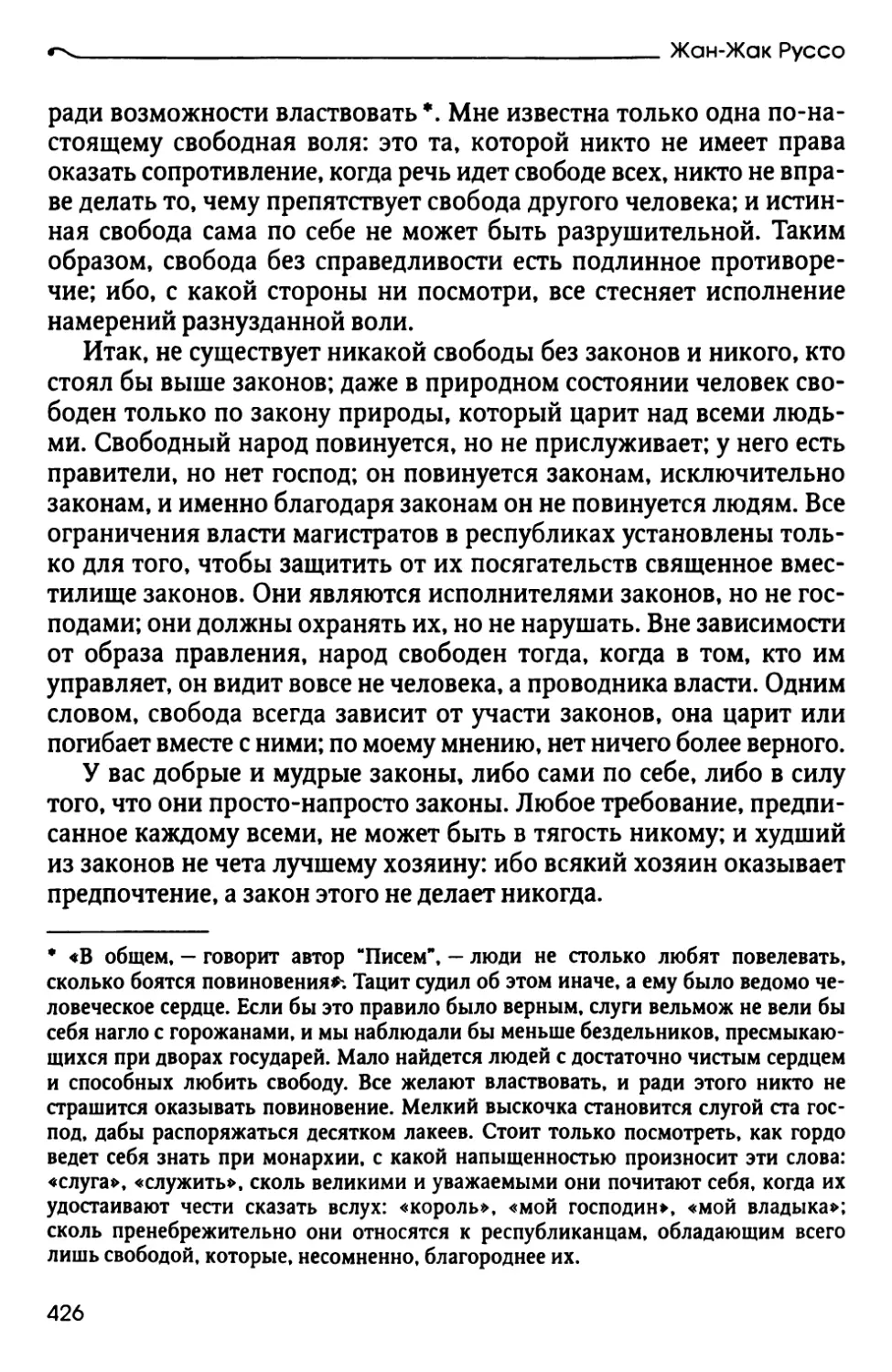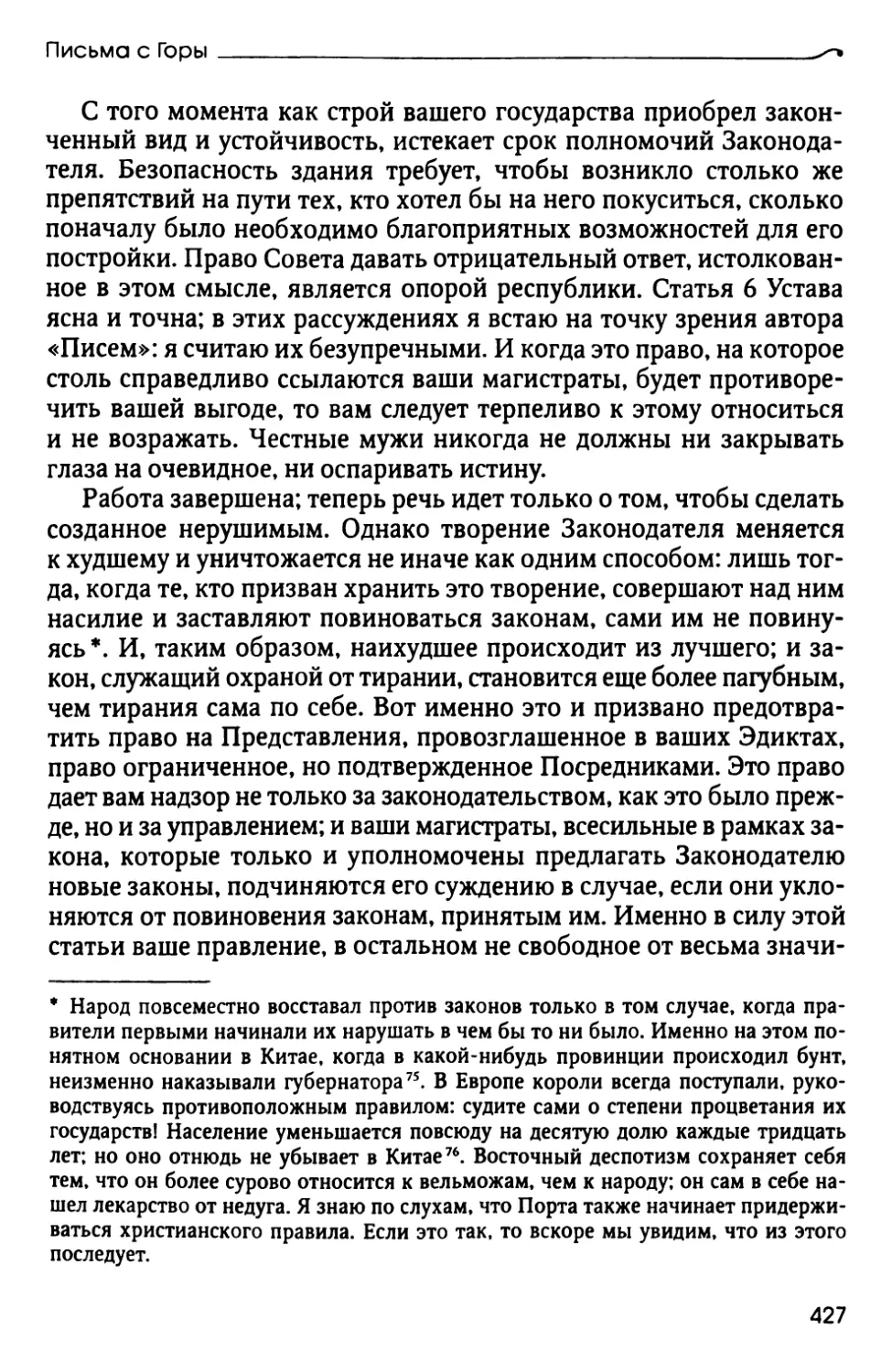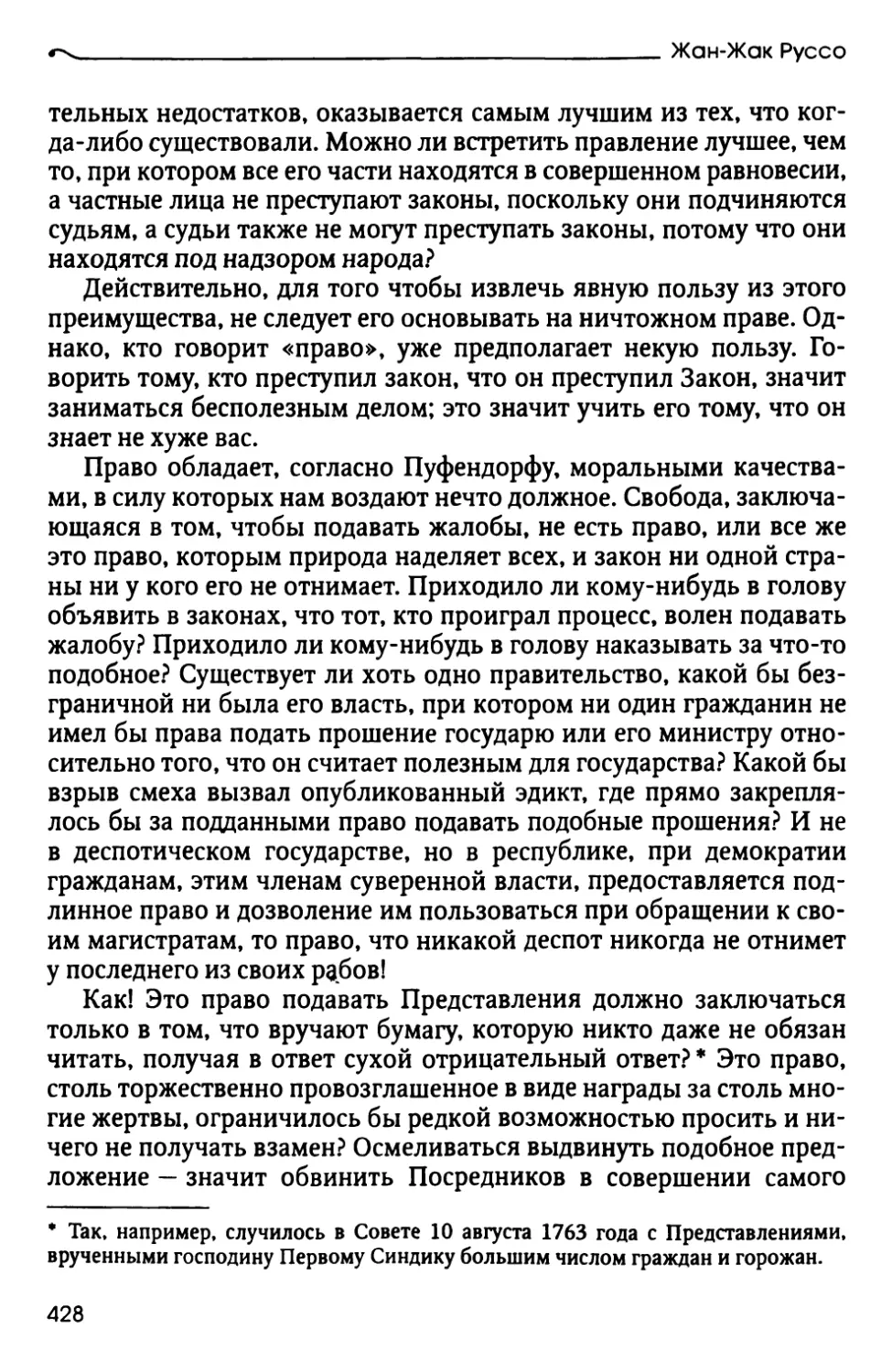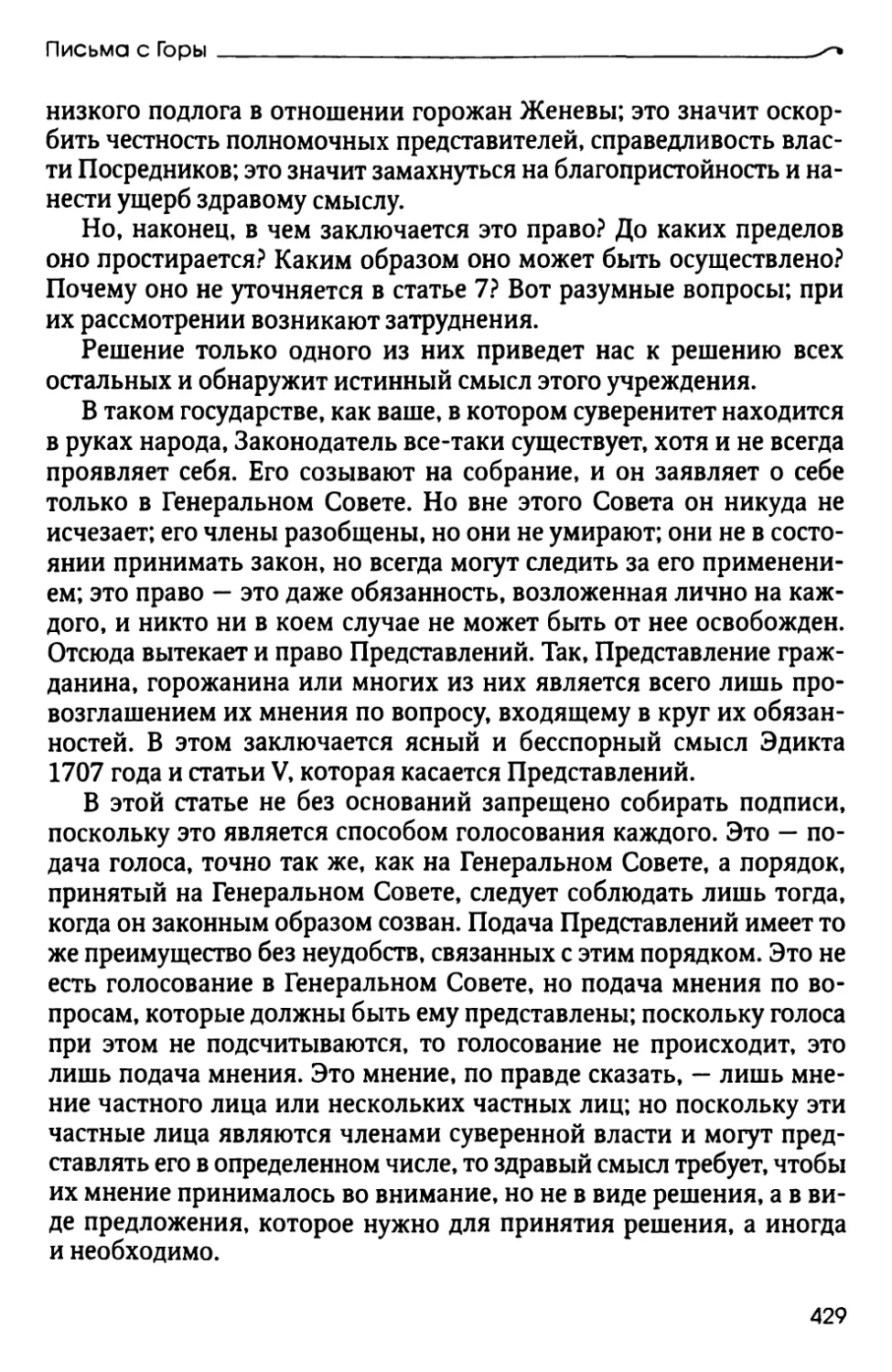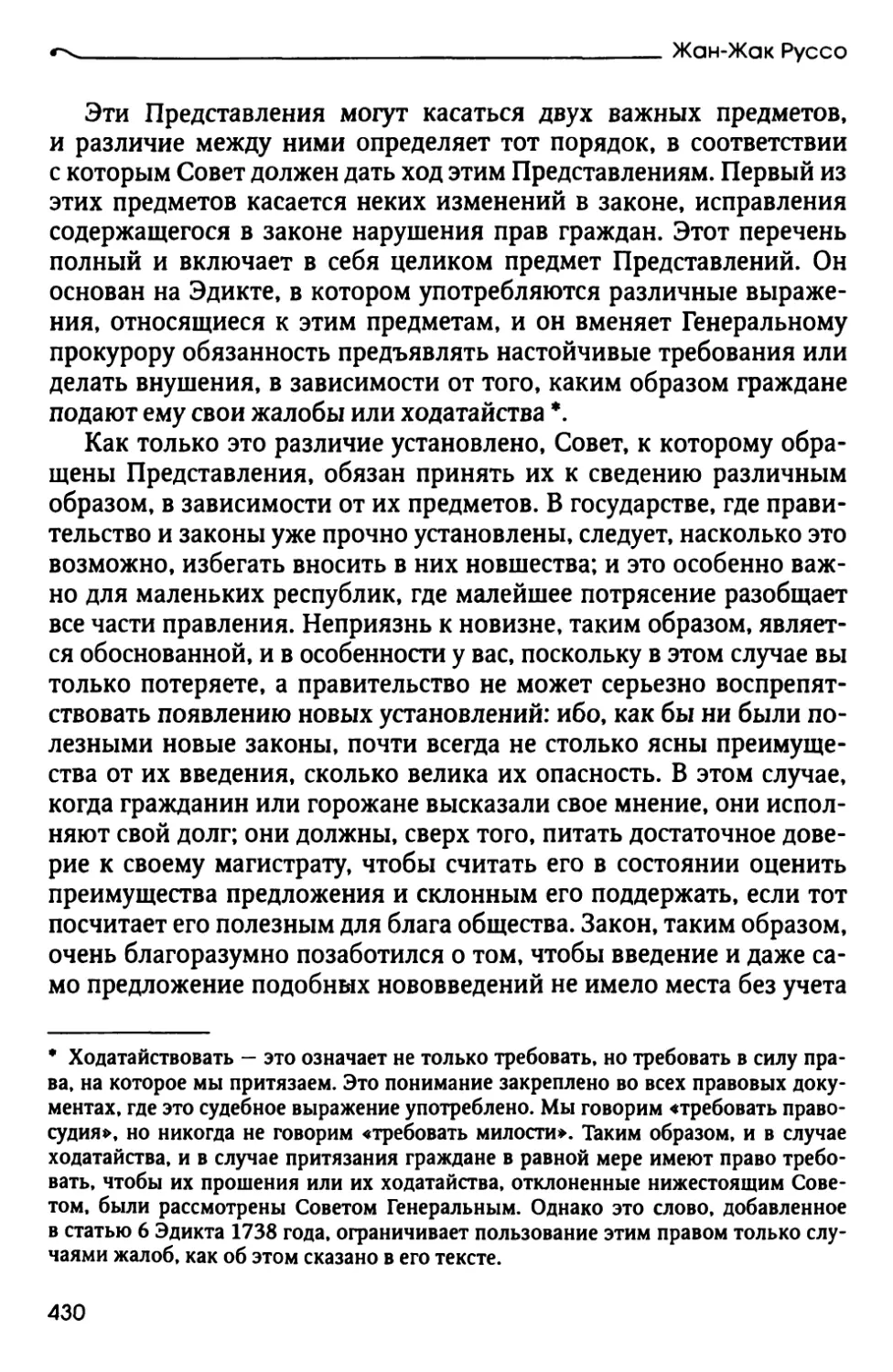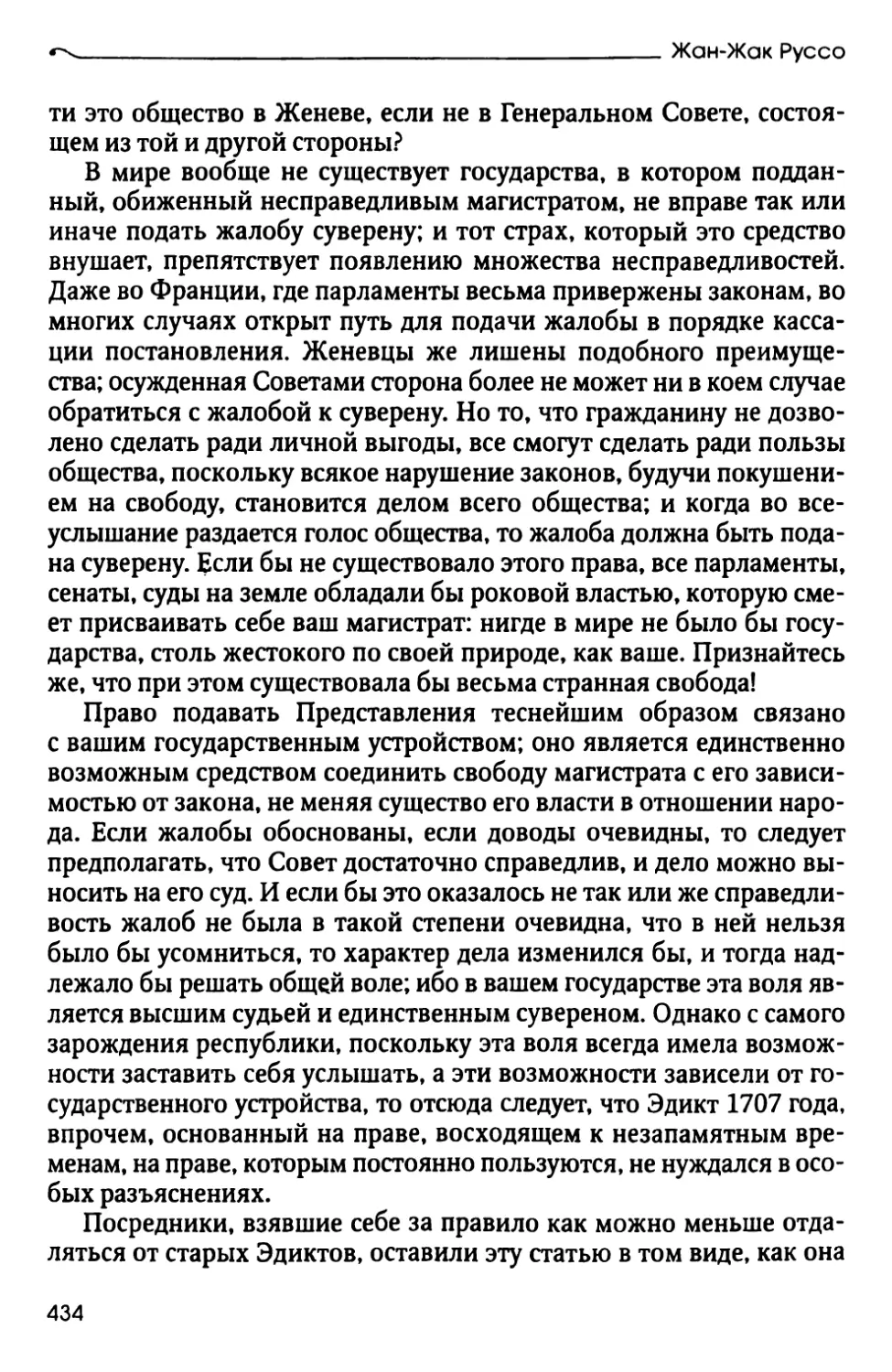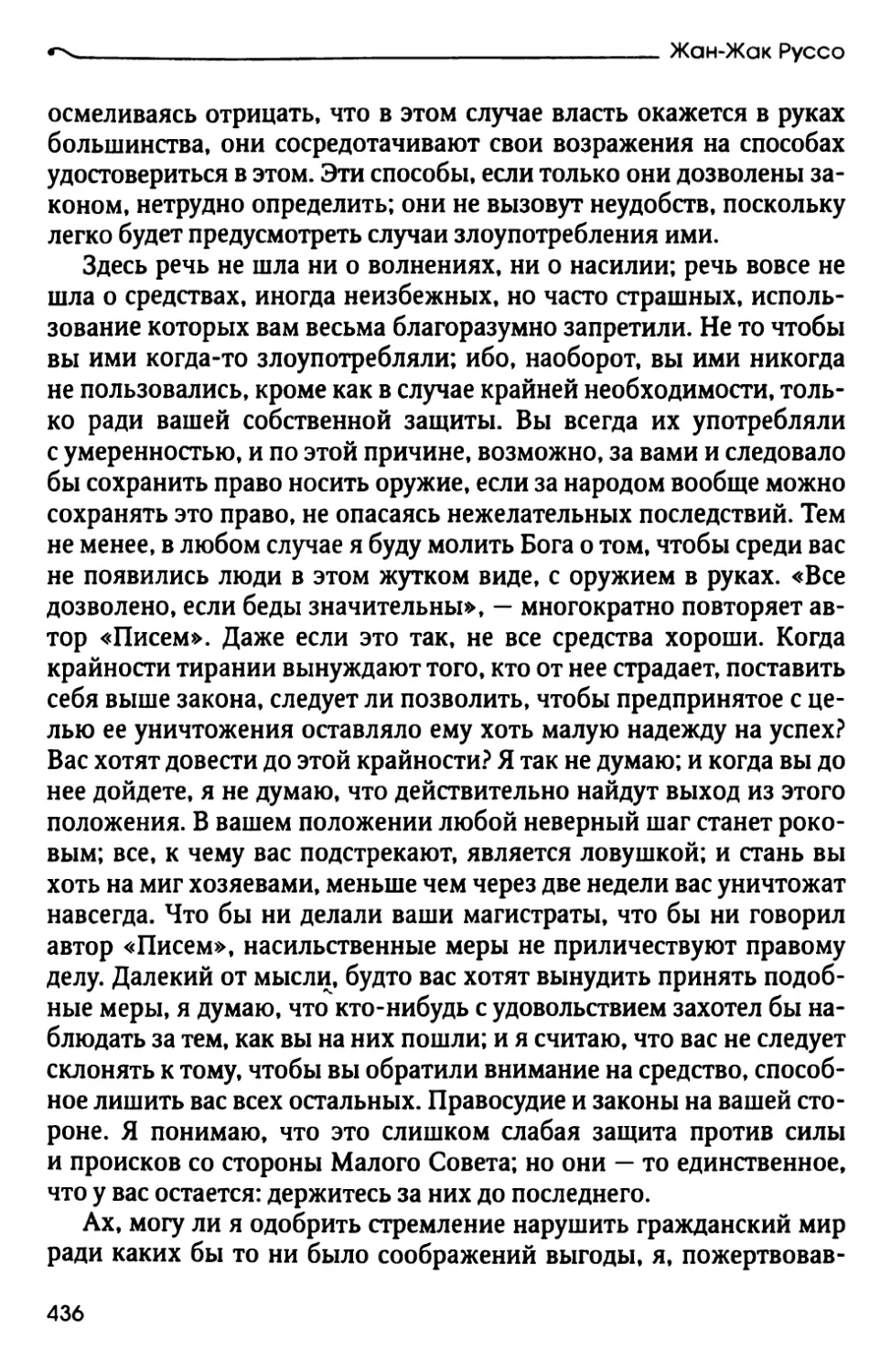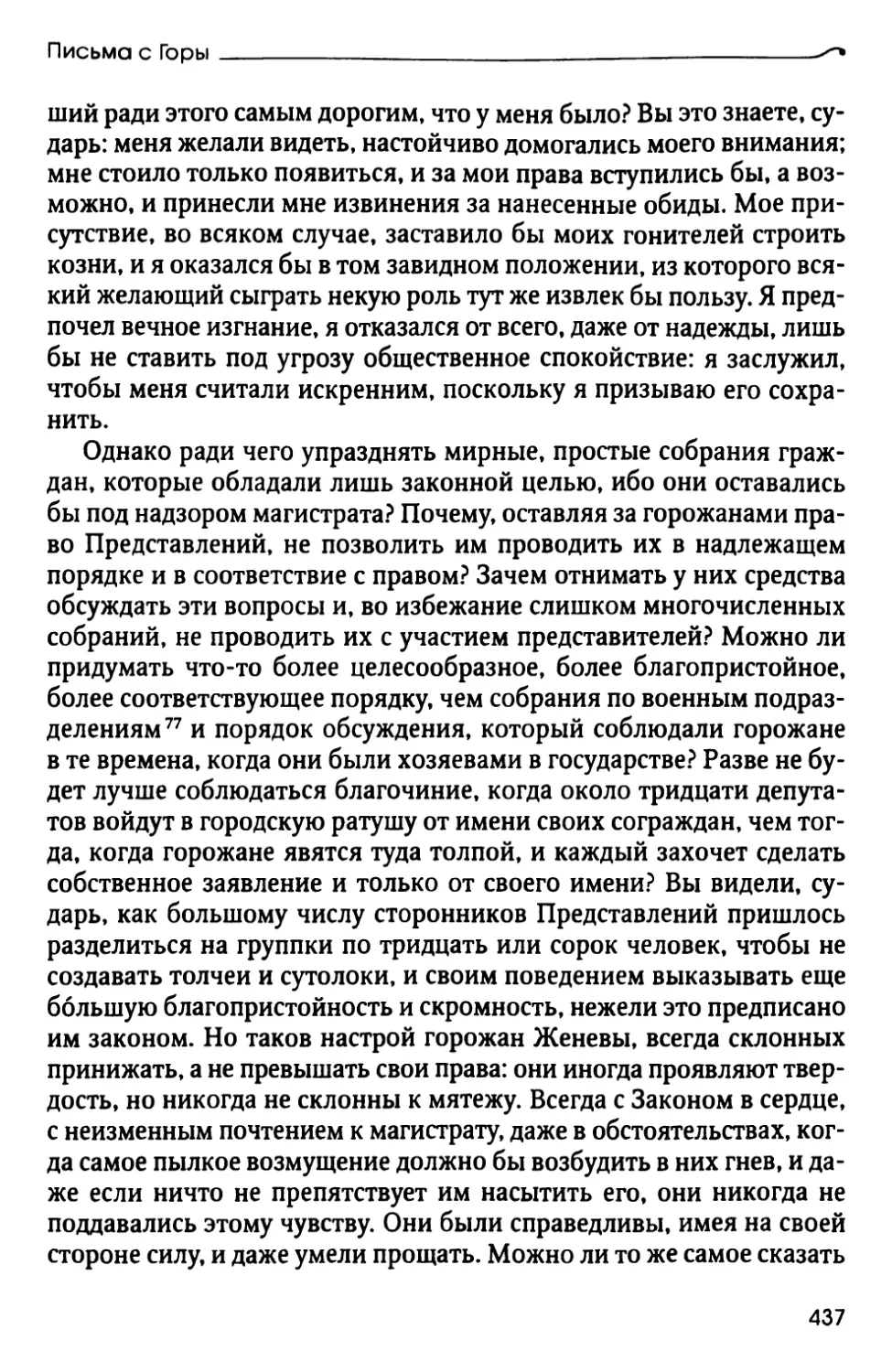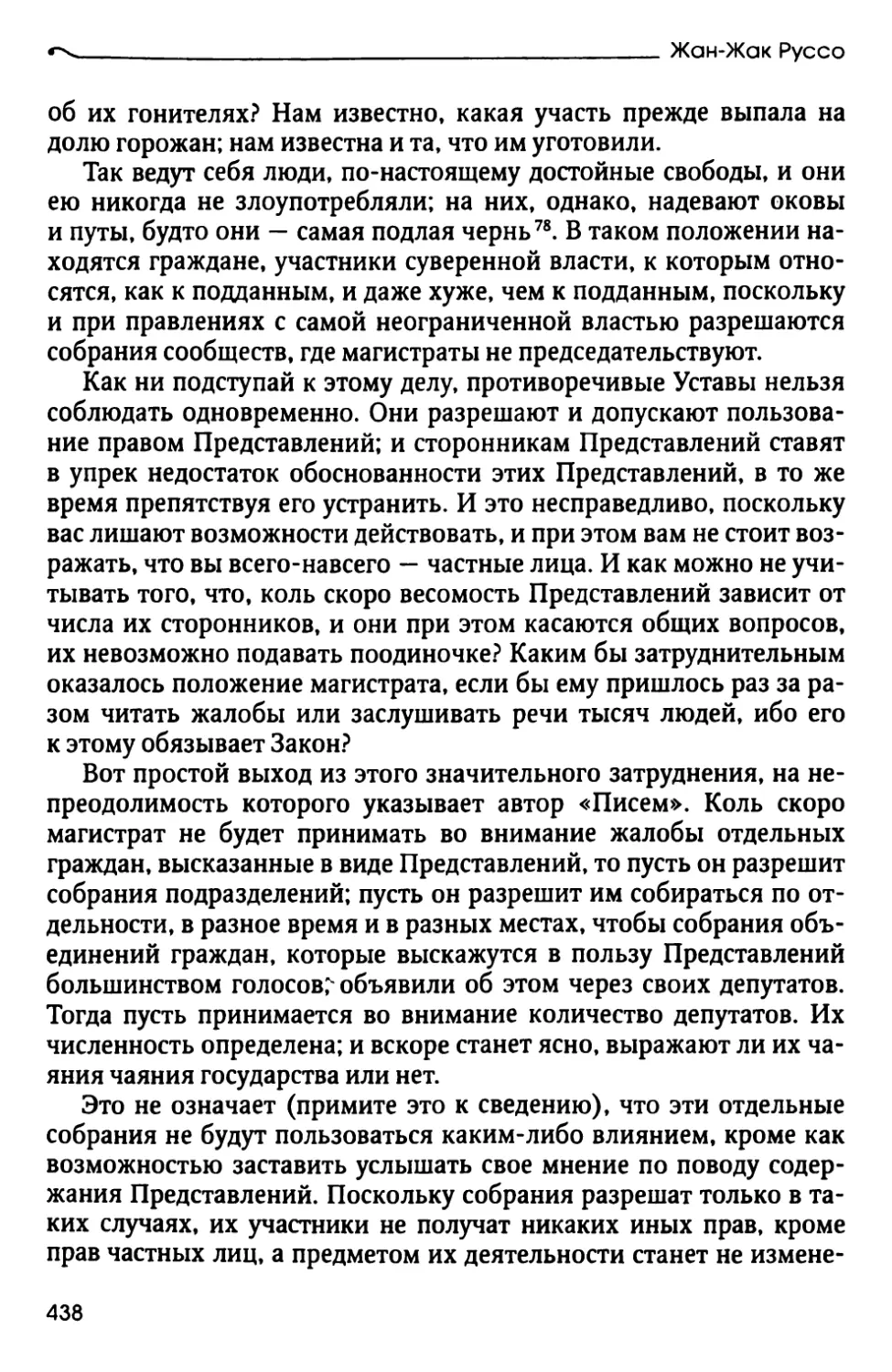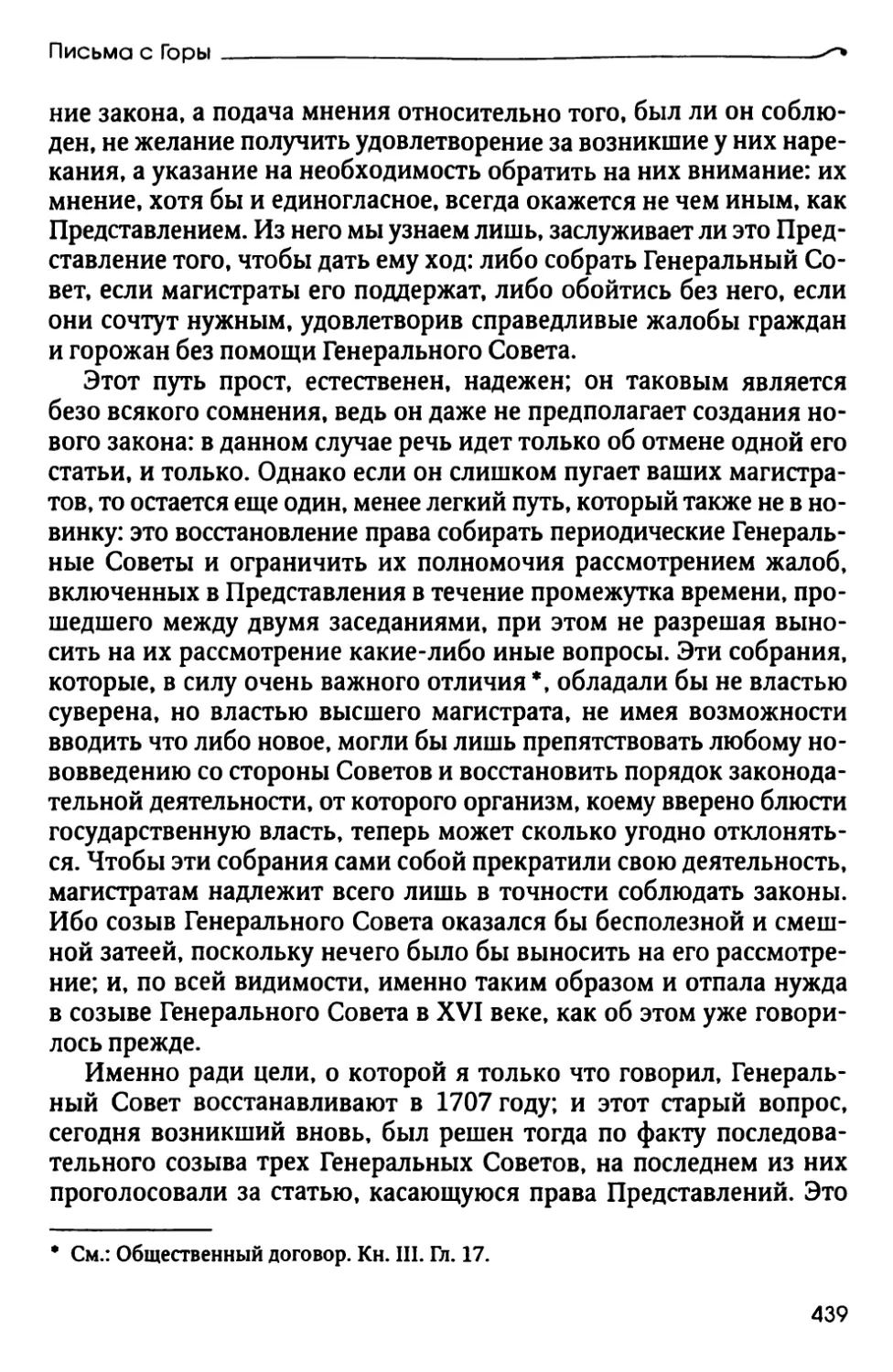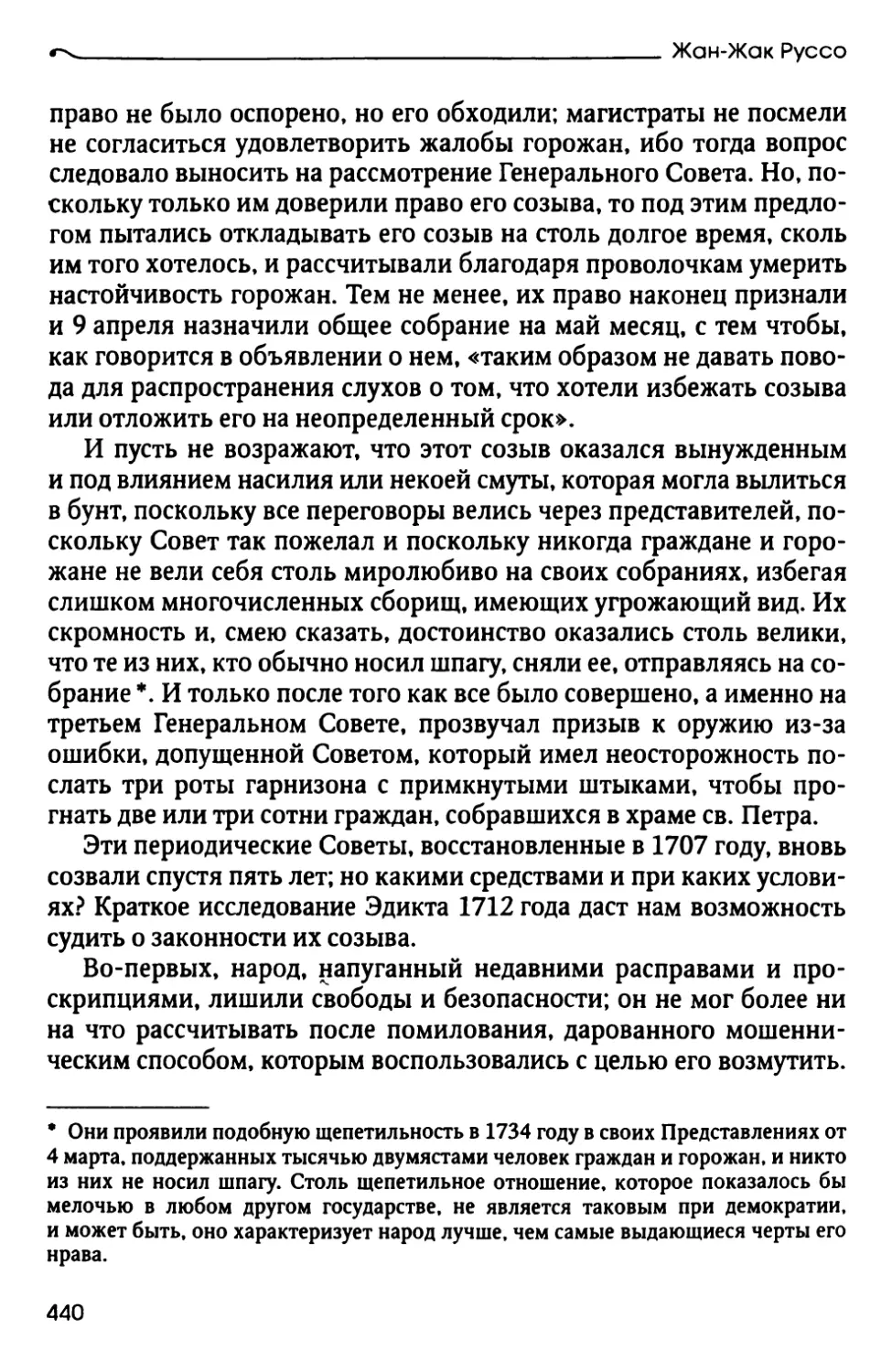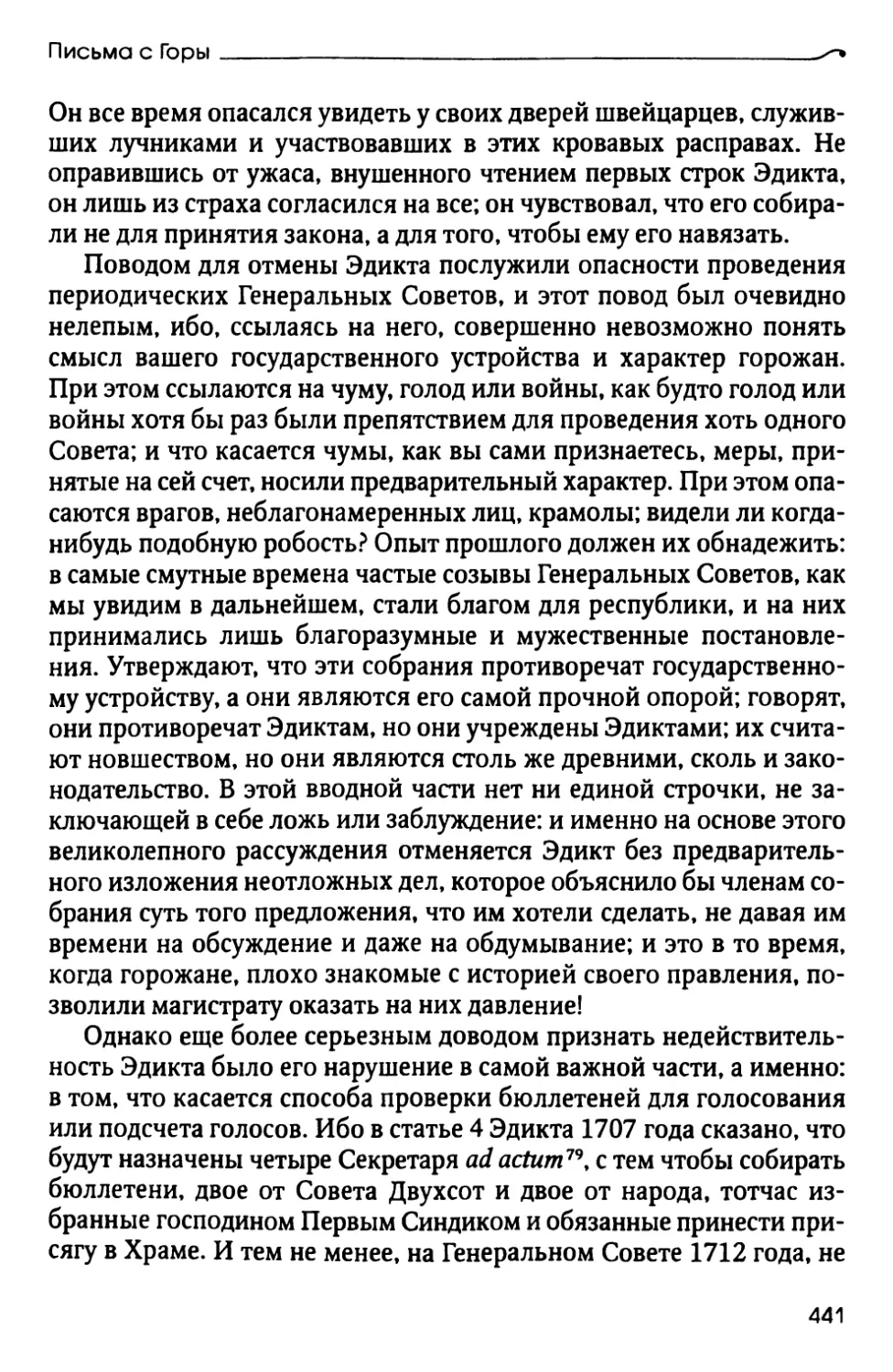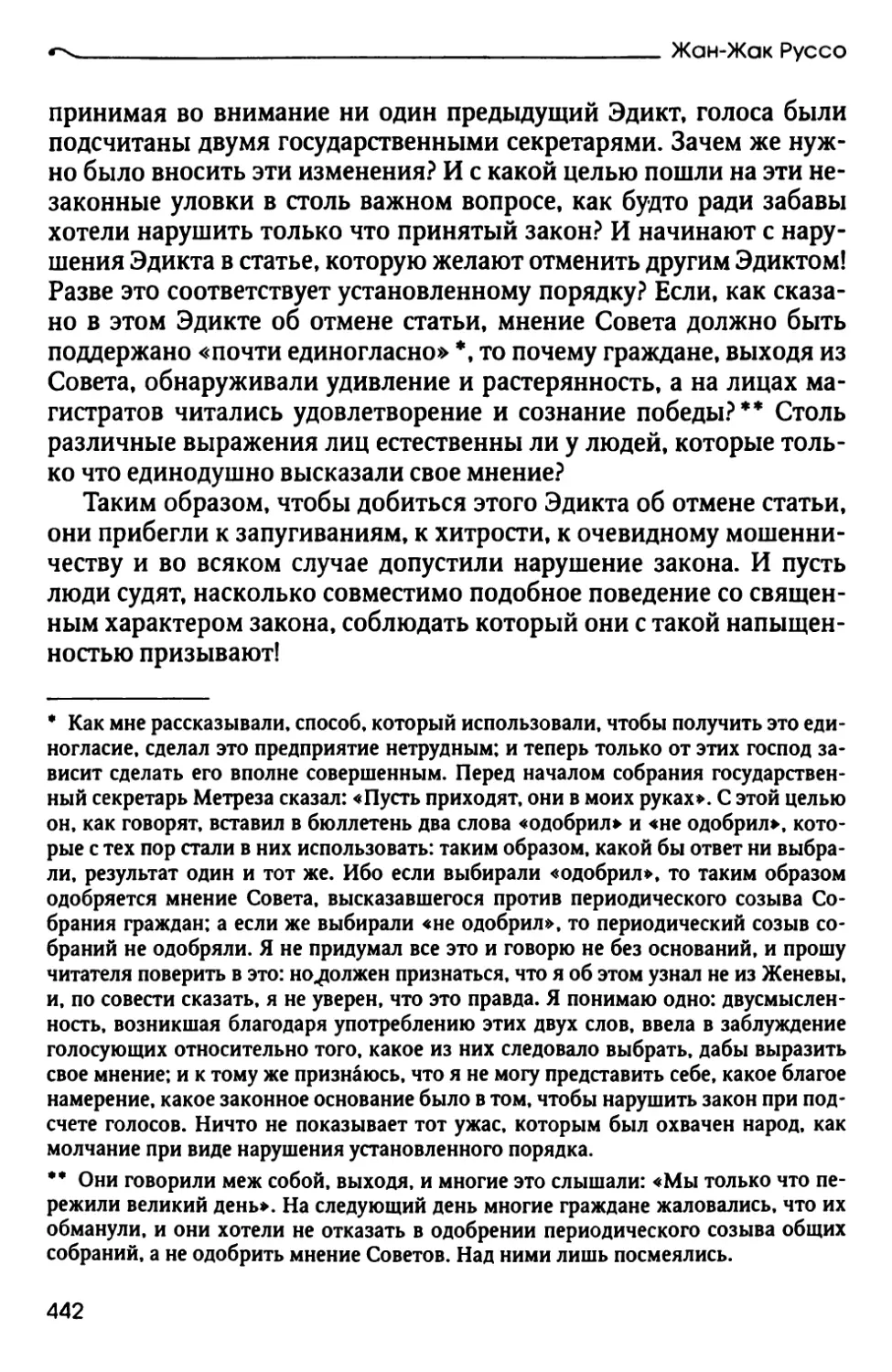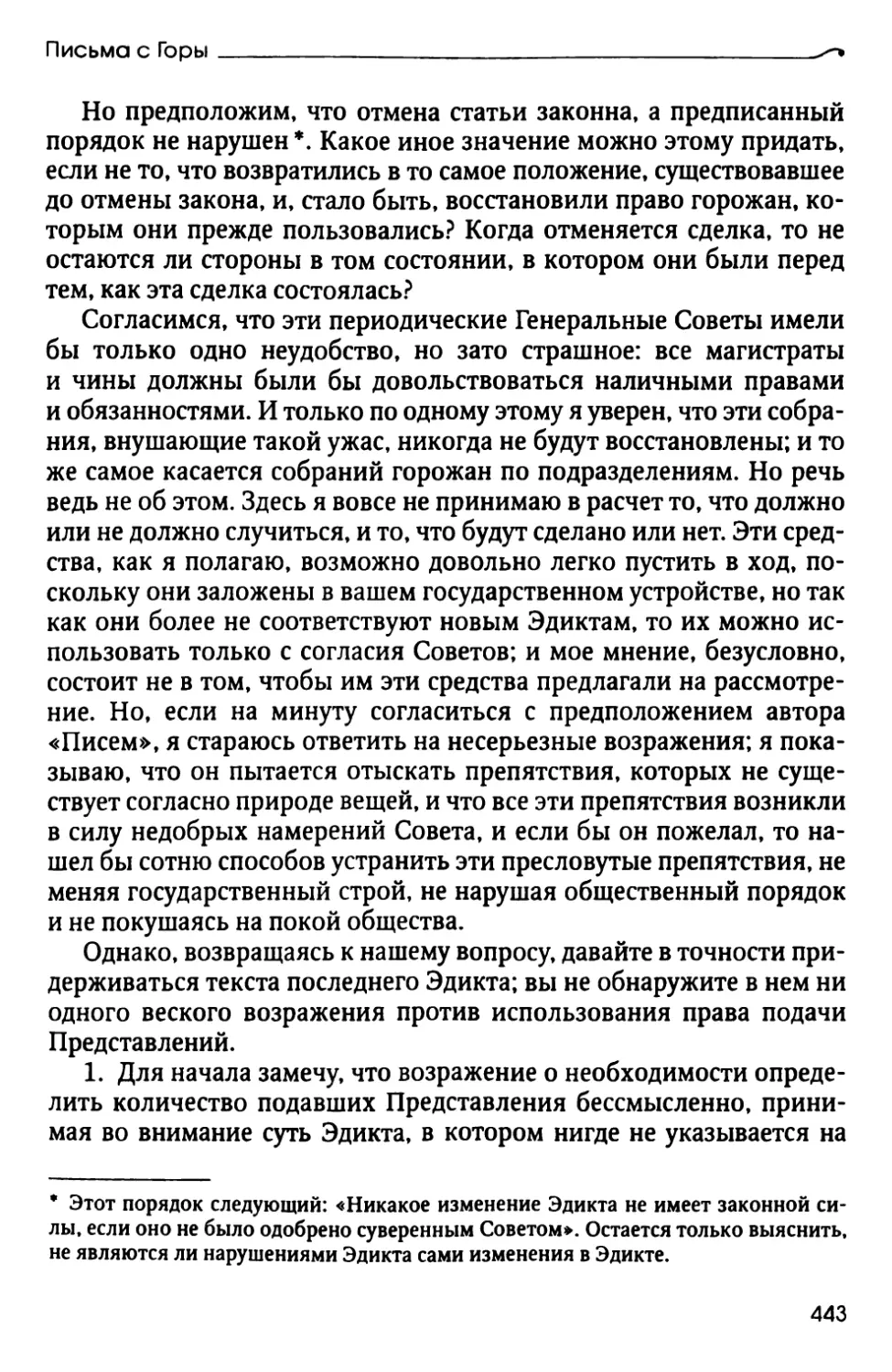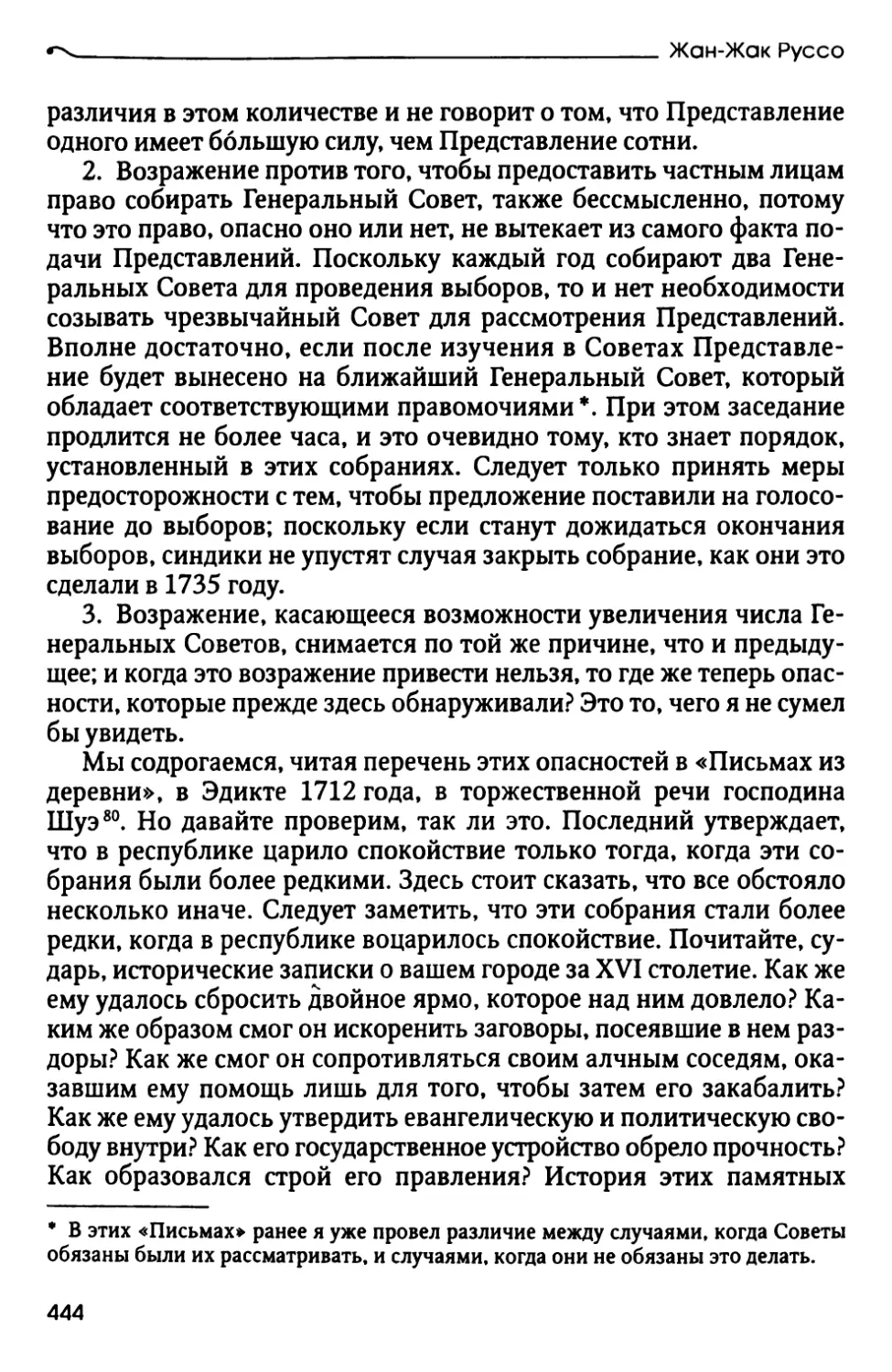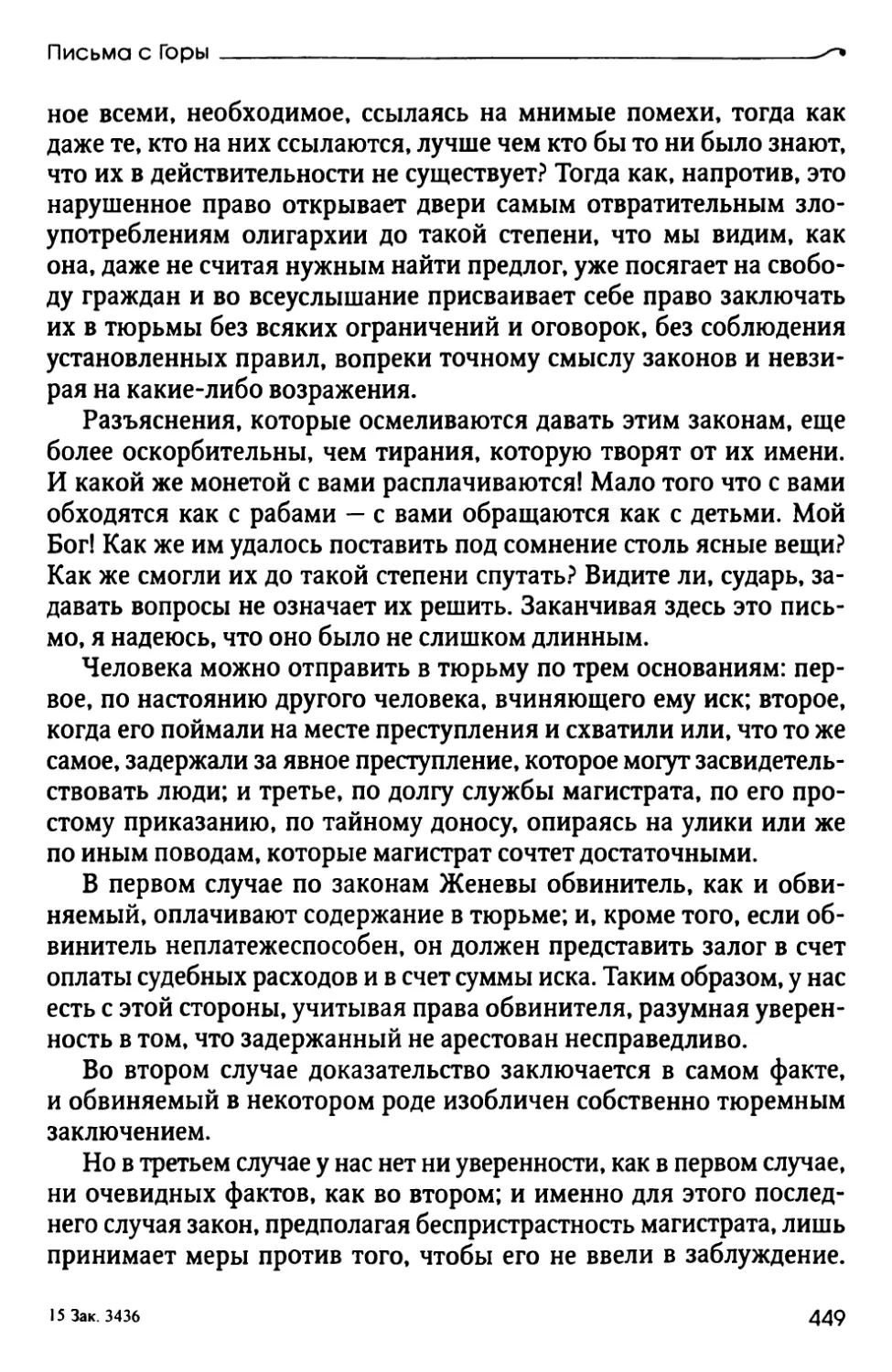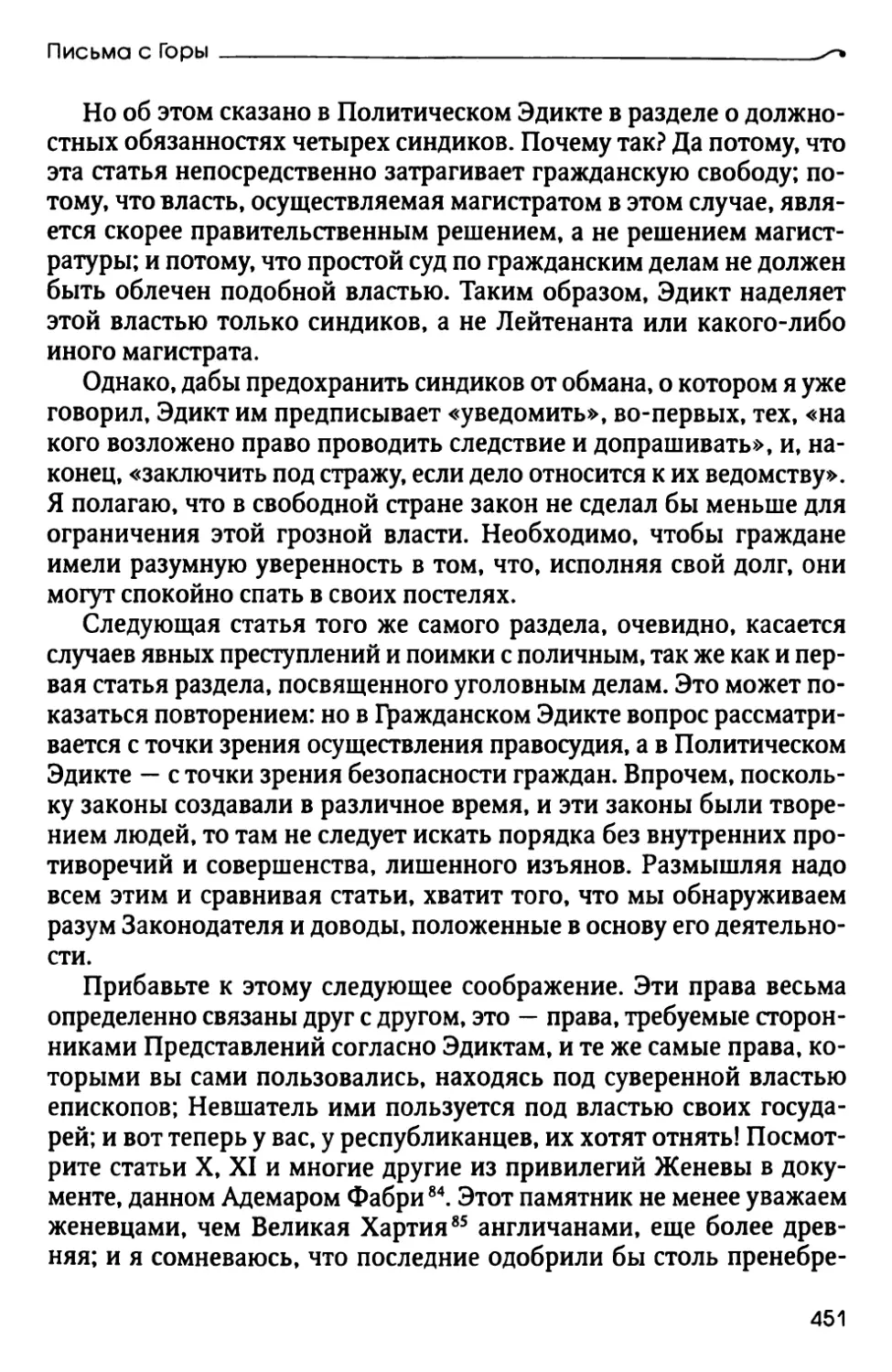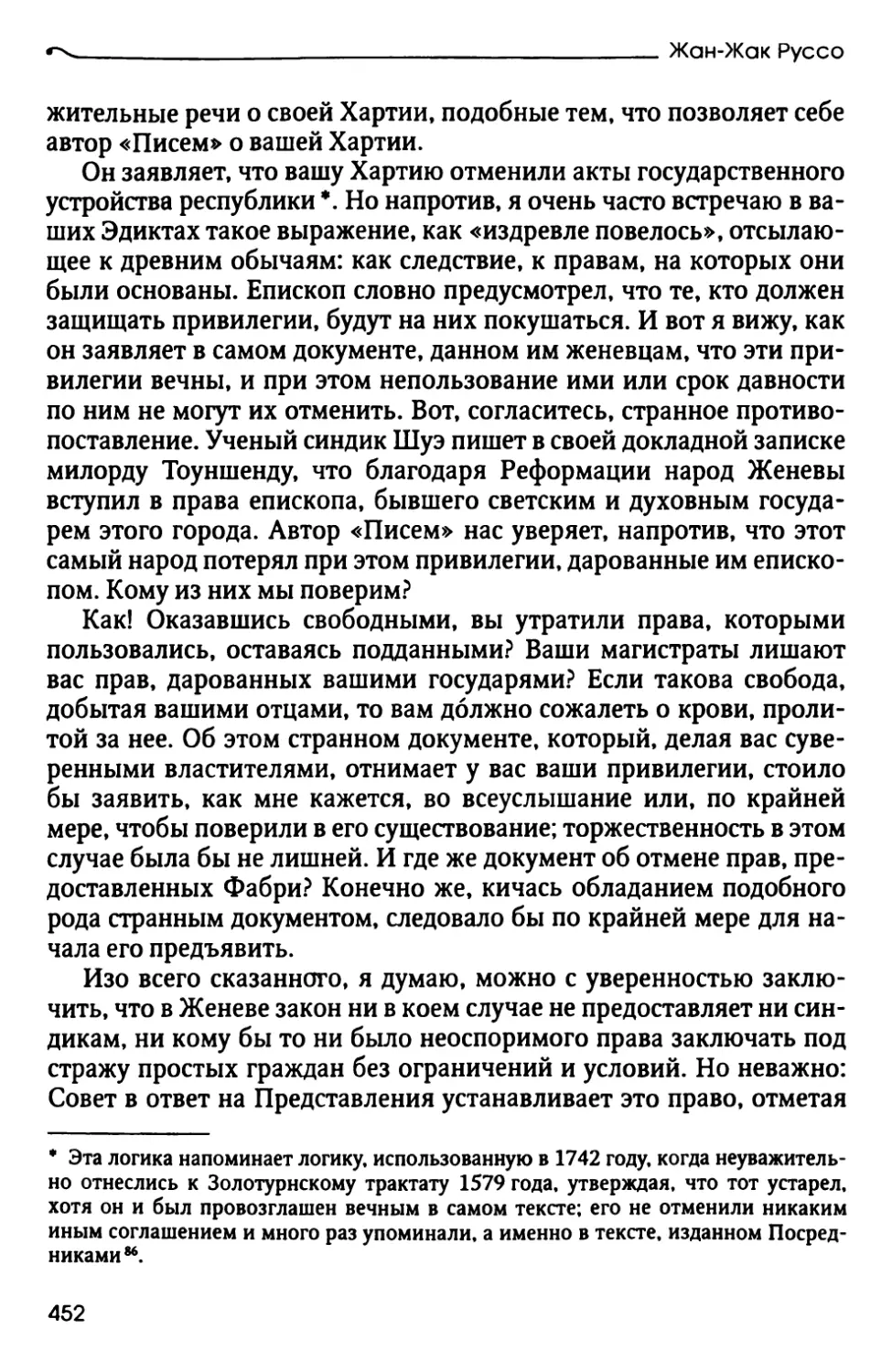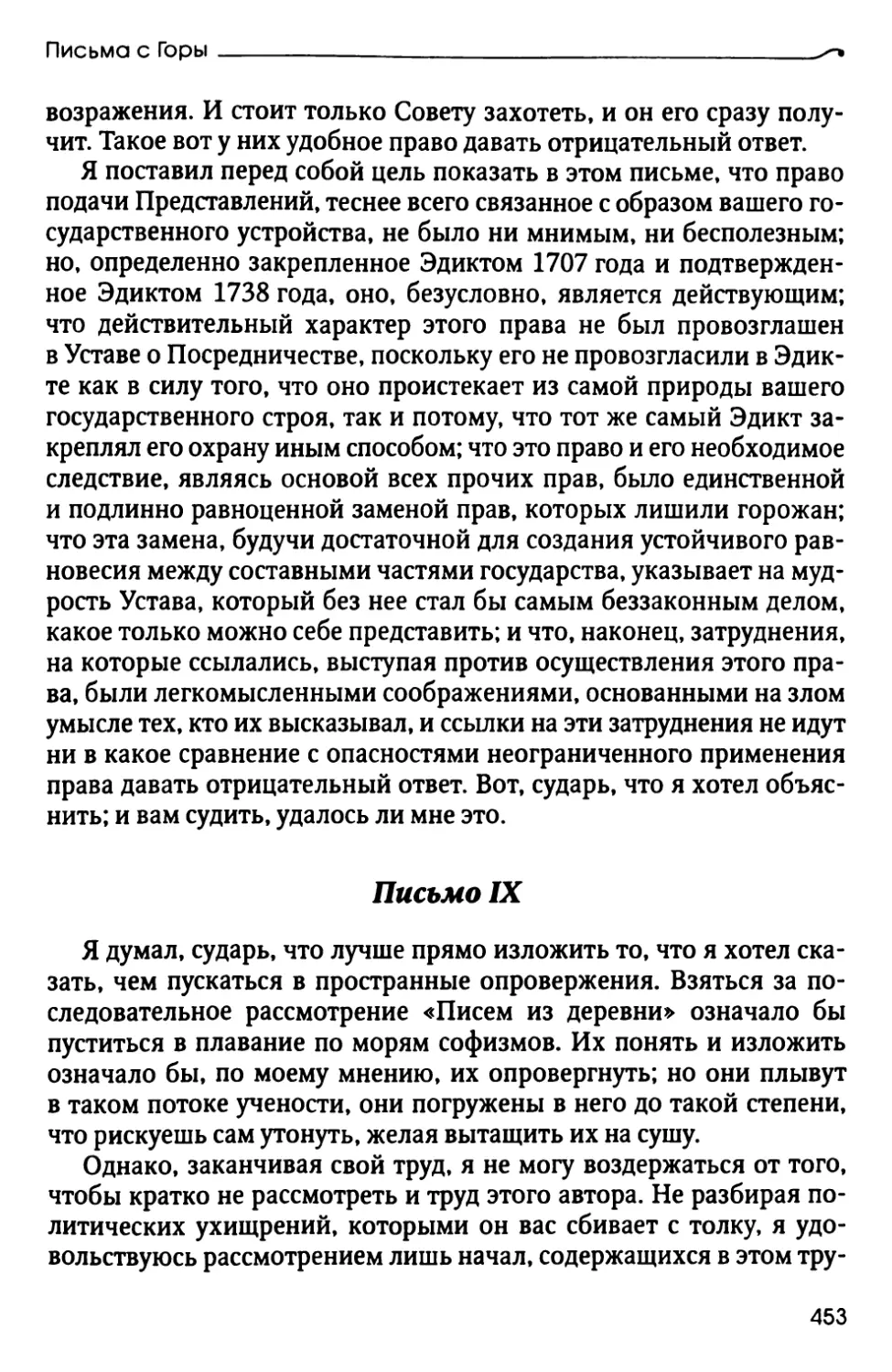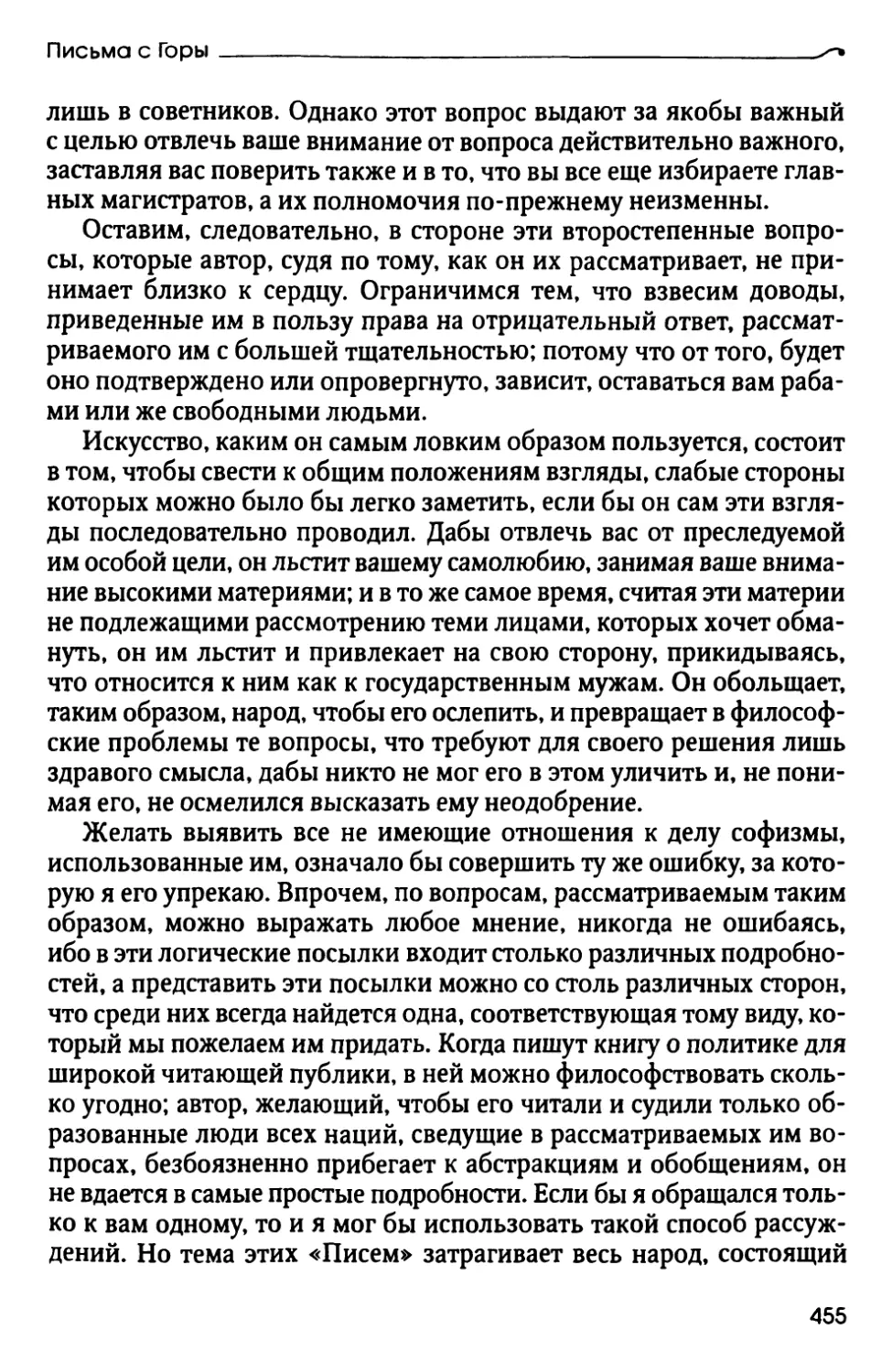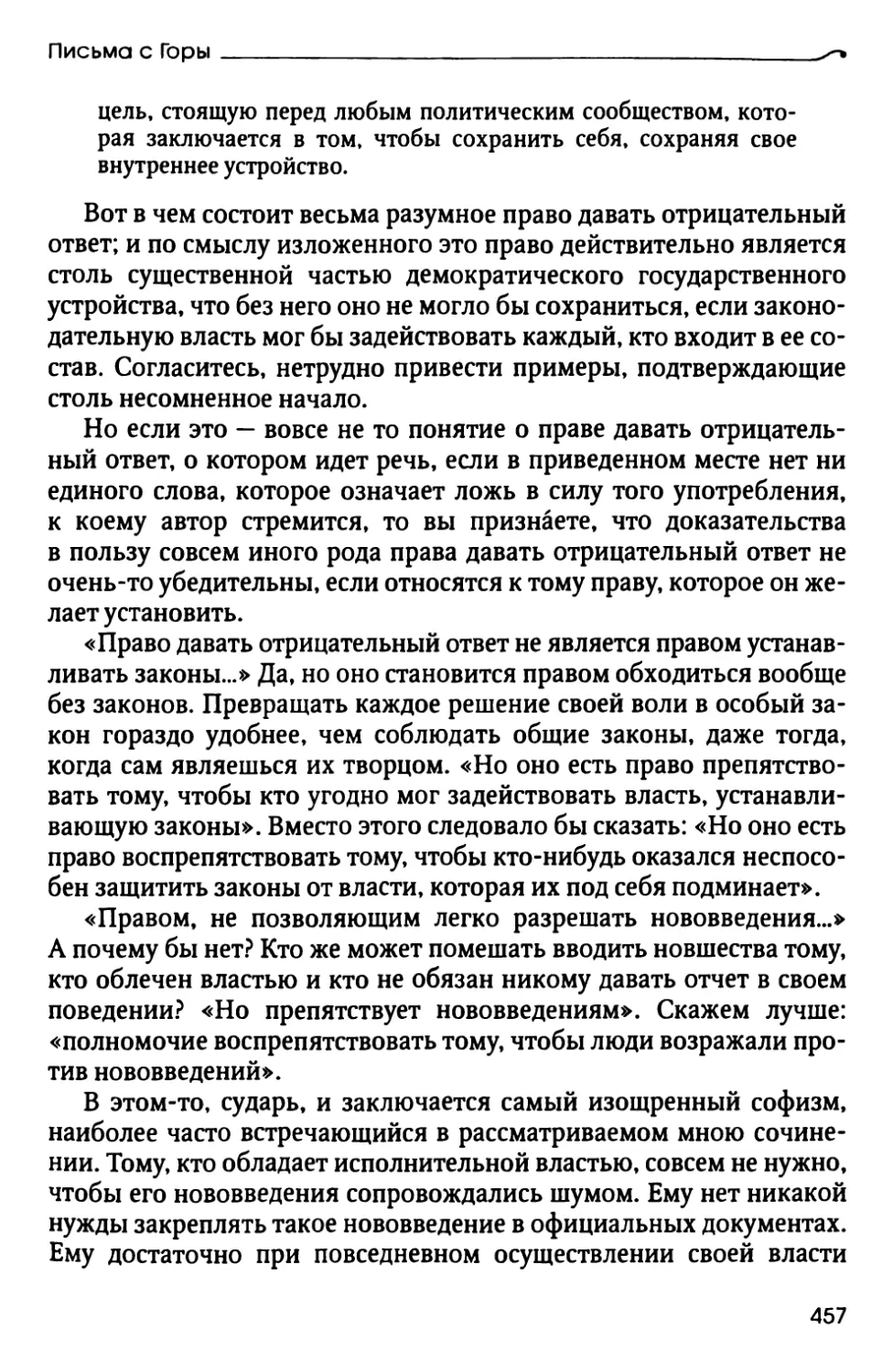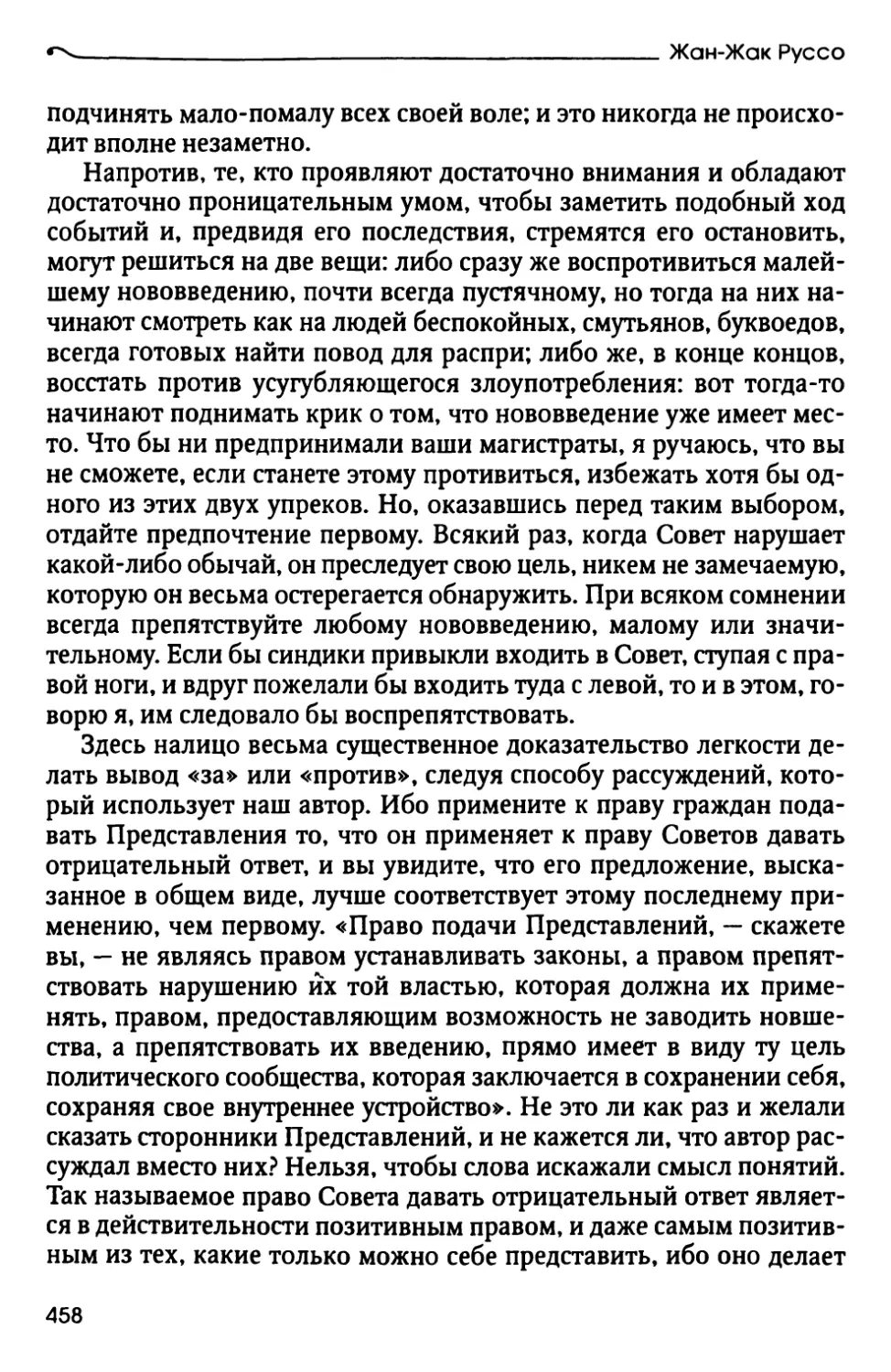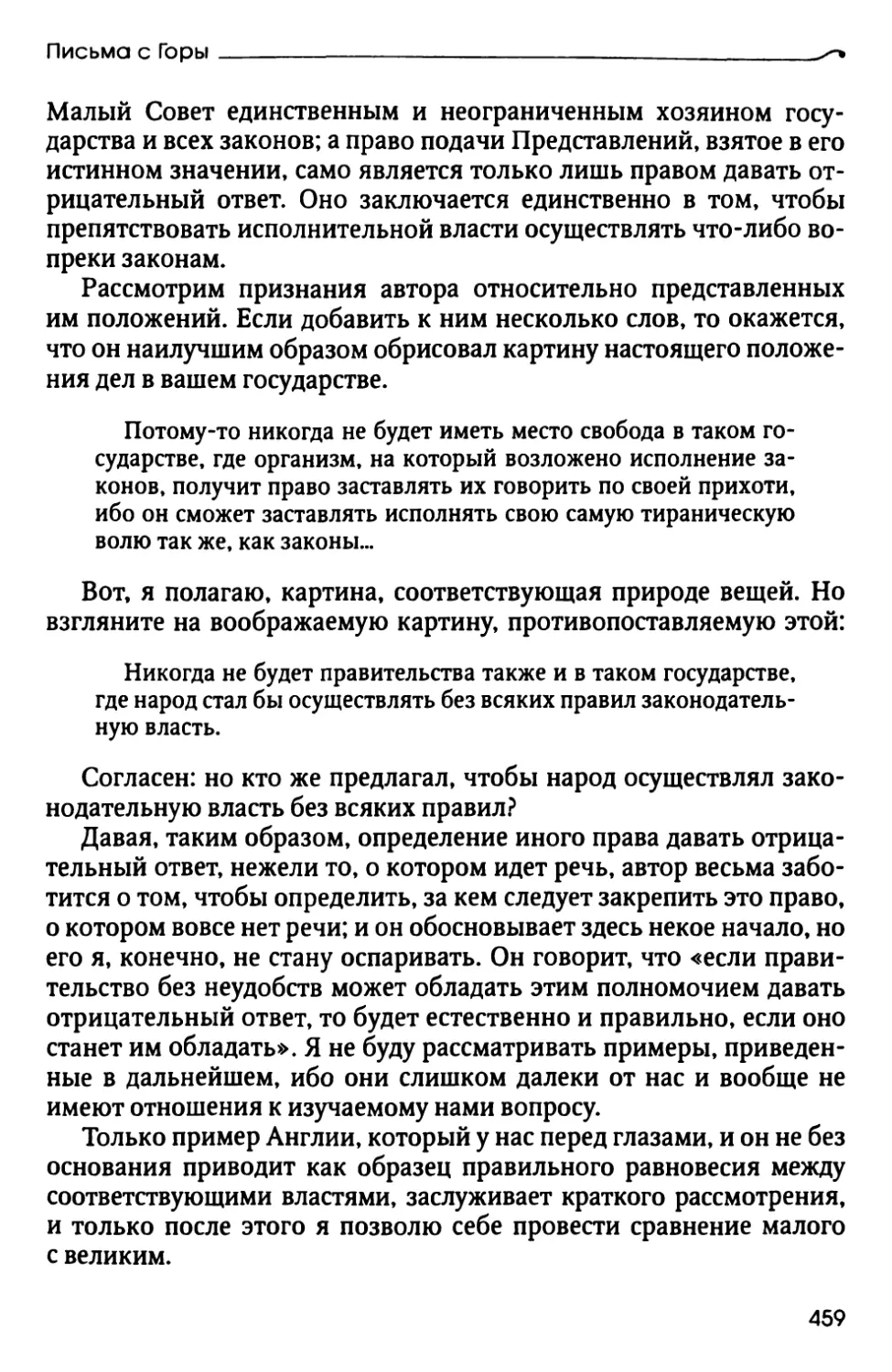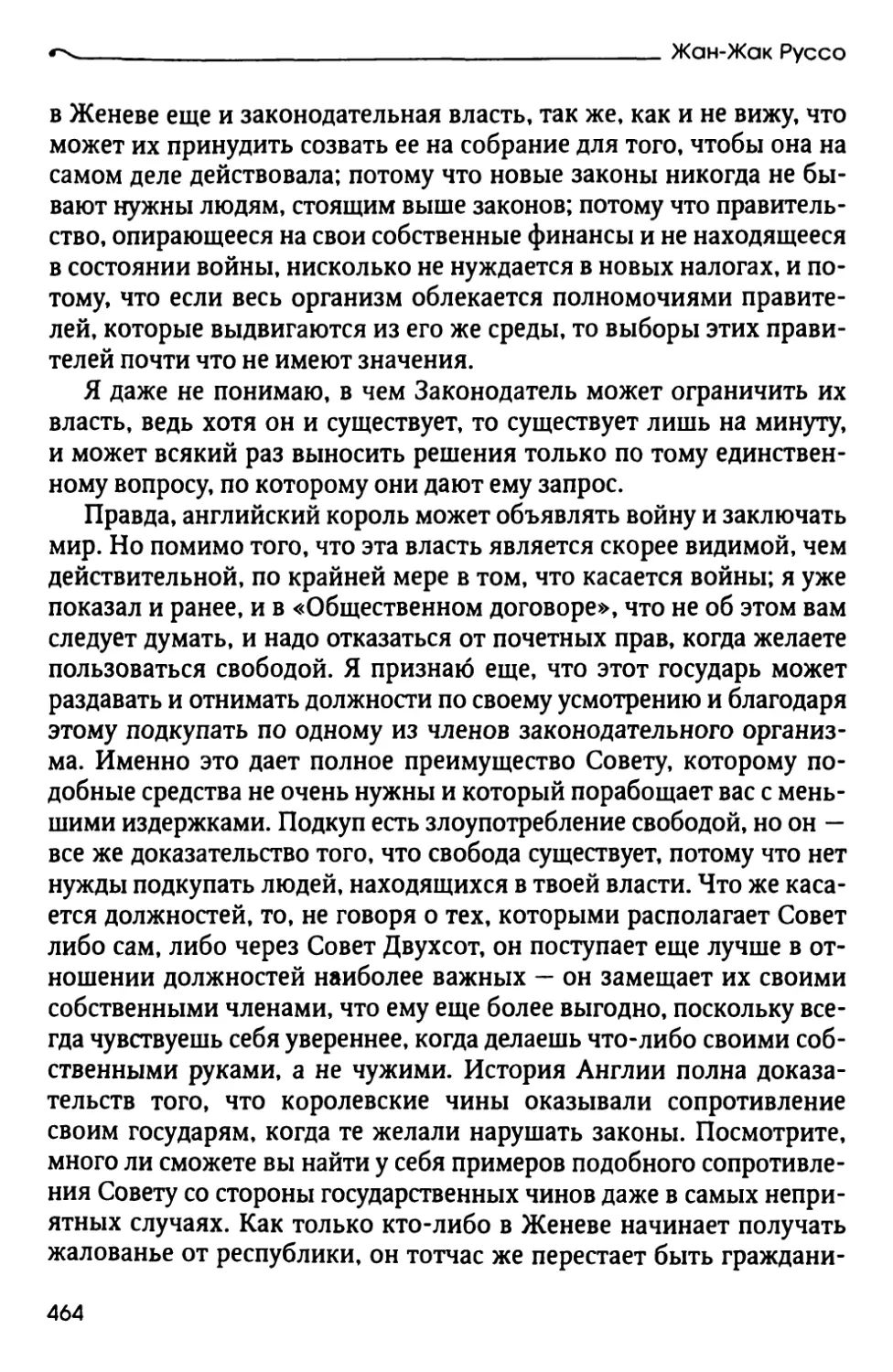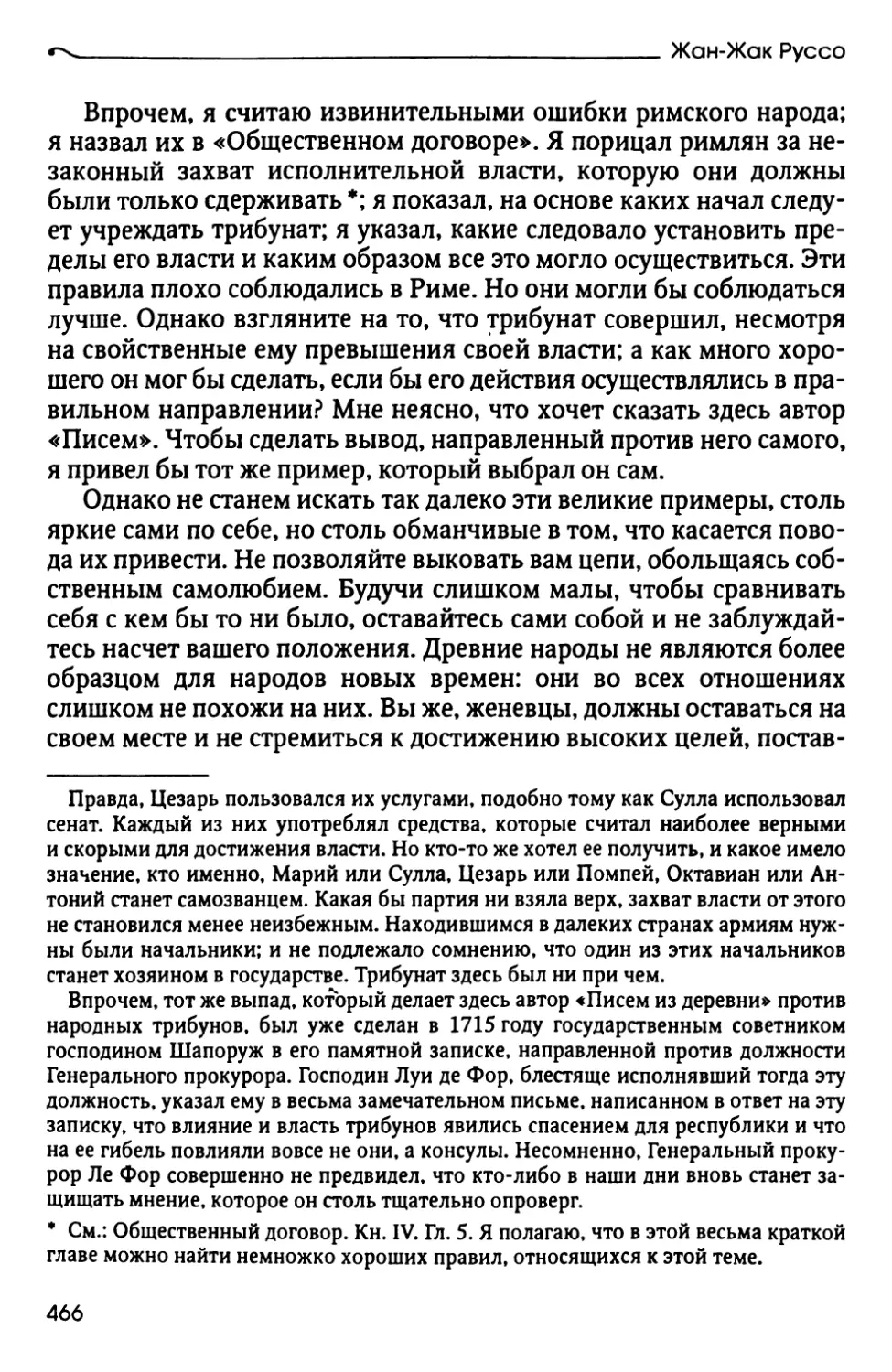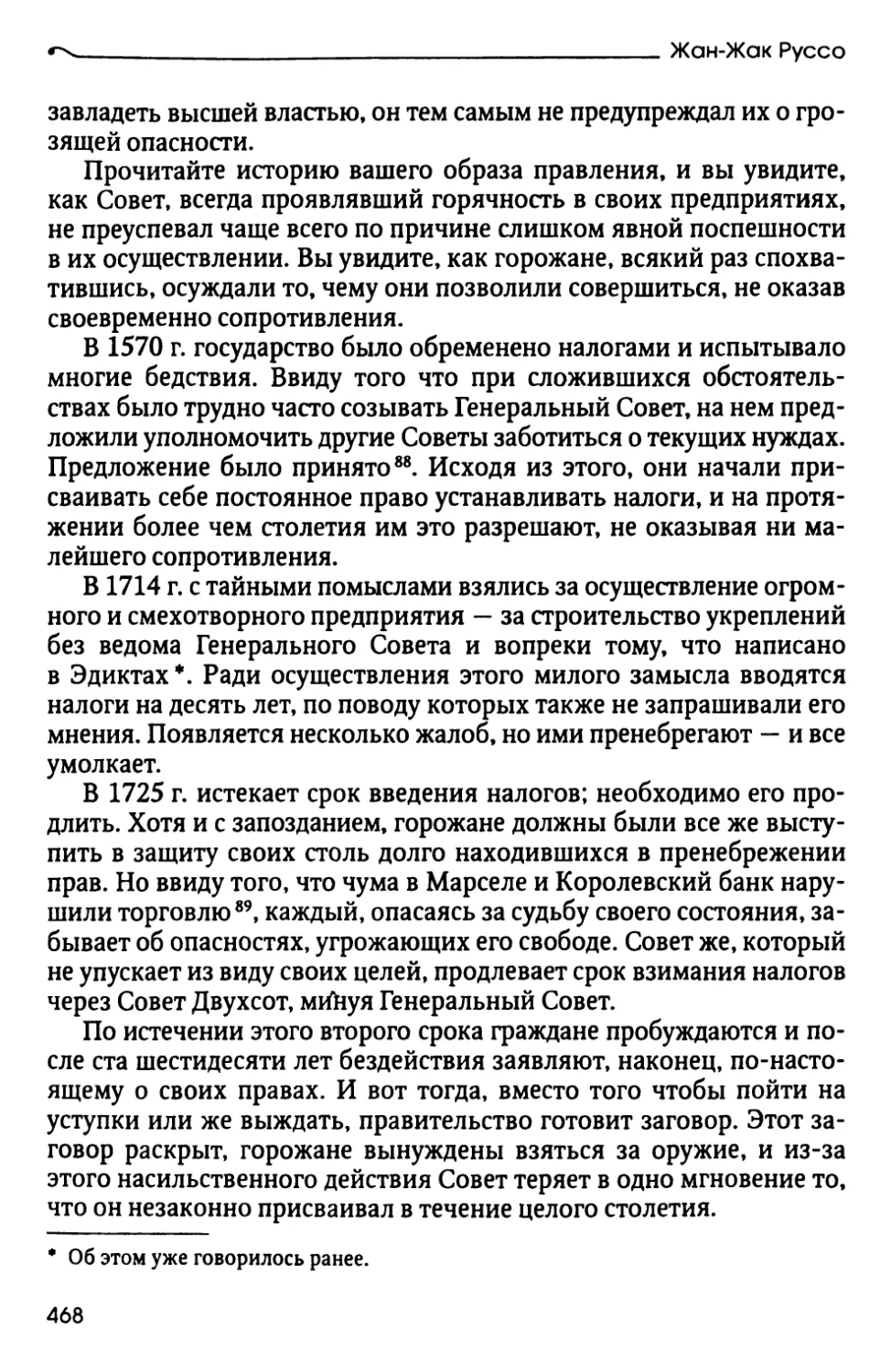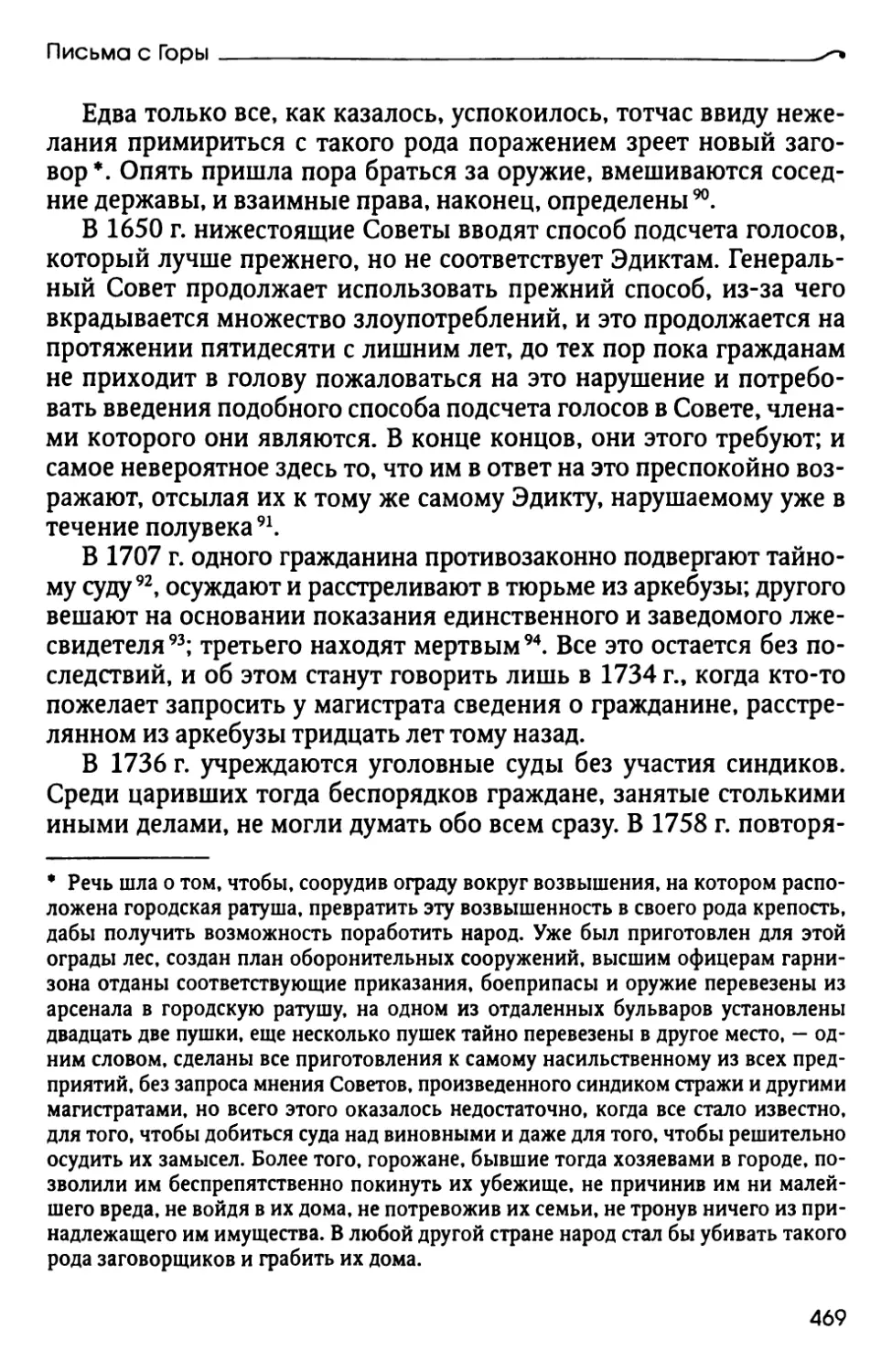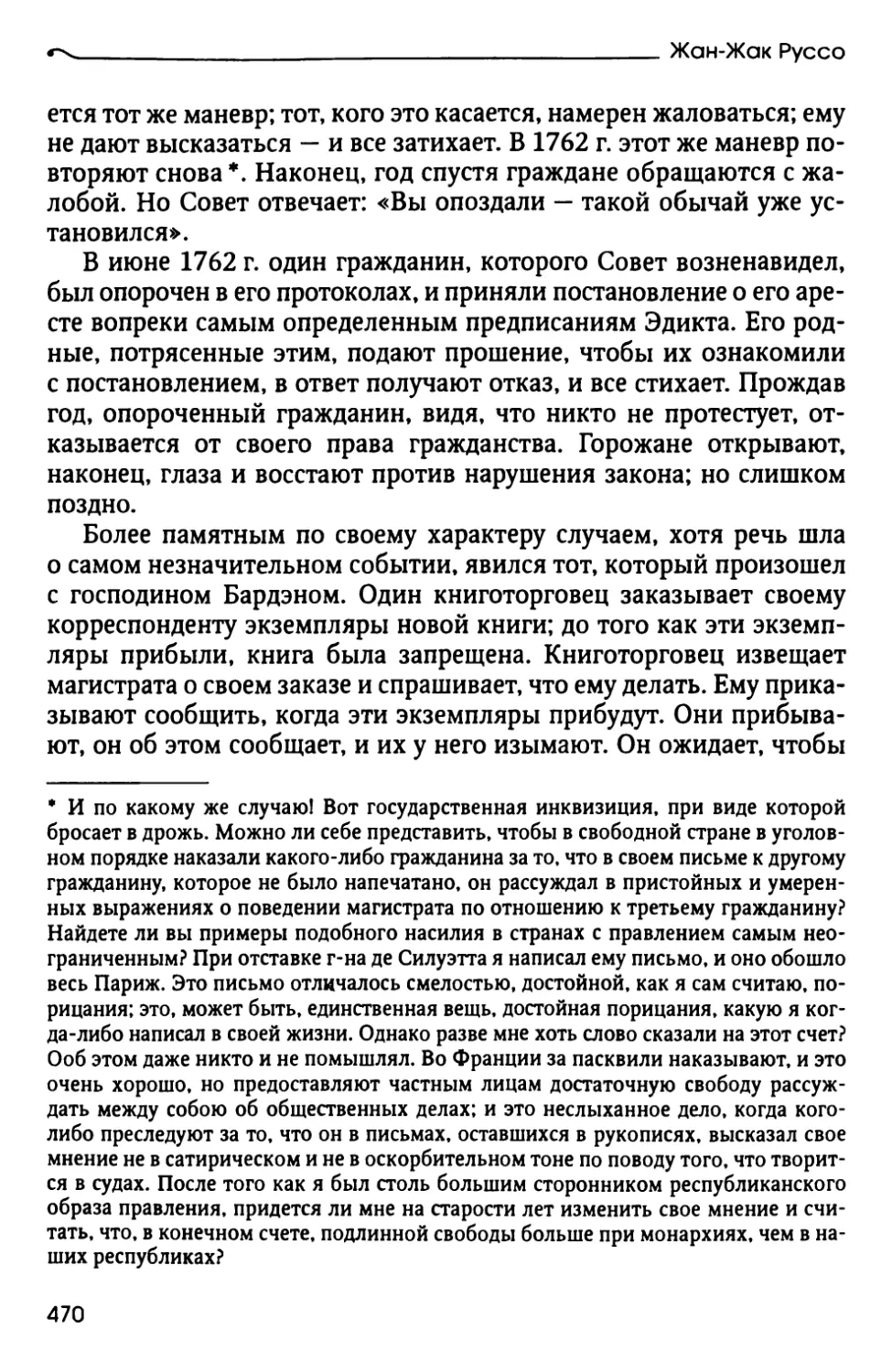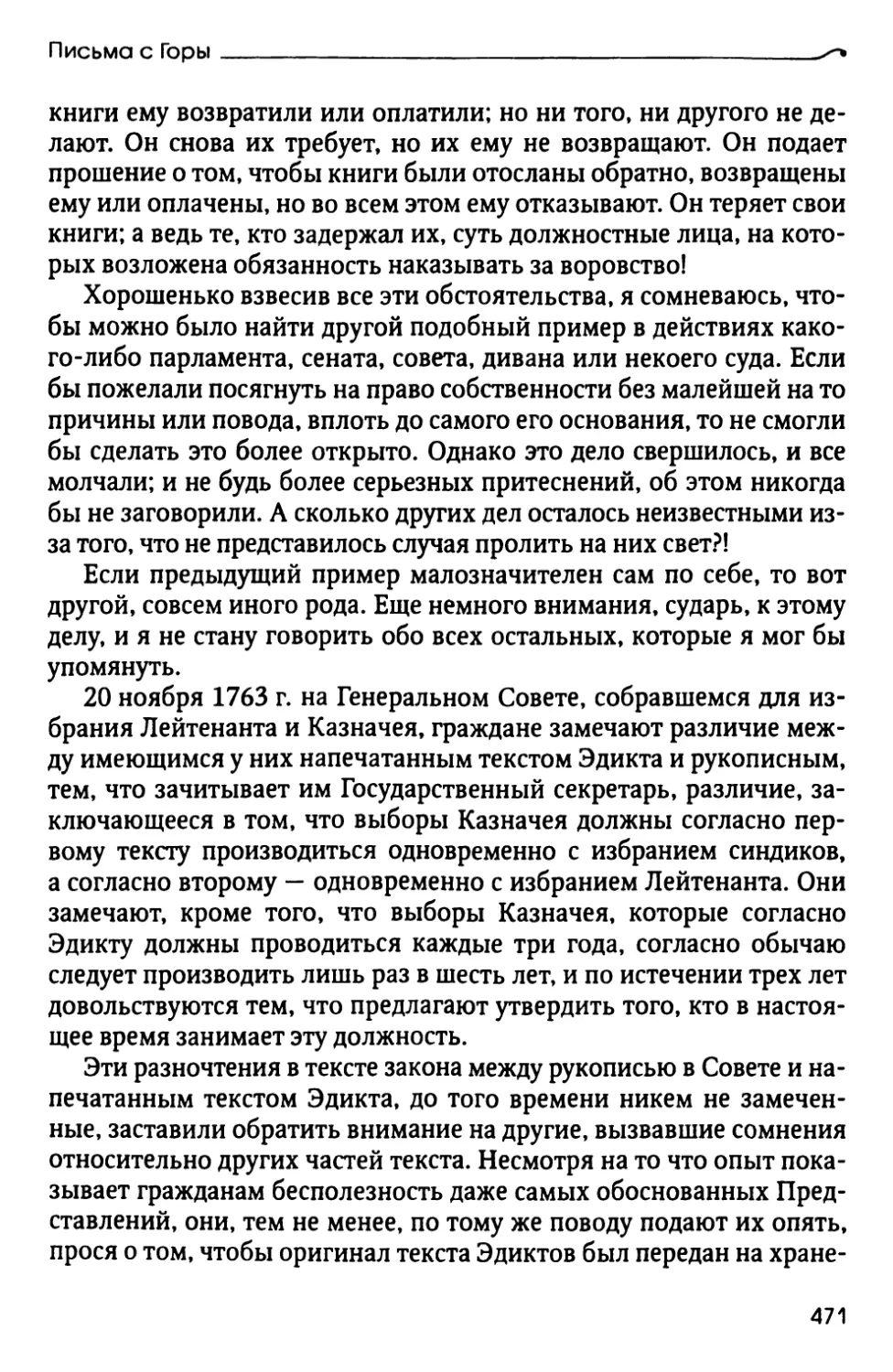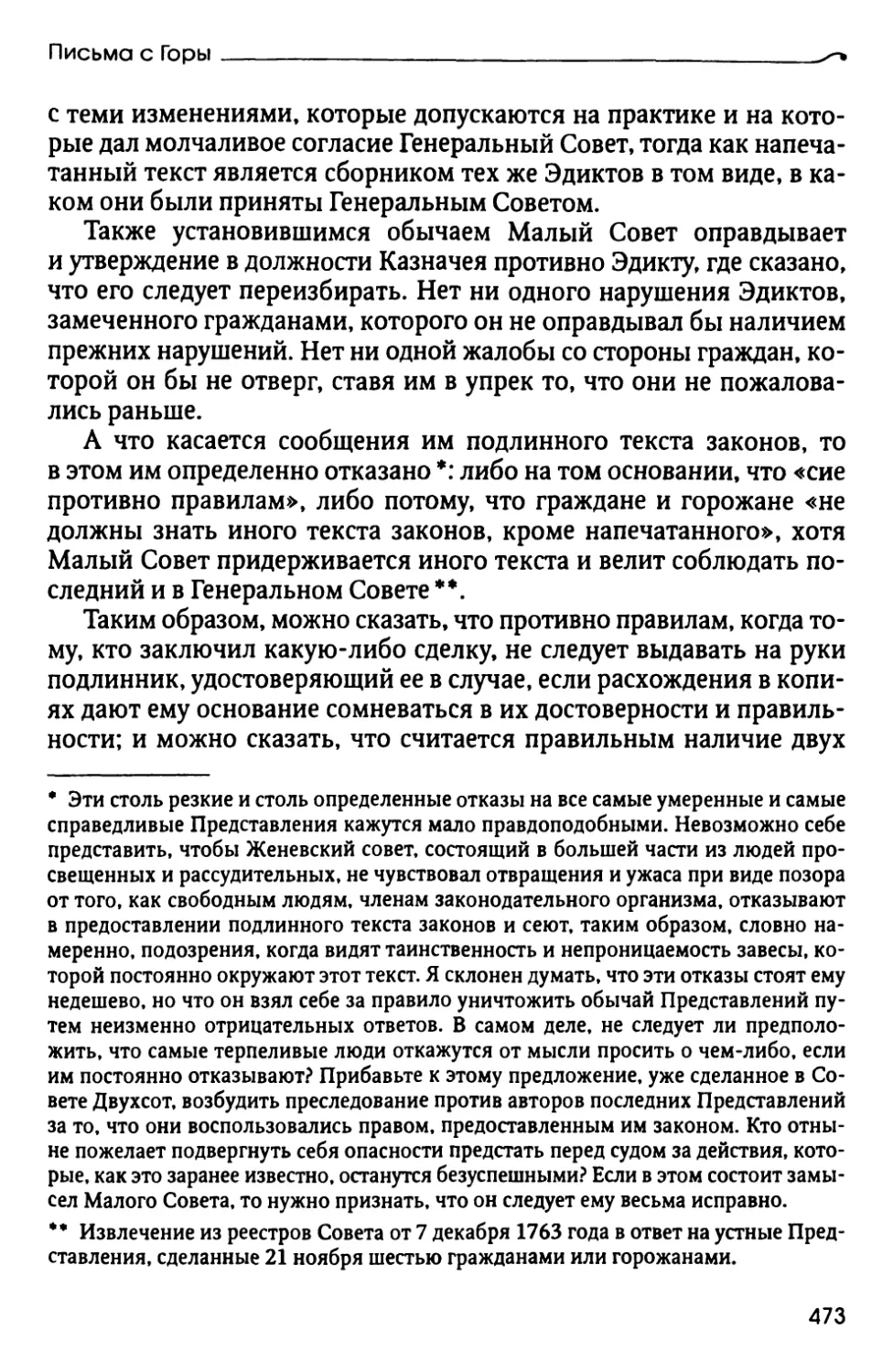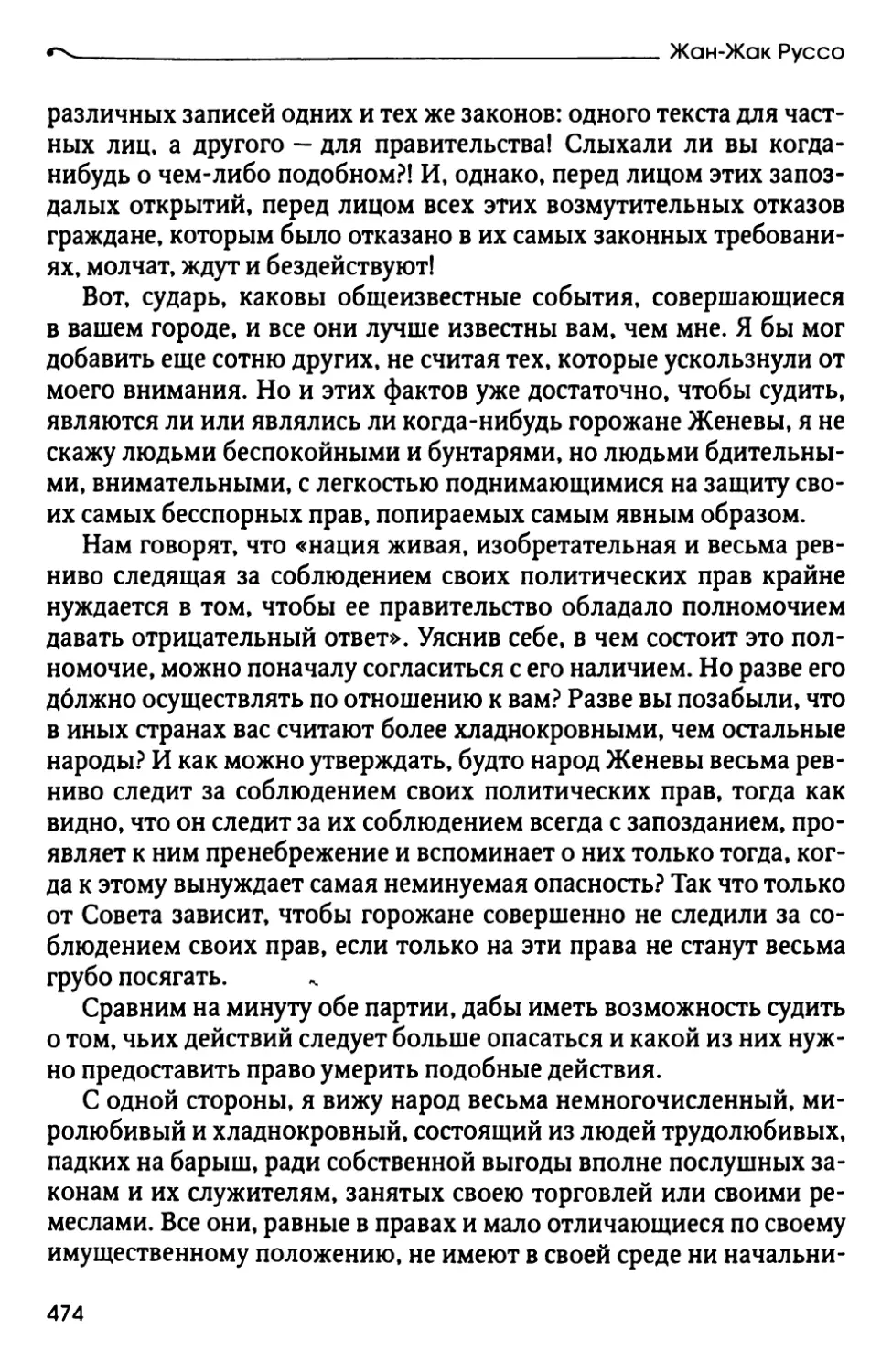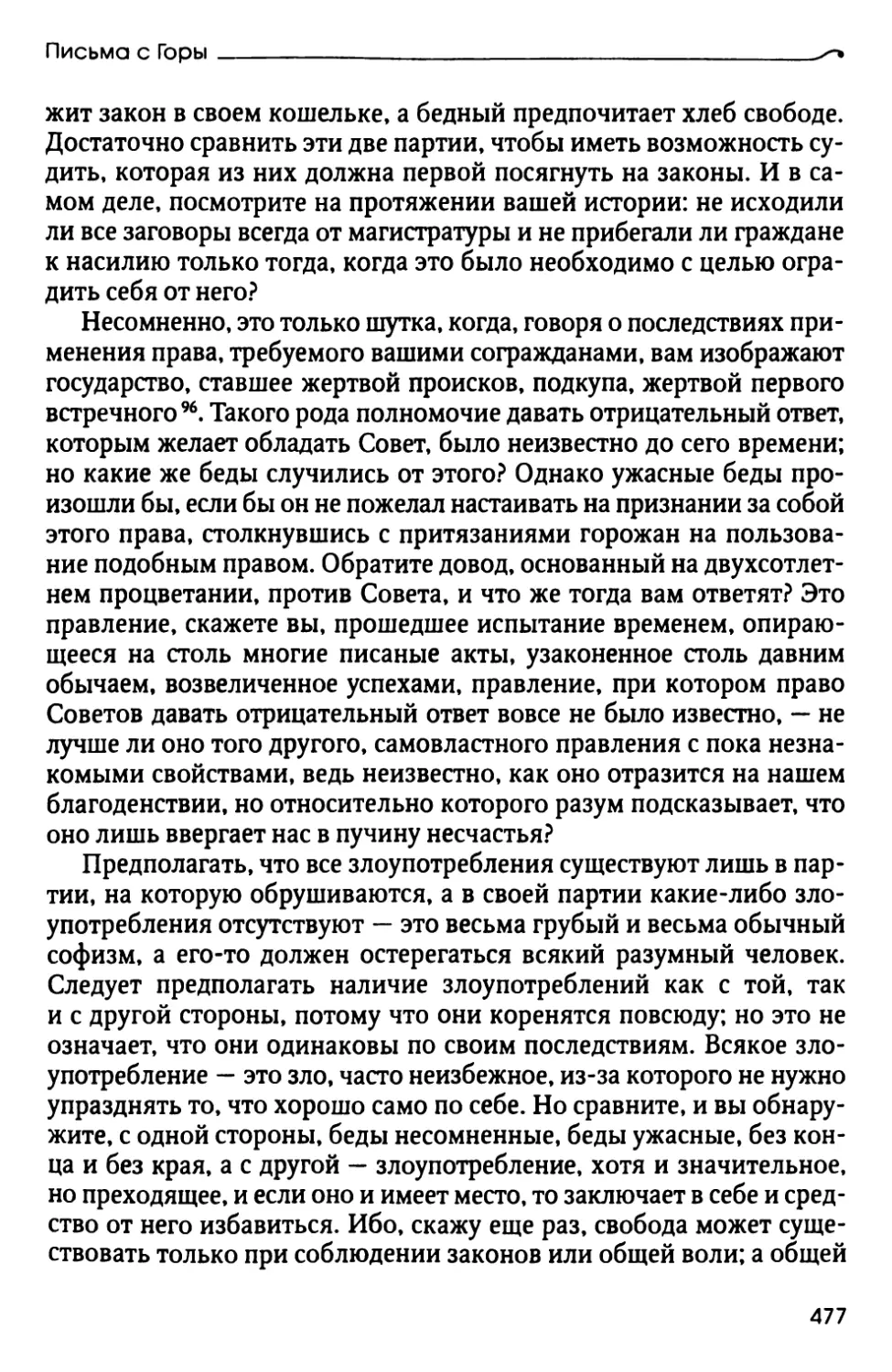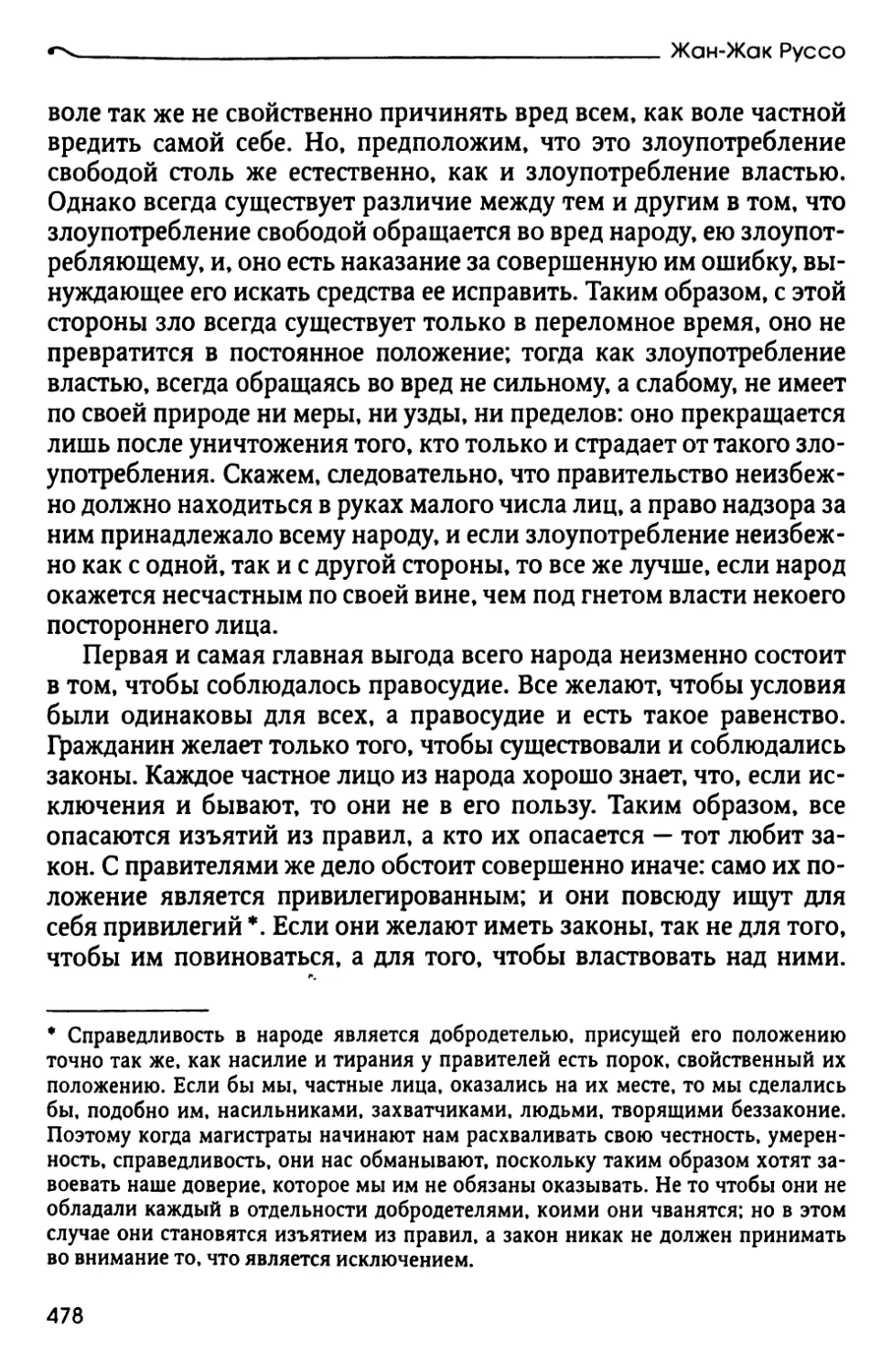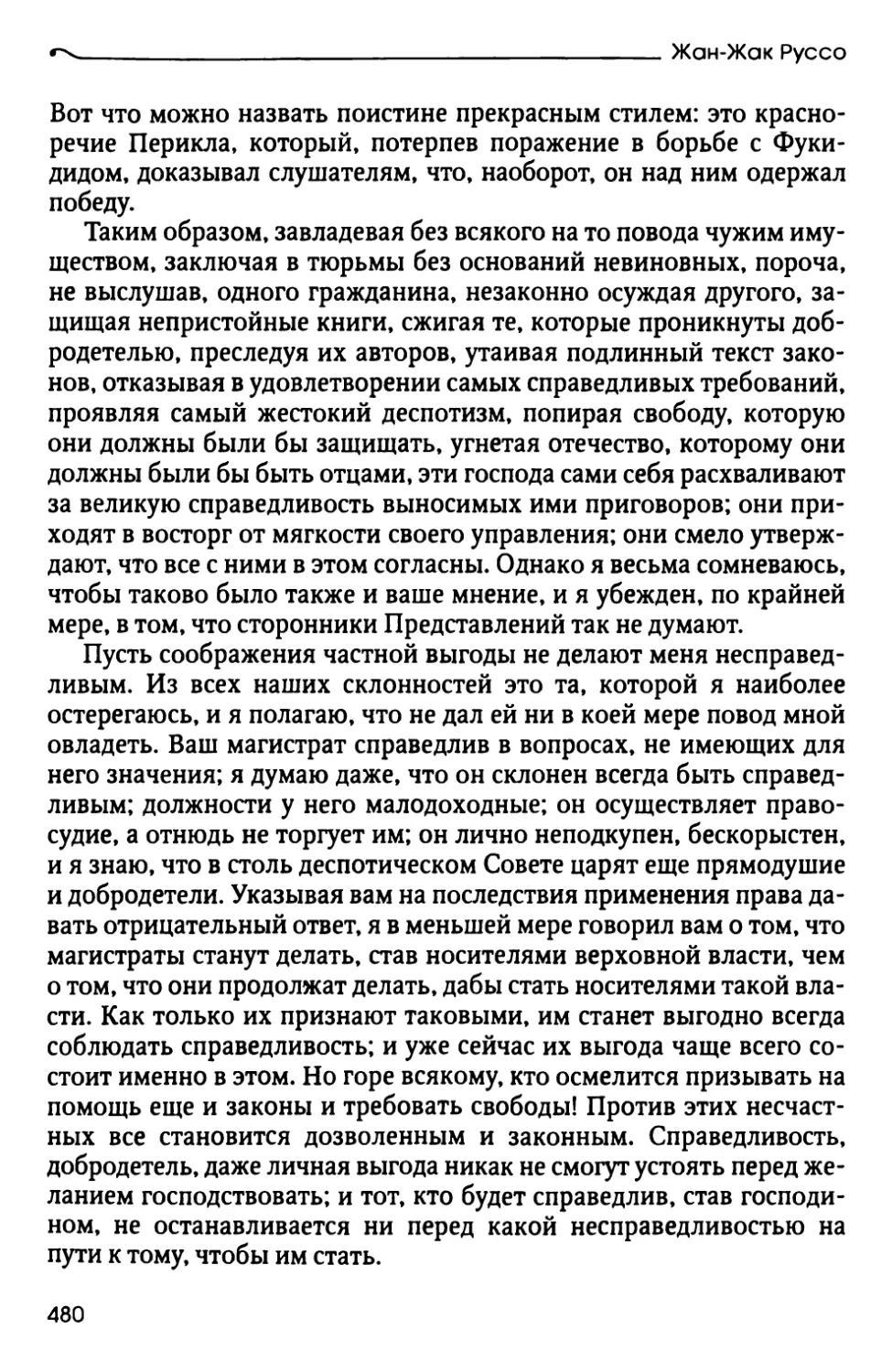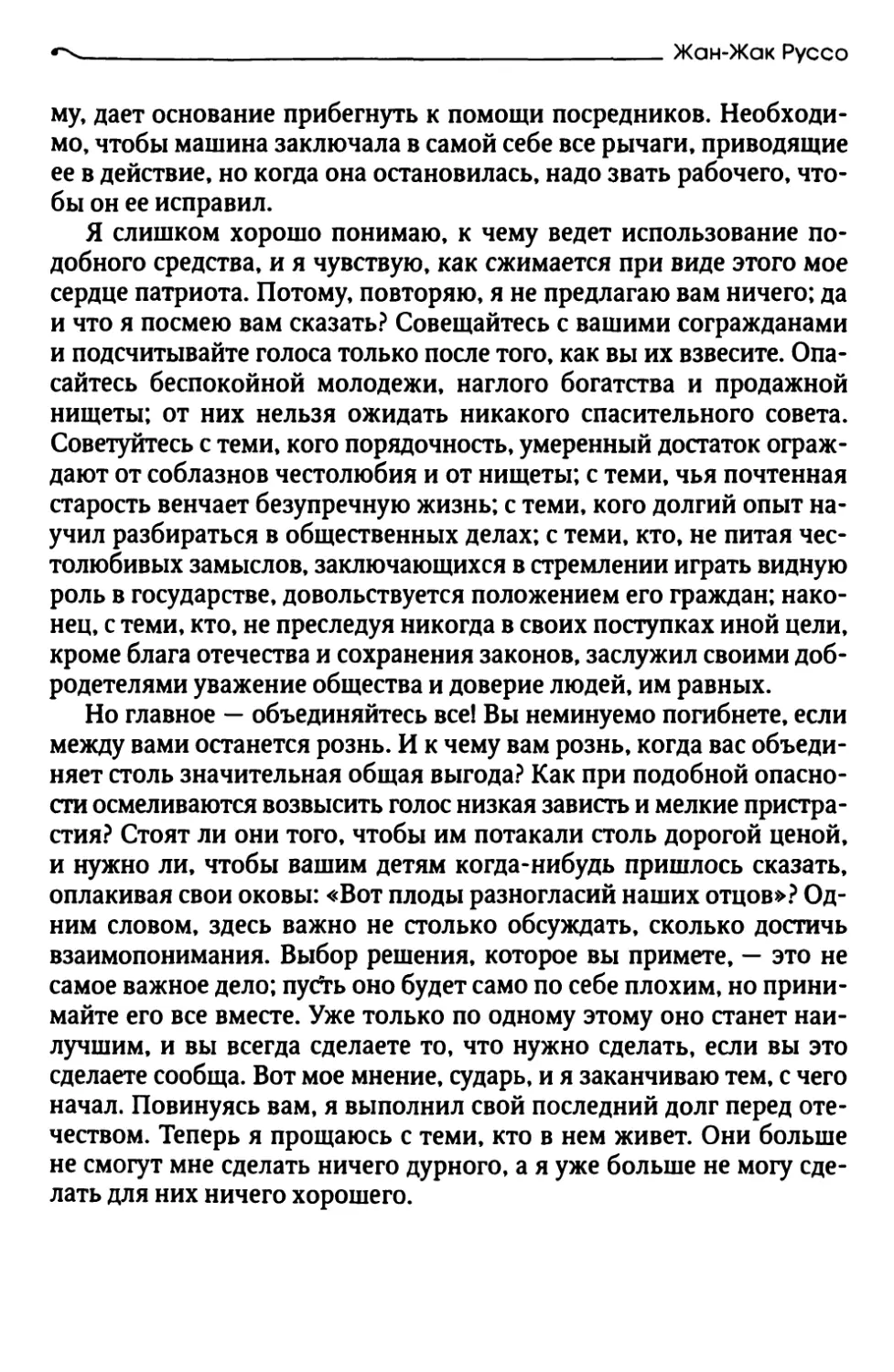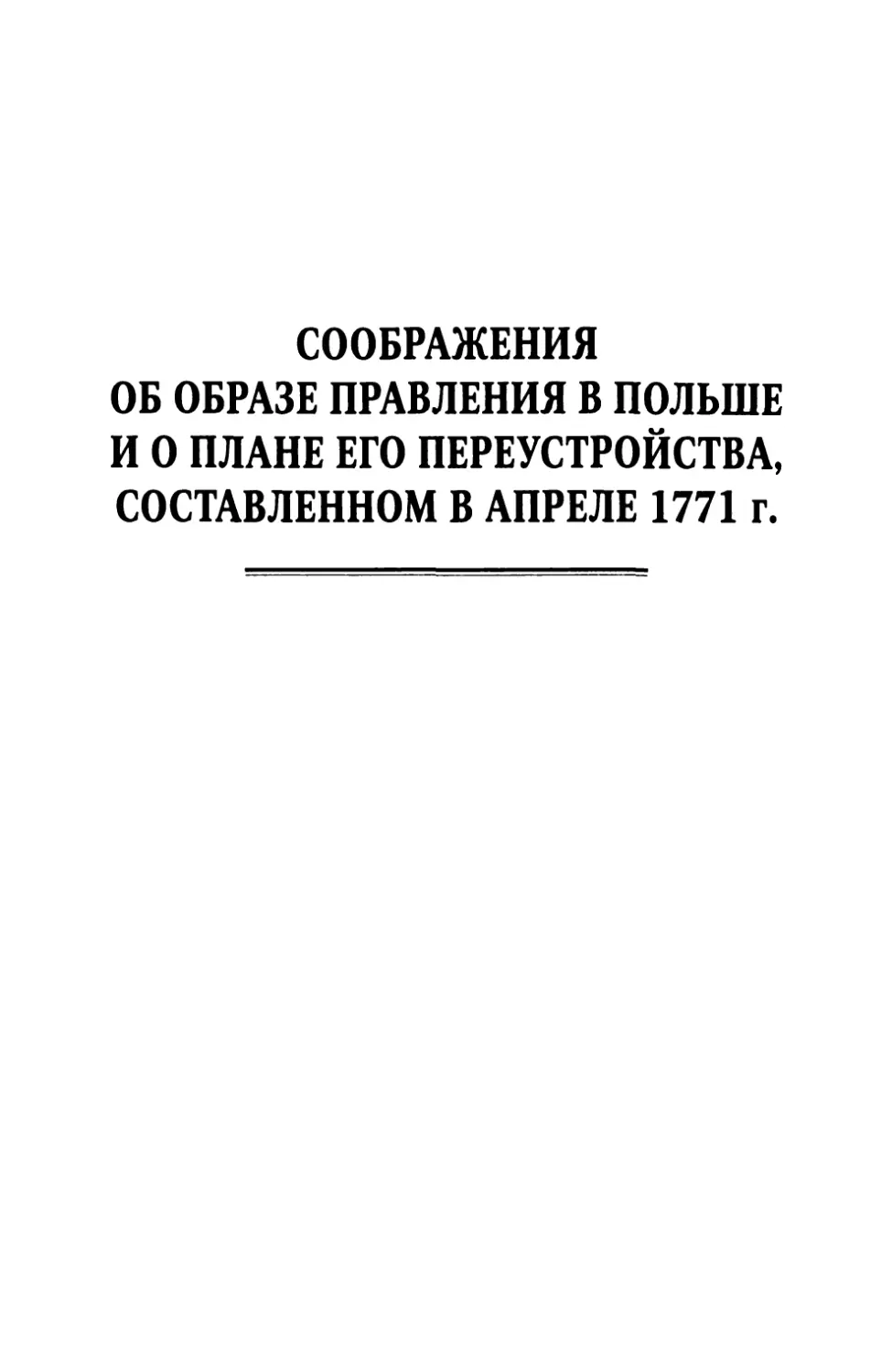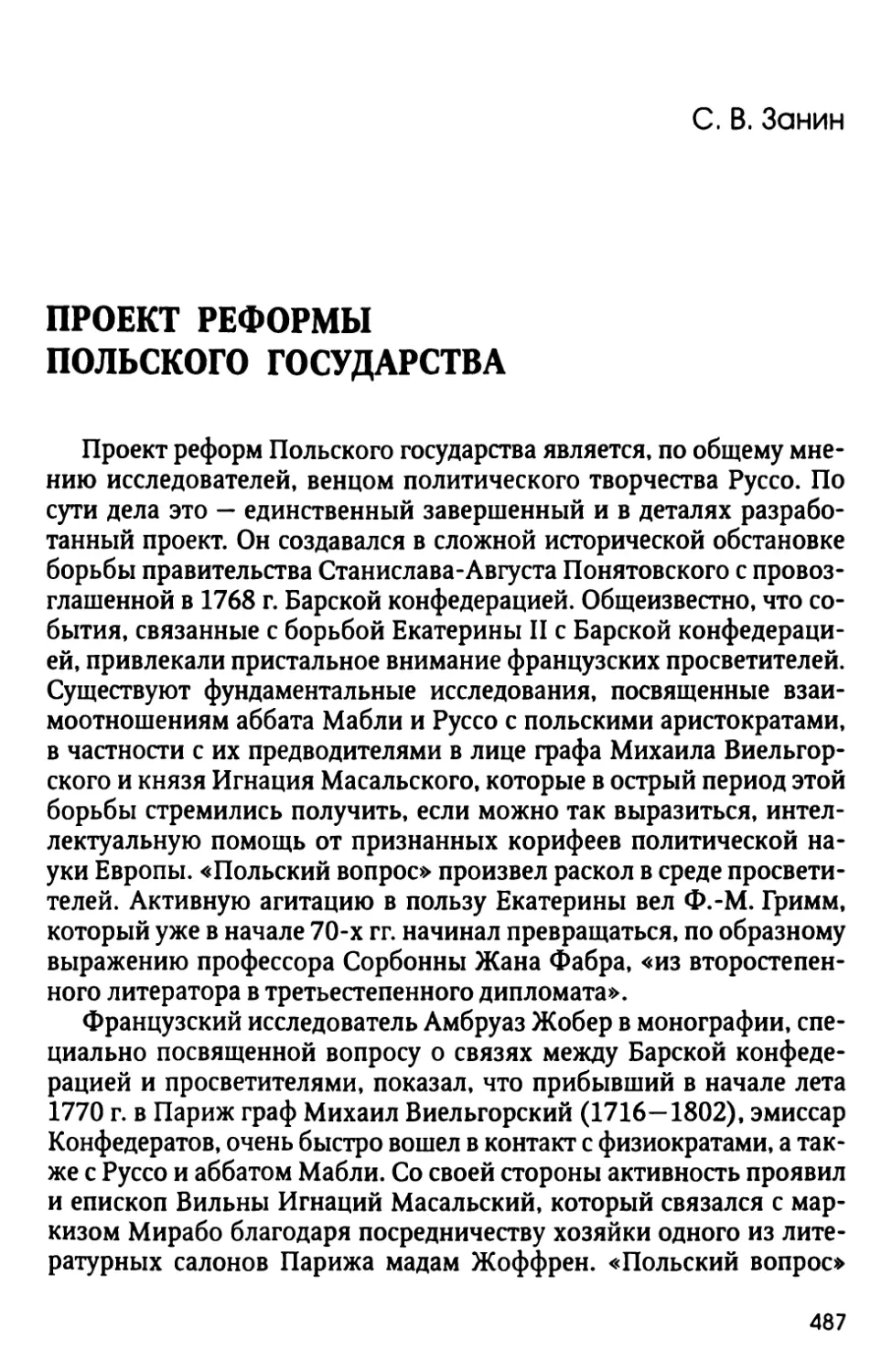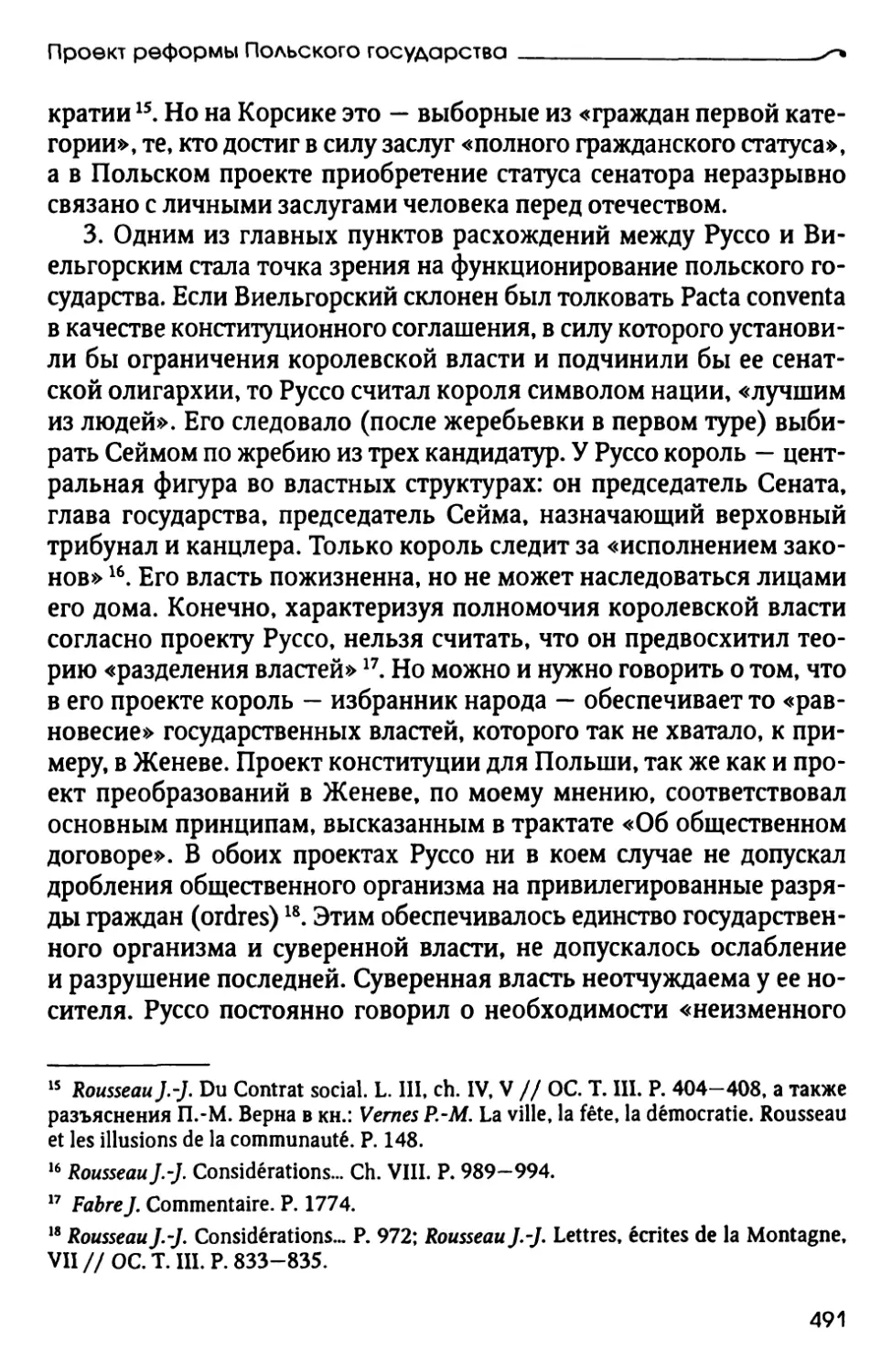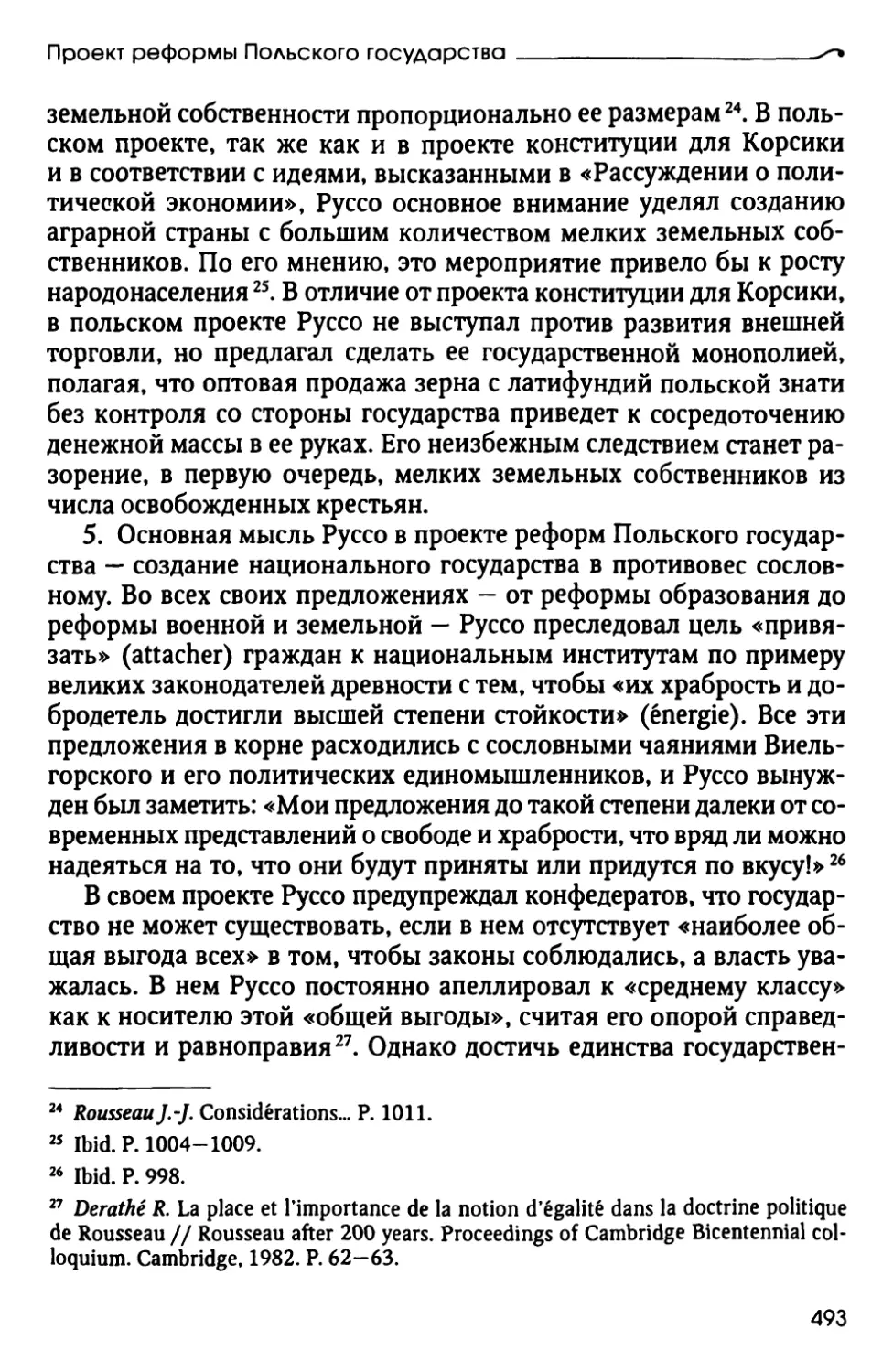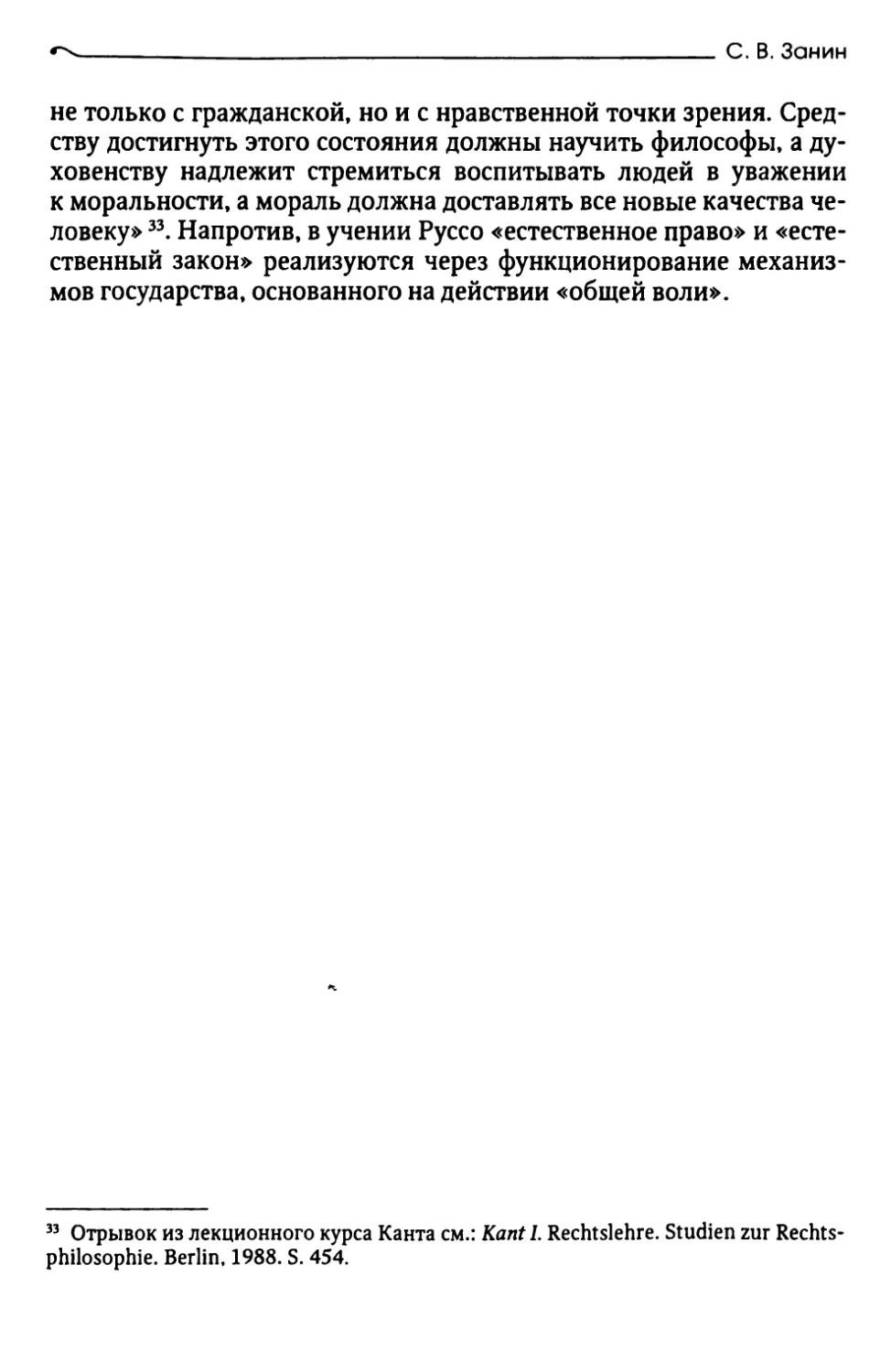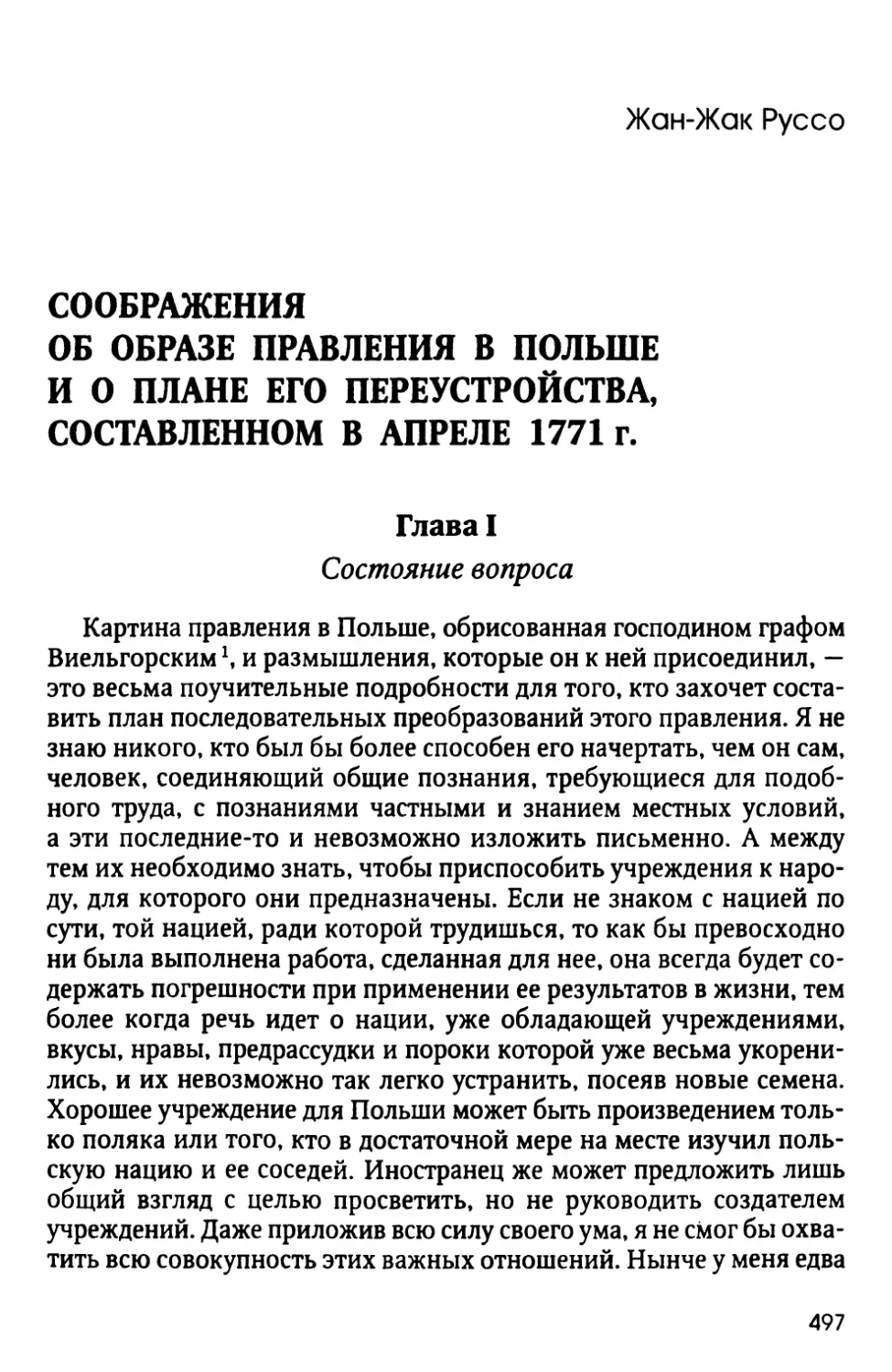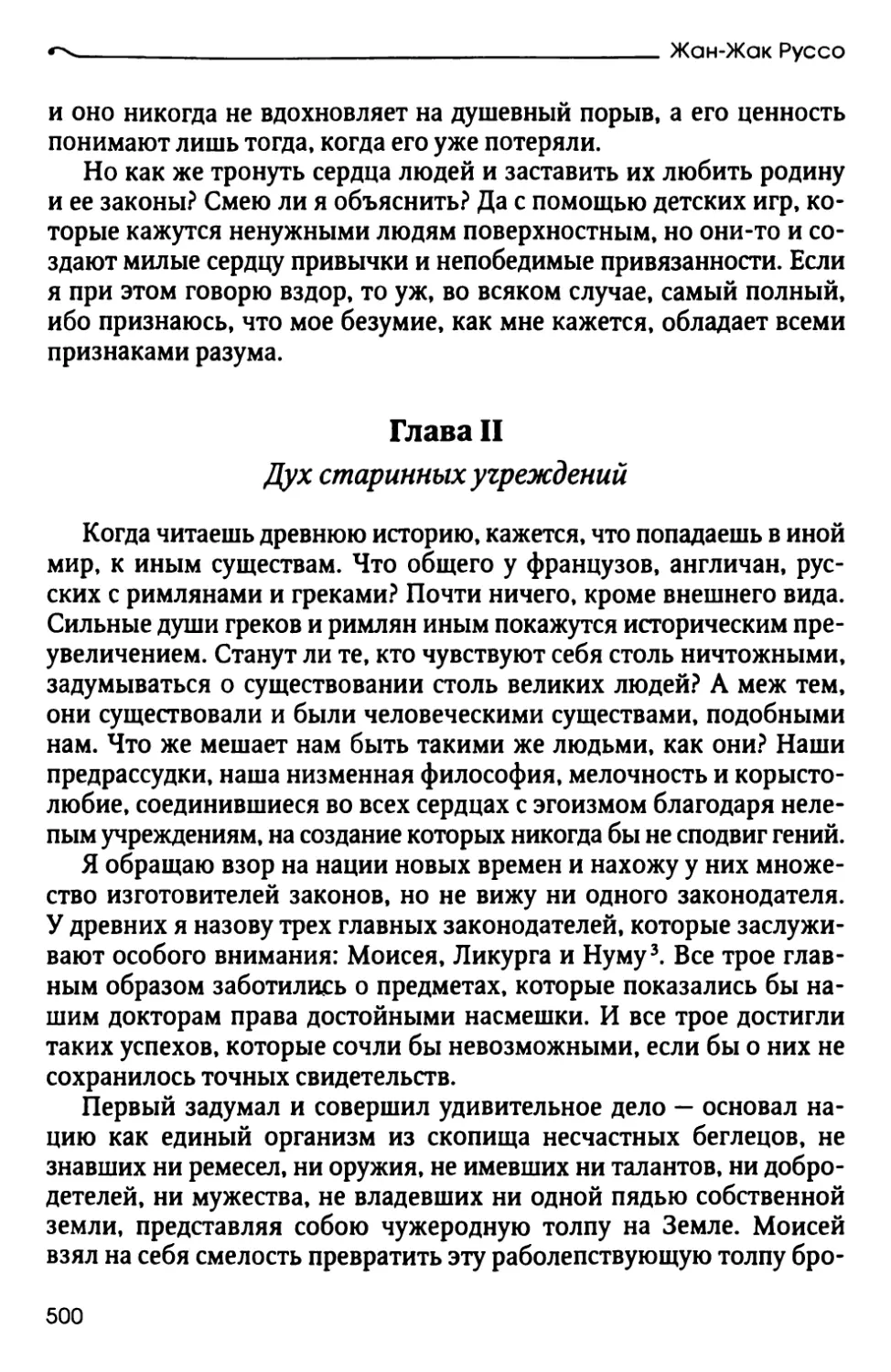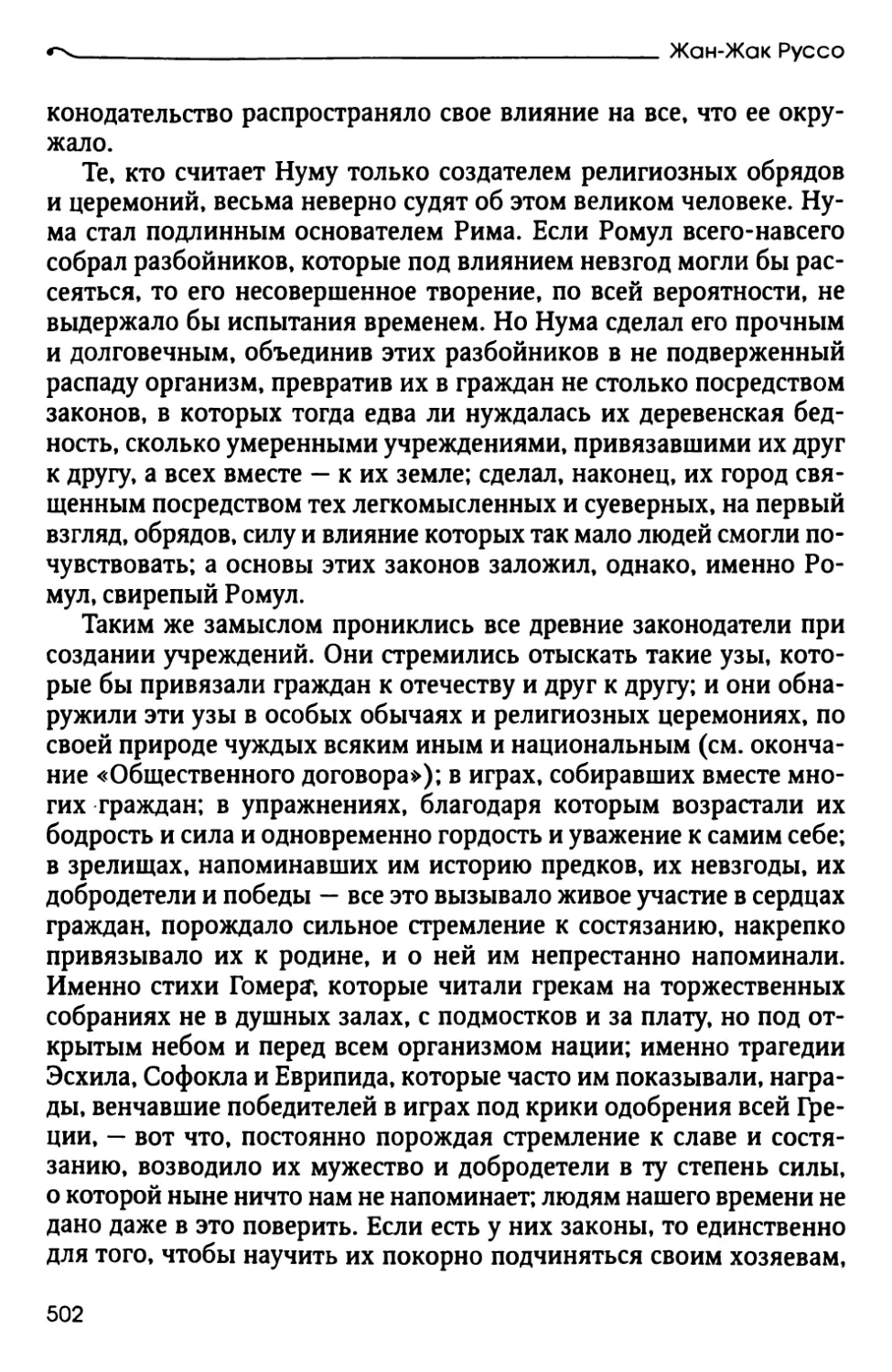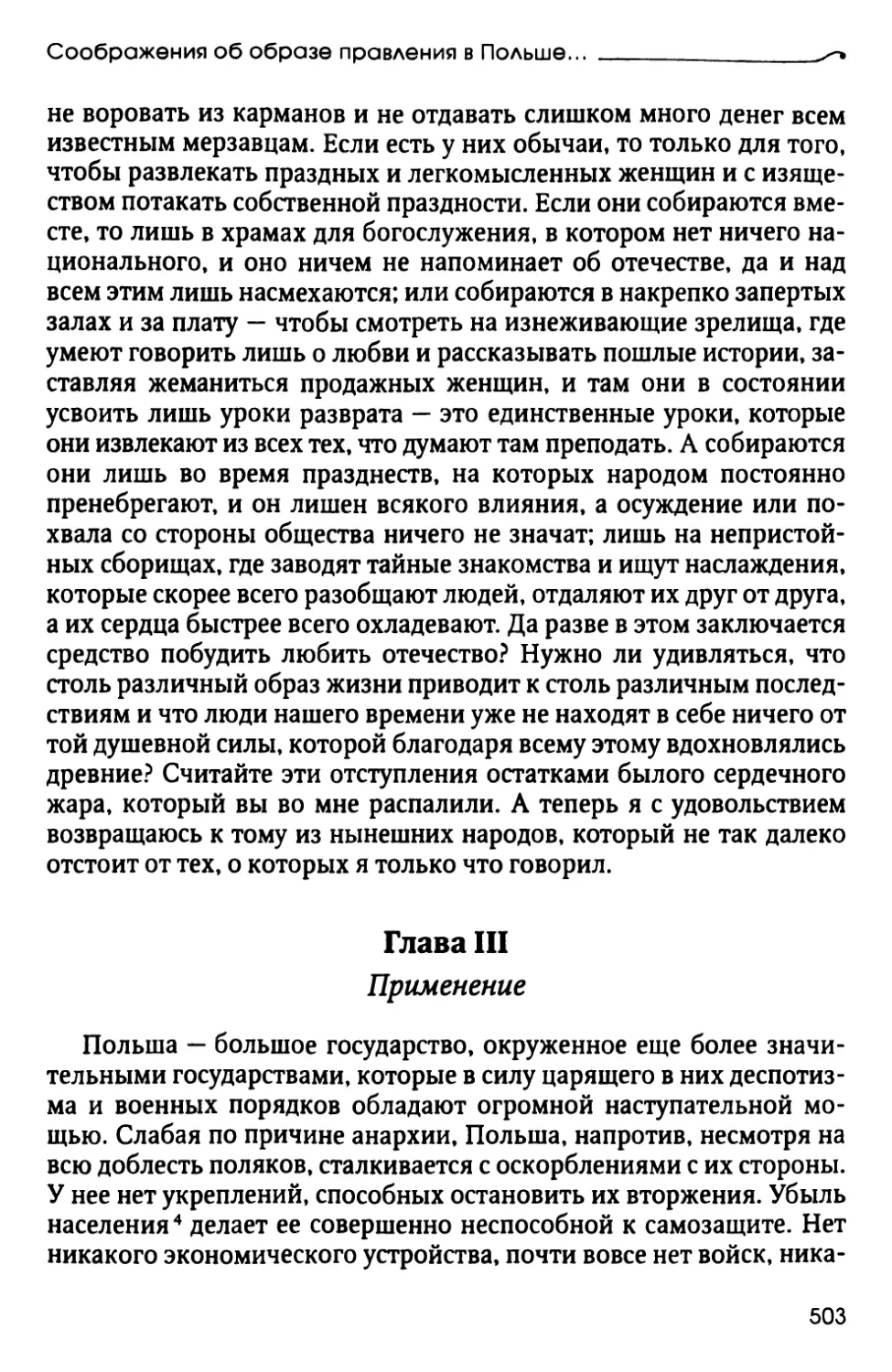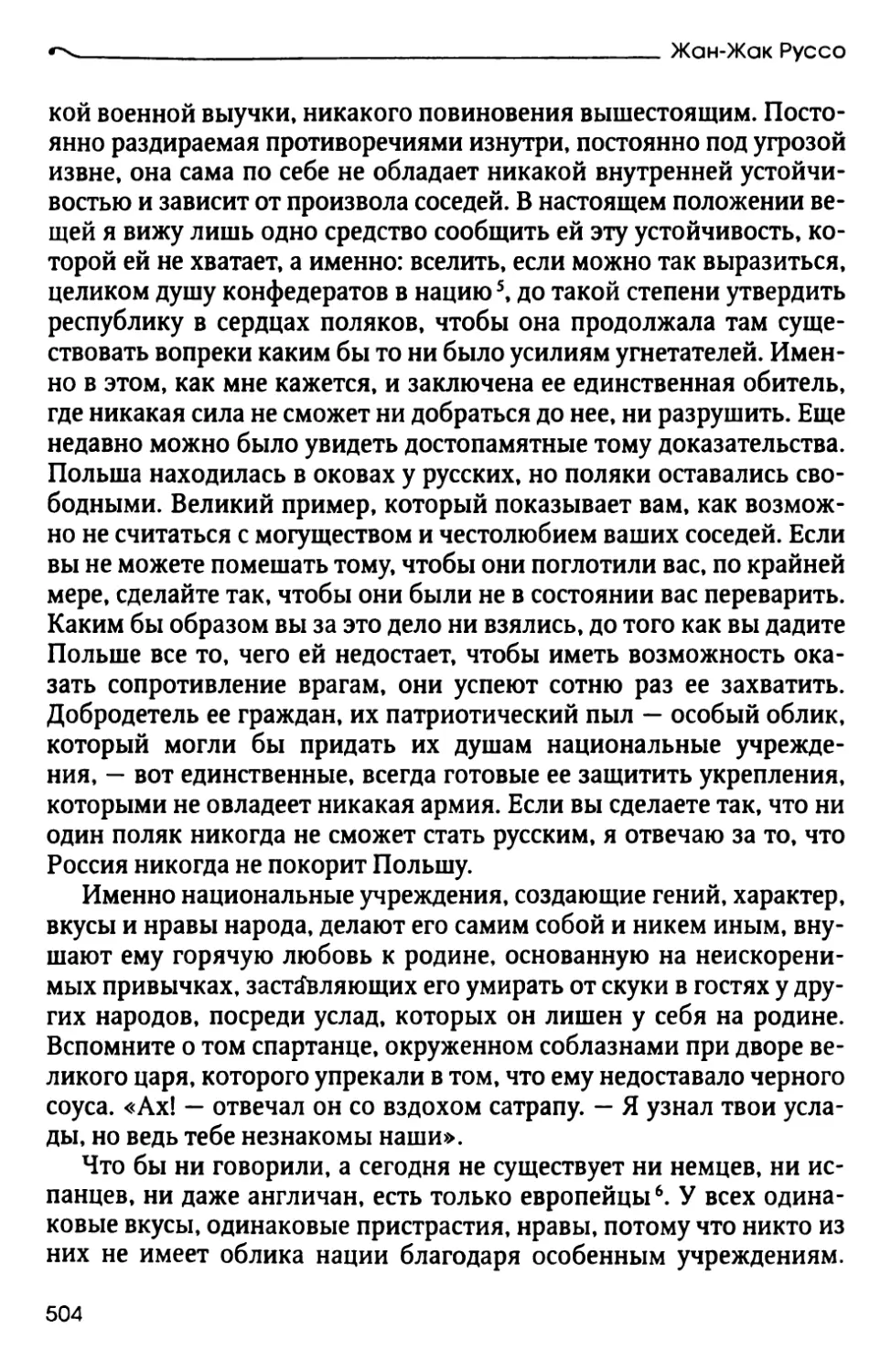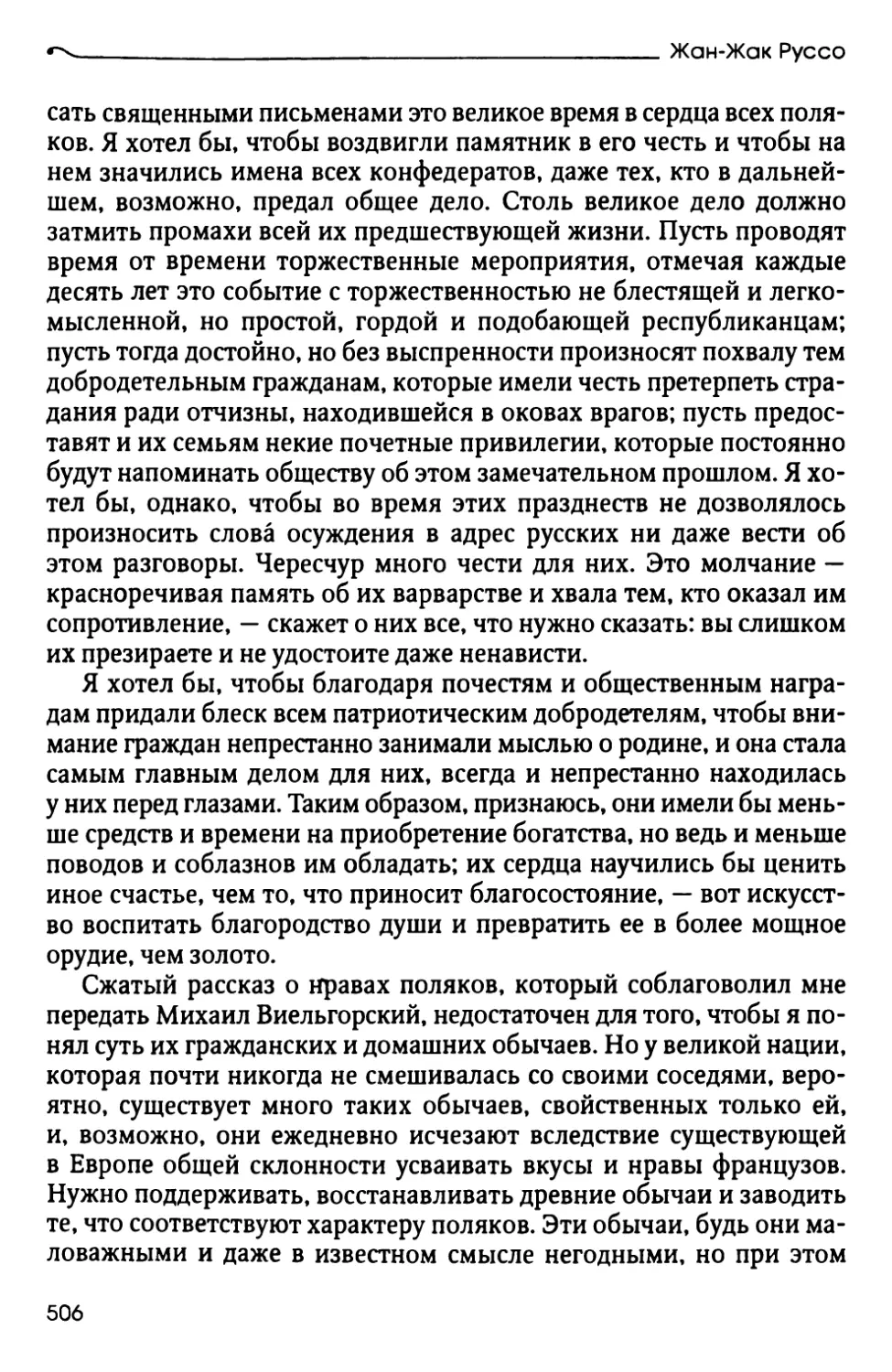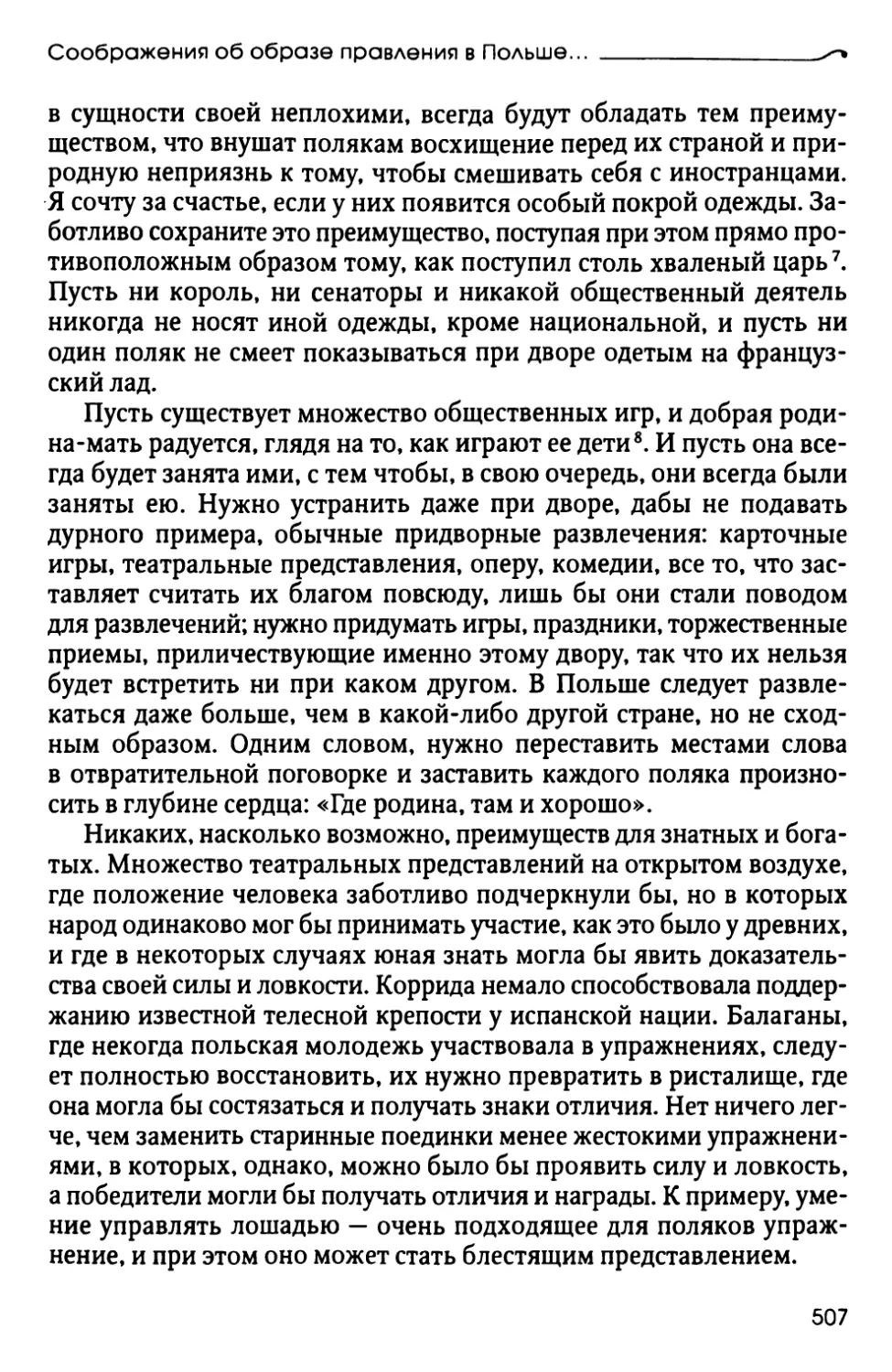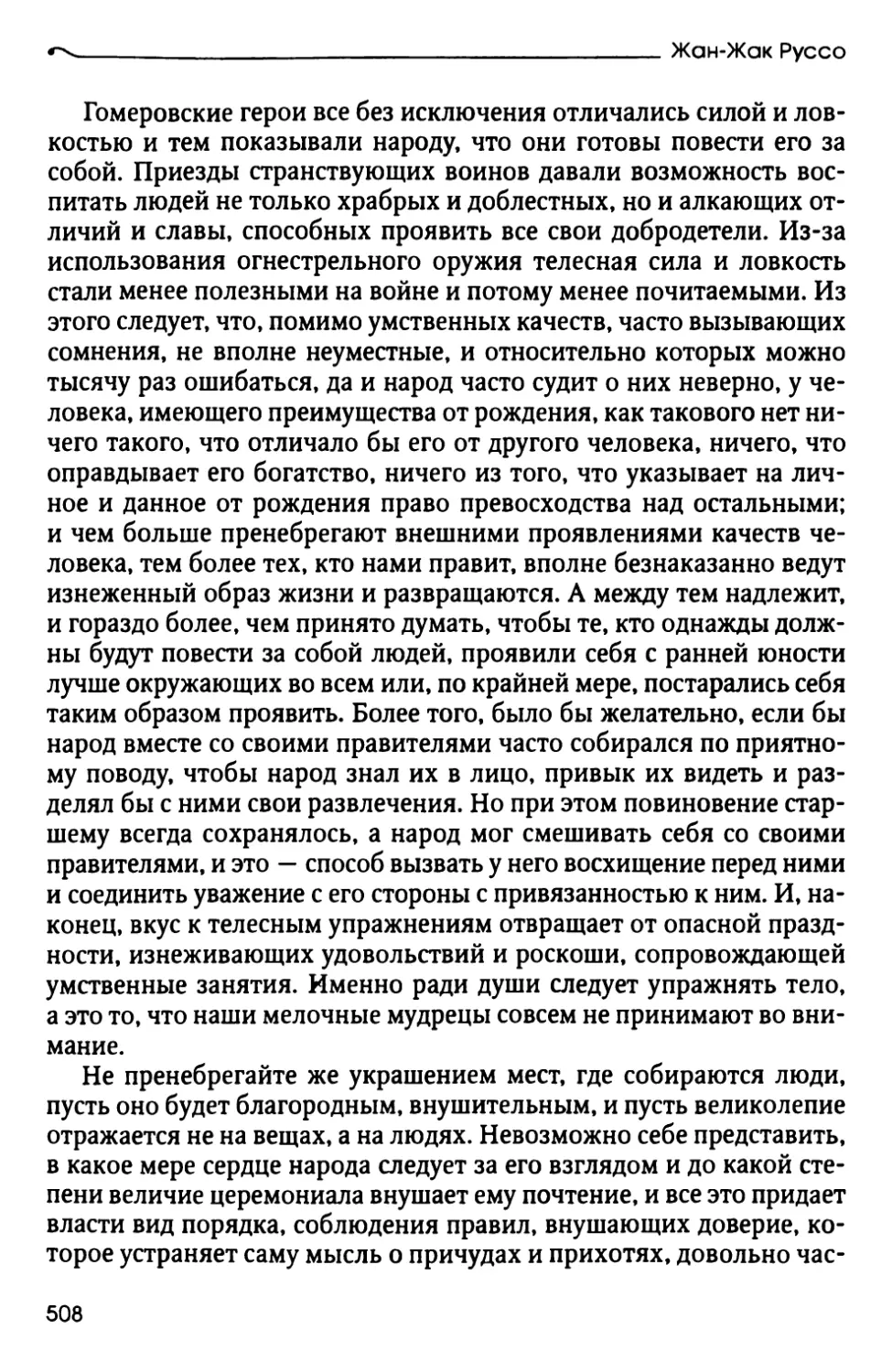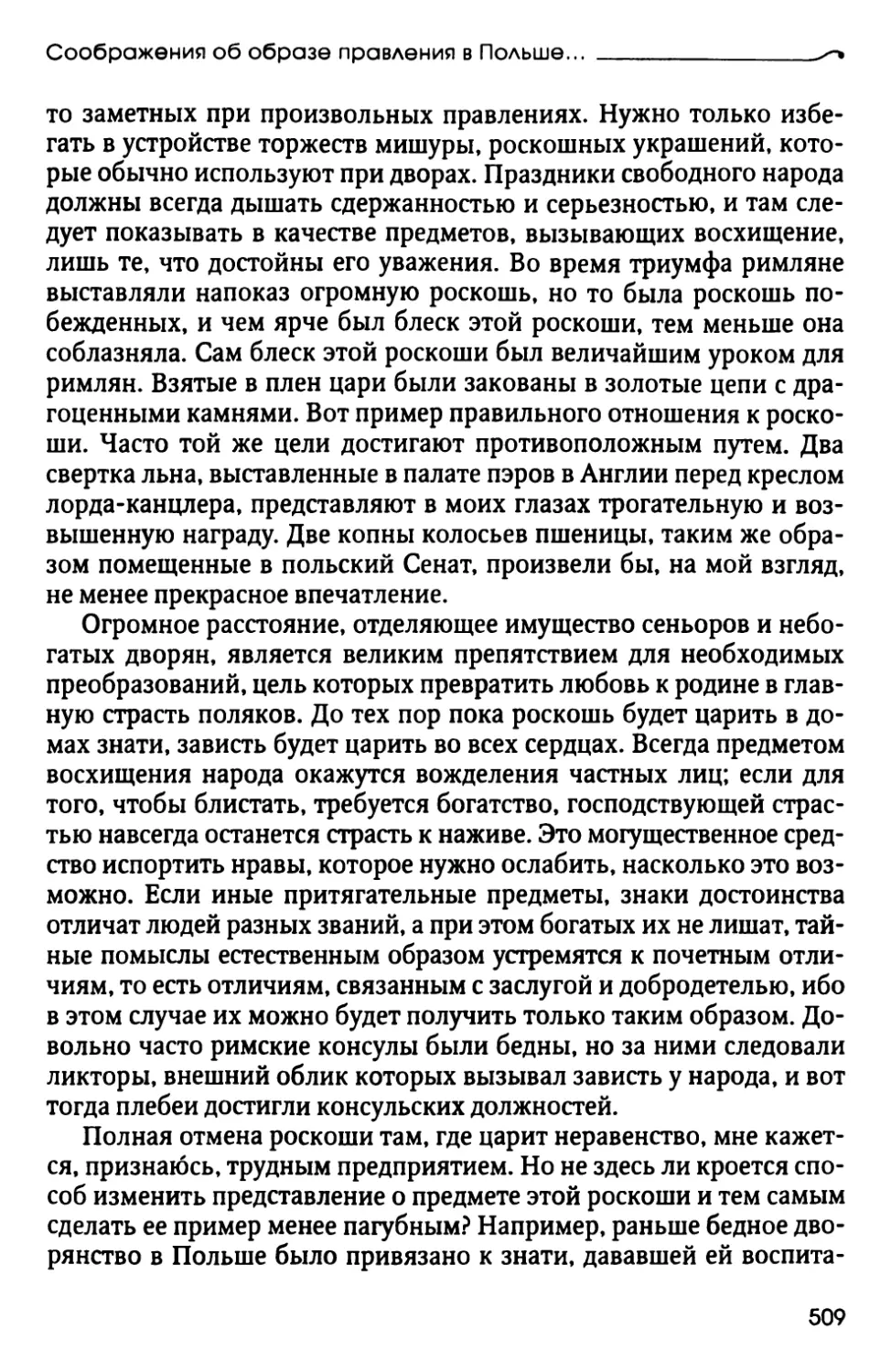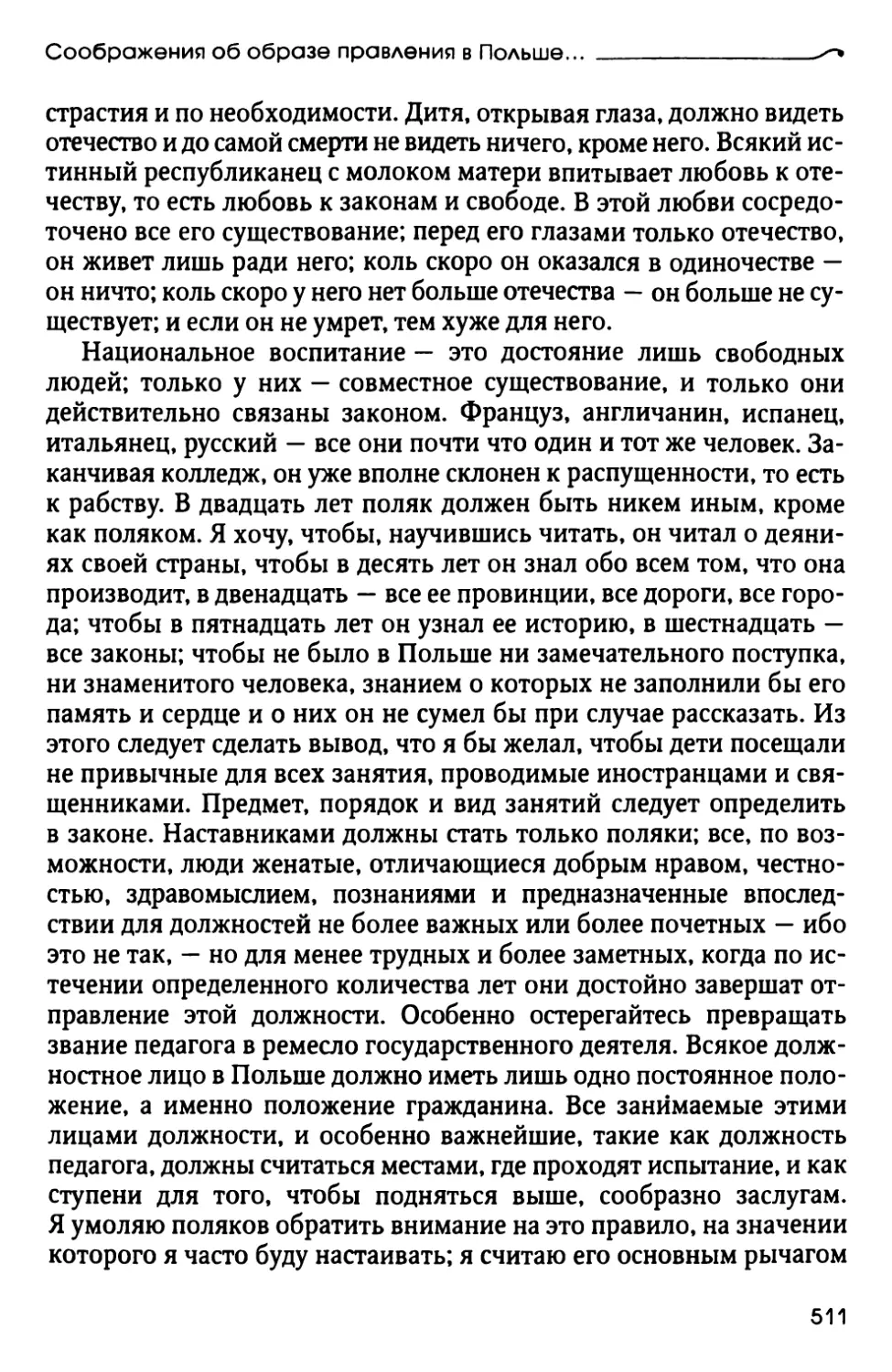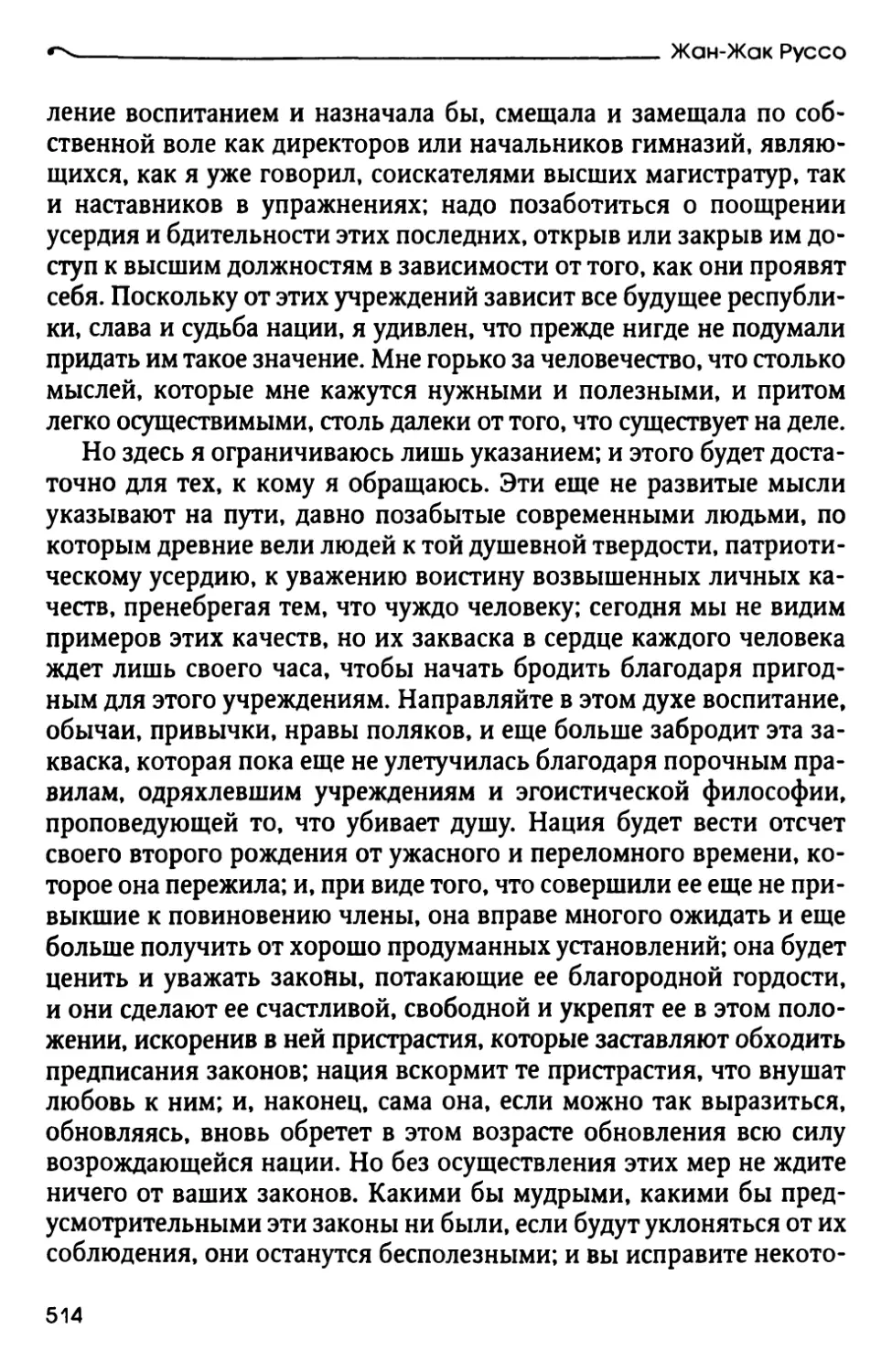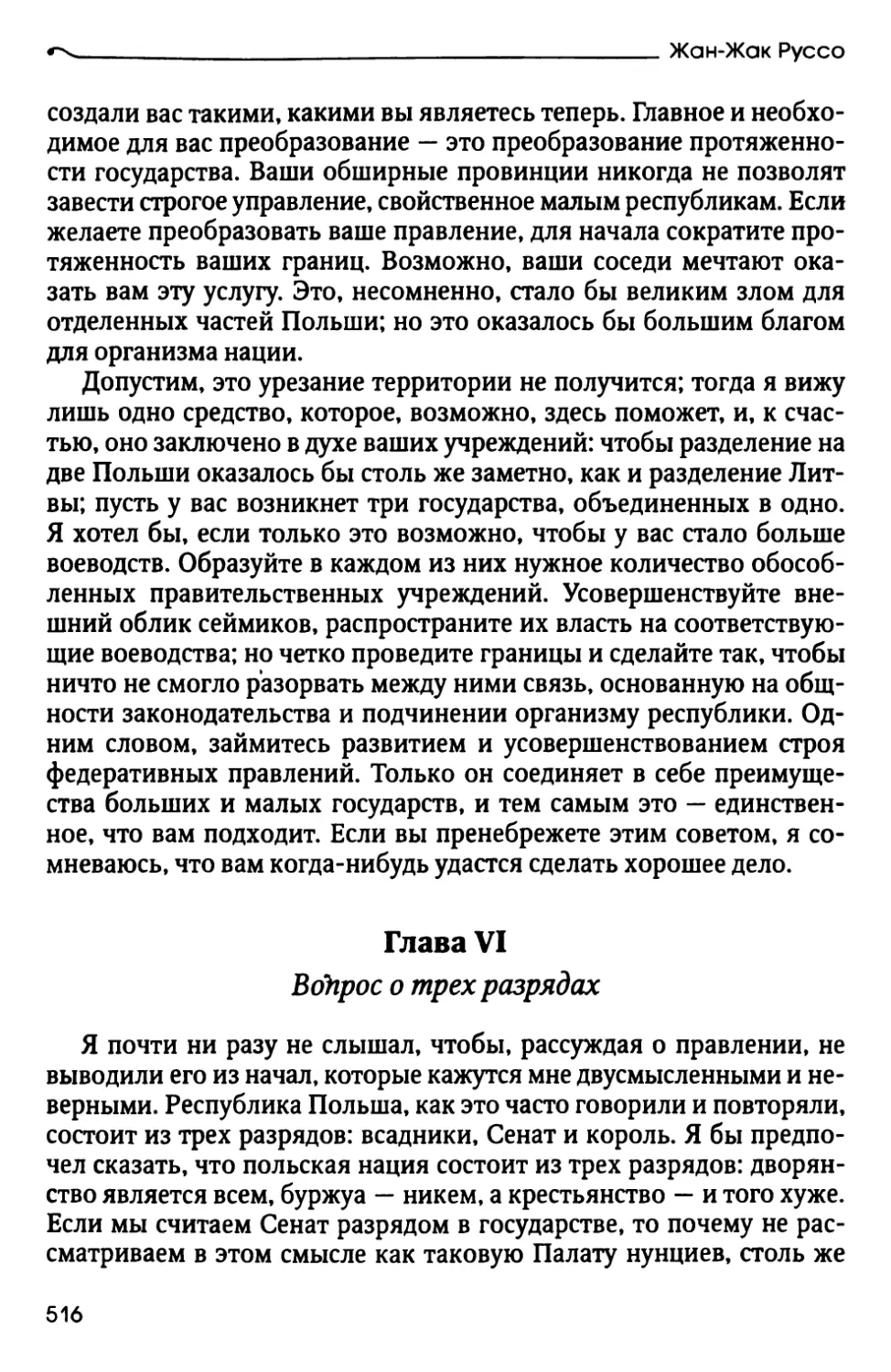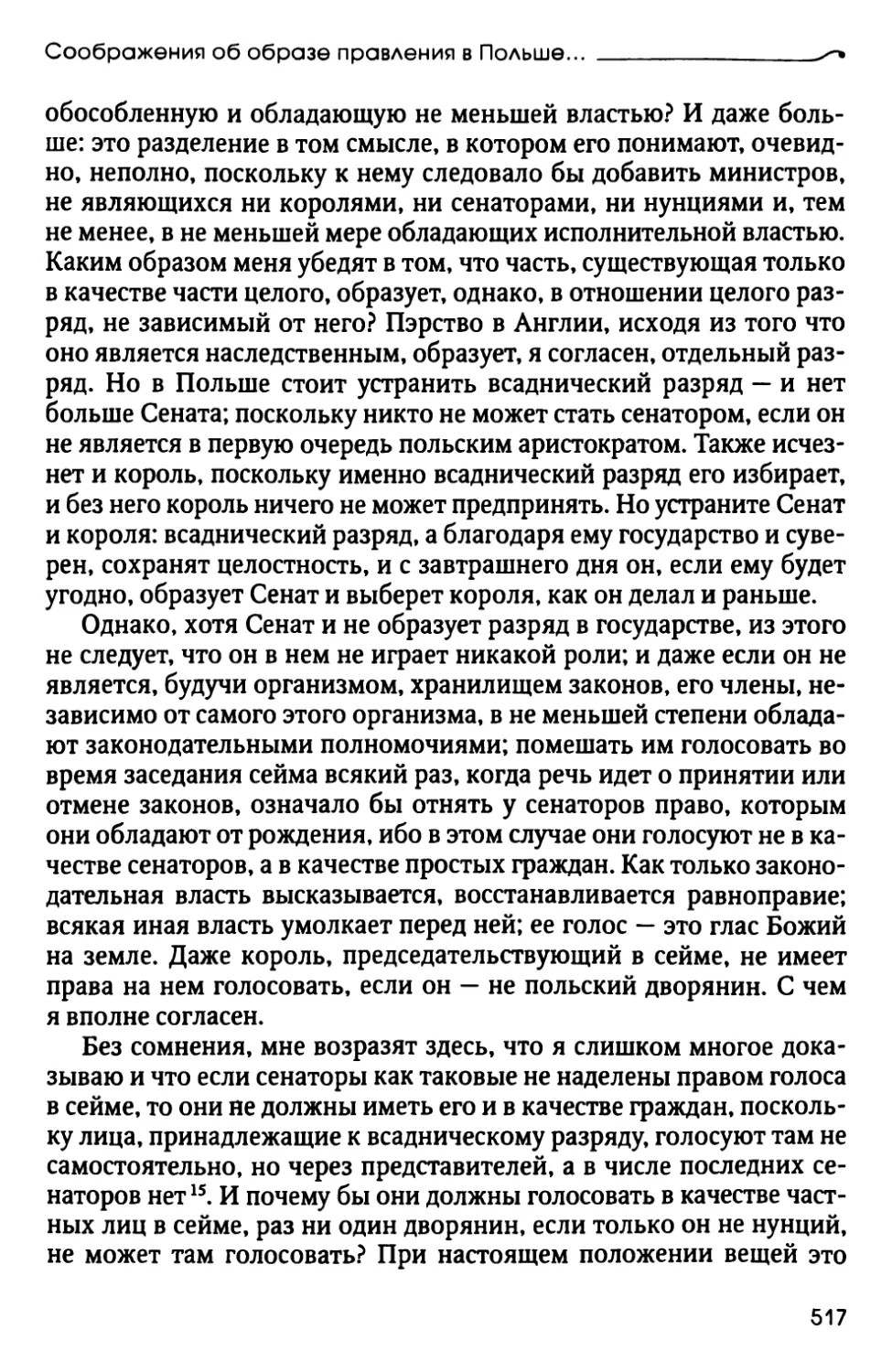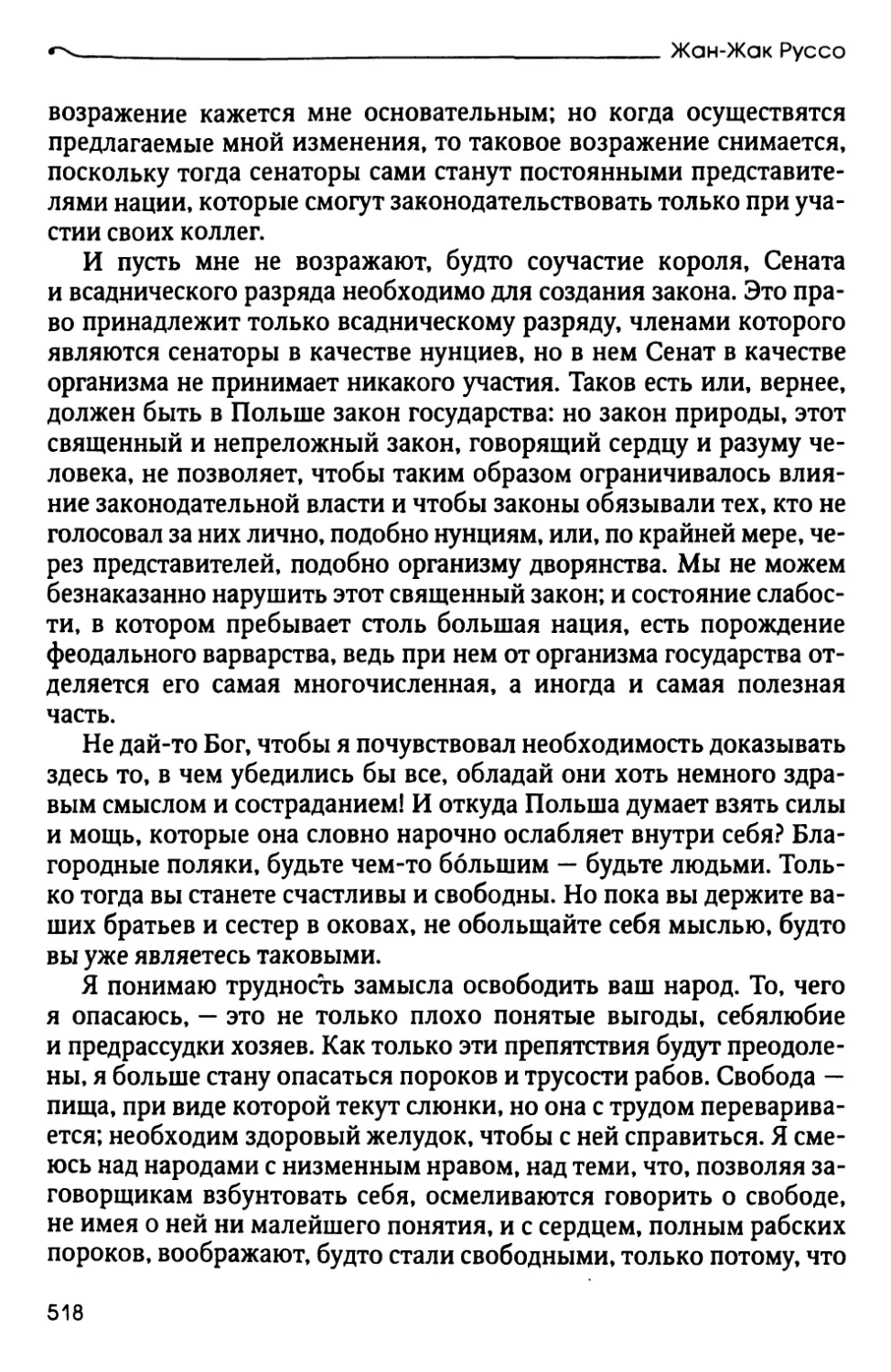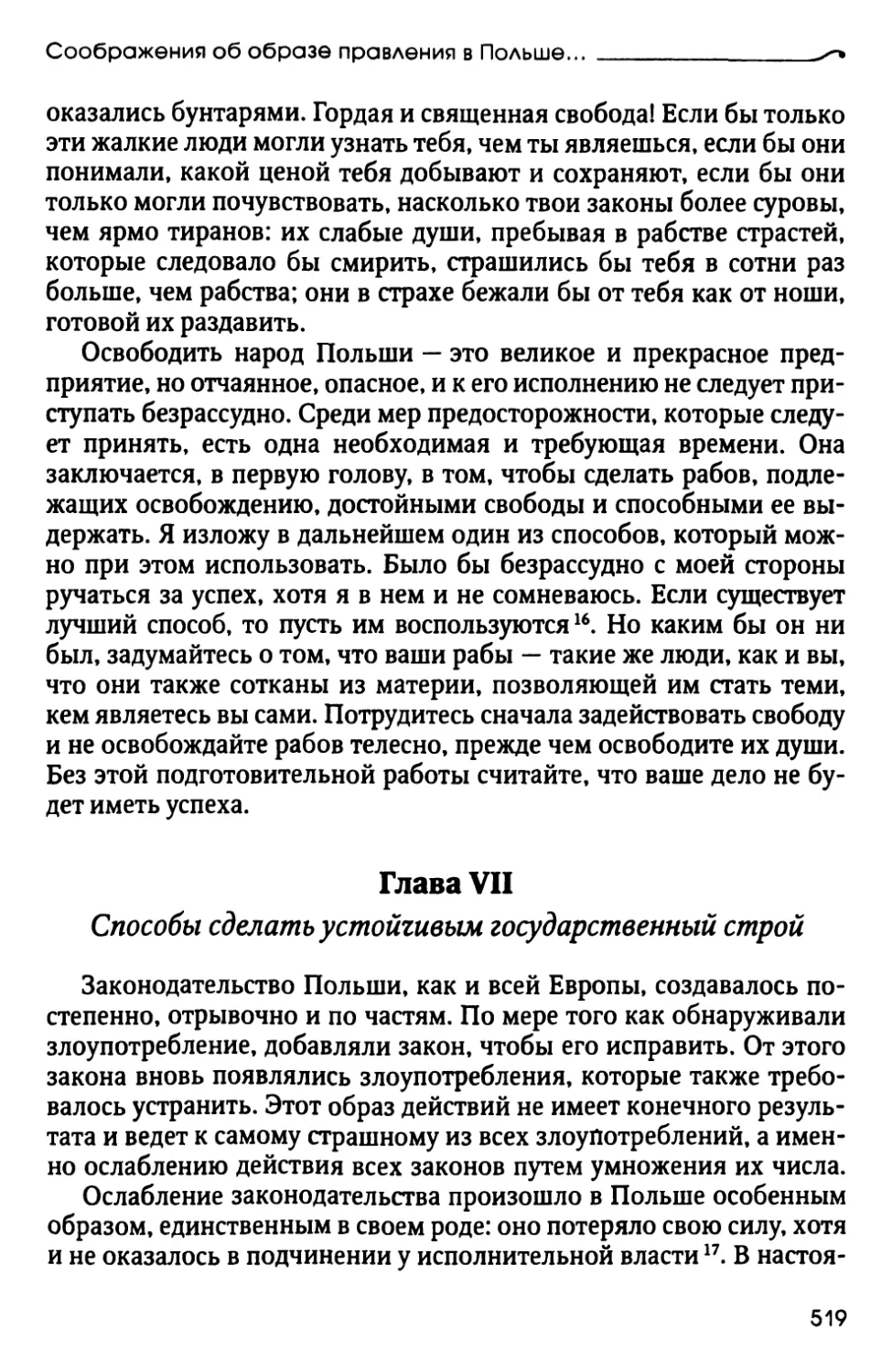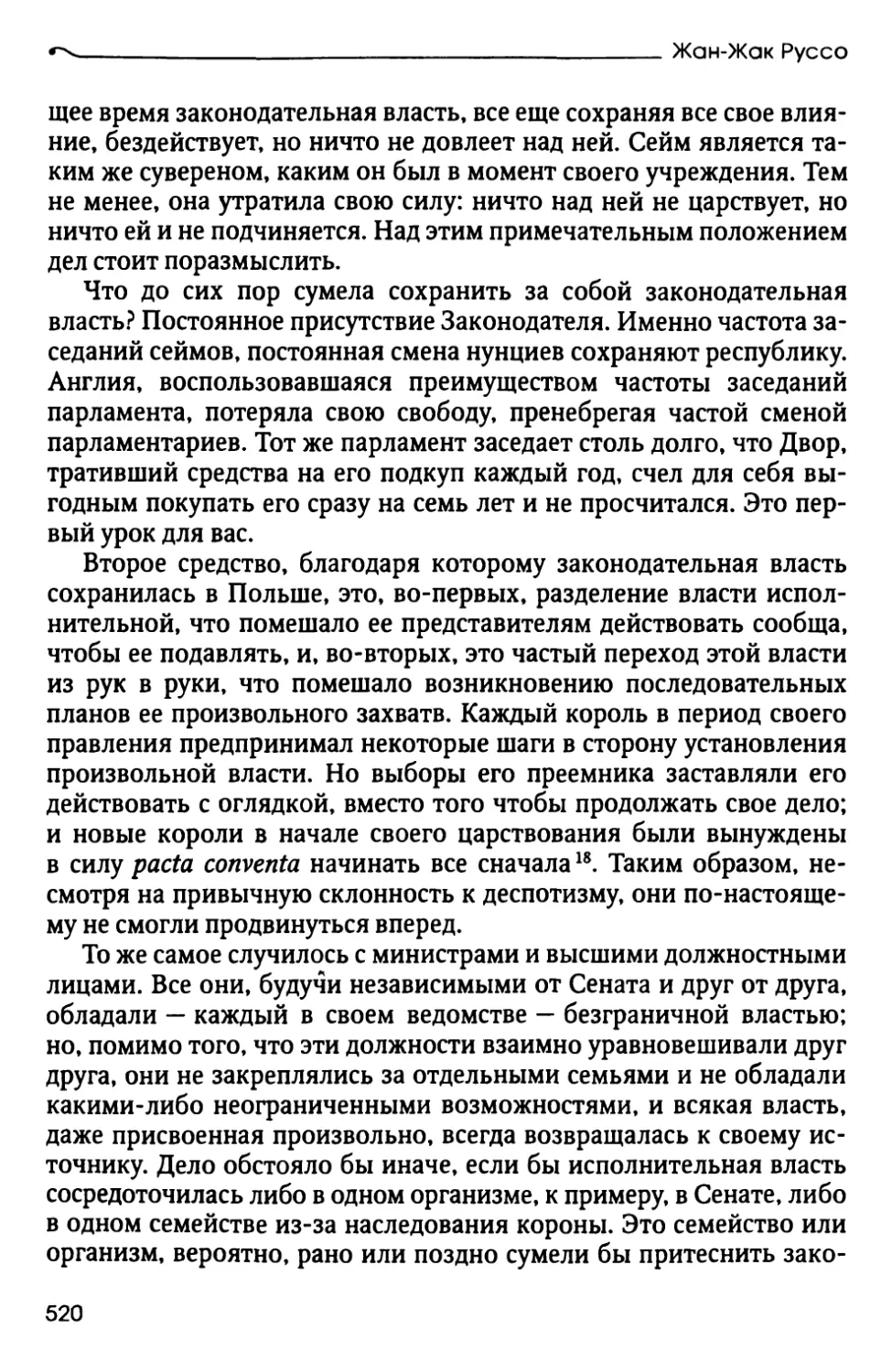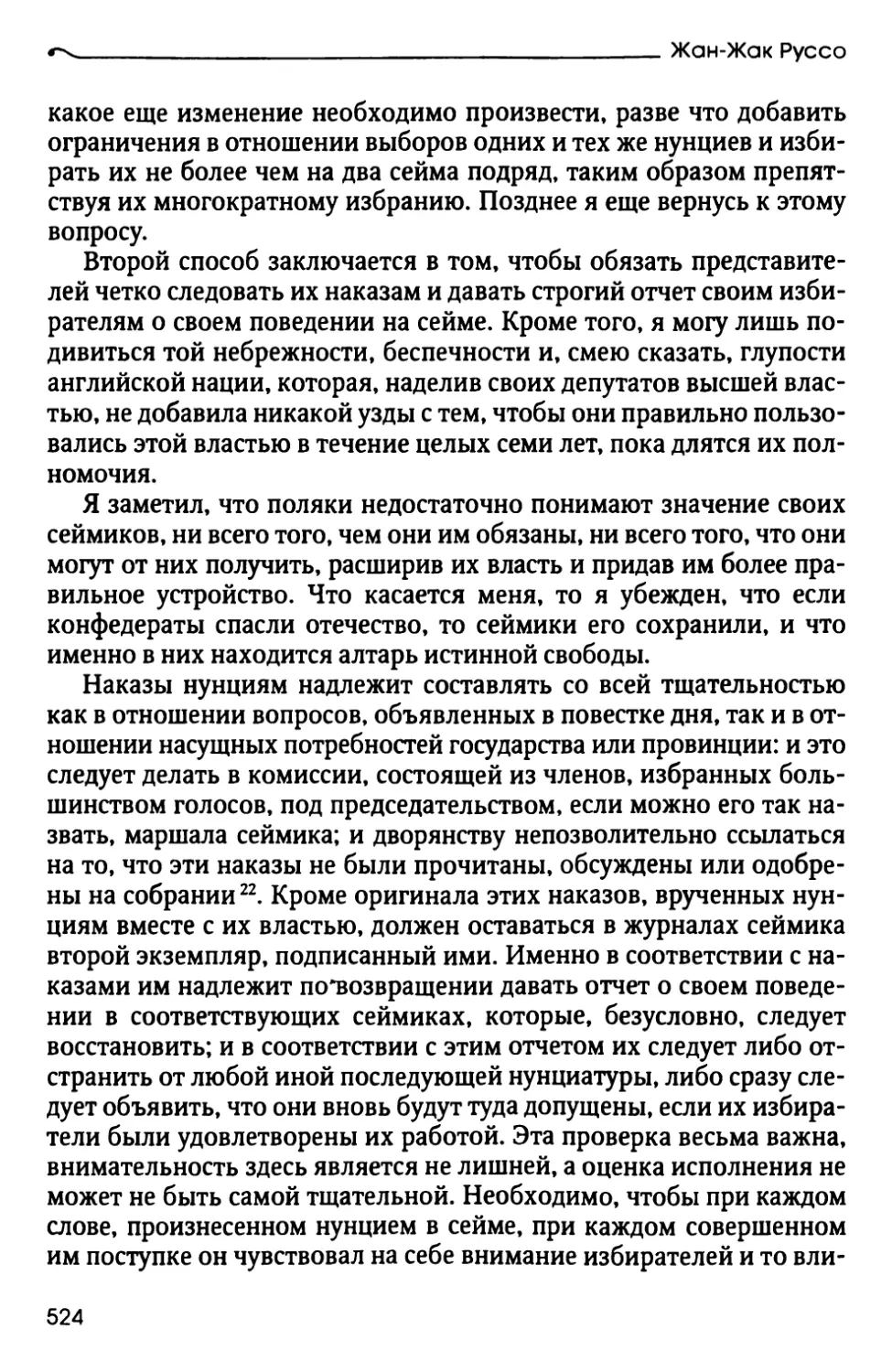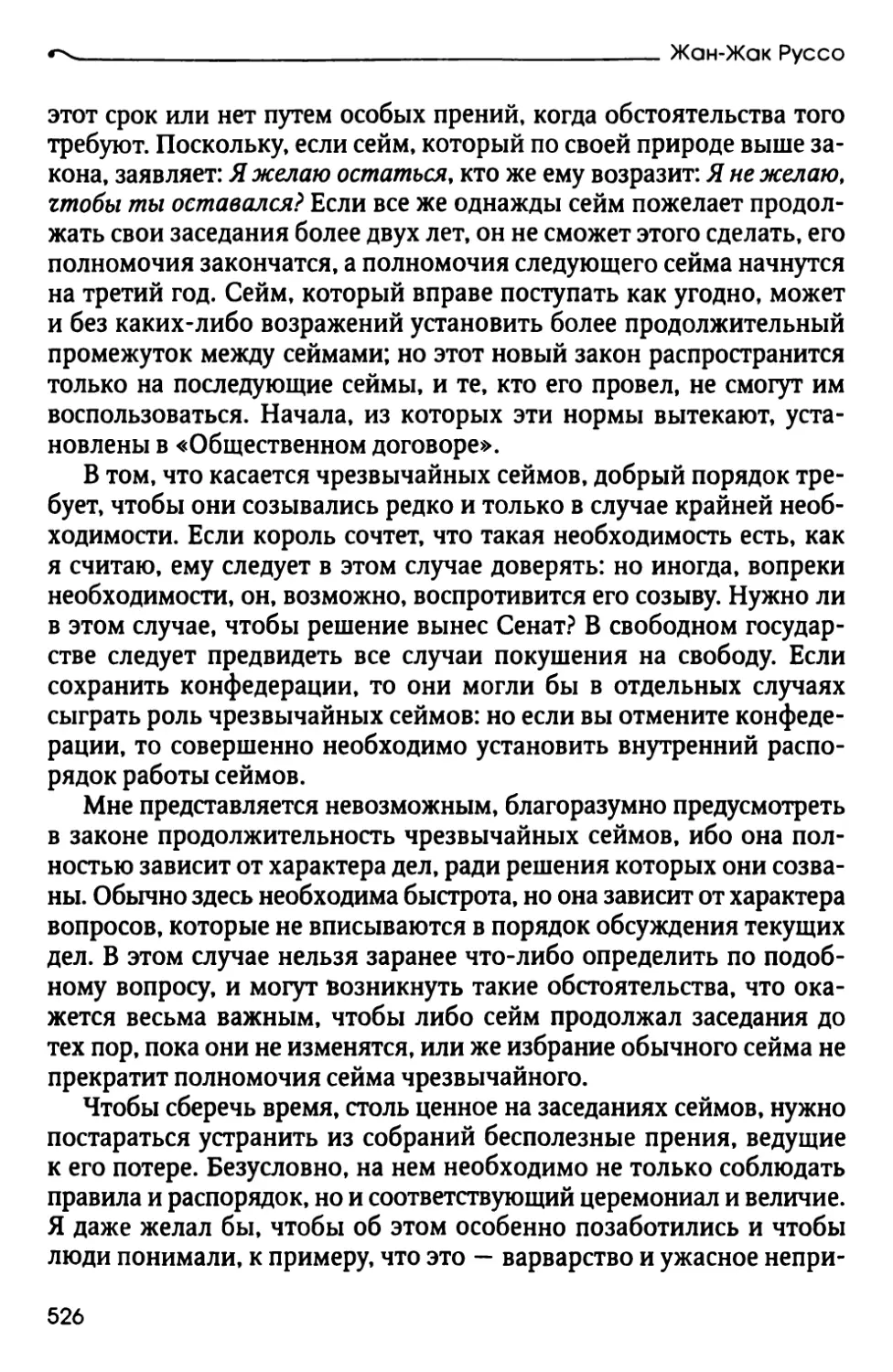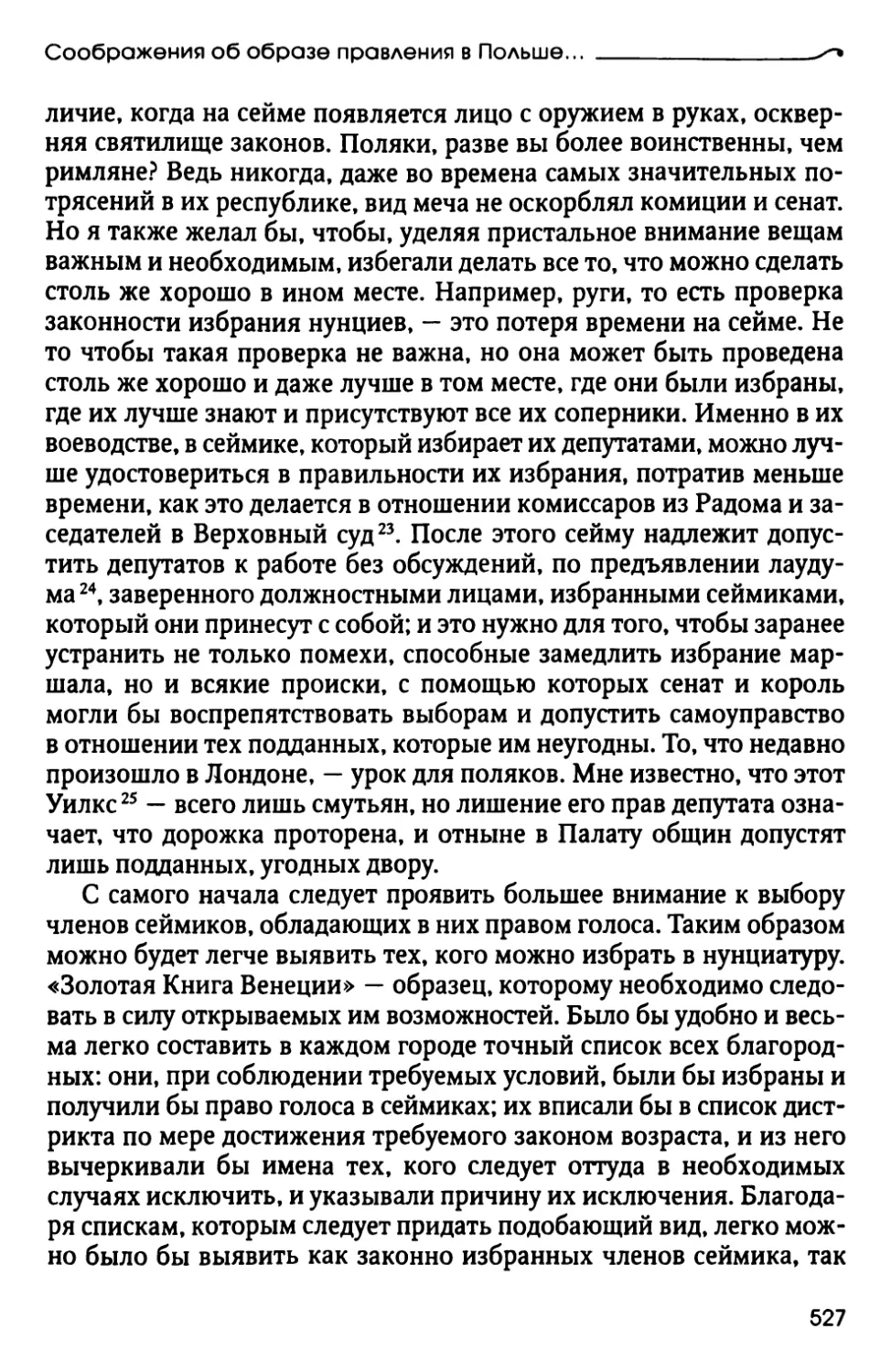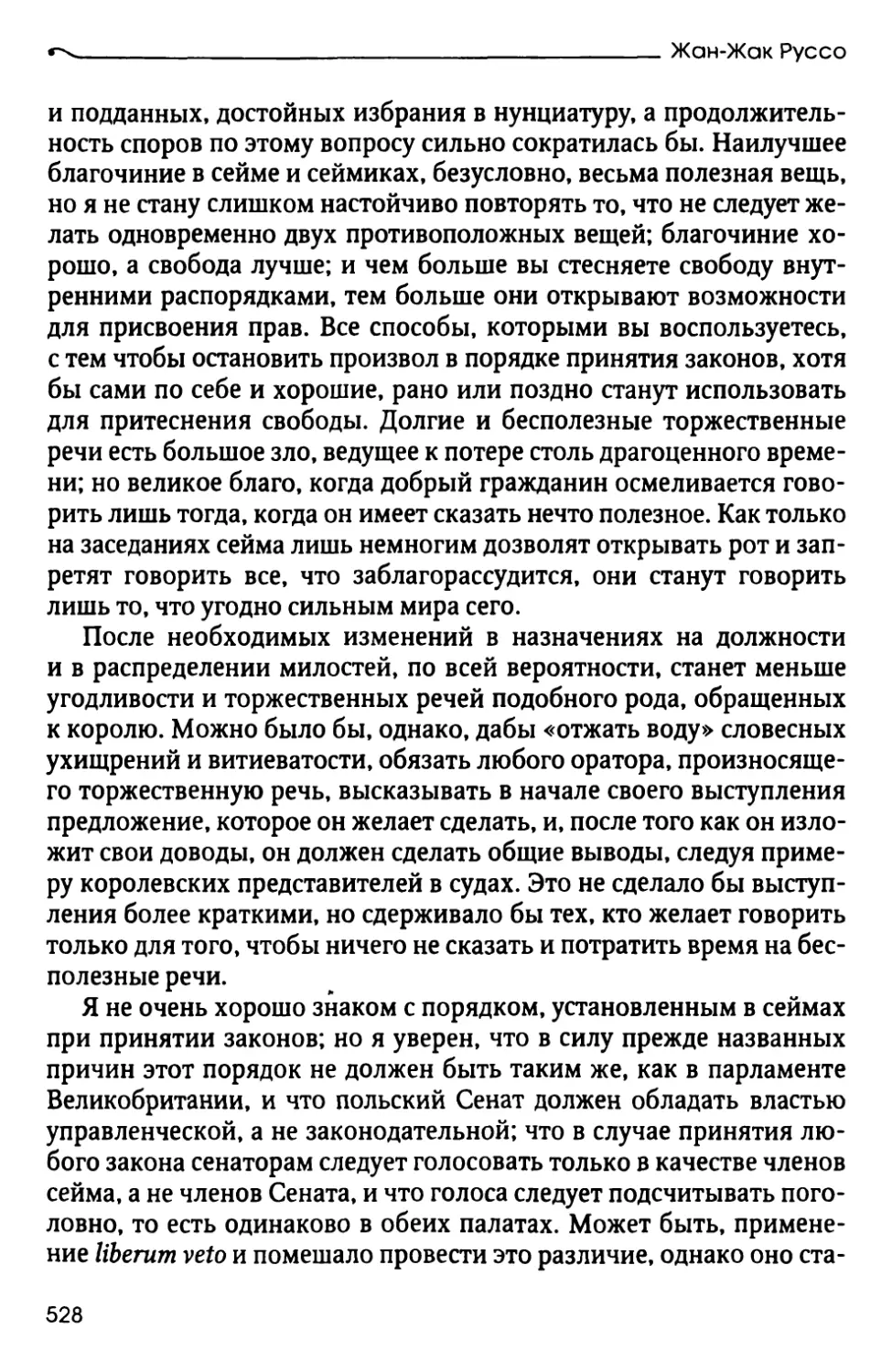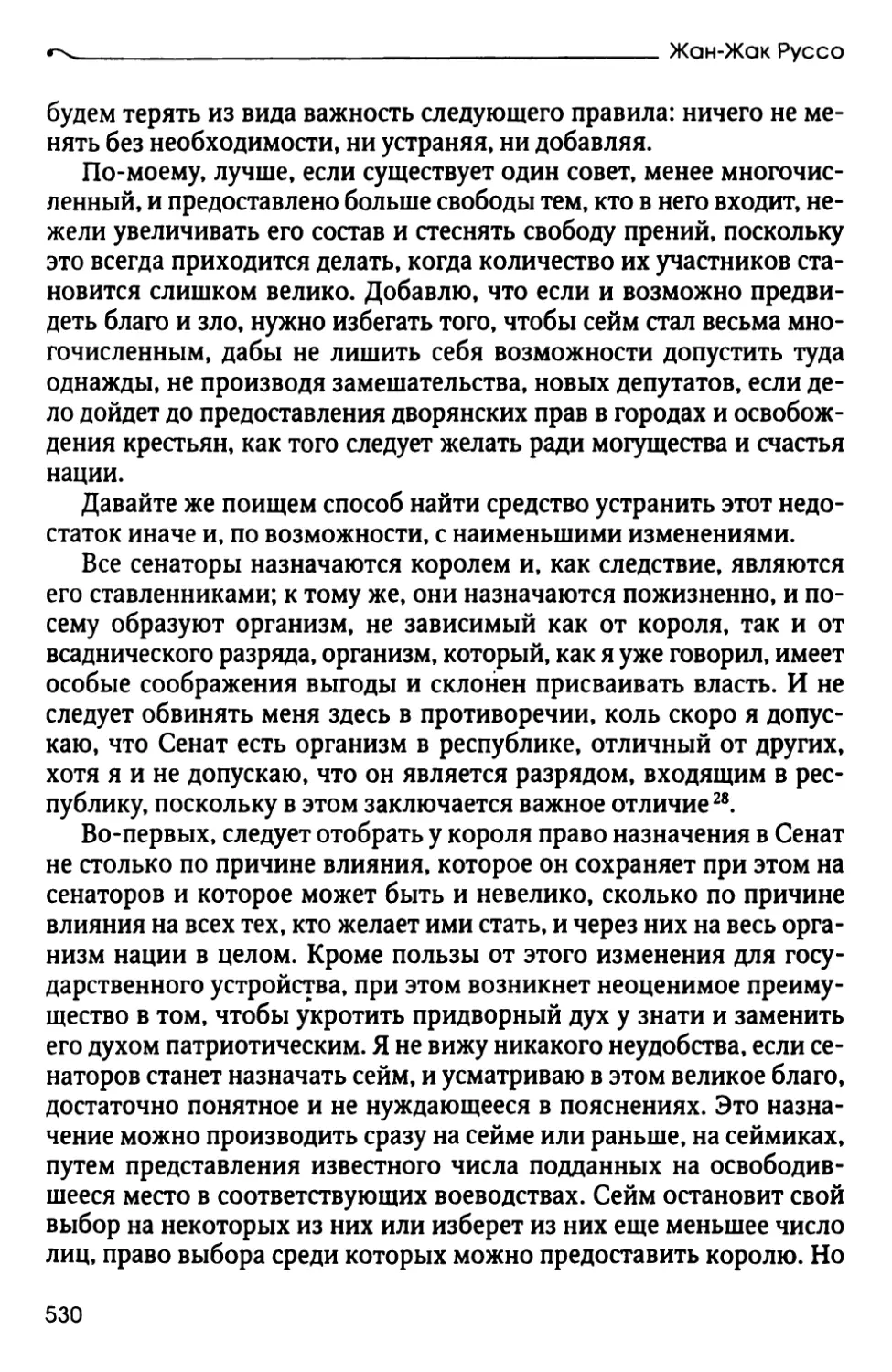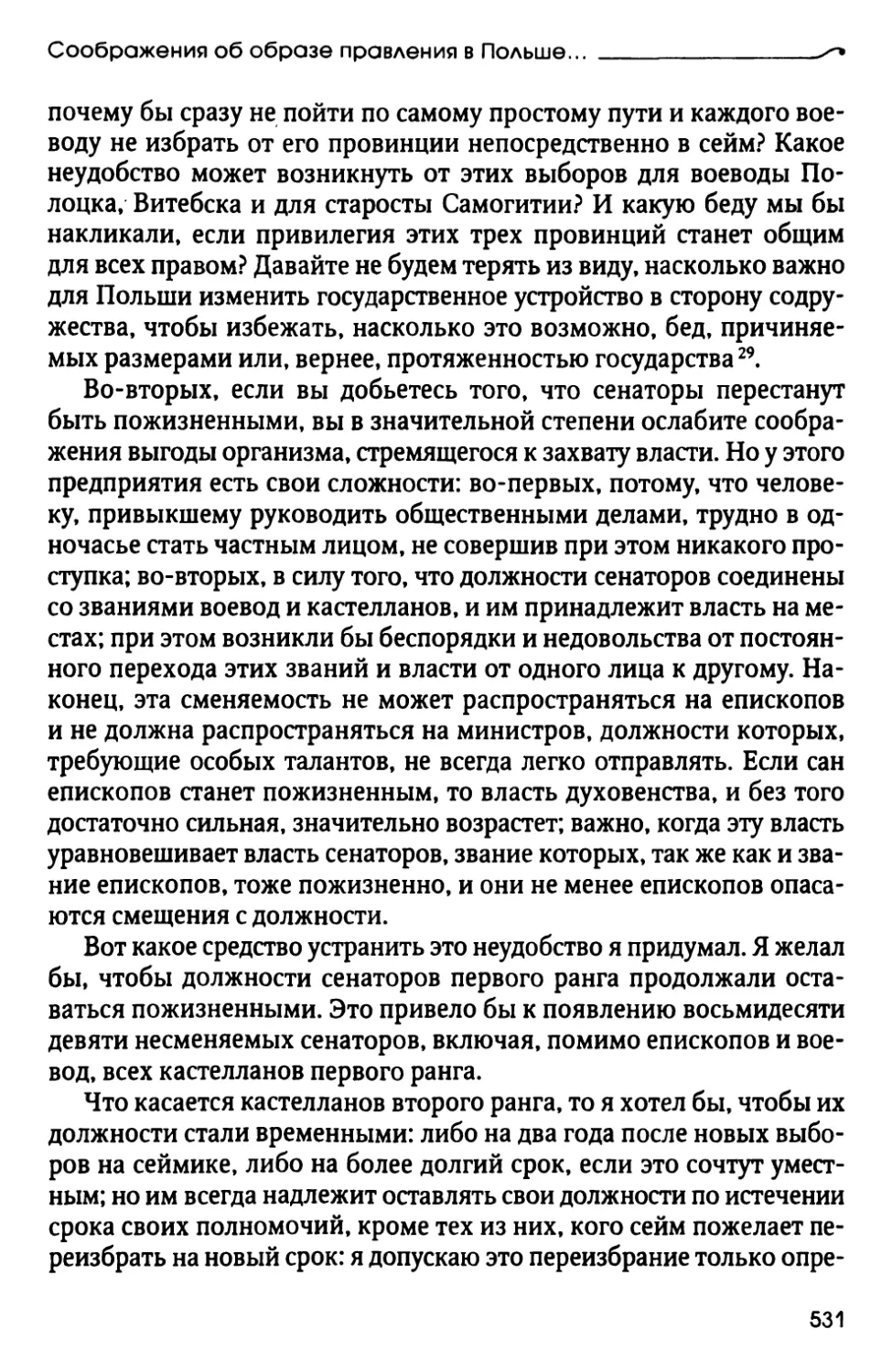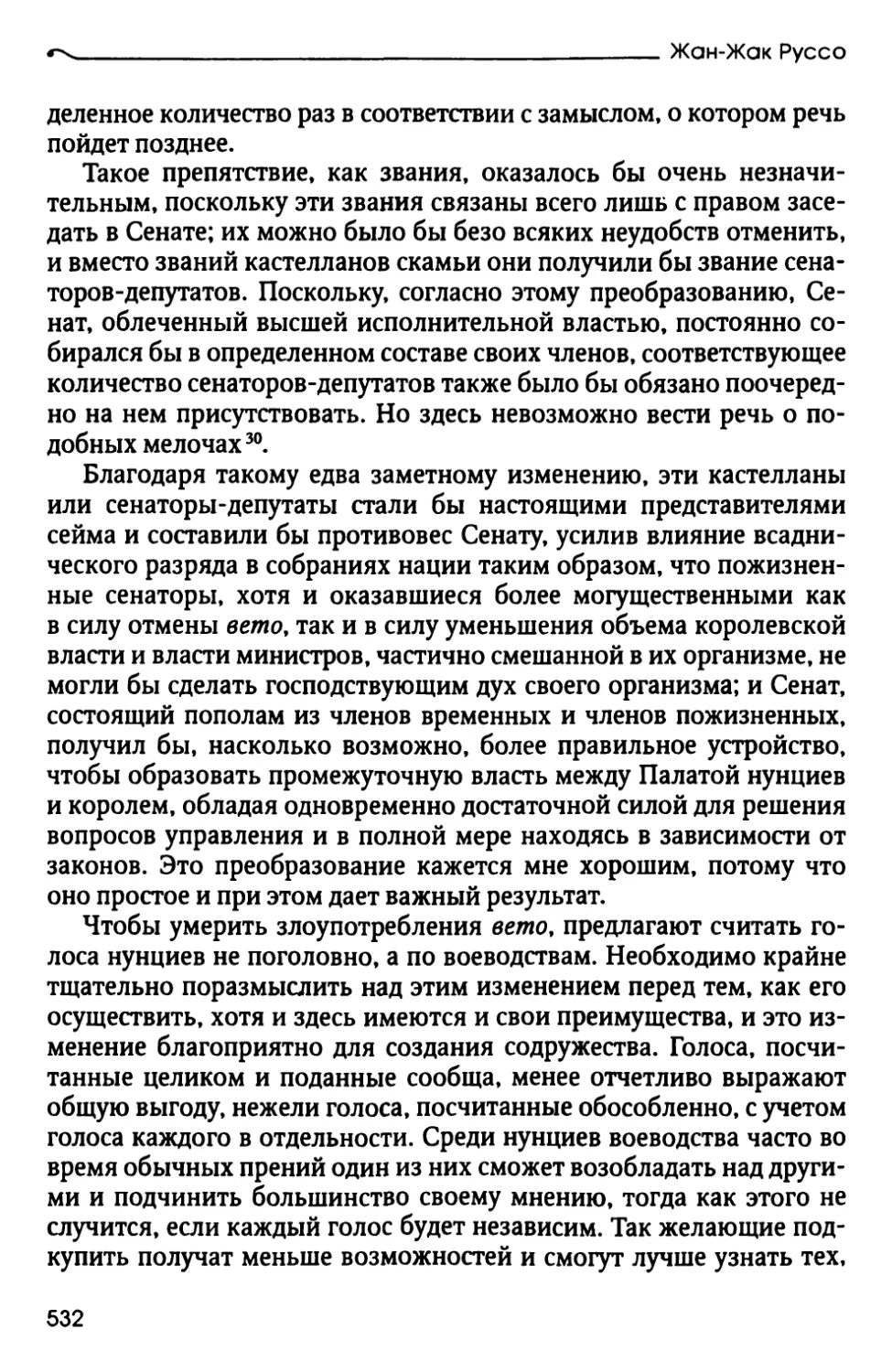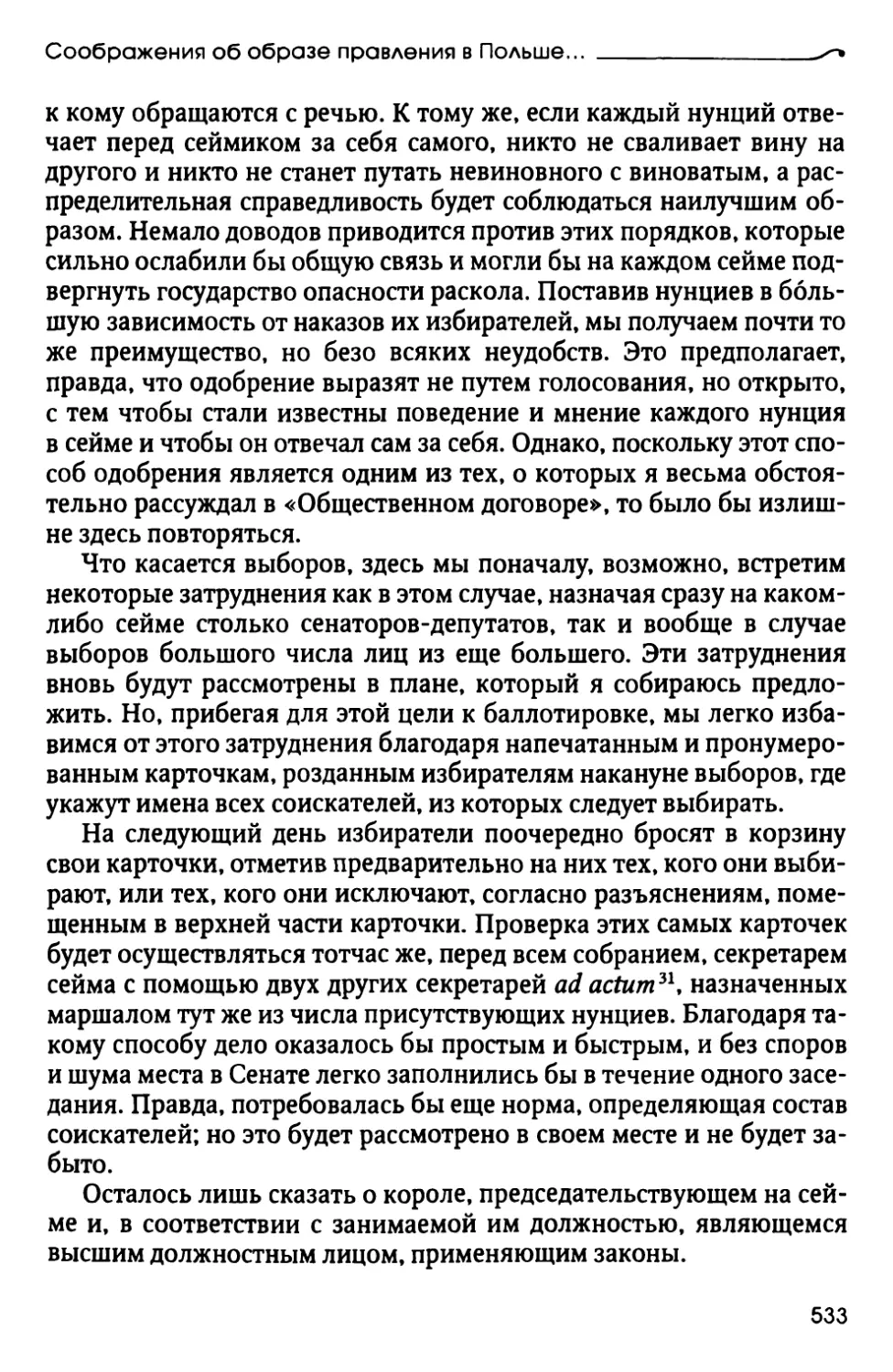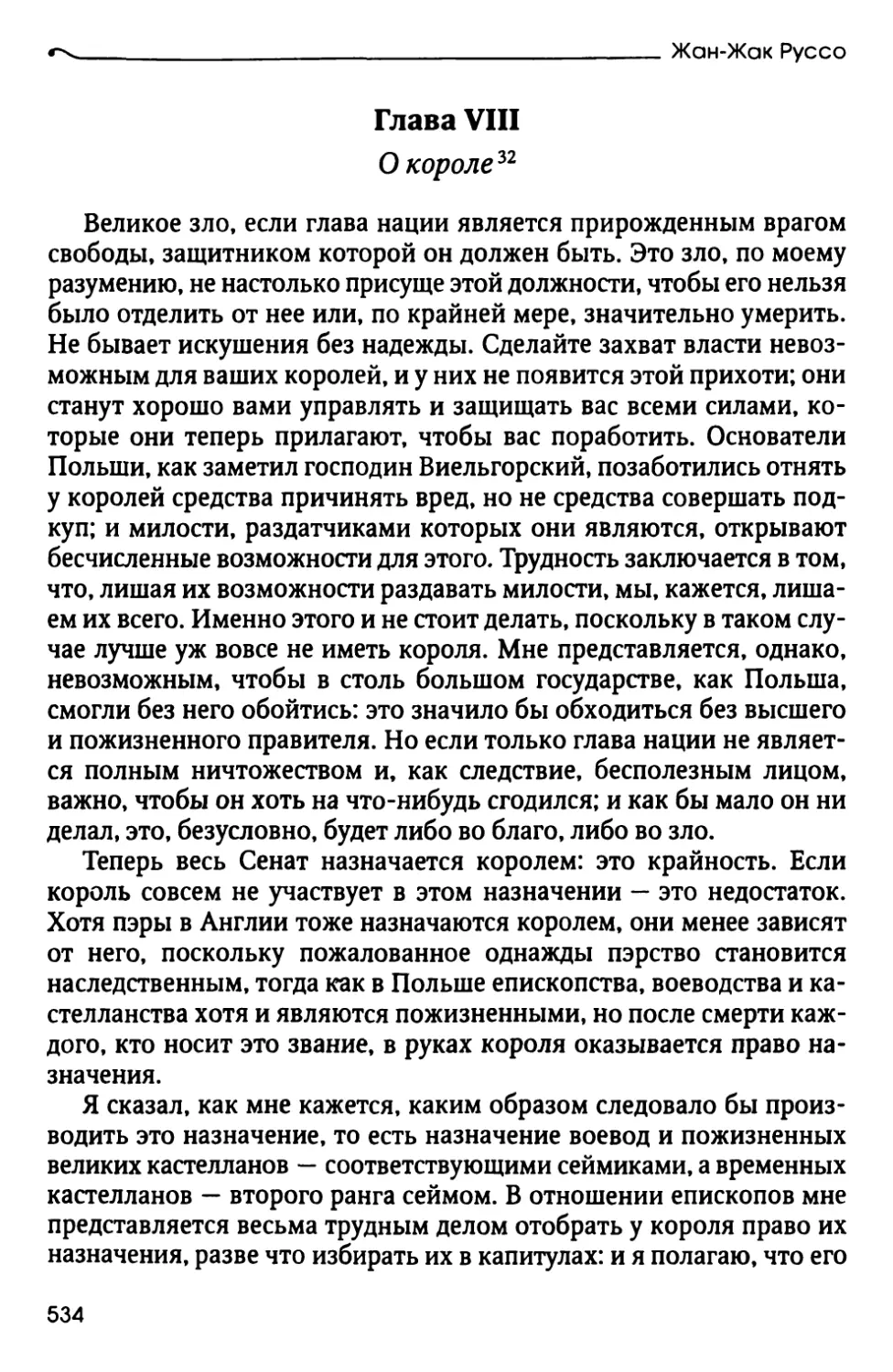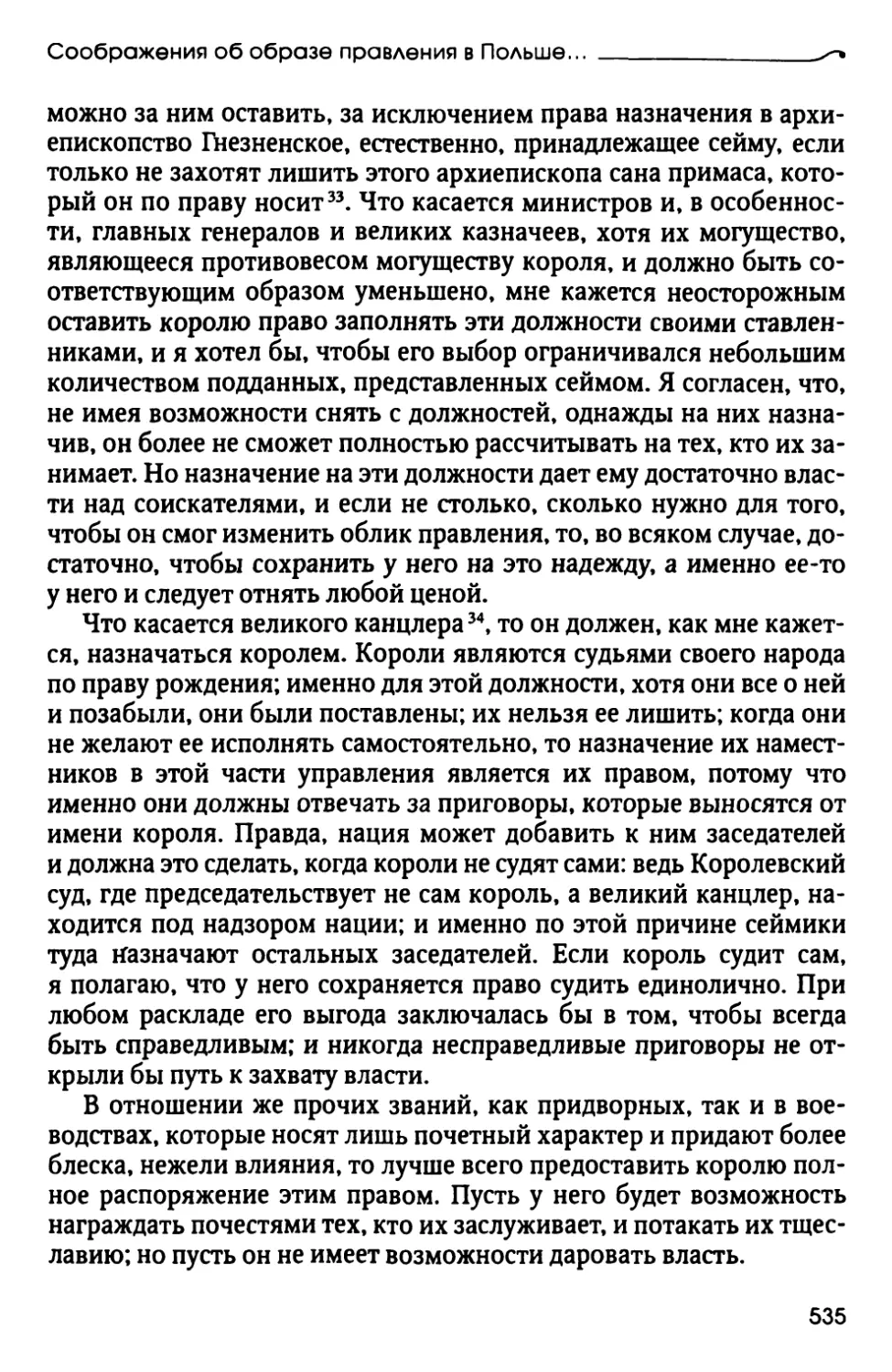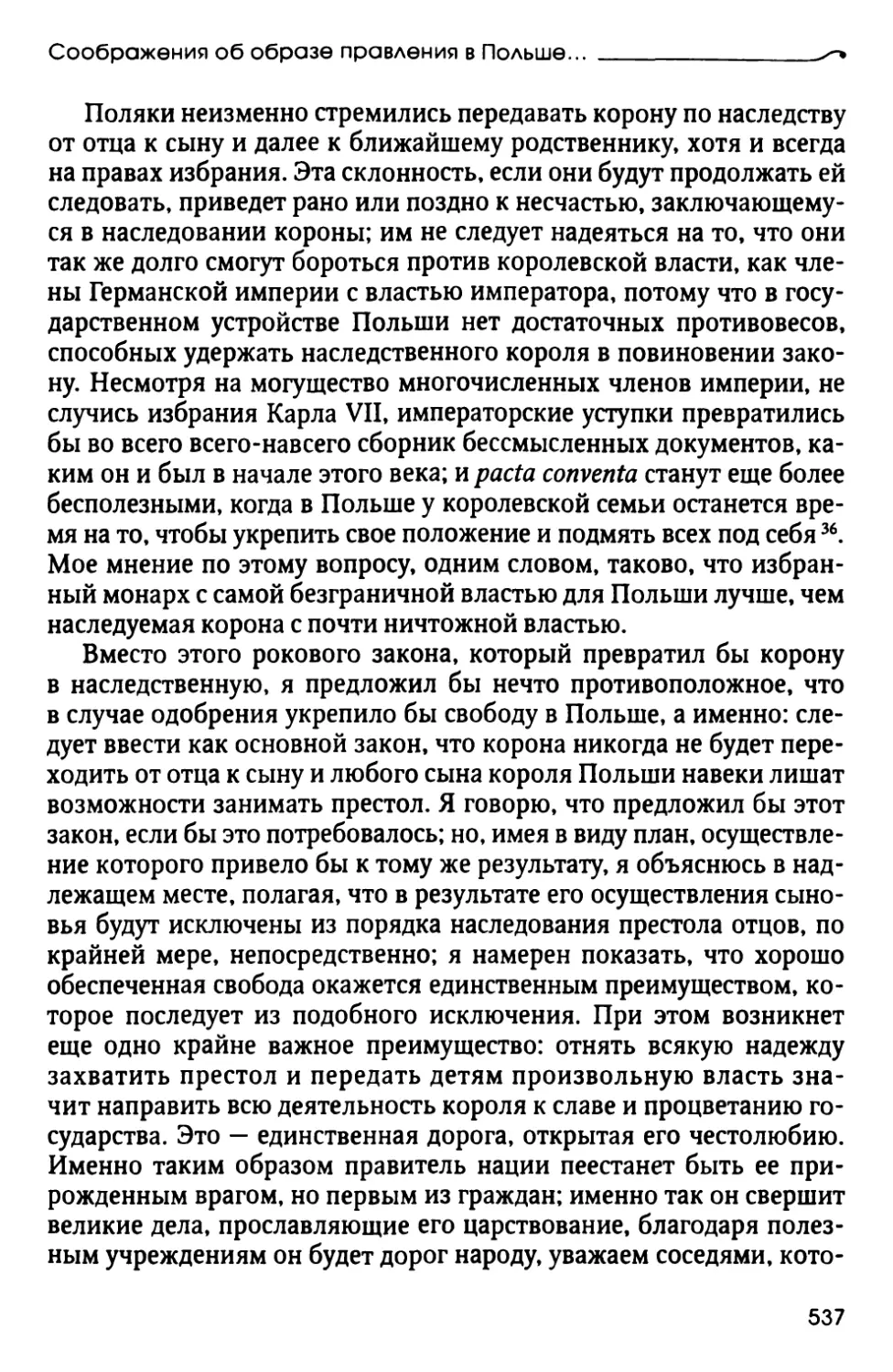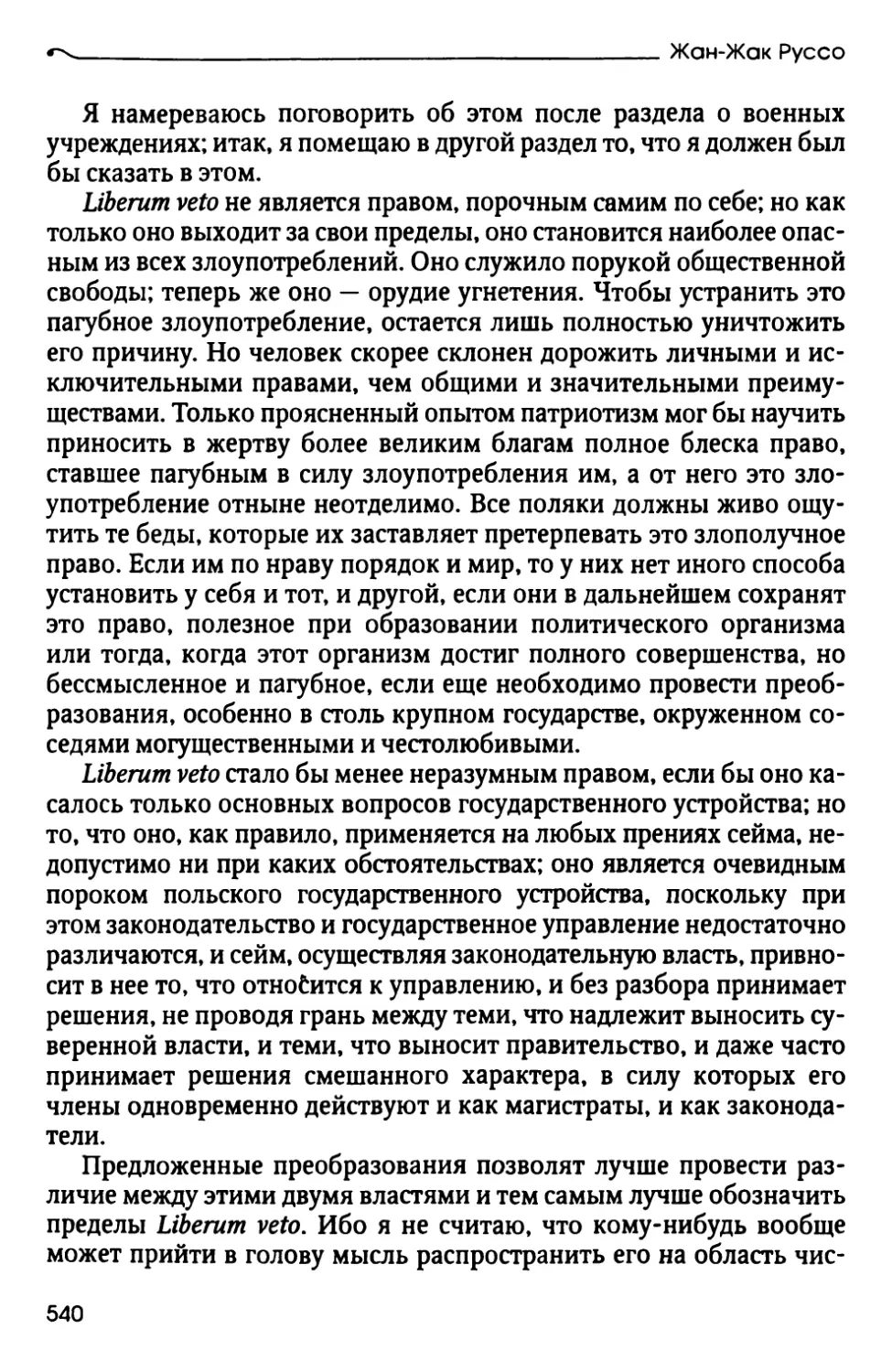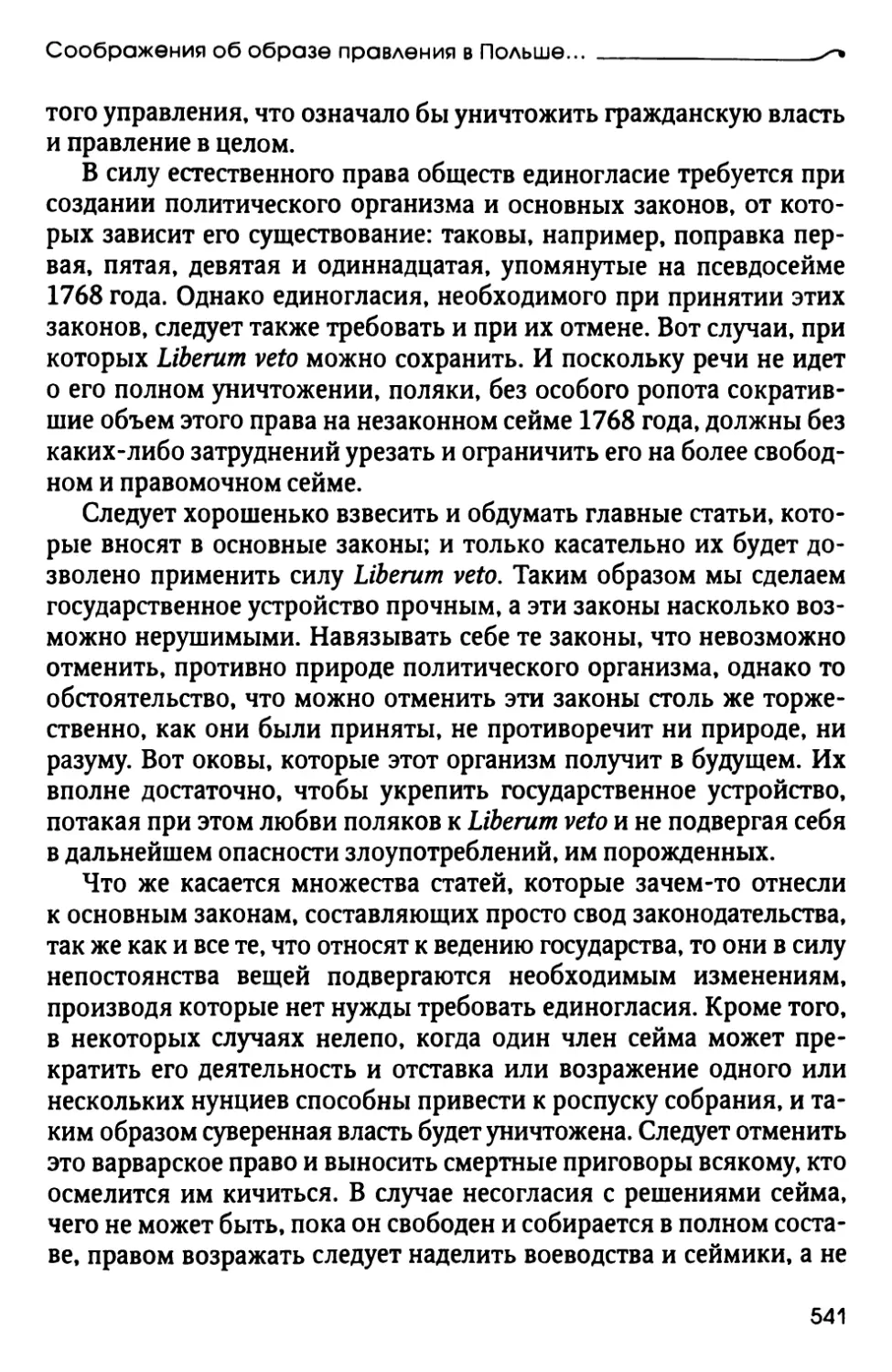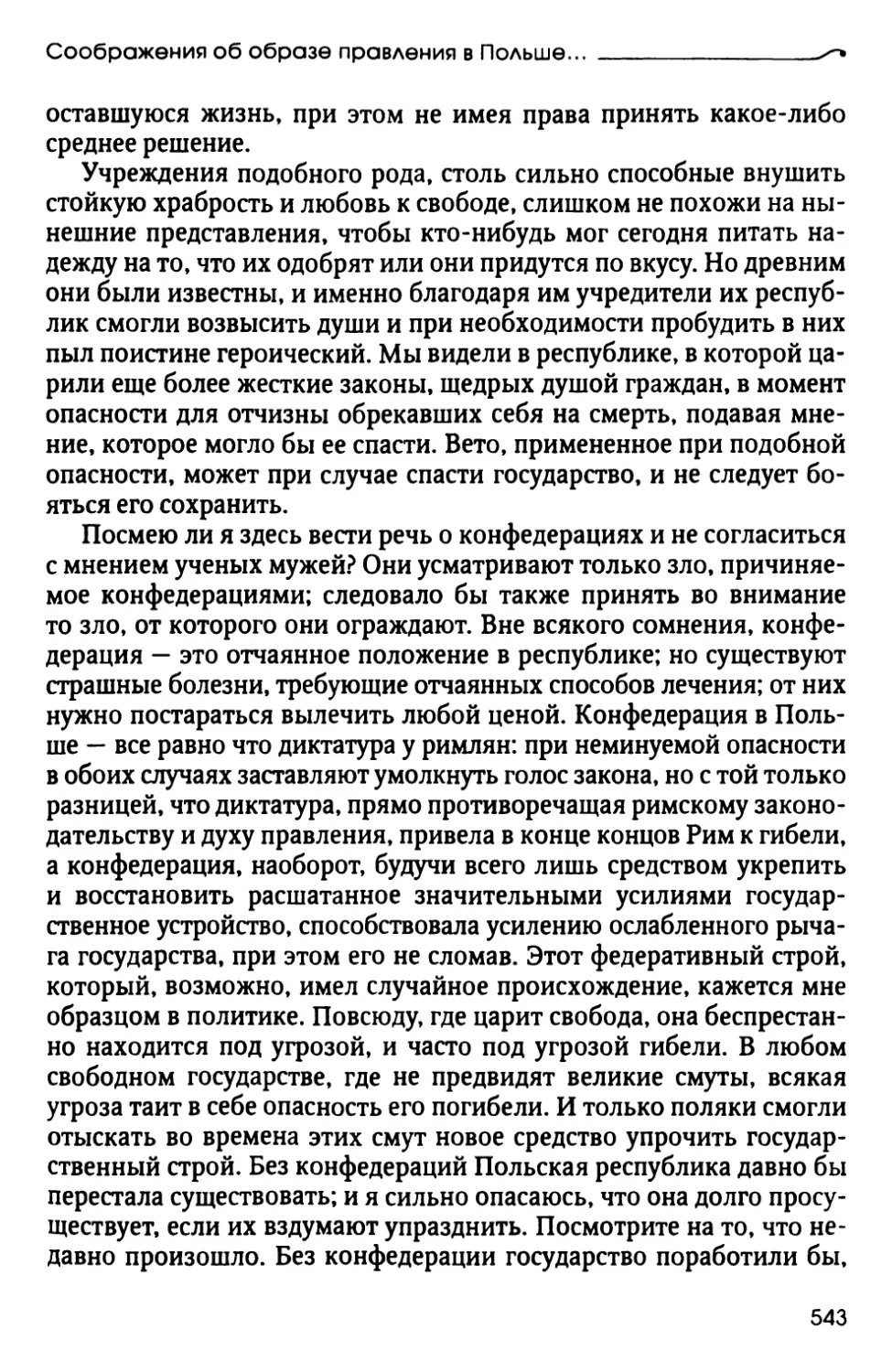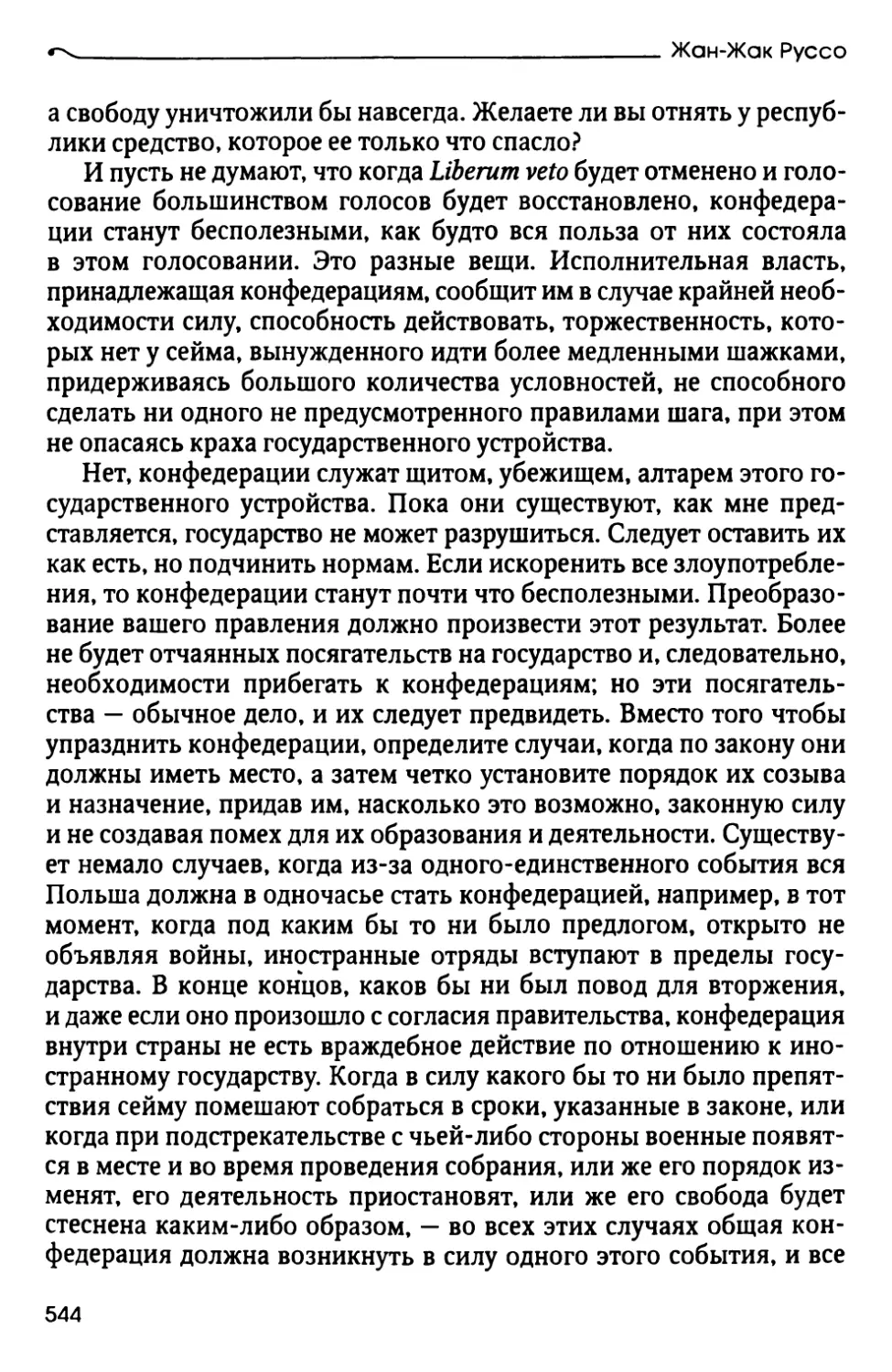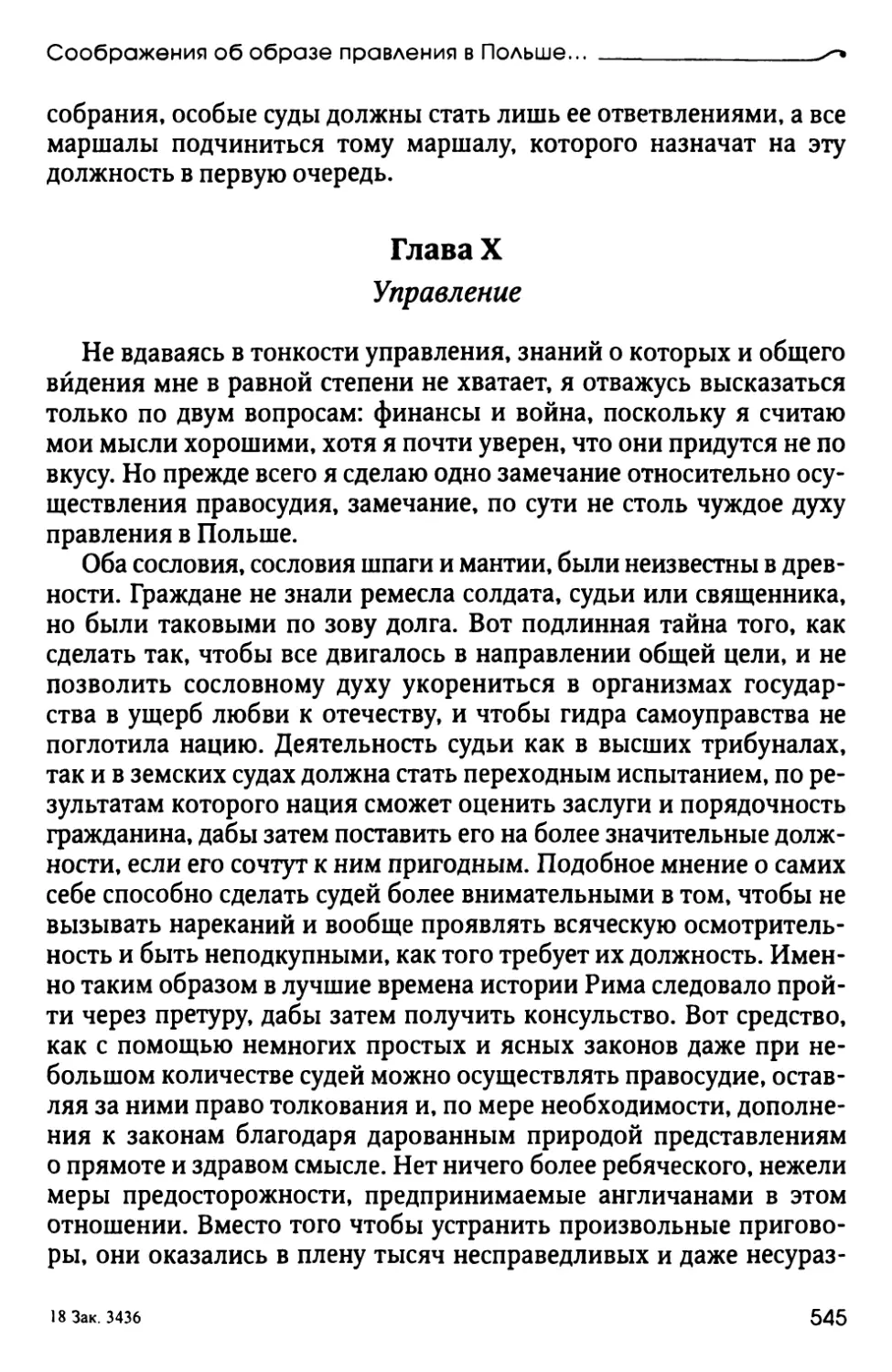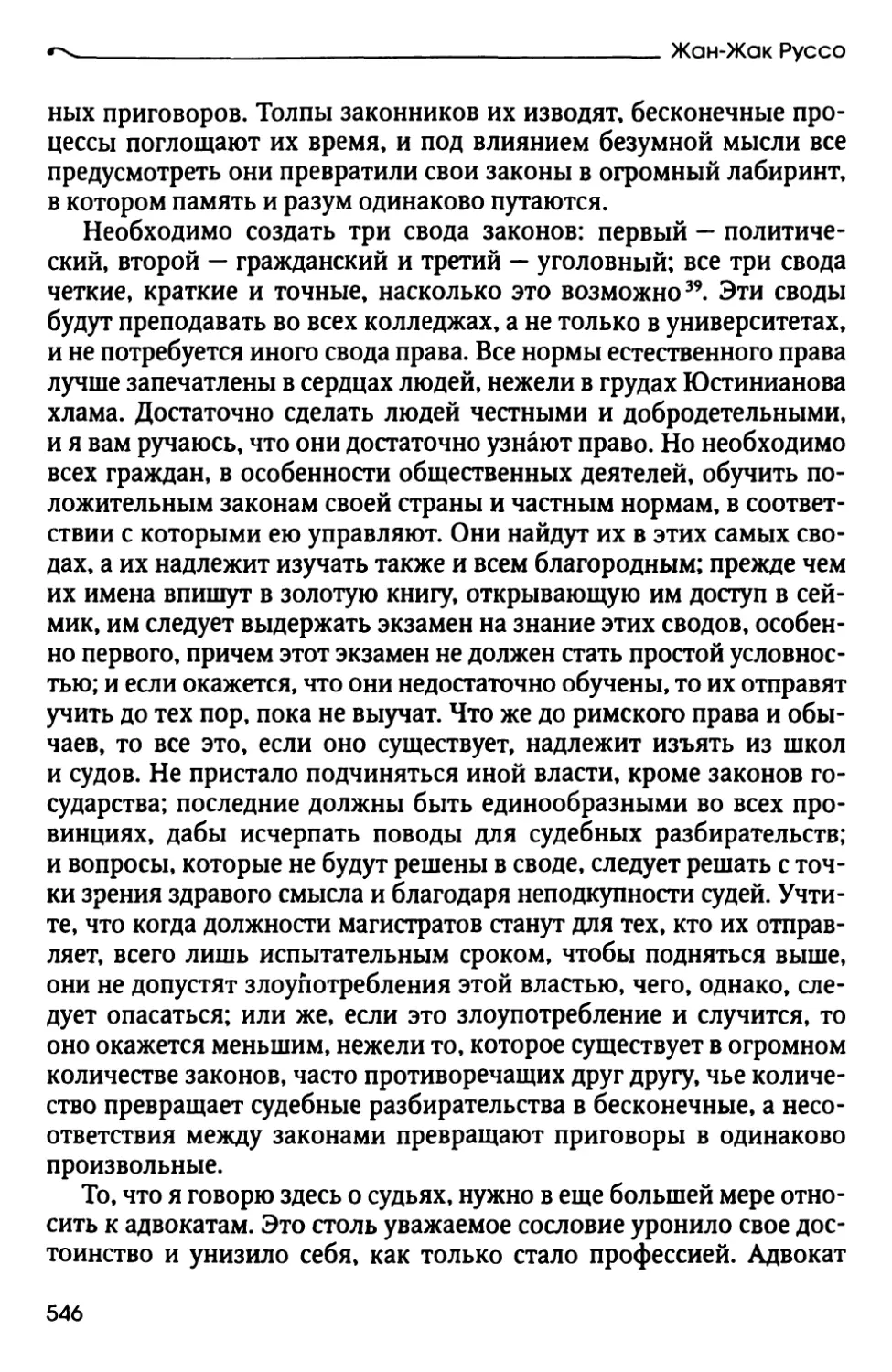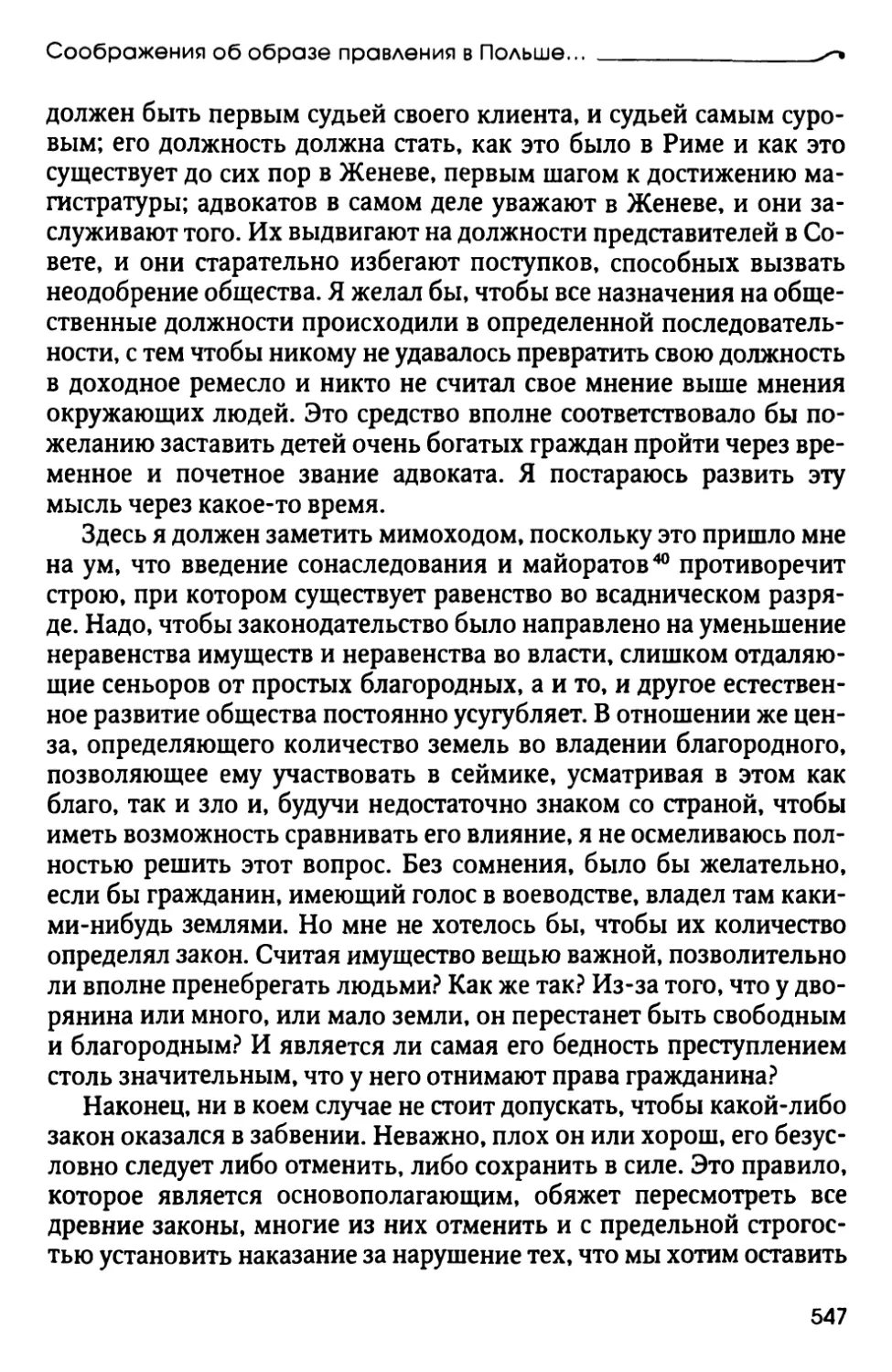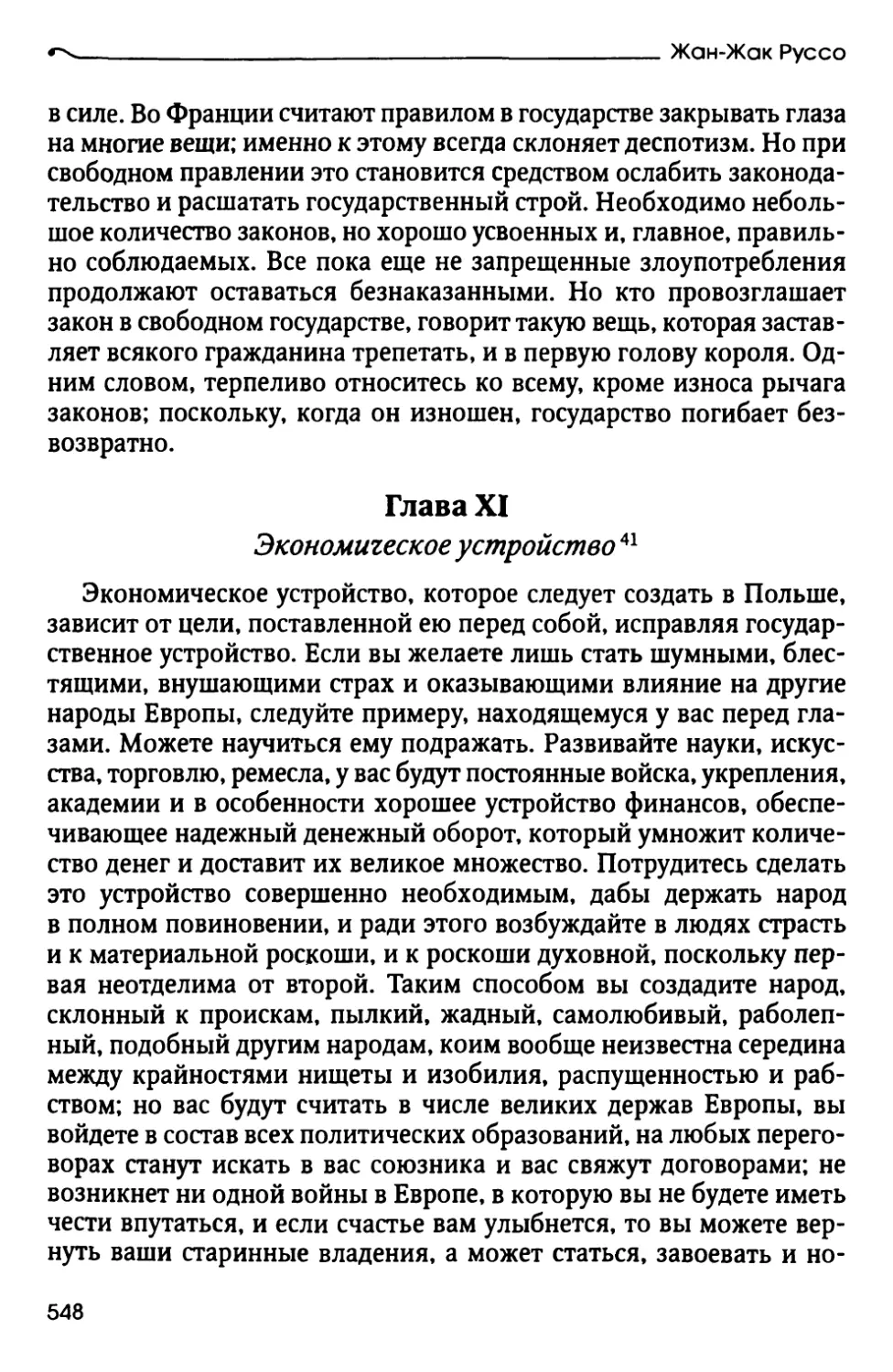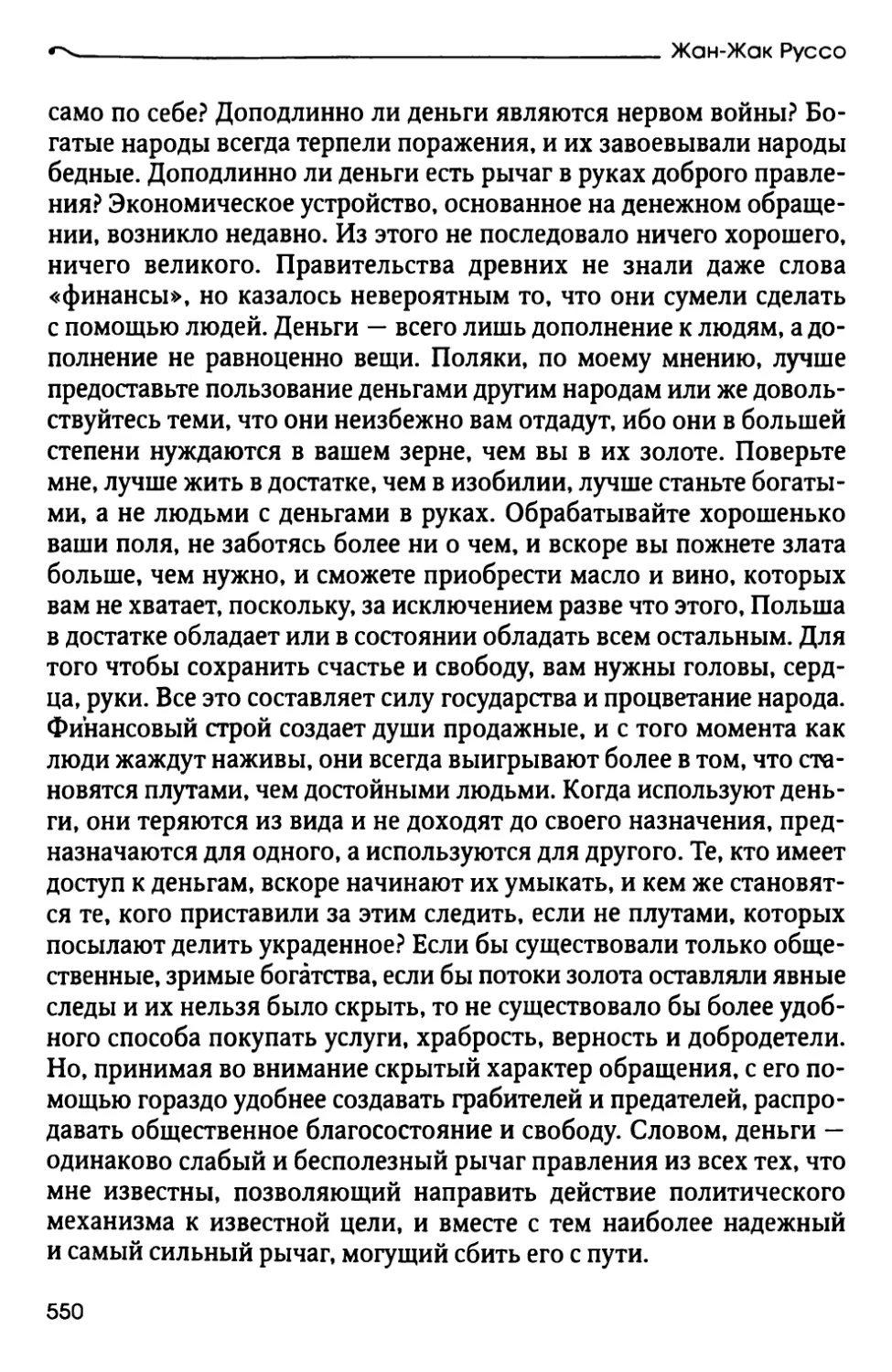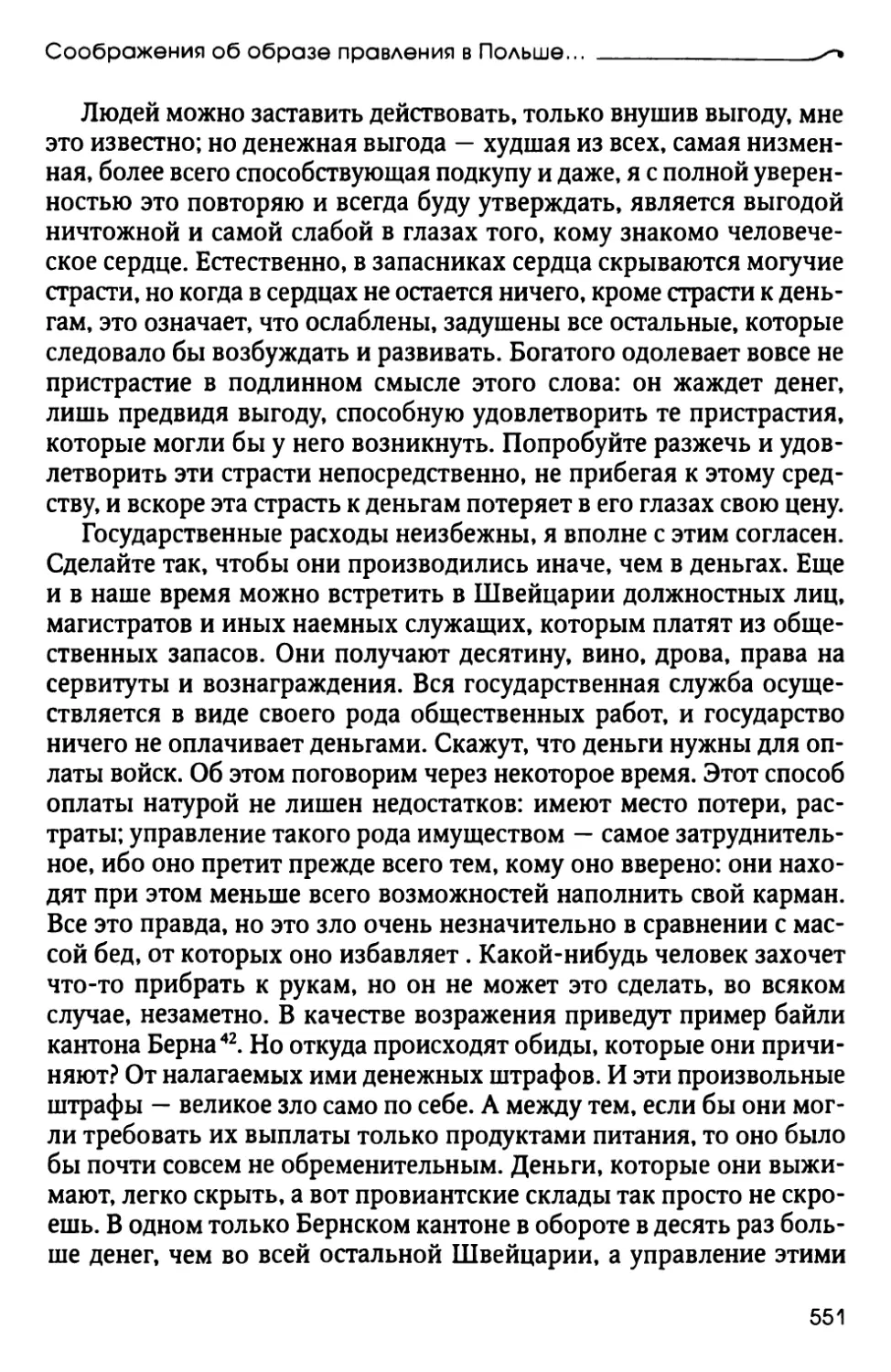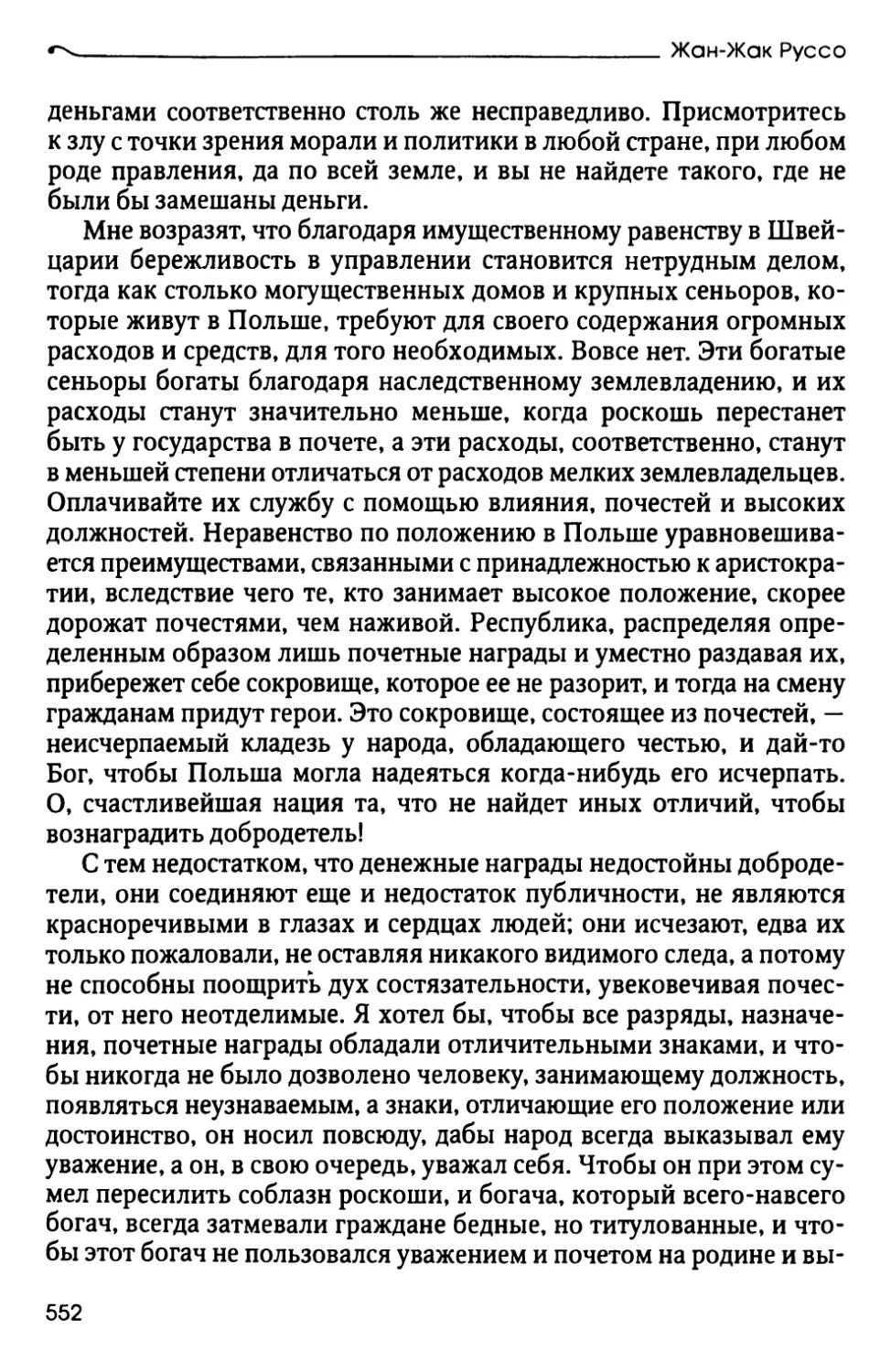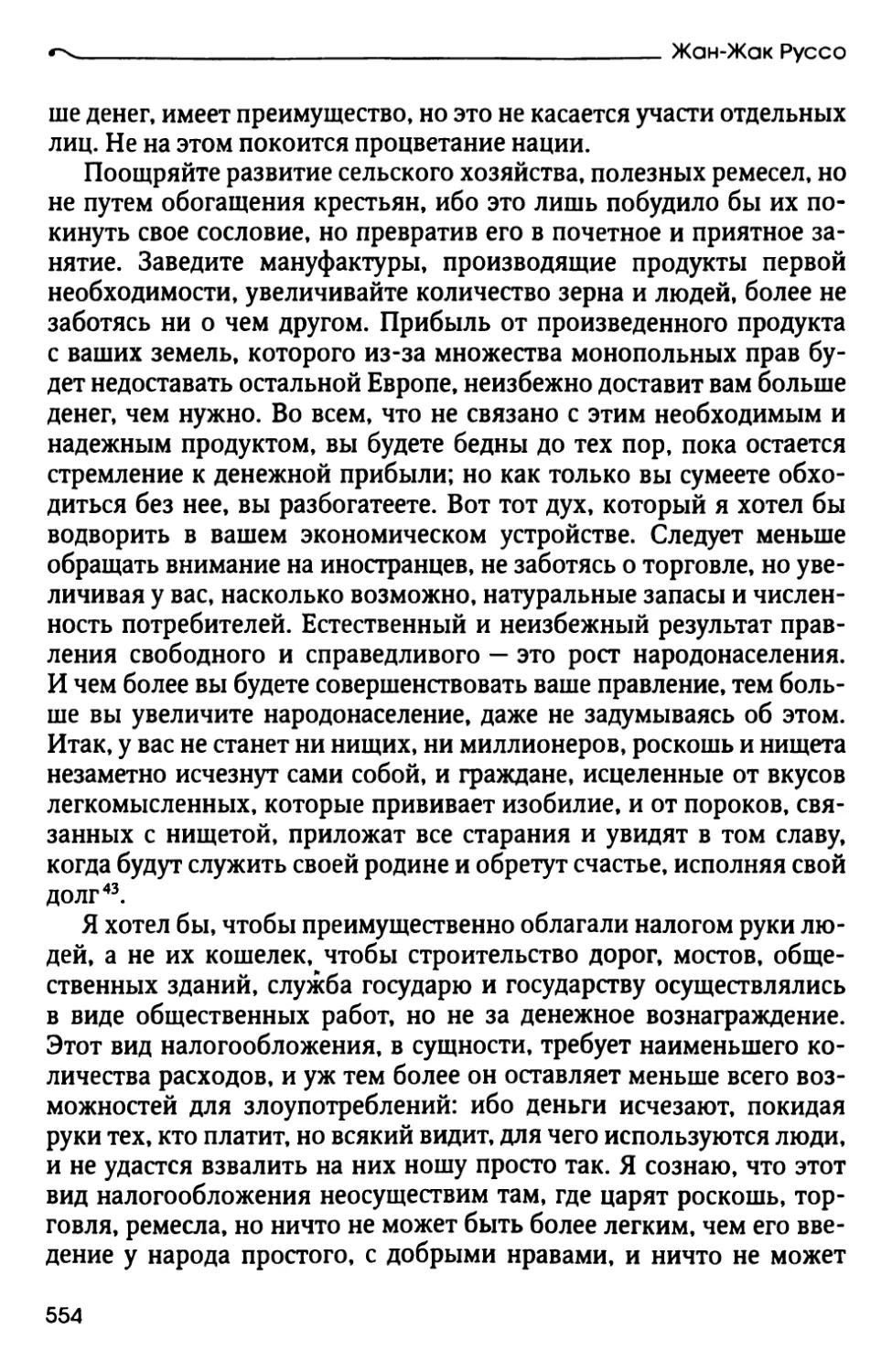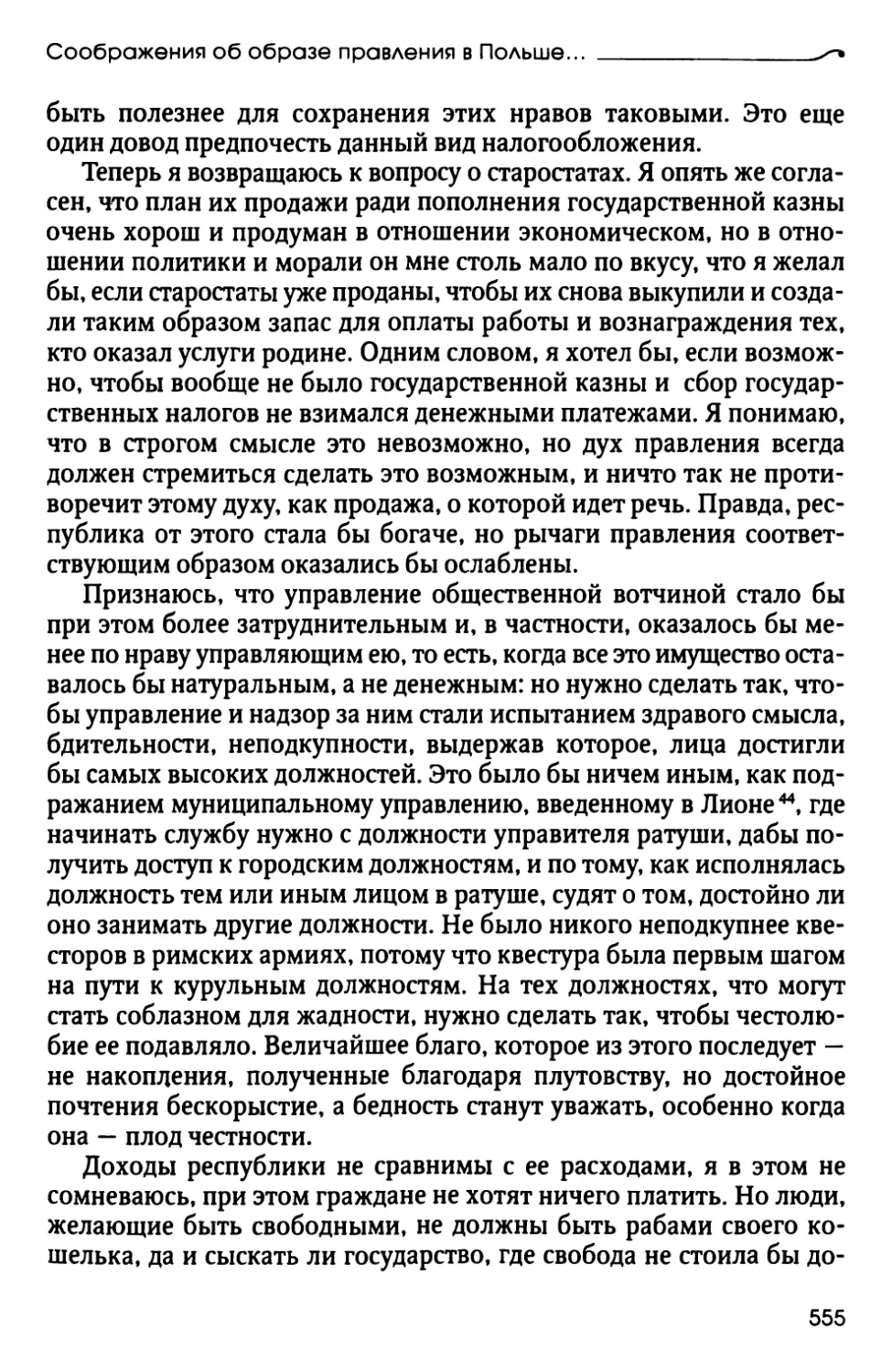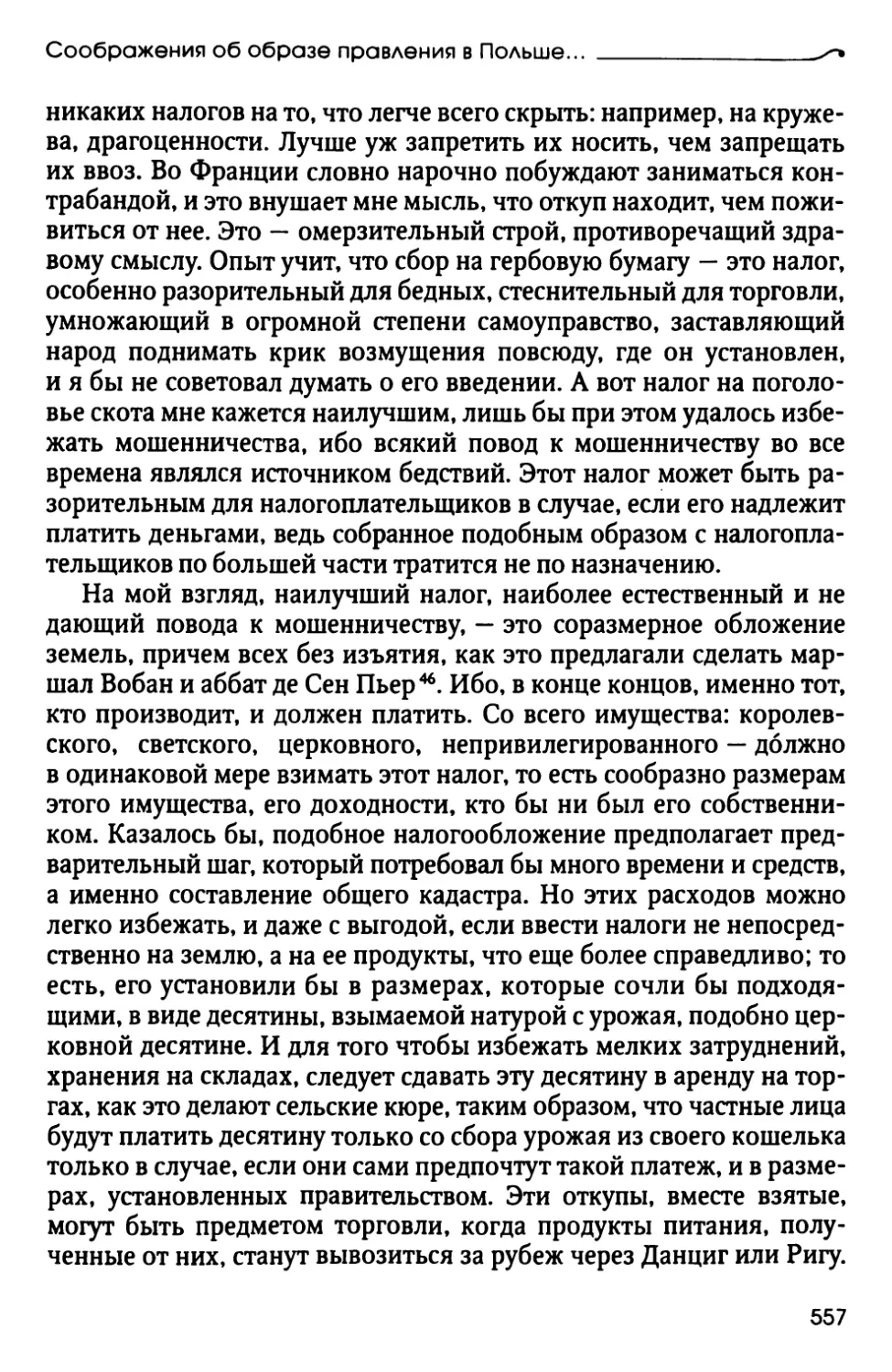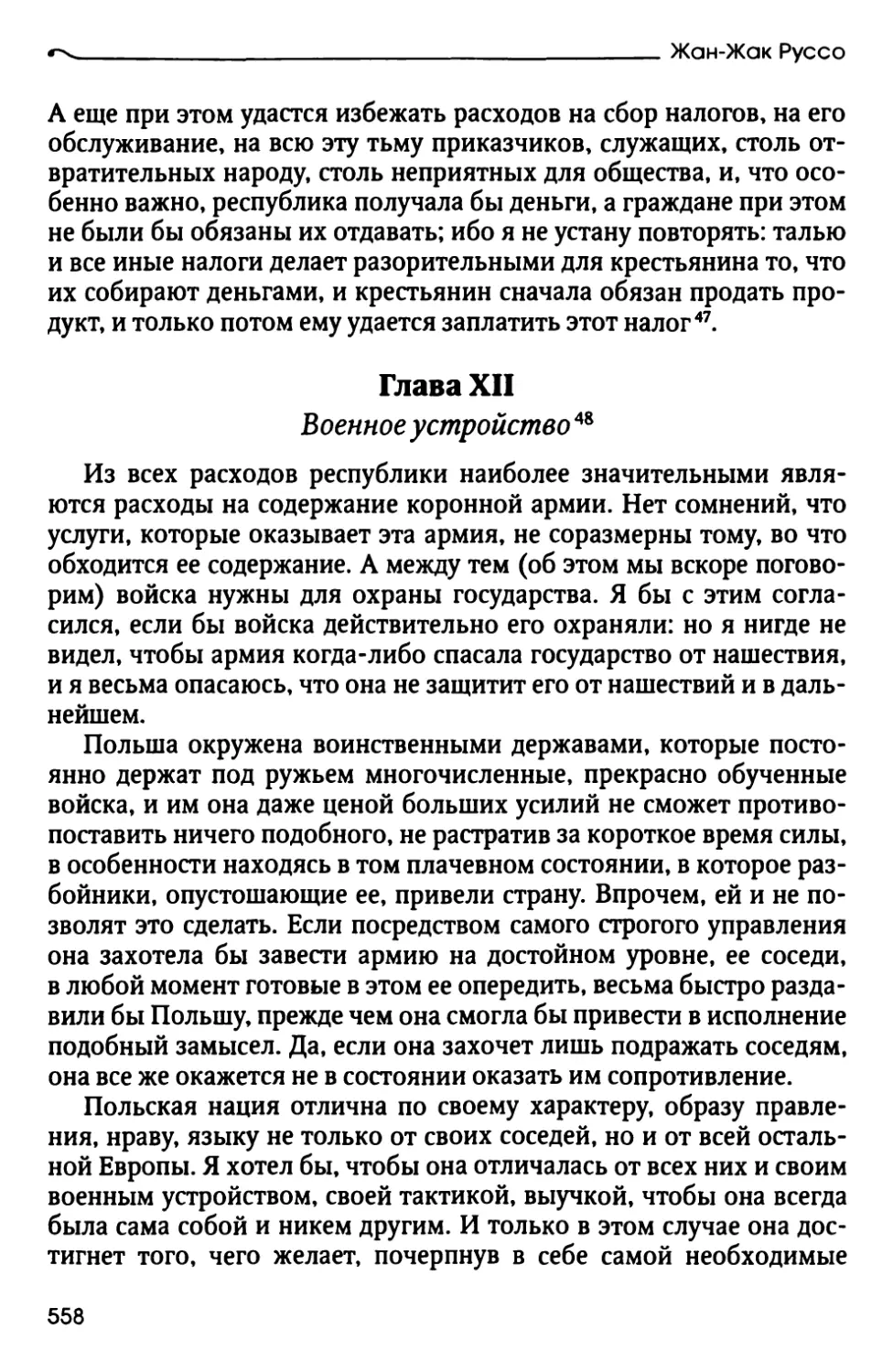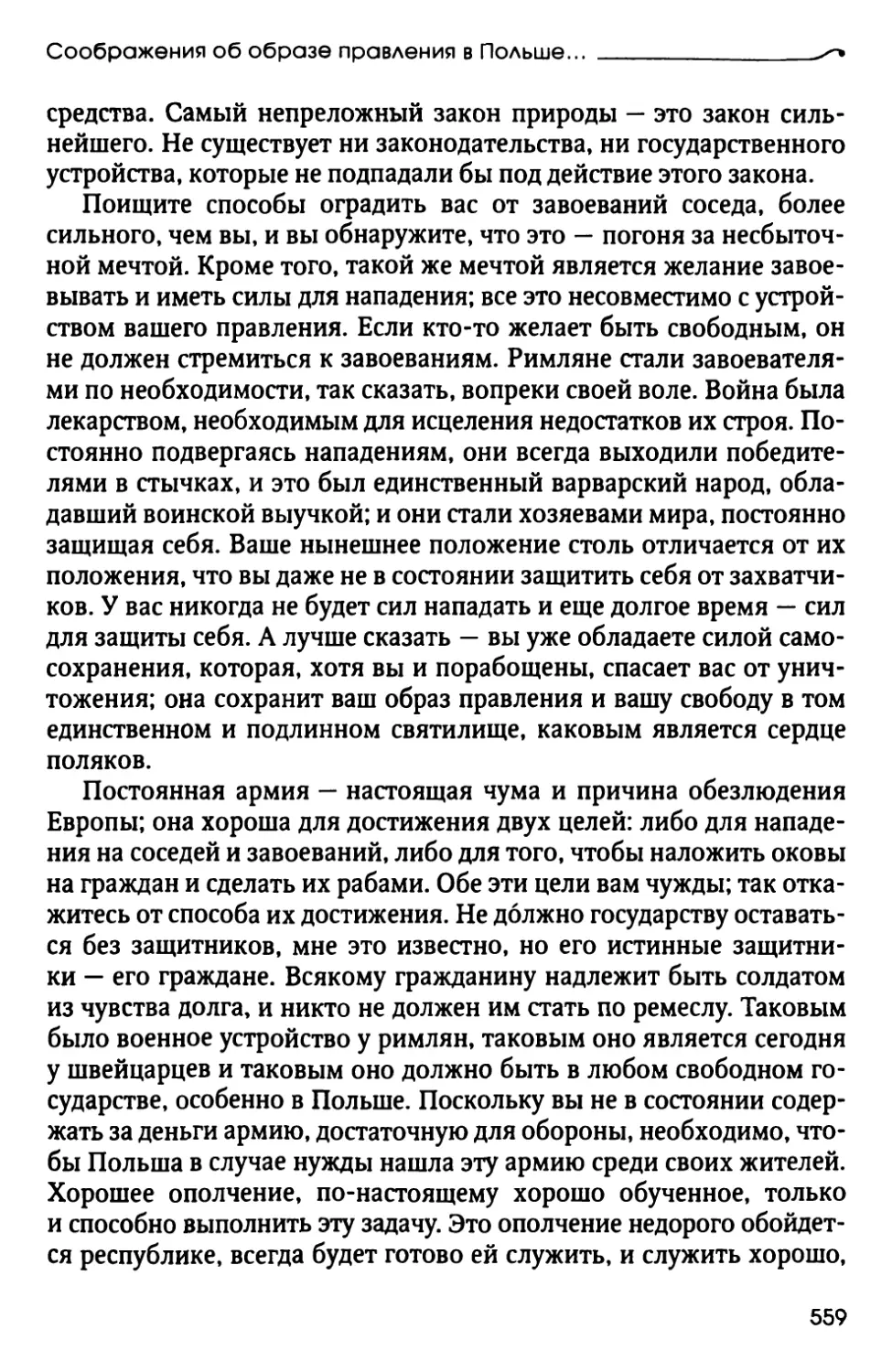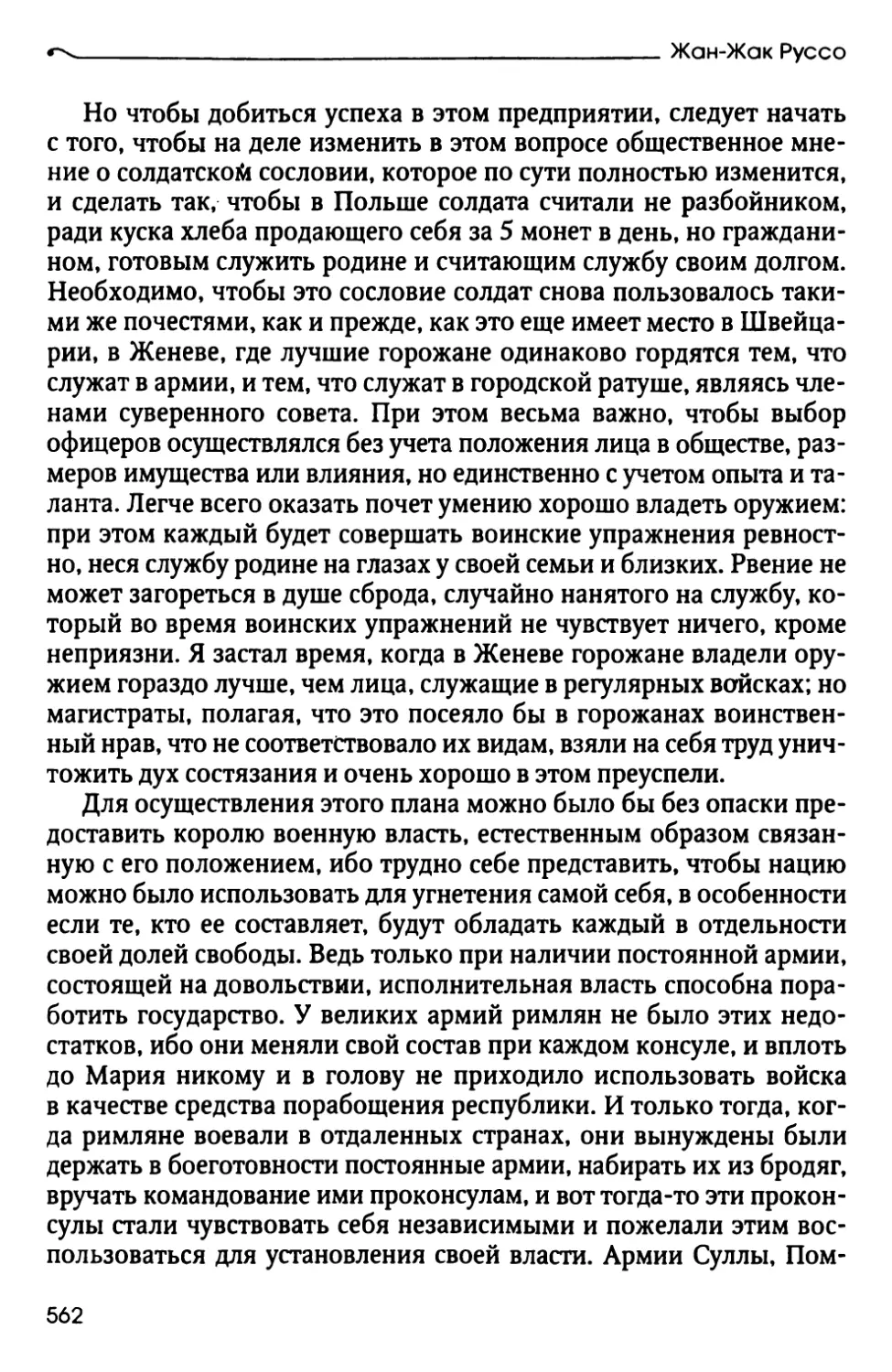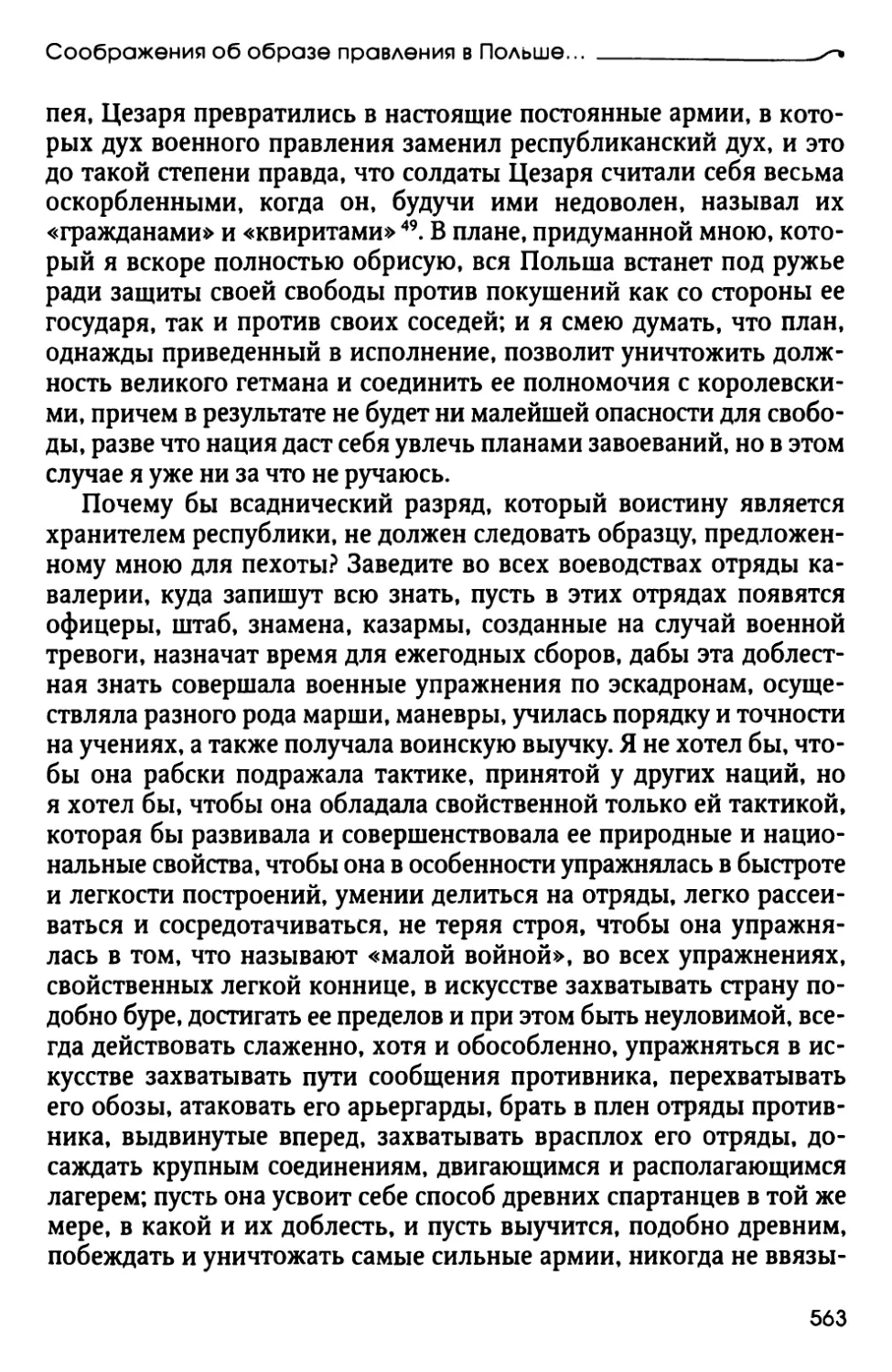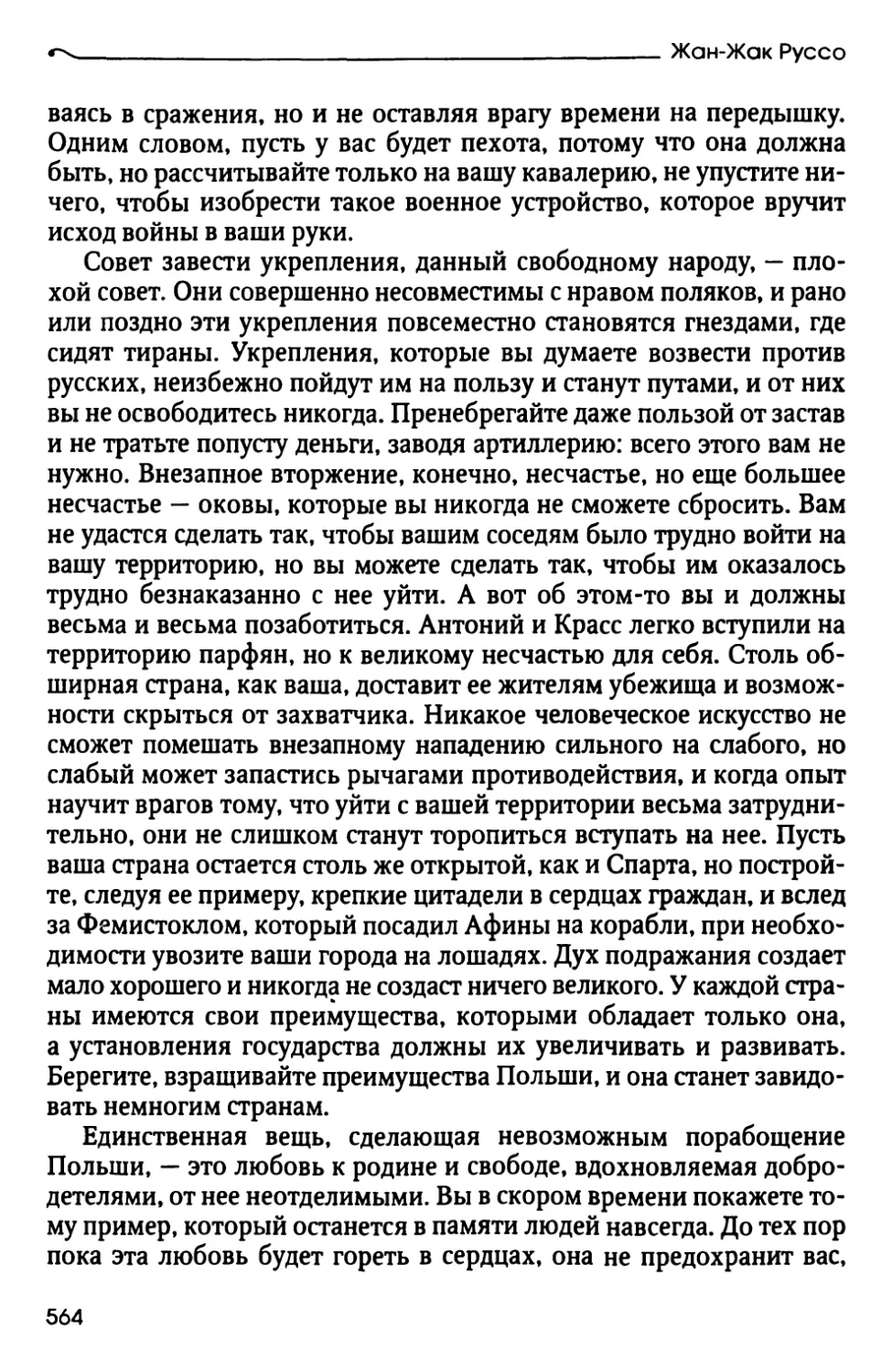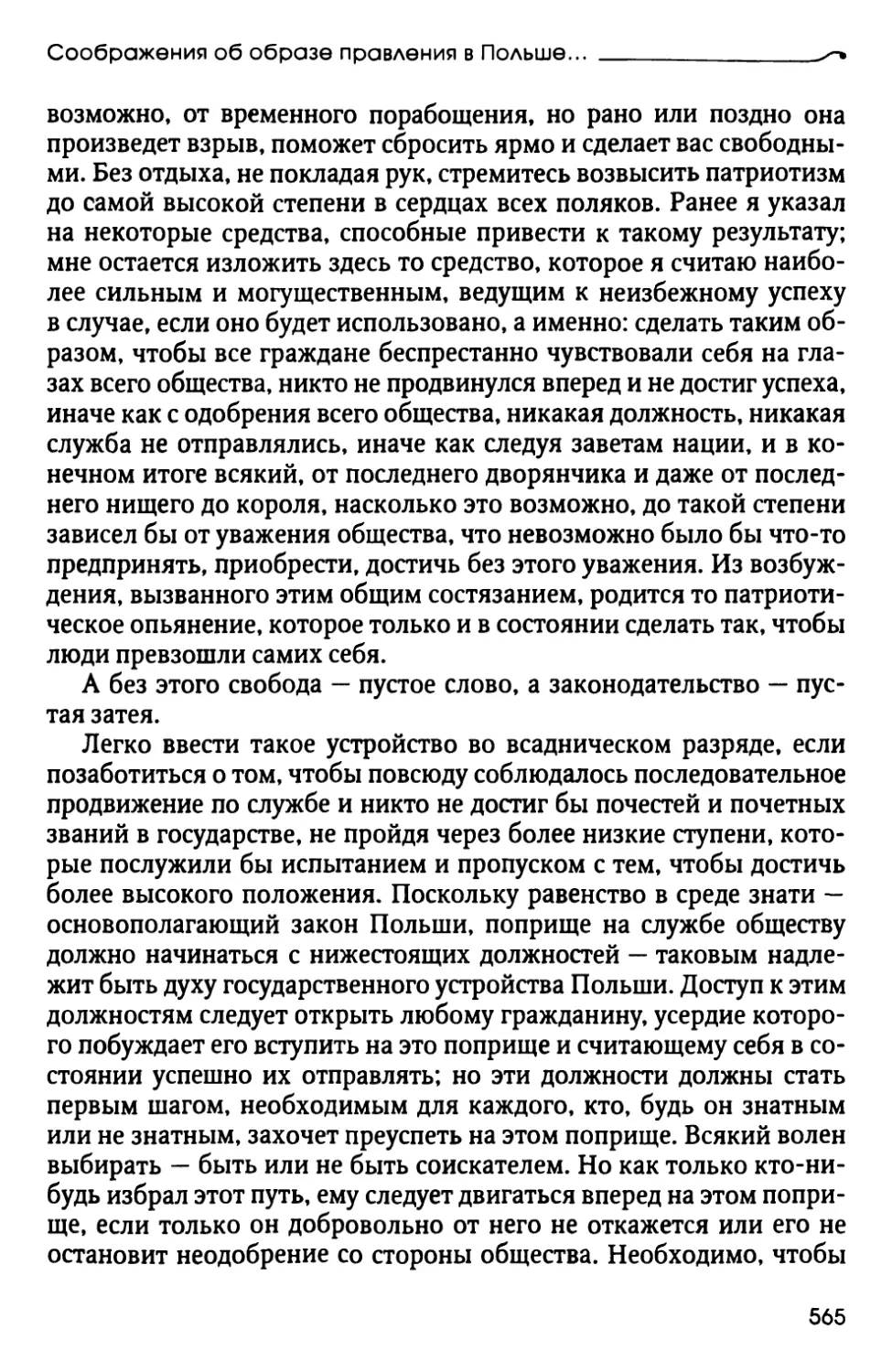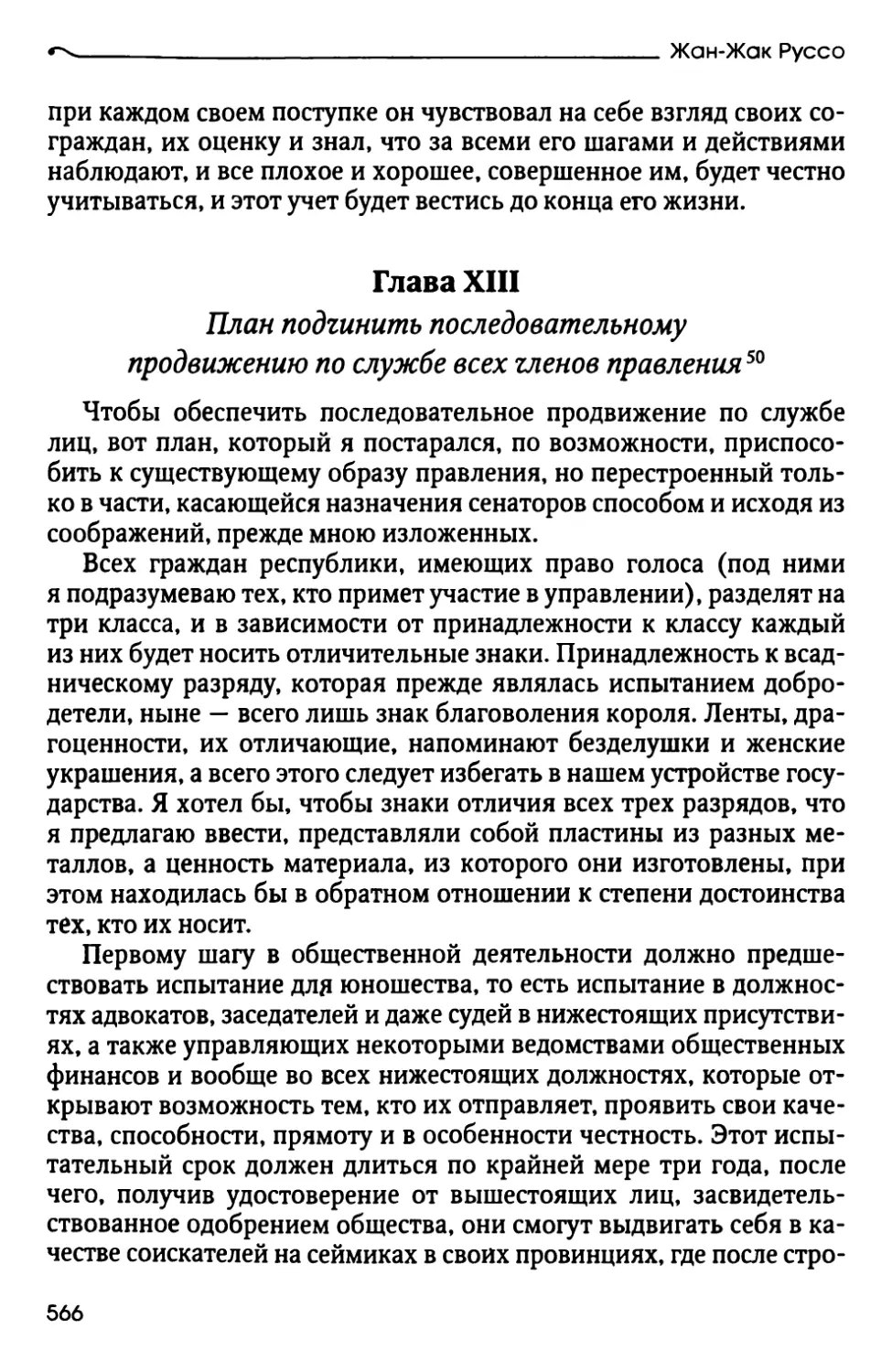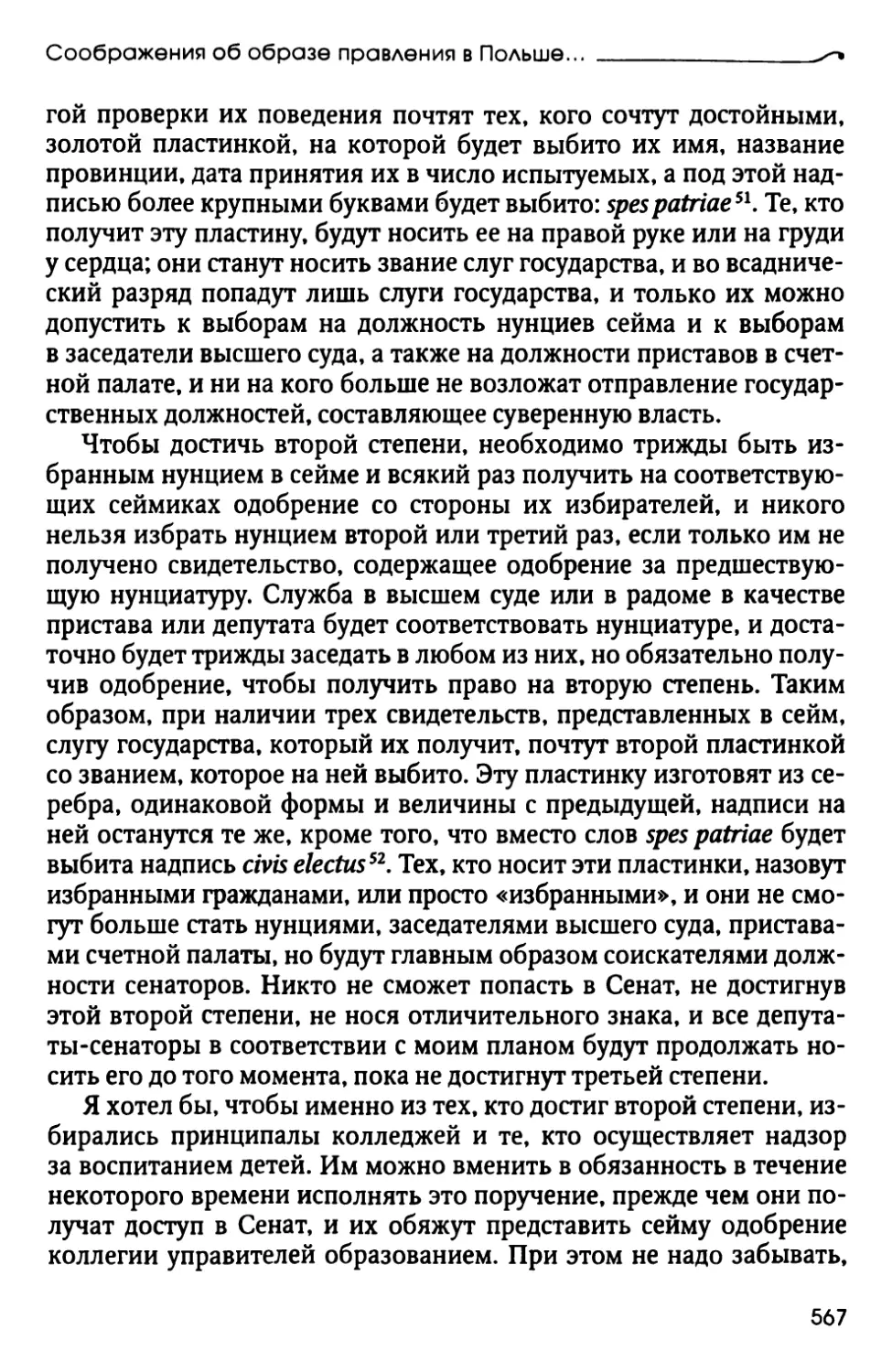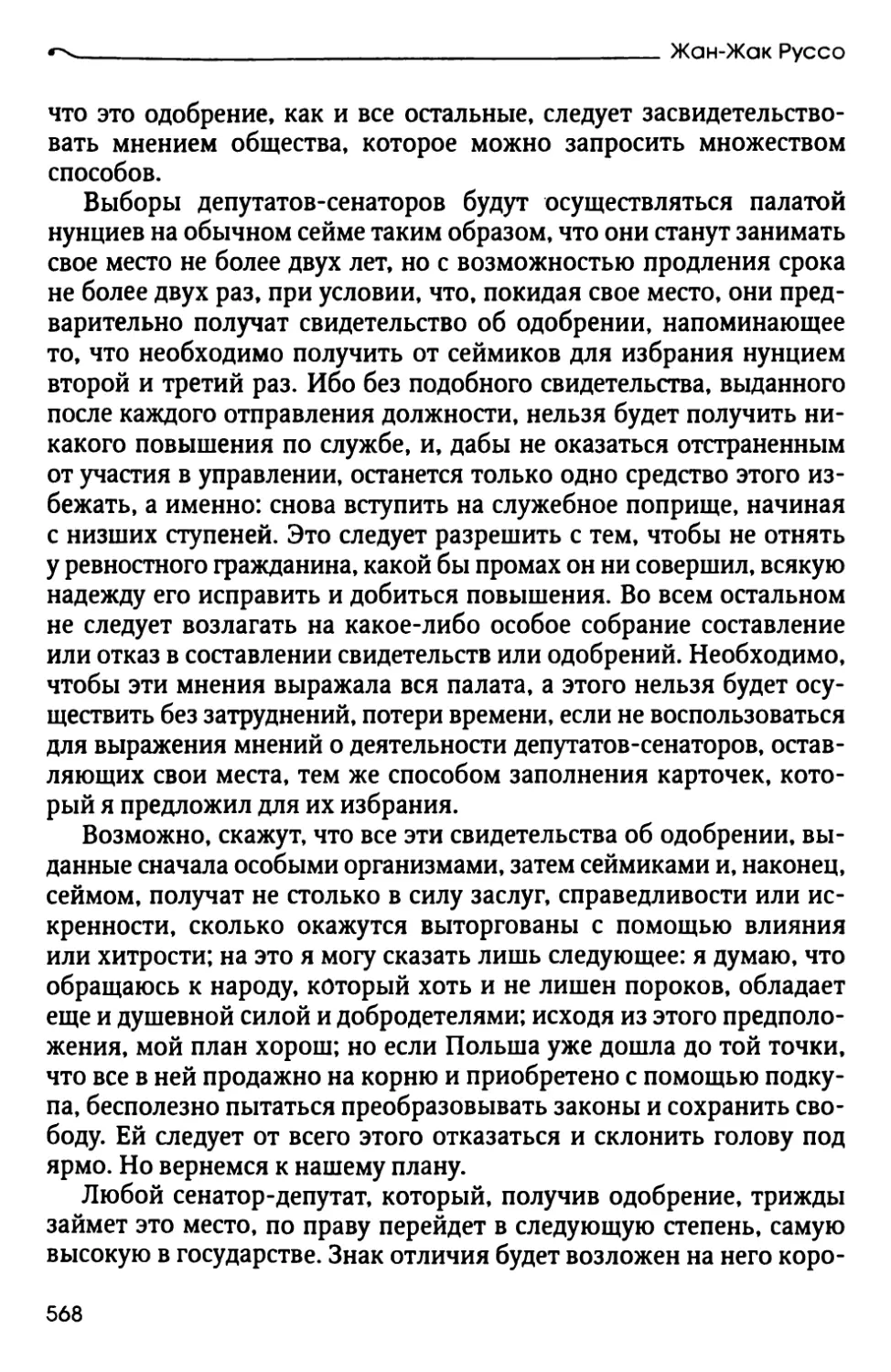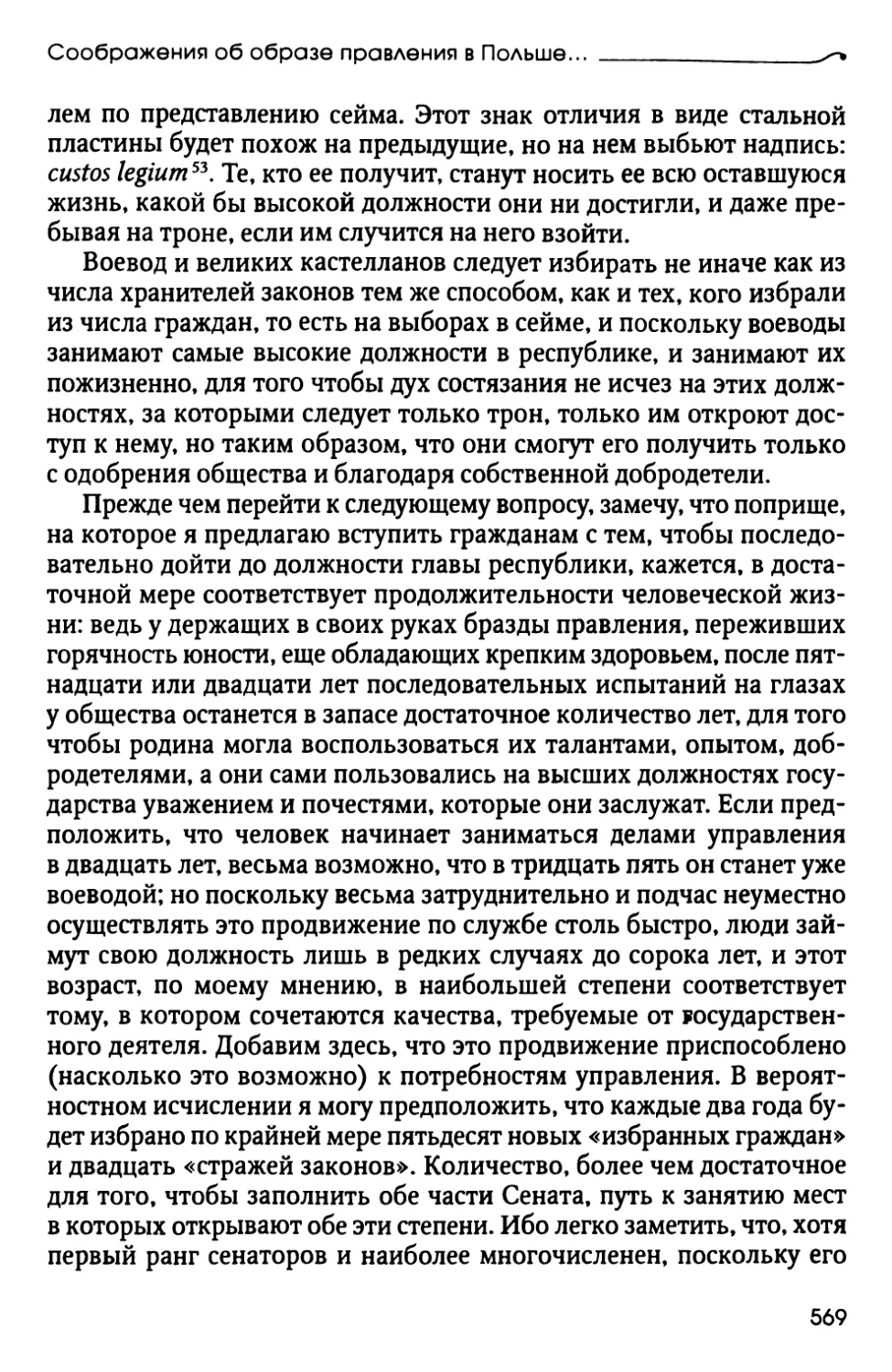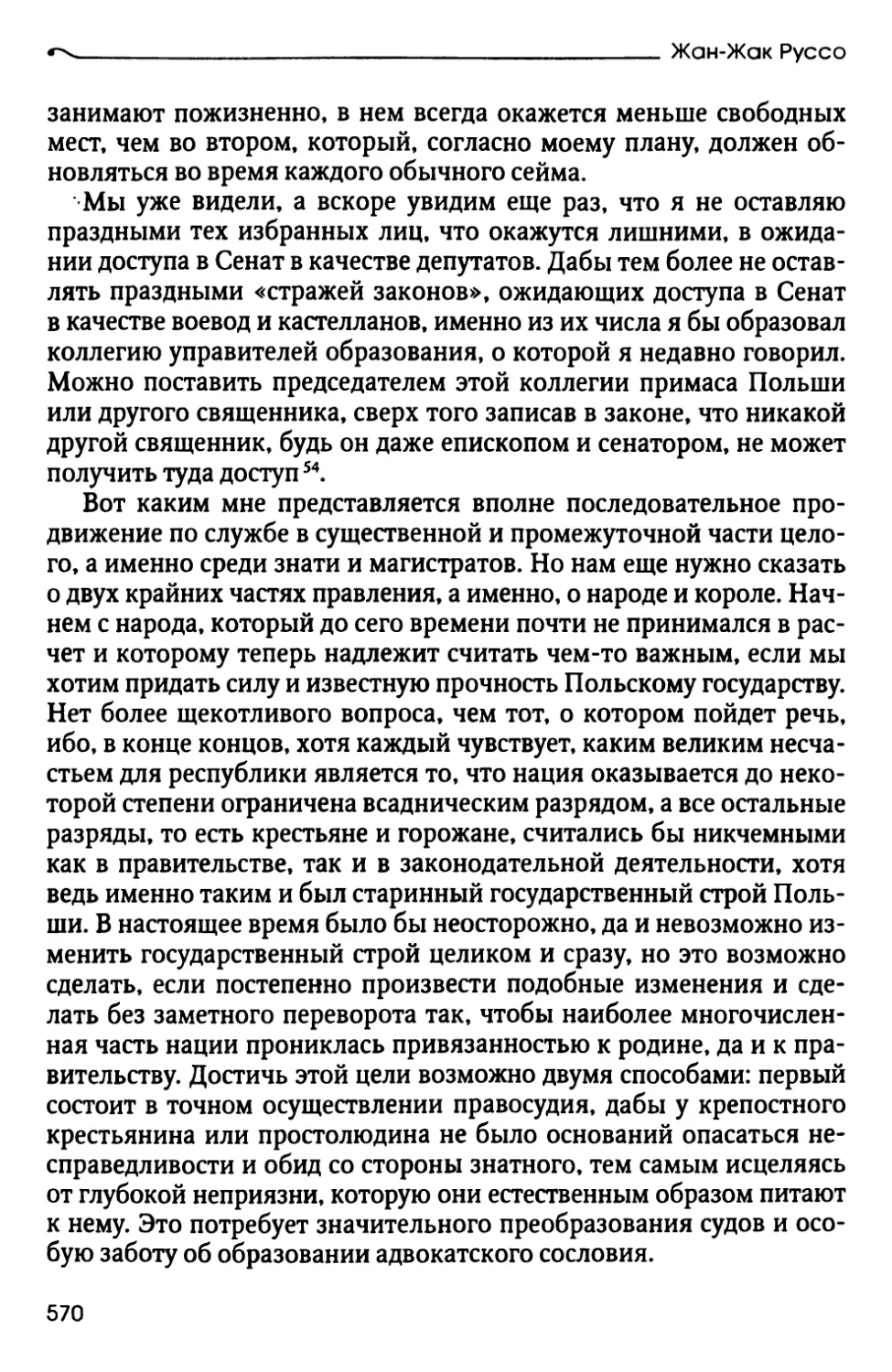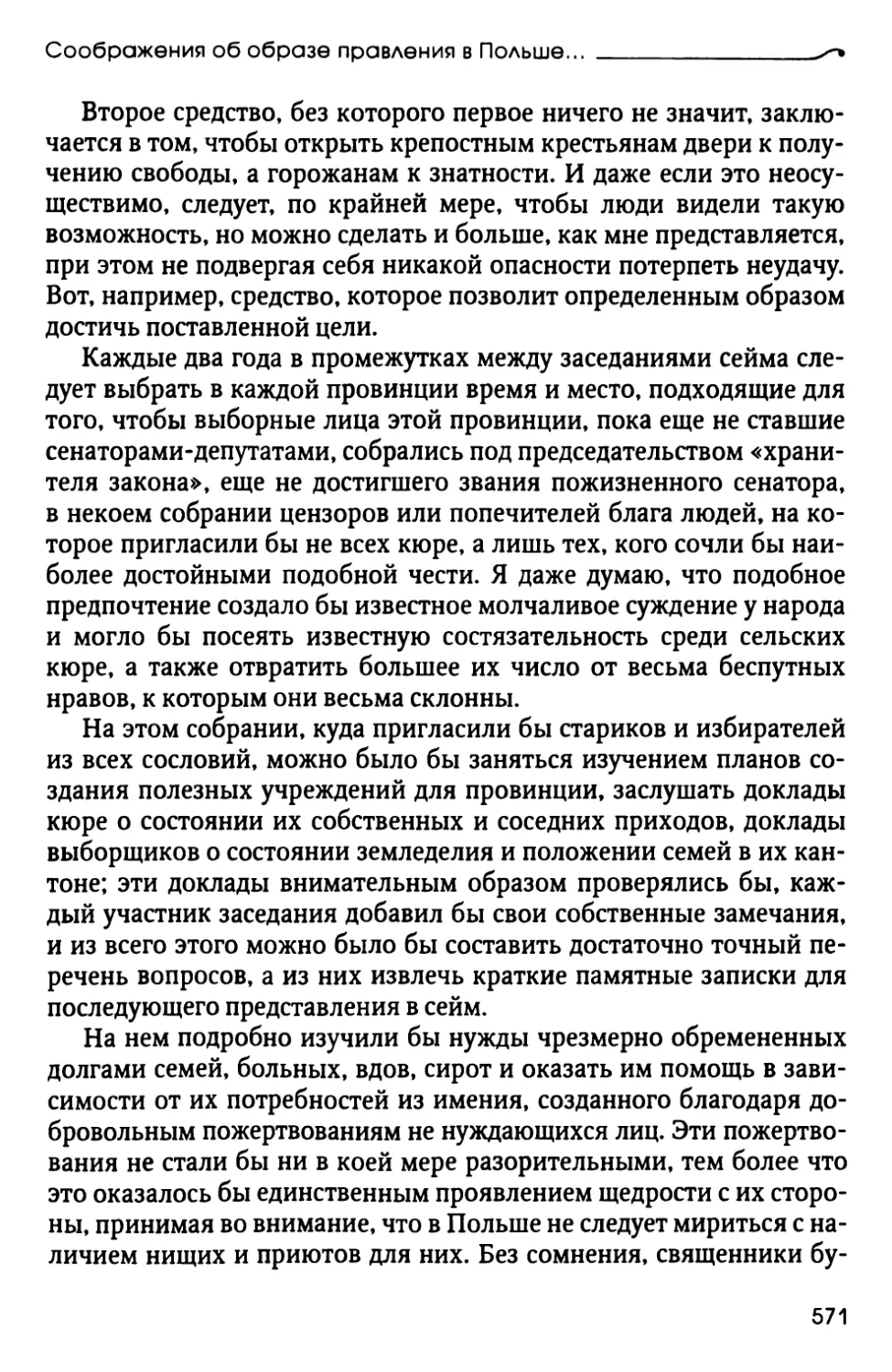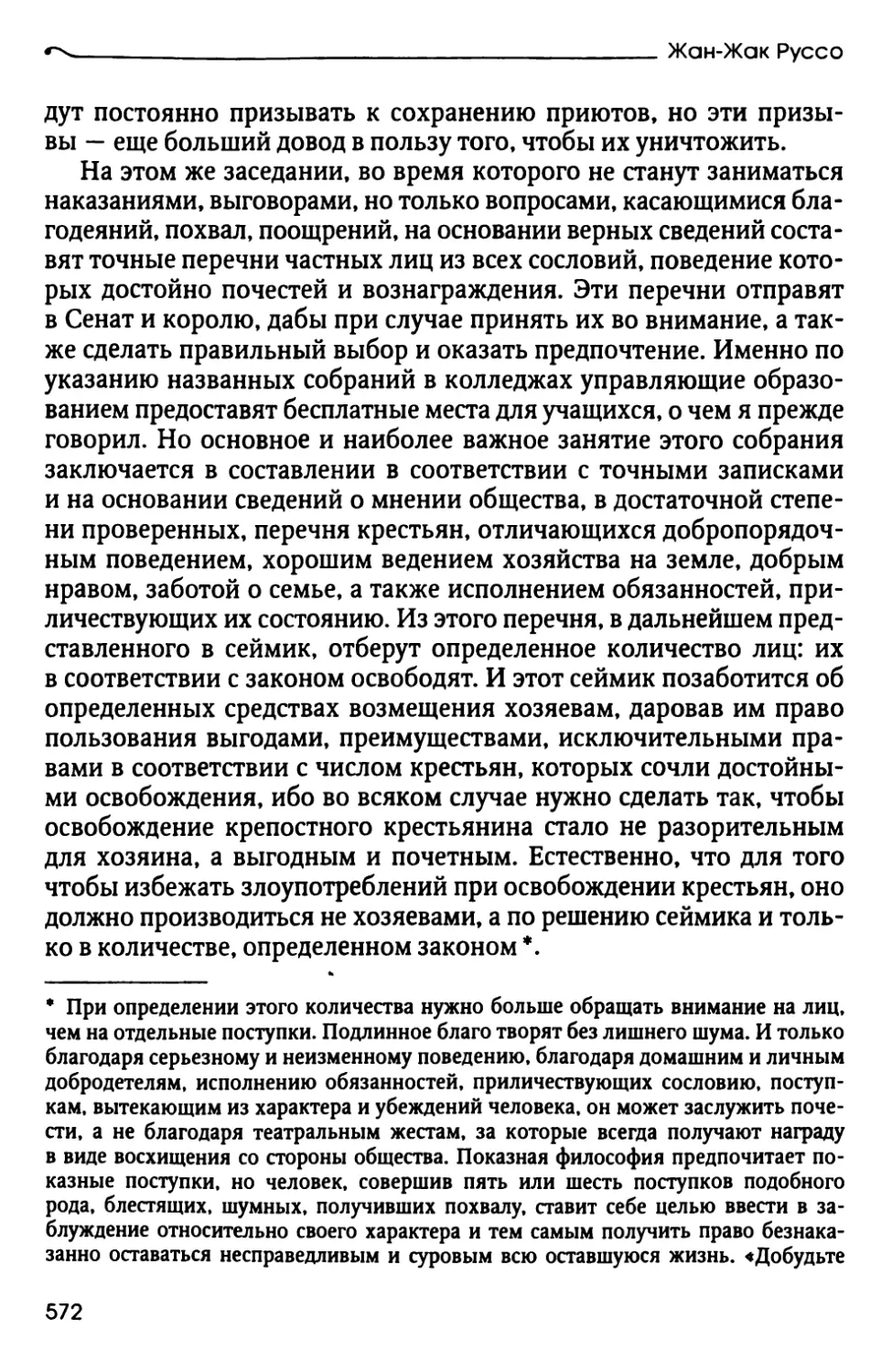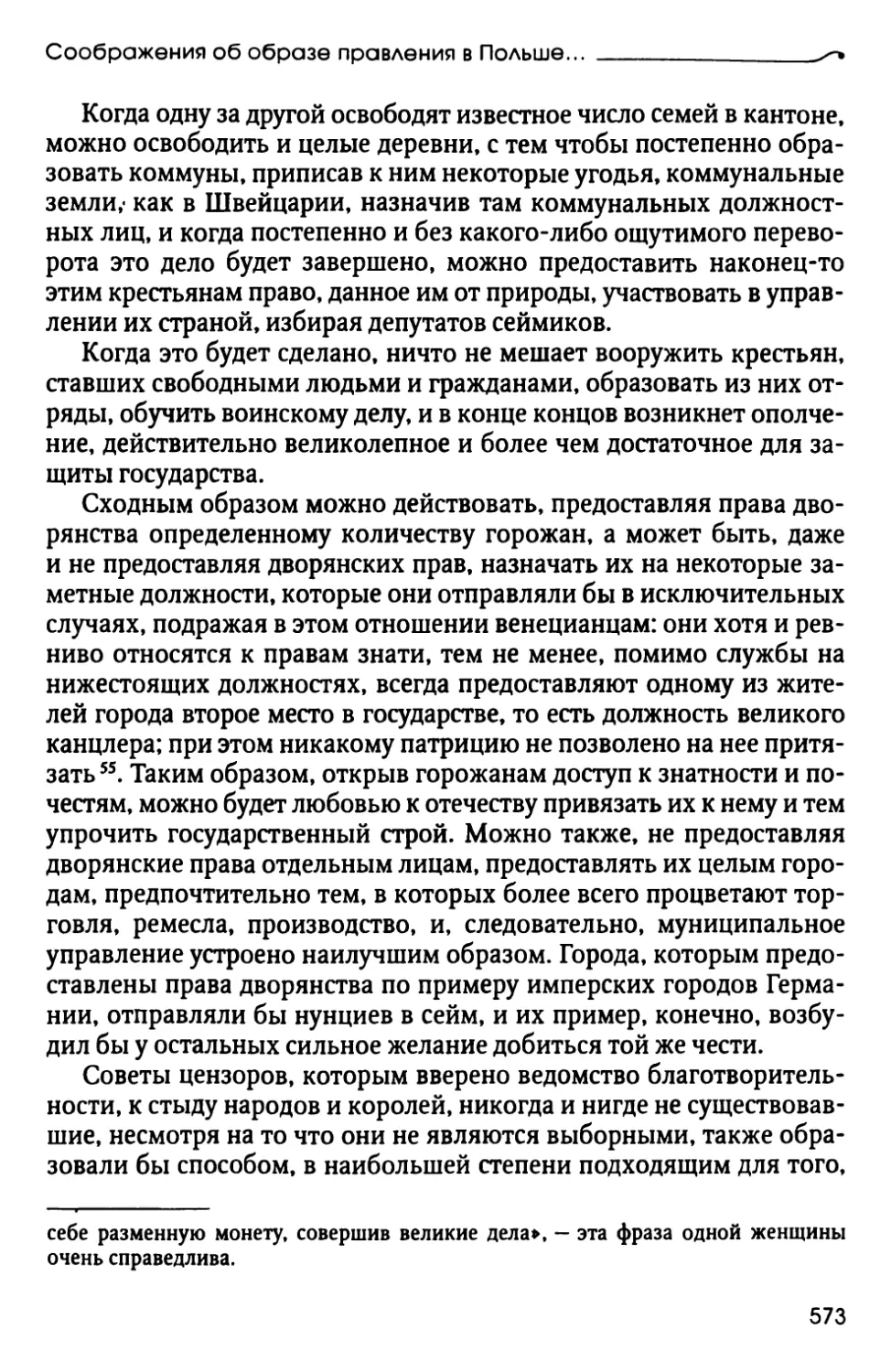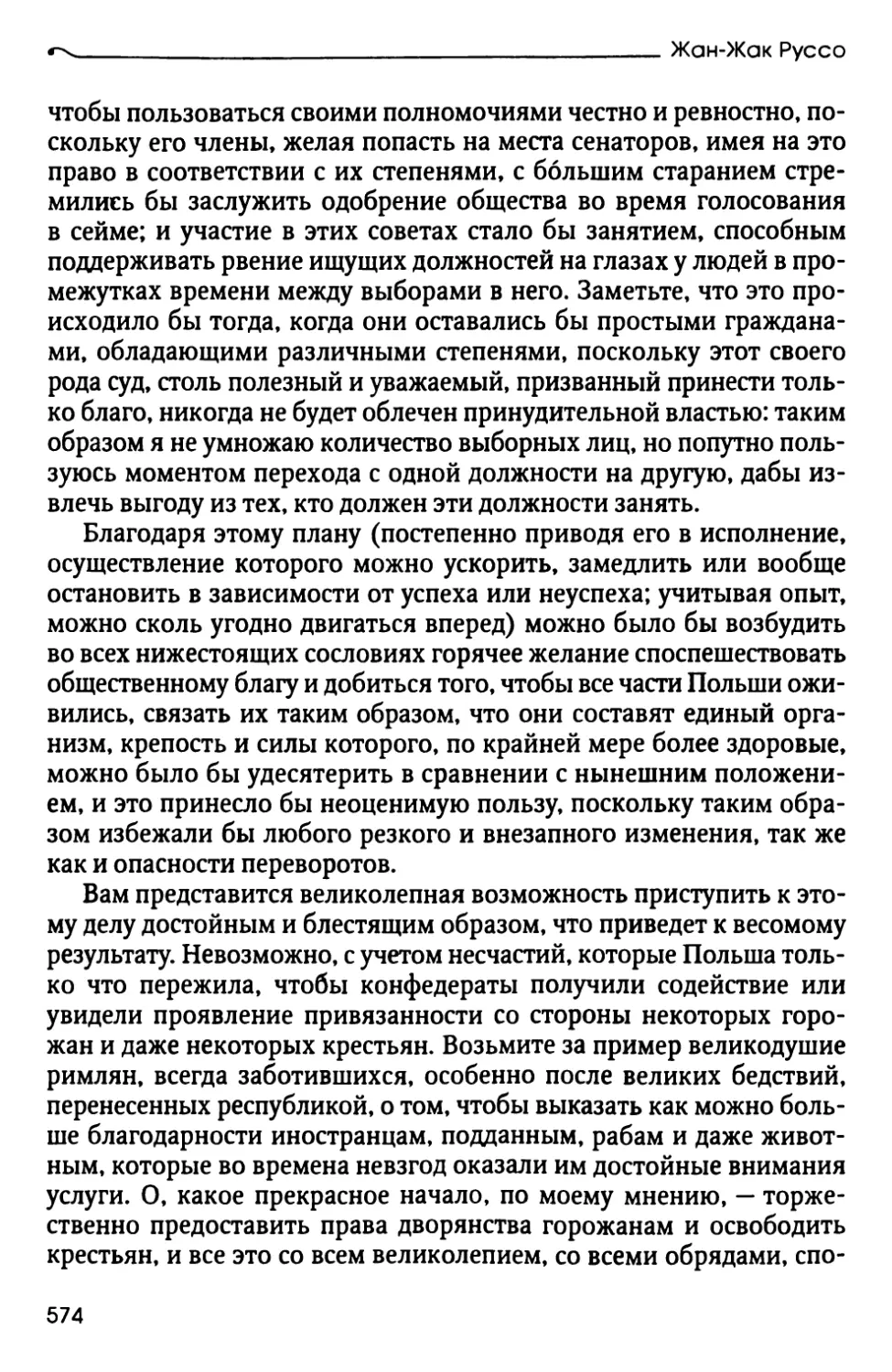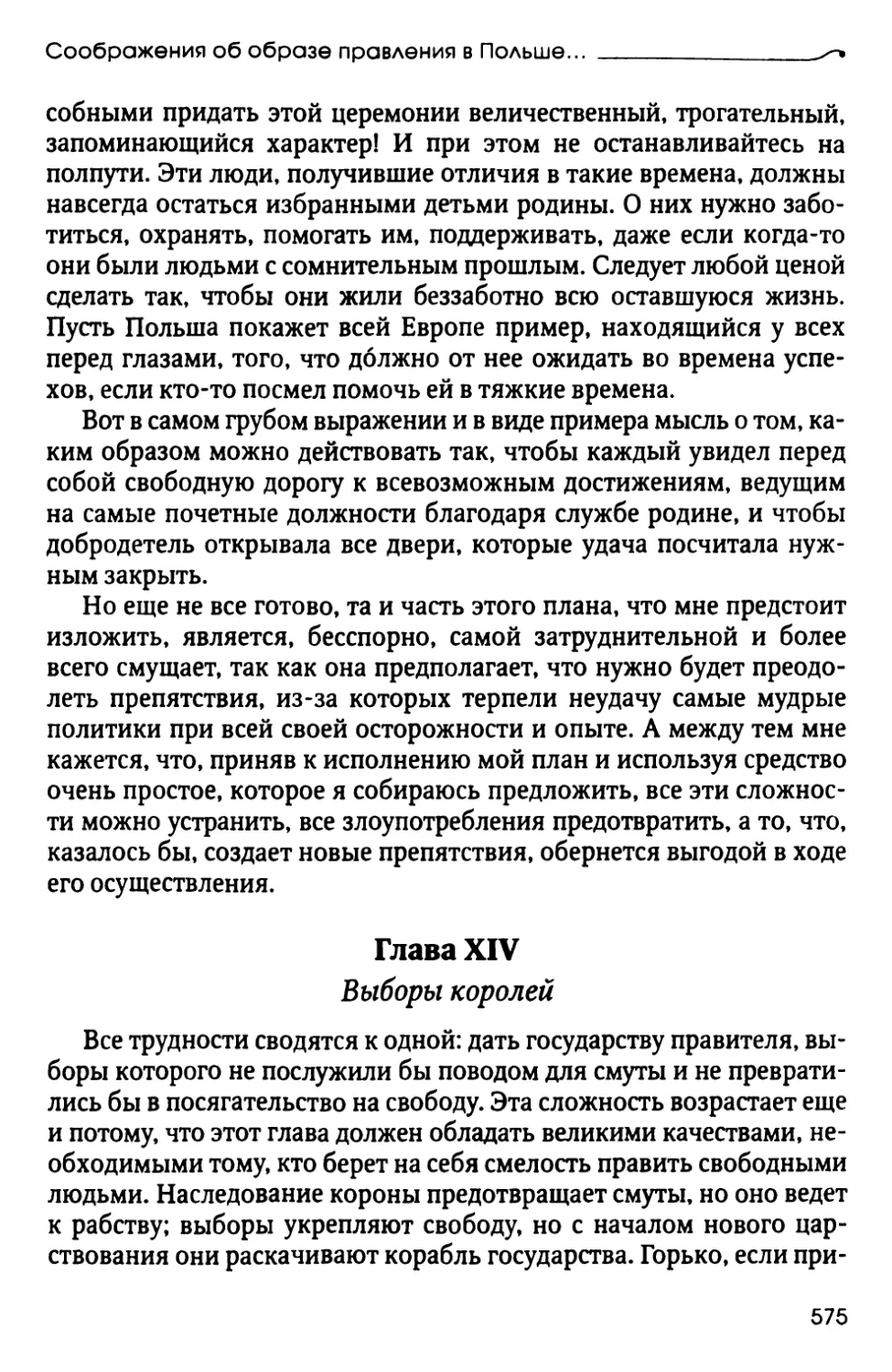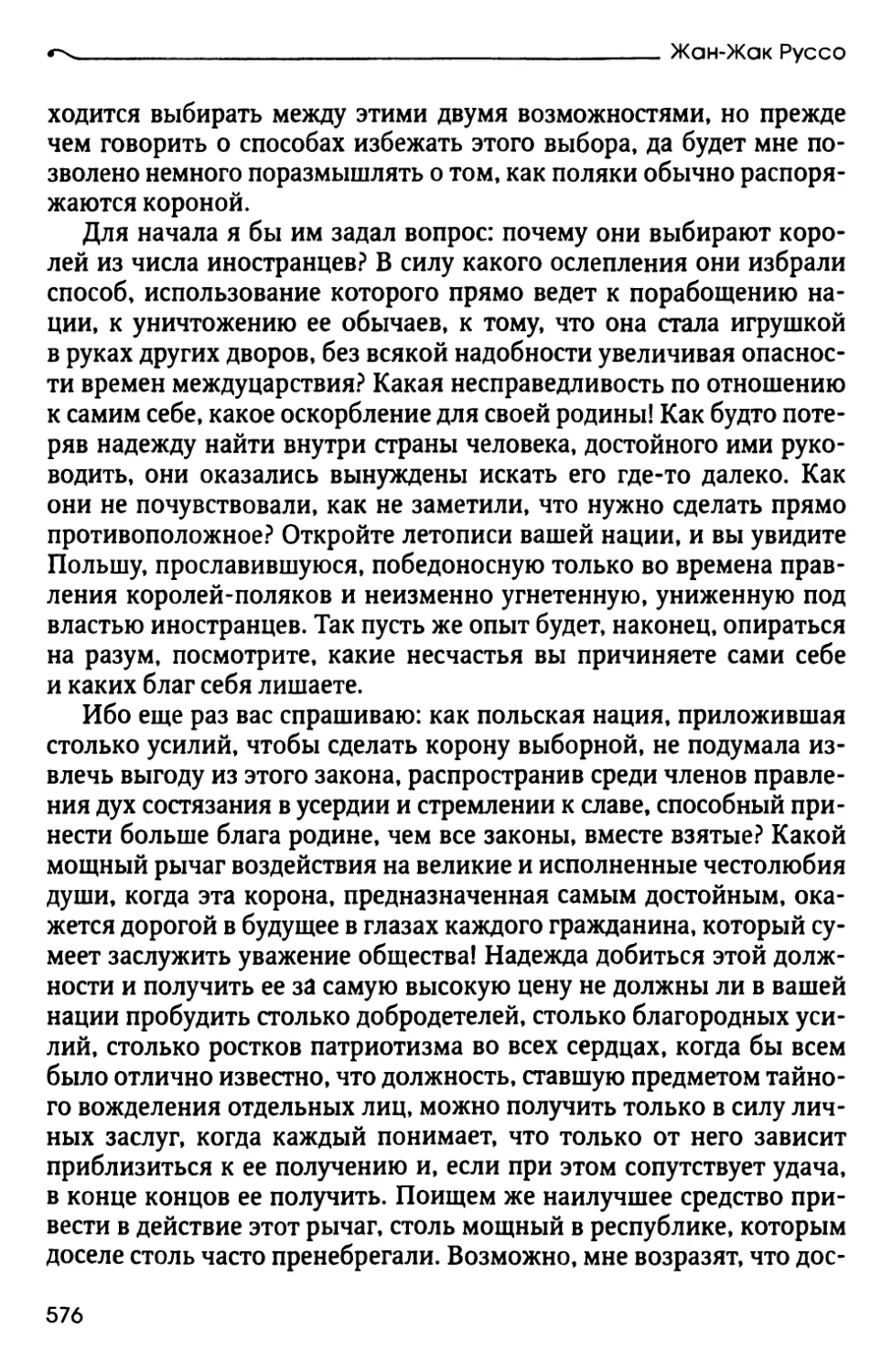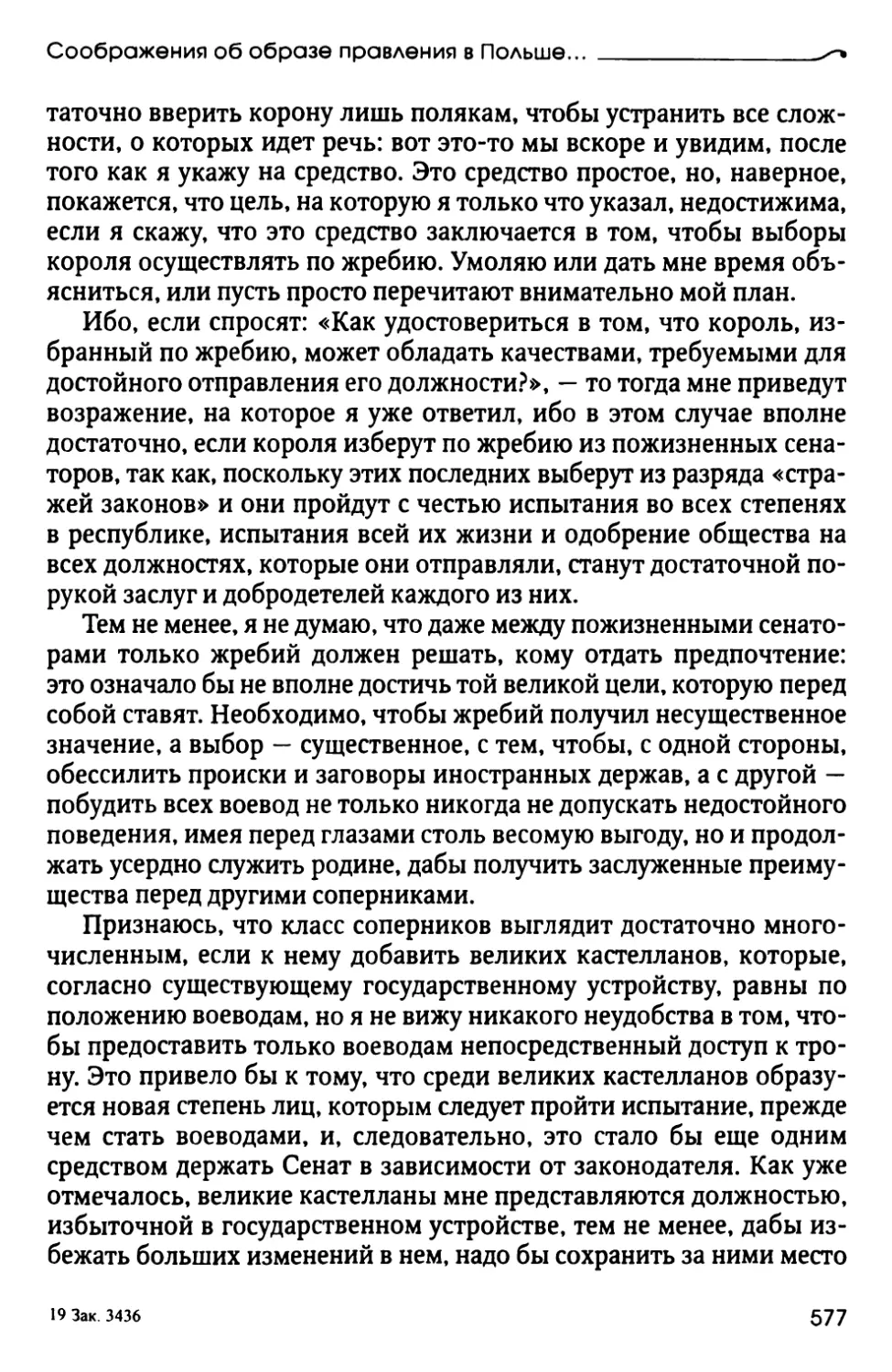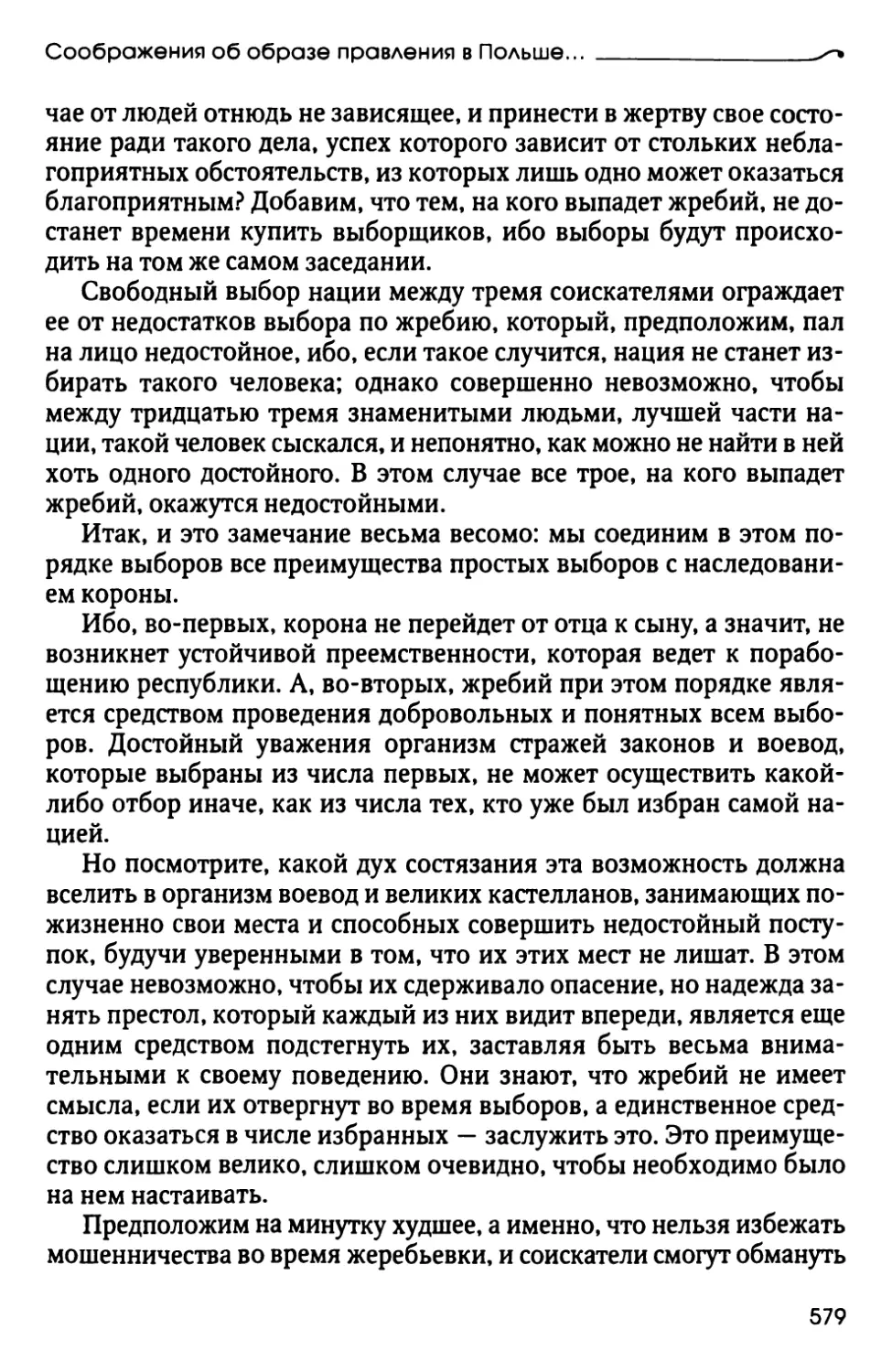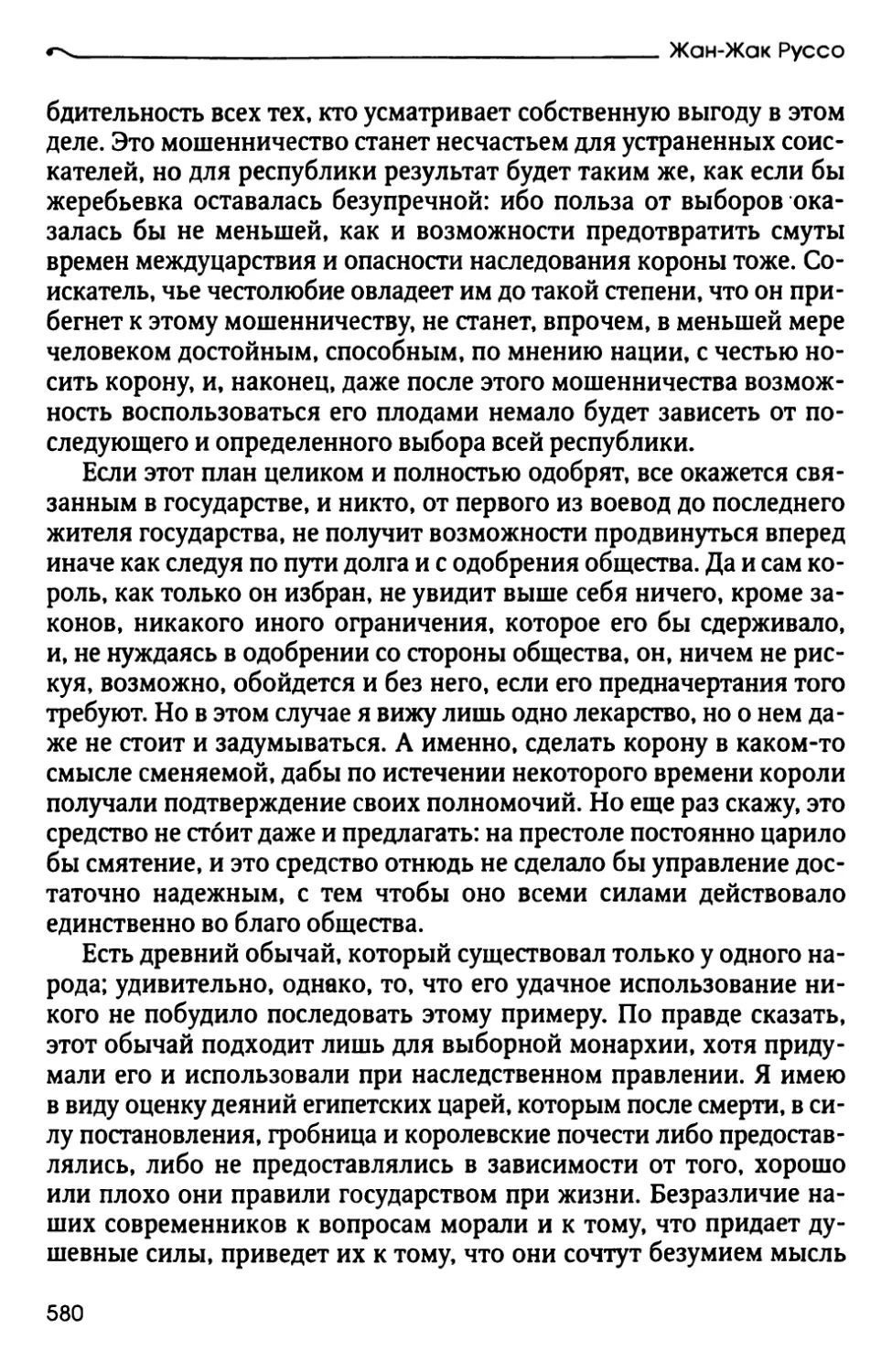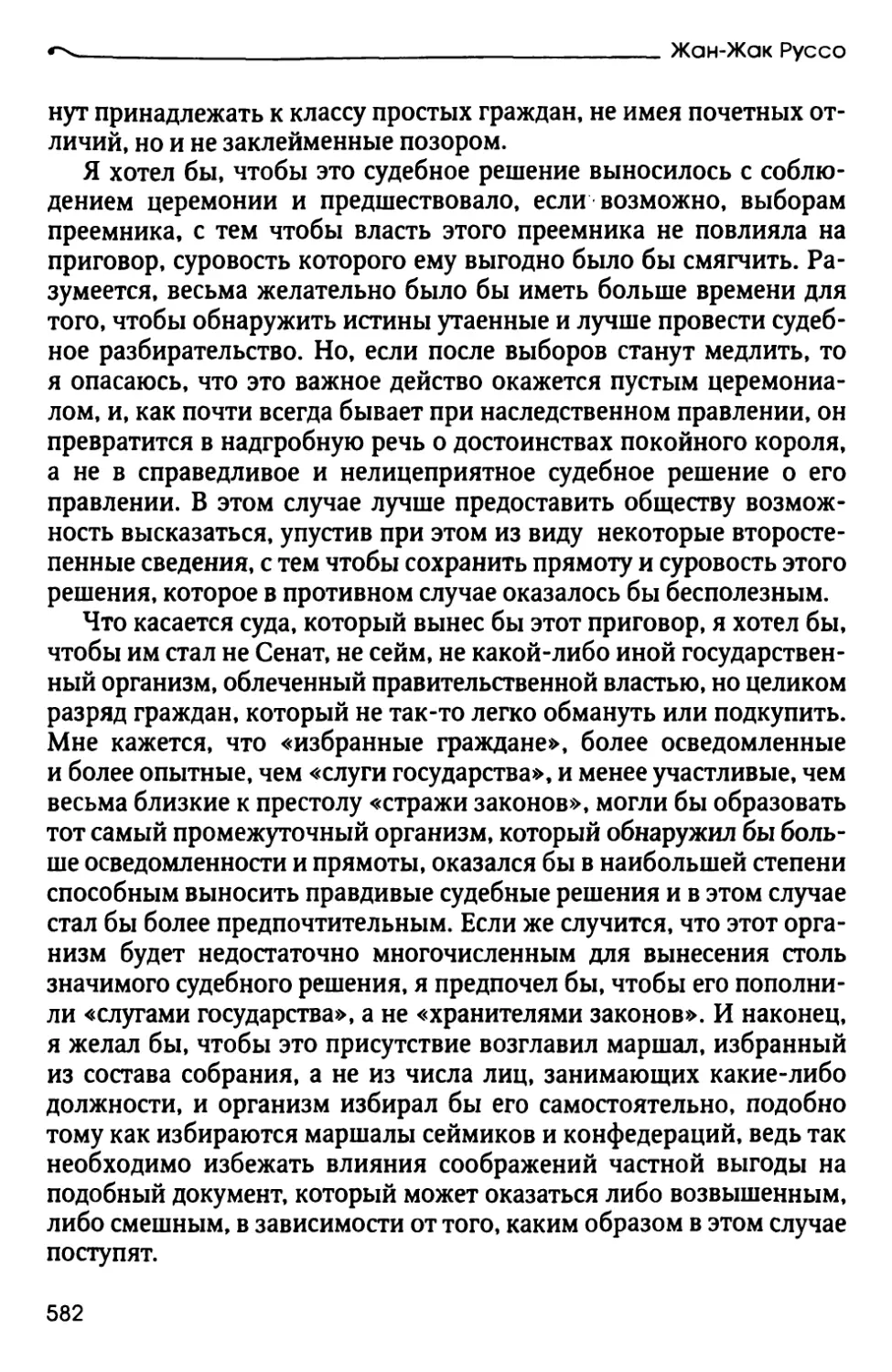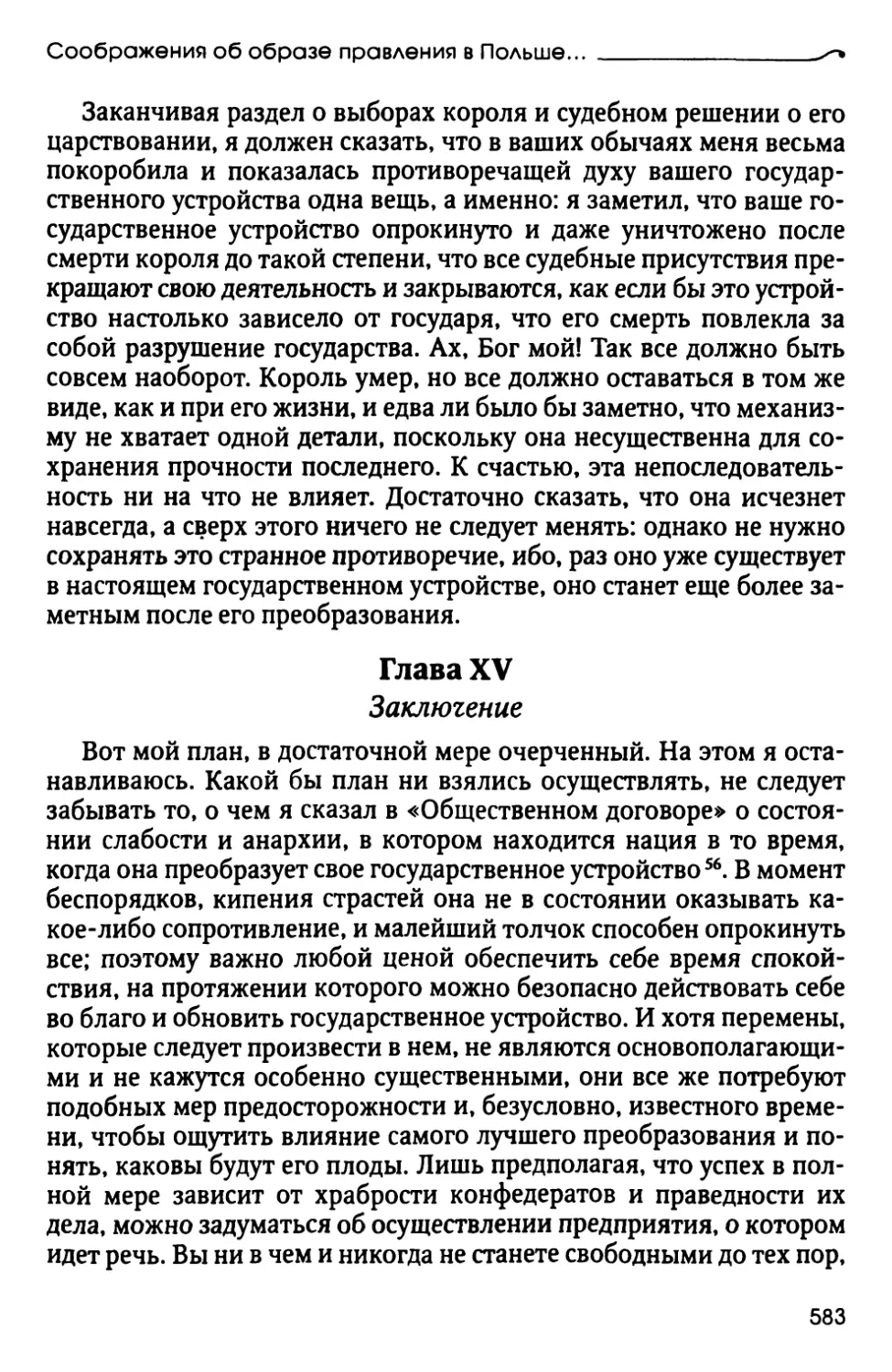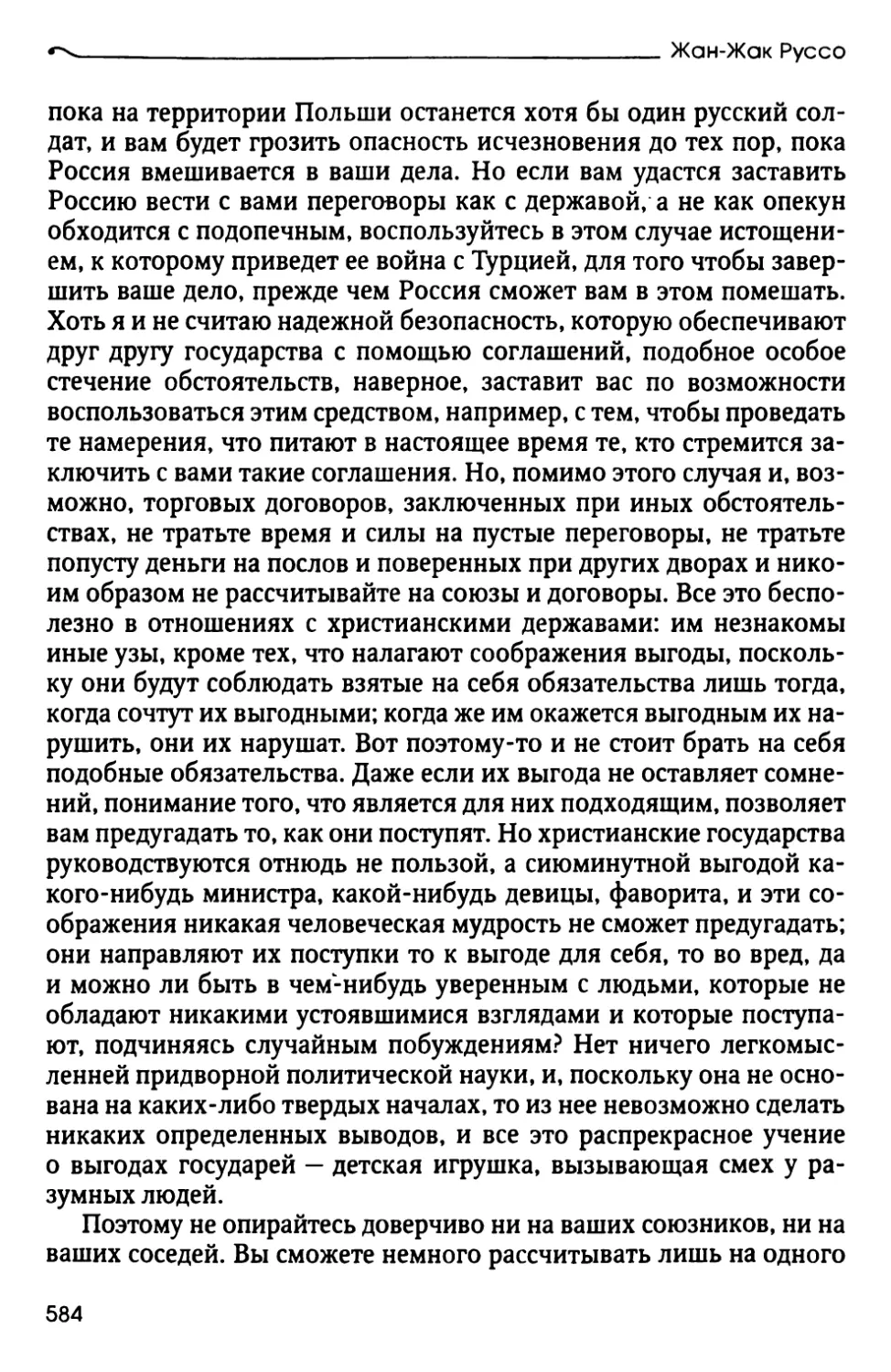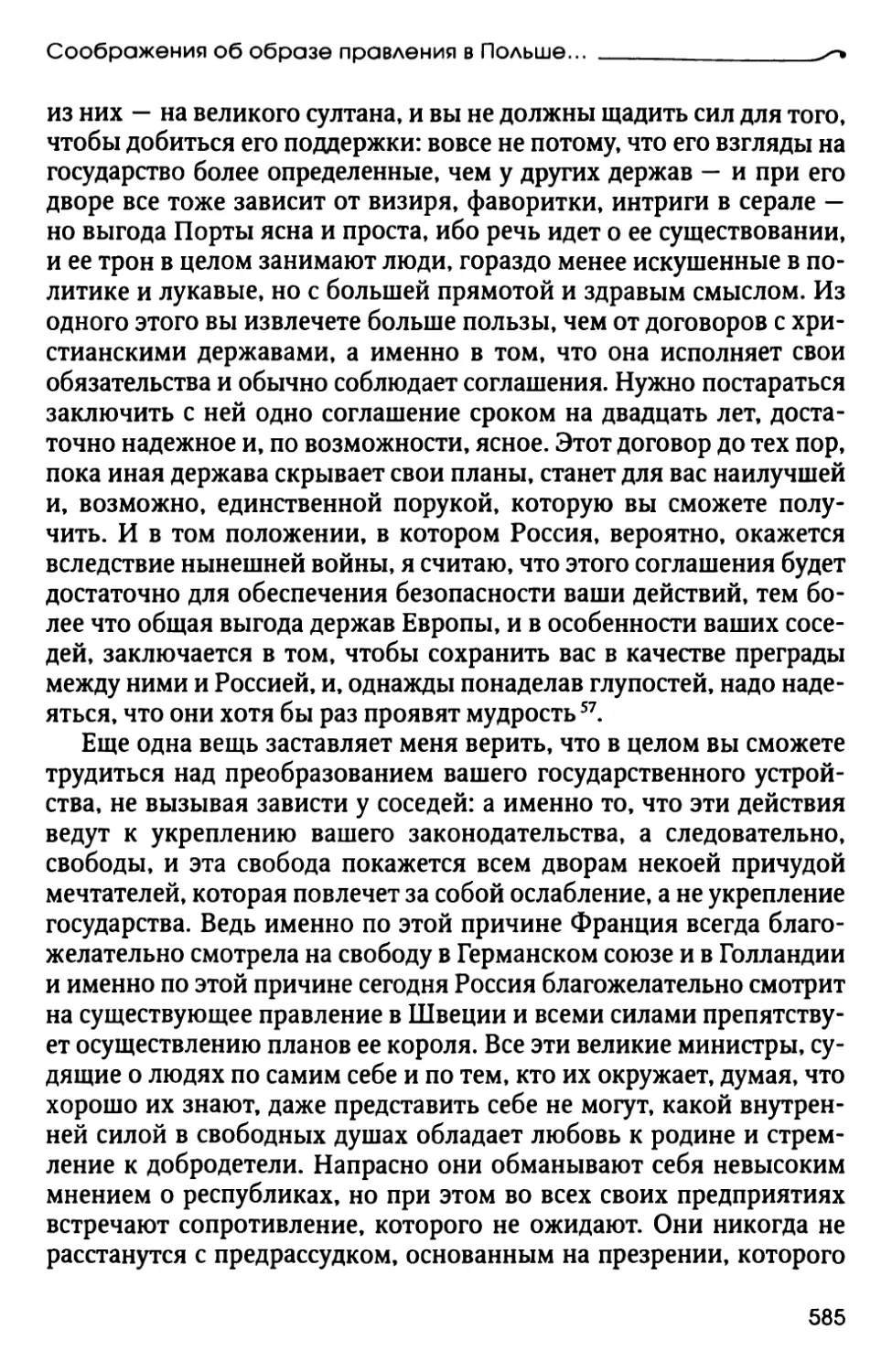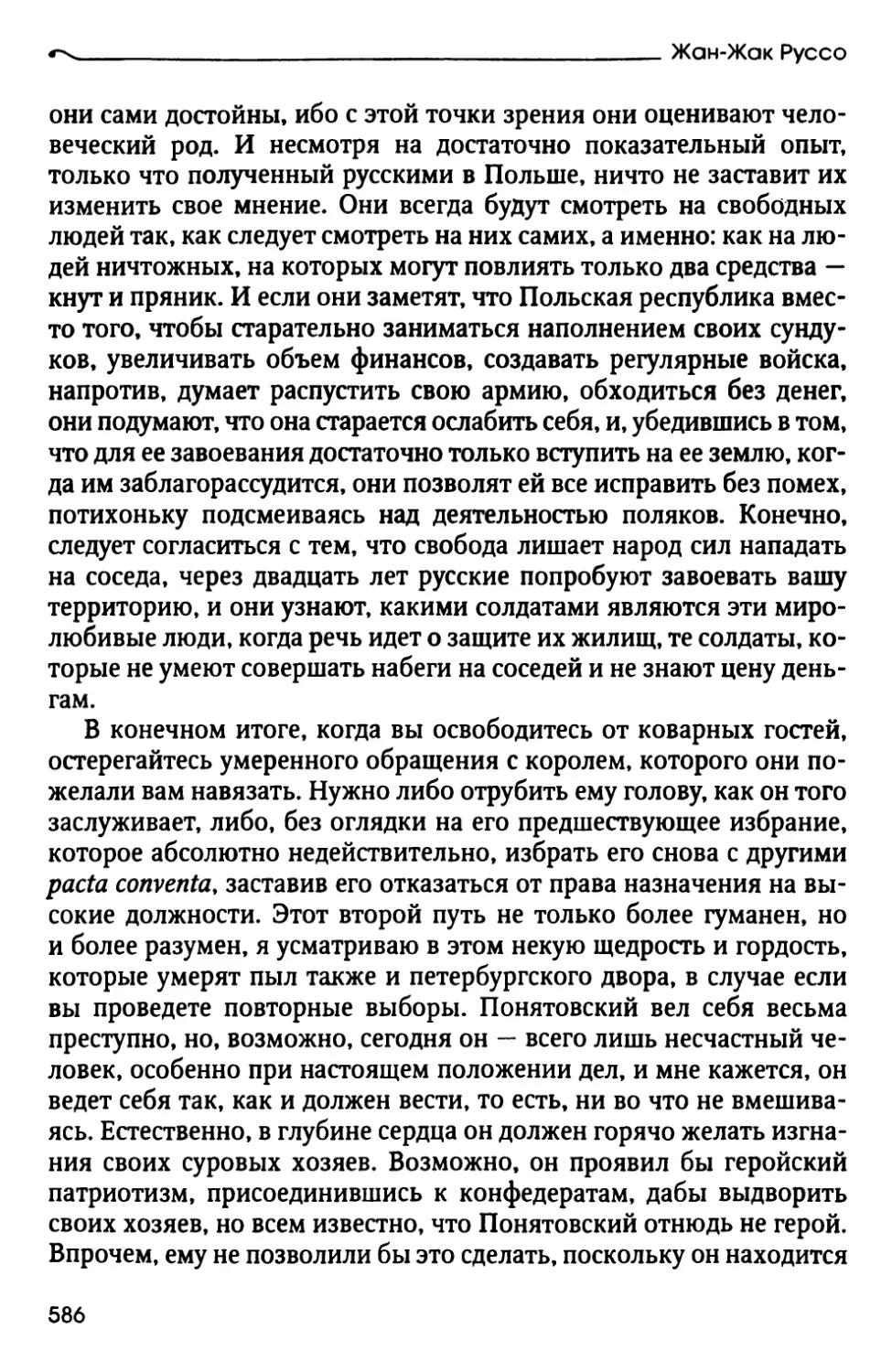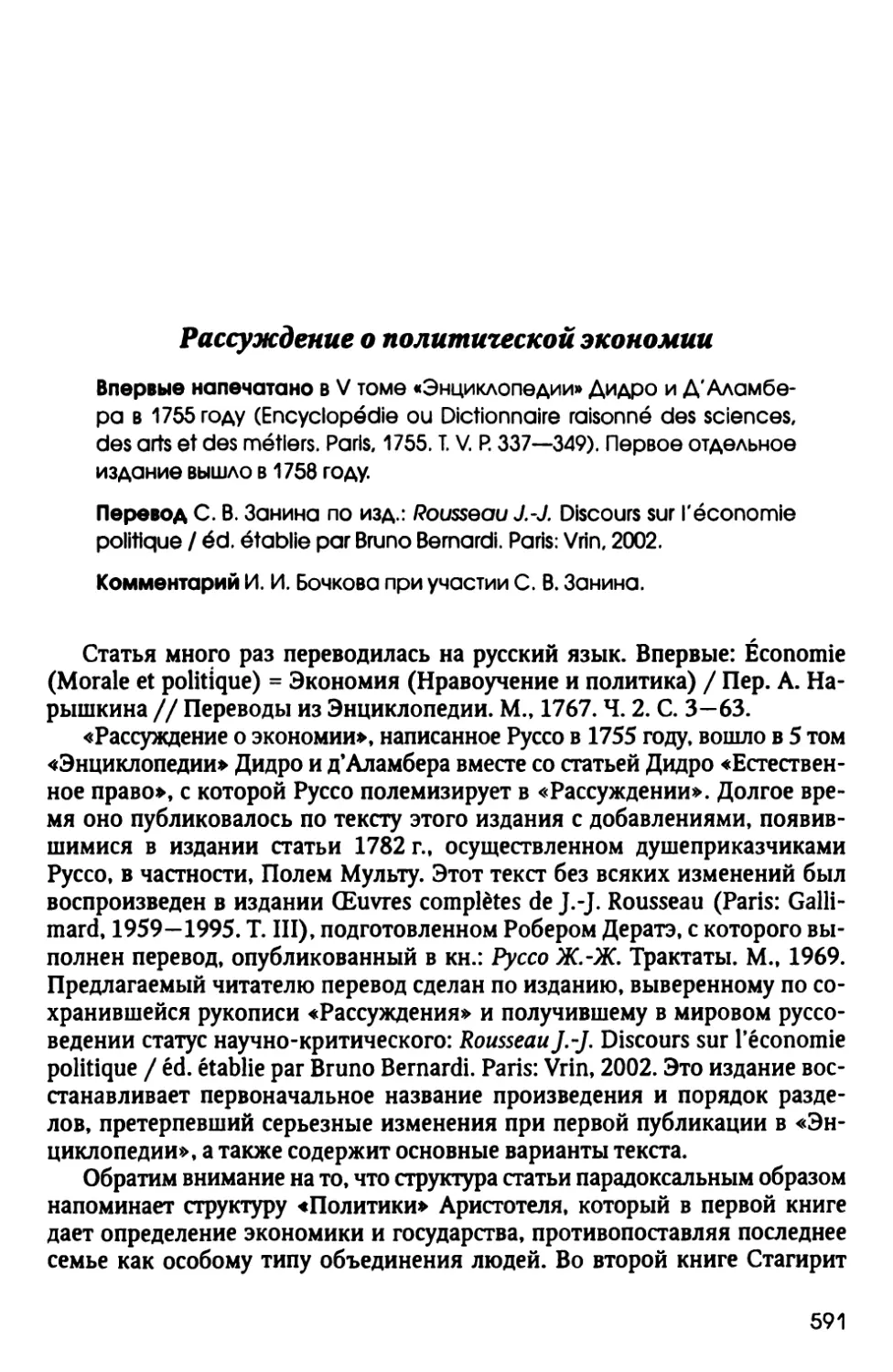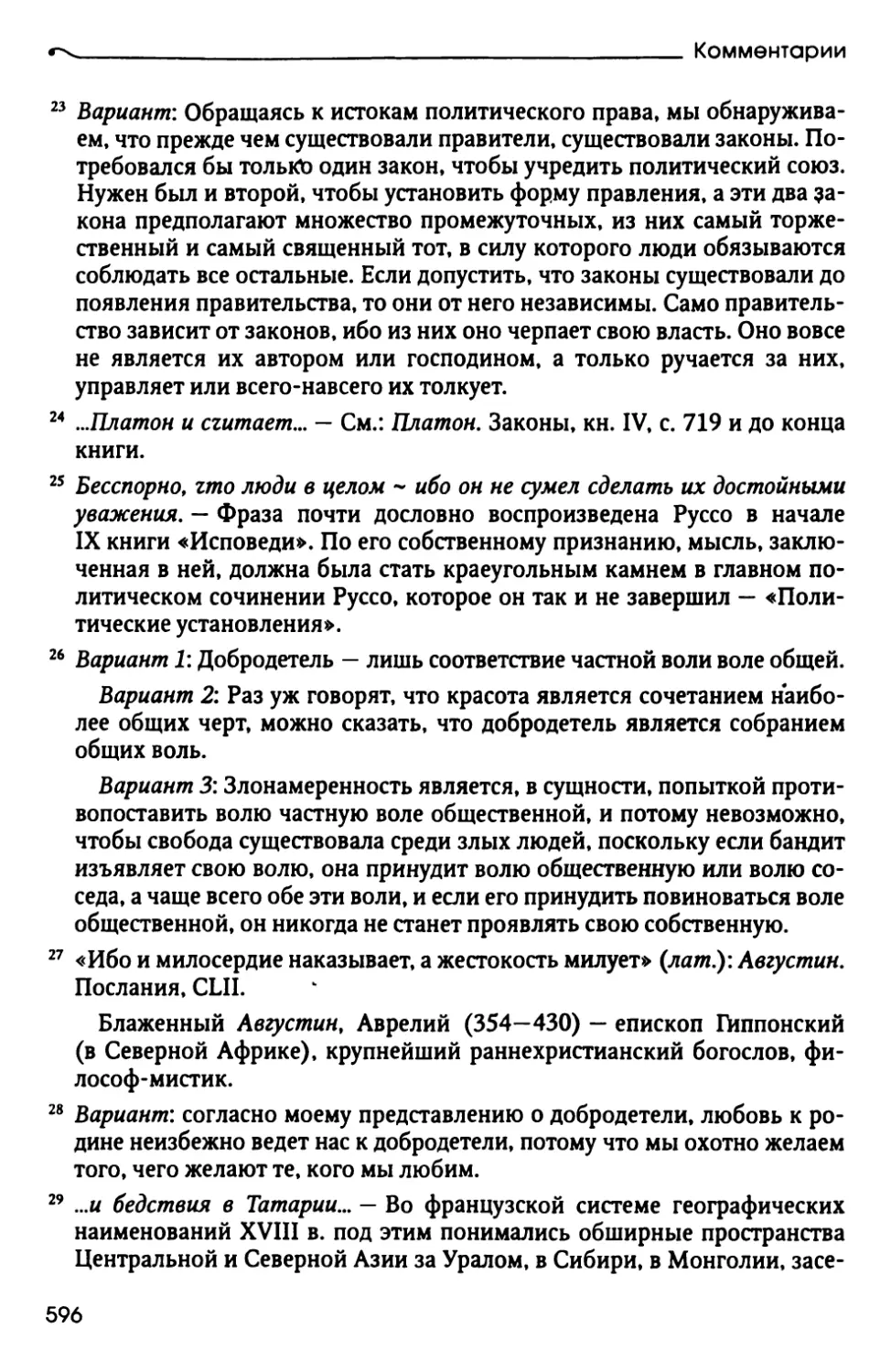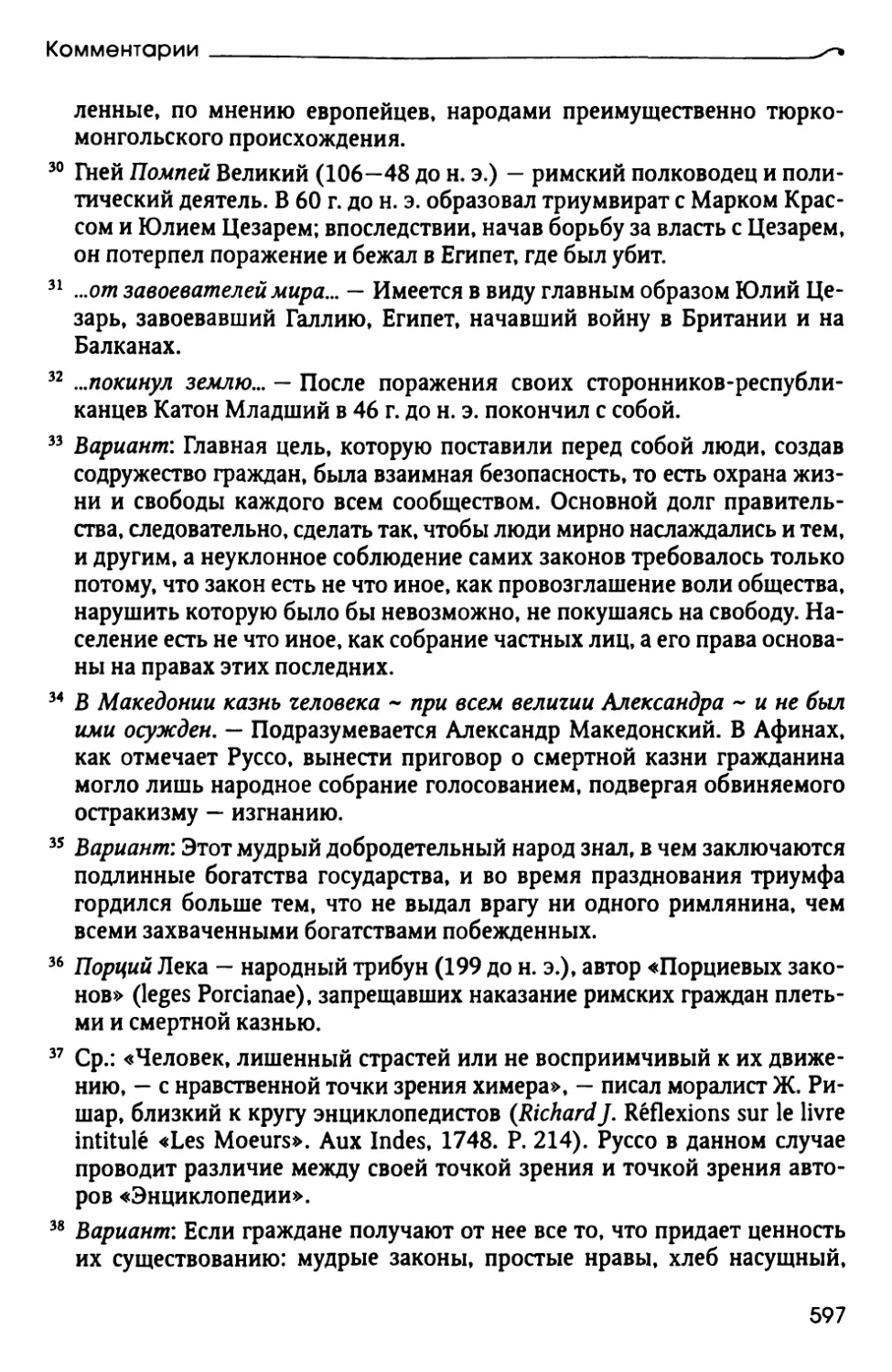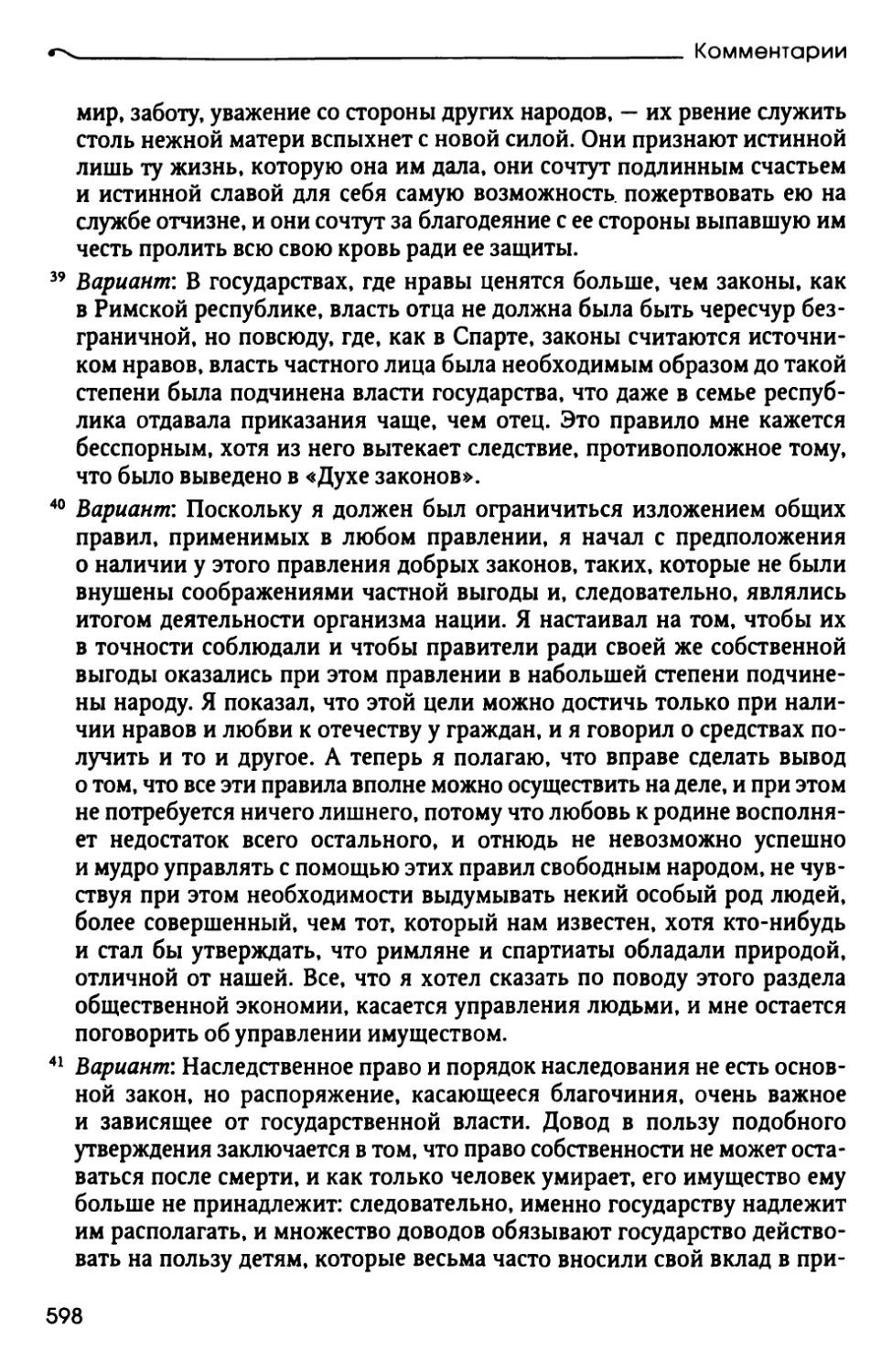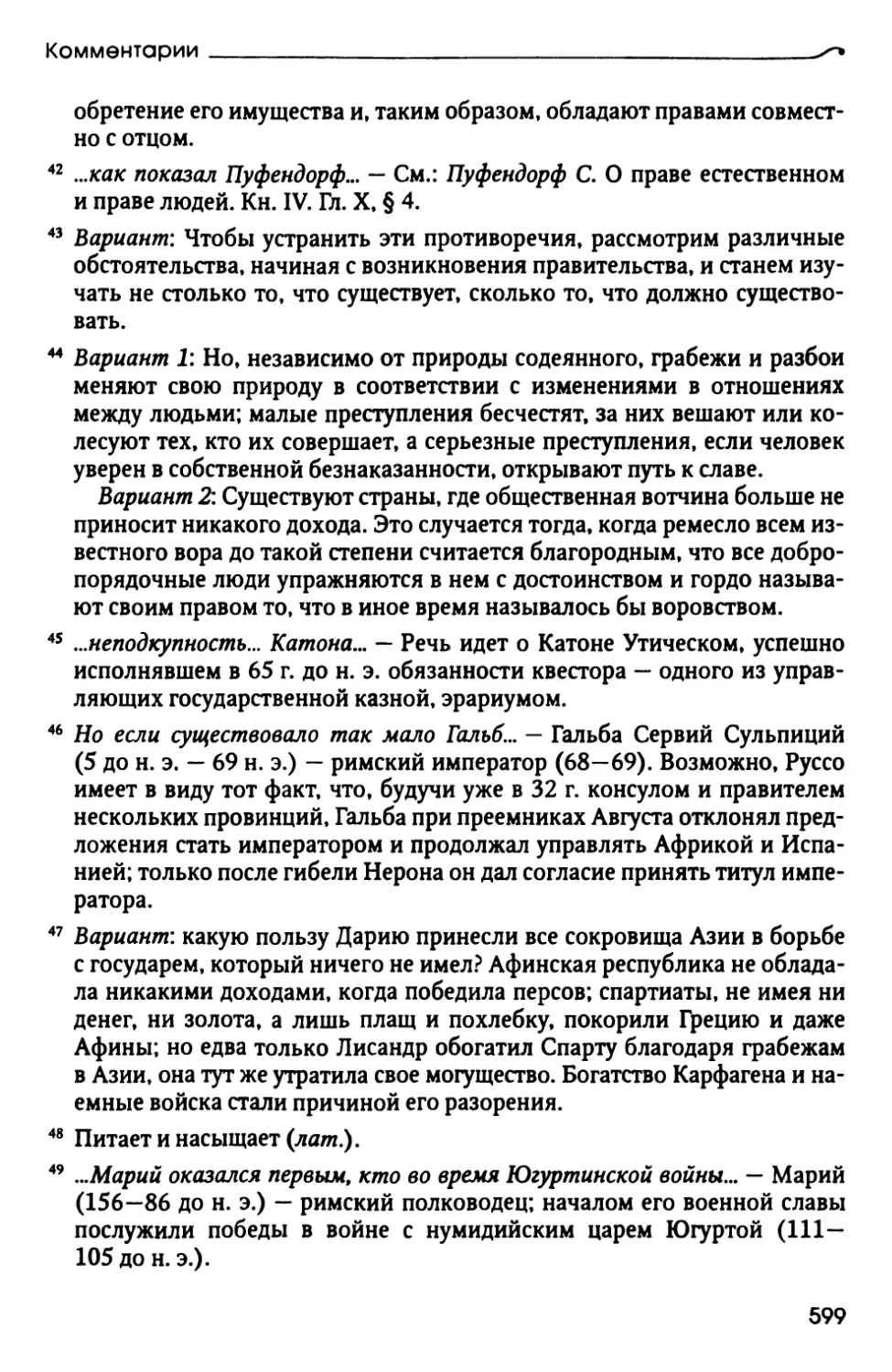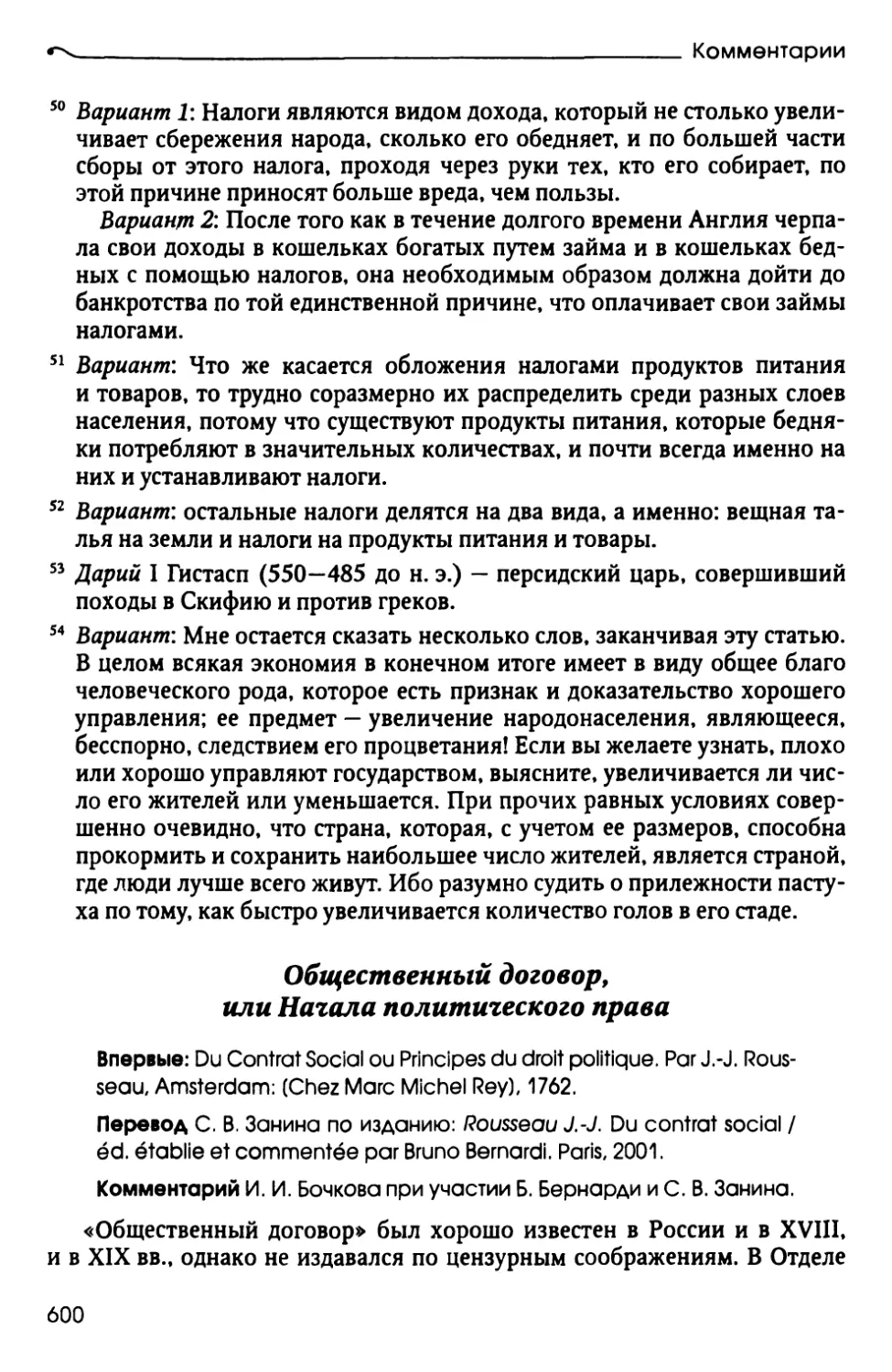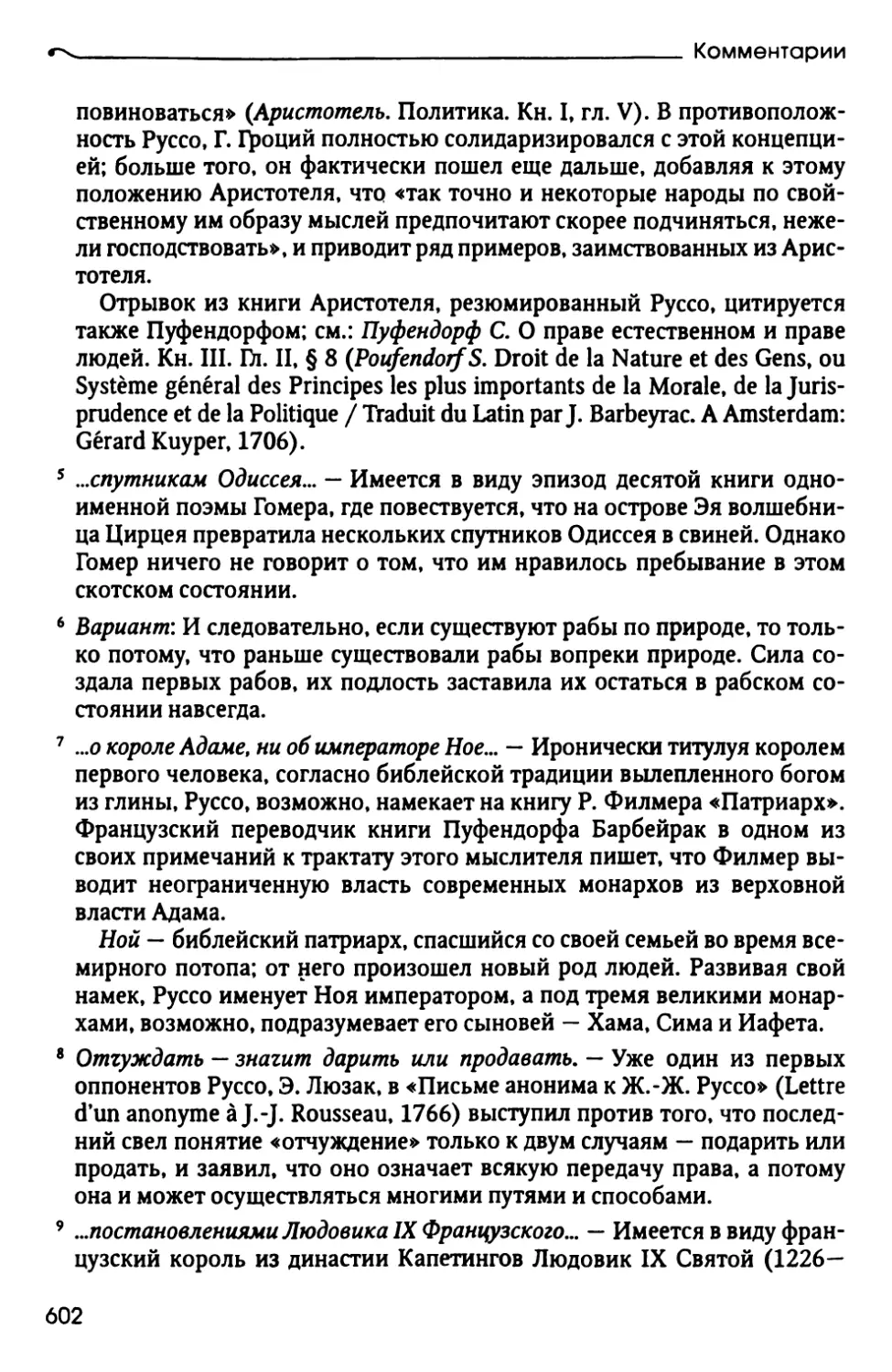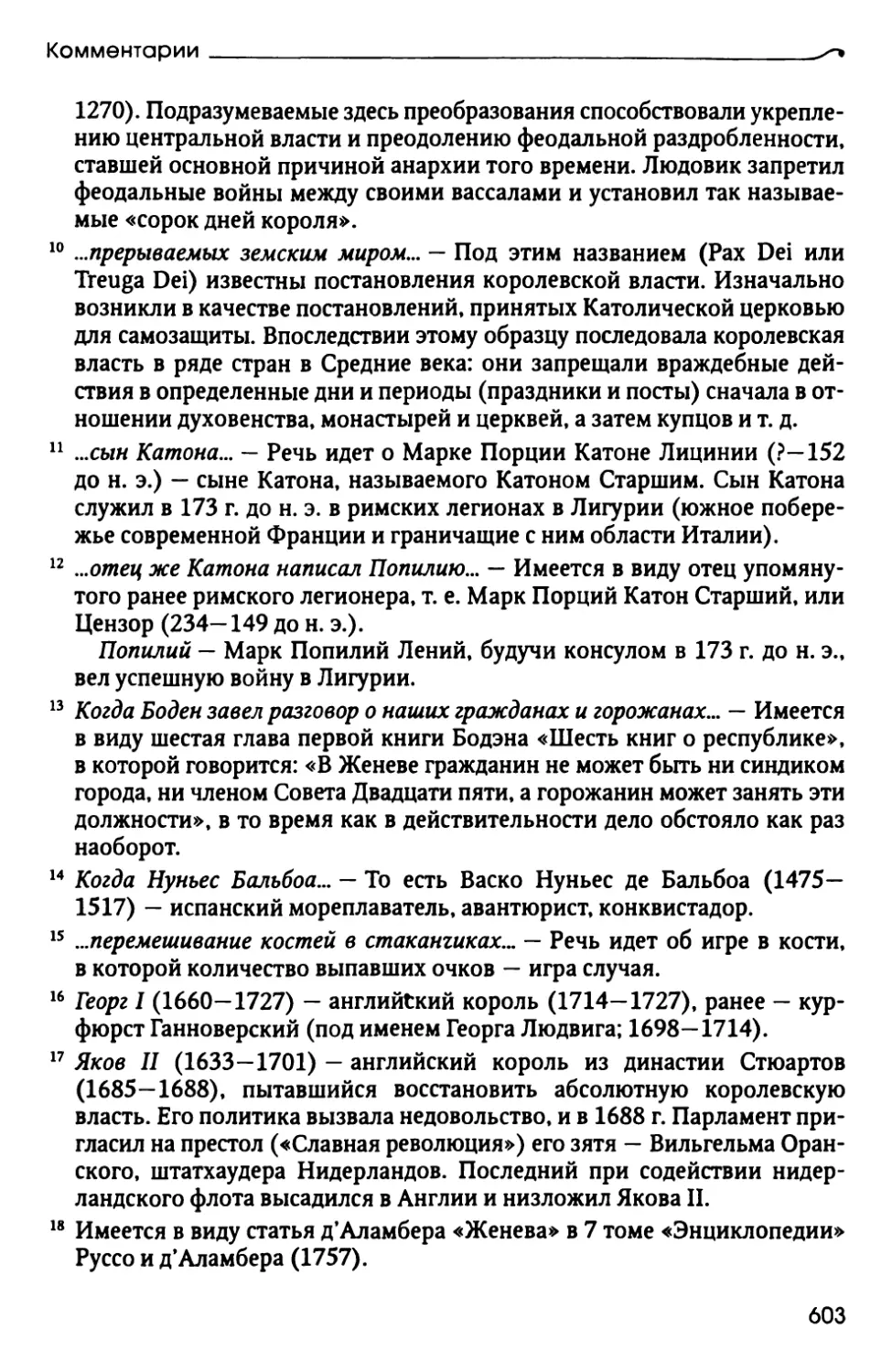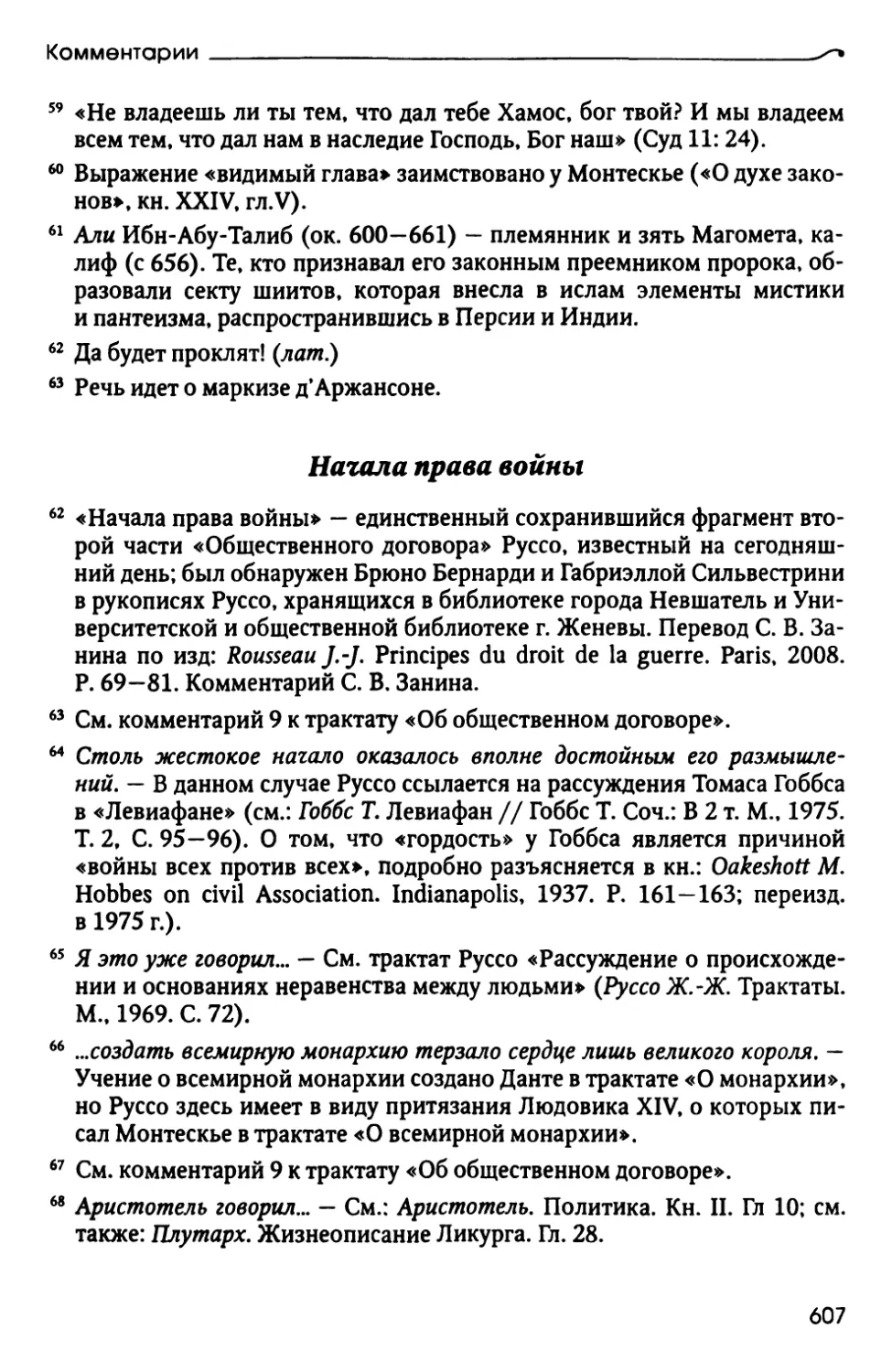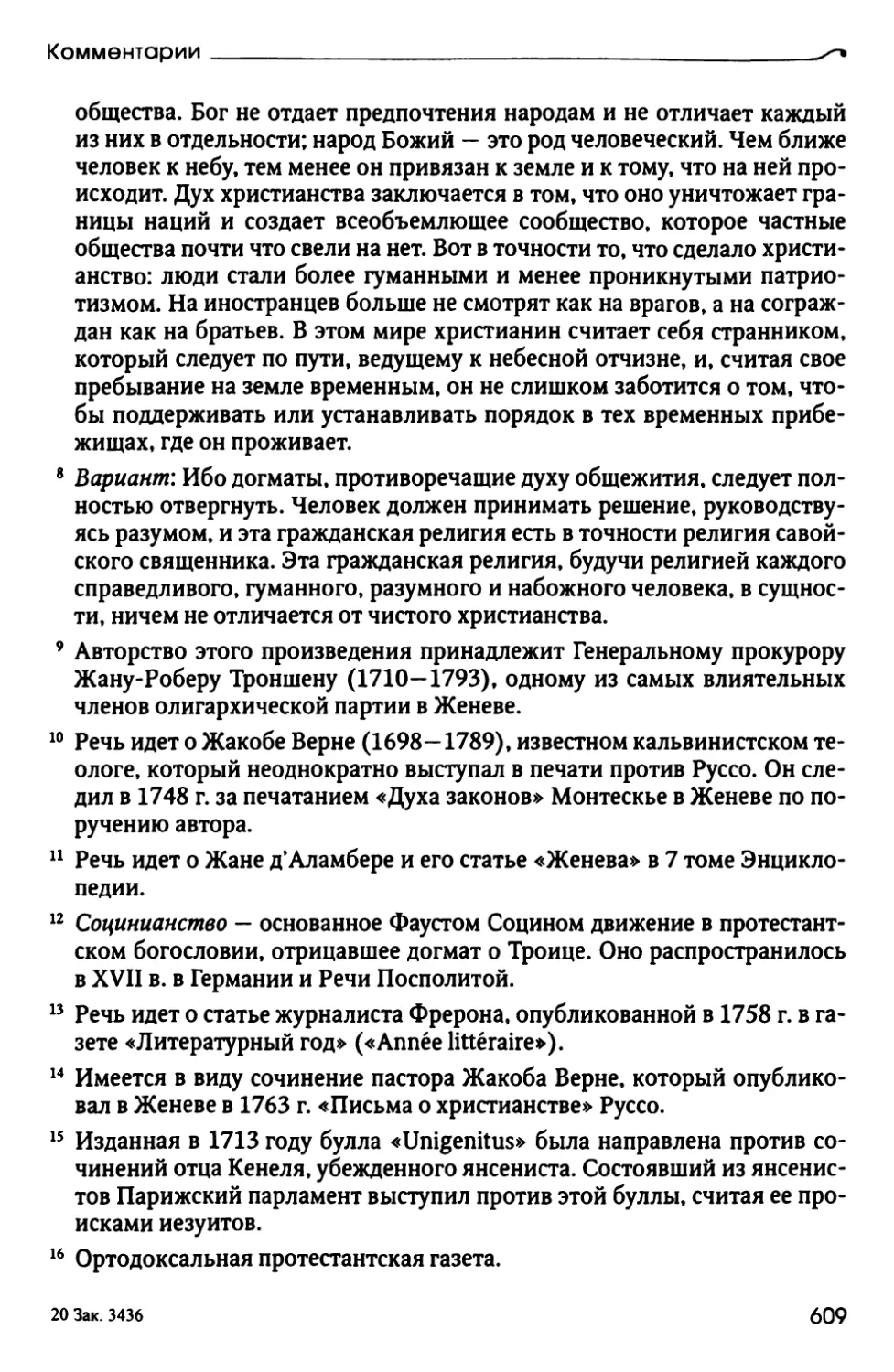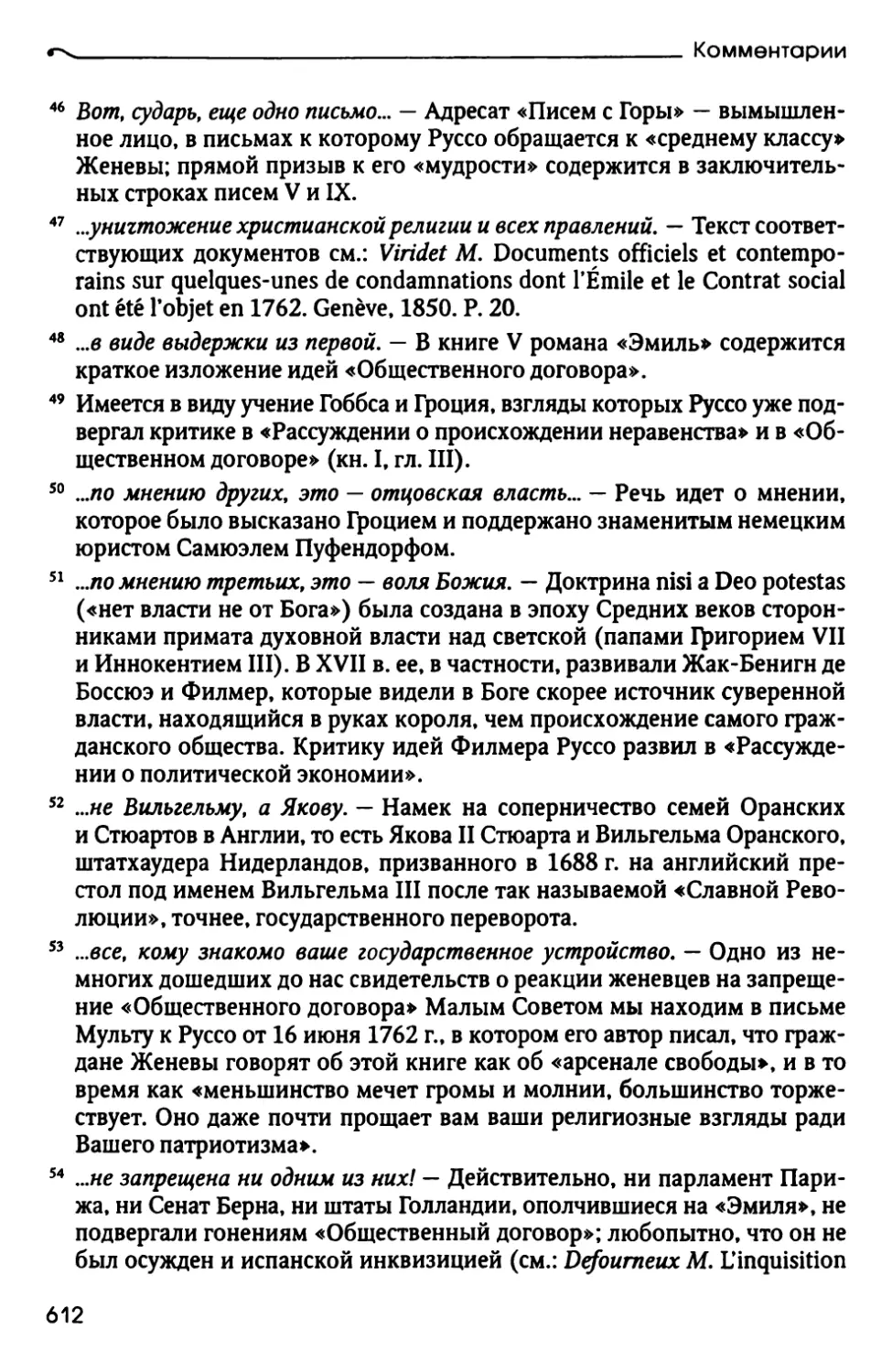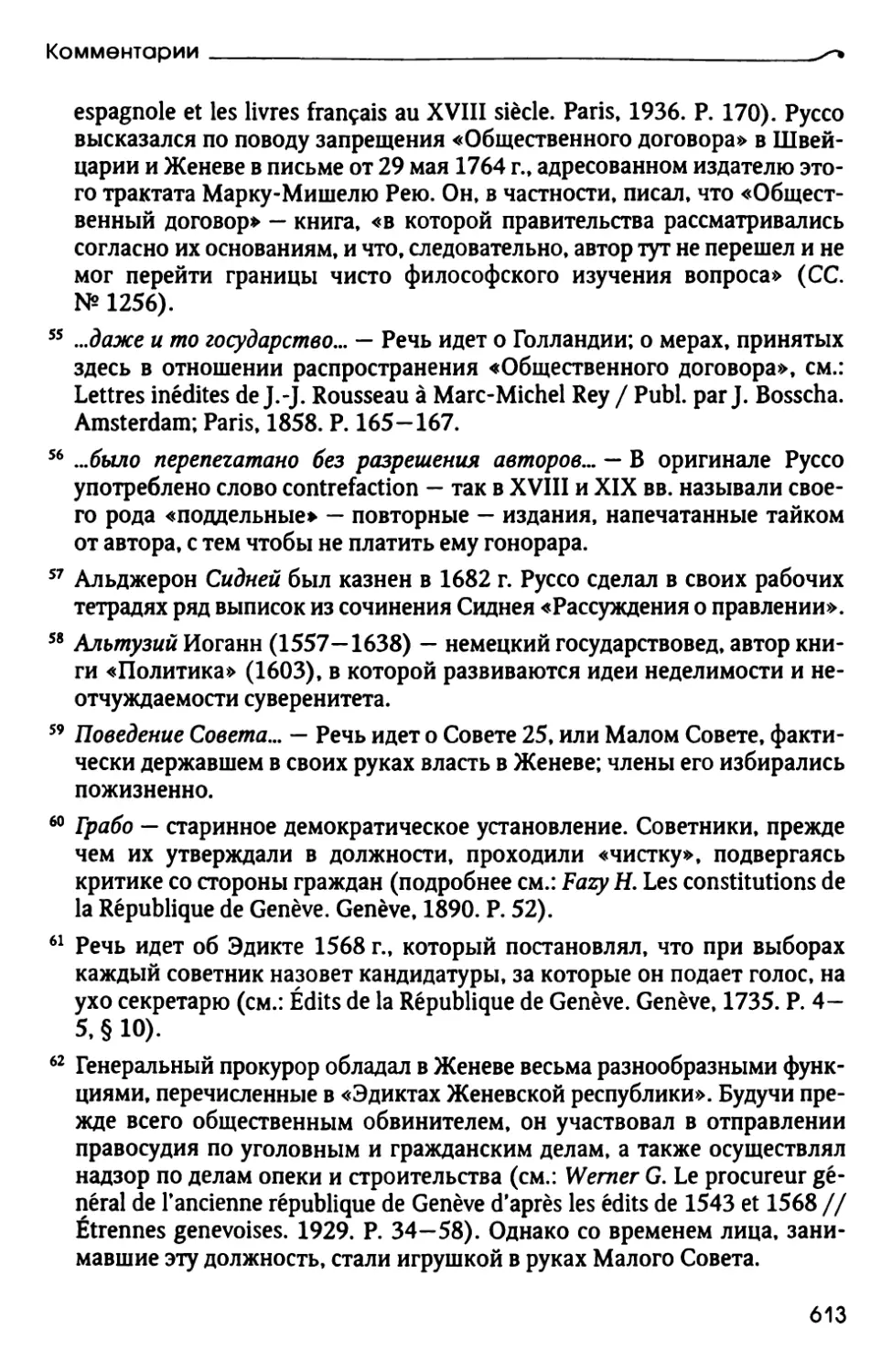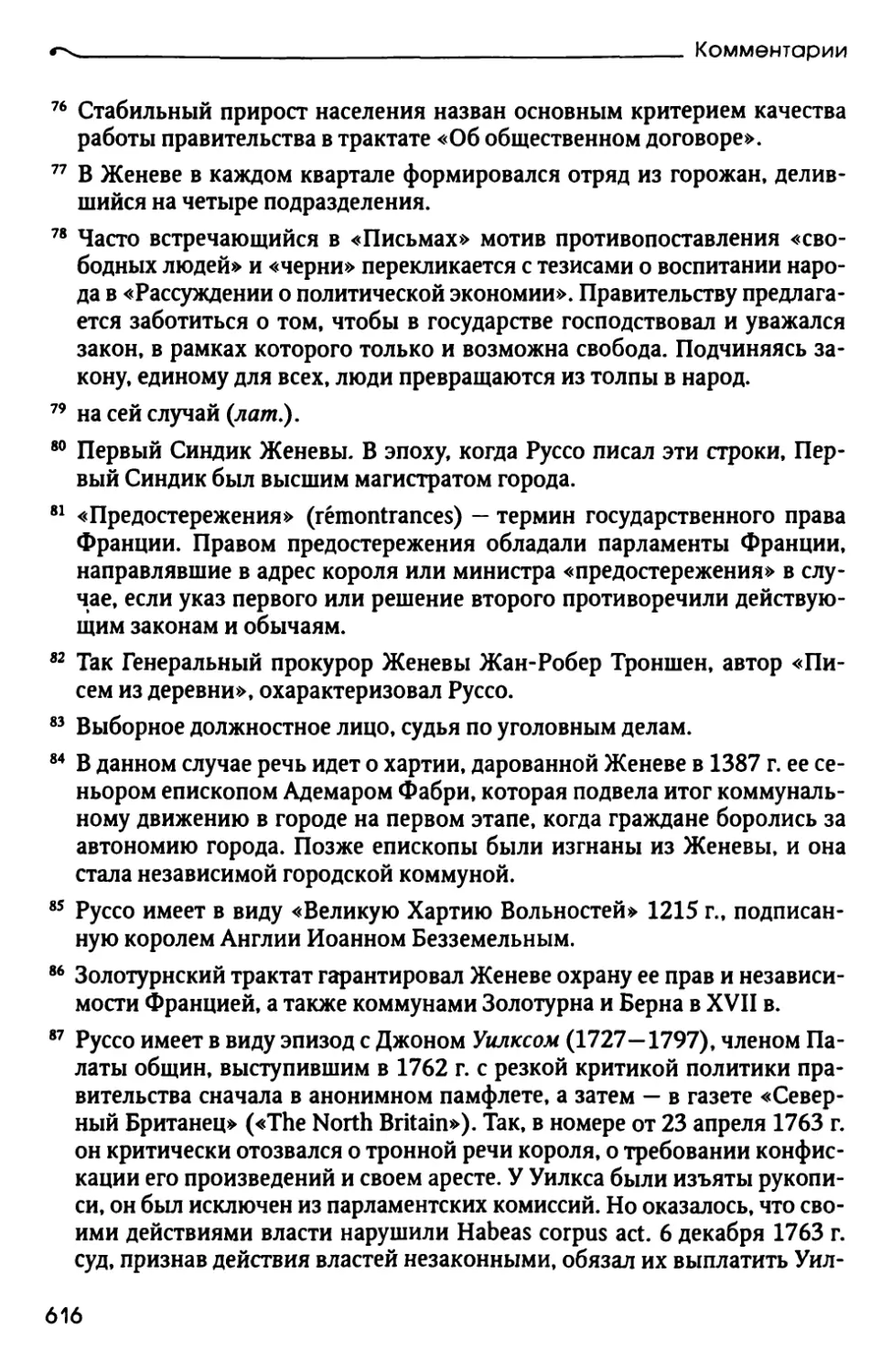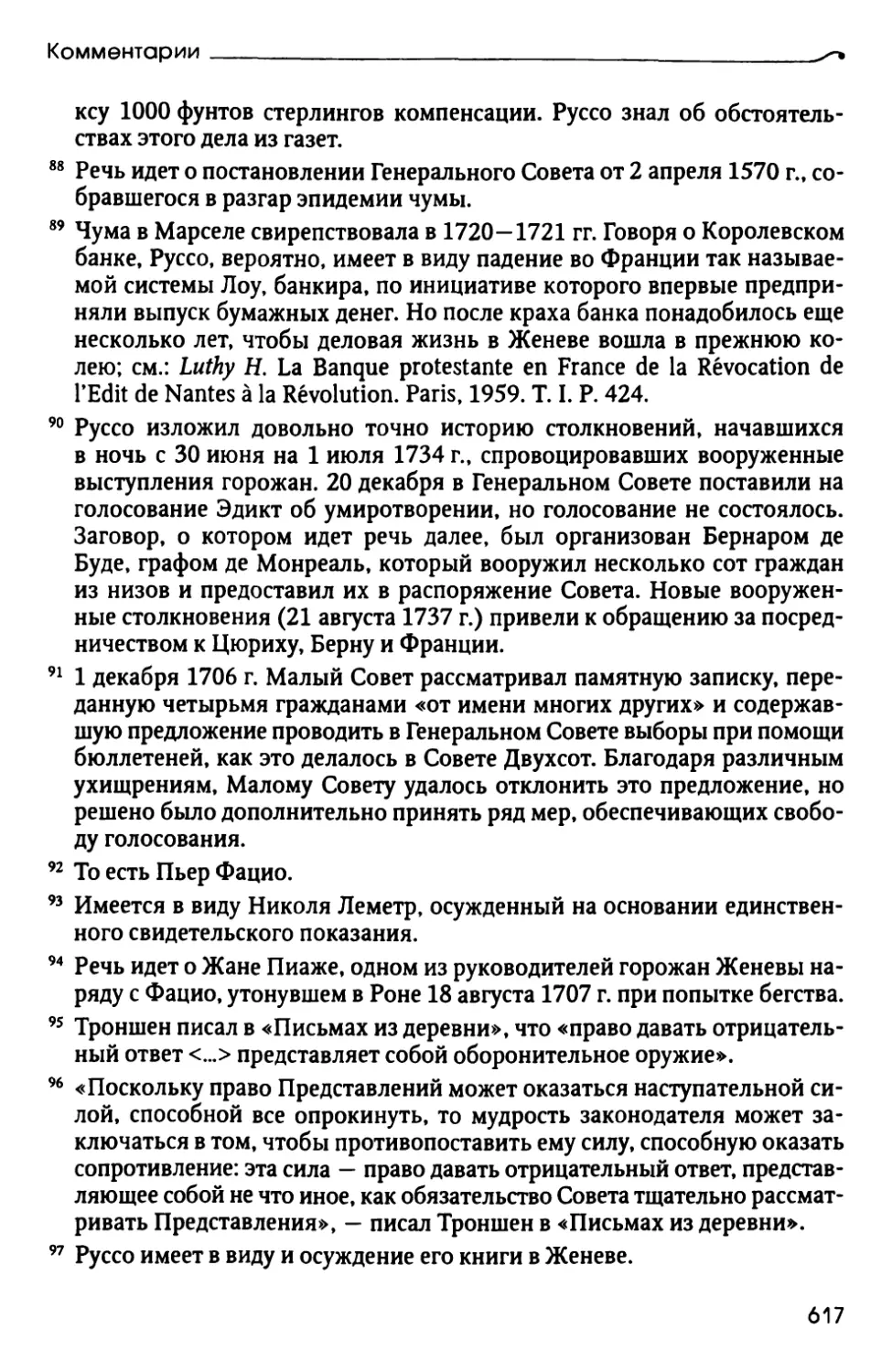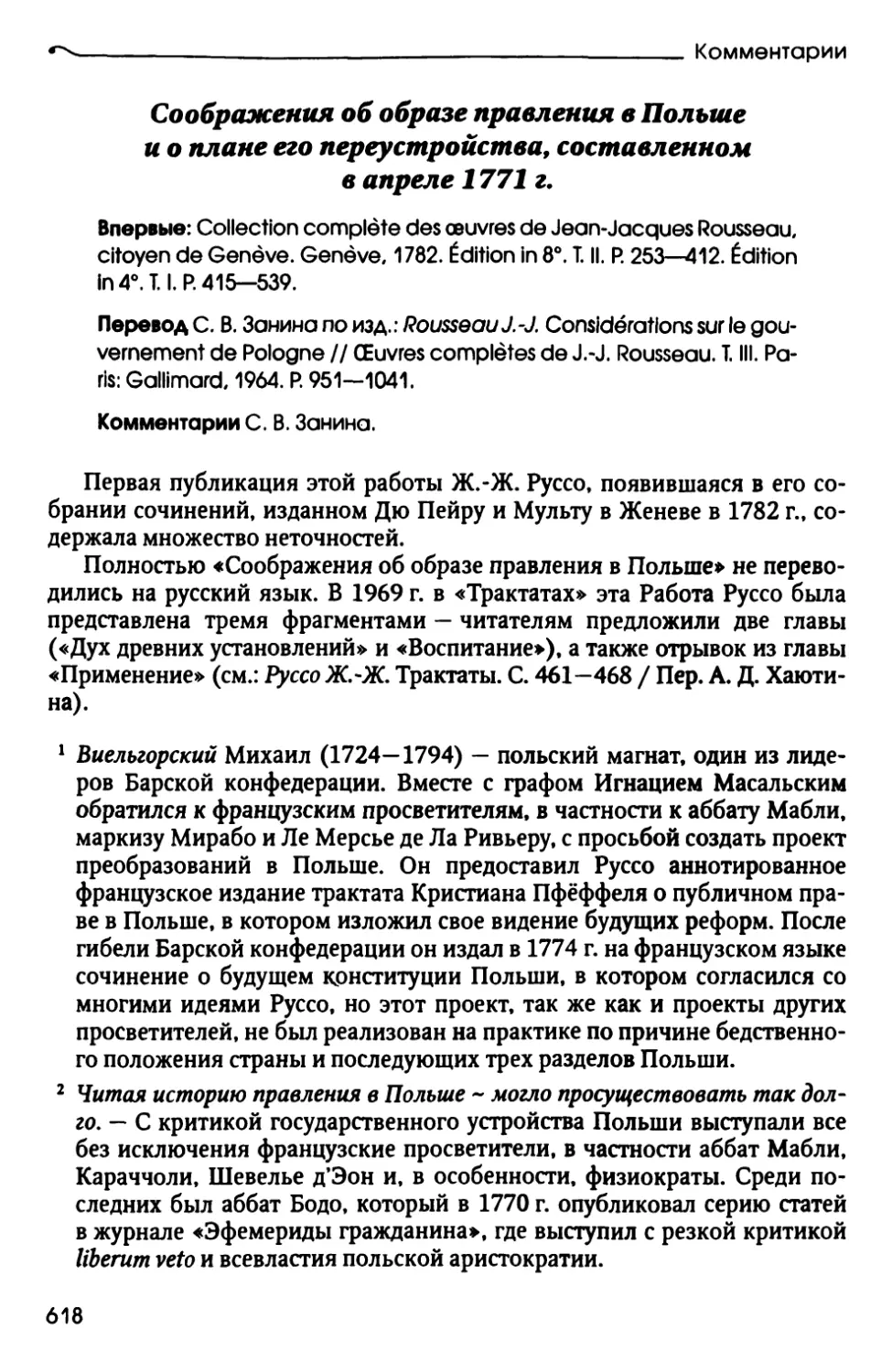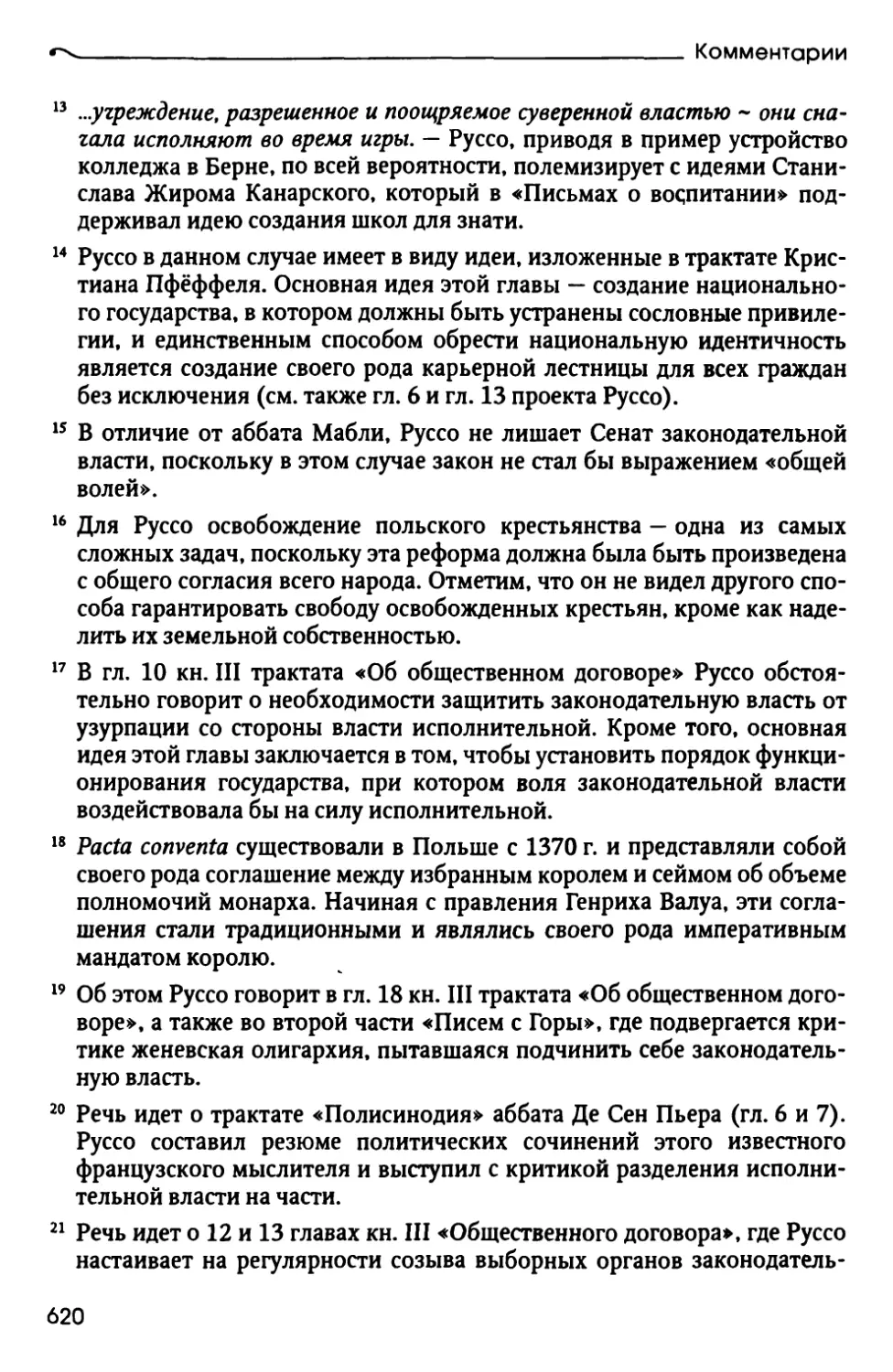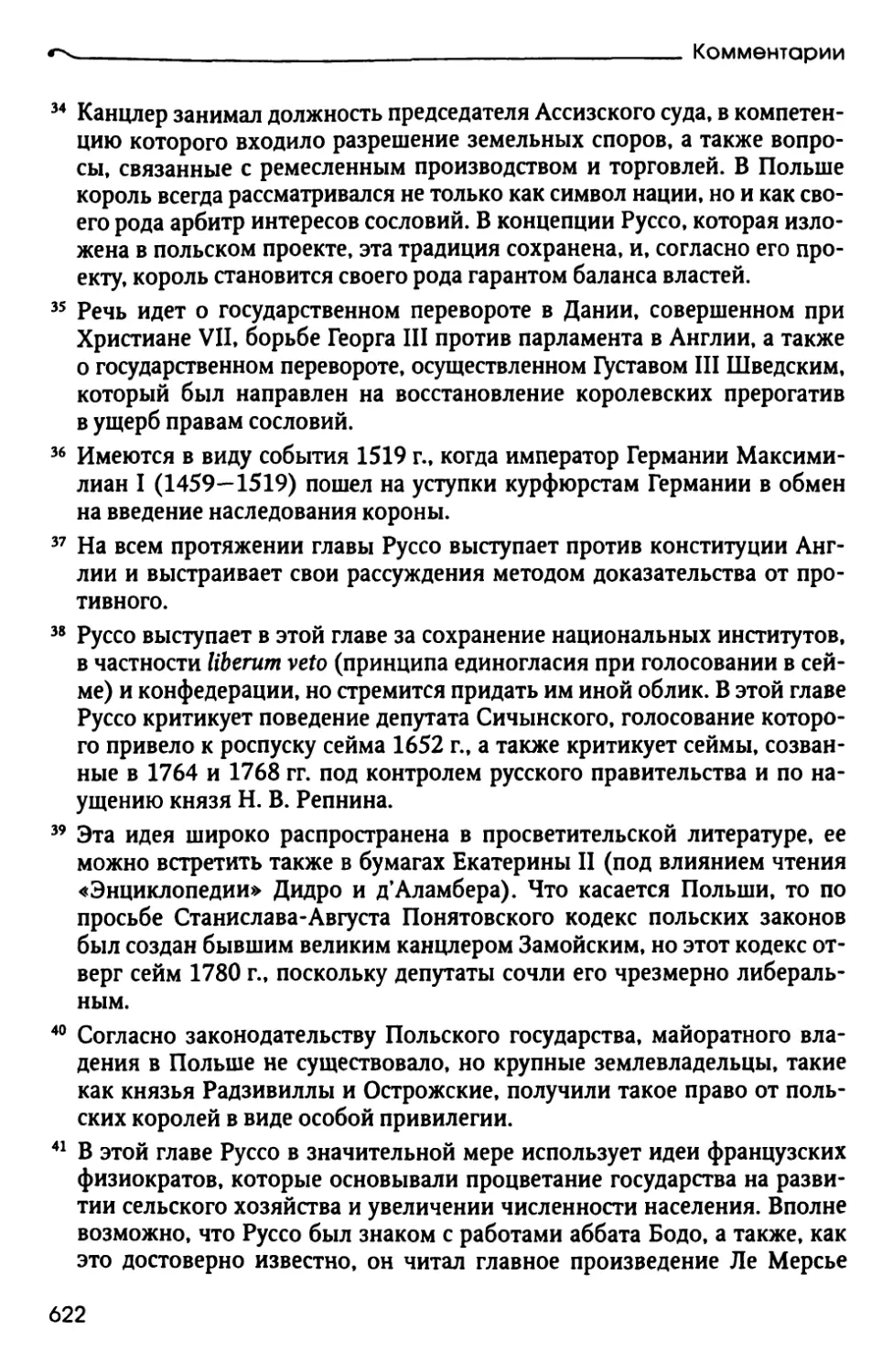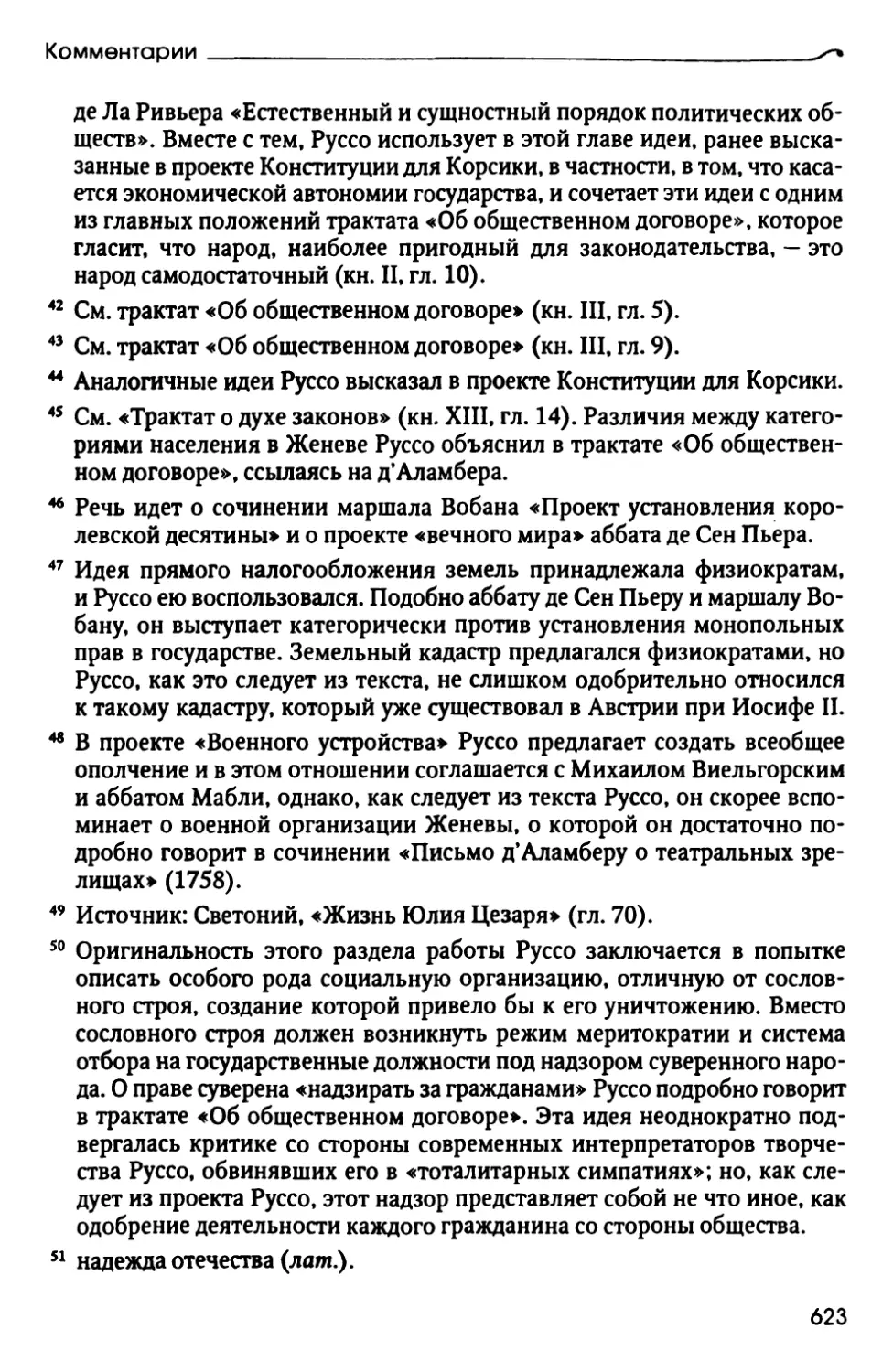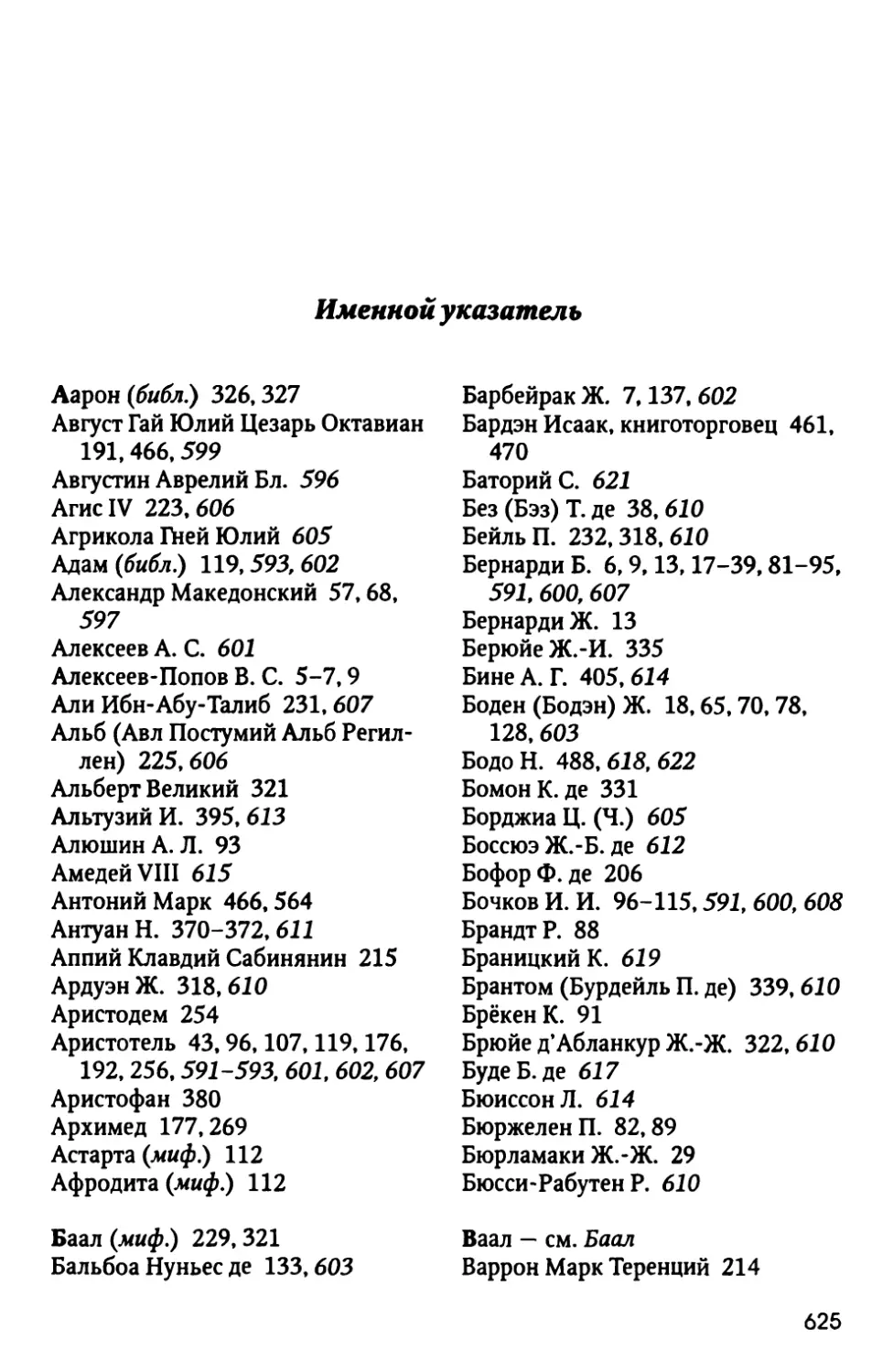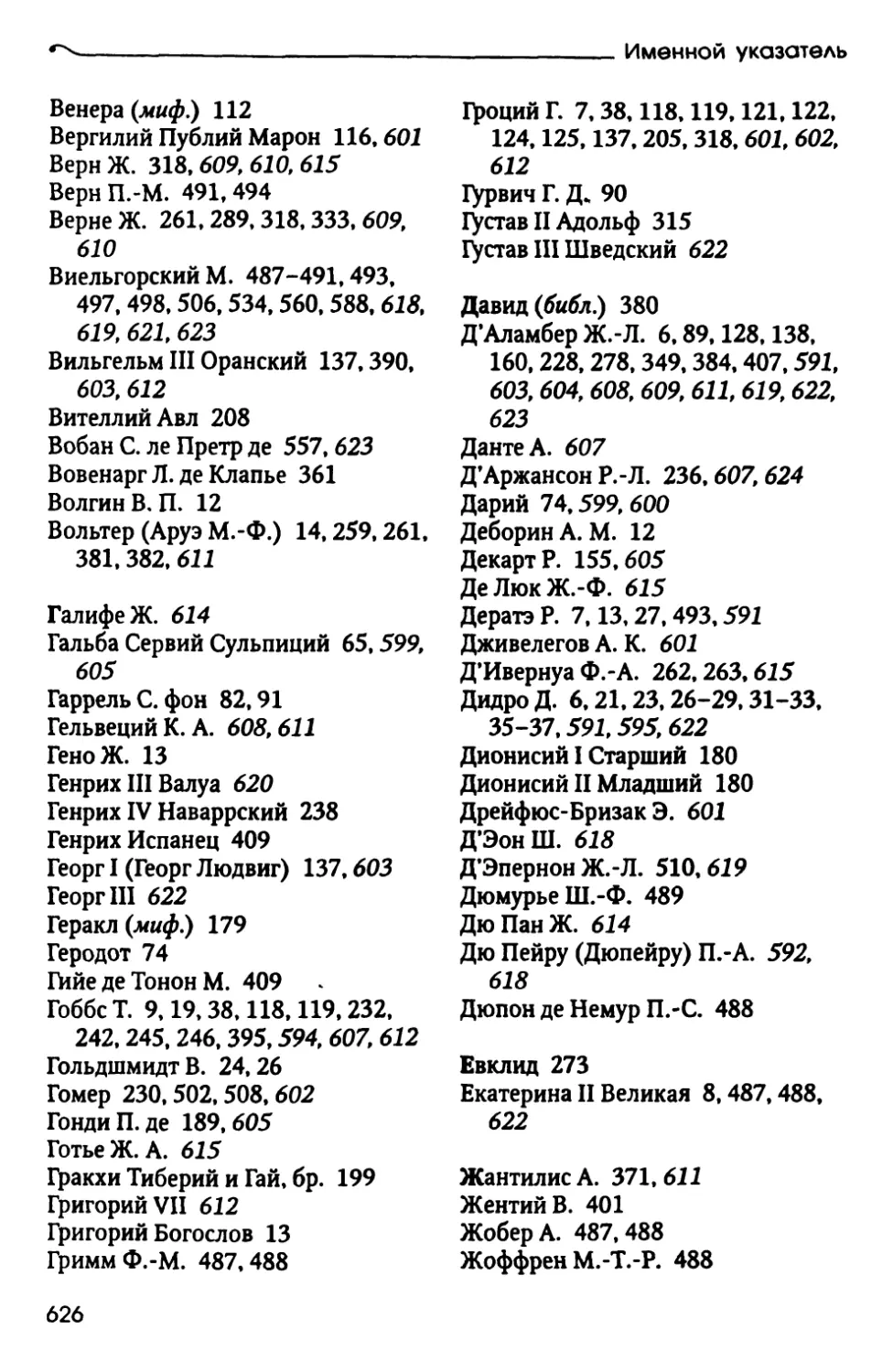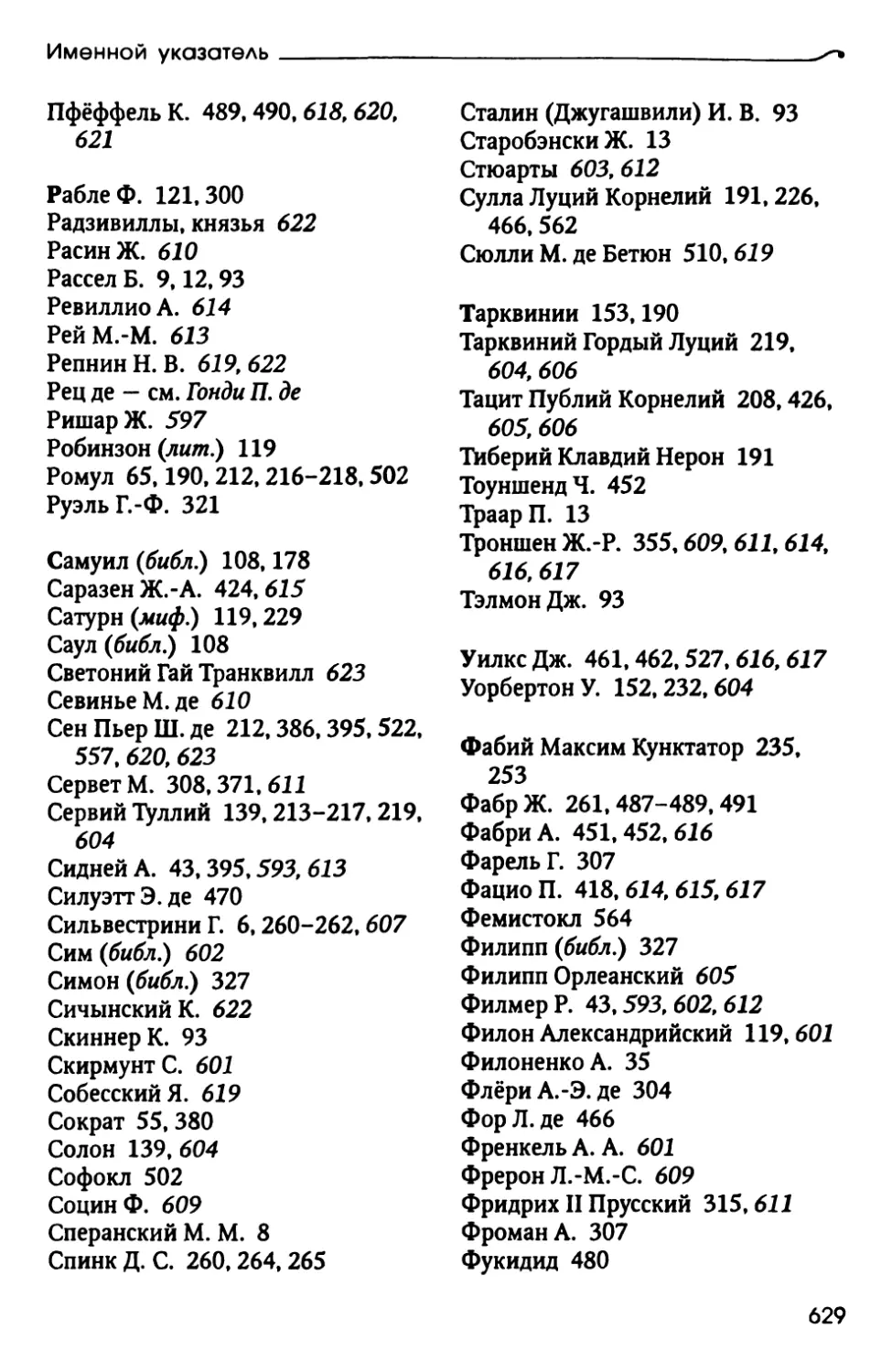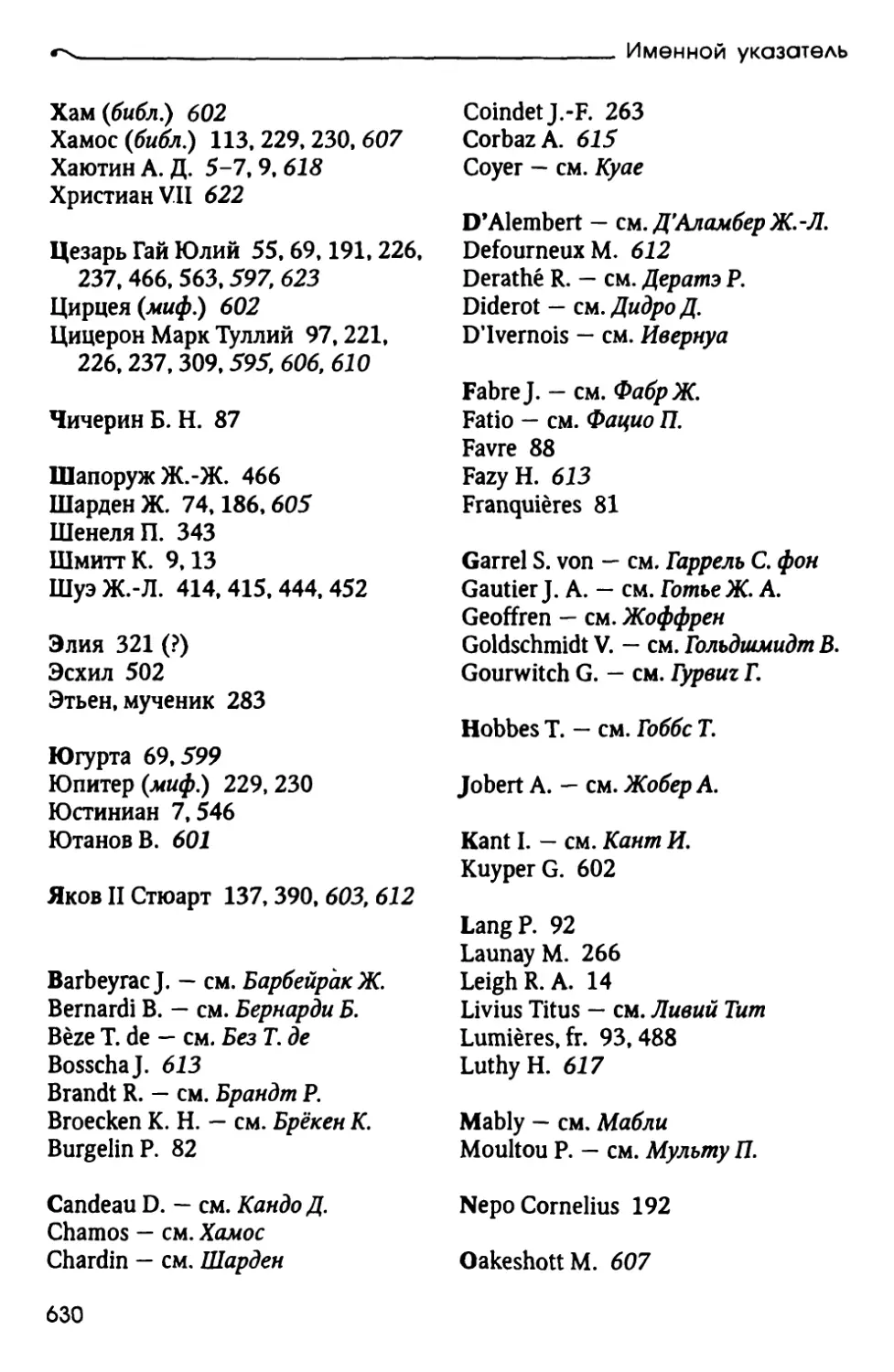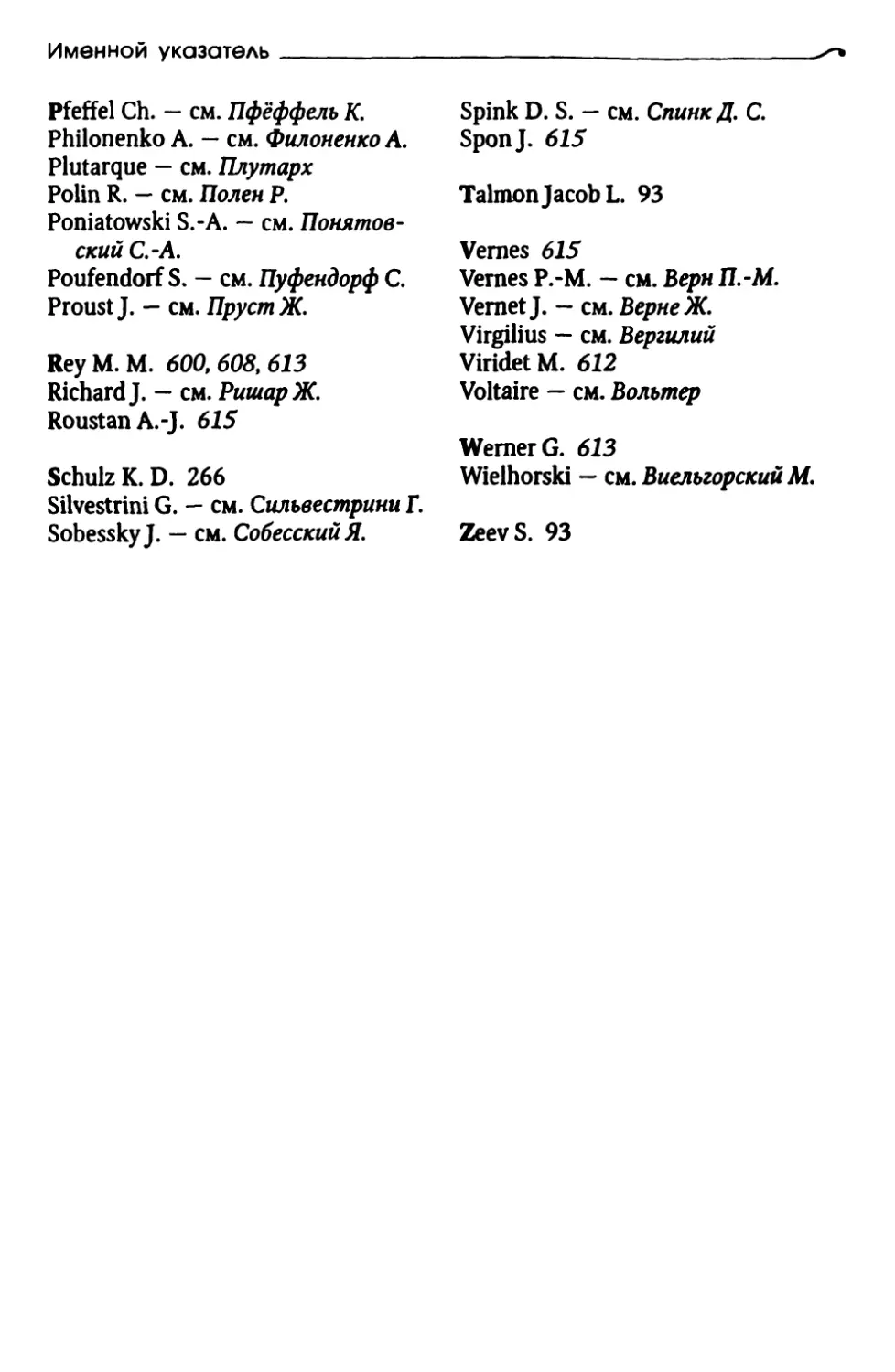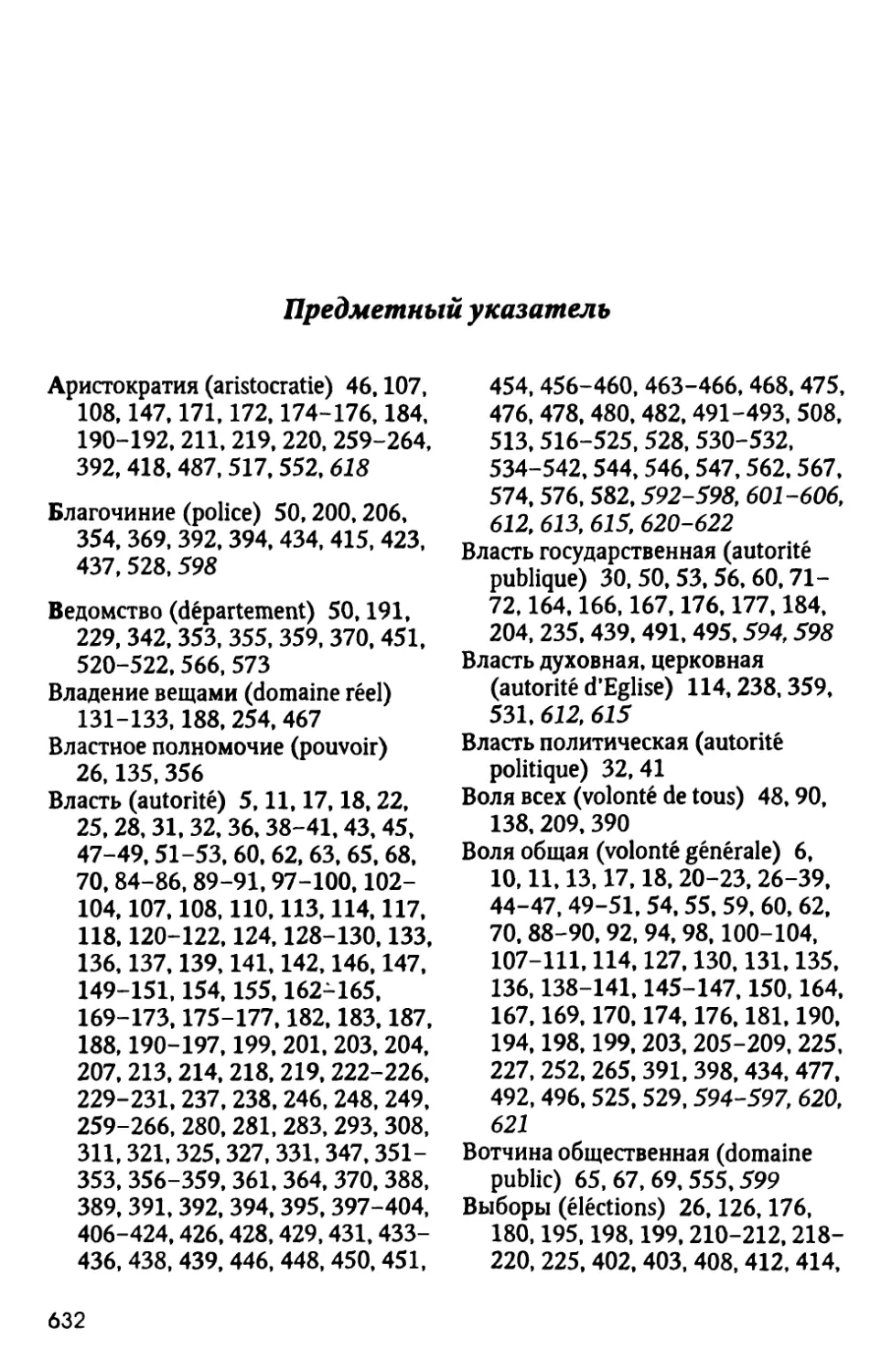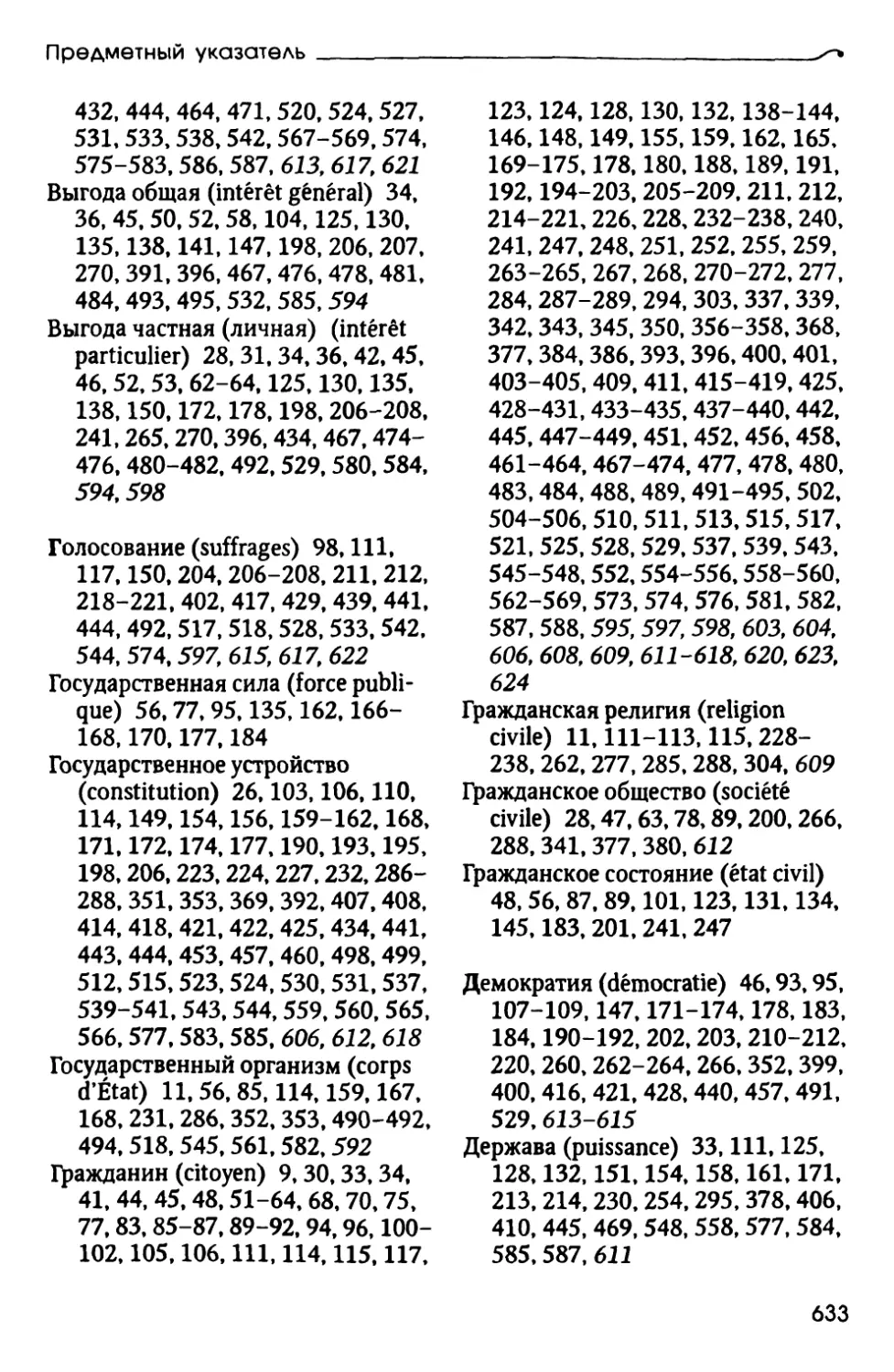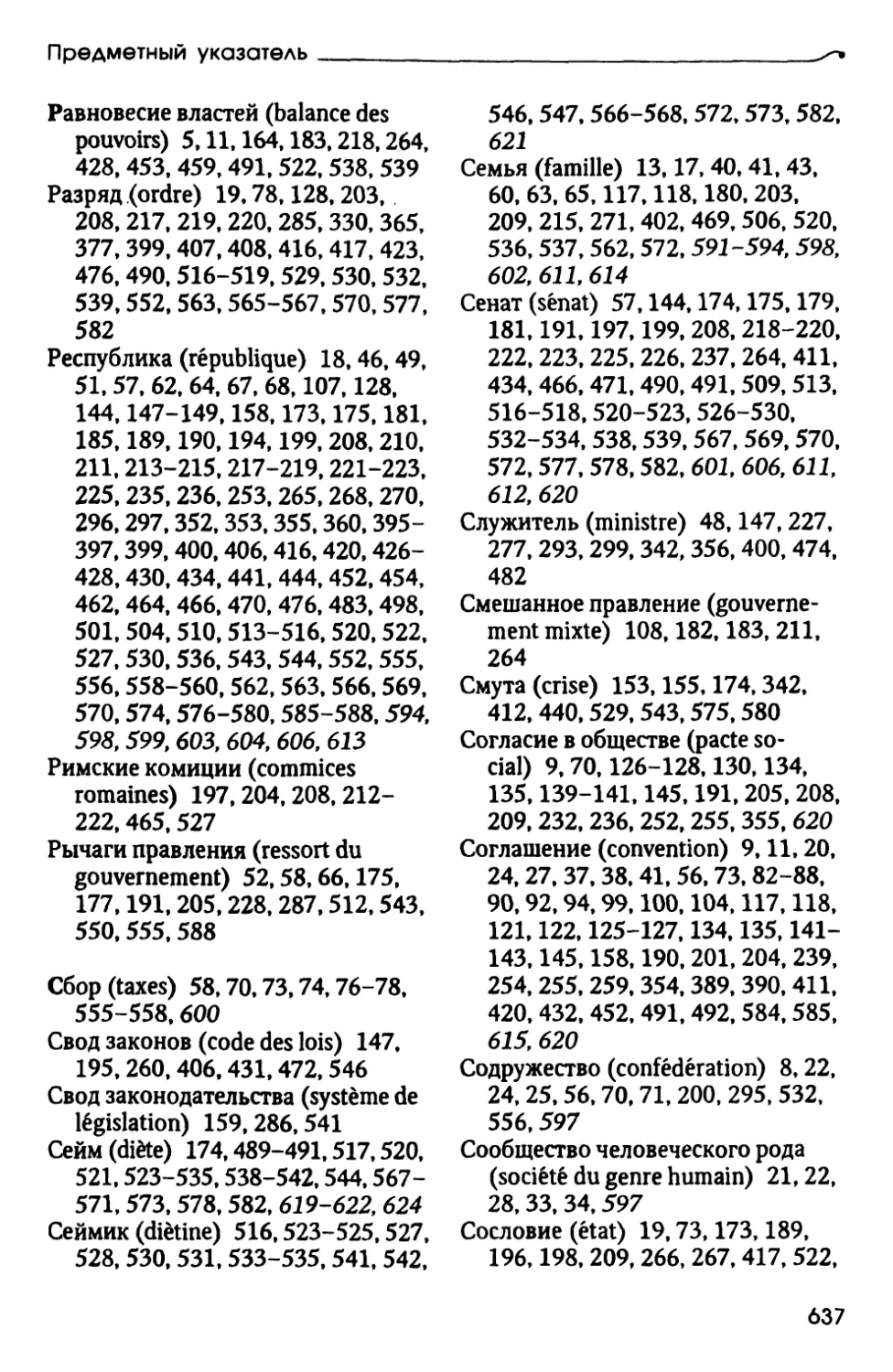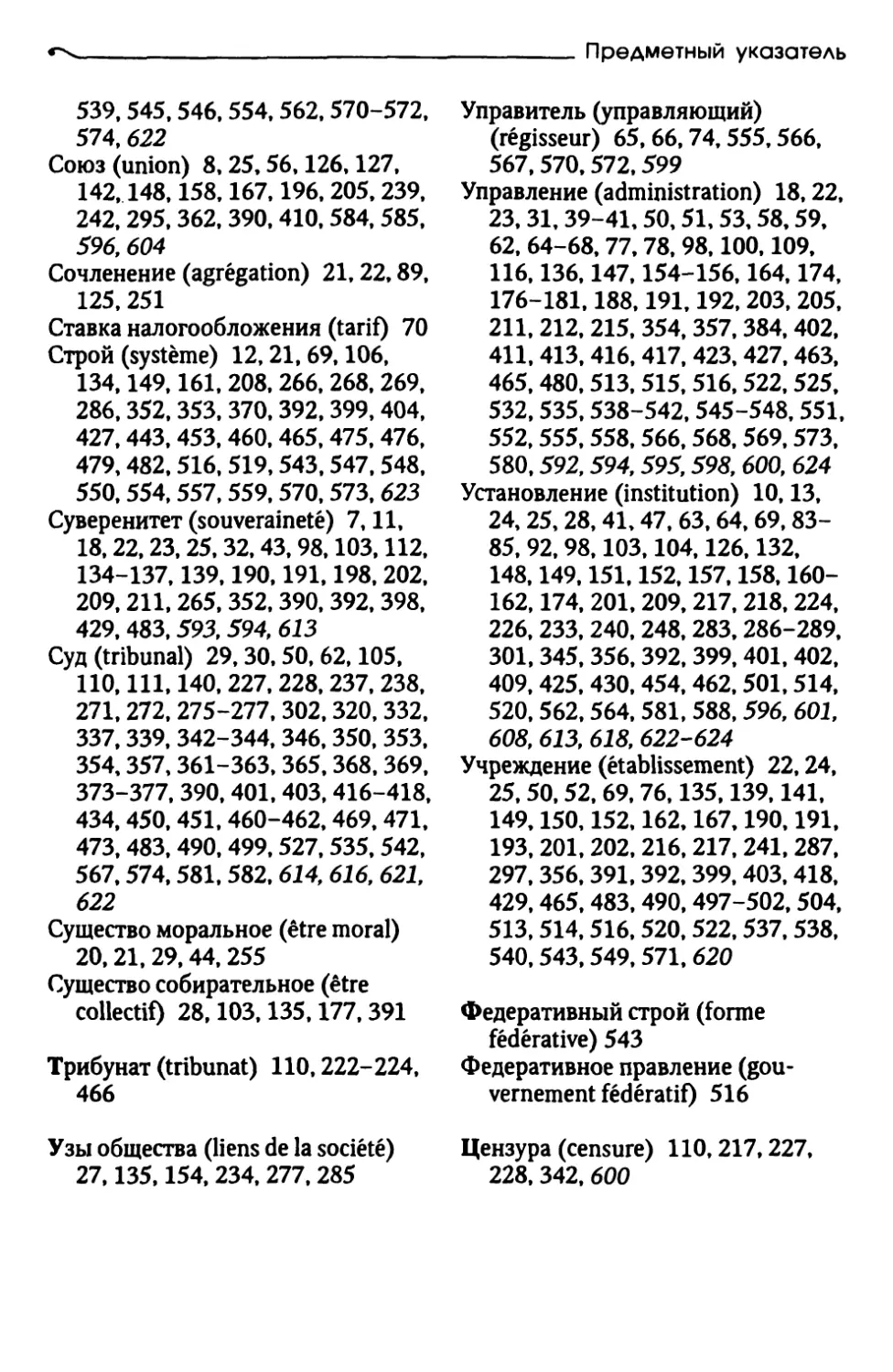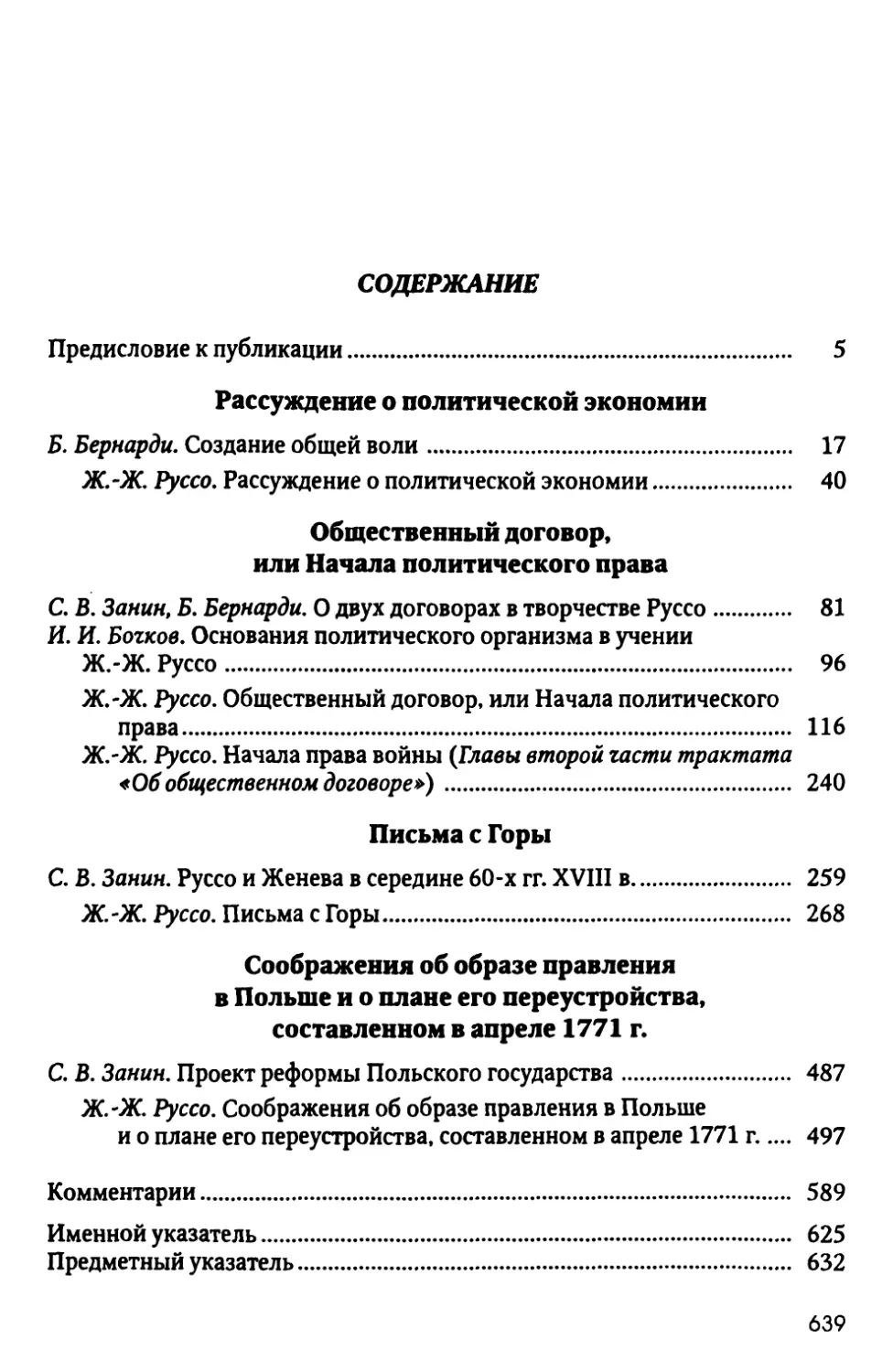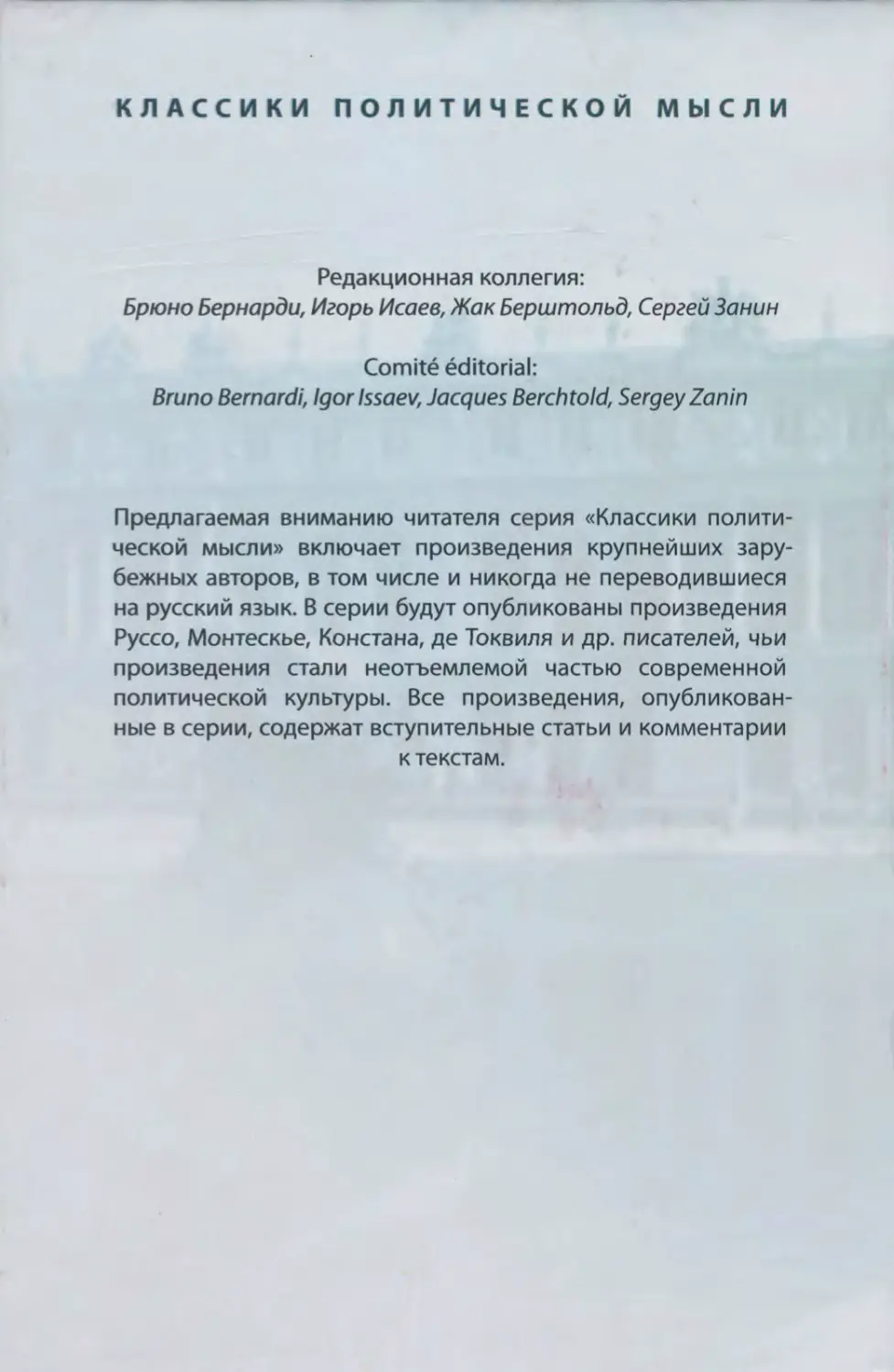Автор: Руссо Ж.-Ж.
Теги: право юридические науки политика политические науки
ISBN: 978-5-94668-118-6
Год: 2013
Текст
Редакционная коллегия серии:
проф. Брюно Бернарди (Марсель);
д. ю. н. Игорь Исаев (МГЮУ им. О. Е. Кутафина);
д. и. н. Сергей Занин (СГОАН, Самара);
туроф. Жак Берштолъд (Университет Париж-Сорбонна)
Comité editorial de la Collection:
professeur Bruno Bernardi (Marseille);
professeur/ac^es Berchtold (Université Paris-Sorbonne);
professeur Igorlssaev (Université juridique Koutafine);
professeur Sergey Zanin (Académie régionale de Samara)
COLLECTION:
«CLASSIQUES DE LA PENSÉE POLITIQUE»
JEAN-JAQUES ROUSSEAU
ŒUVRES POLITIQUES
EN RUSSE
Édition préparée par Sergey Zanin et Bruno Bernordi
assistés par Vladimir Nekrassov, Ivan Botchkov,
Julia Vilkova, Alla Zlatopolskaya
Rédacteur en chef:
Igor Issaev
СЕРИЯ
«КЛАССИКИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ»
ЖАН-ЖАК РУССО
ПОЛИТИЧЕСКИЕ
СОЧИНЕНИЯ
Издание подготовили:
б. Бернарди, С. В. Зонин
Ответственный редактор:
И. А. Исаев
Санкт-Петербург
2013
Руссо Жан-Жак
Политические сочинения / Изд. подгот. Б. Бернарди, С. В. Занин;
Отв. ред. И. А. Исаев. СПб.: ООО «Издательство "Росток"», 2013. -
640 с.
ISBN 978-5-94668-118-6
В издание включены основные политические сочинения Ж.-Ж. Руссо.
Оно призвано возможно более всесторонне познакомить читателя с
политическими идеями французского философа. Ряд произведений, в частности
«Письма с Горы», «Соображения об образе правления в Польше», «Начала
права войны», на русском языке публикуются впервые. Трактат «Об
общественном договоре», а также «Рассуждение о политической экономии»
предложены в новых переводах, выполненных на основе критических
изданий оригинала. Тексты предваряются вступительными статьями и содержат
исторический комментарий, касающийся культурного и идейного контекста
их создания, а также традиции их интерпретации.
Книга адресована всем читателям, интересующимся политическими
идеями.
© Б. Бернарди, статья, 2013
© И. И. Бочков, статья, 2013
© С. В. Занин, статьи, перевод с
французского, 2013
© И. А. Исаев, статья, 2013
© В. В. Некрасов, перевод с
французского, 2013
© Б. Бернарди, И. И. Бочков, Ю. С. Вил-
кова, С. В. Занин, А. А. Златопольская,
комментарии, 2013
© ООО «Издательство "Росток"», 2013
Предисловие к публикации
Отечественному читателю, не владеющему французским
языком, политические сочинения Руссо до сих пор были доступны по
изданию «Трактаты» (М., 1969), подготовленному В. С.
Алексеевым-Поповым и А. Д. Хаютиным на основе пятитомного Полного
собрания сочинений французского мыслителя, вышедшего в 1959—
1995 гг. в серии «Плеяда»; политические сочинения составили
третий том этого издания (1964). Главное, с чем сталкивается читатель
этой публикации на русском языке, — его фрагментарность.
Половина «Писем с Горы» (с 1-го по 5-е письмо и 8-е), десять глав
«Соображений об образе правления в Польше» («Польский проект»)
остались непереведенными, хотя в этих частях Руссо касается
важнейших и, подчас, самых спорных вопросов политики, права и
морали, в частности, рассматривая взаимоотношения между
Церковью и государством, организацию центральной власти, разделение
и равновесие властей. С теоретической точки зрения все эти
сюжеты рассмотрены Руссо в трактате «Об общественном договоре»;
«Письма с Горы», написанные непосредственно перед «Польским
проектом» и тесно связанные с ним тематически и логически,
развивают их применительно к политическим реалиям конкретных
государств.
Отметим, что за годы, прошедшие с момента выхода
французского Полного собрания сочинений, зарубежными исследователями
были найдены в архивах малоизученные рукописи мыслителя.
Во-первых, был издан текст статьи «О политической экономии»
на основе чернового автографа, хранящегося в Городской и универ-
5
*\
Предисловие
ситетской библиотеке Нефшателя, тогда как прежние издания
воспроизводили текст по первой прижизненной публикации этого
произведения в «Энциклопедии» Дидро и д'Аламбера. Новое
издание, подготовленное хабилитированным доктором политической
философии Брюно Бернарди, одним из соавторов настоящего тома,
существенно отличается от всех предыдущих, включая
академическое издание в серии «Плеяда»1. Восстановлено первоначальное
название этого произведения, а именно: «Рассуждение о
политической экономии», учтены важнейшие варианты, содержащиеся в
рукописи. Таким образом, мы можем проследить процесс
формирования концепции «общей воли» — краеугольного камня политической
концепции мыслителя. Как она возникла? Ответу на этот вопрос
посвящена вступительная статья Брюно Бернарди к «Рассуждению
о политической экономии», которая предваряет новый перевод
этого произведения. Более детальный ответ на поставленный
вопрос содержится в фундаментальной монографии Брюно
Бернарди, выход которой в свет стало заметным явлением в современном
руссоведении2.
Во-вторых, Брюно Бернарди и итальянской исследовательнице
Габриэлле Сильвестрини удалось установить, что два фрагмента
рукописи Руссо, хранившиеся в библиотеках Нефшателя и Женевы
и ранее считавшиеся разрозненными заметками, представляют
собой связный текст, являющийся черновым автографом второй части
знаменитого трактата Руссо «Об общественном договоре». Его
публикация на французском языке — важный этап в изучении
творчества мыслителя. Перевод этого произведения помещен в настоящем
издании и представляет собой его первую публикацию на русском
языке. Полный перевод на русский язык всех политических
сочинений Руссо, в том числе и тех, которые опубликованы лишь
фрагментарно в издании А. Д. Хаютина и В. С. Алексеева-Попова — одна
из задач настоящей публикации.
Следует сказать несколько слов о переводах А. Д. Хаютина
и В. С. Алексеева-Попова, в особенности текста трактата «Об
общественном договоре», и о подходе к переводу, реализованному в на-
1 RousseauJ.-J. Discours sur l'économie politique / Éd. établie par Bruno Bernardi.
Paris: Vrin, 2002.
2 La fabrique des concepts. Recherches sur l'invention conceptuelle chez Rousseau.
Paris: Honoré Champion, 2006.
6
Предисловие
^^>
стоящем издании. В этих устаревших публикациях имеется большое
количество неточностей, явных анахронизмов при подборе
вариантов перевода политической терминологии Руссо, что затрудняет
понимание его произведений. Настоящее издание призвано
исправить имеющиеся недостатки и недосмотры. Но существует и более
веская причина, по которой новый перевод, в частности трактата
«Об общественном договоре», оказался необходим. Дело в том, что
большая часть таких терминов, как «суверенитет», «пакт»,
«конфедерация», «ассоциация», «полиция», вошли в научный, а затем,
в силу понятных исторических обстоятельств, и в обыденный
обиход в нашей стране достаточно поздно, во второй половине XIX —
начале XX в. Явным анахронизмом является перевод этих
терминов путем калькирования. На данное обстоятельство обращал
внимание еще А. Д. Хаютин в своей кандидатской диссертации,
посвященной политической лексике Руссо и проблемам ее передачи на
русский язык, но не сумел в полной мере реализовать этот подход
при переводе политических сочинений мыслителя. А. Д. Хаютин
исходил из того, что политическая терминология Руссо образована из
слов, которые были заимствованы во французский язык из языка
латинского, из лексики римских юристов и «Дигест» Юстиниана.
Между тем, он не учел то обстоятельство, что эти термины Руссо не
являются калькой с латыни. Перевод латинской политической
терминологии мыслителей так называемой «школы естественного
права и прав лиц» (Гуго Гроций, Самюэль Пуфендорф и др.) был
осуществлен на французский язык профессором естественного и
публичного права Женевского университета Жаном Барбейраком в
конце XVII — начале XVIII в. На данное обстоятельство еще в 1952 г., то
есть за 17 лет до появления переводов А. Д. Хаютина и В. С.
Алексеева-Попова, обратил внимание французский исследователь Робер
Дератэ в исследовании, которое ныне считается классикой руссове-
дения3. Но еще более важным представляется то обстоятельство,
что эти латинские термины, которые римские юристы употребляли
для характеристики правоотношений, возникающих в сфере
частного права, юристы «школы» стали использовать для обозначения
институтов права публичного. По сути дела, именно эта важная
теоретическая новация позволила им создать науку публичного пра-
3 Derathé R.J.-J. Rousseau et la science politique de son temps. Seconde édition. Paris:
Vrin, 1992 (первое издание - 1952).
7
*>ч-
Предисловие
ва. Поэтому в настоящем издании политических сочинений Руссо
приходилось иной раз прибегать к смысловому переводу,
отказавшись, к примеру, от передачи термина «pacte social»
заимствованным в русский язык словом «пакт», которым обозначается
институт частного права.
Конечно, могут возразить, что задолго до появления
политических сочинений Руссо в указах Петра Великого можно встретить
такие высказывания, как: «Полиция есть душа государства».
Однако же читатель в наше время, да и в XVIII в. тоже, не всегда ясно
понимал смысл термина «полиция». Рукописи Екатерины II
свидетельствуют: царица отдавала себе отчет в том, что обилие слов
иностранного происхождения в юридических актах Российского
государства сильно затемняет их смысл, делая их текст непонятным для
подданных. И, к примеру, слову «police» она подобрала
эквивалент — «благочиние»: слово, вполне понятное русскому читателю
в XVIII в., да и современному тоже. Очевидно, что и термин
«конфедерация» в языке Руссо имело значение: «'содружество* людей,
образовавших общественный союз». Конечно, совершенно
очевидно, что выражение «Барская конфедерация» пришлось сохранить
неизменным: это — историческая реалия. В широком плане
проблема не только перевода, но и заимствования западноевропейской
политической лексики в русский язык уже в начале XIX в. была
поставлена M. М. Сперанским. В своих заметках, остающихся до
настоящего времени неопубликованными и написанных, очевидно,
под влиянием чтения «Записки о древней и новой России в ее
политическом и гражданском отношении» Карамзина, он указывал на
необходимость создания юридической терминологии в России,
которая основывалась бы на «коренном значении» слов, понятных
жителям России, не владеющим иностранными языками. Как
отмечает M. М. Сперанский, те иностранные термины, которые вошли
в обиход русского языка в XVIII и в начале XIX в. и имели в нем те
же знагения, гто и в европейских языках, следует оставлять без
перевода. Что же касается юридических и политических терминов,
употребляемых в иностранных языках, но не получивших широкого
распространения в России, то он предлагал подыскивать им
эквивалент, используя слова со славянскими корнями. Эти
соображения M. М. Сперанского были учтены авторами переводов,
помещенных в настоящем издании. Конечно, существуют и юридические
термины, использованные в языке Руссо не в том значении, в кото-
8
Предисловие
ром они употреблялись в XVII или XVIII вв. Например, упомянутое
выражение «pacte social» нельзя, не затемняя и не искажая смысла
текста Руссо, передавать термином «общественный пакт», как это,
в частности, сделали В. С. Алексеев-Попов и А. Д. Хаютин. Руссо
имел в виду необходимость предварительного согласия, которое
должно быть достигнуто между людьми, прежде чем они примут
решение заключить общественное соглашение (или общественный
договор — «contrat social») и решат создать на его основе
институты права и государства. До тех пор пока это согласие остается
незыблемым, существует и договор. Более детально ознакомиться с
переводом политической терминологии Руссо на русский язык можно
по предметному указателю, помещенному в настоящем издании.
Обратим внимание и на еще одну важную вещь. Важнейший
признак политической культуры любой страны — это возможность ее
совершенствования как в институциональном плане, так и в плане
усвоения новейших политических концепций, появившихся в XX в.
Она в полной мере зависит от уровня знакомства и точного
понимания классического наследия политического рационализма XVII
и XVIII вв. Прежде всего потому, что эти новейшие концепции
создавались благодаря новому прочтению текстов классиков
политической мысли эпохи Нового времени. Диалог Карла Шмитта с
Томасом Гоббсом — тому пример, и он далеко не единственный. Роль,
которую сыграла политическая мысль Руссо в развитии учений
о праве и государстве в XX в., трудно переоценить. С ним спорили
такие разные мыслители, как Бертран Рассел и Жак Маритен. Наше
понимание современной политической философии во многом
зависит от общей характеристики политических идей гражданина
Женевы.
В настоящем издании читатель не найдет вступительной статьи,
содержащей общую характеристику политических идей Руссо.
Тому есть множество причин. Во-первых, в последние годы
зарубежное руссоведение переживает период обновления как тематики, так
и методологии исследований. Именно благодаря тому, что
политический дискурс Руссо ныне рассматривается как процесс
конструирования (выражение Брюно Бернарди) базовых понятий его
политической теории. Если коротко сформулировать то, в чем состоит
отличие восприятия политических идей Руссо в 50—80-х гг.
прошлого столетия от современного взгляда, то можно сказать так:
политический мечтатель, склонный к авторитаризму и даже тоталита-
9
«-^
Предисловие
ризму, уступает место глубокому, последовательному мыслителю,
знатоку текстов выдающихся политических мыслителей эпохи
Нового времени, главной целью которого стало создание теории
публичного права, основанной на анализе правовых и
институциональных гарантий свободы индивида. Этот сложный процесс
обновления руссоведения на современном этапе, постановка новых
исследовательских задач, детальное изучение терминологии
политических сочинений Руссо позволяет говорить о том, что современные
интерпретаторы его творчества вышли (обращаясь к отдельным
сюжетам: «свобода», «общая воля», «договор» и т. д.) на новый
уровень понимания политического учения Руссо в целом. Но, как
представляется, время для обобщений не пришло, во всяком случае,
до тех пор, пока еще недостаточно изучены политические проекты
мыслителя, его размышления о политике в художественных
произведениях. Поэтому написать вступительную статью (не говоря уже
о книге!), содержащую общую характеристику политических идей
Руссо, — рискованная затея. Тот факт, что в последние годы
важнейшие концепции мыслителя стали предметом обсуждения на
круглых столах, на коллоквиумах, материалы которых являются,
по сути, коллективными монографиями, подтверждает
высказанное соображение.
Авторы переводов и комментариев, помещенных в настоящем
томе, даже если бы они и осмелились взять на себя такой труд,
конечно, должны были бы предложить читателям некое, если можно
так быразиться, «промежуточное» решение важнейших вопросов,
которые ставят перед собой исследователи политических идей
Руссо на современном этапе. Однако формату настоящего издания,
поскольку оно является лишь собранием политических сочинений
Руссо, в большей мере соответствует исследовательский
комментарий в статьях, посвященных отдельным произведениям мыслителя.
Какими соображениями руководствовались исследователи,
подготовившие настоящий том, отбирая для перевода сочинения
Руссо? Автор «Общественного договора» унаследовал идеи «школы
естественного права», но, в отличие от них, отказался от написания
обобщающего труда по вопросам политики. Он сам признавался
в «Исповеди» (в начале 9-й книги), что уничтожил черновые
фрагменты такого труда под названием «Политические установления»,
поскольку это предприятие, по его словам, оказалось выше его сил.
Теоретическая часть этого незаконченного трактата была опубли-
10
Предисловие
кована Руссо под заголовком «Об общественном договоре, или
Начала политического права». В дальнейшем Руссо предложил ad hoc
проекты реформ институтов некоторых государств, в частности,
Женевы, Польши, Корсики, в которых были реализованы идеи,
содержащиеся в «Общественном договоре». Поэтому-то не следует
воспринимать его творчество как стремление создать некую «систему».
Но оно непротиворечиво в том смысле, что отмечено стремлением
провести анализ важнейших вопросов, поставленных на повестку
дня реалиями общественной жизни различных государств, с учетом
«начал политического права».
Произведения Руссо, переводы которых включены в настоящий
том, расположены в нем в хронологическом порядке, и, как
представляется, эта последовательность отражает в целом развитие его
политической мысли. «Рассуждение о политической экономии»
является произведением, в котором, за исключением анализа роли
религии в государстве, содержатся практически все «начала
политического права», получившие в дальнейшем теоретическое
обоснование в трактате «Об общественном договоре»: «общая воля»,
«правительство», «суверенитет», система налогообложения. В главном
политическом сочинении мыслителя эти идеи развиваются:
уточняется форма общественного соглашения — это договор «каждого
со всеми и всех с каждым», обосновывается концепция
«гражданской религии», вводится математическая модель организации
правительства. Проблематика, связанная с «гражданской религией»,
развивается в первой части «Писем с Горы» с учетом политической
ситуации, сложившейся на родине Руссо в середине 60-х гг. XVIII в.
Любопытно, что в «Письмах»рассматривается концепция
разделения и «равновесия» властей как равновесия «организмов
государства», контуры которой были намечены в трактате «Об
общественном договоре». В «Соображениях об образе правления в Польше»
Руссо развивает эту концепцию более последовательно, на
конкретном примере. Проект преобразований Польского государства
является, бесспорно, одной из вершин его творчества. Перед нами
единственный политический проект, который мыслитель сумел
завершить, поскольку, к примеру, проект институциональных
преобразований на Корсике представляет собой лишь черновые
наброски. Дело в том, что, став свидетелем подавления повстанческого
движения на острове под руководством Паскаля Паоли, по заказу
которого он и взялся писать это произведение, мыслитель понял,
11
*\
Предисловие
что это произведение не будет востребовано. Что касается плана
реформ в Женеве, основные идеи которого содержатся, в
частности, в VIII письме «Писем с Горы», то он наметил лишь основные
направления его реализации, поскольку сам жанр этого
произведения — полемика с женевской олигархией и защита «родины и моей
чести» — не позволил ему в полной мере изложить свои мысли.
Однако Руссо не скрывал того факта, что, как принято ныне говорить,
эмпирической базой для теоретических обобщений в трактате «Об
общественном договоре» послужил именно общественный строй
Женевы. Поэтому прочтение этого трактата сквозь призму
размышлений, содержащихся в «Письмах с Горы», дает возможность
глубже понять нередко лапидарные и абстрактные формулировки,
использованные в его главном теоретическом сочинении.
Надо надеяться, что предлагаемая публикация позволит
заинтересованному читателю, которому недоступны произведения
великого мыслителя на языке оригинала, увидеть новые грани его
творчества. В нашей стране, в особенности в последние два десятилетия,
произведения Руссо нередко читали сквозь призму интерпретаций,
содержащихся в неолиберальных писаниях Бертрана Рассела и его
единомышленников, возлагавших на мыслителя, которого
преследовал Парижский парламент во Франции и олигархия в Женеве,
ответственность за эксцессы тоталитаризма в XX в. В последние
годы отечественные исследователи, сделавшие для изучения Руссо
«немного и, кажется, совсем ничего», вдруг вспомнили о «вкладе
в науку» и встали грудью на защиту публикаций академиков
В. П. Волгина и А. М. Деборина, а также некоторых исследователей
их поколения. Ничем, кроме недоразумения, подобные
рассуждения, которые уводят нашу науку назад, в прошлое, оставляют ее
на обочине мировой науки, назвать нельзя. Исследования
советских историков и философов, в основном опубликованные в 60-е
и 70-е гг. XX в., бесспорно, являются вехой в развитии
отечественной науки. Вопрос заключается лишь в том, как мы к ним относимся.
Их основной недостаток (помимо требования соблюдать
«идеологическую корректность») — весьма низкая руссоведческая
культура. В частности, авторы поколения В. П. Волгина и А. М. Деборина
пользовались изданиями сочинений Руссо, опубликованными
в XIX в., совершенно не соответствующими уровню
текстологических исследований, который был достигнут в зарубежной науке
уже в 40-е гг. XX в. Они, если можно так выразиться, «прошли ми-
12
Предисловие
мо» исследований зарубежных авторов, вышедших в свет после...
Первой мировой войны! Нечего и говорить, что упомянутая ранее
работа Робера Дератэ, а также исследования Жана Старобэнски,
Поля Траара, Даниэля Морнэ, Жана Гено и других авторов
остались вне поля их зрения. Остается только сожалеть, что вплоть до
настоящего времени публикации отечественных авторов,
датированные 50-ми, 60-ми и 70-ми годами XX в., по-прежнему
рекомендуются студентам гуманитарных факультетов в качестве пособий
для подготовки к семинарским занятиям, а переводы Руссо перепе-
чатываются без сверки с оригиналом и в таком виде попадают на
книжный рынок.
Комментарии к произведениям Руссо, опубликованным в
настоящем томе, разъясняют исторические или идейные реалии времени.
Предлагаемое издание выходит после трехсотлетия со дня
рождения Жан-Жака Руссо и является данью уважения к первоклассному
политическому мыслителю, философу и педагогу, творчество
которого с момента выхода в свет его произведений во Франции стало
неотъемлемой частью отечественной культуры. Продолжить
традиции интерпретации его идей в России, опираясь на достижения
мировой науки, призвана публикация сочинений мыслителя,
включенных в издание, находящееся в руках читателя.
В заключение хотелось бы представить нашего коллегу,
профессора Брюно Бернарди. Он родился в семье крупнейшего
специалиста по византийской патристике и византийской религиозной
философии (в частности, Григория Богослова), заслуженного профессора
Сорбонны Жана Бернарди, закончил Высшую нормальную школу
в Париже, получив предварительно образование в классической
гимназии. Его творчество — одно из самых заметных явлений в
мировом руссоведении за последние два десятилетия. Он впервые
опубликовал многие рукописи Руссо, в частности, «Химические
установления», вторую часть трактата «Об общественном
договоре» и сочинения мыслителя, посвященные международному праву.
Его перу принадлежит фундаментальное исследование концепции
«общей воли» (докторская диссертация) под названием «Фабрика
концепций». Кроме того, он опубликовал ряд книг: «Что такое
политическое решение?» (книга посвящена анализу идей Руссо и критике
«децизионизма» Карла Шмитта), обобщающую работу,
посвященную договорным концепциям происхождения государства и права
в Новое время под названием «Принцип обязанности» (хабилита-
13
r\.
Предисловие
ционная диссертация). Организованная им, как принято ныне
говорить, на «неформальной основе» «Группа Жан-Жака Руссо» (Groupe
Jean-Jacques Rousseau) за последние годы выпустила в свет серию
пространных комментариев к основным произведениям мыслителя,
в частности, к «Рассуждению о политической экономии», к
«Письмам с Горы», а также к «Прогулкам одинокого мечтателя», в
которых не только подводится итог многолетних исследований этих
произведений в мировой науке, но и предлагаются новые
интерпретации текстов, ставших классикой. Сегодня эти комментарии,
учтенные при подготовке предлагаемого издания, являются
важнейшим инструментарием в руках исследователя творчества Руссо.
Светлой памяти Ирины Владимировны Лукьянец, человека,
педагога и ученого, посвящается это издание.
В настоящем издании приняты следующие сокращения:
ОС — Œuvres complètes de J.-J. Rousseau. Paris: Gallimard, 1959—
1995 (in 5 vol.).
CC - Correspondance complète de J.-J. Rousseau établie et annotée
par Ralph A. Leigh. Genève: Institut et Musée de Voltaire,
1963-1999 (in 55 vol.).
К A. Исаев, С. В. Занин
РАССУЖДЕНИЕ
О ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ
Брюно Бернарди
СОЗДАНИЕ ОБЩЕЙ ВОЛИ
В статье «Политическая экономия» Руссо впервые использует
именно выражение «общая воля». Это обстоятельство порождает
три вопроса: 1) какой необходимости отвечает введение этого
понятия и каким образом оно включается в общую организацию
текста? 2) Как Руссо образовал его, с помощью какого хода мысли?
3) Какое в точности содержание он в него вкладывает и какое
теоретическое положение он в него вводит?
В настоящем исследовании нужно руководствоваться одной
методологической предосторожностью: изучение образования
понятия «общей воли» не должно подчиняться принципу законной
целесообразности, а его определение не должно быть исследовано по
мерке «Общественного договора». Ни с точки зрения наличия
этого понятия в статье, ни с точки зрения того, что это понятие пока
там отсутствует. Только при соблюдении этого условия можно
прочитать статью «Политическая экономия» саму по себе и позволить
себе необходимое сопоставление с более поздним произведением.
Вынужденное изобретение
Преамбула к статье «Политическая экономия» построена в двух
временных разрезах, отчетливо заметных. Ее первая часть
является, так сказать, негативной: в ней показано, что, поскольку семья не
является ни источником, ни образцом для политических обществ,
то отцовская власть не дает возможности помыслить власть
государства. Экономия домашнего хозяйства и экономия политическая
имеют разные основания. Вторая часть, которую мы собираемся
исследовать в настоящей статье, стремится, напротив,
положительно продемонстрировать, что «общая воля» есть «первое основание
общественной экономии».
17
Брюно Бернарди
Аргументация первой части может удивить. Поскольку речь идет
об экономии, то можно было бы ожидать, что будут сравниваться
управление семейным имуществом и управление общественным
имуществом; однако ничего подобного в ней нет. Руссо
противопоставляет отеческую власть власти правительства. Эта уловка с его
стороны становится ясной, если мы обратим внимание на то, что
необходимость этой части, содержащей отрицание, обусловлена лишь
вторым временным разрезом, и она присутствует лишь ради того,
чтобы помочь ввести понятие «общей воли». Однако для того, чтобы
ввести понятие «общей воли», ему следовало установить источник
и выяснить природу власти. Преамбула к статье «Политическая
экономия» посвящена проблематике власти, и это образует единство
текста.
Почему же текст, предметом которого является экономия,
рассматривает теорию власти? Чтобы это понять, следует исходить из
определений, данных самим Руссо: политическая экономия есть то,
что касается общественного управления, а это полномочие
принадлежит правительству. Все выглядит так, как если бы Руссо с самого
начала посчитал допустимым расширение понятия экономии до
понятия управления (управления людьми, которое занимает две
первые части статьи, и управления имуществом, которому он посвятил
третью часть) и сведение понятия «правительства» к понятию
«управления». Однако, хотя эти определения терминов номинально
и сообразуются с традицией \ но они полностью опрокидываются
новым различием, проводимым между понятием «суверенитет»
и понятием «правительство». Когда правительство не является
сувереном, то полномочия, ему принадлежащие, не ясны, если при этом
не подвергнута пересмотру сама концепция власти: тогда пришлось
бы различать власть суверенную, которая распространяется на
политический организм в целом, и власть правительства,
распространяющуюся на частных лиц2. Использование понятия «общая воля»
позволит ему вскоре осознать различие природы этих двух видов
власти и отношение подчинения второй первой.
1 От знаменитого incipit Бодена («Республика есть непосредственное управление
многочисленными семейными хозяйствами») до соответствующих ссылок на
статьи «Администрация» и «Правительство» в Энциклопедии, множество текстов это
подтверждают.
2 Первая редакция различала высшую власть и власть государственную.
18
Создание общей воли
Два отрывка из черновика статьи разъясняют это отношение.
Первый называет три предмета политической экономии (которым
соответствуют три части статьи): «Если я захочу определить, в чем
состоит общественная Экономия, то я обнаружу, что ее назначение
сводится к трем основным вещам: применять законы,
поддерживать гражданскую свободу и заботиться о нуждах государства.
Однако, чтобы проследить связь между этими тремя предметами,
следует мысленно дойти до начала, которое их объединяет». В другом
месте Руссо замечает: «Все основные обязанности правительства
заключаются в небольшом количестве основных пунктов: 1.
Заставлять соблюдать законы. 2. Защищать свободу, 3. Поддерживать
нравы. 4. Заботиться о собственных потребностях. Но какими бы
важными ни казались эти предписания, они оказываются
сведенными к бессмысленным и бесплодным правилам, неосуществимым
в жизни, если их не подкрепит действенное и возвышенное начало,
которое должно их направлять к этой цели. Именно это я и
постараюсь сделать понятным читателю».
Именно с этой целью Руссо прибегает к «общему и не очень
точному сравнению»: «Политический организм в качестве личности
можно рассматривать как живое тело, состоящее из отдельных
частей и похожее на тело человека...». Споры, вызванные этим
сравнением, не важно, касаются ли они отношений с Гоббсом или
пресловутых органицизмов или механизмов у Руссо, не страдают ли тем,
что приняли неверное направление? Анатомия политического
организма откровенно «сляпана» (следы этого сохранил черновик
статьи): если черновик содержит намек на введение к
«Левиафану», то текст не пытается никоим образом его сохранить. Не только
сравнение теряет свою ценность, но и сам предмет сравнения
становится неуместным. Там, где Обинье («Размышление над псалмом
133») старается осмыслить разделение общественного организма
на разряды и сословия, там, где Гоббс в «Левиафане» делает
предметом рассмотрения «мощь и защиту», Руссо старается осмыслить
условия существования индивидуальной и общественной
«субстанции». Здесь проводится сравнение не столько со структурой
организма, сколько с его основной функцией — обеспечить жизнь3.
Он здесь занят не тем, чтобы выявить в деталях устройство полити-
3 Мы увидим, в частности, неожиданный смысл, который приобретает сравнение
общественных финансов с кровью, в третьей части статьи.
19
*\
Брюно Бернарди
ческого организма, придумывая ему составные части, наподобие
«членов» или «органов», но тем, что указывает на его связующее
начало4 — которого точно нет ни в одной из частей. Этот принцип
и есть «общая воля». Таким образом, этот текст ориентирован на
мало комментируемый отрывок, который, однако, образует опору
понятия «общей воли».
Жизнь человека и организма — это «Я», общее со всем целым,
взаимная восприимчивость и внутреннее соответствие всех его
частей. И как только эта связь перестает существовать и внешнее
единство исчезает, разве сообщающиеся части не принадлежат
друг другу лишь в виде частей смежных? В этом случае человек
мертв, а Государство распалось. Политическое тело,
следовательно, также является неким моральным существом, обладающим
и своей волей...5
Чтобы правильно понять ход мысли Руссо, следует начать с
конца: какова логическая связь, оправдывающая это «следовательно»,
употребляемое им, и указывающая на различие между «живым
существом» и «существом моральным»? Тот факт, что «общая воля»
является «Я», общим с целым, взаимной чувствительностью»,
которая необходимо составляет «внутреннее соответствие всех
частей». Именно потому, что он является «существом моральным»,
политический организм находит в принципе морали возмещение
всему тому, что «организм здоровый, живой» обретает в своем
живом единстве.
Уточняя способ выражения размышлений Руссо, не льем ли мы
воду на мельницу «органического» прочтения и при этом его спи-
ритуализируем? Вовсе нет. Прилагательное «моральный» не должно
вводить в заблуждение: здесь оно означает (как выражения
«моральный и политический организм» и «моральное лицо» в
«Общественном договоре») существо, чье бытие основано на соглашении
и, следовательно, является условным. Еще более проясняет дело
сопоставление с Женевской рукописью (первым вариантом
«Общественного договора»), которая прямо перекликается с нашим текс-
4 «Начало, которое их объединяет»; «высшее и действенное начало, которое
должно их вдохновить».
5 Черновой вариант более отчетлив: «Народ в целом не только органическое или
живое тело, он еще и моральное существо...»
20
Создание общей воли
том. В гипотетическом плане Руссо, критикуя Дидро и его статью
«Естественное право», описывает то, чем оказалось бы
«сообщество человеческого рода», если бы оно существовало; он дает тем
самым определение настоящей ассоциации:
Если бы сообщество человеческого рода существовало еще
в каком-нибудь месте, кроме как в философских воззрениях, оно
было бы, как я уже имел случай сказать, моральным существом,
обладающим присущими ему качествами, отличными от качеств
особенных существ, которые его составляют, почти что как
химические соединения, обладающие свойствами, не зависимыми
ни от каких примесей, входящих в их состав: в этом случае
существовал бы всеобщий язык, которому бы природа научила всех
людей и который стал бы первичным инструментом их
взаимного общения; существовал бы некий sensorium commune — общий
строй чувств, служащий для сообщения между всеми частями;
благо и зло для общества не стало бы только суммой блага и зла
частных лиц, как при простом их сочленений, но заключалось
бы в той связи, которая их объединяет; и то и другое стало бы
большим, чем эта сумма, и не столько высшее счастье общества
было бы основано на счастье частных лиц, сколько это высшее
счастье стало бы источником последнего6.
Давайте же бегло проведем сравнение этих двух текстов:
существо моральное = существо моральное; взаимная
чувствительность = sensorium commune; внутреннее соответствие между всеми
частями = соответствие всех частей; общение = взаимная общение;
сообщающиеся части станут друг другом лишь через смежное
положение = простое скопление; внешнее единство = связь, которая их
объединяет... даже термин «распадение» (состояние распада)
значим в этом ряду. Не подлежит сомнению, что второй текст является
развитием первого и его объяснением.
Отсюда вытекают три следствия: 1) в момент, когда Руссо
формулировал принцип «общей воли», его мысль определилась, «общее
сравнение» отпадает, как ненужная оболочка, и, выходя за пределы
колебаний между органицизмом и механицизмом, заимствует в
химии парадигму дискурса; 2) этот текст статьи «Политическая
экономия» есть первое звено цепи, срединной частью которой — мы
ОС. Т. III. Р. 284.
21
*\
Брюно Бернарди
только что это увидели — является глава II Женевской рукописи,
касающейся сообщества человеческого рода, и конечным — глава V
книги I «Общественного договора»; 3) противопоставление модели
«простого сочленения» модели «смешивания/ассоциирования»
указывает на то, что «общая воля» занимает положение
центрального звена, потому что она образует «сущностное», или «тесное»,
соединение политического тела.
Первые трудности, которые мы обнаружили, могут стать
зачином для ответа на этот вопрос. У Руссо вопрос о политической
экономии возникает в тот момент, когда (как это подтверждают
последние страницы «Рассуждения о неравенстве») он вырабатывает
свою теорию политигеского права. В его глазах политическая
экономия относится к теории управления политическим организмом, ее
необходимое дополнение — теория образования политического
организма — станет предметом «Общественного договора». Однако
вторая необходимо предшествует первой. Поскольку логический
порядок развития принципов вступает, таким образом, в конфликт
с порядком их изложения, Руссо вынужден дать обоснование
первой теории. Для начала, уступая желанию замкнуть круг, он
проводит различие между суверенитетом и правительством; однако он
тотчас же вынужден указать на его основание: «общую волю».
Только она может позволить понять, что дает правительству власть над
частными лицами, только она одна может определить природу
и пределы этой власти. «Восходя к истокам политического права, мы
обнаружим, что прежде возникновения правителей имели место
законы. Для учреждения содружества было бы необходимо, чтобы
существовал по крайней мере один закон <...>. Если законы
существуют прежде правительства, то они не зависят от него.
Правительство само зависит от законов, потому что именно из них
проистекает его власть. Правительство — не столько автор или хозяин,
сколько всего лишь хранитель и уполномоченное лицо, а то и
просто их толкователь»7. Без теории образования политического
организма не существует возможной теории управления; «общая воля»
есть название возможного решения.
Такое прочтение организации текста и логики его композиции
совпадает со свидетельством черновиков, которыми мы располагаем:
7 Фигурирует в черновике (R. 16, f°75v°); этот пассаж был изъят из
окончательной редакции.
22
Создание общей воли
-х^>
Руссо одним жестом, a его след остался в рукописи из Нефшателя,
определяет рамки своей статьи: «собираясь рассуждать о
правительстве, а не о суверенитете»8. Именно об управлении политиге-
ским организмом он и будет говорить. Он пишет набросок частей II
и III, описывающих управление людьми, а затем вещами.
Постепенно ему становится ясно, что его конструкция покоится на неявном
основании — «общей воле». Возвращаясь к уже написанным
страницам, он вводит там ссылки на «общую волю» в согласии с уже
написанным. Последние листки его черновика (f°75 à 73)9 являются
началом объяснения его концепции. Преамбула и первая часть
окончательной редакции представляют собой развитие всего этого.
Написание статьи «Экономия» для V тома Энциклопедии
поставило Руссо перед необходимостью предвосхитить развитие своей
собственной мысли. Весь его текст, таким образом, содержит
изобретение: оно является прыжком мысли вперед, но обладает
шаткостью концептуальной основы.
Мы только что увидели, почему в процессе редактирования
своей статьи Руссо оказался перед своего рода необходимостью
обоснования понятия «общей воли» и каким образом эта редакция
этой необходимости отвечает. Но, кажется, это понятие
обнаруживает себя подобно deus ex machina. Как же Руссо образовал это
понятие? Ответ на этот вопрос предполагает сначала обращение к тексту
«Рассуждения о неравенстве», а затем исследование роли, которую
сыграла статья Дидро «Естественное право».
«Общая воля» прежде «общей воли»
Если понятие «общая воля» отсутствует в «Рассуждении о
неравенстве» и в его посвящении, то не является ли там сама эта
концепция уже действующей? Этот вопрос иногда кажется некорректно
поставленным, поскольку он вытекает из логики ретроспективы,
довольно спорной. Но мы присмотримся к самому процессу
образования мысли Руссо.
8 Наоборот, Женевская рукопись выражается ясно: «Здесь речь идет не об
управлении этим организмом, а о его устройстве».
9 Б. Бернарди здесь и в дальнейшем ссылается на рукопись «Рассуждения о
политической экономии», хранящуюся в Нефшательской городской библиотеке под
номером R 16 {Прим. переводгиков).
23
«\
Брюно Бернарди
Напомним логическую цепочку, представленную во втором
разделе (воспользуемся терминологией Виктора Гольдшмидта10)
второй части «Рассуждения». Мы остановились в гипотетическом
повествовании на стадии, когда «нарождающееся общество уступило
место самому ужасному состоянию войны». Жизнь всех
подвергается опасности, собственность богатых — еще в большей степени.
Богатые предлагают политическое установление, которое придаст
им «новые силы». Доказав, что учреждение обществ
предполагает сохранение состояния войны между ними, Руссо обращается
к частным обществам: «Вернемся к созданию их установлений».
Этот термин «установление» — всегда употребляемый Руссо для
связки между фактическим (происхождение) и тем, что относится
к началам (основаниям), — кажется, ведет к удвоению смысла его
рассуждений. Они продолжаются на двух уровнях. На уровне
повествования о событиях он обращается к фактическому неравенству
и рабству, приводящим к «крайнему неравенству». Но Руссо,
одновременно рассуждает и на уровне права, то есть «продолжая
исследовать факты с помощью права». Фактически, два этих уровня
переплетаются. Обсуждение теорий, указывающих, что у истоков
общества существовало право на завоевание, право сильнейшего,
отказ от свободы в пользу безопасности, отмечено этим
переплетением проблематики. Обе последовательные редакции
«Общественного договора», где Руссо решительно встает на точку зрения права,
снимают эту двусмысленность. Но нам важно выявить моменты,
где проблематика политического права, начиная с «Рассуждения
о неравенстве», становится независимой от факта.
1) «Сказать, что правителей избрали, прежде чем было создано
содружество лиц, и что исполнители законов существовали
прежде самих законов, это предположение, которое не должно всерьез
оспаривать». Собирая все воедино, это заявление заключает в себе
определение и разъяснение того, что такое общественное
соглашение, создание законов, образование правительства,
рассматриваемого в качестве выборного должностного лица. Случайно ли то, что
рукопись статьи «О политической экономии» содержит смысловое
развитие этого положения? «Восходя к истокам политического
права, мы обнаружим, что прежде возникновения правителей су-
10 Goldschmidt V. Anthropologie et politique. Principes de système de J.-J. Rousseau.
Paris: Vrin, 1974.
24
Создание общей воли
ществовали законы. Было необходимо, по крайней мере, чтобы имел
место один закон, учреждающий содружество. Нужен был второй
закон, чтобы установить образ правления. А эти два нуждались
в множестве промежуточных, из которых самым торжественным
и самым священным был тот закон, обязывающий соблюдать все
остальные. Если законы существуют прежде правительства, то они
не зависят от него. Правительство само зависит от законов, потому
что именно из них проистекает его власть. Правительство — не
столько автор или хозяин, сколько всего лишь хранитель законов
и уполномоченное лицо, а то и просто их толкователь». Это
концептуальное положение указывает на различие между
суверенитетом и правительством.
2) «Следовательно, является неоспоримым — и это основная
норма всякого политического права — что народы выбрали себе
правителей для того, чтобы те защищали их свободу, а не
превращали их в рабов». Помимо того, что здесь коренится собственно
руссоистская концепция суверенитета, это высказывание замечательно
тем, что содержит понятие «политического права», употребленное
впервые.
3) «Мне кажется несомненным, что не только правления никогда
не происходили от произвольной власти, которая свидетельствует
об их испорченности, является крайностью, в конце концов приводя
к тому, что в них воцаряется закон сильнейшего, средством против
которого эти правления поначалу были; но и даже если они таким
образом возникли, подобные полномочия власти, будучи по своей
природе незаконными, не могли послужить основанием для прав
общества и, следовательно, для неравенства, основанного на
установлении». Здесь очевидно заметное колебание от «возникновения»
к «основанию», от проблематики происхождения наших
«испорченных обществ» к определению начал легитимного общества. Здесь
мы находимся на почве нагал политигеского права.
Вслед за этим параграфом Руссо прибегает к фигуре умолчания.
«Не начиная сегодня исследования, которое еще только
необходимо провести, о природе основополагающего согласия в любом
правлении, я ограничиваюсь тем, что, следуя общему мнению,
рассматриваю учреждение политического организма как подлинный
договор между народом и избранными им правителями, договор,
по которому обе стороны взаимно обязываются соблюдать
предусмотренные в нем законы, создающие узы этого союза. И когда
25
*\
Брюно Бернарди
народ соединяет воедино все воли по поводу общественных
отношений, то все пункты, по которым «общая воля» высказалась,
становятся в равной мере основными законами, налагающими
обязательства на все части государства без исключения, а один из них
устанавливает порядок выборов и полномочия магистратов,
которым вверено следить за исполнением остальных законов. Эти
властные полномочия распространяются на все, что укрепляет
устройство государства, не допуская, однако, его изменения <...>. Со своей
стороны, магистрат обязывается пользоваться вверенными ему
властными полномочиями только согласно намерениям верителей,
сохраняя за каждым мирное пользование тем, что ему
принадлежит, и предпочитая в любом случае благо общее благу частному» п.
Я не буду вдаваться в анализ этого текста, воспользовавшись
основными идеями, предложенными прочтением Гольдшмидта: под
термином «договор» следует понимать поручение, а под временной
уступкой общему мнению — политическую теорию Руссо in statu
nascendi12. Можно, напротив, задаться вопросом о том, что
окажется крайней точкой в ретроспективной интерпретации,
предложенной этим автором13: формулировка «Рассуждения о неравенстве»
(«И когда народ соединяет воедино все воли по поводу
общественных отношений») якобы полностью соответствует понятию «общей
воли». Можно считать эту связь обоснованной, если подразумевать
под ней то, что Руссо указывает в этом фрагменте место, которое
будет занимать «общая воля». Но она пока еще не занимает этого
места. Руссо в этом отношении находится под влиянием Локка
и наследия теоретиков естественного права (такова цена игр с
«общераспространенным мнением»), еще не стоит на твердой почве
в сфере политического права. Впрочем, это причина, по которой,
начиная со следующего параграфа, он возвращается к первой
строке аргументации, прослеживая путем гипотезы генезис обществ,
основанных на подчинении и неравенстве. Чтобы началось
колебание мысли Руссо и сформировалось понятие «общей воли»,
необходима была точка опоры для приложения рычага. Дидро предложил
Руссо эту точку опоры как в положительном, так и в
отрицательном смысле. В статье «Естественное право», правильно поставив
11 Фрагменты «Рассуждения о неравенстве» переведены С. В. Заниным.
12 В состоянии зарождения {лат.).
13 Goldschmidt V. Op. cit. § 167. P. 685.
26
Создание общей воли
проблему, затрагивая вопрос о выгоде от общественного
соглашения, Дидро пришел к ложному решению: «общая воля
человеческого рода».
От долга в форме несогласия...
Когда Руссо прочитал статью «Естественное право»? В процессе
написания своей собственной статьи, точнее, после написания двух
последних основных частей, он ознакомился со статьей Дидро.
Тогда он и ввел в свое повествование понятие «общей воли». Анализ
черновика в точности подтверждает то, о чем свидетельствуют
явные отсылки, которые делает Руссо на статью Дидро в
окончательном тексте.
Начнем же со второй из этих отсылок. В статье «Естественное
право» можно прочитать (§ IX, 4): «Подчинение общей воле есть
узы всех обществ, не исключая тех, которые созданы во имя
преступления. Ах, добродетель столь прекрасна, что даже воры уважают
ее видимость в глубине своих пещер!». Статья «Политическая
экономия» содержит в конце предпоследнего параграфа преамбулы
следующее: «Именно таким образом (как мы заметили в статье
"Право") даже разбойники, которые являются врагами добродетели
в большом обществе, чтут ее видимость в своих пещерах». О том, что
это — скрытая цитата, известно давно. Но Р. Дератэ не указал на то,
что в f°75v° можно обнаружить изолированный текст этой
квазицитаты со всеми признаками примечания, сделанного по ходу
прочтения. Должно быть, в процессе написания своей статьи, после
написания двух первых ее частей, Руссо переписал отрывок Дидро.
Но более того. Если установлено, что заключительная фраза
параграфа, который вводит понятие «общей воли» («Посмотрите
в статье "Право" прямой источник этого великого и ясного
начала»), не присутствует в черновике, то внимательное прочтение
показывает, что ссылка на статью Дидро там уже есть. Следовательно,
Руссо явно, с самого «первого наброска» использует словосочетание
«общая воля». Он, впрочем, колебался немного, употребляя
термины «собирательная воля» и «воля общества», прежде чем выбрать
термин «общая воля»14.
14 Термин «воля общества» остается в статье «Экономия», конкурируя с
термином «общая воля». В «Общественном договоре» он появляется только один раз
(книга III, глава IV).
27
*\.
Брюно Бернарди
По ходу написания статьи «Политическая экономия» и чтения
статьи Дидро Руссо создал свое собственное понятие «общей воли»
и, исходя из него, задумал и написал преамбулу и первую часть
своей статьи. Однако, хотя вопрос и решен чисто номинально, он все
же остается открытым в концептуальном плане: чем обязана
«общая воля» Руссо концепции «общей воли» Дидро?
Этот отправной пункт у Дидро проблематичен: на чем основано
обязательство индивида, свободного от любых уз? Единственной
властью, уважения к которой от него можно требовать, является
власть его разума. Но вымышленный в теории «отчаянный резонер»
использован здесь для того, чтобы это доказать. Только
соображения личной выгоды неспособны породить в его сознании какое бы
то ни было представление об обязательстве. Если и существует путь,
чтобы выйти из этого тупика, так это тот, что индивид является
членом своего вида (или рода: Дидро использует оба этих слова, не
делая различий). «Общая воля» есть воля всего человеческого рода,
присутствующая в каждом из его членов (§ 8: «...общая воля в
каждом индивиде есть решение, принятое согласно незамутненному
рассудку, который размышляет, когда пристрастия молчат»)15, а
также во всех установлениях и нравах (даже испорченных)
человеческих обществ. Жак Пруст это блестяще показал: «Человек, которого
описывает Дидро, находится естественным образом в отношениях
с себе подобными; существует сообщество человеческого рода,
стоящее над гражданскими обществами. Собственный интерес статьи
"Естественное право" заключается в отождествлении этого
сообщества с коллективным существом, принадлежащим этому роду...
Человеческий индивид для этого организма все равно что молекула.
Разум становится, таким образом, средством, с помощью которого
"общая воля" рода вменяется совокупности частных существ, его
составляющих. Он обеспечивает внутреннюю связь и постоянство
существования организма. Присутствуя в элементах,
составляющих организм, он является в каждом индивидуальном сознании
голосом всего человеческого вида. Но это — не голос инстинкта или,
скорее, он не только голос инстинкта; наличие разума
решительным образом отличает человека от животного»16.
15 Б. Бернарди ссылается здесь и далее по тексту на параграфы в статье Дидро
«Естественное право» (Прим. переводгиков).
16 Proust J. Diderot et «l'Encyclopédie». Paris, 1964. P. 387. Пруст добавляет также:
«Кроме того, человеческий род играет у Дидро в точности ту самую роль, которую
28
Создание общей воли
Поскольку исследование этой статьи самой по себе не есть наша
задача, мы оставим в стороне трудности, присущие размышлениям
Дидро. Также мы не будем принимать во внимание второе прочтение
Руссо статьи Дидро во второй главе Женевской рукописи (первые
элементы этого второго прочтения содержатся на обороте
рукописи R 16). Мы ограничимся в строгом смысле только прочтением,
о котором свидетельствуют черновик и окончательная редакция
«Рассуждения о политической экономии». Вопрос, который мы
должны рассмотреть, прост: когда он заимствует термин «общей
воли» у Дидро и в какой мере Руссо разделяет концепцию,
выработанную Дидро? Еще раз: черновик из Нефшателя является кладезем
поучительных вещей. Мы там можем проследить, по ходу его
написания, тот путь, по которому шел Руссо, вводя понятие «общей
воли» (f°74r° и 73г°). К тому же, внизу 73г° (последнее замечание,
касающееся статьи «Политическая экономия») он возвращается
к этому понятию для того, чтобы его развить, но написанное не
сохранено в окончательной редакции. Однако здесь возможно
вычитать прямой ответ на статью «Естественное право». Для удобства
изложения мы предлагаем сопоставить эти тексты17.
Статья «Естественное право» Нефшательский герновик
VI. Но, если мы отнимем у индиви- ^ 16 f°74r° et 73г°
да право принимать решения отно- Политическое—теле;—вееь—народ
сительно природы справедливого не является только органическим
и несправедливого, на чей суд мы и живым телом. Политическое тело
вынесем решение великого вопроса? является еще следовательно мо-
Куда? На суд человеческого рода: ральным Существом, обладающим
только одному ему и принадлежит волей собирательной или общей
право его решать, ибо благо всех — общей, которая стремится всегда
единственная страсть, которая ему к благополучию, сохранению всего
присуща. Частные воли внушают коллективного—индивида всего
недоверие; они могут быть добры- и каждой части является по отно-
играл Господь у Бюрламаки». Он полагает, что Дидро в своей статье сознательно
подчеркивает то различие, которое с момента публикации «Рассуждения о
неравенстве» Руссо составляло предмет его разногласий с последним. В общем,
именно в книге этого специалиста по Дидро мы находим самые внятные страницы,
свидетельствующие о несовпадении политических идей этих двух философов.
17 В транскрипции рукописи мы восстановили зачеркнутые слова и фразы и
выделили курсивом те, что написаны поверх строки.
29
r\
Брюно Бернарди
ми или злыми, но общая воля
всегда добра: она никогда не
обманывала и никогда не обманет. Если бы
животные были существами почти
что одного порядка с нами, если бы
существовали надежные средства
общения между ними и нами, если
бы они ощутимым образом могли
передавать нам свои мысли и
чувства, а также узнавать наши
собственные столь же очевидным
образом: одним словом, если бы они
имели право голосовать на общем
собрании, их следовало бы туда
позвать, и иск по естественному праву
оспаривался бы не в суде
человечества, а в суде животных. Но
животные отделены от нас вечной и
неизменной преградой.
IX. Если вы обдумаете
внимательно все ранее сказанное, вы
убедитесь: 1. Человек,
прислушивающийся только к велениям своей частной
воли, является врагом
человеческого рода. 2. Общая воля в каждом
индивиде есть решение, принятое
незамутненным рассудком, который
размышляет, когда пристрастия
молчат, относительно того, что человек
может требовать от себе подобного,
а этот последний вправе требовать
от него самого. 3. Что это уважение
к общей воле рода и общему
желанию есть правило поведения в
отношениях частного лица к
частному лицу в одном и том же обществе,
частного лица к обществу, членом
которого он является, и общества,
членом которого он является, к
остальным обществам. 4. Что
подчинение общей воле служит связью во
всех обществах, не исключая тех,
шению для целого по отношению
к ним е&мим и ему мерой
справедливого и несправедливого (смотри
далее) что и показывает, скажем по
ходу, с какими познаниями наши
писатели рассуждали о воле
хитроумие упражнение о хитроумии,
предписанном детям Спарты,
чтобы они имели чем питаться достать
их собственный скромный обед как
если бы можно таки какой все, что
предписывают и позволяют
законы, может и не быть легитимным
между гражданами.
Случай не является Не так обстоит
дело с иностранцами, и довод здесь
очевиден: именно здесь общая воля
государства политического тела не
коего общества государства, общая
по отношению к его членам, не
является таковой по отношению к
другим государствам и его членам, но
становится для них волей частной
и индивидуальной, которая
заключает правило справедливости в
естественном законе, а это в равной
мере подчиняется установленному
основному положению, ибо в этом
случае большой город мира
становится политическим телом,
природный закон которого есть общая
воля и которого все народы
государства и различные народы стано
вятея являются лишь индивидами
индивидуальными членами.
Будучи мерой справедливого и
несправедливого в государстве, общая
воля постоянно направлена на
общее благо общественное и частное,
государственная власть должна быть
лишь исполнительницей этой воли,
из чего следует, что из всех видов
30
Создание общей воли
что созданы во имя преступления.
Ах, добродетель столь прекрасна,
что даже воры чтут ее видимость
в глубине своих пещер! 5. Что
законы должны быть созданы для всех,
а не для одного, в противном
случае это одинокое существо стало бы
похоже на отчаянного резонера,
которого мы принудили к молчанию
в параграфе V. 6. Что, поскольку из
двух воль, частной и общей, только
последняя никогда не
заблуждается, несложно увидеть, какой из
двух, во имя счастья человеческого
рода, власть законодателя должна
следовать, и какое почтение мы
должны оказывать тем живущим на
земле августейшим особам, частная
воля которых соединяет в себе
и власть, и непогрешимость общей
воли. 7. И даже если предположить,
что понятия о видах находятся в
постоянной изменчивости, природа
естественного права неизменна, ибо
она всегда будет связана с общей
волей и общим желанием всего
человеческого рода. 8. Что
справедливость относится к правосудности
как причина к следствию и что пра-
восудность не может быть не чем
иным, как провозглашенной
справедливостью. 9. И, наконец, все эти
следствия ощутимы для того, кто
разумеет, а с тем, кто не хочет
разуметь, отказываясь от своего
качества как человека, то с ним следует
обращаться как с существом,
лишенным своих природных качеств.
правления наилучшее по природе
то, которое наилучшим образом
согласуется с ней; то, члены которого
вовсе не имеют стремятся меньше
всего к личной выгоде,
противоположной выгоде народа; ибо этот
двойственный характер стремлений
к выгоде не мог бы не не может не
пробудить гастную волю
правителей, которая в их управлении всегда
берет верх над волей общей; ибо,
поскольку в человеке жировая
прослойка тела причиняет вред голове,
ей следует особенно позаботиться
о том, чтобы тело не жирело. Если
счастье народа есть препятствие
честолюбию его правителей, пусть
народ не льстит себя надеждой стать
когда-либо счастливым.
Но если правление устроено так,
как оно и должно быть устроено,
и оно соблюдает те начала, которые
должно разделять, его главной
заботой в заведовании
общественным хозяйством или в
общественном управлении, следовательно,
является неусыпный надзор за
исполнением общей воли,
являющейся одновременно правом народа
и источником его счастья. Все рас
поряжсния по которым всякое
решение общее и публичное этой воли
называется законом, и потому
первейший долг глав состоит в заботе
о соблюдении законов.
Смущает тщательно выверенное расхождение, которое Руссо
подчеркивает между собой и Дидро в тот самый момент, когда по
видимости черпает поддержку в его рассуждении, чтобы обосно-
31
Брюно Бернарди
вать свое собственное. Мысль Дидро развивается между двух
полюсов: индивид и вид, или род. Руссо с самого начала встает на
совершенно другую почву — государство18. Именно в «государстве»
«общая воля» есть мерило справедливого и несправедливого.
Благодаря двоякому повороту назад в движении мысли понятие власти
меняет свое содержание. У Дидро это понятие означает моральную
власть «общей воли», лежащей в основе обязательства. У Руссо
она есть власть общественная, то есть политическая, подчиненная
«общей воле» (высшей власти), которую эта власть должна
«исполнять». Это смещение проблематики и отражается в уточненных
названиях статей: Мораль у Дидро, Мораль и Политика у Руссо.
Кроме того, возможный конфликт между «общей волей» и волей
частной для начала рассматривается на примере поведения
правящих лиц. Именно их следует в первую очередь обязывать. Первое
предназначение понятия «общей воли» заключается в обосновании
понятия правительства как поверенного «общей воли».
Неудивительно, что понятие «народ» мгновенно появляется в качестве
определения пока еще весьма двусмысленного понятия Государства
в двояким образом уточненном значении: как суверена («общая
воля» есть «его право», она создает право) и как совокупности
подданных (она есть источник «его счастья»)19. Именно благодаря
прочной логической цепочке рассуждений этот отрывок
завершается понятием закона, тогда как отсутствие понятия закона
бросается в глаза в тексте Дидро. Это логично: естественное право есть
у него «внутреннее чувство», «общая воля» есть «решение,
принятое незамутненным рассудком», природным, восходящим к
морали. У Руссо закон представляет собой решение «общей воли»,
которое предполагает коллективное размышление, обсуждение: «Само
правительство зависит от законов, потому что именно из них оно
черпает свою власть. Оно вовсе не является автором или правите-
18 руСС0 пишет в своей рукописи «государство» с маленькой буквы, когда он
употребляет его в техническом смысле. Благодаря унификации типографских
шрифтов, принятой в Энциклопедии, эти различия в написании исчезли.
19 Место народа в «Рассуждении о политической экономии» остается скромным:
этот текст развивает теорию полномочий правительства, а не суверенитета. Но
перемена порядка изложения по отношению к логической связи начал
производит, конечно же, впечатление известной слабости, которой отмечено
развертывание мысли Руссо.
32
Создание общей воли
лем, оно является лишь их поручителем и поверенным и
всего-навсего их исполнителем». Здесь зарождается различие между
законом и постановлением20.
Для Дидро «общая воля» едина, поскольку она является общей
для вида. И тем самым она устанавливает единое мерило
(«Естественное право», § IX, 3). Трудно не заметить, что Руссо будет
методично оспаривать единство этого принципа и тех трех
практических выводов, которые делает Дидро.
Он уже переместил «общую волю», как мы уже убедились, из
вида в политический организм. Это мерило справедливости не для
людей, но для граждан. И если она и может оказаться ошибочной
в отношении иностранцев, то только потому, что она не в
состоянии их обязывать, получая свою силу лишь от политического
организма, который ее образует. Здесь становится очевидным, что Дидро
и Руссо вкладывают ни один и тот же смысл в категорию общности.
Для Дидро общность есть всеобщность рода, в которую каждый
индивид включен в качестве pars Malis21. Для Руссо существует лишь
относительная общность, обобщение, производимое учрежденным
сообществом. Дидро сводит общее к всеобщему с помощью
понятия природы, Руссо, напротив, снова сводит всеобщее к общему
(настолько, что он говорит более или менее часто о всеобщем и
будет утверждать, что общее и всеобщее суть одно и то же)22.
Как же теперь понимать замечание о «законе природы» как
«общей воле» большого города мира? Не претендуя на то, чтобы
целиком разобраться со всеми сложностями, которые возникают при
чтении этого эллиптического по характеру отрывка, начнем с того,
что отбросим невозможное. Следует исключить простой возврат
к концепции «общей воли» Дидро как воли рода. Что означало бы,
что Руссо противоречит самому себе в этой фразе. Это в особенности
невозможно из-за определения большого города мира как
«политического организма». Было бы соблазнительно говорить об
отношениях между державами, будто в них они находятся в «естествен-
20 «Общественный договор», книга II, глава I и VI.
21 части целого (лат.).
22 Об этом вопросе подробнее см. в статьях: BernardiB. 1) Universel, général: l'alté-
rité de Rousseau//La Nature. Ellipse. 2001; 2) L'art de généraliser//Actes du
colloque «Rousseau et la philosophie». Université Paris I et CERPHI, 2002.
2 Зак. 3436
33
Брюно Бернарди
ном состоянии». Вот только тогда понятие «общей воли» стало бы
несостоятельным. Сравнение этих двух отрывков первой части
статьи «Политическая экономия» может разъяснить дело:
1. Действительно, частные общества находятся в зависимости
от тех, в состав которых они входят, и предпочтительнее
подчиняться этим последним, чем другим, а обязанности гражданина
стоят выше обязанностей сенатора, обязанности человека —
выше обязанностей гражданина: но, к несчастью, соображения
личной выгоды находятся в обратном отношении к долгу, и они
усиливаются по мере того, как ассоциация становится менее
многочисленной, а обязательство менее священным; это
неопровержимое доказательство в пользу того, что наиболее общая
воля является и наиболее справедливой, а глас народа и есть и в
самом деле глас Божий.
2. Кажется, будто чувство гуманности ослабевает по мере
удаления от нас людей, живущих на земле; и нас не так трогают
бедствия в Японии, как бедствия народов Европы. Необходимо
в некотором роде ограничить и обуздать участие и сострадание
в постороннем человеке, чтобы они стали более действенными.
Но, поскольку эти наши склонности могут быть полезны только
для тех, с кем мы живем рядом, следует считать благом, если
гуманность, сосредоточенная в среде граждан, проявит себя с
новой силой благодаря свойственной им привычке видеться друг
с другом и общей выгоде, которая их объединяет.
Здесь мы очевидно имеем дело с двумя началами, из которых
одно можно назвать центробежной силой, а другое —
центростремительной. «Общая воля» направлена в обе стороны: в силу
первого из них она направляет свое действие на сообщество человеческого
рода благодаря процессу расширения общества и обобщения воли;
в силу второго начала она сосредотачивает свое действие на
индивиде, имея самое непосредственное отношение к его выгоде.
Политическое сообщество соответствует точке равновесия этих двух
сил. Только обобщение этой воли в сообществе человеческого рода
может привести к совпадению этих разнонаправленных сил. Тогда
естественный и политический закон стали бы одинаковыми,
«сообщество геловегеского рода» стало бы чем-то иным, чем
существом, созданным разумом. Но в этом пункте мысль Руссо стала
вразумительной только в последней главе «Общественного
договора», в этом отношении редко правильно понимаемой. Ее элементы
34
Создание общей воли
присутствуют в статье «Политическая экономия», но они там не
высказаны отчетливо. В этом, как кажется, кроется неясность этих
строк.
...к основополагающему расхождению
Вывод однозначен: Руссо вообще ничего не заимствует у Дидро.
Его мысль сразу развивается в модусе отличия, инверсии
проблематики и принципиально нового обоснования концепции «общей
воли». Все происходит так, как будто бы Дидро ему предложил
осмыслить теоретическую конфигурацию, от которой он
отталкивается, благодаря чему стало возможным создание его
собственной. В этом, и только в этом, Дидро оказал Руссо бесценную услугу:
движение мысли Руссо оказалось вполне зрелым. Отдавал ли Руссо
в этом себе отчет? Вполне. Во всяком случае, методично, почти
неотступно, он будет воспроизводить движение мысли, направленное
на поиск различий в новых аспектах, как это заметно по первым
главам Женевской рукописи. И вот, когда период образования его
мысли принес все необходимые результаты, уже заложенные в нем,
Руссо снимет эти леса, вычеркнет ссылку на Дидро, ставшую
бесполезной, и напишет «Общественный договор».
От черновика до окончательной редакции текст статьи
«Политическая экономия» подвергается изменениям: некоторые отрывки
изымаются, появляются новые добавления. В каком направлении
идут эти изменения?
Хотя некоторые элементы черновика не были сохранены в
окончательной редакции, здесь нельзя видеть шаг назад (был ли этот
шаг связан, как это полагал Филоненко, со стремлением щадить
Дидро, друга и издателя?)23. Напротив, все указывает, что Руссо,
опираясь на завоеванные позиции, как подчеркнул в еще большей
мере свои разногласия с Дидро, так и укрепил свои собственные
позиции.
Развитие отрывка, написанного внизу f°73, как мы только что
убедились, устанавливало начало «общей воли» применительно
к теории правительства с выходом на понятие закона. Это
движение мысли сохранилось. Отправная точка та же. Средняя линия
будет достигнута в конце преамбулы: можно видеть в определении
Philonenko A. Rousseau et la pensée du malheur, Paris: Vrin, 1984. T. I. P. 241 ff.
35
«-\.
Брюно Бернарди
экономии «общественной и народной» как экономии «государства,
где царит между народом и его главами единство пользы и воли»,
отголоски черновика, в котором говорится, что «лучшее по своей
природе правительство — это то <...> члены которого имеют в
меньшей степени соображения личной выгоды, противоречащей выгоде
народа»24. Теория закона будет развита в начале третьей части и
заимствует формулировку, близкую к той, что находится в черновике.
Слова: «Самой насущной выгодой правителя, а также его самым
непреложным долгом является надзор над соблюдением законов,
поверенным которых он становится и на которых основана вся
власть» соответствуют последним словам нашего фрагмента:
«Всякое решение этой воли называется законом, и, как следствие,
первым долгом правителей является надзор за соблюдением законов».
Руссо, следовательно, решил сделать добавления в текст. Но
какая логика побудила его развить свои мысли во фрагментах,
вставленных в текст? Показав, что «общая воля» не является
единственным началом и что, как следствие, она не смогла бы столь легко
регулировать отношения с иностранцами и отношения обществ друг
с другом, Руссо продолжит видоизменять свою концепцию. В самом
политическом обществе мы имеем дело с частичными
проявлениями воли, они являются общими в одном отношении и частными
в другом. Здесь разногласие с Дидро еще раз становится для Руссо
поводом твердо ступить на почву собственной теории, которая
является в основе своей политической. Тот факт, что этот отрывок
был почти буквально взят в «Общественный договор» (книга И,
глава III), говорит о том, что Руссо сознавал, какой прыжок вперед
он совершил. Точно так же и вопрос об интригах и общественных
объединениях (партиях) здесь затронут впервые. Хотя Руссо
впоследствии внесет в него добавления и уточнения, тем не менее,
самое существенное в нем найдено сразу. В «Общественном
договоре» не раз будут использоваться формулировки из статьи
«Политическая экономия».
Так же обстоят дела и с замечаниями о способе, которым можно
избежать подчинения «общей воле» (см., например, «Обществен-
24 Заметим, что стремление к реализму скрывается за исправлениями в
черновике: иллюзия думать, будто соображения выгоды у людей одинаковы. Нужно
считаться с выгодой организма и выгодой лиц. Возможно лишь ограничить влияние
соображений выгоды лиц и организма.
36
Создание общей воли
ный договор», книга IV, глава 1). В силу того что «общая воля»
является не внутренним и врожденным чувством, а предметом
решения и, следовательно, обсуждения, и в силу того, что необходимо,
чтобы она образовалась и заявила о себе, целая пропасть может
возникнуть между «общей волей» и результатом общественного
обсуждения. Это будет, говоря словами Руссо, «в целом
произведением политического искусства» — сделать так, чтобы «общая воля»
могла узнать себя и заявить о себе25.
То обстоятельство, что Руссо испытывает потребность в конце
своего рассуждения снова выказать формальное уважение к Дидро
(это ссылка на грабителей, о которой уже упоминалось), не может
скрыть того факта, что именно в противопоставлении себя Дидро
он обрел собственную почву под ногами: он не может сдержаться
и не забить гвоздь, чтобы еще раз не указать на расхождение между
ними. Задавая себе вопрос (§ VIII): «Но, скажете мне вы, где
находится вместилище этой "общей воли"? Как я смог бы узнать ее
мнение?», Дидро отвечал: «В началах писаного права всех
цивилизованных наций; в общественных деяниях диких и варварских народов;
в молчаливых соглашениях врагов человеческого рода между собой
<...>». Итак, для Дидро, начало общей воли действует в
исторически существующих обществах, поскольку она есть «решение
незамутненного рассудка, который размышляет при молчании страстей».
Завершая свою преамбулу различием между «народной» и
«тиранической» экономией и делая «общую волю» главным основанием
этого различия, Руссо приходит к противоположному заключению:
«Правила ее (тиранической экономии) хранятся в архивах истории
и в сатирах Макиавелли. Прочие (правила народной экономии)
заключены только лишь в произведениях философов, которые
осмеливаются отстаивать права человечности».
В этом последнем параграфе Руссо считает уместным уточнить,
что он «не полагал необходимым серьезно исследовать, являются
ли магистраты принадлежностью народа или же народ частью
магистратуры» и то, что «в общественных делах должны ли мы
действовать во благо государства или во благо его правителей». Эту
формулировку следует прежде всего сопоставить с формулировкой
25 По этому вопросу см. статью В. Bernardi «Souveraineté, citoyenneté, délibération.
D'une tention constitutive de la pensée de Rousseau » (Cahiers philosophiques. 2000.
Septembre. № 84).
37
r-s Брюно Бернарди
из «Общественного договора» (книга I, глава II), где Руссо ставит
в вину Гроцию (и Гоббсу) мысль, согласно которой «сомнительно,
чтобы человеческий род являлся принадлежностью сотни человек
или же чтобы эта сотня человек принадлежала человеческому роду,
и кажется, что во всей своей книге он склоняется к первому
мнению». Вполне возможно, что мы должны увидеть в этом
рассуждении отзвук собственной политической культуры Руссо, усвоенной
в Женеве. В своем тираноборческом трактате26 под названием
«Право должностных лиц над их подданными» Теодор де Бэз
напоминал о принадлежности магистратов народу и выводил из этого
один из центральных своих тезисов: «Я утверждаю, что народы не
происходят от магистратов, а скорее народы, которым было угодно
позволить над собой править государю или некоторым избранным
сеньорам, являются более древними, чем их магистраты, и, как
следствие, народы не созданы ради магистратов, а напротив,
магистраты созданы для народа <...>». Но там, где тираноборцы пытались
определить границы, которые суверенная власть должна соблюдать,
чтобы быть легитимной, Руссо обнаруживает в «общей воле»
суверенного народа самый источник всякой легитимности, поскольку
она сама себя ограничивает «общими соглашениями» и их
предметом, «общей пользой» (см. главы II, III «Общественного
договора»).
В конце этой преамбулы Руссо столь хорошо осознает
значимость того, что ему удалось добыть для своей политической
философии в целом, и он придает «общей воле» вполне определенный
статус, который останется неизменным в самом законченном
выражении его мысли. Она есть «первое начало общественной
экономии и основное правило правления». Она является началом в
двояком смысле. Она есть основание любого политического порядка:
«Существуют тысячи способов собрать вместе людей, но существует
только один, с помощью которого их можно объединить», —
говорится в Женевской рукописи. Воля есть источник всякой
легитимной власти. В этом заключается статус «начал политического права».
26 Théodore de Bèze. Du droit des magistrats sur les subjets. Genève, 1574 (начало
главы V, стр. 9). В своем произведении Теодор де Бэз, французский гугенот,
изгнанный в Женеву, ближайший помощник и преемник Кальвина, пытается обосновать
неповиновение магистрату, когда он прямо покушается на своих подданных. Его
трактат составляет одно целое с совокупностью произведений тираноборцев,
написанных после Варфоломеевской резни.
38
Создание общей воли
-х-»
Но одновременно она является правилом для правительства,
потому что оно черпает из нее свою власть, и эта воля имеет для него
силу предписания. Это та роль, которую ей приписывает преамбула
«Общественного договора»: быть «нормой законного и надежного
управления». Из этого основного начала будут выведены три
правила, или нормы, политической экономии: «сделать так, чтобы
управление соответствовало законам»; «сделать так, чтобы царила
добродетель»; «заботиться об общественных потребностях». Три части
статьи будут посвящены каждая исследованию одного из этих
правил.
Перевод с французского
В. В. Некрасова и С. В. Занина
Жан-Жак Руссо
РАССУЖДЕНИЕ
О ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ
Слово «экономия», или «ойкономия», происходит от греческих
слов oTxoç — 'дом' и vô^ioç — 'закон' и изначально означает лишь
мудрое и законное управление домом1 во благо всех членов семьи.
Смысл этого термина в дальнейшем распространился и на
управление большой семьей, то есть на государство. Для того чтобы
различать эти два значения, в этом последнем случае экономию
называют общей, или политической, экономией; а в первом — домашней,
или частной, экономией. В этой статье речь идет только о первой,
о домашней экономии (см. статью «Отец семейства»).
Если между государством и семьей и существует столько
сходства, как то полагают многие авторы, из этого еще не следует, что
правила поведения, свойственные одному из этих сообществ,
подошли бы для другого. Эти сообщества слишком различаются по своей
величине, чтобы ими можно было управлять одинаково; и всегда
будет существовать крайнее отличие между правлением домашним,
где отец может наблюдать за всем сам, и гражданским правлением,
где правитель почти всегда наблюдает за всем чужими глазами. Для
того чтобы в этом отношении вещи оказались сопоставимыми,
нужно, чтобы дарования, сила и все способности отца возрастали
соответственно величине семьи и чтобы душа могущественного
монарха относилась к душе обычного человека так же, как размеры его
владений относятся к достоянию отдельного лица.
Но как же может управление государством походить на
управление семьей, когда основания обоих столь различны? Поскольку
отец физически сильнее, чем его дети, то до тех пор, пока им нужна
его помощь, отцовскую власть разумно считать установленной
самой природой. В большой семье, члены которой по природе равны
40
Рассуждение о политической экономии
между собой, власть же политическая является совершенно
произвольной в смысле ее установления, может быть основана только на
соглашениях, а магистрат в состоянии приказывать другим
гражданам только в силу законов2. Обязанности отца внушены ему
естественными чувствами и в такой интонации, которая позволяет
лишь в редких случаях этому не повиноваться. Правители совсем
не следуют подобному правилу и в отношении народа
придерживаются только тех обещаний, которые они ему дали и исполнения
которых народ вправе от них требовать. Другое различие, еще более
важное, состоит в том, что у детей есть полученное ими от отца,
и очевидно, что все их права собственности принадлежат ему или
же проистекают от него. Совершенно иначе дело обстоит с
большой семьей, где общее управление установлено лишь для того,
чтобы сохранить собственность частных лиц, а ее появление
предшествует его возникновению. Основной предмет забот всего дома
состоит в том, чтобы сохранить и приумножить отцовское
имущество с тем, чтобы отец мог когда-нибудь разделить его между
детьми, не обделив их, тогда как благосостояние казны3 — это лишь
средство, часто весьма плохо понимаемое, для того чтобы
обеспечить частным лицам мир и изобилие. Одним словом, малая семья
должна однажды угаснуть и распасться на ряд других подобных
семейств; но большая семья создана для длительного существования
в одном и том же состоянии, тогда как малой семье надлежит расти,
увеличиваясь в числе членов: не только вполне достаточно, чтобы
большая семья сохранялась в неизменном виде, но и можно легко
доказать, что всякое увеличение для нее скорее вредно, чем полезно.
Согласно многим доводам, почерпнутым из природы вещей, в
семье должен приказывать отец. 1. Власть отца и власть матери не
должны быть одинаковы, но следует, чтобы правление их было
единым и, при несходстве их мнений, один преобладающий голос
решал вопрос. 2. Какими бы легкими ни пришлось признать
недомогания, присущие женщине, они все же ведут к некоторому периоду
бездеятельности: это достаточный довод, чтобы лишить ее
первенства, ибо в совершенном равновесии достаточно соломинки, чтобы
последнее нарушилось. Более того, муж должен иметь право
надзора за поведением своей жены, поскольку для него важно
удостовериться в том, что дети, которых он должен признать и кормить,
являются только его детьми, а не кого-то другого. Женщине не нужно
опасаться ничего подобного, поэтому у нее нет подобного же права
41
*\.
Жан-Жак Руссо
в отношении мужа. 3. Детям надлежит повиноваться отцу сначала
по необходимости, затем из благодарности; получив от отца все
необходимое в первую половину своей жизни, они должны посвятить
вторую ее половину заботе о его нуждах. 4. Что касается домашних
слуг, им также следует оказывать ему услуги в обмен на то
содержание, которое он им обеспечивает, если только сделка не
прекращена, поскольку ее сочли неподходящей; не стану ничего говорить
о рабстве4, потому что оно противно природе, и никакое право не
может его дозволить.
Ничего подобного нет в политическом сообществе. У правителя
не только нет естественной выгоды в том, чтобы составить счастье
частных лиц, но он нередко даже пытается найти свою собственную
в их несчастье. При наследственном замещении должностей
нередко ребенок руководит взрослыми5; когда же должности являются
выборными, тысячи неудобств дают о себе знать. И в том и в
другом случае теряются все преимущества, проистекающие из родства
по отцу. Если у вас только один правитель, то вы живете по
милости господина, у которого нет никакого повода вас любить; если
у вас их несколько, то приходится мириться одновременно и с их
тиранией, и с их раздорами. Одним словом, злоупотребления
неизбежны, а их следствия пагубны во всяком обществе, в котором
выгода общества и законы не поддерживаются никакой природной
силой, беспрестанно ущемляются личной выгодой и
пристрастиями правителя и членов общества.
Хотя исполнение обязанностей отцом семейства и главным
магистратом должно направлять их к одной и той же цели, тем не менее,
пути ее достижения весьма различны; их долг и права так отличны
друг от друга, что путать их можно, лишь усвоив ложные
представления об основных законах общества, впадая при этом в ошибки,
пагубные для человеческого рода. И действительно, если голос
природы дает наилучший совет, к которому должен прислушиваться
добропорядочный отец семейства, исполняя свои обязанности, для
магистрата это ложный руководитель, который беспрестанно
старается отвлечь его от обязанностей; этот руководитель рано или
поздно приведет к погибели его самого и государство, если только он не
станет удерживать себя в рамках самой возвышенной добродетели.
Единственная предосторожность, необходимая отцу семейства, —
в том, чтобы оградить себя от порчи нравов и постараться не
допустить, чтобы его природные наклонности испортились, но именно
42
Рассуждение о политической экономии
эти склонности и портят магистрата. Чтобы поступать правильно,
первому из них следует прислушиваться к голосу своего сердца, но
второй становится предателем в тот самый миг, когда он начинает
прислушиваться к этому голосу: самый разум его должен казаться
ему подозрительным, ибо он не должен следовать никакому иному
правилу, кроме правила, установленного общественным разумом,
который является законом; так что хотя природа и создала
множество хороших отцов семейств, но весьма сомнительно, чтобы от
сотворения мира человеческая мудрость произвела хотя бы десяток
человек, способных управлять себе подобными.
Из всего того, что я только что сказал, следует, что различие
между общественной экономией и частной было проведено с
полным основанием; и, поскольку гражданская община и семья не
имеют между собой ничего общего, кроме обязательства их
правителей сделать счастливыми обеих, одни и те же правила не могут
считаться подходящими для них6. Я полагаю, что этих немногих
строк достаточно, чтобы опровергнуть те отвратительные
взгляды, которые шевалье Филмер7 попытался обосновать в сочинении
«Патриарх»8 и которому два выдающихся человека9 оказали
слишком много чести, в ответ на него написав каждый по книге.
Впрочем, это заблуждение весьма укоренившееся, поскольку даже
Аристотель10 счел уместным опровергнуть его теми доводами, что
можно обнаружить в первой книге его «Политики» п.
Я прошу12 моих читателей отчетливо различать, кроме того,
общественную экономию, о которой я буду говорить и которую я
называю правительством, от высшей власти, названной мною
суверенитетом; различие это состоит в том, что одному из них
принадлежит право законодательства, и оно в некоторых случаях налагает
обязательства даже на организм нации, тогда как другому
принадлежит только власть исполняющая, и она может налагать
обязательства лишь на частных лиц. (Смотри статью «Политика и
суверенитет» 13.)
Позволю себе в какой-то мере воспользоваться сравнением
обычным и во многих отношениях неточным, но оно, однако,
позволит мне лучше объяснить, что я имею в виду.
Политический организм в качестве личности можно
рассматривать как живое тело, состоящее из отдельных частей и похожее на
тело человека. Полномочия суверенной власти — это его голова;
законы и обычаи — мозг, начало нервной системы, вместилище рас-
43
«"V^
Жан-Жак Руссо
судка, воли и чувств; части тела — судьи и магистраты; торговля,
промыслы и сельское хозяйство являются его ртом и желудком,
готовящими пропитание для всех; общественные финансы есть
кровь, которую мудрая экономия, действующая как сердце,
разгоняет, чтобы она распределяла по всему телу питание и несла жизнь;
граждане являются телом и его частями, приводящими этот
механизм в движение, заставляют его жить и работать; их невозможно
ранить в одной части так, чтобы болезненное впечатление не
проникло в мозг, если, конечно, организм здоров и.
Жизнь человека и организма — это «Я», общее со всем целым,
взаимная восприимчивость и внутреннее соответствие всех его
частей. И как только эта связь перестает существовать, и внешнее
единство исчезает: разве сообщающиеся части не принадлежат друг
другу лишь в виде частей смежных? В этом случае человек мертв,
а государство распалось.
Политическое тело — это, следовательно, моральное существо,
наделенное волей15, и эта общая воля16, которая всегда стремится
сохранить благополучие целого и каждой его части, является
источником законов и для всех членов государства по отношению
к себе самому и к ним, нормой справедливого и несправедливого; эта
истина, замечу, свидетельствует о том, насколько неразумно столь
многие авторы считали кражей те ухищрения, предписанные детям
Спарты, дабы с их помощью они добывали себе скудный обед; будто
бы все то, что велит Закон, могло не быть законным! Смотрите
статью «Право»17, в ней содержится источник того великого и ясного
начала, развитого в настоящей статье18.
Важно отметить, что эта норма справедливости, правильная в
отношении всех граждан, может оказаться неверной по отношению
к чужеземцам, и довод в пользу этого здесь очевиден: в то время как
воля государства хоть и является общей по отношению к его членам,
таковой уже не будет по отношению к остальным государствам и их
членам, она станет для них волей частной и особой, нормой
справедливости в соответствии с законом природы, а это одинаково
соответствует обоснованному началу: ибо в этом случае мир, будучи
большим городом19, превращается в политический организм,
природным законом для него всегда является общая воля, входящие
же в него различные народы и государства становятся лишь его
отдельными членами.
44
Рассуждение о политической экономии ^%
Из этих самых различий, если их применить к любому
политическому сообществу и к его отдельным членам, вытекают более
общие и более надежные нормы, в соответствии с которыми можно
судить, насколько хорошо или дурно правление, и о моральности
всех человеческих поступков вообще.
Всякое политическое сообщество состоит из различного рода
меньших сообществ, и каждое из них руководствуется своими
собственными правилами и соображениями выгоды. Но эти общества,
заметные каждому, поскольку они обладают внешним и
установленным властью обликом, не являются единственными
сообществами, на деле существующими в государстве; все те частные лица,
объединенные общей выгодой, при этом образуют такое же
количество постоянных или неустойчивых сообществ, сила которых хоть
и не всегда заметна, тем не менее оказывает свое действие, а
наблюдение различных соотношений между ними ведет к истинному
познанию нравов. Все эти тайно или открыто созданные объединения
изменяют многими способами внешние проявления воли общества,
оказывая влияние на нее своими волениями. Воля этих отдельных
сообществ всегда образует двоякое отношение: для членов
объединения она является общей, для большого сообщества — это воля
частная, и при этом весьма часто она оказывается правомерной в
одном отношении и порочной в другом. Иной человек может быть
благочестивым священником, или храбрым солдатом, или
ревностным прихожанином, но плохим гражданином. Иное решение,
принятое в результате прений, может быть выгодно для малой общины
людей и весьма пагубно для большой. По правде сказать, частные
общества всегда подчинены обществам, в которые они входят,
поэтому должно повиноваться скорее последним, чем всем
остальным. Итак, обязанности гражданина стоят выше обязанностей
сенатора, а обязанности человека — выше обязанностей гражданина:
но, к сожалению, личная выгода всегда оказывается в обратном
отношении к долгу и возрастает по мере того, как объединение
становится более ограниченным, а обязательства менее священными:
это — неопровержимое доказательство в пользу того, что воля
наиболее общая всегда также и самая справедливая и что голос народа
есть и в самом деле глас Божий.
Из этого не следует, что публичные совещания всегда выносят
справедливые решения; они могут не быть таковыми, когда речь
идет об иностранных делах, и я уже сказал, на каком основании. Та-
45
r-s Жан-Жак Руссо
ким образом, возможно, что хорошо управляемая республика станет
вести несправедливую войну. И тем более возможно, что совет
какой-нибудь демократии проводит плохие декреты и осуждает
невиновных, но этого никогда не случится, если народ не будет соблазнять
частная выгода, которой некоторое число ловких людей, пользуясь
своим влиянием и красноречием, станут подменять его
собственную выгоду. В этом случае решение общества и общая воля —
разные вещи. Пусть же мне не станут возражать, приводя в пример
демократию Афин, ибо Афины были не демократией, а весьма
тиранической аристократией, где управляли ученые и ораторы.
Тщательно изучите то, что происходит, когда принимается какое-либо
постановление, и вы увидите, что общая воля всегда направлена на
общее благо; но весьма часто происходит тайный раскол,
молчаливый сговор тех, кто в своих интересах заставляет собрание избегать
решений, к которым оно по своей природе склонно. Тогда
организм общества на деле разделяется на несколько организмов, его
части обретают общую волю, благую и справедливую по
отношению к этим новым организмам, но несправедливую и дурную по
отношению к целому, от которого каждый из них откалывается.
Понятно, что мы весьма легко можем объяснить с помощью этих
начал те мнимые противоречия, заметные в поведении стольких
людей, исполненных чести и добропорядочности в одном
отношении, а в другом — мошенников и плутов, попирающих самые
священные обязанности и до самой смерти верных обязательствам,
часто противозаконным. Так, самые развращенные люди все же
постоянно оказывают своего рода дань уважения убеждениям,
принятым в обществе; например, — это было отмечено в статье
«Право», — даже разбойники, враги добродетели в большом обществе,
чтут ее видимость в своих пещерах.
Устанавливая, что общая воля есть главное начало
общественной экономии и основная норма всякого правления, я не считал
нужным основательно обсуждать вопрос о том, зависит ли
магистрат от народа или, наоборот, народ от магистрата, и о том, следует
ли в общественных делах учитывать благо государства или благо
правителей. С давних пор этот вопрос решал в одном отношении
обычай, а в другом — разум; и вообще было бы весьма неразумно
надеяться на то, чтобы те, кто на деле являются хозяевами
положения, предпочтут своей собственной выгоде некие иные выгоды.
Поэтому было бы уместно разделить общественную экономию еще
46
Рассуждение о политической экономии
и на народную и тираническую. Первая из них — это экономия
всякого государства, в котором между народом и правителями царит
единство соображений выгоды и воли; вторая будет существовать
неизбежно повсюду, где у правительства и у народа соображения
выгоды различны и, следовательно, воли будут направлены
противоположно. Заметки о правилах, присущих второй экономии,
встречаются в архивах истории и в сатирах Макиавелли20. Иные правила
можно найти лишь в писаниях тех философов, которые смеют
вступаться за права, внушенные человечностью.
I. Итак, первое и самое важное правило законного, или
народного, правления, то есть такого, которое имеет в виду народное
благо, как я уже говорил, заключается в том, чтобы всецело следовать
общей воле. Но следуя ей, нужно уметь ее узнавать и в особенности
уметь хорошо отличать ее от воли частной, начиная при этом с
самого себя: такое различие всегда очень трудно провести, и лишь
самой возвышенной добродетели надлежит дать нам достаточные
сведения на этот счет. Для того чтобы выразить волю, надо быть
свободным, и поэтому другая, едва ли меньшая трудность —
утвердить одновременно и общественную свободу, и власть
правительства. Поищите, какие намерения побудили людей, объединившихся
ради удовлетворения обоюдных потребностей в большое общество,
объединиться более тесным образом в гражданское общество, и вы
не найдете никаких иных, кроме намерения обеспечить каждому
его члену пользование имуществом, жизнью и свободой благодаря
защите со стороны всех21. Да и как иначе можно заставить людей
защищать свободу одного из них, не покушаясь на свободу
остальных? И как проявить заботу об общественных нуждах, не ухудшая
имущественного положения тех частных лиц, которых заставляют
участвовать в расходах на это дело? Какими бы софизмами мы ни
пытались расцветить все сказанное, ясно, что если мою волю
позволительно принуждать, то я уже более не свободен; и я уже не хозяин
своему имуществу, если кто-либо может на него посягнуть. Эта
трудность, которая должна была показаться неодолимой, была
устранена вместе с первой при помощи самого возвышенного из всех
человеческих установлений или, скорее, по вдохновению свыше,
научившему человека на земле подражать непреложным велениям
Божества. С помощью какого непостижимого искусства смогли
найти средство подчинить людей, с тем чтобы они оставались
свободными, и поставить на службу государству имущество, руки и са-
47
r-v*.
Жан-Жак Руссо
мую жизнь всех его членов, не прибегая к принуждению и не
спрашивая их совета, а также поработить их волю с их же собственного
согласия, извлечь выгоду вопреки отказу с их стороны и принудить
их наказывать самих себя, когда они делают то, чего не хотели
раньше делать? Как оказалось возможным то, что они повинуются,
но при этом никто не повелевает; что они служат и не имеют над
собой господина; когда в действительности они тем более
свободны, что при видимой зависимости каждый теряет от своей свободы
лишь то, что причиняет вред свободе другого человека? Эти
чудеса — творение закона. Единственно закону люди обязаны
правосудием и свободой. Именно это спасительное средство — воля всех —
восстанавливает в праве природное равенство между людьми; этот
голос с небес внушает каждому гражданину предписания
общественного разума и научает его поступать в соответствии с
правилами, основанными на собственном суждении, и при этом не
впадать в противоречие с самим собой22. Только этот голос должен
говорить устами правителей, когда они повелевают; ибо как только
один человек попытается, независимо от законов, подчинить своей
личной воле другого человека, он тотчас же выходит из
гражданского состояния и оказывается по отношению к нему в состоянии
чисто природном, когда повиновение предписано только в силу
необходимости 23.
Самое настоятельное внимание правителя, так же как и самый
непременный его долг, заключаются, следовательно, в том, чтобы
заботиться о соблюдении законов, служителем которых он
является и на которых целиком основывается его власть. Если он должен
заставить всех остальных лиц соблюдать законы, то он с еще
большим основанием должен соблюдать их сам, коль скоро он
пользуется всеми их милостями. Ибо его пример имеет такую силу, что
в случае, если народ согласится мириться с тем, что правитель
освободит себя от ярма закона, ему следует остерегаться пользоваться
столь опасным преимуществом, которое вскоре, в свою очередь,
постараются незаконно получить остальные, подчас ему во вред. Так
как все обязанности в обществе по своей природе являются
взаимными, то нельзя поставить себя выше закона, не отказываясь при
этом от преимуществ, которые он дает; и никто и ничего не должен
тому, кто заявляет о своем праве не быть должным никому. По этой
же причине при добропорядочном правлении никто не будет изъят
из-под действия закона в силу какого-либо решения. Граждан же,
48
Рассуждение о политической экономии
имеющих заслуги перед отечеством, должно награждать
почестями, а не привилегиями; республика оказывается накануне гибели,
как только кому-нибудь заблагорассудится не повиноваться
законам. Но если все-таки знать, или военные, или какие-либо иные
чины в государстве усвоили себе такое правило, то все утрачено
безвозвратно.
Могущество законов еще больше зависит от их собственной
мудрости, чем от строгости тех, кто им служит; а воля общества
получает наибольший свой вес в силу разума, который ее направляет;
потому-то Платон и считал24 весьма важной мерой
предосторожности необходимость вносить во вступительную часть постановления
объяснения, показывающие их правомерность и пользу. В самом
деле, важнейший из законов — уважение к законам; суровость
наказаний — всего лишь тщетное средство, возникшее в воображении
мелочных умов с целью подменить страхом то уважение, которого
они не могут добиться иным путем. Общеизвестно, что в тех
странах, где пытки всего ужаснее, их применяют чаще всего; поэтому
жестокость наказаний свидетельствует не о чем ином, как о большом
числе правонарушителей, а наказывая за все с одинаковою
строгостью, вынуждают виновных совершать преступления, дабы
избежать наказания за простые упущения.
Но хотя правительство и не властно над законами, значимо уже
то, что оно ручается за их исполнение и имеет тысячу средств
побудить людей любить их. Именно в этом состоит талант царствовать.
Имея на своей стороне силу, не такое уж великое искусство
повергать всех в трепет; точно так же немного его нужно, чтобы
привлечь к себе сердца, ибо опыт давно уже научил народ ценить своих
правителей за то, что они не смогли причинить ему зло, и обожать
их, когда они его не ненавидят. Тот или иной глупец может
повелеть наказать за злодеяния, но истинный государственный деятель
знает, как их предотвратить; он распространяет свою достойную
уважения власть в гораздо большей мере на волю, чем на поступки
людей. Если бы он мог добиться того, чтобы все вели себя
добропорядочно, ему ничего и не нужно было бы делать, и его образцовым
деянием стала бы праздность. Разумеется, все же самый большой
талант правителей заключается в том, чтобы представлять свою
власть в ином свете, сделав ее менее отвратительной в глазах
людей, и править государством столь миролюбиво, что покажется,
будто оно и не нуждается в вождях.
49
r\
Жан-Жак Руссо
Я заключаю, таким образом, что поскольку важнейший долг
законодателя состоит в том, чтобы привести законы в соответствие
с общей волей, то и важнейшая норма общественной экономии
заключается в том, чтобы правление соответствовало законам.
И государство не слишком поплатится за плохое управление, если
законодатель надлежащим образом позаботится обо всем, что
соответствует условиям местности, природным условиям, почве,
нравам, соседству и всем особым отношениям, возникающим в народе,
которому он должен дать учреждения. Это не означает, что не
следует учитывать еще и бесконечного числа отдельных вопросов
экономии и благочиния, оставленных на мудрое попечение
правительства. Но существует два безошибочных правила, придерживаться
которых следует в подобных обстоятельствах: одно из них — дух
Закона; он должен сослужить службу в решении тех спорных
случаев, которые Закон не сумел предусмотреть. Второе — это общая
воля, источник и замена всех законов при их отсутствии: ее совета
всегда надо спрашивать в таких обстоятельствах. Меня спросят,
каким образом узнать общую волю тогда, когда она не дала
разъяснений? Нужно ли всякий раз устраивать собрание всей нации в случае
какого-то непредвиденного события? И это собрание тем более не
следует созывать, что нет уверенности в том, будет ли его решение
решением общей воли; этот способ неосуществим, если народ
многочислен, да и в этом редко возникает необходимость, когда
правительство питает добрые намерения. Ибо правителям в достаточной
мере известно, что общая воля всегда расположена к выгоде
общества, то есть необходимо стать справедливым, чтобы иметь
уверенность в том, что соблюдаешь общую волю. Часто, когда ее слишком
явно попирают, она все равно проявляется и не исчезает, несмотря
на все страшные притеснения со стороны государственной власти.
Я пытаюсь, насколько это возможно, отыскать примеры, более
близкие нам, которым надлежит следовать в подобном случае. В Китае
государь почти всегда следует правилу, согласно которому во всех
стычках, возникающих между народом и должностными лицами,
признаются неправыми эти лица. В какой-нибудь провинции
подорожал хлеб? Интендант садится в тюрьму. В другой провинции
произошел мятеж? Губернатора смещают, и каждый мандарин отвечает
головой за всякую неурядицу, случившуюся в его ведомстве. Это не
значит, что потом дело не рассматривается в суде: но долгий опыт
научил предварять таким образом судебное решение. При этом ред-
50
Рассуждение о политической экономии
ко приходится исправлять какую-нибудь несправедливость; и
император, убежденный в том, что недовольство народа никогда не
бывает без повода, всегда различает среди криков, побуждающих
к мятежу, наказывая за них, те справедливые нарекания, причину
которых он искореняет.
Великое дело, если во всех частях республики воцарятся
порядок и мир; великое дело, если в государстве все спокойно и
уважается закон. Но если сверх того ничего не делается, то во всем этом
окажется больше мнимого, чем действительного, и правительство
с трудом заставит повиноваться, коль скоро оно ограничится
только требованием повиновения. Хорошо уметь использовать людей
такими, каковы они есть, гораздо лучше — сделать их такими,
какими нужно, чтобы они были; самая неограниченная власть есть
та, которая проникает в самые глубины человека и осуществляется
в не меньшей мере через его волю, чем через его поступки.
Бесспорно, что люди в целом становятся теми, чем и кем их делает
правительство: воины, граждане, мужи; чернь и сброд, когда ему это
угодно; и всякий государь, который презирает своих подданных,
бесчестит себя, ибо он не сумел сделать их достойными уважения25.
Образовывайте человека, если желаете повелевать людьми; если
вы хотите добиться повиновения законам, сделайте так, чтобы их
любили; и для того, чтобы делать должное, достаточно одной
мысли о том, что так и должно делать. Великое искусство древних
правительств в те отдаленные времена, когда философы писали законы
для народа и использовали свою власть лишь для того, чтобы делать
людей мудрыми и счастливыми, состояло в этом. Поэтому
существовало столько законов против роскоши, столько распоряжений
относительно нравов, столько общественных правил, которые с
величайшей тщательностью ими допускались или отвергались. Даже
тираны не забывали об этой важной части управления, и видно
было, что они уделяли столько же внимания порче нравов своих рабов,
сколько магистраты — заботам об исправлении нравов своих
сограждан. Но наши современные правительства, считающие, что
сделали все необходимое, собрав с подданных деньги, даже не
представляют себе, что нужно или возможно действовать именно так.
II. Второе существенное правило общественной экономии не
менее важно, чем первое. Вы желаете, чтобы общая воля
осуществилась? Сделайте так, чтобы все частные воли ей соответствовали,
а так как добродетель есть лишь соответствие частной воли воле
51
«^ч.
Жан-Жак Руссо
общей, то, выражаясь в немногих словах, скажем: сделайте так,
чтобы царила добродетель26.
Если бы политиков меньше ослепляло честолюбие, они бы
увидели, до какой степени трудно сделать так, чтобы хоть одно
учреждение работало в соответствии с целью, ради которой оно заведено,
если им не управляют сообразно закону долга; они бы поняли, что
самый важный рычаг общественной власти находится в сердцах
граждан, и ничто не может заместить добрые нравы, придающие
устойчивость правительству. Не только лишь добропорядочные
люди умеют применять законы, но и, в сущности, только
приличные люди в состоянии им повиноваться. Тот, кто презирает
угрызения совести, не замедлит презреть и пытку — кару менее страшную,
менее длительную и такую, которой в известных случаях можно
надеяться избежать; и какие бы меры предосторожности ни были
приняты, те, кто лишь надеется на безнаказанность, творя зло, едва
ли не станут искать способ обойти Закон и уйти от наказания. И
тогда, как только все соображения частной выгоды объединяются
против выгоды общей, которая более не является таковой ни для кого,
все пороки общества становятся сильнее и делают Законы
бессильными, обретая силу большую, чем законы, призванные пресекать
пороки; и испорченность народа и правителей поражает в конце
концов и все правление, каким бы мудрым оно ни было. Худшее из
всех злоупотреблений состоит в том, что Законам подчиняются
лишь ради приличия, с тем чтобы на деле их нарушать. Вскоре
самые лучшие законы становятся самыми пагубными; было бы во сто
раз лучше, если бы без них вообще можно было обойтись; но это
оказалось бы последним средством, когда прочие оказались бы
исчерпаны. В подобном положении тщетно нагромождают одно
постановление на другое, одно предписание на другое. Все это приводит
лишь к появлению новь!х злоупотреблений, не исправляя прежних.
Чем больше умножаете вы число законов, тем более они становятся
достойными презрения; и все надсмотрщики, которых вы ставите,
оказываются просто-напросто новыми нарушителями закона,
обреченными стать соучастниками прежних нарушителей или просто
тащить все что ни попадя себе в карман. Вскоре награда за
добродетель становится наградой за разбой; самые подлые люди пользуются
наибольшим влиянием; чем более высокое положение они
занимают, тем больше их презирают; подлость проявляется в их сане, и их
бесчестят даже собственные почести. Если они покупают одобре-
52
Рассуждение о политической экономии
-^»
ние правителей или покровительство женщин, так только для того,
чтобы перепродавать правосудие, свой долг и государство; а народ,
не замечающий, что их пороки — главная причина его несчастий,
ропщет и, вздыхая, восклицает: «Все мои беды проистекают от тех,
кому я плачу, чтобы они меня от них защищали!»
И вот тогда голос долга, уже смолкнувший в сердцах граждан,
правители вынуждены заменить криками ужаса или приманкой
какой-либо мнимой выгоды, с помощью которой они обманывают
своих ставленников. Вот тогда-то и приходится прибегать ко всем
тем мелким и презренным хитростям, называемым ими
«государственной необходимостью» и «тайнами кабинета». Вся оставшаяся
сила правительства используется его членами, чтобы выживать
друг друга или губить, тогда как государственными делами
занимаются лишь в той мере, в какой того требует личная выгода, которой
они и руководствуются. Наконец, вся ловкость этих великих
политиков состоит в том, чтобы до такой степени отвести глаза тем, в ком
они нуждаются, что каждый считает, будто трудится себе во благо,
работая при этом на них; я говорю «на них», имея в виду, что
подлинная выгода правителей заключается в уничтожении народов
ради того, чтобы их покорить и разорить их, обеспечив себе
обладание их имуществом.
Но когда граждане проникнуты чувством долга, а те, кому
вверена государственная власть, искренне стремятся взращивать эту
любовь своим примером и заботами, все трудности сразу исчезают;
управление приобретает легкость, избавляющую его от нужды
в мрачном искусстве, в коварстве которого и заключена вся его
тайна. Никто тогда не пожалеет о всеведущих умах, столь опасных
и внушающих почтение, обо всех этих великих министрах, чья слава
составляет несчастье народа; гений правителей заменят нравы
общества; чем более царит добродетель, тем менее нужны дарования.
Сознание долга даже лучше подстегивает честолюбие, чем
злоупотребление правом. Народ, убежденный в том, что его правители
трудятся ради его счастья, своим почтением освобождает их от заботы
по укреплению власти; и история показывает нам на тысячах
примеров, что власть, дарованная народом тем, кого он любит, и тем,
кто любит его, во сто крат более безгранична, чем тирания иных
самозванцев. Сказанное не означает, что правительству следует
опасаться пользоваться своей властью, но оно должно ею пользоваться
только законным образом. Вы найдете в истории тысячи примеров
53
*\
Жан-Жак Руссо
правителей честолюбивых или малодушных, которых погубили
изнеженность или гордыня, — но ни одного примера правителя,
которому пришлось плохо лишь потому, что он был справедлив.
Однако нельзя смешивать небрежность и умеренность с мягкостью
и слабостью. Чтобы быть справедливым, нужно проявлять
строгость: терпеть злодеяния, которые ты вправе и в силах пресечь,
означает самому стать злодеем. Sicuti enim est aliquando misericordia pu-
niens, ita est crudelitas parcens27.
Недостаточно сказать гражданам: «Будьте
добропорядочными!» — надо научить их быть таковыми; и даже собственный пример
правителя, в этом отношении являющийся важнейшим уроком, не
есть единственное средство, которым необходимо
воспользоваться. Любовь к отечеству действеннее всего, ибо, как я уже говорил,
всякий человек добродетелен, когда его частная воля согласуется
с общей волей, и мы охотно желаем того же, чего желают те, кого
мы любим28.
Похоже на то, что чувство человечности улетучивается и
ослабевает, распространяясь по всей земле, и бедствия в Татарии29 или
в Японии не заденут нас в той же мере, в какой бедствия
какого-нибудь европейского народа. Надо некоторым образом ограничить
и обуздать сострадание и участие в постороннем человеке, чтобы
они стали более действенными. Однако, коль скоро эта наша
склонность может принести пользу только тем, с кем нам придется жить,
то замечательно, если человечность, сосредоточенная в кругу
сограждан, действует среди них с новой силой благодаря привычке
видеть друг друга и выгоде, их объединяющей. Несомненно,
величайшие чудеса доблести произвела любовь к отечеству; это чувство,
кроткое и пылкое, сочетает в себе силу самолюбия со всей красотой
добродетели, сообщая ей стойкость, которая, не искажая
добродетели, превращает ее в страсть, исполненную самого высокого
героизма. Любовь к отечеству — вот что породило столько бессмертных
деяний, блеск которых ослепляет наш слабый взор; вот что
породило стольких великих людей, чьи древние добродетели стали считать
баснями с тех пор, как любовь к отечеству обратили в насмешку. Не
станем этому удивляться. Упования нежного сердца кажутся
несбыточными всякому, кто хоть раз их не испытал; и любовью к
отечеству, во сто крат более пылкой и сладостной, чем любовь к
возлюбленной, тоже ведь проникаешься, лишь испытав ее: но ее легко
заметить во всех сердцах, которые она согревает, во всех поступ-
54
Рассуждение о политической экономии
ках, на которые она вдохновляет, ту задорную и возвышенную
горячность, какой не блещет самая чистая добродетель, если эта
добродетель ей чужда. Осмелимся противопоставить даже Сократа
Катону: один из них был более философом, а другой — более
гражданином. Афины погибли, и тогда лишь мир в целом оказался
отечеством для Сократа; Катон же всегда нес свое отечество в глубине
своего сердца; он жил только ради него и более не смог жить после
его гибели. Добродетель Сократа — это добродетель мудрейшего из
людей; но по сравнению с Цезарем и Помпеем30 Катон кажется
богом среди смертных. Первый из них (Сократ) просветил нескольких
людей, боролся с софистами и умер за истину; другой (Катон) —
защищал государство, свободу, законы от завоевателей мира31 и,
наконец, покинул землю32, когда на ней больше не осталось отечества,
которому надлежало служить. Какой-нибудь достойный ученик
Сократа был бы добродетельнейшим из своих современников;
достойный соперник Катона стал бы величайшим человеком.
Добродетель Сократа составила бы его счастье; Катон искал бы свое счастье
в счастье всех людей. Нас просветил бы первый, но повел за собой
второй, и уже одно это обусловило бы наше предпочтение; ибо
никогда еще не было народа, состоящего из мудрецов, — но отнюдь
не безнадежное дело сделать народ добродетельным.
Мы желаем, чтобы народы были добродетельны? Так начнем
с того, что научим их любить свое отечество. Но зачем им его
любить, если отечество для них является тем же, чем для чужеземцев,
и дарует им то, в чем не может отказать никому? Было бы намного
хуже, если бы граждане не пользовались даже гражданской
безопасностью, а их имущество, жизнь или свобода зависели от
прихотей людей могущественных, и при этом им было бы не позволено
или же невозможно требовать соблюдения законов. Тогда, будучи
обязанными соблюдать гражданский долг, и не имея возможности
пользоваться правами состояния природного, возможности
употребить свои силы для самозащиты, они оказались бы, следовательно,
в наихудших условиях, в которых только могут оказаться
свободные люди, и слово отечество' воспринималось бы ими только в
отвратительном или смешном значении. Не следует думать, будто
можно ранить или отрезать руку так, чтобы боль не отозвалась в
голове; и не более вероятно, чтобы общая воля одобрила то, что один
член государства, кем бы он ни был, оскорбил или уничтожил
другого, если не считать того случая, когда такой человек в полном
55
Жан-Жак Руссо
рассудке собирается выцарапать глаза постороннему человеку.
Безопасность частных лиц до такой степени тесно связана с
содружеством в обществе, что если только не проявить должного внимания
к людской слабости, такое соглашение окажется по праву
расторгнутым, как только в государстве погибает один-единственный
гражданин, которого можно было спасти; или же как только понапрасну
станут содержать в тюрьме хотя бы одного гражданина, или же как
только по причине явного неправосудия будет проигран хоть один
судебный процесс. Ибо как только нарушены основные
соглашения, непонятно, какое право, какая выгода могут удерживать народ
в общественном союзе, если только его не удерживают в нем одной
лишь силой, применение которой приведет к распаду гражданского
состояния33.
В самом деле, разве обязательство нации в целом не состоит
в том, чтобы принять меры к сохранению жизни самого малого из
ее членов столь же заботливо, как и всех остальных? И разве
спасение одного гражданина — это в меньшей степени общее дело, чем
спасение всего государства? Пусть говорят: справедливо, когда один
погибает ради остальных; меня восхищает такое изречение в устах
достойного и добродетельного патриота, который, добровольно
и подчиняясь долгу, идет на смерть ради спасения своей страны: но
если под этим понимают, что правительству позволено принести
в жертву невинного ради спасения многих, я сочту это правило
самым отвратительным из тех, какие когда-либо изобретала тирания,
самым лживым из всех, какие можно высказать, самым опасным из
всех, какие только можно себе усвоить, и прямо противоречащим
основным законам общества. Не только один-единственный не
должен погибать во имя всех, но, наоборот, все берут на себя
ответственность защищать своим имуществом и своей жизнью каждого
из них так, чтобы слабость частного лица всегда находилась под
охраной всей силы государственной власти, а каждый член
государства находился под охраной всего государства. Предположим, вы
мысленно отсекаете от народа одну личность за другой, а затем
настоятельно просите сторонников этого правила получше объяснить,
что они понимают под организмом государства, и вы увидите, что,
в конце концов, они сократят государство до небольшого числа
людей, являющихся не народом, но слугами народа, и которые, взяв
на себя с помощью особой клятвы обязательство погибнуть ради его
56
Рассуждение о политической экономии
спасения, полагают этим доказать, что это народу следует погибнуть
во имя их спасения.
Хотите найти примеры той охраны, которую государство
должно предоставлять своим членам, и того уважения, которое оно
должно выказывать по отношению к их личности? Лишь к
знаменитейшим и храбрейшим нациям земли следует обратиться за ними: ведь
только немногим свободным народам известно, чего стоит человек.
Мы знаем, в какой растерянности в Спарте находились все жители
республики, когда стоял вопрос о наказании одного виновного
гражданина. В Македонии казнь человека была столь важным
делом, что при всем своем величии Александр34, этот могущественный
монарх, не осмеливался хладнокровно отправить на казнь
преступника-македонца, пока обвиняемый не предстал перед своими
согражданами, дабы выступить в свою защиту, и не будет ими
осужден. Но римляне отличались от других народов земли вниманием,
которое правительство проявляло к отдельным людям, и
щепетильной чуткостью к соблюдению нерушимых прав всех членов
государства. Для них не существовало ничего священнее жизни
простых граждан; требовалось ни более ни менее как собрание всего
народа, чтобы вынести приговор одному из них. Даже сенат и
консулы, при всем их величии, не были наделены этим правом, и у
самого могущественного народа в мире преступление и наказание
гражданина было горем для всего общества35. Может быть, именно
потому, что римлянам казалось столь жестоким проливать кровь за
какое бы то ни было преступление, по закону Порция36 смертную
казнь заменили на изгнание для всех тех, кто смог бы легко
пережить потерю столь сладостного отечества. Все в Риме и в армии
вдохновлялось этой любовью сограждан друг к другу, и это уважение
к имени римлянина взращивало храбрость и воодушевляло
добродетель каждого, кто имел честь носить это имя. Шапка гражданину,
освобожденному из рабства, лавровый венок тому, кто спас жизнь
другому, — посреди триумфальных торжеств на это взирали с
особым удовлетворением. И следует отметить, что из венков, которыми
чествовали на войне за прекрасные деяния, лишь гражданский
венок и венок триумфаторов были из травы и листьев: все остальные
просто золотыми. Так Рим стал добродетельным, и так он стал
хозяином мира. Честолюбивые правители! Пастух управляется со
своими собаками и стадами, а ведь он низший из людей. Если повеление
прекрасно, то лишь тогда, когда те, кто нам повинуется, оказывают
57
Жан-Жак Руссо
нам почтение. Уважайте же ваших сограждан, и вы сами станете
достойными уважения; уважайте свободу, и ваше могущество будет
расти с каждым днем; не превышайте никогда своих прав, и они
тотчас станут безграничными.
Пусть же родина проявит себя как общая матерь для граждан;
пусть преимущества, которыми пользуются они в своей отчизне,
сделают ее милой их сердцу; пусть правительство оставит им в
общественном управлении долю, достаточную для того, чтобы они
почувствовали себя там как у себя дома; и пусть законы будут в их глазах
лишь порукой общей свободы. Эти права, столь прекрасные,
принадлежат всем людям, но недобрый замысел правителей легко
сводит их на нет. Когда законом злоупотребляют, он служит
влиятельному человеку одновременно и как наступательное оружие, и как
щит против слабого; повод завести разговор о благе общества —
бедствие, опаснейшее для народа. Самое необходимое и, быть может,
самое трудное в правлении — это строгая неподкупность в
правосудии для всех, и в особенности в том, чтобы охранить бедняка от
тирании богача. Самое большое зло уже свершилось, когда бедняка
нужно защищать, а богатого сдерживать. Законы проявляют свою
полную силу только в отношении людей со средним достатком, но
они в равной мере окажутся беспомощны и против сокровищ
богача, и против нищеты бедняка; первый их обходит, над вторым они
не властны; один разрывает сеть, а другой проходит сквозь нее.
Следовательно, одно из самых важных дел правительства — не
допускать чрезмерного неравенства имуществ, при этом не
отнимая богатств у их владельцев, но лишая всех возможностей их
накапливать; нужно не строить приюты для бедных, но не допускать
того, чтобы граждане ими стали. Люди неравномерно
распределены по территории государства и скучены в одном месте, в то время
как другие территории запустевают; художественные промыслы
чисто развлекательного свойства поощряются в ущерб ремеслам
полезным и трудоемким, земледелие приносится в жертву
торговле; откупщик становится необходимым из-за плохого управления
сбором налогов; наконец, продажность доходит до такой
крайности, что уважение зависит от количества пистолей, и даже
добродетели продаются за деньги. Таковы самые осязаемые следствия
роскоши и нищеты, подмены выгоды общественной выгодой частных
лиц, взаимной ненависти граждан, их безразличия к общему делу,
разложения народа и ослабления всех рычагов управления. Таковы,
58
Рассуждение о политической экономии
следовательно, болезни, которые трудно вылечить, когда они дают
о себе знать, но мудрое управление должно их предупреждать, дабы
сохранять благодаря добрым нравам уважение к законам, любовь
к отечеству и действенность общей воли.
Однако эти меры предосторожности окажутся недостаточными,
если не принять их заблаговременно. Я заканчиваю эту часть,
посвященную экономии общества, тем, с чего я должен был бы начать.
Родина не сможет выжить без свободы, свобода без добродетели,
а добродетель без граждан. Вам удастся все, если вы сможете
образовать граждан; если этого не сделать, вы получите лишь
озлобленных рабов, и первыми из них станут правители государства. Однако
образовывать граждан — это дело не одного дня; и чтобы получить
и граждан, и людей одновременно, нужно обучать их с детского
возраста. Пусть мне говорят, что тот, кто собирается управлять
людьми, не должен искать совершенства их природы вовне ее,
совершенства, которого они не способны достичь, и что он не должен
стремиться уничтожить в них пристрастия, поскольку исполнить
подобный замысел не только нежелательно, но и невозможно37.
Я соглашусь со всем этим, тем более что человек, вовсе лишенный
пристрастий, бесспорно, стал бы очень дурным гражданином; но
следует также согласиться и с тем, что если только не приучать
людей проявлять равнодушие ко всему, то отнюдь не невозможно
научить их любить одно больше, чем другое, и любить воистину
прекрасное больше, чем уродливое. Если, к примеру, приучить граждан
с ранних лет всегда рассматривать свою собственную личность не
иначе как в ее отношении к государству и усматривать в своем
собственном существовании лишь часть существования государства,
то они, в конце концов, смогут отождествить себя с этим большим
целым, почувствовать себя частью отечества и полюбить его тем
утонченным чувством, которое всякий одинокий человек
испытывает лишь к самому себе. Тогда они непрестанно будут возвышать
свои помыслы, созерцая этот великий предмет, и таким образом
преобразят в возвышенную добродетель ту опасную наклонность,
из которой рождаются все наши пороки38. Не одна только
философия доказывает возможность этого нового руководства человеком,
но и история приводит тому тысячи ярких примеров: если в наше
время они столь редки, то только потому, что никто не заботится
о том, чтобы у нас были настоящие граждане, и, кроме того, еще
менее думают о том, чтобы заблаговременно взяться за их воспита-
59
*-\.
Жан-Жак Руссо
ние. Уже не время менять наши природные склонности тогда, когда
они стали свободно развиваться и когда привычка соединилась
с самолюбием; уже не время заставлять человека покинуть пределы
своего «Я», когда оно, сосредоточившись в сердцах, обрело там ту
достойную презрения деятельность, поглотившую всякую
добродетель, деятельность, которая только и составляет жизнь людей
мелочных. Как может пустить ростки любовь к отечеству посреди
стольких иных пристрастий, ее заглушающих? И какая частица
сердца, уже поделенного между скупостью, любовницей и тщеславием,
останется на долю сограждан?
С первого мгновения жизни надо уметь достойно ею
распоряжаться; поскольку при рождении нам уже принадлежат права
гражданства, миг нашего рождения должен быть и началом отправления
наших обязанностей. Если существуют законы для зрелого возраста,
должны таковые существовать и для детей, научающие их
повиноваться окружающим; и коль скоро мы не позволяем разуму каждого
отдельного человека быть единственным судьей в том, что касается
его обязанностей, тем более нельзя доверять знаниям и
предрассудкам отцов воспитание детей, ибо для государства воспитание
еще важнее, чем для отцов. Ибо, согласно порядку, установленному
природой, смерть отца довольно часто скрывает от его взора
созревшие плоды его воспитания; но отечество же рано или поздно
их вкусит; государство продолжает существовать, а семья
распадается. Пусть же государственная власть, заменяя собою отцов, и
берет на себя это важное дело, получает их права, исполняя их
обязанности, а у отцов остается тем менее поводов на это жаловаться,
что в этом отношении они все вместе лишь поменяют имя; они
совместно получат, под именем граждан, власть над детьми, какую
они осуществляли каждый по отдельности, называясь отцами;
когда они станут говорить от имени Закона, им будут повиноваться
в не меньшей мере, чем когда они обращались к детям от имени
природы. Общественное воспитание по правилам, предписанным
правительством, и под надзором магистратов, поставленных
суверенной властью, является, таким образом, одним из
основополагающих правил народного, или законного, правления. Если дети
воспитываются все вместе, в лоне равенства, если они проникнуты
уважением к законам государства и к правилам, установленным
общей волей, если их научили превыше всего уважать и те, и другие,
если они окружены примерами и предметами, беспрестанно напо-
60
Рассуждение о политической экономии
минающими о нежной матери, их вскормившей, ее любви к ним,
о неоценимых дарах, полученных от нее, о взаимной любви с их
стороны, то не будем сомневаться в том, что таким образом они
научатся нежно любить друг друга, как братья, всегда желать только
того, чего хочет общество, и заменят бесплодную, пустую
болтовню софистов на деяния, достойные людей и граждан, однажды став
защитниками и отцами того отечества, детьми которого они так
долго были.
Я не буду вовсе говорить о магистратах, которым доверено ведать
этим воспитанием, о деле, бесспорно являющемся самой важной
задачей государства. Разумеется, что если бы такое свидетельство
доверия со стороны общества предоставляли необдуманно и это
высокое назначение не было для тех, кто достойно справился бы
с предыдущими назначениями, наградою за их труды, почетным
и сладостным отдохновением их старости и высшей степенью
почестей, все предпринятое оказалось бы бесполезным, а воспитание —
безуспешным: ибо повсюду, где урок не подкрепляется весомым
влиянием, а заповеди — примером, наставление не приносит
плодов, и самая добродетель утрачивает доверие, когда она вложена
в уста того, кто не проводит ее в жизнь. Но пусть прославленные
воины, сгорбленные под тяжестью венчающих их лавровых венков,
проповедуют храбрость; пусть неподкупные и убеленные сединой
магистраты, восседающие в пурпуре мантий в судах, научают
правосудию; таким образом и те, и другие воспитают себе
добродетельных преемников и будут передавать из века в век грядущим
поколениям опыт и таланты правителей, мужество и добродетель
граждан и соперничество всех в том, чтобы жить и умереть за
отечество.
Насколько мне известно, существовало лишь три народа,
которые прежде проводили в жизнь мысль об общественном
воспитании, а именно: критяне, лакедемоняне и древние персы; у всех трех
оно имело величайший успех, а у двух последних творило чудеса.
Когда мир оказался разделенным на нации, слишком большие,
чтобы ими возможно было хорошо управлять, это средство оказалось
недоступным, и еще иные причины, которые читатель легко
сможет понять, помешали тому, чтобы хотя бы один современный
народ предпринял попытку осуществить такое воспитание. Весьма
примечательно, что римляне смогли обойтись и без него; но Рим
в течение пятисот лет неизменно оставался таким чудом, которое
61
*\
Жан-Жак Руссо
вряд ли стоит надеяться увидеть вновь. Добродетель римлян,
внушенная ужасом перед тиранией и преступлениями тиранов, а также
врожденной любовью к отечеству, превратила каждый дом в Риме
в школу для граждан; а безграничная власть отцов над детьми
произвела такую строгость нравов в распорядке жизни частных лиц,
что отца боялись больше, чем магистрата, и он был в своем
домашнем суде и цензором нравов, и хранителем законов39 (см. статью
«Воспитание»).
Именно таким образом внимательное и благонамеренное
правительство40, неусыпно следящее за тем, чтобы укреплять у народа
добрые нравы, любовь к отечеству и напоминать им о ней, заранее
предотвращая рано или поздно возникающие несчастья,
происходящие вследствие безразличия граждан к судьбе республики,
удерживает в тесных рамках те соображения личной выгоды, которые
настолько разобщают частных лиц, что, в конце концов, государство
слабеет благодаря их могуществу и более не может рассчитывать на
их благонамеренность. Повсюду, где народ любит свою страну,
уважает законы и живет просто, остается сделать совсем немногое, дабы
он стал счастливым; и в общественном управлении, где удача
значит не меньше, чем в судьбе частных лиц, мудрость так близко
соседствует со счастьем, что эти две вещи вполне совпадают.
III. Мало того что нужно воспитать граждан и обеспечить их
охрану, нужно подумать об удовлетворении их потребностей;
забота об общественных нуждах есть очевидный результат действия
общей воли, и это третье есть главнейший долг правительства. Этот
долг состоит, как это легко можно понять, не в том, чтобы
наполнять амбары частных лиц и освобождать их от работы, но в том,
чтобы сделать для них изобилие настолько доступным, что для его
получения труд будет всегда необходимым и никогда не окажется
бесполезным. Эта обязанность распространяется также на все дела,
которые относятся к содержанию казны и к расходам на
управление государством. Вот почему, после того как мы говорили об
общей экономии в отношении управления людьми, нам остается
рассмотреть ее в отношении управления имуществом.
Эта часть управления не меньше чем предыдущая,
обнаруживает затруднения, которые необходимо снять, и противоречия,
которые нужно устранить. Бесспорно, право собственности — это самое
священное из прав граждан и даже в некоторых отношениях более
важное, чем свобода: и потому, что от него более всего зависит со-
62
Рассуждение о политической экономии
хранение жизни человека, и потому, что имущество легче всего
присвоить и труднее защитить, чем личность, и потому, что следует
более заботиться о неприкосновенности того, что можно легко
похитить; и потому, наконец, что собственность — подлинная основа
гражданского общества и подлинная порука обязательствам
граждан, ибо если лица не несут имущественной ответственности, то
легче всего уклоняться от своих обязанностей и пренебрегать
законами. С другой стороны, так же бесспорно то, что содержание
государства и правительства требует издержек и расходов, и если
кто-нибудь ставит перед собой цель, он не должен пренебрегать средствами
ее достижения; из этого следует, что членам общества надлежит из
своего имущества вносить долю на его содержание41. Более того,
трудно упрочить собственность частных лиц, одновременно не
покушаясь на нее; и невозможно, чтобы все постановления,
определяющие порядок наследования, завещаний, договоров, в известном
отношении не притесняли граждан, коль скоро они располагают
собственным имуществом и, следовательно, правом собственности.
Помимо того, что я сказал ранее о согласованности, которая
должна царить между властью закона и свободой гражданина, в
отношении обладания имуществом граждан следует сделать одно
важное замечание, сразу устраняющее многие сложности. Оно состоит
в том, как показал Пуфендорф42, что по своей природе право
собственности не может продолжаться после смерти, и в тот момент,
когда человек умер, его имущество уже более ему не принадлежит.
Таким образом, предписывать ему условия, при которых он может
им обладать, означает, в сущности, не столько, как может
показаться, исказить его право, сколько на деле его расширить.
В общем, хотя принятие законов, определяющих права частных
лиц на обладание имуществом, относится только к ведомству
суверенной власти, дух этих законов, которому правительству,
применяя их, надлежит следовать, состоит в том, чтобы, переходя от отца
к сыну и от одного родственника к другому, имущество как можно
в меньшем объеме покидало пределы семьи и отчуждалось в пользу
посторонних. В пользу этого есть ощутимый довод, касающийся
выгоды для детей: для них право собственности было бы весьма
бесполезно, если бы отец им ничего не оставлял; и, кроме того, дети
нередко вносят вклад своим трудом в приобретение имущества
отцом, поэтому они сами становятся соучастниками в его праве. Но
есть и другое соображение, более далеко идущее и не менее важное:
63
*-\
Жан-Жак Руссо
нет ничего более пагубного для нравов и для республики, чем
постоянные изменения в имущественном положении и собственности
граждан; изменения эти суть доказательство наличия и источник
тысячи беспорядков, которые все опрокидывают и приводят в
замешательство, и из-за них те, кто воспитывался в одних видах,
оказываются предназначенными судьбой для иных дел. И те, кто
возвышаются, и те, кто оказываются внизу, не в состоянии усвоить ни
правил, ни познаний, приличествующих их новому положению в
обществе, и еще менее способны исполнять в нем обязанности. Теперь
я перехожу к предмету, касающемуся общественных финансов.
Если бы народ управлял собой сам и если бы не было никакого
опосредующего звена между государственным управлением и
гражданами, им оставалось бы лишь при необходимости делать взносы
соразмерно общественным нуждам и возможностям отдельных лиц,
и так как в этом случае каждый никогда не терял бы из виду ни то,
как взимаются, ни то, как тратятся средства, то сюда бы не
вкрались обманы и злоупотребления; государство никогда не оказалось
бы обремененным долгами, а народ не был бы изнурен налогами;
или, по крайней мере, уверенность в правильности использования
этих средств примиряла бы со строгостью налогообложения. Но
подобное невозможно; и каким бы ограниченным в своих размерах
ни было государство, общество граждан в нем всегда слишком
многочисленно, чтобы им могли управлять все его члены. Налоги
совершенно неизбежно проходят через руки правителей, которые,
кроме выгоды государства, не в последнюю очередь имеют в виду
и свою частную выгоду. Со своей стороны, народ больше обращает
внимание на жадность правителей и на их безумные траты, чем на
расходы на общественные нужды, и ропщет, видя, что лишается
необходимого, при этом доставляя кому-то излишества; и когда эти
проделки правителей однажды ожесточат его до определенной
степени, самое неподкупное управление не сможет восстановить к себе
доверия. В таком случае, если налоговые отчисления добровольны,
они не приносят никакого дохода; если их производят по
принуждению, они незаконны; в этом прискорбном выборе — дать
погибнуть государству или покуситься на священное право
собственности, которое является его опорой43, — и заключается вся трудность
справедливой и мудрой экономии.
Главное, что должен сделать после установления законов
учредитель республики, — найти средства, достаточные для содержа-
64
Рассуждение о политической экономии
ния магистратов, прочих должностных лиц и для покрытия всех
общественных расходов. Эти средства называются эрариум, или
фиск, если они выражены в деньгах, и общественной вотчиной,
если они заключены в землях; и эти последние намного
предпочтительнее первых по причинам, которые нетрудно заметить. Всякий,
кто достаточно поразмыслит над этими вопросом, вряд ли будет
придерживаться в этом отношении иного мнения, чем Воден,
рассматривавший общественную вотчину как наиболее надежный
способ получения дохода, обеспечивающий нужды государства; и
следует отметить, что основной заботой Ромула при разделе земель
стало выделение трети из них для этой цели. Я допускаю, что
отнюдь не невозможно, чтобы доход с общественной вотчины,
которой плохо управляют, оказался ничтожным; но сама природа этой
вотчины не допускает плохого управления.
До того как начнут использовать такие средства, они должны
быть расписаны или согласованы собранием народа или Штатов
страны44, которым следует затем определить их назначение. После
этого торжественного решения, благодаря которому эти средства
становятся неотчуждаемыми, они, так сказать, меняют свою
природу, и доходы от них становятся столь священны, что растратить
хоть малую часть их — это не только самое постыдное воровство,
но и преступление, равное оскорблению величия. Великим
бесчестием для Рима стало то, что неподкупность квестора Катона45 там
оказалась предметом особого внимания, и один император,
вознаграждая несколькими монетами талант певца, счел необходимым
добавить, что это — деньги из имущества его семьи, а не из
государственного. Но если существовало так мало Гальб46, где нам
отыскать Катонов? И тогда порок уже перестает быть бесчестием. Где же
найти правителей столь щепетильных, не позволяющих себе
позариться на общественные доходы, оставленные на их попечение,
и чтобы тотчас не записать их на свой счет, делая вид, будто их
суетная и предосудительная расточительность есть то же самое, что
и величие государства, а средства расширить свою власть совпадают
со средствами увеличения его мощи? В особенности именно в этой
трудной части управления добродетель является единственным
действенным орудием, а неподкупность магистрата — единственною
уздою для его алчности. Счетные книги и все счета управляющих
служат не столько выявлению вороватости, сколько ее
сокрытию; осмотрительность же никогда не бывает столь же находчивой
3 Зак 3436
65
*\
Жан-Жак Руссо
в изобретении новых мер предосторожности, сколь находчиво
плутовство в том, чтобы их обойти. Оставьте в стороне все книги
записей, бумаги и передайте финансы в верные руки; это —
единственное средство для того, чтобы ими честно управляли.
Когда общественные деньги выделены, правители государства
становятся их распорядителями, ибо это составляет часть
правления, всегда существенную, хотя и не всегда в одинаковой мере:
влияние ее возрастает в зависимости от того, насколько падает
влияние прочих рычагов управления, и, можно сказать, что
правительство достигло высшей степени разложения, когда в нем нет иной
движущей силы, кроме денег47; но поскольку всякое правление
постоянно склонно к распущенности, то уже один этот довод
указывает, почему ни одно государство не может продолжать
существовать, если его доходы постоянно не увеличиваются.
Как только появляется ощущение необходимости такого
увеличения — это уже и есть первый признак, указывающий на
внутренний беспорядок в государстве; и мудрый управитель, заботясь о том,
чтобы добыть денег для удовлетворения насущных нужд, не
пренебрегает поиском глубинных причин этих нужд. Он подобен
моряку, который видит, что вода заливает его корабль, и, не забывая
пустить в ход насосы, приказывает найти и заделать пробоину.
Из этого правила возникает важнейшее указание, касающееся
управления финансами и заключающееся в том, чтобы гораздо
более основательно позаботиться о предотвращении появления
новых нужд, чем об увеличении доходов. Какое усердие ни прилагай,
помощь приходит всегда вслед за бедой и медленнее ее, оставляя
государство в тяжелом положении; пока думают о том, как
устранить одно неудобство, возникает другое, и даже найденные
денежные средства порождают новые неудобства, так что, в конце концов,
нацию обременяют долги, народ угнетен, правительство утрачивает
прочность и способно сделать лишь немногое с помощью большого
количества денег. Я полагаю, что благодаря постоянному
соблюдению этого великого правила возникли чудеса древних правлений,
которые добивались большего своей бережливостью, чем
нынешние правления своими богатствами; и, быть может, отсюда
произошло простонародное толкование слова «экономия», под
которым подразумевается скорее мудрая бережливость в отношении
того, чем обладают, чем поиск способов приобрести то, что не
имеют.
66
Рассуждение о политической экономии
^-*
Даже не учитывая доходов, приносимых государству
общественной вотчиной (ведь их размер зависит от честности тех, кто ею
заведует), нас удивят средства, которыми располагают правители
для того, чтобы предварить общественные нужды, не касаясь при
этом имущества частных лиц, особенно если им известна сила
общественного управления, и его используют в законных рамках. Так
как они распоряжаются торговлей в государстве, им легче всего ее
направлять и так позаботиться обо всем, чтобы казалось, будто они
ни во что не вмешиваются. Распределение продуктов питания, денег
и товаров в правильных количествах, с учетом времени и места —
вот подлинная тайна управления финансами и источник богатств
правителей, если только те, кто ими распоряжается, достаточно
дальновидны и при случае готовы пойти на мнимые убытки в
настоящее время, чтобы получить на деле огромные прибыли в
отдаленном будущем. Когда видишь, как правительство расплачивается
за право вывоза хлеба в урожайные годы и за право его ввоза в годы
неурожайные вместо получения дохода от пользования им, то
поверить в правдивость этих событий можно, лишь наблюдая их воочию;
их сочли бы за художественный вымысел, если бы они произошли
в древности. Предположим, что во избежание голода в
неурожайные годы предложили бы устроить общественное хранилище;
в скольких странах содержание этого столь полезного заведения не
стало бы предлогом для введения новых налогов! В Женеве эти
амбары, заведенные и содержащиеся в порядке мудрым управлением,
составляют запас общества в голодные годы и являются
источником постоянного дохода государства. Alit et ditat48 — эту
прекрасную и справедливую надпись можно прочитать на фасаде здания.
Излагая здесь экономическое устройство доброго правления, я
часто обращал взор на эту республику, счастливый тем, что нахожу
в моем отечестве пример такой мудрости и такого благоденствия;
и я желал бы видеть, как подобное устройство царит во всех странах!
Если мы рассмотрим то, каким образом возрастают нужды
государства, мы увидим, что происходит это почти так же, как у
частных лиц: не столько вследствие действительной необходимости,
сколько вследствие появления неоправданных желаний; и часто
увеличивают расходы лишь для того, чтобы получить предлог
увеличивать доходы; так что государство иногда выиграло бы, если бы
обходилось без богатства, и это мнимое богатство для него, по
сути, требует больше расходов, чем даже бедность. Можно, правда,
67
*\.
Жан-Жак Руссо
попытаться поставить подданных в более тесную зависимость,
давая им одной рукой то, что взято у них другой; и это была бы
политика, которую Иосиф пустил в ход по отношению к египтянам. Но
этот пустой софизм тем более вреден для государства, что деньги не
возвращаются в одни и те же руки и благодаря подобным
правилам обогащают лишь бездельников, разоряя людей, приносящих
пользу.
Охота к завоеваниям — это один из наиболее явных и опасных
поводов увеличивать потребности. Эта охота, часто порождаемая
честолюбием совсем иного характера, чем то, о котором она, на
первый взгляд, заявляет, не всегда такова, какой хочет казаться, и
настоящим побуждением здесь является не столько мнимое желание
расширить границы нации, сколько скрытое желание добавить
власти правителям внутри страны, увеличить количество войск ради
того, чтобы отвлечь умы граждан на военные дела.
И что, по крайней мере, совершенно бесспорно, так это то, что
никого так не угнетают и не презирают, как народ завоевателей,
и даже его успехи лишь увеличивают его несчастья: если бы история
нас и не научила этому, достаточно разумного довода, для
доказательства того, что чем более обширно государство, тем расходы
в нем становятся соответственно более значительными; ибо всем
провинциям следует поставлять рекрутов, давать средства на
расходы по общему управлению, и каждая из них, кроме того, должна
производить расходы на себя саму, как если бы она была
независимой. Добавьте к этому, что всякое состояние создают в одном месте
и растрачивают в другом, — все это в скором времени нарушает
равновесие производства и потребления и значительно обедняет
страну, обогащая один-единственный город.
Другой источник возрастания общественных нужд зависит от
предыдущего. Может наступить время, когда граждане станут
считать себя свободными от участия в общем деле, перестанут быть
защитниками отчизны и когда магистраты в большей мере пожелают
руководить наемниками, чем свободными людьми. И не для того ли,
чтобы с помощью наемников скорее поработить людей свободных?
Таково было положение Рима в конце республики и в правление
императоров; ибо все эти победы первых римлян так же, как и
победы Александра Македонского, были одержаны отважными
гражданами, которые могли при необходимости пролить кровь за родину,
но они никогда не продавали свою кровь. Марий оказался первым,
68
Рассуждение о политической экономии
кто во время Югуртинской войны49 обесчестил легионы, включив
в них вольноотпущенников, бродяг и прочих наемников; тираны,
ставшие врагами народов, которые они взяли на себя труд сделать
счастливыми, создавали регулярные войска якобы с целью
сдерживать натиск иноземцев, а в действительности чтобы угнетать
население. Для того чтобы набрать эти войска, было необходимо отлучить
от земли крестьян, недостаток числа которых вел к уменьшению
размеров съестных припасов, а содержание войск привело к
введению новых налогов, способствовавших увеличению цен на
продукты. Этот беспорядок заставил роптать народы, и для подавления
этого ропота пришлось приумножить войска, и, следовательно,
выросла нищета; и чем больше росло отчаяние людей, тем больше
правители оказывались вынуждены усиливать это отчаяние, дабы
предотвратить его последствия. С другой стороны, наемники,
считавшие за честь стать приспешниками Цезаря, а не защитниками
Рима, и оцененные по той цене, по которой они себя продавали,
гордясь своим унижением, презирали охранявшие их законы и
братьев, хлеб которых они ели; и, преданные своему слепому
повиновению, они заносили кинжал над своими согражданами, как того
требовало их положение, готовые по первому знаку перерезать горло
любому. Нетрудно понять, что именно в этом заключалась одна из
основных причин гибели Римской империи.
Изобретение артиллерии и укреплений в наши дни заставило
государей Европы снова воспользоваться регулярными войсками,
чтобы охранять населенные пункты; однако ж, даже если эти
побуждения оправданны, стоит опасаться, что их последствия будут
одинаково плачевными. Государям придется в не меньшей мере
сократить количество жителей в деревнях, чтобы создать армии
и гарнизоны для их содержания, и они в не меньшей мере будут
вынуждены угнетать народы; и эти опасные учреждения в последнее
время множатся так быстро в наших широтах, что в скором времени
можно предвидеть лишь обезлюденье Европы и, рано или поздно,
разорение народов, которые ее населяют.
Как бы то ни было, понятно, что подобные установления
необходимо опрокинут истинный экономический строй, в котором
основные доходы государства извлекаются из общественной вотчины,
и останутся лишь достойные сожаления средства под названием
пожертвования и налоги, о них-то мне остается сказать несколько
слов50.
69
«■V*.
Жан-Жак Руссо
Здесь важно напомнить, что основа согласия в обществе есть
собственность, и главное условие ее существования заключается
в том, что каждому нужно предоставить возможность мирно
наслаждаться тем, что ему принадлежит. И, по правде сказать, этим
самым договором каждый обязуется, по крайней мере молчаливо,
делать взносы на общественные нужды; но, поскольку это
обязательство не должно вредить основному закону, и предполагается,
что очевидность этих нужд признана налогоплательщиками, то из
всего этого следует, что, для того чтобы быть законными, эти
взносы должны стать добровольными, но производиться не по воле
частных лиц, как будто при этом необходимо согласие каждого
гражданина и как будто он должен давать лишь то, что ему
хочется (это прямомпротиворечило бы духу содружества), а по воле
общей, выраженной большинством голосов и в соответствии с
соразмерной ставкой, не оставляющей места произволу в
налогообложении.
Та истина, что налоги нельзя законным образом установить
иначе как с согласия народа или его представителей, в основном
признается всеми философами или юристами, которые снискали
известность в области публичного права, не исключая даже и Бодена.
Хотя некоторые из них установили правила, на первый взгляд
противоположные, но, помимо того, что легко обнаружить особые
причины, по которым они это сделали, они добавили к ним столько
ограничений и оговорок, что, по сути, пришли к тому же самому: ибо
с точки зрения права совершенно безразлично, отказывается ли
народ платить или же суверенной власти не следует требовать; а если
речь заходит лишь о силе, то совершенно бесполезно
рассматривать вопрос с точки зрения законности или незаконности.
Платежи, взимаемые с народа, бывают двух видов: одни вещные,
ими облагаются вещи, другие личные, их платят с человека. И те
и другие называются налогами или пожертвованиями: когда народ
сам устанавливает выплачиваемую им денежную сумму, она
называется пожертвованием] когда он согласен на сбор, установленный
с любого продукта, это налог. В книге «О духе законов» можно
прочесть, что поголовное налогообложение более соответствует
рабскому состоянию, а вещная подать более подобает в свободной
стране. Это было бы бесспорным, если бы доли, взимаемые с каждого
человека, оказались бы одинаковыми; ибо не было бы ничего более
соразмерного, чем подобный сбор, ведь именно в точном соблюде-
70
Рассуждение о политической экономии
нии соразмерности заключается дух свободы. Поголовной
податью, в точности соразмерной со средствами частных лиц, могла бы
быть та, что во Франции носит имя подушной подати, и которая
в этом отношении является одновременно и вещной, и личной; она
является самой справедливой и, следовательно, подходит для
людей свободных51. Кажется на первый взгляд, что эту соразмерность
легко соблюсти, потому что, имея отношение к тому положению,
которое каждый занимает в обществе, сведения о них всегда
становятся достоянием гласности; но не говоря уже о том, что жадность,
влияние, обман умеют увиливать от их уплаты даже в очевидных
случаях, большая редкость, когда в этих подсчетах учитывают все
привходящие мелочи. Во-первых, надо принять во внимание
количественное соотношение: при прочих равных условиях тот, у кого
имущества в десять раз больше, чем у другого человека, должен
платить в десять раз больше. Во-вторых, надо принять во
внимание размеры потребления, то есть разницу между необходимым
и излишним. Тот, кто имеет лишь самое необходимое, вовсе ничего
не должен платить, а размеры подати того, у кого есть излишки,
могут при необходимости увеличиться до пределов суммы,
превышающей необходимое. На это такой человек ответит, что,
принимая во внимание его положение, то, что считалось бы излишком
для человека низшего происхождения, является для него
необходимым, но это ложь: ибо у вельможи две ноги, как и у возницы,
и животов у него не больше. Более того, так называемое
необходимое не так уж и необходимо для положения, которое он занимает,
и если бы он смог с похвальным намерением отказаться от него, он
пользовался бы еще большим уважением. Народ пал бы на колени
перед министром, который идет в совет пешком, продав свои
кареты ради неотложных нужд государства. И, в конце концов, закон
никому не предписывает великолепия, а благопристойность никогда
не была доводом против права.
Третье соотношение, которое никогда не учитывают, а его
следовало бы считать первым — это соотношение пользы, которую
каждый извлекает из содружества в обществе, весьма усердно
защищающем огромные владения богача и едва ли позволяющего
несчастному бедняку пользоваться хижиною, построенную своими
руками. Разве все выгоды от жизни в обществе не для богатых и
могущественных? И разве не они занимают все прибыльные
должности? Разве не они наделены всеми милостями, льготами, а государ-
71
«-N^
Жан-Жак Руссо
ственная власть к ним разве не благосклонна? Пусть уважаемый
человек ограбит своих кредиторов или совершит иные
мошенничества, разве он не будет уверен в своей безнаказанности? Розданные
им палочные удары, совершенная жестокость вплоть до убийства,
будь оно даже преднамеренным, — все это не поднимет лишь
мимолетный шум, который стихнет сам собой, и через шесть месяцев
о этом не перестанут говорить? Но если только ограбят этого
человека, вся полиция будет задействована, и если на кого-то пало
подозрение, то горе виновным! Проезжает ли он через опасную местность —
и вот воинское сопровождение следует за ним. Едва сломалась ось
его кареты — все бегут ему на помощь. Станут шуметь у его дверей —
достаточно одного его слова, чтобы все стихло. Станет ли ему
досаждать толпа — по одному его знаку все успокоится. Окажется ли
на его пути возница — его слуги готовы будут его убить, и полсотни
достойных прохожих будут раздавлены во сто крат быстрее, чем на
мгновение замешкавшийся лакей у его повозки. Все эти знаки
уважения не стоят ему ни гроша, они являются правом богатого
человека, но не определяются размерами его богатства. Как отличается
от всего этого жизнь бедняка! Чем больше он нуждается в
гуманности, тем более общество ему в ней отказывает. Все двери закрыты
перед ним, когда он вправе попросить, чтобы их открыли, и если он
иногда и добивается справедливости, то с гораздо большим трудом,
чем иной добивается милости. Если нужно отрабатывать барщину
или служить в ополчении, то выбор в первую голову падает на него.
И, помимо своих собственных повинностей, он несет повинности
богатого соседа, у которого достаточно влияния, чтобы от них
избавиться. Случись с ним беда, каждый будет держаться от него на
расстоянии. Если его бедная повозка опрокинется, ему не только
никто не поможет, но для него будет большой удачей, если по пути
ему удастся избежать притеснений со стороны лакеев юного
герцога. Словом, в случае нужды люди избегают оказывать ему помощь
именно потому, что ему нечем заплатить; и я сочту его пропащим
человеком, если он, к несчастью, имеет благородную душу,
миловидную дочь и могущественного соседа.
Не меньшее внимание следует проявить к тому, что убытки
бедняка труднее возместить, чем убытки богача, и трудность
приобрести что-либо возрастает всегда в зависимости от потребностей.
Когда ничего не имеешь, ничего не можешь сделать; это так же верно
в деловом отношении, как в физике: деньги являются посевом для
72
Рассуждение о политической экономии
денег, и часто первую пистолю гораздо труднее заработать, чем
второй миллион. И более того, то, что платит бедняк, для него
потеряно навсегда, поскольку остается в руках богача или к нему же и
возвращается; и поскольку только через руки людей, которые входят
в правительство или близки к нему, рано или поздно проходит
доход от налогов, они получают ощутимую выгоду от увеличения
размеров последних даже тогда, когда исправно платят свою долю
налогов.
Выразим в двух словах суть общественного соглашения между
двумя сословиями. Вы нуждаетесь во мне потому, гто я богат, а вы
бедны. Пусть между нами будет иметь место уговор: я оказываю вам
гесть тем, гто вы мне служите, при условии гто вы отдадите мне
то немногое, гто остается, за тот труд, который я возьму на себя,
гтобы вами руководить.
Если мы внимательным образом согласуем все вещи, то
обнаружим, что для правильного распределения податей справедливым
и действительно соразмерным образом налогообложение не следует
устанавливать только сообразно размерам имущества
налогоплательщиков, но с учетом сложной зависимости между различиями
в их положении в обществе и избытком имущества. Это дело весьма
важное и трудное, которое ежедневно осуществляет множество
добропорядочных приказчиков, знакомых с арифметикой, но за это
дело не отважились бы взяться Платоны и Монтескье, не
испытывая при этом глубокого волнения и не испрашивая для себя у неба
знаний и неподкупности. Еще одно неудобство личной подати
состоит в том, что она слишком ощутима и взимается слишком
сурово, что, впрочем, не мешает тому, чтобы ее собирали с множеством
недоимок, потому что гораздо легче скрыть от податного списка
и от судебных преследований свою личность, чем собственность52.
Из остальных видов налогов земельный ценз, или вещная талья,
всегда считалась самой выгодной в странах, где больше обращают
внимание на количество сбора и на точность взыскания, чем на
самое незначительное неудобство, причиняемое народу. Осмелились
даже утверждать, будто следует обременить крестьянина, чтобы
пробудить его от лености, и что он стал бы бездельником, если бы
ничего не должен был платить. Но опыт всех народов мира
опровергает это смехотворное правило: именно в Голландии и в Англии,
где земледелец платит очень мало, и в особенности в Китае, где он
не платит ничего, земли обрабатываются лучше всего. Напротив,
73
«-v.
Жан-Жак Руссо
там, где землепашец обременен сообразно количеству продуктов
с его поля, он бросает его невозделанным и собирает с него в
точности столько, сколько ему нужно для жизни, так как для того, кто
теряет плоды своих усилий, выгодно бездельничать; налагать же
штрафы на продукт труда — странное средство искоренить лень.
Из земельной подати или подати на зерно, в особенности когда
они чрезмерны, вытекают два столь страшных неудобства, что они
приводят к обезлюденью и к продолжительному разорению стран,
в которых она установлена.
Первое из них проистекает от недостатка денежного обращения,
ибо торговля и ремесло в столицах притягивают к себе деньги из
деревни: и налог нарушает соразмерность, которая еще остается
между нуждами землепашца и ценой на зерно, а деньги постоянно
уходят из его рук и никогда в них не возвращаются; чем богаче
город, тем больше нищает страна. Сбор от тальи переходит через
руки государей или финансистов в руки ремесленников и купцов,
а земледелец получает от него лишь незначительную часть и, в
конце концов, растрачивает свои силы, выплачивая равное с другими
количество денег и получая назад меньше. Да как же может жить
человек, у которого есть только вены, но нет артерий? Или тот, чьи
артерии несут кровь, не донося ее до сердца? Шарден утверждает,
что в Персии королевские налоги на продукты питания
выплачивались продуктами питания. Этот обычай, который, как
свидетельствует Геродот, имел хождение в этой стране вплоть до воцарения
Дария53, вполне мог бы предотвратить зло, о котором я только что
говорил, если только в Персии управители, распорядители,
приказчики, сторожа складов не принадлежали к другой породе людей, чем
та, что встречается у нас повсюду: я с трудом поверю, что до короля
дойдет хоть малая часть всех этих сборов, а зерно не сгниет в
амбарах, и что огонь не спалит большую часть складов.
Второе неудобство проистекает из мнимого преимущества,
приводящее лишь к усугублению зла до того, как его успеют заметить:
а именно что зерно есть продукт питания, налоги на который не
ведут к его удорожанию в странах, его производящих. И несмотря на
то что оно является продуктом первой необходимости, если его
количество уменьшается, то цена на него не растет. Это ведет к тому,
что много людей умирают от голода, хотя зерно продолжает
продаваться по сходной цене, а землепашец один несет на себе бремя
налогов, которые он не в состоянии выплатить из стоимости его про-
74
Рассуждение о политической экономии s-%
дажи. Следует уделить особое внимание тому, что не стоит
рассуждать о вещной талье так же, как и о налогах на другие товары,
ведущих к повышению цен на них. Ведь налоги на товары
выплачиваются не столько купцами, сколько покупателями. Этот налог, каким
бы значительным он ни был, однако ж, является произвольным, ибо
он выплачивается купцом в зависимости от количества купленных
им товаров, и так как он покупает их сообразно с размерами сбыта,
он и устанавливает закон для частных лиц. Но землепашец,
который продает или не продает зерно, вынужден платить в
установленных размерах за обрабатываемую землю, и он не может по своему
усмотрению ожидать, когда на его продукты питания установят ту
цену, которая ему подходит. И если он не сможет продать эти
продукты, чтобы содержать себя, он вынужден будет продавать их,
чтобы заплатить талью, таким образом, что иногда огромные
налоги поддерживают ничтожную цену на продукты питания.
Заметьте также, что средства, получаемые от торговли и
ремесла, не делают талью более терпимой вследствие обилия денег, но,
напротив, делают ее более обременительной. Не стану настаивать
на вещи весьма очевидной, а именно на том, что значительное или
малое число денег в государстве может дать ему больше или
меньше кредита вовне; это количество никоим образом не сказывается
на действительном благосостоянии граждан, и они не чувствуют
себя ни более, ни менее непринужденно. Однако я должен сделать
два важных замечания: первое, что если только государство не
обладает избытком продуктов питания, но при этом избыток денег не
проистекает от сбыта продуктов за рубеж, лишь города, где
сосредоточена торговля, получают ощутимую выгоду от их обилия, а
крестьянин становится относительно беднее. Другое замечание: цена
всех вещей возрастает с увеличением количества денег, поэтому
налоги должны соответствующим образом возрастать, и при этом
земледелец оказывается более обременен налогами, не получая
большего дохода.
Понятно, что талья на землю является на деле налогом на
прибыль. Между тем, каждый согласится, что нет ничего опаснее
налога на зерно, который оплачивает покупатель: как же не видят того,
что зло становится во сто крат хуже, когда налог этот платит
земледелец? Не есть ли это покушение на благосостояние государства, на
самый его источник? Не означает ли это трудиться самым
непосредственным образом над тем, чтобы привести страну к обезлюденью
75
«~v.
Жан-Жак Руссо
и, следовательно, надолго ее разорить? Ибо у нации не существует
худшей нужды, чем нужда в людях. Только истинный
государственный муж при расчете налогообложения в состоянии увидеть не
только финансовый вопрос, превратить тягостные пошлины в
полезные предписания, касающиеся поддержания порядка, и
заставить народ не усомниться в том, что подобные учреждения в
большей мере имеют в виду благо нации, а не доходы от сборов.
Пошлины на ввоз иностранных товаров, до которых жители
столь падки, при том что страна в них не нуждается, пошлины на
вывоз тех продуктов земледелия, коих в стране немного, но без них
иноземцы не могут обойтись, пошлины на произведения искусства,
бесполезные и чрезмерно дорогостоящие, на ввоз в города
предметов развлечений и в целом на предметы роскоши будут
способствовать достижению этой двоякой цели. Именно с помощью таких
налогов, которые облегчают жизнь бедняков и отягощают жизнь
богатых, следует предотвращать непрерывный рост неравенства
состояний, закабаления богатыми огромного количества
бесполезных работников и слуг, умножения числа бездельников в городах
и опустошения деревень.
Весьма важно установить между стоимостью предметов
продажи и пошлинами на них такую соразмерность, чтобы алчность
частных лиц в силу значительности прибыли не слишком поощряла
стремление к мошенничеству. К тому же не следует допускать
возникновения благоприятных условий для контрабанды, отдавая
предпочтение обложению пошлиной тех товаров, которые труднее
всего скрыть. И, наконец, надлежит сделать так, чтобы налог
платился тем, кто использует вещь, облагаемую сборами, а не тем, кто
ее продает, ибо для этого последнего размеры пошлин, которыми
бы он оказался обременен, порождали бы еще больше искушений и
заставляли бы искать возможности для мошенничества. Вот каков
обычай, установившийся в Китае, в стране, где существуют самые
высокие и самые регулярно уплачиваемые налоги: купец ничего не
платит, а покупатель платит пошлину, и при этом не возникает ни
возмущения, ни мятежей, потому что необходимые для жизни
продукты питания, такие как рис или зерно, совершенно избавлены от
сборов, народ не ощущает гнета налогов, ибо ими облагают лишь
самых состоятельных людей. В конечном итоге, все эти меры
предосторожности должны быть внушены не столько страхом
перед контрабандой, сколько тем вниманием, которое правительство
должно проявить к тому, чтобы оградить частных лиц от соблазна
76
Рассуждение о политической экономии
получать незаконную прибыль, ибо стремление к ней создаст
поначалу плохих граждан и не замедлит в дальнейшем превратить их
в недобросовестных людей.
Так пусть установят высокие сборы на лакеев, выезды, зеркала,
лоск, мебель, ткани, на позолоту, на свиту, на дворы и сады в
особняках, на всякого рода спектакли, праздные занятия вроде
скоморохов, шутов, комедиантов, певцов; одним словом, на всю эту
массу предметов роскоши, развлечений и безделья, которые бросаются
в глаза, тем более что они используются с целью выставить себя
напоказ, и оказались бы бесполезными, если бы на них не
засматривались. И не стоит опасаться, что доходы от подобных сборов будут
носить неустойчивый характер, поскольку ими облагаются вещи,
которые не являются безусловно необходимыми: думать, что после
того как людей однажды соблазнила роскошь, они когда-нибудь
смогут от нее отказаться, — означает плохо знать людей; они
отказались бы во сто крат охотнее от необходимого и предпочли бы
скорее умереть от голода, чем терпеть унижение. Возрастание
расходов оказалось бы лишь еще одним поводом сохранить эти сборы,
и тогда бессмысленное желание выглядеть процветающим
доставит казне прибыль благодаря высокой стоимости вещи и расходам
на налоговые сборы. Пока будут существовать богатые, они
пожелают отличаться от бедняков, и государство вряд ли найдет более
надежный и менее сопряженный с расходами доход, чем тот, что
основан на этом различии.
По той же самой причине промыслы не пострадали бы от того
экономического порядка, который обогатил бы государственные
финансы, возродил бы земледелие, облегчил положение
земледельца и незаметно приблизил бы размеры всех частных состояний
к умеренности, составляющей подлинную силу государства.
Признаюсь, что налоги, возможно, будут содействовать быстрой смене
привычек, но это приведет лишь к тому, что их заменят другие
привычки; от них работник выиграет, а казна ничего не потеряет.
Словом, предположим, что дух управления будет неизменно
заключаться в том, чтобы облагать пошлинами избыток богатства, и от этих
мер последует один одинаковый результат: или богатые откажутся
от чрезмерных трат, дабы производить траты только полезные,
которые обратятся к прибыли государства, или же порядок
налогообложения произведет действие, свойственное лучшим законам
против роскоши, а именно: расходы государства уменьшатся вместе
с расходами частных лиц, а казна при таком положении дел будет
77
•-V.
Жан-Жак Руссо
получать доходов не меньше, а тратить будет еще меньше. Или же,
если богачи не умерят своей расточительности, казна получит от
сбора налогов средства, которые она искала для обеспечения
насущных потребностей государства. В первом случае казна
обогатится благодаря тому, что ее расходы уменьшаться, а во втором —
благодаря бесполезным тратам частных лиц.
Добавим ко всему сказанному важное различие из области
политического права, на которое должны обратить особое внимание
правительства, стремящиеся все делать сами. Я уже сказал, что
сборы с частных лиц и налоги на предметы первой необходимости
прямо затрагивают право частной собственности и, следовательно,
истинную основу гражданского общества. Их взимание всегда
ведет к опасным последствиям в том случае, если они не установлены
с явного согласия народа или его представителей. Иначе обстоит
дело с пошлинами на вещи, пользование которыми возможно
запретить, так как в этом случае частное лицо не прямо принуждают
платить; его взносы могут сойти за добровольные таким образом, что
согласие частного лица из числа налогоплательщиков восполняет
недостаток общего согласия, каковое в известной мере даже
предполагается: разве станет народ противиться налогообложению,
затрагивающему лишь тех, кто добровольно хочет платить? Мне
представляется бесспорным: то, что не запрещено законом и не
противоречит нравам, и то, что правительство могло бы при случае
запретить, следует дозволить в силу права. Если, к примеру,
правительство может запретить пользование каретами, оно также
с полным основанием может установить пошлину на них — мудрое
и полезное средство не одобрять эту привычку, при этом не
принуждая ими вообще не пользоваться. В таком случае пошлины на
кареты можно рассматривать как своего рода штраф, сборы от
которого избавляют от наказания за частое пользование ими.
Кто-нибудь может мне возразить, что те, кого Воден называет
обманщиками, то есть те, кто устанавливает и придумывает
пошлины, принадлежа к разряду богатых, и не подумают уберечь
остальных от расходов, которые они сами производят, и взять их бремя
на себя, облегчая участь бедняков. Но должно отбросить подобные
мысли, поскольку если в каждой нации те, кому сувереном вверено
управление народом, окажутся его врагами в силу одного только
своего положения, то не стоило бы труда внимательно исследовать
то, что им следует делать, дабы осчастливить этот народ54.
78
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР,
или
НАЧАЛА ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРАВА
С. В. Занин, Брюно Бернарди
О ДВУХ ДОГОВОРАХ
В ТВОРЧЕСТВЕ РУССО
Сложнейший вопрос, который стоял перед Руссо, заключался
в том, чтобы обосновать возможность реализации «естественного
закона» в жизни человека и общества. Если речь идет о человеке, то
эту задачу решал Воспитатель Эмиля, делая его «способным к
общению» или к общежитию, гуманным и добродетельным. Что же
касается общества, то, согласно Руссо, в прошлом законодатели
древности (Нума Помпилий, Ликург, Моисей) решали аналогичную
задачу, проводя необходимые реформы. Но они начинали с
преобразования институтов и с их помощью достигали нравственной
цели. Напротив, Воспитатель, вынужденный за отсутствием
«общественного воспитания» осуществлять воспитание индивидуальное,
в этом отношении отличался от своих предшественников. Конечно,
можно попытаться воспитывать и народ в духе нравственности. По
Руссо, некогда Иисус Христос обратился с проповедью к «глубоко
порочному народу», но не сумел изменить его нравы. Причина
неудачи заключалась не только в «испорченности» евреев, но и в
«чрезвычайной мягкости характера Христа, которая напоминала
в большей степени ангела и Бога» К Правда, по Руссо, неудача его
проповеди привела к подлинному перевороту в мире нравственности.
Размышляя о средствах, с помощью которых возможно
утверждение гуманных ценностей в сознании человека и общества, Руссо
прибегнул к фикции, создав почти идеальных Воспитателя и
Законодателя, людей «божественной души». Воспитатель стал главным
героем романа «Эмиль», а Законодатель занял одно из
центральных мест в трактате «Об общественном договоре». В научной ли-
1 RousseauJ.-J. Lettre à Franquières // ОС. T. IV. P. 1146-1147.
81
^\.
С. В. Занин, Брюно Бернарди
тературе неоднократно проводились параллели между
Законодателем и Воспитателем, отмечалось их сходство2. Но в чем оно
заключается? В том, что оба являются «законодателями» (один для
человека, а другой для народа), как считал П. Бюржелен, или
«гениями» (С. фон Гаррель)? Или в том, что оба стали своего рода
«посредниками» (Р. Пайо)? Причем Воспитатель был призван
воспитать «естественного человека, способного к общежитию», а
Законодатель ставил перед собой цель «аутентифицировать и сакрализи-
ровать общественный организм»? Или и тот и другой были своего
рода «харизматическими фигурами», «богами»?3
Нам представляется, что для изучения характера Законодателя
и Воспитателя необходимо обратить внимание на то средство,
которое они применяли для того, чтобы воздействовать: первый — на
народ, а второй — на воспитанника. Этим, по выражению Руссо,
«чудесным» средством в их арсенале стал договор. Сравним
основные элементы концепции общественного договора и договора
воспитанника с Воспитателем, который, по нашему мнению, уместно
назвать «педагогическим договором».
Воспитатель, готовя воспитанника к тому, чтобы вступить в
общество, «внезапно менял свою речь». Начиная общественную
жизнь, воспитанник в своих поступках уже не может больше
руководствоваться своей непосредственной выгодой (intérêt présent),
главным инструментом, которым пользовался его Воспитатель для
того, чтобы сохранить его «естественную свободу» в период
«естественного воспитания». Эмиль, как «естественный человек»,
вправе был возразить Воспитателю: «Для чего мне это нужно?». Зачем
нужно, живя в обществе, блюсти «общее благо»?4 Когда Эмиль
познакомился с основами нравственности, Воспитатель смог
говорить с ним на языке взаимного соглашения, согласия интересов,
а не на языке личного интереса, как раньше5. Теперь Эмиль должен
знать существо нравственных отношений в обществе, смысл
которых его Воспитатель не собирался «более от него скрывать». Ана-
2 Burgelin P. J.-J. Rousseau et la religion de Genève. Paris, 1962. P. 56.
3 Такие суждения часто встречаются в литературе. Аргументом чаще всего
является фраза Руссо о том, что природа Законодателя «божественная», и он
утверждает святость общественного соглашения.
4 Rousseau J.-J. Emile, V // ОС. T. IV. P. 858.
5 Ibid. P. 648-649.
82
О двух договорах в творчестве Руссо ^
логичным образом Руссо высказывается и в трактате «Об
общественном договоре». Размышляя о сущности законов, он писал, что
«добрые законы побуждают создавать самые лучшие, а плохие
ведут к принятию наихудших. Как только кто-нибудь говорит о
государственных делах: "для чего мне это нужно?", государство можно
считать погибшим»6. Но именно потому, что «добрые законы»
воспитывают в гражданах дух общежития, подобное не может
случиться. Таким образом, во многом аналогичной миссии
Воспитателя является миссия Законодателя. Ее сложность заключается в том,
чтобы водворить «дух общественной жизни» до того, как люди
вступят в общественное соглашение. Ведь в обычном порядке
вещей именно «установления» воспитывают «способность граждан
к общежитию». Руссо подчеркивал, что в древние времена
Законодатели нередко прибегали к религиозному обману для успеха своего
предприятия, но, по его словам, это была не ловкость
«обманщика», а «истинная политика», цель которой в том, чтобы «могучий
гений осуществлял верховное руководство (préside) над прочными
установлениями»7. Таким образом, у Законодателя и Воспитателя
общая цель — содействовать утверждению ценностей общежития,
«стремления к общению» в сознании народа так же, как и в
сознании индивида.
Сходство Законодателя и Воспитателя заключается в том, что
оба они исполняют свою функцию, используя один и тот же
прием — взаимное соглашение сторон8. При заключении
общественного соглашения граждане «без остатка отчуждают свои естественные
права в пользу суверена». Эта фраза об «отчуждении без остатка»
в историографии была едва ли не главным аргументом в пользу того,
что Руссо выражал «тоталитарные» взгляды. Но что представляет
собой подобное отчуждение? В литературе не раз отмечалось, что,
отчуждая «естественные права» в пользу суверена, народ получал
в виде эквивалента права политические. Изучение
«педагогического договора» позволяет уточнить характер этого «отчуждения».
Воспитанник обязывался подчиняться воле Воспитателя «как зако-
6 Rousseau].-]. Du Contract social. L. Ill, Ch. XV // ОС. T. HI. P. 422. Ср. толкование
этого текста в работе: Bernardi В. Principe d'obligation. Paris, 2007. P. 319.
7 Rousseau].-]. Du Contract social. L. II, Ch. VII // OC. T. III. P. 383.
8 Candeau D. Contrat pédagogique chez J.-J. Rousseau // J.-J. Rousseau et son œuvre.
Neuchâtel, 1976. P. 36-76.
83
*~\.
С. В. Занин, Брюно Бернарди
ну» для того, чтобы тот предохранил его от «рабства страстей».
«Педагогический договор» позволяет Воспитателю совершить
переворот в сознании Эмиля, заменив «естественные» качества,
«страсти, внушенные природой» и эгоистические интересы на осознание
необходимости соблюдать нравственные обязательства — «быть
справедливым не в глазах других людей, а в соответствии со своей
природой и исполняя свой долг»9. Иными словами, Эмиль должен
стать нравственным существом. Аналогичным образом
Законодатель призван, по словам Руссо, «заменить физическое
существование человека на частное и нравственное»10.
Эмиль сам просил Воспитателя «спасти его от произвола
страстей», которому он оказался подвержен в юношеском возрасте,
и договор, заключенный между ними, возник по инициативе
воспитанника, говорившего «со всей горячностью молодости об
окружавших его опасностях». «Ваше влияние покоилось ранее на моей
слабости, отныне вы будете пользоваться им согласно моей воле,
и поэтому оно будет для меня еще священнее», — заключает
Эмильи. Но разве не в иных обстоятельствах заключается
общественный договор? Ведь, по словам Руссо, люди, заключающие
соглашение, — это люди, столкнувшиеся с «препятствиями <...>
которые превосходят силой своего сопротивления силы каждого в
отдельности»12. В черновом варианте трактата «Об общественном
договоре» Руссо писал, что эти «препятствия» и социальные
конфликты грозили «гибелью всему человеческому роду».
Педагогический договор так же, как и общественный, вменяет в обязанность
подчинение. Но, заключив договор с воспитанником, Воспитатель
тут же замечал, что его «первая забота после установления власти
над воспитанником заключается в том, чтобы устранить всякую
необходимость ею пользоваться»13. Аналогичным образом и
Законодатель, по удачному выражению Реймона Полена, лишь давал
народу совет, создавая условия, при которых народ «действовал бы
сам». Единственным инструментом в руках Законодателя было, по
9 Rousseau J.-J. Emile, IV // ОС. Т. IV. Р. 604.
10 Rousseau J.-J. Du Contrat social. 1-ère version. L. II, Ch. II // Ibid. T. III. P. 313.
11 Rousseau J.-J. Emile, IV // Ibid. T. IV. P. 651.
12 Rousseau J.-J. Du Contract social. L. I. Ch. VI // Ibid. T. III. P. 360.
13 Rousseau J.-J. Emile, IV // Ibid. T. IV. P. 653.
84
О двух договорах в творчестве Руссо
.^-»
выражению Руссо, «убеждение»14. Он должен помогь народу
сделать шаг к тому, чтобы стать «нравственным организмом», а
введение положительного законодательства — задача второстепенная,
которую может решить народ как носитель суверенной власти.
Поэтому Законодатель так же, как и Воспитатель, не должен более
вмешиваться в дела общества и, согласно Руссо, не должен быть
«ни магистратом, ни сувереном»15.
Заключая общественное соглашение, человек, согласно
формулировке, использованной в трактате «Об общественном договоре»,
«вступает в двоякое отношение — как участник суверенной власти
по отношению к частным лицам и как член государственного
организма по отношению к суверену»16. Но эта формулировка
полностью соответствует определению «совести», данному в «Письмах
Софии о нравственности» и повторенному в «Исповедании веры
Савойского викария», как «двоякому отношению» человека к себе
и окружающим людям. Гражданин во втором случае относится к
самому себе как к носителю суверенной власти (в чем, собственно,
и состоит гражданство!), а по отношению к объединению граждан
он выступает как частное лицо, подданный. Именно таким образом
«разумное» устройство общества способствует пробуждению
гражданской совести и гражданского сознания индивидов. Если «двоякое
отношение» индивида к самому себе и к окружающим людям
производит «импульс сознания» (или «совести»), то, говоря
современным языком, самоидентификация себя как гражданина и отношение
к согражданам и государству производят импульс «политического
сознания» или совести гражданина. Что касается «педагогического
договора», то, вступая в него, Эмиль осознает себя как «творение
Воспитателя» и заявляет, что откажется выполнять взятое на себя
обязательство только «вопреки самому себе»17. Тем самым
возникает второе, нравственное «я» Эмиля, и договор между ним и
Воспитателем позволяет воспитаннику осознать «двоякое» отношение
к самому себе и к близкому человеку. В этом смысле следует согла-
14 Polin R. Fonction du Législateur chez Rousseau //J.-J. Rousseau et son œuvre.
Problèmes et recherches. Paris, 1964. P. 242.
15 Rousseau J.-J. Du Contract social. 1-ère version. L. II, Ch. II // OC. T. III. P. 313.
16 Rousseau J.-J. Du Contract social. 1-ère version. L. I. Ch. HI // Ibid. P. 290.
17 Rousseau J.-J. Emile, IV // Ibid. T. IV. P. 653.
85
*\.
С. В. Занин, Брюно Бернарди
ситься с выводом французского исследователя Даниэля Кандо,
который полагает, что «Воспитатель создал модель совести Эмиля»18.
Законодатель так же, как и Воспитатель, призван побудить
людей стать «способными к общежитию», то есть существами
разумными и гуманными, путем «полного отчуждения» их «страстей».
Отсюда в трактате «Об общественном договоре» фраза о том, что люди,
заключив общественное соглашение, «заключили его, так сказать,
сами с собой». Общественное соглашение предполагало «полное
отчуждение каждого члена объединения и его прав в пользу
сообщества в целом», но с единственной целью: «условия жизни каждого
были бы одинаковы и никто не получал бы выгоды от того, чтобы
сделать их в тягость остальным»19. Действительно, никакое
разумное соглашение немыслимо, если лица, вступающие в него, не
уверены в том, что это будет соглашение равных и что взявший на себя
обязательство в один прекрасный момент не откажется от него,
ссылаясь на свои «естественные права». Руссо прекрасно показал
данное обстоятельство на примере «договора дружбы», который
был упомянут ранее, и на примере соглашения Воспитателя с
воспитанником. Согласно последнему, не только Эмиль всегда и во
всем был обязан подчиняться соглашению, но и сам Воспитатель,
«и ярмо, которое оно налагало на него в силу соглашения, было
даже более тяжким, чем ярмо Эмиля». Поэтому этот договор,
устанавливая безграничную власть Воспитателя, предполагал
пропорциональную ее объему ответственность за пользование ею:
ответственность за человека.
Согласно Руссо, если в общественном договоре нет равенства
обязанностей граждан, то он приведет не к образованию свободной
ассоциации, а к созданию общества, в котором слабые подчинены
сильным. Без этого равенства в соглашении, то есть признания его
справедливости и полезности теми, кто его заключил, оно не может
существовать.
Соблюдая соглашение, воспитанник подчиняется собственному
«разуму»20. А в общественном договоре народ следует «обществен-
18 Candeau D. Op. cit. P. 73.
19 Rousseau J.-J. Du Contrat social. L. I, VI// OC. T. III. P. 361: l'aliénation totale de
chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté <...> la condition étant égale
pour tous, nul n'a intérêt de la rendre onéreuse aux autres.
20 Rousseau J.-J. Emile, IV // Ibid. T. IV. P. 654.
86
О двух договорах в творчестве Руссо
ному разуму» (raison publique)21. В основном тексте главного
политического трактата Руссо этот договор характеризуется как
выражение «просвещенности и рассудительности» (lumières et entendement)
граждан22. То есть в договоре, если воспользоваться выражением
Б. Н. Чичерина, воспитанник, как и народ, обязываются
подчиняться «не частному элементу, а общему» («разуму»), не «естественным
чувствам», а разумному убеждению, которое в договоре
Воспитателя с воспитанником касается блага индивида, а во втором — блага
народа. Поэтому именно благодаря соглашению осуществляется
переход из природного состояния в состояние общественное и
моральное.
В цитированной фразе о «полном отчуждении» Руссо тщательно
взвесил все выражения. Он говорил об отчуждении не в пользу
частного лица, а в пользу сообщества. Вот почему в государстве,
основанном на общественном договоре, не может возникнуть
зависимость одного частного лица от частного лица, то есть рабство. При
этом однажды возникший политический организм принудительным
образом заставляет своих членов соблюдать условия
общественного соглашения. Но Руссо подчеркивает: «...это означает не что иное,
как то, что человека принудят быть свободным всею силою
общественного организма» (contraint d'être libre). Отметим, что и в
«педагогическом договоре» Воспитатель «принуждал» Эмиля
оставаться свободным от «произвола страстей», но это принуждение,
так же как и принуждение граждан в общественном договоре,
представляло собой в первую очередь его «неизменную волю»
оставаться свободным от влияния страстей. Не случайно Эмиль просил
своего Воспитателя, чтобы он принудил его «быть хозяином
самому себе», а «его власть была священна, потому что покоилась на
воле воспитанника».
21 Подробнее об этом смотри разъяснения Б. Бернарди: Bernardi В. La fabrique des
concepts. Paris, 2001, P. 618 et suiv.
22 Руссо разъяснял эту мысль, сравнивая природное состояние, в котором человек
находился, подчиняясь единственно «закону самосохранения и заботам, которые
он должен проявлять по отношению к самому себе», с тем состоянием, в котором
он оказался, где, вступая в «возраст разума и являясь собственным судьей в
выборе средств самосохранения, он становится господином самому себе» (Rousseau J.-J.
Du Contrat social. L. I, Ch. II // OC. T. III. P. 382). Иными словами, в гражданском
состоянии он, становясь разумным существом, обретает нравственную свободу. Ср.:
Bernardi В. Principe d'obligation. P. 319; Bernardi В. La fabrique des concepts. P. 528.
87
*\
С. В. Занин, Брюно Бернарди
Таким образом, в силу соглашения возникает «общение» между
людьми, а также и их неизменная воля соблюдать взятые на себя
обязательства. Такова специфика общественной жизни. В ней, в
конечном итоге, «с того времени, как человек должен смотреть на
вещи глазами других людей, необходимо выражать свою волю с
помощью их воль»23. Отсюда возникает «общая воля» соглашения.
В трактате «Об общественном договоре» термин «общая воля»
употреблен в единственном числе. И только в первом наброске
«Эмиля», едва ли не единственный раз, Руссо употребил термин «общая
воля» во множественном числе. В черновом наброске трактата «Об
общественном договоре» он подчеркивал, что воля частных лиц
является общей не благодаря согласию противоположных
интересов, а благодаря «согласию одних и тех же соображений выгоды
(de ses mêmes intérêts)»24. Этот нюанс в политической теории Руссо
необходимо учитывать, когда встречается следующее, казалось бы,
парадоксальное утверждение: «Воля частного лица не может быть
подчинена порядку (ordonnée)»25. Как только возникает
общественное соглашение, люди обязуются подчиняться общим правилам, то
есть «разуму», на котором основано соглашение. Как только воля
становится «частной», то есть устанавливает привилегии
отдельных лиц, признает за ними право сохранять «естественные права»,
общественное соглашение уже не является соглашением равных,
а люди волят не «с помощью воль друг друга», а чинят произвол.
В этом отношении Руссо призывал тщательным образом различать
«общую волю» и «волю всех». «Общая воля» является актом
свободного волеизъявления каждого индивида. Она выражает «выгоду»
каждого оставаться свободным в обществе равных. Простое
мнение большинства может быть и молчаливым согласием
подчиняться деспоту. Поэтому в политической теории Руссо «общая воля» —
не согласие частных интересов (к примеру, большинства,
стремящегося извлечь выгоду из существующего неравенства), а идентиг-
23 RousseauJ.-J. Emile (Manuscrit Favre), I // ОС. T. IV. P. 88-89.
24 Rousseau J.-J. Du Contrat social. 1-ère version. L. I, Ch. IV // Ibid. T. III. P. 295. Эта
формула Руссо опровергает мысль Райнхарда Брандта, который полагал, что
сходство интересов, согласно Руссо, основано «на сцеплении сил, возможном
благодаря подобию материальных интересов» (Brandt R. Droit et intérêt dans le
«Contrat» // Annales de la société de J.-J. Rousseau. Genève, 1980. T. 39. P. 120-121).
25 «La volonté particulière ne peut être ordonnée» (Rousseau J.-J. Du Contrat social.
1-ère version. L. I, Ch. VII // OC. T. III. P. 311).
88
О двух договорах в творчестве Руссо ^»
ность общих воль и общих интересов. И в этом отношении «общие
воли» представляют собой реализацию в обществе той воли
природы в нас, о которой Руссо говорил, излагая свою моральную
концепцию, и отмечая, что она побуждает нас «соединить индивидуальное
существование с чувством общего существования» и действовать во
имя «общего блага».
По Руссо, «согласно естественному порядку согленение
(agrégation) человеческих воль» в общественном организме производит
«общую волю»26. Защищенные «публичной властью», эти «общие
воли» становятся единой волей общественного организма, то есть
законом. Они становятся «овеществленной силой», носят деперсо-
нифицированный характер, так как распространяются в равной мере
на всех. Когда правительство следует «общей воле», или, по словам
Руссо, «общая воля вооружается силой», человек оказывается в
зависимости от закона так же, как «в зависимости от вещей».
Следовательно, в обществе происходит своего рода возврат в природное
состояние, в котором существовала подобная зависимость. Но
государство, основанное на договоре, «сочетает в себе преимущества
гражданского состояния», которое предполагает общение людей,
их взаимную помощь, привязанность. Поэтому нельзя согласиться
с Реймоном Поленом и Пьером Бюржеленом в том, что
общественная жизнь снова делает человека «одиноким» в обществе.
Благодаря Воспитателю Эмиль узнает, как действуют
механизмы формирования «общей воли», и может судить о том, является
«хорошим или плохим порядок, установленный в гражданском
обществе». В этом пункте (V книга романа «Эмиль») и завершается
политическое воспитание Эмиля, который готов к анализу
политического вопроса о соотношении «нравов» («частных воль») и
«законов» («общей воли»). И он должен знать основной принцип
политики, согласно которому чем больше первые расходятся со вторым,
тем более велика «подавляющая сила правительства»27. Словом,
как только сфера «нравов», сфера свободы граждан приходит в
противоречие с законом, правление становится деспотичным. Найти
оптимальное их соотношение, как писал Руссо в «Письме д'Алам-
беру», и есть основная задача Законодателя. Не являясь
Законодателем, Эмиль обладал почти теми же самыми знаниями, которые
26 RousseauJ.-J. Emile, V // Ibid. T. IV. P. 857.
27 Ibid. P. 844.
89
<-\.
С. В. Занин, Брюно Бернарди
позволили ему, объездив весь мир, выбрать страну, где он смог бы
жить и в которой «общая воля» не расходится с «волей всех»
(«нравами»). В этой стране в идеале «воля всех», по мнению Руссо,
образует «порядок, высшее правило, и это общее и
персонифицированное правило есть то, что я называю Суверенной властью»28.
Словом, в государстве, где существует тождество воль отдельных
граждан, которые по своему характеру являются «общими», а
нравы являются одновременно законами, свобода частных лиц
равнозначна свободе в рамках законов, «воля всех» полностью совпадает
с «общей волей».
Сравнение педагогического и общественного договоров в
романе «Эмиль» и в трактате «Об общественном договоре» позволяет
сделать вывод, что в теории Руссо оба договора обладают
нравственным содержанием и способствуют проявлению «совести»,
«разума» и «воли» человека, в которых и заключено понятие закона
нравственной природы человека. Благодаря общественному договору
проявляется «импульс совести», то есть гражданского сознания
членов общества, а их подчинение соглашению вытекает из признания
равенства сторон, и в этом заключается его разумность и
справедливость. И, наконец, «неизменная воля» соблюдать это соглашение
является выбором, делающим человека подлинно свободным. Таким
образом, в силу общественного договора создавались политические
отношения, в которых в полной мере могли проявиться разум, воля
и совесть, позволяющие человеку узнать «благо» и потому
являющиеся ценностями для него. Соблюдая договор, человек, живущий
в обществе, получает своего рода воспитание в духе этих
ценностей. А этот договор соответствовал требованиям «естественного
закона» 29.
Однако между двумя договорами существует заметное различие.
В силу первого воспитанник получает безусловную свободу,
свободу нравственную, которую он может, по выражению Руссо,
«повсюду унести на своих плечах». Рамки политической свободы уста-
28 Rousseau J.-J. Lettres, écrites de la Montagne, VII // OC. T. III. P. 807.
29 Но нельзя вслед за Г. Д. Гурвичем считать, будто общественное соглашение
представляло собой «зачатие нравственности с помощью институтов» (Gourwitch G.
L'idée du droit social. Paris, 1932. P. 331). Создавать политические условия для ее
проявления не означает пользоваться ими как инструментом нравственного
воспитания человека.
90
О двух договорах в творчестве Руссо
навливаются суверенной властью. Педагогический договор сделал
Эмиля человеком в подлинном смысле слова, образцом гуманного
отношения к людям. Не случайно Воспитатель призывал Эмиля
жить среди людей. «Иди и живи среди них, будь их благодетелем,
образцом для них. Твой пример сослужит им лучшую службу, чем
книги, и добро, которое ты им сделаешь, тронет их гораздо сильнее,
чем наши бесполезные речи», — говорил он в своих
наставлениях 30. Тогда как благодаря общественному договору возникает
сообщество граждан, члены которого нередко «суровы по отношению
к иностранцам», то есть к человеку вообще. Действительно, удалось
ли Руссо примирить идеал «человека» как носителя гуманных
ценностей и идеал гражданина, подчиненного обязанностям перед
обществом? Разве он не утверждал, что «человечность и патриотизм»
нельзя воспитать одновременно и что следует выбирать между
этими идеалами?31 Исследователи, преимущественно немецкие,
предприняли значительные усилия для того, чтобы согласовать эту
концепцию нравственного воспитания человека с идеей патриотизма.
Руссо, по мысли Карла Брёкена, сохранял дуализм воспитания.
«Естественное воспитание» (в нашей интерпретации — нравственное)
призвано «раскрыть высокие возможности человеческой сущности»,
«приблизить человека к Богу», тогда как гражданское воспитание
призвано «обеспечить нравственное существование в испорченном
обществе»32. Однако этот вывод находится в противоречии с
теорией Руссо, который стремился создать модель общества, основанного
на соблюдении принципов «естественного права» и гуманной
морали. Со своей стороны, Сюзанна фон Гаррель отмечала, что
оправдание гражданских добродетелей привело Руссо к признанию того,
что существует «разрыв между человеком и гражданином», потому
что общественная жизнь более не является «внутренним
совпадением с внешними нормами», но становится «полностью субъективным
и свободным исполнением человеком своего природного
предназначения в силу сознательного воспитания его нравственности»33.
30 Rousseau].-]. Emile, I // ОС. T. IV. P. 858-859.
31 Ibid. P. 255.
32 Broecken К. H. «Homme» und «citoyen». Entstehung und Bedeutung der
Disjunktion von natülischer und politischen Erziehung bei Rousseau. Köln, 1974. S. 238-242.
33 Garrel S. von. Die Bedeutung der «vrais savants» bei Rousseau im
Spannungsverhältnis von Emanzipation und Integration. Eine Untersuchung insbesondere der frühen
91
«-v.
С. В. Занин, Брюно Бернарди
То есть существует неустранимое противоречие между
добродетелью человека и патриотизмом. Однако идеал нравственного
(гуманного) воспитания, изложенный в IV книге романа, предполагает,
что Эмиль усваивает нормы общественной морали, которые
необходимым образом реализуются в обществе, основанном на
договоре (кн. V).
Нам представляется, что в своем анализе исследователи невольно
путали вопрос теории и вопрос практики. Как показывает анализ
двух договоров у Руссо, с теоретической точки зрения он не видел
препятствий к тому, чтобы высшие ценности человеческой природы,
«естественный закон», были реализованы в жизни человека и в
жизни общества. Другой вопрос, возможно ли их воплощение на
практике. Любопытно следующее замечание Руссо из романа «Эмиль».
«Имеет ли значение то, что условия общественного соглашения не
соблюдаются, если частная выгода гражданина защищает его так
же, как это сделала бы общая воля, если насилие со стороны
общества предохраняет его от насилия со стороны частных лиц и если
зло, которое он видел в своей жизни, заставляет его любить благо,
даже если наши установления заставили узнать и возненавидеть их
несправедливость?» — писал Руссо34. Иначе говоря, до тех пор
пока личность остается «справедливой», она свободна, до тех пор
пока в обществе гражданин защищен принуждением со стороны
государства, существует минимум свободы и нравственного
отношения человека к человеку. Неслучайно Руссо утверждал, что
институты общества не следует считать бесполезными, потому что «они
научили человека царствовать над собой», то есть содержат
минимум гуманности и оставляют место для действия «естественного
закона»35. В этом смысле можно считать, что любое государство,
основанное на общественном договоре, представляет собой
частичное выражение идеала общества, в котором воплощаются
человеческие ценности.
Какой интерес для интерпретации теории общественного
договора сегодня может иметь ее сопоставление с теорией договора пе-
Schrift en bis zum zweiten «Discours» unter besonderer Beobachtung des
Entwicklungsaspekten auch für das weitere Werk. Frankfurt-am-Main; Berne; New York;
Nancy: Peter Lang, 1987. S. 284.
34 Rousseau J.-J. Emile, V // ОС. T. IV. P. 858.
35 Ibid. T. IV. P. 858-859.
92
О двух договорах в творчестве Руссо
дагогического? Во второй половине XX в. английские неолибералы,
в частности Дж. Тэлмон и Б. Рассел, пускавшие стрелы критики
в адрес идеологии тоталитарных режимов в СССР, Германии,
Италии и других странах, видели во французском мыслителе одного из
«родоначальников демократического тоталитаризма»36. Доводя до
крайности логику рассуждений Б. Рассела и Дж. Тэлмона,
российские исследователи отождествляли идеал наилучшего
общественного устройства у Руссо с «тоталитарными» идеалами Ленина и даже
Сталина (!)37. Если в советской историографии считалось, что
общественно-политические взгляды Руссо принадлежали к
домарксистскому прошлому, то в постсоветской историографии, носившей
явно публицистический характер, они оказались принадлежностью
прошлого «тоталитарного». В результате теория общественного
договора, ставшая фундаментом учения о демократии в европейской
политической традиции, оказалась прочно и надолго забытой в
современной России. Не говоря уже о том, что в зарубежной науке
находили поводы поговорить на тему о «заблуждениях» демократии
и ее «неодолимой склонности» к тоталитаризму38.
Подобная, если можно так выразиться, стерилизация наследия
Руссо, да и наследия Просвещения в целом, стала возможна во
многом благодаря тому, что в российской науке так и не сложилась
собственная традиция перевода и интерпретации текстов великого
мыслителя. Мы говорим «великого мыслителя», не пытаясь
оценивать его идеи с точки зрения наших аксиологических предпочтений,
но с точки зрения тех ценностных ориентиров, которые
существовали в обществе XVIII века. Речь идет о том, что никакой
политический дискурс невозможен вне рамок традиции. Никто сегодня не
станет спорить с тем, что, скажем, тираноборческие учения второй
половины XVI и начала XVII веков в Европе вырастали из учений
позднего Средневековья, например, из сочинений Уильяма Оккама
или Марсилия Падуанского. Кто сегодня станет спорить с
Квентином Скиннером по поводу того, что политические учения протес-
36 Talmon Jacob L. Origins of Totalitarian Democracy. London, 1955. P. 12.
37 Алюшин А. Л. Тоталитарное государство в модели и реальности. От Руссо к
сталинизму //Тоталитаризм как исторический феномен. М., 1989. С. 163—168; Ме-
душевский А. Я. Демократия и тирания в новое и новейшее время // Вопросы
философии. 1993. № 10. С. 14.
38 Zeev S. Les Anti-Lumières. Du XVIIIème siècle à la Guerre froide. Paris, 2006.
93
<^s-
C. В. Занин, Брюно Бернарди
тантизма и Возрождения восходят к учениям поздней схоластики,
хотя и не были им тождественны? Однако ж почему мы
по-прежнему готовы задавать вполне ленинский вопрос: «от какого
наследства мы отказываемся», когда речь заходит о Руссо?
Наука не должна быть заложницей политической конъюнктуры,
в особенности той, что сложилась в России в 90-е годы XX века,
когда слишком быстрый и с наскоком отказ от тоталитаризма, по сути,
помешал осмыслить этот феномен. Стоит задуматься о том, в какой
мере взгляд на Руссо как на «родоначальника тоталитаризма»
исказил представление о его творчестве в целом и о месте его идей
в политическом дискурсе Нового и Новейшего времени.
Возвращаясь к вопросу об очевидной связи между его учением об
общественном договоре и «педагогическим соглашением», необходимо
обратить внимание на то, что это сходство не является случайным.
Договорные отношения — между людьми и между человеком и
общественным организмом — гарантия свободы граждан и частных
лиц. Достаточно внимательно перечитать первую и начало второй
книги трактата «Об общественном договоре», чтобы убедиться
в том, что Руссо говорит лишь о необходимых для
функционирования общества ограничениях свободы частных лиц, с тем чтобы они
не оказались, живя в обществе, в новом «природном состоянии».
Ибо сочетание «природной свободы» и потребностей
общественной жизни в сознании индивида, согласно его учению, — худший
способ его общественного бытия, который ведет к
«злоупотреблениям» и тем, и другим. Сегодня, создавая институты государства
и общества в современной России, необходимо помнить об этом.
Общественный договор не может существовать без свободы частных
лиц, поскольку в противном случае «общая воля» никогда не будет
выражать «двоякого отношения» индивида к обществу и общества
(«тех же самых лиц, но рассматриваемых с другой точки зрения»)
к индивиду. Эта воля никогда не сможет менять условия
общественного соглашения, форму правления и т. д. В этом случае
возникнет не «двоякое», а одностороннее отношение государства к
индивиду, и тогда, по смыслу учения Руссо, люди будут «уклоняться»
от исполнения закона; возникнет худшее из возможных состояний
человека, призванного жить в обществе: самостоятельная
реализация природных потребностей. Руссо не использовал термина
«партикуляризм», но мы, наученные горьким опытом прошлого и не
менее горьким опытом настоящего, вправе употребить его. Это то,
94
О двух договорах в творчестве Руссо х->
что разрушает субстанцию общества. И тогда снова актуальными
становятся размышления мыслителя о том, что сила государства
зависит не от количества магистратов, а от устойчивости «нравов»,
то есть от постоянства тех ценностей общественного бытия,
которые вырабатываются в практике осуществления общественного
договора и служат закону самой прочной опорой.
В заключение хотелось бы сказать несколько слов об
отношении авторов статьи к творчеству Руссо в целом, которое, возможно,
покажется кому-то неуместным в научной публикации. Мы не
считаем его провозвестником некоей истины в последней инстанции.
Есть немало суждений и мнений, высказанных им, сегодня
являющихся анахронизмами. Но он принадлежал к числу тех редких
политических мыслителей, которые, осознанно держась в стороне от
перипетий политической жизни своего времени и ревниво оберегая
«равенство» во взаимоотношениях с сильными мира сего (с теми же
герцогами Люксембургскими), обладал редким для политического
мыслителя качеством — предельной честностью мысли — и ценил
эту честность у других, в частности, у Макиавелли. Возможно,
именно эта честность и прямота, тонкий юмор и умение в самый
неожиданный для читателя момент воскликнуть, подобно мальчишке из
сказки: «А король-то голый!» — сделали его «неугодным» для тех
авторов, которые под флагом защиты «извечных ценностей
демократии» и гуманизма в XX веке не упускали случая бросить камень
в того, кто прожил жизнь, памятуя, что народ не дает ни кафедр, ни
доходных мест, ни личного благополучия, а благополучие народа
зависит от благополучия каждого.
И. И. Бочков
ОСНОВАНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА
В УЧЕНИИ Ж.-Ж. РУССО
«Трактат об общественном договоре» (1762) является, пожалуй,
наиболее известным произведением Жан-Жака Руссо. Влияние его
на политическую и правовую мысль, начиная с XVIII века до
современности, общепризнанно: например, такие акты, как Декларация
прав человека и гражданина 1789 г. и французские конституции
1791 и 1793 гг., явно восприняли положения, первоначально
сформулированные Руссо.
Привычные для современной теории государства и права
институты — референдум, законодательная инициатива граждан,
общественный контроль над государственными органами — вовсе не
было нормой в XVIII веке, поэтому сама разработка Руссо и
другими мыслителями их модели, даже с учетом того, что их не
воплотили в жизнь, была революционной.
Эти явления политической культуры, однако, вызывали
настороженное отношение у Руссо, по мнению которого, прогресс
человеческого рода отдаляет его от природного состояния «доброго
дикаря», цивилизация портит человеческую природу, и общество идет
по ложному пути социального неравенства.
Тем не менее подобные взгляды никоим образом не помешали
Руссо использовать вышеупомянутый революционный метод
исследования. В чем же заключается этот метод?
Во-первых, отрицается любой догматизм мысли. Хотя в
трактате присутствуют многочисленные ссылки на традиционные
источники (тексты Аристотеля, Библию) и общеизвестных мыслителей
(Монтескье, Локка), они не становятся авторитетами и оценивают-
96
Основания политического организма в учении Ж.-Ж. Руссо
ся критически. Аналогичный подход используется и при анализе
исторических событий. Так, в главе 3 книге IV Руссо выражает
несогласие с Цицероном по поводу эффективности системы подсчета
голосов в Древнем Риме; далее приведем примеры специфического
толкования Священного Писания.
Во-вторых, рассуждения не сводятся к самоочевидным
логическим построениям. В трактате нет схоластической сухости. Руссо
открыто проявляет эмоции, выражает личное мнение, в некоторых
местах намеренно опускает аргументацию. Помимо прямолинейной
логической связи, суждения связаны также ассоциативным
способом — авторская речь Руссо литературна, автор заботится о
благозвучии, сохранении единого стиля и ритма текста, поэтому во
многих местах ключевые положения, друг из друга вытекающие, так
сказать, разбавлены «художественными красотами». Так, в главе 5
книги II содержится пространное рассуждение о смертной казни
и помиловании, завершаемое сентиментальным выражением
личного мнения: «Я чувствую, что сердце мое ропщет и удерживает мое
перо; предоставим обсуждение этих вопросов человеку
справедливому, который никогда не оступался и сам никогда не нуждался
в прощении».
В-третьих, рассуждение строится на основе синтеза знаний всех
наук, относимых к предмету его исследования:
1) Математики и геометрии. В главе 1 книги III отношения
между сувереном, государем и народом представлены в виде
математической пропорции.
2) Биологии и анатомии. В главе 9 книги III ветви власти в
государстве сравниваются с органами человеческого тела. Упадок
государства сравнивается со старением и биологической смертью.
3) Гражданского права. Глава 9 книги I содержит рассуждение
об основах права собственности.
4) Лингвистики. В главе 5 книги III есть авторское примечание,
в котором даются варианты перевода латинского слова optimates,
обозначающего старейшин, облеченных властью.
5) Религиоведения. Глава 8 книги IV посвящена истории
религии и церковного института. В трактате многократно отмечается
связь религиозной нормы, обычая с правовыми институтами. Руссо
излагает свои взгляды на мифологию древних народов.
6) Этики. В трактате широко используются и толкуются общие
этические категории: «добро», «честность», «справедливость».
4 Зак. 3436
97
*-^
И. И. Бочков
В главе 1 книги IV говорится о прямой зависимости политики от
общественных нравов.
7) Логики. Главы 3 и 4 книги I содержат логическое
опровержение права сильного и обоснование нелегитимного характера
рабовладения.
8) Истории. Руссо повсеместно обращается к историческим
примерам и использует их в качестве аргумента. Так, в главе 4 книги IV
излагается история римского народного представительства в
контексте общих рассуждений о голосовании и «общей воле».
В-четвертых, развитие мысли происходит на основе общих
принципов, которые диктуются здравым смыслом, рассуждение
развивается от общего к частному: сначала ставится общий вопрос,
выводятся основные «начала», затем решаются частные проблемы. Так,
главным и изначальным вопросом трактата является установление
«истинных начал политического права», изучение «основания
государства» и «принципа управления, основанного на законах», а
одной из основополагающих истин — решение общего вопроса, «чем
является и чем не является право» (книга I); и в рамках этой
истины Руссо рассматривает частный вопрос о видах законов в
человеческом обществе.
Общие вопросы, поставленные в трактате, можно разделить на
две группы: основные и факультативные. Решение основных
вопросов непосредственно приводит к ответу на главный вопрос: что
такое суверенная власть? К ним можно отнести следующие:
1) Общественный договор. Суверенитет. Суверен. «Общая воля».
2) Первые общества. Первые формы правления.
3) Органы государства, соотношение между ними
(политический организм).
4) Право и законы. Чем не является право? Какие законы
существуют?
5) Мистическая фигура законодателя и ее свойства.
6) Религия. Церковное устройство. Теократическое правление.
Связь религиозной нормы и правового акта.
Факультативные вопросы носят иллюстративный характер,
дополняют основные и напрямую не связаны с главным вопросом:
1) Общественные нравы (их соотношение с политикой, правом,
религией, экономикой).
2) Размышления об экономике. Особенности хозяйственной
деятельности в различных обществах.
98
Основания политического организма в учении Ж.-Ж. Руссо
3) Политический организм как подобие биологического
существа. Его связь с телом человека и «телом народа».
4) Критика политических реалий его времени.
Охарактеризовав в целом метод, используемый Руссо в его
исследовании, читателю должны быть понятны общие принципы
построения трактата, и потому следует перейти к анализу отдельных
книг и глав текста.
Книга I
«Человек рождается свободным, но повсюду он в оковах. Как
совершилась эта перемена? Что может сделать ее законной?» — эта
фраза очерчивает предмет первой книги, фактически поднимая
вопрос о природе Человека как социального существа и о природе
Закона как выражения Права. Рассуждения Руссо в этой книге
касаются той проблемной области в праве, которой обычно касаются
естественно-правовая и позитивистская школы права.
Свобода вытекает из природы человека, тогда следствием
свободы станет диспозитивное соглашение между людьми. Таким
соглашением люди создают искусственные образования —
общественное состояние, законы.
Из вышеприведенного рассуждения следует парадокс: на каком
же этапе диспозитивное соглашение превратилось в несвободу
и почему закон санкционирует это состояние?
Наличие рабства, деспотии уподобляет человеческое общество
стаду скота с пастухами, «берегущими оное с тем, чтобы их
пожирать». Евангельская идиллия «доброго пастыря», берегущего свои
стада, явно не близка Руссо, поскольку подобная власть не
является в строгом смысле законной, ее не санкционирует соглашение
людей. Из этой мысли легко понять методологию Руссо, более чем
обоснованно применяемую в данной книге: дело в том, что люди
несведущие склонны сводить право к тому, чем оно не является,
например, отождествляя право и мораль, право и силу (право сильного),
право и закон, право и ограничение (рабство). Познавая природу
права, Руссо сперва развенчивает мифы о его происхождении в 3,4,
5 главах книги I. Проявление права в виде конкретных законов
Руссо рассматривает значительно позже, в главе 4 книги II, где
дается определение закону как решению, вынесенному народом в
целом. Оно касается всего народа в качестве целого. По свойствам
99
*N.
И. И. Бочков
предмета мы можем судить и о самом предмете, особенно когда
знаем, чем этот предмет не является, — этот метод, напоминающий
метод апофатического богословия, приводит Руссо к следующему
умозаключению: всякая справедливость от Бога, мы не познаём
божественную справедливость непосредственно, но способны
распознать ее проявления посредством разума; каждый человек
обладает разумом и участвует в формировании общей воли внутри
гражданской ассоциации; общая воля приводит к формированию
права посредством всеобщего соглашения внутри народа,
подкрепленного моральным долгом индивида как части по отношению
к целому — обществу, в которое он входит добровольно.
С одной стороны, эти рассуждения укладываются в предмет
современного гражданского права, основными началами которого
являются волеизъявление сторон (диспозитивность, система
оферта—акцепт) и договор. С другой стороны, как уже было отмечено,
они напоминают теологические. Подобное сочетание легко
объясняется тем, что право в учении Руссо носит сакральный характер,
который усиливается еще и тем, что в последующих книгах автор
вводит мистическую фигуру Законодателя, который уподобляется
сверхъестественному существу.
Признавая лишь сакральное право, вытекающее из «общей
воли», Руссо призывает обратиться к «первоначальному соглашению».
Анализ этого соглашения вызывает сомнения относительно
легитимности тех форм государственности, которые представляют
собой простое подчинение толпы рабов правителю, использующему
силу для управления народом. Легитимным (и легальным!)
является лишь общественный договор, разработанный Руссо, о котором
он говорит в главе 5 книги I:
1) Группа людей становится народом в силу согласия. При этом
требуется единогласие.
2) Народ заключает общественное соглашение и формирует
верховную власть.
Первоначальное соглашение преодолевает природные различия
людей, делая всех равными гражданами. Все граждане получают
такие блага, как личная свобода и право собственности (книга I
глава 8), но утрачивают качества, присущие им в «природном
состоянии». Те принципы, о которых здесь говорит Руссо, называются
в наше время конституционными, и на базе этих принципов
принимались Основные Законы всех государств. Однако ни одна консти-
100
Основания политического организма в учении Ж.-Ж. Руссо <-»
туция не воплощает эти принципы в нормах прямого действия,
сводя их к декларативным нормам, которые никогда не применяются
на практике: ведь вместо них действуют тысячи законов и десятки
тысяч подзаконных актов.
Подобная безжизненность современного конституционного
права не характерна для «начал политического права» у Руссо. По сути,
весь трактат «Об общественном договоре» можно представить как
толкование конституционной нормы о гарантиях прав человека
и гражданина: Руссо говорит о двойственном обязательстве,
формирующем гражданскую общину как «моральное лицо» из группы
людей, подчиненных законам природы; это — взаимное
обязательство людей и обязательство человека подчиняться «общей воле».
Эти обязательства являются гарантией личной свободы, причем
эта личная свобода обязательна, поскольку только полностью
свободный человек способен участвовать в формировании общей
воли.
В контексте вышеуказанных прав и обязанностей Руссо
объединяет этическую категорию долга и правовую категорию выгоды.
Понятие выгоды Руссо раскрывает, прибегая к классическим
началам римского права — отношения лиц по поводу вещи (договор)
и отношения лица и вещи (правомочие субъекта). При этом одним
из субъектов правоотношений является государство, защищающее
права частных лиц от посягательств (книга I, глава 9).
Вступая в гражданское состояние и принимая на себя
обязательства, человек становится хозяином самому себе, приобретает
моральную свободу, добровольно подчиняя себя закону из
соображений долга (перед другими лицами, перед собой, перед «общей
волей»).
В «природном состоянии» попытки создать отношения,
основанные на справедливых взаимных обязательствах, обречены на
провал, поскольку от них нет никакой выгоды — никто ничего не
обещает, и нельзя надеяться на исполнение взаимных обязательств.
Подчинение же закону внутри гражданской ассоциации
становится для человека выгодным — суверен оберегает его жизнь,
личную свободу и гарантирует ему право собственности, причем из
фактического владельца, захватившего землю на свой страх и риск,
он превращается в «хранителя общего достояния». Человеку
больше не нужно постоянно сражаться, защищая самого себя, но лишь
иногда — за отечество. Уклад жизни становится спокойным, надеж-
101
«-v . И. И. Бочков
ным, вполне сочетаясь с изначальной природой человека, который
по природе добр и не ищет себе врагов.
Очевидно, что такое подчинение выгодно не только частному
лицу, но и государству, которое при соблюдении таких «начал»
становится более прочным и устойчивым; частная собственность
внутри такого государства не делает людей врагами друг друга, ибо
она фактически является и публичной собственностью, так как
каждый гражданин с его правами и имуществом неотделим от
суверена.
Лицо, вступающее в гражданскую ассоциацию, должно понимать
суть принимаемого на себя обязательства. Оно состоит из трех
частей:
1) Моральный долг.
2) Требования разумного естественного права в отношениях
между людьми.
3) Требования политического права в отношениях суверена
и частного лица.
На ранних стадиях своего развития общество еще не достигло
глубокого понимания такого обязательства, поэтому гражданам
был необходим стимул для его выполнения — авторитетные
мнения, обычаи, законы. С развитием «суждений об общежитии» (les
sentiments de sociabilité) внутри общества правильное понимание
обязательства приходит ко всем людям, и политические институты
начинают функционировать эффективно; таким образом
достигается общее благо, которое есть свобода и равенство.
Подобные отношения строятся на добровольных началах, власть
при этом приобретает истинно законный характер и не сводится
к «праву» сильного. Критикуя власть, основанную на началах силы
(книга I, глава 3), Руссо обращается к Посланию к римлянам
апостола Павла (13:1): «Всякая душа да будет покорна высшим
властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога
установлены». Руссо соглашается с тем, что вся власть от Бога, но
оспаривает необходимость подчинения любой власти: ведь
разбойник с оружием в руках тоже обладает властью над своей жертвой.
Ни один человек не имеет по природе власти над другим, и
подчиняться необходимо только законным властям. И «законность»
имеет приоритет над «властью» и подкрепляется сакральностью
Права, основанного на общей воле народа.
102
Основания политического организма в учении Ж.-Ж. Руссо ^
Книга II
Рассмотрев природу закона и связав его с человеческой
свободой внутри легитимной общественной ассоциации, Руссо
переходит к не менее важной для «основания государства» теории —
теории суверенитета.
В современном понимании суверенитет неразрывно связан с
государством. Традиционно его понимают как независимость
государства от внешних сил. В международном публичном праве это
понятие расширяется до права наций на самоопределение, под
которым в основном понимается политическая свобода выбрать
образ государственного устройства.
Руссо же связывает суверенитет не с государством, а с народом
(собирательным существом). Народ является сувереном, а
суверенитет — это осуществление «общей воли». Суверенитет не
сводится к осуществлению отдельных прав, к работе ветвей власти, ибо
все это лишь проявления суверенитета.
Говоря о «проявлениях суверенитета» (книга II, глава 2), Руссо
использует слово émanation, которое можно перевести не только
как «проявление», но и как «эманация». Эманация — это
философский и богословский термин, обозначающий проистечение,
распространение низших сфер, форм мироздания от первоначальной
божественной полноты. Воистину, le peuple souverain est Dieu sur
Terre: суверенитет народа неотчуждаем, неделим, непогрешим и
абсолютен.
«Божественность» народного суверенитета дополняется
мистической фигурой Законодателя (книга II, глава 7).
Следуя деистическим представлениям, Руссо уподобляет
законодателя Богу-первоначалу (перводвигателю): Законодатель
приводит в движение государственную машину (политический организм)
и сам при этом остается недвижимым. Он находится «вне
общества», «над обществом», что позволяет ему мыслить объективно
и непредвзято, поэтому Законодателя нельзя отождествлять с
государем, который является лишь носителем исполнительной власти.
Законодатель выше государя, ибо его установления создают
правителей. Его власть священна, он «призывает себе на помощь небо»,
максимально сближая религиозный и позитивный законы, поэтому
его можно назвать «носителем божественной воли», он связующее
звено между божественной справедливостью и разумным правом
103
«■\>
И. И. Бочков
человеческого общества, поводырь на пути к общему благу (такими
законодателями были, например, Моисей и Магомет).
Тем не менее Законодатель, при том что он обладает
возвышенным умом, оказывается парадоксальным образом зависимым от
народа. Этот парадокс напоминает средневековую загадку: может
ли Бог создать камень, который Сам же не сможет поднять? Может,
и таким камнем является человек, обладающий свободой воли
и далеко не всегда подчиняющийся божественным установлениям.
Аналогичным образом и Законодатель, уподобившийся Богу,
обнаруживает в народе камень преткновения. Все дело в том, что народ,
по мнению Руссо, должен «созреть» для закона; если народ не
восприимчив к закону, то устанавливать его нет смысла (книга II,
глава 9). В этом заключается основная трудность законотворчества.
Законодатель должен хорошо знать свой народ и разрабатывать
законы сообразно его потребностям и уровню развития
представлений об обязательстве перед обществом; закон создается не по
произволу Законодателя, а лишь при условии наличия
провозглашенной воли народа как целого.
Эта «провозглашенная воля» не сводится к сумме отдельных
волеизъявлений частных лиц, но является волей каждого, кто
стремится к общему благу. Волю делает общей не число голосов,
а совпадение соображений общей выгоды, присущих каждому
(книга И, глава 4).
Сделав набросок иерархического устройства политического
организма, выделив из него Законодателя и поставив над всем народ
в качестве суверена и носителя «общей воли», Руссо выводит общее
правило, образующее подобную систему: никакая верховная власть
не может переступать границ общих соглашений.
Но общие соглашения могут нарушаться не только верховной
властью, но и частным лицом — преступником (книга II, глава 9).
Такое нарушение заслуживает особого внимания, поскольку
взгляды Руссо на преступление разительно отличаются от взглядов его
современников.
В наши дни уголовное право понимает преступление как
общественно опасное действие (бездействие), повлекшее или способное
повлечь общественно опасные последствия, в отношении которых
установлена вина лица; целью наказания в
уголовно-исполнительном праве является исправление осужденного и предупреждение
совершения новых преступлений. При этом осужденный преступ-
104
Основания политического организма в учении Ж.-Ж. Руссо ^
ник не лишается конституционных и иных прав и остается
гражданином государства.
Руссо же сравнивает преступника с врагом. Нарушая законы
общества, преступник перестает быть его членом. Приговор суда по
уголовному делу — это доказательство нарушения общественного
договора. Казнь преступника есть уничтожение не гражданина, но
врага. Преследование преступника напоминает пользование
правом войны, по которому побежденного врага можно убить.
Но в хорошо управляемом государстве преступников мало, и
казнят только тех из них, кого опасно оставлять в живых. Суверен,
стоящий выше закона и судей, оставляет за собой право
помилования.
Подобный радикальный взгляд на осуждение преступника
напоминает преследование святотатца по иудейскому закону,
который, кстати, неоднократно приводится Руссо в разных главах
трактата в качестве примера (пример единения правовой и религиозной
нормы, пример уникальности национальных законодательств).
Это можно легко объяснить, поскольку покушение на закон есть
покушение на священное общее благо, ибо соблюдение закона — это
путь к общему благу. И вновь невозможно удержаться от
сравнения, на этот раз с концепцией спасения в христианстве: соблюдение
заповедей есть путь к спасению, сознательное нарушение
заповеди — грех и оскорбление Бога.
Каким же образом закон, по учению Руссо, отделяется от
религиозной нормы? На этот счет есть ясные указания в главах 6 и 12
книги II. Закон всегда рассматривает подданных как целое, никогда
не обращаясь к частным лицам и отдельным поступкам; его
содержание может быть любым, но оно всегда касается народа в целом.
В гражданской ассоциации существует четыре вида
общеобязательных норм, которые можно отнести к законам:
1) Законы, определяющие отношение суверена к государству
как целого к целому (политические законы или конституционное
право, являющиеся ключевой темой трактата наравне с
«основаниями государства»).
2) Законы, определяющие отношения членов общества между
собою или ко всему организму как части к части или как части к
целому (гражданское право).
3) Закон, определяющий отношение между ослушанием и
наказанием. Он придает силу другим законам (уголовное право).
105
^\.
И. И. Бочков
4) Нравы, обычаи и общественное мнение (наиболее важный
вид законов, «запечатленный в сердцах граждан»),
В традициях каждого народа существует особое начало,
делающее законы уникальными: религия — у евреев и арабов, война —
у спартанцев, добродетель — у римлян.
Существует множество хороших начал, но идеальным будет то
общество, в котором установленные природой отношения и законы
всегда совпадают. В таком обществе законы фактически не нужны,
так как есть нравы, обычаи и общественное мнение, всегда ведущие
к общему благу.
Книга III
Уникальные начала в национальных законодательствах — не
единственная опора гражданской ассоциации; теперь речь пойдет
об «основаниях государства», вскользь упоминавшихся ранее.
Что есть конституционный строй? Слово «конституция»
происходит от латинского «constitutio» — «устройство». Причем это не
обязательно государственное устройство, ведь под конституцией
может пониматься и телосложение биологического существа. Об
этом нельзя забывать при анализе содержания книги III, поскольку
в ней Руссо неоднократно прибегает к методологии естественных
наук и уподобляет государство организму или механизму (методы
органицизма и механицизма), хотя подобное уподобление он и не
считал вполне приемлемым; в частности, он прямо об этом говорил
в «Рассуждении о политической экономии».
Суть этих методов сводится к тому, чтобы либо свести сложное
явление (в данном случае государство) к простой физической
модели либо уподобить его природному явлению или организму.
Так, в главе 8 книги III из рассуждения Руссо следует, что форма
правления во многом зависит от природных условий, способа
обработки земли, физической силы, потребности в пище населения
и прочих естественных факторов. Если труд людей не производит
излишка, принося лишь самое необходимое, то не будет и
«гражданского порядка», люди так и останутся дикарями. Здесь же Руссо
делает вывод о том, что свобода присуща не всем народам,
основывая его на экономическом анализе особенностей хозяйствования
и вышеприведенных естественных (физических) факторах. И если
106
Основания политического организма в учении Ж.-Ж. Руссо ^
развитие государства так тесно связано с ними, то нельзя ли и само
государство уподобить организму?
Политический организм, подобно живому существу, обладает
силой и волей в лице законодательной и исполнительной власти.
Законодательная власть принадлежит только народу, который также
является единым живым существом — сувереном. Правительство
же является своего рода нервом, передающим указания суверена
в виде исполнения законов отдельным частям целого — частным
лицам (книга III, глава 1).
Политический организм, как и биологический, подвержен
старению и смерти. Смерть государства неизбежна, однако ее можно
отсрочить (книга III, главы 10,11). Самосохранение, то есть
стремление избежать смерти, является первостепенной задачей
государства. Несмотря на это, государства зачастую слепо идут по пути
к собственной гибели. Это происходит из-за того, что властители
постоянно подавляют суверена, тем самым разрушая общественный
договор, что приводит к краху государственности и порождает
болезненные явления — анархию, охлократию, олигархию и тиранию.
Отнесение к ним олигархии и тирании напоминает политическое
учение Аристотеля, но это только внешнее сходство, поскольку
у этого философа при этих правлениях государственность
сохраняется, но принимает «неправильную форму». У Руссо же к моменту
их появления государство как таковое уже погибло: «Венецианская
республика представляет собой разложившееся государство»
(книга III, глава 5).
Пытаться избежать гибели политического организма путем
поиска идеальной формы правления бессмысленно. Ее не существует.
Демократия, аристократия и монархия, по Руссо, различаются лишь
числом лиц, входящих в состав правительства. При любой форме
правления государство является республикой, если в нем уважается
закон как выражение общей воли, поэтому форма правления не
столь важна, она выбирается в соответствии с внешними
условиями — размерами государства, количеством населения и
естественными физическими факторами, рассмотренными ранее.
Хотя в трактате не говорится об этом прямо, тем не менее
очевидно, что формы правления у Руссо расположены в порядке
исторического развития, или «роста», политического организма.
Самые ранние по времени возникновения образы правления —
аристократия и теократия. О последней говорится только в книге IV,
107
*\
И. И. Бочков
но рассматривать ее следует именно в связи с аристократией,
поскольку Руссо называет аристократией власть старейшин и жрецов,
которые, используя собственный жизненный опыт, обряды и
обычаи, управляли обществом, опираясь на закон и религию (книга III,
глава 5). Идеальный пример — Закон Моисея и само устройство
иудейского общества, разделенного по коленам на правителей,
потомственных жрецов, воинов, ремесленников и т. д.
«Современные» формы — монархия и смешанное правление
(книга III, главы 6,7).
Смешанное правление отличается только тем, что у него нет ни
достоинств, ни недостатков простых правлений.
Монархия является «наиболее привычной формой правления».
Для обоснования ее недостатка, а именно — стремления к
господству частной воли над общей, Руссо обращается к сюжету из
Первой книги царств (8:4—19) — народ Израиля просит судью
Самуила поставить над ними царя. Яхве, узнав об этом, гневается
и описывает Самуилу власть будущего царя, который сделает всех
своими рабами, что приведет к восстанию против него. Все
происходит согласно предсказанию: иудеи получают царя Саула, чье
правление становится катастрофическим. Данный сюжет в Ветхом
Завете преподносится как кара за отступничество народа от бога-
ревнителя Яхве. А в тексте Руссо Самуил, пересказывающий
иудеям слова Яхве, предстает древнееврейским Макиавелли,
«преподающим великие уроки народам, делая вид, что дает уроки королям».
Подобная метаморфоза имеет место потому, что Руссо выступает
категорически против безропотного повиновения частной воле
короля, проявляя тем самым христианское смирение. Настаивая на
необходимости господства «общей воли», Руссо отмечает, что
трепет в ожидании небесной кары, посланной в виде дурных королей
неуместен в книге о политике, ибо зачем терпеть дурное, если
«общая воля» стремится к общему благу.
Последним исторически существовавшим образом правления
является демократия. Этот образ правления предназначен «для
будущего», «недостижим», поскольку он столь совершенен, что не
подходит людям, а свойственен только народу, состоящему из
богов. Его создание невозможно, пока народ не станет
добродетельным, и даже если он возникнет, он станет столь хрупким, что любое
внутреннее волнение изменит его и превратит в монархию или
аристократию (книга III, глава 4). Однако отголосок истинной де-
108
Основания политического организма в учении Ж.-Ж. Руссо s~%
мократии слышен в любом обществе в момент, когда суверен
учреждает правительство, устанавливая соответствующий закон
и исполняя его. Возникает парадокс: как возможно
правительственное действие (исполнение закона), когда еще нет правительства?
Этот парадокс разрешается тем, что суверен издает
демократический акт общей воли (книга III, глава 17).
Из анализа исторических форм правления вытекает вопрос о том,
как определить, хорошо ли управляется народ, если не имеет
значения, какой образ правления в государстве избран.
Ответ на этот вопрос возвращает нас к уподоблению государства
живому организму: наиболее верный признак благоденствия — рост
числа членов политического объединения. Худшее управление то,
при котором количество населения уменьшается и народ
оскудевает (книга III, глава 9).
Но «основания государства» не сводятся к одной только
политической анатомии. К ним можно отнести также гарантии
господства «общей воли» в гражданской ассоциации. Учитывая, что
суверен действует только посредством законов, можно сделать вывод
о том, что он зримо себя проявляет лишь во время собрания народа.
Из этого вывода следует, что к «основаниям государства» можно
отнести также правила организации народного собрания,
соблюдение которых жизненно необходимо для политического организма
(книга III, глава 12).
Народные собрания должны быть обязательными и
регулярными. Во время их проведения полномочия правительства
прекращаются. При этом на повестку дня собрания следует ставить вопрос
«о сохранении управления в руках тех, на кого оно возложено».
Правительство всегда будет пытаться помешать этому, опасаясь
решений народных собраний, поэтому так важны следующие меры
предосторожности: нельзя избирать депутатов, призванных
выразить «общую волю», так как она не может отчуждаться от суверена.
Отняв у частного лица право участвовать в образовании «общей
воли», представители фактически отнимают у него свободу, причем
они осуществляют свои полномочия за плату. Отняв свободу у
частных лиц, представители лишают народ закона, поскольку закон
устанавливается только всем народом (книга III, главы 13, 14,15,
18). Общая воля при этом не исчезает совсем, но ее затмевают
частные интересы правителей.
109
*"V-
И. И. Бочков
Книга IV
В данной книге Руссо продолжает развивать мысль о гарантиях
господства «общей воли» в гражданском объединении:
одновременно с народным собранием функционируют еще два института
народовластия — трибунат и цензура (книга IV, главы 5,7).
У трибуната нет ни законодательной, ни исполнительной
власти, он выполняет функцию защитника, блюстителя законов,
«устанавливая точное соотношение между составными частями
государства». Подобная компетенция по защите законов, на первый взгляд,
напоминает современные надзорные полномочия, закрепленные за
прокуратурой. Однако формулировка Руссо о точном соотношении
составных частей наводит нас на мысль о деятельности
конституционного суда, разрешающего коллизии государственного
устройства. Однозначного ответа на вопрос, чему уподобить трибунат,
нет, поскольку Руссо описывает его как орган, стоящий вне ветвей
власти. Своего рода антиподом трибуната является временно
вводимый институт диктатуры, приостанавливающий силу законов
перед лицом опасности, грозящей уничтожить отечество. В этот
момент «общая воля» не может законодательствовать и возлагает
на диктатора задачу по спасению государства; при этом диктатура
ограничивается кратким сроком, который не может быть продлен
(книга IV, глава 6).
Институт цензуры существует для объявления народного
мнения, которое является законом при соблюдении известной
процедуры по классификации Руссо (см.: книга II, глава 12). Цензура
способствует сохранению нравов, связывая правовую и моральную
оценку, но при этом цензор не может «устанавливать должные
нравы», он лишь охраняет существующие. Поэтому, если нравы
вырождаются из-за ослабления законодательства, цензор не способен
их восстановить.
Приведенные гарантии господства общей воли являются
следствием основополагающего принципа гражданского объединения,
которого мы касались при анализе общественного договора (книга I,
глава 5), а именно — меньшинство подчиняется мнению
большинства. Любой читатель, обнаружив это начало в книге I, наверняка
задавался вопросом: как можно говорить о свободе человека,
подчиненного желаниям других, выраженным в законах, на которые он
не давал согласия?
110
Основания политического организма в учении Ж.-Ж. Руссо
На этот вопрос, вызванный мнимым противоречием, Руссо не
торопится дать прямой ответ в книгах I, И, III и, по всей видимости,
делает это намеренно, поскольку материала этих трех книг более
чем достаточно, чтобы очевидный ответ был найден читателем
самостоятельно. Авторский же ответ содержится в главе 2 книги IV,
посвященной вопросам голосования в народном собрании: человек
добровольно вступает в гражданское объединение, становится
гражданином и берет на себя обязательство соблюдать существующие
в нем законы, даже те, которые приняты вопреки его желанию. При
этом он рассуждает следующим образом: если возьмет верх мнение,
противное моему, то это доказывает, что я ошибался, и то, что я
считал «общей волей», ею не являлось. Только при строгом
соблюдении этого обязательства гражданин станет свободным от
господства частного мнения, и его эффективное участие в формировании
«общей воли» будет гарантировано.
Все приведенные выше принципы политического права и
основания государства были выведены с помощью логических и
ассоциативных суждений, здравого смысла и анализа исторических
фактов. Однако даже такой внушительный арсенал научных средств не
может достоверно нам объяснить, как образовались народы и
державы, и ни одна летопись не расскажет нам о происхождении
политического организма. К чему же обратиться в поисках истины?
В главе 4 книги IV Руссо отмечает, что обычаи, традиции,
религиозные нормы могут восходить к этому первоначалу, поэтому их
следует учитывать в политическом исследовании, если они
подкреплены вескими доводами. Эта идея находит свое воплощение в
предпоследней главе трактата, посвященной гражданской религии
(книга IV, глава 8).
Начать анализ данной главы следует со следующего
примечательного факта: как мы видели ранее, в трактате «Об общественном
договоре» Руссо уподобляет законодателя Богу, а в Библии Бог
неоднократно сравнивается с законодателем. Помимо термина
«законодатель», в Ветхом Завете употребляется также термин «зако-
новедец», но он относится только к человеку:
1) «Ибо Господь — судия наш, Господь — законодатель наш,
Господь — царь наш; Он спасет нас» (Ис 33:22).
2) «И собрались сатрапы, наместники, военачальники,
верховные судьи, казнохранители, законоведцы, блюстители суда и все
111
*-n . И. И. Бочков
областные правители на открытие истукана, которого
Навуходоносор царь поставил...» (Дан 3: 3)
В Новом Завете появляется термин «законник», он упоминается
в одном ряду с «фарисеем» или как синоним ему, что придает этому
слову негативный оттенок: «А фарисеи, услышав, что Он привел
саддукеев в молчание, собрались вместе. И один из них, законник,
искушая Его, спросил, говоря: Учитель! Какая наибольшая
заповедь в законе?» (Мф 22:34—35).
Эти терминологические тонкости весьма значимы в контексте
наших предыдущих рассуждений о сакральности права в учении Руссо
и об использовании религиозно-философского термина «эманация»
применительно к проявлениям суверенитета (см. комментарии
к книгам I и И). Законоведец и законник — это правоприменители,
в лучшем случае судьи. Только Бог может быть законодателем.
И если земной законодатель у Руссо приобретает божественные,
мистические черты, свойства «не от мира сего», то что мы можем
сказать о Боге?
На первый взгляд, наши рассуждения кажутся отвлеченными
и не относящимися к предмету трактата. Отнюдь не так. Сам Руссо
указывает на их конкретную историческую форму при описании
изначального теократического правления, взаимного влияния
религии и права, образования церковного института и многого другого.
Руссо начинает свое суждение по поводу гражданской религии
с отрицания тождественности богов разных народов. Такой взгляд
является весьма спорным. По нашему мнению, наиболее
продуктивное изучение мифологии и религии возможно при признании
универсальности человеческих представлений о Боге или богах.
Материальных подтверждений этому достаточно, например,
идентичные культы Астарты, Иштар, Афродиты и Венеры у разных
народов и т. п.
Однако Руссо изучает не мифологию, а основания государства,
и в контекст его рассуждений умозаключение о принципиальных
различиях всех богов включается вполне органично и даже является
их неотъемлемой частью, поскольку он желает подчеркнуть
различие между национальными законами (см. комментарий к книге II),
а в теократическом обществе все законы связываются с богами.
Боги разные — и законы разные: люди разделились на народы,
у народов возникли различные пантеоны богов, здесь корни
религиозной нетерпимости, а так как все нормы санкционировались ре-
112
Основания политического организма в учении Ж.-Ж. Руссо
лигией, то разногласия по поводу религии порождали
«гражданскую нетерпимость» между народами. Политическая война была
одновременно религиозной — победитель навязывал побежденному
свой пантеон богов, неразрывно связанный с законами
государства. Побежденный, утративший своих богов, терял и
национальное законодательство, становясь рабом.
Конечно, если мы начнем анализировать исторические факты,
то картина несколько усложнится. Найдутся примеры, не
подпадающие под подобную схему: религиозные войны Ассирии и
Вавилона, государств, имевших одинаковые пантеоны, но посвящавших
свои военные походы разным божествам; неоднократное
порабощение иудеев иноверцами, никогда не приводившее к утрате их
собственной религии и Закона, и тому подобное.
Но концепция «гражданской религии», по учению Руссо,
поучительна не в силу точного соответствия историческим фактам, а
правовой моделью, которую он строит: отношения языческих богов
уподобляются гражданской сделке по разделу власти над миром.
В качестве примера Руссо приводит слова из Книги Судей (11: 24):
«Не владеешь ли ты тем, что дал тебе Хамос, бог твой? И мы
владеем всем тем, что дал нам в наследие Господь, Бог наш». Иефай
ссылается на божественную санкцию своих владений от Яхве,
сравнивая ее с санкцией от Хамоса — бога моавитян.
Эту концепцию также можно подвергнуть критике, поскольку
Руссо ссылается на уникальный библейский сюжет. В целом Яхве
не отличается дружелюбием по отношению к остальным богам,
называет их «идолами» и применяет по отношению к ним внеправо-
вые методы убеждения вместо гражданско-правовых санкций. Тот
же Хамос упоминается в Ветхом Завете 8 раз, из них всего 1 раз
(эпизод, найденный Руссо) о нем говорят нейтрально, остальные
7 раз он проклинается, называется «мерзостью моавитской» и
всячески подвергается поношению.
Несмотря на спорность толкования приведенного библейского
сюжета, он хорошо объясняет последующие события в
религиозной жизни народов. Язычники, уподоблявшие отношения между
богами человеческим гражданско-правовым сделкам, связывавшие
правоотношения между людьми с проявлением божественной
справедливости, не могли принять учение Христа. Они его просто
не понимали. Слова Христа: «Не мир пришел я принести, но меч»
113
с-, И. И. БОЧКОВ
(Мф 10: 34) оказались истиной. Государства язычников
разделились, начались гонения на первых христиан.
Христианское «царство не от мира сего» способствовало
появлению жестокого деспотизма в мире земном, началось
соперничество государя с христианскими иерархами, претендовавшими на
верховную духовную власть.
Произошло немыслимое до пришествия Христа событие —
религия утратила связь с организмом государства и его законами.
Последовательным приверженцам христианского учения пришлось
выбирать между «земной» и «небесной» властью. Возник
отдельный «организм» духовенства, церковная организация стала
государством в государстве: короли, пытавшиеся подчинить церковь,
возглавив ее, в действительности стали ее слугами.
Стало очевидным, что христианский закон более вреден, нежели
полезен для прочного государственного устройства. Христианин
исполняет свой общественный долг с глубоким безразличием к
успеху или неудаче своих деяний, христианское милосердие становится
несовместимым с политической борьбой. Истинный христианин
сознательно становится рабом, но это его не смущает.
Как же разрешить противоречие между внутренним убеждением
и общественным обязательством?
Это противоречие не должно возникнуть в гражданской
ассоциации, управляемой «общей волей», описываемой Руссо, по крайней
мере если не включать туда истинно христианское мировоззрение.
Но если его все же туда поместить, то возникнет поставленный
ранее вопрос. Чтобы на него ответить, Руссо дает собственную
классификацию религий:
1) Религия гражданина, или теократия. Это древнейший вид.
К нему относятся религии первых народов, связывавших гражданско-
правовые нормы с велениями богов. Внешний культ
предписывается законом, права и обязанности гражданина возникают только
в рамках религии. Такая религия идеально подходит для развития
государства, но она делает народ жестоким и нетерпимым по
отношению к другим народам, создавшим иные пантеоны богов.
2) Религия священников. Это современный вид религии.
Законодательство, правительство, само отечество делится надвое:
одной частью распоряжается государство, другой — церковь. Этот вид
религии вреден и для политического организма, и для народа.
114
Основания политического организма в учении Ж.-Ж. Руссо х-»
3) Религия человека. Естественная религия. Чистая и простая
религия Евангелия, естественное божественное право без обрядов
и алтарей, покоящееся на внутреннем убеждении человека. Этот
вид самый лучший, поскольку делает всех людей братьями, но он
вредит политическому организму, так как души граждан
отрываются от всего земного. Такое общество не было бы уже человеческим.
Для государства наиболее удачным решением поставленного
вопроса было бы сочетание религии гражданина и религии человека.
Суверен не интересуется содержанием догматов, но заинтересован
в том, чтобы гражданин выполнял свои обязанности перед
обществом. Следовательно, суверен может сформулировать правила
исповедания веры, но не в виде догматов, а в виде гражданских
законов, которые являются правилами общежития. Они должны
однозначно запрещать религиозную нетерпимость к иноверцам,
поскольку, как уже отмечалось ранее, она влечет за собой и
гражданскую нетерпимость; такая нетерпимость не наносила вреда
гражданской ассоциации в древнейшую эпоху, поскольку в каждом
государстве существовала одна религия, но в эпоху Руссо в каждом
государстве было множество церквей, и конфликт между ними
привел бы к гражданскому конфликту и распаду политического
организма. По той же причине должно быть запрещено утверждать, что
только одна конкретная церковь ведет к спасению.
Глава о гражданской религии (книга IV, глава 8) подытоживает
ключевую тему оснований политического организма, представляя
религию в различных ипостасях: внутренняя вера человека,
божественное гражданское право, догматы церкви. И во всех своих
проявлениях религия предстает древнейшим и весьма мощным
политическим инструментом, который использовался во все времена.
Его характер изменялся от теократии до гражданской веры, что
позволило Руссо считать религию одним из оснований государства.
Жан-Жак Руссо
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР,
или НАЧАЛА ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРАВА
Foederis aequas
Dicamus leges
Virg<ïlius>. Aeneid, XI1
Уведомление
Этот небольшой трактат — извлечение из более пространного
сочинения, написание которого было предпринято мною без учета
моих сил и который довольно давно был отложен в сторону. Из
всех тех разрозненных кусков, что можно было изъять из
написанного, этот самый значительный и, как мне кажется, менее
недостоин внимания публики. Остальное уже более не существует.
Книга I
Я хотел бы разобраться, может ли существовать в гражданском
порядке некая норма законного и надежного управления,
принимая людей такими, каковы они есть, а законы такими, какими они
могли бы быть. Я постараюсь постоянно соединять в моем
исследовании то, что дозволяет право, с тем, что предписывает выгода,
дабы справедливость и польза оказались нераздельными.
Я приступаю к моей теме, не стараясь доказать ее значимость.
Меня спросят, являюсь ли я государем или законодателем, коль
скоро собираюсь писать о политике. Я отвечу, что нет и что именно
поэтому я пишу о политике. Если бы я был государем или
законодателем, я не стал бы терять время, рассуждая о том, что нужно
делать: я бы сделал это или хранил бы молчание.
116
Общественный договор, или Начала политического права
Я родился свободным гражданином и участником суверенной
власти, и уже одного дарованного мне права голосования
достаточно, чтобы вменить мне в долг извлекать уроки из общественных
дел, как бы ни было слабо влияние на них моего голоса. Всякий
раз, когда я размышляю о правлениях, я счастлив, что постоянно
обнаруживаю в моих изысканиях основания любить правление
своей страны.
Глава 1
Предмет этой первой книги
Человек рожден свободным, но повсюду он находится в оковах.
Иной считает себя господином остальных, но, тем не менее,
продолжает оставаться их рабом. Как такая перемена произошла в
человеке? Мне это неведомо. Как эту перемену ввести в рамки
закона? Полагаю, что я в состоянии разрешить этот вопрос.
Если бы я учитывал только силу и результат, вытекающий из ее
применения, я сказал бы так: «Пока народ вынужден
повиноваться, он повинуется и поступает правильно; как только он в
состоянии сбросить ярмо, он поступает еще лучше: ибо, возвращая себе
свободу по тому же праву, по которому у него ее похитили, или
у него есть основания вновь ею завладеть, или вообще никто не
имел никакого права лишать его этой свободы». Но общественный
порядок является священным правом, служащим опорой для всех
остальных прав. Между тем, это право не проистекает от природы,
а следовательно, оно основано на соглашениях. Речь идет о том,
чтобы узнать, каковы же эти соглашения. Прежде чем перейти к этому
вопросу, я должен обосновать мнение, которое я только что
высказал.
Глава 2
О первых сообществах
Самое древнее из всех и единственное основанное на природе
сообщество — это семья. И разве дети не сохраняют привязанность
к отцу столь долго, сколь они нуждаются в нем, чтобы сохранить
свою жизнь? Как только эта нужда перестает иметь место, а
природные узы разорваны, дети свободны от повиновения отцу, отец
свободен от заботы о детях, и те и другие в равной мере обретают
117
r\.
Жан-Жак Руссо
независимость друг от друга. Если они продолжают оставаться все
вместе, то отнюдь не по природе, а добровольно; семья же
продолжает сохраняться лишь в силу соглашения.
Эта общая для них свобода вытекает из природы человека, ее
основной закон — заботиться о самосохранении; его основное
попечение — исполнять долг перед самим собой. И как только
человек достигает возраста разума, поскольку он один становится
вправе судить, какие средства необходимы для его самосохранения, он
оказывается господином самому себе.
Семья становится, таким образом, если угодно, изначальным
образцом для политических сообществ: отец является образом
правителя, а дети — образом народа; и все, будучи рожденными равными
и свободными, отчуждают свою свободу только ради собственной
пользы. Вся разница заключается в том, что в семье наградой за
заботы отца о детях служит их любовь к нему, а в государстве
удовольствие от руководства возмещает отсутствие любви правителя
к народам.
Гроций отрицает, что любая власть над людьми установлена для
пользы тех, кем управляют2: в качестве примера он приводит
рабство. Его неизменный способ рассуждать заключается в том, чтобы
устанавливать право по факту *. Можно было бы использовать
способ рассуждений более последовательный, но не более
благоприятный для тиранов.
Следовательно, согласно Гроцию, неясно, то ли человеческий
род по праву принадлежит сотне людей, то ли сотня людей по праву
принадлежит человеческому роду: и, кажется, в своей в книге он
склоняется к первому мнению. Таково же и суждение Гоббса. И вот,
таким образом, человеческий род оказался поделенным на стада
скота, каждое из которых имеет вожака, оберегающего свое стадо
для того, чтобы затем его сожрать.
И подобно тому как пастух — человек по природе высшего
предназначения в сравнении со своим стадом, пастыри людей, ставшие
их властителями, наделены природой, превосходной в сравнении
с природой народа. И рассуждая таким образом, как передает Фи-
* «Ученые изыскания в области публичного права часто представляют собой
лишь историю старинных злоупотреблений, и часто проявляли неуместную
настойчивость, когда брали на себя труд чересчур много их изучать» (рукописный
трактат «О выгодах Франции и ее соседей» господина Л. М. де А.). Вот в точности
то, чем занимался Гроций.
118
Общественный договор, или Начала политического права
.^-»
лон3, император Калигула вывел достаточно правильное
заключение из этого сходства, а именно: что короли являются богами,
а народы — животными.
Соображения этого Калигулы приходят на ум Гроцию и Гобб-
су. Аристотель же еще до них утверждал4, что люди от природы
неравны, ибо одни рождаются, чтобы стать рабами, а другие —
господами.
И Аристотель был прав, но он спутал причину со следствием.
Всякий человек, рожденный в рабстве, рожден, чтобы стать рабом.
Нет ничего бесспорнее этого суждения. Рабы утрачивают в своих
оковах все, вплоть до желания их сбросить, им нравится их
рабство, подобно тому как спутникам Одиссея5 пришлось по вкусу их
скотское состояние6*. И следовательно, если существуют рабы по
природе, так только потому, что раньше существовали рабы
вопреки природе. Сила создала первых рабов, их трусость увековечила
их положение.
Я ничего не сказал ни о короле Адаме, ни об императоре Ное7,
отце трех великих монархов, разделивших между собой мир,
подобно детям Сатурна, которыми, как кажется, их считали. Я
надеюсь, мне будут признательны за эту сдержанность, ибо если я
непосредственно происхожу от одного из этих государей, и, возможно,
даже от старшей ветви, то не окажется ли вдруг, что, удостоверив
свои права, я стану однажды законным королем человеческого
рода? Как бы то ни было, трудно согласиться с тем, что Адам был
суверенным властителем мира, пока он оставался его единственным
обитателем, подобно Робинзону на острове; но что особенно
удобно было в его господстве, так это то, что сей монарх, спокойно
занимая свой трон, не должен был страшиться ни мятежников, ни
войн, ни заговорщиков.
Глава 3
О праве сильнейшего
Сильнейший не всегда обладает достаточной силой для того,
чтобы всегда оставаться хозяином, если он не сумеет превратить
свою силу в право, а повиновение в долг перед собой. Отсюда выте-
* Обратите внимание на небольшой трактат Плутарха под названием «О том, как
животные пользуются разумом».
119
«-V.
Жан-Жак Руссо
кает право сильнейшего, право, с наличием которого соглашаются
с видимой насмешкой, а в действительности основывают на некоем
начале. Однако объяснят ли нам когда-нибудь смысл этого слова?
Сила является физическим могуществом, и я не понимаю, какая
нравственность может последовать из ее применения. Уступить
силе — это поступок, вызванный необходимостью, но не
добровольный. Это всего лишь поступок из осторожности. И в каком смысле
его следует считать проявлением чувства долга?
Допустим на миг, что сила есть так называемое право. На это
я отвечу, что из этого следует не поддающаяся объяснению чепуха.
Ибо как только сила порождает право, причина меняется местами
со следствием; всякая сила, которая превосходит предыдущую,
является преемницей в ее правах. Как только можно не повиноваться
безнаказанно, неповиновение становится законным, и поскольку
сильнейший всегда прав, нужно лишь поступать так, чтобы он
всегда оставался сильнейшим. Однако что же это такое за право,
которое погибает, едва только сила перестает действовать? И если
необходимо повиноваться силе, нет больше нужды повиноваться из
чувства долга; и если более не существует принуждения к
повиновению, то нет и обязанности повиноваться. Следовательно,
понятно, что слово «право» не добавляет никакого смысла слову «сила»
и здесь вообще не имеет никакого значения.
Повинуйтесь могущественным лицам. Если это означает —
уступайте силе, такая заповедь хороша, но является излишней; я даже
скажу, что она никогда не будет нарушена. Всякая власть от Бога.
Согласен, но ведь и всякая болезнь от него же. Значит ли это, что во
всяком случае возбраняется вызывать врача? Пусть какой-нибудь
разбойник поймает меня в темном лесу: не только уступая силе,
следует отдать кошелек, но, если я смогу его спрятать, то, по
совести, обязан ли я его отдавать? Ибо, в конце концов, пистолет,
который бандит держит в руках, — это тоже проявление могущества.
Согласимся, следовательно, с тем, что сила не производит права
и что мы обязаны повиноваться лишь законной власти. Однако
поставленный мною в начале вопрос остается нерешенным.
120
Общественный договор, или Начала политического права *-%
Глава 4
О рабстве
Поскольку ни один человек по природе не наделен властью над
себе подобными и поскольку сила не производит права, то лишь
соглашения лежат в основе всякой законной власти среди людей.
Гроций утверждает, что если частное лицо может отчуждать свою
свободу и стать рабом какого-нибудь хозяина, то почему бы народу
не отчуждать свою свободу и не стать подданным какого-нибудь
короля? В этом утверждении есть двусмысленные выражения,
которые следовало бы разъяснить, но мы ограничимся разъяснением
слова «отчуждение». Отчуждать — значит дарить или продавать8.
Однако человек, который становится рабом другого человека, не
дарит себя, а продает, в частности, ради пропитания: но по какой
причине народ должен себя продавать? Ведь король не столько
дает своим подданным пропитание, сколько обеспечивает
пропитание себе за их счет, и, как говаривал Рабле, «король не
довольствуется малым». Таким образом, получается, подданные дарят свою
личность на условиях лишения их имущества. В таком случае, я не
понимаю, что же остается на их долю.
Мне возразят, что деспот обеспечивает своим подданным
гражданский мир. Допустим. Но что же они выигрывают, если войны,
в которые их вовлекает его честолюбие, если его ненасытная
алчность, если обиды, наносимые его министрами, доставляют им
больше неприятностей, чем междоусобные распри? Что же они при
этом выиграют, если само их спокойствие — невзгоды? Спокойно
можно жить и в застенках, но разве этого достаточно, чтобы жить
хорошо? Греки, оказавшись в пещере циклопа, жили там спокойно,
ожидая своей очереди быть съеденными.
Утверждать, что человек дарит себя безвозмездно, значит
утверждать вещь нелепую и уму непостижимую. Такая сделка незаконна
и ничтожна уже по одному тому, что совершающий ее лишен
здравого смысла. Утверждать подобное в отношении целого народа —
значит полагать, что он состоит из сумасшедших, а безумие не дает
пользоваться правом.
Даже если каждый имеет возможность отчуждать свою
личность, то он не может отчуждать личность своих детей; они
рождаются людьми и обладают свободой; свобода принадлежит им, и при
121
«-\.
Жан-Жак Руссо
этом никто не имеет права, кроме них самих, ею распоряжаться.
Прежде чем они достигнут разумного возраста, отец вправе от их
имени оговаривать некие условия ради охраны их жизни и
благосостояния, но не приносить их в дар раз и навсегда, без всяких
условий, ибо такое дарение противоречит целям самой природы
и превосходит объем прав, которыми наделен отец. Из этого
следует, что, дабы основанное на произволе правление было законным,
каждое поколение людей должно иметь полную свободу
согласиться на это правление или отвергнуть его; но в последнем случае оно
уже не будет произвольным.
Отказаться от свободы означает отказаться от своего
достоинства человека, от человеческих прав и обязанностей. Не существует
вообще никакого возмещения убытков для того, кто отказался от
всего. Подобный отказ несовместим с природой человека, и
лишить человека свободы воли означает лишить моральности его
поступки. И, в конце концов, противоречивым и бесполезным
является соглашение, в котором оговаривается в виде условия, с одной
стороны, безграничная власть, а с другой — безграничное
повиновение. Не ясно ли, что с тем, от кого мы вправе требовать все, что
угодно, мы не связаны никакими обещаниями, и это единственное
условие сделки, неравноценной и без взаимного обмена, разве не
влечет за собой ее ничтожность? Ибо какое право мой раб может
мне противопоставить, коль скоро все, чем он обладает,
принадлежит мне по праву, и при том, что его право является моим
собственным правом; разве это выражение «мое право, противостоящее
моему праву», не лишено всякого смысла?
Гроций и все остальные выводят из факта войны
происхождение так называемого права на рабов. Победитель, согласно их
мнению, вправе убить побежденного, и тот может выкупить свою
жизнь, заплатив за нее свободой; соглашение это тем более
законно, что оно оборачивается выгодой для обоих.
Но совершенно ясно: так называемое право убивать
побежденных никоим образом не вытекает из состояния войны. Именно
потому, что люди, изначально жившие независимо друг от друга, не
имели достаточно устоявшихся отношений зависимости друг от
друга, дабы между ними возникло состояние мира или состояние
войны, они по своей природе отнюдь не являются врагами. Только
зависимость от вещей, а не отношения зависимости между людьми
порождает состояние войны, и, поскольку отношения между лица-
122
Общественный договор, или Начала политического права
ми не могли породить состояние войны, ведь ее порождают только
вещные отношения; войны между частными лицами или война
человека с человеком не должны существовать ни в природном
состоянии, где нет никакой постоянной собственности, ни в
гражданском состоянии, где все подвластно законам.
Ссоры между частными лицами, дуэли, стычки суть поступки,
которые вовсе не образуют некое состояние; что же до войн между
частными лицами, разрешенных постановлениями Людовика IX
Французского9 и прерываемых земским миром10, то это —
издержки феодального правления — самого бессмысленного из тех, что
когда-либо существовало, противоречащего началам естественного
права и всякой доброй политии.
Следовательно, война — это вовсе не отношения между
человеком и человеком, а отношения между государствами, в которых
частные лица оказываются врагами случайно и вовсе не как люди
или даже граждане*, но как солдаты, и не как жители отечества,
а как его защитники. В конце концов, любое государство может
иметь в числе своих врагов только иные государства, а не отдельных
людей, принимая во внимание, что между разнородными
вещами невозможно установить никаких истинных отношений
зависимости.
Это начало соответствует правилам, установленным во все
времена, и неизменным обычаям всех культурных народов.
Объявление войны является уведомлением, сделанным не столько
державам, сколько их подданным. Иностранец, будь он государь, частное
лицо или народ, который грабит, убивает или держит в плену
чужих подданных, не объявляя при этом войны государю, не враг,
* Римляне, которые понимали и уважали право войны лучше, чем какая-либо
иная нация в мире, были настолько щепетильны в этом отношении, что никакому
гражданину не дозволялось служить в качестве вольнонаемного, если он не брал
на себя недвусмысленное обязательство воевать против противника, в частности,
против определенного противника. Легион, в котором сын Катона " впервые
взялся за оружие, был преобразован; отец же Катона написал Попилию12, что если тот
желает, чтобы его сын служил под его командой, то сын должен снова принести
воинскую клятву, потому что предыдущая клятва стала недействительной, и он
больше не имел права обнажать свое оружие против врагов. И тот же Катон писал сыну,
что тот не должен ввязываться в сражение до тех пор, пока не принес эту новую
клятву. Я знаю, что мне возразят, ссылаясь на осаду Клузия и на другие частные
случаи; но я привожу в пример законы и обычаи. Римляне были в числе тех, кто
реже всего нарушал свои законы, и только их законы были столь великолепны.
123
«^ч>
Жан-Жак Руссо
a разбойник. Даже в разгар войны справедливый государь
захватывает во вражеской стране все, что принадлежит обществу, но
уважает личность и имущество частных лиц; он уважает те права, на
которых основаны его собственные. Поскольку окончанием войны
является уничтожение вражеского государства, противник вправе
убивать его защитников лишь в случае, если они сражаются с
оружием в руках; но как только они его складывают и сдаются, тем самым
переставая быть врагами или орудием в руках врагов, они
становятся просто людьми, и он больше не имеет права распоряжаться
их жизнью. Иногда возможно «убить государство», не убив при этом
ни одного из его граждан. Однако ведение войны не наделяет никого
таким правом, не являющимся необходимым для достижения ее
цели. Обоснованные мною начала не есть начала, которыми
руководствуется Гроций, и они не основаны на якобы весомых суждениях
поэтов, но они вытекают из природы вещей и основаны на разуме.
Что касается права завоевания, то оно не имеет другого
основания, кроме закона, установленного сильнейшим. Раз мы
утверждали, что война не дает победителю права истреблять побежденные
народы, то право, которым он не обладает, не может быть
основанием для права их поработить. Право убить врага получают лишь в том
случае, если его нельзя обратить в рабство; следовательно, право
обращать в рабство не проистекает из права убивать: таким
образом, заставлять его выкупить свою жизнь ценой свободы, в
отношении которой никто не обладает никаким правом, — обмен
неравноценный. Основывая право на жизнь и смерть на праве обращать
в рабство, а это последнее — на праве жизни и смерти, не очевидно
ли, что при этом впадают в порочный круг в доказательстве?
Даже допуская наличие этого страшного права на убийство,
я скажу, что пленник, обращенный в рабство во время войны, или
побежденный народ не несут никаких обязанностей перед своим
хозяином, кроме повиновения в той мере, в какой его к этому
принуждают. Отнимая у него то, что равноценно его жизни,
победитель тем самым не оказывает ему милости: вместо того чтобы
бесполезно его убивать, он убивает с пользой для себя. Следовательно,
победитель не только не приобретает над пленником некую власть,
соединенную с силой, но и, как и прежде, состояние войны между
ними продолжает существовать, и, собственно, их
взаимоотношения являются ее следствием, а пользование правом войны не
предполагает наличия никакого мирного договора. Допустим, они за-
124
Общественный договор, или Начала политического права
.^»
ключили соглашение, но это соглашение не только не уничтожает
состояние войны, но и предполагает ее продолжение.
Таким образом, в каком бы смысле мы ни представляли себе
положение вещей, право на раба ничтожно не только потому, что оно
незаконно, но и потому, что оно бессмысленно и ничего не значит.
Эти понятия — рабство и право — противоречат друг другу и
являются взаимоисключающими. Как в отношении человека к
человеку, так и в отношении человека к народу следующее рассуждение
окажется всегда и в равной мере бессмысленным: «Я заключаю
с тобой соглашение, прибыльное для меня и обременительное для
тебя, которое я буду соблюдать, пока мне это угодно, а ты будешь
соблюдать, пока это угодно мне».
Глава 5
О том, гто следует всегда мысленно
обращаться к основному соглашению
Даже если бы я согласился со всем тем, что опроверг ранее,
пособники деспотизма от этого выиграли бы немногое. Всегда будет
существовать значительное различие между тем, чтобы подчинить
себе толпу, и тем, чтобы править обществом. Допустим, что
разрозненно живущие люди, каково бы ни было их количество, один за
другим окажутся порабощенными одним человеком. Я при этом
усматриваю лишь хозяина и рабов, но отнюдь не правителя и народ;
это будет, если угодно, сочленение людей, но не их объединение;
в этом всем нет места ни для общественного блага, ни для
политического организма. И даже если человек покорит половину мира,
он навсегда останется лишь частным лицом, а его выгода,
несовместимая с выгодой остальных людей, навсегда останется его частной
выгодой. И как только этот человек погибнет, его держава, не имея
внутренней связи, после его смерти распадется подобно дубу,
который погибает и обращается в кучу золы, когда его поглощает огонь.
Народ, утверждает Гроций, может преподнести себя в дар
королю. Следовательно, по Гроцию, народ уже является народом до
того, как он принес себя в дар. И самый этот дар есть гражданская
сделка и потому предполагает наличие обсуждения в обществе.
Поэтому прежде чем исследовать сделку, в силу которой народ
избирает короля, следовало бы исследовать сделку, в силу которой на-
125
r\_ Жан-Жак Руссо
род является народом. Ибо эта сделка, необходимым образом
предшествующая второй, является подлинным основанием общества.
И действительно, если не существует предварительного
соглашения, чем бы стало обязательство небольшого числа людей (если
только при этом выборы не были единогласными) подчиняться
прихотям большинства, то почему сотня лиц, желающая получить
некоего господина, вправе подать голос вместо десятка лиц, отнюдь
того не желающих? Закон, согласно которому нужно большинство
голосов, сам по себе является установлением, основанным на
соглашении, а оно хотя бы однажды предполагает единодушное
решение.
Глава 6
О согласии в обществе
Я допускаю, что люди достигли того положения, когда
препятствия, причиняющие вред их самосохранению в природном
состоянии, оказывая сопротивление, берут верх над теми усилиями,
которые каждый индивид может приложить, дабы удержаться в этом
состоянии. И тогда это изначальное состояние больше не может
существовать, и человеческий род мог бы погибнуть, если бы не
изменил способ своего существования.
Но так как люди не в состоянии произвести на свет новые силы,
а могут лишь соединять и направлять уже существующие, то у них
нет иного средства сохранить себя, кроме как образовать путем
слияния совокупность сил, которая может одолеть это
сопротивление, пустить ее в ход благодаря единому стремлению и заставить
эти силы действовать согласованно.
Эта совокупность сил может возникнуть лишь благодаря
содействию многих лиц: однако, коль скоро сила и свобода каждого
человека являются главными орудиями его самосохранения, то
каким образом он может отдать их в залог, не причиняя себе вреда
и не пренебрегая заботой о самом себе? Это затруднение, если
ввести его в рамки изучения моего предмета, может быть выражено
в следующих словах.
«Как отыскать такой вид объединения людей, который
позволил бы охранять и защищать личность и имущество каждого его
члена всей общей силой, и чтобы при этом, благодаря действию
этой силы, каждый, вступая в союз со всеми вместе, повиновался
126
Общественный договор, или Начала политического права •-»
бы только самому себе и оставался таким же свободным, как и
прежде?» Такова основная трудность, разрешение которой предлагает
общественный договор.
Условия этого договора до такой степени точно определены
природой сделки, что малейшее изменение в ней превратило бы эти
условия в тщетные и ничтожные; так что, хотя они, возможно,
никогда не были явно провозглашены, они повсюду остаются
одинаковыми, повсюду молчаливо допускаются и признаются; вплоть до
того, что, когда согласие в обществе нарушается, каждый вновь
вступает в свои изначальные права и обретает природную свободу,
теряя свободу, основанную на соглашении, ради которой он
отказался от свободы природной.
Разумеется, эти условия сводятся к одному, а именно: к полному
отчуждению каждого сотоварища вместе со всеми его правами
в пользу всей общины, ибо, во-первых, каждый, принося себя в дар
целиком и полностью, оказывается в одинаковых условиях со
всеми, и поскольку эти условия одинаковы, никто не видит выгоды
в том, чтобы сделать их обременительными для остальных.
Более того, поскольку отчуждение происходит безоговорочно,
союз становится совершенным, насколько возможно, и никто из
сотоварищей более не может ничего истребовать по праву: ибо если
бы у частных лиц оставались некоторые права, то, поскольку
больше не существует никакого вышестоящего лица, которое могло бы
вынести решение в спорах между ними и остальным населением,
каждый, являясь в какой-то мере судьей самому себе, вскоре
заявил бы о своем праве быть таковым во всем, и природное состояние
продолжало бы существовать, а объединение стало бы
необходимым образом либо тираническим, либо бесполезным.
И, наконец, каждый, принося себя в дар всем, не приносит себя
в дар никому в отдельности, и поскольку более не существует ни
одного сотоварища, в отношении которого не приобреталось бы
право, одинаковое по объему с тем, которое человек уступает сам,
люди выигрывают равноценное тому, что они потеряли, и
получают большую силу для сохранения того, что имеют.
Если устранить из общественного согласия все то, что не
образует его сущности, то мы обнаружим, что оно сводится к следующему:
каждый из нас делает общим достоянием свою лигностъ и всю свою
мощь, ставя их под высшее руководство общей воли; и мы в виде
организма принимаем в свой состав каждого глена в кагестве гасти, не
отделимой от целого.
127
r> Жан-Жак Руссо
И тут же на место частного лица — каждого их тех, кто
заключает договор, — эта сделка, в силу которой возникает объединение,
создает моральный и собирательный организм, состоящий из
стольких же членов, сколько собрание имеет голосов, и этот организм
в силу этой самой сделки получает единство, общее «Я», жизнь
и собственную волю. Это сообщество в качестве лица, которое,
таким образом, образуется благодаря объединению всех этих людей,
прежде носило имя гражданской общины*, а теперь носит тля
республики или политигеского организма, называется его членами
государством, когда он бездеятелен, сувереном, когда он действует,
и державой, когда его сравнивают с ему подобными. Что же касается
членов объединения, они совместно получают имя народа, а в
отношениях между собой называют себя гражданами, будучи
соучастниками в суверенной власти, и подданными, поскольку
подчиняются законам государства. Но эти понятия часто путают, и одно
принимают за другое; нужно уметь их различать, если их
употребляют в точном значении.
Глава 7
О суверене
По данному ранее определению видно, что сделка о создании
объединения включает в себя взаимные обязанности общества
и частных лиц и что каждая личность, вступающая в договор, если
* Подлинный смысл этого слова почти полностью изгладился в памяти
современных людей, большинство которых принимают город за гражданскую общину
и горожанина за гражданина. Они не понимают того, что дома образуют город, но
граждане образуют гражданскую общину. Эта ошибка некогда дорого стоила
карфагенянам. Я нигде не читал, что звание граждан когда-либо давалось подданным
какого-либо государя, даже в прежние времена македонянам, а в наши дни
англичанам, хотя последние ближе всех остальных стоят к свободе. Только французы
запросто пользуются именем «гражданин», потому что у них нет никакого
правильного его понимания, как это видно по их словарям. Иначе, присваивая его
себе, они совершили бы преступление оскорбления величества: у них это имя
означает добродетель, а не право. Когда Воден завел разговор о наших гражданах
и горожанах13, он допустил тяжкий промах, приняв одних за других. А вот
господин д'Аламбер в этом случае не ошибся и в своей статье «Женева» правильно
выделил четыре разряда жителей в нашем городе (даже пять, считая в их числе
простых иностранцев). Но только два из них составляют республику. Насколько мне
известно, ни один другой французский автор так и не понял подлинного значения
слова «гражданин».
128
Общественный договор, или Начала политического права
можно так выразиться, оказывается обязанной в двояком
отношении, а именно: как участник суверенной власти перед частными
лицами и в качестве члена государства перед сувереном. Но здесь
нельзя применить то правило гражданского права, согласно
которому никто не должен соблюдать обязательств, взятых перед
самим собой; ибо существует очевидное различие между тем, чтобы
обязываться перед самим собой, и тем, чтобы обязываться перед
целым, частью которого являешься.
К тому же следует заметить, что решение, принятое обществом
в результате обсуждения, способного обязать всех подданных
перед сувереном, по причине того что каждый из них
рассматривается в двух различных отношениях, не может обязывать суверена в
отношении себя и, следовательно, противно природе общественного
организма положение, когда суверен вменяет себе в обязанность
подчиняться закону, который он не в состоянии нарушить. В случае
если он может рассматривать себя только в одном и том же
отношении, он оказывается в положении частного лица, заключающего
договор с самим собой: из этого видно, что не существует и не
может существовать никакого рода основного закона, обязательного
для всего организма народа; таковым не является даже сам
общественный договор. Сказанное не означает, что этот организм вовсе
не может обязываться в отношении других организмов в том, что
не является отступлением от договора, ибо в отношениях с
иностранцами он оказывается простым человеком, личностью.
Но политический организм или суверен, обретая существование
только в силу святости договора, не может брать на себя
обязательств даже перед третьим лицом ни в чем, что стало бы
отступлением от этой первоначальной сделки, в частности, отчуждая некую
долю самого себя и подчиняясь другому суверену. Нарушить
сделку, в силу которой он существует, означает уничтожить самого себя,
а из ничего ничто не возникает.
Как только это множество лиц таким образом объединяется в
организм, нельзя ранить ни одну из ее частей, не покушаясь на весь
организм в целом, и тем более нельзя ранить организм так, чтобы
его части этого не ощутили. Таким образом, долг и выгода в равной
степени обязывают обе стороны в договоре помогать друг другу,
и люди, вступившие в договор, должны стремиться соединить в этом
двояком отношении все преимущества, которые из него
проистекают.
5 Зак. 3436
129
*\
Жан-Жак Руссо
Однако, поскольку суверен образован из частных лиц, его
составляющих, он не имеет и не может иметь соображений выгоды,
противоречащих их выгоде, и, следовательно, суверенная власть
вовсе не нуждается ни в какой поруке в отношениях с подданными,
потому что невозможно, чтобы организм пожелал нанести вред
всем своим частям, и, как мы увидим в дальнейшем, он не в
состоянии нанести вред ни одной из этих частей в отдельности. Суверен
только по тому одному, что существует, всегда является всем тем,
чем он и должен быть.
Но иначе дело обстоит в отношениях между подданными и
сувереном, которому, несмотря на общую выгоду, ничто не послужит
порукой в исполнении их обязательств, если он не найдет способов
обеспечить их верность.
И действительно, каждая личность, будучи человеком, в
состоянии обладать частной волей, противной общей воле или
расходящейся с ней. Общей волей он обладает в качестве гражданина.
Частная выгода может внушать ему иные мысли, нежели мысли об
общей выгоде. Его безусловное и по природе независимое
существование может побудить его смотреть на то, что он должен отдать
ради общего дела, как на безвозмездный вклад, потеря которого не
нанесет остальным большего ущерба, чем объем его расходов от
уплаты денег; и тогда, рассматривая моральное лицо, образующее
государство, в качестве мыслимого существа, ибо оно не является
человеком, он пожелает пользоваться правами гражданства, не
желая исполнять обязанности подданного; это будет той
несправедливостью, рост которой станет причиной разрушения политического
организма.
Следовательно, для того чтобы согласие в обществе не
оказалось в перечне бессмысленных указаний, оно должно
подразумевать такое обязательство, которое одно только и может придать
силу всем остальным, а именно: если кто-либо откажется
повиноваться общей воле, он будет к этому принужден всем организмом.
А это означает не что иное, как то, что его заставят быть
свободным, ибо таково условие, в силу которого гражданин, принося себя
в дар родине, оказывается огражден от всякой личной зависимости.
И в этом условии заключается мастерство приводить в движение
политический механизм, только это условие и способно сделать
законными все гражданские обязанности, которые за его отсутствием
оказались бы бессмысленными, тираничными и подверженными
самым большим злоупотреблениям.
130
Общественный договор, или Начала политического права s~*
Глава 8
О гражданском состоянии
Этот переход от природного состояния к гражданскому
производит в человеке весьма заметную перемену, заменяя в его
поведении природные устремления на стремление к справедливости
и сообщая его поступкам нравственность, которой им прежде не
хватало. И только тогда, когда физические побуждения уступают
место голосу долга, а вожделение — праву, человек, до сего времени
принимавший во внимание только самого себя, оказывается
вынужденным поступать в соответствии с иными началами и
обращаться в первую очередь за советом к разуму, прежде чем внимать
своим склонностям. И хотя в этом состоянии он лишает себя
многих преимуществ, данных природой, он при этом получает нечто
большее: его способности упражняются и развиваются, он мыслит
широко, его чувства облагораживаются, а вся его душа
возвышается до такой степени, что, если только пороки, свойственные этому
новому положению, не унижают его еще больше, чем то состояние,
из которого он вышел, он должен был бы непрестанно
благословлять то счастливое мгновение, когда он вырвался оттуда навсегда и
превратился из ограниченного и тупого животного в мыслящее
существо и человека.
Сведем то, что положено на чаши весов, к величинам, которые
легко сравнить. То, что человек теряет в силу общественного
договора, — это природная свобода и безграничное право на все, что
его прельщает и что он может легко получить; то, что он
выигрывает, — это гражданская свобода и право собственности на все, чем
он обладает. Дабы не ошибиться в нашей оценке полученного им
возмещения, следует правильно различать природную свободу,
пределами которой являются лишь силы личности, от свободы
гражданской, ограниченной общей волей; и владение, возникающее как
следствие насильственного завладения или же правом первого
захвата, будем отличать от собственности, которая может быть
основана лишь на бесспорном праве.
К ранее сказанному следует добавить, что несомненным
приобретением гражданского состояния становится нравственная
свобода, ведь она одна только и делает человека полновластным
хозяином самому себе, ибо устремления, вызванные только вожделением,
131
*\
Жан-Жак Руссо
есть рабство, а повиновение закону, предписанному самому себе,
является свободой. Но я уже чересчур много говорил об этом, и
философский смысл слова «свобода» в данном случае не есть моя тема.
Глава 9
О господстве над вещами
Каждый член сообщества, когда оно образуется, приносит себя
в дар как таковой, так же, как и все свои силы, а их частью является
то имущество, которым он обладает. Только благодаря этому
решению владение, переходя из рук в руки, меняет свою природу и
становится собственностью в руках суверена: но, поскольку силы
гражданской общины несравненно более велики, чем силы
частного лица, общественное владение на деле также становится более
прочным и неотъемлемым, но при этом не более законным, по
крайней мере, у иностранцев. Ибо государство в силу общественного
договора является хозяином имущества граждан, — ведь именно
договор в государстве служит основанием для всех прав. Но оно
является хозяином имущества других держав только по праву
первого захвата, воспринимая их как частных лиц.
Право первого захвата, хотя и обладает в большей мере вещным
содержанием, чем право сильного, становится в полном смысле
правом только после введения права собственности. По природе
всякий человек имеет право на то, что ему необходимо, но
бесспорная сделка, в силу которой человек становится собственником
какого-либо имущества, тем самым лишает его прав на всякое другое
имущество. Когда ему выделили долю, он должен ею и
ограничиться, и он больше не имеет никакого права на общее имущество. Вот
почему право первого захвата, лишенное какой-либо защиты в
природном состоянии, уважается всяким человеком, живущим в
обществе. В этом праве уважают не столько принадлежность вещи
постороннему, сколько то, что она не является твоей.
В общем, необходимо дозволить пользование правом первого
захвата на какой-либо земельный участок при соблюдении
следующих условий. Во-первых, на нем никто не должен жить; во-вторых,
пусть захватывают такое количество земли, в котором нуждаются
для того, чтобы себя прокормить; и, в третьих, пусть вступают во
владение им не путем бессмысленного обряда, а работая на нем
132
Общественный договор, или Начала политического права
и возделывая его. И это единственный признак собственности,
который, за отсутствием юридически удостоверенных прав, должен
внушать уважение посторонним лицам.
И действительно, согласиться с тем, что право первого захвата
зависит от потребностей и произведенной работы разве не
означает распространить его как можно более широко? Возможно ли не
устанавливать никаких пределов этого права? Достаточно ли
ступить на этот участок, чтобы тотчас заявить о своем праве быть его
хозяином? Достаточно ли обладать силой, для того чтобы в какой-
то момент устранить остальных людей, лишив их права однажды
туда вернуться? Каким образом человек или народ может захватить
обширный край и лишить обладания им весь человеческий род,
иначе как путем незаконного и заслуживающего наказания
присвоения, поскольку это присвоение отнимает у остальных людей
жилище и хлеб, которые им всем вместе даровала природа? Когда Нуньес
Бальбоа и завладел берегами Южных морей и всей Южной
Америкой от имени кастильской короны, разве одного этого было
достаточно, чтобы лишить обладания ими местных жителей и устранить
всех остальных государей? При этом подобного рода церемонии
множатся вполне бессмысленно, и получается, что католическому
государю позволено одним махом, не выходя из собственных
покоев, завладеть всем миром; вот только впоследствии ему придется
отдать из своих владений то, чем прежде владели остальные государи.
При этом становится понятным, каким образом земли частных
лиц, соединенные и прилегающие друг к другу, превратились в
общественное достояние и каким образом право суверенной власти,
распространившись с подданных на земельные участки, ими
занятые, стало одновременно и личным, и вещным, что ставит
владельцев в самую большую зависимость и превращает даже их усилия
в поруку их верности. Как представляется, это преимущество не
учитывалось монархами древности, которые называли себя
королями персов, скифов, македонцев, и, думается, они скорее считали
себя властителями людей, а не хозяевами страны. Сегодня же
монархи ловко называют себя королями Франции, Испании, Англии
и т. д. Обладая властью над землями, они весьма уверены в том, что
обладают властью над людьми.
Необычно в этом отчуждении то, что сообщество, соглашаясь
принять это имущество частных лиц, не только не изымает его, но
и обеспечивает им всем законное владение им, лишь заменяет неза-
133
*\-
Жан-Жак Руссо
конное присвоение на истинное право и свободное пользование —
на собственность. И тогда, поскольку владельцев считают
хранителями общественного имущества, их права уважаются всеми
членами государства и всеми силами отстаиваются против покушений
иностранцев, и эти владельцы, так сказать, приобретают все, что
они ранее принесли в дар, путем выгодной уступки, выгодной
обществу и еще более выгодной им самим. Парадокс, который легко
объяснить, как мы увидим в дальнейшем, благодаря различию
между правами суверена и собственника на одно и то же имение.
Может случиться и так, что люди начнут объединяться, еще
ничем не обладая, и затем, захватывая земли, достаточные для всех,
станут ими пользоваться совместно или разделят их между собой
либо в равных долях, либо в размерах, установленных сувереном.
Каким бы способом ни осуществлялось это приобретение, право,
которым каждое частное лицо приобрело на свое имение, всегда
подчинено праву, которым сообщество наделено в отношении всех.
Без этого связующие звенья в обществе никогда не стали бы
прочными, а суверенитет не смог бы действовать, обладая
овеществленной силой.
Я закончу эту главу и книгу замечанием, касающимся того, что
служит основанием любого общественного строя, а именно, что
основополагающее согласие отнюдь не уничтожает природное
равенство, а напротив, заменяет физическое неравенство людей от
природы на равенство в нравственном и законном смысле; и хотя
природа и может наделить людей в неравной степени силами и
дарованиями, все они благодаря соглашению становятся равными
в правах *.
. Конец первой книги
* При плохом правлении это равенство является только мнимым и призрачным;
оно годится лишь для сохранения нищеты бедняка и произвола богача. На деле
законы всегда полезны для тех, кто обладает имуществом, и вредны для тех, кто
не обладает ничем: из этого следует, что гражданское состояние полезно для
людей лишь в той мере, в какой все обладают чем-нибудь и при этом ни у кого нет
никаких излишков.
134
Общественный договор, или Начала политического права ^*
Книга II
Глава I
О том, гто суверенитет неотгуждаем
Основное и важнейшее следствие ранее установленных начал
заключается в том, что только общая воля может направлять силы
государства к цели его учреждения, то есть к общему благу: ибо
если противоречия соображений частной выгоды сделали
необходимым учреждение общества, то именно согласие этих самых
соображений сделало его возможным. Никакое общество не могло бы
существовать, если бы не было точек совпадения различных
соображений выгоды; именно общность последних образует узы внутри
общества. Итак, только в соответствии с соображениями общей
выгоды должно управлять государством.
Таким образом, я утверждаю, что суверенитет, будучи лишь
исполнением общей воли, нельзя отчуждать и что суверен,
являющийся собирательным существом, способен представлять только
самого себя; могут передаваться властные полномочия, но не воля.
И действительно, если вполне возможно согласование частной
воли в каких-то точках с волей общей, то, во всяком случае,
невозможно, чтобы это согласие оставалось постоянным и
продолжительным; ибо частная воля по своей природе стремится к
предпочтениям, а общая воля — к равенству. И еще в большей степени
невозможно, если в этом соглашении появится поручитель, хотя он
и должен всегда существовать; в этом случае все это оказалось бы
не искусством, а случайным стечением обстоятельств. Суверен
вполне может заявить: теперь я желаю того же, что желает тот или
иной человек, или, по крайней мере, того, чего этот человек, как он
утверждает, желает; но суверен не может сказать: «То, что этот
человек захочет завтра, буду желать и я». Ибо бессмысленно, когда воля
налагает на себя оковы на будущее, ибо никакая воля не властна
одобрить то, что противно благу существа, которое высказывает
свои желания. И, следовательно, если народ просто обещает
повиноваться, он в силу этой сделки распадается, он утрачивает свое
качество народа, поскольку как только у народа появляется хозяин,
суверена больше не существует, а политический организм тут же
уничтожает сам себя.
135
r-> . - Жан-Жак Руссо
Сказанное не означает, что приказы правителей не могут
считаться выражением общей воли, пока суверен, оставляя за собой
право высказать свои возражения, этого не делает. В подобном
случае молчание всех следует считать согласием народа. Это будет
объяснено в дальнейшем.
Глава 2
О том, гто суверенитет неделим
По той же причине, по какой суверенитет неотчуждаем, он
неделим. Поскольку воля либо является общей, либо ею не является *,
то есть она является волей либо организма всего народа, либо
только одной его части. В первом случае провозглашение этой воли есть
решение суверенной власти, и оно устанавливает закон, а во
втором случае это лишь частная воля, проявление власти магистрата,
всего-навсего указ.
Но наши политики, будучи не в силах разделить суверенитет
согласно лежащему в его основе началу, делят его согласно предмету
действия: они делят его на силу и волю, на законодательные и
исполнительные полномочия, на право собирать налоги,
осуществлять правосудие и внутреннее управление, вести войну и на
полномочия заключать договоры с иностранцами. Они то смешивают все
эти части, то отделяют друг от друга; они превращают суверена
в выдуманное существо, состоящее из зависимых друг от друга
частей. Это напоминает то, как если бы они создали человека из
множества тел, одно из которых обладало бы глазами, другое руками,
третье ногами и больше ничем. Фокусники в Японии, как
утверждают, разрубают на части ребенка на глазах у зрителей, потом
подбрасывают вверх одну за другой части его тела и делают так, что
ребенок падает на землю живой и невредимый. Почти так же выглядит
поочередное встряхивание костей в стаканчиках для игры15 у
наших политиков: после того как они разделили на части
политический организм с ловкостью, достойной выступающих на рыночной
площади, никто не понимает, как им удается собрать воедино все
части.
* Чтобы воля стала общей, не всегда необходимо единодушие, но необходимо
подсчитывать все голоса; всякое явное устранение любого голоса нарушает
общность.
136
Общественный договор, или Начала политического права
Это заблуждение происходит от того, что не усвоено твердых
понятий о суверенной власти и считают частями этой власти лишь
ее проявления. Так, к примеру, решения объявить войну или
заключить мир стали рассматривать как решения суверенной власти,
что таковым не является; ибо каждое из этих решений вовсе не
закон, а лишь его применение; это — решение частного характера,
которое указывает на случай действия закона, как мы ясно это
увидим, когда уточним смысл слова «закон».
Прослеживая подобным образом и иные различия, мы
обнаружим, что всякий раз, когда полагают, будто суверенитет разделен
на части, ошибаются, а права, считающиеся частями суверенитета,
ему полностью подчинены, и эти права неизменно предполагают
наличие высших воль, исполнением которых являются эти права.
Не могу не сказать, до какой степени этот недостаток точности
породил неясность в суждениях авторов, писавших о публичном
праве, особенно тогда, когда они, следуя установленным ими
началам, взялись рассуждать о взаимных правах королей и народов.
Всякий заметит в третьей и четвертой главах первой книги трактата
Гроция, как же этот ученый муж и его переводчик Барбейрак
запутались и потерялись в софизмах, опасаясь, в зависимости от
собственных намерений, сказать по этому поводу лишнее или не
высказаться полностью, задев те соображения выгоды, что они должны
были примирить между собой. Недовольный своим отечеством
Гроций, укрывшись во Франции и отправившись на поклон к
Людовику XIII, которому и посвящена его книга, не пожалел усилий
ради того, чтобы отобрать у народов все принадлежащие им права
и наделить ими королей. Таковым же было и желание Барбейрака,
посвятившего свой перевод английскому королю Георгу I16; но,
к несчастью, изгнание Якова II17, названное им отречением,
заставило его отмалчиваться, отступать в сторону, прибегать к уловкам,
дабы не сказать, что Вильгельм был всего-навсего самозванцем.
Если бы оба эти писателя исходили из истинных начал, все
трудности были бы устранены, и они рассуждали бы последовательно; при
этом они с грустью высказали бы истину и пошли на поклон к
народу. Однако ж правда не приносит богатства и успеха, а народ не
назначает послами и не раздает кафедры и пенсии.
137
#-> Жан-Жак Руссо
Глава 3
Может ли заблуждаться общая воля
Из сказанного ранее следует, что общая воля всегда правильна
и направлена к пользе общества, но не следует, что решения народа
всегда безошибочны. Каждый желает для себя блага во всем, но не
всегда способен увидеть, в чем оно заключается: невозможно
подкупить народ, но его часто обманывают, и именно тогда кажется,
что он желает себе зла.
Всегда существует различие между волей всех людей и общей
волей: последняя имеет в виду лишь общую выгоду, а первая —
частную, являясь лишь совокупностью частных воль. Но отнимите
у этих самых воль избыток или недостаток, которые взаимно
уничтожаются *, и за вычетом этих различий останется общая воля.
Если бы в том случае, когда народ в достаточной мере
осведомлен, он обсуждал и принимал решения, а граждане при этом не
общались друг с другом, то из огромного числа мельчайших различий
в итоге последовала бы общая воля, а решение всегда было бы
правильным. Но когда в народе плетут интриги, создают объединения
частных лиц в ущерб общему объединению, воля каждого из этих
объединений становится общей по отношению к его членам и
частной по отношению к государству; и в этом случае можно сказать,
что число голосующих окажется соответствующим не числу людей,
а числу таких объединений. Различий станет меньше, но их итог
окажется менее общим. И, в конце концов, когда одно из этих
объединений станет столь большим, что возьмет верх над всеми остальными,
вы больше не увидите в общем итоге совокупность незначительных
различий, а одно-единственное различие. И вот тогда больше не
будет существовать общей воли, а мнение, которое возьмет верх,
окажется лишь частным мнением.
* Господин д'Аламбер утверждает, что ^каждое из соображений выгоды имеет
свое наголо. Согласие соображений выгоды двух гастных лиц возникает вследствие
противостояния третьему лицу*18. Он мог бы к этому добавить: согласие всех этих
соображений выгоды возникает благодаря противостоянию соображениям
выгоды каждого лица в отдельности. Если бы не существовало различных
соображений выгоды, едва ли можно было понять, в чем заключается общая выгода,
которая бы не вызвала нареканий: все бы шло само собой, а политика перестала бы
быть искусством.
138
Общественный договор, или Начала политического права
Следовательно, для выражения общей воли важно, чтобы в
государстве не было сообществ частных лиц и чтобы каждый
гражданин высказывал собственное суждение*. Таково было
единственное в своем роде и несравненное учреждение великого Ликурга.
И даже если существуют сообщества частных лиц, следует
увеличивать их число и не допускать неравенства между ними, как это
сделали Солон, Нума и Сервий Туллий20. Эти меры предосторожности —
единственное средство сделать так, чтобы общая воля всегда была
сведущей, а народ никогда не ошибался.
Глава 4
О пределах суверенной власти
Если государство или гражданская община являются только
нравственным лицом, жизнь которого заключается в соединении
его частей, и если одна из важнейших его забот заключается в
сохранении самого себя, то оно нуждается во всеобъемлющей и
принудительной силе, приводящей в движение и располагающей каждую
его часть подходящим образом по отношению к целому. И подобно
тому как природа дарует каждому человеку безграничную власть
над всеми частями его тела, согласие в обществе наделяет
политический организм безграничной властью над всеми его частями, и эта
самая власть, направляемая общей волей, носит, как я уже говорил,
имя суверенитета.
Но, помимо общества в качестве лица, мы должны принять во
внимание частных лиц, его составляющих, ведь их жизнь и свобода
которых находятся в естественной зависимости от него. Поэтому
речь идет о том, чтобы правильно отличать обоюдные права
граждан и суверена ** и те обязанности, что должны выполнять
граждане, будучи подданными, от естественного права, которым они
должны пользоваться, будучи людьми.
* «Vera cosa é, - говорит Макиавелли, - ehe aleune divisioni nuocono alle repubb-
liche, e aleune giovano: quelle nuocono, ehe sono dalle sette e da partigiani aecompag-
nate; quelle giovano, ehe senza sette, senza partigiani, si mantengono. Non potendo
adunque provedere un fondatore d'una repubblica ehe non siano nimieizie in quella, ha
da proveder almeno ehe non vi siano sette» (Hist. Florent., lib. VII)19.
** Внимательные читатели, я прошу вас не спешить обвинять меня в
противоречиях. Я не сумел их избежать в выражениях, ибо язык беден, но вы не торопитесь.
139
*\
Жан-Жак Руссо
Согласимся: каждый в силу возникшего в обществе согласия
отчуждает нечто от своего могущества, свободы и имущества, но
только ту часть всего этого, пользование которой имеет значение для
общества. Но следует согласиться также и с тем, что только суверен
решает, насколько это значимо.
Все услуги, которые гражданину надлежит оказывать
государству, он должен оказывать тотчас, как только суверен того
потребует; но суверен, со своей стороны, не может возлагать на подданных
обязанности, бесполезные для сообщества; он даже не может того
желать: ибо, согласно закону разума и тем более согласно закону
природы, ничто не делается без причины.
Обязанности, связывающие нас с политическим организмом,
становятся непременными лишь потому, что они взаимны, а
природа их такова, что, исполняя их, можно трудиться во благо
постороннего, лишь действуя во благо самому себе. Так по какой же иной
причине общая воля всегда является правильной и почему все и
всегда желают счастья для каждого из них, если не потому, что нет
никого, кто бы не относил к себе имя «каждый» и не помышлял о себе,
голосуя за всех? Это доказывает, что равенство в праве и понятие
справедливости вытекают из того предпочтения, которое каждый
оказывает себе, и тем самым из природы человека, а общая воля,
дабы действительно стать таковой, должна ею являться по своему
предмету, так же как и по своей сущности, и должна исходить от
всех, дабы распространяться на всех; и она утрачивает свою
природную прямоту, когда зависит от некоего единичного и
определенного предмета; потому как, едва мы начинаем судить о том, что чуждо
для нас, мы больше не руководствуемся никаким началом
справедливости.
И действительно, ка# только речь заходит об особом событии
или праве, о статье, не определенной ранее общим соглашением,
дело становится предметом спора в суде. В этом судебном
разбирательстве заинтересованные частные лица являются одной стороной,
а общество — другой, но в этом случае я не вижу ни закона,
который необходимо соблюдать, ни судьи, который решит дело. В этом
случае было бы смешно положиться на особое решение общей
воли, ибо оно оказалось бы лишь требованием одной из сторон и
поэтому представляло бы в глазах другой лишь чуждую и частную
волю, склонную при этом к несправедливости и ошибкам. И, таким
140
Общественный договор, или Начала политического права ^
образом, поскольку частная воля не может выражать волю общую,
эта последняя, в свою очередь, меняет природу, будучи
направленной на предмет частного характера, а считая себя общей, она более
неспособна решать дела ни в отношении человека, ни в отношении
событий. Например, когда афинский народ назначал и сменял своих
правителей, присуждая почести одному и подвергая наказанию
другого, и с помощью множества постановлений частного характера
осуществлял без всякого различия все властные решения
правительства, народ при этом больше не обладал в собственном смысле
слова общей волей, он действовал не как суверен, а как магистрат.
Сказанное покажется противоречащим общепринятым
представлениям, но дайте мне время изложить мои собственные.
Из всего этого становится понятно, что волю делает общей не
количество голосов, а соображения общей выгоды, объединяющие
их: ибо при таком учреждении каждый необходимо подчиняется
тем условиям, которые вменяет остальным; достойное восхищения
согласие выгоды и справедливости, придающее справедливый
характер общим решениям, исчезает в спорах по поводу частных дел
за недостатком соображений общей выгоды, объединяющих и
отождествляющих правила, усвоенные судьей, с правилами, с которыми
согласна тяжущаяся сторона.
С какой бы стороны мы ни подходили к рассмотрению этого
начала, вывод напрашивается один и тот же, а именно: согласие в
обществе устанавливает между гражданами такое равенство, что они
обязываются на одних и тех же условиях и должны пользоваться
одинаковыми правами. И, таким образом, в силу природы этих
обязательств каждое решение суверенной власти, то есть всякое
подлинное решение общей воли, в равной мере обязывает всех
граждан и благоприятно для них, а суверен имеет в виду лишь
организм нации и не отличает никого из тех, из кого он состоит. Что же
представляет собой решение суверенной власти? Это не соглашение
вышестоящего с нижестоящим, но соглашение организма с каждым
своим членом: соглашение законное, потому что оно основано на
общественном договоре, справедливое, потому что оно является
общим для всех, полезное, потому что оно не может иметь другого
предмета, кроме общего блага, и прочное, потому что его порукой
являются сила общества и высшая власть. Пока подданные
подчиняются лишь таким соглашениям, они не повинуются никому в от-
141
«~ч^
Жан-Жак Руссо
дельности, a лишь своей собственной воле; a спрашивать, до каких
пределов простираются взаимные права суверена и граждан,
означает спрашивать, в какой мере они могут брать на себя
обязательства перед самими собой, каждый перед всеми и все вместе перед
каждым из них.
Из сказанного видно, что суверенная власть, хотя она и
безгранична, священна, нерушима, не выходит и не может
распространяться за пределы общих соглашений и что каждый человек может
полностью располагать той свободой и тем имуществом, которые
у него остаются в силу соглашения; таким образом, суверен не
вправе обременять одного подданного больше, чем другого,
потому что в таком случае речь пойдет о частном вопросе, который его
власть не правомочна решать.
Если мы признаем установленные ранее отличия, то окажется
весьма лживым утверждение, будто в общественном договоре со
стороны частных лиц имеет место некое подлинное самоотречение;
напротив, их положение вследствие заключения договора окажется
на деле более предпочтительным, чем прежнее, и выяснится, что
вместо отчуждения они совершили лишь выгодный обмен способа
существования непрочного и ненадежного на лучший и более
безопасный способ, обменяли природную независимость на свободу,
возможность причинять вред на собственную безопасность, а свою
силу, что окружающие способны одолеть, на право, которое
общественный союз делает нерушимым. При этом даже их жизнь,
отданная государству, находится под постоянной охраной, и если они
жертвуют жизнью ради него, разве они всего лишь не воздают ему
за то, что от него ранее получили? Разве они не делают то же, что
делали прежде в природном состоянии, зачастую подвергая себя
большей опасности, когда, неизбежно вступая в борьбу, ставили на
карту свою жизнь, защищая то, что служило им средством ее
сохранения? При необходимости все должны сражаться за родину, это
так; но при этом никто не должен сражаться за самого себя. Разве
мы не выигрываем от того, что ради нашей безопасности подвергаем
себя лишь части тех опасностей, которым в целом подверглись бы
тотчас, как только оказались бы лишены этой безопасности?
142
Общественный договор, или Начала политического права
Глава 5
О праве на жизнь и смерть
Задают вопрос: каким образом частные лица, не имея права
располагать собственной жизнью, могут передать это самое право
суверену? Этот вопрос кажется трудноразрешимым потому, что он
неправильно поставлен. Всякий человек вправе подвергать
опасности свою жизнь ради ее сохранения. Кто и когда говорил, что тот,
кто выбросился из окна, чтобы спастись от пожара, повинен в
самоубийстве? Да разве когда-либо вменяли в вину это преступление
тому, кто погиб во время бури на корабле, от опасности, о которой
он, отправляясь в дорогу, не знал?
Договоренность, существующая в обществе, ставит целью
сохранить жизнь участников соглашения. Кто стремится к цели,
стремится также получить средства ее достижения, а эти средства
неотделимы от некоторых потерь и грозящих гибелью опасностей.
Кто желает сохранить свою жизнь за счет остальных, должен, в свою
очередь, когда это необходимо, отдать свою жизнь за них. Однако
гражданин не волен решать, подвергать или не подвергать свою
жизнь опасности, когда того требует закон; и когда государь
говорит ему, что было бы полезно для государства, чтобы он умер, он
должен умереть; ибо лишь соблюдая это условие соглашения, он до
сих пор жил в безопасности, а его жизнь больше не является
благодеянием природы, но (на определенных условиях) — даром от
государства.
Смертную казнь, которой наказывают преступников, следует
в известной мере рассматривать с той же самой точки зрения:
именно для того чтобы не быть жертвой убийцы, люди соглашаются
умереть, когда сами становятся убийцами. В соответствии с этой
договоренностью, люди не столько имеют право располагать своей
собственной жизнью, сколько думают о том, как ее сохранить; и не
следует исходить из допущения, будто кто-нибудь из участников
соглашения заранее думает о том, что его повесят.
Впрочем, всякий злоумышленник, покушающийся на права
общества, становится в силу своих преступлений мятежником и
предателем родины. Он перестает быть ее гражданином, попирая ее
законы, и даже ведет с ней войну. Тогда сохранение государства
несовместимо с сохранением его жизни, и один из них должен погиб-
143
*\
Жан-Жак Руссо
нуть. Когда отправляют на смерть виновного, с ним обходятся не
как с гражданином, а как с врагом. Разбирательства, судебные
решения являются доказательством того, что он отказался от своей
договоренности с обществом и, следовательно, уже перестает быть
гражданином государства. Однако, коль скоро он таковым
является, по крайней мере в силу своего пребывания на его территории,
его следует исторгнуть из отечества путем изгнания как
нарушителя согласия или же наказать смертью как врага общества, ибо
таковой враг — не нравственное лицо, а всего-навсего человек,
и именно тогда, согласно праву войны, можно убить побежденного.
Но возразят: приговор в отношении преступника — это решение
частного характера. Согласен. Даже вынесение этого приговора не
является правом суверена; это право он может вверить кому-либо,
не имея возможности осуществлять его самостоятельно. Все мои
мысли взаимосвязаны, но я не могу изложить их разом.
В конечном итоге, частое применение пыток всегда является
признаком слабости и нерадения правительства. Нет такого
негодяя, который не сгодился бы на что-либо. Право на казнь, даже в
качестве примерного наказания, можно применить в отношении того,
кому нельзя сохранить жизнь, не подвергая себя опасности.
Что касается права на помилование или на избавление
виновного от наказания, предусмотренного законом и наложенного судьей,
это право принадлежит лишь тому, кто стоит над судьей и законом,
то есть суверену: но это его право еще не вполне выяснено, а случаи
пользования им крайне редки. В хорошо управляемом государстве
наказания редки не потому, что помилования часты, а потому, что
мало преступников; когда государство приходит в упадок,
множество преступлений остаются безнаказанными. Во времена римской
республики ни сенат, ни консулы не делали попыток миловать, даже
народ этого не делал, хотя иногда и отменял свои собственные
судебные решения. Частые помилования свидетельствуют о том, что
в скором времени злодеи перестанут в них нуждаться, и каждый
понимает, к чему это ведет. Но я чувствую, как сердце мое ропщет
и сдерживает мое перо; оставим эти вопросы для обсуждения
человеку справедливому, который никогда не заблуждался и который
сам никогда не нуждался в помиловании.
144
Общественный договор, или Начала политического права
Глава 6
О законе
С помощью достигнутого согласия в обществе мы создали живое
существо и придали жизнь общественному организму: теперь речь
идет о том, чтобы сообщить ему с помощью законодательства
движение и волю. Ибо изначальное решение, благодаря которому
образуется и становится единым этот организм, пока не указывает на
то, что он должен делать, чтобы сохранить себя.
То, что является благим и соответствующим порядку, является
таковым по природе вещей, независимо от соглашения между
людьми. Всякая справедливость исходит от Бога, и только Он есть
ее источник; но если бы мы оказались в состоянии
непосредственно перенять ее свыше, нам не нужны были бы ни правительства, ни
законы. Без сомнения, Бог есть всеобщая справедливость,
проистекающая единственно из разума; но эта справедливость, для того
чтобы мы признали ее таковой, должна быть взаимной. Если
рассматривать вещи с точки зрения человека, то, в силу отсутствия
принуждения со стороны природы, законы справедливости становятся
бесполезными среди людей, они лишь приносят благо негодяям
и причиняют зло людям справедливым, ибо последние
соблюдают эти законы в отношениях со всеми людьми, тогда как никто не
соблюдает их по отношению к ним. Следовательно, необходимы
соглашения и законы, чтобы соединить права с обязанностями и
сообразовать справедливость с ее предметом. В природном
состоянии, где все является общим, я ничего не должен тем, кому ничего
не обещал, и признаю обязанности перед посторонним лишь в той
мере, в какой это полезно для меня. Но не так дело обстоит в
гражданском состоянии, где все права закреплены в законе.
Но что же такое, в конце концов, закон? До тех пор пока мы
будем довольствоваться тем, что придаем этому слову смысл
умозрительный, мы и дальше будем размышлять, не понимая друг друга.
И даже если найдут объяснение закону природы, от этого не станут
лучше понимать, что же такое закон государства.
Я уже говорил, что не бывает никакой общей воли, направленной
на особый предмет. И действительно, этот особый предмет либо
находится в государстве, либо находится за его пределами. Если он
находится за пределами государства, воля, являющаяся чуждой для
145
*-\
Жан-Жак Руссо
него, не может быть для него общей; если этот предмет находится
в государстве, он составляет его часть: и тогда между целым и его
частью образуется связь, превращающая их в два существа,
отделенных друг от друга, из которых часть является одним существом,
а целое за вычетом этой части — другим. Но целое за вычетом
одной части уже не является целым, и пока эта зависимость
сохраняется, более не существует целого, а только две неравные части. Из
чего следует, что воля одной из этих частей тем более не является
общей для другой.
Но когда весь народ выносит постановления, касающиеся всего
народа, он имеет в виду лишь самого себя, и если при этом
образуются отношения зависимости предмета в целом с одной точки зрения
от предмета в целом с другой, целое при этом никак не разделяется.
И тогда повод, по которому выносится постановление, становится
общим, как и воля, которая его выносит. Именно это решение я и
называю законом.
Когда я говорю, что предмет законов всегда является общим,
я понимаю под этим то, что закон рассматривает подданных в
качестве организма, а их поступки — отвлеченно; но он никогда не
принимает во внимание человека в отдельности, как и каждый
поступок в частности. Таким образом, закон может постановить, что
кому-то предоставляются особые права, но не может предоставлять
их никому поименно; закон может создать множество классов
граждан и даже указать на качества, по праву открывающие доступ в эти
классы, но он не может поименно назвать тех, кто будет допущен
в них; закон может ввести королевское правление и наследование
короны, но он не может ни избрать короля, ни включать в себя имя
королевской династии; одним словом, всякие полномочия,
соотносимые с единичным предметом, ни в коей мере не являются
принадлежностью законодательной власти.
Согласно этому соображению, сразу становится понятно, что не
следует ставить вопрос ни о том, кому надлежит создавать законы,
поскольку они являются результатом решения общей воли, ни о том,
стоит ли государь выше законов, поскольку он является членом
государства, ни о том, может ли закон быть несправедливым,
поскольку никто таковым не является по отношению к самому себе,
ни о том, каким образом люди могут быть свободны и
одновременно подчинены законам, поскольку законы представляют собой лишь
запись наших волеизъявлений.
146
Общественный договор, или Начала политического права s~*
Понятно также, что закон соединяет в себе всеобщность воли со
всеобщностью своего предмета, ибо то, что один человек, кем бы
он ни был, предписывает от своего лица, вовсе не является
законом, а то, что предписывает суверен в отношении особого
предмета, тем более не является законом, а всего-навсего указом; не
решением суверенной власти, а решением магистратуры.
Итак, я называю республикой всякое государство, в котором
царят законы, каков бы ни был вид управления в нем: ибо только
тогда правление соответствует общей выгоде, и общее дело является
чем-то существенным. Всякое законное правление есть правление
республиканское: что такое правление, я объясню в дальнейшем *.
Законы есть не что иное, как условия существования
гражданского объединения. Подчиняющийся законам народ должен быть
их творцом; только тем, кто вступает в объединение, надлежит
определять условия жизни в обществе: но как они будут их
определять? Произойдет ли это с общего согласия и благодаря внезапному
вдохновению? Есть ли у политического организма проводник его
власти, который заявляет о его воле? Кто наделит его предвидением,
необходимым для того, чтобы задумать решения и
заблаговременно их обнародовать? Иначе говоря, каким образом этот организм
в случае необходимости их вынесет? Каким образом ослепленная
толпа, часто не знающая, чего она хочет, поскольку она редко
понимает то, что является для нее благом, сможет осуществить
самостоятельно столь значительное и трудное предприятие, как
создание свода законов? Сам по себе народ всегда желает блага, но он не
всегда в состоянии самостоятельно увидеть, в чем оно заключается.
Общая воля всегда правильна, но суждения, которыми она
руководствуется, не всегда отличаются ясностью. Нужно заставить
волю видеть предметы как они есть, а порой и такими, какими они
должны ей казаться, нужно указать ей верный путь, который она
ищет, уберечь ее от соблазна подчиниться частным волям, явить ее
взору обстоятельства места и времени, уравновесить в ее глазах
привлекательность близкой и ощутимой выгоды опасностью
отдаленных и доселе незаметных бедствий. Отдельные лица видят бла-
* Под этим словом я понимаю не только аристократию или демократию, но
вообще всякое правление, руководимое общей волей и являющееся законным. Чтобы
оно было законным, правительству следует не смешивать себя с сувереном, а быть
служителем суверена: в таком случае даже монархия становится республикой. Это
будет разъяснено в следующей книге.
147
Жан-Жак Руссо
го, которое им не по нраву; напротив, общество желает блага,
которого оно не видит. И оба в равной мере нуждаются в
руководителях: ибо необходимо обязать одних сообразовывать свою волю с
разумом, а другую научить понимать то, чего она желает. И тогда из
познаний всех людей в обществе вытекает союз рассудка и воли
в общественном организме, а из него — правильное
взаимодействие частей и, в конце концов, величайшая сила целого. Вот
откуда возникает потребность в законодателе.
Глава 7
О законодателе
Дабы обнаружить наилучшие нормы общежития, пригодные для
наций, необходим человек, наделенный высочайшей способностью
мыслить, который, понимая все пристрастия людей, не питал бы ни
одного из них, чья природа, имея отношение к нашей природе,
оказалась бы в состоянии познать ее в самой сути, и хотя его счастье не
зависело бы от нас, он, тем не менее, взял бы на себя труд сделать
нас счастливыми, и, в конце концов, по истечении времени,
приуготовив бы себе славу в отдаленном будущем, смог трудиться в одном
веке, а пожинать плоды своих трудов в следующем *. Для того
чтобы создавать законы для людей, необходимы боги.
То самое соображение, которое привел Калигула, опираясь на
факт, Платон привел, опираясь на право, дабы определить
характер мужа-гражданина, или царственного мужа, о котором он писал
в своей книге о правлении государя; но если и вправду великий
государь — редкий человек, что же тогда сказать о великом
Законодателе? Первому нужно лишь следовать образцам, которые должен
предложить второй. Первый является механиком, изобретающим
механизм, а второй — работником, собирающим его и приводящим
в действие. В момент зарождения общества, как говорит Монтескье,
правители республик создавали установления, а затем
установления республик образовывали их правителей.
* Народ становится знаменитым лишь тогда, когда его законодательство
начинает приходить в упадок. Неизвестно, на протяжении скольких веков
установления Ликурга составляли счастье спартиатов до того, как о них заговорили по всей
Греции.
148
Общественный договор, или Начала политического права
Тот, кто осмеливается взяться за создание установлений для
народа, должен почувствовать себя в силах, если можно так
выразиться, изменить человеческую природу, преобразить каждую
личность в отдельности, которая сама по себе является совершенным
и самодостаточным целым, в часть более значительного целого,
ведь от него до некоторой степени зависит жизнь и возможность
существования этой личности; он должен почувствовать себя в
силах изменить устройство человека, дабы его укрепить, и заменить
данное нам от природы независимое физическое существование на
существование нравственное в качестве части целого. Одним
словом, ему необходимо лишить человека его собственных сил и
наделить его силами, ему не свойственными, воспользоваться которыми
он не смог бы без посторонней помощи. Чем скорее умерщвлены
и уничтожены силы природные, тем более велики силы
благоприобретенные, тем лучше эти силы выдерживают испытание
временем, тем более прочными и совершенными становятся
установления: таким образом, что отдельный гражданин — ничто и ни на что
не способен без содействия окружающих, а сила, приобретенная
целым, равна или превосходит совокупность природных сил всех
личностей, вместе взятых; вот тогда можно сказать, что законодательство
достигло наивысшего из возможных уровней совершенства.
Законодатель во всех отношениях необычный человек в
государстве. Если он должен быть таковым по своим дарованиям, то в не
меньшей степени он должен стать таковым в силу своей должности.
Она отнюдь не является магистратурой или суверенной властью.
Должность, призванная создать государственный строй, не
является частью государственного устройства: это особое и высшее
назначение, не имеющее ничего общего с влиянием человека; ибо тот,
кто руководит людьми, не должен руководить законами, а тот, кто
руководит законами, тем более не должен руководить людьми;
иначе законы, слуги его пристрастий, лишь увековечат его
несправедливость, и вообще станет невозможным избежать того, что
некие частные соображения осквернят священный характер его
произведения.
Когда Ликург даровал законы своему отечеству, он для начала
отказался от царского сана. Стало обычаем в большей части
греческих городов доверять иностранцам учреждение законов.
Современные итальянские республики часто подражают этому
обыкновению. Женевская республика поступила так и не пожалела об
149
r^ . Жан-Жак Руссо
этом *. Рим на заре своего существования увидел, как в нем
зарождалась преступная тирания, и оказался на грани гибели, соединив
в одном лице законодательную власть и полномочия власти
суверенной.
А между тем даже децемвиры никогда не присваивали себе
право 21 издавать какой-либо закон, опираясь лишь на вверенную им
власть. «Ничто из того, что мы предлагаем, не может без вашего
согласия считаться законом. Римляне, будьте сами творцами законов,
которые составят ваше счастье», — говорили они народу.
Тот, кто составляет текст закона, следовательно, не должен иметь
никакого права законодательствовать, и даже народ, если он того
и захочет, не может лишить себя этого никому не передаваемого
права, потому что в соответствии с достигнутым согласием
основополагающего характера лишь общая воля может к чему-то
обязывать частных лиц; удостовериться в том, что частная воля
соответствует воле общей, можно лишь путем свободного голосования
народа: я уже говорил об этом, и не стоит повторяться.
Таким образом, в законодательной деятельности можно
обнаружить две составляющие, которые кажутся несовместимыми:
предприятие, превосходящее человеческие возможности, и влияние,
ничтожное для его осуществления.
Стоит обратить внимание и на иное затруднение. Мудрецов,
желающих говорить с простым народом на своем языке, вместо того
чтобы говорить на его собственном, не услышат. Существует
тысяча мыслей, которые невозможно передать на языке народа.
Слишком общие взгляды и предметы, слишком далекие от его
понимания, в равной мере ему недоступны; всякой личности придется по
вкусу только замысел правительства, связанный с ее частной
выгодой, и она с трудом заметит те преимущества, которые она может
извлечь из постоянных жертв, требуемых от нее хорошими
законами. Для того чтобы народу в момент рождения пришлись по вкусу
разумные правила политики и он следовал соображениям
государственной пользы, необходимо, чтобы причина поменялась местами
* Те, кто считают Кальвина лишь теологом, недостаточно ценят размеры его
дарования. Составление наших мудрых эдиктов, в котором он принял немалое
участие, доставило ему не меньше почестей, чем его религиозные учреждения. Какой
бы переворот ни совершился в нашем протестантском богослужении, до тех пор
пока любовь к отечеству и свободе у нас не угасла, никогда не перестанут с
благоговением вспоминать об этом великом человеке.
150
Общественный договор, или Начала политического права
со следствием, чтобы дух общежития, долженствующий быть
произведением установлений, направлял сами установления, а люди
стали допредь законов теми, кем они должны стать благодаря им.
И, таким образом, Законодатель, не имеющий возможности
использовать ни силу, ни доводы, по необходимости должен
прибегнуть к помощи влияния иного порядка, которое позволит без
насилия повести людей за собой и без всякого убеждения их уговорить.
Вот что заставляло во все времена отцов наций прибегать к
вмешательству свыше, почитать богов и мудро внушать почтение к ним,
чтобы народы, в равной мере подчиненные законам государства
и законам природы и считавшие одной и той же властью ту, что
создала человека, и ту, что создала общество, при этом повиновались
свободно и послушно несли на себе ярмо благоденствия общества.
Этот возвышенный разум, недоступный пониманию
простонародья, является тем самым разумом, указания которого
законодатель вкладывает в уста бессмертных богов, дабы с помощью
божественной власти повести за собой тех, кого не смогла бы побудить
к действию человеческая осмотрительность*. Но не каждый
человек может говорить от лица богов и не каждому верят, когда он
заявляет о том, что толкует их волю. Великая душа Законодателя —
чудо, засвидетельствовать которое должно его призвание. Всякий
может высекать что-то на табличках из камня, или подкупить
предсказателя, или делать вид, будто втайне общается с
каким-нибудь божеством, или обучить птицу так, чтобы она шептала ему на
ухо, или найти иные грубые средства внушить народу почтение.
Тот, кто умеет делать лишь подобные вещи, сможет, наверное, при
случае собрать вместе толпу безрассудных людей, но он не сможет
стать основателем державы, а его причудливое творение вскоре
погибнет одновременно с ним. Пустое величие создает связь
временную, но только мудрость делает ее устойчивой. А ведь иудейский
закон все еще продолжает существовать, а закон Измаила на
протяжении десяти столетий царит в половине мира, они и поныне
напоминают о тех великих людях, которые их составили; и в то время
как горделивая философия и ослепление тех, кто проникся духом
* «Е veramente, - говорит Макиавелли, - mai non fu alcuno ordinatore di leggi stra-
ordinarie in un popolo, ehe non ricorresse a Dio, perche altrimenti non sarebbero accet-
tate: perche sono molti béni conosciuti da uno prudente, I quali non hanno in se ragioni
evidenti da potergli persuadere ad altrui» (Discorsi sopra Tito Livio, L. I, cap. XI)22.
151
«■v*.
Жан-Жак Руссо
принадлежности к той или иной партии, считают их удачливыми
самозванцами, настоящий политик приходит в восхищение, видя
в их установлениях могучее дарование, которое осуществляет
верховное руководство прочными учреждениями.
Из всего сказанного не нужно делать вслед за Уорбертоном23 тот
вывод, что у политики и религии в нашем обществе один и тот же
предмет, но тот, что при возникновении наций религия служит
орудием в руках политиков.
Глава 8
О народе
Подобному тому как до строительства большого здания
архитектор изучает и прощупывает почву, чтобы узнать, может ли она
выдержать его вес, мудрый создатель установлений начинает не
с того, что составляет законы, хорошие сами по себе, но исследует
предварительно, способен ли народ выносить бремя законов,
которые он для него создает. Именно по этой причине Платон
отказался дать законы жителям Аркадии и сирийцам, зная, что эти два
народа богаты и не смогли бы примириться с равенством; именно по
этой причине на Крите можно было видеть хорошие законы и
плохих людей, ибо Минос сумел всего лишь навести строгий порядок
в народе, обремененном пороками.
Тысячи наций, блиставших по всей земле, оказались вообще
неспособны примириться с хорошими законами, а тем, кто все же
оказался на это способен, было отпущено на это весьма короткое
время. Народы24, так же как и люди, податливы только в
молодости, и, старея, они становятся неисправимы; как только обычаи
установились, а предрассудки укоренились, стремиться их
преобразовать — опасное и бессмысленное предприятие; народ не
способен смириться с тем, что кто-то замечает его недуг и хочет его
исцелить, и в этом он похож на глупых и боязливых больных, которые
вздрагивают от испуга при виде врача.
Нельзя сказать, что не случалось так, как это случается при
некоторых болезнях, приводящих в расстройство разум людей и
лишающих их воспоминаний о прошлом, или что никогда на
протяжении всей жизни государства не было таких жестоких времен,
когда перевороты оказывали на народы такое же воздействие, как
некоторые приступы болезни на отдельных людей: ужас при воспо-
152
Общественный договор, или Начала политического права
минании о прошлом напоминает забвение, и государство, объятое
гражданскими войнами, возрождается, если можно так выразиться,
из пепла и вновь обретает силу молодости, вырвавшись из рук
смерти. Таковой была Спарта во времена Ликурга, Рим после Тарк-
виниев, и таковы в наше время Голландия и Швейцария после
изгнания тиранов.
Но такие события редки; это исключение, причина которого
всегда обнаруживает себя в особенном устройстве отдельно взятого
государства. Они не могут дважды иметь место в истории одного
и того же народа, ибо он может быть свободным, пока остается
варварским, но он не способен стать свободным, когда рычаги
гражданской жизни изношены. И вот тогда смуты уничтожают
государство, а перевороты уже не могут его восстановить, и как только
оковы разбиты, народ гибнет и рассеивается, переставая существовать:
отныне он нуждается не в освободителях, а в хозяевах. Свободные
народы, помните всегда об этом правиле: можно стяжать свободу,
но утраченную свободу не вернуть никогда.
У наций, так же как и у людей, есть возраст зрелости, которого
нужно дождаться, прежде чем пытаться подчинить их законам; но
понять, является ли народ зрелым, не всегда легко, и если забегать
вперед, дело оказывается потерянным*. Иной народ можно
приучить к порядку с рождения, а с другим этого не получится и через
два столетия.
Русские никогда не будут по-настоящему способны к
гражданской жизни, потому что она у них возникла слишком рано. Петр
обладал даром подражания, но у него не было истинного дарования,
такого, которое творит и создает все из ничего. Некоторые вещи,
сделанные им, были хороши, но их большая часть оказалась
неуместна. Он понял, что его народ — варварский, но не понял, что
этот народ не созрел для гражданской жизни; он захотел
приобщить его к ней, в то время как его следовало закалить в сражениях.
Он с самого начала хотел создать немцев и англичан, тогда как
следовало было начать с того, чтобы сделать русских русскими; и он
навсегда помешал им стать теми, кем они могли бы стать, убедив их
в том, что они те, кем они в действительности не являлись. Именно
так и поступает учитель во Франции, давая образование своему
* Молодость не есть детство, и у наций так же, как и у людей, существует возраст
молодости, или, если угодно, зрелости, которого необходимо дождаться.
153
«-\ Жан-Жак Руссо
ученику, дабы тот мог блистать в детском возрасте, а затем навсегда
остается ничтожеством. Российская держава пожелает покорить
Европу, и сама окажется покоренной, ее подданные — татары — и ее
соседи станут сначала ее хозяевами, а потом нашими: этот
переворот мне кажется неизбежным. Все короли Европы слаженно
работают над тем, чтобы его ускорить.
Глава 9
Продолжение
Подобно тому как природа дала очертания стану человека,
имеющего правильное сложение, нарушая которые, она способна
создавать лишь гигантов и карликов, точно так же дело обстоит с
наилучшим устройством государства, если принять во внимание его
протяженность, чтобы оно было не слишком большим, дабы им
можно было хорошо управлять, и не слишком маленьким, дабы
оно было в состоянии сохранить свою устойчивость
самостоятельно. Во всяком политическом организме есть высшая степень силы,
которую невозможно превзойти и которую он часто утрачивает,
увеличивая свои размеры. Чем дальше простираются узы общества,
тем больше они ослабевают, и, в общем, малое государство
относительно более сильное, чем большое.
Тысячи доводов доказывают истинность этого правила.
Во-первых, управление становится более затруднительным на больших
расстояниях, подобно тому как груз становится более тяжелым,
когда его прикрепляют к концу большого рычага. Управление
также оказывается более дорогостоящим по мере умножения ступеней
власти; ибо, прежде всего, каждый город должен обладать
собственным управлением, оплачиваемым народом, затем каждый
район также должен им обладать, и тоже на деньги народа, и,
наконец, край, а затем и области, сатрапии, вице-королевства тоже
следует оплачивать, и управление становится более дорогостоящим, по
мере того как мы поднимаемся вверх по этим ступеням; и все это за
счет средств несчастного народа; наконец, наступает черед высшего
управления, которое давит на все остальное. Столько чрезмерных
платежей постоянно истощают подданных; и эти земли
управляются всеми этими различными чинами не только не слишком хорошо,
но и гораздо хуже, чем если бы над ними был поставлен один чело-
154
Общественный договор, или Начала политического права ^*
век. А между тем едва ли находятся средства для чрезвычайных
обстоятельств, и когда возникает в них нужда, государство всегда
оказывается на грани разрушения.
И это еще не все. Не только у правительства меньше твердости
и быстроты для того, чтобы заставить соблюдать законы,
помешать притеснениям, исправить пороки, пресечь подстрекательства,
могущие случиться в отдаленных уголках, но и народ питает
меньше почтения к правителям, которых почти что не видит, к родине,
в его глазах являющейся целым миром, и к согражданам; большая
часть их ему чужда. Одинаковые законы не подходят для
различных провинций, находящихся в разных природных условиях,
нравы в которых различны и которые не в состоянии выдержать
одинаковый образ правления. Различные законы порождают лишь
волнения и смуты в народах, живущих под властью одних и тех же
правителей и в постоянном общении, переселяющихся друг к другу,
вступающих в браки; и, подчиняясь чужим обычаям, они уже
совсем не уверены в том, принадлежит ли им в действительности их
семейное имущество. Их способности зарыты в землю, они не
ведают добродетелей, пороки остаются безнаказанными во всем этом
множестве незнакомых друг с другом людей, которых центр
высшего управления собирает в одном месте. Правители, перегруженные
делами, сами уже ничего не видят, и доверенные лица управляют
государством. И, наконец, меры, необходимые для укрепления
общей власти, от которой должностные лица в отдаленных местах
хотели бы укрыться или же внушить ей уважение к себе, составляют
все заботы общества, а на долю забот о счастье народа не остается
ничего, и едва ли этих забот достанет в случае нужды для его
защиты; и именно в это время слишком большой по своему устройству
организм оседает под собственной тяжестью и, раздавленный,
погибает.
С другой стороны, государство должно покоиться на
определенном основании, чтобы обладать прочностью и противостоять
потрясениям, которые оно неизбежно будет испытывать, и выдержать
усилия, которые ему придется прилагать, чтобы устоять: ибо все
народы находятся под воздействием своего рода центробежной
силы, подобной вихревым потокам Декарта, и стремятся оказать
воздействие друг на друга и увеличивать свою численность за счет
соседей. И, таким образом, слабые подвергаются опасности в
скором времени в этих потоках кануть, и никто не может сохранить
155
«-v. Жан-Жак Руссо
себя иначе, как установив своего рода равновесие с остальными,
так что сила сжатия оказалась бы повсюду почти одинаковой.
Из всего этого видно, что существуют доводы в пользу
увеличения размеров государств и в пользу их сокращения; и не самое
малое дарование политика состоит в том, чтобы обнаружить ради
сохранения государства между теми и другими соотношение,
наиболее выгодное для государства. И в целом можно сказать, что
доводы в пользу первого, касаясь лишь внешнего положения,
относительны, и их следует подчинить вторым, касающимся положения
внутреннего, то есть безусловным; сильное и здоровое устройство
государства — это главное, чего стоит добиваться, и более следует
рассчитывать на прочность, возникающую благодаря хорошему
управлению, чем на средства, которые доставляет большая
территория.
И напоследок скажем, что существовали государства с таким
государственным устройством, что необходимость в завоеваниях
была его частью, и для сохранения своей устойчивости они
вынуждены были непрерывно увеличивать свои размеры. Возможно, они
очень радовались этой счастливой необходимости, которая, меж
тем, являла их взору и пределы их величия, и неизбежную минуту
упадка.
Глава 10
Продолжение
Политический организм можно измерить двояким образом,
а именно: принимая в расчет протяженность территории и
количество населения. Но, однако, существует между той и другой мерой
соотношение зависимости, приличествующее подлинно великому
государству: люди образуют государство, а земля их питает; это
соотношение заключается в том, чтобы земли было достаточно для
пропитания ее жителей и на ней было столько жителей, сколько
земля может прокормить. Именно в этом соотношении заключена
высшая степень его силы при определенной численности народа;
ибо, когда существуют излишки земли, ее охрана стоит дорого, она
недостаточно обработана, и имеют место излишки продуктов;
в этом заключен ближайший повод для оборонительных войн, если
же земли недостаточно, то государство оказывается придатком
и существует по милости соседей; и это становится ближайшим по-
156
Общественный договор, или Начала политического права
^^>
водом для захватнических войн. Всякий народ, который в силу
своего местоположения стоит перед выбором только между торговлей
и войной, сам по себе слаб, зависит от соседей, от разного рода
событий, и всегда его существование кратковременно и ненадежно.
Он либо покоряет другие народы и меняет свое положение, либо
покоряют его, и тогда он более ничего не значит. Он не может
сохранить себя в качестве свободного народа, иначе как или
оставаясь малым, или становясь великим.
Невозможно выразить в числах точную зависимость между
протяженностью территории и количеством людей, чтобы и того, и
другого было достаточно: как по причине различий в качестве земли,
в степени ее плодородия, в характере ее продуктов, во влиянии
природных условий, так и по причине различий, наблюдаемых в
нравах жителей, которые ее населяют; ведь одни из них потребляют
мало в плодородных странах, а другие много, населяя земли
бесплодные. Кроме того, еще нужно принять во внимание наибольшую
или наименьшую способность женщин к деторождению, а также то,
что страна может быть более или менее благоприятна для роста
народонаселения, на содействие увеличению которого законодатель
вправе рассчитывать, создавая свои установления; таким образом,
он должен основывать свое суждение не на том, что видит перед
глазами, а на том, что предвидит, и принимать во внимание не
столько наличную численность населения, сколько ту, до которой
оно может естественным образом вырасти. И, в конце концов,
существуют тысячи благоприятных случаев, когда особые обстоятельства
места требуют или дают возможность освоить большее количество
земли, чем это кажется необходимым. Таким образом заселяется
вся земля в гористой стране, где дары природы, а именно:
древесина и пастбища, не требуют больших затрат труда, а опыт научает
тому, что женщины приносят больше потомства, чем на равнине,
и где земли в основном расположены на склонах и лишь в редких
случаях встречаются участки, расположенные горизонтально,
которые только и можно использовать для посадки растений.
Напротив, берег моря позволяет жить скученно даже в бесплодных
скалах и песках, потому что рыбная ловля может в значительной мере
возместить недостаток плодов земли и потому, что люди
вынуждены теснее сплотиться, чтобы отражать нападения морских
разбойников, и, кроме того, потому, что благодаря колониям страна
может освободиться от избытка жителей.
157
^■4.
Жан-Жак Руссо
К этим условиям, необходимым для того, чтобы дать народу
установления, нужно добавить и еще одно непременное условие,
без учета которого все остальные окажутся бесполезными, а
именно: чтобы все могли наслаждаться миром и изобилием, ибо время,
когда в государстве вводят порядок, напоминает период набора
солдат в батальон, когда организм менее всего способен оказывать
сопротивление и его легче всего уничтожить. Гораздо лучше
оказывают сопротивление тогда, когда царит полный беспорядок, а не во
время брожения, когда каждый больше озабочен своим
положением в обществе, а не угрозой погибнуть. Если только случатся войны,
голод, мятежи, то в это переломное время государство неизбежно
будет опрокинуто.
Не то чтобы не существовало множества правительств,
учрежденных в неспокойные времена. Они были, но именно эти самые
правительства и разрушали государство. Самозванцы всегда
выбирают эти смутные времена и приближают их наступление, дабы под
покровом царящего в обществе ужаса заставить принять пагубные
законы, которых народ никогда бы не одобрил, сохрани он
хладнокровие. Выбор времени создания установлений — один из
наиболее верных признаков, позволяющий отличить творение
законодателя от творения тирана.
Так какой же народ наиболее пригоден для законодательства?
Это тот, что уже связан неким исконным союзом, основанным на
соображениях выгоды или на соглашении, но еще пока не нес на
себе настоящего ярма законов; тот, что еще не имеет прочно
укоренившихся обычаев или суеверий; тот, что не боится потерпеть
поражение после внезапного вторжения; тот, что, не вмешиваясь в
ссоры соседей, в одиночку может оказать сопротивление одному из них
или воспользоваться помощью одного из них для отражения
нападения со стороны другрго; тот, в котором каждого жителя все
знают в лицо и где нет нужды взваливать на человека бремя, которое
он не в состоянии вынести; тот, что может обойтись без помощи
других народов, и тот, без которого сможет обойтись всякий другой
народ*; тот, кто не богат, не беден и самодостаточен; и, наконец,
* Если бы из двух соседних народов один не мог обходиться без другого, это
положение было бы весьма трудным для первого и весьма опасным для последнего.
Всякая мудрая нация в подобных случаях постарается поскорее избавить другую
нацию от подобной зависимости. Тласкаланская республика, территория которой
вклинивалась в Мексиканскую державу, предпочла вообще обходиться без соли.
158
Общественный договор, или Начала политического права
тот, кто соединяет в себе прочность древнего народа с
податливостью вновь возникшего. Тяжким трудом делает законодательство не
столько то, что необходимо учредить, сколько то, что необходимо
разрушить; а что делает успех весьма редким явлением, так это
невозможность отыскать простоту, дарованную природой, в
сочетании с потребностью жить в обществе. По правде сказать, трудно
найти сочетание этих условий в одном месте. Да и немногие
государства обладали хорошим государственным устройством.
В Европе еще существует государство, способное принять
законодательство. Это остров Корсика. Доблесть и постоянство, с
которыми этот отважный народ сумел вернуть себе свободу и защищать
ее, весьма заслуживают того, чтобы мудрец научил его тому, как эту
свободу сохранить. У меня есть предчувствие: однажды этот народ
удивит Европу.
Глава 11
О разлигных сводах законодательства
Если захотят исследовать, в чем в точности заключается самое
большое благо для всех, являющееся целью любого порядка
законодательства, то обнаружат, что это благо заключено в двух
главных предметах: свободе и равенстве. В свободе, поскольку всякая
зависимость от частного лица является в одинаковой мере силой,
отнятой у организма государства; в равенстве, поскольку свобода
не может продолжать существовать без него.
Я уже говорил о том, что представляет собой гражданская
свобода; что же касается равенства, под этим словом не нужно
понимать то, что уровень могущества и богатства должен быть
безусловно одинаковым у всех; но пусть могущество не опускается до
какого-нибудь насилия и проявляет себя лишь в соответствии с
положением лица и законами, а что до богатства, то пусть ни один
гражданин не обладает такой роскошью, что сможет купить
другого гражданина, и пусть никто не будет настолько беден, чтобы ока-
чем покупать ее у мексиканцев или даже получать ее бесплатно от них. Мудрые
тласкаланцы заметили западню, скрытую за этими щедротами. Они сохранили
свою свободу, и это маленькое государство, заключенное внутри большой
державы, стало в конечном итоге орудием ее разрушения.
159
*\
Жан-Жак Руссо
заться вынужденным себя продавать. Все это предполагает,
достаточно умеренное влияние и размеры имущества у вельмож, а у
людей бедных — умеренные скупость и зависть *.
Это равенство, как утверждают, есть несбыточные умствования,
которые в обычной жизни неосуществимы: но если
злоупотребления неизбежны, разве из этого следует, что их не стоит попытаться
хотя бы исправить? Именно потому, что сила вещей,
упорядочивающая эти правила, всегда стремится уничтожить равенство, сила
законодательства должна всегда стремиться его укрепить.
Но эти предметы, общие для всякого хорошего установления,
необходимо видоизменяются в каждой стране в зависимости от
отношений, складывающихся как в соответствии с обстановкой на
местах, так и сообразно нравам жителей, и именно с учетом этих
отношений следует избирать для того или иного народа особенный
порядок в установлениях, который окажется наилучшим,
возможно, не сам по себе, а для государства, где их предполагают завести.
Например, если почва неплодородна или непригодна для
земледелия или же жители живут слишком скученно в стране, что тогда?
Обратите больше внимания на ремесла и искусства, их
произведения вы обменяете на продукты питания, которых вам не хватает.
А если, напротив, вы ведете хозяйство на равнинах, дающих
изобилие, или на плодородных склонах холмов? А если на добротной
земле вам не хватает жителей? Позаботьтесь о земледелии,
умножающем количество людей, и избавьте себя от искусств, развитие
которых доведет страну до обезлюдения, ибо то малое количество
жителей, что в ней есть, толпами соберется в немногих ее
областях **. Народ населяет протяженные и удобные для жизни берега?
Заполните море кораблями, развивайте торговлю и мореплавание;
* Хотите ли придать государству прочность? Сблизьте, насколько это возможно,
крайние степени различий в общественном положении: не допускайте
возникновения роскоши и нищеты. Эти два состояния, по природе вещей нераздельные,
в равной мере пагубны для общего блага: одно взращивает пособников тирании,
а другое — тиранов; именно между ними осуществляется незаконная торговля
свободой. Одни покупают ее, а другие продают.
** Некоторые отрасли внешней торговли, говорит господин Д25, приносят лишь
мнимую пользу королевству в целом; она может обогатить немногих частных лиц
или даже несколько городов, но нация в целом от этого не выигрывает ничего,
а народу от этого не становится лучше.
160
Общественный договор, или Начала политического права s~*
ваше существование окажется кратковременным и блестящим.
Море омывает ваше побережье, усеянное почти недоступными
скалами? Оставайтесь варварами и питайтесь рыбой; ваша жизнь станет
спокойной, даже лучшей, и, бесспорно, более счастливой. Одним
словом, помимо правил, общих для всех, каждый народ в
отдельности заключает в себе самом некую действующую причину, которая
упорядочивает эти правила и делает законодательство пригодным
только для него. Именно поэтому прежде у евреев, а теперь у
арабов главным предметом законодательства была религия, а у
афинян — словесность; в Карфагене и Тире им была торговля, на
Родосе — флот, в Спарте — война, а в Риме — добродетель. Автор «Духа
Законов» на множестве примеров показал, с каким искусством
законодатель сообразует установления с каждым из этих предметов.
Устройство государства поистине крепко и долговременно лишь
тогда, когда приемлемые условия соблюдены, а отношения
зависимости, существующие по природе, и те, что установлены законом,
совпадают во всем, и последние лишь, так сказать, упрочивают,
исправляют первые и сопутствуют им. Но если законодатель
ошибочно избирает предмет своей деятельности и руководствуется
началами, отличными от тех, которые заложены в природе вещей, при том
что одно из них заключает в себе стремление к свободе, а другое —
стремление к рабству или же одно из них имеет в виду стремление
к богатству, а другое — рост народонаселения, одно — стремление
к миру, а другое — к завоеваниям, то законы незаметным образом
ослабевают, государственное устройство портится, а государство
испытывает постоянные потрясения и в конце концов меняет свой
строй и уничтожается, а неодолимая сила природы снова вступает
в свои державные права.
Глава 12
О разделении законов на виды
Дабы упорядочить все или же придать наилучший облик
общественным делам, следует принять во внимание различные вещи,
связанные друг с другом. Во-первых, действие организма в целом,
направленное на самого себя, то есть зависимость целого от целого,
или взаимную зависимость суверена и государства, и эту зависи-
6 Зак. 3436
161
«■\
Жан-Жак Руссо
мость составляют, как мы увидим в дальнейшем, промежуточные
члены ее ряда.
Законы, которые упорядочивают эту зависимость, носят имя
законов политических, или основных, и не без оснований, особенно
если они являются мудрыми. Ибо если в том или ином государстве
существует лишь один хороший способ установить в нем порядок,
то народ, открывший его для себя, должен его придерживаться: но
если установленный порядок плох, к чему считать основными
законы, мешающие ему стать хорошим? Впрочем, в любом случае
народ властен менять законы, даже самые лучшие: ибо если ему
захочется причинить себе зло, то кто вправе ему в этом помешать?
Во-вторых нужно принять во внимание отношения членов
организма между собой или с организмом в целом, и эта зависимость
в первом плане должна быть как можно меньшей, а во втором —
как можно большей: таким образом, чтобы каждый гражданин в
отдельности оказался совершенно независим от остальных и в
крайней зависимости от гражданской общины, что всегда достигается
одними и теми же средствами; ибо только сила государства создает
свободу его членов. Именно из этой второй зависимости
возникают гражданские законы.
Следует принять во внимание и третий вид отношений, то есть
отношения между гражданином и законом, а именно:
неповиновение налагаемому наказанию; это становится поводом для
учреждения уголовных законов, которые, в сущности, являются не
столько особым родом законов, сколько санкцией за нарушение всех
остальных.
К этим трем видам законов я присоединил бы и четвертый,
самый главный из всех, начертанный не на мраморе, не на меди, но
в сердцах граждан; оц создает истинное устройство государства
и изо дня в день обретает новые силы; тогда, когда остальные
законы устаревают или угасают, он их оживляет и заменяет собой,
сохраняя согласие народа с духом его установлений, и незаметно
замещает силу власти силой привычки. Я говорю о нравах, обычаях
и, в особенности, об общественном мнении; отрасль
законодательства, незнакомая нашим политикам, но от нее зависит успех во всех
остальных отраслях: именно ею великий законодатель втайне занят,
тогда как порой кажется, что он ограничивается предписаниями
частного характера, являющимися лишь скрепой арки, а из них
162
Общественный договор, или Начала политического права
-^*
медленно зарождаются нравы, в конечном итоге образующие
краеугольный камень свода.
Из этих различных классов законов законы политические,
устанавливающие образ правления, только и имеют отношение к
избранной мною теме.
Конец второй книги
Книга III
Прежде чем речь пойдет о различных образах правления,
постараемся определить точный смысл этого слова, который доселе был
объяснен недостаточно хорошо.
Глава 1
О правлении вообще
Предупреждаю читателя, что эта глава должна быть прочитана
не спеша и что я не владею искусством ясно излагать мысли тому,
кто не желает проявить внимание.
Всякий свободный поступок становится возможным в силу двух
причин, а именно: волю решиться на поступок и вторую причину,
физическую, то есть способность его совершить. Когда я двигаюсь
к некоей цели, во-первых, необходимо, чтобы я хотел это делать;
а во-вторых, чтобы ноги меня к ней несли. Допустим, паралитик
захочет бегать, а проворный не захочет бежать, тогда оба останутся
недвижны. Политический организм заключает в себе подобные
движущие силы; в нем так же различаются воля и сила: воля носит
имя законодательной власти, а сила — имя власти исполнительной.
Ничто не совершается и не может в нем совершаться без их
содействия.
Законодательная власть, как мы видели, принадлежит и может
принадлежать только народу. Напротив, легко заметить (в
согласии с ранее установленными началами), что исполнительная власть
не может принадлежать законодательной, или суверенной, то есть
власти, обладающей общим характером; ибо власть
исполнительная проявляется в решениях частного характера, не относящихся
163
«~v.
Жан-Жак Руссо
к рычагам закона, и следовательно, к рычагам в руках суверена,
решениями которого надлежит создавать только законы.
Следовательно, государственной власти необходимо иметь
поверенного, объединяющего и приводящего в действие государство
в соответствии с указаниями общей воли, который послужит
средством сообщения между государством и сувереном и в каком-то
смысле породит в обществе то, что образует в человеке единство
тела и души. Вот что в государстве является причиной
существования правительства, некстати смешиваемого с сувереном, слугой
которого оно является.
Что же такое правительство? Промежуточный организм,
установленный между подданными и сувереном ради взаимной
согласованности их действий, на который возлагается исполнение
законов и поддержание свободы, как гражданской, так и политической.
Члены этого организма называются магистратами или
королями, то есть правителями, а весь организм носит имя государя*.
Итак, те, кто полагает, что решения, в силу которых народ
подчиняется своим правителям, не есть договор, весьма правы. Это всего
лишь поручение или должность; исполняя его, члены
правительства, будучи простыми служащими, назначенными суверенной
властью, осуществляют от своего имени власть, носителями которой
они стали, и суверен может, когда ему угодно, ограничить, изменить
или снова взять в свои руки эту власть, а отчуждение такого права
несовместимо с природой общественного организма и противоречит
цели общественного объединения.
Итак, я называю «правительством», или «высшим
управлением», отправление обязанностей исполнительной властью в
соответствии с законом, а также государя или магистрата, человека или
орган, на который возложено это управление.
Именно в правительстве существуют опосредующие силы, а
зависимость между ними составляет отношение целого к целому и
суверена к государству. Можно представить себе последнюю
зависимость в качестве крайних членов прямой пропорции, а ее средним
значением является правительство. Правительство получает от
суверена приказы, передаваемые им народу, и для соблюдения
равновесия в государстве необходимо, чтобы при сокращении
значений получилось равенство между произведением значений пропор-
* Именно в подобном случае в Венеции коллегию именуют светлейшим
государем, даже если дож не присутствует на ее заседании.
164
Общественный договор, или Начала политического права ^-»
ции или правомочиями правительства как такового и
произведением или правомочиями граждан, которые являются суверенами в
одной части пропорции и подданными в другой.
Более того, невозможно изменить ни один из этих членов,
тотчас не нарушив пропорцию. Если суверен пожелает управлять, или
магистрат захочет издавать законы, или же подданные откажутся
повиноваться, вместо правильного соотношения возникнет
беспорядок: воля и силы не будут действовать сообща, и распавшееся
государство погрузится в деспотизм или анархию. Поскольку
существует только среднее значение каждой из этих зависимостей в
пропорции, то может существовать лишь одно возможное хорошее
правление в государстве: но так как тысячи событий могут
изменить отношения зависимости у какого-либо народа, не только
различные правления могут стать хорошими для разных народов, но
и оказаться таковыми для одного и того же народа в разные времена.
Стремясь объяснить мою мысль о различных отношениях
зависимости, которые могут возникнуть между крайними членами
пропорции, я приведу в пример число людей в народе, то есть
зависимую величину, которую проще всего выразить.
Предположим, что государство состоит из десяти тысяч граждан.
Суверена можно рассматривать собирательно и в качестве
организма, но каждое частное лицо в качестве подданного следует
рассматривать как личность; таким образом, суверен относится к
подданному как десять тысяч к одному; другими словами, каждый гражданин
государства обладает одной десятитысячной суверенной власти,
хотя он и подчиняется ей целиком. Предположим, что народ
состоит из ста тысяч человек, положение подданных не меняется, и
каждый одинаково является носителем всей власти законов, тогда как
голос его одобрения, который сводится к одной стотысячной,
имеет в десять раз меньше влияния при их составлении. В этом случае
подданный так и остается единицей, а отношение зависимости от
суверена возрастает в соответствии с числом граждан. Из чего
следует, что чем больше увеличиваются размеры государства, тем
меньше в нем свободы.
Когда я говорю, что зависимость возрастает, я понимаю под этим
то, что она отклоняется от равенства, и, таким образом, чем более
велика эта зависимость в том значении, как ее понимают в
геометрии, тем менее эта зависимость имеет место в общепринятом
значении слова; согласно первому пониманию, зависимость рассматри-
165
*^ч.
Жан-Жак Руссо
вается в соответствии с количеством, измеряемым показателем
степени, а во втором понимании эта зависимость рассматривается
как тождество и оценивается через подобие.
Однако чем меньше частная воля зависит от общей, то есть нравы
от законов, тем больше принудительная сила должна возрастать.
И, следовательно, правление, дабы стать хорошим, должно
сообразно с этим быть более сильным, по мере того как народ становится
более многочисленным.
С другой стороны, поскольку увеличение размеров государства
создает для носителей государственной власти больше соблазнов
и способов злоупотребления властью, то чем больше у
правительства силы удерживать в повиновении народ, тем более суверен должен
обладать, в свой черед, силой удерживать в повиновении
правительство. Я здесь говорю не о силе государства в целом, но об
относительной силе его различных частей.
Из этой двоякой зависимости следует, что прямая пропорция
между сувереном, государем и народом не является мыслью
произвольной, но необходимым следствием, вытекающим из природы
политического организма. Из этого следует еще и то, что один из ее
крайних членов, то есть народ в качестве подданного, поскольку он
является неизменным и представлен в виде единства, то всякий раз,
когда удвоенное значение таким же образом возрастает или
уменьшается, простое значение увеличивается или уменьшается и,
следовательно, значение среднего члена меняется. Это наглядно
показывает, что не существует одного единого и отвлеченного устройства
правительства, но может существовать столько различных по своей
природе правительств, сколько и государств, отличных по своим
размерам.
Если, осмеивая эти суждения, скажут, что для того чтобы
обнаружить это среднее значение и образовать организм правительства,
нужно лишь, согласно моему мнению, извлечь квадратный корень
из численности народа, я отвечу, что я здесь привожу это число
лишь в качестве примера и что отношения зависимости, о которых
я говорю, измеряются здесь не только числом людей, но и в целом
масштабом действий, сопрягающихся в силу многих причин, и что,
в конечном счете, если выразить мою мысль в немногих словах, то,
пользуясь понятиями геометрии, я, тем не менее, отдаю себе отчет,
что геометрическая точность не имеет места в моральных
величинах.
166
Общественный договор, или Начала политического права __^~»
Правительство в малом является тем, чем политический
организм, заключающий его в себе, является в большем. Это
нравственное лицо, наделенное определенными способностями, действующее,
когда является сувереном, и претерпевающее действие в качестве
государства; его можно разложить на отношения зависимости, из
чего, следовательно, возникает новая пропорция, а внутри нее еще
и та, что существует в судейском чине, вплоть до того, что мы
придем к неделимому среднему значению, то есть к единственному
властителю или высшему магистрату, которого можно представить себе
в середине этой прогрессии как единицу в промежутке ряда дробей
и ряда чисел.
Не внося путаницу, умножая члены пропорции, довольствуемся
тем, что будем рассматривать правительство в качестве нового
организма в государстве, отличного от народа и населения,
находящегося в промежуточном положении между первым и вторым.
Есть существенное различие между двумя этими организмами,
а именно: государство существует само по себе, а правительство —
по воле суверена. Таким образом, волей, господствующей над
государем, является или должна являться только общая воля и закон,
а его сила есть только сила государственной власти,
сосредоточенная в нем; как только он пожелает сам принять некоторое
независимое и властное решение, связь внутри целого начнет ослабевать.
Если случится, в конце концов, так, что государь станет обладать
особой волей, более действенной, чем воля суверена, и
воспользуется государственной властью, находящейся в его руках, дабы
заставить повиноваться своей частной воле таким образом, что
появятся, так сказать, два суверена, один по праву, а другой по факту, —
общественный союз тотчас исчезнет, а политический организм
распадется.
Между тем, как для того, чтобы сообщить организму
правительства подлинную жизнь, отличную от организма государства, так
и для того, чтобы все его члены могли действовать сообща,
сообразно цели, ради которой созданы его учреждения, правительству
необходимо особое «я», общая чувствительность его членов, сила
и воля, направленные на его сохранение. Это особое существование
предполагает собрания, советы, полномочия обсуждать и решать
вопросы, права, звания, преимущества, которыми особо наделен
государь и которые делают положение магистрата в обществе тем
более почетным, чем, соответственно, более оно тягостно. Затрудне-
167
*\.
Жан-Жак Руссо
ние заключается в том, каким образом упорядочить подчиненное
целое в общем целом так, чтобы государь ни в коей мере не менял
общего устройства государства, укрепляя свое положение и всегда
отличал свою собственную силу, предназначенную для
самосохранения, от силы государства, предназначенной для сохранения
последнего, и чтобы, одним словом, он всегда был готов принести
в жертву правительство народу, а не народ правительству.
Впрочем, хотя искусственный организм правительства и является
творением другого искусственного организма и наделен жизнью,
в известной мере заимствованной и подначальной, это не мешает
тому, чтобы он действовал более или менее решительно и быстро,
обладая, если можно так выразиться, более или менее крепким
здоровьем. И, наконец, не отклоняясь непосредственно от цели, ради
которой правительство учреждается, оно в большей или меньшей
мере может от нее отступать, в зависимости от того, как оно устроено.
Из всех этих различий возникают разные отношения
зависимости от организма государства, в которые правительство попадает
сообразно особым или случайным отношениям, возникающим в
самом государстве. Ибо часто само по себе наилучшее правительство
становится самым порочным, если эти отношения зависимости не
искажаются под влиянием недостатков политического организма,
частью которого оно является.
Глава 2
О нахале, определяющем
разлигные образы правления
Чтобы объяснить общую причину этих различий, здесь следует
отличать государя и правительство, подобно тому как прежде я
провел различие между государством и сувереном.
Организм магистратуры может состоять из большего или
меньшего числа членов. Мы уже говорили, что зависимость суверена от
подданных тем более велика, чем более многочисленным является
народ; согласно очевидному сходству, мы можем то же самое
утверждать о правительстве в его связи с магистратами.
Однако, поскольку сила правительства в целом, будучи всегда
силой государства, остается неизменной, отсюда следует, что чем
больше правительство направляет эту силу на собственных членов,
168
Общественный договор, или Начала политического права
тем менее у него остается сил для того, чтобы воздействовать на
весь народ.
Следовательно, чем более многочисленны магистраты, тем
более слабым становится правительство. Поскольку это правило
является основным, постараемся его получше объяснить.
У магистрата можно выявить три воли, существенным образом
отличные. Во-первых, собственная воля личности, которая
направлена к его частной пользе; во-вторых, общая воля магистратов,
зависящая только от пользы государства, и ее можно назвать волей
организма. Она является общей по отношению к правительству и
частной по отношению к государству, частью которого является
правительство. И, в-третьих, воля народа, или воля суверенная, общая
как по отношению к государству в качестве целого, так и по
отношению к правительству в качестве части целого.
Когда законодательство совершенно, частная или личная воля
оказываются ничтожными, а воля организма, присущая
правительству, — полностью подчиненной, или, иными словами, общая или
суверенная воля должна стать господствующей и единственной
нормой для всех остальных воль.
Напротив, согласно порядку природы, эти различные воли
становятся более действенными, по мере того как они соединяются
воедино. Таким образом, общая воля всегда оказывается
слабейшей, воля организма занимает второе место, а частная воля первое:
итак, каждый член правительства прежде всего является самим
собой, затем магистратом и только потом гражданином. И эта
последовательность обратна той, которую требует порядок в обществе.
С учетом сказанного допустим, что всякое правительство
находится в руках одного человека. И тогда воля частная и воля
организма будут совершенно согласованы и, следовательно, последняя
достигнет наивысшей из возможных степеней действенности. Однако
поскольку именно от степени проявления воли зависит возможность
использовать силу, а собственная сила правительства неизменна,
из этого следует, что наиболее деятельное правление — правление
одного лица.
Напротив, если мы объединим правительство и
законодательную власть, превратим суверена в государя, а всех граждан в
магистратов, в этом случае воля организма, смешанная с общей волей, не
будет более деятельной, чем воля общая, и оставит за частной
волей всю ее силу. Тогда правительство, обладая по-прежнему той же
169
Жан-Жак Руссо
самой неизменной силой, окажется наделен наименьшей мерой
силы относительной, или способности к деятельности.
Эти отношения зависимости бесспорны, и, кроме того, иные
соображения их подкрепляют. К примеру, очевидно, что всякий
магистрат становится более деятельным внутри своего организма, чем
любой гражданин внутри своего организма, и, следовательно, в
решениях правительства частная воля получит больше влияния, чем
в решениях суверена; ибо на каждого магистрата всегда возложены
некие полномочия в правительстве, тогда как каждый гражданин
в отдельности не обладает никакими полномочиями в суверенной
власти. Впрочем, чем больше государство расширяется, тем более
возрастает его овеществленная сила, меж тем как она не возрастает
в зависимости от его протяженности; но когда государство не
меняет свою протяженность, нет смысла увеличивать число
магистратов: правительство, как следствие, не приобретет самую большую
овеществленную силу, потому что эта сила является силой
государства, мера которой по-прежнему одинакова. И, таким образом,
относительная сила или способность правительства быть деятельным
уменьшается, и при этом его безусловная или овеществленная сила
не возрастает.
И точно: течение дел становится замедленным по мере того, как
большее количество людей ими занимается: придавая слишком
большое значение осмотрительности, а не удаче, часто упускают
благоприятные возможности и, занимаясь обсуждением какого-
нибудь вопроса, часто теряют из вида плоды этого обсуждения.
Я только что доказал, что правительство ослабевает по мере
того, как увеличивается число магистратов, а до этого доказал, что
чем многочисленнее народ, тем более должна возрастать сила
принуждения. Из этого следует, что зависимость магистратов от
правительства должна находиться в обратном отношении к степени
зависимости подданных от суверена: чем больше государство возрастет
в размерах, тем больше оно должно сократить свой состав таким
образом, чтобы число правителей уменьшалось по мере увеличения
численности народа.
Впрочем, я говорю здесь лишь об относительной силе
правительства, а не о его честности: ибо, напротив, чем более
многочисленны магистраты, тем более воля их организма приближена к
общей воле; тогда как, если правит единственный магистрат, эта
самая воля организма является не чем иным, как его частной волей.
170
Общественный договор, или Начала политического права ^*
Итак, с одной стороны теряют то, что можно выиграть с другой,
а искусство законодателя заключается в умении определить точку,
в которой воля и сила правительства, взаимно пропорциональные,
сочетаются в наиболее выгодном для государства отношении
зависимости.
Глава 3
Разделение правлений на виды
В предыдущей главе мы видели, по какой причине выделяют
различные виды и образы правления по числу членов, составляющих
правительство; остается узнать, на чем основано это разделение.
Прежде всего, суверен может вверить правление всему народу
или наибольшей его части таким образом, что появится больше
граждан-магистратов, чем простых граждан — частных лиц. Этот
образ правления называется демократия.
Или же следует сократить численность правительства, вручив
правление небольшому числу таким образом, что окажется больше
простых граждан, чем магистратов. Этот образ правления
называется аристократия.
Наконец, можно сосредоточить все правительство в руках одно-
го-единственного магистрата, который станет источником власти
всех остальных. Этот третий, наиболее распространенный, образ
называется монархией, или королевским правлением.
Следует заметить, что все эти образы правления, или, по
крайней мере, два первых из них, могут иметь в своем составе большее
или меньшее число магистратов и обладать достаточно заметной
гибкостью; ибо демократия может объединять весь народ или
сократить свою численность до его половины. Аристократия, в свою
очередь, может сократить свою численность, включая в себя от
половины народа до сколь угодно малого числа людей. И
королевская власть также может быть поделена. В соответствии с
государственным устройством Спарты постоянно существовало два царя,
а в римской державе бывало иногда и восемь императоров
одновременно, и при этом никто не утверждал, что держава разделена.
Итак, существует такое положение, когда каждый образ правления
смешивается с последующим, и видно, что в трех вышеназванных
171
Жан-Жак Руссо
правлениях в действительности каждое способно принять столько
же образов, сколько граждан в государстве.
И более того, то же самое правление может в некоторых случаях
иметь и другие подразделения, одно из них будет управляться
одним способом, другое — другим, и из сочетания этих трех образов
появятся образы смешанные, число которых умножится благодаря
наличию простых образов.
Всегда много спорили о наилучшем образе правления, упуская
из вида, что каждый из них является наилучшим в определенных
случаях и наихудшим в остальных.
Если в различных государствах число высших правителей должно
находиться в обратном отношении к количеству граждан, из этого
следует, что в целом демократическое правительство подходит для
малых государств, аристократическое — для средних и
монархическое — для больших. Это правило непосредственно вытекает из
установленного начала; но как учесть множество обстоятельств,
которые порождают исключения?
Глава 4
О демократии
Тот, кто создает зако», знает лучше, чем кто-либо иной, как его
следует исполнять и толковать. Тогда как может показаться, что не
должно существовать лучшего государственного устройства чем
то, где исполнительная власть сопрягается с законодательной: но
именно это и делает подобное правление в известных отношениях
неудовлетворительным, ибо вещи, которые следует различать, не
различают, и государь и суверен, будучи одним и тем же лицом,
образуют, так сказать, правление без правительства.
И плохо, если тот, кто создает закон, его исполняет, и еще хуже,
если внимание организма народа отвлекается от общих вопросов
и обращается на предметы частные. Нет ничего опаснее, чем
влияние соображений частной выгоды в общественных делах и
злоупотребление законами со стороны правительства; это меньшее зло, чем
порча законодателя, являющаяся неизбежным следствием его
особых соображений. Ведь тогда государство, искаженное в своей
сущности, становится невозможным преобразовать. Народ, вообще не
172
Общественный договор, или Начала политического права
.^»
допускающий злоупотреблений в правлении, не станет
злоупотреблять и своей независимостью; а народ, который хорошо управлял
бы самим собой, не нуждается в том, чтобы им управляли.
Если рассматривать слово «демократия» в строгом значении, то
следует сказать, что никогда не существовало и никогда не
возникнет подлинной демократии. Противоречит природному порядку,
когда наибольшее число управляет, а меньшим управляют.
Невозможно вообразить себе, что народ постоянно собирается ради
занятий общественными делами, и легко увидеть, что нельзя при
этом раздавать поручения так, чтобы порядок управления не
изменился.
И действительно, я считаю возможным установить начало,
согласно которому, если полномочия правительства разделены
между множеством палат, наименее многочисленные из них рано или
поздно приобретут большую власть хотя бы по причине легкости,
с которой они вершат дела, и вполне естественно, что они к этому
приходят.
Впрочем, разве подобное правление не предполагает
отсутствия множества трудно совместимых между собой дел?
Во-первых, в очень маленьком государстве народ легко собрать, и каждый
гражданин мог бы легко познакомиться с остальными; во-вторых,
весьма заметная простота нравов позволяет предвидеть множество
дел и острых споров; затем, существует полное равенство состояний
и лиц, без чего равенство в правах и во власти не могло бы долгое
время существовать; и, наконец, нет или почти нет роскоши,
поскольку либо роскошь является следствием богатства, либо
наличие роскоши делает богатство необходимым; роскошь развращает
одновременно и богатого, и бедного: одного наличием имущества,
другого завистью; она делает отечество слабым и преисполненным
тщеславия; она лишает государство всех граждан благодаря тому,
что одни порабощают других, а их всех вместе взятых превращает
в рабов общественного мнения.
Вот почему знаменитый автор считал началом республики
добродетель26, поскольку ни одно из сословий общества не могло бы
обойтись без нее: но из-за того, что этот прекрасный гений не сумел
провести необходимых различий, он не всегда был точен, а иногда
неясен, и он не заметил, что, поскольку суверенная власть повсюду
одинакова, то одно и то же начало должно иметь место в любом го-
173
r-v Жан-Жак Руссо
сударстве, обладающем хорошим или, вернее сказать, более или
менее хорошим устройством в зависимости от образа правления.
Добавим, что не существует никакого другого правления,
которое было бы столь сильно подвержено гражданским войнам и
смутам, как демократическое и народное, потому что ни одно из
правлений не имеет такой сильной и постоянной склонности менять
свой образ, ни одно не требует столько бдительности и храбрости
для того, чтобы его образ сохранялся неизменным. И в особенности,
в этом государственном устройстве гражданин должен
вооружиться силой и постоянством и каждый день своей жизни повторять
в глубине своего сердца то, что добродетельный воевода * говорил на
польском сейме: «Malo periculosam libertatem quam quietum servi-
tium»28.
Если бы существовал народ, состоявший из богов, он управлял
бы собой демократически. Столь совершенное правление не для
людей.
Глава 5
Об аристократии
До сих пор мы рассматривали два различных моральных лица,
а именно правительство и суверена, и, следовательно, две общие
воли: одну — осуществляемую в отношении всех граждан, а
другую — только в отношении участников управления. Таким образом,
хотя правительство и может установить внутренний распорядок по
своему усмотрению, обращаться к народу оно вправе только от
имени суверена, то есть от имени самого народа, о чем никогда не
следует забывать.
Изначально обществами управляли аристократы. Главы семейств
обсуждали между собой общественные дела, а молодые люди охотно
подчинялись их опыту и влиянию; отсюда произошли звания
священников, старейшин, сената, геронтов. Дикари центральной
Америки и в наши дни управляют собой таким образом, и это
управление очень хорошее.
Но по мере того как установления, породившие неравенство
в обществе, взяли верх над неравенством природным, богатство или
* Это был воевода Познани, отец короля Польши27, герцога Лотарингского.
174
Общественный договор, или Начала политического права
могущество* получили большие преимущества, чем возраст; вот
тогда аристократия и стала выборной. В конце концов, могущество
и имущество, передававшиеся от отца к сыну, привели к
возникновению патрицианских семей, а правление стало наследственным,
и появились двадцатилетние сенаторы.
Таким образом существует три вида аристократии — по праву
рождения, выборная и наследственная. Первая подходит только
для народов с простыми нравами, а третья есть худший из всех
видов правления. Вторая же — наилучшая — это аристократия в
собственном смысле слова.
Помимо преимуществ, связанных с различением двух видов
власти, существует еще и преимущество, связанное с возможностью
выбирать членов этого правления; ибо при народном правлении все
граждане по рождению являются магистратами, но их число
ограничено до малого, и они становятся магистратами только по праву
избрания **, средству, благодаря которому честность, знания, опыт
и прочие основания для предпочтения и уважения со стороны
общества становятся порукой в том, что государством будут мудро
управлять.
Более того, собрания проходят более спокойно, дела
обсуждаются лучше, и их улаживают с большим порядком и усердием, а
доверие к государству за его пределами в большей мере
поддерживают почтенные сенаторы, а не никому неизвестная или презренная
толпа.
Одним словом, это лучший и наиболее соответствующий
природе порядок, заключающийся в том, что самые мудрые управляют
большинством, но лишь тогда, когда можно получить уверенность
в том, что они будут управлять им ради пользы большинства, не
ради своей собственной; бессмысленно увеличивать количество
рычагов правления, вершить с помощью двадцати тысяч человек
* Понятно, что слово «оптиматы» у древних означало не 'лучшие', а 'наиболее
могущественные люди'.
** Важное значение имеет то, чтобы законы устанавливали порядок избрания
магистрата: ибо, оставляя этот порядок на усмотрение государя, невозможно
избежать превращения этого правления в наследственную аристократию, как это
случилось в Венецианской и Бернской республиках. Ведь первая из них на
протяжении долгого времени была государством в состоянии распада, а вторая
сохраняет прочность благодаря чрезвычайной мудрости ее сената; это исключение
похвально и вместе с тем таит в себе серьезные опасности.
175
r^ Жан-Жак Руссо
то, что избранная сотня людей в состоянии сделать гораздо лучше.
Но следует заметить, что при этом правлении государственная
власть, по крайней мере поначалу, руководствуется соображениями
выгоды организма в согласии с правилами, установленными общей
волей, и то, что иные неизбежные устремления этого организма
отчасти лишают возможности исполнять законы.
Что касается особых удобств в управлении государством, то оно
не нуждается ни в малых размерах, ни в простоте и прямодушии
народа для того, чтобы исполнение закона непосредственно
осуществлялось вслед за волей общества, как это бывает при хорошей
демократии. И тем более нации не следует быть многочисленной,
иначе ее правители, рассеянные по территории, каждый в своем
ведомстве получат возможность принимать решения за суверена, и,
поначалу став от него независимыми, они в конце концов сделаются
хозяевами положения.
Но хотя аристократия в какой-то мере меньше нуждается в
добродетелях, чем народное правление, она все же нуждается в иных
добродетелях, присущих только ей, например, в том, чтобы
стремление к богатствам стало умеренным, а бедняки не были
недовольны; ибо, как представляется, строгое равенство здесь неуместно,
ведь его не было даже в Спарте.
В конечном итоге, если этот образ правления и заключает в себе
известное неравенство имуществ, то только для того, чтобы в
целом правление общественными делами было доверено тем, кто
может больше уделять им время, а не потому, как полагал Аристотель,
что богатым во всяком случае следует отдавать предпочтение перед
бедными. Напротив, весьма важно, когда выборы разных людей
научают народ тому, что их заслуги являются более весомым
доводом отдать предпочтение, чем богатство.
Глава 6
О монархии
До сих пор мы рассматривали Государя как моральное и
собирательное лицо, связанное законами, и как носителя исполнительной
власти в государстве. Теперь мы будем рассматривать эту власть
в качестве власти, естественным образом сосредоточенной в руках
одного лица, человека в собственном смысле слова, который по за-
176
Общественный договор, или Начала политического права
кону только и может ею обладать. Его-то и называют монархом или
королем.
В противоположность иным видам управления, где
собирательное существо предстает в образе личности, в этом виде управления,
напротив, личность становится образом собирательного существа
таким образом, что моральное единство, образующее Государя,
одновременно является единством физическим; в нем все свойства,
которые закон с такими усилиями соединяет в первом, оказываются
естественным образом соединены.
Итак, и воля народа, и воля Государя, и сила государственной
власти, и сила правительства, — все отвечает одному и тому же
побуждению, все рычаги механизма попадают в одни руки, все
направляется к одной цели, не существует движений,
противоречащих друг другу и взаимоисключающих: трудно себе представить
какое-нибудь иное государственное устройство, при котором
малейшее усилие оказалось бы способно произвести весьма значительное
действие. Искусный монарх, управляющий из своих покоев
пространным государством, приводящий в движение все и при этом
кажущийся неподвижным, напоминает мне Архимеда, который,
спокойно сидя на берегу, без труда тащит по волнам огромный корабль.
Но если не существует государства, обладающего большей
прочностью, чем монархия, то не существует и никакого другого, где бы
частная воля получила бы большее влияние и способность весьма
легко господствовать над остальными волями; при монархии все
направлено к одной цели, согласимся с этим, но эта цель — отнюдь
не высшее благополучие общества, и самая сила, которой наделено
управление, постоянно действует во вред государству.
Короли желают обладать неограниченной властью, и с давних
пор их во весь голос убеждают, что лучший способ этого
достигнуть — заставить себя любить. Это правило в некоторых
отношениях чересчур прекрасно и слишком истинно. К сожалению, над ним
посмеиваются при дворах. Могущество, основанное на любви,
бесспорно, величайшее, но оно шатко и неверно, и государи никогда не
будут им довольствоваться. Даже лучшие короли желали иметь
возможность по прихоти проявлять суровость, не переставая при
этом оставаться владыками: напрасно любитель наставлений в
политике станет говорить им, что сила народа — это их сила, а их
наибольшая выгода заключается в том, чтобы сделать народ
процветающим, многочисленным, грозным. Они прекрасно знают, что
177
r\
Жан-Жак Руссо
это не так. Их личная выгода — превратить народ в слабый,
презренный, дабы он не смог оказывать им сопротивление. Признаюсь,
если предположить, что народ всегда и полностью подчиняется
государю, его выгода состояла бы в том, чтобы народ стал
могущественным, и это могущество, будучи его собственным, сделало бы
его грозным в глазах соседей; но, поскольку эта выгода в их глазах
второстепенна и подчинена иным соображениям, а оба эти
предположения несовместимы, то вполне естественно, что государи всегда
считают предпочтительными те правила поведения, которые
приносят им самую ощутимую пользу. Это то, что Самуил старался
растолковать евреям, и то, что Макиавелли столь очевидно разъяснил.
Делая вид, будто преподавал уроки государям, он преподал
великие уроки народам. «Государь» Макиавелли — книга для
республиканцев *.
Исследуя общие отношения зависимости, мы обнаружили, что
монархия подходит только для больших государств, и в еще
большей мере это становится ясно, если исследовать ее как таковую.
Чем большее число лиц входит в состав государственного
управления, тем больше убывает зависимая величина в соотношении
между монархом и подданными, она приближается к равенству таким
образом, что становится единицей или даже равенством, как при
демократии. Эта зависимая величина возрастает, по мере того как
численность правительства сокращается; она становится
предельной, когда правительство попадает в руки одного человека. И тогда
возникает слишком большое расстояние между народом и
Государем, и государству недостает внутренней связи. Дабы она
существовала, необходимы промежуточные чины: принцы, вельможи,
дворянство. Но это все не подходит для малого государства, которое
эти чины разрушат.
Но если сложно хорошо управлять большим государством, то
еще сложнее сделать так, чтобы им хорошо управлял один человек,
* Макиавелли был достойным человеком и добрым гражданином; но, будучи
привязан к дому Медичи, видя, как притесняют его родину, он вынужден был
скрывать свою любовь к ней. Одно лишь то, что он избрал себе столь
омерзительного героя29, обнаруживает его тайные намерения; и сравнение положений,
изложенных в его «Государе», с тем, что сказано в «Рассуждении на Тита Ливия»
и «Истории Флоренции», доказывает, что до сих пор у этого глубокого политика
были лишь предвзятые и порочные читатели. Римский двор наложил строгий
запрет на его книгу, и понятно почему. Именно его-то он там и изобразил (прим.
Руссо в издании 1782 года).
178
Общественный договор, или Начала политического права ^-»
и каждый знает, что бывает, когда государь назначает после себя
сонаследника принцу30.
Существенный и неизбежный недостаток, в силу которого
монархическое правление всегда будет стоять ниже
республиканского, заключается в том, что при последнем мнение общества почти
всегда возводит на важнейшие должности лиц знающих и
способных, с честью их отправляющих, тогда как те, кто достигают успеха
при монархическом правлении, почти всегда являются плутами,
головотяпами, любителями склок, чьи невеликие дарования,
помогающие им добраться до высоких должностей при дворе, лишь
обнаруживают в глазах общества их неспособность, едва только они
достигают этих должностей. Народ ошибается в выборе гораздо
реже Государя, и достойный человек — почти столь же редкое
явление в министерстве, как глупец во главе республиканского
правления. И когда по счастливому стечению обстоятельств один из людей,
рожденных управлять государством, берет в свои руки кормило
правления при монархии, почти разрушенной этой кучкой
достославных правителей, достойны восхищения средства, которые он
изыскивает, и его управление составляет счастливое время в жизни
страны.
Для доброго управления монархическим государством
необходимо, чтобы его размеры или протяженность были сопоставимы
с дарованиями тех, кто им управляет. Намного легче завоевывать,
чем царствовать. При наличии надежного рычага даже кончиком
пальца можно произвести потрясения в мире, но для того, чтобы
мир оставался незыблемым, необходимы плечи Геракла. Едва
только государство становится великим, государь почти всегда
оказывается для него слишком мал. И напротив, если случится, что
государство невелико для своего правителя (что происходит достаточно
редко), им тоже плохо управляют, потому что правитель, следуя
великим замыслам, забывает о пользе народа и в не меньшей мере
делает его несчастным, злоупотребляя своими чрезмерными
дарованиями, чем правитель, замыслы которого ограничены из-за
отсутствия необходимых дарований. Государству следует увеличивать
или уменьшать свои размеры в каждое царствование в зависимости
от понятий, усвоенных государем; тогда как, поскольку, к примеру,
дарования сената неизменны, границы государства останутся
неизменными, а управление будет осуществляться одинаково хорошо.
179
«-\.
Жан-Жак Руссо
Самое ощутимое неудобство правления одного человека —
постоянный недостаток преемственности, связи, которая при двух
остальных видах правления никогда не прерывается. Умер король,
необходим другой; время выборов создает опасные и весьма
беспокойные перерывы в правлении; и если только граждане проявят
бескорыстие и неподкупность (качества, которые, однако, при этом
правлении почти что не встречаются на выборах), в них окажутся
замешанными происки и подкуп. Вряд ли тот, кому продали
государство, в свой черед его не продаст и не вознаградит себя за счет
слабых теми деньгами, которые из него выжали могущественные
лица на выборах. В подобном управлении рано или поздно все
станет продажным, и мир, коим наслаждаются при королевском
правлении, оказывается хуже беспорядков во времена междуцарствия.
Что же было сделано для предотвращения этих несчастий?
Корона стала наследственной в определенных семьях, установили
порядок наследования, который не допускает никаких препирательств
после смерти короля: то есть, вместо неудобств междуцарствия
получили неудобства регентства и предпочли мнимое спокойствие
мудрому управлению; и вот тогда людям в большей мере пришлось
по нраву подвергать себя опасности получить в числе правителей
детей, уродов, безумцев, чем спорить, кто же станет хорошим
королем; при этом не учли, что выбор между тем и другим опасен, а удача
не всегда выпадает на долю игрока. Очень мудрое замечание сделал
юный Дионисий, когда отец, упрекая его за постыдный поступок,
спросил: «Разве я тебе подавал такой пример?» — «Нет, но ведь
ваш отец не был королем!» — ответил сын.
Все споспешествует тому, чтобы человек, поставленный
руководить людьми, поступал несправедливо и безрассудно. Как
утверждают, стоит большого труда научить юных принцев искусству
царствовать; и, кажется, они извлекают немного пользы из этого обучения.
Величайших королей, прославившихся в истории, вовсе не
воспитывали для того, чтобы царствовать; этой наукой всегда владеют
тем меньше, чем больше времени ее изучают, и больше учатся,
повинуясь, а не отдавая распоряжения. «Nam utilissimus idem ас bre-
vissimus bonarum malarumque rerum delectus, cogitare quid aut nolu-
eris sub alio Principe aut volueris»31.
Следствием этого недостатка внутренней согласованности
является непостоянство монархического правления, которое ставит
перед собой цель осуществить то один замысел, то другой, сообразно
180
Общественный договор, или Начала политического права . ^
склонностям правящего государя или людей, правящих вместо
него, и это правление не в состоянии достаточно долгое время
преследовать одну и ту же цель и действовать последовательно:
изменчивость, приводящая к тому, что в государстве руководствуются то
одним правилом, то другим, меняют замыслы, чего нет при других
правлениях, где государь является одним и тем же лицом. Да и в
целом заметно, что лукавства больше при дворах, а мудрости в
сенате, и республики преследуют свои цели, руководствуясь более
постоянными и последовательными взглядами, тогда как любой
переворот в министерстве при монархии производит переворот в
государстве, ибо стало правилом у всех министров и почти у всех
государей в любом случае идти наперекор предшественникам.
Из этой внутренней несогласованности можно извлечь
возражение на софизм, который часто бывает в ходу у
политиков-монархистов; он заключается в том, что не только сравнивают гражданское
правление с домашним управлением (это заблуждение ранее уже
опровергнуто), но и щедро наделяют этого магистрата
добродетелями, ему приличествующими, и полагают, что государь всегда
является тем, кем он должен быть; предположение, с помощью
которого королевское правление очевидным образом выдают за более
предпочтительное, чем всякое другое, потому что оно, бесспорно,
сильнее остальных, и для того чтобы быть наилучшим, ему
недостает лишь того, чтобы воля организма более сообразовывалась
с общей волей.
Но если, как утверждает Платон *, государь по природе своей —
весьма редкое явление, то часто ли удача и природа помогали ему
взойти на трон? И если королевское воспитание неизбежно портит
тех, кто его получает, стоит ли надеяться на то, что чреда
воспитанных людей станет царствовать? Тогда смешение королевского
правления с правлением хорошего короля — наивное заблуждение.
Для того чтобы понять, чем является это правление само по себе,
нужно учитывать, каким оно станет при правлении недобрых и
ограниченных государей, ибо либо таковыми они вступят на трон, либо
трон их сделает таковыми.
Эти трудности не ускользнули от внимания наших авторов, но
не смутили их. Лекарство, утверждают они, в том, чтобы безропотно
* InCivili32.
181
«\
Жан-Жак Руссо
повиноваться. Плохие короли — проявление гнева Божьего, и
должно терпеть их как наказание свыше. Без сомнения, эти речи
убедительны, но вот только сомневаюсь, не являются ли они более
уместными на кафедре проповедника, чем в политическом сочинении.
Что можно сказать о враче, который обещает больному сотворить
чудеса и при этом уговаривает быть терпеливым? Известно, что
следует терпеливо сносить плохое правление, когда оно имеет
место; вопрос, однако, заключается в том, чтобы отыскать хорошее.
Глава 7
О смешанных правлениях
Собственно говоря, не существует простых правлений.
Единоличный правитель нуждается в нижестоящих магистратах, а
народное правление нуждается в одном правителе. И, таким образом,
в распределении исполнительной власти всегда имеет место
переход от большего количества магистратов к меньшему, с той только
разницей, что иногда большее их число зависит от меньшего, а
иногда меньшее от большего.
Порой случается равное распределение, когда или составные
части зависят друг от друга, как в английском правительстве, или же
власть каждой части независима от другой, но сама по себе
несовершенна, как в Польше. Этот последний образ правления плох,
ибо в нем не существует единства в правительстве, а государству
недостает внутренней связи между его частями.
Какое из двух правлений лучше: простое или смешанное?
Вызывает бурные споры у политиков вопрос, на который можно дать тот
же самый ответ, что я дал на вопрос относительно всех образов
правления.
Простое правление само по себе хорошо именно потому, что оно
простое. Но когда исполнительная власть недостаточно зависит от
законодательной, иными словами, когда суверен больше зависит от
государя, чем государь от народа, нужно устранить этот недостаток
соразмерности, разделив правительство, ибо в таком случае его
части по отдельности будут обладать отнюдь не меньшей властью над
подданными, а его разделение на части сделает их, вместе взятых,
менее сильными против суверена.
182
Общественный договор, или Начала политического права
_^-»
Кроме того, неудобство от разделения правительства можно
предотвратить с самого начала, учредив промежуточных
магистратов, которые, не нарушая целостности правительства, пригодятся
лишь для того, чтобы уравновесить власти и закрепить их
взаимные права. Такое правление является не смешанным, а умеренным.
Подобными мерами можно заранее предотвратить и встречные
неудобства: если правление слишком вяло, можно создать
промежуточные палаты, дабы согласовать действия его частей. Так
поступают при всех демократических правлениях. В первом случае
правительство разделяют, чтобы его ослабить, а во втором
разделяют, чтобы его усилить, ибо высшая мера силы и слабости
свойственна в одинаковой мере всем простым правлениям, тогда как
смешанные образы правления наделены умеренной силой.
Глава 8
О том, гто не всякий образ правления
подходит дляразлигных стран
Коль скоро свобода не является плодом, произрастающим в
любых природных условиях, она и недоступна пониманию всех
народов без исключения. Чем больше размышляешь об этом начале,
установленном Монтескье, тем больше убеждаешься в его
истинности. И чем больше его оспариваешь, тем больше обнаруживаешь
доказательств его истинности.
При всех правлениях, существующих в мире, общество, будучи
лицом, что-то потребляет, но ничего не производит. Откуда оно
берет то, что потребляет? Из труда своих членов. Именно излишки
у частных лиц доставляют обществу необходимое. Отсюда следует:
гражданское состояние не может существовать иначе, если труд
людей дает больше того, что требуют их нужды.
Однако этот излишек не одинаков в различных странах мира. Во
многих он очень значителен, в других его размеры средние, в
третьих он ничтожен, а в иных и меньше необходимого. Это
соотношение зависит от плодородия почв и природных условий, от труда,
который требуется приложить на земле, от даров природы, от силы
жителей, от больших или меньших объемов необходимого
потребления и от многих других подобных отношений зависимости, из
которых это основное отношение состоит.
183
Жан-Жак Руссо
С другой стороны, природа правлений неодинакова, среди них
есть и более, и менее хищные, но эти отличия основаны на другом
начале, а именно: чем дальше общественные пожертвования
отстоят от их источника, тем более они разорительны. Не количеством
уплаченных налогов надо измерять размеры обложения, но
протяженностью пути, который эти платежи должны пройти,
возвращаясь в прежние руки. Когда этот оборот хорошо налажен и быстр, не
имеет значения, платят много или мало: народ остается богатым,
а финансы находятся в хорошем состоянии. Напротив, как бы мало
народ ни платил, когда это малое не возвращается в его руки, он
истощается, все время отдавая деньги; государство никогда не будет
богатым, а народ навсегда останется оборванцем.
Из этого следует, что чем больше увеличивается расстояние
между народом и правительством, тем более обременительными
становятся подати; таким образом, при демократии народ менее
обременен, при аристократии — более, а при монархии он несет на
себе самое тяжкое бремя. Следовательно, монархия подходит лишь
для народов, живущих в роскоши, аристократия — для стран с
умеренным достатком и размерами, а демократия — для малых и
бедных государств.
И действительно, чем больше задумываешься об этом, тем
больше обнаруживаешь отличия, существующие между свободными
и монархическими государствами; в первых из них все направлено
на общую пользу, во вторых сила государственной власти и
частных лиц находятся во взаимной зависимости, и первая возрастает
благодаря ослаблению второй. И, в конце концов, вместо того
чтобы править подданными, делая их счастливыми, деспотизм
превращает их всех в нищих.
Вот, следовательно, каковы природные условия в каждом
отдельном поясе, с учетом которых можно указать на образ правления,
к которому он тяготеет в силу этих условий, и даже сказать, какого
рода жители должны там быть. Местности бесплодные и с
неблагоприятными погодными условиями, где продукт труда не стоит
затраченных усилий, останутся пустынными и невозделанными,
населенными лишь дикарями; местность, где труд людей дает в
точности то, что необходимо, должны населять варварские народы,
никакая полития здесь невозможна. Местность, где избыток
продукта в сравнении с затраченным трудом имеет небольшой объем,
подходит для свободных народов; те местности, где плодородная
184
Общественный договор, или Начала политического права
и богатая почва приносит много даров при малых затратах труда,
благоприятны для монархического правления, дабы роскошь
государя позволила истратить чрезмерный избыток того, чем обладают
подданные; ибо лучше, если его поглотит правительство, чем
понапрасну растратят частные лица. Я знаю, что существуют
исключения, но сами эти исключения подтверждают правила в том
смысле, что рано или поздно происходят перевороты, которые приводят
положение вещей в порядок, установленный природой.
Будем же всегда отличать общие законы от частных причин,
способных менять характер выводов. Если бы весь юг был покрыт
республиками, а весь север деспотическими государствами, то в не
меньшей степени истинным было бы утверждение, согласно
которому в силу влияния природных условий деспотизм больше
подходит для жарких стран, варварство — для холодных, а добрая
политая — для областей, находящихся между ними. Кроме того, замечу,
что, соглашаясь с этим началом, можно спорить о его
осуществлении в жизни: можно сказать, что существуют холодные страны, где
почвы плодородны, и южные со скудной землей. Но эта сложность
существует лишь для тех, кто не изучает вопрос во всех отношениях
зависимости. Необходимо, как я уже говорил, учесть те из них, что
касаются затрат труда, усилий, объемов потребления и так далее.
Допустим, существуют два земельных участка одинаковых
размеров, и один из них дает урожай в 5 долей, а другой в 10. Если
живущие на первом участке потребляют 4 доли, а жители второго —
9 долей, избыток продукта на первом будет равен 1/5, а на втором
1/10; соотношение этих двух избытков окажется обратным к
соотношению количества продуктов, земля, на которой производятся
только 5 долей, даст двойной объем избытка в сравнении с землей,
приносящей 10 долей.
Но здесь речь не идет о двукратном объеме продукта, я не
думаю, что кто-нибудь вообще посмеет поставить знак равенства
между плодородием холодных стран и плодородием жарких. И все-
таки предположим, что это равенство существует, и, если угодно,
положим на чаши весов Англию и Сицилию, Польшу и Египет;
далее к югу располагаются Африка и Индия, а далее к северу вообще
ничего. При равенстве количества продукта — какая разница в
затратах на обработку земли! На Сицилии нужно лишь поковырять
землю, а в Англии прилагают столько усилий для ее обработки;
185
*\
Жан-Жак Руссо
там, где необходимо большее количество рабочих рук, чтобы
произвести одинаковый продукт, избыток будет, безусловно, меньшим.
Помимо этого, примите во внимание, что одинаковое
количество людей меньше потребляет продуктов в жарких странах,
поскольку климат там вынуждает людей быть более умеренными
в еде ради хорошего самочувствия; европейцы, желающие жить там
как у себя дома, страдают от дизентерии и несварения желудка.
Шарден пишет: «В сравнении с жителями Азии мы хищники,
волки; некоторые приписывают умеренность в пище у персов тому, что
в их стране меньше занимаются сельским хозяйством, а я,
напротив, думаю, что в их стране нет обилия продуктов питания именно
потому, что жители меньше в них нуждаются». И он продолжает:
«Если их воздержанность в пище была бы следствием недорода,
она была бы свойственна лишь беднякам, которые едят мало, тогда
как в целом мало едят все, и больше или меньше съедали бы в
различных провинциях в зависимости от плодородия края, однако
умеренность в пище имеет место во всем королевстве. Персы весьма
гордятся своим образом жизни и говорят, что стоит лишь
посмотреть на цвет их лица, чтобы понять, что их образ жизни более
хорош, чем образ жизни христиан. И действительно, цвет лица у
персов равномерный, у них прекрасная кожа, тонкая и гладкая, тогда
как кожа на лице армян, их подданных, которые живут как
европейцы, шершавая, цвет медный, а сами они толстые и
неповоротливые» 33.
По мере приближения к экватору замечаешь, что народы,
живущие там, довольствуются малым. Они почти не едят мясо, а рис,
кукуруза, кускус, просо, маниока — их обычная пища. В Индии пища
миллионов людей стоит менее одного су в день. Мы замечаем даже
в Европе ощутимую разницу в аппетите у народов Севера и Юга.
Испанцу на восемь дней хватит того, что съедает немец за ужином.
В странах, где люди неумеренны в еде, роскошью считаются
продукты питания; в Англии это заметно по тому, что стол уставлен
мясными блюдами, а в Италии вас попотчуют сластями и молодым
вином.
Роскошь в одежде также указывает на подобные различия: там,
где смена времен года происходит быстро и резко — лучшая и
простая одежда. В тех широтах, где одеваются лишь для красоты,
в большей мере стремятся к блеску одежды, чем к ее удобству, да
и сама одежда здесь является роскошью. В Неаполе каждый день
186
Общественный договор, или Начала политического права
можно увидеть, как по Позилиппо прогуливаются люди в вышитых
золотом куртках и без чулок. То же самое можно сказать и о
зданиях: их украшают со всем великолепием, когда не опасаются
непогоды. В Париже и Лондоне стремятся жить в тепле и удобстве, в
Мадриде существуют великолепные гостиные, но в них никогда не
закрывают окна, а спать ложатся в чуланах.
В жарких странах питание более сытное и сочное. И это третье
отличие, которое неизбежно влияет на второе, то есть отличие
в одежде. Почему едят так много фруктов в Италии? Да потому, что
там они хороши, питательны, с превосходным вкусом; во Франции,
где их поливают только водой, они совсем не насыщают, и их
считают чем-то несущественным, а между тем под фруктовые деревья
отведено не меньшее количество земли, и выращивать их стоит
отнюдь не меньшего труда. Опыт подтверждает, что зерно,
произрастающее у варваров, впрочем, более низкого качества, чем во
Франции, дает больше муки, а зерно, выращенное во Франции, в свою
очередь, дает больше муки, чем зерно с севера. Из чего можно
сделать вывод: подобный постепенный переход в общем наблюдается
в направлении от экватора к Северному полюсу. Разве не очевидно:
неблагоприятное обстоятельство заключается в том, что
одинаковые продукты были менее питательны?
Ко всем этим различным соображениям я могу добавить еще
одно, которое из них вытекает и их подкрепляет, а именно: жаркие
страны нуждаются в меньшем числе жителей, чем страны
холодные, а могут прокормить гораздо их больше. Когда избытка
производится в два раза больше, это всегда благоприятствует деспотизму.
Чем большую поверхность занимает сравнительно одинаковое
количество жителей, тем труднее совершать перевороты, потому что
невозможно сговориться ни быстро, ни в тайне, и правительству
ничего не стоит распознать замыслы заговорщиков и перерезать
пути сообщения между ними; но если жители многочисленного
народа живут на близком расстоянии, то у правительства меньше
возможностей захватить власть над сувереном; правители столь же
безопасно обсуждают дела в палатах, сколь и государь в своем совете,
а толпа собирается на площади столь же быстро, сколь и войска
в казармах. Следовательно, тираническому правлению выгодно
действовать на больших расстояниях. С помощью опорных
пунктов, которые оно создает, его сила на дальнем расстоянии возраста-
187
^ „ Жан-Жак Руссо
ет, подобно силе рычага *. Сила народа, напротив, действует, когда
он сосредоточен, и испаряется и теряется на больших расстояниях,
подобно тому как рассыпанный по земле порох вспыхивает от
зернышка к зернышку. Наименее населенным странам, таким образом,
свойственно тираническое правление: дикие животные царят в
пустынях.
Глава 9
О признаках хорошего правления
Когда все-таки настойчиво спрашивают, какое правление
является наилучшим, то задают вопрос, на который невозможно
ответить, поскольку он является неопределенным; или, если угодно, на
него есть столько правильных ответов, сколько существует
возможных сочетаний в зависимом или самостоятельном положении
различных народов.
Но если спрашивают, по какому признаку можно судить, плохо
или хорошо управляется тот или иной народ, это совсем другой
вопрос, и на деле он может быть решен.
Между тем, его так и не смогли решить, потому что каждый
желает его решать по-своему. Подданные превозносят покой в
обществе, граждане — свободу частных лиц; один предпочитает
безопасность владения, а другой — безопасность частных лиц; один
желает, чтобы наилучшее правление было наиболее суровым, другой
утверждает, что наилучшее правление — самое мягкое, и первый из
них желает того, чтобы преступления были наказаны, а второй —
чтобы их предотвращали; один считает за благо, чтобы его боялись
соседи, другой предпочитает, чтобы о его государстве никто и не
вспоминал; один доволен, когда деньги быстро обращаются, а
другой требует хлеба для народа. Даже если придут к согласию во всех
этих и других им подобных вопросах, продвинутся ли в их
решении? Количественным показателям в вопросах морали недостает
* Это противоречит тому, что я прежде сказал в главе 9 второй книги о
неудобствах управления большими государствами; но там речь шла о власти
правительства над гражданами, а здесь речь идет о его силе, которая проявляется в
противостоянии с подданными. Его рассеянные по стране части служат точками опоры
для того, чтобы оказывать воздействие на народ, но у него нет точек опоры для
того, чтобы оказывать воздействие на собственные части. И, таким образом, в
одном случае длина рычага составляет его силу, а в другом — слабость.
188
Общественный договор, или Начала политического права ^
точной меры, и даже если люди соглашаются в отношении
признаков, как они могут быть согласны в подсчетах?
Меня всегда удивляло то, что пренебрегают простым признаком
и не без злого умысла не согласны с его существованием. Какова
цель политического объединения? Она заключается в сохранении
и процветании его участников. Каков самый верный признак того,
что они сохраняют себя и процветают? Умножение
народонаселения. Так не ищите же вовне признака, вызывающего столько
споров. При прочих равных условиях правление, при котором без
посторонних средств, без принятия подданства иностранцами, без
колоний граждане заселяют территорию, а их число еще и
умножается, является наилучшим: то же правление, при котором
народонаселение уменьшается и погибает, является наихудшим.
Счетоводы, дело теперь за вами: считайте, измеряйте, сравнивайте *.
* В соответствии с этим самым началом следует оценивать времена,
заслуживающие предпочтения, когда речь заходит о процветании человеческого рода. Люди
чрезмерно восхищались теми временами, когда процветали искусства и
словесность, не вникая в скрытую причину их развития и не принимая во внимание его
пагубный результат, idque apud imperitos humanitas vocabatur, cum pars servitutis
esset34. И разве в книжных правилах не бросаются в глаза неприкрытые
соображения выгоды, побуждающие высказываться их авторов? Нет, что ни говори,
когда, несмотря на весь свой блеск, страна обезлюдевает, вряд ли в ней все идет
хорошо, и недостаточно, чтобы поэт получал 100 тысяч ливров ежегодного дохода,
для того чтобы век, в котором он живет, стал наилучшим. Необходимо принимать
во внимание не столько мнимый покой и безмятежность правителей, сколько
благосостояние нации в целом, и в особенности самых многочисленных сословий.
Град иногда опустошает кантоны, но редко становится причиной голода; мятежи,
гражданские войны сильно пугают властителей, но не они являются подлинным
несчастьем для народов, которые могут при этом даже получить некоторую
передышку, пока вокруг спорят о том, кто станет их тираном. Именно неизменное их
состояние порождает благополучие или подлинные бедствия. Когда все в
государстве оказывается раздавлено игом, тогда все и гибнет, и вот правители без
стеснения уничтожают народы. Ubi solitudinem facuint, pacem appellant35. Когда
дрязги вельмож возмущают французское королевство, а парижский коадъютор36 идет
с кинжалом в кармане в парламент, все это не мешает французскому народу жить
счастливо, быть многочисленным, имея приличный достаток и свободно им
распоряжаясь. Прежде Греция процветала во времена самых жестоких войн, когда
кровь текла рекой, и при этом вся страна была заселена. Макиавелли утверждал37:
мне кажется, что посреди убийств, проскрипций, гражданских войн наша
республика стала все-таки более могущественной; добродетели граждан, их нравы, их
независимость усилили республику больше, чем распри могли ее ослабить.
Небольшое волнение укрепляет души, и то, что действительно составляет
благополучие человечества, — это не мир, а свобода.
189
*\
Жан-Жак Руссо
Глава 10
О злоупотреблениях в правлении
и его склонности к вырождению
Так же как воля частных лиц непрерывно действует против воли
общей, точно так же и правительство постоянно прилагает усилия,
оказывая сопротивление суверенитету. Чем больше эти усилия
возрастают, тем больше государственное устройство искажается, и
поскольку при этом не существует какой-либо воли организма,
которая, оказывая сопротивление воле государя, уравновесила бы ее,
в конечном счет рано или поздно случится так, что государь станет
притеснять суверенную власть и разорвет общественное соглашение.
В этом заключается неизбежный и врожденный порок его
устройства, который с момента зарождения политического организма
беспрестанно ведет к его уничтожению; точно так же, как старость
и смерть в конце концов уничтожают тело человека.
Существуют два общих пути, следуя которым, правление
вырождается, а именно: когда оно сокращает число членов или когда
государство распадается.
Правление сокращает свою численность тогда, когда оно
переходит от большего числа лиц к меньшему, то есть от демократии
к аристократии и от аристократии к королевскому правлению.
Такова его природная наклонность*. Если оно начнет двигаться
* Медленное развитие и образование Венецианской республики в лагунах пока-
зываетзамечательный пример подобной последовательности; достойно удивления,
что на протяжении 12 веков венецианцы, как кажется, дошли только до второй
ступени, началом которой послужила Serrar di consiglio в 1198 году. Что касается
старинных герцогов, наличие которых им приводят в качестве возражения, что бы
ни говорилось в Squittini délia liberta veneta38, доказано, что они никогда не были
суверенами.
Мне не замедлят возразить, что Римская республика, развивавшаяся, как
утверждают, в прямо противоположном направлении, перешла от монархии к
аристократии и от аристократии к демократии. Я далек от того, чтобы с этим согласиться.
Первым учреждением Ромула было правление, которое вскоре выродилось в
деспотизм. Вследствие особых причин государство погибло преждевременно, подобно
тому как умирает новорожденный, так и не достигнув зрелого возраста. Изгнание
Тарквиниев стало временем подлинного зарождения республики. Но поначалу
она еще не приняла постоянный облик, потому что, оставив в силе патрициат,
сделали лишь половину дела. Ибо при таком порядке наследственная аристокра-
190
Общественный договор, или Начала политического права х-»
вспять — от малого числа к большему, — то тогда можно сказать,
что оно ослабевает, но это обратное развитие невозможно.
Действительно, правление меняет образ только тогда, когда его
рычаги изношены, оно становится слишком слабым и более не в
состоянии сохранить этот образ. Однако если оно ослабевает из-за
того, что расширяет свой состав, его сила становится ничтожной,
и тогда оно просуществует еще менее продолжительное время;
следовательно, необходимо вновь повернуть рычаг и надавливать на
него с такой силой, с какой он поддается, иначе государство,
которое он поддерживает, обрушится.
Распад государства может произойти двояким образом.
Во-первых, когда государь больше не управляет государством
в соответствии с законами и присваивает себе суверенную власть.
В этом случае происходят весьма заметные изменения, а именно:
не правительство сокращает число своих членов, а государство —
число граждан; я имею в виду, что государство распадается, и при
этом образуется другое, внутри него, состоящее только из членов
правительства, а для остального народа оно становится не чем
иным, как господином и тираном. Так что как только
правительство присваивает себе суверенитет, согласие в обществе нарушает-
тия - худший из способов законного управления - продолжала бороться с
демократией, а неустойчивый и неопределенный образ правления установился, как это
доказал Макиавелли, лишь после учреждения власти трибунов; и только тогда
появились настоящее правление и истинная демократия. И действительно, только
тогда народ стал не только сувереном, но еще и магистратом и судьей, а сенат -
лишь подведомственным судебным присутствием, учрежденным для того, чтобы
умерить или собрать воедино правление; да и сами консулы хотя и являлись
патрициями, главными магистратами и генералами с безграничной властью на
войне, были в Риме лишь председателями народного собрания.
С этого момента стало заметно, что правительство стало естественным образом
клониться и неизбежно двигаться к аристократическому правлению. Патрициат
как бы отменил себя сам, а аристократия уже входила не в состав организма
патрициев, как в Венеции или Генуе, а в организм сената, состоящий из патрициев
и плебеев, и даже в организм трибунов, когда они начали присваивать себе
действительное могущество: ибо слова не меняют ничего в характере вещей, и когда
у народа есть властители, которые правят вместо него, каким бы именем они ни
были названы, они всегда остаются аристократией. Злоупотребление
аристократией породило гражданские войны и триумвират. Сулла, Юлий Цезарь, Август
стали на деле настоящими монархами, и в конце концов под деспотизмом Тибе-
рия государство распалось. Римская история не опровергает обоснованного мною
начала, она его подтверждает.
191
*\
Жан-Жак Руссо
ся, и все простые граждане, по праву возвращая себе естественную
свободу, вынуждены, но не обязаны повиноваться.
Подобное же случается и тогда, когда члены правительства
присваивают по отдельности ту власть, которую они должны
осуществлять внутри организма; и это вовсе не незначительное нарушение
законов, ибо оно производит еще больший беспорядок. И вот тогда,
если можно так выразиться, оказывается столько государей,
сколько магистратов, и государство, в не меньшей степени разделенное,
чем правительство, погибает, и образ правления изменяется.
Когда государство распадается, злоупотребления со стороны
правительства, какими бы они ни были, в общем называются
анархией. Если выразиться точнее, можно сказать, что демократия
вырождается в охлократию, а аристократия — в олигархию; я бы добавил,
что королевская власть вырождается в тиранию, но это последнее
слово двусмысленно и требует пояснений.
В общепринятом смысле слова тиран означает короля,
правящего жестоко, не уважая правосудие и законы. В точном смысле
тиран — это частное лицо, захватившее королевскую власть, не имея
на нее право. Греки именно так и понимали смысл слова «тиран»;
этим именем они, не делая различий, называли хороших и плохих
государей, власть которых была незаконна *. Таким образом, слова
«тиран» и «захватгик» у них получили совершенно одинаковый
смысл.
Дабы назвать различными именами различные вещи, я буду
называть тираном захватчика королевской власти, а деспотом —
захватчика власти суверенной. Тираном является тот, кто вопреки
законам проникает в управление, осуществляющееся в соответствии
с законами; деспотом становится тот, кто ставит себя выше даже
законов. Таким образом, тиран может и не быть деспотом, но деспот
всегда становится тираном.
* Omnes enim et habentur et dicuntur Tyranni, qui potestate utuntur perpétua, in ea
Civitate quae libertate usa est39 (Corn. Nep. в биографии Мильтиада).
Действительно, Аристотель в «Никомаховой этике» (книга VIII, глава 9) проводит различие
между тираном и королем: первый, по его мнению, правит ради собственной
пользы, второй — только ради пользы подданных; но помимо того, что в целом
греческие авторы толковали слово «тиран» в другом смысле, как это видно в
особенности в «Гиероне» Ксенофонта, из различия, установленного Аристотелем, следовало
бы сделать тот вывод, что от времен начала человеческой истории не
существовало ни одного короля.
192
Общественный договор, или Начала политического права
Глава 11
О смерти политигеского организма
Такова естественная и неизбежная склонность правлений, даже
наилучшим образом устроенных. Если уж Спарта и Рим погибли,
какое государство может льстить себя надеждой существовать всегда?
Если мы пожелаем образовать прочные и долговременные
учреждения, не стоит помышлять сделать их вечными. Дабы добиться
успеха, не следует пытаться сделать невозможное и тешить себя тем,
что можно придать творению рук человеческих прочность, которой
не могут обладать вещи, созданные людьми.
Политический организм точно так же, как организм человека,
начинает умирать с момента рождения и заключает в себе самом
причины своего разрушения. Но и тот, и другой могут обладать
устройством более или менее прочным и способным сохранять организм
более или менее продолжительное время. Устройство человека —
творение природы, устройство государства — произведение
искусства. Возможность продления жизни от людей не зависит, но от них
зависит возможность продлить жизнь государства столь долго,
насколько это возможно, придав ему лучшее из возможных устройств.
Наилучшим образом устроенное государство погибнет, но позже
всякого другого, если только какое-нибудь случайное
обстоятельство не приведет к его преждевременной гибели.
Начало политической жизни заключено в суверенной власти.
Законодательная власть является сердцем государства, власть
исполнительная — его мозгом, она-то и приводит в движение все части
его организма. Мозг может поразить паралич, а личность
продолжает жить. Человек становится безумцем и живет; но как только
сердце перестает биться, живое существо умирает40.
Государство выживает не благодаря законам, а благодаря
законодательной власти. Закон, принятый вчера, уже не обязывает
сегодня, но когда народ молчит, подразумевается его молчаливое
согласие, и считается, что суверен постоянно подтверждает те законы,
которые он не отменяет, хотя и в состоянии это сделать. Все, о чем
он однажды заявляет как о желаемом, он продолжает желать, если
только он не отменяет своих решений.
Почему старинные законы пользуются таким уважением? Да
именно потому, что они старинные. При этом полагают, что лишь
7 Зак. 3436
193
*\.
Жан-Жак Руссо
высокое совершенство старинных волеизъявлений могло сохранить
законы в течение столь долгого времени; и если бы суверен
постоянно не признавал эти законы благотворными, он был бы в
состоянии уже тысячу раз их отменить. Вот почему законы, вместо того
чтобы ослабевать, непрерывно обретают новую силу во всяком
хорошо устроенном государстве; старинные предубеждения делают
их изо дня в день все более почитаемыми, тогда как то
обстоятельство, что повсюду, где законы устаревают, они ослабевают, и это
свидетельствует о том, что законодательной власти больше нет,
а государство погибает.
Глава 12
Как суверенная власть
приобретает устойгивость
Поскольку суверен, не обладая никакой иной силой, кроме
законодательной власти, действует с помощью законов, а законы — это
не что иное, как удостоверенные решения общей воли, суверен
может действовать лишь тогда, когда народ созван. «Созванный на
собрание народ, — скажут иные, — какая нелепость!» Такой она
кажется сегодня, но она не была ею две тысячи лет назад. Или
природа людей изменилась?
Пределы допустимого в вопросах морали менее тесны, чем мы
привыкли думать: наши пороки, слабости, предрассудки
ограничивают наше поле зрения. Низменные души не верят в существование
великих людей: презренные рабы с насмешкой улыбаются,
услышав слово «свобода».
Будем расценивать возможность существования чего-либо с
учетом того, что уже существовало; не стану упоминать
древнегреческие республики; но ведь римская республика была, как мне
кажется, большим государством, а Рим — большим городом. Согласно
последнему по времени цензу, в Риме проживало четыреста тысяч
граждан, способных носить оружие, а в последней по времени
переписи эпохи империи значилось четыре миллиона граждан, не
считая подданных, иностранцев, женщин, детей и рабов.
Какие только затруднения ни рисует воображение, когда
представляешь частые собрания огромного народа, живущего в столице
и ее окрестностях! А между тем не проходило и недели, чтобы на-
194
Общественный договор, или Начала политического права s~*
род не собирался, а иногда и по нескольку раз. Он не только
осуществлял суверенные права, но и отчасти права правительства. Он
обсуждал некоторые дела, выносил судебные решения по отдельным
жалобам, а весь народ в месте общего собрания столь же часто
становился магистратом, сколь и гражданином.
Обращаясь к первым векам существования наций, можно
обнаружить, что у большей части древних правлений, даже правлений
монархических, например у македонцев или франков,
существовали подобные советы. Как бы то ни было, один только этот факт
служит ответом на все затруднения: от существующего к
возможному — такой вывод мне кажется правильным.
Глава 13
Продолжение
Недостаточно, если собравшийся народ однажды закрепляет
государственное устройство и одобряет свод законов; и недостаточно
учредить вечное правление и однажды и раз и навсегда
позаботиться о выборе магистратов. Помимо чрезвычайных собраний,
которые могут потребоваться в силу непредвиденных обстоятельств,
необходимы еще и собрания периодические и постоянные, которые
ни в коем случае нельзя отменить или отсрочить таким образом,
что в назначенный день народ на основании закона и законным
образом будет созван, и при этом нет необходимости в каком-либо
особом порядке созыва.
Но вне этих собраний с юридически закрепленной датой созыва
всякое собрание народа, не созванное магистратами, для сего
назначенными в предписанном порядке, должно считаться
незаконным, а все, что на них происходит, — не имеющим силы, потому
что сам порядок собраний следует определить в законе.
Что же касается необходимости более или менее частого
проведения законных собраний, то она зависит от такого количества
соображений, что тут невозможно установить точные правила. Можно
только утверждать, что чем более сильным является
правительство, тем более часто суверен должен заявлять о своем присутствии.
Мне возразят, что это может быть пригодно для одного только
города. А что делать, если государство состоит из многих городов?
Следует ли поделить суверенную власть или же сосредоточить ее
в одном-единственном городе, подчинив ему остальные?
195
*-\.
Жан-Жак Руссо
Отвечу на это, что не следует делать ни того, ни другого.
Во-первых, суверенная власть однородна и является единством, и ее
невозможно разделить, при этом не уничтожив. Во-вторых, один город
нельзя на законном основании подчинить другому, потому что
сущность политического организма заключена в согласии
подчинения и свободы, а сами эти слова — сверен и подданный — есть
взаимно однозначное соответствие, смысл которого соединяет в себе
одно слово: гражданин.
Кроме того, возражу, что в любом случае неправильно
объединять в одну политическую общину множество городов, и, желая
создать этот союз, не следует льстить себя надеждой, что при этом
удастся избежать естественных неудобств. Не нужно ссылаться на
пороки больших государств, когда речь заходит о малых: но каким
образом сделать малые государства достаточно сильными, чтобы
они могли оказать сопротивление большим? Да таким же образом,
как прежде греческие города оказывали сопротивление великому
царю, а в недавнее время Голландия и Швейцария оказали
сопротивление австрийскому королевскому дому.
Если все-таки невозможно сократить размеры государства до
надлежащих пределов, остается одно средство, а именно: не
допустить создания столицы, заставив правительство присутствовать
поочередно то в одном, то в другом городе и собирать там раз от раза
собрание сословий страны.
Заселите равномерно области страны, распространите повсюду
одинаковое право, повсеместно заведите изобилие и жизненные
запасы — именно таким образом государство станет одновременно
и сильным, и, насколько возможно, хорошо управляемым. Не
забывайте о том, что городские стены строятся из обломков деревенских
домов. Всякий раз, когда я вижу строительство дворца в городе,
мне видится страна, вся рокрытая жалкими лачугами.
Глава 14
Продолжение
Как только народ законно собирается в качестве суверенного
организма, все правомочия правительства прекращаются,
исполнительная власть приостанавливает свое действие, а личность самого
простого гражданина становится столь же священной, как и лич-
196
Общественный договор, или Начала политического права ^-»
ность высшего магистрата, потому что там, где появляется сам
представляемый, нет места представителю. Большая часть народных
волнений, которые возникали в Риме на комициях, происходила от
того, что пренебрегали этим правилом или не считались с ним.
В этих обстоятельствах консулы становились
председательствующими в народном собрании, трибуны превращались в ораторов*,
а сенат более ничего не значил.
Эти промежутки, когда приостанавливается действие
исполнительной власти и Государь признаёт или должен согласиться с
присутствием вышестоящего лица, всегда внушали ему опасение, а эти
собрания народа, которые всегда являлись заступниками
политического организма и уздой для правительства, постоянно приводили
в ужас правителей: разве они когда-нибудь щадили усилия,
возражения41, препятствия, обещания, чтобы лишить мужества граждан?
И когда граждане становились жадными, подлыми, малодушными,
более любящими покой, чем свободу, они недолго могли
противостоять правительству, действующему с удвоенной силой; именно
тогда сила сопротивления непрерывно возрастает, а суверенная
власть в конечном итоге исчезает, и большая часть политических
общин клонится к упадку и преждевременно погибает.
Но между суверенной властью и произвольным правлением
иногда возникает промежуточная власть, о которой необходимо
сказать.
Глава 15
О депутатах, или представителях
Как только служба государству перестает быть основным
занятием граждан, они предпочитают служить своему кошельку, а не
своей личности, и государство оказывается на грани развала.
Нужно идти в бой — они оплачивают наемников и сидят дома. Нужно
идти в совет — они избирают депутатов и сидят дома. Благодаря их
лености и подкупу, в конце концов появляются солдаты,
порабощающие отечество, и представители, которые его продают.
* Почти в том же значении, которое это слово получило в английском
парламенте. Сходство между этими должностями привело к противостоянию консулов
и трибунов, хотя их правомочия и приостанавливались.
197
«-\.
Жан-Жак Руссо
Суетные занятия торговлей и искусствами, жажда наживы,
изнеженность и любовь к жизненным удобствам ведут к тому, что
личную службу заменяют деньги. Уступают часть доходов, с тем
чтобы без стеснений их увеличивать. Платите деньги, и вскоре вы
окажетесь в оковах. Слово «финансы» в ходу у рабов, оно незнакомо
политической общине. В подлинно свободном государстве
граждане все делают сами, а не с помощью денег: вместо того чтобы
уклоняться от своих обязанностей, они скорее готовы заплатить, чтобы
иметь возможность исполнять их самостоятельно. Я далек от
общепринятых мыслей: я полагаю, что барщина менее противна
свободе, чем пошлины42.
Чем лучше государственное устройство, тем выше стоят в
сознании граждан общественные дела, а не личные. Частных дел даже
гораздо меньше, потому что совокупность общего счастья
доставляет более значительную его долю в сравнении с тем, что выпадает
на долю отдельной личности, и ей почти что не нужно искать это
счастье в частных заботах. В хорошо управляемой гражданской
общине граждане бегут на собрания, а при плохом правлении никто
не пожелает и шага сделать, чтобы туда пойти, потому что никто не
вникает в происходящее там, и легко предвидеть, что общая воля
не будет там господствовать, а домашние заботы завладеют
людьми целиком. Хорошие законы заставляют принимать лучшие, а
плохие приводят к принятию худших. Как только кто-нибудь скажет
о государственных делах: «какое мне до них дело?», — считайте,
что государство погибло.
Охлаждение любви к отечеству, стремление к личной выгоде,
огромные размеры государства, завоевания и пороки правления
вынудили ступить на путь выборов депутатов, или представителей
народа, на собраниях нации. Это то, что в некоторых странах
называют третьим сословием. Итак, соображения частной выгоды
первых двух сословий поставлены на первое и второе место, а выгода
общества — на третье.
Суверенитет не может быть представлен по той же причине, по
какой он неотчуждаем; он существенным образом заключен в
общей воле, а общая воля вообще не может быть представлена: она
тождественна себе или становится иной, середины не бывает.
Народные депутаты, следовательно, не являются и не могут быть ее
представителями, они — лишь ее уполномоченные и ничего не
вправе решать окончательно. Всякий закон, который не утвердил на-
198
Общественный договор, или Начала политического права
род, ничтожен. Это вообще не закон. Народ Англии полагает, что
он свободен, и весьма при этом заблуждается, он свободен только
во время выборов членов парламента; как только они избраны,
он — ничто. В краткие мгновения свободы то, как он ею
распоряжается, вполне заслуживает того, чтобы он ее утратил.
Мысль об избрании представителей — недавнего
происхождения: она пришла из феодального правления, правления
несправедливого и бессмысленного, которым человеческий род опозорил себя
и при котором обесчестили само имя человека. Во времена древних
республик и даже при монархии народ никогда не имел
представителей, само это слово было неизвестно. Примечательно, что в Риме,
где должность трибуна была столь священной, римляне даже
вообразить себе не могли, что трибуны смогут себе присвоить
полномочия народа; они даже ни разу не попытались по своему почину
провести хоть один плебисцит. Судите сами, какое замешательство
иной раз создавала толпа, когда во времена Гракхов случалось, что
часть граждан высказывала свое одобрение с крыш домов.
Когда право и свобода превыше всего, неудобства не имеют
значения. У этого мудрого народа все было соразмерно: они оставляли
на попечение ликторов то, что не осмеливались сделать
трибуны, не опасаясь стремления ликторов стать его представителями.
Для того, чтобы все-таки объяснить, каким образом трибуны
иногда представляли народ, достаточно понять, каким образом
правительство представляет суверена. Поскольку закон
провозглашает общую волю, ясно, что законодательные полномочия народа
нельзя представлять; но народ должен и может быть представлен
в исполнительной власти, которая является не чем иным, как
силой, применяющей закон. Сказанное означает: при внимательном
рассмотрении вопроса оказывается, что лишь немногие нации
обладали законами. Как бы то ни было, понятно, что трибуны, не
обладая даже частью исполнительной власти, в силу своей должности
не могли представлять римский народ, если только не присваивали
себе права сената.
У греков все то, что народ намеревался сделать, он делал
самостоятельно, и он постоянно собирался на площади. Он жил при
мягком климате, не был алчным, на него работали рабы, а его
основным делом стало сохранение своей свободы. Не имея подобных
преимуществ, как сохранить сходные права? Особенно если ваш кли-
199
«^ч.
Жан-Жак Руссо
мат более суров, ваши потребности более велики *, а в течение
шести месяцев в году площадь для собраний недоступна, и вашу
невнятную речь не услышат на открытом воздухе, если вас больше
занимает нажива, а не свобода, и гораздо больше страшит нищета,
чем рабство.
Как! Свобода становится прочной, лишь опираясь на рабство?
Возможно. Крайности сходятся. Все, что вообще не согласуется
с природой вещей, сопряжено с неудобствами, и в гражданском
обществе их больше, чем во всем остальном. К несчастью, существуют
такие обстоятельства, при которых возможно сохранить
собственную свободу лишь в ущерб свободе остальных лиц и гражданин не
может стать совершенно свободным, иначе как в случае, если раб
окажется в крайнем порабощении. Так дело обстояло в Спарте. Что
касается вас, современные народы, то у вас рабов нет, но вы сами
являетесь рабами; за их свободу вы расплачиваетесь вашей
собственной. Напрасно вы кичитесь этим преимуществом, я вижу в этом
больше малодушия, чем гуманности.
Я вовсе не имею в виду, что для свободы необходимо рабство
и что право на рабов является законным, коль скоро я уже доказал
обратное. Я лишь высказал доводы, почему нынешние народы,
считающие себя свободными, имеют представителей и по какой
причине у древних их не было. Как бы то ни было, как только у
народа появляются представители, он больше не свободен, он больше
не существует.
Изучив все это, я не понимаю, как возможно сделать так, чтобы
в наше время суверен сохранил за собой осуществление своих прав:
разве что гражданская община будет иметь малые размеры. Но
если она слишком мала, значит ли это, что ее легко покорить? Нет.
Я в дальнейшем объясню **, как возможно соединить внешнее
могущество большого народа с необременительным благочинием
и добрым порядком, свойственным малым государствам.
* Допустить в холодных странах роскошь и изнеженность восточных народов
означает наложить на себя их оковы; это означает — в еще большей мере, чем они,
смириться с необходимостью их нести.
** Это то, что я намереваюсь сделать в следующих разделах своей работы, когда,
рассматривая внешние отношения государства, дошел до мысли о содружествах.
Предмет совершенно новый, а начала, лежащие в его основе, еще необходимо
установить43.
200
Общественный договор, или Начала политического права
Глава 16
О том, гто угреждеиие правительства
вовсе не является договором
Как только учреждена законодательная власть, вслед за этим
следует учредить власть исполнительную, ибо последняя действует,
лишь принимая решения частного порядка, и будучи по сути
отличной от первой, естественным образом от нее отделена. Если бы
оказалось возможным наделить самого суверена исполнительной
властью, факт и право смешались бы и было бы непонятно, что
является законом, а что нет, а политический организм, лишенный
своих природных качеств, оказался бы жертвой насилия, в противовес
которому он был создан.
Поскольку в силу общественного договора все граждане равны,
то все обладают полномочиями предписывать то, что должны
делать все, и при этом никто не имеет права требовать, чтобы другой
человек делал то, что сам он не делает. Однако, учреждая
правительство, именно это право, обязательное для жизни и деятельности
политического организма, суверен сообщает государю.
Многие настаивали на том, что его учреждение является
договором между народом и правителями, в который народ добровольно
вступает; договором, предусматривающим согласие обеих сторон
при условии, что одна сторона обязывается управлять, а другая —
повиноваться. Со мной согласятся, я уверен, что это странный
способ составлять соглашение! Но посмотрим, обоснованно ли это
суждение.
Во-первых, высшая власть меняет свой характер, лишь
отчуждая себя; ограничить ее означает уничтожить. Было бы нелепо
и противоречиво думать, будто суверен добровольно установит над
собой вышестоящего; обязать себя повиноваться господину
означает вернуть себе полную свободу44.
Во-вторых, очевидно, что договор народа с теми или иными
лицами был бы решением особого характера. Из чего следует, что
этот договор не может быть ни законом, ни решением суверенной
власти, и, следовательно, в этом случае являлся бы незаконным.
Посему видно, что обе стороны в договоре подчинялись бы
закону природы, не имея никакой поруки своим взаимным
обязанностям, что во всех отношениях претит гражданскому состоянию: тот,
201
*\
Жан-Жак Руссо
в чьих руках сила, всегда обладает возможностью применить ее;
это все равно что назвать именем договора поступок человека,
который, обращаясь к постороннему, говорит: «Я отдаю вам все мое
имущество при условии, что вы мне дадите взамен все, что вам
угодно».
В государстве существует только один договор — это договор об
образовании объединения лиц; и он во всяком случае устраняет
всякий иной. Невозможно себе вообразить никакой иной
публичный договор, не нарушающий этот договор.
Глава 17
Обугреждении правительства
Какое представление необходимо составить себе о решении, в
силу которого учреждается правительство? Прежде всего замечу, что
это решение сложное, состоящее из двух других решений, а именно:
решения о принятии закона и решения о его исполнении.
В силу первого решения суверен постановляет, что будет
учрежден тот или иной правительственный организм; понятно, что это
решение является законом.
В силу второго решения народ назначает правителей, которым
будет вверено учрежденное правительство. Однако поскольку это
назначение становится решением частного характера, оно не есть
второй закон, а лишь следствие первого и полномочие правительства.
Трудность заключается в том, чтобы понять, каким образом
может проявиться решение правительства до того, как оно возникнет,
и как народ, являющийся лишь сувереном или подданным, при
определенных обстоятельствах может стать государем или
магистратом.
Именно в этом обнаруживает себя еще одно из удивительных
свойств политического организма, позволяющее ему
согласовывать мнимо противоречивые действия. Ибо это свойство проявляет
себя благодаря внезапному преобразованию суверенитета в
демократию таким образом, что безо всякого ощутимого изменения
и только благодаря вновь возникшему отношению всех ко всем
граждане, ставшие магистратами, переходят от решений общего
характера к решениям частного, от принятия закона к его
исполнению.
202
Общественный договор, или Начала политического права
Это изменение в отношениях между ними не является
умозрительной тонкостью, примера которой не найти в опыте: оно
происходит ежедневно в английском парламенте, где нижняя палата
превращается в известных случаях из суверенной палаты, которой
она была минутой ранее, в расширенное совещание, дабы лучше
обсуждать дела, и таким образом становится простым советом;
таким образом, она затем попадает в зависимое отношение от себя
самой в качестве палаты общин во всем том, что она только что
определила, будучи расширенным совещанием, и снова обсуждает
в ином качестве то, что она решила в другом.
Таково преимущество, свойственное демократическому
правлению, заключающееся в том, что оно на деле может быть создано
простым решением общей воли. После чего это временное
правительство сохраняется, если такой образ правления одобрен, или же
учреждает от имени суверена правительство, предписанное
законом: итак, все согласуется с правилами. Невозможно создать
правительство никаким иным законным способом, пренебрегая ранее
обоснованными началами.
Глава 18
Средство предотвратить
присвоение власти правительством^
Из этих разъяснений следует, в подтверждение сказанному в
главе 16, что решение, в силу которого возникает правительство,
является не договором, но законом и что носители исполнительной
власти — не хозяева народа, а лишь его должностные лица, и он
может их назначать и смещать по своему усмотрению; здесь и речи
быть не может о договорных отношениях, но о повиновении,
поскольку, принимая на себя полномочия, предоставленные им
государством, эти лица лишь исполняют гражданский долг, ни в коей
мере не обладая правом оспаривать условия наделения их
полномочиями.
В случае же когда народ создает наследственное правление —
либо монархическое, принадлежащее одной семье, либо
монархическое, принадлежащее разряду граждан, — он вовсе не принимает
на себя обязанности; это всего лишь временный облик, который он
придает управлению до тех пор, пока ему не будет угодно
распорядиться иначе.
203
«-^
Жан-Жак Руссо
Действительно, эти изменения всегда опасны, и к учрежденному
правительству следует прикасаться лишь тогда, когда его
деятельность становится несовместимой с общим благом; но эта
осмотрительность есть требование политики, а не норма права, и
государство не обязано вверять своим правителям гражданскую власть,
а власть военную — генералам.
И кроме того, верно, что в подобных случаях невозможно
вполне учесть все мелкие правила, которые, однако, необходимо
учитывать, дабы уметь отличить правильное и законное решение от
волнений бунтовщиков и волю всего народа от воплей мятежников.
И, в частности, при этом следует считать злоупотреблением правом
именно то, в чем народу нельзя отказать в рамках строгого права,
и, кроме того, из этой своей обязанности государь извлекает
наибольшую выгоду, сохраняя свою власть в ущерб народу так, чтобы
никто не мог в этом случае сказать, будто он ее себе присвоил: ибо,
делая вид, что он всего лишь пользуется своими правами, он с
легкостью их расширяет и под предлогом сохранения общественного
спокойствия препятствует проведению собраний, призванных
водворить порядок; так что он извлекает пользу из молчания, которое он
не дает нарушить, или из нарушений правил, которые он
вынуждает допустить с целью зачесть в свою пользу мнение тех, кого
опасения побуждают молчать, и наказать тех, кто осмеливается
заговорить. Именно так случилось с децемвирами, избранными лишь на
один год, затем их полномочия продлили еще на один год, а они
попытались навсегда удержать власть, не позволяя комициям
собираться; именно с помощью этого средства все правительства мира,
однажды облеченные государственной властью, рано или поздно
присваивают себе суверенную власть.
Периодически созываемые собрания, о которых я говорил
раньше, смогут предотвратить или отсрочить наступление этого
несчастья, в особенности если они не нуждаются в особом порядке
созыва: ибо в этом случае государь не сможет помешать их проводить,
не заявив о себе как нарушитель законов и враг государства.
Открытие заседаний этих собраний, цель которых —
сохранение общественного соглашения, должно всегда сопровождаться
двумя вопросами, вынесенными на обсуждение, и ими ни в коем
случае нельзя пренебрегать. Они должны быть по отдельности
поставлены на голосование.
204
Общественный договор, или Начала политического права ^
Первое: Угодно ли суверену сохранить существующий образ
правления?
Второе: Угодно ли народу оставить управление в руках тех, на
кого оно в настоящее время возложено?
Я в этом случае исхожу из предположения, основанного на
доказанном ранее, а именно: что в государстве не существует ни одного
основного закона, который нельзя было бы отменить; сказанное
касается и согласия в обществе, ибо если граждане собираются для
того, чтобы по общей договоренности отменить эти обязательства,
невозможно усомниться, что они будут весьма законным образом
прекращены. Гроций даже полагает, что каждый может отказаться
от гражданства в государстве и снова вернуть себе дарованные
природой свободу и имущество, покидая страну *. Да и нелепо считать,
будто, собравшись вместе, граждане не могли бы сделать то, что
может сделать каждый из них в отдельности.
Конец третьей книги
Книга IV
Глава 1
О том, гто общая воля является нерушимой
Пока множество собранных вместе людей рассматривает себя
как единый организм, они обладают только одной волей,
направленной на сохранение всех вместе и на общее благо. Тогда все рычаги
государства прочны и просты, а правила, которыми оно
руководствуется, ясны и понятны, ибо там нет запутанных и
противоречивых соображений выгоды, общее благо проявляется со всею
очевидностью, и для того, чтобы на него обратили внимание, требуется
лишь здравый смысл. Мир, союз, равенство суть враги ухищрений
в политике. Простых и прямодушных людей трудно обмануть,
потому что они просты: ложные цели, утонченные отговорки им не
* Разумеется, речь не идет о тех случаях, когда страну покидают, дабы
уклониться от исполнения долга и избавить себя от необходимости ей служить, когда она
в этом нуждается. Бегство из страны в этом случае наказуемо и преступно; это
будет уже не отъезд из страны, а отступничество.
205
*\
Жан-Жак Руссо
навяжешь, они даже недостаточно лукавы для того, чтобы
оказаться простофилями. Когда мы наблюдаем самый счастливый народ
в мире, видим, как под дубом собираются толпы крестьян, вершат
государственные дела и мудро ведут себя, то можно ли удержаться
от презрительного отношения к ухищрениям иных народов,
которые с таким искусством, с такой загадочностью стремятся стать
знаменитыми и вместе с тем несчастными?
Государство, управляемое таким образом, нуждается в очень
малом количестве законов, и по мере того как становится
необходимым обнародовать новые законы, эта необходимость становится
очевидной повсюду. И первый, кто их предлагает, всего лишь
высказывает то, что все уже почувствовали, и не нужны ни происки, ни
красноречие, чтобы выразить в законе то, что каждый уже решился
сделать, коль скоро он будет уверен: остальные поступят так же,
как и он.
Что вводит в заблуждение умников, так это то, что, имея перед
глазами лишь государства с плохим устройством, возникшим с
самого начала, они недоумевают, почему оказывается невозможным
поддерживать в них подобное благочиние; они смеются, воображая
все глупости, которые какой-нибудь ловкий мошенник,
какой-нибудь вкрадчивый болтун смог бы внушить народу Парижа или
Лондона. Они не ведают, что Кромвель был бы освистан народом Берна,
а герцог де Бофор — женевцами, обладавшими воинской выучкой.
Однако когда узел общества начинает развязываться и
государство начинает ослабевать, когда становятся ощутимыми
соображения выгоды частных лиц и малые сообщества начинают оказывать
влияние на большие, соображения общей выгоды искажаются, у них
появляются противники: нет более единогласия в голосовании;
общая воля более не является волей всех; появляются противоречия,
прения, и самое лучшее мнение не одобряется без споров.
Наконец, когда от близкого к краху государства остается лишь
призрачный и никому не нужный облик, когда узы общества
разорваны во всех сердцах, когда низменные соображения выгоды
бесстыдно рядятся в одежды священного блага общества, тогда общая
воля теряет способность говорить; все люди, ведомые тайными
побуждениями, высказывают свое мнение не в качестве граждан, но
так, как будто государство никогда и не существовало, и лживо
проводят под именем законов несправедливые постановления,
которые имеют в виду лишь частную выгоду.
206
Общественный договор, или Начала политического права ^*
Не следует ли отсюда то, что общая воля уничтожена или
испорчена? Нет: она всегда постоянна, неизменна и чиста; но она
подчинена прочим, берущим верх над нею. Каждый, кто отделяет свою
выгоду от выгоды общей, отлично понимает, что он не может ее
отделить полностью; но часть несчастий в обществе, выпавшая на его
долю, кажется ему ничтожной в сравнении с особым благом,
которое при этом он полагает извлечь себе на пользу. Кроме этого
частного блага, он желает блага для всех ради своей собственной
выгоды столь же сильно, как и всякий другой. Даже при голосовании
продавая себя за деньги, он не уничтожает внутри себя общую
волю, а лишь избегает ей следовать. Промах, который он допускает,
заключается в том, что он подменяет один вопрос другим и
отвечает не на тот, который ему задают; таким образом, вместо того
чтобы, голосуя, сказать: «для государства полезно», он отвечает:
«полезно для такого-то человека или для такой-то партии, если то или
иное мнение возобладает». Таким образом, закон общественного
порядка в собраниях заключается не столько в укреплении там
общей воли, сколько в том, чтобы перед ней ставили вопросы, а она
всегда давала ответы.
Я бы о многом должен был поразмыслить здесь по поводу
простого права голосования при принятии решения суверенной
властью, которое ни в коем случае нельзя отнять у граждан; и по поводу
права высказывать мнение, предлагать, придерживаться
противного мнения, обсуждать, которое правительство все время
старательно пытается сохранить лишь за своими членами; но этот важный
предмет изучения потребовал бы особого трактата, а в этом трактате
я не смогу говорить обо всем.
Глава 2
О подаге голосов
В предыдущей главе мы видели, что способ, с помощью
которого обсуждаются дела общего порядка, может достаточно надежно
указать на то, каково состояние нравов и здоровья политического
организма. Чем больше согласия в собраниях, то есть чем больше
мнения склоняются к единодушию, тем чаще будет господствовать
общая воля; но продолжительные обсуждения, раздоры, смятение
207
*\
Жан-Жак Руссо
указывают на наличие соображений частной выгоды и упадок
государства.
Все это кажется менее очевидным, когда два или более разрядов
граждан включаются в государственный строй, как, например, в
Риме патриции и плебеи, чьи ссоры часто вызывали смятение в коми-
циях даже в самые блестящие времена республики; но это
исключение скорее мнимое, чем действительное, поскольку тогда в силу
изъяна, присущего политическому организму, появляется два
государства в одном, и нельзя признать за истину относительно двух
государств, вместе взятых, то, что является таковой для каждого из
них в отдельности. В самом деле, даже в самое беспокойное время
народные плебисциты, если сенат в них не вмешивался, проходили
всегда спокойно, и голосование осуществлялось большинством
голосов, поскольку у граждан был только одно соображение выгоды,
а народ обладал только одной-единственной волей.
На противоположном конце круга снова возникает единодушие.
А именно когда граждане, оказавшиеся в рабстве, более не обладают
ни свободой, ни волей. Тогда страх и лесть подменяют
голосованием одобрительными возгласами, люди больше не обсуждают, они
обожают или проклинают. Таковым был при императорах гнусный
обычай сената подавать свое мнение. Иногда это делалось с
глупыми предосторожностями. Тацит замечает, что при Отоне сенаторы,
осыпая Вителлия проклятиями, при этом старались поднять
ужасный шум, чтобы тот, если станет хозяином, не узнал, что каждый из
них говорил46.
Из этих различных соображений возникают правила, в
соответствии с которыми необходимо установить порядок подсчета
голосов и порядок сравнения мнений, согласно тому, насколько легко
или затруднительно распознать общую волю и насколько сильно
государство клонится к упадку.
По природе существует лишь один закон, который требует
единодушного одобрения. Это — согласие в обществе: поскольку
гражданское объединение является самым что ни на есть добровольным
решением и поскольку всякий человек рожден свободным и хозяин
самому себе, то никто не может, под каким бы то ни было
предлогом, подчинить его без его согласия. Считать, что сын раба
рождается рабом, означает считать, что он не рождается человеком.
Стало быть, если в момент возникновения согласия в обществе
найдутся несогласные, то их возражения не лишают договор силы,
208
Общественный договор, или Начала политического права
^~*
эти возражения лишь препятствуют тому, чтобы они в него
вступили: они оказываются иноземцами среди граждан. Когда государство
получает установление, одобрение с их стороны заключается в
самом пребывании в нем; жить на его территории означает
повиноваться суверенитету *.
Вне этого изначального договора голос наибольшего числа
людей обязывает всех остальных; это следствие самого договора. Но
мы задаемся вопросом: каким образом один человек может быть
свободным и при этом быть вынужденным сообразовывать свои
поступки с изъявлениями воли, не являющимися его
собственными. Каким образом те, кто возражает, остаются свободными и
подчиняются законам, с которыми они не согласны?
Я отвечу, что вопрос этот поставлен неправильно. Гражданин
одобряет все законы, даже те, что приняты без его согласия, и даже
те, по которым его наказывают, когда он осмеливается хотя бы
один из них нарушить. Неизменная воля всех членов государства
и есть общая воля: именно в силу этой воли они становятся
гражданами и обладают свободой **. Когда предлагают какой-либо закон
в народном собрании, то народ спрашивают не столько о том,
одобряет ли он или отклоняет предложение, сколько о том,
соответствует ли оно или нет общей воле, являющейся их собственной;
каждый, подавая свой голос, высказывает мнение по этому вопросу,
и из подсчета голосов выясняется мнение общей воли. Когда же
побеждает мнение, противное моему, то это доказывает мою ошибку,
и то, что я считал выражением общей воли, таковым не было. И если
бы мое особое мнение возобладало, это означало бы, что я сделал
нечто иное в сравнении с тем, что хотел сделать; и в этом случае
я оказался бы несвободен.
* Это всегда следует подразумевать в свободном государстве, ибо во всех
остальных случаях семья, имущество, отсутствие жилья, нужда, жестокость могут
удерживать жителя в стране вопреки его воле, и тогда только по факту его пребывания
в государстве нельзя более предположить, согласен ли он с договором или с тем,
что его нарушают.
** В Генуе можно прочитать на воротах тюрем и на цепях галерных гребцов
слово «свобода». Это — правильное употребление слова. Действительно, лишь
злоумышленники в разных сословиях мешают гражданину стать свободным. В тех
странах, где все эти лица окажутся на галерах, люди будут пользоваться самой
полной свободой.
209
*-s Жан-Жак Руссо
По правде сказать, это предполагает, что все признаки общей
воли проявляются в большинстве голосов; когда она перестает ими
обладать, что ни говори — свободы больше нет.
Показав ранее, каким образом частные воли подменяют собой
общую во время принятия решений, я указал на достаточное
количество средств, которые следует использовать, чтобы предотвратить
это злоупотребление; позднее я об этом еще скажу. Относительно
соответствующего числа голосов на выборах, достаточных для
провозглашения этой воли, я уже обосновал начало, в соответствии
с которым можно определить это число. Разница в один только
голос нарушает равенство; одно возражение уничтожает единодушие;
но между единодушием и равенством существует множество
случаев неравного распределения голосов, а их численное соотношение
можно закрепить с учетом состояния и потребностей
политического организма.
Два общих правила могут помочь установить эту зависимость.
Первое правило: чем более важным и серьезным является
обсуждение, тем более единодушно должно быть выражено мнение,
которое берет верх; второе правило: чем больше рассматриваемый
вопрос нуждается в быстроте решения, тем более следует сократить
предписанную законом разницу в голосах «за» и «против»; в
обсуждении, которое надлежит завершить немедленно, преимущества
в один голос достаточно. Первое из этих правил кажется более
подходящим для принятия законов, а второе — для решения текущих
дел. Как бы то ни было, именно учитывая сочетание этих правил,
следует ввести наилучшее соотношение большинства и
меньшинства голосов при вынесении постановления47.
Глава 3
О выборах
Что касается выборов государя и магистратов, то эти выборы
являются, как я уже говорил, сложными решениями; имеется два
способа приступить к их вынесению, а именно: выборы и жребий.
И тот, и другой использовали в различных республиках, и еще
сегодня можно видеть очень сложное их сочетание на выборах дожа
Венеции.
«Выборы по жребию, — говорит Монтескье, — по своей природе
присущи демократии». Согласен, но каким образом? «Жребий, —
210
Общественный договор, или Начала политического права
продолжает он, — есть способ избрания, который не доставляет
неприятностей никому: он оставляет каждому гражданину разумную
надежду послужить родине». Но доводы здесь иные.
Если обратить внимание на то, что выборы правителей входят
в полномочия правительства, а не суверенитета, то мы увидим,
почему выборы по жребию более свойственны природе демократии,
где управление тем лучше, чем меньше выносится постановлений.
При всякой истинной демократии магистратура является не
преимуществом, но должностью, требующей расходов, которую,
поступая по справедливости, невозможно возложить скорее на одно
частное лицо, чем на другое. Только закон может возложить эту
ношу на того, на кого выпал жребий. Поскольку тогда условия
станут равными для всех и выбор не будет зависеть ни от какой
человеческой воли, исчезнет и всякое частное влияние, нарушающее
всеобщность закона.
При аристократическом правлении государь выбирает государя,
образ правления сохраняется как таковой, и именно в таком случае
голосование уместно.
Пример избрания дожа Венеции только подтверждает это
различие, а не снимает его: этот порядок, сочетающий оба способа,
подходит для смешанного правления. Ибо принимать правление
Венеции за истинную аристократию было бы ошибкой. Хотя народ
там не имеет никакого отношения к управлению, сама знать
является народом. Множество бедных Барнаботов никогда не получали
никакого доступа к магистратуре и, в силу своего знатного
происхождения, обладали лишь ничего не значащим званием
превосходительств и правом присутствовать в генеральном совете.
Поскольку этот большой совет был столь же многочисленным, как и наш
генеральный совет в Женеве, то его именитых членов наделяли не
большими по объему исключительными правами, чем наши
простые граждане. Конечно, если не принимать во внимание то, в чем
обе республики совершенно не похожи, горожане Женевы
являются в точности тем, чем является венецианский патрициат; наши
уроженцы и жители есть то же, что горожане и народ Венеции;
наши крестьяне напоминают подданных твердой почвы48; наконец,
каким бы образом мы ни рассматривали эту республику, не
принимая в расчет ее размеры, можно сказать, что ее образ правления не
более аристократичен, нежели наш. Вся разница в том, что, вовсе
не имея никакого пожизненного правителя, мы не нуждаемся в
жеребьевке, которая существует там.
211
r\_ Жан-Жак Руссо
У выборов по жребию оказалось бы мало нежелательных
последствий, и они почти ничего не значили бы при истинной
демократии, где существует равенство как в отношении нравов и
дарований, так и в отношении правил поведения и размеров имущества.
Но я уже говорил, что настоящей демократии не существует.
Когда выборы и жребий перемешаны между собой, то с
помощью первых следует заполнить должности, требующие
надлежащих способностей, например, военные; второй же подходит для тех
должностей, отправляя которые, достаточно обладать здравым
смыслом, быть справедливым, неподкупным, например, должности
судейские, потому что в хорошо устроенном государстве эти
качества присущи всем гражданам.
Ни жребий, ни голосование вообще не имеют места при
монархическом правлении, поскольку монарх является по праву
единственным государем и магистратом, и только ему принадлежит
право выбора своих наместников. Когда аббат де Сен Пьер предлагал
увеличить число советов при короле Франции и избирать их
членов путем голосования, то он не понимал, что предлагал изменить
сам образ правления.
Мне оставалось бы только сказать о способе подачи и подсчета
голосов в народном собрании; но, может быть, история
внутреннего управления в Риме даст более осязаемые объяснения всем
правилам, чем те, что я в состоянии обосновать. Вовсе не недостойно
внимания рассудительного читателя немного более подробное
рассмотрение того, как обсуждались общественные и частные дела
в совете, состоявшем из двухсот тысяч человек.
Глава 4
О римских комициях
У нас нет ни одного достаточно достоверного свидетельства об
изначальной истории Рима; существует даже немалая вероятность
того, что большинство сведений на этот счет — басни *, которые
о нем распространяют; и вообще, самая поучительная часть анна-
• Название «Рим», которое, как утверждают, происходит от имени Ромула и
является греческим, означает «сила»; имя Нумы также греческого происхождения
и означает «закон». Какой важный знак в том, что два первых царя этого города
с самого начала носили имена, столь точно соответствующие сути ими сделанного.
212
Общественный договор, или Начала политического права
лов народа, относящаяся к истории его создания, есть та часть,
которой нам более всего и недостает. Опыт ежедневно научает нас, по
каким причинам происходят перевороты в державах: но, поскольку
новые народы уже не образуются, нам остается всего лишь строить
догадки, объясняя себе, как они образовались.
Уже установившиеся обычаи доказывают, по крайней мере, то,
что у них были истоки. Предания, восходящие к этим истокам,
опираются на самые весомые свидетельства и подтверждаются самыми
сильными доводами, поэтому они должны считаться наиболее
достоверными. Вот правила, которым я постарался следовать в
поисках объяснений того, каким образом самый свободный и самый
могущественный народ на земле осуществлял свою верховную
власть.
После основания Рима зарождающаяся республика, то есть
армия основателя, состоявшая из жителей Альбы Лонги, сабинян
и иностранцев, была разделена на три класса, получившие
наименование триб. Каждая из этих триб подразделялась на десять курий,
а каждая курия — на декурии, во главе которых поставили вождей,
именуемых курионами и декурионами.
Кроме этого, из каждой трибы выделили отряд из ста
наездников, или всадников, названных центурией, из чего мы видим, что
эти подразделения, мало востребованные в городских условиях,
изначально были исключительно военными. Но кажется, что
стремление к величию породило стремление маленького города Рима
заранее обзавестись внутренним распорядком, подходящим для
столицы мира.
Из этого изначального разделения на трибы вскоре последовало
неудобство; дело в том, что триба жителей Альбы Лонги * и триба
сабинян ** оставались неизменными, тогда как триба иностранцев ***
постоянно увеличивалась благодаря их притоку, и ее численность
не замедлила превысить численность двух остальных. Лекарство,
которое Сервий нашел против этого опасного зла, заключалось
в том, чтобы изменить это разделение, и вместо разделения на
племена, им отмененное, он установил иное, в основу которого
положил районы города, занятые каждой трибой. Вместо трех триб он
* Rammenses.
** Tatienses.
*** Luceres.
213
'■v.
Жан-Жак Руссо
создал четыре, каждая из них занимала один из холмов Рима и
носила его имя. Так, найдя средство предотвратить существующее
неравенство, он предотвратил его и на будущее; чтобы это разделение
касалось не столько мест проживания в городе, сколько людей, он
запретил жителям одного квартала переходить в другой, что
помешало племенам смешиваться.
Так, он удвоил число прежних центурий кавалерии и добавил
двенадцать других, но все под старыми именами: простое и
справедливое средство, с помощью которого он окончательно отделил
всадников от остального народа, не вызывая ропот у последнего.
К этим четырем городским трибам Сервий добавил пятнадцать
других, именуемых сельскими трибами, потому что их образовали
из жителей сельской местности, распределенных по такому же
количеству кантонов. Впоследствии было создано еще больше новых
триб, и римский народ оказался в конце концов разделен на
тридцать пять триб, число которых оставалось неизменным вплоть до
конца республики.
Это различие городских и сельских триб привело к последствиям,
достойным внимания потому, что это стало делом беспримерным,
и именно ему Рим был обязан как сохранением нравов, так и
ростом своей державы. Можно было бы подумать, что городские
трибы вскоре присвоили себе власть и почести, не замедлив принизить
сельские трибы; однако все оказалось наоборот. Известна
склонность первых римлян к сельской жизни. Эту склонность им привил
мудрый учредитель, который соединил сельскохозяйственные и
военные заботы со свободой и, так сказать, выслал в город искусства,
ремесла, богатство, происки и рабство.
Так, поскольку все известные люди Рима жили в сельской
местности и обрабатывали землю, то вскоре все привыкли только там
искать опору республики. Поскольку это положение в обществе
было положением самых благородных патрициев, то оно вскоре
оказалось в почете у всех; простую и трудолюбивую жизнь селян
предпочитали праздной и презренной жизни римских горожан; один
был несчастным работягой в городе, а другой, будучи землепашцем,
становился уважаемым гражданином. Варрон говорил, что не без
основания наши благородные предки завели в деревнях рассадник
этих крепких и отважных людей, которые их защищали в военное
время и кормили в мирное. Плиний говорит определенно, что
сельские трибы пользовались почтением из-за людей, из которых они
214
Общественный договор, или Начала политического права *-»
состояли, тогда как за бесчестный поступок подлецов переводили
в городские трибы. Когда Аппий Клавдий Сабинянин прибыл на
жительство в Рим, его там приняли с почестями и вписали в
сельскую трибу, принявшую впоследствии имя его семьи. В конце
концов, всех вольноотпущенников записывали в городские трибы
и никогда в сельские; и в течение всего периода республики не
было ни одного примера, чтобы вольноотпущенники достигли какой-
нибудь магистратуры, хотя они и становились гражданами.
Это было великолепное правило, но его действие
распространили так далеко, что это произвело перемены и даже породило
пороки во внутреннем управлении.
Во-первых, цензоры, после того как давным-давно завладели
правом по своему усмотрению переводить граждан из одной трибы
в другую, позволили большинству записываться в ту трибу, в
которую они хотели; это дозволение ни к чему хорошему не вело и
лишало цензоров одного из важнейших рычагов воздействия. К тому
же, поскольку всех могущественных и богатых записали в сельские
трибы, а вольноотпущенники, ставшие гражданами, оказались
вместе с чернью в городских трибах, трибы в целом оказались больше
не привязаны ни к местности, ни к району, но перемешались до
такой степени, что каждого из их членов оказалось возможным найти
только по спискам; таким образом, смысл слова «триба»
изменился с вещного на личный или, вернее, превратился почти в
бессмыслицу.
Вскоре случилось то, что городские трибы, поскольку они были
более доступны, часто оказывались сильнее в комициях и
продавали государство тем, кто снисходил до покупки голосов сброда,
входившего в них.
Что касается курий, то учредитель, создав их по десять в каждой
трибе, сделал так, что весь римский народ, в то время живший
внутри стен города, образовал тридцать курий, и в каждой были
свои храмы, свои боги, свои должностные лица, свои священники
и праздники, именуемые compitalia, похожие на paganalia49,
которые затем появились и в сельских трибах.
При новом распределении, сделанном Сервием, поскольку
число тридцать нельзя было нацело поделить на четыре трибы, он не
пожелал в них ничего менять; и независимые от триб курии стали
иным подразделением жителей Рима; но и речи не было о куриях
ни в сельских трибах, ни в народе, из которого они состояли, по-
215
*\.
Жан-Жак Руссо
тому что трибы стали учреждением чисто гражданским. Поскольку
другой порядок установили при сборе ополчения, то военное
ополчение времен Ромула оказалось излишним. Таким образом, хотя
каждый гражданин был записан в какую-нибудь трибу, вовсе не
было нужды в том, чтобы его записывали в какую-нибудь курию.
Сервий ввел еще и третье разделение, не имевшее никакого
отношения к двум предыдущим, и оно стало самым значимым из
всех. Он разделил весь римский народ на шесть классов, которые
различались не по месту жительства и не по составу людей, но по
имущественному признаку; таким образом, первые классы были
заполнены богатыми, последние — бедными, а средние — теми, кто
обладал умеренным достатком. Эти шесть классов подразделили на
сто девяносто три иных образования, названных центуриями; и
соотношение стало таковым, что один только первый класс включал
в себя их большую часть, а последний образовывал только одну
центурию. Таким образом, получилось, что самый малочисленный
класс состоял из большего количества центурий, а последний класс
целиком считался простым подразделением, хотя он один включал
в себя более половины жителей Рима.
Чтобы народ хуже понимал последствия этого последнего
преобразования, Сервий стремился придать ему военный вид: он ввел
две центурии оружейников во второй класс и две центурии
военных музыкантов в четвертый: в каждом классе, за исключением
последнего, он выделил молодых и старых, то есть тех, кто был
обязан носить оружие, и тех, чей возраст в соответствии с законом
освобождал от этого. Это различие в большей степени, чем
имущественное, порождало необходимость часто заново производить ценз или
подсчет людей; наконец, он захотел, чтобы собрания проводились
на Марсовом поле и чтобы все те, кто находился в призывном
возрасте, приходили туда со своим оружием.
Причина, по которой он не произвел в последнем классе то же
самое разделение на старых и молодых, состояла в том, что чернь,
из которой тот состоял, не удостоили чести сражаться за родину;
следовало иметь очаг, чтобы получить право его защищать: и из
бесчисленных толп оборванцев, которые ныне блистают в армиях
королей, может быть, не найдется ни одного, кого бы с презрением
не изгнали из римской когорты, ибо ее солдаты были защитниками
свободы.
216
Общественный договор, или Начала политического права
Однако в последнем классе еще отличали пролетариев от тех,
кого называли capite censi50. Первые, не совсем бесправные, по
крайней мере доставляли государству граждан, а иногда (в неотложных
случаях) солдат. Что касается тех, у кого ничего не было и кого
нельзя было внести в перепись иначе как поголовно, то их
рассматривали как пустое место, и Гай Марий первым снизошел до того,
что стал их вербовать.
Не собираясь судить здесь о том, оказалась ли эта третья
перепись хорошей или плохой сама по себе, я думаю, что вправе
утверждать лишь то, что простые нравы первых римлян, их бескорыстие,
склонность к сельскому хозяйству, пренебрежение к торговле и
стяжательству только и позволили ввести ее в обиход. Где теперь
найти народ, ненасытная алчность, беспокойный нрав, козни,
постоянные передвижения, вечные перемены в имущественном положении
которого оставили бы ему возможность в течение двадцати лет
сохранять подобное учреждение без потрясений во всем государстве?
Следует также заметить, что в Риме нравы и цензура, более
сильные, чем это установление51, исправляли его пороки, и что какого-
нибудь богача ссылали в разряд бедняков за то, что он слишком
разбогател.
По всему этому можно легко понять, почему почти нигде не
упоминается более чем пять классов граждан, хотя на самом деле их
было шесть. Из шестого не набирали ни солдат для армии, ни
голосующих на Марсовом поле *: поскольку он никоим образом не
использовался в республике, то его редко принимали во внимание.
Таковы были различные подразделения римского народа.
Посмотрим же теперь на то влияние, которое они производили в
собраниях. Эти собрания, созванные законным образом, назывались
комициями: они проводились обычно на римском форуме или на
Марсовом поле и разделялись на комиции по куриям, комиции по
центуриям и комиции по трибам, в соответствии с тем из трех
образцов, по которому они были устроены. Комиции по куриям
происходили от институций Ромула; комиции по центуриям — от Сер-
вия; комиции по трибам — от трибунов народа. Никакой закон не
получал утверждения, никакой магистрат не избирался иначе, как
* Я говорю Марсово поле, потому что именно там проводились собрания комиции
по центуриям; на двух других комициях народ собирался на форуме или в иных
местах, и тогда capite censi имели такое же влияние, как и лучшие из граждан.
217
«-\.
Жан-Жак Руссо
на комициях; и поскольку не было ни одного гражданина, не
записанного в какую-нибудь курию, центурию или трибу, то отсюда
следует, что ни одного гражданина не лишали избирательного права,
и римский народ оставался истинным сувереном по праву и на деле.
Чтобы созыв комиций был законным и происходящее там имело
силу закона, было необходимо соблюсти три условия: первое,
чтобы организм или магистрата, который их созывает, облекли
необходимыми для того полномочиями; второе, чтобы собрание
происходило в дни, разрешенные законом; и третье, чтобы знамения
оказались благоприятными.
Причина введения первого предписания не нуждается в
объяснении; второе относится к внутреннему порядку: так, не
разрешалось собирать комиций в дни религиозных праздников или в дни
рыночной торговли, когда людям из сельской местности,
приезжающим в Рим по своим делам, не хватало времени для того, чтобы
провести целый день в месте общего сбора. В силу третьего сенат
мог обуздать гордый и неспокойный народ и своевременно
умерить пыл мятежных трибунов; однако те находили немало
способов избавиться от этого неудобства.
Не только законы и выборы правителей подлежали обсуждению
в комициях. Поскольку римский народ присвоил себе самые важные
полномочия правительства, то можно сказать, что судьбы Европы
решались на его собраниях. Это разнообразие порядка проведения
собраний зависело от вопросов, по которым они должны были
вынести решение.
Чтобы судить об этих разнообразных порядках, достаточно
провести сравнение между ними. Учреждая курии, Ромул имел в виду
сдерживание сената народом и народа сенатом, дабы курии
господствовали в равной мере над обоими. Так, установив этот порядок,
он наделил народ влиянием численного большинства, чтобы
уравновесить власть, могущество и богатства, которые он сохранил за
патрициями. Но, согласно духу монархии, он, тем не менее, оставил
большие преимущества за патрициями в силу влияния их клиентов
при голосовании. Это восхитительное общественное
установление — патроны и клиенты — было образчиком гуманности и
политической прозорливости, без чего патрициат, столь противный духу
республики, не мог бы существовать. Только Рим имел честь подать
миру этот прекрасный пример установлений, не ставших поводом
218
Общественный договор, или Начала политического права
для злоупотреблений, которому, однако, так никогда и не
последовали.
Поскольку этот порядок собраний по куриям просуществовал
вплоть до Сервия и царствования последнего Тарквиния, не
считавшегося законным, это побудило выделять в целом царские
законы под названием leges curiatae52.
Во времена республики курии, при том что их число по-прежнему
ограничивалось четырьмя городскими трибами, куда входила
только чернь Рима, не могли удовлетворить ни сенат, стоявший во главе
патрициев, ни трибунов, которые, хотя и были плебейскими,
стояли во главе граждан состоятельных. С ними перестали считаться,
и их падение было таково, что тридцать ликторов, собравшись
вместе, вершили то, что должны были бы делать комиции по куриям.
Разделение на центурии оказалось столь благоприятным для
аристократии, что не сразу можно понять, почему сенат не всегда
торжествовал в комициях, носивших имя центуриатных, где
избирали консулов, цензоров и прочих курульных магистратов. И в
самом деле, из ста девяноста трех центурий, которые образовывали
шесть разрядов всего римского народа, первый разряд включал в
себя девяносто восемь центурий, и поскольку голоса подсчитывали
лишь по центуриям, то этот первый разряд имел преимущество
в числе голосов над всеми остальными. Когда все центурии
голосовали «за», то даже и не продолжали подсчет голосов; то, что было
решено наименьшим числом, считалось решением большинства,
и, можно сказать, в комициях по центуриям дела решались не
столько большинством голосов, сколько большинством монет.
Но крайности этой власти смягчались двумя способами:
во-первых, по обыкновению трибуны и преобладающее число плебеев,
относившиеся к разряду богатых, уравновешивали влияние
патрициев в этом первом разряде.
Второй способ заключался в том, что вместо того чтобы поначалу
отправить голосовать центурии по порядку, а это обычно
вынуждало начинать с первой, выбирали одну по жребию, и она *
приступала к выборам; после чего все центурии, вызываемые на следующий
день в соответствии с их положением, проводили выборы еще раз
* Эта центурия, избранная таким образом по жребию, называлась prae rogativa по
причине того, что ее первую просили проголосовать; отсюда происходит слово
«прерогатива».
219
r-v _ Жан-Жак Руссо
и, как правило, подтверждали их результат. Таким образом, лиц,
занимающих определенное положение, лишали возможности
влиять своим примером, оставив это влияние за выбором по жребию
в соответствии с началом демократии.
Из этого обыкновения последовало еще одно преимущество,
а именно: граждане из деревни имели в промежутке между
выборами время узнать о достоинствах предварительно названного
кандидата и подать свой голос только со знанием дела. Однако под
предлогом ускорения выборов быстро покончили с этим обычаем, и оба
голосования стали проводиться в один день.
Комиции по трибам были, собственно говоря, советом римского
народа. Они созывались только трибунами, там их избирали и там
же проводились созванные ими плебисциты. Сенат не только не
получил там никакого влияния, но не имел даже права
присутствовать; и, будучи вынужденными повиноваться законам, по которым
они не могли голосовать, сенаторы в этом отношении оказались
менее свободными, чем последние из граждан. Эта
несправедливость была совершенным недоразумением, и ее одной оказалось
достаточно, чтобы сделать недействительными постановления
организма, куда не всех его членов допускали. Если бы все-таки
патриции присутствовали на этих комициях согласно праву,
полученному ими в качестве граждан, превратившись, таким образом,
в обыкновенных частных лиц, то они почти не повлияли бы на
порядок голосования, при котором простой пролетарий обладал
возможностями, равными с принцепсом сената.
Отсюда видно, что при подсчете голосов, поданных столь
многочисленным народом, помимо порядка, возникшего благодаря
различным распределениям по разрядам, эти распределения нельзя
считать чем-то маловажным, ибо использование каждого из них
при голосовании вело к результатам, согласно целям, которые
побуждали предпочесть тот или иной.
Не вдаваясь в различные подробности, из предыдущих
разъяснений можно сделать вывод, что комиции по трибам были более на
пользу народному правлению, а комиции по центуриям —
аристократическому. Что касается комиции по куриям, где только
римская чернь составляла большинство, то поскольку эти комиции
лишь поощряли тиранию и скверные замыслы, то они закончились
бесславно, ибо сами бунтовщики не пожелали воспользоваться
средством, которое слишком выдавало их планы. Понятно, что ве-
220
Общественный договор, или Начала политического права
личие римского народа проявлялось только в комициях по
центуриям, ведь на них народ присутствовал целиком, ибо в комициях
по куриям не хватало сельских триб и в комициях по трибам
недоставало сенаторов и патрициев.
Что касается способа подсчета голосов, то этот способ был у
первых римлян столь же прост, сколь и их нравы, хотя и менее прост,
чем в Спарте. Каждый открыто подавал свой голос, секретарь
записывал голоса по мере их подачи; большинство голосов в каждой
трибе определяло результат голосования трибы; большинство голосов
триб определяло результат голосования народа; и так же было с
голосованием по куриям и центуриям. Этот обычай был хорош, пока
добропорядочность царила в среде граждан и пока каждый
стыдился прилюдно отдавать свой голос несправедливому мнению или по
недостойному поводу; однако, когда народ испортился и когда
голоса стали покупаться, такая подача голосов стала необходимой,
с тем чтобы недоверие обуздало совершающих подкуп и благодаря
этому средству жулики не превращались в предателей.
Мне известно, что Цицерон осуждал это изменение и отчасти
считал его причиной падения республики. Но, хотя я и отдаю себе
отчет в том, как весомо мнение Цицерона в этом вопросе, я не могу
с ним согласиться: я думаю, что, напротив, именно по причине
недостаточности подобных изменений государство погибло намного
быстрее. Поскольку образ жизни здоровых людей не подходит для
больных, то не следует пытаться управлять испорченным народом
с помощью тех же самых законов, которые подходят хорошему
народу. Ничто не доказывает лучше правильность этого правила, чем
долгое существование Венецианской республики; ее видимость все
еще существует именно потому, что ее законы подходят лишь для
негодных людей.
Итак, гражданам раздавались таблички, и с их помощью
каждый мог проголосовать так, что никто не знал, каково его мнение.
Также установили и новые ограничения при сборе табличек, при
подсчете голосов, при сравнении их количества и т. д., что не
помешало тому, чтобы порядочность тех должностных лиц, на кого
возложили эту обязанность, часто ставилась под сомнение. Наконец,
чтобы воспрепятствовать проискам и незаконной торговле
голосами, издали эдикты, большое количество которых
свидетельствовало об их бесполезности.
221
*\
Жан-Жак Руссо
В последние годы республики часто были вынуждены прибегать
к чрезвычайным средствам, дабы устранить недостатки законов:
иногда полагались на чудеса, но этот способ, который мог
впечатлить народ, не впечатлял тех, кто им управлял; иногда внезапно
созывали народное собрание, прежде чем кандидаты успевали
пустить в ход свои происки; иногда тратили все время заседания на
разговоры, когда замечали, что предубежденный народ готов
принять дурную сторону. Однако в конце концов честолюбцы нашли
способ обойти все эти препятствия, но что представляется совсем
невероятным, так это то, что посреди стольких злоупотреблений
этот огромный народ, под защитой своих древних постановлений,
тем не менее избирал магистратов, принимал законы, разбирал
тяжбы, быстро решал частные и общественные дела почти с той же
легкостью, с какой это мог бы сделать сам сенат.
Глава 5
О трибунате *
Когда невозможно установить точное соотношение между
составными частями государства или когда неустранимые причины
непрерывно искажают отношение зависимости между ними,
тогда учреждают особую магистратуру, которая не образует наряду
с остальными организм, но снова ставит каждый член в правильное
отношение зависимости и образует связь (или его средний член)
либо между государем и сувереном, либо одновременно между
обеими сторонами, если это необходимо.
Этот организм, который я назову трибунатом, является
охранителем законов и законодательной власти. Порой он служит для
защиты суверена против правительства, подобно народным
трибунам в Риме; порой — для поддержки правительства против народа,
как в случае с Советом Десяти в Венеции; иногда — для поддержания
равновесия между обеими сторонами, подобно эфорам в Спарте.
Трибунат вовсе не есть составная часть гражданской общины
и не должен быть наделен ни законодательной, ни исполнительной
властью, но при этом всем его власть весьма велика: ибо, не имея
возможности что-либо сделать, он в состоянии всему помешать.
Будучи защитником закона, трибунат священен и более почитаем,
* Custodes, Diribitores, Rogatores suffragiorum53.
222
Общественный договор, или Начала политического права ^
нежели государь, исполняющий закон, и суверен, его
принимающий. Именно это бросалось в глаза в Риме, когда гордые патриции,
которые всегда с пренебрежением относились к народу, были
вынуждены склонить голову перед простым должностным лицом из
народа, который не имел права гадания и судебных полномочий.
Трибунат, разумно умеренный, является самой прочной опорой
хорошего государственного устройства; но если ему придать чуть
больше силы, он его опрокинет: слабость не свойственна его
природе; главное, чтобы он имел какое-нибудь значение, но никогда не
меньше, чем того требуется.
Он вырождается в тиранию, когда присваивает себе
исполнительную власть, будучи призван ее умерить, и когда он желает
применять те законы, что ему надлежит лишь защищать. Огромная
власть эфоров, которая не представляла опасности, поскольку
Спарта сохранила свои нравы, ускорила их уже начавшееся разложение.
За кровь Агиса54, зарезанного этими тиранами, отомстил его
преемник; преступления и наказания эфоров одинаково ускорили гибель
республики; а после Клеомена Спарта перестала существовать. Рим
погиб таким же образом; и чрезмерная власть трибунов,
постепенно присвоенная ими, в конце концов послужила благодаря
законам, созданным ради сохранения свободы, охраной императорам,
которые эту свободу уничтожили. Что касается Совета Десяти в
Венеции, то это — кровавое судилище, в равной мере отвратительное
в глазах патрициев и народа, который, вместо того чтобы изо всех
сил защищать законы, служит отныне, после того как и те, и другие
оказались униженными, лишь для того, чтобы наносить в сумраке
удары, которые никто не смеет замечать.
Трибунат ослабевает, как и правительство, из-за увеличения
количества своих членов. Когда трибуны римского народа, сначала
в количестве двух, затем пяти, пожелали удвоить свое число, то
сенат позволил им это сделать, конечно же, чтобы сдерживать одних
при помощи других, что и не замедлило случиться.
Лучшее средство предупредить присвоение власти со стороны
столь опасного организма, средство, которое до сих пор еще ни одно
правительство не заметило, заключалось бы в том, чтобы сделать
этот организм не постоянным, но установить промежутки времени,
в которые он оказался бы упразднен. Эти промежутки не должны
быть достаточно продолжительными, оставляя время для
укоренения злоупотреблений; их можно установить законом с тем, чтобы
223
«■\.
Жан-Жак Руссо
при необходимости было легко эти промежутки сократить, давая
трибунату чрезвычайные поручения.
Это средство мне кажется безупречным, потому что, поскольку,
как я уже говорил, трибунат не является составной частью
государственного устройства, его можно безболезненно устранить; оно
представляется мне действенным, так как вновь введенный в
должность магистрат опирается не на власть, полученную его
предшественником, но на ту, что ему вручает закон.
Глава 6
О диктатуре
Непреклонность законов, мешающая им приспособиться к
обстоятельствам, может в некоторых случаях сделать их пагубными
и стать причиной гибели государства в переломное время. Порядок
и медлительность их принятия требуют времени, которого
обстоятельства иногда не оставляют. Может представиться тысяча
случаев, которые законодатель вовсе не предусмотрел, и в понимании
того, что нельзя предвидеть все, и заключается крайне
необходимая способность к предвидению.
Поэтому не следует укреплять политические установления до
такой степени, чтоб лишаешь себя возможности устранить их
влияние. Даже Спарта позволяла своим законам бездействовать.
Но лишь самые большие опасности могут оказаться на одних
весах с опасностью нарушения общественного порядка, и никогда не
следует приостанавливать священную власть законов, кроме тех
случаев, когда речь идет о спасении отчизны. В этих редких и
очевидных случаях для сохранения общественной безопасности
предусматривается особое решение, которое возлагает эту обязанность
на самого достойного. Это поручение можно возложить двумя
способами, в зависимости от рода опасности.
Если для того, чтобы исправить это положение, достаточно
сделать правительство более деятельным, то его сосредотачивают в
руках одного или двух его членов; таким образом, нарушается не
власть законов, но лишь порядок их применения. И если опасность
такова, что сам механизм законов является помехой для защиты от
нее, тогда назначают высшего вождя, который смог бы отменить
все законы и приостановить на какое-то время действие суверен-
224
Общественный договор, или Начала политического права ^»
ной власти; в подобном случае наличие общей воли не подлежит
сомнению, и очевидно, что главное намерение народа заключается
в том, чтобы не допустить гибели государства. Таким образом,
приостановление действия законодательной власти никоим образом ее
не устраняет: магистрат, который заставляет ее умолкнуть, не
может заставить ее говорить; он ставится над ней и при этом не имеет
власти ее представлять. Он может делать все, что угодно, кроме
создания законов.
Первым средством пользовался римский сенат, когда он наделял
полномочиями консулов с помощью обряда посвящения во власть
ради спасения республики. Второе средство имело место, когда
один из двух консулов назначал диктатора *; обычай, пример
которого Риму подал Альб55.
В ранние времена республики часто прибегали к диктатуре,
потому что государство не обладало достаточной прочностью, чтобы
иметь возможность устоять, опираясь на собственные силы.
Поскольку нравы сделали излишними предосторожности, в иное
время необходимые, то не опасались, что какой-нибудь диктатор
злоупотребит своей властью или же попытается сохранить ее после
окончания срока своих полномочий. Напротив, казалось, что столь
большая власть была обременительна для того, кто был ею
облечен, поскольку тот спешил от нее избавиться, как будто бы для него
становилась слишком тяжелой и опасной ношей эта должность —
блюсти место законов.
Так в ранние годы республики не опасность злоупотребления,
но опасность обесценить ее заставляла осуждать неразумное
использование этой высшей магистратуры. Ибо если бы ее неумеренно
использовали на выборах, на храмовых праздниках, в решении
мелких и незначительных дел, то следовало бы опасаться, что она
станет менее суровой в случае необходимости, и люди привыкнут
считать ее бесполезным званием, используемым только в виде
бессмысленного обряда.
К концу республики римляне, ставшие более осмотрительными,
так же осторожничали с диктатурой (и безо всяких оснований), как
в прежние времена щедро вводили ее. Легко понять, что их страх
был необоснован, ибо незащищенность столицы обеспечивала ей
* Это назначение совершалось ночью и втайне, словно люди испытывали стыд от
того, что ставили человека над законом.
8 Зак. 3436
225
*\.
Жан-Жак Руссо
безопасность от покушений магистратов, которые в ней жили, так
что какой-нибудь диктатор мог в некоторых случаях защитить
общественную свободу, не посягая на нее, и цепи рабства Рима были
выкованы не в самом Риме, но в его армиях. Небольшое
сопротивление, которое оказал Марий Сулле, а Помпеи Цезарю, отлично
показало, чего следовало ожидать от противостояния власти внутри
страны с силами извне.
Это заблуждение заставило римлян совершать серьезные
ошибки. Такова, например, ошибка в том, что не был назначен диктатор
во время дела Катилины56: ибо, поскольку речь шла только о
происходящем внутри города или же, по крайней мере, о происходящем
в нескольких провинциях Италии, обладая безграничной властью,
предоставленной диктатору законами, он легко подавил бы
заговор, который в действительности был подавлен только благодаря
счастливому стечению обстоятельств, а на него человеческая
осмотрительность не должна рассчитывать.
Вместо этого сенат довольствовался передачей всей своей
власти консулам, из чего получилось, что Цицерон, чтобы действовать
результативно, был вынужден превысить эту власть в важном
пункте, и если первые восторги оправдывали его поведение, то
впоследствии у него справедливо потребовали отчета за кровь, пролитую
гражданами, вопреки требованиям законов; но этот упрек нельзя
было бы сделать диктатору. Но красноречие консула повлекло за
собой многое другое; и он сам, хотя и был римлянин, любил свою
славу больше, чем родину, и не столько стремился найти более
законное и надежное средство спасения государства, сколько средство
получить все почести от успеха этого дела. Насколько справедливо
он был почтен как спаситель Рима, настолько же справедливо его
наказали за нарушение законов. Хоть его отставка с должности
консула и оказалась блестящей, все же ясно, что она была лишь
помилованием.
В конечном итоге, каким бы способом это важное поручение ни
давалось, весьма важно, чтобы продолжительность его исполнения
была краткой, а срок его действия ни в коем случае нельзя было
продлить. В переломные времена, которые требуют ее установления,
государство либо тотчас погибает, либо оказывается спасенным;
и после того как исчезает насущная необходимость, диктатура
становится тираничной или бесполезной. В Риме, поскольку
диктаторами становились лишь на шесть месяцев, большинство из них сла-
226
Общественный договор, или Начала политического права
.х-»
гало полномочия раньше. И если бы срок полномочий стал более
продолжительным, то, возможно, они попытались бы его продлить
еще, как это сделали децемвиры, продлив их себе на год. Диктатор
имел время только позаботиться о потребностях тех, кто его
избрал: у него не было времени подумать о других планах.
Глава 7
О цензуре
Подобно тому как общая воля провозглашается в законе, точно
так же мнение общества провозглашается цензурой. Общественное
мнение есть вид закона, служителем которого является цензор, и по
примеру государя он применяет его лишь в особых случаях.
И суд цензора не столько является третейским судьей
различных мнений народа, сколько провозглашает мнение народа, и как
только он от него отклоняется, его суждения становятся
бесполезными и не имеют значения.
Тщетно различие между нравами одной нации и предметами ее
почитания, ибо все это исходит из одного начала и необходимым
образом связано. У всех народов мира вовсе не природа, но мнение
определяет выбор их привязанностей. Исправьте суждения людей,
и их нравы очистятся сами собой. Люди всегда предпочитают
прекрасное или то, что таковым они считают; но именно в суждении об
этом предмете люди ошибаются, и именно это суждение следует
исправлять. Кто судит о нравах, судит о чести; и кто судит о чести,
считает мнение законом для себя.
Мнения народа возникают под влиянием его государственного
устройства. Хотя закон не исправляет нравы, именно
законодательство их порождает; когда законодательство ослабевает, то нравы
вырождаются, и тогда суждение цензоров сможет сделать то, чего
не смогла сделать сила законов.
Отсюда следует, что цензура может оказаться полезной для
сохранения нравов, но она бесполезна для их восстановления.
Учреждайте цензоров, пока законы прочны; как только они ослабевают,
надеяться больше не на что; никакая законность не имеет силы
тогда, когда законы лишены силы.
Цензура укрепляет нравы, препятствуя тому, чтобы мнения
искажались, сохраняет их прямоту, мудро используя их, иногда даже
укрепляя, пока они еще не устоялись. Обычай использовать секун-
227
*\
Жан-Жак Руссо
дантов на дуэлях, дошедший до неистового поклонения во
французском королевстве, был отменен в следующих словах эдиктом
короля: «Что касается тех, кто трусливо призывает секундантов...». Это
суждение, предваряя суждение общества, определило характер
последнего. Но когда теми же самыми эдиктами пожелали
постановить, что драться на дуэлях — тоже трусость, а это, в сущности, так
и есть, что противоречило общему мнению, общество посмеялось
над этим решением, в отношении которого оно уже высказало свое
суждение.
Я уже в другом месте говорил *, что, поскольку общественное
мнение невозможно принудить, не требуется и тени этого
принуждения в суде, учрежденном для того, чтобы его огласить. Можно
только восхищаться, с каким искусством этот рычаг, о котором и не
вспоминают современные народы, применялся римлянами, а еще
в большей мере спартанцами.
Когда один человек дурных нравов подал хорошее мнение в
спартанском совете, эфоры, не принимая его во внимание, просили
добродетельного гражданина подать то же самое мнение. Какая честь
для одного и какой позор для другого, при том что ни тот, ни
другой не получили ни похвалы, ни порицания! Некие пьяницы с
Самоса57 осквернили суд эфоров: на следующий день обнародованным
эдиктом самосцам дозволили стать мерзавцами58. Подобная
безнаказанность оказалась более суровой, чем настоящая кара. Когда
Спарта высказывала мнение о том, что является честным или
бесчестным, никто в Греции не пытался оспорить это суждение.
Глава 8
О гражданской религии
Поначалу у людей не было ни иных правителей, кроме богов, ни
иного правления, кроме теократии. Они руководствовались
соображением Калигулы и при этом размышляли правильно. Лишь
вследствие долговременного искажения мыслей и чувств люди решились
признать своим хозяином себе подобного и тешили себя надеждой
на то, что все будет хорошо.
* Я лишь кратко излагаю в этой главе то, о чем более пространно рассуждал
в «Письме д'Аламберу».
228
Общественный договор, или Начала политического права
Поскольку именно богов ставили во главе политического
сообщества, из этого последовало то, что богов стало столько же,
сколько народов. Два чуждых друг другу народа, почти враждебных, долго
не могли признать одного и того же господина; две армии,
вступавшие в битву, не желали подчиняться одному и тому же правителю.
Итак, благодаря разделению на нации возник политеизм, а из него
религиозная и гражданская нетерпимость: последняя, как будет
показано ниже, является естественным образом также и религиозной.
Прихоть, следуя которой греки искали своих богов у варварских
народов, возникла из-за того, что они считали себя по природе
суверенными властителями народов. Но и в наши дни достойна
насмешки ученость, которая обсуждает вопросы тождества богов у
различных наций: как будто Молоха, Сатурна и Кроноса можно было
считать одним и тем же богом! Как будто Баал финикийцев, Зевс
греков и Юпитер у римлян были одним и тем же существом! Как
будто могло быть что-то общее у выдуманных существ, носивших
различные имена!
Если меня спросят, почему во времена язычества, когда каждое
государство имело свое богослужение и своих богов, вовсе не было
религиозных войн, то я отвечу: именно потому, что каждое
государство, имея собственное богослужение и собственное правление,
не проводило различий между богами и законами. Война
политическая была также войной религиозной; ведомства богов, так
сказать, определялись границами наций. Бог одного народа не обладал
никакими правами в отношении других народов. Боги язычников
вовсе не были ревнивыми богами; они разделяли между собой
власть над миром: сам Моисей и еврейский народ иногда допускали
эту мысль, говоря о Боге Израиля. Они считали, по правде сказать,
ничтожными богов ханаанеев, народов проклятых, обреченных на
уничтожение, чье место они должны занять; но посмотрите, что
они говорили о божествах соседних народов, нападки на которых
им были запрещены: «Разве владение тем, что принадлежит Хамо-
су, вашему Богу, — говорил Иефай аммонитянам, — вам по закону
не положено? Мы по тому же праву обладаем землями, которые
наш Бог-победитель приобрел для себя» *. Именно в этом, как мне
кажется, признание равенства прав Хамоса и Бога Израиля.
* Non еа quae possidet Chamos deus tuus tibi jure debentur? Таков текст Вульгаты.
Отец Карьер перевел: «Не считаете ли вы себя вправе владеть тем, что принадле-
229
^ . Жан-Жак Руссо
Но когда евреи, подчинившись царям Вавилона, а впоследствии
царям Сирии, упорно не желали признавать никакого другого бога,
кроме их собственного, то этот отказ, который сочли мятежом
против победителей, навлек на них гонения; о них читаем в их
истории, и подобного примера мы не встречаем вплоть до
возникновения христианства *.
Поскольку всякая религия была тесно связана только с
законами государства, которые ее предписывают, то не существовало
никакого способа обращения в веру какого-нибудь народа, кроме
порабощения, и никаких других проповедников, кроме завоевателей,
и поскольку обязанность сменить обряд богослужения стала
законом для побежденных, для начала нужно было победить, а потом
заводить об этом речь. Не столько люди сражались за богов, как во
времена Гомера, сколько боги сражались за людей; каждый
испрашивал у своего бога победы и в награду воздвигал новые алтари.
Римляне, прежде чем овладеть какой-нибудь местностью, умоляли
тамошних богов оставить ее. Они оставили жителям Тарента их
разгневанных богов потому, что сочли в этом случае этих богов
оказывающими повиновение их собственным и вынужденными их
почитать: они оставляли побежденным их богов так же, как они
оставляли им их законы. Часто венок Юпитеру Капитолийскому
был единственной данью, которую они требовали.
И наконец, поскольку римляне распространили вместе со своей
властью свое богослужение и богов во всем мире и часто сами
считали своими собственными богами богов побежденных,
предоставляя тем и другим право жить в городе, то народы этой обширной
державы незаметно получили множество богов и обрядов, более или
менее одинаковых повсюду: вот каким образом язычество в конце
концов повсеместно признали единственной религией.
Именно в этих обстоятельствах Иисус пришел установить на
земле царство Духа; это привело к тому, что политический и
религиозный порядки оказались отделены друг от друга, а государство
жит Хамосу, вашему Богу?» Не знаю, какова выразительность еврейского текста,
но я вижу, что, согласно Вульгате, Иефай вполне признает право бога Хамоса
и что французский переводчик смягчает признание этого права выражением
«согласно вашему мнению», которого нет в латинском тексте59.
* Вполне очевидно, что Фракийская война, названная войной священной, не
была войной религиозной: ее целью было наказать святотатцев, а не привести
к повиновению инаковерующих.
230
Общественный договор, или Начала политического права
^-»
перестало быть единым, и это стало причиной внутренних
раздоров, которые никогда не прекращали волновать христианские
народы. Однако поскольку эта новая мысль о царстве не от мира сего
так и не смогла уложиться в головах язычников, то они всегда
считали христиан настоящими бунтовщиками, которые, лицемерно
выказывая повиновение, лишь искали случая стать независимыми
и господами, ловко присваивая себе ту власть, что по своей
слабости они делали вид, будто уважают; такова была причина гонений на
них.
То, чего опасались язычники, случилось. И все изменилось:
смиренные христиане заговорили на другом языке, и вскоре это так
называемое царство не от мира сего превратилось при видимом
главе60 в самый жестокий деспотизм в этом мире.
Тем не менее, поскольку всегда существовал какой-нибудь
государь и гражданские законы, то из этого двоевластия последовал
спор относительно объема прав, который сделал невозможной
всякую добрую политию в христианских государствах; и в них так до
конца и не могли понять, какому хозяину или пастырю следовало
повиноваться.
Однако многие народы, даже в Европе или в ее окрестностях,
пожелали сохранить или восстановить старинный порядок, но
безуспешно; дух христианства восторжествовал. Священный обряд
все же остался или вновь стал независимым от суверена, не
сохранив при этом необходимую связь с организмом государства. У
Магомета были здравые мысли, он высказывал связные политические
взгляды, и пока образ установленного им правления сохранялся
при его преемниках-халифах, он оставался единым и потому
хорошим. Но арабы, став процветающими, грамотными, вежливыми,
мягкими и трусливыми, оказались покоренными варварами; тогда
вновь возникло противостояние между двумя властями. Хотя это
противостояние и менее заметно у магометан, чем у христиан, оно,
однако, имеет место, особенно в секте Али61; и существуют такие
государства, как Персия, в которых оно постоянно ощущается.
В наше время короли Англии назначили себя главами Церкви;
так же поступили и цари, но благодаря этому званию они оказались
не столько господами, сколько священниками; при этом они не
столько получили право производить в ней изменения, сколько
полномочия поддерживать в ней порядок: они являются не
законодателями, а лишь государями. Повсюду, где клир образует орга-
231
«-\__ Жан-Жак Руссо
низм, он — хозяин и законодатель у себя на родине *. Итак, имеет
место двоевластие, два суверена — в Англии и в России, как и
повсюду.
Из всех христианских авторов философ Гоббс был
единственным, кто обнаружил зло и лекарство от него, и осмелился
предложить соединить две головы орла, и все привести к политическому
единству, без которого никогда ни государство, ни правительство
не получат правильного устройства. Но ему следовало заметить,
что христианство, проникнутое духом господства, несовместимо
с его собственными взглядами, а соображения выгоды
священников всегда сильнее соображений выгоды государства. Не столько то,
что в мыслях Гоббса о политике оказалось лживым и
отвратительным, сколько то, что было в них истинным и справедливым,
сделало их ненавистными.
Я полагаю, что, рассматривая с этой точки зрения исторические
свидетельства, легко было бы опровергнуть противоположные
мнения Бейля и Уорбертона, когда один из них утверждает, что всякая
религия бесполезна для политического организма, а второй,
напротив, полагает, что христианство является его самой прочной
опорой. Мы доказали бы первому, что никогда и ни одно государство
не создавалось без религии, которая не служила бы ему опорой,
и второму, что христианский закон по своей сути скорее вреден, чем
полезен для прочного устройства государства. Чтобы меня
окончательно поняли, нужно лишь немного уточнить слишком
расплывчатые мысли о религии, которые имеют отношение к моей теме.
Если рассматривать религию в ее зависимости от общества, то
она является либо общей, либо частной; кроме того, ее можно
разделить на два вида, а именно: на религию человека и на религию
гражданина. Первая, без храмов, без алтарей, без обрядов, сводится
к внутреннему почитанию высшего Божества и из вечных
обязанностей, внушенных моралью; она является чистой и простой рели-
* Нужно все-таки заметить, что не столько постоянные собрания духовенства,
как во Франции, связывают клир в единый организм, сколько обряд причастия
в церквях. Причастие и отказ в причастии создают согласие в сообществе клира,
согласие, в силу которого он навсегда останется господином народов и королей.
Все священники, все вместе совершающие причастие, являются согражданами,
даже если они находятся в разных концах света. Это изобретение —
великолепный образчик политики. Ничего подобного не существовало у языческих
священников, но ведь они никогда не создавали клир в качестве организма.
232
Общественный договор, или Начала политического права
гией Евангелия, подлинным теизмом и может быть названа
естественным и божественным правом. Другая, введенная в отдельной
стране, создает в ней собственных богов, защитников и
покровителей; у нее есть свои догматы, обряды, внешний порядок поклонения,
предписанный законами; вовне одной нации, которая их
соблюдает, всякая другая ей кажется иноверческой, чуждой, варварской;
она не признает права и обязанности человека, кроме как под
сенью своих алтарей. Таковы были все религии самых древних
народов, которые можно назвать религиями по божественному праву,
гражданскому или положительному.
Существует и третий вид религии, более странный,
предлагающий людям два законодательства, двух властителей, две родины,
подчиняющий их противоречивым обязанностям и мешающий им
стать одновременно и верующими, и гражданами. Такова религия
лам, такова религия японцев, таково римское христианство. Этот
вид можно назвать религией священников. Отсюда следует своего
рода смешанное и противоречащее общественной жизни право, для
которому нет названия.
Если рассматривать эти три вида религии с политической точки
зрения, то у каждой имеются свои недостатки. Третья является
очевидно настолько плохой, что не стоит терять попусту время на то,
чтобы это доказывать. Все, что нарушает единство общества,
ничтожно; все установления, приводящие человека к противоречию
с самим собой, ничего не стоят.
Вторая религия хороша тем, что она соединяет поклонение
божеству с любовью к законам, и тем, что, превращая отчизну в
предмет обожания со стороны граждан, она наставляет их в том, что
служить государству означает служить Богу-покровителю. Это
своеобразная теократия, при которой вовсе не должно быть иного
понтифика, кроме государя, и других священников, кроме магистратов.
Итак, умереть за свою страну означает стать мучеником; нарушать
законы означает быть святотатцем; и подвергнуть виновного
проклятию со стороны общества значит предать его гневу богов: Sacer
estod!62
Но она плоха тем, что заключает в себе ошибку и ложь,
обманывает людей, делает их легковерными, суеверными и растворяет
истинное поклонение Божеству в бессмысленных обрядах. Она плоха
еще и потому, что, не допуская возражений и становясь тираничной,
делает народ кровожадным и нетерпимым таким образом, что ее
233
«■\.
Жан-Жак Руссо
вдохновляют лишь убийства и избиения, и при этом она полагает,
что совершает святое дело, убивая любого, кто не признает ее
богов. Это приводит народ к природному состоянию войны против
остальных народов и наносит вред его собственной безопасности.
Остается лишь религия человека, или христианство, но не то
христианство, которое мы имеем сегодня, а христианство
евангельское, сильно отличающееся от первого. С помощью этой святой,
возвышенной, истинной религии люди — дети одного Бога —
признают себя братьями, и сообщество, объединяющее их, не
распадается даже после их смерти.
Но эта религия, поскольку она не находится в какой-либо
особенной зависимости от политического организма, оставляет за
законами только ту силу, которой они обладають сами по себе, не
добавляя к ним никакой другой; и по этой причине важнейшие узы
отдельно взятого общества оказываются незадействованными.
И более того, не привязывая сердца граждан к государству, она их
отделяет от остальных земных привязанностей. Я не знаю ничего
более противоречащего духу общества.
Нам говорят, что народ истинных христиан образовал бы
сообщество самое совершенное, какое только можно себе представить.
Я усматриваю в этом предположении лишь одно существенное
затруднение: это общество истинных христиан уже не было бы
обществом людей.
Я даже утверждаю, что это предполагаемое общество не стало
бы, при всем своем совершенстве, ни более сильным, ни более
долговечным; по причине совершенства ему не хватало бы внутренней
связанности; само его совершенство скрывало бы в себе
разрушительный порок.
Каждый исполнял бы свой долг; народ подчинялся бы законам,
правители проявляли бь! скромность и справедливость,
магистраты оказались бы честны и неподкупны, солдаты не боялись бы
смерти; не существовало бы ни тщеславия, ни роскоши; все это
хорошо, но давайте посмотрим дальше.
Христианство является в целом духовной религией,
устремленной только к возвышенным вещам; отечество христианина не в этом
мире. Он исполняет свой долг, это правда, но он делает это с
глубоким безразличием к тому, будут ли успешны или безуспешны его
старания. Лишь бы ему не в чем было себя упрекнуть, и тогда для
него не имеет значения, хорошо или плохо идут дела на земле.
234
Общественный договор, или Начала политического права s-%
И если государство процветает, то едва ли он посмеет наслаждаться
счастьем в обществе; он опасается возгордиться славой своей
страны; и если государство идет навстречу погибели, то он
благословляет Божью длань, занесенную над его народом.
Чтобы в обществе царил мир и поддерживалась гармония,
необходимо, чтобы все без исключения граждане были в равной мере
хорошими христианами; но если, к несчастью, среди них случится
хоть один честолюбец, хоть один лицемер, какой-нибудь Катилина
или Кромвель, то он, конечно, с легкостью сторгуется со своими
благочестивыми соотечественниками. Христианское милосердие
не позволяет без стеснения думать плохо о своем ближнем. Как
только он воспользуется какой-нибудь хитростью, искусством
внушить им уважение или завладеть частью государственной власти,
как тотчас его почтят каким-либо званием; Господь желает, чтобы
его уважали; и вскоре он окажется могущественным; Господь
желает, чтобы ему повиновались, но разве тот, кому даровано
могущество, вправе им злоупотреблять? Это бич, которым Господь наказу-
ет чад своих. Люди осознают, что нужно изгнать самозванца; тогда
нужно нарушить общественный покой, использовать насилие,
пролить кровь: все это плохо согласуется с мягкостью христианина,
и, в конце концов, имеет ли значение, свободен ты или раб в этой
юдоли печали? Важно войти во врата рая, и смирение есть лишь еще
один способ попасть туда.
Случись какая-нибудь внешняя война, граждане без труда
вступят в бой; никто даже и не помышляет о бегстве; они исполняют свой
долг, не горя желанием победить; они скорее готовы умереть, чем
победить. Победят ли они или нет, какое это имеет значение? Разве
провидение не лучше знает, что им нужно делать? Вообразим,
какую выгоду мог бы извлечь из их стоицизма гордый, неистовый,
пылкий враг! Сравните их с теми великодушными народами,
проникнутыми страстной любовью к славе и отчизне, представьте себе,
что ваша христианская республика противостоит Спарте или Риму:
набожных христиан разобьют, раздавят, уничтожат, прежде чем они
успеют оправиться, или они будут обязаны своим спасением тому
пренебрежению, которое их враги усвоят по отношению к ним. На
мой взгляд, красивой была клятва солдат Фабия: они клялись
умереть или победить, они клялись вернуться победителями и
сдержали свою клятву; никогда христиане не делали ничего подобного;
они подумали бы, что искушают Господа.
235
«"\.
Жан-Жак Руссо
Но я ошибаюсь, говоря «христианская республика»: каждое из
этих двух слов исключает другое. Христианство проповедует
только рабство и повиновение. По своему духу оно слишком
благосклонно к тирании, чтобы она этим иногда не пользовалась. Истинные
христиане созданы стать рабами, они это знают и почти не
беспокоятся об этом; эта короткая жизнь имеет слишком мало ценности
в их глазах.
Войска христиан, как утверждают, превосходны. Я это отрицаю,
пусть мне покажут таковые. Что касается меня, то мне вообще
неизвестны христианские войска. Мне приведут в пример крестовые
походы. Не оспаривая доблести крестоносцев, я замечу, что они
были не столько христианами, сколько солдатами на службе у
священников; это были граждане Церкви: они сражались за духовное
царство, которое они непонятно каким образом превратили в
царство земное. Строго говоря, все это восходит к язычеству:
поскольку Евангелие не вводит никакой национальной религии, любая
священная война невозможна между христианами.
При языческих императорах христианские солдаты были
храбры; все христианские авторы это подтверждают, и я в это верю: это
было честное соперничество с войсками язычников. Как только
императоры стали христианами, это соперничество исчезло; и
когда крест изгнал орла, пропала и вся римская доблесть.
Но, оставляя в стороне политические соображения, вернемся
к праву и установим начала в этом важном вопросе. Право, которое
общественное согласие сообщает суверену в отношении
подданных, никоим образом, я уже это говорил, не выходит за рамки
общественной пользы *. Подданные, таким образом, должны
отчитываться перед сувереном в своих мнениях лишь в той мере, в какой
они важны для сообщества. Однако для государства важно, чтобы
каждый гражданин обладал верой, побуждающей его с любовью
относиться к своим обязанностям; но догматы этой религии
касаются государства и его членов лишь в той мере, в какой они отно-
* «В республике, - говорит господин д'А. 6\ — каждый вполне волен делать то,
что не вредит окружающим», - вот неизменный предел свободы, его невозможно
установить с большей точностью. Я не могу отказать себе в удовольствии
привести выдержки из этой рукописи, пока не известной публике, дабы воздать должное
памяти человека знаменитого и уважаемого, который даже в министерстве
сохранил сердце истинного гражданина, незамутненный и проницательный взгляд на
правление своей страны.
236
Общественный договор, или Начала политического права s-%
сятся к морали и к обязанностям, которые исповедующий ее обязан
соблюдать по отношению к окружающим. Каждый может
разделять, сверх того, такие мнения, какие ему заблагорассудятся, при
этом суверен не имеет права о них осведомляться: ибо, поскольку
иной мир ему неподсуден, то, какой бы ни оказалась участь
подданных в будущей жизни, это его не касается, лишь бы они оставались
добрыми гражданами в этой жизни.
Так значит, существует чисто гражданский символ веры: его
догматы именно суверену надлежит устанавливать, но не как догматы
религии, но как суждения о том, что есть общежитие, не веря в
которые, невозможно быть хорошим гражданином и верным
подданным *. Не имея власти обязать кого бы то ни было верить в них,
суверен может изгнать из государства любого, кто в них не верит; он
вправе его изгнать, но не как безбожника, а как неспособного к
общежитию и к искренней любви к законам, правосудию, к тому,
чтобы пожертвовать при необходимости своей жизнью ради долга.
И если кто-нибудь, признав прилюдно эти самые догматы, поведет
себя как тот, кто в них не верит, пусть его накажут смертью: он
допустил самое серьезное преступление, солгав законам.
Догматы гражданской религии должны быть просты,
немногочисленны, точно изложены, без объяснений или толкований.
Существование могущественного, разумного, благодетельного,
предвидящего и проявляющего попечение Божества, будущая жизнь,
счастье праведных, наказание неправедных, святость
общественного договора и законов — вот ее положительные догматы. Что
касается отрицательных догматов, то я свожу их к одному — это
религиозная нетерпимость: она имеет место в тех вероисповеданиях,
которые мы исключили.
Те, кто проводит различие между нетерпимостью гражданской
и религиозной, на мой взгляд, ошибаются. Обе они неразрывным
образом связаны. Невозможно жить в мире с людьми, которых
считаешь проклятыми: любить их означало бы ненавидеть Господа,
который их наказывает; безусловно, необходимо их образумить или
* Цезарь, выступая в суде по делу Катилины, попытался обосновать догмат
о смертности души. Катон и Цицерон, дабы опровергнуть его мнение, не стали
попусту тратить время на философствование: они довольствовались тем, что
поставили Цезарю на вид то, что он выступил как плохой гражданин и выдвинул
учение, пагубное для государства. И действительно, вот о чем следовало вынести
решение римскому сенату, а вовсе не по богословскому вопросу.
237
«-\.
Жан-Жак Руссо
применить по отношению к ним насилие. Повсюду, где допускается
религиозная нетерпимость, невозможно, чтобы она не влияла на
гражданские дела *; и коль скоро она имеет место, то суверен не
является больше сувереном даже в мирских делах: с этого момента
настоящими хозяевами становятся священники, а короли — всего
лишь их приказчиками.
Теперь, когда не существует и больше не может существовать
исключительной и национальной религии, следует проявлять
терпимость к тем религиям, которые относятся к остальным настолько
терпимо, насколько их догматы не противоречат обязанностям
гражданина. Но едва кто-то осмелится сказать: «Вне Церкви нет
спасения», его следует изгнать из государства, если только само
государство не является церковью и государь — не верховный
понтифик. Подобный догмат хорош только при теократическом
правлении, во всех остальных он носит пагубный характер. Довод,
руководствуясь которым, Генрих IV принял римскую религию,
должен был бы побудить отказаться от нее всякого порядочного
человека и тем более любого государя, способного мыслить.
• К примеру, брак, будучи гражданским договором, имеет значение в
гражданских отношениях, без него общество не могло бы существовать. Итак,
предположим, что клир в конце концов припишет себе одному право его удостоверять;
право, неизбежно присваиваемое им при любой нетерпимой религии. Разве не ясно,
что, утверждая таким образом власть церкви, клир сделает бесполезной власть
государя, у которого не будет иных подданных, кроме тех, что клир соблаговолит
ему дать. Будучи волен совершать или не совершать браки в зависимости от того,
какому вероучению люди привержены, согласны ли они с тем или иным
символом веры, в большей ли или меньшей степени они ему преданы, поступая
осторожно, но проявляя упорство, разве не ясно, что клир один станет распоряжаться
по своему усмотрению наследством, должностями, гражданами и даже
государством, которое не сможет больше существовать, ибо будет состоять только из
незаконнорожденных детей? Но, возразят, клир подвергнут суду за
злоупотребления, на время лишат полномочий, объявят вне закона и пожалуются в светский
суд. Какая жалкая мысль! Клир, если у него есть хоть немного — не скажу:
храбрости, — но здравого смысла, позволит это сделать, но будет продолжать
следовать своей дорогой; он. не тревожась, позволит подвергнуть себя суду за
злоупотребления, на время лишить полномочий, объявить вне закона, пожаловаться
в светский суд, но в конце концов все равно останется хозяином положения. Мне
представляется, что небольшая жертва — прекратить игру, когда уверен, что
в дальнейшем сорвешь банк.
238
Общественный договор, или Начала политического права <~%
Глава 9
Заклюгение
Установив истинные начала политического права и
попытавшись определить основания государства, мне остается укрепить их
с точки зрения внешних сношений, что включало бы в себя право
народов, торговлю, право войны и завоеваний, публичное право,
союзы, переговоры, международные соглашения и т. д. Но все это
образует новый предмет, слишком обширный для моей короткой
жизни: мне же приходится, как и всегда, сделать выбор в ней на
ближайшее время.
Жан-Жак Руссо
НАЧАЛА ПРАВА ВОЙНЫ62
(Главы второй гасти трактата
«Об общественном договоре»)
Я открываю книги о праве и морали, слушаю ученых и
правоведов и, проникнутый их вкрадчивыми речами, оплакиваю
несчастья, причиняемые природой, и восхищаюсь миром и
справедливостью, установленными гражданским порядком, благословляю
мудрость общественных установлений и утешаю себя тем, что я
человек и считаю себя гражданином. Хорошо разобравшись, в чем
заключаются мои обязанности и мое счастье, я закрываю книгу,
выхожу из комнаты для занятий и оглядываюсь вокруг: я вижу
несчастные народы, дрожащие от страха в оковах, человечество,
раздавленное пятой угнетателей, толпы людей, измученных горем, не
имеющих куска хлеба, кровь и слезы которых богач спокойно
вкушает; и везде сильный вооружен устрашающей силой законов
против слабого. И все это совершается потихоньку и безо всякого
сопротивления: это покой спутников Одиссея, заключенных в пещере
Циклопа и ожидающих, когда их съедят. Остается только
вздрагивать от страха и молчать. Набросим покров веков на все эти ужасы.
Я поднимаю взор и смотрю вдаль. Я замечаю огонь и пепелища,
опустевшие деревни, разграбленные города. Свирепые люди, куда
вы тащите этих несчастных? Я слышу жуткий грохот: какое
смятение и какие крики! Я подхожу ближе и вижу сцены убийств, десять
тысяч зарезанных людей, сваленных в кучу, умирающих,
растоптанных копытами лошадей: картина смерти и предсмертных мук.
Вот он, плод этих мирных установлений. Жалость и возмущение
поднимаются из глубины моего сердца. Ах, жестокосердный
философ, прочитай нам свою книгу на поле боя.
240
Начала права войны
Как только все нутро человека не перевернется при виде этих
грустных предметов? Но ныне непозволительно быть человеком
и заступаться за человечество. Справедливость и правда должны
уступить место выгоде самых могущественных лиц, таково
правило. Народ-то не дает ни пенсий, ни должностей, ни кафедр, ни мест
в академиях; во имя чего его следует защищать? Великодушные
государи, от которых мы ждем всего этого, я обращаюсь к вам от
имени всех писателей. Угнетайте народ со спокойной совестью; от вас
только мы и можем чего-то ждать, а народ нам никогда и ни на что
не сгодится.
Как такой слабый голос будет услышан среди криков продажных
людей? Увы, мне следует замолчать, но голос моего сердца сможет
ли пронзить столь печальную тишину? Нет, не вдаваясь в
отвратительные детали, которые будут выглядеть сатирой уже потому
только, что они правдивы, я, как и всегда, ограничусь исследованием
начал человеческих учреждений и, если только возможно,
попытаюсь исправить те ложные мысли, что нам о них внушили авторы,
преследующие собственную выгоду, и, по крайней мере,
постараюсь сделать так, чтобы несправедливость и насилие не принимали
бесстыдно имя права и правосудия.
Первое, что я замечаю, изучая положение человеческого рода,
это явное противоречие в его устройстве, которое превращает его
в неустойчивое. Если принять во внимание общежитие людей, то
мы живем в гражданском состоянии и подчиняемся законам. Если
рассматривать общежитие народов, каждый из них пользуется
природной свободой; все это, в сущности, делает наше положение более
худшим, чем в том случае, если бы все эти различия не
существовали. Ибо, живя одновременно в порядке общественном и в
природном состоянии, мы находимся в плену неудобств того и другого, не
находя безопасности ни в одном из них. По правде сказать,
совершенство порядка общественного заключается во взаимодействии
силы и закона: но при этом необходимо, чтобы закон направлял
силу, тогда как, придерживаясь мысли о том, что независимость
государей безусловна, только лишь сила, обращающаяся к гражданам
во имя закона и к иностранцам во имя «пользы государства»,
лишает последних возможности, а первых воли к сопротивлению,
таким образом, что ничтожное имя правосудия повсюду служит
насилию охранной грамотой. Что же касается того, что все называют
«правом народов», то совершенно ясно, что за отсутствием прину-
241
*\
Жан-Жак Руссо
дительной силы его законы — призрачны и еще более слабы, чем
законы природы; последние, по крайней мере, обращены к сердцам
частных лиц, тогда как у «права народов» нет никакой другой
поруки, кроме пользы тех, кто ему подчиняется; его предписания
соблюдаются, только если они подкреплены соображениями выгоды.
В этом промежуточном положении, где мы находимся, какому бы
из двух порядков мы ни отдали предпочтение, сделав слишком
много или слишком мало, мы в результате не сделали ничего и тем
самым поставили себя в самое худшее положение из тех, в которых
могли бы оказаться. Вот, как мне кажется, истинное
происхождение общественных бедствий.
На минуту противопоставим эти мысли отвратительным
взглядам Гоббса, и мы обнаружим, что, в полную противоположность
его бессмысленному учению, не только состояние войны не
присуще человеку по природе, но эта война возникла из мира или, по
крайней мере, благодаря тем мерам предосторожности, которые
люди приняли для обеспечения прочного мира. Но прежде чем
начать обсуждение этого вопроса, постараемся пояснить, что следует
понимать под состоянием войны.
Что есть состояние войны
Хотя два слова — война и мир — кажутся словами взаимно
соотносимыми, второе из них имеет более широкое значение, с
учетом того что мир можно нарушить и поколебать многими
способами, не прибегая к войне. Покой, союз, взаимопонимание, все мысли
о благожелательности и взаимной привязанности, кажется,
заключены в этом сладостном слове «мир». Оно привносит в душу полноту
чувств, которая побуждает нас ценить наше собственное
существование и одновременно существование ближнего. Оно представляет
собой узы между живыми существами, объединяющие их во
всеобъемлющем порядке, и обладает всей полнотой смысла лишь в
разуме Бога, для Которого ничто существующее не может причинять
вред и Который желает сохранения всех существ, созданных Им.
Устройство нашего мира не позволяет того, чтобы все существа,
обладающие чувствами, одновременно содействовали взаимному
счастью, ведь благополучие одного является злом для другого, ибо
согласно закону природы каждый отдает предпочтение самому се-
242
Начала права войны
бе; и когда он действует на пользу себе и во вред постороннему,
тотчас покой того, кто испытывает страдание, нарушен. И вот,
естественно не только отбиваться от зла, которое следует за нами по
пятам, но и то, что, когда разумное существо видит это зло в
злобных намерениях постороннего, оно раздражается, стремясь
обратить это против того, кто его причиняет. Отсюда возникают
разногласия, ссоры, а иногда и стычки, но пока еще не война.
Наконец, когда обстоятельства таковы, что существо,
наделенное разумом, приходит к убеждению, что забота о самосохранении
несовместима не только с благополучием, но и с существованием
постороннего, тогда это существо с оружием посягает на жизнь
постороннего и стремится его уничтожить с тем же пылом, с которым
стремилось сохранить самого себя, и по тому же самому
соображению. Потерпевший, чувствуя, что его существование несовместимо
с существованием нападавшего, в свою очередь и изо всех сил
покушается на жизнь того, кто хочет отнять его собственную; это явное
желание уничтожить друг друга и все действия, на это
направленные, устанавливают между двумя врагами отношения, называемые
войной.
Из этого следует, что война заключается не в одной или
нескольких непреднамеренных стычках и даже не в душегубстве и
убийстве, совершенных в порыве гнева, но в осознанной, постоянной
и явной воле уничтожить своего врага. Ибо для того, чтобы решить,
что существование этого врага несовместимо с нашим
благополучием, нужно обладать хладнокровием, разумом, всем тем, что
порождает твердое решение; и для того, чтобы это отношение было
взаимным, необходимо, чтобы враг, в свою очередь, зная, что
покушаются на его жизнь, имел намерение ее защищать ценой нашей
жизни. Все эти мысли и заключаются в слове «война».
Прилюдные проявления этой злонамеренности в виде
поступков называются враждебностью: но имеет ли место враждебность
или нет, отношения под названием война не могут прекратиться
иначе как миром. В противном случае каждый из врагов, не обладая
никакой уверенностью в том, что противник прекратил покушения
на его жизнь, не может, да и не должен бы перестать ее защищать
ценой жизни противника.
Установленные различия дают возможность указать на различия
в значении слов. Когда люди держат друг друга в тревоге, проявляя
243
«\
Жан-Жак Руссо
постоянную враждебность, это именно то, что называется «вести
войну». Напротив, когда два заведомых врага остаются в
спокойствии и не предпринимают никаких враждебных действий,
отношения между ними от этого не меняются, но, пока они в настоящем
никак не проявляются, они просто называются состоянием войны.
Долгие и изнурительные войны, которые не удается прекратить,
обычно порождают это состояние. Порой, вместо того чтобы
затихнуть в бездействии, враждебность лишь ожидает
благоприятного момента, чтобы застигнуть врага врасплох, и часто состояние
войны, порождающее это временное бездействие, еще опаснее
открытой войны.
Спорили о том, является ли перерыв в войне, временный отказ
от применения оружия, земский мир63 состоянием войны или мира.
Согласно введенным ранее понятиям, все названное является лишь
видоизмененным состоянием войны; в нем оба врага связывают
друг другу руки, не утрачивая и не скрывая желания причинять
вред. Совершают приготовления, накапливают оружие, припасы
для осады, продолжают военные мероприятия, точный замысел
которых неясен. Это в достаточной мере показывает, что намерения
не изменились. То же самое происходит, когда враги сходятся на
нейтральной территории, не нападая друг на друга.
Кто может себе представить без содрогания лишенные смысла
соображения о природной войне каждого против всех? Каким
странным животным является животное, усматривающее свое
благополучие в уничтожении своего вида, и как можно постичь то, что столь
чудовищный и достойный презрения вид в состоянии
просуществовать дольше двух поколений? А между тем, вот до чего жажда или,
вернее, неистовое желание установить деспотизм и безропотное
повиновение довели одного из самых прекрасных гениев, который
когда-либо существовал. Столь кровожадное начало оказалось
вполне достойным его размышлений64.
Положение в обществе, стесняющее все наши природные
склонности, не может, однако ж, свести их на нет; вопреки нашим
предрассудкам и вопреки нам самим, они все еще подают голос в глубине
наших сердец и снова возвращают нас к правде, покинутой нами
ради несбыточных мечтаний. Если бы эта природная и
разрушительная для нас неприязнь друг к другу была неразрывно связана
с нашим внутренним устройством, она бы все равно нами ощущалась
244
Начала права войны
и, вопреки нашим желаниям и невзирая на оковы общественных
отношений, отвращала бы нас друг от друга. Жуткая ненависть к
человечеству снедала бы сердце человека. Он огорчался бы, узнав
о рождении своих собственных детей, и радовался бы смерти
братьев; и когда бы он увидел, что кто-то заснул, первым его
побуждением было бы его убить.
Благорасположение, которое заставляет нас разделять счастье
с себе подобными, сочувствие, заставляющее нас встать на место
того, кто страдает, и страдать при виде его горя, оказались бы
чувствами незнакомыми и противными природе. Такой человек,
чувствительный и склонный к жалости, стал бы чудовищем, и мы стали
бы естественным образом теми, кем нам весьма трудно стать в силу
испорченности нравов, которая следует за нами по пятам.
Напрасно софист стал бы утверждать, что эта взаимная
враждебность не является врожденной и непосредственной, но вытекает
из неизбежного соперничества прав каждого на все вещи,
поскольку чувство этого так называемого права является не более
естественным, чем война, которую порождает сознание сего права. Я это
уже говорил и не собираюсь повторяться65: ошибка Гоббса и
философов в том, что они смешивают человека природы с людьми,
находящимися у них перед глазами, и в том, что они переносят в
некий порядок вещей человека, способного выжить только при ином
порядке вещей. Человек желает себе благополучия и того, что
может этому содействовать. Это бесспорно. Но естественным образом
благополучие человека ограничено физически необходимым: ибо
когда его душа чиста, а тело не страдает, чего же не хватает ему,
чтобы быть счастливым сообразно его устройству? Тот, у кого
ничего нет, желает малого; тот, кто не распоряжается никем, мало на
что притязает. Но излишек разжигает зависть: чем больше
получаешь, тем больше желаешь. Тот, кто обладает многим, захочет иметь
все; безумное стремление создать всемирную монархию терзало
сердце лишь великого короля66. Вот ход вещей согласно природе;
вот развитие пристрастий человека. Поверхностный философ
присматривается к душам людей, сотни раз изменивших свой облик,
находящимися в состоянии брожения благодаря закваске общества,
и думает, что наблюдает человека как такового. Но чтобы его
познать, необходимо уметь распознать последовательность его чувств
в соответствии с его природой; и отнюдь не среди жителей больших
245
«->s Жан-Жак Руссо
городов следует искать изначальные черты природы,
запечатленные в сердце человека *.
Пусть даже безграничная, неутолимая зависть разовьется во всех
людях до степени, допускаемой нашим софистом, произведет ли
она это состояние всеобщей войны каждого против всех,
отвратительную картину которой осмелился нарисовать Гоббс? Это
безудержное желание приобретать все окружающие вещи
несовместимо с желанием уничтожать себе подобных; и победитель, убивший
всех, имел бы несчастье остаться один на всем свете и ничем бы не
смог наслаждаться именно потому, что обладал бы всем. Да и сами
богатства: к чему они, если их некому передать; да и к чему
владение всем миром, если ты в нем — единственный житель? Как! Его
желудок способен поглотить все плоды земли? Кто соберет для него
то, что произрастает в различных природных условиях? Кто
донесет свидетельство о его господстве до отдаленных и необитаемых
земель, в которых он никогда не будет жить? Что он будет делать со
своими сокровищами? Кто будет потреблять его запасы? Перед
чьими глазами он будет выставлять напоказ свою власть? Понятно!
Вместо того чтобы всех изрубить, он всех закует в оковы хотя бы
для того, чтобы иметь врагов. И это тут же меняет постановку
вопроса, поскольку речь идет не о том, чтобы разрушать, ибо
состояние войны сведено на нет. Пусть читатель здесь воздержится от
суждения. Я не забуду остановиться на этом вопросе.
Человек по своей природе миролюбив и боязлив. При малейшей
опасности первое его побуждение — пуститься в бегство. Он
становится воинственным только в силу привычки и благодаря опыту.
Почести, выгода, предрассудки, месть, все эти пристрастия,
которые могут заставить его бросить вызов опасностям и смерти, в
природном состоянии ему чужды. И только после того, как он образо-
* Итак, этот аналитический прием рассуждений являет разуму человека лишь
загадки и темные пучины, в которых самый мудрый человек не может разобраться.
Пусть зададут вопрос, почему нравы портятся по мере того, как разум
просвещается. Будучи не в состоянии найти причину, они упорно станут отрицать сам факт.
Пусть спросят, почему дикари, перенесенные в нашу среду, не разделяют с нами ни
наших наслаждений, ни наших пристрастий, и их совсем не заботит все то, чего
мы так страстно желаем. Эти мудрецы не найдут объяснения этому или найдут
его лишь согласно установленному мной началу. Им знакомо лишь то, что они
видят, а на природу они не обращают внимания. Они отлично знают, что такое
парижский или лондонский горожанин, но они никогда не узнают, что такое человек.
246
Начала права войны
вал сообщество с одним человеком, он решается напасть на третье
лицо; он становится солдатом только после того, как стал
гражданином. Во всем этом незаметно значительных приготовлений к
ведению войны с себе подобными. Но я и так слишком долго
останавливался на опровержении взглядов, столь же возмутительных, сколь
и бессмысленных, которые сотни раз опровергали раньше.
Следовательно, не существует общей войны человека с
человеком, и человеческий род образовался не для того только, чтобы
разрушить себя изнутри. Остается рассмотреть войну случайную
и частную, могущую возникнуть между двумя или несколькими
лицами.
Если бы закон природы был начертан только в человеческом
разуме, он оказался бы мало пригоден для того, чтобы направлять
большую часть наших поступков, но он еще и запечатлен в сердце
человека нестираемыми письменами, и именно там он звучит более
убедительно, чем все наставления философов; именно там он
вещает о том, что человеку позволительно принести в жертву жизнь себе
подобного только ради сохранения своей собственной, и
заставляет его ужасаться бездушному кровопролитию, даже если его к нему
вынуждают.
Я признаю, что при ссорах в отсутствие судьи, которые могут
возникнуть в природном состоянии, в раздражении человек иногда
может убить другого человека, либо нападая открыто, либо
застигнув его врасплох; но, коль скоро идет речь о настоящей войне,
представьте себе, в каком странном положении должен бы оказаться тот
же самый человек, не имея возможности сохранить свою жизнь
иначе как ценою жизни другого человека; в силу отношений
зависимости, возникших между ними, одному надлежало бы умереть
для того, чтобы другой мог жить. Война — постоянное состояние,
предполагающее устойчивые отношения, а они редко имеют место
в отношении человека с человеком, поскольку все в отношениях
между отдельными лицами непрерывно меняется и беспрестанно
изменяет соображения выгоды. Таким образом, предмет спора
возникает и прекращает свое существование почти в одно и то же
мгновение, а ссора начинается и заканчивается в один и тот же день,
и могут иметь место убийства и сражения, но никогда (или крайне
редко) — продолжительная вражда и войны.
Тем более состояние войны не может существовать между
частными лицами в гражданском состоянии, где жизнь всех граждан
247
#-v . Жан-Жак Руссо
находится в распоряжении верховной власти и где никто не имеет
права располагать ни собственной жизнью, ни жизнью
постороннего. В том же, что касается дуэлей, вызовов на поединок, турниров
один на один, помимо того что это незаконное и дикое нарушение
воинского устава, из этого совершенно не вытекает подлинное
состояние войны, но возникает частное дело, и оно окажется исчерпа-
ным в определенное время и в определенном месте, так что для
нового боя необходим новый вызов. Из всего этого нужно исключить
частные войны, которые прерывались ежедневным прекращением
военных действий, называвшимся земским миром и предписанным
установлениями Святого Людовика67. Но этот пример —
единственный в истории.
Можно, однако, спросить: могут ли короли, независимые от
людской власти, начать между собой личные и частные войны
независимо от своего государства? Это, очевидно, пустой вопрос, ибо,
как известно, не в обычаях государей беречь окружающих и
подвергать себя личной опасности. И тем более этот вопрос связан
с другим, который решать не мне, а именно: подчинен ли государь
законам или нет, ибо если он им подчинен, то его жизнь
принадлежит государству так же, как и жизнь любого гражданина. Но если
государь стоит над законами, он живет в чисто природном
состоянии и не должен отдавать отчет в своих действиях ни подданным,
ни кому бы то ни было.
О состоянии общественном
А теперь мы переходим к рассмотрению нового порядка вещей.
И мы тотчас увидим людей, сплоченных притворным
взаимопониманием, собравшихся вместе с тем, чтобы перерезать друг другу
глотки, и все ужасы войны, возникшие вследствие стараний ее
предотвратить. Но важно в первую очередь нам самим выработать
более ясные, чем прежде, понятия о сущности политического
организма. Пусть читатель имеет в виду, что здесь речь идет не столько
об истории и событийной стороне, сколько о праве и правосудии,
и что я хотел бы исследовать природу вещей, а не предрассудки.
Как только возникло первое общество, необходимым
следствием этого стало образование и всех остальных. Следовало или
вступить в него, или объединиться, чтобы оказать ему сопротивление.
248
Начала права войны
Следовало или поступить по этому примеру, или позволить ему
себя поглотить.
И так все на земле изменилось: повсюду природа исчезла, и
повсюду человеческое искусство заняло ее место. Природная
независимость и свобода уступили место законам и рабовладению, больше
не стало свободных государств; философ ищет человека и не
находит. Но тщетно думали извести природу: она возрождалась и
проявляла себя там, где меньше всего ожидали. Независимость, отнятая
у людей, нашла убежище в обществах, и эти большие организмы,
находясь во власти собственных побуждений, совершали тем более
разрушительные столкновения, чем больше их громада
превосходила размеры отдельных людей.
Но мне возразят: каждый из этих организмов обладает большой
устойчивостью. Как же стало возможно, что они пришли в
столкновение между собой? Их собственное устройство разве не должно
было удерживать их в вечном мире между собой? Вынуждены ли
они, по примеру людей, искать вовне то, что удовлетворит их
потребности? Разве внутри них самих нет того, что необходимо для
их самосохранения? Обмен и конкуренция являются ли
источником неизбежного раздора? Да разве не существовали во всех
странах мира жители до возникновения торговли? Это бесспорное
доказательство в пользу того, что они могли прожить и без нее.
Я ограничусь тем, что отвечу на это, опираясь на факты и не
опасаясь упреков. Но я не забываю, что рассуждаю здесь о природе
вещей, а не о событиях, которые могут иметь тысячи особых
причин, не зависимых от общего начала. Однако рассмотрим
внимательно устройство политических образований, и хотя в целом
каждое из них достаточно для самосохранения, мы обнаруживаем, что
их взаимные отношения не менее тесны, чем отношения между
индивидами. Ибо человек, в сущности, по необходимости никоим
образом не зависит от себе подобных, он может выжить и без их
помощи, сохраняя, насколько возможно, телесную крепость. Он
нуждается не столько в заботах окружающих, сколько в плодах
земных, а земля производит более чем достаточно для того, чтобы
прокормить своих жителей. Добавим к этому, что силы и величие
человека имеют пределы, установленные природой, и за них
невозможно выйти. И кем бы он себя ни воображал, его способности
оказываются ограниченными. Жизнь коротка, а годы сосчитаны. Его
желудок не увеличивается в размерах, когда богатств становится
249
Жан-Жак Руссо
больше; напрасно умножать желания, ибо существует мера
удовольствий, ограничены и потребности сердца, как и все остальное,
а его способность получать наслаждения также неизменна.
Напрасно он мысленно возвышает себя: он все же остается
незначительным.
Напротив, государство, будучи искусственным образованием, не
имеет определенной природой меры, величина его может
беспредельно и постоянно возрастать; оно всегда чувствует себя слабым,
пока рядом находятся более сильные. Его безопасность и
самосохранение требуют, чтобы оно становилось более могущественным,
чем соседи, и оно не может увеличивать, питать и упражнять свои
силы иначе, как за их счет. Если оно не нуждается в поисках себе
пропитания вовне, оно беспрестанно ищет для себя все новые
составные части, которые придают ему нерушимую прочность. Ибо
неравенство людей имеет пределы, установленные самой природой,
но неравенство между обществами может возрастать непрестанно
до тех пор, пока одно из них не поглотит остальные.
Итак, поскольку величина политического организма весьма
относительна, то он вынужден беспрестанно сравнивать себя с
остальными, чтобы узнать себе цену; он зависит от окружающего мира,
вникает во все, что происходит вокруг, и тщетно его желание
замкнуться в себе, при этом не теряя и не выигрывая: оно все равно
будет иметь большие или меньшие размеры, будет сильнее или слабее
в зависимости от того, расширяются или уменьшаются границы
соседа, который становится сильнее или ослабевает. И, наконец, его
собственная прочность, сообщая большее постоянство внутренним
отношениям, оказывает более определенное влияние на его
внешнее поведение, а его ссоры с соседями становятся опаснее.
Порой кажется, что люди взялись перевернуть вверх дном все
истинные представления об окружающих вещах. Все склоняет
человека природы к покою, а еда и сон — его единственные
потребности. Лишь голод выводит его из праздности. А его превратили
в одержимого, всегда готового досаждать ближним устремлениями,
которые, однако ж, ему несвойственны. Напротив, пристрастия,
которые жизнь в обществе только усилила благодаря
свойственным ей соблазнам, словно бы и не существуют. Тысячи писателей
осмеливались утверждать, что у политического образования нет
устремлений и нет других соображений пользы государства, кроме
разумных. Как будто бы не замечали того, что, напротив, сущность
250
Начала права войны
общества заключена в поступках его членов, и государство без
движения есть не что иное, как безжизненный организм. Как будто
бы история мира не указывает нам на то, что наилучшим образом
устроенные государства были наиболее предприимчивыми и что
как внешнее, так и внутреннее постоянное действие и
противодействие всех частей свидетельствует о крепости организма в целом.
Различия между произведением человеческого искусства и
творением природы обнаруживают себя в своих проявлениях.
Напрасно граждане называют себя частями государства, они не способны
соединиться с ним, подобно частям тела; невозможно сделать так,
чтобы каждый не обладал личным и особым существованием,
благодаря которому ему хватает сил для сохранения самого себя; его
нервы менее чувствительны, мускулы менее крепки, все узы в
организме слабы, малейшая случайность может нарушить общее
единство.
Пусть не упускают из вида, насколько в сочленениях
политического организма сила общества меньше суммы частных сил, как
много, если можно так выразиться, трений в движениях всех
механизмов, и поймут, что, с учетом соразмерности сил, самый хилый
человек обладает гораздо большей силой самосохранения, чем
самое могучее государство.
Следовательно, для выживания государства необходимо, чтобы
живость его пристрастий восполнялась медлительностью
движений, а его воля проявлялась в той мере, в какой сила ослабевала.
Это закон сохранения, который сама природа установила во
взаимоотношениях видов и укрепляет его, несмотря на неравенство
между ними. Именно в этом (заметим по ходу) заключена причина
того, почему малые государства, с учетом соразмерности, обладают
большей прочностью, чем большие, ибо чувствительность внутри
сообщества не возрастает в зависимости от размеров территории:
чем больше государство расширяется, тем меньше его воля
теплится в нем, а его движения становятся бессильными, и этот большой
организм, придавленный собственным весом, становится грузным,
впадает в бессилие и погибает.
После того как перед нашим мысленным взором предстала
Земля, занятая вновь возникшими государствами, и мы установили
общую зависимость, которая влечет их к взаимному разрушению, нам
остается рассмотреть, в чем в точности заключается их земное
существование, их благополучие и жизнь, чтобы затем обнаружить,
251
Жан-Жак Руссо
с помощью какого рода враждебных действий они в состоянии
нападать друг на друга и взаимно причинять вред.
Именно из общественного согласия возникает единство
организма общества и его общее «Я», а его правление и законы делают
его строение более или менее прочным, его жизнь заключена в
сердцах граждан, их храбрость и их нравы позволяют ему более или
менее долго жить. Только действия, внушенные общей волей и
совершаемые им свободно, ему можно вменить в вину, и именно по
природе этих действий можно судить, хорошее или плохое
устройство имеет существо, которое их произвело.
Пока существует общая для всех воля соблюдать согласие в
обществе и законы, это согласие действительно, и пока эта воля
проявляется вовне в действиях государства, оно не уничтожено. Но, не
переставая существовать, оно становится очень крепким или
оказывается на грани гибели, сильным или слабым, здоровым или
больным, стремится разрушить себя или упрочить. Его
благополучие может возрастать или ухудшаться бесчисленным множеством
способов, что почти всегда зависит от него самого. Но эти весьма
значительные детали не являются предметом моих рассуждений;
но вот вкратце все то, что имеет к этому отношение.
Общий взгляд на войну
государства против государства
Жизненное начало политического организма и, если можно так
выразиться, сердце государства есть общественное согласие; отсюда
следует, что как только его ранят, оно приходит в упадок,
распадается и умирает; но это согласие не есть грамота в переплете,
которую достаточно разорвать для того, чтобы уничтожить государство.
Она начертана общей волей, и именно поэтому ее невозможно
отменить.
Так как поначалу невозможно разделить целое, покушаются на
части. Если организм неуязвим, то, чтобы его ослабить, ранят части
тела. Если невозможно лишить его существования, то пытаются
нанести вред его благополучию, и если невозможно добраться до
вместилища жизни, разрушают то, что ее поддерживает: нападают на
правительство, законы, нравы, имущество, владение, людей.
Государство неизбежно погибает, когда уничтожено то, что его
сохраняет.
252
Начала права войны
Все средства хороши или могут быть таковыми во время войны
одного государства против другого, и часто они являются
условиями мира, навязанными победителем ради того, чтобы продолжать
причинять вред безоружному побежденному.
Ибо цель того зла, которое причиняют врагу войной, —
заставить его страдать, и в еще большей мере во время мира. И нет таких
проявлений враждебности, примеров которых не встречалось бы
в истории. Мне нет нужды объяснять, что означают контрибуции
деньгами, товарами или съестными припасами, отнятые земли,
выселенные со своих мест жители. Ежегодная дань людьми — вещь не
такая уж редкая. Не углубляясь во времена Миноса и афинян,
заметим, что известно, как императоры Мексики нападали на своих
соседей только для того, чтобы принести в жертву пленников; да
и в наши дни войны королей Гвинеи между собой и с народами
Европы ведутся лишь ради дани людьми и продажи рабов. Цель и
последствия войны — иногда всего лишь попытка разрушить строй
вражеского государства. И это нетрудно доказать. Греческие
республики нападали друг на друга не столько с целью лишить друг
друга свободы, сколько с целью сменить образ правления, а меняли
его у побежденных лишь для того, чтобы держать их в большей
зависимости. Македонцы, как и все победители Спарты, всегда
преследовали цель отменить в ней законы Ликурга, а римляне считали
знаком высшего милосердия в отношении побежденного народа
сохранение у этого народа законов его страны. Известно основное
правило их политики — сеять рознь среди своих врагов и самим
держаться в стороне от искусств, расслабляющих и требующих
усидчивости, которые изнеживают и изматывают людей. «Оставим
тарентцам их гневливых богов», — говорил Фабий, когда его
упрашивали привезти в Рим статуи, которыми был украшен Тарент;
и правильно вменяют в вину Марцеллу упадок нравов римлян из-
за того, что он не придерживался этой самой политики в
Сиракузах. И верно, что ловкий завоеватель иногда причиняет гораздо
больше вреда побежденным, оставляя им что-то, а не лишая их
чего-либо; и, напротив, жадный самозванец наносит себе вред
гораздо больший, чем врагу, когда творит ему зло, не скрывая этого.
Это воздействие на нравы всегда рассматривалось просвещенными
государями как очень важная вещь. Все наказание, которому Кир
подверг восставших лидийцев, заключалось в предписании вести
253
*~Nv.
Жан-Жак Руссо
изнеженную и распущенную жизнь; и то, как за дело взялся тиран
Аристодем ради удержания жителей Кум в зависимости от себя,
слишком любопытный пример, чтобы его не привести.
Этих примеров достаточно, чтобы дать представление о
различных средствах, с помощью которых можно ослабить государство,
и о тех, которые, как кажется, война дает право использовать во
вред врагу; в том же, что касается соглашений, некоторые из
указанных средств являются их условиями; чем же являются
подобные мирные соглашения, если не продолжающейся войной с тем
большей жестокостью, что побежденный враг больше не имеет
права защищать себя?
Присоедините к этому ощутимые свидетельства враждебности,
выдающие желание причинить вред, лишить державу положенного
ей наименования, отказать ей в правах, отвергнуть ее притязания
на свободу торговать, создать ей врагов и, наконец, под любым
предлогом нарушать в отношении нее международное право.
Эти различные способы ранить политический организм разве не
являются во всех отношениях осуществимыми или одинаково
полезными для того, кто ими пользуется, предпочтительно теми из
них, что естественным образом дают выгоду нам и наносят урон
врагу? Земли, деньги, люди, все награбленное, все, чем можно
завладеть, становится поводом для взаимной враждебности, и
низменная жадность незаметно меняет взгляд на вещи, война в конце
концов выливается в грабеж, и завоеватели и враги мало-помалу
становятся тиранами и ворами.
Из опасения незаметно для себя согласиться с этой переменой
мыслей, определим содержание наших собственных и постараемся
сделать это определение настолько простым, что заблуждение
станет невозможным.
Итак, я называю состоянием войны державы с державой
внешнее проявление взаимного и постоянного стремления разрушить
или, по крайней мере, ослабить всеми возможными средствами
вражеское государство. Это стремление, выраженное в действиях, есть
война в собственном смысле слова; пока она не имеет внешнего
проявления, она есть лишь состояние войны.
Предвижу возражение: поскольку, по моему мнению, состояние
войны является естественным между державами, почему
стремление, из которого она следует, должно обязательно проявить себя
254
Начала права войны
открыто? На это я отвечу, что ранее речь шла о природном
состоянии, а здесь о положении законном, и в дальнейшем я покажу,
почему для того, чтобы война стала войной, нужно ее провозгласить.
Основные разлигия
Я прошу читателя обратить внимание: я исследую здесь не то,
что делает войну полезной для того, кто ее ведет, а то, что делает ее
законной. Быть справедливым — накладно. Но разве это избавляет
от необходимости оставаться справедливым?
Так как никогда не было и не может быть войны между частными
лицами, кто же те, между кем она ведется, и кто может в
действительности назвать себя врагом? Я отвечу, что это общество в
качестве лица. А что такое общество в качестве лица? Я отвечаю, что это
моральное существо, которое называют сувереном и существующее
в силу общественного согласия, а его волеизъявления носят имя
законов. Применим к этому установленные прежде различия; во
внешних проявлениях войны именно суверен причиняет вред, а
государство его претерпевает.
Если война ведется между моральными существами, нет нужды
упрекать в этом людей, и можно вести войну, никого не лишая
жизни. Но здесь требуются разъяснения.
Если рассматривать вещи с точки зрения строгого смысла этого
согласия в обществе, то земля, деньги, люди, все, кто находится
внутри государства, от него безраздельно зависят. Но права
общества, основанные на естественных правах, не могут быть им
уничтожены, все эти предметы должны быть рассмотрены в двояком
отношении, а именно: земля в качестве территории государства
и в виде достояния частных лиц, вещи, принадлежащие в одном
отношении суверену и собственникам в другом, жители в качестве
граждан и в качестве людей. В сущности, общественный организм
как моральное существо является лишь существом, созданным
разумом. Уничтожьте общественное соглашение, и тут же это
существо будет уничтожено, но ни одна из его составляющих не
окажется поврежденной, и никогда никакие соглашения между людьми не
смогут ничего изменить в физических отношениях. Что значит
вести войну с сувереном? Это означает нападать на общественное
соглашение и на то, что из него вытекает, ибо сущность государства
заключена именно в нем. Если бы общественное соглашение мож-
255
•"^
Жан-Жак Руссо
но было разом прервать, никакой войны не будет; государство
уничтожат одним ударом, и при этом ни один человек не погибнет.
Аристотель говорил68, что, для того чтобы дозволить жестокое
обращение, которое илоты терпели в Спарте, эфоры, вступая в свою
должность, торжественно объявляли им войну. Это объявление
было столь же ненужным, сколь и варварским. Состояние войны
существовало между ними именно потому, что одни были
хозяевами, а другие рабами, И не подлежит сомнению, что именно потому,
что спартанцы убивали илотов, илоты были не вправе убивать
спартанцев.
ПИСЬМА С ГОРЫ
С. В. Занин
РУССО И ЖЕНЕВА
В СЕРЕДИНЕ 60-х гг. XVIII в.
Когда Руссо в 1754 г. заявил о себе как политический мыслитель,
Женева уже не была «райским уголком» свободы и покоя граждан.
На протяжении всей первой половины XVIII в. ее раздирали
противоречия. Их источником, как отмечал Вольтер, был безудержный
рост богатства. Благодаря соглашению с Францией в 1718—1720 гг.,
«женевцы толпой бросились в Париж, обогатились там за счет
Франции; почти все вновь возникшие крупные состояния
принадлежали им; они проникли в магистратуру, построили великолепные
городские и загородные дома». До 1720 г. в Женеве редкостью
были дома, в которых прислуживали лакеи; теперь женевцы «по
роскоши и великолепию могут поспорить с Лионом» К
Уже в начале XVIII в. правление в Женеве все более
превращалось в аристократическое. Власть сосредотачивалась в руках
Малого Совета (фактически — правительства) и Совета 200, кандидатуры
в который избирались Генеральным Советом (собранием граждан)
и должны были быть предварительно одобрены магистратами,
входившими в первый из этих двух Советов2. В1738 г. в результате
острого политического конфликта в Женеве при посредничестве
Франции был издан Устав, согласно которому некоторые основные
полномочия в области законодательства передавались Совету 200
(«Великолепному Совету»), а за Генеральным Советом (собранием
граждан) оставалось право принимать законы, объявлять войну,
заключать мир и избирать магистратов3. Устав о посредничестве,
1 Voltaire. Mémoire sur Genève et sur le pays de Gex // Отдел редкой книги РНБ.
Manuscrits de Voltaire. T. XIII: «Manuscrits curieux». Fol. 248 recto.
2 Édits de la République de Genève. À Genève, 1735. P. 9,38. A также постановления
«Великолепного Совета» от 9 сентября 1691 г. и 14,15 января 1764 г.
259
*^ч.
С. В. Занин
составленный при содействии Франции, лишь на время ограничил
«натиск аристократии», в частности, запретив занимать должности
магистратов представителям одного и того же семейства и даровав
народу право обжаловать действия магистратов перед
Генеральным прокурором («право представлений»), который, в свою
очередь, должен был вынести вопрос на рассмотрение
«Великолепного Совета». Устав также содержал требование скорейшего издания
«Свода законов» Женевы, дабы разночтения в них не стали поводом
для политического противостояния. Это пожелание выполнено не
было. А после Устава о посредничестве «идеал консервативной
демократии» как в политической практике, так и в сознании
представителей правящей верхушки остался незыблемым4. Нужно ли
удивляться, что начиная с 1738 г. конституция Женевы оставалась
предметом самых различных толкований как верхушкой
аристократии, так и «низами». Демократическая оппозиция отрицала не
только право Совета 200, избиравшего Совет 25, быть носителем
суверенной власти, но и право нижестоящих советов (Совета 25,
Совета 60 и Совета 200) ограничивать полномочия Генерального
Совета. Это свидетельствовало о «радикальности демократической
точки зрения, которая превращала реалии Женевы в слегка
измененный идеал, заимствованный в Древнем Риме»5. В противовес
этой демократической программе аристократия выдвигала идею
«представительного правления» Совета 200, который мало-помалу
должен был узурпировать суверенную власть.
В середине 50-х гг. эти политические и социальные процессы не
ускользнули от внимания Руссо. «Встречи, которые Руссо имел с
либерально настроенными женевцами в этот период, могли оказать
непредсказуемое влияние на его мысль», — писал английский
исследователь Д. С. Спинк6. В 50-х — начале 60-х гг. Руссо мог
оценить положение дел в Женеве не только благодаря личным
встречам, но и благодаря регулярной переписке с соотечественниками.
В 1760 г. он все более и более убеждался в том, что «беды Женевы
3 Règlement de l'illustre Médiation pour régler les troubles en Genève. À Genève,
1738. Art. 3,6,10 et 7.
4 Silvestrini G. Aile radice del pensiero di Rousseau. Institutioni e dibattito politico
a Ginevra nella prima meta del settecente. Genève, 1997. P. 175.
5 Ibid. P. 108.
6 Spink D. S. Rousseau et Genève. Essai sur les idées politiques et religieuses de
Rousseau. Paris. 1934. P. 42.
260
Руссо и Женева в середине 60-х гг. XVIII в.
неисцелимы», a поселившийся в ней Вольтер ее «погубил»7. К
великому удивлению Руссо, осуждение романа «Эмиль, или О
воспитании» и трактата «Об общественном договоре» во Франции
Парижским парламентом нашло поддержку у правительства и пасторов
Женевы. На основании приговора парламента пасторы требуют от
Руссо «покаяния по всей форме и доказательств того, что он не
является противником христианства»8. Вот это аргумент! Не меньшее
удивление у него вызвала реакция со стороны правительства
Женевы на трактат «Об общественном договоре». В сущности, он не
удивлялся тому, что общественные институты его родины далеко
не соответствовали тому идеалу, который он в свое время нарисовал
в Посвящении к «Рассуждению о неравенстве». Они давно уже
«прогнили» (ludibrio sunt), как писал Руссо пастору Мульту в 1760 г. Но
даже скромная попытка Руссо «сдержать распространение зла»
своими довольно умеренными теориями вызвала жесткую реакцию
женевского правительства9. Эта неожиданная реакция заставила
его пристальнее присмотреться к политическим событиям,
которые происходили в Женеве. Явное противоречие, которое
возникало между гражданским долгом, как его понимал Руссо, и позицией
женевского правительства, заставило его отказаться от
гражданства в 1763 г.10
В 1764 г. в ответ на осуждение своих сочинений в Женеве Руссо
опубликовал «Письма с Горы», в которых недвусмысленно заявлял,
что к написанию трактата «Об общественном договоре» его
побудили замеченные им «недостатки образа правления в Женеве,
который он считал лучшим из возможных» п. Главным недостатком
он считал отсутствие действенных гарантий против узурпации
суверенной власти со стороны аристократии. Именно против идеи
сделать Совет 200 «представителем» народного суверенитета
направлена, по мнению швейцарской исследовательницы Г. Сильвестрини,
следующая фраза из трактата «Об общественном договоре»: «Как
только собирается законным образом созванный Совет,
юрисдикция правительства прекращается, а деятельность исполнительной
7 Lettre à Moultou. 29 janvier 1760 // CC. № 933.
8 Lettre de Jacob Vernet à J.-J. Rousseau. 21 septembre 1762 // CC. № 2178.
9 Lettre à Moultou. 29 janvier 1760 // CC. № 933.
10 Lettre à Fabre, premier syndic de Genève. 12 mai 1763 // CC. № 2686.
11 Rousseau J.-J. Lettres écrites de la Montagne. VI var. // OC. T. III. P. 1664.
261
*\.
С. В. Занин
власти приостанавливается... там, где есть представляемый, нет
нужды в представителе»12. Однако эта мысль небесспорна. Как
свидетельствуют заметки представителя женевской «олигархии» Пьера
Навиля, он видел в принципах, изложенных в трактате «Об
общественном договоре», «весьма необходимое изменение» демократии
в аристократическое правление и сочувственно относился к ним.
Вместе с тем, он отмечал, что введение «гражданской религии»,
которое Руссо предлагал в своем трактате, неизбежно привело бы
к «обмирщению государства» и «пробудило бы с новой силой
агрессивные народные требования»13. Словом, Навиль небезусловно
осуждал политические принципы трактата, но он опасался, что
«гражданская религия», содержавшая в себе принципы
«естественной религии», изложенные в трактате Руссо о воспитании, будет
взята на вооружение его политическими оппонентами. Это опасение
следует считать вполне обоснованным, если принять во внимание
то, что, по Руссо, «новообращенные, исповедующие естественную
религию», являются людьми толерантными, добродетельными
и следуют гражданскому долгу, руководствуясь нравственным
убеждением, а не потому, что они исповедуют кальвинизм —
государственную религию Женевы14. Главное возражение, которое адресовал
Навиль Руссо, заключалось в отрицании самой мысли о
возможности введения «гражданской религии», а фактически —
«естественного права». И та, и другая могли стать знаменем в руках
демократической оппозиции.
Вместе с тем Руссо отчетливо осознавал, что требования
сторонников реформ в Женеве, то есть его собственных защитников
(авторов «Представлений правительству» (Représentants)), могут
привести к конфликту между «свободой и властью, который ведет
к гражданской войне» в стране, поскольку «Малый Совет
стремится к самому жесткому аристократическому правлению, а принципы
авторов Представлений приведут не только к крайностям, но и к
злоупотреблению демократией»15. Руссо, отказавшийся от граждан-
12 Rousseau J.-J. Du Contrat social. L. III. Ch. XIV// OC. T. III. P. 427; Silvestrini G.
Op. cit. P. 119.
13 Navitte P. Examen du «Contrat social» de J.-J. Rousseau // Annales de la Société
J.-J. Roussseau. Genève, 1933. T. 22. P. 33,115,147.
14 Rousseau J.-J. Lettres, écrites de la Montagne. P. 706.
15 Lettre à d'Ivernois. 9 février 1768 // CC. № 6241.
262
Руссо и Женева в середине 60-х гг. XVIII в. ^->
ства, опубликовал «Письма с Горы», выражая тем самым мнение
стороннего наблюдателя, который призывал и «сторонников, и
противников» демократии быть патриотами. Он признавался, что не
был в курсе того, «что происходит в Женеве, и давно не держал
перед глазами старую конституцию». Он исходил из общих
соображений человека, убежденного в необходимости пробудить в людях
«гуманные и мирные намерения, чтобы они все могли пожертвовать
своими соображениями выгоды ради покоя своей родины». Более
того, Руссо стремился не только давать политические
рекомендации, которые могли бы при определенных условиях стать еще
одним поводом для распрей в среде женевцев, но и влиять на их
нравственное сознание. «Значение совести, истины, справедливости
заключается не только в том, чтобы не льстить окружающим, но
и в том, чтобы не льстить самому себе, принимая за благо то, что
таковым в действительности не является», — писал он, обращаясь
к сторонникам Представлений16. Проект Руссо по
реформированию институтов Женевы был призван решать не вопросы
позитивного права, а предложить пути решения конфликта в нравственном
сознании граждан.
Поэтому в «Письмах с Горы» предложения Руссо носили двоякий
характер. Во-первых, он предлагал выработать компромиссную
программу политических реформ. Во-вторых, он обращался к
большинству сограждан, которые еще не были вовлечены в
политический конфликт. Его программа содержала предложение сохранить
«равновесие» между народом и магистратами, не меняя основ
конституции. Руссо был противником предоставления магистратам
исклюгителъного права отклонять (давать отрицательный ответ)
«представления» народа, которое сделало бы их «полными
хозяевами положения», поскольку в этом случае они объединили бы в своих
руках правительственную власть и суверенитет. Вместе с тем, Руссо
не был против того, чтобы сохранить право «давать
отрицательный ответ на Представления», которое отстаивала аристократия,
но хотел вручить его не правительству, как того хотела
аристократия, а Генеральному Совету, в который бы подавались
представления от групп граждан17. Кроме того, он считал, что правительство
(Малый Совет) благодаря избранию синдиков Генеральным Сове-
16 Lettre à Coindet. 9 février 1768 // CC. № 6239.
17 Lettre à d'Ivernois. 9 février 1768 // CC. № 6241.
263
*\
С. В. Занин
том в этом случае попало бы под контроль народа. Тем самым
суверенная власть народа оказалась бы неделимой, а «народ получил бы
право возражать против присвоения власти Малым Советом»18.
При этом за магистратурой сохранилось бы «право возражать
против нового толкования» народом конституции. Руссо был
категорически против избрания Совета 200 наполовину народом, а
наполовину Малым Советом, как то предлагали демократы19. Таким
образом, осуществление реформ, предложенных Руссо,
ограничивало бы притязания как аристократии, так и народа. Женева в
известной мере превратилась бы в «смешанное правление», в
котором бы существовало своего рода равновесие политических сил.
Генеральный Совет, то есть собрание всех граждан, стал бы не
только законодателем (в соответствии с принципами,
изложенными в трактате «Об общественном договоре»: кн. III, гл. 17), но
«высшим магистратом», призванным следить за «применением
закона» 20. Что же касается Совета 60, то он выступал бы как
собрание выборщиков, а Совет 200 — как высший контрольный орган,
напоминающий сенат.
И все же, согласно Руссо, самые разумные реформы не помогут
одолеть политическую апатию народа. ВIX «Письме с Горы» Руссо
нарисовал достаточно яркую картину нарушений прав граждан,
стремясь сделать более отчетливым в их сознании принцип,
провозглашенный в VII «Письме»: «именно вокруг прав индивидов
следует собирать права народа: когда на них можно покушаться по
отдельности, на весь народ надевают ярмо»21. Д. С. Спинк полагал,
что в период создания трактата «Об общественном договоре»
позиция Руссо в отношении институтов Женевы была неясной, потому
что он, скорее всего, не был знаком с ее конституцией. Лишь
работая над VIII и IX «Письмами с Горы», он внимательно ознакомился
с документами и «стал реформатором, защищая позитивное
право»22. По моему мнению, эта мысль нуждается в уточнении.
Действительно, в VIII письме Руссо достаточно решительно заявляет,
что конституция Женевы сильно изменилась, а «возвратить граж-
18 Rousseau J.-J. Lettres écrites de la Montagne. VII. P. 847.
19 Ibid. P. 894.
20 Ibid. P. 854.
21 Ibid. P. 827.
22 Spink D. S. Op. cit. P. 74-77.
264
Руссо и Женева в середине 60-х гг. XVIII в.
дан к мирным временам означает изменить государственный строй».
В сущности, он предлагает почти ничего не менять в нем23, но вовсе
не потому, что Руссо наконец ознакомился с законодательными
актами Женевы, как полагал Д. С. Спинк, а потому, что он убедился,
что «наибольшая выгода граждан и горожан состоит в том, чтобы
предотвратить любое изменение в государственном строе».
Поэтому конституция Женевы нуждалась не в новациях, а в
стабилизации. В «Письмах» Руссо достаточно красочно обрисовал картину
женевского общества, где ремесленники, купцы, горожане «заняты
своими делами» и не желают, подобно гражданам «античных
республик, заниматься делами правления». В результате «каждый,
будучи обманут своей частной выгодой, больше всего жаждет защиты,
а не свободы»24. Из этого следует, что Руссо в большей мере
стремился учитывать настроения в женевском обществе и не предлагать
радикальных мер в государстве, где народ не стремится бороться за
свои права.
В отличие от проекта конституции для Корсики, Руссо в
«Письмах с Горы» отчетливо показал гражданам Женевы весь механизм
действия суверенной власти. По моему мнению, в «Письмах»
Руссо, изложив полностью и в доступной для граждан форме основные
идеи трактата «Об общественном договоре» (письмо VI), в
сущности, занял ту же позицию, что и Воспитатель в романе «Эмиль».
Воспитатель объяснил своему воспитаннику, что по мере того как
«нравы» и «законы» перестают соответствовать друг другу, то есть,
закон как выражение «общей воли» — «нравам», то есть, мнению
частных лиц, «подавляющая сила правительства возрастает».
Поэтому противоречия между «нравами» (сознанием граждан) и
«законами», которые призвано исполнять правительство, неизбежно
ведет к репрессиям со стороны последнего. В трактате «Об
общественном договоре» воздействие суверенитета на правительство
Руссо называл действием «воли на силу». Там, где «царит одна
только сила» правительства, как это случилось в Женеве,
«общественный организм уничтожается». Позиция Руссо в «Письмах с Горы» —
безусловно, позиция сторонника реформ. Но ее специфика
заключалась в том, что Руссо-писатель стремился воздействовать на
политическое сознание граждан, изучив предварительно их нравы и «со-
23 Rousseau J.-J. Lettres écrites de la Montagne. P. 836.
24 Ibid. P. 881,888.
265
«"Vs.
С. В. Занин
ображения непосредственной выгоды»25, точно так же, как
Воспитатель воздействовал на сознание Эмиля в возрасте «разума».
В «Письмах с Горы» этот принцип особенно заметен. Но к какой
аудитории обращался Руссо? Он сам назвал ее «средним сословием,
которое всегда находилось между богатыми и бедными, между
правителями государства и чернью. Это сословие, состоящее из людей,
более или менее равных по своему положению, имуществу,
просвещенности <...> видит свою самую большую выгоду в том, чтобы
законы соблюдались, магистратура уважалась, государственный строй
оставался незыблемым, а государство пребывало в спокойствии»26.
В литературе стало общераспространенным мнение, согласно
которому «экономический консерватизм Руссо имел то же
происхождение, что и политический радикализм», поскольку в своем
политическом учении Руссо отразил взгляды мелкой буржуазии27. Нельзя
не обратить внимание и на то, что в своих политических проектах
Руссо стремился, как свидетельствует проект реформ на Корсике, к
хозяйственной и политической эмансипации трудового населения,
производящего «класса», который может стать опорой демократии
и гражданского общества. Во многом аналогичные идеи
высказывались и в проекте преобразований в Женеве.
В своей политической теории, изложенной в трактате «Об
общественном договоре», Руссо допускал два варианта образования
государства, основанного на общественном договоре. «Может случиться
так, — писал Руссо, — что люди начнут объединяться, прежде чем
станут обладать какой-либо собственностью, заняв территорию,
достаточную для всех, и пользоваться ею или совместно, или делить
между собой в равной мере или в пропорциях, установленных
суверенной властью»28. Этот вариант, очевидно, и был предложен Руссо
в проекте конституции для Корсики, который я, по приведенным
ранее соображениям, остерегаюсь квалифицировать как
«возможность коммунистической авантюры»29. Другой вариант Руссо
предлагал для государств, в которых уже существуют сложившиеся от-
25 LaunayM. Rousseau, écrivain politique. Cannes, 1971. P. 265-275.
26 Rousseau J.-J. Lettres écrites de la Montagne. P. 889.
27 Schulz К. D. Rousseau's Eigentumkonzeption. New York, 1984. S. 108.
28 Rousseau J.-J. Du Contrat social // OC. T. III. P. 367.
29 Launay M. Op. cit. P. 455.
266
Руссо и Женева в середине 60-х гг. XVIII в.
ношения собственности. При плохих формах правления законы
служат интересам узурпаторов, «богатых», но при хорошем
правлении «законы всегда полезны для тех, кто чем-нибудь обладает,
и вредны для тех, кто не обладает ничем: из этого следует, что жизнь
в обществе выгодна людям, которые все чем-либо обладают, но
никто не обладает чем-либо чрезмерно»30. Это «среднее сословие»
обладает в достаточной мере экономической самостоятельностью
для того, чтобы не только пользоваться своими политическими
правами, но и отстаивать их. По моему мнению, различие в уровне
политического сознания большинства населения, которое
составляло «среднее сословие» и являлось опорой равенства и
политической стабильности, объясняет различие в подходах Руссо к
политическому воспитанию в проекте конституции для Корсики и проекте
реформ в Женеве. На Корсике народ еще не имел, по мнению Руссо,
представлений о морали, а в Женеве развитое политическое
сознание граждан давало ему как писателю право «говорить правду без
прикрас».
30 Rousseau J.-J. Du Contrat social. P. 284 (см также: Rousseau J.-J. Du Contrat social.
1-ère version. L. I, Ch. III).
Жан-Жак Руссо
ПИСЬМА С ГОРЫ
Vitam impendere verol.
Уведомление
Поздно возвращаться, я это понимаю, к слишком избитой и уже
почти забытой теме. Состояние моего здоровья, которое не
позволяет мне более выполнять какую бы то ни было работу, требующую
усидчивости, мое отвращение к полемике стали причиной
медленного написания этих «Писем» и нежелания их обнародовать. Я даже
полностью уничтожил бы эти «Письма» или, скорее, я бы их
совсем не писал, если бы речь шла только обо мне; однако моя родина
не стала мне настолько чуждой, чтобы я мог спокойно наблюдать,
как угнетают ее граждан, особенно тогда, когда они осознали свои
права, встав на мою защиту. Я был бы последним из людей, если бы
прислушивался к чувству, которое в подобных обстоятельствах
нельзя считать проявлением ни мягкости, ни терпения, но,
напротив, слабости и трусости, когда оно мешает исполнить свой долг.
Нет ничего менее значимого для публики, и я с этим соглашусь,
чем предмет этих «Писем». Государственный строй маленькой
республики, судьба маленького человека, перечень некоторых
несправедливостей, опровержение нескольких софизмов, — все это не
содержит в себе ничего значительного, чтобы заслужить внимание
многих читателей; однако если темы, затронутые мною,
незначительны, а предметы — значительны и заслуживают внимания
любого достойного человека. Оставим в покое Женеву и Руссо с его
слабостями; но религия, но свобода, но справедливость! Кем бы вы
ни были, все это не окажется недостойным вашего внимания.
268
Письма с Горы s~%
Не пытайтесь найти здесь в красотах стиля вознаграждение за
сухость предмета. Те, кого так разозлили некоторые удачно
написанные строки, вышедшие из-под моего пера, найдут в этих «Письмах»
то, что охладит их пыл. Честь защитить угнетенного воспламенила
бы мое сердце, если бы я выступал в защиту постороннего
человека. Мне выпала печальная участь защищать самого себя, и я должен
был ограничиться размышлениями; воспламениться означало бы
унизить себя. В этом вопросе я бы снискал милость тех, кто
воображает, будто для правды существенно то, что ее высказывают
хладнокровно, а это мнение мне трудно понять. В то время когда
страстная убежденность нас воодушевляет, зачем использовать ледяной
язык? Когда Архимед в восторге вдохновения бежал раздетый по
улицам Сиракуз, разве то, что он увлекся истиной, умаляет значение
открытого им? Вовсе нет: тот, кто ее чувствует, не может
удержаться от того, чтобы ей поклоняться; тот, кто холоден, ее не созерцал
никогда.
Как бы то ни было, я прошу читателей соблаговолить не уделять
внимания красотам стиля и ограничиться исследованием того,
насколько правильно я размышляю: поскольку я не понимаю, как из
одного лишь того, что автор излагает свои мысли в правильных
выражениях, может следовать, что автор не отдает себе отчета в
сказанном им.
Первая часть
Письмо I
Нет, сударь, я вовсе не осуждаю вас за то, что вы не
присоединились к сторонникам Представлений2 и не вступились за меня. Я сам
далек от того, чтобы одобрить такой поступок, ведь я противился
этому всеми силами, и мои родственники по моей просьбе не стали
в это вмешиваться. Мы молчали, когда нужно было говорить, и
говорили, когда оставалось только молчать. Я предвидел
бесполезность Представлений, я предчувствовал их последствия: я
рассудил, что они нарушили бы спокойствие в обществе или изменили
бы государственный строй. События даже чересчур подтвердили
мои опасения. Вот и вы оказались перед пугающим меня выбором.
Переломное время, свидетелем которого вы стали, требует
рассуждений на иную тему, чем та, что касается меня. Вы спрашиваете, что
269
^ Жан-Жак Руссо
вам следует делать: вы полагаете, что последствия этих действий,
поскольку они затрагивают организм граждан, в меньшей мере
отразятся на тех, кто от них воздержался, чем на тех, кто их совершил.
Но вне зависимости от того, каковы были их мнения поначалу,
сознание общей выгоды должно их всех объединить. Требуемые вами
права и те, на которые покушаются, нельзя более ставить под
сомнение; необходимо, чтобы их либо признали, либо уничтожили, ведь
именно их очевидность гибельна для них. Не следовало подносить
горящий факел к дому во время бури; но сегодня весь дом охвачен
огнем.
Хотя речь здесь не идет о выгоде для меня, все же в этом деле
задета моя честь; вы это знаете и спрашиваете мое мнение, однако,
в качестве лица стороннего; вы предполагаете, что меня не
ослепляют предрассудки и что пристрастность никоим образом не
сделает меня несправедливым; я тоже на это надеюсь; однако кто может
отвечать за себя в столь сложных обстоятельствах? Я чувствую, что
не способен забыть о себе в этой ссоре, в которой принимаю
участие, ставшей главной причиной моих несчастий. Сударь, чем смогу
я ответить на доверие с вашей стороны и оправдать ваше уважение,
коль скоро им пользуюсь? Вот чем. По правде сказать, не доверяя
самому себе, я вам выскажу не столько свое мнение, сколько
доводы: вы их взвесьте, сравните и выбирайте. Сделайте еще один шаг,
доверяйте всегда не моим намерениям — Бог свидетель, они
чисты, — но моему суждению. Человек, даже самый справедливый,
будучи уязвлен, редко воспринимает вещи такими, каковы они есть.
Я, конечно же, не желаю вас обманывать; однако я могу
обманываться сам: я смог бы обмануться в любом ином деле, и тем более
вероятно, что это случится при настоящем положении дел. Будьте
начеку, и даже если я буду десять раз прав, не признавайте моей
правоты в одиннадцатый.
Вот, сударь, меры предосторожности, которые вам следует
принять, и вот меры предосторожности, которые приму я, в свою
очередь. Я начну с того, что буду говорить с вами о себе, о моих обидах,
о суровых поступках ваших магистратов: когда это будет сделано
и когда я облегчу свое сердце, я забуду о себе и стану говорить с
вами о вас, о вашем положении, а именно, о республике; я не чересчур
самонадеян, если смею думать, что, приняв эти меры
предосторожности, смогу справедливо обсуждать вопрос, который вы передо
мной ставите.
270
Письма с Горы
Меня оскорбили тем более жестоко, что я льстил себя надеждой
на то, что имел заслуги перед родиной. Если мне нужно было
просить помилования за мое поведение, я небезосновательно мог на
него рассчитывать. Однако с беспримерной поспешностью, без
вызова в суд, без рассмотрения дела они бросились клеймить позором
мои книги; они зашли даже еще дальше: не считаясь с моими
несчастьями, моими болезнями, моим положением, они приняли
решение касательно моей личности столь же поспешно; не поскупились
даже на слова, которыми обычно награждают злоумышленников.
Эти господа не проявили снисходительности; но были ли они, по
крайней мере, справедливы? Именно это я и хочу выяснить с вашей
помощью. Прошу, не пугайтесь пространности этих «Писем»: я
вынужден был писать пространно. В решении многих поставленных
вопросов я хотел бы быть сдержанным в словах: однако, сударь, что
ни говори, а пространность необходима в размышлениях.
Начнем с того, что соберем вместе все то, что легло в основу
этого расследования, но обратимся не к обвинительному заключению,
не к приговору суда, вынесенному тайно и оставшемуся в тени *, но
к ответам Совета на Представления граждан и горожан, или,
скорее, к «Письмам из деревни», труду, служащему им манифестом, где
они только и снисходят до размышлений на затронутые вами темы.
Мои книги, как они утверждают, кощунственные, греховные,
дерзкие, полные богохульства и наветов на религию. Под видом
сомнений автор здесь собрал все, что может подорвать, потрясти
и разрушить основополагающие начала, заложенные в
Откровениях христианской религии.
Они содержат нападки на все существующие правления.
Эти книги являются, кроме того, тем более опасными и
предосудительными, что они написаны самым увлекательным стилем
французского языка, что они вышли в свет под именем Руссо и со
званием гражданина Женевы и что, в соответствии с намерением
автора, «Эмиль» должен служить руководством для отцов,
матерей и наставников.
* Моя семья официально потребовала сообщить ей это постановление. Вот ответ:
«От 25 июня 1762 года. На обычном заседании, рассмотрев настоящее
требование, Совет постановил, что не имеется оснований для удовлетворения оного. Лю-
лэн». Постановление Парижского парламента было опубликовано сразу после его
вынесения. Вообразите себе, чем является страна, в которой держат в тайне
решения, затрагивающие честь и свободу граждан.
271
*\
Жан-Жак Руссо
Осуждая эти книги, Совет не мог обойти вниманием того, кто,
как предполагают, является их автором.
Наконец, постановление об аресте, вынесенное против
Руссо, — продолжают они, — не является ни судебным решением,
ни приговором, но простым и предварительным выговором,
который предоставлял мне целиком право возражать и защищать
себя и он в предусмотренном случае служил подготовительным
этапом к рассмотрению дела, предписанному эдиктами и
Церковным Ордонансом3.
В ответ на это авторы Представлений, не вдаваясь в
исследование его учения, возражали, «что Совет осудил без соблюдения
предварительного порядка; что статья 88 Церковного Ордонанса была
нарушена в этом судебном решении; что расследование,
проведенное в 1566 году против Жана Морелли4 согласно этой статье,
содержит ясное указание на ее применение, и этим примером
устанавливался судебный обычай, которым не должно было пренебрегать;
что этот новый способ рассмотрения даже противоречил норме
естественного права, признанного всеми народами, а эта норма
требует, чтобы никто не был осужден до того, как были выслушаны
доводы в его защиту; что нельзя заклеймить позором
произведение, не заклеймив вместе с тем автора, чье имя на нем стоит; что
непонятно, какие возражения и средства защиты остаются человеку,
объявленному святотатцем, дерзким и неприличным в своих
произведениях; и после приговора, вынесенного и приведенного в
исполнение в отношении его же произведений, коль скоро автор вел
речь о вещах, которые нельзя было расценить как бесчестье, то
бесчестье, которым стало сожжение книги рукой палача, неизбежно
отразится на их авторе: из чего следует, что нельзя отнять у
гражданина самое ценное, то есть честь; что нельзя было унижать его
доброе имя и положение, предварительно не выслушав его в суде; что
осужденные и заклейменные позором произведения заслуживали
по меньшей мере столько же поддержки и терпимости, сколько
и другие сочинения, где содержатся жестокие насмешки над
религией и которые распространялись и печатались в городе; в том, что
касается правлений, то в Женеве было всегда дозволено свободно
рассуждать на эту общую тему; там не запрещена ни одна книга,
содержащая рассуждения об этом; там не клеймят никакого автора за
это, независимо от его мнений; и что, не думая нападать, в частно-
272
Письма с Горы у-*
сти, на республиканское правительство, автор не упускал ни одного
случая высказать ему похвалу».
На эти возражения со стороны Совета было получен ответ, «что
решение осудить книгу после ее прочтения и достаточного
изучения вовсе не означает пренебрегать этой нормой, которая требует,
чтобы никто не был осужден, если его в достаточной мере не
выслушали; что статья 88 Ордонанса применима исключительно по
отношению к человеку, который лжеучительствует о догматах, а не
в отношении книги, разрушающей христианскую религию; что не
является верным то, что заклеймение произведения касается его
автора, который может всего лишь проявить неосторожность или
неопытность; что в отношении неприличных сочинений, терпимых
или даже напечатанных в Женеве, неразумно утверждать, что в
силу того что правительство однажды проявило сдержанность, оно
будет обязано проявлять ее всегда; и книги, в которых только
высмеивают религию, за небольшим исключением, не заслуживают
того же наказания, что и те, в которых, умствуя, прямо нападают на
нее; а, в конце концов, долг Совета — поддерживать христианскую
религию во всей чистоте перед лицом общего блага, законов, чести
правительства, побудивший его вынести однажды это решение, не
позволяет ему это решение ни изменить, ни смягчить».
Здесь не приведены все доводы, возражения и ответы, которые
были даны с той и с другой стороны; приведены лишь основные,
и их достаточно, чтобы рассмотреть мое дело как в соответствии
с правом, так и по сути.
Между тем, поскольку в подобном описании предмета
разбирательства он остается все еще неясным, я попытаюсь разъяснить его
с большей точностью из опасения, что вы не станете усматривать
мою собственную защиту в той части этого предмета, которой я не
хочу уделять внимание.
Я — человек; и я писал книги; и я подвержен заблуждениям*.
Я и сам не раз их замечал; я не сомневаюсь, что другие увидят их
в еще большем количестве, и что есть еще большее количество оши-
* За исключением, если угодно, книг по геометрии и их авторов. И если нет
никаких ошибок в теоремах, то что служит порукой их отсутствия в порядке выводов,
выборе теорем и в способе рассуждения? Евклид доказывает и достигает своей
цели; но какой путь он выбирает? Сколько раз он ошибался на этом пути? Какой
бы непогрешимой ни была наука, человек, который ею занимается, часто
ошибается.
273
«-\.
Жан-Жак Руссо
бок, которые ни я, ни остальные совсем не заметят. И если на этом
остановиться, то я готов под всем этим подписаться.
И какой автор не попадал в сходное положение или может
льстить себе надеждой на то, что не попадал в него? С этим не
поспоришь. Если меня опровергнут и будут при этом правы, а
заблуждения обнаружатся, я буду молчать. Но даже если опровергнут мои
доводы и окажутся неправы, то я все равно буду молчать: должен
ли я отвечать за деяния других людей? При любом раскладе,
выслушав обе стороны, общество рассудит; оно вынесет решение, и книга
либо пользуется успехом, либо терпит провал, и на этом
рассмотрение ее содержания заканчивается.
Часто на заблуждения авторов не стоит обращать внимания, но
они также наносят ущерб, даже вопреки намерениям того, кто в них
впадает. Можно ошибиться во вред обществу так же, как и во вред
самому себе. Можно причинить вред по незнанию. Разногласия по
вопросам юриспруденции, морали, религии подпадают часто под
этот случай. Из двух спорящих один обязательно ошибается, и, что
всегда важно, заблуждение в этих вопросах становится ошибкой;
однако она не подлежит наказанию в том случае, когда ее признают
неумышленной. Человек неповинен в нанесении вреда, если он
желал оказать услугу, и если дозволительно преследовать автора как
преступника за ошибку, совершенную по незнанию или по
невнимательности, за неверные суждения, которые можно весьма
последовательно извлечь из его сочинений, при том что он с ними не согласен,
тогда какой писатель избавлен от преследований? Ему следовало
бы вдохновиться Святым Духом, если он стал автором, и иметь
в числе судей лишь людей, вдохновленных Святым Духом.
И если мне вменяют в вину лишь подобные ошибки, я должен
оправдываться только в том, что касается простых заблуждений.
Я не смею утверждать, что у меня никогда не было подобных
заблуждений, ибо я не ангел; но ошибки, которые, как утверждают,
находят в моих сочинениях, возможно, в них и не содержатся, ибо
те, кто утверждает, что они там есть, тем более не ангелы. Людям
свойственно ошибаться, так же как и мне, так почему же они
утверждают, что их разум должен стать судьей моего разума и что я
подлежу наказанию за то, что я мыслил не так, как они?
Таким образом, люди — судьи подобного рода ошибок;
порицание за них есть единственное наказание. Никто не может избежать
решения этого судьи; и, что касается меня, то я к нему не обраща-
274
Письма с Горы
юсь. Верно, что если судья находит эти ошибки вредными, то он
может запретить книгу, в которой они содержатся; но, повторяю,
он не может наказать за это автора, их совершившего, ибо это
означало бы наказать за преступление, которое окажется невольным,
а наказывать должно лишь за злые намерения. Но пока мы еще не
дошли до того, о чем идет речь.
Однако имеется существенная разница между книгой,
содержащей вредные заблуждения, и книгой пагубной. Установленные
начала, последовательная цепь рассуждений, сделанные выводы
обнаруживают намерение автора, и это самое намерение, зависящее
от его воли, подпадает под юрисдикцию законов. Если же это
намерение очевидно недоброе, оно более не является ни заблуждением,
ни ошибкой, но преступлением; и тогда все меняется. Речь более не
идет о литературном споре, в котором общество является
разумным судьей, но об уголовном преследовании, которое должно быть
осуществлено судом по всей строгости законов: таково тяжелое
положение, в которое меня поставили магистраты, называющие себя
справедливыми, и ревностные писатели, считающие этих
магистратов чересчур снисходительными. Коль скоро мне уготованы
тюрьмы, палачи, цепи, любой, кто меня обвиняет, является доносчиком;
он понимает, что он обрушивается не только на автора, но и на
человека; он знает, что все, что он пишет, может повлиять на мою
судьбу *. Итак, он посягает не только на мое доброе имя, но и на
мои честь и жизнь.
Сударь, сказанное тотчас возвращает нас к постановке вопроса,
от которой публика, как мне кажется, отклоняется. Если я написал
вещи предосудительные, то позволительно меня за это порицать
и запретить книгу. Однако, чтобы ее заклеймить, совершать напад-
* Несколько лет назад, едва только появилась одна знаменитая книга, я решил
выступить против начал, которые я считал опасными. Я приступил к исполнению
моего замысла, когда узнал, что автор подвергся гонениям. В тот же миг я швырнул
мои листы в огонь, полагая, что никакой долг не оправдывает низость примкнуть
к толпе, дабы преследовать оскорбленного человека. Когда все успокоилось, мне
представилась возможность выразить мое мнение по той же теме в других
сочинениях; я это сделал, не упоминая ни книги, ни имени автора. Я счел своим
долгом соединить этот знак уважения к его несчастьям с почтением, которое я
испытывал к его личности. Я совсем не думаю, что только мне свойственен такой образ
мысли; он присущ всем порядочным людям. Коль скоро дело передано в
уголовный суд, они должны хранить молчание, если только их не вызвали для дачи
показаний5.
275
*\-
Жан-Жак Руссо
ки на мою личность, одних моих ошибок недостаточно: должно
иметь место правонарушение, преступление, необходимо доказать,
что я умышленно написал пагубную книгу, и пусть обвинитель
изобличает обвиняемого перед судьей, а не какой-нибудь автор
доказывает, будто другой ошибается. Дабы получить право относиться
ко мне как к злодею, следует меня изобличить. Это первый вопрос,
который нужно изучить. Второй вопрос заключается в том, чтобы,
предполагая, будто факт правонарушения установлен, понять его
природу, указать на место, где оно было совершено, на суд, которому
надлежит его рассматривать, на закон, за него наказывающий, и на
наказание, которое должно воспоследовать. Как только эти два
вопроса будут разрешены, можно будет решить, правильно или
неправильно я рассуждал в своих книгах.
Чтобы установить, написал ли я пагубную книгу, необходимо
изучить, какие начала в ней заключаются, и посмотреть, что из них
последует, если люди их одобрят. Поскольку я изучал множество
предметов, я должен прежде всего обратить внимание на те из них,
за рассмотрение которых меня преследуют, а именно: на религию
и на правления. Начнем с первого пункта, следуя примеру судей, не
высказавших своего мнения относительно второго.
В «Эмиле» содержится исповедание веры католического
священника, а в «Новой Элоизе» — исповедание веры набожной
женщины. Эти два сочинения согласуются в достаточной мере, чтобы
можно было объяснить содержание одного с помощью другого;
и по этому согласию можно предположить вполне правдоподобно,
что если автор, который опубликовал книги, где содержатся оба
исповедания, не одобряет ни то, ни другое, то он, по крайней мере,
к ним относится благосклонно. Из этих двух исповеданий веры
первое, поскольку оно наиболее пространное и единственное, в
котором нашли состав преступления, должно быть по преимуществу
исследовано.
Это исследование, дабы оно соответствовало своей цели,
требует еще одного пояснения, поскольку, заметьте, выявить и
разъяснить положения, которые вызывают смятение в умах моих
обвинителей и заводят их в тупик, это означает ответить на их обвинения.
Поскольку они оспаривают очевидные вещи, то если вопрос
поставить правильно, их обвинения будут опровергнуты.
Я различаю в религии помимо способа поклонения, который
является всего лишь обрядом, две стороны. Эти две стороны суть дог-
276
Письма с Горы
-^
ма и мораль. Я разделяю догмы еще на два вида, а именно: на те,
которые, указывая на начала наших обязанностей, служат основой
для морали, и на те, что, имея отношение только к вере, содержат
лишь умозрительные догматы.
Из этого различия, которое мне кажется точным, вытекает
разделение мнений о религии, с одной стороны, на истинные, ложные
или вызывающие сомнение, с другой — на благие, недостойные
или безразличные.
Суждение о первых зависит исключительно от разума; и если
богословы поставили себе его на службу, то в качестве лиц
размышляющих, в качестве преподавателей науки, с помощью которой
достигается познание истины и лжи в вопросах веры. Если
заблуждения в этой части вредны, то только для тех, кто заблуждается,
и наносят им урон в том, что касается будущей жизни, на которую
людской суд не может распространить свое ведение. Когда они
принимают их во внимание, то действуют не в качестве судей в вопросах
истины и лжи, но в качестве служителей гражданских законов,
устанавливающих наружный порядок богослужения; здесь пока еще
речь не идет об этой части религии; это будет рассмотрено позднее.
Что касается той стороны религии, которая относится к морали,
а именно: к справедливости, общественному благу, повиновению
законам естественным и положительным, общественным
добродетелям и всем обязанностям человека и гражданина, то этим
надлежит заниматься правительству, и только в этом религия ему
непосредственно подсудна, и подвергать граждан изгнанию следует не за
заблуждения, в чем правительство не является судьей, но за любое
вредное мнение, способное разорвать узы общества.
Сударь, вот различие, которое вам следует провести, для того
чтобы судить об этом произведении, но судом не священников, а
магистратов. Я признаю, что это различие не вполне убедительно. Можно
обнаружить возражения и сомнения. Допустим, хотя это и не так,
что эти сомнения являются отрицаниями. Однако это различие
становится по большей части убедительным, оно убедительно и
доказательно во всем, что относится к основным положениям
гражданской религии; оно настолько недвусмысленно во всем, что
касается вечного Провидения, любви к ближнему, справедливости, мира,
счастья людей, законов общества, всех добродетелей, что
возражения и даже сомнения здесь имеют целью получить некие
преимущества; и я настаиваю, чтобы мне здесь указали хотя бы на один
277
*\
Жан-Жак Руссо
пункт учения, подвергшегося нападкам, который я не считал бы
вредным для людей или вообще, или по его неизбежным последствиям.
Религия полезна и даже необходима народу. Разве не это сказано,
установлено, доказано в этом самом сочинении? Автор, далекий от
мысли покуситься на истинные начала религии, их обосновывает,
их подкрепляет всеми возможными доводами; то, на что он
нападает, то, с чем он сражается, то, с чем он обязан сражаться, так это
слепой фанатизм, жестокое суеверие, глупый предрассудок. Однако,
говорят они, и это следует уважать. Но почему? Потому что с
помощью всего этого ведут за собой народы. Да, но именно так их ведут
к погибели. Суеверие есть самый жестокий бич человечества; оно
ожесточает простых людей, оно преследует мудрых, оно
заковывает в оковы народы, оно сеет повсюду сотни ужасных бед. Какое
благо оно приносит? Никакого; и даже если и приносит, так только
тиранам; оно есть их самое ужасное оружие — и это самое большое
зло из всех, которые оно когда-либо сотворило.
Они говорят, что, критикуя суеверие, я желаю уничтожить саму
религию: с чего они это взяли? Почему они путают эти два предмета
спора, которые я столь тщательно различаю? Как получается, что
они совсем не видят того, как это обвинение оборачивается со всей
силой против них самих и что у религии нет врагов более
страшных, чем защитники суеверий? Было бы весьма коварно с такой
легкостью вменять в вину человеку намерение, если это намерение
трудно оправдать. Пока не доказано, что оно плохое, то его следует
считать добрым: иначе кто может чувствовать себя в безопасности
от произвольного осуждения со стороны своих врагов? Как! Одно
их утверждение является доказательством в пользу того, что им
неизвестно, а мое собственное утверждение вместе со всем моим
поведением не позволяет выяснить, в чем заключается мое мнение?
Какое средство сделать так, чтобы они его поняли, остается у меня?
Добро, которое я ощущаю в моем сердце, я не умею выставлять
напоказ, я это признаю: но как отвратителен тот человек,
осмеливающийся хвастаться тем, что замечает зло, которого там не было
и в помине?
Чем больше человек повинен в проповеди безбожия, как
говорит господин д'Аламбер, тем более преступно с его стороны
обвинять в этом тех, кто на самом деле безбожия не проповедует6. Те,
кто прилюдно судят о моем христианстве, лишь показывают,
каково их собственное христианство; и единственное, что они при этом
278
Письма с Горы
доказывают, состоит в том, что они и я исповедуем разные религии.
Вот это-то их и выводит из себя: они чувствуют, что так
называемое зло раздражает их меньше, чем самое добро. Это добро, которое
они неизбежно находят в моих сочинениях, досаждает им и
смущает их; вынужденные видеть вместо него зло, они чувствуют, что они
слишком себя выдают. Насколько было бы им легче, если бы этого
добра там вообще не было!
Когда меня судят вовсе не за то, что я сказал, но за то, что, как
они уверяют, я хотел сказать, когда они ищут в моих намерениях
зло, которого нет в моих сочинениях, что я могу с этим поделать?
Они опровергают мои речи мыслями, приписываемыми мне; когда
я говорю «белое», они утверждают, что я хотел сказать «черное»;
они ставят себя на место Бога для того, чтобы исполнить работу
дьявола. Как уберечь мою голову от ударов, нанесенных с такой
высоты?
Для доказательства того, что автор вовсе не питал столь
ужасных намерений, которые они ему приписывают, я вижу лишь одно
средство — судить о его сочинении. Ах! Пусть судят, я на это
согласен; но это не моя задача, и последовательное исследование с этой
точки зрения оказалось бы для меня недостойным занятием. Нет,
сударь, не существует такого несчастья или клейма позора, которые
вынудили бы меня поступить низко. Я бы оскорбил автора,
издателя, самого читателя оправданием, тем более постыдным, что им так
легко воспользоваться; доказать, что оно не является
преступлением, означает унизить добродетель; доказать, что оно истинно,
означает бросить тень на очевидное. Нет, читайте и судите сами. Горе
вам, если в продолжение этого чтения ваше сердце не благословит
сотню раз человека добродетельного и твердого, который
осмеливается таким образом наставлять людей!
И как же мне решиться оправдывать это творчество? Мне, кто
думает исправить им ошибки всей жизни, мне, кто считает беды,
которые оно навлекло на меня, искуплением за беды, мною
причиненные; мне, исполненному доверия и надеющемуся сказать
высшему Судье: Соблаговоли судить по милосердию твоему слабого
человека; я совершил зло на земле, но ведь я и опубликовал это
сочинение.
Милостивый государь, позвольте моему переполненному
чувствами сердцу не подавлять вздохи, время от времени
вырывающиеся у меня; но будьте уверены, что в спорах, которые я веду, я не
279
*\
Жан-Жак Руссо
прибегну ни к напыщенным речам, ни к жалобам; я также не стану
вести их с горячностью, свойственной моим противникам; я буду
всегда хладнокровно рассуждать. Итак, я возвращаюсь к моей теме.
Постараемся держаться середины, приемлемой для вас и не
унизительной для меня. На минуту предположим, что «Исповедание
веры викария» одобрили в одном из уголков христианского мира,
и посмотрим, какое добро и какое зло последовали бы из этого. Не
ради нападок на него, не ради защиты; так мы сможем судить о нем
по его влиянию.
Поначалу я замечаю вещи необычные, но без всякой видимой
новизны: никаких изменений в богослужениях и важные перемены
в сердцах, обращение в веру без внешнего блеска, вера без споров
о ней, пыл без фанатизма, разумные суждения без святотатства;
мало догматов и много добродетелей, терпимость философа и
милосердие христианина.
Наши новообращенные будут руководствоваться двумя
заповедями веры, сводимыми, в сущности, к одной: разум и Евангелие;
второе правило станет тем более незыблемым, что оно зиждется
только на первом и никоим образом не на каких-то фактах, каковые,
нуждаясь в свидетельствах, подчиняют религию людской власти.
Большая разница между новообращенными и прочими
христианами заключается в том, что люди, которые много спорят о
Евангелии, не заботятся о том, что надо следовать его заповедям, в то
время как новообращенные сильно привязаны к религиозным
обрядам и не станут вести никаких споров.
Когда наши христиане-спорщики придут и скажут им: «Вы себя
называете христианами, а сами таковыми не являетесь; ибо для
того, чтобы быть христианами, надо верить в Иисуса Христа, а вы
в него вовсе не верите», то миролюбивые христиане им ответят:
«Мы не знаем хорошенько, верим ли мы в Иисуса Христа согласно
вашему пониманию, потому что оно нам недоступно, но мы
пытаемся соблюдать то, что Он нам заповедал. Мы все — христиане,
каждый по-своему: мы — оберегая Его слово, а вы — веря в Него.
Его милосердие требует, чтобы мы все были братьями: мы
выполняем этот долг милосердия, полагая вас таковыми; во имя любви
к Нему, не отнимайте у нас звание, которое мы почитаем всеми
силами и которое нам столь же дорого, как и вам».
Христиане-спорщики, без сомнения, проявят настойчивость. Они
скажут: «Коль скоро вы благословляете себя именем Иисуса, вас
280
Письма с Горы
-^>
следует спросить: по какому праву? Вы утверждаете, что сохранили
Его слово; но какою властью вы его наделяете? Признаете ли вы
Откровение или же не признаете? Признаете ли вы свидетельство
Евангелия целиком или же только частично? На чем основаны эти
различия?» Странные христиане те, кто торгуются с учителем и
выбирают в его вероучении то, что им хочется одобрить.
На это новообращенные им, не смущаясь, ответят:
Братья мои, мы вовсе не торгуемся, ибо наша вера не есть
торговля: вы предполагаете, что от нас зависит соглашаться или
отвергать, как нам заблагорассудится, но это не так, и наш разум
вовсе не подчиняется нашей воле. Напрасно желали бы мы, чтобы
то, что нам кажется ложным, показалось истинным; оно нам
показалось бы ложным вопреки нашей воле. Все, что зависит от
нас, — это говорить то, что думаем, или то, чего не думаем, и
наше единственное преступление заключается в том, что мы не
хотим вас обманывать.
Мы признаем свидетельства об Иисусе Христе, потому что наш
разум соглашается с его заповедями и открывает нам их
возвышенность. Он нам внушает, что людям надлежит следовать его
заповедям, но что обнаружить их было выше людских сил. Мы
признаем Откровение, исходящее от Духа Божия, не зная, каким
образом это происходит, и не терзая себя попытками это понять;
нам важно лишь знать то, что Бог говорил, и не имеют значения
объяснения того, каким образом Он сделал так, чтобы его
услышали. Таким образом, признавая в Евангелии божественную
власть, мы верим в Иисуса Христа, наделенного этой властью;
мы усматриваем в Его поведении добродетель, превосходящую
человеческую, и мудрость Его заповедей, превосходящую
человеческую. Вот в чем мы не сомневаемся. Как все это происходило
на самом деле? Это для нас неясно и выше нашего понимания.
Это касается вас. В добрый час; мы радуемся за вас от всего
сердца. Ваш разум, может быть, превосходит наш; но это не означает,
что он должен стать для нас законом. Мы соглашаемся с тем, что
вам известно все, а вы проявите терпимость, раз что-то осталось
для нас непонятным.
Вы спрашиваете нас, принимаем ли мы Евангелие целиком?
Мы принимаем его со всеми заповедями Иисуса Христа. Польза
и необходимость большинства этих заповедей нас восхищает,
и мы стараемся соблюдать их. Некоторые из них превосходят
наше понимание; они, несомненно, были обращены к умам,
более возвышенным, чем наш. Мы далеки от мысли, будто
достигли пределов человеческого понимания, но признаем, что более
281
Жан-Жак Руссо
проницательные умы нуждаются в предписаниях более
возвышенного характера.
Многие вещи в Евангелии недосягаемы для нашего разума
и даже его смущают, однако мы их не отвергаем. Будучи
убежденными в слабости нашего понимания, мы умеем уважать то,
что мы не способны усвоить, когда внутренняя связь того, что
мы постигаем, вынуждает нас считать это выше нашего
понимания. Все, что нам необходимо знать, чтобы стать праведниками,
кажется нам ясным из Евангелия; нужно ли нам вникать во все
остальное? В этом мы остаемся невеждами, но зато избегаем
заблуждений и при всем том остаемся вполне порядочными
людьми; это смиренное возражение соответствует духу Евангелия.
Мы почитаем эту священную книгу не как книгу, но как слово
и жизнь Иисуса Христа. Истина, мудрость, святость, которые там
являют себя, учат нас, что эта история не была искажена в своей
сути *. Но нам не доказали, что она не была полностью
искажена. Кто знает, не являются ли вещи, которых мы не понимаем,
ошибками, вкравшимися в текст? Кто знает, хорошо ли поняли
и хорошо ли передали вероучение ученики, стоявшие ниже
своего учителя? Мы об этом не можем судить и даже делать
предположения, и мы предлагаем вам догадки только потому, что вы
того требуете.
Наши мысли могут быть ошибочны, но ведь и ваши тоже.
Почему вы не способны ошибаться, раз вы являетесь людьми? Вы
можете быть столь же добросовестными, как и мы, но вы не
способны стать таковыми в еще большей мере; возможно, вы
являетесь более просвещенными, но вы не являетесь непогрешимыми.
Кто же рассудит две стороны? Может быть, вы? Это
неправильно. И в еще меньшей мере мы, сильно сомневающиеся в самих
себе. Оставим решать это дело Судье, который судит всех и
слышит нас, и поскольку мы пришли к согласию в вопросе о
правилах, лежащих в основе наших взаимных обязанностей, во всем
остальном проявляете терпимость так же, как и мы. Давайте
будем людьми мирными, будем братьями; давайте соединимся
в любви к нашему общему учителю, в осуществлении
добродетелей, нам предписанных. Вот что такое истинный христианин.
И если вы станете упорно отказываться от этого бесценного
звания после того, как мы сделали все, чтобы жить с вами как
братья, то и за эту несправедливость взамен мы получим утеше-
* До чего бы дошли простые верующие, если бы они могли понять это только
благодаря сомнениям и спорам или опираясь на авторитет пасторов? Как можно
ставить веру в зависимость от такого количества знаний и от такого смирения?
282
Письма с Горы ^-»
ние, полагая, что слово и дело — вещи разные, что первые
ученики Иисуса не принимали имя христиан, что мученик Этьен
никогда не называл себя этим именем, и когда Павел был обращен
в веру Христа, еще не было ни одного христианина * на земле.
Вы же не думаете, сударь, что проходящая подобным образом
борьба мнений будет оживленной и долгой и что одна из сторон не
окажется в скором времени вынужденной замолчать, в то время
как другая сторона не пожелает спорить?
Если новообращенные, о которых идет речь, станут
властителями в странах, где они живут, то они установят столь же простой
порядок богослужения, сколь проста их вера, а религия, вследствие
этого возникшая, окажется самой полезной для людей именно
благодаря своей простоте. Очищенная от всего того, что люди
принимают за добродетель, не имея ни суеверных обрядов, ни тонкостей
вероучения, эта религия будет полностью соответствовать
истинной цели, которой является исполнение наших обязанностей.
В этой стране слова «правоверный», «благочестивый» не появятся
в обиходе, однообразное произнесение неких звуков не сочтут
набожностью, за нечестивцев сочтут только негодяев, а за
верующих — только достойных людей.
Как только это установление религии появится, все будут
обязаны подчиниться ему в силу закона, ибо оно основывается не на
людской власти, ибо в нем нет ничего, кроме знаний, полученных от
природы, ибо в нем не содержится догматов, не совместимых с
благом общества, и, наконец, к нему не примешивается никакой догмат,
бесполезный для морали, и никакое умозрительное построение.
Разве, с учетом сказанного, новообращенные станут
нетерпимыми? Напротив, они будут терпимыми по убеждению, следуя
принципу; они будут таковыми даже более, чем следуя какому-либо
другому вероучению, поскольку они признают все благие религии,
часто не признающие друг друга, то есть они признают все те, в
которых содержится то существенное, чем эти религии пренебрегают,
считая существенным то, что таковым вовсе не является. И,
придерживаясь только этого существенного, они позволяют всем
остальным религиям по своему усмотрению добавлять что-либо к нему,
при условии что они не отвергают это существенное; последним
предоставят возможность объяснить то, что они не могут объяс-
* Этим именем их впервые назвали несколько лет спустя в Антиохии.
283
*~\.
Жан-Жак Руссо
нить, и возможность решать то, что они не могут решить.
Новообращенные оставят за каждой религией ее обряды, символы веры,
верования; они скажут: признайте вместе с нами правила, на
которых основаны обязанности человека и гражданина, а в остальном
верьте во все, что вам нравится. Что касается религий, в сущности
своей плохих и побуждающих человека творить зло, они их не
потерпят ни в коем случае, ибо это противоречит истинной
терпимости, имеющей в виду только покой человеческого рода. Истинно
терпимый человек нетерпим к преступлению и не примирится с
каким-либо догматом, способным сделать человека дурным.
Теперь, напротив, предположим, что наши новообращенные
стали подвластными: как люди миролюбивые, они будут подчиняться
законам, принятым их правителями, даже законам о религии, если
только эта религия не окажется в своей сущности плохой; ибо
тогда, не оскорбляя тех, кто ее исповедует, они откажутся ее
исповедовать сами. Они скажут: «Поскольку Господь Бог нас призывает к
служению, мы хотим стать добрыми слугами, а ваше мнение
помешает нам быть таковыми; нам знакомы наши обязанности; мы с
любовью к ним относимся, мы отвергаем то, что нас от них отвращает;
и именно для того, чтобы быть правдивыми перед вами, мы не
согласимся с несправедливым законом».
Но если религия страны хороша сама по себе и плохо в ней лишь
то, что относится к отдельным толкованиям и чисто
умозрительным догматам, новообращенные будут привержены сути и
терпимы ко всему остальному, как в силу уважения к законам, так и из
любви к миру. Когда их призовут отчетливо высказаться об их
исповедании веры, они пойдут на это охотно, потому что им вовсе не
нужно лгать; при необходимости они выскажут свое мнение твердо
и мужественно; они будут защищать себя, опираясь на разум, если
на них обрушатся с нападками. Относительно всего остального они
не станут спорить со своими братьями; и, не желая упорствовать
в том, чтобы их переубедить, они ради милосердия примут их
сторону; они будут присутствовать на религиозных собраниях,
согласятся с их символом веры, и, не считая себя более
непогрешимыми, чем остальные, они подчинятся мнению большинства в том,
что не затрагивает их совесть и не кажется им важным для спасения
души.
Вот добро, скажете вы мне; давайте посмотрим, в чем
заключается зло. О нем будет сказано в немногих словах. Господь Бог уже
284
Письма с Горы
не станет поводом для людской злобы. Религия более не будет
служить орудием тирании церковнослужителей и мести самозванцев;
она послужит лишь тому, чтобы делать верующих добрыми и
справедливыми; но не на это рассчитывают те, кто их ведет за собой;
для них это гораздо хуже, чем если бы от нее не было никакого
проку.
Таким образом, учение, о котором идет речь, является благом
для человеческого рода и злом для тех, кто его угнетает. К какому
общему разряду его отнести? Я правдиво высказал свои «за»
и «против»: сравнивайте и выбирайте.
Изучив все хорошенько, я думаю, вы согласитесь, во-первых,
что эти люди, как я предполагаю, вели бы себя в этом случае в
полном соответствии с исповеданием веры викария; а, во-вторых, что
это поведение было бы не только безукоризненным, но и
по-настоящему христианским, и было бы ошибкой отказывать этим добрым
и набожным людям в имени христиан, поскольку они вполне
заслужили его своим поведением, и что они в меньшей степени
противопоставляли бы свои мнения мнениям многочисленных сект,
которые являются их противниками и с которыми они не спорят,
чем многие из этих самых сект, противостоящих друг другу. Это не
были бы, если угодно, христиане, следующие примеру святого
Павла, который был по своему характеру гонителем и сам не слышал
Иисуса Христа, но это были бы христиане по подобию святого
Иакова, выбранного лично учителем, получившего из Его
собственных уст наставления, переданные затем нам. Это соображение очень
простое, и оно мне кажется убедительным.
Вы, может быть, спросите меня, каким образом можно
согласовать это учение с учением человека, который заявляет, что
Евангелие бессмысленно и пагубно для общества; признаюсь честно, что
согласовать это кажется мне делом трудным, и я спрошу вас, в свою
очередь: где же вы видели человека, утверждающего, что Евангелие
бессмысленно и пагубно? Ваши господа обвиняют меня в том, что
я это сказал: а где? В «Общественном договоре», в главе о
гражданской религии *. Вот как! В той же самой книге и в той же самой
главе, как мне представляется, я высказал прямо противоположное:
я полагаю, что сказал, что Евангелие величественно и что оно
создает самые прочные узы в обществе. Я не хочу уличить этих господ
* Об общественном договоре. Кн. IV, Гл. 8.
285
«\
Жан-Жак Руссо
во лжи, но признайтесь, что два столь противоположных
высказывания в одной и той же книге и в той же самой главе выглядят
весьма странно.
Нет ли здесь какой-нибудь новой двусмысленности,
прикрываясь которой, меня выставят более виноватым или более
безрассудным, чем я есть на самом деле? Это слово «общество» довольно
расплывчато по смыслу: в мире есть много разного рода обществ,
и невозможно, чтобы то, что идет на пользу одному, вредило бы
другому. Давайте посмотрим: излюбленный образ действий моих
недоброжелателей заключается в том, чтобы искусно высказывать
неопределенные мысли; вместо всякого ответа, постараемся их
прояснить.
Глава, о которой я говорю, предназначена, как это видно из
названия, для исследования того, каким образом установления
религии могут быть включены в государственное устройство. Таким
образом, то, о чем идет речь, заключается вовсе не в рассмотрении
религии в качестве Истинных или ложных, или же благих или
вредных, но в том, чтобы рассматривать их только в отношении к
организмам государства и в виде части законодательства.
С этой целью автор показывает, что все древние религии, не
исключая из их числа религию иудейскую, были национальными по
своему происхождению, приспособленными к государству и
включенными в его строй, образуя основу или, по крайней мере, являясь
составной частью свода законодательства.
Христианство же, напротив, есть религия всеобщая по своей
сути, в ней нет ничего исключительного, ничего местного, ничего,
свойственного одной какой-нибудь стране в большей степени, чем
другой7. Привлекая в равной степени всех людей в своим
безграничным милосердием, ее божественный Создатель явился, чтобы
уничтожить все преграды, разделяющие нации, и объединить весь
людской род, сделав всех братьями: «Во всяком народе боящийся
Его и поступающий по правде приятен Ему»*. Таков истинный
смысл Евангелия.
Те, кто хотел превратить христианство в национальную религию
и ввести ее в качестве составной части в свод законодательства, тем
самым допустили две пагубные ошибки: одну во вред религии,
другую — государству. Они отошли от духа вероучения Иисуса Хрис-
* Деян 10: 35.
286
Письма с Горы
та, чье царство не от мира сего, и, примешивая земное к религии,
осквернили ее небесную чистоту; они сделали из нее орудие в руках
тиранов и гонителей людей. Не меньший вред они нанесли
священным правилам политики, поскольку, вместо того чтобы
упростить государственный механизм, они его усложнили, придали ему
чужеродные, ненужные рычаги и, подчиняя его двум часто
противоположным друг другу движущим силам, вызвали к жизни
разногласия, которые ощущаются во всех христианских государствах, где
религия включена в политическое устройство.
Совершенное христианство — всеобъемлющий общественный
институт у всех народов; однако, чтобы показать, что оно никоим
образом не является политическим установлением и не улучшает
отдельные институты, надо было избавиться от софизмов тех, кто
вмешивает религию во все, превращая ее в рукоять, хватаясь за
которую, завладевает всем остальным. Все человеческие учреждения
основаны на человеческих пристрастиях и сохраняются благодаря
им; то, что борется с пристрастиями и уничтожает их, не способно
укрепить эти учреждения. Каким образом то, что отдаляет сердца
от земли, может вызвать в нас больше участия к тому, что на ней
происходит? Каким образом то, что занимает нас лишь в мире
горнем, может в еще большей мере привязать нас к миру земному?
Национальные религии полезны для государства как часть его
устройства; это неоспоримо; но они вредны для человеческого рода
и даже в каком-то смысле для государства; я показал, каким
образом и почему.
Христианство же, напротив, внушая людям праведность,
смирение, миролюбие, является весьма подходящим для человеческого
общества; но оно ослабляет силу рычагов политики, оно осложняет
движение механизма, оно нарушает единство морального
организма, и так как оно не вполне соответствует его характеру, то оно
либо вырождается, либо остается ненужной или обременительной
частью этого организма.
Вот, следовательно, в чем заключаются пагуба и неудобства
обеих религий для жизни политического организма. Тем не менее не
существует государства без религии, и она важна в силу серьезных
причин, на чем я всегда настаивал; но лучше бы совсем не иметь
религии, чем иметь религию варварскую и подвергающую гонениям,
которая, господствуя даже над законами, противоречила бы
обязанностям гражданина. Можно было бы сказать, что все, что со мной
287
Жан-Жак Руссо
произошло в Женеве, случилось лишь ради того, чтобы на примере
моей собственной истории доказать безусловную правильность
моих рассуждений.
Что же должен делать мудрый законодатель в этом случае? Одно
из двух. Первое: учредить чисто гражданскую религию,
включающую в себя основные догматы любой хорошей религии, все догматы,
истинно полезные для общества, как для общества всех людей, так
и для отдельных обществ, из нее изъяли бы все прочие догматы,
которые могут касаться веры, но никоим образом не касаются
земного блага, единственного предмета законодательства8: ибо каким
образом таинство Троицы, к примеру, сможет споспешествовать
лучшему устройству государства? Каким образом его подданные
станут лучшими гражданами, если им не ставить в заслугу добрые
дела? И какое значение догмат первородного греха имеет для
укрепления уз внутри гражданского общества? Хотя истинное
христианство является общественным установлением, несущим мир, кто не
согласится с тем, что христианство, рассуждающее о догматах, или
богословское христианство, в силу их множества и неясности и
особенно из-за обязанности принимать их на веру, всегда является
скрытым полем битвы между людьми, и при этом именно в силу
множества толкований и решений невозможно предотвратить
споры относительно этих самых решений?
Другое средство заключается в том, чтобы оставить христианство
таким, каково оно есть, в согласии с его истинным духом, то есть
свободным, лишенным каких-либо плотских связей, без каких бы
то ни было обязательств, кроме обязательств, налагаемых
совестью, безо всяких догматических стеснений, сохранив только те
догматы, что укрепляют нравы и законы. В силу чистоты исповедуемой
морали, христианская религия всегда является благом и полезна
для государства, лишь бы ее не превращали в часть
государственного устройства, лишь бы она была там допущена только в качестве
религии, суждения, мнения, вероисповедания; но в виде
политического закона христианство, рассуждающее о догмах, — плохое
общественное установление.
Таков, сударь, самый важный вывод, который можно сделать из
этой главы, где, далекий от мысли обвинить пречистое Евангелие *
в пагубности для общества, я нахожу, что оно является чересчур
* Обвинение в «Письмах из деревни»9.
288
Письма с Горы
-'-»
проникнутым духом общежития, в некотором смысле чрезмерно
охватывающим законодательством весь человеческий род, меж тем
как законодательство должно быть особенным; я нахожу, что
христианство в большей мере внушает человечность, чем патриотизм,
и в большей степени стремится создать людей, чем граждан *. Если
я ошибся, то я заблуждался как политик; однако в чем же я допустил
святотатство?
Знания о спасении и знания о правлении весьма различного
рода; желание, чтобы первое обнимало собой все, есть фанатизм
ничтожного ума: это означает размышлять подобно алхимикам,
которые в искусстве делать золото видят также и всеобщую медицину,
или подобно мусульманам, считающим, что все науки можно
обнаружить в Коране. Вероучение Евангелия ставит только одну цель —
призвание и спасение людей; их свобода, их благосостояние на
этом свете не имеют к нему отношения; Иисус об этом тысячу раз
говорил. Соединять с этим предметом земные устремления означает
исказить возвышенную простоту, осквернить его святость
человеческими желаниями: вот это-то и есть настоящее святотатство.
Эти различия существуют искони; их устранили лишь при
рассмотрении моего произведения. Изъяв из национальных
установлений христианскую религию, я превратил ее в наилучшую для
человеческого рода. Автор «Духа законов» пошел дальше: он сказал,
что мусульманская религия была лучшей для азиатских стран **. Он
рассуждал как политик, я тоже. В какой стране затевали ссору не
с автором, а с его книгой? Почему же я виновен? Почему же
Монтескье таковым не является?
Вот каким образом, сударь, приведя подлинные отрывки из
произведения, беспристрастный критик доходит до понимания истин-
* Какая чудесная картина — это разнообразие прекрасных мнений во множестве
книг; для того чтобы их выразить, нужны лишь слова, но добродетели на бумаге
почти что ничего и не стоят; дело в том, что они не вмещаются в сердце человека,
и расстояние от картинок до действительности слишком велико. Патриотизм и
человечность, к примеру, две различные по силе добродетели, в особенности у народа
в целом. Законодатель, желающий укрепить и то, и другое, не достигнет этих двух
целей: это согласие целей никогда и нигде не встречалось и никогда не встретится,
потому что это противоречит природе и потому, что одна и та же страсть не может
иметь два разных предмета.
** Стоит заметить, что книга «О духе законов» была впервые напечатана в
городе Женева, и ни один схоласт не обнаружил в ней ничего предосудительного,
а корректором издания выступил один пастор10.
ЮЗак. 3436
289
«■■v^
Жан-Жак Руссо
ных мнений, которые разделял автор при написании своей книги.
Пусть же изучат мой замысел таким же способом: я совсем не
боюсь тех суждений, что может вынести о моей книге любой
порядочный человек. Но эти господа принимаются за дело совсем не
так; они и не думали поступать иначе, ведь тогда они бы не нашли
того, что искали. В погоне за тем, чтобы сделать меня виноватым
любой ценой, они исказили истинный смысл произведения; их
целью было обнаружение любой ошибки, любой небрежности,
ускользнувшей от внимания автора; и если случайно он не заметил
двусмысленную фразу, они не преминули истолковать ее в том смысле,
который чужд автору. На большом поле с обильной жатвой они
тщательно отбирают несколько сорняков, чтобы обвинить того,
кто это поле засеял, в стремлении отравить.
Высказанные мною предположения, находясь на своем месте
в книге, не могли причинить никакого вреда; они были истинными,
полезными, искренними согласно смыслу, который я в них вложил.
Все эти искажения, сокрытие правды, лукавые толкования моих
гонителей превращают мои высказывания в предосудительные;
необходимо сжечь их книги вместе со всем, что они написали, и
наградить меня за написанное в моих книгах.
Сколько раз оклеветанные авторы и возмущенная публика
протестовали против этого отвратительного способа не оставлять
камня на камне от произведения, искажая при этом все его части,
судить о нем по отрывкам, извлеченным там и сям по произволу
вероломного обвинителя, который творит зло сам, отделяя его от
того добра, исправляющего и объясняющего зло, и искажая
повсюду истинный смысл! Пусть судят Лабрюйера или Ларошфуко по
отдельным максимам, в добрый час; и вообще, справедливо было бы
сравнивать и подсчитывать. Однако в книге, заключающей
рассуждения, сколько различных смыслов может получить положение
в зависимости от способа, каким автор его высказывает и старается
наглядно выразить! И не существует ни одного положения из тех,
что мне вменяют в вину, на которое предыдущая или последующая
страница не давали бы разъяснений и которому я не придавал бы
смысл, отличный от смысла, приписываемого моими обвинителями.
Прежде чем вы прочтете до конца эти письма, вы увидите тому
доказательства, и они вас удивят.
Но допустим даже, что существуют ложные, предосудительные
сами по себе высказывания; достаточный ли это повод объявить всю
290
Письма с Горы
книгу пагубной? Хорошая книга — это не та, что не содержит
ничего плохого или ничего такого, что можно истолковать в дурном
смысле; в этом случае вообще не существовало бы хороших книг;
но хорошая книга — это та, которая содержит больше хороших
вещей, нежели плохих; хорошая книга — это та, которая в конечном
итоге направляет читателя к добру, несмотря на зло, возможно, в ней
содержащееся. Бог мой! И что же получится, если, читая большое
произведение, полное полезных истин, уроков человечности,
набожности, добродетели, позволительно пуститься с пронырливой
въедливостью на поиски всех заблуждений, всех двусмысленных,
подозрительных или опрометчивых положений, всех
непоследовательных выводов, которые в мелочах могут ускользнуть от
внимания автора, чрезмерно занятого предметом своих размышлений
и мыслями, внушенными ему этим предметом, отвлекаясь то на
одни, то на другие мысли, и едва способного соединить в своей
голове все части своего обширного замысла? Да позволено ли собрать
в кучу все его ошибки, усугубить одни ошибки при помощи других,
сближая то, что кажется разрозненным, связывая то, что кажется
несоединимым, а затем умалчивая о множестве хороших и
похвальных вещей, которые их опровергают, объясняют, искупают
и указывают истинную цель, преследуемую автором; выдать этот
ужасный сборник за сборник, включающий в себя те начала, что он
разделяет, утверждать, что именно в этим заключается краткое
изложение его подлинных мнений, и судить его на основании
подобных выдержек? В какую пустыню надо бежать, в каком логове
спрятаться, чтобы ускользнуть от преследований подобных людей,
что под видом наказания за зло наказывают за добро, ни во что не
ставят сердце, намерения, очевидную повсюду прямоту и
принимают самую невинную и самую невольную ошибку за преступление,
совершенное негодяем? Есть ли в мире хоть одна книга, какой бы
правдивой, какой бы доброй, какой бы великолепной она ни была,
не поддающаяся этому отвратительному и пристрастному
перетолкованию? Нет такой книги, сударь, ни одной; таковой не является
даже Евангелие: ибо, если бы там не было зла, они смогли бы его
там найти, приведя неточные выдержки и ложно их истолковав.
«Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не
имеет, у того отнимется и то, что имеет» (Мф 13:12); «Сказываю вам,
что всякому имеющему дано будет, а у неимеющего отнимется и то,
что имеет» (Лк 19: 26); «Он же сказал в ответ говорившему: кто ма-
291
«■v. Жан-Жак Руссо
терь Моя? И кто братья Мои?» (Мф 12:48); «И отвечал им: кто
матерь Моя и братья Мои?» (Мк 3: 33); «И говорит им: пойдите в
селение, которое прямо перед вами; входя в него, тотчас найдете
привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился;
отвязав его, приведите» (Мк 11: 2); «сказав: пойдите в
противолежащее селение; войдя в него, найдете молодого осла привязанного,
на которого никто из людей никогда не садился; отвязав его,
приведите» (Лк 19:30); «Так что они своими глазами смотрят, и не видят;
своими ушами слышат, и не разумеют, да не обратятся, и прощены
будут им грехи» (Мк 4:12); «Народ сей ослепил глаза свои и окаме-
нил сердце свое, да не видят глазами, и не уразумеют сердцем, и не
обратятся, чтобы Я исцелил их» (Ин 12:40); «Если кто приходит ко
Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и
братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть
Моим учеником» (Лк 14: 26); «Не думайте, что Я пришел принести
мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч» (Мф 10: 34);
«Думаете ли вы, что Я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но
разделение; ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться,
трое против двух, и двое против трех» (Лк 12:51—52); «Ибо Я
пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку
со свекровью ее» (Мф 10:35); «Отец будет против сына, и сын
против отца; мать против дочери, и дочь против матери; свекровь
против невестки своей, и невестка против свекрови своей» (Лк 12: 53);
«И враги человеку — домашние его» (Мф 10: 36); «Фарисеи,
увидев это, сказали Ему: вот, ученики Твои делают, чего не должно
делать в субботу» (Мф 12: 2 и далее); «Господин сказал рабу: пойди
по дорогам и изгородям и убеди придти, чтобы наполнился дом
мой» (Лк 14: 23); «От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство
Небесное силою берете?, и употребляющие усилие восхищают его»
(Мф 11:12).
Вообразите себе проклятую душу, изучающую таким образом
Евангелие, творящую посредством этого клеветнического
изыскания приводящее в ужас сочинение под названием «Евангельское
исповедание веры», а также вообразите себе набожных фарисеев,
с победоносным видом восхваляющих это сочинение и выдающих
его за краткое изложение заповедей Иисуса Христа. Вот к чему
может привести этот бесчестный способ. Любой, кто сначала прочтет
мои книги, а затем прочтет обвинения тех, кто меня обвиняет, су-
292
Письма с Горы
дит, выносит приговор, преследует, увидит, что именно так все они
со мной обошлись.
Полагаю, я доказал, что эти господа судили меня, отнюдь не
руководствуясь разумом; мне следует теперь доказать, что они судили
меня не по закону. Но дайте мне передышку хоть на миг. Какой
печальный опыт приходится мне пережить в моем-то возрасте!
Неужели так запоздало мне следует учиться составлять свое
оправдание? Да и стоит ли труда этому учиться?
Письмо II
В своем предыдущем письме я предположил, сударь, что я в
самом деле допустил заблуждения, касающиеся веры, заблуждения,
в которых меня обвиняют, и показал, что эти заблуждения не
заслуживают наказания с точки зрения человеческого правосудия,
поскольку они не причиняют вреда обществу. Господь Бог оставил за
собой прощение и наказание за ошибки, являющиеся
прегрешениями перед Ним. Это кощунство со стороны людей — ставить себя на
место творящих возмездие за божество, как будто их помощь ему
необходима. Магистраты и короли не обладают никакой властью
над душами; достаточно, если люди верны законам общества в этом
мире, но ни магистратам, ни королям не подобает вникать в то, кем
человек станет в будущей жизни; это то, над чем они не имеют
права надзирать. Если упустить из вида это начало, то законы,
созданные для счастья рода человеческого, скоро станут невыносимыми;
и, опираясь на них, станут вести ужасающее дознание, а люди,
которых судят за их веру в большей степени, чем за их дела, все
вместе окажутся во власти тех, кто пожелает их притеснять.
Если законы не имеют никакой власти над мнениями людей
в том, что относится лишь к религии, то они тем более не имеют
власти судить сочинения в той их части, в которой высказаны эти
мнения. И если авторы этих сочинений и заслуживают наказания, то
уж точно не за то, что они учили ошибаться, поскольку закон и его
служители не судят за то, что является лишь заблуждением. Автор
«Писем из деревни», кажется, соглашается с этим началом *. Быть
* «В этом отношении, — пишет он на странице 22, - я обнаруживаю правила,
сходные с правилами авторов Представлений»; и на странице 29 он считает
«бесспорным то, что никого нельзя подвергнуть преследованиям за мысли о
религии».
293
*\.
Жан-Жак Руссо
может, соглашаясь с тем, что «политика и философия могут
отстаивать свободу писать все, что захочется», он впадает в
преувеличение. Но это не есть предмет моего исследования здесь.
Но вот каким образом он и ваши господа переиначили это
начало, чтобы признать правомерным судебное решение против моих
книг и меня самого. Они меня судят в большей степени как
гражданина, чем как христианина; они считают меня в большей мере
мятежником против законов, чем нечестивцем перед Богом; они
видят во мне скорее преступника, чем грешника, и скорее
непокорного, чем еретика. По их мнению, я обрушивался на религию
государства и, таким образом, заслужил наказание, предусмотренное
законом против тех, кто обрушивается на нее. Вот, как я полагаю,
тот смысл, который можно уяснить из сказанного ими в оправдание
своих поступков.
Я обнаруживаю здесь три небольших затруднения: первое
заключается в том, чтобы узнать, что такое «религия государства»;
второе — показать, каким образом я на нее нападал; третье —
обнаружить тот закон, согласно которому меня осудили.
Что же такое «религия государства»? Это — святая
евангелическая реформация. Вот, вне всякого сомнения, громкие слова. Но чем
является сегодня в Женеве эта святая евангелическая реформация?
Сударь, вы случайно не знаете? Если знаете, то примите мои
поздравления: что до меня, то мне это неизвестно. Прежде я полагал,
что знаю это; но я ошибался так же, как и многие другие, более
сведущие, чем я, во всех прочих вопросах и немало сведущие в этом.
Когда протестанты отделились от Римской церкви, они
обвинили ее в заблуждении; и, чтобы исправить это заблуждение по сути,
они придали Писанию иной смысл, чем тот, который придавала ему
Церковь. Их спросили: по какому праву они отошли от
общепринятого вероучения? Они ответили, что по их собственному праву, по
праву разума. Они ответили: поскольку смысл Библии понятен
и ясен всем людям в том, что касается спасения, то каждый вправе
судить о вероучении и каждый может по своему собственному
наитию толковать Библию, устанавливающую его правила; что,
таким образом, все пришли бы к согласию по важнейшим вопросам
и что вопросы, по которым не смогли бы прийти к согласию, не
имели бы значения.
И вот каким образом собственное наитие утвердилось в
качестве единственного толкования Писания; вот каким образом был
294
Письма с Горы
отвергнут авторитет церкви в этом вопросе; вот каким образом
каждый оказался сам себе судьей в вопросах вероучения. Таковы
основополагающие требования реформы: признать Библию в качестве
правила собственного вероисповедания и не допускать иного
толкования смысла Библии, кроме своего собственного. Вместе взятые,
эти два требования составляют начало, руководствуясь которым,
протестанты откололись от Римской церкви, и невозможно было
поступить иначе, не вступая в противоречие с собой, ибо какое иное
право толкования могли бы они оставить за собой, после того как
отвергли право, принадлежавшее церкви в целом?
Однако меня спросят: каким образом, руководствуясь этим
началом, протестанты смогли объединиться? Каким образом, желая,
чтобы каждый мыслил по-своему, они объединились против
католической Церкви? Они должны были так поступить: они сошлись
в том, что все признали каждого правомочным судьей самому себе.
Они стали терпимыми, и должны были стать терпимыми в
отношении любых толкований, кроме одного, а именно: того, которое
лишает свободы толковать. Однако это единственное толкование,
отвергнутое ими, было толкованием католиков. Таким образом, им
следовало бы с общего согласия объявить вне закона только Рим,
который их всех, в свою очередь, объявил вне закона. Само
различие образа мысли относительно всего второстепенного оказалось
тем, что их связывало. То были всего лишь небольшие государства,
образовавшие союз против великой державы, и их содружество не
лишало ни в коей мере независимости каждое из них.
Вот каким образом утвердилась евангелическая реформация,
и вот каким образом она смогла себя сохранить. Конечно,
вероучение большинства может быть предложено всем в качестве наиболее
вероятного или наиболее влиятельного; суверен может даже
выразить его в символе веры и вменить его тем, на кого возложена
обязанность в нем наставлять, потому что в народном образовании
необходимы некоторый порядок и некоторые правила; в сущности,
все это не ущемляет свободу личности, поскольку никого не
наставляют принудительно, вопреки его воле: но, однако, отсюда не
следует, что частные лица обязаны соглашаться именно с теми
толкованиями, которые им предлагаются, и именно с тем вероучением,
в котором его наставляют. Каждый остается при этом
единственным судьей самому себе и в силу этого не признает иного
авторитета, кроме своего собственного. Добрые наставления должны в мень-
295
«■\.
Жан-Жак Руссо
шей степени определять выбор, который нам следует сделать, но
предлагать нам его. Таков истинный дух протестантизма, такова
его истинная основа. Здесь принимает решение разум частного
лица, а вера вытекает из общего правила, которое этот разум
устанавливает, то есть из правила евангельского. Разуму до такой степени
присуща свобода, что от его желаний не зависит, подчинить себя
чьему-либо влиянию или нет. Совершите малейшее покушение на
это начало, и протестантство тотчас рухнет. Пусть мне сегодня
докажут, что в вопросах веры я обязан подчиняться чьим бы то ни
было решениям, — с завтрашнего дня я сделаюсь католиком, и
любой последовательно мыслящий и правдивый человек поступит так
же, как я.
Но свободное толкование Писания подразумевает не только
право объяснять отрывки из него, право каждого объяснять его в
соответствии со своими мыслями, но и право на сомнения относительно
тех отрывков, которые он считает сомнительными, а также право
не понимать те отрывки, которые непонятны. Вот право каждого
верующего, право, к которому ни пастор, ни магистрат не имеют
никакого отношения. Лишь бы люди уважали Библию в целом,
соглашались с ее основными заповедями и жили согласно евангельскому
учению. Клятва жителей Женевы не содержит ничего, кроме этого.
Однако я уже вижу, как ваши ученые пасторы торжествуют
победу, утверждая эти основные положения, и полагают, что я от них
отхожу. Тише, господа, помилосердствуйте: речь идет еще не обо
мне, но о вас. Разберемся сначала, каковы, по-вашему, эти общие
понятия; разберемся, какое право вы имеете заставлять меня
видеть их там, где я их вовсе не усматриваю и где, может быть, вы их
сами не видите. Не забудьте, пожалуйста, что выдавать ваши
решения за законы означает, что вы сами отступаете от святой
протестантской реформации, э*го означает, что вы стремитесь поколебать
ее истинные устои; означает, что по закону именно вы
заслуживаете наказания.
Станем ли мы рассматривать политическое положение в вашей
республике тогда, когда реформаторство было учреждено, или мы
примем во внимание положения ваших старых эдиктов в
отношении религии, которую они предписывают, — мы увидим, что
реформаторство повсеместно противостояло Римской церкви и что
законы имели в виду одну цель: отречение от ее начал и
богослужения, во всех отношениях пагубных для свободы.
296
Письма с Горы
В этом особом положении государство существовало, так сказать,
только в силу раскола двух Церквей, и республика была бы
уничтожена, если бы папство одержало верх. Так, закон, закрепляющий
протестантское богослужение, считал это только упразднением
римского богослужения. Именно об этом свидетельствуют нападки
на католическое богослужение, порой даже неприличные, которые
мы встречаем в ваших первых Ордонансах и от которых
благоразумно впоследствии отказались, когда опасность с его стороны
перестала существовать; именно об этом свидетельствует клятва
консистории, где говорится исключительно о том, чтобы воспрепятствовать
«любому идолопоклонничеству, богохульству, развращению нравов
и иным вещам, посягающим на честь Господа и на реформирование
Евангелия». Таковы положения Ордонанса, принятого в 1562 году.
При пересмотре того же Ордонанса в 1576 году в начале клятвы
введена обязанность «следить за любыми соблазнами» *. Это
свидетельствует о том, что первая редакция клятвы имела в виду лишь
одну цель: отделиться от Римской церкви. Впоследствии
позаботились и о внутреннем распорядке; это вполне естественно, когда
учреждение начинает обретать прочность; но, наконец, ни в
наставлениях 1562 года, ни в наставлениях 1576 года, ни в текстах
клятвы судей, горожан, чиновников речь не идет ни о заблуждении,
ни о ереси. Цель реформации или законов заключалась далеко не
в обсуждении этих вопросов, ибо затрагивать их означало бы
противоречить его началам. Таким образом, под словом «реформация»
ваши эдикты подразумевали лишь те пункты, по которым
существовали разногласия с Римской церковью.
Мне известно, что ваша история и история реформы в целом
полна свидетельств о чрезвычайно суровых преследованиях и что
гонимые протестанты вскоре превратились в гонителей; однако это
противоречие, столь поразительное во всей истории христианства,
доказывает лишь одну вещь в вашей истории: непоследовательность
людей и господство страстей над разумом. Благодаря спорам с
католическим клиром протестантский клир проникся духом мелочных
дрязг. Он желал все решать, все привести в порядок, высказываться
обо всем; каждый скромно предлагал свое суждение в качестве
высшего закона для всех остальных; но не этим способом достигается
мир. Без сомнения, Кальвин был великим человеком, но он был че-
* Церковные Ордонансы. Гл. 3. Ст. 75.
297
*\
Жан-Жак Руссо
ловеком и, что еще хуже, богословом: он обладал гордостью гения,
ощущающего свое превосходство, и возмущался, когда с ним
спорили. Большинство его соратников поступали так же; и в этом они
оказались столь же виноваты, сколь непоследовательны в своем
поведении.
Какой же повод для нападок они этим самым дали католикам!
И не правда ли, какая жалость видеть в запретах этих ученых
мужей, этих просветленных умов, которые столь блестяще
размышляли в любой иной сфере, как они несли вздор по этому вопросу?
Эти противоречия, однако, не доказывают ничего иного, кроме
того, что они в большей мере шли на поводу у пристрастий, чем
следовали началам протестантства. Строгая приверженность вере у этих
мужей оказалась сама по себе ересью. Таков был дух протестантов,
но не дух протестантизма.
Протестантская религия изначально отличалась терпимостью,
она в высшей степени терпима и является таковой настолько,
насколько возможно, поскольку единственная догма, ею отвергаемая,
была нетерпимость. Вот непреодолимая преграда, которая отделяет
нас от католиков и позволяет объединить другие вероисповедания
между собой; каждое вероисповедание считает остальные
пребывающими в заблуждении; но ни одно из них не рассматривает, или не
должно рассматривать, это заблуждение в качестве препятствия на
пути к спасению *.
Современные протестанты, по крайней мере
священнослужители, не знают или больше не любят свою религию. Если бы они
знали и любили ее, то публикация моей книги вызвала бы крик общей
радости, они все сразу же присоединились бы ко мне, к тому, кто
нападал лишь на их противников; однако они предпочитают скорее
сложить оружие, чем выступить в мою защиту; их тон, до смешного
высокомерный, самозабвенное крючкотворство и нетерпимость не
позволяют им вникнуть ни в то, во что они верят, ни в то, чего они
хотят, ни то, что они утверждают. Я считаю их всего лишь дурными
лакеями священников, которые служат последним не столько из
* Из всех христианских конфессий лютеранство кажется мне наиболее
непоследовательным. Оно» словно ради забавы, навлекло на себя все возражения»
которые эти конфессии высказывают друг другу. Оно чрезвычайно нетерпимо, так же
как и Римская церковь; однако лютеранству не хватает одного серьезного довода,
который приводит Римская церковь: оно нетерпимо и само не знает почему.
298
Письма с Горы
-х~»
любви к ним, сколько из ненависти ко мне*. Когда же, наконец,
они устанут спорить, драться, придираться к мелочам, высказывать
суждения, в самый разгар их маленького торжества римское
духовенство, которое теперь посмеивается и не чинит им помех, явится
изгнать их, вооружившись бесспорными доводами ad hominem, и,
одержав над ними победу их же собственным оружием, оно им
скажет: «Все в порядке, но теперь валите отсюда, злобные
самозванцы; вы славно потрудились для нас». Но возвращаюсь к моей теме.
Итак, церковь Женевы не обладает и не должна обладать, будучи
протестантской церковью, никаким точным и связным
изложением исповедания веры, общим для всех ее членов. Если бы
кто-нибудь пожелал его иметь, то тем самым уже покусился бы на
евангельскую свободу, отказался бы от начал протестантизма, нарушил
бы закон государства. Все протестантские церкви, создавшие свои
символы веры, все собрания духовенства, определившие догматы
вероучения, имели в виду предписать пасторам то вероучение, в
котором следует наставлять, и это было правильно и приемлемо.
Однако если бы эти Церкви и эти собрания вознамерились добиться
большего с помощью символов веры и предписать верующим то, во
что они должны верить, то тогда этими решениями они доказали
бы не что иное, как незнакомство с собственной религией.
Долгое время казалось, что церковь Женевы менее других
отступила от истинного духа христианства; именно из-за этой
обманчивой видимости я удостоил пасторов похвалами, которые я считал
заслуженными, ибо в мои намерения не входило обманывать
публику. Но кто же теперь не видит, как эти служители, прежде столь
покладистые, а ныне вдруг ставшие столь суровыми, придираются
по пустякам к правоверности светского человека, при том что их
правоверие остается столь неприлично сомнительным? Их
спрашивают, является ли Иисус Христос Богом, и они не смеют ответить;
их спрашивают, какие таинства они признают, и они не смеют
ответить. На чем же будет основан их ответ? На основании каких
догматов, отличных от моих, они хотят, чтобы решался этот вопрос, если
догматы, которые я разделяю, не включены в их символ веры?
* Я считаю излишним говорить здесь, что я не считаю в их числе моего пастора
и тех, кто по этому поводу думает так же, как и я. Написав это примечание, я
понял, что ни для кого не следует делать исключений; но я, как и обещал, сохраняю
это примечание, поучительное для каждого порядочного человека, которому
придет в голову хвалить духовенство.
299
r^ Жан-Жак Руссо
Философ п бросает на них быстрый взгляд: он видит их насквозь
и называет арианами и социнианами12: он высказывает это,
полагая, что оказал им честь; но он не понимает, что ставит под угрозу
их мирские выгоды - единственную вещь, которая, как правило,
определяет характер веры людей на земле.
И тотчас, встревоженные, напуганные, они собираются,
обсуждают, суетятся, не знают, какому святому молиться, и затем, после
многих обсуждений *, споров, совещаний, все заканчивается
галиматьей, в которой не сказано ни «да», ни «нет» и в которой столь же
мало можно что-либо понять, как и в двух судебных речах Рабле **.
Разве их правоверное вероучение понятно и разве оно при этом
в надежных руках?
А между тем только потому, что один из них, собирая в кучу
схоластические шутки, столь же благодушные, сколь и элегантные,
чтобы осудить мое христианство, не боится при этом отречься от
собственного, очарованные познаниями своего собрата и особенно
его логикой, священники одобряют его ученое сочинение и
посылают представителей поблагодарить его за него14. По правде сказать,
до чего же странные люди эти ваши священники: неизвестно ни то,
во что они верят, ни то, во что они не верят; неизвестно даже то, во
что они делают вид, будто верят; их единственный способ укрепить
свою веру — нападать на чужую; они поступают подобно иезуитам,
которые, как говорят, принуждали всех подписаться под буллой
«Единородный Сын»15, а сами не подписывались. Вместо того
чтобы объясниться по вопросам вероучения, которое им вменяют в
вину, они думают сбить с толку прочие Церкви, пытаясь поссориться
со своим собственным защитником; своей неблагодарностью они
хотят доказать, что они не нуждаются в моих заботах, и думают,
будто выглядят достаточно правоверными, когда ведут себя как
гонители.
Исходя из всего этого, я делаю вывод, что нелегко сказать, в чем
заключается святая Реформация в Женеве сегодня. Все, что можно
с уверенностью утверждать относительно этого, так это что она,
* «Когда мы решили вопрос о том, во что мы верим, — говорил по этому поводу
один журналист, — то вскоре можно составить исповедание веры»13.
** Наверное, обнаружили бы немногие затруднения в том, чтобы выразиться
более ясно, и при этом было бы не обязательно отказываться от своих слов,
сказанных по поводу некоторых вопросов.
300
Письма с Горы
^>
по-видимому, состоит в опровержении тех пунктов, по которым
первые реформаторы, и в особенности Кальвин, вели спор с
Римской церковью. В этом последнем заключается дух ваших
установлений; благодаря этому вы являетесь свободным народом, и только
в этой своей части религия становится частью закона государства.
От первого вопроса я перехожу ко второму и говорю: в книге
с большой силой утверждается истина, польза, необходимость
религии в целом; ее автор безоговорочно * предпочитает христианскую
религию всякому другому богослужению и евангелическую
Реформацию всякой другой конфессии; как же может быть так, что та же
самая Реформация подвергается в ней нападкам? Это трудно
понять. Однако давайте посмотрим далее.
Прежде я в общем доказал и далее приведу еще больше
подробных доказательств того, что неверно утверждать, будто бы я
нападал в моей книге на христианство. Все же, когда общие начала не
подвергают нападкам, то подвергнуть нападкам какую-либо секту
в частности можно лишь двумя способами, а именно: косвенно,
разделяя догматы, которым привержены ее противники, или
прямо, нападая на нее.
И каким же образом я якобы разделял догматы католиков, если
это, напротив, суть единственные догматы, на которые я нападал,
и именно эти нападки восстановили против меня католическую
партию, ведь не будь ее, протестантам нечего было бы возразить?
Вот это, я признаю, одна из наиболее странных и неслыханных
вещей, но тем не менее это правда. Я являюсь исповедником
протестантской веры в Париже, и именно поэтому я им являюсь еще
и в Женеве.
И каким же образом я якобы нападал на догматы, разделяемые
протестантами, если это, напротив, именно те догматы, которые
я разделял с наибольшим убеждением, поскольку не переставал
настаивать на главенстве разума в вопросах веры, на свободном
толковании писаний, на протестантской веротерпимости и на
подчинении законам даже в вопросах богослужения; протестантская
Церковь не только не могла бы прочно утвердиться без всех
отличительных и основных догматов, но даже и существовать.
Более того, посмотрите, какую силу придает доводам
протестантов сам жанр моего произведения. Это ведь католический священ-
* Я умоляю всякого справедливого читателя перечитать и оценить в «Эмиле» то,
что непосредственно следует за исповеданием викария, где я снова беру слово.
301
*\
Жан-Жак Руссо
ник говорит, и этот священник не безбожник, не вольнодумец; это
человек верующий и набожный, исполненный чистосердечия,
порядочности и, несмотря на трудности, возражения, сомнения,
питающий в глубине своего сердца истинное уважение к религии,
которую он исповедует; это человек, который в самых задушевных
излияниях чувств объявляет, что, будучи призван этой религией
к служению Церкви, он со всей возможной точностью старательно
выполняет то, что ему предписано; что если бы он пренебрег по
своему желанию хотя бы мелочью, совесть его упрекнула бы за это; что в
вопросе о таинствах, смущающем разум, он в момент освящения
предается духовному созерцанию, чтобы совершить его в том
состоянии духа, которого требует Церковь и величие помазания; что
он произносит с уважением слова причастия; что он произносит их
со всей верой, насколько это от него зависит, и как бы ни было
непостижимо это таинство, он не боится, что в день Страшного Суда
он будет наказан, осквернив их в своем сердце.
Вот как думает и говорит этот достопочтенный человек,
по-настоящему добрый, мудрый, истинный христианин и самый
искренний католик из всех, что когда-либо существовали.
А между тем послушайте, что говорит этот добродетельный
пастор, обращаясь к юному протестанту, ставшему католиком, и вот
его совет: «Возвращайтесь на родину, вновь примите веру ваших
отцов, разделяйте ее со всей искренностью и не оставляйте ее
больше никогда: она очень проста и свята; из всех религий на земле
я считаю ее религией, мораль которой является самой чистой,
религией, более всего удовлетворяющей требованиям разума».
И чуть позже он добавляет: «Когда вы захотите прислушаться
к голосу вашей совести, тысячи ничтожных препятствий заставят
замолчать ее. При всей свойственной нам неуверенности вы
почувствуете, что исповедовать иную религию, нежели ту, в которой был
рожден, есть непростительное высокомерие, и не соблюдать
чистосердечно обрядов той, что исповедуешь, есть лицемерие. Если мы
впадаем в заблуждение, то мы лишаем себя величайшего прощения
перед судом Всевышнего Судии. Но не простит ли Он скорее
заблуждение, усвоенное нами с рождения, нежели то, которое мы смеем
разделять осознанно?»
Несколькими страницами раньше он сказал: «Если бы по
соседству или в моем приходе жили протестанты, я никоим образом не
отличал бы их от моих прихожан в том, что касается христианского
302
Письма с Горы
милосердия; я призывал бы их всех в в равной мере любить друг
друга и к тому, чтобы они считали друг друга братьями, уважали
все религии и жили бы в мире, каждый сообразно своей
собственной религии. Я думаю, что просить кого-либо отказаться от своей
религии — все равно что убеждать поступить дурно и, как следствие,
поступать дурно самому. В ожидании величайшего просветления
давайте сохранять общественный порядок, давайте соблюдать
законы в любой стране и давайте не будем нарушать предписанный
ими порядок богослужения; давайте не будем призывать граждан
к непослушанию, ибо мы совсем не знаем наверняка, будет ли им во
благо поменять свои убеждения на другие, но мы знаем очень
точно, что не повиноваться законам есть зло».
Вот, сударь, как говорит католический пастор в сочинении, где,
как меня в том обвиняют, я нападал на протестантское
богослужение и в котором сказано лишь то, что сказано. В чем меня можно
было бы упрекнуть, так это в чрезмерном пристрастии к протестантам,
в недостатке правдоподобия, когда я заставляю говорить
католического священника так, как католический священник никогда бы не
сказал. Таким образом, я во всем сделал прямо противоположное
тому, в чем меня обвиняют. Можно было бы сказать, что ваши
судьи повели себя, словно будто держали пари: если бы они
заключили пари в споре против очевидного, то вряд ли нашли бы лучший
способ победить в нем.
Однако эта книга содержит возражения, трудности, сомнения!
А почему бы и нет? В чем же заключается преступление одного
протестанта, если он излагает свои сомнения в том, что он находит
сомнительным, и свои возражения по поводу того, что, как он
считает, способно вызвать возражения? Если то, что вам кажется
ясным, мне кажется неясным, если то, что вы полагаете доказанным,
мне таковым совсем не кажется, по какому праву вы хотите
подчинить мой разум вашему и возвести ваши убеждения в закон,
подобно тому как если бы вы претендовали на непогрешимость Папы? Не
правда ли, забавно, что вы рассуждаете, как католики, чтобы иметь
право обвинить меня в том, что я нападаю на протестантов?
Но эти возражения и эти сомнения касаются основных вопросов
веры; под видом этих сомнений было собрано все то, что может
привести к подрыву, расшатыванию и уничтожению основ
христианской религии! Вот что меняет дело, и если это правда, то я мог бы
оказаться виноватым; но это ложь, и ложь беззастенчивая, тех лю-
303
Жан-Жак Руссо
дей, которые не знают сами, в чем заключаются главные основы их
христианства. Что касается меня, то мне очень хорошо известно,
в чем они заключаются, и я об этом говорил, поскольку все
изложение исповедания веры Жюли последовательно в этом отношении;
во всей первой части изложение исповедания веры викария также
последовательно; в половине второй части оно тоже
последовательно; и часть главы о гражданской религии последовательна;
«Письмо к архиепископу Парижа» носит последовательный
характер. Вот, господа основы моего символа веры. Давайте же бросим
взгляд на основы вашего символа веры.
Ну и ловки же эти господа! Они использовали небывалый, но
и удобный для гонителей способ вести спор. Они искусно
оставляют в стороне все неопределенные и неясные основы вероучения,
но, коль скоро автор имеет несчастье им не нравиться; они
докапываются в его книгах до того, чтобы выяснить, какими, по всей
вероятности, являются его воззрения. Когда они полагают, что
обнаружили их, то они хватаются за противоположные и превращают их
в символы веры; затем они поднимают крик о безбожии, о
богохульстве, потому что автор с самого начала в своих книгах не
соглашался с так называемыми символами веры, которые они вывели
впоследствии, чтобы ему досадить.
Каким же образом отследить все то множество пунктов, по
которым они на меня нападают? Возможно ли собрать все их пасквили?
Как возможно их прочитать? Кто сможет отобрать все эти
лохмотья, все эти отрепья у старьевщиков Женевы или на навозной куче
«Нефшательского Меркурия»16? Я теряюсь, я увяз в стольких
глупостях. Давайте возьмем в качестве примера лишь один символ веры,
самый горделиво заявленный, тот, ради которого их любители
читать наставления * объединились и вокруг чего они больше всего
поднимали шум: чудеса:
Я приступаю к долгому исследованию. Умоляю, простите мне
его скучный характер. Я хочу обсудить этот столь ужасный вопрос
только для того, чтобы избавить вас от рассмотрения тех пунктов,
на которых они настаивали в меньшей степени.
* Я совсем не использовал бы это выражение, которое я считаю слишком
пренебрежительным, если бы полицейский чин Совета города Женева, который его
употребил в письме к кардиналу де Флёри, не дал мне понять, что моя
щепетильность безосновательна.
304
Письма с Горы
Они утверждают: «Жан-Жак Руссо не является христианином,
хотя и выдает себя за такового, ибо мы, которые, конечно же,
являемся христианами, думаем не так, как он. Жан-Жак совсем не верит
в Откровение, хотя и утверждает, будто верит в него: вот тому
доказательство.
Бог не являет свою волю всем людям; он непосредственно
обращается к ним через своих посланников, и эти посланники являют
чудеса в качестве доказательства их поручения: таким образом, тот,
кто отрицает чудеса, отрицает посланников Божьих; и кто отрицает
существование посланников Божьих, отрицает Откровение: Жан-
Жак Руссо отрицает чудеса».
Для начала не будем оспаривать ни этого начала, ни этого
свидетельства: мы к этому потом вернемся. Если полагать таким образом,
предыдущее рассуждение имеет лишь один недостаток — оно
оборачивается против тех, кто его приводит: этот довод очень хорош для
католиков, но очень плох для протестантов. Теперь моя очередь
это доказать.
Вы найдете, что я часто повторяюсь; но не все ли равно?
Поскольку одна и та же посылка мне необходима для разных выводов,
должен ли я избегать пользоваться ею повторно? Это притворное
ребячество. Речь идет не о разнообразии, но об истинности
справедливых и убедительных выводов. Не обращайте внимания на все
остальное и имейте в виду только это.
Когда только начали раздаваться голоса первых протестантов,
в единой Церкви царил мир; все мнения были единодушны; не
было такого основополагающего догмата, о котором христиане
спорили бы.
Вдруг в этой спокойной обстановке два или три человека подняли
свой голос и закричали на всю Европу: «Христиане, будьте
осторожны, вас обманывают, вас сбивают с пути и ведут прямой
дорогой в ад: папа — это антихрист, приспешник Сатаны; его Церковь —
школа лжи. Вы пропали, если не захотите к нам прислушиваться».
При этих первых криках удивленная Европа несколько
мгновений оставалась безмолвной в ожидании того, что произойдет
дальше. Наконец, духовенство первым оправилось от изумления и, видя,
что эти новоявленные пророки стали раскольниками, как это часто
случается с людьми, рассуждающими о догматах, поняло, что
необходимо было с ними объясниться. Для начала оно спросило у них,
на кого они с такой яростью ополчились. Те с гордостью ответили,
305
*\
Жан-Жак Руссо
что они являются апостолами истины, призванными
преобразовать Церковь и увести верующих с пагубного пути, по которому их
вели священнослужители.
«Но, — ответили им, — кто возложил на вас столь прекрасное
призвание потревожить мир в Церкви и покой в обществе?» «Наша
совесть, — сказали те, — разум, просветление, голос Божий,
противиться которому есть преступление; именно он нас призвал к этому
святому служению, и мы следуем нашему призванию».
«Так вы посланники Божьи? — снова спросили католики. —
В этом случае мы согласны с тем, что вы должны проповедовать,
преобразовывать, просвещать, и мы должны вас выслушать. Но,
чтобы получить это право, для начала покажите нам ваши
верительные грамоты: пророчествуйте, излечивайте, просвещайте,
делайте чудеса, явите доказательства вашего призвания».
Ответ реформаторов хорош и стоит того, чтобы его привести.
«Да, мы посланники Божьи; но наше призвание не совсем
обычно: оно есть внушение чистой совести, озарение здравого рассудка.
Мы не пришли к вам с новым Откровением, мы ограничиваемся
тем, которое вам было дано и которому вы более не внимаете. Мы
пришли к вам не с чудесами, которые могут оказаться ложными
и уже засвидетельствовали столько ложных вероучений, но со
знамениями истины и разума, неспособными ввести в заблуждение,
с этой святой книгой, которую вы искажаете, но мы вам ее
разъясним. Наши чудеса — это неопровержимые доводы, наши
пророчества — это доказательства; мы вам предсказываем, что если вы не
будете прислушиваться к голосу Христа, который говорит с вами
нашими устами, вас накажут как нерадивых слуг, когда они не
хотят исполнять объявленную им волю хозяина».
Было бы противно природе вещей, если бы католики
согласились с очевидностью этого нового вероучения, и именно это
большинство из них остерегалось сделать. Однако так как спор,
сводившийся к этому вопросу, стал нескончаемым, потому что каждому
хотелось выиграть его; протестанты утверждали, что их
толкования и их доказательства были столь ясными, что несогласие с
ними — проявление недобросовестности; но католики, со своей
стороны, сочли, что незначительные доводы частных лиц, которые
даже не являлись бесспорными, не могут одержать верх над
авторитетом всей Церкви, во все времена решавшей спорные вопросы
иначе, чем они.
306
Письма с Горы
Вот в каком положении оставалась распря. Не переставали
спорить о силе доказательств; эти распри никогда не закончатся,
поскольку у людей разные мнения.
Но католики речь вели не об этом. Они бы запутались, и если бы
они не находили удовольствия в том, чтобы придираться к
доказательствам своих противников, они оспорили бы их право
доказывать и, как мне кажется, поставили бы их в затруднительное
положение.
«Во-первых, — сказали бы они им, — избранный вами способ
рассуждения — не более чем логическая ошибка, ибо если сила
ваших доказательств является знамением вашего призвания, то,
следовательно, для тех, кого они не убеждают, ваше призвание —
обман, и, таким образом, мы можем на законном основании наказать
вас как еретиков, как лжеапостолов, как возмутителей спокойствия
Церкви и рода человеческого.
Вы не проповедуете, скажете вы, новых вероучений. Так что же
вы делаете, проповедуя новые толкования? Придавать новый смысл
словам Писания не означает ли утверждать новое вероучение, не
есть ли это попытка заставить Господа высказаться иными
словами? Ведь не звучание слов, но их смысл содержится в Откровении;
изменить этот смысл, признанный и подтвержденный Церковью,
означает изменить откровение.
Посмотрите, до чего вы несправедливы: вы соглашаетесь, что
чудеса нужны для того, чтобы сообщить авторитет божественному
призванию, и тем не менее вы, простые смертные, по вашему
собственному признанию, приходите, властно обращаясь к нам,
подобно посланникам Божьим*, вы требуете права толковать Писание,
как вам заблагорассудится, и вы желаете отнять у нас свободное им
пользование. Вы присваиваете только себе право, в котором
отказываете каждому из нас и нам вместе взятым, из кого состоит Цер-
* В Женеве перед епископальным советом Фарель заявил именно в этих
выражениях, что он был послан Богом, что заставило одного из членов Совета привести
слова Каиафы: «Он богохульствует! На что нам еще свидетели? Повинен смерти».
Согласно учению о чудесах, достаточно только одного чуда в ответ на это. Однако
же Иисус не совершил ни одного чуда ради этого, Фарель поступил так же. Фро-
ман также заявил судье, запрещавшему ему проповедовать, «что следует скорее
подчиниться Господу, нежели людям», и продолжил проповедовать, несмотря на
запрет; поведение, которое он мог позволить себе лишь согласно явному
повелению Божьему.
307
«-\
Жан-Жак Руссо
ковь. Итак, какое право вы имеете толковать наши общепринятые
мнения в духе ваших собственных? Какое невыносимое
самодовольство утверждать, что правда всегда на вашей стороне и все
остальные не правы, не позволяя им продолжать оставаться при мнении,
отличном от вашего, и при этом считать себя правыми! *
Возражения, которыми вы нам платите в отместку, были бы вполне
приемлемыми, если бы вы просто высказали свое мнение и на этом
остановились; но нет. Вы нам объявляете войну; вы раздуваете пламя со
всех сторон. Противиться вашим урокам означает оказаться
непокорным, идолопоклонником, достойным ада. Вы непременно
хотите всех обратить в свою веру, переубедить, даже принудить. Вы
рассуждаете о догматах, вы проповедуете, вы запрещаете, вы предаете
анафеме, вы отлучаете от церкви, вы наказываете, вы предаете
смерти; вы осуществляете власть пророков, а считаете себя лишь
обычными людьми. Как! Вы, став теми, кто обновил религию,
руководствуясь только собственным мнением, поддержанным сотней
людей, позволяете себе сжигать ваших противников! И мы, имея за
плечами пятнадцать веков древности и голос сотни миллионов
людей, мы неправы, когда сжигаем вас! Нет, прекратите говорить,
действовать, как апостолы, или покажите ваши верительные грамоты;
или же, если нас признают сильнейшими, с вами справедливо будут
обращаться, как с самозванцами».
На эти слова, как вы думаете, сударь, что наши сторонники
преобразований в Церкви могли бы серьезно ответить? Лично я не
знаю. Я думаю, что они были бы вынуждены замолчать или
творить чудеса: прискорбное средство в руках друзей истины.
Из этого я заключаю, что настаивать на необходимости чудес для
доказательства призвания посланников Божьих, проповедующих
новое вероучение, означает перевернуть Реформацию с ног на
голову; это означает самим ради борьбы со мной совершить то, в чем
меня ложно обвиняют.
Я не все сказал по этому поводу, сударь; но то, что мне остается
сказать, нельзя сказать отрывочно, и оно потребует очень
длинного письма; пришло время закончить это.
* Например, кто, как не Кальвин, проявил более решительности в суждениях,
более властолюбия, резкости и считал себя более непогрешимым? Малейшее
сопротивление, малейшее возражение, которое осмеливались ему привести, всегда
казалось ему сатанинским делом, преступлением, достойным сожжения на костре.
И не один Сервет поплатился жизнью за то, что осмелился мыслить иначе.
308
Письма с Горы
^-»
Письмо III
Я возвращаюсь, сударь, к вопросу о чудесах, который я начал
обсуждать с вами; и после того как я доказал, что утверждать их
необходимость означает уничтожить протестантизм, я сейчас
попытаюсь выяснить, каково их значение для доказательства Откровения.
Поскольку у людей ум устроен по-разному, то одни и те же
доводы влияют неодинаково на всех, особенно в вопросах веры, то, что
кажется очевидным одному, не кажется другому даже вероятным:
одного убеждает один вид доказательств, другого — совсем иной.
Все могут прийти к согласию относительно одних и тех же вещей,
но крайне редко они соглашаются между собой по одним и тем же
причинам, что доказывает, заметим мимоходом, до какой степени
от спора мало проку: легче уж заставить другого человека смотреть
на все нашими глазами.
Коль скоро Господь дает людям Откровение, в которое все
обязаны верить, то необходимо, чтобы он его обосновал приемлемыми
для всех доказательствами, а они, следовательно, столь же
различны, как и способы восприятия тех, кто должен с ними согласиться.
Из этого рассуждения, кажущегося мне справедливым и
простым, следует, что Господь сообщил призванию своих посланников
различные свойства, по которым все люди, малые и великие, умные
и глупые, ученые и невежды, могли уверовать в него. Тот из них,
кто обладает умом, достаточно гибким и способным воспринять
сердцем все эти свойства сразу, без сомнения, счастливый человек;
но не стоит сожалеть о том, кого впечатлили лишь некоторые из
них, лишь бы впечатление было достаточно сильным, чтобы его
убедить.
Первое, самое важное, самое достоверное из этих свойств
относится к природе этого вероучения, а именно к его полезности,
красоте *, святости, правдивости, глубине и ко всем прочих качествам,
* Я не понимаю, почему у людей возникает желание приписать прекрасную
мораль из наших книг развитию философии. Эта мораль, почерпнутая из Евангелия,
носила христианский характер до того, как стала философской. Христиане
наставляют в ней, не проводя ее в жизнь, я с этим согласен; но чем заняты
философы, если не тем, что расточают себе похвалы, которые никто, кроме них, вслед за
ними не повторяет, и при этом ничего особенного, по-моему, не доказывают.
Уроки Платона часто носят чрезвычайно возвышенный характер; но сколько
раз он заблуждается, и куда заводят его заблуждения! Что касается Цицерона17,
309
*"\.
Жан-Жак Руссо
которые помогают доносить до людей наставления высокой
мудрости и заповеди высшей доброты. Это свойство, как я уже сказал,
самое надежное, самое непогрешимое; оно несет в себе
доказательство, не требующее никаких других; но это доказательство непросто
обосновать так, чтобы люди прониклись его силой; оно требует
изучения, размышлений, знаний, обсуждений, на что способны только
люди мудрые, имеющие образование и навык рассуждать.
Второе свойство заключается в характере людей, избранных
Богом для объявления Его слова; их святость, их правдивость, их
справедливость, их чистые и незапятнанные нравы, их добродетели,
способные устоять против страстей человеческих, вместе со
способностью мыслить, разумом, рассудком, знаниями,
осторожностью являют столько достойных уважения знамений, которые в
совокупности, когда ничто им не противоречит, образуют совершенное
доказательство им на пользу и свидетельствуют о том, что они
являются чем-то большим, чем простыми людьми. Это знамение
производит впечатление в основном на людей добрых и прямодушных,
которые видят истину повсюду, обнаруживают справедливость
и слышат голос Божий только из уст добродетели. Это свойство
достоверно, но нельзя исключить и возможность обмана; и вовсе не
редкость, когда обманщик вводит в заблуждение добрых людей
или когда добропорядочный человек вводит сам себя в
заблуждение, охваченный усердием святости, которое он сочтет за
вдохновение.
Третье свойство посланников Божьих — наличие влияния
Божественной силы, которая может остановить движение вещей в
природе и изменить его по желанию тех, кому это влияние дано. Это
свойство, безусловно, самое яркое, производящее самое сильное
впечатление, бросающееся в глаза; свойство, которое обращает на
себя внимание внезапным и ощутимым воздействием, как кажется,
требующее меньшего изучения и обсуждения; только это свойство
особенно впечатляет народ, не способный последовательно
рассуждать, неспешно и непредвзято наблюдать, находясь в плену
собственных ощущений: но именно в силу этого обстоятельства
данное свойство становится двусмысленным, как это будет доказано
то можно ли себе представить, чтобы этот напыщенный оратор создал свой
трактат «Об обязанностях», не будь Платона? В том, что касается морали, только
Евангелие является всегда достоверным, истинным, и всегда верным самому себе.
310
Письма с Горы
позднее. И в самом деле, лишь бы это свойство производило
сильное впечатление на тех, кто его наблюдает, и имеет ли значение,
мнимое оно или действительное? Народ не в состоянии провести
это различие; сказанное доказывает, что есть только одно
по-настоящему достоверное знамение, которое можно усмотреть в самом
вероучении, и что, следовательно, только хорошие мыслители
могут обладать твердой и правильной верой; но божественная
доброта снисходительна к слабостям простонародья и благоволит ему,
являя доказательства, ему понятные.
Я останавливаюсь на этом, не стремясь сделать этот перечень
чрезмерно полным: это обсуждение бесполезно при рассмотрении
предмета, о котором идет речь, ибо ясно, что когда все эти
признаки соединяются, то этого достаточно, чтобы убедить всех людей
мудрых, добрых и народ; всех, за исключением дураков,
слабоумных и негодяев, не желающих, чтобы их в чем-нибудь убеждали.
Эти свойства суть свидетельства власти тех, кому они даны; и это
причина, по которой мы обязаны им верить. Когда все эти свойства
налицо, истинность их призвания установлена; они могут
действовать тогда по праву и с полномочиями посланников Божиих.
Доказательства являются средством; вера, изложенная в вероучении, —
целью. Важно, чтобы люди согласились с вероучением, ведь самая
тщетная вещь — спорить о количестве и выборе доказательств;
и если только одно из них меня убеждает, то стремиться заставить
меня признать прочие доказательства — напрасный труд. Было бы
по меньшей мере смехотворно утверждать, будто человек не верит
во все то, во что, как он утверждает, верит, только потому, что он
верит не на основании тех же самых доводов, на которых основана
наша вера.
Вот, как мне кажется, ясные и неоспоримые начала; перейдем
к тому, как они проводятся в жизнь. Я объявляю себя
христианином; мои гонители утверждают, что я таковым не являюсь. Они
доказывают, что я не христианин потому, что я отрицаю Откровение
и не верю в чудеса.
Однако, чтобы этот вывод был справедлив, необходимо, чтобы
справедливым оказалось одно из двух: либо чтобы чудеса были
единственным доказательством Откровения, либо чтобы я
одинаково отрицал прочие доказательства, которые Его удостоверяют.
Однако неверно утверждать, что чудеса являются единственным
доказательством Откровения; и неверно утверждать, что я отрицаю
311
•^ - Жан-Жак Руссо
прочие доказательства, поскольку, напротив, мы обнаруживаем,
что они приведены в том же самом произведении, в котором, как
меня в том обвиняют, я отрицал Откровение *.
Вот в точности к чему мы пришли. Эти господа/твердо
решившие, вопреки моей воле, заставить меня отрицать Откровение, не
учитывают того, что я его признаю на основе доказательств, для
меня убедительных, даже если я его не признаю на основе
доказательств, для меня не убедительных; и поскольку я не могу с ними
согласиться, они утверждают, что я отрицаю Откровение. Можно
ли придумать что-нибудь более несправедливое и более странное?
И судите сами, прошу вас, сказал или не сказал я слишком
многое, раз они мне вменяют в вину то, что я не считаю допустимыми
доказательства, которые Иисус не только не приводил, но и прямо
отказывался приводить.
Он поначалу заявил о себе не чудесами, но проповедью. В
возрасте двенадцати лет он уже участвовал в споре в храме с учеными
людьми, то спрашивая их, то удивляя их мудростью своих ответов.
Именно там начался его путь, как он это сам сказал своей матери
и Иосифу **. В своей стране, прежде чем совершить хоть одно чудо,
он принялся рассказывать народу о Царствии Небесном***; и он
уже собрал многочисленных учеников, и при этом обрел влияние
над ними не с помощью знамения, ибо сказано, что он совершил
первое знамение в Кане ****.
Когда же он творил чудеса, то это случалось часто в особенных
случаях, а сам выбор этих случаев отнюдь не указывает на то, что
он стремился заручиться свидетельствами людей; и он не ставил
цель явить свое могущество: ведь он всегда отказывался это делать,
когда бы его ни просили ради этого их сотворить. Посмотрите на
* Важно заметить, что викарий, будучи католиком, мог привести множество
возражений, не имеющих смысла в глазах протестанта. Таким образом, скептицизм,
которому он привержен, никоим образом не является доказательством моего
собственного, в особенности после очень ясного заявления сделанного в конце того
же сочинения. Всем отчетливо видно, что, согласно началам, которые я разделяю,
многие возражения, содержащиеся в нем, ведут к ложным выводам.
•• Лк 11:46,47,49.
••• Мф4:17.
**** Ин2:11.Я даже мысли не допускаю, что кто-либо сочтет в числе
прилюдных знамений искушения дьявола и сорокадневный пост.
312
Письма с Горы
всю историю его жизни, особенно прислушайтесь к его
собственному заявлению: оно столь решительно, что вы не найдете, что на это
возразить.
Он уже далеко продвинулся на жизненном поприще, когда
ученые мужи, видя, что он пророчествует среди них, вздумали
попросить у него знамение. Что же на это должен был ответить Иисус, по
мнению ваших господ? «Вы требуете знамения, у вас их множество.
Уж не думаете ли вы, что я пришел объявить себя Мессией, не
запасшись предварительно свидетельствами, словно я желаю
заставить вас отречься от меня и заблуждаться против вашей воли? Нет:
Кана, сотник, прокаженный, слепые, парализованные,
приумножение хлебов, вся Галилея, вся Иудея свидетельствуют обо мне. Вот
мои знамения: почему вы делаете вид, что не видите их?» *
Вместо этого ответа, которого Иисус не давал, вот, сударь, что
он сказал:
Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения; и знамение не
дастся ему.
Впрочем, он добавляет:
И знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка.
И, повернувшись к ним спиной, ушел18**.
Для начала посмотрите как, осуждая это пристрастие к
чудесным знамениям, он обходится с теми, кто их требует; и это
случается не единожды, а много раз. Согласно взглядам ваших господ, это
требование чудес вполне законно: зачем оскорблять тех, кто его
предъявлял?
Затем посудите сами, кому мы должны прежде всего доверять:
тем, кто утверждает, будто не принимать чудеса Иисуса в качестве
знамений, подтверждающих христианское Откровение, означает
его отвергать, или самому Иисусу, который объявляет, что он не
должен давать знамений?
Они спросят, чем же является знамение пророка Ионы. Я им
отвечу, что это была его проповедь ниневитянам, точно такое же
знамение, которое сотворил Иисус перед евреями, как он сам это объ-
* Мк 8: 12; Мф 16: 4. Ради краткости я слил воедино два отрывка, но сохранил
мысль, существенную для решения вопроса.
** Обратите внимание на следующие отрывки: Мф 12: 39,41; Мк 8:12; Лк 11: 29;
Ин 2:18,19; 4:48; 5: 34,36, 39.
313
Жан-Жак Руссо
ясняет*. Можно рассматривать второй отрывок только в одном
смысле, соотносимым с первым; в противном случае оказалось бы,
что Иисус противоречит сам себе. Однако в первом отрывке, где
у него просят о чуде в качестве знамения, Иисус определенно
отвечает, что не будет дано никакого знамения. Таким образом, по
смыслу второго отрывка, там нет указания ни на какое чудесное
знамение.
Они станут настаивать, что, согласно третьему отрывку
воскресение Иисуса есть знамение**. Я это отрицаю; это знамение есть
всего-навсего знамение смерти. Однако смерть человека не
является чудом; не есть чудо и то, что по прошествии трех дней тело было
извлечено из пещеры. В этом отрывке ни слова не говорится
о воскресении. Впрочем, что же это за вид доказательства, что
позволяют себе привести относительно Его жизни, если оно
опирается на знамение, которое свершилось после его смерти? Это
означало бы искушать только неверующих и утаивать правду. Коль скоро
это поведение неправедно, то и такое толкование — кощунство.
К тому же, имеется и еще один неопровержимый довод. Смысл
третьего отрывка не должен противоречить первому, а в первом
утверждается, что не будет дано знамения, совсем не будет.
Наконец, как бы то ни было, свидетельство самого Иисуса доказывает,
что если он и совершал чудеса в течение своей жизни, то не ради
знамения о своем призвании.
Всякий раз, когда евреи настаивали на этом виде доказательств,
он с презрением изгонял их и никогда не снисходил до
удовлетворения их просьбы. Он не соглашался на это, даже когда у него
просили о чуде из милосердия. «Вы не уверуете, если не увидите
знамений и чудес», — говорил он тому, кто его просил исцелить сына ***.
Станут ли говорить так, когда хотят творить чудеса ради
доказательств?
Стоило ли удивляться тому, что если бы он явил столько
доказательств, то люди бы без конца продолжали у него их просить?
«Какое же Ты дашь знамение, — говорили евреи, — чтобы мы увидели
и поверили Тебе? **** Моисей даровал манну в пустыне нашим от-
• Мф12:41;Лк11:30,32.
•• Мф12:40.
••• Ин4:48.
***• Ин6:30,31.
314
Письма с Горы
.^~»
цам; но ты, что ты сотворишь?» Это почти во вкусе ваших господ.
Пусть, презрев величие короля, кто-нибудь придет к Фридриху
и скажет: «Тебя называют "великим полководцем", а, собственно,
почему? Что ты сделал такого, что делает тебя таким? Густав
победил при Лейпциге, при Лютцене; Карл при Фрауштадте, при Нарве;
но в чем твои памятные деяния? Какую победу ты одержал? Какую
крепость взял? Какой марш ты совершил? Какая война покрыла
тебя славой? По какому праву ты носишь имя Великий?». Можно
ли вообразить себе столь наглую речь? И найдется ли на всей земле
человек, который осмелится на нечто подобное?
Однако, не желая пристыдить тех, кто обращался к нему с
подобными речами, не дав им никакого чуда, не рассказывая им о тех,
что Он уже совершил, Иисус, отвечая на их вопрос, довольствуется
аллегорией о хлебе с небес. К тому же, Его ответ не только не
увеличил числа Его последователей, но и отнял у него многих старых,
кто, несомненно, мыслил так же, как и ваши богословы.
Отступничество было таковым, что он спросил, обращаясь к двенадцати
апостолам: «Не хотите ли и вы отойти?». Казалось, что он не слишком
желал сохранить тех, кого мог удержать при помощи только чудес.
Иудеи требовали знамения с небес. С точки зрения собственных
взглядов они были правы. Знамение, которое должно было
засвидетельствовать приход Мессии, не стало бы для них чересчур
очевидным, решающим, несомненным, основанным на свидетельстве
многих, видевших Его воочию; поскольку непосредственное
свидетельство Бога имеет несоизмеримо большее значение, чем
свидетельства людей, то было надежнее уверовать в него по самому
знамению, чем поверить людям, которые говорят, будто видели его;
и вследствие этого небесное предпочтительнее земного.
Иудеи были правы с их точки зрения, потому что они желали
Мессию зримого и творящего чудеса. Но Иисус сказал, следуя
заповеди пророка, что не придет Царствие Божие приметно, что тот, кто
возвещает о нем, не станет вести споров, не закричит, и голос его не
будет слышен на улицах. Все это не выглядит как желание кичиться
чудесами; следовательно, и он ведь не ставил перед собой такую
цель. Он не придавал чудесам ни великолепия, ни достоверности,
необходимых, чтобы засвидетельствовать истинные знамения,
потому что он не выдавал их за таковые. Напротив, он советовал
больным, которых он исцелял, хромым, которых он делал ходячими,
одержимым, из которых он изгонял бесов, хранить тайну. Можно
315
#-s Жан-Жак Руссо
было бы сказать, что он опасался, как бы не узнали о его
чудотворной силе. Мне скажут, что это странный способ превратить это все
в доказательство своего призвания.
Однако все это объясняется само собой, как только мы поймем,
что иудеи желали получить это доказательство там, где Иисус не
хотел, чтобы оно имело место. «Кто Меня отвергает и не хочет
принять Мое Слово, у того уже есть судья», — говорил он. Но разве он
добавляет: «Чудеса, сотворенные мной, его осудят?». Нет; но он
добавляет: «Слово, которое Я возвестил, — вот судья, что осудит его».
Знамение, таким образом, заключается в слове, а не в чудесах.
Видно, что в Евангелии все чудеса Иисуса были полезны; но они
были лишены блеска, вычурности, великолепия; они были просты,
как и его речи, как и его жизнь, как и все его поведение. Самым
очевидным, самым осязаемым чудом, сотворенным им, стало,
несомненно, чудо приумножения пяти хлебов и двух рыб, которыми
накормили пять тысяч человек. Его ученики не только видели чудо,
но оно прошло, если можно так сказать, через их руки; и, тем не
менее, они об этом не подумали, они почти не заподозрили, что чудо
произошло. Представляете ли вы себе, что во все века можно явить
человеческому роду в качестве явного знамения деяния, которым
самые непосредственные свидетели едва ли уделяют внимание? *
Подлинной целью чудес Иисуса вряд ли было стяжание веры,
напротив, он начинал с того, что требовал веры, прежде чем
сотворить чудо. В Евангелии подобные места встречаются чаще всего.
Вот почему нет пророка в своем отечестве **: Он совершил в своем
отечестве очень мало чудес; сказано даже, что Он не мог их
совершать по причине неверия людей ***. Как! Ведь именно по причине
их неверия ему следовало совершать чудеса, дабы убедить
неверующих, если бы их Он творил с подобной целью; но это не так: это
были деяния доброты, милосердия, добродетели, которые Он
совершал в пользу своих друзей и тех, кто уверовал в него; именно
подобные деяния есть деяния милосердия, по-настоящему
достойные совершенных Им, и о которых Он говорил, что они свидетель-
* Мк 6:52. И сказано» что это случилось по причине неведения их сердца; но кто,
кроме учеников Иисуса, смеет похваляться сердцем, ведающим о священных
предметах?
•• Мк6:5.
••• Мф13:58.
316
Письма с Горы
ствуют о Нем. Его деяния означали скорее возможность сотворить
добро, нежели желание удивить; это были в большей мере «силы
ангельские» *, чем чудеса. Так каким же образом Высшая Мудрость
могла использовать столь противоположные средства для
достижения цели, поставленной Ею? Как Она не предусмотрела, что чудеса,
которыми Она укрепляла влияние своих посланников, произведут
прямо противоположное действие, посеют сомнение в
подлинности истории как о чудесах, так и об их призвании, и среди стольких
достоверных доказательств доказательство, основанное на
знамении, посеет среди людей просвещенных и правдивых еще большие
сомнения относительно остальных доказательств? Да, я всегда буду
утверждать, что опора, которую хотят придать вере, является для
нее самым большим препятствием; уберите чудеса из Евангелия,
и вся земля будет у ног Иисуса Христа **.
Вы видите, сударь, что даже в Писании указывается, что чудеса
не были знамением о призвании Иисуса Христа, столь уж
необходимым для веры, как будто ею нельзя обладать, и не признавая их.
Допустим, что прочие отрывки содержат смысл, противоположный
этим, а все они вместе взятые содержат смысл, противоположный
прочим; таким образом, я, пользуясь своим правом, предпочитаю
тот смысл, который мне кажется наиболее соответствующим
разуму и наиболее ясным. Возымей я гордость пожелать все объяснить,
я бы мог, как истинный богослов, выбрать любой отрывок и
переиначить его на свой лад; но моя искренность не позволяет мне
давать подобные софистические толкования; будучи в достаточной
степени убежденным в своем мнении*** относительно того, что
* Это слово употреблено в Евангелии; наши переводчики передают его с
помощью слова «чудеса».
** Павел проповедовал афинянам, и его слушали благосклонно до того
мгновения, когда он им рассказал о воскресшем человеке. Тогда одни принялись смеяться,
другие ему сказали: «Хватит, мы дослушаем остальное в другой раз». Мне
достоверно неизвестно, что думают в глубине души добрые христиане нынешней
закалки; но они верят в Иисуса, в силу его чудес; я же верю вопреки чудесам, и мне
приходит в голову мысль, что моя вера стоит их веры.
*•• Это мнение не столько мое собственное, сколько многих богословов, чье
правоверие удостоверено лучше, чем правоверие духовенства города Женевы. Вот
что написал мне один из этих господ 28 февраля 1764 года: «Что бы ни говорила
шумная толпа современных апологетов христианства, я убежден, что в святых
книгах нет ни одного слова, из которого мы смогли бы на законном основании
317
«"V.
Жан-Жак Руссо
я понимаю, я спокойно отношусь к тому, чего не понимаю, и к тому,
что те кто, мне это растолковывает, еще больше меня запутывают.
Авторитет Евангелия для меня не равнозначен толкованиям
людей, и у меня нет желания подчинить их толкования моему и
самому подчиняться их толкованию. В важных вопросах его заветы
обладают общим характером и ясны; разум, который их объясняет,
по своему характеру — особенный, и только разум имеет вес в
глазах каждого человека в отдельности. Позволить кому-либо
руководить собой в этом вопросе означает подменить текст толкованием;
это означает покорность людям, но не Богу.
Я возвращаюсь к моему рассуждению и, после того как мы
установили, что чудеса не являются знамением, необходимым для веры,
я собираюсь доказать в подтверждение этой мысли, что чудеса не
есть непогрешимое знамение, о котором люди в состоянии судить.
Чудо — особое событие, непосредственное проявление
божественного могущества, ощутимое изменение в порядке природы,
одновременно действительное и зримое изъятие из ее законов. Вот
мысль, от которой не следует отклоняться, если мы желаем понять
друг друга, рассуждая об этом вопросе. Это соображение
предполагает разрешение двух вопросов.
Первый вопрос: может ли Бог совершать чудеса? А именно:
может ли он нарушать законы, которые сам же и установил? Этот
вопрос после серьезного изучения показался бы кощунственным, если
бы не был бессмысленным; наказать за отрицательный ответ на него
заключить, что чудеса были предназначены для того, чтобы служить знамениями
для людей во все времена и во всех странах. Напротив, по-моему, они не казались
самым важным тем, кто стал их очевидцем. Когда иудеи требовали чудес от
святого Павла, в каждом своем ответе он приводил в пример распятого Иисуса.
Несомненно, если бы Гроций, авторы из общества Бейля, Верна, Берне19 и прочие
оказались на месте этого апостола, им следовало бы срочно соорудить подмостки,
дабы удовлетворить просьбу, которая столь совместима с их убеждениями. Эти
люди полагают, что творят достойные удивления вещи с помощью кучи доводов; но
я надеюсь, что однажды люди заподозрят, не были ли эти доводы собраны
сообществом неверующих. Для того, чтобы в этом убедиться, не нужно быть Ардуэ-
ном»20.
Пусть впрочем, не думают, что автор этого письма является моим сторонником;
вовсе нет, он — один из моих противников. Он лишь считает, что другие не
понимают, о чем говорят. Он подозревает даже худшее; ибо вера тех, кто верит в чудеса,
всегда окажется подозрительной в глазах просвещенных людей. Таково мнение
одного из самых блестящих реформаторов: Non satis tuta fides eorum qui miraculis
nituntur21.
318
Письма с Горы
значит оказать слишком много чести тому, кто решил бы его в
отрицательном смысле; достаточно было бы его посадить в
лечебницу. Но кто когда-либо отрицал, что Господь способен совершать
чудеса? Только иудеи спрашивают, мог ли Господь поставить столы
посреди пустыни.
Второй вопрос: желает ли Господь творить чудеса? Это другое
дело. Этот вопрос сам по себе, если отвлечься от посторонних
соображений, совершенно не имеет значения; он не касается величия
Бога, чьи намерения нам не дано предугадать. Скажу даже больше:
если бы могло имело место некоторое отличие в способе ответа на
него с точки зрения веры, то самые великие мысли о мудрости и
величии Бога, которые мы в состоянии усвоить, склоняли бы нас к
отрицательному ответу, и только человеческая гордость заставила бы
нас утверждать обратное. Вот к чему может привести разум.
Наконец, этот вопрос совершенно праздный, и чтобы его разрешить,
нужно было бы уметь читать на скрижалях; ибо, как мы вскоре
увидим, этот вопрос неразрешим с помощью фактов. Давайте
воздержимся от того, чтобы бросить любопытный взгляд на эти тайны.
Окажем уважение к Бесконечной Сущности тем, что ничего не
скажем о Ней: мы знаем о ней только то, что она необъятна.
Однако, когда смертный отважно нам заявляет, что он видел
чудо, он безоговорочно решает этот великий вопрос; посудите,
должно ли ему при этом верить на слово. Пусть он наблюдал хоть
тысячу чудес, я ему в этом случае не поверю.
Я оставляю в стороне грубый софизм, заключающийся в
использовании морального доказательства для удостоверения
невозможных по природе фактов, поскольку в этом случае само начало
правдоподобия, основанное на признании возможности по природе,
оказывается несостоятельным. Если люди пожелают в подобном
случае признать это за доказательство в чисто умозрительных
вещах или в фактах, достоверность которых почти что не
подтверждается, то мы убедимся, что они окажутся менее сговорчивы, если речь
зайдет об их земных выгодах. Представим себе, что покойник
пришел требовать назад свое имущество у своих наследников,
утверждая, что он воскрес, и требуя представить доказательства
признания своей личности *. Поверите ли в вы существование хоть одного
* Но учтите, это предположение касается настоящего воскрешения, а не мнимой
смерти.
319
r\ Жан-Жак Руссо
суда на земле, где ему в этом поверят? Еще одно: не будем здесь
начинать спор; оставим за свидетельствами всю их достоверность,
которую им придают, и будем довольствоваться различием между
тем, что чувство может подтвердить, и тем, о чем разум в состоянии
сделать вывод. Поскольку чудо есть изъятие из-под действия
законов природы, необходимо знать эти законы, чтобы о них судить;
а чтобы судить о них с уверенностью, необходимо знать их все: ибо
проявления хотя бы одного неизвестного нам закона достаточно
в некоторых незнакомых зрителям случаях, чтобы изменить взгляд
на проявление тех законов, которые нам известны. Таким образом,
тот, кто утверждает, что то или иное деяние есть чудо, объявляет, что
ему известны все законы природы, и знает, что это деяние
исключительно.
Но кто тот смертный, кому известны все законы природы?
Ньютон не похвалялся тем, что их знал. Мудрый человек, став
свидетелем неслыханного деяния, может подтвердить, что он видел это
деяние, и ему можно поверить; но ни этот человек, ни никакой иной
мудрый человек на земле никогда не будет утверждать, что этот
факт, сколь бы удивительным он ни был, есть чудо; ибо откуда ему
это известно?
Все, что можно сказать о том, кто похваляется, будто творит
чудеса, — это то, что он делает крайне необычные вещи: но кто
отрицает, что крайне необычные вещи происходят? Я видел эти вещи;
более того, я их даже делал *.
Изучение природы побуждает совершать ежедневно все новые
открытия: человеческая деятельность совершенствуется каждый
* В 1745 году я видел в Венеции достаточно новый способ предсказания судьбы,
еще более странный, чем в Пренесте. Тот, кто желал получить предсказание,
входил в комнату и, если хотел, оставался там в одиночестве. Там из книги, полной
листов белой бумаги, он вытягивал один на свой выбор; затем, держа этот листок
в руках, он спрашивал, но не вслух, а про себя, то, что он хотел узнать; затем он
складывал этот лист белой бумаги, вкладывал его в конверт, запечатывал и
помещал в таком виде в книгу; затем, после произнесения нескольких чрезвычайно
вычурных фраз и не теряя книги из вида, он подходил к ней, вынимал наугад
бумагу, узнавал печать, открывал ее и находил ответ на свой вопрос в письменном
виде.
Маг, совершавший это гадание, был первым секретарем посланника Франции,
и звали его Ж.-Ж. Руссо22.
Я довольствовался ролью колдуна, поскольку я был скромен; но если бы мне
взбрело в голову стать пророком, то кто помешал бы мне им стать?
320
Письма с Горы . s~%
день. Химия изучает преобразования веществ, образование осадка,
взрывы, вспышки, люминофоры, пирофорные вещества,
землетрясения и тысячи других чудес, которые заставили бы тысячи раз
перекреститься людей, увидевших это. Масло бокаутового дерева
и спиртовой раствор этилнитрита не являются такими уж редкими
настойками; смешайте их вместе, и вы увидите, что произойдет; но
не вздумайте производить этот опыт в комнате, ибо вы рискуете
поджечь дом *. Если бы жрецы Ваала были знакомы с господином
Руэлем, их костер загорался бы сам, а Элия показался бы им
простофилей.
Вы наливаете воду в воду — и получаются чернила; вы
наливаете воду в воду — и вот твердое тело. Пророк из колледжа «Аркур»
едет в ГЬинею и говорит народу: признайте власть того, кто меня
послал: я превращу воду в камень. Средствами, известными
каждому школьнику, он готовит лед: и вот негры готовы ему поклоняться.
Некогда пророки заставляли спуститься пламя с небес силой
своего голоса; сегодня дети делают то же с помощью маленького
кусочка стекла. Иисус Навин заставил солнце остановиться;
предсказатель будущего сотворит затмение — и вот дивное явление, еще
более впечатляющее. Кабинет господина аббата Нолле представляет
собой магическую лабораторию; «Математические развлечения» —
это сборник чудес. Да что я говорю! Ярмарки прямо-таки кишат
чудесами, Бриошэ23 там часто встречаются: один только крестьянин
с севера Голландии, который на моих глазах двадцать раз зажег свою
свечу с помощью ножа, сумеет покорить народ даже в Париже; а что
бы он, по-вашему, натворил в Сирии?
Парижские ярмарки выглядят своеобразным спектаклем; нет ни
одной, где нельзя было бы наблюдать самые удивительные вещи,
их публика почти не удостаивает вниманием, настолько люди
привыкли к удивительным вещам и даже к тем, что невозможно и
придумать! В то время когда я пишу эти строки, там можно увидеть два
переносных механизма, из них один ходит или останавливается
в точности по желанию того, кто заставляет работать или
останавливаться другую машину. Я видел говорящую деревянную голову,
о которой, однако, не рассказывали столько же, сколько о голове
Альберта Великого. Я наблюдал еще более удивительную вещь:
* Необходимы меры предосторожности, чтобы добиться успеха в этом опыте; но
пусть меня избавят от необходимости приводить здесь рецептуру.
! ! Зак. 3436
321
•"Vs.
Жан-Жак Руссо
множество людей ученых, академиков, все они поголовно бегали
смотреть на невиданные судороги и возвращались оттуда,
исполненные восторга24.
Каких только чудес не совершишь ради невежд с помощью
пушки, оптики, магнита, барометра! Варвары всегда считали
европейцев богами, поскольку не владели искусствами. И если бы в лоне
тех же самых искусств, наук, колледжей, академий, если бы в
сердце Европы (во Франции или в Англии) в прошлом веке появился
человек, вооруженный всеми чудесами электричества, с которым
сегодня работают наши физики, сожгли бы его как колдуна или стали
бы преследовать как пророка? Надо полагать, что с ним сделали бы
либо первое, либо второе; достоверно лишь то, что в обоих случаях
произошла бы ошибка.
Я не знаю, откроют ли искусство исцелять и будет ли оно когда-
либо открыто; я знаю только, что это не противоречит природе.
Вполне естественно, что человек выздоравливает, и так же
естественно, что он болеет; он может так же внезапно выздороветь, как
и внезапно умереть. Все, что можно сказать о некоторых
выздоровлениях, так это то, что они удивительны, но не то, что они
невозможны; как вы докажете, что это чудеса? Однако, и я это признай,
есть вещи, которые меня бы удивили, если бы я стал их очевидцем:
была бы возможность увидеть не только то, как ходит хромой, но
и как ходит человек, совсем не имеющий ног; не только то, как
парализованный двигает рукой, но как человек, имеющий одну руку,
снова обретает владение двумя. Признаюсь, меня даже меньше
потрясла бы картина воскрешения мертвого; ибо, в конце концов,
мертвый может оказаться и живым*. Прочитайте книгу господина
Брюйе25.
* «Лазарь был уже в земле». Может быть, он первый, кого похоронили заживо?
«И прошло уже четыре дня». А кто их сосчитал? Не Иисус, так как он
отсутствовал. «От него уже шел запах». Как вы это узнали? Его сестра так сказала; вот и все
доказательство. Ужас, отвращение заставили бы сказать то же самое любую
другую женщину, но это не было бы правдой. Поостерегитесь ошибиться в
суждениях. Речь шла о физической невозможности; она больше здесь не имеет места.
Иисус скорее колебался в других случаях, менее затруднительных: посмотрите
следующее примечание. К чему же это различие, если все было в одинаковой мере
чудом? Сказанное, быть может, преувеличение, но это далеко не самое
удивительное, что совершил святой Иоанн, о чем свидетельствует последний стих его
Евангелия.
322
Письма с Горы
Наконец, сколь бы удивительным ни казалось мне подобное
зрелище, я ни за что на свете не хотел бы быть тому свидетелем; ибо
как я могу знать, что из этого последует? Вместо того чтобы
проявить доверчивость, я бы сильно испугался, и страх превратил бы
меня в безумца. Но речь идет не обо мне; вернемся к теме.
Мы только что открыли тайну воскрешения утопших; мы уже
пытались узнать секрет оживления повешенных; кто знает, при
других обстоятельствах смерти не сумеем ли мы возвращать жизнь
телам, которые уже сочли безжизненными? Раньше не умели удалять
катаракту; теперь для наших хирургов это — детская игра. Кто
знает, не откроют ли когда-нибудь секрет, как одним махом снимать
катаракту? Кто знает, не сможет ли обладатель подобного секрета
с легкостью сделать так, что несведущий зритель сочтет это чудом
и что его искушенный писатель станет выдавать за таковое? * Все
это неправдоподобно, да; однако у нас нет доказательств тому, что
это невозможно, а здесь идет речь о физической невозможности.
А если ее нет, то, обнаруживая перед нами свою мощь, Господь смог
бы явить нам только правдоподобные знамения или просто вещи
вероятные; и из этого следовало бы, что, поскольку влияние чудес
основано лишь на невежестве тех, ради кого они совершались, то
признанное чудом в одном веке или у одного народа не признали бы
таковым у другого народа; так что, поскольку у нас нет
общепризнанного доказательства, то убеждения, основанные на нем, легко
опровергнуть. Нет, покажите мне чудеса, остающиеся чудесами не-
* В подробностях рассказов о деяниях иногда заметна связность, которая совсем
не похожа на сверхъестественное исцеление. Иисусу приводят слепого. Вместо
того чтобы исцелить его сразу, он его ведет в селение; там он мажет ему глаза
слюной, возлагает на него руки, после чего спрашивает, видит ли тот что-нибудь.
Слепой отвечает, что видит идущих людей, которые, как ему кажется, напоминают
деревья; Иисус посему посчитал, что первого лечения недостаточно, и продолжил
его; наконец, человек выздоровел.
В другой раз, вместо того чтобы использовать чистую слюну, он ее смешивает
с землей.
Тут я спрашиваю: зачем все это для совершения чуда? Станет ли природа
возражать своему господину? Нужно ли ему прилагать усилия, проявлять упорство,
чтобы она ему покорилась? Нужны ли ему слюна, земля, иные вещи? Нуждается
ли он в словах, разве ему недостаточно просто захотеть? Или мы осмелимся
сказать, что Иисус, будучи уверен в себе, все же пользуется проделками, достойными
шарлатана, как будто хотел набить себе цену и позабавить зрителей? Согласно
взглядам ваших господ, он делает либо первое, либо второе. Выбирайте.
323
*\
Жан-Жак Руссо
смотря ни на что, во все времена и повсюду. Если многие из тех
чудес, о которых говорится в Библии, кажутся таковыми в одном
случае, то в другом отнюдь таковыми не кажутся. Ответь мне,
богослов. Ты требуешь, чтобы я охватил все сразу, или ты позволяешь
мне сделать выбор? Когда ты ответишь на этот вопрос, поговорим.
Заметьте, сударь, что, всего-навсего предполагая некое
преувеличение в характеристике обстоятельств, я ни в коем случае не
ставлю под сомнение то, что лежит в основе этих деяний. Я уже это
говорил и считаю нелишним повторить. Иисус, исполненный духа
Божия, обладал познаниями до такой степени превосходными
в сравнении с признаниями учеников, что неудивительно, раз он
творил множество сверхъестественных вещей, в которых
невежество очевидцев заставляло заметить чудо там, где его в
действительности не было. Обладая этими познаниями, разве нельзя допустить,
что он действовал естественным образом, коль скоро и они, и мы
оставались в неведении? * Вот чего мы вообще не знаем и не
сможем узнать. Очевидцы чудесных вещей, естественно, склонны их
описывать с преувеличениями. Кроме того, можно совершенно
искренне вводить в заблуждение себя самого, тем самым вводя в
заблуждение остальных: стоит только хоть одному заявлению
оказаться выше наших познаний, как мы сочтем его недоступным для
разума, и ум усматривает, в конце концов, чудо там, где сердце
заставляет нас страстно желать его увидеть.
Чудеса, как я уже говорил, являются доказательствами в глазах
простаков, которым законы природы оставляют слишком узкое
поле зрения. Но оно расширяется, по мере того как люди познают мир
и понимают, сколько им еще остается узнать. Взор великого физика
простирается так далеко, что за пределами этого поля он вряд ли
заметит какое-то чудо. «Этого не может быть», — вот слова,
которые редко исходят из уст мудрых; они чаще говорят: «Я не знаю».
Что мы должны думать о стольких чудесах, рассказанных
иными авторами, совершенно искренними (в этом я не сомневаюсь), но
* Наши Божьи люди изо всех сил желают, чтобы я превратил Иисуса в
самозванца. Они, горячась, хотят возразить на это недостойное обвинение, чтобы люди
подумали, будто я его возвел на Него; они предполагают это с уверенным видом,
настаивают, к этому охотно возвращаются. Ах! Если бы эти добрые христиане
могли исторгнуть из меня, в конце концов, хоть какое-нибудь богохульство, —
какой успех, какое удовлетворение, какой поучительный пример для их милосердных
душ! С какой вящей радостью они подбросили бы зажженные угли в огонь
собственного усердия, чтобы развести подо мной костер!
324
Письма с Горы
^>
столь вопиющим образом невежественными и притом
исполненными рвения во славу их Господа? Следует ли отбросить эти
свидетельства? Нет. Следует ли их признать свидетельствами? Я не знаю *.
Мы должны их уважать, но не высказывая мнения об их природе,
даже если нас стократ бросят в тюрьму. Ибо, в конце концов, власть
законов не может распространяться до таких пределов, что
принудит нас размышлять неверно; и, однако, это именно то, что следует
сделать, дабы обязательно обнаружить чудо, взирая на которое,
разум может узреть лишь достойное удивления деяние.
Даже если бы католики нашли надежный способ установить это
различие между чудом и удивительным деянием, то какое значение
это имеет для нас? Согласно их взглядам, если, едва получив
признание, Церковь решит, что такое-то деяние есть чудо, то оно
действительно чудо; ибо Церковь не может ошибаться. Но сейчас-то
речь идет не о католиках, а о протестантах. Они успешно
опровергли некоторые части «Исповедания веры викария», которое, будучи
направленным исключительно против Римской церкви, не могло,
да и не должно было содержать никаких доказательств против их
веры. Католики также с легкостью смогут опровергнуть эти
«Письма» постольку, поскольку я в них задеваю католиков, а их
убеждения не совпадают с нашими. Когда же речь заходит о том, чтобы
* Есть такие чудеса в Евангелии, которые невозможно понимать буквально» не
греша против здравого смысла. Таковы сведения о двух одержимых. Мы узнаём
дьявола по делам его, и истинные одержимые суть злые люди: разум не признает
иного. Но не об этом речь: важнее другое. Иисус спрашивает у толпы демонов, как
их зовут. Как! Демоны обладают именем? Ангелы обладают именем? Пречистый
Дух обладает именем? Наверное, чтобы называть друг друга в общении между
собой или для того, чтобы услышать, когда Господь их призовет? Но кто дал им эти
имена? На каком языке произносятся эти слова? Что за уста, произнесшие эти
имена, уши, их услышавшие? Это имя - легион; ибо их множество, это то, чего Иисус,
очевидно, не знал. Эти ангелы, возвышенные духи как во зле, так и в добре, эти
небесные создания, которые посмели взбунтоваться против Господа, бороться
с его извечными заповедями, живут скопищем в теле человека. Вынужденные
покинуть этого несчастного, они желают переселиться в стадо свиней, и это им было
дозволено, и эти свиньи бросаются в море. И здесь заключены доказательства
божественного призвания Искупителя человеческого рода, доказательства, которые
должны свидетельствовать о Нем перед всеми народами и во все времена, и ни
один из них не сможет усомниться под страхом проклятья! Боже праведный!
Голова идет кругом; мы пребываем в растерянности. И это, господа, основания
вашей веры? Моя вера, как мне кажется, покоится на гораздо более надежных
основаниях.
325
*\.
Жан-Жак Руссо
показать, будто я не доказал того, что не хотел доказывать, вот тут-
то мои противники и торжествуют.
Из всего только что сказанного я заключаю, что самые надежно
подтвержденные деяния, даже когда мы их признаем таковыми,
как и все сопутствующие обстоятельства, не доказали бы ничего,
и что при этом можно даже заподозрить преувеличения при
изложении обстоятельств, не подвергая сомнению чистосердечие тех, кто
о них рассказал. Постоянные открытия законов природы; законы,
которые, вероятно, еще будут открыты; те, что еще предстоит
открыть; прошлые достижения человеческой мысли, а также
настоящие и будущие; различные пределы восприятия возможного
свойственны народам в зависимости от того, являются ли они более или
менее просвещенными, — все это доказывает нам, что мы не в
состоянии уяснить себе эти пределы. Однако необходимо, чтобы
чудо, коль скоро оно действительно таково, оказалось выше их
понимания. Чудеса либо существуют, либо не существуют; мудрый не
может быть уверен в том, что некое деяние является чудом.
Независимо от доказательств в пользу подобной
невозможности, на наличие которой я только что указал, я усматриваю еще одно
доказательство, не менее весомое, в следующем предположении:
допустим, что бывают чудеса; но к чему они нам, если бывают
ложные чудеса, а их нельзя распознать? И заметьте, что я называю
ложным не чудо, которое не существует в действительности, но деяние
действительно сверхъестественное, поддерживающее ложное
вероучение. Поскольку слово «чудо» при этом может прозвучать
оскорбительно в ушах людей набожных, давайте использовать другое
слово: назовем это «прелестью»; но вспомним, что человеческое
разумение не в состоянии отличить прелесть от чуда.
Тот же авторитет, что засвидетельствует чудеса,
засвидетельствует также и прелести; и этот авторитет доказывает, что зримая
прелесть ничем не отличается от мнимых чудес. Как же отличить
одно от другого? И что может доказать чудо, если тот, кто его видит,
не в состоянии отличить без помощи достоверного и присущего
самой вещи признака, является ли это творением Господа или же
творением дьявола? Необходимо второе чудо, чтобы подтвердить
первое.
Когда Аарон бросил свой жезл перед фараоном, и жезл
превратился в змею, волхвы также бросили свои жезлы, и они
превратились в змей. Либо превращение было действительно совершено и те-
326
Письма с Горы
ми, и другим, как сказано в Писании, либо существовало только
настоящее чудо Аарона и всего лишь прелесть — у волхвов, как это
утверждают некоторые богословы; но не это важно; видимость
была точно такой же; в книге Исхода не содержится указаний на
какое-либо отличие; а если бы оно было, то волхвы не стали бы
проводить такого сравнения, а если бы они это сравнение провели, их
бы уличили во лжи.
Однако люди могут судить о чудесах только по собственным
ощущениям; и если восприятие одинаково, то настоящее отличие,
которое они не в состоянии заметить, для них ничего не значит.
Таким образом, знамение как таковое не является большим
доказательством в пользу одного, чем в пользу другого, и пророк при этом
обладает не большими преимуществами, чем маг. Если вы опять
скажете, что я здесь пишу красиво, то, согласитесь, нужно написать
красивее, чтобы меня опровергнуть.
Правда, что змея Аарона пожрала змей магов; но вынужденный
поверить в магию фараон был не вправе сделать иной вывод, кроме
того, что Аарон оказался более умелым в этом искусстве, чем
волхвы; именно так Симон, придя в восхищение от вещей, которые
совершал Филипп, пожелал купить у апостолов секрет, как можно
совершить то же, что и они.
Впрочем, унижение волхвов произошло благодаря Аарону; но,
не будь там Аарона, они, совершая те же самые знамения, привели
бы доказательства наличия у них божественного могущества;
знамение же само по себе ничего не доказывает.
Когда Моисей превратил воду в кровь, волхвы тоже превратили
воду в кровь; когда Моисей сотворил лягушек, волхвы тоже
сотворили лягушек. Они потерпели неудачу во время десяти казней
египетских, но остановимся на первых двух случаях, когда сам Господь
явил доказательства Божественной власти *. Волхвы ведь также их
явили.
Что касается третьего испытания (исцеление язвы они
оказались не в состоянии повторить), то непонятно, в чем заключалась
его сложность. И вот мы видим в этом «перст Божий». Почему те,
кто смог сотворить животное, не могли сотворить насекомое? И
почему, сотворив лягушек, они не смогли бы сотворить вшей? Если
* Ис7:17.
327
«\
Жан-Жак Руссо
верно, что в этих вещах лиха беда начало, то, несомненно, они
остановились на полдороге.
Моисей, наученный этими двумя опытами, говорит, что если
лжепророк объявит о существовании других богов, то есть создаст
ложное вероучение, и если этот лжепророк подтвердит свои слова
предсказаниями или чудесами, которые он в состоянии совершить,
то его следует не слушать, а предать смерти. Таким образом, можно
использовать подлинные знамения для подтверждения ложного
вероучения; поэтому знамение само по себе ничего не доказывает.
Допустим, вероучение о знамениях, внушающих прелесть,
тысячу раз заявляет о себе в Писании. Далее, после того как Иисус
заявил, что не будет больше знамений, он предсказывает лжехристов,
которые эти знамения будут совершать; он говорит, «что они
совершат великие знамения и чудеса, чтобы прельстить даже
избранных» *. Разве, по этому слову, мы не питаем склонность принимать
знамения за ложные доказательства?
Как! Господь, будучи вправе выбирать доказательства, когда он
желает обратиться к людям, выбирает преимущественно те из них,
что предполагают знания, а ими, как ему известно, те не обладают!
Чтобы их просветить, он выбирает путь, который, как ему известно,
выберет и дьявол, чтобы их обмануть! Разве это путь, избранный
Богом? Не получится ли так, что Господь и дьявол следуют одной
и той же дорогой? Вот чего я не в силах понять.
Наши богословы мыслят лучше, но они не столь искренни, как
те, что жили в прежние времена, и сильно запутались в этой магии:
они желали бы окончательно отделаться нее, но не смеют; они
чувствуют, что отрицать ее означало бы отрицать слишком многое.
Эти всегда столь решительные люди здесь меняют свою речь; они
не отрицают существования магии, но и не признают ее; они
решили прибегнуть к уверткам, идти окольными путями; при этом на
каждом шагу они останавливаются; они не знают, с какой ноги
вступить в танец.
Я думаю, сударь, что дал вам понять, в чем заключена трудность.
Вот я выражаю ее в виде дилеммы, чтобы ясность стала полной.
Если мы отрицаем прелесть, то мы не в состоянии доказать
существование чудес, потому что и те и другие основаны на одном
и том же авторитете.
* Мф 24; Мк 12: 22.
328
с Горы
И если мы допускаем наличие прелести и чудес, то не обладаем
никаким надежным, точным и ясным правилом, руководствуясь
которым, можно отличить одно от другого; таким образом, чудеса
ничего не доказывают.
Я знаю, что наши люди при этом поспешно обращаются к
вероучению; но они просто-напросто забывают, что если вероучение
уже утвердилось, то чудеса излишни, а если нет, то оно не в
состоянии ничего доказать.
Не попадите в ловушку, я вас умоляю; при этом не стоит
заключать, что я отрицаю чудеса потому, что не рассматривал их в
качестве существенной стороны христианства. Нет, сударь, я их не
отвергал и не отвергаю: и если я и высказал доводы, заставляющие
в них усомниться, то я ни в коей мере не скрывал доводы в пользу
того, чтобы в них верить. Существует большая разница между
отрицанием вещи и тем, что ее не утверждают, между ее
непризнанием и ее неприятием; и я так мало высказывал свое мнение по
этому вопросу, что не боюсь, если в моих сочинениях обнаружат хоть
одно место, где я утверждал бы, что чудес не бывает.
Да и как я мог бы подобное утверждать, вопреки собственным
сомнениям, поскольку, насколько мне известно, везде, где я
выступаю от собственного лица, я ничего подобного не утверждаю?
Посмотрите, что утверждает человек, заявляющий уже в предисловии:
В отношении того, что назовут общими взглядами, которые
здесь являются не чем иным, как развитием природы человека,
именно они больше всего собьют с толку читателей; и
несомненно, именно из-за них на меня будут нападать, и, может быть,
окажутся правы. Людям покажется, что они читают не трактат о
воспитании, а знакомятся с грезами духовидца. Что тут поделаешь?
Я излагаю собственные мысли, а не чужие. Мои взгляды
отличаются от взглядов других людей; меня давно за это упрекают. Но
разве от меня зависит захотеть смотреть на вещи чужими
глазами и увлечься чужими мыслями? Нет, от меня зависит не
придерживаться иного мнения, кроме моего, и вовсе не считать себя
более мудрым, чем остальные; от меня ли зависит не менять мое
мнение и не бояться его высказывать: вот и все, что я могу
сделать и что я делаю. Если я иногда и говорю уверенным тоном, то
не для того, чтобы что-то навязать читателю, но чтобы говорить
с ним на языке моих мыслей; зачем же мне излагать в виде
сомнения то, в чем я нисколько не сомневаюсь? Я точно передаю
происходящее в моем уме.
329
*\.
Жан-Жак Руссо
Свободно излагая свое мнение, я нимало не стремлюсь к тому,
чтобы оно пользовалось влиянием, а всегда прибавляю свои
соображения, чтобы люди взвешивали их и судили обо мне. Однако,
хотя я совсем и не желаю упорно защищать мои мысли, я не
считаю себя в меньшей мере обязанным их обосновывать; ибо
правила, относительно которых мое мнение противоречит мнению
остальных людей, не являются чем-то маловажным: это те
правила, истинность или ложность которых важно установить: ведь
на них покоится счастье или несчастье человеческого рода26.
Автор, который сам не ведает, заблуждается ли он, и опасается,
как бы все, что он высказал, не оказалось нагромождением грез,
будучи в силах изменить свои суждения, в них не сомневается и
говорит уверенным тоном вовсе не для того, чтобы его выказать,
а говорить то, что он думает; автор, вовсе не желая навязать свое
влияние, всегда высказывает свои соображения с тем, чтобы о них
судили; автор, который даже не хочет упорствовать в защите своих
мыслей и заявляет об этом в начале своей книги, желает ли он
пророчествовать подобно оракулу? Желает ли он предложить решение
вопросов? И в силу этого предварительного заявления, разве он не
относит к разряду сомнений свои наиболее весомые утверждения?
И пусть не говорят, будто я не исполняю своих обещаний,
упорно защищая свои мысли. Это было бы верхом несправедливости.
И если бы нападки совершали только на мои книги, я бы
неизменно хранил молчание; я так решил. Со времени моего заявления,
сделанного мной в 1753 году, кто-нибудь видел, как я кому-то
возражаю? Или я молчал потому, что никто на меня не нападал? Но
когда меня преследуют, когда против меня выносят приговоры,
когда меня бесчестят за то, что я якобы сказал, и за то, чего я не
говорил, то, чтобы защитить себя, необходимо доказать, что я ничего
подобного не утверждал. Мои враги вложили в мои руки перо
вопреки моему желанию. Пусть же они оставят меня в покое, и тогда
я оставлю в покое публику; даю честное слово.
Все это уже служит ответом на довод, направленный против
меня, который я предвосхитил. Он заключается в том, что мне самому
хочется сделаться протестантом, совершенно не считаясь с
мнениями, которые разделяют сегодня; ибо нет ничего более похожего на
хвастовство, чем такие заявления, и вести речь с подобной
осмотрительностью вовсе не означает вещать тоном пророка. Я посчитал
своим долгом высказать свое суждение относительно важных и по-
330
Письма с Горы
.^-*
лезных вещей; но сказал ли я хоть слово, сделал ли хоть один шаг
ради того, чтобы заставить согласиться с ними кого-либо? Заметил
ли хоть кто-нибудь в моем поведении попытку завоевать внимание
зрителей?
Переписывая необычное сочинение27, издание которого
внезапно явило столько ревнителей веры, я предупреждал читателя, что
ему не следует доверять моим суждениям и именно ему надлежит
решить, сможет ли он почерпнуть в нем некоторые полезные
мысли, что я не предлагаю ему ни суждение постороннего человека, ни
мое собственное в качестве правила, которое я передаю ему на
рассмотрение*.
И когда я снова беру слово, вот что я добавляю в конце:
Я переписал это сочинение, не считая его правилом в
суждениях по вопросам веры, которому должно следовать, но в качестве
примера того, как можно размышлять о ней со своим учеником,
не отходя от того способа воспитания, что я попытался
обосновать. Пока мы не признаем ни авторитета людей, ни власти
предрассудков в странах, где мы родились, один лишь просвещенный
разум в согласии с природой может привести нас только к
естественной религии, и именно ею я ограничиваюсь в воспитании
Эмиля. И если он захочет принять другую религию, то в этом
вопросе я больше не имею права быть его наставником; выбор за
ним**.
И после всего этого как же бесстыдно поступит тот, кто
осмелится обвинить меня в отрицании чудес, раз их существование вовсе не
отрицается в этом сочинении? Я об этом не говорил нигде
больше***.
Как! Только потому, что автор сочинения, опубликованного
другим человеком, включает в него спорщика, с которым он не
согласен и который в одном споре отрицает чудеса, из этого следует, что
не только сам автор этого сочинения, но также и издатель отрицают
чудеса? Какая бессмыслица! Позволять себе подобные предположе-
• Эмиль. Кн. IV.
** Эмиль. Кн. IV.
*** С тех пор я говорил об этом в моем «Письме к господину де Бомону»; но,
помимо того что это «Письмо» вообще не упоминалось, отнюдь не на его
содержании должны быть основаны судебные разбирательства, начатые до того, как оно
вышло в свет.
331
<-\.
Жан-Жак Руссо
ния в разгар литературного спора есть вещь, достойная порицания
и слишком распространенная; но принимать эти предположения за
доказательства в суде, — вот пример юриспруденции, способной
повергнуть в трепет самого твердого человека, который имеет
несчастье жить в стране, где управляют подобные магистраты.
Автор «Исповедания веры» приводит возражения относительно
как пользы, так и истинности чудес, но эти возражения не
являются их отрицанием. Вот самое серьезное из того, что он сказал по
этому поводу: «Вот неизменный порядок природы, лучше всего
указывающий на присутствие Высшего Существа. Если бы
появилось множество исключений в нем, то я не знал бы, что и думать на
этот счет; а сам я настолько верую в Бога, что не могу уверовать
в существование стольких чудес, отнюдь не достойных Его» *.
Но, скажите, что означают эти слова? Что слишком большое
количество чудес вызывает подозрения у автора; он не признает
всевозможные чудеса без разбора, и его вера в Бога побуждает его
отвергнуть все те чудеса, которые недостойны Бога. Вот оно что! Тот,
кто не признает все чудеса, отвергает их разом? А следует ли питать
доверие ко всем чудесам, о которых узнали из предания, чтобы
уверовать в вознесение Христа?
В довершение всего, далеко не все сомнения, содержащиеся
во второй части «Исповедания веры», можно считать отрицанием
чудес; напротив, это отрицание следует рассматривать лишь как
сомнение. Вот самое начало заявления автора о суждениях, с
которыми он намерен бороться: «Судите о моих речах, опираясь на
авторитет разума. Я не знаю, заблуждаюсь ли я. В споре порой трудно
не заговорить тоном убеждения; но помните, что здесь все мои
утверждения являются лишь основанием для сомнений». Можно
ли высказаться более определенно?
Что касается меня, то'я принимаю во внимание деяния,
засвидетельствованные Священным Писанием: этого достаточно, чтобы
в этом отношении я определился в своих суждениях. Если бы я
обнаружил свидетельства о них в другой книге, то я бы их отверг или же
не стал бы им называть их чудесами; но поскольку они упомянуты
в Писании, я их никоим образом не отвергаю. Но я также не
допускаю их существования, поскольку мой разум этому противится,
и пусть мое решение по этому вопросу не затрагивает моего спасе-
* Эмиль. Кн. IV.
332
Письма с Горы
ния. Ни один здравомыслящий христианин не может поверить, что
все в Библии, вплоть до слов и заблуждений, внушено свыше. То,
что мы должны считать внушенным свыше, так это то, что
относится к нашим обязанностям; ибо тогда зачем Господь внушил нам все
остальное? Но вероучение о чудесах здесь совершенно ни при чем;
я это только что доказал. Таким образом, суждение, которое
позволительно из всего этого вывести, никак не связано с уважением,
которое должно питать к священным книгам.
Впрочем, люди не в состоянии убедиться в том, что какое бы то
ни было деяние есть чудо *; и это я здесь доказал. Итак, принимая
на веру все деяния, удостоверенные в Библии, позволительно без
какого-либо святотатства и без обвинения в непоследовательности
отвергать чудеса. Но я не зашел так далеко.
Вот каким образом ваши господа из чудес, не являющихся
достоверными, необходимыми, ничего не доказывающих и которые
я не отвергаю, выводят очевидное доказательство того, что я
расшатываю основы христианства и что я больше не христианин.
Скука помешала бы вам следовать нити моих рассуждений,
если бы я вдавался в подробности относительно других обвинений,
которые они нагромождают, чтобы их числом превозмочь
несправедливость каждого из них в отдельности. Они меня обвиняют,
в частности, в том, что я отвергаю молитву. Посмотрите книгу, и вы
встретите молитву именно в том месте, о котором идет речь. Правда,
говорящий — набожный человек ** и не верит, что безусловно
необходимо испрашивать у Господа ту или иную вещь***, но он не
* Если эти господа уверяют, будто это определенно сказано в Писании, и я должен
признать чудом то, что выдают за таковое, то я отвечаю, что этот вопрос следует
обсудить, и добавляю, что в этом рассуждении они попадают в порочный круг:
поскольку они хотят, чтобы чудо служило доказательством Откровения, то им не
следует использовать авторитет Откровения, чтобы подтвердить существование чудес.
** Один женевский церковнослужитель28, попавший в затруднительное
положение, когда попытался судить о моем христианстве, утверждает, что я, Ж.-Ж. Руссо,
сказал, что я не молился Господу: он это утверждает многословно, пять или шесть
раз подряд, и все время называет мое имя. Я желал бы питать уважение к церкви;
однако я бы осмелился спросить, когда же я это говорил? Конечно, любому
бумагомарателю позволительно нести вздор и болтать сколько вздумается; однако
доброму христианину непозволительно на людях выставлять себя клеветником.
*** «Когда вы молитесь, говорит Иисус, то молитесь так». Когда молятся
словами, то правильно предпочесть эти слова; но я здесь не вижу заповеди молиться
333
*\
Жан-Жак Руссо
осуждает, когда так поступают остальные. «Что касается меня, —
говорит он, — то я этого не делаю, убежденный, что Господь
является добрым отцом, который лучше знает своих чад и то, что им
надлежит делать. Но возможно ли служить ему более достойным
образом? Почитание сердца, исполненного усердия, поклонения,
восторга; созерцание его величия, признание нашего ничтожества,
покорность его воле, покорность его законам, чистая и святая
жизнь, — все это разве не дороже корыстолюбивых обетов?»
Лучший способ испросить у справедливого Бога — это быть достойным
получить просимое. Разве ангелы вокруг трона Его молятся? Что
Они должны были бы у Него попросить? Это слово «молитва» часто
упоминается в Писании в смысле почитания, поклонения; кто
воздает большее, довольствуется малым. Что до меня, то я не осуждаю
какой-либо способ поклонения Господу, я всегда одобрял мысль,
что тот, кто Ему молится, должен вступить в лоно Церкви: я так
поступаю; савойский священник сам так поступал. Сочинение, столь
жестоко подвергнутое нападкам, вдохновлено этой мыслью.
Неважно: я, утверждают они, отвергаю молитву; я заслуживаю костра.
И вот меня осудили.
Они к тому же утверждают, будто я обвиняю христианскую
мораль в том, что она превратила все наши обязанности в
неосуществимые, ибо требует чрезмерного. Христианская мораль есть
мораль Евангелия; я никоим образом не допускаю иной морали в том
же смысле, как ее понимает мой гонитель, потому что именно из
своих обвинений, в которые он помещает эту мораль, он делает
вывод (несколькими строками ниже), что я называю Евангелие
божественным * в насмешку.
Однако взгляните, можно ли возвести более черную ложь и
более явно проявить недобросовестность, поскольку, судя по отрывку
словами. Иная молитва предпочтительней: быть готовым смириться перед волей
Господа. «Вот я. Господи, чтобы исполнить волю Твою». Изо всех молитв «Отче
наш», несомненно, самая совершенная, но еще совершеннее полное смирение
перед волей Господа. «Не то, чего я желаю, Господи, но Ты». Да что я говорю? Это
же молитва доминиканцев. Она вся заключается в этих словах: «Да будет воля
твоя». Любая иная молитва является излишней и противоречит ей. Допустим, тот,
кто думает так, ошибается, это вполне возможно. Но тот, кто прилюдно обвиняет
этого человека в том, что именно этим он разрушает христианскую мораль, и в том,
что он - не христианин, сам является ли добрым христианином?
* «Письма из деревни».
334
Письма с Горы
из моей книги, из которого почерпнуто это суждение, даже нельзя
сказать, что я имел в виду Евангелие.
Вот, сударь, этот отрывок; он находится четвертом томе
«Эмиля», страница 64: «Подчиняя порядочных женщин печальным и
рабским обязанностям, люди изгнали из брака все то, что могло сделать
его приятным для мужчин. Стоит ли удивляться тому, что
молчание, царящее в браке, отвращает людей от него, или тому, что они
не спешат принять столь неприятные узы? Чрезмерно подчиняя
всех обязанностям, христианство превращает их в неосуществимые
и бесполезные, запрещая женщинам пение, танцы, иметь мирские
радости; оно их делает угрюмыми, ворчливыми, невыносимыми
в домах, где они живут».
Однако в каком месте Евангелие запрещает женщинам петь
и танцевать? В каких строках оно заставляет их исполнять
печальные обязанности? Напротив, там говорится об обязанностях
мужей, но ни слова не сказано об обязанностях жен. Таким образом,
вынудить меня говорить о Евангелии то, что я говорил только о ян-
сенистах, методистах и прочих нынешних праведниках, которые
превращают христианство в столь ужасную и неприятную
религию *, — ошибка, в то время как оно, напротив, приятно и сладостно,
если соблюдать истинные заповеди Иисуса Христа.
Я не желал бы усвоить себе тон отца Берюйе, которого я не
люблю и даже нахожу крайне бестактным; но я не могу удержаться от
того, чтобы не сказать, что одна из вещей, которые меня
очаровывают в характере Иисуса, есть не только кротость нрава и простота,
но и легкость, грация и даже элегантность. Он не избегал ни
удовольствий, ни праздников, он смотрел на женщин, он играл с
детьми, ходил на свадьбы, ему нравились благовония, он вкушал пищу
у мытарей. Его ученики отнюдь не голодали; его суровость не была
невыносимой. Он был снисходителен и справедлив, мягок со сла-
* Первые протестанты поначалу впадали в эту крайность и были крайне жестоки
и, как следствие, лицемерны; и первые янсенисты не преминули последовать их
примеру. Один женевский проповедник по имени Анри де Map вещал с кафедры,
что идти на свадьбу в более радостном настроении, чем то, в котором Иисус шел
на смерть, — грех. Один янсенистский кюре утверждал, будто свадебные
празднества являются изобретением дьявола. Некто возразил ему, что Иисус Христос на
них присутствовал и даже снизошел до совершения там своего первого чуда,
чтобы радость при виде праздника запомнилась надолго. Тот кюре проворчал в ответ
немного смущенно: «Это не лучшее, что он сделал».
335
«^s.
Жан-Жак Руссо
быми и грозен с негодяями. Его мораль была в чем-то
притягательна, ласкова, нежна; у него было чуткое сердце, и он ценил хорошее
общество. И если бы он не был самым мудрым из смертных, то
оказался бы самым любезным.
Некоторые фанатики искажали и бесчестили христианство,
превратно истолковав и плохо усвоив смысл отдельных отрывков из
святого Павла. Если бы люди придерживались смысла сказанного
учителем, то этого бы не произошло. И пусть меня обвиняют в том,
что я не всегда согласен со святым Павлом; меня, конечно, можно
заставить привести доказательства того, что я иногда был прав, не
соглашаясь с ним; но из этого нельзя сделать вывод, что я считаю
Евангелие божественным только смеха ради. Однако именно таким
образом рассуждают мои гонители.
Но простите меня, сударь, я уже вам надоел, и я это чувствую,
с этими подробностями: я их слишком много привел в свою защиту
и уже сам начинаю изнывать от того, что вынужден отвечать с
помощью разумных доводов на обвинения, в которых нет ни тени
разума.
Письмо IV
Сударь, вы убедились: обвинения в том, что мои книги являются
доказательством нападок на религию, ложны: именно на
основании этих обвинений я был признан виновным и со мной обошлись
как с преступником. Теперь предположим, что я и в самом деле
виновен, и посмотрим наказание, которое мне полагалось за мое
преступление.
У порока и добродетели есть своя мера29.
Раз человек невиновен в одном преступлении, вовсе не
обязательно, что он повинен во всех остальных. Правосудие в том и
заключается, чтобы точно отмерить наказание за вину; крайняя
справедливость сама по себе является несправедливостью, когда она
никоим образом не принимает в расчет разумные соображения,
которые должны смягчить строгость закона.
Предположим, правонарушение действительно имело место; нам
остается выяснить, какова его природа и какие наказания
предписываются в подобных случаях вашим законом.
336
Письма с Горы
^-»
Если я нарушил свою клятву жителя города, как меня в том
обвиняют, то я совершил государственное преступление, и дело
находится в непосредственном ведении Совета, это бесспорно.
Но если все мое преступление состоит в заблуждениях по поводу
вероучения, то эти заблуждения — совсем иной вопрос, будь они
даже святотатством. Согласно вашим эдиктам, дело подлежит
рассмотрению в другом суде, который рассмотрит дело в первой
инстанции.
И даже если мое преступление является преступлением против
государства, то, прежде чем объявить его таковым, требуется
предварительно суждение о моем вероучении, и Совет не вправе его
выносить. Его дело наказать за преступление, а не указывать на него.
Как мы убедимся в дальнейшем, ваши эдикты строго
придерживаются этого правила.
Сначала речь идет о том, чтобы установить, не нарушил ли я свою
клятву жителя города, а именно клятву, принесенную моими
предками; ибо, поскольку я не жил в городе и не исполнял никаких
обязанностей гражданина, то я вовсе не приносил этой клятвы. Но
оставим это.
В тексте клятвы есть только две статьи, которые могли бы иметь
отношение к преступлению, якобы мною совершенному. Согласно
первой статье, дается обет «жить по законам реформации святого
Евангелия»; согласно последней статье, «не поступать и не
допускать никаких поступков, не строить никаких козней или ничего не
предпринимать против реформации святого Евангелия».
Я не только не нарушал эту первую статью, но с точностью и
даже отвагой, коей найдется немного примеров, ее соблюдал, с
достоинством исповедуя мою религию среди католиков, хотя я некогда
был в их вере; таким образом, нельзя считать это отступничество
времен моего детства посягательством на клятву, особенно после
моего безоговорочного присоединения к вашей Церкви в 1754 году
и восстановления меня в правах жителя города, о чем всем
известно в Женеве, и тому, впрочем, есть доказательства бесспорные.
Нельзя также сказать, что я нарушил первую статью своими
книгами, которые были осуждены, поскольку я по-прежнему
заявлял в них о себе как о протестанте. Впрочем, одно дело —
поведение, другое — сочинения. Жить по законам Реформации означает
исповедовать протестантизм, хотя можно считать себя вправе от-
337
*"\.
Жан-Жак Руссо
ступать от нее в силу заблуждения в сочинениях, достойных
порицания, или допускать иные прегрешения, которые оскорбляют
Господа, но не наказуемые отлучением провинившегося от Церкви. Если
бы представилась возможность поспорить относительно этого
различия в общем, то оно заключено в самом тексте клятвы, поскольку
там разнесено на две статьи то, что могло бы быть выражено в
одной, коль скоро исповедание религии является несовместимым
с любым проступком против религии. Там в первой статье клянутся
жить согласно законам протестантизма, а в последней статье
клянутся ничего не предпринимать против него. Эти две статьи
отличаются друг от друга и даже разделены многими прочими статьями.
По мысли законодателя, эти две вещи являются весьма различными
и даже несовместимыми друг с другом: таким образом, если бы
я нарушил эту последнюю статью, то из этого не следует, что я тем
самым нарушил первую статью.
Но нарушил ли я эту последнюю статью?
Вот каким образом автор «Писем из деревни» утверждает это на
странице 30:
Клятва горожан вменяет им обязанность не совершать, не
допускать никакой деятельности, не строить никаких козней или не
предпринимать чего-либо против святой евангелической
Реформации. Кажется, что это означает слегка * заниматься вредной
деятельностью и строить козни против Реформации, пытаясь
доказать в двух столь исполненных соблазна книгах, что
пречистое Евангелие как таковое бессмысленно и вредно для общества.
Таким образом, Совет был обязан обратить внимание на того,
в отношении кого возникли столь возмущающие сердце
предположения о том, что он повинен в этом намерении.
Посмотрите для начала, как приятно изъясняются эти господа!
Им кажется, что они завидели издалека «слегка» вредную
деятельность и козни. По причине этой едва заметной маленькой уловки
они обращают внимание на того, кого заподозрили как человека,
питающего подобные замыслы, и это внимание оборачивается для
последнего арестом.
* Поскольку это «слегка», столь забавное и столь отличающееся от серьезного
и снисходительного тона оставшейся части «Писем», было устранено во втором
издании, то я воздерживаюсь от того, чтобы выяснять, кто допустил это обидное
замечание30, кому принадлежит этот маленький кончик — нет, не уха, но ногтя.
338
Письма с Горы
Верно и то, что тот же автор доволен, доказывая далее, что они
выдали приказ о моем аресте по доброте душевной. «Совет, —
говорит он, — мог лично вызвать господина Руссо в суд, заслушать его,
мог принять решение о его аресте <...> Из этих трех решений
последнее было, несомненно, самым мягким <...> в сущности, это
предупреждение о том, чтобы он не возвращался на родину, если не
хотел оказаться под судебным расследованием, или же, если бы он
захотел рискнуть это сделать, то смог бы приготовиться к защите».
Так шутил, говорит Брантом31, палач несчастного дона Карлоса,
инфанта Испании. Когда принц кричал, желая выступить в свою
защиту, он говорил, пока душил его: «Тише, монсеньор, все, что
делается, делается только для вашего блага».
Но что это за вредная деятельность и козни, в которых меня
обвиняют? Осуществлять такую деятельность, если я правильно
понимаю, это значит умело скрывать тайные соображения; строить
козни означает вести тайные происки, делать то, что некоторые
люди предпринимают против христианства и против меня лично.
Однако я не могу понять, что является менее тайным и менее
скрытным, чем публикация книги и поставленное на ней имя. Когда
я высказывал свое мнение по какому бы то ни было вопросу, то
я делал это открыто и прилюдно; я называл свое имя и потом
спокойно оставался в своем пристанище; меня весьма трудно убедить,
что все это похоже на вредную деятельность и козни.
Чтобы хорошенько разобраться в духе клятвы и сути
заключенных в ней выражений, необходимо мысленно перенестись во
времена, когда ее текст составляли и когда речь шла в основном о том,
чтобы государство не попало под двойное ярмо, только что
сброшенное. Каждый день открывались какие-нибудь новые происки
Савойского дома или епископов, которые они вели под предлогом
спасения религии. Вот к чему, очевидно, относятся слова «вредная
деятельность» и «козни», которые с тех времен, как возник
французский язык, никогда не употреблялись для обозначения общих
рассуждений, опубликованных неким человеком в книге под своим
именем без умысла, без особых намерений и видов, не задевая при
этом ни одно правительство. Это обвинение кажется столь
несерьезным даже тому, кто осмелится это обвинение выдвинуть, что он
признает, что я оставался верным долгу гражданина (страница 8
«Писем из деревни»). Однако же как я могу им быть, если я
нарушил клятву горожанина?
339
«"Vs.
Жан-Жак Руссо
Таким образом, неправда, будто я нарушил эту клятву. Я добавлю,
что если бы это оказалось правдой, то в Женеве не случилось бы
ничего более неслыханного в подобном роде, чем расследование,
проведенное против меня. Вероятно, еще не существовало
горожанина, который никогда не нарушал этой клятвы хоть в одном ее
пункте*, но при этом никто не осмеливался затевать с ним ссору
из-за этого, а тем более никто не осмеливался отдавать приказ его
арестовать.
Тем более нельзя сказать, что я подвергаю нападкам мораль
в книге, где я в меру моих сил отдаю предпочтение благу общему
перед благом частных лиц и где устанавливаю связь между нашими
обязанностями перед человеком и нашими обязанностями перед
Богом; это единственное начало, которое можно положить в
основу морали, чтобы сделать ее действительной, а не показной. Нельзя
утверждать, что эта книга хоть в какой-то мере пытается нарушить
порядок в существующих богослужениях и порядок общественный,
ибо, напротив, я настаиваю на необходимости уважать
установленные обряды богослужения, на необходимости безусловного
повиновения законам также и в вопросах религии, ибо именно по поводу
этого предписанного законами повиновения один женевский
пастор меня резко отчитал.
Это столь ужасное преступление, по поводу которого подняли
столько шума, если считать его действительно совершенным,
сводится, следовательно, лишь к заблуждениям в вопросах веры, хоть
и не имеющим отношения к пользе общества, но являющихся, по
крайней мере, для него чем-то важным; самое большое зло от этого
преступления, — терпимость к инакомыслию в вопросах религии
и, следовательно, мир в государстве и по всей земле.
Но я спрашиваю, сударь, вас, которому прекрасно знакомы
ваши законы и ваше правление: кому принадлежит право судить,
особенно в первой инстанции, за заблуждения в вопросах веры,
которые может допустить частное лицо? Совету или консистории? Вот
главный вопрос.
Прежде всего следует установить какого рода это
правонарушение. Ныне, когда известен род преступления, следует сравнить
проведенное расследование с тем, что предписано в тексте закона.
* К примеру, не выезжать за пределы города, дабы селиться вовне без особого на
то разрешения. А кто испрашивал подобное разрешение?
340
с Горы
Ваши эдикты не устанавливают наказание в отношении того, кто
заблуждается в вопросах веры и кто напечатал сочинение,
содержащее это заблуждение. Но, в соответствии со статьей 88
Церковного Ордонанса, в разделе, посвященном консистории, говорится
о порядке расследования против лица, лжеучительствующего о
догматах. Эта статья изложена в следующих выражениях.
Если кто-нибудь лжеучительствует о догматах вопреки
общепринятому вероучению, пусть его вызовут для объяснений; если
он исправился, пусть его отпустят без огласки и не позоря; если
он упорствует в своих заблуждениях, пусть ему несколько раз
сделают увещевание и тем самым попытаются исправить. Если в
конце концов окажется, что с ним следует обойтись с большей
суровостью, пусть ему откажут в святом причастии и уведомят об этом
магистрата, дабы он принял меры.
Из этого видно:
1. Предварительное расследование в отношении этого рода
правонарушения является правом консистории.
2. Законодатель вовсе не считает, что подобное
правонарушение непростительно в случае, если тот, кто его совершил,
раскаивается и исправляется.
3. Эдикт указывает на путь, следуя которому можно заставить
виновного исполнить свой долг.
4. Этот путь исполнен уважения, сострадания, ласкового
обращения, ибо так подобает поступать христианам по примеру их
Учителя в том, что касается ошибок, которые совершенно не нарушают
покоя гражданского общества и касаются только религии.
5. В конце концов, последнее и самое суровое наказание
соответствует природе правонарушения, как это и должно быть, и
заключается в том, что виновному отказывают в святом причастии
и церковном общении, ибо он оскорбил Церковь и продолжает ее
оскорблять.
После этого консистория обличает его перед магистратом,
которому надлежит принять меры; ибо закон, не допуская в государстве
иной религии, указывает, что того, кто упорно желает исповедовать
иную и наставлять в ней, должно устранить из государства.
Применение всех пунктов этого закона можно видеть в том
расследовании, которое было проведено в отношении Жана Морелли
в 1563 году.
341
r\.
Жан-Жак Руссо
Жан Морелли, житель Женевы, напечатал книгу, где он
критиковал церковные порядки и которая была подвергнута цензуре
синодом Орлеана. Автор, подавший в суд на эту цензуру, был также
вызван в Женевскую консисторию по тому же самому поводу; он не
пожелал предстать перед ней и скрылся; затем, вернувшись в
Женеву с разрешения магистрата, дабы помириться со служителями
культа, он не подумал вести с ними речь о случившемся или
отправиться в консисторию, пока его опять не вызвали тудаи он,
наконец, не предстал перед ней; после долгих споров, после того как он
отказался дать какого-либо рода объяснения, его дело передали
в Совет, и он был вызван туда, но вместо того чтобы предстать
лично, он передал через свою жену письменные извинения и снова
скрылся из города.
Наконец, против него было начато новое судебное
расследование, то есть расследование против его книги, и поскольку приговор,
вынесенный в этом случае, весьма важен даже в отношении
употребленных в нем выражений и малоизвестен, я перепишу здесь его
целиком, ибо для нас его содержание небесполезно.
Мы, синдики-судьи по уголовным делам этого города,
заслушали доклад достопочтенной консистории церкви города о
расследовании, проведенном в отношении Жана Морелли, жителя
этого города, и из него следует: принимая во внимание то, что
ныне он второй раз покинул город и, вместо того чтобы предстать
перед нами и нашим Советом, когда его сюда направили, проявил
неповиновение: на этих основаниях и на иных основаниях,
относящихся к нашему ведомству, заседая в судебном присутствии,
учрежденном нашими предками, следуя нашим старинным
обычаям и после того как мы держали совет с нашими гражданами,
призывая в свидетели Господа и Священное Писание, взывая
к пресвятому имени'Его, дабы вынести правильное судебное
решение, произнося: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь»,
этим окончательным приговором, который мы даем письменно,
мы по зрелому размышлению решились провести дальнейшее
расследование, ибо названный Морелли в суд не явился: прежде
всего для того, чтобы те, у кого в руках находится его книга,
остерегались оказаться обманутыми ею. Будучи должным образом
уведомлены о содержащихся в ней заблуждениях и бреднях,
а в особенности о том, что содержание названной книги сеет
раскол, смуту и соблазн в церкви, мы осудили и осуждаем ее как
вредную и пагубную, дабы это послужило назиданием, и приказали
342
Письма с Горы
и приказываем, чтобы один ее экземпляр был немедленно
сожжен, и запрещаем книготорговцам ее хранить или выставлять
на продажу, а всем гражданам, горожанам и жителям этого
города, какую бы должность они ни занимали, ее покупать или брать
для прочтения. Мы повелеваем тем, кто ее имеет, принести ее нам,
а тем, кто знает, где хранятся ее экземпляры, в течение двадцати
четырех часов уведомить нас об этом под страхом сурового
наказания.
Мы повелеваем нашему лейтенанту привести в немедленное
и должное исполнение этот приговор.
Приговор вынесен и приведен в исполнение сентября в
шестнадцатый день тысяча пятьсот шестьдесят третьего года.
Подписано: Шенеля
По поводу этого документа, сударь, можно привести немало
соображений в нужное время и в нужном месте. Но сейчас не будем
отклоняться от нашего предмета. Вот каким образом провели
расследование и вынесли приговор по делу Морелли, книгу которого
сожгли лишь после разбирательства, и при этом и речи не шло о
палаче или заклеймении позором, а его самого не сажали под арест,
хотя он проявлял упорство и не являлся в суд.
Но каждому известно, как Совет поступил со мной в момент
выхода в свет моего сочинения, а о консистории и вообще не
упоминалось. Книгу получили по почте, прочитали, передали в суд,
сожгли, приговорили меня к аресту, и все это за восемь-десять дней.
Трудно себе представить более расторопное судопроизводство!
Надо полагать, мой поступок подпадает под действие закона, под
статью, по которой меня следует подвергнуть наказанию, ибо в
противном случае по какому праву накажут за ошибки, которые не
наносят вреда никому и о которых закон не вообще не упоминает?
А соблюли ли в этом деле требования Эдикта? Вы, люди
здравомыслящие и знакомые с делом, можете себе представить, чтобы
словно в насмешку нарушили сразу все статьи Эдикта? «Господин
Руссо, — пишут сторонники Представлений, — не был вызван в
консисторию, но Великолепный Совет32 все же провел против него
расследование. К нему следовало "относиться терпимо и не позорить",
но его сочинения прилюдно назвали "дерзкими, нечестивыми,
возмутительными"; к нему следовало "относиться терпимо и не
очернять", но его заклеймили позором, очернив самым постыдным
образом, а обе его книги разорвали на куски и сожгли рукой палача.
343
«-v.
Жан-Жак Руссо
Следовательно, нормы Эдикта не были соблюдены, — писали
авторы Представлений, — как в том, что касается юрисдикции
консистории, так и в том, что касается лично Руссо, которого следовало
вызвать в суд, относиться к нему терпимо и не позорить и не
очернять; ему должно было сделать несколько раз выговор, а судить
лишь в том случае, если бы он проявил упорство».
Вот это вам, как и мне, должно показаться ясным, как день. Так
нет же: сейчас вы увидите, как эти люди умеют выдавать черное за
белое.
Обычно уловка софистов заключается в том, чтобы сваливать
в кучу все доводы, прикрывая их слабость. Дабы избежать
повторений и тем самым выиграть время, давайте выявим доводы,
приведенные в «Письмах из деревни»; ограничимся самыми
существенными, оставив в стороне те, которые я ранее уже опроверг, и, чтобы
не искажать остальные, приведем их буквально.
Автор пишет: «Именно на основании наших законов я должен
изучить то, как поступили с господином Руссо». Отлично! Давайте
посмотрим дальше.
Первая статья клятвы горожан обязывает их жить в
соответствие с протестантским толкованием святого Евангелия. Однако
ж позвольте узнать, живет ли согласно Евангелию тот, кто пишет
против Евангелия?
Первый софизм. Для того чтобы ясно понять, касается ли
сказанное меня, вставьте в меньшую посылку слово «протестантское»,
которое автор опускает, но необходимое для того, чтобы вывод
оказался правильным.
Второй софизм. В первой статье речь идет не о клятве писать
согласно взглядам протестантизма, но о том, чтобы жить в
соответствие с ними. Эти две вещи, как мы видели раньше, различаются
в самой клятве, и мы видели, действительно ли я писал против
Евангелия или протестантизма.
Первейший долг синдиков и Совета блюсти чистоту религии.
Третий софизм. Их долг на самом деле состоит в том, чтобы
блюсти чистоту религии, но не в том, чтобы решать, что соответствует
чистоте религии, а что нет. Да, суверен возложил на них обязанность
блюсти чистоту религии, но ради этого он не назначил их судьями
344
с Горы
в вопросах вероучения. Он вверил заботу об этом другому
организму, и именно с ним они должны советоваться во всех вопросах,
относящихся к религии, как это и было всегда до избрания вашего
правительства. На случай религиозных правонарушений созданы
два судебных присутствия: одно для их установления, другое для
наказания за них; это бросается в глаза, если вчитаться в текст
Ордонанса. В дальнейшем мы вернемся к этому вопросу.
Далее следуют обвинения, которые я рассмотрел ранее и
которые я поэтому повторять не буду. Но я не могу отказать себе в
удовольствии привести отрывок, который их завершает. Он очень
любопытен.
Действительно, господин Руссо и его сторонники утверждают,
что его сомнения не являются нападками на христианство,
которое он при этом продолжает называть боговдохновенным. Но
если какая-нибудь книга названа боговдохновенной, подобно
тому как названо боговдохновенным Евангелие в сочинении Руссо,
пусть мне скажут, какой новый смысл приписывают этому
слову? По правде сказать, если это противоречие, то оно
оскорбительно; если это шутка, то она неуместна в подобном вопросе.
Да, я понял. Духовность, чистота сердца, сострадание, вера,
смирение, покорность, терпимость, забвение обид, прощение врагам,
любовь к ближнему, всеобщее братство, соединение в милосердии
всего человеческого рода — это все порождения сатаны. Не в этом
ли заключается мнение автора и его друзей? Судя по его словам
и его делам, ничего другого и не скажешь. И правда, если это
противоречие в словах и поступках, то оно оскорбительно. Если это
шутка, то она неуместна в подобном вопросе.
Добавлю к этому, что шутка в подобном вопросе настолько по
вкусу этим господам, что, в соответствии с усвоенными ими
правилами, в шутках, если я, конечно, шутил, они должны дать мне фору.
После изложения сути моих преступлений, посмотрите, какие
доводы заставили их столь коварно перещеголять в суровости даже
закон, преследующий преступника.
Эти книги опубликованы под именем гражданина Женевы.
Вся Европа — свидетельница его позора. Главный парламент
королевства преследует «Эмиля» и его автора. Что оставалось
делать правительству Женевы?
345
*"V.
Жан-Жак Руссо
Ha минутку остановимся на этом. Мне думается, я завидел в этих
словах неправду.
По словам автора, позор на всю Европу вынудил женевский
совет сурово обойтись с книгой «Эмиль» и ее автором: но дело в том,
что все произошло совсем наоборот. Именно постановления этих
двух судебных присутствий об аресте обернулись позором на всю
Европу. Прошло лишь несколько дней с того дня, как книга попала в
продажу, и вот Парижский парламент ее осудил; она еще не
появилась в продаже ни в одной стране, даже в Голландии, где ее
печатали; и между постановлением об аресте, вынесенном Парижским
парламентом, и постановлением Женевского Совета прошло
девять дней, ровно столько, сколько требуется для того, чтобы узнать
о случившемся в Париже. Жуткий гвалт, поднятый вокруг этого дела
в Швейцарии, вынужденное бегство из дома друга, попытки лишить
меня последнего пристанища, предпринятые в Нефшателе и даже
при дворе33, — все это исходило от Женевы и от ее окрестностей34
уже после принятия постановления об аресте. Известно, кто был
подстрекателем, а кто исполнителем; их предприимчивость
оказалась беспримерной; к счастью, не от них зависело лишить меня
огня и воды во всей Европе, не оставить мне и клочка земли, чтобы
приклонить голову, и камня у изголовья. Не будем же здесь одно
принимать за другое и считать поводом для решения об аресте,
вынесенного в Женеве, позор, который оказался лишь его следствием.
Главный парламент королевства преследует «Эмиля» и его
автора. Что оставалось делать правительству Женевы?
Ответ прост: ничего не делать, или, вернее, он не должен что-то
делать. Оно поступило бы прямо противоположным образом
относительно судебного преследования, неуважительно отнеслось бы
к Парижскому парламенту, и, следуя его примеру, оспорило бы у
него судебные права. Именно потому, что меня решили арестовать
в Париже, меня нельзя арестовывать в Женеве. Преступление
человеком совершается в определенном месте и только в нем, и
невозможно оказаться одновременно виновным в одном и том же
преступлении в двух странах или в двух разных местах одновременно.
Если он захочет явиться в суд и снять с себя обвинения, что же он,
по-вашему, должен разорвать себя на части? Да вы сами хоть раз
слышали, чтобы человека одновременно сажали под арест в двух
346
Письма с Горы
^-»
странах за одно и то же? Это, наверное, первый и последний
пример. Мои беды — свидетельство достойной сожаления чести,
которая мне выпала: быть во многих отношениях единственным
примером!
За самые жестокие преступления, даже за убийства нужно
привлекать к суду по месту их совершения. Если женевец убил человека,
даже женевца, в чужой стране, Совет Женевы не может присвоить
себе право расследовать это дело; он может выдать преступника по
запросу другой стороны, он может потребовать его наказания, если
только ему не передали добровольно право решить дело и все
подробности расследования; но не ему надлежит судить, ибо ему не
принадлежит право принимать к сведению преступление,
подсудное другой суверенной власти, и даже не имеет права приказать
собрать улики, чтобы установить его состав. Вот правило и вот ответ
на вопрос: «что оставалось делать правительству Женевы?» Во всем
этом заключены самые простые понятия публичного права,
которые магистрату стыдно не знать. Что же, мне теперь всегда за свой
счет преподавать уроки юриспруденции моим судьям?
«Совету следовало, согласно мнению сторонников
Представлений, ограничиться предварительным запретом на распространение
книги в Женеве». И правда, это то, что он должен был сделать,
чтобы в конце концов успокоиться в своей злобе; он так поступил по
отношению к «Новой Элоизе», но, видя, что Парижский парламент
смолчал и что нигде не устанавливали никакого запрета на книгу,
Совету стало стыдно, и он потихоньку отозвал запрет*. «Но разве
столь слабое выражение неодобрения не было бы похоже на
желание потакать?» Но ведь уже давно женевский Совет обвиняют в том,
что он так мало скрывает свое желание потакать распространению
сочинений, гораздо в меньшей степени достойных терпимого
отношения, и при этом его нисколько не смущает подобное мнение
о нем. «Никто не счел бы оскорбительной сдержанность, с которой
с ним бы могли обойтись». Крики людей вам показывают, до какой
степени их оскорбило прямо противоположное сдержанности. «Да
и, по совести сказать, если бы Совет повел себя так с человеком,
который столь же неугоден публике, сколь ей приятен Руссо, разве не
* Согласимся с тем, что если «Эмиля» запретили, то «Элоизу» следовало бы
сжечь. Примечания в тексте романа настолько дерзки, что «Исповедание веры
викария» и рядом ставить нельзя.
347
Жан-Жак Руссо
поставили бы ему в упрек безразличие и непростительную
мягкотелость, названную сдержанностью?» Но ведь самое большое зло не
в этом, таким почтенным словом не называют ни жесткость, с
которой со мною обходятся за мои сочинения, ни поддержку, которую
оказывают сочинениям другого человека35.
Допустим, что я виновен, и допустим даже, что Совет Женевы
имел право меня наказать и что разбирательство было проведено
в соответствие с законом, и, между тем, не желая порицать мою
книгу, они вполне миролюбиво приняли бы меня в Женеве по
возвращении из Парижа; что бы тогда сказали эти достопочтенные
люди? Да вот что:
Члены совета закрыли глаза на книгу, и они должны были так
поступить. Как же они могли поступить иначе? В этом случае
проявить суровость означало бы поступить варварски, проявить
неблагодарность и даже допустить несправедливость, ибо
истинное правосудие находит равновесие между злом и добром.
Виновный преданно любил родину, и он заслужил сдержанное
отношение; он прославил ее по всей Европе, и в то время как его
соотечественники стыдились имени женевца, он прославил его
и восстановил почтение к ней за рубежом. Прежде он подавал
полезные советы, стремясь к благу общества, и если он и ошибся,
эта ошибка простительна. Он воздал высокую хвалу
магистратам, он желал возвратить им доверие со стороны горожан, он
защищал верования церковнослужителей, и взамен он вполне
заслужил известную благодарность от всех них. И по какому праву
они смеют, пусть даже он допустил немногие ошибки, так сурово
обходиться с защитником Бога, с апологетом религии, на
которую нападают со всех сторон, тогда как члены Совета терпимо
относятся и даже дозволяют распространение самых мерзких,
самых неприличных, самых оскорбительных для христианства
и для добрых нравов писаний, уничтожающих добродетель, то
есть тех самых писаний, на которые Руссо счел своим долгом
ответить опровержениями? Люди, наверное, стали бы искать
скрытые побуждения столь неприличной предвзятости по отношению
к нему; и они бы поняли, что их причина кроется в ревнении
обвиняемого к свободе и намерениях его судей, стремившихся его
погубить. Руссо сочли бы за мученика, защищавшего законы
отчизны. В этом случае его гонителей, надевших маску лицемерия,
упрекнули бы в том, что они затеяли игры в религию,
превратили ее в орудие возмездия и в орудие своей ненависти. Наконец,
благодаря поспешному наказанию человека за то единственное
348
с Горы
преступление, что он любит родину, они добились лишь того,
что достойные люди испытывают к ним отвращение, горожане
заподозрили их в недобросовестности, а иностранцы стали
просто презирать.
Вот, сударь, что могли бы сказать люди, вот опасность, которую
навлек бы на себя Совет, если мы предположим что Руссо совершил
преступление, а Совет воздержался бы от того, чтобы принять его
к сведению.
Любой человек оказался бы прав, утверждая, что необходимо
выбирать между сожжением Евангелия и сожжением книги Руссо.
Ах, какой удобный способ рассуждений неизменно используют
эти господа, выступая против меня! Если им не хватает доводов,
они множат голословные утверждения; если им нужны свидетели,
то они ссылаются на неизвестных лиц.
Суждение этого неизвестного лица в этом случае имеет отнюдь
не непонятный смысл, это — богохульство.
Ибо разве не богохульство полагать, будто Евангелие и мои
книги так похожи в отношении содержащихся в них положений, что
взаимозаменяют друг друга, и как возможно, без всяких различий,
сжечь одно как нечто лишнее, сохранив другое? Без сомнения, я как
можно более точно следовал евангельскому вероучению; я
возлюбил его, я принял его, изъясненное и во всей его полноте; но меня не
останавливали затруднения, неясные места, таинства, я не
отвлекался от самого существенного; я прикипел к нему со всем жаром
сердца, я глубоко возмутился и стал резко возражать, когда увидел,
как оскверняют священное вероучение, оскорбляемое нашими так
называемыми христианами, и в особенности теми, кто взялся
давать нам наставления в нем. Я даже смею надеяться, что никто,
кроме меня, не говорил с таким достоинством о христианстве и его
Учителе. В этом отношении на моей стороне свидетельства и
восхищение со стороны моих противников, но, по правде сказать, не из
Женевы, а тех, у кого ненависть не превратилась в неистовую злобу
и кого пристрастия не лишили чувства справедливости. Вот в чем
состоит правда, и вот что доказывают и мой ответ королю Польши,
и мое «Письмо д'Аламберу», и «Элоиза», и «Эмиль», и остальные
сочинения, которые проникнуты истинной любовью к Евангелию
и в которых я боготворю Иисуса. Так пусть же из этого сделают вы-
349
«-\.
Жан-Жак Руссо
вод, что я вряд ли могу уподобиться Учителю, и что мои книги ни
в коем случае не могут заменить данные Им заветы; и сказанное
этим автором — ложь, бессмыслица, мерзость, и мне
отвратительно это богохульство, и я осуждаю подобную дерзость. Но
возвышенная простота Учителя доступна пониманию далеко не всех.
И для того, чтобы они смогли ее понять, ее необходимо иногда
представлять в разном свете. Необходимо хранить эту священную
книгу как завет Учителя, а мои книги как заметки школьника.
Я обсуждал до сих пор этот вопрос немного в общем ключе;
теперь же станем рассматривать его с точки зрения фактов, проведя
сравнение между расследованиями 1563 года и 1762 года и между
доводами, которые приводят в пользу отличия между ними.
Поскольку речь идет о решающем для меня вопросе, я не могу, не
пренебрегая своей собственной защитой в судебном деле, оградить вас
от мелочей, возможно, бесполезных, но во многих отношениях
любопытных для вас и ваших сограждан. Но это другой повод для
обсуждения, его нельзя прерывать: оно целиком займет длинное
письмо. Но, сударь, немного терпения; это будет последнее письмо,
в котором я буду говорить с вами о себе.
Письмо V
Вы имели случай убедиться, что после того как автор «Писем»
указал на необходимость обращаться со мной по всей строгости,
он пытается доказать, что следствие против Жана Морелли, хотя
и вполне соответствовало Ордонансу и относилось к делу,
похожему на мое, отнюдь не являлось примером, которому необходимо
следовать в случае со мной, принимая во внимание, что стоящий
выше Ордонанса Совет не обязан им руководствоваться, потому как
совершенное мною преступление было серьезнее, чем
правонарушение Морелли, а потому со мною следовало обращаться суровее.
К этим доводам автор добавляет то, что не соответствует истине:
будто меня осудили, не выслушав в суде, поскольку в этом случае
достаточно изучить содержание моей книги, а клеймо позора на книге
никоим образом не ложится на ее автора; и, наконец, произведения,
за терпимое отношение к которым упрекают Совет, в сравнении
с моим были вполне невинными, и к ним следовало так относиться.
Что касается первого пункта, то вы, наверное, с трудом поверите
в то, что кто-то посмеет считать, будто Совет стоит выше законов.
350
Письма с Горы
Для того чтобы убедить Вас, я не нахожу ни одного более
надежного средства, кроме как переписать отрывок, в котором автор
обосновывает это положение, и я, опасаясь исказить смысл, сократив
его, перепишу этот отрывок целиком.
Разве авторы Ордонанса пожелали связать руки гражданской
власти и обязать ее пресекать всякое религиозное
правонарушение только после того, как консистория примет его к сведению?
Если бы это было так, то правительство оказалось бы лишено
возможности пресекать подобные вольности и заклеймить
позором подобного рода книги; ибо хотя Ордонанс и требует, чтобы
правонарушитель сначала предстал перед консисторией, он все
же предписывает: «Если правонарушитель исправится, его не
станут подвергать публичному позору». Таким образом, каковым
бы ни было его преступление против религии, обвиняемый,
делающий вид, будто исправился, сможет в этом случае уйти от
правосудия, а того, кто чернил религию повсеместно, благодаря
показному раскаянию оставят в покое, «не позоря публично».
Те, кому знакомы суровые нравы времени, когда был составлен
этот Ордонанс, смогут ли поверить, что именно таков был смысл
его 88 статьи?
И если консистория допустила бездействие, то разве это
связывает руки Совету? И разве его полномочия сводятся лишь к тому,
чтобы доносить о таких правонарушениях в консисторию?
Ордонанс подразумевает не что иное, как следующее: после
указаний на права и полномочия консистории его текст заключает, что
за гражданской властью остается вся полнота прав, ее власть
является нерушимой как в целом, так и в обычном судебном
разбирательстве, вопреки представлениям от церковнослужителей.
Следовательно, этот Ордонанс не считает, несмотря на
утверждения авторов Представлений, что в этом вопросе
священнослужители более естественные судьи, чем Советы. Таково начало
протестантизма, таково, в особенности, начало нашего
государственного устройства, которое в спорных случаях наделяет
Советы правом решать вопросы, касающиеся догматов.
Как видите, сударь, в этих последних строках содержится
начала, на которых основаны предыдущие рассуждения. Итак, для того
чтобы последовательно рассмотреть это рассуждение, следует
начать с его конца.
Все, что относится к полномочиям власти в вопросах религии,
относится к полномочиям правительства.
351
*\
Жан-Жак Руссо
Здесь слово «правительство» содержит двусмысленность,
которую весьма важно разъяснить, и поэтому я вам советую, если
только вы уважаете государственный строй своей отчизны, быть
внимательным к тому различию, что я проведу; пользу от него вы вскоре
увидите сами.
Слово «правительство» употребляется не в одинаковом смысле
во всех странах, потому что государственный строй повсюду
различен.
При монархии исполнительная власть соединена с суверенной
властью, поэтому правительство есть не что иное, как сам суверен,
который управляет с помощью министров, совета или других
организмов власти, полностью зависимых от его воли. Иначе дело
обстоит в республиках, и в особенности при демократии, где суверен
никогда не действует сам. Здесь правительство есть
исполнительная власть, совершенно отличная от власти суверенной.
Это различие важно при рассмотрении данных вопросов. Для
того чтобы вникнуть в суть различия, следует внимательно
прочитать две первые главы третьей книги «Общественного договора»,
где я постарался выяснить смысл выражений, которые так искусно
оставляли неясным, дабы при случае придать им какое угодно
значение. Правители республик вообще любят использовать язык
монархий. Прячась за выражения, кажущиеся вошедшими в
привычку, они мало-помалу умело заменяют слова вещами, которые эти
слова означают. Это то, что весьма ловко проделал автор «Писем»,
истолковавший слово «правительство», само по себе не
содержащее никакого пугающего смысла, в значении «осуществление
суверенной власти»; этот смысл становится глубоко возмутительным,
ибо эта власть приписывается Малому Совету.
И он еще менее скрывает свои мысли в другом отрывке, где
после утверждения «Малый Совет и есть правительство» (что верно,
если рассматривать слово «правительство» в значении
подчинения) он осмеливается добавить, что в силу этого Малый Совет
осуществляет власть, которой не наделены иные организмы
государства, употребляя таким образом слово «правительство» в значении
«суверенитет», как будто все организмы государства, и сам
Генеральный Совет, учреждены Малым Советом: оно и понятно, ведь
прикрываясь именно этим предположением, Малый Совет может
присвоить только себе те полномочия, какими закон не наделяет
никого в отдельности. Позднее я вернусь к этому вопросу.
352
Письма с Горы
Коль скоро эта двусмысленность выявлена, становится
очевидным софизм автора. И действительно, сказать, что все религиозные
вопросы находятся в ведомстве правительства — верное
утверждение, если под словом «правительство» понимать
законодательную власть, или суверена; но оно становится весьма ложным, если
под ним понимать власть исполнительную, или власть магистрата;
и в вашей республике никогда Генеральный Совет не вручал
Малому Совету право в последней инстанции решать все вопросы,
касающиеся религии.
Вторая двусмысленность — еще более утонченная, она
подкрепляет предыдущую следующим образом: «Таково начало
протестантизма, таково, в особенности, начало нашего государственного
устройства, которое в спорных случаях наделяет Советы правом
решать вопросы, касающиеся догматов». Это право, имеют ли
место споры о религии или нет, бесспорно принадлежит Советам, а не
Совету. Видите каким образом, убрав или добавив одну букву,
можно изменить государственный строй!
Согласно началам, которые разделяют протестанты, нет иной
церкви, кроме государства, и нет иного церковного законодателя,
кроме суверена. И это бросается в глаза в особенности в Женеве,
где Церковный Ордонанс получил от суверена ту же санкцию, что
и гражданские эдикты.
Следовательно, под именем Реформации суверен предписал
наставление в вероучении и порядок богослужения, который нужно
соблюдать, и разделил между двумя организмами заботу о
сохранении этого вероучения и богослужения в том виде, в каком они
определены в законе. Одному вверены вопросы общественного
образования, принятие решений о том, что соответствует или не
соответствует установленной в государстве религии, выговоры и
предупреждения на этот счет и даже религиозные наказания, в частности,
отлучение. Закон возложил на другой организм заботу о его
исполнении в этой части, как и во всякой другой, и гражданское
наказание для тех, кто постоянно нарушает свой долг.
Когда установлено событие правонарушения и оно по своему
характеру заслуживает наказания со стороны гражданской власти,
только магистрат должен рассматривать жалобу и назначать
наказание. Церковный суд изобличает виновного перед гражданским
судом, и именно таким образом определяется круг обязанностей
Совета.
12 3ак. 3436
353
*\.
Жан-Жак Руссо
Но если Совет пожелает вынести приговор, ставя себя на место
богослова и решая, что является догматом, а что нет, или же когда
консистория пожелает присвоить себе права гражданского
правосудия, каждый из этих организмов выйдет за пределы круга своих
обязанностей, оба не станут подчиняться закону и принявшему его
суверену; но ведь даже в этом случае суверен не перестает быть
законодателем по вопросам церковным и гражданским, и оба
организма должны признать его таковым.
Магистрат всегда является судьей священнослужителей в том,
что касается гражданских дел, но не в том, что касается догматов.
Это дело консистории. Если бы Совет выносил приговоры в
церкви, то у него было бы право отлучения, тогда как, напротив, его
члены повинуются церкви. Забавное противоречие в моем деле
заключается в том, что меня решили арестовать за заблуждения
в догматах, но при этом меня не отлучили от церкви; Совет записал
меня в число отступников, а консистория считает меня в числе
правоверных. Разве это не странно?
Действительно, верно то, что если случатся распри между
церковнослужителями и каждая сторона упрямо не пожелает пойти на
соглашение ни самостоятельно, ни при посредничестве старейшин,
в статье 18 сказано, что дело должно быть передано на
рассмотрение магистрата, «дабы он навел порядок».
Но водворить порядок во время распри не значит установить
догмат. Ордонанс объясняет условия, при которых следует прибегнуть
к вмешательству магистрата, а именно: упорное нежелание одной
из сторон. Однако благочиние в государстве, надзор за распрями,
поддержание мира и все полномочия государственного управления
бесспорно относятся к ведению магистрата. В этом случае он не
станет выносить суждения в вопросах вероучения, но восстановит
в собрании приемлемый порядок, с тем чтобы оно могло вынести
свое решение.
И даже если Совет станет высшей судебной инстанцией в
вопросах вероучения, ему все-таки непозволительно выворачивать
наизнанку установленный законом порядок, указывающий, что
консистории надлежит предварительно ознакомиться с этими вопросами;
точно так же ему не позволено, хотя он и является высшим судом,
принимать к рассмотрению дело до того, как оно будет
рассмотрено в нижестоящих присутствиях.
354
Письма с Горы
В статье 18 ясно говорится, что, хотя в случае, если
церковнослужители не могут прийти к согласию, дело следует передать на
рассмотрение магистрата, которому следует водворить порядок, тем
не менее нигде не говорится, что предварительное рассмотрение
вопроса о вероучении должно быть отнято у консистории
магистратом; нет ни одного примера присвоения такого права с момента
возникновения республики*. С чем, кажется, согласен и автор
«Писем», утверждая, что в случае распри Советы вправе решать
вопросы о догматах, ибо это означает, что они получают это право
только после их изучения консисторией и не получают его в тех
случаях, когда консистория не имеет возражений.
Эти различия между ведомством гражданских и церковных дел
ясны и основаны не только на законе, но и на разумном суждении,
и оба согласны в том, что судьи, от которых зависит участь лиц,
должны решать ее не иначе как с учетом содеянного,
установленных обстоятельств и доказанного состава преступления, а не на
основании обвинений, столь же неопределенных, сколь и произ-
* В XVI веке было много распрей вокруг предопределения, которые, конечно,
являлись детской забавой, но их, как водится, не могли не превратить в важное
государственное дело. А между тем решение по этому делу вынесли
церковнослужители, и даже вопреки желаниям общества. Но, насколько мне известно, со времени
издания Эдиктов Совет ни разу не осмеливался решать вопросы, касающиеся
догмата, без участия церковнослужителей. Мне известно только одно постановление
подобного рода, принятое Советом Двухсот. Это было в 1669 году по весьма
важному делу об особой благодати. После долгих и бесполезных споров на
церковных собраниях и в консистории проповедники оказались неспособны прийти
к общему согласию и передали дело в Малый Совет, который ничего не решил.
Дело принял к рассмотрению Совет Двухсот и вынес решение. Важный вопрос
заключался в том, умер ли Иисус только ради спасения избранных или же ради
спасения и грешников. После многочисленных заседаний и затхлых обсуждений
Великолепный Совет Двухсот рассудил, что Иисус умер ради спасения
избранных. Легко понять, что тут все зависело от благосклонности публики и что Иисус
вполне мог умереть ради спасения грешников, если бы проповедник Троншен
получил больше влияния, чем его противник. Все это, без сомнения, смехотворно,
однако же можно сказать, что здесь речь не шла о догмате веры, но о
единообразии в наставлениях к вере в государстве, блюсти которое есть, бесспорно, право
правительства. К тому можно добавить, что этот чудесный спор возбудил такое
любопытство, что весь город гудел. Но не это важно. Совет должен был
утихомирить распри, не решая вопроса о догмате. Решение всех вопросов, которые ни для
кого не имеют значения и в которых никто ничего не понимает, следует
предоставить богословам.
355
«■\
Жан-Жак Руссо
вольных, каковыми являются обвинения в заблуждениях по
поводу вопросов религии. И на какую безопасность могут рассчитывать
граждане, если во множестве непонятных догматов, которые
можно толковать по-разному, судья станет по прихоти выбирать тот,
что станет поводом для обвинения или снятия ответственности,
а обвиняемого либо осудят, либо оправдают?
Доказательства в пользу этого различия можно почерпнуть
в установлениях государства, а оно не учредило бы бесполезное
присутствие, поскольку, если бы Совет имел полномочия судить,
в особенности в первой инстанции, по церковным вопросам,
учреждение консистории оказалось бы ненужным.
Это доказательство можно найти в бесчисленном множестве
мест в самом Ордонансе, где законодатель старательно различает
властные полномочия двух этих чинов. И это различие стало бы
вполне бессмысленным, если бы в осуществлении своих
полномочий один из них оказался подчинен другому. Обратите внимание на
статьи 23 и 24, уточняющие, за какие преступления наказывают по
законам и относительно каких «предварительное расследование по
праву принадлежит консистории».
Обратите внимание на заключительные строки статьи 24,
которая указывает, что в последнем случае, после того как виновный
изобличен, консистории надлежит представить доклад в Совет,
сопроводив его собственным мнением. «С тем, — гласит Ордонанс, —
чтобы судебное решение о наказании осталось за Сеньорией». Из
этих слов нужно сделать тот вывод, что осуждение вероучения есть
право консистории.
Посмотрите текст клятвы церковнослужителей, которые
клянутся, со своей стороны, признать власть закона, повиноваться ему
и магистратам в качестве его служителей, также приносящим
клятву: это означает, что магистрат не действует в ущерб свободе
церковнослужителей наставлять в вере так, как им велит Господь. Но
какой бы оказалась эта свобода, если бы в силу закона и в части
вероучения они должны были бы подчиняться не своему
организму, а другому?
Примите во внимание на статью 80, в которой Эдикт
предписывает консистории не только следить за общим и частным порядком
в церкви и принимать меры против беспорядков, но он ради этого
случая и создает консисторию. Есть ли смысл в этой статье или
356
Письма с Горы
нет? Носит ли она безусловный характер или характер условный?
А учрежденная законом консистория является ли зависимой и
подчиненной прихотям Совета?
Обратите внимание на статью 97 того же Ордонанса, согласно
которой в случаях, требующих наказания граждан, сказано, что
консистории после заслушивания сторон, сделав увещевание и
отлучив от церкви, надлежит доложить дело Совету, каковой «на
основании ее доклада (заметьте повторение этого слова) должен
принять решение в зависимости от характера дела». Посмотрите, что
же следует из данной статьи, и не забудьте, что это слова суверена:
«Ибо хотя совместны и не отделимы друг от друга такие вещи, как
сеньория и власть, установленная над нами Господом и духовным
руководством Его Церкви, их никоим образом не следует
смешивать, поскольку тот, кто обладает всей полнотой власти и кому мы
желаем безоговорочно оказывать повиновение, до такой степени
желает, чтобы его признали творцом политического и духовного
правления, что в особенности различает как предназначение того и
другого, так и управление тем и другим».
Однако каким же образом эти два порядка управления следует
отличать, если они находятся под общей властью законодателя,
и один из них вправе посягать по своему почину на полномочия
другого? Если во всем этом нет противоречия, то где же еще его
можно усмотреть?
К статье 88, определенно предписывающей порядок
расследования, который должно применять против тех, кто рассуждает о
догматах, я бы добавил еще одну статью, не менее важную, а именно
статью 53 под заглавием «О катехизисе», где предписывается, чтобы
того, кто после сделанного ему внушения нарушит добрый порядок
и продолжит упорно придерживаться своих взглядов, вызвали
в консисторию, «и если он не внемлет сделанным
предостережениям, то об этом следует поставить в известность Сеньорию».
Так о каком же добром порядке идет здесь речь? Об этом
говорит название статьи: это порядок в вопросах вероучения,
поскольку речь идет о катехизисе, который является их кратким
изложением.
Впрочем, поддержание доброго порядка как такового есть право
магистрата, а не церковного суда. Но обратите внимание, какую
последовательность тут ввели! Во-первых, нужно предостеречь;
357
*\
Жан-Жак Руссо
если виновный продолжает упорствовать, то его следует вызвать
в консисторию; наконец, если он не желает подчиняться, то об этом
надлежит доложить в Сеньории. В любом вопросе веры последней
инстанцией являются Советы; таков закон; таковы все ваши
законы. Хотел бы я найти какую-либо статью, какой-либо отрывок
в ваших указах, в силу которого Малый Совет может присвоить
себе право рассматривать дело в первой инстанции и разом
превратить подобное правонарушение в предмет уголовного
преследования.
Подобная последовательность рассмотрения дела не только
противоречит закону, но и справедливости, здравому смыслу и
обычаям. Во всех странах мира норма права требует, чтобы во всем, что
касается наук или искусств, сначала обращались к преподавателям
этой науки или к знатокам этого искусства, прежде чем выносить
судебное решение; с какой стати магистраты в самой непонятной,
в самой трудной изо всех наук, когда речь идет о чести и свободе
человека, гражданина, пренебрегают теми же мерами
предосторожности, которые они принимают, когда речь идет о механических
искусствах, о самой что ни на есть низменной выгоде?
И еще. Какой закон, какой эдикт противопоставят они стольким
авторитетным законам, стольким доводам, доказывающим
незаконность и неправомерность подобного расследования, дабы его
оправдать? Единственный отрывок, который смог привести автор
«Писем» из деревни», это тот, где он поменял местами слова, чтобы
исказить их смысл:
Пусть все предостережения церкви производятся таким
образом, чтобы консистория ни в чем не посягала ни на власть
Сеньории, ни на обычный порядок правосудия, и гражданская власть
сохраняет свою полноту *.
Но вот вывод, который он из этого делает: «Этот Ордонанс
вовсе не имеет в виду, как думают сторонники Представлений, что
священнослужители являются в этих вопросах судьями более
естественными, чем Советы». Начнем с того, что употребим слово
«совет» в единственном числе, и не без оснований.
* Церковные Ордонансы. Ст. 97.
358
Письма с Горы
Но в каком же отрывке сторонники Представлений
предполагают, что священнослужители являются в этих вопросах судьями
более естественными, чем Совет? *
Согласно эдикту, консистория и Совет являются естественными
судьями, каждые по своему ведомству, один в вопросах вероучения,
а другой в вопросах правонарушений. Таким образом, гражданская
и церковная власть, каждая в отдельности, обладает собственными
полномочиями, находясь всецело под властью суверена: но что же
означает здесь само это слово «гражданская власть», если при этом
не подразумевается иная власть? По мне, я не вижу в этом отрывке
ничего из того, что меняет естественный смысл приведенных мною
отрывков. Вовсе нет, строки, которые следуют далее,
подтверждают их, указывая на обстоятельства, когда консистория должна
провести расследование до того, как оно будет передано Совету. Этот
вывод прямо противоположен тому, что желает сделать автор
«Писем».
Но посмотрите, каким образом, не решаясь нападать на
содержащиеся в Ордонансе выражения, он подвергает нападкам выводы,
которые вытекают из него.
Заметно ли в Ордонансе намерение связать руки гражданской
власти и обязать ее карать любое правонарушение, направленное
против религии, только после того как о нем узнает
консистория? Если дело обстоит так, то отсюда следовало бы, что
позволительно безнаказанно писать против религии; ибо обвиняемый,
делая вид, что изменил свое поведение, может всегда избежать
наказания, и к тому, кто клевещет на религию повсюду,
следовало бы относиться терпимо из-за его мнимого раскаяния.
Так, значит, для того чтобы избежать этого ужасного несчастья,
этой возмутительной безнаказанности, автор не желает, чтобы за-
* «Исследование и обсуждение этого вопроса, - говорят они на странице 42, -
есть скорее право священнослужителей, а не Великолепного Совета»36. О каком
же вопросе идет речь в этом отрывке? Это вопрос о том, не собрал ли я в своей
книге под видом сомнения все то, что сможет подорвать, потрясти или
уничтожить главные основания христианской религии. Автор «Писем», исходя из этого
соображения, хочет приписать сторонникам Представлений мысль, согласно
которой в этих вопросах священнослужители являются судьями более
естественными, чем Советы. Они, без сомнения, являются более естественными судьями в
вопросах богословия, но не в вопросах наказания, которое вынесено за допущенное
правонарушение, и ничего такого сторонники Представлений не говорили и не
объявляли во всеуслышание.
359
«^ч.
Жан-Жак Руссо
кон соблюдали буквально. Тем не менее через шестнадцать страниц
все тот же автор утверждает следующее:
Политика и философия могут оправдать эту свободу писать
все, что заблагорассудится; но наши законы это осуждают; однако
речь идет о том, чтобы узнать, не противоречит ли нашим
законам решение Совета, вынесенное против произведений
господина Руссо, и распоряжение о его аресте, а не установить,
согласуется ли то и другое с философией и политикой.
В другом месте этот автор, признавая, что осуждение книги не
ведет к опровержению содержащихся в ней доводов и может даже
предать их большей огласке, добавляет: «В этом отношении я
вполне узнаю мои собственные правила в правилах, которых
придерживаются сторонники Представлений. Но это не есть правила,
заключенные в наших законах».
Сокращая и связывая воедино все эти отрывки, я нахожу в них
приблизительно следующий смысл:
Хотя философия, политика и разум могут одобрить свободу
писать все что заблагорассудится, в нашем государстве мы
обязаны наказывать за эту свободу, потому что наши законы ее
осуждают. Но, однако, не следует соблюдать наши законы буквально,
потому что в таком случае не следовало бы наказывать за эту
свободу.
По правде говоря, во всем этом я усматриваю Бог весть какую
галиматью, которая меня коробит; однако автор кажется мне
человеком умным, а потому я склонен думать, что, изложив все это
вкратце, я ошибся, правда, не могу понять, в чем именно. Сравните
сами написанное на страницах 14, 22, 30, и вы увидите, прав ли
я или нет.
Как бы то ни было, но в ожидании того, что автор укажет нам на
другие законы, где не одобряются предписания философии и
политики, вернемся к рассмотрению его возражений против закона,
о котором идет речь.
Во-первых, из опасения, что правонарушение останется
безнаказанным в республике, магистрату не только не позволено
толковать закон в смысле большей строгости наказания, но ему также не
позволено распространять его на правонарушения, в отношении
которых он ничего определенного не говорит; нам известно, сколь-
360
Письма с Горы
ко виновных избегают наказания в Англии из-за незначительных
тонкостей * в законодательстве. «Всякий, кто более суров, чем
закон, — говорит Вовенарг, — есть тиран».
Но давайте посмотрим, становятся ли последствия
безнаказанности вроде правонарушений, о которых идет речь, столь
ужасными, как это утверждает автор «Писем».
Чтобы правильно судить о духе закона, следует вспомнить о
великом начале, заключающемся в том, что лучшие уголовные
законы те, в которых наказания, налагаемые ими, вытекают из
природы преступлений. Так, убийц следует наказывать смертью; воров —
лишением имущества или же, если такового не имеется, лишением
свободы, единственного достояния, остающегося у них. Таким же
образом в случае правонарушений, касающихся только религии,
наказания должны носить только религиозный характер; таково,
например, лишение права приносить присягу в суде, когда это
требуется; таково, кроме того, отлучение от церкви, являющееся здесь
самым большим наказанием для того, кто лжеучительствовал о
догматах, одобренных церковью, если, конечно, не считать случая
передачи дела магистрату для применения гражданского наказания
за гражданское правонарушение, если таковое произошло.
Однако следует еще раз вспомнить, что речь идет об Ордонансе
(автор «Писем» и я говорим здесь только о простом
правонарушении, направленном против религии). Если бы правонарушение
имело сложный состав, как, например, если бы я напечатал свою
книгу в государстве без разрешения, то, несомненно, я получил бы
прощение от консистории, но не от магистрата.
Установив это различие, я еще раз возвращаюсь к этому вопросу
и утверждаю: есть такое различие между правонарушением против
* Поскольку в Женеве не существует в собственном смысле слова уголовных
законов, магистрат произвольно налагает наказания за преступления, что является,
конечно же, большим недостатком законодательства и серьезным поводом для
злоупотреблений в свободном государстве. Однако эта власть магистрата
распространяется только на преступления против естественного закона, признанные
таковыми во всем обществе, или вещи, особо запрещенные положительным
законом; но закон не позволяет себе ни придумывать мнимое правонарушение там,
где его нет, ни нарушать установленный порядок расследования в отношении
какого бы то ни было правонарушения из опасения, что виновный избежит
наказания.
361
*\
Жан-Жак Руссо
религии и гражданскими правонарушениями, которое заключается
в том, что эти последние наносят ущерб людям и законам, и этот
ущерб действителен, и ради безопасности общества обязательно
потребуется возместить ущерб от него и наказать; однако прочие
правонарушения являются лишь прегрешениями против Божества,
которому невозможно причинить никакого ущерба и которое
прощает раскаявшихся. Когда покой Божества не нарушается, то более
не существует правонарушения, подлежащего наказанию, кроме
греха, а грех искупается тем, что раскаяние предают огласке, как
и сам факт вины. Христианское милосердие уподобляется таким
образом божественному милосердию; и в этом случае было бы
бессмысленно и нелогично мстить за религию со строгостью, ею не
одобряемой. Человеческое правосудие не рассчитывает, да и не
должно рассчитывать на раскаяние, я с этим согласен; и вот почему
для того вида правонарушения, которое можно искупить
раскаянием, Ордонанс предписывает, чтобы гражданский суд не принимал
подобных дел к рассмотрению.
Ужасное неудобство, заключающееся, по мнению автора, в том,
что следует оставлять безнаказанными, с точки зрения
гражданского союза, правонарушения против религии, таковым в
действительности не является, хотя автор склонен так думать, и вывод,
который он при этом делает, согласно которому дух закона иной,
неверен и противоречит тому, что закон говорит вполне
определенно.
«Таким образом, каким бы ни было правонарушение против
религии, — добавляет он, — обвиняемый, притворившись, что
исправился, всегда сможет избежать наказания». Ордонанс не говорит
«если притворяется, что исправился», но говорит: «если он
примиряется с религией»; кроме того, имеются, как и во всяком другом
случае, вполне определенные правила, руководствуясь которыми
можно отличить действительное примирение от напускного,
особенно в том, что касается внешних признаков его поведения,
которые только и подразумеваются в словах: «если он примиряется».
И если преступник, поначалу примирившийся, затем снова
впадает в грех, то он совершает новое, еще более тяжкое правонарушение
и заслуживает более сурового наказания. Он — вероотступник,
и средства наставления его на путь истинный суть более суровые.
Совет, кроме всего прочего, может обратиться к примеру расследо-
362
Письма с Горы
ваний, проводимых инквизицией *, и если автор «Писем» не
одобряет свойственной ей мягкости, то он должен, по крайней мере,
признать, что она проводит различие между этими случаями; ибо
непозволительно относиться к преступнику заранее так, как будто
бы он уже снова впал в грех, только из опасения, что он снова
впадет в грех.
Но именно на эти ложные выводы опирается этот автор, чтобы
получить возможность утверждать, будто Эдикт в этой статье не
ставил перед собой цель установить порядок расследования и
определить правомочия судов. Так что же, по его мнению, говорится
в Эдикте? А вот что.
Он хотел воспрепятствовать тому, чтобы консистория свирепо
наказывала людей, которым вменялось в вину то, чего они, может
быть, и не говорили, или чьи прегрешения преувеличены; он хотел,
чтобы она не свирепствовала против этих людей, не пообщавшись
с ними и не попытавшись их привлечь на свою сторону.
Но что означает: консистория свирепствует? Это означает:
отлучает от церкви и передает преступника в Совет. Таким образом, из
опасения, как бы консистория не отправила в суд Совета виновного
без особых на то оснований, Эдикт сразу передает его дело в Совет.
Это совсем другая мера предосторожности. Достойно восхищения
то, что в том же самом случае закон принимает столько мер,
препятствуя консистории быстро назначить свирепое наказание, и он
не принимает каких-либо мер с целью воспрепятствовать Совету
сделать то же самое; что он уделяет столько внимания тому, чтобы
не допустить клеветы, и при этом не уделяет никакого внимания
тому, чтобы не допускать пытки; что он заботится о многом, дабы
человека некстати не отлучили от церкви, и при этом нисколько не
заботится о том, чтобы его некстати не сожгли, и он более
опасается суровости священнослужителей и так мало опасается суровости
судей! Учитывать значение религиозного общения верующих было,
конечно, очень правильно; но неправильно не учитывать значение
их безопасности, свободы, жизни; и та же самая религия, которая
предписывала своим стражам столько снисхождения, не должна
потворствовать варварству тех, кто за нее мстит.
Вот, тем не менее, по мнению нашего автора, существенный
довод, почему Ордонанс не пожелал сказать того, о чем он умолчал.
* См.. к примеру, «Учебник для инквизиторов»37.
363
*\-
Жан-Жак Руссо
Я полагаю, что изложить его содержание означает вполне
достаточно разъяснить этот довод. Перейдем теперь к тому, как
применяются нормы Ордонанса; и это не менее любопытно, чем его
толкование.
Статья 88 касается только тех, кто лжеучительствует о догматах,
кто преподает, кто наставляет в них. Она вовсе не имеет в виду
простого автора, человека, который всего лишь опубликовал свою
книгу и, кроме того, удалился от дел. По правде говоря, это отличие
кажется мне в какой-то мере тонким; ибо, как замечательно
говорят сторонники Представлений, мы рассуждаем о догматах как
письменно, так и устно. Но давайте не спорить об этой тонкости; и тогда
мы обнаружим немало отличий, говорящих в пользу смягчения
действия закона.
Во всех государствах мира блюстители порядка самым
тщательным образом надзирают за теми, кто наставляет в догматах,
преподает их, лжеучительствует о них: они доверяют эти полномочия
только лицам, облеченным властью; не разрешается проповедовать
даже правильное вероучение, если человек не принял сан
проповедника. Ослепленный народ падок на соблазн; человек, лжеучитель-
ствующий о догматах, собирает толпу и в скором времени может
взбунтовать ее. Малейшее предприятие в этом отношении всегда
считается наказуемым покушением в силу последствий, к которым
оно может привести.
С автором книги дело обстоит иначе; если он научает чему-то, то
уж совсем не собирает толпу и не пытается ее взбунтовать; он
никого не принуждает его слушать или читать; он не пытается с вами
сблизиться, он, так сказать, приходит только тогда, когда вы его
сами позовете; он дает вам возможность размышлять над тем, что
он вам говорит, и совсем не затевает споров, не воодушевляется, не
упорствует, не разрешает ваши сомнения, не снимает ваши
возражения, не преследует вас; вы не хотите с ним знаться, и он того не
хочет; и, что особенно важно, он не обращается к народу.
Итак, ни одно правительство никогда не считало публикацию
книги проступком со стороны наставника в догматах. В некоторых
странах даже существует полная свобода печати; но нет ни одной
страны, в которой всем позволено лжеучительствовать о догматах,
как им заблагорассудится. В странах, где запрещено печатать книги
без разрешения, те, кто ослушиваются, несут иногда за это
наказание; однако доказательством в пользу того, что, в сущности, то,
364
Письма с Горы
о чем говорится в книге, не считают чем-то важным, является та
легкость, с которой ввозят в страну те самые книги, что там не
позволяется печатать, чтобы никто не подумал, будто одобряют
содержащиеся в них положения.
Все это так и есть, особенно для книг, написанных вовсе не для
народа, каковыми всегда были мои книги. Я знаю, что ваш Совет
утверждает в своих ответах, что, «согласно намерениям автора,
"Эмиль" должен служить руководством для матерей и отцов»: но
это утверждение неверно, поскольку я в предисловии и множество
раз в самой книге писал о совершенно ином намерении. Речь идет
о новых взглядах на воспитание, план которого я вынес на суд
мудрых, а не о способе воспитания, предназначенном для отцов и
матерей. О последнем я и не помышлял. Если иногда и кажется, что я,
используя достаточно привычный оборот речи, обращался к ним,
то либо для того, чтобы меня лучше поняли, либо для того, чтобы
выразить мысли в немногих словах. Правда состоит в том, что я
начал писать мою книгу по просьбе одной матери; однако эта мать,
совсем юная и любезная, была не лишена философского склада ума,
и ей было знакомо человеческое сердце; ее внешность —
украшение женщины, а дарования — редкость. Именно ради женщин с ее
складом ума я и взялся за перо, не ради господина такого-то и
такого-то, не ради всех прочих господ подобной закваски, которые
читают меня, не понимая, и оскорбляют меня, отнюдь тем не огорчая.
Из предположения, сделанного о подобном различии, следует,
что если расследование, требуемое Ордонансом в отношении
человека, который лжеучительствует о догматах, не применимо в
отношении автора книги, то потому, что оно слишком сурово по
отношению к этому последнему. Этот вывод, столь естественный, вывод,
который вы и все мои читатели наверняка сделаете вместе со мной,
вовсе не тот, что делает автор «Писем». Он делает вывод прямо
противоположный. Следует послушать, что он говорит: вы бы ни
за что мне не поверили, если бы я не привел вам его собственные
слова.
«Достаточно лишь прочитать эту статью Ордонанса, и станет
очевидно, что в нем подразумевается разряд лиц, которые в своих
речах распространяют убеждения, считающиеся опасными. "И если
эти люди примирятся с церковью, — говорится там, — пусть их не
очерняют". Почему? Да потому что есть разумная уверенность, что
они больше не будут сеять эту сорную траву, и тогда их не следует
365
*\
Жан-Жак Руссо
опасаться. Но какая разница, чистосердечен или нет отказ от своих
слов того, кто печатно распространяет на весь мир свои мнения?
Правонарушение совершено, оно останется таковым навсегда; и с
точки зрения закона это правонарушение ничем не отличается от
прочих, в которых раскаяние бесполезно с того времени, как
правосудие в нем уличило».
Есть от чего прийти в волнение; но давайте успокоимся и
порассуждаем. Покуда человек имеет возможность лжеучительствовать
о догматах, он продолжает творить зло; и до того момента, как он
исправится, его следует опасаться; его свобода сама по себе — зло,
поскольку он использует ее, чтобы причинять вред, продолжая
лжеучительствовать о догматах. Пусть он в конце концов
исправился, неважно; ведь уроки, которые он преподнес, остаются
действенными, и правонарушение совершено в полной мере. Напротив, как
только книга опубликована, автор больше не причиняет зла, его
причиняет только книга. Не важно, свободен ли автор или
арестован, книга живет своей жизнью. Лишение автора свободы может
быть наказанием, назначенным законом; но оно никогда не станет
ни средством исправления зла, совершенного им, ни средством
остановить его распространение.
Таким образом, лекарства против этих двух зол суть разные.
Чтобы устранить источник зла, заключенный в ложном учении
о догматах, не существует иного более быстрого и надежного
способа, кроме ареста: но арестовать автора означает ничего не
исправить; напротив, это означает сделать книгу более популярной
и, как следствие, усугубить зло, как на этот счет очень правильно
замечает автор «Писем» в другом месте. И это не предварительное
расследование, предшествующее основному, не необходимые в
подобном случае меры предосторожности, но наказание должно
понести лишь в силу судебного решения, и польза от него сводится
к каре виновного. Если только его правонарушение не является
гражданским правонарушением, то сначала следует провести с ним
беседу, предупредить, убедить, призвать его исправить
причиненное им зло, призвать его прилюдно отказаться от своих слов,
сделать так, чтобы этот отказ стал чистосердечным и произвел свое
действие, и заставить его поступить таким образом, чтобы его
новые мнения переубедили тех, кого ввели в заблуждение мнения,
высказанные ранее. В случае же если он не исправится, если он
366
Письма с Горы
упорствует в ошибке, тогда только надлежит поступить с ним по
всей строгости. Именно так по-хорошему следует вести дело, и
такова цель закона; такова цель мудрого правительства, «которое
должно в большей мере стремиться воспрепятствовать
распространению влияния его произведения, чем подвергать автора
наказанию».
Да разве это правительство не проявит мудрость в отношении
автора книги, раз Ордонанс, согласный во всех отношениях с
духом христианства, даже не подразумевает арест того, кто
лжеучительствует о догматах, до того как будут использованы все
возможные средства, чтобы обратить его к исполнению долга? Согласно его
статьям, не так страшна опасность того, что он будет продолжать
творить зло, как пренебрежение милосердием. Объясните,
пожалуйста, каким образом из этого можно заключить: этот самый
Ордонанс требует, чтобы первым делом выдали постановление об
аресте автора?
Тем не менее автор «Писем», заявив, что обнаружил достаточно
правил на этот счет в правилах, которые разделяют сторонники
Представлений, добавляет: «Но эти правила не являются
правилами, почерпнутыми из наших законов»; и мгновенье спустя он
добавляет еще: «Те, кто склоняется к безусловной терпимости, могли
бы всего-навсего подвергнуть Совет критике за то, что тот
замалчивает закон, применение которого не кажется ему уместным в
данном случае». Этот вывод должен вызвать удивление: после стольких
усилий, предпринятых для доказательства того, что единственный
закон, который, как кажется, следует применить для наказания за
мое правонарушение, нет нужды применять. То, за что упрекают
Совет, заключается отнюдь не в том, что он замалчивает
существующий закон, но в том, что он заставляет говорить не
существующий закон.
Логика, используемая автором, кажется мне невиданной. А что
вы об этом думаете сударь? Много ли вам известно доводов
следующего вида?
Закон заставляет Совет сурово поступать в отношении автора
книги.
И какой же закон заставляет Совет сурово поступать по
отношению к автору книги?
367
*\
Жан-Жак Руссо
По правде говоря, он не существует; однако существует другой,
предписывающий снисходительное отношение к тому, кто
лжеучительствует о догматах и, как следствие, предписывает суровое
обхождение с автором, о котором этот, закон вообще не
упоминает.
Это рассуждение выглядит еще более странным в глазах того,
кто знает, что Морелли судили как автора книги, а не как того, кто
лжеучительствовал о догматах: он тоже написал книгу, и его за это
обвинили. Состав преступления, по мысли нашего автора,
заключался в самой книге; показания автора не нужно было заслушивать в
суде; однако их заслушали, и не только заслушали, но ждали его
прихода; они скрупулезно провели следствие, предписанное этой самой
статьей Ордонанса, которая гласит, что не следует обращать
внимание ни на книги, ни на автора. Они даже сожгли книгу только после
бегства автора; никто не выдавал приказов о его аресте, о палаче
и речи не шло *; наконец, все это было сделано составителями
Ордонанса на глазах у законодателя в то самое время, когда этот
Ордонанс только что был принят и когда царила та самая суровость,
которая, по мнению нашего безымянного автора, побудила к его
составлению и на которую он ссылается весьма ясно, оправдывая
суровость, проявленную ныне в отношении меня.
Кроме того, посмотрите, какое различие он проводит. Рассказав
о том, как мягко обошлись с Морелли, о времени, которое ему дали
на исправление, о медленном и скрупулезном расследовании,
проведенном в отношении его поступка до того, как сожгли его книгу,
он добавляет: «Весь этот порядок расследования благоразумен.
Однако можно ли отсюда заключить, что во всех случаях, и в случаях
* Добавьте к этому осторожность магистрата во всем этом деле, медленное и
постепенное расследование, доклад консистории, торжественность принятия
судебного решения. Синдики входят в судебное присутствие, они взывают к имени
Божиему, перед ними — Святое Писание; по зрелому рассуждению, выслушав
и приняв во внимание советы граждан, они объявляют народу свое решение,
чтобы тот знал его основания; они напечатали и обнародовали свое решение, и все это
было сделано, чтобы просто осудить книгу, а не ради того, чтобы опозорить ее
автора, выдав приказ о его аресте, хоть он и упорствовал в своих заблуждениях
и не явился в суд. С тех пор эти господа научились менее церемонно обходиться
с честью и свободой людей, и в особенности граждан; ибо следует заметить, что
Морелли гражданином не был.
368
Письма с Горы
весьма различных, было бы необходимо его использовать? Должно
ли вести судебное дело против отсутствующего человека,
покушающегося на религию, точно так же, как в отношении
присутствующего человека, осуждающего предписания церкви?» Иными словами,
это означает: «должно ли вести судебное дело против человека,
который совсем не нападает на законы и живет вне их юрисдикции,
с той же мягкостью, что и против человека, живущего под их
юрисдикцией и на них покушающегося?» В самом деле, как
представляется, вопрос не в этом. Я уверен, что никогда раньше в
человеческий ум не приходила мысль усугубить наказание виновного только
по той причине, что преступление было совершено им вне пределов
государства. «По правде говоря, — продолжает он, — авторы
Представлений замечают, что в пользу господина Руссо говорит то, что
Морелли писал против предписаний церкви, тогда как книги
господина Руссо, по мнению судей, направлены против религии. Но хотя
с этим замечанием согласны далеко не все, и те, кто считает
религию творением Божьим и опорой государственного устройства,
рассудили бы, что в меньшей степени разрешено нападать на
религию, чем на предписания церкви, которые, будучи всего лишь
творением людей, могут содержать ошибки или, по меньшей мере,
отличаться бесконечным разнообразием видов и составов».
Эта речь, я это признаю, кажется мне более уместной в устах
монаха, но неприятно поразила меня, коль скоро она вышла из-под
пера магистрата. Какое значение имеет то, что замечание
сторонников Представлений одобряют не все, если те, кто его оспаривает,
просто-напросто неверно рассуждают?
Нападки на религию, несомненно, больший грех перед Богом,
чем нападки на предписания церкви. Но иначе дело обстоит в суде
человеческом, созданном для того, чтобы наказывать за
преступления, но не за прегрешения: он творит возмездие не за Господа, а за
нарушение законов.
Религия не может быть составной частью законодательства,
кроме как в отношении человеческих поступков. Закон
предписывает совершать действия или воздерживаться от них; но он не
может приказать верить. Таким образом, тот, кто вообще не
совершает нападок на религиозные обряды, вовсе не нападает и на закон.
Однако церковное благочиние, установленное законом,
является, в сущности, составной частью законодательства; это благочиние
369
*\
Жан-Жак Руссо
само становится законом. Тот, кто нападает на религию, нападает
и на закон, стремится уничтожить государственный строй. И хотя
этот строй, до того как он установлен, отличается бесконечным
разнообразием видов и составов, является ли он по этой причине
менее уважаемым и священным, когда принимает один из этих
видов, отличный от других; с этих пор не становится ли политический
закон столь же постоянным и столь же твердо установленным, как
и закон Божий?
Те, кто не согласен в этом деле с замечанием сторонников
Представлений, были бы не правы еще и потому, что это замечание
сделал сам Совет в приговоре против книги Морелли, которую он
обвинял, в частности, «в стремлении внести раскол и нарушить
спокойствие в государстве путем мятежа»; обвинение это трудно
выдвинуть против моей книги.
Все то, что гражданские суды обязаны защищать, касается
Господа, а не людей; на них возложено попечение не о душах, а
попечение о лицах; они являются подлинными хранителями
государства, но не хранителями Церкви; и если они вмешиваются в дела
религии, то только в той мере, в какой эти дела относятся к
ведомству законов и в какой они важны для поддержания надлежащего
порядка и общественного спокойствия. Вот разумные правила,
предписанные магистратам. И это, если угодно, учение не о
безграничной власти, а о правосудии и разуме. Если когда-нибудь в
гражданских судах от них отступят, то в стране возникнут самые
пагубные злоупотребления, волнения, а законы и их власть превратятся
лишь в самое отвратительное мошенничество. Мне досадно за
народ города Женевы, что Совет достаточно часто пренебрегает ими,
пытаясь обольстить его подобными речами, которыми не обманешь
даже самых ограниченных и самых суеверных жителей Европы.
Относительно этой статьи Ордонанса ваши сторонники
Представлений рассуждают как государственные мужи, а ваши
магистраты — как монахи.
Чтобы доказать, что пример Морелли не является правилом в
моем случае, автор «Писем» противопоставляет расследование
против него расследованию, которое в 1632 году учинили в отношении
Николя Антуана38, бедного безумца, приговоренного Советом к
сожжению ради спасения его души по настоянию пасторов. Некогда
эти аутодафе были нередки в Женеве; и, кажется, ради меня эти
господа были бы не прочь их возродить.
370
Письма с Горы у*
Начнем все же с того, что приведем точные выдержки, не
подражая способу рассуждений моих гонителей.
Давайте рассмотрим процесс Николя Антуана. Церковный
Ордонанс уже существовал, и прошло немного времени с тех пор,
как он был составлен, и понять его смысл было нетрудно: было
ли дело Антуана передано в консисторию? Однако среди стольких
голосов, поднявшихся против этого кровожадного приговора,
и среди стольких усилий, приложенных людьми гуманными
и умеренными для его спасения, хоть один голос возражал против
правомерности расследования? Морелли вызвали в консисторию,
Антуана нет; вызов в консисторию, таким образом, в обоих
случаях не был обязательным.
Вы полагаете, что Совет сразу повел дело против Николя Антуана
так же, как он провел его против меня, и что, значит, речь не шла ни
о консистории, ни о священнослужителях: вскоре вы это увидите.
Во время одного из припадков бешенства Николя Антуан был на
грани того, чтобы броситься в Рону, и магистрат определил забрать
его из его городского жилища, где тот находился, чтобы поместить
в лечебницу, где его лечили врачи. Он оставался там в течение
некоторого времени, выкрикивая различные богохульства против
христианской религии. «Священнослужители посещали его каждый
день и пытались заставить его отказаться от заблуждений,
поскольку его ярость, казалось, немного утихла; это не возымело своего
действия, поскольку Антуан сказал, что он будет упорствовать в
своих суждениях до самой смерти и готов пострадать во имя славы
великого Бога Израиля. Не преуспев в своем деле, священники
поставили в известность об этом Совет и описали его еще хуже, чем
Сервета, Жантилиса39 и всех прочих противников догмата о
единосущной Троице, сделав вывод, что его следует заключить под
стражу; так и поступили».
Вы понимаете, почему его не вызвали в консисторию: потому
что, будучи тяжело больным и находясь на руках у врачей, он не мог
перед ней предстать. Но если он не пошел в консисторию, то
консистория или ее члены ходили к нему; священнослужители посещали
его каждый день, увещевали его. Наконец, ничего не добившись от
него, они изобличили его в Совете, охарактеризовав его еще хуже,
чем тех, кого наказали смертью, а затем потребовали, чтобы его
заключили в тюрьму; и по их требованию это и было исполнено.
371
<-\.
Жан-Жак Руссо
Даже в тюрьме священнослужители прилагали все усилия,
наставляя его на путь истинный, вступали с ним в спор относительно
различных отрывков Ветхого Завета и заклинали его самым
трогательным образом, какой только могли придумать, чтобы он
отказался от своих заблуждений *; но тот твердо стоял на своем. Он
остался тверд перед лицом магистрата, который подверг его обычному
допросу. Когда встал вопрос о том, как решить это дело, магистрат
еще раз посоветовался со священнослужителями, явившимися в
Совет в количестве пятнадцати человек; среди них были и пасторы,
и профессора университета. Их мнения разделились, но согласились
с мнением большинства, и Николя казнили. Таким образом,
получается, что процесс оказался полностью церковным и Николя был,
можно так сказать, сожжен руками священнослужителей.
Таков был, сударь, порядок расследования, во время которого,
как уверяет нас автор «Писем», Николя не вызвали в консисторию,
из чего он заключает, что этот вызов не всегда является
обязательным. Кажется ли вам удачным этот пример?
Предположим, что он таковым и является, но что же из него
следует? Сторонники Представлений делали вывод, приняв во
внимание факты, и тем подтверждали наличие закона. Автор «Писем»
сделал вывод, рассматривая факты, вопреки закону. Если весомость
каждого из этих фактов опровергает другой, то закон сохраняет
полную силу. Закон этот, хотя его однажды и нарушили, является ли по
этой причине двусмысленным? И достаточно ли хоть раз его
нарушить, чтобы получить право нарушать его всегда?
Давайте сделаем вывод в свой черед. Если я лжеучительствую
о догматах, то мой случай, конечно же, подпадает под действие
закона; если же я не лжеучительствую о догматах, то в чем меня
можно упрекнуть? Нет закона, который высказался бы на мой счет**.
* Если бы он заявил, что раскаялся, то его все равно бы сожгли? Согласно
убеждениям автора «Писем», так и следовало поступить. Тем не менее, как мне
кажется, его не сожгли бы, поскольку, несмотря на его упрямство, магистрат постоянно
запрашивал мнение пасторов. Он считал Антуана находящимся до некоторой
степени в юрисдикции пасторов.
** Ничто из того, что не противоречит природному закону, не становится
преступным, кроме случаев, когда это запрещено каким-либо положительным
законом. Это замечание ставит целью дать понять поверхностным мыслителям, что
моя дилемма точна.
372
Письма с Горы
Ведь, таким образом, был нарушен существующий закон или
предполагали наличие несуществующего закона.
Допустим, что, осуждая сочинение, не осудили окончательно
автора: был всего-навсего издан указ о его аресте, а это не имеет
значения. Тем не менее мне это кажется жестоким, но давайте никогда
не проявлять несправедливость даже по отношению к тем, кто
несправедлив по отношению к нам, и постараемся, насколько это
возможно, сами быть справедливыми. Я нисколько не упрекаю ни
Совет, ни даже автора «Писем» за то различие, которое они проводят
между человеком и его книгой, дабы снять с себя вину за то, что
меня осудили, так и не заслушав в суде. Судьи могли рассматривать
вопрос в том свете, в каком им его представили; таким образом,
здесь я их не обвиняю ни в мошенничестве, ни в вероломстве; я их
обвиняю только в том, что они ошиблись в отношении меня в одном
очень важном пункте: но ошибиться, освободив от наказания, —
вещь простительная; а вот ошибиться и при этом наказать есть
ошибка куда более серьезная.
В своих ответах Совет утверждал, что, несмотря на клеймо
позора на моей книге, у меня оставалось полное право защищать мою
личность и возражать.
Авторы Представлений отвечают, что они не понимают, какие
возражения и средства защиты остаются в руках у человека,
объявленного безбожником, безрассудным, грешником, книги которого,
опубликованные под его именем, заклеймены рукой палача.
«Вы предполагаете то, чего на самом деле не существует, —
возражает на это автор "Писем", — а именно: что приговор касается
того, чье имя значится на произведении: но этот приговор его еще
не коснулся; все возражения и средства защиты остаются в полном
его распоряжении».
Вы сами ошибаетесь, сказал бы я этому писателю. Верно то, что
приговор, осудивший и заклеймивший книгу, еще не затрагивает
жизнь ее автора; но он уже погубил его честь; возражения и
средства защиты остаются в его полном распоряжении в том, что
касается телесного наказания; но он уже понес наказание позорящее: он
уже заклеймен и обесчещен, насколько судьям удалось это сделать;
и единственное, что осталось им, — решить, сжечь его или нет.
Различие между автором и книгой здесь бессмысленно,
поскольку книгу невозможно наказать. Книга не является сама по
себе ни безбожной, ни безрассудной; эти эпитеты могут относиться
373
«^ч.
Жан-Жак Руссо
только к учению, содержащемуся в ней, точнее, к ее автору. Когда
сжигают книгу, то что при этом делает палач? Разве он бесчестит
страницы книги? Кто-нибудь слышал, что книга имеет честь?
Вот заблуждение; а вот его источник — плохо понятый обычай.
Люди пишут много книг; но мало пишут книг с искренним
желанием стать лучше. Из сотни произведений, выходящих в свет, по
крайней мере шестьдесят заключают в себе стремление к выгоде
или честолюбие. Тридцать прочих, внушены предвзятостью, дышат
ненавистью, несут на люди под покровом анонимности яд клеветы
и насмешки. Может быть, десяток книг, да и это много, написаны
с добрыми намерениями: в них говорят правду, которую знают,
и взыскуют добро, которое любят. Да. Но кто же тот человек, кому
простят то, что он сказал правду? Нужно ли скрывать свое имя,
чтобы ее высказать? Чтобы безнаказанно принести пользу, люди
выпускают книгу в свет и исчезают.
Из этих книг немногие — плохие, а почти что все хорошие по
навету запрещены судами: причина сего очевидна, и не нужно ее
объяснять. Причем это все — условность, к которой прибегают для
того, чтобы не оказывать молчаливой поддержки этим книгам.
А в остальном — главное, чтобы на книгах не стояли имена
авторов, хотя все их знают и называют, главное, чтобы они не были
известны магистрату. Принято даже признавать авторство книг,
стремясь снискать себе почести, и не признавать его, тем обезопасив
себя; один и тот же человек назовет себя автором или не назовет
в присутствии одного и того же человека, в зависимости от того,
встретится ли он с ним на судебном заседании или на званом
ужине. То есть, он скажет «да» или «нет» без всяких затруднений, без
лишней щепетильности. Таким образом, тщеславие ни во что не
ставит безопасность. Здесь автор «Писем» упрекает меня в
отсутствии осторожности и ловкости, которая, впрочем, как мне
кажется, не требует слишком большого ума.
Этот способ преследовать книги, напечатанные без имени
автора, авторов которых и знать не хотят, стал обычаем в наших судах.
Когда хотят сурово обойтись с книгой, то ее сжигают, поскольку
никого не вызывают в суд и поскольку вполне понятно, что автор,
скрывающий свое имя, не спешит признать свое авторство, кроме
случаев, когда он хочет вечерком посмеяться по поводу розыска,
объявленного против него сегодня утром. Таков обычай.
374
Письма с Горы
•^»
Но как только какой-нибудь неопытный автор, а именно автор,
осознающий свой долг и желающий его исполнить, считает себя
обязанным говорить людям только то, что он готов признать,
назвав свое имя, и, не скрываясь, держать ответ, вот тогда
справедливость, которая не должна наказывать за неопытность человека
чести, требует, чтобы расследование проводилось иначе; она требует,
чтобы никоим образом не отделяли судебное дело о книге от
судебного дела в отношении человека, поскольку тот заявляет, ставя
свое имя, что не желает отделять одно от другого; она требует,
чтобы произведение, которое не может держать ответ в суде, судили
только после того, как заслушают автора. Таким образом, несмотря
на то что осуждение книги без имени автора есть только осуждение
книги, осуждение книги, носящей имя автора, есть осуждение
самого автора; и когда ему не дают никакой возможности держать
ответ — это означает судить без вызова в суд.
Предварительный вызов в суд и даже, если угодно,
постановление об аресте является в этом случае совершенно необходимым,
прежде чем приступить в суде к рассмотрению дела о книге; и
совершенно напрасно утверждать вместе с автором «Писем», что
правонарушение, очевидно, заключается в публикации книги: все это
никоим образом не освобождает от обязанности соблюдать порядок
рассмотрения дела в суде, принятый при исследовании самых
серьезных преступлений, наиболее явных и вполне
засвидетельствованных. Ибо если бы весь город увидел, что один человек убил
другого, то убийцу не стали бы судить, не заслушав его в суде или не
предоставив ему такой возможности.
И с какой стати эта смелость автора, не скрывающего свое имя,
оборачивается против него? Не заслуживает ли она, напротив,
уважения? Не должна ли она внушать судьям больше
осмотрительности, чем в случае, если бы он скрывал свое имя? Рассматривая
щекотливые вопросы, зачем ему таким образом было бы ставить себя
под удар, если он не чувствовал себя в полной безопасности
благодаря доводам, которые он мог бы привести в свою защиту и которые,
как можно предположить, принимая во внимание его поведение,
заслуживают того, чтобы к ним прислушались? Напрасно автор
«Писем» назовет это поведение неосторожностью или
оплошностью, оно от этого не перестает быть поведением человека чести,
соблюдающего свой долг там, где остальные видят лишь
неосторожность, понимающего, что ему не следует опасаться, что кто-то
375
*\
Жан-Жак Руссо
захочет поступить с ним по справедливости, и считающего
обнародование мыслей, авторство которых не желают признавать,
трусостью, заслуживающей наказания.
Если вопрос заключается лишь в добром имени автора, то какая
необходимость ставить свое имя на книге? Кто не знает, как люди
берутся за дело, чтобы при этом не потерять честь, ничем при этом
не рискуя, похваляться своим поступком, не неся за него
ответственности, принимая смиренный вид, за которым скрывается
тщеславие? Кому из авторов известного полета не знакомы подобные
проделки? Кто из них не знает, что назвать свое имя значит унизить
собственное достоинство, как будто никто не догадается, прочитав
произведение, кто тот великий человек, который его создал?
Однако эти господа заметили в моем поведении знакомый
обычай; и далекие от того, чтобы увидеть в этом исключение из правил,
свидетельствующее в мою пользу, они сделали так, чтобы оно
обернулось против меня. Им следовало сжечь книгу без упоминания
автора или же, если они поставили ее в упрек автору, подождать, пока
он явится в суд, или осудить его заочно, а потом книгу сжечь. Но
нет; они сжигают книгу так, как если бы ее автор был никому
неизвестен, и издают постановление об его аресте так, словно книгу не
сжигали. Издать постановление о моем аресте после того, как меня
оклеветали! Чего же они еще хотят от меня? Что еще более худшее
они приготовили для меня в дальнейшем? Или им не известно, что
честь порядочного человека для него дороже жизни? Какое
большее зло они задумали ему причинить, раз уж начали с того, что его
заклеймили позором? Зачем мне заявлять перед судьями о моей
невиновности, когда то, как они со мной обошлись, еще не выслушав
меня, является более жестоким наказанием, чем то, которому
можно было бы меня подвергнуть, будь я осужден как преступник?
Начали с того, что стали ко мне относиться как к злодею,
который и честь уже потерял и которого отныне можно подвергнуть
только телесному наказанию; а потом они безмятежно заявляют,
что за мной остаются все возможности возражать и средства
защиты! Однако каким образом все это смоет бесчестье и зло, а их с
самого начала мне предстоит претерпеть как автору книги и как
человеку, когда лучники40 проведут меня по улицам, когда к болезням
одолевающим меня, позаботятся добавить тяготы тюремного
заключения! Так вот как! Ради того, чтобы быть справедливым,
должно поместить в один и тот же разряд и одинаково обходиться со
376
Письма с Горы
всеми людьми, совершившими ошибки? Следует ли для начала,
словно злодея, заключить в тюрьму безупречного гражданина за
чистосердечный поступок, который назвали оплошностью? И какое
преимущество будет в глазах судей давать уважение общества и
порядочность на протяжении целой жизни, если пятьдесят лет
честной жизни без малейшего упрека * не спасают человека от
оскорблений?
Довод о сравнении «Эмиля» и «Общественного договора»
с другими произведениями, к которым относились терпимо, и тот
упрек в пристрастном отношении, что, пользуясь случаем,
бросили Совету, не кажутся мне обоснованными. Было бы
неправильно рассуждать так, словно правительство обязано всегда
скрывать свои мысли потому, что оно однажды якобы это сделало:
если это — небрежность, то ее можно исправить; если это было
умолчание в силу некоторых обстоятельств или политических
соображений, то не вполне справедливо на этом основании его
упрекать. Я далек от того, чтобы оправдывать произведения,
перечисленные в Представлениях; но, по совести, разве не
существует различий между книгами, где имеют место разрозненные
и бестактные уколы в адрес религии, и книгами, где без обиняков,
беспощадно нападают на нее и ее догматы, на мораль, на то
влияние, которое она производит на гражданское общество?
Давайте же беспристрастно сравним эти произведения, давайте судить
о них по тому впечатлению, которое они произвели на всех: одни
печатаются и распродаются везде; известно, какой прием там был
оказан иным книгам.
Я счел своим долгом для начала привести этот параграф
полностью; теперь я снова вернусь к его рассмотрению, но уже по частям:
он немного заслуживает отдельного рассмотрения.
* При тщательном исследовании можно было бы опровергнуть множество
предположений, которые автор «Писем» якобы собрал против меня. Например, он
утверждает, что принятые к рассмотрению суда книги выходили в том же самом
формате, что и прочие мои произведения. Правда заключается в том, что их
напечатали в восьмую и двенадцатую долю листа: в каком формате выходят книги
прочих авторов? Он добавляет, что они были напечатаны тем же самым
книгоиздателем; а вот это - неправда. «Эмиль» был напечатан не моим
книгоиздателем и шрифтом, который не встречается в публикациях моих сочинений. Таким
образом, замечание, основанное на этом сравнении, ко мне не относится, одно
оно уже содержит мое оправдание.
377
«-\.
Жан-Жак Руссо
Чего только не печатают в Женеве! К чему только там терпеливо
не относятся! Произведения, при чтении которых едва
сдерживаешь возмущение, продаются там свободно; все их читают, всем они
нравятся; магистрат молчит, священники улыбаются; суровый вид
уже не в ходу. Один только я и мои книги заслужили порицание
Совета; и какое порицание! Нельзя даже и представить себе что-то
более жестокое и более ужасное. Бог мой! Я никогда и не думал, что
я — самый отъявленный злодей!
«Сравнение "Эмиля" и "Общественного договора" с другими
произведениями, к которым относились терпимо <...> не кажется
мне обоснованным». Ах! Я на это надеюсь.
«Было бы неправильно рассуждать, что правительство обязано
всегда скрывать свои мысли». Допустим; но примите во внимание
время, обстоятельства, лица; примите во внимание сочинения,
мысли о которых скрывают, и сочинения, выбранные для того, чтобы
их не скрывать; примите во внимание авторов, чествуемых в
Женеве, и посмотрите на тех, кого там преследуют.
«Если это — небрежность со стороны правительства, то ее
можно исправить». Можно было так и сделать, и даже должно, но ведь
так не сделали! Эти сочинения и их автора заклеймили позором
незаслуженно, а к тем, кто это заслужил, относятся не менее терпимо,
чем прежде. Исключение сделано только для меня одного.
«Если это умолчание в силу некоторых обстоятельств или
политических соображений, то не вполне справедливо на этом
основании бросить ему упрек». Если вас вынуждают терпимо относиться
к сочинениям, достойным наказания, то соблаговолите терпимо
относиться к тем, которые таковыми не являются. Приличия
требуют, чтобы по крайней мере от народа скрывали это неприличное
отношение к лицам: наказывают слабого и невиновного за ошибки
сильного и виноватого. Ну и ну! Являются ли доводами эти
позорные различия и будут ли с их помощью и в дальнейшем
обманывать людей? Не скажут ли в таком случае, что участь немногих
непристойных сатиров в глазах властителей важнее и что ваш город
будет уничтожен, если в нем не станут терпимо относиться, не будут
печатать и свободно продавать произведения, которые запрещены
на родине их авторов?41 Народы! Как же часто вас в этом уверяют,
прибегая к вмешательству держав42, дабы узаконить зло, о котором
они ничего не знают и которое хотят от их имени позволить
творить!
378
Письма с Горы
Когда я приехал в этот край, можно было подумать, что все
королевство Франции гналось за мной по пятам: мои книги сжигают
в Женеве с целью угодить Франции; здесь объявляют о моем аресте:
Франция тоже этого хочет; меня изгоняют из Бернского кантона:
Франция этого потребовала; меня преследуют вплоть до этих гор;
если бы меня смогли изгнать и отсюда, то это было бы опять по
настоянию Франции. Я вынужден написать оправдательное письмо
под грузом тысячи оскорблений. На этот раз все пропало. Я
находился в тисках, под надзором. Франция посылала своих шпионов
следить за мной, своих солдат, чтобы меня похитить, разбойников
с целью меня убить; даже выходить за дверь стало опасно. Все
опасности исходили от Франции, от парламента, от духовенства, даже
от двора; никогда в жизни бедный бумагомаратель, на беду свою,
не становился столь значимым лицом. Устав совершать глупости,
я еду во Францию; я знал французов, и в их обществе я был
несчастлив! Меня принимают, я обласкан тысячью любезностей, и лишь от
меня зависело пользоваться ими еще дольше. Я спокойно
возвращаюсь к себе домой. Люди были просто изумлены, глазам своим не
верили, осуждали мое легкомыслие, но мне перестали угрожать
Францией. Они правы. Если когда-нибудь убийцы соизволят положить
конец моим страданиям, то, конечно же, они явятся не из этой страны.
Я нисколько не ошибаюсь насчет различных причин моих
напастей; я достаточно умею отличать те из них, которые являются
следствием обстоятельств, следствием печальной необходимости, от тех,
которые проистекают исключительно от ненависти моих врагов.
Ну, дай Бог, чтобы у меня этих врагов в Женеве было не больше,
чем во Франции, и чтобы в ней они не оказались более
непримиримыми! Сегодня всем известно, откуда наносили по мне наиболее
чувствительные удары. Люди в ваших краях упрекают меня самого
в моих бедах, как будто они не приложили к этому руку. Какая
коварная жестокость — предъявлять мне обвинения за преступления
в Женеве на том основании, что против меня возбудили
преследования в Швейцарии43, и обвинять меня в том, что меня нигде не
принимают, изгоняя отовсюду? Должен ли я винить дружбу,
позвавшую меня в эти края, за то, что они находятся по соседству
с ней? Смею призвать в свидетели все народы Европы: есть ли хоть
один народ, за исключением швейцарцев, где меня не принимали
бы с почестями? Тем не менее должен ли я сетовать, избрав себе
убежище? Нет, несмотря на столько жестокостей и оскорблений,
379
f\.
Жан-Жак Руссо
я больше выиграл, чем проиграл; я встретил человека, великую
и благородную душу. О, Джордж Кейт! Мой покровитель, мой друг,
мой отец! Где бы вы ни были, где бы я ни окончил мои грустные дни,
и даже если я никогда в жизни больше вас не увижу, нет, я никогда
не упрекну небо в моих несчастьях: благодаря им я заслужил Вашу
дружбу.
Но, по совести, разве не существует различий между книгами,
где имеют место разрозненные и бестактные уколы в адрес
религии, и книгами, где без обиняков, беспощадно нападают на нее
и ее догматы, на мораль, на то влияние, которое она производит
на гражданское общество?
По совести!.. Не стоит напоминать о совести такому безбожнику
как я... особенно в присутствии этих добрых христиан... таким
образом, я умолкаю... однако это странная совесть заставляет
магистратов говорить: «Мы охотно терпим богохульство, но мы не терпим,
когда лжеучительствуют!» Давайте, сударь, не станем принимать во
внимание это различие, ведь размышляя именно таким образом,
афиняне аплодировали кощунственным речам Аристофана и
казнили Сократа.
Одно только вызывает у меня доверие к установленным мною
началам, а именно: возможность найти им верное применение в тех
случаях, которые я менее всего мог предвидеть; о таком случае
здесь идет речь. Одно из правил, вытекающих из исследования,
которое я провел о религии и о существенно важном в ней, есть то, что
людям позволительно вмешиваться в верования другого человека
лишь в вопросах, затрагивающих только их; отсюда следует, что они
никогда не должны наказывать за оскорбления Господа *, который
* Заметьте, что я не употребляю выражение «оскорбить Бога» в обычном
значении, хотя я и очень далек от мысли согласиться с его употреблением в прямом
значении и нахожу это неуместным; как будто любое существо, кем бы оно ни
было, человеком, ангелом, даже дьяволом, в состоянии оскорбить Господа! Слово,
которое мы переводим как «оскорбление», является переводом, как и все
остальное в Священном Писании; этим все сказано. Люди, запудрившие себе голову
богословием, перевели и исказили эту замечательную книгу в угоду своим
недостойным мыслям; и так они поощряют безумства и фанатизм народа. Я нахожу крайне
благоразумной сдержанность Римской церкви во всем, что связано с переводами
Писания на доступный народу язык; и если уж нет необходимости все время
обращать внимание народа на сладострастные созерцания «Песни Песней», ни на
постоянные проклятья Давидовы в адрес его врагов, ни на тонкости в текстах свято-
380
Письма с Горы
s^*
может сам за них наказать. «Следует почитать Божество и никогда
не мстить за него», — говорят сторонники Представлений вслед за
Монтескье: и они правы. Тем не менее, смешные, оскорбительные,
грубые, кощунственные речи, богохульства, направленные против
религии, подлежат наказанию, но ни в коем случае не следует
наказывать за рассуждения. Почему же? Потому что в первом случае
нападкам подвергается не только религия, но и те, кто ее исповедует;
уязвляют их чувства, бесчинствуют во время богослужения,
выказывают возмутительное пренебрежение к тому, что они уважают,
и, как следствие, к ним самим. Подобные бесчинства подлежат
наказанию по закону, поскольку они касаются людей, и люди имеют
право возмущаться. Но какого смертного на земле может
оскорбить рассуждение? Кто вправе обижаться на то, что к нему
относятся как к человеку, которого считают разумным? И если мыслитель
ошибается или обманывает нас, и если вы готовы принять участие
в нем или в нас самих, то укажите ему на его ошибку, откройте нам
глаза, сражайтесь с ним его же оружием. А если вы не желаете
утруждать себя, то ничего не говорите, не слушайте его, позвольте
ему размышлять или нести вздор, и все кончится мирно, без ссор,
без каких бы то ни было оскорблений в чей-либо адрес. Но чем
можно подкрепить правило противоположное, а именно: терпимое
отношение к насмешкам, презрению, бесчинствам, наказывая при
этом за правоту? Мне это непонятно.
Эти господа так часто видятся с господином де Вольтером. И как
это он им не внушил терпимость к чужим взглядам, которую он
неустанно проповедует и в которой он иногда так нуждается сам?
Если бы они посоветовались с ним по этому поводу, то, мне
кажется, он смог бы обратиться к ним приблизительно с такими словами:
Господа, зло причиняют не любители порассуждать, а
святоши. Философия может, ничего не опасаясь, следовать своей
дорогой, народ ее не поймет или просто махнет на нее рукой; он
платит ей тем же самым пренебрежением, с которым она относится
к нему. Из всех безумств и страстей человека размышление
причиняет наименьший вред человеческому роду; а иногда даже
благо Павла, когда он рассуждает о милосердии, то опасно обращать его внимание на
возвышенную мораль Евангелия, изложенную в выражениях, которые в точности
не передают смысл, вложенный в него его Автором; ибо стоит только сойти с
прямой дороги, избрав иную, и мы зайдем очень далеко.
381
*\
Жан-Жак Руссо
горазумные люди питают пристрастие к этому безумству. Я не
размышляю, это правда, но другие размышляют: какое же зло от
этого следует? Вот то или иное произведение: разве в этих книгах
есть что-то, кроме насмешек? В конце концов, даже я, если и не
рассуждаю, то поступаю еще лучше: я заставляю размышлять
моих читателей. Взгляните на написанную мною главу о «Евреях» ";
взгляните на ту же самую главу, но более пространную, в
«Проповеди Пятидесяти»: там имеется рассуждение или, как я думаю,
нечто подобное. Вы согласитесь также, что там мало «обиняков»
и там есть нечто большее, чем «разрозненные и бестактные»
уколы.
Мы с вами договорились, что мое значительное влияние при
дворе и мое, так сказать, всесилие являются в ваших глазах
веским основанием не вмешиваться в забавы моей старости; это
хорошо; но не сжигайте за то же самое более серьезные
произведения, ибо это уж чересчур неприлично.
Я столько раз проповедовал терпимость! Не всегда следует
требовать ее от остальных и никогда не следует проявлять ее по
отношению к ним. Этот бедняга верит в Господа? Бог с ним, он
ведь не создаст секту. А если он скучен? Все, кто мыслит, скучны;
просто не будем накрывать ему на званом ужине. В конце
концов, какое нам до него дело? Если бы сжигали все скучные книги,
то что сталось бы с библиотеками? И если бы сжигали всех
скучных людей, то следовало бы отправить на костер целую страну.
Слушайте, давайте позволим размышлять всем тем, кто нам
позволяет шутить; давайте не будем сжигать ни людей, ни книги,
будем миролюбивы; таково мое мнение.
Вот что мог бы, как я думаю, сказать, правда, еще лучше,
господин де Вольтер; и это был бы, как мне кажется, далеко не худший
совет из тех, что он способен дать.
«Давайте же беспристрастно сравним эти произведения, давайте
судить о них по тому впечатлению, которое они произвели на всех».
Я соглашаюсь с этим всем сердцем. «Одни печатаются и
распродаются везде; известно, какой прием там был оказан иным книгам».
Эти слова, «те» и «иные», являются двусмысленными. Не знаю,
к каким книгам автор причисляет мои сочинения, но я могу сказать,
что их печатают во всех странах и переводят на все языки, что
одновременно сделали два перевода «Эмиля» в Лондоне — честь,
которую никогда не оказывали ни одной другой книге, за исключением
«Элоизы», по крайней мере, насколько мне известно. Я скажу вдо-
382
Письма с Горы
бавок, что во Франции, в Англии, в Германии, даже в Италии
оплакивают мою участь, что меня любят, что желали бы меня принять
и что повсюду слышен крик возмущения в адрес Совета Женевы.
Вот что я знаю о судьбе моих сочинений; участь других
произведений мне неизвестна.
Но вот пора заканчивать. Вы видите, сударь, что в этом письме,
да и в предыдущем, я предположил, что я виноват: но в трех первых
письмах я доказал, что я невиновен. Но судите сами, каким бы
несправедливым стало расследование против виновного, если теперь
подобное расследование направлено против невиновного!
Тем не менее эти господа, исполненные решимости продолжить
расследование, во всеуслышание заявили, что благо религии не
позволяет им признать свою вину, а честь государства — исправить
допущенную несправедливость. Потребовалось бы целое
произведение, чтобы указать на последствия применения этого правила,
которое освящает и превращает в приговор судьбы все беззакония
блюстителей законов. Но речь еще идет не об этом, и до сих пор
я ставил перед собой задачу лишь исследовать, была ли допущена
несправедливость, а не ответить на вопрос, должно ли ее исправить.
В случае утвердительного ответа на первый вопрос мы в
дальнейшем увидим, какое средство оставляют за собой ваши законы, чтобы
предотвратить их нарушение. А пока спросим, что же следует думать
о сих непреклонных судьях, которые с такой легкостью выносят
приговоры, как если бы их последствия не оказались столь
серьезными, и которые отстаивают их правомерность с таким упорством,
как будто изучили этот вопрос самым тщательным образом?
Каким бы продолжительным ни было обсуждение, я полагаю, что
сам его предмет нуждается в терпеливом внимании; я даже осмелюсь
сказать, что вам следует его проявить, ибо это внимание в равной
мере является оправданием ваших законов и меня самого. В
свободной стране и при разумной религии закон, объявляющий книгу,
подобную моей, преступной, оказался бы пагубным, и его
следовало бы поспешно отменить ради блага и к чести государства. Но,
хвала Небу, не существует ничего подобного в вашей стране, как
я это только что доказал, и гораздо лучше, если несправедливость,
жертвой которой я являюсь, стала бы деянием магистрата, а не
законов; ибо ошибки людей преходящи, но ошибки в законах
существуют до тех пор, пока существуют сами эти законы. Я далек от мысли,
что остракизм, навсегда изгнавший меня из моей страны, явился
383
r-v Жан-Жак Руссо
наказанием за мои ошибки, я никогда прежде не исполнял свой
долг гражданина лучше, чем теперь, когда я перестаю им быть,
и я заслужил бы звание гражданина в силу решения, которое ныне
вынуждает меня от него отказаться.
Вспомните, что произошло недавно, несколько лет назад, после
публикации статьи «Женева» господина д'Аламбера. Сочинение,
опубликованное пасторами, не только не уняло ропот недовольства,
который поднялся из-за этой статьи, но, наоборот, оно лишь
усилило его; и всякий знает, что мое произведение принесло им больше
пользы, чем их собственное45. Недовольная пасторами
протестантская партия не взбунтовалась, но могла взбунтоваться с минуты на
минуту; но, к несчастью, правительство столь мало волнуют эти
вопросы, что ссоры между богословами, едва возникнув,
оказываются забытыми, но они всегда приобретают лишь то значение,
которое желают им придать.
Мне казалось, что следовало считать счастьем и благом для
отчизны наличие духовенства, наделенного столь редким для своего
звания здравым рассудком, которое, проявляя приверженность не
к одному лишь умозрительному вероучению, все рассматривает
с точки зрения морали и обязанностей человека и гражданина. Я
полагал, что оправдать его, не восхваляя напрямую, означало оказать
услугу государству. Указывая на то, что те вещи, которыми
духовенство пренебрегало, не были ни бесспорными, ни полезными,
я надеялся обуздать тех, кто хотел бы вменить им это
пренебрежение в преступление: не называя духовенство по имени, не упоминая
его, не пороча правоверность его убеждений, я ставил его в пример
другим богословам.
Предприятие казалось отчаянным, но не безрассудным; и при
обстоятельствах, которые трудно было предусмотреть, оно,
естественно, должно было удаться. Я был не единственным, кто
разделял это мнение; люди очень образованные, даже знаменитые члены
городского управления, думали так же, как и я. Примите во
внимание положение религии в Европе тогда, когда я опубликовал свою
книгу, и вы поймете, что (с большой долей вероятности) ее одобрили
бы повсюду. Благодаря философии религия повсюду утратила свое
влияние, и превосходство религии перестали признавать даже в
народе. Церковнослужители, упорно стремившиеся обосновать ее со
слабой стороны, позволили подточить остальные ее основы; и все
384
Письма с Горы
здание, находившееся в подвешенном состоянии, готово было
обрушиться. Ученые споры прекратились, потому что все проявляли
к ним безучастность; и между различными партиями воцарился
мир, поскольку больше никто не помышлял о собственной партии.
Убирая сухие ветки, срубили дерево целиком; чтобы вновь его
вырастить, необходимо было оставить лишь ствол.
И можно ли было найти лучшее время для того, чтобы
утвердить прочный мир, чем то, когда враждебность партий утихла и
давала им возможность прислушаться к голосу разума? Кому могло бы
не понравиться произведение, в котором, никого не осуждая или,
по крайней мере, не делая исключений для кого-либо, его автор
отмечал, что, в сущности, все они были между собой согласны; что
столько разногласий возникло и столько крови было пролито
только лишь в силу недоразумения; что каждый должен мирно жить,
исповедуя свою религию, не вмешиваясь в дела чужой; что
надлежит повсюду служить Господу, любить ближнего своего,
подчиняться законам, и что только в этом и состоит суть любой доброй
религии? Это означало бы одновременно водворить и философскую
свободу, и религиозность; это означало бы примирить любовь к
порядку с уважением к предрассудкам других людей; это означало бы
привести различные партии к общему пониманию человечности
и к разумности, не уничтожая эти партии; это означало бы, не
разжигая ссор, пресечь в корне те, что еще только намечались и
неизбежно когда-нибудь возникли бы вновь тогда, когда пробудилась
бы пока еще дремлющая ярость фанатизма; одним словом, это
означало в этот миролюбивый в силу равнодушия век дать каждому
очень веские основания неизменно оставаться тем, кем он является
теперь, не отдавая себе отчета, почему.
Сколько бед, которые могли бы вновь случиться, удалось бы
предотвратить, если бы ко мне прислушались! Какие неудобства
сопутствовали бы этим преимуществам? Никакие, нет, никакие.
Я готов биться об заклад: будет ли при всем этом существовать хоть
одно вероятное и даже мыслимое неудобство, если не считать
безнаказанности невинных заблуждений и бессилия гонителей. И как
же это так случилось, что после стольких печальных событий,
в столь просвещенный век правительства так и не поняли, что
нужно выбросить и сломать это ужасное оружие, для владения
которым требуется так много ловкости, чтобы не поранить руку, жела-
13 3ак. 3436
385
Жан-Жак Руссо
ющую его пустить в ход? Аббат де Сен Пьер желал, чтобы
уничтожили богословские школы и религия получила поддержку. Какое
же решение принять для достижения без всякого шума этой
двойной цели, которая, как это отлично видно, по сути есть одна и та
же? То, которое принял я.
Одно несчастное обстоятельство, уничтожив плоды моих благих
намерений, навлекло на мою голову все те беды, от которых я
желал избавить человеческий род. Родится ли когда-нибудь еще один
друг истины, которого не испугает моя участь? Не знаю. Пусть он
будет более благоразумным; обладая таким же рвением, может
быть, он будет более удачлив? Сомневаюсь. То благоприятное
время, которое я улучил, не вернется, поскольку оно упущено. От всего
сердца я желаю, чтобы парламент Парижа в один прекрасный день
не раскаялся в том, что вложил в руки суеверия кинжал, выбитый
мною из них.
Однако давайте оставим в стороне отдаленные страны и времена
и вернемся к Женеве. Именно на нее я хочу обратить ваш взор на
последнее наблюдение, которое вы и сами в состоянии сделать
и которое, конечно же, должно вас поразить. Оглянитесь на
происходящее вокруг вас. Кто те люди, что меня преследуют? Кто те люди,
что меня защищают? Вы увидите среди сторонников
Представлений избранных граждан: можно ли отыскать в Женеве более
достойных? Я ничего не скажу о моих гонителях; Боже упаси меня
когда-либо осквернить свое перо и свое дело насмешкой! Я без
сожаления оставляю это оружие в руках моих врагов. Вам самим
следует сравнивать и судить. На чьей стороне нравы, добродетели,
безупречная набожность, истинный патриотизм? Как! Я оскорбляю
законы, а их самые рьяные защитники являются и моими
защитниками! Я нападаю на правительство, и лучшие граждане
поддерживают меня! Я нападаю на религию, а за меня вступаются те, кто ей
более всего привержен! Одно только это наблюдение говорит само
за себя; оно одно указывает на то, в чем заключается мое истинное
преступление и причина моих невзгод. Те, кто меня ненавидит
и меня оскорбляет, восхваляют меня вопреки собственному
желанию. Их ненависть объясняется сама собой. Способен ли в этом
всем ошибаться женевец?
386
С Горы
Письмо VI
Вот, сударь, еще одно письмо46, и я избавлю вас от внимания
к моей персоне. Но, приступая к нему, я нахожусь в весьма
странном положении: я обязан его написать и не знаю, чем его заполнить.
В состоянии ли вы понять, что должно оправдываться в
преступлении, которое тебе неведомо, и защищаться, не зная, в чем тебя
обвиняют? Однако это именно то, что мне предстоит сделать в вопросе
о правлениях. Не предъявив обвинения, меня судят, клеймят
позором за то, что я опубликовал два сочинения, «дерзких,
возмутительных, нечестивых, направленных на уничтожение христианской
религии и всех правлений»47. В том, что касается религии, у нас была,
по крайней мере, некая нить, следуя которой, мы поняли, что они
хотели сказать, и мы это уже рассмотрели. Но что касается
правлений, здесь нет ни малейшего указания. По этому вопросу
постоянно избегали давать какого-либо рода разъяснения; они нигде ничего
не пожелали сказать ни о том, где я собирался уничтожить
правления, ни каким образом, ни с какой целью, ни также что-либо,
позволяющее доказать, что преступление это не является мнимым. Дело
обстоит так, как если бы судили кого-нибудь за то, что он убил
человека, не признаваясь, где, кого, когда: за убийство вообще. Только
при инквизиции обвиняемому оставляют возможность лишь
догадываться, в чем его обвиняют, но его не судят, не сказав ему, за что
именно.
Автор «Писем из деревни» так же старательно избегает давать
объяснения относительно этого так называемого преступления; он
одинаково соединяет религию и правления в одном общем
обвинении; затем, приступая к вопросу о религии, он заявляет, что желает
этим ограничиться, и держит свое слово. Как же мы сможем
проверить обвинение в том, что я уничтожаю правления, если те, кто его
предъявляют, отказываются признаться, по какому поводу его
выдвигают?
Обратите внимание, как одним росчерком пера этот автор
меняет постановку вопроса. Совет выносит приговор, в котором
говорится, что содержание моих книг направлено на разрушение всех
правлений; автор «Писем» утверждает только то, что правления
подвергаются в этих книгах самым дерзким нападкам. Но это
далеко не одно и то же. Нападки, как бы дерзки они ни были, отнюдь не
являются заговором. Совершать нападки на какие-либо законы
387
«-^
Жан-Жак Руссо
и порицать их — это не значит ниспровергать все законы. Это все
равно как если бы кого-либо стали обвинять в том, что он убивает
больных, указывая на ошибки врачей.
Повторяю: что же можно возразить против доводов, которые не
желают высказать? Как можно оправдать себя, если приговор
вынесен без указания мотивов осуждения? Пусть без всяких
доказательств эти господа говорят, что я хочу ниспровергнуть все
правления, и пусть я скажу, что не хочу ниспровергнуть все правления; эти
утверждения имеют совершенно одинаковую доказательную силу,
если не считать того, что первое внушено предубеждением против
меня: ибо следует предположить, что я знаю лучше, чем кто-либо
другой, что именно я намерен сделать.
Но последствия наших утверждений неравноценны. На
основании их утверждений моя книга сожжена, и издан указ о моем аресте,
а то, что утверждаю я, никоим образом не исправляет положения.
Только если я докажу, что обвинение ложно и приговор
беззаконен, позор, который они на меня навлекли, падет на них самих;
постановление о моем аресте, палач — все должно обернуться против
них; ибо никто столь решительным образом не разрушает
правление, как тот, кто пользуется им прямо противоположно той цели,
ради которой оно учреждено.
Недостаточно, однако, одних моих утверждений, нужно, чтобы
я привел доказательства; и в этом видно, насколько плачевна участь
частного лица, подчиненного несправедливым магистратам, когда
им нечего страшиться суверена и когда они ставят себя выше
законов. Уверяя, но не приводя доказательств, они строят свое
обвинение; и вот невиновный наказан. Более того, они считают новым
преступлением даже его защиту, но не в их власти еще и наказать
его за то, что он доказал свою невиновность.
Как же мне поступить, чтобы показать, что они не сказали
правды, как доказать, что я отнюдь не стремился уничтожать
правления? Какое бы место из своих сочинений я ни стал защищать, они
скажут, что это не то, которое они осудили, хотя они и осудили (без
всякой разницы) все — как хорошее, так и плохое. Дабы не
потерпеть поражения, им следовало перебрать все, просмотреть все с
начала и до конца, книгу за книгой, страницу за страницей, строку за
строкой и даже едва ли не слово за словом. Пришлось бы, кроме
того, рассмотреть все правления мира, ибо мои противники
говорят, что я ниспроверг их все. Какое предприятие! Сколько лет при-
388
Письма с Горы
шлось бы потратить на это! Сколько фолиантов пришлось бы
написать! И после всего этого, кто стал бы их читать?
Требуйте же от меня лишь того, что осуществимо. Всякий
здравомыслящий человек должен довольствоваться тем, что я вам
скажу: вы, конечно же, большего и не желаете.
Из двух моих книг, сожженных одновременно на основании
одних и тех же обвинений, только лишь в одной обсуждается
политическое право и вопросы правления. Если во второй книге эти
вопросы и обсуждаются, то лишь в виде выдержки из первой48. Таким
образом, я предполагаю, что обвинение касается только лишь
первой книги. Если это обвинение относилось к какому-либо
отдельному отрывку, то его, несомненно, привели бы; из него, по крайней
мере, извлекли бы какое-либо положение, переданное более или
менее верно, как это сделали с положениями, касающимися
религии.
Следовательно, на уничтожение правлений направлена
совокупность взглядов, изложенных в этом труде; нужно, поэтому,
лишь изложить эти взгляды или провести разбор этой книги; и если
мы там с очевидностью не обнаружим тех разрушительных начал,
о которых идет речь, то будем, по крайней мере, знать, подражая
способу рассуждения автора, где их искать в этом труде.
Но, сударь, если, приводя этот разбор, по необходимости
краткий, вы сочтете нужным сделать какой-либо вывод, то,
пожалуйста, не спешите. Подождите, чтобы мы это обсудили вместе. После
чего вы вернетесь к этому, если пожелаете.
Что составляет единство государства? Единение его членов. Но
из чего возникает единение его членов? Из связующего их
обязательства. До этого момента все согласны.
Но каково основание этого обязательства? Вот где мнения
авторов расходятся. По мнению одних, это —сила49; по мнению
других, это — отцовская власть50; по мнению третьих, это — воля
Божия51. Каждый обосновывает собственное начало и
обрушивается на остальных. Не иначе поступил и я: придерживаясь наиболее
здравой части рассуждений тех, кто обсуждал эти вопросы, я
признал основанием политического организма соглашение между его
членами; и я опроверг начала, отличные от моих.
Независимо от истинности этого начала, оно превосходит все
остальные надежностью обоснования, которое дано, ибо что может
служить более верной основой обязательства между людьми, чем
389
*^
Жан-Жак Руссо
добровольная взятая на себя обязанность? Можно оспаривать
любое иное начало *, но это начало оспаривать нельзя.
Но без этого условия, в силу которого существует свобода,
заключающая в себе все прочие условия, всякого рода обязанности
оказываются недействительными, даже перед судом людским. Таким
образом, для того чтобы выяснить суть этой обязанности, нужно
объяснить ее природу, обнаружить цель и назначение; нужно
доказать, что она подходит для людей и не содержит ничего противного
природным законам. Ибо столь же непозволительно нарушать
природные законы, заключив общественный договор, как
непозволительно нарушать положительные законы соглашениями частных
лиц: и лишь благодаря этим самым законам и существует свобода,
сообщающая силу этой обязанности.
В результате этого рассмотрения я обнаруживаю, что
заключение общественного договора представляет собой согласие особого
рода, в силу которого каждый обязуется перед всеми; отсюда
вытекает взаимная обязанность всех перед каждым, что и является
непосредственным предметом общественного союза.
Я утверждаю, что эта обязанность — обязанность особого рода,
потому что, будучи безусловной и безоговорочной, не имеющей
ограничений, она не может, однако, быть несправедливой, и ею
нельзя злоупотреблять; ибо невозможно, чтобы организм желал
вредить самому себе, до тех пор пока все вместе желают лишь
пользы для всех.
Эта обязанность особого рода еще и потому, что связывает
участников договора, не ставя их в подчинение никакому лицу, и
потому, что только их воля является для них нормой, эта обязанность
оставляет им ту самую свободу, какой они пользовались ранее.
Воля всех — это, следовательно, приказ, высшая норма; и эта
общая и одновременно олицетворенная норма является тем, что я
называю сувереном.
Из этого следует, что суверенитет неделим, неотчуждаем и что
он, по сути, принадлежит всем частям организма.
* И даже начало, заключающееся в воле Бога, по крайней мере в том, что
относится к его проведению в жизнь. Ибо хотя и ясно, что то, что угодно Богу, должно
быть угодно и человеку, из этого отнюдь не следует, что Господу угодно
предпочесть одно правление другому, и тем более если повинуются не Вильгельму,
а Якову52. Вот о чем идет речь.
390
Письма с Горы
Но как действует это собирательное существо? Оно действует
посредством законов, и оно не в состоянии было бы действовать иначе.
Но что же такое закон? Это публичное и торжественное
провозглашение общей воли относительно того, что составляет выгоду
для всех.
Я говорю «относительно того, что составляет выгоду для всех»,
потому что закон утратил бы свою силу и перестал быть
правомерным, если бы его предмет не был важен для всех.
Закон не может, по своей природе, быть принят ради
какого-либо частного или особого случая, но применение закона
распространяется на частные и особые случаи.
Законодательная власть, которая есть суверен, нуждается,
следовательно, в другой власти, исполняющей закон, то есть
переводящей закон в решения частного характера. Эта вторая власть должна
быть учреждена таким образом, чтобы она всегда исполняла закон,
и только лишь закон. Отсюда и возникает необходимость
учреждения правительства.
Что такое правительство? Это — опосредующий организм
между подданными и сувереном ради сообщения между ними,
уполномоченный приводить в исполнение законы и поддерживать
свободу, как гражданскую, так и политическую.
Правительство в качестве составной части политического
организма участвует в выражении общей воли, которая его образует;
являясь также организмом, оно имеет свою собственную волю. Эти
две воли иногда бывают между собой согласны, а иногда
противодействуют друг другу. Следствием этого взаимодействия и этой
борьбы является работа всего механизма.
Начало, положенное в основу различных образов правления,
заключается в числе членов, которые его составляют. Чем меньше
это число, тем большей силой обладает правительство; чем больше
это число, тем правительство слабее; и так как верховная власть
всегда склонна к ослаблению, то правительство всегда стремится стать
сильнее. Таким образом, организм исполнительной власти с
течением времени берет верх над организмом власти законодательной;
и когда закон в конце концов оказывается подчиненным людям,
остаются лишь рабы и хозяева, а государство разрушается. До того,
как это разрушение произойдет, правительство должно благодаря
своему естественному развитию изменить свой образ и постепенно
менять свой состав от большего числа членов к меньшему.
391
Жан-Жак Руссо
Различные образы, которые может принимать правление,
сводятся к трем главным. Сравнив эти образы сообразно их
преимуществам и недостаткам, я отдаю предпочтение тому из них, который
является промежуточным между двумя и носит имя аристократии.
Здесь нужно помнить, что устройство государства и устройство
правительства суть вещи весьма различные, и я их не смешивал.
Наилучший из видов правления — аристократический; наихудший вид
суверенной власти — также аристократический.
Эти рассуждения влекут за собой еще и другие относительно того,
каким образом вырождается правление, и относительно средств,
с помощью которых можно замедлить разрушение политического
организма.
Наконец, в последней книге я рассматриваю путем сравнения
с наилучшим правлением, когда-либо существовавшим, а именно
с правлением Рима, благочиние, присущее наилучшему
государственному устройству; затем я заканчиваю эту книгу и всю
работу разысканиями о том, каким образом религия может и должна
быть составной частью государственного строя политического
организма.
Что думали вы, сударь, читая этот краткий и точный разбор моей
книги? Я догадываюсь. Вы говорили самому себе: «Вот история
правления Женевы». Это то, что сказали при чтении этого труда
все, кому знакомо ваше государственное устройство53.
И в самом деле, этот первоначальный договор, эта сущность
суверенитета, эта власть законов, это учреждение правительства,
этот способ постепенно сократить число его членов на различных
уровнях, чтобы заменить власть на силу, это стремление к
присвоению власти, эти периодические собрания, эта ловкость, с которой
их устраняли, и близкое разрушение вашего правления, которое
вам грозит и которое я'хотел предотвратить, — не есть ли все это
точь-в-точь картина вашей республики с момента ее рождения и до
сего дня?
Я, следовательно, взял ваше государственное устройство,
которое нахожу прекрасным, за образец политических установлений;
и, ставя вас в пример Европе, далекий от того, чтобы стремиться
уничтожить ваше правление, изложил средства для его сохранения.
Это устройство, как бы хорошо оно ни было, не лишено
недостатков: можно было предотвратить те искажения, что оно претерпело,
и оградить его от опасности, которой оно подвергается сейчас.
392
Письма с Горы
Я предвидел эту опасность, я дал понять, что она существует, я
указал на средства оградить его от нее: было ли это с моей стороны
желанием уничтожить его, если я обращал внимание на то, что
нужно сделать для его укрепления? Ради привязанности к нему
я и желал, чтобы ничто не могло его исказить. Вот в чем заключается
все мое преступление; я, возможно, был неправ; но если любовь
к отечеству меня ослепляла в этом отношении, то отечеству ли
следовало меня за это наказывать?
Как мог я стремиться ниспровергать все правления, считая их
началами то, что является началом вашего правления? Одно это
опровергает обвинение. Раз уже существует правление, устроенное
по образцу, который я описал, я не мог, следовательно, стремиться
разрушать все существующие правления. Ах, сударь, если бы я
создал некую совокупность взглядов, не сомневайтесь, об этом не
стали бы говорить: удовольствовались бы тем, что «Общественный
договор» вместе с «Государством» Платона, «Утопией» и
«Историей Севарамбов» сочли бы плодом воображения. А я описывал то,
что существует, а люди пожелали, чтобы оно изменило свой облик.
Моя книга свидетельствовала о готовящемся покушении на
государство: вот чего мне не простили.
Но вот что покажется вам странным. Моя книга обрушивается на
все правления, и она не запрещена ни одним из них!54 В ней
обосновываются преимущества одного правления, в ней оно ставится
в пример, и это-то правление и приказывает ее сжечь! Не странно
ли, что правительства, на которые обрушиваются, молчат, а
правительство, которому выказывают уважение, поступает сурово? Как
же так? Магистрат Женевы встает на защиту других правлений, при
этом выступая против своего собственного! Он наказывает
гражданина за то, что он оказал предпочтение законам своей страны перед
всеми остальными? Постижимо ли это? И поверили бы вы этому,
если бы сами это не видели? Во всех остальных странах Европы
разве кто-нибудь осмелился бы заклеймить позором это
сочинение? Нет. Этого не сделало даже и то государство55, в котором оно
было напечатано *. Даже во Франции, где магистраты в этом
отношении столь строги, разве там запретили эту книгу? Ничего подоб-
* В разгар воплей, поднятых после судебных расследований в Париже и Женеве,
один растерявшийся магистрат запретил обе книги, но, изучив их внимательно,
этот мудрый магистрат изменил свое мнение, особенно в отношении
«Общественного договора».
393
*-v.
Жан-Жак Руссо
ного: сперва наложили запрет на ввоз голландского издания, но
оно было перепечатано без разрешения авторов56 во Франции, и это
издание там распространяется беспрепятственно. Следовательно,
это дело касалось торговли, а не благочиния. Предпочли, чтобы
доход от книги получил французский издатель, а не иностранный; вот
и все.
«Общественный договор» не был сожжен нигде, кроме Женевы,
где он не был напечатан; только женевский магистрат обнаружил
в нем начала, ведущие к разрушению всех правлений. В
действительности, этот магистрат так и не объяснил, что это за начала; и тут,
как я думаю, он поступил весьма осмотрительно.
Результат неразумных запретов заключается в том, что сами они
не соблюдаются и ослабляют силу власти. Моя книга в Женеве
у всех в руках, и разве не живет она там также во всех сердцах!
Прочтите ее, сударь, эту книгу, сколь очерненную, сколь и значимую;
и вы повсюду увидите, что закон в ней ставится выше людей; вы
там всюду увидите требования свободы, но не выходящей из-под
власти законов, без которых свобода не может существовать, и,
подчиняясь им, мы остаемся свободными, каким бы образом нами ни
управляли. Тем самым я, говорят, не угождаю властям. Тем хуже
для них; ибо я защищаю их подлинные выгоды, если бы только они
могли знать, в чем они заключаются, и блюсти их! Но пристрастия
делают людей неспособными понять, в чем заключается даже их
собственное благо. Те, кто подчиняет законы человеческим
пристрастиям, суть те, кто уничтожают правления: вот люди, которых
следовало бы наказывать.
Основы государства одни и те же при всех правлениях, и эти
основы определены в моей книге лучше, чем в какой-либо другой.
Когда затем речь заходит о сравнении различных образов
правления, нельзя не взвесить преимущества и недостатки каждого из них
в отдельности; я думаю, что именно это я беспристрастно сделал.
Все взвесив, я отдал предпочтение правлению моей страны. Это
вполне естественно и разумно; меня бы стали порицать, если бы
я поступил иначе. Но я не исключил из рассмотрения другие
правления, напротив, я показал, что каждое из них имеет право на
существование и потому может быть предпочтительнее всякого другого
в зависимости от характера людей, времени и обстоятельств. Таким
образом, я отнюдь не разрушал все образы правления, я указал на
их основания.
394
Письма с Горы
Говоря, в частности, о монархическом правлении, я выявил его
преимущества, но не скрывал все же и его недостатков. Таково,
я полагаю, право мыслящего человека. И если бы я его исключил,
чего, конечно, не сделал, то разве следовало бы из этого, что меня
должны были бы за это наказать в Женеве? Отдавали ли в каком-
либо монархическом государстве приказ об аресте Гоббса за то, что
обоснованные им начала оказались разрушительными для
республиканского правления? И судят ли там, где правят короли, тех
авторов, которые осуждают и унижают республики? Разве это право не
взаимное? И разве республиканцы не суверены в своей стране,
подобно тому как короли являются таковыми у себя? По-моему, я не
отбрасывал в сторону ни одного из правлений и не отзывался
пренебрежительно ни об одном из них. Рассматривая их, сравнивая их
между собой, я держал в руках весы и высчитывал вес: ничего
другого я не делал.
Нигде не следует наказывать за пользование разумом и
разумное суждение; это наказание было бы слишком ярким
свидетельством против тех, кто его наложил. Сторонники Представлений
твердо установили, что мою книгу, в которой я не выхожу за
пределы рассмотрения вопроса в общем виде, отнюдь не посягая на
правление Женевы, книгу, изданную за пределами ее территории,
следует считать в числе тех, в которых обсуждаются вопросы
естественного и политического права и относительно которых законы
не предоставляют Совету никакой власти судить; эти книги всегда
открыто продавались в городе, какое бы начало в них ни
обосновывалось и какое бы мнение в них ни высказывалось. Я не
единственный, кто, обсуждая отвлеченно вопросы политики, мог
обсуждать их до известной степени дерзко. Не всякий так поступает,
но всякий человек вправе это делать. Многие пользуются этим
правом; но я единственный, кого наказывают за то, что он им
воспользовался. Несчастный Сидней57 думал так же, как и я, но он
действовал: именно за свои действия, а не за свою книгу он имел честь
пролить свою кровь. Альтузий58 в Германии нажил себе врагов, но
его не подвергали преследованию в уголовном порядке. Локк,
Монтескье, аббат де Сен Пьер рассматривали эти вопросы, и нередко
чуть ли не столь же вольно. Локк, в частности, рассматривал их на
основе тех же начал, что и я. Все трое родились под властью
королей, спокойно жили и умерли в почете в своих странах. Вам
известно, как обошлись со мной в моей стране.
395
*\
Жан-Жак Руссо
Поэтому будьте уверены, что это клеймо позора не заставляет
меня краснеть; напротив, я горжусь им, ибо оно служат лишь
выяснению повода, из-за которого на меня его наложили, а этот повод
заключается в том, что у меня большие заслуги перед моей страной.
Поведение Совета59 в отношении меня, конечно, меня огорчает,
ибо разрывает узы, которые были для меня столь дороги. Но,
может ли оно меня унизить? Нет, оно меня возвышает, оно меня
ставит в ряды тех, кто пострадал за свободу. Мои книги, что бы с ними
ни сделали, всегда будут свидетельствовать сами за себя; и то, как
с ними обошлись, лишь спасет от позора те сочинения, которые
удостоятся чести быть сожженными вслед за моими.
Конец первой гасти
Вторая часть
Письмо VII
Вы скажете, сударь, что я слишком многословен, но я был
вынужден таковым быть; да и рассматриваемые мною темы не
должны обсуждаться с помощью эпиграмм. Кроме того, темы эти не
уводят меня столь далеко, как это может показаться, от той,
которая вызывает в Вас участие. Говоря о себе, я думал о вас; и заданный
вами вопрос связан с вопросом обо мне, и первый решен с
помощью второго. Мне остается лишь сделать вывод. Там, где
невиновность не чувствует себя в безопасности, никто не может считать
себя невиновным. Всюду, где законы нарушаются безнаказанно,
свободы больше нет.
Однако, поскольку возможно отделять соображения выгоды
частных лиц от соображений выгоды общества, ваши мысли в этом
вопросе еще не ясны. Вы настаиваете на том, чтобы я помог вам их
уточнить. Вы спрашиваете, каково нынешнее положение вашей
республики и как следует поступать гражданам. Легче ответить на
первый вопрос, чем на второй.
Этот первый вопрос вас, конечно, меньше затрудняет сам по себе,
чем противоречивые решения, которые предлагают окружающие
вас люди. Люди весьма здравомыслящие вам говорят: «Мы самый
свободный из всех народов»; а другие люди, также весьма
здравомыслящие, утверждают: «Мы живем в самом жестоком рабстве».
396
Письма с Горы . *-*
«Кто же из них прав?» — спрашиваете вы меня. И те, и другие,
сударь, но в различных отношениях: их примиряет одно очень
простое различие. С точки зрения права ваше положение — это
положение совершенно свободных людей, но ваше нынешнее
положение стало воистину рабским.
Сила ваших законов зависит только от вас. Вы признаете лишь
те из них, которые создаются вами. Вы платите лишь те подати,
которые устанавливаете сами. Вы избираете правителей,
которые вами правят. Они имеют право судить вас лишь в соответствии
с установленным порядком. В Генеральном Совете вы являетесь
законодателями, суверенами, независимыми от какой-либо
человеческой власти. Вы утверждаете договоры, объявляете войну и
заключаете мир. Сами ваши магистраты называют вас
сиятельнейшими, высокогтимыми и владетельными сеньорами. Вот в чем ваша
свобода, а теперь вот в чем заключается ваше рабство.
Организм, на который возложено исполнение ваших законов,
является их истолкователем и высшим судьей. Он истолковывает
их на свой лад. Он может заставить их умолкнуть. Он может даже
их нарушить, а вы при этом не можете навести здесь порядок: этот
организм стоит выше законов.
Избираемые вами, независимо от ваших предпочтений,
правители обладают другими властными полномочиями, полученными не
от вас, и они расширяют эти полномочия за счет тех, что получают
от вас. Вынужденные ограничить себя выбором из малого числа
людей, которые все придерживаются одинаковых начал и
движимы одними и теми же соображениями выгоды, вы в весьма
торжественной обстановке совершаете маловажный выбор. В этом деле
важно было бы иметь возможность отвергнуть всех тех, из кого вас
вынуждают выбирать. При видимости свободы выбора вы
оказываетесь столь стесненными со всех сторон, что не можете даже
избрать ни первого Синдика, ни Синдика стражи; главу республики
и главнокомандующего вам также не дозволено избирать.
Вас не вправе облагать новыми налогами, однако же и вы не
вправе отменять прежние. Финансы государства так устроены, что
и без вашего участия их хватает для всего необходимого. Поэтому
с вами в этом деле не нужно церемониться, и ваши права при этом
оказываются частично упраздненными и совершенно ненужными.
Правила судопроизводства, которые нужно соблюдать, когда вас
судят, предписаны; но когда Совет не желает их соблюдать, никто не
397
*-v^
Жан-Жак Руссо
может ни принудить его к этому, ни обязать исправить допущенные
им нарушения. Относительно этого я могу представить вам
доказательства, и вы знаете, что не только я могу это сделать.
В Генеральном Совете ваша суверенная власть скована: вы
можете действовать лишь только тогда, когда это угодно вашим
магистратам, и выступать только тогда, когда они вас спрашивают. Если
они даже вовсе не пожелают собирать Генеральный Совет, то ваша
власть, ваше существование окажутся ничтожными, а вы сможете
лишь тщетно роптать против этого, тогда как они вполне могут
с презрением отнестись к этому ропоту.
Наконец, если на этом собрании вы — суверенные государи, то
выйдя из него, вы — уже ничто. Четыре часа в год вы остаетесь
участниками суверенной власти, но вы являетесь подданными
остальную часть вашей жизни, и вы полностью зависите от произвола
других людей.
С вами произошло, господа, то, что происходит со всеми
правлениями, подобными вашему. Поначалу законодательную власть
и власть исполнительную, которые составляют суверенитет, не
различали. Суверенный народ сам выражал свою волю и сам делал то,
что пожелает. Вскоре неудобство этого участия всех во всяком деле
вынуждает суверенный народ возложить на нескольких своих
членов исполнение своей воли. Эти должностные лица после
выполнения данного им поручения представляют отчет и снова
оказываются равны со всеми остальными. Мало-помалу эти поручения стали
частыми и, наконец, постоянными. Незаметно образуется
организм, действующий постоянно. Постоянно действующий организм
не может отчитываться по каждому решению. Он отдает отчет лишь
по главнейшим. И вскоре дело доходит до того, что он не
отчитывается ни в чем. Чем предприимчивее становится действующая власть,
тем более она ослабляет власть волеизъявляющую. Волю
вчерашнюю считают за волю, выраженную сегодня, тогда как решение,
принятое вчера, не освобождает от необходимости действовать
сегодня. Наконец, бездействие власти волеизъявляющей ведет к ее
подчинению власти исполнительной. Действия последней, а вскоре
и ее воля становятся независимыми ни от кого. Вместо того чтобы
действовать, подчиняясь волеизъявляющей власти, она оказывает
на нее воздействие. Тогда в государстве остается лишь одна
действующая власть: это — власть исполнительная. Исполнительная
власть является лишь силой, а там, где царит одна только сила, го-
398
Письма с Горы
-^>
сударство распадается. Вот, сударь, каким образом в конце концов
уничтожаются все демократические государства.
Просмотрите летопись вашего государства с того времени, когда
ваши синдики, простые доверенные лица, учрежденные общиной
для выполнения того или иного дела, сняв шапку, отдавали ей
отчет в выполнении поручения и возвращались тотчас же в разряд
частных лиц, до того времени, когда эти же самые синдики,
пренебрегая правами правителей и судей, которые они получили при своем
избрании, стали им предпочитать произвольную власть организма,
члены которого не избираются общиной, и, вопреки законам,
ставят себя выше нее. Проследите за изменениями, которые
произошли в промежутке между тем временем и нынешним, и вы поймете,
в каком положении вы оказались и какие ступени вы прошли,
чтобы в нем оказаться.
То, что происходит с вами, мог бы предвидеть какой-нибудь
политик два века тому назад. Он бы сказал: «Установление,
создаваемое вами, хорошо в настоящее время, но плохо для будущего. Оно
хорошо для того, чтобы установить политическую свободу, но плохо
для ее сохранения; и то, что составляет сейчас вашу безопасность,
в скором времени станет вашими оковами. Эти три организма,
которые настолько входят один в другой, что от самого маленького
зависит действие самого большого, находятся в равновесии, пока
действие самого большого остается необходимым и пока
законодательство не может обойтись без законодателя. Но когда созданы
эти учреждения, организму, образовавшему их, не хватает власти
для их укрепления, и тогда ваши учреждения погибнут, и именно
ваши законы станут причиной их уничтожения. Итак, сами ваши
законы станут причиной вашей гибели». Вот именно это с вами
и произошло. Это же, с учетом разницы в размерах, стало причиной
падения и польского правительства, но в силу другой крайности.
Государственный строй Польской республики хорош лишь как
образ правления, в котором нечего больше менять. Ваш же, наоборот,
хорош только до тех пор, пока в нем постоянно действует
законодательный организм.
Ваши магистраты всегда и без устали старались передать
высшую власть от Генерального Совета к Малому Совету, постепенно
передавая ее Совету Двухсот, но их усилия имели различные
последствия в зависимости от того, как они действовали. Почти все их
блестящие предприятия проваливались, потому что они встречали
399
*"*ч.
Жан-Жак Руссо
сопротивление и потому что в таком государстве, как ваше,
сопротивление общества вообще непреодолимо, когда оно основывается
на законах.
Причина тому очевидна. Во всяком государстве закон говорит
от имени суверена. Однако при такой демократии, когда народ
является сувереном, когда внутренние распри приостанавливают
порядок работы и заставляют умолкнуть все виды власти, остается
одна только власть народа; и на чью сторону склоняется тогда
наибольшее число, на той стороне закон и власть.
Если граждане и горожане, собравшись вместе, не есть суверен,
то Советы без граждан и горожан оказываются им еще в меньшей
мере, ибо они по своей численности составляют всего лишь его
наименьшую его часть. Как только речь заходит о высшей власти,
все в Женеве становятся равны, как гласит Эдикт: «Пусть все
довольствуются положением граждан и горожан, не пытаясь
получить привилегии для себя и присваивать себе какую-либо власть
и господство над другими». Вне Генерального Совета нет иного
суверена, кроме закона; но когда на закон покушаются его служители,
то укрепить его должен законодатель. Вот почему всюду, где царит
подлинная свобода, в важных предприятиях следует почти всегда
предпочесть мнение народа.
Но с помощью едва заметных предприятий ваши магистраты
привели дела в то состояние, в каком они оказались ныне. Это
было сделано путем умеренных, но непрерывных усилий, путем
почти незаметных изменений, последствия которых вы не могли
предвидеть и которые вы с трудом даже могли заметить. Народ не
может непрестанно сохранять бдительность во всем, что
происходит; и эта бдительность была бы поставлена ему даже в упрек. Его
обвинили бы в беспокойном и мятежном настрое, в том, что он
постоянно готов бить тревогу по пустякам. Но в силу этих-то
пустяков, которые замалчиваются, Совет смог со временем что-то
предпринять. Доказательство этому — то, что происходит в настоящее
время у вас перед глазами.
Вся власть в республике находится в руках синдиков,
избираемых в Генеральном Совете. Они там приносят присягу, потому что
он один стоит выше их. И они приносят эту присягу лишь в этом
Совете, потому что только ему одному они обязаны давать отчет
в своем поведении, в точности исполнения присяги, которую они
там принесли. Они клянутся честно и нелицеприятно вершить пра-
400
Письма с Горы
восудие. Они — единственные магистраты, приносящие такую
присягу на этом Собрании, потому что они суть единственные, кому
это право предоставляется сувереном*, и кто его осуществляет,
подчиняясь только власти суверена. При публичном суде над
преступниками только они одни клянутся перед народом, вставая со
своих мест ** и поднимая свои жезлы, «в том, что будут судить
праведно, без ненависти и лицеприятия, моля Бога их покарать, если
они поступили иначе». И в прошлом приговоры по уголовным
делам выносились от одного лишь их имени, без упоминания иного
Совета, кроме как Совета Граждан, как это видно из приговора по
делу Морелли, который приводится выше, и из приговора по делу
Валентина Жентийя, упоминаемого в сочинениях Кальвина.
Однако вы прекрасно понимаете, что эта исключительная власть,
получаемая таким образом непосредственно от народа, весьма
мешает притязаниям Совета. Поэтому, естественно, чтобы
освободиться от этой зависимости, он старается мало-помалу ослабить власть
синдиков, растворить в Совете судебную власть, полученную ими,
и незаметно передать этому постоянно действующему организму,
члены которого не избираются народом, большую, но временную
власть магистратов, им избираемых. Сами синдики не только не
противятся этому изменению, но им следует даже его
приветствовать, потому что они бывают синдиками только раз в четыре года
и могут даже ими не быть, тогда как, что бы ни случилось, они
становятся пожизненными советниками, ибо грабо60 превратились
уже в ненужный обряд ***.
* Это право предоставляется их Лейтенанту лишь как нижестоящему
должностному лицу, и поэтому-то он не приносит никакой присяги в Генеральном Совете.
«Но, — говорит автор "Писем", — разве менее обязательна присяга, которую
приносят члены Совета, и исполнение обязательств, взятых перед самим Божеством,
зависит ли от места, где они даются?» Нет, конечно. Но следует ли из этого, что
безразлично, в каком месте и кому приносить присягу? И не указывает ли этот
выбор либо только на то, кто наделяет этой властью, либо кому нужно отдавать
отчет в ее употреблении? С какими государственными мужами имеем мы дело,
если им нужно напоминать об этом? Разве они не знают об этом или
притворяются, что не знают?
** Совет здесь также присутствует, но члены его не клянутся и не встают со
скамьи.
*** Согласно первоначальному установлению, четыре вновь избранных синдика
и четыре прежних синдика выводили ежегодно восемь из шестнадцати
остающихся членов Малого Совета и предлагали восемь новых, кандидатуры которых
401
«~v>
Жан-Жак Руссо
Когда это удалось, избрание синдиков также превратилось в
обряд, столь же ненужный, как и созыв Генерального Совета; и
Малый Совет будет весьма спокойно взирать на неприязнь или
предпочтение, выказанные народом его членам, а не синдикам, когда
все это потеряло полностью все свое значение.
Для достижения же этой цели существует, прежде всего, одно
важное средство, народу неизвестное. Это — внутренний
распорядок, установленный в Совете, вид которого, хотя он и
регламентируется эдиктами, Совет может устанавливать по своему усмотрению *,
без какого-либо надзирателя, который мог бы ему в этом
помешать; ибо, что касается должности Генерального прокурора, то ее
в этом отношении нужно считать ничего не значащей**. Но этого
ставились затем на голосование в Совете Двухсот и либо одобрялись, либо
отвергались им. Но незаметно из состава старых советников стали выводить лишь тех,
чье поведение давало повод для порицания; и в случае совершения ими какого-
нибудь тяжкого проступка не ожидали выборов, чтобы их наказать, а заключали
их сразу же в тюрьму и судили как самое обычное частное лицо. Благодаря этому
правилу — не откладывать наказание и делать его суровым, — все оставшиеся
советники оказывались безупречными, не давали никакого повода для изгнания из
Совета, что и превратило этот обычай в торжественный и ненужный обряд, ныне
называемый «грабо»; замечательный результат свободного управления, когда
получить власть можно только благодаря добродетели. К тому же, только взаимное
право обоих Советов могло бы помешать одному из них осмелиться
воспользоваться грабо против другого (разве что сговорившись с ним) из опасения
возмездия со стороны другого. В сущности, грабо служит лишь для поддержания их
единства против горожан и изгонять одного члена при помощи других, а именно
того, кто не станет разделять мнение всего организма.
* Таким образом, начиная с 1665 г.. Малый Совет и Совет Двухсот установили
у себя баллотировку и билеты вопреки Эдикту61.
** Генеральный прокурор62, должность которого учреждена как должность
знатока закона, вревращается лишь в лицо, заседающее в Совете. По двум причинам
эта должность почти всегда исполняется противно духу ее установления. Одна из
них — порок самого этого установления, превращающий эту магистратуру в
ступень для вхождения в Совет; тогда как Генеральный прокурор по закону должен
довольствоваться своей должностью, и ему должно бы быть воспрещено законом
домогаться какой-либо другой. Второй причиной является неосмотрительность
народа, доверяющего эту должность людям, имеющим родственные связи в
Совете63, или принадлежащим к семьям, члены которых могут входить в Совет, не
учитывая, что они не преминут применить против него же самого то оружие,
которое он им дает для его защиты. Я слышал, что женевцы проводят различие
между человеком из народа и знатоком закона; как будто это не одно и то же.
Генеральные прокуроры должны были бы в течение шести лет своей службы быть
402
Письма с Горы /■>
оказалось недостаточно. Нужно еще приучить народ к такой
передаче судебной власти. Для этого при разбирательстве важных дел
начинают с не учреждения судов, состоящих из одних советников,
а учреждают поначалу менее значительные суды для
разбирательства дел менее важных. Обычно председательство в этих судах
поручается какому-либо синдику, которого заменяют иногда бывшим
синдиком, а затем советником, причем никто не обращает на это
внимания. Этот прием повторяют без шума до тех пор, пока он не
становится обычаем. Затем это привносят в уголовные дела. Для
какого-либо более важного случая учреждается суд, чтобы судить
граждан. В силу закона об отводах председательствовать в этом
суде поручается какому-нибудь советнику. Тогда народ видит это
и начинает роптать. Ему возражают: «На что вы жалуетесь?
Посмотрите на эти примеры; мы не предлагаем нововведений».
Вот, сударь, политика ваших магистратов. Они вводят свои
новшества мало-помалу, медленно, так, чтобы никто не заметил их
последствий. И когда, наконец, новшества замечают и хотят внести
исправления, сами же магистраты начинают кричать, что здесь
желают вводить новшества.
И в самом деле, обратите внимание, имея перед глазами пример,
что эти самые магистраты сказали по данному поводу. Они
ссылаются на закон об отводах64, им возражают: «Основной закон
государства гласит, что граждане должны быть судимы только своими
синдиками. В случае противоречия между этими двумя законами
второй должен исключать первый. В подобном случае для
соблюдения их обоих нужно было бы скорее избирать Синдика adactum».
Как только произнесли это слово, все пропало. Синдик ad actum\
Какое новшество! По мне, так я в этом не вижу никакого
новшества, о котором они говорят. Если это касается самого слова, то его
употребляют каждый год на выборах; а если это касается сути, то тут
тоже нет ничего нового, ибо первыми синдиками, которые
существовали в городе, являлись лишь синдики adactum. Когда
Генеральный прокурор подлежит отводу, не нужен ли другой Генеральный
прокурор ad actum для осуществления его полномочий? А
заседатели, избранные из Совета Двухсот для образования судов, разве по
сути не являются советниками ad actum? Когда появляется какое-
начальниками горожан, а потом давать им советы. Но получили ли эти горожане
от своих прокуроров надежную защиту и добрые советы; стоит ли им сильно
радоваться такому выбору?
403
«~v.
Жан-Жак Руссо
либо новое злоупотребление, отнюдь не станет новшеством
предложить против него новое средство. Напротив, это будет означать
стремление восстановить прежнее положение вещей. Но эти господа
не любят, чтобы копались таким образом в древностях их города.
Только ссылаясь на древности Карфагена и Рима, они позволяют
искать объяснения вашим законам.
Я не буду проводить никакого сравнения между теми их
замыслами, которые потерпели неудачу, и теми, что удались: даже если
по количеству они одинаковы, то это отнюдь не так в отношении
общего результата. Удачно осуществив замысел, они выигрывают
в силе, а при неудаче лишь теряют время. Вы же, которые стремитесь
и можете лишь стремиться к укреплению вашего государственного
строя, наоборот, в случае проигрыша многое теряете, а в случае
выигрыша ничего не приобретаете. При подобном развитии событий
как же можно сохранить прежнее положение вещей?
Из всех времен, над которыми заставляет задуматься
поучительная история вашего правления, самым замечательным по
причинам, обусловившим его характер, и самым значительным по своим
последствиям было время, когда возник Устав о Посредничестве.
Начало этому славному времени положило одно неосторожное
предприятие, несвоевременно осуществленное вашими
магистратами. Они потихоньку присвоили себе право облагать налогами и, не
укрепив еще в достаточной степени свою власть, пожелали уже
злоупотребить этим правом. Вместо того чтобы приберечь этот удар
напоследок, они, движимые жадностью, нанесли его прежде
других, а именно после одного волнения65, которое тогда еще
окончательно не утихло. Эта ошибка повлекла за собою другие, более
существенные, которые трудно было исправить. Каким же образом столь
тонкие политики могли не знать простого правила, которое они
нарушили в данном случае? В любой стране народ лишь тогда
замечает, что на его свободу покушаются, когда покушаются на его
кошелек, а поэтому-то ловкие самозванцы весьма остерегаются это
делать, пока все остальное не сделано. Ваши же магистраты
пожелали нарушить этот порядок, за что и поплатились *. В дальнейшем
* Налоги, установленные в 1716 году, ввели для покрытия расходов, связанных
с возведением новых укреплений. План этих новых укреплений был весьма
обширный, и его исполнили лишь частично. Столь огромные укрепления делали
необходимым содержание большого гарнизона; и целью создания этого большого
гарнизона было держать в ярме граждан и горожан. Таким образом, за их же счет
404
Письма с Горы
^-»
это дело привело к движению 1734 г., a оно породило ужасный
заговор.
Это стало второй ошибкой, худшей, чем первая. Обладая всеми
преимуществами, которые дает время, они, однако, лишают себя
этих преимуществ вследствие поспешности своих действий, и
приводят весь механизм в такое состояние, что он внезапно сам начинает
работать; это то, что чуть было не случилось. События,
предшествовавшие Посредничеству, заставили их потерять столетие и
произвели еще другой неблагоприятный для них результат, заключавшийся
в том, что Европа узнала, что эти горожане, которых магистраты
желали погубить, изображая их в виде разнузданной черни, умели,
пользуясь перевесом в силах, соблюсти умеренность, ту, что
магистраты, пользуясь преимуществами, никогда не проявляли.
Я не могу сказать, следует ли считать обращение с просьбой
о Посредничестве третьей ошибкой. Это Посредничество было
предложено или казалось, что его предложили. Я не могу и не хочу
вникать в то, было ли оно действительно предложено или его
исходатайствовали. Я знаю только одно, что когда вы подверглись самой
большой опасности, все хранили молчание, и что это молчание
было нарушено лишь тогда, когда этой опасности стала подвергаться
другая сторона. Впрочем, я тем более не думаю обвинять ваших
магистратов в том, что они якобы умоляли Посредников вмешаться,
потому что даже осмеливаться говорить об этом является в их
глазах самым большим преступлением.
Один гражданин66, жалуясь на незаконный, несправедливый
и позорящий его арест, спросил, как ему следует поступить, чтобы
ходатайствовать о взятии на поруки67. Магистрат, к которому он
обратился, осмелился ему ответить, что за один уже этот запрос он
заслуживает смерти. Однако это преступление Совета перед
сувереном оказалось бы значительным и, возможно, более
значительным, чем преступление частного лица перед сувереном. И я не вижу,
в чем заключается преступление, заслуживающее смертной казни,
если человек подал повторное ходатайство, ставшее законным
благодаря взятию на поруки на основе первого ходатайства.
Добавлю, что я отнюдь не собираюсь обсуждать столь
щекотливый и столь трудно разрешимый вопрос. Относительно того, что
выковывали готовящиеся для них цепи. Этот замысел был хорошо продуман, но
осуществляли его в обратном порядке, и поэтому-то он и не удался.
405
«-V4.
Жан-Жак Руссо
нас здесь занимает, я рассматриваю только состояние, в котором
находится ваше правление, определенное ранее Уставом
полномочных представителей посредников, но исковерканное ныне новыми
предприятиями ваших магистратов. Я вынужден сделать длинное
отступление, чтобы прийти к цели; соблаговолите же следить за
моими размышлениями, и мы благополучно придем к ней.
Я вовсе не беру на себя смелость критиковать этот Устав.
Напротив, я восхищаюсь его мудростью и уважаю его беспристрастность.
Я полагаю, что он содержит самые справедливые намерения и
самые разумные постановления. Когда знаешь, сколь много
обстоятельств было против вас в этот сложный момент, сколь много
предрассудков вы должны были победить, какие влияния преодолеть,
сколько неверных отчетов уничтожить; когда вспоминаешь, с
какой уверенностью ваши противники рассчитывали раздавить вас
чужими руками, — то можно лишь воздать хвалу усердию,
постоянству и талантам ваших защитников, справедливости
держав-посредников и неподкупности их полномочных представителей,
завершивших этот труд, целью которого был мир. Что бы ни говорили,
Устав о Посредничестве оказался спасительным для республики;
и если его не нарушат, то он послужит ее сохранению. Даже если
этот труд и несовершенен сам по себе, то он относительно
совершенен. Он совершенен в данное время, в данном месте и при данных
обстоятельствах. Он является для вас наилучшим. Он должен стать
для вас неприкосновенным и священным, исходя из соображений
благоразумия, даже если бы он не оказался таковым в силу
необходимости. И вам не следует вычеркивать из него ни единой строчки,
даже если бы в вашей власти было его уничтожить. Более того,
один только довод, в силу которого он необходим, делает Устав
необходимым в целом. Так как все его взвешенные статьи образуют
устойчивое равновесие, то изменение хотя бы одной из них его
уничтожит. Насколько этот Устав полезен, настолько же он будет
и вреден, если его таким образом искалечить. Нет ничего опаснее,
чем брать по отдельности и вынимать из свода статьи, которые
вместе взятые составляют его единство. Уж лучше срыть здание
целиком, чем расшатывать его. Только позвольте вынуть хотя бы один
камень из свода, и оно раздавит вас под своими развалинами.
Это можно легче всего понять, если рассмотреть те статьи, из
которых Совет извлекает пользу для себя, и те, что он не желает
соблюдать. Вспомните, сударь, в каком ключе я предпринял свое ис-
406
Письма с Горы
следование. Будучи далек от того, чтобы советовать вам касаться
Устава о Посредничестве, я хочу вам дать понять, насколько важно
не позволить на него посягнуть. Если и кажется, что я высказываю
замечания на некоторые статьи, так это для того, чтобы показать,
каковы были бы последствия изъятия других, которые их
исправляют. Если кажется, что я предлагаю неподходящие здесь средства,
так для того, чтобы показать недобросовестность тех, кто считает
трудности непреодолимыми, тогда как их очень легко устранить.
После этого разъяснения я со спокойной совестью перехожу к сути
дела, будучи уверен, что говорю с человеком, слишком правдивым
для того, чтобы приписывать мне намерения, совершенно
противоположные моим собственным.
Я хорошо понимаю, что если бы я обращался к иностранцам,
мне следовало бы начать, дабы меня лучше поняли, с описания
вашего государственного устройства. Но это описание уже в
достаточной для них мере дано в статье «Женева» г-на д'Аламбера, и более
подробное изложение было бы для вас излишним, ибо вам
известны лучше меня ваши политические законы или, по крайней мере,
вы лучше наблюдали их в действии; я, следовательно, ограничусь
тем, что бегло коснусь тех статей этого Устава, которые относятся
к настоящему вопросу и наилучшим образом могут послужить его
разрешению.
Уже из первой статьи я вижу, что правление у вас состоит из
пяти разрядов, подчиненных друг другу и в то же время независимых,
т. е. таких, каждый из которых непременно должен существовать;
из этих разрядов ни один не может посягать на права и полномочия
другого, и из этих пяти разрядов состоит Генеральный Совет.
Исходя из этого, я нахожу, что в каждом из пяти разрядов заключена
особенная частица правления; но я вовсе не вижу здесь
учредительной власти, которая их вводит, связывает и от которой они все
зависят; я вовсе не вижу здесь суверена. Но во всяком политическом
положении необходимо наличие высшей власти, центра, где все
сходится, начала, из которого все исходит, суверена, обладающего
всей полнотой власти.
Вообразите, сударь, что кто-либо, описывая вам государственное
устройство Англии, скажет следующее: «Правление
Великобритании состоит из четырех разрядов, из которых ни один не может
посягнуть на права и полномочия остальных, а именно: Король,
Верхняя Палата, Нижняя Палата и Парламент». Разве не возразили ли
407
гч
Жан-Жак Руссо
бы вы тотчас же: «Вы ошибаетесь: здесь налицо только лишь три
разряда. Парламент, когда в нем заседает Король, включает их все;
он является не четвертым разрядом, а единым целым. Парламент
же есть единственная и высшая власть, от которой каждый разряд
получает свои права и существование. Облеченный
законодательной властью, он вправе изменять даже основной закон, в силу
которого существует каждый из разрядов. Он может это делать, и
более того — он это делал».
Этот ответ правильный, а пример понятен. И, однако,
существует еще та разница, что английский парламент — суверен лишь в
силу закона, благодаря предоставленному ему праву и возможности
избирать представителей, тогда как Генеральный Совет Женевы не
учрежден и не состоит из выборных лиц. Он суверен сам по себе.
Он — живое воплощение основного закона, который сообщает
жизнь и силу всем остальным частям государства и обладает
собственными правами. Генеральный Совет не является каким-либо
разрядом в государстве; он сам и есть государство.
Статья вторая гласит, что синдики могут быть избраны только
из состава Совета Двадцати пяти. Однако синдики являются
магистратами с годичным сроком полномочий, на которых народ
указывает и затем их избирает не только для того, чтобы они стали его
судьями, но и, в случае надобности, его защитниками против
постоянных членов Советов, им не избираемых *.
Действенность этого ограничения зависит от различия,
существующего между властью членов Совета и властью синдиков. Ибо
если это различие окажется не слишком велико и какой-либо
синдик не расценит свою власть синдика, избранного на годичный
срок, выше своей постоянной власти советника, то такие выборы
почти не будут иметь для него значения. Он не слишком постарает-
* Предоставляя право выбора членов Малого Совета Совету Двухсот, очень
легко согласовать это право с основным законом. Достаточно лишь добавить, что
войти в состав Совета нельзя иначе, как после отправления должности аудитора.
Иерархия должностей тогда лучше соблюдалась бы, и все три совета участвовали
бы в выборах того, кто все приводит в действие; это было бы не только важно, но
и необходимо для сохранения единства государственного устройства. Женевцы
могут не понять преимущества этой оговорки, если учесть, что выбор аудиторов
не имеет в настоящее время большого значения; но эта должность
рассматривалась бы совсем иначе, если бы только после ее отправления открывали доступ
в Совет.
408
Письма с Горы
_^~»
ся получить такую власть и ничего не сделает, чтобы ее заслужить.
Если все члены Совета, проникнутые одним и тем же сознанием,
будут следовать одним и тем же правилам, то народ при
одинаковом поведении не сможет сделать исключения в отношении кого-
либо из них и, имея возможность выбирать лишь тех синдиков,
которые уже являются советниками, путем такого избрания не только
не обеспечит себе защитников от посягательств Совета, но лишь
откроет перед Советом новые возможности притеснять свободу.
Хотя сходный порядок избрания по обычаю имел место с самого
начала существования этого установления, но, поскольку он
оставался свободным, то не приводил к сходным результатам. Когда
народ сам избирал советников или же когда он избирал их косвенным
образом через назначенных им синдиков, ему казалось
безразличным, а порой даже выгодным выбирать своих синдиков из числа
уже избранных им советников *, и тогда было вполне разумно
оказывать предпочтение правителям, уже имевшим опыт в делах. Но
в настоящее время над этим соображением берет верх иное, более
важное. Вот насколько верно, что один и тот же обычай будет иметь
иные последствия в силу изменений в обычаях, связанных с ним,
и в подобном случае отказ от новшеств сам по себе окажется
новшеством.
Статья 3 Устава более значима. В ней говорится о Генеральном
Совете, созываемом на законном основании. Она упоминает о нем
с тем, чтобы определить его права и обязанности, и возвращает ему
многие из тех прав, которые были незаконно присвоены
нижестоящими Советами. Эти права в своей совокупности, конечно, велики
и прекрасны. Но, во-первых, они уточнены и уже тем самым огра-
* Малый Совет вначале состоял только лишь из нескольких нотаблей или
сведущих людей» избираемых из народа синдиками. Эти нотабли или сведущие люди
должны были служить помощниками синдикам. Каждый синдик избирал себе
четыре или пять помощников, срок полномочий которых истекал вместе с его
собственным; иногда даже он их сменял на протяжении своей службы. Генрих,
именуемый Испанцем, стал первым пожизненным советником в 1487 году; его
поставил на эту должность Генеральный Совет. Не нужно даже было быть
гражданином, чтобы занимать эту должность. Закон относительно этого издали лишь по
случаю дела некоего Мишеля Гийе де Тонон, которого, после того как его ввели
в состав Совета с ограниченным числом членов, изгнали оттуда из-за множества
его ультрамонтанских ухищрений, принесенных с собой из Рима, где он вырос68.
Магистраты города, бывшие в то время истинными женевцами и отцами народа,
питали отвращение ко всем этим ухищрениям.
409
*\
Жан-Жак Руссо
ничены. То, что закрепляют, исключает то, что не закрепили; и даже
само слово «ограничены» имеет место в этой статье. Однако сама
сущность суверенной власти заключается в том, что ее нельзя
ограничить; она может все или ничего. Ввиду того, что суверенная
власть содержит в себе в наивысшей степени все действительные
полномочия государства, и потому, что само существование
государства определяется ею, она не может в нем признавать
наличия иных прав, кроме принадлежащих ей и тех, что она сообщает.
Иначе обладающие этими правами вообще не входили бы в состав
политического организма. Они оказались бы чужды ему в силу
отсутствия этих прав, и нравственное лицо, не обладая единством,
распалось бы.
Это ограничение установлено в отношении налогов. Сам
Суверенный Совет не имеет права отменять те их них, которые были
установлены до 1714 г. Он, следовательно, зависит от высшей
власти. Какова же эта власть?
Законодательная власть состоит из двух неотделимых друг от
друга частей: принимающей законы и укрепляющей их, то есть
имеющей право надзора за исполнительной властью. Нигде в мире не
существует такого государства, где суверен не наделен правом
подобного надзора. Иначе из-за отсутствия всякой связи, всякого
взаимного подчинения этих двух властей исполнительная власть
окажется совершенно независимой от законодательной; исполнение
утратит всякую необходимую зависимость от законов; закон станет
всего лишь ничего не значащим словом. Генеральный Совет во все
времена обладал правом оберегать свое собственное творение, и он
всегда осуществлял это право. Однако об этом совершенно не
говорится в данной статье; и если бы это не восполняла другая статья, то
в силу одного такого умолчания ваше государство было бы
разрушено. Этот пункт важен, и я вернусь к нему в дальнейшем.
Если ваши права, с одной стороны, в этой статье ограничены, то,
с другой— расширены в параграфах 3 и 4, но восполняется ли одно
другим? Начала, обоснованные в «Общественном договоре»,
показывают, что, вопреки общему мнению, заключение союзов между
государствами, объявление войны и заключение мирных
договоров не являются решениями суверенной власти, но решением
правительства, и эта точка зрения соответствует обычаям тех наций,
которые наилучшим образом узнали истинные начала политического
права. Осуществление державной власти вовне страны не является
410
Письма с Горы
делом народа. Высокие правила управления государством
недоступны его пониманию. Он должен в этом отношении полагаться
на своих правителей, которые, будучи гораздо более
просвещенными в этих вопросах, едва ли заинтересованы в том, чтобы
заключать договоры, невыгодные для отечества. Порядок требует, чтобы
народ предоставил им наружный блеск, сосредоточивая свое
внимание только на существенном. Для каждого гражданина важны
главным образом соблюдение законов внутри страны, охрана
права собственности и безопасности частных лиц. Пока в государстве
будут соблюдаться эти три статьи, можно предоставить Советам
вести переговоры и заключать соглашения с иностранными
государствами, ибо не отсюда будут исходить опасности, которых вам
следует более всего бояться. Права народа сосредоточены в
отдельных лицах; и если можно посягнуть на права отдельных лиц, то
всегда можно поработить народ в целом. Я мог бы сослаться на
мудрость римлян, которые, предоставляя сенату большую власть во
внешних сношениях, заставляли его уважать в самом городе
последнего из его граждан. Но не будем искать образцов для подражания
так далеко: горожане Невшателя вели себя гораздо более мудро,
находясь под властью своих государей, чем вы под властью ваших
магистратов*. Они не заключают мира и не объявляют войны, не
утверждают договоров, но пользуются своими вольностями, не
опасаясь их потерять. И так как закон вовсе не предусмотрел, что в
маленьком городе некоторые почтенные горожане могут оказаться
негодяями, то внутри стен этого города отнюдь не отстаивают
внушающего отвращение права заключать в тюрьму без соблюдения
предписанного порядка, каковое право там даже неизвестно. Вас
всегда привлекала видимость прав, а не суть дела. Вы слишком
большое внимание уделяли Генеральному Совету и недостаточно его
отдельным членам. Нужно было меньше думать о власти и больше
о свободе. Вернемся же к Генеральному Совету.
Помимо ограничений в статье III, в статье V и в статье VI
содержатся еще гораздо более странные ограничения: суверенный
организм не вправе ни образоваться, ни задумать какое-либо действие
самостоятельно, и он находится в полном подчинении у
нижестоящих присутствий в том, что касается его деятельности и вопросов,
* Я упоминаю об этом, оставляя в стороне нарушения, которые, конечно, отнюдь
не оправдываю.
411
*\
Жан-Жак Руссо
подлежащих его рассмотрению. Поскольку эти присутствия,
несомненно, не утвердят предложений, которые станут для них особенно
вредны, то если выгоды государства окажутся в противоречии с их
выгодами, этим последним будет всегда оказано предпочтение, ибо
законодателю позволительно знать лишь то, что они одобрили.
Стремясь подчинить все нормам, уничтожают главную из них —
а именно: справедливость и общее благо. Когда же люди поймут:
ничто не порождает смут столь пагубных, как произвольная власть,
при помощи которой хотят от них избавиться. Такая власть сама по
себе является наихудшей из смут. Применение такого средства,
дабы предотвратить их возникновение, равносильно тому, как если
бы людей стали убивать, чтобы они не страдали от лихорадки.
Большое и беспорядочное сборище людей может причинить
много вреда. На многолюдном собрании, хотя в нем и сохраняется
порядок, если все-таки каждый может говорить и предлагать то, что
он хочет, теряется много времени на заслушивание разных
глупостей и может даже возникнуть опасность совершения таковых. Вот
несомненные истины. Но разумно ли предотвращать
злоупотребление, ставя это собрание в зависимость только от тех, кто желал
бы его упразднить, дозволяя выступать с предложениями лишь
тем, кому только и выгодно ему вредить? Ибо, сударь, не так ли
именно обстоит здесь дело, и найдется ли хоть один женевец,
который станет сомневаться в том, что Генеральный Совет упразднят
навсегда, если он станет полностью зависеть от Малого Совета?
Этот последний, однако, и есть тот самый организм, который
только и созывает эти собрания и предлагает там все, что ему
угодно. Ибо Совет Двухсот лишь повторяет распоряжения Малого
Совета; и если последний избавится от Генерального Совета, Совет
Двухсот почти ни в чемле будет его стеснять и пойдет вместе с ним
по пути, проложенному при вашем участии.
Какого неудобства мне следует опасаться со стороны
вышестоящего лица, в котором я не нуждаюсь, способный заявить о себе
лишь тогда, когда я ему это позволю, и отвечать лишь тогда, когда
я его спрашиваю? Низведя его до такого положения, разве я не
вправе считать, что от него освободился?
Если возразят, что закон государства предотвратил упразднение
Генерального Совета, сделав его созыв необходимым при выборах
магистратов и для утверждения новых эдиктов, то я отвечаю, по
412
Письма с Горы
первому пункту, что, раз вся сила правления перешла из рук
магистратов, избираемых народом, в руки Малого Совета, который он не
избирает и из состава которого назначают главных из этих
магистратов,« то и избрание и собрание, где оно происходит, являются
просто бессмысленным, ни на чем не основанным обычаем, и
собрания Генерального Совета, созываемые только для этой цели,
могут считаться ничтожными. Я отвечаю еще, что по тому, как
складывались обстоятельства, было бы даже легко обойти этот
закон, причем порядок решения дел не изменился бы. Ибо
предположим, что либо из-за отвода всех выдвинутых кандидатов, либо под
каким-нибудь другим предлогом избрание синдиков не
производится, и тогда Совет, в котором незаметным образом растворяется
их власть, не станет ли осуществлять эту самую власть без них, как
он ее уже теперь осуществляет независимо от них? Не
осмеливаются ли вам уже говорить, что Малый Совет, даже без синдиков, есть
правительство? Следовательно, и без синдиков управление
государством будет продолжать осуществляться. А что касается новых
эдиктов, то я ручаюсь, что они никогда не окажутся настолько
необходимы, чтобы этот Совет не мог при помощи прежних эдиктов
и путем присвоения власти легко найти средство обойтись без
новых эдиктов. Тот, кто ставит себя выше старых законов, легко
может обойтись без новых.
Приняты все меры для того, чтобы никогда не возникала
необходимость в ваших общих собраниях. Дело не только в том, что
периодически созываемый Совет, учрежденный или, скорее,
воссозданный в 1707 г. *, заседал всего лишь один раз, и только для того,
чтобы себя упразднить **, но и в том, что в силу параграфа 5
статьи III Устава расходы на управление определили без вас и навсегда.
* Периодические советы столь же древни, как и законодательство, как это видно
из последней статьи Церковного Ордонанса. В Указе 1576 года, напечатанном
в 1735 году, сказано, что созыв этих советов производится раз в пять лет, но в
Указе 1561 года, напечатанном в 1562 году, сказано, что они созываются раз в три года.
Неверно утверждать, что цель этих советов состояла лишь в заслушивании этого
Указа, ибо то, что он был отпечатан именно в это время, давало каждому
возможность с легкостью и в удобное время познакомиться с ним, и при этом не было
никакой нужды в созыве Генерального Совета. К сожалению, приложили много
усилий для того, чтобы изгладить из памяти также многие старинные обычаи,
которые теперь оказались бы весьма полезны для объяснения эдиктов.
** Эдикт об упразднении я подробно рассмотрю позднее.
413
*-v. Жан-Жак Руссо
Только лишь в одном-единственном и невероятном случае какой-
нибудь неминуемой войны Генеральный Совет обязательно следует
созвать.
Малый Совет мог бы совершенно упразднить созыв
Генерального Совета без какой-либо иной помехи, чем те немногие
представления, что он в состоянии отклонить, или же пробудить некий
тщетный ропот, которым он может, ничего не опасаясь, пренебречь.
Ибо, согласно статьям VII, XXIII, XXIV, XXV, XLIII, в любом случае
всякого рода сопротивление запрещено; а средства, не
предусмотренные государственным устройством, не есть его часть и не могут
исправлять его недостатки.
Однако Малый Совет так не поступает, потому что, в сущности,
все это ему весьма безразлично и потому, что видимость свободы
приучает терпеливее сносить рабство. Он с малыми издержками
для себя забавляется с вами либо выборами, которые он вам
жалует без последствий для власти и избранных лиц, либо законами,
кажущимися важными, но которые он старается сделать
бесполезными, соблюдая их лишь насколько, насколько это ему угодно.
Впрочем, на этих собраниях ничего нельзя ни предлагать, ни
принимать каких-либо решений. Малый Совет председательствует
на них как сам, так и через синдиков, привносящих туда нрав,
свойственный их организму. Он является в них, кроме того, магистратом
и господином своего суверена. Не противоречит ли всякому
здравому смыслу то, что организм исполнительной власти направляет
порядок работы законодательного организма и предписывает, чем
тот должен ведать, лишает его права высказывать свое мнение,
осуществляя свою неограниченную власть даже в решениях,
призванных ее обуздать?
То, что столь многочисленный организм * нуждается в
определенных правилах благочиния и в порядке — я с этим согласен. Но
* Генеральный Совет в Женеве в прошлом созывался очень часто, и на его
собраниях обсуждалось все то, что приобретало какое-либо значение. В 1707 году
синдик Шуэ сказал в одной из речей, ставшей знаменитой, что эти частые созывы
были в прошлом причиной слабости государства и несчастий в нем. В
дальнейшем мы увидим, что следует думать на этот счет. Он настаивает на том, что
чрезмерное увеличение числа членов этого Совета сделало в настоящее время
невозможным столь частый его созыв, и утверждает, что в прошлом численность этого
собрания не превосходила 200—300 человек, а в настоящее время оно состоит из
1300-1400 человек. С обеих сторон допустили много преувеличений.
414
Письма с Горы
пусть эти благочиние и порядок не меняют цели, ради которой он
был создан. Разве установить порядки, не влекущие за собой
порабощения нескольких сот человек, по своей природе степенных
и хладнокровных, труднее, чем сделать это в Афинах, где, как нам
рассказывают, собрание состояло из нескольких тысяч граждан,
горячих, порывистых и почти необузданных; труднее, чем в той
столице мира, где народ, собравшись вместе, осуществлял частично
исполнительную власть, — и труднее, чем в наши дни в Большом
На самых ранних собраниях Генерального Совета участвовало по меньшей
мере от 500 до 600 членов. Было бы, возможно, затруднительно назвать хотя бы одно
из таких собраний, которое насчитывало бы лишь 200 или 300 членов. В 1420 г.
там насчитывалось 720 имеющих право голоса наряду со всеми остальными69;
а вскоре туда вошло еще более двухсот горожан.
Хотя город Женева и стал торговым и богатым, от этого количество населения
в нем не выросло, так как укрепления не давали возможности его расширить за
пределы городской стены, и это стало причиной сноса домов в пригородах.
Впрочем, почти не имея земли и находясь в зависимости от соседей из-за недостатка
продуктов питания, он вообще не смог бы расширить свои границы, при этом
себя не ослабив. В 1404 г. в нем было 1300 домов, где насчитывалось по крайней
мере 13 000 душ. В настоящее же время их едва ли наберется более 20 000, что
далеко не равно отношению 3 к 14. Однако из этого числа нужно исключить еще
уроженцев, жителей, иностранцев, не входящих в Генеральный Совет, число
которых очень увеличилось по отношению к числу горожан со времени, когда
предоставили убежище французам и стали развивать ремесла. Число участников
некоторых Генеральных Советов в наше время доходит до 1400 и даже 1500 человек, но
обычно оно не приближается к этой цифре. Если численность некоторых из них
и доходит до 1300, то это лишь в крайних случаях, когда все добрые граждане, по-
видимому, считают, что своим отсутствием они нарушают присягу, или же когда
магистраты, со своей стороны, призывают извне тех, кто от них зависит, для того
чтобы обеспечить себе их поддержку в своих происках. Однако эти происки,
неизвестные в XV в.. отнюдь не требовали подобных мер. В большинстве случаев
обычное число участников Генеральных Советов колебалось между 800 и 900.
Иногда оно бывает меньше числа участников 1420 г., в особенности когда
собрание Совета заседает летом и когда речь идет о делах маловажных. Я сам
присутствовал в 1754 г. на заседании Генерального Совета, на котором, без сомнения, не
присутствовало и 700 членов.
Взвесив все эти различные соображения, надо признать, что Генеральный
Совет в настоящее время по своей численности приблизительно соответствует
численности Совета два или три века тому назад, или же, по крайней мере, что его
состав мало чем отличается от прежнего. Однако все в нем тогда выступали.
Порядок и благочиние, которые царят в нем ныне, не были тогда еще заведены.
Иногда на Совете раздавались крики. Но народ был свободен, магистрат пользовался
уважением, а Совет собирался часто. Следовательно, г-н синдик Шуэ ложно
обвинял и рассуждал неверно.
415
«~\-
Жан-Жак Руссо
Совете Венеции, столь же многочисленном, как и ваш Генеральный
Совет? Жалуются на беспорядки, царящие в английском парламенте,
но, однако, в этом собрании, состоящем более чем из семисот
членов, где обсуждаются столь важные дела, где сталкивается столько
соображений выгоды, где переплетается столько интриг, где люди
проявляют горячность, где каждый член имеет право выступать, —
все дела вершатся, все поручения выполняются; и дела в этой
великой монархии следуют своим чередом. А у вас стремления людей
столь просты, столь незамысловаты, и дела следует вести, так
сказать, по-семейному, — но вас пугают бурями, как если бы все
оказалось на грани гибели! Сударь, как установить добрый порядок
в вашем Генеральном Совете? Как только все искренне захотят
сделать это ради общего блага, — тогда они станут там свободными,
и все будет проходить более спокойно, чем сейчас.
Предположим, что в Уставе использовали бы иной способ
рассуждения в сравнении с тем, что приняли; и вместо закрепления
прав Генерального Совета, закрепили бы права других Советов, что
позволило бы указать на права последнего. Согласитесь, тогда
Малый Совет соединил бы в своих руках все виды властей, что весьма
странно в свободном и демократическом государстве, и
обладателями власти оказались бы правители, которых народ отнюдь не
выбирает, и остающиеся пожизненно на своих должностях. Тогда
получилось бы следующее: прежде всего, возникло бы соединение
двух вещей, несовместимых во всех прочих странах, а именно:
соединение управления делами государства и осуществления высшего
правосудия в отношении имущества, жизни и чести граждан; разряд
граждан, нижестоящий по своему положению, оказался бы
высшим по своему могуществу; без нижестоящего совета все оказалось
бы безжизненным в республике, ибо он один предлагает решения
и главным образом их принимает, и один только его голос, даже
в его собственном деле, позволяет наделить правом голоса
вышестоящие Советы; появился бы организм, признающий власть другого
организма, но один только этот первый организм имел бы право
назначать членов второго организма, которому он, однако,
подчинен; либо возник бы высший суд, решения которого обжалуют, или
же, наоборот, появился бы нижестоящий судья,
председательствующий в вышестоящих судах, и этот судья, после того как он заседал
в качестве нижестоящего судьи в суде, решения которого
обжаловали, не только заседал бы как высший судья в суде, куда подана жа-
416
Письма с Горы
-х-»
лоба, но и в этом Верховном Суде сам выбирал бы себе заседателей.
Наконец, возник бы разряд граждан, действующий самостоятельно
и направляющий все остальные разряды в их деятельности,
поддерживающий при голосовании решения, принятые им самим,
подающий свое мнение дважды, а голосующий три раза *.
Обжалование решений Малого Совета в Совете Двухсот — это
поистине детская забава. Это невиданный в политике фарс.
Поэтому нужно ли, собственно, называть это обжалование обжалованием,
или же мольбой о помиловании перед лицом правосудия, или же
это — обжалование приговора в кассационном порядке.
Непонятно, что это такое. Позволительно ли думать, что если бы Малый
Совет отлично не сознавал, что это последнее обжалование
остается без последствий, разве он добровольно отказался бы от права на
него, как он это сделал? Такое бескорыстие не в его правилах.
Если решения Малого Совета не всегда поступают на
утверждение Совета Двухсот, то это бывает по делам частных лиц с
прениями сторон, когда магистрату совершенно безразлично, какая из них
проиграет или выиграет судебное разбирательство. Но в делах,
возбуждаемых в обязательном порядке, в каждом из тех дел, в
которых заинтересован сам Малый Совет, исправлял ли когда-либо
Совет Двухсот несправедливость, допущенную Малым Советом?
Защищал ли он когда-либо обиженного? Осмеливался ли он когда-
нибудь не утвердить то, что содеял Малый Совет? Использовал ли
он хоть раз и с честью свое право помилования? Я с горечью
вспоминаю времена, память о которых ужасна и неизгладима. Некий
* В государстве, где образ правления республиканский и где говорят
по-французски, нужно было бы создать особый язык для ведения дел управления. Например,
«обсуждать», «подавать мнение», «голосовать» — это три весьма различные
понятия, которые французы недостаточно различают. «Обсуждать» — это значит
взвешивать доводы за и против; «подавать мнение» - значит выражать свое мнение
и обосновывать его; «голосовать» — значит подавать свой голос, когда остается
только подсчитать голоса. Сначала какой-либо вопрос ставится на обсуждение,
в первую очередь по этому вопросу высказываются мнения, а в последнюю
очередь его ставят на голосование. У судов повсюду приблизительно один и тот же
облик, но ввиду того что при монархии народу нет нужды знать эти выражения,
они известны только адвокатскому сословию. Допуская другую неточность в этом
языке, г-н де Монтескье, которому был отлично знаком этот язык, всегда говорил
«исполняющая власть», нарушая, таким образом, аналогию и образуя причастие
от слова «исполнитель», являющегося существительным. Это такая же ошибка,
как если бы он сказал «законодательствующая власть».
14 Зак. 3436
417
*^ч.
Жан-Жак Руссо
гражданин70, которого Малый Совет сделал жертвой своего
мщения, обжалует приговор перед Советом Двухсот; несчастный
унижается до того, что просит о помиловании; его невиновность
известна всем; все правила были нарушены в этом разбирательстве, но
ему отказывают в помиловании, и невинный погибает. Фацио
столь хорошо сознавал бесполезность обжалования в Совет
Двухсот, что не стал пользоваться этим правом.
Я ясно вижу, что представляет собой Совет Двухсот в Цюрихе,
в Берне, во Фрибурге и в других аристократических государствах,
но я не могу сказать, что он представляет собой в вашем
государственном устройстве и какое место он в нем занимает. Является ли
он высшим судом? В таком случае бессмысленно, если во время его
собрания в нем заседает нижестоящий суд. Является ли он
организмом, представляющим суверена? В таком случае тот, кого
представляют, должен назначать своего представителя. Учреждение Совета
Двухсот не может иметь иной цели, чем умерить огромную власть
Малого Совета; а он, наоборот, только и придает больше силы этой
самой власти. Однако всякий организм, постоянно действующий
вопреки смыслу своего учреждения, — плохое учреждение.
К чему настаивать здесь на общепризнанных вещах, которые
известны каждому женевцу? Совет Двухсот сам по себе ничего из себя
не представляет. Это лишь Малый Совет, проявляющий себя в
несколько ином виде. Один-единственный раз он попытался
сбросить иго своих хозяев и обрести независимое существование, и из-
за этой единственной попытки чуть было не произошло крушение
государства. Только лишь благодаря Генеральному Совету Совет
Двухсот сохраняет еще видимость власти. Это было отчетливо
заметно в тот период времени, о котором я говорю; это станет еще
более заметно впоследствии, если Малому Совету удастся достичь
своей цели. Таким образом, когда в согласии с Малым Советом
Совет Двухсот способствует ущемлению прав Генерального Совета, он
тем самым готовит собственное крушение; и если он думает, что идет
по стопам Совета Двухсот в Берне, то в этом он жестоко
заблуждается. Но почти всегда на этом Совете наблюдалось мало мудрости
и еще менее мужества; иначе и не может быть, если принять во
внимание, каким образом этот Совет пополняется *.
* Сказанное распространяется на Совет Двухсот вообще и на дух этого
организма; ибо я знаю, что среди членов Совета Двухсот есть весьма просвещенные лица,
418
Письма с Горы
Вы видите, сударь, насколько, вместо того чтобы уточнить
права суверенного Совета, было бы полезнее уточнить полномочия,
предоставленные подчиненным ему организмам; и, даже не вникая
во все остальное, вы более отчетливо понимаете, что в силу
некоторых статей, взятых в отдельности, Малый Совет становится
вершителем судеб закона, а потому и частных лиц. Когда принимают во
внимание права граждан и горожан, собравшихся в Генеральном
Совете, то эти права выглядят блестяще. Но взгляните на этих же
самых граждан и горожан за пределами собрания как на отдельных
лиц, и что же тогда они собой представляют? Кем они становятся?
Рабы произвольной власти, они оказываются беззащитными перед
произволом двадцати пяти деспотов71. У афинян их было по
крайней мере тридцать. Но что я говорю — двадцать пять. Достаточно
девяти для вынесения судебного решения по делам гражданским
и тринадцати — по делам уголовным **. Достаточно, если семь или
восемь человек из этого числа выразят согласие, и они превратятся
в децемвиров. Но ведь децемвиры избирались народом, тогда как
ни один из этих судей вами не избирается. И это называется быть
свободными!
Письмо VIII
Я, сударь, исследовал ваше нынешнее правление согласно
Уставу о Посредничестве, благодаря которому оно учреждено. Однако
я далек от мысли, чтобы обвинить Посредников в желании
низвести вас до рабства; я, напротив, доказал бы, что они во многих
отношениях улучшили ваше положение по сравнению с тем, которое
было до волнений, заставивших вас принять их добрые услуги. Они
у которых нет недостатка в усердии. Но, постоянно находясь на виду у Малого
Совета, будучи предоставлены его произволу, не имея поддержки, не получая
помощи и хорошо сознавая, что их Совет в случае чего от них отступится, они
воздерживаются от бесполезных попыток, которые только опорочили бы их и
погубили. Подлый сброд шумит и торжествует. Мудрец молчит и втайне вздрагивает.
Впрочем, Совет Двухсот не всегда терял доверие к себе, как это случилось
теперь. Некогда он пользовался уважением общества и доверием граждан. Поэтому
граждане спокойно давали ему возможность осуществлять права Генерального
Совета, которые Малый Совет постарался косвенным путем присвоить себе. Еще
одно доказательство в пользу того, о чем будет сказано далее: горожане Женевы
малопредприимчивы и почти совсем не вникают в государственные дела.
** Гражданские эдикты. Раздел I. Ст. 36.
419
«-^
Жан-Жак Руссо
нашли город вооруженным; по их прибытии все находилось в
состоянии развала и смущения, и подобное положение не давало им
возможности отыскать правила, в соответствии с которыми они
должны были действовать. Они обратили взгляд на мирные
времена, они изучили изначальное устройство вашего правления. И, с
учетом пройденного им пути, его следовало полностью перестроить
для того, чтобы восстановить; разум, справедливость не позволили
им учредить у вас новое правление, да вы его бы и не приняли.
Таким образом, не имея возможности исправить недостатки, они
ограничились тем, что укрепили завещанное вашими предками; они
его даже исправили в некоторых отношениях; среди
злоупотреблений, о которых я только что говорил, прежде чем посредники
узнали об их существовании в вашей республике, не было ни одного,
сохранявшегося продолжительное время. И как мне кажется,
единственная ваша ошибка заключалась в том, что вы отобрали у
законодателя всю полноту исполнительной власти и возможность
использовать силу для укрепления правосудия. Однако, давая вам
в руки столь надежное и более законное средство, они превратили
это очевидное зло в истинное благодеяние; ручаясь за ваши права,
они избавили вас от необходимости защищать их самостоятельно.
Ах! В суетности человеческих забот какая из них стоит того, чтобы
из-за нее проливать кровь наших братьев? Даже свобода не стоит
такой цены.
Посредники могли ошибаться; ведь они — люди. Но они не
имели ни малейшего желания вас обманывать; они лишь желали быть
справедливыми. Это понятно само собой, это даже доказуемо; и в
самом деле, все то, что можно счесть двусмысленным или неудачным
в сделанном ими, было таковым по необходимости, иногда в силу
заблуждений, но вовсе не по злому умыслу. Им пришлось
совместить вещи, почти несовместимые: права народа и требования Совета,
власть законов и власть людей, независимость государства и
обеспечение прав в Уставе. При все этом нельзя было избежать
некоторых противоречий; и именно в силу этих противоречий ваш
магистрат получает преимущество, обращая все в свою пользу и заставляя
использовать половину ваших законов для того, чтобы нарушать
другую половину.
С самого начала было ясно, что Устав сам по себе не является
законом, навязанным республике по воле Посредников, но всего лишь
соглашением, которое они заключили с ее жителями, и что они,
420
Письма с Горы
следовательно, никоим образом не посягали на его суверенитет.
Это ясно, говорю я, в силу статьи 44, оставляющей за Генеральным
Советом, законным образом созванным, право вносить в статьи
Устава любые угодные ему изменения. Так, Посредники никоим
образом не считали свою волю выше воли Совета; они вмешивались
только в случае разногласий. В этом суть статьи 15.
Однако отсюда следует также и ничтожность оговорок и
ограничений в отношении прав и полномочий Генерального Совета в
статье 3. Ибо если Генеральный Совет решит, что эти ограничения
и оговорки более не устанавливают рамки его власти, то этих рамок
больше не будет72; и когда все члены суверенного сосударства
осуществляют власть самостоятельно, то кто же окажется вправе
этому противодействовать? Исключения, которые можно вывести из
статьи 3, означают, таким образом, не что иное, как то, что
Генеральный Совет будет придерживаться этих рамок до тех пор, пока
он не сочтет нужным выйти за них.
Именно в этом заключается одно из противоречий, о котором
я говорил и причину которого легко понять. Впрочем,
полномочным представителям, усвоившим иного рода правила, касающиеся
правления, было трудно вникнуть в истинные начала вашего
правления. Демократическое государственное устройство до
настоящего времени еще плохо изучено. Все те, кто об этом говорили, либо
были с ним не знакомы, либо мало проявляли к нему внимания,
либо ставили перед собой цель представить его в невыгодном свете.
Никто из них не мог в достаточной мере отличить суверена от
правительства, законодательную власть от власти исполнительной.
Ведь не существует ни одного государства, в котором эти две власти
можно было бы таким образом отделить друг от друга и где не
имело бы места весьма сильное желание их смешивать. Одни
воображают, что демократия и есть правительство, в котором весь народ
является магистратом и судьей; другие видят свободу только в
праве избирать своих правителей, и поскольку правители подчиняются
лишь государям, то эти люди считают, что тот, кто руководит, тот
и является во всех случаях сувереном. Демократическое
государственное устройство есть, несомненно, образец политического
искусства: однако чем больше в нем восхищаются искусством, тем
меньше оказываются способны это искусство понять. Разве не
правда, сударь, что главная предосторожность заключалась в том, что-
421
«-^
Жан-Жак Руссо
бы допускать созыв законного Генерального Совета не иначе как по
инициативе Малого Совета, а вторая предосторожность
заключалась в том, чтобы не допускать рассмотрения никаких предложений,
прежде не одобренных Малым Советом, а этих предосторожностей
было бы достаточно для обеспечения высшей степени
независимости Генерального Совета? Третья предосторожность, которая
заключается в том, чтобы определить предмет ведения этого Совета,
была самой бесполезной вещью в мире. И в чем заключалось бы
неудобство оставить за Генеральным Советом полноту высшей
власти, поскольку он сможет ею воспользоваться настолько,
насколько ему позволит Малый Совет? Не ограничив права суверенной
власти, мы, по сути, поставим ее в меньшую зависимость, но при
этом избежим противоречия; все это доказывает, что напрасные
сами по себе и противоречивые по своей сути меры
предосторожности были приняты в силу отсутствия точного знания о характере
вашего государственного устройства.
Скажут, что эти ограничения имели целью только указать на
случаи, когда нижестоящие Советы обязаны созвать Генеральный
Совет. Я это хорошо понимаю; но не проще и не естественнее ли было
бы указать на права, предоставленные им и осуществляемые без
участия Генерального Совета? Разве ограничения стали бы менее
четкими в отношении как одной, так и с другой стороны, если бы
нижестоящие Советы пожелали бы нарушить эти ограничения?
Неужели не ясно, что для этого им потребовалось бы особое
разрешение? При этом, признаюсь, Посредники имели в виду сосредоточить
больше власти в одних и тех же руках; но они представили вещи
в их истинном свете, вывели из природы вещей средство закрепить
взаимные права различных организмов государства, и они
понимали всю противоречивость положения дел.
Правда, автор «Писем» настаивает на том, что Малому Совету,
собственно правительству, надлежит в этой должности
осуществлять всю власть, не принадлежащую другим политическим
организмам; но это означает предположить, что его власть возникла
раньше Эдиктов. Это означает предположить, что Малый Совет
есть основной источник власти и сохраняет все те права, которые
не отчуждает. Узнаете ли вы, сударь, в этом начале начало вашей
конституции? Столь любопытное доказательство стоит того, чтобы
на нем ненадолго остановиться.
422
с Горы
Для начала заметьте, что здесь речь идет о власти Малого
Совета *, противопоставленной власти синдиков, а именно, о каждой из
этих двух властей, отделенных друг от друга. В Уставе говорится
о власти синдиков без Совета. Почему? Потому что Совет без
синдиков есть правительство. Таким образом, само умолчание Эдиктов
о власти Совета, никоим образом не доказывая ничтожность этой
власти, является доказательством ее размеров. Вот, без сомнения,
вывод совершенно необычный. Тем не менее согласимся с ним до
тех пор, пока не будет доказано противоположное.
И если в силу того, что Малый Совет и есть правительство,
Эдикты вовсе не упоминают о его власти, то они, по крайней мере,
утверждают, что Малый Совет и есть правительство; если только,
следуя цепочке доказательств, не прийти к выводу, что их
умолчание не подтверждает противоположное сказанному в них.
Однако я требую, чтобы мне показали в ваших Эдиктах место,
где говорится о том, что Малый Совет является правительством;
а пока я вам сам покажу, где сказано прямо противоположное. В
политическом Эдикте 1568 года я нахожу вводную часть, написанную
с этой целью:
Пусть правление и государство этого города состоят из
четырех синдиков. Совета Двадцати Пяти, Совета Шестидесяти,
Двухсот, Общего Совета и Лейтенанта отправляющего обычное
правосудие, с прочими должностями, как для нужд благочиния, так
и для управления общественным достоянием и правосудием, мы
приняли порядок, который до сих пор соблюдается <...> чтобы
он сохранился и в будущем <...> как и в дальнейшем!
С самой первой статьи Эдикта 1738 года, я вижу, что еще «пять
разрядов составляют правительство Женевы». Однако из этих пяти
разрядов четыре синдика образуют один из них, а Совет Двадцати
Пяти, в который, несомненно входят все четыре синдика, образует
другой разряд; и синдики входят в состав еще трех остальных.
Малый Совет без синдиков не является правительством.
Я открываю Эдикт 1707 года, и я вижу там статью 5, дословно:
«Господа синдики осуществляют руководство и составляют
правительство государства». В то мгновенье, когда я закрыл книгу, я
говорю: «Определенно, согласно Эдиктам, Малый Совет без синдиков
* «Письма из деревни». С. 66.
423
*^ч.
Жан-Жак Руссо
не является Правительством. Хотя автор "Писем" утверждает
обратное».
Скажут, что я сам часто приписываю в этих «Письмах» Малому
Совету правительственные полномочия. Я это признаю; однако
именно Малому Совету под председательством синдиков; и тогда
становится очевидным, что выражение «частичное правительство»
употребляется в том смысле, который я придаю этому слову
«частичное». Но этот смысл не тот, который подразумевает автор
«Писем», поскольку, согласно моему пониманию, правительство
обладает только теми полномочиями, которыми его наделил закон;
а согласно его пониманию, наоборот, правительство обладает
всеми полномочиями, которых его не лишает закон.
Во всей своей силе остается возражение сторонников
Представлений, согласно которому в тексте Устава в разделе о синдиках речь
идет об их власти, а в разделе о Совете говорится только лишь о его
долге. Я считаю, что это возражение остается во всей своей силе,
поскольку автор «Писем» отвечает на него только утверждением,
опровергаемым всеми текстами Эдиктов. Вы доставите мне
удовольствие, указав, сударь, каким недостатком грешит мое
рассуждение.
Тем не менее этот автор, очень довольный своим рассуждением,
спрашивает: «Если законодатель не рассматривал Малый Совет с
такой точки зрения, как понять тот факт, что нигде в Эдиктах он не
давал перечня его прав, наличие которых предполагается повсюду
и которые он нигде не определил?»
Смею проникнуть в эту глубокую тайну. Законодатель никоим
образом не определяет властные полномочия Совета, потому что
он не наделяет его никакой властью, независимой от синдиков; он
предполагает ее наличие лишь тогда, когда в нем
председательствуют синдики. Он наделил властью синдиков, и, следовательно,
излишне было наделять властью Совет. Синдики имеют некоторые
полномочия вне Совета, но Совет без синдиков не получает каких-
либо полномочий. Без них он ничто; он значит еще меньше, чем
Совет Двухсот в то время, когда в нем председательствовал аудитор
Саразен73.
Вот, как я полагаю, единственное разумное объяснение
умолчания Эдиктов по вопросу о власти Совета; но это не то объяснение,
с которым угодно согласиться магистратам. Возможно было бы
избежать странных толкований Устава с их стороны, если бы в нем
424
Письма с Горы
-х-*
воспользовались противоположным способом и, вместо того
чтобы указать на права Генерального Совета, указали бы на права
Малого Совета. Однако, отнюдь не желая говорить то, о чем и речи не
было в Эдиктах, члены Малого Совета стали намекать на
допущения, отсутствующие в Эдиктах.
Как много здесь противоречащего общественной свободе и
правам граждан и горожан! И сколько я мог бы еще к этому добавить!
Однако все эти недостатки, которые возникали или, кажется,
возникают в вашем государственном устройстве и которые
невозможно было бы устранить, не разрушая его, были бы вполне
уравновешены и исправлены путем взаимных уступок, возникающих при
этом; таковым и было в точности намерение посредников,
заключавшееся, согласно их собственному заявлению, «в сохранении
у каждого его прав, особых полномочий, вытекающих из основного
Закона государства». Господин Мишели Дюкре74, озлобленный
невзгодами и выступавший против этого труда посредников, где о нем
не упомянули, обвиняет Устав в попытке опрокинуть основное
установление вашего правления и в том, что Устав лишает граждан
и горожан их прав, не желая при этом видеть, в какой мере эти права,
как публичные, так и частные, охранялись этим Уставом,
например, в статьях 3,4,10,11,12,22,30,31,32,34,42 и 44, и не
задумываясь о том, что значимость всех этих статей зависит от одной-
единственной статьи. Ее тоже сохранили. Эта статья основная,
составляющая одинаковый противовес всем тем, что вам не
нравятся, и при необходимости всем тем, к применению которых вы
относитесь благосклонно и которые оказались бы бесполезны, если бы
удалось обойти эту главную статью, что и постарались сделать. Вот
мы и подошли к важному пункту, но чтобы понять его значение,
следовало оценить весомость всего того, что я только что изложил.
Не следует путать независимость со свободой. Эти две вещи так
отличаются, что даже взаимно исключают друг друга. Когда
каждый делает то, что ему нравится, то часто он делает то, что не
нравится другим; но это не есть состояние свободы. Свобода не столько
заключается в том, чтобы проявлять свою волю, сколько в том,
чтобы не поступать по воле другого человека; она заключается еще и в
том, чтобы не подчинять волю остальных людей нашей воле.
Всякий, кто является господином, несвободен; и царствовать —
означает подчиняться. Ваши магистраты знают это лучше, чем кто бы то
ни было; они, подобно Отону, не упускают случая раболепствовать,
425
«"\.
Жан-Жак Руссо
ради возможности властвовать*. Мне известна только одна
по-настоящему свободная воля: это та, которой никто не имеет права
оказать сопротивление, когда речь идет свободе всех, никто не
вправе делать то, чему препятствует свобода другого человека; и
истинная свобода сама по себе не может быть разрушительной. Таким
образом, свобода без справедливости есть подлинное
противоречие; ибо, с какой стороны ни посмотри, все стесняет исполнение
намерений разнузданной воли.
Итак, не существует никакой свободы без законов и никого, кто
стоял бы выше законов; даже в природном состоянии человек
свободен только по закону природы, который царит над всеми
людьми. Свободный народ повинуется, но не прислуживает; у него есть
правители, но нет господ; он повинуется законам, исключительно
законам, и именно благодаря законам он не повинуется людям. Все
ограничения власти магистратов в республиках установлены
только для того, чтобы защитить от их посягательств священное
вместилище законов. Они являются исполнителями законов, но не
господами; они должны охранять их, но не нарушать. Вне зависимости
от образа правления, народ свободен тогда, когда в том, кто им
управляет, он видит вовсе не человека, а проводника власти. Одним
словом, свобода всегда зависит от участи законов, она царит или
погибает вместе с ними; по моему мнению, нет ничего более верного.
У вас добрые и мудрые законы, либо сами по себе, либо в силу
того, что они просто-напросто законы. Любое требование,
предписанное каждому всеми, не может быть в тягость никому; и худший
из законов не чета лучшему хозяину: ибо всякий хозяин оказывает
предпочтение, а закон этого не делает никогда.
* «В общем, — говорит автор "Писем", - люди не столько любят повелевать,
сколько боятся повиновениям. Тацит судил об этом иначе, а ему было ведомо
человеческое сердце. Если бы это правило было верным, слуги вельмож не вели бы
себя нагло с горожанами, и мы наблюдали бы меньше бездельников,
пресмыкающихся при дворах государей. Мало найдется людей с достаточно чистым сердцем
и способных любить свободу. Все желают властвовать, и ради этого никто не
страшится оказывать повиновение. Мелкий выскочка становится слугой ста
господ, дабы распоряжаться десятком лакеев. Стоит только посмотреть, как гордо
ведет себя знать при монархии, с какой напыщенностью произносит эти слова:
«слуга», «служить», сколь великими и уважаемыми они почитают себя, когда их
удостаивают чести сказать вслух: «король», «мой господин», «мой владыка»;
сколь пренебрежительно они относятся к республиканцам, обладающим всего
лишь свободой, которые, несомненно, благороднее их.
426
Письма с Горы
^^>
С того момента как строй вашего государства приобрел
законченный вид и устойчивость, истекает срок полномочий
Законодателя. Безопасность здания требует, чтобы возникло столько же
препятствий на пути тех, кто хотел бы на него покуситься, сколько
поначалу было необходимо благоприятных возможностей для его
постройки. Право Совета давать отрицательный ответ,
истолкованное в этом смысле, является опорой республики. Статья 6 Устава
ясна и точна; в этих рассуждениях я встаю на точку зрения автора
«Писем»: я считаю их безупречными. И когда это право, на которое
столь справедливо ссылаются ваши магистраты, будет
противоречить вашей выгоде, то вам следует терпеливо к этому относиться
и не возражать. Честные мужи никогда не должны ни закрывать
глаза на очевидное, ни оспаривать истину.
Работа завершена; теперь речь идет только о том, чтобы сделать
созданное нерушимым. Однако творение Законодателя меняется
к худшему и уничтожается не иначе как одним способом: лишь
тогда, когда те, кто призван хранить это творение, совершают над ним
насилие и заставляют повиноваться законам, сами им не
повинуясь*. И, таким образом, наихудшее происходит из лучшего; и
закон, служащий охраной от тирании, становится еще более пагубным,
чем тирания сама по себе. Вот именно это и призвано
предотвратить право на Представления, провозглашенное в ваших Эдиктах,
право ограниченное, но подтвержденное Посредниками. Это право
дает вам надзор не только за законодательством, как это было
прежде, но и за управлением; и ваши магистраты, всесильные в рамках
закона, которые только и уполномочены предлагать Законодателю
новые законы, подчиняются его суждению в случае, если они
уклоняются от повиновения законам, принятым им. Именно в силу этой
статьи ваше правление, в остальном не свободное от весьма значи-
* Народ повсеместно восставал против законов только в том случае, когда
правители первыми начинали их нарушать в чем бы то ни было. Именно на этом
понятном основании в Китае, когда в какой-нибудь провинции происходил бунт,
неизменно наказывали губернатора75. В Европе короли всегда поступали,
руководствуясь противоположным правилом: судите сами о степени процветания их
государств! Население уменьшается повсюду на десятую долю каждые тридцать
лет; но оно отнюдь не убывает в Китае76. Восточный деспотизм сохраняет себя
тем, что он более сурово относится к вельможам, чем к народу; он сам в себе
нашел лекарство от недуга. Я знаю по слухам, что Порта также начинает
придерживаться христианского правила. Если это так, то вскоре мы увидим, что из этого
последует.
427
гч
Жан-Жак Руссо
тельных недостатков, оказывается самым лучшим из тех, что
когда-либо существовали. Можно ли встретить правление лучшее, чем
то, при котором все его части находятся в совершенном равновесии,
а частные лица не преступают законы, поскольку они подчиняются
судьям, а судьи также не могут преступать законы, потому что они
находятся под надзором народа?
Действительно, для того чтобы извлечь явную пользу из этого
преимущества, не следует его основывать на ничтожном праве.
Однако, кто говорит «право», уже предполагает некую пользу.
Говорить тому, кто преступил закон, что он преступил Закон, значит
заниматься бесполезным делом; это значит учить его тому, что он
знает не хуже вас.
Право обладает, согласно Пуфендорфу, моральными
качествами, в силу которых нам воздают нечто должное. Свобода,
заключающаяся в том, чтобы подавать жалобы, не есть право, или все же
это право, которым природа наделяет всех, и закон ни одной
страны ни у кого его не отнимает. Приходило ли кому-нибудь в голову
объявить в законах, что тот, кто проиграл процесс, волен подавать
жалобу? Приходило ли кому-нибудь в голову наказывать за что-то
подобное? Существует ли хоть одно правительство, какой бы
безграничной ни была его власть, при котором ни один гражданин не
имел бы права подать прошение государю или его министру
относительно того, что он считает полезным для государства? Какой бы
взрыв смеха вызвал опубликованный эдикт, где прямо
закреплялось бы за подданными право подавать подобные прошения? И не
в деспотическом государстве, но в республике, при демократии
гражданам, этим членам суверенной власти, предоставляется
подлинное право и дозволение им пользоваться при обращении к
своим магистратам, то право, что никакой деспот никогда не отнимет
у последнего из своих рабов!
Как! Это право подавать Представления должно заключаться
только в том, что вручают бумагу, которую никто даже не обязан
читать, получая в ответ сухой отрицательный ответ? * Это право,
столь торжественно провозглашенное в виде награды за столь
многие жертвы, ограничилось бы редкой возможностью просить и
ничего не получать взамен? Осмеливаться выдвинуть подобное
предложение — значит обвинить Посредников в совершении самого
* Так, например, случилось в Совете 10 августа 1763 года с Представлениями,
врученными господину Первому Синдику большим числом граждан и горожан.
428
Письма с Горы
низкого подлога в отношении горожан Женевы; это значит
оскорбить честность полномочных представителей, справедливость
власти Посредников; это значит замахнуться на благопристойность и
нанести ущерб здравому смыслу.
Но, наконец, в чем заключается это право? До каких пределов
оно простирается? Каким образом оно может быть осуществлено?
Почему оно не уточняется в статье 7? Вот разумные вопросы; при
их рассмотрении возникают затруднения.
Решение только одного из них приведет нас к решению всех
остальных и обнаружит истинный смысл этого учреждения.
В таком государстве, как ваше, в котором суверенитет находится
в руках народа, Законодатель все-таки существует, хотя и не всегда
проявляет себя. Его созывают на собрание, и он заявляет о себе
только в Генеральном Совете. Но вне этого Совета он никуда не
исчезает; его члены разобщены, но они не умирают; они не в
состоянии принимать закон, но всегда могут следить за его
применением; это право — это даже обязанность, возложенная лично на
каждого, и никто ни в коем случае не может быть от нее освобожден.
Отсюда вытекает и право Представлений. Так, Представление
гражданина, горожанина или многих из них является всего лишь
провозглашением их мнения по вопросу, входящему в круг их
обязанностей. В этом заключается ясный и бесспорный смысл Эдикта
1707 года и статьи V, которая касается Представлений.
В этой статье не без оснований запрещено собирать подписи,
поскольку это является способом голосования каждого. Это —
подача голоса, точно так же, как на Генеральном Совете, а порядок,
принятый на Генеральном Совете, следует соблюдать лишь тогда,
когда он законным образом созван. Подача Представлений имеет то
же преимущество без неудобств, связанных с этим порядком. Это не
есть голосование в Генеральном Совете, но подача мнения по
вопросам, которые должны быть ему представлены; поскольку голоса
при этом не подсчитываются, то голосование не происходит, это
лишь подача мнения. Это мнение, по правде сказать, — лишь
мнение частного лица или нескольких частных лиц; но поскольку эти
частные лица являются членами суверенной власти и могут
представлять его в определенном числе, то здравый смысл требует, чтобы
их мнение принималось во внимание, но не в виде решения, а в
виде предложения, которое нужно для принятия решения, а иногда
и необходимо.
429
*\
Жан-Жак Руссо
Эти Представления могут касаться двух важных предметов,
и различие между ними определяет тот порядок, в соответствии
с которым Совет должен дать ход этим Представлениям. Первый из
этих предметов касается неких изменений в законе, исправления
содержащегося в законе нарушения прав граждан. Этот перечень
полный и включает в себя целиком предмет Представлений. Он
основан на Эдикте, в котором употребляются различные
выражения, относящиеся к этим предметам, и он вменяет Генеральному
прокурору обязанность предъявлять настойчивые требования или
делать внушения, в зависимости от того, каким образом граждане
подают ему свои жалобы или ходатайства *.
Как только это различие установлено, Совет, к которому
обращены Представления, обязан принять их к сведению различным
образом, в зависимости от их предметов. В государстве, где
правительство и законы уже прочно установлены, следует, насколько это
возможно, избегать вносить в них новшества; и это особенно
важно для маленьких республик, где малейшее потрясение разобщает
все части правления. Неприязнь к новизне, таким образом,
является обоснованной, и в особенности у вас, поскольку в этом случае вы
только потеряете, а правительство не может серьезно
воспрепятствовать появлению новых установлений: ибо, как бы ни были
полезными новые законы, почти всегда не столько ясны
преимущества от их введения, сколько велика их опасность. В этом случае,
когда гражданин или горожане высказали свое мнение, они
исполняют свой долг; они должны, сверх того, питать достаточное
доверие к своему магистрату, чтобы считать его в состоянии оценить
преимущества предложения и склонным его поддержать, если тот
посчитает его полезным для блага общества. Закон, таким образом,
очень благоразумно позаботился о том, чтобы введение и даже
само предложение подобных нововведений не имело места без учета
* Ходатайствовать - это означает не только требовать, но требовать в силу
права, на которое мы притязаем. Это понимание закреплено во всех правовых
документах, где это судебное выражение употреблено. Мы говорим «требовать
правосудия», но никогда не говорим «требовать милости». Таким образом, и в случае
ходатайства, и в случае притязания граждане в равной мере имеют право
требовать, чтобы их прошения или их ходатайства, отклоненные нижестоящим
Советом, были рассмотрены Советом Генеральным. Однако это слово, добавленное
в статью 6 Эдикта 1738 года, ограничивает пользование этим правом только
случаями жалоб, как об этом сказано в его тексте.
430
Письма с Горы
мнения Советов; и вот в чем должно состоять право дать
отрицательный ответ, на которое они ссылаются, и оно, по моему мнению,
им бесспорно принадлежит.
Однако второй предмет Представлений, в основе которого
лежит прямо противоположное начало, следует принимать к
сведению иным образом. Здесь и речи нет о введении чего-то нового;
наоборот, речь о том, чтобы воспрепятствовать появлению новшеств;
речь идет не о том, чтобы установить новые законы, но укрепить
прежние. Когда силою вещей обстоятельства склонны меняться, то
необходимы беспрестанные усилия, способные остановить ход
вещей. Вот то, что граждане и горожане, столь сильно
заинтересованные в том, чтобы предотвратить всякие изменения, должны иметь
в виду в жалобах, о которых говорит Эдикт. Поскольку
Законодатель по-прежнему присутствует, он замечает влияние закона или
злоупотребление им; он видит, исполняется ли он или нарушается,
правильно или неправильно его толкуют; он за этим следит, он
обязан это делать; в этом его право, его долг, ради чего он и
приносит присягу. Именно этот долг он исполняет, составляя
Представления; именно это право он осуществляет в данном случае; и было
бы противно разуму, даже противно обычаю стремиться расширить
это право Совета давать отрицательный ответ относительно
подобного предмета Представлений.
Это было бы совершенно неразумно со стороны Законодателя,
поскольку в этом случае всякая торжественность принятия законов
стала бы бессмысленна и смешна, и в действительности у
государства не оказалось бы иного закона, кроме воли Малого Совета,
полностью наделенного властью пренебрегать предписанными ему
нормами, презирать их, нарушать, переиначивать на свой лад и
выносить решение, считая черным то, что закон называет белым, и не
отчитываясь ни перед кем. Зачем торжественно собираться в храме
Святого Петра и утверждать там Эдикты, не имеющие силы, а
потом сказать Малому Совету: «Господа, вот свод законов, принятый
нами в государстве и хранителями которого мы вас делаем, с тем
чтобы вы следовали его предписаниям, когда вам это
заблагорассудится, и нарушали его, когда вам угодно»?
Это было бы крайне неразумно в отношении Представлений,
потому что в этом случае право, отдельно провозглашенное в одной
статье Эдикта 1707 года и отдельно подтвержденное в одной
статье Эдикта 1738 года, оказалось бы правом призрачным и обман-
431
«-\.
Жан-Жак Руссо
чивым и означало бы только свободу жаловаться без каких-либо
последствий в случае, когда нам причиняют обиды; эту свободу
никто ни у кого и никогда не станет оспаривать; глупо и смешно
закреплять это право в законе.
Наконец, это оказалось бы неприличным, ибо подобным
предположением нанесли бы оскорбление честным намерениям
Посредников; и это значило бы считать ваших магистратов
мошенниками, горожан глупцами, раз они вели переговоры, заключали
соглашения, делали уступки со всей торжественностью, с тем чтобы
поставить одну сторону в полную зависимость от другой и взамен
весьма значительных уступок получить ничего не значащие
обеспечения своих прав.
Но позвольте, говорят эти господа, выражения Эдикта
недвусмысленны: «Ничто не будет вынесено на рассмотрение
Генерального Совета, что не было допредь рассмотрено и поддержано
Советом Двадцати Пяти, затем Советом Двухсот».
Во-первых, что иное доказывает в отношении изучаемого нами
вопроса данная фраза, если не наличие определенной
последовательности рассмотрения, соответствующей установленному порядку,
и наличие обязанности предварительно рассматривать и одобрять
все то, что должно быть вынесено на рассмотрение Генерального
Совета? Не обязаны ли Советы одобрять все то, что предписано
законом? Как! Если Советы не согласились с необходимостью начать
выборы синдиков, то не следует к ним приступать? И если
предложенные вопросы ими не были одобрены, то разве это не заставляет
их одобрить предложение других вопросов?
Впрочем, кто не в состоянии видеть того, что это право одобрять
и отклонять безусловно применяется только в отношении
предложений, содержащих новизну, но не в отношении тех, что ставят целью
укрепить уже установленное? Сочтете ли вы соответствующим
здравому смыслу предположение о необходимости нового одобрения,
с тем чтобы чтобы исправить нарушения в старом законе? В
одобрении, данном этому закону, когда он введен в действие, уже
содержится все то, что относится к его исполнению: если Советы одобрили
введение этого закона, то они тем самым одобрили и его
соблюдение и, следовательно, наказание за его нарушение. И если
горожане, подавая жалобы, ограничиваются требованием возмещения
ущерба, не требуя наказания, как можно настаивать на том, что
подобное предложение нуждается в новом одобрении? Сударь, если
432
Письма с Горы
-х-»
это — не насмешка над людьми, то скажите мне на милость, как
можно еще над ними насмехаться?
Вся сложность заключается здесь, таким образом, только в
вопросе факта. Нарушен ли закон или не нарушен? Граждане и
горожане говорят, что да; магистраты это отрицают. Однако посмотрите,
прошу вас, можно ли в подобном случае придумать нечто менее
разумное, чем то право давать отрицательный ответ, которое они себе
приписывают. Им говорят: «Вы нарушили закон». Они отвечают:
«Мы его не нарушали»; и, таким образом, оказавшись высшими
судьями в своем собственном деле, они себя уже и оправдали,
вопреки всякой очевидности, одним своим собственным утверждением.
Вы меня спросите, не пытаюсь ли я сказать, что
противоположное утверждение всегда станет очевидным? Я этого не утверждаю;
я говорю, что даже если бы оно было таковым, ваши магистраты,
вопреки очевидности, держались бы за свое так называемое право
давать отрицательный ответ. Это то, что происходит на ваших
глазах. И кто здесь прав, высказывая законное сомнение? Да будет ли
естественно, да можно ли поверить в то, что частные лица, не имея
власти, влияния, придут и скажут своим магистратам, которые,
возможно, завтра станут их судьями: Вы совершили несправедливый
поступок, между тем как это не соответствует действительности? На
что могут надеяться эти частные лица, совершая столь неразумный
поступок, даже уверенные в собственной безнаказанности? Вправе
ли они думать, будто магистраты, столь высокомерные, в случае,
если они оказались неправы, вознамерятся признать свою
неправоту, даже если они не ошиблись? Напротив, разве не более
естественно отрицать допущенные ошибки? И разве не выгоднее в них
упорствовать? Да разве не всегда пытались так поступать, когда
были уверены в безнаказанности и имели на своей стороне силу?
Когда существуют какие-нибудь разногласия между слабым и
сильным, это почти всегда бывает только в ущерб первому; по одной
лишь этой причине наиболее правдоподобное мнение следующее:
именно тот, кто сильнее, неправ.
То, что правдоподобные суждения не являются доказательством,
мне известно. Но относительно общепризнанных фактов при
сравнении их с законами, когда некоторое количество граждан
утверждает, что допущена несправедливость и магистрат, обвиняемый
в этом, утверждает, что ее не допустили, кто в этом случае станет
судьей, если не осведомленное обо всем этом общество? И где най-
433
«^ч.
Жан-Жак Руссо
ти это общество в Женеве, если не в Генеральном Совете,
состоящем из той и другой стороны?
В мире вообще не существует государства, в котором
подданный, обиженный несправедливым магистратом, не вправе так или
иначе подать жалобу суверену; и тот страх, который это средство
внушает, препятствует появлению множества несправедливостей.
Даже во Франции, где парламенты весьма привержены законам, во
многих случаях открыт путь для подачи жалобы в порядке
кассации постановления. Женевцы же лишены подобного
преимущества; осужденная Советами сторона более не может ни в коем случае
обратиться с жалобой к суверену. Но то, что гражданину не
дозволено сделать ради личной выгоды, все смогут сделать ради пользы
общества, поскольку всякое нарушение законов, будучи
покушением на свободу, становится делом всего общества; и когда во
всеуслышание раздается голос общества, то жалоба должна быть
подана суверену. Если бы не существовало этого права, все парламенты,
сенаты, суды на земле обладали бы роковой властью, которую
смеет присваивать себе ваш магистрат: нигде в мире не было бы
государства, столь жестокого по своей природе, как ваше. Признайтесь
же, что при этом существовала бы весьма странная свобода!
Право подавать Представления теснейшим образом связано
с вашим государственным устройством; оно является единственно
возможным средством соединить свободу магистрата с его
зависимостью от закона, не меняя существо его власти в отношении
народа. Если жалобы обоснованы, если доводы очевидны, то следует
предполагать, что Совет достаточно справедлив, и дело можно
выносить на его суд. И если бы это оказалось не так или же
справедливость жалоб не была в такой степени очевидна, что в ней нельзя
было бы усомниться, то характер дела изменился бы, и тогда
надлежало бы решать общей воле; ибо в вашем государстве эта воля
является высшим судьей и единственным сувереном. Однако с самого
зарождения республики, поскольку эта воля всегда имела
возможности заставить себя услышать, а эти возможности зависели от
государственного устройства, то отсюда следует, что Эдикт 1707 года,
впрочем, основанный на праве, восходящем к незапамятным
временам, на праве, которым постоянно пользуются, не нуждался в
особых разъяснениях.
Посредники, взявшие себе за правило как можно меньше
отдаляться от старых Эдиктов, оставили эту статью в том виде, как она
434
Письма с Горы
была записана раньше, и даже ссылались на эти Эдикты. Таким
образом, в силу Устава о Посредничестве ваше право в этом вопросе
осталось неизменным, поскольку статья, его устанавливающая,
в полной мере к нему отсылает.
Однако Посредники не заметили, что те изменения, которые
они вынуждены были внести в остальные статьи, обязывали их,
проявляя последовательность, разъяснить и эту, добавив туда
новые пояснения, необходимые в силу проделанной ими работы.
Последствием Представлений граждан, которыми пренебрегли,
должно было бы оказаться то, что эти Представления сочли бы голосом
общества, и таким образом можно было бы избежать отказа в
правосудии. Это преобразование в этом случае закономерно и
соответствовало бы основному Закону, который наделяет суверена
властью высшего порядка над обществом для исполнения его властной
воли во всей стране.
Посредники и не предполагали отказ в правосудии со стороны
Совета. События показали, что им следовало это предусмотреть.
Чтобы обеспечить общественное спокойствие, они посчитали
уместным отделить право от власти и даже упразднить собрания и
мирные депутации горожан. Однако, поскольку они подтвердили их
право, они должны были им предоставить возможность осуществить
его, вручив им иные средства взамен отнятых. Они этого не
сделали. В этом вопросе их работа оказалась, таким образом,
незавершенной; поскольку, коль скоро право осталось неизменным, то
следовало оставить и возможность его осуществления.
Посмотрите также, с каким искусством ваши магистраты
обращают себе на пользу забывчивость Посредников! И в каком бы числе
вы о себе ни заявляли, они считают вас всего лишь частными
лицами; и, коль скоро вам запрещено заявлять о себе в качестве
политического образования, они считают его уничтоженным навсегда.
Между тем, это не так, поскольку оно сохраняет все свои права, все
свои исключительные права, к тому же оно все еще составляет
существенную часть государства и Законодателя. Они исходят из
ложного предположения, будто этого образования не существует,
чтобы создать тысячи надуманных препятствий относительно
применения власти в том, что касается их обязанности созывать
Генеральный Совет. Нет такой власти, которая сможет это сделать,
кроме власти законов, при условии, что их соблюдают. Однако власть
закона, нарушенного ими, возвращается в руки Законодателя; и, не
435
«\
Жан-Жак Руссо
осмеливаясь отрицать, что в этом случае власть окажется в руках
большинства, они сосредотачивают свои возражения на способах
удостовериться в этом. Эти способы, если только они дозволены
законом, нетрудно определить; они не вызовут неудобств, поскольку
легко будет предусмотреть случаи злоупотребления ими.
Здесь речь не шла ни о волнениях, ни о насилии; речь вовсе не
шла о средствах, иногда неизбежных, но часто страшных,
использование которых вам весьма благоразумно запретили. Не то чтобы
вы ими когда-то злоупотребляли; ибо, наоборот, вы ими никогда
не пользовались, кроме как в случае крайней необходимости,
только ради вашей собственной защиты. Вы всегда их употребляли
с умеренностью, и по этой причине, возможно, за вами и следовало
бы сохранить право носить оружие, если за народом вообще можно
сохранять это право, не опасаясь нежелательных последствий. Тем
не менее, в любом случае я буду молить Бога о том, чтобы среди вас
не появились люди в этом жутком виде, с оружием в руках. «Все
дозволено, если беды значительны», — многократно повторяет
автор «Писем». Даже если это так, не все средства хороши. Когда
крайности тирании вынуждают того, кто от нее страдает, поставить
себя выше закона, следует ли позволить, чтобы предпринятое с
целью ее уничтожения оставляло ему хоть малую надежду на успех?
Вас хотят довести до этой крайности? Я так не думаю; и когда вы до
нее дойдете, я не думаю, что действительно найдут выход из этого
положения. В вашем положении любой неверный шаг станет
роковым; все, к чему вас подстрекают, является ловушкой; и стань вы
хоть на миг хозяевами, меньше чем через две недели вас уничтожат
навсегда. Что бы ни делали ваши магистраты, что бы ни говорил
автор «Писем», насильственные меры не приличествуют правому
делу. Далекий от мысли, будто вас хотят вынудить принять
подобные меры, я думаю, что кто-нибудь с удовольствием захотел бы
наблюдать за тем, как вы на них пошли; и я считаю, что вас не следует
склонять к тому, чтобы вы обратили внимание на средство,
способное лишить вас всех остальных. Правосудие и законы на вашей
стороне. Я понимаю, что это слишком слабая защита против силы
и происков со стороны Малого Совета; но они — то единственное,
что у вас остается: держитесь за них до последнего.
Ах, могу ли я одобрить стремление нарушить гражданский мир
ради каких бы то ни было соображений выгоды, я, пожертвовав-
436
Письма с Горы
ший ради этого самым дорогим, что у меня было? Вы это знаете,
сударь: меня желали видеть, настойчиво домогались моего внимания;
мне стоило только появиться, и за мои права вступились бы, а
возможно, и принесли мне извинения за нанесенные обиды. Мое
присутствие, во всяком случае, заставило бы моих гонителей строить
козни, и я оказался бы в том завидном положении, из которого
всякий желающий сыграть некую роль тут же извлек бы пользу. Я
предпочел вечное изгнание, я отказался от всего, даже от надежды, лишь
бы не ставить под угрозу общественное спокойствие: я заслужил,
чтобы меня считали искренним, поскольку я призываю его
сохранить.
Однако ради чего упразднять мирные, простые собрания
граждан, которые обладали лишь законной целью, ибо они оставались
бы под надзором магистрата? Почему, оставляя за горожанами
право Представлений, не позволить им проводить их в надлежащем
порядке и в соответствие с правом? Зачем отнимать у них средства
обсуждать эти вопросы и, во избежание слишком многочисленных
собраний, не проводить их с участием представителей? Можно ли
придумать что-то более целесообразное, более благопристойное,
более соответствующее порядку, чем собрания по военным
подразделениям77 и порядок обсуждения, который соблюдали горожане
в те времена, когда они были хозяевами в государстве? Разве не
будет лучше соблюдаться благочиние, когда около тридцати
депутатов войдут в городскую ратушу от имени своих сограждан, чем
тогда, когда горожане явятся туда толпой, и каждый захочет сделать
собственное заявление и только от своего имени? Вы видели,
сударь, как большому числу сторонников Представлений пришлось
разделиться на группки по тридцать или сорок человек, чтобы не
создавать толчеи и сутолоки, и своим поведением выказывать еще
большую благопристойность и скромность, нежели это предписано
им законом. Но таков настрой горожан Женевы, всегда склонных
принижать, а не превышать свои права: они иногда проявляют
твердость, но никогда не склонны к мятежу. Всегда с Законом в сердце,
с неизменным почтением к магистрату, даже в обстоятельствах,
когда самое пылкое возмущение должно бы возбудить в них гнев, и
даже если ничто не препятствует им насытить его, они никогда не
поддавались этому чувству. Они были справедливы, имея на своей
стороне силу, и даже умели прощать. Можно ли то же самое сказать
437
*\
Жан-Жак Руссо
об их гонителях? Нам известно, какая участь прежде выпала на
долю горожан; нам известна и та, что им уготовили.
Так ведут себя люди, по-настоящему достойные свободы, и они
ею никогда не злоупотребляли; на них, однако, надевают оковы
и путы, будто они — самая подлая чернь78. В таком положении
находятся граждане, участники суверенной власти, к которым
относятся, как к подданным, и даже хуже, чем к подданным, поскольку
и при правлениях с самой неограниченной властью разрешаются
собрания сообществ, где магистраты не председательствуют.
Как ни подступай к этому делу, противоречивые Уставы нельзя
соблюдать одновременно. Они разрешают и допускают
пользование правом Представлений; и сторонникам Представлений ставят
в упрек недостаток обоснованности этих Представлений, в то же
время препятствуя его устранить. И это несправедливо, поскольку
вас лишают возможности действовать, и при этом вам не стоит
возражать, что вы всего-навсего — частные лица. И как можно не
учитывать того, что, коль скоро весомость Представлений зависит от
числа их сторонников, и они при этом касаются общих вопросов,
их невозможно подавать поодиночке? Каким бы затруднительным
оказалось положение магистрата, если бы ему пришлось раз за
разом читать жалобы или заслушивать речи тысяч людей, ибо его
к этому обязывает Закон?
Вот простой выход из этого значительного затруднения, на
непреодолимость которого указывает автор «Писем». Коль скоро
магистрат не будет принимать во внимание жалобы отдельных
граждан, высказанные в виде Представлений, то пусть он разрешит
собрания подразделений; пусть он разрешит им собираться по
отдельности, в разное время и в разных местах, чтобы собрания
объединений граждан, которые выскажутся в пользу Представлений
большинством голосов,^ объявили об этом через своих депутатов.
Тогда пусть принимается во внимание количество депутатов. Их
численность определена; и вскоре станет ясно, выражают ли их
чаяния чаяния государства или нет.
Это не означает (примите это к сведению), что эти отдельные
собрания не будут пользоваться каким-либо влиянием, кроме как
возможностью заставить услышать свое мнение по поводу
содержания Представлений. Поскольку собрания разрешат только в
таких случаях, их участники не получат никаких иных прав, кроме
прав частных лиц, а предметом их деятельности станет не измене-
438
Письма с Горы
ние закона, а подача мнения относительно того, был ли он
соблюден, не желание получить удовлетворение за возникшие у них
нарекания, а указание на необходимость обратить на них внимание: их
мнение, хотя бы и единогласное, всегда окажется не чем иным, как
Представлением. Из него мы узнаем лишь, заслуживает ли это
Представление того, чтобы дать ему ход: либо собрать Генеральный
Совет, если магистраты его поддержат, либо обойтись без него, если
они сочтут нужным, удовлетворив справедливые жалобы граждан
и горожан без помощи Генерального Совета.
Этот путь прост, естественен, надежен; он таковым является
безо всякого сомнения, ведь он даже не предполагает создания
нового закона: в данном случае речь идет только об отмене одной его
статьи, и только. Однако если он слишком пугает ваших
магистратов, то остается еще один, менее легкий путь, который также не в
новинку: это восстановление права собирать периодические
Генеральные Советы и ограничить их полномочия рассмотрением жалоб,
включенных в Представления в течение промежутка времени,
прошедшего между двумя заседаниями, при этом не разрешая
выносить на их рассмотрение какие-либо иные вопросы. Эти собрания,
которые, в силу очень важного отличия *, обладали бы не властью
суверена, но властью высшего магистрата, не имея возможности
вводить что либо новое, могли бы лишь препятствовать любому
нововведению со стороны Советов и восстановить порядок
законодательной деятельности, от которого организм, коему вверено блюсти
государственную власть, теперь может сколько угодно
отклоняться. Чтобы эти собрания сами собой прекратили свою деятельность,
магистратам надлежит всего лишь в точности соблюдать законы.
Ибо созыв Генерального Совета оказался бы бесполезной и
смешной затеей, поскольку нечего было бы выносить на его
рассмотрение; и, по всей видимости, именно таким образом и отпала нужда
в созыве Генерального Совета в XVI веке, как об этом уже
говорилось прежде.
Именно ради цели, о которой я только что говорил,
Генеральный Совет восстанавливают в 1707 году; и этот старый вопрос,
сегодня возникший вновь, был решен тогда по факту
последовательного созыва трех Генеральных Советов, на последнем из них
проголосовали за статью, касающуюся права Представлений. Это
* См.: Общественный договор. Кн. III. Гл. 17.
439
«-Ч*.
Жан-Жак Руссо
право не было оспорено, но его обходили; магистраты не посмели
не согласиться удовлетворить жалобы горожан, ибо тогда вопрос
следовало выносить на рассмотрение Генерального Совета. Но,
поскольку только им доверили право его созыва, то под этим
предлогом пытались откладывать его созыв на столь долгое время, сколь
им того хотелось, и рассчитывали благодаря проволочкам умерить
настойчивость горожан. Тем не менее, их право наконец признали
и 9 апреля назначили общее собрание на май месяц, с тем чтобы,
как говорится в объявлении о нем, «таким образом не давать
повода для распространения слухов о том, что хотели избежать созыва
или отложить его на неопределенный срок».
И пусть не возражают, что этот созыв оказался вынужденным
и под влиянием насилия или некоей смуты, которая могла вылиться
в бунт, поскольку все переговоры велись через представителей,
поскольку Совет так пожелал и поскольку никогда граждане и
горожане не вели себя столь миролюбиво на своих собраниях, избегая
слишком многочисленных сборищ, имеющих угрожающий вид. Их
скромность и, смею сказать, достоинство оказались столь велики,
что те из них, кто обычно носил шпагу, сняли ее, отправляясь на
собрание *. И только после того как все было совершено, а именно на
третьем Генеральном Совете, прозвучал призыв к оружию из-за
ошибки, допущенной Советом, который имел неосторожность
послать три роты гарнизона с примкнутыми штыками, чтобы
прогнать две или три сотни граждан, собравшихся в храме св. Петра.
Эти периодические Советы, восстановленные в 1707 году, вновь
созвали спустя пять лет; но какими средствами и при каких
условиях? Краткое исследование Эдикта 1712 года даст нам возможность
судить о законности их созыва.
Во-первых, народ, напуганный недавними расправами и
проскрипциями, лишили свободы и безопасности; он не мог более ни
на что рассчитывать после помилования, дарованного
мошенническим способом, которым воспользовались с целью его возмутить.
* Они проявили подобную щепетильность в 1734 году в своих Представлениях от
4 марта, поддержанных тысячью двумястами человек граждан и горожан, и никто
из них не носил шпагу. Столь щепетильное отношение, которое показалось бы
мелочью в любом другом государстве, не является таковым при демократии,
и может быть, оно характеризует народ лучше, чем самые выдающиеся черты его
нрава.
440
Письма с Горы
Он все время опасался увидеть у своих дверей швейцарцев,
служивших лучниками и участвовавших в этих кровавых расправах. Не
оправившись от ужаса, внушенного чтением первых строк Эдикта,
он лишь из страха согласился на все; он чувствовал, что его
собирали не для принятия закона, а для того, чтобы ему его навязать.
Поводом для отмены Эдикта послужили опасности проведения
периодических Генеральных Советов, и этот повод был очевидно
нелепым, ибо, ссылаясь на него, совершенно невозможно понять
смысл вашего государственного устройства и характер горожан.
При этом ссылаются на чуму, голод или войны, как будто голод или
войны хотя бы раз были препятствием для проведения хоть одного
Совета; и что касается чумы, как вы сами признаетесь, меры,
принятые на сей счет, носили предварительный характер. При этом
опасаются врагов, неблагонамеренных лиц, крамолы; видели ли когда-
нибудь подобную робость? Опыт прошлого должен их обнадежить:
в самые смутные времена частые созывы Генеральных Советов, как
мы увидим в дальнейшем, стали благом для республики, и на них
принимались лишь благоразумные и мужественные
постановления. Утверждают, что эти собрания противоречат
государственному устройству, а они являются его самой прочной опорой; говорят,
они противоречат Эдиктам, но они учреждены Эдиктами; их
считают новшеством, но они являются столь же древними, сколь и
законодательство. В этой вводной части нет ни единой строчки, не
заключающей в себе ложь или заблуждение: и именно на основе этого
великолепного рассуждения отменяется Эдикт без
предварительного изложения неотложных дел, которое объяснило бы членам
собрания суть того предложения, что им хотели сделать, не давая им
времени на обсуждение и даже на обдумывание; и это в то время,
когда горожане, плохо знакомые с историей своего правления,
позволили магистрату оказать на них давление!
Однако еще более серьезным доводом признать
недействительность Эдикта было его нарушение в самой важной части, а именно:
в том, что касается способа проверки бюллетеней для голосования
или подсчета голосов. Ибо в статье 4 Эдикта 1707 года сказано, что
будут назначены четыре Секретаря ad actum79, с тем чтобы собирать
бюллетени, двое от Совета Двухсот и двое от народа, тотчас
избранные господином Первым Синдиком и обязанные принести
присягу в Храме. И тем не менее, на Генеральном Совете 1712 года, не
441
*"V^
Жан-Жак Руссо
принимая во внимание ни один предыдущий Эдикт, голоса были
подсчитаны двумя государственными секретарями. Зачем же
нужно было вносить эти изменения? И с какой целью пошли на эти
незаконные уловки в столь важном вопросе, как будто ради забавы
хотели нарушить только что принятый закон? И начинают с
нарушения Эдикта в статье, которую желают отменить другим Эдиктом!
Разве это соответствует установленному порядку? Если, как
сказано в этом Эдикте об отмене статьи, мнение Совета должно быть
поддержано «почти единогласно» *, то почему граждане, выходя из
Совета, обнаруживали удивление и растерянность, а на лицах
магистратов читались удовлетворение и сознание победы?** Столь
различные выражения лиц естественны ли у людей, которые
только что единодушно высказали свое мнение?
Таким образом, чтобы добиться этого Эдикта об отмене статьи,
они прибегли к запугиваниям, к хитрости, к очевидному
мошенничеству и во всяком случае допустили нарушение закона. И пусть
люди судят, насколько совместимо подобное поведение со
священным характером закона, соблюдать который они с такой
напыщенностью призывают!
* Как мне рассказывали, способ, который использовали, чтобы получить это
единогласие, сделал это предприятие нетрудным; и теперь только от этих господ
зависит сделать его вполне совершенным. Перед началом собрания
государственный секретарь Метреза сказал: «Пусть приходят, они в моих руках». С этой целью
он, как говорят, вставил в бюллетень два слова «одобрил» и «не одобрил»,
которые с тех пор стали в них использовать: таким образом, какой бы ответ ни
выбрали, результат один и тот же. Ибо если выбирали «одобрил», то таким образом
одобряется мнение Совета, высказавшегося против периодического созыва
Собрания граждан; а если же выбирали «не одобрил», то периодический созыв
собраний не одобряли. Я не придумал все это и говорю не без оснований, и прошу
читателя поверить в это: но^олжен признаться, что я об этом узнал не из Женевы,
и, по совести сказать, я не уверен, что это правда. Я понимаю одно:
двусмысленность, возникшая благодаря употреблению этих двух слов, ввела в заблуждение
голосующих относительно того, какое из них следовало выбрать, дабы выразить
свое мнение; и к тому же признаюсь, что я не могу представить себе, какое благое
намерение, какое законное основание было в том, чтобы нарушить закон при
подсчете голосов. Ничто не показывает тот ужас, которым был охвачен народ, как
молчание при виде нарушения установленного порядка.
** Они говорили меж собой, выходя, и многие это слышали: «Мы только что
пережили великий день». На следующий день многие граждане жаловались, что их
обманули, и они хотели не отказать в одобрении периодического созыва общих
собраний, а не одобрить мнение Советов. Над ними лишь посмеялись.
442
Письма с Горы
^-»
Но предположим, что отмена статьи законна, а предписанный
порядок не нарушен *. Какое иное значение можно этому придать,
если не то, что возвратились в то самое положение, существовавшее
до отмены закона, и, стало быть, восстановили право горожан,
которым они прежде пользовались? Когда отменяется сделка, то не
остаются ли стороны в том состоянии, в котором они были перед
тем, как эта сделка состоялась?
Согласимся, что эти периодические Генеральные Советы имели
бы только одно неудобство, но зато страшное: все магистраты
и чины должны были бы довольствоваться наличными правами
и обязанностями. И только по одному этому я уверен, что эти
собрания, внушающие такой ужас, никогда не будут восстановлены; и то
же самое касается собраний горожан по подразделениям. Но речь
ведь не об этом. Здесь я вовсе не принимаю в расчет то, что должно
или не должно случиться, и то, что будут сделано или нет. Эти
средства, как я полагаю, возможно довольно легко пустить в ход,
поскольку они заложены в вашем государственном устройстве, но так
как они более не соответствуют новым Эдиктам, то их можно
использовать только с согласия Советов; и мое мнение, безусловно,
состоит не в том, чтобы им эти средства предлагали на
рассмотрение. Но, если на минуту согласиться с предположением автора
«Писем», я стараюсь ответить на несерьезные возражения; я
показываю, что он пытается отыскать препятствия, которых не
существует согласно природе вещей, и что все эти препятствия возникли
в силу недобрых намерений Совета, и если бы он пожелал, то
нашел бы сотню способов устранить эти пресловутые препятствия, не
меняя государственный строй, не нарушая общественный порядок
и не покушаясь на покой общества.
Однако, возвращаясь к нашему вопросу, давайте в точности
придерживаться текста последнего Эдикта; вы не обнаружите в нем ни
одного веского возражения против использования права подачи
Представлений.
1. Для начала замечу, что возражение о необходимости
определить количество подавших Представления бессмысленно,
принимая во внимание суть Эдикта, в котором нигде не указывается на
* Этот порядок следующий: «Никакое изменение Эдикта не имеет законной
силы, если оно не было одобрено суверенным Советом». Остается только выяснить,
не являются ли нарушениями Эдикта сами изменения в Эдикте.
443
*"\.
Жан-Жак Руссо
различия в этом количестве и не говорит о том, что Представление
одного имеет большую силу, чем Представление сотни.
2. Возражение против того, чтобы предоставить частным лицам
право собирать Генеральный Совет, также бессмысленно, потому
что это право, опасно оно или нет, не вытекает из самого факта
подачи Представлений. Поскольку каждый год собирают два
Генеральных Совета для проведения выборов, то и нет необходимости
созывать чрезвычайный Совет для рассмотрения Представлений.
Вполне достаточно, если после изучения в Советах
Представление будет вынесено на ближайший Генеральный Совет, который
обладает соответствующими правомочиями*. При этом заседание
продлится не более часа, и это очевидно тому, кто знает порядок,
установленный в этих собраниях. Следует только принять меры
предосторожности с тем, чтобы предложение поставили на
голосование до выборов; поскольку если станут дожидаться окончания
выборов, синдики не упустят случая закрыть собрание, как они это
сделали в 1735 году.
3. Возражение, касающееся возможности увеличения числа
Генеральных Советов, снимается по той же причине, что и
предыдущее; и когда это возражение привести нельзя, то где же теперь
опасности, которые прежде здесь обнаруживали? Это то, чего я не сумел
бы увидеть.
Мы содрогаемся, читая перечень этих опасностей в «Письмах из
деревни», в Эдикте 1712 года, в торжественной речи господина
Шуэ80. Но давайте проверим, так ли это. Последний утверждает,
что в республике царило спокойствие только тогда, когда эти
собрания были более редкими. Здесь стоит сказать, что все обстояло
несколько иначе. Следует заметить, что эти собрания стали более
редки, когда в республике воцарилось спокойствие. Почитайте,
сударь, исторические записки о вашем городе за XVI столетие. Как же
ему удалось сбросить двойное ярмо, которое над ним довлело?
Каким же образом смог он искоренить заговоры, посеявшие в нем
раздоры? Как же смог он сопротивляться своим алчным соседям,
оказавшим ему помощь лишь для того, чтобы затем его закабалить?
Как же ему удалось утвердить евангелическую и политическую
свободу внутри? Как его государственное устройство обрело прочность?
Как образовался строй его правления? История этих памятных
* В этих «Письмах» ранее я уже провел различие между случаями, когда Советы
обязаны были их рассматривать, и случаями, когда они не обязаны это делать.
444
Письма с Горы s-%
времен напоминает чудесные события, связанные в одну цепочку.
Тираны, соседи, враги, друзья, подданные, граждане, война, чума,
голод, — всё, казалось, должно было погубить этот несчастный
город. Едва ли мы сможем понять, как только что образовавшееся
государство смогло избежать всех этих напастей. Женева не только
сумела их избежать, но именно в период этих ужасных потрясений
завершилось великое дело создания его законодательства. Это
произошло благодаря частому созыву Генерального Совета*; только
проявив осторожность и решительность, ее граждане смогли
преодолеть, наконец, все преграды и сделать свой город свободным
и спокойным, тогда как прежде в нем царили раздоры и рабство;
именно после того, как они навели порядок внутри, они смогли
вести победоносные войны вовне. Тогда суверенный Совет сложил
свои полномочия; правительству же еще только предстояло
вступить в свою должность. И женевцам оставалось лишь защищать
свободу, которую они только что установили, и показать себя столь
же храбрыми солдатами в военных кампаниях, сколь достойными
гражданами они себя показали в Совете: так они и поступили.
Анналы вашей истории повсюду доказывают полезность Генеральных
Советов; ваши господа видят в их существовании лишь ужасные
беды. Они приводят свои возражения, а история дает на них ответ.
4. На возражение о том, что правительство будет осмеяно
народом, имея по соседству великие державы, можно дать сходный
ответ. В этом случае я не знаю лучшего ответа на софизмы, чем
достоверные факты. Все постановления Генеральных Советов во все
времена оказывались в равной мере исполнены мудрости и
мужества; они никогда не бывали ни дерзкими, ни трусливыми. Иногда
на них приносили клятву умереть за родину; но пусть мне
напомнят хоть один случай, когда народ оказывал больше всего влияния
и при этом легкомысленно восстанавливал против себя
могущественные державы, находящиеся по соседству, пусть припомнят
хоть один случай, когда он перед ними пресмыкался? Я не стал бы
в этом отношении бросать упрек постановлениям Малого Совета:
* Поскольку тогда их собирали во всех «тяжких случаях», по словам Эдиктов,
и поскольку такие случаи очень часто имели место в те бурные времена.
Генеральный Совет созывался тогда чаще, чем сегодня созывается Совет Двухсот.
Пусть же выскажут суждение только на примере одной эпохи. В течение первых
восьми месяцев 1540 года было созвано восемнадцать Генеральных Советов,
а в тот год не произошло ничего более чрезвычайного, чем в предыдущие или в
последующие годы.
445
«-\
Жан-Жак Руссо
но не будем об этом. Когда речь идет о том, что необходимо
принять новые постановления, именно вышестоящим Советам следует
их предлагать, а Генеральный Совет должен их отклонять или
поддерживать; он не уполномочен делать ничего сверх того; об этом не
следует спорить. Это возражение, таким образом, не достигает
своей цели.
5. Возражение о том, что Генеральный Совет поставит под
сомнение и лишит ясности все законы, не является основательным;
поскольку здесь речь идет не о расплывчатом, общем и полном
тонкостей толковании, но об отчетливом и ясном соотнесении факта
с законом. Магистрат может иметь свои особые соображения,
обнаруживая неясности в ясном вопросе; но это не лишает вопрос
ясности. Эти господа искажают суть вопроса. Показать, придираясь
к букве закона, что он был нарушен, не означает бросить тень
сомнения на сам закон. Коль скоро в выражениях закона можно
найти хоть один оттенок смысла, оправдывающий факт, то в своем
ответе Совету не следует упускать случая выявить этот смысл. Тогда
Представление более не имеет силы; и если его составители будут
настаивать, то вопрос неизбежно вынесут на обсуждение
Генерального Совета, поскольку выгода всех так важна, ощутима, очевидна,
особенно в городе, где занимаются торговлей, что большинство ни
за что не захочет расшатать устои власти, правления,
законодательства, утверждая, что какой-то закон нарушили, тогда как
вполне возможно, что это нарушение и не случилось.
Именно законодателю, составителю законов, в первую очередь
следует избегать двусмысленных выражений. Когда же они имеют
место, то именно справедливость магистратов должна объяснить
их смысл в повседневной жизни: когда у закона множество смыслов,
магистраты должны воспользоваться своим правом, считая
предпочтительным тот из^них, который им кажется правильным.
Однако это право вовсе не простирается на возможность менять букву
закона, придавая ему тот смысл, которого в нем нет; в противном
случае закон перестанет существовать. Таким образом, при
подобной постановке вопроса просто принять решение, руководствуясь
здравым смыслом, и этот здравый смысл, в соответствии с которым
принимается решение, в этом случае на стороне Генерального
Совета. При этом не возникают бесконечные обсуждения, а напротив,
тем самым предотвращают их появление; именно благодаря этому,
поставив Эдикты выше произвольных толкований частных лиц,
446
Письма с Горы
внушенных соображениями выгоды и пристрастиями, мы можем
быть уверены: в них написано то, что написано, и граждане во
всяком случае не станут более сомневаться, не придал ли магистрат
Эдикту тот смысл, который ему заблагорассудится. Не ясно ли
теперь, что эти самые трудности ни за что бы не возникли, если бы
с самого начала стали использовать это средство, способное их
устранить?
6. Возражение о том, что Советы подчинили бы приказаниям
граждан, смехотворно. Ясно, что Представления не есть
приказание, отданное гражданами, и тем более таким приказом не является
жалоба человека, требующего правосудия; однако по этой причине
никоим образом не меньше обязанность магистрата вершить
правосудие по заявлению истца; то же самое и в отношении Совета,
обязанного дать ход Представлениям граждан и горожан. Хотя
магистраты и стоят выше простых граждан, это преимущество не
избавляет их от необходимости предоставить нижестоящим то право,
что они обязаны им предоставить; и уважительные выражения,
использованные ими для предъявления требований, никоим образом
не умаляют права, которое они желают получить. Если угодно, то
одно Представление является приказом, данным Совету, точно так
же, как оно является приказом, данным Первому Синдику, коль
скоро это Представление вручают для передачи Совету; ибо он
обязан это сделать независимо от того, согласен он с содержанием
Представления или нет.
Впрочем, когда Совет извлекает из слова «Представления»
выгодный для себя смысл, указывая на более низкое положение его
авторов, утверждая вещь бесспорную, он, тем не менее, забывает, что
этого слова, употребленного в Регламенте, нет в Эдикте, на
который он ссылается, но есть слово «Ремонтранции»81, которое имеет
совсем иной смысл; к этому можно добавить, что есть разница между
Ремонтранциями, поданными органом магистратуры своему
суверену, и Ремонтранциями, которые члены суверена представляют
организму магистратуры. Вы скажете, что я зря отвечаю на подобное
возражение; но оно ничем не отличается от прочих возражений.
7. Наконец, возражение, сделанное одним влиятельным
человеком, оспаривающим смысл или применение закона, по которому
он осужден, и склоняющим публику на свою сторону, таково, что
я думаю воздержаться от его оценки. Ах! Кто это видел, чтобы
горожане Женевы вели себя раболепно, проявляли горячность, склон-
447
«-\.
Жан-Жак Руссо
ность к подражанию, глупость, превращались во врагов законов,
столь быстро и охотно вставали на сторону соображений выгоды
постороннего лица? Для того чтобы такое случилось, каждый
должен был бы увидеть, что в общественных делах задеты его
соображения выгоды, и только тогда он решился бы в них вмешаться.
Часто несправедливость и мошенничество находят себе
покровителей; но никогда они не встретят поддержки у народа: именно
в этом случае глас народа есть глас Божий. Но, к несчастью, этот
священный голос всегда слаб в тех случаях, когда слышен окрик
власти; и жалоба невинно оскорбленного изливается в ропоте, на
который тираны не обращают внимания. Все, что делается
посредством происков и соблазнов, делается преимущественно на пользу
тех, кто правит; иначе и быть не может. Хитрость, предубеждения,
заинтересованность, страх, надежда, суетность, искусно
подобранные краски, видимость порядка и повиновения, — все это на
стороне ловких людей, наделенных властью и искусных в
мастерстве обманывать народ. Когда речь идет о том, чтобы на ловкачество
ответить ловкачеством, или влиянию противопоставить влияние,
какое огромное преимущество имеют в маленьком городе первые
семейства, объединившиеся друг с другом с целью в нем править!
Их друзья, их клиенты, их ставленники, — все это вместе с
властью, которой они обладают в Советах, и во всеоружии софизмов
дает им возможность раздавить простых граждан, осмеливающихся
им противоречить! Оглянитесь на миг вокруг себя. Защита законов,
справедливость, истина, очевидность общественной пользы, забота
о безопасности частных лиц, все то, что должно было бы увлечь
толпы людей, едва ли хватает для защиты уважаемых граждан,
возражающих против самой явной несправедливости; и при этом
хотят, чтобы в просвещенном народе дело, касающееся одного
смутьяна82, привлекло больше сторонников, чем дело государственное!
Либо я плохо знаю ваших горожан и ваших правителей, либо
однажды напишут хоть одно необоснованное Представление, чего,
насколько мне известно, еще ни разу не случалось; а автор такого
Представления если не мерзавец, то человек пропащий.
Надо ли опровергать возражения подобного рода, когда мы
говорим о женевцах? Есть ли в вашем городе хоть один человек,
который не почувствовал в этих возражениях злой умысел? И можно ли
более сильно расшатать священное право, право основное, признан-
448
Письма с Горы
-х-»
ное всеми, необходимое, ссылаясь на мнимые помехи, тогда как
даже те, кто на них ссылаются, лучше чем кто бы то ни было знают,
что их в действительности не существует? Тогда как, напротив, это
нарушенное право открывает двери самым отвратительным
злоупотреблениям олигархии до такой степени, что мы видим, как
она, даже не считая нужным найти предлог, уже посягает на
свободу граждан и во всеуслышание присваивает себе право заключать
их в тюрьмы без всяких ограничений и оговорок, без соблюдения
установленных правил, вопреки точному смыслу законов и
невзирая на какие-либо возражения.
Разъяснения, которые осмеливаются давать этим законам, еще
более оскорбительны, чем тирания, которую творят от их имени.
И какой же монетой с вами расплачиваются! Мало того что с вами
обходятся как с рабами — с вами обращаются как с детьми. Мой
Бог! Как же им удалось поставить под сомнение столь ясные вещи?
Как же смогли их до такой степени спутать? Видите ли, сударь,
задавать вопросы не означает их решить. Заканчивая здесь это
письмо, я надеюсь, что оно было не слишком длинным.
Человека можно отправить в тюрьму по трем основаниям:
первое, по настоянию другого человека, вчиняющего ему иск; второе,
когда его поймали на месте преступления и схватили или, что то же
самое, задержали за явное преступление, которое могут
засвидетельствовать люди; и третье, по долгу службы магистрата, по его
простому приказанию, по тайному доносу, опираясь на улики или же
по иным поводам, которые магистрат сочтет достаточными.
В первом случае по законам Женевы обвинитель, как и
обвиняемый, оплачивают содержание в тюрьме; и, кроме того, если
обвинитель неплатежеспособен, он должен представить залог в счет
оплаты судебных расходов и в счет суммы иска. Таким образом, у нас
есть с этой стороны, учитывая права обвинителя, разумная
уверенность в том, что задержанный не арестован несправедливо.
Во втором случае доказательство заключается в самом факте,
и обвиняемый в некотором роде изобличен собственно тюремным
заключением.
Но в третьем случае у нас нет ни уверенности, как в первом случае,
ни очевидных фактов, как во втором; и именно для этого
последнего случая закон, предполагая беспристрастность магистрата, лишь
принимает меры против того, чтобы его не ввели в заблуждение.
15 3ак. 3436
449
«-v.
Жан-Жак Руссо
Вот начала, которыми руководствуется законодатель в этих трех
случаях; и вот теперь их применение.
В случае иска, предусмотренного законом, с самого начала
ведется обычный судебный процесс с соблюдением порядка: вот
почему дело сначала рассматривается в первой инстанции. Тюремное
заключение может иметь место только после «заслушивания
сторон, и только правосудие его дозволяет». Вы знаете, что в Женеве
правосудие называется судом Лейтенанта83 с помощниками,
именуемыми приставами. Таким образом, именно магистратам, и
никому другому, даже не синдикам, должна быть подана жалоба в
подобных случаях; и именно им надлежит приказать заключить одну
из сторон в тюрьму, кроме случая обжалования этого решения
одной из них у синдиков в случае, «если, — согласно тексту Эдикта, —
она считает, что приказ вводит ее в чрезмерные убытки». Три
первые статьи главы XII, посвященной уголовным делам, относятся,
очевидно, к этому случаю.
В случае поимки с поличным, либо в случае преступления, либо
в случае злоупотребления, которое полиция должна наказывать,
любому лицу разрешается арестовать виновного; но только
магистраты наделены определенной долей исполнительной власти, а также
синдики, Совет, Лейтенант и пристав, могущие заключить
виновного под стражу; какой-нибудь советник или даже несколько не вправе
были бы это сделать; и заключенного следует допросить в течение
двадцати четырех часов. Пять следующих статей того же Эдикта
относятся исключительно ко второму случаю, и это ясно как по
порядку рассмотрения вопроса, так и по имени «преступник», которым
называют обвиняемого, поскольку существует только один случай
поимки с поличным или задержания за явное преступление, когда
можно назвать обвиняемого «преступником» до того, как будет
проведено судебное разбирательство. И даже если настаивают на
том, чтобы слова «обвиняемый» и «преступник» считались
синонимами, то следовало бы на том же самом языке сказать, что слова
«невиновный» и «преступник» тоже являются синонимами.
В остальной части главы XII речь больше не идет о заключении
под стражу; и, начиная со статьи IX включительно, все касается
расследования и порядка вынесения приговора в любом виде
уголовного разбирательства. Там нет ни слова о заключении под
стражу по долгу службы магистрата.
450
Письма с Горы
Но об этом сказано в Политическом Эдикте в разделе о
должностных обязанностях четырех синдиков. Почему так? Да потому, что
эта статья непосредственно затрагивает гражданскую свободу;
потому, что власть, осуществляемая магистратом в этом случае,
является скорее правительственным решением, а не решением
магистратуры; и потому, что простой суд по гражданским делам не должен
быть облечен подобной властью. Таким образом, Эдикт наделяет
этой властью только синдиков, а не Лейтенанта или какого-либо
иного магистрата.
Однако, дабы предохранить синдиков от обмана, о котором я уже
говорил, Эдикт им предписывает «уведомить», во-первых, тех, «на
кого возложено право проводить следствие и допрашивать», и,
наконец, «заключить под стражу, если дело относится к их ведомству».
Я полагаю, что в свободной стране закон не сделал бы меньше для
ограничения этой грозной власти. Необходимо, чтобы граждане
имели разумную уверенность в том, что, исполняя свой долг, они
могут спокойно спать в своих постелях.
Следующая статья того же самого раздела, очевидно, касается
случаев явных преступлений и поимки с поличным, так же как и
первая статья раздела, посвященного уголовным делам. Это может
показаться повторением: но в Гражданском Эдикте вопрос
рассматривается с точки зрения осуществления правосудия, а в Политическом
Эдикте — с точки зрения безопасности граждан. Впрочем,
поскольку законы создавали в различное время, и эти законы были
творением людей, то там не следует искать порядка без внутренних
противоречий и совершенства, лишенного изъянов. Размышляя надо
всем этим и сравнивая статьи, хватит того, что мы обнаруживаем
разум Законодателя и доводы, положенные в основу его
деятельности.
Прибавьте к этому следующее соображение. Эти права весьма
определенно связаны друг с другом, это — права, требуемые
сторонниками Представлений согласно Эдиктам, и те же самые права,
которыми вы сами пользовались, находясь под суверенной властью
епископов; Невшатель ими пользуется под властью своих
государей; и вот теперь у вас, у республиканцев, их хотят отнять!
Посмотрите статьи X, XI и многие другие из привилегий Женевы в
документе, данном Адемаром Фабри84. Этот памятник не менее уважаем
женевцами, чем Великая Хартия85 англичанами, еще более
древняя; и я сомневаюсь, что последние одобрили бы столь пренебре-
451
*\
Жан-Жак Руссо
жительные речи о своей Хартии, подобные тем, что позволяет себе
автор «Писем» о вашей Хартии.
Он заявляет, что вашу Хартию отменили акты государственного
устройства республики *. Но напротив, я очень часто встречаю в
ваших Эдиктах такое выражение, как «издревле повелось»,
отсылающее к древним обычаям: как следствие, к правам, на которых они
были основаны. Епископ словно предусмотрел, что те, кто должен
защищать привилегии, будут на них покушаться. И вот я вижу, как
он заявляет в самом документе, данном им женевцам, что эти
привилегии вечны, и при этом непользование ими или срок давности
по ним не могут их отменить. Вот, согласитесь, странное
противопоставление. Ученый синдик Шуэ пишет в своей докладной записке
милорду Тоуншенду, что благодаря Реформации народ Женевы
вступил в права епископа, бывшего светским и духовным
государем этого города. Автор «Писем» нас уверяет, напротив, что этот
самый народ потерял при этом привилегии, дарованные им
епископом. Кому из них мы поверим?
Как! Оказавшись свободными, вы утратили права, которыми
пользовались, оставаясь подданными? Ваши магистраты лишают
вас прав, дарованных вашими государями? Если такова свобода,
добытая вашими отцами, то вам должно сожалеть о крови,
пролитой за нее. Об этом странном документе, который, делая вас
суверенными властителями, отнимает у вас ваши привилегии, стоило
бы заявить, как мне кажется, во всеуслышание или, по крайней
мере, чтобы поверили в его существование; торжественность в этом
случае была бы не лишней. И где же документ об отмене прав,
предоставленных Фабри? Конечно же, кичась обладанием подобного
рода странным документом, следовало бы по крайней мере для
начала его предъявить.
Изо всего сказанного, я думаю, можно с уверенностью
заключить, что в Женеве закон ни в коем случае не предоставляет ни
синдикам, ни кому бы то ни было неоспоримого права заключать под
стражу простых граждан без ограничений и условий. Но неважно:
Совет в ответ на Представления устанавливает это право, отметая
* Эта логика напоминает логику, использованную в 1742 году, когда
неуважительно отнеслись к Золотурнскому трактату 1579 года, утверждая, что тот устарел,
хотя он и был провозглашен вечным в самом тексте; его не отменили никаким
иным соглашением и много раз упоминали, а именно в тексте, изданном
Посредниками86.
452
Письма с Горы
_^»
возражения. И стоит только Совету захотеть, и он его сразу
получит. Такое вот у них удобное право давать отрицательный ответ.
Я поставил перед собой цель показать в этом письме, что право
подачи Представлений, теснее всего связанное с образом вашего
государственного устройства, не было ни мнимым, ни бесполезным;
но, определенно закрепленное Эдиктом 1707 года и
подтвержденное Эдиктом 1738 года, оно, безусловно, является действующим;
что действительный характер этого права не был провозглашен
в Уставе о Посредничестве, поскольку его не провозгласили в
Эдикте как в силу того, что оно проистекает из самой природы вашего
государственного строя, так и потому, что тот же самый Эдикт
закреплял его охрану иным способом; что это право и его необходимое
следствие, являясь основой всех прочих прав, было единственной
и подлинно равноценной заменой прав, которых лишили горожан;
что эта замена, будучи достаточной для создания устойчивого
равновесия между составными частями государства, указывает на
мудрость Устава, который без нее стал бы самым беззаконным делом,
какое только можно себе представить; и что, наконец, затруднения,
на которые ссылались, выступая против осуществления этого
права, были легкомысленными соображениями, основанными на злом
умысле тех, кто их высказывал, и ссылки на эти затруднения не идут
ни в какое сравнение с опасностями неограниченного применения
права давать отрицательный ответ. Вот, сударь, что я хотел
объяснить; и вам судить, удалось ли мне это.
Письмо IX
Я думал, сударь, что лучше прямо изложить то, что я хотел
сказать, чем пускаться в пространные опровержения. Взяться за
последовательное рассмотрение «Писем из деревни» означало бы
пуститься в плавание по морям софизмов. Их понять и изложить
означало бы, по моему мнению, их опровергнуть; но они плывут
в таком потоке учености, они погружены в него до такой степени,
что рискуешь сам утонуть, желая вытащить их на сушу.
Однако, заканчивая свой труд, я не могу воздержаться от того,
чтобы кратко не рассмотреть и труд этого автора. Не разбирая
политических ухищрений, которыми он вас сбивает с толку, я
удовольствуюсь рассмотрением лишь начал, содержащихся в этом тру-
453
*\.
Жан-Жак Руссо
де, и тем, что покажу вам на некоторых примерах порочность его
рассуждений.
Выше вы имели возможность увидеть их непоследовательность
в отношении меня. В отношении же вашей республики они во
многих случаях еще более коварны и ни в коем случае не более
основательны. Единственная и подлинная цель этих «Писем» заключается
в том, чтобы обосновать так называемое право давать
отрицательный ответ в объеме, оправдывающем присвоение власти Советом.
Этой-то цели все и подчинено либо прямо, путем установления
необходимой логической связи, либо же косвенно, путем ухищрений
и обмана публики относительно существа вопроса.
Обвинения, касающиеся меня, относятся к первому случаю.
Совет судил меня вопреки закону, против чего были поданы
Представления. Для того чтобы обосновать право на отрицательный
ответ, нужно пристойно отказать сторонникам Представлений; для
того чтобы это сделать, нужно доказать, что они не правы; для того
же, чтобы доказать, что они не правы, нужно настаивать на том,
что я виновен, и виновен в такой степени, что для наказания за мое
преступление следовало нарушить закон.
Как содрогнулись бы люди, совершая зло в первый раз, если бы
они поняли, что очутились перед печальной необходимостью
совершать его всегда, оставаться дурными на протяжении всей своей
жизни только потому, что смогли стать однажды таковыми, и
должны преследовать несчастного до конца его дней, несчастного,
которого они однажды подвергли гонениям.
Вопрос о том, что синдики должны председательствовать в
уголовных судах, относится ко второму случаю. Думаете ли вы, что
Совет действительно очень озабочен тем, будут ли в них
председательствовать синдики или же советники, после того как он растворил
права синдиков в совокупности прав всего организма? Синдики,
некогда избиравшиеся из среды всего народа *, теперь избираются
только лишь из состава Совета и потому превратились из
начальников прочих магистратов, каковыми они прежде были, в их
коллег; и вы могли ясно увидеть, рассматривая это дело, что ваши
синдики, не хватаясь за кратковременную власть, теперь превратились
* Обращалось столь большое внимание на то, чтобы при этом выборе не имели
места какое-либо исключение или предпочтение, кроме основанного на личных
заслугах, и чтобы, в силу отмененного впоследствии Эдикта, два синдика всегда
избирались от нижней части города, а два от верхней.
454
Письма с Горы
лишь в советников. Однако этот вопрос выдают за якобы важный
с целью отвлечь ваше внимание от вопроса действительно важного,
заставляя вас поверить также и в то, что вы все еще избираете
главных магистратов, а их полномочия по-прежнему неизменны.
Оставим, следовательно, в стороне эти второстепенные
вопросы, которые автор, судя по тому, как он их рассматривает, не
принимает близко к сердцу. Ограничимся тем, что взвесим доводы,
приведенные им в пользу права на отрицательный ответ,
рассматриваемого им с большей тщательностью; потому что от того, будет
оно подтверждено или опровергнуто, зависит, оставаться вам
рабами или же свободными людьми.
Искусство, каким он самым ловким образом пользуется, состоит
в том, чтобы свести к общим положениям взгляды, слабые стороны
которых можно было бы легко заметить, если бы он сам эти
взгляды последовательно проводил. Дабы отвлечь вас от преследуемой
им особой цели, он льстит вашему самолюбию, занимая ваше
внимание высокими материями; и в то же самое время, считая эти материи
не подлежащими рассмотрению теми лицами, которых хочет
обмануть, он им льстит и привлекает на свою сторону, прикидываясь,
что относится к ним как к государственным мужам. Он обольщает,
таким образом, народ, чтобы его ослепить, и превращает в
философские проблемы те вопросы, что требуют для своего решения лишь
здравого смысла, дабы никто не мог его в этом уличить и, не
понимая его, не осмелился высказать ему неодобрение.
Желать выявить все не имеющие отношения к делу софизмы,
использованные им, означало бы совершить ту же ошибку, за
которую я его упрекаю. Впрочем, по вопросам, рассматриваемым таким
образом, можно выражать любое мнение, никогда не ошибаясь,
ибо в эти логические посылки входит столько различных
подробностей, а представить эти посылки можно со столь различных сторон,
что среди них всегда найдется одна, соответствующая тому виду,
который мы пожелаем им придать. Когда пишут книгу о политике для
широкой читающей публики, в ней можно философствовать
сколько угодно; автор, желающий, чтобы его читали и судили только
образованные люди всех наций, сведущие в рассматриваемых им
вопросах, безбоязненно прибегает к абстракциям и обобщениям, он
не вдается в самые простые подробности. Если бы я обращался
только к вам одному, то и я мог бы использовать такой способ
рассуждений. Но тема этих «Писем» затрагивает весь народ, состоящий
455
*-*v.
Жан-Жак Руссо
в большинстве своем из людей, у которых больше здравого смысла
и способности суждения, нежели начитанности, образованности,
и не владеющие научным жаргоном и поэтому более способны
понять истину во всей ее простоте. В подобном случае приходится
выбирать между соображениями выгоды автора и соображениями
выгоды читателей; и тот, кто хочет принести больше пользы,
должен решиться на то, чтобы меньше блистать.
Другим источником заблуждений и ошибочных указаний на
примеры из жизни является то, что представления об этом праве
давать отрицательный ответ продолжают оставаться слишком
расплывчатыми, слишком неточными. Этому способствует то, что под
видом доказательств приводятся примеры, здесь наименее
уместные; внимание ваших сограждан отвлекают от предмета, на
который оно должно быть направлено, предлагая им высокопарные
рассуждения, возбуждают их гордость в противовес рассудку и
исподволь утешают тем, что владыки мира не более свободны, чем
они сами. С ученым видом копаются во тьме веков; чванятся
вереницей народов древности. Один за другим выставляют напоказ
Афины, Спарту, Рим, Карфаген; глаза вам засыпают песком Ливии,
чтобы помешать увидеть происходящее вокруг вас.
Пусть уточнят, как я постарался это сделать, право на
отрицательный ответ в том виде, в каком его желает осуществлять Совет;
и я утверждаю, что никогда еще на земле не было ни одного
правления, при котором законодатель, всячески скованный организмом
исполнительной власти, безоговорочно оставив законы в полной
власти этого организма, вынужден терпеть то, что ему их толкуют,
что их не соблюдают, нарушают по собственной прихоти, а он не
может противопоставить этому злоупотреблению иного возражения,
иного права, оказать иного сопротивления, кроме бесполезного
ропота, недовольства и криков от бессилия.
В самом деле, посмотрите, до какой степени ваш Аноним
вынужден извращать суть вопроса, чтобы получить возможность
более или менее неудачно приводить свои примеры.
Право давать отрицательный ответ, — говорит он на
странице 110, — поскольку оно представляет собой возможность не
устанавливать законы, а препятствовать тому, чтобы кто угодно
мог задействовать власть, призванную устанавливать законы,
и поскольку оно не позволяет с легкостью заводить
нововведения, но препятствует им, то оно прямо имеет в виду ту главную
456
Письма с Горы
цель, стоящую перед любым политическим сообществом,
которая заключается в том, чтобы сохранить себя, сохраняя свое
внутреннее устройство.
Вот в чем состоит весьма разумное право давать отрицательный
ответ; и по смыслу изложенного это право действительно является
столь существенной частью демократического государственного
устройства, что без него оно не могло бы сохраниться, если
законодательную власть мог бы задействовать каждый, кто входит в ее
состав. Согласитесь, нетрудно привести примеры, подтверждающие
столь несомненное начало.
Но если это — вовсе не то понятие о праве давать
отрицательный ответ, о котором идет речь, если в приведенном месте нет ни
единого слова, которое означает ложь в силу того употребления,
к коему автор стремится, то вы признаете, что доказательства
в пользу совсем иного рода права давать отрицательный ответ не
очень-то убедительны, если относятся к тому праву, которое он
желает установить.
«Право давать отрицательный ответ не является правом
устанавливать законы...» Да, но оно становится правом обходиться вообще
без законов. Превращать каждое решение своей воли в особый
закон гораздо удобнее, чем соблюдать общие законы, даже тогда,
когда сам являешься их творцом. «Но оно есть право
препятствовать тому, чтобы кто угодно мог задействовать власть,
устанавливающую законы». Вместо этого следовало бы сказать: «Но оно есть
право воспрепятствовать тому, чтобы кто-нибудь оказался
неспособен защитить законы от власти, которая их под себя подминает».
«Правом, не позволяющим легко разрешать нововведения...»
А почему бы нет? Кто же может помешать вводить новшества тому,
кто облечен властью и кто не обязан никому давать отчет в своем
поведении? «Но препятствует нововведениям». Скажем лучше:
«полномочие воспрепятствовать тому, чтобы люди возражали
против нововведений».
В этом-то, сударь, и заключается самый изощренный софизм,
наиболее часто встречающийся в рассматриваемом мною
сочинении. Тому, кто обладает исполнительной властью, совсем не нужно,
чтобы его нововведения сопровождались шумом. Ему нет никакой
нужды закреплять такое нововведение в официальных документах.
Ему достаточно при повседневном осуществлении своей власти
457
*\.
Жан-Жак Руссо
подчинять мало-помалу всех своей воле; и это никогда не
происходит вполне незаметно.
Напротив, те, кто проявляют достаточно внимания и обладают
достаточно проницательным умом, чтобы заметить подобный ход
событий и, предвидя его последствия, стремятся его остановить,
могут решиться на две вещи: либо сразу же воспротивиться
малейшему нововведению, почти всегда пустячному, но тогда на них
начинают смотреть как на людей беспокойных, смутьянов, буквоедов,
всегда готовых найти повод для распри; либо же, в конце концов,
восстать против усугубляющегося злоупотребления: вот тогда-то
начинают поднимать крик о том, что нововведение уже имеет
место. Что бы ни предпринимали ваши магистраты, я ручаюсь, что вы
не сможете, если станете этому противиться, избежать хотя бы
одного из этих двух упреков. Но, оказавшись перед таким выбором,
отдайте предпочтение первому. Всякий раз, когда Совет нарушает
какой-либо обычай, он преследует свою цель, никем не замечаемую,
которую он весьма остерегается обнаружить. При всяком сомнении
всегда препятствуйте любому нововведению, малому или
значительному. Если бы синдики привыкли входить в Совет, ступая с
правой ноги, и вдруг пожелали бы входить туда с левой, то и в этом,
говорю я, им следовало бы воспрепятствовать.
Здесь налицо весьма существенное доказательство легкости
делать вывод «за» или «против», следуя способу рассуждений,
который использует наш автор. Ибо примените к праву граждан
подавать Представления то, что он применяет к праву Советов давать
отрицательный ответ, и вы увидите, что его предложение,
высказанное в общем виде, лучше соответствует этому последнему
применению, чем первому. «Право подачи Представлений, — скажете
вы, — не являясь правом устанавливать законы, а правом
препятствовать нарушению их той властью, которая должна их
применять, правом, предоставляющим возможность не заводить
новшества, а препятствовать их введению, прямо имеет в виду ту цель
политического сообщества, которая заключается в сохранении себя,
сохраняя свое внутреннее устройство». Не это ли как раз и желали
сказать сторонники Представлений, и не кажется ли, что автор
рассуждал вместо них? Нельзя, чтобы слова искажали смысл понятий.
Так называемое право Совета давать отрицательный ответ
является в действительности позитивным правом, и даже самым
позитивным из тех, какие только можно себе представить, ибо оно делает
458
Письма с Горы
-^"»
Малый Совет единственным и неограниченным хозяином
государства и всех законов; а право подачи Представлений, взятое в его
истинном значении, само является только лишь правом давать
отрицательный ответ. Оно заключается единственно в том, чтобы
препятствовать исполнительной власти осуществлять что-либо
вопреки законам.
Рассмотрим признания автора относительно представленных
им положений. Если добавить к ним несколько слов, то окажется,
что он наилучшим образом обрисовал картину настоящего
положения дел в вашем государстве.
Потому-то никогда не будет иметь место свобода в таком
государстве, где организм, на который возложено исполнение
законов, получит право заставлять их говорить по своей прихоти,
ибо он сможет заставлять исполнять свою самую тираническую
волю так же, как законы...
Вот, я полагаю, картина, соответствующая природе вещей. Но
взгляните на воображаемую картину, противопоставляемую этой:
Никогда не будет правительства также и в таком государстве,
где народ стал бы осуществлять без всяких правил
законодательную власть.
Согласен: но кто же предлагал, чтобы народ осуществлял
законодательную власть без всяких правил?
Давая, таким образом, определение иного права давать
отрицательный ответ, нежели то, о котором идет речь, автор весьма
заботится о том, чтобы определить, за кем следует закрепить это право,
о котором вовсе нет речи; и он обосновывает здесь некое начало, но
его я, конечно, не стану оспаривать. Он говорит, что «если
правительство без неудобств может обладать этим полномочием давать
отрицательный ответ, то будет естественно и правильно, если оно
станет им обладать». Я не буду рассматривать примеры,
приведенные в дальнейшем, ибо они слишком далеки от нас и вообще не
имеют отношения к изучаемому нами вопросу.
Только пример Англии, который у нас перед глазами, и он не без
основания приводит как образец правильного равновесия между
соответствующими властями, заслуживает краткого рассмотрения,
и только после этого я позволю себе провести сравнение малого
с великим.
459
«-v.
Жан-Жак Руссо
Несмотря на то что власть короля весьма велика, нация не
побоялась предоставить королю еще и право подавать голос против.
Но поскольку король не может долго обходиться без
законодательной власти и поскольку для него небезопасно ее раздражать,
это правомочие является фактически только средством
остановить предприятия законодательной власти; и государь,
спокойно пользуясь обширной властью, предоставляемой ему согласно
устройству государства, будет заинтересован в том, чтобы его
защищать.
Приняв во внимание это рассуждение и пример, которым его
хотят подкрепить, вы, наверное, станете думать, что исполнительная
власть английского короля более велика, чем власть Совета в
Женеве; что право давать отрицательный ответ, которым обладает
этот государь, похоже на незаконно присвоенное себе вашими
магистратами; что ваше правительство точно так же, как и
правительство Англии, не в состоянии обойтись без законодательной власти;
и, наконец, что как одно, так и другое в равной степени
заинтересованы в защите государственного строя. Если автор не это хотел
сказать, так что же еще иное имел он в виду и какое тогда отношение
к его теме имеет этот пример?
Однако дело обстоит здесь во всех отношениях совершенно
противоположным образом. Английский король, облеченный законами
столь большой властью ради их защиты, вообще не имеет власти их
нарушать. Никто в подобном случае не пожелал бы ему
повиноваться, каждый опасался бы за свою голову; сами министры могут
этой власти лишиться, если станут раздражать парламент; и в нем
же рассматривается поведение даже самого короля. Каждый
англичанин, находясь под защитой законов, может не бояться
королевской власти. Самый последний человек из народа может требовать
и получить самое полное удовлетворение за малейшее
оскорбление. Если предположить, что государь осмелится допустить хоть
незначительное нарушение закона, то это нарушение тотчас ему же
поставят на вид; и он не получит ни права, ни власти упорствовать
в этом нарушении.
У вас же власть Малого Совета ничем не ограничена. Этот Совет
является одновременно и министром и государем, тяжущейся
стороной и судьей. Он приказывает и исполняет; он вызывает в суд,
арестовывает, заключает в тюрьму, судит и сам наказывает; все в его
власти; всех служащих ему лиц невозможно подвергнуть преследо-
460
Письма с Горы
^^»
ванию; он никому не дает отчета ни в своем поведении, ни в их; ему
нечего опасаться со стороны Законодателя, которому только он
один имеет право дать высказаться и перед которым он не станет
себя обвинять. Он никогда не бывает вынужден исправлять
допущенную им несправедливость; и самое большое, на что может
надеяться угнетаемый невиновный, гонимый им, это — убраться
подобру-поздорову, не добившись ни удовлетворения притязаний в суде,
ни возмещения за причиненный ему ущерб.
Судите сами об этом различии, основываясь на самых недавних
событиях. В Лондоне напечатано сатирическое произведение с
резкими нападками на министров, на правительство и даже на самого
короля87. Издатели арестованы, но закон не разрешает
арестовывать; поднимается ропот в обществе, и их вынуждены освободить.
Дело на этом не заканчивается — печатники, в свою очередь,
привлекают магистрата к ответственности и получают огромное
возмещение за причиненный им ущерб. Пусть сопоставят это дело с делом
женевского книготорговца господина Бардэна, о котором я
расскажу ниже. Другой случай. В городе происходит кража; без
доказательств и на основании необоснованных подозрений один
гражданин вопреки закону заключен в тюрьму; в его доме производится
обыск; он подвергается всевозможным оскорблениям, какие
только наносятся злоумышленникам. В конце концов его невиновность
установлена, и его освобождают из-под ареста; он жалуется, но
жалоба его остается без последствий; и этим все заканчивается.
Предположим, что в Лондоне я имел бы несчастье оказаться
неугодным Двору; что вопреки справедливости и без всяких
оснований он, использовав в качестве предлога публикацию какой-либо
из моих книг, приказал бы ее сжечь, а меня арестовать. Я обратился
бы тогда в парламент с жалобой на том основании, что был
осужден противозаконно; я бы это доказал и получил бы самое полное
удовлетворение моего притязания, а судья был бы наказан и,
может быть, смещен.
Мысленно перенесем теперь в Женеву господина Уилкса и
допустим, что он высказал, написал, напечатал, опубликовал против
Малого Совета хотя бы четвертую часть того, что он открыто
сказал, написал, напечатал, опубликовал в Лондоне против
правительства, суда, государя. Я не стал бы решительно утверждать, что его
бы казнили, хотя и полагаю, что именно так бы и случилось; но его
461
«^s.
Жан-Жак Руссо
безусловно тотчас же арестовали бы и в скором времени очень
сурово покарали*.
Скажут, что господин Уилкс был членом законодательного
собрания в своей стране; а я разве в своей стране таковым не являюсь?
Правда, автор «Писем» желает, чтобы никто не обращал никакого
внимания на положение гражданина. «Правила расследования, —
говорит он, — одинаковы и должны быть таковыми для всех людей.
Они вытекают не из права гражданства, а из права, вытекающего из
принадлежности к человечеству».
К счастью для вас, на деле это не так **, а в том, что касается
этого правила, то здесь под весьма пристойными словами скрывается
весьма коварный софизм. Выгода магистрата, которая в вашем
государстве превращает его в тяжущуюся сторону с гражданином, но
никогда в сторону, ведущую тяжбу с иностранцем, требует в первом
случае, чтобы закон принимал гораздо большие меры
предосторожности и обвиняемый не был осужден несправедливо. Это различие
прекрасно подтверждают факты. Не было, может быть, с момента
установления республики ни одного примера несправедливого
осуждения иностранца, а кто сочтет, сколько в ваших летописях не-
* Ввиду того, что господин Уилкс находился в этом отношении под защитой
закона, для привлечения его к ответственности потребовалось использовать другой
способ; и к этому делу опять приплели религию.
** Право подавать прошение о помиловании принадлежит, в силу Эдикта, только
лишь гражданам и горожанам; но, благодаря их стараниям, это право и другие
права были предоставлены также уроженцам и жителям, которые, подлежа суду,
как и граждане и горожане, нуждались в таких же мерах обеспечения своей
безопасности; а иностранцы были их лишены. Понятно также, что выбор четырех
родственников или друзей для оказания помощи обвиняемому на уголовном
процессе не приносит им ищутимой пользы. Право такого выбора выгодно лишь тем,
кого магистрат, возможно, задумал погубить и кому закон дает в качестве судьи
того, кто является его прирожденным врагом. Даже удивительно, что после стольких
ужасных примеров граждане и горожане не приняли больше мер для обеспечения
своей безопасности и что всю область уголовных дел, в которой нет ни эдиктов,
ни законов, оставили чуть ли не на произвол Совета. Уже одной этой услуги
достаточно, чтобы женевцы и все справедливые люди неизменно обязаны были
благословлять посредников, состоит в отмене допроса с пристрастием. Я всегда
с горечью улыбаюсь при виде стольких прекрасных книг, в которых европейцы
любуются собою, расхваливая друг друга за гуманность, книг, издаваемых в тех же
самых странах, где забавляются тем, что, дабы установить виновность человека,
ломают и дробят его части тела. Я говорю о пытке как о почти безошибочном
средстве, применяемом сильным ради обвинения слабого в преступлениях, за
которые он решит его наказать.
462
Письма с Горы
справедливых и даже жестоких судебных расправ над гражданами?
Впрочем, весьма понятно, что меры предосторожности, которые
необходимо принимать для обеспечения безопасности последних,
могут вполне распространяться на всех обвиняемых, потому что
целью этих мер является не спасение виновного, а зашита
невиновного. Поэтому-то и не делается никакого исключения в статье 30
Устава, явно выгодной только женевцам. Вернемся же к сравнению
права на отрицательный ответ в обоих государствах.
Право давать отрицательный ответ у английского короля
состоит в возможности созывать и распускать законодательный
организм, которым обладает только он один, и в возможности отклонять
проекты законов, выносимые на его рассмотрение; но оно никогда
не состояло в том, чтобы препятствовать законодательной власти
разбирать нарушения закона, совершенные по вине короля.
К тому же это право давать отрицательный ответ сильно
ограничивается, во-первых, законом о трехгодичном сроке *,
обязывающем короля созывать новый парламент по истечении
определенного срока; затем понимание королем необходимости того, чтобы
парламент почти никогда не распускался **, и, наконец, правом
Палаты общин давать отрицательный ответ ему самому, которое
столь же значительно, как и аналогичное право короля.
Это право ограничивается еще полнотой власти, возникающей
у обеих палат, после того как они созваны, как в том, чтобы
предлагать, обсуждать, рассматривать законы и все вопросы, относящиеся
к делам управления, так и в той части исполнительной власти,
которую они осуществляют и совместно, и в отдельности, как в Палате
общин, ведающей рассмотрением случаев ущемления прав народа
и нарушений законов, так и в Палате лордов, которые являются
верховными судьями по уголовным делам, в особенности же по
делам о государственных преступлениях.
Вот, сударь, в чем заключается право английского короля давать
отрицательный ответ. Если ваши магистраты требуют для себя
только лишь такого права, то я вам не советую его у них оспаривать. Но
я отнюдь не понимаю, зачем им при настоящем положении дел
* Ставшим семилетним вследствие ошибки, в которой англичане не раскаиваются.
** Ввиду того что парламент предоставляет субсидии только на один год, король
вынужден их у него испрашивать ежегодно.
463
*\
Жан-Жак Руссо
в Женеве еще и законодательная власть, так же, как и не вижу, что
может их принудить созвать ее на собрание для того, чтобы она на
самом деле действовала; потому что новые законы никогда не
бывают нужны людям, стоящим выше законов; потому что
правительство, опирающееся на свои собственные финансы и не находящееся
в состоянии войны, нисколько не нуждается в новых налогах, и
потому, что если весь организм облекается полномочиями
правителей, которые выдвигаются из его же среды, то выборы этих
правителей почти что не имеют значения.
Я даже не понимаю, в чем Законодатель может ограничить их
власть, ведь хотя он и существует, то существует лишь на минуту,
и может всякий раз выносить решения только по тому
единственному вопросу, по которому они дают ему запрос.
Правда, английский король может объявлять войну и заключать
мир. Но помимо того, что эта власть является скорее видимой, чем
действительной, по крайней мере в том, что касается войны; я уже
показал и ранее, и в «Общественном договоре», что не об этом вам
следует думать, и надо отказаться от почетных прав, когда желаете
пользоваться свободой. Я признай еще, что этот государь может
раздавать и отнимать должности по своему усмотрению и благодаря
этому подкупать по одному из членов законодательного
организма. Именно это дает полное преимущество Совету, которому
подобные средства не очень нужны и который порабощает вас с
меньшими издержками. Подкуп есть злоупотребление свободой, но он —
все же доказательство того, что свобода существует, потому что нет
нужды подкупать людей, находящихся в твоей власти. Что же
касается должностей, то, не говоря о тех, которыми располагает Совет
либо сам, либо через Совет Двухсот, он поступает еще лучше в
отношении должностей наиболее важных — он замещает их своими
собственными членами, что ему еще более выгодно, поскольку
всегда чувствуешь себя увереннее, когда делаешь что-либо своими
собственными руками, а не чужими. История Англии полна
доказательств того, что королевские чины оказывали сопротивление
своим государям, когда те желали нарушать законы. Посмотрите,
много ли сможете вы найти у себя примеров подобного
сопротивления Совету со стороны государственных чинов даже в самых
неприятных случаях. Как только кто-либо в Женеве начинает получать
жалованье от республики, он тотчас же перестает быть граждани-
464
Письма с Горы
ном: он всего лишь раб и сторожевой пес Совета Двадцати пяти,
готовый растоптать отечество и законы, как только тот ему прикажет
это сделать. Наконец, закон, не оставляющий за королем в Англии
никакой власти творить зло, предоставляет ему очень большую
власть творить добро. Не похоже, что ваш Совет стремится
расширить свою власть в этом направлении.
Английским королям, преимущества которых обеспечиваются
нынешним государственным строем, выгодно его защищать, ибо
у них мало надежды его изменить. Ваши же магистраты, напротив,
уверенные в возможности использовать особенности вашего
государственного строя с целью совершенно изменить его сущность,
видят свою выгоду в сохранении этих порядков как орудия
незаконного присвоения власти. Последний опасный шаг, который им
остается сделать, это тот, что они делают сегодня. Сделав этот шаг,
они смогут сказать, что им еще более, чем английскому королю,
выгодно сохранение существующего государственного строя, но
совсем по иной причине. Вот все сходство, которое я нахожу между
политическим строем Англии и вашим. Я предоставляю вам судить
самому: при каком из них существует свобода?
После этого сравнения автор, любящий приводить вам примеры
великих, предлагает пример древнего Рима. Он пренебрежительно
ставит ему в упрек то, что его трибуны были смутьянами и
бунтовщиками. Он горько оплакивает возникшую якобы под влиянием
этого бурного управления печальную участь этого несчастного
города, который, однако, еще ничего собой не представлял при
учреждении этой магистратуры, а за время ее пятисотлетнего правления
покрыл себя славой, узнал благоденствие и стал столицей мира.
Ему пришел конец, потому что всему бывает конец; причиной его
конца был незаконный захват власти его знатью, консулами и
полководцами. Он погиб из-за чрезмерного роста своего могущества,
но приобрел такое могущество лишь только благодаря
положительным качествам своего правления. В этом смысле можно
сказать, что его погубили трибуны *.
* Трибуны никогда не покидали черту города; они не обладали никакой властью
за пределами его стен. Поэтому-то консулы, во избежание надзора с их стороны,
иногда проводили комиции в деревне. Однако цепи римлян были выкованы вовсе
не в Риме, но в его армиях; благодаря своим победам они утратили свободу. Это
произошло, таким образом, не по вине трибунов.
465
«\
Жан-Жак Руссо
Впрочем, я считаю извинительными ошибки римского народа;
я назвал их в «Общественном договоре». Я порицал римлян за
незаконный захват исполнительной власти, которую они должны
были только сдерживать *; я показал, на основе каких начал
следует учреждать трибунат; я указал, какие следовало установить
пределы его власти и каким образом все это могло осуществиться. Эти
правила плохо соблюдались в Риме. Но они могли бы соблюдаться
лучше. Однако взгляните на то, что трибунат совершил, несмотря
на свойственные ему превышения своей власти; а как много
хорошего он мог бы сделать, если бы его действия осуществлялись в
правильном направлении? Мне неясно, что хочет сказать здесь автор
«Писем». Чтобы сделать вывод, направленный против него самого,
я привел бы тот же пример, который выбрал он сам.
Однако не станем искать так далеко эти великие примеры, столь
яркие сами по себе, но столь обманчивые в том, что касается
повода их привести. Не позволяйте выковать вам цепи, обольщаясь
собственным самолюбием. Будучи слишком малы, чтобы сравнивать
себя с кем бы то ни было, оставайтесь сами собой и не
заблуждайтесь насчет вашего положения. Древние народы не являются более
образцом для народов новых времен: они во всех отношениях
слишком не похожи на них. Вы же, женевцы, должны оставаться на
своем месте и не стремиться к достижению высоких целей, постав-
Правда, Цезарь пользовался их услугами, подобно тому как Сулла использовал
сенат. Каждый из них употреблял средства, которые считал наиболее верными
и скорыми для достижения власти. Но кто-то же хотел ее получить, и какое имело
значение, кто именно, Марий или Сулла, Цезарь или Помпеи, Октавиан или
Антоний станет самозванцем. Какая бы партия ни взяла верх, захват власти от этого
не становился менее неизбежным. Находившимся в далеких странах армиям
нужны были начальники; и не подлежало сомнению, что один из этих начальников
станет хозяином в государстве. Трибунат здесь был ни при чем.
Впрочем, тот же выпад, который делает здесь автор «Писем из деревни» против
народных трибунов, был уже сделан в 1715 году государственным советником
господином Шапоруж в его памятной записке, направленной против должности
Генерального прокурора. Господин Луи де Фор, блестяще исполнявший тогда эту
должность, указал ему в весьма замечательном письме, написанном в ответ на эту
записку, что влияние и власть трибунов явились спасением для республики и что
на ее гибель повлияли вовсе не они, а консулы. Несомненно, Генеральный
прокурор Ле Фор совершенно не предвидел, что кто-либо в наши дни вновь станет
защищать мнение, которое он столь тщательно опроверг.
* См.: Общественный договор. Кн. IV. Гл. 5. Я полагаю, что в этой весьма краткой
главе можно найти немножко хороших правил, относящихся к этой теме.
466
Письма с Горы
ленных перед вами, чтобы скрыть от вас ту пропасть, которую
перед вами разверзают. Вы не римляне и не спартанцы, вы даже не
афиняне. Оставьте в стороне эти великие имена, вам их совершенно
не приличествует носить. Вы — торговцы, ремесленники,
горожане, постоянно занятые заботами о своей частной выгоде, своей
работой, своей торговлей, своею прибылью. Вы — люди, для которых
сама свобода является лишь средством беспрепятственно
приобретать имущество и надежно им владеть.
Такое положение требует усвоения особых правил. Не будучи
праздными, как древние народы, вы не можете, как они,
беспрестанно заниматься вопросами правления; но именно потому, что
вы не можете столь пристально за ним следить, оно должно быть
так устроено, чтобы вам было легче видеть его действия и
предотвращать злоупотребления. Исполнение любого общественного
поручения, в котором затронута ваша выгода, должно стать для вас
тем более легким, что эти заботы для вас накладны и вы неохотно
их берете на себя. Ибо пожелать совершенно ими не заниматься —
означало бы пожелать перестать быть свободными. «Нужно
сделать выбор, — говорит благодетельный философ, — и тем, кто не
в состоянии вынести трудности, остается искать лишь отдохновения
в рабстве».
Народ беспокойный, суетливый, праздный, который, не
занятый собственными делами, всегда готов вмешиваться в дела
государства, нуждается в том, чтобы его сдерживали,— я это знаю; но,
повторяю еще раз, разве горожане Женевы являются таким
народом? Они совсем на него не похожи; они даже его антиподы. Ваши
граждане, всецело поглощенные своими домашними занятиями
и всегда прохладно относящиеся ко всему остальному, помышляют
об общественной выгоде лишь тогда, когда речь заходит об их
собственной. Слишком мало заботясь о том, чтобы надзирать за
поведением своих правителей, они замечают уготованные им оковы
только тогда, когда начинают ощущать их тяжесть. Постоянно
отвлекающиеся на что-то, обманутые, неизменно сосредотачивающие
свое внимание на посторонних предметах, они позволяют себя
обмануть относительно самого важного и ищут лекарство, потому что
не сумели предотвратить болезнь. Пытаясь слишком точно
рассчитать свои действия, они всегда опаздывают. Неповоротливость
погубила бы их уже сотню раз, если бы нетерпеливость магистрата не
оказывалась при этом спасительной и если бы, стремясь поскорее
467
«-\.
Жан-Жак Руссо
завладеть высшей властью, он тем самым не предупреждал их о
грозящей опасности.
Прочитайте историю вашего образа правления, и вы увидите,
как Совет, всегда проявлявший горячность в своих предприятиях,
не преуспевал чаще всего по причине слишком явной поспешности
в их осуществлении. Вы увидите, как горожане, всякий раз
спохватившись, осуждали то, чему они позволили совершиться, не оказав
своевременно сопротивления.
В 1570 г. государство было обременено налогами и испытывало
многие бедствия. Ввиду того что при сложившихся
обстоятельствах было трудно часто созывать Генеральный Совет, на нем
предложили уполномочить другие Советы заботиться о текущих нуждах.
Предложение было принято88. Исходя из этого, они начали
присваивать себе постоянное право устанавливать налоги, и на
протяжении более чем столетия им это разрешают, не оказывая ни
малейшего сопротивления.
В 1714 г. с тайными помыслами взялись за осуществление
огромного и смехотворного предприятия — за строительство укреплений
без ведома Генерального Совета и вопреки тому, что написано
в Эдиктах*. Ради осуществления этого милого замысла вводятся
налоги на десять лет, по поводу которых также не запрашивали его
мнения. Появляется несколько жалоб, но ими пренебрегают — и все
умолкает.
В 1725 г. истекает срок введения налогов; необходимо его
продлить. Хотя и с запозданием, горожане должны были все же
выступить в защиту своих столь долго находившихся в пренебрежении
прав. Но ввиду того, что чума в Марселе и Королевский банк
нарушили торговлю89, каждый, опасаясь за судьбу своего состояния,
забывает об опасностях, угрожающих его свободе. Совет же, который
не упускает из виду своих целей, продлевает срок взимания налогов
через Совет Двухсот, мкйуя Генеральный Совет.
По истечении этого второго срока граждане пробуждаются и
после ста шестидесяти лет бездействия заявляют, наконец,
по-настоящему о своих правах. И вот тогда, вместо того чтобы пойти на
уступки или же выждать, правительство готовит заговор. Этот
заговор раскрыт, горожане вынуждены взяться за оружие, и из-за
этого насильственного действия Совет теряет в одно мгновение то,
что он незаконно присваивал в течение целого столетия.
* Об этом уже говорилось ранее.
468
Письма с Горы
Едва только все, как казалось, успокоилось, тотчас ввиду
нежелания примириться с такого рода поражением зреет новый
заговор*. Опять пришла пора браться за оружие, вмешиваются
соседние державы, и взаимные права, наконец, определены90.
В 1650 г. нижестоящие Советы вводят способ подсчета голосов,
который лучше прежнего, но не соответствует Эдиктам.
Генеральный Совет продолжает использовать прежний способ, из-за чего
вкрадывается множество злоупотреблений, и это продолжается на
протяжении пятидесяти с лишним лет, до тех пор пока гражданам
не приходит в голову пожаловаться на это нарушение и
потребовать введения подобного способа подсчета голосов в Совете,
членами которого они являются. В конце концов, они этого требуют; и
самое невероятное здесь то, что им в ответ на это преспокойно
возражают, отсылая их к тому же самому Эдикту, нарушаемому уже в
течение полувека91.
В 1707 г. одного гражданина противозаконно подвергают
тайному суду92, осуждают и расстреливают в тюрьме из аркебузы; другого
вешают на основании показания единственного и заведомого
лжесвидетеля93; третьего находят мертвым94. Все это остается без
последствий, и об этом станут говорить лишь в 1734 г., когда кто-то
пожелает запросить у магистрата сведения о гражданине,
расстрелянном из аркебузы тридцать лет тому назад.
В 1736 г. учреждаются уголовные суды без участия синдиков.
Среди царивших тогда беспорядков граждане, занятые столькими
иными делами, не могли думать обо всем сразу. В 1758 г. повторя-
* Речь шла о том, чтобы, соорудив ограду вокруг возвышения, на котором
расположена городская ратуша, превратить эту возвышенность в своего рода крепость,
дабы получить возможность поработить народ. Уже был приготовлен для этой
ограды лес, создан план оборонительных сооружений, высшим офицерам
гарнизона отданы соответствующие приказания, боеприпасы и оружие перевезены из
арсенала в городскую ратушу, на одном из отдаленных бульваров установлены
двадцать две пушки, еще несколько пушек тайно перевезены в другое место, —
одним словом, сделаны все приготовления к самому насильственному из всех
предприятий, без запроса мнения Советов, произведенного синдиком стражи и другими
магистратами, но всего этого оказалось недостаточно, когда все стало известно,
для того, чтобы добиться суда над виновными и даже для того, чтобы решительно
осудить их замысел. Более того, горожане, бывшие тогда хозяевами в городе,
позволили им беспрепятственно покинуть их убежище, не причинив им ни
малейшего вреда, не войдя в их дома, не потревожив их семьи, не тронув ничего из
принадлежащего им имущества. В любой другой стране народ стал бы убивать такого
рода заговорщиков и грабить их дома.
469
*-\.
Жан-Жак Руссо
ется тот же маневр; тот, кого это касается, намерен жаловаться; ему
не дают высказаться — и все затихает. В 1762 г. этот же маневр
повторяют снова *. Наконец, год спустя граждане обращаются с
жалобой. Но Совет отвечает: «Вы опоздали — такой обычай уже
установился».
В июне 1762 г. один гражданин, которого Совет возненавидел,
был опорочен в его протоколах, и приняли постановление о его
аресте вопреки самым определенным предписаниям Эдикта. Его
родные, потрясенные этим, подают прошение, чтобы их ознакомили
с постановлением, в ответ получают отказ, и все стихает. Прождав
год, опороченный гражданин, видя, что никто не протестует,
отказывается от своего права гражданства. Горожане открывают,
наконец, глаза и восстают против нарушения закона; но слишком
поздно.
Более памятным по своему характеру случаем, хотя речь шла
о самом незначительном событии, явился тот, который произошел
с господином Бардэном. Один книготорговец заказывает своему
корреспонденту экземпляры новой книги; до того как эти
экземпляры прибыли, книга была запрещена. Книготорговец извещает
магистрата о своем заказе и спрашивает, что ему делать. Ему
приказывают сообщить, когда эти экземпляры прибудут. Они
прибывают, он об этом сообщает, и их у него изымают. Он ожидает, чтобы
* И по какому же случаю! Вот государственная инквизиция, при виде которой
бросает в дрожь. Можно ли себе представить, чтобы в свободной стране в
уголовном порядке наказали какого-либо гражданина за то, что в своем письме к другому
гражданину, которое не было напечатано, он рассуждал в пристойных и
умеренных выражениях о поведении магистрата по отношению к третьему гражданину?
Найдете ли вы примеры подобного насилия в странах с правлением самым
неограниченным? При отставке г-на де Силуэтта я написал ему письмо, и оно обошло
весь Париж. Это письмо отличалось смелостью, достойной, как я сам считаю,
порицания; это, может быть, единственная вещь, достойная порицания, какую я
когда-либо написал в своей жизни. Однако разве мне хоть слово сказали на этот счет?
Ооб этом даже никто и не помышлял. Во Франции за пасквили наказывают, и это
очень хорошо, но предоставляют частным лицам достаточную свободу
рассуждать между собою об общественных делах; и это неслыханное дело, когда кого-
либо преследуют за то, что он в письмах, оставшихся в рукописях, высказал свое
мнение не в сатирическом и не в оскорбительном тоне по поводу того, что
творится в судах. После того как я был столь большим сторонником республиканского
образа правления, придется ли мне на старости лет изменить свое мнение и
считать, что, в конечном счете, подлинной свободы больше при монархиях, чем в
наших республиках?
470
Письма с Горы
книги ему возвратили или оплатили; но ни того, ни другого не
делают. Он снова их требует, но их ему не возвращают. Он подает
прошение о том, чтобы книги были отосланы обратно, возвращены
ему или оплачены, но во всем этом ему отказывают. Он теряет свои
книги; а ведь те, кто задержал их, суть должностные лица, на
которых возложена обязанность наказывать за воровство!
Хорошенько взвесив все эти обстоятельства, я сомневаюсь,
чтобы можно было найти другой подобный пример в действиях
какого-либо парламента, сената, совета, дивана или некоего суда. Если
бы пожелали посягнуть на право собственности без малейшей на то
причины или повода, вплоть до самого его основания, то не смогли
бы сделать это более открыто. Однако это дело свершилось, и все
молчали; и не будь более серьезных притеснений, об этом никогда
бы не заговорили. А сколько других дел осталось неизвестными из-
за того, что не представилось случая пролить на них свет?!
Если предыдущий пример малозначителен сам по себе, то вот
другой, совсем иного рода. Еще немного внимания, сударь, к этому
делу, и я не стану говорить обо всех остальных, которые я мог бы
упомянуть.
20 ноября 1763 г. на Генеральном Совете, собравшемся для
избрания Лейтенанта и Казначея, граждане замечают различие
между имеющимся у них напечатанным текстом Эдикта и рукописным,
тем, что зачитывает им Государственный секретарь, различие,
заключающееся в том, что выборы Казначея должны согласно
первому тексту производиться одновременно с избранием синдиков,
а согласно второму — одновременно с избранием Лейтенанта. Они
замечают, кроме того, что выборы Казначея, которые согласно
Эдикту должны проводиться каждые три года, согласно обычаю
следует производить лишь раз в шесть лет, и по истечении трех лет
довольствуются тем, что предлагают утвердить того, кто в
настоящее время занимает эту должность.
Эти разночтения в тексте закона между рукописью в Совете и
напечатанным текстом Эдикта, до того времени никем не
замеченные, заставили обратить внимание на другие, вызвавшие сомнения
относительно других частей текста. Несмотря на то что опыт
показывает гражданам бесполезность даже самых обоснованных
Представлений, они, тем не менее, по тому же поводу подают их опять,
прося о том, чтобы оригинал текста Эдиктов был передан на хране-
471
*\.
Жан-Жак Руссо
ние в Канцелярию или в любое другое публичное место, на выбор
Совета, где можно было бы сравнивать этот текст с напечатанным.
Однако вы помните, сударь, что в статье 42 Эдикта 1738 г.
сказано, что как можно скорее следует напечатать общий свод законов
государства, содержащий все Эдикты и Уставы. По прошествии
двадцати шести лет об этом своде и речи не идет, а граждане хранят
молчание!
Вы должны еще вспомнить, что в памятной записке,
напечатанной в 1745 г., один исключенный член Совета Двухсот подверг
обоснованному сомнению точность текста Эдиктов, напечатанных
в 1713 г. и перепечатанных в 1735 г., во времена, одинаково
способные навести на подобного рода подозрения. Он говорит, что
сличил с рукописными текстами имеющиеся у него напечатанные
тексты Эдиктов, и утверждает, что нашел в них много ошибок,
которые и отметил; и он приводит подлинные выражения Эдикта
1556 г., полностью опущенные в напечатанном тексте. На эти столь
серьезные обвинения Совет ничего не ответил; и граждане хранили
молчание! *
Согласимся, если вам угодно, с тем, что достоинство Совета не
позволяло ему тогда ответить на обвинения лица, исключенного из
его состава. Но это же самое достоинство, опороченная честь,
подозрения относительно точности текстов требовали теперь проверки,
необходимой в силу многих причин, которой были вправе
добиваться те, кто ее требовал.
Ничего подобного. Малый Совет оправдывает изменение,
введенное установившимся обычаем вопреки Эдикту. Генеральный
Совет, не воспротивившийся этому в самом начале, больше не
вправе противиться теперь.
Он объясняет различие между рукописью Совета и
напечатанным текстом тем, что эта рукопись является сборником Эдиктов
* Какое извинение, какой предлог можно отыскать, чтобы не соблюдать столь
определенную и важную статью? Понять это невозможно. Когда случайно об этом
скажешь в разговоре с какими-нибудь магистратами, они холодно отвечают:
«Каждый отдельный Эдикт напечатан; соберите их». Как будто можно быть
уверенным, что все было напечатано, или как будто сборник таких бумажек
представляет собой полный сборник законов, общий свод, отвечающий требованиям
подлинности в согласии со статьей 42! Вот каким образом эти господа выполняют
столь определенное обязательство! Какие ужасные последствия могут иметь
подобные упущения!
472
Письма с Горы
с теми изменениями, которые допускаются на практике и на
которые дал молчаливое согласие Генеральный Совет, тогда как
напечатанный текст является сборником тех же Эдиктов в том виде, в
каком они были приняты Генеральным Советом.
Также установившимся обычаем Малый Совет оправдывает
и утверждение в должности Казначея противно Эдикту, где сказано,
что его следует переизбирать. Нет ни одного нарушения Эдиктов,
замеченного гражданами, которого он не оправдывал бы наличием
прежних нарушений. Нет ни одной жалобы со стороны граждан,
которой он бы не отверг, ставя им в упрек то, что они не
пожаловались раньше.
А что касается сообщения им подлинного текста законов, то
в этом им определенно отказано *: либо на том основании, что «сие
противно правилам», либо потому, что граждане и горожане «не
должны знать иного текста законов, кроме напечатанного», хотя
Малый Совет придерживается иного текста и велит соблюдать
последний и в Генеральном Совете **.
Таким образом, можно сказать, что противно правилам, когда
тому, кто заключил какую-либо сделку, не следует выдавать на руки
подлинник, удостоверяющий ее в случае, если расхождения в
копиях дают ему основание сомневаться в их достоверности и
правильности; и можно сказать, что считается правильным наличие двух
* Эти столь резкие и столь определенные отказы на все самые умеренные и самые
справедливые Представления кажутся мало правдоподобными. Невозможно себе
представить, чтобы Женевский совет, состоящий в большей части из людей
просвещенных и рассудительных, не чувствовал отвращения и ужаса при виде позора
от того, как свободным людям, членам законодательного организма, отказывают
в предоставлении подлинного текста законов и сеют, таким образом, словно
намеренно, подозрения, когда видят таинственность и непроницаемость завесы,
которой постоянно окружают этот текст. Я склонен думать, что эти отказы стоят ему
недешево, но что он взял себе за правило уничтожить обычай Представлений
путем неизменно отрицательных ответов. В самом деле, не следует ли
предположить, что самые терпеливые люди откажутся от мысли просить о чем-либо, если
им постоянно отказывают? Прибавьте к этому предложение, уже сделанное в
Совете Двухсот, возбудить преследование против авторов последних Представлений
за то, что они воспользовались правом, предоставленным им законом. Кто
отныне пожелает подвергнуть себя опасности предстать перед судом за действия,
которые, как это заранее известно, останутся безуспешными? Если в этом состоит
замысел Малого Совета, то нужно признать, что он следует ему весьма исправно.
** Извлечение из реестров Совета от 7 декабря 1763 года в ответ на устные
Представления, сделанные 21 ноября шестью гражданами или горожанами.
473
«■\.
Жан-Жак Руссо
различных записей одних и тех же законов: одного текста для
частных лиц, а другого — для правительства! Слыхали ли вы когда-
нибудь о чем-либо подобном?! И, однако, перед лицом этих
запоздалых открытий, перед лицом всех этих возмутительных отказов
граждане, которым было отказано в их самых законных
требованиях, молчат, ждут и бездействуют!
Вот, сударь, каковы общеизвестные события, совершающиеся
в вашем городе, и все они лучше известны вам, чем мне. Я бы мог
добавить еще сотню других, не считая тех, которые ускользнули от
моего внимания. Но и этих фактов уже достаточно, чтобы судить,
являются ли или являлись ли когда-нибудь горожане Женевы, я не
скажу людьми беспокойными и бунтарями, но людьми
бдительными, внимательными, с легкостью поднимающимися на защиту
своих самых бесспорных прав, попираемых самым явным образом.
Нам говорят, что «нация живая, изобретательная и весьма
ревниво следящая за соблюдением своих политических прав крайне
нуждается в том, чтобы ее правительство обладало полномочием
давать отрицательный ответ». Уяснив себе, в чем состоит это
полномочие, можно поначалу согласиться с его наличием. Но разве его
должно осуществлять по отношению к вам? Разве вы позабыли, что
в иных странах вас считают более хладнокровными, чем остальные
народы? И как можно утверждать, будто народ Женевы весьма
ревниво следит за соблюдением своих политических прав, тогда как
видно, что он следит за их соблюдением всегда с запозданием,
проявляет к ним пренебрежение и вспоминает о них только тогда,
когда к этому вынуждает самая неминуемая опасность? Так что только
от Совета зависит, чтобы горожане совершенно не следили за
соблюдением своих прав, если только на эти права не станут весьма
грубо посягать.
Сравним на минуту обе партии, дабы иметь возможность судить
о том, чьих действий следует больше опасаться и какой из них
нужно предоставить право умерить подобные действия.
С одной стороны, я вижу народ весьма немногочисленный,
миролюбивый и хладнокровный, состоящий из людей трудолюбивых,
падких на барыш, ради собственной выгоды вполне послушных
законам и их служителям, занятых своею торговлей или своими
ремеслами. Все они, равные в правах и мало отличающиеся по своему
имущественному положению, не имеют в своей среде ни начальни-
474
Письма с Горы
ков, ни подчиненных; они, занятые своей торговлей, в силу своего
положения, наличия имущества попали в большую зависимость от
магистрата и потому должны с ним считаться; все они опасаются
вызвать его неудовольствие; если у них возникает желание
вмешиваться в общественные дела, то это всегда случается во вред их
собственным. Отвлекающиеся, с одной стороны, на цели,
составляющие большую выгоду для их семей, с другой стороны,
сдерживаемые соображениями осторожности и повседневным опытом,
который учит их, насколько в столь малом государстве, как ваше, где
всякое частное лицо находится постоянно на виду у Совета, опасно
оскорблять власть, — они имеют самые серьезные основания
жертвовать всем ради мира. Ибо они в состоянии процветать только
благодаря миру; и при этом положении вещей каждый, сбитый
с толку погоней за частной выгодой, предпочитает свободе
покровительство и угождает Совету ради собственного блага.
С другой же стороны я вижу в маленьком городе, дела которого,
в сущности, очень незначительны, независимый и постоянный
организм магистратов, почти не занятый делом в силу своего
положения, а занятый только тем, что стремится к самой большой
и вполне естественной выгоде для тех, кто повелевает, т. е.
неустанным укреплением своего могущества. Ибо честолюбие, так же как
и скупость, питается своими успехами; и чем больше кто-либо
увеличивает свои возможности, тем больше его снедает желание
достичь всего. Этот организм, стремясь постоянно подчеркивать едва
заметную разницу между своими членами и прочими людьми,
равными им по рождению, считает их только людьми, стоящими ниже
его, и горит желанием видеть в них своих подданных. Взяв на
вооружение государственную власть, блюститель всякой власти, тот,
кто толкует законы или освобождает из-под их действия, когда они
его стесняют, превращает их в наступательное и оборонительное
оружие95, становясь грозным, почитаемым и священным для всех
тех, на кого он пожелает обрушить свой гнев. От имени закона он
может безнаказанно нарушать закон, покушаться на
государственный строй, делая вид, что его защищает; он может наказывать, как
бунтовщика, всякого, кто в действительности осмеливается его
защищать. Любые предприятия этого организма становятся легкими;
он не оставляет никому права проведать о них или
воспрепятствовать их исполнению. Он может действовать, устанавливать
отсрочки, отстранять от должности, соблазнять, запугивать, наказывать
475
«~v.
Жан-Жак Руссо
тех, кто ему сопротивляется; и если он снисходит до указания на
какой-либо предлог, так больше для соблюдения приличий,
нежели в силу необходимости. У него, следовательно, есть желание
расширить свою власть, и он располагает средством достичь всего того,
что желает.
Таково взаимное положение Малого Совета и горожан Женевы.
Кто же из них, Малый Совет или горожане, следует наделить
правом давать отрицательный ответ, чтобы помешать предприятиям
другого? Автор «Писем» уверяет, что Малый Совет.
В большинстве государств внутренние беспорядки производит
дошедшая до скотского состояния тупая чернь, поначалу
подстегиваемая невыносимыми притеснениями, а затем тайно
подстрекаемая ловкими смутьянами, облеченными какой-либо властью,
которую они желают увеличить. Но можно ли вообразить что-либо
более ложное, чем подобное представление о горожанах Женевы,
по крайней мере в отношении той их части, что противостоит
власти, добиваясь соблюдения законов. Во все времена эта часть всегда
была промежуточным разрядом, находящимся между богатыми
и бедными, между правителями государства и чернью. Этот разряд,
состоящий из людей, примерно равных по своему достатку,
положению и образованию, занимает недостаточно высокое место,
чтобы иметь какие-либо притязания, и недостаточно низко, чтобы ему
нечего было терять. Их главная и общая для всех выгода
заключается в соблюдении законов, уважении к магистратам, сохранении
государственного строя и покоя в государстве. Ни один человек
в этом разряде не получает никакого превосходства над другими,
получая возможность воспользоваться этим ради своей частной
выгоды. Это наиболее здоровая часть республики, единственная,
относительно которой можно с уверенностью сказать, что она не
ставит перед собой ийой цели, кроме блага всех. Поэтому всегда
можно наблюдать в их общих выступлениях благопристойность,
скромность, почтительную твердость, известную степенность
людей, чувствующих, что право на их стороне и что они выполняют
свой долг. Напротив, посмотрите, на кого опирается другая часть: на
людей, утопающих в роскоши, и на самый подлый люд. Не в
промежутке ли между этими двумя крайними разрядами, один из
которых словно создан для того, чтобы подкупать, а другой — чтобы
продавать себя, нужно искать любовь к справедливости и к законам?
Из-за таких людей всегда и вырождается государство: богатый дер-
476
Письма с Горы
жит закон в своем кошельке, а бедный предпочитает хлеб свободе.
Достаточно сравнить эти две партии, чтобы иметь возможность
судить, которая из них должна первой посягнуть на законы. И в
самом деле, посмотрите на протяжении вашей истории: не исходили
ли все заговоры всегда от магистратуры и не прибегали ли граждане
к насилию только тогда, когда это было необходимо с целью
оградить себя от него?
Несомненно, это только шутка, когда, говоря о последствиях
применения права, требуемого вашими согражданами, вам изображают
государство, ставшее жертвой происков, подкупа, жертвой первого
встречного96. Такого рода полномочие давать отрицательный ответ,
которым желает обладать Совет, было неизвестно до сего времени;
но какие же беды случились от этого? Однако ужасные беды
произошли бы, если бы он не пожелал настаивать на признании за собой
этого права, столкнувшись с притязаниями горожан на
пользование подобным правом. Обратите довод, основанный на
двухсотлетнем процветании, против Совета, и что же тогда вам ответят? Это
правление, скажете вы, прошедшее испытание временем,
опирающееся на столь многие писаные акты, узаконенное столь давним
обычаем, возвеличенное успехами, правление, при котором право
Советов давать отрицательный ответ вовсе не было известно, — не
лучше ли оно того другого, самовластного правления с пока
незнакомыми свойствами, ведь неизвестно, как оно отразится на нашем
благоденствии, но относительно которого разум подсказывает, что
оно лишь ввергает нас в пучину несчастья?
Предполагать, что все злоупотребления существуют лишь в
партии, на которую обрушиваются, а в своей партии какие-либо
злоупотребления отсутствуют — это весьма грубый и весьма обычный
софизм, а его-то должен остерегаться всякий разумный человек.
Следует предполагать наличие злоупотреблений как с той, так
и с другой стороны, потому что они коренятся повсюду; но это не
означает, что они одинаковы по своим последствиям. Всякое
злоупотребление — это зло, часто неизбежное, из-за которого не нужно
упразднять то, что хорошо само по себе. Но сравните, и вы
обнаружите, с одной стороны, беды несомненные, беды ужасные, без
конца и без края, а с другой — злоупотребление, хотя и значительное,
но преходящее, и если оно и имеет место, то заключает в себе и
средство от него избавиться. Ибо, скажу еще раз, свобода может
существовать только при соблюдении законов или общей воли; а общей
477
«^
Жан-Жак Руссо
воле так же не свойственно причинять вред всем, как воле частной
вредить самой себе. Но, предположим, что это злоупотребление
свободой столь же естественно, как и злоупотребление властью.
Однако всегда существует различие между тем и другим в том, что
злоупотребление свободой обращается во вред народу, ею
злоупотребляющему, и, оно есть наказание за совершенную им ошибку,
вынуждающее его искать средства ее исправить. Таким образом, с этой
стороны зло всегда существует только в переломное время, оно не
превратится в постоянное положение; тогда как злоупотребление
властью, всегда обращаясь во вред не сильному, а слабому, не имеет
по своей природе ни меры, ни узды, ни пределов: оно прекращается
лишь после уничтожения того, кто только и страдает от такого
злоупотребления. Скажем, следовательно, что правительство
неизбежно должно находиться в руках малого числа лиц, а право надзора за
ним принадлежало всему народу, и если злоупотребление
неизбежно как с одной, так и с другой стороны, то все же лучше, если народ
окажется несчастным по своей вине, чем под гнетом власти некоего
постороннего лица.
Первая и самая главная выгода всего народа неизменно состоит
в том, чтобы соблюдалось правосудие. Все желают, чтобы условия
были одинаковы для всех, а правосудие и есть такое равенство.
Гражданин желает только того, чтобы существовали и соблюдались
законы. Каждое частное лицо из народа хорошо знает, что, если
исключения и бывают, то они не в его пользу. Таким образом, все
опасаются изъятий из правил, а кто их опасается — тот любит
закон. С правителями же дело обстоит совершенно иначе: само их
положение является привилегированным; и они повсюду ищут для
себя привилегий *. Если они желают иметь законы, так не для того,
чтобы им повиноваться, а для того, чтобы властвовать над ними.
* Справедливость в народе является добродетелью, присущей его положению
точно так же, как насилие и тирания у правителей есть порок, свойственный их
положению. Если бы мы, частные лица, оказались на их месте, то мы сделались
бы, подобно им, насильниками, захватчиками, людьми, творящими беззаконие.
Поэтому когда магистраты начинают нам расхваливать свою честность,
умеренность, справедливость, они нас обманывают, поскольку таким образом хотят
завоевать наше доверие, которое мы им не обязаны оказывать. Не то чтобы они не
обладали каждый в отдельности добродетелями, коими они чванятся; но в этом
случае они становятся изъятием из правил, а закон никак не должен принимать
во внимание то, что является исключением.
478
Письма с Горы
Они желают иметь законы, дабы занять их место и внушить страх
к себе, пользуясь их именем. Все им благоприятствует в
осуществлении этого замысла: они пользуются правами, которыми
обладают, с целью присвоить себе без опасений те права, которыми пока
не обладают. Поскольку они всегда говорят от имени закона, даже
его нарушая, тот, кто осмеливается защищать от них закон,
считается бунтовщиком, мятежником и обречен на погибель. Они же
всегда уверены в безнаказанности своих предприятий, и самое худшее,
что с ними может случиться, это то, что они не преуспеют в
осуществлении своих планов. Если они нуждаются в поддержке, то
повсюду ее находят. Объединение сильных есть явление естественное;
а слабость слабых состоит в том, что они не смогут объединиться,
следуя примеру первых. Такова уж участь народа: как внутри, так
и вовне его судьями оказываются тяжущиеся с ним стороны. Ему
повезло, если среди них ему удастся найти судей, в достаточной
мере справедливых, способных защищать его вопреки усвоенным ими
правилам, вопреки столь свойственной человеческому сердцу
склонности получить преимущества и способствовать достижению
выгоды, похожей на нашу собственную. Сами того не ожидая, вы
уже обладаете этим преимуществом: когда они согласились на
посредничество, то сочли, что вас раздавят. Но вы получили
просвещенных и твердых защитников, неподкупных и великодушных
посредников, и тогда справедливость и истина восторжествовали.
Если бы вам посчастливилось так еще раз! Тогда на вашу долю
выпало бы очень редкое счастье, но ваши угнетатели, по-видимому,
почти что не опасаются этого!
Обрисовав вам все воображаемые беды, могущие произойти из-
за применения права, столь же древнего, как и ваш
государственный строй, права, которое никогда не причиняло никаких бед,
скрывают и отрицают беды, порождаемые присвоенным себе новым
правом, а эти беды ощущаются уже сейчас. Признавая по
необходимости, что правительство может злоупотреблять правом давать
отрицательный ответ вплоть до самой невыносимой тирании,
утверждают, что не произойдет того, что происходит, и выдают за нечто
невероятное происходящее сейчас на ваших глазах. Осмеливаются
утверждать, что никто не скажет, будто нынешнее правительство
отнюдь не отличается справедливостью и мягкостью; и заметьте,
что это говорится в ответ на Представления, в которых содержатся
жалобы на несправедливости и насилия нынешнего правительства.
479
*\
Жан-Жак Руссо
Вот что можно назвать поистине прекрасным стилем: это
красноречие Перикла, который, потерпев поражение в борьбе с Фуки-
дидом, доказывал слушателям, что, наоборот, он над ним одержал
победу.
Таким образом, завладевая без всякого на то повода чужим
имуществом, заключая в тюрьмы без оснований невиновных, пороча,
не выслушав, одного гражданина, незаконно осуждая другого,
защищая непристойные книги, сжигая те, которые проникнуты
добродетелью, преследуя их авторов, утаивая подлинный текст
законов, отказывая в удовлетворении самых справедливых требований,
проявляя самый жестокий деспотизм, попирая свободу, которую
они должны были бы защищать, угнетая отечество, которому они
должны были бы быть отцами, эти господа сами себя расхваливают
за великую справедливость выносимых ими приговоров; они
приходят в восторг от мягкости своего управления; они смело
утверждают, что все с ними в этом согласны. Однако я весьма сомневаюсь,
чтобы таково было также и ваше мнение, и я убежден, по крайней
мере, в том, что сторонники Представлений так не думают.
Пусть соображения частной выгоды не делают меня
несправедливым. Из всех наших склонностей это та, которой я наиболее
остерегаюсь, и я полагаю, что не дал ей ни в коей мере повод мной
овладеть. Ваш магистрат справедлив в вопросах, не имеющих для
него значения; я думаю даже, что он склонен всегда быть
справедливым; должности у него малодоходные; он осуществляет
правосудие, а отнюдь не торгует им; он лично неподкупен, бескорыстен,
и я знаю, что в столь деспотическом Совете царят еще прямодушие
и добродетели. Указывая вам на последствия применения права
давать отрицательный ответ, я в меньшей мере говорил вам о том, что
магистраты станут делать, став носителями верховной власти, чем
о том, что они продолжат делать, дабы стать носителями такой
власти. Как только их признают таковыми, им станет выгодно всегда
соблюдать справедливость; и уже сейчас их выгода чаще всего
состоит именно в этом. Но горе всякому, кто осмелится призывать на
помощь еще и законы и требовать свободы! Против этих
несчастных все становится дозволенным и законным. Справедливость,
добродетель, даже личная выгода никак не смогут устоять перед
желанием господствовать; и тот, кто будет справедлив, став
господином, не останавливается ни перед какой несправедливостью на
пути к тому, чтобы им стать.
480
Письма с Горы
-^»
Настоящую дорогу к тирании открывают отнюдь не явные
покушения на свободу: действовать так означало бы поднять всех на ее
защиту, но в том, чтобы последовательно нападать на всех его
защитников и запугивать всякого, кто посмел бы всего-навсего
пожелать стать его защитником. Внушите всем, что выгода всего народа
не является выгодой какого-либо лица в отдельности, и уже в силу
одного этого будет установлено рабство, ибо, когда каждый
окажется в ярме, где же окажется свобода для всех? Если кто-либо,
осмеливаясь заговорить, будет тотчас же раздавлен, кто же пожелает
ему подражать? И кто же станет голосом этой общности, когда
всякая личность в отдельности сохранит молчание? Правительство
будет жестоко преследовать тех, кто станет проявлять рвение, и будет
справедливо по отношению к остальным до тех пор, пока не сможет
безнаказанно творить несправедливость по отношению ко всем.
Тогда справедливость правительства обернется уже
расчетливостью, дабы без повода не расточать свое собственное достояние.
Следовательно, Совет в известном отношении справедлив и
должен быть таковым ради собственной выгоды, но в ином отношении:
он усвоил некие взгляды, проявляя чрезмерную несправедливость,
и тысячи примеров должны были вас научить, насколько слабой
защитой от ненависти магистрата являются законы97. Что же
произойдет, когда, став единственным, безраздельным господином
в силу своего права давать отрицательный ответ, он ничем не будет
стеснен в своих действиях и его пристрастия не встретят никаких
преград? В столь малом государстве, где никто не может скрыться
в толпе, кто же тогда не будет пребывать в постоянном страхе и
ежеминутно не ощутит несчастье, имея господ из числа равных себе?
В больших государствах частные лица слишком далеко отстоят от
своего государя и правителей, чтобы те могли за ними наблюдать;
униженное положение для них — спасение; и если народ платит, то
его оставляют в покое. Но вы не сможете сделать ни единого шага,
не ощутив тяжести ваших оков. Родственники, друзья,
покровительствуемые лица, шпионы ваших господ станут в еще большей
степени вашими господами, чем они сами; вы не посмеете ни защитить
свои права, ни требовать того, что вам принадлежит, из страха
нажить себе врагов; самые темные тайники не скроют вас от тирании;
неизбежно придется стать либо ее приверженцем, либо ее жертвой.
Вы ощутите и политическое рабство, и рабство гражданское; едва ли
вы осмелитесь свободно дышать. Вот, сударь, к чему естественным
16 3ак. 3436
481
*^.
Жан-Жак Руссо
образом приведет пользование правом давать отрицательный
ответ в том виде, в каком его присваивает себе Совет. Я не думаю,
чтобы он пожелал применить его столь пагубным для вас образом,
но он, несомненно, может это сделать; и одна уверенность, что он
может быть безнаказанно несправедлив, заставит вас испытать те же
муки, как если бы он в действительности стал таковым.
Я объяснил вам, сударь, положение вашего государственного
строя таким, каким оно мне представляется. Из сказанного мною
следует, что этот строй в целом хорош и прочен и что, ограничивая
свободу необходимыми для нее пределами, он в то же самое время
упрочивает ее в той мере, в какой это только возможно. Ибо из того,
что правительство обладает правом давать отрицательный ответ,
направленным против нововведений законодателя, а народ —
сходным правом в противовес присвоению власти Советом, следует, что
царят только законы, и они царят над всеми. Первый человек в
государстве подчинен им в той же мере, что и последний, никто не
может их нарушать, никакие соображения частной выгоды не могут
их изменять, и государственный строй остается незыблемым.
Но если, напротив, служители законов становятся единственной
властью над ними и могут заставлять их говорить или молчать по
своему усмотрению, если право подачи Представлений, эта
единственная порука законов и свободы, есть лишь призрачное и
ничтожное право, ни в коем случае не наделенное какой-либо силой,
то я не вижу рабства, способного сравниться с вашим. И тогда ваше
представление о свободе — лишь презренный и ребяческий обман,
на который непристойно даже обращать внимание
здравомыслящих людей. Для чего тогда нужно созывать законодателя, раз воля
Совета — единственный закон? Для чего нужно торжественное
избрание магистратов, уже заранее ставших вашими судьями и
получивших от этого избрания власть, которую они осуществляли и до
этого? Подчинитесь добровольно и откажитесь от этих детских игр,
которые, превратившись в пустую трату времени, только лишний
раз унижают вас.
Это положение, наихудшее из тех, в какое только можно попасть,
имеет только одно преимущество — оно может измениться лишь
к лучшему. Это единственный способ выбраться из пучины
бедствий; но это средство всегда действенно, когда люди, наделенные
умом и сердцем, о нем знают и умеют им воспользоваться. Пусть
в ваших поступках вас укрепляет уверенность в том, что нельзя
482
Письма с Горы
пасть ниже, чем вы пали! Но будьте уверены, что вам не удастся
выбраться из пропасти до тех пор, пока меж вами существуют
разногласия, до тех пор, пока одни желают действовать, а другие —
пребывать в покое.
Вот, сударь, я и дошел до конца этих «Писем». Объяснив вам
положение, в котором вы находитесь, я не стану вам указывать путь,
по которому вам нужно идти, чтобы из него выбраться. Если такой
путь существует, то вы и ваши сограждане на месте сможете лучше
его увидеть, чем я. Если знаешь, где находишься и куда должен
идти, то можешь двигаться без всяких затруднений.
Автор «Писем» утверждает, что «если в каком-либо
правительстве замечается склонность к насилию, то не нужно ждать того
момента, когда в нем укрепится тирания, дабы его образумить».
К сказанному он добавляет, предполагая случай, который считает,
в сущности, призрачным, что «остается еще одно печальное, но
законное средство, к которому можно было бы прибегнуть в этом
крайнем случае, как прибегают к хирургической операции при
появлении гангрены» *. Я как раз и рассмотрел, можно ли
предположить, что ваше положение является таким призрачным случаем.
Следовательно, мой совет вам здесь больше не нужен, автор
«Писем» дал вам его за меня. Все средства протеста против
несправедливости дозволены, пока они остаются миролюбивыми; а тем более
дозволены те, что разрешены законами.
Когда законы нарушаются в отдельных случаях, вы можете
прибегать к вашему праву подавать Представления. Но когда
оспаривается само это право, следует прибегнуть к помощи посредников.
Я не включил ее в число средств, могущих сделать любое
Представление действенным. Сами посредники не пожелали этого сделать;
они заявили, что нисколько не стремились посягать на
независимость государства, ибо тогда они положили бы, так сказать, ключ
к правлению в свой карман. Таким образом, в отдельных случаях
вследствие отклонения Представлений можно созвать
Генеральный Совет, но непризнание самого права на их подачу, по-видимо-
* Следствием применения подобных правил стало бы учреждение суда
посредничества, находящегося в Женеве и занимающегося разбором дел о нарушениях
законов. В результате деятельности этого суда суверенитет республики оказался бы
вскоре уничтожен, но свобода граждан оказалась бы обеспечена гораздо лучше,
чем в случае отмены права на Представления. Однако быть сувереном лишь по
названию значит не много, а быть свободным на деле значит многое.
483
*^^
Жан-Жак Руссо
му, дает основание прибегнуть к помощи посредников.
Необходимо, чтобы машина заключала в самой себе все рычаги, приводящие
ее в действие, но когда она остановилась, надо звать рабочего,
чтобы он ее исправил.
Я слишком хорошо понимаю, к чему ведет использование
подобного средства, и я чувствую, как сжимается при виде этого мое
сердце патриота. Потому, повторяю, я не предлагаю вам ничего; да
и что я посмею вам сказать? Совещайтесь с вашими согражданами
и подсчитывайте голоса только после того, как вы их взвесите.
Опасайтесь беспокойной молодежи, наглого богатства и продажной
нищеты; от них нельзя ожидать никакого спасительного совета.
Советуйтесь с теми, кого порядочность, умеренный достаток
ограждают от соблазнов честолюбия и от нищеты; с теми, чья почтенная
старость венчает безупречную жизнь; с теми, кого долгий опыт
научил разбираться в общественных делах; с теми, кто, не питая
честолюбивых замыслов, заключающихся в стремлении играть видную
роль в государстве, довольствуется положением его граждан;
наконец, с теми, кто, не преследуя никогда в своих поступках иной цели,
кроме блага отечества и сохранения законов, заслужил своими
добродетелями уважение общества и доверие людей, им равных.
Но главное — объединяйтесь все! Вы неминуемо погибнете, если
между вами останется рознь. И к чему вам рознь, когда вас
объединяет столь значительная общая выгода? Как при подобной
опасности осмеливаются возвысить голос низкая зависть и мелкие
пристрастия? Стоят ли они того, чтобы им потакали столь дорогой ценой,
и нужно ли, чтобы вашим детям когда-нибудь пришлось сказать,
оплакивая свои оковы: «Вот плоды разногласий наших отцов»?
Одним словом, здесь важно не столько обсуждать, сколько достичь
взаимопонимания. Выбор решения, которое вы примете, — это не
самое важное дело; пуйъ оно будет само по себе плохим, но
принимайте его все вместе. Уже только по одному этому оно станет
наилучшим, и вы всегда сделаете то, что нужно сделать, если вы это
сделаете сообща. Вот мое мнение, сударь, и я заканчиваю тем, с чего
начал. Повинуясь вам, я выполнил свой последний долг перед
отечеством. Теперь я прощаюсь с теми, кто в нем живет. Они больше
не смогут мне сделать ничего дурного, а я уже больше не могу
сделать для них ничего хорошего.
СООБРАЖЕНИЯ
ОБ ОБРАЗЕ ПРАВЛЕНИЯ В ПОЛЬШЕ
И О ПЛАНЕ ЕГО ПЕРЕУСТРОЙСТВА,
СОСТАВЛЕННОМ В АПРЕЛЕ 1771 г.
С. В. Занин
ПРОЕКТ РЕФОРМЫ
ПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВА
Проект реформ Польского государства является, по общему
мнению исследователей, венцом политического творчества Руссо. По
сути дела это — единственный завершенный и в деталях
разработанный проект. Он создавался в сложной исторической обстановке
борьбы правительства Станислава-Августа Понятовского с
провозглашенной в 1768 г. Барской конфедерацией. Общеизвестно, что
события, связанные с борьбой Екатерины II с Барской
конфедерацией, привлекали пристальное внимание французских просветителей.
Существуют фундаментальные исследования, посвященные
взаимоотношениям аббата Мабли и Руссо с польскими аристократами,
в частности с их предводителями в лице графа Михаила Виельгор-
ского и князя Игнация Масальского, которые в острый период этой
борьбы стремились получить, если можно так выразиться,
интеллектуальную помощь от признанных корифеев политической
науки Европы. «Польский вопрос» произвел раскол в среде
просветителей. Активную агитацию в пользу Екатерины вел Ф.-М. Гримм,
который уже в начале 70-х гг. начинал превращаться, по образному
выражению профессора Сорбонны Жана Фабра, «из
второстепенного литератора в третьестепенного дипломата».
Французский исследователь Амбруаз Жобер в монографии,
специально посвященной вопросу о связях между Барской
конфедерацией и просветителями, показал, что прибывший в начале лета
1770 г. в Париж граф Михаил Виельгорский (1716—1802), эмиссар
Конфедератов, очень быстро вошел в контакт с физиократами, а
также с Руссо и аббатом Мабли. Со своей стороны активность проявил
и епископ Вильны Игнаций Масальский, который связался с
маркизом Мирабо благодаря посредничеству хозяйки одного из
литературных салонов Парижа мадам Жоффрен. «Польский вопрос»
487
*^ч С. В. Занин
вызвал живейшую реакцию физиократов. Аббат Бодо в органе
физиократов «Эфемериды гражданина» опубликовал серию статей,
посвященных Польше. Свои отклики на положение в Польше
написали крупнейшие физиократы Дюпон де Немур, Ф. Кенэ, Ле Мерсье де
Ла Ривьер1. Однако рассуждения физиократов, адептов «великой
науки», не удовлетворили польских магнатов. Как показал Ж. Фабр,
М. Виельгорский познакомил с их записками сначала аббата Маб-
ли, а потом Руссо, который подверг их в совокупности резкой
критике в своих «Соображениях об образе правления в Польше»2. При
этом Виельгорского нимало не смущала просьба авторов записок
сохранять конфиденциальность. Результатом было то, что все они
в той или иной мере стали достоянием «Литературной
корреспонденции» Гримма, а значит, и государей, которые в 1772 г., по
словам Екатерины II, «взяли немного» от Польского государства.
Подобное поведение, по моему мнению, следовало отнести не столько
на счет «нескромности» графа Виельгорского, сколько на счет
сложности политической обстановки, в которой оказались активисты
Барской конфедерации. Слабость и дезорганизация в рядах
конфедератов вынуждали их искать компромиссного решения проблемы
реформы, и, будучи не в силах последовательно провести в жизнь
ни один из написанных для них проектов, они искали «золотую
середину» между либеральным маркизом Мирабо, умеренным
демократом аббатом Мабли и радикалом Руссо.
Конфедераты вынуждены были бежать осенью 1771 г. из
Польши и искать примирения со Станиславом-Августом Понятовским,
пользуясь поддержкой мадам Жоффрен3. В 1772 г. в связи с
вступлением русских войск в Польшу король Станислав-Август, как
показал Ж. Фабр, и сам не прочь был принять предложения реформ,
написанные просветителями для Барской конфедерации, даже
такие радикальные, как^проект Руссо, «относясь к нему
снисходительно и с симпатией»4. Однако ни одно из них не было
реализовано, после первого раздела Польши нечего было и думать об этом.
1 JobertA. Magnates polonais et physiocrates français. Paris, 1941.
2 FahreJ. Commentaire // OC. T. III. P. 1740.
3 Correspondance du Roi Stanislas-Auguste Poniatowski et M-me Geoffren. Paris,
1878. Lettres de M-me Geoffren du 17 novembre 1771 et du 13 janvier 1772.
4 Fahre J. Stanislas-August Poniatowski et l'Europe des Lumières, étude de
cosmopolitisme. Paris, 1962. P. 280-282.
488
Проект реформы Польского государства
_^-»
Как установил Ж. Фабр, «Проект» Руссо был написан осенью
1770 г. и уже в апреле 1771 г. был передан графу Виельгорскому.
Обстановка в Польше в полной мере благоприятствовала
проведению реформ. Конфедераты оказались сильны, наносили поражения
войскам короля Станислава-Августа Понятовского и даже
отдельным отрядам русских войск. Однако ситуация в корне изменилась,
когда 31 августа 1771 г. генерал Дюмурье, присланный Францией
на помощь польским инсургентам, потерпел поражение от русских
войск. Датировка проекта Руссо именно весной 1771 г., а не 1772 г.,
как считалось до появления исследования Ж. Фабра,
свидетельствует о политическом реализме мыслителя, увидевшего
благоприятный момент для проведения необходимых реформ. Среди
немногочисленных источников, которыми располагал Руссо к моменту
написания «Проекта», особое значение имеет экземпляр работы
Кристиана Пфёффеля, посвященный публичному праву Польши.
Этот экземпляр содержит маргиналии графа Виельгорского и, как
свидетельствует запись на форзаце книги, был передан им Руссо
в качестве источника информации о политическом устройстве
Польши. Этот источник по неясным для меня причинам до настоящего
времени не стал объектом внимания исследователей. Какова была
точка зрения графа на реформы в Польше и в какой мере Руссо
учитывал пожелания своего «заказчика»?5
1. Один из основных вопросов, которые затрагивал Руссо в
своем «Проекте», был вопрос об отмене крепостного права в Польше.
Он не предлагал немедленной и всеобщей отмены «рабства», но
выступал за постепенное освобождение крестьян «коммунальным
советом», то есть решением собрания местных жителей, с учетом
возможности наделения будущего гражданина землей
(предоставление гражданства без собственности Руссо не допускал так же, как
и в проекте конституции для Корсики). Армия поэтому мыслилась
Руссо только как ополчение народа6. Маргиналия Виельгорского
недвусмысленно гласила: «Рабы не могут быть освобождены ни
при каких условиях»7.
5 Etat de Pologne avec un abrégé de son droit public et nouvelles constitutions. Par
Christian Pfeffel, jurisconsulte de Roi. A Amsterdam, 1770. (Exemplaire annoté par le
comte Wielhorski, conservé dans la Bibliothèque Nationale de France. Côtes Rés. 791.)
6 Rousseau J.-J. Considérations sur le gouvernement de la Pologne // OC. T. III. P. 1015,
1025-1028.
7 Pfeffel Ch. Op. cit. P. 260.
489
*\
С. В. Занин
2. Руссо и Виельгорский с прямо противоположных точек
зрения рассматривали роль Сената в Польше. По Руссо, сенаторов
должен избирать народ или назначать король. Но их не следовало
наделять политическими привилегиями, вытекающими из обладания
крупной земельной собственностью. Сенат, лишенный права «вето»,
должен играть, по Руссо, роль правительственного учреждения,
своего рода совета при монархе. Он прямо говорил, что Сенат —
«организм государства» (corps d'état), а не разряд (ordre)8. Становится
понятным, почему, по Руссо, занятие государственной должности
не должно быть обусловлено имущественным или сословным
цензом9. Эти положения совершенно не согласовывались с мыслями
графа Михаила Виельгорского, который полагал, что Сенат
вправе не только влиять на принятие решений королем, но и на
решения польского Сейма10. По сути, Виельгорский стал проводником
идеи полновластия сенатской олигархии, которая формировалась
бы из крупных собственников, получающих «юрисдикцию в старо-
стате» ". Не говоря о том, что «за услуги, оказанные родине»,
необходимо платить. Такой формой вознаграждения Виельгорский
считал принудительное пожалование королем коронных земель
«с юрисдикцией» польской знати в духе jus evocandi12 Священной
Римской империи. В результате только знать пользовалась бы
всеми преимуществами «равноправия». Кроме того, сенатор получал
«право вето и право прервать заседание Сейма»13. Тогда как Руссо,
верный своей мысли о необходимости ликвидации сословных
привилегий, предлагал запретить «вето» под страхом чрезвычайного
суда для тех, кто его произвольно применил14. В сущности, Руссо в
польском проекте, так же как и в проекте преобразований на
Корсике или в проекте преобразований в Женеве, никогда не выступал
сторонником неограниченной, «прямой демократии» и всевластия
народа. По сути дела, ok выступал сторонником своего рода мерито-
8 Rousseau J.-J. Considérations... P. 985.
9 Ibid. P. 991,1002,1005.
10 Pfeffel Ch. Op. cit. P. 74-75.
11 Ibid. P. 121-122.
12 принудительное пожалование леном (лат.).
13 Pfeffel Ch. Op. cit. P. 196, 260.
14 Rousseau J.-J. Considérations... P. 997.
490
Проект реформы Польского государства
-/-»
кратии15. Но на Корсике это — выборные из «граждан первой
категории», те, кто достиг в силу заслуг «полного гражданского статуса»,
а в Польском проекте приобретение статуса сенатора неразрывно
связано с личными заслугами человека перед отечеством.
3. Одним из главных пунктов расхождений между Руссо и Ви-
ельгорским стала точка зрения на функционирование польского
государства. Если Виельгорский склонен был толковать Pacta conventa
в качестве конституционного соглашения, в силу которого
установили бы ограничения королевской власти и подчинили бы ее
сенатской олигархии, то Руссо считал короля символом нации, «лучшим
из людей». Его следовало (после жеребьевки в первом туре)
выбирать Сеймом по жребию из трех кандидатур. У Руссо король —
центральная фигура во властных структурах: он председатель Сената,
глава государства, председатель Сейма, назначающий верховный
трибунал и канцлера. Только король следит за «исполнением
законов» 16. Его власть пожизненна, но не может наследоваться лицами
его дома. Конечно, характеризуя полномочия королевской власти
согласно проекту Руссо, нельзя считать, что он предвосхитил
теорию «разделения властей»17. Но можно и нужно говорить о том, что
в его проекте король — избранник народа — обеспечивает то
«равновесие» государственных властей, которого так не хватало, к
примеру, в Женеве. Проект конституции для Польши, так же как и
проект преобразований в Женеве, по моему мнению, соответствовал
основным принципам, высказанным в трактате «Об общественном
договоре». В обоих проектах Руссо ни в коем случае не допускал
дробления общественного организма на привилегированные
разряды граждан (ordres)18. Этим обеспечивалось единство
государственного организма и суверенной власти, не допускалось ослабление
и разрушение последней. Суверенная власть неотчуждаема у ее
носителя. Руссо постоянно говорил о необходимости «неизменного
15 Rousseau].-]. Du Contrat social. L. Ill, eh. IV, V // ОС. Т. III. P. 404-408, а также
разъяснения П.-М. Верна в кн.: Vernes Р.-М. La ville, la fête, la démocratie. Rousseau
et les illusions de la communauté. P. 148.
16 Rousseau].-]. Considérations... Ch. VIII. P. 989-994.
17 FabreJ. Commentaire. P. 1774.
18 Rousseau J.-J. Considérations... P. 972; Rousseau J.-J, Lettres, écrites de la Montagne,
VII // OC. T. III. P. 833-835.
491
*\
С. В. Занин
присутствия законодателя», о недопущении «порабощения его
организмом исполнительной власти»19. Он настаивал на праве
законодательной власти не только издавать законы, но и, «надзирая за
исполнением, наблюдать за их соблюдением» (maintenir par
inspection) 20. Однако идея контроля законодательной власти над
исполнительной не должна подменяться идеей подчинения последней
первой. Для Руссо очевидно, что взаимодействие «государственных
организмов» (corps d'état) не может быть ничем иным, как
«результатом сочетания соображений частной выгоды, уравновешенных
большинством». Это «равновесие», обозначенное в качестве закона,
является выражением «общей воли»21. Это подчинение всех
граждан и власти закону («чтобы законы царствовали и царили над
всеми») обеспечивает единство общественного организма, в котором
исполнительная власть подчинена закону («воля влияет на силу», то
есть правительство подчинено закону или воле граждан), а
население и правительство («нравы и законы») не конфликтуют друг с
другом. Вообще, следует заметить, что, в отличие от физиократов или
аббата Мабли, Руссо стремился к тому, чтобы сохранить
национальные институты власти в Польше, к тому, чтобы они
функционировали в соответствии с началами политического права и
«благоустроенного государства» (état bien ordonné). В частности, Руссо
не отменял liberum veto22, как того требовали практически все его
современники и сторонники реформ Польского государства23, а
сохранял его для того случая, когда на повестку дня ставился вопрос
о реформировании конституции, то есть в соответствии с началами
«Общественного договора» менялись условия заключения
общественного соглашения.
4. В прямой связи с сословной политикой Руссо находятся
предложенные им экономические мероприятия. Он предложил
заменить поголовное налогообложение (capitation) налогообложением
19 Rousseau J.-J. Considérations... P. 975; Rousseau J.-J. Lettres, écrites de la Montagne,
IX. P. 871.
20 Rousseau J.-J. Considérations... P. 978; Rousseau J.-J. Lettres, écrites de la Montagne,
VIL P. 824.
21 Rousseau J.-J. Lettres, écrites de la Montagne, IX. P. 884.
22 единогласное голосование {лат.).
23 Например, у аббата Мабли: МаЫу. Du gouvernement et des lois de Pologne //
Collection complète des œuvres de l'abbé de Mably. Paris, 1794. T. 8. P. 260 et sq.
492
Проект реформы Польского государства
земельной собственности пропорционально ее размерам24. В
польском проекте, так же как и в проекте конституции для Корсики
и в соответствии с идеями, высказанными в «Рассуждении о
политической экономии», Руссо основное внимание уделял созданию
аграрной страны с большим количеством мелких земельных
собственников. По его мнению, это мероприятие привело бы к росту
народонаселения25. В отличие от проекта конституции для Корсики,
в польском проекте Руссо не выступал против развития внешней
торговли, но предлагал сделать ее государственной монополией,
полагая, что оптовая продажа зерна с латифундий польской знати
без контроля со стороны государства приведет к сосредоточению
денежной массы в ее руках. Его неизбежным следствием станет
разорение, в первую очередь, мелких земельных собственников из
числа освобожденных крестьян.
5. Основная мысль Руссо в проекте реформ Польского
государства — создание национального государства в противовес
сословному. Во всех своих предложениях — от реформы образования до
реформы военной и земельной — Руссо преследовал цель
«привязать» (attacher) граждан к национальным институтам по примеру
великих законодателей древности с тем, чтобы «их храбрость и
добродетель достигли высшей степени стойкости» (énergie). Все эти
предложения в корне расходились с сословными чаяниями Виель-
горского и его политических единомышленников, и Руссо
вынужден был заметить: «Мои предложения до такой степени далеки от
современных представлений о свободе и храбрости, что вряд ли можно
надеяться на то, что они будут приняты или придутся по вкусу!»26
В своем проекте Руссо предупреждал конфедератов, что
государство не может существовать, если в нем отсутствует «наиболее
общая выгода всех» в том, чтобы законы соблюдались, а власть
уважалась. В нем Руссо постоянно апеллировал к «среднему классу»
как к носителю этой «общей выгоды», считая его опорой
справедливости и равноправия27. Однако достичь единства государствен-
24 Rousseau J.-J. Considérations... P. 1011.
25 Ibid. P. 1004-1009.
26 Ibid. P. 998.
27 Derathé R. La place et l'importance de la notion d'égalité dans la doctrine politique
de Rousseau // Rousseau after 200 years. Proceedings of Cambridge Bicentennial
colloquium. Cambridge, 1982. P. 62-63.
493
*-\.
С. В. Занин
ного организма возможно не только благодаря принадлежности
граждан к «среднему классу», в силу чего они становятся
экономически автономными и носителями политических прав. Руссо
наряду с преобразованием политических институтов огромное
внимание уделял их сознанию. «Граждане должны подчиняться законам
потому, что они являются для них подходящими, и потому, что они
внутренне одобрены их волей», — говорил Руссо, повторяя мысль,
высказанную в романе «Эмиль»28. Каждый гражданин наделен
политической свободой, которая, по его мнению, заключается в том,
что «каждый человек судит, подчиняясь исключительно
собственному мнению»29. В этом случае его нравственное сознание
становится тождественным политическому, и «естественный закон» может
быть воплощен в жизни государства. «Конституция государства
становится крепкой и долговременной только тогда, когда все
правила до такой степени соблюдены, что естественные отношения
и отношения, закрепленные в законах, совпадают во всех пунктах;
и последние, так сказать, обеспечивают, исправляют и сопутствуют
всем остальным», — писал Руссо в трактате «Об общественном
договоре» 30. Задача политического воспитания в проекте
конституции для Польши, так же как и в проекте преобразований в Женеве
и на Корсике, заключалась в том, чтобы воздействовать на
сознание граждан как носителей «естественного закона».
Одной из важнейших составляющих польского проекта
являются идеи, высказанные в 13-й главе проекта под заголовком «Проект
подчинить последовательному продвижению по службе всех
членов правления», где Руссо ссылается на необходимость «одобрения
со стороны общества», оценки поступков граждан, оно
вдохновляло бы «их усердие» и «добродетель», поощряя их стремление к
славе и почестям31. Именно таким образом возникают
взаимоотношения между индивидом и обществом, и, как представляется, они
соответствуют знаменитому положению трактата «Об
общественном договоре»: «Решение о создании объединения граждан
включает в себя взаимные обязанности общества и частных лиц, и что
каждая личность, заключающая договор, если можно так выразить-
28 Rousseau J.-J. Considérations... P. 961.
29 Ventes R-M. Op. cit. P. 194.
30 Rousseau J.-J. Du Contrat social. L. II, ch. XI // OC. T. III. P. 393.
31 Rousseau J.-J. Considérations... P. 1020-1029.
494
Проект реформы Польского государства
ся, сама с собой, оказывается обязанной в двояком отношении,
а именно как член суверена перед частными лицами и в качестве
члена государства перед сувереном», — писал Руссо32. В главе 13
проекта реформ Польского государства указывается на действие
механизма, который обеспечивает устойчивость этой связи между
личностью и обществом.
Выражение «двоякое отношение» Руссо использовал и в
определении понятия «совесть», которое является центральным для его
моральной философии, в частности, в «Исповедании веры Савой-
ского викария». Его появление в польском проекте и в трактате «Об
общественном договоре» не является случайным: именно
благодаря этому «двоякому отношению» рождается и начинает
действовать совесть граждан. Второе, не менее важное предложение Руссо
заключается в том, чтобы гражданин находился всегда «на глазах
у общества», был привязан к своей земле и ни в коем случае не
пребывал в праздности. Как мне представляется, содержание 13-й
главы в большей мере, чем какой-либо другой раздел польского
проекта, выражает мысль, высказанную в трактате «Об общественном
договоре». «Но иначе дело обстоит в отношениях между
подданными и сувереном, которому, несмотря на общую выгоду, ничто не
может служить порукой в исполнении их обязательств, если он не
найдет способов обеспечить себе их верность», — отмечал Руссо.
Можно обеспечить эту «верность», «привязав» граждан к отечеству,
направив все их устремления и помыслы во славу родной страны,
вознаградив их заслуги почестями и высоким положением в
правительстве.
Политический проект Руссо представляет собой модель
воспитания народа в духе «принципов морали и естественного права»,
изложенных в теории воспитания Эмиля и в трактате «Об
общественном договоре». Она неразрывно связана с
функционированием общественных институтов. В этом пункте, по моему мнению,
политическое учение Руссо коренным образом расходится с учением
Канта о морали и праве. Ведь Кант полагал, что «через действие
государственной власти нравственный опыт не становится
очевидным. Должны пройти многие сотни лет, прежде чем мы осуществим
свое нравственное предназначение, которое будет подобно
Царствию Божию на земле, ибо это предназначение окажется благим
RousseauJ.-J. Du Contrat social. L. I, ch. VII // OC. T. III. P. 362.
495
«-\.
С. В. Занин
не только с гражданской, но и с нравственной точки зрения.
Средству достигнуть этого состояния должны научить философы, а
духовенству надлежит стремиться воспитывать людей в уважении
к моральности, а мораль должна доставлять все новые качества
человеку» 33. Напротив, в учении Руссо «естественное право» и
«естественный закон» реализуются через функционирование
механизмов государства, основанного на действии «общей воли».
33 Отрывок из лекционного курса Канта см.: Kantl. Rechtslehre. Studien zur
Rechtsphilosophie. Berlin, 1988. S. 454.
Жан-Жак Руссо
СООБРАЖЕНИЯ
ОБ ОБРАЗЕ ПРАВЛЕНИЯ В ПОЛЬШЕ
И О ПЛАНЕ ЕГО ПЕРЕУСТРОЙСТВА,
СОСТАВЛЕННОМ В АПРЕЛЕ 1771 г.
Глава I
Состояние вопроса
Картина правления в Польше, обрисованная господином графом
Виельгорским *, и размышления, которые он к ней присоединил, —
это весьма поучительные подробности для того, кто захочет
составить план последовательных преобразований этого правления. Я не
знаю никого, кто был бы более способен его начертать, чем он сам,
человек, соединяющий общие познания, требующиеся для
подобного труда, с познаниями частными и знанием местных условий,
а эти последние-то и невозможно изложить письменно. А между
тем их необходимо знать, чтобы приспособить учреждения к
народу, для которого они предназначены. Если не знаком с нацией по
сути, той нацией, ради которой трудишься, то как бы превосходно
ни была выполнена работа, сделанная для нее, она всегда будет
содержать погрешности при применении ее результатов в жизни, тем
более когда речь идет о нации, уже обладающей учреждениями,
вкусы, нравы, предрассудки и пороки которой уже весьма
укоренились, и их невозможно так легко устранить, посеяв новые семена.
Хорошее учреждение для Польши может быть произведением
только поляка или того, кто в достаточной мере на месте изучил
польскую нацию и ее соседей. Иностранец же может предложить лишь
общий взгляд с целью просветить, но не руководить создателем
учреждений. Даже приложив всю силу своего ума, я не смог бы
охватить всю совокупность этих важных отношений. Нынче у меня едва
497
«\
Жан-Жак Руссо
сохранилась способность связывать мысли, а потому я ограничусь,
оказывая услугу господину графу Виельгорскому и проявляя
усердие в служении его родине, тем, что представлю отчет о
впечатлениях и размышлениях, которые возникли у меня при чтении его
работы.
Читая историю правления в Польше, с трудом понимаешь, как
столь странным образом устроенное государство могло
просуществовать так долго2. Огромный организм, состоящий из огромного
числа мертвых частей, из малого числа разъединенных частей,
движение которых почти что не зависит друг от друга и которые
вместо того, чтобы двигаться к общей цели, взаимно уничтожают друг
друга, организм, совершающий множество движений, будучи
неспособен что-либо сделать, оказать сопротивление тому, кто хочет
отрезать от него часть, оказывается в состоянии разложения пять-
шесть раз на протяжении каждого столетия и парализованным при
каждом усилии, которое он хочет сделать, при малейшей
потребности, которую он хочет удовлетворить, тем не менее живет и
сохраняет свою силу. Вот, как мне кажется, одно из самых странных
зрелищ, способных поразить мыслящее существо. Я наблюдаю, как все
государства Европы сами приближают свою погибель. Монархии,
республики — все эти нации, обладающие столь великолепными
учреждениями, все эти прекрасные правления, столь мудро
поддерживающие равновесие внутри, одряхлели, им грозит скорая
смерть, а Польша, эта обезлюдевшая, опустошенная и угнетенная
страна, оставленная на милость всех завоевателей, несмотря на все
свои несчастья и анархию, еще являет огонь молодости, и она еще
смеет стремиться создать правление и законы, словно она лишь
только зарождается! Она — в оковах рабства, а меж тем обсуждает
способы сохранения свободы! Она ощущает в себе такую силу,
которую не может одолеть тирания. Мнится, я вижу осажденный Рим,
который спокойно правит землями, где его враг только что разбил
лагерь. Храбрые поляки, остерегайтесь того, что, желая слишком
хорошей жизни, вы лишь ухудшите свое положение. Мечтая о том,
что вы желаете завоевать, не забывайте о том, что можете
потерять. По возможности исправьте пороки вашего государственного
устройства, но не пренебрегайте тем устройством государства,
которое сделало вас теми, кто вы есть.
Вы любите свободу и достойны ее; вы защищали ее от
могущественного и коварного захватчика, который, делая вид, что предла-
498
Соображения об образе правления в Польше...
гает вам узы дружбы, на деле налагает на вас оковы рабства. А
ныне, устав от беспорядков в вашей стране, вы вздыхаете, думая о
покое. Я полагаю, что его легко получить, но сохранить его и вместе
с тем добиться свободы — вот что мне кажется весьма
затруднительным. Ведь именно посреди этой анархии, которая вам
омерзительна, возник склад души патриотов, отвративший вас от ярма
деспотизма. Души поляков дремали в покое, напоминающем
летаргию, буря их разбудила. Разбив оковы, которые им прочили, эти
души ощущают груз усталости. Они хотели бы соединить мир и
покой, свойственный деспотизму, с усладами свободы. Боюсь, что они
желают совместить несовместимое. Покой и свобода мне кажутся
несовместимыми вещами, следует выбирать одно из двух.
Я не утверждаю, что нужно оставить все как есть, но хочу
сказать, что приниматься за дело нужно с крайней осмотрительностью.
В настоящее время на людей большее впечатление производят
пороки, чем вещи полезные. Я боюсь, что придет время, когда они
лучше будут понимать эту пользу, но, к несчастью, это произойдет
тогда, когда время будет упущено.
Легче легкого, если угодно, сотворить лучшие законы. Однако
невозможно создать такие законы, которыми не злоупотребляли бы
люди, подверженные пристрастиям, коль скоро они уже
злоупотребляют наилучшими законами. Предвидеть и оценить все будущие
злоупотребления, вероятно, вещь невозможная для самого
искушенного государственного деятеля. Поставить закон выше человека —
это задача в политике, которую я сравниваю с задачей о квадратуре
круга в геометрии. Хорошенько решайте эту задачу, и правление,
основанное на таком решении, станет добрым и свободным от
злоупотреблений. Но до того времени, я уверяю вас, там, где вы
думаете, что установили царство законов, царствовать будут люди.
Никогда не будет прочного и доброго устройства государства,
если только при этом закон не будет царить в сердцах людей. До тех
пор пока сила законодательства не распространится до этих
пределов, всегда будут уклоняться от исполнения законов. Но как
проникнуть в сердца? Вот о чем наши творцы учреждений почти не
задумывались, всегда имея в виду лишь силу и наказания. И денежные
вознаграждения, вероятно, не приведут к лучшему. Даже самый
неподкупный суд к нему не ведет, потому что справедливость, так же
как и здоровье, — это благо, которым наслаждаются, не ощущая его,
499
«~v.
Жан-Жак Руссо
и оно никогда не вдохновляет на душевный порыв, а его ценность
понимают лишь тогда, когда его уже потеряли.
Но как же тронуть сердца людей и заставить их любить родину
и ее законы? Смею ли я объяснить? Да с помощью детских игр,
которые кажутся ненужными людям поверхностным, но они-то и
создают милые сердцу привычки и непобедимые привязанности. Если
я при этом говорю вздор, то уж, во всяком случае, самый полный,
ибо признаюсь, что мое безумие, как мне кажется, обладает всеми
признаками разума.
Глава II
Дух старинных угреждений
Когда читаешь древнюю историю, кажется, что попадаешь в иной
мир, к иным существам. Что общего у французов, англичан,
русских с римлянами и греками? Почти ничего, кроме внешнего вида.
Сильные души греков и римлян иным покажутся историческим
преувеличением. Станут ли те, кто чувствуют себя столь ничтожными,
задумываться о существовании столь великих людей? А меж тем,
они существовали и были человеческими существами, подобными
нам. Что же мешает нам быть такими же людьми, как они? Наши
предрассудки, наша низменная философия, мелочность и
корыстолюбие, соединившиеся во всех сердцах с эгоизмом благодаря
нелепым учреждениям, на создание которых никогда бы не сподвиг гений.
Я обращаю взор на нации новых времен и нахожу у них
множество изготовителей законов, но не вижу ни одного законодателя.
У древних я назову трех главных законодателей, которые
заслуживают особого внимания: Моисея, Ликурга и Нуму3. Все трое
главным образом заботились о предметах, которые показались бы
нашим докторам права достойными насмешки. И все трое достигли
таких успехов, которые сочли бы невозможными, если бы о них не
сохранилось точных свидетельств.
Первый задумал и совершил удивительное дело — основал
нацию как единый организм из скопища несчастных беглецов, не
знавших ни ремесел, ни оружия, не имевших ни талантов, ни
добродетелей, ни мужества, не владевших ни одной пядью собственной
земли, представляя собою чужеродную толпу на Земле. Моисей
взял на себя смелость превратить эту раболепствующую толпу бро-
500
Соображения об образе правления в Польше... s~*
дяг в политический организм, в свободный народ; и когда они
бродили в пустыне, не имея и камня, чтобы преклонить голову,
Моисей даровал им прочное установление, неподвластное времени,
судьбе, завоевателям, — то устройство, которое не могли ни
испортить, ни даже изменить пять тысячелетий, и оно сохраняется и по
сей день во всей своей силе, даже тогда, когда эта нация как
организм уже более не существует.
Чтобы помешать своему народу раствориться среди чуждых
народов, он создал нравы и обычаи, несовместимые с нравами и
обычаями других наций; он слишком обременил свой народ обрядами
и особыми церемониями; он стеснил свой народ тысячью способов,
чтобы тот неизменно оставался бодрым, и превратил его в
чужеродное тело посреди остальных людей; все узы братства, соединяющие
членов его республики, оказались также и преградами,
отделяющими сей народ от соседей и мешающими его смешению с ними. Вот
почему эта своеобразная нация, столь часто находившаяся под
гнетом, разбросанная по свету и, казалось бы, уничтоженная,
неизменно почитала усвоенные правила и все-таки сохранилась до
наших дней, оказавшись рассеянной среди других народов, но с ними
не смешиваясь; вот почему ее нравы, законы, обряды существуют
и будут существовать до тех пор, пока существует мир, вопреки
ненависти и преследованиям со стороны остальной части
человеческого рода.
Ликург взялся ввести установления у народа, уже униженного
рабством и вытекающими из него пороками. Он наложил на народ
железное ярмо, такое ярмо, подобного которому не нес на себе еще
ни один народ; но он прикрепил его к ярму и, постоянно заставляя
его носить, отождествил народ, так сказать, с этим ярмом. Он
беспрестанно являл народу его отечество — в законах, в играх, в
домашней жизни, в его любовных увлечениях, в празднествах; он не
оставлял народу ни минуты покоя, предоставляя его себе самому.
И из этого постоянного принуждения, проникнутого благородной
и высшей целью, зародилась в народе горячая любовь к отечеству,
которая всегда оставалась самой сильной или даже единственной
страстью спартанцев и сделала их существами, стоящими выше
остальных людей. Спарта была всего-навсего городом — это
правда; но одной только силой своих учреждений этот город навязывал
законы всей Греции, превратился в ее столицу и повергал в трепет
персидскую монархию. Спарта стала тем очагом, из которого ее за-
501
*-v.
Жан-Жак Руссо
конодательство распространяло свое влияние на все, что ее
окружало.
Те, кто считает Нуму только создателем религиозных обрядов
и церемоний, весьма неверно судят об этом великом человеке. Ну-
ма стал подлинным основателем Рима. Если Ромул всего-навсего
собрал разбойников, которые под влиянием невзгод могли бы
рассеяться, то его несовершенное творение, по всей вероятности, не
выдержало бы испытания временем. Но Нума сделал его прочным
и долговечным, объединив этих разбойников в не подверженный
распаду организм, превратив их в граждан не столько посредством
законов, в которых тогда едва ли нуждалась их деревенская
бедность, сколько умеренными учреждениями, привязавшими их друг
к другу, а всех вместе — к их земле; сделал, наконец, их город
священным посредством тех легкомысленных и суеверных, на первый
взгляд, обрядов, силу и влияние которых так мало людей смогли
почувствовать; а основы этих законов заложил, однако, именно
Ромул, свирепый Ромул.
Таким же замыслом прониклись все древние законодатели при
создании учреждений. Они стремились отыскать такие узы,
которые бы привязали граждан к отечеству и друг к другу; и они
обнаружили эти узы в особых обычаях и религиозных церемониях, по
своей природе чуждых всяким иным и национальным (см.
окончание «Общественного договора»); в играх, собиравших вместе
многих граждан; в упражнениях, благодаря которым возрастали их
бодрость и сила и одновременно гордость и уважение к самим себе;
в зрелищах, напоминавших им историю предков, их невзгоды, их
добродетели и победы — все это вызывало живое участие в сердцах
граждан, порождало сильное стремление к состязанию, накрепко
привязывало их к родине, и о ней им непрестанно напоминали.
Именно стихи Гомера; которые читали грекам на торжественных
собраниях не в душных залах, с подмостков и за плату, но под
открытым небом и перед всем организмом нации; именно трагедии
Эсхила, Софокла и Еврипида, которые часто им показывали,
награды, венчавшие победителей в играх под крики одобрения всей
Греции, — вот что, постоянно порождая стремление к славе и
состязанию, возводило их мужество и добродетели в ту степень силы,
о которой ныне ничто нам не напоминает; людям нашего времени не
дано даже в это поверить. Если есть у них законы, то единственно
для того, чтобы научить их покорно подчиняться своим хозяевам,
502
Соображения об образе правления в Польше... ^-»
не воровать из карманов и не отдавать слишком много денег всем
известным мерзавцам. Если есть у них обычаи, то только для того,
чтобы развлекать праздных и легкомысленных женщин и с
изяществом потакать собственной праздности. Если они собираются
вместе, то лишь в храмах для богослужения, в котором нет ничего
национального, и оно ничем не напоминает об отечестве, да и над
всем этим лишь насмехаются; или собираются в накрепко запертых
залах и за плату — чтобы смотреть на изнеживающие зрелища, где
умеют говорить лишь о любви и рассказывать пошлые истории,
заставляя жеманиться продажных женщин, и там они в состоянии
усвоить лишь уроки разврата — это единственные уроки, которые
они извлекают из всех тех, что думают там преподать. А собираются
они лишь во время празднеств, на которых народом постоянно
пренебрегают, и он лишен всякого влияния, а осуждение или
похвала со стороны общества ничего не значат; лишь на
непристойных сборищах, где заводят тайные знакомства и ищут наслаждения,
которые скорее всего разобщают людей, отдаляют их друг от друга,
а их сердца быстрее всего охладевают. Да разве в этом заключается
средство побудить любить отечество? Нужно ли удивляться, что
столь различный образ жизни приводит к столь различным
последствиям и что люди нашего времени уже не находят в себе ничего от
той душевной силы, которой благодаря всему этому вдохновлялись
древние? Считайте эти отступления остатками былого сердечного
жара, который вы во мне распалили. А теперь я с удовольствием
возвращаюсь к тому из нынешних народов, который не так далеко
отстоит от тех, о которых я только что говорил.
Глава III
Применение
Польша — большое государство, окруженное еще более
значительными государствами, которые в силу царящего в них
деспотизма и военных порядков обладают огромной наступательной
мощью. Слабая по причине анархии, Польша, напротив, несмотря на
всю доблесть поляков, сталкивается с оскорблениями с их стороны.
У нее нет укреплений, способных остановить их вторжения. Убыль
населения4 делает ее совершенно неспособной к самозащите. Нет
никакого экономического устройства, почти вовсе нет войск, ника-
503
*\
Жан-Жак Руссо
кой военной выучки, никакого повиновения вышестоящим.
Постоянно раздираемая противоречиями изнутри, постоянно под угрозой
извне, она сама по себе не обладает никакой внутренней
устойчивостью и зависит от произвола соседей. В настоящем положении
вещей я вижу лишь одно средство сообщить ей эту устойчивость,
которой ей не хватает, а именно: вселить, если можно так выразиться,
целиком душу конфедератов в нацию5, до такой степени утвердить
республику в сердцах поляков, чтобы она продолжала там
существовать вопреки каким бы то ни было усилиям угнетателей.
Именно в этом, как мне кажется, и заключена ее единственная обитель,
где никакая сила не сможет ни добраться до нее, ни разрушить. Еще
недавно можно было увидеть достопамятные тому доказательства.
Польша находилась в оковах у русских, но поляки оставались
свободными. Великий пример, который показывает вам, как
возможно не считаться с могуществом и честолюбием ваших соседей. Если
вы не можете помешать тому, чтобы они поглотили вас, по крайней
мере, сделайте так, чтобы они были не в состоянии вас переварить.
Каким бы образом вы за это дело ни взялись, до того как вы дадите
Польше все то, чего ей недостает, чтобы иметь возможность
оказать сопротивление врагам, они успеют сотню раз ее захватить.
Добродетель ее граждан, их патриотический пыл — особый облик,
который могли бы придать их душам национальные
учреждения, — вот единственные, всегда готовые ее защитить укрепления,
которыми не овладеет никакая армия. Если вы сделаете так, что ни
один поляк никогда не сможет стать русским, я отвечаю за то, что
Россия никогда не покорит Польшу.
Именно национальные учреждения, создающие гений, характер,
вкусы и нравы народа, делают его самим собой и никем иным,
внушают ему горячую любовь к родине, основанную на
неискоренимых привычках, заставляющих его умирать от скуки в гостях у
других народов, посреди услад, которых он лишен у себя на родине.
Вспомните о том спартанце, окруженном соблазнами при дворе
великого царя, которого упрекали в том, что ему недоставало черного
соуса. «Ах! — отвечал он со вздохом сатрапу. — Я узнал твои
услады, но ведь тебе незнакомы наши».
Что бы ни говорили, а сегодня не существует ни немцев, ни
испанцев, ни даже англичан, есть только европейцы6. У всех
одинаковые вкусы, одинаковые пристрастия, нравы, потому что никто из
них не имеет облика нации благодаря особенным учреждениям.
504
Соображения об образе правления в Польше...
Все они в сходных обстоятельствах поступят одинаково, все заявят
о своем бескорыстии и окажутся мерзавцами, все будут
разглагольствовать об общественном благе, думая при этом о самих себе, все
станут восхвалять скромный образ жизни, желая при этом
оказаться крезами; их честолюбие простирается только на роскошь, у них
нет иной страсти, кроме страсти к золоту. Уверенные, что всегда
будут обладать тем, что их соблазняет, они продадутся первому
встречному, пожелавшему их купить. Какое для них значение имеет то,
какому господину они подчиняются, законы какого государства
соблюдают? Лишь бы они могли найти деньги, чтобы их украсть,
и женщин, которых можно соблазнить, — и они повсюду
почувствуют себя как дома.
Придайте иную направленность пристрастиям поляков, и вы
придадите их душам национальный облик, отличный от других
народов, который помешает им сплавиться с ними, не породит
стремления им нравиться и с ними соединиться; придайте твердость,
которая заменит собой порочные игры бесполезных предписаний и
заставит их делать, следуя вкусу и пристрастиям, то, что они
никогда не делают хорошо из чувства долга или стремясь к выгоде.
Именно на такие души окажет воздействие правильно подобранное
законодательство. Они подчинятся законам, не уклоняясь от их
соблюдения, потому что законы окажутся для них подходящими
и будут внутреннее одобрены их волей. Любя родину, они послужат
ей усердно и от всего сердца. Благодаря только этому чувству, даже
если законодательство станет плохим, оно сотворит хороших
граждан — ведь только добрые граждане составляют мощь и
процветание государства.
Позднее я подробнее расскажу о порядке управления, который,
почти не затрагивая сути ваших законов, мне кажется более
пригодным для того, чтобы возвысить патриотизм и добродетели, от
него не отделимые, до высшего уровня стойкости, которой они
только и могут обладать. Но одобрите вы или не одобрите этот
порядок, начните все-таки с того, что внушите полякам высокое
мнение о них самих, об их родине; ведь с учетом того, как еще совсем
недавно они себя проявили, это мнение — отнюдь не ложное.
Необходимо использовать текущие обстоятельства и события, с тем
чтобы возвысить голос души до того звучания, которым обладал
голос души у древних. Ясно, что Барская конфедерация спасла
родину, находившуюся на последнем издыхании. Необходимо впи-
505
*-\.
Жан-Жак Руссо
сать священными письменами это великое время в сердца всех
поляков. Я хотел бы, чтобы воздвигли памятник в его честь и чтобы на
нем значились имена всех конфедератов, даже тех, кто в
дальнейшем, возможно, предал общее дело. Столь великое дело должно
затмить промахи всей их предшествующей жизни. Пусть проводят
время от времени торжественные мероприятия, отмечая каждые
десять лет это событие с торжественностью не блестящей и
легкомысленной, но простой, гордой и подобающей республиканцам;
пусть тогда достойно, но без выспренности произносят похвалу тем
добродетельным гражданам, которые имели честь претерпеть
страдания ради отчизны, находившейся в оковах врагов; пусть
предоставят и их семьям некие почетные привилегии, которые постоянно
будут напоминать обществу об этом замечательном прошлом. Я
хотел бы, однако, чтобы во время этих празднеств не дозволялось
произносить слова осуждения в адрес русских ни даже вести об
этом разговоры. Чересчур много чести для них. Это молчание —
красноречивая память об их варварстве и хвала тем, кто оказал им
сопротивление, — скажет о них все, что нужно сказать: вы слишком
их презираете и не удостоите даже ненависти.
Я хотел бы, чтобы благодаря почестям и общественным
наградам придали блеск всем патриотическим добродетелям, чтобы
внимание граждан непрестанно занимали мыслью о родине, и она стала
самым главным делом для них, всегда и непрестанно находилась
у них перед глазами. Таким образом, признаюсь, они имели бы
меньше средств и времени на приобретение богатства, но ведь и меньше
поводов и соблазнов им обладать; их сердца научились бы ценить
иное счастье, чем то, что приносит благосостояние, — вот
искусство воспитать благородство души и превратить ее в более мощное
орудие, чем золото.
Сжатый рассказ о нравах поляков, который соблаговолил мне
передать Михаил Виельгорский, недостаточен для того, чтобы я
понял суть их гражданских и домашних обычаев. Но у великой нации,
которая почти никогда не смешивалась со своими соседями,
вероятно, существует много таких обычаев, свойственных только ей,
и, возможно, они ежедневно исчезают вследствие существующей
в Европе общей склонности усваивать вкусы и нравы французов.
Нужно поддерживать, восстанавливать древние обычаи и заводить
те, что соответствуют характеру поляков. Эти обычаи, будь они
маловажными и даже в известном смысле негодными, но при этом
506
Соображения об образе правления в Польше...
в сущности своей неплохими, всегда будут обладать тем
преимуществом, что внушат полякам восхищение перед их страной и
природную неприязнь к тому, чтобы смешивать себя с иностранцами.
Я сочту за счастье, если у них появится особый покрой одежды.
Заботливо сохраните это преимущество, поступая при этом прямо
противоположным образом тому, как поступил столь хваленый царь7.
Пусть ни король, ни сенаторы и никакой общественный деятель
никогда не носят иной одежды, кроме национальной, и пусть ни
один поляк не смеет показываться при дворе одетым на
французский лад.
Пусть существует множество общественных игр, и добрая
родина-мать радуется, глядя на то, как играют ее дети8. И пусть она
всегда будет занята ими, с тем чтобы, в свою очередь, они всегда были
заняты ею. Нужно устранить даже при дворе, дабы не подавать
дурного примера, обычные придворные развлечения: карточные
игры, театральные представления, оперу, комедии, все то, что
заставляет считать их благом повсюду, лишь бы они стали поводом
для развлечений; нужно придумать игры, праздники, торжественные
приемы, приличествующие именно этому двору, так что их нельзя
будет встретить ни при каком другом. В Польше следует
развлекаться даже больше, чем в какой-либо другой стране, но не
сходным образом. Одним словом, нужно переставить местами слова
в отвратительной поговорке и заставить каждого поляка
произносить в глубине сердца: «Где родина, там и хорошо».
Никаких, насколько возможно, преимуществ для знатных и
богатых. Множество театральных представлений на открытом воздухе,
где положение человека заботливо подчеркнули бы, но в которых
народ одинаково мог бы принимать участие, как это было у древних,
и где в некоторых случаях юная знать могла бы явить
доказательства своей силы и ловкости. Коррида немало способствовала
поддержанию известной телесной крепости у испанской нации. Балаганы,
где некогда польская молодежь участвовала в упражнениях,
следует полностью восстановить, их нужно превратить в ристалище, где
она могла бы состязаться и получать знаки отличия. Нет ничего
легче, чем заменить старинные поединки менее жестокими
упражнениями, в которых, однако, можно было бы проявить силу и ловкость,
а победители могли бы получать отличия и награды. К примеру,
умение управлять лошадью — очень подходящее для поляков
упражнение, и при этом оно может стать блестящим представлением.
507
*\
Жан-Жак Руссо
Гомеровские герои все без исключения отличались силой и
ловкостью и тем показывали народу, что они готовы повести его за
собой. Приезды странствующих воинов давали возможность
воспитать людей не только храбрых и доблестных, но и алкающих
отличий и славы, способных проявить все свои добродетели. Из-за
использования огнестрельного оружия телесная сила и ловкость
стали менее полезными на войне и потому менее почитаемыми. Из
этого следует, что, помимо умственных качеств, часто вызывающих
сомнения, не вполне неуместные, и относительно которых можно
тысячу раз ошибаться, да и народ часто судит о них неверно, у
человека, имеющего преимущества от рождения, как такового нет
ничего такого, что отличало бы его от другого человека, ничего, что
оправдывает его богатство, ничего из того, что указывает на
личное и данное от рождения право превосходства над остальными;
и чем больше пренебрегают внешними проявлениями качеств
человека, тем более тех, кто нами правит, вполне безнаказанно ведут
изнеженный образ жизни и развращаются. А между тем надлежит,
и гораздо более, чем принято думать, чтобы те, кто однажды
должны будут повести за собой людей, проявили себя с ранней юности
лучше окружающих во всем или, по крайней мере, постарались себя
таким образом проявить. Более того, было бы желательно, если бы
народ вместе со своими правителями часто собирался по
приятному поводу, чтобы народ знал их в лицо, привык их видеть и
разделял бы с ними свои развлечения. Но при этом повиновение
старшему всегда сохранялось, а народ мог смешивать себя со своими
правителями, и это — способ вызвать у него восхищение перед ними
и соединить уважение с его стороны с привязанностью к ним. И,
наконец, вкус к телесным упражнениям отвращает от опасной
праздности, изнеживающих удовольствий и роскоши, сопровождающей
умственные занятия. Именно ради души следует упражнять тело,
а это то, что наши мелочные мудрецы совсем не принимают во
внимание.
Не пренебрегайте же украшением мест, где собираются люди,
пусть оно будет благородным, внушительным, и пусть великолепие
отражается не на вещах, а на людях. Невозможно себе представить,
в какое мере сердце народа следует за его взглядом и до какой
степени величие церемониала внушает ему почтение, и все это придает
власти вид порядка, соблюдения правил, внушающих доверие,
которое устраняет саму мысль о причудах и прихотях, довольно час-
508
Соображения об образе правления в Польше...
-^-»
то заметных при произвольных правлениях. Нужно только
избегать в устройстве торжеств мишуры, роскошных украшений,
которые обычно используют при дворах. Праздники свободного народа
должны всегда дышать сдержанностью и серьезностью, и там
следует показывать в качестве предметов, вызывающих восхищение,
лишь те, что достойны его уважения. Во время триумфа римляне
выставляли напоказ огромную роскошь, но то была роскошь
побежденных, и чем ярче был блеск этой роскоши, тем меньше она
соблазняла. Сам блеск этой роскоши был величайшим уроком для
римлян. Взятые в плен цари были закованы в золотые цепи с
драгоценными камнями. Вот пример правильного отношения к
роскоши. Часто той же цели достигают противоположным путем. Два
свертка льна, выставленные в палате пэров в Англии перед креслом
лорда-канцлера, представляют в моих глазах трогательную и
возвышенную награду. Две копны колосьев пшеницы, таким же
образом помещенные в польский Сенат, произвели бы, на мой взгляд,
не менее прекрасное впечатление.
Огромное расстояние, отделяющее имущество сеньоров и
небогатых дворян, является великим препятствием для необходимых
преобразований, цель которых превратить любовь к родине в
главную страсть поляков. До тех пор пока роскошь будет царить в
домах знати, зависть будет царить во всех сердцах. Всегда предметом
восхищения народа окажутся вожделения частных лиц; если для
того, чтобы блистать, требуется богатство, господствующей
страстью навсегда останется страсть к наживе. Это могущественное
средство испортить нравы, которое нужно ослабить, насколько это
возможно. Если иные притягательные предметы, знаки достоинства
отличат людей разных званий, а при этом богатых их не лишат,
тайные помыслы естественным образом устремятся к почетным
отличиям, то есть отличиям, связанным с заслугой и добродетелью, ибо
в этом случае их можно будет получить только таким образом.
Довольно часто римские консулы были бедны, но за ними следовали
ликторы, внешний облик которых вызывал зависть у народа, и вот
тогда плебеи достигли консульских должностей.
Полная отмена роскоши там, где царит неравенство, мне
кажется, признаюсь, трудным предприятием. Но не здесь ли кроется
способ изменить представление о предмете этой роскоши и тем самым
сделать ее пример менее пагубным? Например, раньше бедное
дворянство в Польше было привязано к знати, дававшей ей воспита-
509
«-V.
Жан-Жак Руссо
ние и средства к существованию9. Вот воистину великая и
благородная роскошь, недостатки которой я отчетливо понимаю, но, по
крайней мере, она, вместо того чтобы унижать души людей, их
возвышала, внушала им определенныые чувства, давала им
внутреннюю опору, и ей не злоупотребляли римляне во времена
республики. Я читал, как однажды герцог д'Эпернон, встретив герцога
Сюлли10, стал искать с ним ссоры, но, имея в своей свите всего лишь
шесть сотен дворян, он не осмелился напасть на Сюлли, в свите
которого было восемь сотен дворян. Я сомневаюсь, что подобного
рода роскошь оставит много места для роскоши, состоящей из
безделушек, но ее пример, по крайней мере, не станет соблазнять
бедняков. Уговорите польскую знать обладать роскошью лишь
подобного рода; возможно, из этого последуют ссоры, противоречия, но
нравы нации не будут испорчены. Помимо этой роскоши, станем
терпимо относиться к роскоши военной, роскошному вооружению,
дорогим лошадям, но пусть всякого рода изнеживающая роскошь
окажется достойной презрения, и если невозможно будет заставить
отказаться от этой последней женщин, пусть их научат по крайней
мере не одобрять ее и презирать у мужчин.
В конечном итоге, не законами против роскоши добиваются ее
искоренения: ее нужно вырвать из сердец, запечатлев в них более
здоровые и благородные вкусы. Запрет на то, что не следует
делать, — это тщетное и бесполезное средство в том случае, если с
самого начала не заставить ненавидеть и презирать подобные вещи,
и неодобрение со стороны закона действенно только тогда, когда
оно подкрепляется суждением людей. Тот, кто собирается создать
народ, должен уметь властвовать над мнениями и с их помощью
направлять пристрастия людей. Это истинно в отношении того,
о чем я говорю. Законы против роскоши, благодаря принуждению,
порождают желания гораздо быстрее, чем гасят эти желания с
помощью наказания. Простота нравов, простота внешнего вида — это
скорее не результат применения закона, а плод воспитания.
Глава IV
Воспитание
Это важный раздел п. Именно воспитание должно придать
национальную закалку душам поляков и так направлять мнения и
вкусы граждан, чтобы они были патриотами по склонности, из при-
510
Соображения об образе правления в Польше...
страстия и по необходимости. Дитя, открывая глаза, должно видеть
отечество и до самой смерти не видеть ничего, кроме него. Всякий
истинный республиканец с молоком матери впитывает любовь к
отечеству, то есть любовь к законам и свободе. В этой любви
сосредоточено все его существование; перед его глазами только отечество,
он живет лишь ради него; коль скоро он оказался в одиночестве —
он ничто; коль скоро у него нет больше отечества — он больше не
существует; и если он не умрет, тем хуже для него.
Национальное воспитание — это достояние лишь свободных
людей; только у них — совместное существование, и только они
действительно связаны законом. Француз, англичанин, испанец,
итальянец, русский — все они почти что один и тот же человек.
Заканчивая колледж, он уже вполне склонен к распущенности, то есть
к рабству. В двадцать лет поляк должен быть никем иным, кроме
как поляком. Я хочу, чтобы, научившись читать, он читал о
деяниях своей страны, чтобы в десять лет он знал обо всем том, что она
производит, в двенадцать — все ее провинции, все дороги, все
города; чтобы в пятнадцать лет он узнал ее историю, в шестнадцать —
все законы; чтобы не было в Польше ни замечательного поступка,
ни знаменитого человека, знанием о которых не заполнили бы его
память и сердце и о них он не сумел бы при случае рассказать. Из
этого следует сделать вывод, что я бы желал, чтобы дети посещали
не привычные для всех занятия, проводимые иностранцами и
священниками. Предмет, порядок и вид занятий следует определить
в законе. Наставниками должны стать только поляки; все, по
возможности, люди женатые, отличающиеся добрым нравом,
честностью, здравомыслием, познаниями и предназначенные
впоследствии для должностей не более важных или более почетных — ибо
это не так, — но для менее трудных и более заметных, когда по
истечении определенного количества лет они достойно завершат
отправление этой должности. Особенно остерегайтесь превращать
звание педагога в ремесло государственного деятеля. Всякое
должностное лицо в Польше должно иметь лишь одно постоянное
положение, а именно положение гражданина. Все занимаемые этими
лицами должности, и особенно важнейшие, такие как должность
педагога, должны считаться местами, где проходят испытание, и как
ступени для того, чтобы подняться выше, сообразно заслугам.
Я умоляю поляков обратить внимание на это правило, на значении
которого я часто буду настаивать; я считаю его основным рычагом
511
Жан-Жак Руссо
в государстве. В дальнейшем вы увидите, как можно, на мой взгляд,
сделать это правило осуществимым во всех без исключения
случаях.
Мне совсем не нравятся те различия между гимназиями и
академиями, вследствие которых бедная и богатая знать воспитывается
по-разному и порознь. Все, будучи равными в силу устройства
государства, должны воспитываться вместе и одинаковым образом;
и если нельзя завести совершенно бесплатное общественное
воспитание, нужно, по крайней мере, установить за него такую плату,
которую бедные в состоянии заплатить. Разве нельзя было бы в
каждой гимназии определенное число мест сделать просто бесплатными,
то есть оплачиваемыми государством, и ввести то, что во Франции
называют содержанием? Эти места, предоставляемые детям
бедных дворян, заслуживших это не в качестве милостыни, но награды
за добрые услуги отцов родине, стали бы в силу этого права
почетными и могли бы принести двойную пользу, которой не следует
пренебрегать. При этом распределение мест не должно быть
произвольным, но его следует осуществлять в соответствии с особым
постановлением, о чем скажу ниже. Тех, кто займет эти места,
станут называть Детьми Государства и отметят каким-либо почетным
знаком, который обеспечивал бы им старшинство над другими
детьми их возраста, не исключая и детей вельмож12. Во всех
колледжах нужно устроить для детей гимнасии, или места для
телесных упражнений. Этот пункт воспитания, которым столь часто
пренебрегают, является, на мой взгляд, наиболее существенной его
частью, и притом не только для воспитания людей крепких и
телесно здоровых, но еще более для воспитания нравственного — а этой
стороной дела либо совершенно пренебрегают, либо заменяют ее
массой мелочных и бесполезных предписаний, но все это — все
равно что бросать пустые слова на ветер. Я никогда не устану
повторять, что хорошее воспитание должно быть отрицательным.
Помешайте порокам зародиться, и вы достаточно сделаете для того,
чтобы зародилась добродетель. Способ добиться этого совершенно
прост при наличии хорошего общественного воспитания: он
заключается в том, чтобы поддерживать в детях бодрость духа, но не с
помощью скучных занятий, на которых они ничего толком не
понимают и которые становятся им ненавистны потому только, что они
вынуждены сидеть на месте неподвижно; но посредством
упражнений, которые им нравятся, потому что они удовлетворяют потреб-
512
Соображения об образе правления в Польше...
_/■•
ность их растущего организма в движении; но привлекательность
этих занятий тем не ограничивается.
Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы дети играли
поодиночке, как им заблагорассудится: дети должны играть все вместе
и на виду, так чтобы у них появилась общая цель, к которой все
стремятся, и она пробуждает дух соперничества и соревнования.
Тем родителям, что предпочтут домашнее воспитание и захотят
воспитывать детей под своим присмотром, должны отправлять
детей участвовать в упражнениях. Обучение детей может оставаться
домашним и частным, но их игры пусть станут общественными
и общими для всех; ибо здесь речь идет не только о том, чтобы их
занять и сформировать крепкое телесное сложение, воспитать их
подвижными и стройными, но и о том, чтобы с самого начала
приучить их жить на виду у сограждан, приучить их к порядку, к
равенству, братству, соревнованию и воспитать в них желание заслужить
одобрение общества. При этом призы и награды победителям
наставникам в упражнениях или главам колледжей надлежит
присуждать не произвольно, а принимая во внимание шумное
одобрение и суждения зрителей; и можно рассчитывать, что решения
наставников всегда окажутся справедливыми, особенно если
позаботиться о привлекательности этих игр для общества, устраивая их
с некоторой торжественностью и так, чтобы они представляли
собою увлекательное зрелище. Тогда можно предположить, что все
честные люди и все добрые патриоты сочтут своим долгом на них
присутствовать и получат от этого удовольствие.
В Берне существует весьма необычное упражнение для молодых
патрициев, заканчивающих колледж. Это то, что называют внешним
видом государства. Это уменьшенная копия всего того, что
составляет управление республикой: сенат, надзиратели, офицеры,
приставы, ораторы, тяжбы, приговоры, торжества. Этот «внешний вид
государства» состоит из небольшого правительства, обладающего
некоторыми доходами; и это учреждение, разрешенное и
поощряемое суверенной властью, является питомником государственных
деятелей, которые когда-нибудь станут управлять общественными
делами на тех же должностях, что поначалу они отправляли во
время игры13.
Какой бы облик ни придали общественному воспитанию (в эти
подробности я сейчас не вхожу), надлежит учредить коллегию
магистратов высшего ранга, которая осуществляла бы высшее управ-
17 3ак. 3436
513
*\.
Жан-Жак Руссо
ление воспитанием и назначала бы, смещала и замещала по
собственной воле как директоров или начальников гимназий,
являющихся, как я уже говорил, соискателями высших магистратур, так
и наставников в упражнениях; надо позаботиться о поощрении
усердия и бдительности этих последних, открыв или закрыв им
доступ к высшим должностям в зависимости от того, как они проявят
себя. Поскольку от этих учреждений зависит все будущее
республики, слава и судьба нации, я удивлен, что прежде нигде не подумали
придать им такое значение. Мне горько за человечество, что столько
мыслей, которые мне кажутся нужными и полезными, и притом
легко осуществимыми, столь далеки от того, что существует на деле.
Но здесь я ограничиваюсь лишь указанием; и этого будет
достаточно для тех, к кому я обращаюсь. Эти еще не развитые мысли
указывают на пути, давно позабытые современными людьми, по
которым древние вели людей к той душевной твердости,
патриотическому усердию, к уважению воистину возвышенных личных
качеств, пренебрегая тем, что чуждо человеку; сегодня мы не видим
примеров этих качеств, но их закваска в сердце каждого человека
ждет лишь своего часа, чтобы начать бродить благодаря
пригодным для этого учреждениям. Направляйте в этом духе воспитание,
обычаи, привычки, нравы поляков, и еще больше забродит эта
закваска, которая пока еще не улетучилась благодаря порочным
правилам, одряхлевшим учреждениям и эгоистической философии,
проповедующей то, что убивает душу. Нация будет вести отсчет
своего второго рождения от ужасного и переломного времени,
которое она пережила; и, при виде того, что совершили ее еще не
привыкшие к повиновению члены, она вправе многого ожидать и еще
больше получить от хорошо продуманных установлений; она будет
ценить и уважать законы, потакающие ее благородной гордости,
и они сделают ее счастливой, свободной и укрепят ее в этом
положении, искоренив в ней пристрастия, которые заставляют обходить
предписания законов; нация вскормит те пристрастия, что внушат
любовь к ним; и, наконец, сама она, если можно так выразиться,
обновляясь, вновь обретет в этом возрасте обновления всю силу
возрождающейся нации. Но без осуществления этих мер не ждите
ничего от ваших законов. Какими бы мудрыми, какими бы
предусмотрительными эти законы ни были, если будут уклоняться от их
соблюдения, они останутся бесполезными; и вы исправите некото-
514
Соображения об образе правления в Польше... х-»
рые ощутимые вами пороки, но при этом откроете дорогу другим,
вами не предвиденным. Вот те безусловно необходимые замечания,
которые я счел необходимым сделать.
Глава V
Коренной порок
Давайте постараемся, по возможности, с самых первых шагов
избежать того, чтобы лелеять несбыточные замыслы14. Какое
предприятие, господа, занимает вас в настоящий момент?
Преобразование правления Польши: иными словами, попытка придать
государственному устройству большого королевства внутреннюю силу
и прочность малой республики. Прежде чем приниматься за
исполнение этого замысла, следовало бы сначала убедиться, есть ли
возможность преуспеть в его осуществлении. Величие наций и
обширная территория государства — вот первый и основной источник бед
рода человеческого и особенно бесчисленных несчастий,
уничтожающих культурные народы, подрывая их устои. Малые
государства, республики и монархии, почти все без различия, процветают
уже в силу того, что они малы, и все граждане там знакомы друг
с другом и видятся, в силу того, что правители своими глазами могут
заметить возникшее зло и то добро, которое им надлежит сделать,
а их приказы исполняются у них на виду. Все большие народы,
раздавленные грузом собственного величия, жалуются, пребывая,
подобно вам, в состоянии анархии или находясь под игом
подначальных королю угнетателей, которых необходимость в различных
уровнях управления вынуждает монарха завести. Только Господь
может управлять миром; и необходимы способности,
превышающие человеческие, чтобы управлять большими нациями.
Удивительно и чудесно, что огромные просторы Польши тысячу раз не
превратили ее правление в деспотическое, не способствовали
вырождению душ поляков и не испортили нацию в целом. Это
единственный в истории пример того, как по истечении стольких веков
подобное государство все еще не впало в состояние анархии.
Медленность развития в этом направлении зависела от преимуществ,
не отделимых от тех недостатков, от которых вы хотите
избавиться. Ах! я никогда не устану повторять: хорошенько подумайте,
прежде чем пробовать исправить законы, и в особенности те, что
515
«^
Жан-Жак Руссо
создали вас такими, какими вы являетесь теперь. Главное и
необходимое для вас преобразование — это преобразование
протяженности государства. Ваши обширные провинции никогда не позволят
завести строгое управление, свойственное малым республикам. Если
желаете преобразовать ваше правление, для начала сократите
протяженность ваших границ. Возможно, ваши соседи мечтают
оказать вам эту услугу. Это, несомненно, стало бы великим злом для
отделенных частей Польши; но это оказалось бы большим благом
для организма нации.
Допустим, это урезание территории не получится; тогда я вижу
лишь одно средство, которое, возможно, здесь поможет, и, к
счастью, оно заключено в духе ваших учреждений: чтобы разделение на
две Польши оказалось бы столь же заметно, как и разделение
Литвы; пусть у вас возникнет три государства, объединенных в одно.
Я хотел бы, если только это возможно, чтобы у вас стало больше
воеводств. Образуйте в каждом из них нужное количество
обособленных правительственных учреждений. Усовершенствуйте
внешний облик сеймиков, распространите их власть на
соответствующие воеводства; но четко проведите границы и сделайте так, чтобы
ничто не смогло разорвать между ними связь, основанную на
общности законодательства и подчинении организму республики.
Одним словом, займитесь развитием и усовершенствованием строя
федеративных правлений. Только он соединяет в себе
преимущества больших и малых государств, и тем самым это —
единственное, что вам подходит. Если вы пренебрежете этим советом, я
сомневаюсь, что вам когда-нибудь удастся сделать хорошее дело.
Глава VI
ВоЬрос о трех разрядах
Я почти ни разу не слышал, чтобы, рассуждая о правлении, не
выводили его из начал, которые кажутся мне двусмысленными и
неверными. Республика Польша, как это часто говорили и повторяли,
состоит из трех разрядов: всадники, Сенат и король. Я бы
предпочел сказать, что польская нация состоит из трех разрядов:
дворянство является всем, буржуа — никем, а крестьянство — и того хуже.
Если мы считаем Сенат разрядом в государстве, то почему не
рассматриваем в этом смысле как таковую Палату нунциев, столь же
516
Соображения об образе правления в Польше... •-»
обособленную и обладающую не меньшей властью? И даже
больше: это разделение в том смысле, в котором его понимают,
очевидно, неполно, поскольку к нему следовало бы добавить министров,
не являющихся ни королями, ни сенаторами, ни нунциями и, тем
не менее, в не меньшей мере обладающих исполнительной властью.
Каким образом меня убедят в том, что часть, существующая только
в качестве части целого, образует, однако, в отношении целого
разряд, не зависимый от него? Пэрство в Англии, исходя из того что
оно является наследственным, образует, я согласен, отдельный
разряд. Но в Польше стоит устранить всаднический разряд — и нет
больше Сената; поскольку никто не может стать сенатором, если он
не является в первую очередь польским аристократом. Также
исчезнет и король, поскольку именно всаднический разряд его избирает,
и без него король ничего не может предпринять. Но устраните Сенат
и короля: всаднический разряд, а благодаря ему государство и
суверен, сохранят целостность, и с завтрашнего дня он, если ему будет
угодно, образует Сенат и выберет короля, как он делал и раньше.
Однако, хотя Сенат и не образует разряд в государстве, из этого
не следует, что он в нем не играет никакой роли; и даже если он не
является, будучи организмом, хранилищем законов, его члены,
независимо от самого этого организма, в не меньшей степени
обладают законодательными полномочиями; помешать им голосовать во
время заседания сейма всякий раз, когда речь идет о принятии или
отмене законов, означало бы отнять у сенаторов право, которым
они обладают от рождения, ибо в этом случае они голосуют не в
качестве сенаторов, а в качестве простых граждан. Как только
законодательная власть высказывается, восстанавливается равноправие;
всякая иная власть умолкает перед ней; ее голос — это глас Божий
на земле. Даже король, председательствующий в сейме, не имеет
права на нем голосовать, если он — не польский дворянин. С чем
я вполне согласен.
Без сомнения, мне возразят здесь, что я слишком многое
доказываю и что если сенаторы как таковые не наделены правом голоса
в сейме, то они не должны иметь его и в качестве граждан,
поскольку лица, принадлежащие к всадническому разряду, голосуют там не
самостоятельно, но через представителей, а в числе последних
сенаторов нет15. И почему бы они должны голосовать в качестве
частных лиц в сейме, раз ни один дворянин, если только он не нунций,
не может там голосовать? При настоящем положении вещей это
517
*\
Жан-Жак Руссо
возражение кажется мне основательным; но когда осуществятся
предлагаемые мной изменения, то таковое возражение снимается,
поскольку тогда сенаторы сами станут постоянными
представителями нации, которые смогут законодательствовать только при
участии своих коллег.
И пусть мне не возражают, будто соучастие короля, Сената
и всаднического разряда необходимо для создания закона. Это
право принадлежит только всадническому разряду, членами которого
являются сенаторы в качестве нунциев, но в нем Сенат в качестве
организма не принимает никакого участия. Таков есть или, вернее,
должен быть в Польше закон государства: но закон природы, этот
священный и непреложный закон, говорящий сердцу и разуму
человека, не позволяет, чтобы таким образом ограничивалось
влияние законодательной власти и чтобы законы обязывали тех, кто не
голосовал за них лично, подобно нунциям, или, по крайней мере,
через представителей, подобно организму дворянства. Мы не можем
безнаказанно нарушить этот священный закон; и состояние
слабости, в котором пребывает столь большая нация, есть порождение
феодального варварства, ведь при нем от организма государства
отделяется его самая многочисленная, а иногда и самая полезная
часть.
Не дай-то Бог, чтобы я почувствовал необходимость доказывать
здесь то, в чем убедились бы все, обладай они хоть немного
здравым смыслом и состраданием! И откуда Польша думает взять силы
и мощь, которые она словно нарочно ослабляет внутри себя?
Благородные поляки, будьте чем-то большим — будьте людьми.
Только тогда вы станете счастливы и свободны. Но пока вы держите
ваших братьев и сестер в оковах, не обольщайте себя мыслью, будто
вы уже являетесь таковыми.
Я понимаю трудность замысла освободить ваш народ. То, чего
я опасаюсь, — это не только плохо понятые выгоды, себялюбие
и предрассудки хозяев. Как только эти препятствия будут
преодолены, я больше стану опасаться пороков и трусости рабов. Свобода —
пища, при виде которой текут слюнки, но она с трудом
переваривается; необходим здоровый желудок, чтобы с ней справиться. Я
смеюсь над народами с низменным нравом, над теми, что, позволяя
заговорщикам взбунтовать себя, осмеливаются говорить о свободе,
не имея о ней ни малейшего понятия, и с сердцем, полным рабских
пороков, воображают, будто стали свободными, только потому, что
518
Соображения об образе правления в Польше...
-^*
оказались бунтарями. Гордая и священная свобода! Если бы только
эти жалкие люди могли узнать тебя, чем ты являешься, если бы они
понимали, какой ценой тебя добывают и сохраняют, если бы они
только могли почувствовать, насколько твои законы более суровы,
чем ярмо тиранов: их слабые души, пребывая в рабстве страстей,
которые следовало бы смирить, страшились бы тебя в сотни раз
больше, чем рабства; они в страхе бежали бы от тебя как от ноши,
готовой их раздавить.
Освободить народ Польши — это великое и прекрасное
предприятие, но отчаянное, опасное, и к его исполнению не следует
приступать безрассудно. Среди мер предосторожности, которые
следует принять, есть одна необходимая и требующая времени. Она
заключается, в первую голову, в том, чтобы сделать рабов,
подлежащих освобождению, достойными свободы и способными ее
выдержать. Я изложу в дальнейшем один из способов, который
можно при этом использовать. Было бы безрассудно с моей стороны
ручаться за успех, хотя я в нем и не сомневаюсь. Если существует
лучший способ, то пусть им воспользуются16. Но каким бы он ни
был, задумайтесь о том, что ваши рабы — такие же люди, как и вы,
что они также сотканы из материи, позволяющей им стать теми,
кем являетесь вы сами. Потрудитесь сначала задействовать свободу
и не освобождайте рабов телесно, прежде чем освободите их души.
Без этой подготовительной работы считайте, что ваше дело не
будет иметь успеха.
Глава VII
Способы сделать устойгивым государственный строй
Законодательство Польши, как и всей Европы, создавалось
постепенно, отрывочно и по частям. По мере того как обнаруживали
злоупотребление, добавляли закон, чтобы его исправить. От этого
закона вновь появлялись злоупотребления, которые также
требовалось устранить. Этот образ действий не имеет конечного
результата и ведет к самому страшному из всех злоупотреблений, а
именно ослаблению действия всех законов путем умножения их числа.
Ослабление законодательства произошло в Польше особенным
образом, единственным в своем роде: оно потеряло свою силу, хотя
и не оказалось в подчинении у исполнительной власти17. В настоя-
519
*\
Жан-Жак Руссо
щее время законодательная власть, все еще сохраняя все свое
влияние, бездействует, но ничто не довлеет над ней. Сейм является
таким же сувереном, каким он был в момент своего учреждения. Тем
не менее, она утратила свою силу: ничто над ней не царствует, но
ничто ей и не подчиняется. Над этим примечательным положением
дел стоит поразмыслить.
Что до сих пор сумела сохранить за собой законодательная
власть? Постоянное присутствие Законодателя. Именно частота
заседаний сеймов, постоянная смена нунциев сохраняют республику.
Англия, воспользовавшаяся преимуществом частоты заседаний
парламента, потеряла свою свободу, пренебрегая частой сменой
парламентариев. Тот же парламент заседает столь долго, что Двор,
тративший средства на его подкуп каждый год, счел для себя
выгодным покупать его сразу на семь лет и не просчитался. Это
первый урок для вас.
Второе средство, благодаря которому законодательная власть
сохранилась в Польше, это, во-первых, разделение власти
исполнительной, что помешало ее представителям действовать сообща,
чтобы ее подавлять, и, во-вторых, это частый переход этой власти
из рук в руки, что помешало возникновению последовательных
планов ее произвольного захватв. Каждый король в период своего
правления предпринимал некоторые шаги в сторону установления
произвольной власти. Но выборы его преемника заставляли его
действовать с оглядкой, вместо того чтобы продолжать свое дело;
и новые короли в начале своего царствования были вынуждены
в силу pacta conventa начинать все сначала18. Таким образом,
несмотря на привычную склонность к деспотизму, они
по-настоящему не смогли продвинуться вперед.
То же самое случилось с министрами и высшими должностными
лицами. Все они, будучи независимыми от Сената и друг от друга,
обладали — каждый в своем ведомстве — безграничной властью;
но, помимо того, что эти должности взаимно уравновешивали друг
друга, они не закреплялись за отдельными семьями и не обладали
какими-либо неограниченными возможностями, и всякая власть,
даже присвоенная произвольно, всегда возвращалась к своему
источнику. Дело обстояло бы иначе, если бы исполнительная власть
сосредоточилась либо в одном организме, к примеру, в Сенате, либо
в одном семействе из-за наследования короны. Это семейство или
организм, вероятно, рано или поздно сумели бы притеснить зако-
520
Соображения об образе правления в Польше...
нодательную власть и тем самым надеть на поляков ярмо, которое
несут на себе все нации и от которого только лишь две из них
свободны, поскольку я уже не считаю Швецию в числе свободных
стран. Это второй урок.
Вот преимущество, и оно, несомненно, велико. Вот недостаток,
и он нисколько не меньший. Исполнительная власть, будучи
разделенной между многими людьми, лишена согласованности в
действиях своих частей, и это является причиной постоянных раздоров,
несовместимых с добрым порядком правления. Каждый
обладатель части этой власти ставит себя, в силу обладания ею, во всех
отношениях выше магистратов и законов. На деле он признает власть
сейма: но, признавая только эту власть, в момент роспуска сейма он
уже не признает никакую власть; он презирает суды и насмехается
над приговорами. Это те же мелкие деспоты, которые хотя прямо
и не присваивают себе суверенную власть, тем не менее
продолжают угнетать граждан по мелочам, без боязни и угрызений совести,
подавая пагубный и столь часто повторяющийся пример
нарушения прав и свобод частных лиц.
Я полагаю, что в этом заключается первая и основная причина
анархии, царящей в государстве. Чтобы ее устранить, я вижу
только одно средство: речь идет не о том, чтобы облечь
государственной властью отдельные суды, противопоставив их этим мелким
тиранам, поскольку эта власть, порой плохо употребляемая, а иногда
подчиненная вышестоящей силе, могла бы возбудить волнения
и беспорядки, способные постепенно привести к гражданской
войне, а о том, чтобы вооружить силой исполнительной власти
постоянно существующий и уважаемый организм, такой как Сенат,
способный благодаря своей устойчивости и власти удержать в рамках
долга магнатов, желающих уклониться от его исполнения. Это
средство кажется мне действенным и, конечно же, окажется
таковым, но опасность анархии ужасна, и ее очень трудно избежать.
Поскольку, как можно увидеть в «Общественном договоре», всякий
организм исполнительной власти постоянно и настойчиво
стремится подчинить себе власть законодательную, в этом он рано или
поздно преуспевает19.
Чтобы избежать этого неудобства, вам предлагают разделить
Сенат на несколько советов, или ведомств, каждый под
председательством министра, управляющего этим ведомством; каждого
министра, так же как и членов совета, сменяли бы по истечении неко-
521
«-^ч.
Жан-Жак Руссо
его установленного срока, и они менялись бы местами с
должностными лицами иных ведомств. Эта мысль, может быть, хороша; она
принадлежит аббату де Сен Пьеру, которую тот вполне развил в
своей «Полисинодии»20. Исполнительная власть, таким образом
разделенная и действующая время от времени, будет более подчинена
власти законодательной, и различные части управления станут
более развитыми и, каждая по отдельности, окажется более
уступчивой. Однако не стоит слишком рассчитывать на это средство:
если их окончательно разделят, то им недостанет согласованности,
и вскоре они, чиня препятствия друг другу, начнут тратить почти
все свои силы на взаимную борьбу до тех пор, пока одна из сторон
не возьмет верх и не станет господствовать над всеми остальными;
или, если они сговорятся и будут действовать сообща, они
окажутся лишь тем же самым организмом, проникнутым духом единства,
напоминая палаты парламента. Во всяком случае, я менее всего
склонен верить в то, что независимость и равновесие будут между
ними сохраняться столь хорошо, что просто не сможет
образоваться какой-либо центр или правительственное учреждение, в
котором отдельные силы окончательно соединятся, дабы притеснить
суверена. Почти во всех наших республиках советы поделены
таким же образом на ведомства, изначально независимые друг от
друга, но вскоре переставшие таковыми быть.
Это разделение на палаты или ведомства изобретено недавно.
Древним, которым было лучше нас известно, каким образом
сохранить свободу, едва ли было знакомо это средство. Сенат Рима
управлял половиной известного тогда мира, и ему не приходила в голову
даже мысль о подобном разделении. Правда, этому сенату так и не
удалось притеснить власть законодательную, хотя сенаторы и
оставались пожизненными. Однако у законов были цензоры, у
народа — трибуны, а сенат не избирал консулов.
Чтобы управление стало сильным, правильным и в точности
соответствовало своей цели, вся исполнительная власть должна быть
сосредоточена в одних и тех же руках. Но недостаточно того, чтобы
эти руки сменяли друг друга; нужно, чтобы они трудились, по
возможности, только под присмотром Законодателя и чтобы именно
он их направлял. Вот подлинная тайна того, как избежать
присвоения ими власти Законодателя.
Пока сословия собираются, а нунции часто меняются, Сенату
и королю трудно станет притеснить или присвоить законодатель-
522
Соображения об образе правления в Польше... •-»
ную власть. Замечательно, что до сих пор короли и не пытались
реже проводить заседания сеймов, хотя их и не вынуждали, как
королей Англии, собирать их часто из опасения остаться без денег.
Должно случиться так, что или наступит переломное время и при
этом королевская власть окажется не в состоянии справиться с
возникшими обстоятельствами, или же, напротив, короли обеспечат
себе, благодаря своим проискам в сеймиках, постоянное
большинство голосов нунциев, которое окажется в их распоряжении, или,
прикрываясь lïberum veto, они будут уверены в своих возможностях
приостановить прения, могущие им не понравиться, и распустить
сеймы по своей воле. Когда же все эти побуждения перестанут иметь
место, надо полагать, что король, или Сенат, или оба вместе
приложат большие усилия, чтобы избавиться от сеймов и проводить их
настолько редко, насколько это возможно. Вот что весьма важно
предотвратить и чему следует воспрепятствовать. Предложенный
способ является единственным в своем роде; он просто не может не
быть действенным. Довольно странно, что до «Общественного
договора», в котором я его предлагаю, никто еще о нем не
догадался21.
Одно из самых главных неудобств больших государств,
вследствие которого трудно сохранить в них свободу, заключается в том,
что законодательная власть не может там проявлять себя как
таковая и вынуждена действовать через представителей. Во всем этом
есть как хорошее, так и плохое, но больше плохого. Законодателя
в целом невозможно подкупить, но легко обмануть. Его
представителей трудно обмануть, однако легко подкупить, и редко бывает
иначе. У вас перед глазами пример парламента Англии и, благодаря
lïberum veto, пример вашей собственной нации. Конечно, можно
просветить того, кто заблуждается; но как удержать от подкупа того,
кто продается? Не будучи искушенным в польских делах, я готов
держать пари со всем миром, что лица более прозорливы в сейме
и более добродетельны в сеймиках.
Я вижу два способа предотвратить подкуп — это ужасное зло,
которое превращает носителя свободы в орудие ее уничтожения.
Первый способ, как я уже говорил, — частый созыв сеймов, часто
меняющих состав представителей, что превращает их подкуп в дело
дорогое и трудное. В этом отношении ваше государственное
устройство гораздо лучше устройства государства в Великобритании,
и если бы смогли отменить или изменить lïberum veto, то я не вижу,
523
*\
Жан-Жак Руссо
какое еще изменение необходимо произвести, разве что добавить
ограничения в отношении выборов одних и тех же нунциев и
избирать их не более чем на два сейма подряд, таким образом
препятствуя их многократному избранию. Позднее я еще вернусь к этому
вопросу.
Второй способ заключается в том, чтобы обязать
представителей четко следовать их наказам и давать строгий отчет своим
избирателям о своем поведении на сейме. Кроме того, я могу лишь
подивиться той небрежности, беспечности и, смею сказать, глупости
английской нации, которая, наделив своих депутатов высшей
властью, не добавила никакой узды с тем, чтобы они правильно
пользовались этой властью в течение целых семи лет, пока длятся их
полномочия.
Я заметил, что поляки недостаточно понимают значение своих
сеймиков, ни всего того, чем они им обязаны, ни всего того, что они
могут от них получить, расширив их власть и придав им более
правильное устройство. Что касается меня, то я убежден, что если
конфедераты спасли отечество, то сеймики его сохранили, и что
именно в них находится алтарь истинной свободы.
Наказы нунциям надлежит составлять со всей тщательностью
как в отношении вопросов, объявленных в повестке дня, так и в
отношении насущных потребностей государства или провинции: и это
следует делать в комиссии, состоящей из членов, избранных
большинством голосов, под председательством, если можно его так
назвать, маршала сеймика; и дворянству непозволительно ссылаться
на то, что эти наказы не были прочитаны, обсуждены или
одобрены на собрании22. Кроме оригинала этих наказов, врученных
нунциям вместе с их властью, должен оставаться в журналах сеймика
второй экземпляр, подписанный ими. Именно в соответствии с
наказами им надлежит по*возвращении давать отчет о своем
поведении в соответствующих сеймиках, которые, безусловно, следует
восстановить; и в соответствии с этим отчетом их следует либо
отстранить от любой иной последующей нунциатуры, либо сразу
следует объявить, что они вновь будут туда допущены, если их
избиратели были удовлетворены их работой. Эта проверка весьма важна,
внимательность здесь является не лишней, а оценка исполнения не
может не быть самой тщательной. Необходимо, чтобы при каждом
слове, произнесенном нунцием в сейме, при каждом совершенном
им поступке он чувствовал на себе внимание избирателей и то вли-
524
Соображения об образе правления в Польше... ***
яние, которое оказывает их суждение как на его планы сделать
карьеру, так и на уважение соотечественников, необходимое для ее
продолжения. Задача нунциев состоит не в том, чтобы высказывать
свое частное мнение, но в том, чтобы провозглашать волю нации,
отправляющей их в сейм. Эта узда совершенно необходима, дабы
удерживать их в рамках долга и предотвратить всякий подкуп
с чьей-либо стороны. Какие бы возражения мне ни приводили, я не
вижу никаких препятствий к тому, чтобы установить это
ограничение, поскольку палата нунциев, не принимая и не будучи должной
принимать никакого участия в тонкостях управления, вообще не
уполномочена обсуждать что-либо, заранее не предвиденное:
впрочем, если только нунций не сделал что-либо противное явному
волеизъявлению своих избирателей, они не должны считать за
проступок то, что он подает свой голос как добрый гражданин по вопросу,
который они не предусмотрели и по которому они ничего не
определили. Наконец, я добавляю, что в случае если на деле и существует
неудобство держать нунциев в повиновении данным им наказам, то
вовсе не следует сомневаться относительно огромного
преимущества, состоящего в том, что закон станет не чем иным, как
подлинным выражением воли нации.
Но даже после принятия этих мер предосторожности не должно
никогда допускать спора о полномочиях сейма и сеймиков, и когда
закон вынесен на рассмотрение сейма, я не оставляю за сеймиками
даже права возражать. Пусть сеймики наказывают своих нунциев,
пусть даже, если потребуется, отрубают им головы, когда они
нарушают свой долг, но пусть они полностью, всегда, всецело и
безропотно повинуются; пусть сеймики понесут наказание — ибо это
справедливо — за последствия неправильного выбора, но пусть им
будет предоставлено право, если они сочтут нужным им
воспользоваться, делать на ближайшем сейме такие пылкие заявления, какие
только они посчитают уместными.
Так как заседания сеймов часты, они не должны быть слишком
продолжительными; и срок в шесть недель кажется мне вполне
достаточным для принятия решений относительно обычных нужд
государства. Однако противоречием является то, что суверенная
власть устанавливает сама себе препоны, особенно когда она
находится непосредственно в руках нации. Пусть этот срок обычного
заседания сейма продолжает оставаться ограниченным шестью
неделями: в добрый час! Но пусть зависит от собрания, продлять ли
525
«\.
Жан-Жак Руссо
этот срок или нет путем особых прений, когда обстоятельства того
требуют. Поскольку, если сейм, который по своей природе выше
закона, заявляет: Я желаю остаться, кто же ему возразит: Я не желаю,
гтобы ты оставался? Если все же однажды сейм пожелает
продолжать свои заседания более двух лет, он не сможет этого сделать, его
полномочия закончатся, а полномочия следующего сейма начнутся
на третий год. Сейм, который вправе поступать как угодно, может
и без каких-либо возражений установить более продолжительный
промежуток между сеймами; но этот новый закон распространится
только на последующие сеймы, и те, кто его провел, не смогут им
воспользоваться. Начала, из которых эти нормы вытекают,
установлены в «Общественном договоре».
В том, что касается чрезвычайных сеймов, добрый порядок
требует, чтобы они созывались редко и только в случае крайней
необходимости. Если король сочтет, что такая необходимость есть, как
я считаю, ему следует в этом случае доверять: но иногда, вопреки
необходимости, он, возможно, воспротивится его созыву. Нужно ли
в этом случае, чтобы решение вынес Сенат? В свободном
государстве следует предвидеть все случаи покушения на свободу. Если
сохранить конфедерации, то они могли бы в отдельных случаях
сыграть роль чрезвычайных сеймов: но если вы отмените
конфедерации, то совершенно необходимо установить внутренний
распорядок работы сеймов.
Мне представляется невозможным, благоразумно предусмотреть
в законе продолжительность чрезвычайных сеймов, ибо она
полностью зависит от характера дел, ради решения которых они
созваны. Обычно здесь необходима быстрота, но она зависит от характера
вопросов, которые не вписываются в порядок обсуждения текущих
дел. В этом случае нельзя заранее что-либо определить по
подобному вопросу, и могут возникнуть такие обстоятельства, что
окажется весьма важным, чтобы либо сейм продолжал заседания до
тех пор, пока они не изменятся, или же избрание обычного сейма не
прекратит полномочия сейма чрезвычайного.
Чтобы сберечь время, столь ценное на заседаниях сеймов, нужно
постараться устранить из собраний бесполезные прения, ведущие
к его потере. Безусловно, на нем необходимо не только соблюдать
правила и распорядок, но и соответствующий церемониал и величие.
Я даже желал бы, чтобы об этом особенно позаботились и чтобы
люди понимали, к примеру, что это — варварство и ужасное непри-
526
Соображения об образе правления в Польше...
личие, когда на сейме появляется лицо с оружием в руках,
оскверняя святилище законов. Поляки, разве вы более воинственны, чем
римляне? Ведь никогда, даже во времена самых значительных
потрясений в их республике, вид меча не оскорблял комиции и сенат.
Но я также желал бы, чтобы, уделяя пристальное внимание вещам
важным и необходимым, избегали делать все то, что можно сделать
столь же хорошо в ином месте. Например, руги, то есть проверка
законности избрания нунциев, — это потеря времени на сейме. Не
то чтобы такая проверка не важна, но она может быть проведена
столь же хорошо и даже лучше в том месте, где они были избраны,
где их лучше знают и присутствуют все их соперники. Именно в их
воеводстве, в сеймике, который избирает их депутатами, можно
лучше удостовериться в правильности их избрания, потратив меньше
времени, как это делается в отношении комиссаров из Радома и
заседателей в Верховный суд23. После этого сейму надлежит
допустить депутатов к работе без обсуждений, по предъявлении лауду-
ма24, заверенного должностными лицами, избранными сеймиками,
который они принесут с собой; и это нужно для того, чтобы заранее
устранить не только помехи, способные замедлить избрание
маршала, но и всякие происки, с помощью которых сенат и король
могли бы воспрепятствовать выборам и допустить самоуправство
в отношении тех подданных, которые им неугодны. То, что недавно
произошло в Лондоне, — урок для поляков. Мне известно, что этот
Уилкс25 — всего лишь смутьян, но лишение его прав депутата
означает, что дорожка проторена, и отныне в Палату общин допустят
лишь подданных, угодных двору.
С самого начала следует проявить большее внимание к выбору
членов сеймиков, обладающих в них правом голоса. Таким образом
можно будет легче выявить тех, кого можно избрать в нунциатуру.
«Золотая Книга Венеции» — образец, которому необходимо
следовать в силу открываемых им возможностей. Было бы удобно и
весьма легко составить в каждом городе точный список всех
благородных: они, при соблюдении требуемых условий, были бы избраны и
получили бы право голоса в сеймиках; их вписали бы в список
дистрикта по мере достижения требуемого законом возраста, и из него
вычеркивали бы имена тех, кого следует оттуда в необходимых
случаях исключить, и указывали причину их исключения.
Благодаря спискам, которым следует придать подобающий вид, легко
можно было бы выявить как законно избранных членов сеймика, так
527
*\
Жан-Жак Руссо
и подданных, достойных избрания в нунциатуру, а
продолжительность споров по этому вопросу сильно сократилась бы. Наилучшее
благочиние в сейме и сеймиках, безусловно, весьма полезная вещь,
но я не стану слишком настойчиво повторять то, что не следует
желать одновременно двух противоположных вещей; благочиние
хорошо, а свобода лучше; и чем больше вы стесняете свободу
внутренними распорядками, тем больше они открывают возможности
для присвоения прав. Все способы, которыми вы воспользуетесь,
с тем чтобы остановить произвол в порядке принятия законов, хотя
бы сами по себе и хорошие, рано или поздно станут использовать
для притеснения свободы. Долгие и бесполезные торжественные
речи есть большое зло, ведущее к потере столь драгоценного
времени; но великое благо, когда добрый гражданин осмеливается
говорить лишь тогда, когда он имеет сказать нечто полезное. Как только
на заседаниях сейма лишь немногим дозволят открывать рот и
запретят говорить все, что заблагорассудится, они станут говорить
лишь то, что угодно сильным мира сего.
После необходимых изменений в назначениях на должности
и в распределении милостей, по всей вероятности, станет меньше
угодливости и торжественных речей подобного рода, обращенных
к королю. Можно было бы, однако, дабы «отжать воду» словесных
ухищрений и витиеватости, обязать любого оратора,
произносящего торжественную речь, высказывать в начале своего выступления
предложение, которое он желает сделать, и, после того как он
изложит свои доводы, он должен сделать общие выводы, следуя
примеру королевских представителей в судах. Это не сделало бы
выступления более краткими, но сдерживало бы тех, кто желает говорить
только для того, чтобы ничего не сказать и потратить время на
бесполезные речи.
Я не очень хорошо знаком с порядком, установленным в сеймах
при принятии законов; но я уверен, что в силу прежде названных
причин этот порядок не должен быть таким же, как в парламенте
Великобритании, и что польский Сенат должен обладать властью
управленческой, а не законодательной; что в случае принятия
любого закона сенаторам следует голосовать только в качестве членов
сейма, а не членов Сената, и что голоса следует подсчитывать
поголовно, то есть одинаково в обеих палатах. Может быть,
применение liberum veto и помешало провести это различие, однако оно ста-
528
Соображения об образе правления в Польше...
нет крайне важным, когда liberum veto отменят; тем более что
Палату нунциев лишат еще одного весьма значительного преимущества,
ибо я даже не допускаю, что сенаторы, а в еще меньшей степени
министры когда-либо получат это право. Вету польских нунциев
соответствует вето народных трибунов в Риме. Однако они
осуществляли это право не в качестве граждан, а в качестве представителей
римского народа. Потеря liberum veto — это потеря только для
Палаты нунциев; организм Сената ничего от этого не потеряет и,
следовательно, только выиграет.
С учетом сказанного, я вижу в сейме один недостаток, который
необходимо исправить: дело в том, что количество сенаторов почти
равно количеству нунциев, Сенат же обладает слишком большим
влиянием в прениях и может с легкостью получить перевес
благодаря уважению, которым он пользуется во всадническом разряде,
и выиграть небольшое количество необходимых ему голосов26.
Я утверждаю, что это — недостаток; поскольку Сенат, будучи
особым организмом в государстве, безусловно, имеет соображения
выгоды, отличные от соображений остальных организмов нации,
а они иной раз могут противоречить последним. Однако закон,
являющийся выражением общей воли, есть итог, полученный вследствие
сочетания всех соображений частной выгоды, уравновешенных их
большинством. Но поскольку соображения выгоды организма
обладают слишком значительным весом, то они нарушат равновесие,
поэтому и не следует допускать, чтобы они проникали туда сообща.
Любая личность должна обладать своим собственным голосом, но
не никакой отдельно взятый организм. Однако, если бы Сенат имел
больше веса в сейме, то он не только привносил бы туда свои
собственные соображения выгоды, но и они стали бы там
преобладающими27.
Средство устранить этот недостаток, соответствующее природе,
обнаруживается само собой: увеличить количество нунциев;
однако я опасаюсь, как бы это не породило в государстве слишком
много изменений и не привело к смуте, свойственной демократии. Если
бы оказалось совершенно необходимо изменить это соотношение,
то вместо того чтобы увеличить количество нунциев, я бы
предпочел скорее уменьшить число сенаторов. И, по сути, я не вижу
причины, почему, коль скоро во главе каждой провинции стоит
великий воевода, необходимы еще и великие кастелланы. Но давайте не
529
*~^
Жан-Жак Руссо
будем терять из вида важность следующего правила: ничего не
менять без необходимости, ни устраняя, ни добавляя.
По-моему, лучше, если существует один совет, менее
многочисленный, и предоставлено больше свободы тем* кто в него входит,
нежели увеличивать его состав и стеснять свободу прений, поскольку
это всегда приходится делать, когда количество их участников
становится слишком велико. Добавлю, что если и возможно
предвидеть благо и зло, нужно избегать того, чтобы сейм стал весьма
многочисленным, дабы не лишить себя возможности допустить туда
однажды, не производя замешательства, новых депутатов, если
дело дойдет до предоставления дворянских прав в городах и
освобождения крестьян, как того следует желать ради могущества и счастья
нации.
Давайте же поищем способ найти средство устранить этот
недостаток иначе и, по возможности, с наименьшими изменениями.
Все сенаторы назначаются королем и, как следствие, являются
его ставленниками; к тому же, они назначаются пожизненно, и
посему образуют организм, не зависимый как от короля, так и от
всаднического разряда, организм, который, как я уже говорил, имеет
особые соображения выгоды и склонен присваивать власть. И не
следует обвинять меня здесь в противоречии, коль скоро я
допускаю, что Сенат есть организм в республике, отличный от других,
хотя я и не допускаю, что он является разрядом, входящим в
республику, поскольку в этом заключается важное отличие28.
Во-первых, следует отобрать у короля право назначения в Сенат
не столько по причине влияния, которое он сохраняет при этом на
сенаторов и которое может быть и невелико, сколько по причине
влияния на всех тех, кто желает ими стать, и через них на весь
организм нации в целом. Кроме пользы от этого изменения для
государственного устройства, при этом возникнет неоценимое
преимущество в том, чтобы укротить придворный дух у знати и заменить
его духом патриотическим. Я не вижу никакого неудобства, если
сенаторов станет назначать сейм, и усматриваю в этом великое благо,
достаточно понятное и не нуждающееся в пояснениях. Это
назначение можно производить сразу на сейме или раньше, на сеймиках,
путем представления известного числа подданных на
освободившееся место в соответствующих воеводствах. Сейм остановит свой
выбор на некоторых из них или изберет из них еще меньшее число
лиц, право выбора среди которых можно предоставить королю. Но
530
Соображения об образе правления в Польше...
*s*
почему бы сразу не пойти по самому простому пути и каждого
воеводу не избрать от его провинции непосредственно в сейм? Какое
неудобство может возникнуть от этих выборов для воеводы
Полоцка, Витебска и для старосты Самогитии? И какую беду мы бы
накликали, если привилегия этих трех провинций станет общим
для всех правом? Давайте не будем терять из виду, насколько важно
для Польши изменить государственное устройство в сторону
содружества, чтобы избежать, насколько это возможно, бед,
причиняемых размерами или, вернее, протяженностью государства29.
Во-вторых, если вы добьетесь того, что сенаторы перестанут
быть пожизненными, вы в значительной степени ослабите
соображения выгоды организма, стремящегося к захвату власти. Но у этого
предприятия есть свои сложности: во-первых, потому, что
человеку, привыкшему руководить общественными делами, трудно в
одночасье стать частным лицом, не совершив при этом никакого
проступка; во-вторых, в силу того, что должности сенаторов соединены
со званиями воевод и кастелланов, и им принадлежит власть на
местах; при этом возникли бы беспорядки и недовольства от
постоянного перехода этих званий и власти от одного лица к другому.
Наконец, эта сменяемость не может распространяться на епископов
и не должна распространяться на министров, должности которых,
требующие особых талантов, не всегда легко отправлять. Если сан
епископов станет пожизненным, то власть духовенства, и без того
достаточно сильная, значительно возрастет; важно, когда эту власть
уравновешивает власть сенаторов, звание которых, так же как и
звание епископов, тоже пожизненно, и они не менее епископов
опасаются смещения с должности.
Вот какое средство устранить это неудобство я придумал. Я желал
бы, чтобы должности сенаторов первого ранга продолжали
оставаться пожизненными. Это привело бы к появлению восьмидесяти
девяти несменяемых сенаторов, включая, помимо епископов и
воевод, всех кастелланов первого ранга.
Что касается кастелланов второго ранга, то я хотел бы, чтобы их
должности стали временными: либо на два года после новых
выборов на сеймике, либо на более долгий срок, если это сочтут
уместным; но им всегда надлежит оставлять свои должности по истечении
срока своих полномочий, кроме тех из них, кого сейм пожелает
переизбрать на новый срок: я допускаю это переизбрание только опре-
531
Жан-Жак Руссо
деленное количество раз в соответствии с замыслом, о котором речь
пойдет позднее.
Такое препятствие, как звания, оказалось бы очень
незначительным, поскольку эти звания связаны всего лишь с правом
заседать в Сенате; их можно было бы безо всяких неудобств отменить,
и вместо званий кастелланов скамьи они получили бы звание
сенаторов-депутатов. Поскольку, согласно этому преобразованию,
Сенат, облеченный высшей исполнительной властью, постоянно
собирался бы в определенном составе своих членов, соответствующее
количество сенаторов-депутатов также было бы обязано
поочередно на нем присутствовать. Но здесь невозможно вести речь о
подобных мелочах30.
Благодаря такому едва заметному изменению, эти кастелланы
или сенаторы-депутаты стали бы настоящими представителями
сейма и составили бы противовес Сенату, усилив влияние
всаднического разряда в собраниях нации таким образом, что
пожизненные сенаторы, хотя и оказавшиеся более могущественными как
в силу отмены вето, так и в силу уменьшения объема королевской
власти и власти министров, частично смешанной в их организме, не
могли бы сделать господствующим дух своего организма; и Сенат,
состоящий пополам из членов временных и членов пожизненных,
получил бы, насколько возможно, более правильное устройство,
чтобы образовать промежуточную власть между Палатой нунциев
и королем, обладая одновременно достаточной силой для решения
вопросов управления и в полной мере находясь в зависимости от
законов. Это преобразование кажется мне хорошим, потому что
оно простое и при этом дает важный результат.
Чтобы умерить злоупотребления вето, предлагают считать
голоса нунциев не поголовно, а по воеводствам. Необходимо крайне
тщательно поразмыслить над этим изменением перед тем, как его
осуществить, хотя и здесь имеются и свои преимущества, и это
изменение благоприятно для создания содружества. Голоса,
посчитанные целиком и поданные сообща, менее отчетливо выражают
общую выгоду, нежели голоса, посчитанные обособленно, с учетом
голоса каждого в отдельности. Среди нунциев воеводства часто во
время обычных прений один из них сможет возобладать над
другими и подчинить большинство своему мнению, тогда как этого не
случится, если каждый голос будет независим. Так желающие
подкупить получат меньше возможностей и смогут лучше узнать тех,
532
Соображения об образе правления в Польше...
к кому обращаются с речью. К тому же, если каждый нунций
отвечает перед сеймиком за себя самого, никто не сваливает вину на
другого и никто не станет путать невиновного с виноватым, а
распределительная справедливость будет соблюдаться наилучшим
образом. Немало доводов приводится против этих порядков, которые
сильно ослабили бы общую связь и могли бы на каждом сейме
подвергнуть государство опасности раскола. Поставив нунциев в
большую зависимость от наказов их избирателей, мы получаем почти то
же преимущество, но безо всяких неудобств. Это предполагает,
правда, что одобрение выразят не путем голосования, но открыто,
с тем чтобы стали известны поведение и мнение каждого нунция
в сейме и чтобы он отвечал сам за себя. Однако, поскольку этот
способ одобрения является одним из тех, о которых я весьма
обстоятельно рассуждал в «Общественном договоре», то было бы
излишне здесь повторяться.
Что касается выборов, здесь мы поначалу, возможно, встретим
некоторые затруднения как в этом случае, назначая сразу на каком-
либо сейме столько сенаторов-депутатов, так и вообще в случае
выборов большого числа лиц из еще большего. Эти затруднения
вновь будут рассмотрены в плане, который я собираюсь
предложить. Но, прибегая для этой цели к баллотировке, мы легко
избавимся от этого затруднения благодаря напечатанным и
пронумерованным карточкам, розданным избирателям накануне выборов, где
укажут имена всех соискателей, из которых следует выбирать.
На следующий день избиратели поочередно бросят в корзину
свои карточки, отметив предварительно на них тех, кого они
выбирают, или тех, кого они исключают, согласно разъяснениям,
помещенным в верхней части карточки. Проверка этих самых карточек
будет осуществляться тотчас же, перед всем собранием, секретарем
сейма с помощью двух других секретарей ad actum31, назначенных
маршалом тут же из числа присутствующих нунциев. Благодаря
такому способу дело оказалось бы простым и быстрым, и без споров
и шума места в Сенате легко заполнились бы в течение одного
заседания. Правда, потребовалась бы еще норма, определяющая состав
соискателей; но это будет рассмотрено в своем месте и не будет
забыто.
Осталось лишь сказать о короле, председательствующем на
сейме и, в соответствии с занимаемой им должностью, являющемся
высшим должностным лицом, применяющим законы.
533
«\
Жан-Жак Руссо
Глава VIII
О короле32
Великое зло, если глава нации является прирожденным врагом
свободы, защитником которой он должен быть. Это зло, по моему
разумению, не настолько присуще этой должности, чтобы его нельзя
было отделить от нее или, по крайней мере, значительно умерить.
Не бывает искушения без надежды. Сделайте захват власти
невозможным для ваших королей, и у них не появится этой прихоти; они
станут хорошо вами управлять и защищать вас всеми силами,
которые они теперь прилагают, чтобы вас поработить. Основатели
Польши, как заметил господин Виельгорский, позаботились отнять
у королей средства причинять вред, но не средства совершать
подкуп; и милости, раздатчиками которых они являются, открывают
бесчисленные возможности для этого. Трудность заключается в том,
что, лишая их возможности раздавать милости, мы, кажется,
лишаем их всего. Именно этого и не стоит делать, поскольку в таком
случае лучше уж вовсе не иметь короля. Мне представляется, однако,
невозможным, чтобы в столь большом государстве, как Польша,
смогли без него обойтись: это значило бы обходиться без высшего
и пожизненного правителя. Но если только глава нации не
является полным ничтожеством и, как следствие, бесполезным лицом,
важно, чтобы он хоть на что-нибудь сгодился; и как бы мало он ни
делал, это, безусловно, будет либо во благо, либо во зло.
Теперь весь Сенат назначается королем: это крайность. Если
король совсем не участвует в этом назначении — это недостаток.
Хотя пэры в Англии тоже назначаются королем, они менее зависят
от него, поскольку пожалованное однажды пэрство становится
наследственным, тогда как в Польше епископства, воеводства и ка-
стелланства хотя и являются пожизненными, но после смерти
каждого, кто носит это звание, в руках короля оказывается право
назначения.
Я сказал, как мне кажется, каким образом следовало бы
производить это назначение, то есть назначение воевод и пожизненных
великих кастелланов — соответствующими сеймиками, а временных
кастелланов — второго ранга сеймом. В отношении епископов мне
представляется весьма трудным делом отобрать у короля право их
назначения, разве что избирать их в капитулах: и я полагаю, что его
534
Соображения об образе правления в Польше... ^-»
можно за ним оставить, за исключением права назначения в
архиепископство Пюзненское, естественно, принадлежащее сейму, если
только не захотят лишить этого архиепископа сана примаса,
который он по праву носит33. Что касается министров и, в
особенности, главных генералов и великих казначеев, хотя их могущество,
являющееся противовесом могуществу короля, и должно быть
соответствующим образом уменьшено, мне кажется неосторожным
оставить королю право заполнять эти должности своими
ставленниками, и я хотел бы, чтобы его выбор ограничивался небольшим
количеством подданных, представленных сеймом. Я согласен, что,
не имея возможности снять с должностей, однажды на них
назначив, он более не сможет полностью рассчитывать на тех, кто их
занимает. Но назначение на эти должности дает ему достаточно
власти над соискателями, и если не столько, сколько нужно для того,
чтобы он смог изменить облик правления, то, во всяком случае,
достаточно, чтобы сохранить у него на это надежду, а именно ее-то
у него и следует отнять любой ценой.
Что касается великого канцлера34, то он должен, как мне
кажется, назначаться королем. Короли являются судьями своего народа
по праву рождения; именно для этой должности, хотя они все о ней
и позабыли, они были поставлены; их нельзя ее лишить; когда они
не желают ее исполнять самостоятельно, то назначение их
наместников в этой части управления является их правом, потому что
именно они должны отвечать за приговоры, которые выносятся от
имени короля. Правда, нация может добавить к ним заседателей
и должна это сделать, когда короли не судят сами: ведь Королевский
суд, где председательствует не сам король, а великий канцлер,
находится под надзором нации; и именно по этой причине сеймики
туда назначают остальных заседателей. Если король судит сам,
я полагаю, что у него сохраняется право судить единолично. При
любом раскладе его выгода заключалась бы в том, чтобы всегда
быть справедливым; и никогда несправедливые приговоры не
открыли бы путь к захвату власти.
В отношении же прочих званий, как придворных, так и в
воеводствах, которые носят лишь почетный характер и придают более
блеска, нежели влияния, то лучше всего предоставить королю
полное распоряжение этим правом. Пусть у него будет возможность
награждать почестями тех, кто их заслуживает, и потакать их
тщеславию; но пусть он не имеет возможности даровать власть.
535
*\
Жан-Жак Руссо
Великолепие создает величие престола; однако важно, чтобы
определение необходимых для этого затрат как можно менее
зависело от короля. Остается только желать, чтобы все королевские
должностные лица состояли на жаловании республики, а не на
жаловании у короля, и сообразно с этим сократили все королевские
доходы, чтобы он, по возможности, как можно меньше касался
государственных финансов.
Предлагали сделать корону наследственной. Но будьте уверены,
что в тот момент, когда этот закон примут, Польше придется
навсегда распрощаться со своей свободой. Думают, что для борьбы
с этим злом достаточно ограничить королевскую власть, и при этом
не замечают, что эти пределы, установленные законом, будут со
временем нарушены благодаря постепенному присвоению власти
и что усвоенные королевской семьей взгляды на власть, которых она
неукоснительно придерживается, в дальнейшем возьмут верх над
законодательством, по своей природе постоянно склонным к
ослаблению. Если король не сможет подкупить вельмож с помощью
милостей, то он всегда сможет это сделать с помощью обещаний,
ручаться за исполнение которых станут его наследники; и поскольку
планы, задуманные королевской семьей, будут и дальше
осуществляться, то доверие к его обещаниям окажется выше, и станут
больше рассчитывать на их исполнение, чем в том случае, когда
выборная корона устанавливает пределы осуществления планов монарха
рамками его жизни. Польша свободна потому, что перед каждым
царствованием есть промежуток времени, когда нация снова
вступает в свои права и снова обретает мощь, пресекая рост
злоупотреблений и захват власти; когда законодательство вновь получает
силу и использует свой основной рычаг. Что же станется с pacta
conventa, путеводной звездой Польши, когда какое-нибудь
семейство, утвердившись на троне навечно и без перерывов, займет его
и оставит нации между смертью отца и коронацией сына только
лишь тень никчемной и ничем не обеспеченной свободы, которую
вскоре уничтожит исполненная жеманства клятва, приносимая
всеми королями при их помазании и тотчас же предаваемая
забвению? У вас перед глазами примеры Дании, Англии и Швеции35.
Усвойте на этих примерах раз и навсегда, что сколько бы мер
предосторожности ни изобретали, наследование трона и свобода
нации всегда останутся двумя несовместимыми вещами.
536
Соображения об образе правления в Польше...
Поляки неизменно стремились передавать корону по наследству
от отца к сыну и далее к ближайшему родственнику, хотя и всегда
на правах избрания. Эта склонность, если они будут продолжать ей
следовать, приведет рано или поздно к несчастью,
заключающемуся в наследовании короны; им не следует надеяться на то, что они
так же долго смогут бороться против королевской власти, как
члены Германской империи с властью императора, потому что в
государственном устройстве Польши нет достаточных противовесов,
способных удержать наследственного короля в повиновении
закону. Несмотря на могущество многочисленных членов империи, не
случись избрания Карла VII, императорские уступки превратились
бы во всего всего-навсего сборник бессмысленных документов,
каким он и был в начале этого века; и pacta conventa станут еще более
бесполезными, когда в Польше у королевской семьи останется
время на то, чтобы укрепить свое положение и подмять всех под себя36.
Мое мнение по этому вопросу, одним словом, таково, что
избранный монарх с самой безграничной властью для Польши лучше, чем
наследуемая корона с почти ничтожной властью.
Вместо этого рокового закона, который превратил бы корону
в наследственную, я предложил бы нечто противоположное, что
в случае одобрения укрепило бы свободу в Польше, а именно:
следует ввести как основной закон, что корона никогда не будет
переходить от отца к сыну и любого сына короля Польши навеки лишат
возможности занимать престол. Я говорю, что предложил бы этот
закон, если бы это потребовалось; но, имея в виду план,
осуществление которого привело бы к тому же результату, я объяснюсь в
надлежащем месте, полагая, что в результате его осуществления
сыновья будут исключены из порядка наследования престола отцов, по
крайней мере, непосредственно; я намерен показать, что хорошо
обеспеченная свобода окажется единственным преимуществом,
которое последует из подобного исключения. При этом возникнет
еще одно крайне важное преимущество: отнять всякую надежду
захватить престол и передать детям произвольную власть
значит направить всю деятельность короля к славе и процветанию
государства. Это — единственная дорога, открытая его честолюбию.
Именно таким образом правитель нации пеестанет быть ее
прирожденным врагом, но первым из граждан; именно так он свершит
великие дела, прославляющие его царствование, благодаря
полезным учреждениям он будет дорог народу, уважаем соседями, кото-
537
*\
Жан-Жак Руссо
рые по смерти благословят память о нем; именно так, лишенный
возможности вредить и вводить в соблазн, а ее-то никогда не
следует ему оставлять, он сочтет уместным увеличивать свое
могущество всем тем, что может споспешествовать общему благу. У него
недостанет непосредственных и прямых возможностей действовать
самостоятельно; однако же у него появится больше влияния, права
надзора и проверки для того, чтобы удерживать каждого в рамках
долга и руководить правительством, направляя его к истинной
цели. Председательство в сейме, в Сенате и во всех организмах,
строгая проверка поведения всех высокопоставленных лиц, постоянная
забота о соблюдении правосудия и неподкупности во всех судах,
сохранение порядка и спокойствия внутри государства, создание
ему прочного положения вовне, командование армиями во время
войны, полезные учреждения в мирное время — вот главное в
служении государя, и это будет его занимать в достаточной мере, если
он пожелает исполнять свои обязанности самостоятельно.
Поскольку отдельные части управления доверят министрам, для сего
назначенным, то сочтут преступлением короля Польши препоручение им
своим любимцам тех из них, что возложены лично на него. Пусть
он занимается своим ремеслом самостоятельно или отказывается
от него: важный пункт, который нация не должна оставлять без
внимания.
Именно на таких началах следует поддерживать равновесие
и умеренность в действиях властей в области законодательства
и управления. Объем этих властных полномочий, находящихся в
руках тех, кому они вручены и, по возможности, наилучшим образом
между ними распределены, должен прямо зависеть от их числа
и находиться в обратной зависимости от времени их пребывания
в должностях. Партиям, составляющим сейм, следует внимательно
наблюдать за тем, чтобы соотношение было наилучшим. Палата
нунциев, самая многочисленная, окажется также и самой
могущественной; но все ее члены будут часто сменяться. Сенат, менее
многочисленный, наделят меньшей долей законодательной власти, но
большей долей власти исполнительной; и его члены, входя
одновременно в состав этих двух различных организмов, станут
избирать отчасти временно, отчасти пожизненно, как это и подобает на
выборах промежуточного организма. Король, который их
возглавляет, избран пожизненно; и его власть, все еще значительная в об-
538
Соображения об образе правления в Польше...
ласти надзора, находится в пределах, установленных Палатой
нунциев в том, что касается вопросов законодательства, и Сенатом в
вопросах управления. Однако, чтобы упрочить равенство, то есть
начало устройства государства, ничто не должно передаваться по
наследству, кроме принадлежности к благородному сословию. Если
корона наследуется, то для сохранения равновесия надлежит
сделать наследственным и пэрство или сенаторский разряд, как в
Англии. Но в этом случае всаднический разряд окажется приниженным
и потеряет свою власть, а Палата нунциев, как и Палата общин в
Англии, не получит права ежегодно открывать счет и подводить
баланс государственной казны, и польское государственное
устройство опрокинется вверх дном37.
Глава IX
Особые пригины анархии38
Сейм, соразмерный по своему составу, сохраняя внутреннее
равновесие, станет источником хорошего законодательства и хорошего
управления. Однако для этого необходимо, чтобы разряды
пользовались уважением, а их права не нарушались. Пренебрежение к
законам и анархия, с которыми Польша доселе уживалась, возникли
по вполне понятным причинам. Я уже указывал ранее на главную
из них; я также указал и на средство их исправить. Прочие
сопутствующие причины суть следующие: 1. Liberum veto 2. Конфедерации
и 3. Злоупотребление правом содержать военных у себя на службе,
которым грешат частные лица.
Это последнее таково, что если мы не начнем с его устранения,
то все остальные преобразования окажутся бесполезны. Если
частные лица получат возможность оказывать сопротивление
действиям исполнительной власти, то они вскоре сочтут, что и в самом деле
имеют на это право; и если они начнут затевать между собой войны,
то как же тогда сохранить мир в государстве? Я признаю, что
крепости требуют охраны; но почему эти крепости крепки в
противодействии гражданам и слабы в сопротивлении врагам? Я опасаюсь, как
бы это преобразование не добавило трудностей; тем не менее, я не
считаю их непреодолимыми; и если только могущественный
гражданин станет разумным, то он без труда согласится не держать у
себя на службе военных, когда ни у кого другого их не будет.
539
*\
Жан-Жак Руссо
Я намереваюсь поговорить об этом после раздела о военных
учреждениях; итак, я помещаю в другой раздел то, что я должен был
бы сказать в этом.
Lïberum veto не является правом, порочным самим по себе; но как
только оно выходит за свои пределы, оно становится наиболее
опасным из всех злоупотреблений. Оно служило порукой общественной
свободы; теперь же оно — орудие угнетения. Чтобы устранить это
пагубное злоупотребление, остается лишь полностью уничтожить
его причину. Но человек скорее склонен дорожить личными и
исключительными правами, чем общими и значительными
преимуществами. Только проясненный опытом патриотизм мог бы научить
приносить в жертву более великим благам полное блеска право,
ставшее пагубным в силу злоупотребления им, а от него это
злоупотребление отныне неотделимо. Все поляки должны живо
ощутить те беды, которые их заставляет претерпевать это злополучное
право. Если им по нраву порядок и мир, то у них нет иного способа
установить у себя и тот, и другой, если они в дальнейшем сохранят
это право, полезное при образовании политического организма
или тогда, когда этот организм достиг полного совершенства, но
бессмысленное и пагубное, если еще необходимо провести
преобразования, особенно в столь крупном государстве, окруженном
соседями могущественными и честолюбивыми.
Lïberum veto стало бы менее неразумным правом, если бы оно
касалось только основных вопросов государственного устройства; но
то, что оно, как правило, применяется на любых прениях сейма,
недопустимо ни при каких обстоятельствах; оно является очевидным
пороком польского государственного устройства, поскольку при
этом законодательство и государственное управление недостаточно
различаются, и сейм, осуществляя законодательную власть,
привносит в нее то, что относится к управлению, и без разбора принимает
решения, не проводя грань между теми, что надлежит выносить
суверенной власти, и теми, что выносит правительство, и даже часто
принимает решения смешанного характера, в силу которых его
члены одновременно действуют и как магистраты, и как
законодатели.
Предложенные преобразования позволят лучше провести
различие между этими двумя властями и тем самым лучше обозначить
пределы Lïberum veto. Ибо я не считаю, что кому-нибудь вообще
может прийти в голову мысль распространить его на область чис-
540
Соображения об образе правления в Польше...
-/-»
того управления, что означало бы уничтожить гражданскую власть
и правление в целом.
В силу естественного права обществ единогласие требуется при
создании политического организма и основных законов, от
которых зависит его существование: таковы, например, поправка
первая, пятая, девятая и одиннадцатая, упомянутые на псевдосейме
1768 года. Однако единогласия, необходимого при принятии этих
законов, следует также требовать и при их отмене. Вот случаи, при
которых Lïberum veto можно сохранить. И поскольку речи не идет
о его полном уничтожении, поляки, без особого ропота
сократившие объем этого права на незаконном сейме 1768 года, должны без
каких-либо затруднений урезать и ограничить его на более
свободном и правомочном сейме.
Следует хорошенько взвесить и обдумать главные статьи,
которые вносят в основные законы; и только касательно их будет
дозволено применить силу Lïberum veto. Таким образом мы сделаем
государственное устройство прочным, а эти законы насколько
возможно нерушимыми. Навязывать себе те законы, что невозможно
отменить, противно природе политического организма, однако то
обстоятельство, что можно отменить эти законы столь же
торжественно, как они были приняты, не противоречит ни природе, ни
разуму. Вот оковы, которые этот организм получит в будущем. Их
вполне достаточно, чтобы укрепить государственное устройство,
потакая при этом любви поляков к Lïberum veto и не подвергая себя
в дальнейшем опасности злоупотреблений, им порожденных.
Что же касается множества статей, которые зачем-то отнесли
к основным законам, составляющих просто свод законодательства,
так же как и все те, что относят к ведению государства, то они в силу
непостоянства вещей подвергаются необходимым изменениям,
производя которые нет нужды требовать единогласия. Кроме того,
в некоторых случаях нелепо, когда один член сейма может
прекратить его деятельность и отставка или возражение одного или
нескольких нунциев способны привести к роспуску собрания, и
таким образом суверенная власть будет уничтожена. Следует отменить
это варварское право и выносить смертные приговоры всякому, кто
осмелится им кичиться. В случае несогласия с решениями сейма,
чего не может быть, пока он свободен и собирается в полном
составе, правом возражать следует наделить воеводства и сеймики, а не
541
«^
Жан-Жак Руссо
нунциев, которые в качестве членов сейма не вправе оказывать на
него ни малейшего влияния или отказываться признавать его
решения.
Между veto, являющимся наивысшей силой, которой наделено
лицо в качестве члена суверенной власти и которую следует
применять только в отношении законов поистине основных, и
большинством голосов, менее необходимым, когда оно относится к
вопросам простого управления, существуют различные законодательные
предложения, и при голосовании по ним можно определить
надлежащее большинство голосов в зависимости от значимости вопросов.
Например, допустимо требовать минимум трех четвертей голосов,
когда речь идет о законодательной власти, двух третей — в
вопросах, касающихся государственной жизни, простого большинства —
на выборах и в решении прочих текущих и насущных вопросов. Это
всего лишь пример для объяснения моей мысли, но не указанное
мною соотношение.
В таком государстве, как Польша, где души все еще обладают
значительной внутренней силой, возможно сохранить в
неприкосновенности и без особых опасений закон Liberum veto, и, может
быть, даже с некоторой выгодой, при условии что пользование им
станет опасным, а для тех, кто вздумал бы им кичиться, возникли
серьезные последствия. Поскольку, смею сказать, очень уж странно
ведет себя тот, кто прерывает таким способом деятельность сейма
и оставляет государство в растерянности, а потом уходит, чтобы
спокойно и безнаказанно радоваться у себя дома унынию
общества, в которое он его поверг.
Следовательно, если в почти единогласном решении
одно-единственное лицо, выразившее несогласие, сохраняет право это
решение отменить, то я желал бы, чтобы он ответил головой за это
противодействие не только перед своими выборщиками во время
сеймика, следующего за выборами, но и перед всей нацией, ведь
именно ей он причинил такое несчастье. Я желал бы, чтобы по
закону его торжественно предали суду спустя шесть месяцев после
применения вето на внеочередном заседании суда, созванного особо
для этого случая и состоящего из самых мудрых, самых известных,
самых уважаемых представителей нации, который не мог бы его
оправдать, но был бы обязан осудить его на смерть без права
помилования или присудить ему награду и публичные почести на всю
542
Соображения об образе правления в Польше...
-х-»
оставшуюся жизнь, при этом не имея права принять какое-либо
среднее решение.
Учреждения подобного рода, столь сильно способные внушить
стойкую храбрость и любовь к свободе, слишком не похожи на
нынешние представления, чтобы кто-нибудь мог сегодня питать
надежду на то, что их одобрят или они придутся по вкусу. Но древним
они были известны, и именно благодаря им учредители их
республик смогли возвысить души и при необходимости пробудить в них
пыл поистине героический. Мы видели в республике, в которой
царили еще более жесткие законы, щедрых душой граждан, в момент
опасности для отчизны обрекавших себя на смерть, подавая
мнение, которое могло бы ее спасти. Вето, примененное при подобной
опасности, может при случае спасти государство, и не следует
бояться его сохранить.
Посмею ли я здесь вести речь о конфедерациях и не согласиться
с мнением ученых мужей? Они усматривают только зло,
причиняемое конфедерациями; следовало бы также принять во внимание
то зло, от которого они ограждают. Вне всякого сомнения,
конфедерация — это отчаянное положение в республике; но существуют
страшные болезни, требующие отчаянных способов лечения; от них
нужно постараться вылечить любой ценой. Конфедерация в
Польше — все равно что диктатура у римлян: при неминуемой опасности
в обоих случаях заставляют умолкнуть голос закона, но с той только
разницей, что диктатура, прямо противоречащая римскому
законодательству и духу правления, привела в конце концов Рим к гибели,
а конфедерация, наоборот, будучи всего лишь средством укрепить
и восстановить расшатанное значительными усилиями
государственное устройство, способствовала усилению ослабленного
рычага государства, при этом его не сломав. Этот федеративный строй,
который, возможно, имел случайное происхождение, кажется мне
образцом в политике. Повсюду, где царит свобода, она
беспрестанно находится под угрозой, и часто под угрозой гибели. В любом
свободном государстве, где не предвидят великие смуты, всякая
угроза таит в себе опасность его погибели. И только поляки смогли
отыскать во времена этих смут новое средство упрочить
государственный строй. Без конфедераций Польская республика давно бы
перестала существовать; и я сильно опасаюсь, что она долго
просуществует, если их вздумают упразднить. Посмотрите на то, что
недавно произошло. Без конфедерации государство поработили бы,
543
«^.
Жан-Жак Руссо
a свободу уничтожили бы навсегда. Желаете ли вы отнять у
республики средство, которое ее только что спасло?
И пусть не думают, что когда Lïberum veto будет отменено и
голосование большинством голосов будет восстановлено,
конфедерации станут бесполезными, как будто вся польза от них состояла
в этом голосовании. Это разные вещи. Исполнительная власть,
принадлежащая конфедерациям, сообщит им в случае крайней
необходимости силу, способность действовать, торжественность,
которых нет у сейма, вынужденного идти более медленными шажками,
придерживаясь большого количества условностей, не способного
сделать ни одного не предусмотренного правилами шага, при этом
не опасаясь краха государственного устройства.
Нет, конфедерации служат щитом, убежищем, алтарем этого
государственного устройства. Пока они существуют, как мне
представляется, государство не может разрушиться. Следует оставить их
как есть, но подчинить нормам. Если искоренить все
злоупотребления, то конфедерации станут почти что бесполезными.
Преобразование вашего правления должно произвести этот результат. Более
не будет отчаянных посягательств на государство и, следовательно,
необходимости прибегать к конфедерациям; но эти
посягательства — обычное дело, и их следует предвидеть. Вместо того чтобы
упразднить конфедерации, определите случаи, когда по закону они
должны иметь место, а затем четко установите порядок их созыва
и назначение, придав им, насколько это возможно, законную силу
и не создавая помех для их образования и деятельности.
Существует немало случаев, когда из-за одного-единственного события вся
Польша должна в одночасье стать конфедерацией, например, в тот
момент, когда под каким бы то ни было предлогом, открыто не
объявляя войны, иностранные отряды вступают в пределы
государства. В конце концов, каков бы ни был повод для вторжения,
и даже если оно произошло с согласия правительства, конфедерация
внутри страны не есть враждебное действие по отношению к
иностранному государству. Когда в силу какого бы то ни было
препятствия сейму помешают собраться в сроки, указанные в законе, или
когда при подстрекательстве с чьей-либо стороны военные
появятся в месте и во время проведения собрания, или же его порядок
изменят, его деятельность приостановят, или же его свобода будет
стеснена каким-либо образом, — во всех этих случаях общая
конфедерация должна возникнуть в силу одного этого события, и все
544
Соображения об образе правления в Польше...
-^»
собрания, особые суды должны стать лишь ее ответвлениями, а все
маршалы подчиниться тому маршалу, которого назначат на эту
должность в первую очередь.
Глава X
Управление
Не вдаваясь в тонкости управления, знаний о которых и общего
видения мне в равной степени не хватает, я отважусь высказаться
только по двум вопросам: финансы и война, поскольку я считаю
мои мысли хорошими, хотя я почти уверен, что они придутся не по
вкусу. Но прежде всего я сделаю одно замечание относительно
осуществления правосудия, замечание, по сути не столь чуждое духу
правления в Польше.
Оба сословия, сословия шпаги и мантии, были неизвестны в
древности. Граждане не знали ремесла солдата, судьи или священника,
но были таковыми по зову долга. Вот подлинная тайна того, как
сделать так, чтобы все двигалось в направлении общей цели, и не
позволить сословному духу укорениться в организмах
государства в ущерб любви к отечеству, и чтобы гидра самоуправства не
поглотила нацию. Деятельность судьи как в высших трибуналах,
так и в земских судах должна стать переходным испытанием, по
результатам которого нация сможет оценить заслуги и порядочность
гражданина, дабы затем поставить его на более значительные
должности, если его сочтут к ним пригодным. Подобное мнение о самих
себе способно сделать судей более внимательными в том, чтобы не
вызывать нареканий и вообще проявлять всяческую
осмотрительность и быть неподкупными, как того требует их должность.
Именно таким образом в лучшие времена истории Рима следовало
пройти через претуру, дабы затем получить консульство. Вот средство,
как с помощью немногих простых и ясных законов даже при
небольшом количестве судей можно осуществлять правосудие,
оставляя за ними право толкования и, по мере необходимости,
дополнения к законам благодаря дарованным природой представлениям
о прямоте и здравом смысле. Нет ничего более ребяческого, нежели
меры предосторожности, предпринимаемые англичанами в этом
отношении. Вместо того чтобы устранить произвольные
приговоры, они оказались в плену тысяч несправедливых и даже несураз-
18 3ак. 3436
545
*\
Жан-Жак Руссо
ных приговоров. Толпы законников их изводят, бесконечные
процессы поглощают их время, и под влиянием безумной мысли все
предусмотреть они превратили свои законы в огромный лабиринт,
в котором память и разум одинаково путаются.
Необходимо создать три свода законов: первый —
политический, второй — гражданский и третий — уголовный; все три свода
четкие, краткие и точные, насколько это возможно39. Эти своды
будут преподавать во всех колледжах, а не только в университетах,
и не потребуется иного свода права. Все нормы естественного права
лучше запечатлены в сердцах людей, нежели в грудах Юстинианова
хлама. Достаточно сделать людей честными и добродетельными,
и я вам ручаюсь, что они достаточно узнают право. Но необходимо
всех граждан, в особенности общественных деятелей, обучить
положительным законам своей страны и частным нормам, в
соответствии с которыми ею управляют. Они найдут их в этих самых
сводах, а их надлежит изучать также и всем благородным; прежде чем
их имена впишут в золотую книгу, открывающую им доступ в
сеймик, им следует выдержать экзамен на знание этих сводов,
особенно первого, причем этот экзамен не должен стать простой
условностью; и если окажется, что они недостаточно обучены, то их отправят
учить до тех пор, пока не выучат. Что же до римского права и
обычаев, то все это, если оно существует, надлежит изъять из школ
и судов. Не пристало подчиняться иной власти, кроме законов
государства; последние должны быть единообразными во всех
провинциях, дабы исчерпать поводы для судебных разбирательств;
и вопросы, которые не будут решены в своде, следует решать с
точки зрения здравого смысла и благодаря неподкупности судей.
Учтите, что когда должности магистратов станут для тех, кто их
отправляет, всего лишь испытательным сроком, чтобы подняться выше,
они не допустят злоупотребления этой властью, чего, однако,
следует опасаться; или же, если это злоупотребление и случится, то
оно окажется меньшим, нежели то, которое существует в огромном
количестве законов, часто противоречащих друг другу, чье
количество превращает судебные разбирательства в бесконечные, а
несоответствия между законами превращают приговоры в одинаково
произвольные.
То, что я говорю здесь о судьях, нужно в еще большей мере
относить к адвокатам. Это столь уважаемое сословие уронило свое
достоинство и унизило себя, как только стало профессией. Адвокат
546
Соображения об образе правления в Польше...
должен быть первым судьей своего клиента, и судьей самым
суровым; его должность должна стать, как это было в Риме и как это
существует до сих пор в Женеве, первым шагом к достижению
магистратуры; адвокатов в самом деле уважают в Женеве, и они
заслуживают того. Их выдвигают на должности представителей в
Совете, и они старательно избегают поступков, способных вызвать
неодобрение общества. Я желал бы, чтобы все назначения на
общественные должности происходили в определенной
последовательности, с тем чтобы никому не удавалось превратить свою должность
в доходное ремесло и никто не считал свое мнение выше мнения
окружающих людей. Это средство вполне соответствовало бы
пожеланию заставить детей очень богатых граждан пройти через
временное и почетное звание адвоката. Я постараюсь развить эту
мысль через какое-то время.
Здесь я должен заметить мимоходом, поскольку это пришло мне
на ум, что введение сонаследования и майоратов40 противоречит
строю, при котором существует равенство во всадническом
разряде. Надо, чтобы законодательство было направлено на уменьшение
неравенства имуществ и неравенства во власти, слишком
отдаляющие сеньоров от простых благородных, а и то, и другое
естественное развитие общества постоянно усугубляет. В отношении же
ценза, определяющего количество земель во владении благородного,
позволяющее ему участвовать в сеймике, усматривая в этом как
благо, так и зло и, будучи недостаточно знаком со страной, чтобы
иметь возможность сравнивать его влияние, я не осмеливаюсь
полностью решить этот вопрос. Без сомнения, было бы желательно,
если бы гражданин, имеющий голос в воеводстве, владел там
какими-нибудь землями. Но мне не хотелось бы, чтобы их количество
определял закон. Считая имущество вещью важной, позволительно
ли вполне пренебрегать людьми? Как же так? Из-за того, что у
дворянина или много, или мало земли, он перестанет быть свободным
и благородным? И является ли самая его бедность преступлением
столь значительным, что у него отнимают права гражданина?
Наконец, ни в коем случае не стоит допускать, чтобы какой-либо
закон оказался в забвении. Неважно, плох он или хорош, его
безусловно следует либо отменить, либо сохранить в силе. Это правило,
которое является основополагающим, обяжет пересмотреть все
древние законы, многие из них отменить и с предельной
строгостью установить наказание за нарушение тех, что мы хотим оставить
547
Жан-Жак Руссо
в силе. Во Франции считают правилом в государстве закрывать глаза
на многие вещи; именно к этому всегда склоняет деспотизм. Но при
свободном правлении это становится средством ослабить
законодательство и расшатать государственный строй. Необходимо
небольшое количество законов, но хорошо усвоенных и, главное,
правильно соблюдаемых. Все пока еще не запрещенные злоупотребления
продолжают оставаться безнаказанными. Но кто провозглашает
закон в свободном государстве, говорит такую вещь, которая
заставляет всякого гражданина трепетать, и в первую голову короля.
Одним словом, терпеливо относитесь ко всему, кроме износа рычага
законов; поскольку, когда он изношен, государство погибает
безвозвратно.
Глава XI
Экономигеское устройство41
Экономическое устройство, которое следует создать в Польше,
зависит от цели, поставленной ею перед собой, исправляя
государственное устройство. Если вы желаете лишь стать шумными,
блестящими, внушающими страх и оказывающими влияние на другие
народы Европы, следуйте примеру, находящемуся у вас перед
глазами. Можете научиться ему подражать. Развивайте науки,
искусства, торговлю, ремесла, у вас будут постоянные войска, укрепления,
академии и в особенности хорошее устройство финансов,
обеспечивающее надежный денежный оборот, который умножит
количество денег и доставит их великое множество. Потрудитесь сделать
это устройство совершенно необходимым, дабы держать народ
в полном повиновении, и ради этого возбуждайте в людях страсть
и к материальной роскоши, и к роскоши духовной, поскольку
первая неотделима от второй. Таким способом вы создадите народ,
склонный к проискам, пылкий, жадный, самолюбивый,
раболепный, подобный другим народам, коим вообще неизвестна середина
между крайностями нищеты и изобилия, распущенностью и
рабством; но вас будут считать в числе великих держав Европы, вы
войдете в состав всех политических образований, на любых
переговорах станут искать в вас союзника и вас свяжут договорами; не
возникнет ни одной войны в Европе, в которую вы не будете иметь
чести впутаться, и если счастье вам улыбнется, то вы можете
вернуть ваши старинные владения, а может статься, завоевать и но-
548
Соображения об образе правления в Польше...
вые, a потом сказать вслед за царем Пирром или теми же русскими,
то есть как дети: «Когда весь мир станет мне принадлежать, уж
сахарку-то я поем».
Но если вам вдруг более по душе создать нацию свободную,
миролюбивую, мудрую, которая не боится никого и ни в ком не
нуждается, в достаточной мере самостоятельную и потому счастливую,
в этом случае нужно использовать совсем иной подход, укрепляя
и восстанавливая нравы простые, вкусы здоровые, дух
воинственный, лишенный честолюбия, придавая душам облик смелый и
бескорыстный; приучите ваш народ заниматься сельским хозяйством
и ремеслами, необходимыми для жизни, внушая презрение к
деньгам, а по возможности и делая их бесполезными; ищите и находите,
дабы совершить великие деяния, рычаги более мощные и более
надежные. Не стану возражать, что, следуя этим путем, вы не
наполните газеты шумом ваших празднеств, переговоров, подвигов,
философы не станут курить вам фимиам, а поэты вас воспевать, да
и в Европе говорить о вас будут мало, а может быть, выкажут и
пренебрежение, но при этом вы будете жить в истинном достатке под
покровом правосудия и свободы; с вами не станут искать ссоры, но,
не подавая вида, вас станут бояться; и я уверяю вас, что русские не
придут к вам как хозяева, а если, к несчастью для них, они к вам
явятся, то поторопятся поскорее уйти. Однако ж не пытайтесь
соединить эти два плана в один, они слишком противоречат друг
другу, и стремиться идти к их осуществлению замысловатым путем
означает не достигнуть результата в осуществлении ни того, ни
другого. Так выбирайте же! Если вы считаете предпочтительным
первый план, прямо здесь перестаньте читать мое сочинение, ибо из
того, что я думаю вам предложить, все относится исключительно
ко второму из них.
Бесспорно, в бумагах, которые мне передали, содержатся
великолепные экономические взгляды. Их недостаток в том, что их
автор более благожелательно смотрит на богатство, чем на
процветание. Новые учреждения, предлагаемые мной, не удовлетворят того,
кто захочет получить немедленный результат. К тому же следует
предвидеть отдаленные, но неизбежные последствия создания этих
учреждений. К примеру, план продажи старостатов и употребление
дохода от нее мне кажется продуманным, легко осуществимым при
том устройстве, которое заведено во всей Европе, где все делают при
помощи денег; но хорошее ли и целесообразное ли это устройство
549
«-v.
Жан-Жак Руссо
само по себе? Доподлинно ли деньги являются нервом войны?
Богатые народы всегда терпели поражения, и их завоевывали народы
бедные. Доподлинно ли деньги есть рычаг в руках доброго
правления? Экономическое устройство, основанное на денежном
обращении, возникло недавно. Из этого не последовало ничего хорошего,
ничего великого. Правительства древних не знали даже слова
«финансы», но казалось невероятным то, что они сумели сделать
с помощью людей. Деньги — всего лишь дополнение к людям, а
дополнение не равноценно вещи. Поляки, по моему мнению, лучше
предоставьте пользование деньгами другим народам или же
довольствуйтесь теми, что они неизбежно вам отдадут, ибо они в большей
степени нуждаются в вашем зерне, чем вы в их золоте. Поверьте
мне, лучше жить в достатке, чем в изобилии, лучше станьте
богатыми, а не людьми с деньгами в руках. Обрабатывайте хорошенько
ваши поля, не заботясь более ни о чем, и вскоре вы пожнете злата
больше, чем нужно, и сможете приобрести масло и вино, которых
вам не хватает, поскольку, за исключением разве что этого, Польша
в достатке обладает или в состоянии обладать всем остальным. Для
того чтобы сохранить счастье и свободу, вам нужны головы,
сердца, руки. Все это составляет силу государства и процветание народа.
Финансовый строй создает души продажные, и с того момента как
люди жаждут наживы, они всегда выигрывают более в том, что
становятся плутами, чем достойными людьми. Когда используют
деньги, они теряются из вида и не доходят до своего назначения,
предназначаются для одного, а используются для другого. Те, кто имеет
доступ к деньгам, вскоре начинают их умыкать, и кем же
становятся те, кого приставили за этим следить, если не плутами, которых
посылают делить украденное? Если бы существовали только
общественные, зримые богатства, если бы потоки золота оставляли явные
следы и их нельзя было скрыть, то не существовало бы более
удобного способа покупать услуги, храбрость, верность и добродетели.
Но, принимая во внимание скрытый характер обращения, с его
помощью гораздо удобнее создавать грабителей и предателей,
распродавать общественное благосостояние и свободу. Словом, деньги —
одинаково слабый и бесполезный рычаг правления из всех тех, что
мне известны, позволяющий направить действие политического
механизма к известной цели, и вместе с тем наиболее надежный
и самый сильный рычаг, могущий сбить его с пути.
550
Соображения об образе правления в Польше...
Людей можно заставить действовать, только внушив выгоду, мне
это известно; но денежная выгода — худшая из всех, самая
низменная, более всего способствующая подкупу и даже, я с полной
уверенностью это повторяю и всегда буду утверждать, является выгодой
ничтожной и самой слабой в глазах того, кому знакомо
человеческое сердце. Естественно, в запасниках сердца скрываются могучие
страсти, но когда в сердцах не остается ничего, кроме страсти к
деньгам, это означает, что ослаблены, задушены все остальные, которые
следовало бы возбуждать и развивать. Богатого одолевает вовсе не
пристрастие в подлинном смысле этого слова: он жаждет денег,
лишь предвидя выгоду, способную удовлетворить те пристрастия,
которые могли бы у него возникнуть. Попробуйте разжечь и
удовлетворить эти страсти непосредственно, не прибегая к этому
средству, и вскоре эта страсть к деньгам потеряет в его глазах свою цену.
Государственные расходы неизбежны, я вполне с этим согласен.
Сделайте так, чтобы они производились иначе, чем в деньгах. Еще
и в наше время можно встретить в Швейцарии должностных лиц,
магистратов и иных наемных служащих, которым платят из
общественных запасов. Они получают десятину, вино, дрова, права на
сервитуты и вознаграждения. Вся государственная служба
осуществляется в виде своего рода общественных работ, и государство
ничего не оплачивает деньгами. Скажут, что деньги нужны для
оплаты войск. Об этом поговорим через некоторое время. Этот способ
оплаты натурой не лишен недостатков: имеют место потери,
растраты; управление такого рода имуществом — самое
затруднительное, ибо оно претит прежде всего тем, кому оно вверено: они
находят при этом меньше всего возможностей наполнить свой карман.
Все это правда, но это зло очень незначительно в сравнении с
массой бед, от которых оно избавляет. Какой-нибудь человек захочет
что-то прибрать к рукам, но он не может это сделать, во всяком
случае, незаметно. В качестве возражения приведут пример байли
кантона Берна42. Но откуда происходят обиды, которые они
причиняют? От налагаемых ими денежных штрафов. И эти произвольные
штрафы — великое зло само по себе. А между тем, если бы они
могли требовать их выплаты только продуктами питания, то оно было
бы почти совсем не обременительным. Деньги, которые они
выжимают, легко скрыть, а вот провиантские склады так просто не
скроешь. В одном только Бернском кантоне в обороте в десять раз
больше денег, чем во всей остальной Швейцарии, а управление этими
551
*\
Жан-Жак Руссо
деньгами соответственно столь же несправедливо. Присмотритесь
к злу с точки зрения морали и политики в любой стране, при любом
роде правления, да по всей земле, и вы не найдете такого, где не
были бы замешаны деньги.
Мне возразят, что благодаря имущественному равенству в
Швейцарии бережливость в управлении становится нетрудным делом,
тогда как столько могущественных домов и крупных сеньоров,
которые живут в Польше, требуют для своего содержания огромных
расходов и средств, для того необходимых. Вовсе нет. Эти богатые
сеньоры богаты благодаря наследственному землевладению, и их
расходы станут значительно меньше, когда роскошь перестанет
быть у государства в почете, а эти расходы, соответственно, станут
в меньшей степени отличаться от расходов мелких землевладельцев.
Оплачивайте их службу с помощью влияния, почестей и высоких
должностей. Неравенство по положению в Польше
уравновешивается преимуществами, связанными с принадлежностью к
аристократии, вследствие чего те, кто занимает высокое положение, скорее
дорожат почестями, чем наживой. Республика, распределяя
определенным образом лишь почетные награды и уместно раздавая их,
прибережет себе сокровище, которое ее не разорит, и тогда на смену
гражданам придут герои. Это сокровище, состоящее из почестей, —
неисчерпаемый кладезь у народа, обладающего честью, и дай-то
Бог, чтобы Польша могла надеяться когда-нибудь его исчерпать.
О, счастливейшая нация та, что не найдет иных отличий, чтобы
вознаградить добродетель!
С тем недостатком, что денежные награды недостойны
добродетели, они соединяют еще и недостаток публичности, не являются
красноречивыми в глазах и сердцах людей; они исчезают, едва их
только пожаловали, не оставляя никакого видимого следа, а потому
не способны поощрить дух состязательности, увековечивая
почести, от него неотделимые. Я хотел бы, чтобы все разряды,
назначения, почетные награды обладали отличительными знаками, и
чтобы никогда не было дозволено человеку, занимающему должность,
появляться неузнаваемым, а знаки, отличающие его положение или
достоинство, он носил повсюду, дабы народ всегда выказывал ему
уважение, а он, в свою очередь, уважал себя. Чтобы он при этом
сумел пересилить соблазн роскоши, и богача, который всего-навсего
богач, всегда затмевали граждане бедные, но титулованные, и
чтобы этот богач не пользовался уважением и почетом на родине и вы-
552
Соображения об образе правления в Польше...
нужден был ей служить, получив возможность блистать, стать
неподкупным из честолюбия и вопреки своему богатству, стремясь
занять то положение, к достижению которого ведет только одобрение
общества и которое можно потерять только по причине осуждения
с его стороны. Вот каким образом можно извести силу богатства,
и вот каким образом получится создать людей неподкупных. Я
весьма настаиваю на этом, убежденный, что ваши соседи, в особенности
русские, не пощадят средств для подкупа людей, занимающих
высшие должности, и потому величайшая задача вашего правительства
состоит в том, чтобы сделать их неподкупными.
А если мне возразят, что я хочу превратить польский народ в
народ капуцинов, то я на это отвечу, что это аргумент на французский
лад, и шутить — не значит размышлять. Отвечу также, что не
следует считать мои взгляды преувеличением, искажая мои намерения
и доводы; моя цель заключается не в уничтожении денег, а в том,
чтобы замедлить их обращение и, в частности, доказать, насколько
важно создать хорошее экономическое устройство, основанное не
только на финансах и монете. Ликург, стремясь искоренить
жадность в Спарте, не уничтожил деньги, но ввел железные. Что
касается меня, я и не думаю запретить деньги и золото, но желал бы
сделать их менее необходимыми с тем, чтобы те, у кого их нет, хоть
и были бедны, но не стали бы оборванцами. В сущности, деньги —
не богатство, а лишь признак богатства. Не эти признаки нужно
умножать, но те вещи, которые они выражают. Я заметил, вопреки
всем россказням путешественников, что англичане, купающиеся
в золоте, в отдельных случаях нуждаются не менее других народов.
И, в конце концов, важно ли то, есть у меня сто гиней или десять,
если эти сто гиней не сделают хлеб насущный более доступным?
Денежное богатство всегда относительно и зависит от
обстоятельств, которые могут меняться под влиянием тысяч причин,
и можно оказаться сначала богатым, а потом бедным с одной и той
же суммой денег. Но такое невозможно в том случае, если
имущество выражено в натуре, ибо, будучи непосредственно полезным
для человека, оно обладает безусловной ценностью, отнюдь не
зависящей от торговых сделок. Я вполне согласен, что английский
народ богаче других народов, но из этого не следует, что горожанин
в Лондоне живет в большем довольстве, чем горожанин Парижа.
Сравнивая различные народы, можно сказать, что тот, у кого боль-
553
*-\.
Жан-Жак Руссо
ше денег, имеет преимущество, но это не касается участи отдельных
лиц. Не на этом покоится процветание нации.
Поощряйте развитие сельского хозяйства, полезных ремесел, но
не путем обогащения крестьян, ибо это лишь побудило бы их
покинуть свое сословие, но превратив его в почетное и приятное
занятие. Заведите мануфактуры, производящие продукты первой
необходимости, увеличивайте количество зерна и людей, более не
заботясь ни о чем другом. Прибыль от произведенного продукта
с ваших земель, которого из-за множества монопольных прав
будет недоставать остальной Европе, неизбежно доставит вам больше
денег, чем нужно. Во всем, что не связано с этим необходимым и
надежным продуктом, вы будете бедны до тех пор, пока остается
стремление к денежной прибыли; но как только вы сумеете
обходиться без нее, вы разбогатеете. Вот тот дух, который я хотел бы
водворить в вашем экономическом устройстве. Следует меньше
обращать внимание на иностранцев, не заботясь о торговле, но
увеличивая у вас, насколько возможно, натуральные запасы и
численность потребителей. Естественный и неизбежный результат
правления свободного и справедливого — это рост народонаселения.
И чем более вы будете совершенствовать ваше правление, тем
больше вы увеличите народонаселение, даже не задумываясь об этом.
Итак, у вас не станет ни нищих, ни миллионеров, роскошь и нищета
незаметно исчезнут сами собой, и граждане, исцеленные от вкусов
легкомысленных, которые прививает изобилие, и от пороков,
связанных с нищетой, приложат все старания и увидят в том славу,
когда будут служить своей родине и обретут счастье, исполняя свой
долг43.
Я хотел бы, чтобы преимущественно облагали налогом руки
людей, а не их кошелек, чтобы строительство дорог, мостов,
общественных зданий, служба государю и государству осуществлялись
в виде общественных работ, но не за денежное вознаграждение.
Этот вид налогообложения, в сущности, требует наименьшего
количества расходов, и уж тем более он оставляет меньше всего
возможностей для злоупотреблений: ибо деньги исчезают, покидая
руки тех, кто платит, но всякий видит, для чего используются люди,
и не удастся взвалить на них ношу просто так. Я сознаю, что этот
вид налогообложения неосуществим там, где царят роскошь,
торговля, ремесла, но ничто не может быть более легким, чем его
введение у народа простого, с добрыми нравами, и ничто не может
554
Соображения об образе правления в Польше...
быть полезнее для сохранения этих нравов таковыми. Это еще
один довод предпочесть данный вид налогообложения.
Теперь я возвращаюсь к вопросу о старостатах. Я опять же
согласен, что план их продажи ради пополнения государственной казны
очень хорош и продуман в отношении экономическом, но в
отношении политики и морали он мне столь мало по вкусу, что я желал
бы, если старостаты уже проданы, чтобы их снова выкупили и
создали таким образом запас для оплаты работы и вознаграждения тех,
кто оказал услуги родине. Одним словом, я хотел бы, если
возможно, чтобы вообще не было государственной казны и сбор
государственных налогов не взимался денежными платежами. Я понимаю,
что в строгом смысле это невозможно, но дух правления всегда
должен стремиться сделать это возможным, и ничто так не
противоречит этому духу, как продажа, о которой идет речь. Правда,
республика от этого стала бы богаче, но рычаги правления
соответствующим образом оказались бы ослаблены.
Признаюсь, что управление общественной вотчиной стало бы
при этом более затруднительным и, в частности, оказалось бы
менее по нраву управляющим ею, то есть, когда все это имущество
оставалось бы натуральным, а не денежным: но нужно сделать так,
чтобы управление и надзор за ним стали испытанием здравого смысла,
бдительности, неподкупности, выдержав которое, лица достигли
бы самых высоких должностей. Это было бы ничем иным, как
подражанием муниципальному управлению, введенному в Лионе44, где
начинать службу нужно с должности управителя ратуши, дабы
получить доступ к городским должностям, и по тому, как исполнялась
должность тем или иным лицом в ратуше, судят о том, достойно ли
оно занимать другие должности. Не было никого неподкупнее
квесторов в римских армиях, потому что квестура была первым шагом
на пути к курульным должностям. На тех должностях, что могут
стать соблазном для жадности, нужно сделать так, чтобы
честолюбие ее подавляло. Величайшее благо, которое из этого последует —
не накопления, полученные благодаря плутовству, но достойное
почтения бескорыстие, а бедность станут уважать, особенно когда
она — плод честности.
Доходы республики не сравнимы с ее расходами, я в этом не
сомневаюсь, при этом граждане не хотят ничего платить. Но люди,
желающие быть свободными, не должны быть рабами своего
кошелька, да и сыскать ли государство, где свобода не стоила бы до-
555
^> Жан-Жак Руссо
рого, и даже весьма дорого? Мне приведут в пример Швейцарию,
но, как я уже говорил, в Швейцарии граждане сами исполняют
обязанности, за которые в других местах гражданам больше по нраву
платить тем, кто их исполняет вместо них. Швейцарцы — солдаты,
офицеры, выборные должностные лица, рабочие — постоянно
состоят на службе у государства и всегда готовы оплатить ее личным
трудом, и им не нужно сверх того платить из собственного
кошелька. Если поляки пожелают поступать так же, они не в большей
мере, чем швейцарцы, будут нуждаться в деньгах; но если столь
большому государству неугодно поступать в соответствии с правилами,
пригодными для малых республик, то не пристало стремиться
извлечь пользу из их применения; ему не стоит хотеть получить
результат, пренебрегая средствами его достижения. Если бы Польша
стала, как я того желаю, содружеством тридцати трех малых
государств, она соединила бы в себе силу крупных монархий со
свободой малых республик. Но для этого Польше следует отказаться от
показного величия, а я опасаюсь, что в этом пункте она окажется
несговорчивой.
Из всех способов введения налога самый удобный и требующий
наименьших расходов — бесспорно, поголовное налогообложение;
но, вместе с тем, это налог наиболее принудительный, произвольно
устанавливаемый, и именно поэтому Монтескье полагал, что он
является рабским, хотя это был единственный способ обложения,
который использовали римляне, и он продолжает существовать
и в настоящее время во многих республиках, но под другим
названием. По правде сказать, в Женеве, где его называют «оплатой
стражей», только граждане и горожане платят этот налог, тогда как
жители и уроженцы Женевы платят другие налоги, и это прямо
противоречит мысли Монтескье45.
Но, поскольку несправедливо и неразумно облагать налогом
людей, ничем не владеющих, вещный налог всегда
предпочтительнее личных налогов. Только следует избегать установления таких
налогов, сбор которых затруднителен и дорогостоящ, и в
особенности тех, от уплаты которых уклоняются, занимаясь контрабандой,
вследствие чего возникают недоимки, а страну наполняют
мошенники и разбойники; словом, сбор этих налогов развращает верных
граждан. Необходимо, чтобы налогообложение было настолько
правильным и соразмерным, что неудобства от мошенничества
оказывались бы значительнее наживы. Таким образом, не нужно
556
Соображения об образе правления в Польше...
никаких налогов на то, что легче всего скрыть: например, на
кружева, драгоценности. Лучше уж запретить их носить, чем запрещать
их ввоз. Во Франции словно нарочно побуждают заниматься
контрабандой, и это внушает мне мысль, что откуп находит, чем
поживиться от нее. Это — омерзительный строй, противоречащий
здравому смыслу. Опыт учит, что сбор на гербовую бумагу — это налог,
особенно разорительный для бедных, стеснительный для торговли,
умножающий в огромной степени самоуправство, заставляющий
народ поднимать крик возмущения повсюду, где он установлен,
и я бы не советовал думать о его введении. А вот налог на
поголовье скота мне кажется наилучшим, лишь бы при этом удалось
избежать мошенничества, ибо всякий повод к мошенничеству во все
времена являлся источником бедствий. Этот налог может быть
разорительным для налогоплательщиков в случае, если его надлежит
платить деньгами, ведь собранное подобным образом с
налогоплательщиков по большей части тратится не по назначению.
На мой взгляд, наилучший налог, наиболее естественный и не
дающий повода к мошенничеству, — это соразмерное обложение
земель, причем всех без изъятия, как это предлагали сделать
маршал Вобан и аббат де Сен Пьер46. Ибо, в конце концов, именно тот,
кто производит, и должен платить. Со всего имущества:
королевского, светского, церковного, непривилегированного — должно
в одинаковой мере взимать этот налог, то есть сообразно размерам
этого имущества, его доходности, кто бы ни был его
собственником. Казалось бы, подобное налогообложение предполагает
предварительный шаг, который потребовал бы много времени и средств,
а именно составление общего кадастра. Но этих расходов можно
легко избежать, и даже с выгодой, если ввести налоги не
непосредственно на землю, а на ее продукты, что еще более справедливо; то
есть, его установили бы в размерах, которые сочли бы
подходящими, в виде десятины, взымаемой натурой с урожая, подобно
церковной десятине. И для того чтобы избежать мелких затруднений,
хранения на складах, следует сдавать эту десятину в аренду на
торгах, как это делают сельские кюре, таким образом, что частные лица
будут платить десятину только со сбора урожая из своего кошелька
только в случае, если они сами предпочтут такой платеж, и в
размерах, установленных правительством. Эти откупы, вместе взятые,
могут быть предметом торговли, когда продукты питания,
полученные от них, станут вывозиться за рубеж через Данциг или Ригу.
557
*\
Жан-Жак Руссо
А еще при этом удастся избежать расходов на сбор налогов, на его
обслуживание, на всю эту тьму приказчиков, служащих, столь
отвратительных народу, столь неприятных для общества, и, что
особенно важно, республика получала бы деньги, а граждане при этом
не были бы обязаны их отдавать; ибо я не устану повторять: талью
и все иные налоги делает разорительными для крестьянина то, что
их собирают деньгами, и крестьянин сначала обязан продать
продукт, и только потом ему удается заплатить этот налог47.
Глава XII
Военное устройство48
Из всех расходов республики наиболее значительными
являются расходы на содержание коронной армии. Нет сомнений, что
услуги, которые оказывает эта армия, не соразмерны тому, во что
обходится ее содержание. А между тем (об этом мы вскоре
поговорим) войска нужны для охраны государства. Я бы с этим
согласился, если бы войска действительно его охраняли: но я нигде не
видел, чтобы армия когда-либо спасала государство от нашествия,
и я весьма опасаюсь, что она не защитит его от нашествий и в
дальнейшем.
Польша окружена воинственными державами, которые
постоянно держат под ружьем многочисленные, прекрасно обученные
войска, и им она даже ценой больших усилий не сможет
противопоставить ничего подобного, не растратив за короткое время силы,
в особенности находясь в том плачевном состоянии, в которое
разбойники, опустошающие ее, привели страну. Впрочем, ей и не
позволят это сделать. Если посредством самого строгого управления
она захотела бы завести армию на достойном уровне, ее соседи,
в любой момент готовые в этом ее опередить, весьма быстро
раздавили бы Польшу, прежде чем она смогла бы привести в исполнение
подобный замысел. Да, если она захочет лишь подражать соседям,
она все же окажется не в состоянии оказать им сопротивление.
Польская нация отлична по своему характеру, образу
правления, нраву, языку не только от своих соседей, но и от всей
остальной Европы. Я хотел бы, чтобы она отличалась от всех них и своим
военным устройством, своей тактикой, выучкой, чтобы она всегда
была сама собой и никем другим. И только в этом случае она
достигнет того, чего желает, почерпнув в себе самой необходимые
558
Соображения об образе правления в Польше... ^>
средства. Самый непреложный закон природы — это закон
сильнейшего. Не существует ни законодательства, ни государственного
устройства, которые не подпадали бы под действие этого закона.
Поищите способы оградить вас от завоеваний соседа, более
сильного, чем вы, и вы обнаружите, что это — погоня за
несбыточной мечтой. Кроме того, такой же мечтой является желание
завоевывать и иметь силы для нападения; все это несовместимо с
устройством вашего правления. Если кто-то желает быть свободным, он
не должен стремиться к завоеваниям. Римляне стали
завоевателями по необходимости, так сказать, вопреки своей воле. Война была
лекарством, необходимым для исцеления недостатков их строя.
Постоянно подвергаясь нападениям, они всегда выходили
победителями в стычках, и это был единственный варварский народ,
обладавший воинской выучкой; и они стали хозяевами мира, постоянно
защищая себя. Ваше нынешнее положение столь отличается от их
положения, что вы даже не в состоянии защитить себя от
захватчиков. У вас никогда не будет сил нападать и еще долгое время — сил
для защиты себя. А лучше сказать — вы уже обладаете силой
самосохранения, которая, хотя вы и порабощены, спасает вас от
уничтожения; она сохранит ваш образ правления и вашу свободу в том
единственном и подлинном святилище, каковым является сердце
поляков.
Постоянная армия — настоящая чума и причина обезлюдения
Европы; она хороша для достижения двух целей: либо для
нападения на соседей и завоеваний, либо для того, чтобы наложить оковы
на граждан и сделать их рабами. Обе эти цели вам чужды; так
откажитесь от способа их достижения. Не должно государству
оставаться без защитников, мне это известно, но его истинные
защитники — его граждане. Всякому гражданину надлежит быть солдатом
из чувства долга, и никто не должен им стать по ремеслу. Таковым
было военное устройство у римлян, таковым оно является сегодня
у швейцарцев и таковым оно должно быть в любом свободном
государстве, особенно в Польше. Поскольку вы не в состоянии
содержать за деньги армию, достаточную для обороны, необходимо,
чтобы Польша в случае нужды нашла эту армию среди своих жителей.
Хорошее ополчение, по-настоящему хорошо обученное, только
и способно выполнить эту задачу. Это ополчение недорого
обойдется республике, всегда будет готово ей служить, и служить хорошо,
559
Жан-Жак Руссо
ибо, в конце концов, лучше всего защищают собственное
имущество, чем чужое.
Господин граф Виельгорский предлагает набирать отряды по
воеводствам и держать их в постоянной боеготовности, а это
предполагает, что коронную армию или, по крайней мере, пехоту
распустят: я полагаю, что содержание тридцати трех отрядов — слишком
тяжелая ноша для республики, если, сверх того, ей придется
оплачивать содержание коронной армии. Это нововведение было бы
полезно, и мне оно представляется легко осуществимым, но оно
может оказаться слишком дорогостоящим, и при этом трудно будет
избежать злоупотреблений. Я ни за что не соглашусь с мнением о
необходимости рассеять солдат по городам и деревням для
поддержания там порядка; это дурно повлияло бы на них, особенно на тех,
кто является солдатом по ремеслу: не стоит оставлять таких солдат
без присмотра, и еще в меньшей мере возлагать на них
обязанность надзирать за согражданами. Им надлежит всегда
маршировать и квартироваться в качестве единого целого, их следует
постоянно держать в повиновении и под надзором, они должны быть не
чем иным, как слепым орудием в руках офицеров. Стоит только
возложить на них хоть в малом надзор за согражданами, и тотчас
появятся бесчисленные насилия, обиды и злоупотребления.
Солдаты и жители станут врагами; это несчастье повсюду сопутствует
постоянной армии. Их отряды, находясь постоянно в строю, усвоят
подобный нрав, и он никогда не будет во благо свободе. Римскую
республику уничтожили собственные легионеры, когда, прекратив
завоевания, она оказалась вынуждена держать войска в
постоянной боеготовности. Еще раз повторю, что поляки вовсе не должны
оглядываться по сторонам и следовать примеру происходящего
вокруг, даже примеру хорошему. То, что есть благо для
государственного устройства, совершенно отличного от их собственного,
причинит им вред. Им нужно стремиться сделать то, что свойственно им,
а не подражать окружающим.
Итак, почему же вместо постоянной армии, требующей во сто
крат больших расходов, чем полезной у всякого народа, который
не обладает воинственным нравом, не завести в Польше настоящее
ополчение в том же виде, в каком его создали в Швейцарии, где
каждый житель является солдатом, но только тогда, когда это
необходимо? Рабство, установленное в Польше, не позволяет, не
спорю, в одночасье вооружить крестьян: ведь оружие в руках рабов
560
Соображения об образе правления в Польше...
всегда станет более опасным, чем полезным для государства. Однако
в ожидании счастливого часа освобождения нужно иметь в виду,
что в Польше очень много городов, и их жители, организованные
в отряды, смогли бы при необходимости составить
многочисленные войска, которые в то время, пока в этом нет необходимости, не
нужно было бы содержать, и все это ничего не стоило бы
государству. Большая часть их жителей, не имея земель в собственности,
оплачивали бы свои повинности службой, которая могла бы быть
легко вменена им таким образом, чтобы не стать для них
разорительной, и при этом они прошли бы достаточную воинскую
подготовку.
В Швейцарии каждое частное лицо, вступившее в брак, обязано
снабдить себя амуницией, являющейся праздничным нарядом,
а также карабином и полным снаряжением пехотинца. А кроме
того, такое лицо подлежит записи в вооруженную команду своего
квартала. Летом, по воскресеньям и в праздничные дни ополчение
проходит подготовку в порядке согласно реестрам ополчения:
поначалу в звеньях, затем в командах и, наконец, в отрядах. И в
конечном итоге наступает и их очередь собираться в деревнях,
организовывать небольшие военные лагеря, в которых они проходят
подготовку и проводят учения, положенные пехоте. Пока они
остаются дома, почти не отвлекаясь от повседневных забот, им ничего
не платят; но, отправляясь строем в деревню, они получают
хлебный паек и полное содержание от государства, и никому не
позволяется отправить вместо себя другого человека, потому как каждый
должен пройти такую подготовку сам. И таким образом все жители
проходят воинскую подготовку. В таком государстве, как Польша,
в ее обширных провинциях можно набрать достаточное число
ополченцев, которые без труда заменят коронную армию,
постоянно находясь в боевой готовности; но ополчение, меняющее свой
состав по крайней мере ежегодно и мобилизованное небольшими
отрядами от всех организмов государства, стало бы не слишком
разорительным для частных лиц, очередь которых служить подошла
бы по крайней мере один раз за 12 или 15 лет. Таким образом, вся
нация прошла бы воинскую подготовку, и была бы создана
прекрасная многочисленная армия, при необходимости готовая к бою,
стоящая недорого, в особенности в мирное время. Меньше, чем
коронная армия теперь.
561
*"\.
Жан-Жак Руссо
Но чтобы добиться успеха в этом предприятии, следует начать
с того, чтобы на деле изменить в этом вопросе общественное
мнение о солдатской сословии, которое по сути полностью изменится,
и сделать так, чтобы в Польше солдата считали не разбойником,
ради куска хлеба продающего себя за 5 монет в день, но
гражданином, готовым служить родине и считающим службу своим долгом.
Необходимо, чтобы это сословие солдат снова пользовалось
такими же почестями, как и прежде, как это еще имеет место в
Швейцарии, в Женеве, где лучшие горожане одинаково гордятся тем, что
служат в армии, и тем, что служат в городской ратуше, являясь
членами суверенного совета. При этом весьма важно, чтобы выбор
офицеров осуществлялся без учета положения лица в обществе,
размеров имущества или влияния, но единственно с учетом опыта и
таланта. Легче всего оказать почет умению хорошо владеть оружием:
при этом каждый будет совершать воинские упражнения
ревностно, неся службу родине на глазах у своей семьи и близких. Рвение не
может загореться в душе сброда, случайно нанятого на службу,
который во время воинских упражнений не чувствует ничего, кроме
неприязни. Я застал время, когда в Женеве горожане владели
оружием гораздо лучше, чем лица, служащие в регулярных войсках; но
магистраты, полагая, что это посеяло бы в горожанах
воинственный нрав, что не соответствовало их видам, взяли на себя труд
уничтожить дух состязания и очень хорошо в этом преуспели.
Для осуществления этого плана можно было бы без опаски
предоставить королю военную власть, естественным образом
связанную с его положением, ибо трудно себе представить, чтобы нацию
можно было использовать для угнетения самой себя, в особенности
если те, кто ее составляет, будут обладать каждый в отдельности
своей долей свободы. Ведь только при наличии постоянной армии,
состоящей на довольствии, исполнительная власть способна
поработить государство. У великих армий римлян не было этих
недостатков, ибо они меняли свой состав при каждом консуле, и вплоть
до Мария никому и в голову не приходило использовать войска
в качестве средства порабощения республики. И только тогда,
когда римляне воевали в отдаленных странах, они вынуждены были
держать в боеготовности постоянные армии, набирать их из бродяг,
вручать командование ими проконсулам, и вот тогда-то эти
проконсулы стали чувствовать себя независимыми и пожелали этим
воспользоваться для установления своей власти. Армии Суллы, Пом-
562
Соображения об образе правления в Польше... •-»
пея, Цезаря превратились в настоящие постоянные армии, в
которых дух военного правления заменил республиканский дух, и это
до такой степени правда, что солдаты Цезаря считали себя весьма
оскорбленными, когда он, будучи ими недоволен, называл их
«гражданами» и «квиритами»49. В плане, придуманной мною,
который я вскоре полностью обрисую, вся Польша встанет под ружье
ради защиты своей свободы против покушений как со стороны ее
государя, так и против своих соседей; и я смею думать, что план,
однажды приведенный в исполнение, позволит уничтожить
должность великого гетмана и соединить ее полномочия с
королевскими, причем в результате не будет ни малейшей опасности для
свободы, разве что нация даст себя увлечь планами завоеваний, но в этом
случае я уже ни за что не ручаюсь.
Почему бы всаднический разряд, который воистину является
хранителем республики, не должен следовать образцу,
предложенному мною для пехоты? Заведите во всех воеводствах отряды
кавалерии, куда запишут всю знать, пусть в этих отрядах появятся
офицеры, штаб, знамена, казармы, созданные на случай военной
тревоги, назначат время для ежегодных сборов, дабы эта
доблестная знать совершала военные упражнения по эскадронам,
осуществляла разного рода марши, маневры, училась порядку и точности
на учениях, а также получала воинскую выучку. Я не хотел бы,
чтобы она рабски подражала тактике, принятой у других наций, но
я хотел бы, чтобы она обладала свойственной только ей тактикой,
которая бы развивала и совершенствовала ее природные и
национальные свойства, чтобы она в особенности упражнялась в быстроте
и легкости построений, умении делиться на отряды, легко
рассеиваться и сосредотачиваться, не теряя строя, чтобы она
упражнялась в том, что называют «малой войной», во всех упражнениях,
свойственных легкой коннице, в искусстве захватывать страну
подобно буре, достигать ее пределов и при этом быть неуловимой,
всегда действовать слаженно, хотя и обособленно, упражняться в
искусстве захватывать пути сообщения противника, перехватывать
его обозы, атаковать его арьергарды, брать в плен отряды
противника, выдвинутые вперед, захватывать врасплох его отряды,
досаждать крупным соединениям, двигающимся и располагающимся
лагерем; пусть она усвоит себе способ древних спартанцев в той же
мере, в какой и их доблесть, и пусть выучится, подобно древним,
побеждать и уничтожать самые сильные армии, никогда не ввязы-
563
Жан-Жак Руссо
ваясь в сражения, но и не оставляя врагу времени на передышку.
Одним словом, пусть у вас будет пехота, потому что она должна
быть, но рассчитывайте только на вашу кавалерию, не упустите
ничего, чтобы изобрести такое военное устройство, которое вручит
исход войны в ваши руки.
Совет завести укрепления, данный свободному народу, —
плохой совет. Они совершенно несовместимы с нравом поляков, и рано
или поздно эти укрепления повсеместно становятся гнездами, где
сидят тираны. Укрепления, которые вы думаете возвести против
русских, неизбежно пойдут им на пользу и станут путами, и от них
вы не освободитесь никогда. Пренебрегайте даже пользой от застав
и не тратьте попусту деньги, заводя артиллерию: всего этого вам не
нужно. Внезапное вторжение, конечно, несчастье, но еще большее
несчастье — оковы, которые вы никогда не сможете сбросить. Вам
не удастся сделать так, чтобы вашим соседям было трудно войти на
вашу территорию, но вы можете сделать так, чтобы им оказалось
трудно безнаказанно с нее уйти. А вот об этом-то вы и должны
весьма и весьма позаботиться. Антоний и Красе легко вступили на
территорию парфян, но к великому несчастью для себя. Столь
обширная страна, как ваша, доставит ее жителям убежища и
возможности скрыться от захватчика. Никакое человеческое искусство не
сможет помешать внезапному нападению сильного на слабого, но
слабый может запастись рычагами противодействия, и когда опыт
научит врагов тому, что уйти с вашей территории весьма
затруднительно, они не слишком станут торопиться вступать на нее. Пусть
ваша страна остается столь же открытой, как и Спарта, но
постройте, следуя ее примеру, крепкие цитадели в сердцах граждан, и вслед
за Фемистоклом, который посадил Афины на корабли, при
необходимости увозите ваши города на лошадях. Дух подражания создает
мало хорошего и никогда не создаст ничего великого. У каждой
страны имеются свои преимущества, которыми обладает только она,
а установления государства должны их увеличивать и развивать.
Берегите, взращивайте преимущества Польши, и она станет
завидовать немногим странам.
Единственная вещь, сделающая невозможным порабощение
Польши, — это любовь к родине и свободе, вдохновляемая
добродетелями, от нее неотделимыми. Вы в скором времени покажете
тому пример, который останется в памяти людей навсегда. До тех пор
пока эта любовь будет гореть в сердцах, она не предохранит вас,
564
Соображения об образе правления в Польше...
возможно, от временного порабощения, но рано или поздно она
произведет взрыв, поможет сбросить ярмо и сделает вас
свободными. Без отдыха, не покладая рук, стремитесь возвысить патриотизм
до самой высокой степени в сердцах всех поляков. Ранее я указал
на некоторые средства, способные привести к такому результату;
мне остается изложить здесь то средство, которое я считаю
наиболее сильным и могущественным, ведущим к неизбежному успеху
в случае, если оно будет использовано, а именно: сделать таким
образом, чтобы все граждане беспрестанно чувствовали себя на
глазах всего общества, никто не продвинулся вперед и не достиг успеха,
иначе как с одобрения всего общества, никакая должность, никакая
служба не отправлялись, иначе как следуя заветам нации, и в
конечном итоге всякий, от последнего дворянчика и даже от
последнего нищего до короля, насколько это возможно, до такой степени
зависел бы от уважения общества, что невозможно было бы что-то
предпринять, приобрести, достичь без этого уважения. Из
возбуждения, вызванного этим общим состязанием, родится то
патриотическое опьянение, которое только и в состоянии сделать так, чтобы
люди превзошли самих себя.
А без этого свобода — пустое слово, а законодательство —
пустая затея.
Легко ввести такое устройство во всадническом разряде, если
позаботиться о том, чтобы повсюду соблюдалось последовательное
продвижение по службе и никто не достиг бы почестей и почетных
званий в государстве, не пройдя через более низкие ступени,
которые послужили бы испытанием и пропуском с тем, чтобы достичь
более высокого положения. Поскольку равенство в среде знати —
основополагающий закон Польши, поприще на службе обществу
должно начинаться с нижестоящих должностей — таковым
надлежит быть духу государственного устройства Польши. Доступ к этим
должностям следует открыть любому гражданину, усердие
которого побуждает его вступить на это поприще и считающему себя в
состоянии успешно их отправлять; но эти должности должны стать
первым шагом, необходимым для каждого, кто, будь он знатным
или не знатным, захочет преуспеть на этом поприще. Всякий волен
выбирать — быть или не быть соискателем. Но как только
кто-нибудь избрал этот путь, ему следует двигаться вперед на этом
поприще, если только он добровольно от него не откажется или его не
остановит неодобрение со стороны общества. Необходимо, чтобы
565
«-V.
Жан-Жак Руссо
при каждом своем поступке он чувствовал на себе взгляд своих
сограждан, их оценку и знал, что за всеми его шагами и действиями
наблюдают, и все плохое и хорошее, совершенное им, будет честно
учитываться, и этот учет будет вестись до конца его жизни.
Глава XIII
План подгинить последовательному
продвижению по службе всех гленов правления™
Чтобы обеспечить последовательное продвижение по службе
лиц, вот план, который я постарался, по возможности,
приспособить к существующему образу правления, но перестроенный
только в части, касающейся назначения сенаторов способом и исходя из
соображений, прежде мною изложенных.
Всех граждан республики, имеющих право голоса (под ними
я подразумеваю тех, кто примет участие в управлении), разделят на
три класса, и в зависимости от принадлежности к классу каждый
из них будет носить отличительные знаки. Принадлежность к
всадническому разряду, которая прежде являлась испытанием
добродетели, ныне — всего лишь знак благоволения короля. Ленты,
драгоценности, их отличающие, напоминают безделушки и женские
украшения, а всего этого следует избегать в нашем устройстве
государства. Я хотел бы, чтобы знаки отличия всех трех разрядов, что
я предлагаю ввести, представляли собой пластины из разных
металлов, а ценность материала, из которого они изготовлены, при
этом находилась бы в обратном отношении к степени достоинства
тех, кто их носит.
Первому шагу в общественной деятельности должно
предшествовать испытание для юношества, то есть испытание в
должностях адвокатов, заседателей и даже судей в нижестоящих
присутствиях, а также управляющих некоторыми ведомствами общественных
финансов и вообще во всех нижестоящих должностях, которые
открывают возможность тем, кто их отправляет, проявить свои
качества, способности, прямоту и в особенности честность. Этот
испытательный срок должен длиться по крайней мере три года, после
чего, получив удостоверение от вышестоящих лиц,
засвидетельствованное одобрением общества, они смогут выдвигать себя в
качестве соискателей на сеймиках в своих провинциях, где после стро-
566
Соображения об образе правления в Польше...
^■*
гой проверки их поведения почтят тех, кого сочтут достойными,
золотой пластинкой, на которой будет выбито их имя, название
провинции, дата принятия их в число испытуемых, а под этой
надписью более крупными буквами будет выбито: spespatriaesl. Те, кто
получит эту пластину, будут носить ее на правой руке или на груди
у сердца; они станут носить звание слуг государства, и во
всаднический разряд попадут лишь слуги государства, и только их можно
допустить к выборам на должность нунциев сейма и к выборам
в заседатели высшего суда, а также на должности приставов в
счетной палате, и ни на кого больше не возложат отправление
государственных должностей, составляющее суверенную власть.
Чтобы достичь второй степени, необходимо трижды быть
избранным нунцием в сейме и всякий раз получить на
соответствующих сеймиках одобрение со стороны их избирателей, и никого
нельзя избрать нунцием второй или третий раз, если только им не
получено свидетельство, содержащее одобрение за
предшествующую нунциатуру. Служба в высшем суде или в радоме в качестве
пристава или депутата будет соответствовать нунциатуре, и
достаточно будет трижды заседать в любом из них, но обязательно
получив одобрение, чтобы получить право на вторую степень. Таким
образом, при наличии трех свидетельств, представленных в сейм,
слугу государства, который их получит, почтут второй пластинкой
со званием, которое на ней выбито. Эту пластинку изготовят из
серебра, одинаковой формы и величины с предыдущей, надписи на
ней останутся те же, кроме того, что вместо слов spes patriae будет
выбита надпись civis electus52. Тех, кто носит эти пластинки, назовут
избранными гражданами, или просто «избранными», и они не
смогут больше стать нунциями, заседателями высшего суда,
приставами счетной палаты, но будут главным образом соискателями
должности сенаторов. Никто не сможет попасть в Сенат, не достигнув
этой второй степени, не нося отличительного знака, и все
депутаты-сенаторы в соответствии с моим планом будут продолжать
носить его до того момента, пока не достигнут третьей степени.
Я хотел бы, чтобы именно из тех, кто достиг второй степени,
избирались принципалы колледжей и те, кто осуществляет надзор
за воспитанием детей. Им можно вменить в обязанность в течение
некоторого времени исполнять это поручение, прежде чем они
получат доступ в Сенат, и их обяжут представить сейму одобрение
коллегии управителей образованием. При этом не надо забывать,
567
*\
Жан-Жак Руссо
что это одобрение, как и все остальные, следует
засвидетельствовать мнением общества, которое можно запросить множеством
способов.
Выборы депутатов-сенаторов будут осуществляться палатой
нунциев на обычном сейме таким образом, что они станут занимать
свое место не более двух лет, но с возможностью продления срока
не более двух раз, при условии, что, покидая свое место, они
предварительно получат свидетельство об одобрении, напоминающее
то, что необходимо получить от сеймиков для избрания нунцием
второй и третий раз. Ибо без подобного свидетельства, выданного
после каждого отправления должности, нельзя будет получить
никакого повышения по службе, и, дабы не оказаться отстраненным
от участия в управлении, останется только одно средство этого
избежать, а именно: снова вступить на служебное поприще, начиная
с низших ступеней. Это следует разрешить с тем, чтобы не отнять
у ревностного гражданина, какой бы промах он ни совершил, всякую
надежду его исправить и добиться повышения. Во всем остальном
не следует возлагать на какое-либо особое собрание составление
или отказ в составлении свидетельств или одобрений. Необходимо,
чтобы эти мнения выражала вся палата, а этого нельзя будет
осуществить без затруднений, потери времени, если не воспользоваться
для выражения мнений о деятельности депутатов-сенаторов,
оставляющих свои места, тем же способом заполнения карточек,
который я предложил для их избрания.
Возможно, скажут, что все эти свидетельства об одобрении,
выданные сначала особыми организмами, затем сеймиками и, наконец,
сеймом, получат не столько в силу заслуг, справедливости или
искренности, сколько окажутся выторгованы с помощью влияния
или хитрости; на это я могу сказать лишь следующее: я думаю, что
обращаюсь к народу, который хоть и не лишен пороков, обладает
еще и душевной силой и добродетелями; исходя из этого
предположения, мой план хорош; но если Польша уже дошла до той точки,
что все в ней продажно на корню и приобретено с помощью
подкупа, бесполезно пытаться преобразовывать законы и сохранить
свободу. Ей следует от всего этого отказаться и склонить голову под
ярмо. Но вернемся к нашему плану.
Любой сенатор-депутат, который, получив одобрение, трижды
займет это место, по праву перейдет в следующую степень, самую
высокую в государстве. Знак отличия будет возложен на него коро-
568
Соображения об образе правления в Польше...
лем по представлению сейма. Этот знак отличия в виде стальной
пластины будет похож на предыдущие, но на нем выбьют надпись:
custos legium53. Те, кто ее получит, станут носить ее всю оставшуюся
жизнь, какой бы высокой должности они ни достигли, и даже
пребывая на троне, если им случится на него взойти.
Воевод и великих кастелланов следует избирать не иначе как из
числа хранителей законов тем же способом, как и тех, кого избрали
из числа граждан, то есть на выборах в сейме, и поскольку воеводы
занимают самые высокие должности в республике, и занимают их
пожизненно, для того чтобы дух состязания не исчез на этих
должностях, за которыми следует только трон, только им откроют
доступ к нему, но таким образом, что они смогут его получить только
с одобрения общества и благодаря собственной добродетели.
Прежде чем перейти к следующему вопросу, замечу, что поприще,
на которое я предлагаю вступить гражданам с тем, чтобы
последовательно дойти до должности главы республики, кажется, в
достаточной мере соответствует продолжительности человеческой
жизни: ведь у держащих в своих руках бразды правления, переживших
горячность юности, еще обладающих крепким здоровьем, после
пятнадцати или двадцати лет последовательных испытаний на глазах
у общества останется в запасе достаточное количество лет, для того
чтобы родина могла воспользоваться их талантами, опытом,
добродетелями, а они сами пользовались на высших должностях
государства уважением и почестями, которые они заслужат. Если
предположить, что человек начинает заниматься делами управления
в двадцать лет, весьма возможно, что в тридцать пять он станет уже
воеводой; но поскольку весьма затруднительно и подчас неуместно
осуществлять это продвижение по службе столь быстро, люди
займут свою должность лишь в редких случаях до сорока лет, и этот
возраст, по моему мнению, в наибольшей степени соответствует
тому, в котором сочетаются качества, требуемые от
государственного деятеля. Добавим здесь, что это продвижение приспособлено
(насколько это возможно) к потребностям управления. В
вероятностном исчислении я могу предположить, что каждые два года
будет избрано по крайней мере пятьдесят новых «избранных граждан»
и двадцать «стражей законов». Количество, более чем достаточное
для того, чтобы заполнить обе части Сената, путь к занятию мест
в которых открывают обе эти степени. Ибо легко заметить, что, хотя
первый ранг сенаторов и наиболее многочисленен, поскольку его
569
*\
Жан-Жак Руссо
занимают пожизненно, в нем всегда окажется меньше свободных
мест, чем во втором, который, согласно моему плану, должен
обновляться во время каждого обычного сейма.
Мы уже видели, а вскоре увидим еще раз, что я не оставляю
праздными тех избранных лиц, что окажутся лишними, в
ожидании доступа в Сенат в качестве депутатов. Дабы тем более не
оставлять праздными «стражей законов», ожидающих доступа в Сенат
в качестве воевод и кастелланов, именно из их числа я бы образовал
коллегию управителей образования, о которой я недавно говорил.
Можно поставить председателем этой коллегии примаса Польши
или другого священника, сверх того записав в законе, что никакой
другой священник, будь он даже епископом и сенатором, не может
получить туда доступ54.
Вот каким мне представляется вполне последовательное
продвижение по службе в существенной и промежуточной части
целого, а именно среди знати и магистратов. Но нам еще нужно сказать
о двух крайних частях правления, а именно, о народе и короле.
Начнем с народа, который до сего времени почти не принимался в
расчет и которому теперь надлежит считать чем-то важным, если мы
хотим придать силу и известную прочность Польскому государству.
Нет более щекотливого вопроса, чем тот, о котором пойдет речь,
ибо, в конце концов, хотя каждый чувствует, каким великим
несчастьем для республики является то, что нация оказывается до
некоторой степени ограничена всадническим разрядом, а все остальные
разряды, то есть крестьяне и горожане, считались бы никчемными
как в правительстве, так и в законодательной деятельности, хотя
ведь именно таким и был старинный государственный строй
Польши. В настоящее время было бы неосторожно, да и невозможно
изменить государственный строй целиком и сразу, но это возможно
сделать, если постепенно произвести подобные изменения и
сделать без заметного переворота так, чтобы наиболее
многочисленная часть нации прониклась привязанностью к родине, да и к
правительству. Достичь этой цели возможно двумя способами: первый
состоит в точном осуществлении правосудия, дабы у крепостного
крестьянина или простолюдина не было оснований опасаться
несправедливости и обид со стороны знатного, тем самым исцеляясь
от глубокой неприязни, которую они естественным образом питают
к нему. Это потребует значительного преобразования судов и
особую заботу об образовании адвокатского сословия.
570
Соображения об образе правления в Польше...
-х-*
Второе средство, без которого первое ничего не значит,
заключается в том, чтобы открыть крепостным крестьянам двери к
получению свободы, а горожанам к знатности. И даже если это
неосуществимо, следует, по крайней мере, чтобы люди видели такую
возможность, но можно сделать и больше, как мне представляется,
при этом не подвергая себя никакой опасности потерпеть неудачу.
Вот, например, средство, которое позволит определенным образом
достичь поставленной цели.
Каждые два года в промежутках между заседаниями сейма
следует выбрать в каждой провинции время и место, подходящие для
того, чтобы выборные лица этой провинции, пока еще не ставшие
сенаторами-депутатами, собрались под председательством
«хранителя закона», еще не достигшего звания пожизненного сенатора,
в некоем собрании цензоров или попечителей блага людей, на
которое пригласили бы не всех кюре, а лишь тех, кого сочли бы
наиболее достойными подобной чести. Я даже думаю, что подобное
предпочтение создало бы известное молчаливое суждение у народа
и могло бы посеять известную состязательность среди сельских
кюре, а также отвратить большее их число от весьма беспутных
нравов, к которым они весьма склонны.
На этом собрании, куда пригласили бы стариков и избирателей
из всех сословий, можно было бы заняться изучением планов
создания полезных учреждений для провинции, заслушать доклады
кюре о состоянии их собственных и соседних приходов, доклады
выборщиков о состоянии земледелия и положении семей в их
кантоне; эти доклады внимательным образом проверялись бы,
каждый участник заседания добавил бы свои собственные замечания,
и из всего этого можно было бы составить достаточно точный
перечень вопросов, а из них извлечь краткие памятные записки для
последующего представления в сейм.
На нем подробно изучили бы нужды чрезмерно обремененных
долгами семей, больных, вдов, сирот и оказать им помощь в
зависимости от их потребностей из имения, созданного благодаря
добровольным пожертвованиям не нуждающихся лиц. Эти
пожертвования не стали бы ни в коей мере разорительными, тем более что
это оказалось бы единственным проявлением щедрости с их
стороны, принимая во внимание, что в Польше не следует мириться с
наличием нищих и приютов для них. Без сомнения, священники бу-
571
*\
Жан-Жак Руссо
дут постоянно призывать к сохранению приютов, но эти
призывы — еще больший довод в пользу того, чтобы их уничтожить.
На этом же заседании, во время которого не станут заниматься
наказаниями, выговорами, но только вопросами, касающимися
благодеяний, похвал, поощрений, на основании верных сведений
составят точные перечни частных лиц из всех сословий, поведение
которых достойно почестей и вознаграждения. Эти перечни отправят
в Сенат и королю, дабы при случае принять их во внимание, а
также сделать правильный выбор и оказать предпочтение. Именно по
указанию названных собраний в колледжах управляющие
образованием предоставят бесплатные места для учащихся, о чем я прежде
говорил. Но основное и наиболее важное занятие этого собрания
заключается в составлении в соответствии с точными записками
и на основании сведений о мнении общества, в достаточной
степени проверенных, перечня крестьян, отличающихся
добропорядочным поведением, хорошим ведением хозяйства на земле, добрым
нравом, заботой о семье, а также исполнением обязанностей,
приличествующих их состоянию. Из этого перечня, в дальнейшем
представленного в сеймик, отберут определенное количество лиц: их
в соответствии с законом освободят. И этот сеймик позаботится об
определенных средствах возмещения хозяевам, даровав им право
пользования выгодами, преимуществами, исключительными
правами в соответствии с числом крестьян, которых сочли
достойными освобождения, ибо во всяком случае нужно сделать так, чтобы
освобождение крепостного крестьянина стало не разорительным
для хозяина, а выгодным и почетным. Естественно, что для того
чтобы избежать злоупотреблений при освобождении крестьян, оно
должно производиться не хозяевами, а по решению сеймика и
только в количестве, определенном законом *.
* При определении этого количества нужно больше обращать внимание на лиц,
чем на отдельные поступки. Подлинное благо творят без лишнего шума. И только
благодаря серьезному и неизменному поведению, благодаря домашним и личным
добродетелям, исполнению обязанностей, приличествующих сословию,
поступкам, вытекающим из характера и убеждений человека, он может заслужить
почести, а не благодаря театральным жестам, за которые всегда получают награду
в виде восхищения со стороны общества. Показная философия предпочитает
показные поступки, но человек, совершив пять или шесть поступков подобного
рода, блестящих, шумных, получивших похвалу, ставит себе целью ввести в
заблуждение относительно своего характера и тем самым получить право
безнаказанно оставаться несправедливым и суровым всю оставшуюся жизнь. «Добудьте
572
Соображения об образе правления в Польше...
-х-»
Когда одну за другой освободят известное число семей в кантоне,
можно освободить и целые деревни, с тем чтобы постепенно
образовать коммуны, приписав к ним некоторые угодья, коммунальные
земли,« как в Швейцарии, назначив там коммунальных
должностных лиц, и когда постепенно и без какого-либо ощутимого
переворота это дело будет завершено, можно предоставить наконец-то
этим крестьянам право, данное им от природы, участвовать в
управлении их страной, избирая депутатов сеймиков.
Когда это будет сделано, ничто не мешает вооружить крестьян,
ставших свободными людьми и гражданами, образовать из них
отряды, обучить воинскому делу, и в конце концов возникнет
ополчение, действительно великолепное и более чем достаточное для
защиты государства.
Сходным образом можно действовать, предоставляя права
дворянства определенному количеству горожан, а может быть, даже
и не предоставляя дворянских прав, назначать их на некоторые
заметные должности, которые они отправляли бы в исключительных
случаях, подражая в этом отношении венецианцам: они хотя и
ревниво относятся к правам знати, тем не менее, помимо службы на
нижестоящих должностях, всегда предоставляют одному из
жителей города второе место в государстве, то есть должность великого
канцлера; при этом никакому патрицию не позволено на нее
притязать55. Таким образом, открыв горожанам доступ к знатности и
почестям, можно будет любовью к отечеству привязать их к нему и тем
упрочить государственный строй. Можно также, не предоставляя
дворянские права отдельным лицам, предоставлять их целым
городам, предпочтительно тем, в которых более всего процветают
торговля, ремесла, производство, и, следовательно, муниципальное
управление устроено наилучшим образом. Города, которым
предоставлены права дворянства по примеру имперских городов
Германии, отправляли бы нунциев в сейм, и их пример, конечно,
возбудил бы у остальных сильное желание добиться той же чести.
Советы цензоров, которым вверено ведомство
благотворительности, к стыду народов и королей, никогда и нигде не
существовавшие, несмотря на то что они не являются выборными, также
образовали бы способом, в наибольшей степени подходящим для того,
себе разменную монету, совершив великие дела», — эта фраза одной женщины
очень справедлива.
573
«-\
Жан-Жак Руссо
чтобы пользоваться своими полномочиями честно и ревностно,
поскольку его члены, желая попасть на места сенаторов, имея на это
право в соответствии с их степенями, с большим старанием
стремились бы заслужить одобрение общества во время голосования
в сейме; и участие в этих советах стало бы занятием, способным
поддерживать рвение ищущих должностей на глазах у людей в
промежутках времени между выборами в него. Заметьте, что это
происходило бы тогда, когда они оставались бы простыми
гражданами, обладающими различными степенями, поскольку этот своего
рода суд, столь полезный и уважаемый, призванный принести
только благо, никогда не будет облечен принудительной властью: таким
образом я не умножаю количество выборных лиц, но попутно
пользуюсь моментом перехода с одной должности на другую, дабы
извлечь выгоду из тех, кто должен эти должности занять.
Благодаря этому плану (постепенно приводя его в исполнение,
осуществление которого можно ускорить, замедлить или вообще
остановить в зависимости от успеха или неуспеха; учитывая опыт,
можно сколь угодно двигаться вперед) можно было бы возбудить
во всех нижестоящих сословиях горячее желание споспешествовать
общественному благу и добиться того, чтобы все части Польши
оживились, связать их таким образом, что они составят единый
организм, крепость и силы которого, по крайней мере более здоровые,
можно было бы удесятерить в сравнении с нынешним
положением, и это принесло бы неоценимую пользу, поскольку таким
образом избежали бы любого резкого и внезапного изменения, так же
как и опасности переворотов.
Вам представится великолепная возможность приступить к
этому делу достойным и блестящим образом, что приведет к весомому
результату. Невозможно, с учетом несчастий, которые Польша
только что пережила, чтобы конфедераты получили содействие или
увидели проявление привязанности со стороны некоторых
горожан и даже некоторых крестьян. Возьмите за пример великодушие
римлян, всегда заботившихся, особенно после великих бедствий,
перенесенных республикой, о том, чтобы выказать как можно
больше благодарности иностранцам, подданным, рабам и даже
животным, которые во времена невзгод оказали им достойные внимания
услуги. О, какое прекрасное начало, по моему мнению, —
торжественно предоставить права дворянства горожанам и освободить
крестьян, и все это со всем великолепием, со всеми обрядами, спо-
574
Соображения об образе правления в Польше...
-х-»
собными придать этой церемонии величественный, трогательный,
запоминающийся характер! И при этом не останавливайтесь на
полпути. Эти люди, получившие отличия в такие времена, должны
навсегда остаться избранными детьми родины. О них нужно
заботиться, охранять, помогать им, поддерживать, даже если когда-то
они были людьми с сомнительным прошлым. Следует любой ценой
сделать так, чтобы они жили беззаботно всю оставшуюся жизнь.
Пусть Польша покажет всей Европе пример, находящийся у всех
перед глазами, того, что должно от нее ожидать во времена
успехов, если кто-то посмел помочь ей в тяжкие времена.
Вот в самом грубом выражении и в виде примера мысль о том,
каким образом можно действовать так, чтобы каждый увидел перед
собой свободную дорогу к всевозможным достижениям, ведущим
на самые почетные должности благодаря службе родине, и чтобы
добродетель открывала все двери, которые удача посчитала
нужным закрыть.
Но еще не все готово, та и часть этого плана, что мне предстоит
изложить, является, бесспорно, самой затруднительной и более
всего смущает, так как она предполагает, что нужно будет
преодолеть препятствия, из-за которых терпели неудачу самые мудрые
политики при всей своей осторожности и опыте. А между тем мне
кажется, что, приняв к исполнению мой план и используя средство
очень простое, которое я собираюсь предложить, все эти
сложности можно устранить, все злоупотребления предотвратить, а то, что,
казалось бы, создает новые препятствия, обернется выгодой в ходе
его осуществления.
Глава XIV
Выборы королей
Все трудности сводятся к одной: дать государству правителя,
выборы которого не послужили бы поводом для смуты и не
превратились бы в посягательство на свободу. Эта сложность возрастает еще
и потому, что этот глава должен обладать великими качествами,
необходимыми тому, кто берет на себя смелость править свободными
людьми. Наследование короны предотвращает смуты, но оно ведет
к рабству; выборы укрепляют свободу, но с началом нового
царствования они раскачивают корабль государства. Горько, если при-
575
*\.
Жан-Жак Руссо
ходится выбирать между этими двумя возможностями, но прежде
чем говорить о способах избежать этого выбора, да будет мне
позволено немного поразмышлять о том, как поляки обычно
распоряжаются короной.
Для начала я бы им задал вопрос: почему они выбирают
королей из числа иностранцев? В силу какого ослепления они избрали
способ, использование которого прямо ведет к порабощению
нации, к уничтожению ее обычаев, к тому, что она стала игрушкой
в руках других дворов, без всякой надобности увеличивая
опасности времен междуцарствия? Какая несправедливость по отношению
к самим себе, какое оскорбление для своей родины! Как будто
потеряв надежду найти внутри страны человека, достойного ими
руководить, они оказались вынуждены искать его где-то далеко. Как
они не почувствовали, как не заметили, что нужно сделать прямо
противоположное? Откройте летописи вашей нации, и вы увидите
Польшу, прославившуюся, победоносную только во времена
правления королей-поляков и неизменно угнетенную, униженную под
властью иностранцев. Так пусть же опыт будет, наконец, опираться
на разум, посмотрите, какие несчастья вы причиняете сами себе
и каких благ себя лишаете.
Ибо еще раз вас спрашиваю: как польская нация, приложившая
столько усилий, чтобы сделать корону выборной, не подумала
извлечь выгоду из этого закона, распространив среди членов
правления дух состязания в усердии и стремлении к славе, способный
принести больше блага родине, чем все законы, вместе взятые? Какой
мощный рычаг воздействия на великие и исполненные честолюбия
души, когда эта корона, предназначенная самым достойным,
окажется дорогой в будущее в глазах каждого гражданина, который
сумеет заслужить уважение общества! Надежда добиться этой
должности и получить ее за самую высокую цену не должны ли в вашей
нации пробудить столько добродетелей, столько благородных
усилий, столько ростков патриотизма во всех сердцах, когда бы всем
было отлично известно, что должность, ставшую предметом
тайного вожделения отдельных лиц, можно получить только в силу
личных заслуг, когда каждый понимает, что только от него зависит
приблизиться к ее получению и, если при этом сопутствует удача,
в конце концов ее получить. Поищем же наилучшее средство
привести в действие этот рычаг, столь мощный в республике, которым
доселе столь часто пренебрегали. Возможно, мне возразят, что дос-
576
Соображения об образе правления в Польше...
таточно вверить корону лишь полякам, чтобы устранить все
сложности, о которых идет речь: вот это-то мы вскоре и увидим, после
того как я укажу на средство. Это средство простое, но, наверное,
покажется, что цель, на которую я только что указал, недостижима,
если я скажу, что это средство заключается в том, чтобы выборы
короля осуществлять по жребию. Умоляю или дать мне время
объясниться, или пусть просто перечитают внимательно мой план.
Ибо, если спросят: «Как удостовериться в том, что король,
избранный по жребию, может обладать качествами, требуемыми для
достойного отправления его должности?», — то тогда мне приведут
возражение, на которое я уже ответил, ибо в этом случае вполне
достаточно, если короля изберут по жребию из пожизненных
сенаторов, так как, поскольку этих последних выберут из разряда
«стражей законов» и они пройдут с честью испытания во всех степенях
в республике, испытания всей их жизни и одобрение общества на
всех должностях, которые они отправляли, станут достаточной
порукой заслуг и добродетелей каждого из них.
Тем не менее, я не думаю, что даже между пожизненными
сенаторами только жребий должен решать, кому отдать предпочтение:
это означало бы не вполне достичь той великой цели, которую перед
собой ставят. Необходимо, чтобы жребий получил несущественное
значение, а выбор — существенное, с тем, чтобы, с одной стороны,
обессилить происки и заговоры иностранных держав, а с другой —
побудить всех воевод не только никогда не допускать недостойного
поведения, имея перед глазами столь весомую выгоду, но и
продолжать усердно служить родине, дабы получить заслуженные
преимущества перед другими соперниками.
Признаюсь, что класс соперников выглядит достаточно
многочисленным, если к нему добавить великих кастелланов, которые,
согласно существующему государственному устройству, равны по
положению воеводам, но я не вижу никакого неудобства в том,
чтобы предоставить только воеводам непосредственный доступ к
трону. Это привело бы к тому, что среди великих кастелланов
образуется новая степень лиц, которым следует пройти испытание, прежде
чем стать воеводами, и, следовательно, это стало бы еще одним
средством держать Сенат в зависимости от законодателя. Как уже
отмечалось, великие кастелланы мне представляются должностью,
избыточной в государственном устройстве, тем не менее, дабы
избежать больших изменений в нем, надо бы сохранить за ними место
19 Зак. 3436
577
«-\-
Жан-Жак Руссо
и ранг в Сенате. Этот шаг я одобряю. Но в том продвижении по
службе, которое я предлагаю, ничто не обязывает ставить кастелла-
нов вровень с воеводами, но так как ничто не мешает это сделать,
можно будет без всякого неудобства принять то решение, что
сочтут наилучшим. При этом я полагаю, что предпочтительнее было
бы открыть непосредственный доступ к трону только воеводам.
Итак, сразу же после смерти короля, то есть по прошествии
малого времени (насколько это возможно), времени, определенного
законом, нужно торжественно созвать избирательный сейм. На
выборы выставят имена всех воевод, и по жребию следует (со всеми
необходимыми предосторожностями) избрать троих так, чтобы
никакое мошенничество не испортило это мероприятие. Эти три
имени громко назовут во время собрания, которое на том же самом
заседании и большинством голосов изберет того, кого оно
предпочтет, и его провозгласят королем в тот же самый день.
В этом порядке проведения выборов обнаружат большое
неудобство, не стану спорить. Оно состоит в том, что нация не сможет
свободно выбрать из числа воевод того, кого она чтит и любит
более всего и считает наиболее достойным королевской должности;
но это неудобство не в новинку в Польше, и случалось множество
выборов, в особенности последние, когда, не считаясь с теми, кого
нация считает лучшим, ее заставляли выбирать лиц, ей неприятных:
но вместо этого преимущества, которого она уже не имеет и
принесла в жертву, сколько других, более значительных, она получит
и окажется в выигрыше, используя этот порядок выборов!
Во-первых, случайный выбор сразу же лишает силы все
заговоры и происки иностранных государств; им больше не удастся
повлиять на эти выборы, поскольку, приложив столько усилий, они
будут не слишком уверены в их успехе, ведь здесь не поможет даже
мошенничество в пользу какого-либо лица, которого нация в любое
время может отвергнуть. Единственная значимая выгода от таких
выборов заключается в том, что она обеспечивает покой в Польше,
уничтожает продажность в республике, и на выборах остается
почти такая же спокойная обстановка, как и при наследовании
короны.
То же самое преимущество будет иметь место, несмотря на
происки самих соискателей. Ибо кто из них пожелает пуститься в
расходы, дабы обеспечить себе предпочтение избирателей, в этом слу-
578
Соображения об образе правления в Польше... ^
чае от людей отнюдь не зависящее, и принести в жертву свое
состояние ради такого дела, успех которого зависит от стольких
неблагоприятных обстоятельств, из которых лишь одно может оказаться
благоприятным? Добавим, что тем, на кого выпадет жребий, не
достанет времени купить выборщиков, ибо выборы будут
происходить на том же самом заседании.
Свободный выбор нации между тремя соискателями ограждает
ее от недостатков выбора по жребию, который, предположим, пал
на лицо недостойное, ибо, если такое случится, нация не станет
избирать такого человека; однако совершенно невозможно, чтобы
между тридцатью тремя знаменитыми людьми, лучшей части
нации, такой человек сыскался, и непонятно, как можно не найти в ней
хоть одного достойного. В этом случае все трое, на кого выпадет
жребий, окажутся недостойными.
Итак, и это замечание весьма весомо: мы соединим в этом
порядке выборов все преимущества простых выборов с
наследованием короны.
Ибо, во-первых, корона не перейдет от отца к сыну, а значит, не
возникнет устойчивой преемственности, которая ведет к
порабощению республики. А, во-вторых, жребий при этом порядке
является средством проведения добровольных и понятных всем
выборов. Достойный уважения организм стражей законов и воевод,
которые выбраны из числа первых, не может осуществить какой-
либо отбор иначе, как из числа тех, кто уже был избран самой
нацией.
Но посмотрите, какой дух состязания эта возможность должна
вселить в организм воевод и великих кастелланов, занимающих
пожизненно свои места и способных совершить недостойный
поступок, будучи уверенными в том, что их этих мест не лишат. В этом
случае невозможно, чтобы их сдерживало опасение, но надежда
занять престол, который каждый из них видит впереди, является еще
одним средством подстегнуть их, заставляя быть весьма
внимательными к своему поведению. Они знают, что жребий не имеет
смысла, если их отвергнут во время выборов, а единственное
средство оказаться в числе избранных — заслужить это. Это
преимущество слишком велико, слишком очевидно, чтобы необходимо было
на нем настаивать.
Предположим на минутку худшее, а именно, что нельзя избежать
мошенничества во время жеребьевки, и соискатели смогут обмануть
579
«-v.
Жан-Жак Руссо
бдительность всех тех, кто усматривает собственную выгоду в этом
деле. Это мошенничество станет несчастьем для устраненных
соискателей, но для республики результат будет таким же, как если бы
жеребьевка оставалась безупречной: ибо польза от выборов
оказалась бы не меньшей, как и возможности предотвратить смуты
времен междуцарствия и опасности наследования короны тоже.
Соискатель, чье честолюбие овладеет им до такой степени, что он
прибегнет к этому мошенничеству, не станет, впрочем, в меньшей мере
человеком достойным, способным, по мнению нации, с честью
носить корону, и, наконец, даже после этого мошенничества
возможность воспользоваться его плодами немало будет зависеть от
последующего и определенного выбора всей республики.
Если этот план целиком и полностью одобрят, все окажется
связанным в государстве, и никто, от первого из воевод до последнего
жителя государства, не получит возможности продвинуться вперед
иначе как следуя по пути долга и с одобрения общества. Да и сам
король, как только он избран, не увидит выше себя ничего, кроме
законов, никакого иного ограничения, которое его бы сдерживало,
и, не нуждаясь в одобрении со стороны общества, он, ничем не
рискуя, возможно, обойдется и без него, если его предначертания того
требуют. Но в этом случае я вижу лишь одно лекарство, но о нем
даже не стоит и задумываться. А именно, сделать корону в каком-то
смысле сменяемой, дабы по истечении некоторого времени короли
получали подтверждение своих полномочий. Но еще раз скажу, это
средство не стоит даже и предлагать: на престоле постоянно царило
бы смятение, и это средство отнюдь не сделало бы управление
достаточно надежным, с тем чтобы оно всеми силами действовало
единственно во благо общества.
Есть древний обычай, который существовал только у одного
народа; удивительно, однако, то, что его удачное использование
никого не побудило последовать этому примеру. По правде сказать,
этот обычай подходит лишь для выборной монархии, хотя
придумали его и использовали при наследственном правлении. Я имею
в виду оценку деяний египетских царей, которым после смерти, в
силу постановления, гробница и королевские почести либо
предоставлялись, либо не предоставлялись в зависимости от того, хорошо
или плохо они правили государством при жизни. Безразличие
наших современников к вопросам морали и к тому, что придает
душевные силы, приведет их к тому, что они сочтут безумием мысль
580
Соображения об образе правления в Польше...
-х"»
о возрождении этого обычая в отношении королей Польши, но не
французам, и уж тем более не философам я хотел бы предложить
попытаться ввести этот обычай, но я полагаю, что его можно
предложить завести полякам. Смею предположить, что подобное
установление принесло бы им значительную и ничем не заменимую
пользу, не связанную ни с какими неудобствами. В настоящем
положении вещей ясно, что если только речь не идет о душе
низменной, равнодушной к почитанию памяти о ней, неизбежно честное
суждение не может не довлеть над королем, а он не станет
сдерживать свои пристрастия в большей или меньшей мере; и, признаюсь,
я думаю, что он всегда оказался бы в состоянии их в определенной
мере сдерживать, в особенности если вдобавок учесть выгоды его
детей, участь которых предрешит постановление относительно
почитания памяти их отца.
Я желал бы, таким образом, чтобы после смерти каждого короля
его тело выставили в общедоступном месте до того времени, когда
вынесут суждение о его правлении, и суд, который должен вынести
это судебное решение и предоставить ему усыпальницу, собрался
как можно раньше, и на нем его жизнь и царствование были бы
нелицеприятно изучены. А после того как сведения, предоставить
которые допустили бы любого гражданина, наделенного правом его
обвинить или защитить, вслед за правильно проведенным
разбирательством последовало бы решение, вынесенное возможно более
тожественно.
Согласно этому судебному решению, если оно в пользу
покойного короля, то его объявят добрым и справедливым государем, его
имя с почестями впишут в список королей Польши, его тело со всей
пышностью поместят в усыпальницу, а выражение «Славной
памяти» добавят во всех документах и публичных речах; назначат
пенсион его вдове и детям, объявленным королевскими принцами, и они
будут пользоваться на протяжении всей жизни почестями,
связанными с этим титулом.
И чтобы, напротив, если его сочли виновным в
несправедливости, насилии, происках и в особенности покушениях на
общественную свободу, память о нем будет предана осуждению и бесчестью,
а его тело, лишенное права быть помещенным в королевской
усыпальнице, похоронят без почестей, как тело частного лица, его имя
вычеркнуто из перечня королей, а его дети, лишенные титула
королевских принцев и исключительных прав, с ними связанных, ста-
581
«~ч*.
Жан-Жак Руссо
нут принадлежать к классу простых граждан, не имея почетных
отличий, но и не заклейменные позором.
Я хотел бы, чтобы это судебное решение выносилось с
соблюдением церемонии и предшествовало, если возможно, выборам
преемника, с тем чтобы власть этого преемника не повлияла на
приговор, суровость которого ему выгодно было бы смягчить.
Разумеется, весьма желательно было бы иметь больше времени для
того, чтобы обнаружить истины утаенные и лучше провести
судебное разбирательство. Но, если после выборов станут медлить, то
я опасаюсь, что это важное действо окажется пустым
церемониалом, и, как почти всегда бывает при наследственном правлении, он
превратится в надгробную речь о достоинствах покойного короля,
а не в справедливое и нелицеприятное судебное решение о его
правлении. В этом случае лучше предоставить обществу
возможность высказаться, упустив при этом из виду некоторые
второстепенные сведения, с тем чтобы сохранить прямоту и суровость этого
решения, которое в противном случае оказалось бы бесполезным.
Что касается суда, который вынес бы этот приговор, я хотел бы,
чтобы им стал не Сенат, не сейм, не какой-либо иной
государственный организм, облеченный правительственной властью, но целиком
разряд граждан, который не так-то легко обмануть или подкупить.
Мне кажется, что «избранные граждане», более осведомленные
и более опытные, чем «слуги государства», и менее участливые, чем
весьма близкие к престолу «стражи законов», могли бы образовать
тот самый промежуточный организм, который обнаружил бы
больше осведомленности и прямоты, оказался бы в наибольшей степени
способным выносить правдивые судебные решения и в этом случае
стал бы более предпочтительным. Если же случится, что этот
организм будет недостаточно многочисленным для вынесения столь
значимого судебного решения, я предпочел бы, чтобы его
пополнили «слугами государства», а не «хранителями законов». И наконец,
я желал бы, чтобы это присутствие возглавил маршал, избранный
из состава собрания, а не из числа лиц, занимающих какие-либо
должности, и организм избирал бы его самостоятельно, подобно
тому как избираются маршалы сеймиков и конфедераций, ведь так
необходимо избежать влияния соображений частной выгоды на
подобный документ, который может оказаться либо возвышенным,
либо смешным, в зависимости от того, каким образом в этом случае
поступят.
582
Соображения об образе правления в Польше... ^
Заканчивая раздел о выборах короля и судебном решении о его
царствовании, я должен сказать, что в ваших обычаях меня весьма
покоробила и показалась противоречащей духу вашего
государственного устройства одна вещь, а именно: я заметил, что ваше
государственное устройство опрокинуто и даже уничтожено после
смерти короля до такой степени, что все судебные присутствия
прекращают свою деятельность и закрываются, как если бы это
устройство настолько зависело от государя, что его смерть повлекла за
собой разрушение государства. Ах, Бог мой! Так все должно быть
совсем наоборот. Король умер, но все должно оставаться в том же
виде, как и при его жизни, и едва ли было бы заметно, что
механизму не хватает одной детали, поскольку она несущественна для
сохранения прочности последнего. К счастью, эта
непоследовательность ни на что не влияет. Достаточно сказать, что она исчезнет
навсегда, а сверх этого ничего не следует менять: однако не нужно
сохранять это странное противоречие, ибо, раз оно уже существует
в настоящем государственном устройстве, оно станет еще более
заметным после его преобразования.
Глава XV
Заклюгение
Вот мой план, в достаточной мере очерченный. На этом я
останавливаюсь. Какой бы план ни взялись осуществлять, не следует
забывать то, о чем я сказал в «Общественном договоре» о
состоянии слабости и анархии, в котором находится нация в то время,
когда она преобразует свое государственное устройство56. В момент
беспорядков, кипения страстей она не в состоянии оказывать
какое-либо сопротивление, и малейший толчок способен опрокинуть
все; поэтому важно любой ценой обеспечить себе время
спокойствия, на протяжении которого можно безопасно действовать себе
во благо и обновить государственное устройство. И хотя перемены,
которые следует произвести в нем, не являются
основополагающими и не кажутся особенно существенными, они все же потребуют
подобных мер предосторожности и, безусловно, известного
времени, чтобы ощутить влияние самого лучшего преобразования и
понять, каковы будут его плоды. Лишь предполагая, что успех в
полной мере зависит от храбрости конфедератов и праведности их
дела, можно задуматься об осуществлении предприятия, о котором
идет речь. Вы ни в чем и никогда не станете свободными до тех пор,
583
*\
Жан-Жак Руссо
пока на территории Польши останется хотя бы один русский
солдат, и вам будет грозить опасность исчезновения до тех пор, пока
Россия вмешивается в ваши дела. Но если вам удастся заставить
Россию вести с вами переговоры как с державой, а не как опекун
обходится с подопечным, воспользуйтесь в этом случае
истощением, к которому приведет ее война с Турцией, для того чтобы
завершить ваше дело, прежде чем Россия сможет вам в этом помешать.
Хоть я и не считаю надежной безопасность, которую обеспечивают
друг другу государства с помощью соглашений, подобное особое
стечение обстоятельств, наверное, заставит вас по возможности
воспользоваться этим средством, например, с тем, чтобы проведать
те намерения, что питают в настоящее время те, кто стремится
заключить с вами такие соглашения. Но, помимо этого случая и,
возможно, торговых договоров, заключенных при иных
обстоятельствах, не тратьте время и силы на пустые переговоры, не тратьте
попусту деньги на послов и поверенных при других дворах и
никоим образом не рассчитывайте на союзы и договоры. Все это
бесполезно в отношениях с христианскими державами: им незнакомы
иные узы, кроме тех, что налагают соображения выгоды,
поскольку они будут соблюдать взятые на себя обязательства лишь тогда,
когда сочтут их выгодными; когда же им окажется выгодным их
нарушить, они их нарушат. Вот поэтому-то и не стоит брать на себя
подобные обязательства. Даже если их выгода не оставляет
сомнений, понимание того, что является для них подходящим, позволяет
вам предугадать то, как они поступят. Но христианские государства
руководствуются отнюдь не пользой, а сиюминутной выгодой
какого-нибудь министра, какой-нибудь девицы, фаворита, и эти
соображения никакая человеческая мудрость не сможет предугадать;
они направляют их поступки то к выгоде для себя, то во вред, да
и можно ли быть в чем-нибудь уверенным с людьми, которые не
обладают никакими устоявшимися взглядами и которые
поступают, подчиняясь случайным побуждениям? Нет ничего
легкомысленней придворной политической науки, и, поскольку она не
основана на каких-либо твердых началах, то из нее невозможно сделать
никаких определенных выводов, и все это распрекрасное учение
о выгодах государей — детская игрушка, вызывающая смех у
разумных людей.
Поэтому не опирайтесь доверчиво ни на ваших союзников, ни на
ваших соседей. Вы сможете немного рассчитывать лишь на одного
584
Соображения об образе правления в Польше...
из них — на великого султана, и вы не должны щадить сил для того,
чтобы добиться его поддержки: вовсе не потому, что его взгляды на
государство более определенные, чем у других держав — и при его
дворе все тоже зависит от визиря, фаворитки, интриги в серале —
но выгода Порты ясна и проста, ибо речь идет о ее существовании,
и ее трон в целом занимают люди, гораздо менее искушенные в
политике и лукавые, но с большей прямотой и здравым смыслом. Из
одного этого вы извлечете больше пользы, чем от договоров с
христианскими державами, а именно в том, что она исполняет свои
обязательства и обычно соблюдает соглашения. Нужно постараться
заключить с ней одно соглашение сроком на двадцать лет,
достаточно надежное и, по возможности, ясное. Этот договор до тех пор,
пока иная держава скрывает свои планы, станет для вас наилучшей
и, возможно, единственной порукой, которую вы сможете
получить. И в том положении, в котором Россия, вероятно, окажется
вследствие нынешней войны, я считаю, что этого соглашения будет
достаточно для обеспечения безопасности ваши действий, тем
более что общая выгода держав Европы, и в особенности ваших
соседей, заключается в том, чтобы сохранить вас в качестве преграды
между ними и Россией, и, однажды понаделав глупостей, надо
надеяться, что они хотя бы раз проявят мудрость57.
Еще одна вещь заставляет меня верить, что в целом вы сможете
трудиться над преобразованием вашего государственного
устройства, не вызывая зависти у соседей: а именно то, что эти действия
ведут к укреплению вашего законодательства, а следовательно,
свободы, и эта свобода покажется всем дворам некоей причудой
мечтателей, которая повлечет за собой ослабление, а не укрепление
государства. Ведь именно по этой причине Франция всегда
благожелательно смотрела на свободу в Германском союзе и в Голландии
и именно по этой причине сегодня Россия благожелательно смотрит
на существующее правление в Швеции и всеми силами
препятствует осуществлению планов ее короля. Все эти великие министры,
судящие о людях по самим себе и по тем, кто их окружает, думая, что
хорошо их знают, даже представить себе не могут, какой
внутренней силой в свободных душах обладает любовь к родине и
стремление к добродетели. Напрасно они обманывают себя невысоким
мнением о республиках, но при этом во всех своих предприятиях
встречают сопротивление, которого не ожидают. Они никогда не
расстанутся с предрассудком, основанным на презрении, которого
585
«-^ч.
Жан-Жак Руссо
они сами достойны, ибо с этой точки зрения они оценивают
человеческий род. И несмотря на достаточно показательный опыт,
только что полученный русскими в Польше, ничто не заставит их
изменить свое мнение. Они всегда будут смотреть на свободных
людей так, как следует смотреть на них самих, а именно: как на
людей ничтожных, на которых могут повлиять только два средства —
кнут и пряник. И если они заметят, что Польская республика
вместо того, чтобы старательно заниматься наполнением своих
сундуков, увеличивать объем финансов, создавать регулярные войска,
напротив, думает распустить свою армию, обходиться без денег,
они подумают, что она старается ослабить себя, и, убедившись в том,
что для ее завоевания достаточно только вступить на ее землю,
когда им заблагорассудится, они позволят ей все исправить без помех,
потихоньку подсмеиваясь над деятельностью поляков. Конечно,
следует согласиться с тем, что свобода лишает народ сил нападать
на соседа, через двадцать лет русские попробуют завоевать вашу
территорию, и они узнают, какими солдатами являются эти
миролюбивые люди, когда речь идет о защите их жилищ, те солдаты,
которые не умеют совершать набеги на соседей и не знают цену
деньгам.
В конечном итоге, когда вы освободитесь от коварных гостей,
остерегайтесь умеренного обращения с королем, которого они
пожелали вам навязать. Нужно либо отрубить ему голову, как он того
заслуживает, либо, без оглядки на его предшествующее избрание,
которое абсолютно недействительно, избрать его снова с другими
pacta conventa, заставив его отказаться от права назначения на
высокие должности. Этот второй путь не только более гуманен, но
и более разумен, я усматриваю в этом некую щедрость и гордость,
которые умерят пыл также и петербургского двора, в случае если
вы проведете повторные выборы. Понятовский вел себя весьма
преступно, но, возможно, сегодня он — всего лишь несчастный
человек, особенно при настоящем положении дел, и мне кажется, он
ведет себя так, как и должен вести, то есть, ни во что не
вмешиваясь. Естественно, в глубине сердца он должен горячо желать
изгнания своих суровых хозяев. Возможно, он проявил бы геройский
патриотизм, присоединившись к конфедератам, дабы выдворить
своих хозяев, но всем известно, что Понятовский отнюдь не герой.
Впрочем, ему не позволили бы это сделать, поскольку он находится
586
Соображения об образе правления в Польше...
-х->
под постоянным надзором и, в конце концов, всем обязан русским;
и скажу откровенно, что будь я на его месте, я ни за что на свете не
согласился бы проявить подобный героизм.
Я отлично знаю, что не такой король вам нужен, когда ваше
преобразование будет осуществлено, но, возможно, это именно тот
король, который вам нужен, чтобы осуществить его спокойно. Пусть
он остается на престоле еще восемь-десять лет, — государственный
механизм начнет работать, многие воеводства уже заполнятся
«стражами законов» и вы не станете опасаться, что преемник
окажется похожим на него; но я очень боюсь, что, просто лишив его
престола, вы не будете знать, что с ним делать, к тому же
подвергнув себя опасности новых беспорядков.
Тем не менее, от каких бы неудобств ни избавляли вас
свободные выборы нового короля, об этом нужно задуматься только
после того, как вы удостоверитесь в его подлинных намерениях,
предполагая, что он обладает хоть в малой степени здравым смыслом
и благородством, любовью к своей стране, знанием ее подлинных
выгод и желанием их для нее добиться, ибо во всякие времена, в
особенности в том грустном положении, к которому несчастья Польши
ее приведут, для нее нет ничего пагубнее предателя во главе
правительства.
Что же касается способа приступить к делу, о котором идет речь,
мне не по вкусу те тонкости, что вам предлагают, дабы обмануть
или застигнуть в какой-то мере врасплох нацию, производя
необходимые изменения в ее законах. Я лишь придерживаюсь мнения,
однако, излагая свой план преобразований во всей его полноте, что
не следует резко приступать к его исполнению и при этом
наполнять республику недовольными, а надо оставить на должностях
большую часть тех, кто их занимает, и, в соответствии с новыми
преобразованиями, жаловать должности только по мере их
высвобождения. Не нарушайте резко движения механизма. Нисколько не
сомневаюсь, что однажды одобренный хороший план изменит сам
дух тех, кто прежде вошел в правительство. Будучи не в состоянии
сразу создать новых граждан, поначалу извлекайте выгоду из тех,
что есть, и откройте новую дорогу их честолюбию, и это станет
средством побудить их по ней идти.
И если, несмотря на храбрость и упорство конфедератов,
несмотря на праведность их дела, удача и все остальные державы их
покинут и отдадут вашу родину в руки ее угнетателей... Но я не имею че-
587
*\
Жан-Жак Руссо
сти быть поляком, a в положении, подобном тому, в котором вы
находитесь, позволительно высказывать мнения, только подавая
собственный пример.
Только что в меру сил я выполнил задачу, возложенную на меня
господином графом Виельгорским, и дай-то Бог, если я это сделал
столь же удачно, сколь и пылко. Может быть, все сказанное — не
что иное, как нагромождение несбыточных мечтаний моего
воображения, но таковы мои мысли, и не моя вина, что они так мало
похожи на мысли других людей: не от меня зависит устроить мой ум
по-другому. Признаюсь даже, что как бы своеобразны ни были эти
мысли, я не вижу в них, с моей точки зрения, ничего такого, что не
было бы вполне приспособлено к сердцу человека, ничего плохого,
неосуществимого, в особенности в Польше, ибо я старался в моих
суждениях придерживаться духа установлений этой республики,
предлагая как можно меньше изменений, насколько это от меня
зависело, чтобы исправить недостатки в ней. Мне кажется, что
правительство, использующее подобные рычаги, должно прямо идти
к достижению своей цели столь же настойчиво и долго, насколько
это возможно; при этом я, кроме того, понимал, что все творения
рук человеческих несовершенны, преходящи и могут погибнуть,
как и сами люди.
Я опустил, и намеренно, множество весьма важных пунктов,
относительно которых я не считал себя достаточно осведомленным.
Я предоставляю позаботиться об этих вопросах людям, более
знающим, более мудрым, чем я. Завершаю это долгое и бессмысленное
рассуждение, принося графу Виельгорскому мои извинения за то,
что столь долго занимал им его внимание. Хотя я размышляю
иначе, чем другие люди, я не льщу себе надеждой, что являюсь более
мудрым, чем они, и что в моих мечтаниях содержится что-либо
действительно полезное для их родины; но мои пожелания
процветания Польше слишком искренни и чисты, слишком бескорыстны,
чтобы сочли, будто гордость от того, что я этому способствовал,
возможно, примешивается к моему усердию. Пусть же Польша
победит своих врагов, станет и остается мирной, счастливой и
свободной, примером всему миру и, воспользовавшись трудами
патриота — господина графа Виельгорского — сможет найти и вскормить
в своем лоне многих граждан, похожих на него.
КОММЕНТАРИИ
Рассуждение о политигеской экономии
Впервые напечатано в V томе «Энциклопедии» Дидро и Д'Аламбе-
ра в 1755 году (Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences,
des arts et des métiers. Paris, 1755. T. V. P. 337—349). Первое отдельное
издание вышло в 1758 году.
Перевод С. В. Занина по изд.: Rousseau J.-J. Discours sur l'économie
politique / éd. établie par Bruno Bemardi. Paris: Vrin, 2002.
Комментарий И. И. Бочкова при участии С. В. Занина.
Статья много раз переводилась на русский язык. Впервые: Économie
(Morale et politique) = Экономия (Нравоучение и политика) / Пер. А.
Нарышкина // Переводы из Энциклопедии. М., 1767. Ч. 2. С. 3—63.
«Рассуждение о экономии», написанное Руссо в 1755 году, вошло в 5 том
«Энциклопедии» Дидро и д'Аламбера вместе со статьей Дидро
«Естественное право», с которой Руссо полемизирует в «Рассуждении». Долгое
время оно публиковалось по тексту этого издания с добавлениями,
появившимися в издании статьи 1782 г., осуществленном душеприказчиками
Руссо, в частности, Полем Мульту. Этот текст без всяких изменений был
воспроизведен в издании Œuvres complètes de J.-J. Rousseau (Paris:
Gallimard, 1959-1995. T. III), подготовленном Робером Дератэ, с которого
выполнен перевод, опубликованный в кн.: Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М., 1969.
Предлагаемый читателю перевод сделан по изданию, выверенному по
сохранившейся рукописи «Рассуждения» и получившему в мировом руссо-
ведении статус научно-критического: Rousseau J.-J. Discours sur l'économie
politique / éd. établie par Bruno Bemardi. Paris: Vrin, 2002. Это издание
восстанавливает первоначальное название произведения и порядок
разделов, претерпевший серьезные изменения при первой публикации в
«Энциклопедии», а также содержит основные варианты текста.
Обратим внимание на то, что структура статьи парадоксальным образом
напоминает структуру «Политики» Аристотеля, который в первой книге
дает определение экономики и государства, противопоставляя последнее
семье как особому типу объединения людей. Во второй книге Стагирит
591
«-\.
Комментарии
рассматривает вопросы управления собственностью и законотворчества.
В последующих книгах трактата говорится об элементах, составляющих
государство как организм, о необходимости патриотизма, о надлежащем
воспитании молодежи.
В тексте статьи отсылки в круглых скобках принадлежат Руссо и
соответствуют статьям «Энциклопедии».
1 ...управление домом... — Понятие «экономия», встречающееся у Ксено-
фонта, было рассмотрено Аристотелем, понимавшим под словом «olxoç»
не просто дом, а хозяйство в более широком значении, чем хозяйство
домашнее. Взгляды именно этого античного мыслителя оказали
значительное влияние на Руссо, в частности, тот факт, что Аристотель под
«экономией» понимал совокупность непосредственно полезных вещей,
то есть потребительских стоимостей, обладающих по природе своей
количественными характеристиками, в отличие от «хрематистики» —
накопления богатства в виде денег, к которой он, в общем, относился
отрицательно.
2 Вариант издания Дюпейру 1782 г.: Власть отца над детьми основана на
их собственной пользе и потому не может по своей природе
распространяться на право жизни и смерти, но у суверенной власти, у которой
нет иного предмета, кроме как общее благо, не существует иных границ,
кроме правильно понятой общественной пользы: это различие я
разъясню в свое время.
3 Вариант: тогда как богатство государя не столько увеличивает
благосостояние частных лиц, сколько почти всегда стоит им процветания
и мира.
4 ...не стану нигего говорить о рабстве... — Руссо упомянул его, возможно,
потому, что Аристотель в той части «Политики», где рассмотрена
экономия «домашняя», уделено внимание отношениям между хозяином
и его рабами (гл. IV—VII).
5 Вариант: Французский закон о совершеннолетии короля доказывает:
весьма здравомыслящие люди и продолжительный опыт научили
народ тому, что для него гораздо большее несчастье — правление
регентов, нежели правление детей.
6 Вариант: большое общество не могло быть учреждено по образцу
семьи, потому что оно состояло из множества семей, которые до
возникновения объединения не соблюдали никакой общей нормы поведения
и не могли подать в этом отношении пример государству. Напротив
государство, если оно хорошо управляется, должно предложить всем
семьям общие правила и одинаково позаботиться о власти отца,
повиновении слуг и воспитании детей.
592
^-»
7 Филмер Роберт (1604—1688) — английский политический деятель и
писатель, автор ряда книг, в том числе и «Патриарх, или Естественная
власть монархов» (1680). Ставя перед собой цель обосновать
абсолютную власть монарха, Филмер разработал теорию, согласно которой она
произошла от власти отца семьи — патриарха, о которой речь идет
в книгах Ветхого Завета. Ссылаясь на библейских патриархов, Филмер
находит в их поступках признаки суверенитета и объявляет их
монархами. Таким образом, первым монархом на земле оказывается Адам,
получивший власть от Бога и передавший ее по наследству своим
сыновьям. Филмер многократно ссылается на «Политику» Аристотеля,
усматривая в ней подтверждение своей идеи о том, что государство
управляется, подобно большой семье, отцом. Аристотель определяет
государство как высшую форму человеческого общения. Высшая
форма проистекает из низших — семьи и общины. Очевидно, что
Аристотель не отождествляет государство с семьей (о чем упоминает и Руссо),
однако, по мнению Филмера, его «Политика» не противоречит книгам
Ветхого Завета и оправдывает авторитет библейских царей. Руссо
вскользь упоминает и наиболее известное опровержение «Патриарха» —
«Два трактата о правлении», опубликованные Джоном Локком в 1689 г.
Первый трактат полностью посвящен критике теории божественного
происхождения права королей на суверенную власть; в этой книге Локк,
дискутируя с Филмером, разграничивает отцовскую и королевскую
власть и приходит к выводу о том, что их природа различна. Локк
констатирует, что обе эти власти являются (и должны быть)
ограниченными и не могут угрожать естественной свободе людей. Защита последней
и явилась причиной написания «Двух трактатов»: согласно Локку,
теория Филмера является оправданием рабства. Следуя за Аристотелем
и Локком, Руссо отличает государство от семьи, замечая, что суверенная
власть, в отличие от отцовской, не имеет границ, помимо общей пользы.
Как и Локк, Руссо отвергает возникновение обязанностей перед
обществом из факта рабства, признавая, однако, что повиновение отцу
должно существовать, ибо оно вытекает из благодарности детей за заботу о них
и также основано на молчаливо подразумеваемом договоре с ними.
8 «Патриарх» {лат).
9 ...два выдающихся геловека... — Имеются в виду Альджернон Сидней
и Джон Локк, подвергшие книгу Филмера критике, первый в своих
«Рассуждениях о правлении», второй — в трактате «О гражданском
правлении» (кн. II).
10 См.: Аристотель. Политика, I. Гл. П.
11 Вариант: удивительно, что проведя столько тонких различий,
Аристотель не заметил одно, которое, однако же, не является во всех случаях
593
*\
Комментарии
верным, a именно, что республикой управляет множество правителей,
тогда как семьей — всегда лишь один.
12 Вариант: по всему этому видно, что государственная власть, названная
мною правительством, распространяется лишь на частных лиц. Эти
разъяснения необходимы, чтобы различать общественную экономию,
которую я называю правлением, от высшей власти, которую называю
суверенитетом.
13 Вариант 1: если я пожелаю в точности определить, в чем заключается
общественная экономия, то обнаружу, что ее назначение сводится к трем
основным вещам: применять законы, поддерживать гражданскую
свободу и заботиться о потребностях государства. Но чтобы отчетливее
видеть связь между этими тремя предметами, нужно обратиться к тому,
что их объединяет и лежит в основе.
Вариант 2: все основные обязанности правительства заключаются
в небольшом количестве основных пунктов: 1. Заставлять соблюдать
законы, 2. Защищать свободу, 3. Поддерживать нравы, 4. Заботиться об
общественных потребностях. Но какими бы важными ни казались эти
предписания, они оказываются сведенными к бессмысленным и
бесплодным правилам, неосуществимым в жизни, если их не подкрепит
действенное и возвышенное начало, которое должно их направлять
к этой цели. Именно это я и постараюсь сделать понятным читателю.
14 ...если, конегно, организм здоров. — Этот абзац весьма близок к
«Введению» к «Левиафану» Гоббса, где государство сравнивается с
«искусственным человеком».
15 Вариант: Будучи в государстве мерой справедливого и
несправедливого, общая воля неизменно направлена на благо общественное и
частное; государственная власть должна стать лишь исполнительницей
этой воли, из чего следует, что из всех видов правления наилучшее по
природе то, что полностью согласуется с ней, и члены которого
стремятся в меньшей мере к личной выгоде, противоположной выгоде
народа; ибо этот двойственный характер соображений выгоды неизбежно
заставит правителей поступать сообразно с их частной волей, которая
в управлении всегда возьмет верх над волей общей; ибо, поскольку
жировая прослойка тела причиняет вред голове, то голова должна особо
позаботиться о том, чтобы тело не прибавляло в весе. Если счастье
народа ставит препятствие честолюбию его правителей, пусть народ не
льстит себя надеждой стать когда-либо счастливым.
Но если правление устроено так, как оно и должно быть устроено,
и следует тем началам, на которых оно должно зиждиться, его главной
заботой в заведовании общественным хозяйством или в общественном
управлении, следовательно, является неусыпный надзор за исполнени-
594
ИИ
ем общей воли, а это есть одновременно право народа и источник его
счастья. Всякое общее и публичное решение общей воли называется
законом, и потому первейший долг правителей состоит в заботе о
соблюдении законов.
Пока правительство действует во имя общего блага, оно не способно
покушаться на свободу, потому что в этот момент оно лишь исполняет
общую волю, и никто не может сослаться на то, что его поработили: он
при этом повинуется лишь собственной воле.
16 Вариант: собирательная и общая воля.
17 ...в статье «Право»... — Речь идет о статье Дидро «Естественное право»
(«Droit naturel») в Утоме «Энциклопедии». Под «Великим
принципом», несомненно, понимается идея главенства общей воли.
18 Фраза отсутствует в герновике. Речь идет о статье Дидро
«Естественное право».
19 ...мир, будуги большим городом... — Вероятно, здесь имеется в виду одна
из концепций философии стоиков, которые, согласно сообщению
Цицерона («О пределах добра и зла», III, 64), видели в мире, управляемом
Провидением, «большой город» богов и людей.
20 ...и в сатирах Макиавелли. — Вероятно, имеется в виду критика
политической действительности в сочинении «Государь» Макиавелли,
которого Руссо считал республиканцем. В этом трактате Макиавелли выявил
пороки тиранического правления.
21 ...благодаря защите со стороны всех. — Эта формулировка совпадает
с той, что дает Локк (см. «Второй трактат о гражданском правлении»,
гл. IX, § 123).
22 Вариант 1: Законы — единственная движущая сила политического
организма.
Вариант 2: В равной мере опасно, когда суверен покушается на права
магистратуры или когда магистрат покушается на права суверена.
Вариант 3: Должен стать первейшим законом государства запрет
одному и тому же лицу занимать одновременно множество
ответственных должностей либо для того, чтобы наибольшее число граждан
принимало участие в управлении, либо для того, чтобы не предоставлять
никому из этих лиц больше власти, чем пожелал законодатель.
Вариант 4: Мы свободны, хотя и подчиняемся законам, не тогда,
когда повинуемся некоему человеку, ибо в последнем случае я повинуюсь
воле постороннего лица. Но, повинуясь закону, я повинуюсь воле
общества, которая в той же мере моя собственная, в какой и кого-либо
другого. Впрочем, хозяин может позволить одному то, что запрещает
другому, тогда как закон, поскольку он беспристрастен, ставит всех в равное
положение, и, следовательно, не существует ни хозяина, ни слуг.
595
«^v.
Комментарии
23 Вариант: Обращаясь к истокам политического права, мы
обнаруживаем, что прежде чем существовали правители, существовали законы.
Потребовался бы толыЛ) один закон, чтобы учредить политический союз.
Нужен был и второй, чтобы установить форму правления, а эти два
закона предполагают множество промежуточных, из них самый
торжественный и самый священный тот, в силу которого люди обязываются
соблюдать все остальные. Если допустить, что законы существовали до
появления правительства, то они от него независимы. Само
правительство зависит от законов, ибо из них оно черпает свою власть. Оно вовсе
не является их автором или господином, а только ручается за них,
управляет или всего-навсего их толкует.
24 ...Платон и сгитает... — См.: Платон. Законы, кн. IV, с. 719 и до конца
книги.
25 Бесспорно, гто люди в целом ~ ибо он не сумел сделать их достойными
уважения. — Фраза почти дословно воспроизведена Руссо в начале
IX книги «Исповеди». По его собственному признанию, мысль,
заключенная в ней, должна была стать краеугольным камнем в главном
политическом сочинении Руссо, которое он так и не завершил —
«Политические установления».
26 Вариант 1: Добродетель — лишь соответствие частной воли воле общей.
Вариант 2: Раз уж говорят, что красота является сочетанием
наиболее общих черт, можно сказать, что добродетель является собранием
общих воль.
Вариант 3: Злонамеренность является, в сущности, попыткой
противопоставить волю частную воле общественной, и потому невозможно,
чтобы свобода существовала среди злых людей, поскольку если бандит
изъявляет свою волю, она принудит волю общественную или волю
соседа, а чаще всего обе эти воли, и если его принудить повиноваться воле
общественной, он никогда не станет проявлять свою собственную.
27 «Ибо и милосердие наказывает, а жестокость милует» (лат.): Августин.
Послания, CLII.
Блаженный Августин, Аврелий (354—430) — епископ Гйппонский
(в Северной Африке), крупнейший раннехристианский богослов,
философ-мистик.
28 Вариант: согласно моему представлению о добродетели, любовь к
родине неизбежно ведет нас к добродетели, потому что мы охотно желаем
того, чего желают те, кого мы любим.
29 ...и бедствия в Татарии... — Во французской системе географических
наименований XVIII в. под этим понимались обширные пространства
Центральной и Северной Азии за Уралом, в Сибири, в Монголии, засе-
596
Комментарии
ленные, по мнению европейцев, народами преимущественно тюрко-
монгольского происхождения.
30 Тней Помпеи Великий (106—48 до н. э.) — римский полководец и
политический деятель. В 60 г. до н. э. образовал триумвират с Марком Крас-
сом и Юлием Цезарем; впоследствии, начав борьбу за власть с Цезарем,
он потерпел поражение и бежал в Египет, где был убит.
31 ...от завоевателей мира... — Имеется в виду главным образом Юлий
Цезарь, завоевавший Галлию, Египет, начавший войну в Британии и на
Балканах.
32 ...покинул землю... — После поражения своих
сторонников-республиканцев Катон Младший в 46 г. до н. э. покончил с собой.
33 Вариант: Главная цель, которую поставили перед собой люди, создав
содружество граждан, была взаимная безопасность, то есть охрана
жизни и свободы каждого всем сообществом. Основной долг
правительства, следовательно, сделать так, чтобы люди мирно наслаждались и тем,
и другим, а неуклонное соблюдение самих законов требовалось только
потому, что закон есть не что иное, как провозглашение воли общества,
нарушить которую было бы невозможно, не покушаясь на свободу.
Население есть не что иное, как собрание частных лиц, а его права
основаны на правах этих последних.
34 В Македонии казнь геловека ~ при всем велигии Александра ~ и не был
ими осужден. — Подразумевается Александр Македонский. В Афинах,
как отмечает Руссо, вынести приговор о смертной казни гражданина
могло лишь народное собрание голосованием, подвергая обвиняемого
остракизму — изгнанию.
35 Вариант: Этот мудрый добродетельный народ знал, в чем заключаются
подлинные богатства государства, и во время празднования триумфа
гордился больше тем, что не выдал врагу ни одного римлянина, чем
всеми захваченными богатствами побежденных.
36 Порций Лека — народный трибун (199 до н. э.), автор «Порциевых
законов» (leges Porcianae), запрещавших наказание римских граждан
плетьми и смертной казнью.
37 Ср.: «Человек, лишенный страстей или не восприимчивый к их
движению, — с нравственной точки зрения химера», — писал моралист Ж.
Ришар, близкий к кругу энциклопедистов (RichardJ. Réflexions sur le livre
intitulé «Les Moeurs». Aux Indes, 1748. P. 214). Руссо в данном случае
проводит различие между своей точкой зрения и точкой зрения
авторов «Энциклопедии».
38 Вариант: Если граждане получают от нее все то, что придает ценность
их существованию: мудрые законы, простые нравы, хлеб насущный,
597
«\
Комментарии
мир, заботу, уважение со стороны других народов, — их рвение служить
столь нежной матери вспыхнет с новой силой. Они признают истинной
лишь ту жизнь, которую она им дала, они сочтут подлинным счастьем
и истинной славой для себя самую возможность, пожертвовать ею на
службе отчизне, и они сочтут за благодеяние с ее стороны выпавшую им
честь пролить всю свою кровь ради ее защиты.
39 Вариант: В государствах, где нравы ценятся больше, чем законы, как
в Римской республике, власть отца не должна была быть чересчур
безграничной, но повсюду, где, как в Спарте, законы считаются
источником нравов, власть частного лица была необходимым образом до такой
степени была подчинена власти государства, что даже в семье
республика отдавала приказания чаще, чем отец. Это правило мне кажется
бесспорным, хотя из него вытекает следствие, противоположное тому,
что было выведено в «Духе законов».
40 Вариант: Поскольку я должен был ограничиться изложением общих
правил, применимых в любом правлении, я начал с предположения
о наличии у этого правления добрых законов, таких, которые не были
внушены соображениями частной выгоды и, следовательно, являлись
итогом деятельности организма нации. Я настаивал на том, чтобы их
в точности соблюдали и чтобы правители ради своей же собственной
выгоды оказались при этом правлении в набольшей степени
подчинены народу. Я показал, что этой цели можно достичь только при
наличии нравов и любви к отечеству у граждан, и я говорил о средствах
получить и то и другое. А теперь я полагаю, что вправе сделать вывод
о том, что все эти правила вполне можно осуществить на деле, и при этом
не потребуется ничего лишнего, потому что любовь к родине
восполняет недостаток всего остального, и отнюдь не невозможно успешно
и мудро управлять с помощью этих правил свободным народом, не
чувствуя при этом необходимости выдумывать некий особый род людей,
более совершенный, чем тот, который нам известен, хотя кто-нибудь
и стал бы утверждать, что римляне и спартиаты обладали природой,
отличной от нашей. Все, что я хотел сказать по поводу этого раздела
общественной экономии, касается управления людьми, и мне остается
поговорить об управлении имуществом.
41 Вариант: Наследственное право и порядок наследования не есть
основной закон, но распоряжение, касающееся благочиния, очень важное
и зависящее от государственной власти. Довод в пользу подобного
утверждения заключается в том, что право собственности не может
оставаться после смерти, и как только человек умирает, его имущество ему
больше не принадлежит: следовательно, именно государству надлежит
им располагать, и множество доводов обязывают государство
действовать на пользу детям, которые весьма часто вносили свой вклад в при-
598
_^>
обретение его имущества и, таким образом, обладают правами
совместно с отцом.
42 ...как показал Пуфендорф... — См.: Пуфендорф С. О праве естественном
и праве людей. Кн. IV. Гл. X, § 4.
43 Вариант: Чтобы устранить эти противоречия, рассмотрим различные
обстоятельства, начиная с возникновения правительства, и станем
изучать не столько то, что существует, сколько то, что должно
существовать.
44 Вариант 1: Но, независимо от природы содеянного, грабежи и разбои
меняют свою природу в соответствии с изменениями в отношениях
между людьми; малые преступления бесчестят, за них вешают или
колесуют тех, кто их совершает, а серьезные преступления, если человек
уверен в собственной безнаказанности, открывают путь к славе.
Вариант 2: Существуют страны, где общественная вотчина больше не
приносит никакого дохода. Это случается тогда, когда ремесло всем
известного вора до такой степени считается благородным, что все
добропорядочные люди упражняются в нем с достоинством и гордо
называют своим правом то, что в иное время называлось бы воровством.
45 ...неподкупность... Катона... — Речь идет о Катоне Утическом, успешно
исполнявшем в 65 г. до н. э. обязанности квестора — одного из
управляющих государственной казной, эрариумом.
46 Но если существовало так мало Галъб... — Гальба Сервий Сульпиций
(5 до н. э. — 69 н. э.) — римский император (68—69). Возможно, Руссо
имеет в виду тот факт, что, будучи уже в 32 г. консулом и правителем
нескольких провинций, Гальба при преемниках Августа отклонял
предложения стать императором и продолжал управлять Африкой и
Испанией; только после гибели Нерона он дал согласие принять титул
императора.
47 Вариант: какую пользу Дарию принесли все сокровища Азии в борьбе
с государем, который ничего не имел? Афинская республика не
обладала никакими доходами, когда победила персов; спартиаты, не имея ни
денег, ни золота, а лишь плащ и похлебку, покорили Грецию и даже
Афины; но едва только Лисандр обогатил Спарту благодаря грабежам
в Азии, она тут же утратила свое могущество. Богатство Карфагена и
наемные войска стали причиной его разорения.
48 Питает и насыщает (ла/я.).
49 ...Марий оказался первым, кто во время Югуртинской войны... — Марий
(156—86 до н. э.) — римский полководец; началом его военной славы
послужили победы в войне с нумидийским царем Югуртой (111—
105 до н. э.).
599
«-\.
Комментарии
50 Вариант 1: Налоги являются видом дохода, который не столько
увеличивает сбережения народа, сколько его обедняет, и по большей части
сборы от этого налога, проходя через руки тех, кто его собирает, по
этой причине приносят больше вреда, чем пользы.
Вариант 2: После того как в течение долгого времени Англия
черпала свои доходы в кошельках богатых путем займа и в кошельках
бедных с помощью налогов, она необходимым образом должна дойти до
банкротства по той единственной причине, что оплачивает свои займы
налогами.
51 Вариант: Что же касается обложения налогами продуктов питания
и товаров, то трудно соразмерно их распределить среди разных слоев
населения, потому что существуют продукты питания, которые
бедняки потребляют в значительных количествах, и почти всегда именно на
них и устанавливают налоги.
52 Вариант: остальные налоги делятся на два вида, а именно: вещная та-
лья на земли и налоги на продукты питания и товары.
53 Дарий I Гистасп (550—485 до н. э.) — персидский царь, совершивший
походы в Скифию и против греков.
54 Вариант: Мне остается сказать несколько слов, заканчивая эту статью.
В целом всякая экономия в конечном итоге имеет в виду общее благо
человеческого рода, которое есть признак и доказательство хорошего
управления; ее предмет — увеличение народонаселения, являющееся,
бесспорно, следствием его процветания! Если вы желаете узнать, плохо
или хорошо управляют государством, выясните, увеличивается ли
число его жителей или уменьшается. При прочих равных условиях
совершенно очевидно, что страна, которая, с учетом ее размеров, способна
прокормить и сохранить наибольшее число жителей, является страной,
где люди лучше всего живут. Ибо разумно судить о прилежности
пастуха по тому, как быстро увеличивается количество голов в его стаде.
Общественный договор,
или Нахала политигеского права
Впервые: Du Contrat Social ou Principes du droit politique. Par J.-J.
Rousseau Amsterdam: (Chez Marc Michel Rey), 1762.
Перевод С. В. Занина по изданию: Rousseau J.-J. Du contrat social /
éd. établie et commentée par Bruno Bernardi. Paris, 2001.
Комментарий И. И. Бочкова при участии Б. Бернарди и С. В. Занина.
«Общественный договор» был хорошо известен в России и в XVIII,
и в XIX вв., однако не издавался по цензурным соображениям. В Отделе
600
Комментарии
рукописей Российской национальной библиотеки хранится рукопись
полностью подготовленного к печати перевода «Общественного договора»
(ОР РНБ. Q.II. № 26), на которую впервые обратила внимание А. А. Злато-
польская (отрывок из нее опубликован в антологии: Ж.-Ж. Руссо: pro et
contra: Идеи Жан-Жака Руссо в восприятии и оценке русских мыслителей
и исследователей / Сост., вступ. статья, библиография и комментарии
А. А. Златопольской. СПб., 2005. С. 55-68).
Первый набросок (первая редакция) «Общественного договора» Руссо
был опубликован на французском языке по рукописи из Библиотеки
Женевы русским ученым А. С. Алексеевым в приложении к его «Этюдам о
Руссо» (Т. 1. М., 1887). Эта же редакция была опубликована французским
ученым Э. Дрейфюс-Бризаком в 1896 г. Его русский перевод см.: Руссо Ж.-Ж.
Трактаты. С. 303-351.
Первые печатные переводы «Общественного договора» вышли в
России только в 1906 году, после первой русской революции, причем
появились сразу три издания: Общественный договор / Пер. с фр. В. Ютанова.
[М.:] Изд-во П. Плохова, 1906. [2], 108 с; Об общественном договоре, или
Начала политического права: [Отрывок из «Исповеди»] / Пер. Френкеля;
Под ред. и с предисл. А. К. Дживелегова. М.: Труд и воля, 1906. 208 с;
Общественный договор, или Принципы государственного права [Отрывок из
«Исповеди»] / Полный пер. с фр. С. Нестеровой; Под ред. и с предисл.
П. Когана. [М.:] Изд-во С. Скирмунта, [1906]. XVI, 134 с.
1 Мы расскажем о справедливых законах, основанных на договоре. Вер-
г<илий>. Энеида, XI, <321> (лат.).
2 Гроций отрицает, гто любая власть среди людей установлена на пользу
тех, кем управляют... — См.: Гроций Г. О праве войны и мира. Кн. I,
гл. III, VIII, 1—16. Гроций утверждал, что мысль о решающей роли
интересов подданных при установлении власти не является бесспорной
истиной, поскольку некоторые правительства сами по себе существуют
ради правителя, как, например, правление хозяина, при котором
польза раба в хозяйстве носит относительный характер.
3 Филон Александрийский, или Филон-иудей (ок. 20 до н. э. — 54 н. э.) —
видный представитель литературы эллинизма. Участвовал в
посольстве, направленном еврейской общиной Александрии к римскому
императору Гаю Юлию Цезарю Калигуле (37—41) в поисках защиты иудеев
от преследований за отказ воздвигнуть его статуи в синагогах.
Посольство это не было принято императором, и Филон написал тогда
посвященное этому вопросу сочинение, прочитанное в римском сенате после
смерти Калигулы.
4 Аристотель же еще до них утверждал... — Ср.: «Природа, в видах
сохранения, создала одних существ, чтобы повелевать, и других, чтобы
601
r\
Комментарии
повиноваться» (Аристотель. Политика. Кн. I, гл. V). В
противоположность Руссо, Г. Г^оций полностью солидаризировался с этой
концепцией; больше того, он фактически пошел еще дальше, добавляя к этому
положению Аристотеля, что «так точно и некоторые народы по
свойственному им образу мыслей предпочитают скорее подчиняться,
нежели господствовать», и приводит ряд примеров, заимствованных из
Аристотеля.
Отрывок из книги Аристотеля, резюмированный Руссо, цитируется
также Пуфендорфом; см.: Пуфендорф С. О праве естественном и праве
людей. Кн. III. Di. II, § 8 (Poufendorf S. Droit de la Nature et des Gens, ou
Système général des Principes les plus importants de la Morale, de la
Jurisprudence et de la Politique / Traduit du Latin par J. Barbeyrac. A Amsterdam:
Gérard Kuyper, 1706).
5 ...спутникам Одиссея... — Имеется в виду эпизод десятой книги
одноименной поэмы Гомера, где повествуется, что на острове Эя
волшебница Цирцея превратила нескольких спутников Одиссея в свиней. Однако
Гомер ничего не говорит о том, что им нравилось пребывание в этом
скотском состоянии.
6 Вариант: И следовательно, если существуют рабы по природе, то
только потому, что раньше существовали рабы вопреки природе. Сила
создала первых рабов, их подлость заставила их остаться в рабском
состоянии навсегда.
7 ...о короле Адаме, ни об императоре Ное... — Иронически титулуя королем
первого человека, согласно библейской традиции вылепленного богом
из глины, Руссо, возможно, намекает на книгу Р. Филмера «Патриарх».
Французский переводчик книги Пуфендорфа Барбейрак в одном из
своих примечаний к трактату этого мыслителя пишет, что Филмер
выводит неограниченную власть современных монархов из верховной
власти Адама.
Ной — библейский патриарх, спасшийся со своей семьей во время
всемирного потопа; от него произошел новый род людей. Развивая свой
намек, Руссо именует Ноя императором, а под тремя великими
монархами, возможно, подразумевает его сыновей - Хама, Сима и Иафета.
8 Отгуждать — знагит дарить или продавать. — Уже один из первых
оппонентов Руссо, Э. Люзак, в «Письме анонима к Ж.-Ж. Руссо» (Lettre
d'un anonyme à J.-J. Rousseau, 1766) выступил против того, что
последний свел понятие «отчуждение» только к двум случаям - подарить или
продать, и заявил, что оно означает всякую передачу права, а потому
она и может осуществляться многими путями и способами.
9 ...постановлениями Людовика IX Французского... — Имеется в виду
французский король из династии Капетингов Людовик IX Святой (1226—
602
Комментарии
-х-»
1270). Подразумеваемые здесь преобразования способствовали
укреплению центральной власти и преодолению феодальной раздробленности,
ставшей основной причиной анархии того времени. Людовик запретил
феодальные войны между своими вассалами и установил так
называемые «сорок дней короля».
10 ...прерываемых земским миром... — Под этим названием (Pax Dei или
Treuga Dei) известны постановления королевской власти. Изначально
возникли в качестве постановлений, принятых Католической церковью
для самозащиты. Впоследствии этому образцу последовала королевская
власть в ряде стран в Средние века: они запрещали враждебные
действия в определенные дни и периоды (праздники и посты) сначала в
отношении духовенства, монастырей и церквей, а затем купцов и т. д.
11 ...сын Катона... — Речь идет о Марке Порции Катоне Лицинии (?-152
до н. э.) — сыне Катона, называемого Катоном Старшим. Сын Катона
служил в 173 г. до н. э. в римских легионах в Лигурии (южное
побережье современной Франции и граничащие с ним области Италии).
12 ...отец же Катона написал Попилию... — Имеется в виду отец
упомянутого ранее римского легионера, т. е. Марк Порций Катон Старший, или
Цензор (234-149 до н. э.).
Попилий — Марк Попилий Лений, будучи консулом в 173 г. до н. э.,
вел успешную войну в Лигурии.
13 Когда Воден завел разговор о наших гражданах и горожанах... — Имеется
в виду шестая глава первой книги Бодэна «Шесть книг о республике»,
в которой говорится: «В Женеве гражданин не может быть ни синдиком
города, ни членом Совета Двадцати пяти, а горожанин может занять эти
должности», в то время как в действительности дело обстояло как раз
наоборот.
14 Когда Нуньес Бальбоа... - То есть Васко Нуньес де Бальбоа (1475-
1517) — испанский мореплаватель, авантюрист, конквистадор.
15 ...перемешивание костей в стакангиках... — Речь идет об игре в кости,
в которой количество выпавших очков — игра случая.
16 Георг I (1660-1727) - англи^кий король (1714-1727), ранее -
курфюрст Ганноверский (под именем Георга Людвига; 1698—1714).
17 Яков II (1633-1701) — английский король из династии Стюартов
(1685—1688), пытавшийся восстановить абсолютную королевскую
власть. Его политика вызвала недовольство, и в 1688 г. Парламент
пригласил на престол («Славная революция») его зятя — Вильгельма
Оранского, штатхаудера Нидерландов. Последний при содействии
нидерландского флота высадился в Англии и низложил Якова П.
18 Имеется в виду статья д'Аламбера «Женева» в 7 томе «Энциклопедии»
Руссо и д'Аламбера (1757).
603
«^ч.
Комментарии
19 «Верно, — говорит Макиавелли, — что некоторые разделения
причиняют вред республикам, а некоторые приносят пользу: те, что
причиняют вред, связаны с наличием сект и партий, те же, что приносят пользу,
существуют без партий, без сект. Следовательно, поскольку основатель
республики не может предусмотреть, что в ней не появится проявлений
вражды, он должен, по крайней мере, позаботиться, чтобы в ней не
было сект» (ит.\ История Флоренции, кн. VII. М., 1990. С. 268).
20 Сервий Туллий (578—534 до н. э.) — шестой римский царь. Сервию
Туллию приписывается реформа, разделившая население столицы,
включая плебеев, на основании имущественного ценза на 193 центурии,
а все население и всю территорию Рима — на 4 городских и 17 сельских
округов, или триб. Был убит своим зятем Тарквинием Гордым.
Перечисленные Руссо политики - Нума, Сервий и Солон — авторы
реформ, которые лишь приостановили рост социального неравенства
между отдельными группами граждан.
21 ...даже децемвиры никогда не присваивали себе право... — Децемвиры —
в Древнем Риме коллегия из десяти лиц (отсюда ее название),
избранная для различных поручений. Руссо имеет в виду наиболее известную
из коллегий, созданную в 451 г. до н. э., выработавшую законы,
выгравированные на десяти медных досках. Ввиду недостаточности этих
законов, избранные в 451 г. децемвиры сделали необходимые дополнения
(«Законы 12 таблиц»), но не сложили с себя чрезвычайных
полномочий по истечении срока и вели себя как диктаторы, что и стало
причиной их отстранения от власти.
22 «В самом деле, не было ни одного учредителя чрезвычайных законов
у какого-либо народа, который бы не прибегнул к Богу, так как иначе
они не были бы приняты; потому что есть много благ, которые хорошо
понятны мудрецу, но сами по себе недостаточно очевидны, чтобы
можно было убедить в них других людей» (um.; см.: Макиавелли Н.
Рассуждение о первой декаде Тита Ливия. Кн. I. Гл. XI («О религии римлян») //
Макиавелли Н. Сочинения. М., 2001).
23 Уорбертон Уильям (1698—1779) — епископ Глочестерский, автор
трактатов «Союз Церкви и государства» (1736) (фр. пер. «Union de l'Église
et de l'État», traduction de Silhouette — 1742 г.) и «Божественное
законодательство Моисея» (1737—1741).
24 Вариант: Большинство народов, так же как и люди...
25 ...господин Д... — То есть д'Аламбер.
26 ...знаменитый автор сгитал нагалом в республике добродетель... — Речь
идет о Монтескье и его книге «О духе законов» (кн. VII, гл. 2).
27 Лещинский Станислав (1677—1766) — польский король (1705—1709),
ставленник короля шведского Карла XII. Руссо мог взять эту цитату из
604
Комментарии
^-»
«Замечаний о правлении Польши» Лещинского, французский перевод
которых появился в 1740 г. Близкое по смыслу высказывание Руссо
приводит в «Письмах с Горы» (письмо IX) и вспоминает о них в своих
позднейших «Соображениях об образе правления в Польше». Мабли
приписывает эти слова не отцу, а деду Лещинского (О правлении и о
законах Польши, partie I, eh. 1 // Mably. Oeuvres. T. VIII. Londres, 1789.
P. 67—68). Отцом Станислава Лещинского был Рафал Лещинский
(1650-1703).
28 Покою в рабстве предпочитаю опасную свободу (лат.).
29 В «Государе» Макиавелли нелицеприятно изображает Цезаря Борджиа
(ок. 1476—1507), известного своими чудовищными преступлениями,
ценой которых он захватил власть в ряде отдельных феодальных
владений, на которые тогда распадалась Италия.
30 Руссо, по-видимому, имеет в виду регентство Филиппа Орлеанского
(1715-1722) при малолетнем Людовике XVI (1722-1774).
31 «Самый действенный и быстрый способ отличить добро от зла —
подумать о том, чтобы ты хотел или не хотел бы сделать, если бы иной
человек оказался царем» (лат.; см.: Тацит. История. Кн. I, 16, Речь
Гальбы).
32 В «Политике» (лат.).
Речь идет, бесспорно, об основополагающей мысли Платона,
который называл политику «искусством царственного прядения»,
способного создать справедливое правление (Платон. Политик, 305Ь).
33 Chardin. Voyage en Perse. Amsterdam, 1735. T. III. P. 83-84.
34 и по неопытности называют гуманностью рабское состояние людей
(лат.; см.: Тацит. Агрикола, XXI).
Агрикола Тней Юлий (39—93) — римский политический деятель
и полководец, тесть Тацита.
35 Называют миром пустыню, которую оставляют после себя (лат.; см.:
Тацит. Агрикола, XXX).
36 Коадъютор — помощник или заместитель епископа (викарный
епископ). Речь идет о Поле де Гонди (1613-1679), будущем кардинале де
Реце, главе Фронды горожан Парижа и авторе знаменитых
«Воспоминаний».
37 Парафраз из вступления к «Истории Флоренции» Макиавелли.
38 Анонимное сочинение, опубликованное в 1612 г., где доказывалось,
что императоры Германии обладали суверенной властью над Венецией.
39 И тиранами являются и называются все те, кто пользуются постоянной
властью в свободном государстве (лат.).
40 Руссо в данном случае развивает Декартово представление о природе.
605
*"v.
Комментарии
41 Руссо описывает ситуацию, сложившуюся в Женеве вследствие
конфликта граждан и Малого Совета; см. подробнее: Письма с Горы, VIII //
Наст. изд. С. 418 и ел.
42 Эта мысль подробнее развита в последней части «Рассуждения о
политической экономии»; см.: Наст. изд. С. 63—78.
43 Речь идет о «Началах права войны», сохранившемся фрагменте второй
части «Общественного договора». Публикуется в настоящем издании.
44 ...вернуть себе полную свободу. — Имеется в виду: вернуться в
природное состояние.
45 В данном случае, выступая с критикой присвоения суверенной власти
правительством, Руссо имеет в виду политический конфликт в Женеве,
последствия которого для государственного устройства республики
описаны в VIII письме «Писем с Горы».
46 Тацит. История, 1,85.
47 Руссо подробно развил эту мысль в «Соображениях об образе
правления в Польше» (гл. IX).
48 См. комментарий 71 к «Письмам с Горы».
49 Compitalia — праздник окончания сельскохозяйственных работ. Paga-
nalia — прославление богов в честь окончания полевых работ.
Праздновались в январе.
50 посчитанные по головам {лат.) — в отличие от пролетариев,
абсолютно неимущие граждане.
5} То есть деление на классы.
52 законы, принятые в куриях {лат.).
53 Должностные лица, ведающие подсчетом голосов в народном собрании.
54 Кровь Агиса... — Речь идет об Агисе IV, спартанском царе, задумавшем
восстановить Ликургово устройство Спарты, однако в 241 г. до н. э.
казненном по обвинению в попытке установить тиранию.
55 Авл Постумий Альб Рег"Иллен (даты жизни неизв.) — диктатор в 498 г.
до н. э., консул в 496 г. до н. э., известный римский полководец и
государственный деятель, отличившийся в битве против союзников Тарк-
виния Гордого.
56 Катилина Луций Сергий (108—62 до н. э.) — представитель
патрицианского рода, пытавшийся путем заговора захватить власть, но
безуспешно. Цицерон, избранный консулом на 63 г., вел против Катилины
борьбу в сенате.
57 Plutarque. Diets notables des Lacedemoniens, § 69. Paris: Robinet, 1645. T. I.
58 В действительности, с Хиоса.
606
Комментарии
59 «Не владеешь ли ты тем, что дал тебе Хамос, бог твой? И мы владеем
всем тем, что дал нам в наследие Господь, Бог наш» (Суд 11:24).
60 Выражение «видимый глава» заимствовано у Монтескье («О духе
законов», кн. XXIV. гл.У).
61 Али Ибн-Абу-Талиб (ок. 600—661) — племянник и зять Магомета,
калиф (с 656). Те, кто признавал его законным преемником пророка,
образовали секту шиитов, которая внесла в ислам элементы мистики
и пантеизма, распространившись в Персии и Индии.
62 Да будет проклят! (лат.)
63 Речь идет о маркизе д'Аржансоне.
Нахала права войны
62 «Начала права войны» — единственный сохранившийся фрагмент
второй части «Общественного договора» Руссо, известный на
сегодняшний день; был обнаружен Брюно Бернарди и Габриэллой Сильвестрини
в рукописях Руссо, хранящихся в библиотеке города Невшатель и
Университетской и общественной библиотеке г. Женевы. Перевод С. В. За-
нина по изд: Rousseau J.-J. Principes du droit de la guerre. Paris, 2008.
P. 69-81. Комментарий С. В. Занина.
63 См. комментарий 9 к трактату «Об общественном договоре».
64 Столь жестокое наголо оказалось вполне достойным его
размышлений. — В данном случае Руссо ссылается на рассуждения Томаса Гоббса
в «Левиафане» (см.: Гоббс Т. Левиафан // Гоббс Т. Соч.: В 2 т. М., 1975.
Т. 2, С. 95—96). О том, что «гордость» у Гоббса является причиной
«войны всех против всех», подробно разъясняется в кн.: Oakeshott M.
Hobbes on civil Association. Indianapolis, 1937. P. 161-163; переизд.
в 1975 г.).
65 Я это уже говорил... — См. трактат Руссо «Рассуждение о
происхождении и основаниях неравенства между людьми» (Руссо Ж.-Ж. Трактаты.
М., 1969. С. 72).
66 ...создать всемирную монархию терзало сердце лишь великого короля. —
Учение о всемирной монархии создано Данте в трактате «О монархии»,
но Руссо здесь имеет в виду притязания Людовика XIV, о которых
писал Монтескье в трактате «О всемирной монархии».
67 См. комментарий 9 к трактату «Об общественном договоре».
68 Аристотель говорил... — См.: Аристотель. Политика. Кн. II. Гл 10; см.
также: Плутарх. Жизнеописание Ликурга. Гл. 28.
607
*\
Комментарии
Письма с Горы
Впервые: Lettres écrites de la montagne par J. J. Rousseau.
Amsterdam: Chez Marc Michel Rey, 1764.
Перевод С. В. Занина и В. В. Некрасова по изд.: Œuvres complètes de
J.-J. Rousseau. Paris: Gallimard. 1964. T. 3. Перевод писем 6,7, 9,
принадлежащий H. А. Полторацкому, сверен и исправлен С. В. Заниным.
Комментарии И. И. Бочкова и С. В. Занина.
Перевод «Писем с Горы» на русский язык Н. А. Полторацкого (только
письма 6,7,9), не отличающийся литературными достоинствами, был
выполнен не по научно-критическому изданию, а по публикации 1782 года
(Collection complète des œuvres de Jean-Jacques Rousseau. Amsterdam), и
содержит пропуски, a также фразы, добавленные редакторами этой
публикации в XVIII в. Этот перевод был опубликован в изд.: Руссо Ж.-Ж.
Трактаты. С. 352-406.
1 Живу, чтобы служить истине (лат.). Девиз Руссо.
2 В Женеве «Представлениями» называли обращения граждан к Малому
Совету с возражениями против его действий.
3 Церковные ордонансы — постановления, касающиеся
функционирования церкви в Женеве. Приняты в XVI в. по инициативе Жана
Кальвина.
4 Морелли Жан-Батист (1524—1594) — француз-эмигрант, оппонент
и критик Жана Кальвина. В 1562 г. он опубликовал в Лионе без
одобрения женевских властей «Трактат о христианском повиновении и
распорядке жизни», который содержал критику религиозных и политических
установлений Кальвина. Руссо проводит аналогию между публикацией
своего «Эмиля» и поведением Морелли.
5 Речь идет о книге Клода Адриана Гельвеция «Об уме», опубликованной
в 1758 г.
6 В «Речи при избрании во Французскую академию» (D'Alembert. Œuvres.
Paris, 1807. T. IV. P. 307).
7 Вариант: Ибо не все люди — члены государства, но все они — дети Бога,
рожденные в Небесном Граде и призванные к вечному блаженству.
Истинный христианин считает иностранца не иностранцем, а своим
собратом, и врага не врагом, а своим ближним. С точки зрения политики
я полагаю, что христианство имеет недостаток, а именно: делает
человека слишком способным к общежитию и не видит различий между
людьми; и это заставляет меня утверждать, что оно является пагубным для
608
Комментарии
общества. Бог не отдает предпочтения народам и не отличает каждый
из них в отдельности; народ Божий — это род человеческий. Чем ближе
человек к небу, тем менее он привязан к земле и к тому, что на ней
происходит. Дух христианства заключается в том, что оно уничтожает
границы наций и создает всеобъемлющее сообщество, которое частные
общества почти что свели на нет. Вот в точности то, что сделало
христианство: люди стали более гуманными и менее проникнутыми
патриотизмом. На иностранцев больше не смотрят как на врагов, а на
сограждан как на братьев. В этом мире христианин считает себя странником,
который следует по пути, ведущему к небесной отчизне, и, считая свое
пребывание на земле временным, он не слишком заботится о том,
чтобы поддерживать или устанавливать порядок в тех временных
прибежищах, где он проживает.
8 Вариант: Ибо догматы, противоречащие духу общежития, следует
полностью отвергнуть. Человек должен принимать решение,
руководствуясь разумом, и эта гражданская религия есть в точности религия савой-
ского священника. Эта гражданская религия, будучи религией каждого
справедливого, гуманного, разумного и набожного человека, в
сущности, ничем не отличается от чистого христианства.
9 Авторство этого произведения принадлежит Генеральному прокурору
Жану-Роберу Троншену (1710—1793), одному из самых влиятельных
членов олигархической партии в Женеве.
10 Речь идет о Жакобе Берне (1698—1789), известном кальвинистском
теологе, который неоднократно выступал в печати против Руссо. Он
следил в 1748 г. за печатанием «Духа законов» Монтескье в Женеве по
поручению автора.
11 Речь идет о Жане д'Аламбере и его статье «Женева» в 7 томе
Энциклопедии.
12 Социнианство — основанное Фаустом Социном движение в
протестантском богословии, отрицавшее догмат о Троице. Оно распространилось
в XVII в. в Германии и Речи Посполитой.
13 Речь идет о статье журналиста Фрерона, опубликованной в 1758 г. в
газете «Литературный год» («Année littéraire»).
14 Имеется в виду сочинение пастора Жакоба Верне, который
опубликовал в Женеве в 1763 г. «Письма о христианстве» Руссо.
15 Изданная в 1713 году булла «Unigenitus» была направлена против
сочинений отца Кенеля, убежденного янсениста. Состоявший из янсенис-
тов Парижский парламент выступил против этой буллы, считая ее
происками иезуитов.
16 Ортодоксальная протестантская газета.
20 Зак. 3436
609
«\
Комментарии
17 Цицерон, Марк Туллий (106—43 до н. э.). В трактате «Об обязанностях»
(De offïciis), адресованном сыну Марку, так же как и в письмах Матию
Цицерон настаивал на примате гражданских обязанностей.
Аналогичные идеи обоснованы Платоном в диалоге «Государство» и, в
особенности, в «Законах» (846а-847е).
18 Парафраз Руссо.
19 В данном случае Руссо имеет в виду «Английские письма» (1763)
пастора Берне, где критике подвергнуты религиозные взгляды Руссо. Жа-
коб Берн (1728—1791) - женевский пастор, критик религиозных
взглядов Руссо в сочинении «Письма о христианстве «Руссо» (1763). Пьер
Бейль (1647—1706) в «Различных мыслях, изложенных доктору
Сорбонны по поводу кометы» (1681) и в «Продолжении различных
мыслей» (1682) считал, что так называемые «христианские чудеса» в
действительности представляют собой явления природы.
20 Ардуэн Жан (1646-1729) — иезуит, известный богослов и мастер
парадоксальных утверждений. Далее Руссо цитирует известного женевского
богослова Теодора де Беза (1519—1605), друга и сподвижника Жана
Кальвина.
21 Недостаточна вера тех, кто нуждается в чудесах (лат.).
22 В 1743-1744 гг. Руссо был секретарем посланника Франции в Венеции
маркиза де Монтэгю.
23 Известный парижский лодочник XVII в., шутки и забавные выходки
которого остались в памяти парижан.
24 Речь идет о явлении, происходившем у могилы дьякона Париса на
кладбище при церкви Сен-Мендар в Париже: у приближавшихся к месту
погребения прихожан беспричинно начинались судороги.
25 Брюйе д'Абланкур Жак-Жан (?—1756) — знаменитый врач, автор
многочисленных сочинений, наиболее известное из которых —
«Рассуждение о недостоверности признаков смерти и злоупотреблении
поспешными захоронениями». Книга выдержала несколько изданий и была
переведена на многие языки.
26 Предисловие к роману «Эмиль, или о Воспитании».
27 Речь идет об «Исповедании веры Савойского викария».
28 Речь идет о Жакобе Верне и его «Письмах о христианстве Руссо».
29 Расин. Федра, акт 4, сцена 2.
30 В оригинале обыгрывается двойное значение слова griffe — «обидное
слово» и «коготь».
31 Руссо ошибается. Этот анекдот приведен не в сборнике анекдотов,
составленном Брантомом, а в письме мадам Севинье Бюсси-Рабютену от
20 июня 1687 года.
610
Комментарии
^^>
32 Имеется в виду Совет 200, или Великолепный Совет.
33 Речь идет о дворе короля Фридриха II Прусского. Фридрих был
владельцем суверенного княжества Нефшатель, в котором Руссо,
преследуемый Парижским парламентом, скрывался в 1763—1765 гг.
34 Намек на предпочтения жителей Женевы: ее богатые граждане и сам
Троншен любили жить в загородных домах.
35 Руссо еще раз бросает упрек женевским властям в скрытой поддержке
антирелигиозной пропаганды Вольтера.
36 Великолепный Совет, или Совет 200, в Женеве избирался собранием
граждан, то есть Генеральным Советом. Основной функцией Совета 200
было избрание Малого Совета, или Совета 25.
37 Речь идет о сочинении аббата Мабли, опубликованном анонимно под
заголовком «Учебник для инквизиторов Испании и Португалии»
(Manuel des inquisiteurs, à l'usage des inquisiteurs de l'Espagne et de Portugal.
Lisbonne, 1702).
38 Николя Антуан (1602—1632) — протестантский пастор еврейского
происхождения, который отрекся от протестантизма, заявив, что
желает «умереть во имя иудаизма». Его казнили как вероотступника.
39 Мигель Сереет (1511—1553) — видный испанский теолог и противник
догмата о единосущности Троицы. Спасаясь бегством от преследований
испанской инквизиции, попал в Женеву, где и был сожжен на костре по
наущения Кальвина, а его семью оставили умирать от холода на улице
в зимнее время. Альберик Жантилис (год рождения и смерти неизв.) —
французский теолог, противник догмата о единосущности Троицы.
В 1558 году был схвачен в Женеве и брошен в тюрьму по приказу
Кальвина, где письменно отрекся от своих убеждений и поэтому избежал
казни.
40 Городская стража в Женеве.
41 Руссо имеет в виду свободную продажу книг Вольтера и Гельвеция в
Женеве.
42 Речь идет о державах, которые составили Устав о посредничестве.
43 То есть в Берне. В XVIII в. Женева, как и Берн, были самостоятельными
государствами. Инициатором обвинения против Руссо в Женеве —
отрицание христианских догматов, попытка «уничтожения всех
правлений» — выступил Малый Совет. Его книги, согласно решению Малого
Совета, должны были быть сожжены рукой палача, а он сам арестован.
Аналогичные обвинения и приговор вынес Сенат Берна.
44 Имеется в виду статья Вольтера в «Философском словаре».
45 Речь идет о «Письме д'Аламберу», в котором Руссо защищает
протестантскую религию и клир Женевы.
611
«^ч.
Комментарии
46 Вот, сударь, еще одно письмо... — Адресат «Писем с Горы» —
вымышленное лицо, в письмах к которому Руссо обращается к «среднему классу»
Женевы; прямой призыв к его «мудрости» содержится в
заключительных строках писем V и IX.
47 ...унигтожение христианской религии и всех правлений. — Текст
соответствующих документов см.: Windet M. Documents officiels et
contemporains sur quelques-unes de condamnations dont l'Emile et le Contrat social
ont été l'objet en 1762. Genève, 1850. P. 20.
48 ...в виде выдержки из первой. — В книге V романа «Эмиль» содержится
краткое изложение идей «Общественного договора».
49 Имеется в виду учение Гоббса и Гроция, взгляды которых Руссо уже
подвергал критике в «Рассуждении о происхождении неравенства» и в
«Общественном договоре» (кн. I, гл. III).
50 ...по мнению других, это — отцовская власть... — Речь идет о мнении,
которое было высказано Гроцием и поддержано знаменитым немецким
юристом Самюэлем Пуфендорфом.
51 ...по мнению третьих, это — воля Божия. — Доктрина nisi a Deo potestas
(«нет власти не от Бога») была создана в эпоху Средних веков
сторонниками примата духовной власти над светской (папами Григорием VII
и Иннокентием III). В XVII в. ее, в частности, развивали Жак-Бенигн де
Боссюэ и Филмер, которые видели в Боге скорее источник суверенной
власти, находящийся в руках короля, чем происхождение самого
гражданского общества. Критику идей Филмера Руссо развил в
«Рассуждении о политической экономии».
52 ...не Вильгельму, а Якову. — Намек на соперничество семей Оранских
и Стюартов в Англии, то есть Якова II Стюарта и Вильгельма Оранского,
штатхаудера Нидерландов, призванного в 1688 г. на английский
престол под именем Вильгельма III после так называемой «Славной
Революции», точнее, государственного переворота.
53 ...все, кому знакомо ваше государственное устройство. — Одно из
немногих дошедших до нас свидетельств о реакции женевцев на
запрещение «Общественного договора» Малым Советом мы находим в письме
Мульту к Руссо от 16 июня 1762 г., в котором его автор писал, что
граждане Женевы говорят об этой книге как об «арсенале свободы», и в то
время как «меньшинство мечет громы и молнии, большинство
торжествует. Оно даже почти прощает вам ваши религиозные взгляды ради
Вашего патриотизма».
54 ...не запрещена ни одним из них! — Действительно, ни парламент
Парижа, ни Сенат Берна, ни штаты Голландии, ополчившиеся на «Эмиля», не
подвергали гонениям «Общественный договор»; любопытно, что он не
был осужден и испанской инквизицией (см.: Defourneux M. L'inquisition
612
espagnole et les livres français au XVIII siècle. Paris, 1936. P. 170). Руссо
высказался по поводу запрещения «Общественного договора» в
Швейцарии и Женеве в письме от 29 мая 1764 г., адресованном издателю
этого трактата Марку-Мишелю Рею. Он, в частности, писал, что
«Общественный договор» — книга, «в которой правительства рассматривались
согласно их основаниям, и что, следовательно, автор тут не перешел и не
мог перейти границы чисто философского изучения вопроса» (СС.
№ 1256).
55 ...даже и то государство... — Речь идет о Голландии; о мерах, принятых
здесь в отношении распространения «Общественного договора», см.:
Lettres inédites de J.-J. Rousseau à Marc-Michel Rey / Publ. par J. Bosscha.
Amsterdam; Paris, 1858. P. 165-167.
56 ...было перепегатано без разрешения авторов... — В оригинале Руссо
употреблено слово contrefaction — так в XVIII и XIX вв. называли
своего рода «поддельные» — повторные — издания, напечатанные тайком
от автора, с тем чтобы не платить ему гонорара.
57 Альджерон Сидней был казнен в 1682 г. Руссо сделал в своих рабочих
тетрадях ряд выписок из сочинения Сиднея «Рассуждения о правлении».
58 Альтузий Иоганн (1557—1638) — немецкий государствовед, автор
книги «Политика» (1603), в которой развиваются идеи неделимости и
неотчуждаемости суверенитета.
59 Поведение Совета... — Речь идет о Совете 25, или Малом Совете,
фактически державшем в своих руках власть в Женеве; члены его избирались
пожизненно.
60 Грабо — старинное демократическое установление. Советники, прежде
чем их утверждали в должности, проходили «чистку», подвергаясь
критике со стороны граждан (подробнее см.: Fazy H. Les constitutions de
la République de Genève. Genève, 1890. P. 52).
61 Речь идет об Эдикте 1568 г., который постановлял, что при выборах
каждый советник назовет кандидатуры, за которые он подает голос, на
ухо секретарю (см.: Édits de la République de Genève. Genève, 1735. P. 4-
5, §10).
62 Генеральный прокурор обладал в Женеве весьма разнообразными
функциями, перечисленные в «Эдиктах Женевской республики». Будучи
прежде всего общественным обвинителем, он участвовал в отправлении
правосудия по уголовным и гражданским делам, а также осуществлял
надзор по делам опеки и строительства (см.: Werner G. Le procureur
général de l'ancienne république de Genève d'après les édits de 1543 et 1568 //
Étrennes genevoises. 1929. P. 34—58). Однако со временем лица,
занимавшие эту должность, стали игрушкой в руках Малого Совета.
613
Комментарии
63 ...родственные связи в Совете... — Жан Троншен, занимавший пост
Генерального прокурора с 1762 по 1768 г., как и его предшественники Жак
Дю Пан (1734-1741), Жан Галифе (1741-1747), Луи Бюиссон (1747-
1753) и Антуан Ревиллио (1753—1759), все либо были родом из
патрицианских семей, либо находились с ними в родстве.
64 Они ссылаются на закон об отводах... — В таком небольшом
государстве, как Женева, многие граждане находились между собой в той или
иной степени родства, поэтому право отвода занимало значительное
место в его законодательстве, образуя особый III раздел «Эдиктов по
гражданскому праву». В уголовных делах разрешалось заявить отвод
любому лицу из состава суда, находящемуся в родстве вплоть до
десятой степени.
65 ...после одного волнения... — Речь идет о деле Пьера Фацио, который
выступил в защиту демократических прав граждан в 1707 г. и против
введения новых налогов на строительство городских укреплений без
одобрения Генерального Совета. Несмотря на протест женевцев, эти налоги
были утверждены в 1714—1715 гг. решением Малого Совета. При этом
мнения Генерального Совета не спрашивали, хотя закон 1570 г. прямо
указывал на то, что ни один налог не может быть введен без одобрения
с ei*o стороны.
66 Имеется в виду А. Г. Бине, которого необоснованно арестовали. Доказав
свою невиновность, он был освобожден, но все его попытки получить
возмещение за причиненный ему моральный и материальный ущерб
оказались тщетными. Руссо знал об этом эпизоде со всеми его
обстоятельствами от самого Бине, поскольку был знаком с ним и
поддерживал переписку (см. письмо Бине к Руссо от 27 мая 1763 г., хранящееся
в Рукописном отделе Библиотеки г. Невшателя; см. также письмо Руссо
к Мульту от 4 июня 1763 г.: СС. № 1328). Бине подробно описал его
в своих «Мемуарах», опубликованных в Женеве в 1776 г. Документы
по истории дела Бине хранятся в архиве семьи Троншен в Публичной
библиотеке Женевы.
67 Речь идет о заключительной части Устава о посредничестве, в которой
его авторы (французский король и кантоны Цюрих и Берн) заявляли,
что в целях предупреждения повторения имевших место «волнений»
они гарантируют соблюдение всех статей данного Устава. 19 ноября
1761 г. Бине, ссылаясь на это положение, обратился к Генеральному
прокурору, требуя, чтобы на основании положения о гарантиях
неприкосновенности имущественных прав граждан, гарантированного
Уставом, тот дал ему возможность получить удовлетворение своей жалобы
в суде. По словам Бине, ответ генерального прокурора гласил, что если
бы он предоставил Бине право обратиться в суд, то его должны были
бы самого приговорить к смертной казни как виновного в оскорблении
614
величества, то есть Сеньории Женевы, или, другими словами, граждан
Женевы.
68 j0 есть ухищрений сторонника примата папской власти.
69 Собрание Генерального Совета 29 февраля 1420 г. имело
исключительно большое значение, поскольку решался вопрос о притязании герцога
Савойского Амедея VIII на власть в Женеве. Оно закончилось
голосованием и подписанием акта о независимости города. Историк Ж. Го-
тье (Gautier J. A. Histoire de Genève. T. I. Genève, 1896. P. 313) называет
цифру 622 подписавшихся; Руссо же говорит в черновых вариантах
«Писем с Горы» о 727 лицах (в окончательной редакции оно снизилось до
720). Это число он заимствовал либо у J. Spon (Histoire de Genève.
Genève, 1730. T. I. P. 174), либо y Vernes et Roustan (Histoire de Genève -
неопубликованная рукопись, хранящаяся в библиотеке Женевы), где
приведены те же цифры.
70 Руссо говорит о Николя Леметре, который наряду с П. Фацио выступал
в защиту демократических прав, за что был арестован, подвергнут
пыткам и повешен (см.: Corbaz A. Pierre Fatio, précurseur et martyr de la
démocratie genevoise. 1662-1707. Genève, 1913. P. 112,252-261). «В
моих руках также "История" Леметра с повествованием о волнениях
1707 г.», — писал Руссо Ивернуа 31 августа 1764 г. Сведения о Леметре
он получил, скорее всего, от Де Люка, в бумагах которого,
находящихся в Публичной библиотеке Женевы, хранится «Отчет о деле Леметра».
71 ...перед произволом двадцати пяти деспотов. — До Руссо только Жак
Микеле Дюкре осмеливался предъявлять Малому Совету обвинения в
узурпации свободы граждан Женевы (см.: Supplication avec Supplement
presentee aux Louables Cantons de Zurich et de Berne en Juillet et Décembre
1744. Bâle, 1745. P. 62-63).
72 В данном случае совершенно очевидно, что Руссо трактует Устав о
Посредничестве в духе учения об общественном договоре: народ вправе
менять «рамки общих соглашений» (ср.: Об общественном договоре.
Кн. 1, гл. 6).
73 Речь идет об аудиторе Саразене, осужденном по решению Малого
Совета в 1667 г. Саразен выступил против синдиков Женевы и,
следовательно, против Малого Совета, обвиняя их в узурпации власти. Конфликт
вылился в беспорядки на улицах и закончился восстановлением Сара-
зена в должности аудитора Совета 200.
74 Мишели (Микеле) дю Кре (Дюкре, Du Crest; 1690—1766) — один из
видных критиков Малого Совета, неоднократно сидевший в тюрьме за
свои оппозиционные взгляды.
75 Аналогичный пример и сравнение с порядком управления в Китае
использованы Руссо в «Рассуждении о политической экономии» 1755 г.
Наст. изд. С. 50).
615
r>s.
Комментарии
76 Стабильный прирост населения назван основным критерием качества
работы правительства в трактате «Об общественном договоре».
77 В Женеве в каждом квартале формировался отряд из горожан,
делившийся на четыре подразделения.
78 часто встречающийся в «Письмах» мотив противопоставления
«свободных людей» и «черни» перекликается с тезисами о воспитании
народа в «Рассуждении о политической экономии». Правительству
предлагается заботиться о том, чтобы в государстве господствовал и уважался
закон, в рамках которого только и возможна свобода. Подчиняясь
закону, единому для всех, люди превращаются из толпы в народ.
79 на сей случай (лат.).
80 Первый Синдик Женевы. В эпоху, когда Руссо писал эти строки,
Первый Синдик был высшим магистратом города.
81 «Предостережения» (remontrances) — термин государственного права
Франции. Правом предостережения обладали парламенты Франции,
направлявшие в адрес короля или министра «предостережения» в
случае, если указ первого или решение второго противоречили
действующим законам и обычаям.
82 Так Генеральный прокурор Женевы Жан-Робер Троншен, автор
«Писем из деревни», охарактеризовал Руссо.
83 Выборное должностное лицо, судья по уголовным делам.
84 В данном случае речь идет о хартии, дарованной Женеве в 1387 г. ее
сеньором епископом Адемаром Фабри, которая подвела итог
коммунальному движению в городе на первом этапе, когда граждане боролись за
автономию города. Позже епископы были изгнаны из Женевы, и она
стала независимой городской коммуной.
85 Руссо имеет в виду «Великую Хартию Вольностей» 1215 г.,
подписанную королем Англии Иоанном Безземельным.
86 Золотурнский трактат гарантировал Женеве охрану ее прав и
независимости Францией, а также коммунами Золотурна и Берна в XVII в.
87 Руссо имеет в виду эпизод с Джоном Уилксом (1727—1797), членом
Палаты общин, выступившим в 1762 г. с резкой критикой политики
правительства сначала в анонимном памфлете, а затем — в газете
«Северный Британец» («The North Britain»). Так, в номере от 23 апреля 1763 г.
он критически отозвался о тронной речи короля, о требовании
конфискации его произведений и своем аресте. У Уилкса были изъяты
рукописи, он был исключен из парламентских комиссий. Но оказалось, что
своими действиями власти нарушили Habeas corpus act. 6 декабря 1763 г.
суд, признав действия властей незаконными, обязал их выплатить Уил-
616
Комментарии
ксу 1000 фунтов стерлингов компенсации. Руссо знал об
обстоятельствах этого дела из газет.
88 Речь идет о постановлении Генерального Совета от 2 апреля 1570 г.,
собравшегося в разгар эпидемии чумы.
89 Чума в Марселе свирепствовала в 1720—1721 гг. Говоря о Королевском
банке, Руссо, вероятно, имеет в виду падение во Франции так
называемой системы Лоу, банкира, по инициативе которого впервые
предприняли выпуск бумажных денег. Но после краха банка понадобилось еще
несколько лет, чтобы деловая жизнь в Женеве вошла в прежнюю
колею; см.: Luthy Я. La Banque protestante en France de la Révocation de
l'Edit de Nantes à la Révolution. Paris, 1959. T. I. P. 424.
90 Руссо изложил довольно точно историю столкновений, начавшихся
в ночь с 30 июня на 1 июля 1734 г., спровоцировавших вооруженные
выступления горожан. 20 декабря в Генеральном Совете поставили на
голосование Эдикт об умиротворении, но голосование не состоялось.
Заговор, о котором идет речь далее, был организован Бернаром де
Буде, графом де Монреаль, который вооружил несколько сот граждан
из низов и предоставил их в распоряжение Совета. Новые
вооруженные столкновения (21 августа 1737 г.) привели к обращению за
посредничеством к Цюриху, Берну и Франции.
91 1 декабря 1706 г. Малый Совет рассматривал памятную записку,
переданную четырьмя гражданами «от имени многих других» и
содержавшую предложение проводить в Генеральном Совете выборы при помощи
бюллетеней, как это делалось в Совете Двухсот. Благодаря различным
ухищрениям, Малому Совету удалось отклонить это предложение, но
решено было дополнительно принять ряд мер, обеспечивающих
свободу голосования.
92 То есть Пьер Фацио.
93 Имеется в виду Николя Леметр, осужденный на основании
единственного свидетельского показания.
94 Речь идет о Жане Пиаже, одном из руководителей горожан Женевы
наряду с Фацио, утонувшем в Роне 18 августа 1707 г. при попытке бегства.
95 Троншен писал в «Письмах из деревни», что «право давать
отрицательный ответ <...> представляет собой оборонительное оружие».
96 «Поскольку право Представлений может оказаться наступательной
силой, способной все опрокинуть, то мудрость законодателя может
заключаться в том, чтобы противопоставить ему силу, способную оказать
сопротивление: эта сила — право давать отрицательный ответ,
представляющее собой не что иное, как обязательство Совета тщательно
рассматривать Представления», — писал Троншен в «Письмах из деревни».
97 Руссо имеет в виду и осуждение его книги в Женеве.
617
*\ Комментарии
Соображения об образе правления в Польше
и о плане его переустройства, составленном
в апреле 1771 г.
Впервые: Collection complète des œuvres de Jean-Jacques Rousseau,
citoyen de Genève. Genève, 1782. Édition In 8°. T. II. P. 253—412. Édition
In 4°. II. P. 416—539.
Перевод С. В. Занина по изд.: Rousseau J.-J. Considérations sur le
gouvernement de Pologne // Œuvres complètes de J.-J. Rousseau. T. III.
Paris: Gallimard, 1964. P. 951—1041.
Комментарии C.B. Занина.
Первая публикация этой работы Ж.-Ж. Руссо, появившаяся в его
собрании сочинений, изданном Дю Пейру и Мульту в Женеве в 1782 г.,
содержала множество неточностей.
Полностью «Соображения об образе правления в Польше» не
переводились на русский язык. В 1969 г. в «Трактатах» эта Работа Руссо была
представлена тремя фрагментами — читателям предложили две главы
(«Дух древних установлений» и «Воспитание»), а также отрывок из главы
«Применение» (см.: Руссо Ж.-Ж. Трактаты. С. 461—468 / Пер. А. Д. Хаюти-
на).
1 Виельгорский Михаил (1724—1794) — польский магнат, один из
лидеров Барской конфедерации. Вместе с графом Игнацием Масальским
обратился к французским просветителям, в частности к аббату Мабли,
маркизу Мирабо и Ле Мерсье де Ла Ривьеру, с просьбой создать проект
преобразований в Польше. Он предоставил Руссо аннотированное
французское издание трактата Кристиана Пфёффеля о публичном
праве в Польше, в котором изложил свое видение будущих реформ. После
гибели Барской конфедерации он издал в 1774 г. на французском языке
сочинение о будущем конституции Польши, в котором согласился со
многими идеями Руссо, но этот проект, так же как и проекты других
просветителей, не был реализован на практике по причине
бедственного положения страны и последующих трех разделов Польши.
2 Читая историю правления в Польше ~ могло просуществовать так
долго. — С критикой государственного устройства Польши выступали все
без исключения французские просветители, в частности аббат Мабли,
Караччоли, Шевелье д'Эон и, в особенности, физиократы. Среди
последних был аббат Бодо, который в 1770 г. опубликовал серию статей
в журнале «Эфемериды гражданина», где выступил с резкой критикой
liberum veto и всевластия польской аристократии.
618
Комментарии
-^
3 В своей характеристике древних законодателей Руссо опирается на
сравнительные жизнеописания Плутарха, соответствующие книги Тита
Ливия и Ветхий Завет. Многие характеристики деятельности Нумы Пом-
пилия взяты Руссо из сочинения Макиавелли «Рассуждения на первую
декаду Тита Ливия» (кн. 1, гл. 11).
4 Сведения Руссо об убыли населения в Польше почерпнуты из сочинения
аббата Куае «История Яна Собесского, короля Польши» (Coyer. Histoire
de Jean Sobieski, roi de Pologne. Paris, 1761).
5 Речь идет о Барской конфедерации, которая возникла 29 февраля
1768 г., через три дня после того, как князь Репнин очистил польский
сейм от противников короля Станислава Августа Понятовского.
Инициатором Барской конфедерации стал Иосиф Пулавский, а затем к нему
присоединился гетман Ксавье Браницкий. С1768 по 1771 г.
конфедераты успешно боролись с русскими войсками. Польский проект Руссо был
написан в момент, когда Барская конфедерация достигла пика своих
успехов, взяв 10 сентября 1770 г. крепость Ченстохов. Руссо
обращается к той группировке конфедератов, которую возглавляли Игнаций
Масальский и Михаил Виельгорский.
6 Руссо последовательно развивает эту мысль в «Рассуждении о
неравенстве».
7 ...поступил столь хваленый царь. — Имеется в виду Петр I и его
государственная деятельность; критика реформ Петра Великого содержится
в трактате «Об общественном договоре» (кн. II, гл. 8).
8 Сходные мысли Руссо развивал в «Рассуждении о политической
экономии», а также в «Письме д'Аламберу о театральных зрелищах», иногда
дословно повторяя высказанные в этом сочинении мысли.
9 ...раньше бедное дворянство в Польше ~ и средства к существованию. —
Руссо имеет в виду клиентеллу в Древнем Риме, о которой он говорит
в трактате «Об общественном договоре» (кн. IV, гл. 4), сравнивая ее
с реалиями Польши.
10 ...однажды герцог д'Эпернон, встретив герцога Сюлли... — Источником
этих сведений Руссо, возможно, является работа аббата Мабли
«Параллель между римлянами и французами в вопросах правления» (Parallèle
des romains et des français en matière de Gouvernement. Paris, 1742).
11 Источником размышлений в этой главе Руссо являются идеи,
высказанные Монтескье в трактате «О духе законов» (кн. IV, гл. 5).
12 Те, кто займет эти места ~ не исклюгая детей вельмож. — В отличие от
аббата Мабли, Руссо предлагает национальное воспитание, тогда как
аббат в основном предлагает воспитание наднациональное в духе
космополитизма.
619
*\
Комментарии
13 ...угреждение, разрешенное и поощряемое уверенной властью ~ они
спахала исполняют во время игры. — Руссо, приводя в пример устройство
колледжа в Берне, по всей вероятности, полемизирует с идеями
Станислава Жирома Канарского, который в «Письмах о воспитании»
поддерживал идею создания школ для знати.
14 Руссо в данном случае имеет в виду идеи, изложенные в трактате
Кристиана Пфёффеля. Основная идея этой главы — создание
национального государства, в котором должны быть устранены сословные
привилегии, и единственным способом обрести национальную идентичность
является создание своего рода карьерной лестницы для всех граждан
без исключения (см. также гл. 6 и гл. 13 проекта Руссо).
15 В отличие от аббата Мабли, Руссо не лишает Сенат законодательной
власти, поскольку в этом случае закон не стал бы выражением «общей
волей».
16 Для Руссо освобождение польского крестьянства — одна из самых
сложных задач, поскольку эта реформа должна была быть произведена
с общего согласия всего народа. Отметим, что он не видел другого
способа гарантировать свободу освобожденных крестьян, кроме как
наделить их земельной собственностью.
17 В гл. 10 кн. III трактата «Об общественном договоре» Руссо
обстоятельно говорит о необходимости защитить законодательную власть от
узурпации со стороны власти исполнительной. Кроме того, основная
идея этой главы заключается в том, чтобы установить порядок
функционирования государства, при котором воля законодательной власти
воздействовала бы на силу исполнительной.
18 Pacta conventa существовали в Польше с 1370 г. и представляли собой
своего рода соглашение между избранным королем и сеймом об объеме
полномочий монарха. Начиная с правления Генриха Валуа, эти
соглашения стали традиционными и являлись своего рода императивным
мандатом королю.
19 Об этом Руссо говорит в гл. 18 кн. III трактата «Об общественном
договоре», а также во второй части «Писем с Горы», где подвергается
критике женевская олигархия, пытавшаяся подчинить себе
законодательную власть.
20 Речь идет о трактате «Полисинодия» аббата Де Сен Пьера (гл. 6 и 7).
Руссо составил резюме политических сочинений этого известного
французского мыслителя и выступил с критикой разделения
исполнительной власти на части.
21 Речь идет о 12 и 13 главах кн. III «Общественного договора», где Руссо
настаивает на регулярности созыва выборных органов законодатель-
620
ИИ
ной власти и предостерегает против того, чтобы предоставить им статус
представителей народа.
22 Нунциями Руссо называет депутатов Посольской избы — нижней
палаты сейма, которые избирались на сеймиках в различных регионах
Польши. Порядок избрания нунциев Руссо почерпнул из упомянутого ранее
трактата Кристиана Пфёффеля.
23 Комиссарами Радома Руссо называет сенаторов, назначенных сеймом
для проверки счетов, представленных гетманами и казначеями.
Верховный суд был основан в Польше во второй половине XVI в. королем
Стефаном Баторием. Этот суд заседал осенью и зимой в Петеркове,
а весной и летом в Люблине.
24 Это удостоверение выдавалось депутатам сейма специально
назначенными должностными лицами, которые удостоверяли правильность
выборов.
25 См. комментарий 80 к «Письмам с Горы».
26 В1768 г. в Польше было 153 сенатора.
27 у руСС0 «общая воля» представляет собой волеизъявление народа,
внутри которого не существует всякого рода тайных ассоциаций, в той
или иной мере влияющих на принятие народом решений. Условиями,
при которых воля народа является действительно общей, должны стать
следующие: отсутствие крайнего социального неравенства, отсутствие
разного рода тайных объединений («групп давления», сказали бы мы
сегодня), регулярный созыв законодательного собрания и строгое
соблюдение его регламента.
28 Совершенно очевидно, что Руссо выступает за своего рода баланс
исполнительной и законодательной власти при сохранении единства власти
исполнительной. В Польше воеводами являлись военные и
административные должности в провинциях, кастелланами — коменданты
важнейших крепостей.
29 Полоцкий воевода и воевода Витебской самогитии получили особый
статус, который напоминал статус префектов провинции; их называли
старостами, и они обладали правом заседать в Сенате.
30 Вопросы о выборах в законодательный орган Руссо подробно
обсуждает в трактате «Об общественном договоре» (кн. IV, гл. 4).
31 на сей случай (лат.).
32 В своем размышлении о королевской власти Руссо опирается на гл. 6
кн. III трактата «Об общественном договоре» и выступает против
ограничения королевской власти, сторонником которой был Михаил Ви-
ельгорский.
33 Архиепископ Гиезненский являлся по должности примасом Польши.
621
«-V*
Комментарии
34 Канцлер занимал должность председателя Ассизского суда, в
компетенцию которого входило разрешение земельных споров, а также
вопросы, связанные с ремесленным производством и торговлей. В Польше
король всегда рассматривался не только как символ нации, но и как
своего рода арбитр интересов сословий. В концепции Руссо, которая
изложена в польском проекте, эта традиция сохранена, и, согласно его
проекту, король становится своего рода гарантом баланса властей.
35 Речь идет о государственном перевороте в Дании, совершенном при
Христиане VII, борьбе Георга III против парламента в Англии, а также
о государственном перевороте, осуществленном Густавом III Шведским,
который был направлен на восстановление королевских прерогатив
в ущерб правам сословий.
36 Имеются в виду события 1519 г., когда император Германии
Максимилиан I (1459—1519) пошел на уступки курфюрстам Германии в обмен
на введение наследования короны.
37 На всем протяжении главы Руссо выступает против конституции
Англии и выстраивает свои рассуждения методом доказательства от
противного.
38 Руссо выступает в этой главе за сохранение национальных институтов,
в частности iiberum veto (принципа единогласия при голосовании в
сейме) и конфедерации, но стремится придать им иной облик. В этой главе
Руссо критикует поведение депутата Сичынского, голосование
которого привело к роспуску сейма 1652 г., а также критикует сеймы,
созванные в 1764 и 1768 гг. под контролем русского правительства и по
наущению князя Н. В. Репнина.
39 Эта идея широко распространена в просветительской литературе, ее
можно встретить также в бумагах Екатерины II (под влиянием чтения
«Энциклопедии» Дидро и д'Аламбера). Что касается Польши, то по
просьбе Станислава-Августа Понятовского кодекс польских законов
был создан бывшим великим канцлером Замойским, но этот кодекс
отверг сейм 1780 г., поскольку депутаты сочли его чрезмерно
либеральным.
40 Согласно законодательству Польского государства, майоратного
владения в Польше не существовало, но крупные землевладельцы, такие
как князья Радзивиллы и Острожские, получили такое право от
польских королей в виде особой привилегии.
41 В этой главе Руссо в значительной мере использует идеи французских
физиократов, которые основывали процветание государства на
развитии сельского хозяйства и увеличении численности населения. Вполне
возможно, что Руссо был знаком с работами аббата Бодо, а также, как
это достоверно известно, он читал главное произведение Ле Мерсье
622
ИИ
--*"•
де Ла Ривьера «Естественный и сущностный порядок политических
обществ». Вместе с тем, Руссо использует в этой главе идеи, ранее
высказанные в проекте Конституции для Корсики, в частности, в том, что
касается экономической автономии государства, и сочетает эти идеи с одним
из главных положений трактата «Об общественном договоре», которое
гласит, что народ, наиболее пригодный для законодательства, — это
народ самодостаточный (кн. II, гл. 10).
42 См. трактат «Об общественном договоре» (кн. III, гл. 5).
43 См. трактат «Об общественном договоре» (кн. III, гл. 9).
44 Аналогичные идеи Руссо высказал в проекте Конституции для Корсики.
45 См. «Трактат о духе законов» (кн. XIII, гл. 14). Различия между
категориями населения в Женеве Руссо объяснил в трактате «Об
общественном договоре», ссылаясь на д'Аламбера.
46 Речь идет о сочинении маршала Вобана «Проект установления
королевской десятины» и о проекте «вечного мира» аббата де Сен Пьера.
47 Идея прямого налогообложения земель принадлежала физиократам,
и Руссо ею воспользовался. Подобно аббату де Сен Пьеру и маршалу Во-
бану, он выступает категорически против установления монопольных
прав в государстве. Земельный кадастр предлагался физиократами, но
Руссо, как это следует из текста, не слишком одобрительно относился
к такому кадастру, который уже существовал в Австрии при Иосифе П.
48 В проекте «Военного устройства» Руссо предлагает создать всеобщее
ополчение и в этом отношении соглашается с Михаилом Виельгорским
и аббатом Мабли, однако, как следует из текста Руссо, он скорее
вспоминает о военной организации Женевы, о которой он достаточно
подробно говорит в сочинении «Письмо д'Аламберу о театральных
зрелищах» (1758).
49 Источник: Светоний, «Жизнь Юлия Цезаря» (гл. 70).
50 Оригинальность этого раздела работы Руссо заключается в попытке
описать особого рода социальную организацию, отличную от
сословного строя, создание которой привело бы к его уничтожению. Вместо
сословного строя должен возникнуть режим меритократии и система
отбора на государственные должности под надзором суверенного
народа. О праве суверена «надзирать за гражданами» Руссо подробно говорит
в трактате «Об общественном договоре». Эта идея неоднократно
подвергалась критике со стороны современных интерпретаторов
творчества Руссо, обвинявших его в «тоталитарных симпатиях»; но, как
следует из проекта Руссо, этот надзор представляет собой не что иное, как
одобрение деятельности каждого гражданина со стороны общества.
51 надежда отечества (лат.).
623
*\
Комментарии
52 избранный гражданин (лат.).
53 страж законов (лат.).
54 Руссо в данном случае вносит коррективы в план, предложенный
епископом Игнацием Масальским, председателем Колледжа управленцев.
Согласно предложению последнего, система образования в Польше
должна была находиться под контролем церкви. Идея Руссо заключалась
в том, чтобы создать в Польше исключительно светскую систему
образования и воспитания. Хотя председателем Колледжа управленцев
должен быть Примас Польши, в нем, по мысли Руссо, не следовало вводить
священников. Следует отметить и то, что Руссо предлагал избирать
главу Церкви в Польше на сейме, то есть превратить его в высшего
магистрата по делам церкви.
55 Идея дарования прав дворянства буржуазии была достаточно
распространена во французской литературе эпохи Просвещения, например, в
сочинениях Монтескье и работах известного политического мыслителя
маркиза д'Аржансона, в частности, в их рассуждениях о возможности
установления во Франции так называемой «демократической
монархии». Руссо ссылался на эту работу маркиза в трактате «Об
общественном договоре».
56 См. трактат «Об общественном договоре» (кн. И, гл. 10).
57 Речь идет о вмешательстве России во внутренние дела Швеции. Это
вмешательство началось после смерти Карла XII, когда Россия
поддерживала шведский ригсдаг в его попытках установить опеку над
короной.
Именной указатель
Аарон (библ.) 326,327
Август Гай Юлий Цезарь Октавиан
191,466,599
Августин Аврелий Бл. 596
AracIV 223,606
Агрикола Тней Юлий 605
Адш(библ) 119,593,602
Александр Македонский 57,68,
597
Алексеев А. С. 601
Алексеев-Попов В. С. 5-7,9
Али Ибн-Абу-Талиб 231,607
Альб (Авл Постумий Альб Регил-
лен) 225,606
Альберт Великий 321
АльтузийИ. 395,613
АлюшинА. Л. 93
АмедейУШ 615
Антоний Марк 466,564
АнтуанН. 370-372,611
Аппий Клавдий Сабинянин 215
АрдуэнЖ. 318,610
Аристодем 254
Аристотель 43,96,107,119,176,
192,256,591-593, 601, 602, 607
Аристофан 380
Архимед 177,269
Астарта (миф) 112
Афродита (миф) 112
Баал(лшф.) 229,321
Бальбоа Нуньес де 133,603
БарбейракЖ. 7,137,602
Бардэн Исаак, книготорговец 461,
470
БаторийС. 621
Без(Бэз)Т.де 38,610
Бейль П. 232,318,610
Бернарди Б. 6,9,13,17-39,81-95,
591, 600, 607
Бернарди Ж. 13
БерюйеЖ.-И. 335
БинеА.Г. 405,614
Боден (Бодэн) Ж. 18,65,70,78,
128, 603
Бодо Н. 488, 618, 622
БомонК.де 331
Борджиа Ц. (Ч.) 605
Боссюэ Ж.-Б. де 612
БофорФ.де 206
Бочков И. И. 96-115,591,600,605
БрандтР. 88
БраницкийК. 619
Брантом (Бурдейль П. де) 339, 610
БрёкенК. 91
Брюйе д'Абланкур Ж.-Ж. 322,610
БудеБ.де 617
БюиссонЛ. 614
БюржеленП. 82,89
Бюрламаки Ж.-Ж. 29
Бюсси-Рабутен Р. 610
Ваал — см. Баал
Варрон Марк Теренций 214
625
*-\.
Именной указатель
Венера (миф.) 112
Вергилий Публий Марон 116,601
Верн Ж. 318, 609, 610, 615
ВернП.-М. 491,494
Берне Ж. 261,289,318,333.609,
610
Виельгорский М. 487-491,493,
497, 498, 506, 534, 560,588,618,
619, 621, 623
Вильгельм III Оранский 137,390,
603, 612
ВителлийАвл 208
Вобан С. ле Претр де 557,623
Вовенарг Л. де Клапье 361
Волгин В. П. 12
Вольтер (Аруэ М.-Ф.) 14,259,261,
381,382,611
Галифе Ж. 614
Гальба Сервий Сульпиций 65,599,
605
ГаррельС.фон 82,91
Гельвеций К. А. 608,611
ГеноЖ. 13
Генрих III Валуа 620
Генрих IV Наваррский 238
Генрих Испанец 409
Георг I (Георг Людвиг) 137,603
Георг III 622
Геракл (миф.) 179
Геродот 74
Пше де Тонон М. 409
Гоббс Т. 9,19,38,118,119,232,
242,245, 246,395,594, 607, 612
Гольдшмидт В. 24,26
Гомер 230,502,508,602
ГондиП.де 189,605
ГотьеЖ.А. 615
Гракхи Тиберий и Гай, бр. 199
Григорий VII 612
Григорий Богослов 13
Гримм Ф.-М. 487,488
Цюций Г. 7, 38,118,119,121,122,
124,125,137, 205, 318, 601, 602,
612
Гурвич Г. Д. 90
Густав II Адольф 315
Густав III Шведский 622
Давид (библ.) 380
Д'АламберЖ.-Л. 6,89,128,138,
160,228,278, 349,384,407,591,
603, 604, 608, 609, 611, 619,622,
623
Данте А. 607
Д'Аржансон Р.-Л. 236,607,624
Дарий 74,599, 600
ДеборинА. М. 12
Декарт Р. 155,605
ДеЛюкЖ.-Ф. 615
ДератэР. 7,13,27,493,591
Дживелегов А. К. 601
Д'Ивернуа Ф.-А. 262,263,615
Дидро Д. 6,21,23,26-29,31-33,
35-37,591,595,622
Дионисий I Старший 180
Дионисий II Младший 180
Дрейфюс-Бризак Э. 601
Д'ЭонШ. 618
ДЭпернон Ж.-Л. 510,619
Дюмурье Ш.-Ф. 489
ДюПанЖ. 614
Дю Пейру (Дюпейру) П.-А. 592,
618
Дюпон де Немур П.-С. 488
Евклид 273
Екатерина II Великая 8,487,488,
622
ЖантилисА. 371, 611
ЖентийВ. 401
ЖоберА. 487,488
ЖоффренМ.-Т.-Р. 488
626
Именной указатель
Замойский А. И. 622
Занин С. В. 5-14,26,39,81-95,
259-267, 487-496,591, 600, 607,
608, 618
Зеьс (миф.) 229
Златопольская А. А. 601
Иаков, ап. 285
Иафет (библ.) 602
Иефай (библ.) 113,229,230
Измаил (библ.) 151
Иисус Навин (библ.) 321
Иисус Христос (библ.) 81,113,114,
230, 280-283, 285, 286, 289, 292,
299, 306, 307, 312-318, 321-325,
328, 332, 333, 335, 349, 355
Иннокентий III 612
Иоанн, апостол 322
Иоанн Безземельный 616
Иоанн Креститель (библ.) 292
Нот (библ.) 313
Иосиф (библ.) 68,312
Иосиф II Австрийский 623
Исаев И. А. 5-14
Иштар (миф.) 112
Каиафа (библ.) 307
Калигула Гай Юлий Цезарь 110,
148,228,601
Кальвин Ж. 38,150, 297, 301,308,
401, 608, 610, 611
Канарский С. Ж. 620
КандоД. 83,86
Кант И. 495,496
Карамзины.М. 8
Караччоли Л. А. 618
Карл-Алберт (Карл-Альберт) VII
537
Карл XII 315,604,624
Карлосдон 339
Карьер Л. 229
Катилина Луций Сергий 226, 235,
237,606
Катон Марк Порций Лициний 123,
603
Катон Марк Порций Младший
(Утический) 55,65,237,597,
599
Катон Марк Порций Старший
(Цензор) 123,603
КейтДж. 380
КеннельП. 609
КенэФ. 488
Кир II Великий 253
Коган П. С. 601
Красе Марк Лициний 564,597
Кромвель О. 206,235
Кронос (Хронос) (миф.) 229
Ксенофонт 192,592
КуаеГ.Ф. 6i9
Л.М.деА. 118
Лазарь (библ.) 322
Ларошфуко Ф. де 290
Ле Мерсье де Ла Ривьер П.-П. 488,
618, 622
ЛеметрН. 418,469,615,617
Ленин (Ульянов) В. И. 93
ЛещинскийР. 174,604,605
ЛещинскийС. 174,605
Ливии Тит 151,178,604, 619
Ликург 81,139,148,149,153,253,
500,501,553,606, 607
Лисандр 599
ЛоккДж. 26,43,96,395,593,595
ЛоуДж. 617
Людовик IX Святой 123,248,602,
603
Людовик XIII 137
Людовик XIV 607
Людовик XVI 605
ЛюзакЭ. 602
Люксембургские, герцоги 95
627
Именной указатель
ЛюлэнП.-Э. 271
Лабрюйер Ж. де 290
МаблиГ.-Б.де 487,488,492,605,
611, 618-620, 623
Магомет 104,231, 607
Макиавелли Н. 37,47,95,108,
139,151,178,189,191,595, 604,
605,619
Максимилиан I 622
МарА.де 335
Марий Гай 68,217,226,466,562,
599
МаритенЖ. 9
Марсилий Падуанский 93
Марцелл Марк Клавдий 253
Масальский И. 487, 618,619,624
МатийГай 610
Медичи 178
Медушевский А. Н. 93
МетрезаЖ. 442
Мильтиад 192
Минос(лшф.) 152,253
Мирабо В. Р. 487,488.618
Мишели (Микеле) Дюкре (дю Кре)
Ж. 425, 615
Моисей {библ.) 81,104,108,229,
314,327, 328, 500, 501, 604
Молох {миф.) 229
Монтескье Ш. Л. де Секонда 73,
96,148,183. 210, 289,381,395,
417,556, 604, 607, 609, 619, 624
Монтэгю, маркиз 610
МореллиЖ.-Б. 272,341-343,350.
368-371,401,608
МорнэД. 13
МультуП. 261,591,612,614,618
НавильП. 262
Навуходоносор 112
Нарышкин А. А. 591
Некрасов В. В. 39,608
Нерон Клавдий Цезарь 599
Нестерова С. С. 601
Ной {библ.) 119,602
НоллеЖ.-А. 32Д
Нума Помпилий 81,139,212,500,
502,604,619
Ньютон И. 320
ОбиньеТ.А. 19
Одиссей {миф.) 119,240,602
ОккамУ. 93
Октавиан — см. Август
Оранские 612
Острожские, князья 622
Отон Марк Сальвий 208,425
Павел, ап. 102,283,285,317,318.
336.381
ПайоР. 82
ПаолиП. 11
Парис, дьякон 6J0
Перикл 480
Петр, св. 431
Петр I Великий 8,153,507.619
Пиаже Ж. 469.617
Пирр 549
Платон 49.73,148,152,181,309,
310,393,596,605,610
Плиний Старший 214
ПлоховП. 601
Плутарх 119,606,607,619
ПоленР. 84,85,89
Полторацкий Н. А. 608
Помпеи Гкей Великий 55,226,466,
562,597
Понятовский С.-А. 487-489,586,
619,622
Попилий Марк Лений 123,603
Порций Лека 57,597
Пруст Ж. 28
ПулавскийИ. 619
Пуфендорф С. 7,63,428,599,602,
612
628
Именной указатель
Пфёффель К. 489,490,618, 620,
621
РаблеФ. 121.300
Радзивиллы, князья 622
Расин Ж. 610
Рассел Б. 9,12,93
РевиллиоА. 614
РейМ.-М. 613
Репнин Н. В. 619,622
Рец де — см. Гонди Л. де
Ришар Ж. 597
Робинзон {лит) 119
Ромул 65,190,212,216-218,502
РуэльГ.-Ф. 321
Самуил (библ.) 108,178
СаразенЖ.-А. 424,615
Сатурн {миф) 119,229
Саул (библ.) 108
Светоний Гай Транквилл 623
СевиньеМ.де 610
Сен Пьер Ш. де 212,386,395,522,
557,620, 623
СерветМ. 308,371,611
Сервий Туллий 139,213-217,219,
604
Сидней А. 43.395,593,613
СилуэттЭ.де 470
Сильвестрини Г. 6,260-262,607
Сим (библ.) 602
Симон (библ.) 327
СичынскийК. 622
СкиннерК. 93
СкирмунтС. 601
СобесскийЯ. 619
Сократ 55,380
Солон 139,604
Софокл 502
СоцинФ. 609
Сперанский M. М. 8
Спинк Д. С. 260, 264, 265
Сталин (Джугашвили) И. В. 93
Старобэнски Ж. 13
Стюарты 603,612
Сулла Луций Корнелий 191,226,
466,562
Сюлли М. де Бетюн 510,619
Тарквинии 153,190
Тарквиний Гордый Луций 219,
604, 606
Тацит Публий Корнелий 208,426,
605,606
Тиберий Клавдий Нерон 191
ТоуншендЧ. 452
ТраарП. 13
Троншен Ж.-Р. 355,609, 611, 614,
616,617
ТэлмонДж. 93
УилксДж. 461,462,527,616,617
УорбертонУ. 152.232,604
Фабий Максим Кунктатор 235,
253
Фабр Ж. 261,487-489,491
Фабри А. 451,452,616
ФарельГ. 307
ФациоП. 418,614,615,617
Фемистокл 564
Филипп (библ.) 327
Филипп Орлеанский 605
Филмер Р. 43,593, 602, 612
Филон Александрийский 119,601
ФилоненкоА. 35
ФлёриА.-Э.де 304
Фор Л. де 466
Френкель А. А. 601
Фрерон Л.-М.-С. 609
Фридрих II Прусский 315,611
ФроманА. 307
Фукидид 480
629
Именной указатель
Хш(библ.) 602
Хамос (библ.) ИЗ, 229, 230, 607
ХаютинА.Д. 5-7,9,618
Христиан VII 622
Цезарь Гай Юлий 55,69,191,226,
237,466,563,597,623
Цирцея (миф.) 602
Цицерон Марк Туллий 97,221,
226,237,309,595, 606, 610
Чичерин Б. Н. 87
ШапоружЖ.-Ж. 466
ШарденЖ. 74,186,605
ШенеляП. 343
ШмиттК. 9,13
Шуэ Ж.-Д. 414, 415, 444, 452
Элия 321 (?)
Эсхил 502
Этьен, мученик 283
Югурта 69,599
Юпитер (миф.) 229,230
Юстиниан 7,546
ЮтановВ. 601
Яков II Стюарт 137,390, 603, 612
BarbeyracJ. - см. БарбейракЖ.
Bernardi В. - см. Бернарди Б.
Bèze T. de - см. Без Т. де
BosschaJ. 613
Brandt R. — см. Брандт Р.
Broecken К. Н. - см. Брёкен К.
BurgelinP. 82
Candeau D. — см. КандоД.
Chamos — см. Хамос
Chardin - см. Шарден
CoindetJ.-F. 263
CorbazA. 615
Coyer - см. Куае
D'Alembert - см. Д'АламберЖ.-Л.
DefoumeuxM. 612
Derathé R. — см. Дератэ Р.
Diderot — см. Дидро Д.
D'Ivernois — см. Ивернуа
FabreJ. - см. Фабр Ж.
Fatio — см. Фацио П.
Favre 88
Fazy H. 613
Franquières 81
Garrel S. von — см. Гаррель С. фон
Gautier J. A. — см. ГотъеЖ. A.
Geoffren — см. Жоффрен
Goldschmidt V. - см. Гольдшмидт В.
Gourwitch G. - см. Гурвих Г.
Hobbes Т. - см. Гоббс Т.
Jobert А. — см. ЖоберА.
Kant I. - см. Кант И.
KuyperG. 602
Lang Р. 92
LaunayM. 266
Leigh R. А. 14
Livius Titus — см. Ливии Тит
Lumières, fr. 93,488
LuthyH. 617
Mably — см. Мабли
Moultou P. - см. Мульту П.
Nepo Cornelius 192
OakeshottM. 607
630
Именной указатель
.^*
Pfeffel Ch. - см. Пфёффель К.
Philonenko А. — см. Филоненко А.
Plutarque — см. Плутарх
Polin R. — см. Полен Р.
Poniatowski S.-А. — см. Понятое-
ский C'A.
Poufendorf S. - см. Пуфендорф С.
Proust J. — см. Пруст Ж.
ReyM.M. 600,608,613
Richard J. — см. Ришар Ж.
RoustanA.-J. 615
Schulz К. D. 266
Silvestrini G. — см. Сильвестрини Г.
SobesskyJ. — см. СобесскийЯ.
Spink D. S. - см. СпинкД. С.
SponJ. 615
Talmon Jacob L. 93
Vernes 615
Vernes P.-M. - см. Берн П.-М.
Vernet J. - см. Берне Ж.
Virgilius — см. Вергилий
ViridetM. 612
Voltaire — см. Вольтер
Werner G. 613
Wielhorski — см. Виельгорасий M.
ZeevS. 93
Предметный указатель
Аристократия (aristocratie) 46,107,
108,147,171,172,174-176,184,
190-192,211, 219, 220,259-264,
392, 418,487,517,552, 618
Благочиние (police) 50,200,206,
354,369, 392.394, 434, 415,423,
437,528,598
Ведомство (département) 50,191,
229, 342, 353, 355,359. 370,451,
520-522,566, 573
Владение вещами (domaine réel)
131-133.188. 254, 467
Властное полномочие (pouvoir)
26,135.356
Власть (autorité) 5,11,17,18,22,
25,28.31.32,36.38-41,43,45,
47-49,51-53, 60, 62. 63,65,68.
70.84-86,89-91,97-100,102-
104,107,108,110,113,114,117,
118.120-122.124,128-130,133,
136,137,139,141.142.146.147,
149-151,154,155.162-165.
169-173.175-177.182.183.187,
188.190-197,199,201,203, 204,
207,213.214,218,219,222-226,
229-231,237,238,246,248, 249,
259-266,280, 281, 283, 293, 308,
311,321.325.327.331,347,351-
353, 356-359, 361.364, 370,388,
389.391. 392, 394,395,397-404,
406-424,426,428.429.431,433-
436, 438,439,446. 448,450,451,
454, 456-460, 463-466,468,475,
476,478,480,482,491-493,508,
513,516-525, 528, 530-532,
534-542,544, 546,547,562,567,
574,576,582,592-598, 601-606,
612, 613, 615, 620-622
Власть государственная (autorité
publique) 30, 50,53.56. 60,71-
72,164,166,167,176,177.184.
204, 235, 439,491,495,594,598
Власть духовная, церковная
(autorité d'Eglise) 114,238,359.
531.612,615
Власть политическая (autorité
politique) 32.41
Воля всех (volonté de tous) 48,90,
138,209,390
Воля общая (volonté générale) 6,
10,11.13,17,18,20-23,26-39,
44-47,49-51,54,55,59, 60, 62,
70,88-90. 92, 94,98,100-104,
107-111,114,127,130,131,135.
136.138-141.145-147,150,164,
167,169,170,174.176.181,190,
194,198,199,203.205-209, 225,
227, 252,265, 391, 398. 434.477.
492.496.525,529,594-597, 620,
621
Вотчина общественная (domaine
public) 65, 67, 69,555,599
Выборы (élections) 26,126,176,
180,195,198,199,210-212,218-
220,225,402.403.408,412,414,
632
Предметный указатель
-s-*
432.444,464,471,520, 524, 527,
531, 533,538,542,567-569,574.
575-583,586,587, 613, 617, 621
Выгода общая (intérêt général) 34,
36,45,50,52,58.104.125.130.
135,138,141,147,198,206,207,
270, 391, 396,467,476,478,481,
484,493,495,532,585,594
Выгода частная (личная) (intérêt
particulier) 28,31.34,36,42.45,
46,52.53. 62-64,125,130,135,
138.150.172.178,198.206-208,
241.265,270,396,434,467,474-
476.480-482,492,529,580,584,
594,598
Голосование (suffrages) 98, 111,
117,150,204,206-208, 211.212.
218-221,402,417,429,439,441,
444,492,517,518, 528. 533,542,
544,574,597, 615, 617, 622
Государственная сила (force
publique) 56, 77, 95,135,162,166-
168,170,177,184
Государственное устройство
(constitution) 26,103,106,110,
114,149,154,156,159-162,168,
171,172,174,177,190,193,195,
198,206,223,224.227,232,286-
288,351,353,369,392.407,408,
414,418,421.422.425,434,441,
443.444,453,457,460,498,499.
512,515,523,524.530,531,537,
539-541,543,544,559,560,565,
566,577,583,585, 606, 612, 618
Государственный организм (corps
d'État) 11,56,85,114,159,167,
168,231,286,352,353,490-492,
494,518.545,561,582.592
Гражданин (citoyen) 9.30.33.34,
41.44,45,48,51-64.68,70,75,
77,83,85-87,89-92,94,96.100-
102.105,106, 111, 114,115,117,
123,124,128,130,132,138-144,
146,148.149.155.159.162.165,
169-175,178,180,188,189,191,
192,194-203,205-209.211.212,
214-221,226,228,232-238,240,
241.247. 248, 251, 252,255, 259,
263-265,267. 268,270-272, 277,
284.287-289,294,303,337,339,
342,343,345, 350.356-358,368,
377,384,386,393,396,400,401,
403-405.409,411,415-419,425,
428-431,433-435,437-440,442,
445,447-449,451,452,456,458,
461-464,467-474,477,478,480,
483,484,488, 489,491-495, 502,
504-506,510, 511,513.515, 517,
521.525,528.529,537, 539,543,
545-548,552,554-556,558-560,
562-569, 573,574, 576,581,582,
587, 588,595, 597,598, 603, 604,
606, 608, 609, 611-618, 620, 623,
624
Гражданская религия (religion
civile) 11,111-113.115,228-
238,262,277,285.288.304. 609
Гражданское общество (société
civile) 28,47,63,78,89,200,266,
288,341,377,380.612
Гражданское состояние (état civil)
48.56,87,89.101,123,131.134.
145,183,201,241,247
Демократия (démocratie) 46,93,95,
107-109,147.171-174,178,183,
184,190-192.202.203,210-212,
220,260,262-264,266,352,399.
400,416,421.428,440,457,491,
529,613-615
Держава (puissance) 33, 111, 125,
128.132.151.154.158,161.171.
213,214,230,254,295.378,406,
410,445.469.548.558,577,584,
585.587, 611
633
«-N.
Предметный указатель
Договоренность в обществе (traité
social) 143,144
Должность (poste) 42,71,149,179,
197,199,211.212.224-226,238.
241,256.260,343.402.408.409.
416,422.423.445.464.466.471,
475,480,490.509.511.513.514.
520.528.531.533-535,538,545-
547.552.553.555.563,565-569.
573.574-578.582.586.587.595,
603, 613,615,621,623
Естественная религия (religion
naturelle) 115.262,331
Естественное право (droit naturel)
7,10,21,23.26-33.83.88.91.
99.102.123,139.233.255.262.
272,395,494-496,541,546,591,
595,599,602
Зависимое отношение (rapport)
122,123,146,156.157,162,
165-168,170,178,183-185,222,
232,234,410,538,577
Закон (loi) 19.22,24-26,30-36.
39-44.48-52,55-60, 62-64,69-
71.75.77.78,81.83,87,89.90.
92. 94.95.98-116.118.122-124.
126,128,129,132,134.136.137.
140.143-153.155,158,161-167.
172.175-177.185.192-195.198.
199,201-212.216-218,220-227,
229-234,237.238,240-242,
247-249. 251-253. 255.259,260,
265,267,273,275-277,281, 283.
284.288.289.293-297. 299.301.
303.318,320,324-326,334,336-
338, 340.341.343-345.348.350.
352-358,360-364,366-370.372.
373.383.386-388, 390-397,399,
400,402-404,407-413.419.420.
424-439.441-443,446-452.454.
456-465,470-484,491-494.496.
498-502,505,510,511,514,515,
517-519.521.522.525-529.532,
533.536.537.541-548,559,565,
568-572,576-580,582,587,592,
594-598, 601, 604, 606, 607,609,
610,614, 616,619,620, 622-624
Законодатель (législateur) 31,50,
81-86,89.98.100.103.104. 111.
112.116.148-152.157,158,161,
162,171.172.224,231.232,264,
288,289.338.341.353,354,356,
357,368,397,399,400.412.420.
424.427.429.431.435.436,446.
450.451.456.461.464.482.492,
493.500.502,520,522.523.540,
577.595, 617, 619
Звание (place) 128,167,174.211.
225.231.235.271.280.282.384.
509.511.531.532.534.535.547.
565.567.571,621
Имение (fond) 134,571
Класс граждан (classe des citoyens)
146.163.213.216.217.266.493.
494.566.577.582.606,612
Король (roi) 74.95.108.119,121,
125,133,137.146.164,174,177,
180.181.192.212.216.228,232,
245.253,293,315,349,407,408,
426.460.463-465.488-491.507,
515-518,520,522,523,526,527,
528,530,532-539,548,562,565,
566.570.572.573.575-583.585-
587.592,593,602-604,607,611,
612, 614,616,619, 620-622
Магистрат (magistrat) 26.37,38,
41-44,46,51,60-62.65,68,85,
95,136,141.164,165,167-171,
175,181-183,191,192,195,197,
202,210-212,217-219,222,
224-226,233,234,259,260,263,
634
Предметный указатель
—•-»
264.270,275, 277,293,296,332.
341,342,347,348,353-358.360.
361,368-372.374. 378,380,383,
388,393,394,397-401,403-406,
408,409,411-415,417.420,421,
424-428,430,432-441,443,446,
447.449-452.454,455,458.461-
463.467.469.470.472,475,476.
478,480-482,521,540,546,551,
562,570,595, 616, 624
Место (emploi) 128,279,354,476,
530,568,573,577
Монарх (monarque) 57,119,133,
177-179,191,212,490,515.536,
537,593, 602, 620
Монархия (monarchie) 107,108.
147,171,176-182,184,190,199,
218, 245.352, 416,417,426,470,
498, 502.515,556. 580. 607,624
Налог (impôt) 58,64, 67, 69,70,
73-78,136,184,397,404,410,
464, 468,554-558, 600, 614
Норма (règle) 25,39.44-46,50,91,
92,96-98,101,105, 111, 112,
114,116,148,169, 204,272,273,
344, 358,364, 390, 412,431,526.
533,544,546,592
Образ правления (forme du
gouvernement) 5,11,25,107-109,155,
163.168,171.172,174,176,
182-184,191-193.203, 205, 211,
212. 253, 261, 391, 392,394,399,
417, 426,453, 468.470,488,559,
566, 605, 606, 618
Общественная выгода (intérêt
public) 58,467
Общественные хранилища (denrées
publiques) 67
Общественный договор (contrat
social) 5-7,9-13,17,20,22,24.
27,33-39. 81-88, 90-92,94, 96,
98.100.101,105,107,110, 111,
116-240, 261, 262, 264-266, 285,
352, 377, 378, 390, 393, 394, 410,
439, 464, 466, 491, 492, 494, 495,
502,521,523,526,533,583, 600,
601, 606. 607, 612. 613, 615, 616,
619-621,623,624
Общество (société) 21,24-28,30,
34,36,37,42,45-49,52.53,56-
59.61, 63, 64, 67.70-73.78, 81,
82,85,86. 88-96,98-100.102-
106,108,109,115.118.124-130.
132.134,135,138-141,143-145,
147,148,151,152.154,155,158,
159,164,167,169,173,174,176,
177,179,183,188,191,198.200,
205-209,214.227.228.232-235.
238. 244.245,248-252, 255, 265.
267.269,274,275,277,283,285-
288, 293, 306,338,340,341,348,
355,361, 362,377,380,400,419,
430,433-435,443,458,461,484,
494. 495,503,506,513,541,547,
553,558, 565,566,568,569,572,
574,576.577.580.582.592,597,
609, 612, 623
Общество в качестве лица (personne
publique) 20,101,128,130,139,
144,167,174.183.255.410
Объединение (association) 36,45,
85.109-111,125-128.138.147,
164,189, 202.208,438,479,494,
591,592, 621
Обязательство (obligation) 26,28,
32, 34, 43, 45, 46,56, 63,70, 84-
86, 88,101,102,104, 111. 114,
123,126,130,141,205, 330, 389,
401,472,495,584,585,617
Обязательство добровольное
(engagement) 129,142,288
Организм (corps) 18-20,22,23,25,
28, 33,36,43,44.46. 82.85, 87,
89,94,96-115,125,127-130,
635
«^ч.
Предметный указатель
135.136,139-141.145-148.
154-156.158.161-170.172.176.
181.190-193.196.197.201.202.
205.207.208,210.218,220.222,
223.231.232,234,248-252, 254,
255,265,270,287,345.352-354,
356,389-392,397-399,401,402,
410-412,414,416,418,419,422,
439,447.454,456,459.463.464.
473.475.491.492.498.500-502.
513.516-518.520-522.529-532.
538,540,541,568,574.579,582,
594,595,598
Орудие (organe) 65,124,126,152,
159,285,287.348. 465.506.523.
540.560
Основной закон (loi fondamentale)
26. 42.56.70,100,118,129, 205,
403.408.425.435.537.541.542,
565,598
Партия (partie) 152,207,301.384,
385,466,474.477,538. 604, 609
Переворот (révolution) 81,84,150,
152-154,181.185,187,213,570,
573.574,612, 622
Поверенный (agent) 32,33,36,
164,399
Порядок управления (régime
d'administration) 173,357,505,
615
Правитель (chef) 22,24,25,31,32.
36.37.40-43. 46-50. 52-54.58-
61.64-69,100,103,108,109,
112,118,125,136,141,148.155.
164,170.172.176.179.180.182.
187.189,197,201. 202,204,211,
228. 229,234,266,284, 352,397,
399,409,411,416. 421,426,427,
448,464,467,476,478,481.508,
515.534.537.575,594-596,598,
599, 601
Правительство (gouvernement) 11,
18,19,22-25,32,35,36,39,43,
47.49-53,56-58, 62, 63, 66. 67.
73,76.78.89.107.109.114,141.
144,145.147,150,155.158.164-
174,177.178.182-185.187.188.
190-192,195-197,199,201-204,
207,211,218,222-224,232,252,
259.261-263. 265,273, 277,339,
345-347, 351-353,355.364. 367.
377.378,384-386,391-393,399,
410,413,421-424,428,430,445,
459-461,464,468,474,478,479,
481-483,492,495,513,538,540,
544,553.557.570.587.588.594-
597,599, 601, 606,613, 616, 622
Правление (gouvernement) 5,11,
25,31,38,40,41,45-48,50,52,
58, 60. 66-68.89,94,98,106-
109,112,117,122,123,134,146-
148,155,163-169,171-176,
179-185,187-193,195,197-199,
203,205,211,212,220,228,229,
231,236,238,252,253.259-262.
265,267,271,272,276,289,340,
357,387-395,398,399,404,406,
407,413,417.419-421,425-428,
430,441,444,446,456,465,467,
468,470,477,483,488,494,497-
499, 509.515,516,520,521,535,
541,543-545,548,550,552,554,
555,558.559.563.566,569,570,
576,580-582,585,592-596,598,
601, 605, 606, 611-613, 618-620
Право давать отрицательный ответ
(droit négatif) 263,427.431,433,
453-460,463,474,476.477.
479-482,617
Применение законов
(administration des lois) 224,264.341.367,
391,429. 447.510
636
Предметный указатель
Равновесие властей (balance des
pouvoirs) 5,11,164,183,218,264,
428,453, 459,491,522,538,539
Разряд (ordre) 19,78,128,203,
208,217,219,220,285,330, 365,
377,399,407,408,416, 417,423,
476, 490,516-519,529,530, 532,
539,552,563.565-567,570,577,
582
Республика (république) 18,46,49,
51,57. 62,64, 67, 68.107,128,
144,147-149,158,173.175.181,
185,189,190.194.199,208.210.
211.213-215.217-219.221-223.
225.235.236,253,265.268,270,
296,297,352.353.355,360.395-
397,399,400.406,416,420,426-
428,430,434,441,444,452,454,
462. 464, 466.470, 476.483,498,
501,504.510,513-516,520,522,
527,530.536,543,544.552.555.
556.558-560.562.563.566.569.
570.574.576-580.585-588,594,
598, 599,603,604, 606, 613
Римские комиции (commices
romaines) 197,204,208,212-
222.465,527
Рычаги правления (ressort du
gouvernement) 52,58,66,175,
177,191,205.228,287,512.543,
550,555,588
Сбор (taxes) 58,70,73,74,76-78,
555-558,600
Свод законов (code des lois) 147,
195,260,406,431,472,546
Свод законодательства (système de
législation) 159,286.541
Сейм (diète) 174.489-491,517,520,
521.523-535.538-542.544,567-
571. 573. 578,582, 619-622, 624
Сеймик (diètine) 516,523-525,527,
528,530, 531,533-535,541, 542.
546.547.566-568.572,573.582,
621
Семья (famille) 13.17.40.41.43.
60. 63,65,117.118.180.203.
209.215.271, 402. 469.506. 520.
536.537, 562. 572. 591-594,598,
602, 611, 614
Сенат (sénat) 57.144.174.175,179.
181,191.197.199.208. 218-220.
222. 223,225,226, 237. 264,411.
434,466,471,490,491,509,513,
516-518,520-523.526-530.
532-534.538.539.567, 569,570,
572,577, 578.582. 601, 606, 611,
612, 620
Служитель (ministre) 48,147.227,
277,293.299.342,356.400.474,
482
Смешанное правление
(gouvernement mixte) 108,182,183,211.
264
Смута (crise) 153.155.174,342,
412,440.529.543.575.580
Согласие в обществе (pacte
social) 9.70,126-128,130,134.
135.139-141.145.191.205.208.
209,232,236,252,255,355. 620
Соглашение (convention) 9,11,20,
24,27,37,38.41,56.73,82-88.
90,92,94,99,100.104.117.118.
121.122,125-127,134,135.141-
143.145.158.190.201.204.239,
254.255.259.354.389.390,411,
420,432,452,491,492,584,585,
615, 620
Содружество (confédération) 8,22,
24.25.56.70, 71,200. 295,532.
556,597
Сообщество человеческого рода
(société du genre humain) 21,22,
28, 33,34.597
Сословие (état) 19,73.173,189,
196,198. 209,266, 267. 417, 522.
637
«\
Предметный указатель
539,545,546.554.562.570-572,
574.622
Союз (union) 8,25,56,126.127,
142,148,158,167,196,205.239,
242,295,362.390.410,584,585,
596, 604
Сочленение (agrégation) 21,22.89,
125,251
Ставка налогообложения (tarif) 70
Строй (système) 12,21,69,106,
134,149,161, 208, 266.268. 269.
286.352.353.370.392.399,404,
427,443.453, 460,465,475,476,
479,482,516,519.543.547,548,
550,554,557,559,570,573,623
Суверенитет (souveraineté) 7,11,
18,22,23,25,32.43,98.103,112,
134-137,139.190,191,198,202,
209,211.265. 352.390.392.398,
429,483,593,594, 613
Суд (tribunal) 29.30,50,62,105,
ПО, 111,140.227, 228.237,238,
271.272.275-277.302.320,332,
337.339,342-344, 346,350, 353,
354,357,361-363.365.368.369.
373-377,390,401,403,416-418,
434,450,451,460-462,469,471,
473,483.490,499,527,535,542,
567,574,581,582.614, 616,621,
622
Существо моральное (être moral)
20,21,29.44.255
Существо собирательное (être
collectif) 28,103.135.177,391
Трибунат (tribunat) ПО, 222-224,
466
Узы общества (liens de la société)
27,135.154,234.277,285
Управитель (управляющий)
(régisseur) 65, 66,74,555,566,
567,570,572,599
Управление (administration) 18,22,
23.31,39-41.50,51,53.58,59,
62.64-68.77.78, 98,100,109,
116.136.147.154-156,164,174,
176-181,188,191,192,203,205,
211,212,215,354,357,384.402,
411,413,416,417,423,427,463.
465.480.513.515.516,522,525,
532,535,538-542,545-548,551,
552,555,558,566,568,569,573,
580,592,594,595,598,600, 624
Установление (institution) 10,13,
24,25,28,41,47,63,64,69,83-
85, 92,98,103,104,126.132,
148,149,151,152,157,158.160-
162.174, 201,209,217, 218,224,
226, 233,240,248.283.286-289.
301.345, 356,392.399.401.402.
409.425.430.454.462,501,514,
520,562,564,581,588,596, 601,
608, 613,618, 622-624
Учреждение (établissement) 22,24,
25,50.52. 69,76,135,139,141,
149,150,152,162,167,190,191,
193,201,202.216.217.241.287.
297.356,391,392,399,403,418,
429,465,483.490.497-502.504,
513,514,516,520.522.537,538,
540.543.549.571. 620
Федеративный строй (forme
federative) 543
Федеративное правление
(gouvernement fédératif) 516
Цензура (censure) ПО. 217,227.
228,342,600
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие к публикации 5
Рассуждение о политической экономии
Б. Бернарди. Создание общей воли 17
Ж.-Ж. Руссо. Рассуждение о политической экономии 40
Общественный договор,
или Начала политического права
С. В. Занин, Б. Бернарди. О двух договорах в творчестве Руссо 81
И. И. Богков. Основания политического организма в учении
Ж.-Ж. Руссо 96
Ж.-Ж. Руссо. Общественный договор, или Начала политического
права 116
Ж.-Ж. Руссо. Начала права войны (Главы второй гасти трактата
«Об общественном договоре») 240
Письма с Горы
С. В. Занин. Руссо и Женева в середине 60-х гг. XVIII в 259
Ж.-Ж. Руссо. Письма с Горы 268
Соображения об образе правления
в Польше и о плане его переустройства,
составленном в апреле 1771 г.
С. В. Занин. Проект реформы Польского государства 487
Ж.~Ж. Руссо. Соображения об образе правления в Польше
и о плане его переустройства, составленном в апреле 1771 г..... 497
Комментарии 589
Именной указатель 625
Предметный указатель 632
639
Jean-Jacques Rousseau
ŒUVRES POLITIQUES EN RUSSE
Le volume contient les traductions des œuvres politiques de Rousseau faites
à partir des meilleures éditions françaises. Il comprend la nouvelle traduction du
«Contrat social», ainsi que la première traduction russe des «Principes du droit de
la guerre». L'édition inclut la première traduction complète des «Lettres écrites de
la Montagne» et des «Considérations sur le Gouvernement de Pologne». Elle est
établie et commentée par Sergey Zanin en collaboration avec Bruno Bernardi et des
chercheurs du Laboratoire de recherche sur la pensée politique de l'Académie
régionale d'État de Samara. Cette édition tend à représenter l'essentiel de la pensée
politique de Rousseau, tant théorique que celle qui s'astreint à la tâche de trouver
«l'application» des principes énoncés dans le «Contrat social».
Жан-Жак Руссо
ПОЛИТИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ
Корректор Г. Л. Самсонова
Компьютерная верстка С. В. Степанова
Художественное оформление С. В. Лебединского, С. А. Булагевой
Подписано в печать 13.05.13. Формат 60 х 90 1/16. Бум. офсетная.
Гарнитура Octava. Печать офсетная. Усл. печ. л. 40,00.
Тираж 1000 экз. Зак. № 3436
ООО «Издательство «Росток». E-mail: rostokbooks@yandex.ru
По вопросам оптовых закупок обращаться по тел.: 8-921-937-98-70
Первая Академическая типография «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9-я линия, 12/28