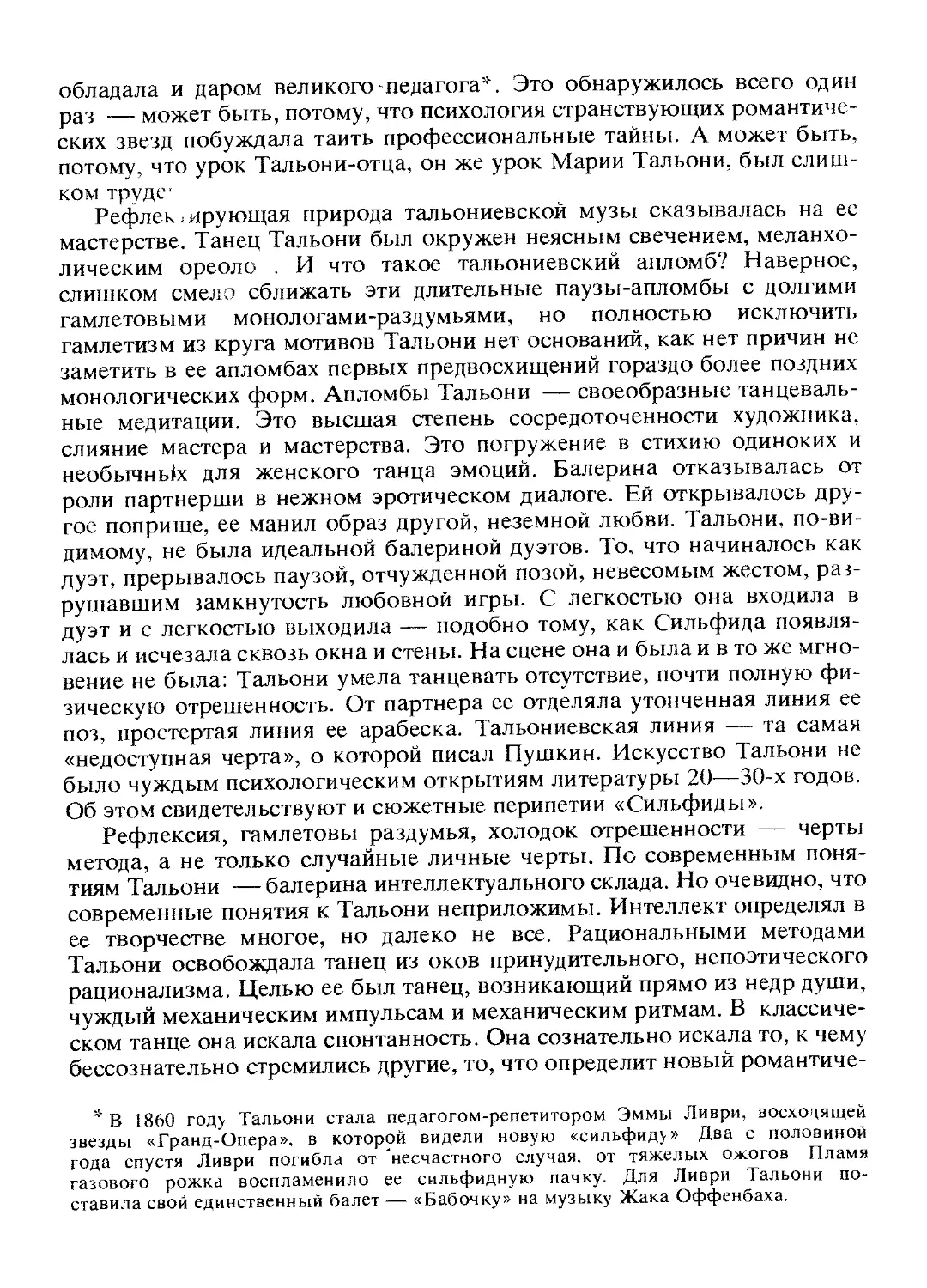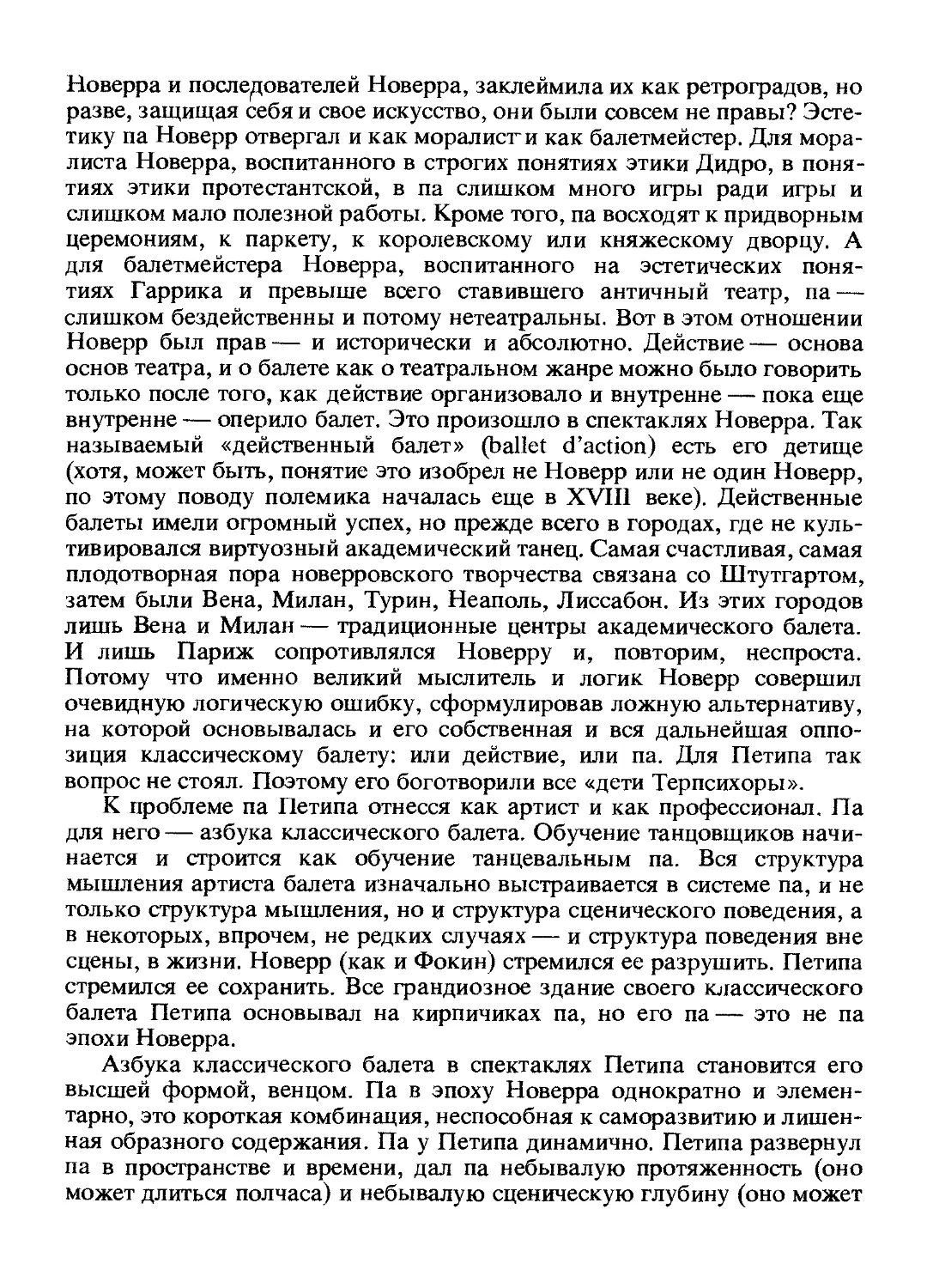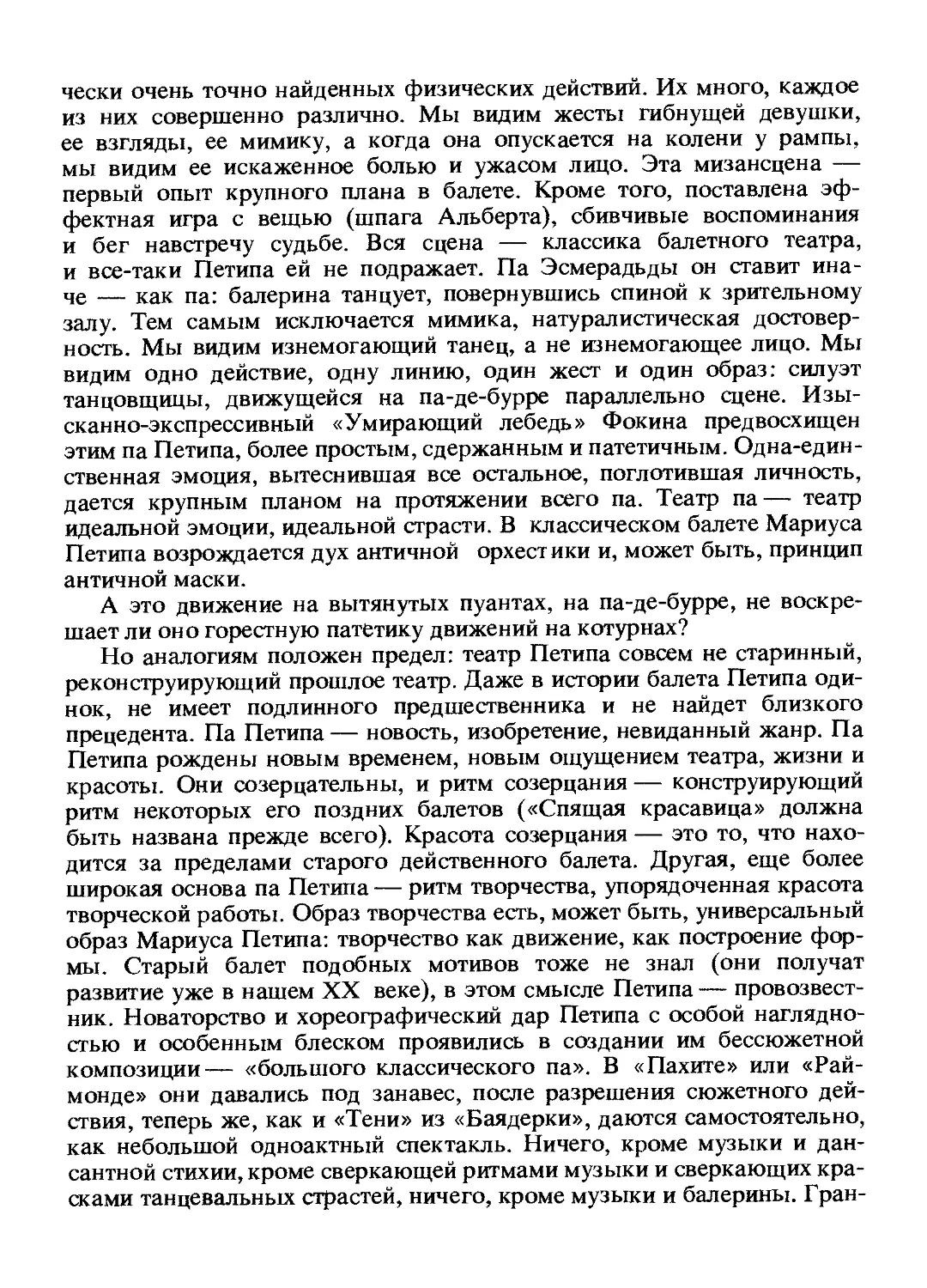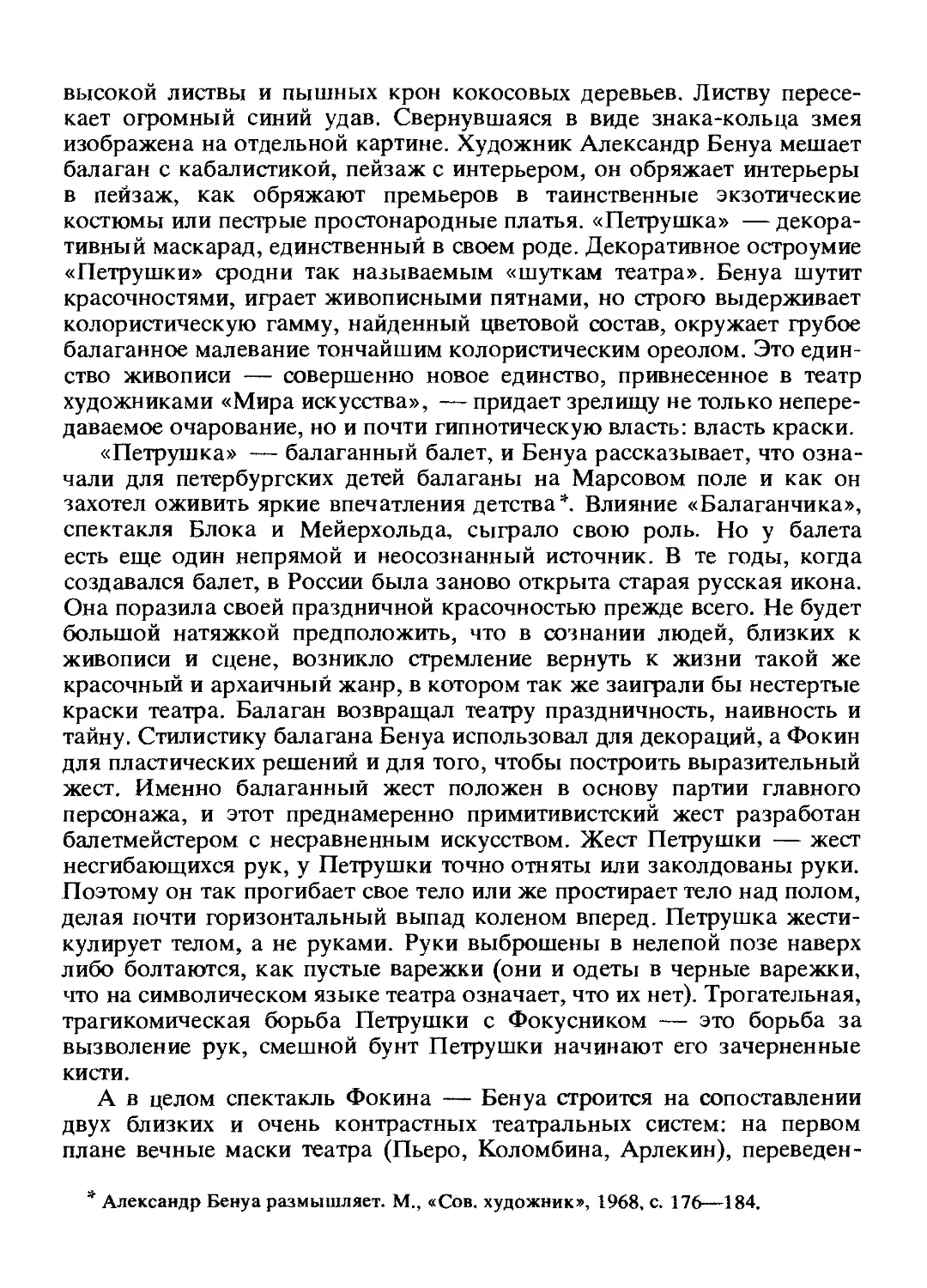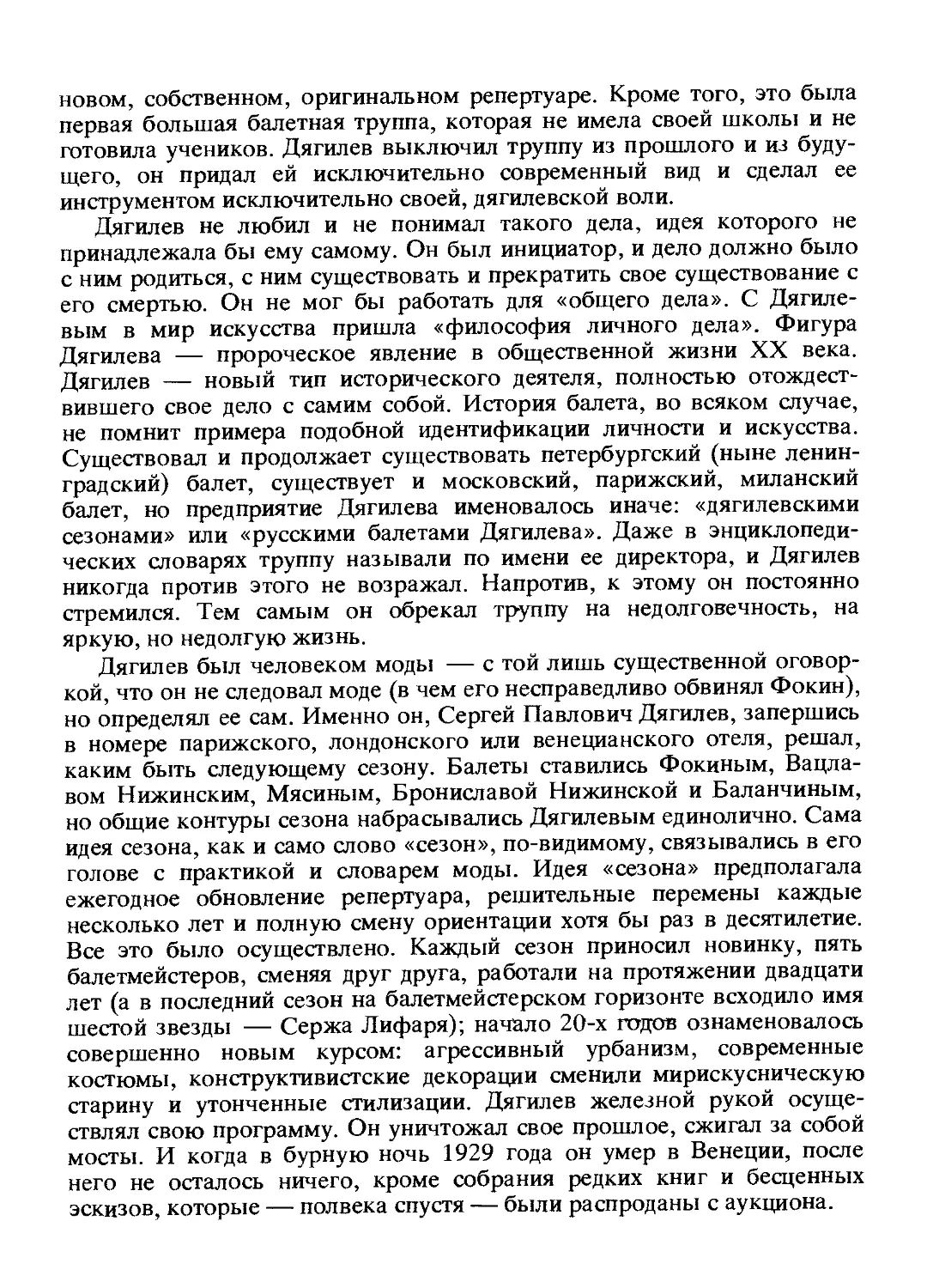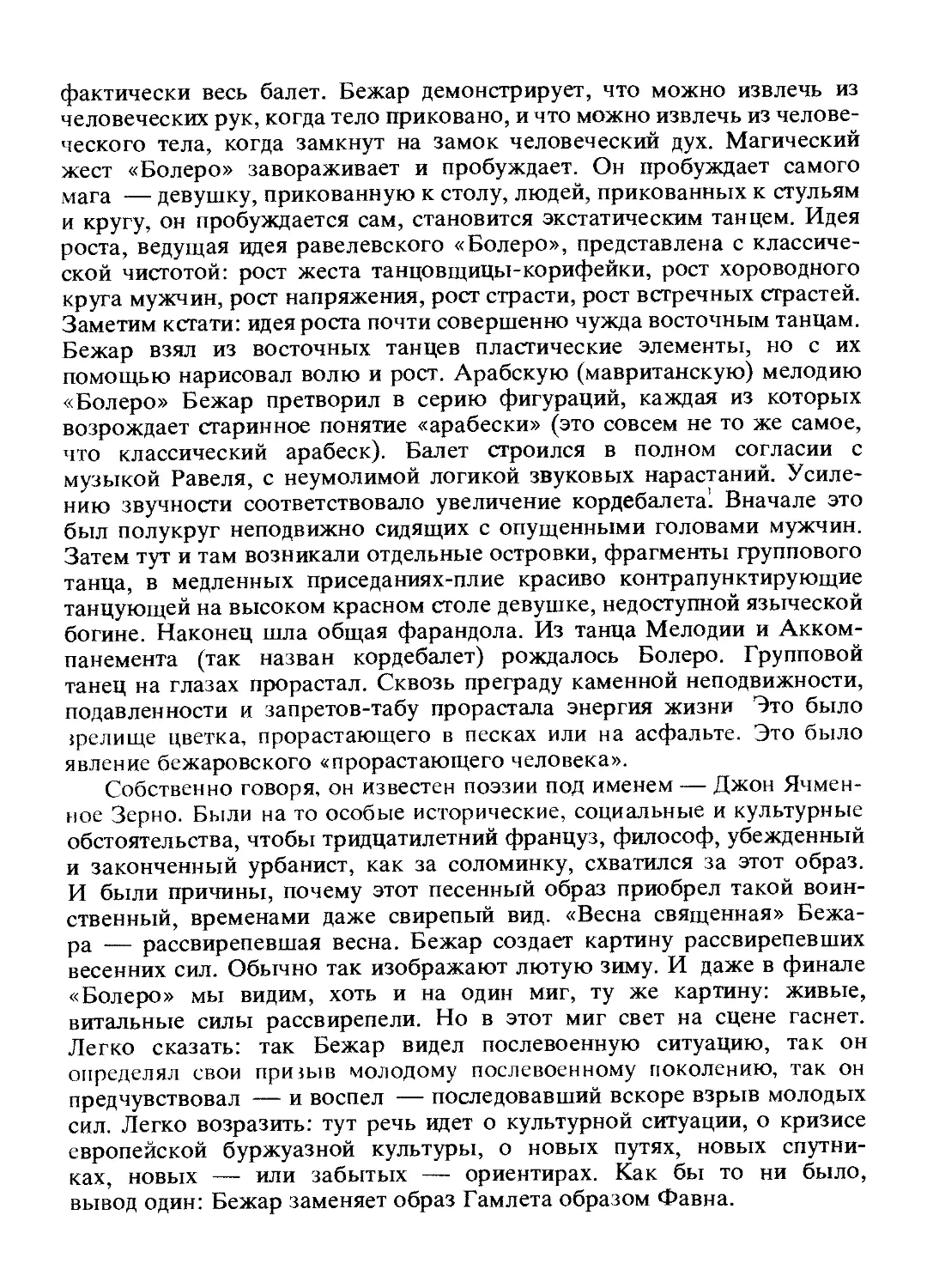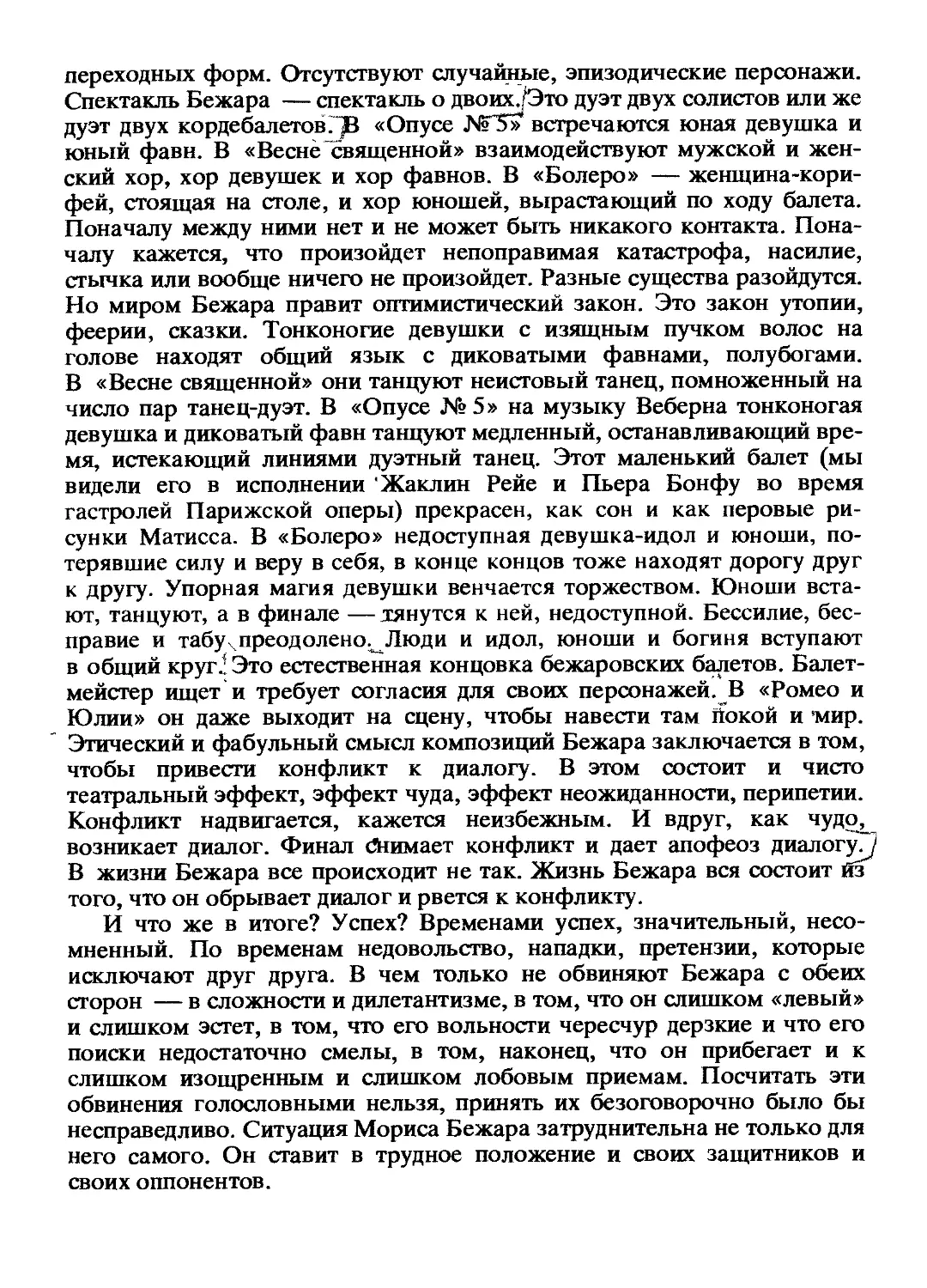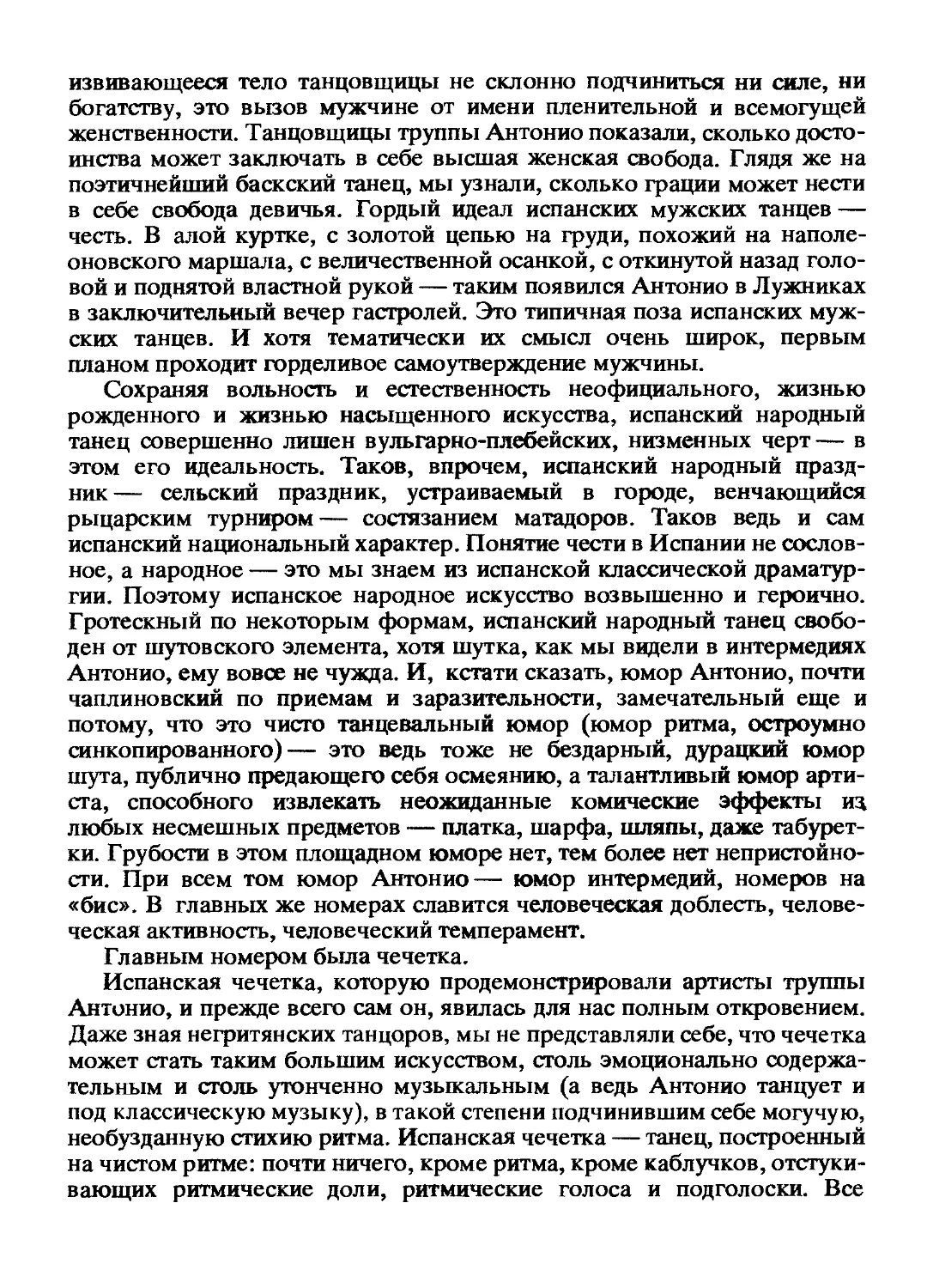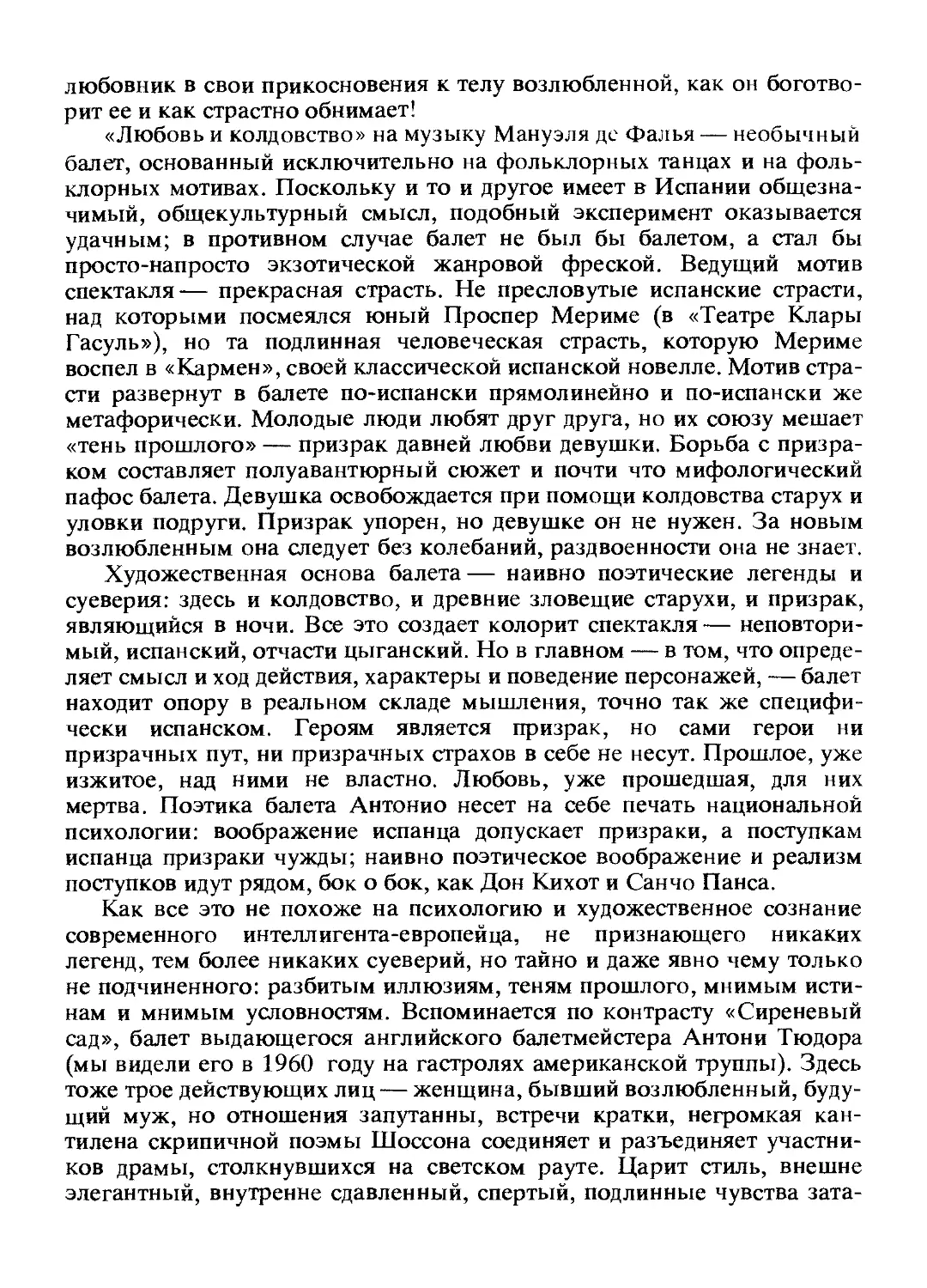Автор: Гаевский В.М.
Теги: искусство искусствоведение классический балет хореография история искусств
Год: 1981
Текст
В. Гаевский
Дивертисмент
Судьбы классического балета
Москва
«Искусство»
1981
вх LiBRIS
TATASHiN
© Издательство «Искусство», 1981 i
Содержание
7 Вступление
9 Тальони и белый балет
63 Праздники Петипа
109 Лебедь и Фавн
155 Ленинградцы
209 В Большом театре
287 Гастролеры
377 Заключение
Вступление
Эта книга написана зрителем Большого театра, посетителем театраль-
ных музеев и читателем театральных библиотек. Она состоит из серии
воображаемых и сделанных с натуры портретов. Сгруппированные
определенным способом, они должны показать, как изменялся образ
классического балета на протяжении последних ста пятидесяти лет, как
менялась его художественная идея. Но почему такое название: «.Дивер-
тисмент»? Ведь ныне это почти одиозное слово. Потому что автор не
претендует на академичность и, кроме того, любит балетную старину,
хотя, разумеется, не отвергает современный симфонический танец.
Репутация слова зависит не от него самого. В мире слов, как
и в мире людей, много ложных или несправедливых репутаций. Заслу-
женное слово из театрального словаря мы зря сделали бранным
словом. Дивертисментом в старые годы называли блистательный
праздник таланта.
Перед глазами — пример Марины Тимофеевны Семено-
вой, великой балерины, которая всю жизнь танцевала симфонический
танец и, как никто, умела танцевать дивертисмент.
Я думаю также о других блестящих воспитанниках Ленин-
градского хореографического училища на улице Зодчего Росси.
Энергия и неизъяснимый талант этих людей в большой
мере способствовали тому, что классический танец в XX веке
возродился к новой жизни. Эти люди — творцы хореографического
Возрождения, герои хореографической Реконкисты.
Обстоятельства разбросали этих артистов по разным
труппам и городам, но я ставлю их имена рядом.
Тальони и белый балет
Полет Тальони
От Терпсихоры к Сильфиде
Жизель, или виллисы
Понятие хореографии
и проблема авторства «Жизели
Спесивцева
Белый балет нам завещан XIX веком. Это, может быть, главное
открытие балетного театра за последние двести лет. Как и многие
открытия в балете, его нельзя точно датировать, нельзя приписать авто-
ру — гениальному одиночке. Авторов несколько: Филипп Тальони,
отчасти Перро, в очень большой степени Петипа, Лев Иванов и Фокин.
Мы имеем дело с открытием, которое длилось и развивалось, которое
осознавало себя. Гегельянский язык в данном случае совершенно уме-
стен. Белый балет у Тальони — эскиз, туманный прообраз, функция
его балетмейстеру не вполне ясна, кордебалет используется как акком-
панемент волшебному танцу первой танцовщицы, дочери, Марии
Тальони. Белый балет в «Тенях» из «Баядерки» Петипа — это уже
зрелая, завершенная форма. Кордебалет выходит на первый план,
сюжет сводится к минимуму, к лирическому мотиву, который получает,
однако, симфоническое развитие, грандиозную разработку. «Тени»
знаменуют полное осознание белым балетом своих возможностей и
своих чар, торжество воплощенной идеи. Не случайно в этой танце-
вальной композиции так много статических поз. Прекрасное мгновение
останавливается — кажется, что искусство достигло обетованной
земли, апогея. И, наоборот, белый балет в «Лебедином озере» полон
тревог. Он приоткрывает завесу над бездной неосуществленного, над
тем, что томится, призывает и ждет. Это по-новому (и очень трагически
прочувствованная, трагически пережитая) открытая, незавершенная
форма. Нов здесь утонченный и глубокий психологизм. В «Лебедином
озере» белый балет психологизирован и очеловечен. И, может быть,
самое главное — дан в пересечении с «черным балетом», великим
изобретением Мариуса Петипа, открывшим пути в современность (ба-
летные композиции в черном ныне распространены повсеместно). А в
фокинской «Шопениане» белый балет увиден в неожиданном ракурсе,
ретроспективно, издалека, как некая пленительная старина, к которой,
однако, навечно привязана наша душа, к которой мы всегда будем
возвращаться.
Существует и белый балет наших дней («Аполлон Мусагет», «Сим-
фония до-мажор» Баланчина, «Веберн — опус № 5» Бежара).
И во всех этих старинных или только стилизованных под старину
сюжетных или бессюжетных спектаклях сохраняется неизменная идея
белого балета, непроявленного негатива искусства, хранителя чистого
образа неомраченной поэзии и неопороченной красоты. В белом балете
красота отделена от красок телесности и от красок крови. В белом
балете красота сближена с цветом летящего снега и недоступных
горных вершин. В «Баядерке» белый балет спускается с заснеженных
гор, в «Щелкунчике» — рождается из пения снежной вьюги. Мотив
белой ночи проходит через петербургский балет. Мотив белой лилии
присутствует в балете парижском. Повсюду образы одушевленной при-
роды, повсюду образ искусства, сохраняющего душу свою.
Белый цвет балета — цвет абсолюта.
Романтическая тоска по абсолюту вызвала к жизни Сильфиду
Тальони и фокинских сильфид, и даже балеты Баланчина, несмотря на
их современные ритмы и современные силуэты.
Эти поиски абсолюта — совсем не абстрактная философская игра.
Для Бальзака, Берлиоза, для парижских романтиков 30—40-х годов
абсолют — высшая мера художественности и насущная человеческая
проблема. Романтические поэты трезво осмыслили реальные условия
человеческого бытия, они первыми в истории осознали грозную силу
неподвижного быта. Романтический рок — это грязь жизни, грязь
повседневности, грязь соучастий. Постоянная тема романтиков — утра-
ченные, иллюзии, утраченная чистота. Парижский белый балет свя-
зан с этой темой впрямую. О том, как ситуация бальзаковских «Утра-
ченных иллюзий» влияла на фабулу «Жизели», многократно писал
историк балета Ю. Слонимский. Но важно увидеть и более широкую
связь. Белый балет возник из великого напряжения поэтических
сил, сопротивляющихся натиску бездуховности, прозаического быта.
В белом балете даны неутраченные иллюзии, дана неутраченная
чистота в некотором прекрасном и призрачном мире художественных
абсолютов. В ранние времена, у Тальони, у Бурнонвиля, у молодого
Перро белый балет был замкнут в сфере эстетики, это — эстетический
абсолют, красота, приснившаяся красоте, и ситуация сна нередко сопут-
ствует белому балету как фабульная мотивировка. В более поздние
времена белый балет понимался как нравственный абсолют. Во все
времена — как абсолют профессиональный. От балетмейстера, от
исполнителей требуется идеальное мастерство, профессиональное
совершенство. И техника и школа артистов должны быть безукориз-
ненными, а линия арабеска — непогрешимой.
Арабеск — главный участник этой игры. Романтический ара-
беск — графическая формула абсолюта. Сюжет белого балета — дви-
жение действия в сторону арабеска. На этом пути балетный спектакль
освобождался от изобразительных, а тем более — характеристичных
задач. Впервые в балетной истории спектакль строился на чистой
образности чистого классического танца. В известном смысле
белый балет — tabula rasa, чистая доска, не запятнанная натуралистиче-
скими иллюзиями, не утяжеленная конкретными ассоциациями —
ассоциациями из мира живой или неживой природы. Старинный балет
любил уподоблять кордебалетные композиции цветочным гирляндам.
Того требовали устойчивые барочные вкусы и более поздняя мода на
руссоизм. Белый балет исходит из рисунка самой балетной позы. Балет-
мейстерами руководит вкус к строгим линиям и нарастающий интерес к
скрытым от непосвященных профессиональным секретам. Белый
балет — спектакль о тайнах балета. Предметом балетного театра ока-
зывается он сам. В белом зеркале кордебалетных композиций — «боль-
ших классических па» — балет узнает свою красоту и свой подлинный
образ. Когда кордебалет становится в арабеск, оркестр звучит па-
тетически: это миг истины, явление балета как чистого жанра.
Впрочем, tabula rasa — лишь кажущееся впечатление, лишь первые
приходящие на ум слова. Белый балет опирается на символику арабе-
ска. Классический танец здесь равен себе и вместе с тем окружен
ореолом неясных, непробудившихся смыслов. Выпрямленные линии
больших поз в сцене «Теней» приобретают необычайную, хотя и молча-
ливую силу. Язык классического танца в композиции Мариуса Пети-
па — патетический язык безгласных пророчеств. Самое сильное впе-
чатление производит выход теней — неумолимое, нарастающее движе-
ние арабеска. Это антре — как двинувшийся Бирнамский лес. Арабеск
несет кару, вступается за попранную справедливость. Стихия арабеска
выходит из берегов. Может быть, Петипа имел перед глазами петер-
бургские наводнения, может быть, вспоминал пушкинский «Медный
всадник». Но вместе с тем «Баядерка» — индусский балет, и поэтому
символика сцены «Теней» многозначна. Тени приносят тревогу и при-
носят покой. Ритмы движущихся теней внушают забвение, наполняют
блаженством. Язык ритмов здесь по-восточному гипнотичен (суггести-
вен). В классических линиях самого европейского создания Петипа
индусская магия ритмов раскрывается во всем блеске.
Это неудивительно: белый балет — магический театр, хотя и совсем
не такой, каким он представлялся Герману Гессе или Антонену Арто.
В этом магическом театре нет алогизма. От человека не требуется
интеллектуальных жертв, зрителя не приводят на грань безумия, на
край катастрофы. Здесь человек освобождается от тяжкого чувства
вины, вновь обретает легкость безгрешности, забытую легкость. Ноч-
ной белый балет — ночь просветления, белая ночь в самом широком
смысле слова. Когда тридцать две танцовщицы становятся в арабеск,
дневной быт вытеснен, повседневность упразднена. Нам открывается
романтическая вселенная, вселенная арабесков, вселенная сверкающих
линий, ритмов и поз. Мы видим мир глазами поэта.
Возвращаясь к истории, к 30—40-м годам XIX века, следует
напомнить, что во французском театре тех лет возникло тяготение
к так называемому «местному колориту» — к яркой живописной ха-
рактерности, к обычаям, костюмам и танцам различных народов и
стран. Балеты ставились в шотландском («Сильфида») или тюрингском
стиле («Жизель»). Балетный театр проникался пленительно-странной
экзотикой малых европейских культур и замкнутых либо окраинных
регионов. Белый, или, иначе, белотюниковый, балет (то есть балет в
белых тюниках, а не в ярких национальных костюмах) возник одно-
временно — как необходимый художественный контраст и как но-
ситель более широкой гуманистической идеи.
Полет Тальони
Как далеко простирается власть театральных легенд, можно было уви-
деть, когда Леонид Якобсон показал красивую миниатюру «Полет
Тальони». Всю жизнь хореограф отрицает классический балет, а под
конец жизни славит вечный балетный образ. И страстный «Роден», и
печальный «Шагал», и насмешливый «Экзерсис» — его постоянные
спутники, его неизменные маски. Тем неожиданнее тальонизм, роман-
тическая лирика, романтические костюмы. Конечно же, Якобсон не
изменяет себе: рука его узнается с первого взгляда. Он театрализует
балетную классику и обновляет танцевальный язык. Даже в ретроспек-
тивной постановке он дает волю своей страсти к экспериментам. Якоб-
соновская миниатюра — групповая композиция, в которой впервые,
по крайней мере на наших глазах, разработан мотив групповой верхней
поддержки. Почти акробатический прием искусно преобразован в пла-
стическую кантилену. Звучит ария Моцарта, полная сладостного томле-
ния и мировой скорби. Несколько мужчин, закутанных в черные плащи,
и белая балерина, реющая на вытянутых руках, создают загадочный
танец, в котором танцовщицу возносят и стремятся укрыть, утаить — то
ли от преследования, то ли от слишком яркого света. Мы именно так
представляем себе парижский и северо-итальянский романтизм: роман-
тизм «Пармской обители», «Истории тринадцати», романти карбона-
риев и тайных обществ.
Исторические видения Якобсона всегда поразительны, хотя не все-
гда исторически достоверны. Между полетом Тальони и тайными обще-
ствами не было точек соприкосновения. Тальони не танцевала мировой
скорби и не могла танцевать: для ее голубых крылышек мировая
скорбь — слишком тяжкая ноша. Лишь легкая скорбная тень затем-
няла ее просветленный лик — и то не всегда, а лишь в печальных
развязках спектакля. И, наконец, полеты Тальони не использовали
высоких поддержек — ни индивидуальных, ни, тем более, групповых.
И сюжет и метафористика балета «Сильфида» на том и основаны, что
воздушная танцовщица недостижима для своего кавалера. Сильфида не
знает плена человеческих рук. Сильфида — бесконечно изящная мета-
фора в системе романтических грез об абсолютной свободе, прекрас-
ный след прекрасных утопий. Для того чтобы оперный тенор Нури,
автор либретто балета, нашел этот образ, нужен был энтузиазм целого
поколения мыслителей и поэтов. Сильфиды порхали и в балетах Дидло.
Сильфида Тальони стала эмблемой эпохи. В этом сияющем образе кри-
сталлизовалась новая сущность. В нем высветились очертания нового
танца и, более того,'необычной человеческой судьбы. Полеты в доталь-
ониевских балетах длились столько, сколько позволяла машинерия
сцены. Полет Тальони длился всю ее жизнь.
Вот эта жизнь: детство в Стокгольме, годы учения в Париже,
дебюты и артистическая юность в Вене, триумфальный расцвет в
14
Париже, полная зрелость в Петербурге, начало увядания в Милане,
золотой закат в Лондоне, годы покоя в Марселе. Можно подумать, что
странствиями Тальони управляет невидимый ритм. В каждой из столиц
она задерживается на несколько лет, в каждом из прославленных
театров ангажируется на несколько сезонов. Это не лихорадочный ритм
танцовщицы-гастролерши, бегущей по городам. Это и не упорядочен-
ный ритм стационарной артистки, весь свой век привязанной к одному
месту. Иными словами, не ритм вечного бега или же вечного хождения
по цепи кругом. Это тальониевский ритм, ритм перелетной птицы.
Тальони славилась не только танцем своим, но и знаниями, образован-
ностью, она хорошо знала многие европейские языки. Для нее не су-
ществовало языковых барьеров. Ничто не мешало ей укорениться,
осесть в местный быт, врасти в локальную культуру. Мы видим, как
нечто подобное всякий раз происходит, но так ни разу и не произойдет.
Какая-то сила подхватывает балерину и переносит на новое место. Ее
нельзя удержать (даже парижское замужество Тальони оказывается
эфемерным). Успех при дворах, поклонение балетоманов, любовь зри-
телей-театралов из более широких кругов — ничто не удержит Тальони,
когда наступит назначенный срок. Неслышный зов воздуха сильнее
грома любых оваций. И психологически, и художественно, и духовно
Тальони — «путешественница без багажа», — так, используя название
современной пьесы, можно обозначить тип сознания артистов 30-х го-
дов, не видевших в местном своеобразии заведомых эстетических пре-
имуществ. Из такой предпосылки и возникает белый балет. Искус-
ство Тальони порывало с характерностью, сбрасывало балласт провин-
циально замкнутых форм и устремлялось в открытое небо, в мир ра-
зомкнутый, распахнутый и единый. На этом искусстве лежат отблески
романтического универсализма.
В 30-е годы идеалы всемирного братства сохраняли свою власть над
людьми, хотя их не провозглашали по-шиллеровски, по-бетховенски
громко. Они стали тайной, эмблемой, их формулировали иносказа-
тельно и использовали как пароль. Полет Тальони — танцевальный
пароль, пароль, понятный без слов, дававший пропуск в сферу возвы-
шенных человеческих ожиданий. Так понимали Тальони зрители 30-х
годов, во всяком случае, так понимали ее в Петербурге. Балет вообще
подхватывает то, что в слове родилось, но в слове больше существовать
не может. В балете есть область неизреченного — и ее роль весьма
велика, — но есть область иная, тайными узами связанная со
словом — с бывшим словом, отмененным, опальным, осмеянным и
отброшенным вон. И может быть, это имел в виду Якобсон: тайное
общество по спасению поверженных слов: спасаются не сами слова, но
заключенные в них надежды.
Если же от общих слов и метафор перейти к конкретной характери-
стике по существу, то сразу же сталкиваешься с нелегкой проблемой.
15
Полет — это не каноническое балетное па. В перечне па не значится
никаких полетов. Есть класс прыжков, есть темпы элевации, есть, нако-
нец, так называемый баллон. Этими понятиями очерчивается область
воздушного танца. Полет — поэтическая вольность, а не строгий тер-
мин из академического словаря. Кажется, лишь Фокин собирался разъ-
яснить разницу между прыжком и полетом: «Когда буду говорить о
технике, я постараюсь объяснить эту разницу между прыжком и поле-
том»*. Но Фокин не успел дописать свои мемуары. Раздела о технике
там нет. Что же такое тальониевский полет — реальное действие или
сценическая иллюзия, танцевальное па или способ интерпретировать
танец? По-видимому, и то, и другое, и что-то еще, что породило
«загадку Тальони».
Полет Тальони — явление стиля и духовный феномен прежде всего
и в меньшей степени строго закрепленная формальная структура.
Парящая техника балерины включала и легкий прыжок и мягкие
«вынимания» — developpes, в параболических абрисах которых рас-
крывались неведомые душевные глубины. Полеты Тальони — это и ее
прославленный парящий апломб, то есть умение сохранять позу без
поддержки партнера. Это и ее парящая линия, ее силуэт, ставший
графической формулой тальонизма: арабеск, простирающийся в беско-
нечность, устремленный в воспетую романтиками даль. Тальони уга-
дала значение линии в балетном искусстве. Культуру линии — а не
только культуру пуантов — от нее перенял парижский балет (и может
быть, ей обязаны парижские графики, а не только парижские балери-
ны). Тальони развернула танец во времени и в пространстве. Она внес-
ла в него длительность и образную безграничность. Эффект полета она
создавала и в воздухе, в темпах элевации, и в адажио, на полу. Полет —
универсальный принцип ее искусства. Еще раз вспомним, как этот
полет объяснил Якобсон: танцовщица, плывущая под аккомпанемент
арии Моцарта. Ария по-итальянски значит воздух. Ариями в эпоху
барокко называли не только вокальные, но и инструментальные номе-
ра, в которых мелодия длится в одном регистре, парит. Такую арию
танцевала Тальони.
Искусство Тальони — результат сознательных усилий одухотворить
академический канон. Ее урок с несомненностью свидетельствует о
наличии продуманной системы**. В истории женского исполнитель-
ства Мария Тальони — первый случай глубокой профессиональной
рефлексии, направленной на себя и на свой дар. Судя по всему, она
Фокин М. Против течения. Л.—М., «Искусство», 1962, с. 211. Аким Волын-
ский называл полетом прыжок с длительным, хорошо ощутимым баллоном (см.:
Волыт(скийА. Книга ликований. Л., 1925, с. 132).
” См.: Блок Л. Филипп Тальони и его школа. — В кн, - Классики хореогра-
фии. Л.—М„ «Искусство», 1937.
обладала и даром великого-педагога:f. Это обнаружилось всего один
раз — может быть, потому, что психология странствующих романтиче-
ских звезд побуждала таить профессиональные тайны. А может быть,
потому, что урок Тальони-отца, он же урок Марии Тальони, был слиш-
ком труде-
Рефлек .ирующая природа тальониевской музы сказывалась на ее
мастерстве. Танец Тальони был окружен неясным свечением, меланхо-
лическим ореоло . И что такое тальониевский апломб? Наверное,
слишком смело сближать эти длительные паузы-апломбы с долгими
гамлетовыми монологами-раздумьями, но полностью исключить
гамлетизм из круга мотивов Тальони нет оснований, как нет причин не
заметить в ее апломбах первых предвосхищений гораздо более поздних
монологических форм. Апломбы Тальони — своеобразные танцеваль-
ные медитации. Это высшая степень сосредоточенности художника,
слияние мастера и мастерства. Это погружение в стихию одиноких и
необычньк для женского танца эмоций. Балерина отказывалась от
роли партнерши в нежном эротическом диалоге. Ей открывалось дру-
гое поприще, ее манил образ другой, неземной любви. Тальони, по-ви-
димому, не была идеальной балериной дуэтов. То. что начиналось как
дуэт, прерывалось паузой, отчужденной позой, невесомым жестом, раз-
рушавшим замкнутость любовной игры. С легкостью она входила в
дуэт и с легкостью выходила — подобно тому, как Сильфида появля-
лась и исчезала сквозь окна и стены. На сцене она и была и в то же мгно-
вение не была: Тальони умела танцевать отсутствие, почти полную фи-
зическую отрешенность. От партнера ее отделяла утонченная линия ее
поз, простертая линия ее арабеска. Тальониевская линия — та самая
«недоступная черта», о которой писал Пушкин. Искусство Тальони не
было чуждым психологическим открытиям литературы 20—30-х годов.
Об этом свидетельствуют и сюжетные перипетии «Сильфиды».
Рефлексия, гамлетовы раздумья, холодок отрешенности — черты
метода, а не только случайные личные черты. По современным поня-
тиям Тальони — балерина интеллектуального склада. Но очевидно, что
современные понятия к Тальони неприложимы. Интеллект определял в
ее творчестве многое, но далеко не все. Рациональными методами
Тальони освобождала танец из оков принудительного, непоэтического
рационализма. Целью ее был танец, возникающий прямо из недр души,
чуждый механическим импульсам и механическим ритмам. В классиче-
ском танце она искала спонтанность. Она сознательно искала то, к чему
бессознательно стремились другие, то, что определит новый романтиче-
* В 1860 году Тальони стала педагогом-репетитором Эммы Ливри, восходящей
звезды «Гранд-Опера», в которой видели новую «сильфиду» Два с половиной
года спустя Ливри погибла от несчастного случая, от тяжелых ожогов Пламя
газового рожка воспламенило ее сильфидную пачку. Для Ливри Тальони по-
ставила свой единственный балет— «Бабочку» на музыку Жака Оффенбаха.
ский стиль. Это новое качество проницательно отметил Пушкин —
может быть, потому, что оно было близко ему самому. «И вдруг
прыжок, и вдруг летит...» — описывает Пушкин танцующую Истоми-
ну. Дважды повторенное «и вдруг» вводит нас в атмосферу искусства,
вольного и легкого, как пушкинский четырехстопный ямб.
«И вдруг» — закон нового танца.
Романтический танец находит себя в системе непредсказуемых дей-
ствий и немотивированных пауз. По духу он близок импровизации.
Кажется, он творит себя прямо на наших глазах. Заманчивые возмож-
ности точно открываются перед ним одна за другой. Его наполняет
радость познания, неизведанная танцем радость. Им движет энергия
свободы, впервые полученной во всей полноте. Как в танцах «модерн»
снимались запреты на телесные импульсы, так романтический танец —
столетие до того — снимал запреты на порывы души. Его легендарная
легкость проистекает отсюда. А именно легкостью, как пишет Л. Блок,
Мария Тальони более всего поразила зрителей и театральный мир
Европы.
Танцовщицы рококо, танцовщицы предыдущей эпохи, так танцевать
'не умели. Это была культура абсолютно свободных нравов и стро-
-жайше регламентированных манер. На портретах танцовщиц мы видим
[ вольный взгляд и искусственный жест, взгляд Манон, а жест статуэтки-
шастушки. Каким был их танец, можно увидеть из пространных — хотя
и пристрастных — описаний Новерра. В Десятом письме мы читаем:
«Я полагаю, сударь, что искусство жеста заключено у нас в слишком
узкие рамки, чтобы производить то впечатление, которое оно могло
бы производить. Одного движения правой руки, которую выносят впе-
ред, чтобы описать ею четверть круга, в то время как левая рука, нахо-
дившаяся в этой позиции, возвращается той же дорогой, чтобы, вытя-
нувшись вновь, образовать контраст вытянутой ноге, — одного этого
движения еще недостаточно для выражения страстей»*. Подобная регла-
ментация исключала элевацию, исключала легкость. Ее делала невоз-
можной сама стилистика рококо. В культуре рококо привычно видеть
одно легкомыслие — тем более в танцах, прежде всего в танцах, где же
еще. если не в них? Это поверхностный взгляд и на рококо и на танцы.
Легкомыслие — улыбающееся лицо эпохи, но повадка ее тяжела.
Тяжесть рококо малоощутима, потому что измельчена в золотистую
пыль, разменена на мелкий менуэтный шаг или на краткий арти-
стичный афоризм, — тяжесть рококо почти невесома. И все-таки пау-
тинка менуэтного танца тянется вниз, а не ввысь, а то, что сверкает в
нем, — то не огонь вдохновения, но блеск изумительно точного
расчета. Культура рококо лишена непосредственности и во всем пола-
гается на науку. Наукой становится даже страсть. Пушкинские слова
' Новерр Ж.-Ж. Письма о танце. Л.—М., «Искусство», 1965, с. 189.
«наука страсти нежной» подразумевают — среди прочего — знамени-
тый роман Шодерло де Лакло «Опасные связи», самое откровенное
свидетельство эпохи о себе, о своем образе действовать, чувствовать,
думать, любить. Неудивительно, что и танец, язык страстей, в эту эпоху
казался строго научным. Какое-нибудь антраша-сиз или какая-нибудь
заноска-бризе получали значение театральной латыни. Веселый дивер-
тисмент выглядит как строгий и недоступный танцевальный урок. Дуэт
виртуозов напоминает ученый диспут. И в силу таких предпосылок, и в
силу недостаточной развитости своей сценический танец XVIII века до
конца не отделен от внесценического экзерсиса.
На этом фоне можно понять тот эффект, который имело появление
«божественной Марии». Загадку «божественности» она унесла с собой.
Но беспримерный успех ее определили некоторые вполне объяснимые
причины. По всей видимости, именно Тальони сделала окончательный
шаг из танцкласса на сцену. По-видимому, се легчайший порыв порвал
золоченую цепь, приковавшую сценический танец к формальному
экзерсису. «Божественная Мария» не только превратила сцену в храм,
но и сблизила зрительный зал со сценой. Выдающийся историк балета
Л. Блок убедительно пишет об «интимности» се танцевальной манеры.
В справедливости слов Л. Блок убеждает почти каждая из многочи-
сленных тальониевских гравюр. Она изображена на них в необычных
позах: прислонившись к камину или к окну, облокотившись на длин-
ную, изящно изогнутую руку. Эпоха Тальони и ее новый стиль знаме-
новали конец ученой абстрактности классического балета. Что было
гордой латынью, стало близким, почти как родная речь. Что выглядело
сухим экзерсисом, стало казаться экспромтом. Полеты Тальони рожда-
лись из музыки, воздуха и чистейших флюидов души. Искусство
Тальони полагалось на наитие, а не на науку. От природы ей было дано
наитие рук, корпуса, спины и стопы. На сцене она демонстрировала
наитие классических па, наитие классической позы. Академический
танец не знал таких пор-де-бра, таких арабесков, таких пуантов. Когда
после венских дебютов молодая Гальони появилась в Париже, зави-
стливые, а может быть, и искренние голоса стали утверждать, что ей
недостает стиля, хотя имеется определенный талант. Много десятилетий
спустя ревнители устоев «Комеди Франсэз» то же самое скажут об
Элеоноре Дузе.
Новый поэтический стиль нередко кажется бесстильным и малосу-
щественным, какой-то легковесной игрой. Танец Тальони был легко-
вейным, а не легковесным. Неправда, что ей был чужд строгий акаде-
мизм. Она лишь раздвинула его рамки. А кое в чем, наоборот, сузила
его горизонт. Первой из танцовщиц-женщин Тальони перестала танце-
вать ученые антраша. Холодный блеск антраша был, очевидно, вра-
ждебен ее одушевленной, мягкой, флюидной манере. Ритм антраша,
отчасти механический и жестко определенный, не отвечал ее интуитив-
ному ритму. Это не значит, что она не умела их танцевать. В своей
книге, посвященной Тальони, А. Левинсон приводит свидетельства, что
в зрелые годы она поразила утонченным исполнением антраша и
других заносок*. Это неудивительно: Тальони прошла выучку у
парижских учителей, ее педагогом был знаменитый Кулон, пестователь
лучших представительниц парижской школы. Парижская школа
открыла перед ней область самого тонкого балетного мастерства: на
неуловимой границе воздуха и подмостков, на пересечении воздушного
и партерного танца. Возможно, что ее танцевальный дар наиболее
полно раскрылся именно здесь, в этой таинственной сфере. Тальони
была создана для нее — и природой своей и самим историческим пере-
ходным моментом. В описаниях очевидцев рассказывается, как Тальо-
ни, танцуя в «Сильфиде», ступала ио чашечкам нежнейших цветов.
Кажется, что эти описания неправдоподобны. Между тем описана
воздушная, одухотворенная игра балеринской стопы и жесткого пола.
Какими красками может заиграть балеринская стопа, мы узнали недав-
но, на выступлении современной Сильфиды (и образцовой представи-
тельницы парижской школы) — Гилен Тесмар. Несложный пуантный
танец она разнообразила прямо-таки сонмом нюансов. Мы видели тре-
пет пуантов, их дрожь и испуг, их утренний всплеск, их предсмертную
истому. Пуантный танец запел и заговорил, поднялся на ступень челове-
ческой речи. Он стал прямым — без всяких опосредований — язы-
ком женской души. Мы видели, как рождаются, как дышат и как
умирают пуанты. Тесмар показала, как танцевала Тальони, что такое ее
интеллектуальность и ее непосредственность и что такое ее полет.
Традиционный вопрос: была ли Тальони первой танцовщицей,
Сумевшей встать на пуанты? Долгое время считалось, что да — так, во
всяком случае, утверждала молва. Исторические разыскания привели к
выводу несколько иному, который, не будучи строго доказанным, тем
не менее неоспорим. Тальони — не первая, пуанты спорадически появ-
лялись то тут, то там, предшественницы у Тальони были и в Вене, и в
Петербурге, и еще раньше — в Париже. Называется имя Женевьевы
Госслен. Как и Тальони, Госслен -— ученица Кулона. Танцовщица изу-
мительной красоты (на портретах она выглядит младшей сестрой Джу-
льетты Рекамье), но также легендарной, спесивцевской худобы
(следствие изнурительных экзерсисов), Госслен будто бы показала
пуанты уже в 1813 году, но пять лет спустя внезапно умерла от
родов. Возможно, что пуанты отняли у нее все живые силы души. Факт
ют, что открытием Госслен не воспользовались танцовщицы ее поколе-
ния. Лишь после Тальони пуанты из эфемерного эффекта стали обяза-
тельным элементом. Переход от деми-пуантов к пуантам давался балету
с колоссальным трудом. Технический навык, которым сегодня девочки
См Lev invon A. Mane Taglioni. Pans, 1929.
младших классов овладевают безболезненно и сравнительно быстро,
требовал времени, артистической гениальности и особых ресурсов тела
и души. Он требовал полета. Помимо того, необходимо было появление
великого педагога (у Марии Тальони педагогов было два: Кулон и
отец, Филипп Тальони). Такова судьба всех художественных открытий,
и прежде всего — избранных среди них. В отличие, скажем, от
тридцати двух фуэте пуанты явились не только техническим, но прежде
всего духовным завоеванием балета. В сущности, пуанты и обозначи-
ли, что классический танец поднялся с более низкой ступени вирту-
озного ремесла на более высокую, высшую ступень одухотворенного
искусства. И они рождены были не физическим усилием, а духовным.
Чтобы решиться танцевать на пуантах, надо было через многое пересту-
пить. Нужно было выйти за грань целого комплекса предрассудков,
запретов, табу. Нужно было родиться свободной. Вот почему танцов-
щицы рококо, изощренные виртуозки, не могли даже помыслить о
такой новизне. Свобода нравов в культуре рококо покупалась ценой
отречения от всех других — высших свобод. И вот почему это смогла
сделать Тальони, танцовщица нового времени, раскрепостившего чело-
веческую личность.
В заключение еще один традиционный сюжет: Мария Тальони и
Фанни Эльслер. Сколько написано параллельных характеристик и
сочинено эффектных антитез! Самая эффектная принадлежит Теофилю
Готье (Тальони — христианская танцовщица, Эльслер — языческая),
а самая деловая — малоизвестному парижскому рецензенту, опреде-
лившему стиль Тальони как ballonne (долгие и мягкие вынимания,
легато), а стиль Эльслер как taquete (быстрый, дробный танец-бег,
стаккато). Эти понятия, забытые ныне, в XIX веке были в большом
ходу. Когда смотришь па-де-труа из первого акта «Лебединого озера»,
всякий раз думаешь, что и Мариус Петипа вспоминал о них, вспоминал
о великих романтических балеринах. В вариациях проходят легкие
зарисовки танца обеих танцовщиц. Первая вариация — отчасти тальо-
ниевская, она демонстрирует стиль ballonne. Вторая вариация —
характерно эльслеровская, она демонстрирует стиль taquete. Можно
предположить, что и мужская вариация носит ретроспективный харак-
тер и что в ней дан портрет партнера Тальони и Эльслер, последнего
«сильфа» Жюля Перро. Но «Лебединое озеро» поставлено в 1895 году,
а в 30—40-х годах невозможно было увидеть обеих балерин одновре-
менно, в одном спектакле, а тем более — в одном па. Казалось, что они
царят на разных полюсах балетного искусства. Сколько, повторяем,
сочинено критических антитез, сколько сделано балетоманских попыток
столкнуть их — к прямому ущербу одной или другой, или сразу обеих,
но почему-то ни разу (кроме как в адажио па-де-труа Петипа) не
объединялись они под знаком общей артистической модели, единой
театральной звезды. Между тем их сблизило не одно лишь соперниче-
ство и поставила рядом не одна только слава. Обе они разрушали канон
«хорошо сделанной балерины». При всем очевидном различии темпера-
мента, манеры, сферы деятельности или сферы влияний обе они шли
индивидуальным путем. Обе они были актрисами романтического
театра. Фанни Эльслер несла тот же дух спонтанного танца, что и
Мария Тальони. В этом она была даже более патетична. Танец
Эльслер, как и ее драматическая игра — чистая спонтанность, без
всякого интеллектуализма. Эльслер олицетворяла так называемую
«fougue romantique» — романтическую пылкость и страстность,
романтическую неистовость — божество, которому поклонялись и
Делакруа, и Берлиоз, и Жюль Перро, и молодой начинающий
танцовщик Мариус Петипа. Но сильфидой она не была, хотя и сделала
попытку станцевать «Сильфиду».
Qt Терпсихоры к Сильфиде
«Сильфида», поставленная в Париже в 1832 году, принесла понятие,
по-новому определявшее идею балета и образ классической балерины.
До 1832 года танцовщицу по традиции называли Терпсихорой. Сразу
же после 1832 года имя парнасской музы надолго исчезло из балетного
словаря. В обиход вошло старинное слово кельтских и германских
легенд (хотя оно тоже греческого происхождения), и танцовщицу стали
называть сильфидой. Смена понятий обозначила глубокий мировоз-
зренческий сдвиг и стилевую метаморфозу. Романтическая утопия сме-
нила классицистский миф. И по странной прихоти театральной исто-
рии, любящей острые столкновения и эффектные qui pro quo, Мария
Тальони, будущая Сильфида, дебютировала в Вене, восемнадцати лет, в
балете, который назывался так: «Прием юной нимфы ко двору Терпси-
хоры», в главной роли была занята знаменитая этуаль Тереза Эберле.
Это похоже на шиллеровское свидание двух королев, а еще больше —
на встречу в Александрийском театре Савиной и Комиссаржевской.
В грациозности — прелесть сценической Терпсихоры. Грация —
основная характеристика женского танца двух веков. Грацию воспиты-
вают педагоги и воспевают поэты (среди них и насмешник Вольтер.
Ему принадлежит стихотворное сравнение Камарго и Салле, двух зна-
менитых артисток, соперничество которых разделило Париж. Воль-
тер — сторонник Салле: «Грации танцуют с ней вместе»), О грации
пишут писатели, а художники стремятся ее запечатлеть. На портретах
эпохи мы видим грациозных танцовщиц, «дочерей Терпсихоры», как их
называл Новерр, перевитых гирляндами, с тонкой талией (впослед-
ствии подобную талию назовут «осиной») и вскинутыми стройными
руками. Танцовщицы танцуют бальный или сценический менуэт. Самая
пленительная подробность портретов — нежный очерк расцветшей
фигуры, к которой, как кажется, не может пристать никакая порча.
Грация в понимании балета XVIII в. — вечная телесная молодость.
Терпсихора — нетленная красота. В танцах Терпсихоры оживает миф
о бессмертии (хотя во французском балетном театре, и особенно в
эпоху рококо, этот античный миф стилизуется с неуловимой иронией, с
улыбкой, чуть-чуть не всерьез, что так оскорбляло строгого почитателя
античности Жан-Жака Новерра).
Романтический балет выдвинул иной идеал, более одушевленный, а
в конечном счете — и более драматичный. Высшей ценностью стала не
грация, но воздушность. Идея воздушного танца — главное у Филиппа
Тальони, балетмейстера «Сильфиды», счастливо соединившего поэти-
ческую фантазию и ясный аналитический ум; «Сильфида» — создание
великого поэта и не менее великого педагога. Тальони поставил балет
по той схеме, по которой он строил урок: сгруппировав воздушные
темпы и противопоставив их темпам партерным. Из этого противопо-
ставления возник романтический канон и вся философия романтиче-
ского балета. В основе «Сильфиды» — восхищение от элевации бале-
рины. В подтексте же — восхищение воздушным строем женской
души. Чтобы сделать наглядной свою мысль, авторы сочинили необыч-
ный эффект, поместив сильфид на деревья. В либретто читаем: «Джемс
дивится чуду их появления. Танцы дев воздуха вскоре развеивают его
грусть. Одни, обвязав деревья шарфами, раскачиваются на них, другие
же, пригибая ветви, легко взлетают над землей»*. Эту поэтическую
абстракцию — воздушный строй женской души — спектакль вопло-
щает с невиданным дотоле лиризмом. В сущности, к этому сводится
белый балет. В этом смысл самого образа крылатой Сильфиды. Воз-
душный строй женской души в спектакле воспет, а загадка его разъяс-
нена — метафорическим языком сюжета. Воздушные игры сильфид не
утяжелены житейским опытом, воздушные танцы сильфид не знают
страстей, не знают разочарований. В тот миг, когда Сильфида узнает
подлинное страдание и подлинную страсть, ее легкие крылышки опада-
ют. «Сильфида» — балет-утопия, а не только балет-миф, одна из
ранних художественных утопий. Сильфидный балет —утопия женской
невинности, женского детства. Загадочными путями, которые искус-
ство так любит избирать, «Сильфида» приводит и в мир утопической
женской свободы. Свобода здесь не в духе Жорж Занд, не в духе эман-
сипации и более позднего феминизма, свобода неотделима от белых
тюник и младенческих игр, она беспорочна и бестелесна, это свобода
неведения, у нее ангельский облик. Ангельское, младенческое лицо мы
видим на портретах почти всех танцовщиц романтической плеяды, \
Карлотты Гризи, у Фанни Черрито. Лишь Мария Тальони, отличавша-
яся серьезностью и не отличавшаяся красотой, была чужда стилизаци-
* Цит. по кн. Ю. С л о н и м с к и и. Драматургия балетного театра XIX века.
М., «Искусство», 1977, с. 100
ям, прелестным, однако наивным. Стихия Тальони — воздушный
танец, в танце открывался ее ангельский лик. Танец Тальони — вечно
женственное во плоти, во плоти бестелесной Сильфиды.
(Но. добавим, «Сильфида» сохраняет следы более старинных
влияний; во всяком случае, они заметны в датской редакции балета, в
сценах сильфид, которые сочинил Бурнонвиль. Временами здесь еще
чувствуется XVIII век, культура изысканных приседаний и позировок,
тех стильных статических мизансцен, в которых солистки — или весь
кордебалет — словно бы позируют художнику, находящемуся в зри-
тельном зале. Сильфидный танец приостанавливает свой воздушный
полет, и возникают очертания улыбающегося танца танцовщицы-
Терпсихоры.)
Наш\ антитезу «Терпсихора — Сильфида» можно продлить. Она
распространяется и на место действия, и на жанр, и на принцип формы.
Место действия танцующей Терпсихоры — почти всегда дворцовый
интерьер. Наиболее выразительные зарисовки позве 1яют представить
себе, как танцовщица передвигается по сцене не впо. не сценическими,
миниатюрно-паркетными шажками. (Впрочем, теат зальный эффект
миниатюрного шага велик. Уже в наше время это демонстрировала
Марина Семенова и такая, далекая от балета, но бесконечно танце-
вальная актриса, какой была примадонна будапештской оперетты
Ханна Хонти.) Фон для Сильфиды — всегда ландшафт. И потому ее
танец — широкий, развернутый, вольный. Терпсихора — божество
(или царица) дворцового интерьера. Это вполне согласуется с клас-
сицистскими воззрениями на античность и красоту, на современность и
миф. Сильфиды —души ландшафта. А это воспевал, это описывал, об
этом фантазировал романтический поэт Новалис (влияние его на
Тальони, мимоходом отмеченное еще А. Левинсоном, несомненно).
Соответственно разнится угол зрения или же принятый жанр. Терпси-
хора — картина художника, Сильфида — видение поэта. Почти все
известные нам мизансцены балетных интермедий первой половины
XVIII века напоминают картины Ланкре. В свою очередь многие кар-
тины Ланкре вдохновлены впечатлениями от танцевальных номеров в
операх-балетах. Танцовщицы принимают позы, как будто позируют для
парадного или же, наоборот, для маскарадного портрета. Даже стран-
ный жест вскинутых и разведенных рук (еще не оформленная, асимме-
тричная вторая позиция) покажется естественным, если его поместить
на холст и в раму воображаемой репрезентативной картины. Этот
барочный жест прекрасно организует пространство. А образ Силь-
фиды от нас ускользает. В ней вся эфемерность, вся бесплотность
мечты. Поместить ее в раму так же невозможно, как привести в дом,
сделать женой, приспособить к хозяйству. Скажем больше: Сильфиду
нельзя ввести в строгую фабулу, в драматический театральный сюжет.
Это — образ парения, персонаж-невидимка. «Сильфида» — пер-
вый и, быть может, единственный в своем роде балетный спектакль,
главное действующее лицо которого кажется недраматичным.
Наиболее драматичный персонаж Эффи, невеста героя, но ее роль
второстепенна, а драматизм — неглубок. Потеряв жениха, Эффи нахо-
дит другого. Эффи — Терпсихора сильфидного романтического бале-
та: божественный образ замещен бытовым, жанровым, живописным.
Эффи — не божество и не царица интерьера, Эффи — его молодая
хозяйка. С Эффи в балет входит красочный местный колорит и живо-
писное богатство деталей.
Необычная трактовка центральных фигур обусловливает необыч-
ный характер спектакля. Он начинается традиционно — как сюита
ярких картин, но кончается совсем нетрадиционно — как сюита зыбких
эскизов. Сюжет балета истаивает на глазах. Балет призрачен и по своей
фабуле и по своей фактуре. «Сильфиду» можно сравнить с романтиче-
ской поэмой, в которой главное — не сюжет, но лирическое отступле-
ние: первый акт — это сюжет, а второй акт — лирическое отступле-
ние. «Сильфида» — дань лирике, господствовавшей во француз-
ском и европейском искусстве 10—20-х годов (в элегиях Ламар-
тина можно найти эмоциональные, а отчасти даже и фабульные со-,
ответствия. Например, «Озеро» или «Одиночество», переведенное на
русский язык молодым Тютчевым). «Сильфида» — образец лириче-
ского восприятия театра и танца. И до «Сильфиды» и после нее в
жертву драматургическим или ритуальным необходимостям приноси-
лась лирика женской души. В белом балете «Сильфиды» лирика жен-
ской души получила простор и волю. Группы и танцевальные фигуры
обращены друг к другу, а не в зрительный зал. Легкие руки тянутся к
легким шарфам, легкие арабески простираются к легким арабескам.
Воздух общения заполняет сильфидный акт. Воздух общения — неося-
заемая, но волнующая материя этого акта. Воздух общения — бесцен-
ный, но единственный дар, который Сильфида дарит Джемсу, герою
балета. Но подобно Алеко из пушкинских «Цыган», этот герой
приносит с собою беду. Идиллию сильфид он разрушает сумраком
романтического беспокойства.
В ремарке ко второму акту написано: «Ночь. Густая пелена тумана
скрывает ландшафт». Это, может быть, самая важная ремарка. Во
втором акте традиционную фабульную интригу заменяет и вытесняет
невиданный художественный компонент: лирическая атмосфера.
«Сильфида» — первый атмосферный балет. Надо добавить, что
именно в 20—30-х годах в театрах стали использовать газовые фонари
взамен старинных свечей. Мерцающая загадочная светотень позволяла
создавать лунный пейзаж и ночные, призрачные, фантастические
эффекты. В «Сильфиде» газовый свет сделал возможным показать на
сцене туман и наполнить сцену тревогой. Туманы Шотландии — среда
действия в балете «Сильфида», но кроме того — невидимое действу-
ющее лицо. Туманы Шотландии — сильнее человеческой воли и могу-
щественнее колдовства. По сюжету героя оспаривает воля двух дев и
его поступками руководит старуха-колдунья. В сценическом мире спек-
такля героем движет лирическая атмосфера, густая туманная пелена.
В балете оживают старинные представления о роковой власти тумана;
туманная мгла расстраивает человеческие планы и делает больным
человеческий ум, туманная мгла уводит за собой человека. В «Сильфи-
де» затронут художественный мотив, который во французском искус-
стве просуществует свыше ста лет, вплоть до фильма Марселя Карне
«Набережная туманов». И как у Карне, героя балета, уводимого
мглой, поразила болезнь воли, болезнь века. «Исповедь сына века»
Альфреда Мюссе, где сказано о «болезни века», появилась в Париже в
1836 году, четыре года спустя премьеры «Сильфиды».
Впрочем, болезнь и даже безумие Джемса выделил Бурнонвиль,
когда осуществлял в Копенгагене свою редакцию балета Тальони. Эта
редакция дожила до наших дней, теперь ее знают во всем мире. Джемс
в этой редакции (его играл сам Бурнонвиль) — новый Гамлет и невра-
стеник 30-х годов, может быть, предвосхищающий Освальда из ибсе-
новских «Привидений».
Джемс Филиппа Тальони — художник, поэт, и миф о Сильфиде —
миф о творчестве, романтическая утопия искусства. Художник спешит
из мира вещей и готовых картин в туман и приволье первоначального
смысла. Джемс — это образ, и Эффи, невеста Джемса, тоже образ, а
Сильфида — прообраз, и рой сильфид — та газовая туманность, тот
брезжущий свет, какими являются художнику его озарения. «Я сквозь
магический кристалл еще неясно различал», -— слова Пушкина есте-
ственно приходят на память, хотя сам Пушкин всегда ищет ясности, а
романтический поэт — ее бежит. «Еще неясно различи 1Ь» — цель
романтического творчества, «магический кристалл» — таинственное
средство. «Сильфида» -— настолько воздушный балет, что он кажется
невоплощенным. Сильфида у Тальони — всего лишь легчайшее
сияние сверкнувшей идеи*. Неявственный, но неотступный мотив
балетмейстера — мотив возвращения. Это неопределенное возвраще-
ние куда-то туда, откуда все началось, — к легкости первых дней
творения, первых дней жизни, первых дней творчества, первых дней
любви. Евангельская притча рассказывает о возвращении в дом, балет
«Сильфида» —о возвращении из дома. Дом здесь — чужбина, непод-
вижность и плен. Дом здесь —душевная окаменелость. Дом — омерт-
вевшая художественная форма. И вспоминаются постоянные побеги
Бетховена из венских домов в поля и леса и бегство Бетховена из жанра
сонаты, которая тоже есть дом и которая более двадцати лет была для
См. глубокие суждения Н. Я. Берковского о романтическом «развоплощении».—
В кн.: Романтизм в Германии. Л., «Худож. лит.», 1973.
него убежищем, кровом и крышей. Последняя, 32-я соната Бетховена
построена, как и «Сильфида». Две части: каноническое сонатное алле-
гро — первая часть, и неканоническая вторая часть —ариетта. В ари-
етте мы слышим, как музыка улетает в далекую холодную звездную
даль, в заключительных трелях музыка становится прозрачным, невесо-
мым и почти неслышным сиянием. Подобным отлетом сильфид завер-
шается и балет. Подобную ариетту танцевала Мария Тальони.
Великие поэты по-разному описывают смерть. «Пора — пора —
пора/Творцу вернуть билет», — пишет Цветаева. А вот ахматовские
слова, написанные там, где Ахматова похоронена, в Комарове:
И голос вечности зовет
С неодолимостью нездешней.
И над цветущею черешней
Сиянье легкий месяц льет.
И кажется совсем нетрудной,
Белея в чаще изумрудной,
Дорога не скажу куда...
Что это? «Приморский сонет» или же описание второго акта «Силь-
фиды»? И значит ли, что Тальони танцевала прощальный уход и что
«голос вечности» звал двадцативосьмилетнюю балерину? И как это
совместить с утопическим миром детства души, в который возвращал
тальониевский танец, в который устремлялся ее легкий полет? Разре-
шить это противоречие нам не дано. Мы можем лишь вспомнить
другого гения. Фредерика Шопена, детские игры и прощальным напев
его вальсов, мазурок, ноктюрнов. Историк романтического балета
Айвор Гест приводит слова современницы: «Шопен однажды сказал,
что не раз черпал вдохновение в танце Тальони»"’.
«Сильфида» соединила легкость начала и легкость конца, послед-
нюю легкость. Сама композиция балета раскрывает его секрет: во
втором акте, по существу, нет развития, есть начало, есть конец, но нет
середины. История балета сохранила память о выходе сильфид (он
описан в книге А. Левинсона «Мария Тальони»), а также о прощальном
отлете. Что представляло собою центральное гран-па сильфид — никто
не знает. Бурнонвиль в своей редакции от него почти отказался. По-
видимому, он им не дорожил — при всем пиетете, который он питал к
Филиппу Тальони. В недавней парижской редакции-реставрации изоб-
ретательнейший хореограф Пьер Лякот попытался восстановить пер-
воначальный текст гран-па и создал фантазию на тему танцев силь-
фид, лишенную строгой последовательности, обязательности и просто-
''Слонимский Ю. Драматургия балетного театра XIX века, М.. «Искус-
ство», 1977, с. 106.
ты, к которым по смыслу своему тяготеет эта форма. Гран-па Лякота
слишком импрессионистично. Но. вероятно, гран-па Тальони и вся его
композиция в целом таковой и была. Можно предположить, что «Силь-
фида» — первый импрессионистский балет. Не случайно к нему так
тянулся великий импрессионист Михаил Фокин. И недаром сильфидам
посвящал стихи (а он писал и стихи) Дега, один из творцов импрессио-
низма. Как раз в сфере, близкой Дега, «Сильфида» достигла вырази-
тельности, которая в восприятии современников должна была грани-
чить с чудом. Спектакль опирается на невесомую силу зрелищного
контраста. Терракотовые и синие тона шотландских юбочек-килт и
белые (бело-голубые) сильфидные тюники создают контраст такой ин-
тенсивности, какую не знала станковая живопись начала столетия.
«Сильфида» — первая в театральной истории симфония цвета. Спек-
такль длится ровно столько, сколько длится действие живописной игры.
Спектакль кончается, когда белый балет вытесняет из памяти зрителя
яркий терракотово-синий фон первого акта.
Импрессионистский балет, созданный за полстолетия до утвержде-
ния стиля (и даже термина самого), мог поразить зрителя, но рассчиты-
вать на долгую жизнь не мог. В истории балета наступало время клас-
сического мышления, классической формы. Еще тридцать лет — и
наступит эпоха Мариуса Петипа. И характерно, что Петипа, спасший
от забвения почти весь романтический репертуар, возродивший «Жи-
зель». «Эсмеральду», «Корсара» и «Пахиту», Петипа с его гениальным
даром реставратора, стилиста и обновителя старых спектаклей, — не
справился со своей задачей один только раз: когда попытался реставри-
ровать — обновить «Сильфиду». Импрессионизм «Сильфиды» был
чужд этому классику, поэту гран-па; импрессионизм «Сильфиды» исчез
в его постановке.
Жизель, или виллисы
30-е годы и начало 40-х — неповторимое время в жизни парижской
«Гранд-Опера». Это эпоха блестящих идей и по-моцартовски легких
талантов. В такие эпохи практический разум отступает под натиском
новых озарений. Шедевры, которым все обещает долгую жизнь, не
задерживаются надолго в репертуаре. И подобно тому, как сжатие
туманностей приводит к образованию звезд, интенсивная разработка
открытий «Сильфиды» привела — в 1841 году — к постановке «Жи-
зели».
«Жизель» отличается от «Сильфиды» жанровыми признаками, а не
степенью совершенства и даже не мастерством. Это два различных
жанра балета. «Жизель» тяготеет к романтической драме, «Сильфи-
да» — к лирической элегии. «Жизель» — театральнее, «Сильфида» —
поэтичнее. «Жизель» создавал хореограф-драматург, а «Сильфиду» —
балетмейстер-лирик. Сравним увертюры: различие ощущается с на-
чальных тактов. Увертюра «Сильфиды» длится и длится в неопреде-
ленных лирических интонациях, типичных для предромантической
музыки 20-х — начала 30-х годов. Это ноктюрн, почти лишенный того,
что мы сейчас называем структурой. Увертюра «Жизели» куда-то уст-
ремляется с первых шагов. Это и в самом деле блестящая театральная
увертюра. В ее интонациях — четкая определенность, в ее изложе-
нии — краткость, а в ее нервных стремительных ритмах слышится то,
что романтики называли бегом времени или же силой судьбы.
По-видимому, понятие сценического времени в балетном искусстве
впервые осмыслено в «Жизели».
Ритм балета — ритм нарастающей тревоги, надвигающейся бе-
ды. Это ведущий ритм, конструирующий композицию обоих актов.
«Жизель» основана на принципе нарастающего драматизма. Оба акта
начинаются не торопясь, а затем движение событий убыстряется и идет
неотвратимо, крещендо, как снежный ком. На временной обусловлен-
ности основана вся сюжетная логика фантастического белого акта.
Виллисы — призраки ночи, истаивающие с зарей, их власти отмерены
точные сроки, а потому их пленники получают единственный шанс: они
могут спастись, как только наступит утро. Коллизия времени искусней-
шим образом вплетена в поединок Жизели с кордебалетом. Кордебалет
стремится ускорить движение к развязке, а Жизель — затормозить.
В бесконечно медленных «выниманиях» — developpes, в замирающих
апломбах прямо выражен и гений ее любви и трепет ее надежды.
Драматизм ситуации усилен тем, что Жизель — сама виллиса и ее рит-
мы принадлежат не ей. Замедленные индивидуальные танцы Жизели
постепенно включаются в поток общих, стремительных, хоровых.
Именно танцы Жизели должны погубить Альберта. Эта подробность
сюжета, когда-то потрясавшая зрителей и увлекавшая романтических
актрис (существуют описания того, как искусно играла сложную ситуа-
цию Фанни Эльслер), ныне забыта, исчезла из роли, не украшает
(или, может быть, не усложняет) балет и сохранилась лишь в самой
хореографической структуре. Она присутствует в партии Жизели как
малозаметный танцевальный пунктир. Воздушная вариация второго
акта поставлена так, как будто Жизель уносится воздушным потоком.
Линия вариации описывает замысловатую и даже загадочную кривую,
она точно пропадающий след, она теряется в глубине сцены.
Самое замечательное в балете —- то, что временные феномены
выражены пространственными формами, линейно, выражены хорео-
графически. Акт виллис прочерчивает большая диагональ. Вдоль этой
диагонали выстраиваются виллисы, и эта основная диагональная
мизансцена сообщает балету до сих пор не превзойденную образную
остроту. Каким безобидным представляется каре сильфид в бурнон-
вилевской версии «Сильфиды»! Замкнутый в себе четырехугольник, не
открытый никаким бурям, сторонний добру и злу. Диагональ «Жизе-
ли» —трасса могущественных и роковых страстей, мета судьбы, поло-
женная на сцену. Длинная и разящая, как клинок, как шпага Альберта,
диагональ распоряжается персонажами. Но это же и карающая диаго-
наль. Этическое сознание романтизма не отделяло рока и кары. На этом
соединении понятий основаны и фаталистическая драма судьбы и высо-
кая романтическая драма. Даже трезвый, ироничный Проспер Мериме
соединял обе сущности воедино (и в «Душах чистилища» и в «Кармен»),
И в том и в другом открывается высший порядок вещей, как его пони-
мали романтические поэты. Диагональ «Жизели» проводит отчетливую
грань между обыденным сознанием и сознанием романтичным, между
обыденной судьбой и судьбой необыкновенной. В «Жизели» берет
начало то, что в балете может быть названо символикой линий.
Художественная атмосфера, в которой возник этот балет, подробно
исследована в работах историков — Ю. Слонимского, А. Геста,
С. Бьюмонта, С. Лифаря и других. Странным образом из поля исследо-
ваний выпал главный объект — феномен романтического театра.
Ю. Слонимский, например, остроумно цитирует стихи Виктора Гюго,
но не говорит о его пьесах. Стихи Гюго позволяют понять, откуда
взялся и что значит исходный сюжетный мотив, но эти стихи не помогут
понять стилистические загадки балета. Между тем глубину, смысл и
очарование «Жизели» создает не только определенный сюжет, но и
определенный, во многом — исчезнувший стиль, сохранившийся лишь
на страницах забытых и полузабытых пьес романтических драматургов.
Историк «Жизели» должен исследовать не только поэзию, но театр
эпохи.
Десятилетие, отделяющее «Жизель» от «Сильфиды», было ознаме-
новано столь бурными событиями, каких парижский театр не пережи-
вал почти двести лет, со времен знаменитого «спора о «Федре». Все эти
годы драма как жанр стремится господствовать в ряду других искусств,
а другие искусства охотно признают главенство драмы. Лирические
поэты пишут пьесы, а не стихи. Лирические музыканты сочиняют
драматизированные симфонии и поэмы. Французский романтизм уза-
конил предельную драматизацию живописи, музыки и литературы.
Искусство романтизма создает произведения, в которых все элемен-
ты — композиция, язык, фабула, колорит — подчинены тому, чтобы
выявить драматическую субстанцию жизни. Романтизм верит в нее, как
классицизм верил в платонов мир идеальных идей. Если же теоретики
романтизма о ней не говорят, то потому, что она открывается лишь в
искусстве, в театре прежде всего, в предельном напряжении дисгармо-
нических ситуаций и в хаосе взаимно уничтожающих страстей. Художе-
ственное познание, согласно романтической теории, не имеет ничего
общего с научным. Драматизм жизни можно лишь пережить — на
сцене и в зрительном зале. Найти его отвлеченную, логическую или
математическую формулу не дано. Романтики — а мы имеем в виду
парижских романтиков 30—40-х годов — проникнуты волнующим
ощущением особых полномочий искусства. Искусство для них — маги-
ческий ключ, волшебное зеркало, которое отражает то, что скрыто от
взгляда. Конечно, балет, и прежде всего фантастический белый балет,
создан для таких художественных предприятий. Не требует поэтому
объяснений всеобщий интерес к нему (и, между прочим, последний
спектакль последнего великого романтика — Мариуса Петипа так и
назывался; «Волшебное зеркало»). Но чтобы создать идеальный балет,
нужно было драматизировать его, нужно было утвердить в нем эсте-
тику романтических противостояний. Идеальный романтик для Парижа
30-х годов — Шекспир и в неменыней мере — Бетховен, особенно в
тех произведениях, в которых хоровой мелос противостоит музыке
индивидуальной воли и голосу индивидуальной судьбы. В такой диа-
логической композиции воплотились понятия о фатальном одиночестве
героя и о трещине, расколовшей некогда гармонический мир. Из этих
или сходных с ними общих соображений возникла идея расколоть
гармоничный белый балет. Так был создан неповторимый второй акт,
противопоставивший массовым танцам кордебалета виллис сольные
танцы протагонистки Жизели.
Другой источник вдохновений «Жизели» — романтический вальс.
Вальс повлиял не так на музыку Адольфа Адана, как на либретто, на
танцы, на хореографию и режиссуру. Распространение трехдольного
вальса совпало по времени с развитием пуантного танца. Между
пуантным танцем и вальсом существует прямая связь. В вальсе Глинки
из «Ивана Сусанина», написанном в 1836 году, есть средний эпизод,
где звучность теряется, почти пропадает, и наступившее пианиссимо
лишь осторожно фиксирует невесомый трехдольный шаг. Впечатление
таково, что танцовщица впервые встает на пуанты. Кажется, что компо-
зитор заметил и увековечил этот исторический миг. Глинковский вальс
в буквальном смысле рисует шаги в неведомое, шаги на краю. Так же
построена и веберовская фортепианная пьеса, написанная в 1819 году,
«Приглашение к танцу».
Логика вальсовых сочинений необычна. В музыке XVIII века
танец, как правило, —образ жизни, вернувшейся к привычным очерта-
ниям, чуть ли не к домашнему очагу. В симфониях венских классиков
тяжеловесный праздничный менуэт скреплял победу здравых и устойчи-
вых форм жизни. С появлением вальса трактовка танца решительно
изменилась. Романтизм воспел вальс и создал мифологию вальса.
Когда автор либретто поэт Теофиль Готье, разъясняя замысел «Жизе-
ли», писал о «виллисах с белоснежной кожей, обуреваемых беспощад-
ной жаждой вальса», он не только пересказывал отрывок из Генриха
Гейне, послуживший первоначальным толчком. Готье перекладывал в
слова тот самый образ, который увлекал Берлиоза в «Фантастической
симфонии» и Шумана в «Карнавале». Зыбкому музыкальному образу
будущий автор «Эмалей и Камей» нашел короткую, но блистательно-
четкую форму. Хореографы «Жизели» сделали следующий, неизме-
римо более трудный шаг. «Беспощадную жажду вальса» они положили
в основу развернутых xopeoi рафических композиций. Второй акт «Жи-
тели» — фантастическая симфония вальса, лишенная бытовых или
жанровых примет. В кульминации — сцене виллис с охотником Ган-
сом — поставлен совсем небывалый групповой женский вальс с
одним-единственным кавалером. Хореография сцены соединяет
нежную вальсовую структуру и структуру неистовых вакханалий.
Сложнейшая формальная задача решена виртуозно. Сцена задумана и
поставлена в стиле «дьявольской виртуозности», которой поклонялась
эпоха. Мы никогда не узнаем, как играл Паганини, как играл Лист. Но
некоторое понятие можно получить, глядя, как мстительные виллисы
раскручивают и суживают свои убыстряющиеся круги, затягивая зло-
счастного охотника серебристой петлей танца. Это первый в истории
кордебалетный мефисто-вальс. Он не повторен и поныне.
«Жизель» в современном виде и в современном восприятии отчасти
утратила свой «романтизм». Спектакль стал всеобщей формулой бело-
тюникового балета. На современной сцене мы видим белый балет
вообще, а не белый балет «Жизели». Зрители рукоплещут эстетике,
красоте. А если состав исполнителей подобран удачно, зрителя может
захватить этическая коллизия, спор наказания и милосердия, спор Мир-
ты, повелительницы виллис, и Жизели. Классическая красота и нрав-
ственный максимализм — главные компоненты нынешней «совершен-
ной» «Жизели». Своим совершенством она обязана времени и Мариусу
Петипа, осуществившему осторожную реконструкцию балета (а вовсе
не реставрацию, как принято ныне считать). «Жизель» 184] года,
может быть, и не обладала таким совершенстврм, зато она была
экспрессивнее. Та «Жизель» до нас не дошла, но мы можем достоверно
судить, какое впечатление она производила. Существует подробная сце-
нарная запись балета, сделанная по горячим следам*. Специально про-
веденная экспертиза подтвердила предположение, что запись сделан^
молодым Петипа — в те годы горячим сторонником театрального
романтизма. Всякий раз, когда он описывает танец виллис, он употре-
бляет слово «неистовый». Дважды пишет о «сатанинском смехе вил-
лис». Сцену виллис с лесничим называет «вакханалией». В записи
много других слов из романтического словаря, словаря патетических
преувеличений. Но в данном случае эти слова, по-видимому, точны.
Именно романтическая экспрессия отличала хореографию парижской
«Жизели». Акт виллис — перевод чисто лирического белого балета па
едва уловимый гротесковый лад. Танцы виллис основаны на прыжко-
Об этом документе см.: Слонимский Ю. «Жизель». Л., «Музыка», 1969,
вом и чуть-чуть гротесковом заострении лирического арабеска. Это слу-
чай стилистического уподобления и смысловой подмены, пример образ-
ной метаморфозы. Те же белые тюники с крылышками позади, те же
первые арабески, тот же мягкий рисунок открытых рук, но смысл иной,
потому что иной образ. Виллисы — оборотни, принявшие ангельский
вид сильфид, власть танца виллис недобрая, колдовская.
«Жизель» уже не балет чистых сущностей, как «Сильфида», впервые
в хореографии здесь опробуется мотив лица и маски. В первом акте
этот мотив разработан психологически достоверно, во втором —^полу-
чает иной — фантастический — колорит и масштаб. Выдавая себя за
простолюдина, граф затеял игру в неведении, чем она обернется.
«Жизель» —балет о роковой силе иллюзий или —иначе —о химери-
ческих силах жизни. Теперь мы знаем, что в создании парижского спек-
такля едва ли не главную роль сыграл балетмейстер Перро, поклонник
Виктора Гюго, постановщик «Эсмеральды», знаменитой балетной ин-
сценировки «Собора Парижской богоматери». Образы химерических
наваждений преследовали его всю жизнь. Химеры любви — одна из
лирических тем и «Эсмеральды» и «Жизели». Естественно предполо-
жить, что Перро стремился использовать воздушные танцы сильфид
для воплощения существ химерических, ускользающих, эфемерных. По
аналогии с «Эсмеральдой» можно также предположить, что на воздуш-
ные танцы виллис был наложен еще один тон, намешанный на палитре
ночных романтических красок. Белый балет в «Жизели» демоничен.
В обольстительных танцах виллис горит тусклый огонь исступлений.
Загадочные огоньки предшествуют их выходу на сцену. Эти огонь-
ки — зловещий фейерверк, иллюминация смерти. Если употребить
самое распространенное слово из лексикона романтиков всех времен, то
белый балет «Жизели» можно назвать инфернальным. И понятным
становится, почему в названии балета — не просто «Жизель», а
«Жизель, или виллисы».
«Жизель» строится на контрасте жанрового и белого балета и на
столкновении стилистических манер. В образе самой Жизели нет ника-
кой инфернальное™, как нет и густых жанровых красок В сущности,
она не принадлежит ни первому, ни второму акту. Жизель — не
пейзанка и не виллиса, она и не аристократка — она Жизель. Пейзан-
ский мир ей чужд, потому что недостаточно поэтичен. Инфернальный
мир враждебен, потому что лишен естественности, непосредственности
и души. Ее же мир — влюбленность и танец, любовь и искусство.
Жизель — танцовщица и актриса неведомо для себя, бессмертная
возлюбленная — неведомо для своего неверного кавалера. В ее
образе дано воплощение наивной и гениальной артистичности, наивной
и гениальной любви. Театральное очарование Жизели естественно, как
полевой цветок, на котором она гадает Виллисы являются на сцену как
души ночных болотных цветов ненюфар, подробно описанных в рецен-
зии Теофиля Готье, либреттиста балета*. Эмблема Жизели — ромаш-
ка.
В основе сюжета «Жизели» — коллизия, которая после балета стала
классичной. Сюжет сталкивает «науку страсти нежной» и наития люб-
ви. Это не история холодного обольстителя и доверчивой простолюдин-
ки. У этой истории совсем не назидательная окраска. Показано, как
граф Альберт (выдающий себя за крестьянина Лойса), опытный в
любовной игре молодой человек, очарован изящным простодушием
совсем юной Жизели. Для графа Альберта — Лойса этот невинный
роман — скорее отдушина, чем авантюра. И все-таки печальной раз-
вязки не миновать, потому что Альберт не способен так слить себя с
любовью, как на это способна Жизель. Существует отдельно молодой
граф и отдельно — под чужим именем — влюбленность молодого гра-
фа. И не существует Жизели отдельно от ее полудетской влюбленно-
сти, отдельно от привязанности, почти что потусторонней. Жизель —
простая душа, но ей выпадает пройти весь путь от самого первого до
самого последнего шага. Она появляется в дверях хижины и исчезает в
зарослях цветов. Между бытовым радостным выходом и поэтическим
скорбным уходом пролегла непрерывная линия художественных и эмо-
циональных нарастаний. Партия Жизели— романтическое крещендо
любви, неумолимое движение вдаль, вглубь и ввысь: от беззаботности
к катастрофе и от катастрофы к просветленной печали, от праздника к
подвигу, от детских забав к женской заботе. По-видимому, лишь балет
может с такой очевидностью представить любовь как внутреннее дви-
жение, как рост (а в хореографическом смысле как элевацию, подъем и
полет), но не как игру внешних сил или чреду несвязанных эпизодов.
Поэтому «Жизель» не превзойдена и столь совершенна. Поэтому
оправданным кажется, что действие, которое к концу первого акта
завершено, продолжается во втором, поэтическом, белотюниковом
полетном акте.
Его можно назвать апофеозом дуэта, этот волнующий ночной акт.
И танцы Жизели, бесплотные, бесследные, пульсирующие в нервных
прыжках и кантиленно-напевные в адажио, в медленных темпах, скла-
дываются в дансантный ноктюрн, которому вторят ночные цветы, лун-
ный свет, соло альта и страстные жесты утратившего покой кавалера.
«Жизель» — первый дуэтный балет в современном понимании дуэта
как хореографической формы и в романтическом понимании дуэта как
союза человеческих сердец. Дуэтные мизансцены здесь разработаны
образцово. Здесь их начало. Здесь их апогей. Лирические адажио после-
дующих балетов так или иначе ориентируются на открытия «Жизели».
Как до того в «Сильфиде», хореографам «Жизели» удался прорыв в
См с лонимский Ю. «Жизель», с. 48
сферу невиданных сценических положений. Дуэт второго акта возни-
кают из знаменитой позы, по-новому трактующей сильфидный арабеск,
преобразующей значение дуэтной поддержки. Герой-танцовщик на
полу, на одном колене, с опущенной-головой,'героиня-танцовщица в
склоненном арабеске и сложенными на груди руками. Мы назовем эту
позу «позой посещения». В ней близость, самая полная и утраченная
навсегда, возврат и невозможность возврата. В ней несколько образов-
тем одновременно. Графическую красоту позы дополняет полукруг
раскрывшейся тюники балерины. Романтическая тюника героини
играет в спектакле такую же роль, как и романтический плащ героя.
«Жизель» можно назвать трагедией тюники и плаща. Черный плащ
Альберта и белая тюника Жизели создают колорит балета и его
знаковую символику, его образную многозначность. Совсем не обяза-
тельно стремиться понять весь заключенный в ней смысл. Так же как не
обязательно знать, что скрещенные руки (в арабеске Жизели) на симво-
лическом языке геральдики средних веков означали верность. Симво-
лика «Жизели» рассчитана на нашу интуицию и наше эстетическое
чувство. Символика «Жизели» построена по законам абсолютной худо-
жественной красоты, она прекрасна. Контраст белого с черным принад-
лежит к числу таких вечных и высших художественных противоположе-
ний. Но здесь этот контраст оттеняет напряженность новейших моти-
вов. Балет возник из обостренного чувства вины, герой его — человек,
погубивший другого человека. Черный плащ Альберта — мета безу-
тешности, обреченности на постоянную муку, на казнь. Второй акт
рисует картины суда: сцены виллис — страшный суд над лесничим, а
затем над Альбертом. Когда создавалась «Жизель», в Париже еще не
изгладилась память о годах террора. Отношение к ним было двойствен-
ным, и это двойное сознание наполняет балет. В споре белых виллис с
белой Жизелью мечта о высшей справедливости сталкивается с еще
более высокой мечтой. Мягкие руки Жизели молят о любви, состра-
дании и пощаде.
В последнее время исполнительницы обнаружили в балете более
скрытый сюжет, лирико-философский по смыслу. Жизель умирает и
возвращается к жизни, когда о помощи ее молит Альберт. Человек
ставит крест на себе и спасается, спасая другого человека. Погибшая
душа воскресает, чтобы не дать погибнуть чужой душе. Это мотив,
разработанный Чаплином в его позднем шедевре, в «Огнях рампы».
«Огни рампы» бросают резкий театральный свет на мягкие полутона
старинной «Жизели». Нет сомнения в том, что Чаплин вспоминал этот
балет: юмористические реминисценции на темы «Жизели» даются во
второй части фильма.
Понятие хореографии
и проблема авторства «Жизели»
Если принять, что хореографичность есть способ мыслить на специфи-
чески балетном языке и способ действовать в специфически балетных
формах, а хореография — движение, организованное по определенным
законам, то об авторе «Жизели» следует сказать, что он хореограф и,
возможно, единственный в своем роде в истории балетного театра.
И более того, может быть первый в истории хореограф, в связи с твор-
чеством которого это старинное слово приобрело свой современный
смысл. В старину хореографией называли умение записывать балет-
ные танцы. Хореограф — не тот, кто сочиняет балет, а тот, кто умеет
зафиксировать его на бумаге. Так понимал это слово изобретатель его,
он же изобретатель балетной нотации (1700), Рауль Оже Фейе.
В этом— и только в этом смысле— слово хореограф употребляет
Новерр. «Хореография, — пишет он в начале Тринадцатого письма, —
о которой вы желаете услышать от меня, сударь, есть искусство записы-
вать танцы с помощью различных знаков или букв, обозначающих
названия нот, с той лишь разницей, что хороший музыкант прочтет
двести тактов за минуту, в то время как превосходный хореограф не
расшифрует двухсот тактов танца и за два часа»*. Новерр и не мог
интерпретировать эти понятия иначе: аналогия балетного произведения
с графическим стала возможна позднее, в XIX веке, не раньше 30—
40-х годов. В эпоху Новерра (вторая половина XVIII века) балет ориен-
тировался на картину. На этот счет есть много недвусмысленных
указаний в литературе эпохи, об этом постоянно пишет и сам автор
«Писем о танце». И если классицистская трагедия — основа его сюже-
тов, то историческая картина — основа его мизансцен. В свою очередь
почти каждую историческую картину конца XVIII — начала XIX века
мы можем трактовать как зримое эхо балетных спектаклей. Историю
балета XVIII века необходимо изучать в залах музеев (что первой среди
историков балета поняла Л. Блок). Несколько модернизируя существо
вопроса, мы можем сказать, что балетный спектакль XVIII века созда-
вался почти как эйзенштейновский фильм: из суммы (монтажа) статиче-
ских мизансцен — картин-кадров. Подобный метод хореографическим
не назовешь, это в лучшем случае хореоживопись или даже хореокине-
матограф. Между тем хореография «Жизели» основана на двух предпо-
сылках, совершенно иных и подлинно хореографичных. Два принципа
хореографии «Жизели» — непрерывность движения и неизобразитель-
ность структуры формы. Хореография «Жизели» музыкальна и лине-
арна, это музыка линии, это лирика линии, волнение человеческой
души, получившее строгий линеарный абрис. Поэтому-то композиции
«Жизели» не только восхищают, но и волнуют в ответ. Они волнуют,
^Новерр Ж, -Ж. Письма о танце. Л.—М., «Искусство», 1965, с. 240—241.
как может волновать старое, найденное письмо, скрывающее живую
драму. И в сущности сам сюжет «Жизели», играющий важную, но не
решающую роль, подготовляет к такому восприятию хореографиче-
ской формы. Она как сообщение, адресованное нам, как последний
завет, зашифрованный на языке линий. Лирическая душа романтиче-
ского искусства вселяется в хореографию белых виллис, а вместе с
ней — почитание линии, почерка, шрифтового набора. Именно роман-
тическая эпоха, нашедшая в графике след души человека, ее прямой и
таинственный отпечаток, могла соединить — этимологически и сцени-
чески— два понятия и два явления, до того существовавшие совер-
шенно раздельно. Хореография родилась в этот момент и стала искус-
ством писать не на бумаге, а на черном листе сцены.
Но имя хореографа «Жизели» нам все еще неизвестно. Кто является
создателем петербургской редакции, идущей на сцене сейчас? Кто был
балетмейстером первой парижской редакции, увидевшей свет в июне
1841 года? Существуют лишь предположительные ответы на эти
вопросы. Имеется ряд мнений, гипотез и необязательных схем, в
которых сугубо эмоциональный подход нередко берет верх над строго
историческим рассмотрением проблемы. Фактически авторство «Жизе-
ли» приписывают то Коралли, то Петипа, то Перро — в зависимости от
склонностей, личных пристрастий и художественных установок исто-
рика балета. Вначале считалось, что автор «Жизели» — Жан Коралли,
чье имя значилось на парижской афише. Но то был мастер средней
руки, мало подходящий для роли создателя неувядающего шедевра.
В 30-х годах Ю. Слонимский назвал другое имя — Жюля Перро. Это
была блестящая догадка. В самом деле: великий художник, поэт танца,
театральный поэт, к тому же муж Карлотты Гризи (для которой стави-
лась «Жизель») и приятель композитора Адольфа Адана. Адан писал,
что был «тесно связан» с Перро в досценический период подготовки
спектакля. Догадку Слонимского безоговорочно принял балетный мир,
она стала историческим фактом. В дальнейшем, однако, историки
романтического балета слишком увлеклись поисками документального
материала, подтверждающего авторство Перро, и это лишь отвлекало
от выполнения главной задачи. Проблема авторства «Жизели» — про-
блема для искусствоведа, а не для архивиста. Она решается изучением
стиля эпохи и манеры мастера прежде всего или не решается вовсе.
В исторических исследованиях балетного театра роль документа не
столь уж велика, чтобы обладать решающей юридической силой.
Стилевую манеру Коралли уже невозможно определить: слишком
много времени прошло с тех пор, как балеты Коралли исчезли с афиш
и сошли со сцены. Судя по косвенным данным, это был компромиссный
художник, а возможно— и эпигон. О Перро легче судить: многие
зрители еще помнят его «Эсмеральду». И уж совсем нетрудно распо-
знать импозантную манеру Мариуса Петипа. Перро же совсем не был
импозантен. Он был утончен. Балетный Мюссе: «Жизель» так напоми-
нает пьесу Мюссе «Любовью не шутят». Балетный Шопен, с которым
его сближает изящная пластика ритма. Утонченная ритмическая фак-
тура танцев Жизели из первого акта— высокое достижение Адана и
Перро, очевидный плод их совместной работы. Ритмы танцев Жизели
дансантны и одновременно характеристичны— это также присуще
Перро. То был непревзойденный мастер танцевальной игры, как никто
умевший соединить танец с игрой и найти для танца остроумную
театральную мотивировку. То был несравненный мастер балетного
портрета. У него был свой острый, близкий к гротеску графический
стиль. Сценки и персонажи «Эсмеральды» нарисованы отчасти в
манере Калло, которая стала манерой Перро, и не только в его
наиболее знаменитом балете. Перро был новатор, романтик, преодоле-
вавший традиции и нормы версальского классицизма. В классическом
танце Перро обнаруживал его скрытый слой, далекую доверсальскую
основу. Это был балетмейстер, наделенный чувством истории, остро-
пластическим чувством. Историзм в балетном театре берет начало в
балетах Перро. Как и Гюго, его манили «легенды веков» и века, в
которых легенда становилась могущественной и мрачной силой.
Подобно Гюго, его увлекало средневековье. Перро показал на сцене
средневековый Париж («Эсмеральда») и средневековую Германию
(«Фауст»), ставил — опять-таки в манере Калло — большие массовые
«инфернальные» сцены: шествие на казнь, шабаш ведьм; здесь, впро-
чем, чувствуется и близость к манере молодого Берлиоза. Естественно
приписать Жюлю Перро инфернальные танцы виллис из второго акта
«Жизели».
А гран-па виллис? Кто сочинил это знаменитое место, в котором
цепочки кордебалетных танцовщиц поочередно выбегают из-за кулис
(дальней, средней и ближней), становятся в арабеск и скачут-плывут
навстречу друг другу? Атрибуция этого па — самая волнующая и до
сих пор не решенная проблема балета. По-видимому, все-таки автором
был Петипа, великий мастер подобных кордебалетных композиций.
И, по-видимому, этот эпизод сочинен не в Париже, а в Петербурге.
В пользу Петипа свидетельствуют три обстоятельства: во-первых, сти-
листическая классичность, отсутствие гротеска, чисто лирическая
манера гран-па; во-вторых, красивый кулисный принцип построения
действия, обнажение кулис, то есть прием условного театра, к которому
тяготел Петипа и которого избегал Перро, стремившийся замкнуть
действие в реальной среде и поместить его в неусловное сценическое
пространство. И наконец, в-третьих, ориентация на полифониче-
скую — доромантическую — музыкальную форму. Петипа эту форму и
Эту музыку хорошо знал и умел претворять ее в танец. Поочередное
вступление танцовщиц кордебалета в гран-па создает то многоголосие,
которое мы наблюдаем в кордебалетных «Тенях» и даже в адажио с
четырьмя кавалерами. Петипа был тем мастером, который раздвинул
границы романтического балета, перенес их вглубь и назад, соединив
романтизм с культурой предшествующей эпохи. Гран-па виллис —
барочный мотив в «Жизели». Романтический арабеск здесь играет по
художественным законам барокко.
Да и сама трактовка виллис — не как страстных, необузданных фу-
рий, но как холодных, недоступных и загадочных фей — наводит на
мысль о том, что гран-па создавалось не в Париже 40-х годов, а в Петер-
бурге 80-х. Петербургский отпечаток лежит на этом строгом гран-па,
хотя, конечно, доказать это с помощью бесспорных свидетельств или же
неоспоримых художественных аргументов пока не представляется воз-
можным. Мы можем лишь предложить версию, догадку. Еще раз повто-
рим: необходимо тщательно изучать идеологию и стилистику Петипа,
чтобы понять, какую роль в творчестве Петипа играл кордебалет, что
значило для него сочинение гран-па, какой внутренний смысл и какой
внешний рисунок получала у него эта кордебалетная композиция, эта
уникальная балетная форма.
Еще недавно Петипа считался единственным автором современной
«Жизели». Затем это авторство у него было отнято — в пользу Перро.
Не хочется формулировать истину столь же категорично.
Спесивцева
Но прежде чем обратиться к творчеству Мариуса Петипа, перенесемся
на несколько десятилетий вперед, в Петроград начала 20-х годов, когда
тальонизм дал еще одну кратковременную, но ослепительную вспышку.
В те годы жизнь бывшего Мариинского театра едва ли не сосредоточи-
лась на выступлениях худенькой бледной танцовщицы невиданной кра-
соты, точно сошедшей с византийских икон и вместе с тем живыми
чертами, «легким дыханием» своим напоминавшей бунинскую гимна-
зистку. Ею любовались, в нее влюблялись, ее любили с восторгом,
надрывом и тоской, потому что в ее болезненном облике светилась ду-
ша, а в танцах просвечивалась обрывающаяся линия жизни. Спектакли
Спесивцевой казались прощанием с красотой, упоительными и мучи-
тельными сумерками балета. А зрителей, настроенных менее лириче-
ски, эти спектакли притягивали другой своей, собственно театральной
стороной: искусство Спесивцевой было в романтическом смысле этого
слова «интересным». Она демонстрировала и очень простодушный и
очень сложный балет, она была и очень трогательной и очень
тревожной балериной. В классический театр она внесла представление
о творчестве, навсегда или по крайней мере на долгие сроки утра-
тившем покой, объятом тревогой и внутренне драматичном. Ее предше-
ственницы в Мариинском театре, танцовщицы академической выучки,
прошедшие школу Мариуса Петипа, владели высокой техникой и
артистическим мастерством, искусство их было очень сложным в техни-
ческом и художественном отношении, оно было законченно-вирту-
озным. Спесивцева сохранила все это, но ее сложность была иной —
психологической и, шире того, духовной. Природа, ощущение времени,
прямые контакты с петербургской культурой 10-х годов и, наконец,
дивный и тягостный дар — все это помогло (или заставило) наполнить
роли Спесивцевой таким содержанием, которого там до нее никто не
предполагал, никто, кроме нее, не искал, а ведь она вовсе не принадле-
жала к числу бесстрашных. Напротив, в душе ее жил страх, и ее посто-
янно тянуло к людям, господствующим в жизни. Ей нужен был заступ-
ник, защитник, сильный партнер, и чисто женское очарование ее
пластики, ее взгляда, ее актерской игры состояло в той грации, с какой
она взывала к заступничеству судьбы, и в том смирении, с каким она
склонялась перед лицом нетерпеливой силы. Но были сферы жизни,
которые ее неудержимо влекли, и тут она забывала смирение, страх,
осторожность. Актриса в ней побеждала слабую женщину с характером
(и судьбой) сиротки. Есть сведения, что, готовя «Жизель», она посе-
щала клинику для душевнобольных; есть записи в ее случайно сохра-
нившихся дневниках, свидетельствующие о чуткости и смелости ее
актерских прозрений. А сохранившиеся фотографии говорят о прозре-
ниях пластических, танцевальных. Почти каждая поза поражает закон-
ченностью, плавной, печальной, почти что потусторонней и вместе с тем
заостренной, неуспокоенной красотой, и можно лишь отдаленно пред-
ставить себе всю магию ее танца. Она удлиняла и утончала танце-
вальную нить, и она же рвала ее, она вносила в безмолвное пение линий
внезапный, иногда кричащий контраст, она строила танец на пластиче-
ском контрапункте. Этим умением до нее никто не владел. Это искус-
ство у нее переняли танцовщицы последующих поколений.
В квартире-музее Н. С. Голованова, в Москве, хранится портрет
Ольги Спесивцевой, написанный Семеном Сориным, известным худож-
ником балерин, искусным салонным живописцем. Портрет производит
двойственное впечатление: невозможно оторваться от нежного лица, но
странными кажутся плохо прорисованные руки. В руках у Спесивцевой
жемчужная нить, и весь портрет выдержан в пепельно-жемчужной гам-
ме. Пепельные волосы, пепельные ресницы и ясный взгляд серых глаз
осторожно подводят нас к образу двадцатисемилетней танцовщицы.
Однако на сцене, по свидетельству всех очевидцев, она казалась
темноокой, а не сероглазой. И волосы ее на всех фотоснимках черны,
что создает интенсивный контраст с бледностью почти призрачного
лица и белизной длинной тальониевской пачки. Спесивцева была бале-
риной двух контрастных тонов, идеальнейшей «белой балериной».
Белое и черное — краски ее личной манеры, цвета ее артистической, а
может быть, и человеческой судьбы, границы ее театральной жизни. За
эти границы она переходила неохотно, яркая красочность костюма (так
же как и яркая красочность страстей) ее почти не влекла, казалась и
слишком чувственной и слишком материальной. По-видимому, она
думала, что яркие краски лишь утяжеляют балет. Ее же балет был силь-
фидным, неутяжеленным. Но «белое и черное» ее балетных ролей обла-
дали такой гипнотической силой, какую не несли самые неистовые
живописные фантазии декораторов и артистов 10-х годов, прошедших
искус бакстовско-фокинской «Шехеразады». Искусство Спесивцевой
являло собой подлинный, недекоративный романтизм, романтизм
чистейшей воды и высшей пробы. Душа ее легко откликалась на
музыку и лирику «мировой скорби». И высочайшие достижения ее
репертуара — Белый лебедь в «Лебедином озере» и Призрак Жизели в
балете «Жизель».
Наверное, лучше бы сказать с иным ударением: не призрак, а
призрак, как в пушкинском «Евгении Онегине»: «...кто чувствовал,
того тревожит призрак невозвратимых дней». Это было то, что танце-
вала Спесивцева. Так она ощущала себя, свой неосязаемый танец, свою
сказочную и несвоевременную красоту. Так, в очень широком стиле,
она понимала «Жизель»: живой танец на фоне могил, живое движение,
в котором исчезает реальность. И так, с некоторым сдвигом в область
жестокой фантастики, она объясняла тайну второго акта балета.
Жизель — девушка, в которую вселился призрак. Виллиса — призрак,
губящий живую душу. Спесивцева была первой танцовщицей, задумав-
шейся над символическим смыслом танцев виллис, над символическим
значением темы виллисы. То, что она открыла, ужаснуло ее. Она поня-
ла, какие недобрые силы таятся под белотюниковым покровом «Жизе-
ли». И она вынесла наружу и этот ужас и эту колдовскую недоброту,
она станцевала виллису. Серж Лифарь, многолетний партнер Спесив-
цевой, в своей книге, изданной в Париже в 1942 году, остроумно сбли-
жает этот образ с образом вия. Он утверждает, что корень обоих старо-
славянских слов един. Может быть, это и так, но безусловно верно дру-
гое: догадкой своей Лифарь обязан Спесивцевой, ее интуиции, ее Пу-
гающим догадкам о том, как может быть слаб человек и как легко
попасть во власть призраков, страшных снов и чужой воли. В «Жизе-
ли» Спесивцева играла испуг артистической души, которой откры-
лось, какой путь она избрала и какие монстры ее окружают.
Но все это черная сторона образа, затемненная сторона роли, ее
побочный, контрастный мотив. Главная тема— песнь любви, это
вообще главная тема Спесивцевой. Сам облик Спесивцевой, любая под-
робность ее лица, вроде, например, очерка рта, выдавали в ней танцов-
щицу любовной песни. А танец ее — метаморфозы любви, и прежде
всего танец в белом балете. Спесивцева словно бы возрождала
старинное представление о том, что бледность лица (так же как и
вообще белый цвет) — черта одержимых любовью. Вот в чем Спесив-
цева видела человеческий смысл инфернального танца виллис. Вот как
она поняла потаенный, простой и окончательный смысл «Жизели».
Роль строилась на контрасте восторженной влюбленности (первый акт)
и любовной одержимости (второй акт), на смелом движении от пасто-
рали к мистерии, необычной мистерии женской любви, которую разы-
грывала белая танцовщица с опущенными складками карминного рта и
пылающим темнооким взглядом. Нежная танцовщица танцевала гроз-
ный мотив. Ее любовная песнь включала в себя и райские и резкие
ноты.
Свою одержимость Спесивцева распространяла и на сам белый
балет. Это была балерина, одержимая любовью к старинному классиче-
скому танцу. Проще сказать, она была влюблена в свою профессию, в
свое ремесло. И эта влюбленность стала отрадой и мукой всей ее
жизни. От природы она была наделена слабым здоровьем, часто болела,
у нее не хватало физических и нервных сил, чтобы быть виртуозной
танцовщицей и великой актрисой. Об этом опять-таки свидетельствуют
записи в ее скромных тетрадках. Она жалуется на упадок энергии, воли,
способности танцевать, она казнит себя за допущенные ошибки. Она и
на сцену выходила, как выходят на казнь, очень часто со скорбным
лицом, что раздражало балетоманов, привыкших к лучезарным бале-
ринским улыбкам. Жертвенная идея «Жизели» владела ее душой, она
принадлежала к поколению, призванному принести великую жертву.
Она знала, что творчество погубит ее, лишит дома, близких, семьи,
последних и самых последних сил, она чувствовала, что, как и Жизель,
кончит душевной болезнью. Виллиса для нее не вий, но вампир, и она
видела в виллисе черный образ балета. Но все-таки страсть к танцу
брала над всем верх, она занималась по нескольку часов в день, чего не
выдерживала ни одна из ее более молодых и гораздо более крепких
подружек. И она танцевала столько, сколько ей давали танцевать, и
всегда чувствовала свою страсть неутоленной. Нет, не страхи, не скорб-
ность и не жертвенность составляли загадку ее, а старый, как мир,
театральный восторг: Спесивцева была очень восторженной балери-
ной. Когда театральный восторг загорался на ее скорбном лице, она
становилась способной на чудо. Когда восторг остывал, физическая и
моральная усталость брала свое, и зрители с ужасом видели на сцене
холодную или же истерически взвинченную почти марионетку.
Мы не преувеличиваем: почитайте прессу 20-х годов, статьи Акима
Волынского, любившего Спесивцеву более сильной любовью, чем ста-
рому критику положено любить балерину.
Ее божеством, ее идолом был классический арабеск. Она создала
свой собственный тип склоненного арабеска. Глядя на фотографии
Спесивцевой в этой позе, понимаешь, что на них изображено: бале-
рина поклоняется арабеску. Арабеск — единственное убежище этой
бесприютной души, единственная реальность, которая существует для
нее в призрачном мире балета. Арабеск связывал ее с потерянным
прошлым, с исчезающим собственным образом, с собой, — как держатся
за соломинку, она держалась хрупкой линии арабеска. В пустоте мира
теплится лишь жизнь арабеска — так Спесивцева трактовала «Жизель»
и так она трактовала позу Марии Тальони.
Мария Тальони тоже была ее божеством, и она повсюду возила с
собой портрет легендарной Сильфиды. Она решила уйти со сцены, как
и Тальони, в возрасте сорока лет. Она принадлежала к числу тех арти-
сток, кто с ранних пор думают об уходе. Такие решения не принима-
ются наобум. Но мы никогда не узнаем, что было главной причиной,
что было последним толчком: усталость, покаянный призыв или же
обида настороженной любви, которая не прощает разочарований.
Как это ни странно, о Петипа не написано монографий. Ни разверну-
тых, в масштабах книги, ни кратких, в масштабе статьи. Существуют
фрагментарные, очень короткие, хотя и очень глубокие суждения
А. Волынского, и есть балетмейстерские штудии отдельных спектаклей,
принадлежащие перу Ф. Лопухова и представляющие собой неоцени-
мые образцы историко-балетных исследований. Имеется один и другой
биографический очерк Ю. Слонимского и, наконец, разделы в учеб-
никах-книгах В. Красовской — вот, кажется, все, что написано о Пети-
па*. Историки балета предпочитают исследовать то, что исчезло, то, что
может быть, никогда не существовало. Балетная Атлантида влечет их
сильнее, нежели живой — пока еще живой — и реальный репертуар.
Общественное мнение пренебрегало творчеством Петипа и раньше.
Объясняется это традиционным обыкновением отождествлять содержа-
ние и сюжет, искать содержание балета в сюжете. Между тем Петипа —
величайший хореограф, каких только знал балетный театр, содержание
его творчества хореографично. В балетах Петипа надо сле-
дить за линией, а не за интригой. Петипа высвободил, выпрямил и
укрупнил линии движущихся балетных групп и линии противоборству-
ющих театральных мотивов. Он как бы убрал с прекрасного здания
леса. Именно Петипа придал балетному спектаклю ту окончательную
структурную форму, которая определила само понятие классического
балета. В спектаклях Петипа выкристаллизовался строгий канон жан-
ра. Но прежде чем совершить путешествие в мир Петипа, сделаем еще
несколько предварительных замечаний.
Творческий тип, к которому принадлежал Петипа, трудно обозначить
каким-либо слишком определенным словом. В нем совмещался нова-
тор и традиционалист. Некоторым критикам он даже казался архаис-
том. Новатор направил развитие балета в сторону новых тенденций,
которые постепенно брали верх, — в сторону классического танца. Тра-
диционалист оставался верен заветам старых мастеров, архаист сохра-
нял условную пантомиму. Петипа, как никто, ощущал свою связь с
прошлым и будущим жанра. Ему в высокой степени было присуще
ощущение длительности художественного процесса, длительности того
дела, которым он занимался и которое избрало его. Балет для него —
надвременное искусство. Он находил в порядке вещей, что балет суще-
ствовал до него и будет существовать после его ухода. Художественное
сознание Петипа было эпичным. Эпическое сознание Петипа опреде-
лило форму его балетов, их неповторимый монументальный стиль.
Петипа покончил с театром коротких танцевальных сцен и создал театр
протяженных танцевальных композиций. Непревзойденный мастер так
называемых гран-па (больших классических па), Мариус Петипа на
* Биографические брошюры, изданные в Петрограде к столетию Петипа, в
счет не идут, как и более раннее сочинение А. Плещеева, критика-дилетанта.
протяжении своей долгой жизни (1818—1910) более всего ценил в
балете то, что выстраивать умел он один: долгую жизнь танца.
В эпоху Мариуса Петипа закончился полулегендарный и начался
исторический период развития балета.
Мариус Петипа внес на сцену блеск и роскошь мотивов, которыми
балет овладевал с осторожностью, либо которые обходил стороной.
Балетмейстерская смелость Петипа великолепна. Его волновали темы
соперничества, преступлений и, конечно, страстей, ему замечательно
удавались сцены охоты. Охотники появлялись на балетных подмостках
и до Петипа, но лишь в роли статистов. В «Жизели» охотники проносят
оленя или кабана, сама же охота уводится за кулисы. Охотничья сцена в
«Жизели» — всего лишь декоративный жанровый эпизод, картинка
средневекового придворного быта. Петипа и сам был мастером подоб-
ных картин, сам был несравненным балетмейстером-жанристом. Но
хореографа Петипа искушала иная, более дерзкая цель: при помощи
хореографии превращать конкретные и красочные жанровые картины
в обобщенные картины жизни. Впервые в истории балета он ставит
сцену охоты как развернутый хореографический эпизод, поручив роль
охотницы академической балерине и с блестящей находчивостью сбли-
жая формы охотничьего ритуала с формами хореографических па, с
условными формами действия, принятыми в классическом балете.
Забегая вперед, сразу же скажем, что в этом одна из основ его
метода, его хореографической режиссуры.
С охотничьей сцены началась большая судьба Петипа, поскольку
картина охоты открывала (сразу после пролога) «Дочь фараона», его
первый многоактный петербургский балет. Эта картина поразила бале-
томанов. Жаль, что ее не видел певец охоты Лев Толстой, хотя нет
сомнений: его отвратил бы спектакль в целом, сумбурный по смыслу и
несовершенный по ремеслу. Но сцена охоты— как знать?— может
быть, и примирила бы Толстого с Дюпором*. В дальнейшем (а «Дочь
фараона» поставлена в 1862 году) охотничья тема не раз возвращается
в творчество Петипа, и образ охотницы для него — один из заветных.
Петипа дает балетную жизнь мифологической охотнице богине Диане
(из мифологии рококо столько же, сколько из мифов Эллады), а глав-
ное, что увенчает его увлечения и обессмертит его труды, Петипа
сотворит беспредельно живой образ Черного лебедя, метафорической
охотницы Одиллии (из сказочно-романтической метафористики начала
XIX века).
Метафора охоты разработана в «Лебедином озере» с блистательным
и поныне непревзойденным мастерством, как и другая метафора: лири-
" Дюпор — французский танцовщик, презрительно описанный Толстым во вто-
ром томе «Войны и мира», в сцене посещения оперы Наташей Ростовой.
ческая метафора озера. Во второй картине происходит встреча охот-
ника-принца Зигфрида с аркебузом в руках и Белого лебедя, безза-
щитной Одетты. Эту встречу, как и всю вторую картину балета,
поставил соавтор Петипа, Лев Иванов. На балу, в третьей картине,
Петипа в романтическом стиле, стиле высокой иронии, пародирует этот
сюжет, травестирует эту тему. Ситуация схожая, а роли распределены
наоборот. Снова мы видим охотника и его жертву, но на этот раз безза-
щитная жертва — сам принц, а охотник — Одиллия, обольстительни-
ца, вооруженная коварством и шармом. Вся сцена танцуется, в отличие
от предшествующих пантомимных сцен. Здесь нет аркебуза и никаких
других предметных аксессуаров. Зато есть руки танцовщицы, ее сме-
лые— беспредельно смелые— пор-де-бра. Нет охотничьих жестов,
вскидывания ружья, никакой наивной бутафорской режиссуры. Есть
жесты любовной охоты, падения корпуса, притворство тела и его
непритворный азарт, есть зрелище охоты — игры победоносной жен-
ственности с беззащитным мужчиной. Это одна из излюбленных тем
Петипа. В разработке ее он виртуоз, а в следовании — поэт-романтик.
Мир женской власти исхожен Петипа вдоль и поперек. Это действи-
тельно всегда вдохновенный, вечно новый поэт женщины, поэт балери-
ны. И все-таки образ женщины и тема охоты в спектаклях Петипа
играют не единственную и даже не главную роль. Прежде всего он
своеобразный философ жизни.
Мир Мариуса Петипа: вечный праздник, кончающийся неминуемой
катастрофой. Праздник у Петипа длится всегда, и тем не менее с необ-
ходимостью и в свое время наступает катастрофическая развязка.
Это— закон его театра, его философия, его постоянный сюжет. Все
фабульные построения так или иначе варьируют эту тему.
Два типа праздников присутствуют в мире Петипа: праздники быто-
вые, жанровые и праздники романтические— балетные «сны». Они
образуют контраст, подобный тому, на котором основана драматургия
«Сильфиды» и «Жизели». Но у Петипа этот контраст почти не выходит
за грань единого праздничного стиля. В некотором смысле он более
тонкий, этот контраст, хотя и менее драматичный.
Праздники жанровые, бытовые устраиваются по определенному
поводу и в определенный срок. Совершеннолетие принцессы Авроры
или совершеннолетие принца Зигфрида, приход весны, летний рыцар-
ский турнир, зимняя рождественская елка, выбор жениха или обручение
с невестой и, соответственно, бал: бал во дворце, детский бал в большой
гостиной, бал-маскарад на природе, бал-карнавал на городской площа-
ди, в парке или даже на опушке густого заросшего леса.
Праздники романтические — «сны» Петипа — не имеют ни повода и
ни срока. Они возникают наперекор всему: логике обстоятельств, зако-
нам последовательной драматургии. Они останавливают, а в некоторых
случаях — переиначивают сюжет. Они задерживают ход времени, а тем
самым устраняют страх смерти, тревогу. Они вносят на сцену плыву-
щий, волнообразный, медленно нарастающий ритм — ив самом деле
ритм снов, ритм забвения, ритм нирваны. Балы Петипа, напротив, стре-
мительны и быстры. Бег времени — их внутренняя тема. С особенным
блеском она воплощена в картине бала «Лебединого озера», а этот бал,
в отличие от многих других балов Петипа, не жанрово-бытовой или же
не жанрово-бытовой только. Упоение бегом времени— в блистатель-
ном выходе Черного лебедя, в ее ненасытном, неостановимом беге-
антре, в ее все сжигающем беге-коде. Одиллия — точно черная демо-
ническая душа темпа аллегро. А «сны» Петипа— «сны»-паузы,
«сны»-остановки, «сны» сосредоточенной работы души, и их смысл
раскрывается в главных частях, которые идут в медленном темпе, в
темпе адажио. Никто не сочинял таких длительных, таких сложных и
таких виртуозных кордебалетных адажио, как Петипа. Ни у кого этот
темп не получил такого развития, таких художественных полномочий.
И никогда еще этот строгий темп не носил в себе столько скрытой
радости: адажио Петипа — хореографическая формула счастья. Мечта
человечества о вечном празднике воплощается в «снах» Петипа, бал же
Одиллии напоен вольнолюбивой мечтой о побеге.
Но есть и другое различие, более постоянное, типичное для Петипа.
Балы Петипа— дивертисменты характерного, полухарактерного или
так называемого «историко-бытового» танца. Реальная история танца
оживает на этих балах. А общая основа балов— обряд, обрядовые
формы европейской культуры. Исчезающие или исчезнувшие совсем
под натиском новых, безобрядовых форм жизни, сложившихся в боль-
ших городах, они тщательно и любовно воссоздаются в балетах. Они
получают в них вторую жизнь. Для Петипа они не представляют собой
умершего великолепия, навеки уснувшей красоты, как — в некоторые
времена — для Мейерхольда. Обрядовые формы европейской культу-
ры в балетах Петипа полны живого блеска и живой красоты. Все эти
рыцарские турниры, свадебные церемонии, ритуалы совершеннолетия,
жениховства и обручения составляют их зрелищный фон, их фабулу и
даже интригу. Петипа — великий поэт ритуальной эстетики, эстетики
публичных обрядов, выработанных в Европе в послеантичные времена.
Можно также сказать, что Петипа — великий европеец. Но Петипа не
мирискусник, не «пассеист», заступник прошлого, оппонент будущего,
критик живого. Как художник он не стилизатор. Старинный уклад,
старинные танцы — лишь фон, на котором он разворачивает классиче-
ские ансамбли, классические балетные «сны». Петипа поэтизирует
формы балета, не имеющие истории, никогда не существовавшие в
прошлом. «Сны» Петипа— поэтический образ XIX века, но также
прообразы еще не оформившегося искусства, видения будущего, они
лучезарны. На время «снов» нередко включается полный свет. Такое
происходит, например, в «Дон Кихоте».
Как явствует из названия, «Спящая красавица» возникла из «снов»
Петипа — это итог, увенчание и гениальная разработка всех предше-
ствующих открытий. В «Спящей красавице» есть свой эпизод «сна» —
знаменитая сцена «нереид» с участием трех солистов и кордебалета. Но,
в сущности, все картины балета — светлые сны, сны юности, весенние
сны человека. Дыхание праздника наполняет балет, становится его рит-
мической основой, панорама празднеств — его сюжет, но кульминация
«Спящей красавицы» — внезапная катастрофа. Катастрофа разража-
ется на гребне взметнувшейся ввысь судьбы, после высоких прыжков
Авроры, венчающих цепочку ее больших и малых танцев, ее сложное
па, длящееся бесконечно. Эта последовательность различных балерин-
ских эпизодов— единственная во всей истории классического балета.
Даже у Мариуса Петипа, великого мастера протяженных па, нет ничего
равного по протяженности, по масштабу. В одном акте балерина тан-
цует целый балет. И более того, целый балет вмещен в одну почти
непрерывно идущую сцену. Четыре, а точнее пять эпизодов (выход,
большое адажио, вариация и двойная кода), прерываемые лишь ненадо-
лго короткими интермедиями фрейлин и пажей, создают атмосферу
праздника, которому не видно конца. Время остановилось. Солнце
застыло в зените. Райская музыка пролилась на земле. И в этот
момент, момент высшей вальсовой эйфории, Аврора получает еле
заметный укол, и на безоблачный балетный мир ложится тень страш-
ной, хотя и сказочной насильственной смерти.
Что же убило Аврору? Что занесло в сказку дух катастроф? Почему
вообще праздники Петипа завершаются неминуемой катастрофой? На
эти вопросы не так просто ответить. Мотивировку обязательных драма-
тических перипетий Петипа определить нелегко. В мире Петипа нет
места античному року. И даже шекспировской вине здесь не всегда
находится место. Сказать, что Петипа наказывает праздник за
праздничность — значит модернизировать Петипа, придав ему не свой-
ственные черты моралиста. Унылого моралиста — добавим к тому же,
с чертами лафонтеновского муравья и современного, совсем не басен-
ного экзистенциалиста. Но Петипа и не думал презирать танцующих
стрекоз, всю жизнь он, напротив, сочинял для них танцы. Праздник в
спектаклях Петипа не несет никакой вины, он абсолютно безгрешен.
Праздники Петипа не только морально оправданы, но более того —
сами олицетворяют мораль, притом это мораль большого стиля. В ис-
кусстве балета, а может быть, и в театре вообще, нет другого худож-
ника, с такой гениальной свободой воспевшего человеческий праздник,
с таким гениальным умением слившего в празднике стихию веселья,
напряжение деяния и даже — в адажио — суровый патетический долг.
Как для людей Ренессанса, для Петипа праздник— это театральная
форма культуры. Поэтому праздник Петипа столь строг, столь компо-
зиционно закончен. И все-таки он обречен, как обречена породившая
его и цветущая культура. Еще раз зададимся вопросом: почему? По
многим причинам, а не по одной. Петипа, видимо, хорошо понимал, что
XIX век, который он так любил, не может быть вечным. Финал
второго действия «Спящей красавицы»— это похороны века, убитого
на лету. Петипа, как многие гуманисты его поколения, страшился реак-
ции, вторжения архаических, фанатичных и враждебных искусству сил,
он знал, что после Лоренцо Великолепного приходит Савонарола. Но
кроме того, Петипа понимал, что праздник — не есть адекватный образ
XIX века, он знал, что праздник не покрывает и не может покрыть
всего содержания жизни. В глубинах жизни таится энергия боли, энер-
гия хаоса, энергия мятежа,— жизнь много богаче праздника, и этим
она прекрасна.
Катастрофа в системе Петипа — не абсолютное зло, в некоторых
балетах это вообще не зло, а черный праздник. Петипа был закон-
ченным романтиком, романтиком в юности, романтиком и под старость.
Он воспринял обе главные мировоззренческие темы романтизма, днев-
ную и демоническую ночную: поэзию всемирного праздника и поэзию
мировых катастроф. В финальном, не сохранившемся акте «Баядерки»
Петипа создавал зрелище в духе картин Делакруа и в стиле картины
Брюллова («Последний день Помпеи»): карающая молния пала на дво-
рец, стены рушатся, и под их обломками гибнет веселый венчальный
праздник. Но в «Баядерке» катастрофа изображалась машинерией,
поэтому исчезнувший акт и исчез, вместе с забытыми ныне секретами
бутафорских эффектов. А в «Лебедином озере» катастрофа танцуется
на наших глазах, это акт хореографически поставленной катастрофы.
Одиллия предвещает и сама же воплощает ее: она метит своими зага-
дочными жестами стены дворца, как метили стены гугенотских домов
перед Варфоломеевской ночью. Контрасты «Лебединого озера» вклю-
чают и этот мотив: лирика Белого лебедя— чистая лирика, страша-
щаяся катастроф, а лирика Черного лебедя — демоническая лирика, по-
лермонтовски воспламеняющаяся ими. И даже в «Спящей красавице»
вторжение феи Карабос означает не только наступление века Савонаро-
лы, не только прерванный и запрещенный Ренессанс, и Петипа следит
sa мизансценами Карабос не только испуганным взглядом. Он сажает
ее на трон и с ее помощью опрокидывает установившийся ритуал,
принятый чинный порядок жизни. Фея Карабос вносит в современный
балет средневековый карнавальный мотив: скандал и стилистику карна-
вала. Фея Карабос— грандиозная гипербола карнавальных стихий, и
сама эта грандиозность возникает у Петипа не случайно. В столкнове-
нии праздника и катастрофы Петипа видит картину грандиозности жиз-
ни.
Грандиозность влекла Петипа — грандиозность жизни, грандиоз-
ность искусства, грандиозность театральных замыслов, грандиозность
театральных залов. Может быть, это и привело его в Петербург, на
сцену петербургского Большого театра, самую просторную сцену
Европы. Свой дебют в качестве главного балетмейстера в Петербурге
он отметил постановкой «Дочери фараона» — балета, небывалого по
роскоши, числу действующих лиц и статистов и даже по количеству
картин: их было семь. Древнеегипетский балет Петипа поставил с древ-
неегипетским великолепием и фараонским размахом. Кажется, сорока-
четырехлетний балетмейстер, веривший в свою звезду и свои силы,
представлял свое будущее в виде долины пирамид: пирамида, во всяком
случае, фигурировала в прологе и эпилоге спектакля. Притязания
Петипа были опасно смелы и решительно отличались от притязаний
Филиппа Тальони и Жюля Перро, предшественников и учителей, созда-
телей раннеромантического двухактного балета. Там был камерный
стиль, а Петипа утверждал большой симфонический стиль, там сохра-
нялся условный «пейзанский масштаб», а Петипа мыслил масштабами
города, европейской столицы. Петипа — первый подлинный урбанист в
истории европейского балета. Ансамбль— планировочный принцип
великого города — положен в основу его хореографических планов.
И соответственно он преобразил хореографический масштаб, масштаб
собственно танцевальных па, утвердив новые представления о необхо-
димом, возможном — о норме. Па «Теней» из «Баядерки» производит
грандиозное впечатление и сейчас, с участием тридцати двух танцовщиц
кордебалета. На премьере, на сцене сгоревшего петербургского Боль-
шого театра, их было в два раза больше— шестьдесят четыре, что
трудно себе представить, что почти невозможно зрительно вообразить.
Перенося «Баядерку» на сцену Мариинского театра (где она идет и
сейчас), Петипа уменьшил кордебалет наполовину и, по-видимому,
поступил совершенно разумно. Когда, выстроившись в четыре ряда,
«тени» в унисон вынимают ногу a la second или одновременно стано-
вятся в арабеск, повернувшись в три четверти к зрительному залу, —
величие открывшейся картины эффектно контрастирует с утонченным
силуэтом самих танцовщиц— стройных, изящных, почти призрачных,
почти невесомых. Здесь нет уже никаких египетских пирамид. Здесь
найдена формула грандиозности, соизмеримая с лирической сущностью
балетного театра. Сама сцена Мариинского театра, идеально спланиро-
ванная архитектором (Страдивариусом театральной архитектуры), тре-
бовала и от Петипа идеальных пространственных решений. «Дочь
фараона» превращала сцену в огромный, блестящий саркофаг. «Ба-
ядерка» и «Спящая красавица» сделали ее похожей на деку. Египетский
период в творчестве Петипа кончился с пожаром Большого театра.
В Мариинском театре Петипа создавал европейский или, точнее, петер-
бургский балет.
И, соответственно, нормы европейского искусства определили его
представление о прекрасном. Он был изящен, этот поклонник гран-
диозного, особенно в зрелые годы. А. Волынский даже ошибочно при-
знал в нем художника рококо. Но тот же Волынский писал о француз-
ском (надо бы — петербургском) барокко. В лучших произведениях
Петипа гармонично совмещался двойной масштаб: монументальный
масштаб крупной формы и изящный масштаб сценической миниатюры;
здесь гармонично соединялся большой ансамблевый стиль и стиль
камерный, стиль замкнутого, утонченного, отточенного эпизода.
И Жюль Перро и Филипп Тальони тоже могли найти себя — и не поте-
ряться— в безбрежном море Мариуса Петипа. «Спящая красавица»,
шедевр Петипа, не только осуществляет эту гармонию, но делает ее
сюжетным мотивом. Ансамбль фей своим коллективным адажио дарит
Авроре дар величия, дар барокко или же, говоря профессиональным
языком, — балеринский дар, дар больших адажио, дар больших поз, дар
крупной формы. Каждая из фей дарит Авроре дар изящества, дар
рококо и в то же время— дар вариации, дар мелких движений, дар
малой балетной формы. Подлинная Аврора владеет тем и другим,
примиряет две крайние сферы балета. В грандиозном адажио с
четырьмя кавалерами она демонстрирует большой балеринский стиль,
который можно назвать оркестровым стилем. А вслед за адажио она
танцует изящнейшую вариацию в сопровождении солирующей скрип-
ки, наигрывающей еле ощутимый вальсовый мотив. «Забытый вальс»
и забытый скрипичный стиль возрождаются в балеринском танце Авро-
ры. Грандиозное оркестровое tutti и грациозный скрипичный пассаж
соседствуют на протяжении двух номеров большого балетного ансамб-
ля. Исполнительница роли Авроры должна быть на высоте там и тут.
Петипа создает портрет идеальной балерины. А «Спящая красавица» в
целом — идеальный балет. Три акта ансамблевых композиций заверша-
ются парадоксальным апофеозом, четвертым актом, который представ-
ляет собой парад эпизодов, дивертисмент миниатюр: в апофеозе сла-
вятся малые силы балета. Недаром здесь инсценируются детские сказ-
ки, а в двух номерах («Красная шапочка» и «Мальчик с пальчик») на
сцену выходят ученики-дети. Большой и расцветший стиль «Спящей
красавицы» не исключает, но защищает лишь только начинающее цве-
сти искусство. Всем своим смыслом и непосредственным содержанием
своим, фабульным мотивом злой феи и угрюмого царства ее, «Спящая
красавица» направлена против такого псевдомонументального или
ложно героического балета, который требует для себя великих приви-
легий и великих жертв, умеет быть только монументальным, только
надменно-эпическим и только сверхчеловеческим и, как Тамерлан,
оставляет после себя груду пепла и память, выжигающую сердца.
Подобный балет для Петипа — бескрыл, а не героичен.
Чревато бедой, катастрофой, если подобный балет выдает себя за
образец или же норму.
Увы, в самые последние годы творческой деятельности дивная гар-
мония «Спящей красавицы» уже не давалась Петипа. Старость, болез-
ни, упадок творческой воли делали свое дело и привели к тому, что
единое целое распалось на прежде неразъединимые элементы. И этот
распад единой системы только подчеркивался тем фактом, что старый
маэстро работает за двоих, одновременно на двух различных петербург-
ских площадках. В Малом Эрмитажном театре он ставит небольшие
одноактные и двухактные пьесы, и каждая из них — шедевр, хотя и в
старинном, стилизованном духе («Испытания Дамиса», «Времена
года», «Арлекинада»). А в Мариинке он готовит «Волшебное зерка-
ло», феерию на прощанье, под занавес долгого пути, намереваясь
превзойти в грандиозности все, что им было создано в прошлом.
Главный грандиозный эффект — зеркало очень большого размера,
наполненное ртутью и отражающее сцену и зрительный зал. Перед
премьерой стекло лопнуло, а с ним погибли все планы. Прощальная
симфония оказалась во всех отношениях неудачной. Катастрофа с зер-
калом, случившаяся в 1903 году, означала конец грандиозности как
стиля в балете. Слово было за Фокиным, готовившимся к тому, чтобы
создать иной стиль, балет совершенно иных измерений. В 1907 году
Фокин ставит «Умирающий лебедь», а за два года до того Петипа
удаляют из театра, и его имя на какое-то время исчезает из анналов
балета. Небольшие статьи А. Волынского в газетах 10-х годов не
смогли воскресить репутацию Петипа, его спектакли идут, но имя —
полузабыто. Чтобы полностью оценить значение Петипа, потребовался
почти целый век. Впрочем} он сам — в «Спящей красавице» — пред-
сказал эти сроки.
Петипа начинал как типичный романтический артист-гастролер, а
кончил как создатель петербургской академии танца. В юности это
блуждающая звезда, в старости — строитель культуры. Феномен Пети-
па поразителен не только длительностью художественного пути, но
прежде всего нарастанием художественной воли. Это история художни-
ка, который долго и медленно шел в гору — вверх и вперед. Есть что-
то альпийское в этом артисте, родившемся не в горах, но на берегу Сре-
диземного моря. Мариус Петипа прожил более девяноста двух лет, на-
пряженно работал до восьмидесяти семи и основные шедевры создал в
последний период жизни. С годами он становился талантливее, глубже,
мудрее. Лишь жизненная сила мало-помалу оставляла его, в старости
он часто и подолгу болел, но дар его, поистине вулканический дар,
возрождался из пепла болезней, как феникс. Существуют дневники
Петипа, которые он вел на протяжении 1903—1905 годов, три послед-
них года пребывания в театре. Их краткость производит едва ли не
такое же впечатление, как и описанная в них жизнь. В сущности, это
хроника странной войны: физической дряхлости и фантастического
дара. Почти каждодневные горькие жалобы на усталость, головокру-
жение и боли в ногах. И почти каждодневные гордые записи о прове-
денных репетициях, новых придуманных па и заново поставленных
балетах. Человеку труднее ходить, чем сочинять вариации и ансамбли.
Старик на глазах угасает, а гений горит ярким огнем. Конечно, в этой
борьбе не на жизнь, а на смерть, в этом стремлении преодолевать
самого себя и еще, хотя бы на день, продлить срок свидания с музами (а
также — что вовсе немало значило для властолюбивого Петипа — срок
своего театрального царства) — во всем этом какую-то роль играла
простая сила привычки, раз навсегда заведенный порядок, утвердив-
шийся ритм, завладевший душой человека,— а ведь Петипа был
танцовщиком, балетмейстером, профессионалом ритма и за долгую
жизнь мог сам обратиться в ритмическую фигуру. Подобные превраще-
ния в манере Гофмана не так уж редки. Но Мариусом Петипа управ-
ляло другое, живое упрямство. В нем жил долг и жило деяние, в нем
совершенно не было творческой лени, которая поражает людей удачи,
как сладостный паралич. Ни возраст, ни слава, ни общий упадок балета
в Европе на Петипа не влияли: безвременье не сделало его безде-
ятельным и ко всему безразличным. Почти каждый год он ездил в
Париж — хотя бы для того, чтобы быть в курсе театральных событий.
Он знал — и не понаслышке, — что происходит в Берлине, чего стоит
новый балетмейстер, ангажированный в Варшаве, и каковы возможно-
сти новой балерины, явившейся из Милана в Москву. Осведомлен-
ность для Петипа — одно из обязательных качеств профессионала. Им
двигал обычный живой интерес и интересы профессии, обязательства,
принятые в 60-х годах в Петербурге. Катастрофа европейского балета,
которую он наблюдал, лишь закаляла его творческую волю. Коллеги
смеялись, приходили в отчаяние, махнули на все рукой, а Петипа
создавал свой бастион, свою Академию танца. В эпоху безвременья он
думал о Ренессансе. Он принадлежал к художникам, которые наделяют
время своими чертами.
В молодости он был, конечно, другим: чуть более блистательным и
чуть менее оригинальным. В нем соединялось несколько масок: фран-
цуз, богема, странствующий артист-виртуоз. Непритворным, истинным
было одно: независимость, вольный дух и подчас вызывающее достоин-
ство романтического плебея. Молодой Петипа безрассудно верил в себя
и не кланялся никому. Это одна из причин, почему перед ним так и не
открылись двери «Гранд-Опера», великого недоступного театра. Дру-
гая причина— актерский стиль Петипа, слишком бурный и темпера-
ментный, недостаточно академичный. Молодой Петипа— романтиче-
ский художник страсти. Как и почти всякий подлинный актер-романтик,
он не боится впадать во что-то такое, что весьма похоже на сцениче-
ский натурализм. Е. Вазем рассказывает, как напугали ее, юную тан-
цовщицу, почти дебютантку, приученную к петербургской сдержаннос-
ти пылкие объятия Конрада — Мариуса Петипа и его страстный шепот
(«]е t’aime, je t’aime» — «люблю тебя, люблю тебя») в балете «Корсар»
в момент любовного дуэта. До Петипа в балетных дуэтах обычно мол-
чали. Молчали и продолжают молчать и после него (лишь Марина Се-
менова полуслышно вскрикивала в сцене сумасшествия Жизели). Ше-
пот в балете 40-х годов — такая же дерзость против академического ка-
нона, как крики драматических артистов в цитадели романтиков — па-
рижском театре «Порт-Сен-Мартен». Шепот вносил на академическую
сцену отголоски раскатов, открыто гремевших в театре Бульваров. Ко-
нечно, «Гранд-Опера» не могла принять эти повадки и этот стиль. В
«Гранд-Опера» царил Люсьен Петипа, старший брат, холодноватый,
академичный, державший себя в строгих рамках. Люсьен был вопло-
щением «du comme il faut», он и в балетах изображал аристократов.
Графа на премьере «Жизели» танцевал именно он. А Мариус блистал в
ролях байронически страстных и необузданных плебеев. На сцене и в
жизни он позволял себе дерзости, вольности, непозволительные эскапа-
ды, чуть ли не намеренно провоцируя общественный и опасный скан-
дал. О своей бурной молодости он рассказал в «Мемуарах». Молодой
Петипа постоянно испытывает себя и судьбу свою, ежесекундно броса-
ется на защиту своей гордости и своего таланта. «Comme il faut» — его
главный противник на сцене, на улице, в борьбе за роль в спектакле, за
место под солнцем и за благосклонность мадридских дам. Базиль из
«Дон Кихота» — автопортрет молодого Петипа: Мариус был так же
увлекателен, так же легко увлекался и так же не уступал дорогу вель-
можным соперникам с громкими титулами и туго набитыми кошель-
ками. Но так же рассчитывал лишь на себя: молодой Петипа — оли-
цетворение романтического вольнолюбивого индивидуалиста.
Молодость Петипа прошла в Испании, классической стране в пред-
ставлениях романтизма. Между прочим, Петипа первым поставил на
сцене «Кармен», сразу же после появления новеллы Мериме в печати.
И вот этот пламенный танцовщик, художник страстей и пылкий моло-
дой человек оказывается в северном императорском Петербурге. Воз-
никает ситуация, которую следовало бы описать бабелевским пером —-
пером писателя, в молодости тоже попавшего в Петербург с юга.
И у него тоже была репутация скандалиста. Впрочем, сам Петипа ин-
сценировал этот сюжет. В сущности, он всю жизнь не забывал этой
встречи. «Раймонда», поставленная в 1898 году, ровно полвека спустя
после появления Петипа в Петербурге, может быть интерпретирована
именно в таком ключе: как столкновение южного художника страстей
(хан Абдерахман) и северной балерины (Раймонда), как поединок
испанского романтизма и петербургского академизма. Почему испан-
ского? Да потому, что свита хана танцует испанский и мавританский
танцы, и это опорные точки в драматургии спектакля. Такая художе-
ственная коллизия ничем не менее драматична любых других. Две силы,
одинаково уверенные в своей правоте, опирающиеся на традицию,
авторитет и славу. Романтизм любил смешивать жанры и краски,
любил смешанные тона: хан Абдерахман по понятиям той поры
персонаж деми-характер или деми-гротеск (великим мастером таких
полухарактерных и полугротесковых персонажей был Жюль Перро).
Помимо того, романтизм любил эмоциональный беспорядок, смятение
чувств, и, наконец, романтический стиль игры предполагал чрезвычай-
ную нервность. Сам Мариус Петипа, как отмечают знавшие его, был в
высшей степени нервным артистом. И наоборот, возникший в лоне
большой классицистской традиции петербургский академизм культиви-
ровал танец, очищенный от грубых страданий и грубых страстей, от
характерности, гротеска и смешанной палитры. Это была уникальная,
утонченная система. Эмоциональная упорядоченность ценилась выше
всего. Нервность, как и небрежность, вызывала усмешку (Тамара Кар-
савина рассказывает, как отец ее, сам в прошлом классический танцов-
щик, насмещливо показывал артистические приемы Мариуса Петипа,
которого, тем не менее, в семье боготворили). Он был лишен нервного
напряжения, танец петербургских академических балерин, и полон
завораживающего и даже загадочного покоя.
Культура петербургского академизма плохо согласовалась с той
романтической культурой, которую принес Петипа. И тем не менее
ситуация, а также история требовали от него осуществить нелегкий
синтез. Этот синтез Петипа с годами осуществил, притом на очень
широкой основе.
Петипа начинал, когда балетный театр стал театром гениальной
балерины. Такова была ситуация на подмостках европейских столиц в
30—40-х годах прошлого века, и такова была структура балетных
спектаклей, появлявшихся в те времена. Практика и поэтика служили
одному божеству— танцовщице-этуали. На сц., е царили Мария
Тальони, Фанни Эльслер, Карлотта Гризи и еще несколько странству-
ющих виртуозок, а репертуар составляли «Сильфида», «Эсмеральда»,
«Ундина» и, конечно, «Жизель». Плеяде знаменитых балерин соответ-
ствовала плеяда знаменитых женских балетов. В них доминировала
балеринская партия, носительницей движения была танцовщица. Муж-
ская партия и в еще более широком смысле мужская роль (еще недавно,
в пору «Зефира и Флоры» Дидло, столь значительная, что имя танцов-
щика, как и имя его действующего лица, стояло на афише перед именем
танцовщицы) теперь стушевалась, отошла на второй план, чем было
резко нарушено неустойчивое равновесие, на котором держалась драма-
тургия балета. С годами балетный театр в Европе все более становился
театром одного актера (вернее: одной актрисы) и даже театром
одного, хотя и сверхсложного, па. Эта тенденция стала явственной к
концу XIX века. Типичный спектакль «fin de siecle» («конца века») —
спектакль одного действующего лица, несмотря на присутствие номи-
нальных протагонистов-партнеров. Типичная сцена подобных спектак-
лей — виртуозное соло, виртуозный монолог, например, тридцать два
фуэте или же серия тройных пируэтов. Исполнительницы — виртуозки
миланской школы. Другой вариант: монолог пантомимный, захватыва-
ющий натуральной мимикой, которой славились представительницы
другой итальянской школы, натуралистической, веристской, близкой к
итальянскому драматическому театру и итальянской опере тех лет.
Постромантический балет монологичен, в этом его упадок, его дека-
данс, его ущербная односторонность.
Что сделал Петипа? Умалил роль женщины-балерины? Вернул
мужчине утраченный трон? Вовсе нет — ни то, ни другое. Это было бы
невозможно, что Петипа хорошо сознавал. Никогда не вступавший в
напрасный спор с веком, Петипа сделал две вещи, одна из которых
усилила тенденцию, и без того подчинившую себе балет, а другая, в
конечном счете, ее нейтрализовала. Это был tour de force Мариуса
Петипа, остроумный и грандиозный, в лучшем стиле его спектаклей,
такой же наглядный и в общем такой же непростой. Итак, как же он
вышел из тупика? Во-первых, еще более усилив значение балерины.
Балеринская партия у Петипа технически намного сложнее и художе-
ственно изощреннее, чем в балетах 30—40-х годов или, по крайней
мере, почти во всех этих старых балетах. Она строится на больших
позах и па, преобладает виртуозность крупных движений. В ней, бале-
ринской партии Петипа, больше танцев, больше движения и больше
разнообразия тем, и она отличается гораздо более широким художе-
ственным диапазоном. В трех актах «Спящей красавицы», по существу,
три партии, а не одна, а в «Лебедином озере», поставленном Петипа
совместно с Львом Ивановым, уже фактически наличествует две пар-
тии, настолько самостоятельные и так насыщенные художественным
материалом, что дважды по крайней мере (в московском Большом
театре в 20-х годах и в ленинградском Кировском театре в 30-х) были
предприняты попытки поручить обе партии двум различным исполни-
тельницам, двум ведущим балеринам. «Спящая красавица», «Лебединое
озеро» — самые известные балеты Мариуса Петипа, всего же им было
поставлено около шестидесяти балетов. А сколько же сочинено в чужие
балеты вставных вариаций, небольших или развернутых па-де-де или
па-де-труа? «Тысячи три», говоря словами моцартовского Лепорелло.
И в самом деле, можно сказать о своеобразном балетмейстерском дон-
жуанизме Мариуса Петипа, в молодости бывшим типичным романти-
ческим Дон Жуаном. Всю жизнь он шлифует грани женского
танца и заставляет сверкать грани женской души. Всю жизнь он ищет
хореографическую формулу вечно женственного. И всю жизнь он
стремится создать идеальный портрет, виртуозно варьируя немногие
постоянные темы. Их, в сущности, две: весна обновления и праздник
свободы. Балерина у Петипа — носительница художественной новизны
и свободной воли, она обновляет традицию и репертуар, она сказочная
Аврора и пушкинская беззаконная комета, она несет свет. Театр
гениальной балерины в лице Петипа получил своего блестящего
мастера и великого поэта.
Однако это 'был мастер театра и театральный поэт. Тамара Карса-
вина хорошо писала о его любви к театральным эффектам. Еще бы!
Петипа вышел из парижского романтического театра 30-х годов, кото-
рый выше всего ценил театральный эффект и более всего на него
полагался. Эту страсть Петипа пронес через всю жизнь, и она привела
его к катастрофе с «Волшебным зеркалом», грандиозным театральным
эффектом. Блестящими театральными эффектами заполнены египет-
ская «Дочь фараона», индусская «Баядерка», испанский «Дон Кихот», и
даже в музыкальнейшей «Спящей красавице» Петипа дает волю своей
юношеской страсти. Панорама — это ведь тоже великолепный, хотя и
утонченный, живописный эффект. А сцена зарастающего дворца?
А исчезновение злой феи в люке? Феерия Петипа — театр одушевлен-
ного эффекта, лирический апофеоз его. Феерия Петипа и в самом деле
ожившая сказка. Однако главное в «Спящей красавице» — не эффек-
ты, но драматургический план. И в творчестве зрелого, классического
Петипа из всех элементов театра ведущую роль играет драматургия.
Естественно, что он внес — не мог не внести — драматургический
элемент в монологическую структуру балета. Он вновь создал балет-
диалог. Он вернул балерине протагониста. И этот отсутствовавший
второй персонаж, этот протагонист гениальной балерине, — Петипа
нашел его не в танцовщике прошлых или грядущих времен. Петипа
нашел его в гениальном кордебалете.
Петербургский кордебалет в середине XIX века стоял на большой
высоте, об этом свидетельствуют известные слова Теофиля Готье, посе-
тившего Россию в 1860—1863 годах: «Их консерватория танцев (т. е.
театральное училище) выпускает замечательных солисток и создала
кордебалет, не имеющий равного по ансамблю, точности и быстроте
эволюций»*. Отметим, что как раз в эти годы Мариус Петипа был
ведущим преподавателем театрального училища по классическому тан-
цу. Танцовщиц кордебалета, как и «замечательных солисток», готовил
именно он. Но традицию кордебалетного танца создал не он, он лишь
дал ей новый могучий импульс. Петипа понял важнейшую функцию
кордебалета и осознал его высокий этический смысл: кордебалет —
воплощение отвлеченного художественного закона. По контрасту с
балериной, беззаконной кометой, кордебалет воплощает долг и закон.
С ним входит в балет живое ощущение школы. Танцы кордебалета —
уроки взыскательного мастерства, академической техники, стиля.
А главное, кордебалет — носитель художественного предания, коллек-
тивная память балета. Когда тридцать две кордебалетные танцовщицы,
* См.: Материалы по истории русского балета, т. 1. Изд. Ленингр. гос. хорео-
граф. училища, 1938, с. 259.
становясь в арабеск, демонстрируют долгий апломб, легендарный
апломб Марии Тальони, идея преемственности осуществляется на
наших глазах. Арабеск Тальони торжествует над временем, над разде-
ляющей нас бездной. Кордебалет Петипа бесконечно расширяет гори-
зонты спектакля. Он вносит в спектакль прошлое жанра, связь времен,
глубину исторической перспективы. При этом кордебалет Петипа во
многих отношениях совершенно нов: у него новый масштаб, новый
образ и новые сценические задачи. В эпоху Петипа кордебалет встает
на пуанты.
В далекую старину кордебалет был статичен, не имел действенных
функций и лишь создавал декоративный фон, не слишком навязчиво
аккомпанируя танцам главных героев. Реальный исторический прото-
тип такого кордебалета — придворная свита. Художественная демокра-
тизация балета, осуществившаяся в 40-х годах, а также динамизация
его внутренней структуры привели к тому, что кордебалет получил
движение, действенные задачи и коллективную роль. Образ, в который
кордебалет стал воплощаться, — городская толпа или, в более общем
смысле, городская площадь. С развитием кордебалета связан расцвет
живописного площадного жанра и упадок бескрасочного дворцового,
который культивировал в балете XVIII век. В 40-х годах появились
блестящие мастера этого нового— площадного— балетного жанра,
прежде всего Жюль Перро, автор «Эсмеральды», «Фауста», «Катари-
ны». Перро создал традицию не условной, но исторически и географи-.
чески локализованной толпы, не абстрактной площади, но площади
совершенно конкретной. В «Эсмеральде» он дал образ средневековой
парижской толпы, в «Фаусте» — средневековой немецкой, а в «Катари-
не, дочери разбойников» нарисовал картину римского карнавала. Дру-
гой выдающийся художник тех лет, датский балетмейстер Август Бур-
нонвиль, вывел на сцену сверкающий красками Неаполь и показал
датские города, изящные, как андерсеновские сказки. И Петипа, осо-
бенно в ранний период своей балетмейстерской деятельности, дал ряд
городских зарисовок, площадных картин, а в первой — московской—
редакции «Дон Кихота» обессмертил испанскую площадь и создал
такой яркий образ валенсианской толпы, который может быть сопо-
ставлен с испанскими сюитами Глинки. Дансантную музыку Минкуса
кордебалетное празднество Петипа заставило сверкать, как новую
«Арагонскую хоту». Нет ничего удивительного, что «Дон Кихот» был
поставлен в Москве. Московская школа и до Петипа и после него отли-
чалась жанровым и живописным кордебалетом. «Дон Кихот» завершил
серию фольклорных спектаклей Большого театра, которые начали
создаваться еще в 10-х и 20-х годах (так называемые «дивертисманы»).
В отличие от них «Дон Кихот» продемонстрировал фольклор город-
ской, урбанистский. Это было новшеством, и оно имело неслыханный
успех. С тех пор «Дон Кихот» не сходит со сцены.
Перенося «Дон Кихот» из Москвы в Петербург, Петипа вставил в
балет сцену «сна», основанную на чисто классическом танце. «Сон» —
дань петербургской традиции и скрытый портрет самого Петербурга.
Здесь воплощена тема петербургского идеализма, одна из главных у
Петипа. Здесь намечена схема «петербургских сновидений». В «сне»
«Дон Кихота», как и в других «снах» Петипа, кордебалет— не
площадная толпа, а душа города, образ лирический, непроясненный.
В «Спящей красавице» городской кордебалет превращается в корде-
балет морских «нереид», в «Баядерке» — в кордебалет «теней», спуска-
ющихся с гор, в том же «Дон Кихоте» — в кордебалет «дриад»,
возникших посреди леса. Кордебалет Петипа— душа города, тоску-
ющая по природе, по вольной жизни своей или же празднующая свою,
говоря блоковскими словами, «тайную свободу».
Можно сказать иначе: в «сне» «Дон Кихота», как и в других «снах»
Петипа, кордебалет является не в образе индивидуализированном, а
унифицированном, нерасчлененном, своем: в образе гениального кор-
дебалета. И вся сцена означает не возвращение с площади во дворец
(дворцовый эпизод завершает спектакль), но, напротив, посещение пре-
красного мира человеческих снов, не распавшегося на свиту и на толпу,
на дворец и на площадь. «Сны» Петипа— утопия нерасчлененного
человеческого бытия, возникшая как поэтический контраст расчле-
ненному прозаическому быту. Поэтому неверно говорить об «аристо-
кратизме» петербургской версии «Дон Кихота», неверно противопо-
ставлять ее демократической московской. Петербургские «сны» Пети-
па — столько же аристократичны, сколько демократичны, в них стира-
ется различие этих понятий, отменяется власть этих слов и реальных
сил, стоящих за словами. В других актах власть их велика. Нужна
беспримерная энергия, находчивость и незаурядный талант, чтобы пле-
бею Базилю успешно противостоять бездарному аристократу Гамашу.
И если балет кончается счастливо, то потому, кроме прочего, что так
велит комедийный жанр. В развязке трагической «Баядерки» другой
итог: плебейской танцовщице Никии не дано попасть в круг аристо-
крата Солора. Лишь гениальный кордебалет способен соединить их
навек, но эти вечные узы — узы «сна» — и призрачны и преходящи.
Все это, лирическая сущность и нерасчлененная красота, делает кор-
дебалет Петипа естественным носителем музыкальной стихии.
В «Спящей красавице», в сцене «нереид», в то время как главные
персонажи уносятся мелодической кантиленой, широкой виолончельной
волной, кордебалет— чредой неустойчивых мизансцен— выявляет
неявственный музыкальный фон эпизода. Бесконечные быстрые пере-
стройки создают атмосферу лирического беспокойства, наваждения,
тайной встречи украдкой, тревожного сна — ту атмосферу, которая в
музыке окружает страстное виолончельное соло.
В кульминации адажио гран-па из «Раймонды» танцовщицы собира-
ются в полукруг и раскрываются веером — веером вытянутых длинных
ног, веером острых и нервных пуантов, и это долгое, томное
developpe— самое музыкальное место ансамбля. Developpe вперед, в
унисон — излюбленный кордебалетный мотив Петипа, хореографиче-
ский романс, пропетый кордебалетом. В музыке Глазунова— ясно
звучащая романсная тема, поэтому унисон возникает двойной — у тан-
цовщиц друг с другом, у кордебалета с оркестром.
Кордебалет Петипа возник в одно и то же время, что и новый симфо-
нический балет Чайковского и Глазунова. Он в беспримерной степени
динамичен. Он может длить, варьировать и наращивать движение, всту-
пая в сложное взаимодействие с движением балерины. Кордебалет
Петипа— это зримый хореографический мелос (как кордебалет у
Бежара, а отчасти у Баланчина — это зримый хореографический ритм).
И сцена «теней», и акт «нереид», и «сон» из «Раймонды» — недосягае-
мые образцы перевода музыкального мелоса на язык классического
танца. И конечно же, лебединые сцены, поставленные Львом Ива-
новым, гениальным последователем Петипа. В этих сценах балет-
ный театр поднимается до вершин, до символики, до сияющей, как
альпийский снег, чистоты своих обобщений. Конкретность ситуаций,
даже конкретность имен, уступает место хореографической образности
чистой воды: Никия становится Тенью, Аврора — Нереидой, а Одетта и
Одиллия, как их назвали в Москве (дань психологизму московской
школы), становятся Белым лебедем и Черным лебедем в Петербурге.
Он*действительно гениален, кордебалет Петипа, динамически и дра-
матургически уравнен с гениальной балериной. Аким Волынский
постоянно сближал кордебалет Петипа с античным хором. С тех пор это
стало общим местом и повторяется на разный лад. Между тем хор в
позднеантичной трагедии не имел действенных функций, он лишь
комментировал действие молчанием, кратким танцем, жестом и словом.
Кордебалет Петипа не хор, но идеальный партнер. Он вступает в диалог
с балериной. Он поддерживает, всемерно усиливая их, движение волну-
ющих ее лирических сил. Он и есть лирическое «другое я» балерины.
И он соучастник ее дансантной игры, партнер в ее танце. Все это
эффектно представлено почти во всех спектаклях Петипа, но лучше
всего — в гран-па, больших бессюжетных композициях, вставленных в
спектакли. По конструкции — это движение кордебалета в унисон или в
контрапункт балерине. Гран-па концертно, как и весь хореографиче-
ский мир Петипа. Здесь, словно в инструментальных концертах, сопер-
ничество не рождает конфликта, но преследует высшую цель: не личное
торжество и не торжество над личной инициативой, но общее торжество
ансамбля, созданного сообща, цель их — гениальный ансамбль. Балет
Петипа — ансамблевый балет по своей этике и структуре.
Тем самым Петипа преобразовал не только композицию ранне-
романтического и постромантического балета, но и его канон. В бале-
тах Петипа, особенно в зрелую пору, носителем художественной
гениальности оказывается не одна лишь одаренная личность, таин-
ственный виртуоз, одинокий художник. Носитель гениальности у
Петипа ансамбль: балерина и кордебалет. Художник его не одинок в
мире. Поэтому столь праздничен театр позднего Петипа и его не гнетут
настроения мировой скорби.
Этот мир создал балетмейстер, который шел одиноким путем и не
чувствовал сторонней поддержки. Стоит ли удивляться, что однажды,
под занавес долгого пути, Петипа сам разрушил (хотя и на один акт) им
самим созданную гармонию, им самим найденную схему. Он столкнул в
поединке гениальную балерину (третий акт) и гениальный ансамбль
(второй и четвертый акты), включавший в себя и кордебалет и балерину.
Так возникло «Лебединое озеро», самое сложное произведение балет-
ного театра, самый трудный для исполнения и самый легкий для
восприятия классический балет.
Вечный вопрос, кому мы обязаны «Лебединым озером», не пред-
ставляет неразрешимой загадки. Здесь все более или менее очевидно,
«Лебединое озеро» — не «Жизель». Лебединые сцены второго акта
сочинены Львом Ивановым, но общее решение принадлежит Петипа, и
оно замечательно, вдохновенно. Вдохновенна идея сопоставить белый и
черный балет и провести это сопоставление до прямой встречи белых и
черных лебедей в последней картине. Вдохновенно движение действия
от первого акта к финалу. Такого движения балетный театр еще не
знал, оно нарушает привычные, устойчивые каноны. Динамика «Лебе-
диного озера» не имеет никаких аналогий. И в самом деле, первое
действие почти идиллично, это пролог, майский праздник, лишь в
заключительных эпизодах на беззаветное празднество ложится тень
легкой, безотчетной тревоги. В последующих двух актах тревожный
мотив нарастает, сплетаясь то с лирикой белых лебединых картин, то с
блеском и брио картины бала. В основе трех актов— крещендо
тревоги, подготовляющее скандал, катастрофу и взрыв. А в послед-
нем акте эмоциональное действие движется как бы вспять, в обратном
направлении, не крещендо, но диминюэндо. Энергия драмы мало-
помалу сходит на нет. Движение танца постепенно умирает. Кордебалет
переходит с танца на шаг, и это захватывающее мгновение спектакля.
Петипа ставит в высшей степени скорбный акт, акт мировой скорби,
если воспользоваться романтическим словарем, акт сникания, если
использовать одно из основополагающих понятий восточной театраль-
ной культуры. Динамика «Лебединого озера» образна, как в симфони-
ческой музыке, это зримый хореографический образ. Четыре акта
балета образуют некоторый свод, с резким падением вниз, точно с
высокого обрыва. Композиция предрешает сюжет, а также приводит на
память сцену «у Канавки» и всю «Пиковую даму». Ради эффекта
сникания— эффекта диминюэндо— Петипа купирует из партитуры
акта часть сцены бури, то есть идет на смелый и ответственный шаг.
А ведь он благоговел перед Чайковским. Чем же руководствовался, чем
вдохновлялся Петипа, выстраивая подобную небывалую композицию и
идя на такую ответственную купюру? Конечно же, музыкой, недаром
ему помогал выдающийся капельмейстер Дриго. «Лебединое озеро» в
интерпретации Петипа — это безусловный Чайковский. Но Чайковский
не «Лебединого озера» или не только «Лебединого озера», то есть не
только Чайковский эпохи лирических сцен, эпохи «Онегина», москов-
ской, ранней эпохи. Это Чайковский «Пиковой дамы», Чайковский
вообще, как Гоголь вообще в мейерхольдовском «Ревизоре».
Но более всего, это Чайковский Шестой симфонии — именно по ее
плану и поставлен спектакль.
«Лебединое озеро» ставилось в Петербурге под непосредственным
впечатлением внезапной смерти Чайковского, почти сразу же после
того, как пришла потрясшая всех весть, и вскоре после того, как
триумфально прошла премьера Шестой, Патетической. Понятны эмо-
ции и строгая логика Петипа. «Лебединое озеро» — реквием памяти
гения, музыканта, поэта. И кроме того— его хореографический
портрет, более точный, глубокий и даже таинственный, чем плоские
литературные и кинематографические портреты.
А третий акт балета— это в некотором смысле тайный автопор-
трет самого Петипа.
С третьим актом связано наиболее оспариваемое, но и самое смелое
решение Мариуса Петипа, которое привело его к выдающемуся успеху.
При всем своем пиетете к Чайковскому, готовя к постановке спектакль,
долженствующий почтить его память, его гений и его первый балет,
Петипа, совместно с капельмейстером Дриго, купирует гениальную
музыку сложного ансамблевого па и заменяет бравурной вальсовой
музыкой вставного эпизода из первого акта. Что это? Недостаток
музыкальной культуры, деспотизм стареющего маэстро, самоуправ-
ство и к тому же просчет? Нет, напротив, счастливое озарение, осно-
ванное на точном театральном расчете. Петипа рассуждал так, как он
обычно рассуждал, строя свои балетные контрасты. Одетта и Одиллия
по сценарию двойники и, следовательно, должны быть похожи и не
похожи друг на друга. Сходство пластики недостаточно, нужен единый
и в то же время двойственный музыкально-хореографический образ.
Душевный строй Одетты раскрывается в вальсовом мелосе второго
акта; вальс— характеристика настроения, царящего там; вальс —
душа персонажа, среды и атмосферы. Следовательно, фоном, на кото-
ром появляется Черный лебедь, Одиллия, должен быть тоже вальс, но
другой, не лирический, не «белый», но «черный». Хореографическим
образом Одиллии у Петипа становятся вариации на тему мефисто-валь-
са. Вся дьявольщина мефисто-вальса и весь его слепящий блеск вопло-
щены в стремительном беге и внезапных остановках в антре, в потоке
сладостных чувственных поз, в беспрестанных кружениях на разный
лад, в смене масок и порыве страстей: все обманно в Одиллии, кроме
порыва и кроме страсти. Одиллия — это Кармен, сама страстность,
сама телесность, и это Одиллия, черный лебедь, черная птица, химера.
Третий акт «Лебединого озера» в постановке Мариуса Петипа — втор-
жение вальса-оборотня (эффектно следующего сразу же за невинным
вальсом невест), а весь балет в целом — романтическая история двой-
ников-вальсов. Лирический вальсовый мелос лебединых сцен, «Сенти-
ментальный вальс» Чайковского — Льва Иванова, обернулся в третьем
акте демоническим вальсом-мефисто, и это на мгновение (как и сцена
злой феи в «Спящей красавице») приоткрыло завесу над одной из
скрытых граней личности Мариуса Петипа, а может быть, и скрытых
граней самого классического танца.
Объективное же — и драматическое — содержание балета раскры-
вается в противопоставлении двух образов, двух тем и двух судеб.
Одетта— это образ привязанности принцу, озеру, кордебалету под-
руг. Ее гибель в озере кажется предрешенной.
Одиллия — это образ свободы от каких бы то ни было уз. Она обре-
чена на вечный бег в одиночку.
И пластика Одетты— пластика предельно закрытой души, а пла-
стика Одиллии— пластика предельно открытых поз и предельно
откровенных стремлений. По смыслу и рисунку танцевальных па кон-
траст этот далеко выходит за рамки сопоставления круазе и эффасе, за
рамки обычного академического контраста.
И наконец, последнее замечание, мимолетная деталь, демонстриру-
ющая художественное богатство балета.
В первом акте балета фигурирует па-де-труа, типичное вставное па-
де-труа, традиционно вводимое в действие, в котором недоставало тан-
цев. Петипа превращает его в изящный историко-балетный аттракцион,
в миниатюрную хореографическую новеллу. Па-де-труа включает в
себя стилизацию балета 30-х годов. Па-де-труа— групповой портрет
знаменитых балерин той эпохи. Первая танцовщица танцует моментами
в стиле Марии Тальони, вторая — отчасти в стиле Фанни Эльслер, у
первой танцовщицы округлые движения и воздушный баллон, у вто-
рой— мелкие, быстрые, блистательные так называемые taquete, у
первой в танце бесплотная лирика, у второй — чувственное очарование,
эрос. Па-де-труа предваряет контраст, на котором строится «Лебединое
озеро», но какова же дистанция между контрастом 30-х годов и контра-
стами конца века! Как изменился состав танцев и как изменился
масштаб па, насколько обогатилась психологическим содержанием
балетная роль и насколько она стала во всех отношениях крупнее! Одна
из задач па-де-труа, по-видимому, заключалась в том, чтобы дать
возможность увидеть дистанцию, пройденную романтическим балетом.
Один выход Одиллии вмещает в себе все па-де-труа: тальониевские
полеты, увенчанные эльслеровскими изгибами стана, полеты Марии
Тальони, создающие эффект Фанни Эльслер. А сложная игра рук
Одиллии — это уже мета времени Петипа, в ЗО-х годах о таких
пор-де-бра и не помышляли. А дьявольский темп, а дьявольская смена
темпов, а сложные виртуозные пируэты на большой и малый батман,
а кода с остановками на каждый такт, с атитюдами, принимаемыми в
момент неудержимого бега. Это не просто виртуозный дивертисмент.
Это действительно портрет гениальной балерины. Это талант, который
творит чудеса. Это и в самом деле пушкинская беззаконная комета.
И ее заключительная диагональ кажется автографом на чистом листе
сцены.
(С чисто же позитивистской точки зрения, образ Одиллии— это
образ той виртуозности второй половины XIX века, в которой домини-
рующую роль получили вращательные движения, вращения в воздухе и
на полу, в самых неожиданных комбинациях, формах и темпах.
И тридцать два фуэте совсем не случайно стали кульминацией третьего
акта спектакля. Так трансформируется нежный и плавный вальс. Новая
динамика врывается в балет и преобразует основополагающую для
классического танца идею круга.)
Петипа— хореограф-драматург, создавший свою драматургию,
драматургию чистых контрастов. В «Лебедином озере» он сталкивает
белый и черный балет, а в «Баядерке» — белый и красный. Первые
акты спектакля, вплоть до белотюникового акта «теней», окрашены в
красный цвет— цвет пламени, преступления и страсти. Танцем огня
начинается этот дивный балет; огненно-красные тела обнаженных и
исступленных индусских танцовщиков появляются на площадном
празднестве второго акта. «Красное и белое» «Баядерки» это почти
хореографический Стендаль, подобно тому, как «черное и белое» «Ле-
бединого озера» — хореографический Чайковский. Драматические кол-
лизии Петипа предельно укрупнены, это коллизии большого стиля.
Петипа инсценирует не столкновения отдельных персонажей, но борьбу
миров и культур, одновременно разыгрывая эффектные сражения
балетных жанров. В «Спящей красавице» классический танец противо-
стоит танцам «гротеск», «Раймонда» — турнир классических и харак-
терных сюит, в «Лебедином озере» трещина коллизии пересекает мир
собственно классического танца. По драматическому масштабу, а также
по значению и продуктивности Петипа— новый Новерр, Новерр
XIX века. Однако по направлению деятельности и по художническому
типу это «анти-Новерр», исторически необходимая противоположность
Новерру. Новерр — мыслитель, теоретик, писатель, Петипа — артист;
один — гениальный просветитель, другой — гениальный романтик.
Великолепное творчество их обозначило два пути, по которым и поныне
идет балетный театр: путь просветительского и путь романтического
балета. Новерровцами были Фокин, Федор Лопухов, Якобсон и все
сторонники так называемого «драмбалета», последователи Петипа —
это Баланчин (среди балетмейстеров) и все великие танцовщицы и
танцовщики ленинградской школы. В самых общих словах суть разли-
чий можно объяснить так: просветительская традиция стремилась улуч-
шить нравы (и мысли) людей, а романтическая внушала любить искус-
ство не меньше, чем добродетель. Просветительская традиция искала в
балете гораздо больше того, чем он может дать, а романтическая
довольствовалась малым: кристаллом поэзии, магическим кристаллом
балета. И наконец, может быть, главное: просветительский балет ори-
ентировался на пантомиму, на драматизированный жест, а романтиче-
ский — использовал, культивировал и воспевал классический танец.
Просветительская традиция утвердилась намного раньше и полу-
чила гораздо больше моральных санкций и художественных прав. Это
традиция респектабельности, уважения и почета. В лице философов,
моралистов и писателей — властителей дум, ее признала, включив в
круг своих интересов, большая европейская культура XVIII, а вслед за
тем XIX века. Ее притязания были оценены, потому что как раз в этом,
в культурной ассимиляции, и заключалась суть ее притязаний. Просве-
тительский балет — это балет, не желающий быть только балетом. В
крайних случаях, это балет, не желающий быть балетом вообще. Свое
оправдание, свои сюжеты и даже структурные принципы свои он ищет
на стороне, в сфере смежных искусств: в живописи, в драматическом
театре, в литературе. Подробно пересказывая изощренные фабульные
ходы балета «Ревнивец без соперника», Новерр пишет (в последнем,
Пятнадцатом письме) не без тайного и гордого удовлетворения: «Не-
трудно заметить, что этот балет представляет собой не что иное, как
сочетание наиболее эффектных сцен из отдельных драм нашего
театра: я попытался соединить здесь картины лучших мастеров. Первую
я заимствовал у г-на Дидро, вторая представляет театральный эффект,
придуманный мною самим... Следующая за этим картина подсказана
той сценой из «Магомета» (трагедия Вольтера. — В. Г.), где Магомет
хочет заколоть Ирену... Сцена досады, разорванных писем, возвращен-
ных с презрением портретов повторяет соответствующую сцену из «Лю-
бовной досады» Мольера. Примирение Фернандо с Инес не что иное,
как примирение Марианны и Валера в «Тартюфе»... Безумие Фернандо,
его бешенство, отчаяние, горе — все это воспроизводит ярость Ореста у
Расина; наконец, примирение влюбленных повторяет сцену между Рада-
мистом и Зенобией у г-на Кребильона. Все, что соединяет эти картины
между собой, сливая их в единое целое, принадлежит мне»*. Разуме-
ется, это исключительный случай даже для такого любителя классиче-
ской драмы, каким был Новерр: приведенный отрывок — почти паро-
* Н о в е р р Ж. - Ж. Письма о танце, с. 289—290.
дия на его метод. Но каково стремление очутиться в хорошем обществе,
какова страсть получить титлы на благородство! Не знаем, был ли
Петипа-балетмейстер во власти подобных страстей, но очевидно, что он
примирился со своим положением — изгоя-художника, художника вто-
рого сорта. Всю жизнь Петипа терпеливо сносил полупрезрительное
отношение к своему искусству и насмешки в свой адрес— недобрые
насмешки неостроумных людей. Почти всю жизнь Петипа вынужден
был довольствоваться обществом — и признанием — балетоманов. Но
он упорно отстаивает романтический идеал, упрямо защищает право
балета искать оправдания только в себе и оставаться только балетом.
Петипа в голову не приходит сделать то, что когда-то делал Новерр, —
перенести на балетную сцену сюжетные положения пьес Островского,
Сухово-Кобылина или, что было доступнее ему,— интригу из пьес
Эжена Скриба. А поскольку во второй половине XIX века место, зани-
мавшееся трагедией в XVIII веке, занял роман, то следует добавить,
что тем более балеты Петипа не стремились походить на роман (и лишь
либретто первого балета «Дочь фараона», сделанное в Париже профес-
сиональным либреттистом Сен-Жоржем, было вольной инсценировкой
романа Готье): специфические балетные фабулы Петипа искал в сказ-
ках, а не в романах. В конце концов постоянство Петипа было воз-
награждено. У него появился великий сотрудник — Чайковский. Тем
самым романтический балет Петипа сомкнулся с музыкой — самой
романтической сферой большой русской культуры. Была узаконена —
и пророчески провозглашена — новая ориентация балета: в сторону
музыки, а не в сторону литературы. Но Петипа и тут остался верен себе:
с музыкой он вел себя как равный партнер, а иногда и как законода-
тель. План «Спящей красавицы» принадлежит ему, а в его лице —
балетному театру. Создавая этот шедевр, Петипа опирался столько же
на импульсы музыки, сколько на темы, каноны и формы классического
балета. Симфонизм «Спящей красавицы» хореографичен. Балет этот
строится как ансамбль больших и малых классических па, как контраст
этих па и как их поединок.
Исторический спор Новерра и Петипа— спор двух типов балета:
«действенного балета» и балета па. Спор не окончен еще и поныне.
Сущность эстетики Новерра раскрывается в знаменитом обращении (из
Четвертого письма): «Дети Терпсихоры! Бросьте все эти кабриоли,
антраша и всякие замысловатые па!»* Этот призыв проходит через все
остальные четырнадцать писем, становится лозунгом, подчинившим
себе долгую жизнь. Неудивительно, что многие «дети Терпсихоры», и в
первую очередь из парижской «Гранд-Опера» (тогда называвшейся
Академией музыки), не любили Новерра. Он покушался на их вирту-
озность. Он отрицал ценность и смысл их ремесла. История, пером
*Новерр Ж, -Ж. Письма о танце, с. 80.
Новерра и последователей Новерра, заклеймила их как ретроградов, но
разве, защищая себя и свое искусство, они были совсем не правы? Эсте-
тику па Новерр отвергал и как моралист и как балетмейстер. Для мора-
листа Новерра, воспитанного в строгих понятиях этики Дидро, в поня-
тиях этики протестантской, в па слишком много игры ради игры и
слишком мало полезной работы. Кроме того, па восходят к придворным
церемониям, к паркету, к королевскому или княжескому дворцу. А
для балетмейстера Новерра, воспитанного на эстетических поня-
тиях Гаррика и превыше всего ставившего античный театр, па —
слишком бездейственны и потому нетеатральны. Вот в этом отношении
Новерр был прав— и исторически и абсолютно. Действие— основа
основ театра, и о балете как о театральном жанре можно было говорить
только после того, как действие организовало и внутренне — пока еще
внутренне — оперило балет. Это произошло в спектаклях Новерра. Так
называемый «действенный балет» (ballet d’action) есть его детище
(хотя, может быть, понятие это изобрел не Новерр или не один Новерр,
по этому поводу полемика началась еще в XVH1 веке). Действенные
балеты имели огромный успех, но прежде всего в городах, где не куль-
тивировался виртуозный академический танец. Самая счастливая, самая
плодотворная пора новерровского творчества связана со Штутгартом,
затем были Вена, Милан, Турин, Неаполь, Лиссабон. Из этих городов
лишь Вена и Милан — традиционные центры академического балета.
И лишь Париж сопротивлялся Новерру и, повторим, неспроста.
Потому что именно великий мыслитель и логик Новерр совершил
очевидную логическую ошибку, сформулировав ложную альтернативу,
на которой основывалась и его собственная и вся дальнейшая оппо-
зиция классическому балету: или действие, или па. Для Петипа так
вопрос не стоял. Поэтому его боготворили все «дети Терпсихоры».
К проблеме па Петипа отнесся как артист и как профессионал. Па
для него — азбука классического балета. Обучение танцовщиков начи-
нается и строится как обучение танцевальным па. Вся структура
мышления артиста балета изначально выстраивается в системе па, и не
только структура мышления, но и структура сценического поведения, а
в некоторых, впрочем, не редких случаях — и структура поведения вне
сцены, в жизни. Новерр (как и Фокин) стремился ее разрушить. Петипа
стремился ее сохранить. Все грандиозное здание своего классического
балета Петипа основывал на кирпичиках па, но его па— это не па
эпохи Новерра.
Азбука классического балета в спектаклях Петипа становится его
высшей формой, венцом. Па в эпоху Новерра однократно и элемен-
тарно, это короткая комбинация, неспособная к саморазвитию и лишен-
ная образного содержания. Па у Петипа динамично. Петипа развернул
па в пространстве и времени, дал па небывалую протяженность (оно
может длиться полчаса) и небывалую сценическую глубину (оно может
занять десятки участников), па Мариуса Петипа способно к саморазви-
тию — и потому ему не нужен сюжет, па Петипа несет в себе образ — и
потому опять-таки не нуждается в помощи литературы. Но плюс к тому
па сохраняет блистательность антраша и кабриолей, против которых
ополчался Новерр, па виртуозно по сути своей и по сути своей артистич-
но. Эстетика па и есть эстетика романтической артистичности. Па ут-
верждает красоту техники как таковой, дьявольскую красоту ремесла,
возвышенную поэзию хорошо сделанной работы. Па Одиллии — при-
мер дьявольского наваждения ремесла, па Авроры — образец возвы-
шенной поэзии профессионального совершенства.
В дословном переводе слово «па» означает шаг, что удостоверяет тот
исторический факт, что классический танец (как и ряд бытовых) возник
из элементарного, ритмически организованного шага. Прошлое живет
в классическом танце и сейчас: ритмический шаг — одна из его изна-
чальных характеристик. Затем классический танец завоевал простран-
ство сцены и освоил полет, а еще вслед за тем подчинил себе время
действия и овладел бегом. Но шаг как исходный элемент всей струк-
туры классического балета не был забыт Петипа, который и в этом
случае опирался, всячески развивая ее, на изначальную художественную
структуру. Свидетельств тому — сколько угодно, и прежде всего знаме-
нитая сцена «Теней». «Тени» — симфония па, поэма красоты, поэма
классического танца, единственная в своем роде панорама балета.
Большая ансамблевая сцена начинается с кордебалетного шага, затем,
в кульминации, возникает балеринский полет, и, наконец, развязка раз-
решается кордебалетным бегом. Беспримерная художественная красота
и балетмейстерская гениальность сцены «Теней» состоят в том, что все
темпы связаны между собой одной главной фигурой — романтическим
арабеском (есть и побочный мотив — игра пор-де-бра; профессиональ-
ный разбор этих мотивов осуществлен в специальном исследовании
Ф. Лопухова). Шаг, с которого начинается сцена, не есть просто шаг на
глиссад, но шаг, заканчивающийся арабеском. И бег в к^е — необык-
новенно красивые скачки на арабеск, которые кордебалет проделывает
в темпе бега и в направлении к заднику от авансцены. Сцена «Теней» —
мистерия арабеска. Арабеск возникает, взмывает в воздух и падает ниц,
чтобы затем возродиться к новой жизни. В этой сцене арабеск
проходит через все ракурсы, которые возможно изобрести, и через все
темпы, через которые прошел в своем историческом развитии балет,
связывая их, точно иголка с продетой в нее серебристой нитью.
Особенно впечатляет самая первая фраза антре, бесконечная, как
вагнеровские мелодии, но, в отличие от них, четко ритмически организо-
ванная, основанная именно на магии ритма. Танцовщицы поочередно
выходят на арабеск, и каждый такт прибавляет по одной тени и по
одному арабеску. Возникает многоголосное шествие, многоголосный
хореографический хорал, постепенно заполняющий сцену. Мы наблю-
даем колышущееся море арабесков, которое прибывает и прибывает,
как морская волна. Идея нарастающего движения, основная идея
музыки XIX века, основной образ балетных адажио Чайковского,
воплощена в этом антре — в метафоре танца-волны, в красивом сбли-
жении ритмов балета и ритмов моря. Море волновало Петипа всю
жизнь. По-видимому, оно представлялось ему ритмической стихией.
Танец Петипа плыл, подобно тому как в «Панораме» «Спящей краса-
вицы» плыла ладья. И что такое «розовое море», по которому герои
«Щелкунчика», Клара и добрый принц, должны были плыть в Конфи-
тюренбург на колеснице из раковин, согласно так и не осуществлен-
ному плану?
Сцена «Теней», именуемая «большим классическим па», демонстри-
рует, соединяя их воедино, все значения этого понятия в композициях
Петипа. Па — это шаг, простой шаг на два или три счета. Па — это
шаг на арабеск, то есть шаг хореографический. И наконец, в неко-
тором условном смысле, па — это шаг к цели, стремление к другому па,
иначе говоря— танец. Па в композициях Петипа танцевально, дан-
сантно. Это есть танец прежде всего, сложно варьируемый, предполага-
ющий хореографическую разработку избранной танцевальной темы,
проходящий через ряд метаморфоз. Это нарастающее движение, и оно
необратимо.
Иначе можно сказать так: па для Петипа есть высшая организация
действия, его концентрация и его растворение в танце. Тогда мы
поймем суть действенных па, поставленных Петипа, и смысл его
собственной деятельности при создании оригинальных спектаклей и
при редактировании чужих. Петипа стремился к тому, чтобы утвердить
танцевальное па там, где царили простое театральное действие, мимика,
жест, йантомима. Петипа, как никто, умел придавать эмоциям и стра-
стям форму классйческих па: эмоции и страсти у Петипа дансантны. Что
выглядит более эмоционально в балете, нежели сцена Одиллии на
балу? Где больше страсти, чем в ее обольстительных жестах? И какой
эпизод в классическом или современном балете может претендовать на
то, чтобы считаться более танцевальным? Стихия танца и стихия страстей
слились здесь в один нерасторжимый образ. Они образуют гармонию, а
не создают конфликт. И таких па у Петипа много. К созданию их
сводилось не только, повторяем, оригинальное творчество Петипа, но и
его работа над новыми редакциями старых балетов, сочиненных в арха-
ической, нетанцевальной манере. Так он поставил знаменитое па Эсме-
ральды в балете Перро. О том, каким оно было в первоначальной
редакции, нам неизвестно. Об этом можно судить лишь косвенно,
исходя из аналогичной сцены сумасшествия Жизели. Сцена эта, по-сво-
ему замечательная и созданная, по-видимому, Перро— выдающимся
новерровцем и вместе с тем выдающимся предшественником и учи-
телем Петипа, — представляет собой последовательность психологи-
чески очень точно найденных физических действий. Их много, каждое
из них совершенно различно. Мы видим жесты гибнущей девушки,
ее взгляды, ее мимику, а когда она опускается на колени у рампы,
мы видим ее искаженное болью и ужасом лицо. Эта мизансцена —
первый опыт крупного плана в балете. Кроме того, поставлена эф-
фектная игра с вещью (шпага Альберта), сбивчивые воспоминания
и бег навстречу судьбе. Вся сцена — классика балетного театра,
и все-таки Петипа ей не подражает. Па Эсмерадьды он ставит ина-
че — как па: балерина танцует, повернувшись спиной к зрительному
залу. Тем самым исключается мимика, натуралистическая достовер-
ность. Мы видим изнемогающий танец, а не изнемогающее лицо. Мы
видим одно действие, одну линию, один жест и один образ: силуэт
танцовщицы, движущейся на па-де-бурре параллельно сцене. Изы-
сканно-экспрессивный «Умирающий лебедь» Фокина предвосхищен
этим па Петипа, более простым, сдержанным и патетичным. Одна-един-
ственная эмоция, вытеснившая все остальное, поглотившая личность,
дается крупным планом на протяжении всего па. Театр па— театр
идеальной эмоции, идеальной страсти. В классическом балете Мариуса
Петипа возрождается дух античной орхестики и, может быть, принцип
античной маски.
А это движение на вытянутых пуантах, на па-де-бурре, не воскре-
шает ли оно горестную патетику движений на котурнах?
Но аналогиям положен предел: театр Петипа совсем не старинный,
реконструирующий прошлое театр. Даже в истории балета Петипа оди-
нок, не имеет подлинного предшественника и не найдет близкого
прецедента. Па Петипа — новость, изобретение, невиданный жанр. Па
Петипа рождены новым временем, новым ощущением театра, жизни и
красоты. Они созерцательны, и ритм созерцания — конструирующий
ритм некоторых его поздних балетов («Спящая красавица» должна
быть названа прежде всего). Красота созерцания — это то, что нахо-
дится за пределами старого действенного балета. Другая, еще более
широкая основа па Петипа — ритм творчества, упорядоченная красота
творческой работы. Образ творчества есть, может быть, универсальный
образ Мариуса Петипа: творчество как движение, как построение фор-
мы. Старый балет подобных мотивов тоже не знал (они получат
развитие уже в нашем XX веке), в этом смысле Петипа — провозвест-
ник. Новаторство и хореографический дар Петипа с особой наглядно-
стью и особенным блеском проявились в создании им бессюжетной
композиции— «большого классического па». В «Пахите» или «Рай-
монде» они давались под занавес, после разрешения сюжетного дей-
ствия, теперь же, как и «Тени» из «Баядерки», даются самостоятельно,
как небольшой одноактный спектакль. Ничего, кроме музыки и дан-
сантной стихии, кроме сверкающей ритмами музыки и сверкающих кра-
сками танцевальных страстей, ничего, кроме музыки и балерины. Гран-
па — это бал классического танца, бал, который классический танец
дает самому себе или, иначе говоря, который под занавес устраивает в
его честь балетмейстер. Еще можно сказать, что это бал по случаю обру-
чения музыки и балета. Большие классические па Петипа — хореогра-
фия чистой воды, и они изумительно музыкальны. Весь симфонический
балет XX века вышел из этих блистательных композиций. Однако раз-
ница велика (повторим это вновь): импульсы музыки и ее формальный
закон не в такой мере ведут за собой балетмейстера, как это происхо-
дит, например, в утонченной «Шопениане». И хотя фактура большого
классического па проще (а иногда и грубее), оно выстраивается по
своим законам. У этого па свой тематизм, свои хореографические
мотивы. В «Пахите» — это очарование женских пуантов и виртуозный
пуантный танец. Но здесь не танец тальониевских божественных, бес-
плотных и не видимых миру пуантов, пуанты здесь выставлены напоказ
(«выставка драгоценностей», — как называли танцовщицы XIX века
одну из красивейших мизансцен «Пахиты»): пуанты здесь инструмент
мастерства и инструмент красоты, победоносной женской власти. Тема-
тизм гран-па «Раймонды» — дуэтный танец и поддержка; это, кажется,
единственное гран-па, в котором наряду с танцовщицами принимают
участие партнеры-мужчины. Оно имеет поэтому столь современный
вид, но оправдание тому лежит в старинном рыцарском сюжете, и гран-
па разворачивает серию изысканных, рыцарски прекрасных поддержек,
каждая из которых — хореографический мадригал. Это гран-па —
поэма дуэтных форм танца.
Значит ли это, что Петипа пренебрегал музыкой, плохо знал ее,
навязывал ей несоответствующие решения, неприемлемый план? Вовсе
нет, это один из самых музыкальных балетмейстеров в истории балета.
Но танец для него превыше всего, это безусловная доминанта. Отно-
шения с музыкой в гран-па Петипа контрапунктические: слияние проис-
ходит в опорных точках. К примеру, выход-антре из «Пахиты» строит-
ся, как и музыка Минкуса, на двух хореографических темах. Бравурная,
на три счета, первая тема антре реализуется в легких заносках,
блестящих как игра кастаньет (сюжет и сценический колорит «Пахиты»
испанский), а лирическая, тоже на три счета, но более вальсовая по
интонации побочная тема воплощена в полукружениях, напоминающих
классический вальс. Здесь Петипа строго следует музыкальному плану.
Однако в дальнейшем торжествует хореографический план, и уже ком-
позитор сочиняет свою музыку чуть ли не под диктовку. По-видимому,
создавая эти бессюжетные гран-па под занавес многоактных сюжетных
спектаклей, Петипа имел в виду увенчать их, как купол венчает
старинные церкви. Гран-па не имеет опоры в сюжете и не ищет опоры
в музыкальной структуре: воля к форме — незримая, но патетическая
основа гран-па. И это также его графическая основа. Выпрямленные
силуэты танцовщиц, выпрямленные линии их поз, выпрямленные ли-
нии меняющейся мизансцены создают художественный образ и, более
того, художественный мир победоносной, хотя и призрачной воли,
рождающейся из формы и рождающей форму у зрителей на глазах.
В этих гран-па нам открывается чистая конструктивная гениаль-
ность старого Петипа — может быть, самое ценное из того, что он
принес в балетный театр. Был и другой Петипа — постановщик массо-
вок, грандиозных массовых сцен, режиссер почти площадных зрелищ,
державший под рукой неисчислимый миманс, выводивший на сцену
толпы статистов. Вот этот Петипа — зрелищный, площадной — архаи-
чен и мертв. Он весь принадлежит времени, ушедшему без возврата.
Достаточно долго за Петипа площадным не видели великого мастера,
конструктора, классика и поэта балета.
Форма па в балетах Петипа кажется неизобразительной, абстракт-
ной, воплощающей идеальный образ прекрасного, отвлеченное пред-
ставление о красоте, стиль Петипа кажется (и подчас называется) акаде-
мичным. Это так и не так. Строгий академизм Петипа насыщен воль-
ными художественными мотивами. Па Петипа несут в себе образ и,
может быть, не один. Здесь нет бытовой, жанровой, местной определен-
ности, но есть определенность другого порядка. Балет Петипа мифоло-
гичен, как, впрочем, вообще классический балет, совсем не случайно вот
уже триста лет тяготеющий к мифологическим сюжетам. Но каждая
эпоха в балете создавала свой собственный миф. Балеты второй поло-
вины XVIII и начала XIX века, руссоистские по главному пафосу
своему, представляют собой просветительский, а затем романтический
миф о природе. Ориентация на природу определяла рисунок и всю
зримую структуру па. Балерина чаще всего отождествлялась с цветком,
а группы танцовщиц выстраивались как гирлянды. На знаменитой кар-
тине Ланкре Камарго изображена вся увитая гирляндами цветов, а ее
легкий стан изгибается точно стебель— это самое распространенное
представление о танцовщице, танце и па в эпоху барокко, рококо и
раннеромантическую эпоху. Одушевление природы — смысл романти-
ческой лирики 30-х годов, эпохи «Сильфиды» и Марии Тальони. Этот
романтический миф и этот романтический фон Петипа бережно сохра-
нил в своем собственном позднеромантическом творчестве, в своих
собственных балетах. Феи Петипа принадлежат миру одушевленной
природы. Вальсы цветов — из мира Зефира и Флоры. Вальс с гирлян-
дами из «Спящей красавицы» — это грандиозное хореографическое
увеличение скромной по размерам, интимной картины Ланкре: Петипа
превращает картину в живую фреску. Но феи в «Спящей красавице»
танцуют только пролог, и только в прологе мы видим их стебельково-
образные танцы. Главное действующее лицо «Спящей красавицы» —
балерина. И вальс цветов всего лишь фон для адажио с четырьмя кава-
лерами (иначе называемого адажио с розой), в котором цветок обыгры-
вается как изящный театральный реквизит. Петипа сохраняет старин-
ную ориентацию классического танца на природу, но утверждает дру-
гую ориентацию— на художественную, рукотворную красоту. Мир
Петипа— это мир одушевленного искусства. В па Петипа оживает
романтический миф об искусстве, не ведомый просветительству миф.
Петипа безмерно раздвинул мифологические границы балета, но за
них — за эти новые границы — не переходил. Он оставался человеком
своего века. Когда в 80-х годах в Милане (бурно развивавшемся инду-
стриальном городе, том самом, где вскоре оформится агрессивный,
апологический к индустрии футуризм) был поставлен балет «Эксцель-
сиор», прославлявший технический и научный прогресс, и когда в том
же Милане и в тех же 80-х годах стали появляться знаменитые вирту-
озки, демонстрировавшие холодный, хотя и в профессиональном смы-
сле непревзойденный техницизм, Петипа, обычно столь сдержанный и в
своей сдержанности высокомерный, не выдержал и громко запротесто-
вал. Миф о технике не стал его мифом. Балет Петипа был балетом
XIX века. Но сколько же в нем накоплено художественных богатств!
Фоном балетов Петипа чаще всего является архитектурный пейзаж.
Почти непременное место действия — дворец, как правило — класси-
цистский или же в стиле барокко. Почти в каждом балете декорация
несет дворцовый мотив: тронный зал, эспланаду, колонный зал, гале-
рею, террасу или некоторый идеальный ансамбль, в котором без труда
узнаешь версальский фасад, фонтаны Петергофа или царскосельские
парки. Мир Петипа неотделим от дворцов, нарисованных на задниках
его декораций. Но это не дворцовый балет, а балет рядом с прекрасной
архитектурой. В эпоху Петипа прекрасная архитектура была по пре-
имуществу архитектурой дворцов, как некогда она была архитектурой
соборов. И сами па Петипа похожи на архитектуру дворцов: как и
Версаль, как и Петербург, они строятся на горизонталях. Петипа
потому использует архитектурный фон, что хореография его архитек-
турна. Петипа — архитектор балета, а не придворный поэт. Творцом
«императорского балета» его сделала злая и неграмотная легенда. Мы
можем взять наугад любую сцену из Петипа, чтобы убедиться в том,
насколько построение ее архитектонично. Но среди них есть абсолют-
ный архитектоничный шедевр — адажио с четырьмя кавалерами. Это
кульминация первого акта «Спящей красавицы» и одна из двух кульми-
наций балета (другая — сцена «нереид»).
Кавалеры выстраиваются слева направо и вверх, по диагональной
прямой, другую диагональ, справа налево и вниз, образуют пажи,
опустившиеся на одно колено. Вдоль этих диагоналей разворачивает
свое действие ансамбль, количественно небольшой, но пространственно
необычайно широкий. Четыре кавалера придают действию четкий про-
странственный ритм, а четырехкратные движения балерины — ритми-
чески расчлененную протяженность. Это четырехкратное проведение
одних и тех же танцевальных фигур (экарте, арабеск, простой аттитюд,
аттитюд с обводкой) и в самом деле приводит на память классический
архитектурный мотив, колоннаду, ордер. Адажио с четырьмя кавале-
рами не простое балетное действенное па, это адажио-пропилеи. Но это
живое адажио, а не неподвижная архитектура. В нем есть внутреннее
движение — сюжет, и есть внешнее движение — динамика самой фор-
мы. Пропилеи адажио даны в смене ракурсов, каждый из которых
напоминает ракурс Дега, а все вместе — ракурсы движущейся камеры
современной кинокартины. (При этом не следует забывать, что Петипа
поставил адажио тогда, когда еще не наступило время камеры непод-
вижной.) В меняющейся геометрии адажио неизменно одно: в фокусе
всегда балерина. В точке пересечения диагоналей — балеринская поза,
быстрый балеринский глиссад, похожий на мгновенный женский
взгляд, медленные балеринские пируэты, исполненные недоступности и
внутреннего покоя. Все диагонали адажио ведут к балерине, подобно
тому как все диагонали версальского парка ведут к главному фасаду
дворца. Центростремительная композиция патетична. Музыка Чайков-
ского звучит гимном, и линии Петипа складываются в гимн, это гимн,
ставший хореографической архитектурой. Как подлинный зодчий,
Петипа венчает его скульптурным мотивом. В средней части адажио, а
затем — с еще большей непререкаемостью — в самом конце балерина
приостанавливает свое торжественное движение и принимает позу клас-
сического аттитюда. Она кажется ожившей статуей богини Венеры.
А чисто хореографическая игра адажио заключается в том, что
обряд предложения руки становится здесь красивой демонстрацией
балетной поддержки.
С музыкальной же точки зрения адажио Петипа полифонично.
Но это не старинная фуга или старинный канон. Четыре голоса-темы
следуют последовательно друг за другом, а не одновременно. Это поли-
фония, развернутая в пространстве, образующая пространственный
ряд, визуально организующая музыкальную стихию. В музыке Чайков-
ского— могучий порыв, стремление вдаль, грандиозное оркестровое
нарастание выходит из берегов, но невесомая сила танцевальной поли-
фонии сохраняет над музыкой такую же сказочную власть, какую имеет
в балете жезл феи Сирени.
Адажио Петипа — сказочная конструкция, совмещающая романти-
ческий порыв и классическую структуру.
Метафорическая основа этого величественного адажио — уподобле-
ние души человека архитектуре дворца. В свою очередь душа-дворец у
Петипа есть грандиозный образ ясных начал жизни. «Спящая красави-
ца» — очень ясный балет, ясным кажется каждое танцевальное па и
каждый душевный порыв героини, Авроры. В прославлении и защите
ясных начал жизни — смысл всего позднего творчества Мариуса Пети-
па, под старость заново открывавшего для себя впитанные в детстве
просветительские идеи. У романтических феерий Петипа— просвети-
тельская подоплека. Он смело сближает мир симфоний Чайковского и
мир сказок Перро. Он возвращается к гармонической мудрости
XVIII века. Но именно потому Петипа в последние свои годы столь
одинок: театр этого времени устремлялся не в XVIII, но в XX век, и
даже балетный театр был готов идти неизведанными путями. Ведущая
метафора «Лебединого озера» — душа-озеро, но не душа-дворец.
В «Лебедином озере» многое избегает ясности: ситуации, образ
Белого лебедя, главной героини. Но лебединые сцены ставил Лев
Иванов, а не Петипа: Петипа принадлежал общий план балета.
В заключение о «Баядерке», заветном произведении Петипа.
Поставленная в 1877 году и сохранившаяся до наших дней (хотя и без
последнего акта и с переделанным вторым), «Баядерка» доносит до нас
атмосферу, аромат и красочность романтической мелодрамы. Что толку
сетовать на неправдоподобие некоторых сцен, на банальный сюжет, на
наивную индусскую экзотичность. К чему противопоставлять затяну-
тую и тяжеловесную пантомиму первого акта третьему акту — акту
«Теней». Не лучше ли окинуть взглядом балет в целом, пристально
всматриваясь как раз в те эпизоды, которые кажутся наиболее архаич-
ными. Это лубок? Да, но это живая история. У нас есть неповторимая
возможность присутствовать на театральном представлении давно
ушедших времен, перенестись в прошлое и на сто и даже на полтораста
лет сразу. Почему полтораста? Да потому, что «Баядерка» сама питает-
ся воспоминаниями и реминисценциями театра 30-х годов, это носталь-
гический балет, первый ностальгический балет в истории балетного
театра. Лирика ностальгии скрыто пронизывает его, одухотворяет
грубоватую мелодраматическую ткань и в открытую изливается в сцене
«Теней» — грандиозном хореографическом хороводе. Что вспоминает
Петипа? Юные годы романтического театра. Ослепительная панорама
парижского театра 30-х годов проходит перед его чуть затуманенным
петербургским взором. «Баядерка» — парижский балет, может быть,
единственный парижский балет, сочиненный Петипа в Петербурге
(одноактный и ранний «Парижский рынок» не в счет, хотя и в этой
комедийной сюите, поставленной Петипа для первой жены, юной
красавицы Марии Суровщиковой, оживали картины парижской
ярмарочной старины). Акт «Теней» полон воспоминаний об эпохе
«Сильфиды», а пантомимные акты включают в сферу балета широкий
круг смежных жанров. Тут впечатления от драматических спектаклей,
в которых блистал Фредерик Леметр, и от пантомим, в которых творил
чудеса Гаспар Дебюро, легендарный мим первой половины XIX века.
В основе сюжета «Баядерки» — столкновение неумолимых страс-
тей, блестящее женское соперничество и власть театра, таинственная
магическая власть. Сцена гибели героини, укушенной ядовитой змеей,
поставлена так, что сплетает все эти фабульные мотивы воедино. Бая-
дерка, храмовая танцовщица Никия, танцует почти инфернальный та-
нец — танец, исторгнутый из груди точно вопль, точно хрип, точно по-
следнее стенанье. Это «мочаловский миг» балетного театра. Это мо-
мент, когда беззвучный танец воздействует как пронзительный крик.
В исполнении выдающихся артистов танец со змеей производит неот-
разимое впечатление. Зрительный зал вставал, когда Семенова—Ни-
кия, в полушпагате и по-цыгански заложив руки назад, опускалась на
одно колено, когда она одним движением — жестом, точно пламя кост-
ра, взмывала ввысь всем телом. В наэлектризованной атмосфере театра
пролетали сухие искры. Стояла мертвая тишина. Возникал тот необык-
новенный контакт между сценой и залом, который умели создать леген-
дарные артисты прошлых эпох и по которому тоскуют зрители последу-
ющих поколений. А в акте «Теней» «мочаловский миг» сменялся
магией ритмической кантилены. Тридцать две танцовщицы, поочередно
вступая на сцену, подхватывали, хореографически очищая ее, фигуру
страдания из предшествующего акта. Распластанное движение над
полом становилось классическим арабеском, а порыв ввысь — класси-
ческой позой круазе назад. Вопль страдания превращался в свою музы-
кальную тень — превращался в печаль, разлитую над миром. Контраст
«Баядерки» — контраст праздника и печали. А мысль ее бесконечно
проста: одна-единственная страдающая душа делает праздник бесчело-
вечным. И когда в финале молнии поражали праздничный бал, зрители
понимали: праздник, который не является праздником для всех, должен
погибнуть.
Лебедь и Фавн
Михаил Фокин
Вацлав Нижинский
Дягилев
Осень 1914 года бросила тень на судьбу «Русских сезонов». В течение
пяти предыдущих лет здесь шла бурная жизнь, сперва сплоченная, затем
разобщенная и очень скоро начавшая распадаться. Могучая воля Дяги-
лева спасала антрепризу не один раз. А его барские и какие-то дамские
капризы не раз ставили труппу на грань катастрофы. Уже в 1912 году
Дягилев задумал изменить направление дела: вместо Фокина балетмей-
стером становился Нижинский. По-видимому, к 1914 году в сознании
Дягилева созрела мысль о необходимости более решительной пере-
стройки. Сентиментальный Дягилев умел, когда надо было, приносить
в жертву старых соратников и старых друзей. В этом заключался один
из секретов его почти непрерывных успехов. Но все происходившее —
ссоры, уходы, возвращения — имело художественный резон или же
личную подоплеку. Теперь же добавился более общий мотив. Война
1914 года поставила дягилевцев (даже если они от Дягилева в этот
момент ушли) перед лицом нравственной ситуации, простой и грубой
проблемы. Война поделила человечество на две неравные половины.
Оказалось, что огромное большинство обладает меньшими правами на
жизнь, чем ничтожное меньшинство, и что ведущие артисты балета
принадлежат к привилегированной половине. Талант — социальная
привилегия, вот что стало ясно для всех. Дягилев это знал всегда и
никогда не думал иначе. Он считал это в порядке вещей. Своих сотруд-
ников он окружал беспримерной славой, рекламой, платил им такие
гонорары, к каким вскоре начнет привыкать избалованная голливуд-
ская кинозвезда, но к каким не привык скромный петербургский или
варшавский танцовщик (значительную часть труппы составляли
выходцы из Варшавы). И делал это Дягилев вовсе не для того только,
чтобы удержать нужного исполнителя у себя в коллективе. Этот
великий антрепренер не всегда полагался на власть денег. Он вообще
не давал деньгам чрезмерной цены. У него была социальная, а не
меркантильная философия: он считал, что артист принадлежит к приви-
легированному сословию. В глубине души он считал, что только арти-
сты создадут будущую элиту. Он смотрел свысока на наследных
принцев, князей и княгинь, которые рукоплескали ему и ссуживали
немалые суммы.
Он был великолепен, когда заставлял их платить.
Он был великолепен, когда расплачивался со своими артистами.
И все-таки Нижинский ушел от него. А Фоцин — тоже ушел, но
одно время стремился вернуться.
Внешняя (как раньше принято было говорить: анекдотическая)
история этих ссор нас мало интересует. Она подробно описана в мему-
арах, исследована в академических штудиях, обсосана в полубульвар-
ных романах. Нас интересует ее скрытый, хотя ясный сюжет. Волнует
этическая, а не психологическая и не деловая подоплека разыгравшей-
ся и неизбежной драмы.
Для всех, кто его окружал, Дягилев олицетворял собой высшие
привилегии театра. Дягилев говорил: театру быть! а мир пусть сходит с
ума. И театр — его «Русский балет» — был, хотя быть ему было
очень трудно. Энергия Дягилева была гениальна, а цинизм его был
блестящ. На том и другом двадцать лет держалась самая эфемерная в
истории театральная труппа. Что только не произошло за эти долгие
двадцать лет: мировая война, Февральская революция, Октябрьская
революция, общественные кризисы послевоенной Европы. И все это
время «Русский балет» просуществовал, и каждый сезон открывался
новой премьерой. Поэтому Фокин, самолюбивый, обиженный Дягиле-
вым Фокин, возвращался к нему: с Дягилевым было спокойно, с Дяги-
левым не надо задумываться, нужен или не нужен балет, с Дягилевым
приходилось спорить лишь о путях и новых формах балета. И потому
Нижинский, обласканный Дягилевым и вознесенный им на недосяга-
емую высоту (скандальный эпизод — изгнание Нижинского из труп-
пы — не изменил, по существу, их отношений: то была вспышка
ревности Дягилева, а не разочарование в артисте; разочаровал его
Фокин, Нижинского Дягилев боготворил), этот боготворимый актер
уходит от Дягилева, а вскоре навсегда расстается с балетом. Говорят о
болезни — ведь он уже заболевал, вспоминают князя Мышкина, хотя
Нижинский не болел падучей. Остроумную формулу нашел Морис
Бежар: герой Достоевского, впавший в толстовство. Почему не сказать
просто: задумавшийся артист, танцовщик, который задумался над эти-
ческими оправданиями театра. В последние годы войны, в последние
дни своей сознательной жизни Нижинский пишет книгу-исповедь, в
лихорадочных строчках которой бьется тревожная мысль: заблудился.
Им овладевает ужас путника, избравшего неверный путь. Ему кажется,
что искусство пошло не той дорогой. История Нижинского — история
гения, отказавшегося от привилегий.
А в это время неистовый Фокин вступается за свои права. Он рассы-
лает протесты, опровержения, комментарии, чуть ли не документы. Его
можно понять: балеты Фокина присваивают бывшие сослуживцы,
реформу Фокина приписывают Дягилеву, Баксту и Бенуа, и даже
Британская энциклопедия пишет о «дягилевском балете» — вместо
того, чтобы писать: «фокинский балет». Не добившись успеха, Фокин
решает написать историю сам и незадолго до смерти набрасывает
первую часть мемуаров. История Фокина — история гения, решив-
шего отстаивать свои права до конца.
Как странно распорядилась судьба этими биографиями: она распо-
ложила их валетом. Молодой Фокин — поклонник Толстого (Тол-
стого-моралиста), молодой Нижинский — интуитивный эстет. Путь
Фокина — от Толстого к «Миру искусства», путь Нижинского — от
эстетизма к толстовству. Какую-то часть дороги они проходят вместе.
Это лучшее время их жизни, и оно длится около пяти лет. Тот ослепи-
тельный фейерверк, который мы называем новым русским балетом,
начался «Лебедем» и кончился «Фавном». Фокин поставил «Лебедя» в
1907 году, а Нижинский «Фавна» — в 1912-м.
Михаил Фокин
Лучшие силы души Фокин отдал «Лебедю» и тогда же поставленному
«Вальсу» (из этого вальса год спустя возникнет «Шопениана»). Здесь
Фокин наиболее близок классическому балету и вместе с тем наиболее
близок себе. Здесь он совершенно свободен. Художественные идеи,
которые он страстно отстаивал всю жизнь, воплощены здесь с такой
пластической грацией, какую можно назвать лебединою. По-видимому,
уникальная историческая ситуация Фокина, который был пламенным
реформатором, певцом новизны и вместе с тем завершителем давней
традиции, последним в роде, позволила создать это единство изыскан-
ного маньеризма и дерзкого мятежа, союз неги, пламени и печали.
Шопеновский вальс, как и «Шопениана», поставленная в 1908 году,
не стилизация, но «романтическая греза». Сохранены все известные
сильфидные позировки и воссоздан сильфидный канон, сама красота
сильфидного танца возрождена как неотъемлемая суть искусства бале-
та. Но образ сильфиды получил у Фокина дополнительные черты.
Фокинские сильфиды — не копии тальониевских сильфид 30-х годов и
еще менее подобия танцовщиц послеромантического балета. Они дру-
гие по душевному опыту и душевному складу. Отсутствует образ
блистательной женственности (мотив Мариуса Петипа), женственности
расцветающей (другой мотив Петипа) или же образ женственности вле-
кущей (мотив Филиппа Тальони и Бурнонвиля). Осторожно намечен
образ женственности, погруженной в полудетские грезы и смутные
артистические сны. Юноша, попавший в хоровод фокинских сильфид,
ими не воспринимается как чужой, как мужчина. Он — свой, он
«сильф» — и таким был юноша у Нижинского, судя по воспоминаниям
и фотоснимкам. Отношения юноши с девушками полны поэтического
волнения и лишены эротического подтекста, а в датской «Сильфиде»
этот подтекст присутствует и исподволь определяет сюжет. Джемса вле-
чет странная страсть, он хочет обнять Сильфиду. Фокинский вальс
(ставший дуэтом в «Шопениане») несет совершенно иной мотив.
И хоть многие танцевальные элементы в этом вальсе-дуэте тради-
ционно сильфидны и весь он построен по схеме балета Тальони (юноша
преследует сильфидный полет), а средняя часть состоит из поддержек-
объятий, здесь другие объятия и совсем не похожая страсть. Фокин
поставил, а Павлова с Обуховым и Карсавина с Нижинским танцевали
зачарованность тальонизмом. Их соединила не любовная привязан-
ность, но художественная мечта. Это дуэт двух пленников романтиче-
ского балета. Образ недоступной сильфиды влечет их обоих, а не его од-
ного. Фокинская танцовщица так же мечтательна, как и ее кавалер,
но в ней больше смелости и, может быть, больше таланта.
Мир молодого Фокина — очарованный мир, и его ранние балеты
лишены четких канонических очертаний. Театральность «Шопенианы»
почти сведена на нет. Чудо спектакля и состоит в этой неуловимой, но и
не устраненной совсем театральности. Это в самом деле театр поэта, о
котором грезили в 900-х и 10-х годах. Есть и поэт; юноша с романтиче-
ской прядью. Есть его театр, похожий на театр теней: никакого нату-
рального жизнеподобия, никаких жестких устойчивых мизансцен, ника-
ких грубых эффектов. Балерины все время к чему-то прислушиваются,
с чем-то прощаются, чего-то ждут; это театр догадок, трепета интуиции;
нам открывается процесс вчувствования в прошлое, в будущее, в жизнь;
жизнь — точно за пределами сцены, за кулисами, а тут слышен ее
призыв; волнение неизбежного овладевает сценой, как ветер овладе-
вает листвой неподвижного предвечернего леса. А мизансцены бале-
та — словно очерк несбыточных мизансцен, невозможных в реально
действующем театре. Поэт-хореограф набрасывает одну за одной
живые картины дивной, но малоотчетливой красоты и не стремится,
даже намеренно противится придать этим картинам классически отчет-
ливую форму. Все движется, точно в полусне, ритмы плывущие, линии
удлинены, как удлинены старинные пачки. Их можно назвать ботти-
челлиевскими, эти линии склоненных головок, изогнутых и перепле-
тенных рук, изысканно искривленных траекторий, теряющиеся очерта-
ния пробежек, полетов, прыжков, стильных позировок, полуакадемиче-
ских поз, и, очевидно, что сам Фокин, набрасывая рисунок кордеба-
летных групп, вспоминал «Весну» Боттичелли. Тройки сильфид так
напоминают трех боттичеллиевских граций.
С формальной точки зрения здесь (как и в фокинском балете
вообще) поэтизируется та изломанная, волнистая линия, которой увле-
калась графика начала века и которую не культивировал академиче-
ский балет. Прямую линию Фокин не любил. Он считал ее невырази-
тельной и нетеатральной.
И недостаточно музыкальной — это понятно без слов. О музыкаль-
ности фокинского мышления и фокинского языка писалось не раз
(подробно этот вопрос освещен в известных работах Б. Асафьева и
И. Соллертинского), мы же коснемся другой стороны, хотя нельзя не
подивиться тому, как счастливо угадана в «Шопениане» близость шопе-
новской музыки и сильфидного танца, Шопена и Марии Тальони.
Чары, под властью которых жил Фокин, были чарами театра
вообще, а не только чарами театра балета. Общий смысл его деятельно-
сти — в театрализации танца, эмоций, трудно уловимых лирических и
экстатических стихий. Эти лирические и экстатические стихии пред-
стают у Фокина в живописных утонченных стилизациях. Фокин ставит
не отвлеченный экстаз и не отвлеченную лирику, но экстаз половцев и
лирику сильфид, он разыгрывает эмоции в стиле эпохи и в образах
персонажей. Это действительно театр эмоций. Неуловимые эмоции
Фокин превращал в маски, а маски развоплощал в эмоции, в шаг, бег и
полет. Не только «Карнавал», где на сцене маски итальянской комедии,
где Арлекин носит венецианскую полумаску-бауту и где стиль полума-
ски становится стилем действия, движения, театральных шуток и танце-
вальной игры, но и белотюниковая «Шопениана» принадлежит к
маскарадному театру, хотя и особому, не имеющему прецедента: хоре-
ографическими масками в «Шопениане» являются тальониевские позы,
поддержки, прыжки. Более скрытый мотив «Шопенианы» — так
называемые «маски непорочности» 40-х годов XIX века, вошедшие в
парижскую моду не без влияния шопеновской музыки и танцев Марии
Тальони.
Фокин возродил забытую после Дидло маскарадную традицию клас-
сического балета. «Еще амуры, черти, змеи...» — это сказано как будто
о нем. Причем сказано буквально: есть Амур в «Эросе», есть черти в
«Паганини», есть и змея в «Египетских ночах» (об этой змее мы кое-что
расскажем позднее). Но смысл маскарадности у Фокина совсем не тот,
что у Дидло. Иначе Фокин и не стал бы великим поэтом театра. Иначе
он не стал бы художником 10-х годов, сподвижником тех режиссеров,
поэтов, живописцев, авторов книг, которые видели в маскараде
всеобщую метафору жизни. Маскарадность — театральная форма того
нового мироощущения, которое Фокин принес в балет, которое одуше-
вило его, но в конечном счете привело к преждевременной катастрофе.
Жизнь поэтизируется и понимается как иллюзия, как игра, хотя подчас
с роковым и очень реальным исходом. Инсценируется, в сущности, и не
жизнь (как в «Спящей красавице»), а интермедия, эпизод или, как в
«Карнавале», цепь коротких, не связанных, но сверкающих эпизодов.
Персонаж Фокина — герой интермедии, шумановская бабочка, шопе-
новская эфемерида. Он должен прожить ослепительный миг, одну
ночь («Клеопатра», «роман одной ночи»), одну сцену («Шехеразада», в
сущности, тоже «роман одной ночи»), он должен выразить себя че-
рез один жест, как в «Лебеде» или же как в балете «Петрушка».
«Петрушка» — может быть, самый пленительный фокинский
маскарад и, безусловно, самый трагичный. Обаяние спектакля — еще и
в том, что это интимный балет. Интимность — его стиль, его содержа-
ние, его интригующая тема. Перед глазами зрителя предстает закулис-
ный мир, хотя и фантастически преображенный. На сцене маленький
театрик, игрушечная жизнь. Драма разыгрывается в двух необычных
по своей живописности интерьерах. Эти интерьеры расписаны, как
пейзажи: ночной пейзаж в каморке Петрушки, знойный дневной пейзаж
в покоях Арапа. Темно-лиловые стены интерьера Петрушки усеяны
звездами и украшены серпом луны; здесь же висит Страшноватый
портрет Фокусника в высоком тюрбане. Интерьер Арапа весь в зелени
высокой листвы и пышных крон кокосовых деревьев. Листву пересе-
кает огромный синий удав. Свернувшаяся в виде знака-кольца змея
изображена на отдельной картине. Художник Александр Бенуа мешает
балаган с кабалистикой, пейзаж с интерьером, он обряжает интерьеры
в пейзаж, как обряжают премьеров в таинственные экзотические
костюмы или пестрые простонародные платья. «Петрушка» — декора-
тивный маскарад, единственный в своем роде. Декоративное остроумие
«Петрушки» сродни так называемым «шуткам театра». Бенуа шутит
красочностями, играет живописными пятнами, но строго выдерживает
колористическую гамму, найденный цветовой состав, окружает грубое
балаганное малевание тончайшим колористическим ореолом. Это един-
ство живописи — совершенно новое единство, привнесенное в театр
художниками «Мира искусства», — придает зрелищу не только непере-
даваемое очарование, но и почти гипнотическую власть: власть краски.
«Петрушка» — балаганный балет, и Бенуа рассказывает, что озна-
чали для петербургских детей балаганы на Марсовом поле и как он
захотел оживить яркие впечатления детства*. Влияние «Балаганчика»,
спектакля Блока и Мейерхольда, сыграло свою роль. Но у балета
есть еще один непрямой и неосознанный источник. В те годы, когда
создавался балет, в России была заново открыта старая русская икона.
Она поразила своей праздничной красочностью прежде всего. Не будет
большой натяжкой предположить, что в сознании людей, близких к
живописи и сцене, возникло стремление вернуть к жизни такой же
красочный и архаичный жанр, в котором так же заиграли бы нестертые
краски театра. Балаган возвращал театру праздничность, наивность и
тайну. Стилистику балагана Бенуа использовал для декораций, а Фокин
для пластических решений и для того, чтобы построить выразительный
жест. Именно балаганный жест положен в основу партии главного
персонажа, и этот преднамеренно примитивистский жест разработан
балетмейстером с несравненным искусством. Жест Петрушки — жест
несгибающихся рук, у Петрушки точно отняты или заколдованы руки.
Поэтому он так прогибает свое тело или же простирает тело над полом,
делая почти горизонтальный выпад коленом вперед. Петрушка жести-
кулирует телом, а не руками. Руки выброшены в нелепой позе наверх
либо болтаются, как пустые варежки (они и одеты в черные варежки,
что на символическом языке театра означает, что их нет). Трогательная,
трагикомическая борьба Петрушки с Фокусником — это борьба за
вызволение рук, смешной бунт Петрушки начинают его зачерненные
кисти.
А в целом спектакль Фокина — Бенуа строится на сопоставлении
двух близких и очень контрастных театральных систем: на первом
плане вечные маски театра (Пьеро, Коломбина, Арлекин), переведен-
* Александр Бенуа размышляет. М., «Сов. художник», 1968, с. 176—184.
ные на язык русского балагана (Петрушка, Балерина, Арап), а фон к
ним — полуэтнографические петербургские маски (кучера, кормили-
цы, военные, хлыщи), данные со всей точностью внешнего поведения,
костюмов, манер, это балет пластически острых силуэтов.
В «Петрушке» — в противоположность «Шопениане» — танце-
вальность балета едва ощутима, затаена, а театральность подчеркнута и
живописна. Еще более живописны, еще более богаты живописными
подробностями «Половецкие пляски», поставленные в опере «Князь
Игорь» Бородина, и здесь достигнуто хрупкое равновесие танцевально-
сти и театральной игры, прыжка, жеста, ритмического и пластического
рисунка. Что такое «Половецкие пляски»? Вакханалия, массовое горе-
ние, массовый экстаз. Но как тонко проработана фактура композиции!
Какая сложная, изысканная вязь! Какая ажурная вакханалия! Какой
кружевной экстаз! Какой изощренный рисунок движений! И при этом
«Половецкие пляски» — могучая хореографическая фреска. С пер-
вого раза можно и не разглядеть, что она искусно построена и строго
расчленена, что в ней участвуют (сливаясь в финале) и не две, а сразу
три группы участников: половцы-лучники, девушки-половчанки и чаги-
невольницы, — что в ней разыгрывается скрытый сюжет и что
половцы-лучники (которым балетмейстер придал выразительнейший
жест руки, точно раскручивающей аркан, нетерпеливую грацию ноги,
остро подогнутой под колено другой, и экстатический, падающий, зава-
ливающийся назад изгиб спины), эти лучники, всадники, охотники, дра-
чуны, выбежавшие на сцену, чтобы упиться прыжками, простором и
беспощадной силой своей, чтобы еще раз пленить беззащитных деву-
шек-чаг и еще раз насладиться их беззащитностью, — эти лучники-
богатыри сами оказываются в плену у своих пленниц.
Скажем сразу: плен красоты — фокинский постоянный мотив, уни-
версальная тема, объединяющая и «Половецкие пляски» и «Шопениа-
ну», столь непохожие друг на друга балеты. Плен красоты — это ситу-
ация фокинского первого большого спектакля — «Павильона Арми-
ды», поставленного в тесном сотрудничестве с Александром Бенуа, и
последнего из созданных до начала первой мировой войны — «Сказки
о золотом петушке», поставленного в декорациях Наталии Гончаровой.
Плен красоты удерживает проезжего виконта в таинственном и
роскошном павильоне Армиды, поэта — в ночном хороводе сильфид,
царя Дадона и его сыновей — в шатре шемаханской царицы. Даже
черный раб из «Шехеразады», знаменитый юноша-раб Вацлава Нижин-
ского — это тоже раб красоты, одурманенный, изнеженный и пылкий
невольник. Плен красоты у Фокина — сладостный плен, чудный сон,
рай неволи. Тема Фокина — тема глинковского Ратмира. В сущности,
Фокин перенес в русский балет то представление о танце, которое было
создано в русской опере. Недаром ему так удавались танцы в оперных
постановках («Половецкие пляски» и танцевальные сцены «Руслана и
Людмилы» сохранились на сцене Кировского театра еще и сейчас).
В русской опере, начиная с Глинки, танцевальный образ — это образ
утонченных, сладостных искушений. Почти всегда это Восток и почти
всегда это волшебный напиток. Танцы оперных дев вносят в героиче-
скую оперу призыв Эроса и призыв Венеры. В этих танцах нет ни
романтической элевации, ни героического духа. Элевацию и возвышен-
ный дух в русской опере представляет не танец, но пение героев.
Волшебные сады Наины, пляски персидских девушек, половецкие
пляски — контраст героическим образам, искушение на пути добле-
сти, славы и долга. Это совершенно иная концепция танца, нежели
та, которую утверждали в классическом балете Петипа и Чайковский.
Поэтому Фокин не ставил балетов Чайковского, хотя переговоры о
постановке в Петрограде «Щелкунчика» длились не один год. Они
сорвались по причинам, не имеющим отношения к искусству. И все же
главная причина — не в них. Фокин мог бы поставить «Щелкунчика»
у Дягилева в Стокгольме, Монте-Карло или Нью-Йорке. Вместо
«Щелкунчика» он ставит «Шехеразаду». Вместо «Спящей красави-
цы» — «Сон маркизы» и «Сказку о золотом петушке». Музыку Чай-
ковского Фокин очень любил, он даже попытался инсценировать
«Струнную серенаду» (то, что четверть века спустя с таким совер-
шенством сделает Баланчин). Но что он услышал в партитуре и как
он назвал свой балет? Балет на музыку лирически воодушевленной
и драматичнейшей (в средней части) «Струнной серенады» называется
«Эрос». И в нем рассказывается, как чистую девушку искушают тре-
воги любви и как она пленена красотой стоящей в парке статуи бога
Эроса. Иначе сказать, Фокин поставил еще один вариант «Павильона
Армиды». Этот балет, сокращенная редакция которого называлась
«Оживленным гобеленом», начинался с того, что путнику показывали
старинный роскошный гобелен. Армида была изображена на гобелене.
Оживление старой живописи или старинной скульптуры — вообще
излюбленный мотив «Мира искусства».
Маски, плен красоты, оперная концепция танца, бог Эрос, оживлен-
ный гобелен, изощренный декоративизм — все это вводит Фокина в
круг эстетического театра. Для Фокина красота всегда права. В своих
статьях он пишет только о красоте, и слово красота — только с
большой буквы. Этические критерии красоты для него будто и не суще-
ствуют. Гуманная или негуманная сказка, жестокая или нежестокая
сцена — все это не имеет значения, если в сказке присутствует красота,
если сцена поставлена театрально-красиво. Вот характерные слова
Фокина, написанные в мемуарах, то есть уже под старость, в конце
30-х годов: «Мне казалось, массовое истребление любовников и невер-
ных жен на глазах публики — это такая чудная для меня задача»*.
* Ф о к и н М. Против течения, с. 236.
Фокин описывает здесь постановку «Шехеразады». Эстетизм Фоки-
на — эстетизм рубежа двух веков, эстетизм петербургской молодежи
тех годов, эстетизм мирискусников, не пожелавших связывать себя с
той традицией, которая требовала от искусства в первую очередь нрав-
ственных оправданий, а в крайних случаях — оправданий утилитарных.
На щите были начертаны пушкинские слова: «Не для житейского вол-
ненья...» Другие пушкинские стихи не вспоминались. Конечно, есть
разница между полемическим лозунгом и работой всерьез, а в лучших
фокинских сочинениях начальной поры догадки о красоте поистине
гениальны. И «Лебедь», и «Вальс», и «Шопениана» переживут наш
век. Простим Фокину крайности воодушевленной мысли.
Между тем Фокин начинал не как эстет, а по своему внутреннему
убеждению никогда эстетом и не был. Художественная идеология
Фокина — самое странное, какое только можно себе представить,
совмещение утонченного эстетизма и наивного, даже грубого, хотя
экзальтированного натурализма. Натуралистические тяготения Фокина
иллюстрирует следующий эпизод. Репетируя «Египетские ночи»,
Фокин захотел, чтобы в балете присутствовала живая змея. Опыт не
удался, змею пришлось отставить, но не потому, что она вызывала
отвращение и страх, а потому, что оказалась негодной актрисой. Фокин
пишет в своих мемуарах: «Она не оправдала надежд. Обвила руку бале-
рины и не пошевелилась. Так что вместо моей мечты — бутафорская
змея из коленкора и ваты»*. Эти строки писались в 1937 или
1938 году, когда Фокину исполнилось пятьдесят семь или пятьдесят
восемь лет, тридцать лет спустя после репетиций с живой змеей и с
Анной Павловой — Береникой. Но в этих строках сохранился весь
юношеский пыл молодого Фокина, его экзальтация и его поразитель-
ная наивность. Любая идея определялась не иначе, как мечта, а самой
заветной мечтой было — изжить из театра не только всю бутафорию,
но все, что неподлинно, что ненатурально. «Коленкором и ватой» ему
кажутся многие элементы, составляющие балет. В статьях, высказыва-
ниях, интервью Фокина 900-х и 10-х годов и почти во всей его практи-
ческой деятельности балетмейстера-режиссера отрицаются основы
классического танца: выворотность, академические позиции, академи-
ческие пор-де-бра, виртуозные вращения — на том основании, что в
жизни так не ходят, не бегают, не стоят и не пользуются так руками.
Фокин отрицает академический танец с тех же позиций, с каких перед-
вижники отрицали академический рисунок и академическую культуру
вообще. В 20-х годах те же критерии буквального жизнеподобия
Фокин прилагает к танцу «модерн» и в соответствии с той же логикой
(«в жизни так не ходят») отвергает принципы новейшей школы (рассер-
женные фокинские-статьи в большом количестве собраны в сборнике
’Фокин М. Против течения, с. 206.
«Против течения»). Понятие условности в театре Фокин-теоретик
совершенно не допускал, хотя Фокин-практик использовал условные
формы классического танца сплошь да рядом (а фокинская режиссура
была уникальным образчиком условного театра). На противоречиях
ловить его очень легко. Никакой принципиальной разницы между
турами и прыжками нет, в свою очередь выворотность и пуанты — в
одинаковой мере классическая балетная условность. Между тем пуанты
Фокин принимал, прыжки очень любил, туры не терпел, а выворот-
ность ненавидел (особую ненависть он питал к самой выворотной —
второй позиции). «Танец самой Жар-птицы построил я на пальцах и
прыжках, более — на прыжках. Танцы виртуозные, но..., конечно, без
выворотности и без всяких preparations*. Это «конечно» стоит мно-
гих запальчивых деклараций (которых, впрочем, тоже не счесть). Это
«конечно» — след великой реформы, яркий след, на который пала тень
мрачной доктрины.
В доктринерстве — трагедия Фокина-балетмейстера и Фоки-
на-человека, главная причина его преждевременного художественного
упадка, его продолжительного художественного одиночества. Как
быстро этот пламенный дух закостенел, а этот пластичнейший артист
потерял внутреннюю гибкость. Всю жизнь он отрицает все, что не
совпадало с его понятием красоты, с его понятием исторического и
этнографического натурализма. Всю жизнь он преследует одну и ту же
мечту. Пришли новые времена, «герои полумаски» (говоря словами
поэта) сошли со сцены, а репертуар (мы чуть было не написали: рекви-
зит) Фокина не изменился: в 1921 году он ставит «Сон маркизы» и
«Приключения Арлекина», в 1925 году «Бессмертный Пьеро», в 1934
году «Семирамиду» и «Диану де Пуатье». Все та же колода, все тот же
расклад: дама, король, валет или же король, валет, дама. А получив от
Равеля две великие новаторские партитуры: «Вальс» и «Болеро»,
Фокин не находит для них необходимого вдохновения. Сам он считает,
что окружен завистью, злобой и, может быть, даже интригами князя
тьмы. О том, насколько этот сверкающий дух впал во мрак банальных
балетных маний, мы можем судить по переписке Фокина 30-х годов,
его бесконечным и странным письмам в редакции, историкам танца,
критикам и вовсе случайным людям, а главное — по плану балета
«Паганини», составленному при участии автора музыки С. В. Рахмани-
нова, чей холодный и ясный ум наверняка помог освободиться от чрез-
мерностей первоначальных набросков.
Трагедия Фокина имеет и более широкий смысл: она есть трагедия
русского «Мира искусства».
История мирискуснического балета — история художественного
заблуждения, роковой ошибки. Мирискусники оживляли в балете арха-
* Ф о к и н М. Против течения, с. 266.
ическое и приносили в жертву живое. Они сделали ставку на декорати-
визм и устранили конструктивные основы: классический танец, ансамб-
левую структуру, систему па. И эта ошибка была не случайной. Разу-
меется, мирискуснический декоративизм был сто крат утонченнее, ярче,
театральнее, а главное — новее эпигонского декоративизма балетного
театра второй половины XIX века. И кроме того, мирискуснический
декоративизм был универсальной чертой мышления, категорией
стиля прежде всего: в поздних фокинских балетах все декоративно — и
жест, и эмоция, и страсть, и поступки. Декоративность подчиняла себе
движение, вытесняла балет. Экстатический фокинский танец погружал-
ся в глубокую, хотя и живописную дрему. На этой основе возник у
Нижинского «Фавн». Но «Лебедь» и «Шопениана» возникли на иной
основе.
Мы можем взглянуть на эту ситуацию шире.
Фокин был «мирискусником» неведомо для себя. Его великий
талант был огранен, одухотворен, но и иссушен «Русскими сезонами»,
которые на первых порах были сезонами «Мира искусства». Решаю-
щим обстоятельством явилось знакомство с Александром Бенуа —
человеком огромного обаяния и ума, а главное, огромной культуры.
Бенуа был профессор без кафедры, Фокин — самоучка без учителей.
Щедрость одного нашла дополнение в ненасытном интересе другого.
Это был счастливый альянс с роковым исходом. Культуру, гуманитар-
ную эрудицию, даже простую университетскую осведомленность
Фокин ценил больше всего... А Бенуа знал так много! Влияние Бенуа
на молодого Фокина трудно переоценить, хотя оно не получило
должной оценки. Тактичный и в свои лучшие годы совсем не честолю-
бивый художник ничем не подчеркивал свою роль. Мнительный, само-
любивый балетмейстер не очень-то склонен был ее заметить. Он в
самом деле многое не замечал, занятый проблемами, имевшими специ-
фический, профессионально-балетный смысл. Он формулировал пунк-
ты своей реформы. Он думал о выразительности и классическом
танце, о выворотности и пор-де-бра. Его безраздельно занимал метод.
Метод создания нового балета Фокин определил сам, его методологи-
ческая оригинальность не подлежит сомнению или оговоркам. В сфере
художественного мировоззрения Фокин не так самостоятелен и не так
одинок, и это почти всегда мировоззрение «Мира искусства». Подобно
другим мирискусникам, Фокин культивирует романтическую театраль-
ность и эстетический традиционализм. Он создает новый балет с
помощью стилистических форм и масок старинного театра. Дух творче-
ства влечет его «против течения», к неведомым берегам, а дух тради-
ционализма превращает мятежный порыв в утонченное стилизаторство,
в ностальгический карнавал, в праздник воспоминаний. Дух творчества
не полностью совместим с духом «Мира искусства». Идеолог течения
Бенуа, по-видимому, считал, что красота созидания из искусства ушла и
что художнику XX века доступна красота гибели, элегическая красота.
Красоту гибели Бенуа изображал в серии своих версальских картин и в
сюите иллюстраций к пушкинской поэме «Медный всадник». Мало-
удавшиеся иллюстрации к «Пиковой даме» разрабатывают тот же
мотив (в данном случае — не очень уместный). Ничего удивительного в
том, что Бенуа, выдающийся художественный критик 900-х и 10-х
годов, один из самых широких умов Европы, совсем не принял искус-
ства, которому чужда эстетика гибели, в основе которого — эстетика
обновляющейся жизни. Праздничный хаос созидания, что является сущ-
ностью ранних картин Марка Шагала, суровая ломка созидания, что
является сущностью кубизма Пикассо, — для Бенуа варварство, неис-
кусство. Искусство для Бенуа — то, что похоже на искусство. В конце
концов (очень скоро) Бенуа-декоратор становится почти копиистом.
Он воспроизводит реальные старинные интерьеры, он копирует гра-
вюры барокко, он копирует самого себя: существует несколько редак-
ций «Петрушки».
Нетерпимость Фокина абсолютно такая же, и путь Фокина абсо-
лютно такой. Балетмейстер беспримерной фантазии становится подра-
жателем, копиистом. Он копирует вазовую живопись («Дафнис и
Хлоя»), копирует свою «Шопениану» («Эрос») и свой «Карнавал»
(«Бабочки», тоже на музыку шумановской пьесы). 20-е годы фок ин-
ского творчества — это бледная копия его ярких 10-х годов. А тема
красивой гибели — ведущая его тема. Он решает ее в «Клеопатре»,
«Шехеразаде» и «Золотом петушке». Он расширяет ее до масштабов
исторической живописной фрески. С гораздо большими основаниями,
нежели Александр Бенуа, Фокин оказывается поэтом гибнущей культу-
ры. Багровые бакстовские закаты в «Клеопатре», багряно-зеленые
зарницы «Шехеразады» — фон той картины заката, которая в фокин-
ских постановках тревожит душу и слепит глаза. Фокин вводит в балет
мотивы художественного декаданса. Его увлекает не суровая старина,
но декадентство античное, египетское и персидское. В «Золотом петуш-
ке» он живописует некоторый сказочный лубочный декаданс. В других
балетах он исторически достоверен. Он рисует утонченные, изнеженные
и жестокие нравы. Он изображает резню. «Шехеразада» — балетный,
экзотический вариант темы, которая будет искушать Лукино Висконти,
которой Висконти придаст кинематографическую изобразительность и
которую введет в социальный контекст. Но первое слово произнес
Фокин еще в «Умирающем лебеде», раннем и легком эскизе.
Фокин неколебимо верил в свое избранничество, в свой особенный
путь. Он считал себя человеком, призванным реформировать балетный
театр. В своих мемуарах, статьях, интервью он нередко говорит о себе
в третьем лице («фокинский балет», «фокинские реформы», «Фо-
кин» — в различных падежах) — черта, присущая многим претенден-
там на историческую роль, убежденным в том, что они ее осуществили.
Но что у некоторых других — нескромность, мираж, то у Фокина
констатация несомненного факта. Он не заблуждался относительно
своей роли и цели. Миссия Фокина — миссия художника-освободителя,
являющего миру скрытые сокровища и пленную красоту. На эту тему
он не только высказывался в печати, но и поставил «любимое дети-
ще» — балет «Жар-птицу». Иван-царевич, сумевший перелезть через
высокую каменную стену, похитить золотые плоды из волшебного
сада, спасти пленных царевен и погубить Кощея бессмертного — это
он, Фокин, постановщик и исполнитель главной мужской роли. А кто
же Кощей бессмертный? Конечно, не девяностолетний Мариус Петипа,
медленно умиравший в то самое время, когда шла напряженнейшая
работа над «Жар-птицей». Мариуса Петипа Фокин боготворил, но
балеты Петипа отвергал со всем юношеским пылом. Кощей бессмерт-
ный — это старый академический балет, за которым молодой Фокин не
признавал прав на жизнь, в котором, даже в зрелые годы, повторяя
чужие слова, готов был увидеть «очаровательную нелепость». Психоло-
гия Фокина — типичная психология реформаторов начала столетия,
бросавших вызов традиции в сознании своей неоспоримой правоты и
безусловного исторического превосходства. Не воспитай в себе подоб-
ного сознания, они не были бы в состоянии нарушить вековое табу.
Крайности фокинской мысли — не есть бурный нигилизм, а есть
инструмент творчества, предпосылка реформы. Все это несложно
понять, однако картина выгладит много сложнее. Философия Фокина
не отвечает его творческому максимализму. По своей философии
Фокин художник 10-х годов, фаталист, возлюбивший судьбу: покор-
ность року — скрытый или явный мотив его многих балетов. В ба-
летах Фокина не спорят с судьбой, а следуют за ней легким и музы-
кальным шагом. Судьба здесь — Сильфида, Армида, Зобеида (излю-
бленные Фокиным рифмующиеся имена) и Клеопатра — это тоже
судьба, но в них — не одна лишь погибель, но и ярчайшие краски
жизни. Энергия жизни и покорность судьбе — пересекающиеся линии
фокинского танца. На этих пересекающихся линиях он воздвигнул весь
свой необычный, фантастический мир, который нельзя назвать ни клас-
сичным, ни декадентским. Балаганный в «Петрушке», маскарадный в
«Карнавале», лубочный в «Шехеразаде» и «Золотом петушке», силь-
фидный в «Шопениане» — это есть фокинский мир, и у входа в
него —Лебедь.
«Умирающий лебедь» — это умирающий жест. Фокин развернул во
времени жест склонения, жест диминюэндо. Фокин освободил жест и
подчинил его музыке, мелодии, року.
Знаменитый танец был сочинен очень быстро. «Поставь мне этот
номер», — попросила Павлова. Я согласился, и мы договорились
насчет репетиции. Для постановки танца потребовалось всего несколько
минут. Это была почти импровизация. Я танцевал перед ней, она — тут
же, позади меня. Потом она стала танцевать одна, а я следовал за ней
сбоку, показывая, как нужно держать руки»*.
Анна Павлова следовала Фокину, но ее манил другой идеал. У
Павловой было чуть больше энергии жизни, чуть меньше покорности
судьбе, и это «чуть-чуть» очень скоро их разлучило. Здесь смысл
конфликта Павловой и Фокина, конфликта художественного (обошед-
шегося без ссор), не очень ясно осознанного ими самими и совершенно
не понятого наблюдателями со стороны. Почему Павлова ушла от
Дягилева на второй год столь успешно начатой антрепризы? Обычно
отвечают так: Дягилев строил репертуар на Нижинском — что верно;
Павлова любила «старый» и не любила «новый» балет — что неверно,
что есть неумирающая закулисная сплетня. Художественный горизонт
Анны Павловой был очень широк. Он включал старый балет, новый
балет, условный классический и подлинный ориентальный танец. Пав-
лова совсем не была ретроградкой. В ней жила грусть и печаль, а
вместе с тем непобедимая страсть к обновлению, к художественному и
душевному эксперименту. Танец обновляющейся жизни она танцевала
даже во втором акте «Жизели». Сложенные руки в «Умирающем лебе-
де» — элегия Павловой, ее грустный мотив. Плывущие руки Павло-
вой в вариации из «Дон Кихота» — ее отдохновение, ее мечты, ее свер-
кающая минута.
Идеальной танцовщицей Фокина стала Карсавина, пленительная и
очень послушная актриса. Ту именно загадочную меру яркости и покор-
ности, которая Фокину была необходима, Карсавина нашла без труда.
Жар-птица — это она, как, впрочем, Сильфида, Армида и Балерина.
На фотографии мы видим карсавинскую Жар-птицу в ярчайшем при-
чудливом костюме Льва Бакста его лучшей поры, в ярчайших причуд-
ливых позах-поддержках Фокина 1910 года. Но в глазах ее — огром-
ных, чарующих, темных, — испуг и покорность, ожидание гибели, пле-
на, неволи. В балетах Фокина Карсавина играла экзотических роковых
чаровниц и пленниц судьбы, трогательных, милых, очень домашних.
В ее Жар-птице, в ее Сильфиде (а еще больше — в Жизели, Одетте)
было что-то от чеховской Мисюсь. И даже кукольная Балерина в
«Петрушке», искусно стилизованная под петербургский фарфор, несла
в себе печальную грацию чеховских младших сестер, трепещущих перед
жизнью.
Но Лебедь Карсавина не танцевала.
Лебедь был танцем, а сферой Карсавиной были чары игры.
Лебедью была Анна Павлова и Лебедью был сам Михаил Фокин.
«Эйвонским лебедем» назвал Шекспира Бен Джонсон, оспаривая
ходячее мнение (просуществовавшее более двухсот лет) о Шекспире как
о драматурге жестоких площадных пьес, кровавых площадных эффек-
* Ф о к и н М. Против течения, с. 395.
тов. История Фокина — невского Лебедя — в сжатой форме повто-
ряет историю лебедя с берегов Эйвона. Для многих зрителей 10-х годов
(и прежде всего для Парижа — центральной арены дягилевских антре-
приз) Фокин — постановщик «Шехеразады» и «Клеопатры», балет-
мейстер варварских зрелищ, жестоких сцен. О «варварской красоте»
еще до сих пор вспоминают восторженные балетоманы. Но для нас он
поэт. Поэтическое мышление Фокина — основа основ, принцип твор-
чества, метод работы. Он ощущал танец как непрерывность, как поэти-
ческую стихию, как путь Лебедя из-за кулис. Он ощущал творчество
тоже как непрерывность. Он ставил балеты в величайшем напряжении
всех своих сил и за очень короткое-время. Меньше всего Фокин был
виртуоз. Эстетику виртуозности он заменил эстетикой озарений. На
этой эстетике школы создать нельзя. Нельзя даже основать собствен-
ного творчества, способного к саморазвитию, к метаморфозе. Когда
озарений не было, Фокин становился бескрылым. Когда озарения
были, он делался гениальным. Но он всегда был поэт и думал о балете,
говоря его словом, «экстазно».
Экстаз Фокина длился около шести лет, может быть, несколько
меньше, может быть, несколько больше: между 1907 и 1914 годами.
Дальше дело пошло на спад. До середины 30-х годов Фокин почти вы-
пал из балета. В истории балетного театра, на фоне долгой, десятиле-
тиями длившейся и внутренне обогащавшейся жизни Дидло или Бур-
нонвиля, или Мариуса Петипа эти шесть лет — эпизод, интермедия. Но
эпизод гениален, а интермедия ослепительна, неповторима. Персонаж
интермедии, герой полумаски, герой эфемерид — это он сам, пламен-
ный и летящий на пламя Фокин. После его ухода возродился академиче-
ский балет, вернулась выворотность, без которой балету никак не
прожить, вернулась рутина, которая тоже входит в состав академиче-
ской жизни. Все стало на место, никто не репетирует с живой змеей,
никто не борется со второй позицией, но, боже мой, как скучно без
Фокина, без его завораживающих спектаклей и даже без его доктри-
нерских идей. И что стало с художественными идеями Фокина, которые
его пережили? В 20-х годах над ними стали смеяться. Их стали не очень
почтительно опровергать. Совсем другая философия творчества, дру-
гая образная система и, соответственно, другой бестиарий* у всех трех
балетмейстеров дягилевской антрепризы: лиса и лани у Брониславы
Нижинской, кошка у Баланчина, а у Мясина в раннем «Параде»
(1917) —лошадь.
То был старинный цирковой аттракцион: два клоуна-акробата наме-
ренно неумело изображают дрессированную лошадь, танцующую на
манеже. Новым было использование циркового аттракциона в балете.
~ Бестиариями в средние века называли сказочные книги о животных. Этим
словом Аполлинер озаглавил цикл своих стихотворных миниатюр, изданный
в 1911 году в Париже.
Молодой Мясин забавлялся на первых порах. Ему казались смешными
претензии балета на глубокомысленность и серьезность. Насмешливые
эксцентриады Мясина, принесшие ему мгновенный успех, отличались
моторной ритмикой, стремительным темпом и ознаменовали собой воз-
вращение жизнерадостности в балет, но это была жизнерадостность,
граничившая с нигилизмом.
«Байка о лисе» (или просто «Лиса», 1922), а также «Лани» (1924),
поставленные Брониславой Нижинской, добавили к буфонной манере
дягилевских постановок рубежа 20-х годов острую наблюдательность,
психологический и портретный сарказм, гротескную театральность.
При этом, если в первом спектакле актеры рядились и гримировались
под лисицу и петуха, то в «Ланях» имелся в виду не прямой, но пере-
носный смысл: «ланями» называли девушек полусвета. В сюите
острых и остроумных танцевальных картин демонстрировались силу-
эты и стиль поведения модниц послевоенных лет: рискованные наряды,
нескончаемый флирт, длинные папиросы и густо накрашенный рот,
первые шаги светского спорта.
А в «Кошке» Баланчина (1927) заглавная метафора получала пря-
мой и расширительный смысл в качестве образа женщины, ее вечной и
неизменной природы. В балете инсценировался сюжет, заимствован-
ный из басни Эзопа: любовь юноши (эту роль исполнял Сергей
Лифарь) к кошке (эту роль репетировала Ольга Спесивцева). Антич-
ную притчу Баланчин перевел на современный язык, обыграв в балете
стилистические нормы 20-х годов, а вместе с тем, хотя и не прямо, неко-
торые признаки новой бытовой моды. Господствовала эстетика кратко-
сти, краткости во всем: укороченная танцевальная фраза, укороченная
прическа танцовщицы, укороченная юбочка, укороченный жест.
И даже фамилии артистов были укорочены Дягилевым: Спесивцева
стала Спесивой, а Баланчивадзе — Баланчиным. Так их имена печа-
тались на афише.
И лошадь, и лиса, и лани, и кошка, преследующая мышь, созна-
тельно или бессознательно задумывались по контрасту, как образы,
несущие снижающий эффект, как очевидная полемика с идеологией
«возвышающих обманов». Возвышающий обман — фокинский «Ле-
бедь». Здесь, в фокинской миниатюре, была найдена та формула одухо-
творенной скорбности и трагической красоты, которую пытались опро-
вергнуть жизнерадостные и нигилистические аттракционы 20-х годов.
Здесь сложился новый канон старого и вечно прекрасного жанра.
«Лебедь» Фокина — маленькая трагедия, поставленная в балете,
трагедия нескольких минут, трагедия одного жеста.
«Лебедь» Фокина — лебединая песнь романтического балета.
Вацлав Нижинский
Вацлав Нижинский — загадочная фигура в истории русского и миро-
вого балета. Загадочны его психология и судьба, даже его сверкающий
и сумрачный гений. Кроме упрямого Ф. Лопухова, гениальность
Нижинского — танцовщика и артиста — безоговорочно признал весь
балетный, театральный, художественный мир. Слава Нижинского —
все затмевающая, единственная в своем роде, как у Шаляпина или
Марии Тальони. И этого гения изгоняют в двадцать четыре часа:
сначала из Мариинского театра, а затем из дягилевской труппы.
В других труппах Нижинскому не довелось служить, он лишь попы-
тался организовать собственную антрепризу. Конечно, администрация
Мариинского театра состояла из чиновников-недоумков и чиновников-
негодяев (а кроме того, действовал полученный свыше приказ), конеч-
но, Дягилев был собственник-самодур, давший волю капризам крепост-
ника, неожиданным в нем, европейце-эстете. Все это верно, но верно и
то, что никого, кроме Нижинского, так грубо, так беспардонно, так
беспричинно не изгоняли. Невозможно представить себе увольнение
Шаляпина в двадцать четыре часа, изгнание Анны Павловой, уж не
говоря о Матильде Кшесинской. Этих людей администрация трепетала.
Они сами устанавливали угодный им театральный режим (в своих
мемуарах Кшесинская со странной гордостью рассказывает, что при-
ступала к работе лишь после рождественских каникул, при этом она
умела не потерять форму). Невозможно вообразить изгнанную Тамару
Карсавину: ее ум, ее обаяние, ее сказочная врубелевская красота подчи-
няли даже долдонов, заведовавших императорской сценой. Дягилев ее
обожал. А Нижинского — страстно любил и все-таки выгнал. Есть
люди, с которыми не церемонятся. Есть гении, чьих человеческих прав
не признают. Нижинский узнал это очень рано. В театральной школе
все понимали, что «Ваца» (Вацлав) — феноменально одаренный маль-
чик. Но звали его «китайцем» (у него был несколько косой разрез глаз)
и относились враждебно, как к чужаку. Тема «чужого», ставшая такой
популярной в искусстве XX века, от чаплиновских фильмов и панто-
мим Жана-Луи Барро до прозы Кафки и романа Камю, — эта тема
была выстрадана и открыта Нижинским. В «Петрушке» он разыграл
ее в остром гротесковом ключе. Зрителей захватывал контраст страда-
ющих человеческих глаз и смешных движений куклы-марионетки. Тра-
гическая клоунада вовлекала в один напряженный трепещущий жест и
традиционно-известные и совершенно новые вариации темы «чужого».
Однако Нижинский совсем не всегда интерпретировал ее столь драма-
тично. Для острой темы он нашел множество красок. Он умел окраши-
вать ее даже в радужный цвет. Палитра его, как и палитра Льва Бакста,
которому Нижинский обязан костюмами, советами и поддержкой, была
радостно-живописной. На фотографиях персонажи Нижинского: экзо-
тические невольники из «Павильона Армады» и «Шехеразады», роман-
тические юноши из «Жизели» и «Шопенианы». Все они — «посторон-
ние», чужаки, «чужие». Но сколько в них внутреннего движения и как
одушевляет их душевный порыв. Не будем торопиться записывать
Нижинского в околомогильный стан экспрессионистов.
Наибольшую загадку Нижинский представлял для тех, кто его
хорошо знал: непонятно было, откуда берется его несравненная худо-
жественная свобода. В жизни он был скован, застенчив, тих, молчалив,
дичился людей и, по-видимому, казался сонным. Сцена пробуждала и
преображала его. Все начинало играть — мускулы, жесты, позы, даже
ракурсы, предложенные режиссурой. Живой игрой пластики Нижин-
ский прославлен не меньше, чем своим неповторимым прыжком. И в
сущности легендарный «баллон» Нижинского был тоже легкой игрой,
игрой невесомых божественных сил, игрой Меркурия или Зефира,
потому что прыжок танцовщика был лишен усилия и волевого порыва.
Он никуда не стремился, этот прыжок, он планировал и парил, он
замирал в воздухе в сказочном и блаженном «баллоне». Так пловец,
повернувшись на спину, отдает себя игре солнца и волн. Блаженство
движения — вот то, что мы видим на сфотографированных позах
Нижинского. Блаженство прыжка — вот то, что видели зрители на его
спектаклях. Понятно, почему его невзлюбил Ф. Лопухов: Нижинский
имел мало общего с героической традицией мужского танца. Это
лишило его партий героического репертуара (Базиль, Конрад, Солор),
но позволило ему, премьеру, появляться в партиях наслаждающихся
жизнью рабов (любимый раб в «Павильоне Армады», золотой раб в
«Шехеразаде»), И это дало ему возможность показать миру Фавна.
Легендарный Фавн — первая авторская работа Нижинского, пер-
сонаж балета «Послеполуденный отдых фавна», который он поставил в
1912 году. Античный балет этот состоял из профильных поз и
профильных мизансцен, напоминавших критские и классические грече-
ские барельефы. Принцип стилизации Нижинский заимствовал у Фоки-
на, но принцип движения был совершенно иным — немелодичным и
непрерывным, а ритмически-дискретным. Фавн замирал в острых
позах, точно в детской игре «замри». Он делал импульсивный скачок и
останавливался как вкопанный с вытянутыми вперед и опущенными
кистями. То ли его сламливал внезапный сон, то ли им овладевала
внезапная тревога. С чисто зрелищной точки зрения спектакль
представлял интригующую новизну. Балетмейстер вводил в балет
неподвижность. Нижинский предвосхитил эффект, который в совре-
менном кинематографе называется стоп-кадром. А с психологической
точки зрения «Фавн» представлял еще большую новизну, потому что
ставил зрителя лицом к лицу с мифологическим персонажем. Он
двигался и не как человек и не как зверь. Тревога его была волнующе
человечной. А живописная пластика заключала в себе не менее волну-
ющую «бестиальность», которой так восхищался скульптор Роден.
Миниатюрный девятиминутный балет сыграл историческую роль:
он устранил из балетного театра псевдоантичность. Постановка Нижин-
ского утвердила мифологическую античность как нечто реальное,
достоверное, ощутимое, имеющее образ и плоть. Это было в
буквальном смысле воплощение бессмертной эллинской поэтической
идеи. Артист перевоплотился в миф и дал воплотиться мифу. Пластиче-
ская интуиция Нижинского творила зримые чудеса, но не следует забы-
вать, что балетмейстеру и артисту помог театральный художник. Фокин
описывает: «Нижинский в очень красивом костюме Бакста, с золотыми
рогами, в одном трико, покрытом «коровьими» пятнами, и с маленьким
хвостиком. Такого костюма на сцене еще не было. Получеловек-полу-
животное»*.
Фокин несправедлив: на сцене не было не только такого костюма.
Персонаж Нижинского — абсолютная художественная новизна. Ни
«старый», ни «новый» балет не знали раздвоения персонажа. Хоре-
ографическое единство образа — условие композиций Мариуса Пети-
па. Пластическое единство образа — условие фокинских танцев.
Нижинский первым позволил себе пластическую и психологическую
неопределенность. Он оперировал двойным образом, двойным состо-
янием, двойным мотивом. Восторг жизни и сон жизни несет в себе
проснувшийся Фавн, вновь впавший в спячку. Это автопортрет Нижин-
ского в двух пересекающихся плоскостях его биографии, художествен-
ной судьбы и натуры. Один Нижинский — тот, которого Б. Асафьев
назвал: «Шопен», восторженный юноша петербургской поры, еще не
известный миру танцовщик. Другой Нижинский — тот, которого зна-
ет, которому рукоплещет весь мир и которым медленно овладевает
душевный недуг, болезнь воли. «Фавн» — красивое эстетическое
пророчество относительно самого себя. Оно искусно, даже слишком
искусно. Нижинский отчуждается от собственных страхов и собствен-
ных снов, он выстраивает архаичные барельефы из самых острых
тревог, профильные мизансцены из самых смятенных эмоций. Он
Гомер своей жизни, на девять минут, но Гомер. Гомеровским описа-
тельным языком Нижинский рассказывает судьбу восторженного юно-
ши, сломленного сном, утратившего цель жизни.
Мотив «Фавна» — пробуждение весны, балет поставлен в честь
Эроса и Венеры. Фавн видит нимф, идущих к ручью, он вздрагивает,
напрягается, тянется к ним, но завладеть нимфой не может. В балете
Нижинского нет ни невинных игр любви, ни страстных любовных
деяний. Это единственный, хотя и очень короткий балет, посвященный
любовным желаниям, хотениям, снам. Естественно, что такой балет не
может быть слишком длинным. И естественно, что такому сюжету не
нужна героическая элевация, не нужны красивые, воодушевленные,
* Ф о к и н М. Против течения, с. 303.
активные прыжки. Фавн лежит, затем вскакивает и выполняет серию
поз, делает один дикий прыжок и затем снова ложится на землю.
«Фавн» Нижинского — образ вечной весны, метафора юности,
которая никогда не станет зрелой. «Фавн» — не мальчик, но и не
муж, вот почему он чужой, почему не может поймать нимф, почему они
убегают от него врассыпную.
Вот почему кисти рук Фавна все время опущены книзу.
Как и у Тальони, кисти Нижинского — инструмент его пластики и
разгадка его души, во всяком случае, одна из разгадок. Академические
или полуакадемические позиции Нижинского не очень похожи на пор-
де-бра современного мужского танца. В рисунке отсутствует какой бы
то ни было нажим, рисунок утончен и отчасти декоративен. Мускули-
стые руки подняты и мягко округлены, а нежные кисти брошены вниз
и похожи на опадающие лепестки или облетающие листья. Это —
портрет Нижинского в знаменитом дуэтном балете Фокина «Видение
розы». Именно кисти артиста создают почти изобразительный эффект
розы и почти иллюзорный эффект видения. Фокин разгадал и зари-
совал Нижинского на своем пластически-портретном языке: романти-
ческий юноша, но и пленный отрок, пленник отрочества, вечный юноша
и никогда — муж. Все в нем порыв, нетерпение, жажда красоты и
полета, но нежные кисти обнаруживают роковой изъян: в них вялость,
а не отвага. Утонченный, деликатный Фокин едва наметил этот
контраст, а сам Нижинский разработал его грубее и интенсивнее. Тело
Фавна пробуждено, а кисти все еще спят, тело ищет нимф, а кисти —
сновидений, тело готовится к хищному прыжку, а выставленные вперед
кисти опущены вниз и поражены «болезнью воли».
«Фавн» — слишком остраненный и слишком откровенный балет:
только условный театр 10-х годов мог позволить себе быть столь
откровенным. Оборотная сторона костюмных излишеств 10-х годов —
моральная нагота, оборотная сторона маски — исповедь и нескром-
ность. О, как ошибался выдающийся театровед Б. В. Алперс, выстра-
ивая схему развития актерского творчества, согласно которой испове-
дальное и условное, начала враждуют и отрицают друг друга. Ничуть не
бывало! Они ищут друг друга, как подлинная нимфа и подлинный
фавн. Метафора — даже не фиговый листок, метафора — прозрач-
ная кисея на обнаженном теле спектакля. Личная ситуация Нижинского
была именно такова, какой она метафорически — но и предельно от-
крыто — изображена в «Послеполуденном отдыхе фавна». Дягилев
видел в нем мальчика, жена Ромола — мужа, и оба они превращали
жизнь его в ад. Но, кроме того, здесь изображена художественная
ситуация балетмейстера. Его путь — не балет игр и не действенный
балет, но балет, в котором игры, сны, порывы и томления соединены
неразрывно. Балет «Игры», поставленный им в мае 1913 года (это
второй балетмейстерский опус Нижинского), назван неточно, зато в
нем точно обозначен момент, когда игры кончаются и начинается песнь
весны. Балет был, кстати сказать, первым балетом в современных
костюмах. На сцену выкатывался теннисный мяч, затем выбегал
искать его молодой теннисист с ракеткой в руках, потом появлялись
две девушки в уличных весенних туалетах. Теннисная партия забыва-
лась. Завязывалось па-де-труа на тему легкого запутанного флирта.
В первоначальной редакции (на репетиции и на премьере) «Послепо-
луденный отдых фавна» кончался непозволительным фетишистским
жестом, который вызвал громкую дискуссию и громкий скандал и был
изъят из последующих представлений. Четверть века спустя Фокин с
негодованием описывает этот финал: «Нимфа убегает от фавна. Он
берет часть оставшейся ее одежды, идет на горку и медленно ложится на
тряпку. Я не верил своим глазам. Один из видов сексуального извра-
щения будет на днях демонстрироваться перед многотысячной толпой,
где будут молодые девушки... Зачем это нужно? Это же скандал! Но,
может быть, скандал-то и нужен? Дягилев знает, что делает... В беско-
нечные бессонные ночи создавал я свой новый балет... И я подготовил
почву для такого дела, я работал по 18 часов в сутки, для того чтобы
Дягилев мог теперь проделывать такие сенсации»8'. Гнев Фокина
прав, но ненависть Фокина ошибается: Дягилев в этой истории — не
главный герой. Малоприличный (и убранный Дягилевым) жест Фав-
на — Нижинского направлен против него, Фокина, лично. Ученик
освобождался от власти учителя, восторженный юноша — от патети-
ческого восторга, который начал казаться ему напыщенным и лож-
ным. Нижинский был не только «Шопен». Нижинским владели
бесы. Чтобы понять эту возвышенную душу, стремящуюся унизить
балет, надо прочитать блоковские стихи той поры, когда Блок разрывал
с символизмом. Блоковское в Нижинском очень сильно, хотя, может
быть, танцовщик не читал ни строчки поэта. Это неудивительно: Блок
определил судьбу художественного поколения. Элевация Нижинского в
«Жизели» и «Шопениане» — это его стихи о Прекрасной Даме.
Лежащие позы «Фавна» — его городские стихи. Кощунственную при-
роду дарования Нижинского хорошо понял Морис Бежар (в балете
«Нижинский, клоун божий»), но в творчестве Нижинского она не полу-
чила возможности развернуться. Нижинский сам ужаснулся своих
кощунств. Это одна из причин, почему он бросил театр**.
* Ф о к и н М. Против течения, с. 298—302.
* * Есть и еще одно мнение, которое мы обязаны привести, хотя оно разрушает
отстаиваемую нами схему: «Знаменитое представление любовного акта, ис-
полненное в натуралистической манере в этом балете, было целиком измышле-
но Дягилевым, но даже в таком виде исполнение Нижинского являло собой
столь изумительно концентрированное искусство, что только глупец возмутил-
ся бы этим зрелищем — правда, я обожал этот балет» (Стравинский И.
Диалоги. Л., «Музыка», 1971, с. 67). Думается, однако, что Нижинский не был
послушным орудием в руках Дягилева, каким его нередко представляет легенда.
В 1912 году он и не думал о подобных вещах. В 1912 году он рвался
овладеть театром. После постановки «Фавна» Фокин вынужден был
порвать с дягилевской антрепризой. Балетмейстером Дягилева стал
Нижинский. В жизни обоих — это роковой миг. Фокин терял все:
ангажемент, труппу, а главное — инспираторов, какими были Але-
ксандр Бенуа, Бакст, сам Дягилев. Как выяснилось позднее, без инспи-
раторов Фокину было трудно работать. Нижинский все приобретал:
положение балетмейстера, вдобавок к положению первого танцовщика,
артиста-премьера. И это погубило Нижинского в очень короткий срок.
Какие-то полтора-два сезона, и он надорвался, исчерпал данный ему
запас здоровой художественной энергии. Творческое возмужание ока-
залось для него неосуществимым. «Сам он, по-видимому, не понимал
ни своей неспособности, ни того, что ему дали роль, которую он не был
в состоянии сыграть в такой серьезной антрепризе, как «Русские бале-
ты»*. Это слова Стравинского, умнейшего из сотрудников Дягилева,
на глазах у которого разыгрывалась драма. Стравинский восхищался
Нижинским-артистом, но из приведенных слов его явствует, что не
каждому гениальному исполнителю дано быть гениальным творцом и
что Стравинский таким творцом Нижинского не считает. И хотя,
кажется, все подтверждает жестокую справедливость этой оценки, пол-
ностью согласиться с ней нельзя. Есть мнение, диаметрально противо-
положное. Леонид Мясин в своих воспоминаниях называет Нижин-
ского-балетмейстера именно этим словом: гений. Да и сам Стравинский
в устных разговорах на старости лет вспоминал о Нижинском-балет-
мейстере с иным чувством: «Я не говорю, что творческое воображение
Нижинского было ограниченным, наоборот, оно было чуть ли не
слишком богатым. Но все дело в том, что он не знал музыки, и потому
держался примитивного представления о ее взаимосвязи с танцем**.
Спор о Нижинском ведется уже около семидесяти лет. В нем
приняли участие все знатоки, все авторитеты, все главные участники
дягилевской антрепризы, заинтересованные и незаинтересованные
наблюдатели, историки балета, зрители-балетоманы. Этот «спор» стал
частью легенды. Он придал ей дополнительную остроту. Казалось бы,
судьба Нижинского и без того достаточно драматична; но нет, возни-
кает вопрос: был ли танцовщик балетмейстером, умел ли артист ставить
балеты. Да! — отвечает Леонид Мясин, один из самых выдающихся
хореографов 20—30-х годов. Нет! — утверждает Стравинский, круп-
нейший авторитет, поклонник Мариуса Петипа, Джорджа Баланчина,
старого и нового классического балета. Да, — говорит тот же Стра-
винский под старость, хотя с оговорками относительно музыки, метра и
ритма. И эти два крайних мнения лишь по видимости непримиримы.
’Стравинский И. Хроника моей жизни. Л., Музгиз, 1963, с. 85.
’’Стравинский И. Диалоги, с. 68.
Нижинский принадлежал к типу художников-фавнов. Он сам, может
быть, и не ведая того, открыл нам этот неканонический тип. Художник-
фавн — художник исторического перепутья. Это художник счастливой
идеи, которую он не может выразить полноценно. Он больше угады-
вает, нежели понимает, больше жестикулирует, нежели говорит. Беспо-
мощный жест Петрушки — Нижинского — живая иллюстрация к
этой теме, классический образ художника этого неклассического типа.
Гармония творчества художнику-фавну совершенно чужда. Счастливое
равновесие замысла и технических средств — почти не знакомо. Идея
его гениальна, а техника несовершенна, бедна и убога. Qh человек
озарений и тягчайших творческих мук. Фокин пишет: «Нижинский, как
свидетельствует его жена, готовил балет длительностью в девять минут
в течение 120 репетиций, — роскошь работы, о которой не мечтал ни
один балетмейстер в мире»*. Слово «роскошь» употреблено здесь
напрасно: какая роскошь — каторжный труд. Но информация Фокина
абсолютно точна. Совершенно в тех же словах Стравинский рассказы-
вает о том, как протекала работа над «Весной священной» — третьим,
после «Фавна» и «Игр», и главным балетом Нижинского: «Нижинский
начал с того, что потребовал для этого балета фантастическое количе-
ство репетиций, которые практически дать ему было невозможно...
Атмосфера на этих репетициях бывала тяжелой и даже грозовой. Было
ясно, что на бедного малого взвалили непосильный для него труд**.
Стравинский объясняет все трудности одним обстоятельством:
музыкальной необразованностью новоназначенного балетмейстера.
Хореографический аспект ситуации Стравинский почти совсем не заме-
тил и полностью недооценил. Он лишь сказал, что Нижинский
«усложнял и сверх меры перегружал танцы, чем создавал иногда непре-
одолимые трудности для исполнителей»***. Но Мясин описывает этот
балет иначе. Да и сохранившиеся фотографии волнующе хороши. При
этом они хороши необычно.
Игорь Стравинский — величайший виртуоз наших дней, такой же,
как Джордж Баланчин, но, в отличие от Баланчина, — виртуоз нетер-
пимый. Технически несовершенное искусство он не терпел, за неклас-
сичность отвергал Вагнера и за классичность ценил рэг-таймы. Как и
Пикассо, еще один нетерпимый виртуоз, Стравинский находит, а не
ищет. Неуверенные, на ощупь идущие поиски Нижинского у него
рождают протест, так же как «искания», как таковые, всегда рождали
гримасу. Биологическая основа искусства Стравинского — здоровый
инстинкт совершенства. Художник-фавн должен быть ему органически
неприемлем, инстинктивно враждебен, художественно противен и чужд,
как нечто больное, уродливое, как исторически переходная форма. В
* Ф о к и н М. Против течения, с. 298.
’’Стравинский И. Хроника моей жизни, с. 84—85.
Там же,.с. 84.
Нижинском-балетмейстере он сраз\ почуял обреченность. И, несмотря
на дружественные, очень близкие отношения, разочаровавшись в «Вес-
не», почти что с порога его отверг. Еще раз повторим: речь идет о моло-
дом, немилосердном Стравинском. Вдуматься или хотя бы всмотреться
в балетмейстерские замыслы своего близкого друга Стравинский не
захотел, потому что не признавал категории «замысла», а признавал
лишь понятие воплощения. Невоплощенный труд для него — фикция,
невоплощенная идея — мираж, невоплощенная жизнь — неудача.
Между тем невоплощенные идеи Нижинского замечательно интересны,
а невоплощенная жизнь волнует его по-человечески, пробуждает его
солидарность, а как художника — неудержимо влечет. Это подспудный
мотив Нижинского, начиная с «Петрушки». Он посвятит ему финаль-
ную пляску «Весны священной», пляску Избранницы, как она называ-
ется у Стравинского, пляску Жертвы, как она выглядела у него. Стра-
винский презрительно о ней отозвался («...и здесь Нижинский, хотя и
усвоил драматический характер этого танца, оказался беспомощным
передать его сущность доступным языком и осложнил его по оплош-
ности или по недостатку понимания»*). А Мясина этот танец потряс.
В его собственной редакции балета, поставленной у Дягилева в
1921 году,’ кульминацией тоже стала полуэкспрессионистская пляска
смерти, исполняемая девушкой, которая рождена для весны.
Нижинский потребовал «фантастическое количество репетиций»,
потому что захотел обновить не только «старый», но и «новый» балет.
Он рвал с эстетикой Фокина, с эстетикой красивого плена. «Весна
священная» в постановке Нижинского — первый некрасивый балет в
истории балетного театра. Иными словами, это первый балет, задуман-
ный как некрасивый. Нижинский искал пути к новой, невиданной
красоте, включавшей бы в себя элементы того, что в классическом
театре признавалось уродливым и некрасивым. В «Весне священной»
Нижинский проводил эксперименты с выворотностью: танцовщики
демонстрировали выворотность-наоборот, fausses positions, «неправиль-
ные позиции» — внутрь носками, — выворотность, которую по анало-
гии и по производимому отрицательному эффекту можно было бы
назвать «ввернутостью». Более содержательна (а в искусствоведческом
смысле и более корректна) аналогия с так называемой обратной
перспективой. Проблемой обратной перспективы (конструктивной и
духовной основы старых икон) как раз в это время заинтересовались
живописцы и искусствоведы. Фокин, как мы помним, отвергал выво-
ротность, потому что не видел в ней красоты. Фокин считал, что выво-
ротность неестественна и, следовательно, некрасива. Нижинский вво-
дил выворотность-наоборот, вдвойне неестественную и оттого, как
он считал, вдвойне выразительную. «Выразительность» у Нижинского
* Стравинский И. Хроника моей жизни, с. 93.
ненатуралистична, как ненатуралистичен его Фавн. Профильные ком-
позиции, рваный замедленный ритм, опущенные кисти — элементы
той новой техники выразительности, которую создавал Нижинский и к
которой он присоединил выворотность внутрь носками.
Сюжетное оправдание столь необычных позиций заключалось в том,
что балет показывал архаичных, лесных, непробудившихся и только
еще пробуждающихся к человеческой жизни людей. С точки зрения
образности логика Нижинского последовательна и безупречна. Нижин-
ский последователен и в разработке своей постоянной темы. На фото-
графиях массовых сцен мы видим бородатых страшилищ, в странных
корчах пытающихся выразить какую-то озарившую их мысль. Но у них
нет для нее слова. Они вышли из мрака, но еще не просветлены. Весна
священная застает их врасплох. Они еще не люди культуры, хотя уже не
люди пещеры и леса. Мы видим, как неповоротливое тело пытается
заговорить, как малоподвижные ноги стремятся овладеть движением, а
малоподвижные руки — жестом. «Весна священная» в постановке
Нижинского — языческий ритуал, в котором засветилась новая гуман-
ность. Нижинский ставит балет совсем не по плану Рериха и Стравин-
ского, даже, может быть, им вопреки. Как раз в это время начинается
его увлечение нравственной проповедью Льва Николаевича Толстого.
Точнее и правильнее сказать, что после «Весны» Нижинский приходит к
Толстому. «Весна» открыла ему его самого. Вполне возможно, что
Нижинский задумал необычную в истории балетного театра языческую
притчу, мифологическую аллегорию. Замысел Нижинского был, одна-
ко, не понят и, конечно, не был достаточно ясно воплощен. Ставя балет,
Нижинский сам находился в том состоянии, о котором он захотел пове-
дать в балете. И в творческом и в духовном смысле он был на перепутье.
История Нижинского — история назревавшей и несостоявшейся
реформы. Нижинский порывал с «Миром искусства». Он захотел
создать ни на что не похожий балет. Его увлекали и новые темы, и
новые образы, и новые формы. Его интересовала далекая архаика
(«Фавн») и современнейший урбанизм («Игры»). Он был открыт вли-
яниям примитивизма, кубизма, фовизма. Мирискусническая эстетика,
должно быть, казалась ему и слишком рафинированной и слишком
музейной. Мирискуснического интереса к утонченным гибнущим куль-
турам он вовсе не разделял. Он хотел стать поэтом весны, а не поэтом
заката. Хотел, но не стал — недостало творческой воли, да и по типу
мышления, по историческим срокам и по складу души Нижинский не
принадлежал к тем, кто, как Пикассо и Стравинский, легко осуще-
ствили желанный прорыв. В этом смысле ему гораздо ближе был
Фокин.
Здесь главная причина, почему выдающиеся балетмейстеры 10—20-х
годов не справились с двумя выдающимися балетными партитурами:
Нижинский не сумел поставить «Весну священную», а Фокин — раве-
левское «Болеро». Стравинский и Равель написали балетную музыку,
опередившую театральную практику на поколение, на эпоху. Их парти-
туры выходили за рамки балетной эстетики и балетных форм, за рамки
усваиваемых классическими танцовщиками ритмов. Их просто-напро-
сто некому было танцевать. В «Хронике моей жизни» Стравинский
рассказывает, как мучились, сбиваясь со счета, артисты дягилевской
труппы в 1913 году, во время репетиций первой постановки «Весны»,
как мучился сам постановщик — Вацлав Нижинский. Существовал
непреодолимый порог: ритмическая неадекватность. Артисты мыслили
иными категориями времени, нежели музыкант. Они иначе восприни-
мали понятие длительности и понятие импульса, понятие вечности и
понятие мига. Пропагандируя и репетируя «новый балет», артисты
дягилевской труппы жили ритмическими нормами XIX века. Их чув-
ство ритма было патриархальным, что придавало им особую прелесть,
неизъяснимый шарм. Они не были урбанистами. А это стало причиной
трудностей, трагедий и катастроф. Нижинский попал в лечебницу,
Фокин утратил пластический дар, да и сам Дягилев слишком рано надо-
рвал свое казавшееся несокрушимым здоровье. Западный город сбил
им дыхание, лишил собственного ритма. Ритмическую адаптацию сумел
осуществить один Баланчин — самый молодой из них, самый музы-
кальный, самый пластичный. Но и он никогда не пытался поставить
«Весну священную» и «Болеро», хотя почти все его позднее творчество
основано на сотрудничестве со Стравинским и хотя ему принадлежит
лучшая интерпретация «Вальса» Равеля. Существовал еще один, даже
более непреодолимый порог: душевная неадекватность. По складу
души почти все дягилевцы — мягкие, нежные, тонкие натуры. А
музыка «Весны» и «Болеро» являет собой выражение совсем иного
склада души. В ней господствует поступательное, волевое начало. Это
властные симфонии овладения жизнью (в 10-х и 20-х годах введенное
социологом Максом Вебером понятие «овладения жизнью» было
широко распространено). Ни Фокин, ни Нижинский, ни Баланчин все-
рьез не помышляли о такой власти. Они лишь изредка грезили о
подобных вещах. Но в основном их позиция совершенно иная: не дать
миру овладеть собой — позиция оборонительная, стоическая, как у
мужественного Баланчина, паническая, как у заболевающего Нижин-
ского.
Кого и чего он боялся,
Дягилева, болезни, войны?
На рисунках Нижинского, талантливых кубистских рисунках, кото-
рые он рисовал в клинике или уже будучи безнадежно больным, силуэт
Дягилева возникает почти постоянно. К Дягилеву он возвращается и в
своих написанных нервным почерком тетрадках. Он точно ведет с ним
нескончаемый спор, он хочет вырваться из-под его власти: «Есть силь-
ные, хищные птицы» — слова Нижинского о Дягилеве, «есть малень-
кие слабые птицы» — слова Нижинского о самом себе. Он ощущает
себя уязвимым и легким. Из этого ощущения, может быть, родились
его барельефы. Легчайший танцовщик в истории танца стремится утя-
желить балет. Он хочет одеть барельефом танец, как одевают тело
панцирем, а машину — броней. Его пугает небо, его тянет на землю. В
балете он первым попытался воспеть земную тяжесть. Но в воздухе или
на земле — это трагический поэт весны, понявший вдруг, насколько
безоружна весна, насколько весна беззащитна.
Война в его глазах — тоже сильная, хищная птица, преследующая
слабенькую весну. Ромола рассказывает, как зимой 1919 года, завер-
нувшись в какие-то простыни или одеяла, Вацлав станцевал перед близ-
кими страшный, пророческий антивоенный танец.
И театр для него — чертово логово, ловушка.
Здесь разница между учителем и учеником.
Различие между Фокиным и Нижинским — различие импрессио-
нистского и экспрессионистского искусства, согласно схеме, отстаива-
емой В. Красовской. С академической точки зрения В. Красовская,
вероятно, права. Ее роль в серьезном изучении Нижинского и балета
900-х — 10-х годов признана читающим миром. Но нас увлекает путь
не академических, а метафорических антитез. Учитель был Лебедем,
ученик — Фавном. Учитель стал мирискусником, «пассеистом», люби-
телем и знатоком художественной старины, а ученик оказался интуитив-
ным, невнятным профетом. Профетическое, то есть пророческое знание
он пытался выразить еще в «Петрушке». Изгибающееся дугой тело
Петрушки — Нижинского — жест паники, знак надвигающихся ката-
строф. Можно, оказывается, слить в один жест страх жизни и страх
сцены. И можно сказать об этом в одной фразе. «Мне страшно, —
воскликнула после спектакля Сара Бернар, — я вижу великого арти-
ста».
Нижинский мало что знал о жизни, но театр он знал, он понимал, что
театр может вознести на необыкновенную высоту, но может швырнуть
оземь, лишить сил, воли и даже рассудка. В «Петрушке» он показал то,
что Фокину никак не могло прийти в голову показать, то, что, кроме
Нижинского, никто не посмел почувствовать: ужас театра.
Дягилев
Карсавина рассказывает: «Во время моего короткого пребывания в
Париже в рождественские дни 1928 года Дягилев предложил мне наве-
стить Нижинского, но, подумав, решил привезти его вечером в театр на
«Петрушку», где я танцевала. С тех пор как в 1913 году Нижинский
покинул нашу труппу и уехал в Америку, я больше его не видела. О его
болезни я узнала в России. Мне говорили, что сначала он стал нервным
и подозрительным, ему чудилось, что со всех сторон его окружают
коварные враги; ни за что не выходил на сцену, прежде чем его личный
служащий не проверит все люки и не осмотрит доски пола, чтобы
убедиться, что они не посыпаны битым стеклом. Вскоре мания пресле-
дования исчезла, но совершенно пропала память, Нижинский забыл
даже свое имя. Его страдания кончились, но для близких ему людей они
только начались: с мучительным упорством старались родные пробу-
дить в нем хотя бы искру разума, без конца повторяя ему его
собственное имя. Тщетно! В конце концов Нижинский впал в
полнейшую апатию и уже никогда ни с кем не разговаривал.
Все произошло во время антракта перед «Петрушкой»: установлены
декорации, актеры заняли свои места. Я надеялась, что, возможно,
знакомая обстановка, костюм, в котором он столько раз видел меня,
пробудит сознание в больном мозгу Нижинского. Та же надежда
внушила и Дягилеву мысль устроить нашу встречу в театре.
Дягилев говорил с ним с деланной веселостью и вел под руку по
сцене. Толпа артистов расступилась. Я увидела блуждающий взор,
неуверенную походку моего друга и пошла навстречу, чтобы обнять
его. Застенчивая улыбка осветила лицо, и он посмотрел мне прямо в
глаза. Мне показалось, что он узнает меня, я боялась вымолвить слово,
чтобы не спугнуть с трудом рождающуюся мысль. Но Нижинский
молчал. Тогда я назвала его по имени: «Ваца!» Он опустил голову и
медленно отвернулся. Без всякого сопротивления Нижинский позволил
подвести себя к кулисе, где фотографы установили аппараты. Я взяла
его под руку. Меня попросили смотреть прямо в объектив, и я не могла
видеть Нижинского. Но вдруг среди фотографов произошло какое-то
замешательство: повернувшись, я заметила, что Нижинский наклонился
надо мной и испытующе всматривается мне в лицо, однако, встретив-
шись со мной взглядом, он отвернулся, словно ребенок, старающийся
скрыть слезы. И это движение — такое трогательное, застенчивое и
беспомощное — пронзило болью мое сердце» *.
Мы сделали столь длинную выписку, потому что этот эпизод нельзя
пересказать своими словами. Т. Карсавина нашла единственные слова.
Сколько такта, ума и участия было дано этой женщине, танцевавшей в
«Петрушке» глупенькую и бессердечную куклу. Но Дягилев? Что ска-
зать о Дягилеве, решившемся на такой крайний шаг, придумавшем
такую немыслимую сцену? Любой психиатр оценит его план: психиа-
трия пользуется в подобных ситуациях подобными приемами. Но Дяги-
лев действовал не только как психиатр, но и как человек театра. Иначе
за кулисами не был бы установлен фотоаппарат и не было бы сделано
сенсационных, облетевших весь мир фотоснимков.
Как пишет Карсавина, история произошла на рождество. А в мае
1928 года в парижском театре «Комедия на Елисейских полях» в поста-
Карсавина Т. П. Театральная улица. Л., «Искусство», 1971, с. 212—214.
новке Луи Жуве была поставлена — причем с триумфальным успе-
хом — первая пьеса Жана Жироду «Зигфрид». В ней разрабатывалась
отчасти сходная ситуация — человека, потерявшего память. А еще до
того театральный мир познакомился с пьесами Пиранделло. И там тоже
можно встретить отчасти похожий сюжет, отчасти схожую сцену. Но
Дягилев захотел ее разыграть с живыми людьми. У него был вкус к
подобной режиссуре.
Да, ему был свойствен своеобразный эстетический демонизм, при-
том не наигранный, но естественный и даже несколько простодушный.
Он любил театр, по-видимому, больше, чем людей (хотя природа наде-
лила его страстной натурой и одиночества он не выносил ни единой
минуты). И с помощью театра стремился утвердить свою власть над
людьми — внутри и далеко за пределами своей труппы. Театр для
Дягилева — игра, увлекательная игра чистоты и соблазнов. В балетах,
идею которых подсказал он сам (или же поддержал вопреки слишком
здравым советам), одна тема: падшего ангела, соблазненного отрока,
непорочного юноши, искушаемого страстями. Таков Фавн — Нижин-
ский, Иосиф в «Легенде об Иосифе» с Мясиным в заглавной роли,
«Блудный сын» с Лифарем. Это, так сказать, дягилевская тема в искус-
стве. И тут же — Нимфа, Сирена, прекрасная жена Потифара. Искус-
ство для Дягилева — искушение, а сам он в своем сознании —
двойной персонаж: и тот, кто искушает, и тот, кто теряет непорочность
и чистоту. История Дягилева — история усадебного юноши, ставшего
единственным в мире Директором театра.
Директор театра — фигура комическая у Моцарта, Гофмана, в ста-
ринных опереттах и водевилях, у Пиранделло, в «Детях райка» —
фильме Марселя Карне. Дягилев был директором театра и был
фигурой патетической и трагедийной, судьба его — судьба художника
и артиста. В молодости Дягилев стремился к блестящей и быстрой
карьере. У него были все данные, чтобы преуспеть. Мешал лишь
избыток энергии, предприимчивости, организаторского таланта. Он не
мог, да и не хотел приспособиться к громоздкой неповоротливой бюро-
кратической системе. Очень скоро разразился неминуемый скандал: по
высочайшему повелению Дягилев был уволен из дирекции император-
ских театров (где он служил в качестве чиновника по особым поруче-
ниям) без права возвращения на государственную службу. Это озна-
чало конец всех честолюбивых планов, это был удар, это выглядело
позором. Но Дягилев ответил на это так, как он обычно отвечал на
удары судьбы, собрав в кулак свою волю и дав простор самым
фантастическим проектам своим. Он решил действовать на свой страх и
риск, в одиночку. Тогда-то, наверное, у оскорбленного Дягилева возни-
кла гордая мысль стать директором помимо дирекции и продемонстри-
ровать всему миру — и Петербургу прежде всего, — на что способен
один энергичный человек, если только развязать ему руки. Для этого,
однако, пришлось поехать в Париж, а затем и обосноваться в Париже.
Впрочем, путешествия Дягилев очень любил, хотя суеверно боялся уто-
нуть и потому почти никогда не плавал пароходом.
Когда в Петербург донеслись известия о парижских триумфах орга-
низованных Дягилевым балетных трупп, ярости дирекции не было
предела. Ситуация была неприлична: человек, уволенный по высочай-
шему повелению и, стало быть, раз и навсегда обращенный в ничто, этот
человек принят как триумфатор всей культурной элитой и всеми правя-
щими домами Европы. Парижские генеральные репетиции собирают
министров и чуть ли не весь кабинет, почти на каждый берлинский спек-
такль приезжает кайзер с семьей, а в Лондоне королевский дворец
абонирует ложи на все время гастролей. Надо было отвечать, и в ход
была пущена клевета, обычное средство. И метод дискредитации был
старый как мир: попытались очернить Дягилева, приписав ему низмен-
ные, корыстные мотивы, стремление к наживе, безудержную алчность.
Специально подкупленные журналисты разнесли по Парижу весть о сре-
бролюбии Дягилева, как будто бы это могло остановить нарастающий
вал успеха. Еще раз скажем: совсем не деньги интересовали его. В душе
Дягилева бушевала другая страсть: его влекла к себе слава. Власть и
слава.
Дягилев был человеком совершенно определенного и рано опреде-
лившегося стиля жизни и мысли. У него не было дома, его приста-
нищем был отель (хотя, разумеется, всегда первоклассный: этого тре-
бовали и снобизм, и привычка, и рекламные интересы дела). И все его
начинания носили такой же временный, неукорененный в быт и в то же
время демонстративный, воинственный, вызывающий характер. Он
устраивал выставки, отчасти для того, чтобы дискредитировать тради-
ционный музей; он организовывал большие гастроли, которые под-
черкивали старомодность функционирования стационарного театра. Не
только в творчестве, но и в организации художественной жизни он
утверждал новый стиль — стиль XX века. Этот усадебный барин, не
расстававшийся в своих странствиях по европейским отелям со своим
«дядькой» Василием, преданным, точно пушкинский Савельич или
чеховский Фире, презирал XIX век за неподвижность и домоседство.
Философия творчества Дягилева — прямо противоположна филосо-
фии творчества Мариуса Петипа (если дозволено сравнивать в этой
плоскости великого балетмейстера и великого директора театра). Пети-
па, особенно в поздние годы, было присуще ощущение длительности, не
прекращающейся творческой жизни, Петипа ощущал себя звеном в
цепи длительного процесса, который начался до него и будет продол-
жаться после него. Это естественное мироощущение балетмейстера,
сохраняющего чужой, старинный репертуар и опирающегося на балет-
ную школу. Дягилев был этой длительности совершенно чужд и, будучи
последовательным директором театра, основал труппу, работавшую на
новом, собственном, оригинальном репертуаре. Кроме того, это была
первая большая балетная труппа, которая не имела своей школы и не
готовила учеников. Дягилев выключил труппу из прошлого и из буду-
щего, он придал ей исключительно современный вид и сделал ее
инструментом исключительно своей, дягилевской воли.
Дягилев не любил и не понимал такого дела, идея которого не
принадлежала бы ему самому. Он был инициатор, и дело должно было
с ним родиться, с ним существовать и прекратить свое существование с
его смертью. Он не мог бы работать для «общего дела». С Дягиле-
вым в мир искусства пришла «философия личного дела». Фигура
Дягилева — пророческое явление в общественной жизни XX века.
Дягилев — новый тип исторического деятеля, полностью отождест-
вившего свое дело с самим собой. История балета, во всяком случае,
не помнит примера подобной идентификации личности и искусства.
Существовал и продолжает существовать петербургский (ныне ленин-
градский) балет, существует и московский, парижский, миланский
балет, но предприятие Дягилева именовалось иначе: «дягилевскими
сезонами» или «русскими балетами Дягилева». Даже в энциклопеди-
ческих словарях труппу называли по имени ее директора, и Дягилев
никогда против этого не возражал. Напротив, к этому он постоянно
стремился. Тем самым он обрекал труппу на недолговечность, на
яркую, но недолгую жизнь.
Дягилев был человеком моды — с той лишь существенной оговор-
кой, что он не следовал моде (в чем его несправедливо обвинял Фокин),
но определял ее сам. Именно он, Сергей Павлович Дягилев, запершись
в номере парижского, лондонского или венецианского отеля, решал,
каким быть следующему сезону. Балеты ставились Фокиным, Вацла-
вом Нижинским, Мясиным, Брониславой Нижинской и Баланчиным,
но общие контуры сезона набрасывались Дягилевым единолично. Сама
идея сезона, как и само слово «сезон», по-видимому, связывались в его
голове с практикой и словарем моды. Идея «сезона» предполагала
ежегодное обновление репертуара, решительные перемены каждые
несколько лет и полную смену ориентации хотя бы раз в десятилетие.
Все это было осуществлено. Каждый сезон приносил новинку, пять
балетмейстеров, сменяя друг друга, работали на протяжении двадцати
лет (а в последний сезон на балетмейстерском горизонте всходило имя
шестой звезды — Сержа Лифаря); начало 20-х годов ознаменовалось
совершенно новым курсом: агрессивный урбанизм, современные
костюмы, конструктивистские декорации сменили мирискусническую
старину и утонченные стилизации. Дягилев железной рукой осуще-
ствлял свою программу. Он уничтожал свое прошлое, сжигал за собой
мосты. И когда в бурную ночь 1929 года он умер в Венеции, после
него не осталось ничего, кроме собрания редких книг и бесценных
эскизов, которые — полвека спустя — были распроданы с аукциона.
В 20—30-х, отчасти в 40-х годах молодые балетмейстеры были напере-
чет. Советское балетмейстерское искусство только складывалось как
профессия и театральная система. Но балет не мог жаловаться на свою
судьбу. То был золотой век исполнительства в балете. Может быть, то
была одна из последних вспышек актерского балетного театра, тради-
ционного театра «звезд». А может быть, именно рождение новой
режиссуры помогло артистам выйти из этого старинного амплуа,
создать нетрадиционный тип танцовщиц-балерин и танцовщиков-пре-
мьеров. Ситуация в самом деле была непростой, но она была яркой и ей
был присущ захватывающий драматизм. Вторая волна русского хоре-
ографического Ренессанса, начавшегося еще на рубеже XIX и XX ве-
ков, дала немало блестящих имен. Среди них выделяются три —
общностью биографии и мощью таланта. Семенова, Уланова, Ермола-
ев — ленинградцы, ставшие москвичами, во многом способствовавшие
сближению московской и ленинградской школ, во многом, если не в
главном, определявшие пути развития современного классического
балета.
Дать их групповой портрет нелегко. Их странно представить в па-
де-труа, в каком-либо общем ансамбле. В творчестве этих художников
мы видели и по-прежнему видим искусство, тяготеющее к абсолюту.
Когда-то Перро поставил па-де-катр четырех «звезд», представлявших
различные европейские школы. Капризы балерин чуть было не погу-
били эксперимент, но эстетически он оправдал себя в полной мере.
Общеевропейский стиль времени — тальонизм — объединил «звезд»
в гармонии поистине астральной. Единство манеры возобладало над
различием школы, темперамента и внешнего облика, идеальный образ
поглотил индивидуальный характер почти без остатка. Па-де-катр —
совершенный квартет, поставленный наподобие моцартовских кварте-
тов. Примерно сто лет спустя ленинградский Кировский театр устроил
спектакль памяти Мариуса Петипа. Была показана «Спящая красави-
ца» в необычном составе. Семенова была занята в первом акте, Уланова
во втором, а Дудинская в третьем. Артисты были в ударе, они танце-
вали не только блистательно, но благоговейно. Запомнилась атмосфе-
ра, действительно мемориальная, очищенная от сенсации, соперниче-
ства и злых неуместных страстей. Можно было понять, что такое
идеальный ансамбль. И все-таки тайная неловкость примешивалась к
общему торжеству. Искусство балерин трудно совмещалось в одном
спектакле. А между тем они появлялись порознь, не то что Тальони с
соперницами в романтическом па-де-катр. Но каждая открывала зана-
вес своего театра. И каждая танцевала в своем ритме, в своем музы-
кально-ритмическом ключе. Балет не неподвижен, его ценностные уста-
новки сдвигаются под действием времени и под влиянием инстинкта
самозащиты. В прошлом идеальная манера считалась критерием испол-
нительского мастерства, и ее можно было стилизовать, что и продемон-
стрировал па-де-катр. Теперь же высшая ценность — не манера, но
мироощущение, выраженное в неповторимом индивидуальном внутрен-
нем ритме. Спектакль памяти Петипа показал, какое развитие получила
индивидуальность артиста в наш век и как она сопротивляется обезли-
чивающим воздействиям, столь сильным в театре нашего же века.
Семенова, Уланова, Ермолаев — каждый из них художник столько же
поколения и плеяды, сколько собственного пути, собственного индиви-
дуального стиля. Академические танцовщики, они олицетворяют собой
подлинный академизм, академизм персонифицированный, а не ано-
нимный.
Что же сближало этих трех мастеров? Можно ли дать общую
формулу их искусства? Конечно, и она давно найдена. После первых же
зарубежных гастролей Большого театра наш балет нарекли «большим
балетом». Определение это схватило самую суть, но на языке полужур-
налистском-полурекламном. На языке искусствоведения следует ска-
зать иначе: большой стиль. Смысл художественных усилий мастеров
20—40-х годов сводился к воссозданию, а точнее — к пересозданию
большого стиля русского балета. Оформившийся в эпоху Мариуса
Петипа как явление развивающейся культуры, большой балетный
стиль еще при жизни петербургского маэстро начал превращаться в
музейный анахронизм, стал казаться блистательным призраком, гро-
моздкой тенью. Старый балет выпадал из живого культурного процес-
са. 10-е годы были годами реформ Фокина и Горского, новаторского
творчества выдающихся артистов и одновременно — годами манъе-
ристского вырождения академической традиции. Маньеризм может
прельстить, а тем более — на балетной сцене, но маньеризм всегда есть
подчинение большой формы малым задачам. Применительно к балет-
ному исполнительству это означает превращение хореографической
партии, развивающейся вглубь и вширь, в цепь изящных миниатюр, в
лучшем случае в сюиту. Так, например, танцевали «Спящую красави-
цу» в первые послереволюционные годы (уникальное творчество Спе-
сивцевой — в стороне от маньеристского оползня; оно вообще осуще-
ствлялось по своим законам). И так танцевали не только балет в целом,
но любой развернутый его эпизод. Балерина или танцовщик точно
перебирали на сцене рассыпанные в беспорядке фамильные драгоцен-
ности (и, надо сказать, ювелирный словарь — как никогда употребим в
профессионально-балетной среде той поры). Более в духе времени
сравнить этот танец с рассыпанным типографским набором. Отдельные
литеры трудно складывались во фразы и плохо ощущались как знаки
единого языка. Возникла культура детали, острой стилистической под-
робности, эстетика наслаждения тонкостями, отчасти близкая той, кото-
рая объединила первое поколение художников «Мира искусства».
О грубом распаде формы говорить было бы слишком поспешно.
И все-таки до него один шаг.
А как танцевали Семенова, Уланова, Ермолаев? По-разному, если
иметь в виду их манеру. Совершенно по-разному, если припомнить их
внутренний ритм. Но был общий закон, которому они следовали безу-
словно. Для них танец — не стилистическая игра, но движущаяся
структура. Их танец не рассыпается, не складывается, он длится. Трак-
товка формы, повторяем, была совершенно различна. Семенова
любила строгий классический канон. В нем, и именно в нем, она
чувствовала себя абсолютно свободной. Нежнейшему искусству Улано-
вой, наоборот, он был тесен, как старинный и жесткий корсет. В свою
очередь Ермолаев умел быть по-современному экспрессивным и вместе
с тем по-старинному гармоничным. Но все они ощущали форму
пластически-музыкально — как линию, как длительность, как процесс.
Концепция Асафьева («музыкальная форма как процесс») применима к
ним в полной мере. Быть может, Асафьев, всю жизнь связанный с
театром балета, и разработал ее под влиянием театральных впечатле-
ний. Вот какими эти впечатления были для нас: танцевальный конти-
ниум, танцевальный поток. На сцене как будто бы шел идеальный
балет, совмещавший структурность Мариуса Петипа и фокинскую
непрерывность. Нам, зрителям, передавалось двойное ощущение —
напрягшейся воли и воли утраченной, «смычку волшебному послуш-
ной». Танец источал живую энергию души, стесняющейся лирическим
волнением. В этом был его колдовской смысл, загадка. Иначе не
объяснишь метаморфозы семеновских поз, классически ясных и по-
импрессионистичному зыбких, изменчивых и подвижных. Иначе не объ-
яснишь загадочное парение (так называемый «баллон») в кульмина-
циях яростных ермолаевских прыжков, загадочный трепет улановских
полудвижений-полупауз. В их танце мы видели акт творчества — в его
забытьи, экстазах или печали, но прежде всего в его воле быть, состо-
яться, исчерпать себя до конца. Чистота этого танца была совсем не
формальной.
Истоки нового стиля связаны с общей ориентацией на музыку, а не
на сюжет прежде всего, с отношением к танцу как к музыкальной, а не
разговорной речи. В своем развитии музыкально-ориентированный
танец получил название «симфонический». Тем самым реформа балета,
начатая Чайковским и Петипа, была доведена до конца: хореографиче-
ский симфонизм стал балетмейстерским принципом и вместе с тем
исполнительским каноном. Конечно же, сдвиги на уровне исполнения
нелегко уловить, и они не поддаются строго объективной оценке.
И все-таки они не иллюзия, тем более они не случайность. Масштабы
события, не очень заметного со стороны, рождавшегося в тиши репети-
ционных залов, определялись результатом, притом результатом двой-
ным. Новый музыкальный стиль, потеснив маньеризм, и преходящий и
отчасти пленительный, остановил другое явление, более широкое —
суховей, действительно иссушивший европейский балет и грозивший
балету русскому (в меньшей мере балету Москвы, в большей мере
балету Петербурга). Мы имеем в виду рационалистический формализм
конца XIX века. В полемике с ним и началась новая история танца.
Ранний Фокин, Анна Павлова, Нижинский, Спесивцева создали недося-
гаемые образцы музыкально-балетного театра. Семенова, Уланова,
Ермолаев сделали следующий шаг, который поначалу выглядел чрез-
мерно смелым. Принципы музыкального танца они распространили на
те области хореографии, которые, казалось бы, этим принципам чужды.
Они начали экспериментами в сфере виртуозности. Они пришли к
открытиям в сфере психологизма. Тонкая материя одухотворенной тан-
цевальности не всегда выдерживала столь сильных натяжений. Она
рвалась — и такое бывало. Виртуозность заносило в сторону чистого
спорта, а психологизм терял меру и выглядел натурализмом. Но дело
было начато и доведено до конца. Миссия артистов состояла в том,
чтобы законы поэтического танца совместить с жесткими требованиями
века. А результатом явилось жанровое и тематическое расширение
пространства балета. Возник новый героический жанр. Возникла новая
хореографическая драма.
Так, в творчестве артистов, раньше чем в творчестве балетмейстеров,
выявилась ведущая тенденция хореографии наших дней — умножение
танца. Соотношение танца и не танца, устойчивое в каждую из художе-
ственных эпох, было нарушено, и нарушено резко. Мера танцевально-
сти возросла, но с ней возросла и мера драматизма. Это не соответство-
вало всем представлениям критиков классического балета, всем догма-
там сторонников иной, нетанцевальной хореографии. Это не отвечало
даже тому, что утверждал классический теоретик Жан-Жак Новерр (но
не везде и всегда: его эпистолярный трактат, как Хороший роман в
письмах, полон возвышенных противоречий). Это разрушало устойчи-
вый предрассудок, согласно которому: чем больше танца, тем меньше
действия, и наоборот. Изменившийся танцевальный масштаб стал осно-
вой содержательных сдвигов в рамках большого стиля. Самое замеча-
тельное в деятельности артистов 30—40-х годов — пересоздание
образной структуры классического балета. Самое интересное — кол-
лизия, которую они выдвинули на первый план. В балетном искусстве,
театре метаморфоз, это вообще наиболее интересное: смысловые мета-
морфозы извечных коллизий. Конфликт танца, поэзии, лирики и безду-
ховного быта сохранил свою власть. Вне этого романтического кон-
фликта балетный театр представить себе невозможно. Но новую
остроту получил старый как мир конфликт танца, поэзии, лирики и
интриги. Интрига, бывшая инструментом злодеяния, стала обобщением
самого зла. Не в том состоял сюжет, что злодеи плели козни, стремясь
разлучить любовников, поэтических героев, а в том, что интрига стре-
милась овладеть их душой, вовлечь в свою сферу, сделать соучастни-
ками или соперниками (что, в сущности, все равно), действующими на
ее — интриги — арене. Героям духа, героям любви грозило стать
персонажами авантюры. Когда Семенова или Уланова танцевали «Ле-
бединое озеро», то смысл балета раскрывался в трагическом зрелище
театра танца, окруженного театром интриги. Был плен танца, но было
и непрерывное волшебство, нервущаяся мелодия, непобедимая поэтич-
ность. Танец балерин очерчивал заколдованный круг, переступить его
мог лишь поэт, лишь близкий по духу. В танце была и высшая безза-
щитность и высшая защищенность. Маленькая деталь: полузакрытые
семеновские глаза, потупленный взор улановской Одетты. Можно
вспомнить и пламенеющий взгляд ермолаевских неистовых персона-
жей. Это глаза, которые видят звездное небо и прекрасный поступок,
рождающийся внутри нас. Они видят и страшные бездны и «гад мор-
ских подводный ход». Рядом с собой они различают немного. В них нет
судорожной пристальности человека, рассчитывающего сложный ход
или ждущего удара в спину.
В романе, в новелле, даже в стиховых жанрах прозаический быт
нередко оказывается той средой, в которой герой, поэтическая лич-
ность, спасается от контактов с интригой. По этой схеме построены
ситуации многих новейших пьес, но она неприемлема для трагедии и
она невозможна в балете. Балет в XX веке взял на себя функции почти
исчезающей классической трагедии, подобно тому как балет в эпоху
«Сильфиды» и «Жизели» принял функции уже исчезавшей романтиче-
ской поэмы. Но тогда инициатива была балетмейстеров, а теперь
главную роль сыграли артисты. Анна Павлова, Тамара Карсавина,
Нижинский, Спесивцева, Семенова, Уланова, Ермолаев — список
неполон, но и не завершен. Мы лишь перечислили ярчайшие имена
представителей двух поколений. Они подняли балет на высоту классиче-
ской трагедии, скрепив неочевидную связь неоценимых жанров. Это
и есть «большой стиль» «большого балета».
Как в легендарные дягилевские времена, искусство советских арти-
стов балета 30-х годов приобрело общекультурный смысл. Для многих
зрителей — и, между прочим, для автора этих строк — оно явилось
высшим выражением театральной культуры вообще, действительно
«хрустальным дворцом», хранящим ее неискаженный образ. Может
быть, потому эти артисты имели успех, который трудно измерить и
который не всегда уместно назвать успехом. Вспоминаешь овации,
гром аплодисментов, но также необычную для Большого театра мха-
товскую тишину, когда Уланова танцевала сцену сумасшествия Жизе-
ли, а Семенова — танец умирающей баядерки. Нам открывалось поня-
тие катарсиса. Мы узнавали силу очищающих потрясений. Это был
действительно Ренессанс, и недаром образы и мотивы Высокого Возро-
ждения проходят через творчество всех трех артистов. Кто мог бы
увидеть в этом балете балетную фальшь? Кто мог бы назвать его
провинциальным? А между тем то было время разделенной Европы.
С тех пор много воды утекло, и мы поняли, что провинциальность
лишь в малой степени последствие обособленности, результат обсто-
ятельств, гораздо чаще это — преднамеренная установка. Установка
мастеров танца 30-х годов — Мариус Петипа, Лев Иванов, Пушкин,
Шекспир. Их традиция — духовная широта, непривязанность к
ближайшему кругу ценностей и проблем, отзывчивость к дальним при-
зывам. Эта традиция завещана Пушкиным, Достоевским. Совсем не
случайно ее буквальный смысл Чайковский положил сюжетом всех
своих трех балетов. В 1940 году германские фашисты взяли Париж и
начали бомбить Лондон. Анна Ахматова (осажденная личными бедами
поверх головы) откликнулась двумя великими стихотворениями. И в
том же году Уланова станцевала «голубку Джульетту».
Да, то были великие мастера, хранившие старый завет и проло-
жившие путь в новое. В сущности, они изменили само представление
об артисте-исполнителе, о солисте балета. Ермолаев, прирожденный
хореограф, практически сам ставил себе партии, сочинял текст, приду-
мывал игровые эпизоды и танцевальные номера. Семенова создала
небывалый образ классической балерины. Уланова очертила контуры
невиданного поэтического театра. Они были великими артистами, и
потому мера нереализованного ими тоже велика. Короткий век,
актерский рок и привходящие обстоятельства сыграли свою роль —
явственно или исподтишка, открыто или не слишком заметно. Ермолаев
не пошел в хореографы, Уланова не станцевала Жанну д‘Арк, а Семе-
нова — кто может сказать, какие пределы были поставлены ее огром-
ному ослепительному таланту... Их творческая жизнь включала в себя
великую судьбу и великую несудьбу. Это и стало главным содержанием
их искусства. Семеновское «Лебединое озеро» строилось на контрастах
несудьбы (Одетта) и судьбы (Одиллия), улановская Джульетта — на
светотени судьбы-несудьбы, а Ермолаев по романтическим свойствам
натуры мог выявить или человеческий взлет, или человеческое падение.
Все было у этих артистов, кроме одного — полусудьбы. Не было полу-
удачи, когда один акт получается сказочно легко, а другой никак не
дается, когда адажио пленительно, а аллегро не блестяще, когда
вариация на вращения проходит под овации, а прыжковая вариация —
под жидковатый, заранее заготовленный аплодисмент, когда личность
артиста не то что отсутствует вовсе (на нет и суда нет), а ускользает: то
сверкнет, то потускнеет, то даст о себе знать, то исчезнет бесследно, и
после спектакля наши собратья, злосчастные критики и неприкаянные
балетоманы, в растерянности ломают себе голову: да или нет, состо-
ялось или не состоялось, чудо или не чудо, талант или не талант,
профессионально или самодеятельно. Таких загадок те не загадывали
Другие были загадки.
Марина Семенова
«Мы помним Семенову выпрямленной и властной», — писал В. Голу-
бов-Потапов до войны. Мы помним ее стать и ее шарм. Мы вспоми-
наем Семенову в легком кружеве малых и больших пируэтов, в полуза-
бытьи блаженных синкоп вальса Глинки. Мы помним ее в летящем
прыжке. Прыжки Семеновой были подобны вспышкам. И танец ее,
увиденный издалека, кажется вспышкой летящей жизни. Летящие сани
на белом снегу. Летящие телеграммы навстречу и вдогонку. Летящие
песни от зари до зари. Мы помним, наконец, Семенову, танцующую
некоторый фантрм: движение остановившейся жизни. Как ночью за
письменным столом поэтесса перелагает на строгий каданс хаотические
дневные ритмы, так и Семенова в ночных эпизодах, в балетных «снах»
выстраивала по горячим следам кристальную партитуру танца. Ее
«сны» были творческими снами, царственно-отрешенной работой.
Таков и вообще поэтический смысл «снов» Петипа. Но у них есть и
другой смысл, более драматичный. Мы помним Семенову «выпрямлен-
ной и властной», окруженной безмолвием и в безмолвии переносящей
удары судьбы. Вот что вспоминаем мы, когда говорим, что она была
классической балериной.
I
Что же, в немногих словах, представляло собой ее искусство?
За свою долгую историю классический танец подвергался многим
воздействиям — идейным и стилевым. Некоторые из них он интегри-
ровал, другие отбрасывал прочь, третьи терял по дороге. Самым летучим
был тальонизм, быстро утраченный, затем возродившийся на короткое
время. Самой устойчивой оказалась традиция французского рококо,
оформившаяся еще в эпоху Камарго и дожившая до наших дней, но
потерявшая поэтичность. Самым наносным был стиль модерн, манер-
ная пластика плохих танцовщиц 10-х годов, вульгарная или изощ-
ренная имитация духовности, которой на самом деле нет*. История
танца, так кратко рассказанная здесь, предстала перед Семеновой не
только как школьный урок, но и как личный выбор. Все три традиции
были фоном, реальной средой, в которой началась, а частью и протек-
ла ее жизнь. Все эти традиции предстояло принять или отбросить. Од-
на из них — тальонизм — Семенову манила как мираж. Другую — ро-
коко — она примерила мимоходом, как примеряют в прихожей чужую
шляпку. А к третьей — модерну — Семенова повернулась спиной.
Так, в сцене поединка семеновская Раймонда резко поворачивалась
спиной к умоляющим заклинаниям Хана. Стиль модерн, конечно же,
был ей враждебен и чужд. Искусство Семеновой — самый полный
* Имеется в виду манера интерпретировать классический таиец, а не новая школа
танца, так называемый танец «модерн».
расчет с манерностью на русской сцене. Но стиль рококо она иногда
демонстрировала на концертах. Она владела им как художник-стилист.
Концертный номер «Гавот» был остроумной попыткой вернуть роко-
ко утраченную поэтичность. Танец строился на фрагонаровских позоч-
ках. В нем прослушивался быстрый моцартовский речитатив. В нем
не было, однако, прозрений. Тех танцевальных прозрений, которыми
Семенова поражала в сильфидных, «тальонистских» балетах. В «Жи-
зели», «Шопениане» семеновская музыкальность получала необходи-
мый импульс. Сильфидный танец длился в неуловимой смене нюан-
сов. Явственно» возникал образ прекрасного миража — и другой об-
раз: очарованной странницы и беглянки. В «Этюде» Семенова выбе-
гала на сцену в волнении, необычном для сдержанно-нежной «Шопе-
нианы». Тальонизм был художественной мечтой Семеновой-балери-
ны. Может быть, самое полное выражение семеновские мечты получи-
ли в «Баядерке», в «Тенях». Но здесь романтические видения высшей
красоты приобрели иную чеканку. Здесь была классика, музыка
чистой формы. «Баядерка» — балет, где гибнут страсти, люди, двор-
цы, но искусство жив/г и хранит тайну вечной жизни. Это прекрасней-
шее создание Петипа неотделимо в нашей памяти от Семеновой-тан-
цовщицы. В «Баядерке» определилась ее художественная судьба,
обозначился ее образ: царственности посреди бурь и бурной страст-
ности в холодном царстве. В «Баядерке» кристаллизовался ее стиль —
классицизм на развалинах империй, романтика на обломках страстей.
В искусстве Семеновой классический танец возвращался к своим
давним истокам. Улица зодчего Росси улыбалась ей как своей ожившей
Душе.
II
Семенова танцевала ослепительные мгновения жизни. Ликование,
скорбь и звуки музыки — призывы судьбы — пробуждали в ее душе
беспримерную энергию танца. В ней что-то начинало петь, рыдать и
гореть. Огромная, самая большая в мире сцена Большого театра стано-
вилась ей тесной. Ясно видишь, точно это смотрелось вчера, прослав-
ленные семеновские «шене» — верчения по диагонали из правой даль-
ней кулисы. В памяти семеновские круги — один, второй и малый
третий круг, в памяти семеновские полеты. Бросая чуть ли не прометеев
вызов небу, Семенова могла разорвать золотую цепь танца внезапным
взлетом-прыжком. Когда в звездном вальсе Прокофьева (в балете
Р. Захарова «Золушка») Семенова неслась из глубины к рампе прыж-
ками-жете, душераздирающими и наполнявшими ликованием душу, —
казалось, она рвется в другое искусство. Вся неудержимость артистиче-
ского стремления к сцене, к театру, к большой и достойной роли, вся
неудержимость человеческого стремления к свободе, к счастью, к любви
выразилась в этом порыве.
Впрочем, трагический темперамент уживался в ней с духом веселья,
а большой стиль — с даром сценической миниатюры. Ей близок был
старый жанр комического балета. Прелестная артистичность, юмор,
ирония, легкая, графическая, пастельная техника, неожиданная и
пикантная турандотовская краска, которой танцовщица окрашивала
старинные танцы, танцуя их весело, чуть остраненно, чуть пародийно,
без тени педантически-скучной стилизации — это тоже Семенова с ее
ощущением новой театральности, с ее счастливым даром игры. Ее
воспламенял праздник, праздничную беззаботность она могла воспри-
нять по-глинковски. К числу высших созданий Семеновой относится
маленький эпизод вальса из польского акта оперы «Иван Сусанин»,
запомнившийся еще и по контрасту с тем, что происходило в этом акте.
Балетная интермедия в большой опере должна быть контрастом —
этот старинный эффект в данном случае был разительным. Легким
бесшумным шагом, с легкой сияющей улыбкой, в легкой полупрозрач-
ной бальной тюнике Семенова появлялась из толпы торжественных ста-
тистов, облаченных в тяжелые исторические костюмы. Не с первого
мгновения — оно было озадачивающим, но уже со второго Семенова
переносила нас в сияющий мир, «волшебный край», далекий от воин-
ственности, далекий от вампуки. Что это был за танец? Почти без
фигур, почти j6e3 туров, почти без игры, вальс-эскиз, вальс-набросок, в
котором полунамеком проходили ритмические очертания и эмоциональ-
ные вспышки вальсовой стихии, очертания и вспышки вальса-фанта-
зии, вальса-мефисто, вальса-каприса. Лишь легкие кружения, окрашен-
ные пленительной, но неуловимой вакхической краской; лишь еще
более пленительная и еще более неуловимая игра плечиками. Ничего
сверх того, но и дьявольская и лирическая душа вальса, а может быть,
танца вообще, приоткрылась. Вальс-мадригал, поэма о кружениях
сердца, вальс-хабанера, поэма обольщения — таким был глинковский
танец Семеновой. И что только не возникало, что только не виделось за
этим колдовством кружений, за этой игрой плечиками: походка Гру-
шеньки, описанная Достоевским, Данило Купор, описанный Толстым,
домашние музицирования, гусарские пирушки, двойная дуэль из-за
Истоминой, изувечившая руку Грибоедова, «вольнолюбивая гитара»
Кюхельбекера и «пунша пламень голубой».
Глинковский эпизод — бал-эскиз, бал в миниатюре. Образ бала —
один из ведущих образов, вдохновлявших балетмейстеров-классиков.
Семенова не была бы классической балериной, если бы и ее не вдох-
новлял этот образ. С появлением Семеновой на сцене воцарялась та
атмосфера большого бала, которую воссоздавали балетмейстеры и
которую воспели поэты и композиторы прошлого — от Пушкина,
Глинки и Берлиоза до Чайковского, Блока и Равеля. Семенова танце-
вала романтический бал, блистательный, таинственный, инферналь-
ный — романтический бал в его общей, итоговой форме. Пушкинский
бал, где не музыка играет, но гремит «музыка». Блоковский бал,
«безумный и дьявольский», бал — поединок роковой, бал — возмез-
дие. И вместе с тем семеновский мятежный бал, праздник свободы, не
предусмотренный никакой традицией и никаким распорядком. Как
передать то волнение, какое овладевало нами, когда в третьем акте
«Лебединого озера» семеновская Одиллия врывалась в черной агато-
вой пачке, внося праздничный, гремящий дух «музыки» и роковой дух
поединка туда, где только что отзвучал сентиментальный вальс невест,
где шел казенный, принудительный праздник-обряд, праздник-обман,
где на троне восседали маленькие узурпаторы, где ждал своего счастья
маленький принц, — но не из сказки Сент-Экзюпери. Наверно, нигде,
ни в какой другой роли сверкающая энергия и сверкающая страсть
семеновского танца, его мятежная гордость не создавали такого напря-
женного сценического действия, такого яркого сценического портрета.
Это был образ столь же законченный и неповторимый, как пушкинская
Марина Мнишек или как блоковская Фаина из «Песни судьбы»,
вольная артистка с длинным бичом, мстящая мужчинам, неспособным
жертвовать, любить и бороться. Это была поэма женской мести. Семе-
нова не танцевала тридцати двух фуэте (вместо них шли два круга
вращений), но «фуэтирующей», хлещущей ритмикой пронизала весь
эпизод. Игра сладостных поз и ударных жестов, насмешливые танце-
вальные паузы посреди грозного танцевального вихря, неостановимый
натиск, перебиваемый легкими, картинными остановками, — из этих
столкновений кантиленных движений и движений-бросков Семенова-
Одиллия высекла дьявольские искры. Танец, который танцовщицы
исполняют как коварный женский призыв, Семенова исполняла как
блистательный женский вызов. Почти опереточный эпизод (не у Пети-
па, конечно, а у плохих балерин) становился почти героической
симфонией женственности. И женская обольстительность, и женская
недоступность, и женская неутомимость, и женская беспощадность — в
одном лице. Мог ли найтись ей достойный соперник? Тур за туром
сплетала семеновская Одиллия свою сеть, чтобы затем оборвать ее и
начать знаменитый бег по кругу. Тут уже бал звучал бурей.
В 1894 году, подготовляя новую постановку «Лебединого озера» (со-
стоявшуюся в январе 1895 года), капельмейстер Дриго купировал
часть сцены бури из последнего акта партитуры Чайковского, а балет-
мейстер Петипа поставил эту сцену по своему плану. Семенова возвра-
тила бурю в балет, считавшийся по преимуществу лирическим. Царица
бала, семеновская Одиллия была и царицей бури. Этот мятежный,
трагический бал, бал без партнера и бал без любви, Семенова танцевала
в приливе испепеляющего веселья.
Однако случалось, что в средней части дуэта на общий тон набрасы-
вался еще один тонкий слой и в танце Семеновой вспыхивал огонек
подлинного чувства. Казалось, что эта Одиллия всерьез увлечена, что
этот неопытный принц для нее не простая добыча. То был каприз,
история без завтрашнего дня, но завтрашний день был так далек, а
сегодня юноша-принц получал от нее царские подарки. Она танцевала
лишь для него, он терял голову не потому, что был коварно обманут.
Бал — романтический образ балета XIX века, Семенова — бале-
рина XX века. Танцовщица-хореограф, она переосмыслила традицион-
ный балетный мотив, более того — создала новый. В балетах-феери-
ях, в фантастических «лунных» актах, в сценах «снов» и «видений» (еще
один образ романтической хореографии) Семенова создавала ситу-
ацию, которую можно назвать, по Толстому, —после бала. В балеты-
феерии прошлого, ансамблевые спектакли с партнерами и кордебале-
том Семенова вносила современное мироощущение, неуловимые очер-
тания современных балетов-монологов. Четвертый акт «Лебединого
озера» (следующий непосредственно за балом Одиллии) был одним из
таких художественных прозрений Семеновой. Под грустный, тревож-
ный напев оркестра семеновская Одетта танцевала танец великой скор-
би, танец великого одиночества. (В симфониях Шостаковича возни-
кают подобные эпизоды — одиноко солирующие инструменты после
грандиозных оркестровых драматических столкновений.) «Лебединое
озеро» в целом было вообще ее самым совершенным созданием. Поток
поз замечательной красоты сливался в танцевальный монолог замеча-
тельной сосредоточенности. Что в нем звучало? Что он оплакивал?
Неволю? Изгнание? Крах великой мечты? Отвлеченное содержание
классики позволяло Семеновой, как на органе, создавать сложную
совокупность эмоций, голосов, пластических и психологических моти-
вов. Один мотив все-таки выделялся: гордая замкнутость, недоступ-
ность внешнему миру, погружение в музыку, погружение в собствен-
ный мир души, которой грозит погружение в «омут» (о чем с тревогой
писал Пушкин в заключительных строфах шестой главы «Евгения Оне-
гина»), напряженно-трепетная жизнь сердца, закованного стальным
обручем. Роль Белого лебедя — Одетты получала необычную для
балетного театра глубину: активное действие переставало быть движу-
щей силой балета. Память одушевляла классический танец. К жизни
памяти свелась и вся жизнь души. С подобной ситуацией Семенова
сталкивалась и в актах-«снах» «Спящей красавицы», «Баядерки», «Рай-
монды». В «Лебедином озере», в актах-«снах» Семенова танцевала
судьбу танцовщицы, которая призвана все запомнить и все сохранить:
ушедшее прошлое, музыку танца и сам образ классической балерины.
По всем внешним признакам Семенова была «балериной», идеаль-
ным воплощением типа, профессии, школы. Чистота типа — старин-
ный идеал ленинградского, бывшего петербургского хореографиче-
ского училища. Чистота типа — новейший идеал искусства 20-х годов,
чистоту типа в 20-х годах искали и в театре, и в живописи, и в архитек-
туре. (В 10-х годах, в годы господства стиля модерн, искали другое.
Таинственную магию своих произведений модерн извлекал из гротеск-
ных контаминаций разных сущностей, разных жанров и стилей, а
часто — из эклектики, из мешанины.) И если есть логика в истории
искусства, если есть в нем неизбежность, то, конечно же, в Ленинграде
в 20-х годах должна была появиться танцовщица, воплощающая идею
танцовщицы, классическая балерина, олицетворявшая смысл, живую
душу и неукоснительные законы классического танца. Семенова была
такой танцовщицей. Но в Ленинграде она задержалась недолго (с
1930 года Семенова работает в Московском Большом театре), и хотя
дух 20-х годов сохранился в ней на всю жизнь, пленницей этих лет она
не стала. О переезде Семеновой в Москву пишут нередко с оттенком
сожаления. Люди без кругозора и без широты полагают, что творчество
может развиваться лишь в стенах своего дома, лишь в границах своей
школы, лишь под надзором педагога-пестователя. Провинциальная,
гувернерская точка зрения на талант, на искусство! Мы не знаем, какие
личные причины побудили Семенову расстаться с ленинградской сце-
ной, но насколько же в духе ее независимой натуры этот побег, этот
порыв к новым берегам, это стремление стать собой любой ценой,
несмотря на возможные утраты и потери. Большой театр в 1930 году,
конечно, уступал — и уступал разительно — бывшей Мариинке с
точки зрения уровня балетной культуры, с точки зрения исполнитель-
ского класса. Но Большой театр был в Москве, городе МХАТа и
ТИМа. Главное же, в Большом театре жила традиция, которая не
привилась в Мариинке, несмотря на усилия Анны Павловой, — тради-
ция русского театрального романтизма. Может быть, эта традиция бес-
сознательно влекла к себе блестящую воспитанницу Ленинградского
хореографического училища. Во всяком случае, эта традиция в ней
ожила. То, что составляло глубину семеновского искусства, что давало
ей неотразимую яркую прелесть, что в ней «рыдало» и что в ней «боро-
лось», шло от образа русской актрисы, как этот образ понимали
Островский, Аполлон Григорьев и Блок. Первая танцовщица нового
времени, Семенова была одной из последних великих романтических
актрис русского театра. В драматическом театре 30—40-х годов подо-
бных ей почти не было, да и быть не могло. Послечеховский театр
отменил романтический тип актрисы, недаром Ермолова так не жало-
вала драматургию Чехова. Ориентируясь на новую драму, на новую
режиссуру, на новый стиль жизни, на новый характер сознания, после-
чеховский театр выдвинул свой идеал актера — утонченно-психологи-
ческий, утонченно-интеллектуальный, утонченно-театральный. И все-
таки, даже в пору самых блестящих и самых бесспорных побед новых
театральных тенденций, празднество победителей исподволь омрачала
молчаливая печаль по утраченному прошлому. В начале 30-х годов
Мейерхольд, а в конце 30-х годов Немирович-Данченко — оба мечтали,
оставаясь в рамках своих театральных схем, возродить домейерхольдов-
ский и домхатовский тип актрисы. И, кстати сказать, Немирович-Дан-
ченко с восхищением относился к Семеновой. В искусстве Семеновой с
легкостью и совершенно органично, без малейшего насилия над време-
нем, осуществилось то, что так непросто было воссоздать в «Анне Каре-
ниной» и «Трех сестрах», знаменитых довоенных спектаклях Художе-
ственного театра. Что тут было причиной? Тайна таланта? Мудрый
консерватизм балетного жанра? Или сама природа балета — пласти-
чески-неразговорная, музыкально-иррациональная? «Пожар стра-
сти» — так определял замысел «Анны Карениной» Немирович-Дан-
ченко. Именно так можно определить «Баядерку», которую Семенова
танцевала в Москве. Безусловная страсть торжествовала в этом самом
условном из всех театральных жанров. В литературе не раз описан
знаменитый семеновский танец со змеей, трагический танец, в котором
любовь, ревность и гордость переплелись в один предсмертный образ.
Менее известен не менее потрясавший трагический танец семеновской
Эсмеральды. Тут раскрывались возможности балетного искусства, его
миссия в XX веке, его исконный смысл. Тут раскрывались артистиче-
ские возможности Семеновой и ее личная тема: почти хемингуэевская
тема «силы в пустоте» — избытка таланта, энергии, чувства. Своих
высот Семенова достигала в образах Никии, Эсмеральды, Одиллии —
там, где ослепительный поток мастерства пересекался магическими
вспышками трагической страсти.
И все-таки главная роль, которую сыграла Марина Тимофеевна
Семенова в советском театре, — роль классической балерины. Класси-
ческий танец был ею воспет и опоэтизирован как высшая форма танце-
вального искусства. Это было непросто: позиции классического танца
сильно ослаблены. Монополия утрачена и, по-видимому, навсегда.
Классический танец не царит, как прежде, в легендарный век Мариуса
Петипа. Он вынужден бороться за свое место под солнцем. Семено-
ва — балерина-воительница, выдвинутая балетом в один из самых дра-
матических моментов его истории.
Замечательно интересными были выступления Семеновой в «Рай-
монде» Глазунова и Петипа. Роль, которую балерина играла в нашем
балетном театре, соответствовала роли, которую она исполняла в этом
спектакле. «Раймонда» — сцены из рыцарских времен, однако сюжет в
«Раймонде» значит не больше, чем сюжет в «Дон Кихоте». Рыцарская
тема балета выражена в отвлеченных танцевальных ансамблях и боль-
ших классических па. Острая фабульная ситуация дана через коллизию
танцевальных сюит. «Раймонда» — балет-турнир, но не воинов-рыца-
рей, а танцоров-артистов. Главный поединок в спектакле — поединок
свободных артистов Прованса и артистов-невольников,- сарацинов.
Главные протагонисты — сверкающий классический танец и судорож-
ный, полухарактерный танец-гротеск. Балерине строгого стиля, высо-
кой души и обаятельной артистичности в подобном спектакле —
шедевре Петипа — есть что сыграть: Семенова вносила в него дух
высокой бравады. По фабуле, по мизансценам, Раймонда — средневе-
ковая дама, Раймонда Семеновой была дама-артистка, танцовщица-тру-
бадур, гордость ее была гордостью вольной, блестящей актрисы. Блеск,
обаяние и неприниженность свободной культуры Семенова претворяла
в блеск, обаяние и неприниженность классического танца. Жесткости
телодвижений насильников противопоставлялась недоступная им и
манящая их музыкальность. Незабываем последний акт в ее исполне-
нии: «большое классическое па», большое адажио, вольная песнь тела,
танцевальная «альба» в том торжественном и сладостном стиле, кото-
рым прославили себя поэты Прованса. «Альба» — песня зари, «Рай-
монда» — балет о мраке нашествия. Вольную песнь тела семеновская
Раймонда импровизировала под гнетом неволи, и в этих импровизациях
оживал непокорный Прованс.
В свободно льющейся музыкальности был секрет этого неповтори-
мого дара. Казалось, в искусстве Семеновой, трагическом и мятежном,
ожил пушкинский идеал танцовщицы — послушной «смычку волшеб-
ному». «Смычок волшебный» пел и сверкал в каждом движении натя-
нутого, точно струна, тела балерины. Подобно тому как в «Бенедикту-
се», вдохновенном эпизоде «Торжественной мессы» Бетховена, над
колоссальными оркестровыми и хоровыми звучностями, над голосами
солистов, ликующих в гимне, парит нежный и страстный скрипичный
напев, — так у Семеновой, не в полетах, но на полу, в медленных
эволюциях адажио, пробивался наружу, ввысь, к звездам, к людям
льющийся поток страсти и нежности, поток одушевленных жизненных
сил. Изначальную, почти утраченную ныне связь скрипичной игры и
классического танца заново открывала современная балерина.
Одной из последних ролей Семеновой была главная роль в
«Барышне-крестьянке». А еще будучи ученицей училища, Семенова
выступила в «Тщетной предосторожности» — французском балете,
который на русской сцене приобрел черты сходства с пушкинской пове-
стью и стал походить на старинный русский балет. По-видимому, и
легендарный дебют Семеновой в «Ручье» весной 1925 года поразил
зрителей пушкинской гармоничностью. Очевидцы до сих пор помнят,
как шестнадцатилетняя танцовщица, похожая на юную богиню, появля-
лась из бутафорского источника, гордая своим жребием и своей красо-
той: избранница природы в облике идеальной классической балерины.
Этот образ должен был показаться волшебным в послевоенные 20-е
годы, которые являлись одновременно годами первых триумфов кон-
структивистского стиля. Там кубы, стальные листы, лестницы и прати-
кабли, там геометрия, инженерия, жестко рассчитанная игра плоско-
стей, демонический вкус к неживому. Тут прекрасное человеческое тело,
живой человеческий жест. В старинный балет с Мариной Семеновой
входила прозрачная женственность, сияющая и грозная юность. Мы
можем приблизить этот далекий образ. «Дева ручья, солнечная», —
говорит о грезящейся ему мечте герой современного итальянского
фильма, чувствующий повсюду дыхание смерти. Для многих людей
Семенова действительно была «девой ручья, солнечной». Грозное
сияние юности наполняло ее танец и тогда, когда она дебютировала в
«Ручье», и много позднее, когда ее искусство, столкнувшись с жизнью,
стало зрелым и драматичным.
III
Чем был для Семеновой классический танец? Всем: естественным язы-
ком и языком таинственных озарений, идеальным инструментом и вол-
шебным напитком, дарующим молодость, возвращающим жизнь.
Инструментальное, техническое начало искусства, которое играет
такую большую роль в балете и которое столь культивировали в 20-х
годах, Семенова подняла на высоту театральной поэзии. Ее вирту-
озность была не только ослепительна, но и прекрасна. Ее виртуозность
была озарена загоравшимся в ней огнем, который в старом театре
называли священным. Огонь пожирающий — вот что такое семенов-
ские диагонали и круги. Она мчалась по ним со стремительностью
летнего степного пожара. Но из пламени этого пожара вырастали
невиданные цветы. Семенова сама назвала арабески одной из своих
вариаций «расцветающими». Академические фигуры, позы и па у
Семеновой — всегда метафора, всегда образ. Живое, образное начало
искусства, которое хореографы нашего века с такой настойчивостью
стремились утвердить в балете (и которое они нередко — с такой
слепотой — искали на стороне), Семенова искала в классическом тан-
це. И это был истинный путь. Там, где многие видели пыль и песок,
она находила золото, находила родник. Она была зорким художником,
эта блистательная виртуозка. Сохранившиеся семеновские фотоснимки
показывают, какой клад можно найти в простейшей академической
позе, какое богатство выразительных возможностей таится в движени-
ях, известных десятки и даже сотни лет, какая в них спрятана неведомая
красота, какая заключена нетронутая сила.
Еще раз зададимся вопросом: чем был для Семеновой классический
танец и основанный на нем классический балет? Всем, ради чего стоит
жить. И прежде всего, еще с юных лет, — приключением, веселым,
отважным, рискованным, небезопасным, в котором можно и голову
потерять! Как она любила приключения! Это у нее осталось на всю
жизнь. Одна из последних ее ролей — Лиза в «Барышне-крестьянке»,
одна из последних ее сценических историй — комедийные приключе-
ния сердца, изложенные изящнейшим пушкинским языком. Когда же
она придавала этим играм иной, некомедийный масштаб, мы видели ни
на кого не похожую Одиллию, гениальную искательницу приключений,
вносившую в них и бесстрашие, и бесшабашность, и талант, и упоение,
и страсть. Рядом с этим сверкающим семеновским образом меркло
все — кроме семеновской Одетты. Это был Лебедь, высеченный не
резцом, но лебединым пером, — такая в нем была литая мощь и такие
мягкие очертания, нежные контуры, невесомый профиль. Балерина
изваяла Лебедя из скорбной музыки, тревожных предчувствий и горде-
ливых поз. В пластике семеновского Лебедя совместились осязаемость
барельефа и неуловимость скрипичной арии, льющейся бесконечно.
Скованный внешними силами, танец Лебедя парил. В нем жила неуби-
тая память о вольном полете. В нем жило и другое — волнение
неоставленных надежд. Оно было затаено, и поэтому так сильно волно-
вало в ответ. Оно нарастало крещендо. Оно прибывало, как наводнение
в реке, как море в штормовую погоду. Семенова доводила внутреннее
волнение до такой точки, что оно становилось почти непереносимым.
Но не было ни растерзанных поз, ни рваных ритмов. Ничто не нару-
шало движения взволнованной красоты. Семенова всегда танцевала
драматические кульминации жизни — скорбные, ликующие, вдохно-
венные, танец ее не знал неполноты чувств. Ей был свойствен гордый
пафос незатаенного жеста, ее наполняла патетика нескрытых страстей.
Но в «Лебедином озере» она демонстрировала иное: умение придавать
гармоническую форму самым напряженным мгновениям человече-
ского духа и всего человеческого существа. Это закон театра трагедии,
как его понимали в классические времена. Семенова следовала всем
его — и эстетическим и этическим нормам. Ее героиня, ее Лебедь —
Одетта входила в заклятый мир, из которого выхода не дано. Ложных
путей к спасению она не искала. Поэтому ее взволнованный танец
окружал трагически прекрасный покой. Волнения семеновской Одетты
мы уже больше никогда не почувствуем, нигде не заметим. Оно рожда-
лось и умирало на спектаклях. Но трагически прекрасный покой сохра-
нили фотопортреты. Глядя на них, мы думаем, что классический танец
был для Семеновой не одним приключением, но судьбой и тем, что поэт
назвал «почвой». А кроме того, мы думаем о ее роли в искусстве.
Известно, что роль Семеновой-балерины историческая. Семенова
принадлежит к числу тех, кто создавал новый, современный балет.
Лично она многое изменила в нем, в наших представлениях о женском
классическом танце: уровень мыслимой виртуозности, меру эмоцио-
нальной свободы, масштаб человеческих притязаний. Она расширила
границы возможного в искусстве, которое строго оберегало постоян-
ство своих границ. И о семеновской широте — широте ее жеста, атги-
тюда, прыжка — написано много вдохновенных слов. Но верно иное:
Семенова углубила классический танец. Она выявила в нем непредви-
денную эмоциональную и эстетическую глубину. Искусство Семеновой
можно назвать так, как Ф. Лопухов назвал свою последнюю (еще не
напечатанную) книгу: «В глубь хореографии». В 1925 году, сразу же
после дебюта шестнадцатилетней танцовщицы, и критики и историки
театра заговорили о новизне этого необычайного дарования. Теперь
мы видим еще и другое: далекую перспективу, давнюю традицию,
долго дожидавшуюся своего часа. Конечно же, мы имеем в виду
традицию Высокого Ренессанса. Семеновский гуманизм, прославление
ею образа гордого человека, семеновское активное мироощущение,
наконец, искусство превращать трагическое переживание в гармониче-
ский жест — все это сближает современную балерину со старыми
мастерами. Неудивительно, что фотоизображение семеновской Одетты
напоминает «Спящую Венеру» Джорджоне и даже микеланджеловскую
флорентийскую «Ночь». Изображена стоящая на пуантах танцовщица с
левой рукой, поднятой в идеальной третьей позиции. Но плавный, хотя
и резкий разворот всей фигуры, глубокое склонение головы создают
то самое столкновение овалов, тот самый гармонический контраст, в
котором художники Возрождения видели тайну живого искусства. Этот
прием называется контрапосто.
Классический танец возник в Италии, в эпоху Высокого Ренессанса.
И нет сомнения, авторы первых учебных трактатов, написанных в
XV веке в Ферраре и Милане, следовали тем же понятиям о гармонии,
форме и красоте, что и великие художники-кватрочентисты. По-види-
мому, и сам классический танец далекой, начальной поры имел немало
общего с произведениями скульпторов и живописцев. В дальнейшем
ренессансная основа балета перестала быть явственной: балет перени-
мал эстетические нормы новых времен. Он проделал длинную эволю-
цию от французского рококо до современного модерна. Искусство
Семеновой — возвращение к первоначальному замыслу, но на новой
технической, эмоциональной и духовной основе. Фокин назвал свою
«Шопениану» «романтической грезой». Фотоизображение Одетты —
Семеновой можно назвать «ренессансной грезой». Эта фотография
вместе с другими, не менее известными, запечатлела ренессансную меч-
ту, которую нес и о которой возвестил сверкающий танец неповто-
римой танцовщицы. Великое искусство рождается из великих ожида-
ний.
Алексей Ермолаев
У Ермолаева судьба артиста, не вмещающегося в стереотип. Это
человек многих дарований, несоединимых влечений духа. Поэтому
яркая жизнь его была не легка. Где для других шумный успех, для
него — тягостный выбор. За каждым его достижением — жертва.
Под занавес творческого пути он стал трагическим поэтом утраты
(мотив этот прозвучал раньше, когда Ермолаев станцевал в «Жизели»),
С такой мощной силой, какую балетный театр, по-видимому, не знал,
Ермолаев выплеснул на сцену тоску по нереализованным возможно-
стям души и таланта. И циничнейший граф Альберт (острый артист,
Ермолаев трактовал «Жизель» как романтический сколок «Опасных
связей»), и хмельной приказчик Северьян (в этой мутной дремучей
натуре Ермолаев угадал необъятность энергии и влечение к красоте), и
неистовый дуэлянт Тибальт в свой предсмертный миг — все они испы-
тали обжигающее чувство душевной погибели, роковой пустоты,
вкривь и вкось пошедшей жизни. Ермолаев тронул струну, которая
звучала в Москве давно — в романсах Аполлона Григорьева, в моча-
ловских монологах и, может быть, в лермонтовских стихах. Какой это
был бы Печорин!
Но прежде всего он был сам собой, экстатический виртуоз, ни на
кого не похожий танцовщик. Торс спортсмена, тонкая кисть пианиста,
голова сказочного разбойника — и во, всем, что он делает, умелая
мужичья хватка. Танец Ермолаева подобен ему самому: необычайная
комбинация силы, утонченности, ярчайшей фантазии и расчетливей-
шего мастерства. Спортивность? Конечно. В молодости это бросалось
в глаза. Силовые эффекты, рекордные скорости, рекордные трюки,
само понятие о рекорде, введенное в Храм — на сцену Академии
танца, — все это естественно для танцовщика, дебютировавшего (шест-
надцати лет от роду) в 1926 году. Балет в те времена занимал энергию
и стилистику у спорта. Музыкальность? Еще бы. В среде балетных
артистов-мужчин это был наиболее музыкальный танцовщик. Сами
танцевальные вдохновения Ермолаева были музыкальны. Свой дар
композитора он перенес в танец. Его танец питался той нерасчлененной
магмой души, которая может стать музыкой, а может стать танцем.
Фантазия? Она у Ермолаева была почти что фольклорной. Фольклор-
ный эпический стиль стал основой немногих осуществленных им боль-
ших композиций («Соловей» в Белоруссии, неоконченный латышский
балет). Яркой фольклорной краской он окрашивал классические номе-
ра. Как в живописи художников, воссоздаваших древний миф, его
танец-полет был некоторым нереальным, фантастическим сном-поле-
том. Снимок Голубой птицы Ермолаева в высоком и почти горизон-
тальном субресо кажется репродукцией, снимком картины, а не доку-
ментальным изображением танцовщика в танце. И наконец, танцеваль-
ное мастерство. Без всякого преувеличения — оно было феноменаль-
ным. Некоторое представление о нем даст книга, сборник статей, Ермо-
лаеву посвященных. В ней много литературности, талантливой у одних
авторов, заурядной у других, литературности, нежелательной и неиз-
бежной, но то, что отличает эту книгу от ряда других, — ее техноло-
гизм. Специальные описания растягиваются на много абзацев. Здесь
весь классический балетный лексикон и новообразования, введенные
Ермолаевым, его личный словарь. Читаешь эти описания с захватыва-
ющим интересом. Между прочим, и потому, что они объективны.
Четырнадцать субресо — бесспорный, хотя и непостижимый факт.
А психологические портреты танцовщиков — нередко домыслы,
нередко ширмы. Они скрывают плохую школу, убогую виртуозность.
Ермолаев и сам отдал дань психологическому театру. Без этого он не
стал бы большим артистом. Но прежде всего — это мастер танца.
Технологизм книги о нем — прекрасен. Видишь меру возможностей,
которыми располагает мужской классический балет и которые откры-
вает в нем идеальный танцовщик.
В Европе такие танцовщики перевелись после Перро, после Иоган-
сона и после Чекетти. В России они рождались. Но перечень их неве-
лик, и участь их была неблестящей. Нижинский был фактически изгнан
из Мариинского театра в самые свои яркие дни. Блистательный Морд-
кин — в полной мере не оценен. Юноша Мясин — попросту не заме-
чен. Лишь зоркий взгляд Дягилева высмотрел его где-то в гуще
танцующего кордебалета. Известно, что постромантический балет низ-
вел роль танцовщика-героя до роли кавалера и пажа, аккомпаниатора
балерины. Из этой роли можно было выйти на две-три минуты в одной-'
двух вариациях большого финального па-де-де. Но все ли стремились
к утраченной свободе? О нет, мужская эмансипация не стала открыто
заявленной целью. Странно подумать, женщины старого балета были
свободнее мужчин. Новаторские веяния захватывали танцовщиц и силь-
нее, и раньше, чем танцовщиков, а консервативные установки над ними
тяготели слабее. Вот типичный премьер: красивое барство манер и
бедность художественных претензий. Вот типичный гротесковый
комик-чудак: странное шутовство, странные парадоксы, а иногда —
осмеяние новизны и свободы. И вот, может быть, самая типичная
черта: апатия, художественная и гражданская, творческая психология
людей, выпавших из истории. Одни из них ропщут, другие мучаются,
третьи веселятся — все вместе считают это роком или сложившимся
порядком вещей. Менять этот порядок отваживаются немногие — и
потому, что он кажется неустранимым, и потому, что он устраивает, он
привычен. Алексей Ермолаев — прямо противоположный тип артиста.
Ермолаев — из тех редких танцовщиков, кто непосредственно делал
историю танца. Сознание исторической роли наполняло его энергией,
которая кажется необъяснимой, и позволяло экспериментировать на
грани высшего риска и чуда. Волю истории он ощущал всем своим
существом — и душой, и интеллектом, и мускульным аппаратом. Ритм
движущейся истории и был его внутренним ритмом. Живая, движуща-
яся история — его постоянный интерес. В сущности, Ермолаев всегда
соприкасается с феноменом исторического творчества и почти все-
гда — с реальным историческим материалом. И тогда, когда участвует
в спектаклях на тему французской революции и итальянского Ренес-
санса. И тогда, когда ставит собственный концерт на антивоенную
тему. И тогда, когда танцует в обновленной редакции бога ветра Вайю
в старинном индусско-классическом балете Мариуса Петипа. Ермолаев-
ский Вайю — жаждущий бог, неумолимое божество истории, которое
неизвестно восточной мифологии, которого не было в античном Панте-
оне. В этом танце родилась новая выразительность, оформился новый
канон. На знаменитой фотографии летящего Вайю антика (гармонич-
ная позиция рук) и восток (острый изгиб ног у основания и в колене)
включены в общий рисунок, уникальный по своей экспрессивной мощи.
Кажется, в нем навсегда запечатлена победоносная патетика индивиду-
альной воли. Человек отождествил себя с богом. Это и в самом деле
прыжок из царства необходимости в царство свободы.
Ермолаев — танцовщик-трибун, отчасти подобный Вестрису-вели-
кому, младшему современнику Мирабо. Трибунная, речевая стихия
формировала его жест и воспламеняла его экстатичность. В «Пламени
Парижа» он танцевал, чтобы возбудить толпу. Его танец был тем
самым танцем, рождавшимся из возбуждения толпы, о котором в 20-х
годах (имея в виду «Дон Кихота») писал Асафьев, автор музыки «Пла-
мени Парижа». Этот балет-митинг и был, вероятно, главным ермолаев-
ским балетом. Именно здесь Ермолаев показал вариацию, финальная
часть которой состояла из четырнадцати субресо и в которой он
призывал народ к восстанию — к топору. В вариации «Пламени Пари-
жа» Ермолаев пережил то, что было названо звездным мигом истории.
Этот балет поднял его как танцовщика на недосягаемую высоту, и он же
бросил его оземь. Танцуя и репетируя не жалея себя, Ермолаев каждый
раз рисковал, и мера риска росла, поскольку копилась необратимая
усталость мышц и связок. В конце концов на одном из спектаклей
случилась беда. Было это в 1937 году, и Ермолаеву шел двадцать
восьмой год. Неумолимое божество танца, приблизившее танцовщика к
себе, но и потребовавшее от него великих жертв, теперь приносило в
жертву его самого. Новую жизнь он начал через два года.
Все пишущие о Ермолаеве говорят в одно слово: одержимость.
Конечно, он был одержим — миссией, танцем, театром. Вспоминая о
нем, раньше всего видишь бешеные глаза пушкинского Петра, беше-
ную карамазовскую повадку, бешеные пируэты. Он знал, что такое
бешенство боя, сражения и что такое бешенство страсти. Тем более он
понимал бешенство страсти неразделенной. Последние его роли —
бред любви, метания растерзанной души; в этих последних спектаклях
возрождался старинный жанр трагических вакханалий. И все-таки
одним этим словом Ермолаева не объяснишь. Одержимость непластич-
на, она превращает человека либо в пламень и пепел, либо в машину и
манекен. Внезапная связь между бдержимостью и автоматизмом подме-
чена еще Тулуз-Лотреком. Затем эта эстетика воспламененных марио-
неток стала смыслом и стилем экспрессионистского танца (острее все-
го — в балете «Зеленый стол»). Ермолаев тоже умел показать
гротескный портрет маниакальной машины. Таковы его яркие кон-
цертные номера, «Агрессор» прежде всего, маньяк-манекен-марионет-
ка. Но сам Ермолаев был пластичен божественно, как Нижинский.
Одинокий экстатический жест ермолаевского хана Абдерахмана вносил
на сцену трагедийную живописность, мы предчувствовали неминуемый
гибельный взрыв, мы видели необычное: восточного царя, посчитав-
шего себя богом. (В 1926 году Глазунов собственноручно вписал имя
Ермолаева в число уже зачисленных студентов Ленинградской консер-
ватории. Вынужденный выбирать, Ермолаев предпочел стать танцов-
щиком, а не пианистом. Спустя двадцать лет, сыграв Абдерахмана, он
по-царски оплатил долг царственному автору «Раймонды».)
Пластичность — незакрепощенная человечность, игровая, духовная
жизнь тела. Пластичность — радостно человеческий всплеск игры.
Радостным игровым духом была наполнена и брутальная ермолаевская
одержимость. Бешено горящие глаза — это один Ермолаев. Веселый
азарт мистификаций — другой. И оба они нераздельны. На театровед-
ческом языке все это означает, что в творчестве Ермолаева новый геро-
ический канон соединился с традицией старинного театра маски. (Для
театра 20—30-х годов это был вполне естественный синтез. Приемами
театра маски Ермолаев владел виртуозно. Используя их, он станцевал
«Красный мак».) На языке же психологии это означает двойственность,
художественную амбивалентность. Марине Цветаевой принадлежит
мысль о нераздельности Пушкина — Пугачева, — такова ее собствен-
ная поэтическая природа. Ермолаев, по всей видимости, олицетворял в
балете сходный тип. Он был самым дерзким мятежником в балете,
танцовщиком бунта, танцовщиком боя. Сцена для него — ристалище, а
не храм. Своих персонажей, и не только Тибальта, он наделял «устра-
шающей силой», «terribilita», как это делал великий Микеланджело*.
Классический танец он переиначивал на свой лад, внося в него и патети-
ческие и жестокие краски. Но не разрушал его, хотя и выслушивал в
этом упреки. За бунтарством и брутальностью Ермолаева — непобеди-
мое влечение к красоте. Он наделял этой страстью всех, без исключе-
ния, персонажей. Они все поэты или, по меньшей мере, эстеты — даже
свирепый Тибальт, эстет фехтования, даже мрачный хан Абдерахман,
эстет власти, эстет любви. Непобедимое влечение к красоте привело
Ермолаева в балетный театр, сделало тем, кем он был, — идеальным
мастером танца. Мы закончим наш краткий рассказ чуть более
подробным описанием этого танца — для тех, кто никогда не видел
артиста на сцене.
Ермолаевская вариация эффектно демонстрировала новую структу-
ру — поток виртуозности. Прыжковые и вращательные па высшей
* «Это не столько «устрашающая сила» в буквальном смысле этого слова,
сколько такое действие статуи или картины, которое способно вывести зрителя
из спокойного состояния и заставить его с какой-то большой внутренней тре-
вогой переживать свое впечатление» (Дживелегов А. Микеланджело.
М., «Мол. гвардия», 1957, с. 56).
сложности лились непрерывно. Более всего поражала логика развития,
смены и композиции в целом. Вариация строилась по законам музы-
кальной формы. В танце, и без того предельно трудном, Ермолаев
воплощал принцип динамических нарастаний. Его диагонали или его
круги, как бы быстро ни начались, шли крещендо, в нарастающем
темпе. Другим неизменным условием был принцип контраста, противо-
борства хореографических тем. Танец-поток Ермолаев расчленял на
противодействующие элементы. В его полетах-прыжках самым ярким
впечатлением был общий контраст силы и невесомости. Танцовщик
красиво усиливал, укрупнял динамические и статические фазы воз-
душно-элевационного танца. Каждый из этих полетов-прыжков
выстраивался как законченная трехчастная композиция-притча. Первая
часть, взлет, императивный, рассекающий пространство жест тела.
Форс, то есть силовой импульс, не скрыт, но, наоборот, обнаружен
открыто. Нетерпеливая жажда движения — главный мотив взлета.
Вторая часть — зависание в неподвижной, изящной позе, —лирический
эпизод в общей героико-драматической структуре прыжка, мимолетная
реминисценция старинного романтического балета — «парение», миг
обретенной красоты, миг очарованного покоя, который Ермолаев мог
длить, как никто, долго. Здесь, в воздухе, возникала та пауза, которую
слабые танцовщики позволяли себе на полу, разрывая последователь-
ность танца. И, наконец, третья часть, приземление, не самый замет-
ный, но, может быть, самый тонкий момент, совмещавший оба преды-
дущих мотива. Приземление шло на так называемом «мягком плие».
В нем сохранялась память о чарующем эпизоде покоя. Но общая инто-
нация была снова агрессивно-наступательной, волевой. Танцовщик
порывал с чарами своей собственной музы. Финал наполнялся отвагой
побед и жаждой нового риска. Рождался новый прыжок и следовал той
же схеме. В ней выразила себя классичность Ермолаева-танцовщика,
Ермолаева — архитектора собственного танца. По своей форме ермо-
лаевский полет-прыжок — короткий балет, миниатюрное гран-па,
включающее, как того требует строгий канон, выход-антре, адажио и
аллегро-коду. А по существу, по скрытому образу этот бессюжетный и
мимолетный балет — драматическая сказка, в которой есть все: завяз-
ка, кульминация и развязка, поединок, приключение и побег — и
вечное странствие в поисках пера жар-птицы.
Наш рассказ приходится кончить не так, как хотелось. Алексей
Николаевич Ермолаев умер после недолгой болезни. Три месяца не
дожил он до юбилея театра, в котором проработал сорок пять лет.
Полгода не дожил до своего личного — полувекового — юбилея.
А был он не стар. И в последних предбольничных разговорах был
мудр, запальчив и страстен, как в последних своих ролях.
Его хоронили под музыку Прокофьева из балета «Ромео и Джульет-
та». «Нашему Тибальту» — сказал распорядитель перед тем, как
оркестр заиграл цэаурный марш. И верно: заострившееся лицо Ермола-
ева было лицом шекспировского героя. Странно сказать, оно было
гневным. Мы вспоминали, какой гнев овладевал персонажами Ермола-
ева, когда они встречались со смертью. Мы снова видели ермолаев-
ского Тибальта, стремительного, как молния, совсем необычного зло-
дея, упоенного не злодейством одним, но боем и бегом. И, глядя на это
опочившее лицо, не смирившееся перед вечным покоем, мы думали: вот
его суть, суть танцовщика и артиста — упоение движением, гнев на
неподвижность.
Галина Уланова
Уланова была — как нечаянная радость. И все в ней было нечаян-
ным — улыбка, пластика и судьба. Когда она появилась, в моде была
акробатика, была виртуозность. Одна из первых ролей Улановой тоже
строилась на акробатических поддержках. Она танцевала в спортивном
трико, она выглядела подтянуто-строгой и чуть суховатой акробаткой.
Если бы хореографы внесли в партию каплю лирики, каплю подне-
бесной улановской печали, получился бы несомненный шедевр. Но что
тут гадать —Уланову ждал «Бахчисарайский фонтан». А после «Фон-
тана» ей предстояло танцевать в первом советском шекспировском
балете. Здесь проходил ее путь в большое искусство и к славе. Здесь она
свивала свой мир — из воздуха невесомых тревог, из трепета неяв-
ственных ожиданий. В геометрических схемах балета Улановой было
не по себе. Жесткие закономерности линий ее отвращали. Она знала
другое —- нечаянности сердца, она заставляла верить в нечаянность
таланта. Нечаянный жест запрокинутой улановской руки создал новую
балетную драму. Этот жест устранял из балета и мелодраматическую
несдержанную жестикуляцию и царственную скупость пластики класси-
цизма. Он был ранящим, невольный улановский жест, он был, как
прикосновение, снимающее боль, как забота. В этом жесте — возвы-
шенная ненаходчивость души перед подлостью, насилием, страданием,
перед смертью. Так умирала Мария Улановой, не успевая принять
никакой позы.
Уланова была призвана поведать безмолвные драмы века. Ее тан-
цы — песни без слов. Ее балеты — поэмы молчания. Философия
театра молчания, так красноречиво изложенная Жаном-Луи Барро,
некоторыми аспектами близка и ей. Но только не красноречием, не
блистанием стиля. На сцене Уланова молчала по-пушкински, а не по-
французски. В «Борисе Годунове» народ безмолвствует, не желая одо-
брить злодейства. В балете «Ромео и Джульетта» шекспировская толпа
трагически приобщена и к злодействам, и к воплям, и к братоубий-
ственным страстям. Безмолвствовала там лишь девушка с потупленным
взором итальянских мадонн, улановская «голубка Джульетта».
Впрочем, Ахматова сказала не все. Улановская Джульетта была не
только голубкой. Безмолвную драму пересекал эпизод, в котором на
миг сверкнул скрытый улановский трагедийный темперамент. Апогей
образа — стремительный бег и предшествующая мизансцена. В пол-
оборота, в черном плаще, Джульетта Улановой явилась нам Гамлетом
русского театра. Это был миг театральности такой возвышенной кра-
соты, которая навсегда западает в память. Это был театральный «миг
истины». И это был чистейший Шекспир, Шекспир — айвонский
лебедь. Сколько сил положил Гордон Крэг, чтобы доказать, что
Шекспир — не кровавый елизаветинец, не мейнингенский сухарь. Но в
своем отечестве этот провидец так и не был услышан. Что бы сказал он,
увидев боттичеллиевский облик Джульетты — Улановой, ее романти-
ческий плащ?
В этой роли, как и в роли Марии, Уланову никто не сумел заме-
нить — ни те, кто ее слепо копировал, ни те, кто с ней яростно спорил.
Тому есть много причин, не считая важнейшей: неповторимости
актерского дара. В балетах, где материалом был пушкинский роман-
тизм и шекспировское возрождение, Уланова продемонстрировала
метод, типичный для 30-х годов, в основе которого лежал безусловный
пиетет к прошлому, к культуре отдаленных эпох: подобный метод тоже
был явлением высокой культуры. Театру 30-х годов был чужд равно-
душный и высокомерный эгоцентризм, когда в прошлом ищут свои
проблемы и ничего, кроме них, не находят. Напротив, свои проблемы
нередко вызывали менее пристальный интерес, чем чужие. Лучшие
постановки отличала бескорыстная широта интересов. Это общее тяго-
тение к большому историческому стилю Уланова разделяла, но шла
своим одиноким путем. Ее историзм был поэтическим. Уланова относи-
лась к прошлому как к великой и до конца не разрешимой загадке.
Критика (М. Иофьев) не случайно писала о «загадочности» улановской
Марии. Загадочными казались и эпизоды Джульетты. В образах клас-
сического искусства Уланова ценила и умела воссоздать их хрупкую
непроницаемость, их волнующую отдаленность. Ее персонажи были
окружены дымкой, о них можно было гадать. Ф. Лопухов сравнивал
улановский полуарабеск с полуулыбкой леонардовской Джоконды.
И верно, пластический жест балерины воскрешал мягкую светотень,
след забытых, таинственных гармоний. Если так можно сказать, Ула-
нова танцевала воздух эпохи. Предметом ее поисков и воплощений был
не стиль, как у мирискусников 10-х годов, но художественная атмо-
сфера, из которой стиль вырастает. Ослепительные исторические виде-
ния Уланова переводила на воздушный язык балета. Ярчайшую фре-
ску превращала в тончайшую акварель. Это было в самом деле художе-
ственным переводом. Никаких лишних утяжеляющих красок, никаких
резких деталей, никакой грубой реставрационной работы. Лишь чистая
поэзия воссоздания, разгромождавшая толщу времен. Лишь деликат-
ные контуры почти музыкальных догадок. Но зато как они были
верны! В «Бахчисарайском фонтане» нам открывался не только Марии
«тихий нрав», но и меланхолия пушкинской эпохи. Само по себе это
стало открытием: ведь все, что было осенено пушкинским присутстви-
ем, еще так недавно казалось беспечным празднеством муз. Уланова
увидела пушкинскую музу в печали. По рассказам самой балерины,
пластический ключ к образу она искала в печальных ракурсах царско-
сельских парковых статуй. Знаменитая поза Улановой — Марии — с
рукой, заломленной над головой, напомнила оживший слепок. И, на-
оборот, в балете «Ромео и Джульетта» Уланова сблизила нежное
флорентийское кватроченто, культ мадонны и решимость шекспиров-
ских девушек, способных появиться на улице в мужском костюме.
Эмблемой образа стал черный плащ, наброшенный на платьице, усы-
панное цветочными аппликациями. А тайной образа — это детское
платьице, покрытое суровым плащом.
Сергей Эйзенштейн писал, что другие танцовщицы танцуют начало
и конец танца, а Уланова умеет танцевать и середину. Это верно, но
применительно к улановскому движению, улановскому жесту. Уланов-
ское творчество управлялось иными и, в самом деле, загадочными зако-
нами. В человеческой жизни Уланову интересовали лишь начала и
лишь концы. Она была балериной утра. Утренние часы жизни, утренние
мгновения любви — этим она умела наполнять балет, это она умела
найти и раскрыть в балете. Молодая Уланова улыбалась, как улыбаются
лишь поутру. Утренняя улыбка Улановой освещала самый тусклый
спектакль. И вместе с тем Уланову пугала, а как художника притяги-
вала смерть. Она была великой, если не самой великой артисткой
последних мгновений жизни. В сцены смерти она вносила одухотво-
реннейший реализм. Она не боялась танцевать или играть некрасиво.
Спотыкающаяся ритмика ее «Умирающего лебедя» не имела ничего
общего с плавной павловской кантиленой. Губы Марии шевелились
вопреки всем правилам сценической балетной игры. Детские губы
кого-то звали, кому-то молились, силились что-то сообщить, на что-то
пожаловаться и даже как будто бы на что-то рассердиться. Балерина,
точно забывшись, пыталась заговорить. И жест ее был странным,
забывшимся жестом.
Эти роли Улановой были новыми ролями, современными в фило-
софском плане, ставшими в уровень с гуманистической философией
века. В 30-х годах возникло понятие о пограничной ситуации, жизни
вблизи смерти. Когда Мария Улановой попадала в гарем или когда
Джульетта Улановой бежала вдоль рампы к Лоренцо, это поня-
тие приобретало явственность, пугающую очевидность. Балерина
нашла ритм пограничных ситуаций, ритм, напряженный сверх всяких
человеческих сил и сверх всякой логики сказочно легкий. Вот эта
легкость усилия, рвущего путы времени и путы судьбы, легкость
порыва, рвущего кровь из аорты, — была наваждением, театральным
чудом.
Вообще-то улановская ритмика была иной. Не городской и не сель-
ской, а скорее — озерной. Тревожно-покойная ритмика северных мол-
чаливых озер. Лирическая ритмика «Лебединого озера» Чайковско-
го — Льва Иванова и пушкинской «Русалки». В современной поэзии
для улановского танца точное соответствие — дольник. Он близок
парящей и осекающейся пульсации пастернаковских строк. «И оттре-
петав был тих», — написано Пастернаком о Маяковском. Сторонняя
стихотворная строчка дает ритмический портрет балерины.
Артистические возможности Улановой, казалось, не знали пределов.
Эйзенштейн хотел снимать Уланову в фильме «Иван Грозный», в роли
Анастасии. Были сделаны пробы, найден удивительный грим. Сторон-
ние обстоятельства помешали этому плану. Театралы 40-х годов
помнят, сколько слухов ходило тогда о возможном участии Улановой в
шекспировском или лермонтовском спектаклях Театра имени Моссове-
та. Между тем, Уланова — балерина, актриса хореографического
театра. Ее инструмент — ритм, а не мимика, танцевальное движение, а
не движение вообще. Уланова была первоклассной мимисткой, но неко-
торые сцены и роли целиком проводила с неподвижным лицом, и в этих
случаях впечатление было почти гипнотическим. Но и там, где возни-
кала мимическая игра, действие строилось как ритмическая партитура.
Сцена сумасшествия Жизели — пример тончайшего и чисто хореогра-
фического мастерства, здесь она демонстрировала одухотворенную
виртуозность. Разорванное сознание Жизели угасало и вспыхивало в
потоке нарастающего напряжения и убыстряющегося танца. Вдохно-
венный эпизод был выверен почти математично. Сцена эта сравни-
тельно хорошо заснята в кино и может служить классическим уроком.
Но описать эту сцену нельзя. Советуем лишь обратить внимание на
мелькание острых улановских локтей — они похожи на фантастиче-
ские огоньки, вспыхивающие ночью в лесу, во втором акте «Жизели».
Они — из мира Генриха Гейне, рассказавшего предание о виллисах.
Локти словно танцуют танец блуждающих огней. И они создают пла-
стический контрапункт эпизода.
Есть много замечательных описаний замечательных балерин. Осо-
бенно много посвящено сценам смерти или безумий. Аким Волынский
описывает смерть Эсмеральды — Гельцер так, что живое волнение
охватывает душу. Это не только театроведческий документ, это художе-
ственная литература на документальной основе. И все-таки мы убежде-
ны, что в описаниях выразила себя эпоха повествовательности — в
критике и в самом балете. Старые балеты как бы сами описывали себя,
старые роли создавались словно на основе точного рассказа. Искусство
Улановой означало конец архаической повествовательности в балете.
В каких бы спектаклях она ни была занята, она строила свои роли не
повествовательно, а хореографично. Уланова принесла в балет новую
внутреннюю технику и новый психологизм. Сергей Эйзенштейн,
набрасывая портрет Улановой, прибег к помощи формул и графиче-
ских чертежей. Может быть, это преувеличение, чрезмерность холод-
ного аналитического ума — бывает и такая чрезмерность. Но как
иначе определить то, что Эйзенштейн назвал так: «неповторимость
Галины Сергеевны»?
Постскриптум
Существуют эпохи, когда школа и сцена гармонично дополняют друг
друга. Такой была эпоха Мариуса Петипа. В 20-х и особенно в 30-х
годах школа и сцена преследовали разные цели. Школа воспитывала
танцовщика-виртуоза, а сцена — артиста, способного играть, как
играют в драматическом театре или в кино. Ситуация поляризовалась
таким образом, что на одном полюсе находился вагановский класс, а на
другом — режиссеры так называемого «драмбалета».
Вагановский класс. Семенова и Уланова вышли из класса А. Вагано-
вой, а Ермолаев — из класса В. Пономарева. В обоих классах шла
обычная каждодневная жизнь, но вместе с тем это были лаборатории
нового танца. Здесь вырабатывались сами понятия «современной»
и «несовременной» манеры, прежде не существовавшие или играв-
шие вспомогательную роль. В XIX веке классический танец, тан-
цовщиц и танцовщиков различали по принадлежности к той или иной
устойчивой национальной традиции. Основной водораздел прохо-
дил по границе французской и итальянской школы. В XX веке возни-
кло новое измерение — историческое, и водораздел стал проходить
между старым и новым. Можно было исповедовать одни и те же
принципы итальянской школы, но при этом принадлежать к двум
соперничающим лагерям. Можно было пройти обучение у педагога-
француза, но на сцене выглядеть архаично или, наоборот, очень свежо.
Существовало не два, а четыре основных исполнительских типа.
Определились четыре педагогические модели. В этой неустойчивой,
переходной ситуации самым передовым был вагановский класс. По
номенклатуре, принятой в юности ею самой, Ваганова была «итальян-
кой». По сути своей деятельности— профессором будущего, педаго-
гом классического танца завтрашнего дня, создателем новой школы.
Контуры нового танца, небывалого по масштабу и размаху, вырисовы-
вались в прыжках и верчениях вагановских учениц, в сложных комби-
нациях вагановского экзерсиса. Ваганова преобразовала традицион-
ный урок. Именно в ее классе были пересмотрены все понятия об
уровне технической виртуозности. В классе Вагановой совершенство-
вали так называемое «аллегро». Более всего Ваганова ценила технику,
апломб и волю. В женском танце она стремилась утвердить активный и
даже некоторый героический стиль. Это сделало ее бескомпромиссным
противником французской школы, которую в Петербурге культивиро-
вали еще со времен Карла Дидло и которая совсем по-иному понимала
смысл женственности и характер женского экзерсиса. Мятежный дух,
дух времени и, может быть, призрак надвигающегося «драмбалета»
понуждали Ваганову выковывать могучую танцевальную школу, при-
нося в жертву многие тонкости пуантного танца. Энергия для Вага-
новой значила не меньше, чем одухотворенность. А тонкая грация —
гораздо меньше, нежели гармоничное мастерство. Понятие «грации»
вообще с ее точки зрения пришло в балет из области быта. «Ручкой,
ножкой пококетливее» — так, по ее словам, учили старые малопрофес-
сиональные педагоги. Во главу угла своей педагогической и эстетиче-
ской системы Ваганова поставила именно чистую профессиональность.
В профессиональности Ваганова прозревала ту колдовскую силу,
которая побеждает и подчиняет себе низменный быт. Профессиональ-
ность вагановского класса вобрала в себя новые представления об
искусстве, сложившиеся к 20-м годам, и старые мечты о женской эман-
сипации. А в узкобалетном смысле она обозначила возврат к строгому
экзерсису. Вагановский класс создавал новый академизм.
Современница триумфов Анны Павловой, Ваганова поняла, что
Павлова гений и что искусство ее выходит за рамки всех школьных
понятий. Примерно в этих словах о Павловой пишет единомышленница
Вагановой Л. Блок: рядом со словом «гений» Л. Блок употребляет
слово «небрежность». Небрежность— общее качество исполнитель-
ского стиля 10-х годов с точки зрения строгих академических представ-
лений. На знаменитом портрете-наброске Валентина Серова павлов-
ский полуарабеск действительно немного косит. А ее апломб чуть кре-
нится, что нарушает строгий закон вертикали. Но в этом все чары его,
вся неизъяснимая магия, прелесть. Ваганова искала иной арабеск.
Ваганова боролась со всяческим колдовством, с наваждениями нечи-
стой структуры. Она утверждала чистую линию, чистую форму, чистый
и ясный принцип работы.
Через всю историю балетного исполнительства проходит чередова-
ние артиста-мастера и артиста-мага. Магическим было искусство
легендарной Марии Тальони. Эра Петипа утвердила для второй поло-
вины XIX века идеал танцевального мастерства. Эпоха Фокина вновь
возродила идеал балетной поэзии — магию танца, хотя в новом стили-
стическом — не тальонистском, но мирискусническом оформлении.
Эпоха Фокина непосредственно следовала за расцветом русского сим-
волизма, искавшего в стихах то же, что Фокин в танце, — музыкальной
экспрессии. Годы Фокина — самые «магические» годы в русском бале-
те. Магия экстатически-одухотворенного танца Анны Павловой, магия
полетов Нижинского, магия улыбки, жестов и артистичности Карсави-
ной, магия страдальчески-одухотворенного танца Спесивцевой непости-
жима. Это искусство, трудно поддающееся анализу, рациональному
определению, точной фиксации. Школы оно не создаст, как не создала
школы гениальная Анна Павлова, воспитывавшая учениц, искавшая
последовательниц. Школу создала Ваганова, танцовщица-мастер (не
имевшая должного успеха в фокинские годы, годы своей артистиче-
ской карьеры), педагог-аналитик, художник-технолог, талантливейший
рационализатор балетного исполнительского ремесла. Из ее класса
вышли прославленные художники-мастера, от Семеновой до Колпако-
вой. В классе Вагановой занималась Уланова— танцовщица иного,
магического плана. Талант для Вагановой значил больше, чем прин-
цип и годами накапливавшаяся совокупность педагогических схем.
«Драмбалет». О «драмбалете» все сказано, все известно. Добавим еще
несколько слов, поскольку Семенова (в меньшей степени), Уланова
и Ермолаев (в большей степени) были связаны с «драмбалетом».
О балете 30-х годов говорят, что его принципом было сближение с
драматическим театром (поэтому и «драмбалет») и с литературой. Это
правда, но правда не вся. И это немного поверхностный взгляд на
вещи. Скрытой первоосновой балета 30-х годов, его пафосом, его стра-
стью, его оправданием было действие. Так называемый «драмбалет»
ознаменовал возрождение старинного жанра— действенного балета
(ballet d‘action), теоретические основы которого были заложены еще в
XVIII веке Ж.-Ж. Новерром. Вот почему имя Новерра в 30-х годах у
всех на устах, тогда как имя Петипа, создавшего иной тип балетного
спектакля, теряет свою авторитетность. Сами спектакли Петипа в это
время подвергаются существенным переделкам. Сокращаются длинно-
ты, под категорию которых подпадают развернутые танцевальные и
пантомимные композиции, не несущие выраженного действенного эле-
мента. Заново сочиняются сценарии, с тем чтобы этот элемент макси-
мально усилить. Роль сценария, как и роль сценариста, сведенная к
минимуму у позднего Петипа, вообще возрастает. Еще более возрастает
роль режиссера— постановщика напряженных действенных сцен.
Кульминацией спектаклей становятся не «сны» и не празднества, но
сражения, поединки — иначе говоря, все формы открытого диалога
между протагонистом и массой. Драматургия новых спектаклей
сводится к противоборству действующих исторических сил. Отсюда все
качества: историческая глубина в одних случаях, вульгарно-социоло-
гическая схематизация в других и почти всегда — новый герой, герой
действующий, активный. Завоевания «драмбалета» имели бы больше
цены и сам «драмбалет» не зашел бы в тупик, если бы в жертву дей-
ствию не приносились созерцание, медитация, лирика, танец.
Юрий Григорович
Екатерина Максимова и
Владимир Васильев
I Наталия Бессмертнова
Майя Плисецкая
Подводя черту...
С самого своего возникновения московский балет держался незави-
симо по отношению к петербургскому, гордился своей независимостью
и тщательно ее оберегал: то было делом профессиональной чести.
Зрители-москвичи и москвичи-артисты никогда не считали московскую
труппу филиалом. В Москве была выработана своя система ценностей
и существовала своя шкала оценок. Яркую личность здесь ставили
выше, нежели идеальный академизм, а сильную страсть ценили больше,
нежели виртуозный танец. Балет как жанр не отделял себя от драмати-
ческих жанров. Традиционно близка ему была старинная мелодрама, а
высокая романтическая драма явилась для него стилистическим образ-
цом. И художественно и организационно московский Большой театр
тяготел к Малому театру. Школа Большого театра — это школа пере-
живания и даже отчасти школа «нутра». Мочаловские традиции здесь
никогда не исчезали. Зато время от времени падал уровень чисто
профессионального мастерства, чисто хореографических и исполни^
тельских умений. Но в силу тех же причин, и прежде всего — непол-
ного подчинения академической дисциплине, московский балет был
открыт художественной и танцевальной новизне и сам открывал в клас-
сическом танце неизведанные возможности, непредполагавшиеся связи.
Именно в Москве был поставлен «Дон Кихот». Во все времена, при
любых обстоятельствах у выдающихся исполнителей разных эпох этот
испанский балет играл, в сущности, одну роль— нового слова, и
притом вольного слова. В «Дон Кихоте» дан прообраз свободного тан-
ца. «Дон Кихот» — некоторое предвосхищение современного танца
«модерн». И неудивительно, что уже в нашу эпоху «Дон Кихот» танце-
вали лучше всего те артисты, которые с легкостью переходили
границу, отделяющую строгий классический танец от вольного танца
«модерн»: М. Плисецкая, Е. Максимова, А. Мессерер и В. Васильев.
Таков парадокс московского балета: здесь сохранялся архаический,
старинный, мелодраматический стиль и здесь рождались новые веяния,
новые формы. Вчерашний и завтрашний день балетного театра сообща
определяли репертуар — нередко за счет интересов сегодняшнего дня,
за счет насущных профессиональных интересов. В 30-х годах, в одну
из таких эпох, в московское хореографическое училище были направ-
лены из Ленинграда выдающиеся педагоги, а в прошлом — выдающи-
еся мастера строго академического толка: В. Семенов (он стал дирек-
тором училища), Е. Гердт (из ее класса вышли М. Плисецкая и Е. Ма-
ксимова) и ряд других их коллег. Еще раньше в труппе Большого
театра стали работать ленинградцы М. Семенова и А. Ермолаев.
Общий уровень танцевального мастерства в Москве неизмеримо под-
нялся. Уже стали говорить о преодолении векового противостояния и о
выработке единого канонического языка. И почему-то эта унификация
стиля представлялась как достижение, как победа. К счастью, ничего
подобного не произошло. Достаточно сравнить, как в Большом и
Кировском театре танцуют «Спящую красавицу» или того же «Дон
Кихота», чтобы за слоем общепринятых условностей обнаружить кон-
туры непреходящих различий. Прежнего антагонизма больше нет, но
полного тождества тоже не существует. Московская школа — не фик-
ция, а реальность, во всяком случае, реальность сейчас, пока на сцене
Большого театра работают талантливые артисты.
Совсем не обязательно, чтобы они родились и даже учились в
Москве. Ю. Григорович, переехав в Москву сложившимся балетмей-
стером, перешел постепенно на позиции московской школы. Теперь это
самый горячий сторонник мелодрам, самый последовательный привер-
женец театра открытого переживания. В своих ленинградских поста-
новках и первых спектаклях, поставленных в Москве, Григорович
демонстрировал иной, закрытый, интеллектуальный стиль и ставил
балеты на тему трагической участи вытесненных, несвободных эмоций.
Героиню «Легенды о любви», самого «ленинградского» балета Григо-
ровича, разрушала сдержанность, необходимость таиться. Героя
«Ивана Грозного», самого «московского» балета Григоровича, разру-
шает свобода эмоций, несдержанные страсти, неуправляемый гнев.
Иван Григоровича — сам актер театра переживания. Но его игра стоит
жизни малым мира сего. И его театр — непраздничный, моровой, зло-
получный.
Пока Ю. Григорович ставит и показывает «Грозного» в Москве,
М. Плисецкая едет к Бежару в Брюссель, а Е. Максимова — в Ленин-
град, чтобы сняться в двух эксцентрических телебалетах. В подтексте
обоих спектаклей— переживания, но это комедии, и в них славится
радостный сценический трюк. Так расходятся пути московских арти-
стов.
Юрий Григорович
Ю. Григорович пришел в Большой театр в 1964 году. Ему было тогда
тридцать семь лет, и то была пора его творческого расцвета. За два года
до переезда в Москву он поставил в Кировском театре «Легенду о
любви», один из лучших балетов на советской сцене. «Легенда» изме-
нила репутацию Григоровича, изменила, хотя и не сразу, его судьбу. До
того его имя называлось в ряду других имен молодых талантливых
балетмейстеров, представителей «новой волны», почти одновременно
появившихся в Ленинграде. После «Легенды» стало ясно, что Григоро-
вич — один, что ему нет равных ни среди молодых, ни среди старших и
что родился наконец балетмейстер, способный осуществить долгождан-
ный прорыв. Европейские масштабы дарования автора «Легенды» не
вызывали сомнений. Было очевидно: это независимый художник, а не
иллюстратор заданных схем, его дар целостен, а не фрагментарен.
Художественная законченность «Легенды» поражала больше всего.
В большом трехактном балете не было ни одного лишнего персонажа,
ни одной случайной подробности, ни одного необязательного эпизода.
Ориентальный сюжет выстраивался по классическим театральным
образцам. Казалось даже, что действие подчинено правилам трех
единств: такова была концентрация художественной энергии, жесткая
экономия театральных средств. Это был балет сильных страстей и
глубокой мысли, современная трагедия, созданная в напряженном,
изысканном и резком рисунке. Трагедийную яркость и глубину балету
давал образ прекрасной и ужасной царицы. В спектакле рассказыва-
лось, как отклоненное чувство и неутоленная страсть разрушают пре-
красную душу. Григорович демонстрировал строгий интеллектуальный
стиль, оставаясь лириком чистой пробы. Лирические сцены поразили
больше всего, и среди них та (повторенная дважды), которая возникала
из массового шествия действующих лиц — главных персонажей и ста-
тистов. Неожиданно шествие останавливалось, движение прекраща-
лось, и три размещенные по углам и не сходившие с места человеческие
фигуры (точно в плену у направленных на них лучей) простирали
навстречу друг другу руки.
Остановим на мгновение и мы наш рассказ и чуть-чуть более внима-
тельно всмотримся в эту красивую мизансцену. Балетмейстер выклю-
чает балет из движения и погружает в неподвижность (и всю сцену —
во тьму). Он резко противопоставляет внешнее, моторное, и внутрен-
нее, душевное, движение, — это делал и классический балет в эпоху
Чайковского и Петипа, но вовсе не так резко. У Петипа и Чайковского
моторные и душевные движения связаны множеством градаций и пере-
ходов. У Григоровича это антимиры. Пока идет шествие, душа молчит.
Когда говорит душа, шествие замирает. Моторное движение у Григо-
ровича непоэтично, поэтому он не любит и не использует джаз.
Душевные же движения у Григоровича— малоритмичны. Скажем
коротко: лирика Григоровича не дансантна. Но Григорович — приро-
жденный хореограф-симфонист. Трио «Легенды» — образец симфони-
ческого, но не дансантного балета.
Тогда, в 1964 году, мы не уловили всего смысла, который был
заключен в мизансцене этого трио. Нас просто поразила экспрессия,
захватил драматизм, увлекла необычная форма. Мы видели воплоще-
ние идеи симфонического танца, которая в те годы манила умы, каза-
лась решающим аргументом в споре с так называемым «драмбалетом».
О том, что симфонический танец, лишенный дансантной опоры, в
конце концов с неизбежностью приведет к новому «драмбалету», о том,
что такой симфонический танец не есть еще танец, а есть сложная
пластическая игра, — об этом тогда мало кто думал. Тогда верили в
симфонизм как в чудо. Тогда Григоровича ждали в Москве.
Его появление в Большом театре обрадовало и воодушевило. Вели-
кая труппа истосковалась по балетмейстеру, который умеет работать, а
не только учить этому неспособных учеников. По сути дела, после
смерти А. Горского, случившейся в 1924 году, место главного балет-
мейстера оставалось вакантным. Основной репертуар складывался из
классики, ветшавшей на глазах, и новых постановок, с большим или
меньшим опозданием переносимых из Ленинграда. Обновленной,
талантливой, как никогда в прошлом, труппе было тесно в столь узких
рамках. Труппа хотела действовать, экспериментировать, рисковать.
В ней скопился огромный творческий и просто-напросто жизненный
потенциал. Она не была поражена ни равнодушием, ни скепсисом, ни
ленью. Необходимо было сплотить ее и дать выразить себя не только
солистам, но и кордебалету. Может быть, прежде всего кордебалету,
потерявшему свой ослепительно яркий, традиционно московский коло-
рит, утратившему свое лицо и свою роль, наиболее пострадавшему под
игом так называемого «драмбалета». Это натуралистическое направле-
ние в хореографии еще как-то было связано с понятием актерской
роли, актерской игры. Но зачем нужен кордебалет, этого «драмбалет»
понять не умел. Сами исходные установки «драмбалета» не позволяли
использовать кордебалет иначе, как скопище статистов в больших мас-
совых сценах. А поскольку те же самые исходные установки требовали
обязательных массовок, то возникал необычный, не танцующий, ни к
чему не причастный и лишь имитирующий свою активность ложноклас-
сический кордебалет или, проще сказать, лжекордебалет— мнимый
образ народа, который и не безмолвствует, но и ничего не произносит.
Зато в «Спартаке» кордебалет получает двойную роль: это и образ
народа, это и образ восстания, возвышенный, поднятый до уровня
символа образ. При этом Григоровича влечет не оргиастическая стихия,
которую обычно стремятся вызвать на сцену балетмейстеры, когда ста-
вят античный балет. Григорович вызывает на сцену стихию движения,
управляемую сознанием и волей. Он ставит мятежный и очень римский
спектакль.
Поставив в Большом театре «Спартака», Григорович решил очень
важную внутреннюю задачу. Он сплотил коллектив, он дал выявиться
энергии и таланту кордебалета. Он дал роли солистам, в которых они’
потрясли и завоевали балетный мир. На этом спектакле мы даже по-
новому услышали некогда знаменитый оркестр. Он был великодушен и
щедр, этот с неба упавший главный балетмейстер. Он приносил успех,
высокую репутацию, славу. Однако затем пути балетмейстера и некото-
рых ведущих солистов разошлись, и ситуация в театре стала драматич-
ной. Что же произошло? Об этом мы можем только гадать: человече-
ская подоплека разыгравшейся драмы нам неизвестна. С ее участни-
ками автор этих строк почти незнаком. Но художественная суть проис-
шедшего, как нам кажется, довольно ясна. И дело именно в ней, в худо-
жественной сути. В труппе артистов возникли тяготения в сторону
более актуальных хореографических идей, более нового танцевального
языка. В творчестве Григоровича, наоборот, — постепенно пропадал
интерес к новаторству как таковому. Самобытность ему представлялась
дороже, нежели общепринятый «современный стиль»; независимость
он искал, комбинируя принципы нового и очень старого театра. С го-
дами, однако, эта плодотворная установка превращалась в самоцель и
стала диктовать решения, которых от Григоровича не ждали.
Григорович по-прежнему одинок, и его возвышают масштабы
театральных интересов. Жанровые границы его балетного театра
простираются от героического эпоса до психологической драмы.
С одной стороны, батальный балет, все виды баталий, от детской игры
в солдатики до гладиаторских беспощадных боев; все формы танце-
вальных сражений, от древней классической пиррихи до романтическо-
го поединка. С другой стороны, балет-монолог или чреда монологов,
спектакль одиноких, погруженных в свою страсть, в свою миссию или
в свою манию персонажей. С одной стороны, эстетика рыцарского
ритуала, геральдическая декоративность, символика шествий, штандарт
тов, мечей и щитов — Григорович возвращает на сцену десятилетиями
пылившийся на театральных чердаках, но вечнобалетный реквизит, он
возрождает забытые, одно время считавшиеся оперными, но вечно-
балетные формы массовых действий. С другой стороны, нечто совсем
не традиционно балетное: картины душевных кризисов и даже душев-
ных недугов. С одной стороны, традиция русского театрального класси-
цизма, выражающаяся в ампирной стилистике и мотивах героического
долга прежде всего. С другой — смятенная, разорванная, эмоцио-
нально окрашенная манера, скорее мочаловская, нежели каратыгин-
ская линия театра, больше московский и меньше петербургский балет-
ный завет. Все это различные, даже враждующие сферы художествен-
ных устремлений, но Григорович хочет соединить их, свести воедино на
узкой площадке балетного спектакля. Проблема, которую он стремится
разрешить, совсем не легка. Она требует воли и усилий, подчас ожесто-
ченных. Она обрекает художника на негармоничность. И, в сущности,
Григорович поставил лишь два гармоничных спектакля: «Легенду о
любви», когда молод был сам, и «Щелкунчика», когда вспоминал
детство. Другие спектакли несут следы тяжкой борьбы. Вдохновенные
эпизоды соседствуют с выстраданными, а иногда и вымученными эпи-
зодами. Он готовит свои спектакли долго, вероятно, мучительно и
всегда при закрытых дверях. Об открытых репетициях Григоровича
никто никогда не слышал. Возможно, это объясняется тем, что Григо-
рович сплошь и рядом ставит перед собой невыполнимые задачи.,
У него профессиональная рука, но в свои пятьдесят с лишним лет он
иногда напоминает вундеркинда. И он, к слову сказать, хорошо пони-
мает детей. Он работал с детьми, когда только еще начинал как балет-
мейстер. В ленинградском клубе имени Горбунова он поставил свой
первый балетный спектакль — «Аистенок». В его «Лебедином озере» с
неожиданной остротой зазвучала если не детская, то юношеская тема,
тема подростка. А его «Щелкунчик», поставленный уже в Большом
театре в Москве, — безусловно наилучший детский балет. Здесь детство
воскрешено и воспето.
Григорович начинает с того, что придумывает остроумный,
театральный и очень балетный пролог. Это и выход-антре, это и интер-
медия на просцениуме в манере старинного театра. Она поставлена в
том блистательном стиле, который любил Мейерхольд. К тому же
интермедия трогательна и нежна, как трогательны и нежны интермедии
у Чайковского. Вдоль занавеса движутся мальчики в зимних пальто и
девочки в зимних пелеринках. Но мальчики несутся нетерпеливыми
прыжками-жете, а девочки семенят на чуть жеманных пуантах. Жете и
пальто, пуанты и пелеринки— все это Григорович придумал прелест-
но. В такой же прелестной манере он сочинил весь балет. «Щелкун-
чик», по-видимому, дался ему чрезвычайно легко. Мук творчества здесь
совершенно не видно. Здесь все озарено светом легких и счастливых
фантазий. Сделав некоторое усилие над собой и заранее приведя все
необходимые оговорки, можно было бы попытаться вывести многое в
творчестве Григоровича из его детских фантазий и игр. Но такое допу-
щение завело бы нас далеко. Оно, наверное, показалось бы оскорби-
тельным и обидным (хотя ничего обидного в нем нет). А кроме того,
оно не позволило бы заметить второй по важности мотив Григоровича,
побочную тему его симфонического балетного театра (если детскую
тему мы посчитаем ведущей), а именно: мотив стариков, мотив старо-
сти, волновавший Пушкина и Чайковского мотив Мазепы. Почти все
злые гении Григоровича — старики. И всех их снедают неутоленные
страсти. Они властолюбцы и сладострастники. Они домогаются власти
над миром и власти над юной неопытной красотой. Когда фея Карабос
в «Спящей красавице» (редакция Григоровича) сбрасывает старушечий
костюм, мы видим безумца, которому кажется, что он достиг своей
цели. Это не злая фея, но сочиненный балетмейстером злой «фей». И
это еще один жених Авроры. А в «Лебедином озере» Григоровича Злой
гений— бунинский «ворон», старый муж очень юной Одиллии. Хотя,
может быть, Одиллия — его содержанка. Но остановимся, наши допу-
щения опять-таки завели нас достаточно далеко. Вернемся к тому, что
мы говорили раньше. Григорович — певец максимализма. Он ставит
перед собой невыполнимые задачи. Таков же его постоянный герой:
Данила в «Каменном цветке», Ферхад в «Легенде о любви», царица
Мехменэ-Бану в той же «Легенде», Спартак в «Спартаке», царь Иван в
«Иване Грозном».
За исключением первого из них, уральского юноши, крестьянского
сына, герои Григоровича имеют одну художественную судьбу. Балет-
мейстер вручает им меч или палицу Геракла. Никто из них— ни
Ферхад, ни Спартак, ни принц «Лебединого озера» или «Спящей краса-
вицы», ни тем более Щелкунчик, игрушечный принц,— не Гераклы,
все они люди как люди. Но они должны совершить подвиг, потому что
выбора им не дано. Либо они сумеют превозмочь себя, либо останутся в
грязи, в унижении, в позорной неволе. Жизненная ситуация персонажей
усложняется — и тоже предельно. Именно в этой ситуации героический
классицизм и обостренный психологизм находят друг друга, обычный
человек берет в руки меч или палицу Геракла. Ведущий мотив Григоро-
вича— преодоление: преодоление слабым человеком своей слабости,
своего внутреннего гнета, преодоление сильным человеком своей недо-
статочной силы. В классически ясной форме этот мотив продемонстри-
рован в «Спартаке», наиболее искренне, наиболее человечно он был
воплощен в «Лебедином озере» (на первых спектаклях), наиболее
спорно и наименее человечно — в «Иване Грозном», а наиболее декла-
ративно — в «Ангаре». Но «Лебединое озеро» имело плохую судьбу, а
«Ангара» — замечательную. Такие истории иногда происходят.
(Такие истории не проходят безболезненно ни для кого, а Григоро-
вич — очень ранимый художник. Мы думаем, что история с «Лебе-
диным озером» ужесточила его палитру. Несколько сезонов он молчал,
затем сделал талантливую, в мрачных тонах, редакцию «Спящей краса-
вицы» и, наконец, поставил «Ивана Грозного», свой самый жестокий
балет. А вслед за ужесточением, по естественной логике человеческой
натуры, хорошо знакомой писателям, психологам и искусствоведам,
последовало движение к сентиментальности, к мелодраме. Таково пси-
хологическое происхождение «Ангары». Оно не исчерпывает пробле-
матики этого поучительного спектакля.)
Мотив преодоления, тяжкой борьбы с самим собой не выразишь в
форме блестящих вариаций, которые культивировал старый балет. Бли-
стательных вариаций в балетах Григоровича не много— их заменили
драматичные монологи. И жанр, в котором работает Григорович, —-
жанр психологической хореодрамы, исключает легкую виртуозность
или, во всяком случае, включает виртуозность в общую картину нелег-
ких, тягостных испытаний.
А любит ли сам Григорович старую классику? Трудно сказать, следя
за всей его творческой жизнью. Очевидно одно: с классическим балетом
он нередко вступает в конфликты. Он исходит из совершенно иной
предпосылки. Мир старого балета должен казаться Григоровичу черес-
чур гармоничным. Видно, как он стремится нарушить его нерушимый
покой, внести в него неутолимые страсти. Последний акт «Лебединого
озера» Григоровича (особенно в первоначальной редакции) — безу-
словный шедевр. Он ставит бурю, которая есть в партитуре Чайков-
ского, но полностью никогда не шла на сцене. Он гонит танцовщиц за
кулисы и возвращает их вновь. Он швыряется кордебалетом. Он
стирает кордебалет со сцены, как стирают с грифельной доски мел.
Никакой гармонии здесь нет, балетмейстер погружает балет в хаос.
Это — необычный по смелости классический акт, но он мотивирован
музыкально. Смелость его опирается на пророческую смелость парти-
туры. Григорович неукоснительно следует духу музыки и потому нару-
шает балетный канон. Мы слышим Чайковского — не только автора
«Озера лебедей»*, но и «Франчески да Римини» (написанной в одно
время с «Озером», в 1876 году), — Чайковского знатока и музыкально-
симфонического интерпретатора трагедий Шекспира. Буря Григоро-
вича — шекспировское мгновение спектакля.
Лирическая его тема— тоска по утраченной гармонии, мечта о
гармонии недостижимой. Идущие после бури мизансцены последнего
акта балетмейстер выстраивает так, что мы видим словно бы знак этой
темы. Она сопровождает Григоровича всю жизнь. Он инсценирует ее в
каждом спектакле. Он придает ей знаковую экспрессию, знаковую отче-
тливость, накладывает на нее роковую печать — начиная с трио из
«Легенды». Но у лирика Григоровича— эпический масштаб. Сцена
бури появляется у него не случайно. Балетмейстер включает своих лири-
ческих персонажей в эпическую фабулу, хотя они не всегда об этом
подозревают. Они думают, что они затворники, а на самом деле — они
пленники, заложники, а еще чуть-чуть— и марионетки. За спиной
принца «Лебединого озера» все время появляется Злой гений, как
какой-то гофмановский персонаж (Григорович с полным основанием
решил гофманизировать весь балет, но дела до конца не довел, что-то
ему помешало). Мы видим злой глаз Злого гения, его недобрые жесты,
принц же не видит ничего, продолжает жить в лучезарных и рыцарских
мечтах, принц слеп — это слепой рыцарь. Дисгармонию личных судеб
Григорович мотивирует общей дисгармонией, царящей вокруг,
крушение их любви — след крушения всего их мира. Второй план
«Легенды», «Лебединого озера», «Спартака» — крушение сказочных
царств и реальной империи — деспотического Древнего Рима.
«Легенда о любви», «Спартак», «Иван Грозный»— три главных
произведения балетмейстера, в которых с несвойственной балетному
театру жесткой определенностью прорисован государственный силуэт.
Все это бесконечно далеко от сказочных феерий XIX века. Все это
далеко и от большинства балетных спектаклей 30 — 40-х годов,
которые не ставили или же ставили не очень всерьез проблему антина-
родного, бесчеловечного государства. Баски в «Пламени Парижа»
захватывающе достоверны, а Версаль может лишь вызвать улыбку:
так наивно изображен королевский дворец. Значение творчества Григо-
ровича определилось тогда, когда он решительно ввел в балет новую,
нелегкую и художественно небезопасную тему. При этом он совсем не
использовал старинные и простейшие тираноборческие схемы (хотя
после «Ивана Грозного» мы об этом пожалели).
" Так Чайковский называл свой балет во время работы над ним.
Большую триаду Григоровича открывала «Легенда о любви»,
трехактный спектакль, разыгрывавшийся на большой, непривычно
пустынной сцене, напоминавший лучшие спектакли Таирова и Жана
Вилара и не похожий решительно ни на что. Он не был роскошным,
этот восточный балет, ни слишком чувственным, и вовсе не располагал
к неге. Он был таинствен и тосклив, спектакль одиноких монологов,
одиноких протянутых рук, обреченных на одиночество судеб. Тон зада-
вала картина шествия, начинавшаяся после пролога. Григорович дал
образец полифонической разработки массовой сцены, эффектный
образец полифонической режиссуры. Он поставил шествие, которого не
знал классический балет (а классический балет эпохи Мариуса Петипа
нельзя представить себе без сцен шествий — праздничных, патетиче-
ских, парадных). Шествие выходило из всех кулис, открывало невиди-
мые ворота, заполняло невидимые площади и дворцы. Оно шло в
разных направлениях, под острыми углами, двигалось вперед, назад,
снова вперед, оно напоминало работу грубого поршня и вместе с тем
искусного часового механизма. Сложные эволюции механической
игрушки придавали шесгвию устрашающе бессмысленный вид. Это
было шествие без повода и без внешней цели, свою цель оно заключало
в себе самом. Шло шествие, ставшее культом, религией, верованием и
труднодоступной профессиональной игрой. Шло шествие, которое
никуда не вело. Оно даже не шло, секрет его заключался в том, что оно
было неподвижным. Григорович поставил шествие-мираж. Но это
было шествие, заполонившее мир, захватившее реальность и готовое
растоптать все на пути, что оно и делало по ходу балета. Тяжелыми
шагами мираж вытаптывал все живое. В этом шествии не было и не
могло быть никаких человеческих эмоций. Лишь главный жрец, он же
главный режиссер шествия, он же визирь восточного царства, завершал
его, впадая в экстаз. Это был маньяк, бредивший о власти над миром,
первый из маньяков такого типа, показанный Григоровичем. В этой
сцене, как и во всех остальных, чисто рациональными путями и
прибегая к экспрессивной образности лишь на какой-то миг, Григоро-
вич добивался эффектов фантасмагорических и впечатлений безотрад-
ных. Под аккомпанемент заунывной музыки, декорированное в
пепельно-черные тона шло это шествие-повествование, шествие-леген-
да, или шествие-рассказ о вымирающем городе, ставшем пустыней, и о
замурованных сердцах, бьющихся в пустоте. Метафорическим образом
спектакля стал образ миражности: мираж жизни, мираж надежды, даже
мираж телесных объятий (в знаменитой сцене видений царицы). Другим
внутренним образом, получившим не только метафорический, но и бук-
вальный смысл, стал образ жажды. Жаждали все: простолюдины, пра-
вители, художники, жаждали юные и стареющие тела. Эмоции в этой
накаленной атмосфере вспыхивали ослепительно, но сгорали мгновен-
но, как сухая солома.
В «Легенде» Григорович нашел себя. С тех пор он художник госу-
дарственной темы. Его волнует не упадок культуры, эстетический или
этический декаданс (тема Фокина, а в наши дни — Лукино Висконти):
для балетов Григоровича декаданс — слишком нежное слово. Отрица-
тельный персонаж Григоровича — не декадент, но дикарь или же дича-
ющий на глазах деспот. Григорович демонстрирует упадок империи,
одичание великого царства. Его Рим в «Спартаке» — это не Рим якоб-
соновской постановки, отталкивавший и притягивавший падением нра-
вов, но полный изысканной чувственности и нерастраченных жизнен-
ных сил. Рим Григоровича— мертвый город. Площадь его пуста.
Здесь пьянствуют, а не веселятся. Балетмейстер два раза показывает
мрачный, безрадостный, пьяный загул, но ни разу — праздничной,
радостной вакханалии. Здесь насилуют, но не обольщают. Эротики в
эротических сценах нет никакой. Бога Эроса не встретишь на холмах
мертвого города, выстроенного в спектакле. Рим Григоровича —
город без гордых патрициев и без обольстительных гетер. Разве этот
Красс— патриций? Усмиритель-жандарм, жестокостью и доносами
выдвинувшийся из рядовых легионеров. Перед лицом смерти он ведет
себя как презренный трус. И разве эта Эгина— гетера? Солдатская
девка, поднявшаяся с самого дна. Гетеру нам показала несравненная
Алла Шелест (в якобсоновской версии «Спартака»). И где римский
плебс? Его исчезновение — самая большая загадка. Рим Григорови-
ча — Рим без римлян и римлянок, без своих горожан, мертвый и
грубый, почти что варварский город. Может подуматься, что действие
перенесено на несколько столетий вперед. Что вечный город заселили
пришельцы, выходцы из провинций, люди из римского захолустья.
После «Спартака» был поставлен «Иван Грозный». Странное впе-
чатление произвел этот балет. В нем есть безусловная сила, но она мало
просветлена. Это мрачный спектакль о мрачных событиях и сумрачных
людях. Картина помрачающегося рассудка молодого царя составляет
его психологическое содержание. Картина погружающегося во мрак
деспотизма страны — его исторический фон. И даже краски спектакля
мрачнеют, темнеют на глазах: черные балахоны опричников вытесняют
яркие кафтаны бояр и серебристо-голубой плащ князя Курбского. По-
видимому, рассказывается о том, как быстро прошли так называемые
«голубые» годы царя Ивана. На наших глазах, за короткий срок, он
становится вдовцом, стариком и тираном. Но странное дело: эмоцио-
нальный аккомпанемент спектакля находится в противоречии с его дей-
ствием, фабулой и окраской. Чем мрачнее сюжет, тем радостнее ликуют
звонари-скоморохи, ведущие спектакль. Мы видим надвигающуюся
беду, но звонари возвещают победу и праздник. Вокруг казни и мор,
за ними последует кабала для крестьян, крепостное право, но коло-
кольный звон славит и славит. Что за удивительный образ верноподдан-
нического восторга, столь непохожий на народное безмолвие в финаль-
нои сцене пушкинского «ьориса 1 одунова» или же на возмущение
гладиаторов и рабов из «Спартака» Юрия Григоровича?
Но что звонари по сравнению с опричниками! Мотив опричнины
сближает балет со знаменитым эйзенштейновским фильмом. Как и
Эйзенштейн, Григорович стремится показать не одно лишь зло, но и
благо опричнины. Но если Эйзенштейн объяснял опричный террор
политической необходимостью, государственным интересом, то Григо-
рович призывает в свидетели само небо. Опричники защищают пору-
ганную мораль, и сами они оправданы морально. Шествие опрични-
ков— еще одно шествие Григоровича— похоже на крестный ход.
Кресты, хоругви, земные поклоны— не опричники, а православные
крестоносцы. Рыцарская тема, давно волнующая Григоровича, неожи-
данно преломилась на русском материале. В. О. Ключевский писал:
«В этой берлоге царь устроил дикую пародию монастыря, подобрал
три сотни самых отъявленных опричников, которые составили братию,
сам принял звание игумена... покрыл этих штатных разбойников мона-
шескими скуфейками, черными рясами...»'1 — эта «дикая пародия» у
Григоровича представлена почти что всерьез. Ничего подобного не
было и не могло быть у Эйзенштейна. В кинофильме обыгрывается
контраст государственной функции опричников и их разбойной сути.
Опричники Эйзенштейна — впрямую разбойники, принятые на цар-
скую службу. Их лозунг: «жги, жги, жги!».
Кроме игры исторических сил Эйзенштейна, как и всегда, увлекал
психологический эксперимент: странный альянс интеллигента-царя и
разбойной дружины-прислуги. Эйзенштейн впервые нашел здесь
мотив, который на ином — более современном историческом материале
будет рассматривать социальная психология XX века. Григорович,
однако, далек от подобных методов и подобных проблем. Как кажется,
его увлекает староромантическая традиция иррациональных героев.
Тяжело ступающий и дико глядящий царь с первых шагов задан как
персонаж демонический, необъяснимый. Умом его не понять, да и не в
уме его сила. В отличие от реального Ивана, блистательного политика
и дипломата (во всяком случае, в ранний, «голубой» период правления),
балетный Иван скуден умом (что особенно хорошо получается у
первого из двух исполнителей — Ю. Владимирова; В. Васильев
выглядит намного интеллигентнее). Зато он велик душой— это чистая,
незамутненная душевность**.
*Ключевский В. О. Соч. Курс русской истории. Ч. 2. М., Госполитиздат,
1957, с. 177.
* * Сравним это с классической характеристикой Ивана IV, данной В. О. Ключев-
ским: «...В минуты нравственного успокоения... им овладевала грусть, к какой
способны только люди, испытавшие много нравственных утрат и житейских
разочарований... В самые злые минуты он умел подниматься до этой искус-
ственной задушевности, до крокодилова плача» (Ключевский В. О. Соч.,
Ч. 2, с. 191). Похоже, что Григоровича увлекла лишь первая часть предло-
женной Ключевским антитезы.
«Иван Грозный» знаменует собой поворот: Григорович оставляет
свой прежний интеллектуальный стиль и стремится к некоторому «ду-
шевному». Впервые с такой очевидностью Григорович демонстрирует
свой эстетический традиционализм, приверженность к старине и к ста-
ринной символике, к эмблемам, геральдике, к знакам могущества, вла-
сти и веры. Его интересует прошлое — допетровская, московская Русь,
еще не прорубившая окно в Европу. Русскому европеизму Григорович
не доверяет: европеец в балете князь Курбский, и он изменник, беглец,
лжегерой. В балете он умален в калибре. Он дважды унижен — ив
качестве возлюбленного и в качестве полководца. Иван отнимает у него
и Анастасию и Казань. Исторический Курбский был героем осады и
штурма Казани. В балете герой один — царь Иван, все остальные —
статисты. Значит ли все это, что заглавный персонаж по контрасту с
неверным европейцем Курбским— скиф, азиат? Вовсе нет, русскую
азиатчину Григорович тоже не воспевает. Русская азиатчина в его бале-
те — это бояре. Они заговорщики, интриганы, вероломные посягатели
на престол. Коллективный образ бояр в балете снижен еще более, чем
отделенный от них образ Курбского. Бояре изображены в приемах и
стиле раешника, скоморошьего представления, ярмарочной игры.
Бояре вносят в балет эстетику балагана. Разумеется, это понижает в
уровне весь возводимый Григоровичем историко-театральный мону-
мент, особенно если вспомнить план драмы из эпохи Ивана IV, набро-
санный Пушкиным в его знаменитом разборе «Марфы Посадницы».
Но сам Григорович, по-видимому, полагает, что верно следует Пуш-
кину и что историко-философская схема, положенная в основу балета,
впрямую иллюстрирует любимую пушкинскую мысль о роли России,
спасшей Европу от татарского ига. Иван IV у Григоровича — не
Восток и не Запад, не Азия и не Европа, Иван IV — это древняя Моск-
ва. «Иван Грозный» Григоровича — московский балет по своему па-
фосу, стилю и колориту. Москва Григоровича — святой город. И если
Европу символизирует плащ, яркий костюм, а азиатчину — длиннопо-
лые кафтаны, то Москва — это храм, истовость, задушевность. Как одет
Иван, даже не помнишь. Помнишь его диковатую радость, яростный
гнев, его крестное знамение и татарский кнут; помнишь, как он длинны-
ми руками обнимает Анастасию и как этими же длинными руками на
глазах зрителя душит боярина, неудачливого претендента на трон.
Иван олицетворяет собой подвиг верности и подвиг мести. На эти два
подвига способен только он. Жалкий Курбский может лишь интриго-
вать за спиной, еще более жалкие бояре могут подсыпать яд Анаста-
сии — женщине-полуребенку. А царь Иван умеет по-царски мстить. Но
и для него это трудное испытание, более трудное, чем Казань, для него
это Голгофа. Действительных или воображаемых отравителей Анаста-
сии он мучит, пытает, казнит (казни тоже вершатся на глазах у зрите-
лей), он травит бояр опричниками, как травят собаками зайцев и лисиц,
но радости не знает. По временам кажется, что он сходит с ума. В бале-
те убежденно доказывается, что страшная месть Ивана — именно под-
виг, подвиг любви, такой же прекрасный, как панихида по погибшей
Анастасии. Но именно в этой сцене «душевный реализм» Григоровича
одерживает впечатляющую победу, а его традиционализм дает высокий
художественный результат.
Мизансцену, стилизованную под голубой иконостас, ангелов со
свечками и спеленутую, неживую, небесную Анастасию — все это Гри-
горович придумал и показал действительно очень красиво. Во мраке
спектакля засветился рублевский мотив. Повеяло подлинной москов-
ской стариной— ее мистикой, тихой печалью, женской безропотно-
стью, окружающим со всех сторон — так что ни бежать, ни спастись —
душегубством. В этой сцене прочувствовано, как средневековая
Москва ощущала смерть: не старуха с косой, но голубка, жена, детский
лик, тихий ангел. Страшная близость, которую нам теперь не понять.
Это ощущение передано Пушкиным в той сцене из «Бориса Годунова»,
где царевна Ксения целует портрет умершего жениха, и в тех словах
Шуйского, в которых рассказывается о мертвом царевиче Димитрии.
Детский лик смерти в балете «Иван Грозный» — пушкинское прозре-
ние Григоровича. Эпизод с оживающим (не до конца) иконостасом —
прекрасен. Но как захватывает таящаяся в нем параллель (смерть —
голубка— Анастасия), так вызывает протест другая параллель, на
которой основана идеологическая конструкция спектакля: отожде-
ствление душевной болезни и великой души, мести и любви, террора и
подвига, высшей справедливости и опричной расправы.
Смущает и смешение трагедии и исторической мелодрамы.
Дискуссия об Иване IV длится второе столетие. Этическая оценка,
сформулированная в знаменитой тираде С. Соловьева: «Не произнесет
историк слова оправдания такому человеку!»* — сменялась внеэтиче-
ской, исходившей из рассмотрения, к тому же одностороннего, внешней
и внутренней политики царя Ивана, его государственных дел. Но даже
самым крайним апологетам никогда не приходило в голову изображать
Грозного носителем нравственности, народной души и морали.
А скрытый смысл сцены отпевания Анастасии— в том, что это
покаянная сцена. И скрытый мотив, движущий Иваном в балете, это
мотив вины. Иван принадлежит к типу несчастных героев Григоровича,
* «Человек плоти и крови, он не сознал нравственных, духовных средств для
установления правды и наряда, или, что еще хуже, сознавши, забыл о них;
вместо целения он усилил болезнь, приучил еще более к пыткам, кострам и
плахам; он сеял страшными семенами, и страшна была жатва: собственноруч-
ное убийство старшего сына, убиение младшего в Угличе, самозванство, ужасы
Смутного времени! Не произнесет историк слова оправдания такому челове-
ку..!» (Соловьев С. М. История России с древнейших времен, кн. 3. М.,
«Соц. эконом, литература», 1960, с. 713).
несчастных в прямом и философском смысле слова. Они дарят славу,
но счастье они не дают. А радость они отнимают. «Несчастное сознание»
окрасило балеты Григоровича в сумрачные тона, бросило тень на
классические спектакли, которые он возобновлял. «Несчастное созна-
ние» омрачает даже балет, посвященный сибирской молодежи.
Кроме дуэта героев, больших удач в спектакле не видно. Их и не
может быть: в «Ангаре» традиционализм Григоровича обращен не на
исторический, но на современный материал, «Ангара» Григоровича —
бесплодный спор с веком. Балетмейстер захотел поставить молодежный
балет, но без современных ритмов и современных танцевальных форм,
иначе говоря, он показал танцплощадку без танца. Танцплощадка стала
театральной площадкой для мелодрамы. Городскому ритмическому
стилю Григорович противопоставил задушевно-сентиментальный и
намеренно провинциальный стиль: обряды, провинциальные обычаи,
хороводы. В балете всего чересчур, но движения — мало. Возможно,
что Григорович не посещал танцплощадок в маленьких городах, но
знал же он, как невыносимы в театре длинноты.
И, наконец, последняя работа Григоровича «Ромео и Джульетта»
Прокофьева — несмотря на венецианскую пышность и блестящую изо-
бретательность в трактовке некоторых персонажей и некоторых, в том
числе существенных сцен, несмотря на выдержанный от начала и до
конца стиль «большого спектакля» — есть тем не менее повторение
«Ангары» по своему художественному пафосу и идейному кругозору.
Григорович опять-таки вступает в спор, на этот раз со всеми новей-
шими интерпретациями прокофьевского балета. Его увлекает вневре-
менный характер сюжета, он ставит спектакль во славу вневременной,
выключенной из реальных обстоятельств любви. Он избегает каких бы
то ни было прямых или непрямых аналогий. Он мыслит почти как
драматург-классицист. И та классицистская нелюбовь к конкретности
действия, к живому шекспировскому фону, которая в Григоровиче уга-
дывалась всегда, на этот раз обнаруживает себя открыто. Обнаружи-
вает себя в Шекспире — но может ли быть классицистский Шекспир?
Сравнение со спектаклем Л. Лавровского напрашивается само
собой, и очевидно, что нынешний спектакль уступает тому по многим
важным пунктам. Не та художественная сила, не тот общественный
резонанс. Балет Лавровского для своего времени был событием чрез-
вычайным. Гений Улановой сыграл, конечно, немаловажную роль, но
этот балет как раз и не принадлежал к числу постановок, рассчитанных
лишь на одну гениальную балерину. В балете Лавровского талантливы
были буквально все: солисты, корифеи, кордебалет, и все они действо-
вали, жили и умирали в мире Шекспира. Шекспировские искания совет-
ского театра 30-х годов были обобщены в этом спектакле, премьера
которого состоялась в январе 1940 года. И в нем были обобщены
искания в области хореографической режиссуры. Спектакль рассматри-
вался не просто как система действующих лиц (что являлось принципом
заурядного «драмбалета»), но как столкновение широких образно-
метафорических мотивов. Такими мотивами стали ренессансное празд-
нество и чума. Незабываем контраст карнавала на площади и факель-
ного шествия, направлявшегося в огромный склеп, незабываема общая
атмосфера надвигающегося мора. В контексте времени, когда в
Европе уже разразилась война, все это придавало спектаклю историче-
скую глубину и особую актуальность.
Слабое же место спектакля — танцевальный язык, и в этой сфере
превосходство Григоровича несомненно. Как постановщик танцев Гри-
горович на высоте — в балете много виртуозных прыжков и сложных
дуэтов. Но в этом балете нет почему-то второго плана — того, что отли-
чало Григоровича эпохи «Легенды» и «Спартака». Во всяком случае,
таково впечатление сразу же после премьеры.
Нам скажут, что мы несправедливы, пристрастны и слишком строги,
что Григорович при всех условиях и сейчас остается ведущей фигурой.
Да, это так, равного ему по-прежнему нет, и, кроме того, для балетмей-
стера он достаточно молод. И все это пишется в надежде на то, что
лучшие спектакли его впереди и что не продлится та необычная ситу-
ация, при которой виртуозы-танцовщики отстаивают широкую эстети-
ку, контакты с различными направлениями в современном балете,
художественную и танцевальную новизну, а хореограф-новатор —
возможно, на время — избирает роль традиционалиста. Обычно все
происходило наоборот — и при Горском и при Новерре. t
Екатерина Максимова и
Владимир Васильев
Почти всегда они танцуют вдвоем и очень удачно дополняют друг
друга. Для многих зрителей они и не существуют порознь, в разных
составах или в разных спектаклях. Бесчисленные фотографии на
обложках журналов, на вклейках буклетов и на страницах газет превра-
тили эту пару чуть ли не в эмблему гармоничного балетного и семей-
ного дуэта. Чаще всего это выглядит именно так. Дуэт их прекрасен —
и подлинен и гармоничен. Но время от времени они танцуют эмблему, а
не себя. Они танцуют навязанную им и дорогую для зрителей всего
мира легенду. И тогда мы видим, как партнер теряет контакт с партнер-
шей, продолжая этот контакт активно изображать. На сцене подобные
вещи скрыть невозможно. Но чаще мы видим, как обоих партнеров
притягивают ситуации, драматически и психологически более сложные,
нежели те, в которых так привычно с ними встречаться. Художе-
ственная зрелость давно стучится в позолоченные ворота их сказочно
затянувшегося детства. Сказочный домик рушится, но на обломках
строится театр всерьез. Мастера диалога обретают свой собственный,
крепнущий голос. Что же получается: знаменитый дуэт — мираж?
Вовсе нет, еще раз повторим: этот дуэт прекрасен. Как только начинает
звучать привычная музыка «Дон Кихота», тени уходят, от разобщенно-
сти не остается и следа, партнер по-прежнему великолепно заботлив,
партнерша по-прежнему очаровательно беззаботна, танец венчает этих
юных богов, умеющих наслаждаться жизнью. И как только звучит
музыка «Щелкунчика», оба танцовщика мчатся в одном летящем бли-
стательном ритме. А в последнее время в их совместном репертуаре
появился Морис Бежар — дуэт из «Ромео и Юлии», замечательно
сложный по поддержкам, пластике и внутренней драматургии. Его
можно смотреть без конца, и кажется, что и обоим артистам не дано им
пресытиться, им до конца насладиться. И все-таки самый идеальный
ансамбль иногда тяготит подлинного артиста. Мы будем рассматривать
наших партнеров поодиночке.
Максимову любят, но невнимательной любовью. Лишь старый
мастер-мудрец Касьян Голейзовский разглядел сразу все: капризную
пластику души, ренуаровскую головку и челку, восхитительный очерк
ног, дар легких, как гримаска, жестов. И все это Максимова показала
в «Мазурке» на музыку Скрябина, которую поставил Голейзовский. И
лишь многоопытный здравомыслящий режиссер Александр Белинский
понял, что она рождена для кино, для всех его планов, для крупного,
общего, дальнего, и что на контрасте крупного плана — драматичного
максимовского лица, и общего плана — веселой максимовской фигу-
ры, можно поставить эффектный телевизионный балет, что он и сделал,
срежиссировав «Галатею» (вслед за «Галатеей» было поставлено «Ста-
рое танго»). Тем самым Белинский угадал ее амплуа. Сколько было
дискуссий об этом амплуа танцовщицы Екатерины Максимовой! Лири-
ческая комедия — писали одни. Трагедия — писали другие. Как бедны
наши понятия о театральных амплуа, как бедны и старомодны. Бале-
рина нам улыбнется со сцены — значит, поставлена лирическая коме-
дия; балерина наморщит лоб — значит, дают трагедию или, по крайней
мере, драму. А у Максимовой в ролях сложный и тонкий букет: тут и
драма и оперетта. В «Дон Кихоте» она демонстрирует своеобразный
сверкающий каскад. Здесь она каскадная танцовщица классического
балета. В «Жизели» у нее экспрессивный и сбивчивый пластический
слог, й «Жизели» она мастер драматически-танцевальной пантомимы. С
юных лет ей удаются роли-травести, основанные на костюмных пере-
одеваниях и на комедийных притворствах. Девочка с улицы, играющая
герцогиню, или же девочка из пансиона, играющая опереточную звез-
ду, — это, конечно, ее персонаж. Но «Пигмалион» (или, иначе, «Гала-
тею») для нее поставили, а «Мадемуазель Нитуш» — нет. Впрочем,
мотивами оперетты Эрве, так же как и мотивами пьесы Шоу, Макси-
мова наполнила свою лучшую роль — роль Китри.
Казалось бы, в ролях Китри, а тем более Элизы Дулиттл Максимова
не должна себя чувствовать очень свободно: в ней совершенно нет
площадного темперамента и ей совсем незнаком современный танце-
вальный жаргон. На сцене она напоминает амуров из старинных пасто-
ральных балетов. Этот изысканный и не очень серьезный образ сопро-
вождает ее всю жизнь. Как и все способные ученицы младших классов
хореографического училища, Максимова танцевала Амура в сцене
«сна» в «Дон Кихоте». Но только она — насколько мы можем срав-
нить — действительно справилась с ролью. В памяти сохранилась
живая картина: миловидная девочка демонстрирует нечто такое, что
может быть названо незатейливыми проказами любви, легкими шало-
стями купидона. Искусницей театра Максимова была уже и тогда. Уже
и тогда она ощущала власть своей улыбки. Годы мало изменили ее,
лишь усовершенствовалось мастерство, лишь усложнились актерские
задачи. По-прежнему она выносила на сцену дух старинных затейли-
вых пасторалей, легкий юмор и склонность к комедийной игре. В своем
золотистом паричке она была необычной Авророй, напоминавшей Не-
лидову на картине Левицкого, самую пленительную из его «Смолянок».
Она возродила менуэтный стиль, устранив из него архаику и манер-
ность. Она трактовала менуэт отчасти так же, как Прокофьев в «Клас-
сической симфонии» трактует гавот. Это путешествие в прошлое было
лишено меланхолии, но тем не менее оно было поэтичным. Оно было
праздничным прежде всего: из всех эмоций, создающих музыкальную
панораму «Спящей красавицы», Максимову наиболее захватила
радость. А самым радостным у нее был «Дон Кихот».
В «Дон Кихоте» тоже есть небольшой менуэт: Китри танцует его в
первом акте вместе с рыцарем, старомодным идальго. Этот небольшой
эпизод — остроумная выдумка Мариуса Петипа, одна из множества
его остроумных и сценически точных театральных шуток. Но смысл
роли в другом: в побеге от менуэта. Так эту роль трактовала Макси-
мова, и то была счастливая мысль. Главным сюжетным мотивом стал
мотив эскапады. Китри Максимовой — девочка из хорошей семьи, сбе-
жавшая на уличный карнавал, юная инфанта, увлекшаяся уличным
музыкантом. И сколько комедийных подробностей разукрасило этот
сюжет, сколько красок пошло на эту картину. Игра женской ревности и
детских притворств, капризы своенравной души и всплески расцвета-
ющей чувственности, и все это в танце, всего лишь чуть-чуть более
смелом, чем то допускает строгий академический канон, и все-таки
смелом настолько, чтобы старый балет заиграл совершенно на новый
лад, чтобы в зрительный зал пошли со сцены токи.
Эскапада — ведущий максимовский мотив, и ее участие в телеви-
зионных фильмах можно рассматривать тоже как эскападу. Эти
фильмы построены на комических трюках, на эксцентрике и акробати-
ке, почти цирковой, на утрированных жестах и на обратной выворот-
ности (носками внутрь), это в самом деле «антибалет», и вот в этом
«антибалете» классическая балерина Максимова танцует с такой гра-
цией и свободой, так естественно и так артистично, как будто век свой
провела не в Большом театре, а где-то далеко от него, в какой-то весе-
лой, беззаботной и даже легкомысленной труппе. Как это легкомыслие
хорошо! Какой увлекательный контраст некоторым тяжелоступающим
спектаклям академического репертуара. Хотя, надо сразу сказать, лишь
Максимова не переходит в этих телебалетах границ строгого вкуса и
лишь она умеет шутить по-настоящему весело и никогда грубо. А
кроме того, именно Максимова вносит в них драматическую остроту,
лирическую тему. Играется ситуация, прямо противоположная той, на
которой основан максимовский «Дон Кихот»: на этот раз девушка
с улицы увлекается принцем. Обыгрывается и более сложный ход. Сам
комедийный жанр травести оказывается у Максимовой под знаком
драмы. В ее героине видят ребенка, смешную нелепую девочку («Гала-
тея»), странноватого мальчика Петера («Старое танго»), но женщины в
ней не замечают. Не замечают ни влюбленных улыбок, ни преданных
глаз, проходят мимо горьких обид и мимо рождающейся страсти.
Очаровательное нежное существо с личиком и душой Амура здесь
никому не нужно. Любовь отдается огромным и грубым дылдам.
Жанр эксцентрического травести наполнен у Максимовой неожи-
данным, острым смыслом. Недаром в «Старом танго» режиссура так
настойчиво сближает ее с Джульеттой Мазиной, а не с исполнительни-
цей (незабываемой, несравненной) «Петера» — Франческой Гааль.
«Галатея» обнаружила другую важную вещь, непосредственно в
сфере танца. Максимова прирожденная эксцентрическая танцовщица, а
не только классическая балерина. Диапазон ее танцевальных способно-
стей выходит за границы классического балета. Мы и не подозревали в
ней такой ловкой и такой обаятельной акробатки. Какие возможности
были открыты перед ней! В каких ролях она могла бы появиться! Но в
Большом театре эксцентрики не признают. Зато с каким блеском, с
каким остроумием танцует Максимова в эстрадном номере, в эксцен-
трической юмореске Шиллинга, где действие выносится на вообража-
емый теннисный корт, разыгрывается партия, воображаемые ракетки
отбивают воображаемый мяч, и в конце концов, после смешных и
трогательных приключений, неумелая девочка (Максимова) торжеству-
ет, а самодовольный чемпион (Васильев) посрамлен. Девочка-балерина
и танцовщик-чемпион — их остроумный дуэтный образ.
Значит ли это, что в судьбе Максимовой сложилось что-то не так и
что в этом виновата чья-то недобрая воля? Но, во-первых, может ли
быть более удачной балеринская судьба? А во-вторых, Максимова не
принадлежит к числу тех, кто любыми путями домогается самовыраже-
ния и творческой свободы. Для этого она слишком интеллигентна.
Наверное, она самая интеллигентная и уж, безусловно, самая деликат-
ная балерина наших дней. И как всякий деликатный человек, Макси-
мова не может позволить себе резкого движения, бунта, разрыва. Для
этого требуется иная энергия, воля и страсть. Недаром с таким искус-
ством она умеет изображать мечтания про себя и маленькие эскапады,
тайные вольности, неспособные оскорбить посторонний насторожен-
ный взгляд. И не случайно она так любит актерские маски. Но при этом
она всегда остается собой. Рискнем предположить: ни при каком
главном балетмейстере Максимова не изменила бы своему призванию
классической балерины. И конечно, никакой самый заманчивый шанс
не заставил бы ее изменить своему педагогу. Верность в балетных спек-
таклях изображают еще с версальских времен. Максимова — одна из
тех, кто не только умеет изобразить, но и являет собой верность.
Ее ситуация для нее самой, по-видимому, совершенно ясна. Она и
сыграла ее в «Галатее». Хиггинс — учитель, она — ученица, их отно-
шения были и всегда будут неравноправны. Она бунтует, устраивает
скандал, но разве это подлинный женский бунт? И разве такие скан-
далы учиняет женщина-тигрица? ГалаТея Максимовой — прелестная
продавщица цветов, обаятельная своенравная ученица, эффектная гер-
цогиня, но и в студии Хиггинса, на балу и даже на улице в ней нет и
следа простонародной грубости, хватки жизни. В одном из эпизодов,
после несостоявшегося скандала, после бунта, который был немедленно
усмирен и даже едва замечен, она лежит на полу и льет слезы обиды.
Эти тайные слезы — чудо как хороши. В музыке Лоу их нет, да и в
пьесе Шоу тоже как будто нет: этот ирландец женских слез не терпел и
женским слезам не верил. Слезам же Максимовой не поверить нельзя,
хотя никаких подлинных слез на экране не видно. Мы не видим даже
лица: показана свернувшаяся калачиком, в укромной обиженной позе
фигура. Нет ни судорожных жестов, ни всхлипываний, ни дрожащей
спины. Так плачут нежные женщины и балерины.
Васильев выдвинулся неожиданно и занял свое положение очень
быстро. Соперников в Большом театре у него не нашлось. Соперники
были в Ленинграде и за рубежом, но, конечно, такие же единицы.
Заочное состязание с ними Васильев ведет много лет и ведет с посто-
янным успехом. Конкуренция — дополнительный стимул для его спор-
тивной души, а для его ищущей неспокойной натуры это еще одна
возможность найти свой путь, в самом себе более или менее разоб-
раться.
Чтобы покончить со спортивной стороной дела, а также со спор-
тивным словарем, скажем сразу: в глазах многих экспертов Васильев
безусловный чемпион. Но некоторые эксперты так не считают. А есть и
такие, которые отказываются классифицировать танцовщиков, как
классифицируют теннисистов, боксеров, шахматистов: первая ракетка,
вторая перчатка или третья доска мира.
У этого состязания есть, однако, художественная сторона. Речь идет
о двух типах современного искусства балета. Существует интеллекту-
альный и эмоциональный балет и различные переходные формы.
Интеллектуальный балет — это такой же балет, как и всякий другой,
но он более сложен в своей проблематике, более изощрен стилисти-
чески и более сдержан в своих страстях. Иногда он до крайности сух, но
иногда может захватить напряжением мысли. Эмоциональный
балет — это обычный балет, в котором танец рождается из напряжения
сильных страстей, из вспышки открытых эмоций. Стихия Васильева,
конечно, эмоциональный балет, а секрет его международного успеха
заключается в том, что он чрезвычайно одарен эмоционально. Свой
эмоциональный дар он разбрасывает со щедростью фокусника-иллю-
зиониста. Но у фокусника — фокусы, летающие миражи, а у Васи-
льева на сцене действительные, хотя и невещественные полеты. Что
только он не делает в одном лишь первом акте балета «Дон Кихот», для
танцовщика совсем неблагодарном. И что только он делает с одной
лишь гитарой!
Прервемся, однако, и вот почему. Каждый из нас хорошо знаком с
этой популярной схемой (особенно популярной в фигурном катании,
спортивной гимнастике и почему-то в балете), согласно которой «они»
интеллектуальны, а «мы» эмоциональны, и, стало быть, «они» хуже,
беднее, чем «мы». Давно пора посчитать эту схему опасным заблужде-
нием и пошлым вздором. Хотя бы потому, что «они» — это фикция, в
мире много танцовщиков разных школ, а сейчас такое время, когда
разные школы научились замечать и профессионально знать друг дру-
га. Кто не замечает, тот отстает. Того неожиданно освистывают на
месте вчерашних триумфов. Сам Васильев это давно и прекрасно понял.
Всю жизнь он стремится расширить свой художественный кругозор. Он
начал полухарактерным, полукомедийным танцовщиком, мог высту-
пить в амплуа фольклорного простака. В концертной программе
К. Голейзовского он был чудным эллинским Нарциссом. А в балете
Голейзовского «Лейли и Меджнун» — восточным возлюбленным с
пламенной душой, восточным поэтом. Пластичность телесная и пластич-
ность души у раннего Васильева поражали. Голейзовский сравнивал
его с Нижинским, Федор Лопухов ставил его даже выше. Лопухов имел
в виду следующий этап в карьере танцовщица, когда он стал классиче-
ским премьером героического склада. В ролях Спартака и Базиля Васи-
льев завоевал мир, но мужественный, осунувшийся облик его гладиа-
тора не заслонил для нас юного и непосредственного Нарцисса. Затем
Васильева потянула к себе драма. Недавно с ним начал работать Бежар,
и в первой сцене «Петрушки» мы снова увидели того Васильева,
которого так любил Голейзовский. Наконец, он сам стал ставить бале-
ты — вначале подражая Григоровичу (первая редакция «Икара»),
затем оглядываясь на Баланчина (симфония Моцарта № 40 в «Этих
чарующих звуках...»), но одновременно не слушая никого, кроме себя
(вторая редакция «Икара»).
В этих балетах Васильев стал выходить далеко за границы лириче-
ских тем и чисто эмоциональных состояний. Уже в «Спартаке» он
уловил главное, суть замысла, нерв постановки. В балете о римском
гладиаторе он сыграл трагедию человека, который обречен служить
злу. Гладиатор — актер на кровавой арене, он участвует в жестоких
спектаклях, проливает кровь своих близких. Отчаяние его понятно без
слов. Для него непереносим не только плен, но и сопричастность
кровавым римским играм. Партия Спартака (первых, начальных сцен)
строилась на необычном пересечении героического танца и негероиче-
ской роли. Героический танец, мужество, простая человеческая честь
эксплуатировались бесчестьем и бесчеловечностью, были отданы неге-
роическому или же ложногероическому делу. Возникала ситуация,
которую старый балет не знал, с которой танцовщик Васильев
столкнулся впервые. Все дальнейшее развитие партии сводилось к тому,
чтобы вызволить героическую энергию мужского танца, чтобы вернуть
героическому танцу подлинную героическую роль. Это стало смыслом
художественных усилий Васильева не только в «Спартаке» Ю. Григо-
ровича, но и в его собственном «Икаре». Это определило круг его инте-
ресов, его тем, оказалось его проблемой. Осознав ее, Васильев
внутренне изменился, стал психологом, обнаружил в себе патетику
гуманиста. Пользуясь несколько тяжеловесной формулой, можно ска-
зать, что гуманизация и психологизация героического мужского танца
есть та задача, которую Васильев решает всю жизнь. Теперь объявлено,
что он собирается ставить «Макбета». И, по-видимому, эта шекспиров-
ская трагедия привлекла его возможностью столкнуть героя и зло,
показать драму героя, подчиненного сторонней злой вбле.
Насыщенный такой проблематикой, театр Васильева, как небо от
земли, отличается от простого театра простых эмоций. Искусство Ва-
сильева эмоционально, но одухотворенно, — вот почему это высо-
кое, классическое искусство. Стихия Васильева — не один «Дон Ки-
хот». Ему дана не одна только эмоциональная радость. Ему присуще
особое эмоциональное беспокойство. Он принадлежит к людям, кото-
рые все время куда-то стремятся, чего-то ищут, чего-то боятся упустить.
Такие люди могут бросить свое дело на полдороге. Если с Васильевым
этого, кажется, никогда не случалось и, по-видимому, никогда не
произойдет, то по той причине, что судьба, кроме других дарований,
наградила его чувством реальности — редким чувством для мечтателей
и танцовщиков-виртуозов. Васильев — реалист-виртуоз, самый заме-
чательный реалист среди самых замечательных виртуозов. Скажем
более важную и тонкую вещь: чувство реальности у Васильева выража-
ется в эстетической форме. Своим неясным порывам он умеет прида-
вать отточенный стиль, своей бродящей энергии — законченную кра-
соту, своим хаотическим беспокойным эмоциям — пластическую фор-
му. Отсюда возник его блистательный «Дон Кихот». Отсюда возникли
и роли в античной манере (Спартак, Икар первый, Икар второй).
Отсюда возник и знаменитый Васильевский прыжок: тур в воздухе на
аттитюд, тур, нашедший себя в аттитюде. У многих танцовщиков
воздушный прыжок — растрата энергии, растрата мечты: танцовщик
устремляется в воздух и ничего не достигает. Васильев стремится в
воздух и умножает прыжок. Васильев и в воздухе строит реальные, а не
воздушные замки.
Наталия Бессмертнова
Бессмертнова принадлежит к числу танцовщиц-сильфид. Это самый
редкий и, может быть, самый законченный тип танцовщицы. Обликом,
силуэтом фигуры и даже овалом лица балерины-сильфиды похожи
друг на друга. Профиль Бессмертновой напоминает профиль Павло-
вой, профиль Спесивцевой, они точно три сестры. Бессмертнова среди
них — младшая. Объяснить это сходство, конечно, нельзя. В судьбе
таких танцовщиц почти все необъяснимо. Появление сильфиды на
сцене почти так же неожиданно, как появление экзотической горной
бабочки на огороде или на северном выпасном лугу. Они так же отли-
чаются от обычных артисток, как павлиний глаз или императорский
аполлон от обыкновенной крапивницы, капустницы или шелкопряда.
Другая структура (физическая и ритмическая), другая окраска движе-
ний, другой полет. Все тоньше, острей, живописней, воздушней. Во
всем больше нежности и больше искусства. Среди честных чернорабо-
чих балета (а Баланчин, вслед за Мартой Греам, обряжает несиль-
фидных артисток в честный черный рабочий костюм — леотарду) они
точно принцессы, рожденные для видений, балов и игры. Правда, это
опасные игры, расплата бывает ужасной, но это другой, покамест
преждевременный разговор. Сейчас мы выясняем, откуда сильфиды
берутся. Каким ветром занесло их сюда? Ссылка на поколение, на
обстоятельства, на среду ничего не дает. Ничего не дает и рассмотрение
традиций, принципов школы. Сильфиды берутся из воздуха, на то они и
сильфиды.
Бессмертнова окончила Московское хореографическое училище по
классу С. Головкиной, а Головкина-балерина олицетворяла собой
популярный в 30-х годах земной, виртуозный и несколько даже атлети-
ческий тип, прямо противоположный типу сильфиды. У нее были
крепкие мускулы и очень сильный форс. Красота ее была загорелой,
румяной. Такой ее изобразил на известном портрете Александр Гераси-
мов: эффектная женщина, уверенная в себе балерина. Что же касается
Головкиной-педагога, то она хорошо учит учениц крепко стоять на
ногах — ив прямом и в переносном смысле. Ученицы Головкиной
прекрасно крутят двойные туры и не упускают свой шанс. Оба эти
умения в жизни балетной артистки в одинаковой мере полезны. Но
юная Наташа Бессмертнова не владела ни тем, ни другим. Двойные
туры ей плохо удавались, а удача слишком часто ускользала из ее
слишком худощавых рук. То она заболеет перед вводом или перед
премьерой, то споткнется и захромает в самый неподходящий момент.
Ее беды тревожили, а туры попросту раздражали. Почему она не может
вертеться, как вертелась Лиан Дейде? Мы были нетерпеливы и неспра-
ведливы к этой тоненькой, боязливой и безбоязненной дебютантке. Нам
хотелось, чтобы она скорее заняла пустующее место, которое оставила
после себя несравненная парижская этуаль. А Бессмертнова совершен-
ствовалась медленно и, кажется, совсем не стремилась стать вирту-
озкой. Но дебют ее нас поразил. Это было за год до окончания школы.
Ее поставили в «Шопениану», по-видимому, для того, чтобы укрепить
выпускной класс. Или для того, чтобы создать выгодный контраст
выпускному классу. Но выпускной класс стерло из памяти, а впечат-
ление от Бессмертновой живо и сегодня. Это одно из самых захваты-
вающих впечатлений за всю нашу жизнь. Тогда она была еще более
тоненькой, чем обычно. Точно на детском рисунке кто-то прочертил
черточку тела, черточки рук и черточки ног. Больше не было ничего.
Ничего, кроме прыжка, взгляда и глаз («душа видна» — о таких
глазах говорили раньше). Прыжок был огромен, как глаза, и в нем
что-то горело, сжигалось и вновь загоралось, как и во взгляде. Бале-
рина прыгала опрометью, точно испуганная косуля. Или точно тень
ее — так был невесом и воздушен танец. Но в испуганном прыжке
притаилась, чтобы сверкнуть на один волшебный миг, чистая горная
грациозность. Это была та грациозность, которую может дать только
Терпсихора и которую не может дать никакой экзерсис. И когда спле-
тался узор ее гибких танцевальных фигур, вспоминались эскизы Льва
Бакста. Бакстовская балерина с беспокойной душой, вносившая на
сцену драматичный сильфидный мотив — полет любви, обреченной на
невоплощенность. Такова Наталия Бессмертнова в самом главном
балете своем — в «Жизели».
Но «Жизель» еще впереди, а пока ненадолго вернемся к «Шопениа-
не». Это был незапланированный дебют. Как потом выяснилось, Бес-
смертновой вообще удаются первые выступления, дебюты. Пожалуй,
лишь только Жизель, ее лучшая роль, становилась, до определенной
поры, раз от разу все лучше. И в «Легенде о любви» она танцует с
одинаковым постоянством, на одном и том же высоком уровне вот уже
много лет. А в других балетах после дебюта намечался некоторый
спад. В «Лебедином озере» (в новой редакции Ю. Григоровича) спад
особо заметен, в «Щелкунчике» заметен не так, но повторить свое
первое выступление в этом балете Бессмертновой не удается. В тот
вечер она превзошла самое себя. А может быть, наоборот, выразила
себя с полной и опустошившей ее свободой. Не было ни испуга, ни
страха беды. На волнах лирического вдохновения взлетала и реяла
радостная, ликующая сильфида. Так радоваться удаче может только
тот, кто ею не избалован. Балерины, твердо стоящие на ногах и
умеющие держать в руках вожжи удачи, не знают таких состояний.
А ведь это тоже состояние удачи и власти, хотя здесь иная удача и иная
власть. Эта власть подлинна, но она минутна. Поэтому так называемые
тер-а-терные танцовщицы не домогаются ее. А так называемые элева-
ционные танцовщицы, сильфиды (в XIX веке их еще называли танцов-
щицами a grand ballon), в такую минуту умеют вложить жизнь.
Дебютные взлеты Бессмертновой — свойство нервной организации
натуры. Бессмертнова — балерина «нутра», как и почти все балерины-
сильфиды. «Нутро» может поднять ее очень высоко, выше, чем
способно поднять мастерство, но может и подвести, оставить с опущен-
ными крыльями. Это кажется странным, потому что актрисы «ну-
тра» — мы знаем это не только по старым театральным легендам —
истерзанные создания с разорванной психикой, склонные к самым
мрачным поступкам, а Бессмертнова на сцене тиха, замкнута и очень
изящна. И тем не менее она балерина «нутра», иначе она не была бы
сильфидой. Когда Бессмертнова в ударе, она танцует словно бы в
полусне. Заученные действия теряют свой автоматизм, танцовщица про-
брасывается фразами танца. Иногда она комкает что-то в них, иногда
не договаривает, иногда договаривает небрежно. Ее куда-то несет. Ее
не останавливают отдельные подробности, штрихи и детали. Она
вообще не из тех, кто дробит танец, партию, роль, для нее роль — один
неделимый порыв радости или муки. Она, повторяю, танцовщица
полусна. Она танцует на неуловимой границе. По одну сторону то, что
есть сон, по другую — явь, жизнь, поступки. Иначе сказать, на сцене
она между явью и сном. Она как бы совершенно отрешена от сцениче-
ской ситуации и вместе с тем совершенно от нее несвободна. Так она
танцует «Жизель», вернее, второй акт «Жизели». Здесь нет никакого
актерства, никакой пантомимы, здесь у Бессмертновой один чистый
танец, но весь он соткан из острых, а под занавес непереносимо острых
переживаний. О чем думает балерина, нам не узнать, но нас берет в плен
интонация ее танца. Умение интонировать безмолвный язык движений
и поз — ее главный секрет, ее чудный дар, ее природная артистическая
способность. И как же эта интонация близка и понятна. Плохо ли,
хорошо ли, но Бессмертнова не внесла в «Жизель» никаких тайн,
никаких инфернальных мотивов. Обликом, ритмом, интонацией па она
внесла сюда совершенно иной круг — или поток ассоциаций. Она
внесла в белый балет острую лирику непоправимой обиды. Она танце-
вала злосчастье. Представьте себе гениальную девочку-пианистку,
которая играет перед враждебным жюри и знает, что не может рассчи-
тывать на приз, даже на простую ободряющую улыбку. Представьте
себе одаренную, но ранимую абитуриентку, которую режет на экзамене
приемная комиссия, состоящая из негодяев. Так Жизель — Бессмерт-
нова танцует перед хором бесстрастных виллис. В этом танце есть все:
порывы надежды, дрожь обиды, вдохновенные взлеты души и смерть в
душе, ранняя, слишком ранняя гибель. В этом танце есть жизнь, улыб-
нувшаяся на миг, чтобы затем стать болью, стыдом и позором. И есть в
этом акте у Бессмертновой еще один волнующий мотив: все то, что ее
Жизель связывает с Альбертом. В сущности, это все тот же мотив
злополучия и смертельной обиды. Ситуацию бесчестной комиссии,
несправедливого жюри Бессмертнова — Жизель распространяет и на
Альберта. С ним расправляются, его унижают у нее на глазах. Полю-
бить неудачника — такая у нее доля. Мучительная и преданная любовь
к неудачнику — нерв спектакля Бессмертновой, неожиданная, совер-
шенно новая тема. Это вдвойне мучительная любовь, оттого что она не
слепая. Жизель Бессмертновой и наивна и проницательна в любви, она
знает, что ее ожидает. В унижении, в неудаче Альберт простирает к ней
руки, а как только наступит удача — отвернется, потянется к
блестящим красавицам, светским дамам. Бессмертнова танцует любовь,
которая обречена, и все-таки танцует любовь: таков примерно у нее
сюжет второго акта «Жизели».
Прибавьте к этому неуловимое, мучительно-легкое, протяжное и
мимолетное одновременно, какое-то тянущееся движение ввысь, кото-
рое составляет и хореографическую и душевную суть партерных эпизо-
дов второго акта и которое, на нашей памяти, получалось лишь у
Бессмертновой: грустный шопеновский мотив, услышанный ею не
только в «Шопениане», но и в «Жизели»;
прибавьте к этому тревогу, наполняющую ее полет и так странно
контрастирующую с отрешенностью танцевальной манеры;
прибавьте к этому нарастающее волнение, крещендо танца, роман-
тическое крещендо любви и неподвижные позы, которым нет названия,
позы горя — без всякой игры, без попыток найти участие и что-либо
кому-либо объяснить;
прибавьте к этому утонченный силуэт, покатые плечи сильфиды,
тальониевский прямой черный пробор, упавшие кисти выпростанных
рук — и можно будет получить некоторое представление о спектакле
Бессмертновой — о спектакле, но не о фильме «Жизель», потому что в
этом фильме танцует очень похожая, но все же другая танцовщица,
потому что Бессмертнова не очень заметно, но изменилась. А кроме
того, как и всякая актриса «нутра», Бессмертнова некинематографич-
на. Система «дублей», дробление роли на эпизоды мешает ей с легко-
стью и самозабвенно танцевать, ее вдохновение гаснет, страдает ее
абсолютная музыкальность.
«Жизель» осталась с Бессмертновой на всю ее жизнь. И казалось,
что путь ее — в освоении старинного романтического репертуара.
Однако судьба балерины сложилась иначе, она стала исполнительницей
всех главных женских партий в балетах Ю. Григоровича последних
лет. Свой чудный шопеновский дар она отдала именно этим балетам.
Здесь определился ее индивидуальный стиль, и она окончательно сфор-
мировалась как танцовщица-актриса. Она сыграла Одиллию (в новой
редакции «Лебединого озера»), Ширин, Анастасию, Джульетту. Она
получила новый художественный материал — и близкий для нее и
труднодоступный. Самым значительным, самым замечательным дости-
жением стала роль Анастасии из «Ивана Грозного», прежде всего
эпизод отпевания мертвой царицы. В этой сцене балерина перевопло-
щается в тень. Она танцует на таинственной грани. Возникает полная
иллюзия вечного покоя, вечного сна. В старину, в романтическом
балете подобный эффект называли сомнамбулизмом. Однако каким-то
непонятным путем в сомнамбулическое скольжение вносится едва улови-
мый трепет ужаса, след душегубства. Бессмертнова танцует отравлен-
ный сон отравленной Анастасии. Она танцует прерванную жизнь и
невысказанную весть, в ее танце необычное соединение автоматизма и
бесконечной печали. Это — шедевр, мастерская работа, характерная
для Бессмертновой последних лет. Актриса «нутра» становится утон-
ченным мастером и изощренной стилисткой.
Да, она изменилась, сохранив и расширив свой репертуар. В искус-
стве ее теперь больше отрешенности и меньше открытой тревоги. Ей
стал близок классический образ «тени». Тень Анастасии — лишь самое
драматичное, но не единственное создание в этом ряду. Сильфидный
танец она танцует тоже в стиле «тени». Особенно это заметно в другом
(помимо «Жизели») кинобалете — «Шопениана», где она исполняет
мазурку и вальс. Со времени ее первой, дебютной «Шопенианы»
прошло немало времени, она стала на весь мир знаменита. Мы вспоми-
наем тоненькую, как волосок, вдохновенную девочку с горящими
угольками глаз и видим красивую молодую женщину, танцующую уве-
ренно, отрешенно, изумительно стильно. Она танцует в той новой для
себя иконной манере, которая так хорошо смотрится в «Иване Гроз-
ном» и не так хорошо в «Ангаре». Она показывает сильфиду. И в ней
появился подлинный академизм — с ленинградским холодком и без
московского горячечного безрассудства.
Что тут сказать? Так развивается и так оберегает себя талант.
Нельзя ведь всю жизнь оставаться вдохновенной дебютанткой. По-
видимому, Бессмертнова не захотела повторять историю некоторых
танцовщиц-эфемерид и не стала платить за сильфидный огонь непомер-
ную цену. Прекрасно, что так здоров ее дух, что в ней, хрупкой
артистке, так могуч инстинкт жизни. Теперь она крепко стоит на ногах
и прекрасно крутит двойные туры. Теперь в ее танцах присутствует
блеск. С. Головкина может не тревожиться за судьбу своей лучшей
ученицы.
Майя Плисецкая
Майя Плисецкая верна себе: в свой юбилейный вечер — а это был
необъявленный юбилей — она показала сразу две сложные премьеры.
На юбилейном концерте она танцует не прошлый, а будущий репер-
туар. На сцене Большого театра второй раз шла «Айседора» и в
первый раз «Болеро»; оба балета поставлены Морисом Бежаром.
И даже старое «Лебединое озеро» (был показан второй акт) исполнялось
в необычной ритмической интерпретации, медлительнее, чем когда-либо
раньше, отрешеннее, нежели пять, десять и двадцать лет назад.
Юбилейный вечер не стал вечером воспоминаний. Он стал вечером
новых надежд. Он побуждал строить предположения, которые до того
казались слишком отважными или слишком рискованными. Он вызвал
энтузиазм, который некогда вызывал молодой «Дон Кихот». Многие
зрители кричали не респектабельное: «Браво, Плисецкая!», а почти
фамильярное: «Браво, Майя!». Лед был сломлен, этикет был забыт. Ради
таких вечеров и стоит ходить в театр.
И все-таки это был вечер-итог. Не потому, что Плисецкой что-то не
удалось, а потому, что очистились контуры ее искусства. Ушло то, что
было в избытке: избыточная энергия, избыточная выразительность,
избыточный темперамент. Осталась чистая, незамутненная линия
жестов и поз. Осталась патетика жеста и позы, патетика театра, основа
основ ее театральной души. В «Болеро» нам снова открылась полуле-
гендарная красота работающих рук Майи Плисецкой, выразительное
великолепие ее пор-де-бра, иначе говоря — способность рисовать
музыку жестом, способность танцевать одними руками. В «Айседоре»
нам открылся ее танцевальный дух. В идеально простых и музыкальных
формах дунканистского танца предстал перед зрителями бурный жен-
ский образ Плисецкой — образ женщины, страстно и весело отстаива-
ющей свою свободу, образ актрисы, которая борется за свою мечту.
Майя Плисецкая —- Айседора Дункан? Но балет не называется так.
Балет называется иначе: Айседора.
В творчестве Плисецкой были, возможно, и более важные вехи, чем
этот юбилейный концерт. Назовем три из них: первое исполнение «Дон
Кихота», первое исполнение «Кармен», а еще до того — первое испол-
нение «Умирающего лебедя». Но к этому вечеру ее вела вся жизнь. Она
предчувствовала его в далекие дни ранних дебютов. Мы отчетливо
видим ее на расстоянии тридцати пяти лет: неулыбающаяся девочка с
острыми ключицами, тоненькими сиротскими руками и невероятным,
неистребимым прыжком. У нее были волосы цвета хны, и она казалась
индеанкой-подростком из рассказов Хемингуэя, преданной и отчаянной
подругой пятнадцатилетнего Ника. Уже много позднее поэт Вознесен-
ский, называя имя ее, вспоминал древних инков. Можно было вспом-
нить и древних шумер. Казалось, что кровь полумифической, полуле-
гендарной расы пульсировала в ее по-египетски профильных позах, в
ее по-бежаровски диких прыжках. Да, уже тогда она танцевала Мориса
Бежара. Маэстро еще только брал уроки классического танца в частной
парижской студии мадам Рузанн. Затем несколько лет он будет
исправно исполнять свои обязанности классического танцовщика, кава-
лера, партнера. Более ста раз — Зигфрид в «Лебедином озере». Около
ста раз что-то подобное, кажется, принц Дезире. Новый танец он видит
то тут, то там, то в эфемерной труппе Жанен Шара, то в знаменитой
труппе Марты Греам. Но сам пока еще прилежно делает классический
экзерсис. А в это время в Москве, в Большом театре, в цитадели ака-
демизма, за тысячу верст от танца «модерн», нечто похожее на этот
танец демонстрирует танцовщица — почти подросток, не видевшая
в своей жизни, кроме классики, ничего не слышавшая ни о Греам,
ни о Шара, привыкшая чтить Ваганову (которая, кстати сказать, сразу
же оценила ее) и к тому же танцующая поначалу лишь вариации в
«Золушке» и «Дон Кихоте». 1
Конечно, здесь некоторое преувеличение, дань мемуарной сентимен-
тальности. Танца «модерн» Плисецкая не танцевала. Кто бы ей разре-
шил? И кто бы ею восхитился? В моде была невыразительность,
приятная незаметность. О понятии стиля почти не позволяли себе
думать. Бесстильность сходила с рук и даже казалась качеством нового,
самого лучшего стиля. Мятеж Плисецкой начался с того, что она сразу
же выказала себя стилисткой. В двойке из «Дон Кихота» она танцевала
«Дон Кихота», в вариации из «Раймонды» она танцевала «Раймонду».
Попутно она вырабатывала собственный стиль, ярко индивидуальный,
не общий. С первых шагов она демонстрировала неприятие зыбких,
импрессионистских форм. В недоговоренности она словно прозревала
тайный сговор со злом и небытием, в недосказанности — подчинение
наказам извне. Ее влекла внятно произнесенная танцевальная фраза. Ее
отвращали пластические недомолвки. Провести линию танца от нетер-
пеливого зарождения к высшей точке, к восторгу кульминации, к
вершине, а затем к строгому и необходимому финалу-концу — вот она,
смелая красота, которую вызывала на сцену балерина. Так она танце-
вала большие адажио и концертные номера. Так она строила партии
больших и малых балетов. Выразительность стала для нее лозунгом,
программой, судьбой. Она стремилась не к тому, чтобы размыть, но к
тому, чтобы, наоборот, подчеркнуть, предельно усилить, даже утриро-
вать контур танца. Она заостряла внешнюю пластику и внутренний
ритм. Она удлиняла шаг, но укорачивала разбег и походку. Она разру-
шала симметрию академических позиций (потом это же будет делать
Бежар, но более радикально). В академическом словаре она искала
такие движения и позы, которые несли в себе экспрессию, скрытое
напряжение, драму, конфликт. У нее замечательно получалась поза чет-
вертого арабеска. Это, по-видимому, самый сложный арабеск из всех
четырех, самый драматичный и самый экспрессивный. Он требует не
только «хорошо схваченной» — как выражаются педагоги — спины.
Он требует спины одаренной. Спина здесь играет такую же роль, как
лицо на крупных планах немых кинофильмов. В ее арабеске контур
спины напоминал контур дракона, жар-птицы, конька-горбунка, но
также восточного, персидского или арабского узора. Ее классический
арабеск действительно происходил по прямой линии от «арабески». Но
в нем кипели страсти, шумела война. Асимметричную фигуру напол-
няли центробежные силы. Вытянутая вперед рука и выброшенная
ввысь и назад нога враждовали. Поза была чревата взрывом, побегом,
мятежом — и будущим балерины.
Плисецкая опередила развитие танца на поколение, лет на двадцать.
В середине 40-х годов она показывала нынешний классический танец.
И все ее творчество, особенно творчество ранней поры, было подчинено
одной властной мечте — приблизить уже приснившееся время, обра-
тить этот сон в явь, а наступающий день — в наступивший. Она быда
нетерпеливой танцовщицей, она не желала ждать долго. В сущности, ее
знаменитый прыжок был прыжком через время. Взлетая в своем
шпагатном жете, она устремлялась туда, в туманную даль еще непри-
шедшей эпохи. Она жила будущим, в психологическом плане она была
футуристкой. При этом она любила живое общение, массовый празд-
ник и карнавал. Она вносила в балет невиданные приемы эпического,
площадного театра: яркость фактуры, метафоризм языка, гиперболи-
зацию жеста, широкоформатный масштаб танца. Она умела наполнить
свой танец стихией коллективных эмоций, но также умела от них
уберечься, им властно противостоять. Экстаз она умела сделать бес-
страстным.
Плисецкая появилась в образе прима-балерины, которая не избегает
толпы. Место действия ее лучших балетов — улица, площадь, арена,
таверна или гарем, который (в «Бахчисарайском фонтане») есть сразу и
площадь, и арена, и таверна. Ее любимые героини — уличные танцов-
щицы. Ее Китри — идол толпы. А ее Кармен — толпа ненавидит.
В балете важны отношения Кармен не только с главными персонажа-
ми, но и со статистами, зрителями корриды. Ожесточение, которым она
окружена, ее самое не пугает и не ожесточает. Кармен Плисецкой
играет с толпой, как тореадор с быком: она дерется с бесстрашием,
негодует с достоинством, насмешничает с блеском. Не этой толпе
лишить эту Кармен веры в себя, страстного интереса к жизни, азартной
любви к авантюрам. У уличной танцовщицы — веселье гитаны и высо-
комерие инфанты. Веселая уличная танцовщица расхаживает или сидит
с высокомерием классической примадонны. Теперь, после «Кармен»
вспоминая «Дон Кихота», мы поняли, что и там Плисецкая нашла,
выявила, укрупнила, в сущности, ту же самую тему, которая заложена
еще Мариусом Петипа. Балет строился на контрасте карнавального
акта на площади и классического акта «сна»/ В танцы на площади
Плисецкая вносила темперамент и упоение «фамильярных контактов»,
если воспользоваться излюбленным выражением М. Бахтина, при
помощи которого он описывал законы — или беззаконие — карнава-
ла. Она делала фамильярным сам классический танец — арабески,
пируэты, прыжки. В акте «сна» классический танец Плисецкой приоб-
рел совсем иной вид — необщительный и замкнутый, даже надменный.
Здесь она танцевала не гитану, но царицу, первую из своих цариц, здесь
она становилась балериной. Впрочем, балериной она не переставала
быть даже на карнавале. Взрываясь в прыжке, она не теряла контроля
над собой. Она совсем не растворялась в эмоциях площади, как это
делали более экзальтированные исполнительницы роли Китри, для
которых толпа была высшей инстанцией жизни.
Испанская тема в творчестве Плисецкой возникла не вдруг, не
случайно. Испанки Плисецкой — Китри, Кармен, ибо Кармен у Пли-
сецкой не только цыганка, но и испанка из племени Дон Жуана, и стиль
роли — не романс, не надрыв, но тот же, что и у Моцарта, — dramma
jiocosa, веселая драма. Испанскими чертами наделена у Плисецкой
Мелодия из бежаровского «Болеро», а также Одиллия — Кармен на
пуантах, демоническая летающая Кармен. И этот перечень можно
продлить, если вспомнить, что в «Дон Кихоте», перед тем как получить
главную роль, Плисецкая перетанцевала едва ли не все эпизоды. (И как
же она была в них ослепительно хороша. Прошло столько лет, а
помнишь ее полуиспанские, полуклассические пор-де-бра, которые
проделывают в последнем акте две танцовщицы, аккомпанирующие
балерине. А диагональ Плисецкой в сцене «сна», когда Плисецкая
танцевала Повелительницу дриад! Эта диагональ становилась художе-
ственной, эмоциональной и духовной кульминацией всего спектакля.
Мы не оговорились: происходило именно так. Во всем этом калейдо-
скопе праздничных, красочных, эффектных танцевальных аттракцио-
нов, монтаж которых и составляет балет «Дон Кихот», центральным
событием оказывался не карнавальный первый акт и не виртуозное
классическое гран-па последнего акта, а краткая, как три последова-
тельных выстрела, диагональ Плисецкой в сцене «сна» — три взлета
души, в которую вселился демон прыжка, изгнанный с академических
подмостков демон. Тогда эту диагональ танцевали вдвоем, цугом, син-
хронно: балерина — Дульцинея-Китри и первая танцовщица — Пове-
лительница дриад. Но прыжков балерины не было заметно. А в те годы
в «Дон Кихот» ставили лишь отличных, заразительных и очень
заметных балерин. Прыжки Плисецкой затмевали все в сцене «сна»,
затмевали вообще все аттракционы балета. Прыжковая диагональ Пли-
сецкой вносила высшее напряжение духа туда, где царила праздничная
игра и некоторая эротическая беззаботность. Не забудем эту диагональ.
Она объяснит нам, каким образом вслед за испанками Плисецкой стала
возможной ее Айседора.)
Испанки Плисецкой — ее молодость и мятеж. Испанки Плисец-
кой — это и ее драматическая тема. Испанки ознаменовали разрыв
Плисецкой с традицией инфантильной инженю, с традицией детских
представлений о женской любви и женской натуре. На сцене Плисецкая
никогда не была девочкой, полуребенком. Ее героини не знали, что
такое платоническая любовь. Ими владела страсть, а любили они не
мальчиков, но героев. С первых лет профессиональной работы Плисец-
кая бросает вызов всему инфантильному, что издавна культивировал
классический балет. Особенно нетерпимо относилась она к инфантиль-
ности ложной, притворной, чувствительной и мещанской. С прозорли-
востью подлинного художника она ощущала связь инфантильности и
несвободы. Трущобную зрелость Кармен она могла предпочесть оран-
жерейным наивностям барышень и гимназисток. Из этих, поначалу
неотчетливых предпочтений родилась великолепная патетика ее жеста,
ее женские персонажи, и первая среди них — Зарема. Зарема Плисец-
кой — не испанка, но некоторый собирательный южновосточный тип
(нечто подобное вдохновит и Бежара, когда в 1960 году он поставит
свое «Болеро», хотя стилистически здесь совсем иной образ). Плисецкая
сыграла Зарему и в ярком и в немыслимо — по тем временам —
откровенном стиле. Она пренебрегла всеми понятиями о сдержанности,
скрытом темпераменте и подтексте. Она обнажила все чувства, все
желания, все намерения своей героини, ее злое нетерпение, ее дикую
радость, ее изголодавшуюся страсть. Она обнажила живот Заремы. Это
был настоящий костюмный мятеж. Она танцевала перед Гиреем нечто
похожее на «танец живота», а это было танцевальным бунтарством. Но
все-таки кульминацией роли стал опять-таки высокий прыжок — иной
по рисунку, чем в диагонали дриад, иной по эмоциональному смыслу.
Но это был такой же одухотворенный прыжок, и танцовщицу подни-
мала в воздух не энергия страсти, не энергия «танца живота», а чистая
энергия человеческого страдания. В «Бахчисарайском фонтане» Пли-
сецкая впервые столкнулась с ситуацией, ставшей для нее роковой,
постоянной. Ее героиня любит героя, который — она знает это — ее
предаст. А тот, кто ей верен (Хозе из «Кармен»), ей мил, но не очень
нужен.
В испанках Плисецкой, так же как и в ее «Болеро», возрождались
старинные сны о том времени, когда женщина правила миром. Но
героиня Плисецкой не ищет власти, она ищет любви. Героиня Плисец-
кой — женщина, которая ищет равного себе по таланту, силе страстей
и воле к свободе. Героиня Плисецкой — Одетта. А Одиллия — это
образ-двойник, карающая красота, возмездие красотой и талантом.
В сцене Одиллии Плисецкая танцевала то, что могла танцевать только
она, — презрение к бывшим героям. Одиллия — это ее Медея.
Подобный же образ — Мирту — Плисецкая создала и в «Жизели».
Нечто подобное она играет в «Фантазии» — в роли, построенной на
тургеневском материале. Презрение к неталанту здесь высказано со
всей прямотой.
Вслед за Заремой и вслед за испанками в творчестве Плисецкой
хронологически следуют дамы. Это дамы из классических русских
романов, повестей, пьес. Это дамы классических русских портретов.
Плисецкая оживляла портретные залы Русского музея и Третьяковской
галереи, портреты Крамского, Серова и Бакста, портреты эмансипиро-
ванной дамы из дворянской семьи, портреты буржуазной дамы дека-
дентской эпохи. Роль в телевизионном фильме-балете «Фантазия» — в
этой серии самая лучшая и самая смелая роль. Плисецкая играет нена-
сытную обольстительницу, которую неудержимо влекут и которой бес-
конечно наскучили ее победы. Она играет одно, а танцует другое.
Играет она обольщение слабохарактерного мечтателя-простака, а тан-
цует мечту о герое. Играет она холодный порок, а танцует порывы
страсти. Играет она супружескую измену, неверную жену, а танцует
преданную подругу. Танцует Плисецкая в немыслимо смелом орнамен-
тальном ключе: это действительно фантазия красивейших рук, фан-
тазия тела. А играет Плисецкая в замкнутой психологической манере
(тут надо добавить, что режиссер телефильма — Анатолий Эфрос).
В этой роли, как и в ролях других дам, Плисецкая обнаруживает
тяготение к новому для себя репертуару и новой технике актерской
игры (она психологизирует даже «Болеро» Мориса Бежара). Ее манит
психологический театр, как манил — и продолжает манить — эпиче-
ский стиль, стиль высоких поддержек и разъятых, асимметричных,
каких-то дьявольских поз (арабеск дьявола, если эту фигуру можно
назвать арабеском, — ею кончаются дуэты в «Фантазии» и в «Кар-
мен»). Актрису манит интерьер: мы видим Кармен в интерьере. Мы
видим, как в женщине интерьера пробуждаются страсти Кармен и к
чему это приводит. И наконец, Плисецкая меняет костюм. Она появля-
ется в шляпке, под вуалью, в высоких перчатках, с хлыстиком в руках:
на ней туалет, а не театральный костюм и не балетная пачка. Плисецкая
возрождает манеру кинозвезды 30-х годов, танцовщица-футуристка
отдает дань ретроностальгии. Любой живой театр платит подобную
дань. Без этого он становится бедным и скучным. Возможно, и эти
соображения вдохновляли Плисецкую, когда она решила инсцениро-
вать в балете толстовский роман. Успех «Онегина» в постановке талант-
ливого Джона Кранко, трагически погибшего в расцвете сил, также,
по-видимому, повлиял на ее выбор. Свой спектакль Плисецкая заду-
мала и в духе «ретро» и в новейшем, отчасти фантасмагорическом духе.
Удача была бы полной, если бы рядом находились крупные режиссеры
драматического театра или, по крайней мере, Кранко. К сожалению,
Плисецкой помогали помощники иного масштаба.
Балет этот, как и «Фантазия» и отчасти как и «Кармен», не вызвал
такого единодушного восхищения, которое вызывал в свое время «Дон
Кихот» и к чему Плисецкая привыкла за долгие годы своих триумфов.
Но все мы свидетели, как она защищала свои спектакли. Она давала
интервью, спорила, разъясняла, боролась. Она упорно отстаивала свою
правоту. Более того, она неколебимо верила в то, что права она и
не правы все остальные. Выяснилось, что Плисецкая вовсе не художник
стихии, как думали критики, как полагал автор этих строк. Плисец-
кая — художник идеи. И все ее персонажи, от испанок до дам,
женщины идеи в первую очередь, а не только женщины страсти, привя-
занности и любви. Здесь корень патетики Плисецкой и корень ее
прыжка. Она патетична в защите своих художественных и жизненных
позиций. Она патетична, потому что не знает сомнений, не ведает
чувства вины, не признает раскаяния или, по крайней мере, все это в ней
глубоко спрятано, затаено, не становится предметом игры, — пока не
становится, ибо кто знает, какой будет Плисецкая завтра. Странно
подумать, но тем не менее факт: о том, что Плисецкая прежде всего —
художник идеи, не догадался никто из балетмейстеров, восхищавшихся
ее темпераментом, красотой ее рук, ее поз, ее жестов. Но Бежар это
распознал сразу — может быть потому, что сам он таков. А распознав,
поставил специально для Плисецкой небольшой балет из нескольких
эпизодов — «Айседору».
«Айседора» это сразу эпический и очень интимный балет. Плисецкой
легко танцевать на такой необычной арене. Здесь нет ни испанских, или
дамских, или декадентских страстей, здесь чистое воодушевление музы-
кального тела и музыкального духа. В «Айседоре» Бежара, как, между
прочим, и в «Болеро», воспевается тело танцовщицы, но отсутствует
даже намек на телесный физиологизм, отсутствуют судороги, содрога-
ния, корчи. Агония смерти, ужас неволи, экстазы страстей переведены
на строгий язык линии, на одухотворенный язык жеста. Плисецкая
танцует танец, который и не бесплотен и не телесен, но это и есть танец
Плисецкой в его подлинном существе. И в этом пластическая идея
дунканизма.
Айседора — это Айседора Дункан, легендарная танцовщица пер-
вых десятилетий XX века. Загадка ее магнетического влияния на
любую аудиторию, загадка танцевального дунканизма ушла вместе с
ней. Разгадать ее Плисецкая и стремится и не стремится. В некоторых
эпизодах возникает иллюзия полного сходства. Когда, готовясь к оче-
редной импровизации, Плисецкая — Айседора медленно прохажива-
ется по сцене и проводит рукой по волосам, — нам, никогда не
видавшим Дункан, все-таки кажется: да, вот она, несомненно, живая.
Иной Дункан и быть не могла. Иным не мог быть и ее свободный
ганец.
Свободный танец предполагает свободу не только от закрепленных,
извне навязанных форм, но и от своих собственных эмоциональных
состояний. Свободный танец — это готовность откликнуться на любой
музыкальный призыв, умение услышать любой музыкальный импульс.
Только что в музыке слышалась грусть, теперь слышится радость, а
теперь — похоронный марш, и все это надо незамедлительно превра-
тить в танец. Так строится сюита, которую поставил Бежар. И так эту
сюиту танцует Плисецкая. Свободный танец требует умения освобо-
диться от себя — от своих масок, личин и штампов. Чтобы танцевать
свободный танец, надо уметь забывать — и надо уметь ждать и стре-
миться. И это тоже поставил Бежар, и это тоже станцевала Плисецкая.
Но в чем-то ее Айседора меняет привычный образ Айседоры
Дункан. У Айседоры Плисецкой — пленительный комедийный дар.
Она играет с воображаемыми мячиками, точно прирожденный мим или
же прирожденная иллюзионистка. А в других эпизодах Айседора Пли-
сецкой — великая трагическая актриса. Плисецкая изображает не
только Айседору, но и Элеонору Дузе и Сару Бернар. Кульминация
маленького балета — трагедийный бетховенский плач, а в развязке
его — страшная, мучительная гибель. Айседора Плисецкой знает, что
она обречена (как это знали Кармен, Анна и все ее героини). Она
юлько не подает виду. Это мужественная женщина и мужественная
артистка. Айседора Дункан, по-видимому, была далека от подобных
черных мыслей. Если бы она знала, она бы и не могла танцевать.
А Плисецкая танцует именно потому, что знает. Танец Плисецкой —
вещий танец, угадывание судьбы. Плисецкая возрождает старинную,
утраченную связь между танцем и гаданьем.
Она возрождает связь между танцем и плачем.
Послевоенное искусство выдвинуло трех великих актрис на роль
плакальщицы, «музы плача». В драматическом театре ею стала Анаста-
сия Папатанасиу, в опере Мария Каллас, а в балете Майя Плисецкая.
Всем трем было дано оплакать павших воинов и погибших близких.
Папатанасиу это сделала в античных трагедиях, Каллас — в романти-
ческих и веристских операх, а Плисецкая — в «Жизели» (в роли
Мирты), в «Золушке» (в эпизоде «Осень») и в ранней редакции «Спар-
така».
Еще раз вспомним появившуюся в конце войны юную танцовщицу
с длинной и тонкой фигурой, как у шахматной королевы — точеного
шахматного ферзя, с суровым и скорбным лицом, с пластикой плавной,
текучей и неподатливой, напряженной в одно и то же время. Она не
вступала в контакт ни с партнерами, ни со зрительным залом. На празд-
нике жизни, не желающем ни о чем вспоминать, она являлась, как
Антигона, чтобы свершить поминальный обряд, чтобы напомнить
живым о павших. В «Спартаке» Леонида Якобсона она танцевала
большой реквием, пластический плач. Она излила плач в жестах. Каза-
лось, она оживила греческий фриз. Исследователи (в частности, совет-
ский ученый Н. Я. Берковский) обнаружили близость античной траге-
дии стихии плача. По-видимому, именно эта структура ожила в искус-
стве гречанок, трагических актрис — Папатанасиу и Каллас. Подобное
возвращение исчезнувшей традиции не есть чудо, хотя и не есть закон.
Оно может произойти в пору подъема национальных сил и человече-
ского духа. Какое, однако, все это имеет отношение к Плисецкой,
Москве и Большому театру? Имеет и, может быть, самое прямое.
В Большом театре тоже сложилась традиция, связавшая воедино
трагедию и плач. «Муза плача» одушевляла московский балет еще с
30-х — 40-х годов XIX века. Бесслезное искусство Марии Тальони
здесь не очень пришлось по сердцу: Тальони оценил Петербург. Зато
Москва боготворила Фанни Эльслер, и прежде всего — в «Эсмеральде».
В ней предчувствовался родной — мочаловский дух, в ней слышались
рыдания мелодрамы. Фанни Эльслер играла «Эсмеральду» навзрыд.
Точно так же «Эсмеральду» будет играть Екатерина Гельцер. В 70-х
годах «музу плача» московского балета воспел, возвысил и бесконечно
облагородил Чайковский. «Лебединое озеро» не только написано для
Москвы и в Москве, это образ московской затворницы-танцовщицы.
Кто хочет лучше понять эту музыку, должен прочитать стихотворение
«Затворница», написанное Полонским, московским поэтом, которого
Чайковский знал и любил, чьи стихи он брал для романсов. «Лебединое
озеро» — поэма, а не романс, но это поэма, выросшая из интонаций
романсов.
Однако московский балет культивировал еще один жанр, так назы-
ваемый «дивертисман», и почитал еще одну музу — «музу веселья».
«Дивертисманами» назывались в начале XIX века сюиты националь-
ных танцев, сведенные простейшей фабулой в большой спектакль или
же в небольшой акт. Сюита из третьего действия «Лебединого
озера» — классический «дивертисман», но введенный в более развитую
художественную структуру. Но самый знаменитый московский «дивер-
тисман» — это «Дон Кихот», поставленный Мариусом Петипа в
1869 году, когда и сам жанр и само веселое, по-французски звучащее
слово подпало под подозрение и исчезло с афиши. Между тем Петипа
поставил именно «дивертисман», а не просто балет — он вообще безо-
шибочно чувствовал дух многих городов, где он успел побывать,
традицию тех различных трупп, с которыми он, пусть недолго, работал.
Помимо того, Петипа сам любил праздник, веселье и, ставши в конце
концов оседлым петербуржцем, в душе был предан Москве (его вторая
жена была москвичкой). В «Дон Кихоте» Плисецкая танцевала то, что
поставил Мариус Петипа. «Дон Кихот» у Плисецкой — гениальный
«дивертисман», а Китри Плисецкой — «муза веселья». Нынешняя
московская редакция балета принадлежит А. А. Горскому, хотя в чем
она состоит, доподлинно никому не известно. Известно лишь, что
Петипа был в ярости, публично протестовал, но протесты впавшего в
немилость старика были оставлены без внимания. Так вот: Плисецкая
нам возвращает подлинного Петипа, поставленный им барселонско-
московский праздник. Она словно стирает с картины позднейшие ака-
демические напластования и слои. При этом она не меняет сам текст
балета.
В искусстве Плисецкой сошлись обе традиции балетной Москвы и
обе традиционные, достаточно разные манеры. С одной стороны, куль-
тура трагедии, плач, отвлеченный патетический стиль, с другой сторо-
ны, культура «дивертисмана», веселье, живописный местный колорит,
испанские, цыганские, венгерские мотивы. Здесь надо вспомнить дру-
гие роли Плисецкой: не только цыганские танцы Кармен, но и венгер-
ские фантазии Раймонды. Как это все совместить? Может ли все это
органично войти в круг творчества одной артистки? Не разрушают ли
целостность личности подобное тяготение к крайностям, подобные рез-
кие контрасты? Стоит задать этот вопрос, чтобы почувствовать,
насколько он неуместен. Нет более цельной танцовщицы, чем она.
И все, что она делает на сцене, она делает ненасильно. Загадка Плисец-
кой, превращение «музы плача» в «музу веселья» объясняется тем, что
для нее творящаяся.жизнь богаче жизни прошедшей, а едва различимые
грядущие голоса звучат сильнее голосов ушедших. Столкновение этих
голосов составляет драматическую коллизию ее лучших ролей и до
известной степени определяет весь ход ее творческой жизни. В «Лебе-
дином озере» у Плисецкой мотивы памяти и мотивы надежд сталкива-
ются наиболее интенсивно. Плисецкая танцует повесть души, опален-
ной прошлым и рвущейся из него. Живые силы души вытесняют мрак
утрат, горечь прошлых торжественно-мрачных обетов. Стремление к
людям вытесняет презрение к ним. Так Плисецкая интерпретирует и
второй и даже третий акт балета.
В истории балетного театра психологическая предшественница
Плисецкой — уже упомянутая нами Фанни Эльслер. Эта танцовщица-
актриса прославилась не только как несравненная Эсмеральда. Еще
больше прославило ее исполнение испанского танца, неистовой и
страстной качучи. Качуча — это Кармен в репертуаре Фанни Эльслер
или же, по крайней мере, ее Китри. Но все-таки наше сопоставление
верно лишь до определенных границ. Есть сходство в психологии, но
нет сходства в манере. Эльслер — танцовщица романтического склада,
а Плисецкая —танцовщица «необарокко».
Вот оно, слово, которое может многое разъяснить. Драматическая
одухотворенность, контрасты манеры и крайности языка, утонченная
пластическая роскошь, патетика жеста, патетика позы и даже четвертый
арабеск, самый патетический арабеск, смысл которого заключается в
том, чтобы выявить пафос движения, сохранив при этом монументаль-
ную неподвижность апломба, — все это вбирает в себя слово «барок-
ко», совсем не чуждое балету слово. В эпоху барокко классический
танец стал тем, чем он есть. Эпоха барокко придала ему драматизм,
экспрессию и весомость большого стиля. Однако затем пришло рококо,
а вслед за рококо — тальонизм. Изменился масштаб ганца, утверди-
лись новые представления о женственности, которые живут и сегодня
Именно против них Плисецкая сражалась почти с самого своего арти-
стического детства. Мы говорили, что ее притягивал еще не открытый
танец «модерн», что будущее открывалось в ее танце. Но теперь надо
добавить, что издалека ее вело забытое прошлое, великая культура
барокко. Барокко и Большой театр? Необарокко и «большой балет»?
Тут нет никакой ошибки. Сам зал театра построен в этом красивом
патетическом стиле.
Подводя черту...
Подводя черту, мы можем позволить себе более общий взгляд на вещи.
В широкой перспективе различия индивидуальных манер, во-первых,
естественны, а во-вторых, не так очевидны. Начался новый сезон, сезон
1979/80 года, Григорович показывает «Ромео и Джульетту», Пли-
сецкая заканчивает «Чайку», а Васильев начинает работу над «Макбе-
том», намереваясь поставить свой собственный шекспировский балет.
Вне всяких сомнений, это будут не похожие друг на друга работы. Но
общее представление о балетном спектакле здесь одно: его можно
назвать московским. Это означает тяготение к трагедийному жанру,
интерпретацию классической пьесы; в двух из трех случаев ставится
любимый в Москве Шекспир. Спор мастеров ведется внутри четко очер-
ченного пространства.
Конечно, у каждого артиста своя роль, свой вклад и свои заслуги.
Кто-то роняет престиж «большого балета» у нас и за рубежом, кто-то
умеет его сберечь, а кто-то способен поднять его на новую высоту. Во
всем этом разберется беспристрастный историк. Что Ьке касается выше-
приведенных слов, то их написал не историк, но свидетель. Свидетель,
захваченный драматизмом картины, стремящийся сохранить ее коло-
рит, желающий быть точным в деталях. Мораль же рассказанной исто-
рии, по-видимому, заключается в том, что артистам ярчайшей индивиду-
альности — а именно таких выдвинул Большой театр — совсем не-
легко ужиться под одной театральной крышей. Бывают эпохи ансамб-
левого мышления, единой системы, подчиняющей и солистов и корде-
балет, и это, разумеется, славные эпохи в жизни балета. Бывают другие
эпохи, когда индивидуальное мышление выходит на первый план, берет
реванш или всего-навсего домогается реванша. И это тоже не наносит
ущерба балету. Худшая ситуация — та, когда нет ни ансамбля, ни
ярких солистов. И счастлив тот коллектив, который от подобной сит\
ации надежно, надолго и надлежащим образом застрахован
Гастролеры
Лиан Дейде
Парижские сезоны Баланчина
Ситуация Мориса Бежара
Фиес1а в Лужниках
Первой ласточкой, гастролершей, приехавшей к нам раньше других,
была Лиан Дейде, миниатюрная этуаль из Парижа. Вместе с Мишелем
Рено она танцевала «Жизель» и, помимо того, дала ряд концертов.
С тех пор прошло более двадцати лет. В Советский Союз приезжали
все самые именитые труппы. Мы видели многих европейских классиче-
ских балерин с международной репутацией, во главе с несравненной
Маргот Фонтейн, плеяду утонченных американских танцовщиц, про-
шедших выучку у самого Баланчина или же у его ассистентов. И все-
таки в памяти Лиан Дейде — раньше других, ярче всех, всех прелест-
ней. Парижские профессионалы балета до сих пор не могут этого
понять. Им кажется странным и наш выбор и наше постоянство.
«Гилен! — закричал не своим голосом обычно столь сдержанный Пьер
Лякот, обращаясь к жене, балерине Тесмар, и указывая пальцем на
автора этих строк, — Гилен, ему нравится Дейде!». Лякот пришел в
необычайное возбуждение, покраснел и смотрел на меня с обидой.
Только что говорили о серьезных вещах, и вдруг выясняется, что собе-
седнику нравится Дейде: вот какие в Москве театральные критики, ка-
кие в России балетоманы. Все это было написано на расстроенном лице
французского балетмейстера Пьера Лякота. Но именно это, буквально
в тех же самых словах, писала одна из парижских газет лет двадцать
назад, когда я напечатал краткий — в две фразы — восторженный
отзыв о Дейде в «Литературной газете». Для французов была и есть
лишь одна Этуаль, одна Балерина, одна Жизель — мадам Иветт
Шовире. А мадемуазель Дейде — если не самозванка (1’intruse), то, во
всяком случае, этуаль не первого ранга. Спору нет, как художник, как
личность, как явление французского театра 40—50-х годов, Шовире,
вероятно, крупнее. Она преобразила традиционный исполнительский
стиль. Блеск виртуозности она дополнила драматической патетикой
жеста. Она внесла в балет интеллектуальную проблематику середины
века. И она же вернула балету переживание, придав чуть обесцвеченно-
му, дистиллированному неоклассицизму Сержа Лифаря красочность,
сладость и горечь французской мелодрамы. При этом бульварная
манера ей была совершенно чужда. По духу она пуританка. Ей был
свойствен особый стилистический пуризм. Она очистила сам воздух
«Гранд-Опера», годами не проветривавшийся воздух. Заслуг Иветт
Шовире много, не перечесть, но Лиан Дейде танцевала лучше. Думаю,
что после Марины Тимофеевны Семеновой Дейде танцевала лучше всех
(хотя по масштабу и характеру дарования они несравнимы). Думаю
также, что из всех виденных нами французских танцовщиц Дейде —
единственная подлинная этуаль, может быть, это последняя этуаль,
появившаяся на подмостках тогда, когда век этуалей уже был отмерен.
Только в этом смысле она 1’intruse, самозванка. Но это доподлинная
этуаль, заставлявшая сверкать классический танец («этуаль» — по-
французски значит «звезда»). На сцену Дейде вносила сияние, бело-
снежное сияние белого балета и балета сильфид: Белоснежка — ее
первая роль, а сильфиду она незабываемо танцевала в «Этюдах».
Белоснежка, виртуозка, сильфида. Блистательный стиль, полувоздуш-
ный прыжок, отчетливый рисунок танцевальных и эмоциональных дви-
жений. Все это входит в понятие «этуаль», все это вековая основа фран-
цузской традиции, и все это в наш век должно выглядеть чуть архаично.
А Дейде-этуаль (как в свое время балерина Семенова) выглядела
неоспоримо, непререкаемо современной. Рядом с ней даже безупречная
модернистка Иветт Шовире иногда могла показаться чуть-чуть старо-
модной. Классический танец в исполнении Дейде отодвигал в прошлое
наисовременнейший танец «модерн» и почти любую его разновидность.
Как это получалось? Очень естественно, как это обычно происходит в
балете, но в то же время — очень сложным и театральным путем.
Образ этуали Дейде искусно изображала. У нее был пластический дар,
дар утонченных стилизаций, дар пастиша (художественного подража-
ния) — редкостный дар, столь ценимый и культивируемый Марселем
Прустом. Она умела принять позу Спесивцевой и позу Тальони. Она
могла появиться в рисунке Ватто, в облике Манон Леско со старинных
гравюр XVIII века, в облике дегасовской Голубой танцовщицы (всем
памятно ее исполнение прелестного балетика Лифаря «В музее»). Она
была балериной Дега. Острый шарм и неуловимо дерзкое остроумие в
жестах, в пластике и академических па отличали ее от других балерин.
Даже из зрительного зала видно было, как она остра на язык, как умеет
провести простака и поставить на место нахала. Она без труда перево-
площалась в ту «девочку с Монмартра, ставшую сильфидой», которой
великий художник посвящал не только гуаши, но и стихи (цитиро-
ванные слова взяты из стихотворения живописца).
В пластике Лиан Дейде было много лукавства, но танец ее не был
лукав. Ее дансантный дар был непритворным. Но как рассказать об
этой дансантности Лиан Дейде, дансантности этуали «Гранд-Опера»,
полной беззаботности и отваги! Миниатюрная танцовщица демонстри-
ровала большой балеринский стиль, потому что природа дала ей
большой шаг и прыжок и потому что в душе ее жила жажда движения
и жажда полета. Строгий академический канон не был для нее принуди-
тельным, не мешал быть свободной. Она все делала очень легко. Искус-
ство ее не знало муки. А сколько муки несло искусство Иветт Шовире,
об этом мог лишь догадываться наблюдательный зритель. «Мука»
Иветт Шовире была профессиональной и некоторой метафизической,
экзистенциальной. Иветт Шовире — танцовщица эпохи Камю, эпохи
проповеди трагического стоицизма. Миф о Сизифе, приложенный к
современности Альбером Камю, это ее миф, миф ее поколения фран-
цузских артистов. Классический танец Иветт Шовире — сизифов труд
(об этом, кстати сказать, можно прочесть между строк ее книги «Я —
балерина»). Но это — побежденный, облагороженный сизифов труд,
усилие, которое побеждено улыбкой. Мы помним, как улыбалась Иветт
Шовире в критические моменты балеринской судьбы, как умела нести
свой крест, верить и скрывать тайную муку. Это была новая, экзистен-
циалистская этуаль, умевшая противостоять року. А Дейде улыбалась,
потому что ей было радостно танцевать, потому что она танцевала, как
поют и летают птицы. Об «улыбающейся» виртуозности Лиан Дейде
писал в своей вдохновенной работе М. Иофьев (эта работа посвящена
гастролям балетной труппы «Гранд-Опера» и напечатана в книге «Про-
фили искусства»), М. Габович назвал Дейде «Терпсихорой». А нам
она показалась героиней первых романов Саган, одной из тех незави-
симых девушек на перепутье, чья грация и чья судьба покоились на
хрупком равновесии ранней жизненной трезвости и сияния, которое
излучали глаза. Теперь мы понимаем, что Дейде принадлежала к поко-
лению, искавшему в жизни новые стимулы, а в театре — новый празд-
ник. История этого поколения грустна. Обыденность погасила сияние,
ввела в жесткие рамки вольный порыв и обманула даже их — трезвые,
не восторженные надежды. «Жизель» Дейде — об этом рассказ,
печальный и прозорливый.
Ее собственная сценическая судьба тоже не могла быть счастливой
судьбой. Дейде — Голубая танцовщица, умеющая остро дерзить, но не
умеющая беспощадно бороться. Она проигрывает за кулисами все, что
выигрывает на сцене. Она — эфемерида, но именно поэтому она бале-
рина Дега. Спустя два сезона после приезда в Москву, в расцвете
таланта, в какие-то двадцать с чем-то лет, она вынуждена навсегда
покинуть «Гранд-Опера». Поле сражения остается за более могуще-
ственной конкуренткой.
Дейде была последняя этуаль, а апофеозом ее стали московские
гастроли «Гранд-Опера» весной 1958 года. Несколько лет после этого
Парижская опера вновь приезжала в СССР, мы увидели великолепный
«Собор» Роллана Пети, «Веберн — Опус № 5» — маленький шедевр
Мориса Бежара, грандиозные задники Марка Шагала к «Дафнису и
Хлое», но не увидели этуалей и не увидели танцовщиц Дега. Бежару и
Пети этуаль ни к чему, и Марку Шагалу Дега не нужен.
Простимся же с милой, волнующей тенью и перейдем к нашим
делам.
Статья о Баланчине написана после гастролей Парижского театра
«Гранд-Опера» (третьих по счету) весной 1977 года. В нее вошли впе-
чатления от спектаклей труппы Баланчина «Нью-Йорк сити балле»,
дважды приезжавшей в Москву ранее.
Статья о Бежаре написана после гастролей Брюссельского балета в '
1978 году.
Статья об Антонио — описание гастролей испанской труппы летом
1966 года.
Выбор персонажей обоснован научно.
Здесь рассматриваются три основных направления современного
профессионального танца — классический (или неоклассический), сво-
бодный и фольклорный. В XIX веке, в эпоху Мариуса Петипа, все они
существовали как жанры внутри единой хореографической системы.
Классический танец был в общих чертах тем, чем он есть и теперь.
Свободный — по старинной классификации назывался танцем «гро-
теск». Фольклорный использовался в виде характерного танца.
Произвольные или строго обусловленные комбинации всех трех жан-
ров составляли балет. В третьем акте «Лебединого озера» (редакция
А. Горского), на балу, Одиллия с принцем танцуют классическое па-де-
де, шут — танец «гротеск», а приглашенные гости — характерный ди-
вертисмент: неаполитанский, венгерский, польский, испанский танцы.
В дальнейшем внутреннее развитие жанров приводит к распаду единой
системы. Жанры обособляются, становятся направлением, создают
школу. Возникает чистый классический балет Баланчина, чистый сво-
бодный танец Бежара, чистый фольклорный балет Антонио. Своего
апогея дифференциация достигает в середине века, где-то в 40—50-х
годах. После этого началось медленное возвратное движение навстре-
чу друг другу. Но чтобы возник новый универсальный балет, нужен
новый Мариус Петипа, новый универсальный гений.
Парижские сезоны Баланчина
Гастрольная афиша «Гранд-Опера» включала три созданных в разное
время балета Баланчина. Мы оказались зрителями необъявленной
ретроспективы. Перед нами прошли отражения трех театральных эпох
и трех творческих кульминаций. 20-е годы («Блудный сын»), 40-е годы
(«Хрустальный дворец»), 60-е годы («Каприччио») сменяли друг друга,
точно интермедии в старинных балетах-антре или, наоборот, части в
новейших симфониях-балетах. Было видно, насколько включен в поток
времени этот удивительный мастер, как время несет его и как он
времени неподвластен. Его система открыта любой новизне и вместе с
тем замкнута на замок, почти герметична. Двойной образ, которым
кончается «Хрустальный дворец», — вечное движение («перпетуум-
мобиле») и Версаль, стоящий наперекор векам, — это и его, Балан-
чина, образ. С той оговоркой, что сам Баланчин не озабочен своим
местом в вечности, в хореографическом пантеоне. В противном случае
сумел бы он в шестьдесят лет поставить столь радостное, столь легко-
мысленное «Каприччио»? Чем больше им сделано, тем меньше он
сделанным обременен. О том, как менялся Баланчин, мы расскажем в
трех кратких главках. Но сначала дадим, тоже в общих чертах, его
моментальный снимок.
Мир искусства представляется Баланчину не как вселенная, но как
мастерская. Предмет его хореографии — одушевленное мастерство,
почти постоянный сюжет — одушевление мастерства музыкой, печа-
лью и страстью. Так строится и поздний «Агон», и ранний «Аполлон
Мусагет», первый из «белых» балетов Баланчина, «белый по белому»
(перефразируя его собственные слова, сказанные о музыке, которую'
написал Стравинский). Романтический белый балет — вселенная ара-
бесков. Когда многочисленный кордебалет становится в арабеск, мы
чувствуем себя точно перед открывшимся звездным небом. Арабеск в
«Аполлоне» — инструмент мастерства, заигранный балетный мотив и
в то же время волнующая загадка. На сцене всего три танцовщицы-
музы, всего три арабеска. Художник — Аполлон Мусагет — манипу-
лирует ими по своему произволу. Он хочет понять их закон, овладеть их
тайной, стремится по-новому увидеть их красоту. В живописи подоб-
ные группы называются «художник и модель» — и вот уже полсто-
летия Баланчин и балет находятся в положении художника и модели.
Модель для Баланчина — силуэт балерины или ее тонкая длинная
рука (в «Вальсе» Равеля и стиль и судьба предвоенной — до
1914 года — европейской культуры обозначены жестом беспомощно-
нежной женской руки — музыкальным жестом, который тревожит
душу и ум и в рассеянной атмосфере спектакля вызывает тень Элеоноры
Дузе). Модель для Баланчина — феномен движения или же какой-
нибудь отдельно взятый его компонент, отдельно взятая фраза. И наи-
более излюбленная модель Баланчина — сам классический балет,
сами увлекательные подробности классического танца. Его изобрета-
тельность — изобретательность вечного вопрошания и вечной люб-
ви — находит возможности, о которых мало кто подозревает. Мы
можем видеть всплески фантазии Баланчина на фотографиях бесчи-
сленных дуэтных поз из любого его балета. Все требования соблю-
дены. Выворотность идеальна. Спина схвачена, как того ожидает писа-
ная или неписаная традиция. Линия работающей ноги выявлена с непо-
грешимостью эвклидовой теоремы. Но легкий, даже легчайший сдвиг
акцента, более активная, чем принято, роль партнера, более экспрессив-
ный, чем привычно, рисунок поддержки — ив академической позе
играет импровизационный дух, академическая выучка дышит ликова-
нием свободных импровизаций. Таков, в частности, арабеск в дуэтах
Баланчина — ритмически уравновешенная встреча двух устремленных
друг к другу фигур, двух неуравновешенных порывов. «Мы провода под
током» (пастернаковские слова) — вот что такое баланчинский дуэт-
ный арабеск: короткое замыкание распростертых в пространстве рук и
ног, короткая вспышка энергии, которую таит в себе классический
танец.
Столь романтический дух управляем сознанием, которое не назо-
вешь романтичным. Сам Баланчин не признает этого слова. Наиболее
употребимо по отношению к нему понятие «неоклассицизм». Что оно
означает? В широком смысле — классический художественный идеал;
творчество, не выходящее из границ искусства; танец, который ни при
каких обстоятельствах не теряет формальных очертаний танца. А в
узком смысле имеется в виду обновленный классический балет, новая
школа, новый академизм и решительный разрыв с эстетикой «боль-
шого спектакля». Баланчин устраняет все, без чего «большой спек-
такль» не может существовать: эффектную декорацию, мелодраматич-
ный сюжет, грандиозные массовки. Он оставляет немногих участников
один на один со сценической пустотой. Он рисует легкие, летучие
контуры построений. Мизансцены в спектаклях Баланчина напоминают
перовые рисунки на белом листе. Такое же острое ощущение линии,
такая же одухотворенность средств, такая же чистота жанра. Защита
жанровой чистоты — может быть, главное содержание многолетних
баланчинских усилий. Он строит балет, лишенный всего, что не есть
балет, что привнесено в балет со стороны, что пристало к нему, приле-
пилось. В защите жанровой чистоты Баланчин пошел дальше, чем кто-
либо когда-либо в истории балетного театра. Некоторые его спекта-
кли — своеобразный жанровый концентрат, они точно на полпути от
зрелища к логической формуле, к алгоритму. Восприятие подобных
спектаклей затруднено. Баланчин ставит их во имя высоких, но доста-
точно абстрактных наслаждений. В других спектаклях и, в частности, в
тех, о которых пойдет речь, игра жизни наполняет и ведет за собой
высшую математику танца. Во всех случаях Баланчин преследует одну
цель, оберегает одно божество, гранит одно сокровище — кристалл
классического балета. И это естественная реакция на поглощение
балета живописью или драмой. Дягилевская идея синтетического спек-
такля нашла в Баланчине не последователя, но оппонента. Обратив-
шись через голову фокинских реформ назад, в прошлое, к наследию
Мариуса Петипа, Баланчин устранил то, что в классическом балете
было исторически преходящим, а именно — зрелищно-декоративный
ряд, и сохранил, даже обнажил главное — его конструктивную основу.
Подобная хореография исключает лжеромантическую игру, хаос
страстей и агрессию инстинктов. Художественное зло в системе Балан-
чина — открытая эмоциональность. Молодой Баланчин мог наблюдать
это наводнение в театре 10-х годов, быстро размывавшее строгие очер-
тания классического балета. Молодой и уже немолодой Баланчин мог
видеть, как избыток несдержанных эмоций приводит к упадку мастер-
ства, дискредитирует и вообще делает ненужной хорошую школу.
Школа самого Баланчина культивирует чистое мастерство. Она осно-
вана на строгой дисциплине эмоций. Она требует самоотречения,
бескорыстных и бескомпромиссных жертв. Дается обет, похожий на
обет молчания, который в средние века давали сильные духом. На
протяжении жизни — или спектакля, который тоже есть жизнь, —
хранится молчание слез, ярости или страсти. Во многих спектаклях
Баланчина, напряженных по настроению и языку, присутствует почти
жреческая бесстрастность. Нередко это захватывает сильнее, чем пьяня-
щий или терзающий душу танцевальный экстаз, чем бег менад и пляска
вакханок.
Молчание эмоций предполагает жесткий отбор средств. Устраня-
ются возбудители легких эмоций — избитые формы, мотивы, знако-
мые, исхоженные вдоль и поперек. Вокруг своих композиций Баланчин
выстраивает частокол непривычных художественных впечатлений.
Молодой Баланчин — эпохи «Блудного сына» — создает особый
интригующий стиль. Он стремится заинтриговать, а не взволновать
зрителя. Он интригует сценическими положениями, персонажами-
масками, но прежде всего самим материалом. В основе своей «Блуд-
ный сын» — акробатический балет, материал его —акробатика, акро-
баты. Акробатика в театре всегда новизна, к тому же она не эмоцио-
нальна. Не припомнишь акробата, который стремился бы растрогать
до слез. Акробатика — чистая работа, чистое ремесло, наиболее уда-
ленное от личных переживаний артиста. Баланчин поздних лет, Балан-
чин «Каприччио» и других постановок на музыку Стравинского (как,
впрочем, и раннего «Аполлона Мусагета»), сходных эффектов дости-
гает непохожим путем. Он интригует зрителя не материалом, но струк-
турой. «Каприччио» — ансамблевая композиция, в которой видоизме-
нены все канонические структурные нормы. В обязательную схему (со-
листы — корифеи — кордебалет) Баланчин вносит элемент прихоти,
произвола, чистой случайности и художественного каприза. Самый
строгий неоклассический балет Баланчина вовсе не исключает игры. Он
лишь делает ее призрачной, почти умозрительной игрой чисел. Балет-
мейстер ищет невиданных комбинаций, он играет количественными
соотношениями, которые никак не каноничны. Но, с другой стороны,
так ли уж умозрительна эта умозрительность Баланчина, если первая
его классическая мизансцена (в балете «Аполлон Мусагет»), возникшая
из необычного па-де-катр (один танцовщик и три танцовщицы) и
построенная на красивом пересечении трех поддержек на арабеск,
вошла в историю балета под названием «тачки»? Пифагорейские умо-
зрения Баланчина можно держать в руках. И не видит ли он смысл своей
деятельности в том, чтобы претворять умозрения в чистые осязаемые
формы?
Но все-таки акробатика и магия числа — крайности, лишь началь-
ные и конечные точки отсчета. Легче понять, чего опасается Баланчин,
труднее — к чему он стремится. В перспективе пути и «Каприччио» и
даже талантливый, очень глубокий «Блудный сын» кажутся флигелями
главной постройки. В центре высится «Хрустальный дворец». Балет
волнует своим совершенством. Волнение жизни здесь преобразовано в
строгую логику танцевальных метаморфоз, становится движением
формы. Этот бессюжетный балет имеет скрытый сюжет: сюжетом ста-
новится сам процесс созидания, кристаллизации балета. И подобно
тому, как на мелодрамах плачут, когда возлюбленные расстаются или
соединяются вновь, на «Хрустальном дворце» можно прослезиться,
наблюдая, как расходятся танцевальные голоса или встречаются хоре-
ографические ансамбли. Мы переживаем катарсис, о котором тщетно
мечтают создатели жестоких балетных мелодрам. Нас подхватывает и
несет поток художественных — и только художественных — эмоций.
Что же привело их сюда, в этот мир безукоризненного мастерства и
безупречно строгих линий? Ответ очевиден — музыка. Холодный эсте-
тический пафос Баланчина преодолен абсолютной музыкальностью его
метода и его мысли. В борьбе с тем, что замутняет сознание и загромо-
ждает балет, Баланчин создает собственный хореографический канон:
балетный спектакль, управляемый идеальными нормами музыки,
балет-симфонию или же балет-концерт.
Как и всякий хореограф, начинавший в 20-х годах, Баланчин начал
с того, что ставил классический балет «наоборот», классический балет
«дыбом». При этом, как вспоминает Ф. Лопухов, Баланчин был и тогда
восторженным ценителем классики, белотюниковой «Жизели». Тут нет
противоречия, нет никакой ошибки. К авангардистским крайностям
Баланчина приводил не только юношеский мятеж, но и сам ход истории
балетного театра. Старым балетом можно было лишь восторгаться.
Какая-либо существенная творческая работа в его границах была
исключена. Мариус Петипа создал систему столь законченную, столь
совершенную, что в рамках ее могли процветать лишь эпигоны. Чтобы
пересоздать ее изнутри, нужен был огромный талант и непобедимая
воля. Кроме того, требовался достаточно продолжительный срок. Сле-
дует лишь удивляться, как быстро Баланчин осознал свою задачу. Уже к
тридцати годам он становится тем Баланчиным, которого знает балет-
ный мир: хореографом, педагогом, создателем школы. Школа Балан-
чина — его артисты («Нью-Йорк сити балле»), его ученики, его репер-
туар и его стиль. Школа Баланчина — это его система. Она столь же
законченна и совершенна, как некогда система Мариуса Петипа, хотя
более тяготеет к симфонии и менее — к театру.
С принципами балета-симфонии связана, может быть, главная черта
системы Баланчина, вызывающая немало нареканий. Эта система отри-
цает культуру «звезды». Она ориентирована не столько на великих
солистов, сколько на великую труппу. Уроки симфонии Баланчин рас-
пространил на экзерсис и этику танца. Баланчин симфонизировал
балетный профессионализм и психологию балетного артиста. Йначе
говоря, он воспитывал виртуоза-интеллигента. Балеты Баланчина —
модель идеального артистического коллектива. (И это не просто
прекраснодушная мечта. Труппа Баланчина — «Нью-Йорк сити бал-
ле» — прославлена сплоченностью, отсутствием дрязг, склок и скан-
далов. Пример цеховой солидарности подает сам маэстро: в течение
многих лет вместе с Баланчиным работает другой выдающийся балет-
мейстер — Джером Роббинс.) В балетах Баланчина почти сведена на
нет жесткая иерархия сил, составляющих балетное целое, хореографи-
ческий спектакль. Отсутствует доминирующая партия сверхгероя-звез-
ды. Но вместе с тем отсутствует и задвинутая на задворки фигура стати-
ста. Если в балетном театре существует прогресс, то, конечно же,
главное завоевание наших дней — устранение статистов: статистов в
собственном смысле (стоящих с алебардами у дальних кулис) и стати-
стов хореографических, лишенных подлинных функций и собственного
лица, олицетворяющих массивность, неподвижность и чисто количе-
ственные критерии мышления. Великое усилие Мариуса Петипа, стре-
мившегося создать из кордебалета статистов действенный кордебалет
(но одновременно, в силу вещей, расширившего корпус собственно ста-
тистов — людей с алебардами или другим экзотическим реквизитом),
это усилие гениального балетмейстера, не понятое эпигонами и уж
совсем не распознанное врагами, поддержано Баланчиным, последова-
телем Петипа, хотя, конечно, различия между двумя системами не
только наглядны, но и фундаментальны. Их различает мировоззрение и
масштаб. На смену монументальному и гармоничному эпосу Петипа
приходит лирика Баланчина, с великим, хотя и невидимым напряже-
нием противостоящая опустошающим воздействиям жизни. Человек в
беспредельности — ситуация феерий Мариуса Петипа. Человек в
пустоте — ситуация баланчинских балетов.
Подобно современным композиторам, Баланчин предпочитает
малые, но сплоченные группы, малый, но подвижный ансамбль. Балет
Баланчина — замкнутый в себе спектакль. Его герметизм — горькое
условие его совершенства. В этой системе присутствие декораций
нежелательно, а часто и невозможно. Они лишь разрушили бы картину
тотального одиночества, окружающего мастерскую танца, созданную
Баланчиным. В старинных спектаклях действие протекало в окружении
дружественной — живой, или враждебной — мертвой природы. Неви-
димые силы питали к персонажам пристальный интерес. Это создавало
особое эмоциональное напряжение, особую эмоциональную глубину.
У Баланчина нет этой широкой периферии, выносящей действие за
кулисы, в люки, под сцену или к колосникам. Баланчин выключает
балет из развернутых эмоциональных коммуникаций. Персонажи
Баланчина выпали из игры внешних интересов, посторонних, а тем
более — потусторонних страстей. Они никому не нужны. До них
никому нет дела. Никто не оспаривает их друг у друга. Они находятся в
положении людей, которые сами должны придать смысл, вес и значение
своей жизни, своим увлечениям, своему мастерству. Результат их бли-
стательных усилий тоже важен для них одних. Баланчин ставит балет
без реквиема и без апофеоза, балет, в котором поражение героя не
будет оплакано, а победа не будет воспета. В театре Баланчина почти не
случается сцен, подобных «теням» из «Баядерки», «буре» из «Лебеди-
ного озера» или, наоборот, сказочному триумфу из «Спящей красави-
цы». Навязчивая тема Баланчина: кто-то забытый лежит у царских
врат, кого-то лишают жизни на балу, кто-то оступается и падает на
бегу, но бал не останавливается, бег несется во весь опор, карусель
вальса раскручивается все быстрее, спектакль жизни не гасит своих
огней.
Сама фатальность у Баланчина лишена резких романтических кра-
сок, выделенности, а тем более той зловещей, пугающей маски, в
которой ее выводил на подмостки экспрессионизм. Она в порядке
вещей. К ее вторжению все готовы. Можно сказать, что фатальность в
балетах Баланчина и очень интимна и по-своему человечна. В «Вальсе»
Равеля на сцену выходит одетый в черное молодой человек, с полупо-
клоном подает героине плащ, шляпу, перчатки, предлагает ей руку и
уводит за собой. Эта фатальность, принявшая облик распорядителя
бала. В «Серенаде» танцовщица спотыкается в быстром аллегро. Это
фатальность в форме случая, случайной, маленькой, но непоправимой
катастрофы. Громкие возгласы фатума в романтических симфониях не
очень задевают Баланчина-человека, а Баланчина-художника — не
очень влекут. Романтический фатум любил инсценировать Леонид
Мясин, исполненный мрачного пафоса хореограф-сюрреалист. Балан-
чин и слишком утонченный лирик и слишком изощренный интеллек-
туал для подобных театральных сюжетов. Зато он способен услышать
негромкие голоса надвигающейся беды, затаенные шаги близящегося
несчастья. Лирический и очень балетный мотив Баланчина: неслышная
поступь судьбы. Другой лирический и тоже балетный мотив: безмолв-
ный приход тревоги.
Эти горькие темы, эту жесткую, почти что экзистенциалистскую
модель Баланчин описывает на языке, экзистенциализму не свойствен-
ном и совершенно чуждом. Классический танец Баланчина — блистате-
лен и полувоздушен. Баланчин верен завету 20-х годов, когда разли-
чали трагические видения мастера и праздничный язык театрального
мастерства. Некоторое воздействие на него оказала и культура негри-
тянского джаза. Жизнь для Баланчина нередко окрашена в черный цвет,
но трактовка классического танца — всегда театральна, всегда опти-
мистична. Баланчину дорога радостная — изначальная сущность клас-
сического танца. В мастерской Баланчина царит добрый деловой дух,
как и во всякой художественной мастерской. В балетах Баланчина что-
то все время происходит. В них нет действенного сюжета, но их отлича-
ет деятельный ритм. Ритм деятельности, прежде всего духовной, — са-
мая глубокая основа всего творчества Баланчина и всех его сочинений.
Фигура Аполлона с «тачкой» в руках приобретает характер эмблемы
(мы помним, что «тачку» образует пересечение трех арабесков). В клас-
сическом танце Баланчина радость деятельности и энергия игры
неотделимы. Надо лишь всмотреться в то, как танцуют у Баланчина, и
распознать главное: гибкость интонации и блеск фразировки. Бале-
рины танцуют, как Бабанова произносит драматургический текст: с
величайшей энергией, почти без пауз, членя танцевальные фразы на
кратчайшие доли, — летящие, как «снежинки» «Щелкунчика», сверка-
ющие, как серебристая пыль. Сколько изящества в их танце и какая
отвага! Какое глубокое убеждение в том, что только уверенное мастер-
ство может отвратить ход судьбы и превратить монотонное течение
жизни в ослепительный праздник.
«Блудный сын». Постановку «Блудного сына» театром «Гранд-Опера»
можно сравнить с перенесением в Лувр «Олимпии» Эдуарда Мане или
других некогда скандальных полотен. «Блудный сын» не предназна-
чался для академической сцены. Это самый неакадемический балет
Баланчина. Его стиль «эпатирующий», как говорилось тогда, «остраня-
ющий», как говорится теперь, стиль легких и дерзких кощунств в
интерпретации классических, высокой традицией освященных мотивов.
Евангельскую притчу, Рембрандтов сюжет Баланчин излагает на языке
акробатики, эксцентрики и абсурда. Героиня балета — царица, акро-
батка и девка. Кордебалет — скопище страшноватых бритоголовых
уродцев-бродяг. Пир жизни представлен в острых ракурсах замыслова-
тых эротических поз либо, наоборот, сведен к изображению элементар-
ных физических действий. Изощренная пластика восточных театраль-
ных культур нарочито соседствует с приемами наивного балагана.
В спектакле много взято из детской игры в шарады. Бритоголовый
кордебалет изображает то поезд, то шатер, то корабль. Балетная сцена
отдаленно напоминает то цирковую арену, а то — бедлам. На всем
лежит печать европейского нигилизма 20-х годов, это заостренное
самовыражение так называемых «merry twenties» (или «crazy twen-
ties» — «веселых», «безумных двадцатых»). Серьезность, нешуточ-
ность своих замыслов балет тщательно прячет. Согласно правилам
игры, он не хочет принять тон библейских пророчеств. Между тем это,
конечно, не беспечный авангардистский аттракцион. Большую эстетику
в спектакль вносит пантомимная партия самого Блудного сына. Она
патетична, хотя в ней совсем немного жестов и поз. По-видимому,
Баланчин задался целью инсценировать сам текст Евангелия, дать
пластический аналог словам евангелиста Луки. Уже здесь Баланчина
увлекла проблема соответствий в балете. В зрелые годы он будет
искать соответствия танца и музыки. В «Блудном сыне» он ищет соот-
ветствия слова и жеста. Жест Блудного сына стилизован и полон
смертной тоски. Жестикуляция кордебалета кощунствует, пародирует
кого-то и что-то, а жест Блудного сына вопиет. Хочется сказать: это
жест, вопиющий в пустыне.
Баланчин трактует Евангелие изощренно-эстетическим путем:
Новый завет, как и Старый завет, для него прежде всего Книга («Би-
блия» по-гречески означает «Книги»), Самой книги нет, даны красивые
иллюстрации к ней. Балет иллюстрирует притчу в серии картин-мизан-
сцен, так что каждый поворот судьбы Блудного сына зафиксирован в
моментальном снимке пластической позировки. Блудный сын покидает
отца, Блудный сын и Сирена, Блудный сын молит о помощи на краю
поднятого стола, Блудный сын прикован к позорному столбу, Блудный
сын, опираясь на посох, на коленях возвращается в отчий дом. Все это
напоминает картинки, висевшие в комнате Самсона Вырина, пушкин-
ского станционного смотрителя. Однако картинки Баланчина не утяже-
лены ни подробной надписью, ни подробным рисунком. Они точно
наброски, и спектакль не старинный лубок, но набросок современной
трагедии. Балет Баланчина — хореографический комикс 20-х годов, в
котором иронии не меньше, чем морали, где трагедийный жест сосед-
ствует с пародирующей жестикуляцией, а трагическая пантомима разы-
грывается посреди акробатических пирамид. Баланчин поставил балет о
страшном одиночестве высокой трагедии, со всех сторон окруженной
масками «merry» и «crazy twenties». Вместе с тем это спектакль о
возвращении балетного театра к трагедии и большой литературе. Два-
дцать лет до того дягилевский балет покинул отчий дом, демонстратив-
но порвав с давней литературной традицией. Теперь же он возвращает-
ся в родное лоно. «Блудный сын» — пророчество о путях балета в 30-х
годах. Оно оказалось верным, хотя не для самого балетмейстера.
Баланчин зрелой поры инсценирует симфонии, а не романы или пьесы.
Впрочем, симфоническая партитура это ведь тоже книга, книга без
слов. Сама же идея книги была, по всей видимости, подсказана Дягиле-
вым, постепенно терявшим веру в балет и охваченным новой страстью.
Из балетомана Дягилев превращался в библиомана.
«Блудный сын» был поставлен дягилевской труппой в 1929 году.
Баланчин — хореограф и режиссер, но не единственный автор балета.
Многое в нем вынуждено обстоятельствами, многое продиктовано
дягилевской волей. Дягилев сам указал сюжет, сам выбрал компози-
тора и художника, намеревался сам устанавливать свет. (Об этой
подробности мало кто знает. Вдохновитель феерий Бакста и Бенуа, так
много способствовавший декорационному буму 10-х годов, Дягилев
одним из первых оценил значение света в театре. Это стало его увлече-
нием и, более того, его ремеслом. Других он лишь безуспешно домо-
гался. Этим — профессионально овладел.) В «Блудном сыне» Дягилев
задумал комбинацию декоративных и световых эффектов. Он захотел
примирить старый и новый принцип, красочные оргии 10-х годов и
спиритуалистские поползновения конца 20-х. Жорж Руо, живописен
ван-гоговской складки, написал два огромных задника-панно. В ка-
ждом из них разрабатывался классический живописный мотив: примор-
ский ландшафт для первой и заключительной картины, натюрморт с
фруктами и вином — для центральной сцены. Фиолетовые краски Руо
горели печальным и сумрачным исступлением. Светотень Дягилева
окутывала их мягким и таинственным sfumato. Возникала иллюзия
витража. Кощунственный пир начинал казаться тайной вечерей.
Впрочем, игрой света на парижской премьере распоряжался не
Дягилев, а его секретарь Борис Кохно, он же автор либретто. Дягилеву
помешал приступ диабетической болезни. Следующий приступ —
несколько месяцев спустя — оказался роковым. Дягилев умер в Вене-
ции в августе 1929 года. Случилось так, что «Блудный сын» стал
последним спектаклем двадцатилетней антрепризы. Невольно видишь в
нем прощальный дягилевский жест, напутствие Дягилева — своим
зрителям и артистам. Под конец жизни, после двадцатилетних геркуле-
совых усилий, этот магистр европейских увеселений видит себя нищим,
ограбленным и ненужным. Ограбленным? — пожмет плечами мора-
лист. Нищим? — недоверчиво улыбнется скептик. Остается фактом:
этот человек дела и денег, ворочавший капиталами, ничего не скопил
для себя. Он умер, как и жил, в номере отеля. Но, конечно, не о деньгах
думал стареющий Дягилев, а о судьбе своей театральной идеи. Молодой
Дягилев понимал театр как пир. Веруя в правоту и в удачу своих начи-
наний, он назвал «Пиром» дивертисмент, которым кончалось первое
представление «Русских сезонов» в парижском театре Шатле в мае
1909 года. Спектакль, по Дягилеву, пир страстей, пиршество красок,
звуков и дарований. В те годы так мыслил не один только Дягилев. Так
мыслили Фокин, Бенуа, Бакст и, возможно, начинающий Стравинский.
Из концепции театра-пира возник идеальный дягилевский балет: «Ше-
херазада». Здесь, как и в «Блудном сыне», картина пира — основа
действия, главный сюжетный мотив, всеобщая метафора жизни. На
фоне зелено-смарагдовых и кроваво-красных ковров, посреди золотых
подносов с плодами и серебряных кубков с вином полуобнаженные
бледно-розовые, черные, смуглые и пепельно-серые тела сплетали фан-
тастические, изысканно пряные узоры — сначала в вакханалии гарем-
ных страстей, затем в конвульсиях гаремной резни и смерти.
В «Блудном сыне» Баланчин показал совсем иной пир — абсурдный и
чуть зловещий, пир без яств, без услад, без экстаза, пир голодных,
которым не дано насыщения. Голые черепа сотрапезников, голая сцена
и голая поверхность разборного стола придают пиру призрачный или
некоторый аскетический характер. Это не пир во время чумы, а пир
самой чумы, это чума, притворившаяся празднеством и застольем. Надо
быть Блудным сыном — юным, самонадеянным слепцом, чтобы этого
не разглядеть, чтобы весело пировать с самой смертью. Пир, начина-
ющийся с заверений в любви, кончается грабежом и разбоем. Мы
видим пир грабежа и опьянение грабежом: по-настоящему здесь опья-
няет не вино, но опустошительный разгром и разбой на большой
дороге. Двенадцать смешных клоунов (затем к ним присоединится еще
один) разыгрывают прямо-таки скифский набег. Сцена после их ухода
(точнее — отплытия) — совершенно пуста. Хоть шаром покати —
хочется сказать, вспоминая шарообразные головы — кордебалетные
маски.
Но этот странный, варварский пир имеет ослепительную предводи-
тельницу — Сирену. Вот образ, который одним словом не определишь.
Баланчин монтирует сразу многие популярные мифы. Женщина-вамп,
авантюристка-звезда, восточный идол, механическая кукла, Мата
Хари — весь будущий репертуар Марлен Дитрих (отчасти и Греты
Гарбо и некоторых других знаменитых актрис) сжат в несколько
быстрых сценических минут и несколько медленных пластических эво-
люций. Все объединяет неожиданный мотив — блоковский мотив
романтической блудницы. Сирена Баланчина — Незнакомка 20-х
годов, являющаяся в новом урбанистском спектакле. Эта женщина
необычайно тонка и длинна. Эффект достигается хореографией и
костюмом: маленькими шажками на высоких пуантах, еще более высо-
ким тюрбаном на голове и длинным, как шлейф, плащом, окрашенным
в нежный фиолетовый цвет. Балетмейстер поставил для нее два немы-
слимо смелых (по понятиям 20-х годов) эротических танца: вариацию с
фиолетовым плащом и дуэт с Блудным сыном. С плащом Сирена
танцует точно с живым существом, сладострастно кутаясь в него,
обвивая его вокруг своего худощавого тела. А с Блудным сыном она
обращается точно с тряпкой, вещью, куклой или машиной. Ее танцы —
бесстрастные сеансы любви. Сирена являет собой эротический эсте-
тизм. Помимо того — она воровка. Это — маленькая деталь, достой-
ная Мериме (во время свидания Кармен ворует часы у рассказчика).
Сирена крадет с груди Блудного сына крошечный медальон на сере-
бряной цепочке. Она делает это жадно, с живым и очень женским азар-
том. Единственный человеческий миг бесстрастной души, единственная
женская слабость женщины-вамп, не привыкшей щадить слабых. За-
тем она идет к носу импровизированного корабля, изгибается тетивой
и вновь становится тем, кем призвана быть, — не женщиной, а Си-
реной.
Развернутая сцена пира проходит под аккомпанемент бодрой мотор-
ной музыки молодого Прокофьева — Прокофьева парижской поры,
которого называли «композитором со стальными нервами». Этот Про-
кофьев очень далек от Прокофьева эпохи «Ромео и Джульетты».
Может быть, так далек, как марш Фортинбраса от гамлетовых разду-
мий. «Если лет 100-’—150 назад наши предки увлекались веселыми
пасторалями и музыкой Моцарта и Рамо, а в прошлом веке были
поклонниками серьезного и медленного темпа, то в наше время в
музыке, как и во многом другом, предпочитают быстроту, энергию и
натиск», — так думал Прокофьев в 1927 году*. Баланчин той поры
был во многом с ним солидарен. Перед нами особый тип сознания —
молодые завоеватели 20-х годов. В 1928 году в Париже вышел первый
роман Андре Мальро, который так и назывался: «Завоеватели». Рожде-
ние этой литературы действия, натиска и борьбы бросало вызов чуть
более старшей по возрасту литературе потерянного поколения. Мы
видим, насколько балетмейстер во власти музыки, чей эмоциональный
фон можно определить как холодное и недружелюбное любопытство.
Таким взглядом мог смотреть варвар на Рим, или, иначе, это изне-
женный Восток глазами полного сил скифа (прокофьевская «Скиф-
ская сюита» была написана не так уж давно до того). Вот откуда все эти
маски, шарады, аттракционы, которыми наполнен балет. Мы видим,
как двадцатипятилетний Баланчин увлечен фортинбрасовым маршем,
зовущим завоевывать новые территории искусства. Самый красивый
момент спектакля — это тот, когда клоуны и грабители начинают
изображать плывущий флибустьерский корабль. Эпизод настолько кра-
сив, что выпадает из контекста спектакля. Он кажется пластической
декларацией, театральным манифестом. А впрочем, может быть, это
всего лишь «шутка театра» — еще одна шутка Баланчина. Балет в
целом допускает совсем другой ряд ассоциаций. Возвращение Блудного
сына домой, его пир, его обманутые надежды, его трагически осме-
янный жест — здесь все, о чем рассказала литература потерянного
поколения, но только другим языком и на другом материале.
* Цит. по кн.: Холопова В. Вопросы ритма в творчестве композиторов
XX века. М., «Музыка», 1971, с. 192.
А с точки зрения истории театра «Блудный сын» — живой
памятник тех бурных лет. Последний спектакль дягилевской труппы
демонстрирует конструктивистский канон, сохраняет память о париж-
ском театральном урбанизме. Легкая, разборная конструкция — она же
реквизит, она же декорация, она же станок, она же эмблема; яркое
красочное пятно костюма — одного-единственного, но зато велико-
лепного византийским великолепием, по-царски; виртуозная игра с
вещами и особенно — без вещей; бивуачный, а не бытовой характер и
среды, и зрелища, и самой моделируемой зрелищем жизни — все это
обаятельные особенности балетного стиля 20-х годов, стиля, который
многое создал, еще более обещал, но — увы — оказался недолговеч-
нее, чем ожидалось. Впрочем, как долго можно было рассматривать
бивуак в качестве идеальной модели человеческого существования?
И сколько можно было обходиться на театре без вещей, без характеров
и без переживаний? 30-е годы реабилитируют в балете и быт и весь
комплекс обыденных человеческих эмоций. В этой новой ситуации
Баланчин не потеряет себя. А пока что он ставит «Блудный сын»,
апофеоз юности, которая не верит слезам, и рассказ о юноше, который
слишком поздно научился плакать. Он конструирует свой спектакль
прямо из воздуха, из первых попавшихся под руку средств. Он даже еле
успевает свести концы с концами. И он использует приемы эпохи.
Узнаешь то, что знаешь из книг. Костюм Сирены, как кажется, взят
из гардероба Алисы Коонен. Такой же длинный плащ спадал с плеч
кооненовской Федры. Библейская притча, моторная ритмика и акроба-
тический стиль — подобную комбинацию впервые продемонстрировал
Касьян Голейзовский, поставив в 1925 году балет «Иосиф Прекрас-
ный». Но разница достаточно велика. У Баланчина «пирамидки», у
Голейзовского — «пирамида», монументальная фреска-массовка, раз-
мещенная на гигантском станке. Акробатическую метафору Голейзов-
ский обыгрывает в прямом, реально-историческом смысле. На заднике
изображена огромная египетская пирамида. Коллизия спектакля —
коллизия поэта и власти. Баланчин далек от подобных художественных
и идеологических монументов. «Поэт и царь» — этот мотив для Балан-
чина где-то рядом с социальной трагедией и где-то рядом с избитым
трюизмом. Социальных трагедий молодой Баланчин не ставит, а трюиз-
мов бежит как чумы. «Блудный сын» — картина самообольщения
поэта, а не история преследования его. Блудный сын, баланчинский
поэт, сам выбрал свой путь, сам пошел пировать с грабителями и блуд-
ницей. В грабителях и блуднице поэт увидел осуществление своей
великой мечты. «Блудный сын» в постановке Баланчина — притча об
ослеплении, о помрачении гордого ума. Вот в чем ее неочевидный
смысл, вот что питает ее иронию, печаль и горечь.
«Хрустальный дворец» Баланчин поставил, когда ему было сорок три
года. По понятиям древних греков, это возраст расцвета всех физиче-
ских, духовных и творческих сил — вершина, акме. А по понятиям
балетного театра это опасный рубеж, «черная дыра», остановка или же
быстрый спуск после перевала. Как чеховских персонажей, артистов
балета преследует рок сорока лет. Обычно в эти годы тянут лямку, а не
летают. Баланчин в эти годы полон идей. Свой тридцатишестиминут-
ный экспромт он создал без всякого повода и помимо контракта.
Строго оговоренные условия предусматривали, что Баланчин, на поло-
жении так называемого «приглашенного балетмейстера», перенесет на
сцену «Гранд-Опера» три одноактных спектакля, входящие в репертуар
«Нью-Йорк сити балле». Он это сделал, но этим не ограничился. Стены
Парижской оперы подвигнули его на риск творчества без подготовки.
Баланчин решает поставить малоизвестную юношескую симфонию
Бизе (обнаруженную в архивах Консерватории лишь в 1935 году). Это
был счастливый выбор. Танцевальность Бизе, близкая и Баланчину и
парижским артистам, позволила им мгновенно найти общий язык.
«Хрустальный дворец» был сочинен и отрепетирован в необычайно
короткие сроки. Балетмейстеру и труппе «Гранд-Опера» потребовалось
всего две недели. Даже для профессионалов, привыкших дорожить
своим временем и умеющих ценить чужое время, подобные сроки
неправдоподобно малы. Их можно объяснить благорасположением
богини Акме. Но Баланчин не мог медлить, потому что сама музыка
ждала от балетмейстера быстрых и точных решений. Бизе написал
симфонию за несколько недель. Волшебная легкость создания так же
характеризует ее, как и рисунок мелодии, гармонические ходы или же
оркестровка. Импровизация — элемент стиля Бизе, и чтобы воссоздать
этот стиль, нужно было воссоздать дух этой импровизации. Помимо
того, Баланчина торопил властный зов начатой — и хорошо нача-
той — работы. Тяжкая медлительность хореографов чаще всего коре-,
нится в том, что замыслам их сопротивляются устойчивые законы
балета. В случае с «Хрустальным дворцом» мы видим, как эти законы
повелевают — и помогают — спешить. Материал не сопротивляется,
он подгоняет. Безжизненному материалу не терпится стать одушевлен-
ным бытием — произведением искусства. Нетерпение танца входит в
состав игры. Зрители физически ощущают этот нетерпеливый ритм
прямо-таки с первых тактов. Танец ждет балетмейстера как избавителя,
как спящая Аврора — своего принца. Так могли ждать Баланчина
танцовщицы и танцовщики прославленного парижского театра
«Гранд-Опера». Неоампир поздних спектаклей Лифаря, к тому же
впавшего в мрачную мистику, грозил превратить театр в сияющий
саркофаг, блестящую усыпальницу, пантеон танца. Лифарь высоко
поднял культуру балета «Гранд-Опера», но не сохранил его стиль. Он
модернизировал его слишком поспешно. Он направил его по некото-
рому сложному «икаровскому» пути (так Лифарь обозначил свой путь в
искусстве). Он недостаточно оценил самое ценное — непосредствен-
ный танцевальный дар, чистый дансантный гений. Но кто ценил все это
в 20—30-х годах? После дягилевских спектаклей парижская школа
ушла в тень, заслоненная триумфом новых принципов и новых течений.
Ее не принимали больше всерьез. Она уже сама начинала терять о себе
память. Она почти и не существовала в чистоте, попав под прямое или
косвенное воздействие инородных влияний. Считалось, что истинный
балет у дягилевцев, у берлинцев, у шведов, у миланских ослепительных
«звезд», у петербургских легендарных ветеранок, но только не у них —
в «Гранд-Опера», не у них, у французов. «Хрустальный дворец» —
блестящее опровержение этого опасного предрассудка. Сам бывший
дягилевец, Баланчин помог вернуть парижской школе веру в себя и
вновь обрести свой подлинный образ. Дансантный гений «Гранд-Опе-
ра» он посчитал высшей ценностью, безусловным художественным
авторитетом. Он поставил спектакль для танцующих парижских арти-
стов. В панораме четырех (а фактически — пяти) развернутых симфо-
нических сюит он продемонстрировал все, чем прославлен их танце-
вальный стиль: стремительность, темперамент, меру, красочность тем-
пов и отчетливость фраз, романтический порыв и тонкий расчет, чувство
реальности и чувство полета. «Хрустальный дворец» — дань восхище-
ния парижской классической школе. Это коллективный портрет труп-
пы, традиции и, если допустимо сказать, самого танцевального ремесла.
«Хрустальный дворец» — дансантная симфония, образец жанра,
культивируемого Баланчиным и соединяющего симфонизм, лирику и
дансантность. Как у Моцарта и как у Бизе, лирика Баланчина танце-
вальна.
Свой первый музыкально-симфонический балет — «Серенаду» —
Баланчин сочинил в 1934 году. Нетрудно увидеть, чем увлек балетмей-
стера новый жанр. В «Серенаде» главное — поток танца, лирическая
спонтанность. Балет близок к литературе «потока сознания». Но в
«Хрустальном дворце» поток сознания введен в строгие структурные
берега, спонтанность — в подчинении у разума и воли. В качестве
исходной модели Баланчин избирает две наиболее структурные формы
классической хореографии, хореографии Мариуса Петипа: ансамбле-
вую композицию и так называемое «па классик». Для Баланчина в
них — и только в них — вся ценность, вся красота, весь разум балета.
В каждой из четырех частей «Хрустального дворца» свой собственный
ансамбль — в финале их объединяет оркестровое tutti. И в каждом из
них симфонически развернуты конструктивные элементы «па классик»:
выход — антре, адажио, вариации, кода. «Хрустальный дворец» —
балет о балете, но не только о нем. Это балет о прекрасном искусстве.
В 30—40-е годы западноевропейское балетное искусство во многом
пересматривает взгляд на себя. Если авангардисты 10-х и 20-х годов
(как, между прочим, и авангардисты 60—70-х) стремились найти путь к
далеким праистокам культуры, то наиболее ответственно мыслящие
художники 30—40-х годов ищут пути не к истокам, а к вершинам.
Архаическое сознание в этот период не кажется светом в ночи —
односторонняя ориентация на него обнаружила свою негуманность.
В 10—20-х годах инсценировали древний обряд, в 30—40-х — инсце-
нируют классическую симфонию. Симфония для Баланчина и есть вер-
шина культуры — «акме». Он избирает симфонию Бизе, но ставит
симфонию как таковую. В симфонии он видит воплощение вечной
человеческой мечты — мечты о гармонии, мечты о совершенстве.
При этом Баланчин не следует тенью за каждой нотой симфонии (за
что его, кстати сказать, особо ценил Стравинский) и не возрождает в
точности классическое гран-па. Форму диктует музыка, однако диктата
здесь нет: балетмейстер сохраняет всю свою творческую свободу.
Непринудительность творчества в условиях жесткой обусловленности
общего плана и каждого элемента сценической игры — художествен-
ная, а также этическая основа композиции Баланчина, демонстриру-
ющей победу виртуозности над несвободой. Так Поль Валери любил,
чтобы ему называли в заказываемых статьях точное количество строк.
Это ход мысли поэта, пишущего сонет, и шахматного композитора,
составляющего задачу. Баланчин тоже имеет дело со строго определен-
ным количеством тактов. Загадка, как он успевает в них уложиться.
А по сравнению с балетами классических эпох хореографическое
мышление Баланчина более полифонично и аналитично. Он не столько
развертывает па в пространстве, как это любил делать Мариус Петипа,
сколько вскрывает его внутреннее устройство. Его творчество, каждый
его балет, каждая часть его балетов, каждый эпизод и фрагмент —
путешествие внутрь па, проникновение внутрь танца. Мы видим и
циферблат и весь работающий механизм, обычно упрятанный за цифер-
блатом. Механика танца — одна из основ эстетики Баланчина, поэзия
танца — другая, и оба эти начала, враждебные в романтической «Силь-
фиде», в «Жизели», «Шопениане» и в эмоциональном фокинском
театре вообще, прекрасно уживаются в баланчинских балетах. Меха-
ника Баланчина музыкальна. А его музыкальные танцы почти механи-
чески расчленены. Баланчин расчленяет элементарные, нерасчлененные
формы. Правая рука, левая рука, правая нога, левая нога ведут или,
лучше сказать, делают самостоятельную игру. Затем наступает миг син-
теза, миг гармонического единства. Это универсальный закон стиля
Баланчина, точно так же расчленяется ансамблевая композиция каждой
части «Хрустального дворца», точно так же единая форма, как феникс,
возрождается в контрапункте. И точно так же ритмически расчленяется
душевная основа моторного движения — эмоциональный порыв.
Каждая эмоциональная фраза не смазывается, но получает четкий,
всегда краткий, почти всегда изумительно красивый рисунок. Эмоция у
Баланчина ритмична. Мгновенное и, наоборот, длительное эмоциональ-
ное состояние обладает отчетливой ритмической структурой. Баланчин
ритмически выстраивает экстаз, ритмически строит печаль, страдание,
гибель. Из вспышек энергии рождается танец, из угасания воли рожда-
ется па. Поэтому-то Баланчин — балетмейстер. Нетанца у него нет,
мир Баланчина изначально и всецело ритмичен.
(Можно называть «эвритмией» этот мир, используя знаменитое
понятие швейцарского музыкального педагога Далькроза. Баланчин
воспринял некоторые из идей Далькроза и, в частности, требование
строгих соответствий между музыкальным ритмом и пластическим дви-
жением. В бессюжетных балетах этот принцип безусловно оправдан.)
И наконец, стремительность танца — главное условие эстетики
Баланчина. «Хрустальный дворец» — это празднество быстрого темпа.
Музыка Бизе помогает осуществить этот головоломный эффект: из
трех частей «Юношеской симфонии» три написаны в темпе аллегро.
«Хрустальный дворец» — симфония бега. Однако бега у хореографа,
в сущности, нет, а есть неостановимый порыв, бег вдохновения, бег
внутри замкнутого пространства, почти иллюзионистский бег на одном
месте. Необратимое движение рождается из серии изящных и четко
обозначенных полуоборотов, необратимый порыв складывается из лег-
ких возвращений вспять. Танец не торопится и танец мчится. Корде-
балет подтанцовывает, и в кордебалете загорается танцевальный экстаз.
Солисты расхаживают шагом, и они же летят стремглав. Бег и шаг
здесь — две стороны одной и той же медали. Это не только художе-
ственный трюк, сценическая иллюзия, виртуозный прием, остроумная
находка. Это философия наших дней, как ее понимает балетмейстер.
Высшая стремительность у него становится естественной и радостной
нормой. Печаль приходит тогда, когда приходится замедлять бег по
жизни. Быстрый и легкий бег в балете Баланчина рождает ощущение
счастья.
Остановимся вкратце на всех его четырех частях.
Музыковеды отметили особенность единственной симфонии Бизе:
следуя образцам венской классики, моцартовскому симфонизму прежде
всего, Бизе свободно интерпретирует главную структурную величи-
ну — сонатное аллегро. В первой части симфонии Бизе нет подлинной
борьбы двух тем, возникающие коллизии снимаются в общем стреми-
тельном звуковом потоке. Такую именно композицию выстроил Балан-
чин. Конфликты его первой части — иллюзорны, театральны. Отсут-
ствует дух враждебности, господствует дух игры. Действием дирижи-
рует невидимый распорядитель танцев — танцевальный поток. Поток
танца преобразует разноголосицу в согласный хор, завязывает и развя-
зывает интригу, затевает и обрывает спор, разрушает ансамблевую
целостность, хореографический унисон — с тем, чтобы привести к
финальной гармонии, заключительному аккорду. Композиция постро-
ена по красивому дуэльному принципу (он же принцип столкновения
антитез). Кордебалет поделен надвое, на выпад левого полухория сле-
дует контрвыпад справа, пропоста левого полуансамбля влечет за собой
риспосту*, ответ. В отвлеченном рисунке классического балетного
«антре» Баланчин инсценирует дуэль фехтовальщиков, мольеровский
диалог, диспут ученых мужей Сорбонны. Он создает идеальный образ
некоторых традиционных форм французского публичного быта и
французской культуры. При этом он ни на миг не теряет из виду музы-
кального текста. Инсценируется музыкальный текст, и прежде всего
музыкальный текст. Мы видим Главную тему, Побочную тему, в
точный момент появляется Реприза, в финале возникает Финал. Сли-
яние танца и музыки почти абсолютно. И именно потому, что уловлена
форма симфонии, уловлены ее идея, ее гармонический дух. Замысел
симфонии балетмейстер ищет и находит в ее законе.
«Хрустальный дворец» — симфония движения. Мы уже говорили:
во многих балетах Баланчина движение — предмет анализа и вирту-
озной игры. Движение у Баланчина — как веер у актера японского
театра. Балетмейстер любит выстраивать полуиллюзорные мизансце-
ны, в которых различные фазы движения представлены одновременно.
Так поступают художники, пунктиром намечая на рисунке танец. Балет-
мейстер умеет сжать в один сценический миг все этапы, всю длитель-
ность человеческой страсти. В третьей части «Хрустального дворца»
солисты пересекают сцену в головокружительных и очень коротких
вариациях, основанных на вращениях и прыжках. Это балетные вариа-
ции, в которых начало, середина и конец совмещены вопреки всем
аристотелевым законам. Вся энергия балетной вариации сжата в спи-
раль, и она раскручивается, как вырвавшаяся на свободу пружина. Вся
энергия страсти сгущена в один страстный призыв, вся энергия жизни
выбрасывается вмиг в этих балетных вариациях-протуберанцах.
И наоборот, одну лишь затихающую стадию движения Баланчин умеет
развернуть в длящийся, реющий полукруг, полный предсмертной тоски
и прощальной печали. Так построена вторая, медленная часть «Хру-
стального дворца». Эта развернутая часть — прощание с адажио, про-
щание с романтическим балетом. Балетмейстер соединяет одной канти-
леной полет Тальони, партерный лирический дуэт и смерть лебедя на
полу сцены. Он проводит балерину через всю эволюцию белого балета.
Композиция дана в косых ракурсах, наискосок, диагональ сменяет диа-
гональ, елочки кордебалета безмолвно перекликаются с острыми бале-
ринскими арабесками на плие (то есть такими, в которых опорная нога
чуть согнута в колене). На память приходят пастернаковские стихи:
«И страшным, страшным креном/К другим каким-нибудь /Неведомым
' Пропоста — выпад, удар, предложение; риспоста (или рипоста — франц.) —
контрвыпад, ответ.
вселенным/Повернут Млечный Путь». Поэт описывает ночной полет,
но кажется, что в поле зрения стихотворения вторая часть «Хрусталь-
ного дворца», в которой вселенная арабесков — белый балет —
повернута «страшным, страшным креном». Эта композиция — тоже
ночной полет. Французы, в отличие от американцев, танцуют ее в
черных пачках. Танцовщицу выносят на вытянутых руках, и оттуда, из
дальней и высшей точки, начинается ее реющее планирование по диаго-
налям сцены вниз, к ближней и низшей точке. Мы видим полет творче-
ства один на один с мраком ночи. Мы видим полет без путеводной
шезды. Само творчество становится путеводной звездой. Наверное,
поэтому «Хрустальный дворец» назван столь сверкающе и поставлен, а
также танцуется с таким блеском.
Принцип симфонического развития Баланчин искусно переплетает с
принципами двух других классических форм: вариаций (они присут-
ствуют у Бизе) и кончерто-барокко. Понятию вариации балет Балан-
чина возвращает изначальный смысл. В каждой из четырех композиций
варьируется какая-то хореографическая тема. В финальном общем
ансамбле-коде этих тем сразу две. Идет спор синкопированного
шага-батмана и эффектного прыжка (так называемого прыжка на
эффасе). Идет спор ритма и рисунка. Большой батман фиксирует
четкий и праздничный ритм. Большой зависший прыжок очерчивает
четкий и призрачный рисунок. За пропостой батмана следует риспоста
прыжка. Пропоете ритма немедленно отвечает риспоста рисунка.
Баланчин расчленяет самую суть нерасчленимой образности классиче-
ского танца. Он заставляет саму образность танца танцевать необычай-
ный эстетический контрданс. Свой бессюжетный спектакль Баланчин
строит по законам анализа и по законам сказки. Сказочную судьбу
получают отвлеченные элементы эстетики и отдельные классические па.
Сказочные персонажи коды — батман и прыжок, ритм и рисунок. Они
вступают в поединок, как герои рыцарских драм. Они в постоянном
движении, как маски итальянских комедий. И с ними случается ряд
волшебных метаморфоз, как с принцессами или золушками старинных
балетных сказок. Да, через этот спектакль незримо проходят тени вели-
ких — и столь различных — театральных эпох. Всех их примиряет
стремительно несущий поток танца.
Формальный же’ принцип состоит в том, чтобы каждая из двух тем
исполнялась разными группами участников, чтобы все время варьиро-
вался состав этих групп. Мы видим прыжок в исполнении дуэта или же
только балерин, или же — это необыкновенно красивый момент — в
воздухе застывает мужской квартет. Такая же игра проводится и с
батманом. Под занавес обе вариации объединены. Под tutti оркестра
танцует вся труппа, все восемь солистов, все корифеи, весь слившийся
кордебалет. Рисунок и ритм возникают в последний раз, в мощном
усилении, в захватывающем хореографическом контрапункте.
Подобная форма в музыке носит название двойных вариаций. Ее
очень любил Бизе и с блестящим эффектом использовал в чисто симфо-
нических целях. Двойными вариациями (одновременным проведением
двух неимитационных тем) кончается знаменитая «Фарандола». Это
танец из музыки, написанной к драме Доде «Арлезианка». А в сущно-
сти, двойные вариации есть не столько виртуозный прием, сколько
музыкальный аналог драмы. Так — очень расширительно — понимал
эту форму сам композитор. Финал «Кармен», до слез волновавший
Чайковского и описанный им (в письме к фон Мекк) в очень точных
словах, — это тоже «двойные вариации», хотя и не в строгом
формальном музыковедческом смысле. Бизе сталкивает праздник и
смерть, игру жизни и неумолимый рок, в финале трагедии жизнь
кончилась, внезапно оборвалась — и жизнь продолжается, жизнь бес-
конечна. Но именно так задуман и построен «Хрустальный дворец».
Двойные вариации здесь используются и как конструктивный прием и
как романтическая, почти универсальная формула жизни. Баланчин раз-
ворачивает ее во времени и в пространстве. Во второй части мы видим
мрак фатума, в финале — свет, краски и вдохновение фестиваля.
В парижской редакции это действительно фестиваль, когда четыре ан-
самбля, одетые в различные цвета, танцуют одновременно (в нью-йорк-
ской редакции все танцовщицы в белом). Переливающаяся игра чистых
тонов входит в пересекающуюся игру чистых линий. Непонятно, что
предшествует чему: краска или линия, танец или краска. Показан
идеальный пир, о котором Дягилев мог лишь мечтать, — пир, где
пирует одухотворенное, избежавшее смерти искусство.
Не следует забывать, что в Париже в 1947 году хорошо помнили и
1944 год (весна Освобождения) и год 1940-й (в том году пала Фран-
ция). «Хрустальный дворец» нельзя ни оценить, ни понять вне этой
исторической перспективы.
Последнее замечание: о роли жанра кончерто-барокко (кончерто-
гроссо). Под этим названием Баланчин поставил известный балет (на
музыку концерта для двух скрипок И.-С. Баха). Кончерто-гроссо —
инструментальный концерт, но не для одного, а сразу для нескольких
солирующих инструментов. В этой форме, как, пожалуй, ни в какой
другой, выявилась состязательная идея искусства, столь близкая Балан-
чину, но и Стравинскому, еще со времен «Петрушки». Это одна из идей,
которая их объединила. Один из их общих балетов так и называется:
«Агон» — «состязание», «спор». С жанром кончерто-барокко связан
замысел —«показать спор четырех групп, четырех ансамблей, «четырех
темпераментов» (а это еще один, может быть, самый прославленный
балет Баланчина). В «Хрустальном дворце» перед нами как бы прохо-
дят четыре версии одного и того же балета. Мы видим четыре варианта
зрелища и четыре типа женской красоты. Какая из них истинная? Но
так вопрос не стоит. Кончерто-барокко — антидогматичная форма —
дает первенство всем четырем. Каждая из них получает выигрышный
номер, каждая имеет свой миг торжества. В конце концов их объеди-
няет общий триумф и даже -— на один миг — некое подобие
триумфальной арки.
Торжественно-праздничный жанр спектакля-триумфа сложился во
Франции еще в версальские времена. В 1680 году Бошан поставил в
Версале «Триумф любви», оперу-балет, годом спустя показанную в
Париже. Это — историческое событие для французского балетного
театра. Впервые на сцене Парижской оперы появились профессиональ-
ные танцовщицы (до того, в течение десяти лет, небольшой кордебалет
состоял из мужчин, исполнявших женские партии в масках). В «Хру-
стальном дворце» оживает память о легендарных спектаклях Бошана,
Мольера и Люлли. На премьере, в 1947 году, балет Баланчина был
даже декорирован в великолепном версальском стиле. Но от декора-
ций пришлось отказаться. Они утяжеляли действие и направляли его в
сторону старины. Между тем «Хрустальный дворец» — современный
балет. В нем нет никаких исторических стилизаций. И смысл его — не
в фабульных триумфах любви, но в триумфе метода и в триумфе танца.
И жанр его — современный урбанистский балет, построенный не в
конструктивистских приемах (как «Блудный сын»), а музыкально.
И все-таки он не случайно назван «Дворцом». И не случайно на
заднике возникает схематическое изображение Версаля. Сам метод
Баланчина — архитектоничный, разумный, упорядочивающий — вер-
сальский. И в танцах балета, хотя они стремительны и в их вольном
праздничном духе есть что-то от общедоступного монмартрского ЬаГ-
musette, — в этих танцах тоже присутствует версальский стиль. Исто-
рия балета в Париже и Петербурге тесно связана с бытовой эстетикой
дворца — дворцовой средой, церемонией, обрядом. В балете Балан-
чина нет дворцовой обрядности, но есть дворцовая магия дали.
Длящиеся движения создают иллюзию анфилад. «Хрустальный дво-
рец» — анфилада четко прочерченных танцевальных метаморфоз.
Здесь завершается дворцовая история балетного театра. То, что на
протяжении двух или трех веков было местом действия, декорацией,
костюмом и париком, здесь становится музыкой, линией и порывом.
«Каприччио» — один из балетов позднего Баланчина. Почти все они
современные хореографические каприсы. Каприсы страсти — их веду-
щий мотив, каприсы формы — пластическая основа. Строгий одухо-
творенный неоклассик, Баланчин дает волю изысканнейшим художе-
ственным инстинктам. Его рисунок подчас слишком изобретателен,
слишком красив. Его фантазии дурманят. Можно понять, какое слепое,
почти биологическое чувство красоты томится в глубоких недрах души
этого человека. И как далеко увело бы это наваждение красоты, не
стань на пути суровая дисциплина и ясный разум. Как старый воин,
удалившись на покой, выращивает неведомые сорта роз, Баланчин в
60—70-е годы создает неведомые комбинаций ритма и линий. Он
возвращает в балет интенсивный цвет (яркие рубиновые пачки танцов-
щиц «Каприччио»), он играет соотношениями цвета и формы. Его увле-
кают далекие, эстетически замкнутые (то, что называется — эзотериче-
ские) культуры. Баланчин этих лет — стилист, стилизатор. Он ставит
балеты в японском стиле, в стиле венского вальса, в стиле художников-
прерафаэлитов. К циклу легких каприсов-стилизаций относится и «Ка-
приччио», хореографический мюзикл, балетная юмореска. Это лишь в
очень далекой основе парижский балет. Колорит композиции — не
латинский, а латиноамериканский. Через все танцевальные перипетии
проходит мотив некоторой «шестой», или, если угодно, «седьмой» пози-
ции, не принадлежащей к числу канонических пяти. Действие начинает,
действие заканчивает и действием руководит танцовщица с дерзко
отставленным бедром. Поза гитаны и позиции классической балерины
здесь слиты в острых сочленениях, насмешливых экзерсисах. «Каприч-
чио» — апофеоз гибкости, страсти и ритма. Как и в других сочинениях,
страсть у Баланчина ритмична.
О нет, это не рок-балет с его коллективным лицом и неизменной
ритмической схемой. Рок-н-ролл должен быть чужд Баланчину. Ритми-
ческая стихия реставрирует у него не коллективное бессознательное и
не агрессивный обряд, а некоторым загадочным образом — классиче-
ский театр. Его ритмы не утрачивают индивидуальности, у них есть свое
лицо, своя партия, свой голос. Баланчин ставит ритмические ансамбли,
а не массовый перепляс, он разыгрывает искусные ритмические диало-
ги. Вся медленная развернутая часть «Каприччио» — это дуэт, один из
многих и один из лучших у Баланчина, основанный на игре череду-
ющихся остроумных ритмических реплик. Дуэт отдаленно напоминает
объяснения шекспировских комедийных любовников, а еще более —
персонажей комедий Мариво. Пластические комбинации дуэта — тан-
цевальный мариводаж, хотя и переведенный на современный язык, све-
денный к рискованным телоположениям и смелым поддержкам. Вся
фабульная линия намечена едва заметным штрихом, продернута сверка-
ющей, но тонкой шелковой ниткой. Дуэт очаровывает потоком отчетли-
вых и призрачных форм. Ритмические перебои и паузы набрасывают на
него невидимое покрывало. Поэзия входит в эту игру не очень сдержан-
ных, но очень веселых страстей. У исполнителей находится та легкость
души, которая схватывает на лету комизм любых жизненных положе-
ний. Стихия ритмов в «Каприччио» — стихия юмористическая. По-
путно танцовщицы демонстрируют, что такое виртуозность по Балан-
чину, что такое виртуозность современных артистов. Они ищут ее не в
сфере вращений или прыжков, но в сфере непредсказуемых ритмиче-
ских модуляций.
«Каприччио» поставлено на музыку фортепьянного концерта, напи-
санного Стравинским в 1929 году. Это сочинение имеет мало общего с
традиционным инструментальным концертом. Это свободная фантазия
в старинной манере. В «Хронике моей жизни» Стравинский пишет, как
он думал о Вебере, великом мастере подобных фантазий. В «Диало-
гах» указан еще один источник — румынский ресторанный джаз. Стра-
винский не находил ничего предосудительного, чтобы так, с легкой
душой, сопоставить музыку романтизма и музыку ресторана. Стравин-
ский считал, что шкалу ценностей определяет он — и никто иной. (Тут
стоит добавить, что в 20-х годах Вебер котировался еще ниже, чем
джаз.) В итоге возникло блестящее сочинение, вольнодумное по духу и
по интонационному словарю, оригинально трактующее и форму кон-
церта и характер фортепьянной игры, проникнутое — и движимое —
своеобразным фортепьянным гедонизмом. Стравинский обрушивает на
слушателя водопад синкопированных мелодий, гармонических призра-
ков, динамических коварств. Рояль создает образ гениального чародея-
тапера. В клавишных звучаниях прослушивается малиновый хрусталь-
ный звон. «Каприччио» — парад неверных и восхитительных насла-
ждений жизни. Так, во всяком случае, эта музыка воспринята Баланчи-
ным. Со страстью, удивительной и для человека шестидесяти лет и для
художника шестидесятых годов, бросая вызов новым идолам поп-арта
и контр-культуры, а может быть, вовсе не замечая их, балетмейстер
возрождает элегантную, хотя неуловимую реминисценцию «века джа-
за». Прямой образ возникает один только раз, когда пара танцующих,
точно забывшись, проходит вдоль сцены быстрым фокстротным
шагом. Других заимствований бытового танца здесь нет. Баланчин
конструирует идеальный дансинг, фокстротный «хрустальный дворец».
Но у «Каприччио» есть другое название — «Рубины». Это часть
трехчастной композиции «Драгоценности», поставленной на музыку
Чайковского, Стравинского й Форе. Отождествление классического
танца и драгоценных камней известно в балете давно и обыгрывалось
хореографами многократно. Самый блистательный пример — па-де-
катр камней из последнего акта «Спящей красавицы». По всей видимо-
сти, Баланчин вспоминал этот волшебный ансамбль Петипа, когда ста-
вил «Хрустальный дворец». Но в «Драгоценностях» Баланчина привле-
кает иной мотив — не эстетика, но символика камня. Он ищет тайное
значение рубина, изумруда, бриллианта. Он проникается верой в
мудрость ушедших времен. Подобно другим изощренным интеллекту-
алам, подобно Жану Жироду, например, Баланчин любит возрождать
представления, отвергнутые наукой. Для них это современная форма
вольнодумства. Это игра со скучными, приевшимися ликами миропо-
рядка. Это поэтический каприз, наконец. «Четыре темперамента» —
самый прославленный балет Баланчина в этом ряду. «Драгоценно-
сти» — самый изысканный, самый эффектный. Рубин, как утверждали
волхвы, дает власть над людьми и пробуждает вокруг себя любовные
страсти. «Каприччио» — юмористическая инсценировка верований
волхвов, положенная на современные ритмы. В хореографии столько
же блестящей иронии, сколько магического волховства.
Он очень забавен и очень серьезен, этот балет, в котором балерина
разрушает гармонию кордебалета, и все кавалеры, забыв своих дам,
толпой бегают взад и вперед, смешно выбрасывая перед собой сжатые
кулаки. Балерина и есть рубин, «красный камень». Ее острый танец —
любовный клич. Ее длинные ноги попирают и рассекают пространство.
Диагональ ее высоких прыжков полна дикой прелести, пьянящей отра-
вы. С руками, вскинутыми вверх и отведенными чуть назад, она являет
собой чистую фигуру классического жете, увенчанную совсем не клас-
сическим, хищным жестом. Откуда явилась Баланчину эта девушка с
ястребиным прыжком? Из индейских легенд, из собственного «Блуд-
ного сына», из блоковских вольных мыслей? И что означает этот мель-
кнувший в прыжке ястребиный профиль? Быть может, балетмейстеру
привиделась юная охотница-смерть? А может быть, это совсем необы-
чайный образ охотницы-музы? Все может быть у автора «Аполлона
Мусагета» (Аполлона — учителя муз). Балеты Баланчина не раскры-
вают всех своих загадок.
Ситуация Мориса Бежара
Впервые с живым искусством Бежара мы познакомились лет десять
назад, когда Франческа Зюмбо и Патрис Барт, молодые танцовщики
Парижской оперы, показали дуэт из индусского балета «Бахти». С тех
пор понятия Бежар и Восток в нашем сознании соединились. Казалось,
Морис Бежар — тот балетмейстер, который нарушил давнюю клятву
верности олимпийским богам и отправился на поиски мудрости к
берегам Ганга. Одних это воодушевляло, других — нет. Классический
балет и так переживает в Париже не лучшую свою пору. И хорошо ли,
что блестящий талант используется для слишком модных интеллекту-
альных операций? Кого только не увлекала йога? Кто только не пропа-
гандирует дзэн? А классических балетмейстеров — наперечет. Из
того, что мы узнавали в дальнейшем, из слухов, рассказов, апологетиче-
ских описательных книг и статей можно было сделать и более реши-
тельный вывод. В искусстве Бежара не только перемещается направле-
ние культурных интересов из одного — традиционного — в дру-
гой — неосвоенный регион, но и меняется сам характер этих интере-
сов, сдвигается ведущая ось: из области эстетики в область философии,
в сторону отвлеченных проблем жизнеустройства. Иначе говоря,
Бежара не столько интересует техника танца, как, скажем, Баланчина,
сколько техника жизни, «техника овладения жизнью^ если воспользо-
ваться популярной формулой Макса Вебера, историка, социолога и
искусствоведа. Профессиональный дилетантизм Бежара страшит мень-
ше, нежели, так сказать, экзистенциальный дилетантизм. Балеты Бежа-
ра — демонстрация экзистенциального мастерства, а школа его, «Му-
дра» *, — школа навыков жизнеустройства. Бежар учит внутренней
свободе, как учат выворотности, и преподает жизнелюбие, как пре-
подают апломб. Его экзерсис — некоторый метафизический экзерсис
духа, хотя он и сводится к острым комбинациям ритма и парадо-
ксальным телоположениям, требующим самообладания, тренированной
мускулатуры и гибкой спины.1 Если все это так, то, значит, Бежар
принадлежит к выдвинувшемуся в последнее время типу режиссера —
учителя жизни, режиссера-проповедника, режиссера-«гуру» "Л исполь-
зующего средства эстетики для внеэстетических, хотя и благих целей,
для самопознания, для поучения, для урока. Тогда понятно тяготение
Бежара к индусской культуре, классической культуре «гуру». Ведь
Специальная школа широкого профиля, основанная Бежаром в Брюсселе в
1970 г. Субсидируется бельгийским правительством и ЮНЕСКО. Африкан-
ский филиал школы был позднее открыт в Сенегале. В школе преподают все
виды танцевальных искусств (классический танец, танец «модерн», фламенко
и др.), а также пение, декламацию, драматическое искусство, игру на ударных
инструментах и, кроме того, йогу. Задача школы «Мудра» — воспитание «тоталь-
ного», или, иначе, универсального актера.
** Гуру — традиционный тип индусского вероучителя, распространившийся в
последние годы в некоторых, притом наиболее развитых странах западного мира.
именно в Индии ритмику и пластику, язык балета, родной бежаровский
язык используют и как мистический шифр и как инструментарий для
сложных экспериментов со временем, с человеческой психикой, с созна-
нием, волей и чувством. И если все это так, то, значит, Бежар принадле-
жит к кругу современного танца «модерн». Потому что для не имеюще-
го четких границ направления — современного танца «модерн», как раз
характерны все обозначенные выше черты: техника жизни, экзистен-
циальное мастерство, эксперименты со временем, психоаналитические
эксперименты, острая ритмика, метафизический экзерсис, гибкая спи-
на, проповеднический пафос. Но в таком случае, как объяснить тот
факт, что сами представители этого направления — теоретики (точнее:
классификаторы — теоретиков еще не существует) и практики совре-
менного танца «модерн» Мориса Бежара своим давно не считают. Он
для них — такой же чужой, как и для последователей академического
балета. В пространном словаре танца «модерн», изданном в Париже в
1978 году, приводится масса дат и имен, но имя Бежара не названо,
отсутствуют и даты его постановок. Бежар торжественно отлучен от
современного танца «модерн». В свое время, а именно двадцать лет
назад, его так же отлучали академисты. Ситуация запутанная, но она
вызывает интерес. Кто он, Морис Бежар, дважды отступник, дважды
иконокласт? Теперь, после московских гастролей, мы можем кое в чем
разобраться.
Сразу скажем, начертанный выше воображаемый портрет лишь
отчасти совпадает с оригиналом. Оригинал и сложнее и проще.
Оригинал непоследовательнее и нередко противоречит сам себе. А са-
мое главное: Бежар — не «гуру», но художник, артист, хотя и не кано-
нический и не традиционного типа. Бежар часто поступает по логике,
прямо противоположной логике современного танца «модерн», испо-
льзуя внеэстетические средства ради художественной цели. Отсюда его
интерес к конкретной музыке, музыке ритмически организованных
звучностей и шумов. Даже речевые лозунги, радиоголоса, вводимые им в
безмолвный мир балетного спектакля, становятся художественным эле-
ментом, создают еще одно измерение — звуковое. Ритм лозунга зани-
мает Бежара не меньше, чем его смысл, тембр голоса — не меньше,
чем содержание слова. Подобное отношение к реплике демонстрируют
и некоторые композиторы XX века. Да и сам ритм у Бежара, дьяволь-
ский, гипнотический, всегда суггестивный — есть усиленный сверх
всяких норм и за счет всего остального элемент организации музыки,
элемент танца, а не орудие каких-то опасных воздействий, деспотиче-
ских манипуляций сознанием и волей зрителя. Лучшие работы Бежара
вызывают у зрителя не чувство подавленности, но чувство подъема,
аффект освобождения и даже блаженство (две средние части бетховен-
ского балета). А худшие — обычное театральное разочарование, даже
чувство тоски. И наконец, рисунок движения у Бежара, бежаровский
пластический стиль, его необычные телоположения, то жестко-геоме-
трические, то волнообразные, то асимметрично-кривые и всегда нару-
шающие равновесие (которое привычно для глаза и к которому стре-
мится классический балет) — эта стилистика тоже преследует эстетиче-
скую цель: балетмейстер ищет универсальную формулу красоты, опи-
раясь на современный художественный опыт и на забытые традиции
старинных культур и не замыкаясь лишь в формулы, унаследованные
от эпохи Ренессанса. Тем самым Бежар стремится создать некоторый
пратанец или танец вообще, его система есть опыт конструирования
универсального танцевального языка,! своеобразного танцевального
эсперанто, которое могло бы объединить и сплотить наиболее удален-
ные во времени и в пространстве пластические культуры. Танцеваль-
ную систему Бежара и в самом деле не следует сводить к танцу «модерн».
Точнее ее обозначить более широким понятием свободного танца.
' Свободный танец Бежара стилистически един, но тематически
неоднороден. Бежар суживает, сколько возможно, стилистические гра-
ницы своей танцевальной системы, но расширяет, опять-таки сколько
возможно, ее тематический кругозор. Здесь встречаются Восток и
Запад, древнейшие ритуальные и новейшие экспериментальные фор-
мы. В бежаровский кругозор входят анималистские формы танца,
основанные на подражании видимой природе, зверям, птицам, цветам.
В бежаровский кругозор входят тотемические и анимистские формы тан-
ца (хотя, кажется, в этнографии такого термина нет), основанные на
поклонении невидимым существам — духам. Сюда же относится и
ритуал поклонения природным стихиям (ветру в «Ромео и Юлии», огню
в «Жар-птице»). В бежаровский кругозор вошли средневековые акро-
батические прыжки (с поджатыми ногами) и магические заклинания
(пассы руками), причем функции их нередко перемешаны, по контрасту
изменены. Все это — архаическая, древняя основа системы Бежара. Из
современности у него острая, городская ритмика, урбанный дух, урбан-
ный стиль, жесткая урбанная инженерия. Из современности у него
много цитат; от дельсартовских семиотических схем (Франсуа Дельсарт,
родной дядя Бизе, разрабатывал систему выразительных жестов и поз,
отдельный класс которых он назвал семиотикой) до фокинских панто-
мим и до изображений Нижинского — Фавна. Испытываешь особое
волнение, когда в кордебалетных плясках «Весны священной», среди
всех этих кавказских приседаний на корточки, жонглерских скачков,
поз на голове — поз йоги, — неожиданно возникает легендарный
юношеский силуэт с выставленными вперед и опущенными, точно
виноградные грозди, кистями. Нижинский — спутник Бежара.
И Фавн — его спутник и его персонаж. Не такой уж он данник
Востока, этот автор балета «Бахти».
А если иметь в виду только французский театр, следует сказать так:
Бежар возрождает гистриенную стихию, но не возрождает карнаваль-
ный смех. Гистрионную стихию Бежар интерпретирует очень всерьез,
не как пародию, но как порыв; гистрион для него — клоун неба.
Бежар не следует ни высокой версальской традиции, ни низкой
фарсовой, хотя иногда их с дьявольской улыбкой мешает.
Гастроли бежаровской труппы начались «Девятой симфонией» на
музыку Бетховена, на текст Шиллера и еще на один текст — необъяв-
ленного поэта. Первое, что мы услышали, придя на спектакль, было
имя Диониса, античного бога вина и веселья. Дифирамб в честь диони-
совых плясок прочитал радиодиктор. А первое, что мы увидели, был
огромный круг, очертивший сцену и сам расчерченный сеткой ради-
усов, точно компас, атлас или загадочный зороастрийский знак. По ходу
действия выяснилось, что загадочные радиусы четко определяют струк-
туру мизансцен и что постановщика, почитателя Диониса, не влечет так
называемая «оргиастическая» античность, предмет упований балетмей-
стеров, художников и поэтов 10-х годов, в прекрасных, но неосуще-
ствимых и неосторожных мечтах стремившихся к чистой спонтанности,
к абсолютной свободе. Бежаровский танец — спонтанный порыв в
жестко организованном сценическом пространстве. Культ Диониса у
Бежара неотделим от культа Пифагора. Бежар чтит священное опьяне-
ние, линию и число. Он ставит необычные дионисии —- вписанные в
круг. Его неистовые вакханалии расчислены как теоремы. Его
артист — столько же вакхант, сколько геометр. Необузданный импульс
получает строгую геометрическую форму, асимметричный рисунок
очерчен правильной кривой. Старинный жанр дифирамба выстраива-
ется чуть ли не по законам современного дизайна. Молодой Бежар,
эпохи «Весны священной» и «Болеро», поражал зрителя жесткой
определенностью структурной схемы: тут хор юношей, там хор деву-
шек, тут мелодия, там аккомпанемент, никаких промежуточных, невы-
явленных форм, мягкой растушевки, светотени, торжествует очищен-
ная от всякой сентиментальности чистая логика или, если угодно, воля
структуры. Этот Бежар был безжалостен, как закон. С годами он
помягчал, но жесткому внутреннему принципу мышления не изменил.
И тогда стало ясно, что метод Бежара — есть доведенный до крайних
пределов, до схемы, традиционный французский метод, он лишь вызы-
вающе обнажен. Бежаровский эллинизм помечен чертами своей эпохи,
подобно тому как эллинизм Расина — чертами своей. Это — особый
французский дар: подчинять древнее предание новым веяниям и даже
новой моде. И в этом сказывается безотчетное латинское неприятие
архаики, варварской старины в ее подлинной, грубой сути. Перед нами
не реставрация, а именно модернизация. Поэтому-то бежаровский кол-
лектив, двадцать лет ищущий пути к заброшенным, заповедным ис-
точникам танца, называется не как-нибудь запальчиво по-старинному,
но очень спокойно: «Балет XX века».
Свой свободный танец Бежар не основывает на идее абсолютной
свободы. Исходная идея у Бежара другая — раскрепостить человече-
ское тело, а тем самым возвысить человеческий дух. И во вступи-
тельных словах к «Девятой симфонии» и в аллегорическом действе,
которое без слов, но с буквальностью лозунга и плаката разыгрывается
в первой части симфонии, — один и тот же призыв: преодолеть страх,
внутренний гнет, духовную несвободу, подняться и вспомнить свой под-
линный человеческий образ.Проблему памяти Бежар решает как поэт-
утопист. Он хочет опереться не на индивидуальную, исторически лока-
лизованную, но и не на коллективную мифологическую, а на неко-
торую метафорическую память, которая и не есть, собственно говоря,
память, а есть сон: сон поэта, но все-таки сон. В его балетах человек
вспоминает себя не безработным, не солдатом, гниющим в окопах, и не
узником концлагерей, но Жар-птицей, Фениксом, Ромео и Юлией или
чем-то совершенно не антропоморфным — Мелодией (в «Болеро») и
даже Весной священной. Задавленному капиталистической цивилиза-
цией человеку, к тому же приученному осознавать себя лишь в тисках
жестких, неподвижных и непоэтичных социологических форм, Бежар
предлагает иную возможность: вспомнить о своей близости к городу и
природе, о своем родстве со стихотворением, симфонией, аэропланом,
деревом и цветком. Ситуация человека XX века, как ее понимает
Бежар, есть ситуация освобождения. Свободный танец призван ее
выявить и запечатлеть, подобно свободному стиху современных поэтов.
В европейской поэзии у Бежара великий предшественник — Эмиль
Верхарн, живший на рубеже нашего века. И вот совпадение: марселец
Бежар, проведший свою молодость в Париже, попадает затем в Брюс-
сель, где вот уже около двадцати лет возглавляет бельгийский балет.
А Бельгия — страна Эмиля Верхарна.
Бежар изымает свой персонаж из конкретной среды, из определен-
ного времени, из эпохи. Но так поступал и классический балет, впрочем,
для того только, чтобы с большей наглядностью прорисовать историко-
культурный силуэт человека. А сам Бежар рисует иной силуэт. В сущ-
ности, это совмещение двух силуэтов, почти как на портретах Пикассо
или же как в храмовых скульптурах азиатских народов. Персонаж Бежа-
ра — полудикарь-полубог, обитатель земли и обитатель неба, двуеди-
ное существо, в котором совмещается первобытная грубая сила и
возвышенная астральная красота. Иначе сказать: персонаж Бежара —
человек, изъятый из культурно-исторических представлений и перене-
сенный в систему природных и мифцлогических метафор. Бежар
поклоняется человеку природы и мифа. И все его персонажи поклоня-
ются природе и мифу — вне себя и в себе. Они чтут свое тело, они чтут
свой образ, свой дух. Становятся возможными немыслимо сложные
телесные мизансцены. Становится возможным немыслимо гордое
самоотождествление с Фениксом и огнем.'\В прыжках и позах бежаров-
ских танцовщиков природный инстинкт и священный экстаз дополняют
и направляют друг друга. Поэтому-то «Весна священная» — его балет,
именно Бежар должен был инсценировать эту музыку и эту художе-
ственную идею.
Вацлав Нижинский и Леонид Мясин, авторы двух предшествующих
постановок (1913 и 1925 гг.), за основу брали старинный языческий
обряд, что, впрочем, предусмотрено сценарием Н. Рериха и что объяс-
няется этнографическими пристрастиями «Мира искусства». Однако
языческий обряд — это культура, хотя и примитивная, и это история,
хотя и отдаленная. И, видимо, потому Бежар отказывается следовать
по уже проложенному пути. Он ставит не старинный обряд, а неко-
торый условный брачный танец. Брачный танец танцуют животные в
дикой природе — вот тот образец, который избирает Бежар. Бежа-
ровский брачный танец включает все природные компоненты: турнир-
ные бои (юноши, округлив грудь, наскакивают друг на друга), охоту-
погоню и демонстрацию мужской мощи, доблести, красоты. Эта анало-
гия кажется Бежару не грубой, не снижающей, но возвышающей,
прекрасной. Этот, самой природой срежиссированный ритуал в глазах
Бежара более драматичен и более театрален, нежели свадебные обряды
культурного человека (на них построены два знаменитых балета: «Спя-
щая красавица» Мариуса Петипа — грандиозное обобщение европей-
ского обряда предложения руки — и «Свадебка» Брониславы Нижин-
ской, острогротескная стилизация старославянского обычая выдачи
замуж).
Всего лишь тремя четвертями века отделена «Весна священная» от
«Спящей красавицы» (где ведущий поэтический образ — тоже Аврора,
весна), а кажется, между ними пролегла историческая катастрофа. Или
же произошел геологический слом. Полная смена художественного
ландшафта. Нет ни женихов, ни их алых роз. Изысканный церемониал
предложения руки не разыгрывается в разных ракурсах и различных
сценических ситуациях, наяву и во снах, в адажио с четырьмя кавале-
рами, в гран-па нереид, в дуэте с возлюбленным принцем. Идет охота,
готовится битва, наступает война. Руки «Весны священной» судорожно
сжимаются в кулаки или же вскидываются вверх в экстатическом
порыве разъятых пальцев. Это не облаченная в перчатку учтивая рука.
Это обнаженная рука-пятерня, рука-лапа. Но в ней есть что-то от
солнца и что-то от звезды: звездный рисунок, звездный блеск, звездное
электричество. И путь, которым стадоподобное юношеское сообщество
отправляется на поиски своих подруг, проходит совсем не по звериным
тропам. Это в буквальном смысле звездный путь. Поодиночке, прогиба-
ясь дугой, юноши следуют друг за другом в пронзительных и лику-
ющих полуоборотах вперед и назад — классических полутурах. Это
уже не охота, не брачный танец, но чистое торжество мужской воли.
В хаосе быстро меняющихся, теснящих друг друга мизансцен возни-
кает свет и возникает диагональ, уходящая за кулисы. Понятие беско-
нечного открывается беснующимся юношам-фавнам. Из танца инстин-
ктов рождается фаустов миф, и подобная метаморфоза типична для
балетов Бежара, так же как двуединый персонаж с обликом фавна и
внутренними чертами Фауста (этот бежаровский миф — или этот бежа-
ровский мир — с особой наглядностью будет представлен в балете
«Наш Фауст»),
«Весна священная» основана на умножении жеста: множество рук
взметаются в одно и то же время, множество спин сгибаются в один и
тот же миг. Это триумф жеста как выразительной возможности танца.
Жест умножен и освобожден. И более того, жест освобождает. Свобод-
ный танец сводится к жесту прежде всего, но в свободном танце чрезвы-
чайно расширена сфера его смысловых и пластических значений. Жест
освобождает не только инстинкты, но и дух, человеческий образ,
плененное бытом бытие человека. Жест не только рассчитанное движе-
ние руки, но и спонтанное движение всего тела? Жест — это gestus, как
его называл Бертольт Брехт, однократная вспышка экспрессии, пучок
экспрессивных сил, в которой собрано множество приемов и состояний.
И вот развитие самого жеста от низших форм к высшим составляет
смысл и даже сюжет бежаровской «Весны священной». Мы видим
эволюцию жеста — от самого примитивного, дикого, не отделенного
от грубой материи и земли, до поднебесного, приветствующего небо. Из
жеста-мычания рождается жест-слово. Это история просветления жеста.
И это история просветления, которое человеку — или танцовщику —
принес жест. Бежар пренебрег многими увлекательными возможностя-
ми, таящимися в музыке «Весны священной», но зато выделил и
властно провел одну главную художественную идею — идею неумоли-
мого нарастания, идею роста. Это, в сущности, и предопределило успех.
Это позволило инсценировать великий балет Стравинского, долгое
время казавшийся малосценичным. Бежар нащупал нерв партитуры,
угадал ее стиль. Этот стиль можно назвать динамически монументаль-
ным.
Полгода спустя после «Весны священной» Бежар поставил равелев-
ское «Болеро», изящный, почти что камерный балет, но и в нем
утвердил принципы своего стиля, и в нем прославил gestus, пластический
жест. И в этом случае Бежар вернул в театр балет, считавшийся
созданным для концертной эстрады, а не для театральной сцены.
В «Болеро» философия жеста дополнена эстетикой жеста, жест здесь
строг, многообразен и очень красив. Кроме того, он меняет характер и
протяженность. Он завораживает и длится. В «Весне» жест укорочен,
слит с ритмом, а в «Болеро» развернут и удлинен. Это поэма долгого
жеста. Жест в самом деле становится мелодией, бесконечной мелодией
(Мелодией названа главная партия и сама героиня-танцовщица,
девушка в белой майке, танцующая на красном столе). Жест длится
фактически весь балет. Бежар демонстрирует, что можно извлечь из
человеческих рук, когда тело приковано, и что можно извлечь из челове-
ческого тела, когда замкнут на замок человеческий дух. Магический
жест «Болеро» завораживает и пробуждает. Он пробуждает самого
мага — девушку, прикованную к столу, людей, прикованных к стульям
и кругу, он пробуждается сам, становится экстатическим танцем. Идея
роста, ведущая идея равелевского «Болеро», представлена с классиче-
ской чистотой: рост жеста танцовщицы-корифейки, рост хороводного
круга мужчин, рост напряжения, рост страсти, рост встречных страстей.
Заметим кстати: идея роста почти совершенно чужда восточным танцам.
Бежар взял из восточных танцев пластические элементы, но с их
помощью нарисовал волю и рост. Арабскую (мавританскую) мелодию
«Болеро» Бежар претворил в серию фигураций, каждая из которых
возрождает старинное понятие «арабески» (это совсем не то же самое,
что классический арабеск). Балет строился в полном согласии с
музыкой Равеля, с неумолимой логикой звуковых нарастаний. Усиле-
нию звучности соответствовало увеличение кордебалета^ Вначале это
был полукруг неподвижно сидящих с опущенными головами мужчин.
Затем тут и там возникали отдельные островки, фрагменты группового
танца, в медленных приседаниях-плие красиво контрапунктирующие
танцующей на высоком красном столе девушке, недоступной языческой
богине. Наконец шла общая фарандола. Из танца Мелодии и Акком-
панемента (так назван кордебалет) рождалось Болеро. Групповой
танец на глазах прорастал. Сквозь преграду каменной неподвижности,
подавленности и запретов-табу прорастала энергия жизни Это было
зрелище цветка, прорастающего в песках или на асфальте. Это было
явление бежаровского «прорастающего человека».
Собственно говоря, он известен поэзии под именем — Джон Ячмен-
ное Зерно. Были на то особые исторические, социальные и культурные
обстоятельства, чтобы тридцатилетний француз, философ, убежденный
и законченный урбанист, как за соломинку, схватился за этот образ.
И были причины, почему этот песенный образ приобрел такой воин-
ственный, временами даже свирепый вид. «Весна священная» Бежа-
ра -— рассвирепевшая весна. Бежар создает картину рассвирепевших
весенних сил. Обычно так изображают лютую зиму. И даже в финале
«Болеро» мы видим, хоть и на один миг, ту же картину: живые,
витальные силы рассвирепели. Но в этот миг свет на сцене гаснет.
Легко сказать: так Бежар видел послевоенную ситуацию, так он
определял свои призыв молодому послевоенному поколению, так он
предчувствовал — и воспел — последовавший вскоре взрыв молодых
сил. Легко возразить: тут речь идет о культурной ситуации, о кризисе
европейской буржуазной культуры, о новых путях, новых спутни-
ках, новых — или забытых — ориентирах. Как бы то ни было,
вывод один: Бежар заменяет образ Гамлета образом Фавна.
За сорок лет до постановки «Весны» последний великий мыслитель
Франции Поль Валери создал свой образ европейского Гамлета,
Гамлета-интеллектуала, с холодным спокойствием шедшего навстречу
судьбе. Спустя двадцать лет последний великий французский актер
Жан-Луи Барро показал своего Гамлета, Гамлета — принца поэтов,
самого музыкального и самого пластичного Гамлета всех времен,
Гамлета из непоставленной пантомимы, Гамлета из балета, не создан-
ного до сих пор, с презрительной и печальной усмешкой принимавшего
смерть от грубых варваров, правивших в Эльсиноре. Бежар в юности
поклонялся Барро. Он даже предпринял попытку поступить к нему в
труппу. Позднее, несколько лет назад, Бежар поставил для Барро свой
знаменитый драматический спектакль «Искушение святого Антония»,
по философской притче Флобера. Барро для Бежара и сейчас — един-
ственный, несравненный. И конечно, Бежар, сын профессионального
философа, не мог не пережить увлечения Полем Валери. Но Бежар
непослушный ученик, хотя и преданный почитатель. Мысль о гибели он
не принимал, он вообще, кажется, верит в бессмертие. Его волновала
мысль об элевсинских мистериях, его притягивал Ганг, но не Стикс и
не Лета. Летейские тени, павшие на Валери, на Барро, на других выда-
ющихся деятелей французского театра 30—40-х годов, даже на Жана
Вилара, Бежар захотел развеять. Летейские тени не вписывались в его
круг. Он должен был стать и он стал яростным геометром бессмертия,
свирепым певцом оптимизма. Но образ Гамлета тревожит его с тех пор.
Он возвращается к этому образу, как Раскольников на квартиру убитой
старухи. Может быть, его и в самом деле преследует чувство вины. Его
Ромео больше похож на Гамлета, чем на Ромео. Он ставит цикл балетов
о художниках гамлетова типа и гамлетовой судьбы. Он посвящает
спектакли Бодлеру, Гофману, Нижинскому, Айседоре Дункан. Его
собственная редакция «Петрушки» есть, в сущности, тоже балет о
Нижинском, с прямыми цитатами из «Петрушки» Фокина — Алексан-
дра Бенуа, где главную роль исполнял Нижинский. Этот великий
танцовщик-артист привлекает его по контрасту. А может быть, как
вытесненное «второе я», как брат, как двойник, как зеркальное отраже-
ние. С Нижинским в бежаровский мир входит иное понятие о человеке:
не «человек прорастающий», а «человек жертвуемый», приносимый в
жертву. И кстати сказать, когда Нижинский ставил в 1913 году
«Весну священную», он понял этот балет не только как архаический
обряд, но и как театр страдания, как мистерию великой жертвы. Куль-
минацией спектакля становился экспрессивный танец Избранницы,
исполненный ужаса и предсмертной тоски. Мясин следовал подобному
плану. У Бежара, как мы могли убедиться, танец Избранницы совсем
другой. Бежар гонит прочь смерть и устраняет страдание из балета. Но
будем точны: в конце первой части «Весны» Бежар вводит неожи-
данный мотив неврастении. Его юноша-избранник — неврастеник
XX века, обессиленный и обескровленный Гамлет. В «Петрушке»
Бежар еще раз ввог ’т тот же мотив. Балет начинается праздником, а
кончается припадком. В первой части на сцене простодушный герой, в
последней — нервическая марионетка. В начале это естественный
человек, понимающий язык танца и пения, язык дружбы, язык птиц.
В конце — искусственный человек, понимающий язык страха, язык
автоматов.. Образ раздваивался, и он по-разному получился у двух
исполнителей — нашего знаменитого танцовщика В. Васильева и
Хорхе Дона, первого танцовщика бежаровской труппы, первокласс-
ного мима. Васильеву лучше удался простодушный герой, а Дону —
нервическая марионетка. Васильевский персонаж — обаятельно безза-
ботен в сознании своих сил и радостной возможности этими силами
одарять, легко и безнаказанно ими распоряжаться. Персонаж Дона (в
финале балета) проникнут сознанием бессилия, плена и предсмертной
тоски. Путь от одного персонажа к другому и составляет сюжет спек-
такля. Бежар прокладывает этот путь с той же неумолимой логикой,
как в «Болеро» и «Весне священной». Но здесь другой, противополож-
ный, зеркальный мир — не крещендо, но диминюэндо. Бежар выстра-
ивает не рост, но сникание человека. Сникающий человек — это его
«теневой» персонаж (как есть теневые правительства, теневые кабине-
ты). Эффект, однако, совершенно не тот. Начало и финал балета захва-
тывают и убеждают, а середина, собственно сам путь, все эти смены
масок и смены личин интригуют, но не волнуют. Неумолимая логика,
балетмейстера здесь кажется слишком рассудочной и формальной.
История превращений души получает механический смысл или, во вся-
ком случае, механический оттенок. Механическая ритмика некоторых
пассажей Стравинского не предоставляет для этого достаточных оправ-
даний.
Вот противоречие Бежара и, между прочим, не его одного. Оно
характерно для многих художников второй половины XX века. Бежара
интересует человек, а не социальный феномен и не исторический
процесс, волнует поэзия, а не наука. Он изымает человека из
социальной феноменологии, из исторического процесса, чтобы ничто не
заслоняло его, чтобы ничто не мешало понять и воспеть. Но методы,
которыми он исследует человека, напоминают научный эксперимент,
гуманистов старого стиля они пугают.
Здесь главная причина, почему портретные балеты Бежара (герои
которых — Петрарка, Гофман, Нижинский, Бодлер) не все подыма-
ются до уровня «Весны священной». Эта причина: бежаровский анти-
психологизм. Бежар воспевает тело и дух, но не то, что называлось
душой. Он не психолог традиционного типа, но старинный, даже арха-
ический метафорист и вместе с тем структуралист ультрасовременного
склада. Человек для него метафора (Жар-птица, Феникс, Мелодия),
реальная историческая личность — структура. Бежар структурирует
человека, структурирует каждый свой театральный портрет. По жанру
это именно структурные портреты, а не фабульные повествования, не
биографии, изложенные в хронологическом порядке.,' Балетмейстер
выстраивает структуру внутренней жизни, а не пластически цельный
персонаж. На сцене множество лиц: тени из сновидений поэта, роли из
репертуара танцовщика, отражения, двойники, причем двойников
может быть несколько: у Бодлера их сразу шесть. Пластически цельный
персонаж раздваивается, утраивается, учетверяется; видения, роли,
двойники вступают в сложные отношения друг с другом; балетмейстер
создает головоломные конструкции — ансамбли из пяти, шести, даже
семи мужских переплетенных фигур-силуэтов. С театральной точки
зрения ансамбли Бежара выглядят чрезвычайно эффектно, да и с балет-
ной: ведь с помощью пластики Бежар разрушает пластический монолит.
Но с психологической точки зрения здесь все кажется парадоксом.
Бежар создает групповой портрет индивидуальной модели, человек для
Бежара — множество, человек дан во множественном числе, един-
ственного числа для человека у Бежара как будто бы и не существует.
Не существует ни четких границ, ни раз навсегда зафиксированных
статических состояний. Бежаровский человек изменчив, неуловим и не
равен самому себе. Свое отражение он может увидеть лишь в магиче-
ских зеркалах, какими уставлен театрик в «Петрушке». Но это будет
ему стоить свободы, рассудка и жизни, он потеряет себя. Пластически
цельный в прологе балета, он обнаружит в себе черты куклы-
Петрушки, грубого Арапа и чувственной, кривляющейся девки. Бежар
переносит в хореографию технику и тематику модного ныне на Западе
образа-приема — психоаналитического лабиринта. Энергичными те-
атральными средствами Бежар демонстрирует свой психологический
скептицизм. Разумеется, зрелище, показанное в «Петрушке», не сво-
дится к защите отвлеченной тезы. Он полон актуального содержания
этот пугающе острый балет. А его пестрые массовые сцены, стилизо-
ванные под ярмарочные игрушки и под ярмарочный калейдоскоп, оча-
ровательны, если позволено употребить это старинное, но в данном
случае уместное слово.
И все-таки нам ближе «Весна», круг «Болеро», иными словами —
Бежар, который стремится возродить хоровое начало балета. Он
именно хореограф, такой же, как Мариус Петипа. Он осуществляет
буквальный смысл этого слова. Балет для него — хоровое движение,
оставляющее графический след, хоровая энергия, избывающая себя в
графических начертаниях. Танец для него — клинопись хоровых игр,
письмена хороводных смут, вязь хороводных радений. У этого хора
множество функций и множество лиц. Его наполняет жизненный
порыв, порыв к единению и коллективное чувство сопричастности
миру. Им движет филантропическая мечта: собрать всех потерянных,
всех неприкаянных, всех бездомных. Это стремление создало театр
Бежара, его студию, его труппу. Поэтому бежаровский круг — не
только знак общности, символика фарандолы. Бежаровский круг -—
это кров, а хоровод — танец вчерашних и, возможно, завтрашних
одиночек.
Бежар призывает к братству людей, но ссорит своих зрителей.
Такова, впрочем, его задача. Людей он стремится объединить, людей он
объединяет в понятие человечества, но зритель для него фигура
конкретная — ив социальном, и в возрастном, и в духовном смысле.
Идею «соборности» Бежар не признает. Он выносит спектакли на
арену, на улицу, на открытую площадь, вслед за Жаном Виларом
(видевшим в нем, балетмейстере, своего последователя и отчасти учени-
ка) он устраивает спектакли в Авиньоне, у стены бывшего папского
дворца; он даже стилизует некоторые балетные представления под
сакральное действо, под ритуал, но при этом постоянно оппонирует
некоему не представленному, но присутствующему оппоненту. Сущ-
ность этого противостояния заключается в том, что Бежар молод, а
оппонент стар. Речь идет не о возрасте, но об историческом опыте чело-
века. Пятидесятидвухлетний Бежар олицетворяет сознание, которое не
порабощено страшным историческим опытом, духовно состарившим
среднего европейца XX века. Оппонент считает: жизнь кончилась,
культура мертва. Бежар утверждает: жизнь начинается, каждое поколе-
ние заново начинает жизнь, культура не умирает, мертвы лишь формы
культуры. Многие вступительные мизансцены его балетов разительно
повторяют картину, которую нарисовал Пушкин в своем стихотворении
«Пророк»: пустая сцена, лежащие в прострации тела и голос музыки,
взывающей к ним: это картина жизни, пробуждающейся после пережи-
той катастрофы. Так начинаются «Нижинский, клоун бога» и «Весна
священная» — бежаровский наиболее программный балет.
Весна священная — постоянный мотив Мориса Бежара.
Его Шекспир — весенний Шекспир, а его Бетховен, даже в
Девятой симфонии, — очень юный Бетховен. Его герои, от Петрарки
до Айседоры Дункан, поэты, музыканты, артисты — все люди весны,
художники жизни, обновляющие искусство, заново, без подсказки,
осваивающие мир. Его антигерой, изображенный в спектакле «Наш
Фауст», — Мефистофель, дьявольский скепсис, бесплодная сила все-
знания, власть скуки, для которой все в этом мире старо. В спектакле
«Нижинский, клоун бога» подобными мефистофельскими чертами
наделен другой антигерой — Дягилев. В «Ромео и Юлии» Мефисто-
фель — это, конечно, Тибальт. Все они знают лишь одно наслажде-
ние — посрамить или же вовсе убрать с пути юный энтузиазм, творче-
скую новизну, первую и пылкую влюбленность. Ирония в спектаклях
Бежара агрессивна. А подлинная агрессия сопровождается ирониче-
ской улыбкой. Самый агрессивный танец из всех, что мы видели у
Бежара, это танец Тибальта, провоцирующий Ромео. Но в танце нет
ярости, все в нем — опасная игра, утонченная насмешка. И сам
Тибальт Бежара — не разъяренный бык, но элегантный юноша с
божественным телом и душой старика. Вот бежаровское представление
о современном убийце. В сказочном мире спектакля этому образу вто-
рит фея Маб — не Царица ночи, но скучающая акробатка, способная
вывернуть себя наизнанку, как перчатку или же как чулок. Она демон-
стрирует фокусы любви. Она предлагает уроки любовного танца. И она
создает иронически зловещий контраст главной партии, знаменитому
дуэту Ромео и Юлии, одному из самых протяженных в истории балет-
ного театра. Это дуэт-странствие, дуэт-путь. Он поставлен как долгое
путешествие в неоткрытую страну любви, путешествие по дорогам
нарастающего чувства. Он начинается с первых шагов к сближению, а
кончается в момент близости полной. И это дуэт-лабиринт, в котором
юных любовников, не ведающих ни о чем, не знающих ни правил игры,
ни страха, ни осторожности, ведет путеводная нить, весенний инстинкт,
весеннее просветление — знакомая юности сила. Весеннее просветле-
ние — единственная мудрость, в которую, как кажется, верит Бежар.
И музыка — еще одна сила, которая поддерживает и ведет его, которая
его вдохновляет.
Вглядимся чуть пристальнее в этот необычный дуэт, в котором
строгие па классического танца совмещены с волнообразными движе-
ниями танца «модерн», а капризная игра линий и поз сливается с игрой
цвета и света. Танцовщики одеты в белоснежные костюмы, облега-
ющие тела, это белый балет Мориса Бежара. Через всю композицию
лейтмотивом проходит вторая позиция, отдаленно похожая на мост, —
легкий мостик, переброшенный от классики к танцу «модерн», хрупкий
мостик, соединивший два ищущих друг друга тела. Они точно слепые,
увидевшие свет, эти две белые фигуры. Свет танца рождает этот танце-
вальный дуэт, свет танца становится пластикой, жестом — дуэтом.
В нем нет комнатных чувств, это совершенно неинтерьерная сцена.
Можно вообразить, что встреча возлюбленных происходит на пустын-
ном ночном пляже, на морском берегу или даже на волнах одного из
адриатических заливов. Танцовщики —как пловцы. Они словно броса-
ются вплавь в бурлящее море дуэта. Наплывы любовной энергии то
поднимают их высоко вверх, то швыряют вниз, то завораживают своим
мерным ритмом. Они попеременно испытывают нежность, изнеможе-
ние и восторг. В неожиданных ракурсах открывается возбужденное
или бездыханное тело. Эмоциональная амплитуда предельно широка.
Дуэт ставит героев на грань ликования и тут же — почти что на грань
смерти. Разыгрывается чуть ли не весь шекспировский сюжет, чуть ли
не все перипетии любви Ромео и Джульетты. Контрастные ситуации
переходят одна в другую, контрастные телоположения следуют одно за
другим. Дуэт изливается, как музыка Берлиоза. Резкий телесный порыв
становится мелодичной и даже магической душевной речью. Тела гово-
рят стихами. Стихии рождают стихи. Могущество музыки представлено
здесь наглядно.
Музыкализация балета — та главная линия, которой придержива-
ется балетмейстер. В этом отношении он следует примеру Баланчина.
Однако Баланчин культивирует классический танец, а Бежар — сво-
бодный. И в сферу возможностей Бежара попадает то, что остается за
гранью интересов Баланчина, а именно романтическая музыка, лишен-
ная явных дансантных признаков, организованная лишь нарастанием и
спадом (сниканием) мелодического материала, Бежар резко поляризует
балетную речь: на одном полюсе — почти"механический ритм, на
другом — почти бесконечная кантилена. Отсутствует средостение,
логически построенная, логически расчлененная танцевальная фраза
(балет Баланчина построен на традиционной системе танцевальных
фраз, но синтаксис этих фраз совсем нетрадиционен). Движение
сведено к первоначальному импульсу или же бесконечно ветвится. Есть
танец-скачок и есть танец-мелодия. Есть нечленораздельный клич,
мгновенный, истребляющий сам себя порыв человеческого существа
навстречу другому человеческому существу, навстречу судьбе, смерти и
бессмертию. Это клич воина, бросающегося на штурм, клич моряка,
увидевшего землю, клич жертвы, застигнутой врасплох. И есть долгая,
нескончаемая литания, старинная, почти исчезнувшая форма обращения
человека к далеким и близким, к самому себе, к небу/Бежару близка
кантиленная музыка романтических композиторов, бесконечная мело-
дия Вагнера прежде всего, и Вагнер (которому Бежар посвятил литера-
турное произведение — роман) — музыкальный и человеческий герой
для него.) В анданте «Девятой симфонии» больше от Вагнера, чем
от Бетховена, в дуэте Ромео и Юлии столько же от Вагнера, сколько
от Берлиоза. Тристановским колоритом окрашено и это анданте и этот
дуэт. Здесь полнота блаженства, нирвана души, утрата времени и утрата
тревоги, здесь полное погружение человеческой воли в невидимый
океан любовной энергии, здесь вагнерианские, индуистские постиже-
ния Бежара, неожиданным образом смыкающиеся с теми мифами и
теми приемами, на которых построен негритянский блюз (если предста-
вить себе блюз не в звуках пения, но в жестах танца). Поэтому не
следует удивляться появлению негритянской танцовщицы в финале
«Девятой симфонии». Оно подготовлено в анданте.
Балет «Ромео и Юлия» начинается специально сочиненным проло-
гом, в котором участники, будущие персонажи, а пока еще артисты в
тренировочных костюмах, делают экзерсис и затевают всеобщую драку.
Репетиционный класс полон агрессивных страстей. Экзерсис питается
агрессивной энергией, он воинствен и брутален. Звучит музыка Бер-
лиоза, и балет преображается на наших глазах. Магия танца вытесняет
грубое зрелище экзерсиса. Магия любви подчиняет себе воинственных
озлобленных молодых людей. Это, в сущности,' главный сюжет всех
балетов Бежара: преобразование агрессивной энергии в энергию люб-
ви, в чистую лирику любовного чувства^ Так строится изысканный
берлиозовский балет, так построена и необузданная «Весна священ-
ная». Так Бежар понимает назначение танца и роль культуры — во
всяком случае, ее современную роль.[Бежар видит в танце могучую и
спасительную силу. Он ищет в танце то, что в музыке находил Шекспир.
В жизни Бежара нам открывается тот же сюжет, что и в его главных"
балетах.
Бежар родился в 1927 году в Марселе. Морские, портовые впечат-
ления окружали его детские прогулки, тревожили его юношеские сны.
По темпераменту, по складу души он принадлежит к путникам, странни-
кам, людям дороги. Но до определенной поры ему было не до путеше-
ствий. Молодость Бежара прошла в послевоенном Париже. Приблизи-
тельно десять-пятнадцать лет он знал нужду, жил впроголодь, одевался
как мог, довольствовался необходимым. И все время учился, а с неко-
торого времени — экспериментировал, искал. Кто знает, может быть
страсть к художественным экспериментам есть вытесненная страсть к
путешествиям и поездкам. Человек дальних дорог, который не может
сесть на корабль, на поезд или на самолет, пролагает себе иные марш-
руты, не требующие ни заграничных паспортов, ни расходов. А как
поступал Бежар? Он экспериментировал, искал, находил, он превратил
свою жизнь в цепь уходов из налаженного существования в никуда, на
простор чистого риска. Уход из коллежа и гуманитарной средь! в одну
из частных парижских танцевальных студий. Уход из некрупной, но
респектабельной антрепризы в эфемерное частное предприятие, без
реальных шансов на хотя бы малый, но столь необходимый коммерче-
ский успех. Уход из классического танца к танцу «модерн» — самый
решительный шаг Бежара и самый рискованный, потому что париж-
ская публика 40—50-х годов признавала лишь академический (мы его
называем классическим) танец и третировала танец «модерн» как
немецкий эрзац и американскую подделку. Уход из танца «модерн» к
своей собственной танцевальной системе. Отъезд из Парижа в ответ на
приглашение нового директора Брюссельской оперы поставить «Весну
священную», причем дирекция предоставляла малоизвестному хоре-
ографу carte blanche, полную творческую свободу, он мог ставить что
угодно, как угодно (Бежар воспользовался каждым из этих прав), но
при одном непременном и, прямо скажем, драконовском условии: уло-
житься в трехнедельный репетиционный срок. По-видимому, несооб-
разно малый срок во многом и обусловил невероятную — на грани
взрыва — концентрацию художественной энергии, чем и сейчас, спустя
двадцать лет после премьеры, захватывает этот балет. А до него Бежар
сочинил, в сущности, лишь один значительный опус (его демонстриро-
вали на первом кинофестивале в Москве): «Симфония одинокого чело-
века», или «Симфония для одного человека» — экспериментальный,
почти монологический спектакль, поставленный на конкретную музыку
и бросавший вызов всем сентиментальным представлениям о жизни,
любви и балете. Он состоял из одиннадцати частей, каждая из которых
по-новому интерпретировала одну-единственную, всепоглощающую и
навязчивую тему ухода.
Конкретная музыка — это музыка тотального отчуждения челове-
ка. Если человек воспринимает внешний мир лишь как преследующий
его шум, если грань между музыкой и немузыкой становится неразли-
чимой, если немузыка поглотила музыку — то остается один выход,
один шанс — уходить, бежать без оглядки. Так понимал — и показы-
вал — свою ситуацию молодой Бежар. Он принадлежал к поколению
французских несентиментальных (в Англии их называли «разгневан-
ными» или «сердитыми») молодых людей, которые больше всего
боялись всяких уз — семейных, профессиональных, идеологических,
бытовых (говорят, что у Бежара до сих пор нет ни роскошного
гардероба, ни обставленной квартиры, ни виллы — ничего из того,
ради чего в поте лица трудятся многие честные труженики Терпсихоры;
все деньги уходят на книги). Жизнь подобных людей — жестокая,
подчас слишком жестокая защита себя от постоянных угроз, и даже
музыка воспринимается как угроза.
Хореографический фон этой ситуации — противостояние академи-
ческого танца и современного танца «модерн». Несмотря на некоторые
точки соприкосновения, по временам возникающий взаимный интерес,
даже взаимовлияния (хотя и в ограниченных пределах), это все-таки
враждующие лагери. Отношения далеки от идиллии. Идет война, и в
послевоенной Европе она длится уже тридцать лет. Столько же длилась
тридцатилетняя война между католиками и протестантами. Мы не слу-
чайно приводим эту по первому впечатлению неуместную параллель.
Существует определенная связь между тем, что классический танец воз-
ник и развился в католических странах — Италии и Франции, а танец
«модерн» — в протестантских, в Германии, в США. Разумеется, мы
далеки от того, чтобы приписывать классическому балету какие-то
религиозные чувства. С католицизмом его связывает лишь эстетика,
внешний обряд и культ Мадонны, ставший вполне светским воспева-
нием Балерины. Подобную эволюцию проделала и живопись, писавшая
мадонн. Впрочем, классический балет пошел намного дальше, образ
Балерины вытеснил образ Мадонны почти совершенно, и лишь в эпоху
Тальони можно было за белоснежным веночком на черной головке
танцовщицы увидеть что-то отдаленно напоминавшее золотистый нимб.
Но и в эпоху Тальони, и до нее, и после нее классический балет — это
вполне независимый мир, самостоятельная страна эстетики, где бог
лишь один — классический танец. Не так обстоит с танцем «модерн»,
претендующим быть исповедью, аутентичным самовыражением лично-
сти, а значит — для верующих людей не только символом, но и актом
веры. Впрочем, мы говорили: танец «модерн» не един. Представителей
танца «модерн» объединяет протестантский дух, а выражается этот дух
в разных формах. Если же говорить об основном, постоянном, о школе,
то школа танца «модерн» включает эксперименты с движением и тяго-
тением к духовной аскезе. Танец «модерн» так же отрицает театраль-
ность академического балета, как когда-то протестантские и пуритан-
ские проповедники отвергали и обличали католический обряд.
Но есть и другое различие, которое существенно влияет на судьбу
обоих течений. Это различие не в мировоззрении, но в приемах. Танец
«модерн» почти так же непохож на академический, как готический
шрифт на латинский. Академический танец прозрачен и ясен, как
мысль, а танец «модерн» смутен и ярок, как метафора. Танец «модерн»
культивирует метафорический жест, тогда как академический
танец — строгую и завершенную форму. Вот эта метафорическая
яркость и привлекала к танцу «модерн». Она делала незаметной и даже
несущественной его аскетичность. Она позволяла коснуться таких
образов, состояний и тем, которыми интеллектуальный, основанный на
логике академический танец овладеть не умел. Мы убедились в этом на
примере бежаровской «Жар-птицы». Метафору жар-птицы Бежар уси-
лил метафорой феникса, это сложная двойная фигура. Но кроме того,
спектакль заключает в себе скрытую оду в честь метафоры как таковой,
как формы поэтической мысли. Балет воспевает метафору и демонстри-
рует ее структуру. Метафора для Бежара — жар-птица и феникс чело-
веческого языка, она озаряет поэзию и делает мысль бессмертной.
Переходя на логический язык, добавим, что метафора заменяет пове-
ствование и рассказ. Образ является в ней вне всяких опосредующих
форм, гасящих его энергию: поэтому он так ярок (жар-птица). Непо-
знаваемый образ «в себе» на миг сбрасывает с себя покрывала.
Посредством метафоры образ «в себе» вступает в прямой контакт с
нами. А это то, чего ищет Бежар.
Вот общий фон деятельности Бежара. Теперь надо перенестись на
тридцать лет назад и представить себе, какими глазами глядел этот
юноша, настроенный неопределенно радикально и по-своему натерпев-
шийся от невзгод оккупации и лишений войны, на академический танец,
особенно в той парнасской и аристократической форме, которую при-
дал классике стареющий Серж Лифарь (он возглавлял балет «Гранд-
Опера» в довоенные и военные годы). Первоначально импульсом
начинающего хореографа было, вероятно, стремление к радикализации
самого танца. При всей неопределенности подобной цели она казалась
заманчивой и достижимой, во всяком случае, Бежар быстро определил
свой путь.ГКонкретная музыка, повышенная интенсивность шумов (и
это в балете, искусстве безмолвия), доминирующая роль ритмов, агрес-
сивный асимметричный рисунок жестов и поз — все это складывалось
в зрелище, которое никак нельзя было назвать по старинке «усладой
для глаз», да и для ушей оно тоже не предлагало желанной услады,
комфорта. Дискомфортный характер бежаровских композиций вначале
и составлял их главный, а может быть, и единственный смысл. На
молодого Бежара, по-видимому, оказала влияние эстетическая пропо-
ведь властителя дум той эпохи Альбера Камю, объявившего «насла-
ждение» спутником буржуазного, отошедшего в прошлое и бездушного
искусства. Не исключено, однако, что Камю обобщал опыт уже начав-
шихся исканий, как когда-то Бодлер, отстаивавший, защищая импрес-
сионистов, прямо противоположный принцип «наслаждения». Так или
иначе, программу, которую незадолго до своей гибели начертал Камю,
Бежар осуществлял и даже продолжает ее осуществлять и теперь, когда
он ее дополнил иной программой, которую мы условно назовем «про-
граммой Бодлера». Демоны танца врываются на подмостки парижских
элегантных сцен. Бежар нарушает все табу, все условности, все
запреты. Политика, публицистика, человеческая ре.чь, гром, шум, ритм,
рискованные объятия, рискованные сюжеты, небывалая концентрация
художественных средств — на языке театра это называется чистой или
полной переменой. Впрочем, с Бежаром произойдет еще одна. Как раз в
эти годы он ставит «Весну священную», сначала в Брюсселе, а затем
переносит свой лучший балет в «Гранд-Опера»: это его двойная победа.
1 Хореография «Весны священной» — это апофеоз танца «модерн» и
разрыв с ним, самый полный. Бежар тесно сближается с танцем
«модерн», устраивает ему долгожданный триумф и рвет с ним. Чтобы
разъяснить, что мы имеем в виду, необходимо еще одно короткое
специальное отступление.
Начиная с первых лабораторных опытов далеких 10-х годов, танец
«модерн» строится на двух основных понятиях-темах: концентрации и
деконцентрации (об этом еще рассказывал в своих запальчивых и
несправедливых описаниях Михаил Фокин). Танцовщики концентри-
руют волю, чтобы стало заметно усилие (чего, как известно, не допу-
скает академический канон). И наоборот, так расслабляют себя, что
начинает казаться, будто бы они танцуют или пребывают на сцене во
сне (а подлинный сомнамбулизм, несмотря на постоянный мотив «сна»,
тоже не допускается классическим балетом). Эти две крайности танец
«модерн» культивировал, а все промежуточные опускал. Думая о причи-
нах таких тяготений (казавшихся дикими Фокину и не ему одному),
приходишь к выводу, что в них содержится профессиональный и обще-
эстетический резон: недаром техника концентрации и деконцентрации
включена Баланчиным в его академическую систему. Она соответствует
нашим меняющимся представлениям о гармонии. Она драматизирует
танцевальный язык. Она сообщает пластике выразительность напря-
женных духовных исканий. И она, эта техника, приводит танец к
пограничным состояниям, от которых балет всегда отворачивался,
которых избегал, сторонился. Танец «модерн» в исполнении Марты
Греам (оказавшей наибольшее влияние на Бежара, по его собствен-
ным словам) это и есть танец на грани небытия и жизни. Что сделал
Бежар? Он разыграл технику концентрации и деконцентрации, как
шахматисты разыгрывают партию на живой доске (где люди изобра-
жают фигуры). Он дал ее увидеть в увеличении, «еп grand». Мужской
кордебалет демонстрировал концентрацию, женский — деконцентра-
цию, все стало ясным и все лишилось покрова. Бежар нарушил сектант-
ское уединение и вынес на площадь лабораторный эксперимент. Почти
что алхимию он сделал почти что агиткой. Бежар театрализовал экзер-
сис танца «модерн». Он театрализовал его технологию и его тайну.
В святая святых танца «модерн» Бежар внес запретный театральный
восторг. Справедливее было бы сказать, что Бежар утвердил большой
стиль в камерном, экспериментальном и эфемерном мире нового танца.
Новый танец, однако, исключает большой стиль. С годами любовь к
массовым зрелищам, театру, игре, к театральным эффектам и аксессуа-
рам все сильнее подчиняла Бежара. Не так давно он даже поставил
«Травиату», в манере большой оперы XIX века. Впрочем, этого можно
было ожидать от человека, избравшего себе псевдонимом (а Бежар —
это псевдоним) имя сподвижницы и подруги Мольера.
Мольеру он также посвятил комедию-балет.
«Весна священная» обнаружила в Бежаре и любовь к красоте,
способность наслаждаться красотой, не менее острую, чем у Дега и
Бодлера (Бодлеру он тоже посвятшгизвестный балет). Женский корде-
балет «Весны» рождается точно из галлюцинации — это вообще люби-
мый бежаровский ход, но в данном случае он продиктован Стравин-
ским. Тонконогие и тонкорукие силуэты плавно семенящей походкой
следуют друг за другом, образуют фигуру какой-то нежной птицы,
пробующей взлететь, а в миг испуга сбиваются гурьбой, наподобие
нераспустившегося цветка, большого бутона, готической розы.
В дальнейшем красивая театральность все более увлекает Бежара.
Уже неясно, кто он — балетмейстер или режиссер. Чистый балет он
оставляет академическим труппам и труппам танца «модерн». Его
манит так называемый тотальный театр. Подобно драматическим
режиссерам, но идя с другого конца, он хочет соединить движение и
слово. Он обращается к утонченно-эстетическим приемам японского
театра Но. В этих приемах поставлены сцены из пролога «Ромео и
Юлии», включающего — ради шекспировского контраста — приемы
театра-агитки. Он ставит Шекспира так, как его понимали романтиче-
ские художники 30—40-х годов прошлого века: Берлиоз, Генрих Гей-
не, Мюссе, Мендельсон. Это Шекспир, осторожно стилизованный,
Шекспир — театральный поэт, а не только поэт слова, Шекспир,
лишенный прозаических мотивов, куда более близкий волшебной
феерии, чем площадной драме. «Ромео и Юлия» в постановке Бежара и
есть феерия, которая разыгрывается на открытой площадке. Здесь нет
ни сказочных декораций, ни веселых сценических трюков, ни громозд-
кой игры машин — иначе сказать: ни приемов феерии, ни ее мате-
риальных следов, лишь ее музыка, ее дурманящая атмосфера, порыви-
стое дыхание ее быстрого бега, капризные остановки ее легких шагов.
Балет Бежара — феерия-невидимка. Только в двух эпизодах — «Бал у
Капулетти» и реквием по Юлии — мы видим воочию некое красочное
массовое действо: летящие накидки цвета черешни (по-французски этот
цвет называют «фруктовым»), летящие поддержки и шпагаты, повер-
нутые в воздухе, поставленные вертикально на пол; фантасмагория
движений и поз, радостно поменявшихся смыслом и ролью; стремитель-
ное кружение по внешним и внутренним орбитам, стремительный валь-
совый рой; ласточкины бреющие полеты нераздельных вальсовых пар,
и миг остановки, миг близости, миг внезапных оцепенений — таков
«бал». И нечто тревожаще похожее на бал, но данное в ином темпе, в
иных фигурациях и ином колорите: монашеские облачения — не цвета
черешни, но цвета чумы, монастырские тени — не ласточки, но летучие
мыши. Таков «реквием-плач», второй эпизод, вносящий в спектакль
видимый знак феерии. Во всем остальном Бежар полагается не на
костюм или краску, но на ритм. Он выстраивает ритмический образ
феерии, обозначает ее ритмическую структуру. Это нечто подобное
тому, как декораторы бежаровского «Петрушки» лампочками обозна-
чили рисунок луковидных куполов московских церквей (фон бежаров-
ского «Петрушки» — не петербургский, а старомосковский). Но сде-
лав феерию почти невидимой, Бежар дал возможность услышать ее.
Нянька-кормилица, полная у Шекспира здравого смысла, грубых
шуток и телесных затей, в бежаровской постановке — матрона, певи-
ца, — как это, впрочем, и должно быть по Берлиозу, но, кроме того,
ангел-хранитель, добрый гений, фея Сирени этого спектакля (где злая
фея — Королева Маб, одетая в красное облегающее трико дьяволица,
гуттаперчевое тело которой — одновременно и тело, и жест, и
трапеция для головоломных трюков, бесстыдных и бесполых поз).
Нежная и спокойная интонация, с которой актриса — Кормилица
произносит слова: «Джульетта, девочка!», — становится камертоном
спектакля, приносит умиротворение, заботу, покой. Фраза Кормили-
цы — голос феерии, нежный голос блистающего видимыми и невиди-
мыми красками жанра.
У этой феерии-невидимки есть, впрочем, второй план —- бродящая
вокруг персонажей невидимая угроза. Балет невесом и воздушен, но
вовсе не беззаботен. Сам воздух балета — отравленный, злополучный
(мефитический, как говорили в берлиозовские времена). Кто-то следит,
кто-то присутствует, кто-то вторгается даже в забвение любовного сна-
дуэта. Время от времени мы видим настороженный взгляд Тибальта.
И даже голос Кормилицы тайно насторожен. Все персонажи — насто-
роже. Атмосфера балета — атмосфера настороженности, атмосфера
угрозы. В этом невидимом напряжении — лирический ключ поста-
новки и ее основной театральный прием. Балет строится на контрасте
легкой внешней фактуры и внутренней интенсивности. Чем более
нарастает драматизм, тем более фактура легка. Самый драматичный
мбмент наименее утяжелен — это танец Тибальта. Ни судорог, ни
гримас, никакого телесного физиологизма. Нет даже музыкального
сопровождения, музыка замолкает, танцовщика ведет внутренний ритм.
Это еще один закон театра Бежара: гром небесный гремит здесь по
праздникам, в радостный миг. Смерть подкрадывается в тишине и
наносит свои удары беззвучно.
«Ромео и Юлия» — переломный момент: феерия-сказка, хотя бы и
мрачная по колориту, становится излюбленным жанром Бежара. Он
ставит «Сказки Гофмана», «Серафиту», «Искушение святого
Антония», «Наш Фауст», «Триумфы Петрарки». Его влечет зримая
фееричность: яркий цвет, яркий тон, театральный костюм, эффектное
театральное облачение. Он впадает, как в ересь, в новый декоративизм.
Художественная система Бежара, некогда представлявшая монолит,
раздваивается с наглядностью плаката. Святого Антония играет измо-
жденный Барро, а Бежар выводит на сцену все мыслимые искушения
театра. «Наш Фауст» строится на сопоставлениях мессы Баха и арген-
тинского танго. Нижинский мечется между Дягилевым и Христом.
Бежар движется между Камю и Бодлером. Аскетический стиль спорит
со стилем «необарокко». Грохочущая конкретная музыка, музыка
тотального отчуждения человека, вступает в конфликт с романтической
музыкой, музыкой универсальной гармонии, музыкой любви, музыкой
снов. Мы слышали и наблюдали этот конфликт в финале «Ромео и
Юлии». Эффект основан на наложении дикторского текста, читаемого
на высоких, почти истерических нотах, и мелодии Берлиоза, торже-
ственной, сладостной, озаренной. Дикторский текст и есть шум, то есть
конкретная музыка определенного типа. Идет спор рупора и балета.
Рупор сообщает об убитых и о смертях, а танец славит любовь, жизнь,
бессмертие. Невидимый радиорупор — здесь такой же персонаж, как
луна в традиционных шекспировских постановках. Но рупор втор-
гается, грозит, гонит прочь золотой сон. Это голос механического
дьявола, дьявола XX века. Нужно усилие, чтобы его превозмочь.
Нужна концентрация воли, чтобы не дать танцу погибнуть. Так Бежар
объясняет назначение конкретной музыки и смысл «концентраций» в
танце «модерн». В ней отражен жестокий закон жизни.
И одновременно с настойчивым стремлением к театрализации в
творчестве Бежара, в балетах-портретах прежде всего, особое место
получает исповедальное начало, вообще характерное для танца «мо-
дерн». Портретные балеты Бежара — исповедь художника и поэта.
Бежар как будто бы инсценирует не эпизоды творчества, но страницы
глубоко личного дневника. Сами слова, давшие название балету «Ни-
жинский, клоун божий», взяты из дневника знаменитого артиста.
Оттуда же заимствована ситуация танцовщика, мятущегося между сце-
ной и крестом, между Дягилевым и будущей женой, Ромолой. Бежар
лишь перевел эти реальные коллизии в некоторый фантастический и
сказочный план. В тех же случаях, когда реального дневника нет,
балетмейстер инсценирует некоторый воображаемый дневник, который
мог бы быть написан Петраркой, Гофманом или Бодлером. Портрет-
ные балеты Бежара —исповедь «обнаженного сердца», ставшая музы-
кальным спектаклем, пластическим действом и декоративной игрой.
И чем более нарядное облачение одевает спектакль, тем более откро-
венна исповедь, тем более обнаженным предстает персонаж, с тем
большей наглядностью рисуется хаотический мир его несогласуемых
влечений. Как в старинных моралите, в балетах Бежара идет борьба за
душу человека. Различие лишь в том, что мораль здесь не так строга, а
влечения более романтичны. Рой женских образов окружает бежаров-
ского героя 70-х годов. Это уже не агрессивный беглец, но искатель
любви, и в жестких структурах бежаровских балетов возникает видение
прекрасной дамы.
Г В профессиональном плане эволюция Бежара выразилась в том, что
он повернулся к классике, к академическому Танцу. Он стал включать
элементы классики в свои композиции, а классический экзерсис ввел в
систему подготовки своих артистов' (в течение двух сезонов этот
экзерсис вел Асаф Мессерер). Он даже поставил два балета в честь
мастеров академического танца, один посвятив Петипа (вариации на две
хореографические темы «Спящей красавицы»), а другой — Балан-
чину (стилизация баланчинской манеры).
В психологическом плане возвратные движения Бежара не так усле-
димы. Но вот последняя новость: перед самой поездкой в Москву Бежар
ставит «Парижское веселье», отчасти оффенбаховский, отчасти авто-
биографический балет, в котором вспоминает Париж 40-х годов, част-
ную студию, где он учился классическому танцу у знаменитого педа-
гога. В балете «Наш Фауст», поставленном незадолго до «Парижского
веселья», Бежар вспоминает свое детство и свою мать. Критик газеты
«Монд» назвала спектакль так: «В поисках утраченного времени».
Имея в виду бежаровский путь, можно было бы сказать иначе: «В по-
исках утраченной памяти». Несентиментальный молодой человек 50-х
годов незаметно позволяет себе прослезиться.
Творческий метод художника как-то связан с его судьбой. Метод
Бежара, особенно ранней поры, — предельная схематизация танца,
жеста, действия, мизансцен и самих жизненных положений. В спек-
таклях Бежара все четко выявлено, сгруппировано, разведено: два
лагеря-стана, две сущности, две половины. Почти нет промежуточных,
переходных форм. Отсутствуют случайные, эпизодические персонажи.
Спектакль Бежара — спектакль о двоих./Это дуэт двух солистов или же
дуэт двух кордебалетов Гр «Опусе JMF5»1 встречаются юная девушка и
юный фавн. В «Весне"священной» взаимодействуют мужской и жен-
ский хор, хор девушек и хор фавнов. В «Болеро» — женщина-кори-
фей, стоящая на столе, и хор юношей, вырастающий по ходу балета.
Поначалу между ними нет и не может быть никакого контакта. Пона-
чалу кажется, что произойдет непоправимая катастрофа, насилие,
стычка или вообще ничего не произойдет. Разные существа разойдутся.
Но миром Бежара правит оптимистический закон. Это закон утопии,
феерии, сказки. Тонконогие девушки с изящным пучком волос на
голове находят общий язык с диковатыми фавнами, полубогами.
В «Весне священной» они танцуют неистовый танец, помноженный на
число пар танец-дуэт. В «Опусе № 5» на музыку Веберна тонконогая
девушка и диковатый фавн танцуют медленный, останавливающий вре-
мя, истекающий линиями дуэтный танец. Этот маленький балет (мы
видели его в исполнении 'Жаклин Рейе и Пьера Бонфу во время
гастролей Парижской оперы) прекрасен, как сон и как перовые ри-
сунки Матисса. В «Болеро» недоступная девушка-идол и юноши, по-
терявшие силу и веру в себя, в конце концов тоже находят дорогу друг
к другу. Упорная магия девушки венчается торжеством. Юноши вста-
ют, танцуют, а в финале — тянутся к ней, недоступной. Бессилие, бес-
правие и табу преодолено. Люди и идол, юноши и богиня вступают
в общий круг! Это естественная концовка бежаровских балетов. Балет-
мейстер ищет и требует согласия для своих персонажей. В «Ромео и
Юлии» он даже выходит на сцену, чтобы навести там йокой и •мир.
Этический и фабульный смысл композиций Бежара заключается в том,
чтобы привести конфликт к диалогу. В этом состоит и чисто
театральный эффект, эффект чуда, эффект неожиданности, перипетии.
Конфликт надвигается, кажется неизбежным. И вдруг, как чудол
возникает диалог. Финал Снимает конфликт и дает апофеоз диалогу.
В жизни Бежара все происходит не так. Жизнь Бежара вся состоит йз
того, что он обрывает диалог и рвется к конфликту.
И что же в итоге? Успех? Временами успех, значительный, несо-
мненный. По временам недовольство, нападки, претензии, которые
исключают друг друга. В чем только не обвиняют Бежара с обеих
сторон — в сложности и дилетантизме, в том, что он слишком «левый»
и слишком эстет, в том, что его вольности чересчур дерзкие и что его
поиски недостаточно смелы, в том, наконец, что он прибегает и к
слишком изощренным и слишком лобовым приемам. Посчитать эти
обвинения голословными нельзя, принять их безоговорочно было бы
несправедливо. Ситуация Мориса Бежара затруднительна не только для
него самого. Он ставит в трудное положение и своих защитников и
своих оппонентов.
Фиеста в Лужниках
Весной поговаривали, что в Москву приедет прославленный матадор
Домингин и проведет в Лужниках показательную корриду. Домингин
не приехал, а вместо него в Лужниках на четыре дня обосновался
«Испанский балет Антонио», танцевальный ансамбль, включающий
самого Антонио, постановщика танцев и первого танцовщика, несколь-
ких солистов, небольшой кордебалет, двух певцов, гитаристов и дири-
жера (симфонический оркестр был наш, ленинградский). Лужники —
не лучшее место для концертов подобного рода: вытянутый, слишком
просторный зал разъединяет зрителей и артистов, тогда как смысл
представления, показанного «Испанским балетом Антонио», — в кон-
такте, прямо-таки изнуряющем контакте сцены и зрительного зала.
Звон гитар и треск кастаньет, истошные голоса певцов, хлопки в
ладоши, гипнотический ритм чечетки и вихрь внезапных резких движе-
ний, наконец, слепящие краски костюмов, платьев, кружевных беско-
нечных подолов — все это завораживает слух и глаз, вовлекает зрителя
в магический круг, делает почти соучастником происходящего, как на
массовых народных празднествах. Но если это праздник, то все-таки
испанский, а не латиноамериканский, более похожий на фиесту, чем на
карнавал. Артист здесь не смешивается с толпой. Недоступная черта
проходит в главный момент между главными исполнителями и всем
остальным миром, подобно барьеру, отделяющему матадоров на корри-
де, главном событии испанской фиесты. Ансамбль Антонио подобран
так, что на фоне общительных молодых Тео Сантельмо и Марианны
появляется гордая, недоступная Розарио. И сам Антонио, бесконечно
общительный в иные минуты, замкнут и недоступен — в другие. В ис-
панских танцах есть гений общительности и есть гений недоступности;
испанские артисты вносят на сцену беспечное веселье праздника и
суровую отрешенность поединка.
Ансамбли народного танца существуют почти в любой стране, но
такие ансамбли, как «Испанский балет Антонио», возможны, пожалуй,
лишь в Испании. Сколько мы видели танцевальных коллективов, при-
том первоклассных, для которых свои же собственные национальные
танцы— всего лишь экзотика, архаика и, наконец, чистая форма.
Нетрудно в этих случаях заметить, что танцорам, работающим вроде бы
на совесть, куда более по душе современный международный твист. От
собственного художественного прошлого они духовно отчуждены,
между ними и прошлым пролегла пропасть. Это ансамбли фольклора,
стилизованного, искусственно сохраненного, — ансамбли официально-
парадные или же экспортно-гастрольные, своему народу они нужны
мало. А в исполнении труппы Антонио старинные, вековые испанские
танцы — и не архаика, и не экзотика, и уж, конечно, не чистая форма,
даже такой формальный танец, как дворцовое болеро XVIII века: изо-
щренно формальную конструкцию болеро исполнители наполнили
энергией, изяществом и скрытой патетикой идеально согласованного
движения. Ансамбль Антонио — ансамбль живого, а не условного тан-
ца. Поэтому это ансамбль ярких индивидуальностей, а не анонимов.
В обезличенных, казалось бы, схемах традиционного народного танца
каждый из них сумел выразить себя сполна. Мы всех их запомнили: не
только самого Антонио, виртуоза и чародея, но и Розарио, его много-
летнюю спутницу, и Тео Сантельмо, и Марианну, и Хосе Антонио, и
Пастору Руис, и Роситу Сеговию, и Пепе Солер, и даже обаятельного
комического певца Чано Лобато. А много ли мы запоминаем имен и
лиц, мелькающих на концертах фольклорных коллективов?
Два обстоятельства объясняют это чудо: особое положение, которое
занимает танцевальный фольклор в Испании, и особый характер
самого испанского танцевального фольклора. Испания— единствен-
ная страна древней классической культуры, для которой фольклор
сохранил все свое живое значение; культура его не вытеснила, а обога-
тила. Медленное умирание фольклора в развитых европейских и амери-
канских странах, о чем вот уже второе столетие пишут поэты, музы-
канты и специалисты-ученые,— этот неумолимый процесс Испанию
пока не затронул. Испания и в наш индустриальный век сохраняет сель-
ский, крестьянский уклад, сельские ритуальные праздники, наконец,
органическое и полноценное ощущение природы, в той или иной мере
утраченное горожанами Западной Европы и Америки. Испанцы его не
теряют. Оно пронизывает их язык, оно неотделимо от их пластики,
движения, жеста, оно наполняет их танец. Испанская хореография воз-
вышенна и вместе с тем очень телесна, ее отличает особый возвы-
шенный культ человеческого тела — как источника жизни и как вопло-
щения красоты. В этом во все времена заключалась сущность испан-
ских танцев, особенно южных, андалузских — так называемых танцев
фламенко. Стихия жизни и стихия красоты здесь одна и та же стихия, в
отличие, скажем, от арабского танца живота или индусского танца рук,
ног и головы. Неотразимую власть андалузских танцев мы испытали
на себе, когда танцевала молодая Тео Сантельмо, поразившая своим
темпераментом, а также замечательным — и необходимым — соедине-
нием гибкости и стати.
С другой же стороны, танцевальный фольклор занимает в Испании
положение классического танца, он так и называется — «классическим
испанским танцем». Ему присуще многое из того, что отличает клас-
сику: обязательный канон (хотя и допускающий импровизацию), про-
фессионализм артистов; сходны также некоторые танцевальные эле-
менты (батманы, заноски, прыжки). А главное — в нем, как и в клас-
сике, воплощено идеальное представление о человеке, которое к тому
же утверждается очень широко. Гордый идеал испанских женских тан-
цев — свобода. Танцы фламенко танцевались в тавернах, меньше всего
в них, однако, продажной эротики. Эротика фламенко— прекрасна,
извивающееся тело танцовщицы не склонно подчиниться ни силе, ни
богатству, это вызов мужчине от имени пленительной и всемогущей
женственности. Танцовщицы труппы Антонио показали, сколько досто-
инства может заключать в себе высшая женская свобода. Глядя же на
поэтичнейший баскский танец, мы узнали, сколько грации может нести
в себе свобода девичья. Гордый идеал испанских мужских танцев —
честь. В алой куртке, с золотой цепью на груди, похожий на наполе-
оновского маршала, с величественной осанкой, с откинутой назад голо-
вой и поднятой властной рукой — таким появился Антонио в Лужниках
в заключительный вечер гастролей. Это типичная поза испанских муж-
ских танцев. И хотя тематически их смысл очень широк, первым
планом проходит горделивое самоутверждение мужчины.
Сохраняя вольность и естественность неофициального, жизнью
рожденного и жизнью насыщенного искусства, испанский народный
танец совершенно лишен вульгарно-плебейских, низменных черт— в
этом его идеальность. Таков, впрочем, испанский народный празд-
ник — сельский праздник, устраиваемый в городе, венчающийся
рыцарским турниром— состязанием матадоров. Таков ведь и сам
испанский национальный характер. Понятие чести в Испании не сослов-
ное, а народное — это мы знаем из испанской классической драматур-
гии. Поэтому испанское народное искусство возвышенно и героично.
Гротескный по некоторым формам, испанский народный танец свобо-
ден от шутовского элемента, хотя шутка, как мы видели в интермедиях
Антонио, ему вовсе не чужда. И, кстати сказать, юмор Антонио, почти
чаплиновский по приемам и заразительности, замечательный еще и
потому, что это чисто танцевальный юмор (юмор ритма, остроумно
синкопированного)— это ведь тоже не бездарный, дурацкий юмор
шута, публично предающего себя осмеянию, а талантливый юмор арти-
ста, способного извлекать неожиданные комические эффекты из
любых несмешных предметов — платка, шарфа, шляпы, даже табурет-
ки. Грубости в этом площадном юморе нет, тем более нет непристойно-
сти. При всем том юмор Антонио— юмор интермедий, номеров на
«бис». В главных же номерах славится человеческая доблесть, челове-
ческая активность, человеческий темперамент.
Главным номером была чечетка.
Испанская чечетка, которую продемонстрировали артисты труппы
Антонио, и прежде всего сам он, явилась для нас полным откровением.
Даже зная негритянских танцоров, мы не представляли себе, что чечетка
может стать таким большим искусством, столь эмоционально содержа-
тельным и столь утонченно музыкальным (а ведь Антонио танцует и
под классическую музыку), в такой степени подчинившим себе могучую,
необузданную стихию ритма. Испанская чечетка — танец, построенный
на чистом ритме: почти ничего, кроме ритма, кроме каблучков, отстуки-
вающих ритмические доли, ритмические голоса и подголоски. Все
остальное, что в зрелищном плане делает танец танцем, — движение по
сцене, бег, прыжки, повороты, игра рук и корпуса, игра предметами:
шляпой, платком, подолом — здесь как бы аккомпанемент танца, а не
собственно танец. Чечетка вполне может излиться через ритм только,
искупая отсутствие передвижений динамикой самого ритма — его уско-
рениями, его замедлениями, его взрывами, его перепадами. В танцах
Антонио и Розарио возникала своего рода каденция, когда артист
замирал на месте в неподвижной позе, с непроницаемым лицом, а где-
то у пола, как хула-хуп на лодыжках, билась и трепетала неуловимая
дробь чечетки. Неподвижность позы — индусская, браминская, а непре-
рывность бега — бродячая, кочевая, цыганская. Не открывает ли нам
эта парадоксальная комбинация древних основ современного испан-
ского танца?
Но сведя танец к ритму, испанская чечетка наполнила ритм
эмоциями и волей; соединение виртуозности и воли отличает ее от
негритянской чечетки, виртуозной и в то же время расслабленной.’
Экспрессия испанской чечетки — а у Антонио она кажется порой демо-
нической, инфернальной,— экспрессия живой души, способной на
страсть, способной и на страдание. Ритмический танец испанской чечет-
ки— страстный монолог, даже если он кажется монологом сдержан-
ным, затаенным. Это исповедь горячего сердца.
Испанская чечетка завораживает и воспламеняет в одно и то же
время; этот гармоничный танец внутренне драматичен. В нем два нача-
ла— механическая ритмика и свободная ритмическая игра. Ритм
чечетки железный, но это все-таки ритм не ударных инструментов, а
ритм танцующего человеческого тела. Вот почему ритмизованная
испанская чечетка столь мелодична. В песнях ритм членит мелодию, в
испанском танце он ее создает. Артисты танцуют в сопровождении
гитары и певца, но гитарист, едва-едва намечая мелодический контур,
четко отбивает такты, а певец кричит взахлеб хриплым отчаянным
голосом и бьет в ладоши. Гитара здесь не поет, и певец не поет тоже.
Поет тело танцора, поют его каблуки, поет ритм— это токката и
кантилена в вечной своей борьбе, но и в счастливом своем согласии.
Известно, что первобытный человек обожествлял ритм: понятие бога,
по-видимому, выражалось для него через ритм: ощущение ритма и
было ощущением бога. И с ним было связано первоначальное ощу-
щение свободы. Танцуя чечетку, испанский танцовщик, разумеется, не
думает о подобных вещах. И все-таки, несомненно, какие-то исконные
чувства пробуждаются на сцене в душах современных испанских тан-
цовщиков (об этом писал еще Блок в стихотворении «Испанке», посвя-
щенном уличной испанской танцовщице). И несомненно другое — в их
четком, неумолимо ритмическом танце присутствует острое ощущение
несвободы — железных, а то и вовсе не видимых границ, поставлен-
ных человеку; вольный их танец окован ритмом. Впрочем, здесь и тра-
диционно испанское чувство судьбы. В гулких шагах танцовщика нам
слышен не только непрекращающийся ход жизни. В гулких шагах тан-
цовщика мы слышим шаги преследования, шаги смерти — «шаги
командора», как писал Блок в другом своем знаменитом испанском
стихотворении.
Испанская чечетка — по преимуществу сольный танец, это нужно
оговорить особо. Семьдесят лет назад Михаил Фокин поставил «Поло-
вецкие пляски», поразившие мир своей удалью и ритмическим многооб-
разием — танцевальной полиритмией. С «Половецких плясок» нача-
лась новая, современная эпоха в области массовых танцев. В этой
области испанцы — консерваторы, их массовые танцы строятся на ста-
ринном и спокойном ритмическом унисоне. Зато их чечетка — новое
слово в области сольного танца. Артисты, подобные Антонио, спо-
собны в одиночку сверкнуть полиритмией, создать на сцене подлинную
ритмическую бурю. Удивительная вещь: испанские групповые танцы
более изящны, чем темпераментны; таковы поставленные Антонио ара-
гонская хота и особенно сюита баскских танцев. Зато сольные танцы
полны огня и экспрессии необычайной. Артисту, оставшемуся наедине
со зрительным залом, надлежит добиться эффекта, которого добива-
ется целый ансамбль. Этого требует «испанская гордость», а может
быть, это след давней традиции, традиции индивидуальных поединков,
но не коллективных драк — стенка на стенку. Испанский танцевальный
театр — театр одного актера. Он и выдвигает знаменитых мастеров,
виртуозов-солистов, уникальных танцовщиц и танцоров— Эскудеро,
Архентину, Архентиниту, Антонио.
Типичный испанец, Антонио не похож на других танцоров, тоже
типично испанских. Героический тип испанского танцовщика Антонио
воплощает в варианте неканоническом, неполном — впрочем, доста-
точно традиционном и великолепном. Он строен, изящен, подвижен, в
его горделивой пластике— масса грации, а его неутомимая вирту-
озность несет в себе обольстительную легкость. И как он поводит
своими жгучими, цыганскими, ласковыми очами! Антонио — севиль-
ский обольститель, возродившийся под маской героического танцора.
Он выходит на сцену, чтобы завоевать сердце женщины; его чеканная
чечетка — восторженная песнь любви; следя за его ритмическими
импровизациями, его и впрямь хочется назвать «импровизатором лю-
бовной песни». В балете «Любовь и колдовство», поставленном и
сыгранном Антонио, он танцует два дуэта — с соперником и с возлю-
бленной. В первом случае, несмотря на необычность ситуации (сопер-
ник — призрак), фантазия Антонио-хореографа не воспламеняется, да
и Антонио-исполнитель более чем скуп на эмоции. Зато какую поэму
разыгрывает он в дуэте с любимой женщиной, какое богатство воз-
можностей находит он здесь, где, казалось бы, все сказано и пересказа-
но; сколько нежности, но и сколько пылкости вкладывает Антонио-
любовник в свои прикосновения к телу возлюбленной, как он боготво-
рит ее и как страстно обнимает!
«Любовь и колдовство» на музыку Мануэля де Фалья — необычный
балет, основанный исключительно на фольклорных танцах и на фоль-
клорных мотивах. Поскольку и то и другое имеет в Испании общезна-
чимый, общекультурный смысл, подобный эксперимент оказывается
удачным; в противном случае балет не был бы балетом, а стал бы
просто-напросто экзотической жанровой фреской. Ведущий мотив
спектакля— прекрасная страсть. Не пресловутые испанские страсти,
над которыми посмеялся юный Проспер Мериме (в «Театре Клары
Гасуль»), но та подлинная человеческая страсть, которую Мериме
воспел в «Кармен», своей классической испанской новелле. Мотив стра-
сти развернут в балете по-испански прямолинейно и по-испански же
метафорически. Молодые люди любят друг друга, но их союзу мешает
«тень прошлого» — призрак давней любви девушки. Борьба с призра-
ком составляет полуавантюрный сюжет и почти что мифологический
пафос балета. Девушка освобождается при помощи колдовства старух и
уловки подруги. Призрак упорен, но девушке он не нужен. За новым
возлюбленным она следует без колебаний, раздвоенности она не знает.
Художественная основа балета— наивно поэтические легенды и
суеверия: здесь и колдовство, и древние зловещие старухи, и призрак,
являющийся в ночи. Все это создает колорит спектакля— неповтори-
мый, испанский, отчасти цыганский. Но в главном — в том, что опреде-
ляет смысл и ход действия, характеры и поведение персонажей, — балет
находит опору в реальном складе мышления, точно так же специфи-
чески испанском. Героям является призрак, но сами герои ни
призрачных пут, ни призрачных страхов в себе не несут. Прошлое, уже
изжитое, над ними не властно. Любовь, уже прошедшая, для них
мертва. Поэтика балета Антонио несет на себе печать национальной
психологии: воображение испанца допускает призраки, а поступкам
испанца призраки чужды; наивно поэтическое воображение и реализм
поступков идут рядом, бок о бок, как Дон Кихот и Санчо Панса.
Как все это не похоже на психологию и художественное сознание
современного интеллигента-европейца, не признающего никаких
легенд, тем более никаких суеверий, но тайно и даже явно чему только
не подчиненного: разбитым иллюзиям, теням прошлого, мнимым исти-
нам и мнимым условностям. Вспоминается по контрасту «Сиреневый
сад», балет выдающегося английского балетмейстера Антони Тюдора
(мы видели его в 1960 году на гастролях американской труппы). Здесь
тоже трое действующих лиц — женщина, бывший возлюбленный, буду-
щий муж, но отношения запутанны, встречи кратки, негромкая кан-
тилена скрипичной поэмы Шоссона соединяет и разъединяет участни-
ков драмы, столкнувшихся на светском рауте. Царит стиль, внешне
элегантный, внутренне сдавленный, спертый, подлинные чувства зата-
ены, женщина в смятении, мужчины-соперники следят друг за другом и
друг другу подают руки. Хореография балета— стилизованный под
танец светский ритуал поклонов, встреч, прощаний, ритуал публичного
церемонного общения. Во всем условность — в манерах и костюмах, в
чувствах и поступках, в жестах и танце. Даже природа— сиреневый
сад — и та кажется изысканным салонным пейзажем.
А в балете Антонио хореография включает в себя подлинный
ритуал, магический танец заклятия огнем, но, кроме того, эта хорео-
графия включает в себя вольный поток жизни, вплоть до дерзких
объятий, вплоть до драки. Условностей, сковывающих по рукам и
ногам, нет— есть свобода и есть тайна. Ночной магический ритуал,
смутная тень призрака, гортанный голос певицы (а балет, подобно
народным танцам, идет в сопровождении пения) — все это вносит таин-
ственность в атмосферу спектакля, таинственность языческую, земную.
Отношения же людей в спектакле вовсе не таинственны, в них
вовлечены другие люди, в них все ясно, недвусмысленно, не скрыто.
Вражда здесь — открытая вражда, любовь — открытая любовь. Еще и
потому центральной сценой балета становится сцена свидания, любов-
ная встреча, происходящая на площади в ясную лунную ночь под
пронзительные и страстные вскрики певицы.
Балет хорош, но все-таки отдельные танцы программы Антонио
лучше. Тем более, что строится программа по определенной, традицией
установленной системе. Сюита испанских танцев, показанная Анто-
нио,— спектакль со своей драматургией, со своей композицией —
завязкой, кульминацией и развязкой. Драматургическая основа спекта-
кля — перепляс, верховный принцип — иерархия, но высший закон —
права молодости. Так молодая Тео Сантельмо врывается на сцену, где
по праву премьеров царят Антонио и Розарио, — врывается дерзко и
победоносно. Так сам Антонио поддерживает свой авторитет маэстро
эффектами, доступными лишь молодому честолюбивому дебютанту.
Иерархия незыблема, но молодость непокорна; и это соединение духа
иерархической упорядоченности с духом юного своевольного анар-
хизма придает празднику танца, показанному труппой Антонио,
острый, пленительный, доподлинно испанский характер.
Впрочем, все здесь не так празднично, как может показаться, не так
условно и не подчинено одной лишь типовой схеме испанского танце-
вального искусства. За схемой жизнь: трагическая маска на лице Роза-
рио, сеньоры труппы, начинавшей еще в ЗО-е годы; неожиданное
амплуа премьера, Антонио, героя, ставшего любовником; наконец,
ничем не озабоченная жизнерадостность юной Тео Сантельмо, сеньо-
риты труппы, танцующей до упаду, вносящей во фламенко одержи-
мость рок-н-ролла.
Ведущее трио труппы разыгрывает в спектакле подлинную драму
поколений, как она разыгралась в истории современной Испании.
Мы описали шесть эпох классического балета с тем, чтобы хотя бы в
общих чертах представить себе, как шло развитие этого жанра на
протяжении прошлого и настоящего века. Ведущая линия прочерчива-
ется с резкостью, которую поначалу трудно предугадать, балет выры-
вается из видимых и скрытых оков, стремится к завоеванию все
большей свободы движения. Движение в балете XVIII века почти бук-
вально связано по рукам и ногам. Костюмы, сюжеты, достигнутый
танцем уровень технического мастерства, господствующие представле-
ния о прекрасном и благородном — все обусловливает малоподвиж-
ный характер зрелища, которое тем не менее восхищало XVIII век.
Движение в балете XIX века развязано, но организуется изнутри, вну-
тренними силами самодисциплины, строгими понятиями о гармонии и
порядке. Движение в балете XX века освобождено и от внешних и от
внутренних уз и уже само ищет новых — зачастую изощренных — форм
самоконтроля. Аристократическое движение (так называемый dance
noble,) демократизируется на протяжении двух веков. «Благородный»
танец становится танцем «свободным». Меняется и сам образ балет-
ного спектакля. Внешнюю тенденцию уловить очень легко. Достаточно
сравнить мизансцену Новерра с мизансценой Петипа и затем — с
мизансценами современных симфонических балетов. В первом случае
выстраивается живая, но статическая картина, в последнем — на сцену
выносится отвлеченный, но динамический танцевальный текст, кото-
рый сам становится зрелищем и картиной. Его надо, однако, уметь
прочитать. В него необходимо вглядеться. Потому что сам этот текст
не является абстрактной комбинацией линий, ритмов и поз, а есть
очищенная от подробностей — от случайных черт — картина движу-
щейся жизни.
Балет учит умению видеть. Он требует этого умения от своих
мастеров. Зло слепоты здесь казнится. Артисты балета на репетициях и
уроке постоянно видят свои танцы, свои жесты, свой силуэт. Зеркало в
танцевальном классе — условие их труда, непременный свидетель их
каждодневной работы. Не каждый артист и не каждый человек сумел
бы чувствовать себя свободным в таких обстоятельствах, но танцов-
щицы и танцовщики уже не могут работать иначе. Зеркало — такой же
символ балета, как белые пачки или розовые туфли-пуанты балерин.
Может быть, это имел в виду Мариус Петипа, когда захотел увенчать
свое творчество «Волшебным зеркалом» и когда водружал огромное
зеркало на заднике сцены. Но, конечно же, в символику зеркала старый
балетмейстер вкладывал более широкий смысл. Балет как искусство
казался ему волшебным зеркалом жизни. «Вы видели, —любил он
спрашивать у своих танцовщиц, — как играет волна, как играют грани
драгоценных камней?» Сам он умел это видеть. И он умел наполнить
этими впечатлениями свои хореографические композиции, хотя ника-
ких прямых изобразительных задач они не несли: Петипа не был ни
импрессионистом, ни, тем более, натуралистом. Но игра волн состав-
ляет скрытое содержание сцены «нереид», а игра драгоценностей пре-
образована в сверкающие вариации и ансамбли знаменитого па-де-
катр из последнего акта «Спящей красавицы». «Спящая красавица»
есть вообще апофеоз живой и неживой, рукотворной природы. Балет
этот — победа видимой красоты над страхом неведомого, над ужасом
скрытого, над темнотой: такова ведь и фабульная, и чисто оптическая
основа спектакля. Коллизия спектакля — коллизия видимой жизни и
наваждения, кошмара, страшного сна (эта же коллизия положена Чай-
ковским в основу балета «Щелкунчик»). Кошмар здесь орудие зла, а
видимая жизнь — союзник и друг человека. Интрига злой феи состоит
в том, чтобы окружить человека кошмаром, погрузить его в страшный
сон и расстроить его контакты с видимой жизнью. Ответ феи Сире-
ни — возвращение человеку видимой жизни, возвращение человека к
себе.
Переводя сказочные ситуации «Спящей красавицы» на язык
более бытовых примеров, можно сравнить это с тем, как какой-нибудь
затворник, терзаемый страхами, преследующими его, выходит на ули-
цу, видит солнце, деревья, людей и с неожиданной ясностью понимает,
что жизнь продолжается, не может не продолжаться. Вот та психологи-
ческая атмосфера, в которой воздвигнута невесомая панорама «Спя-
щей красавицы», а уже в наше время — невесомое здание «Хрусталь-
ного дворца». Классический балет есть триумф видимой и продолжа-
ющейся жизни.
Г 13 Дивертисмент. — М.: Искусство, 1981. — 383 с.,
ил.
Настоящая книга посвящена наиболее важным эпохам в истории
классического балета начиная с 30-х годов XIX века и до наших дней.
В ней анализируются спектакли, составившие веху в развитии хорео-
графии, и даются творческие портреты прославленных балетмейстеров
и исполнителей. В отдельных главах рассматриваются, судьбы романти-
ческого балета, творчество М. Петипа, «русские сезоны» в Париже, ста-
новление советского балета; искусство наиболее выдающихся предста-
вителей современного советского и зарубежного балета Книга иллюстри-
рована. Рассчитана как на специалистов-театроведов, так и на широкий
круг читателей, интересующихся искусством балета.
80105-016 ББК 85.452
025(01)-81 792.5
Вадим Моисеевич Гаевский
Дивертисмент
Редактор
С. К. Никулин
Художник
Г, Б. Лукашевич
Художественный редактор
Э. Э. Ринчино
Технический редактор
Н. И. Новожилова
Корректоры
Т. И. Иванова
Н. Н. Прокофьева
Сдано в набор 04.06.80. Подписано к
печати 27.10.80. А05373. Формат изда-
ния 60X84/16. Бумага тифдручная.
Гарнитура «Таймс». Глубокая печать.
Усл. п. л. 22,32. Уч.-изд. л. 26,705. Изд.
№ 4977. Тираж 25 000. Заказ 1935. Це-
на 2 р. 30 к. Издательство «Искусство».
103009 Москва, Собиновский пер., 3.
ИБ № 851.
Ордена Трудового Красного Знамени
Калининский полиграфический комби-
нат Союзполиграфпрома при Государ-
ственном комитете СССР по делам из-
дательств, полиграфии и книжной тор-
говли. Е Калинин, пр. Ленина, 5.