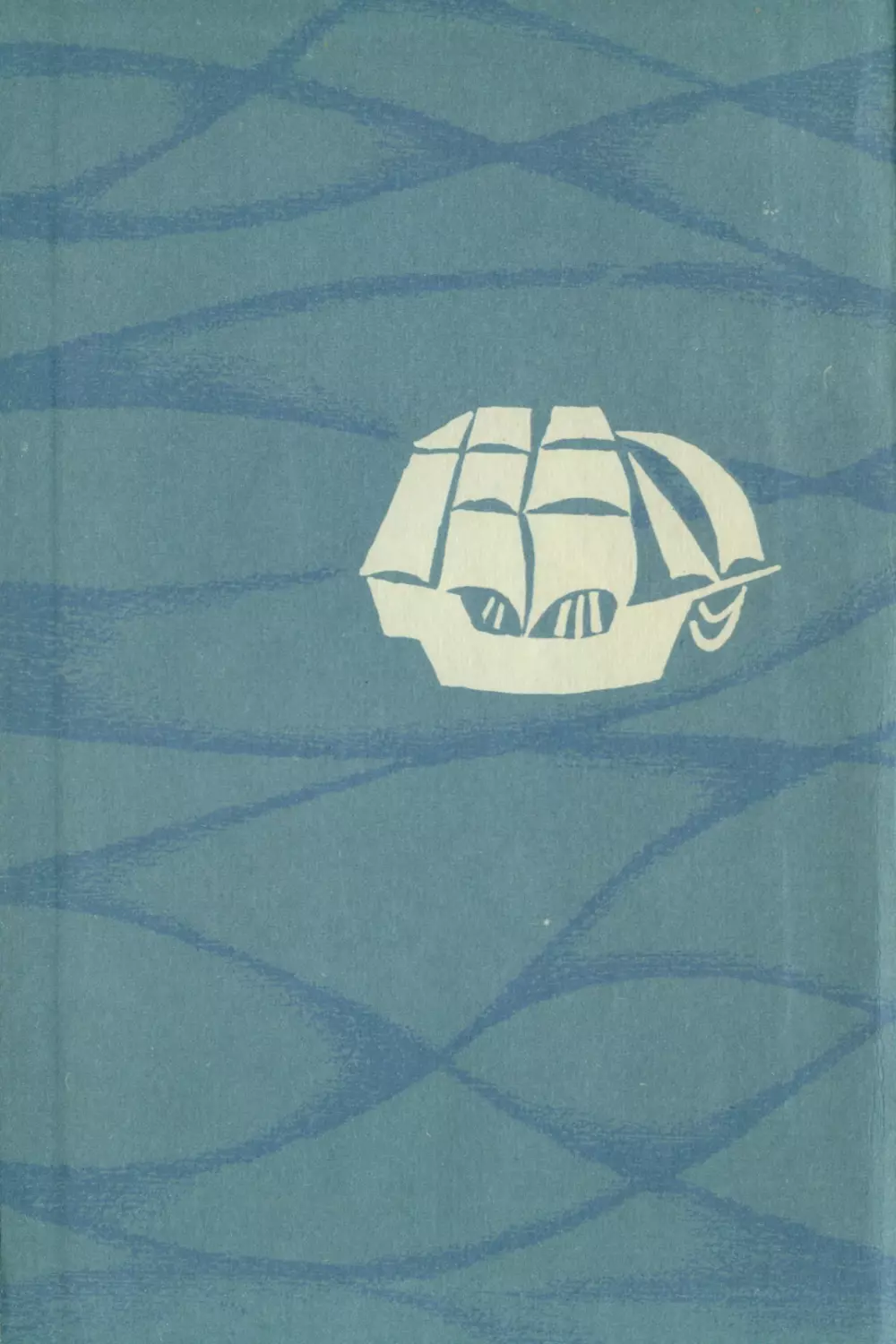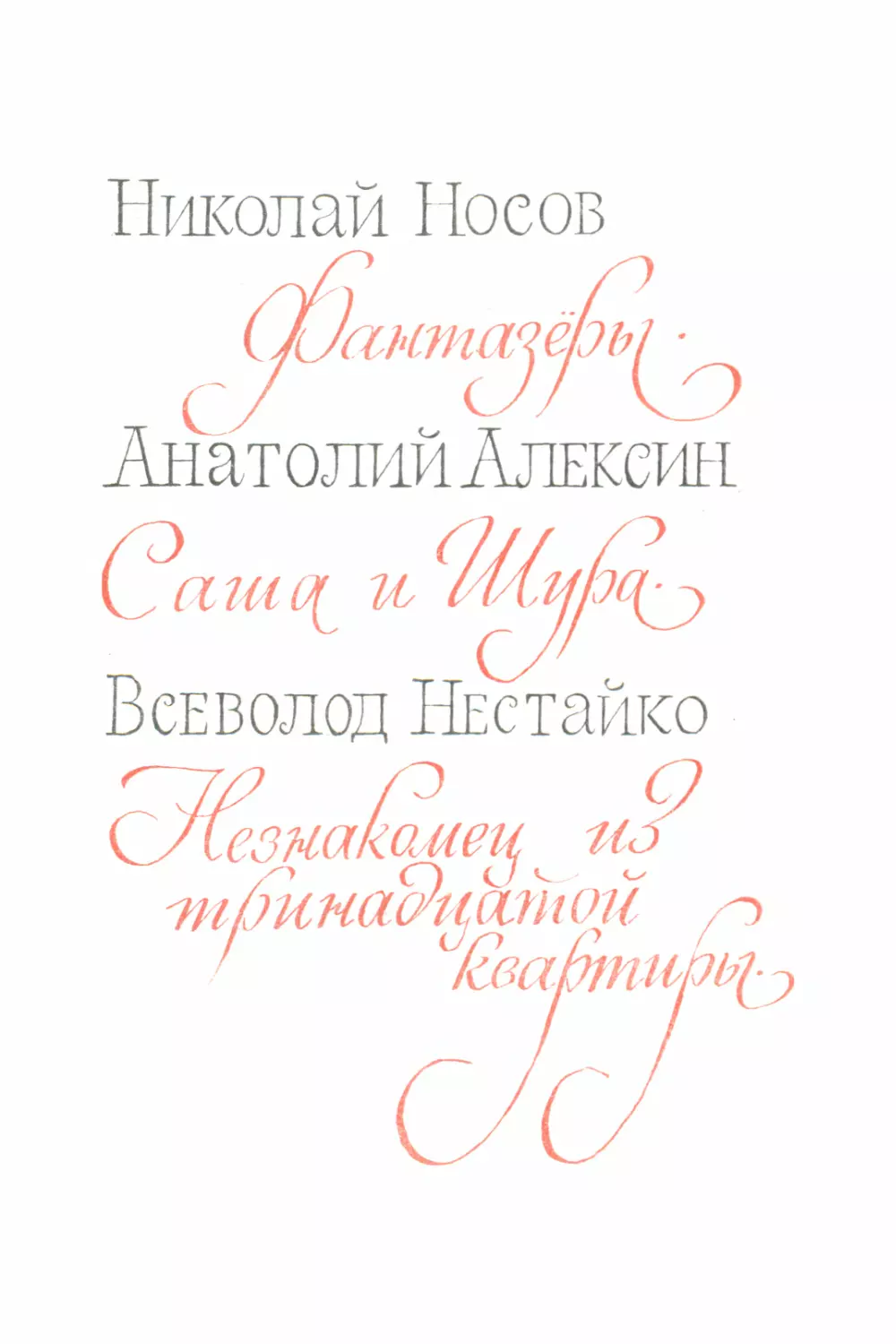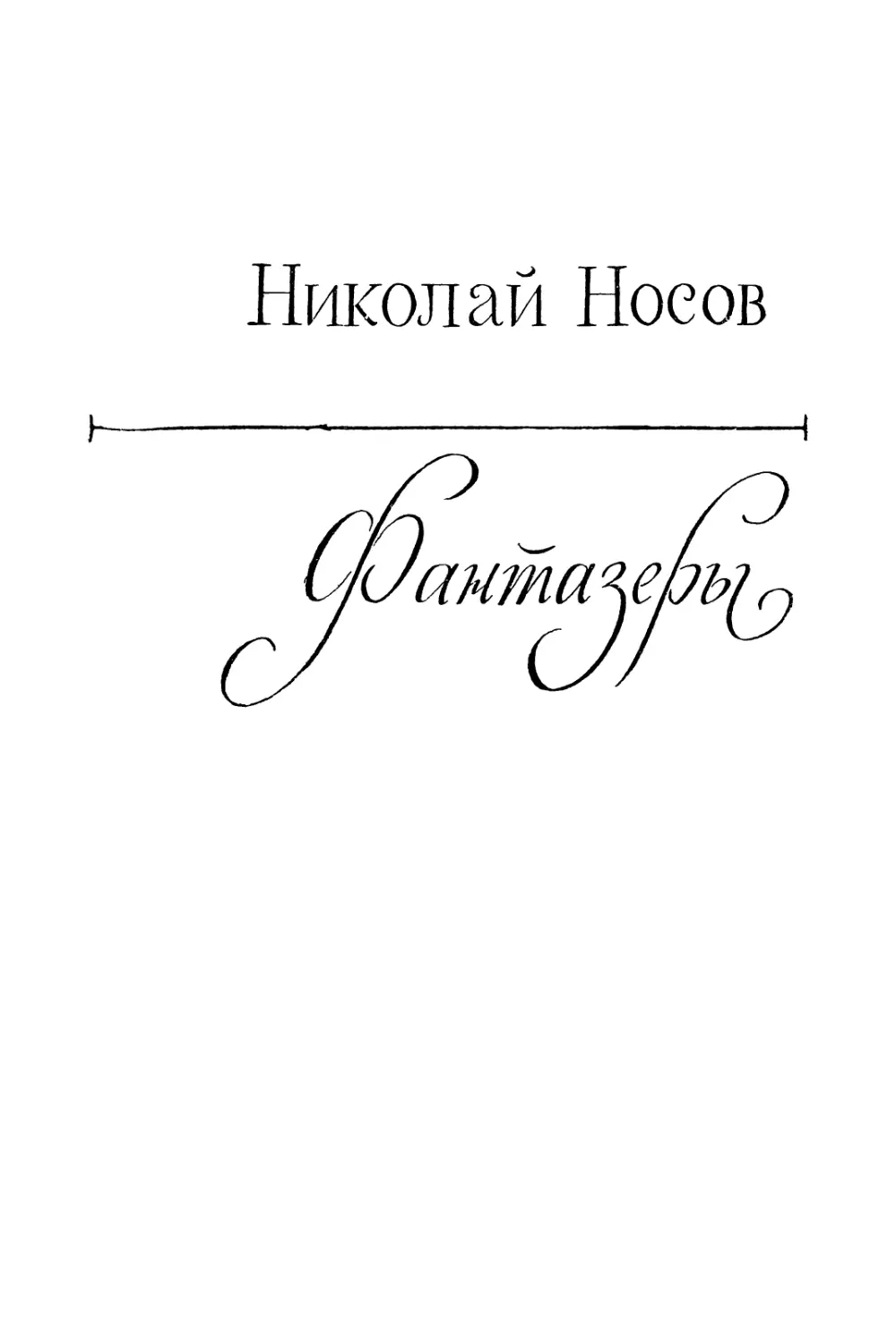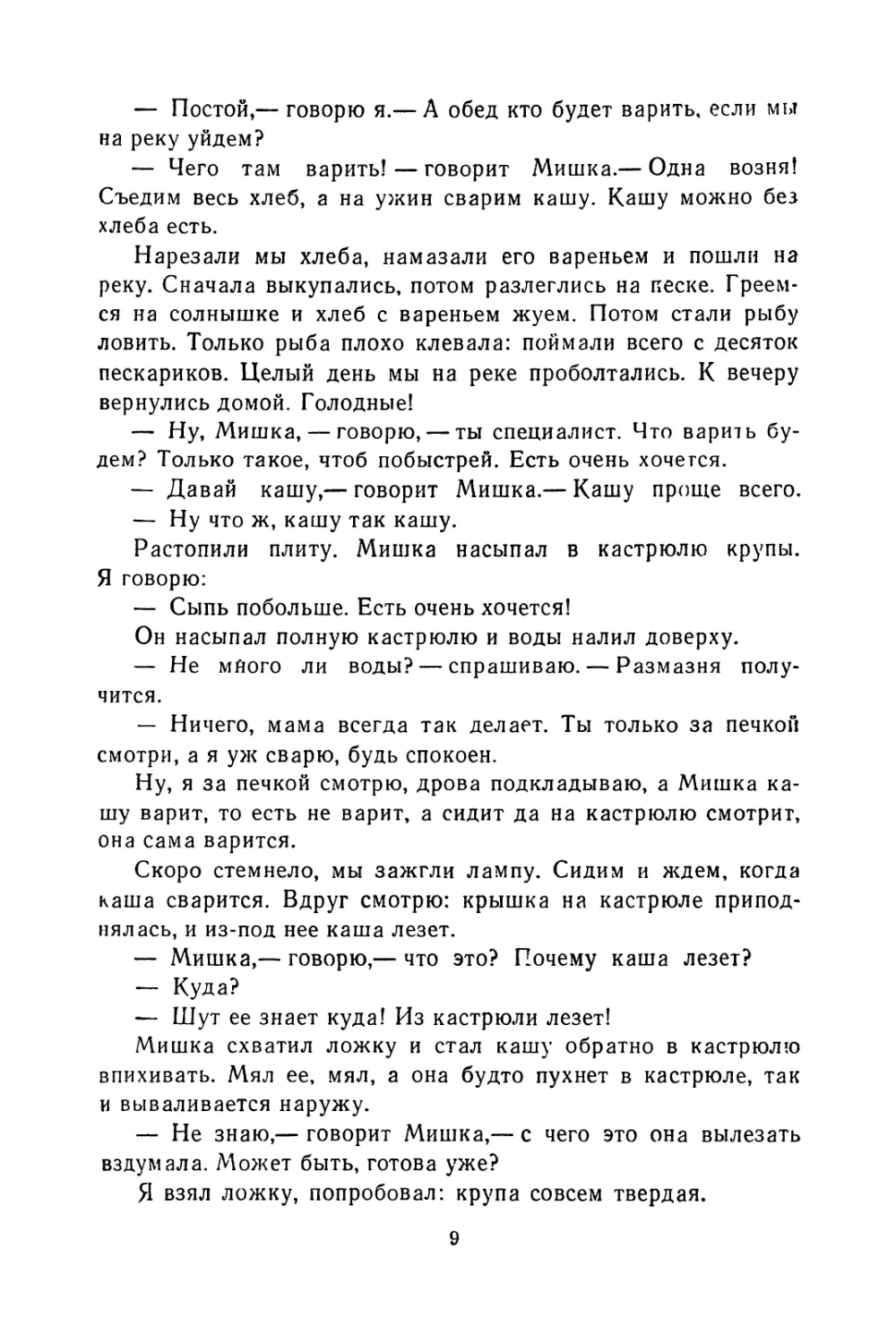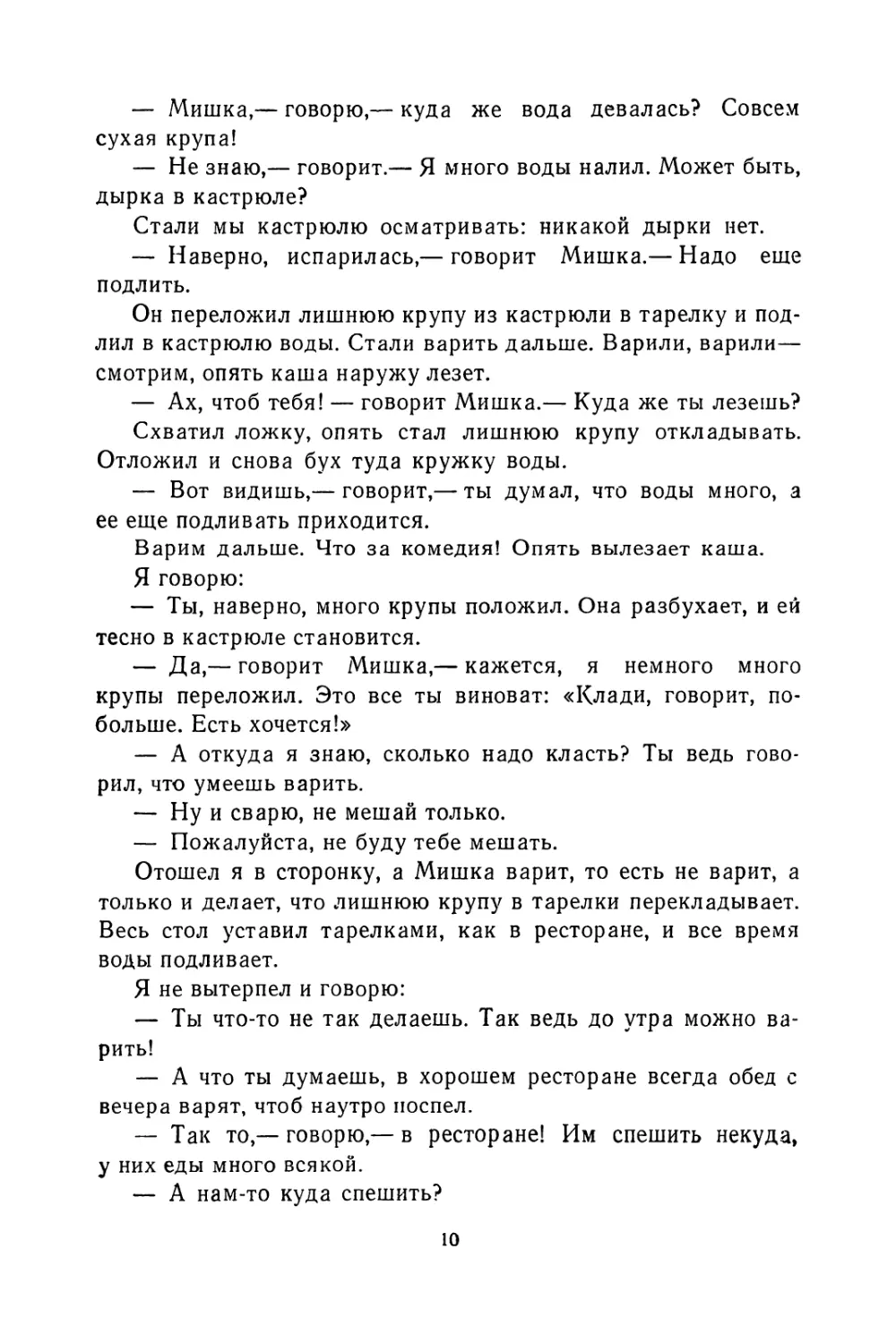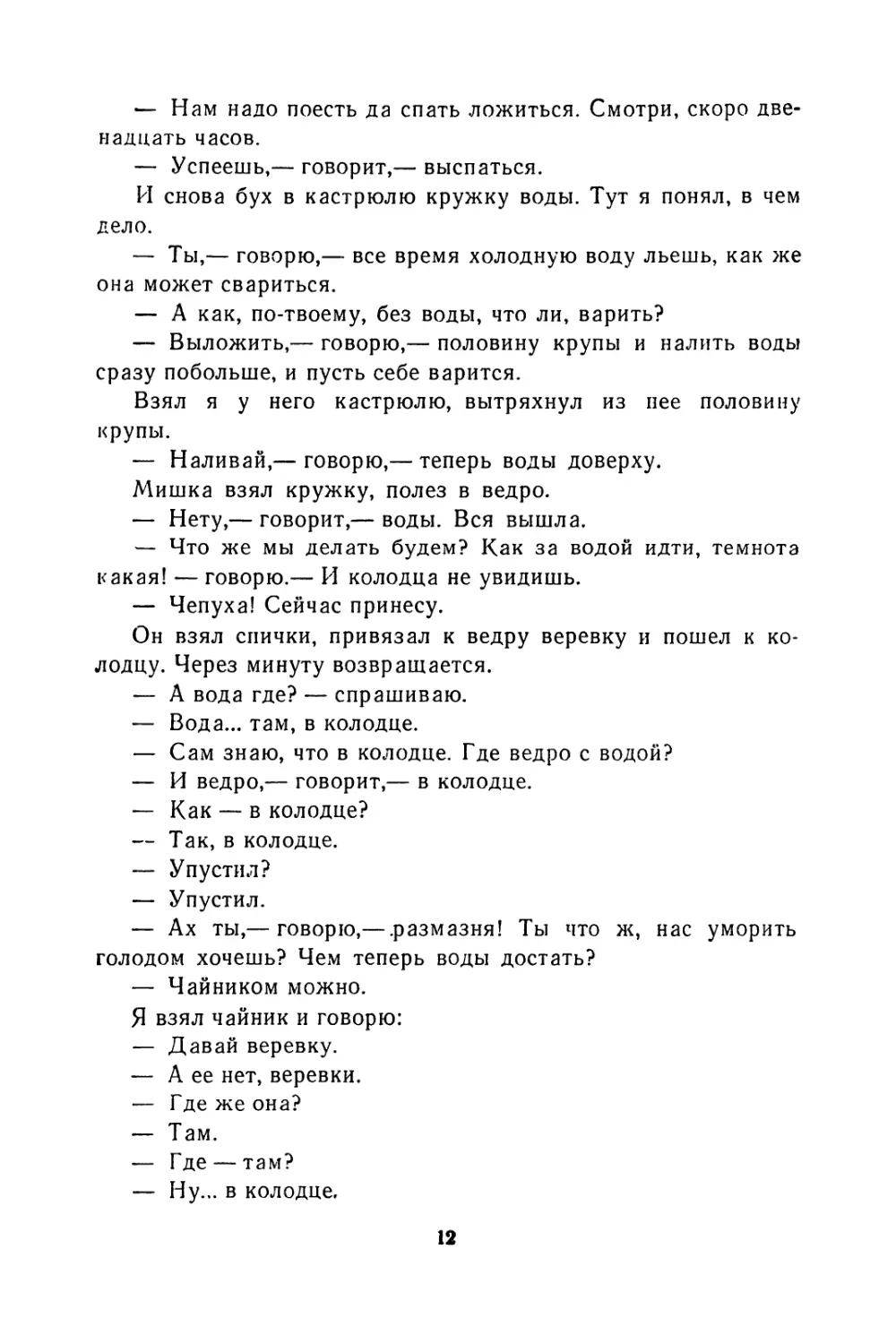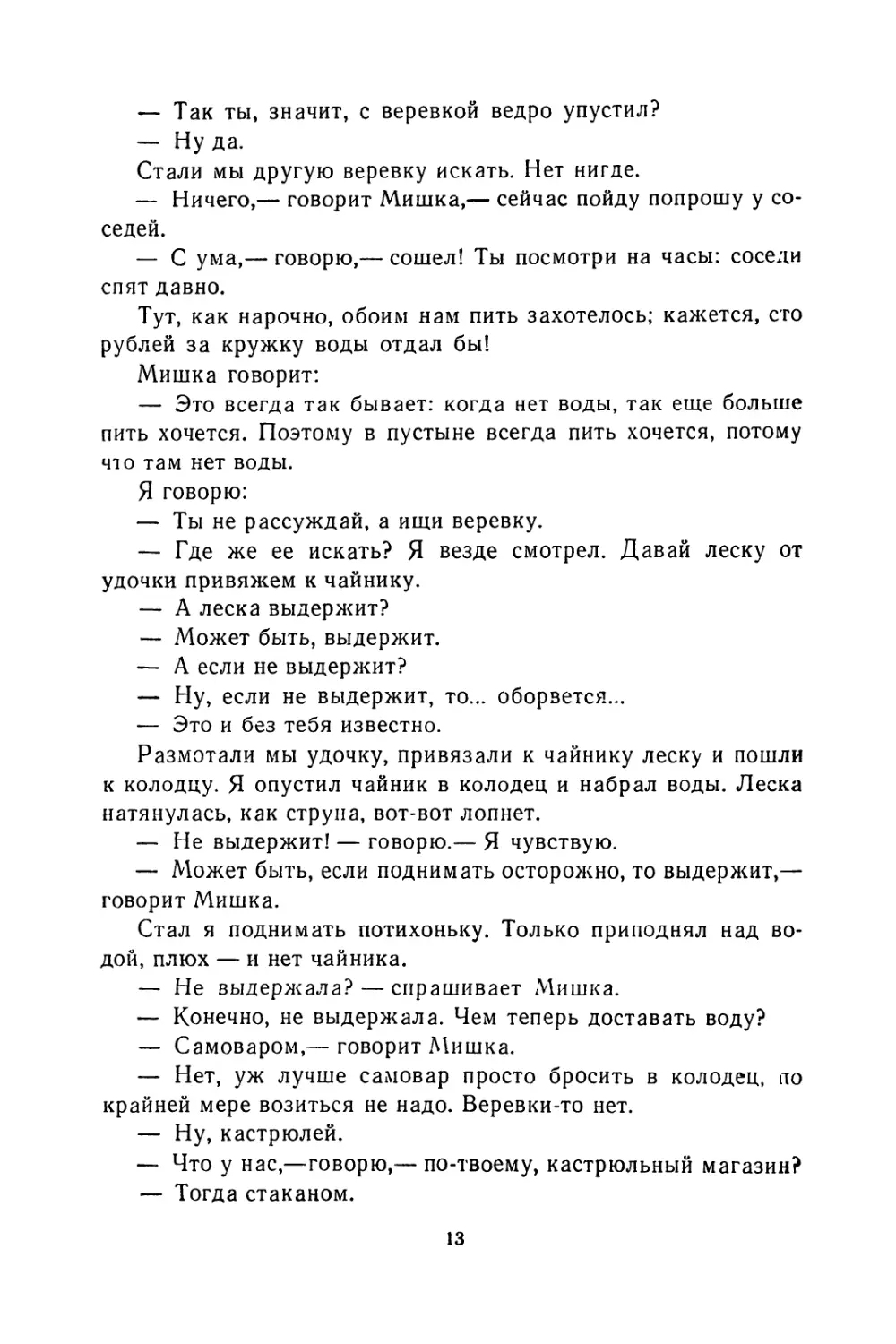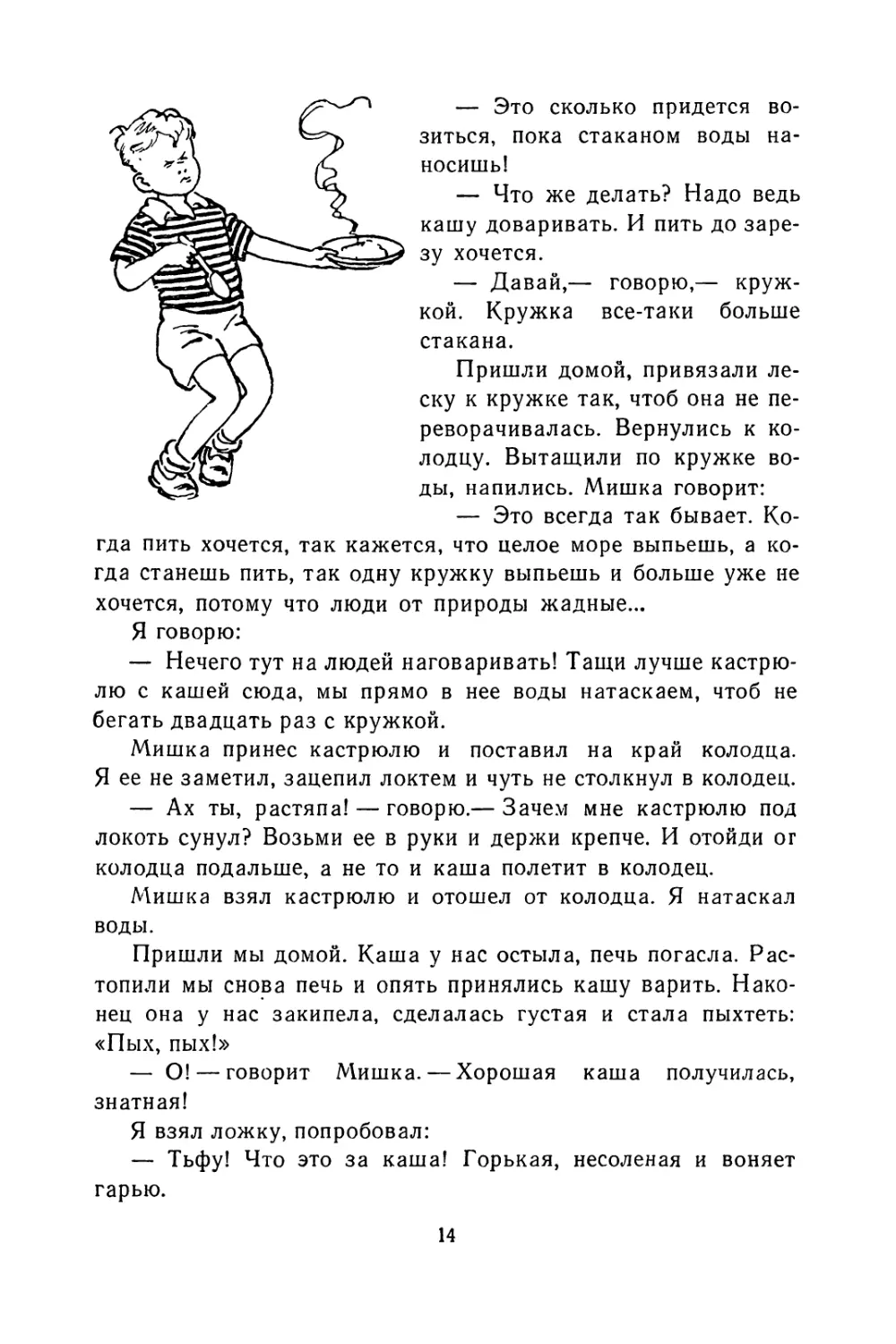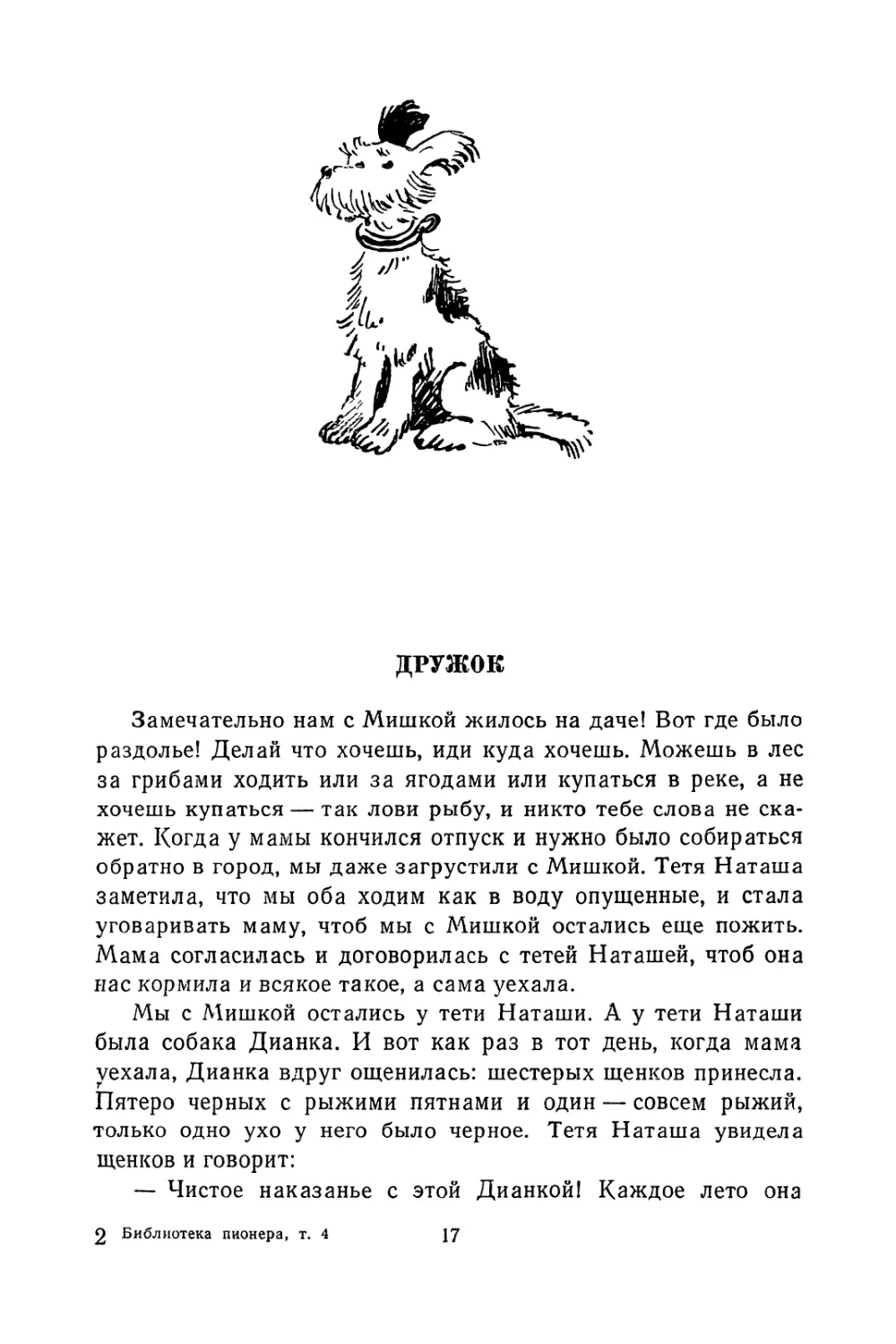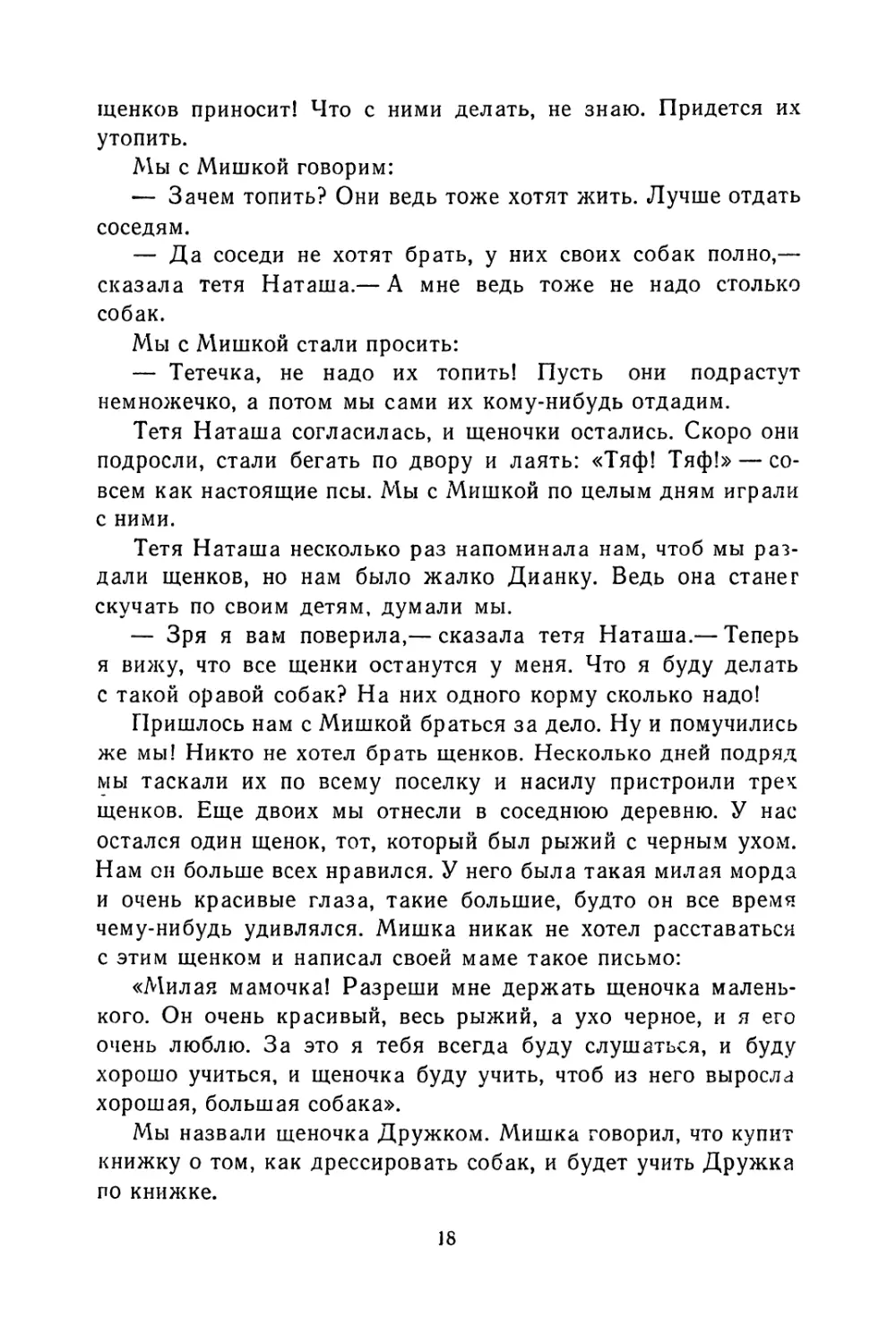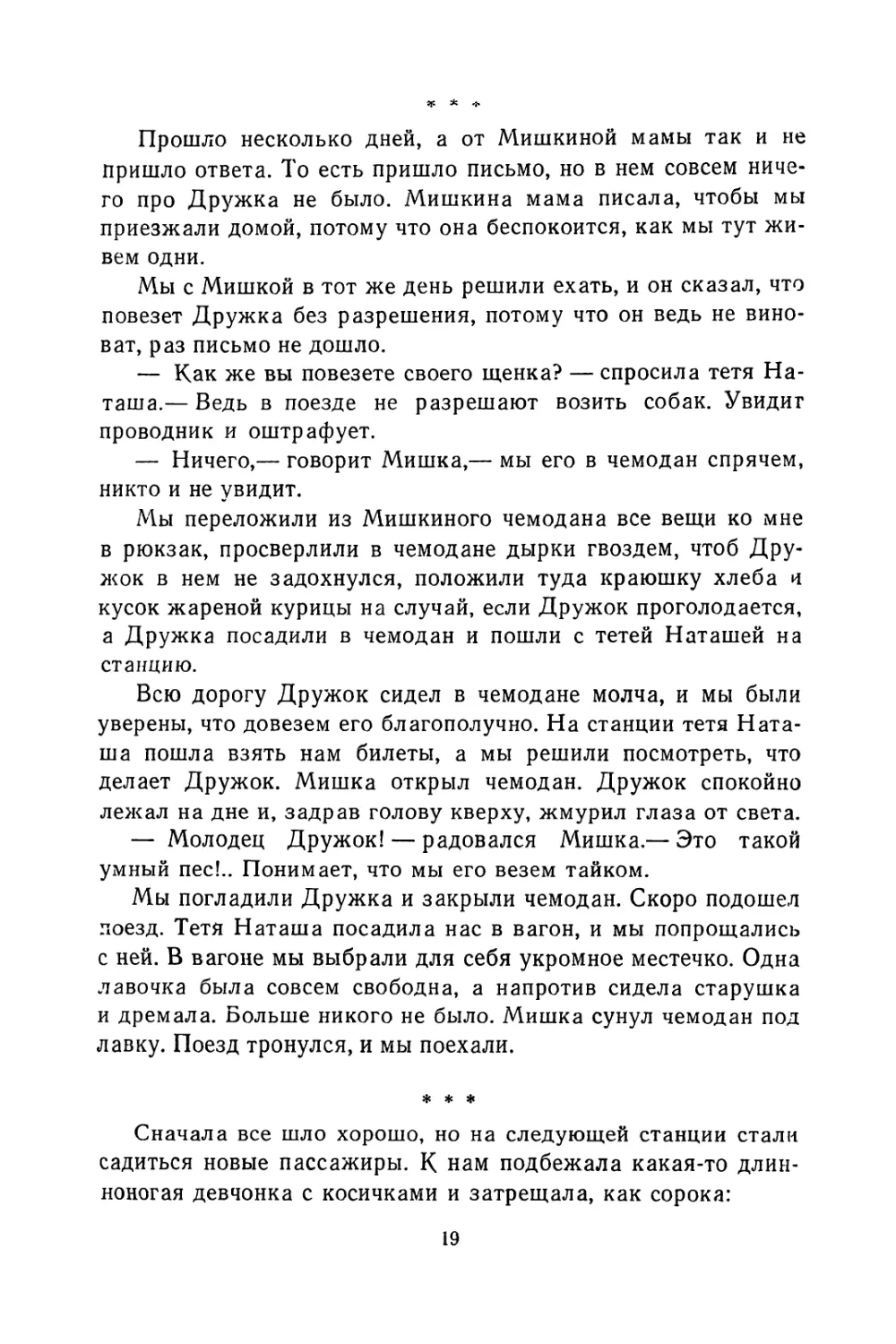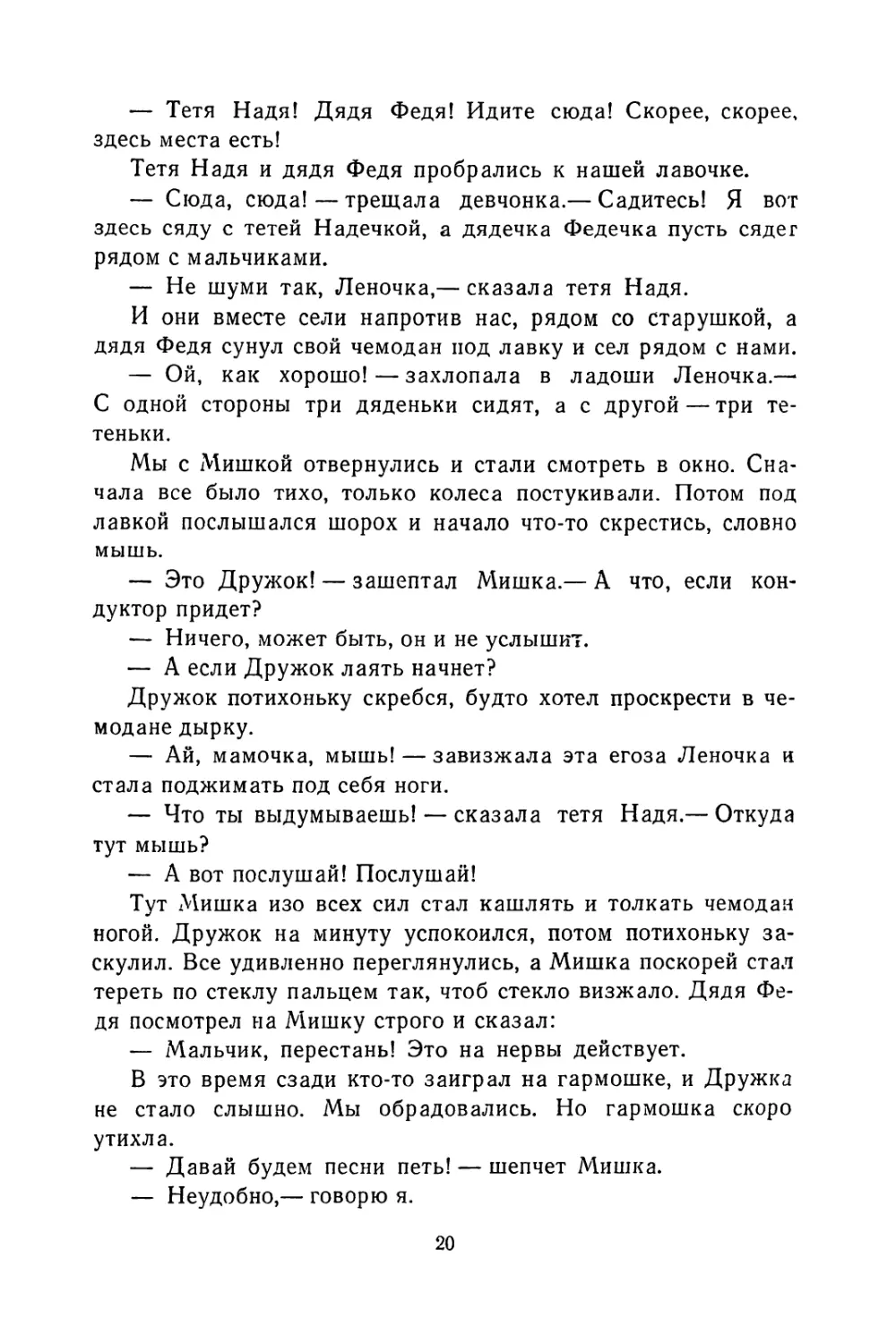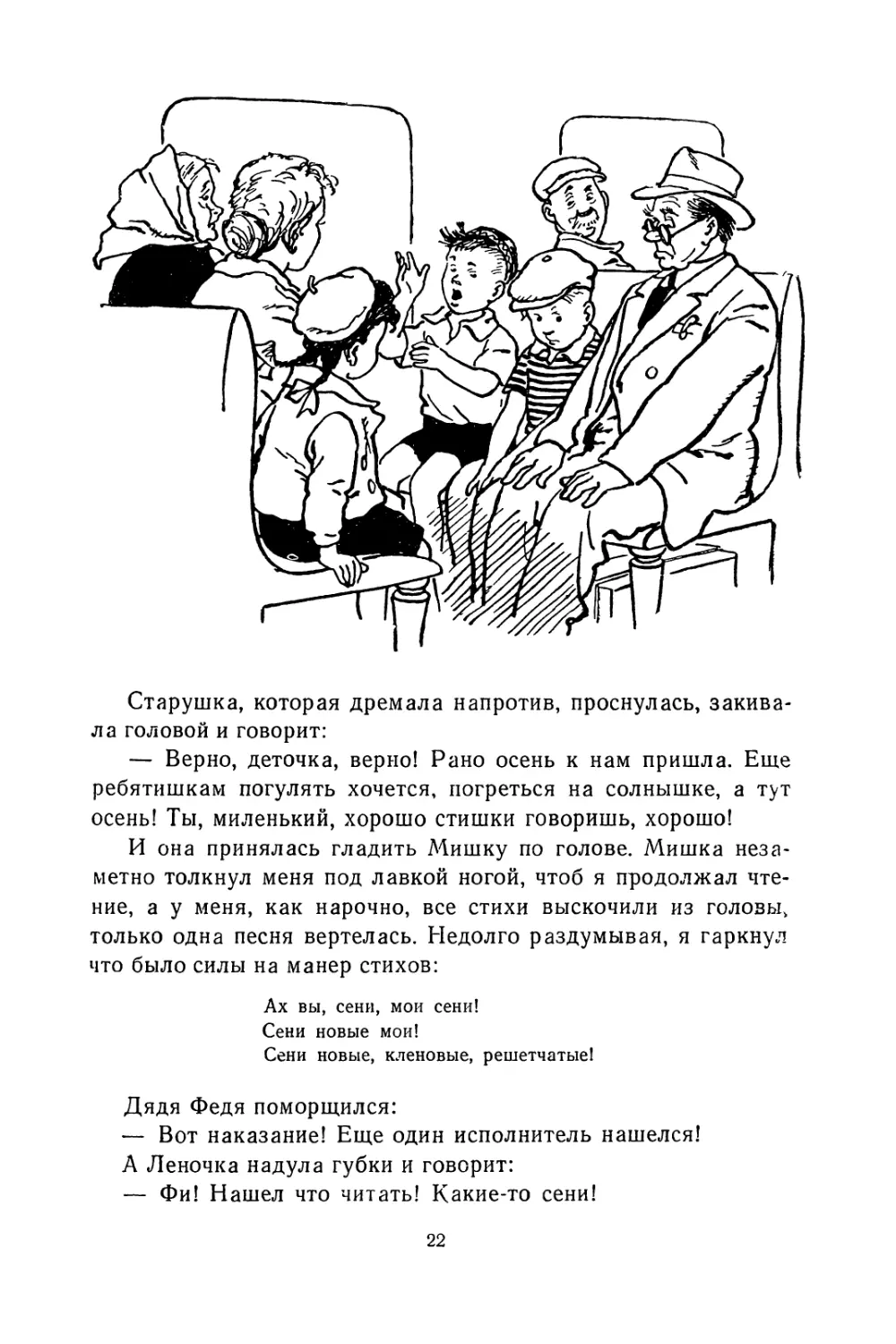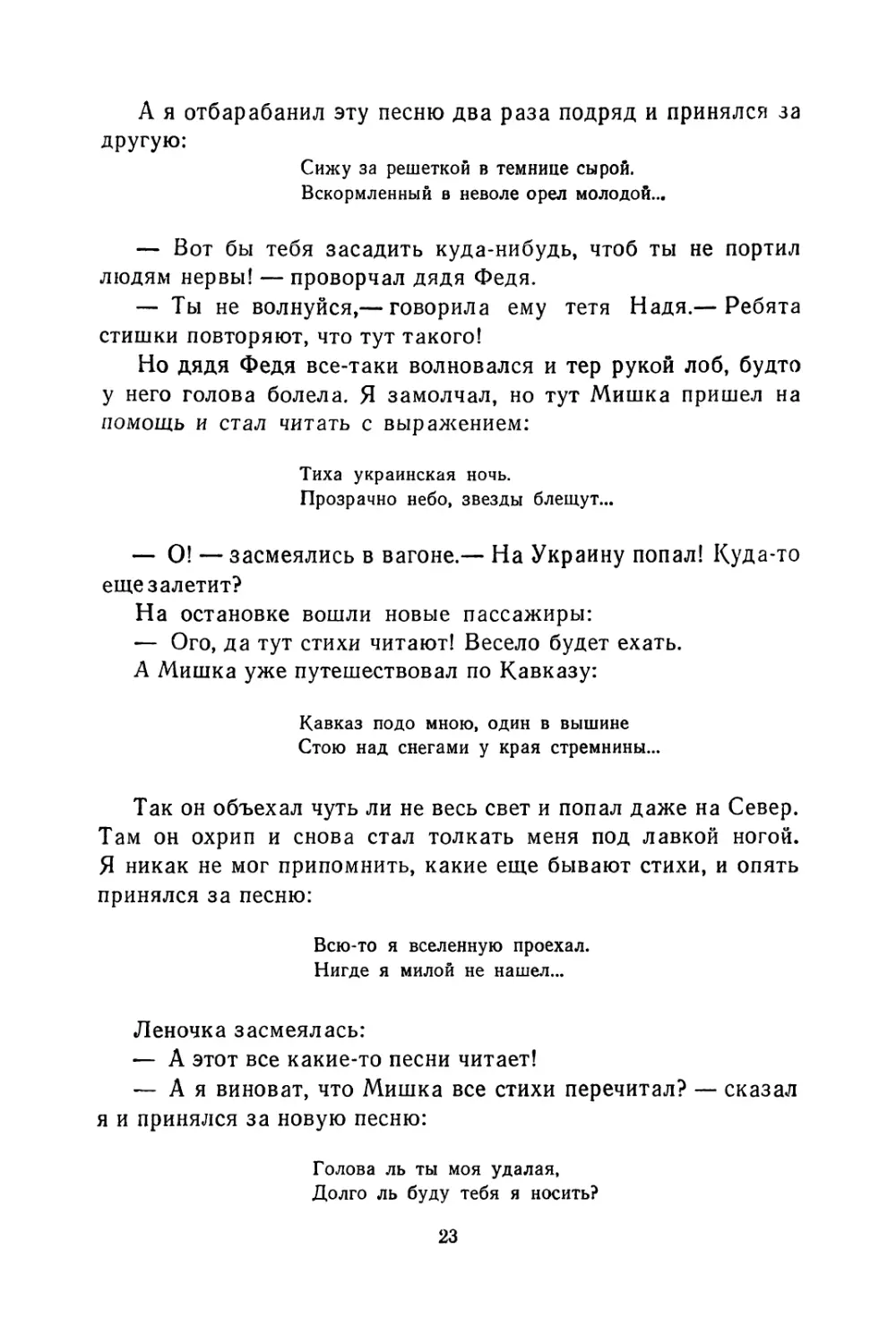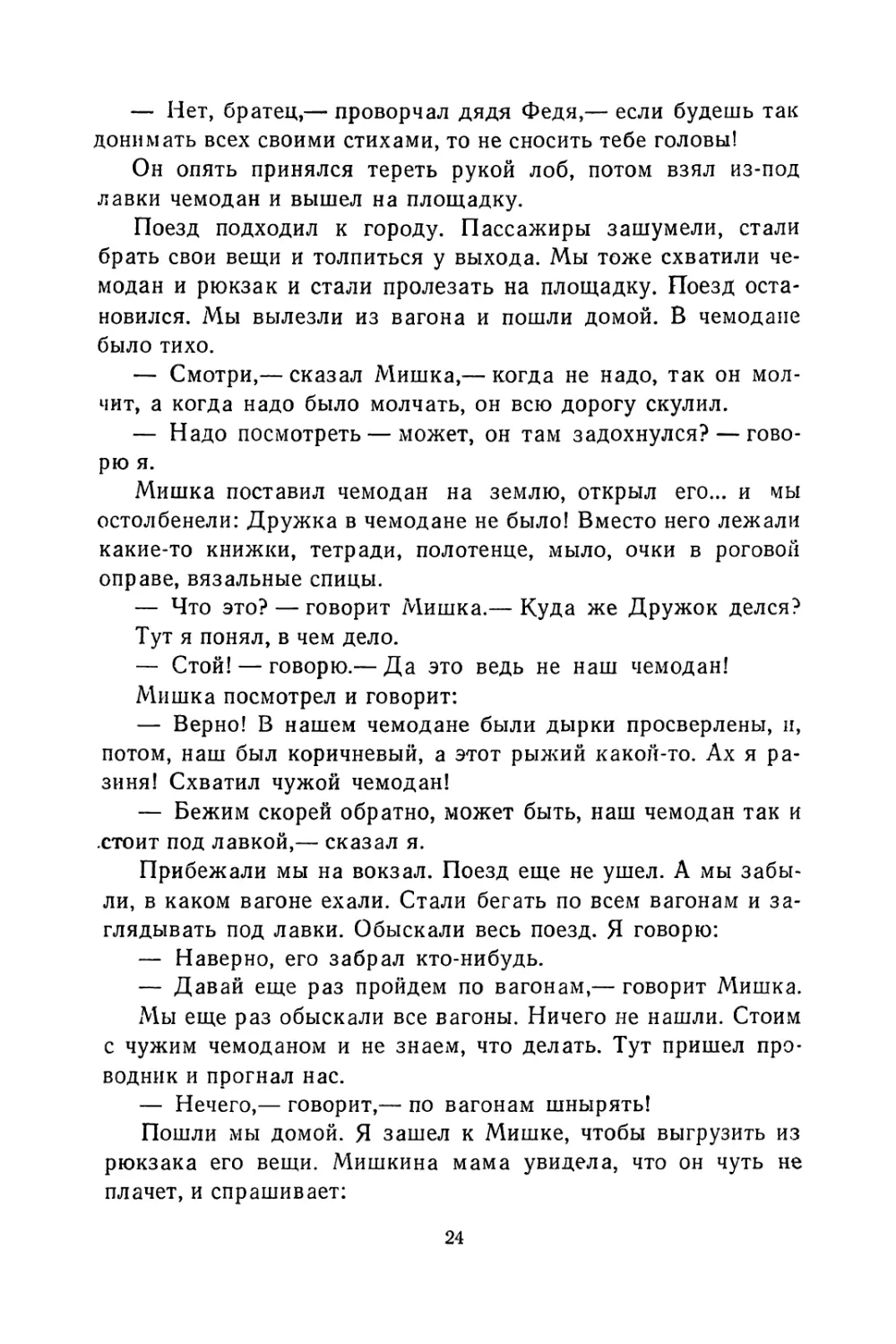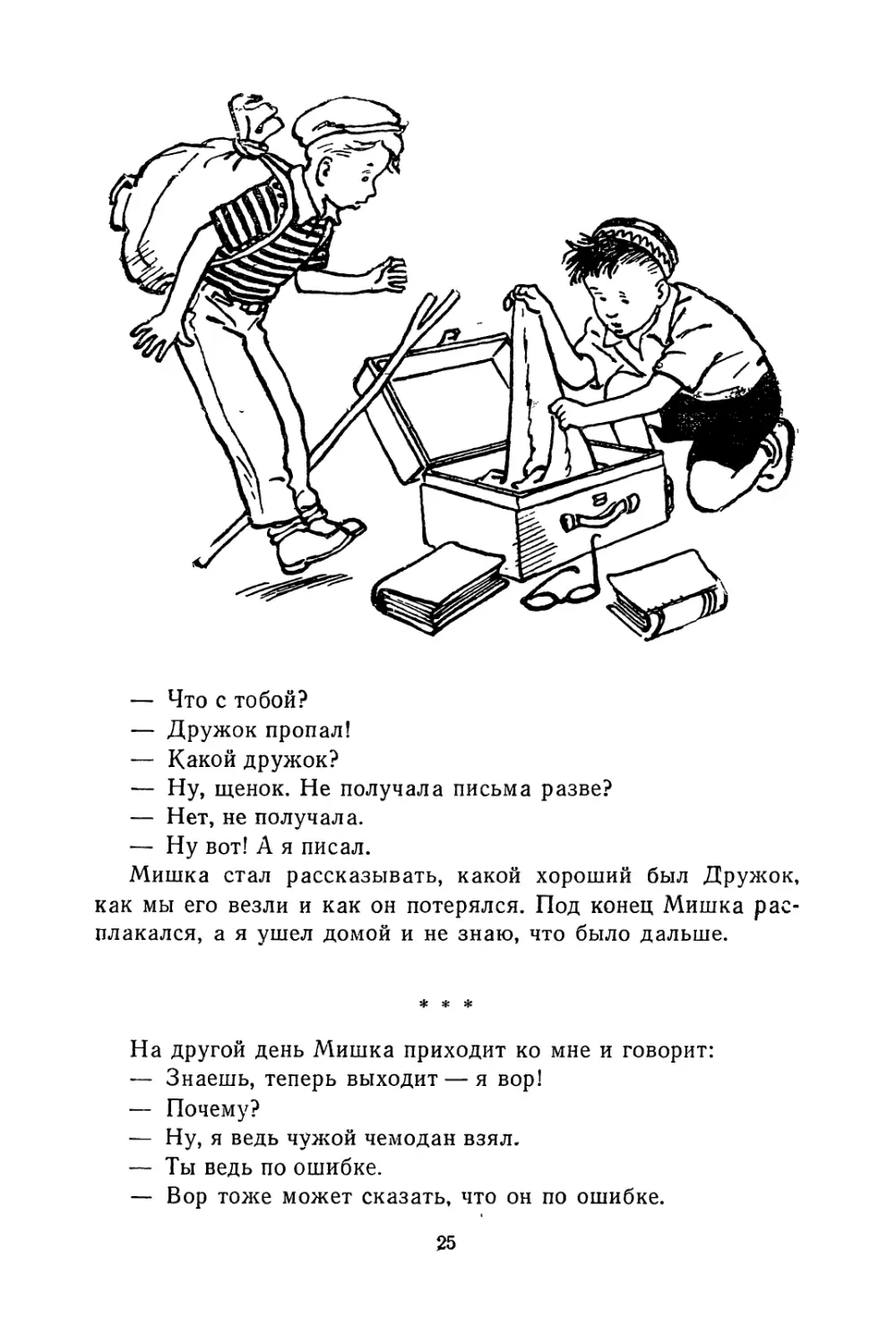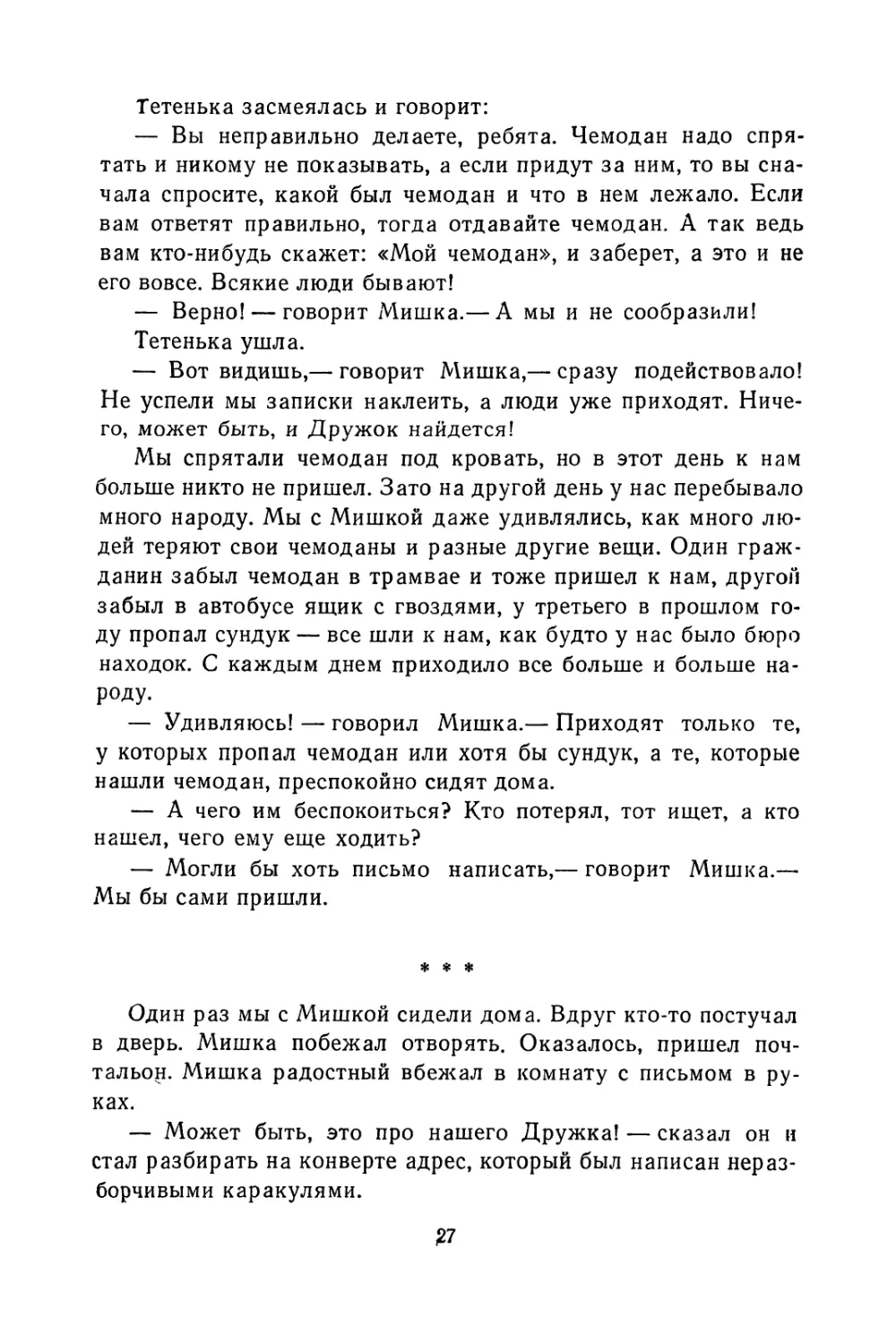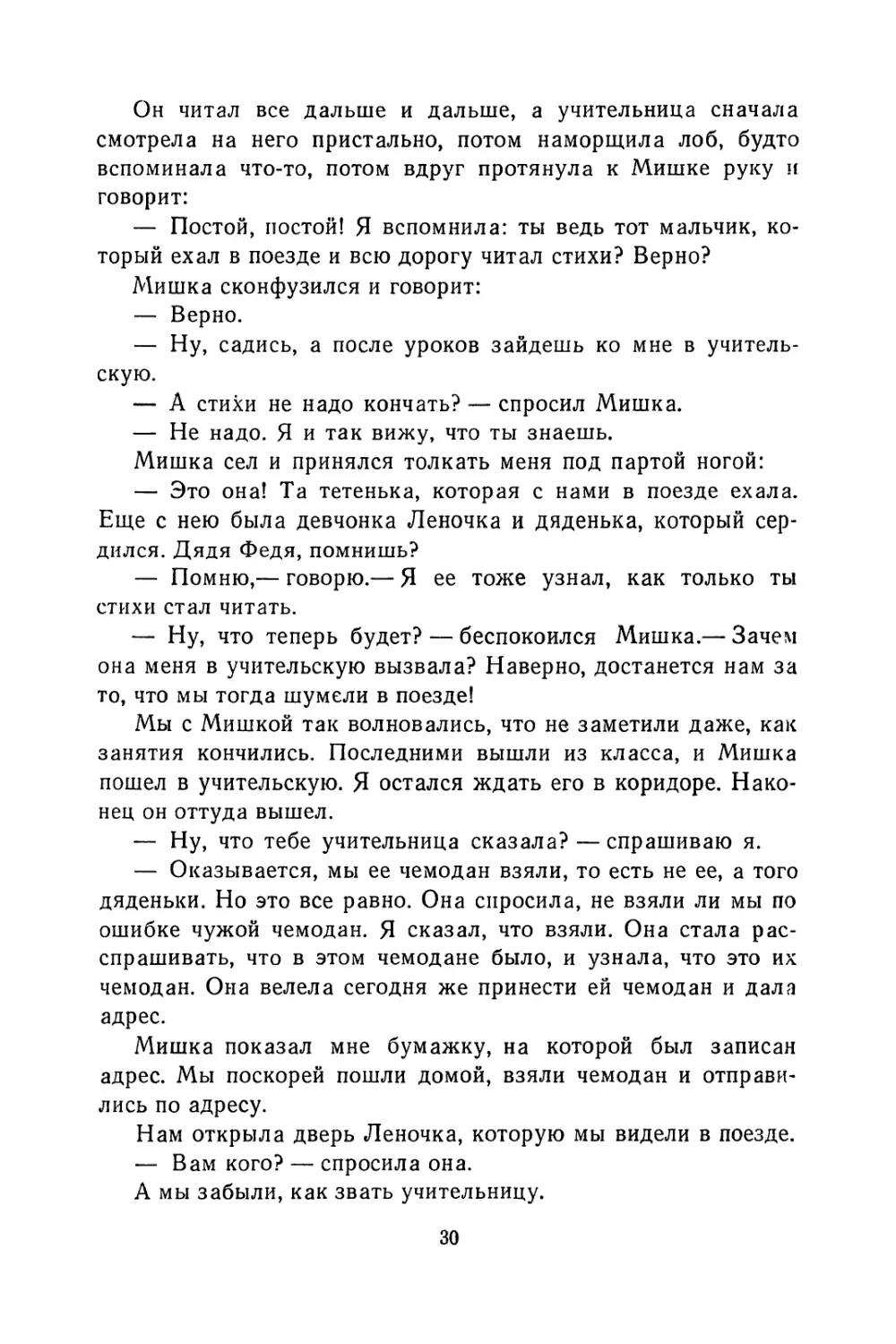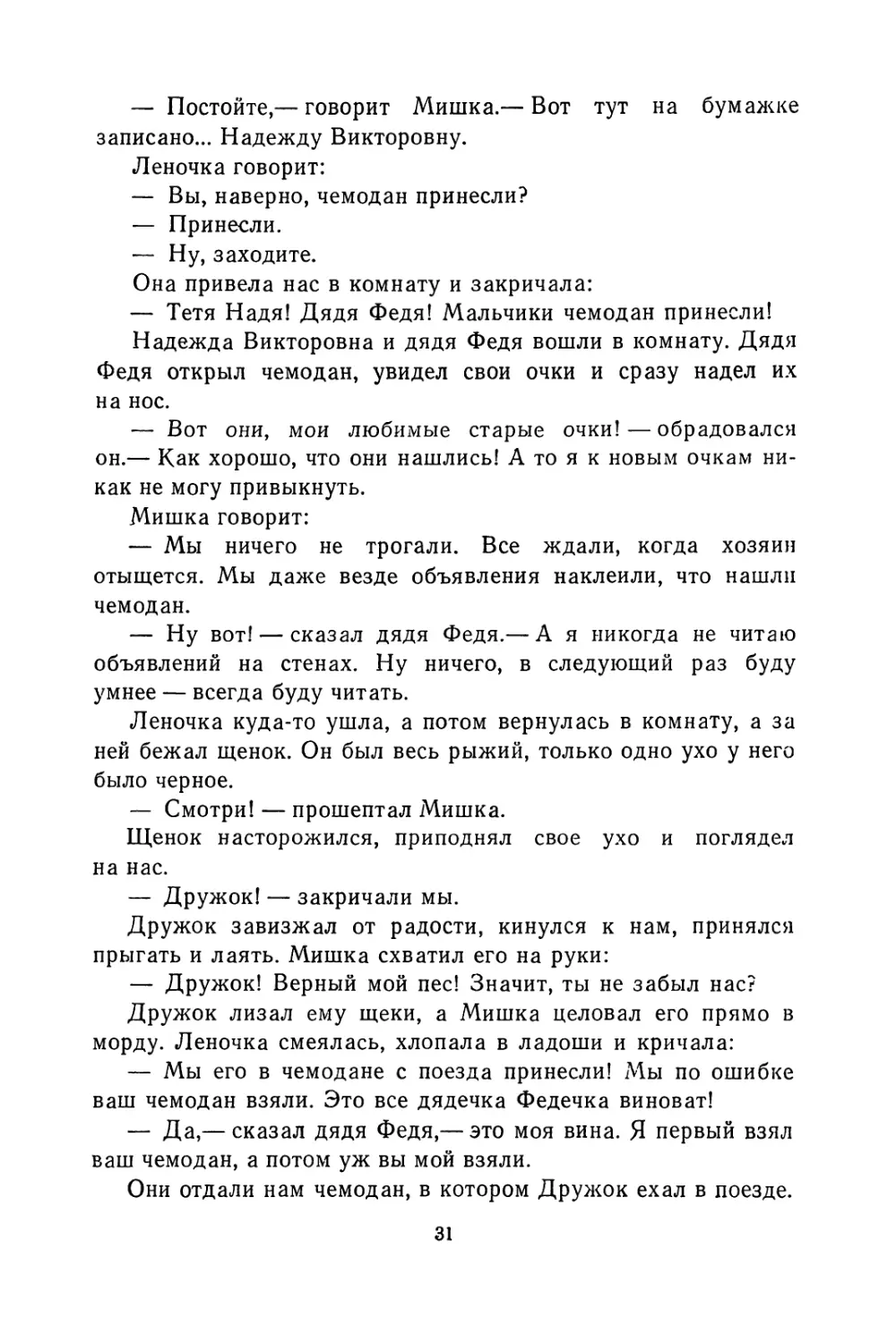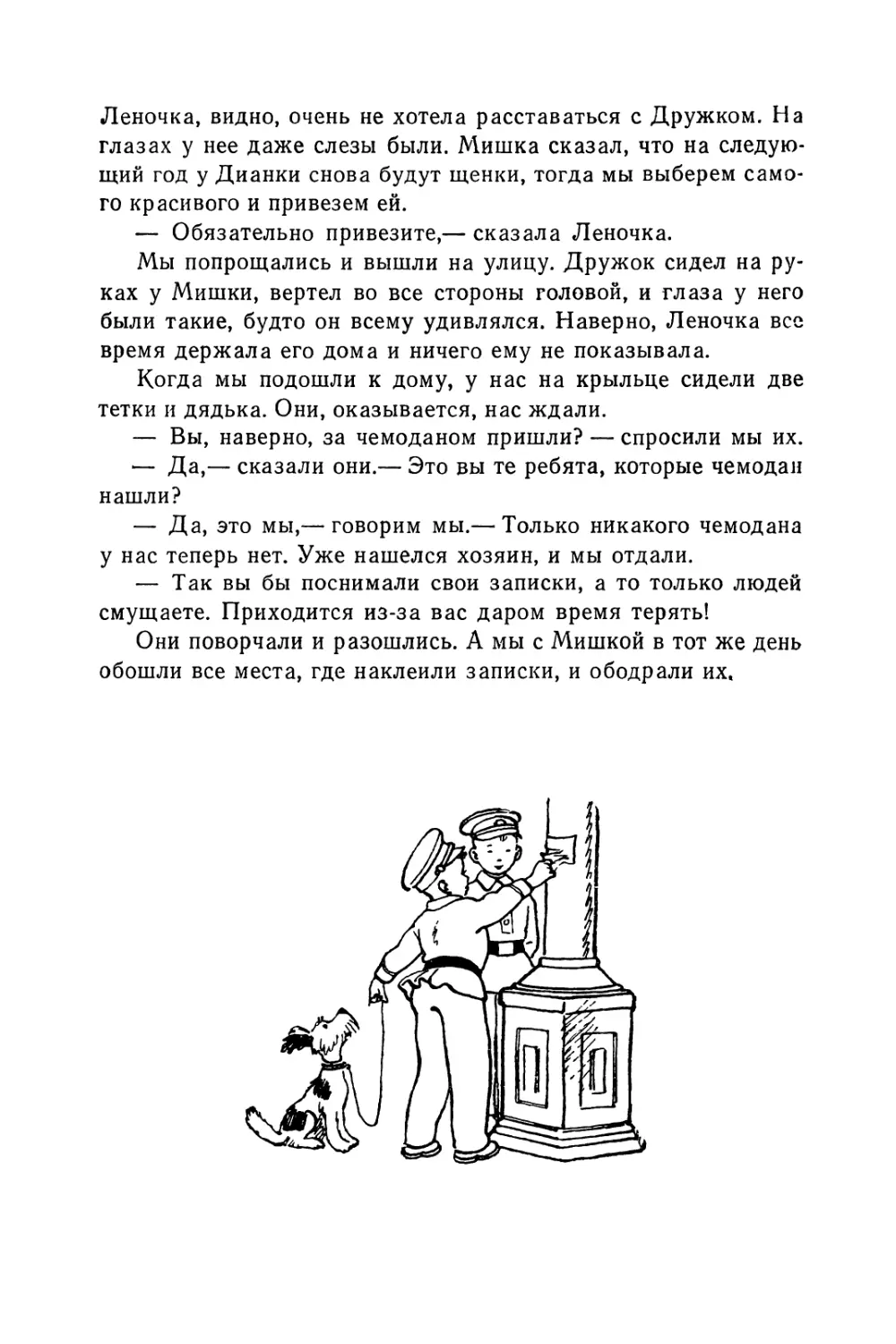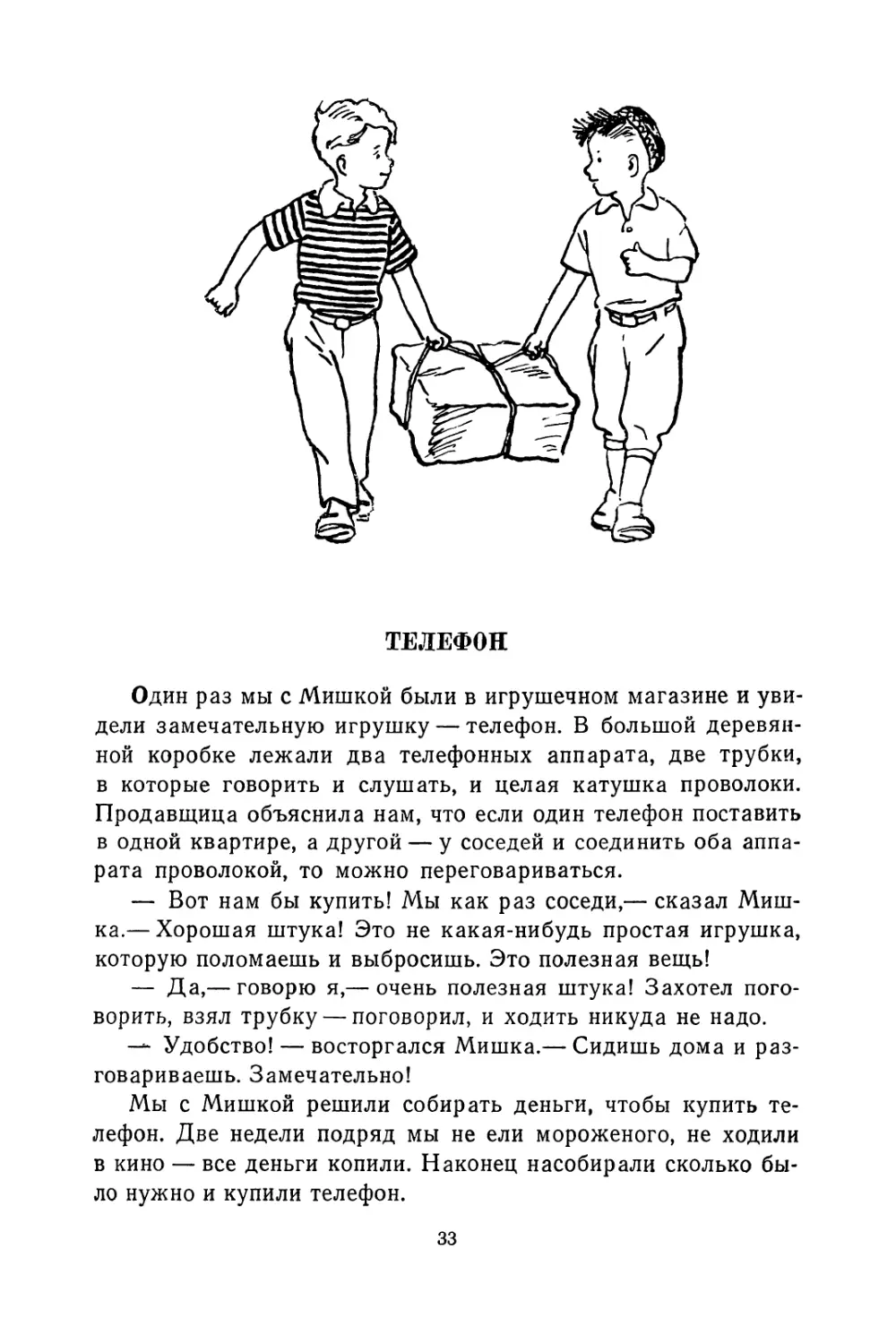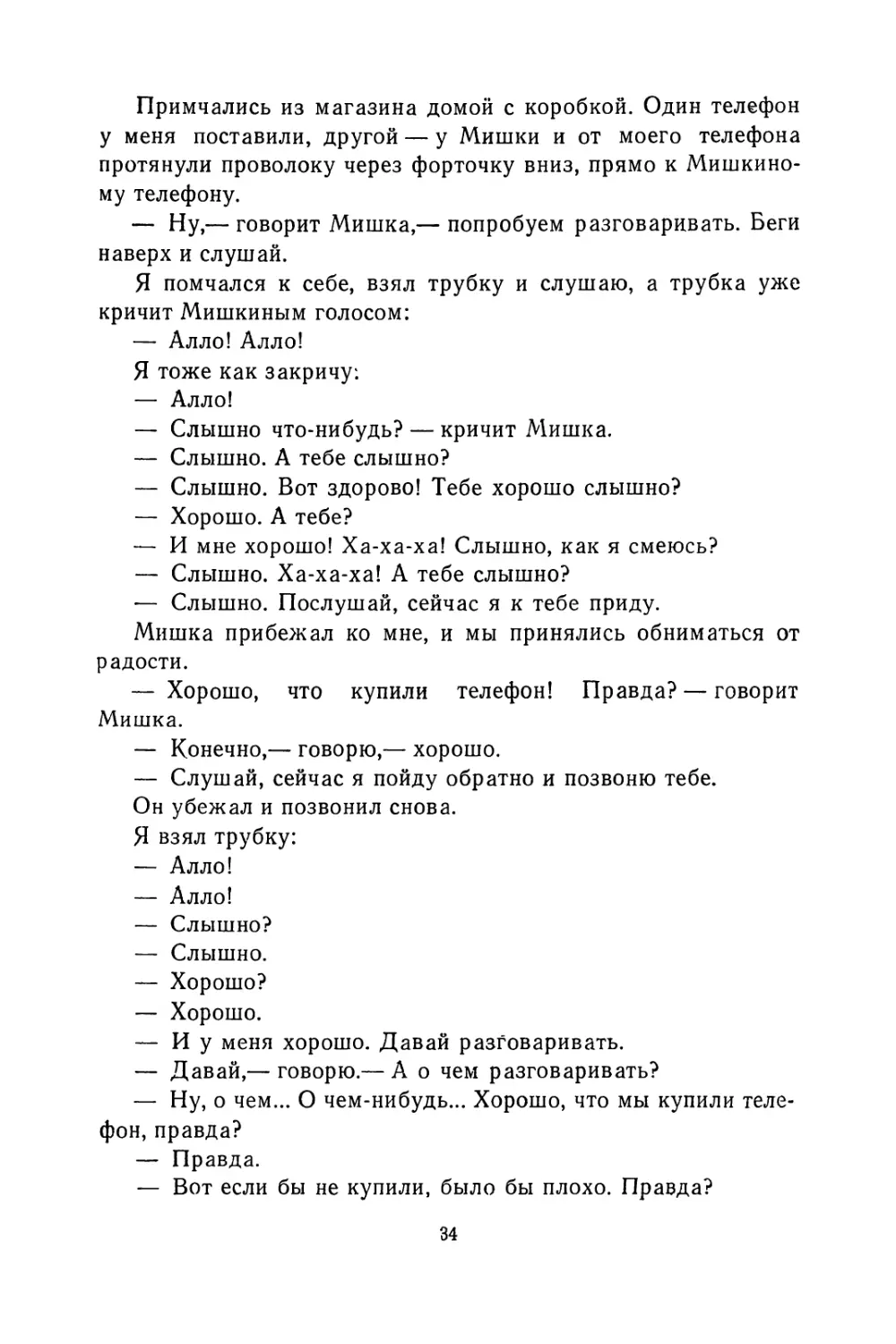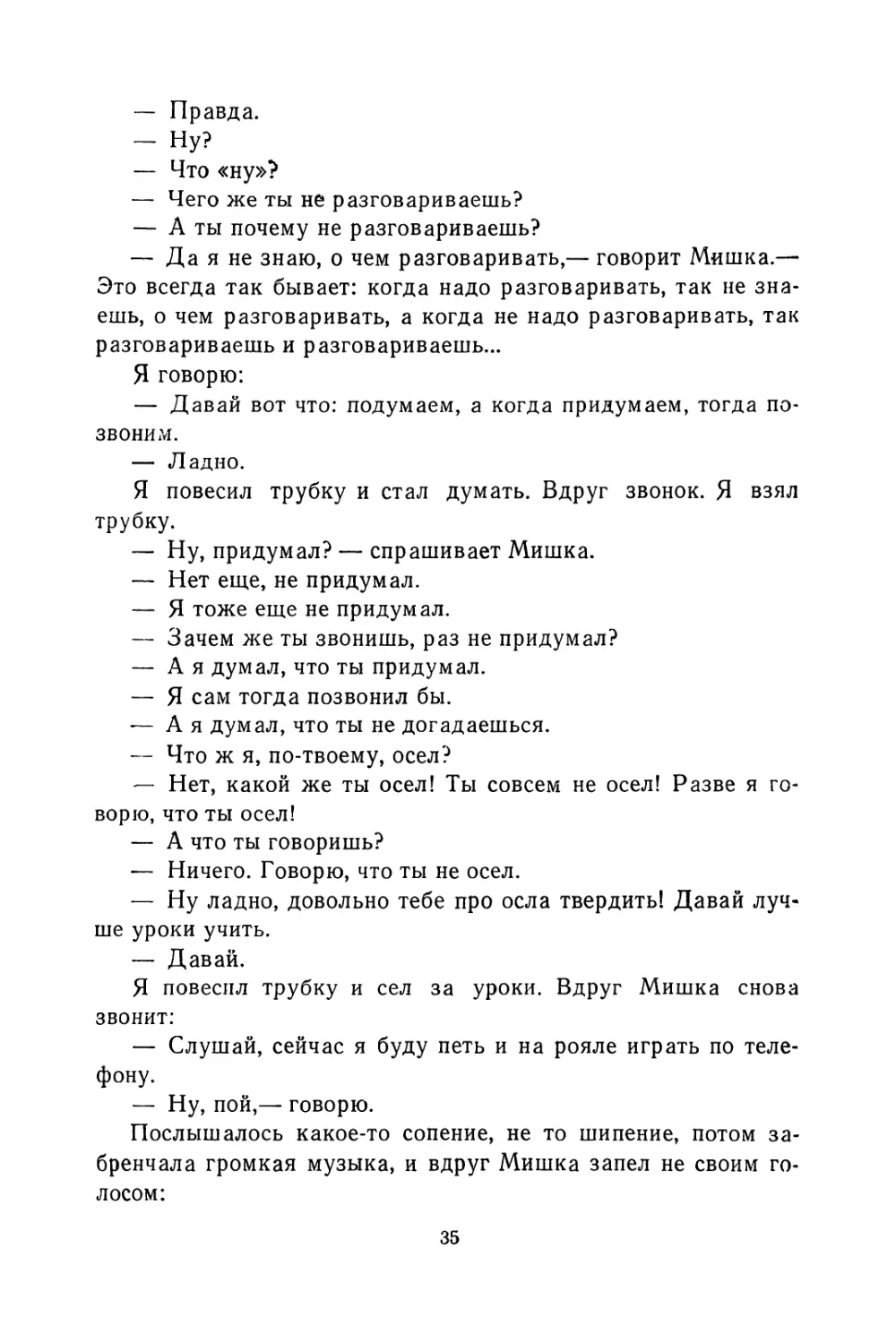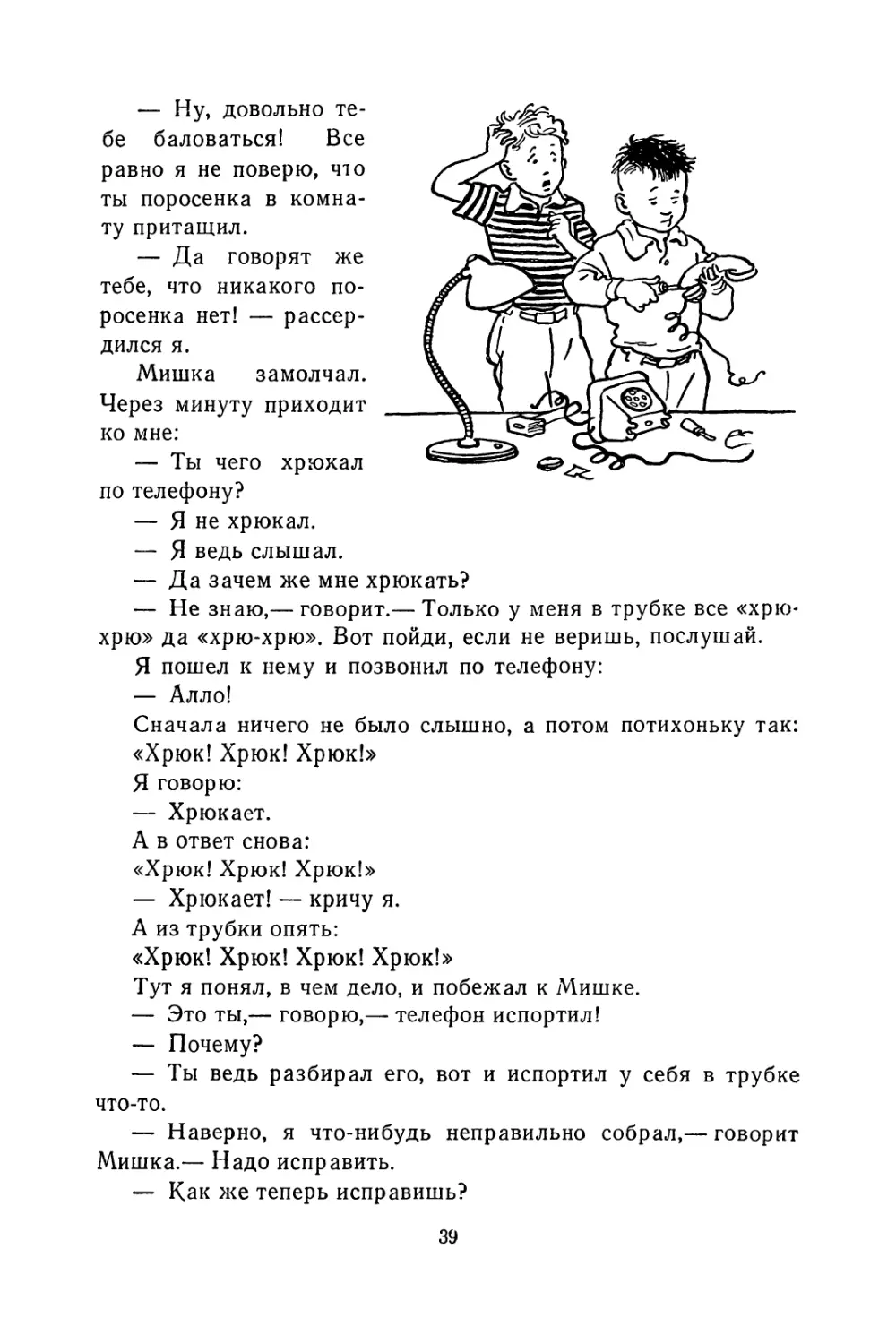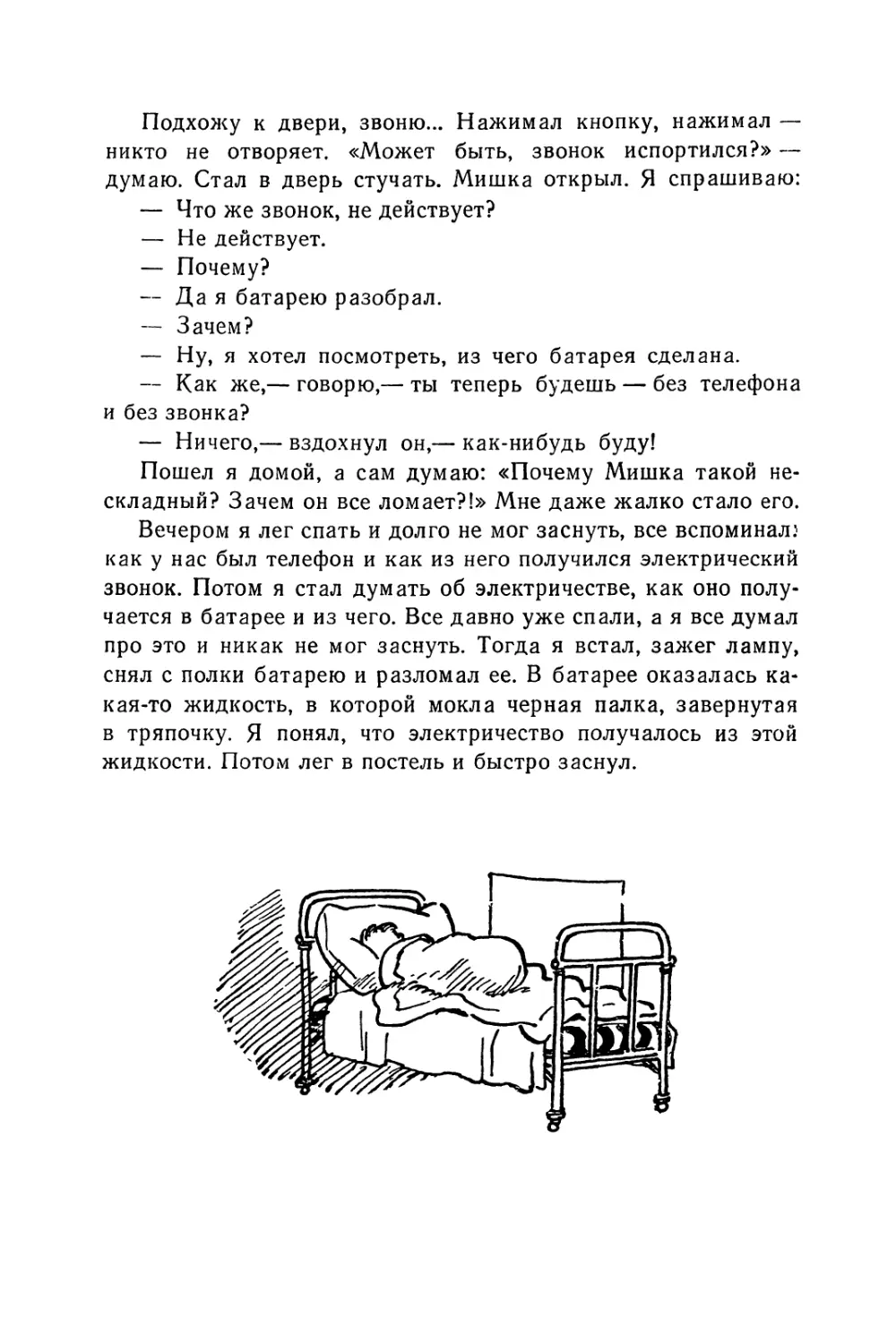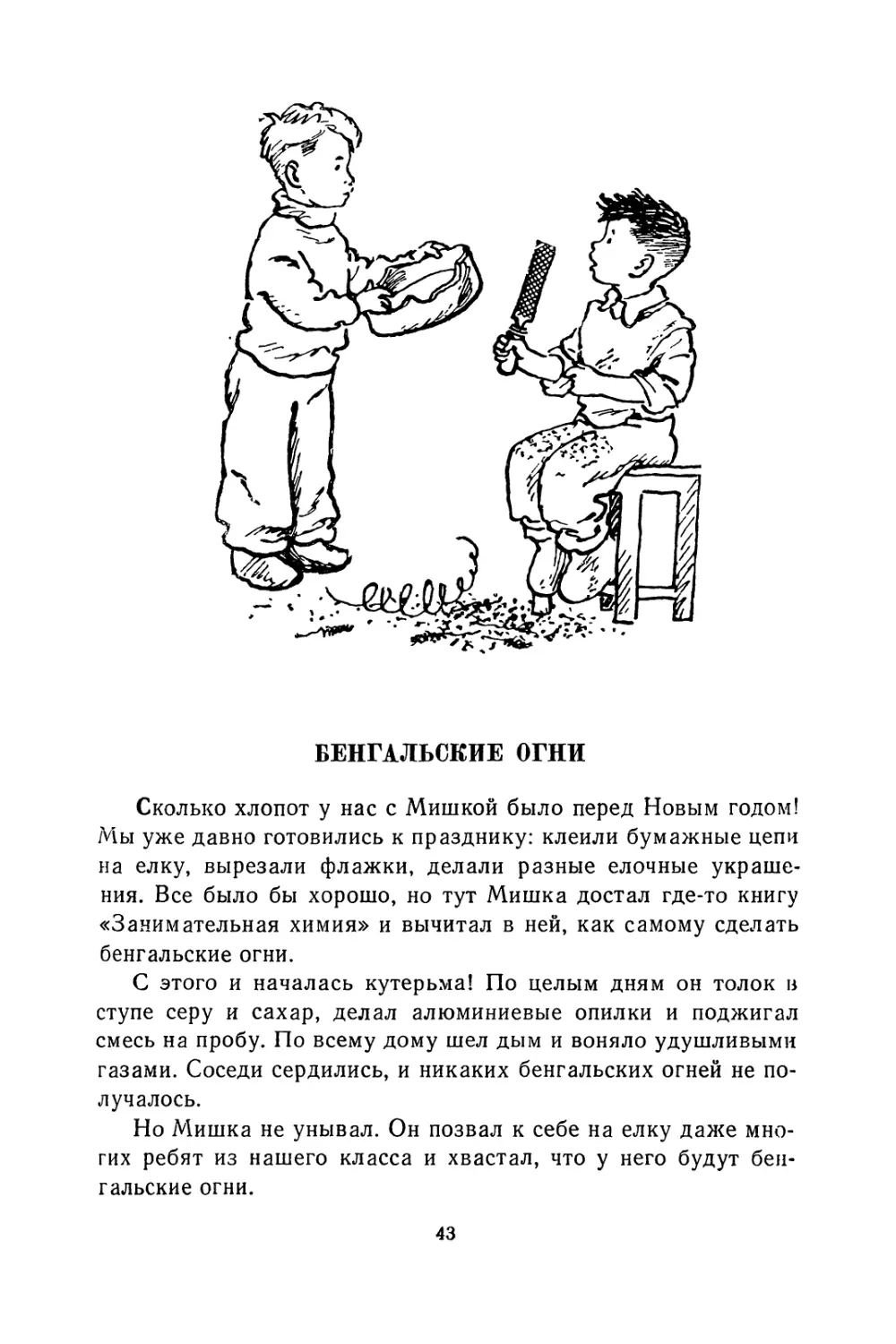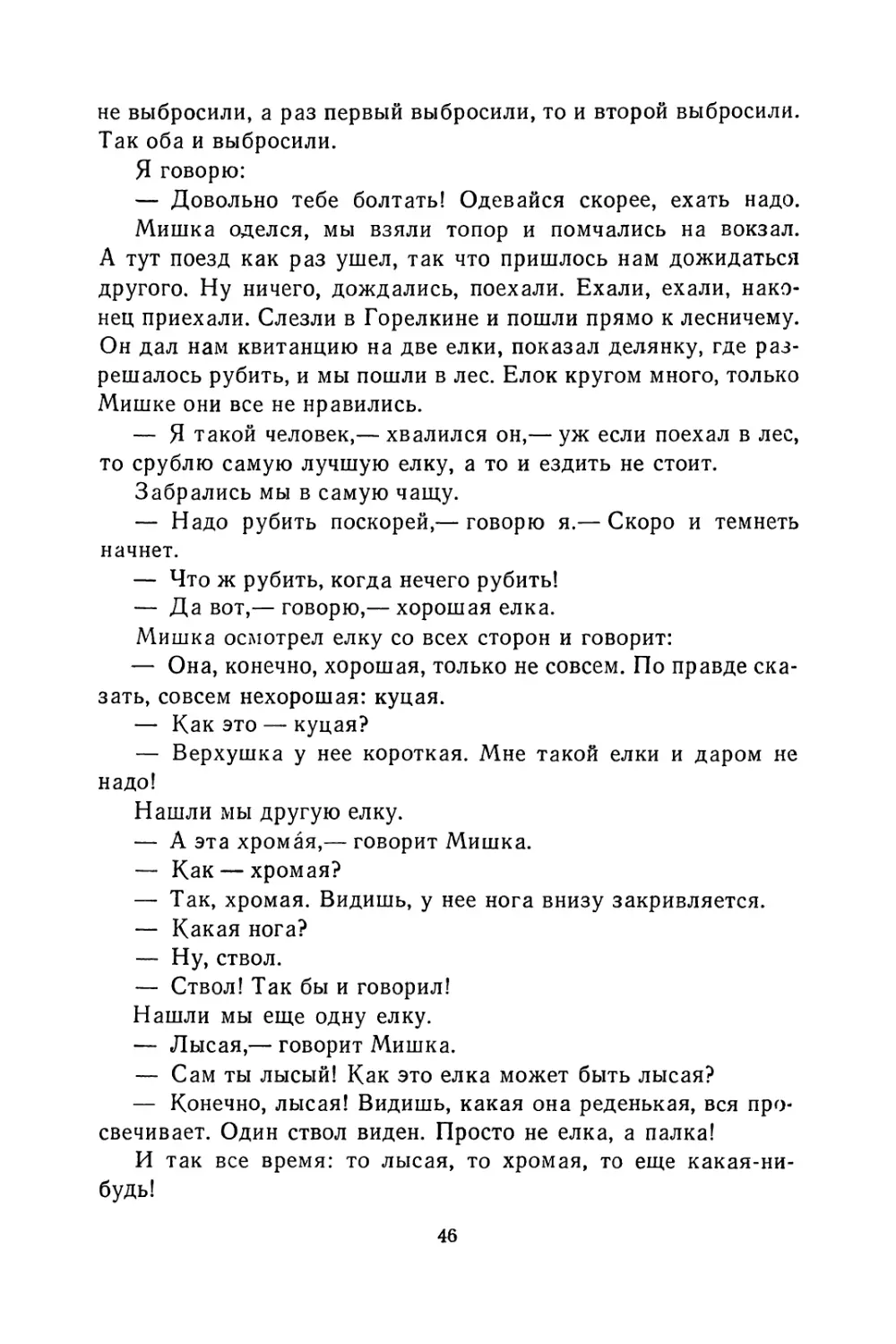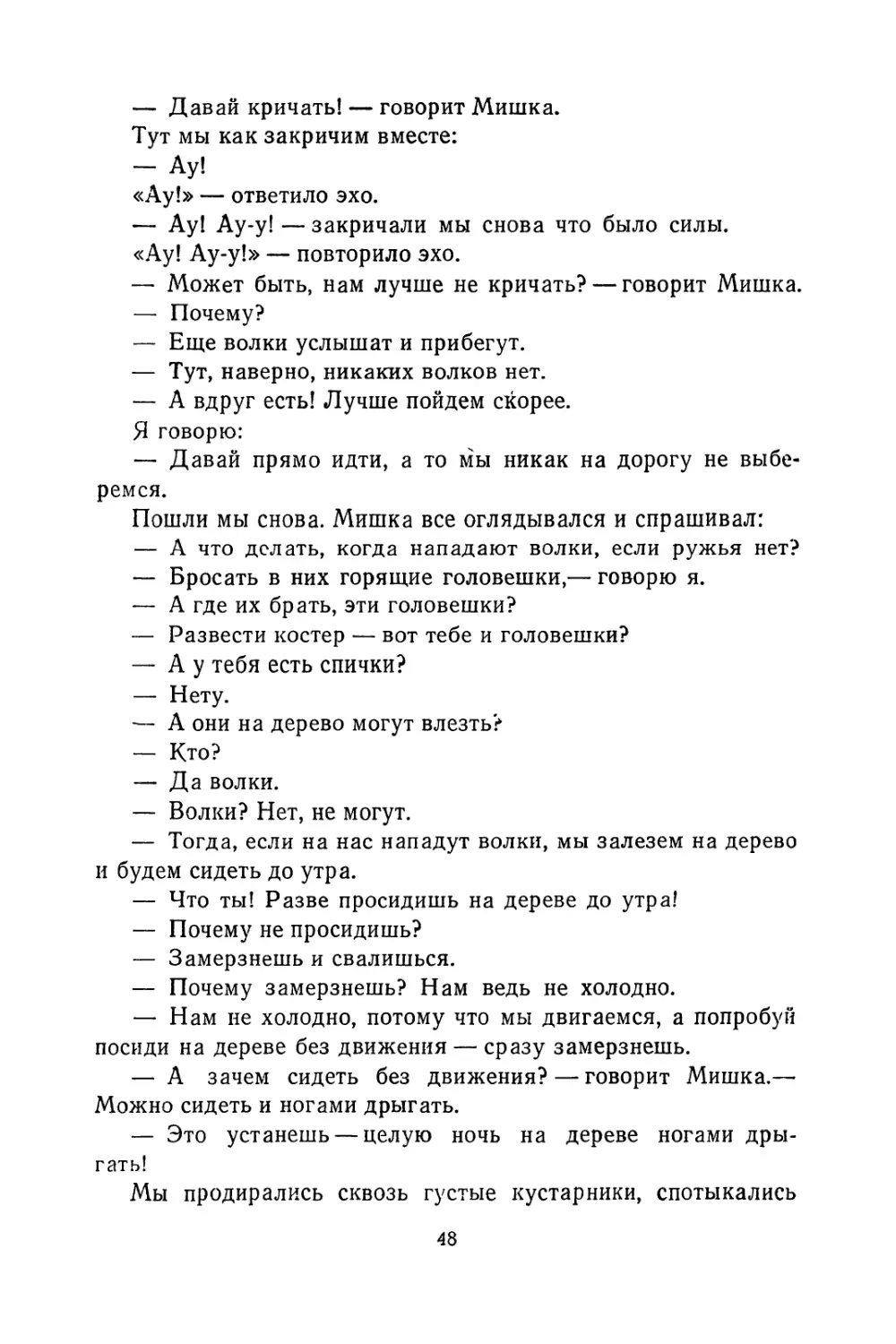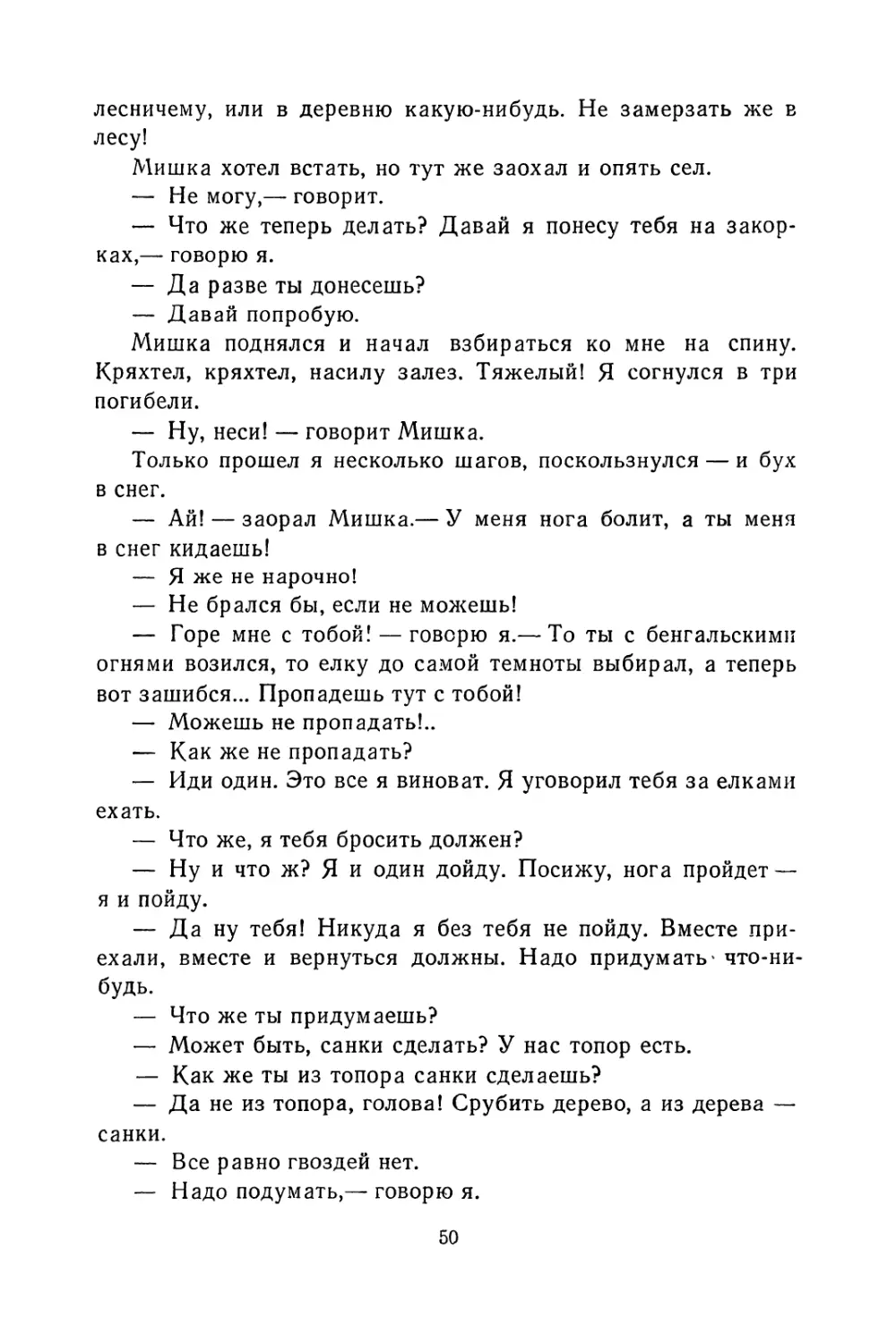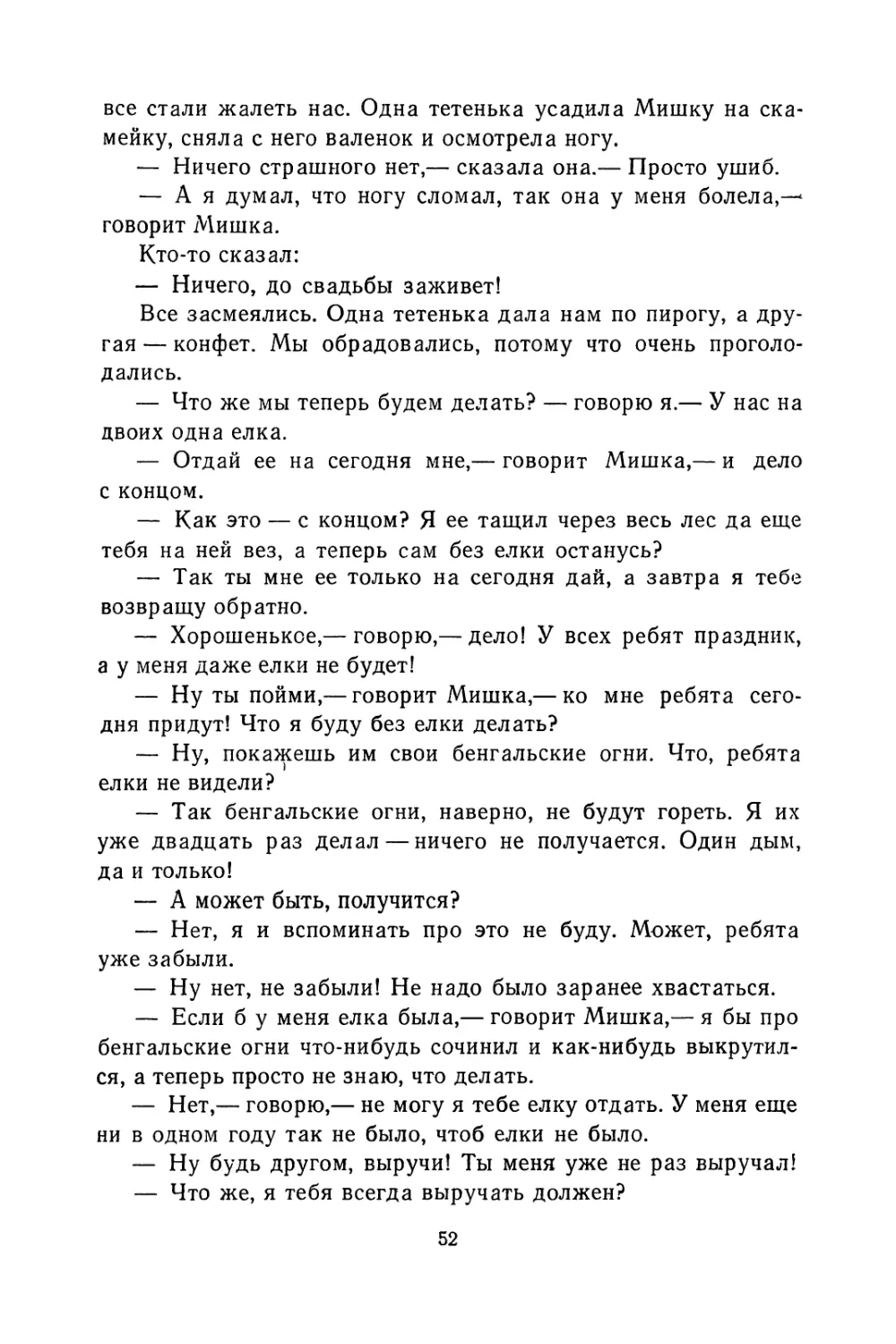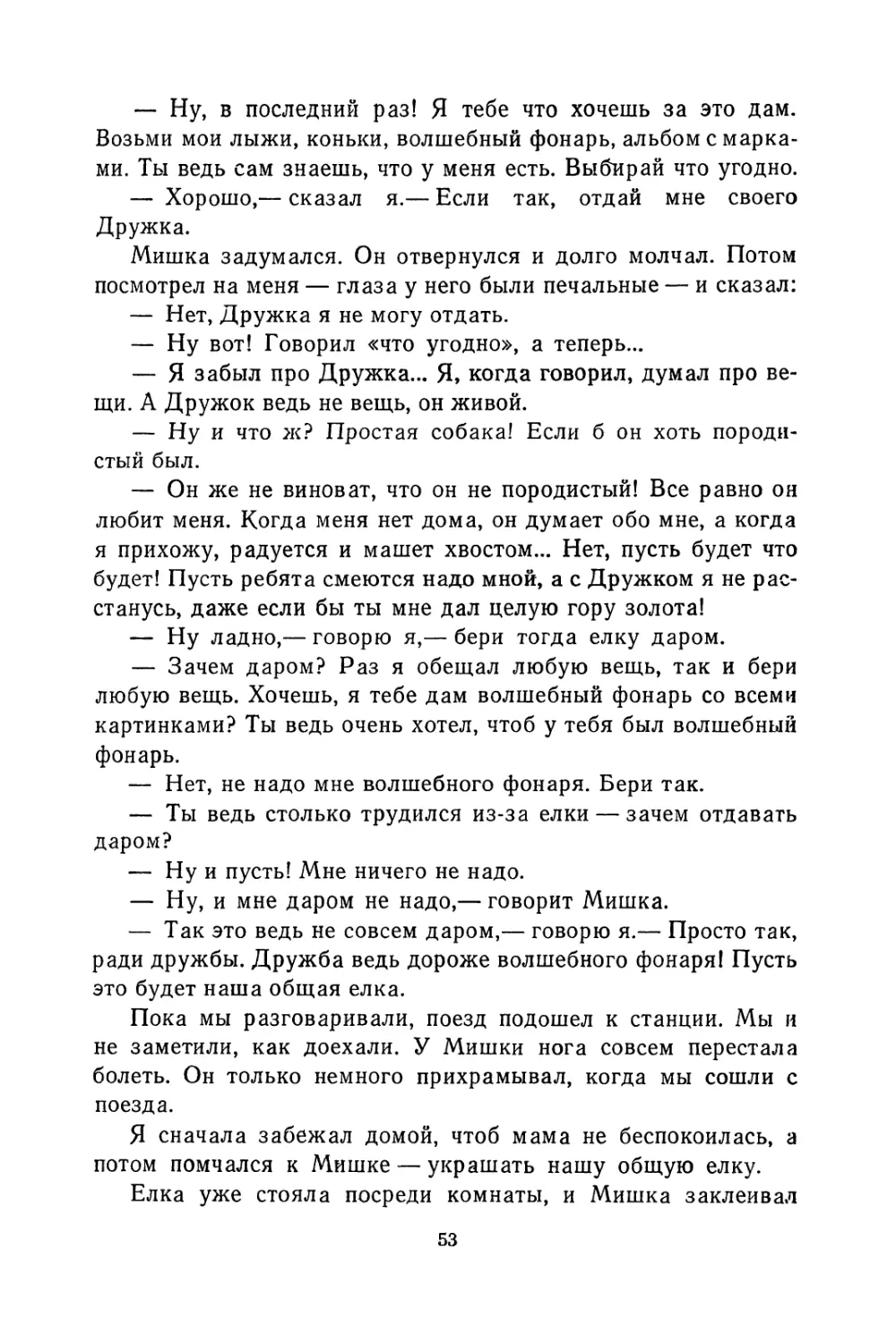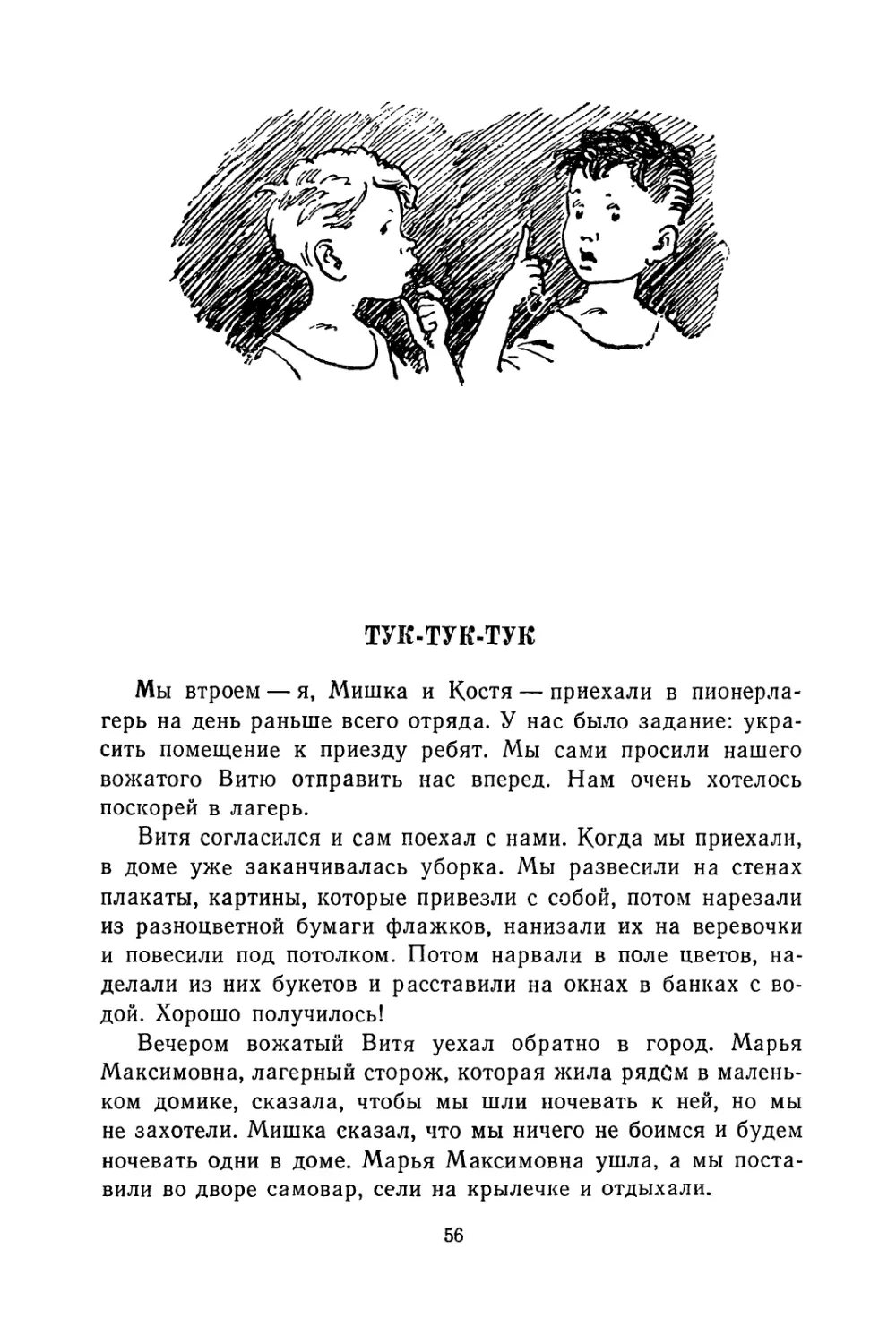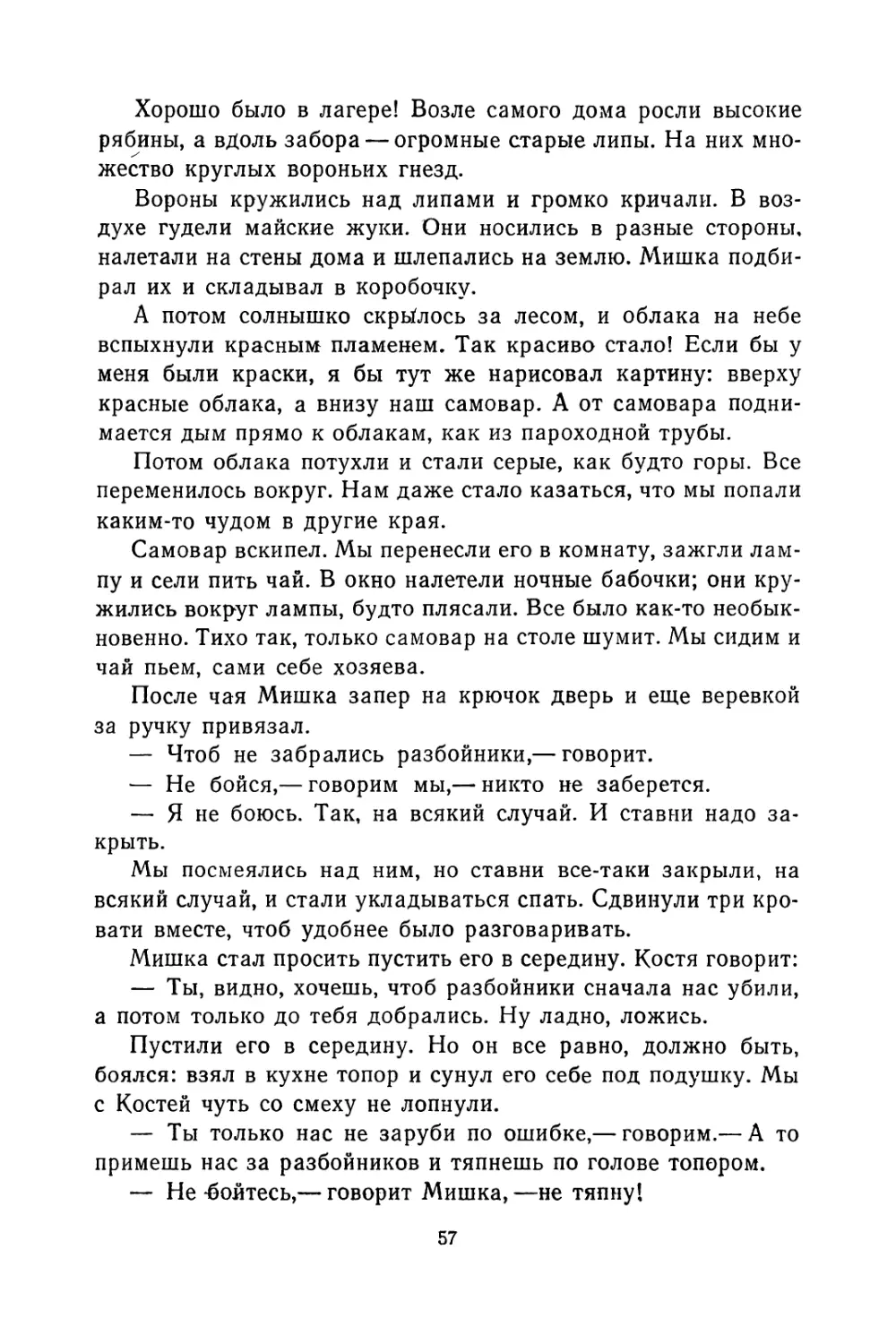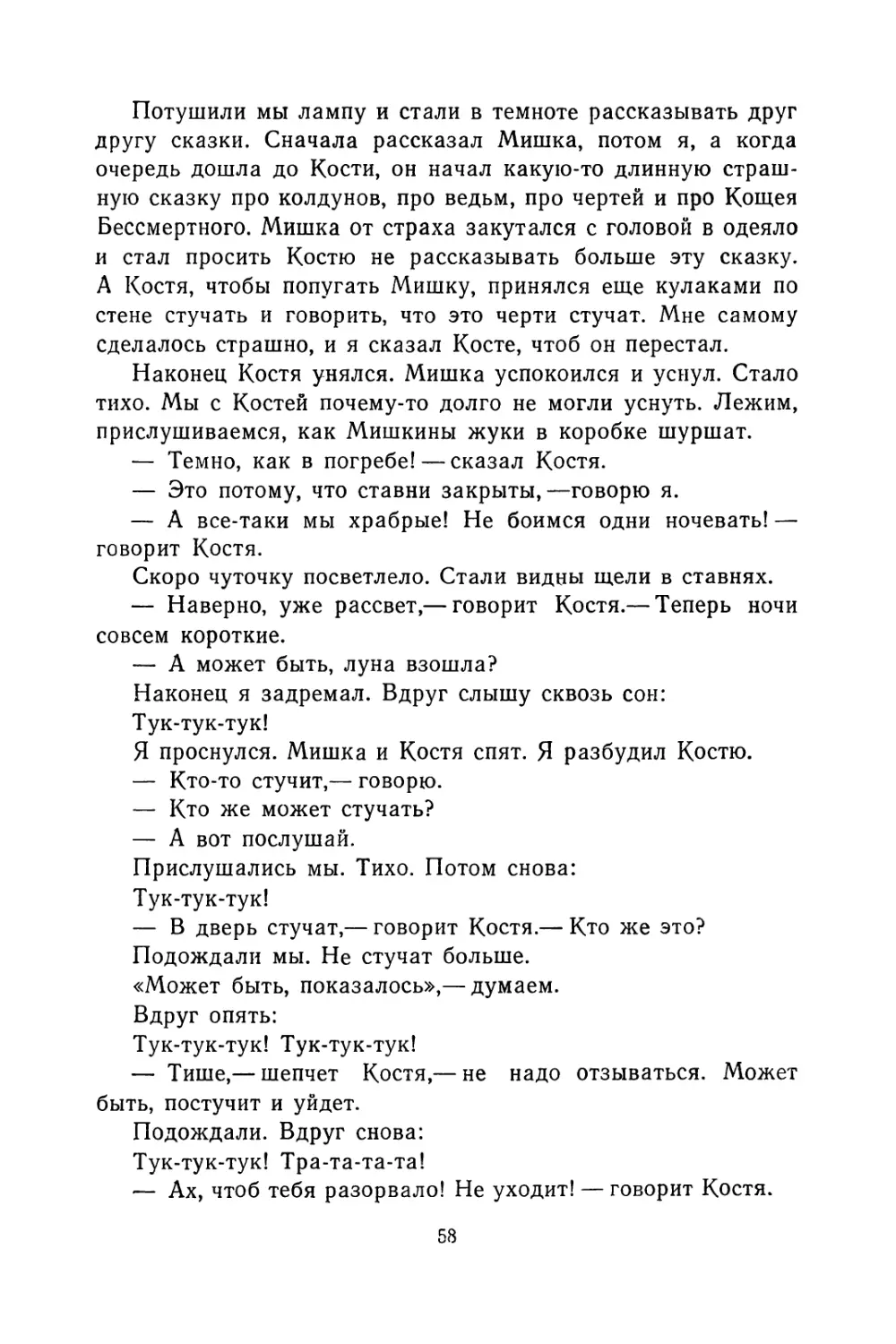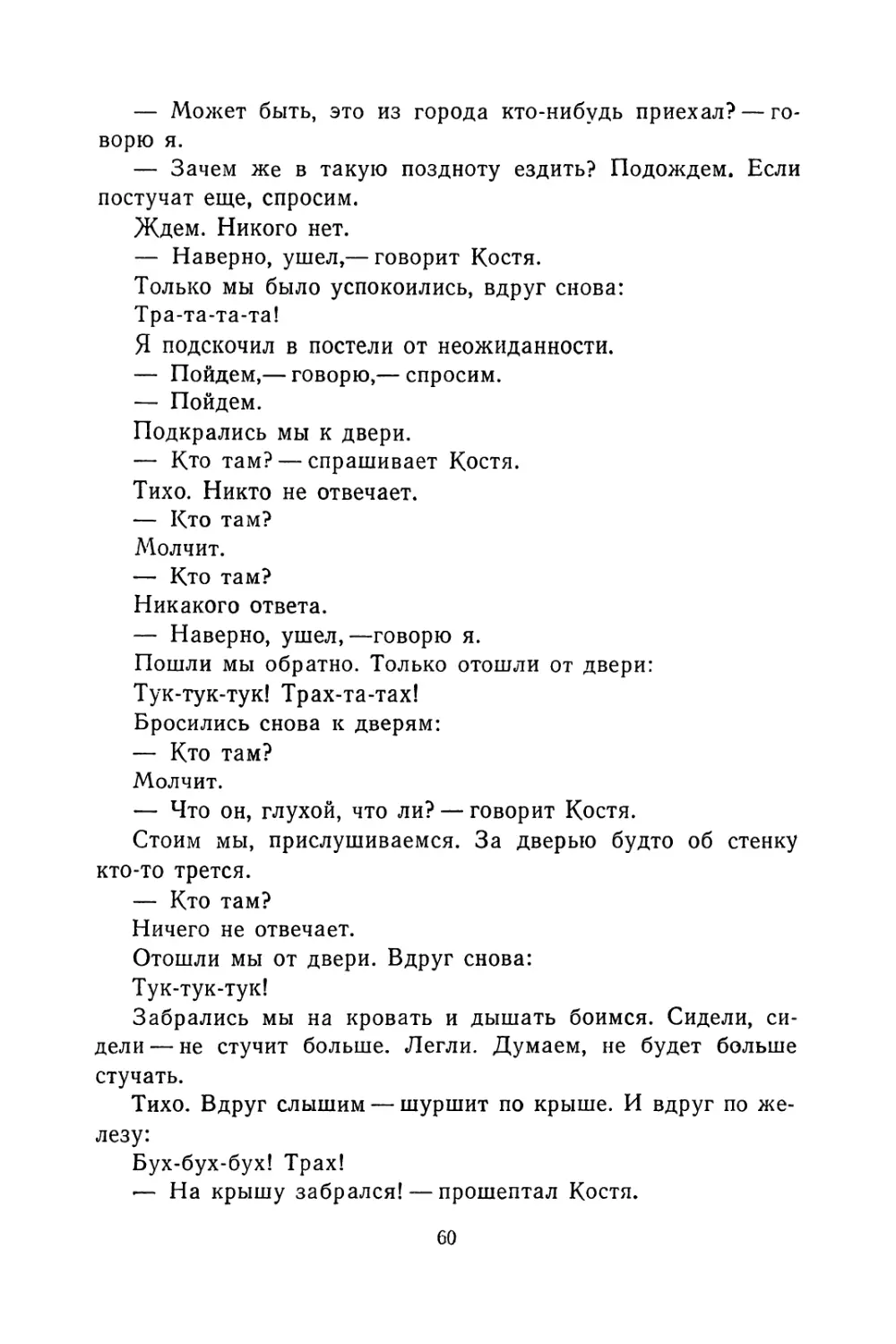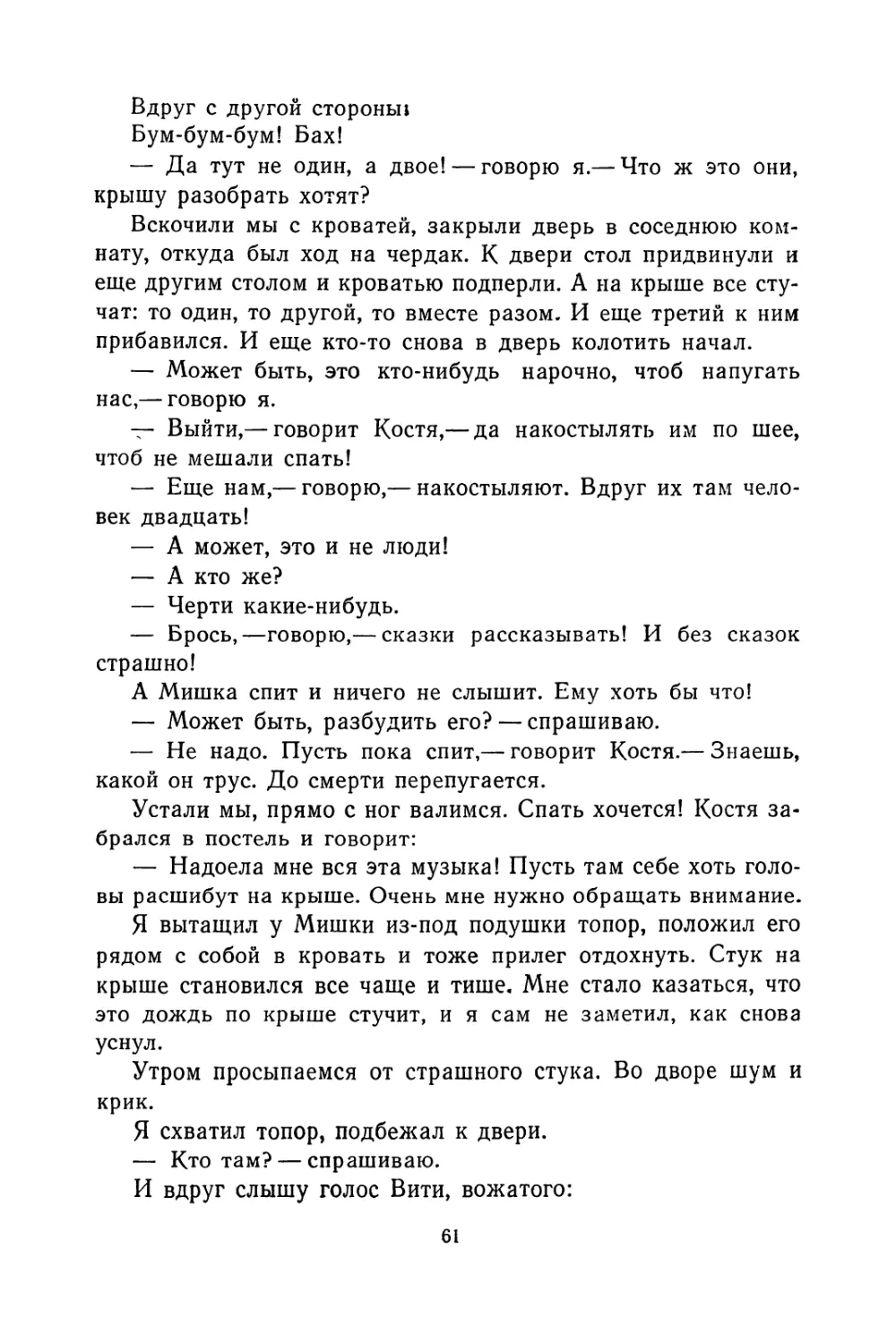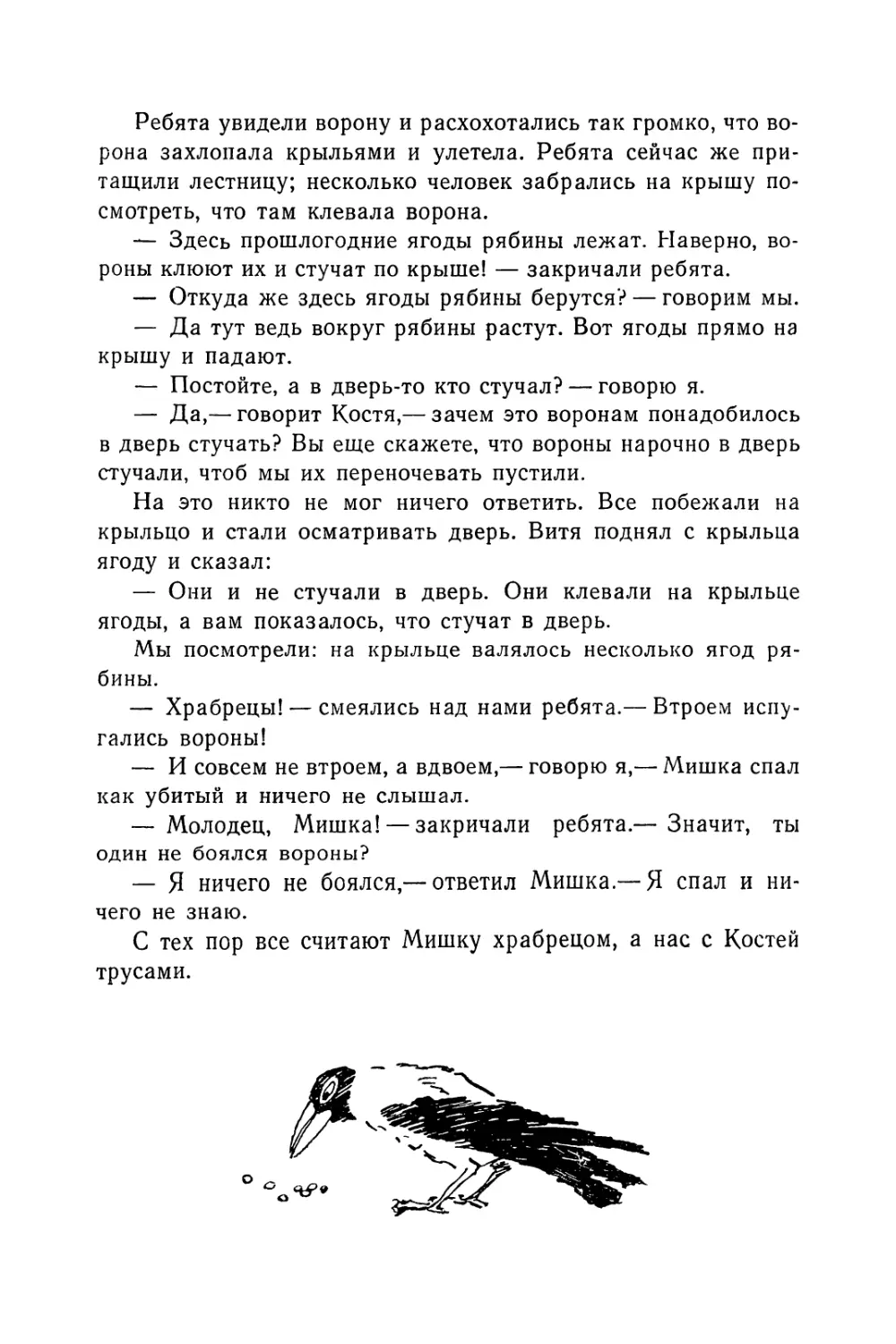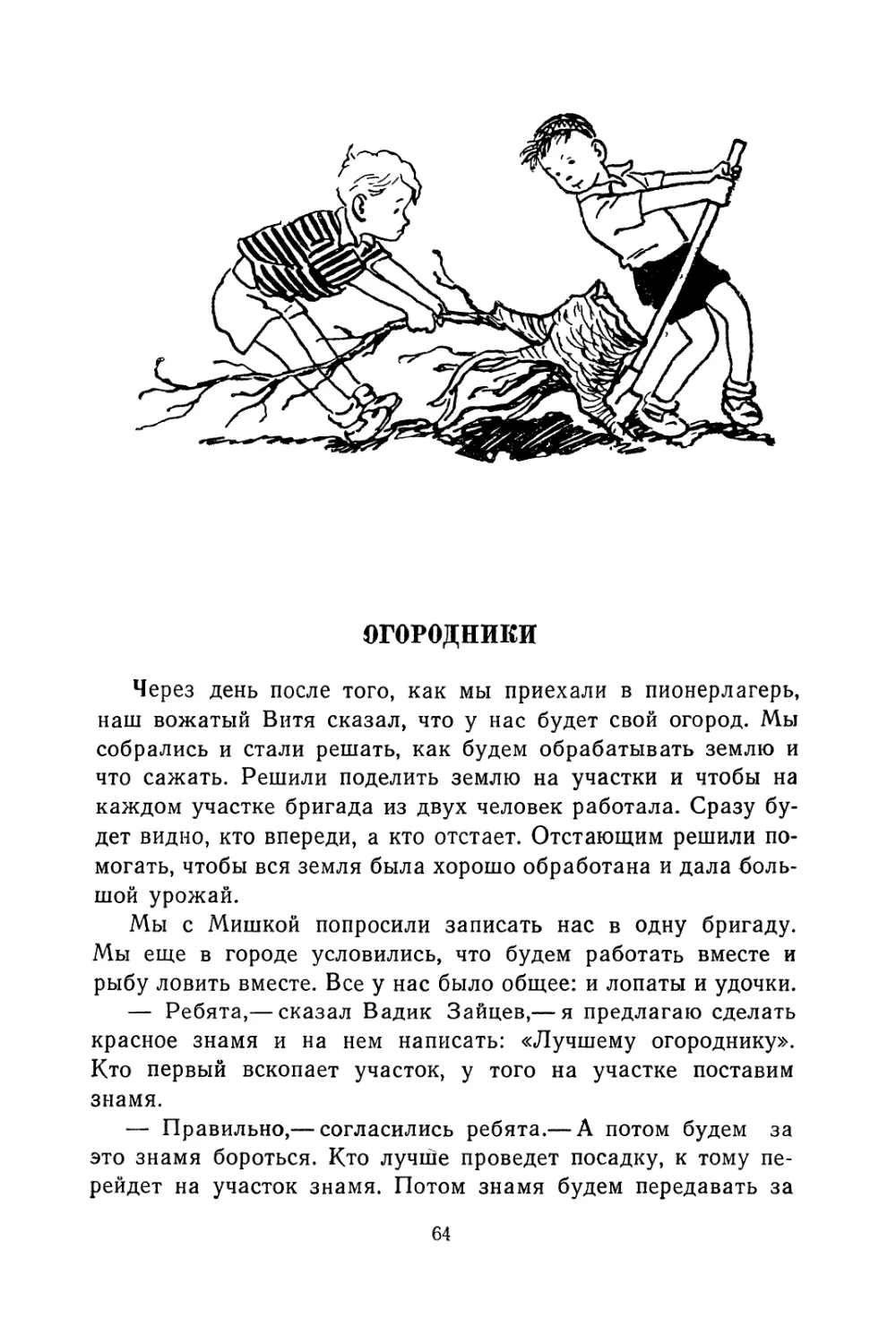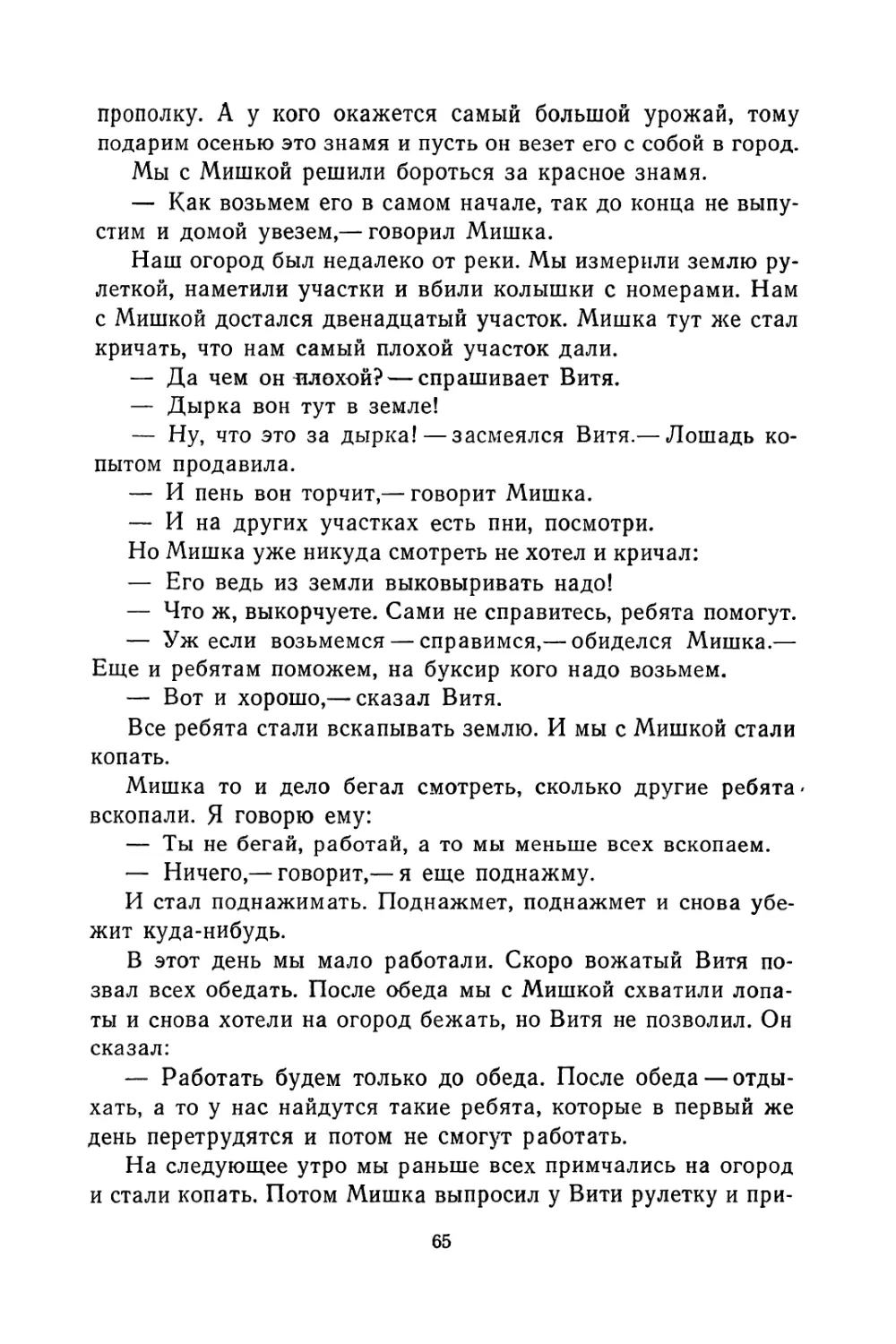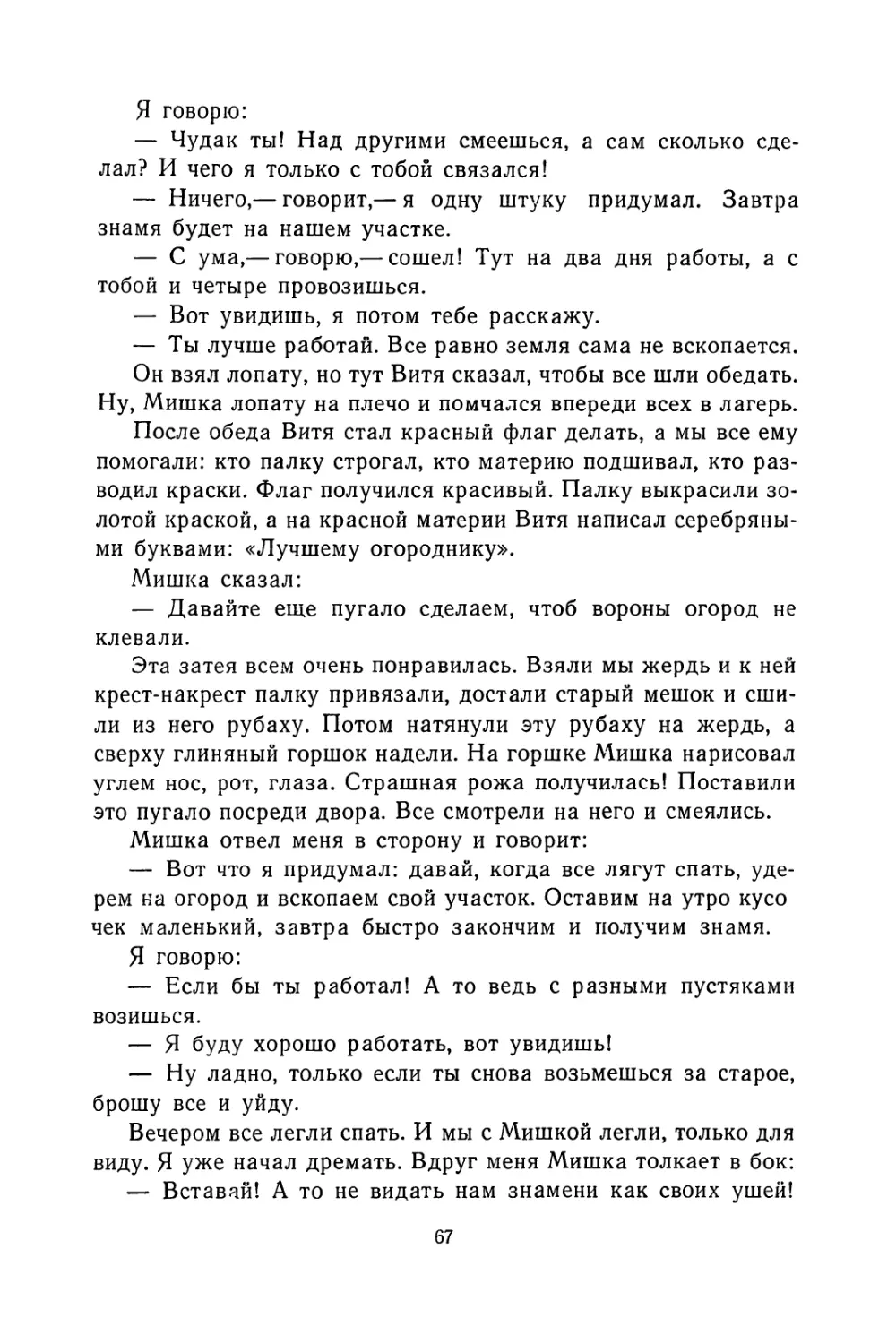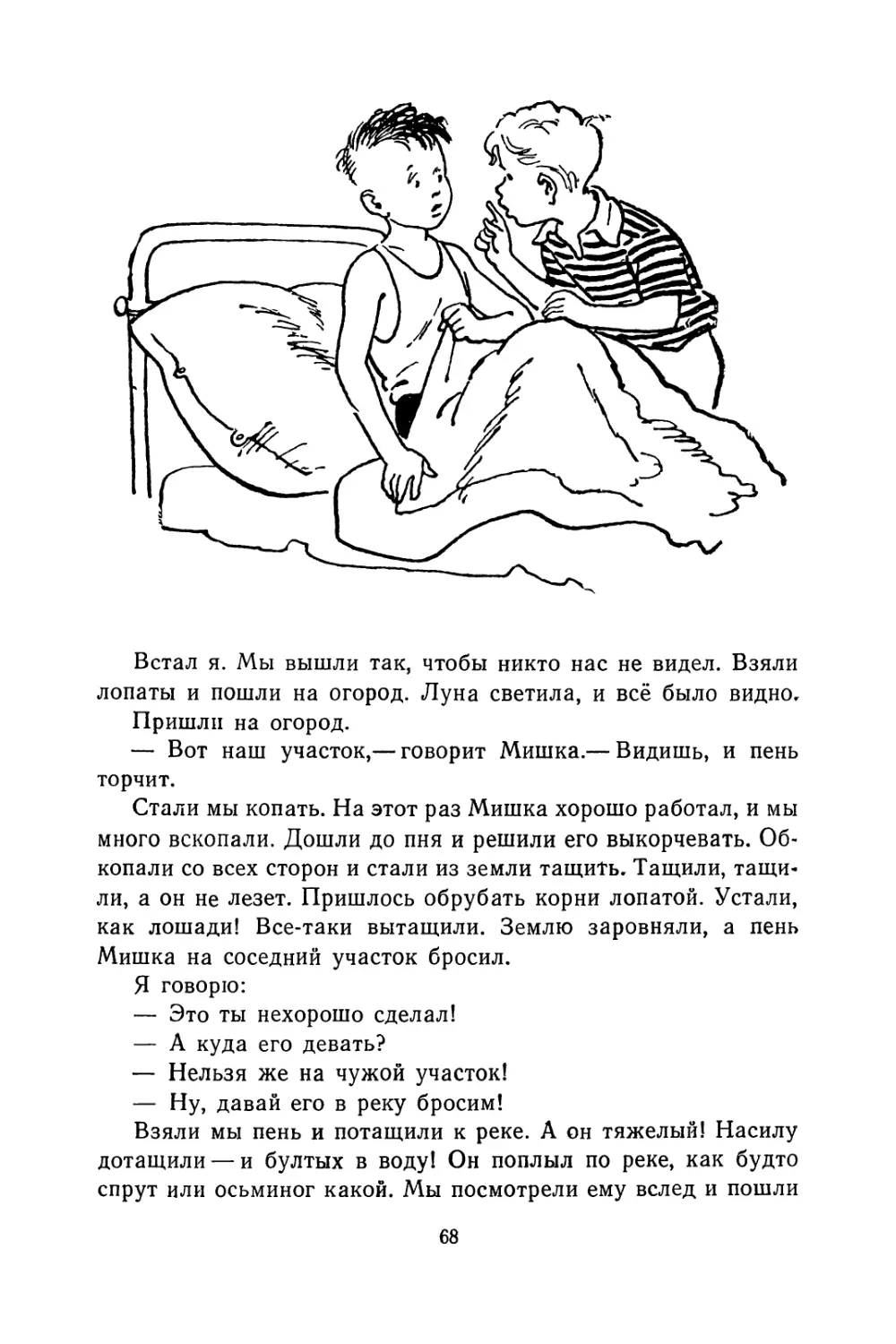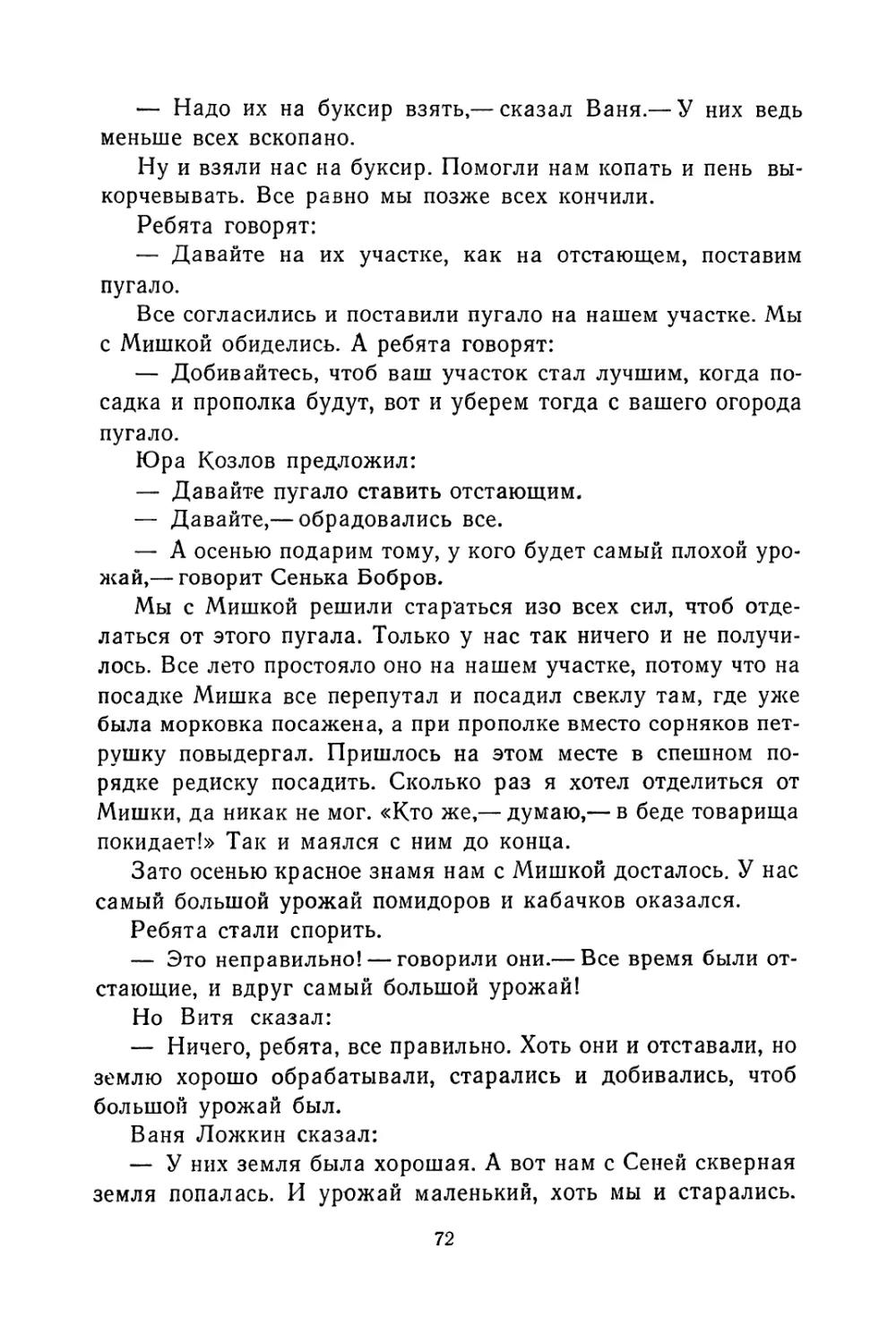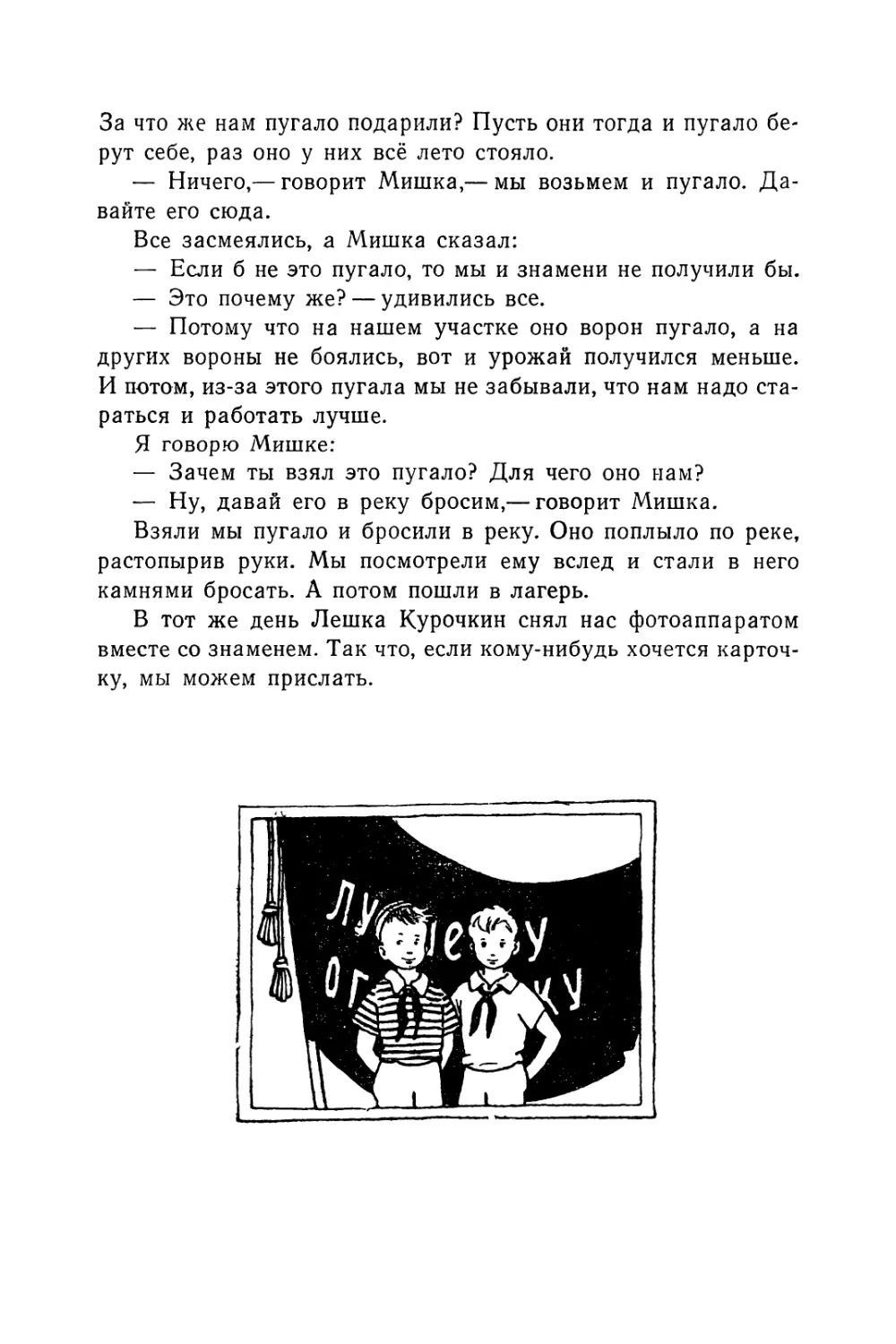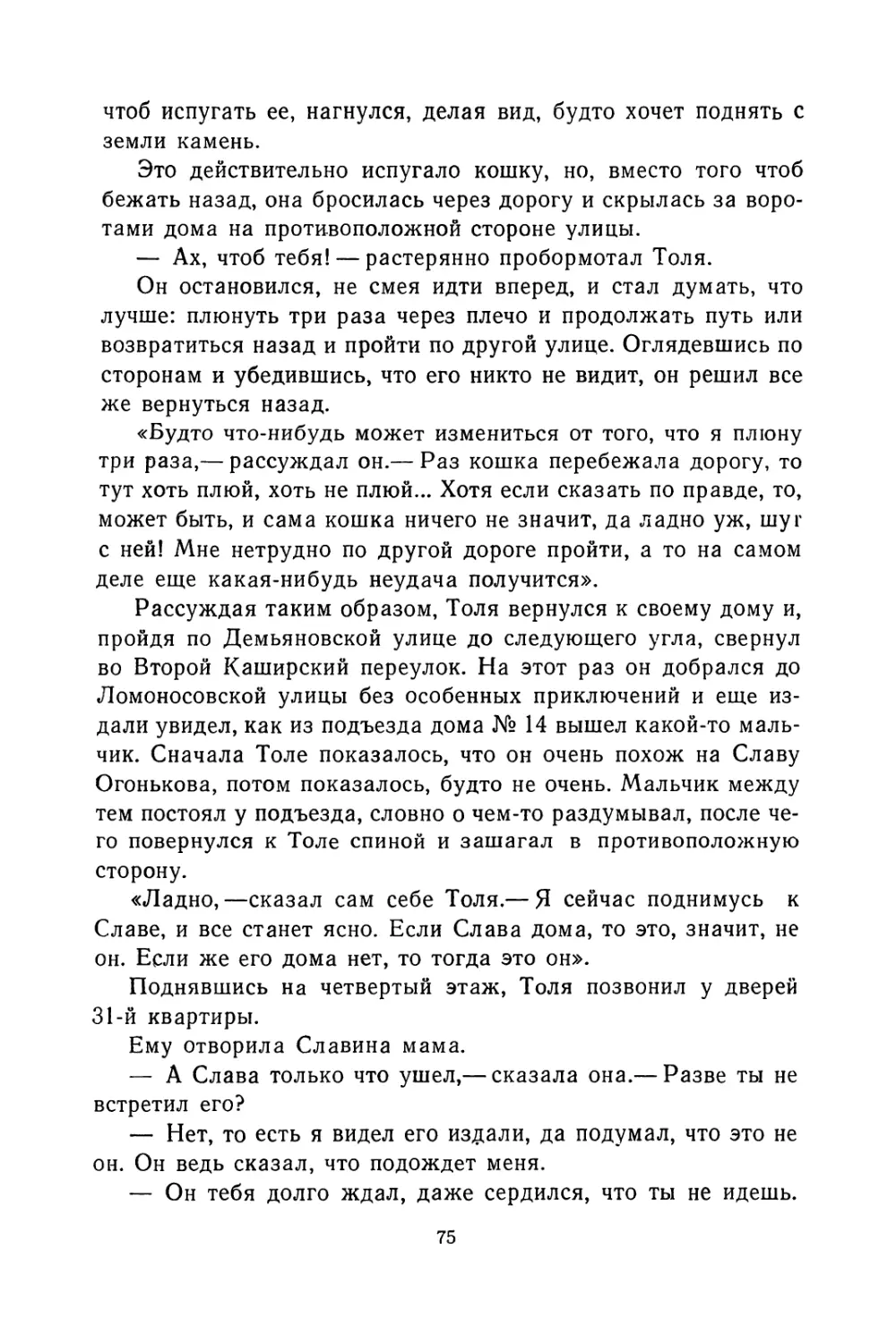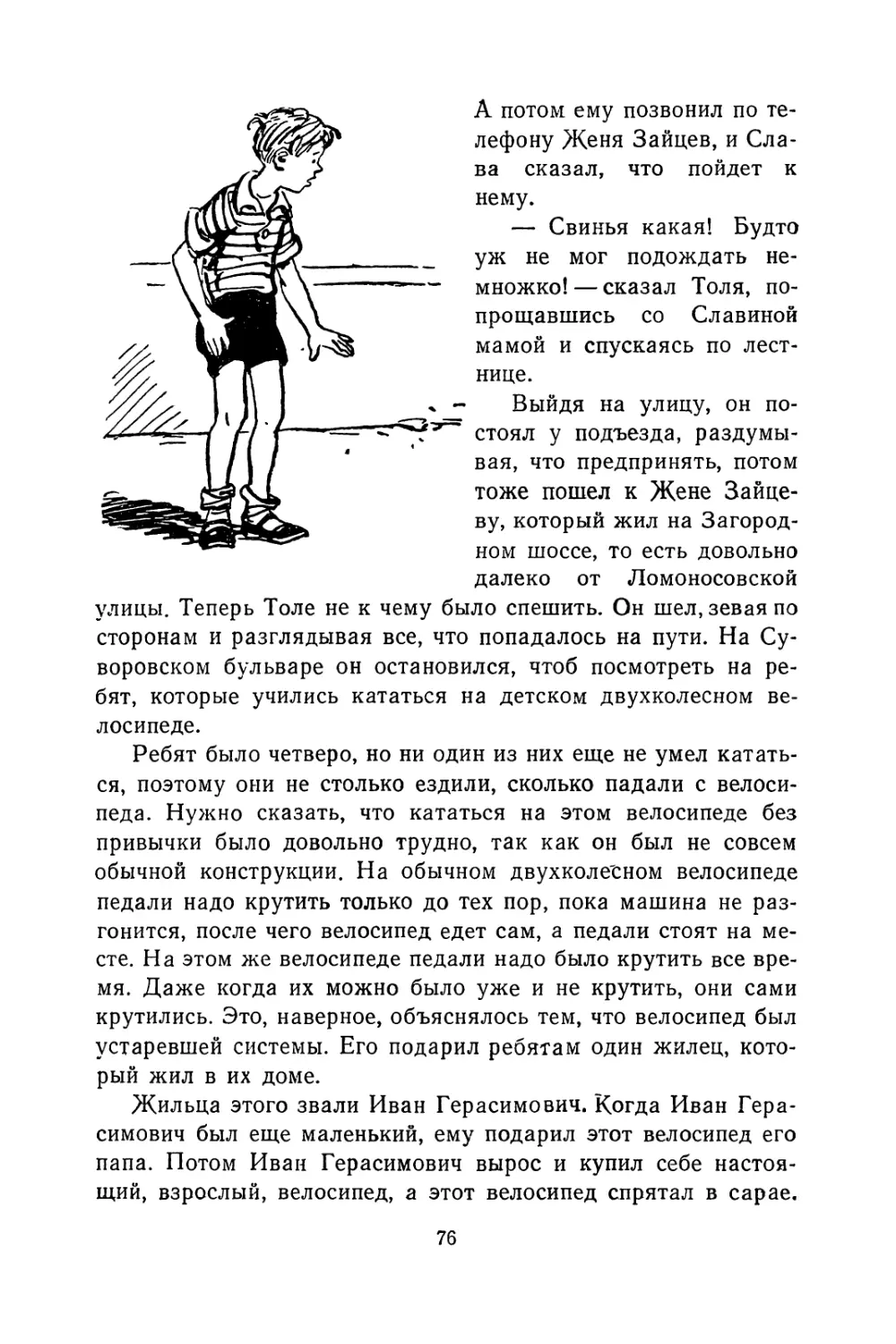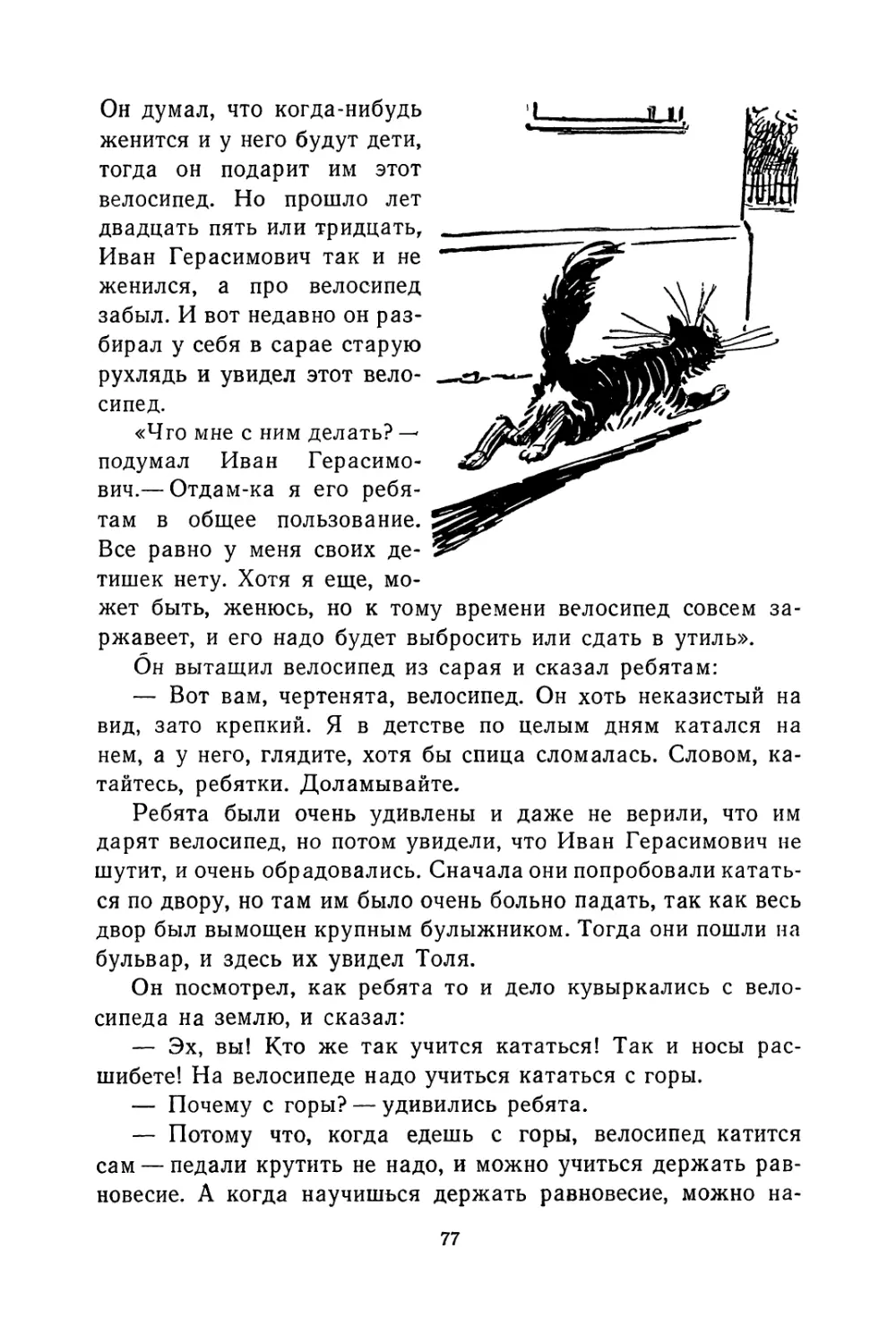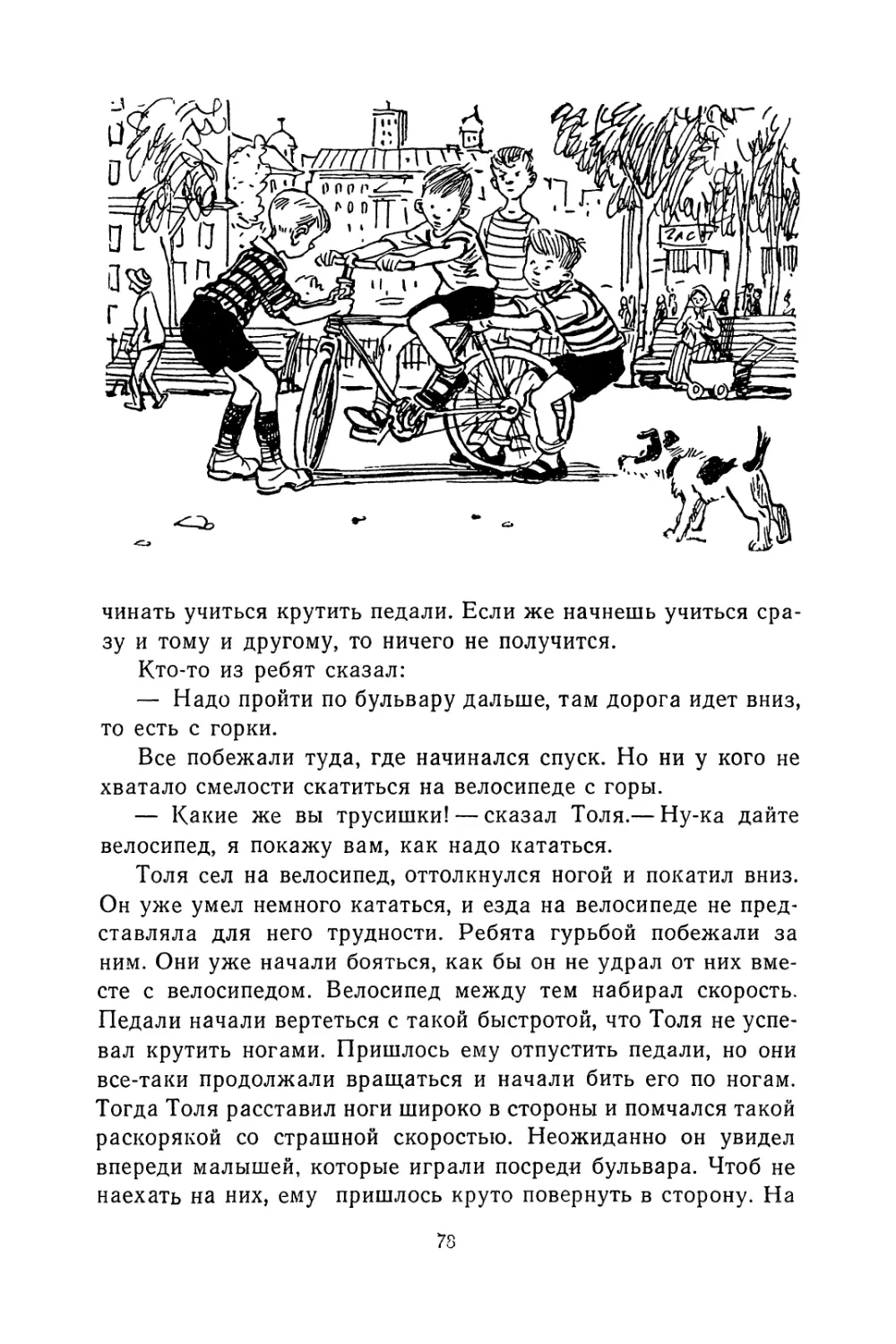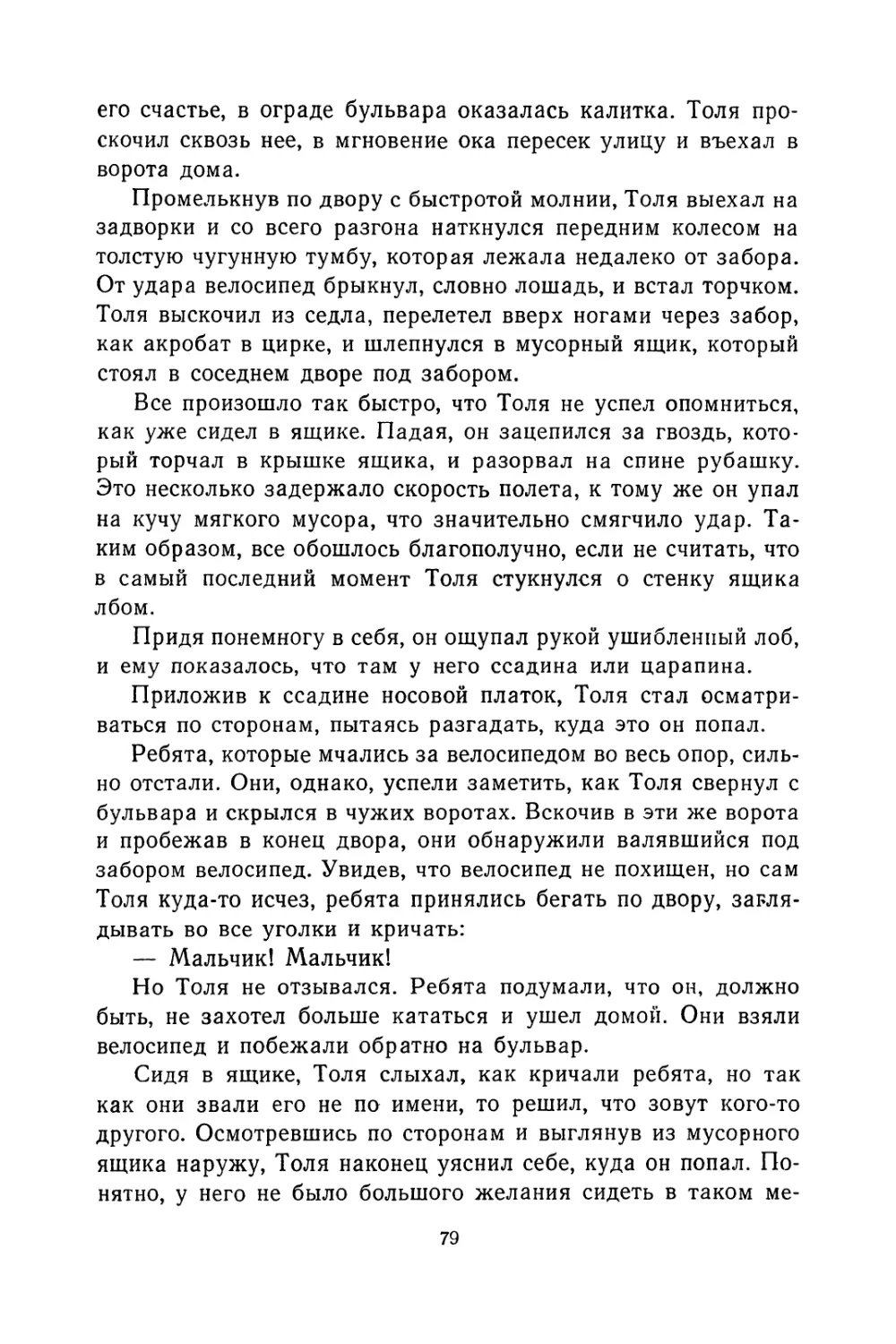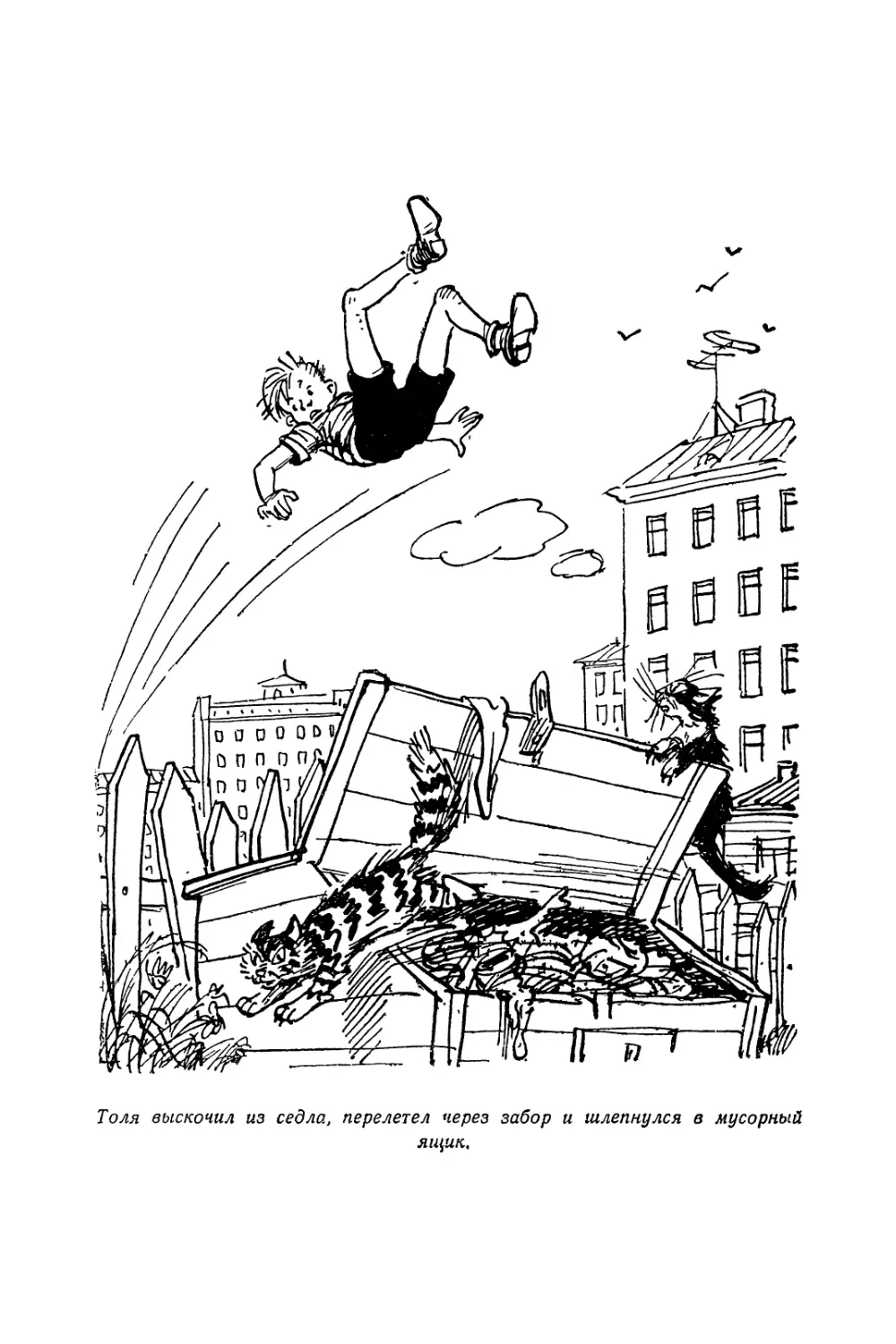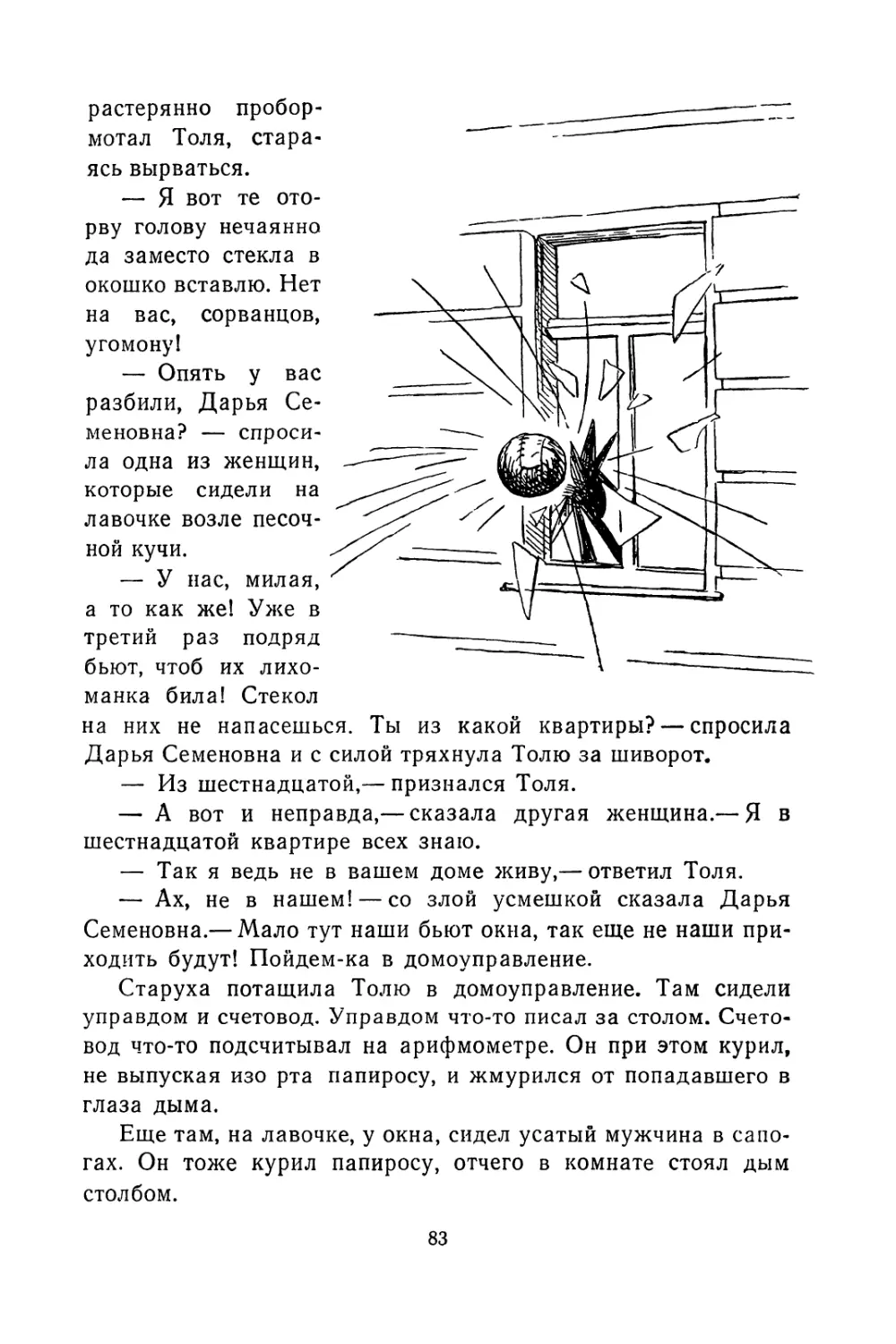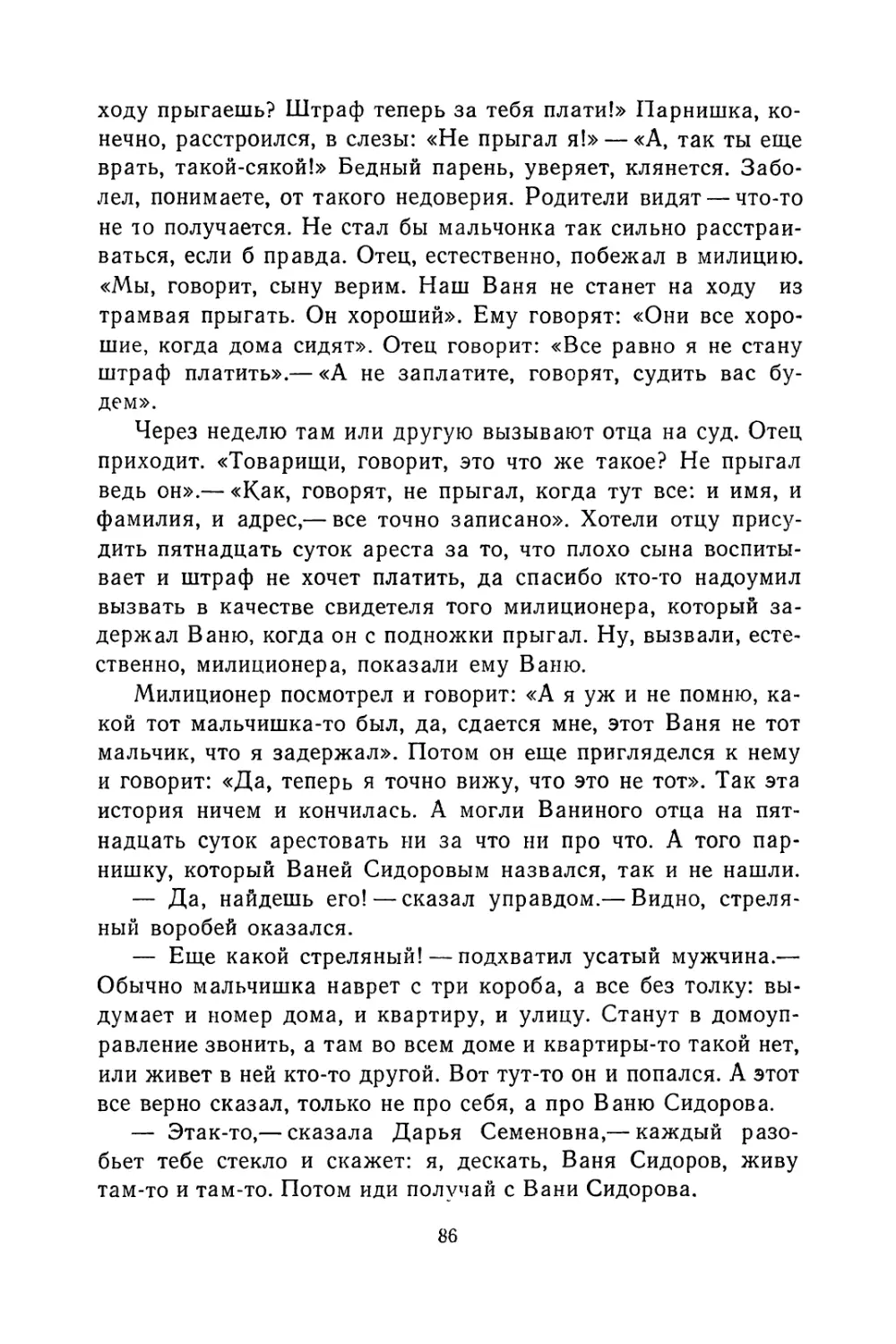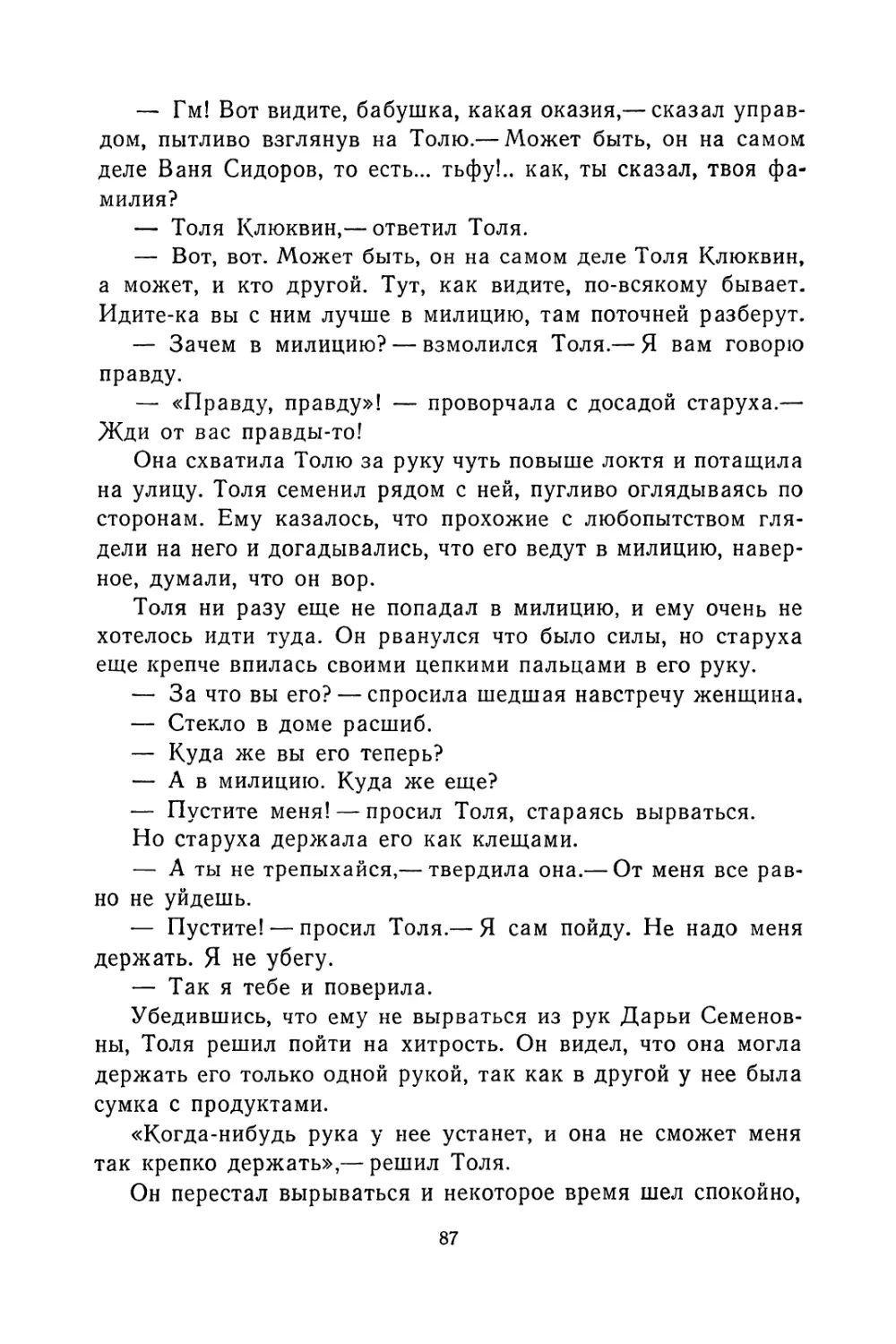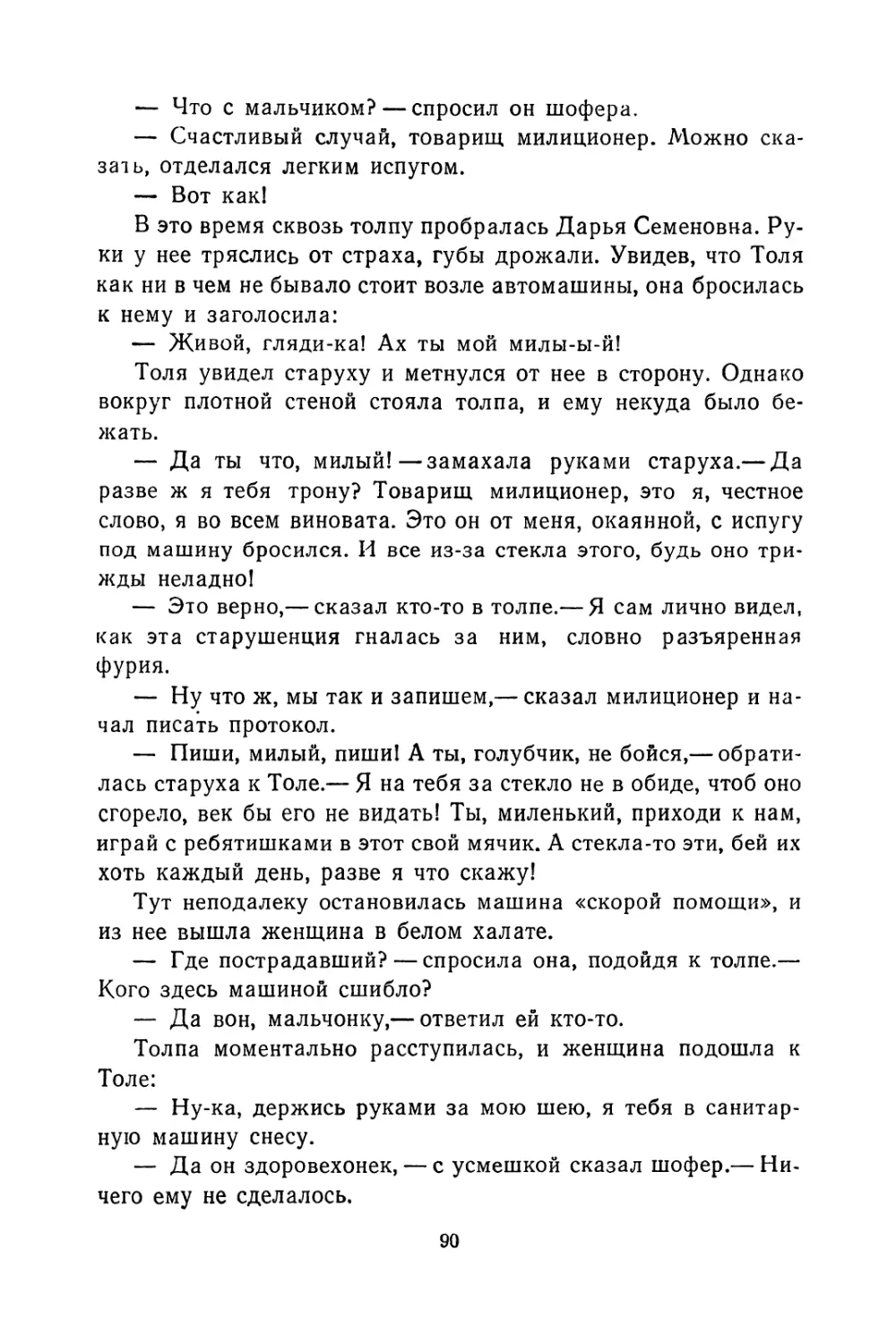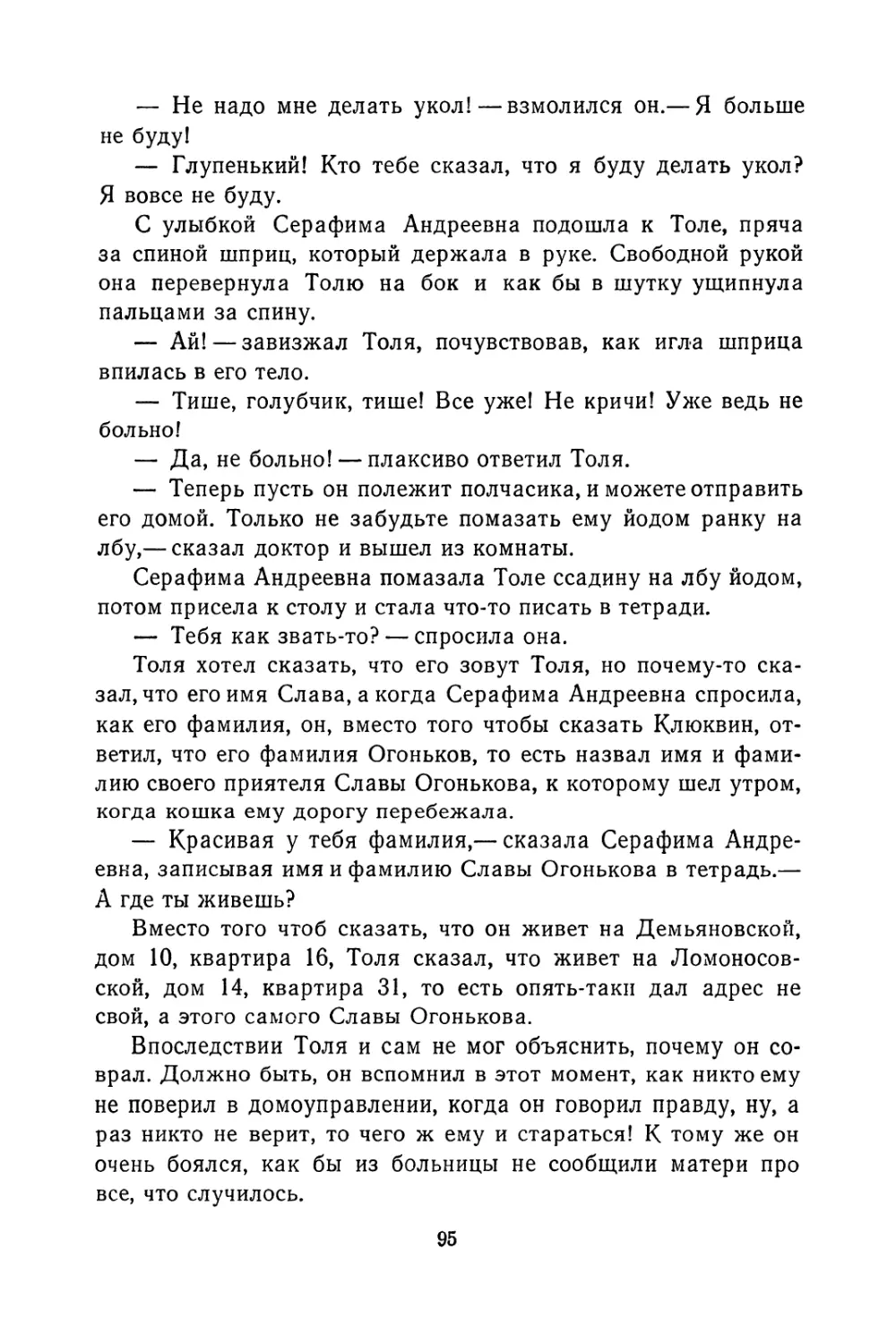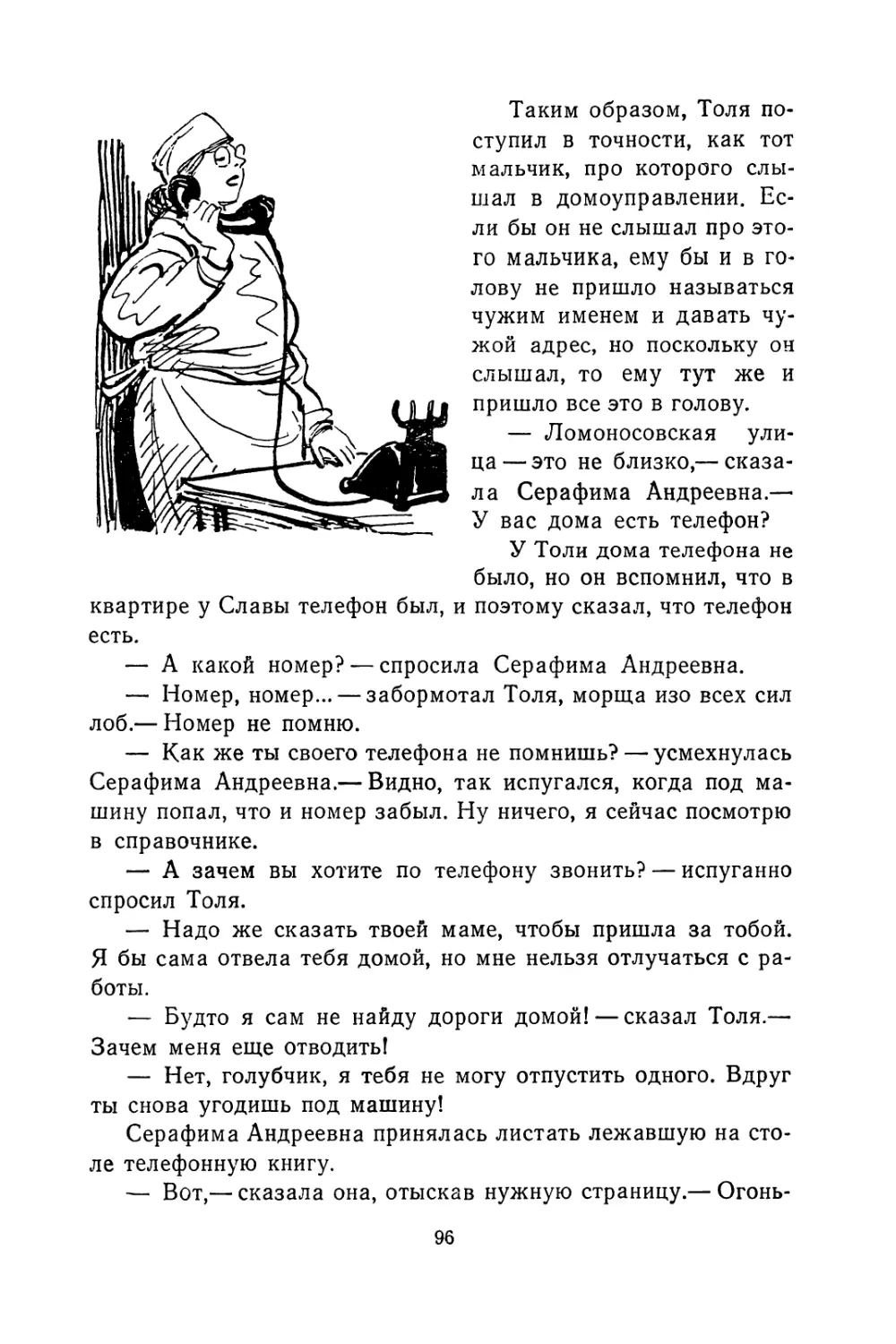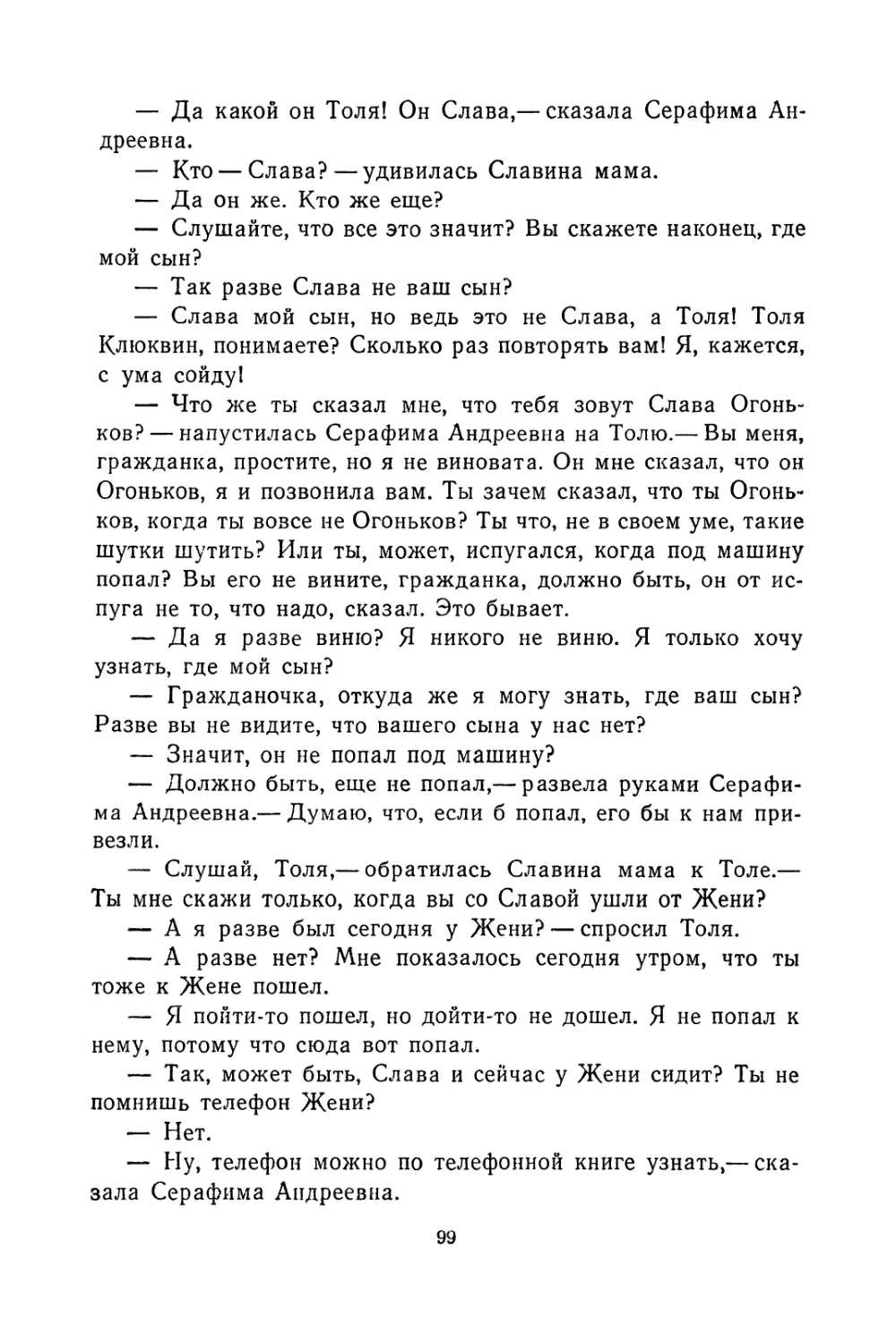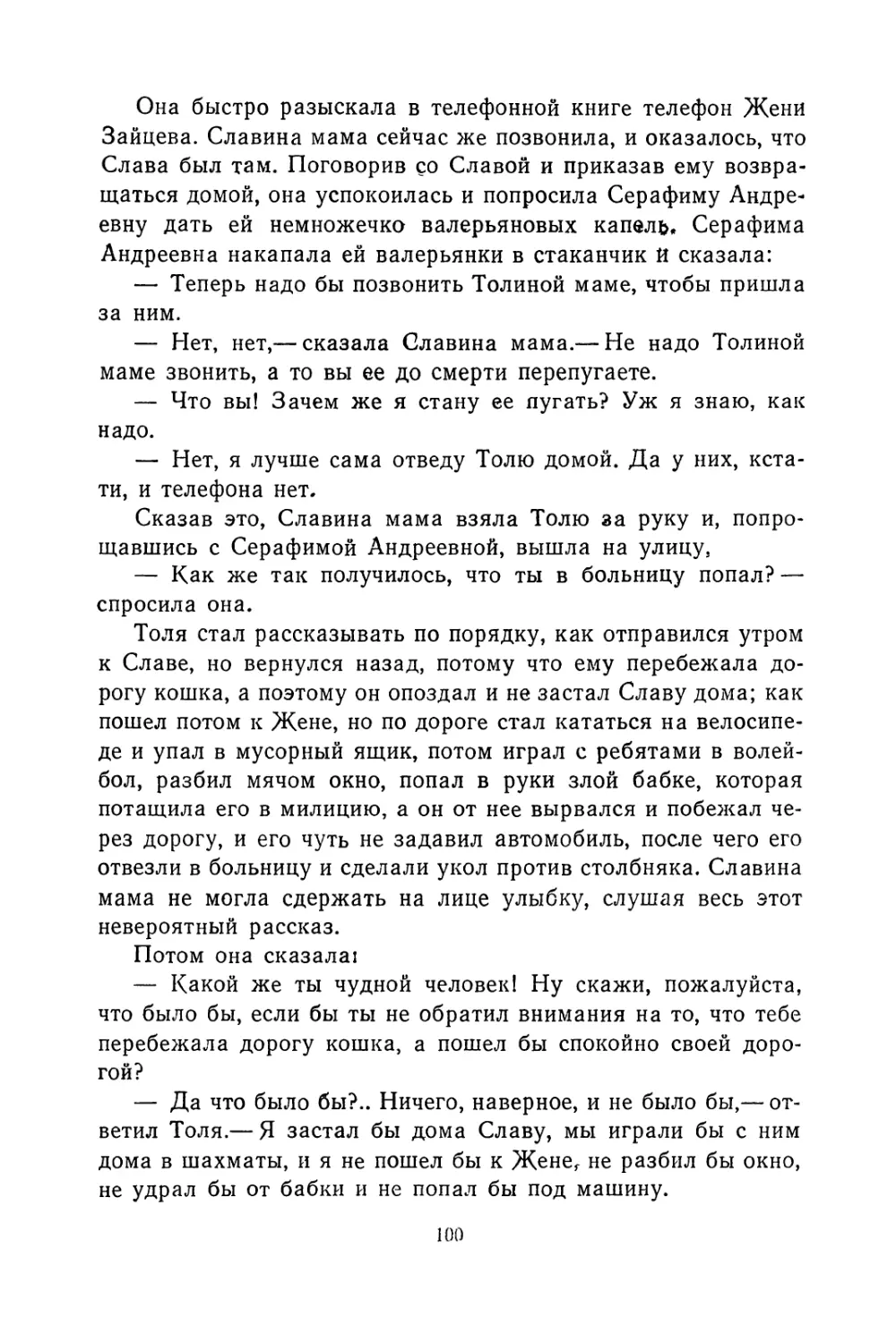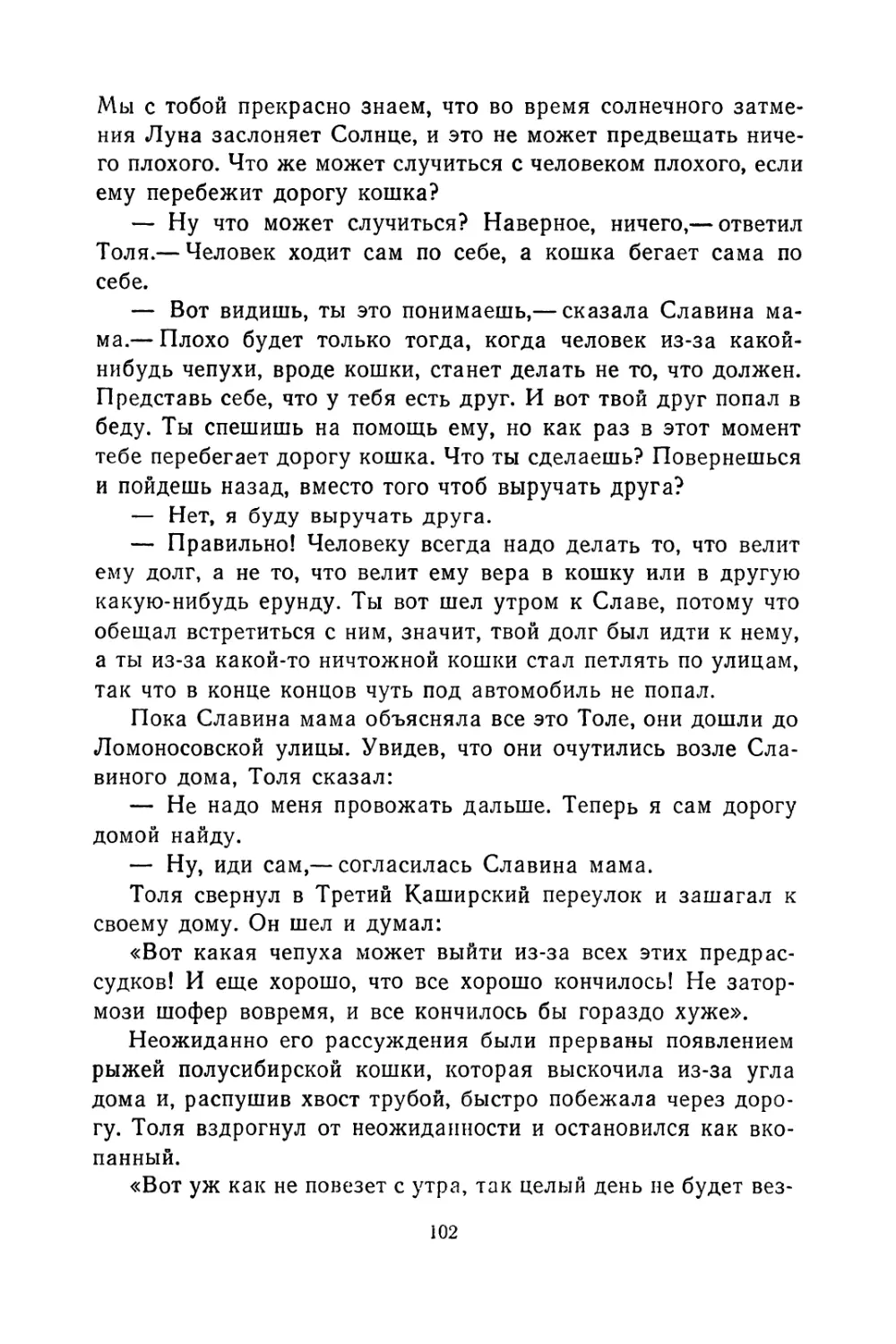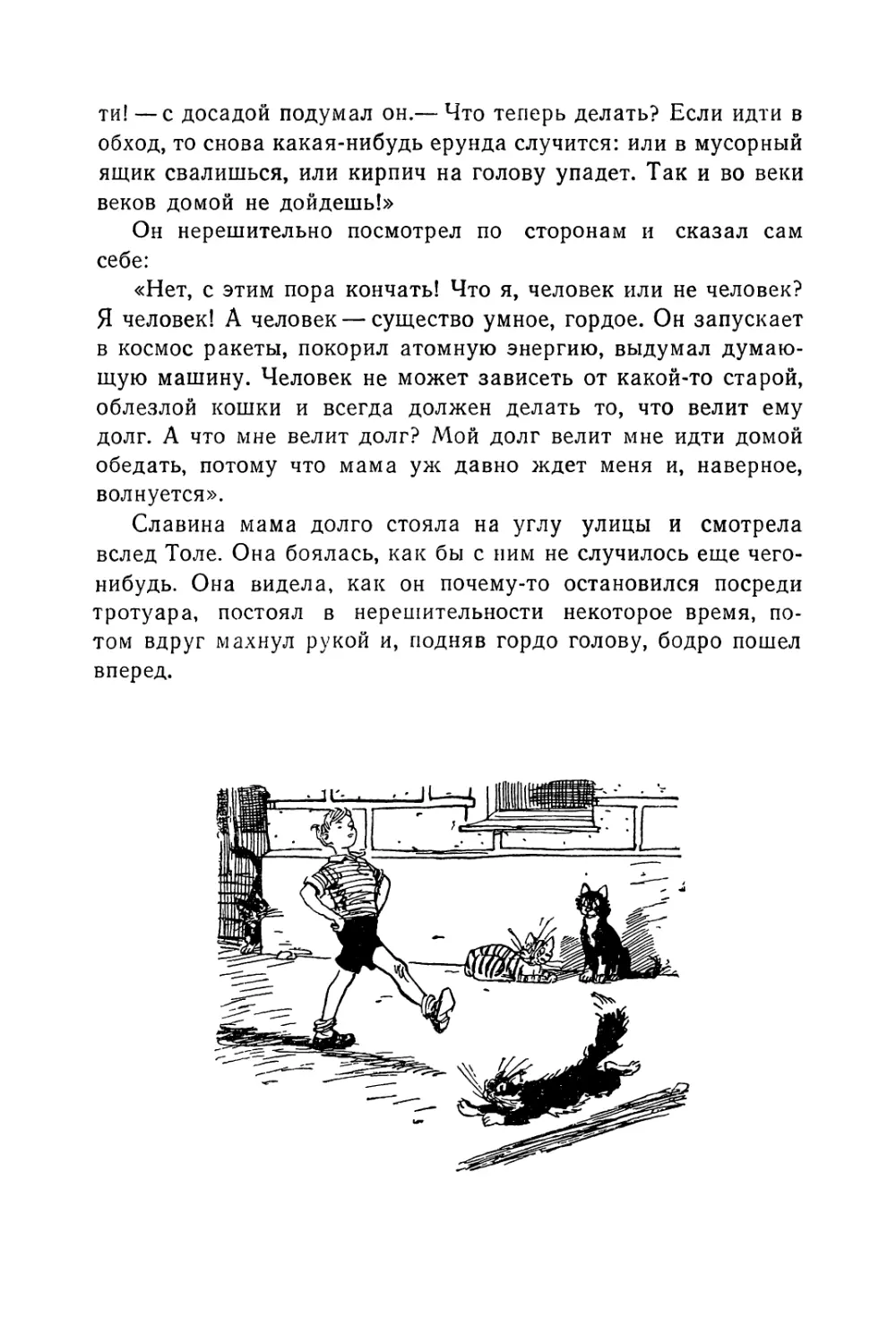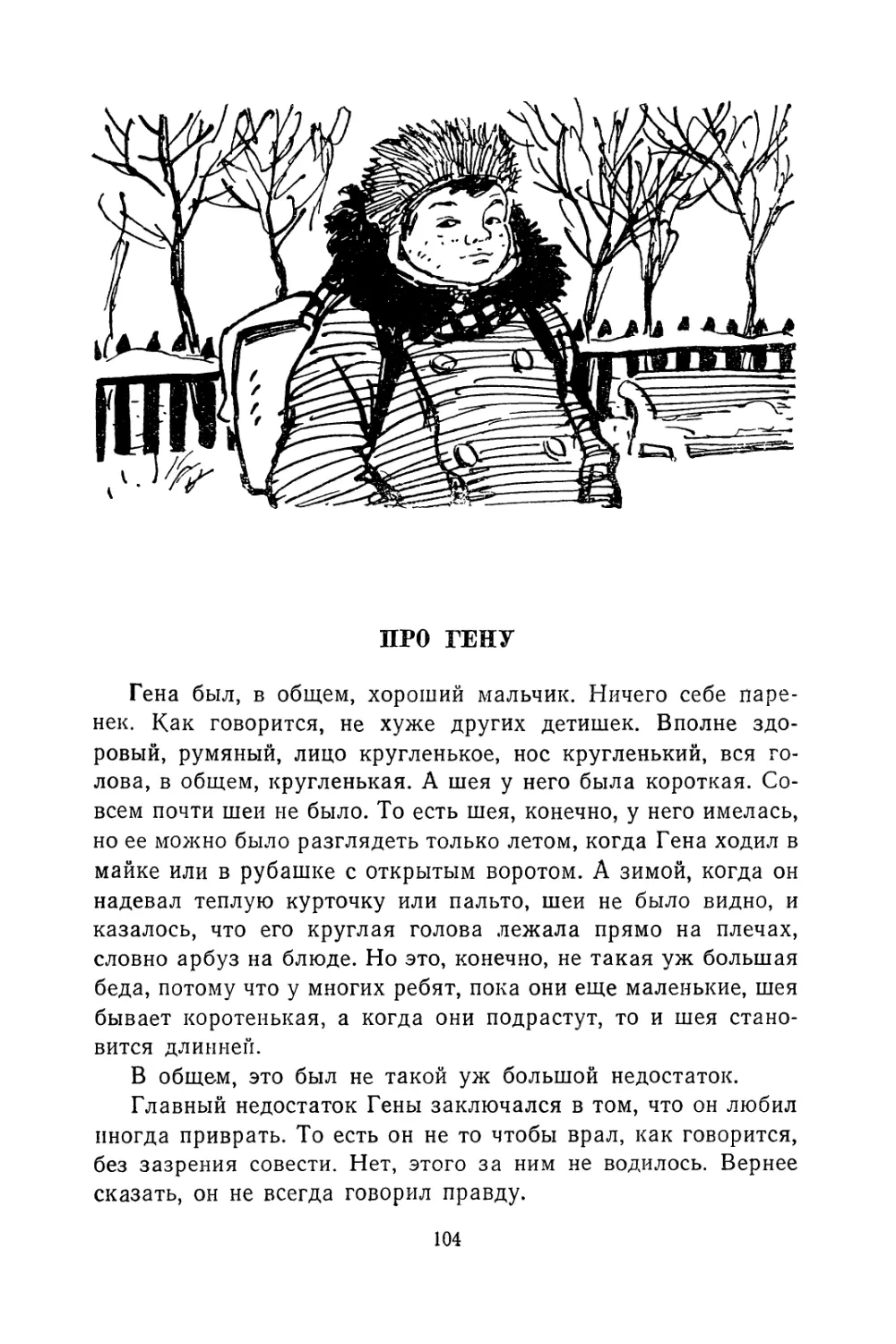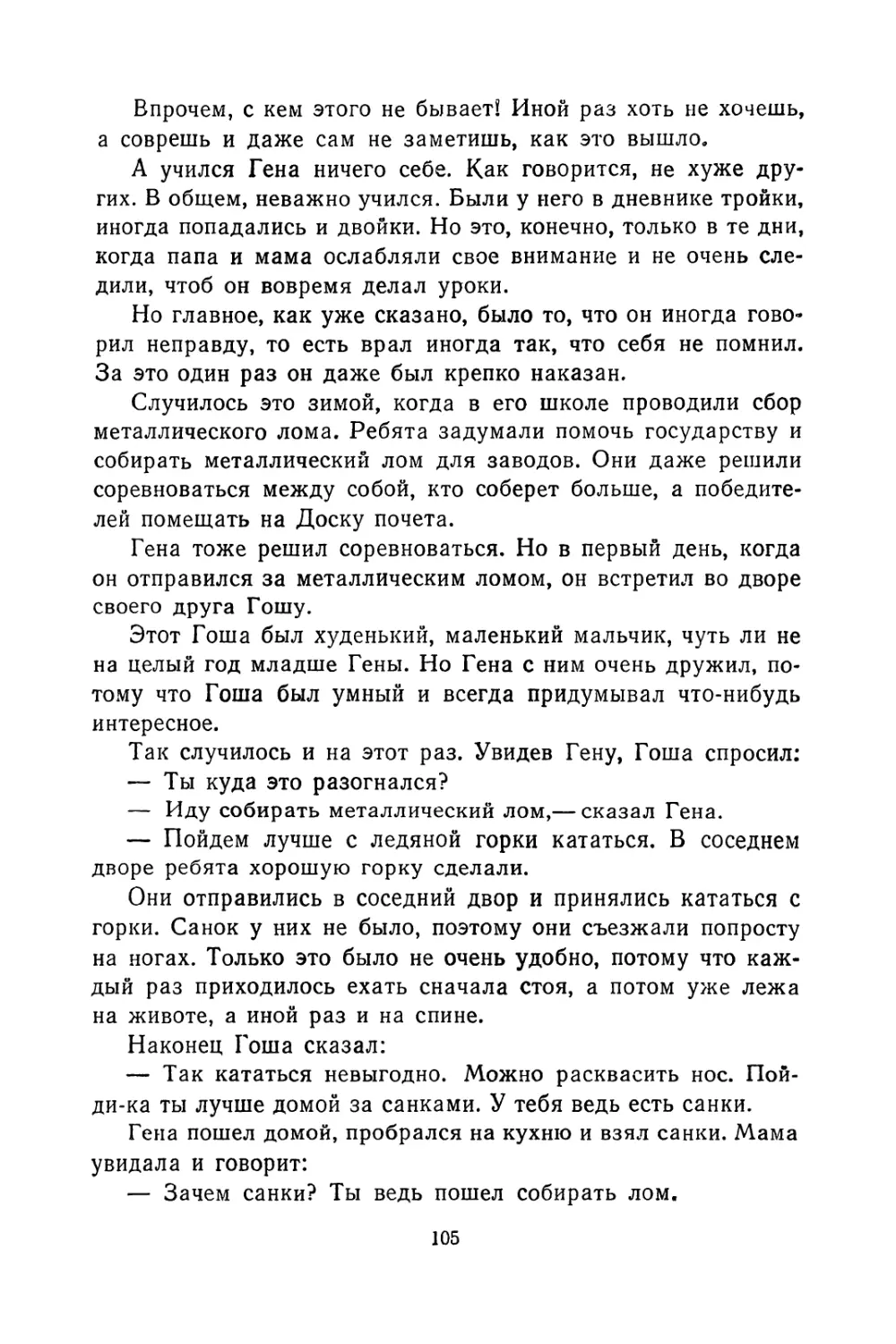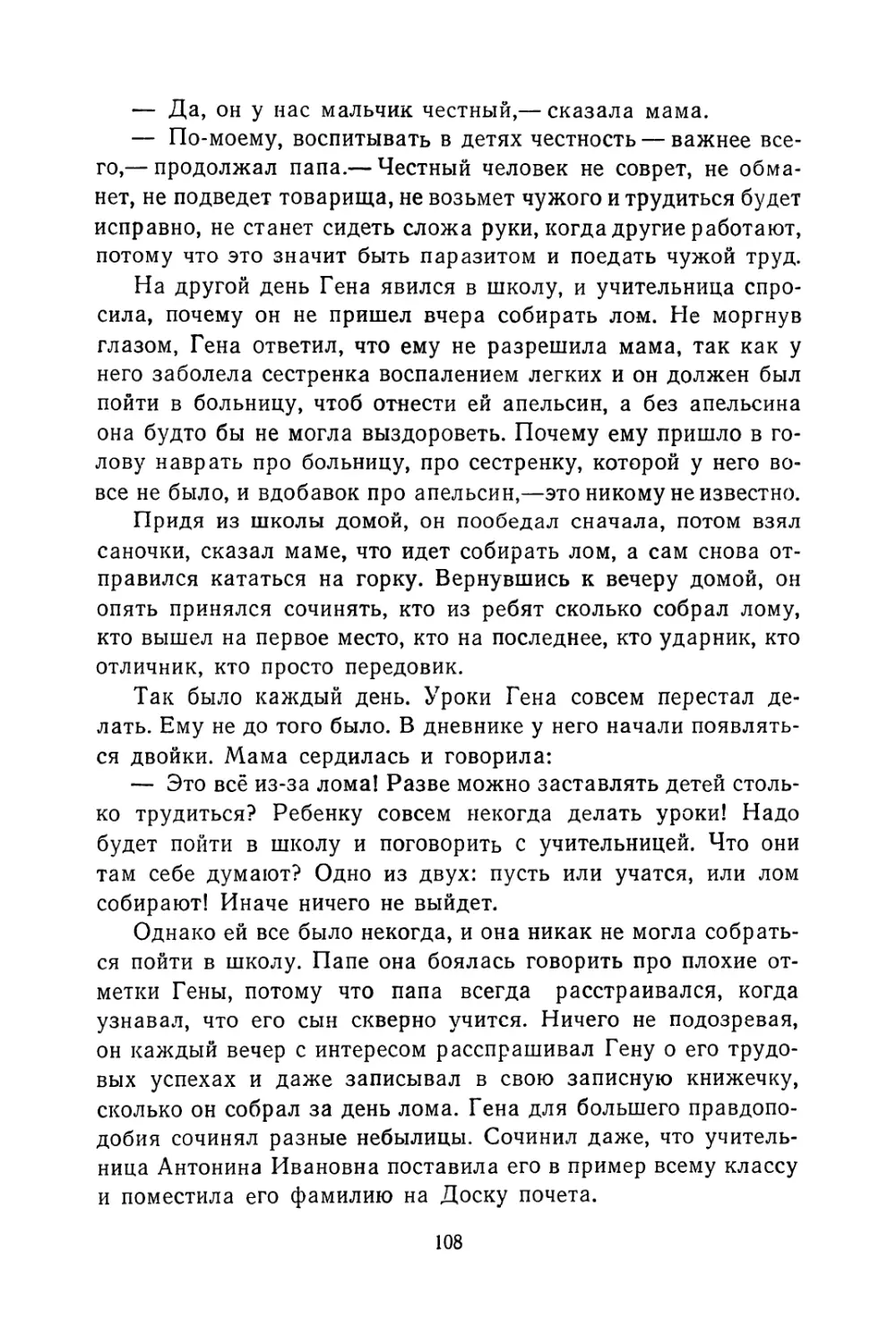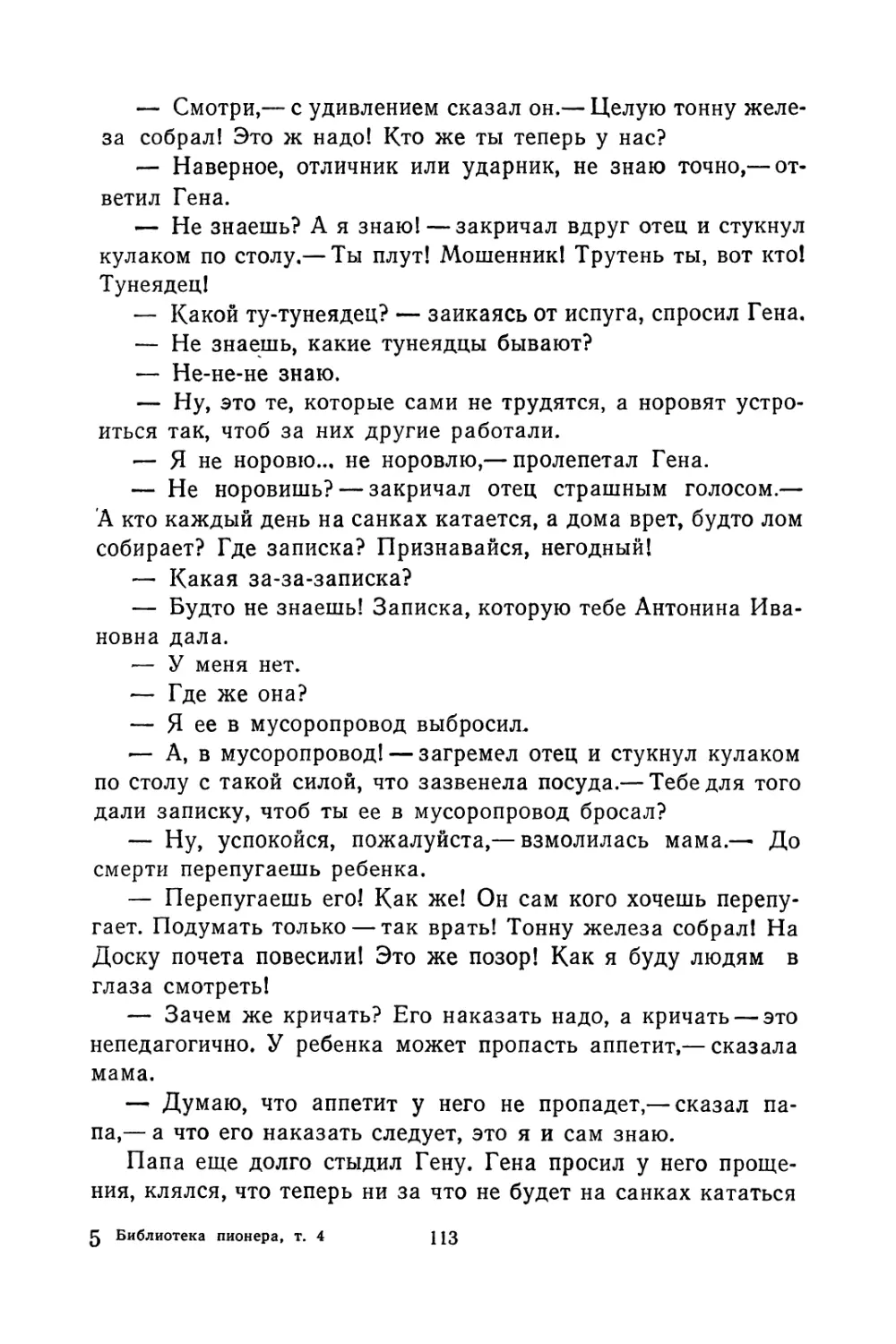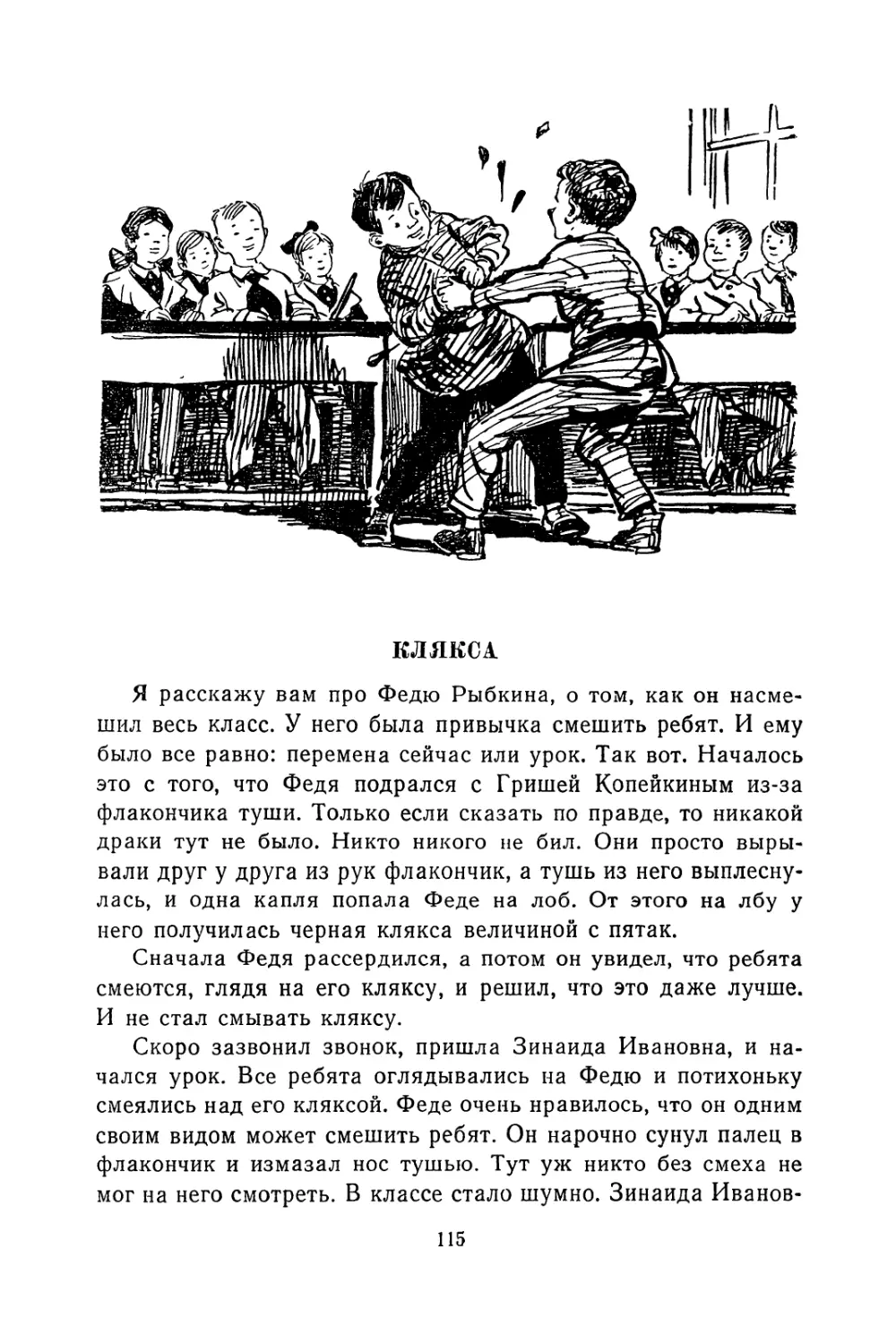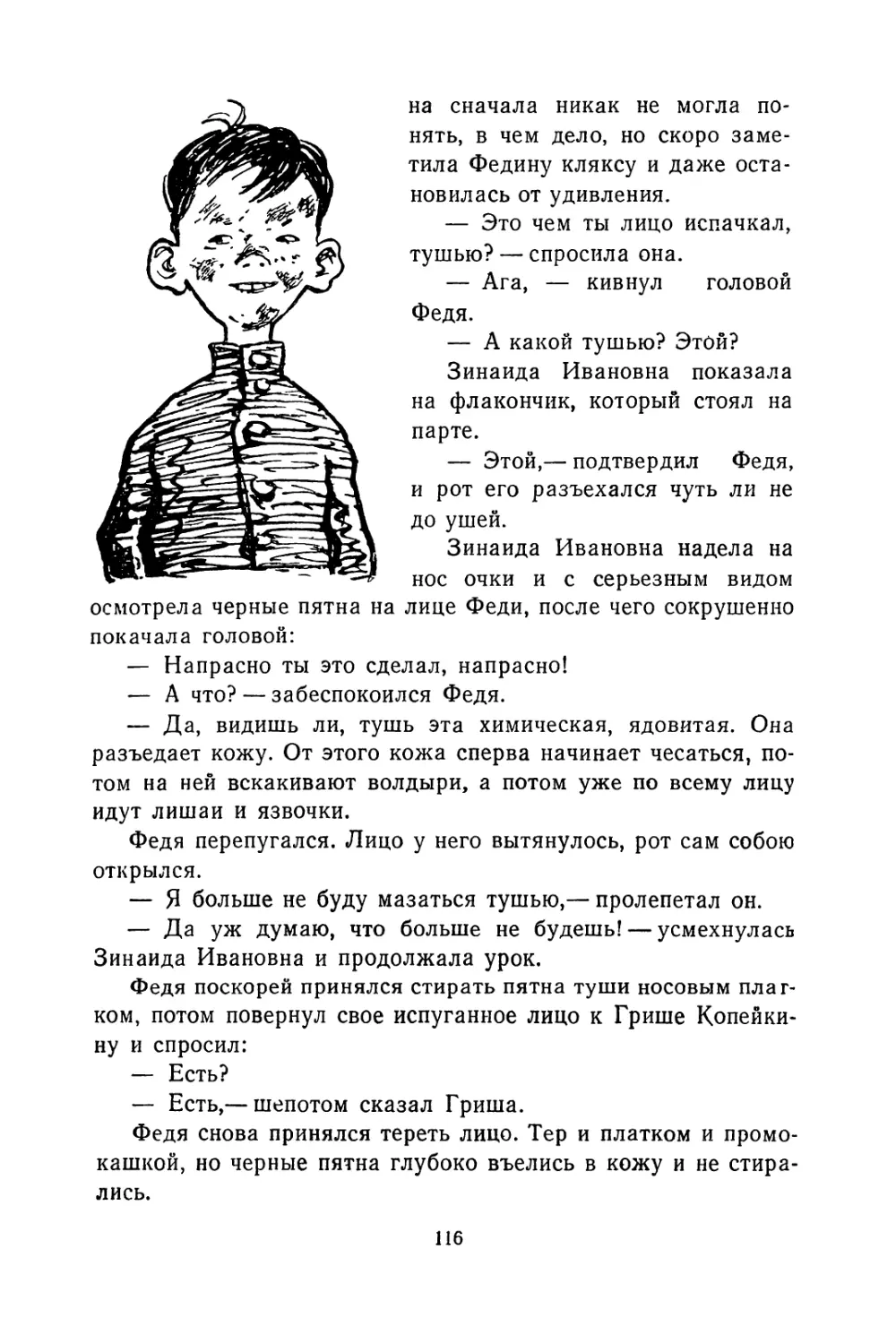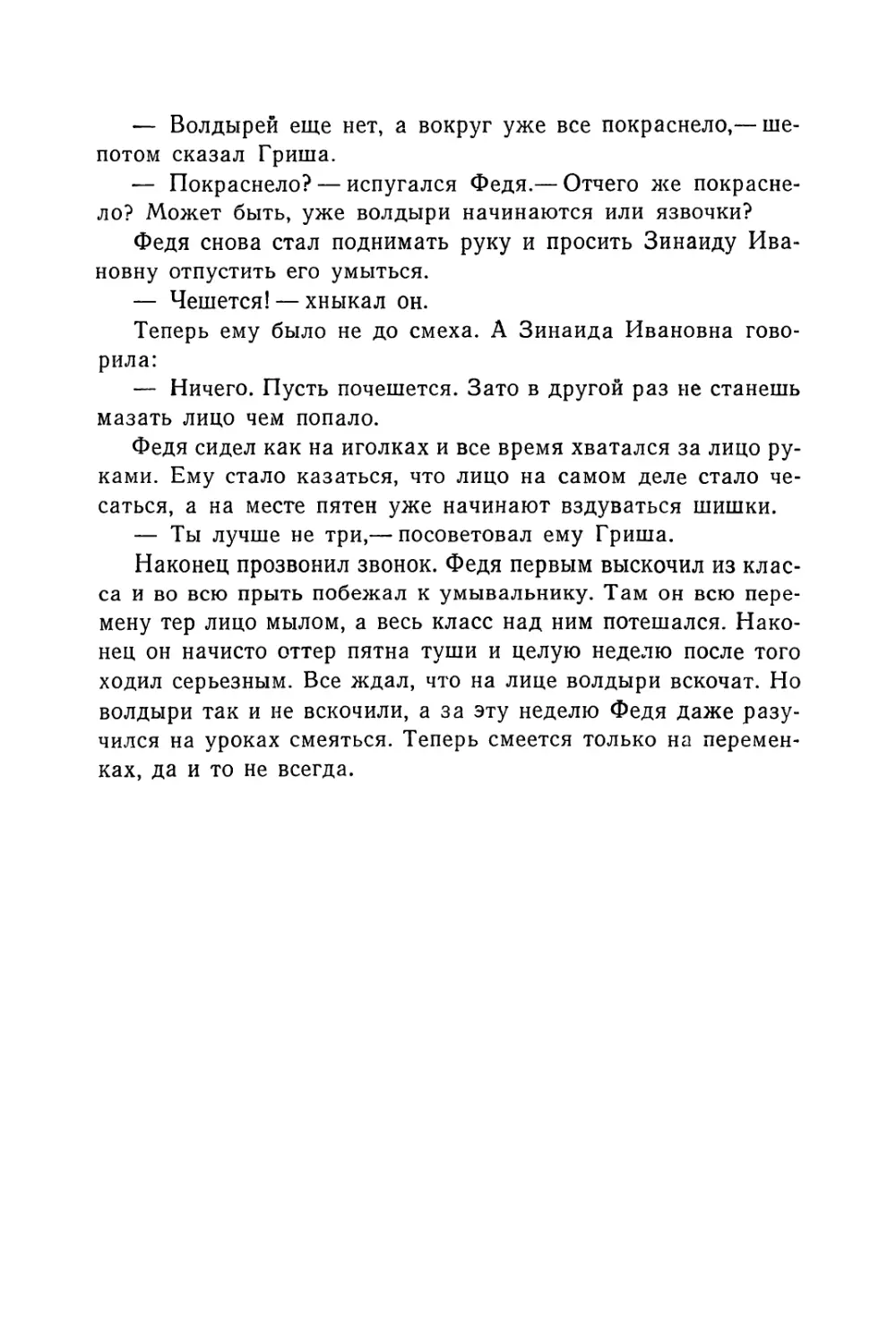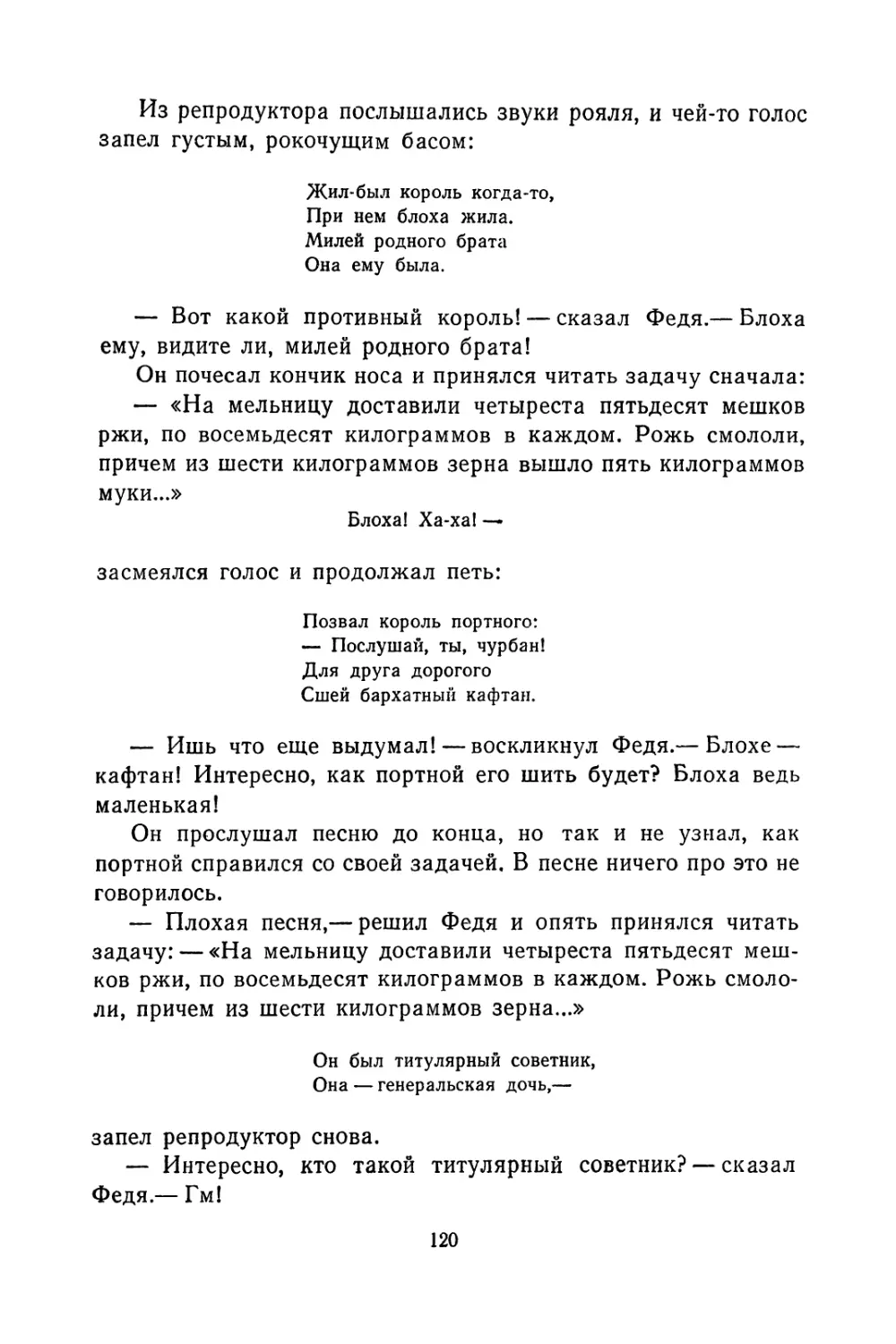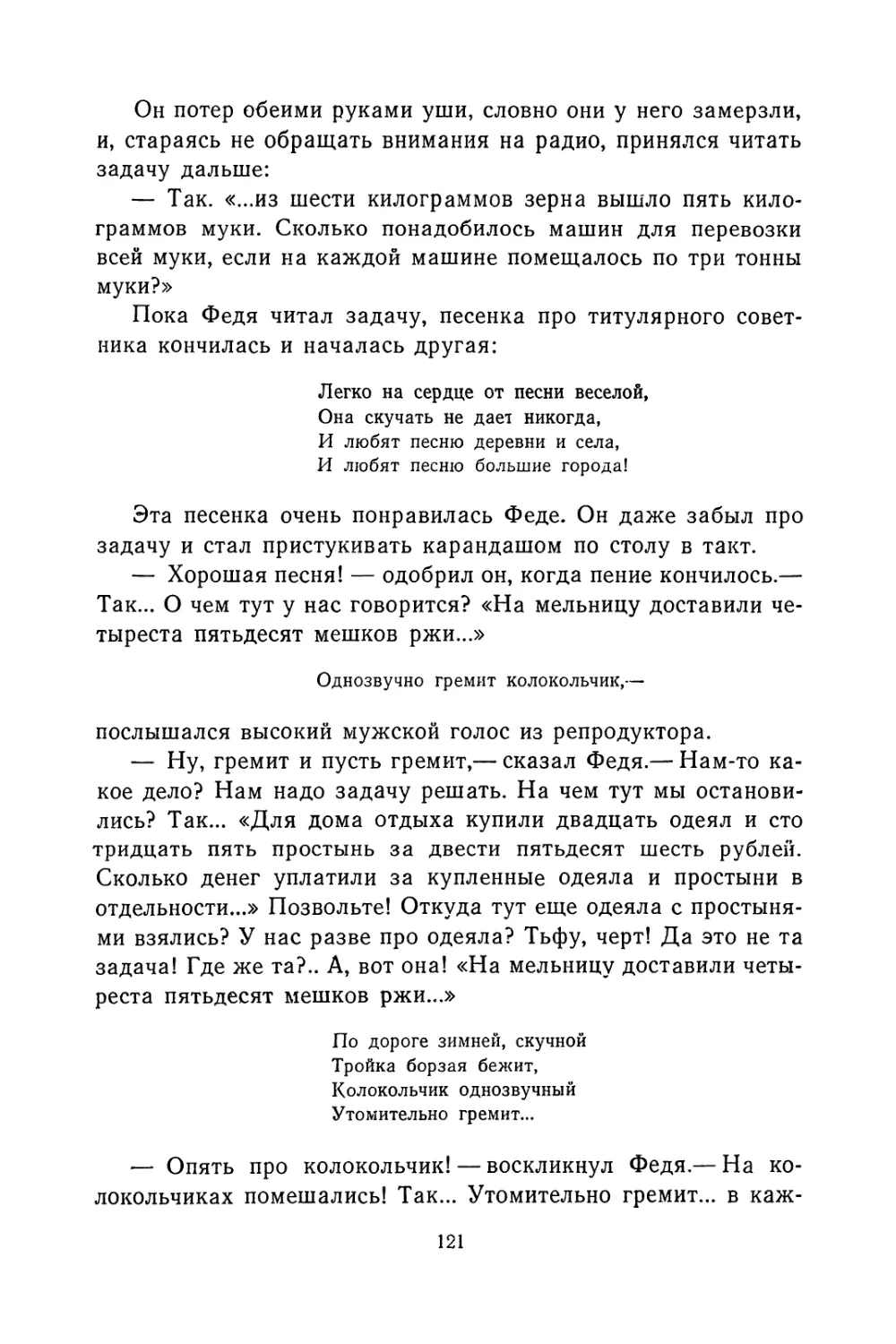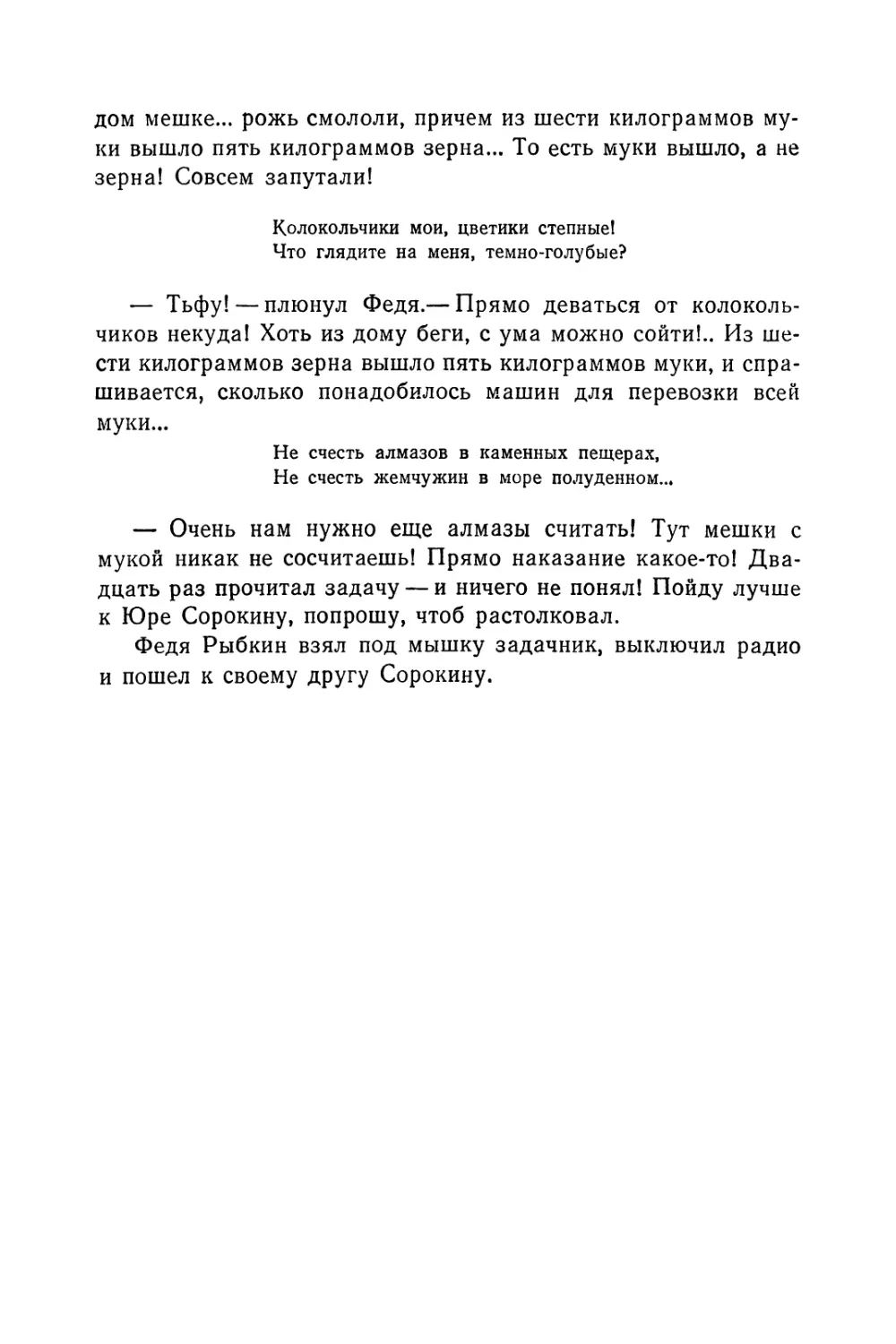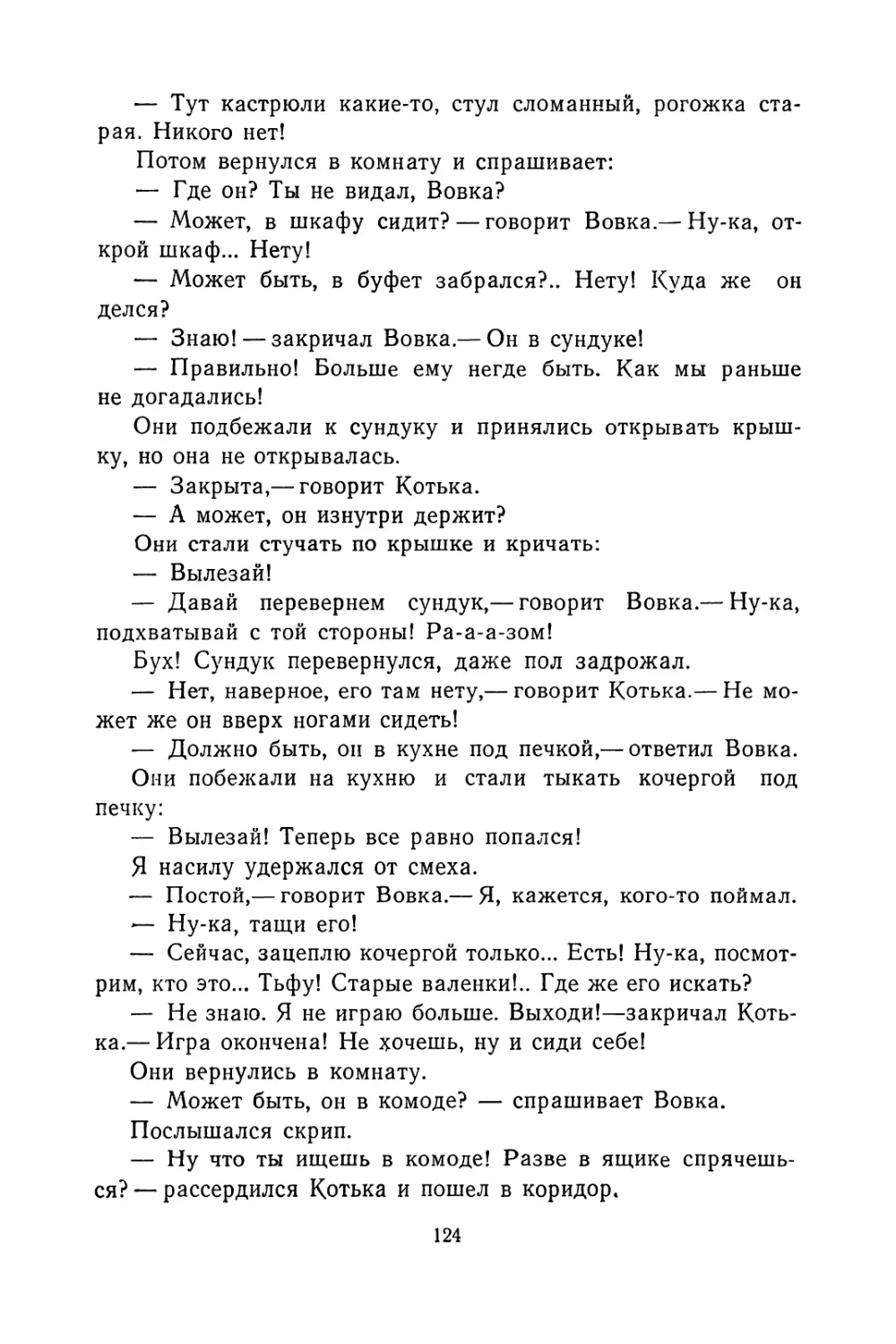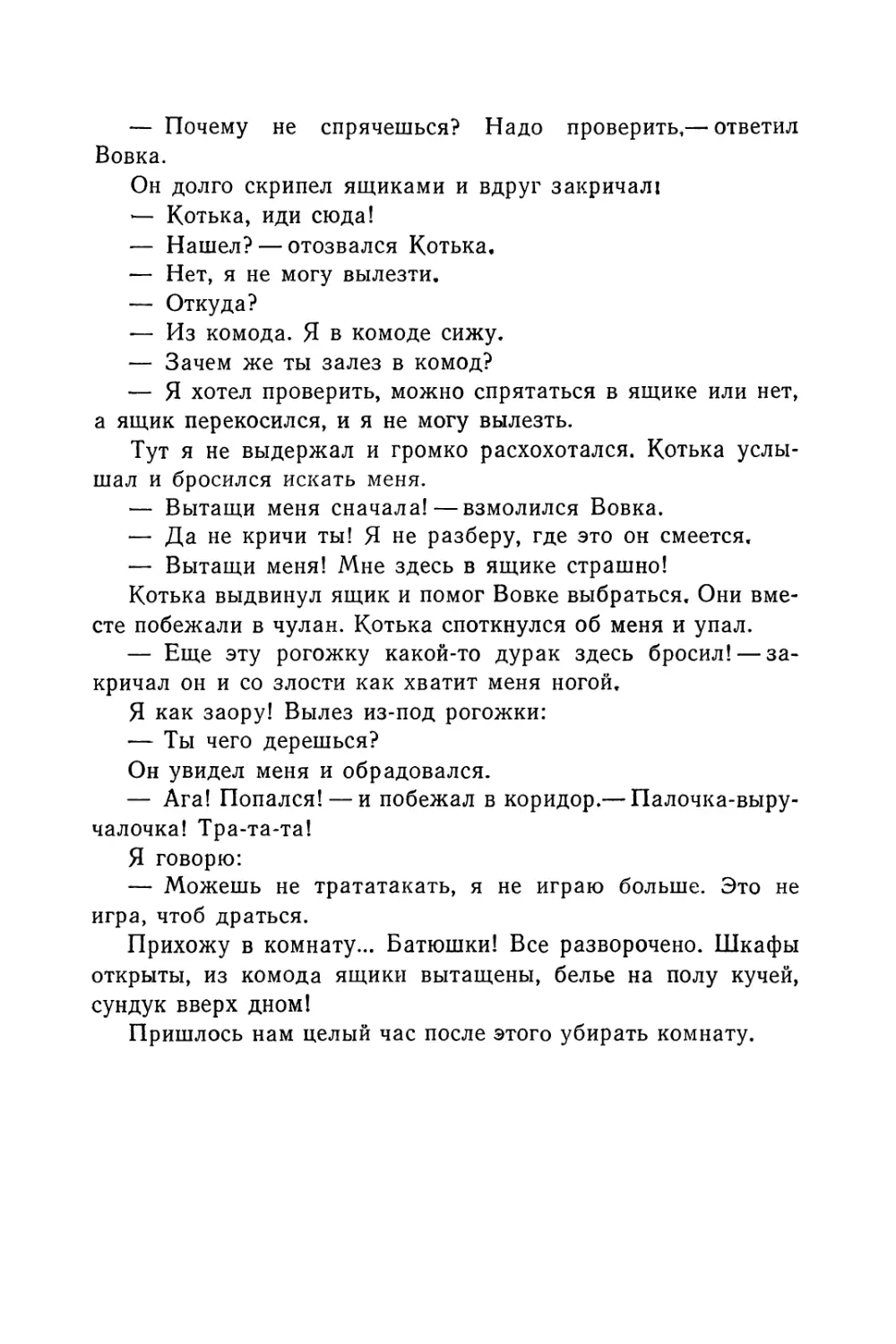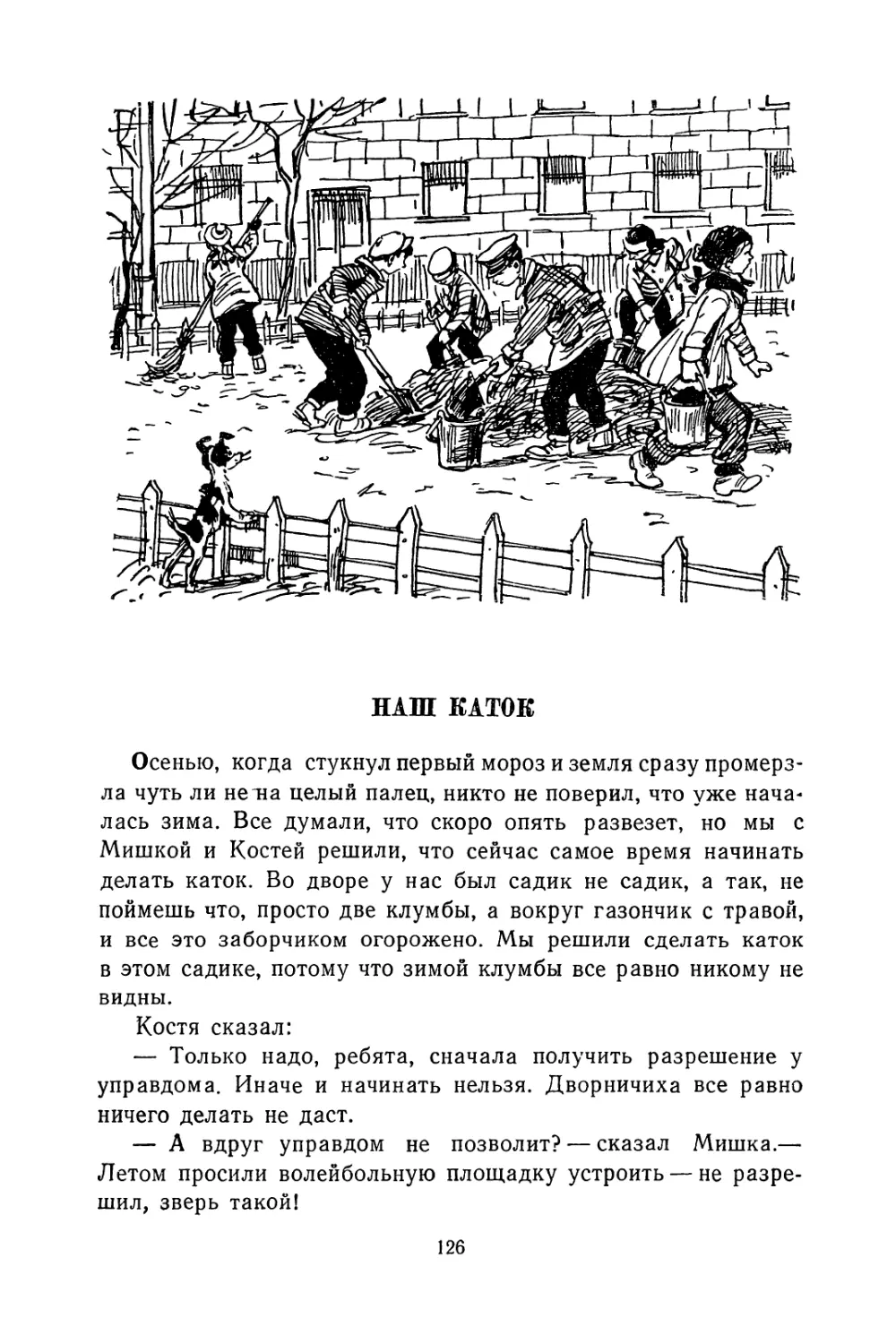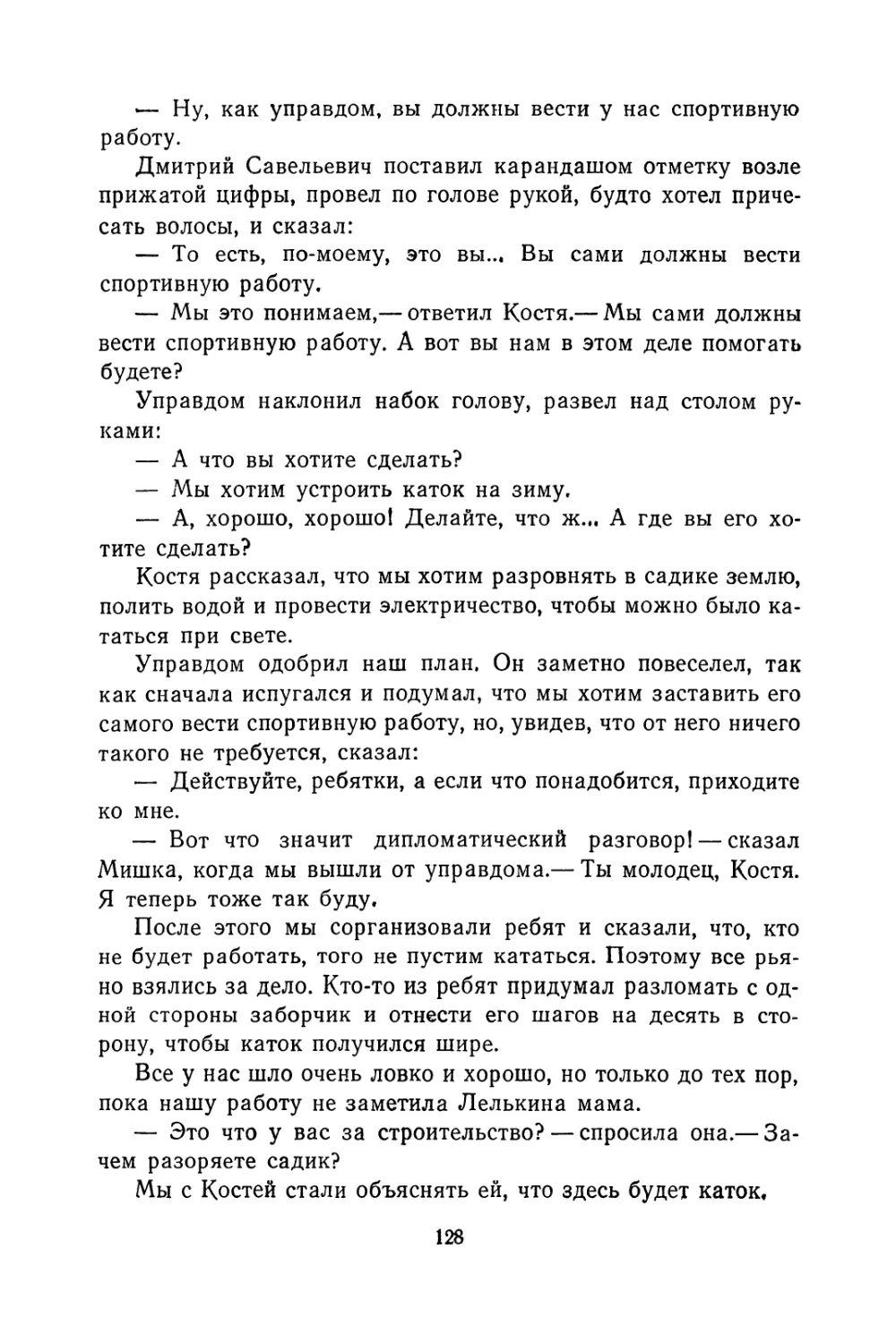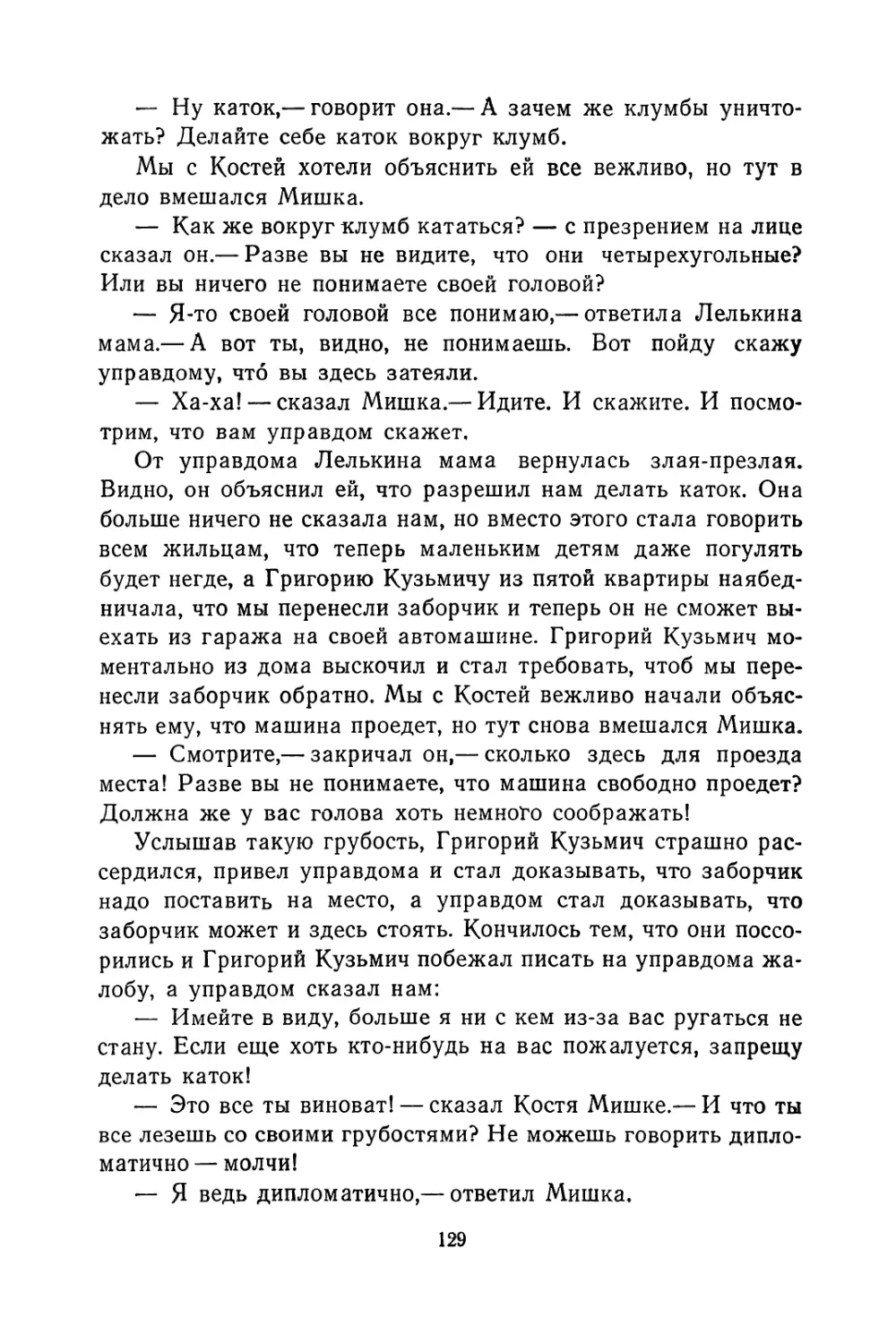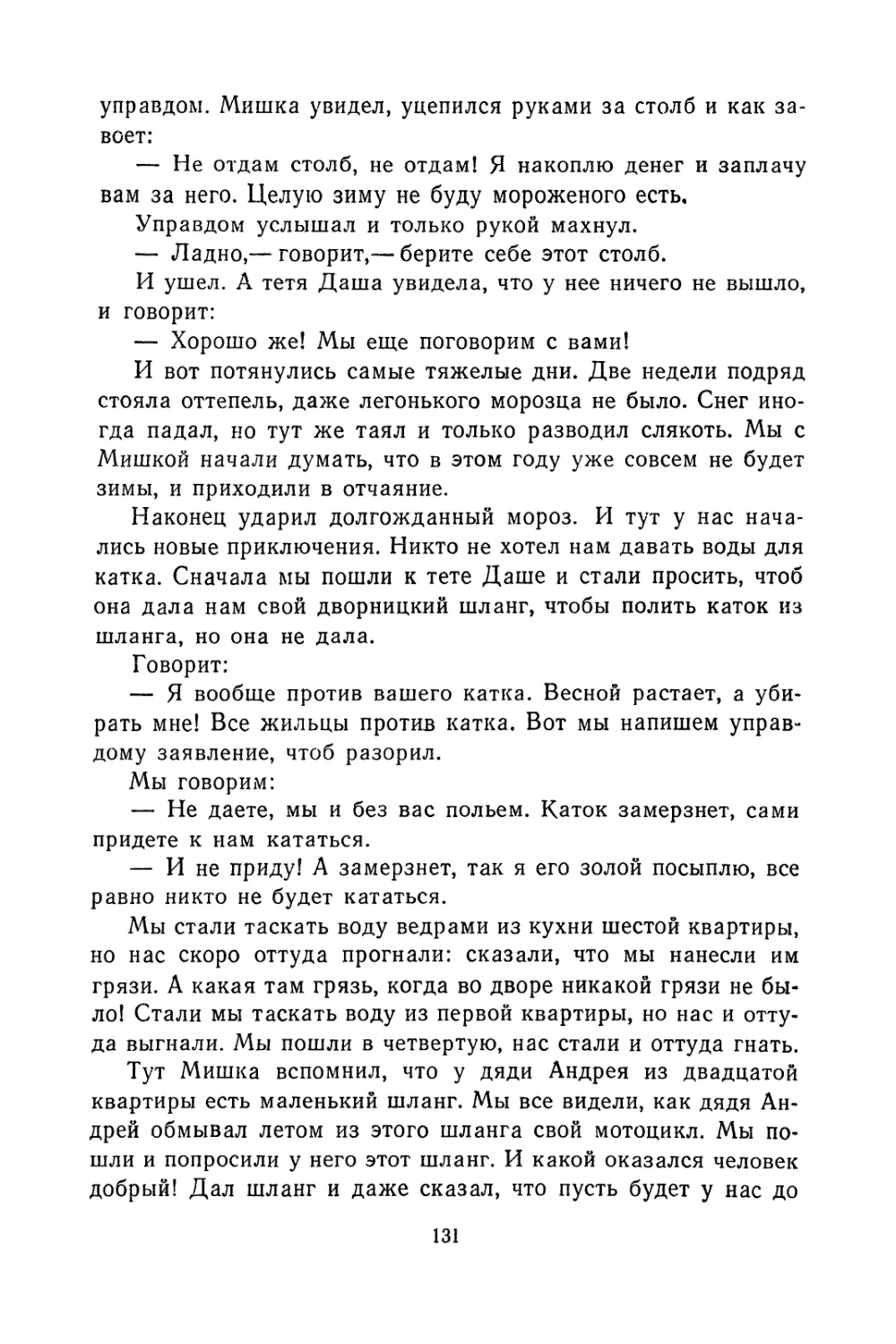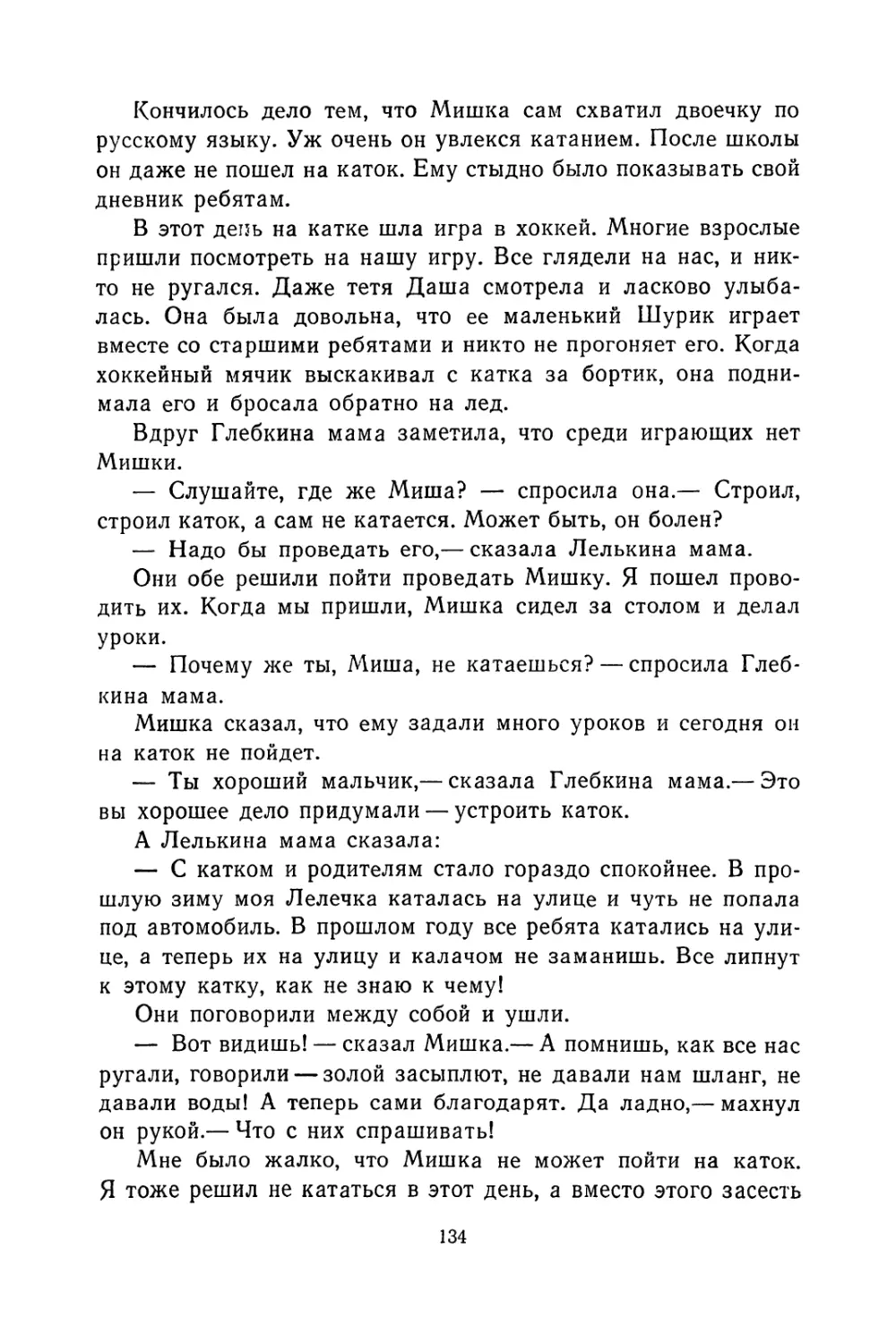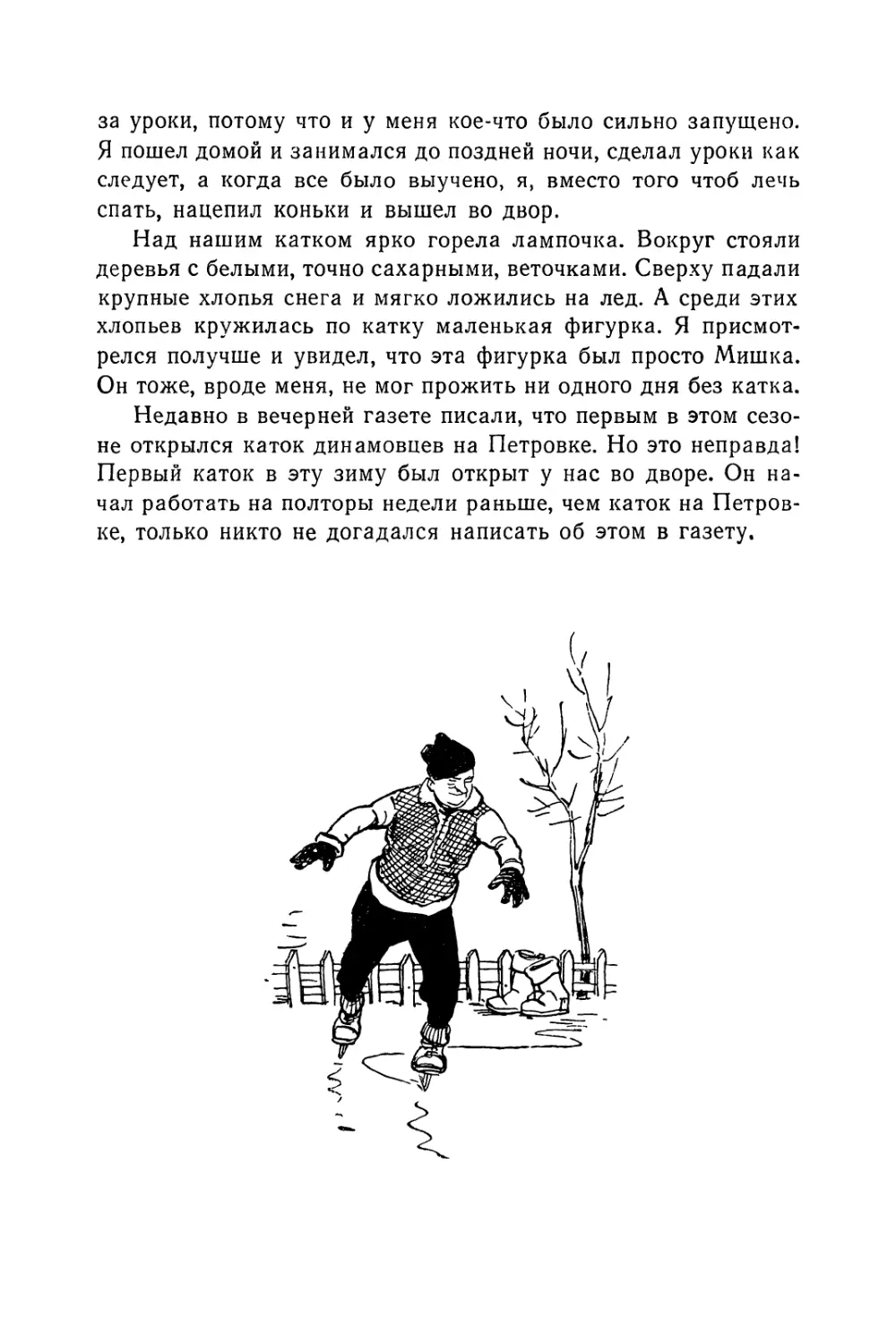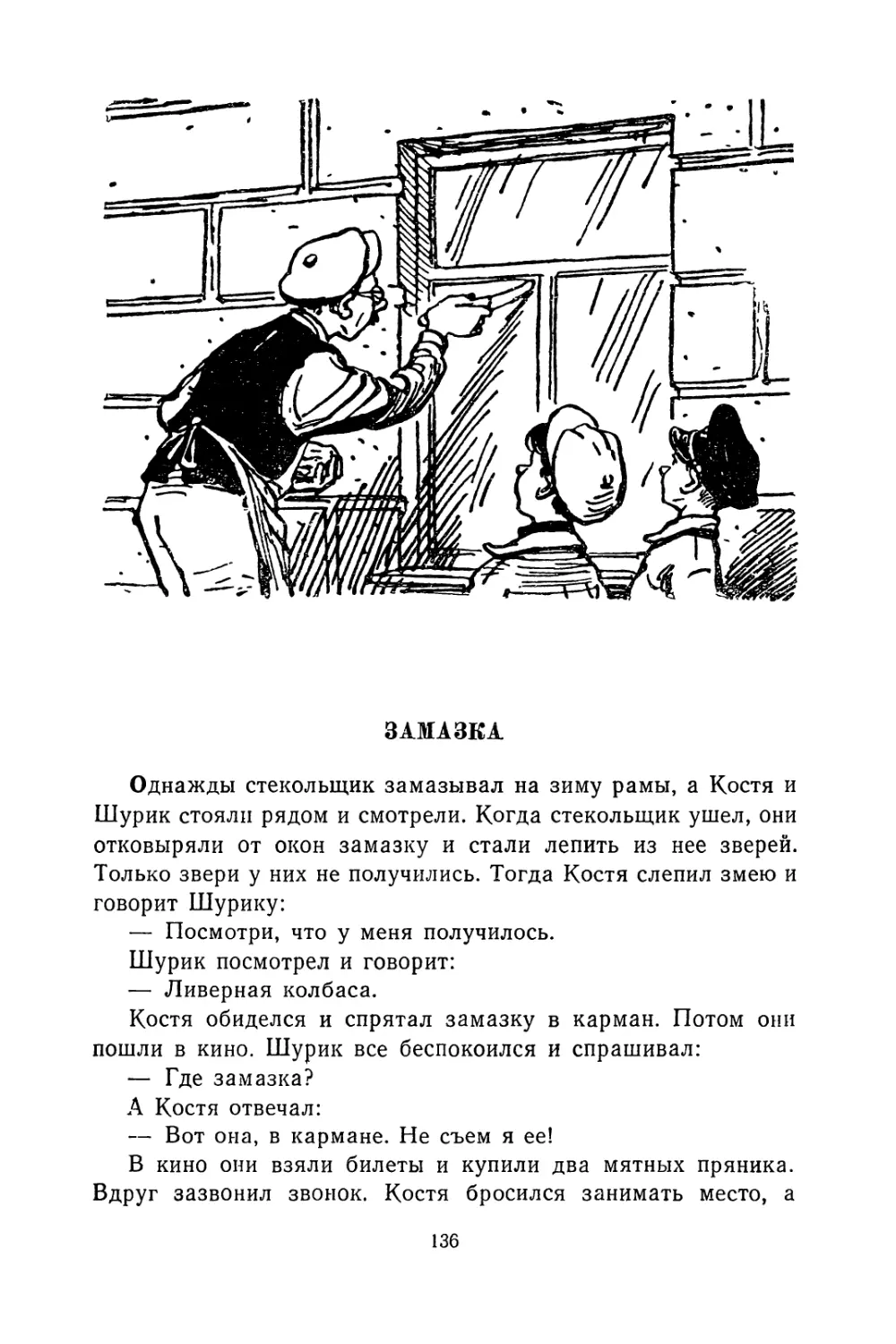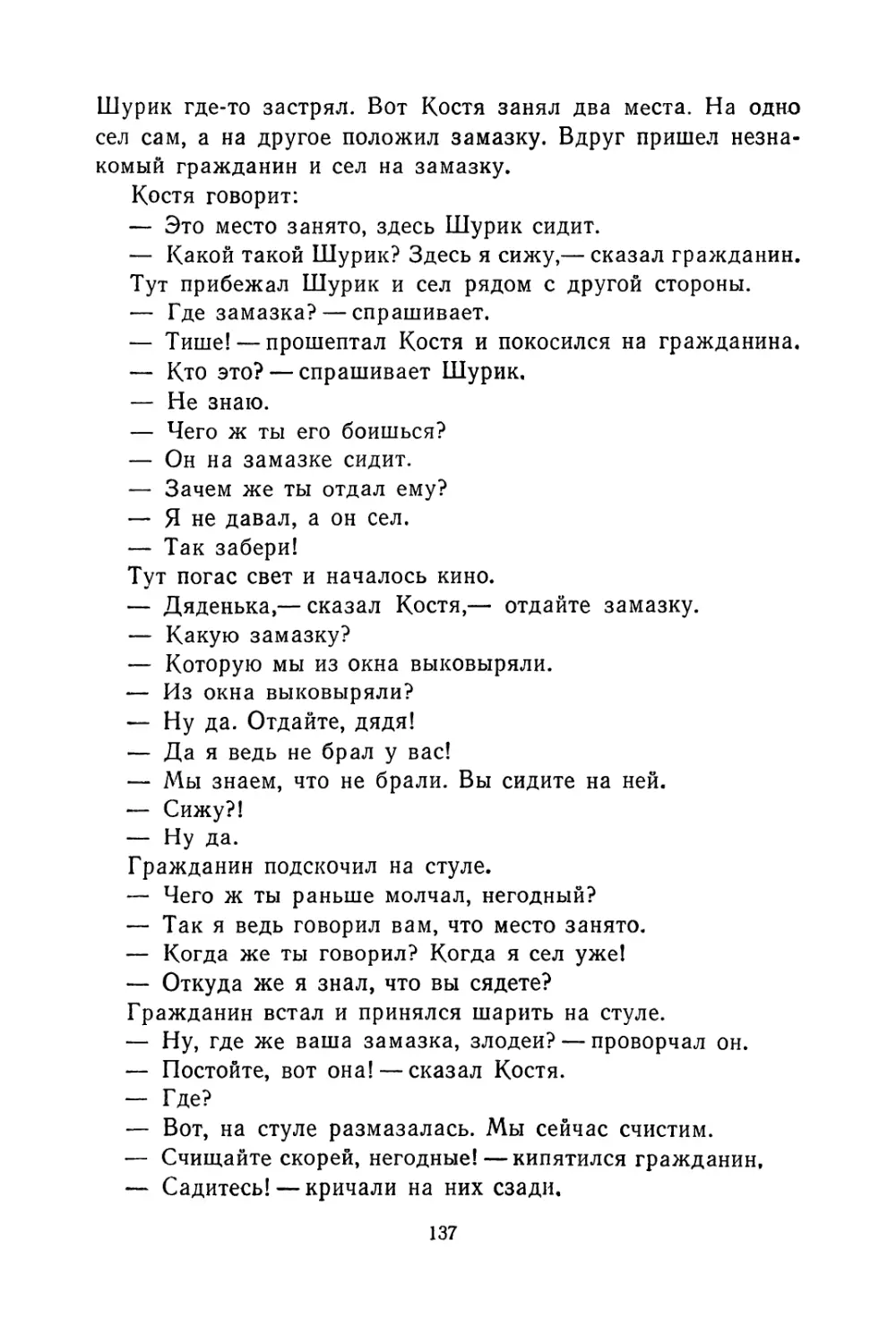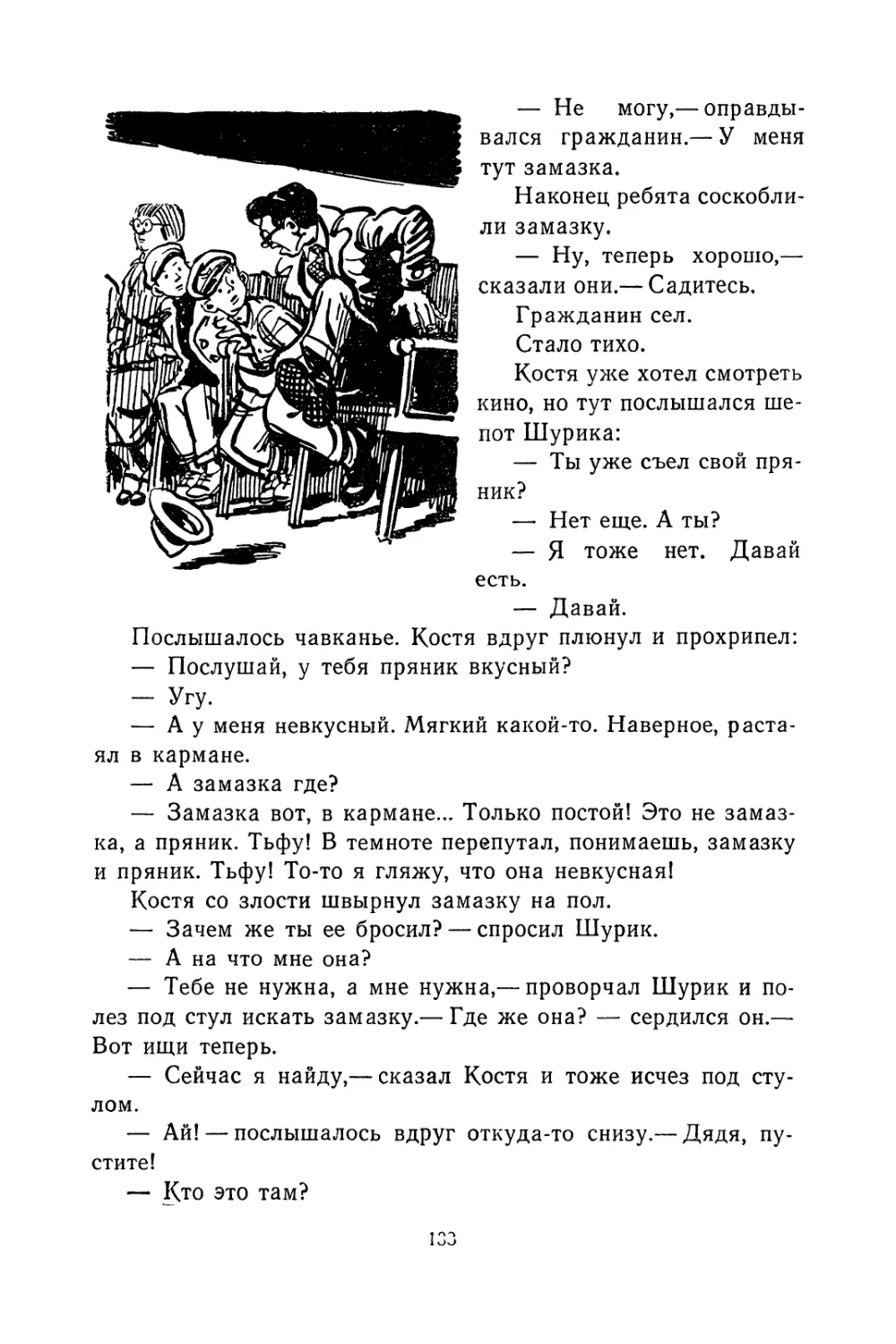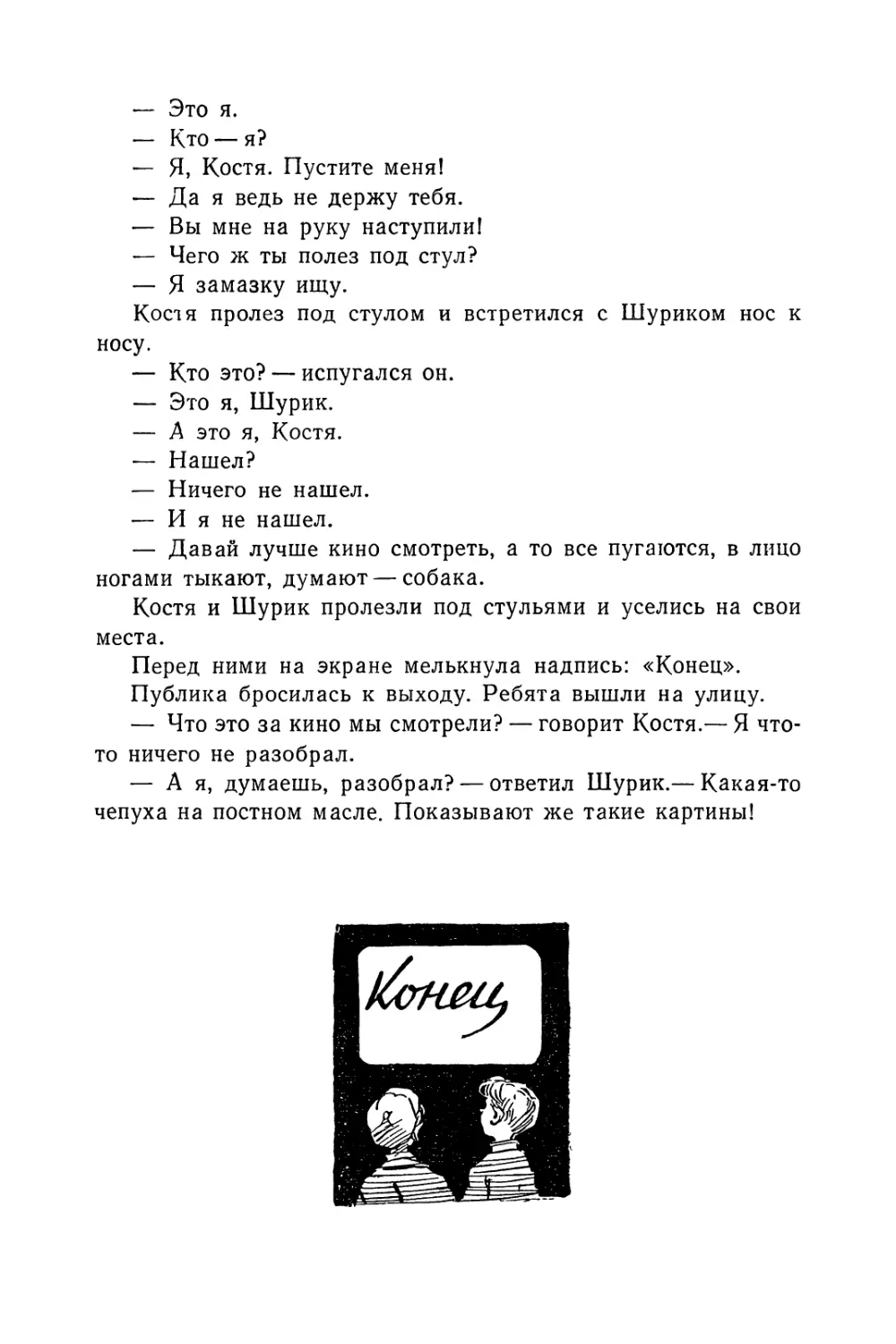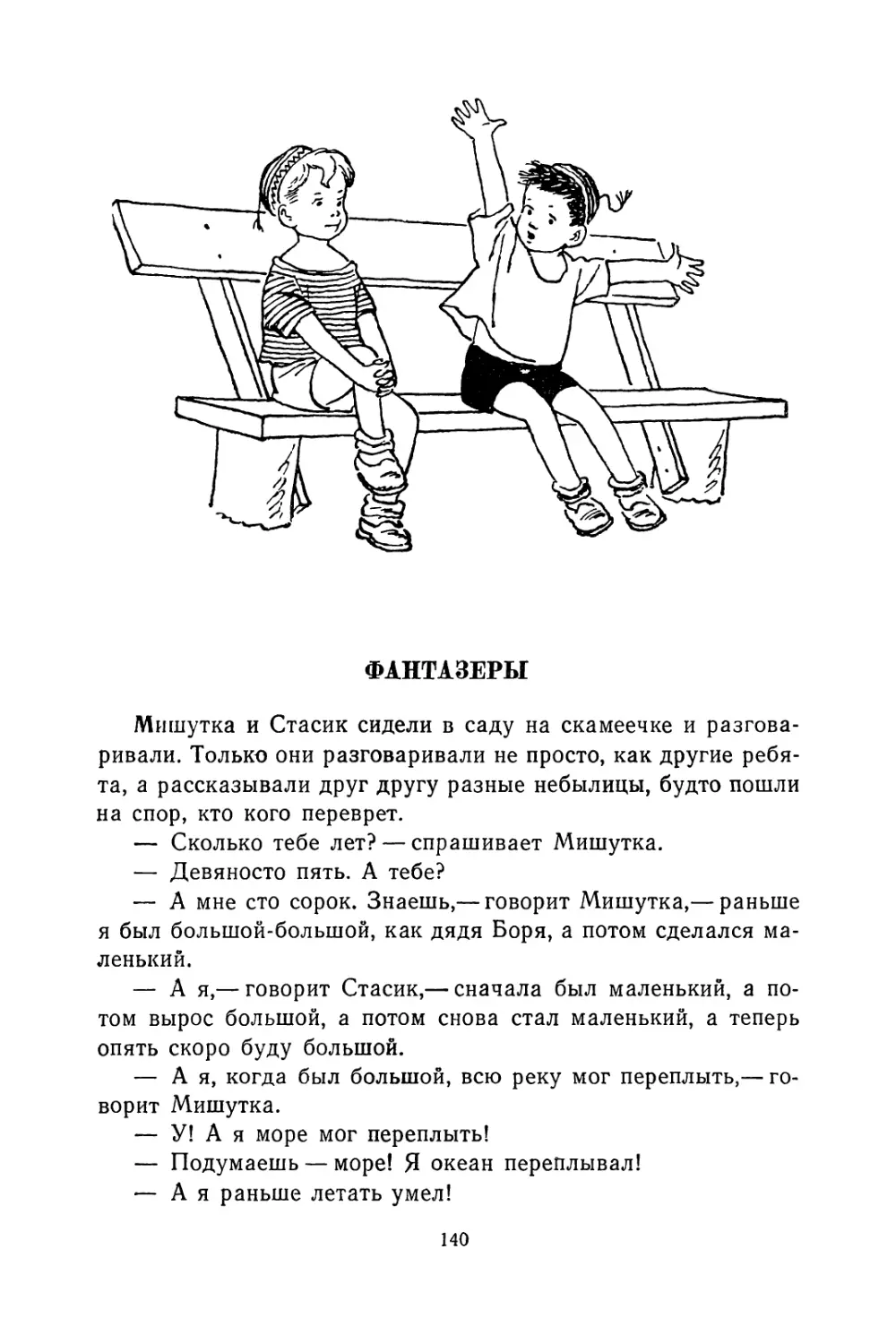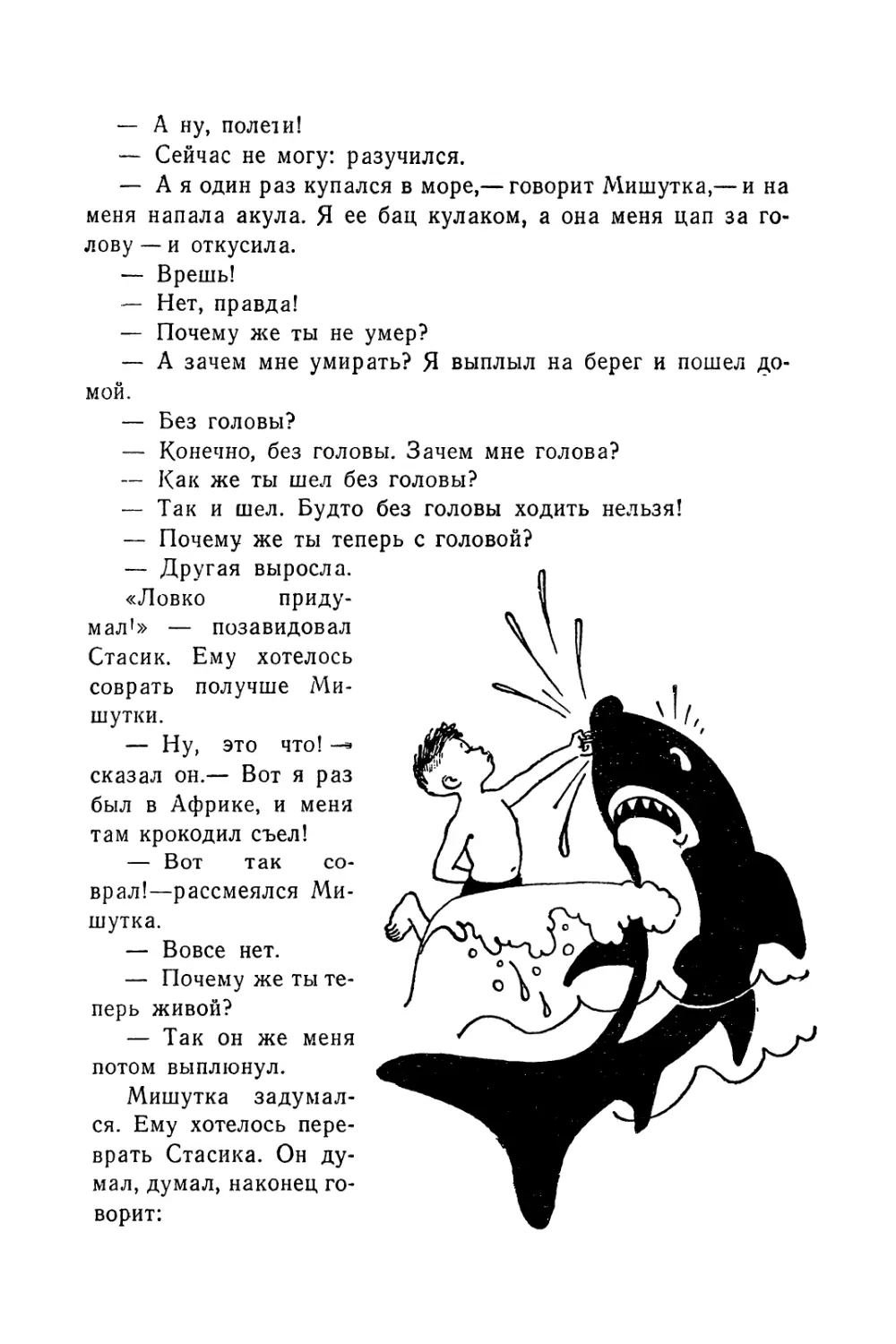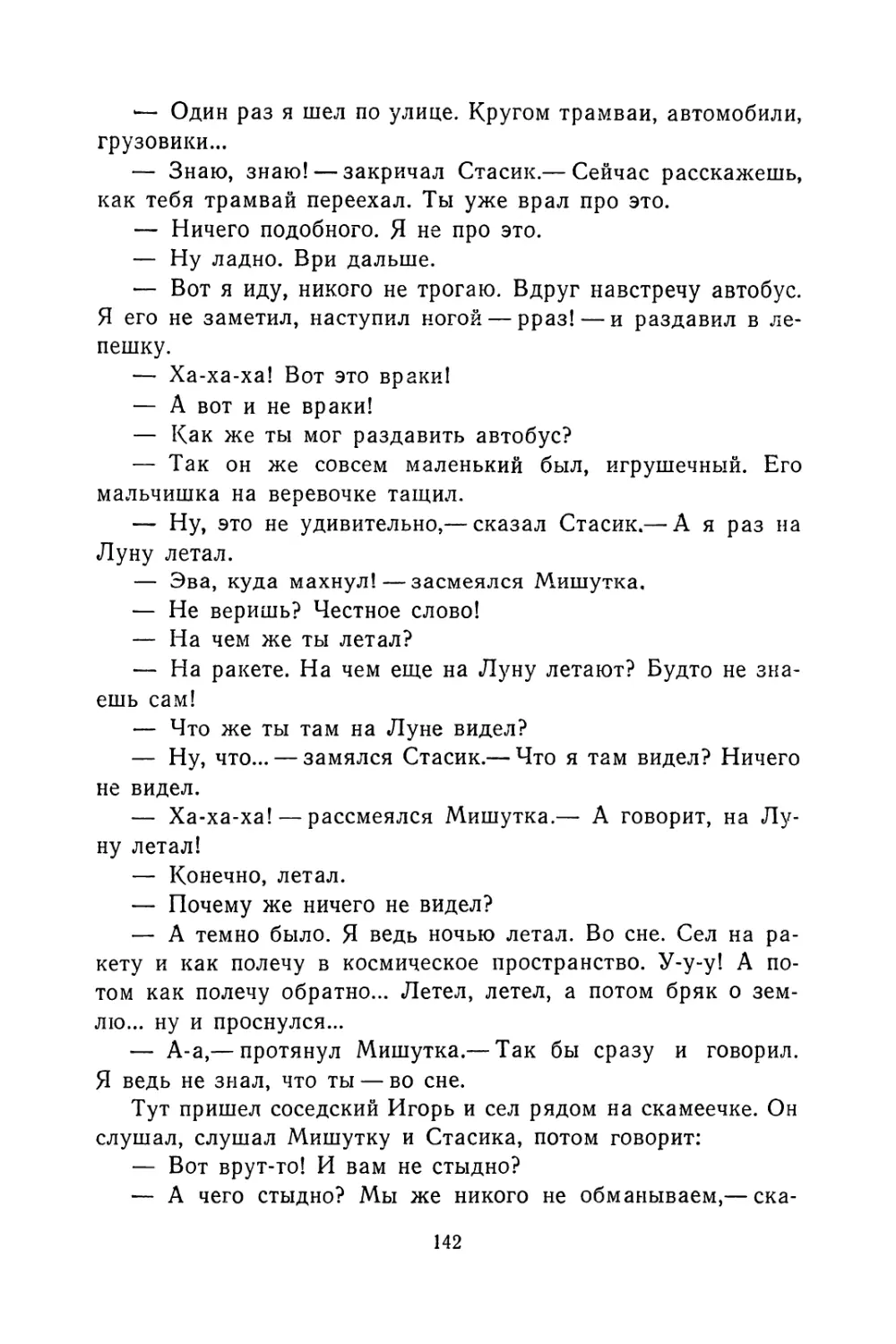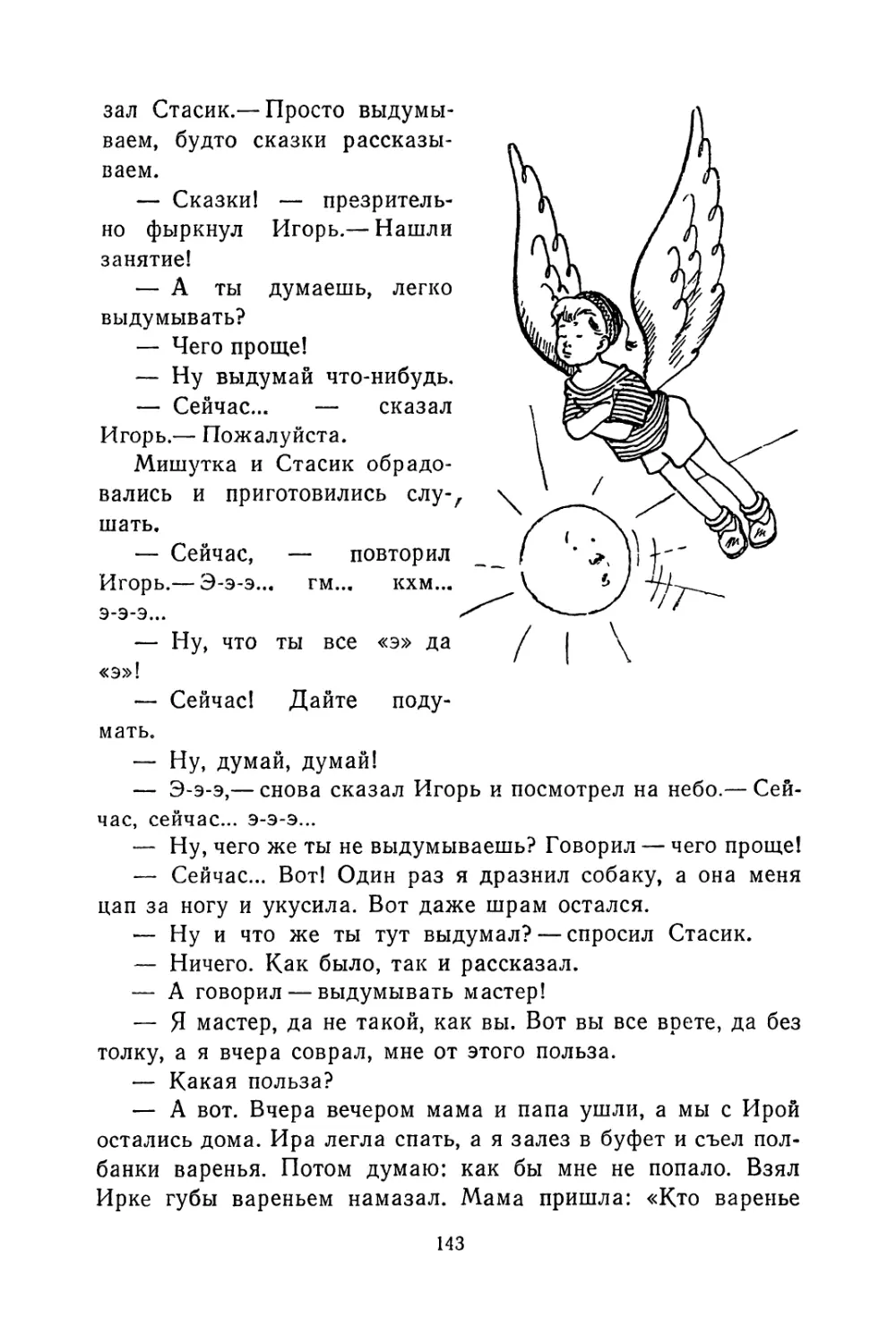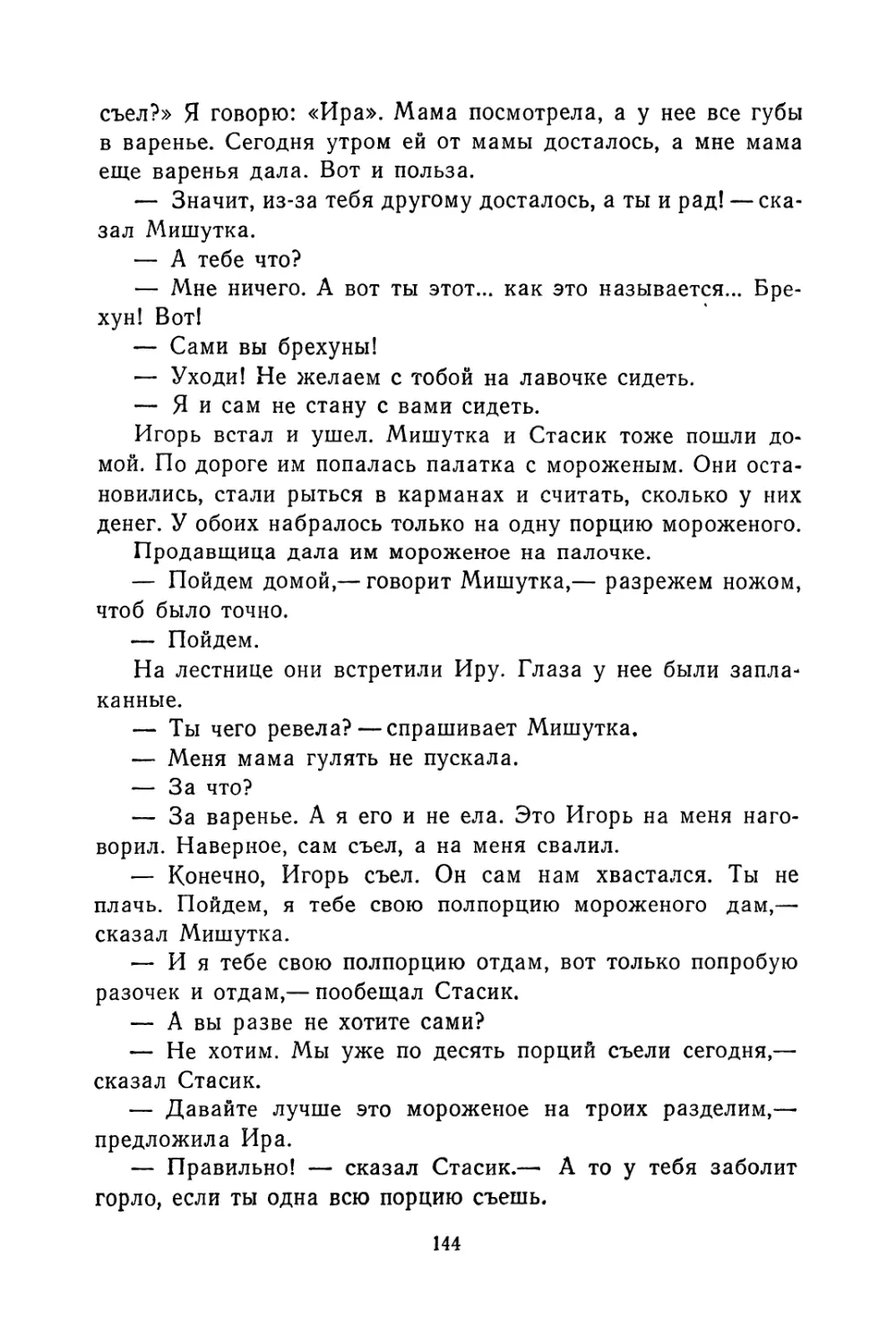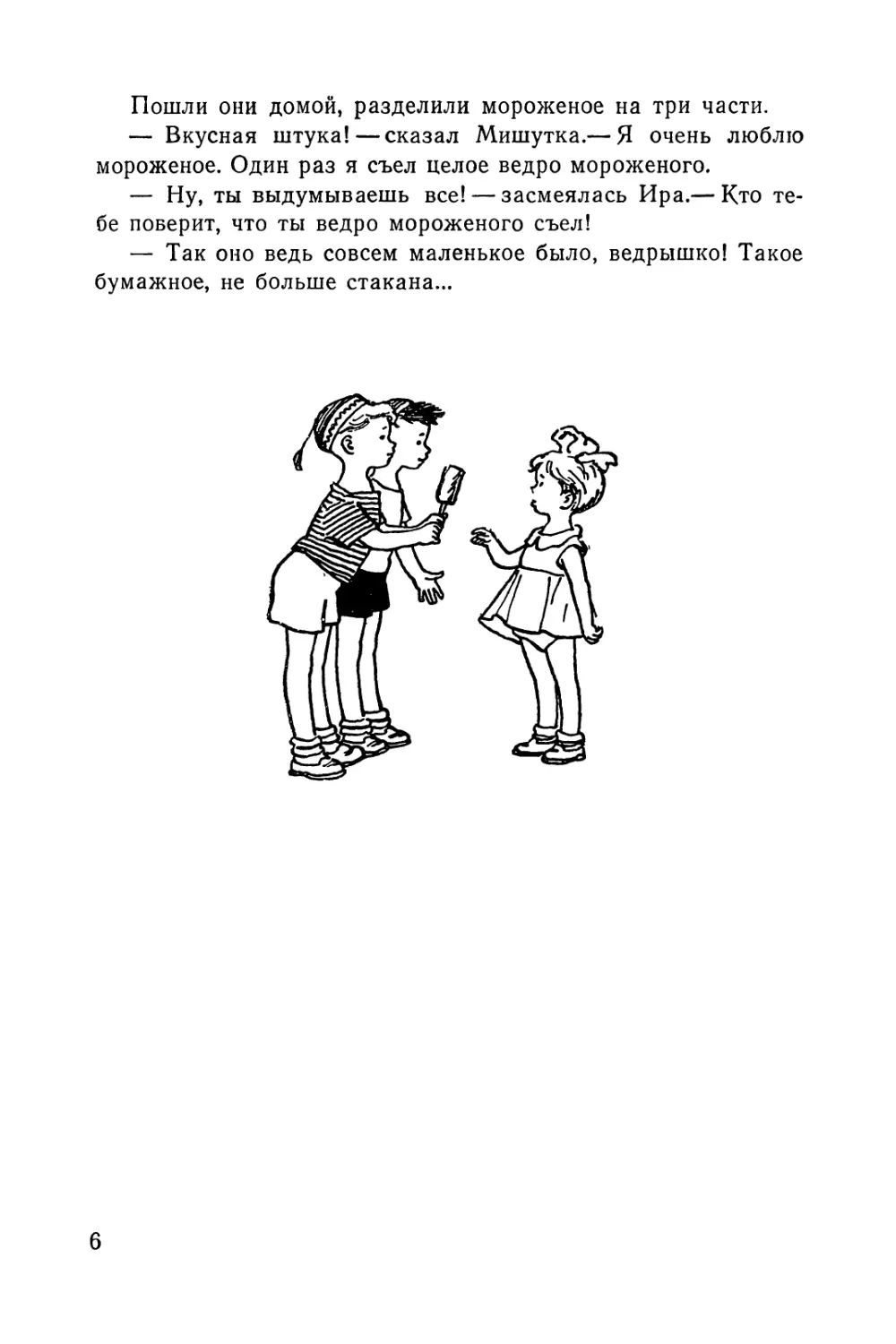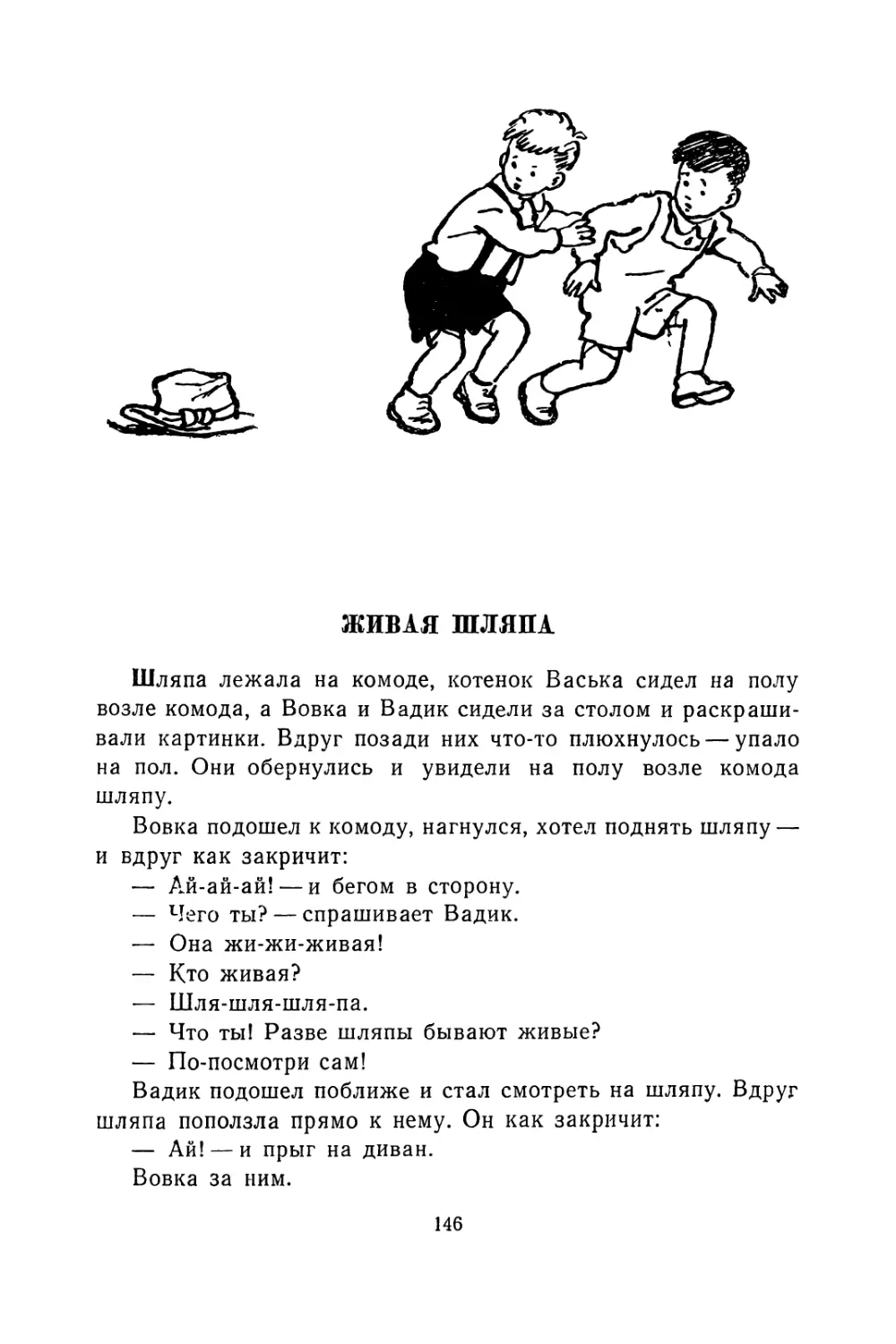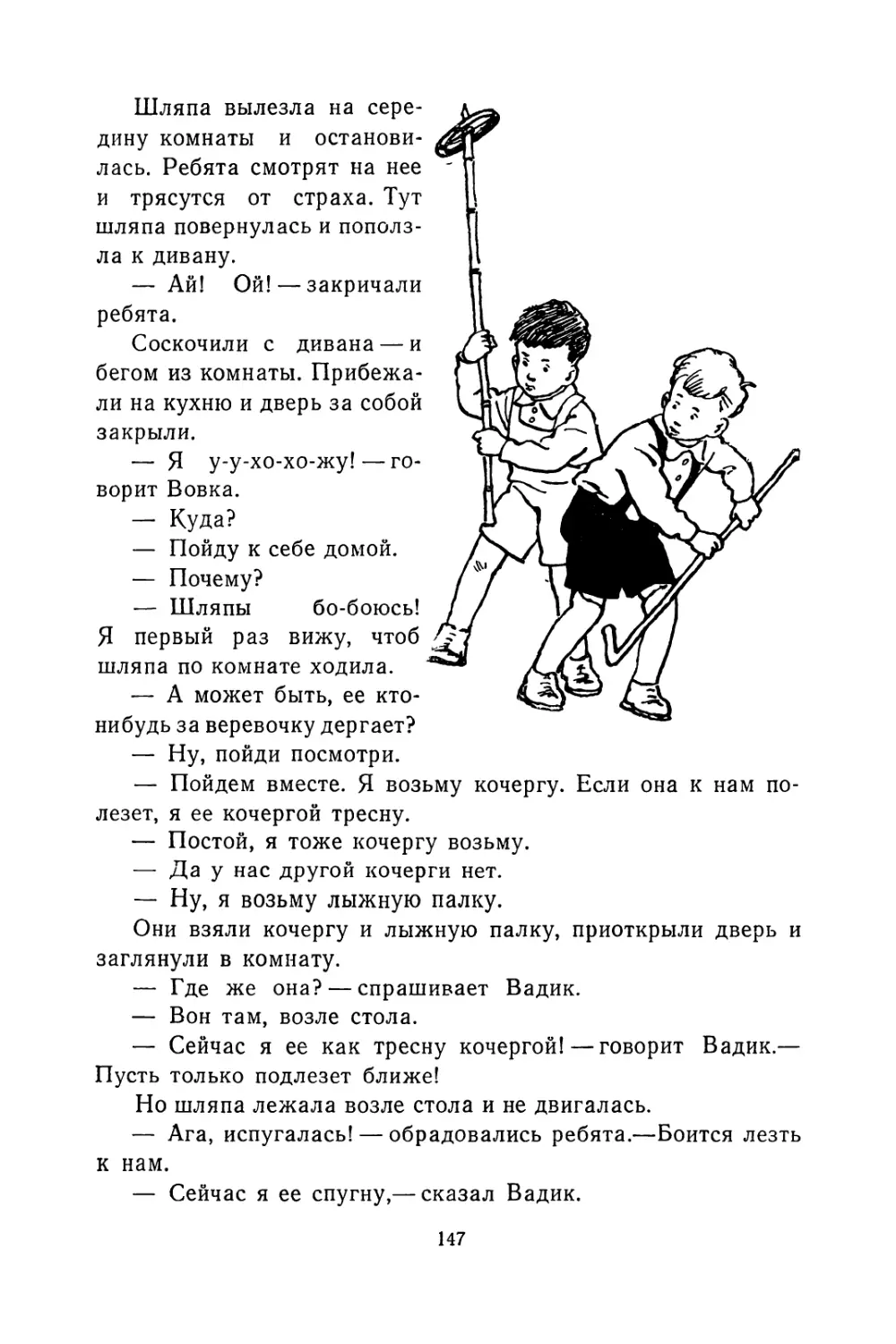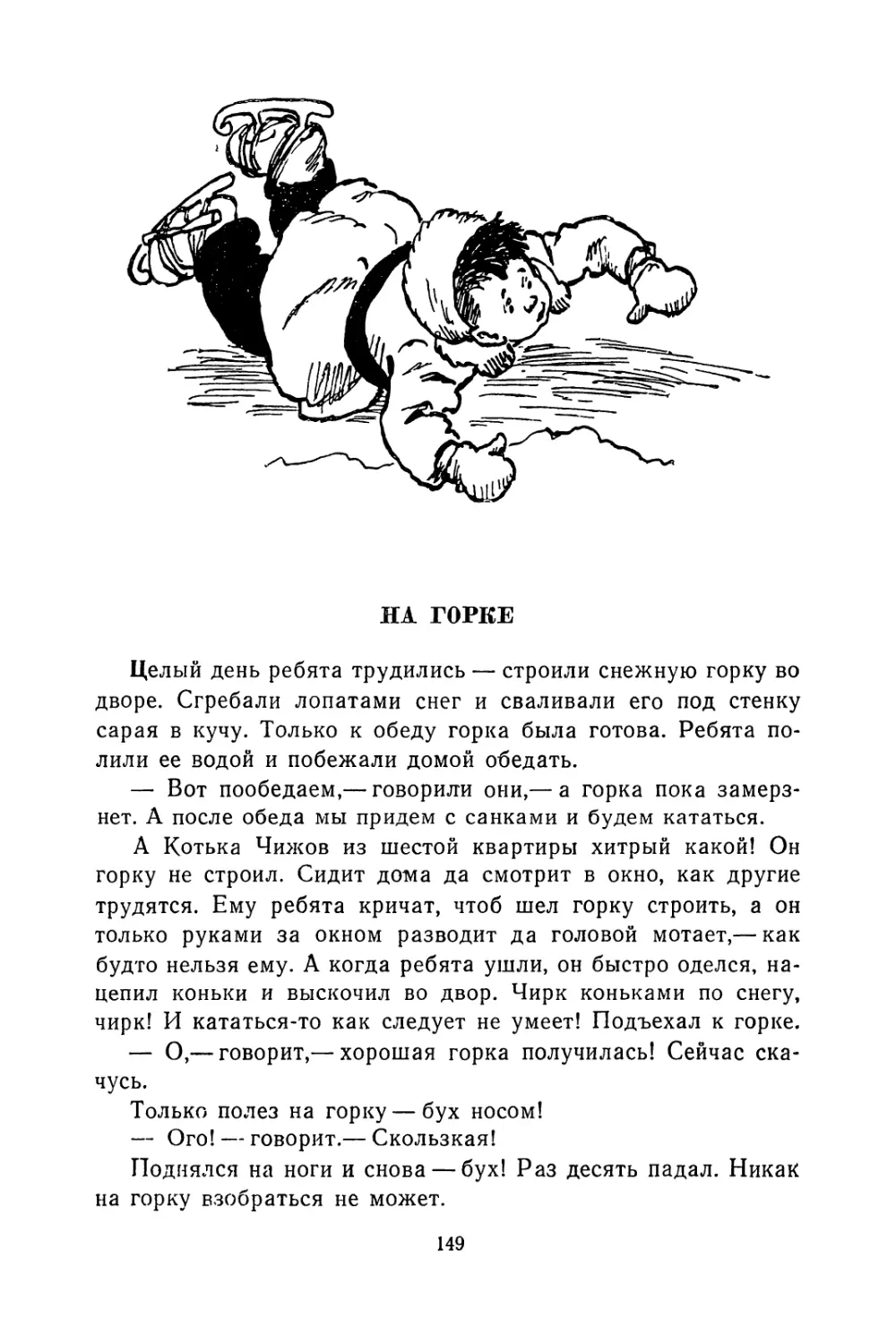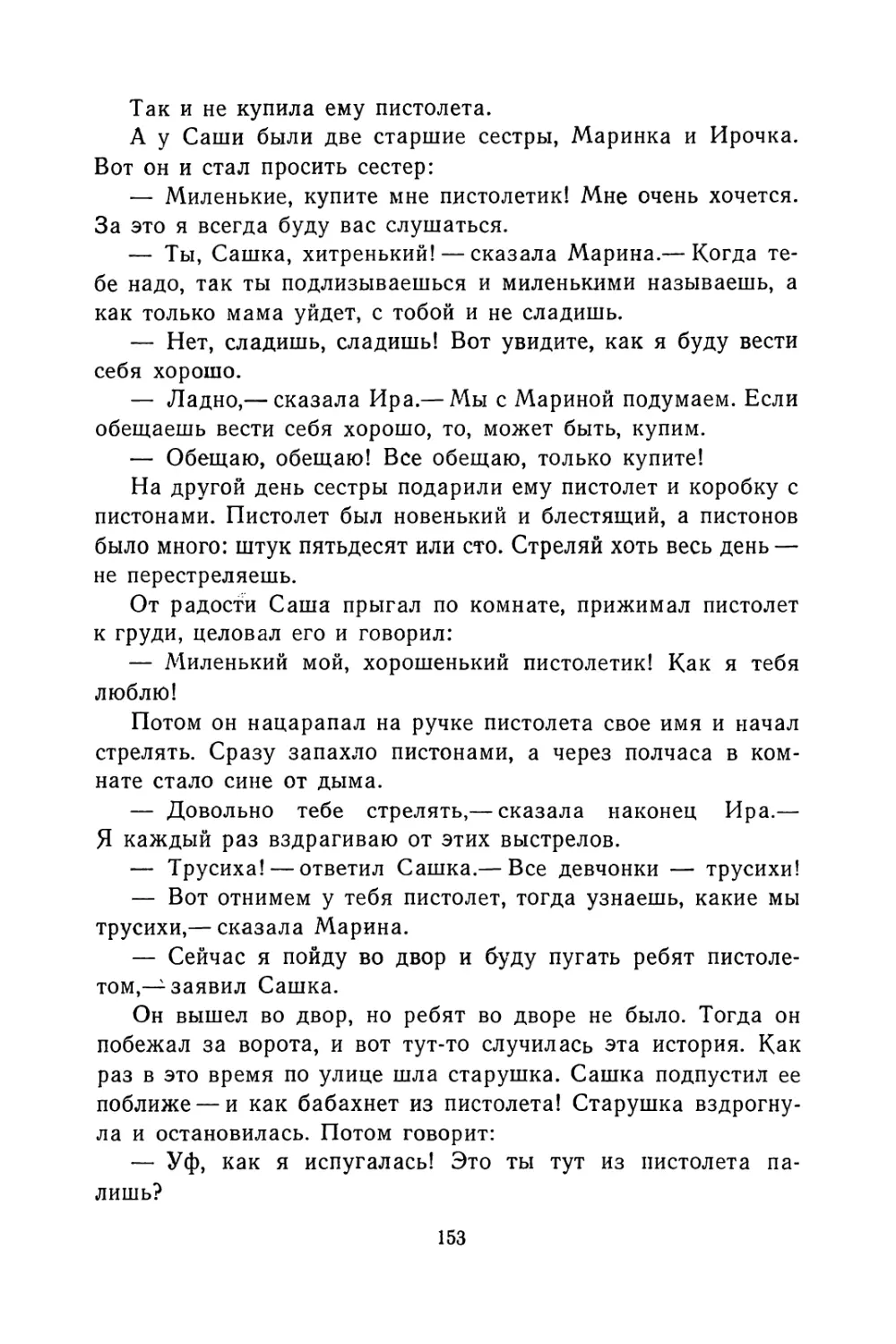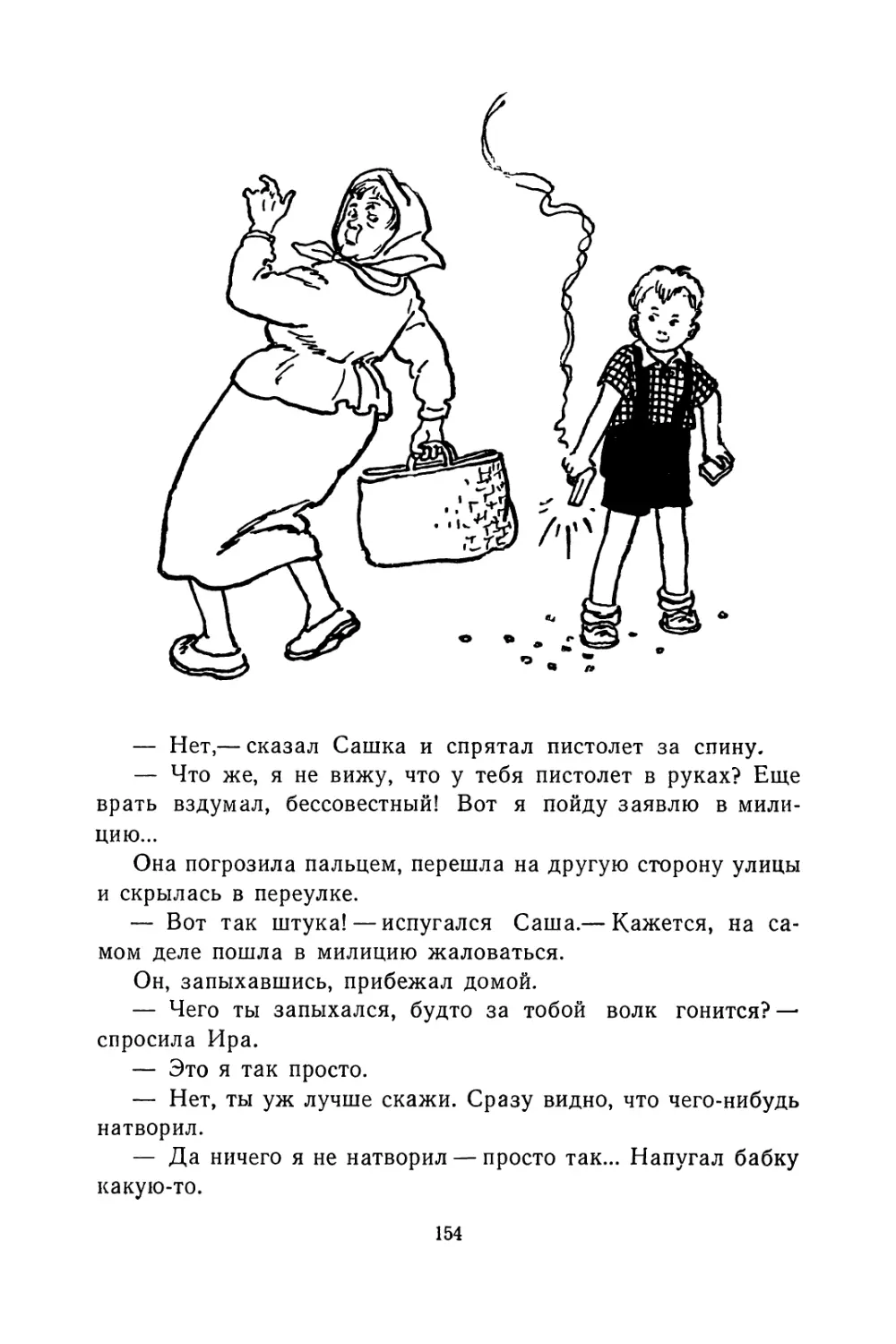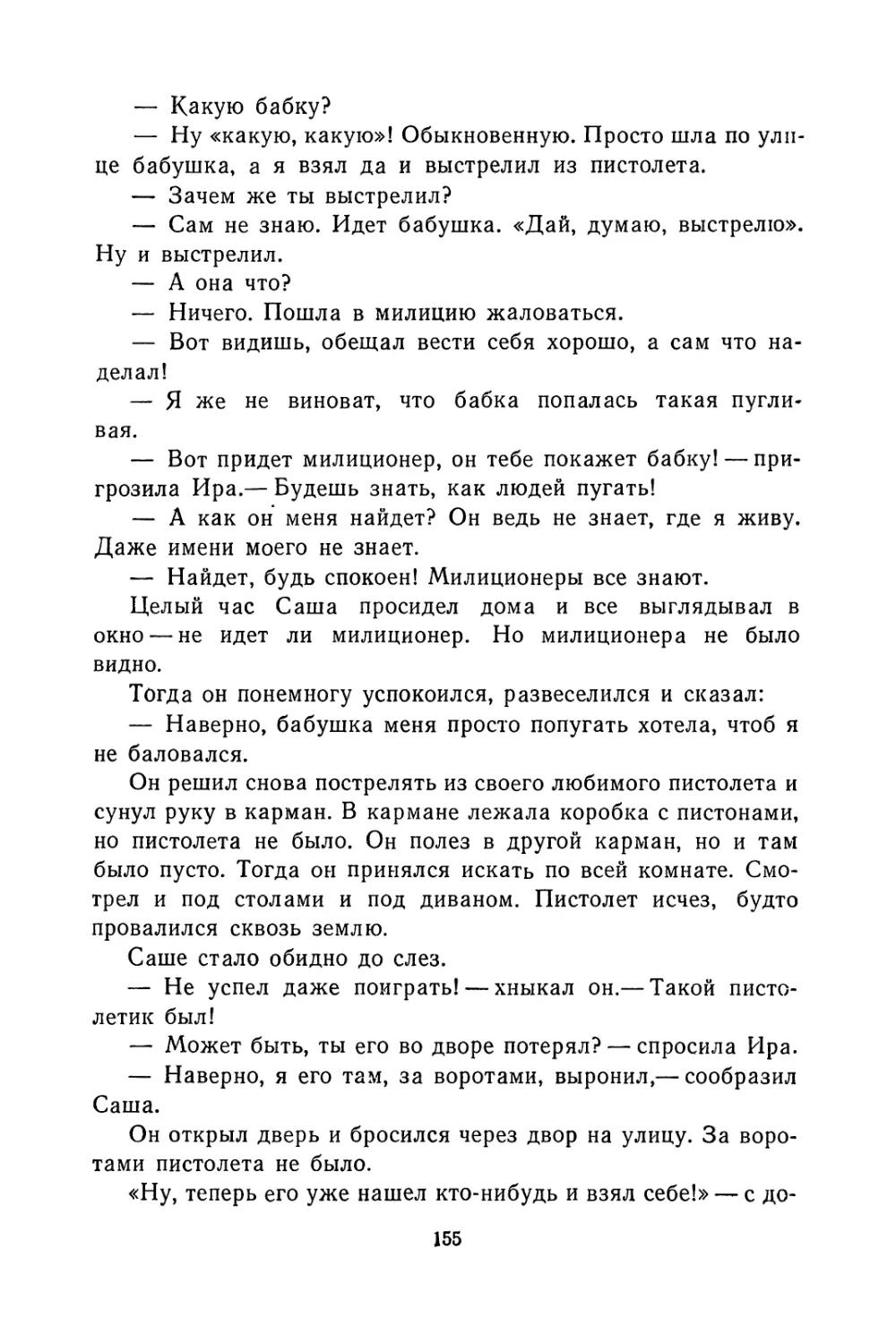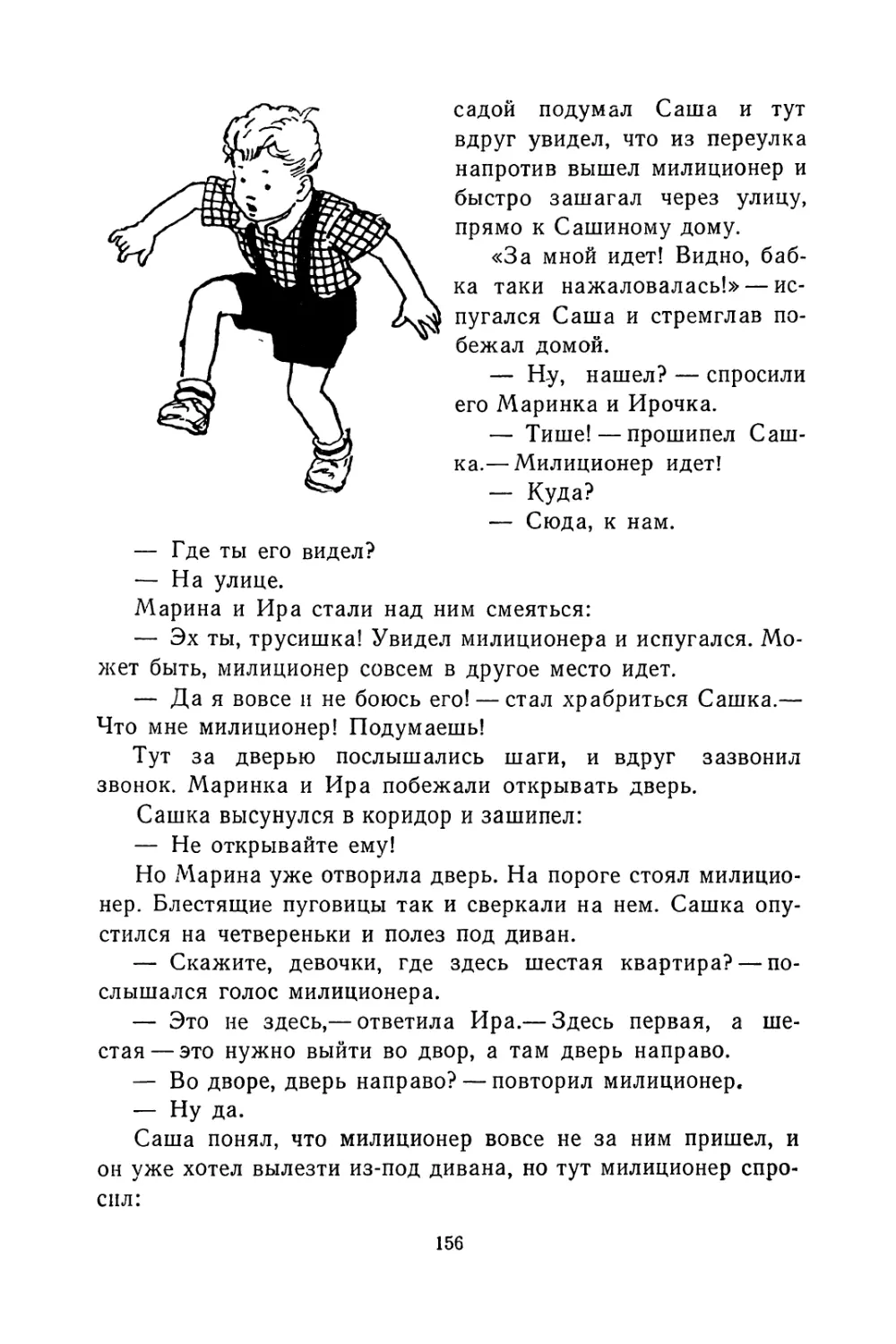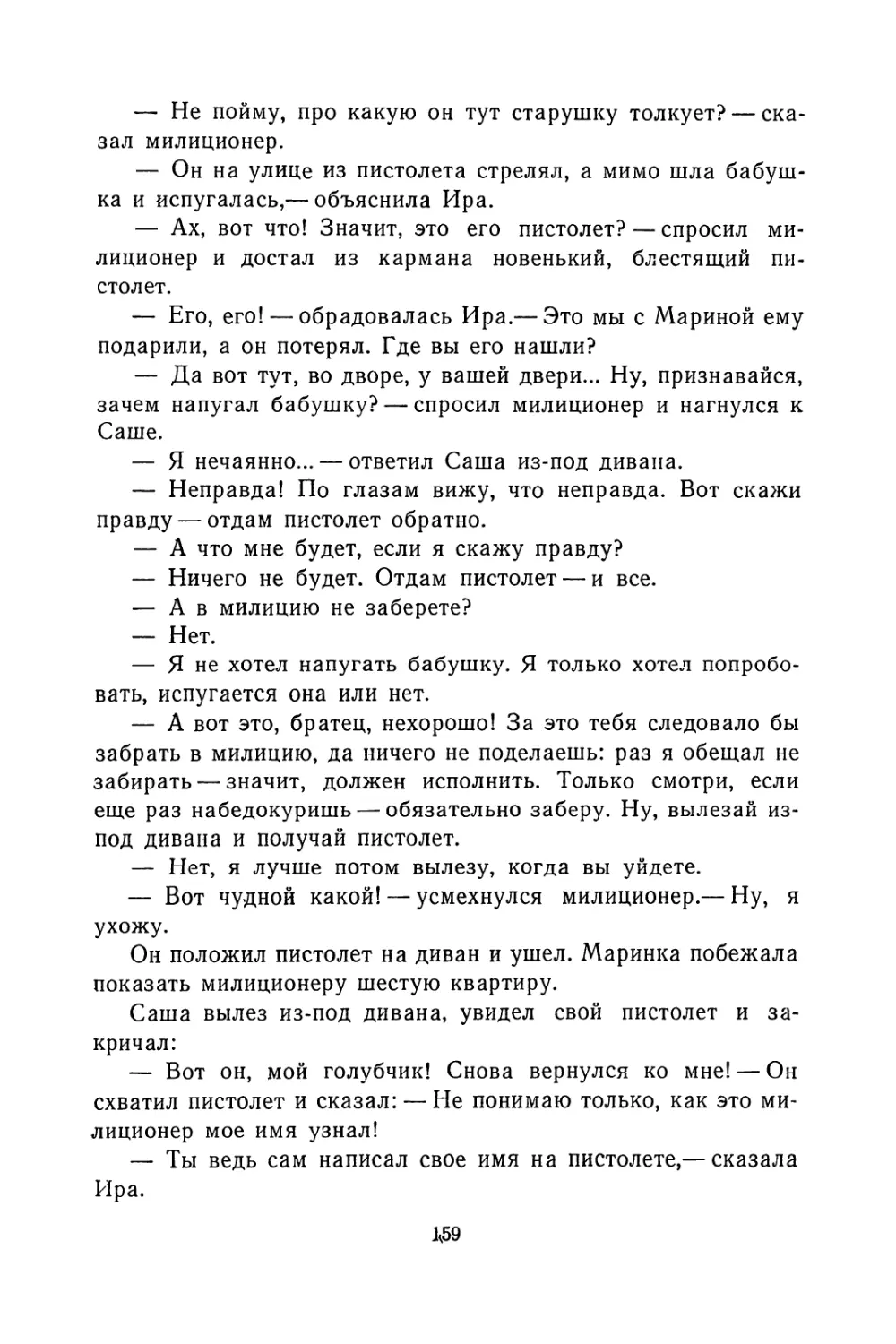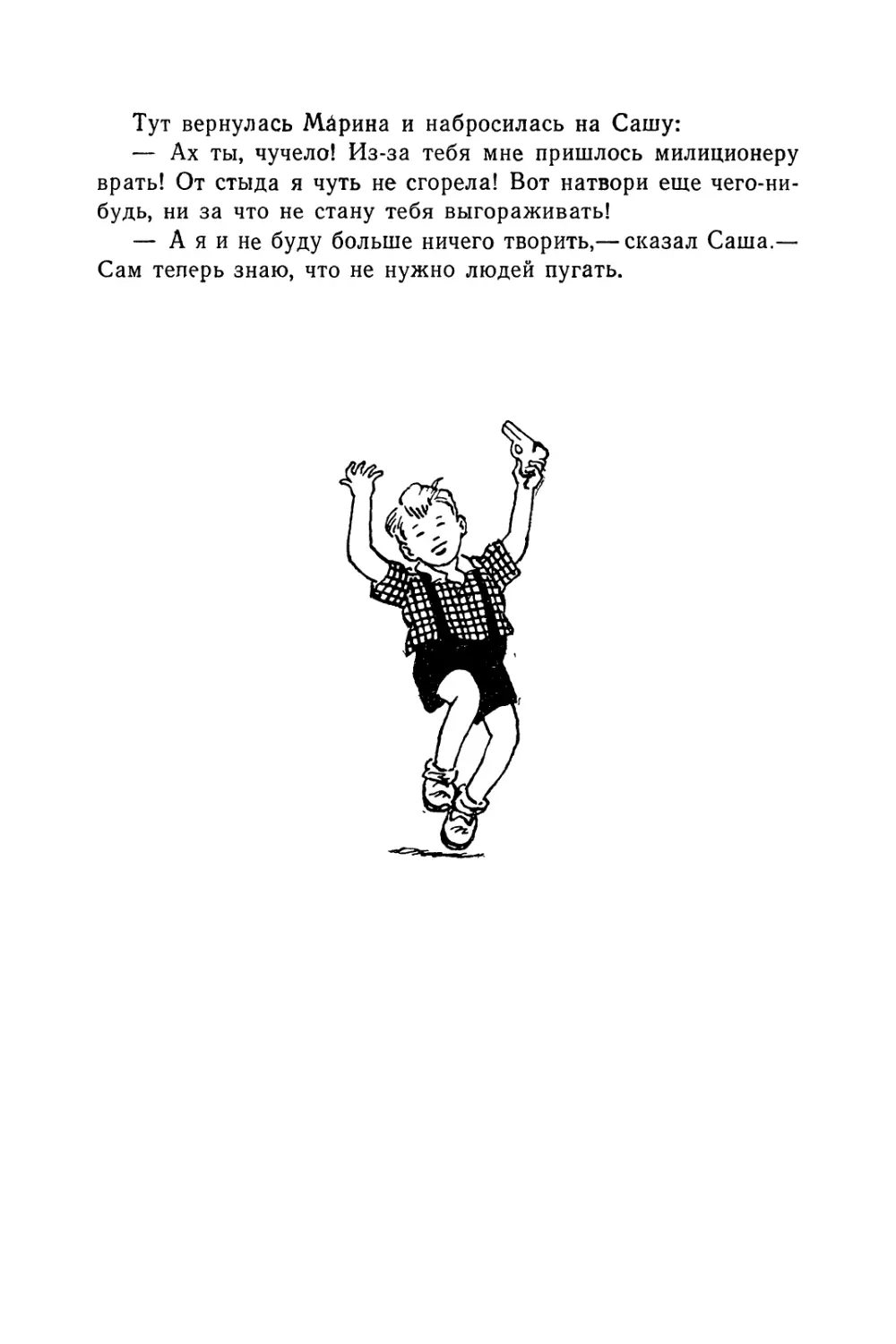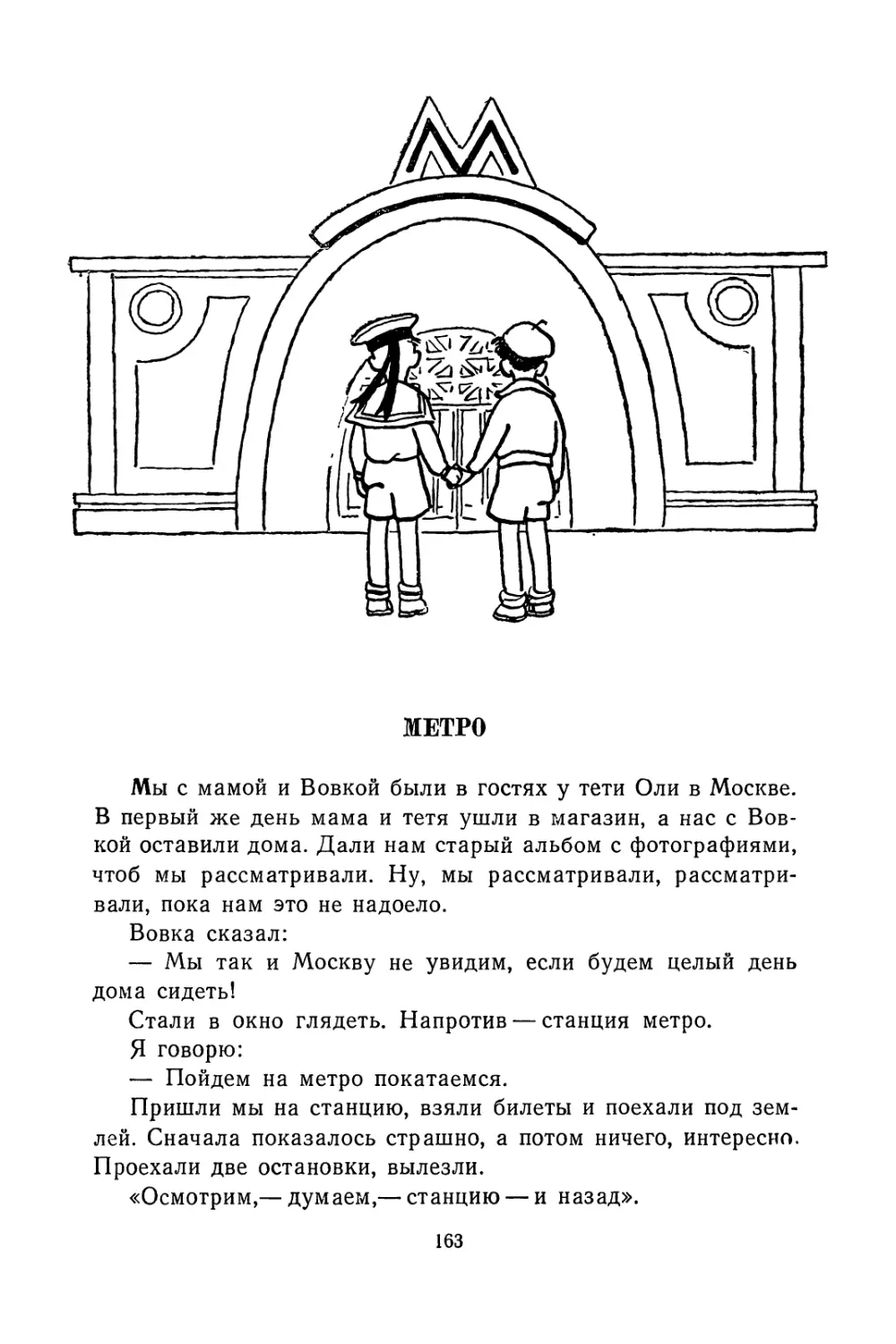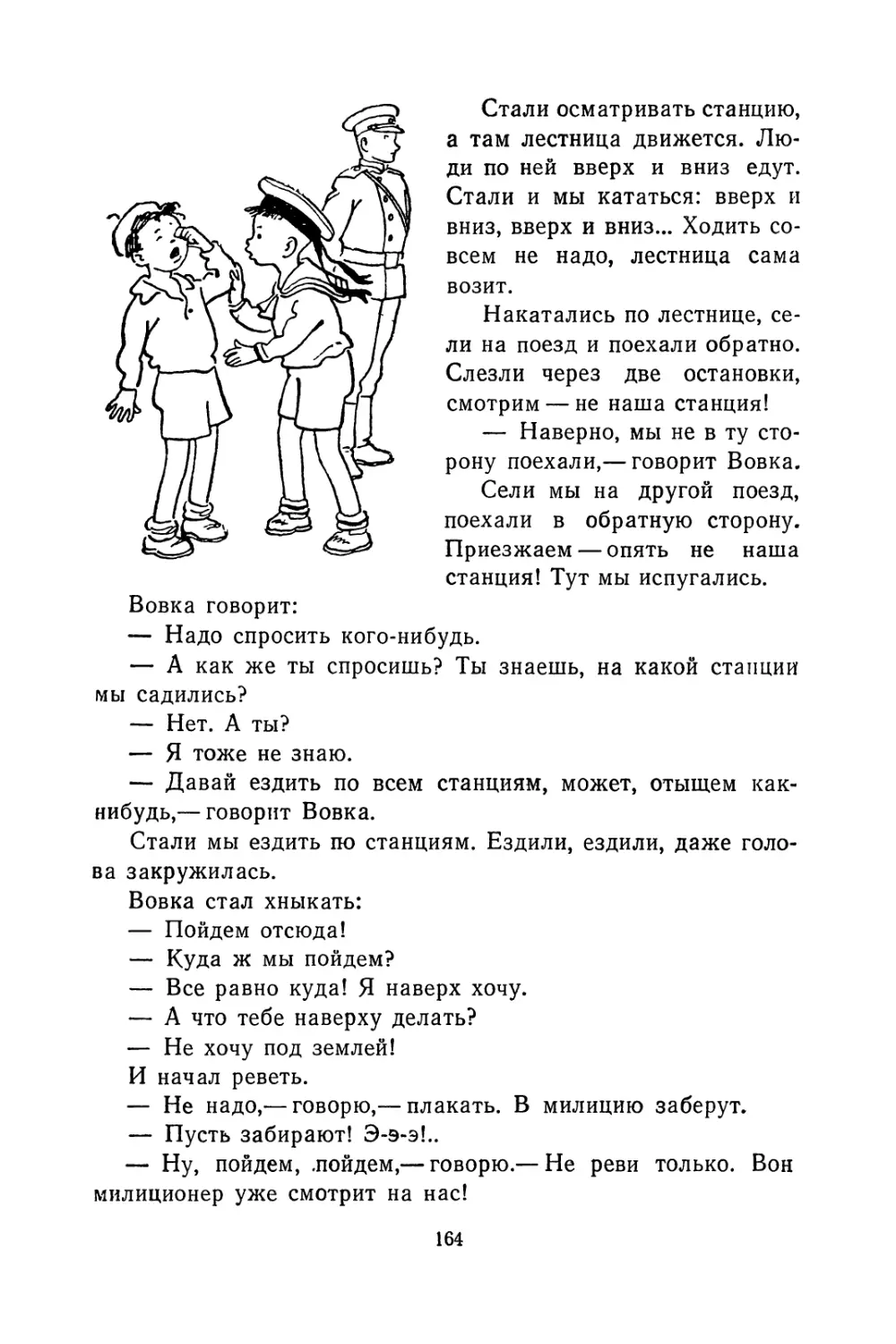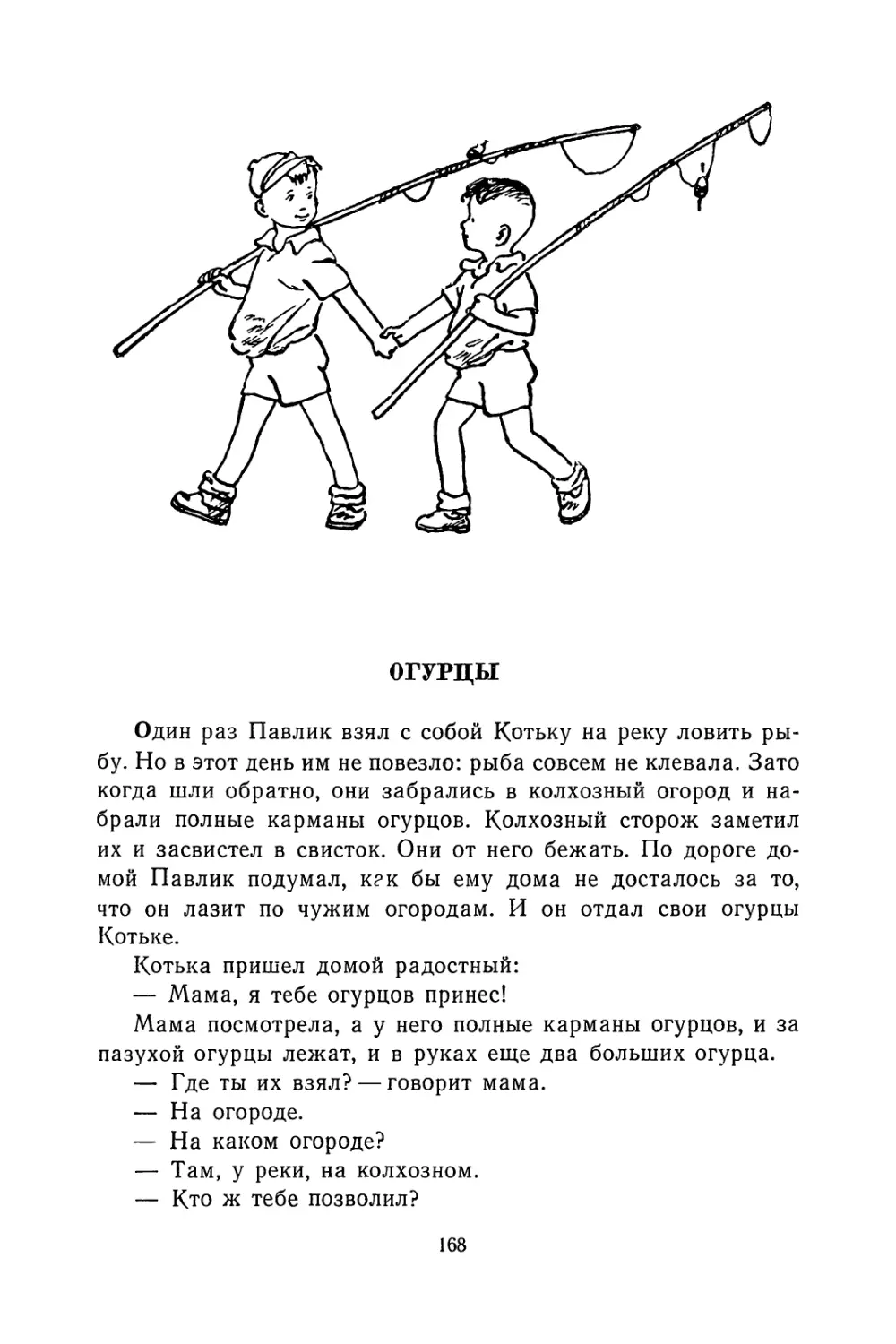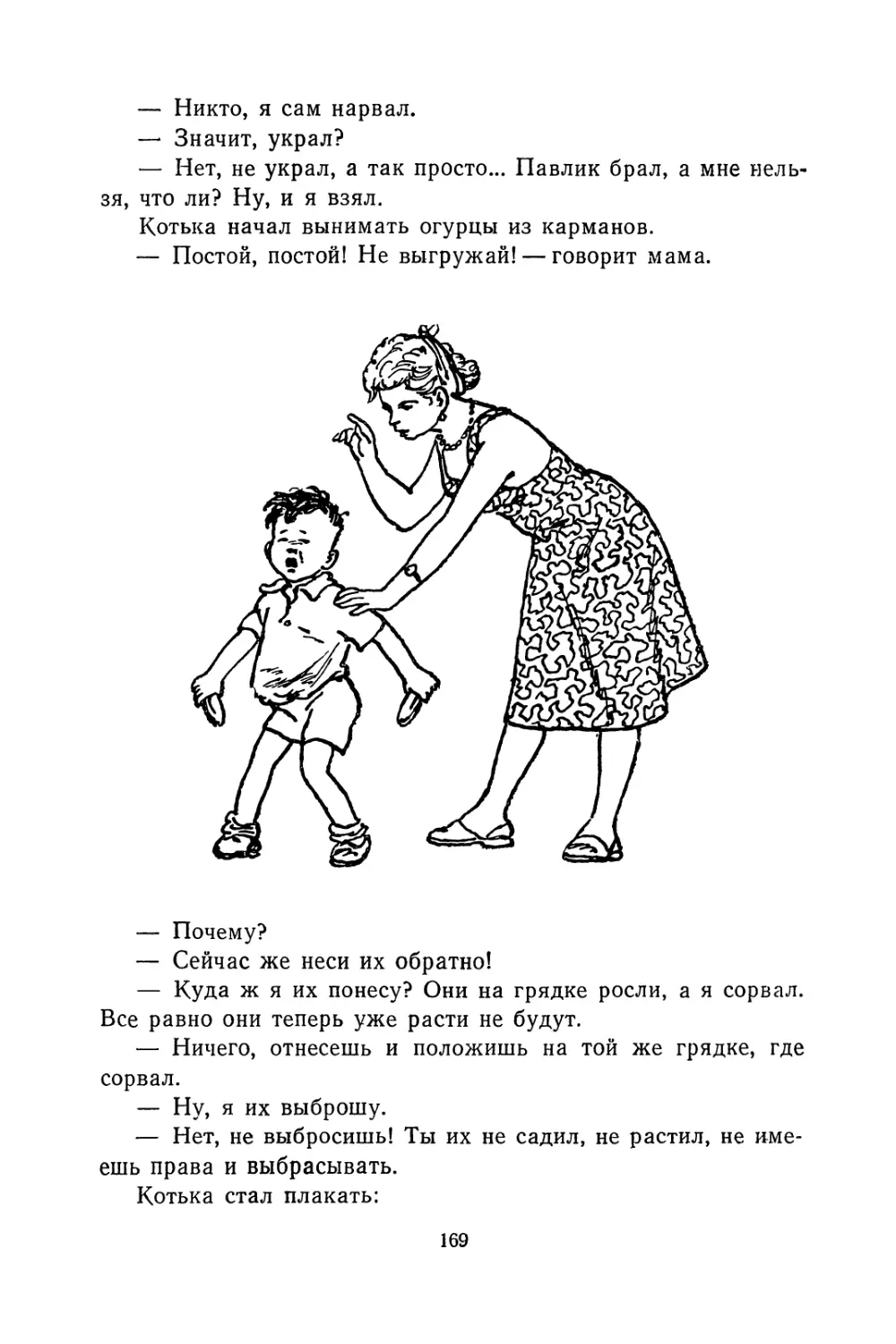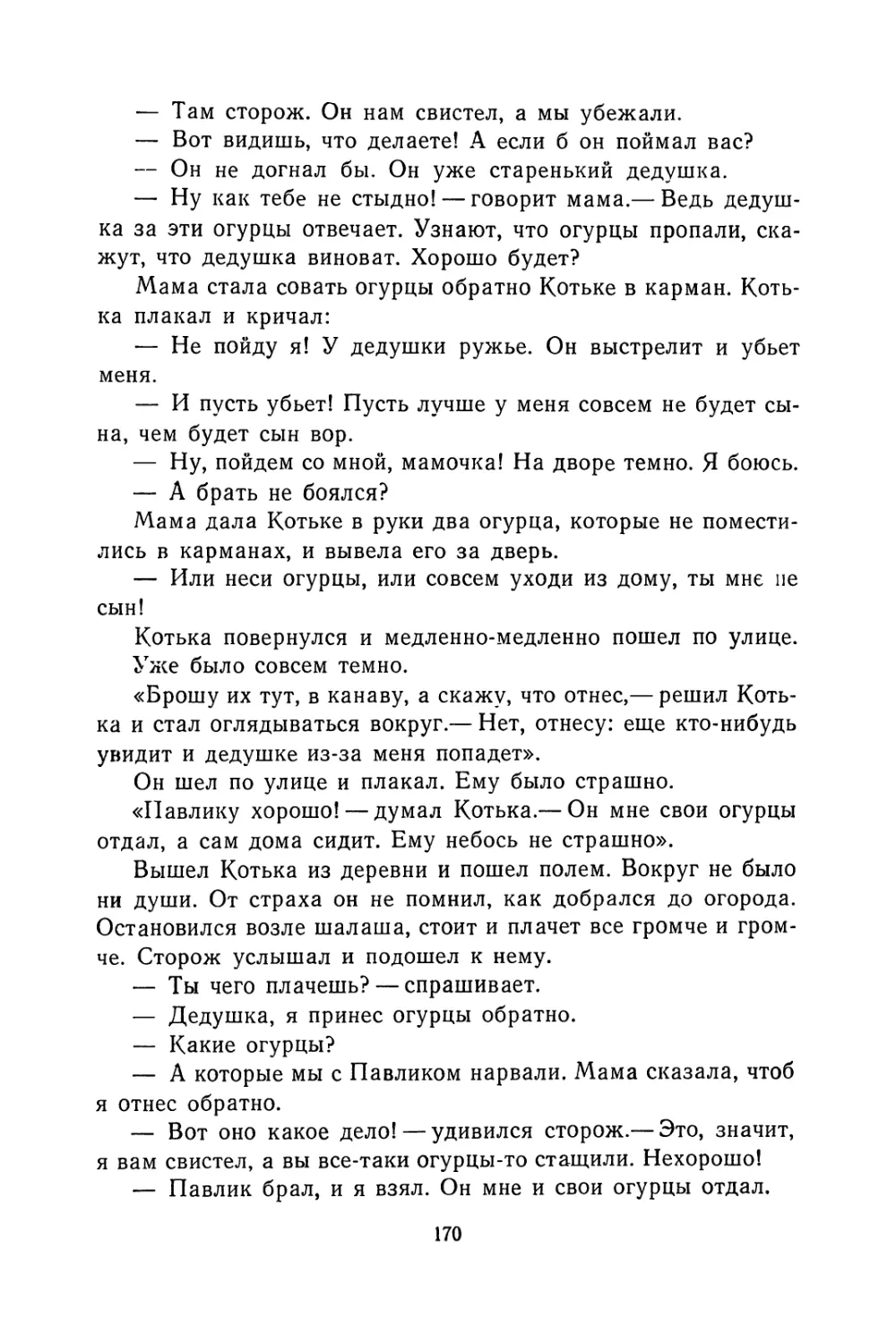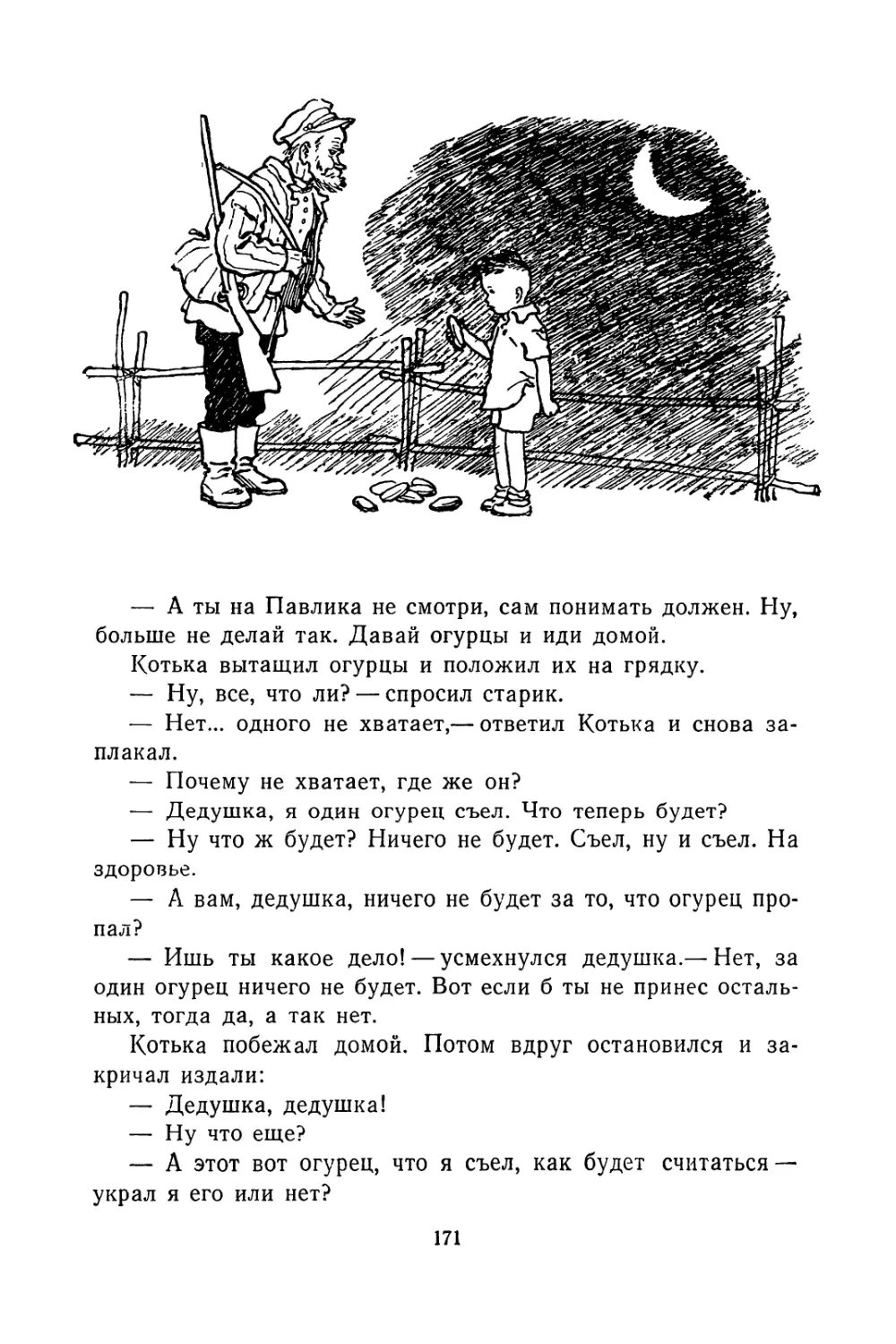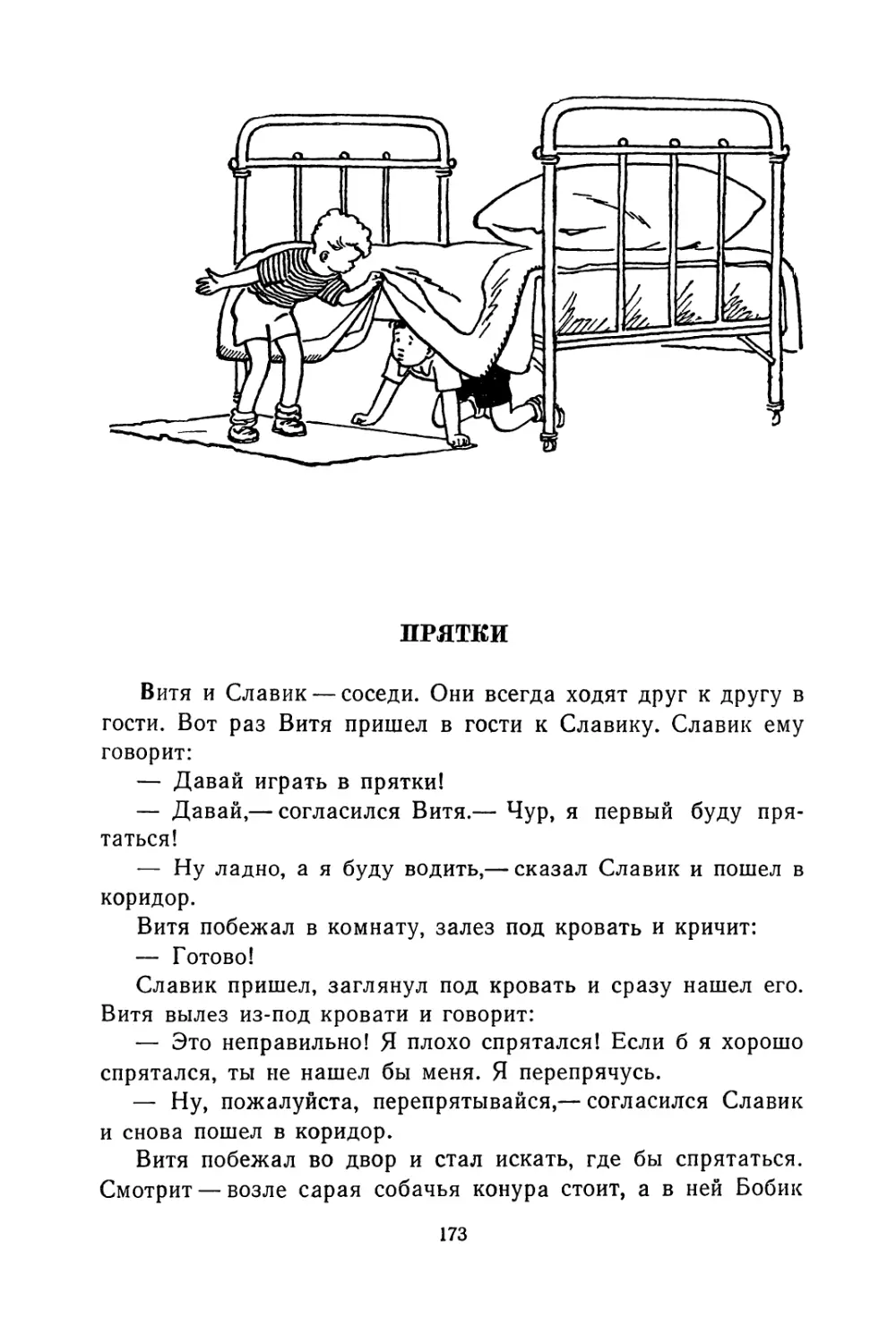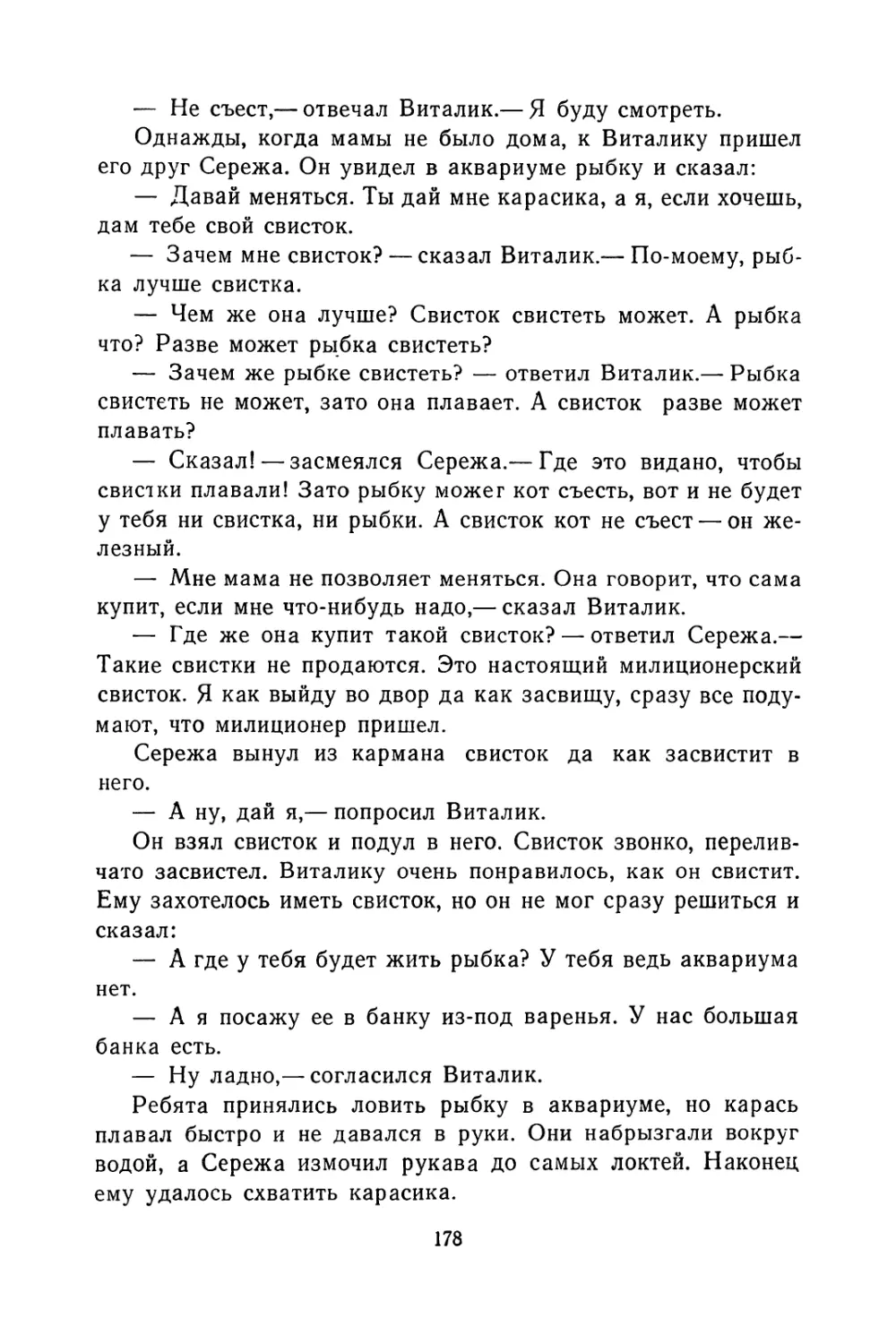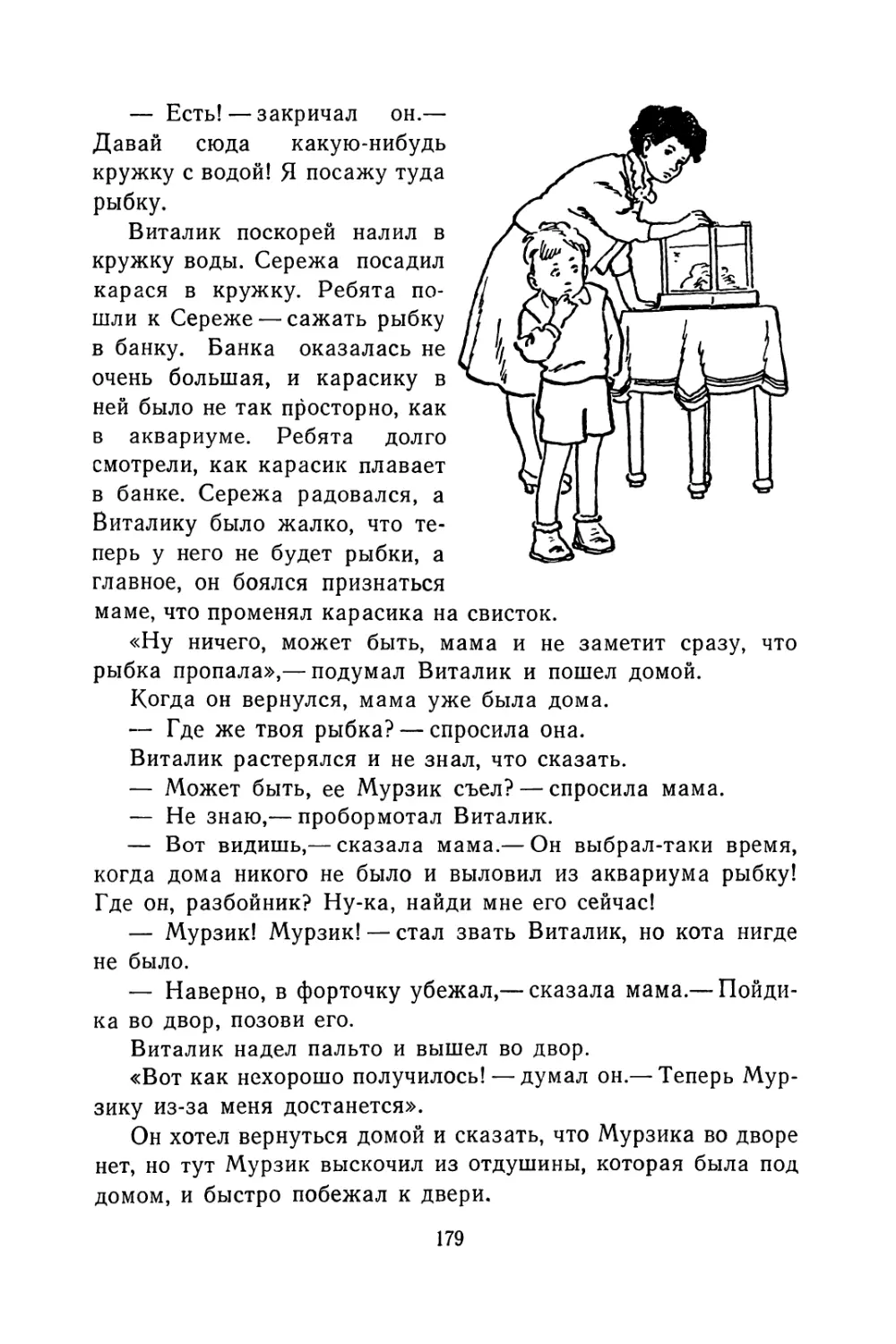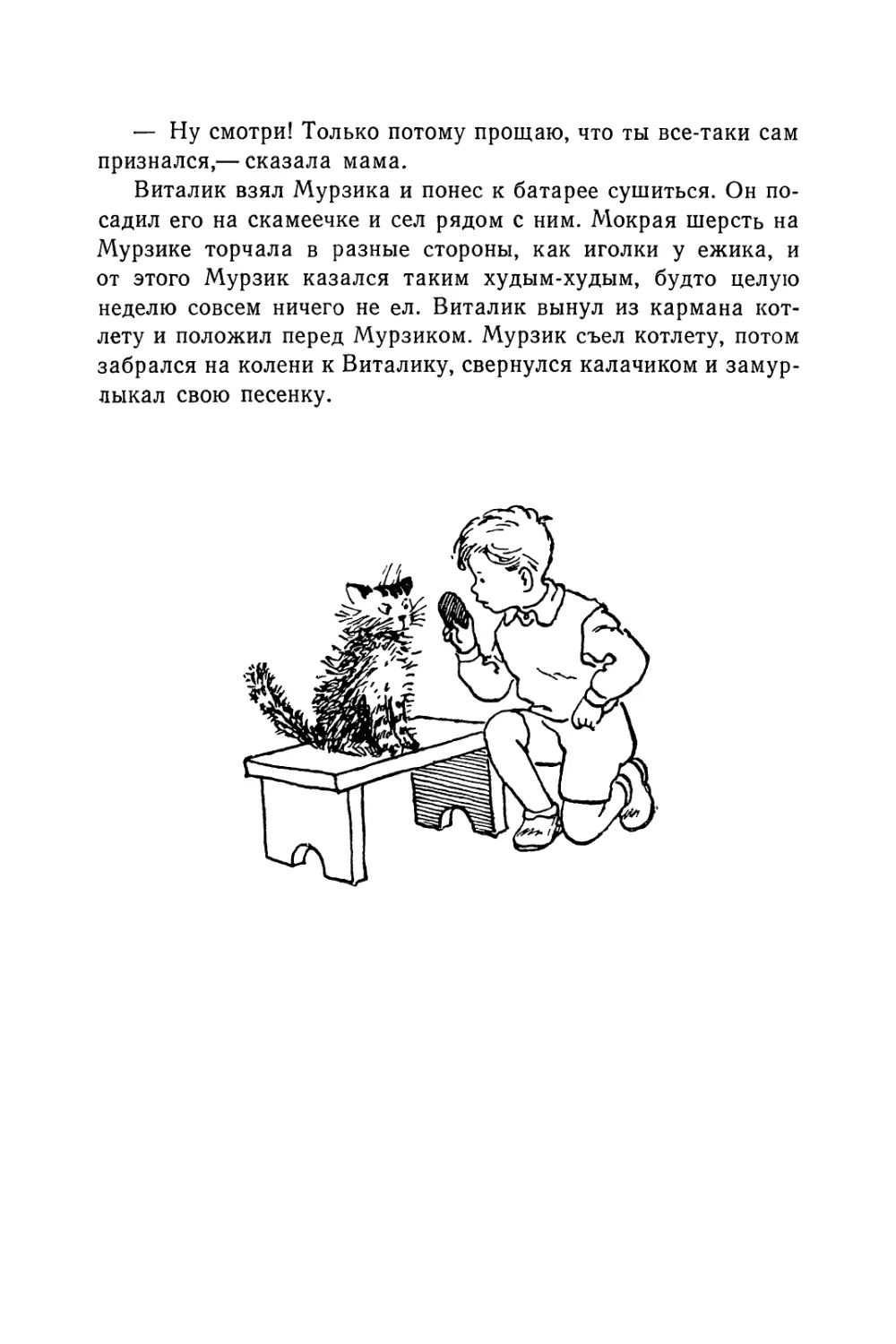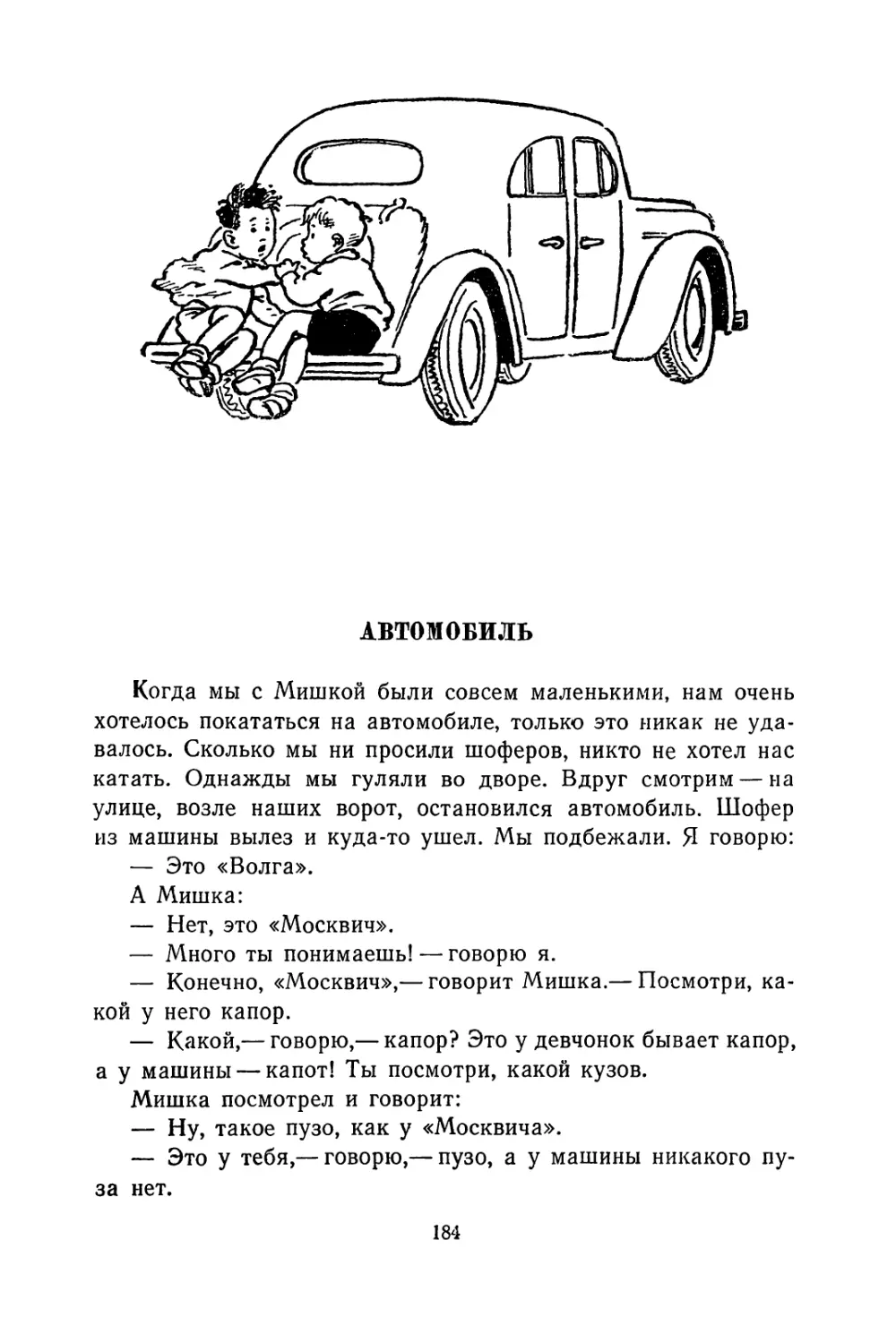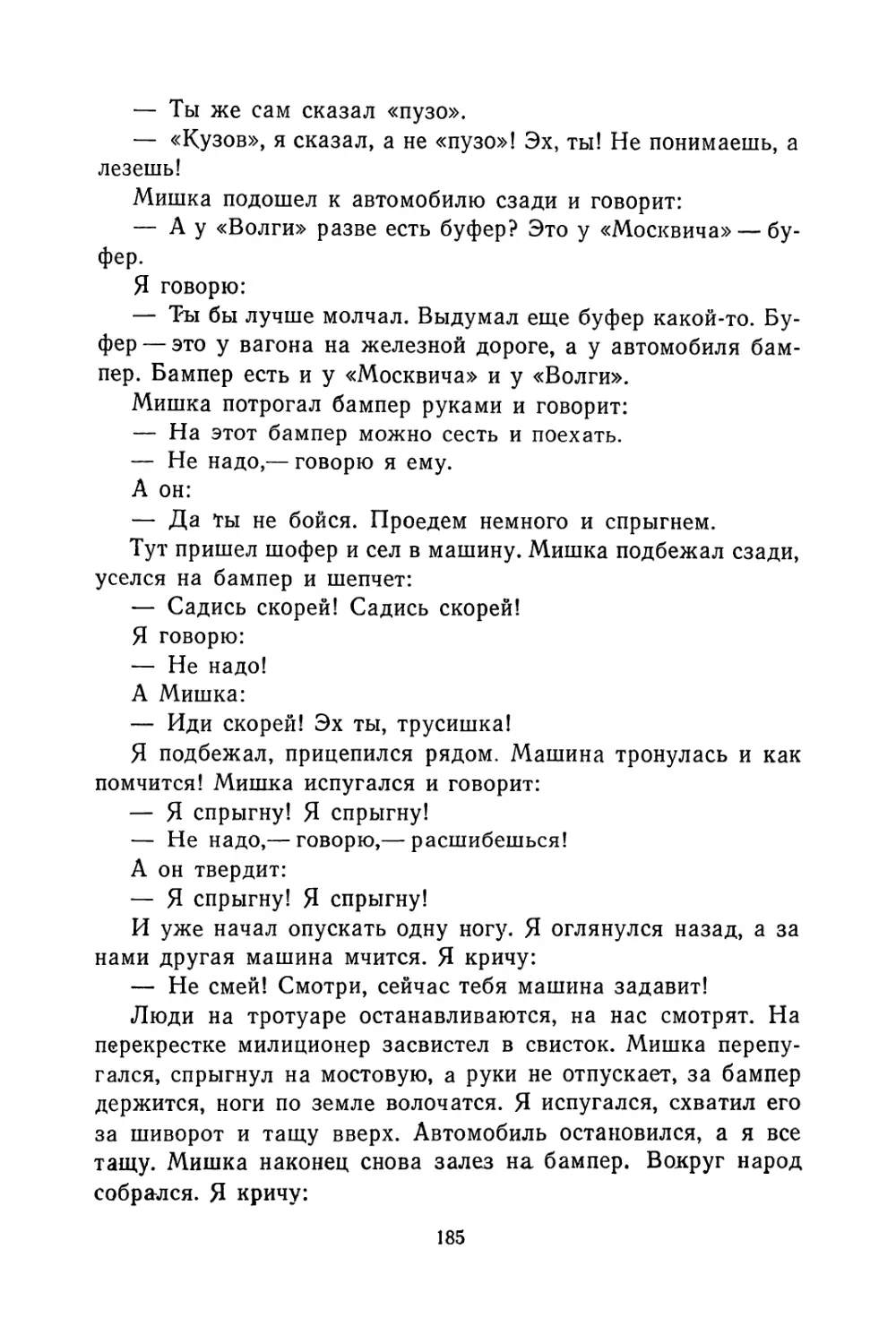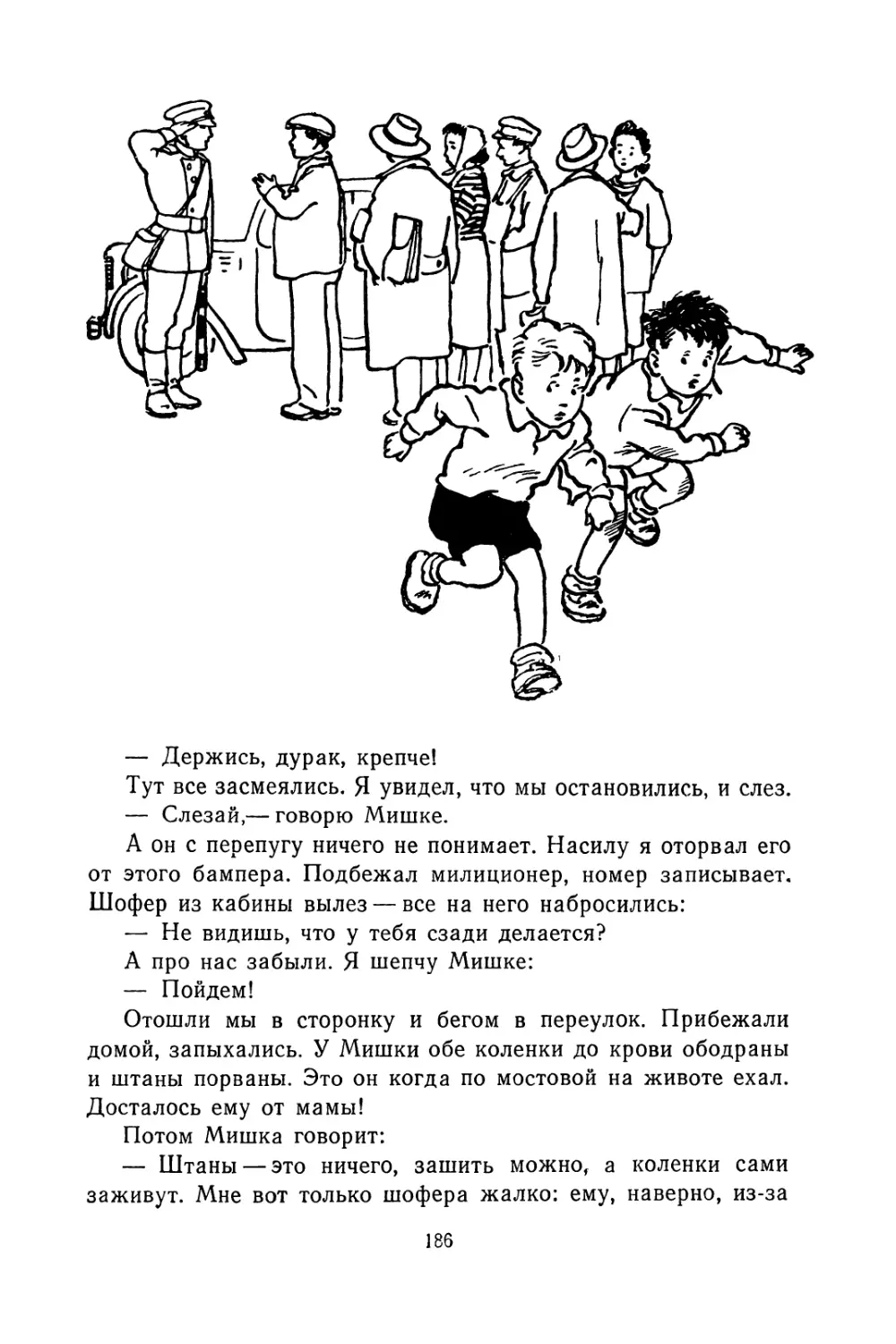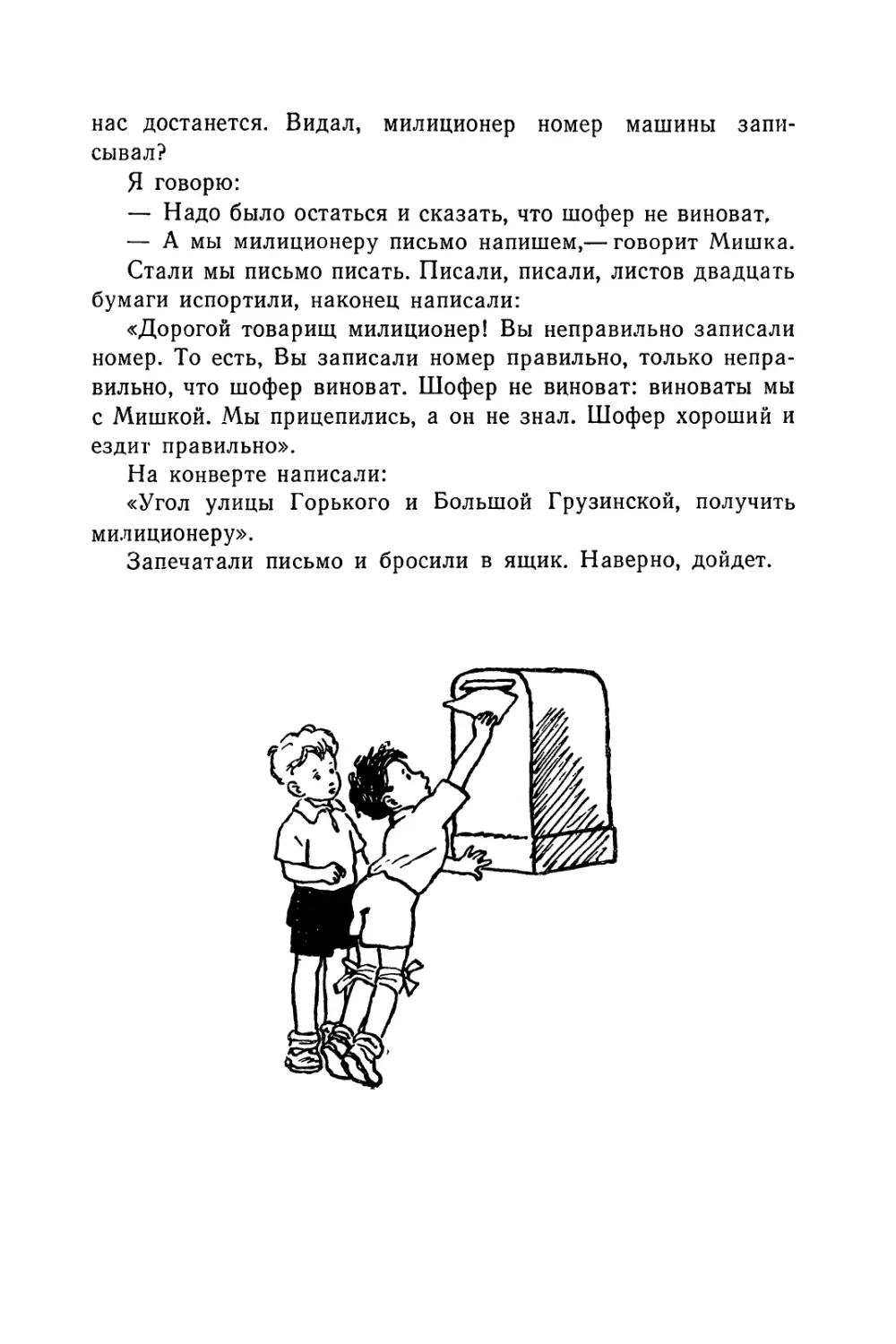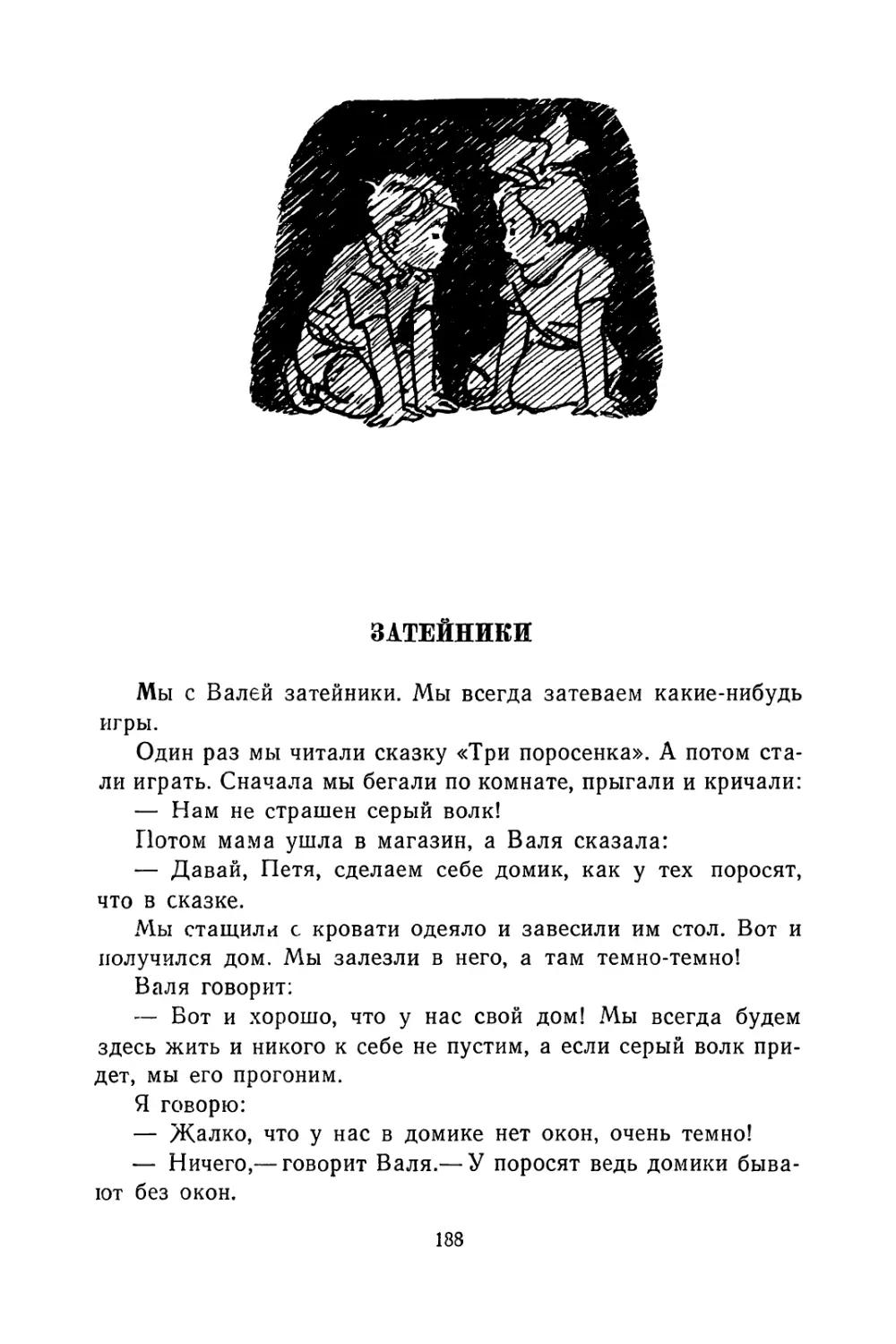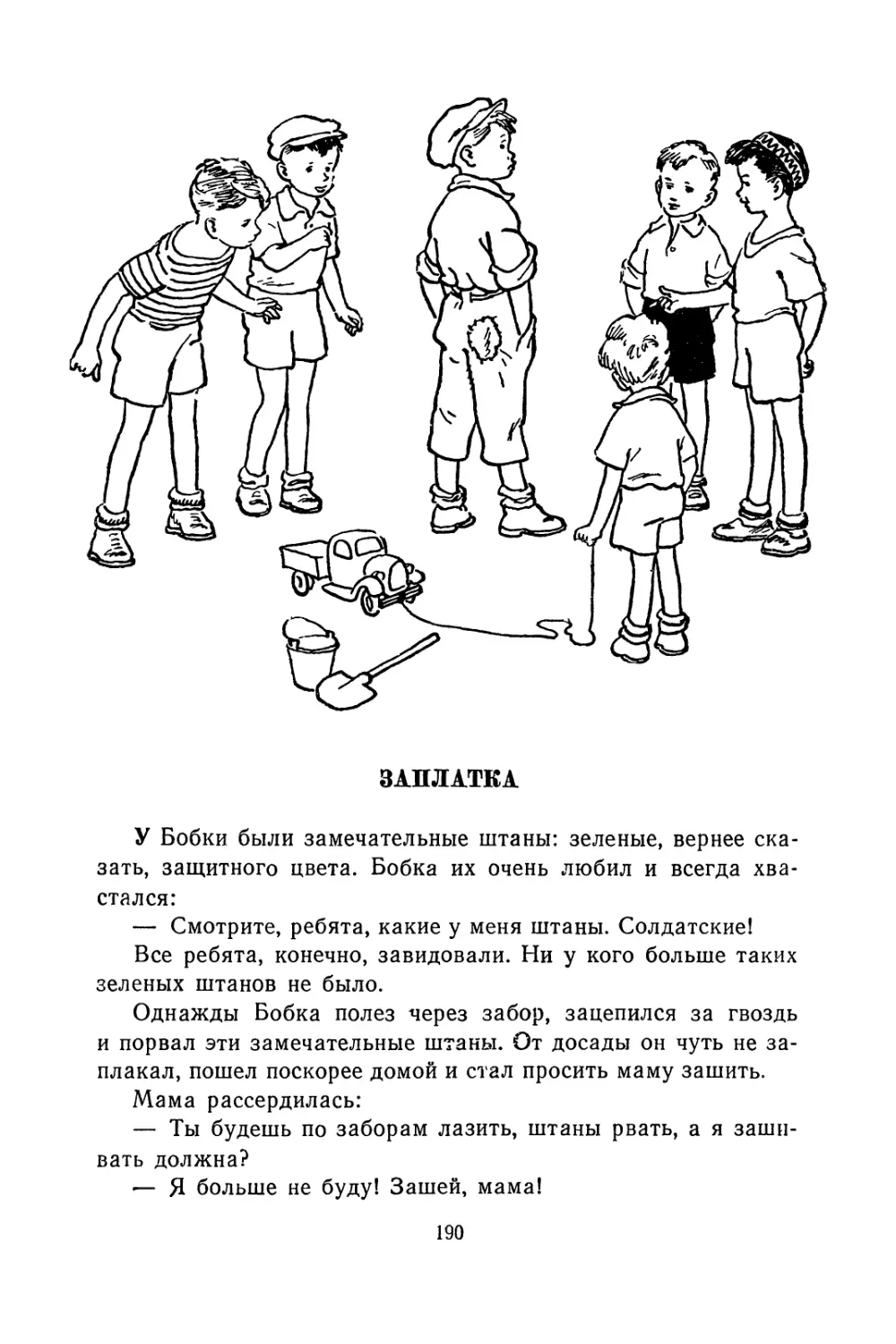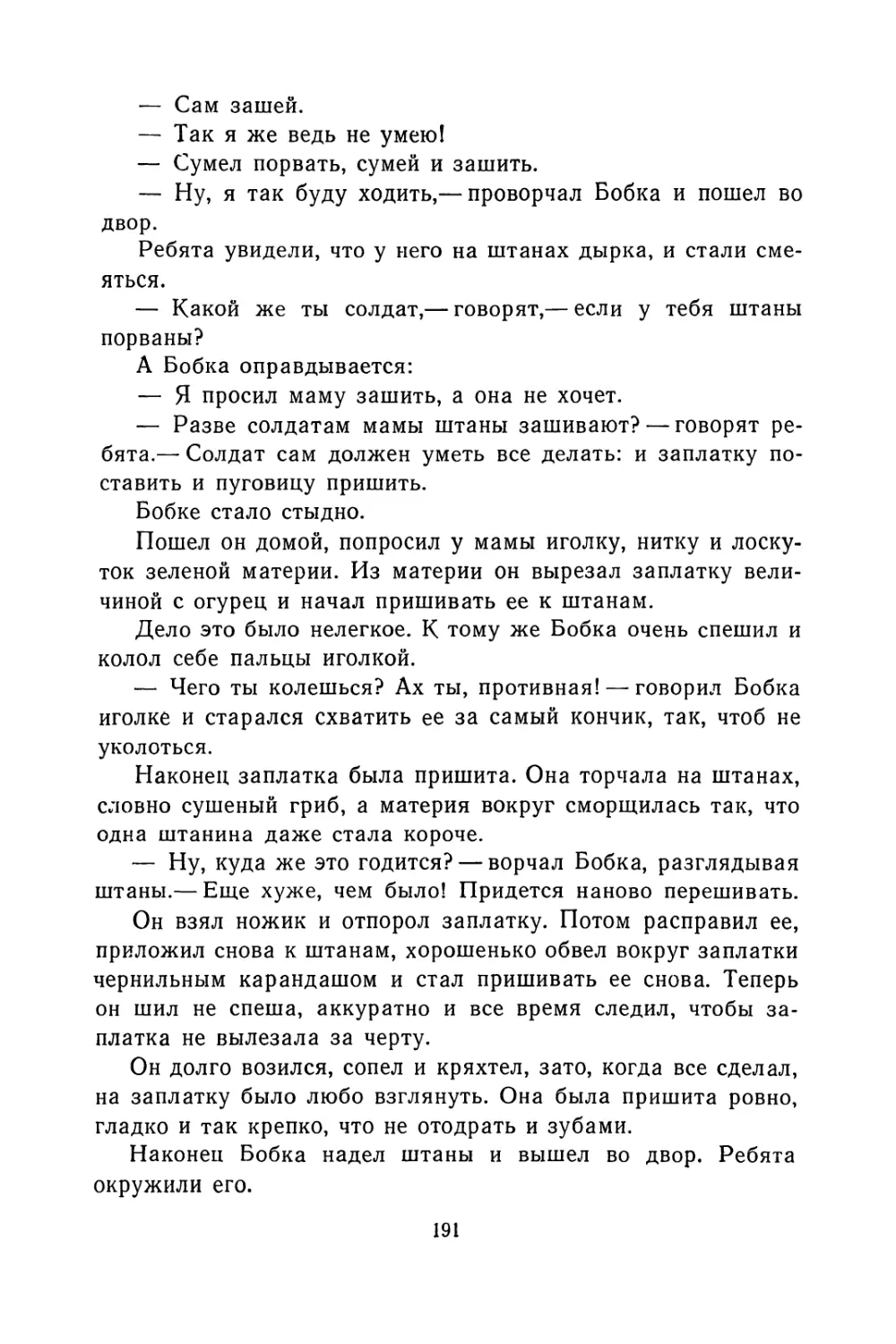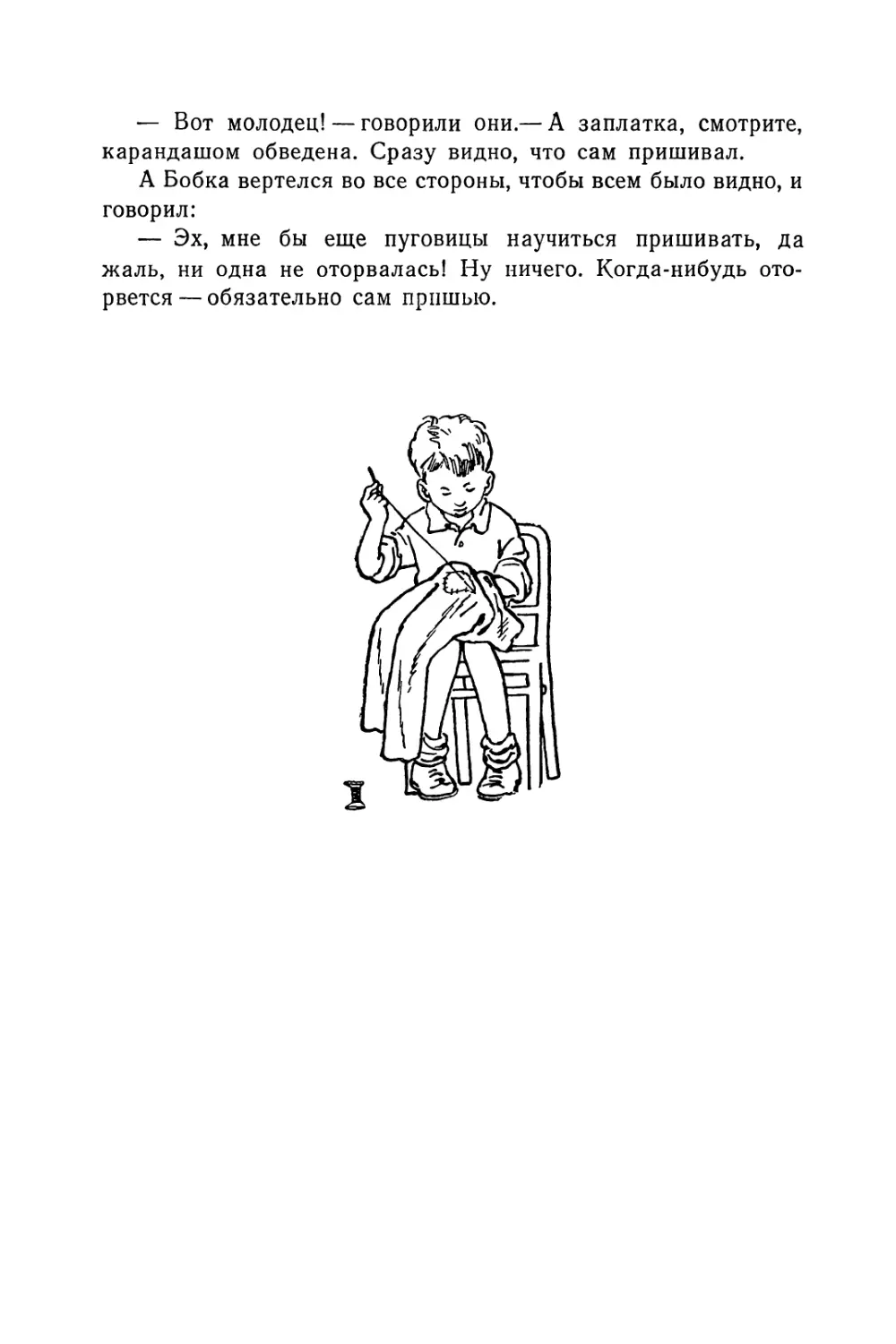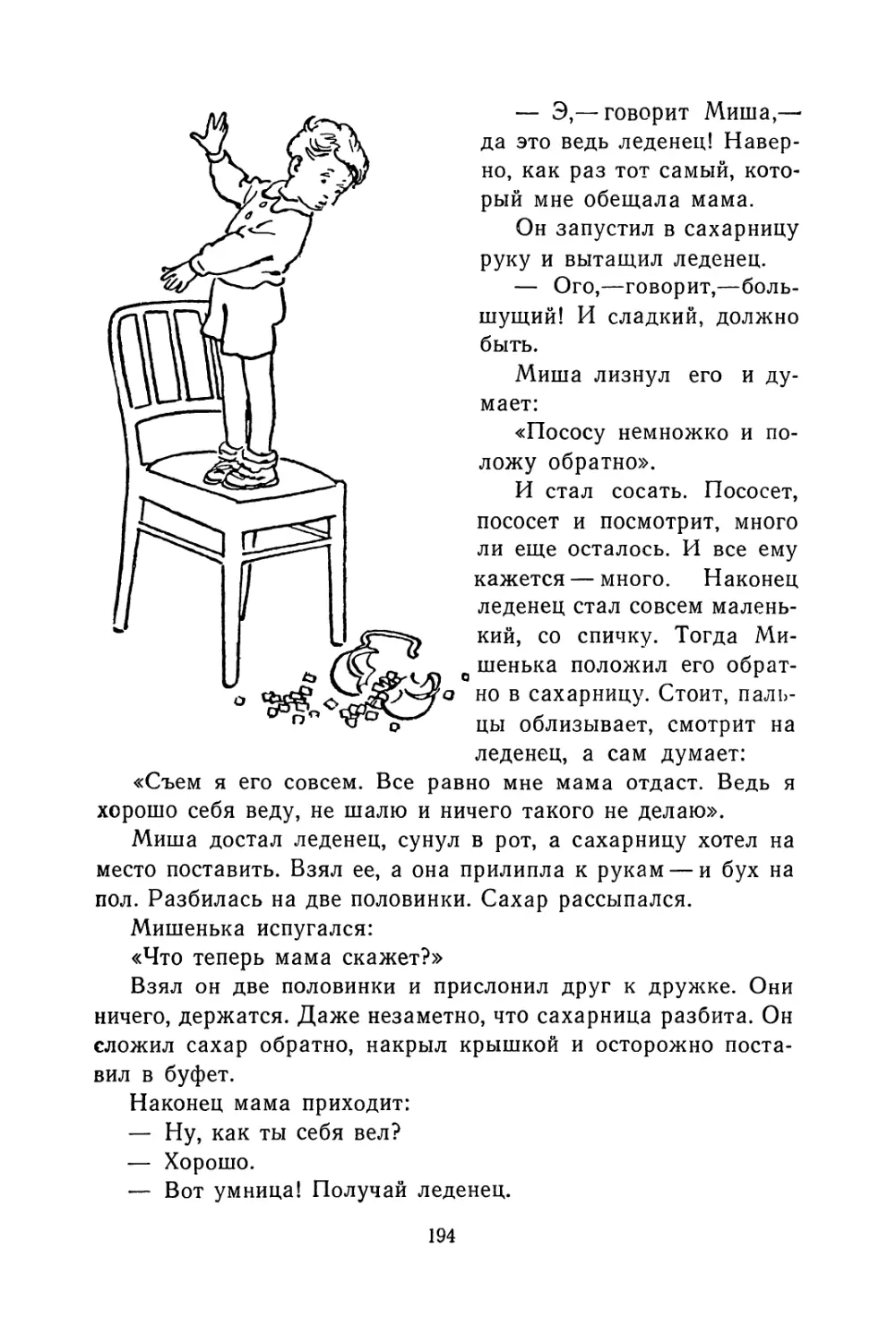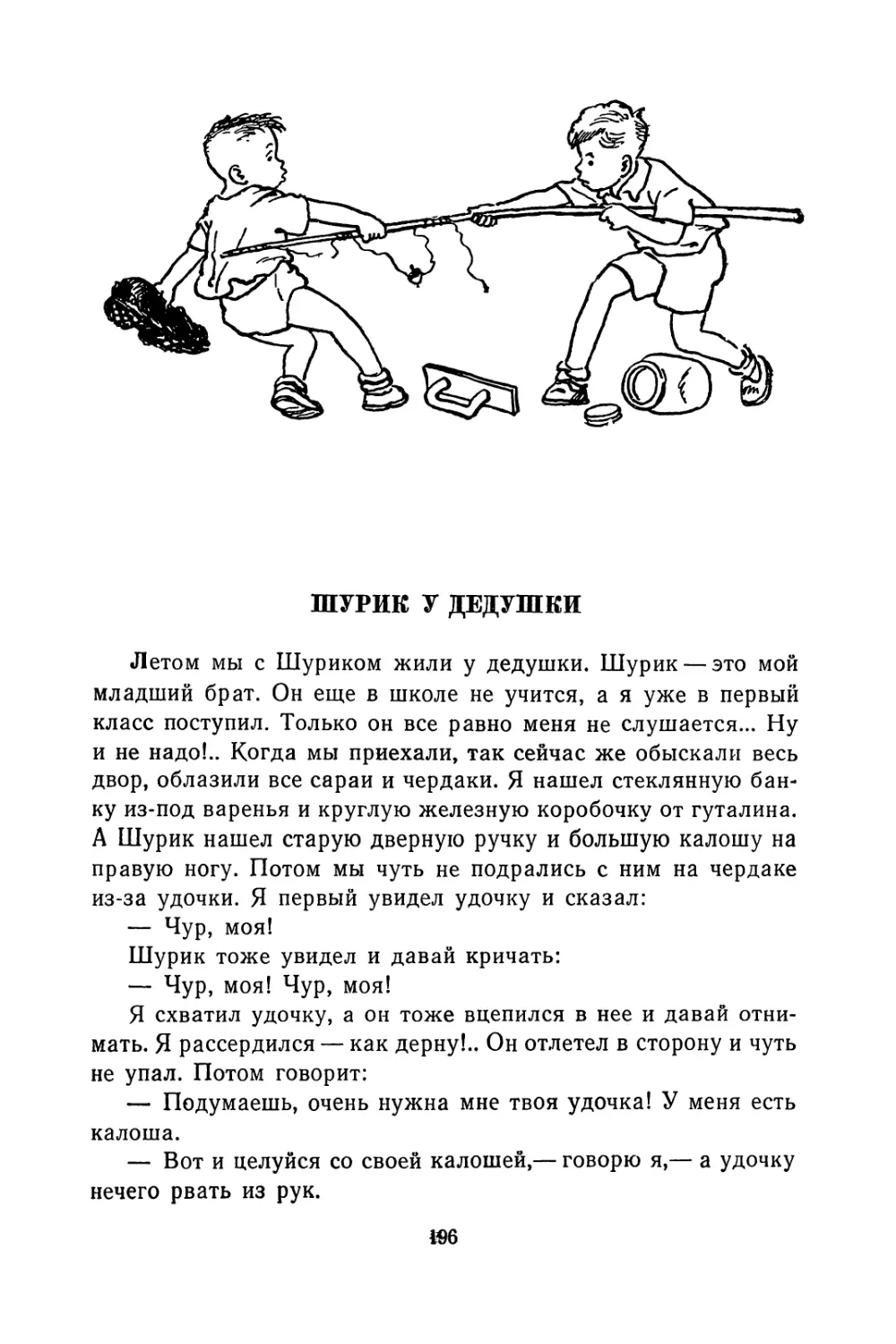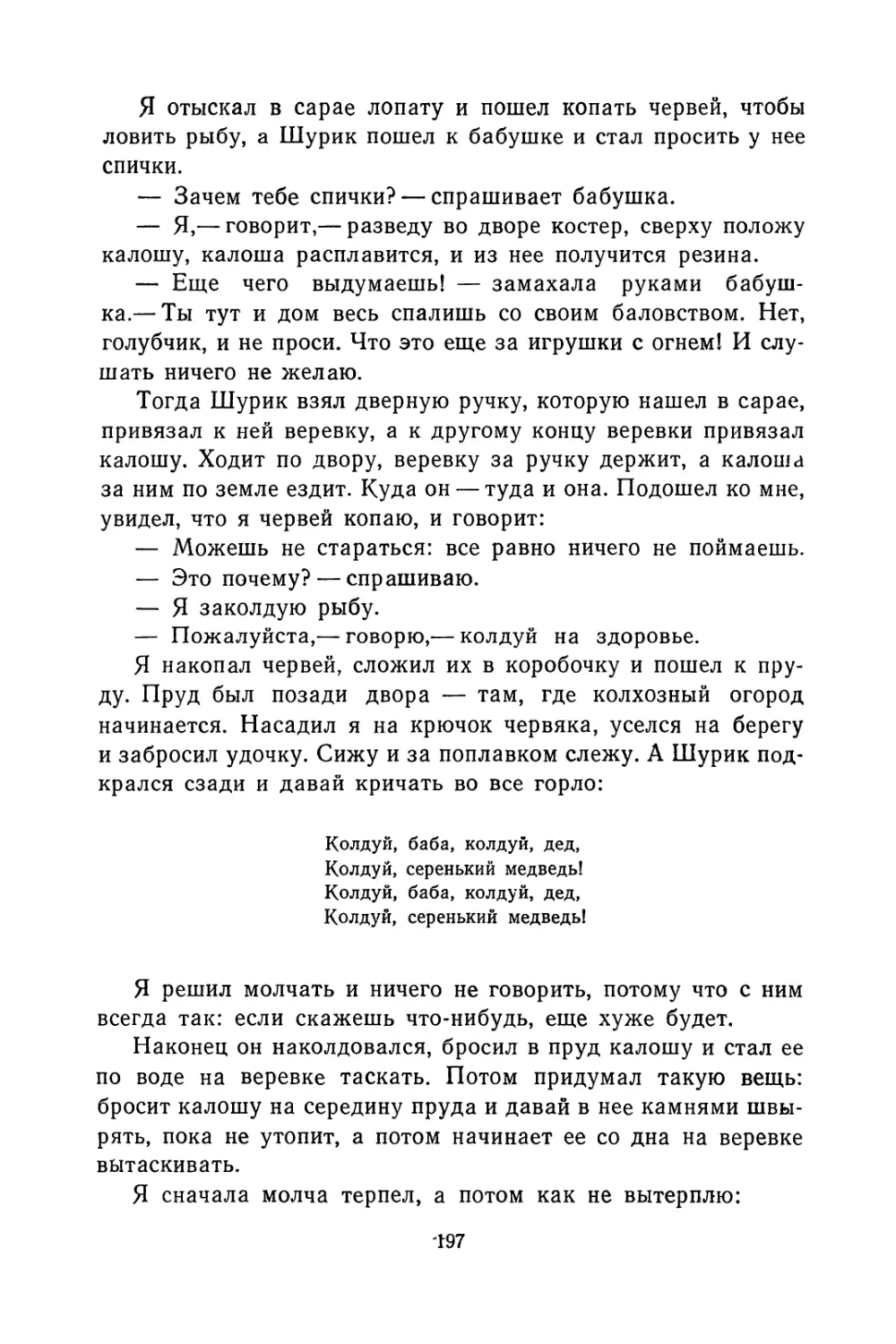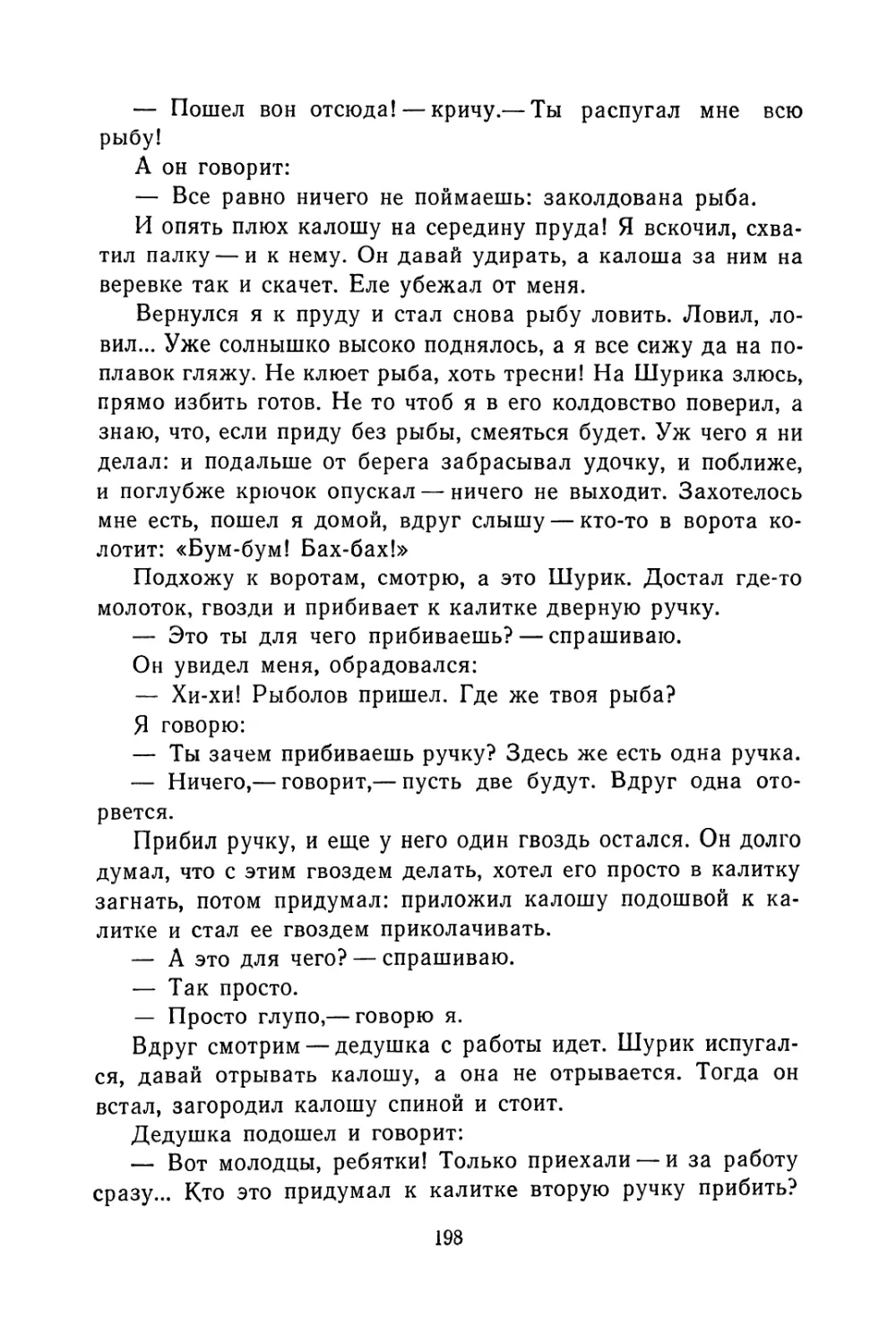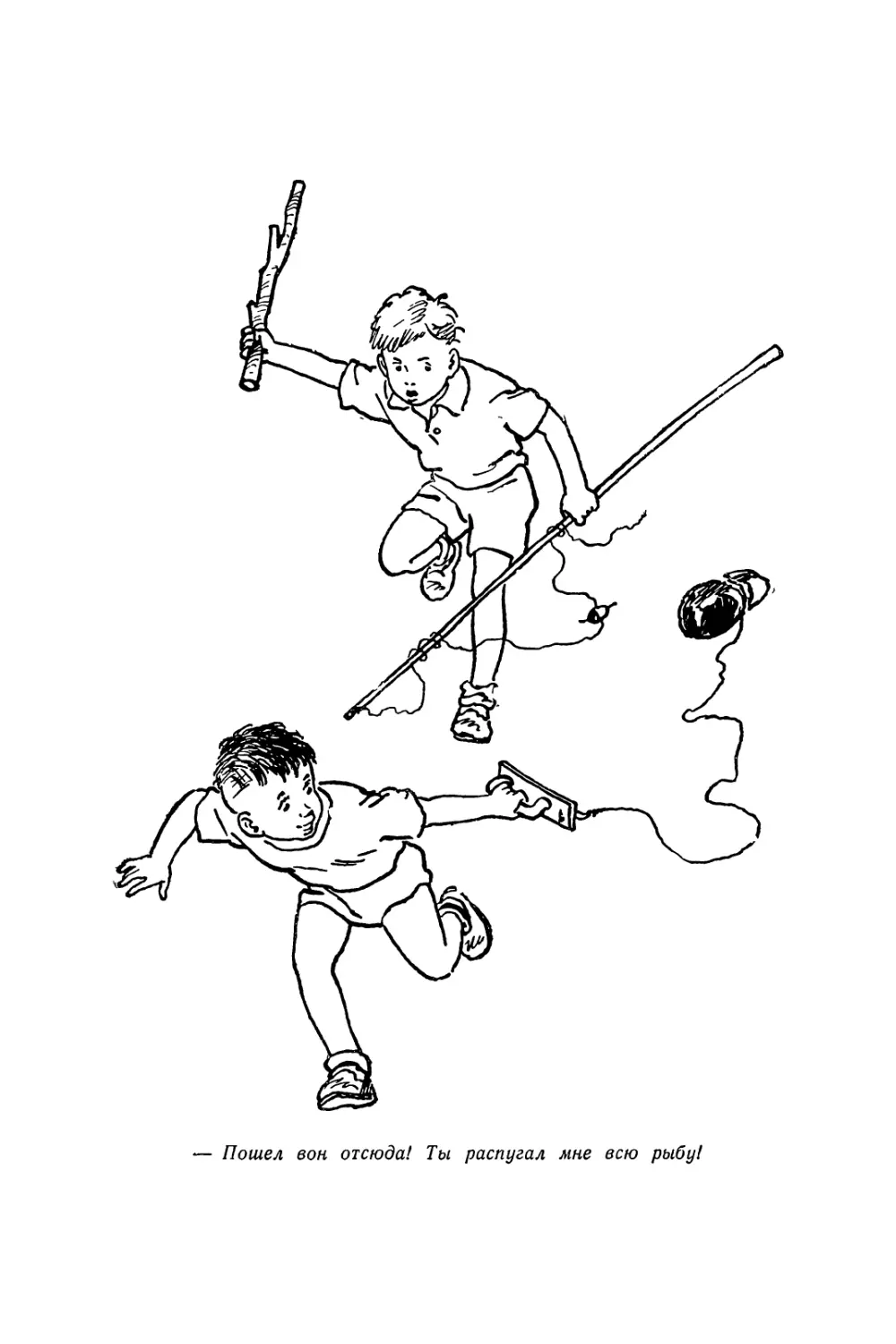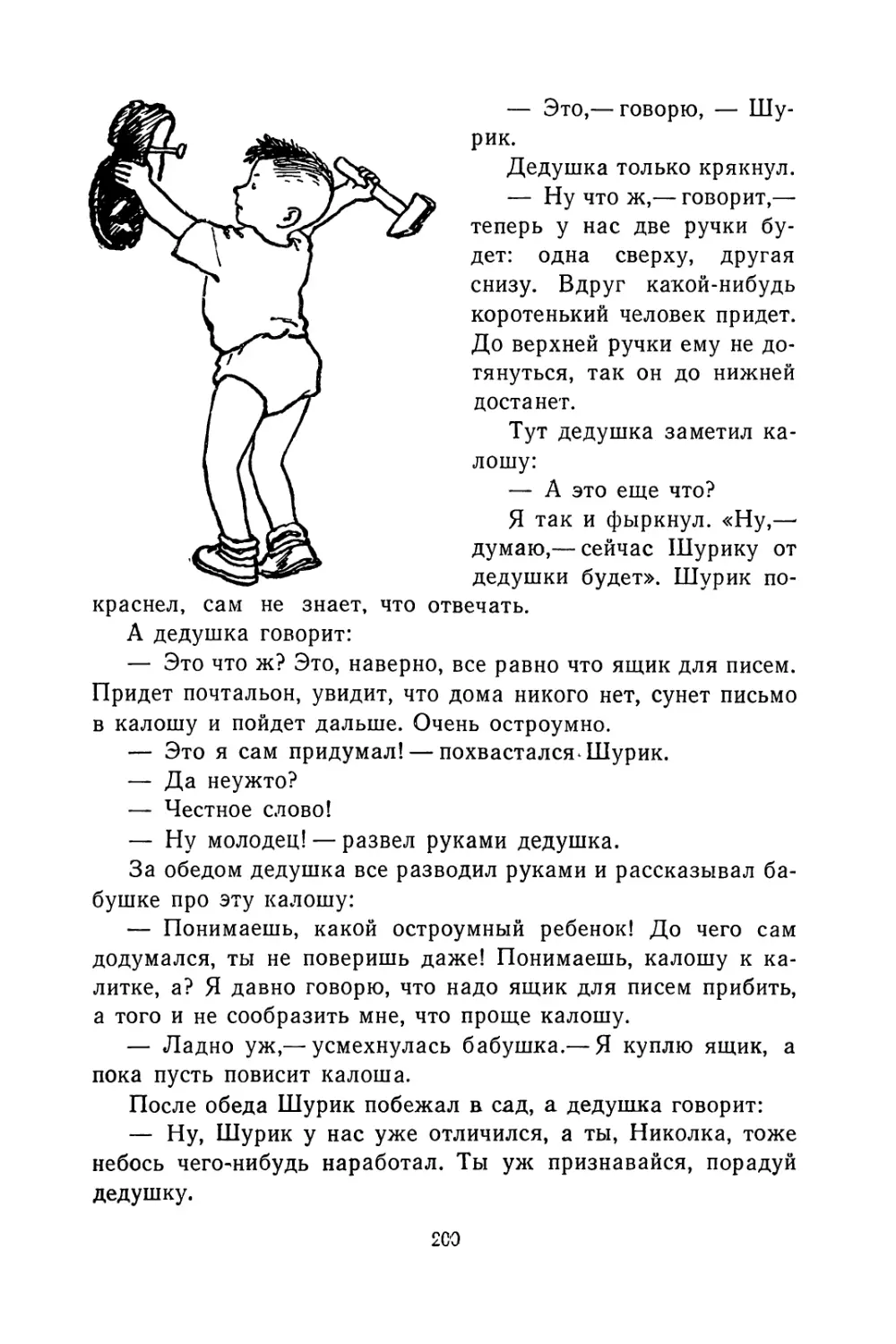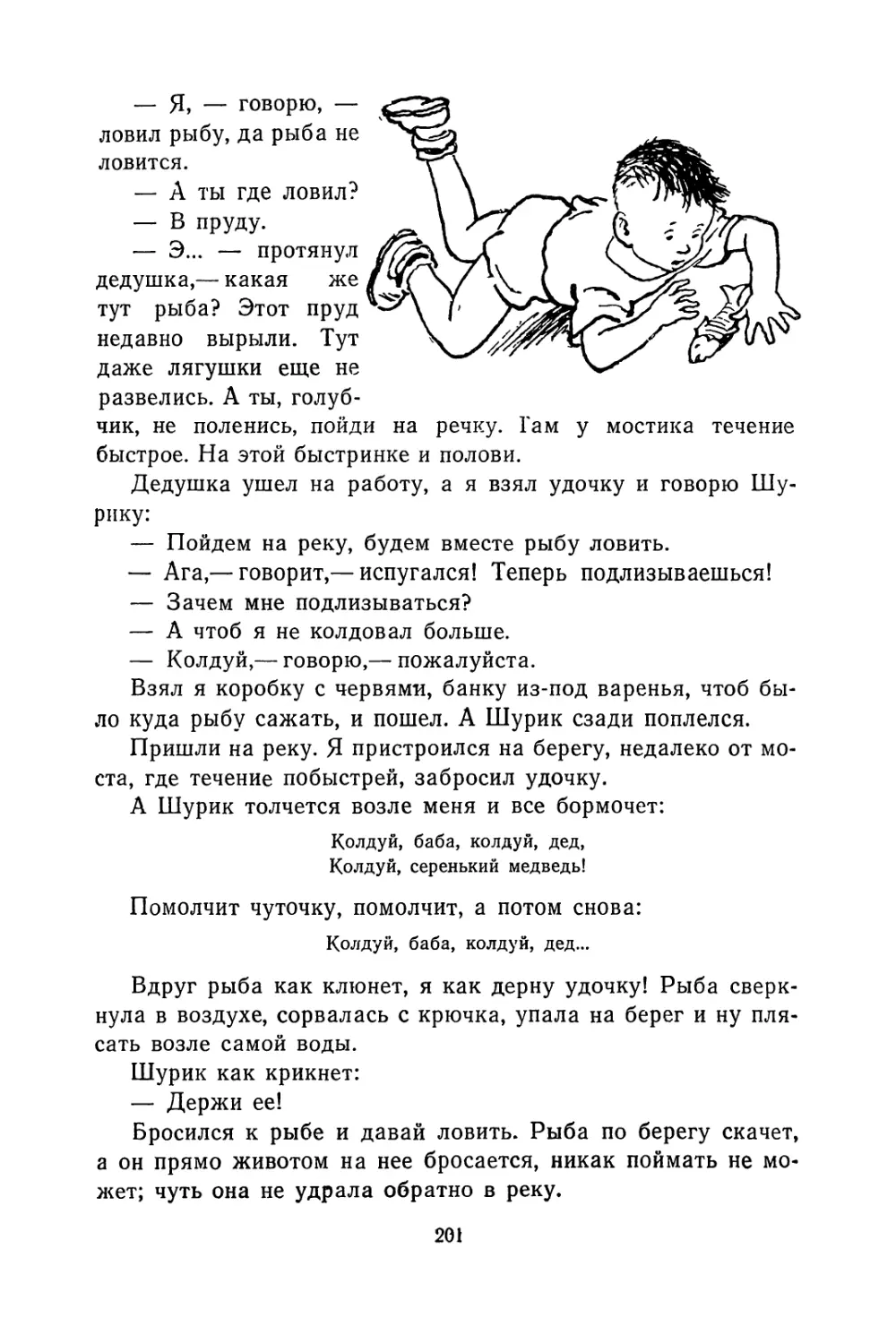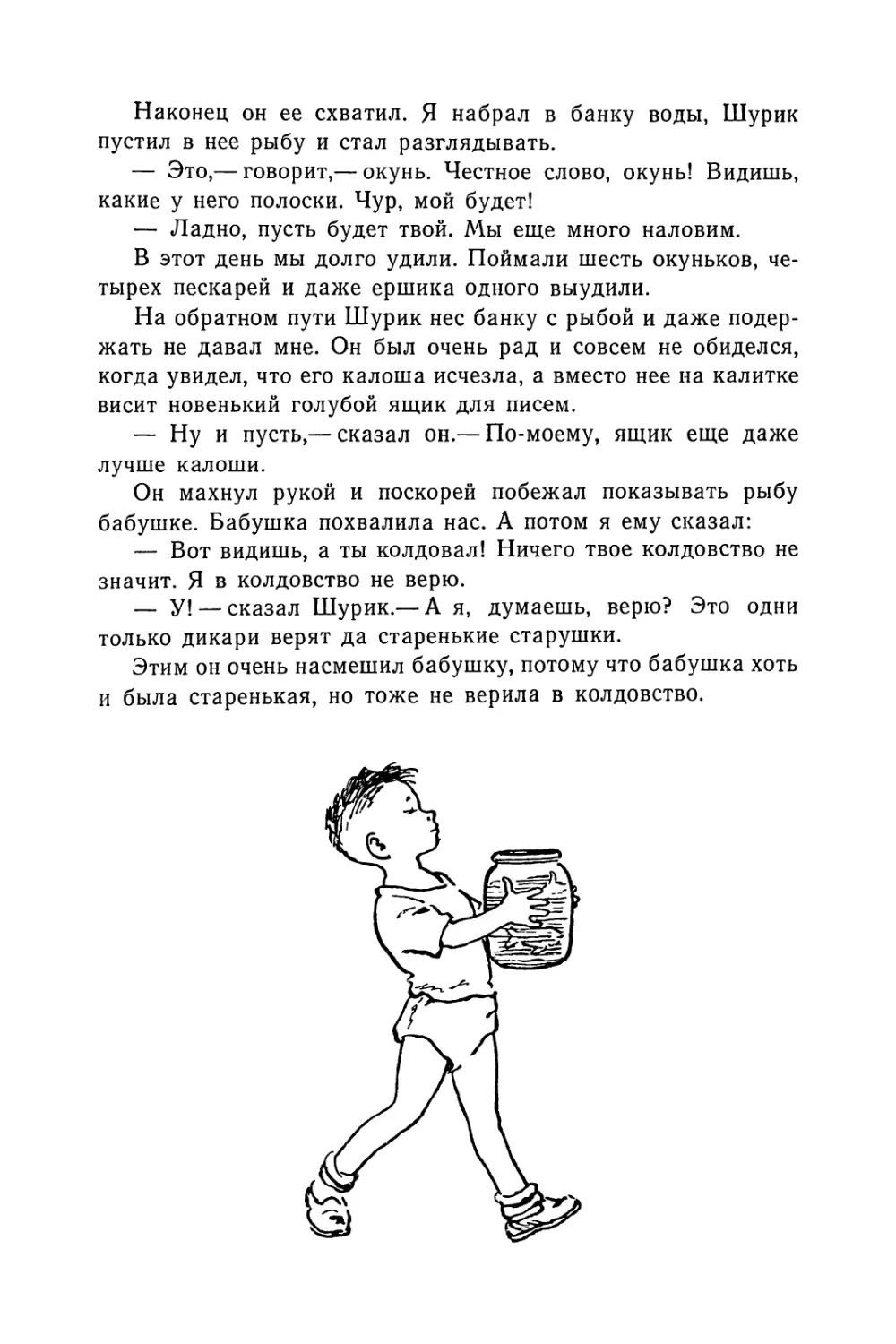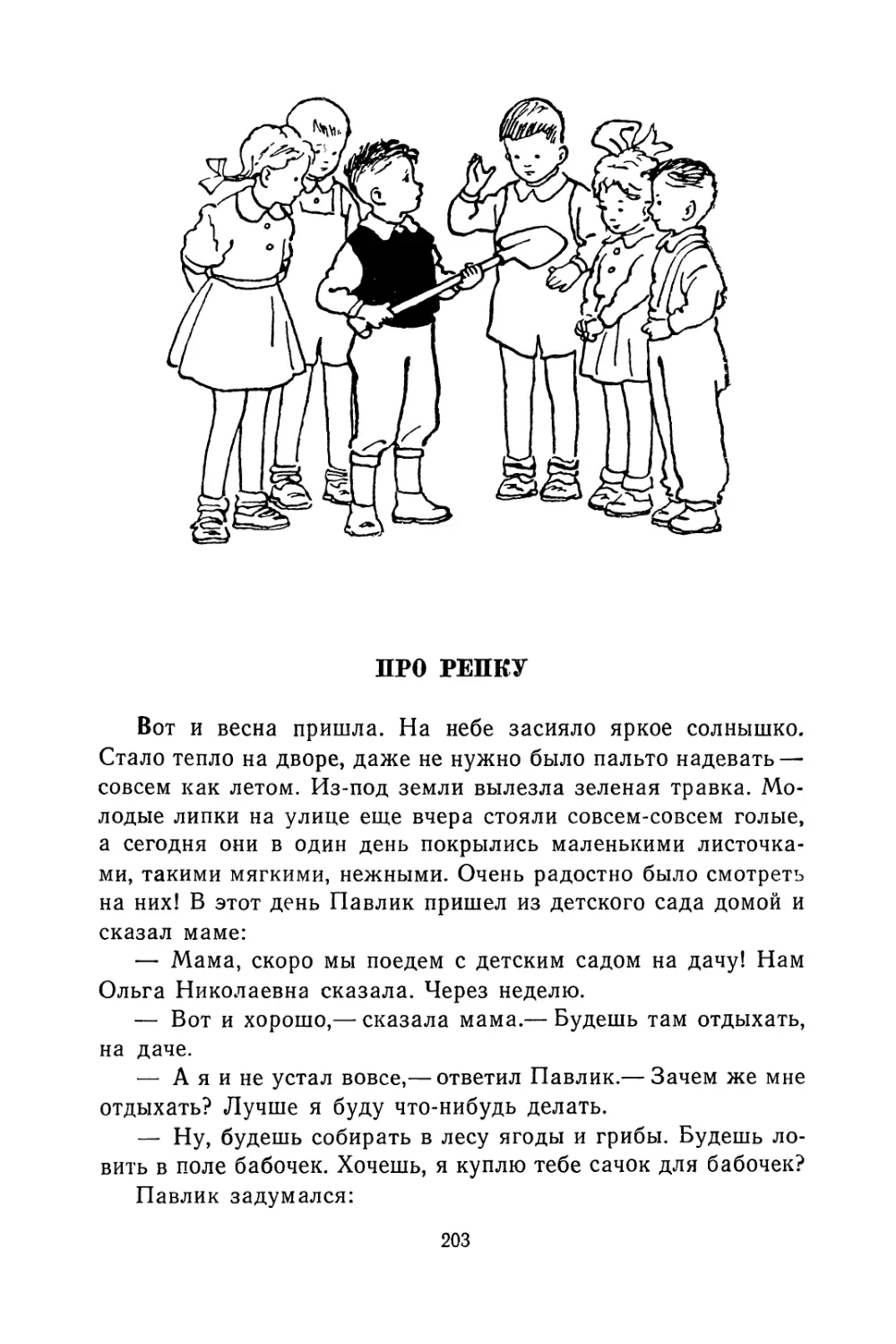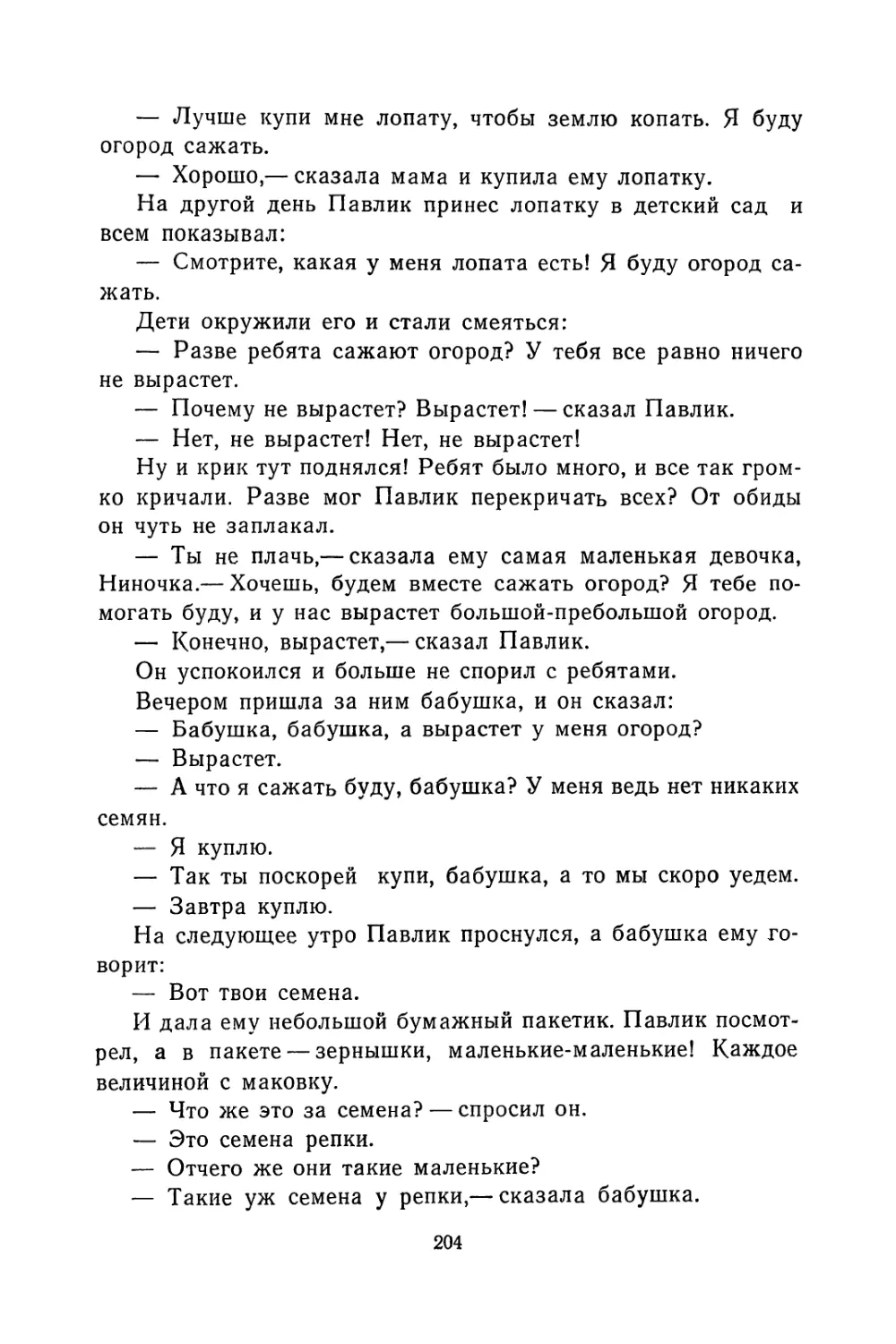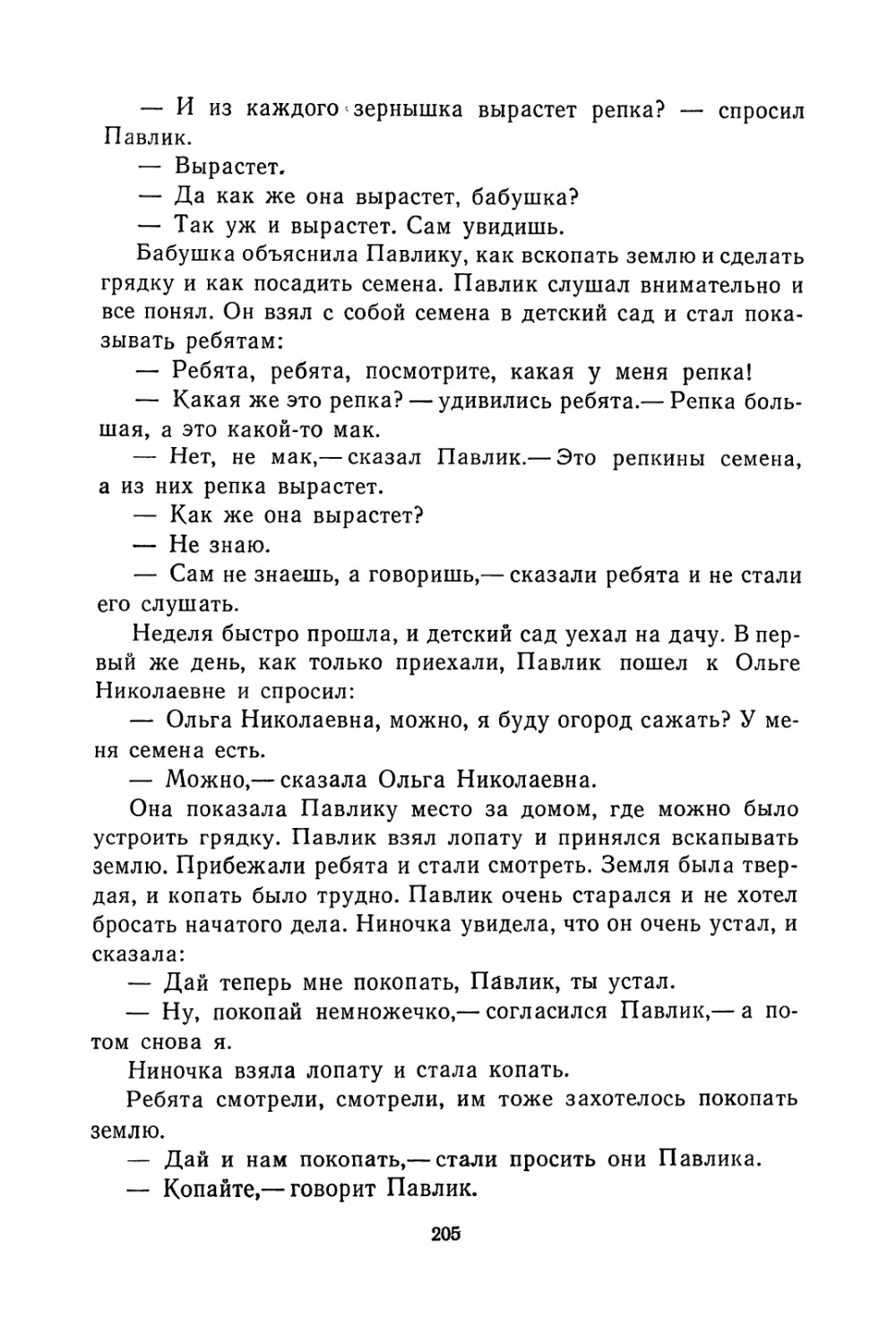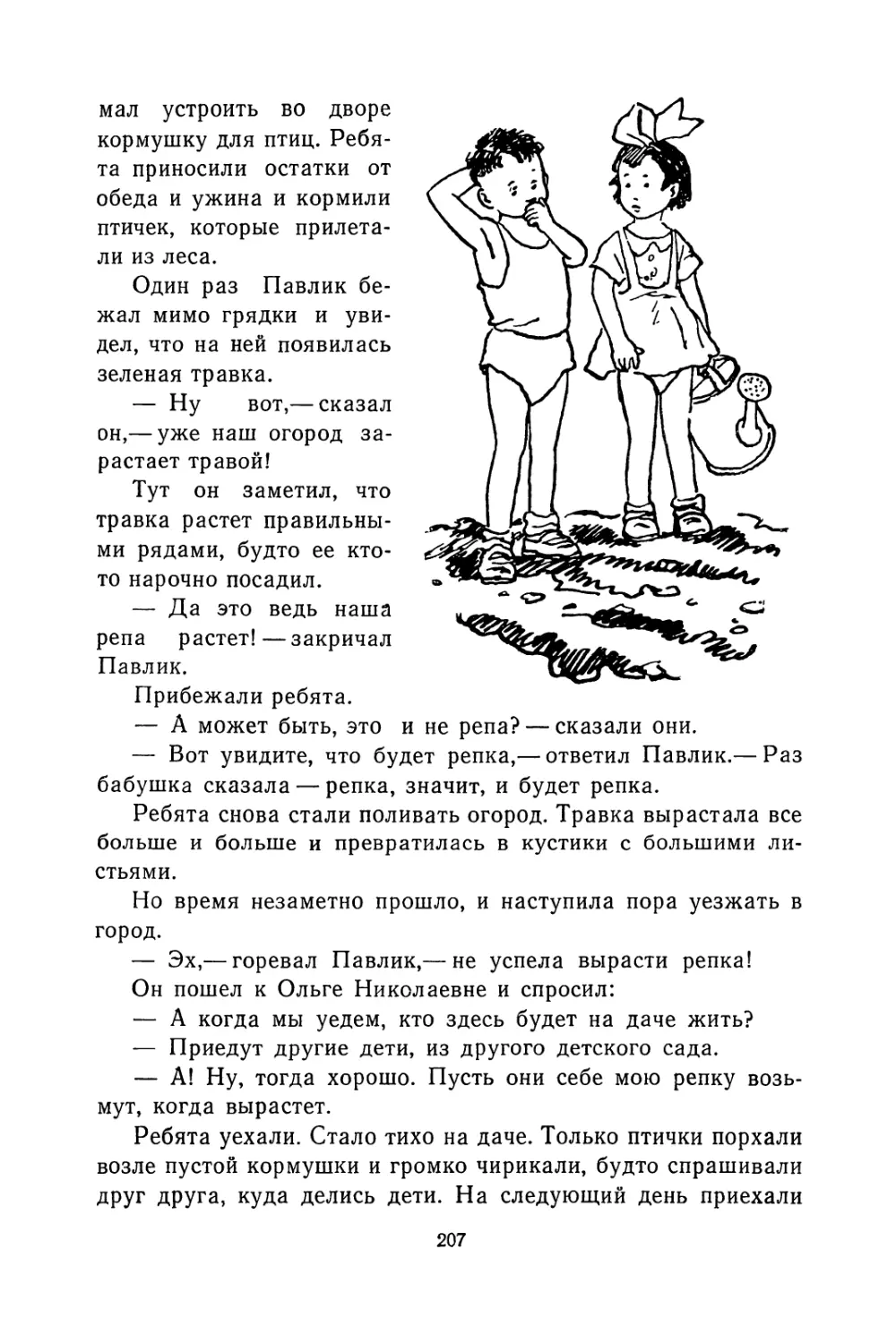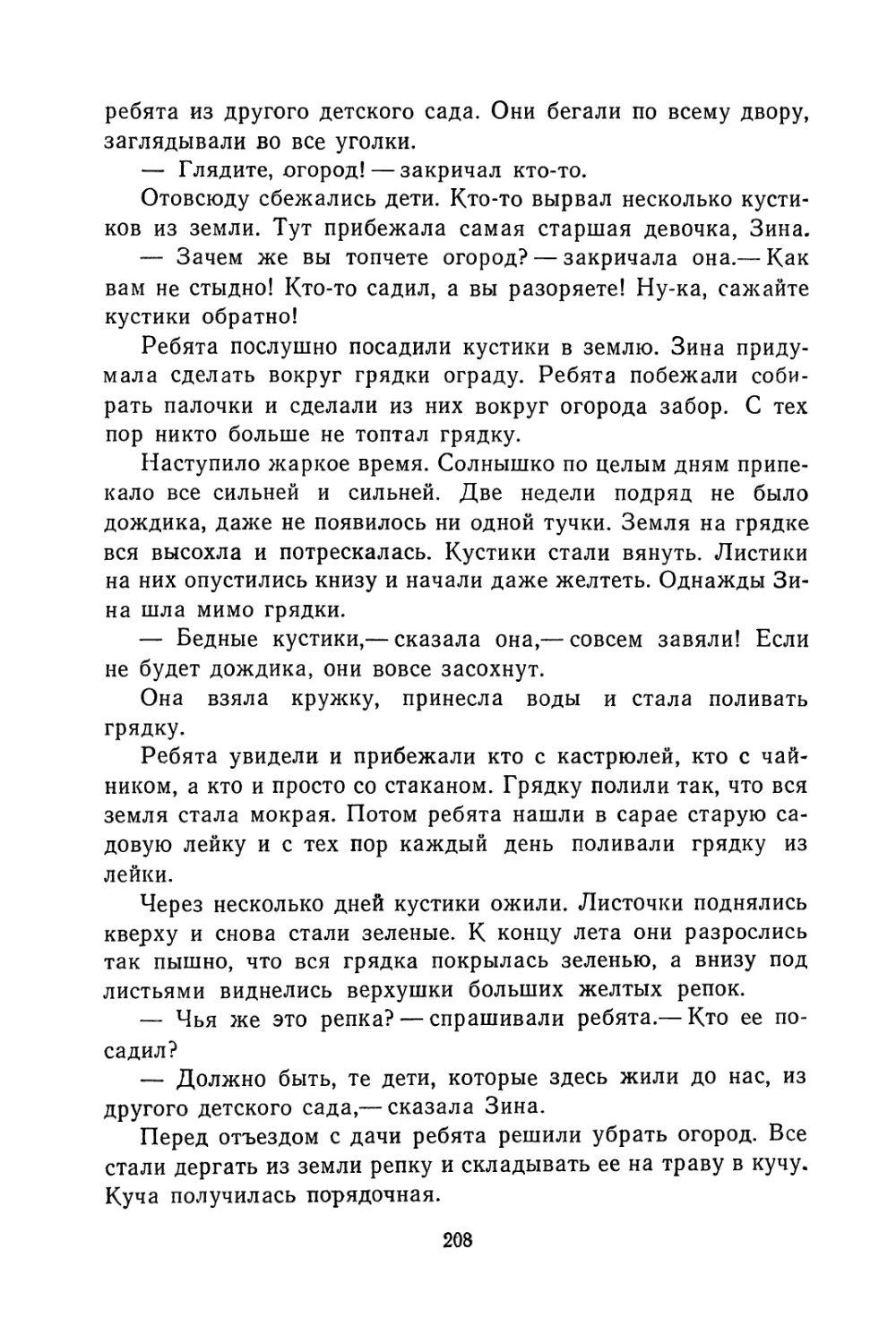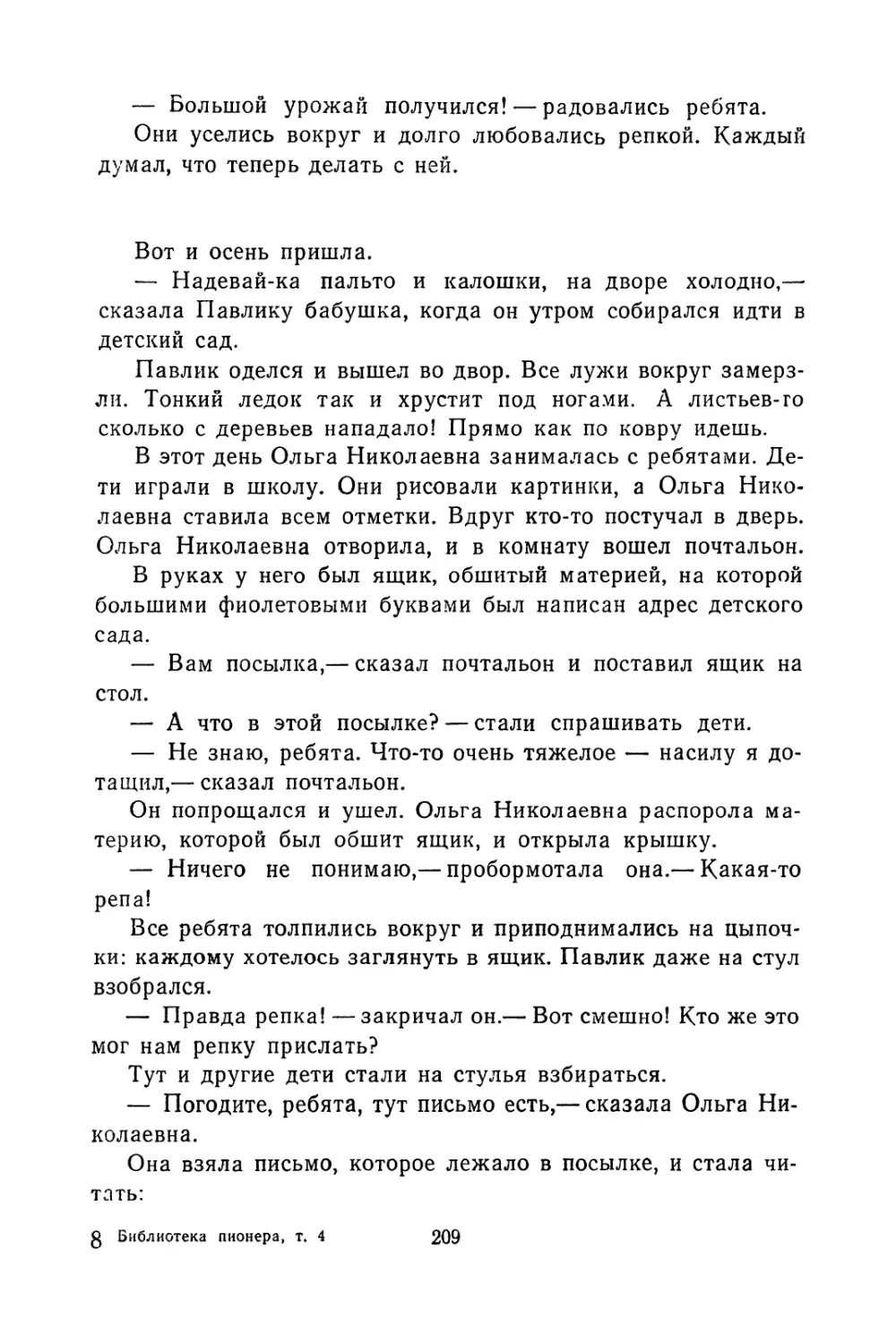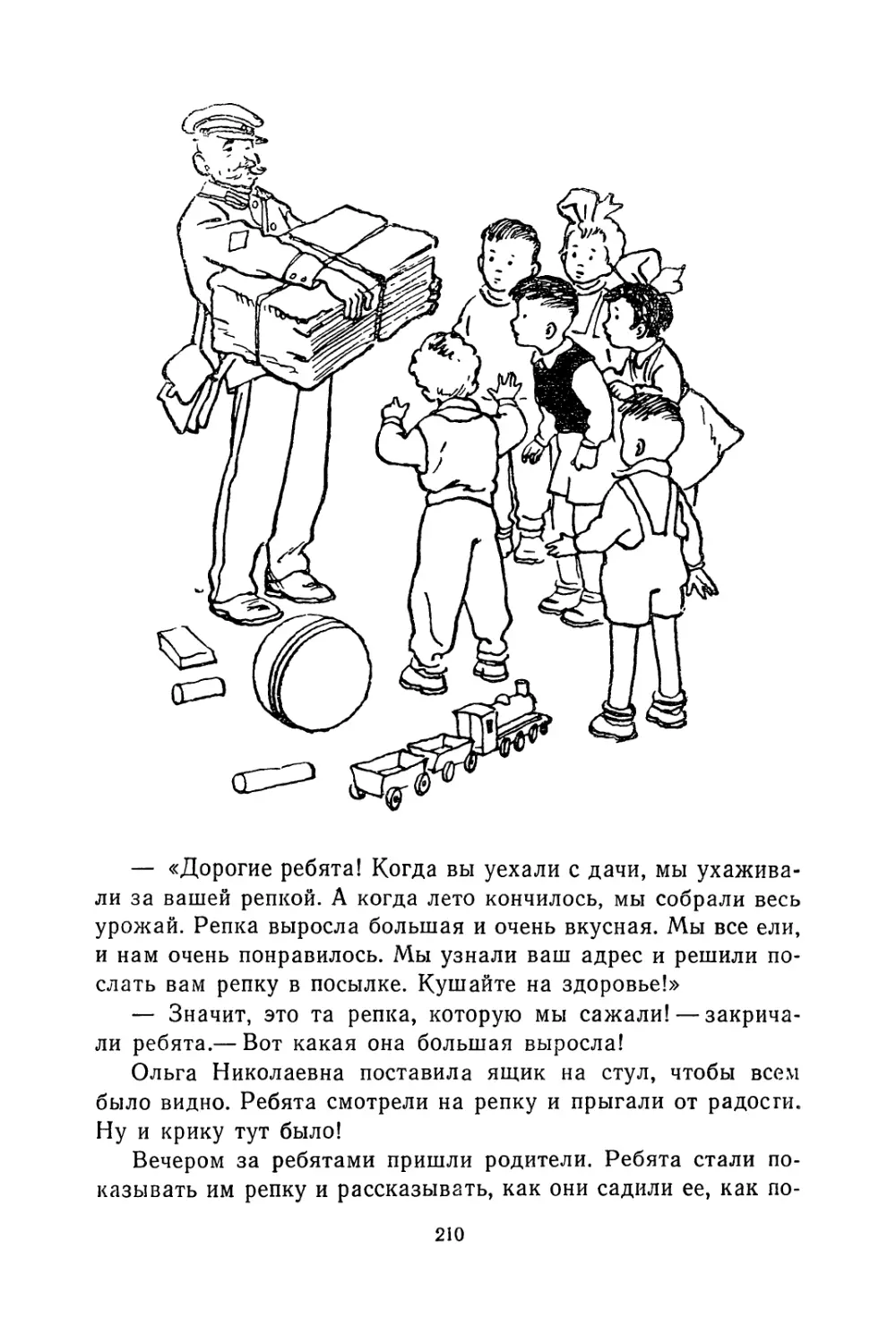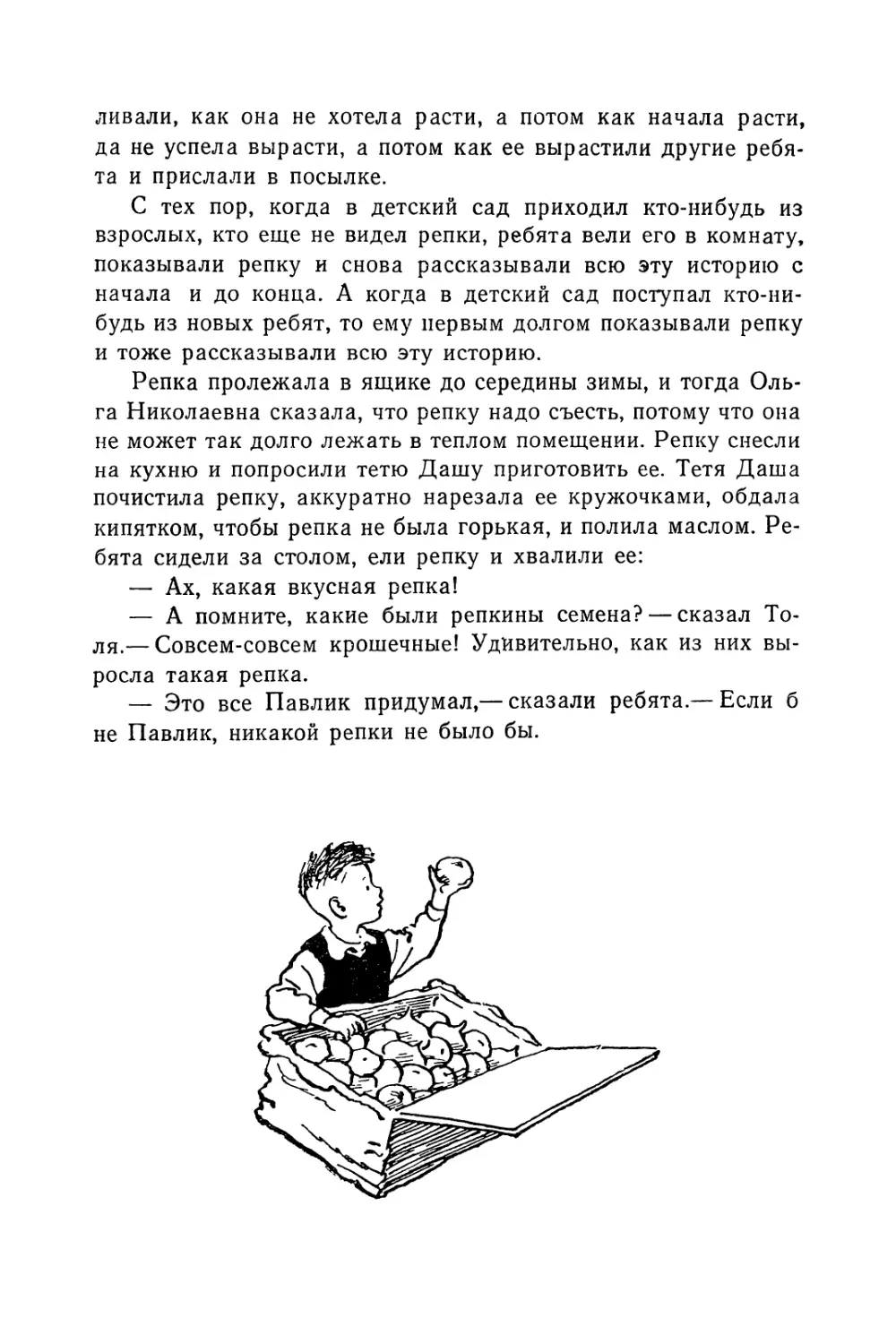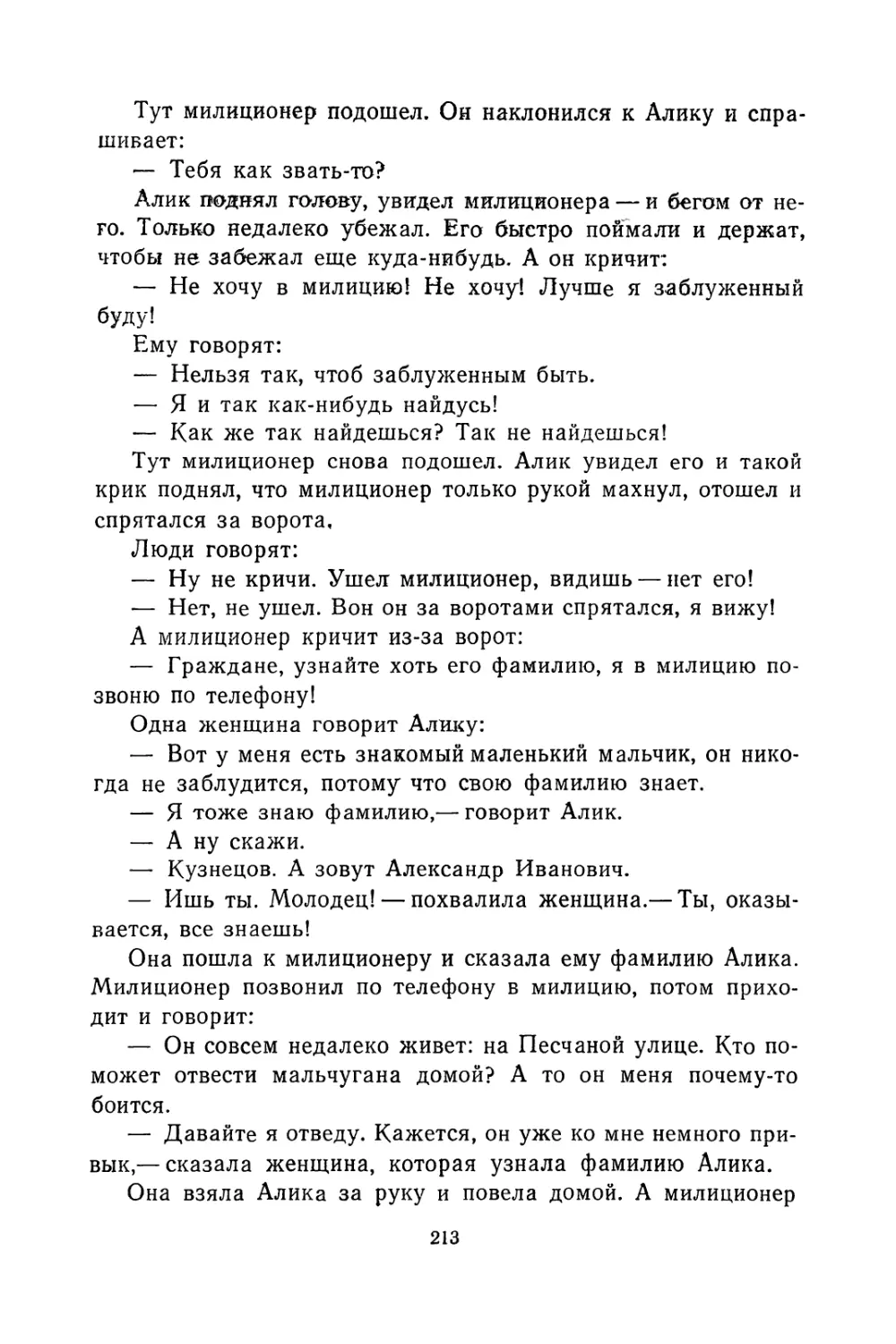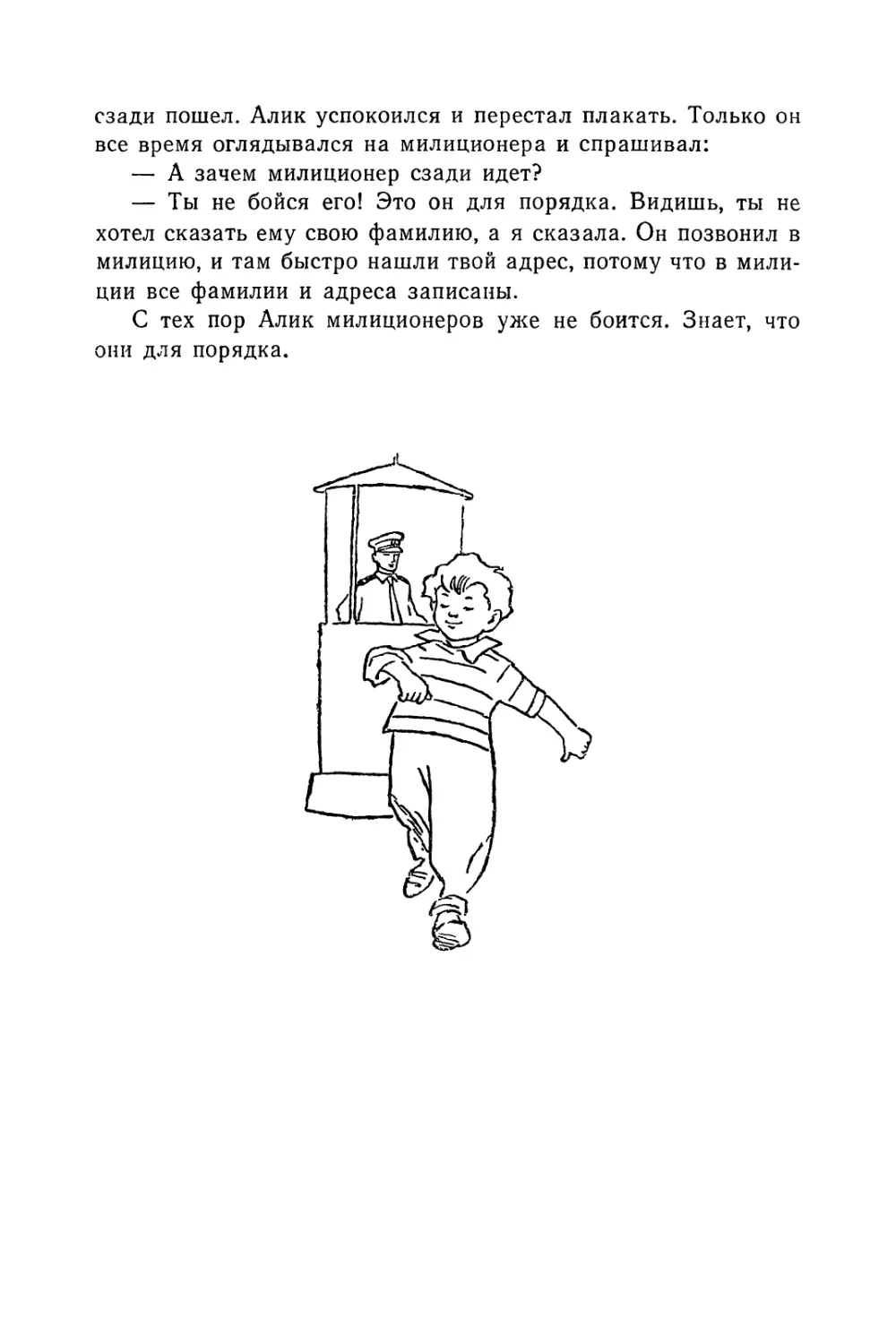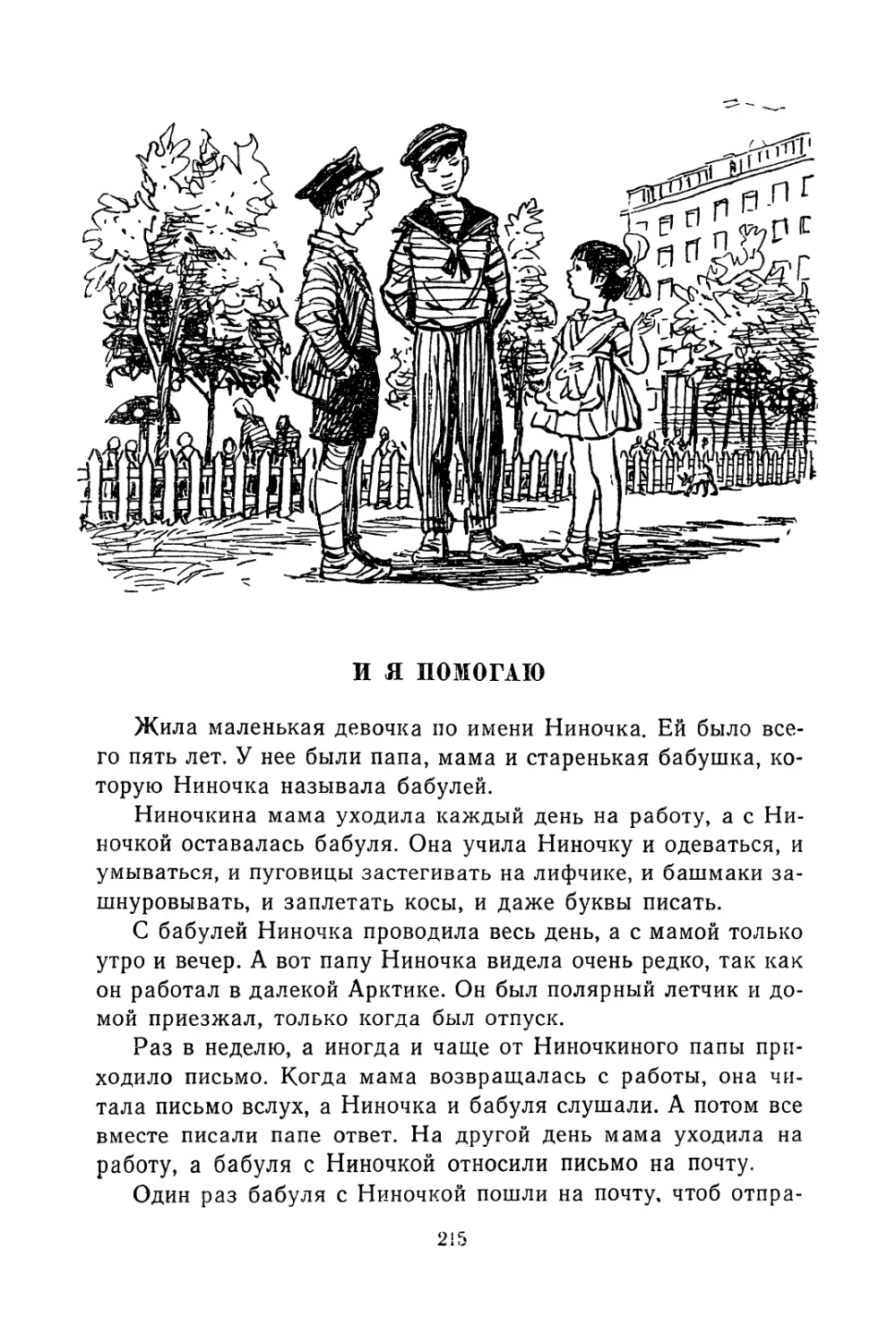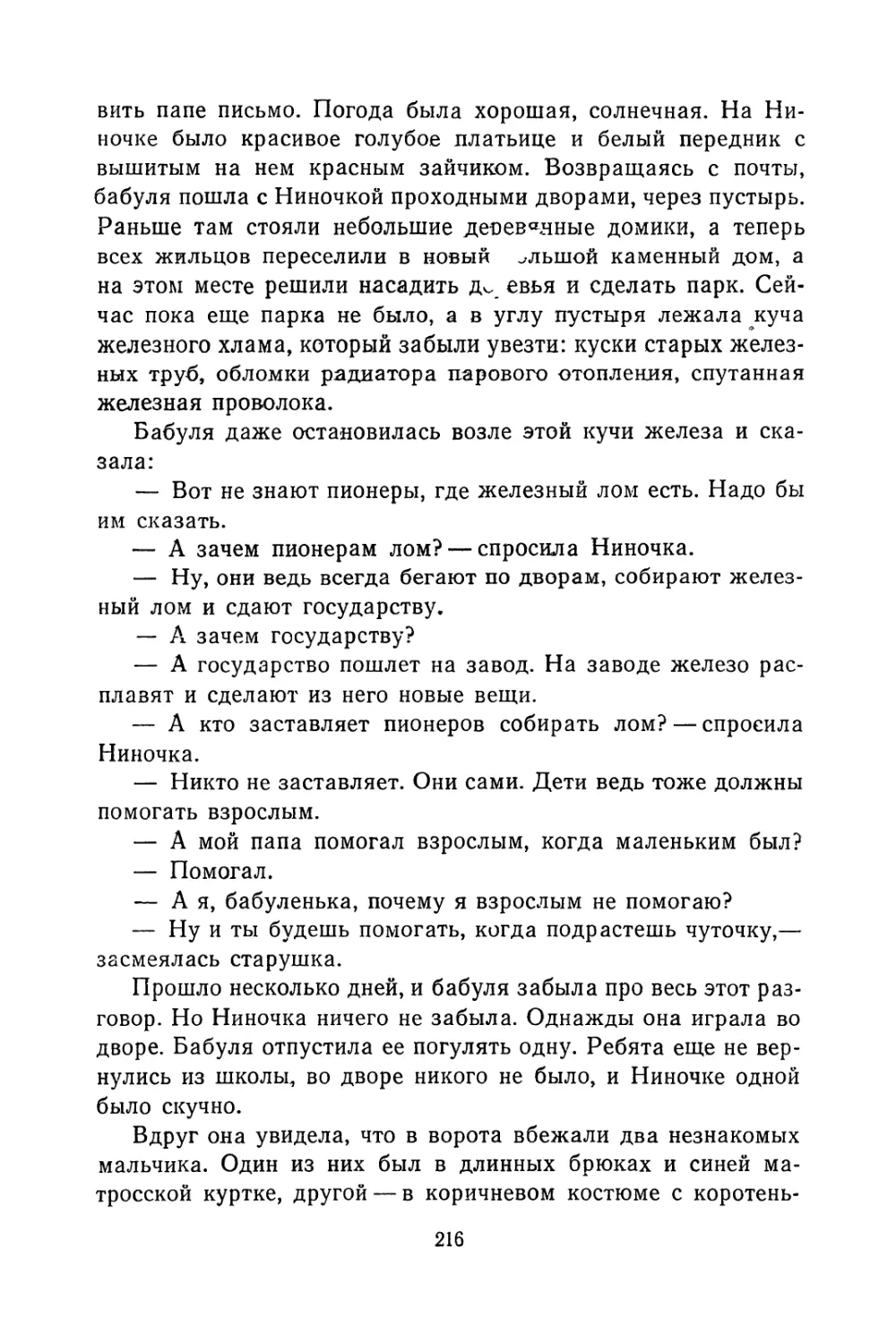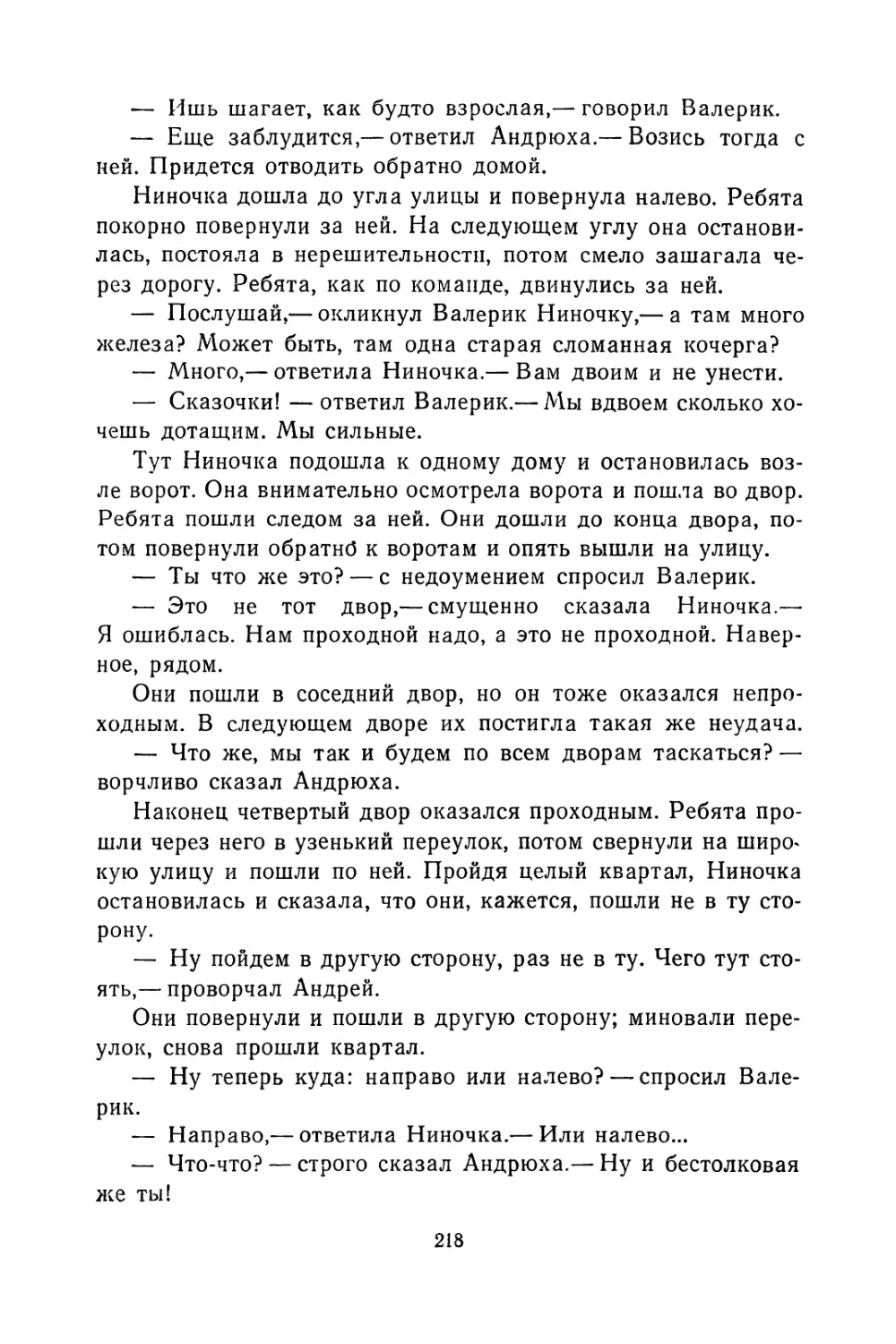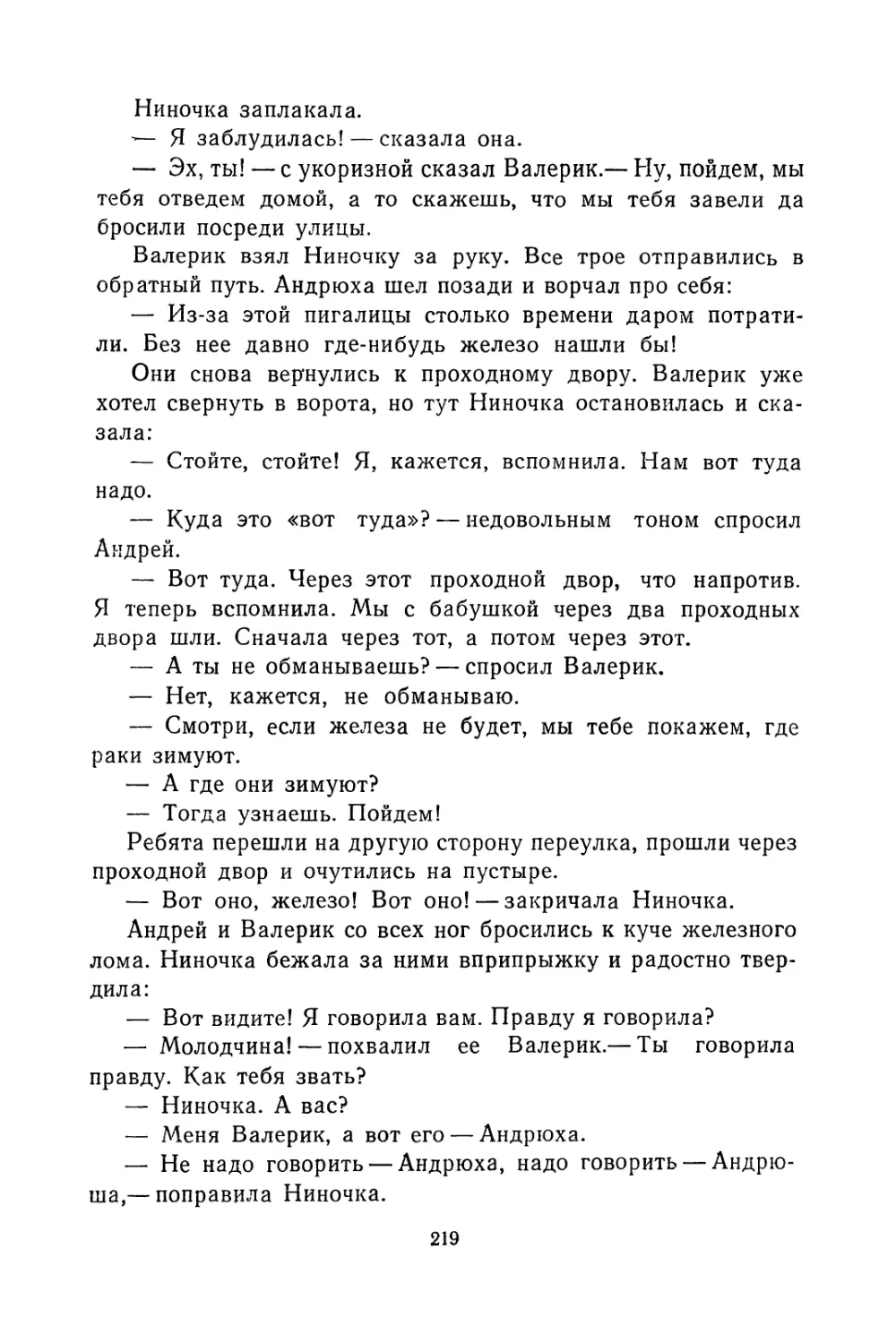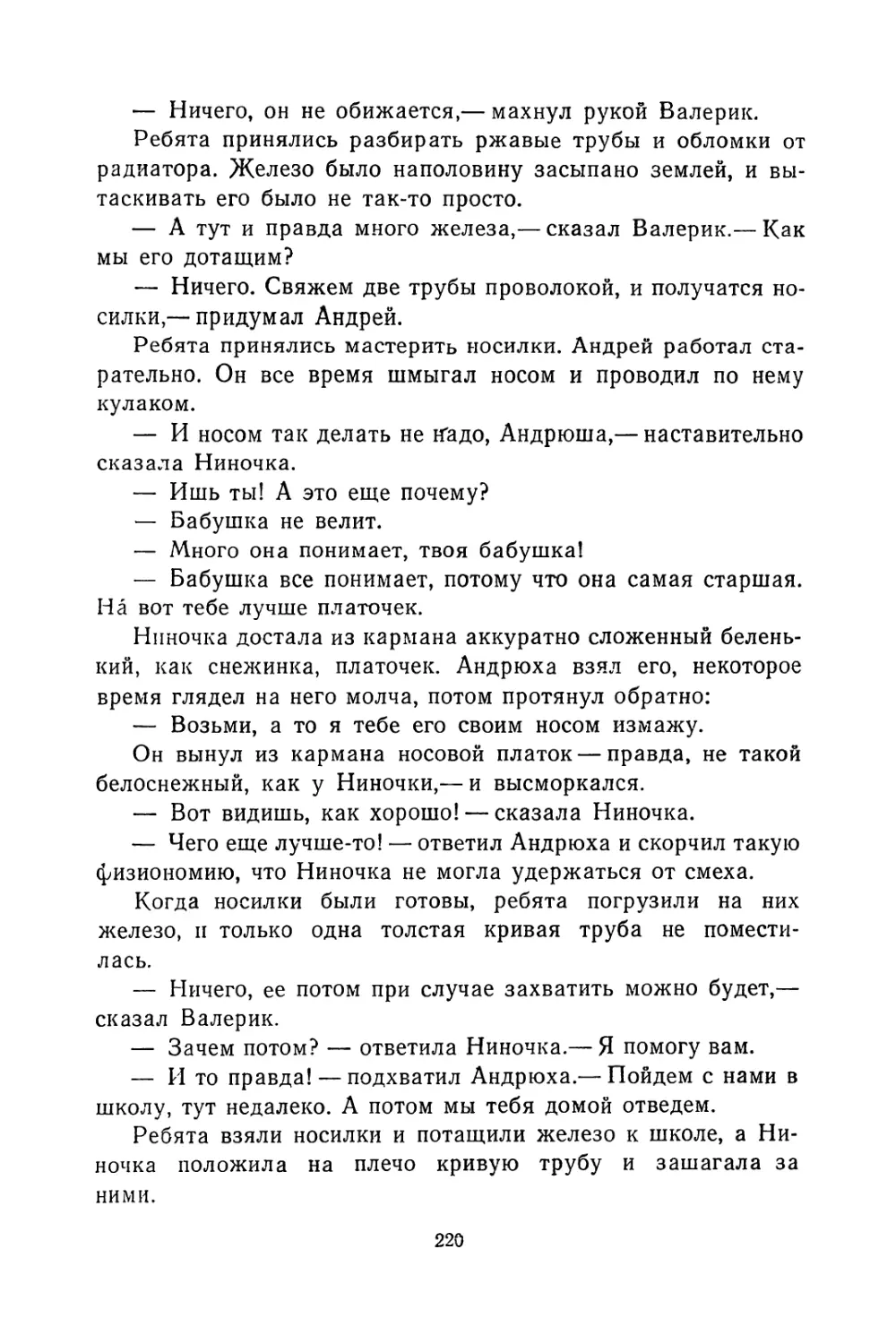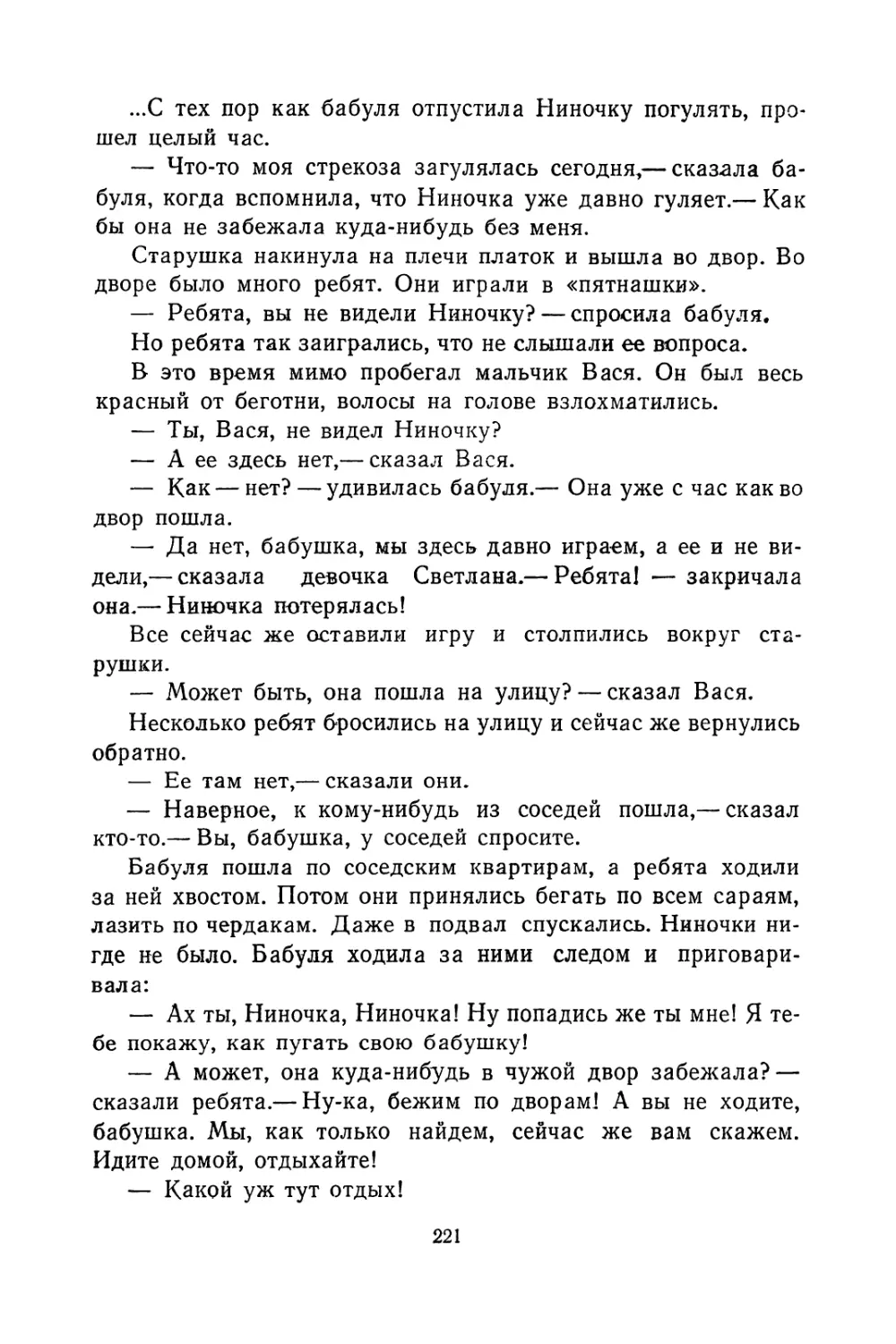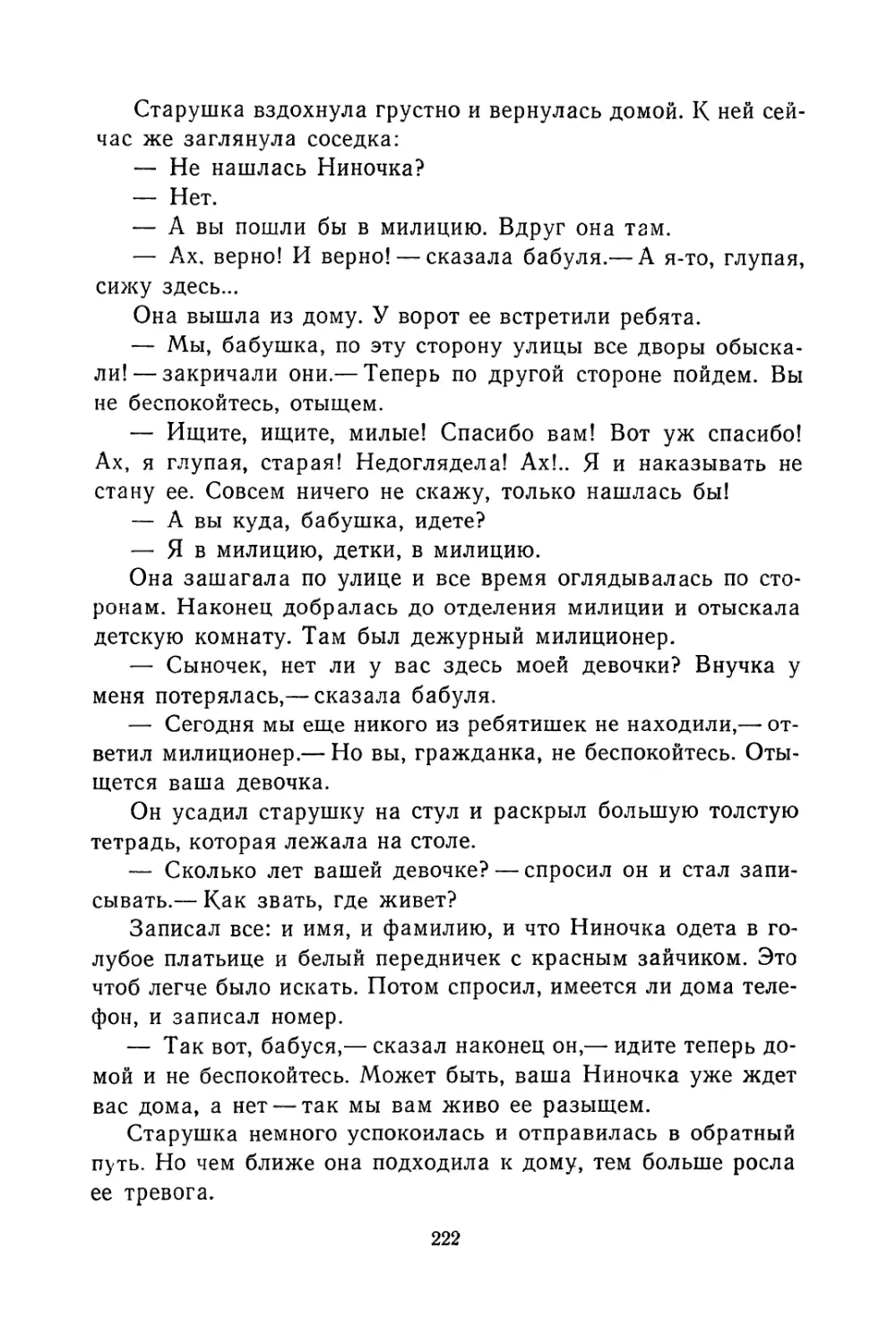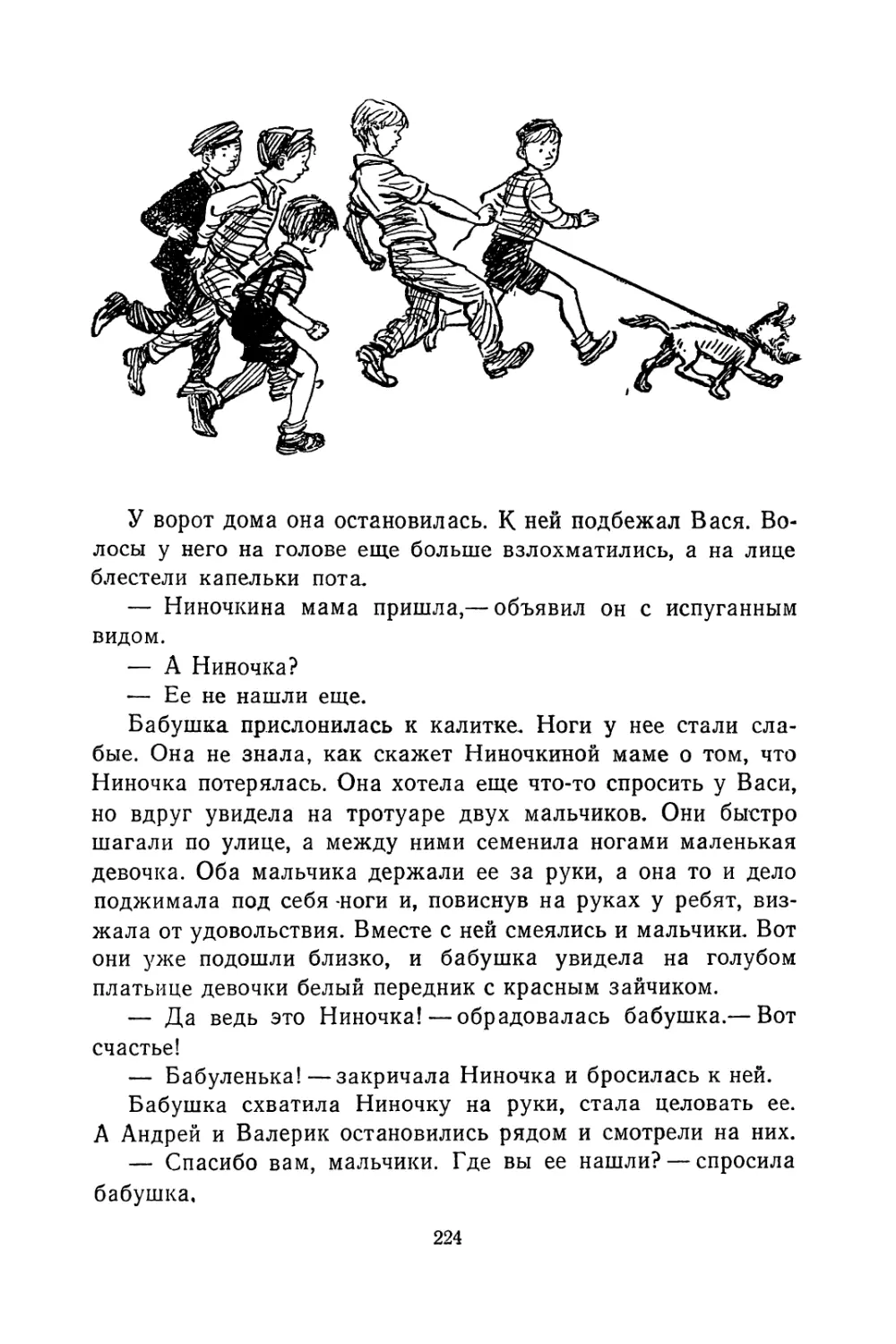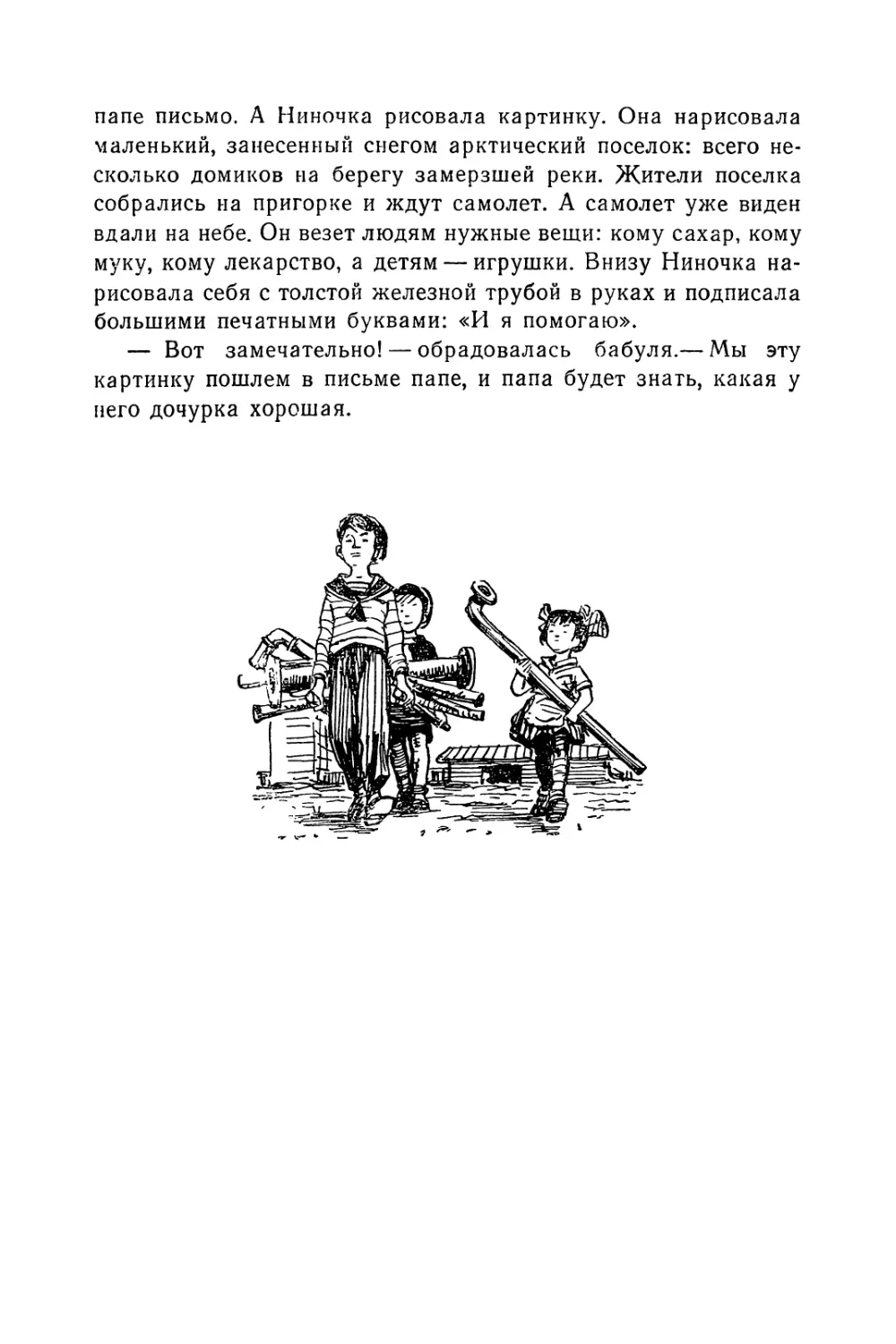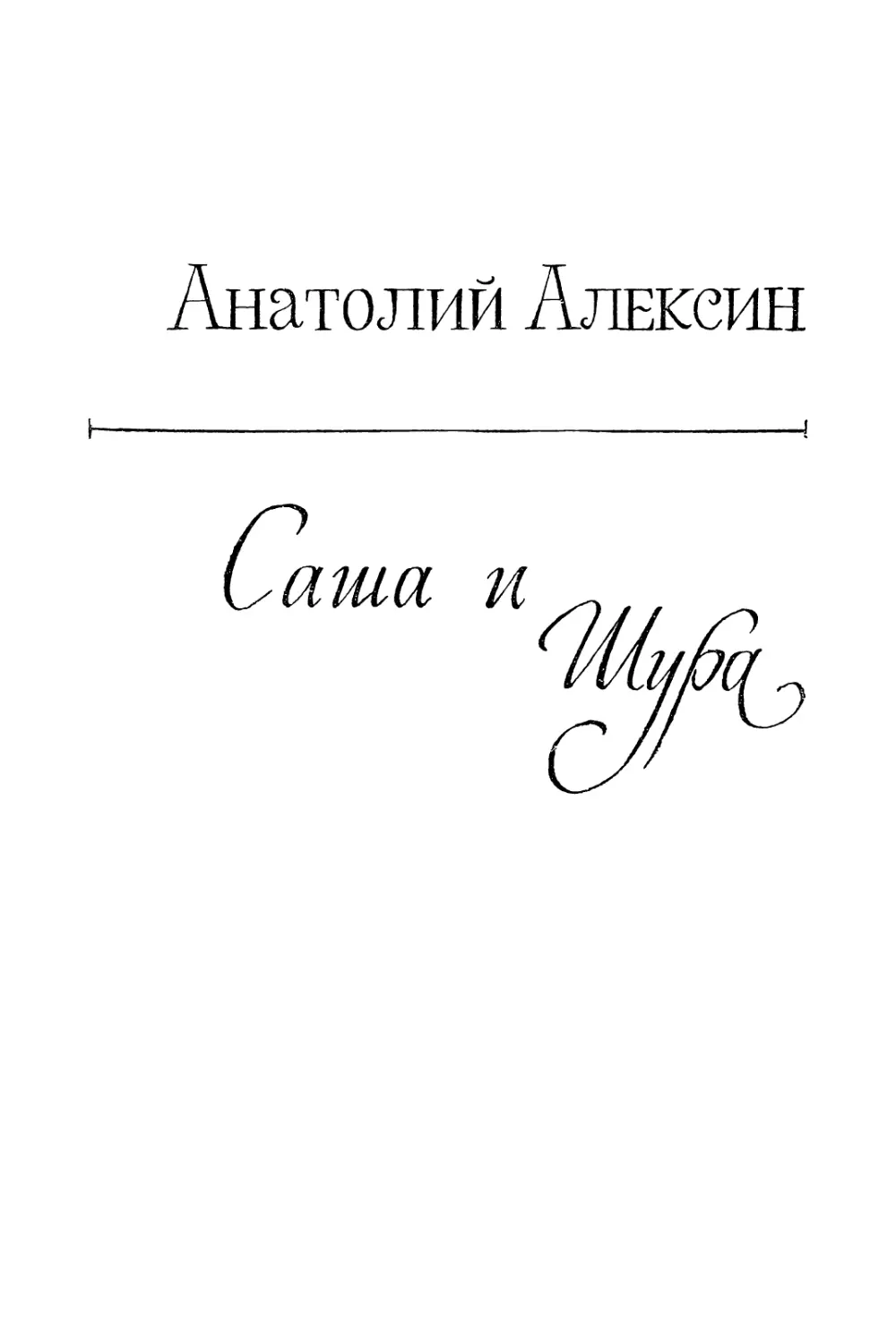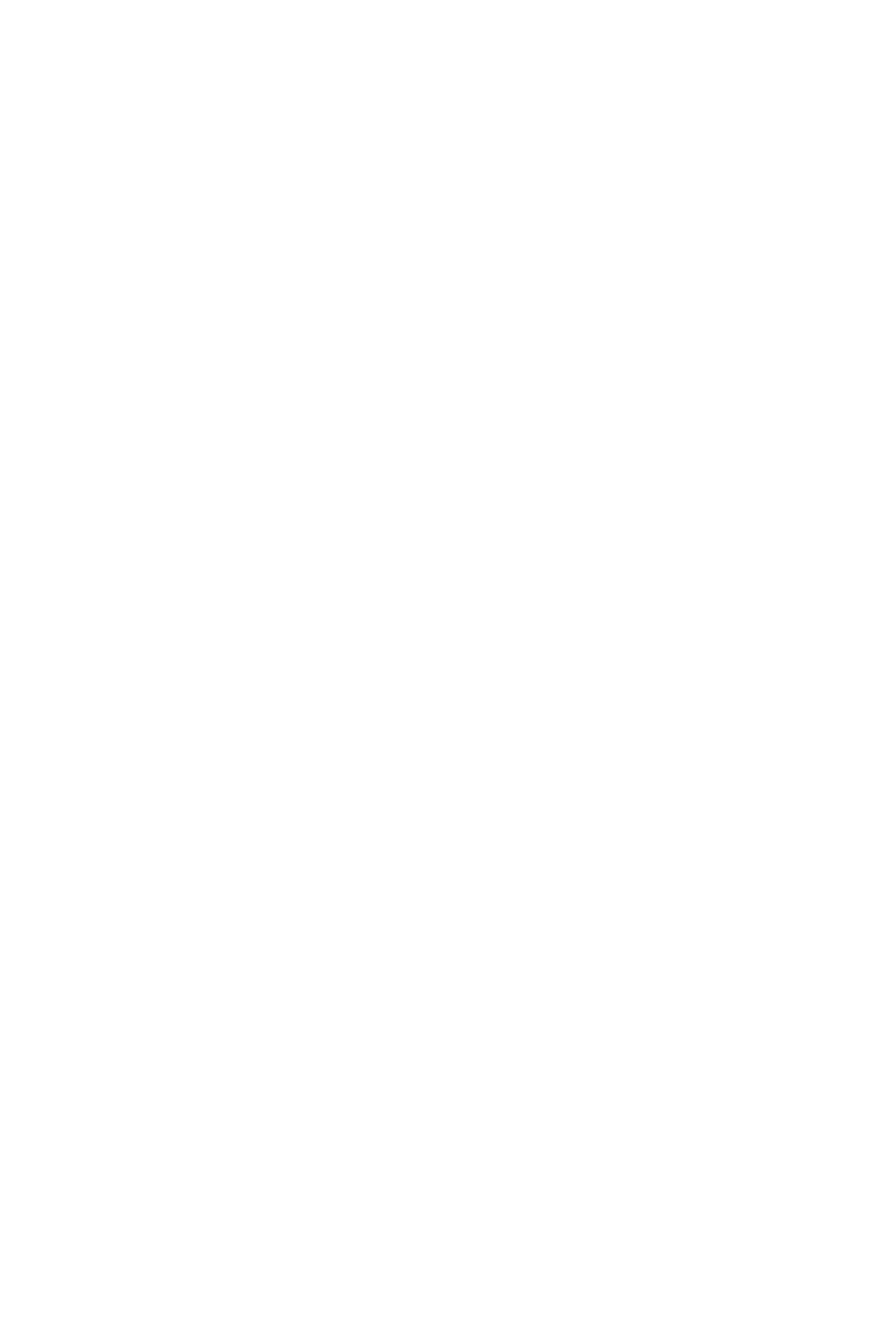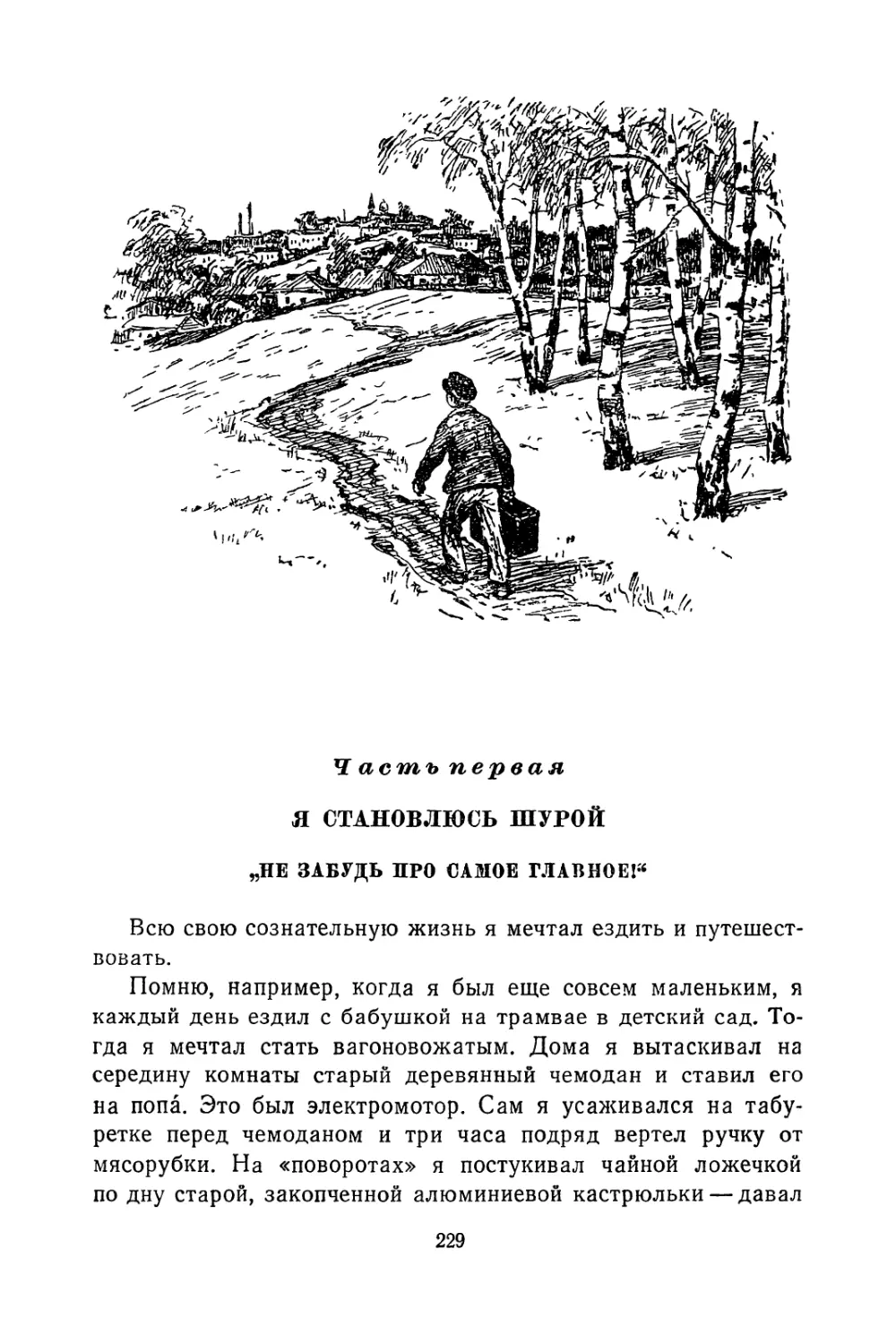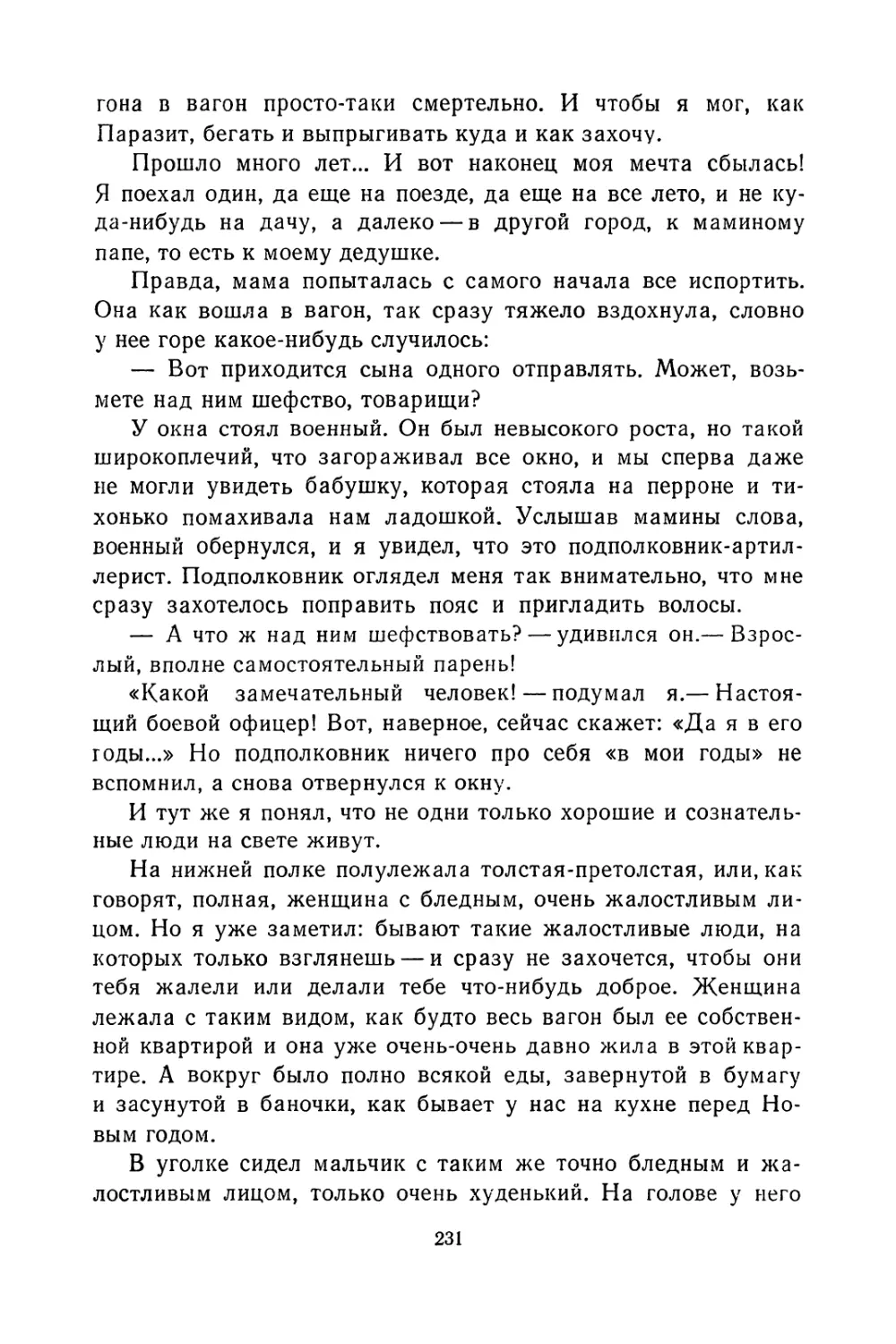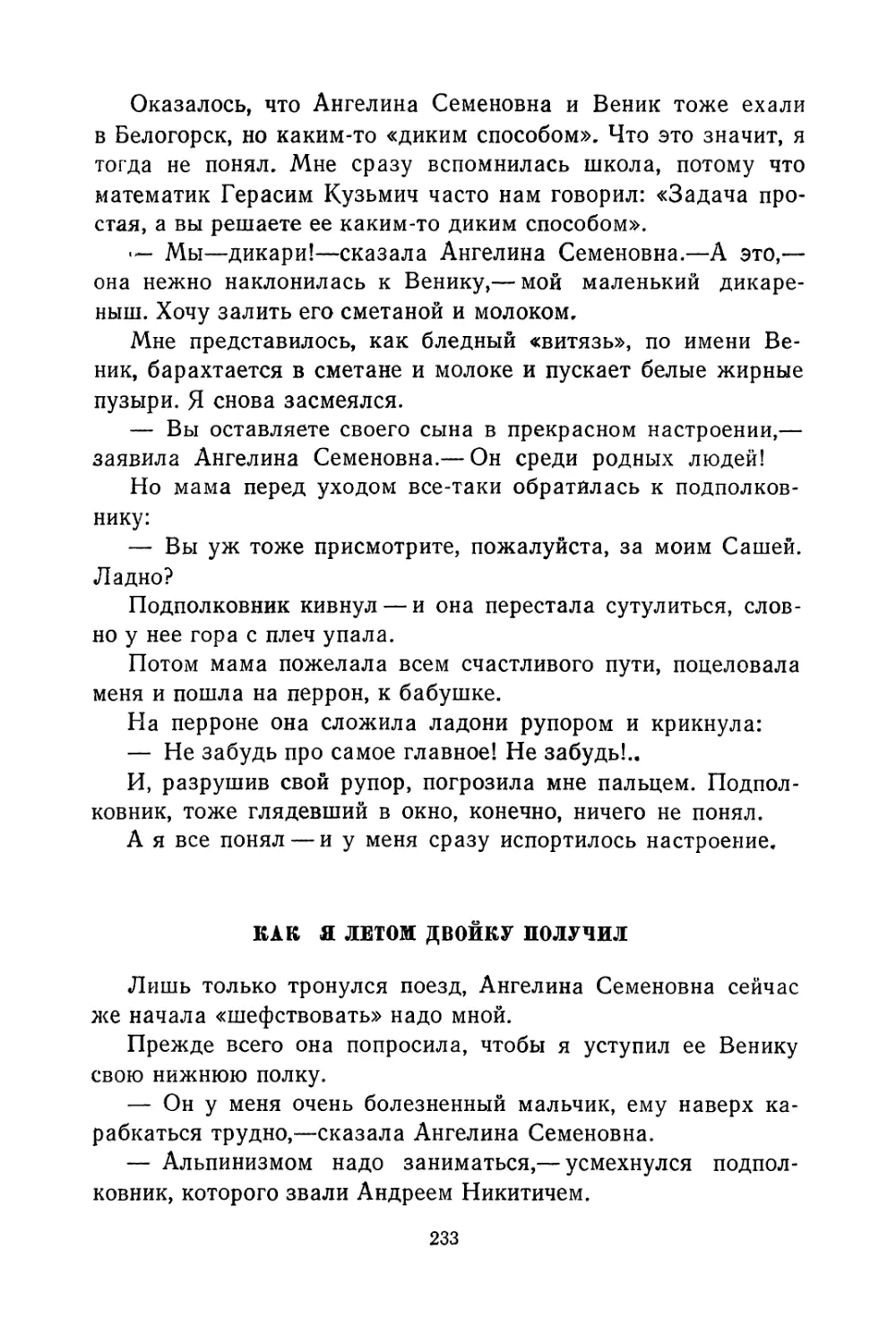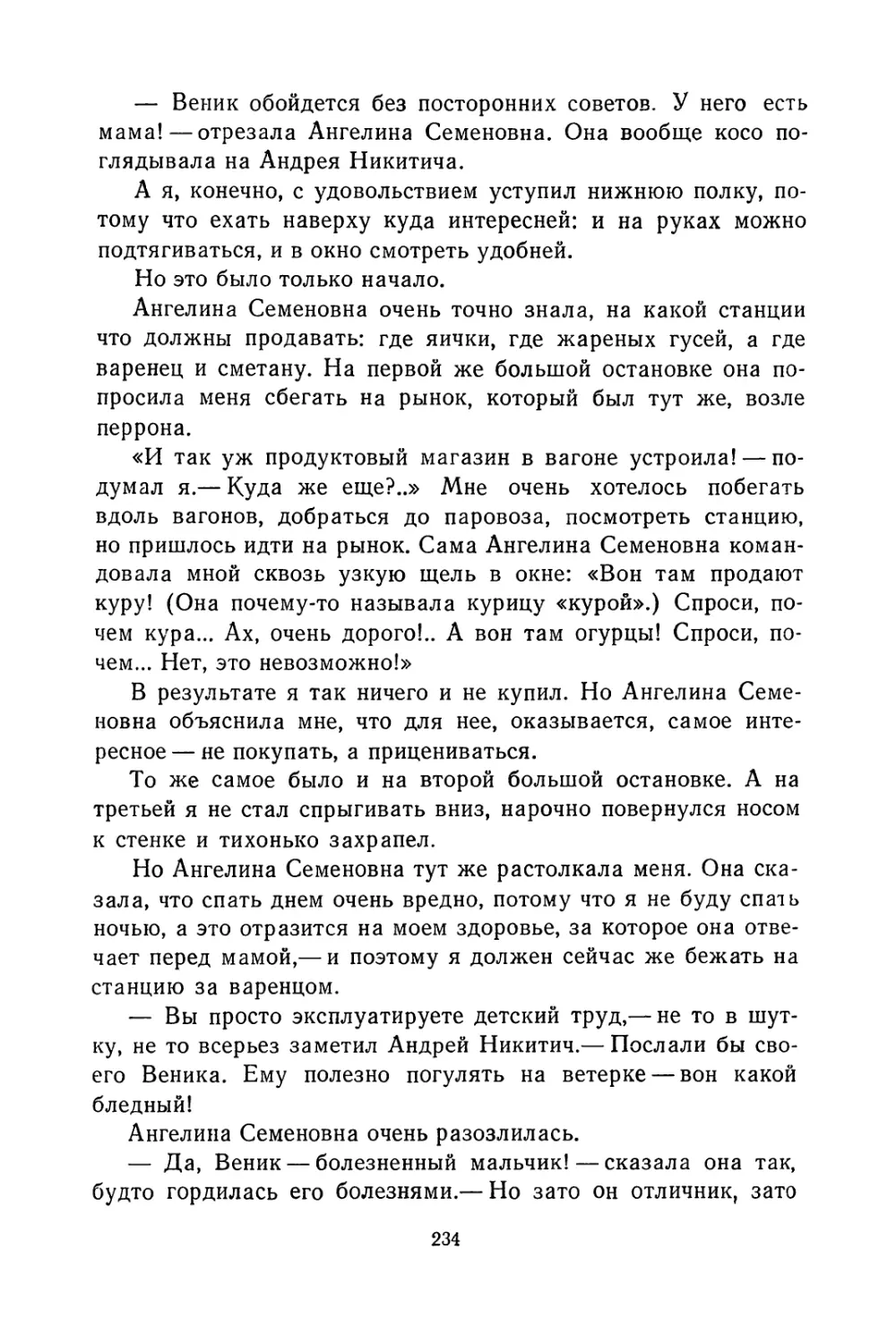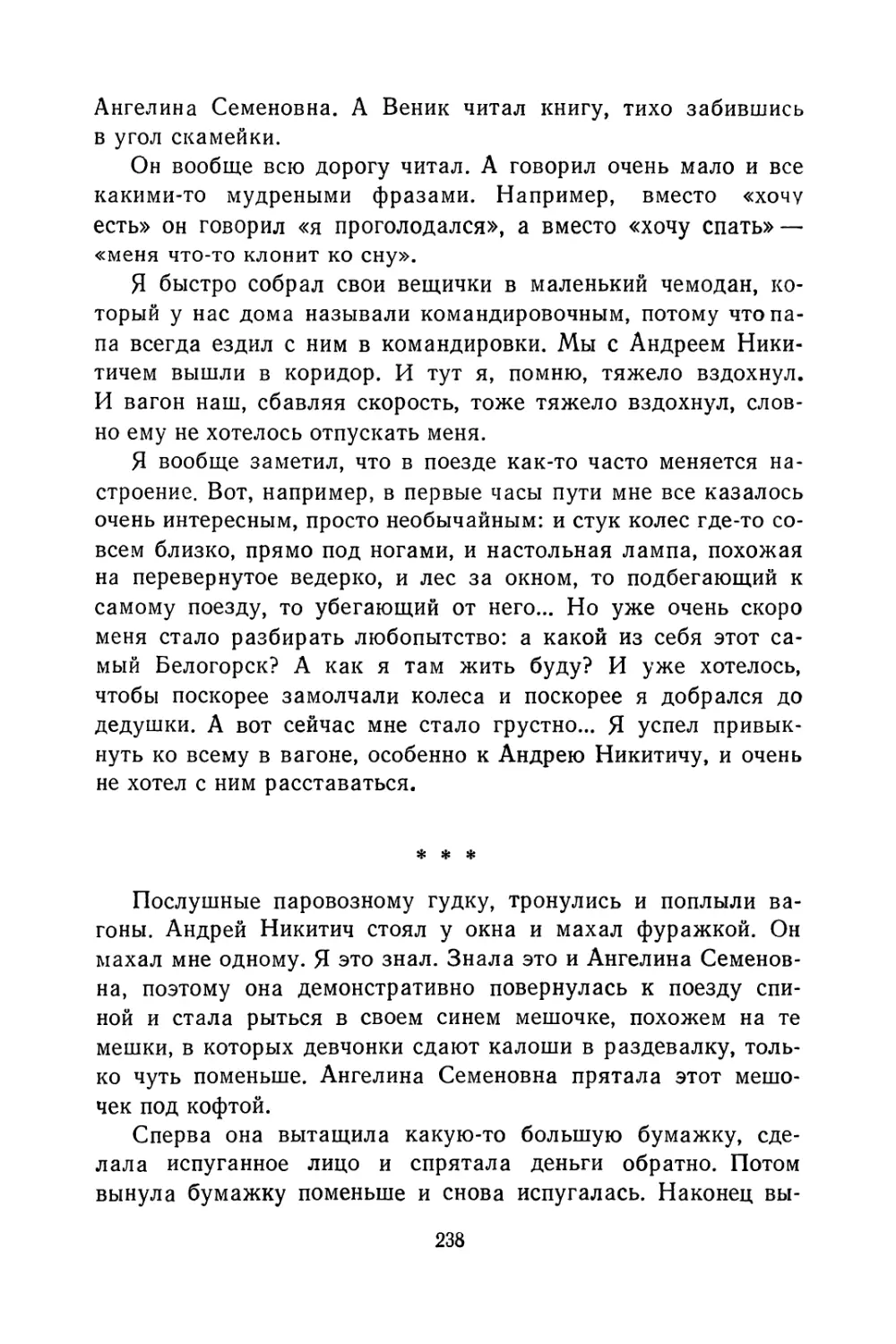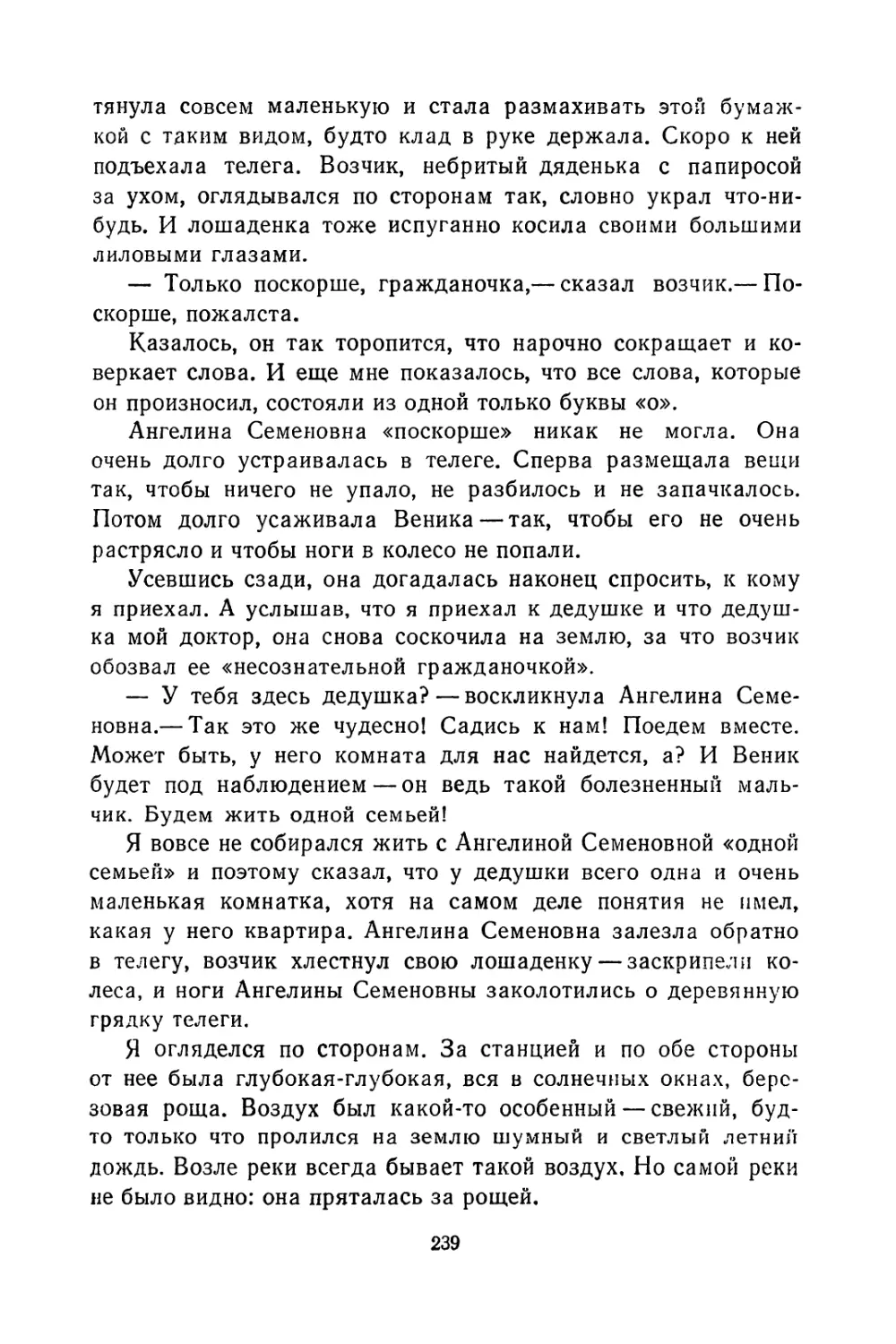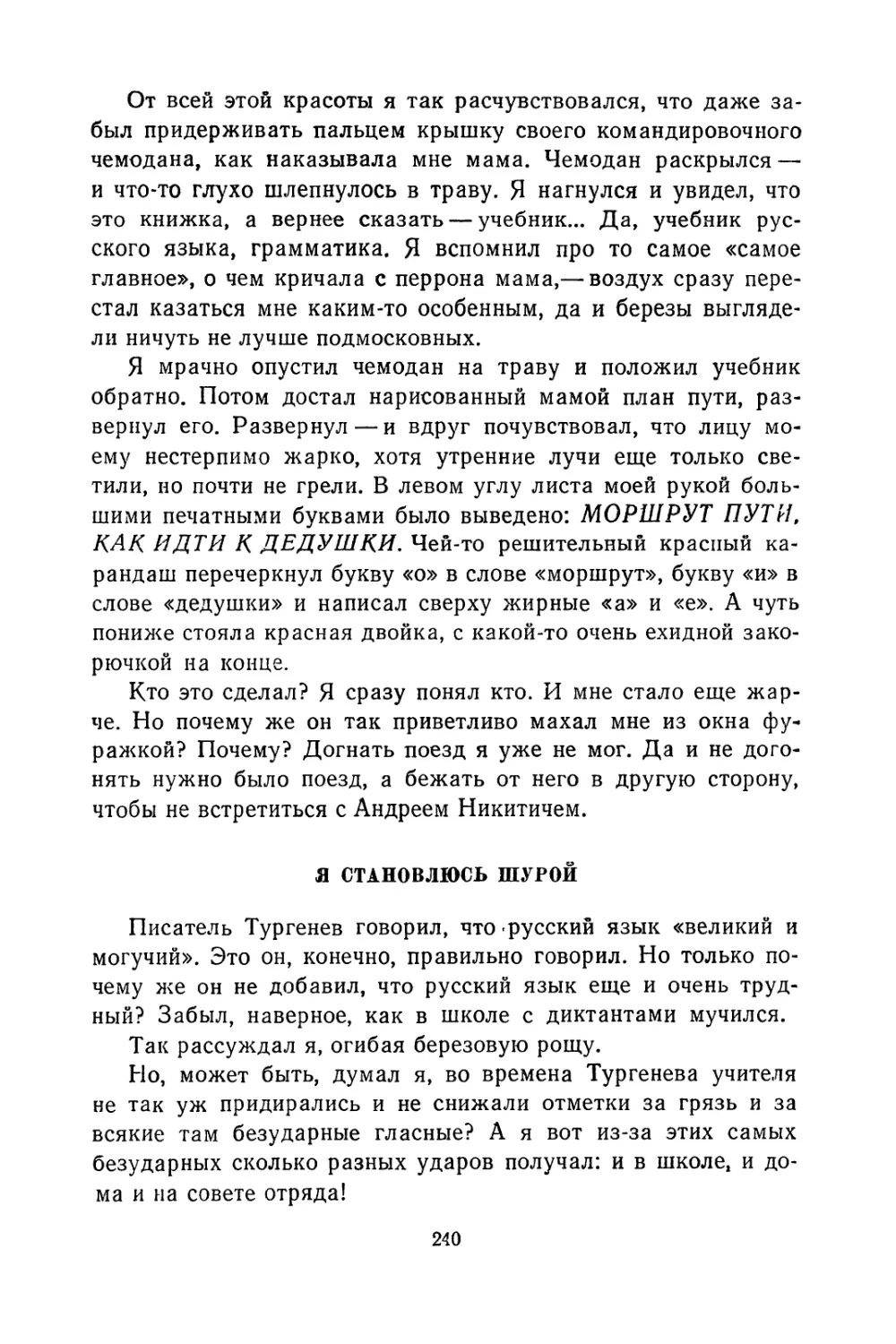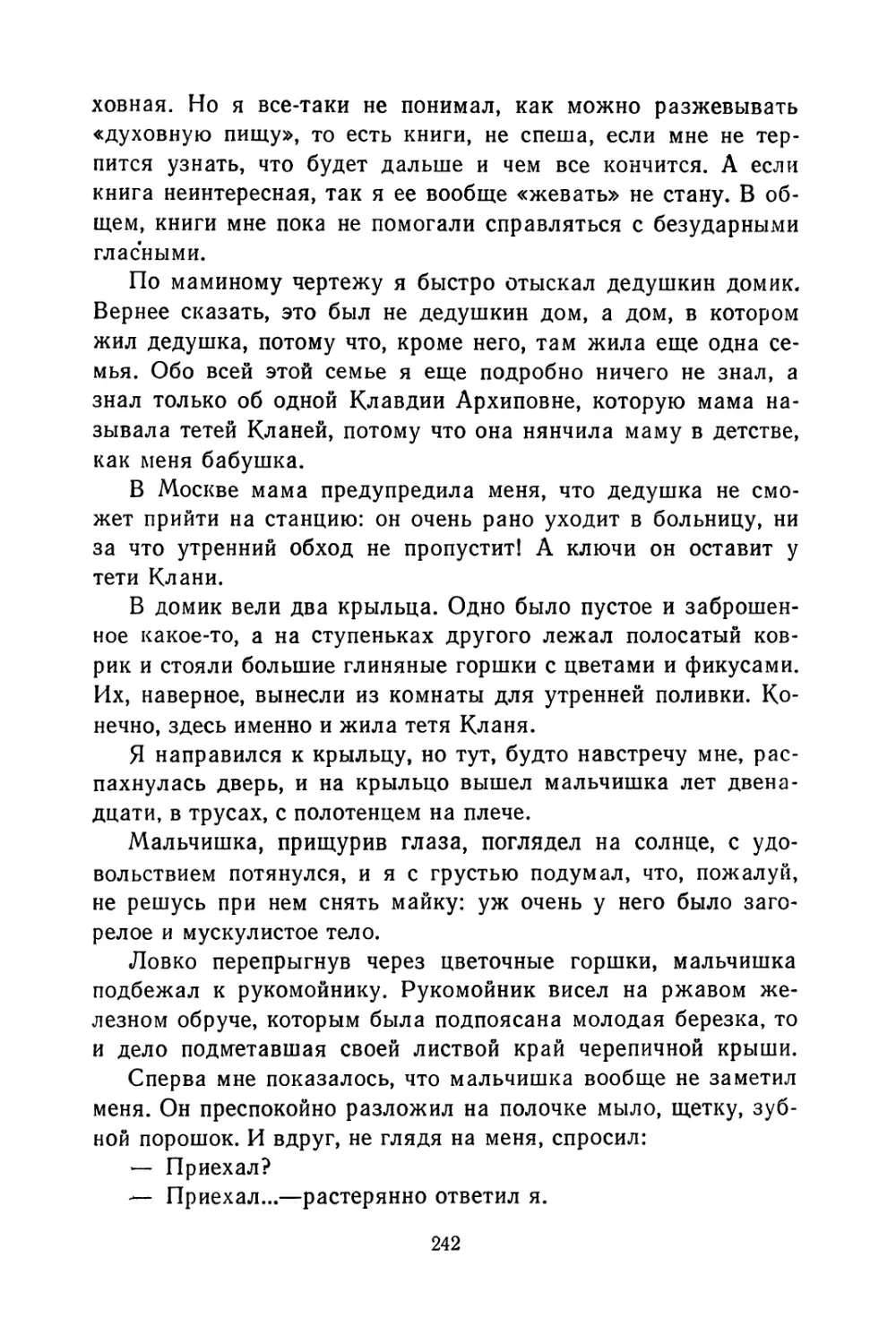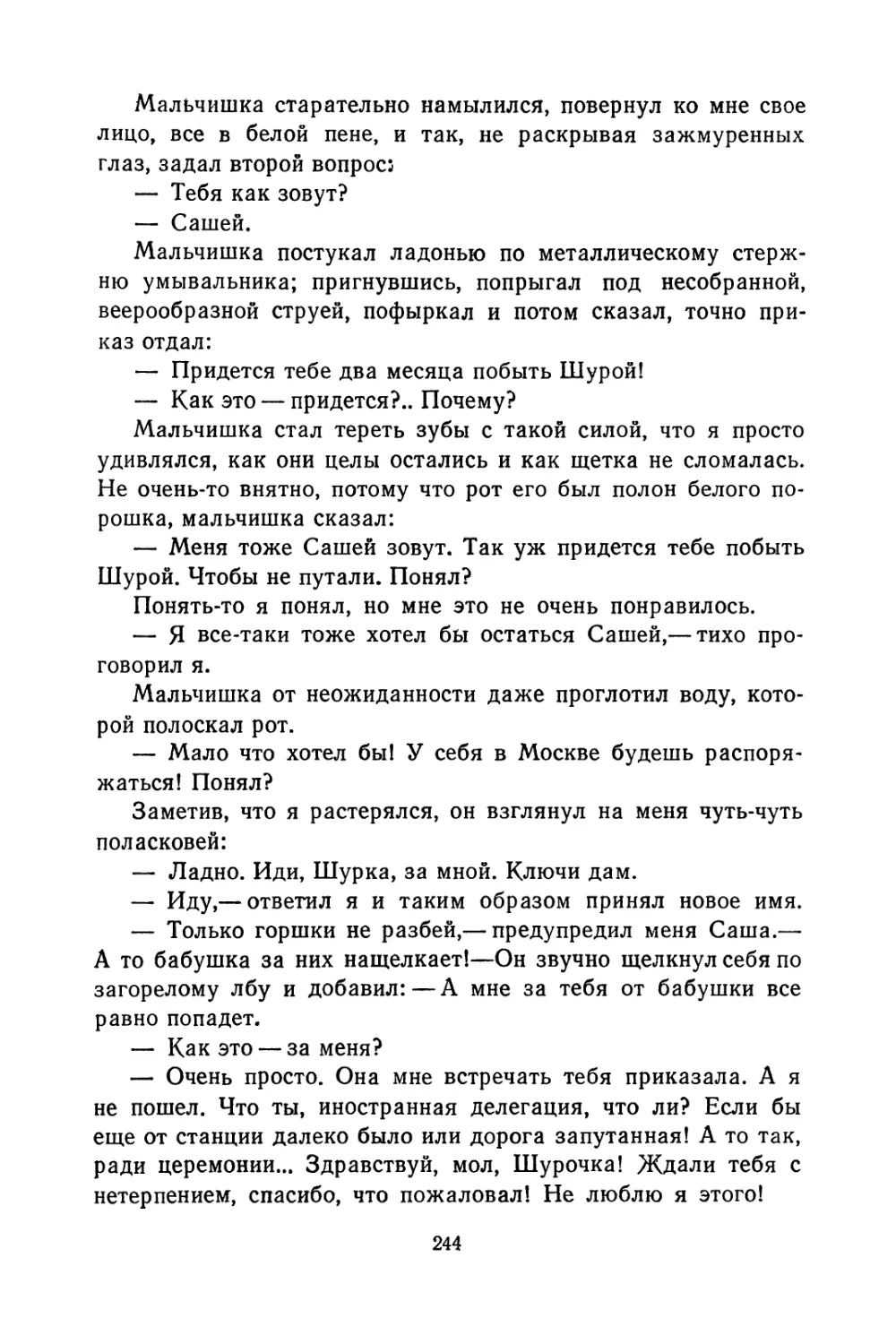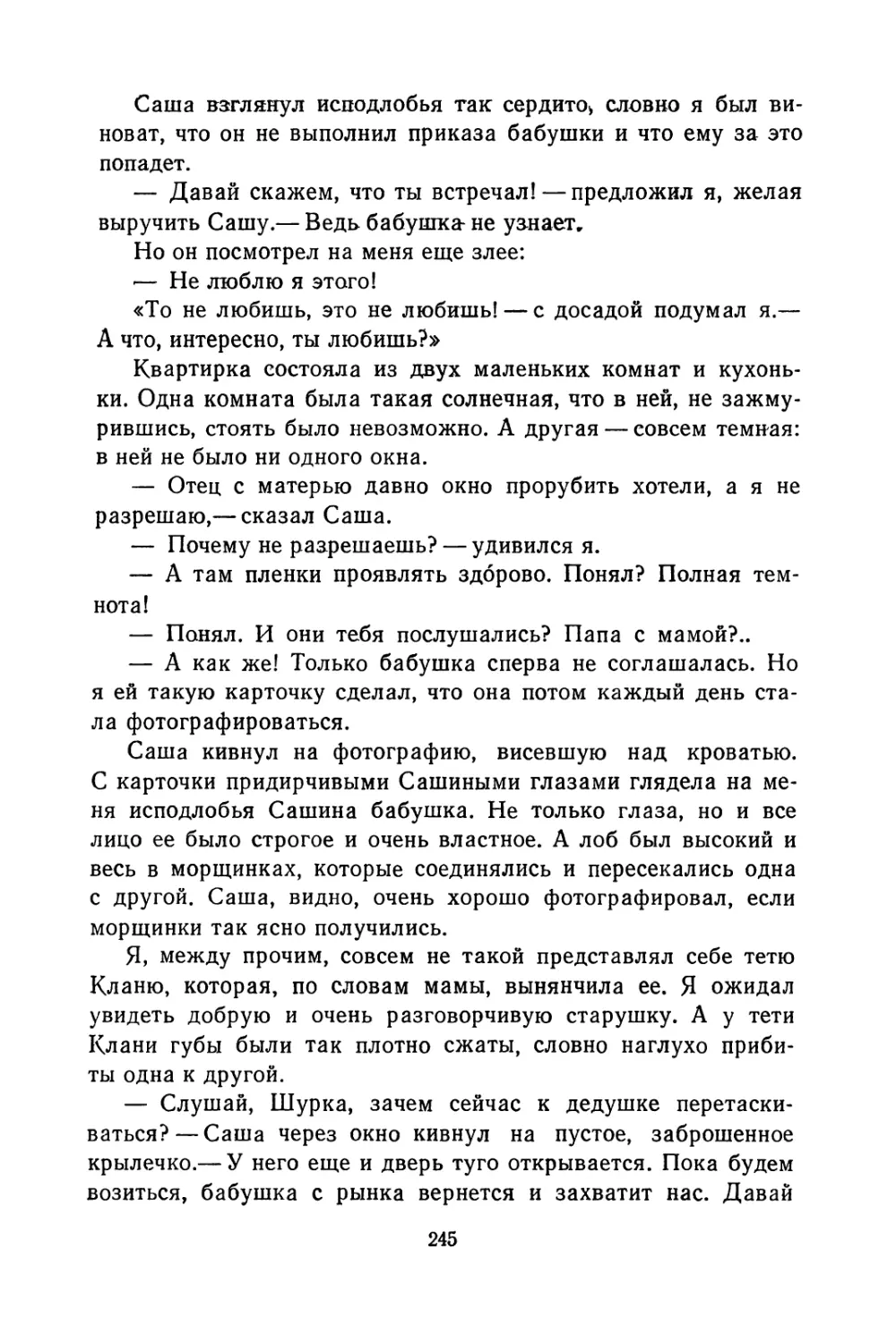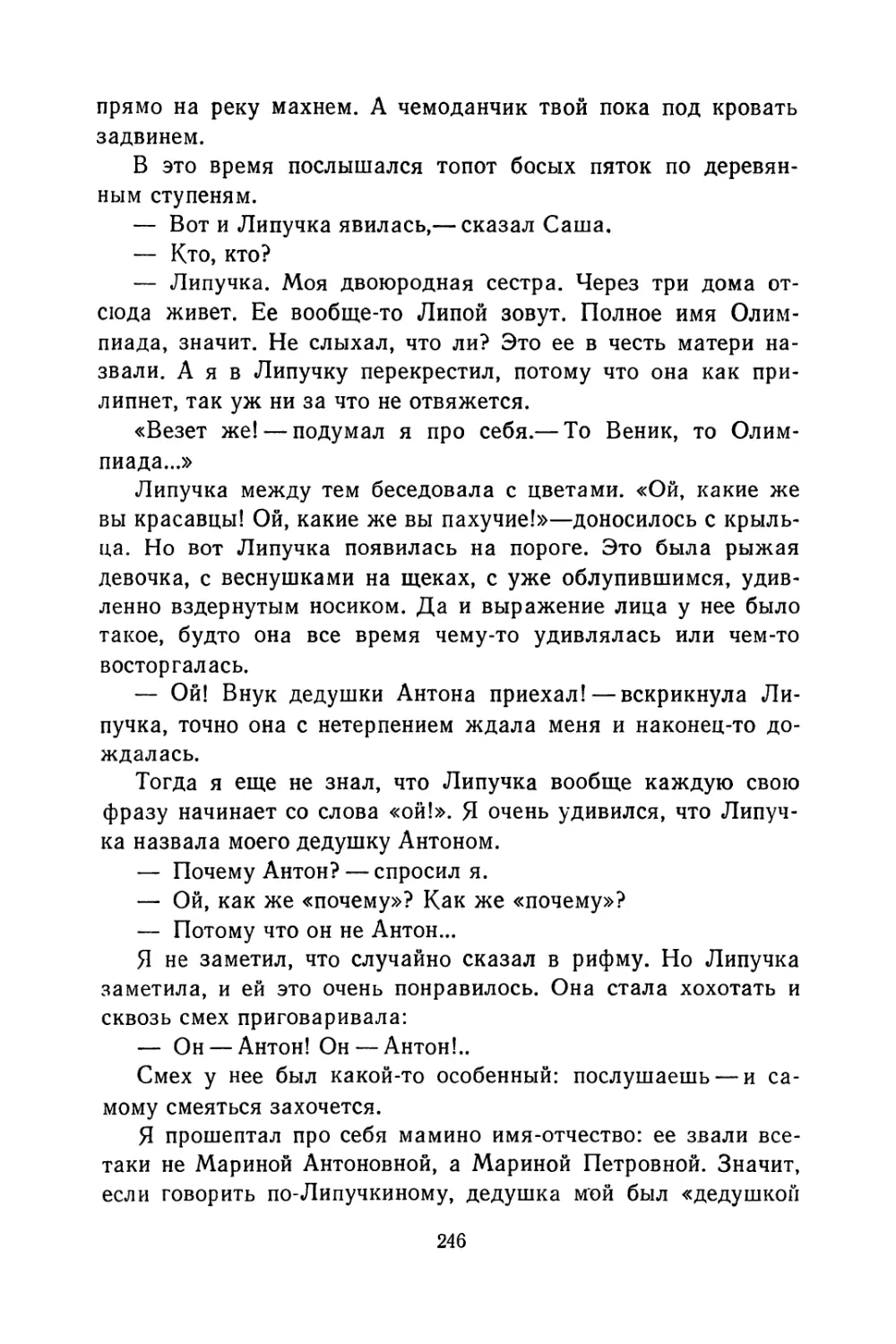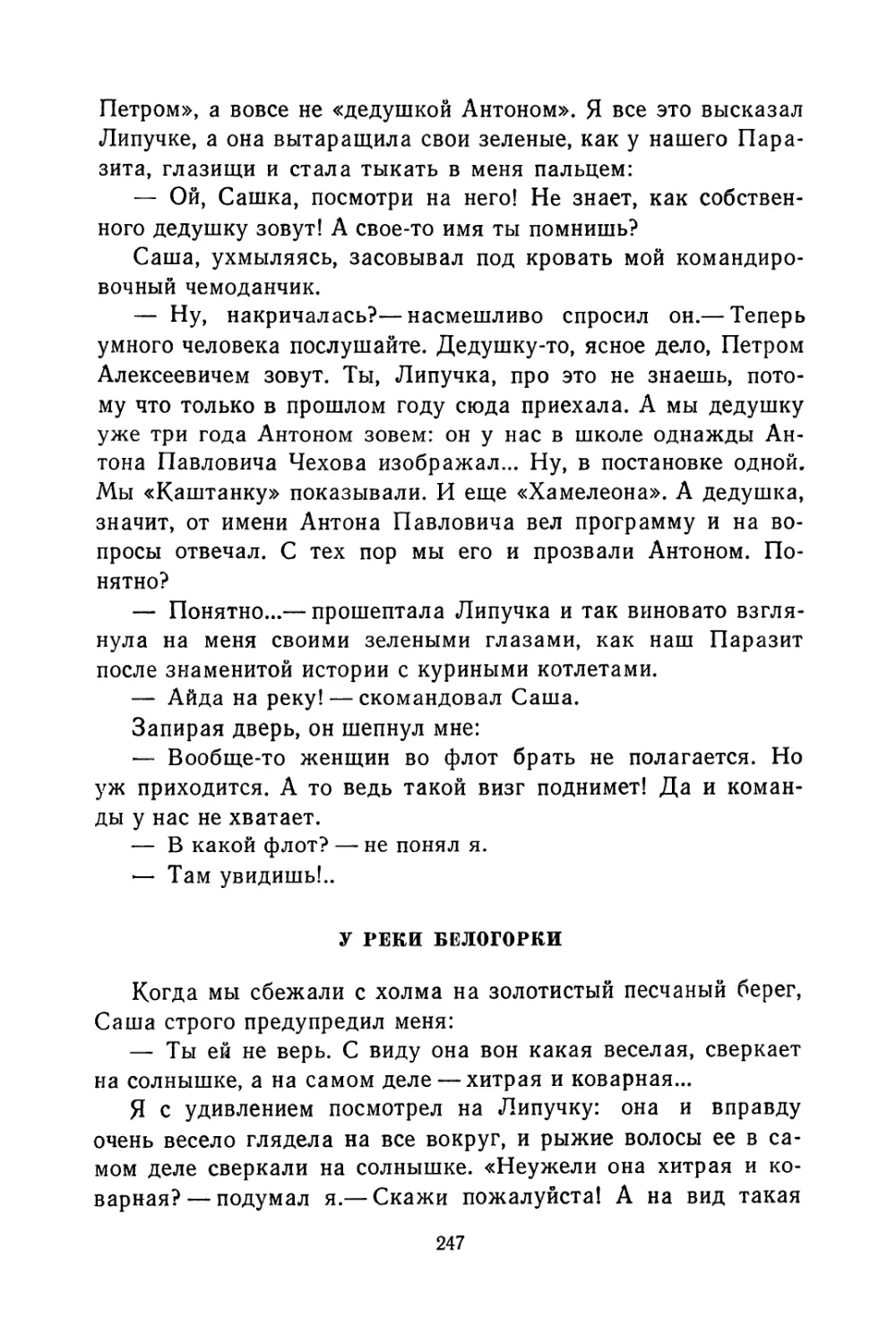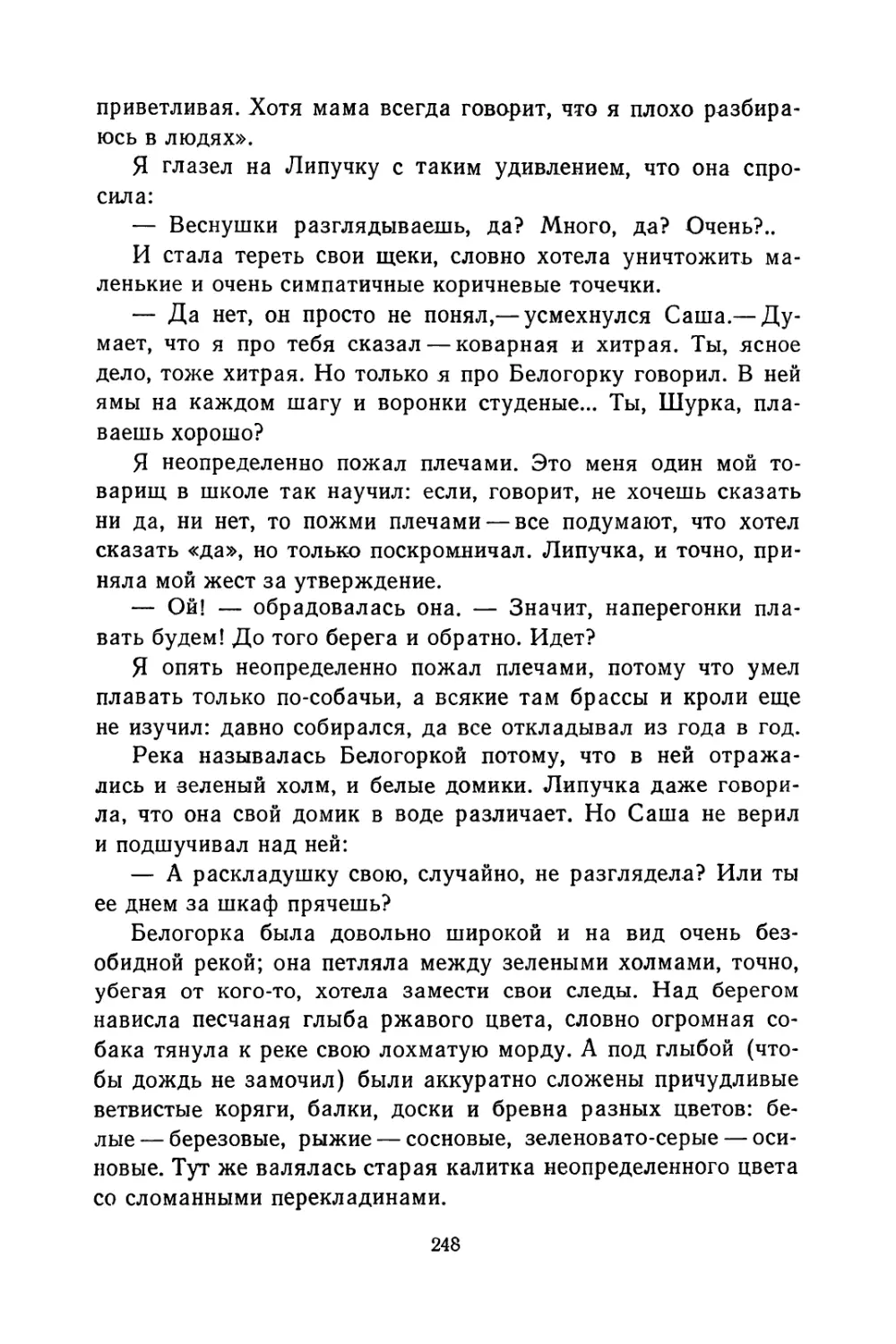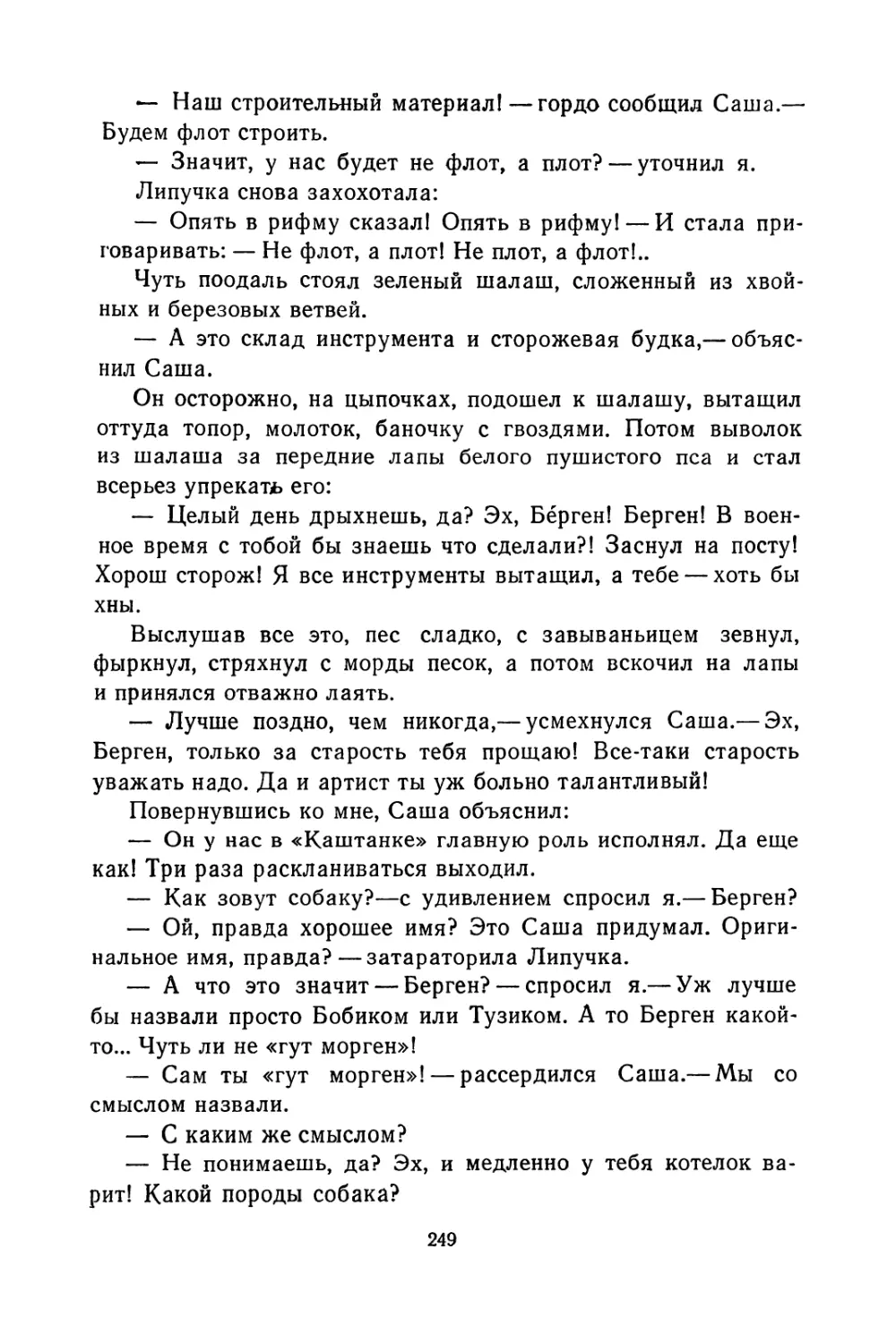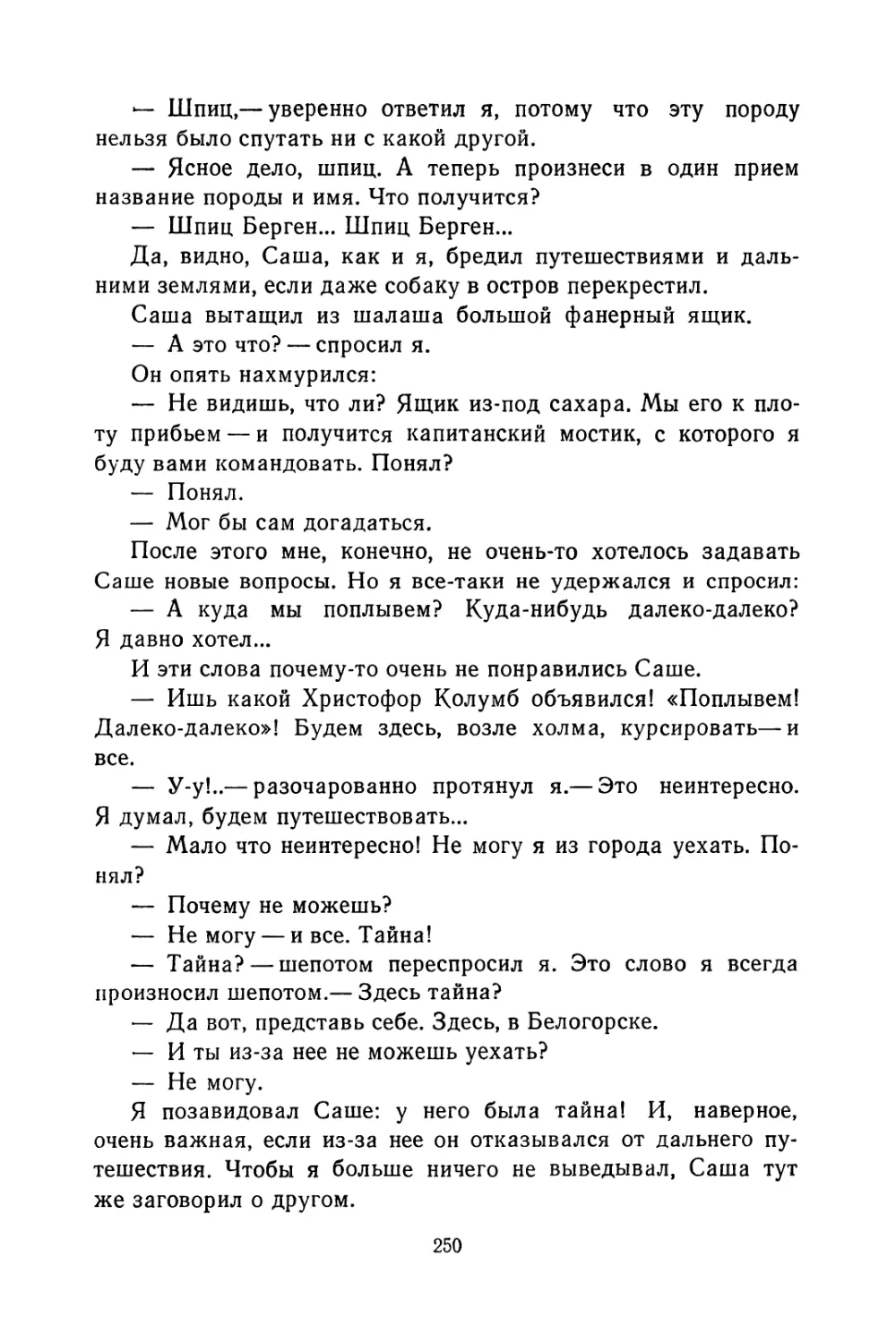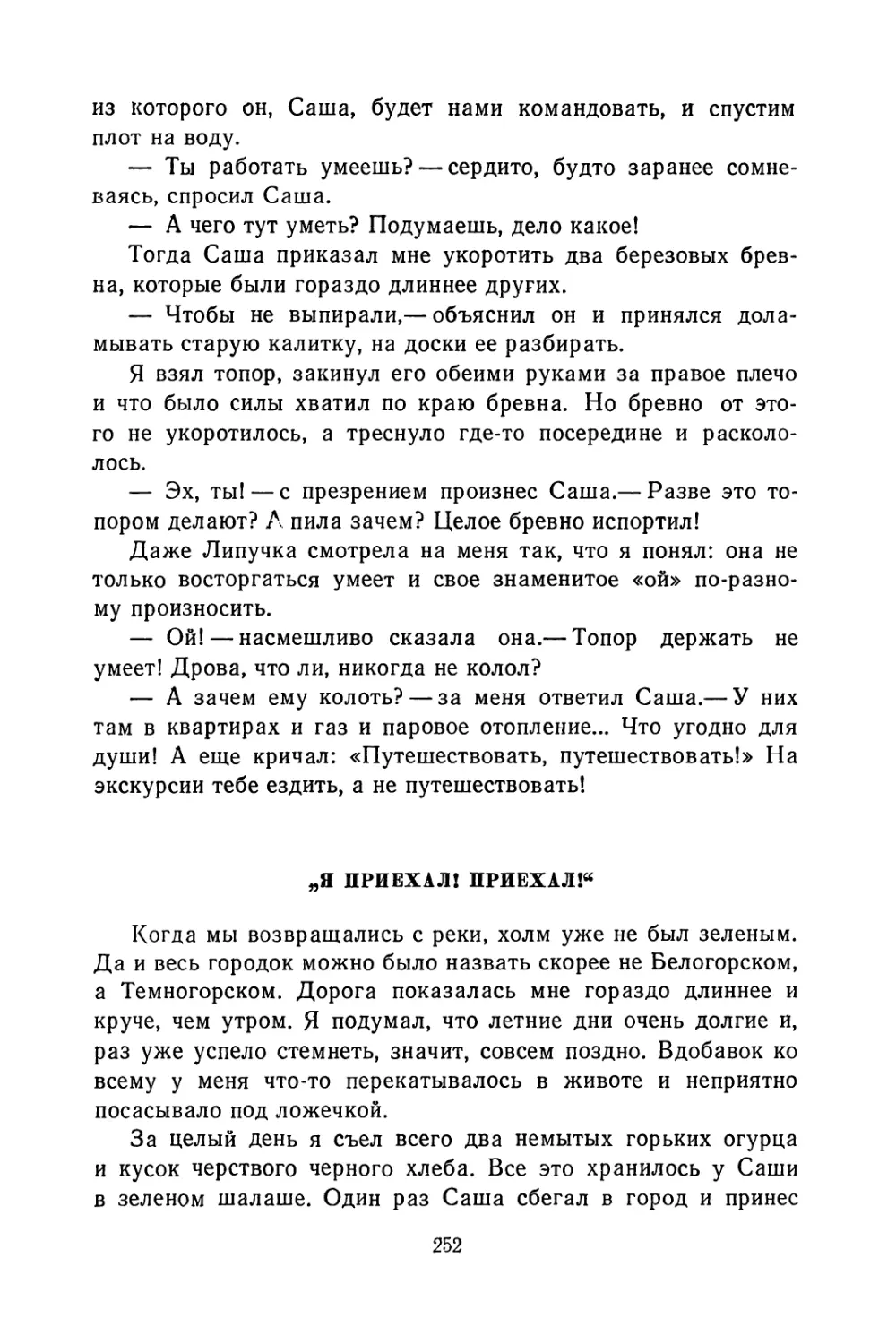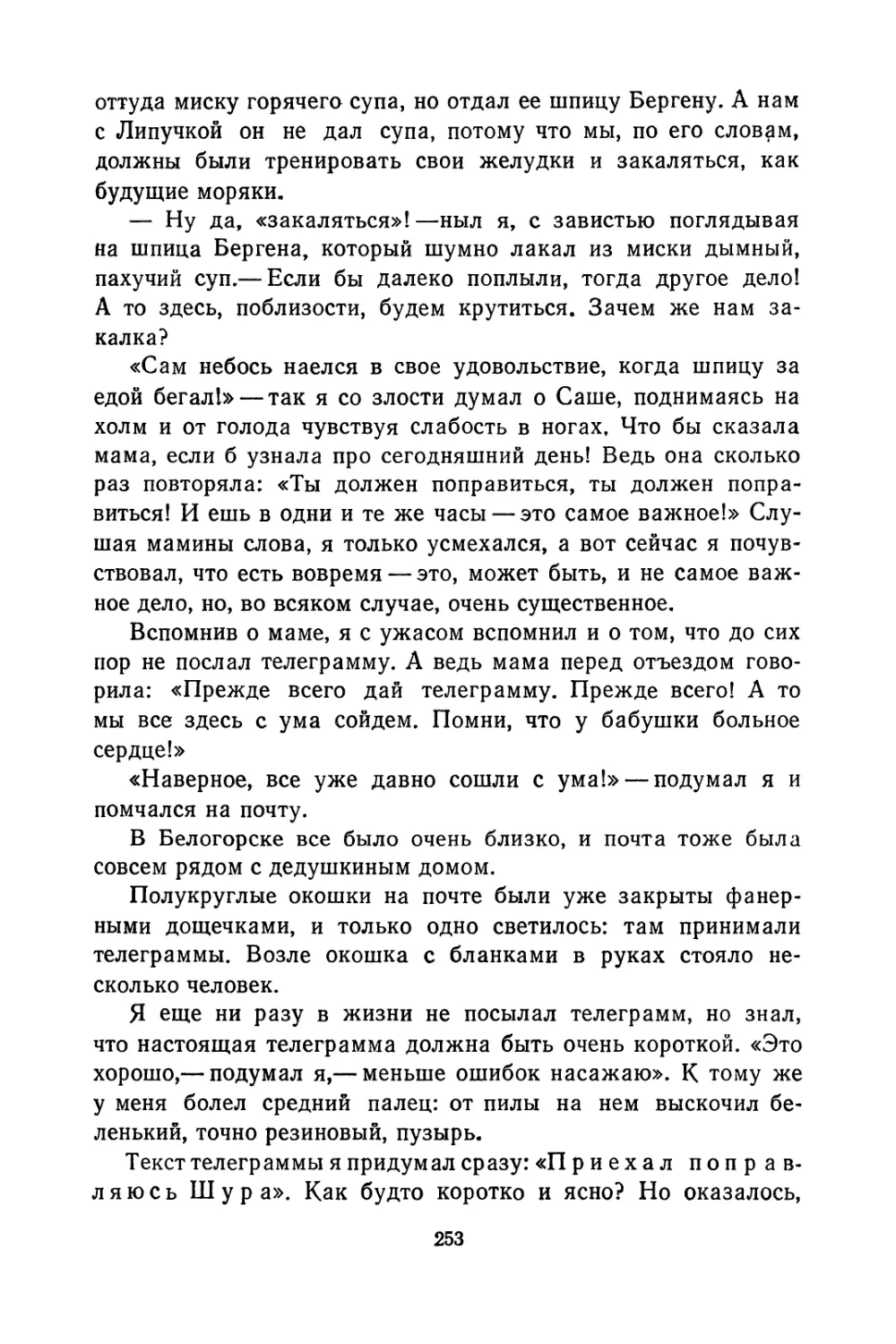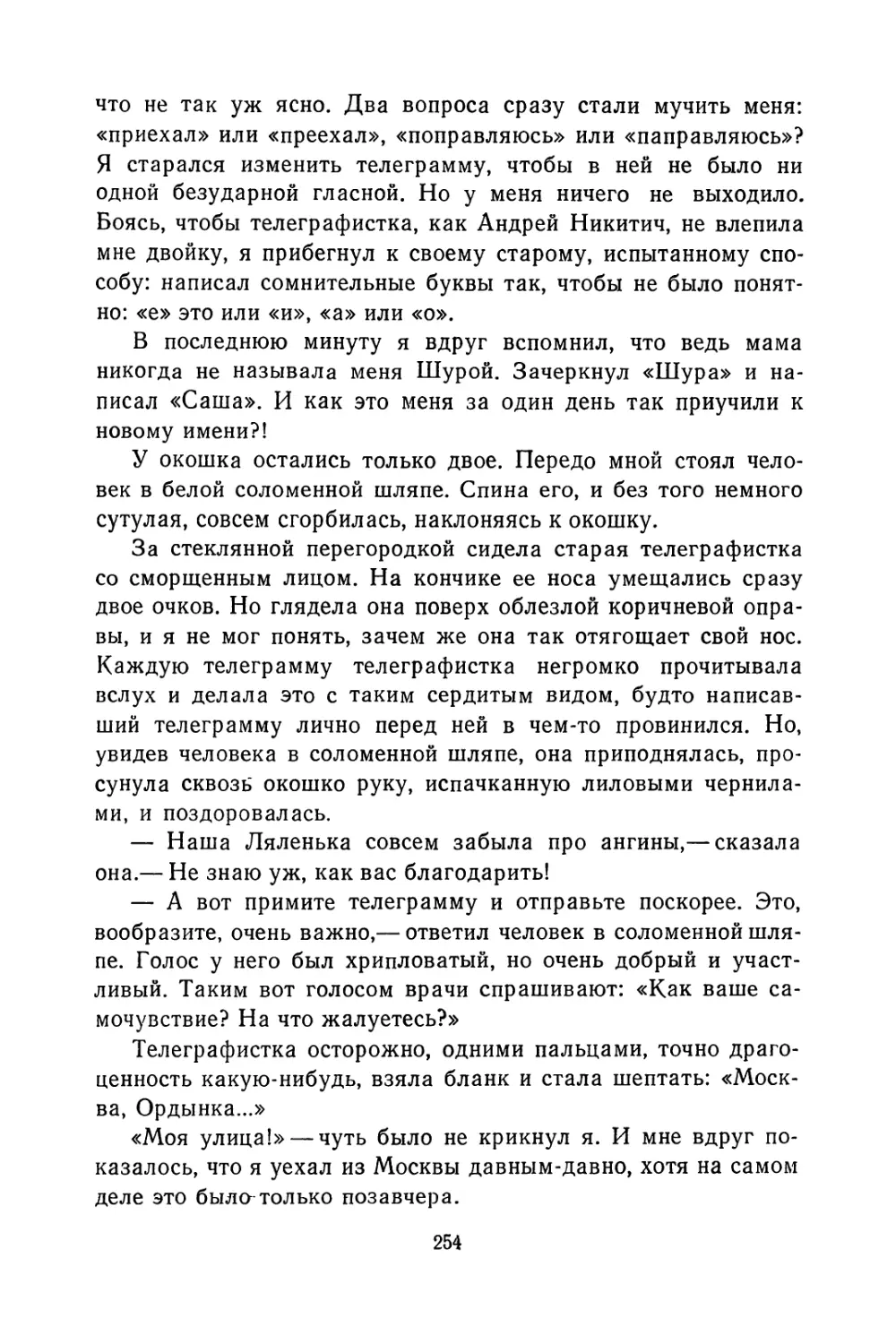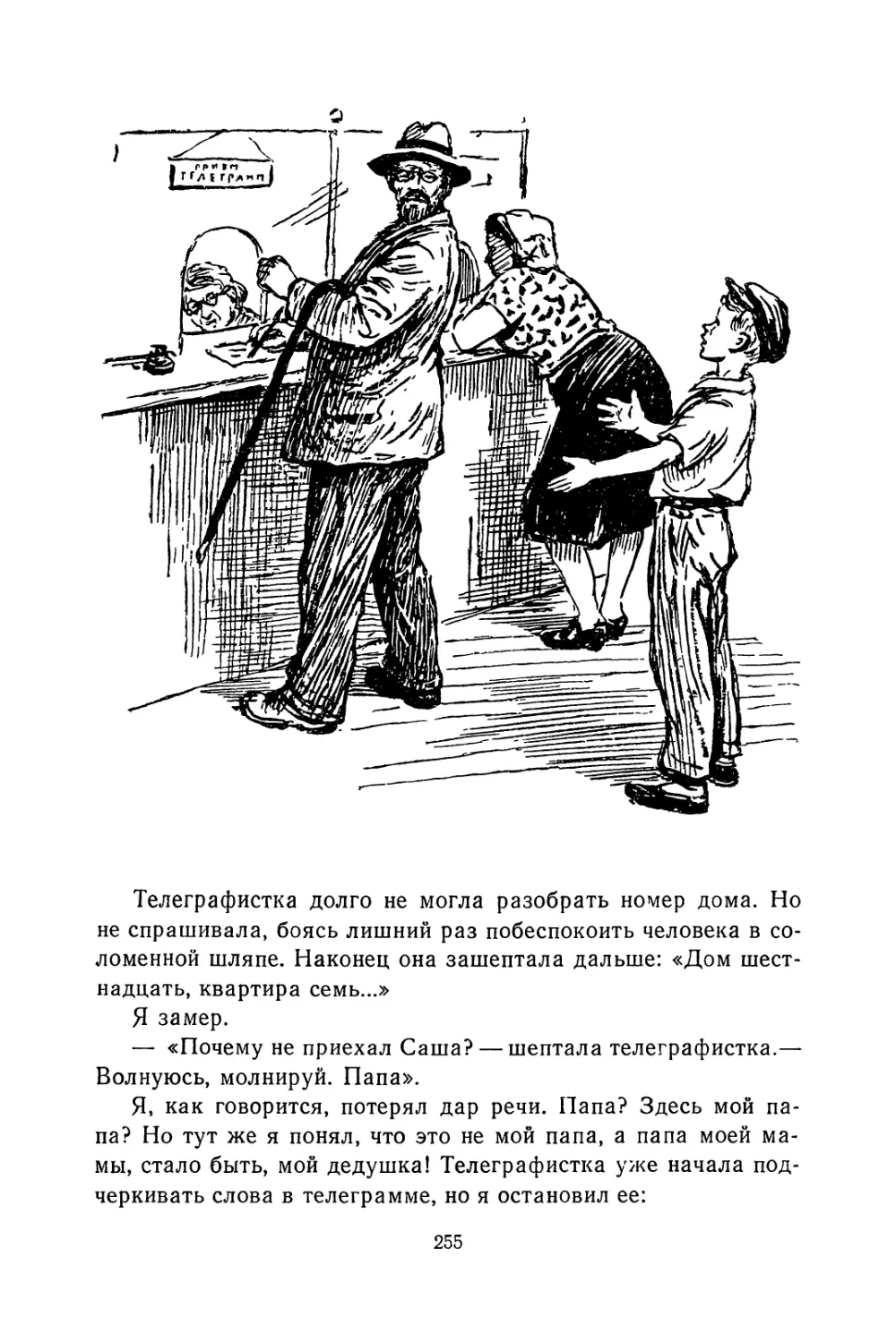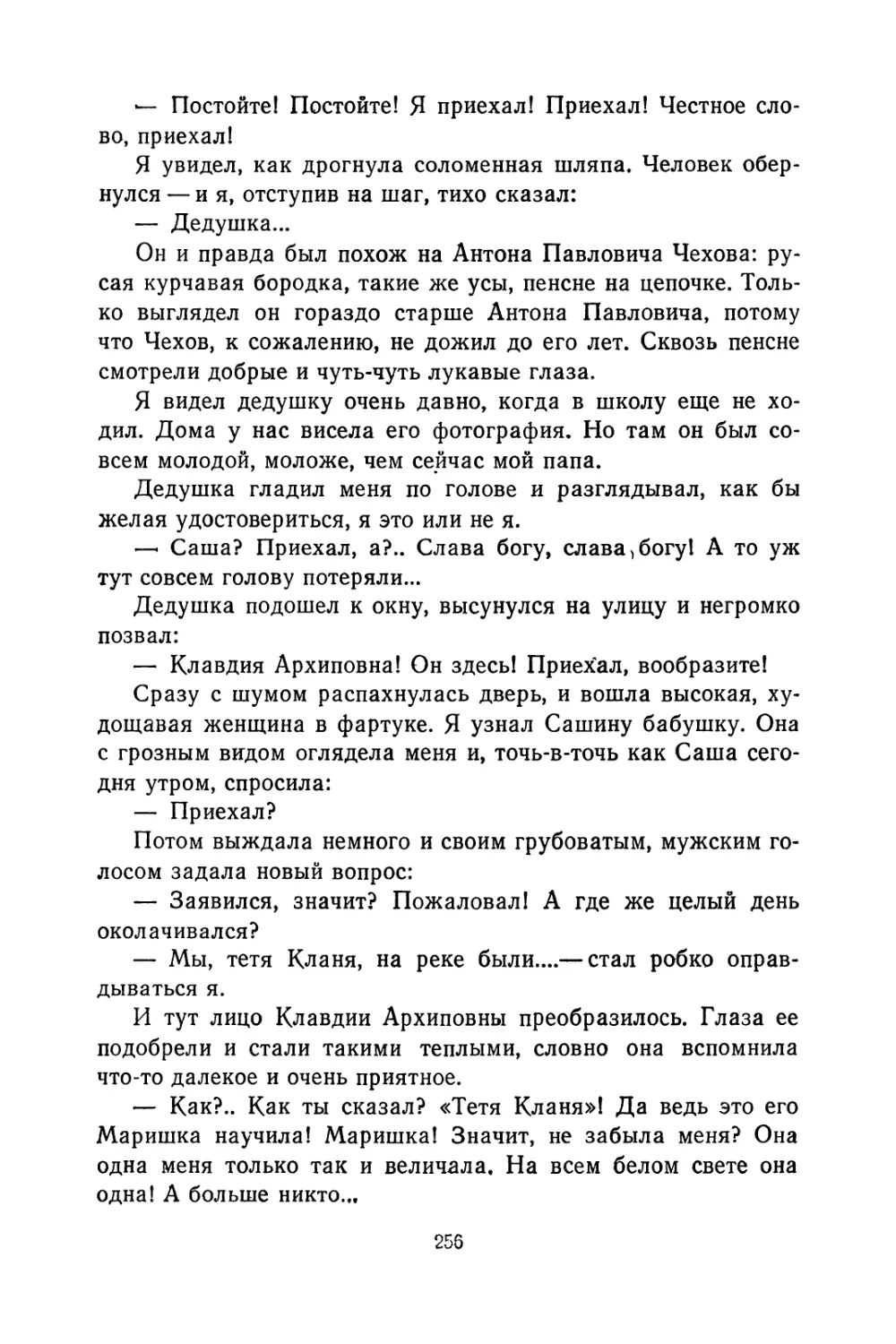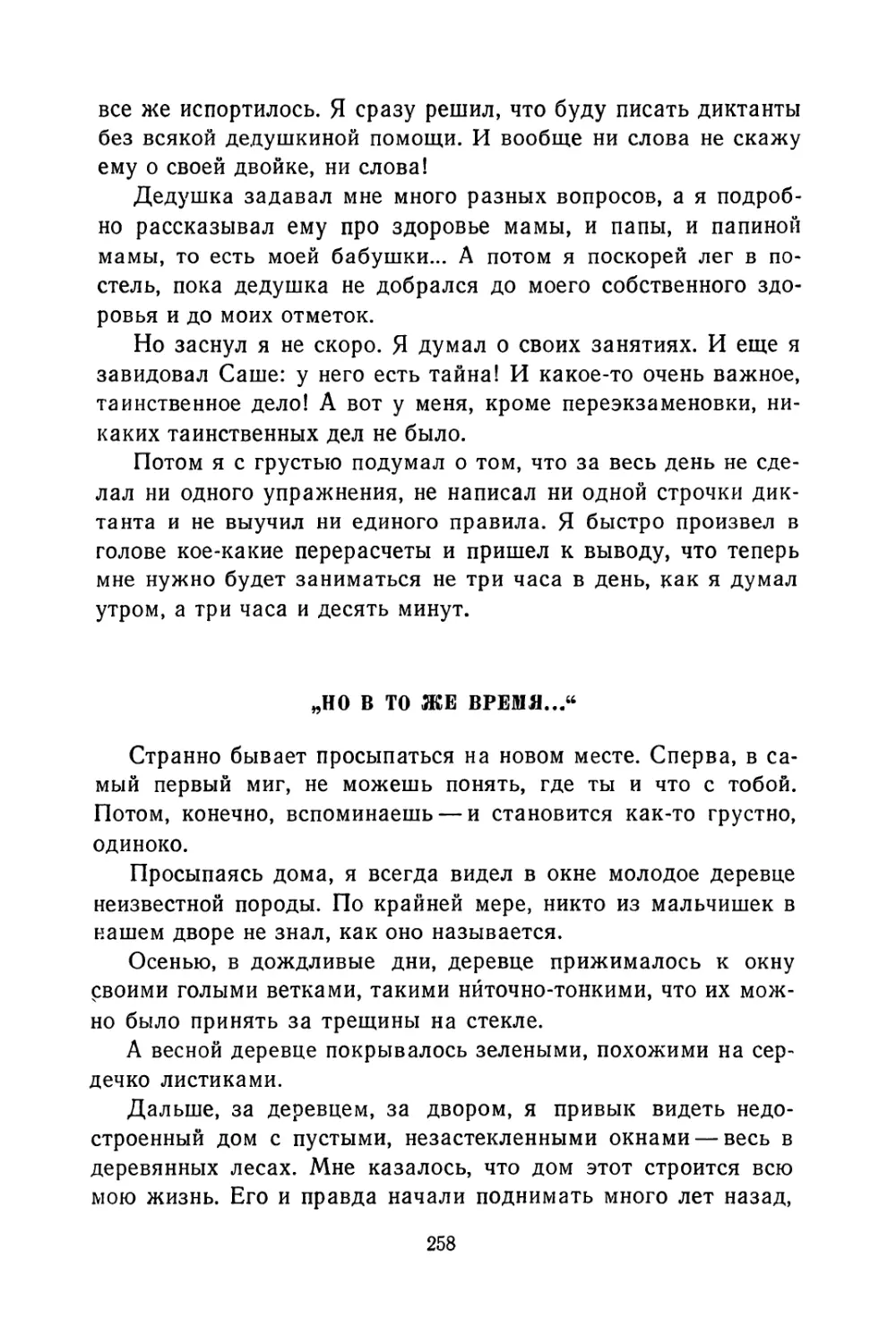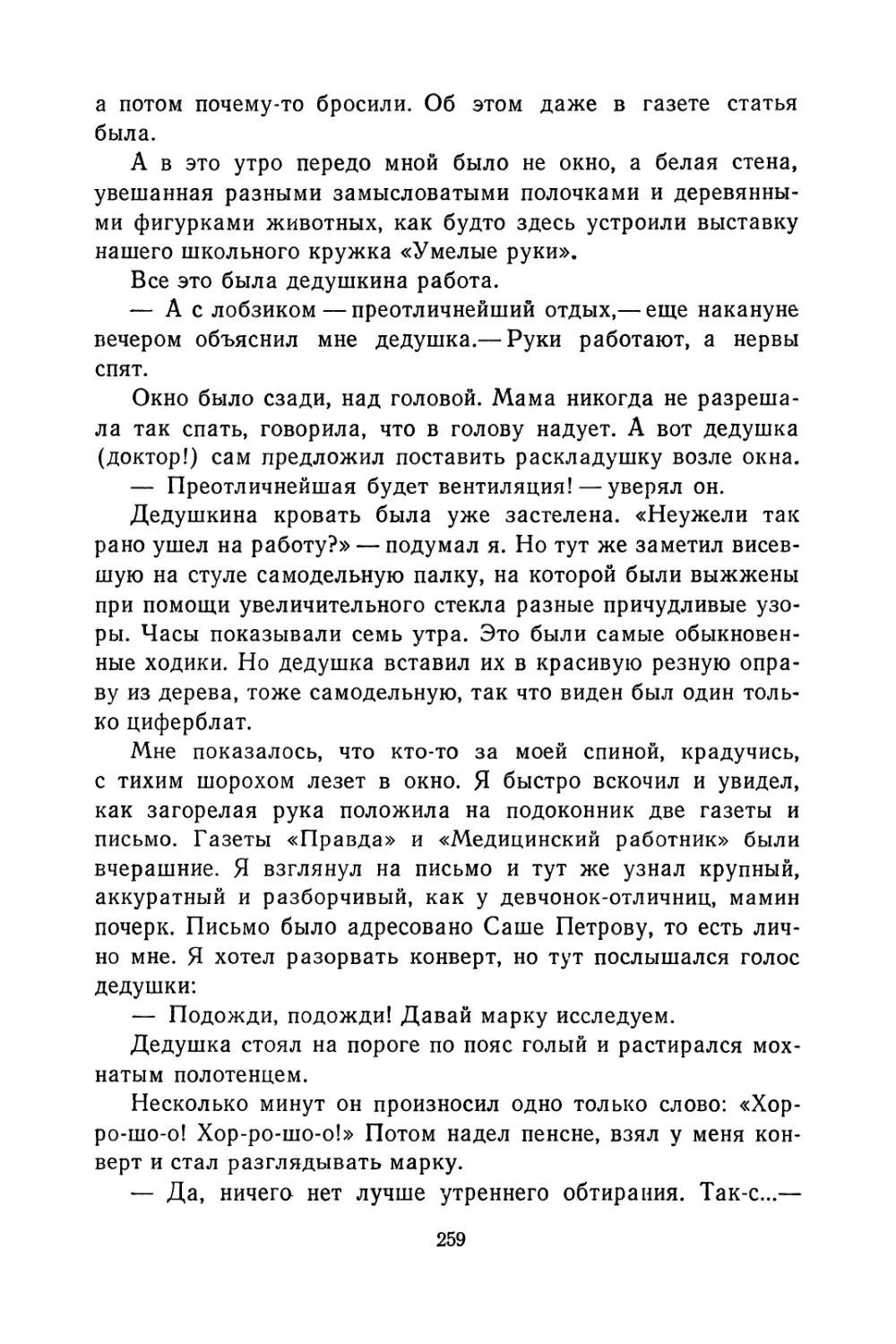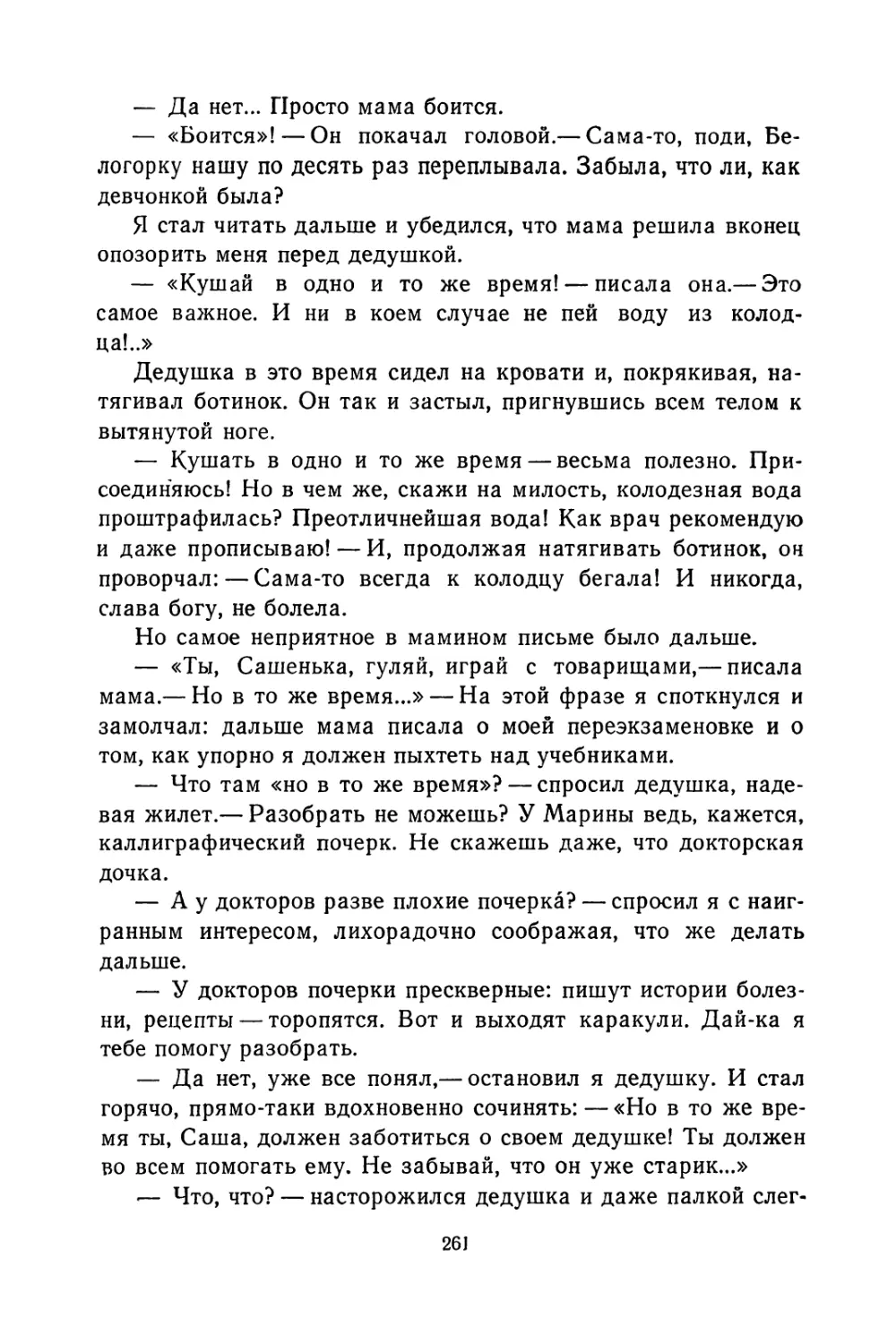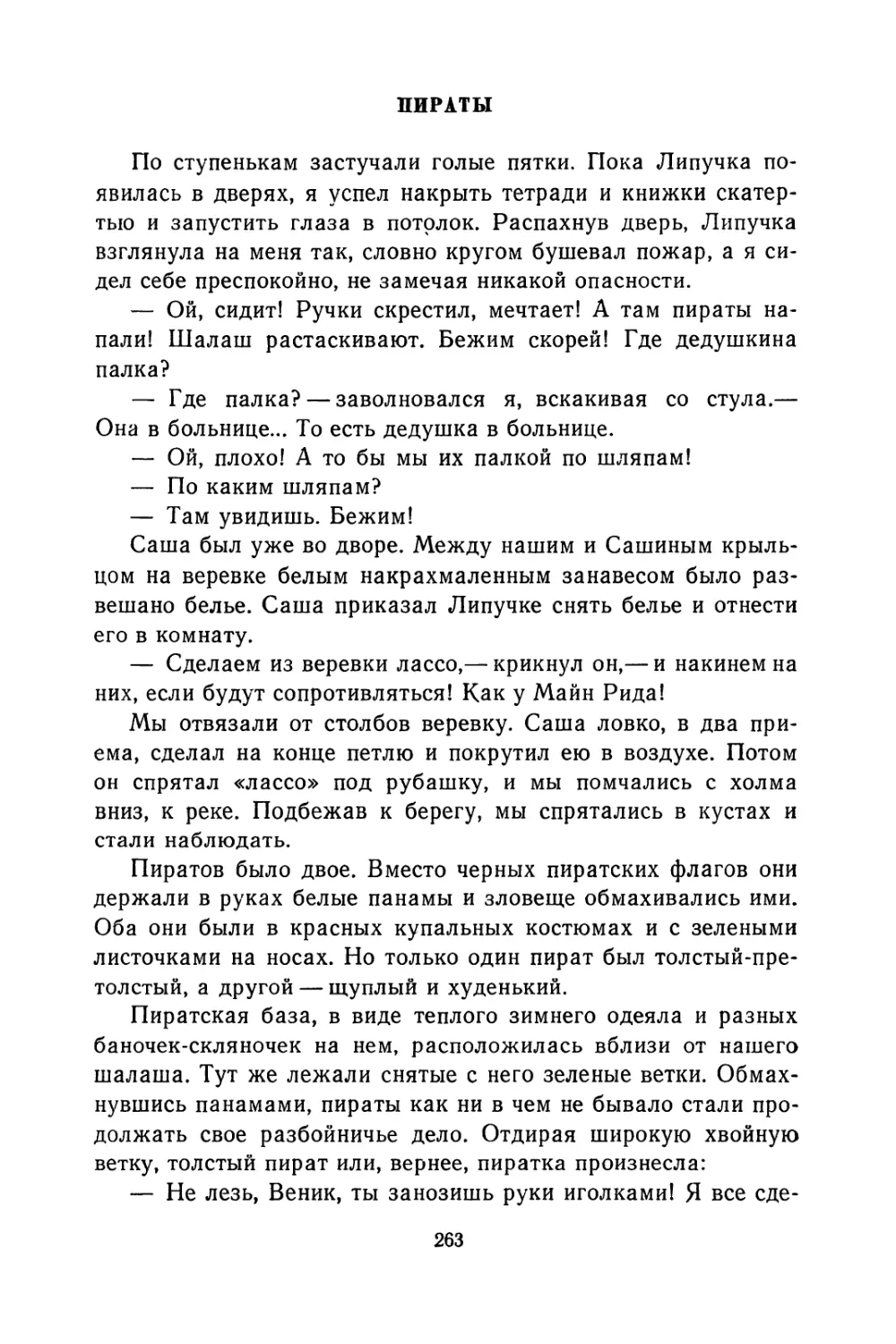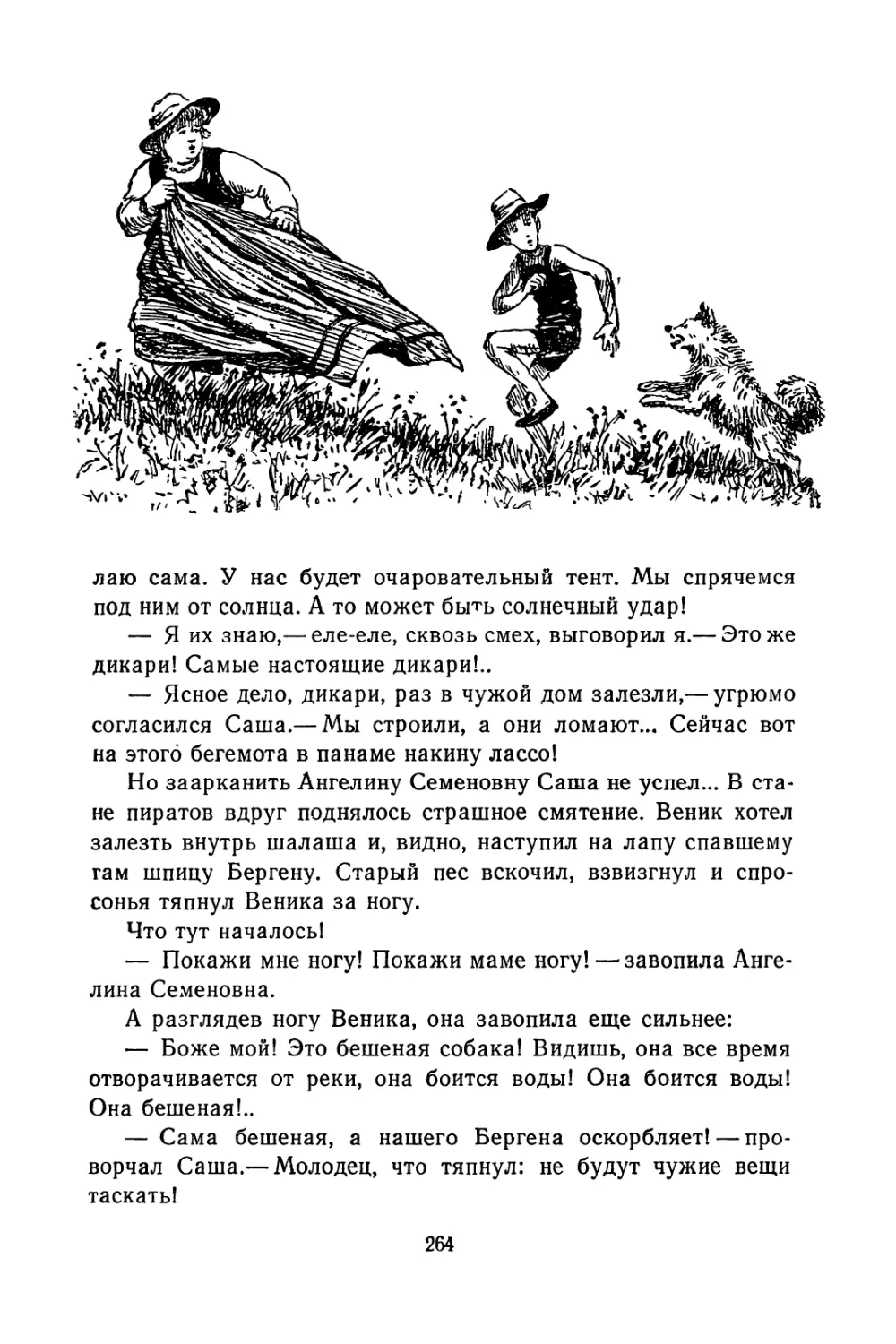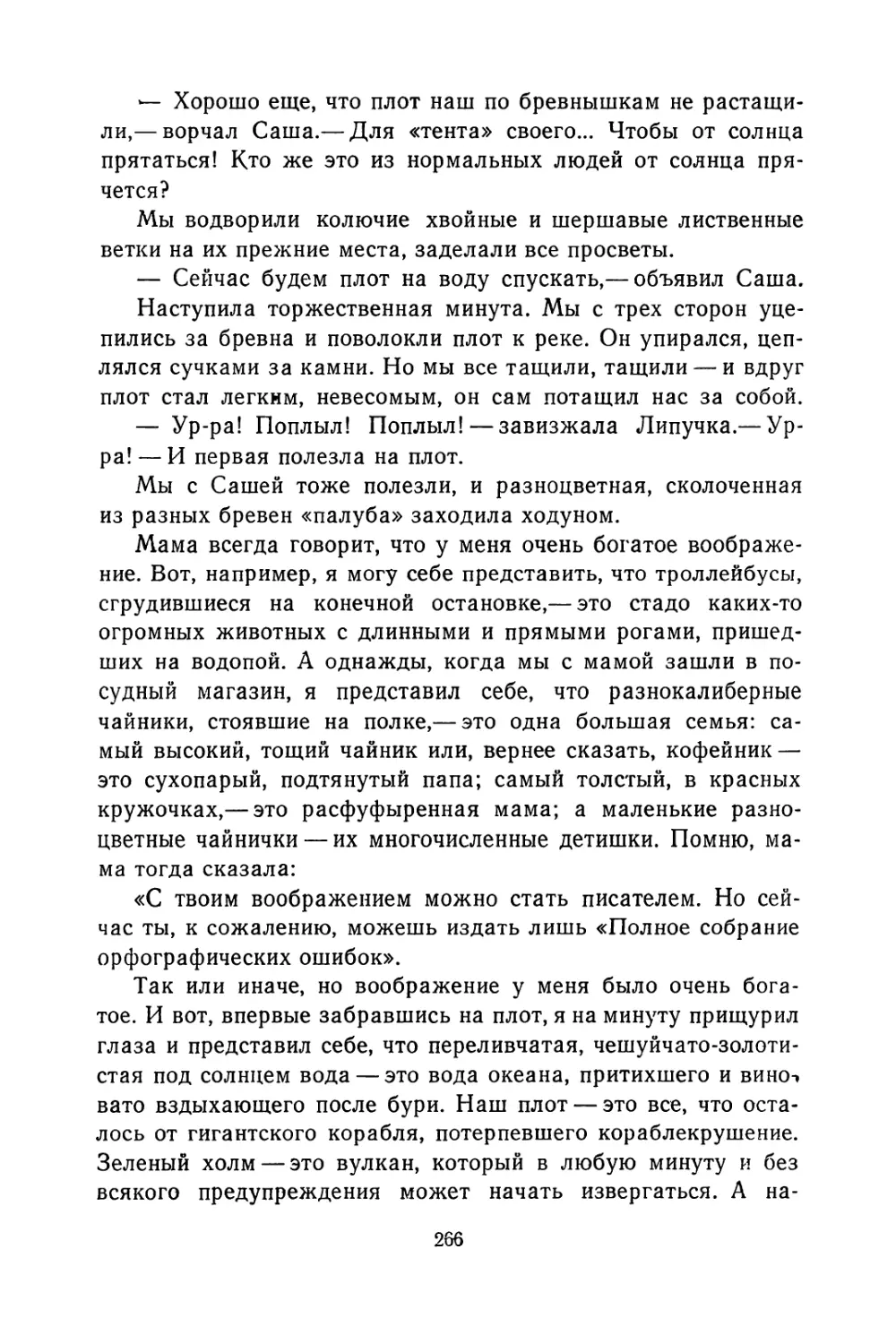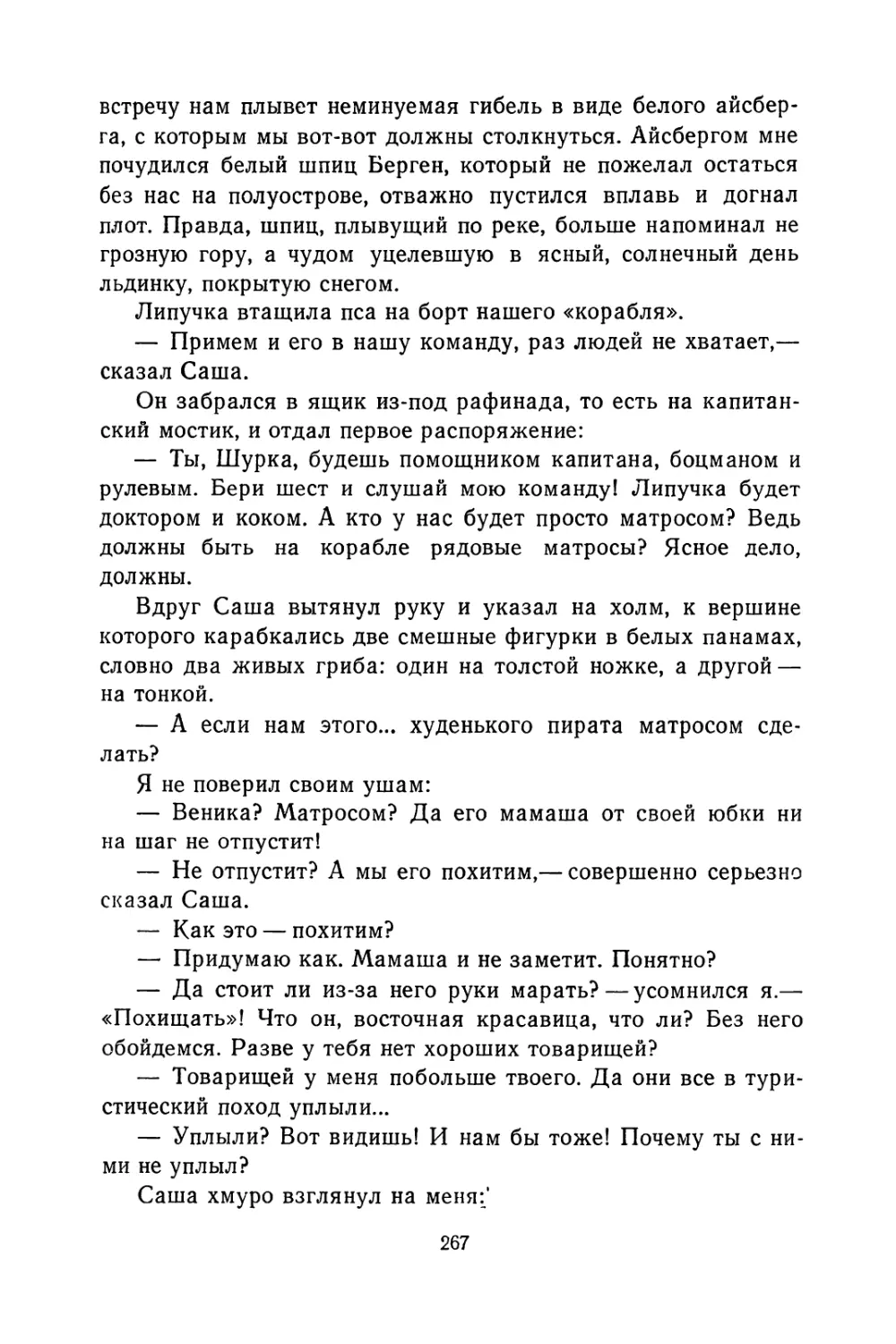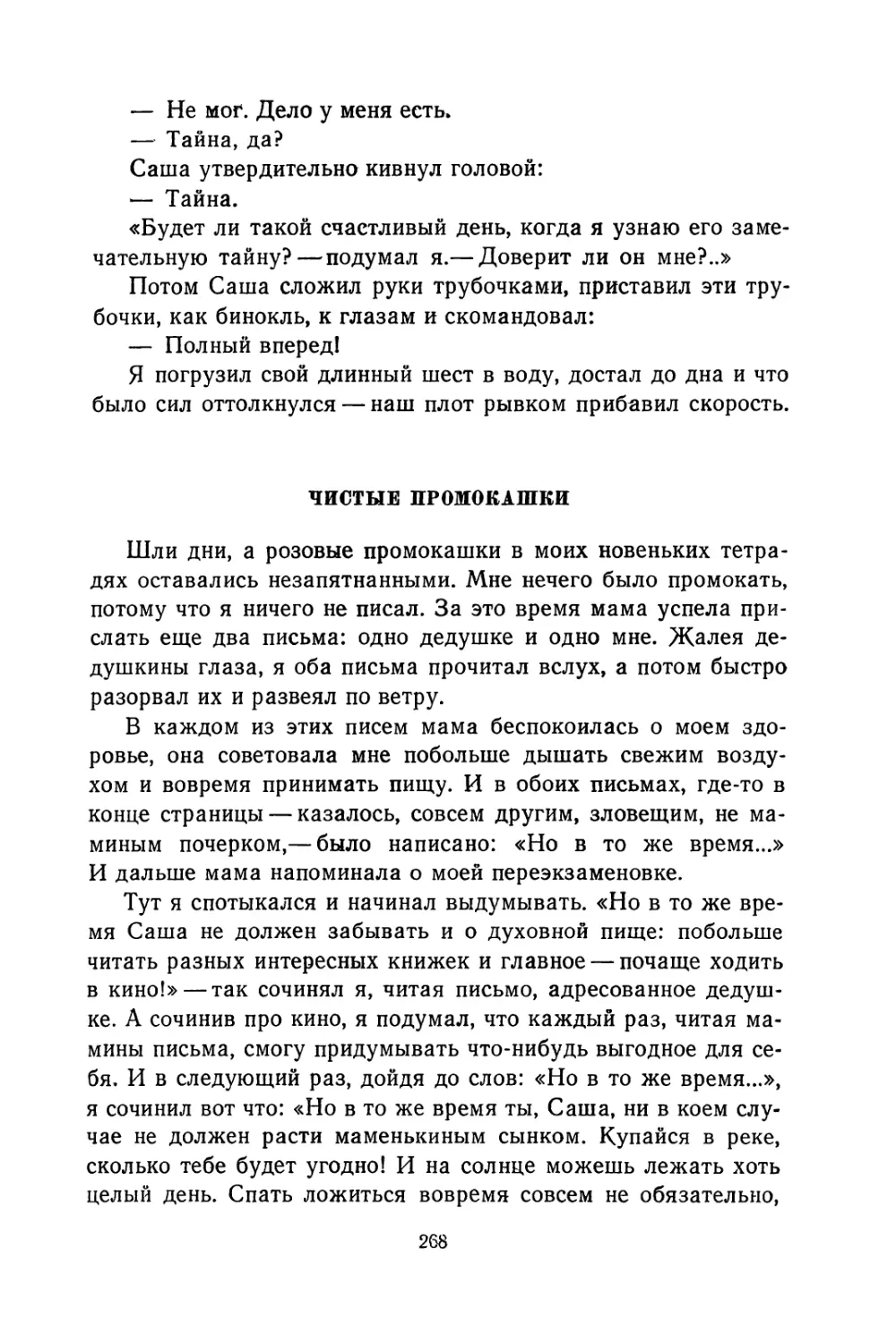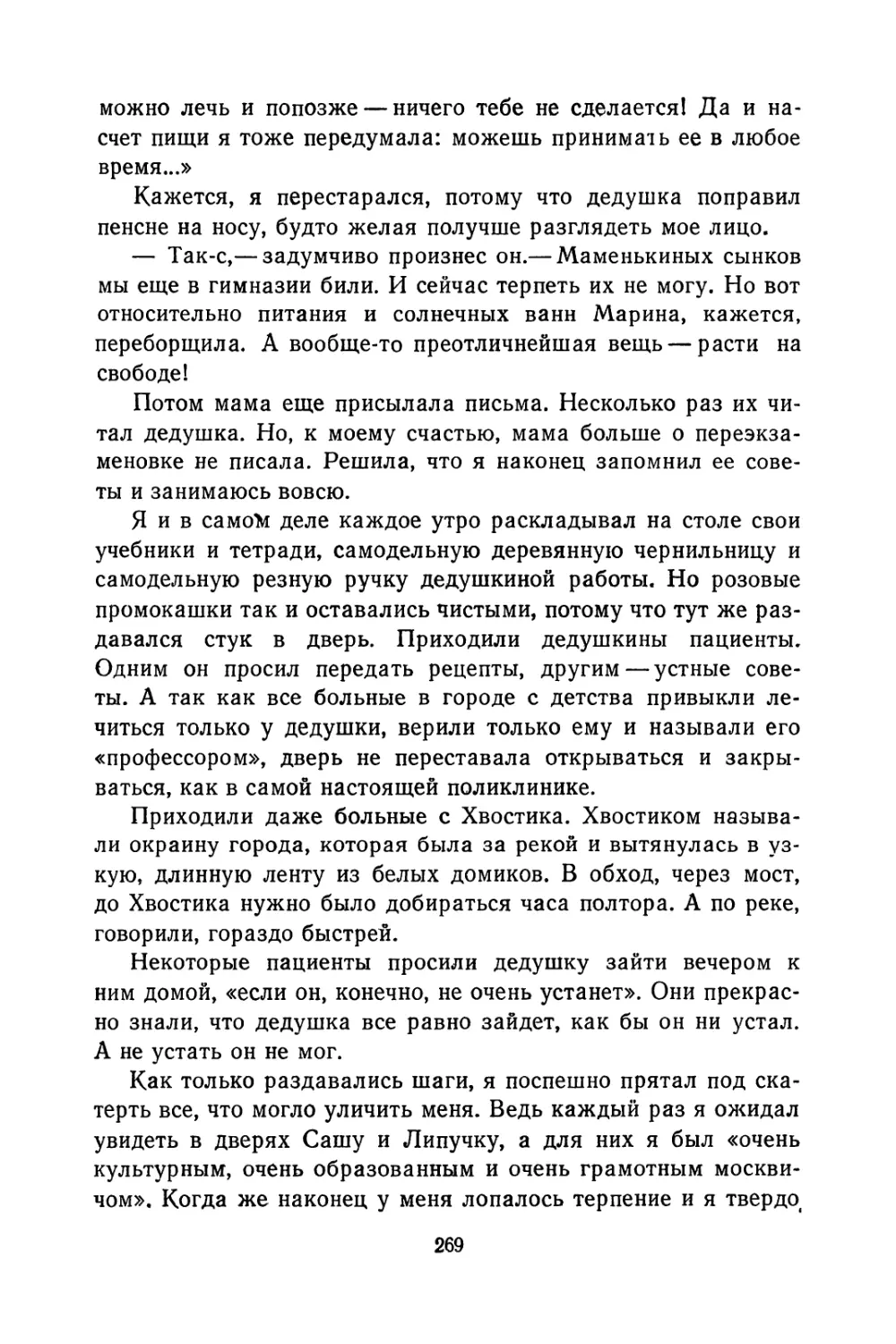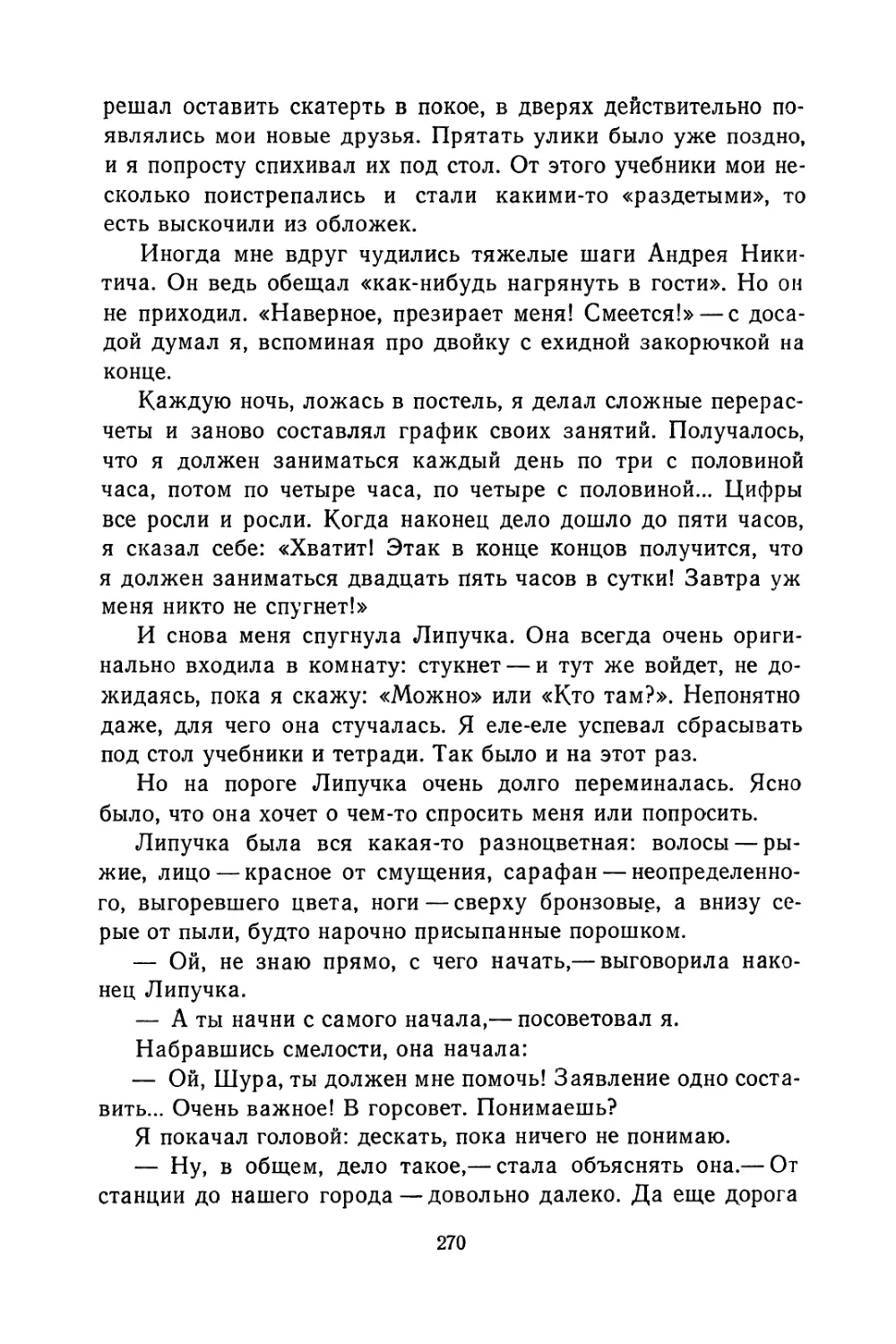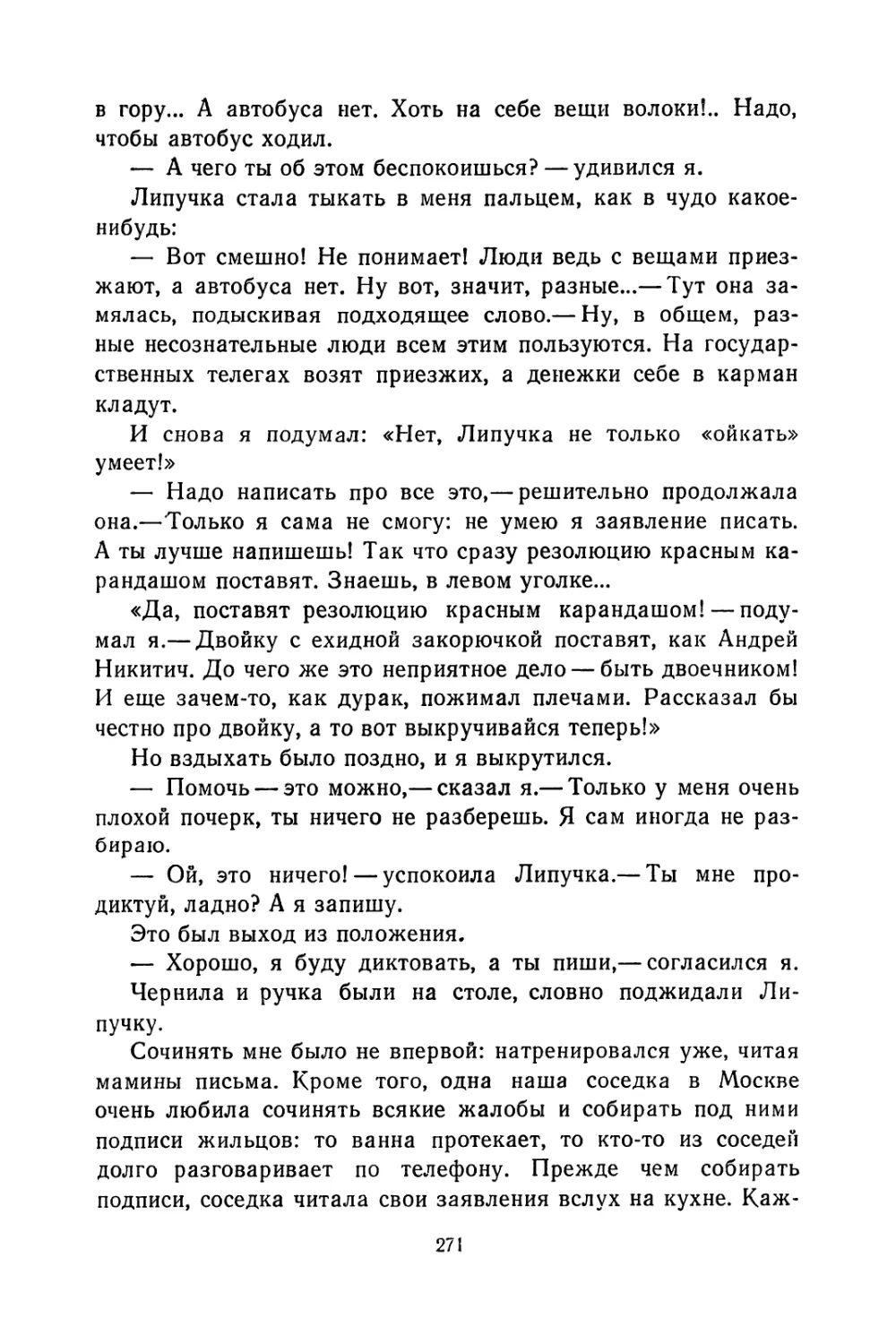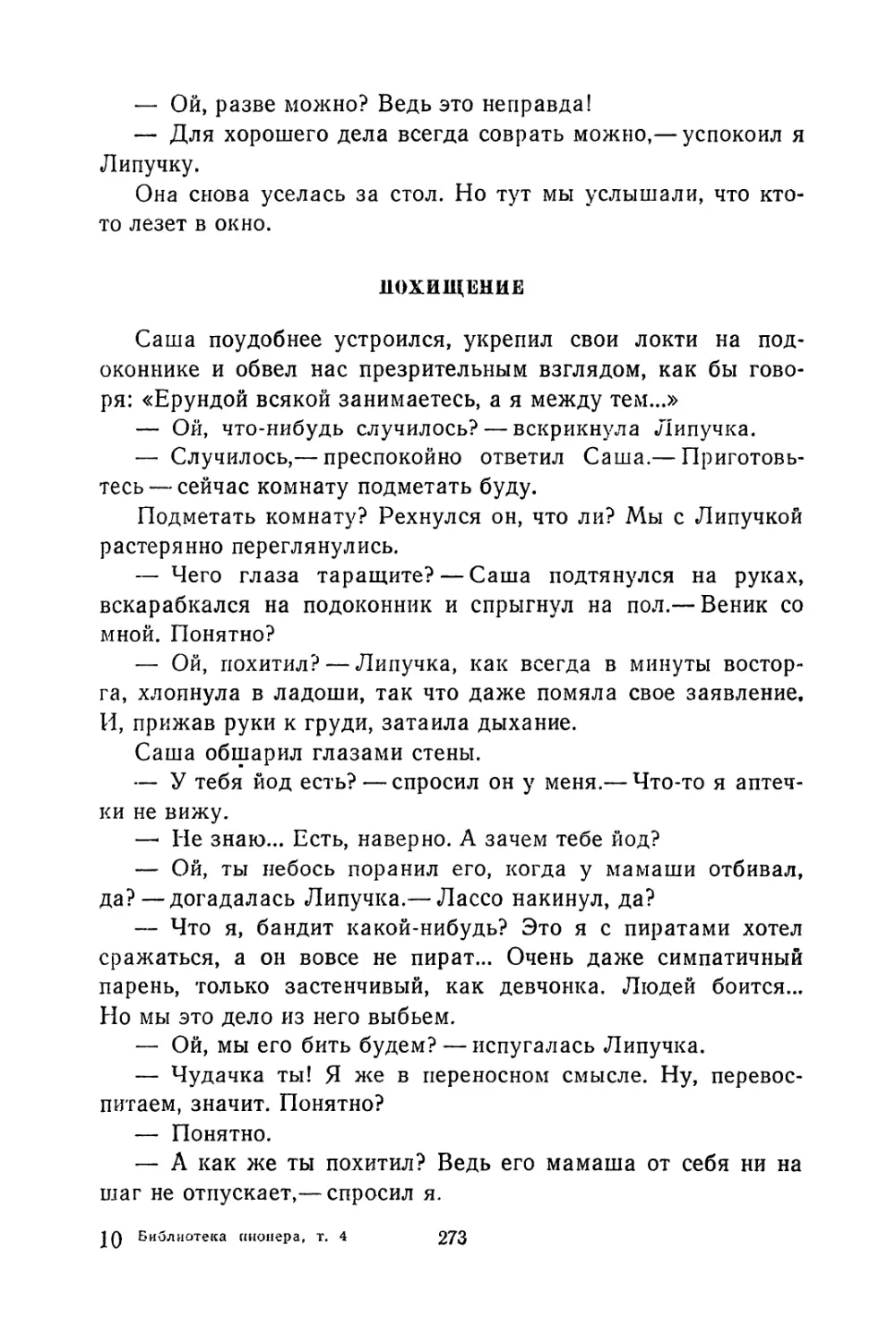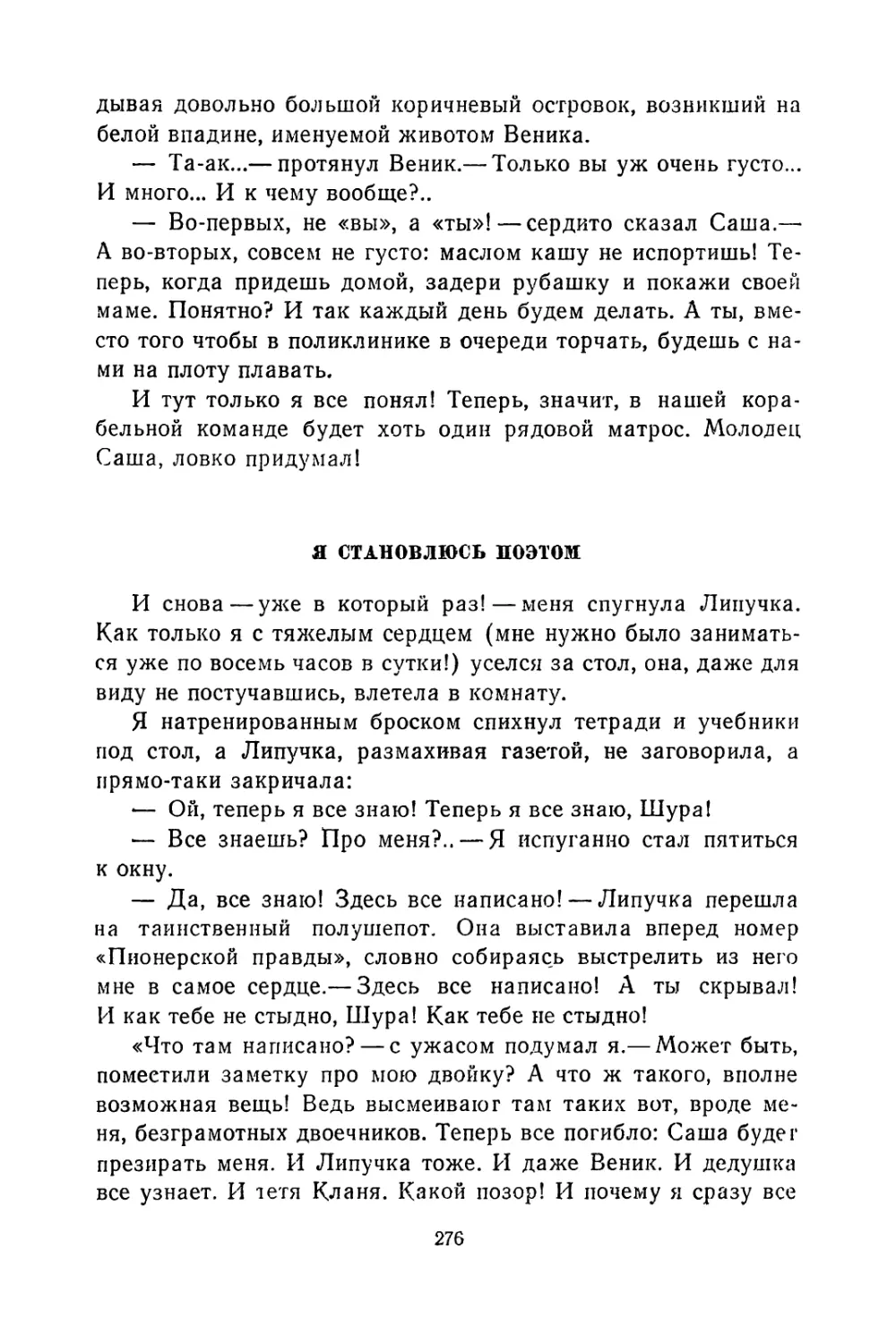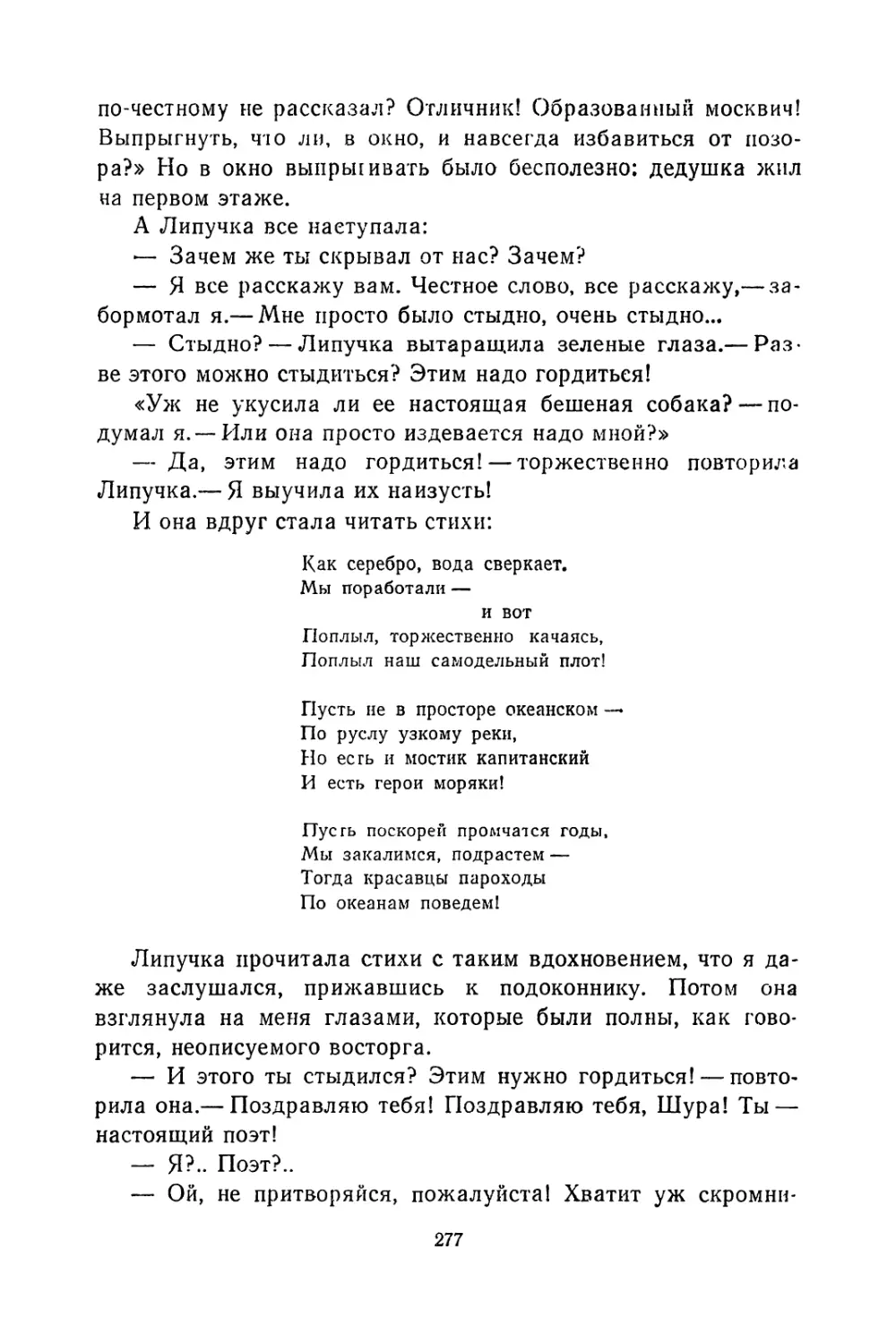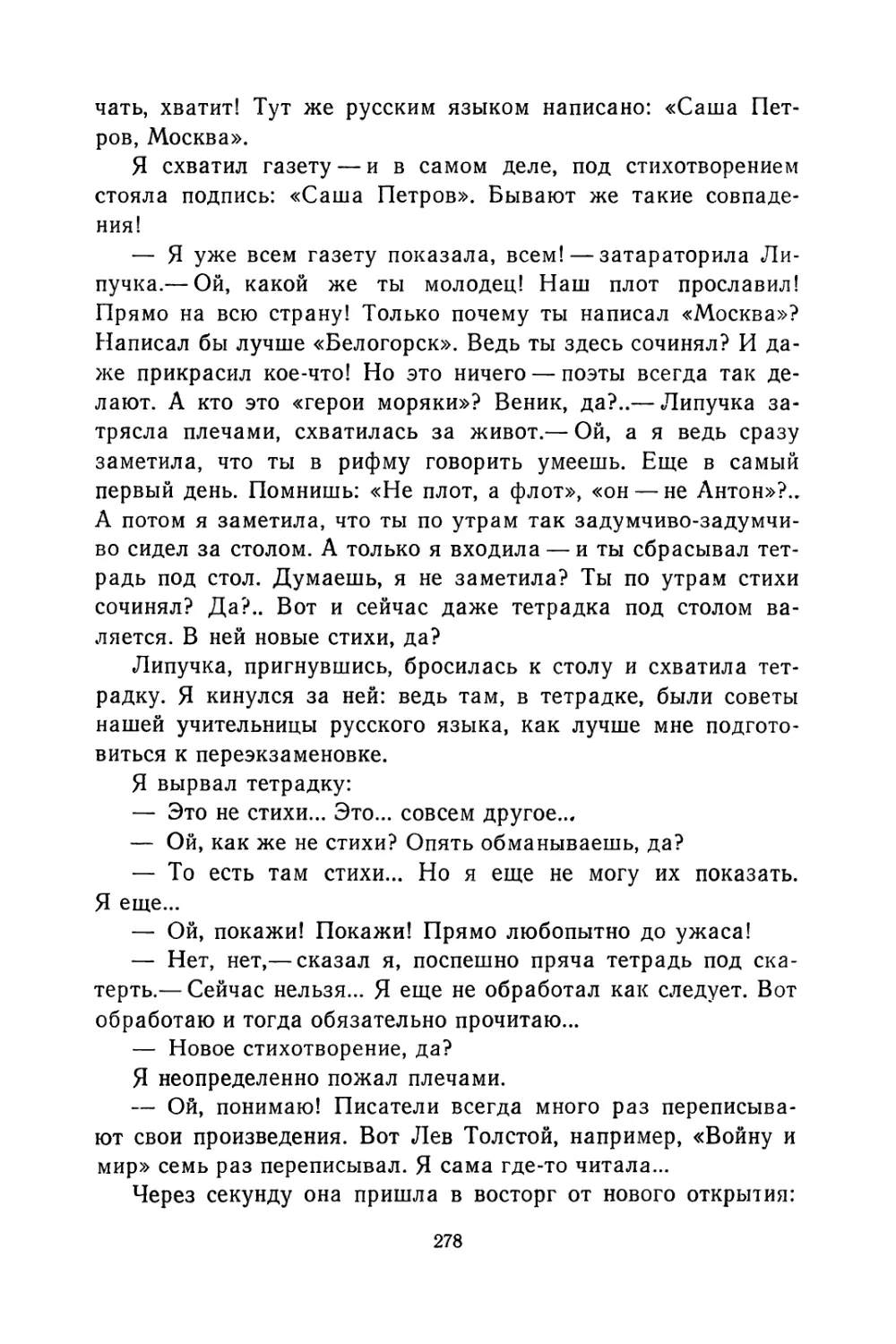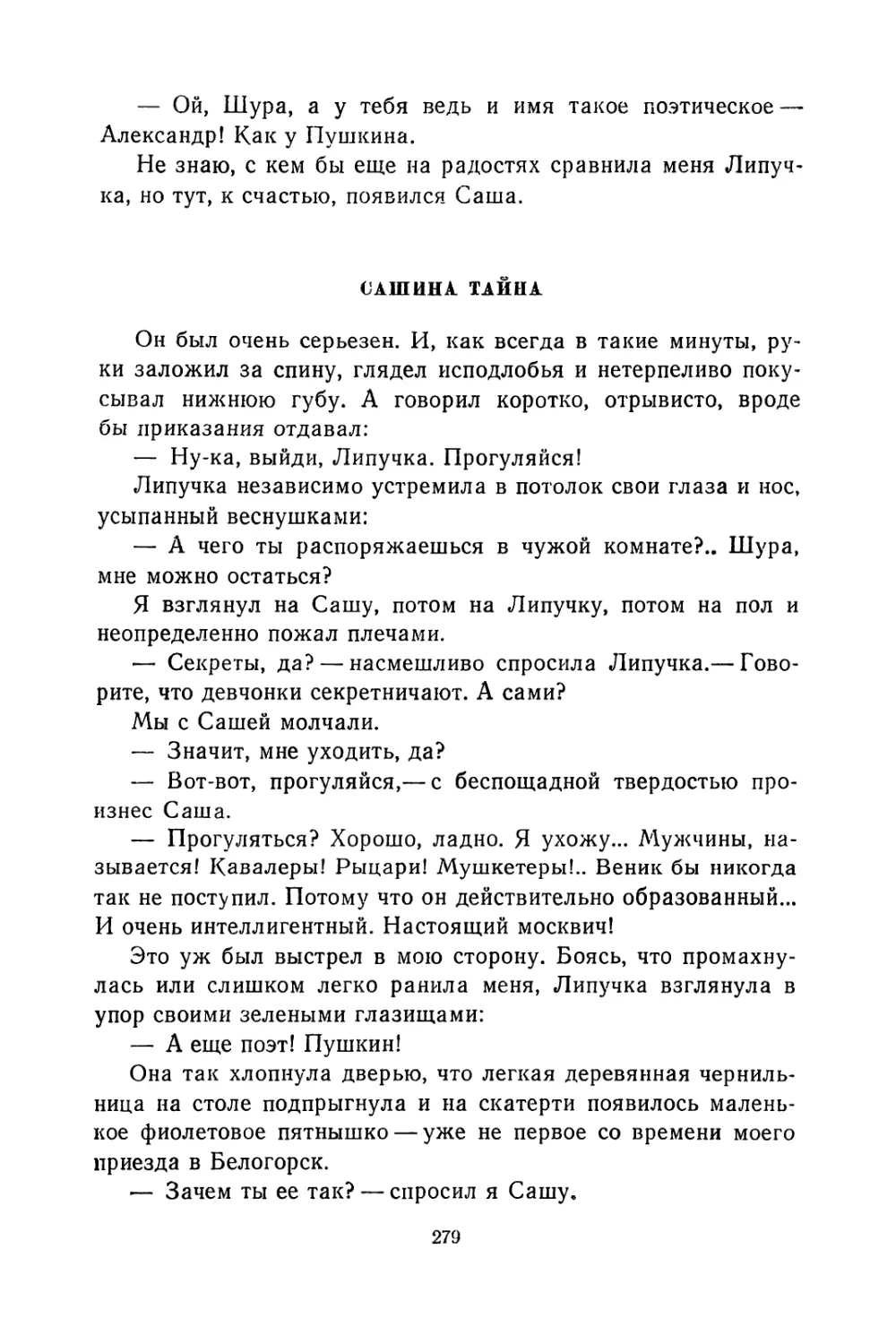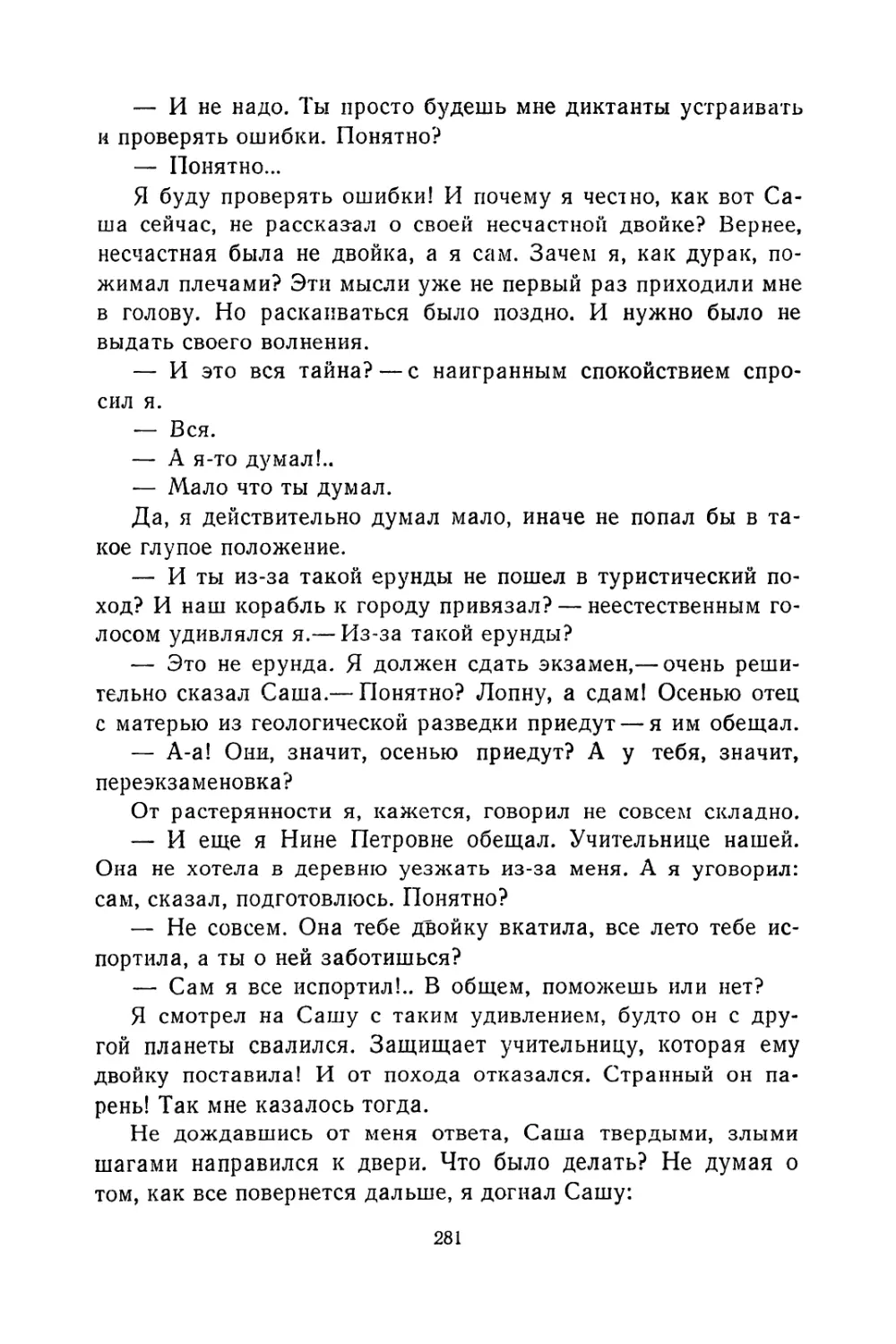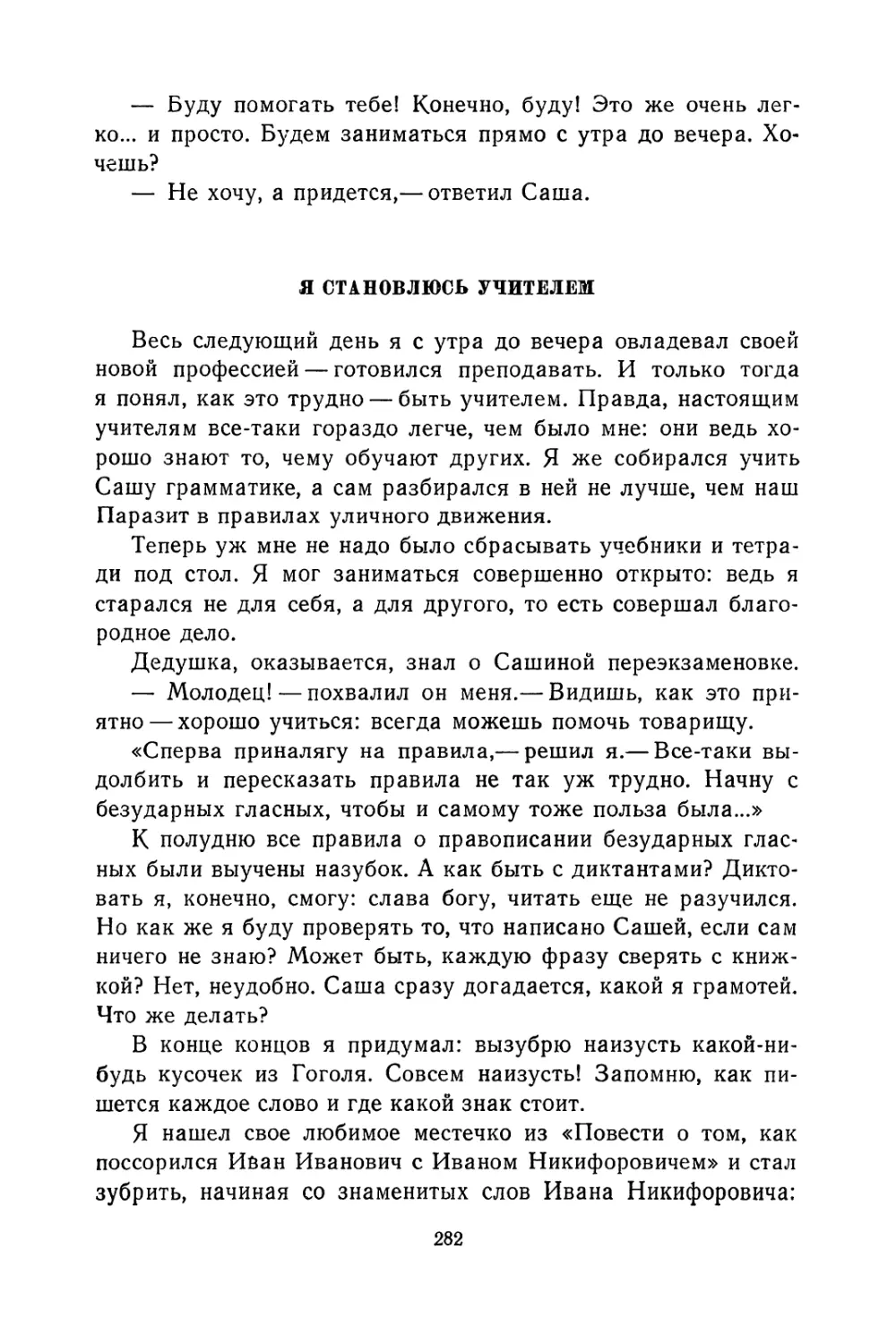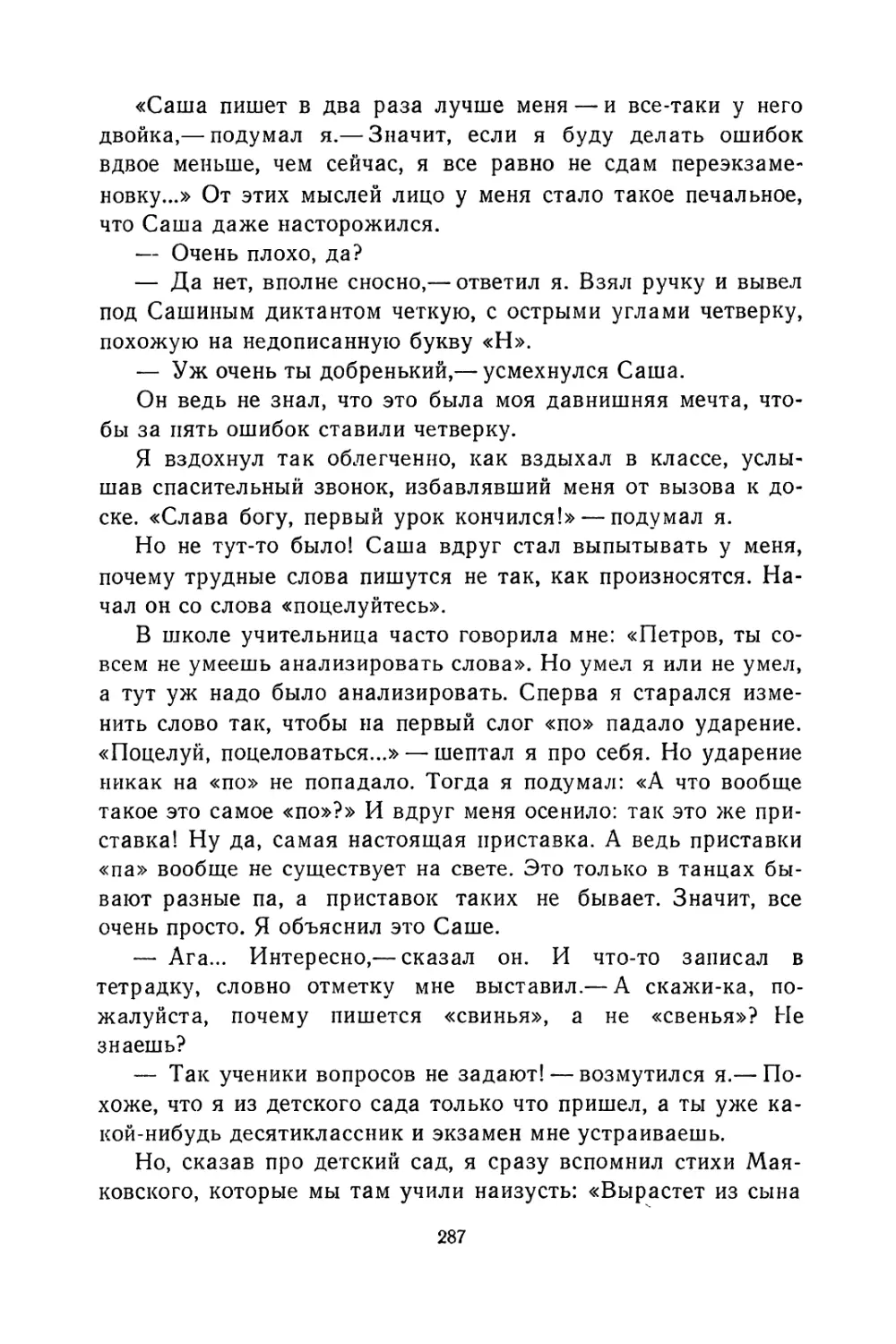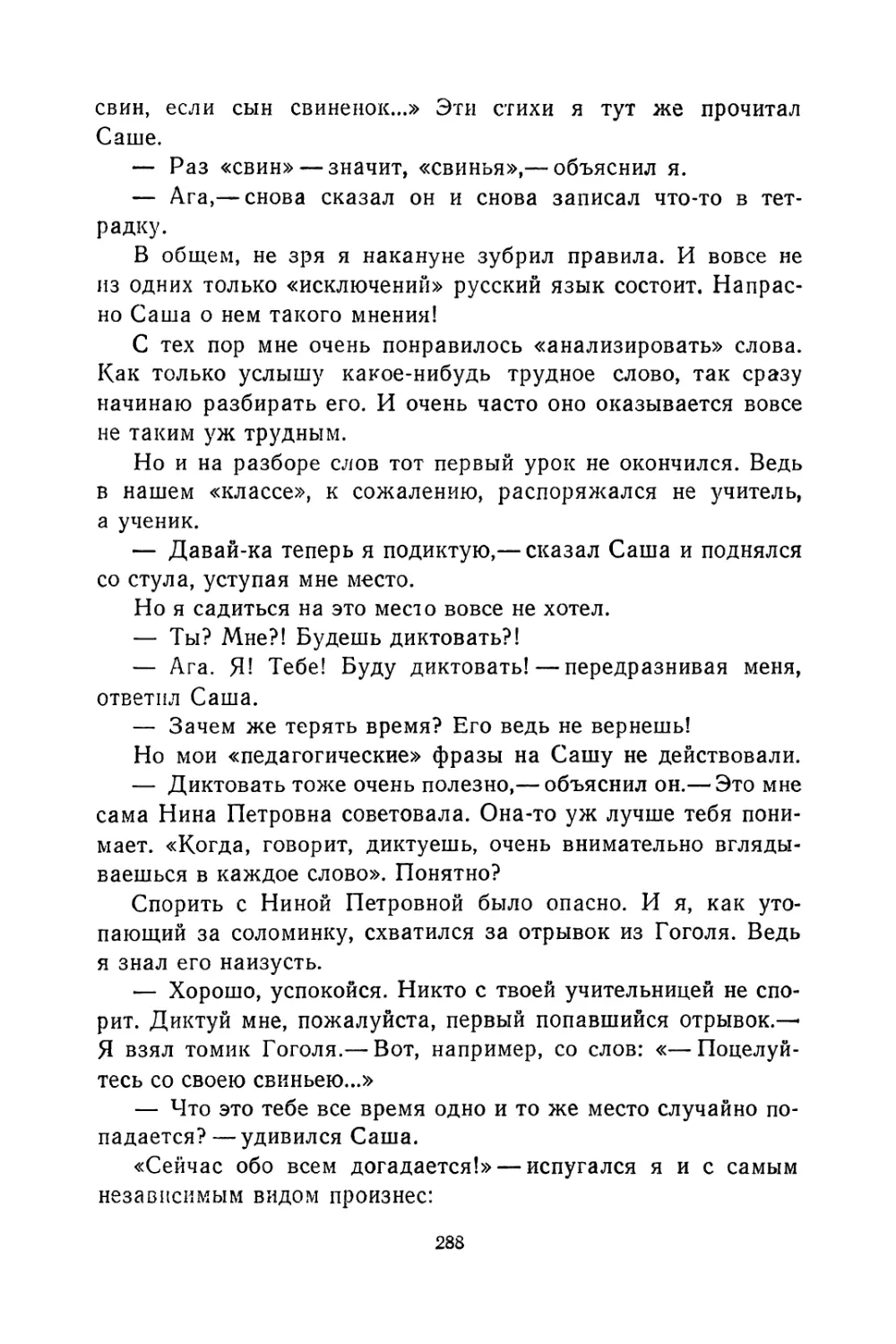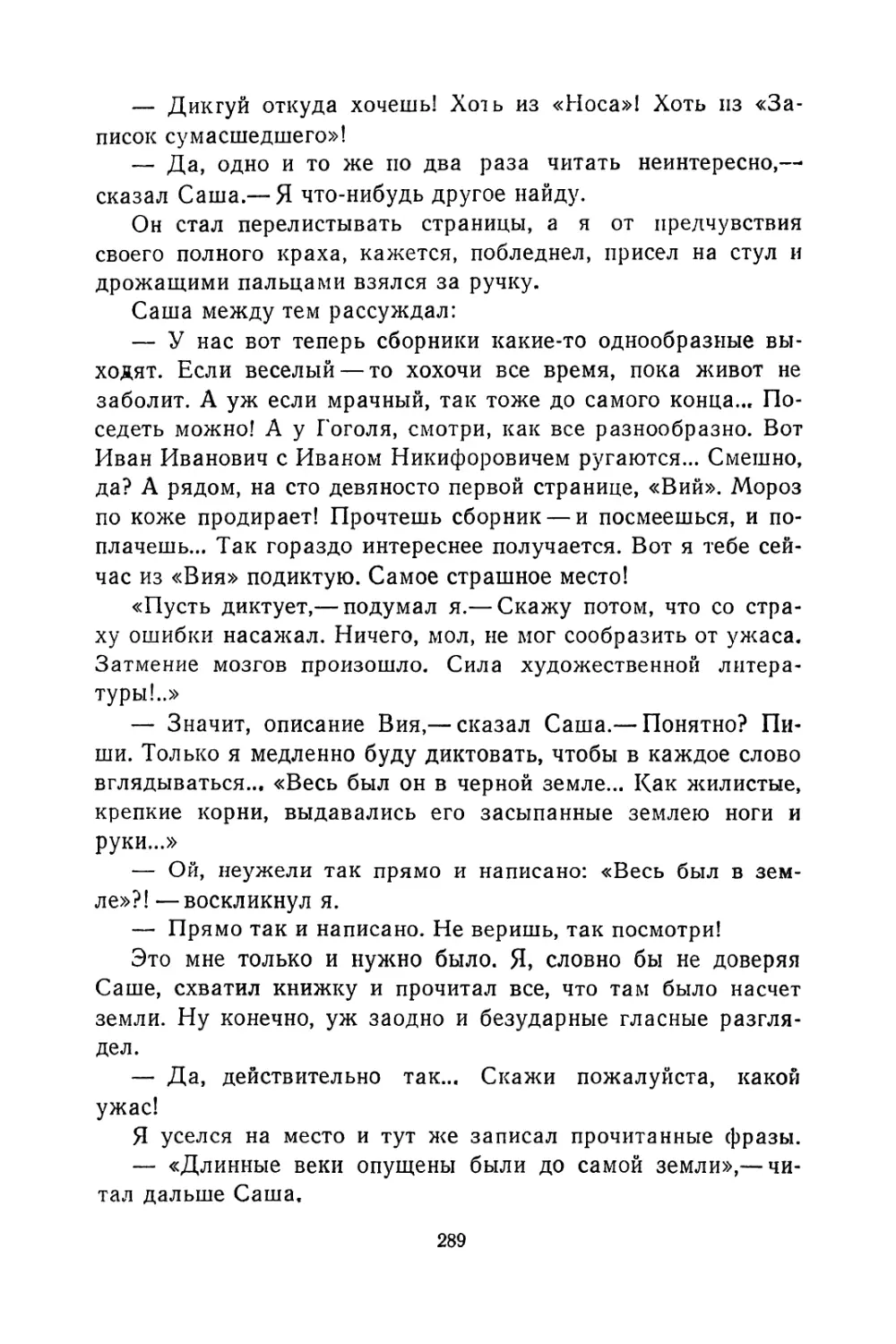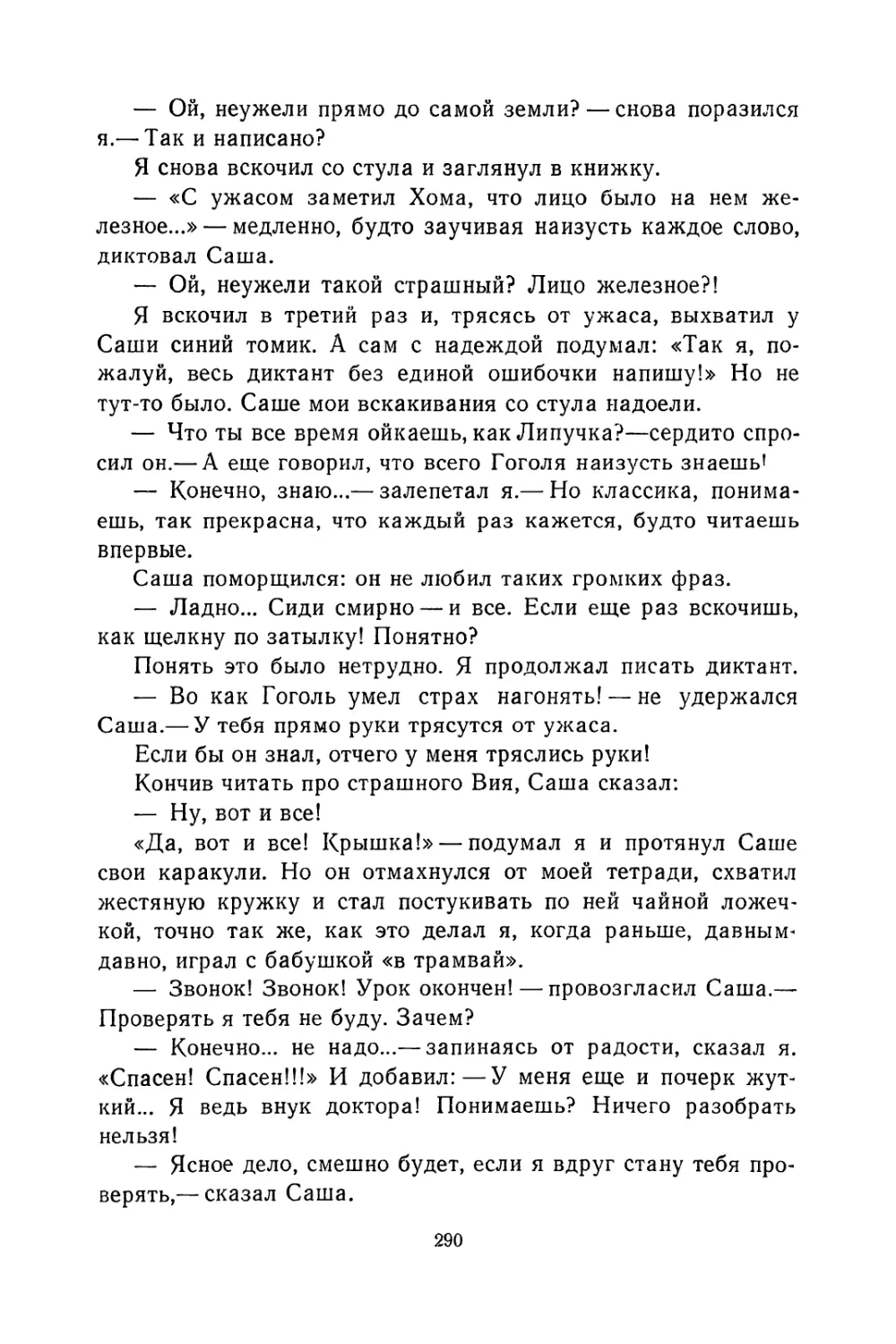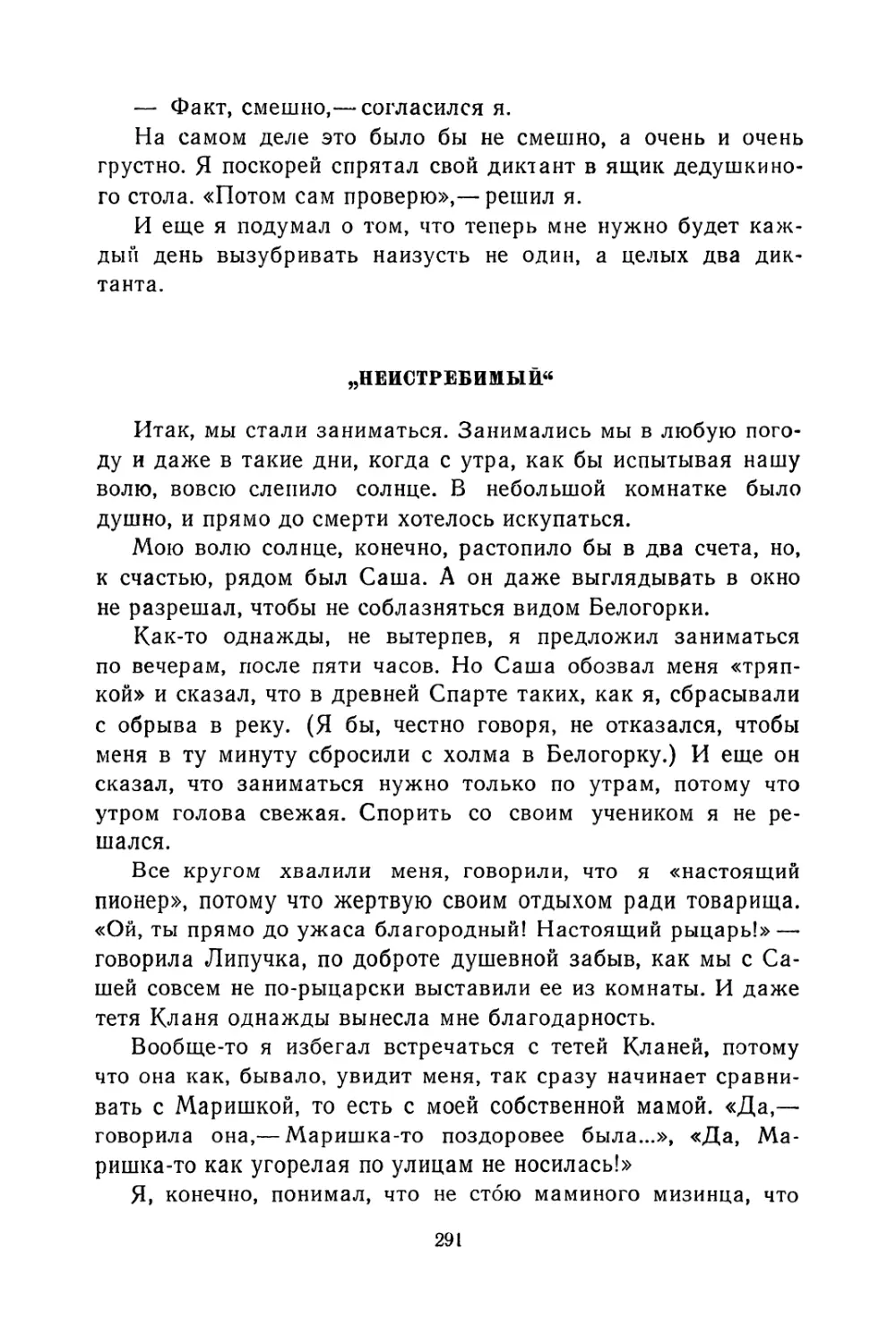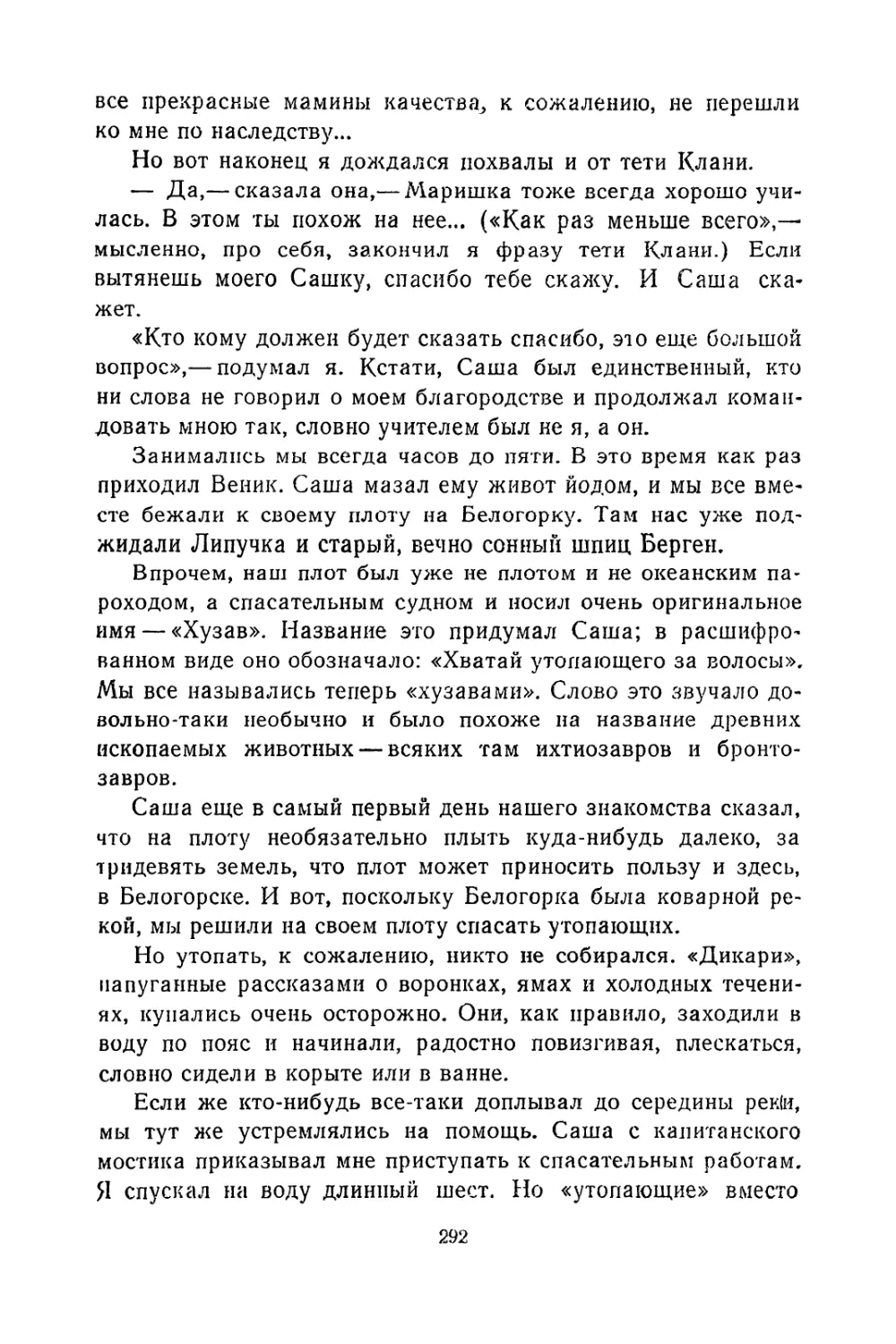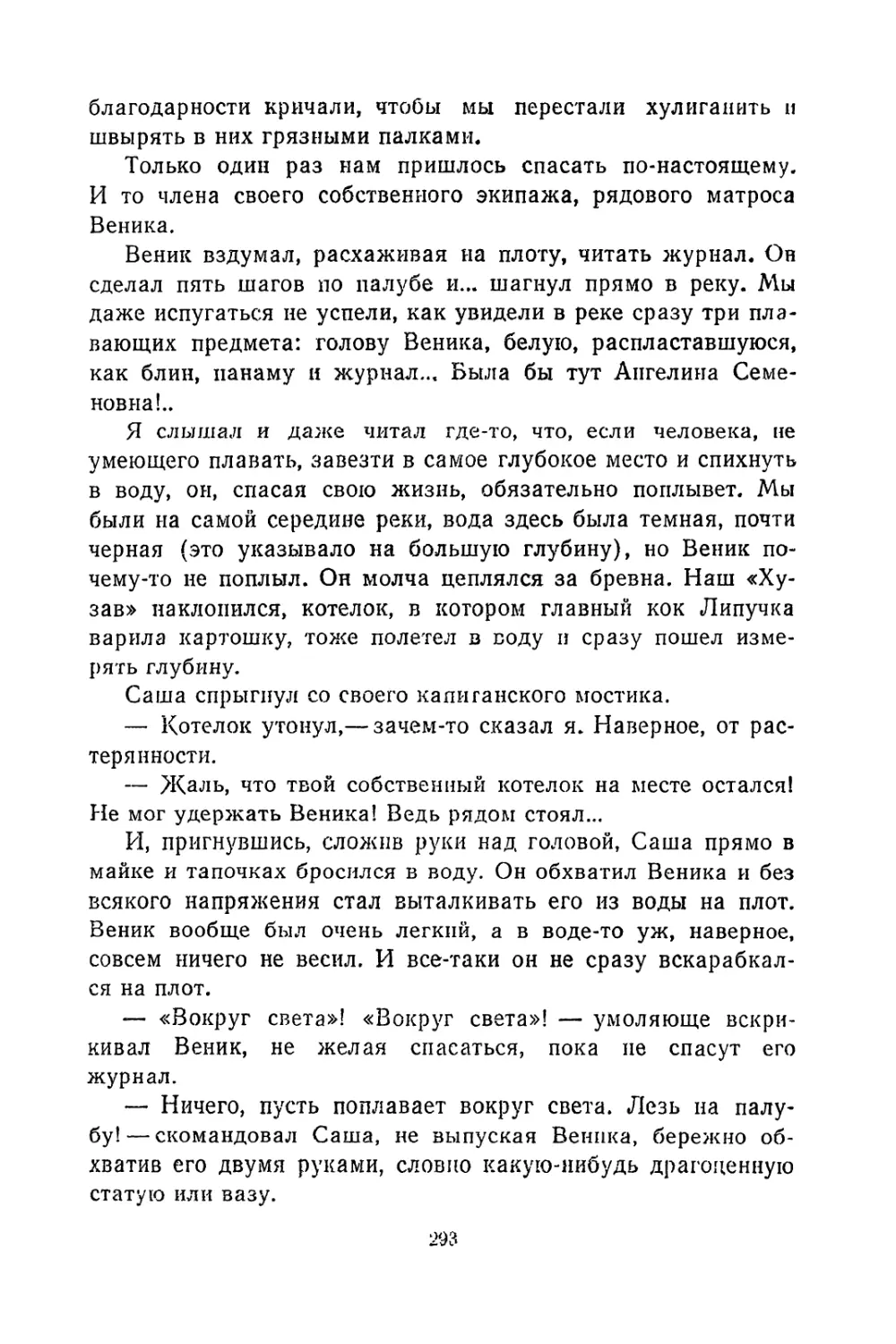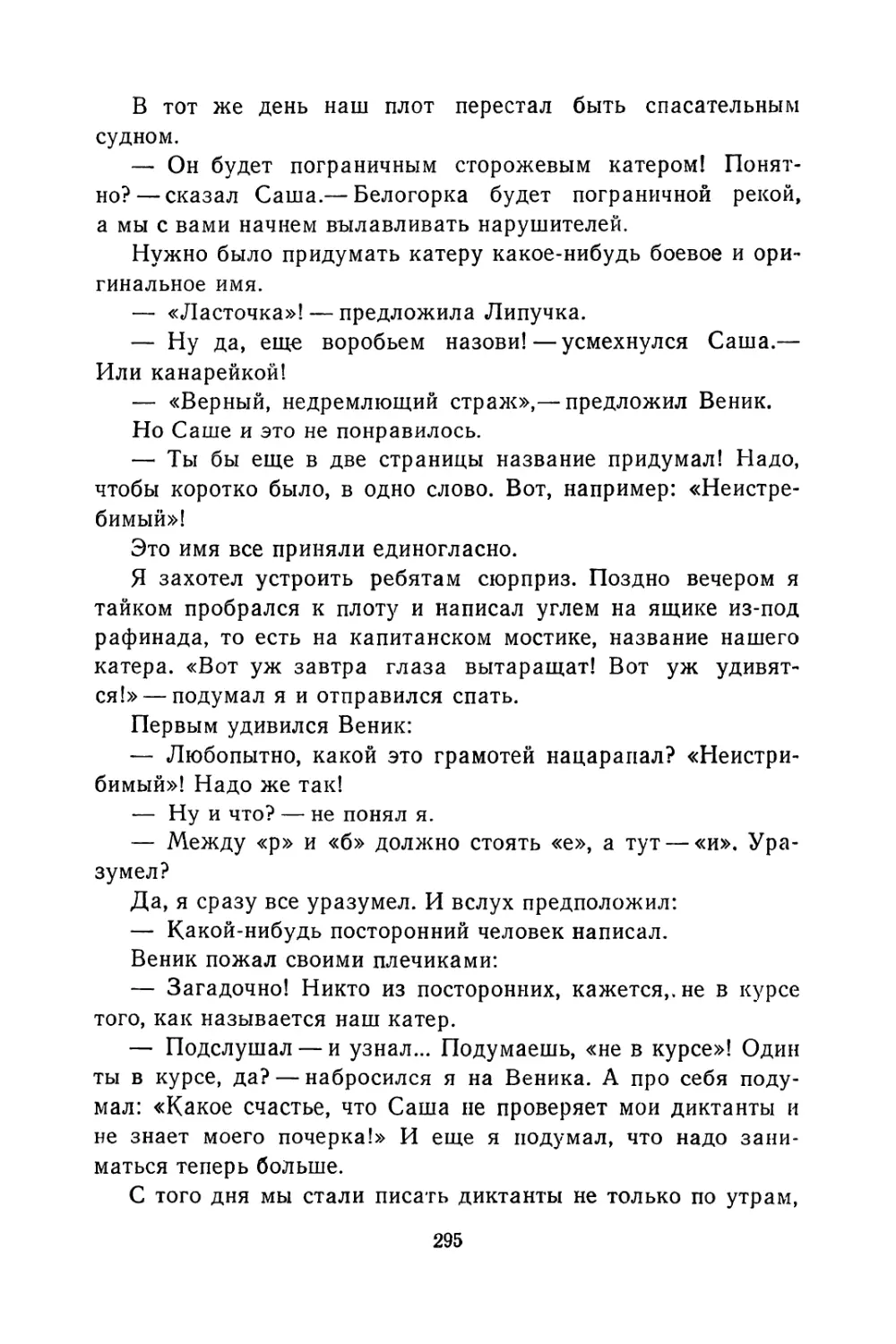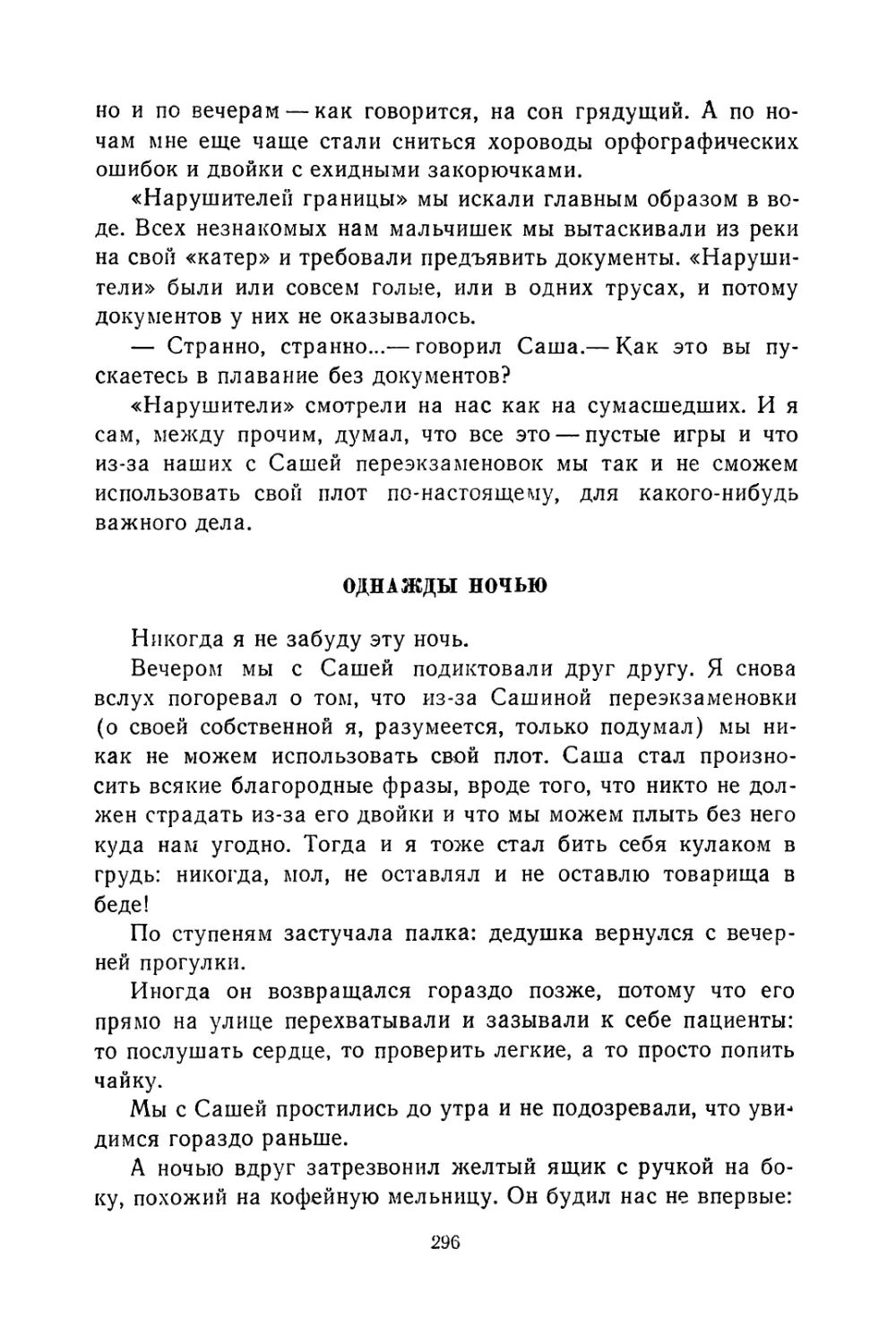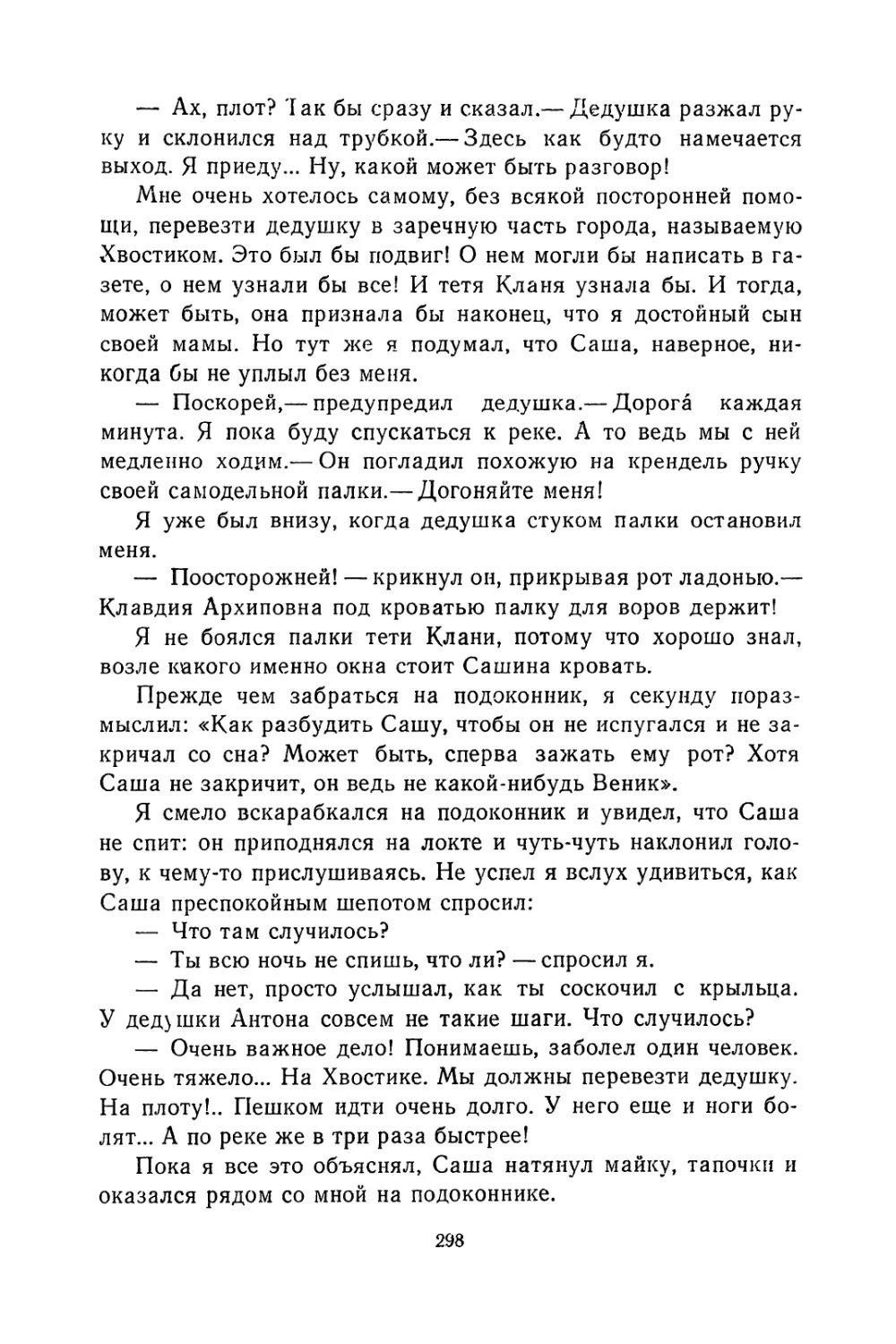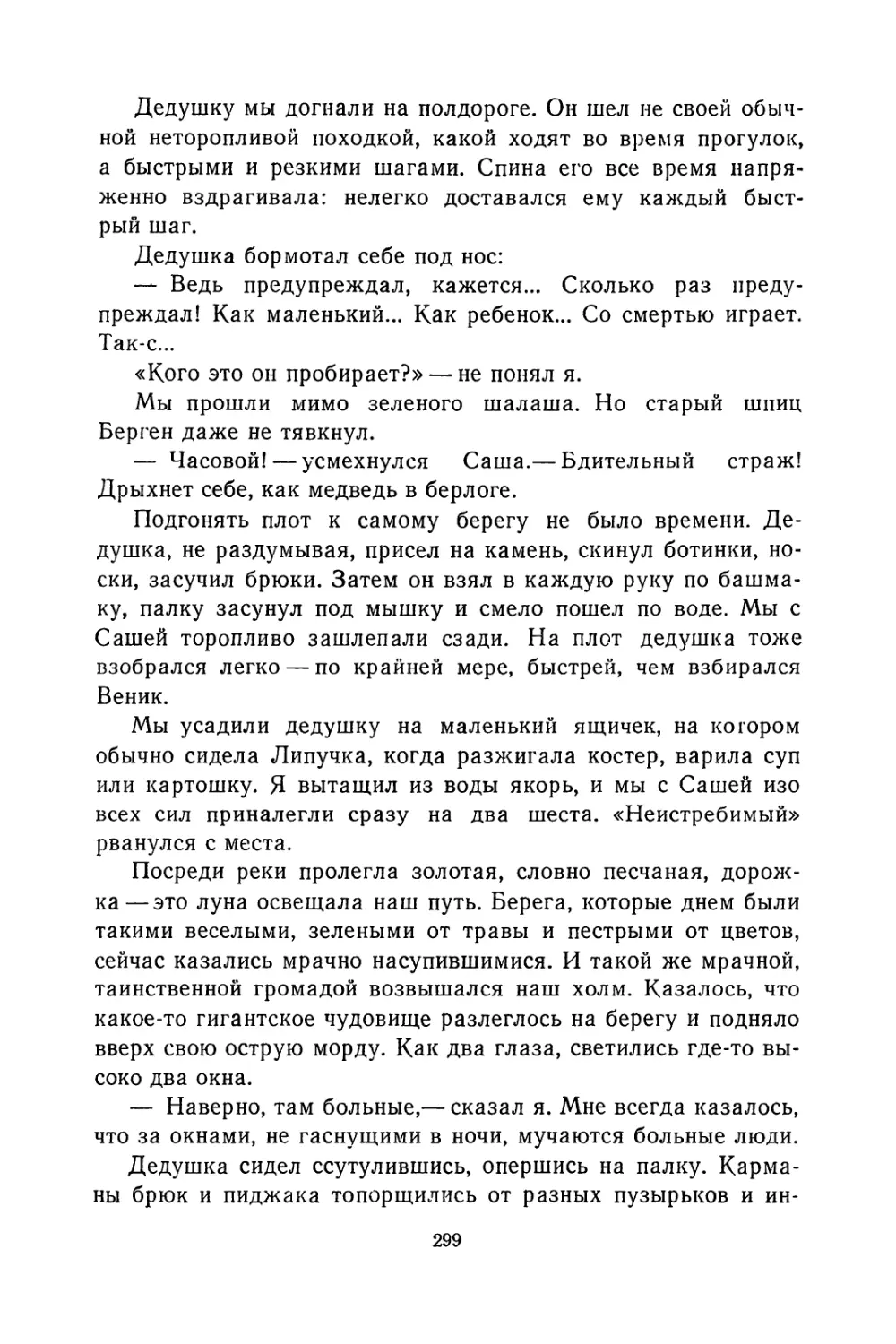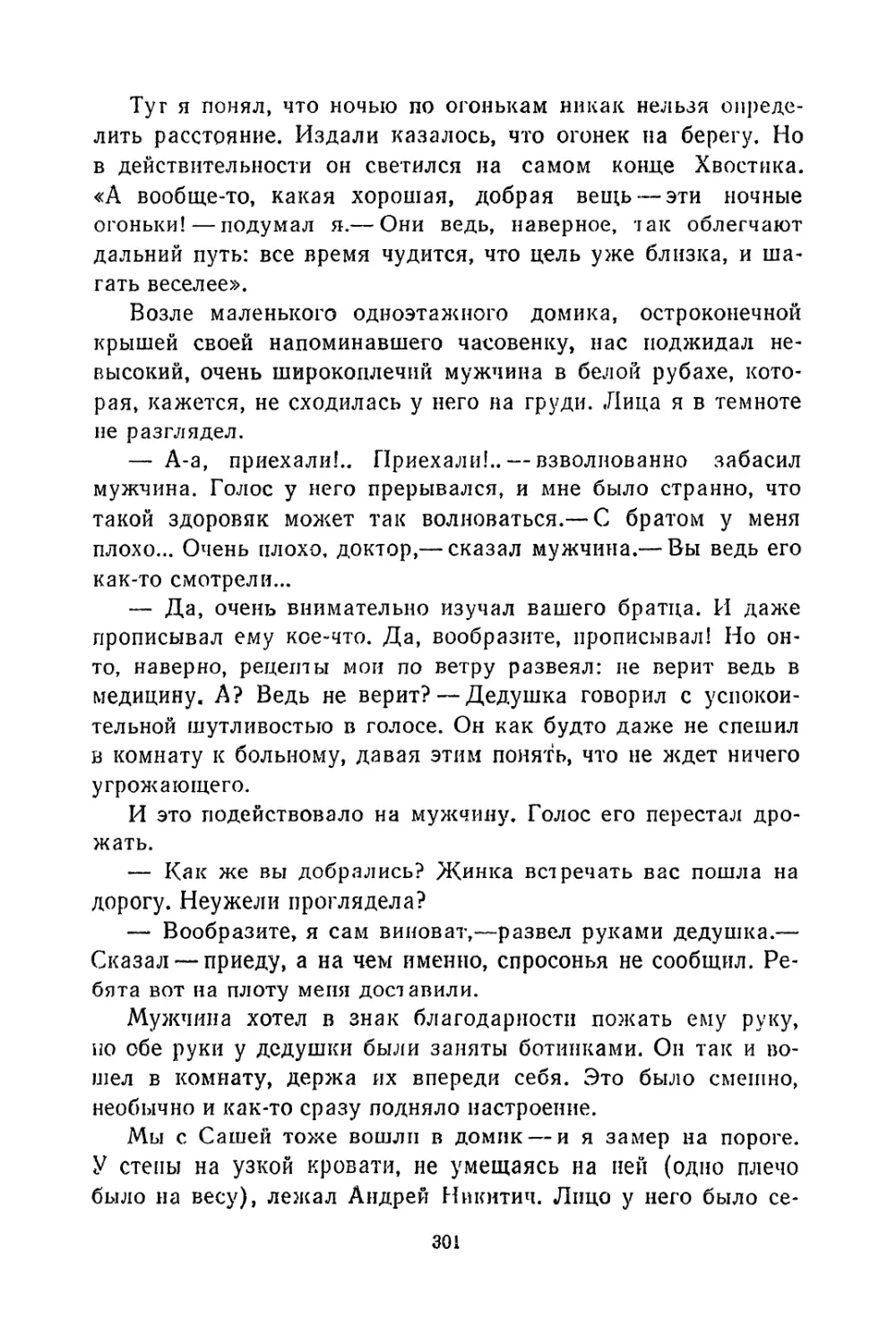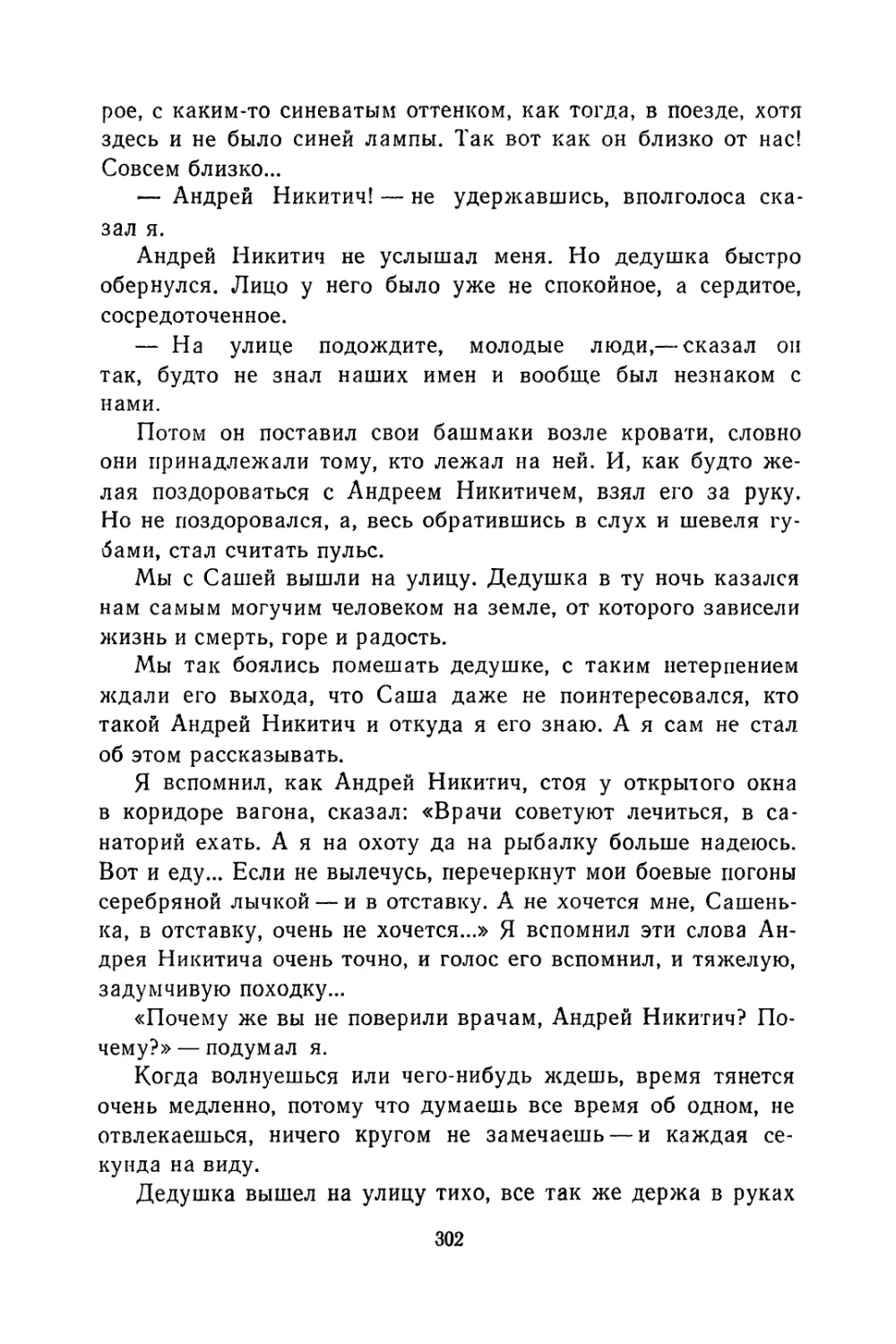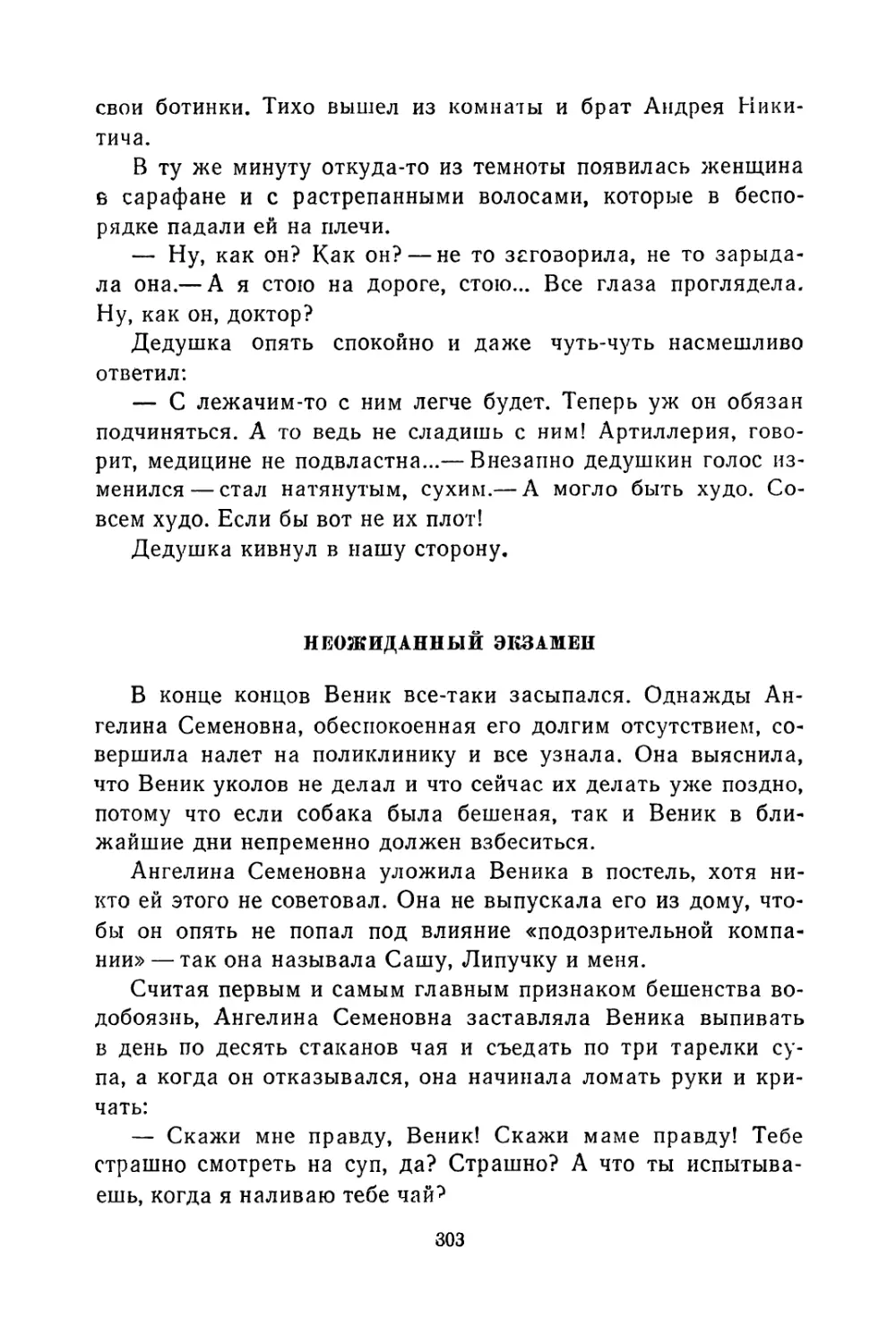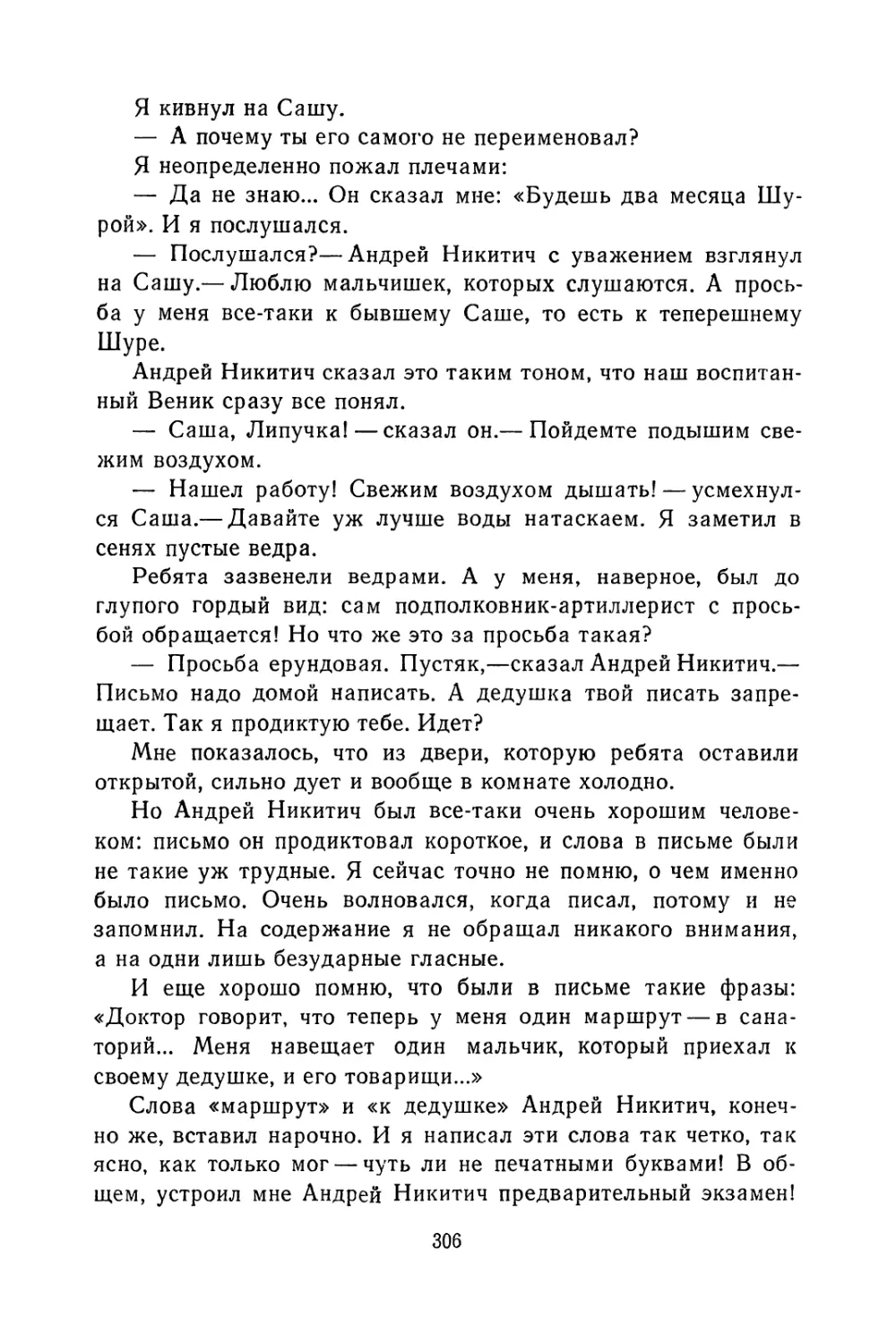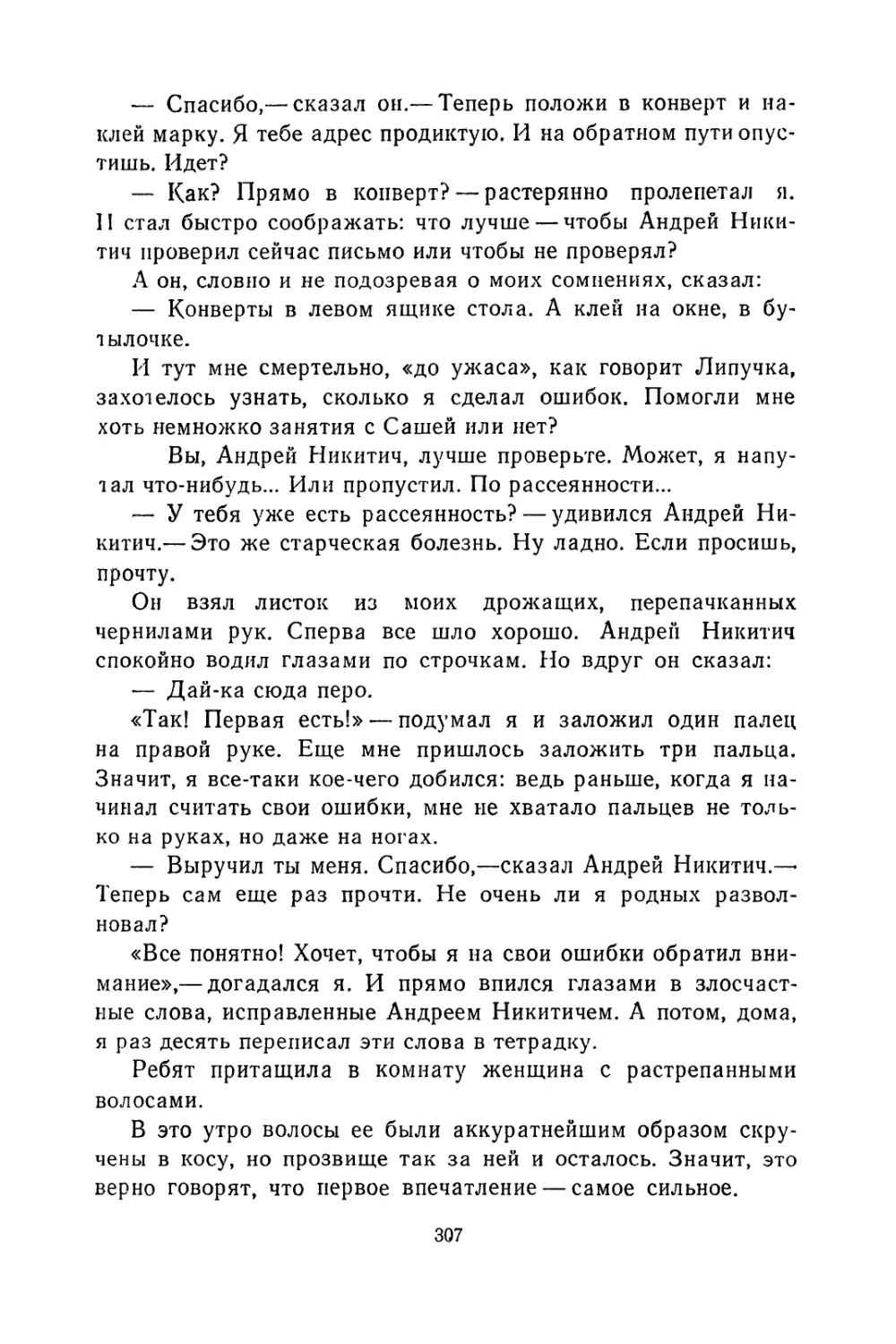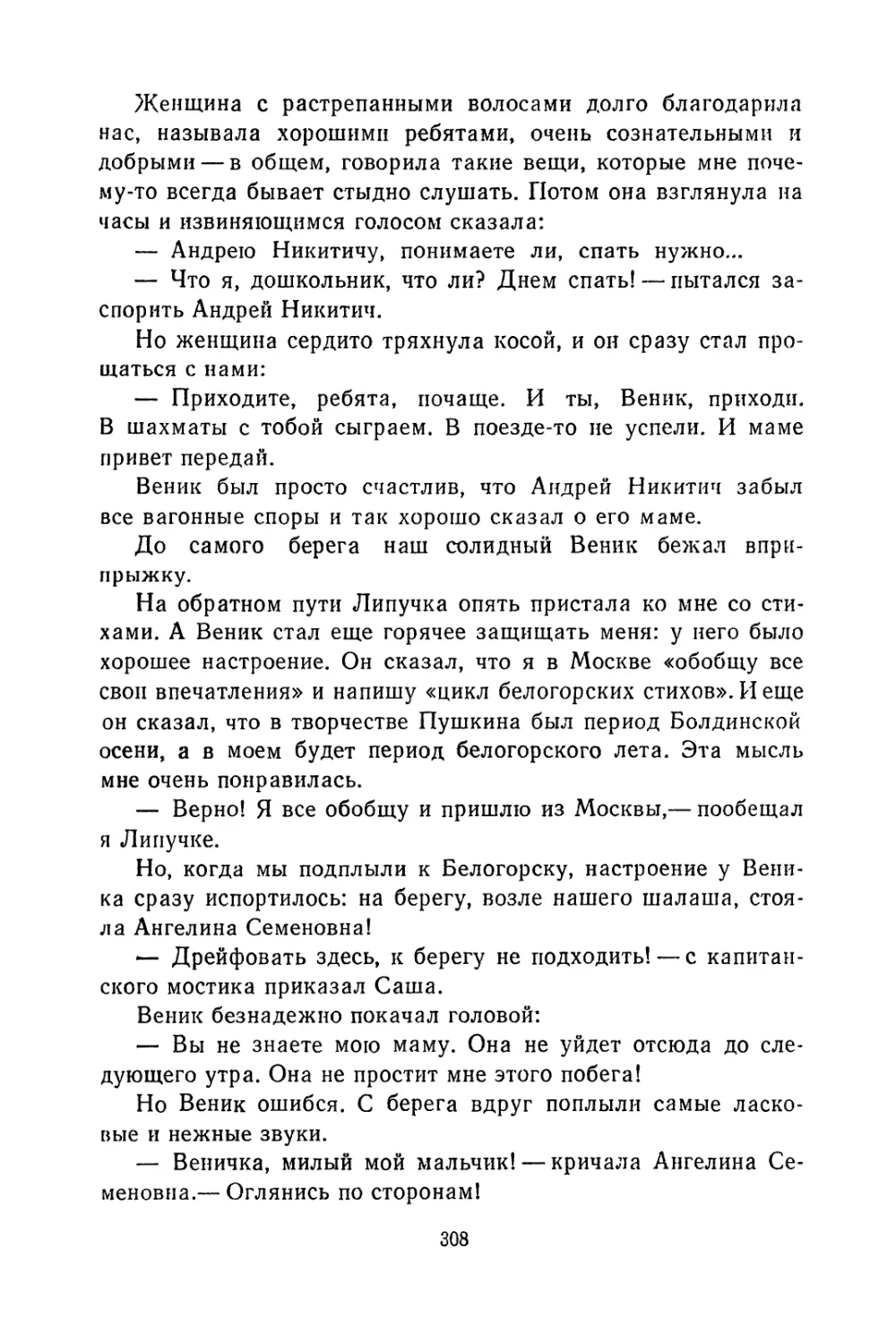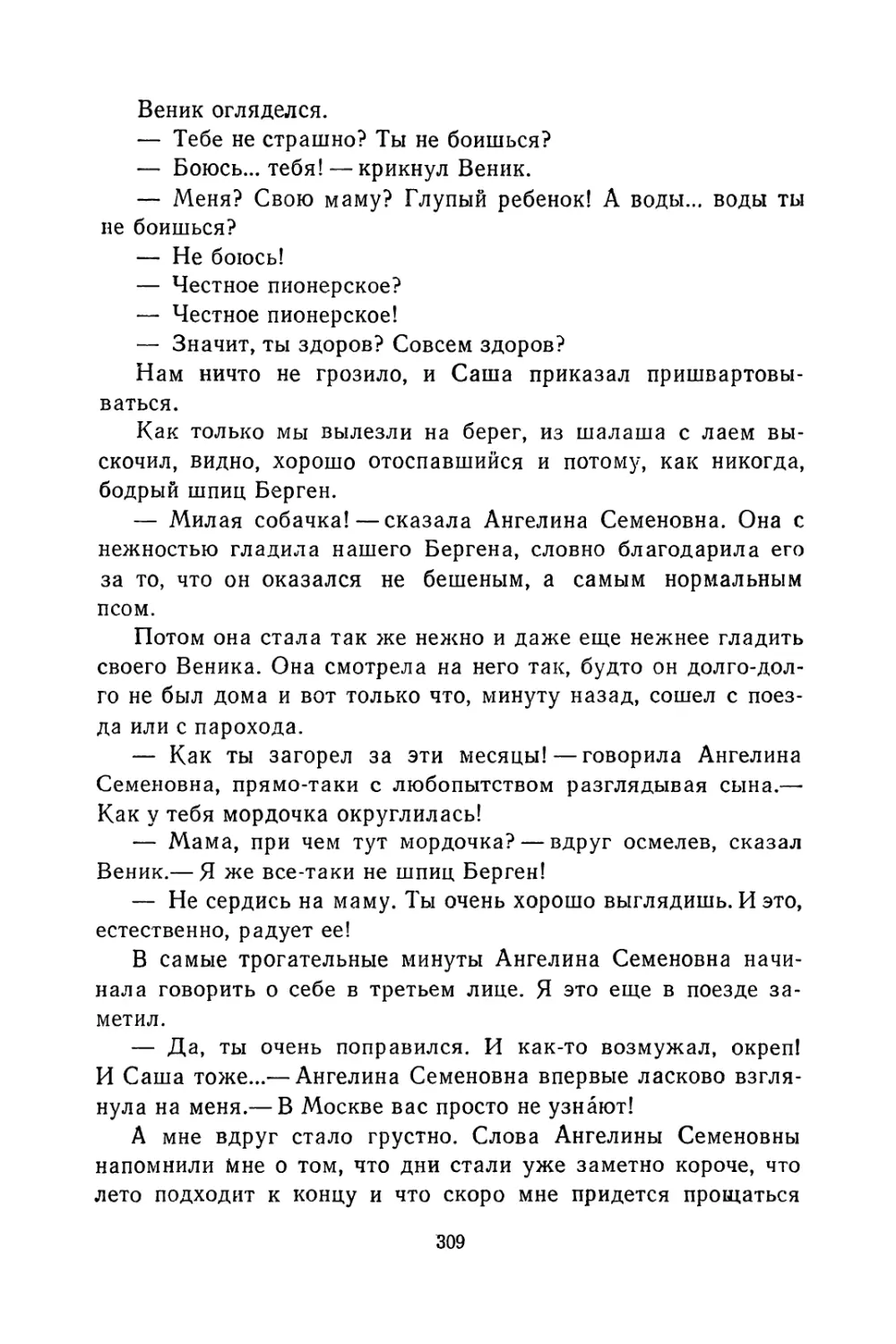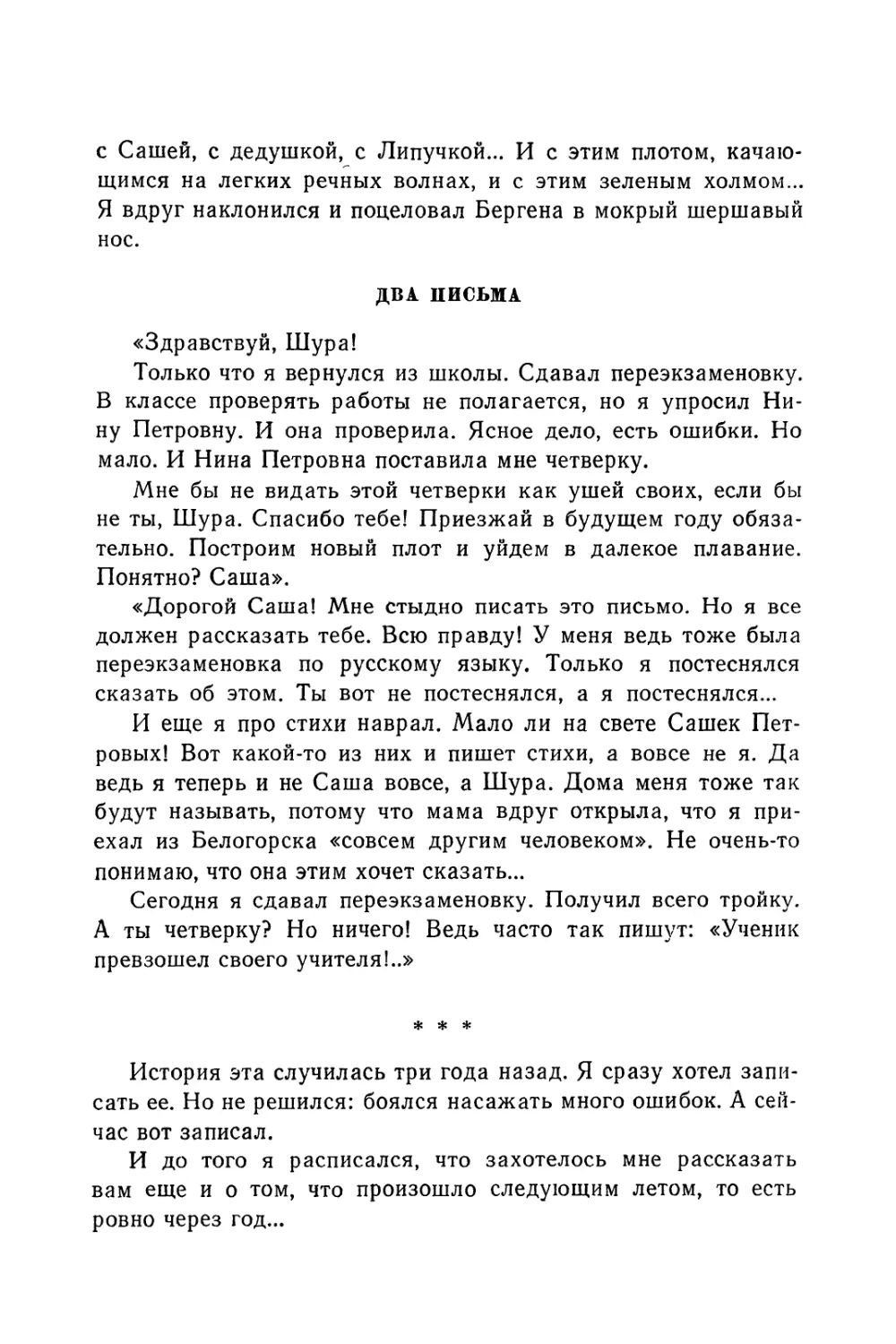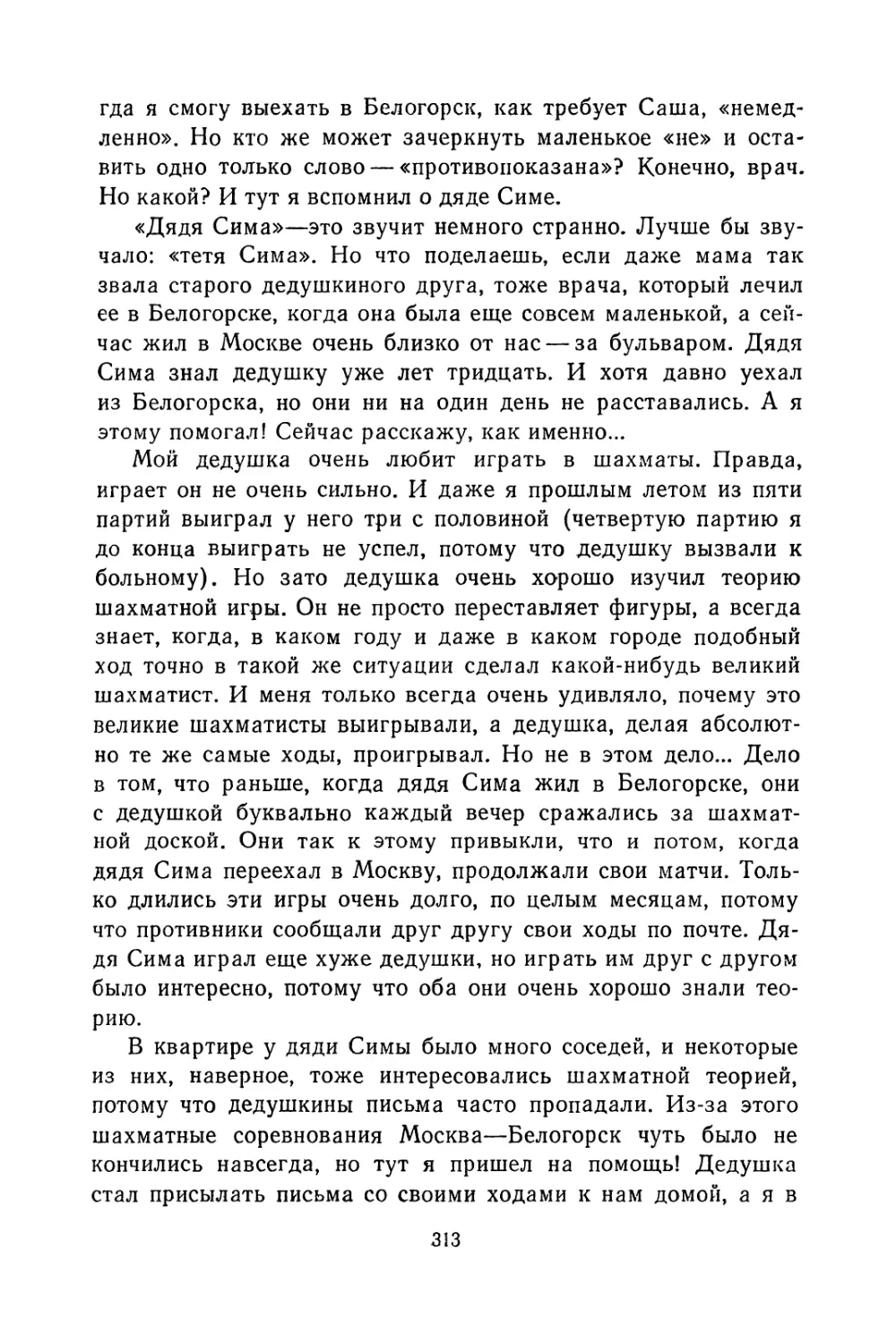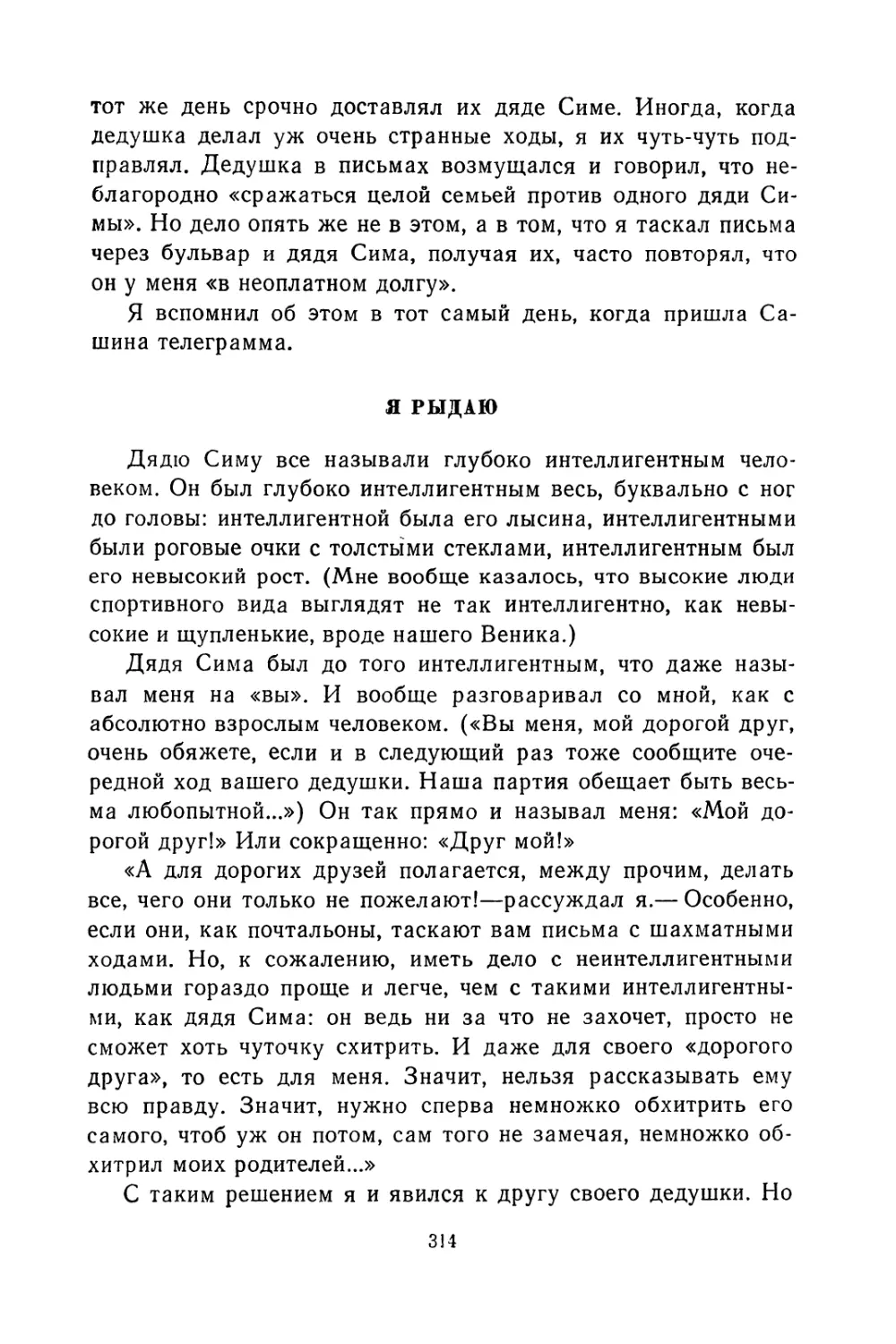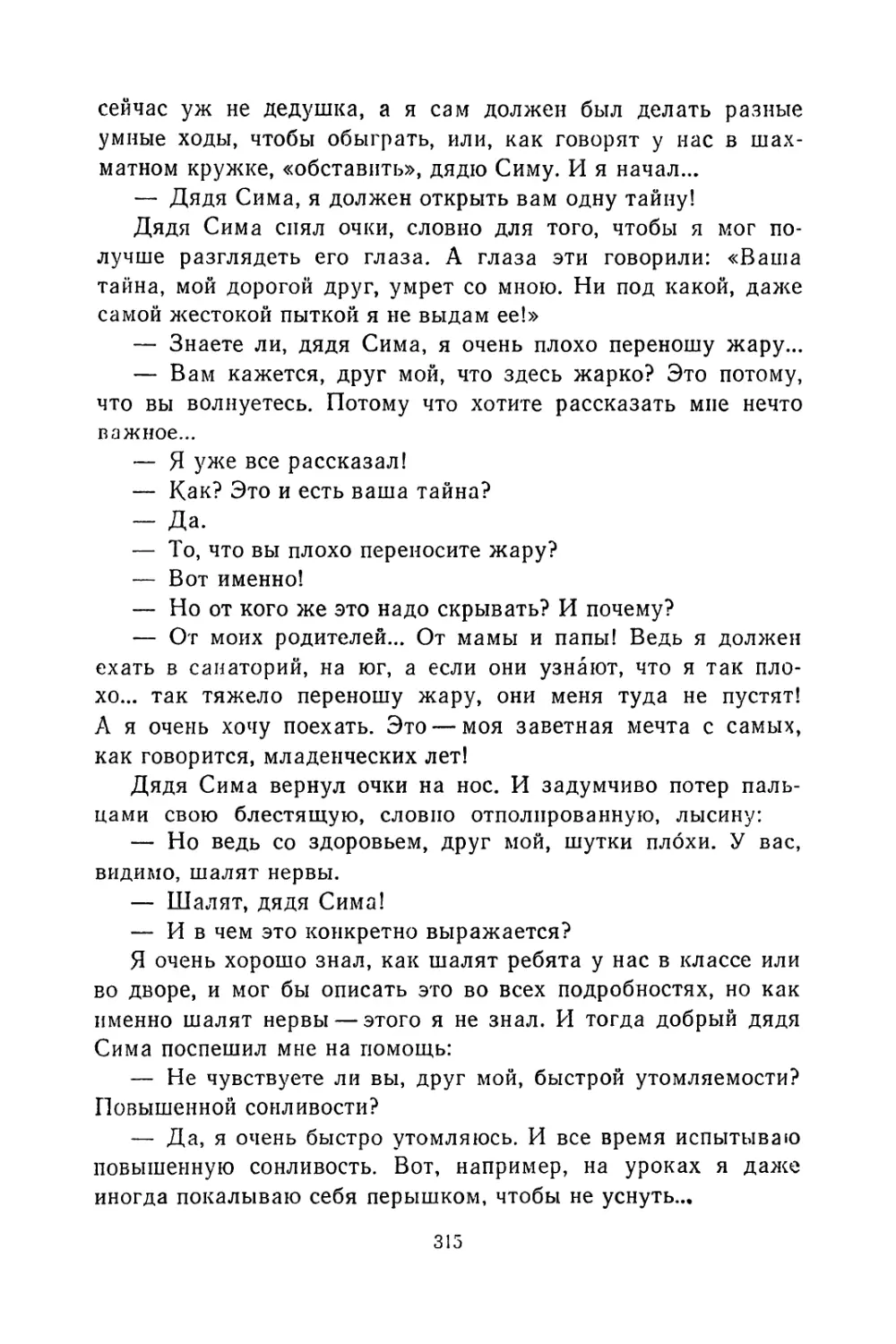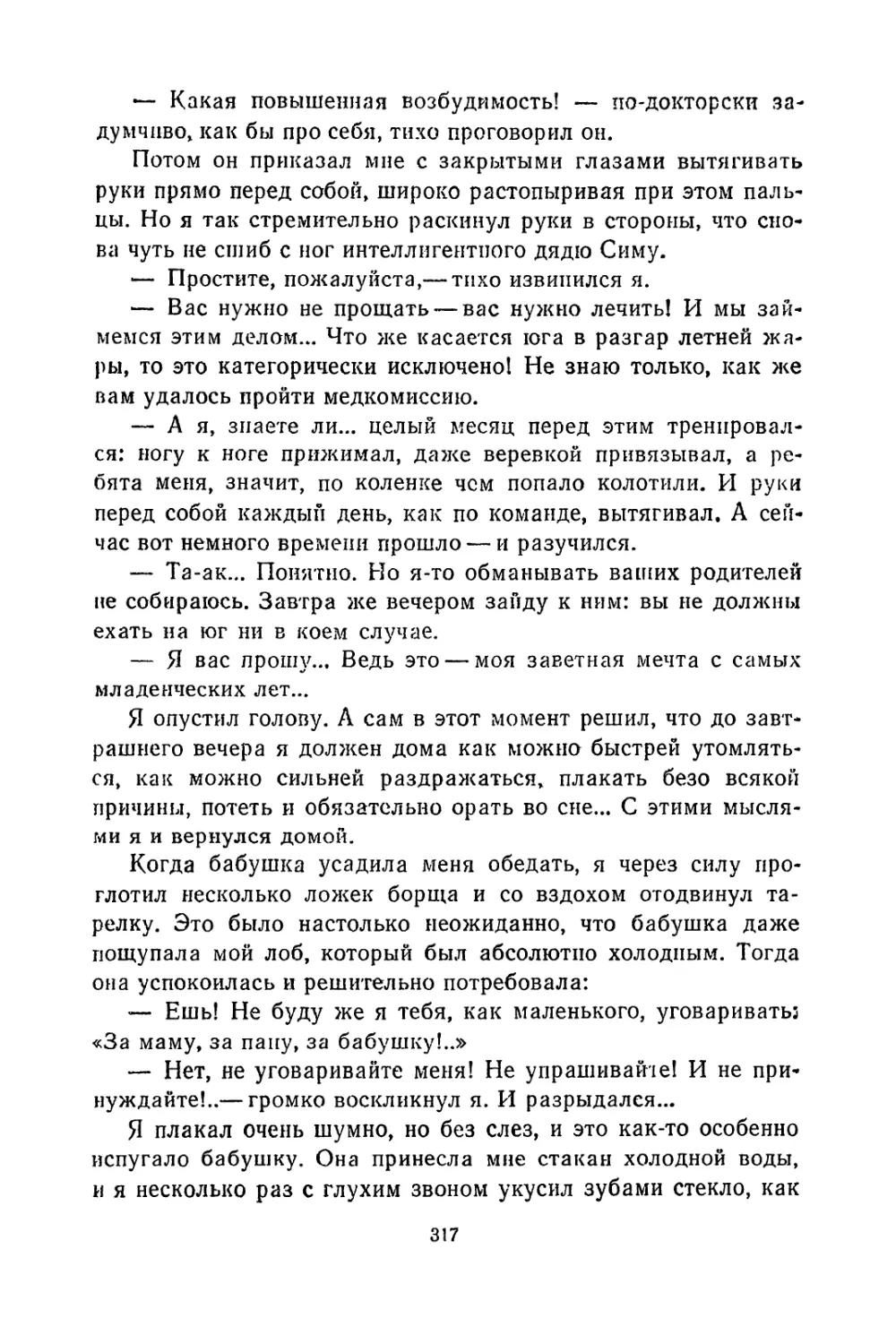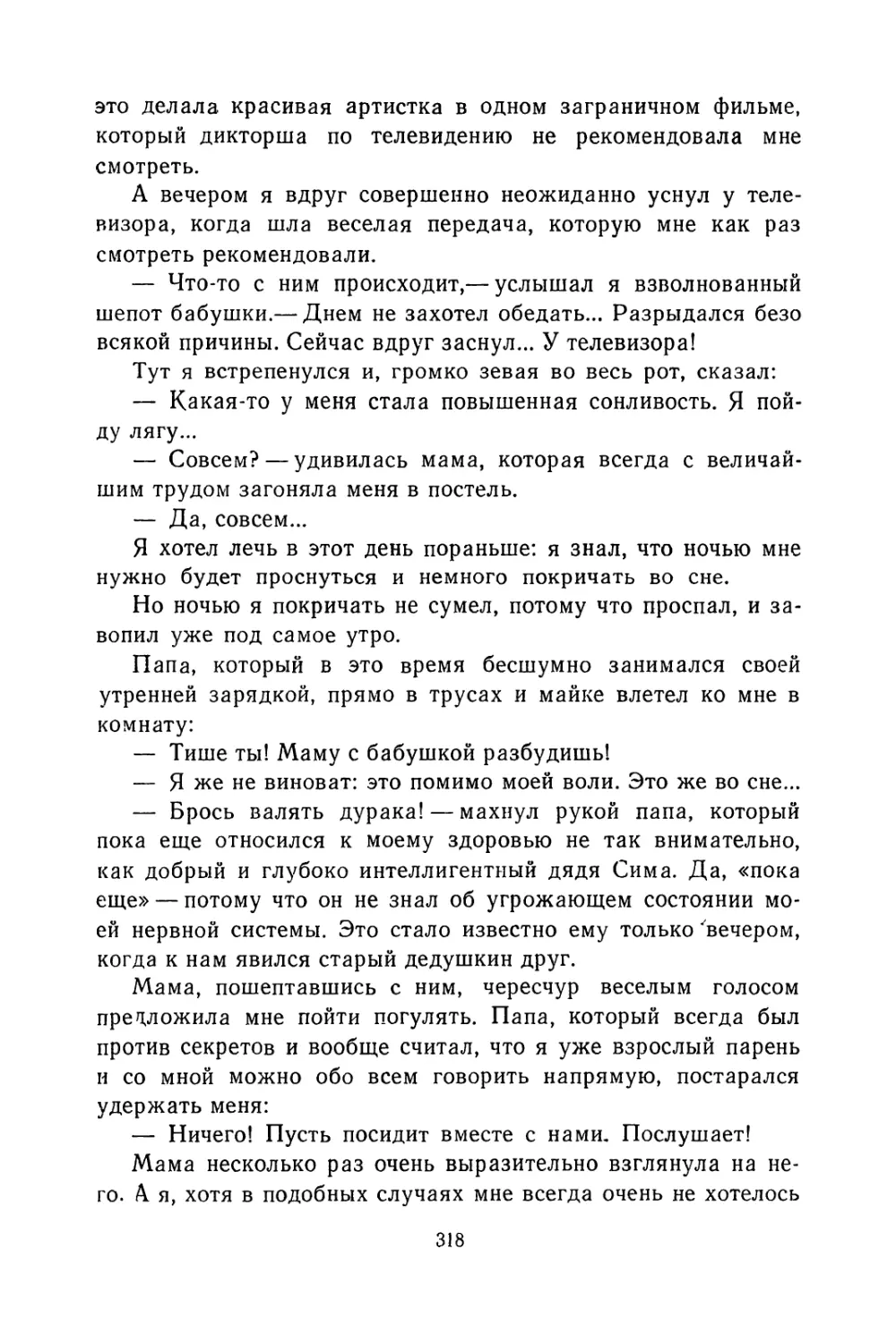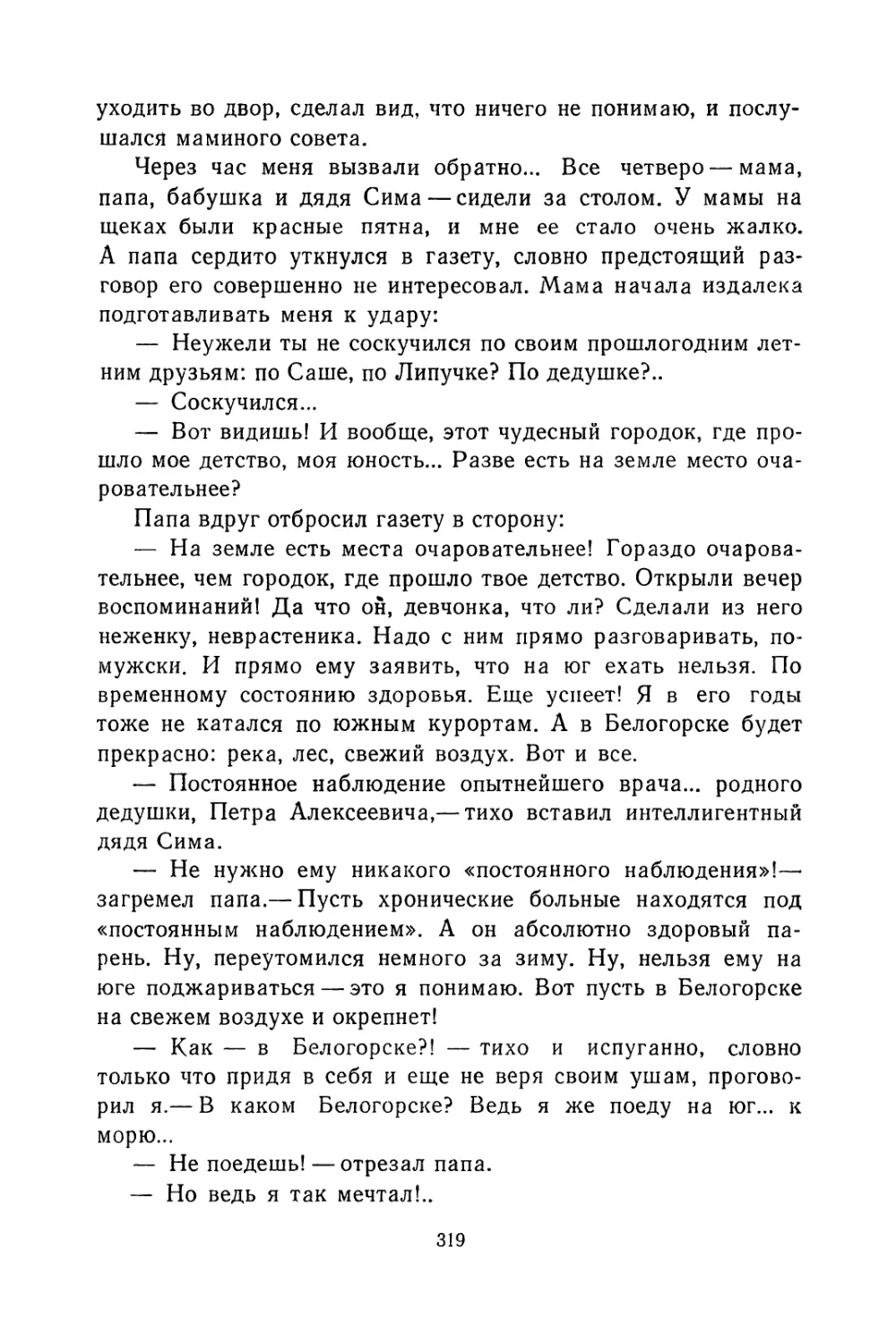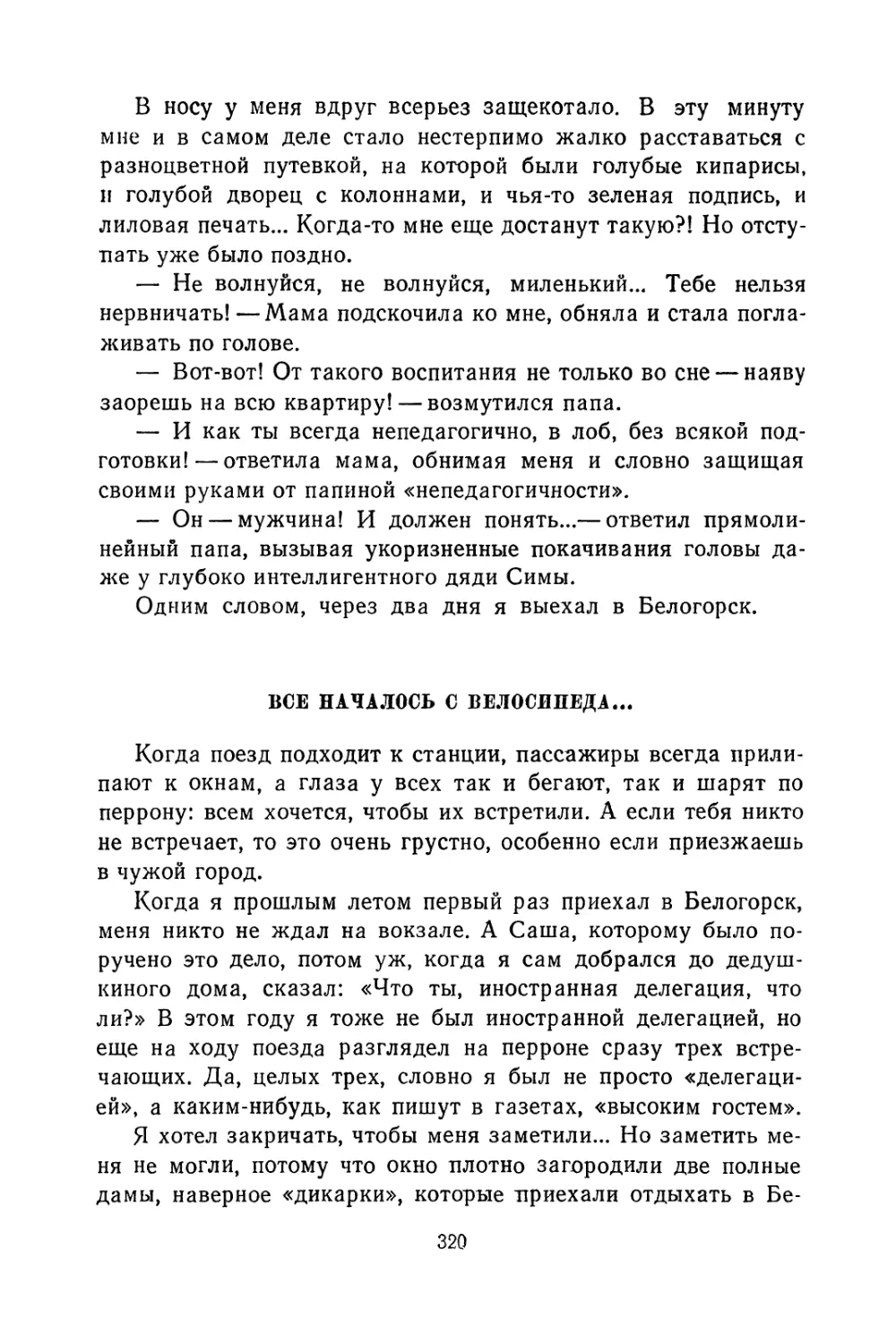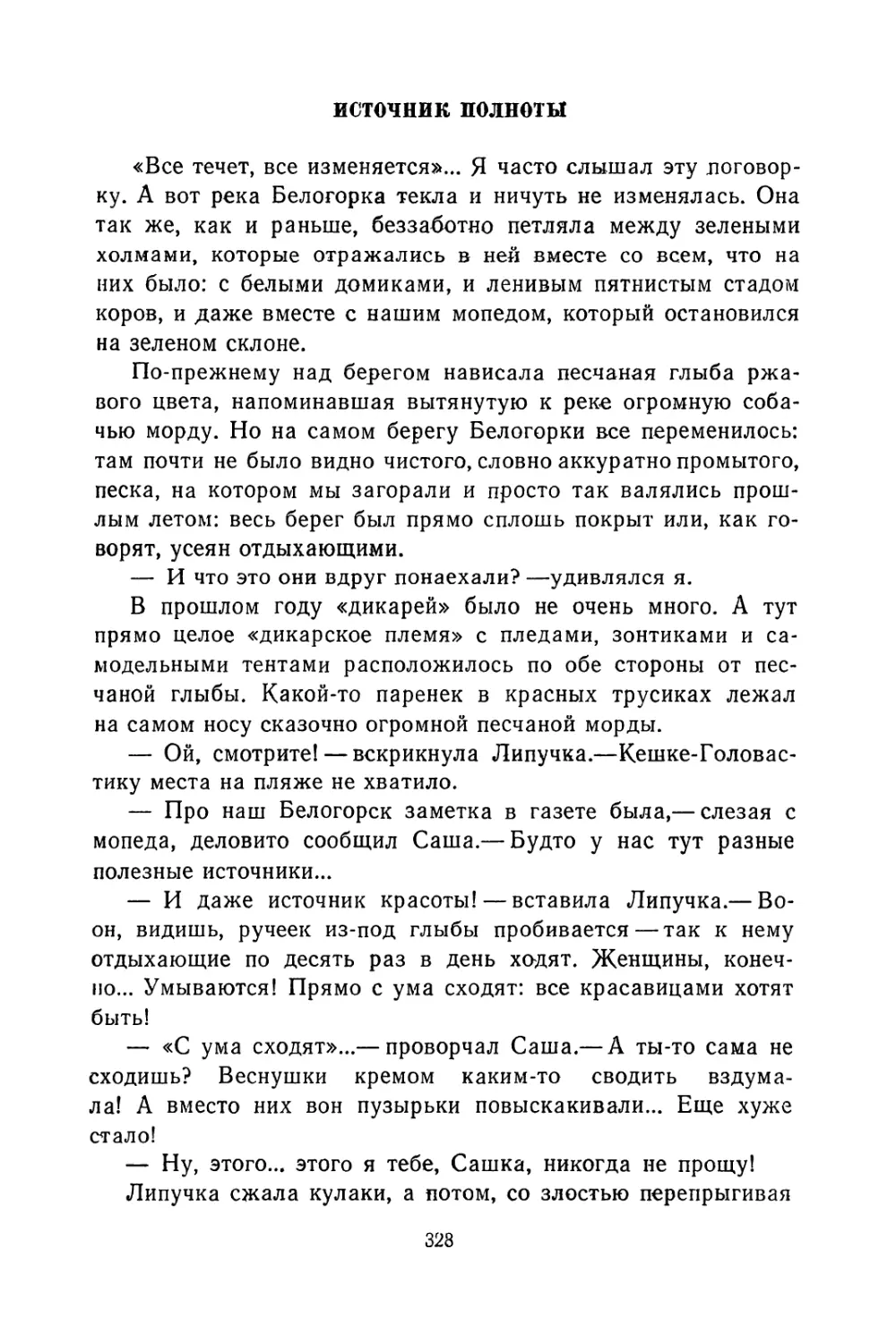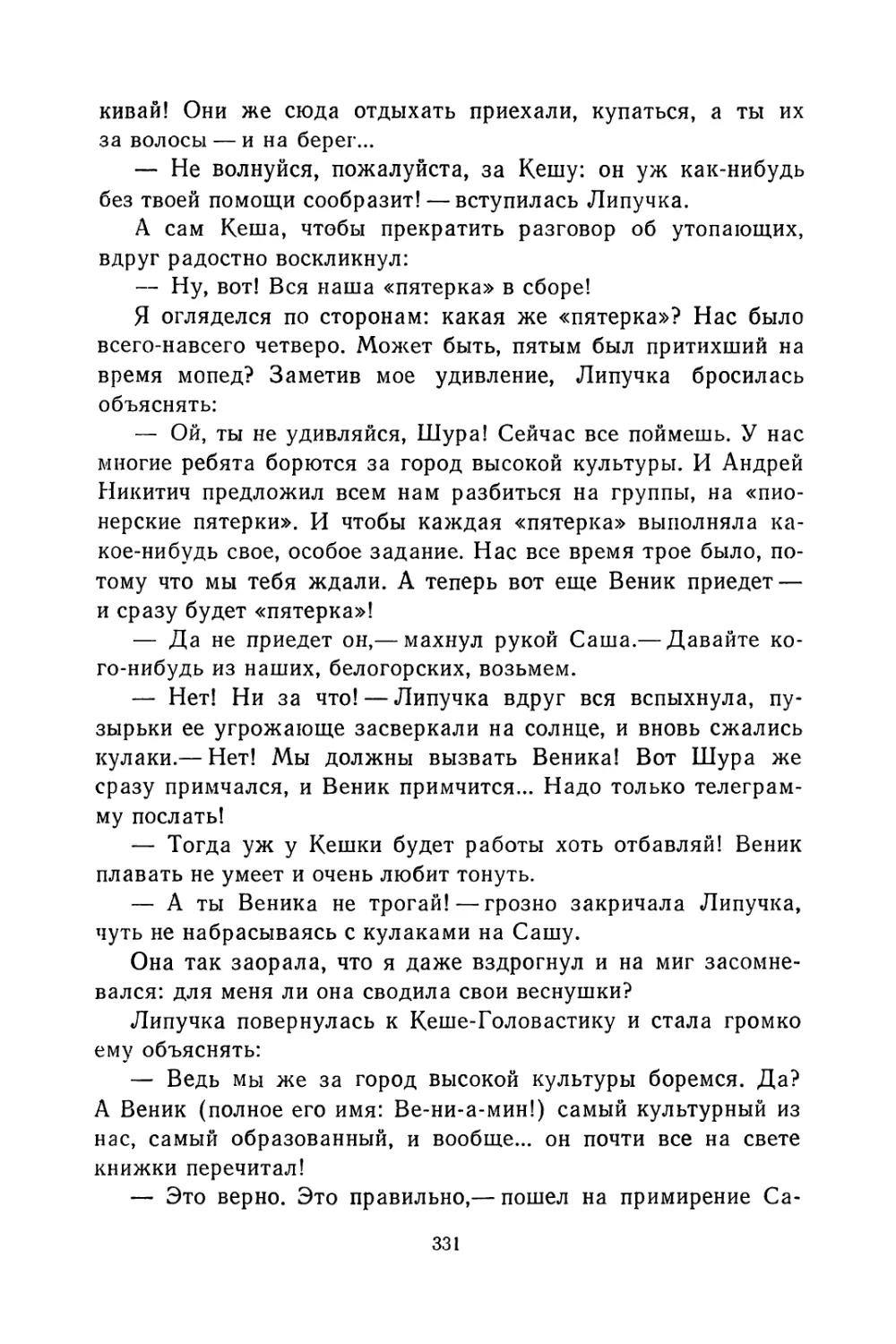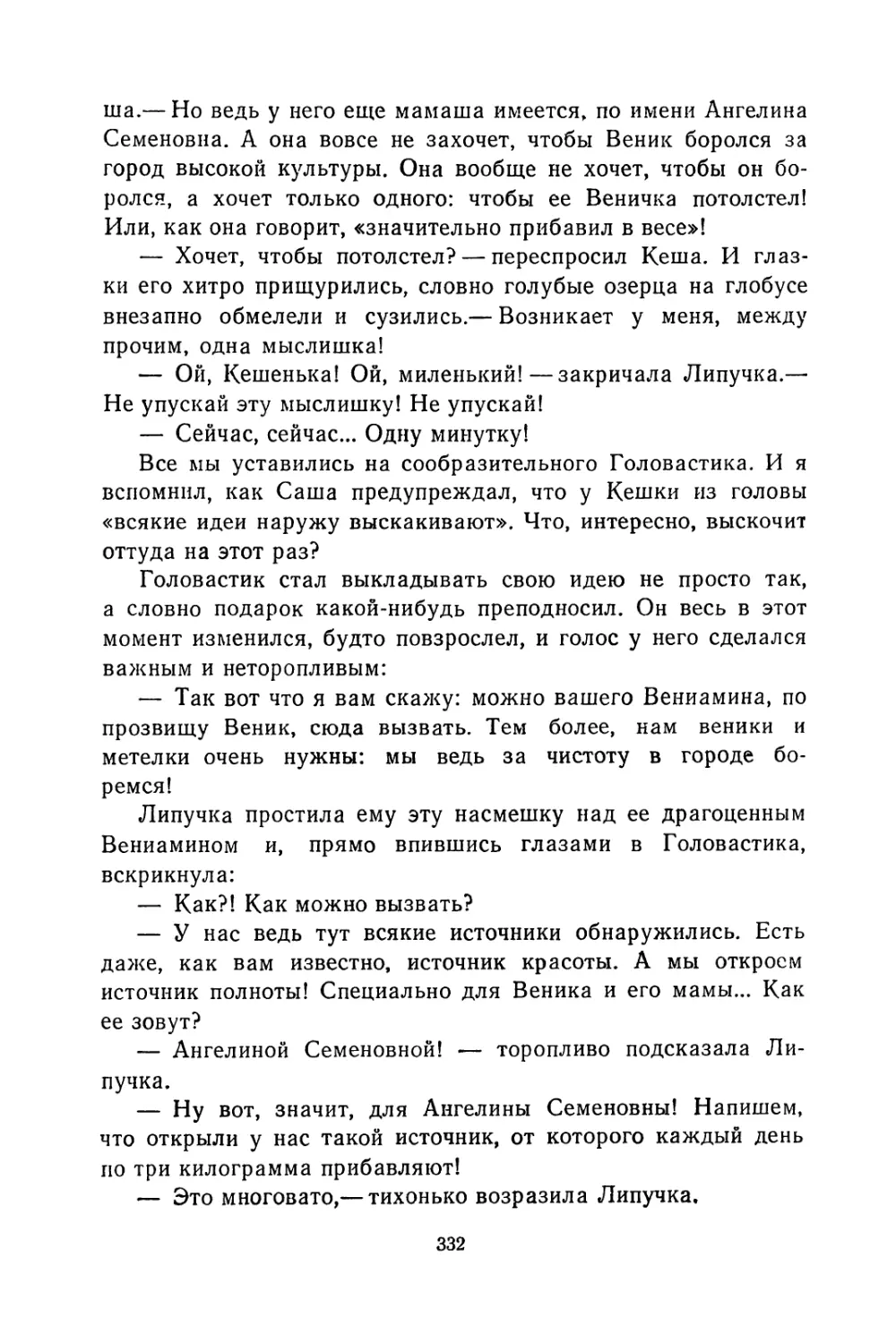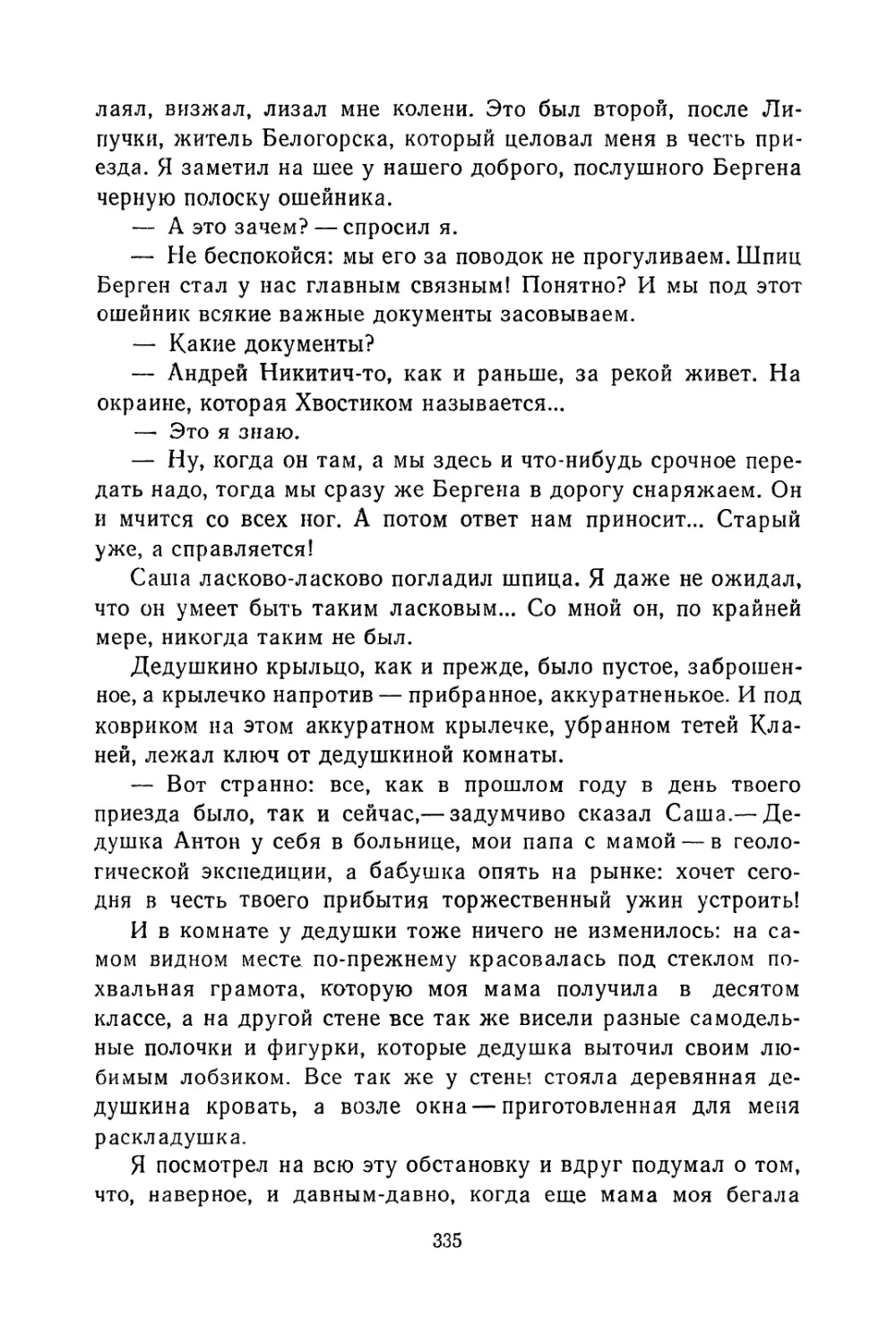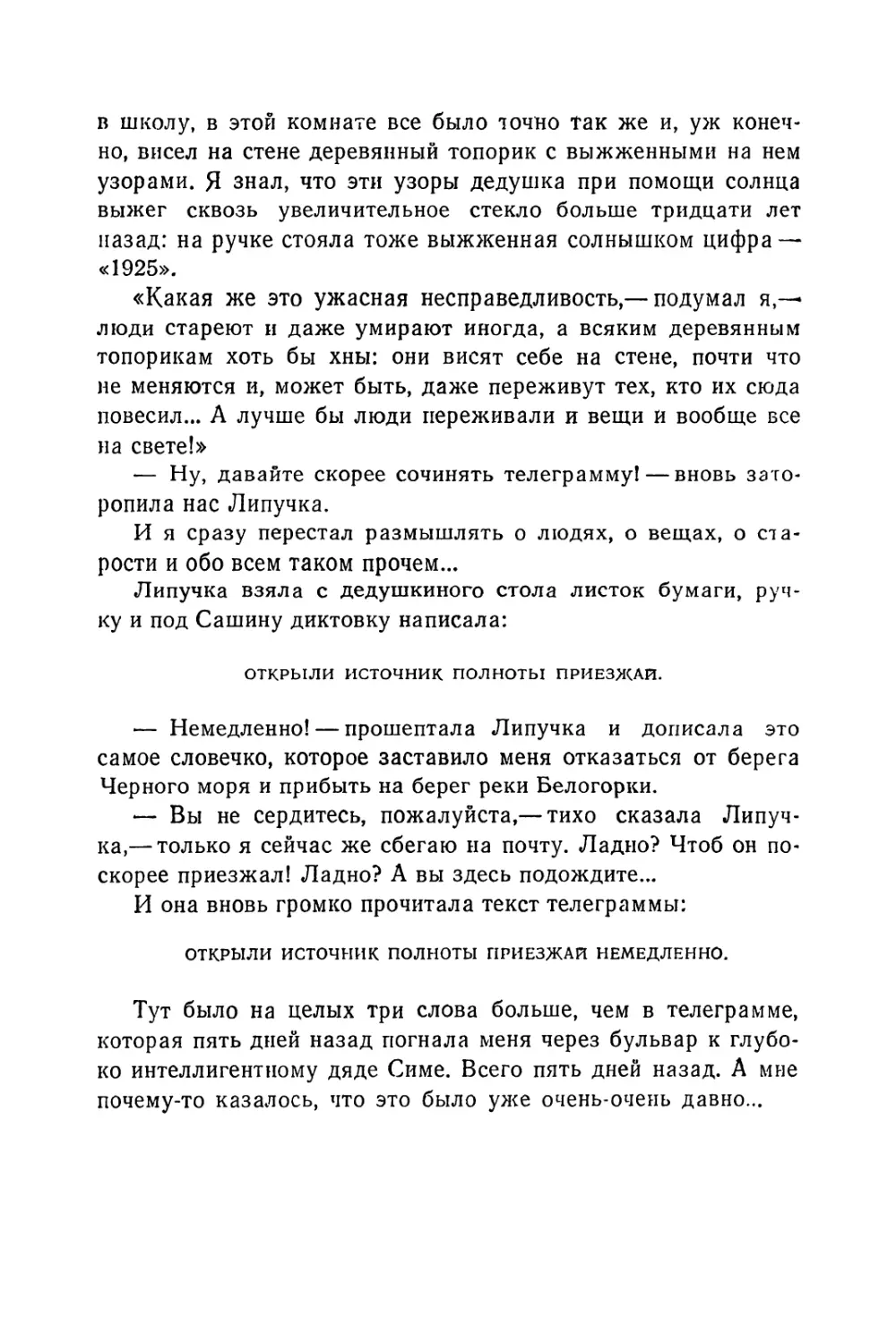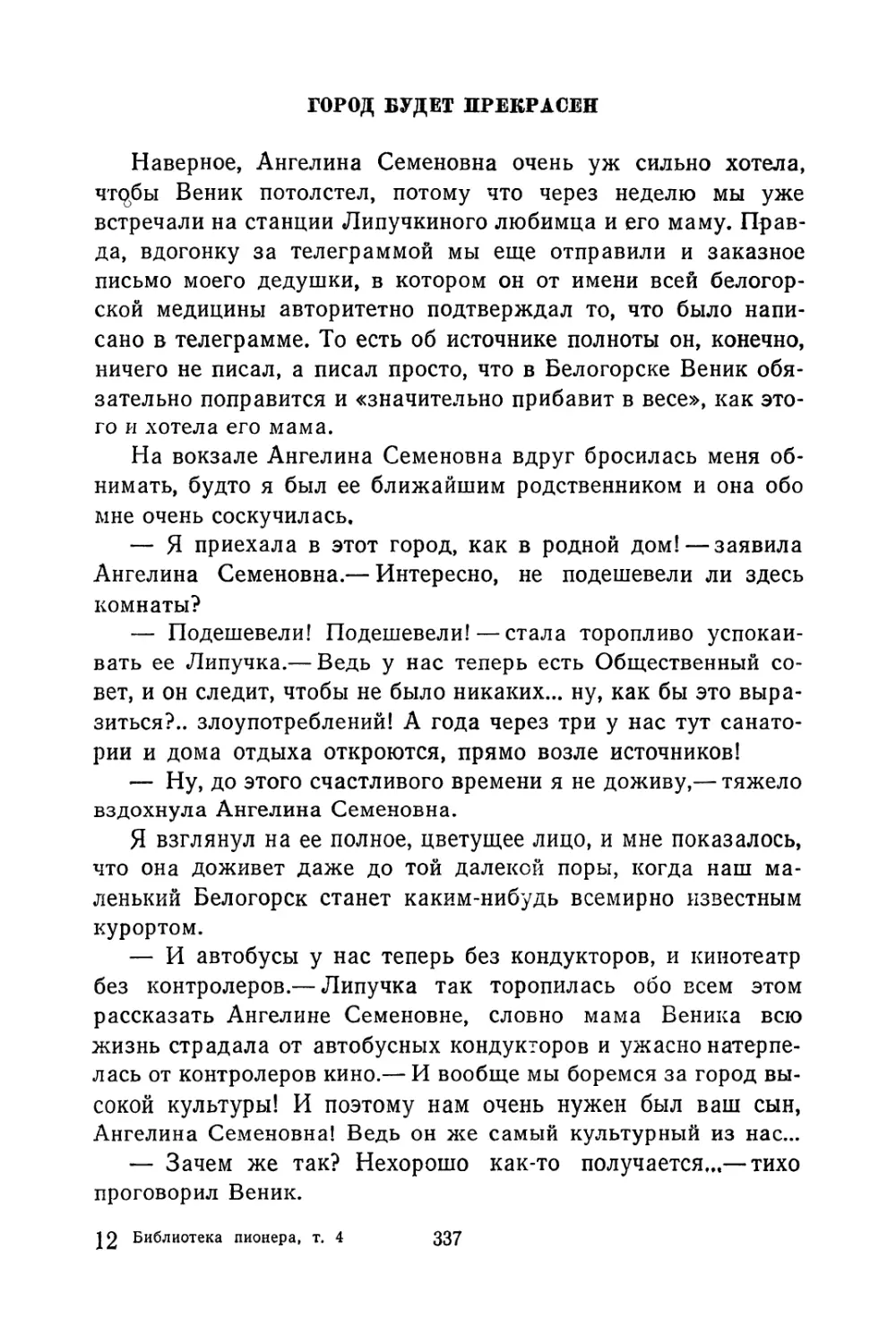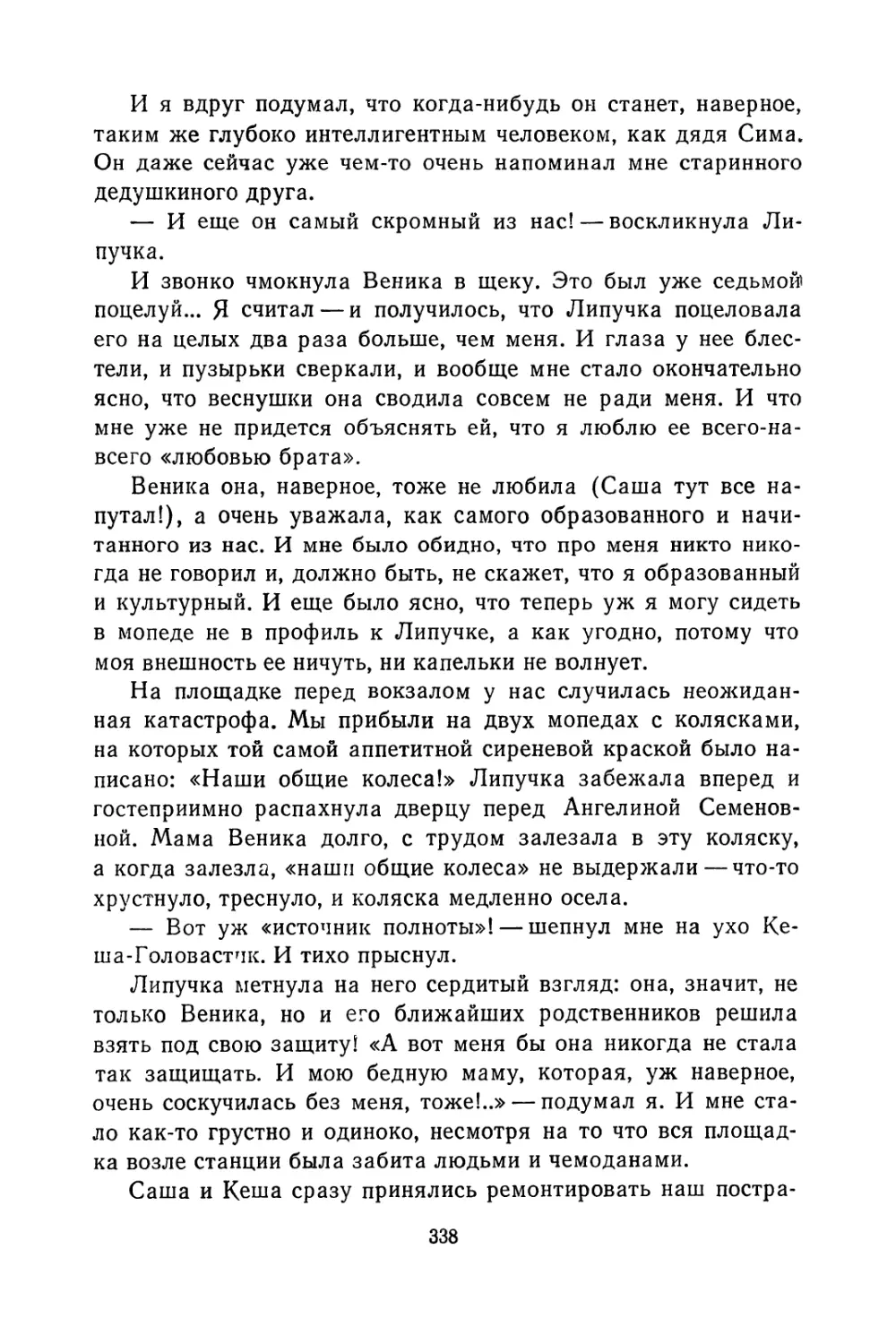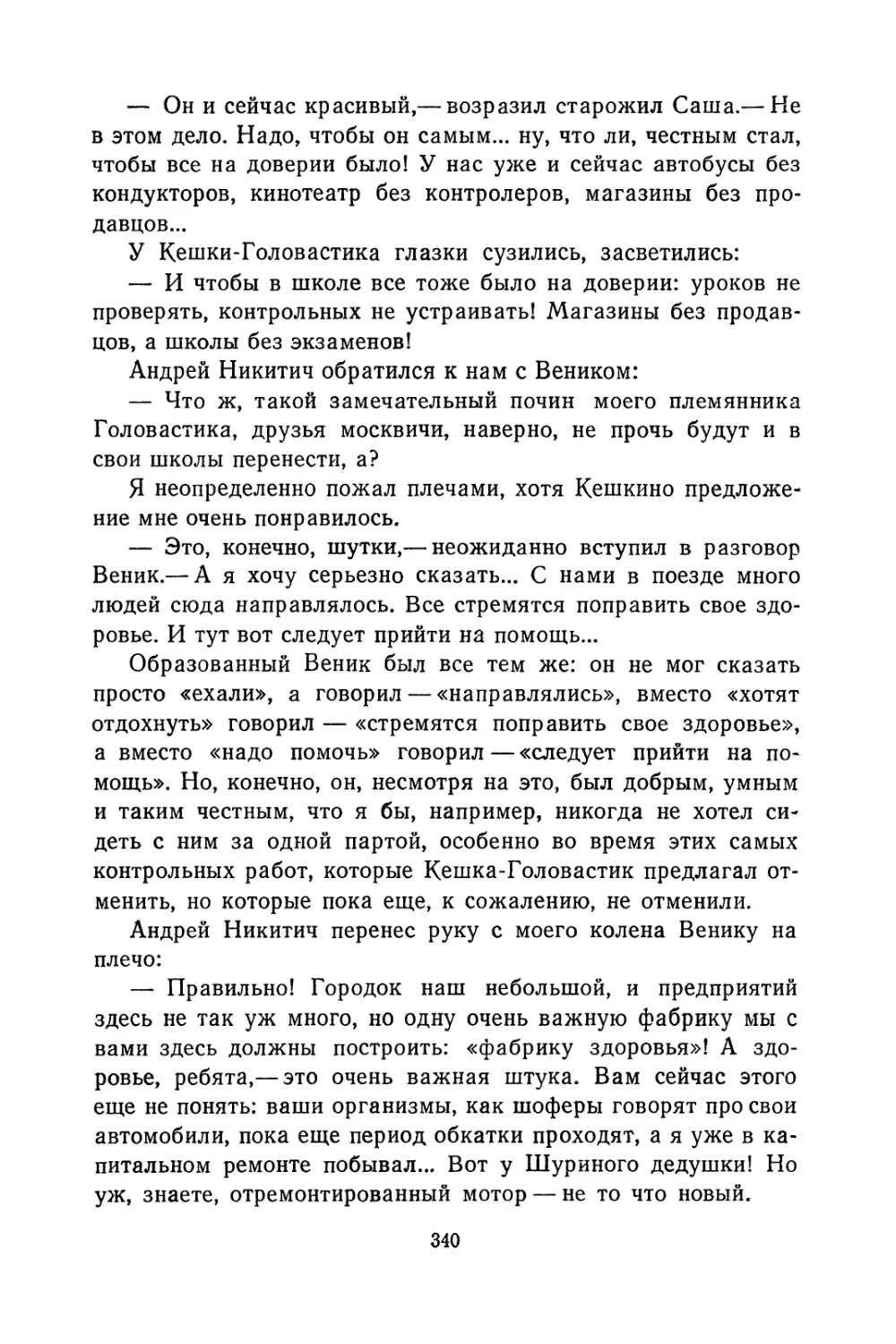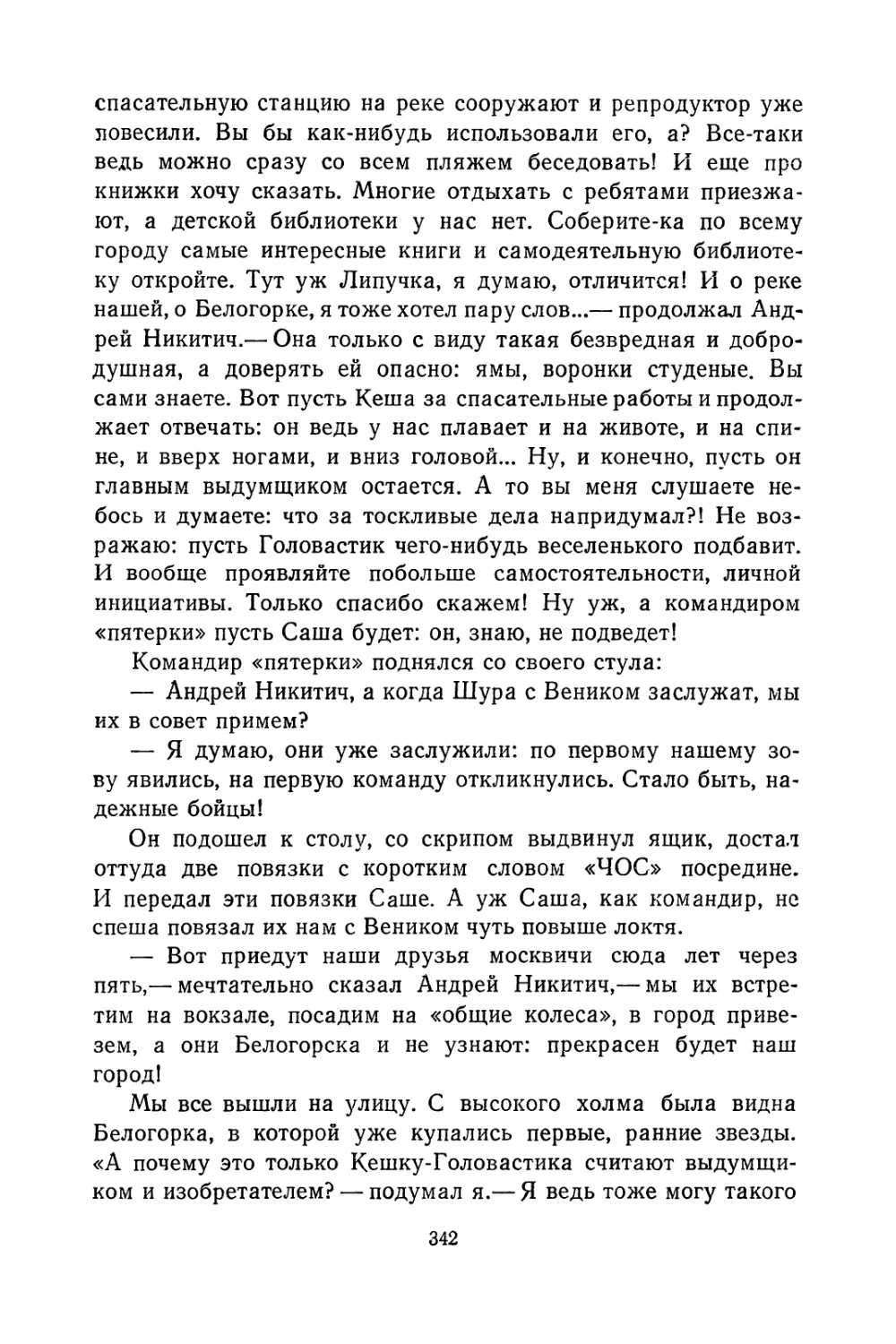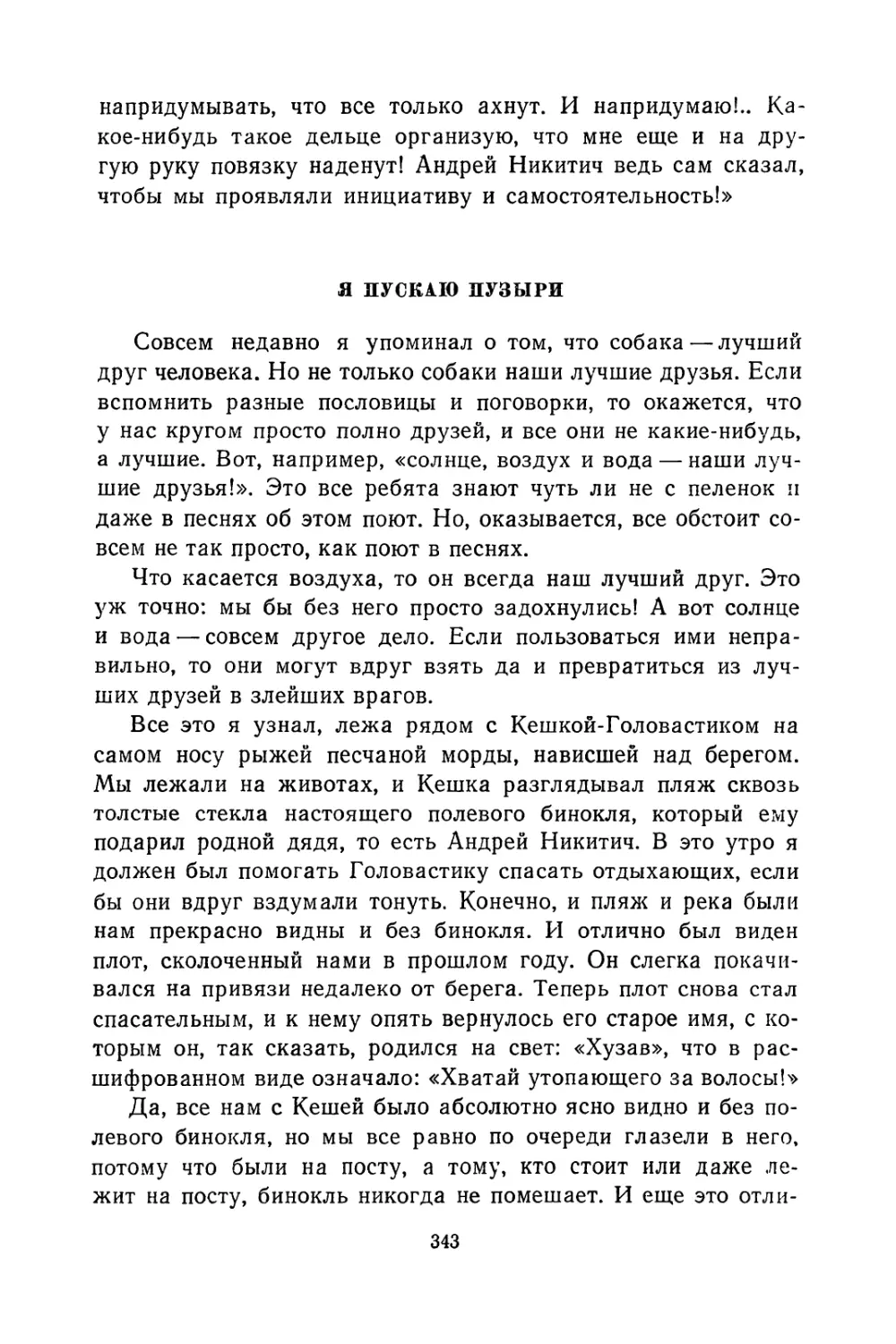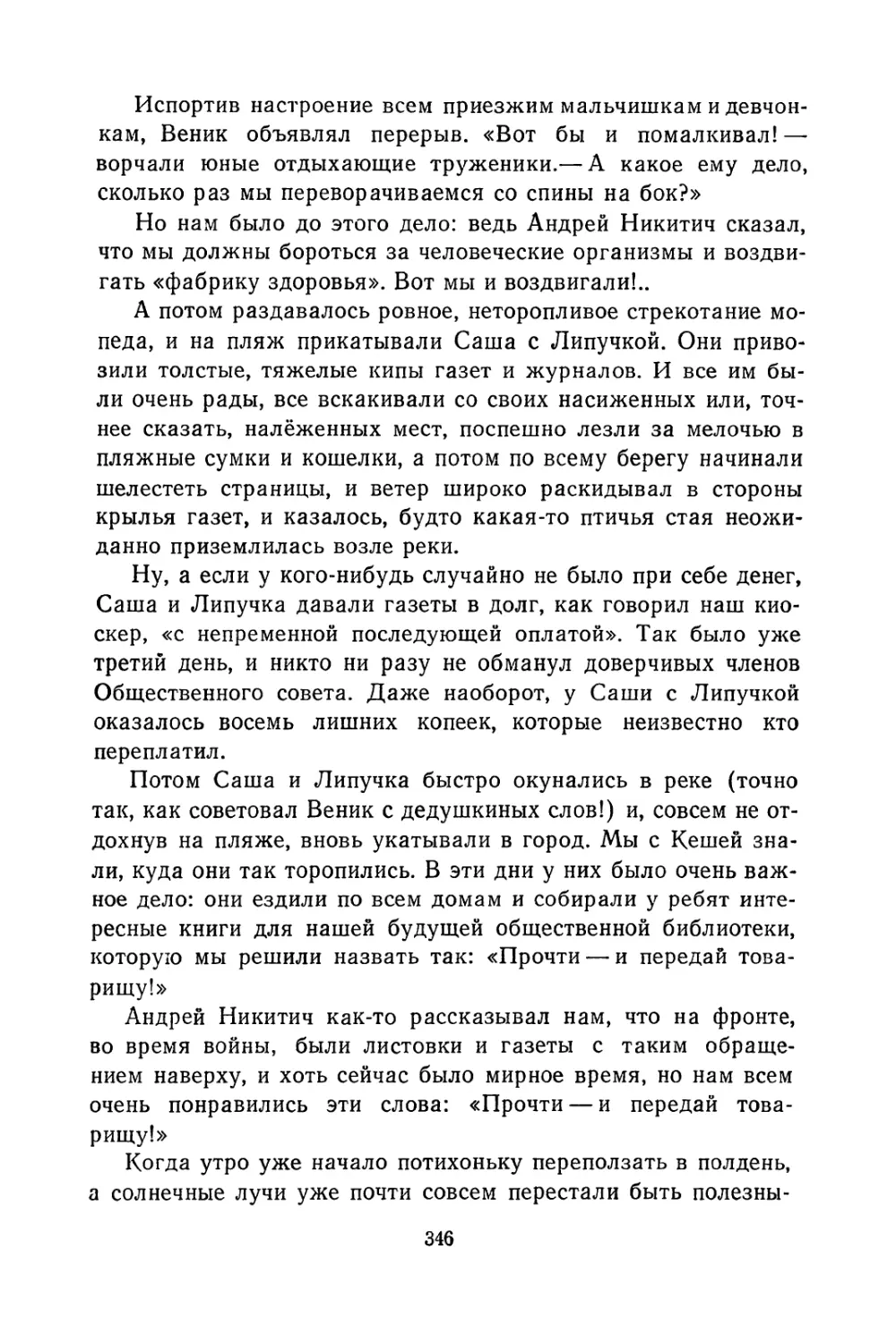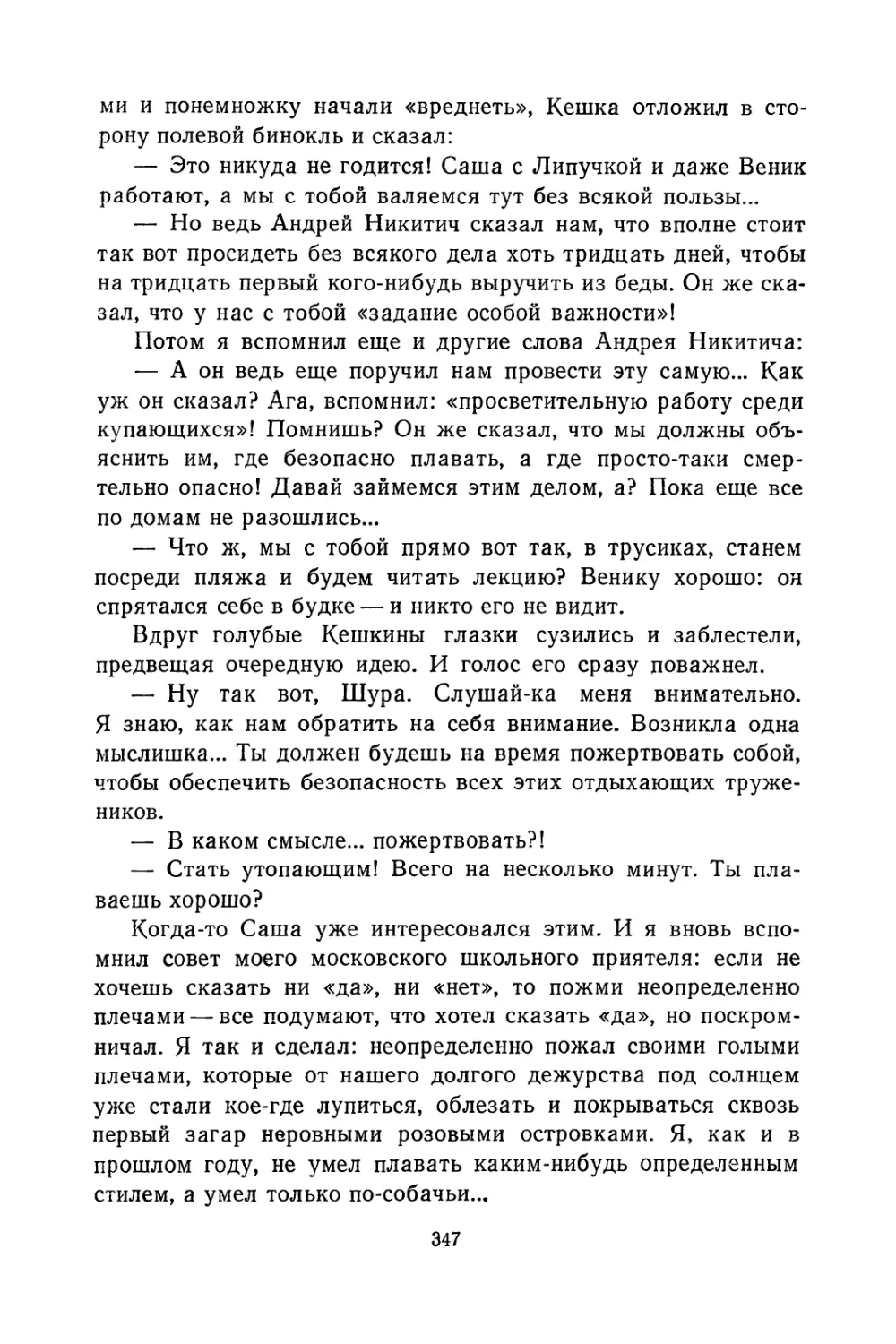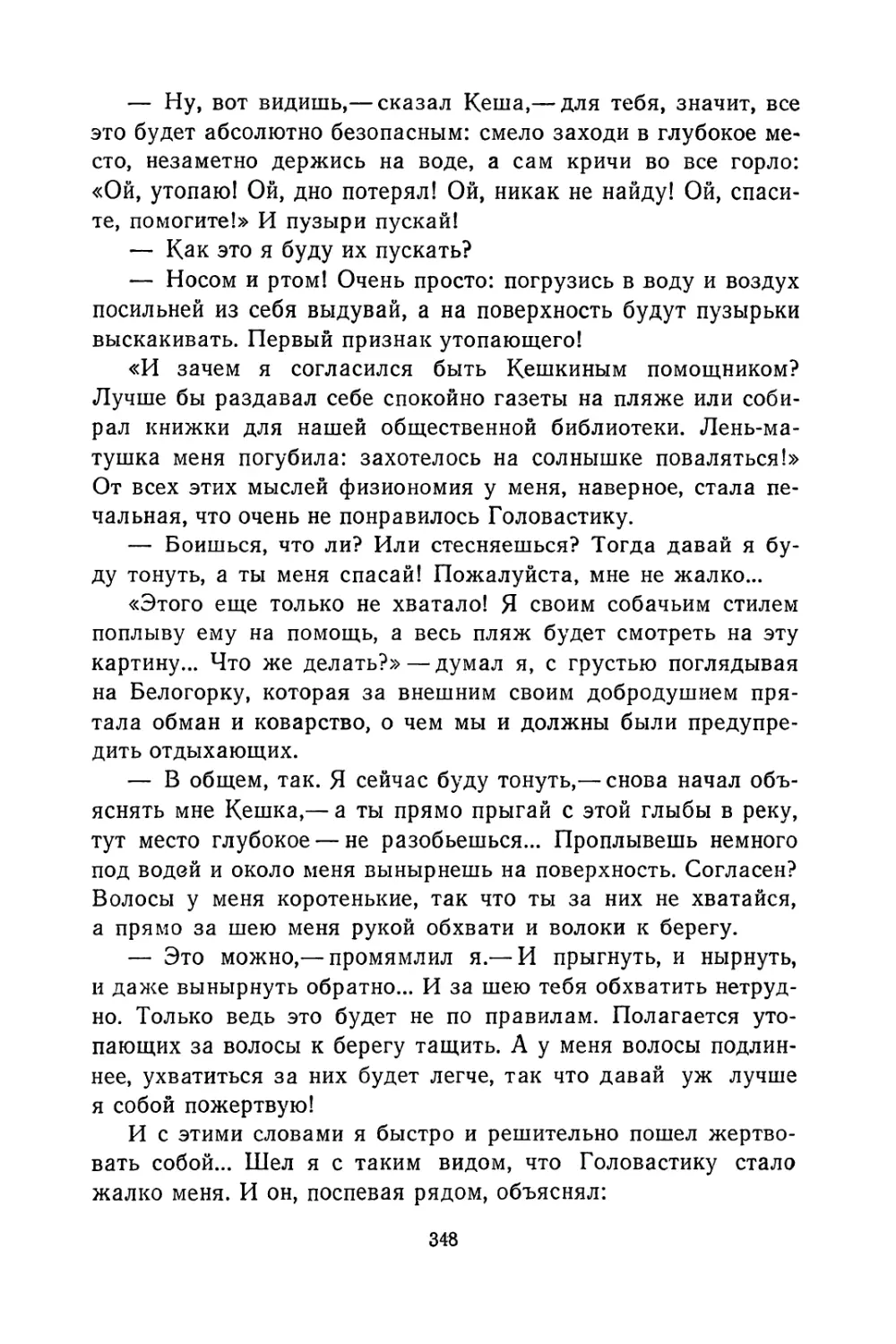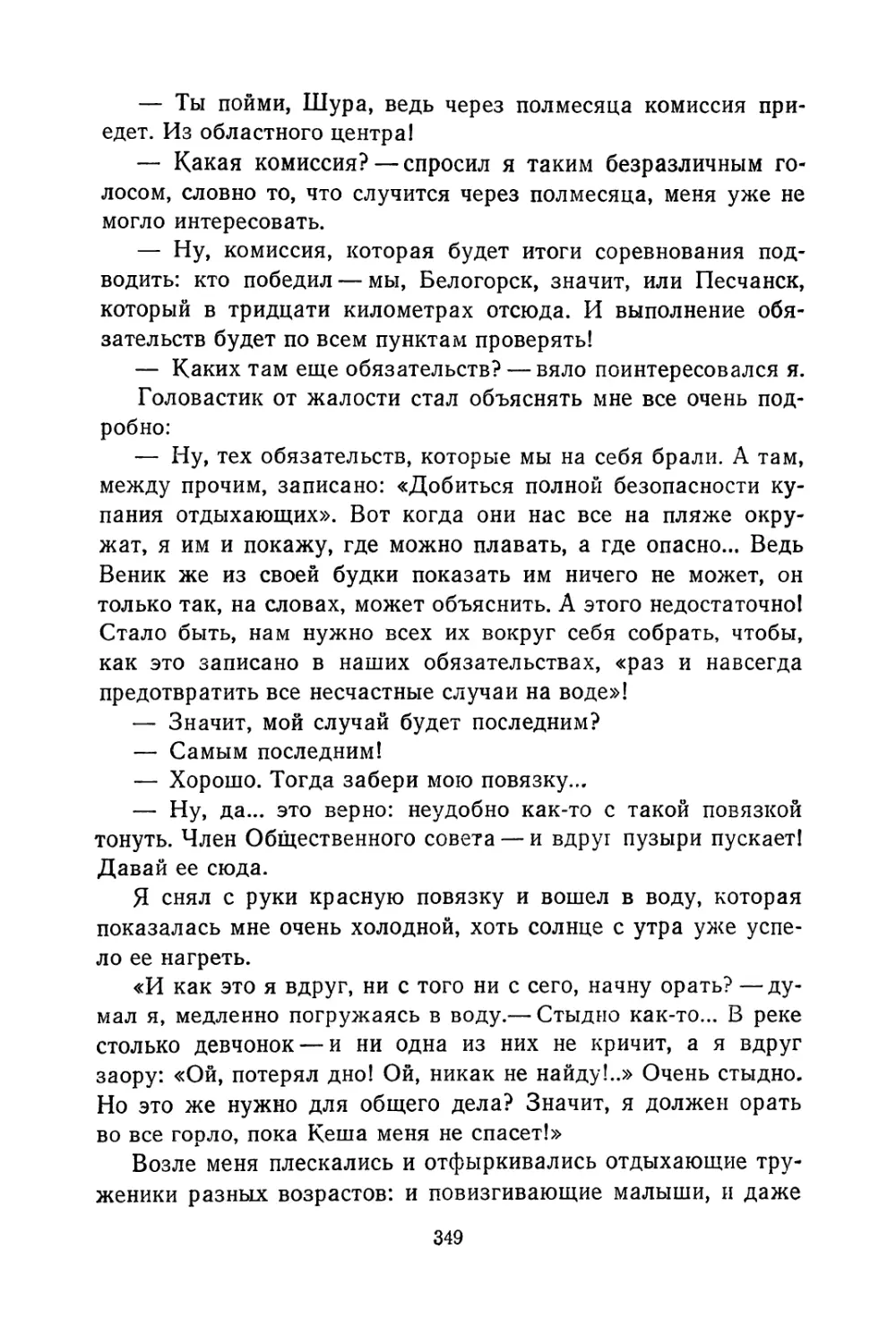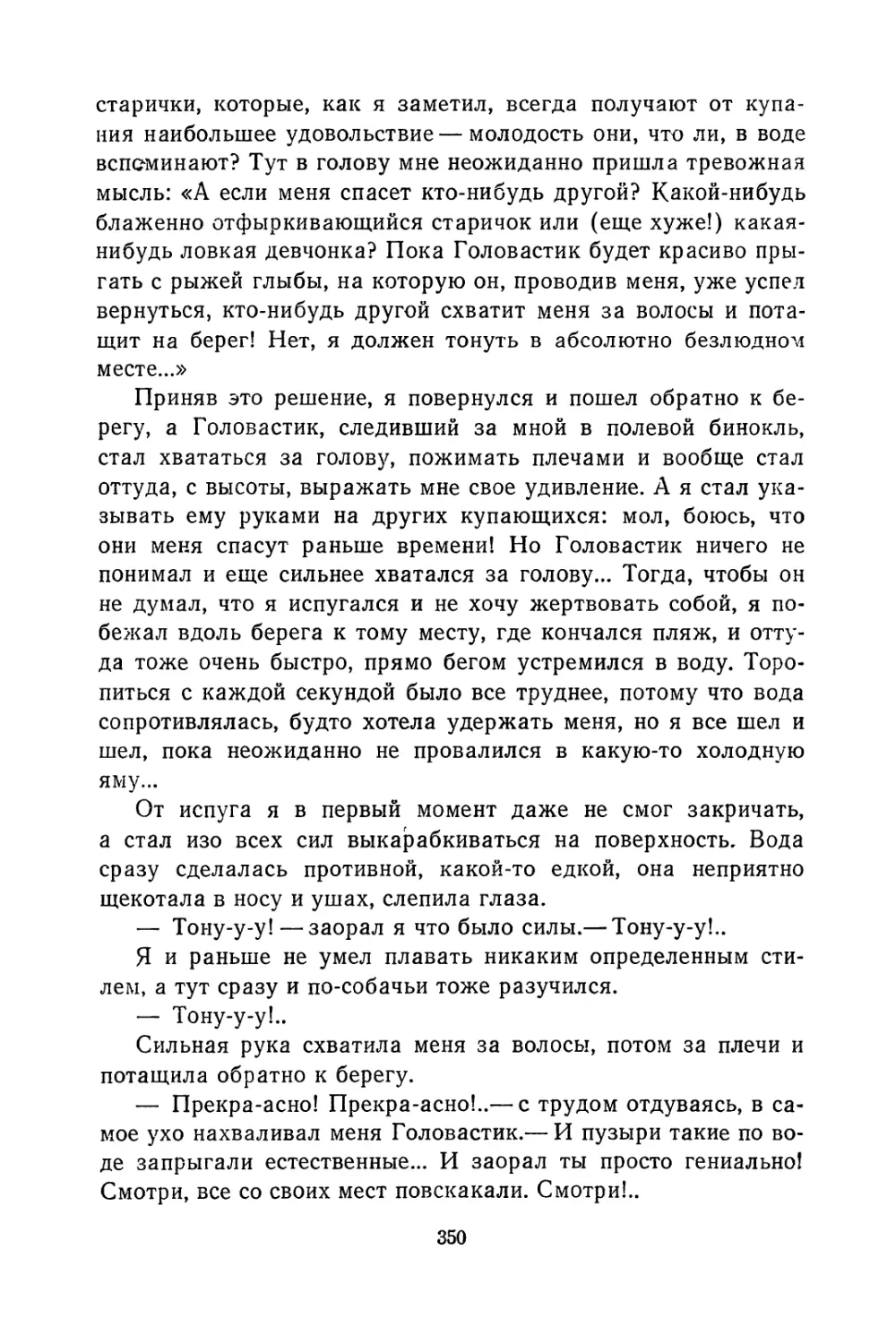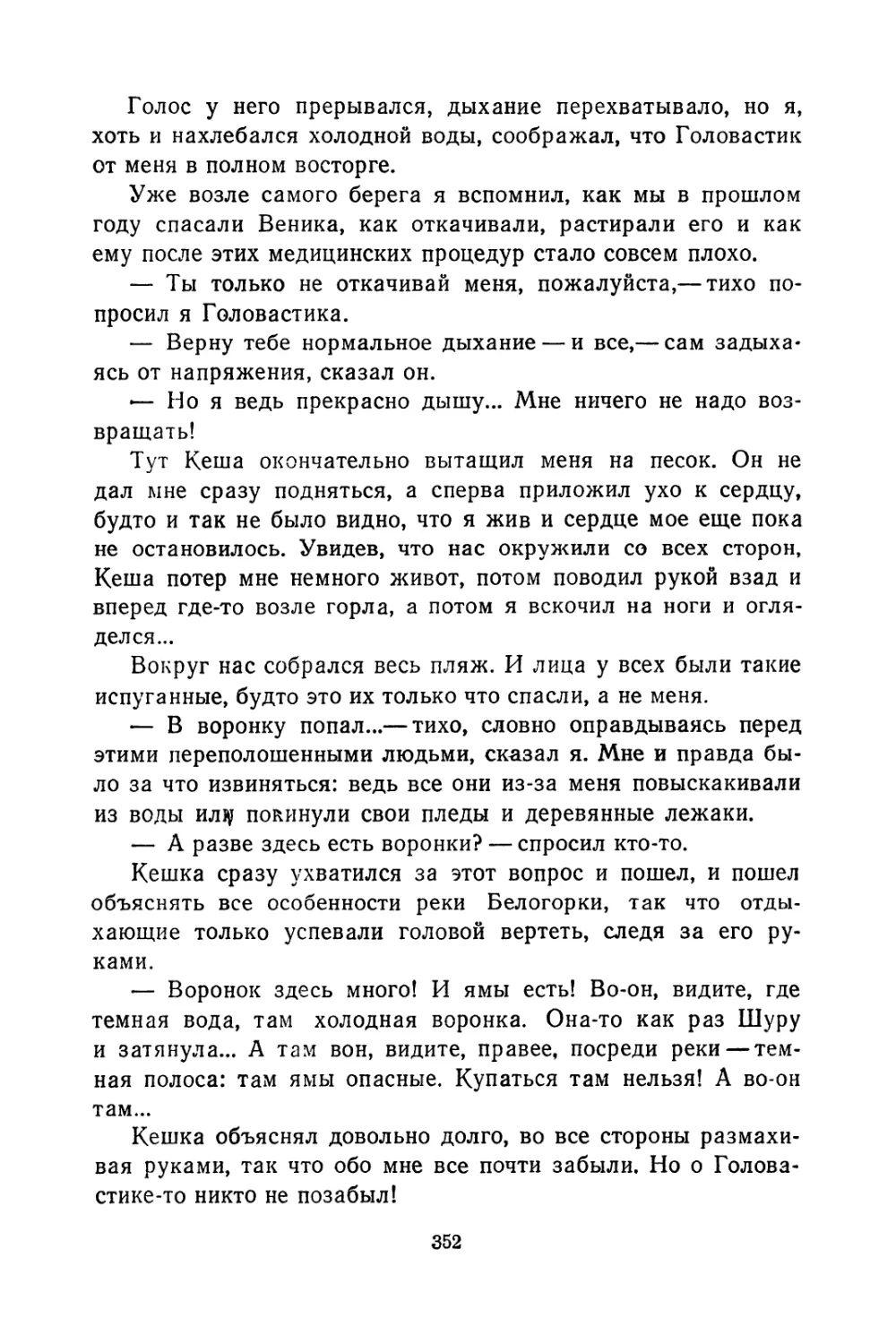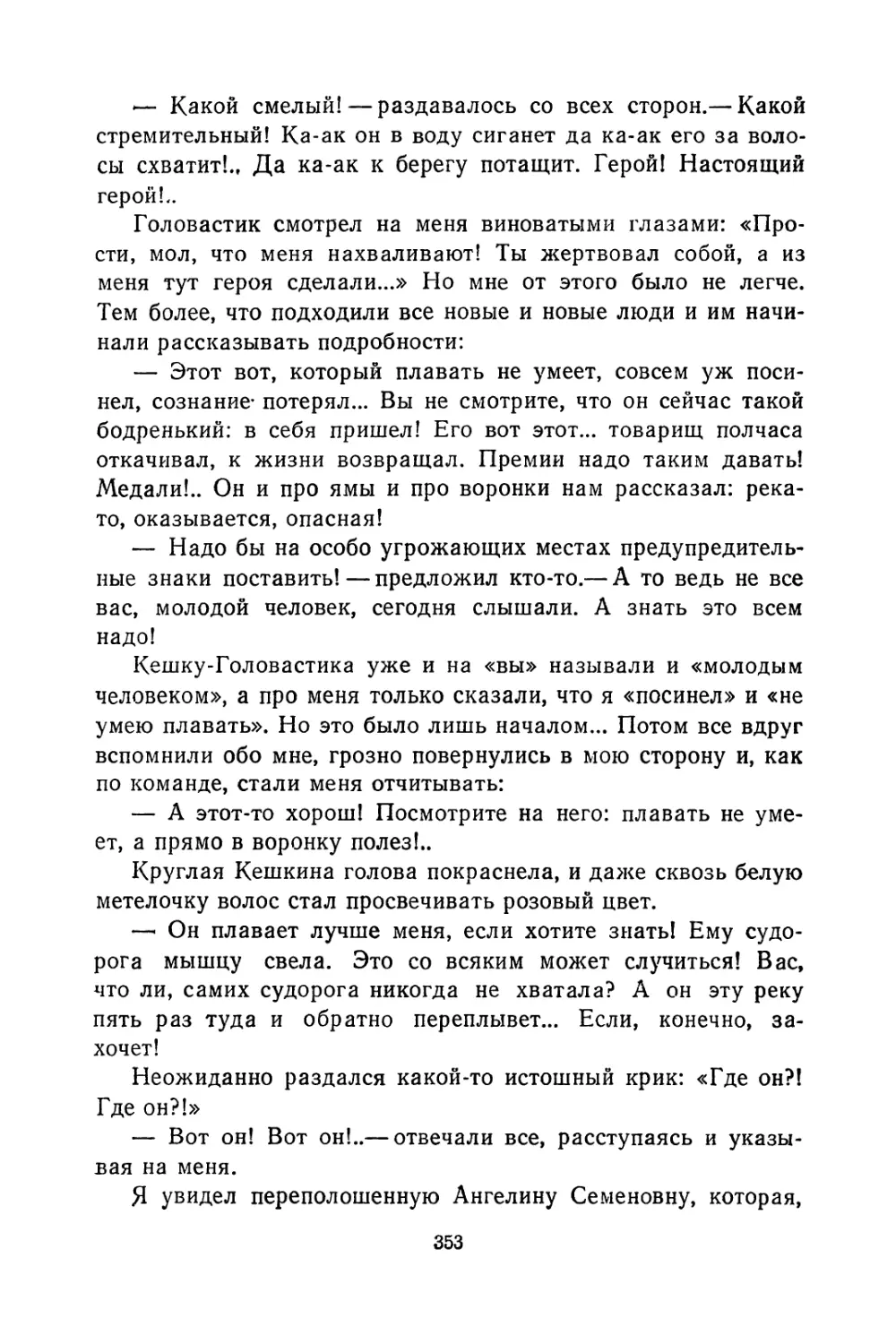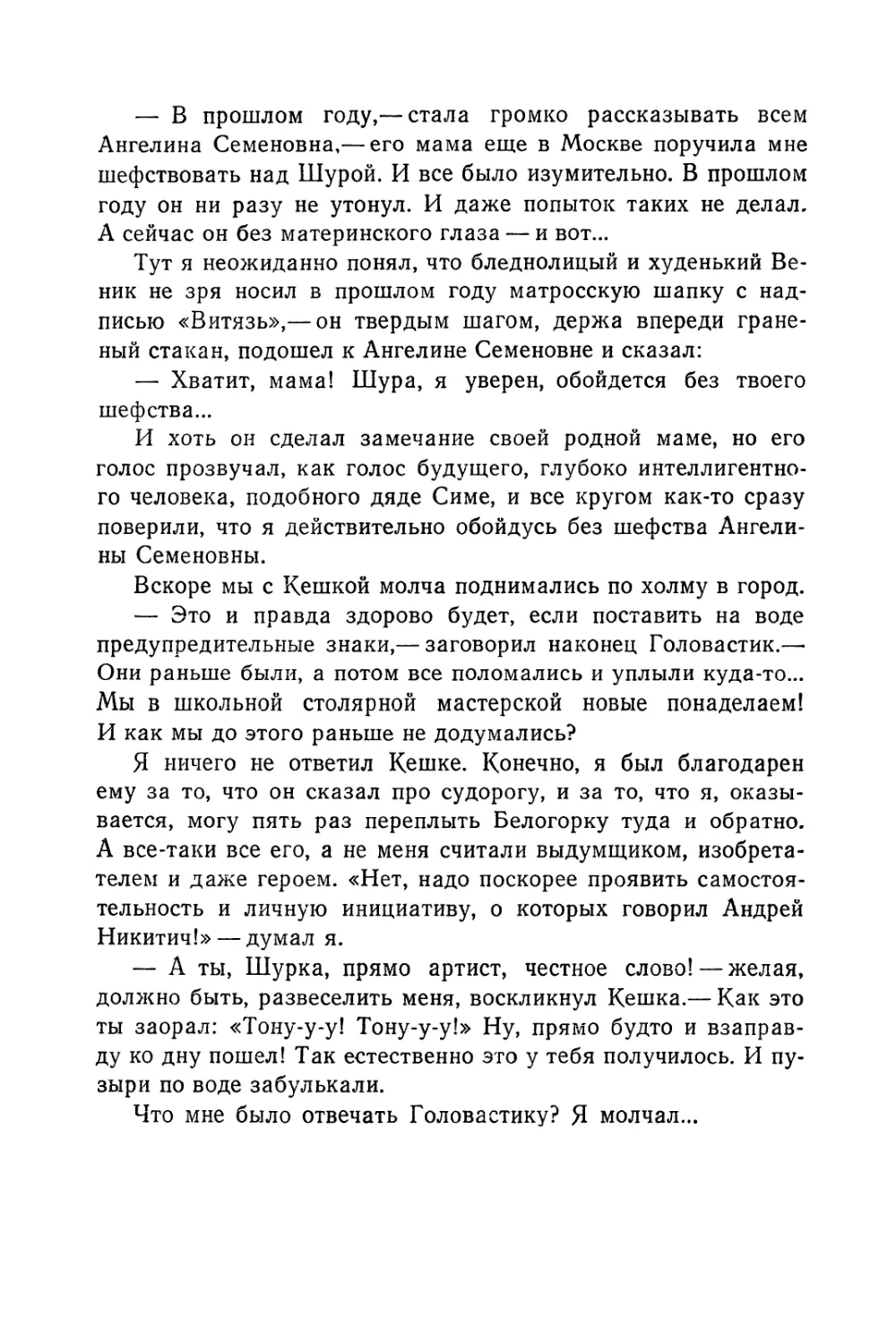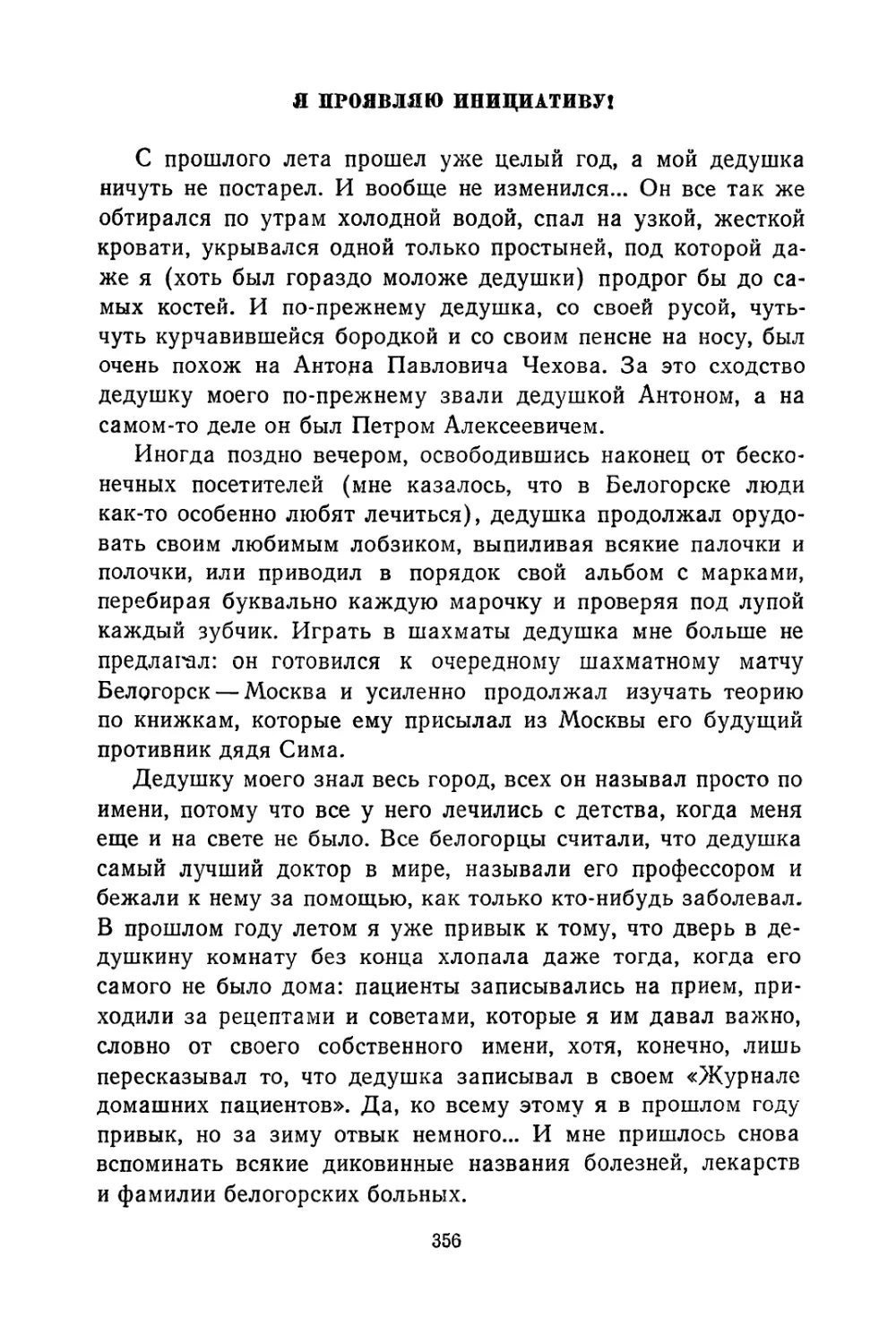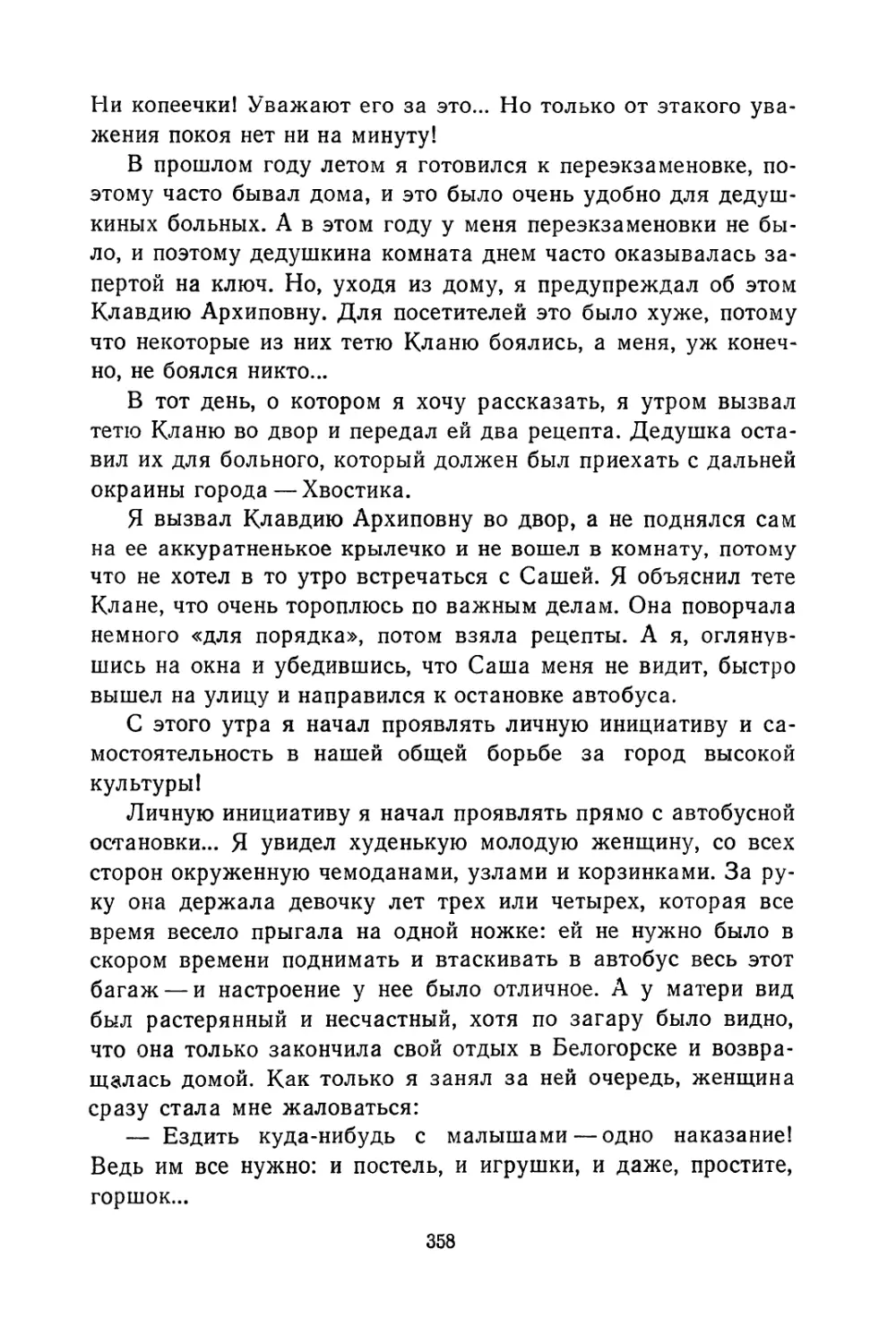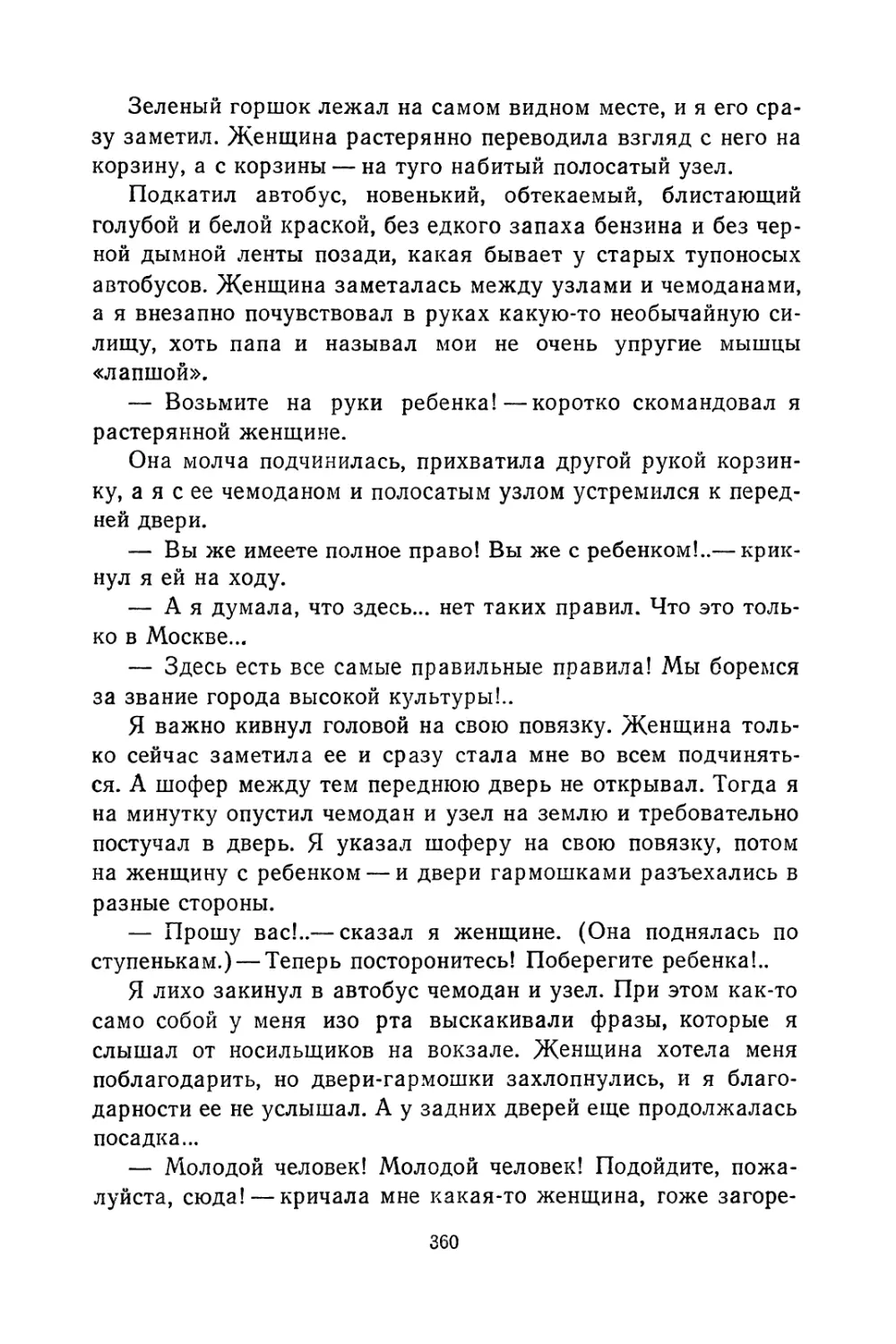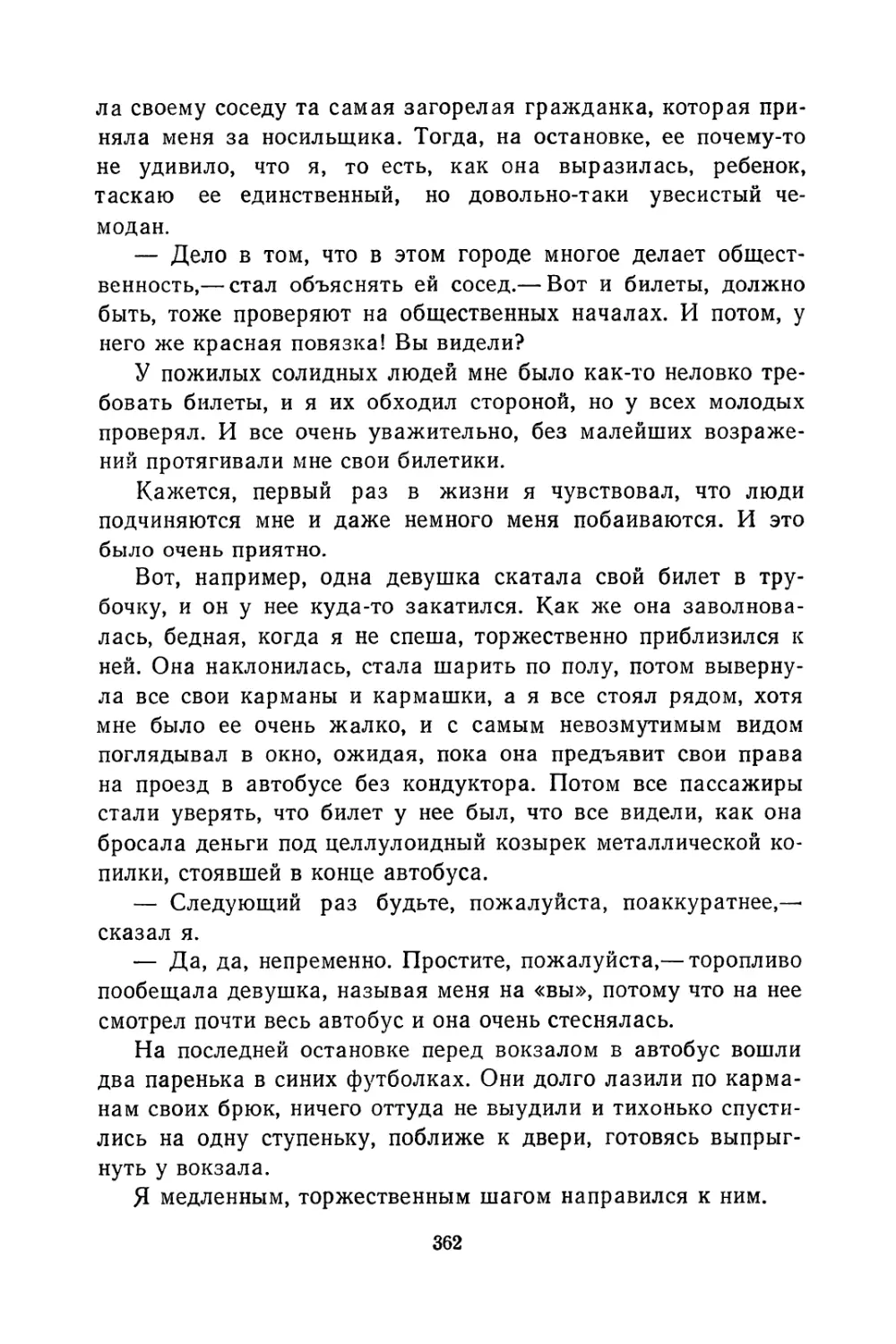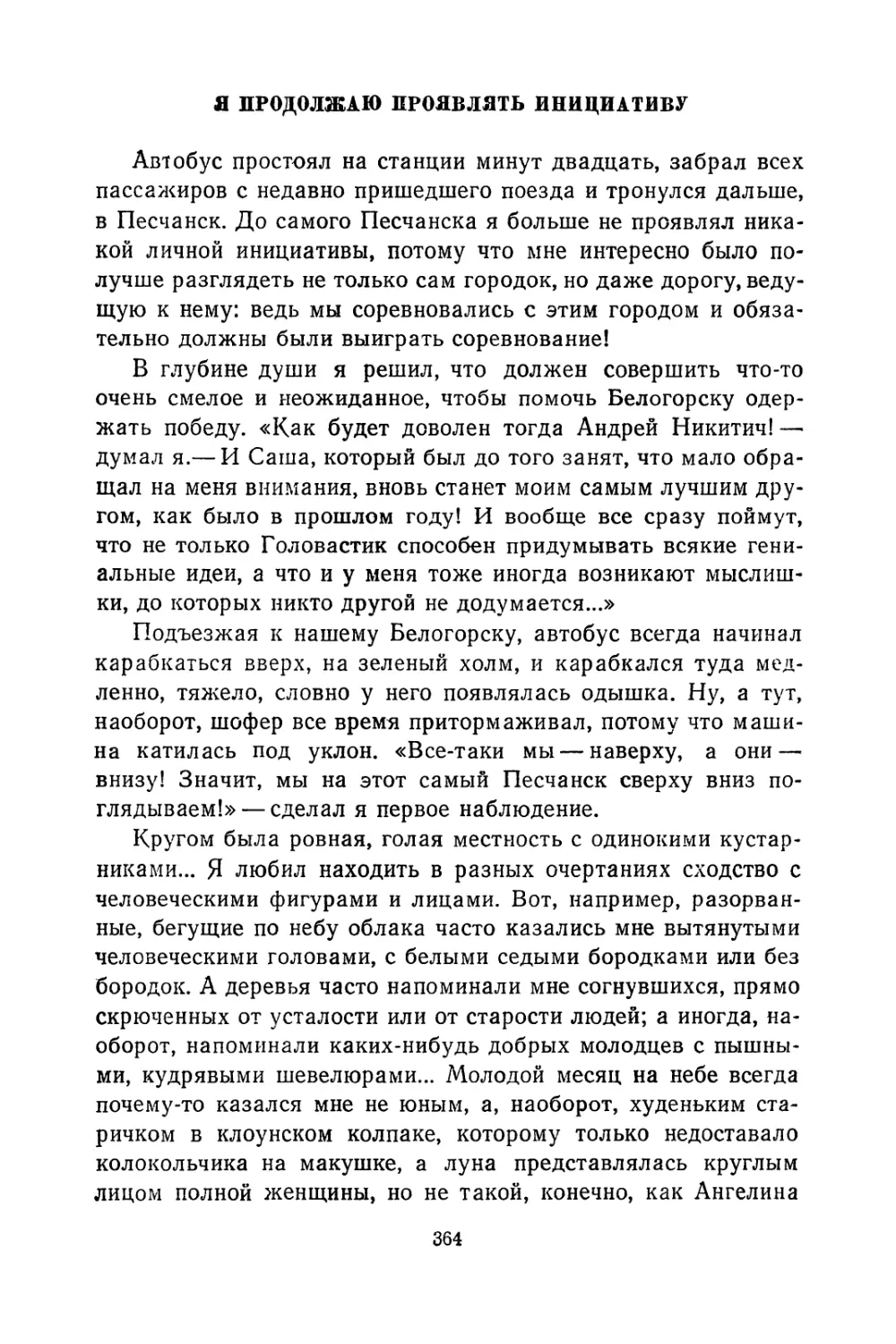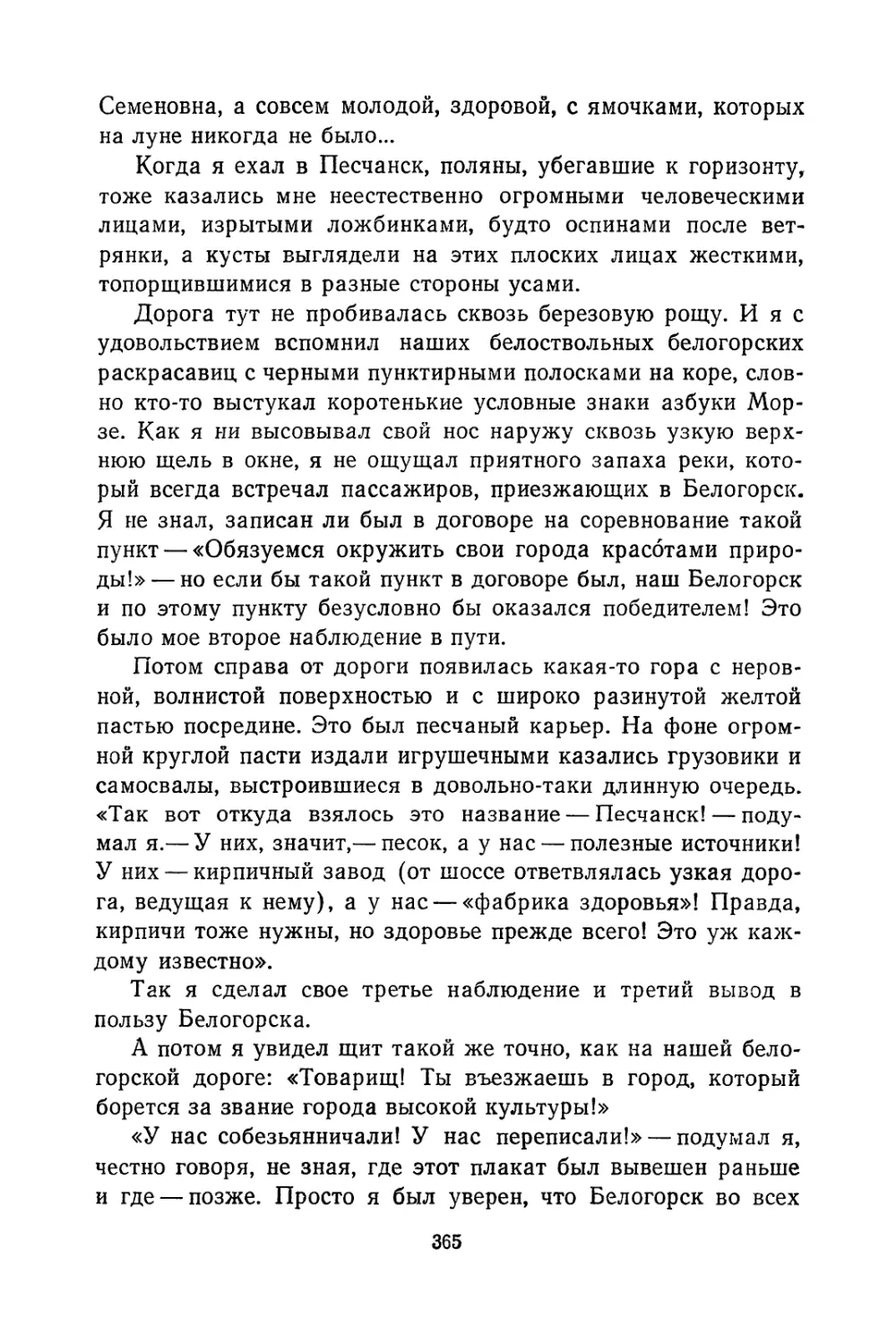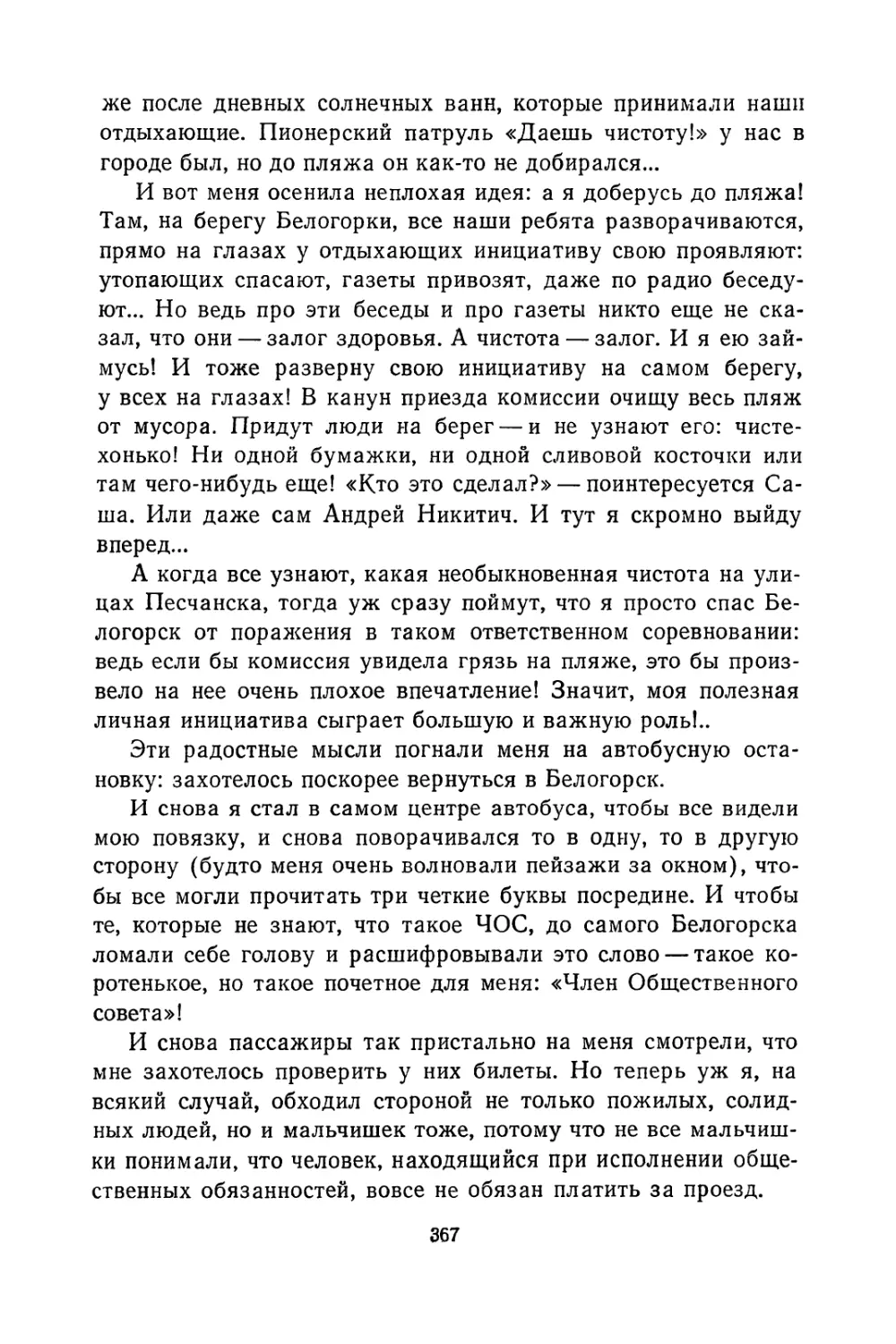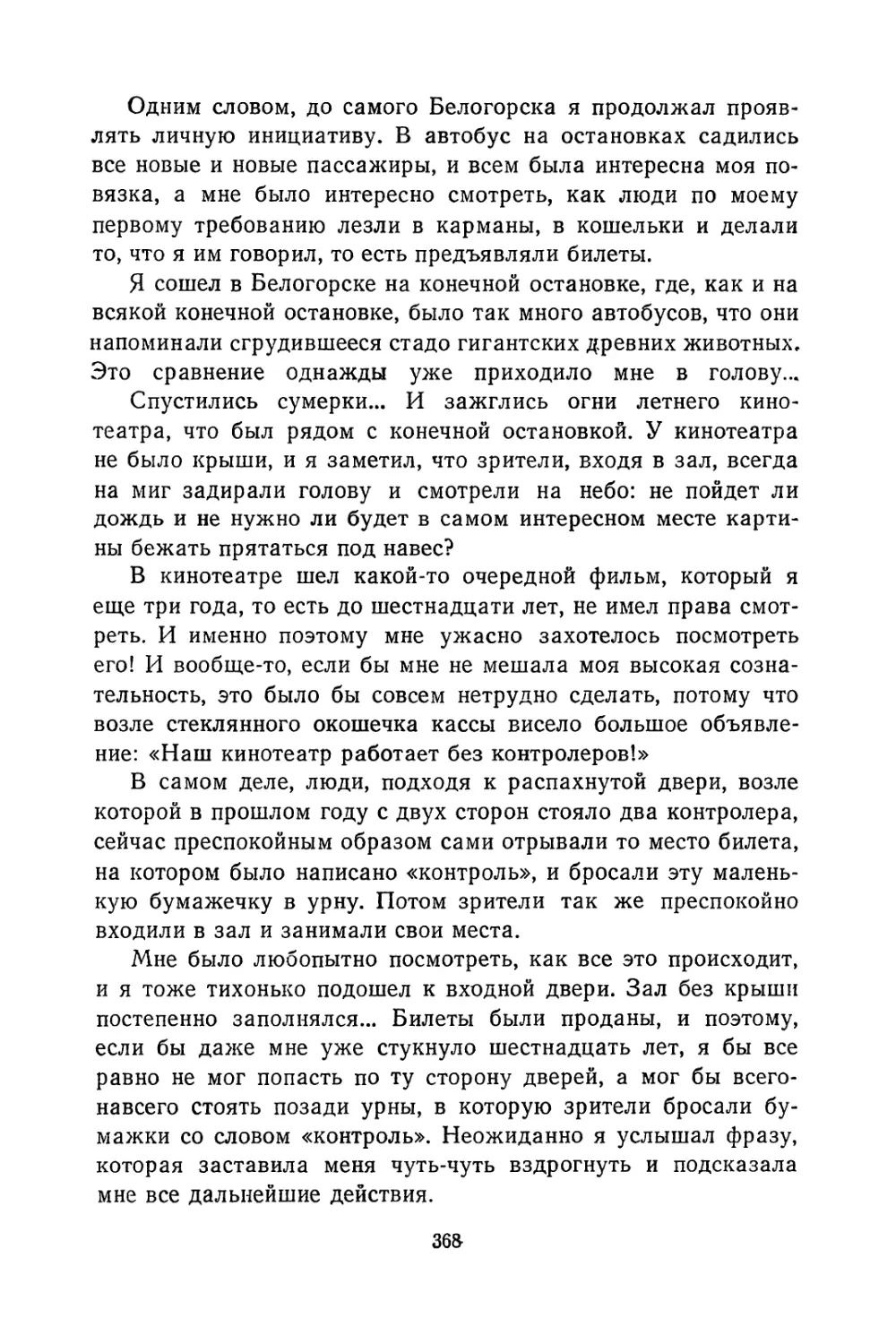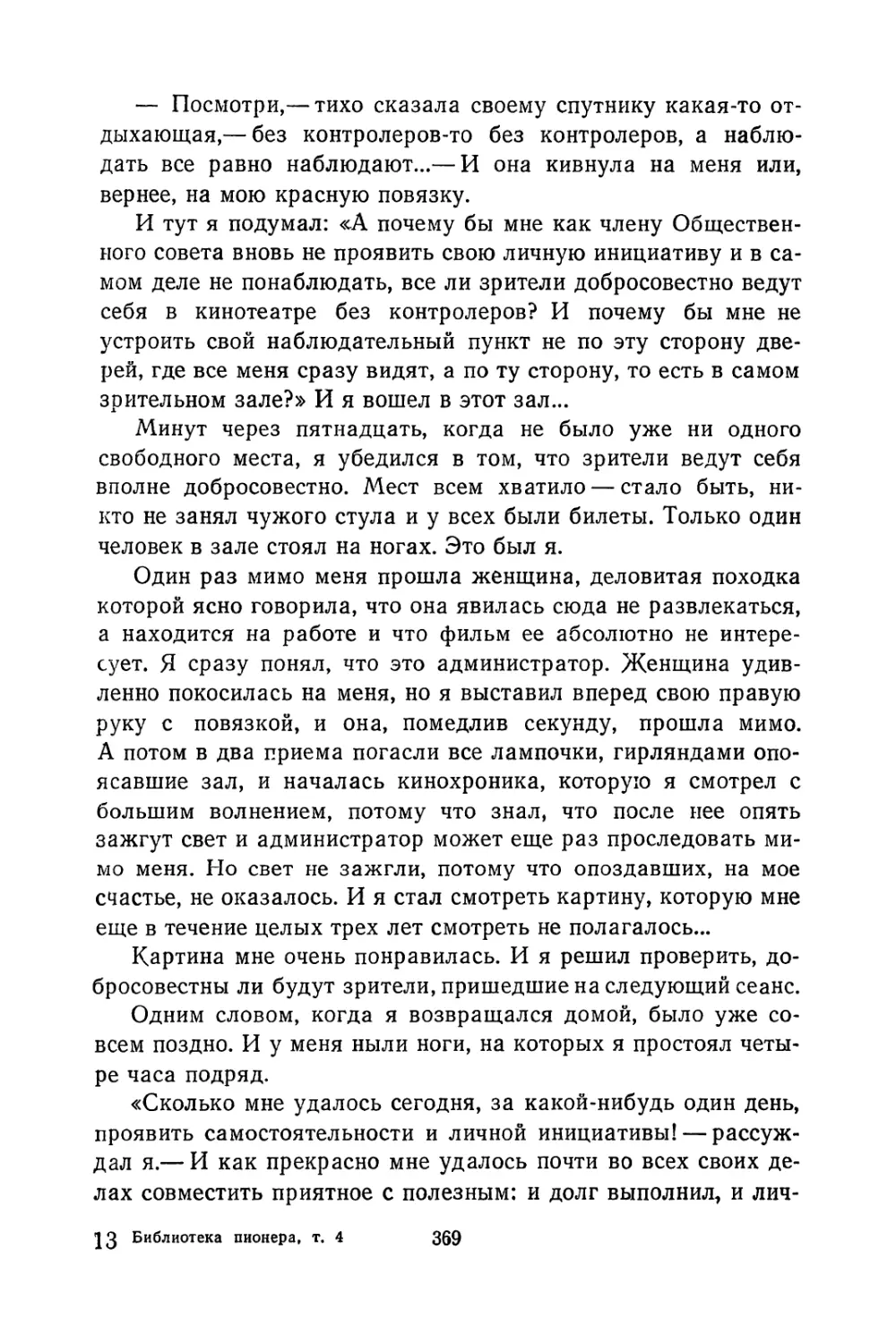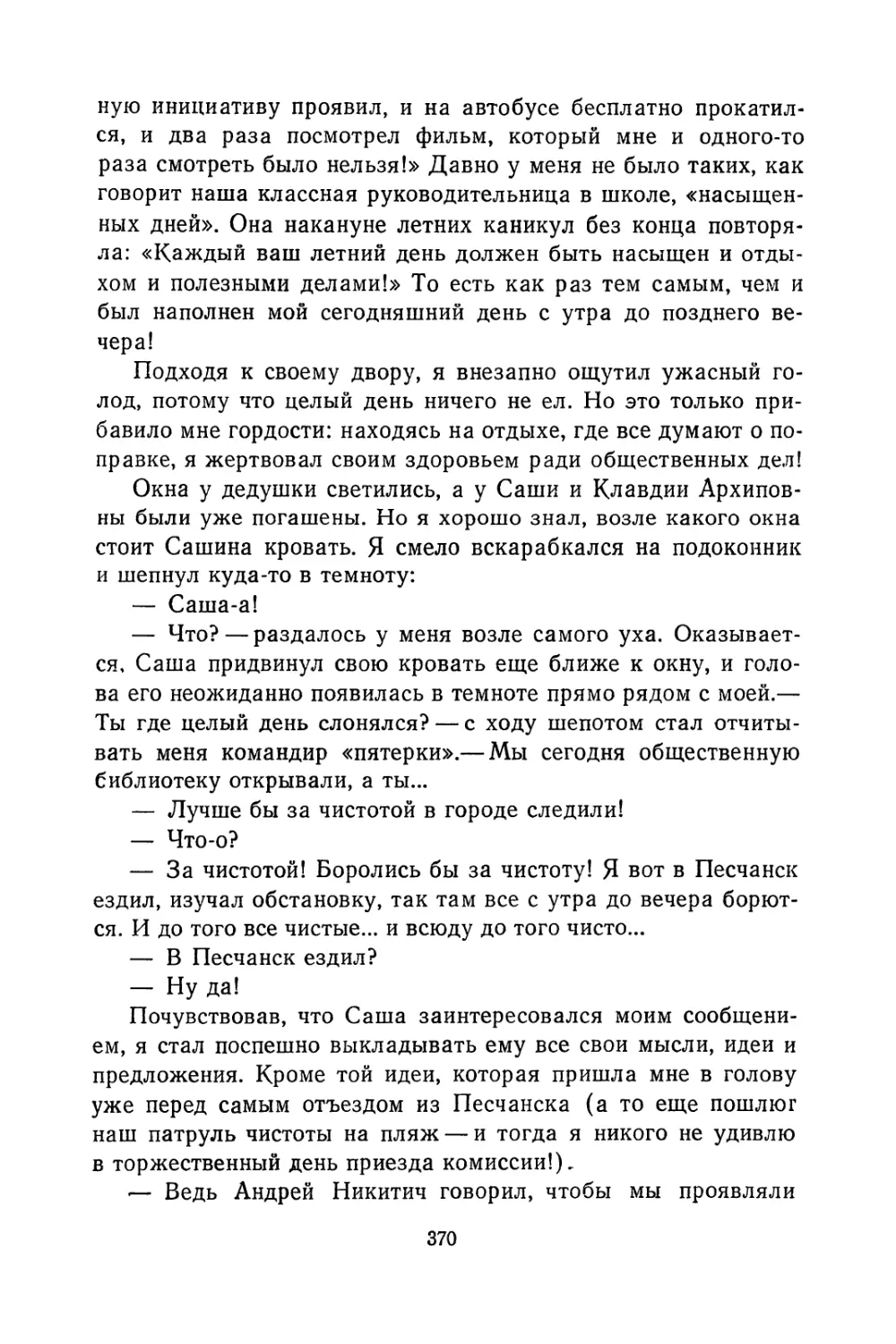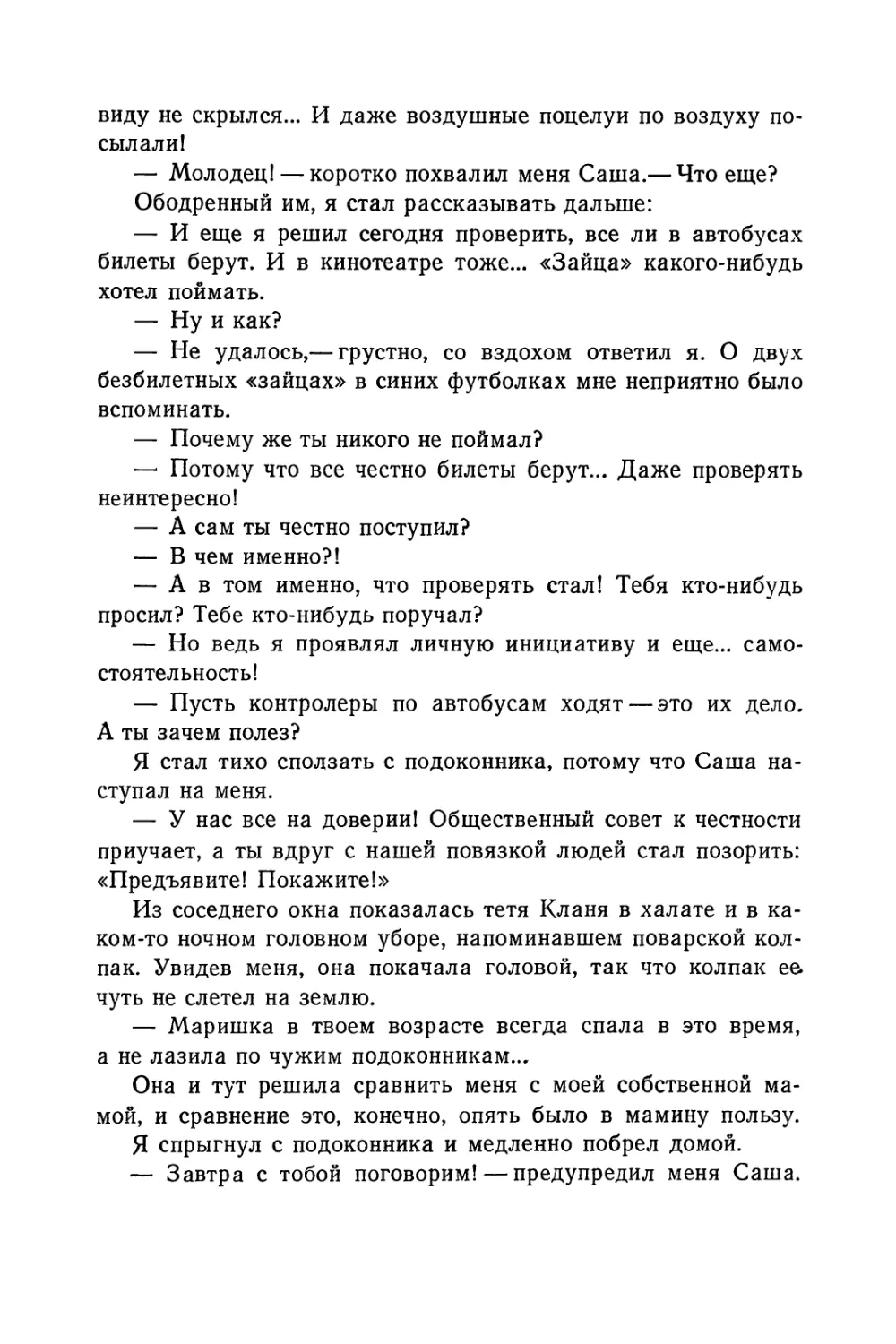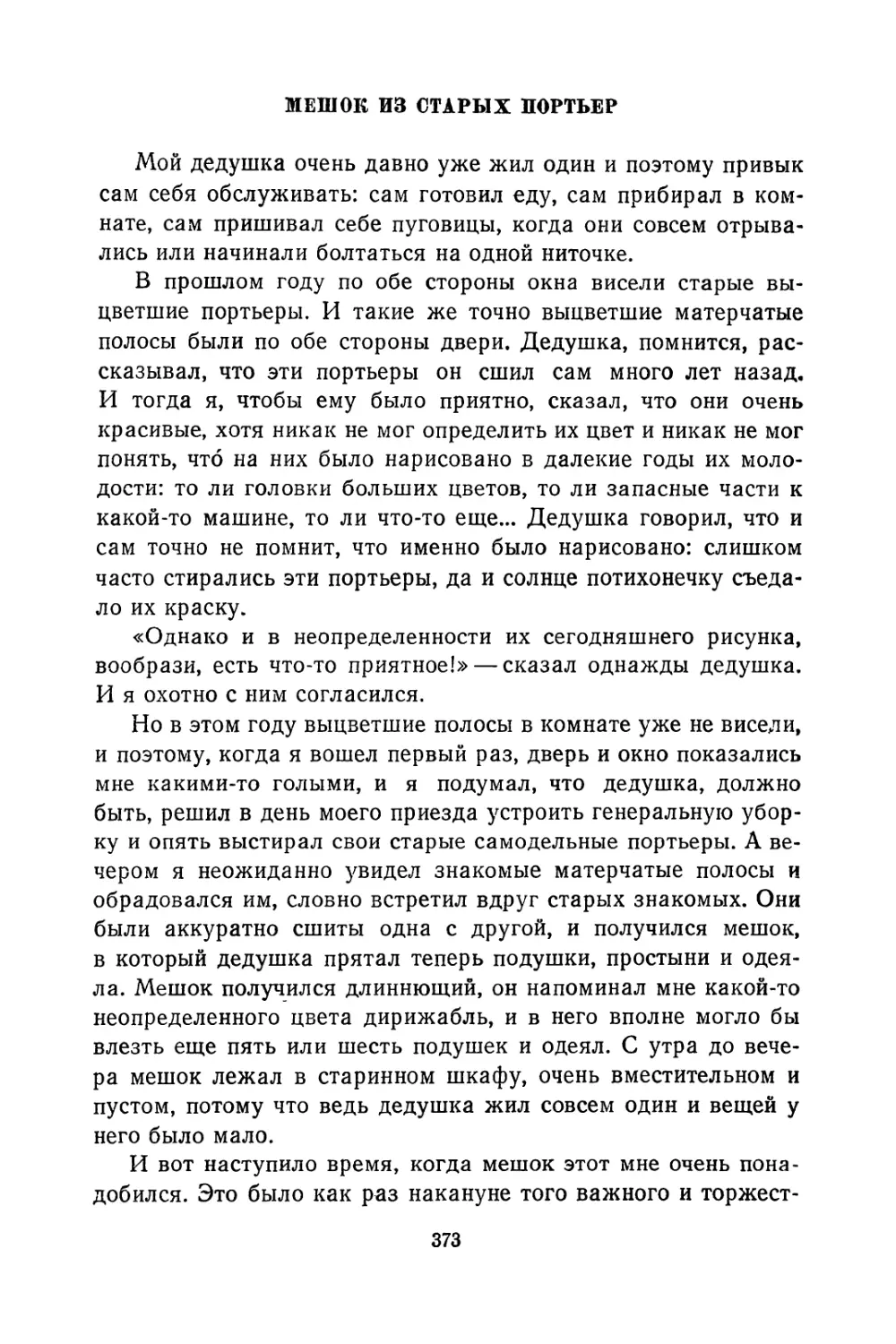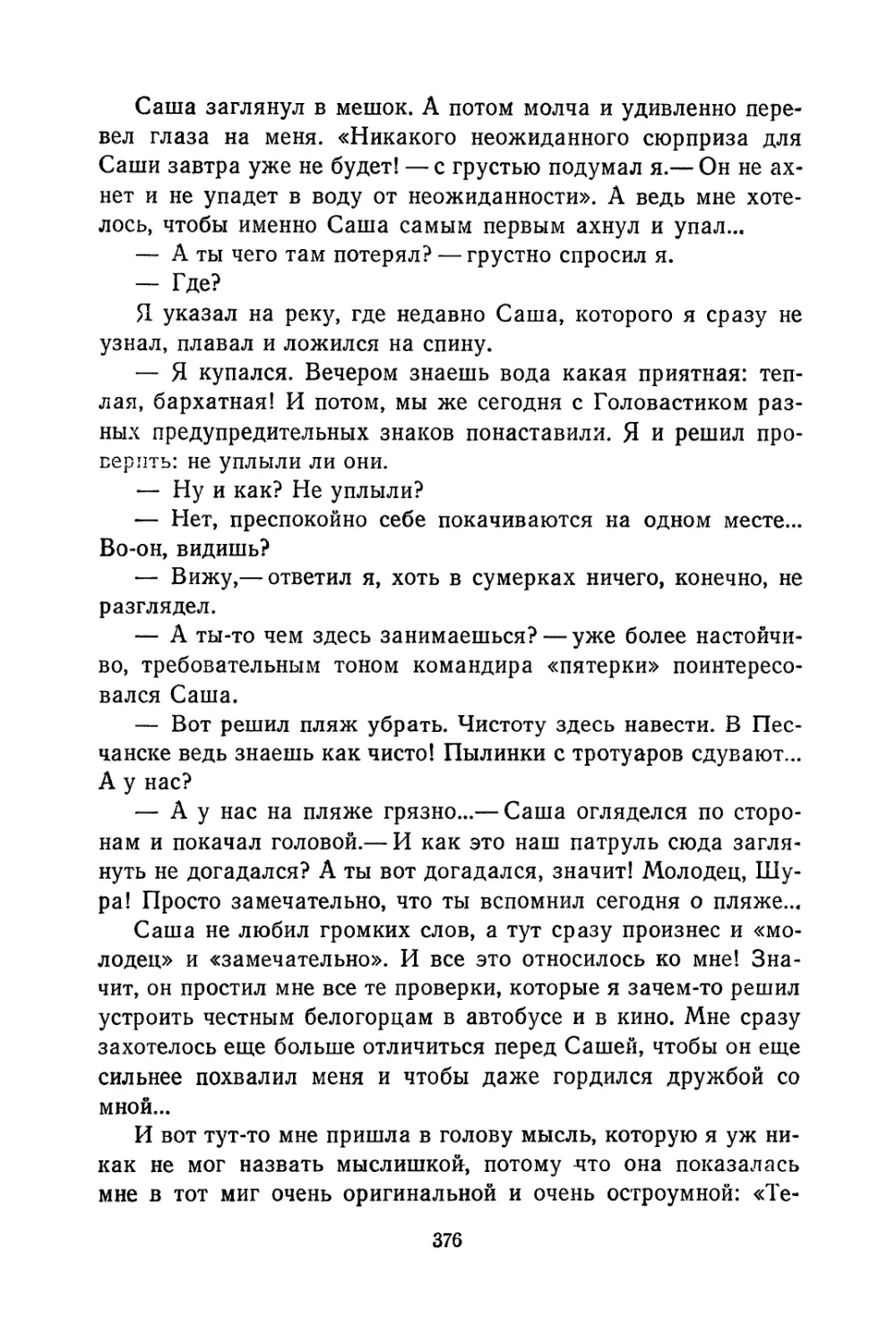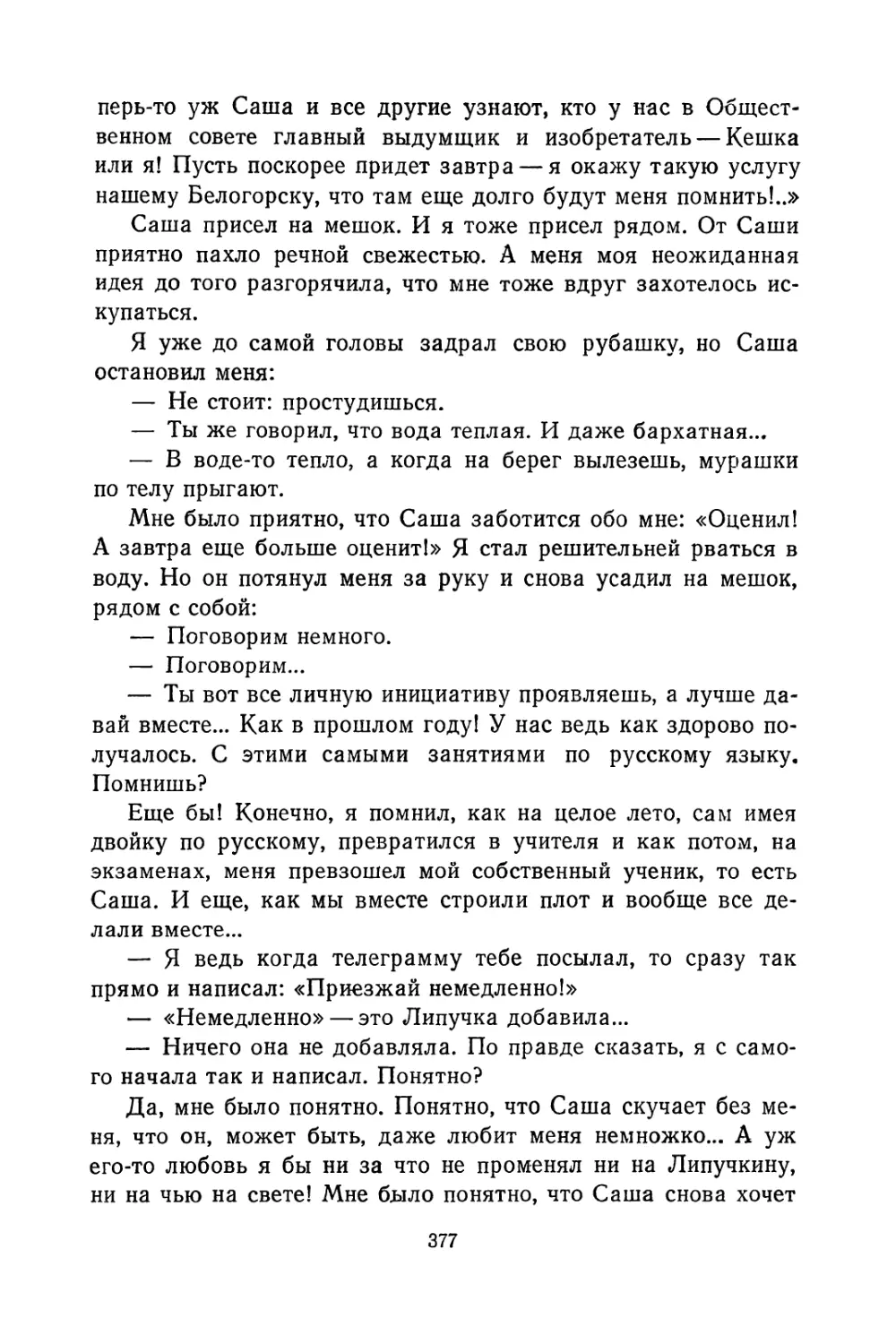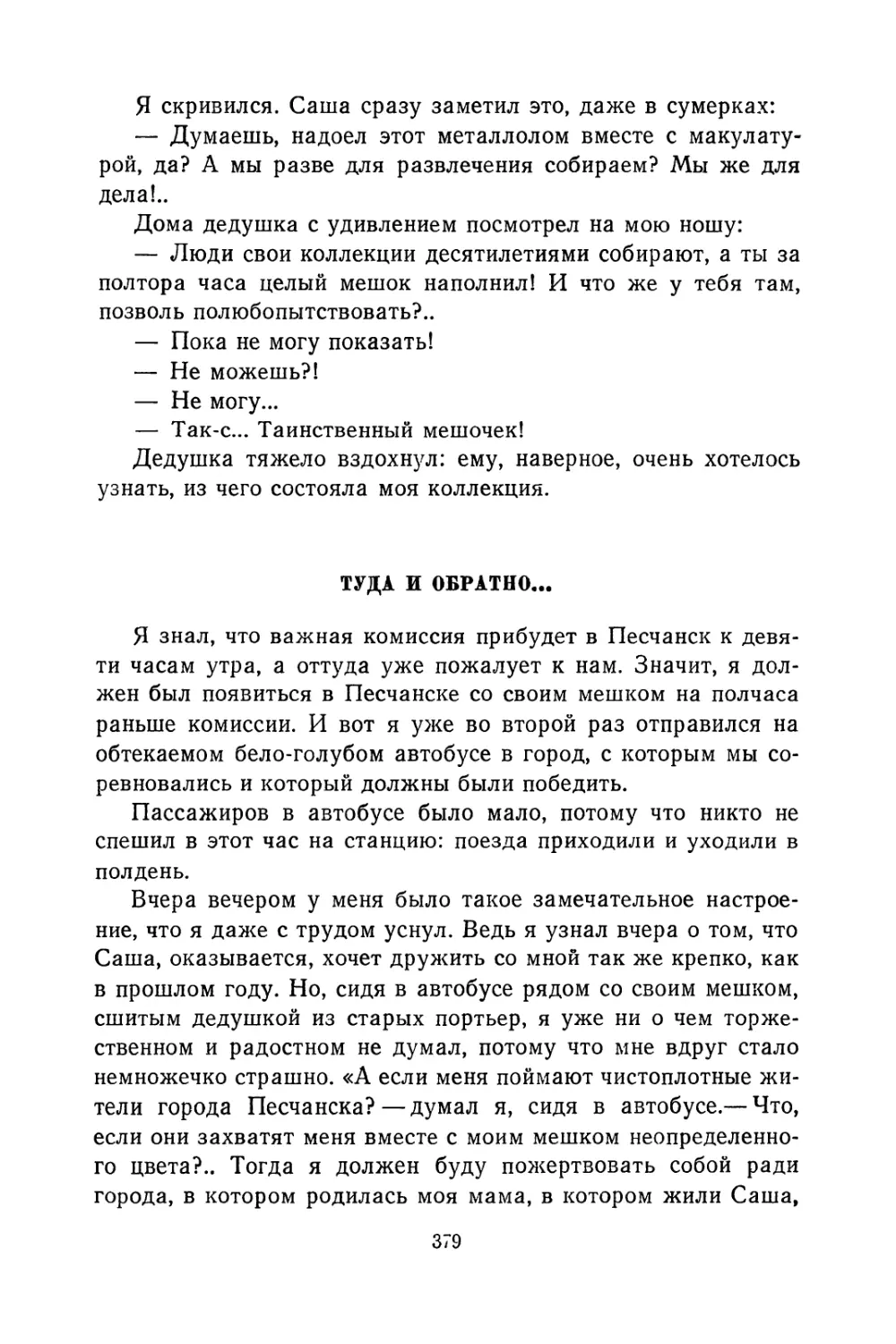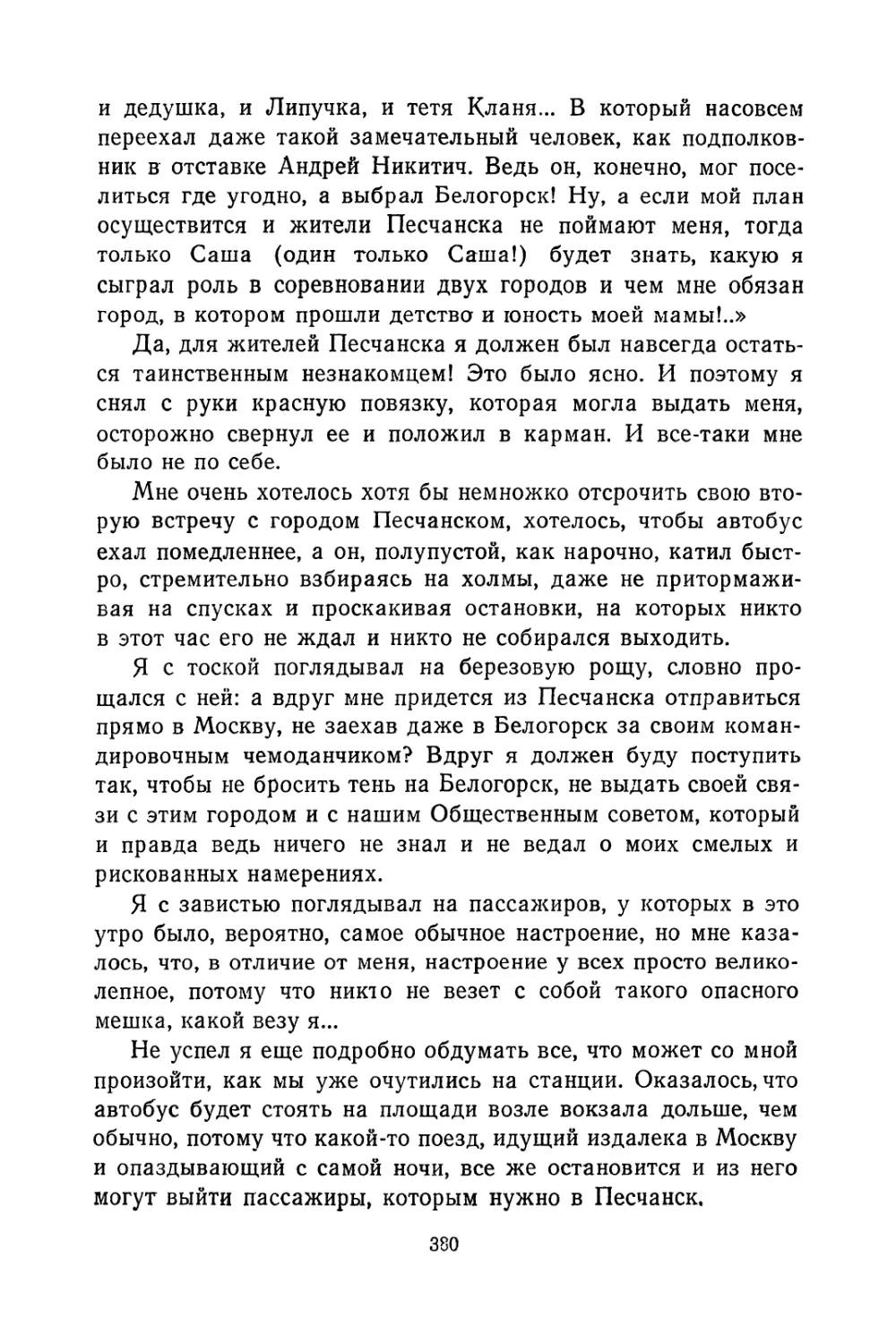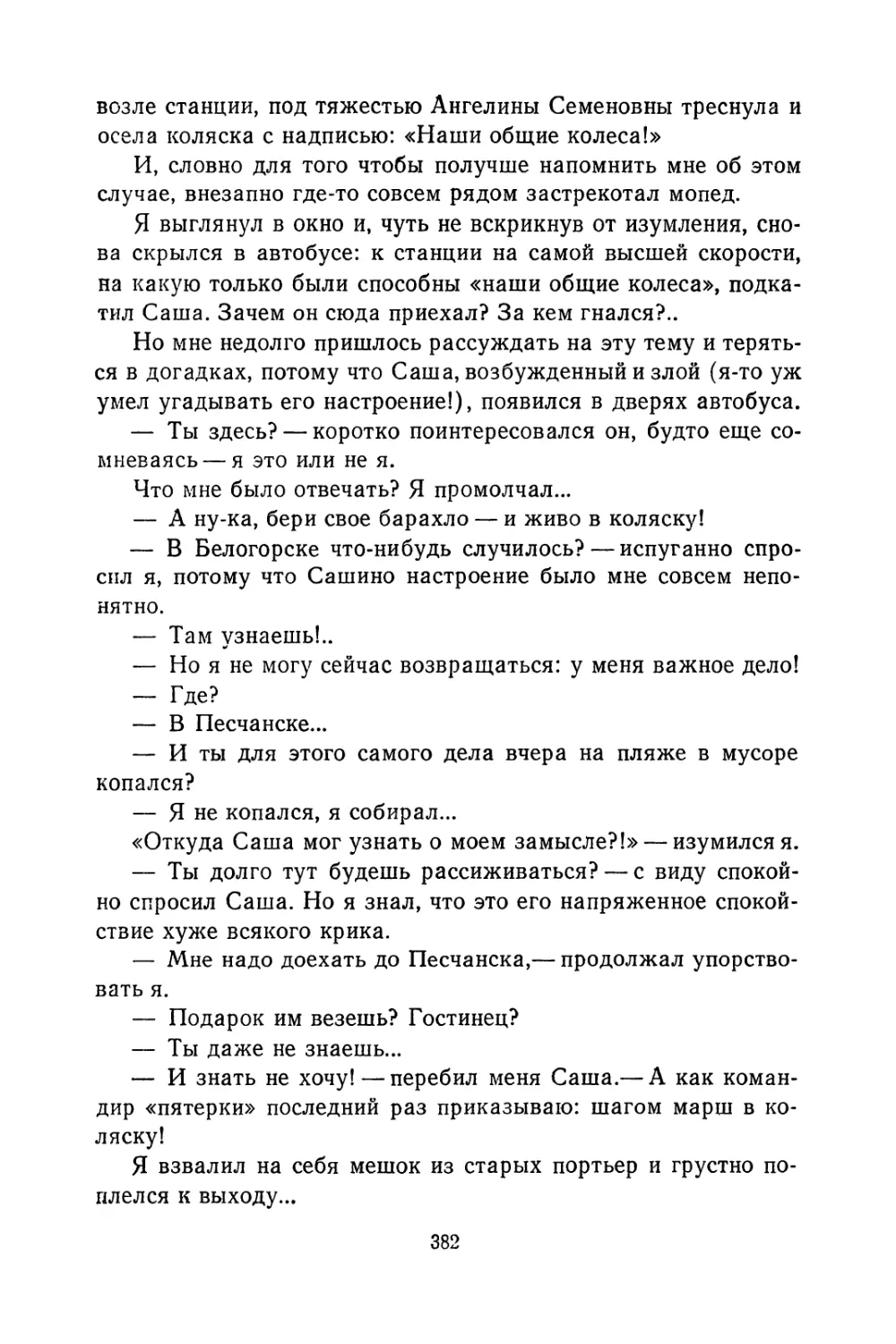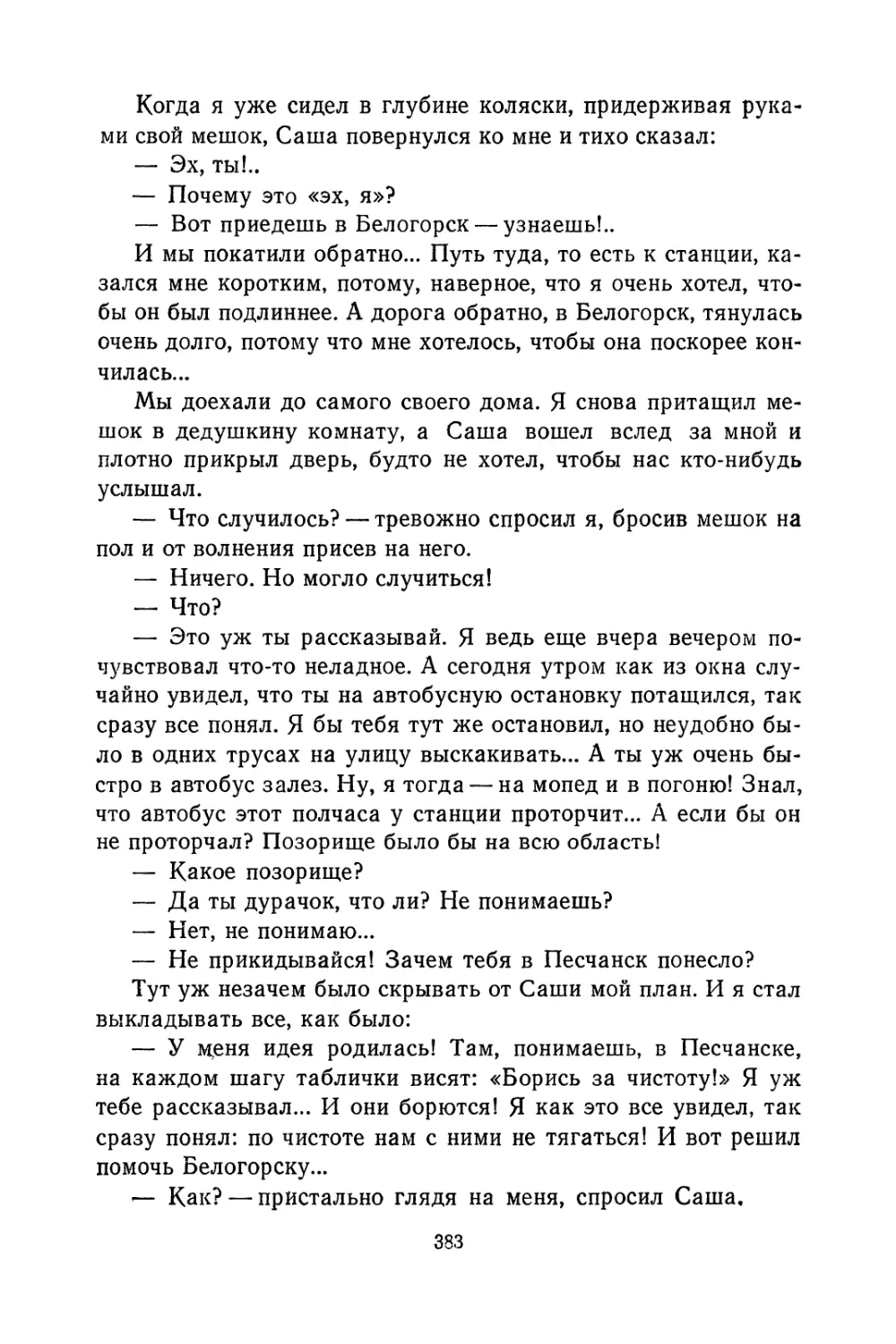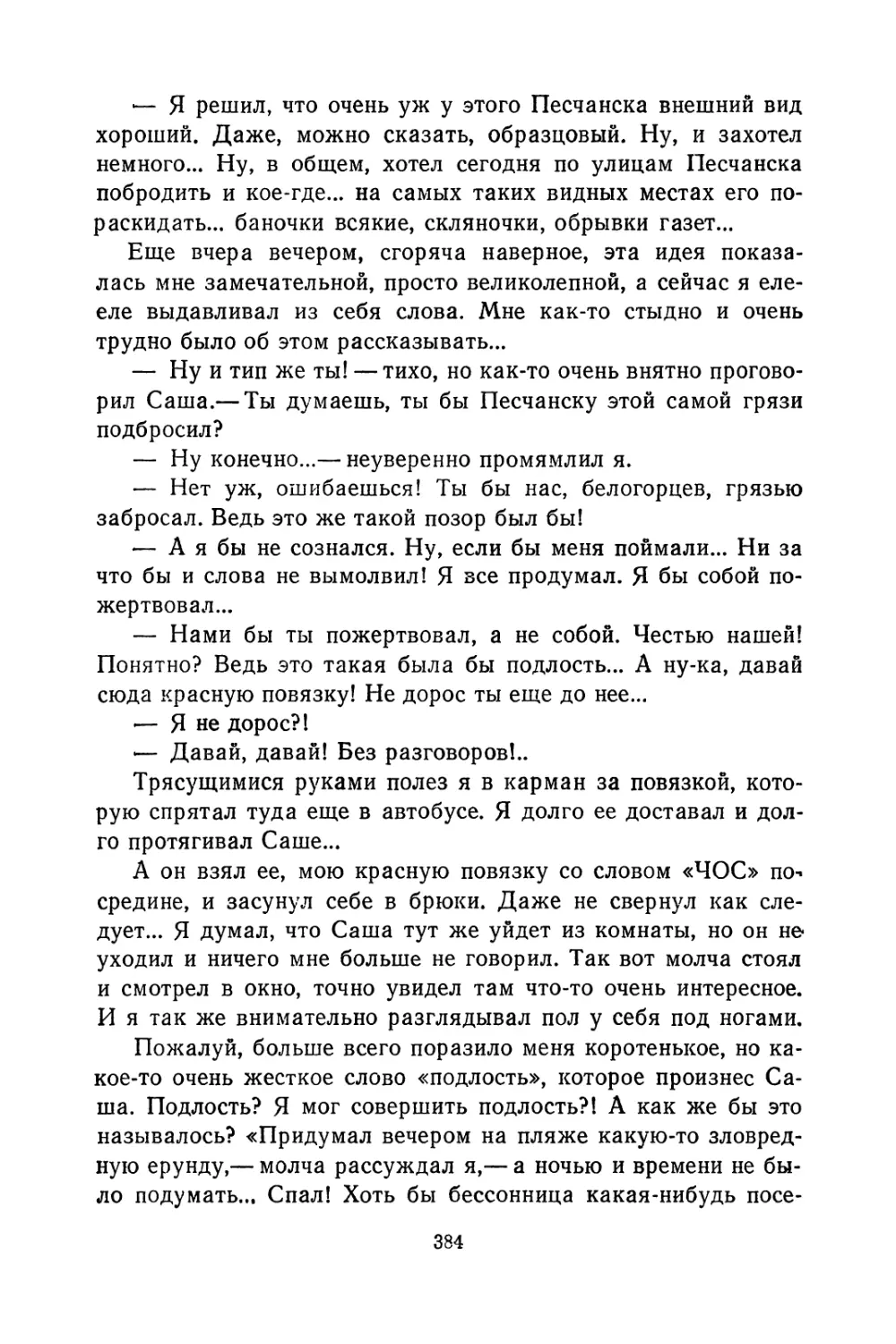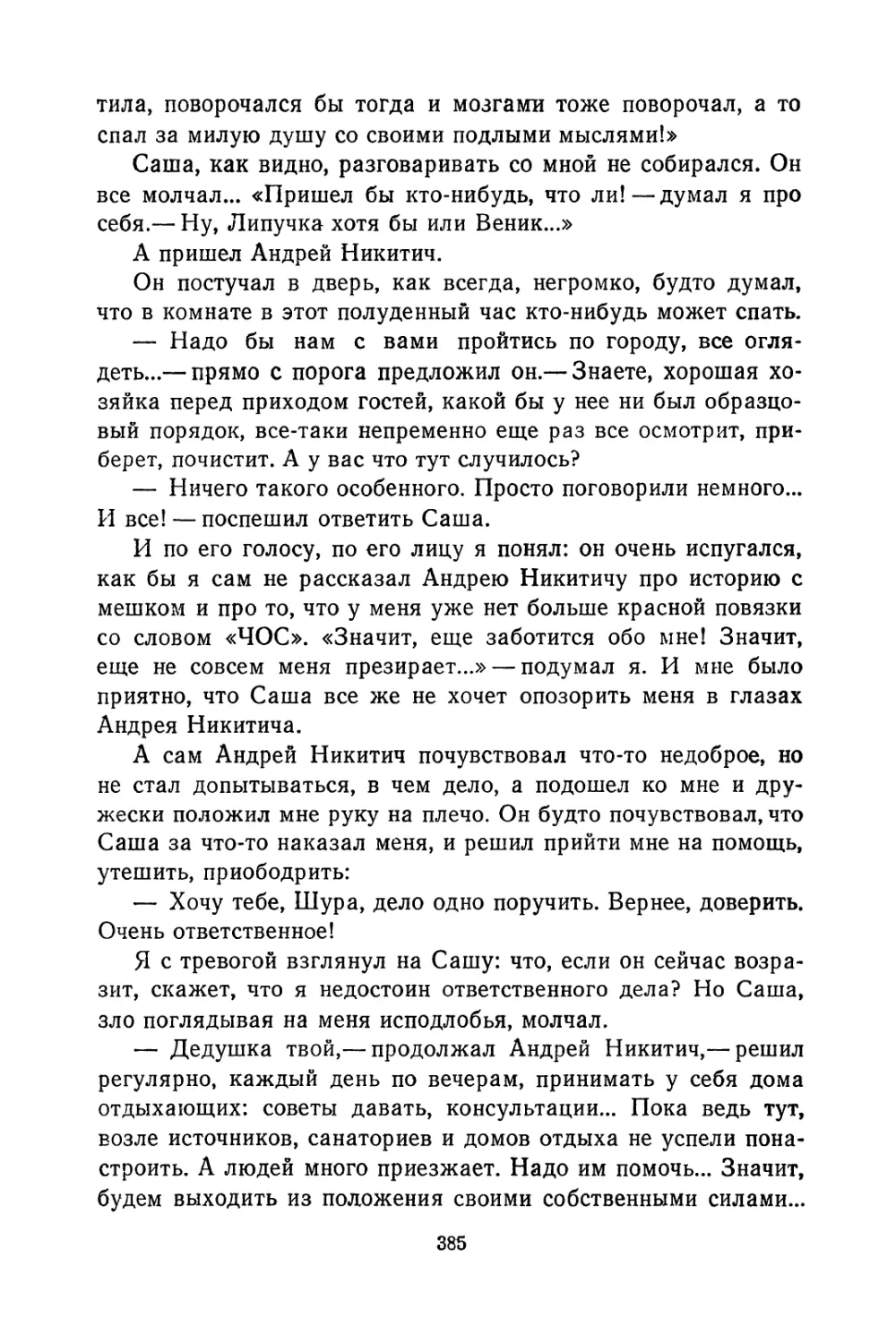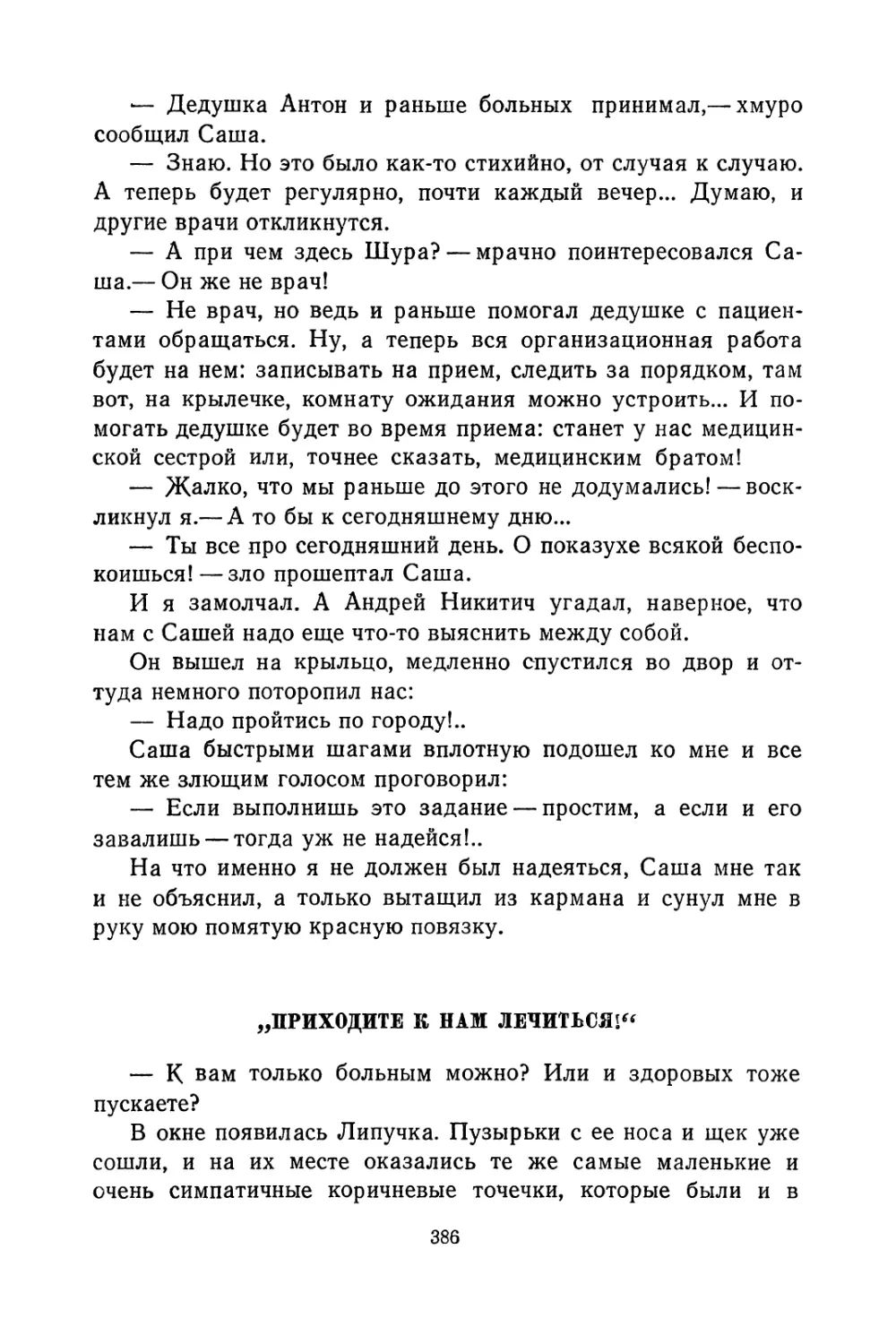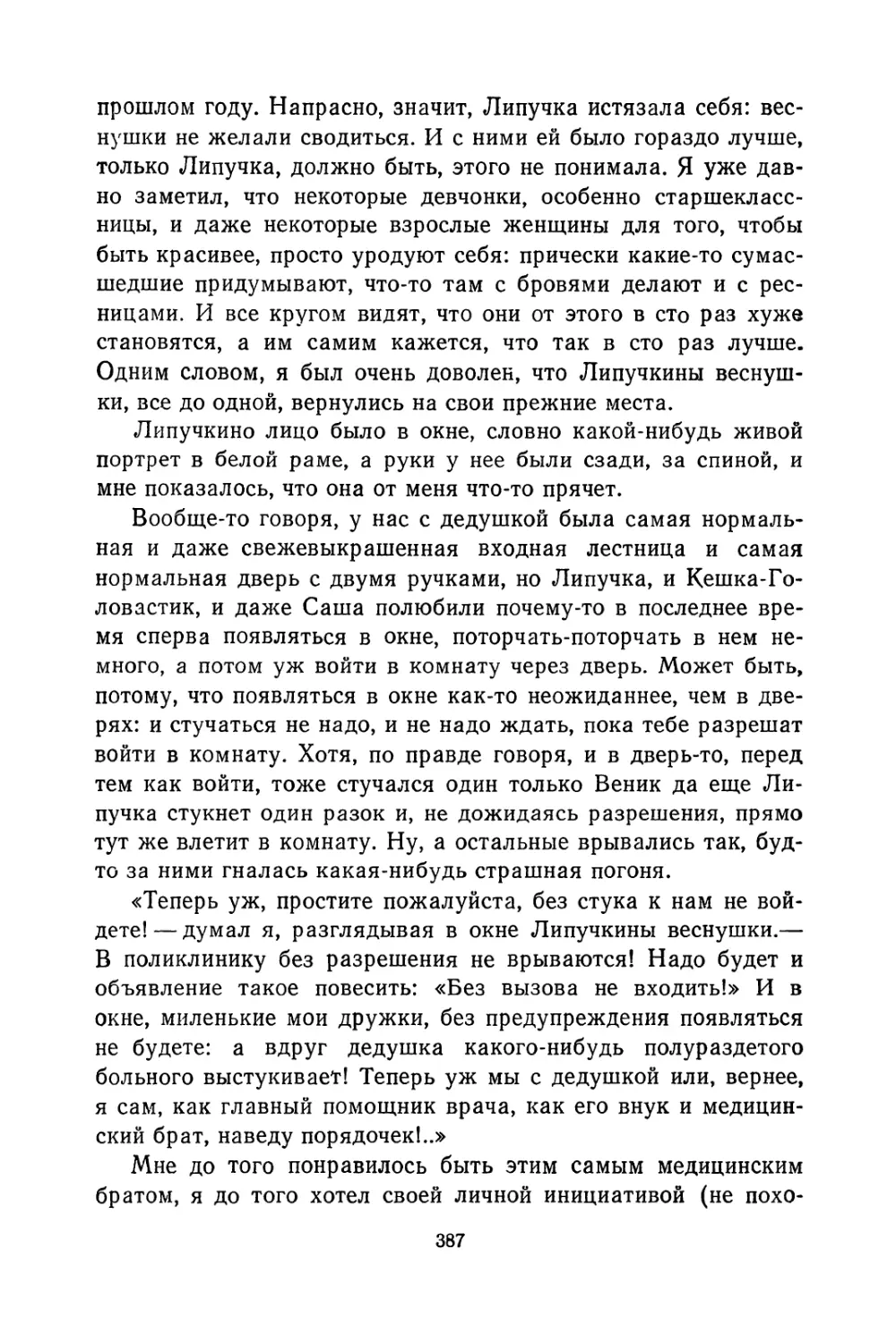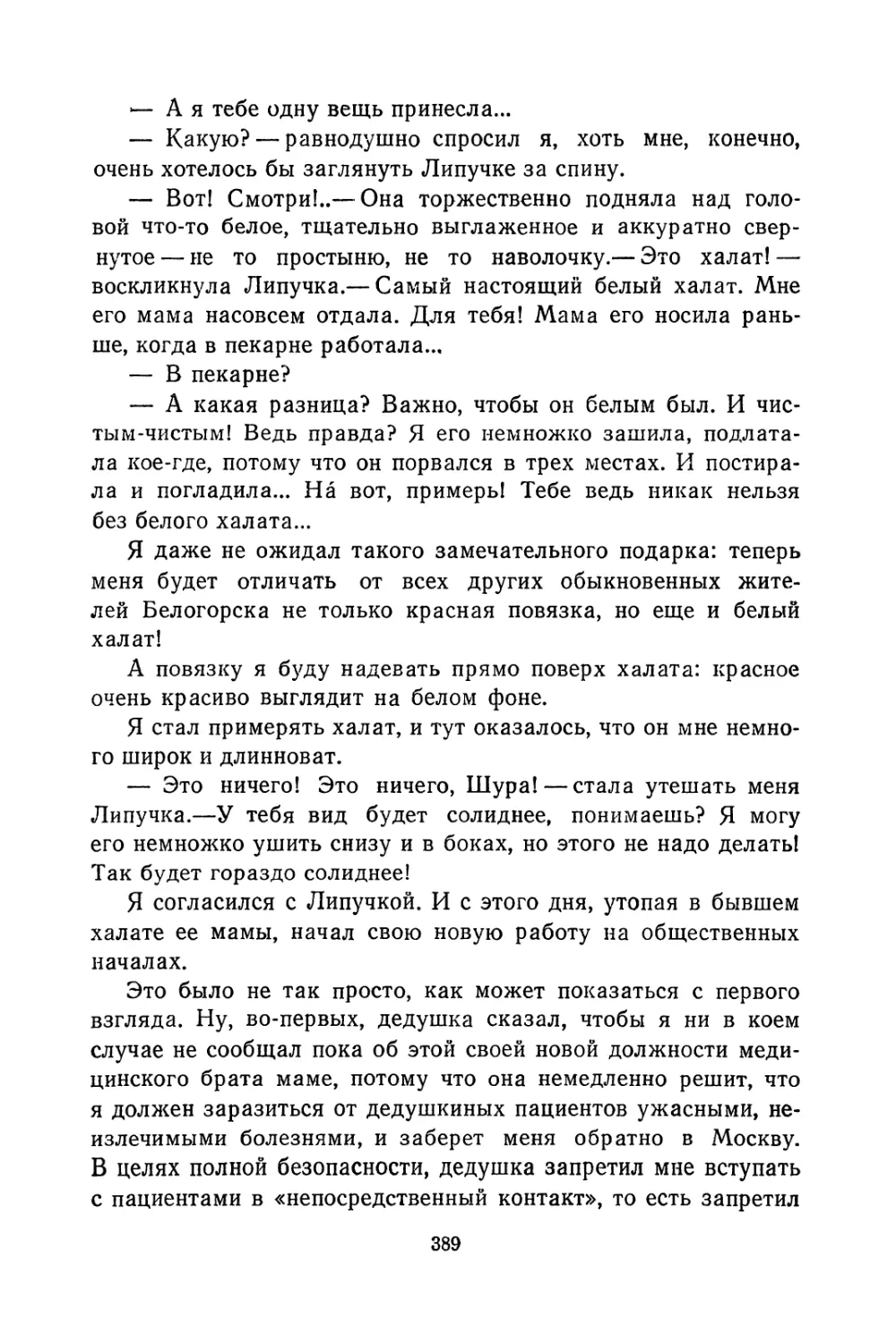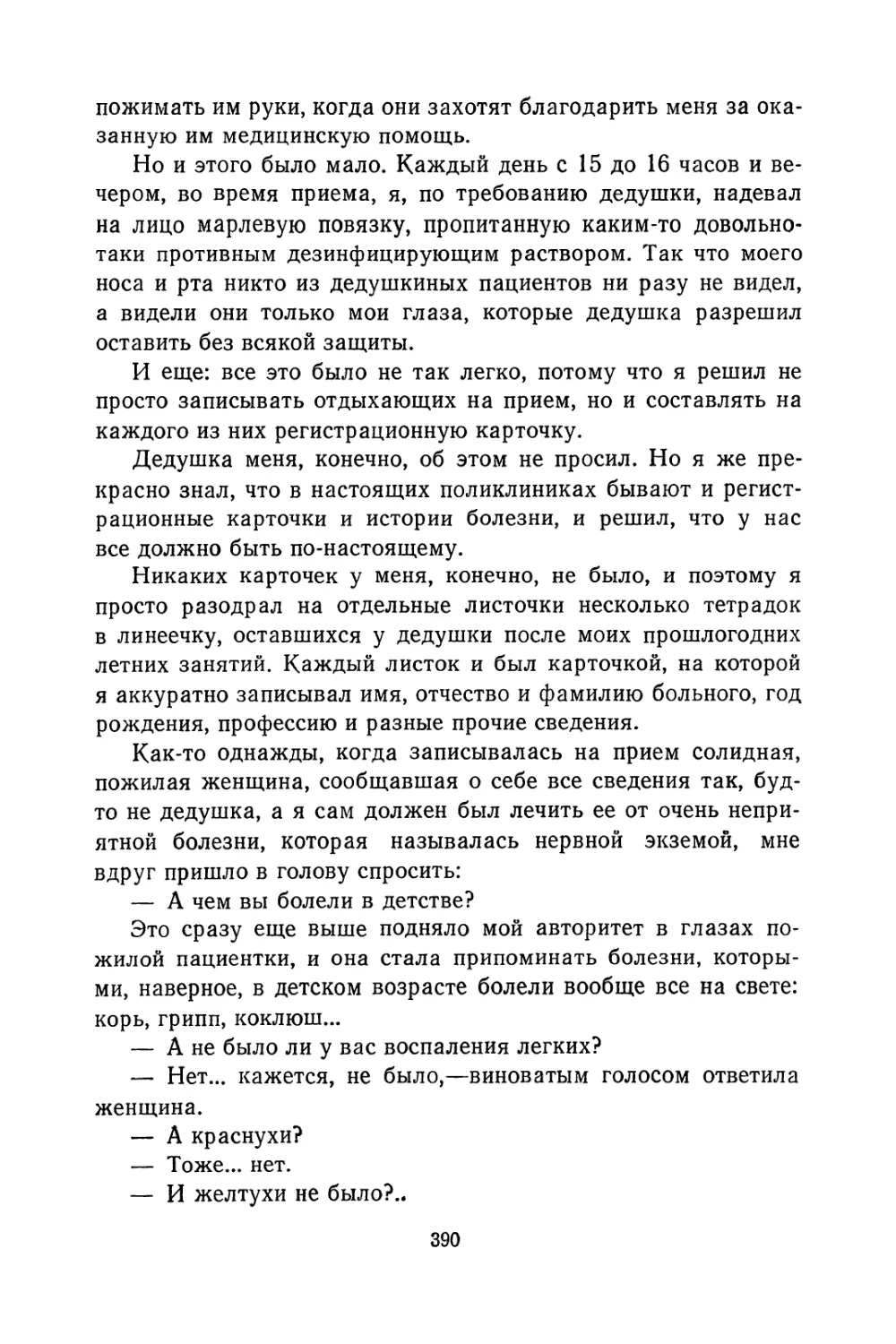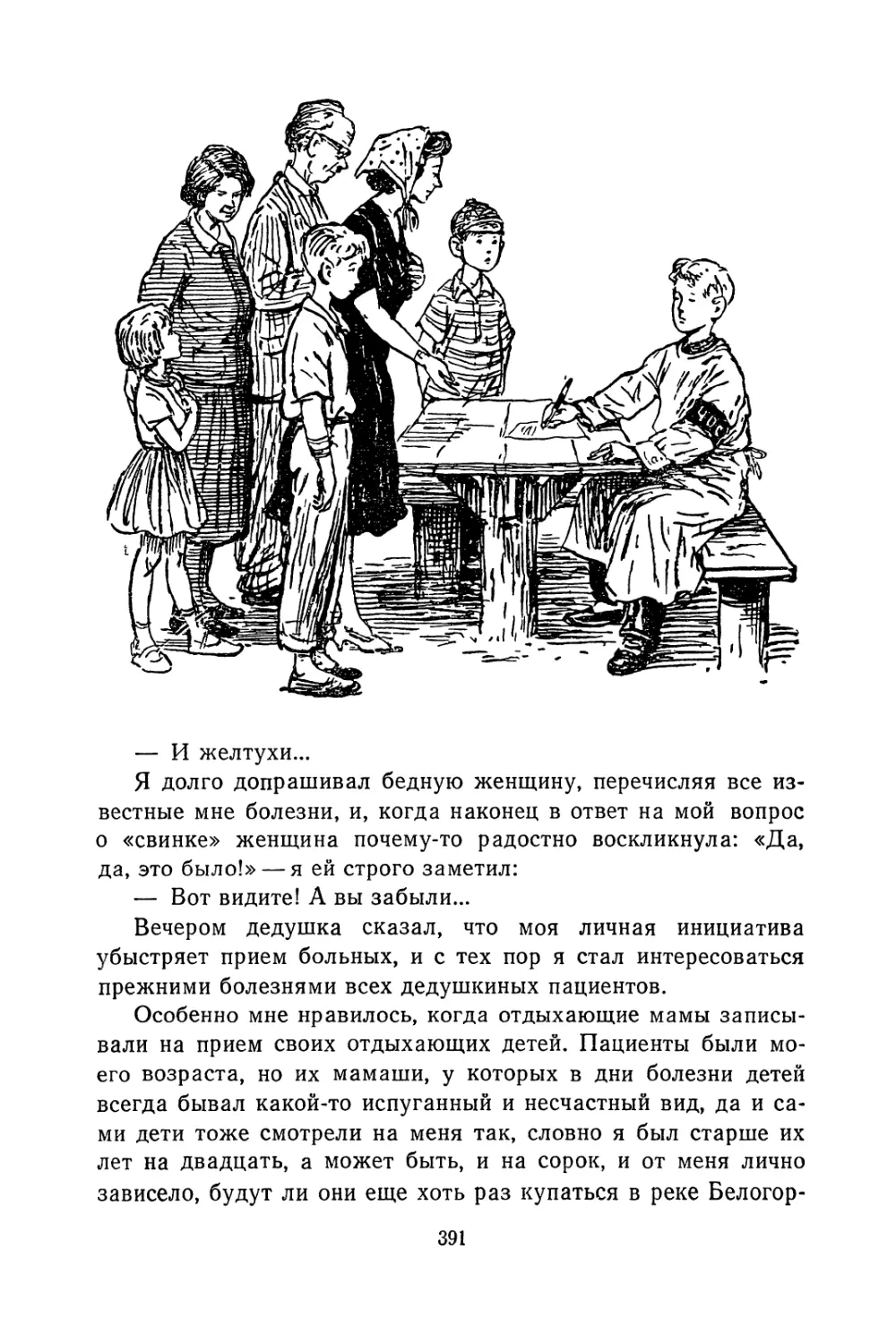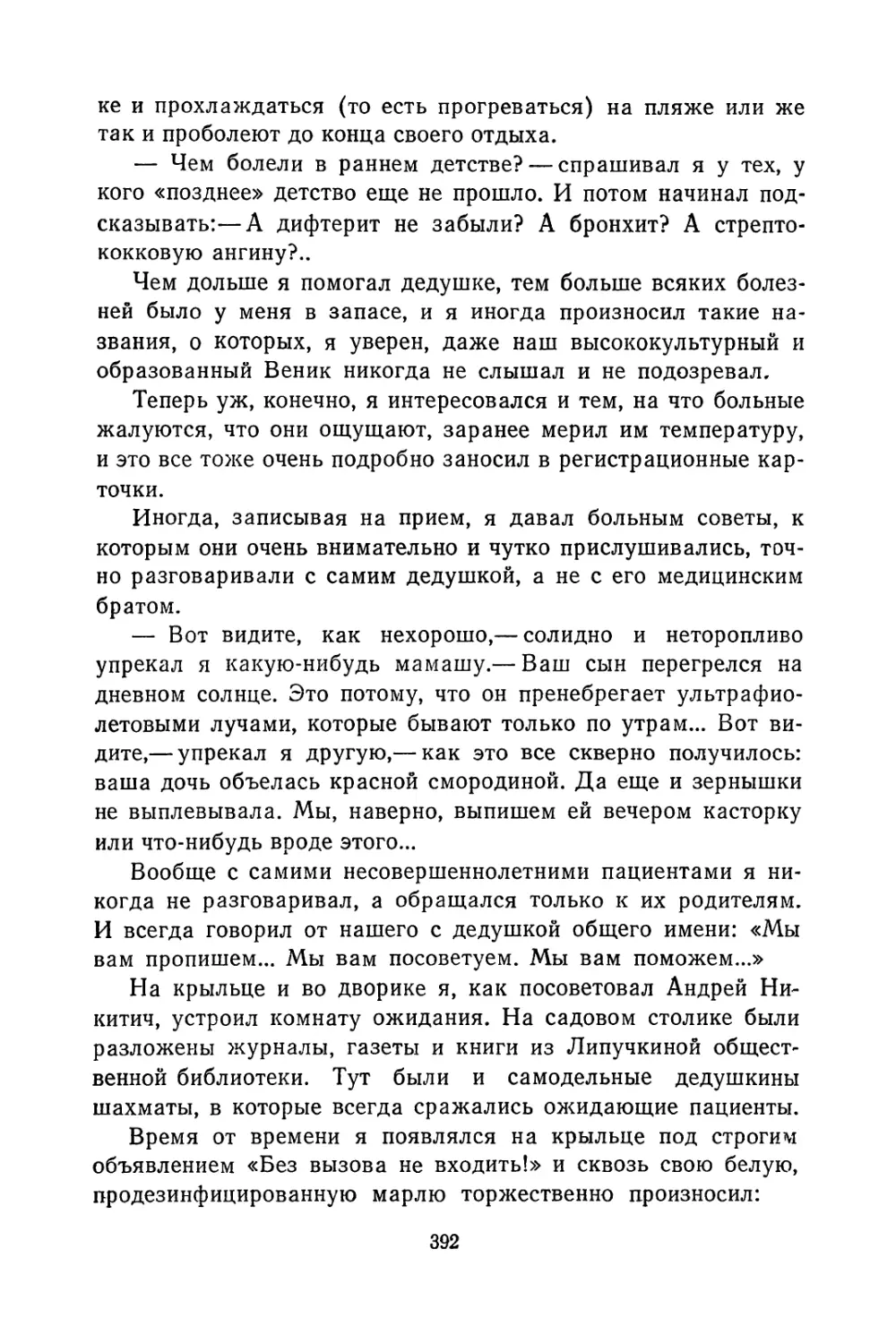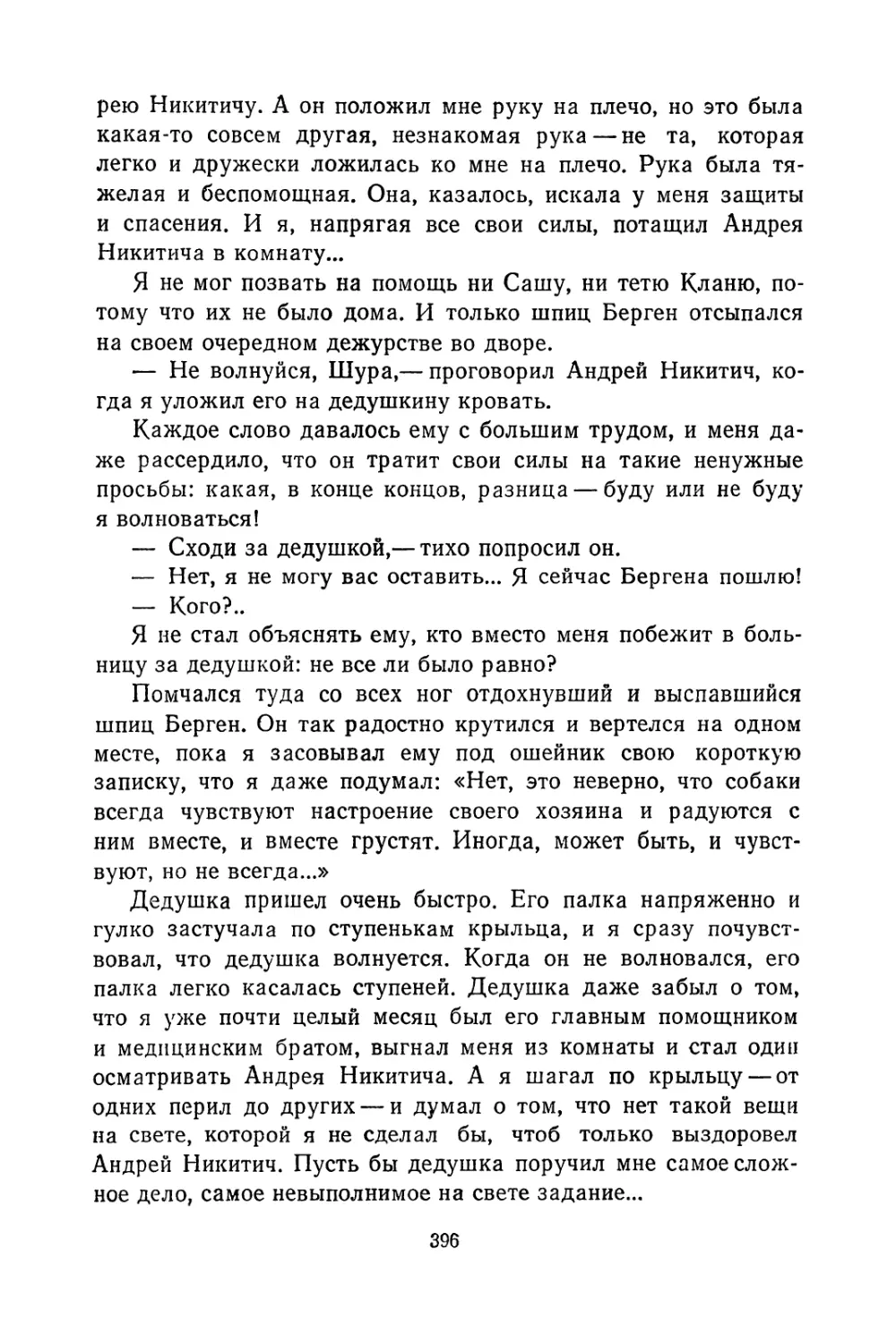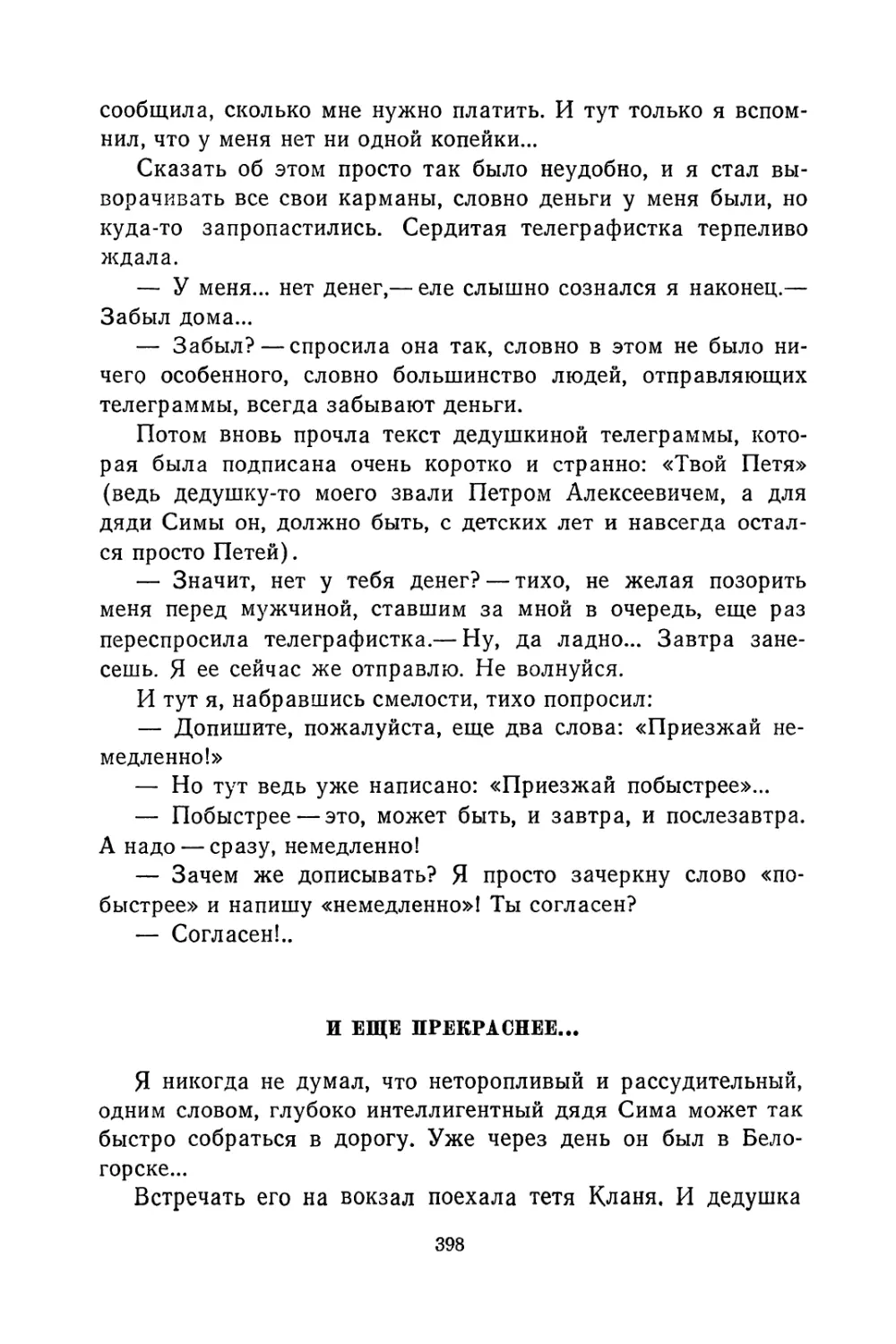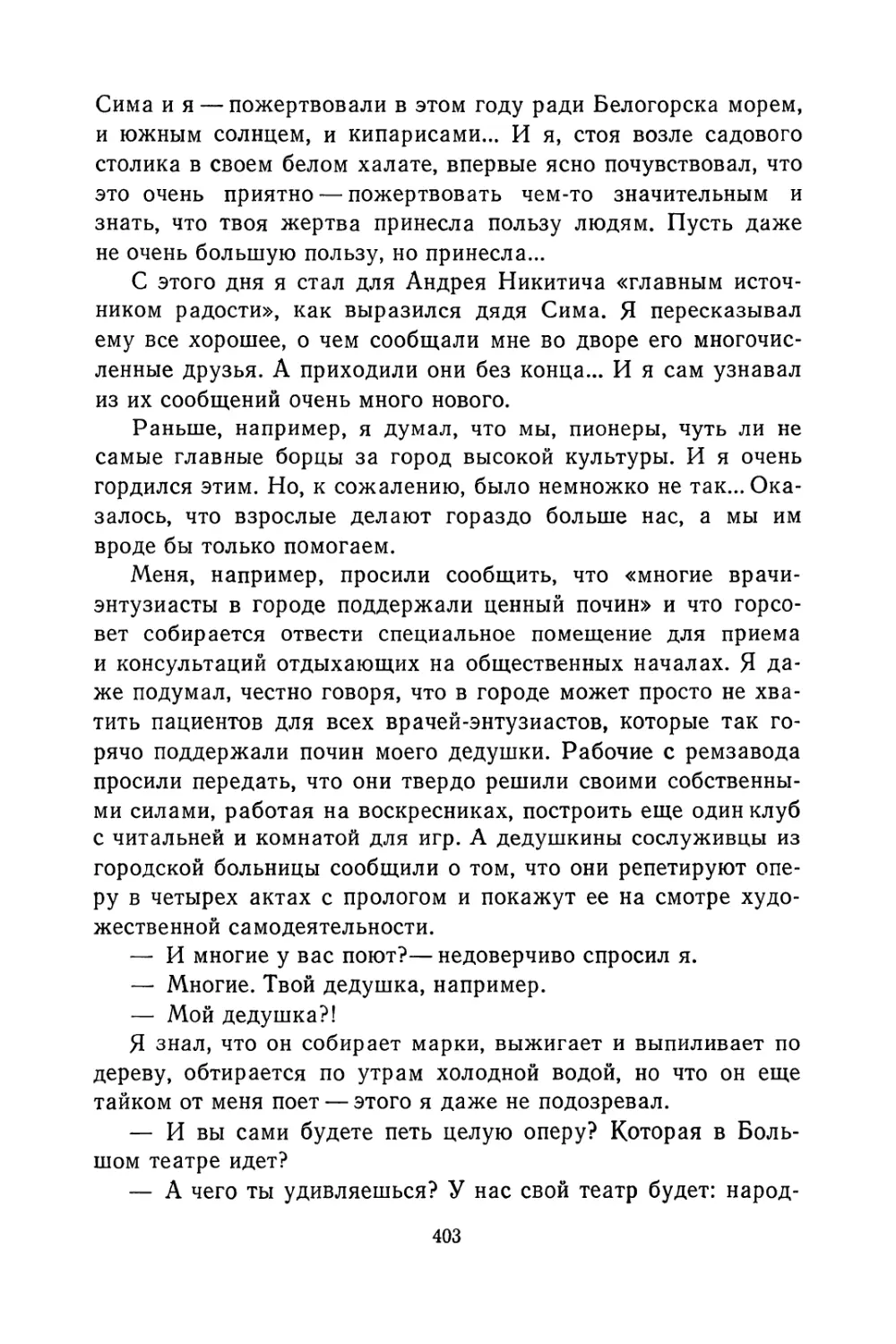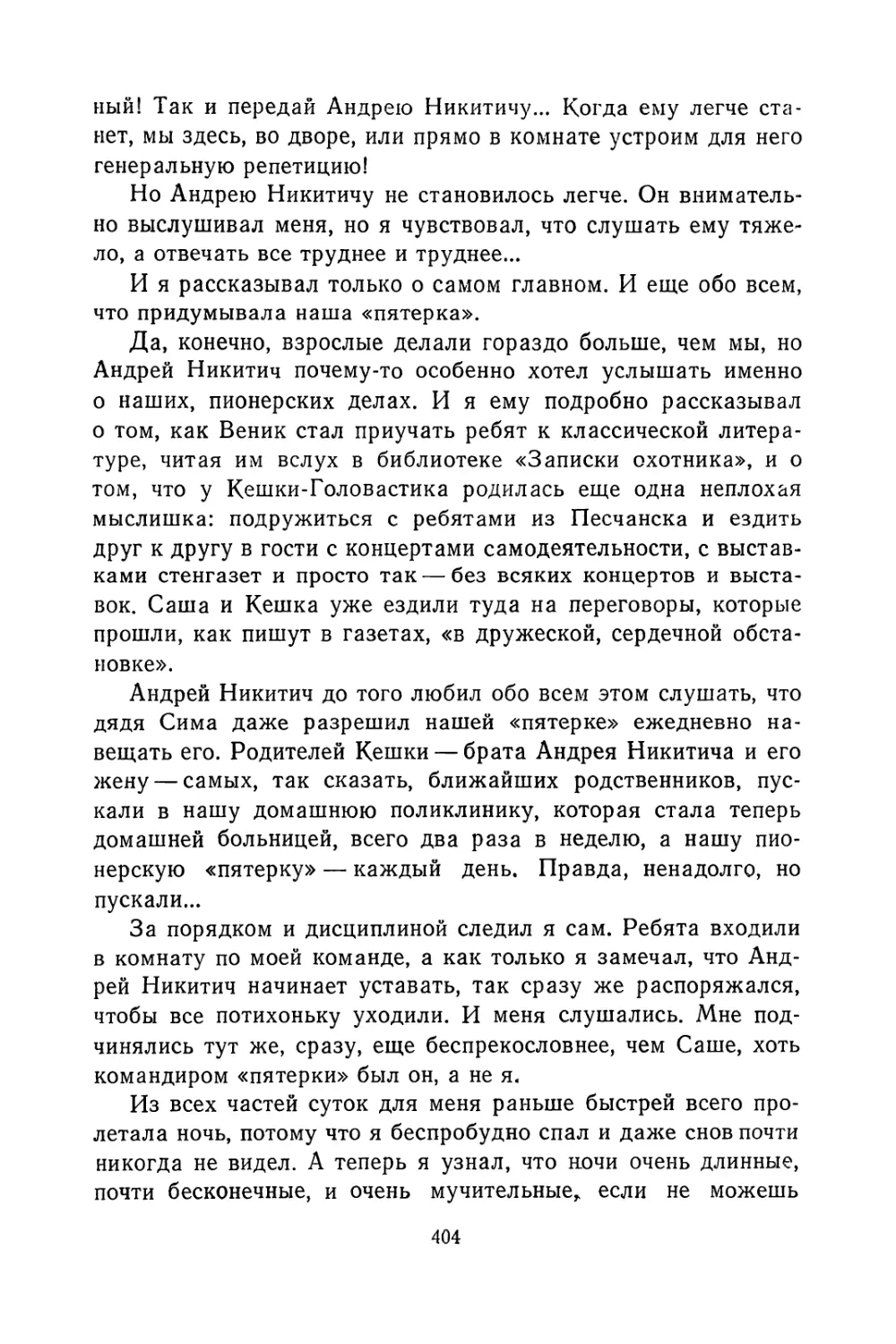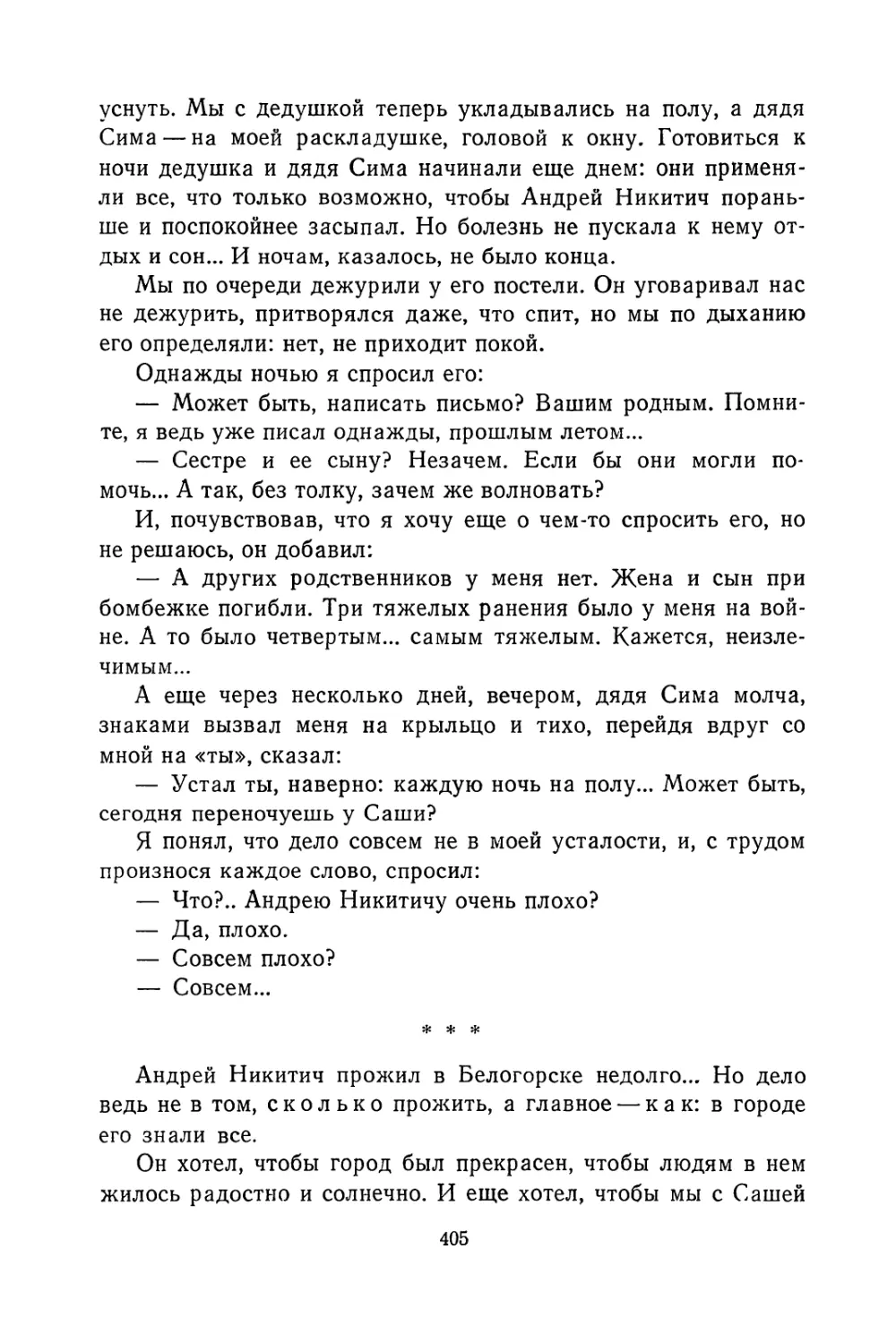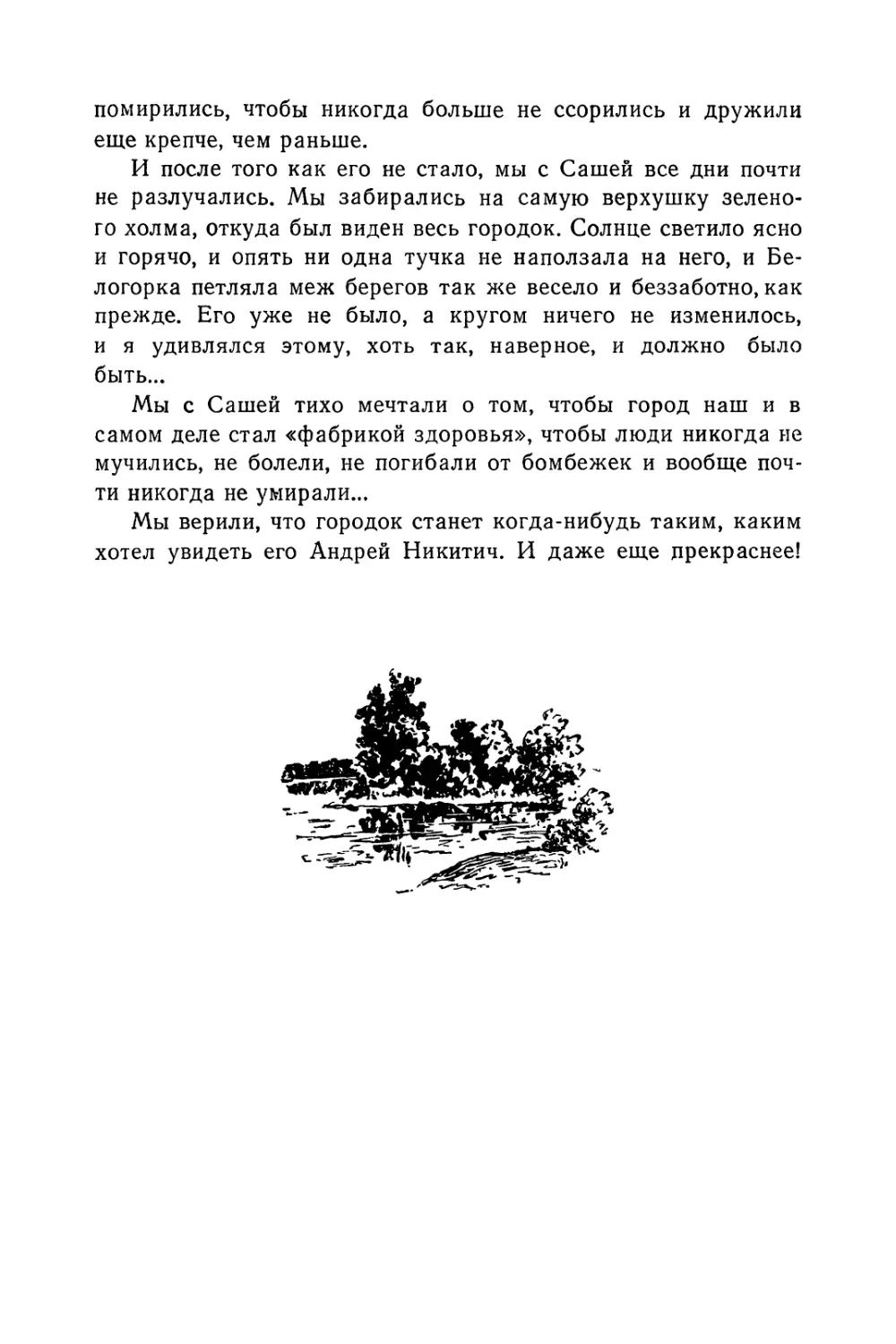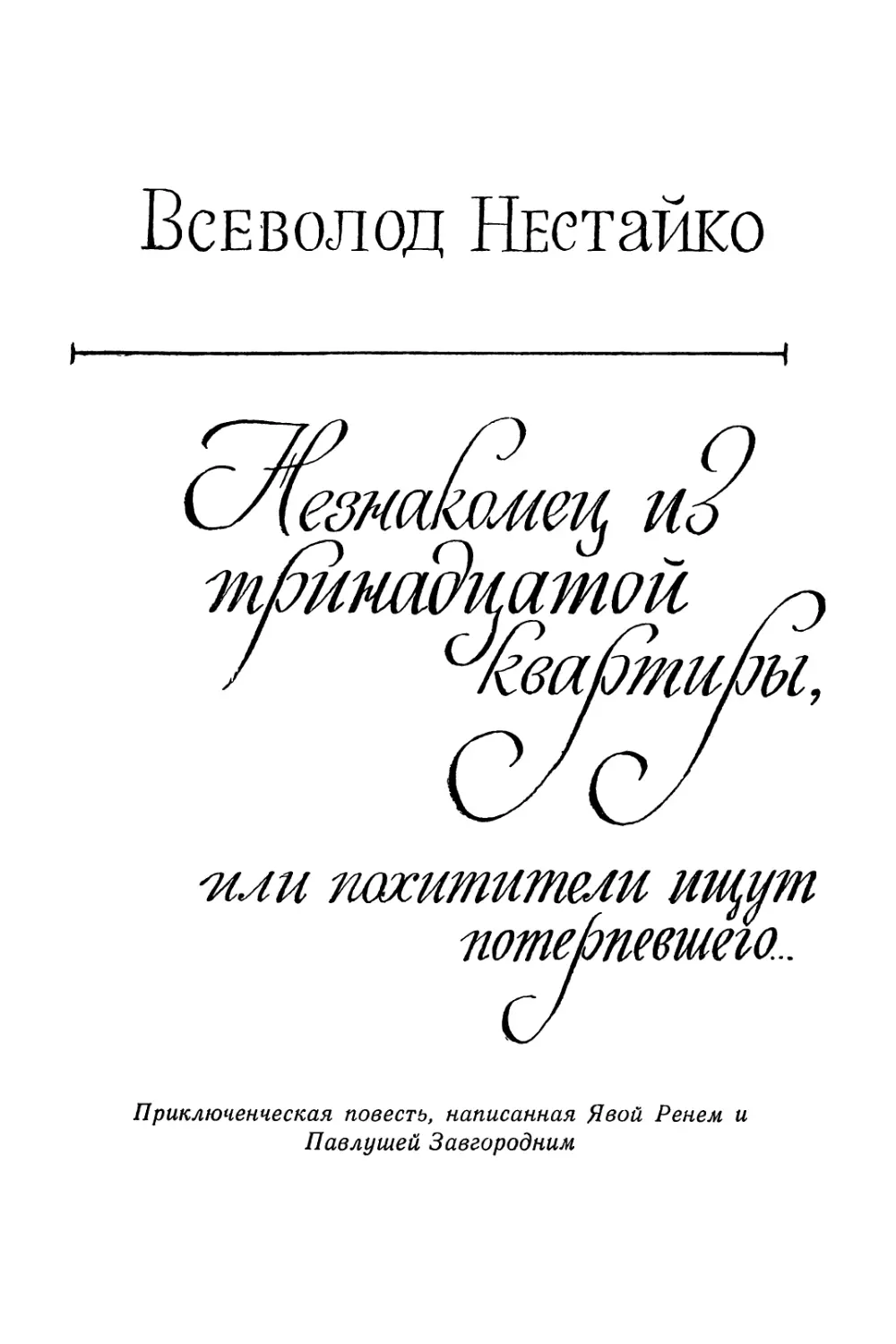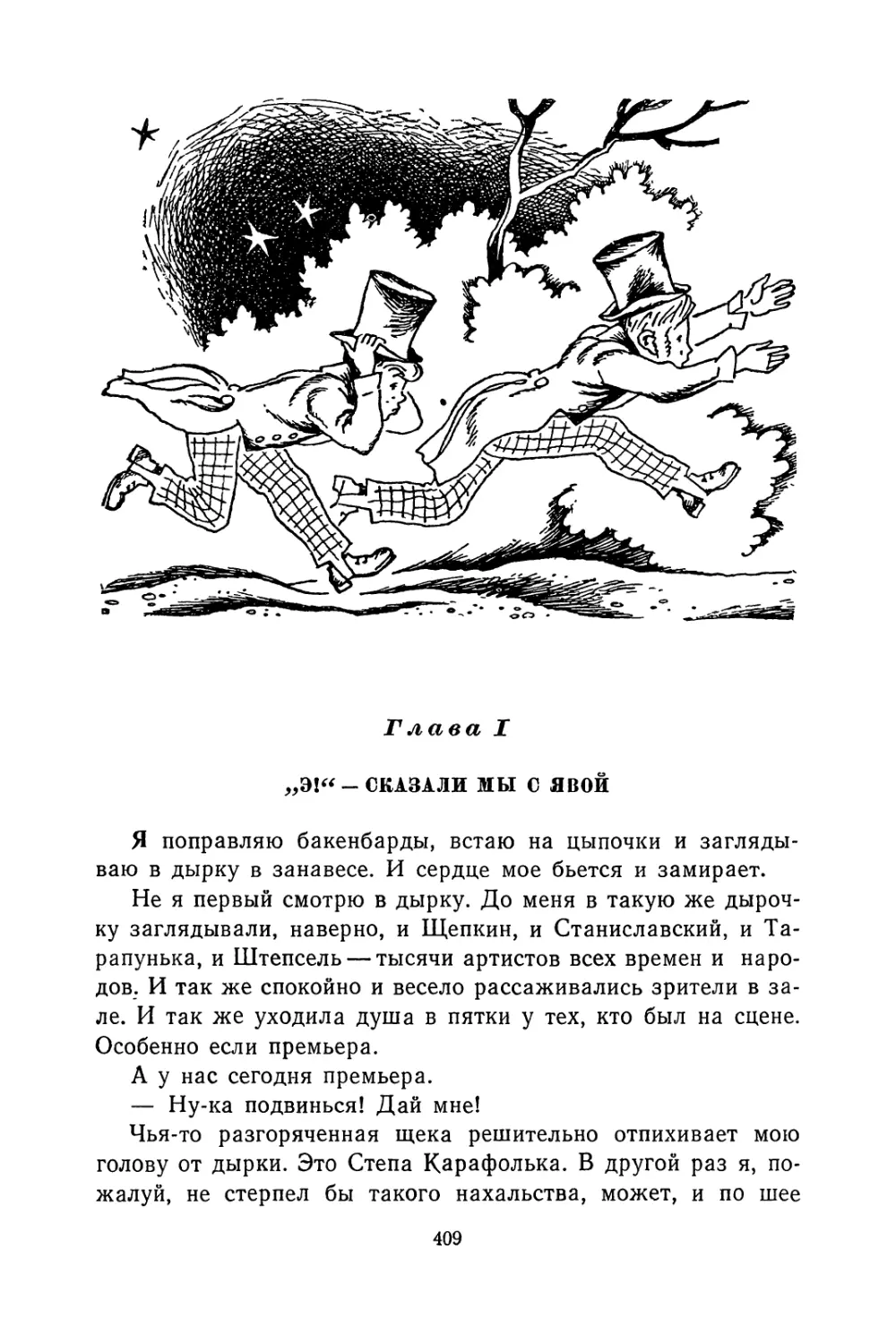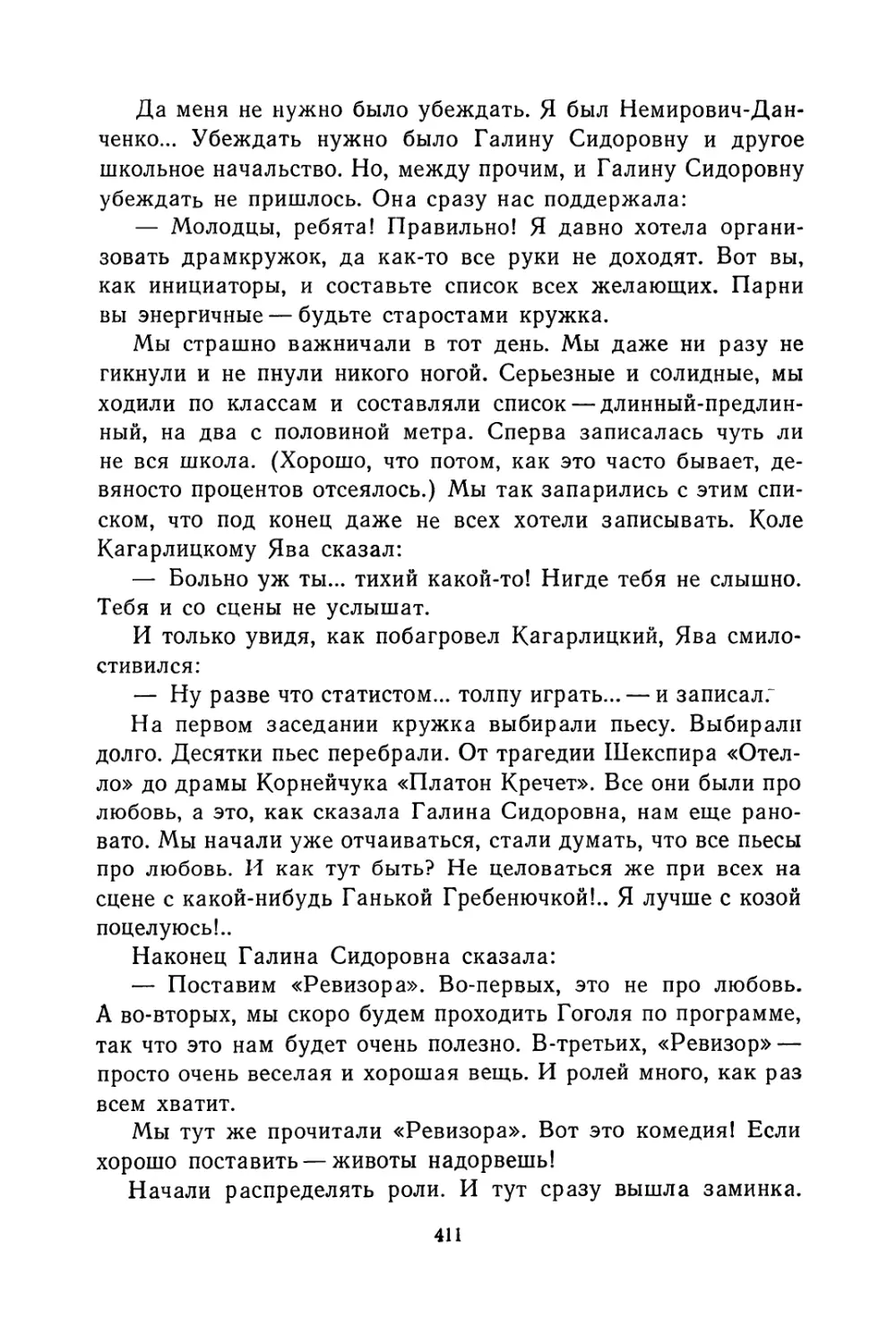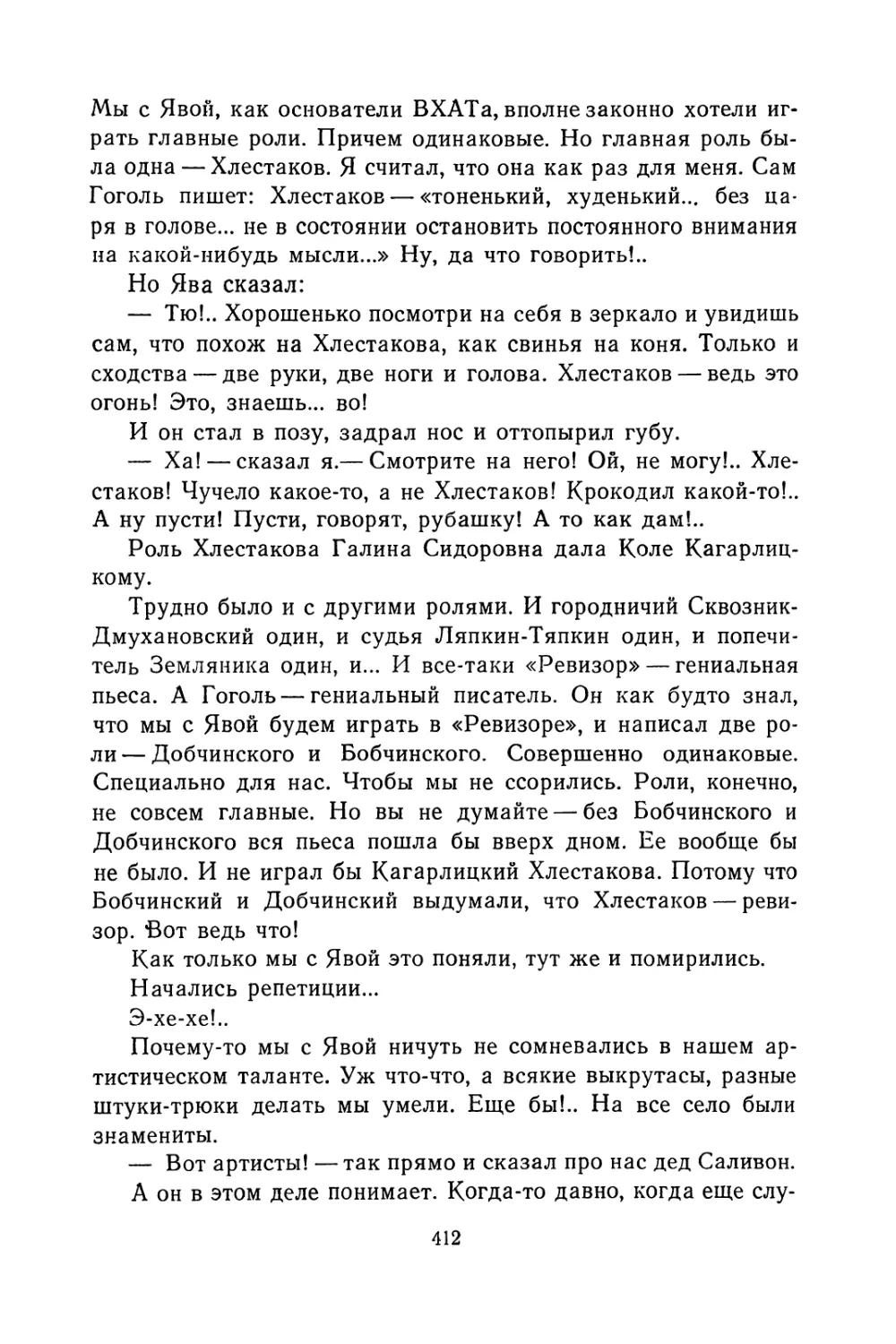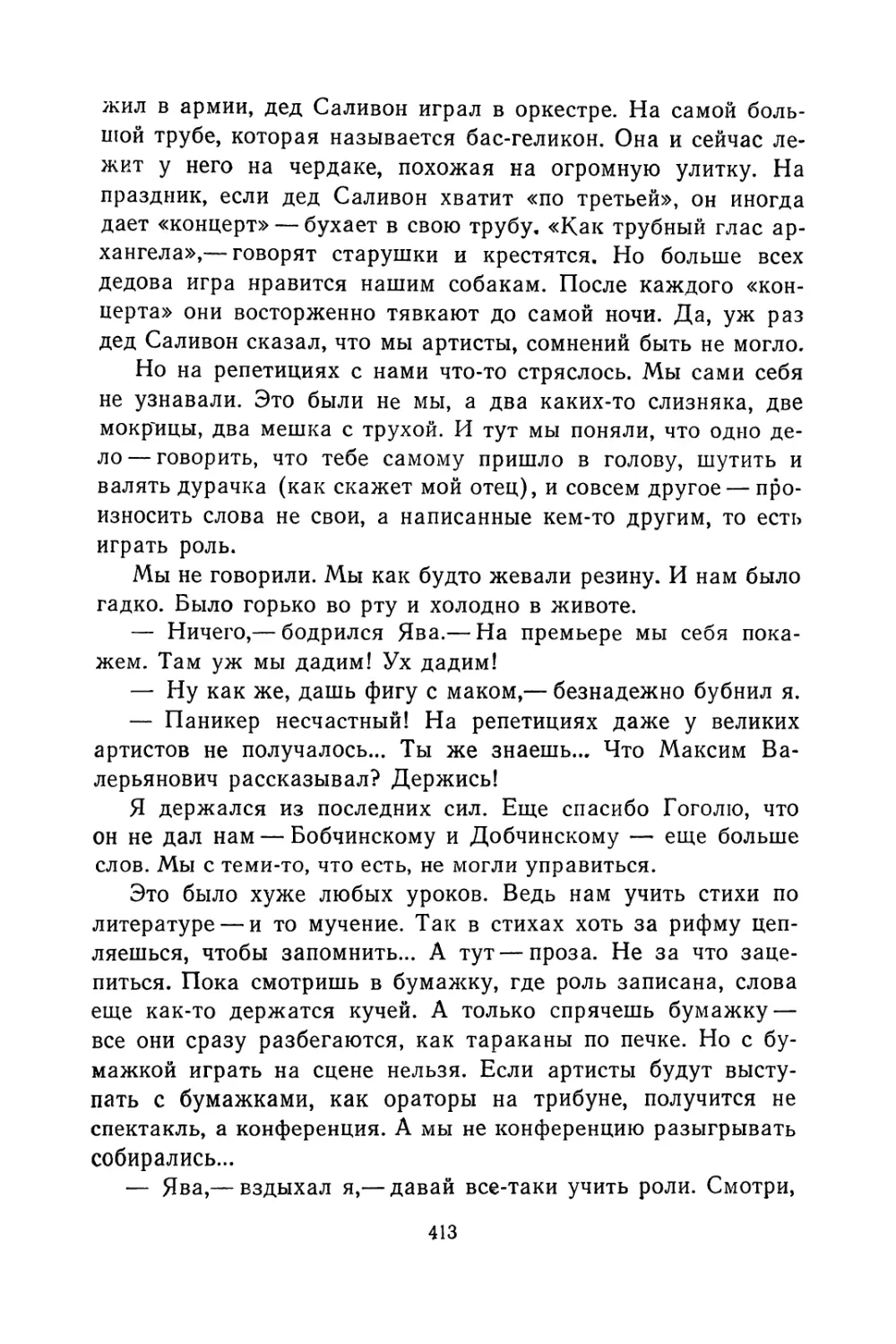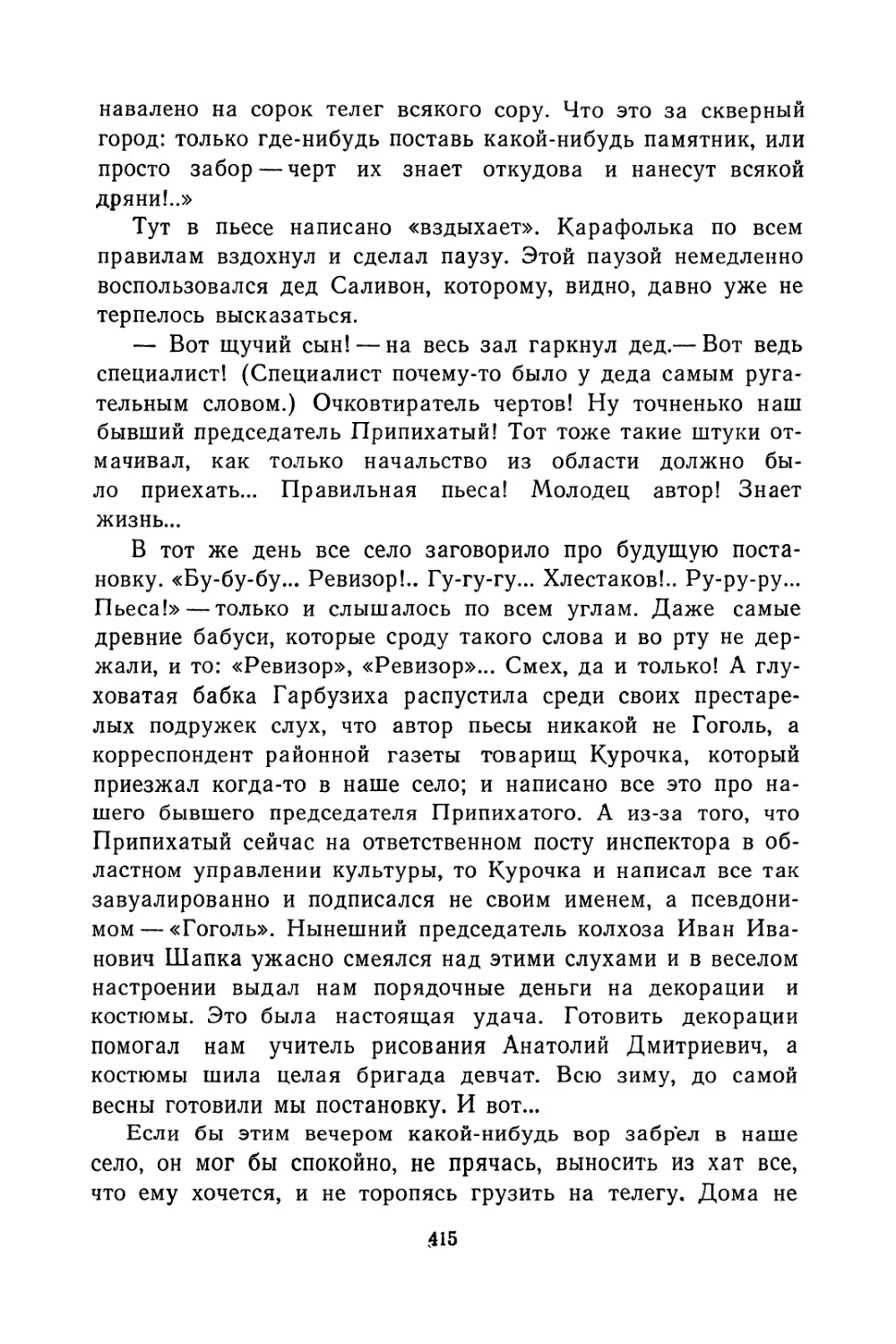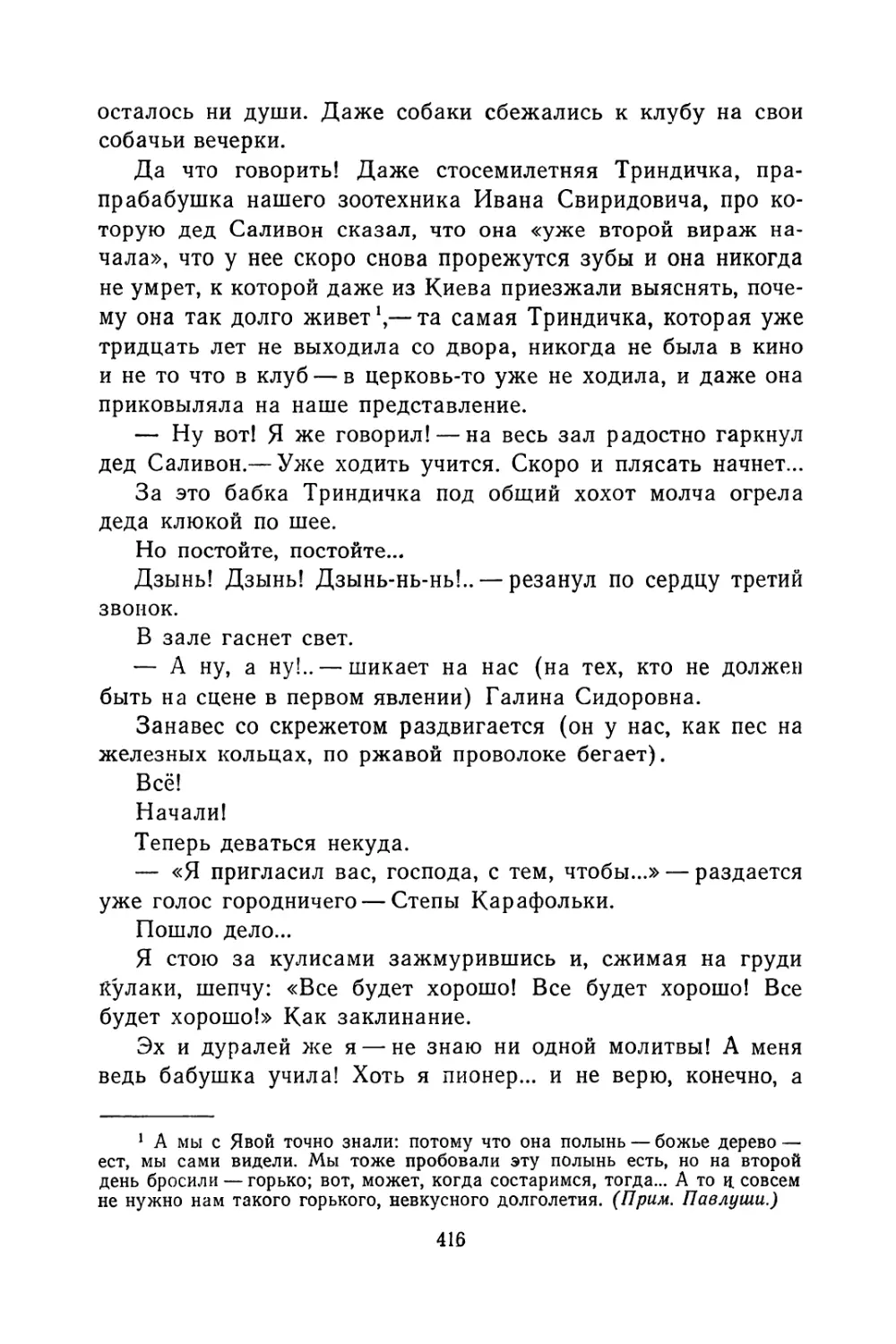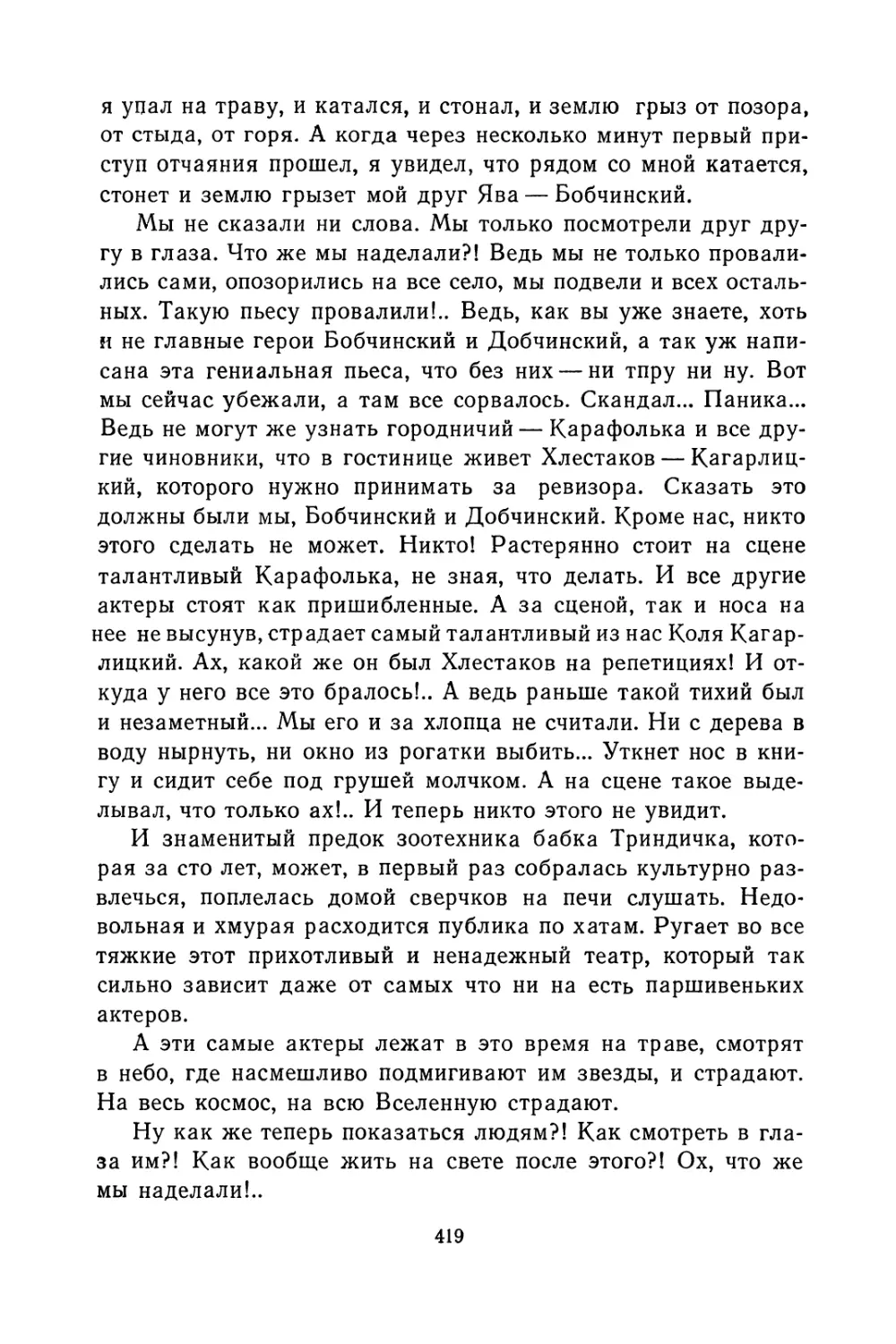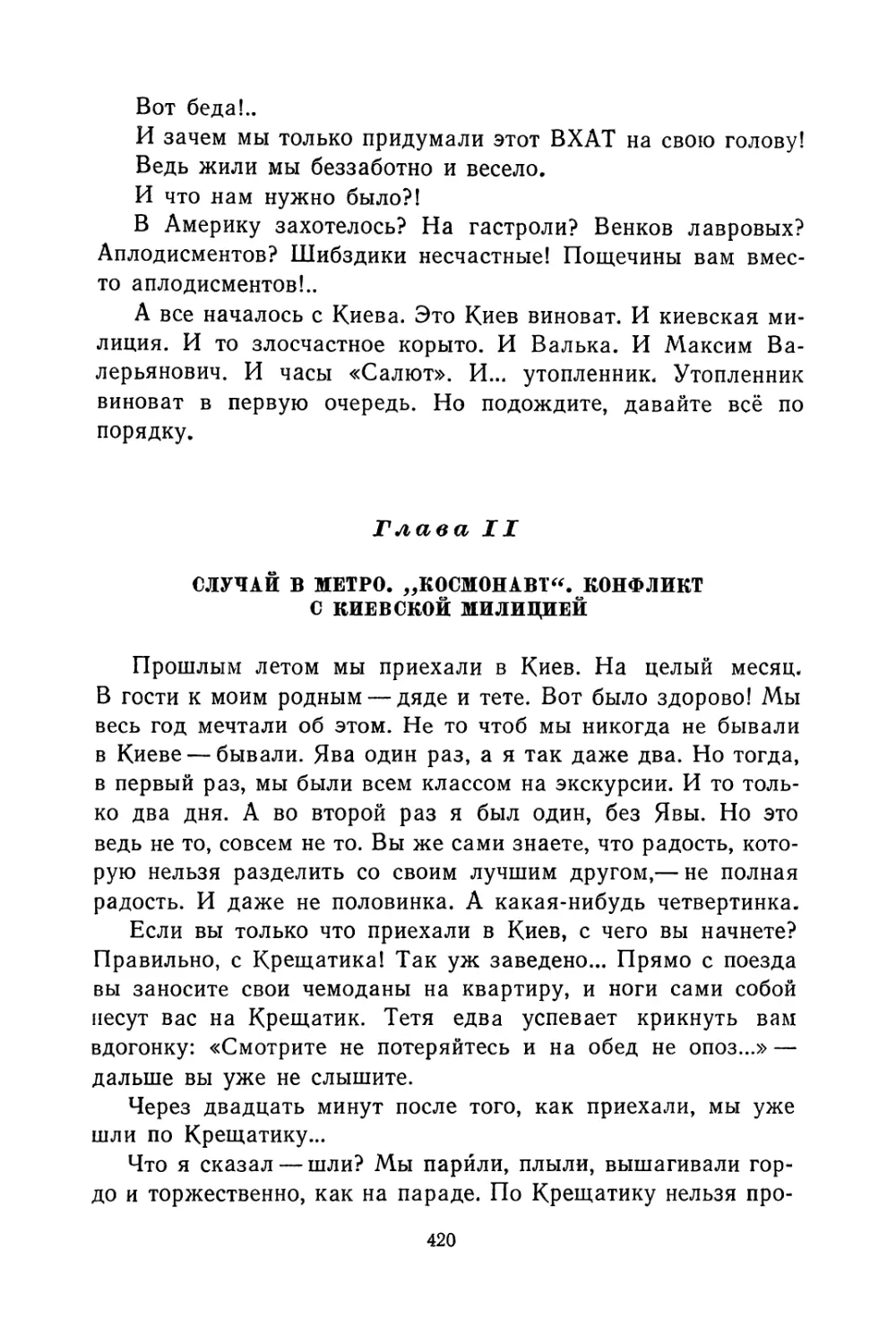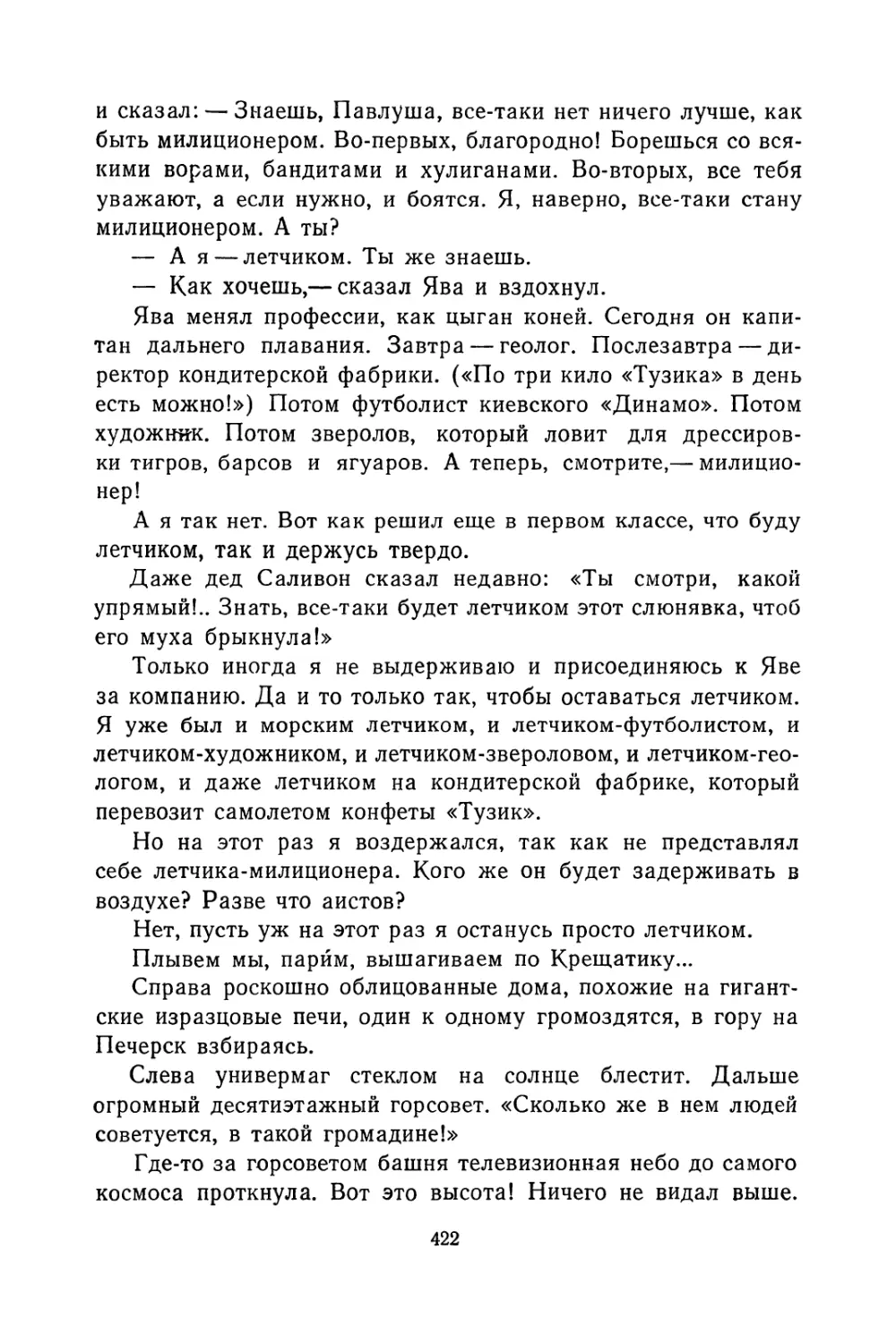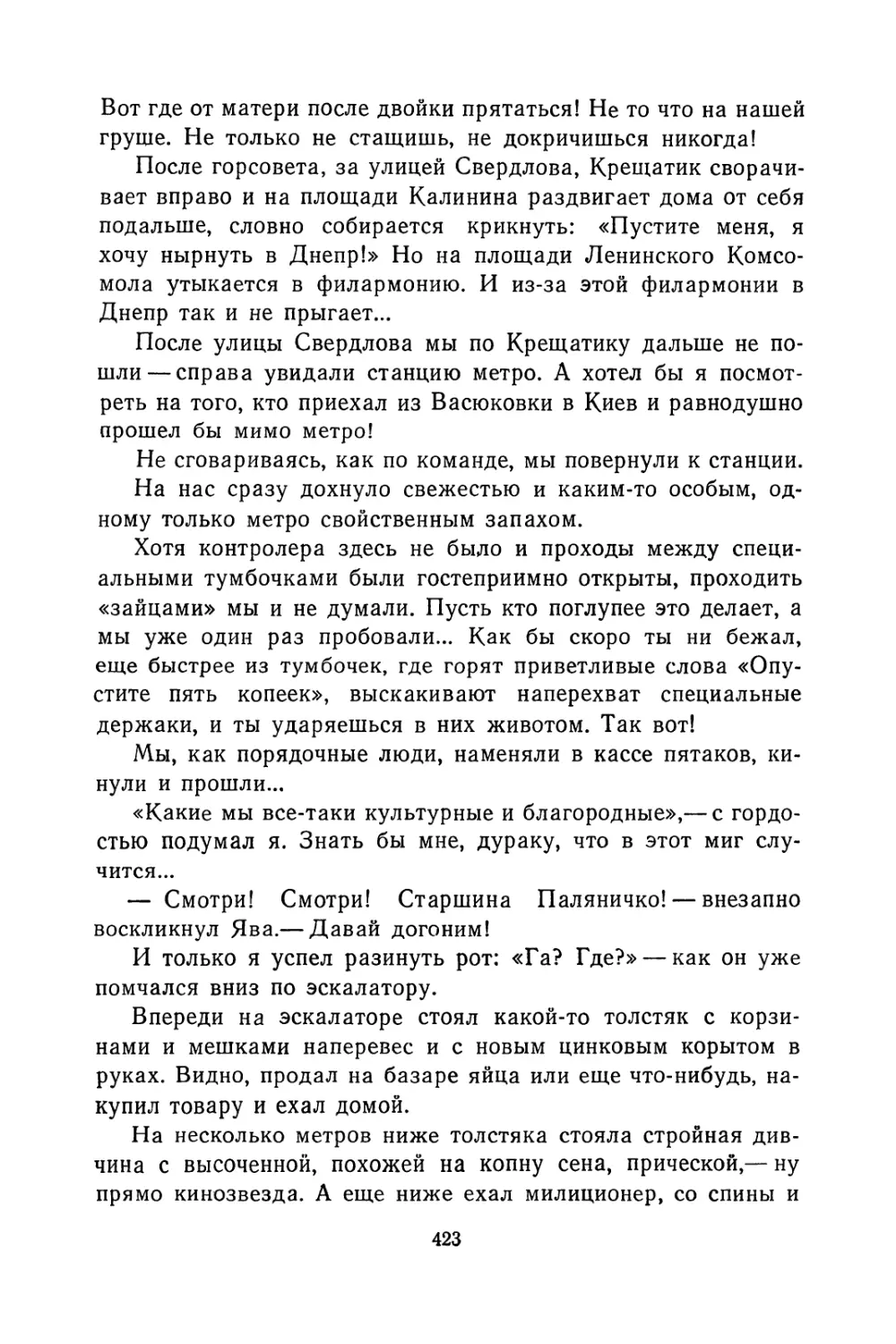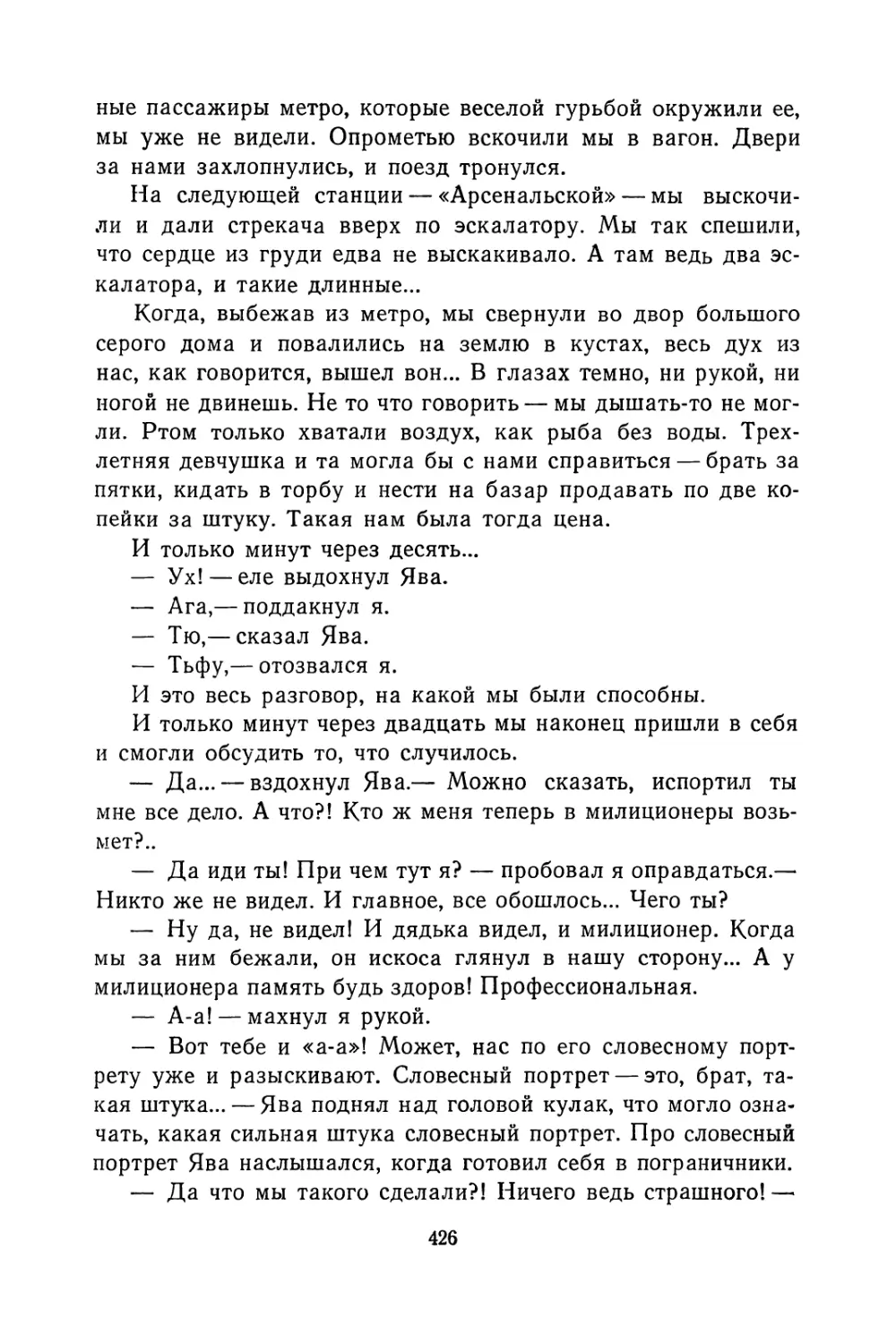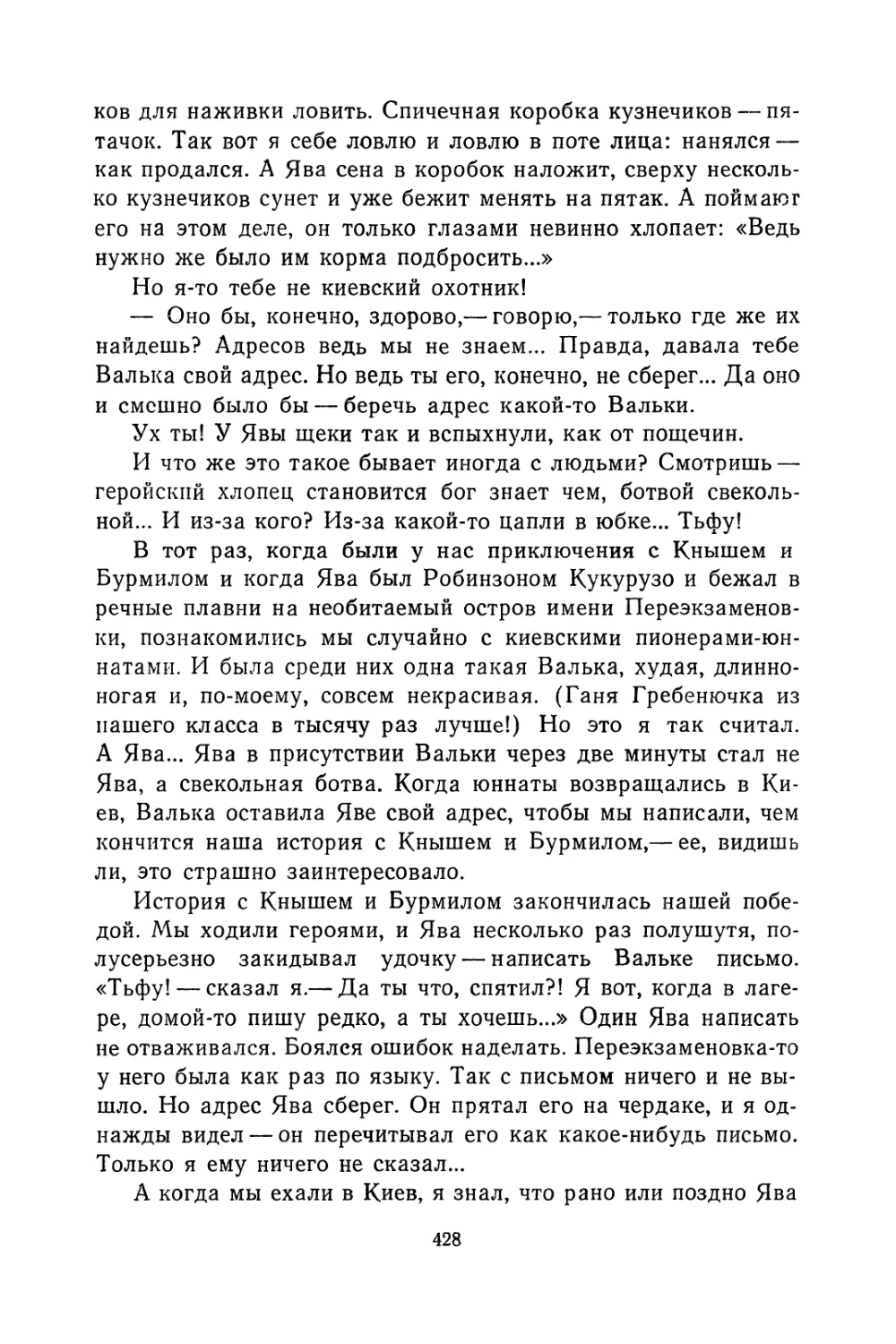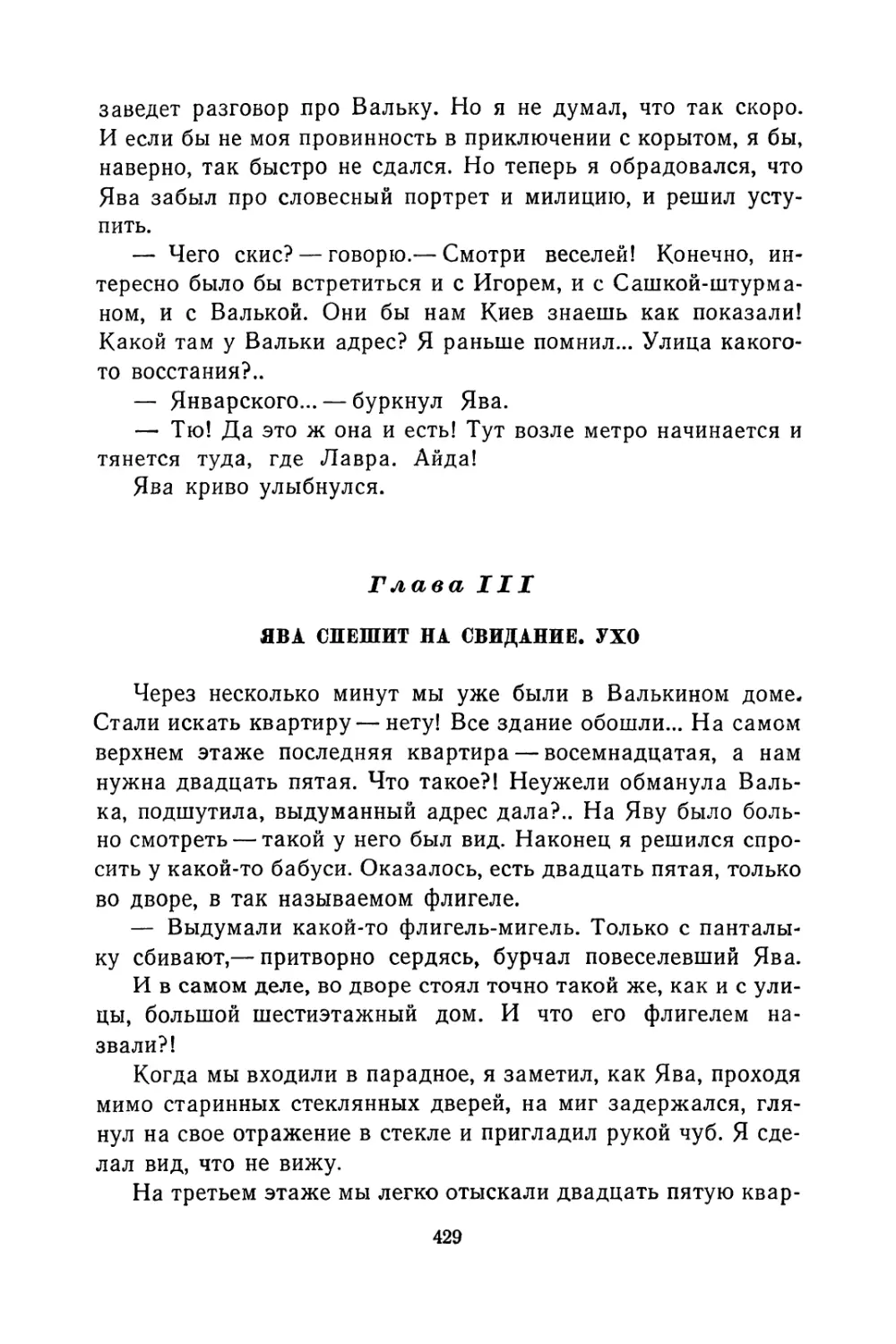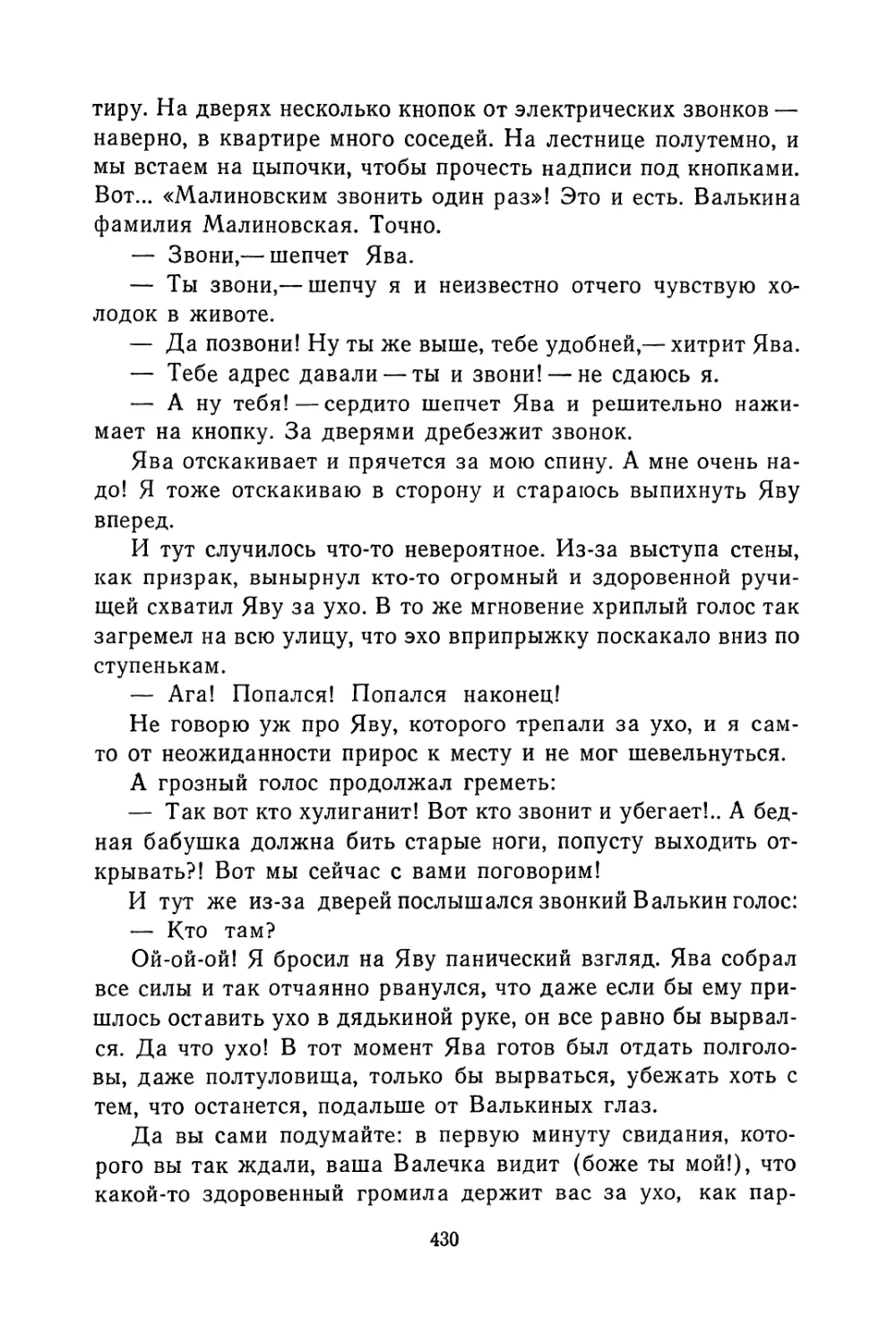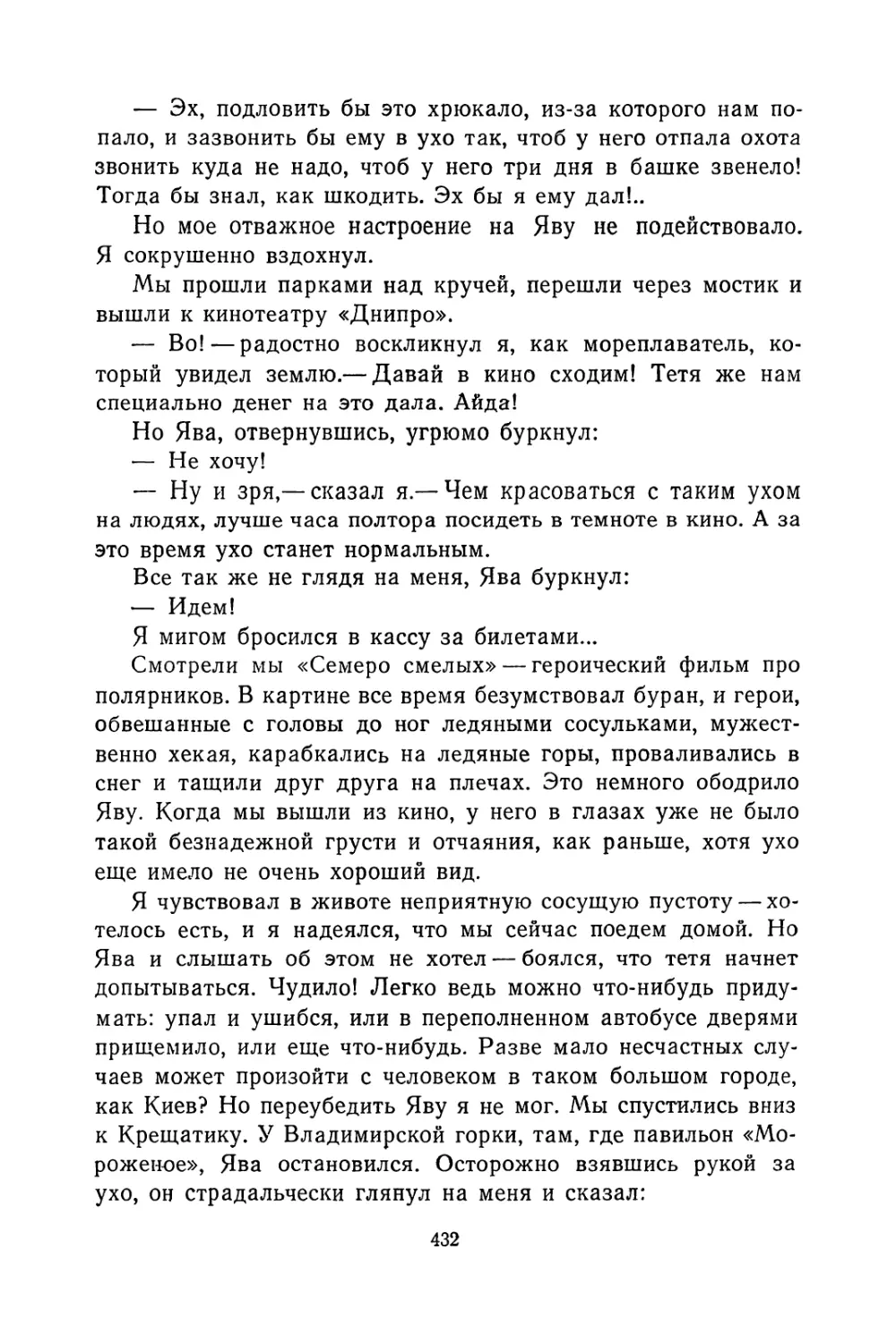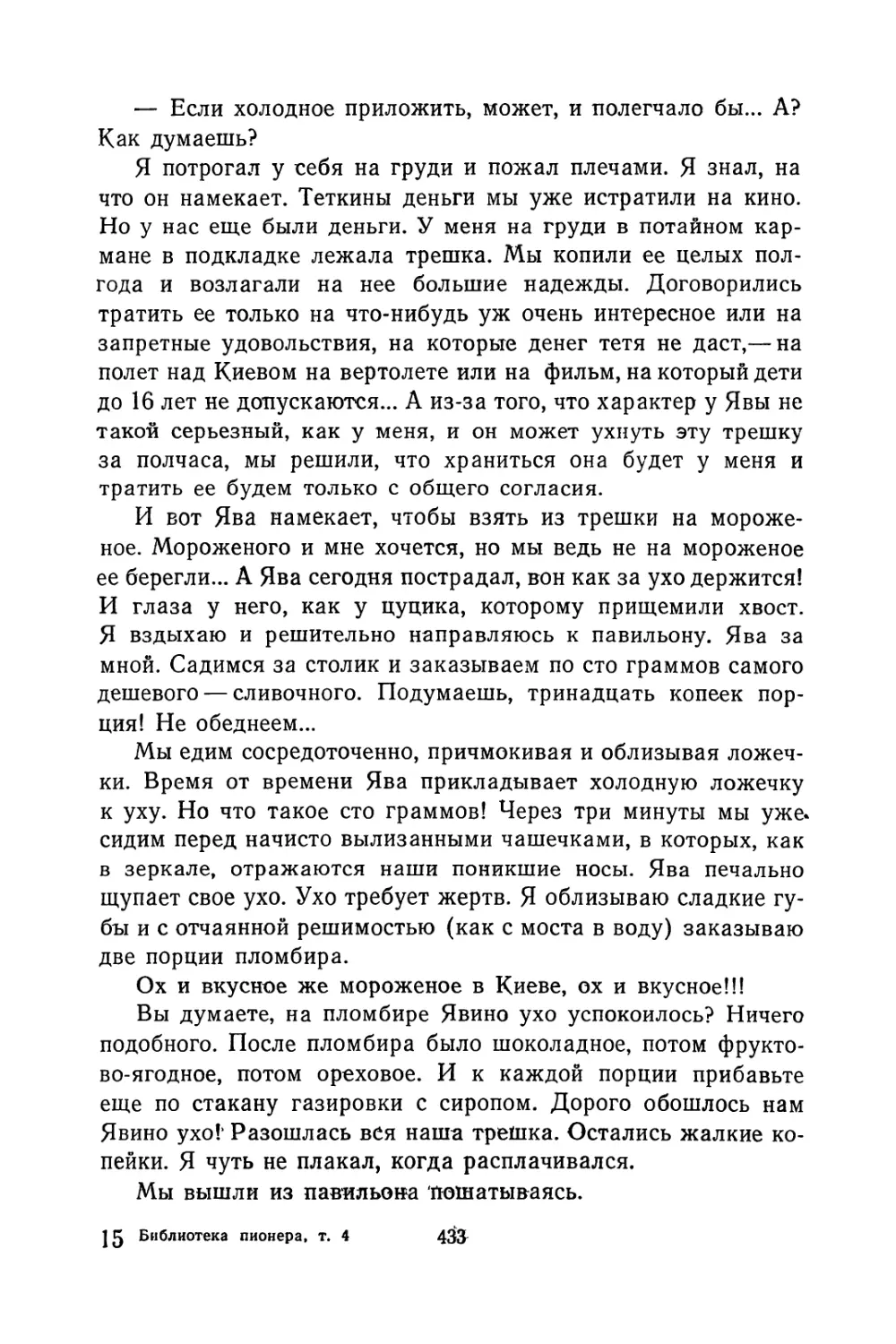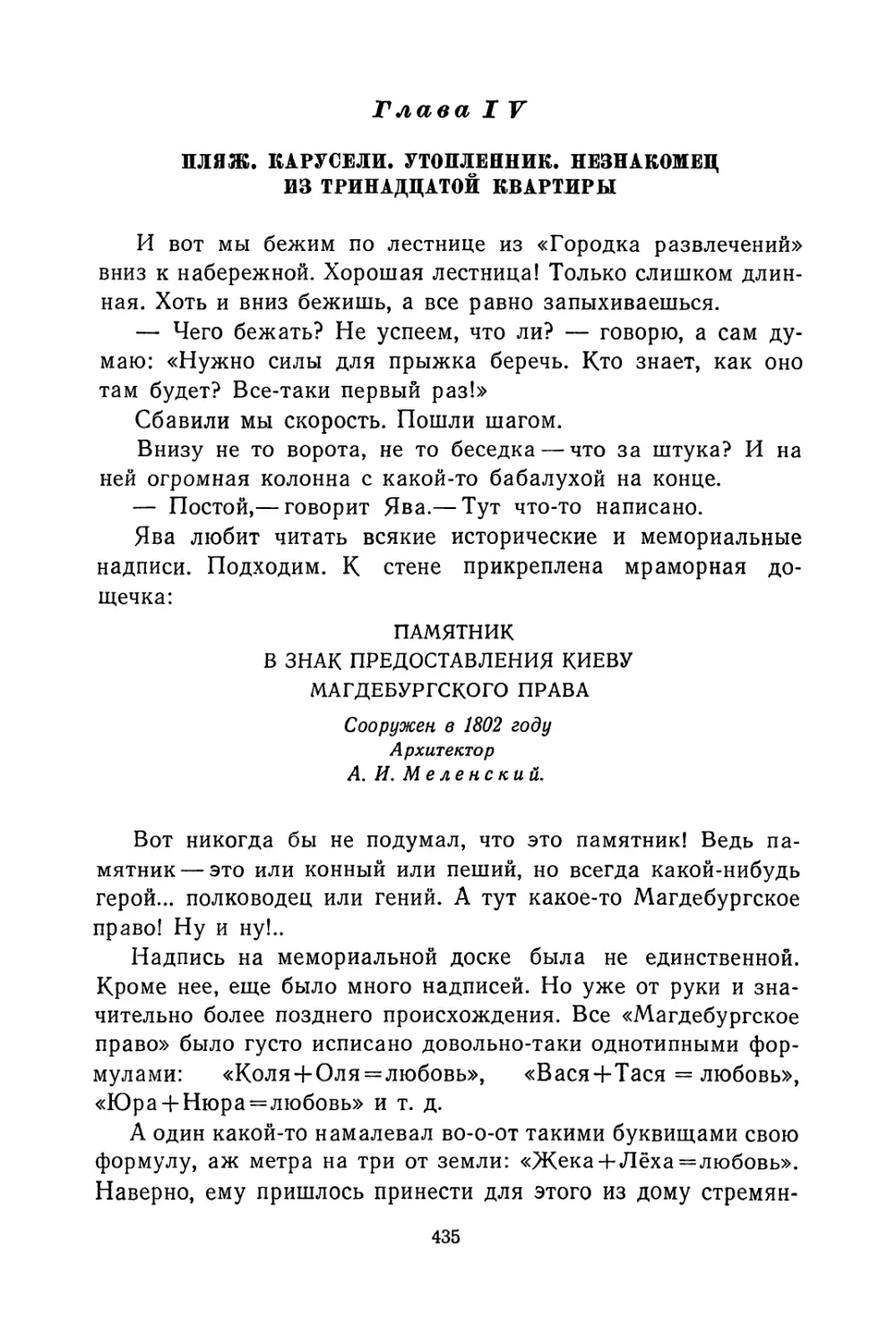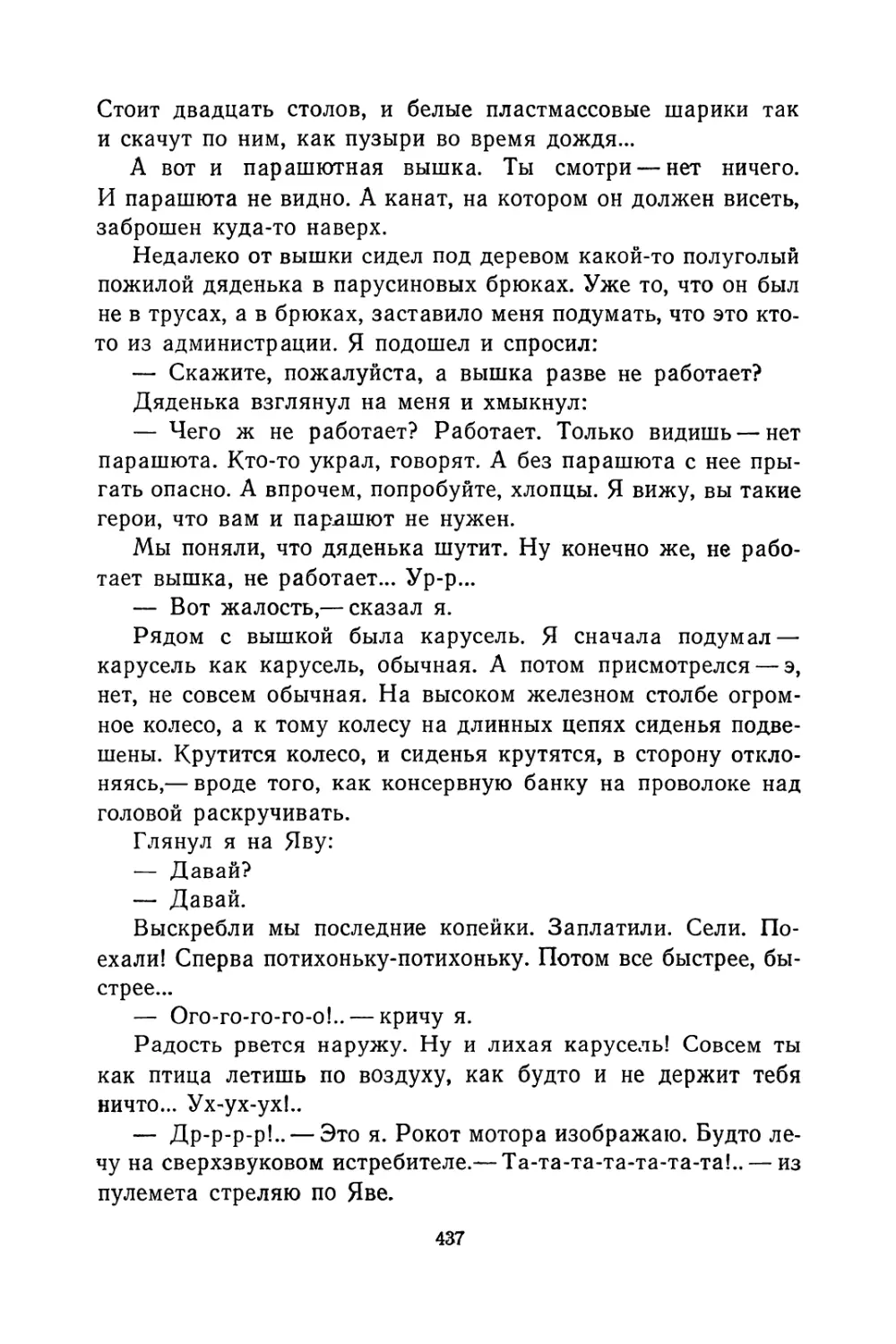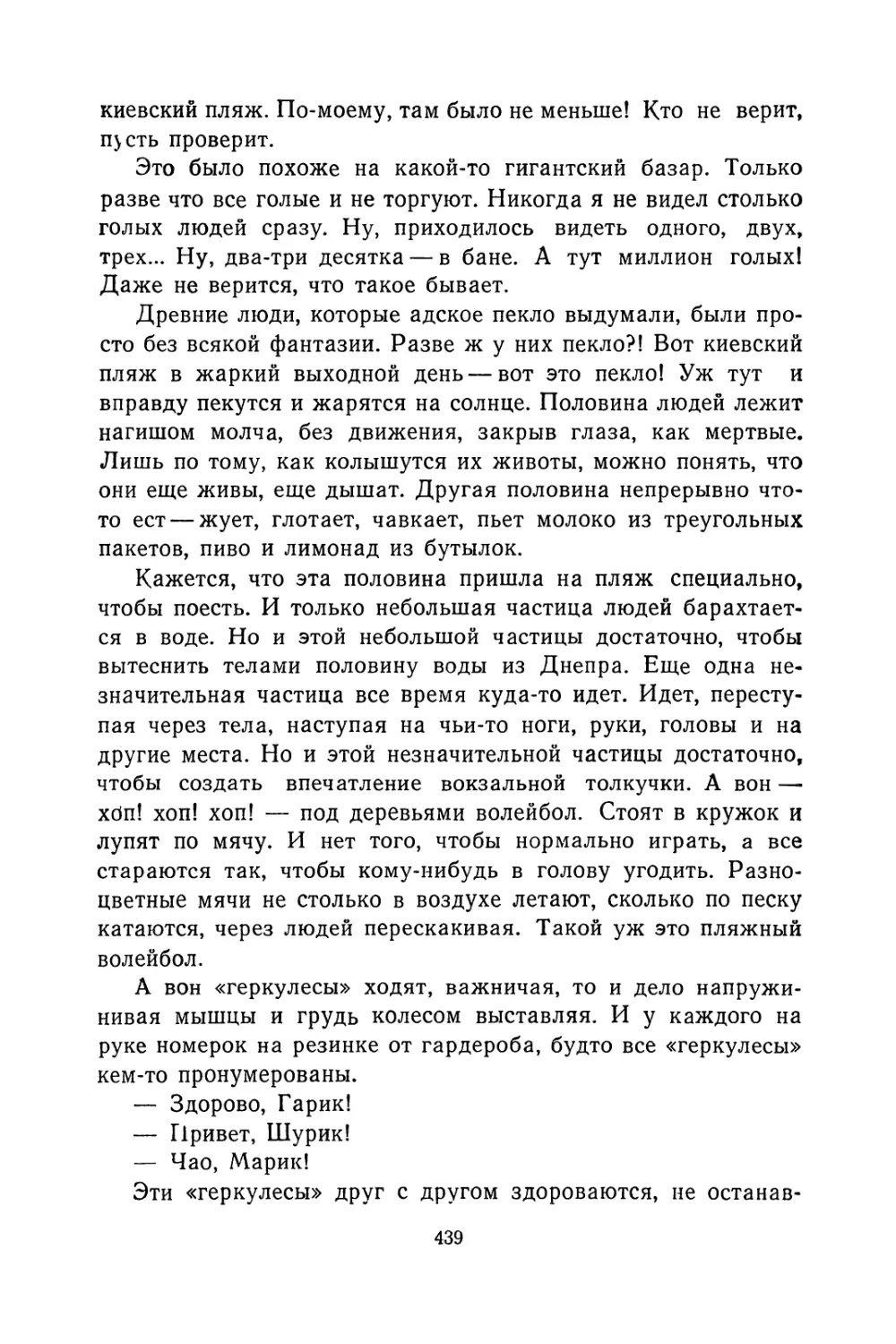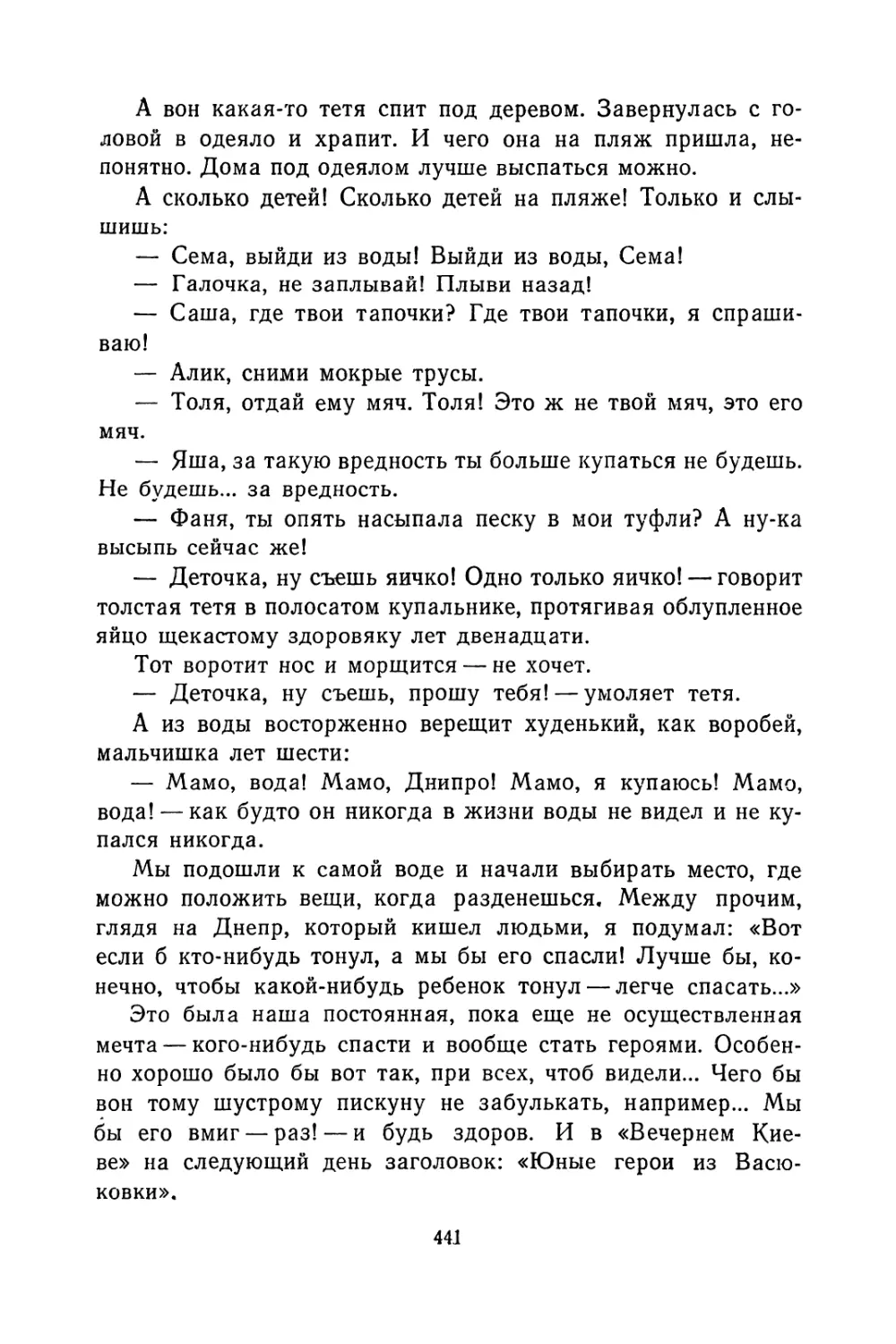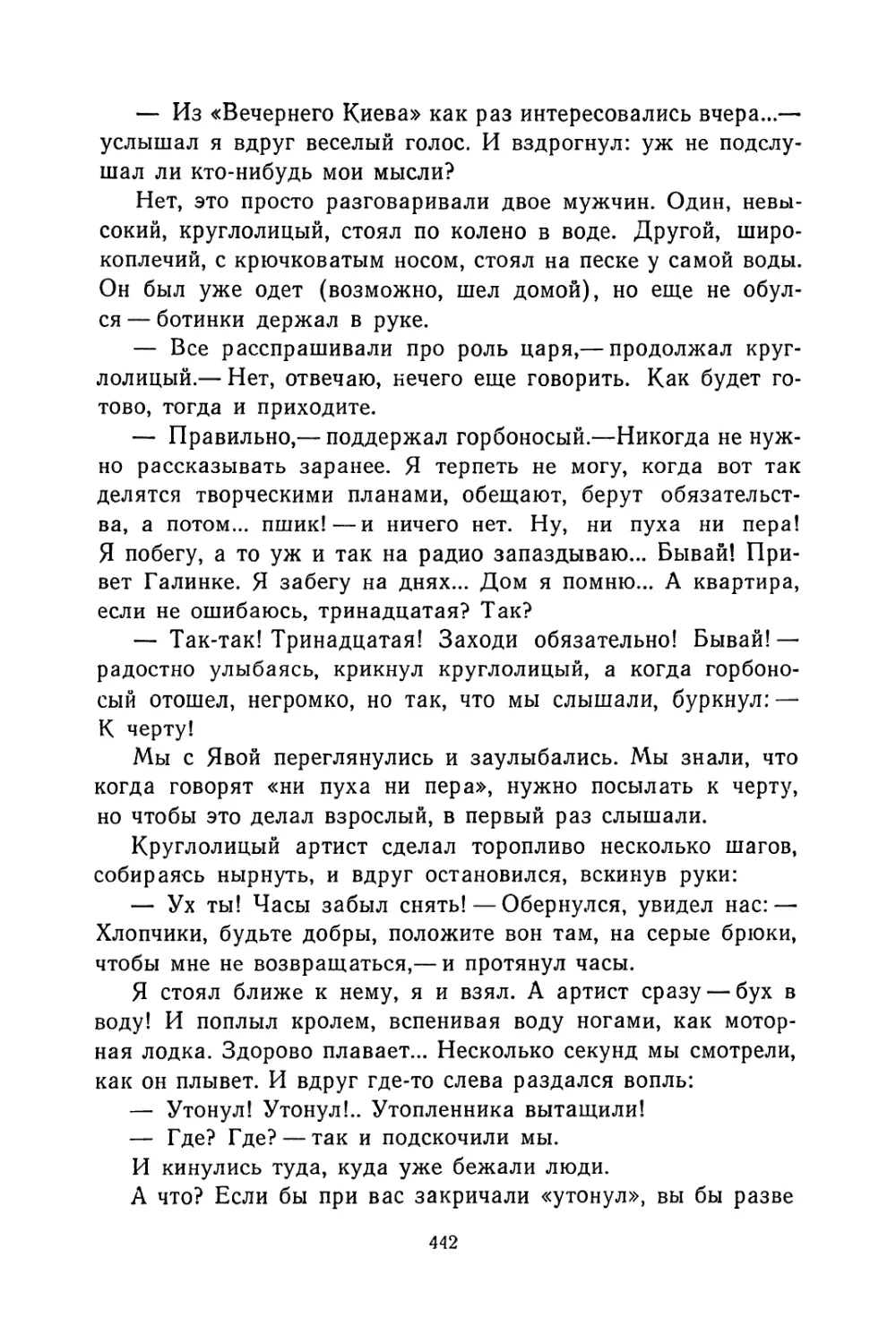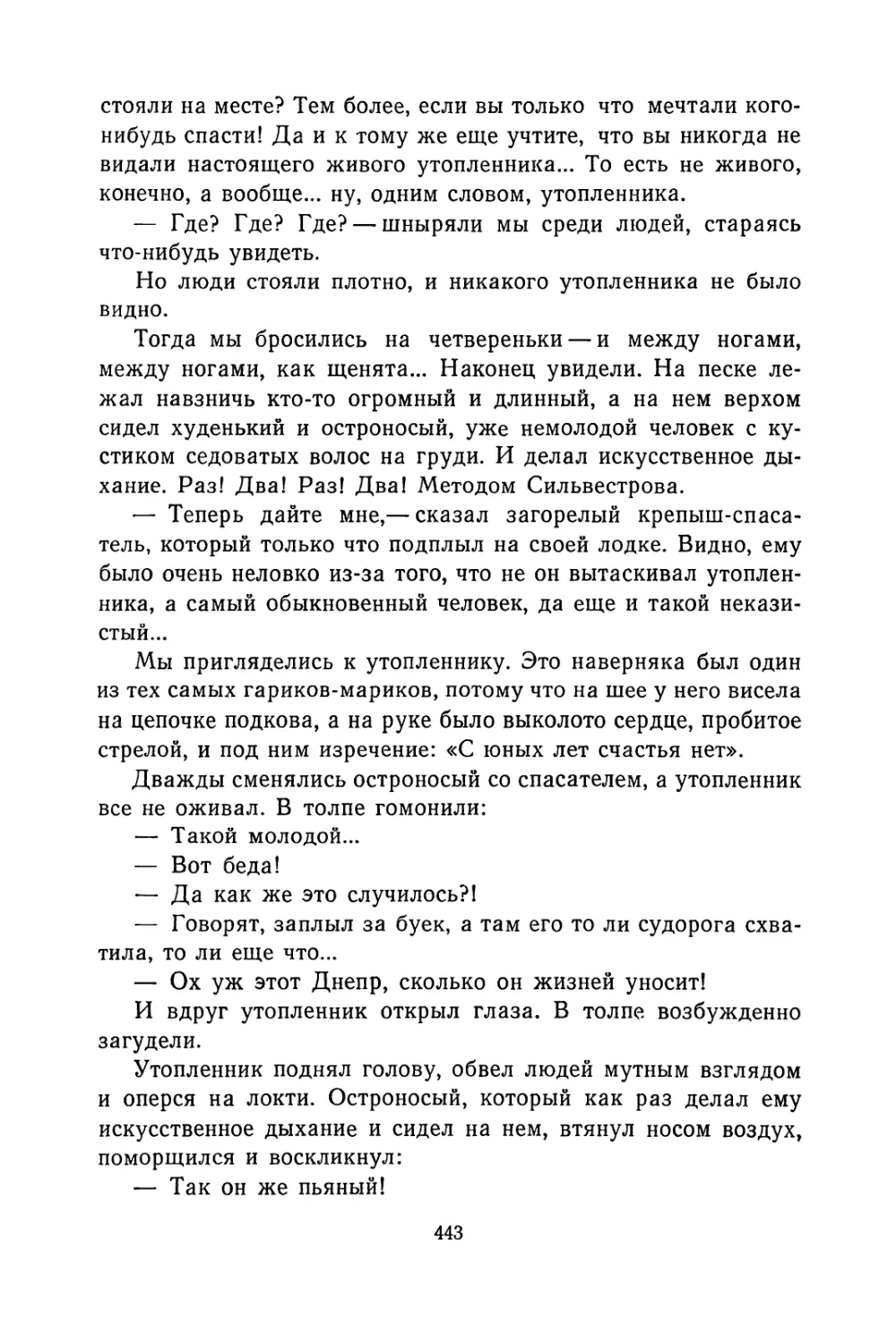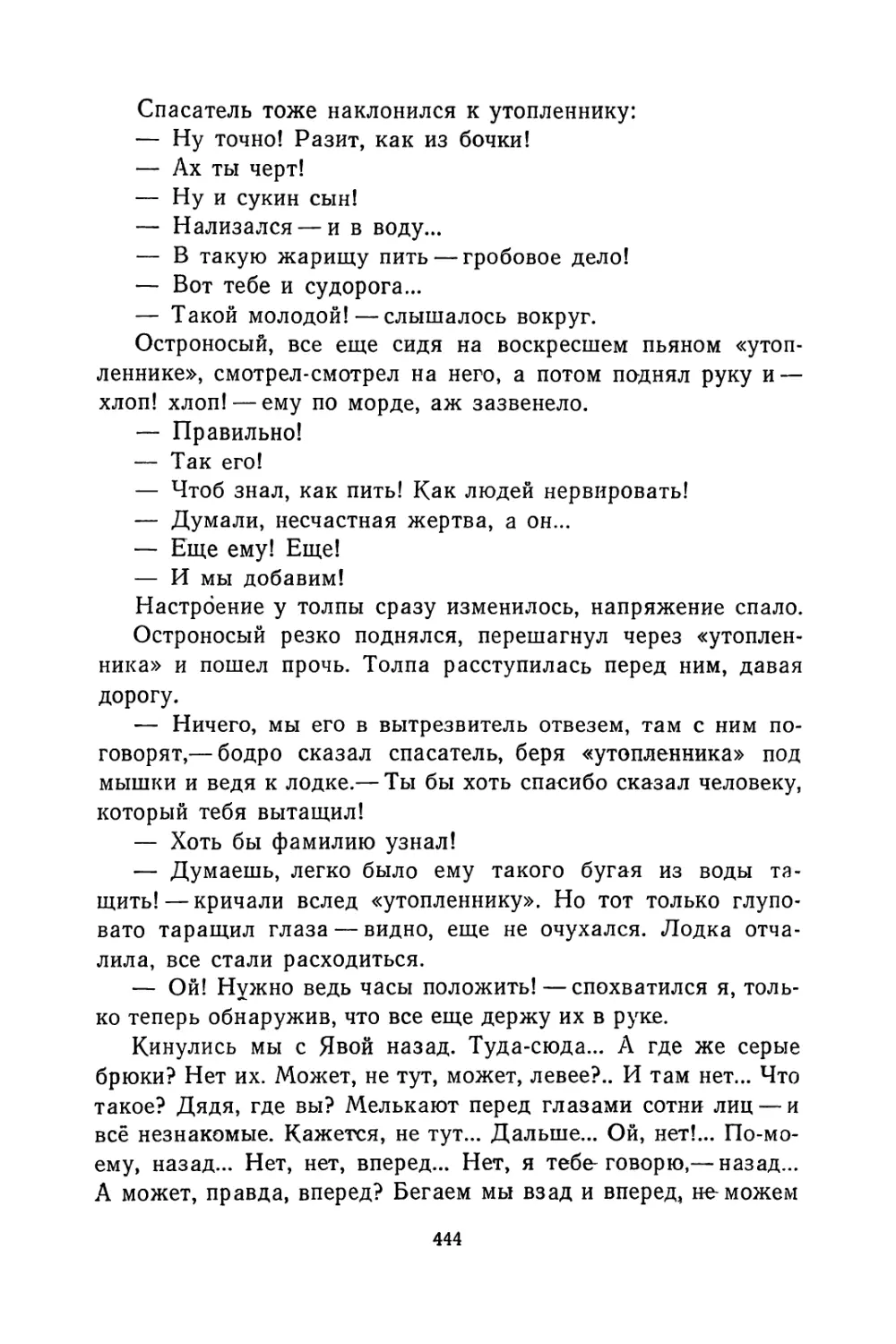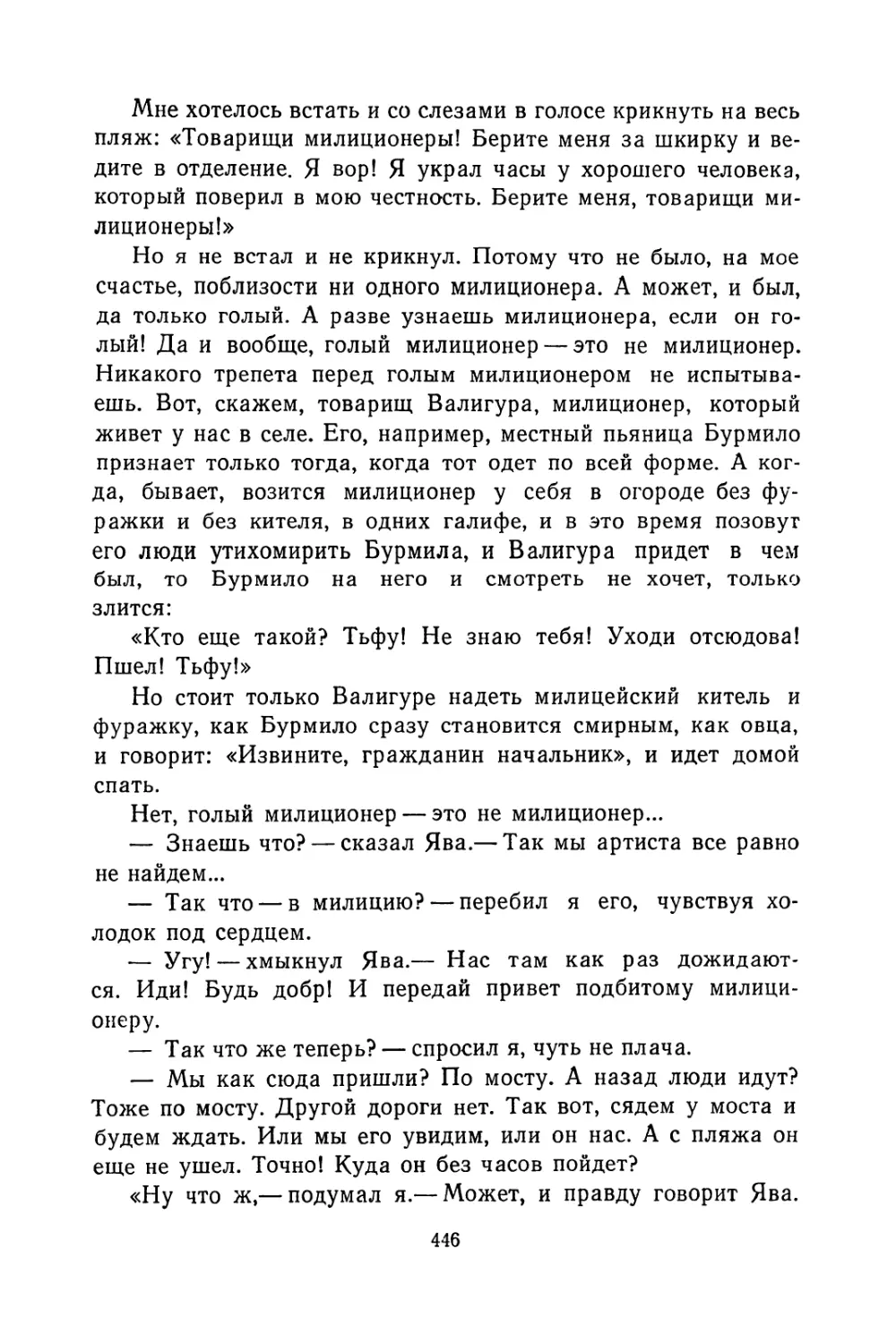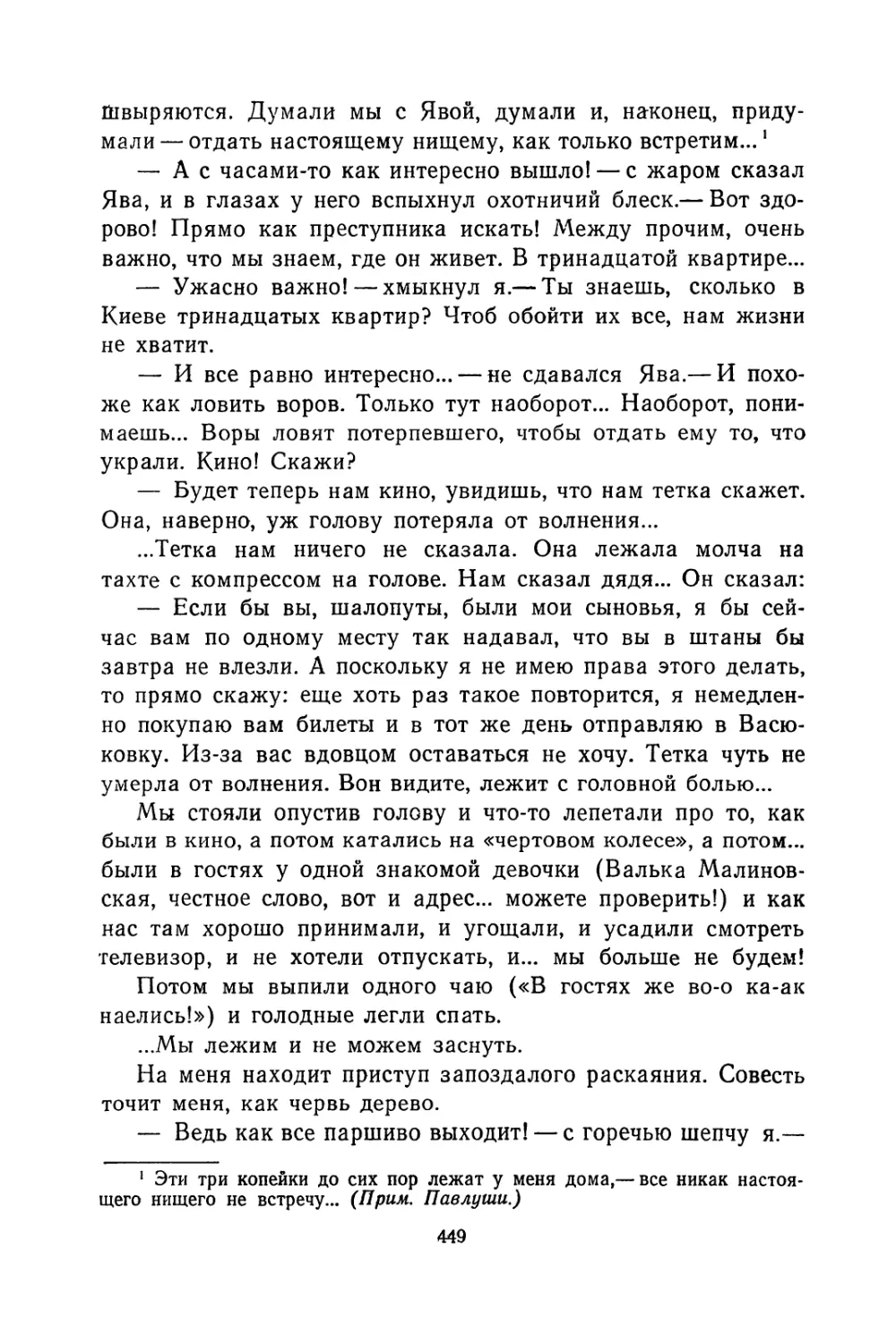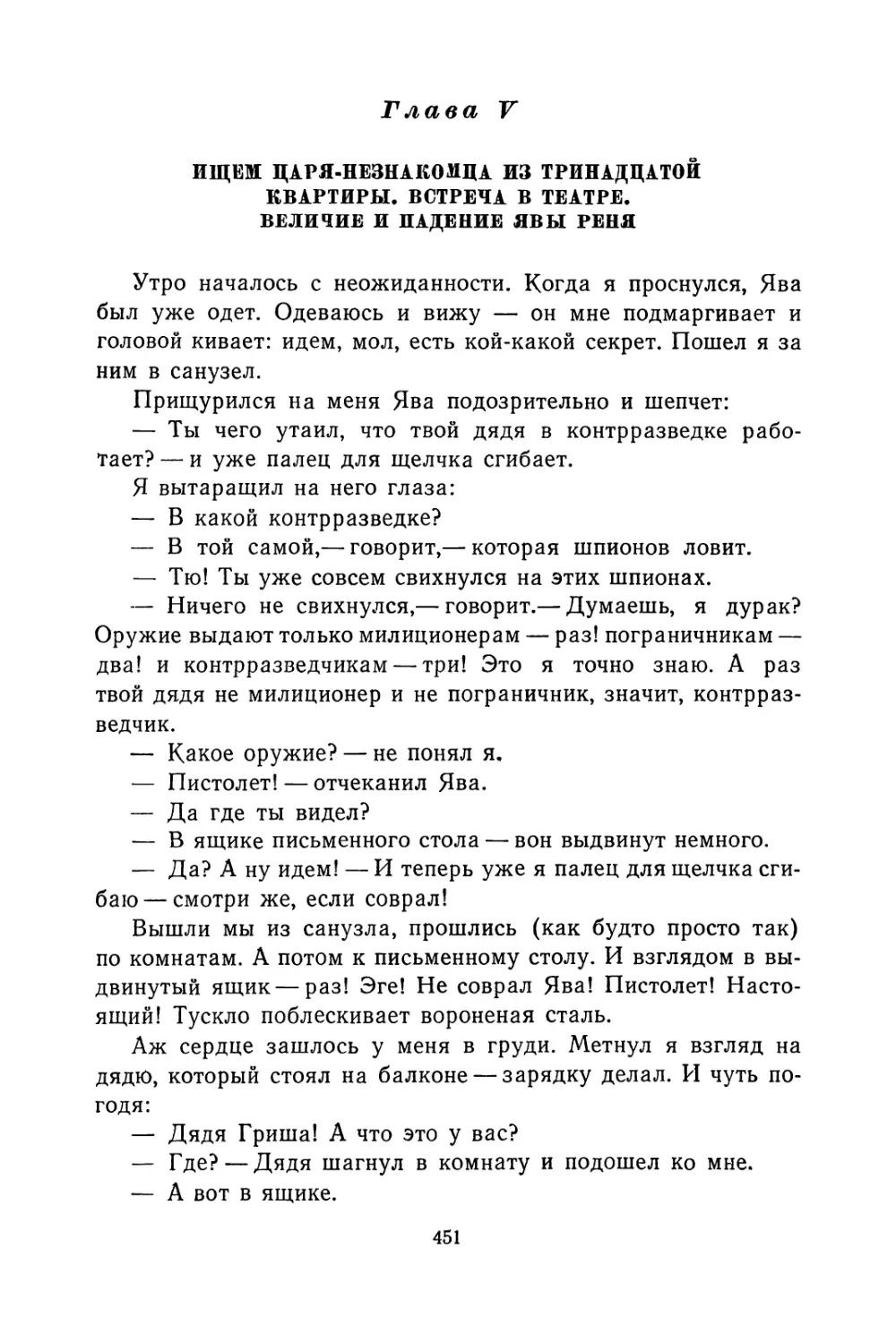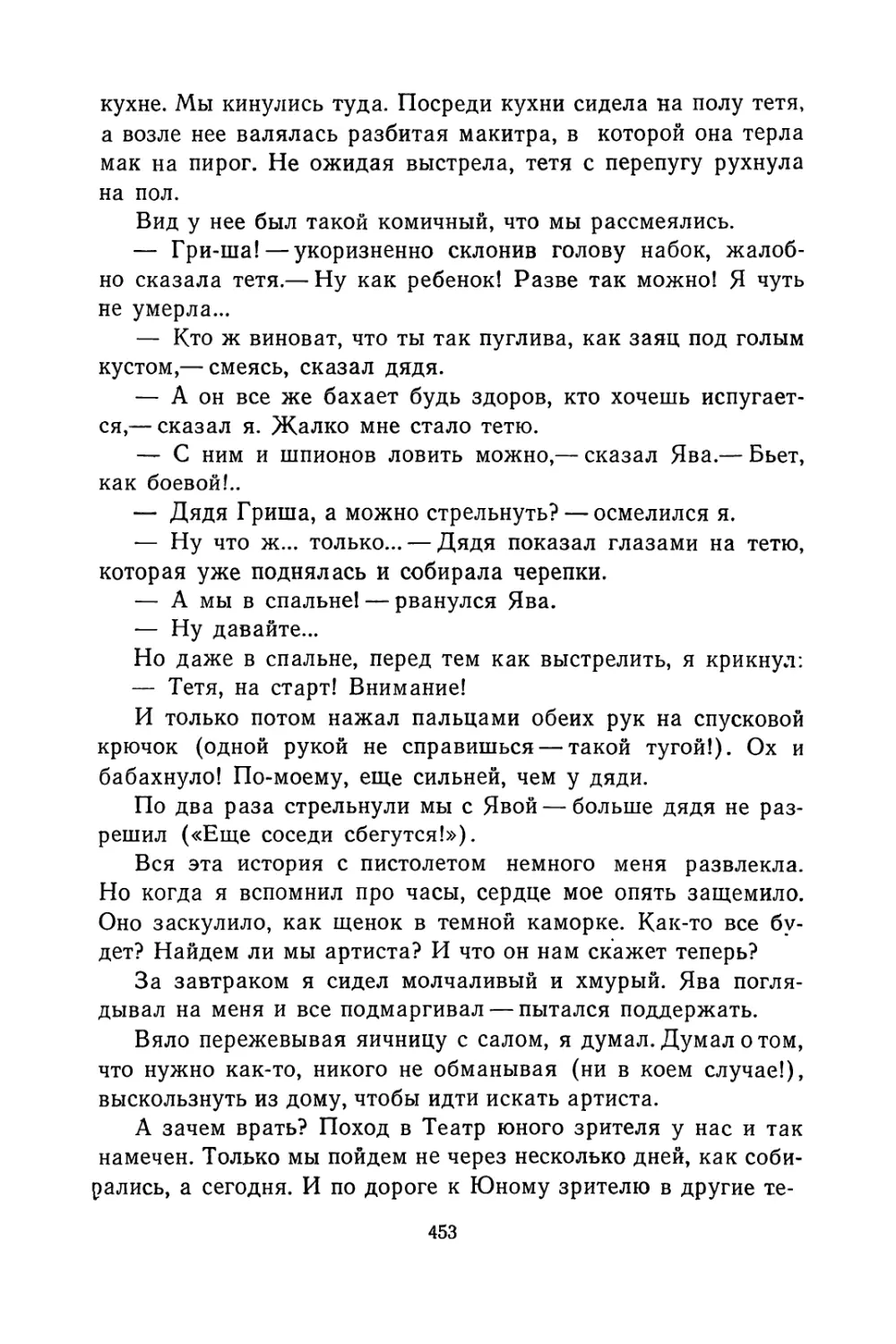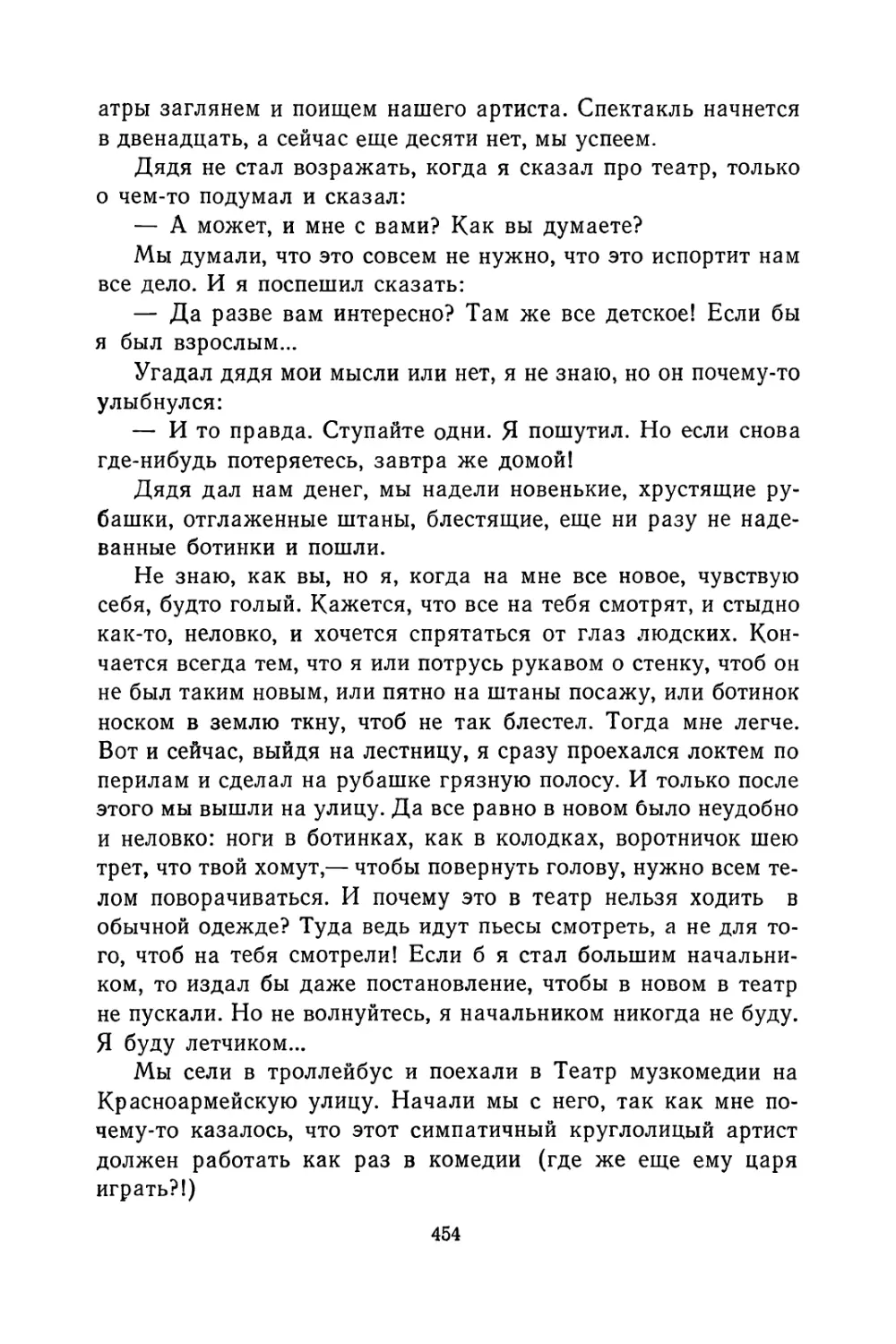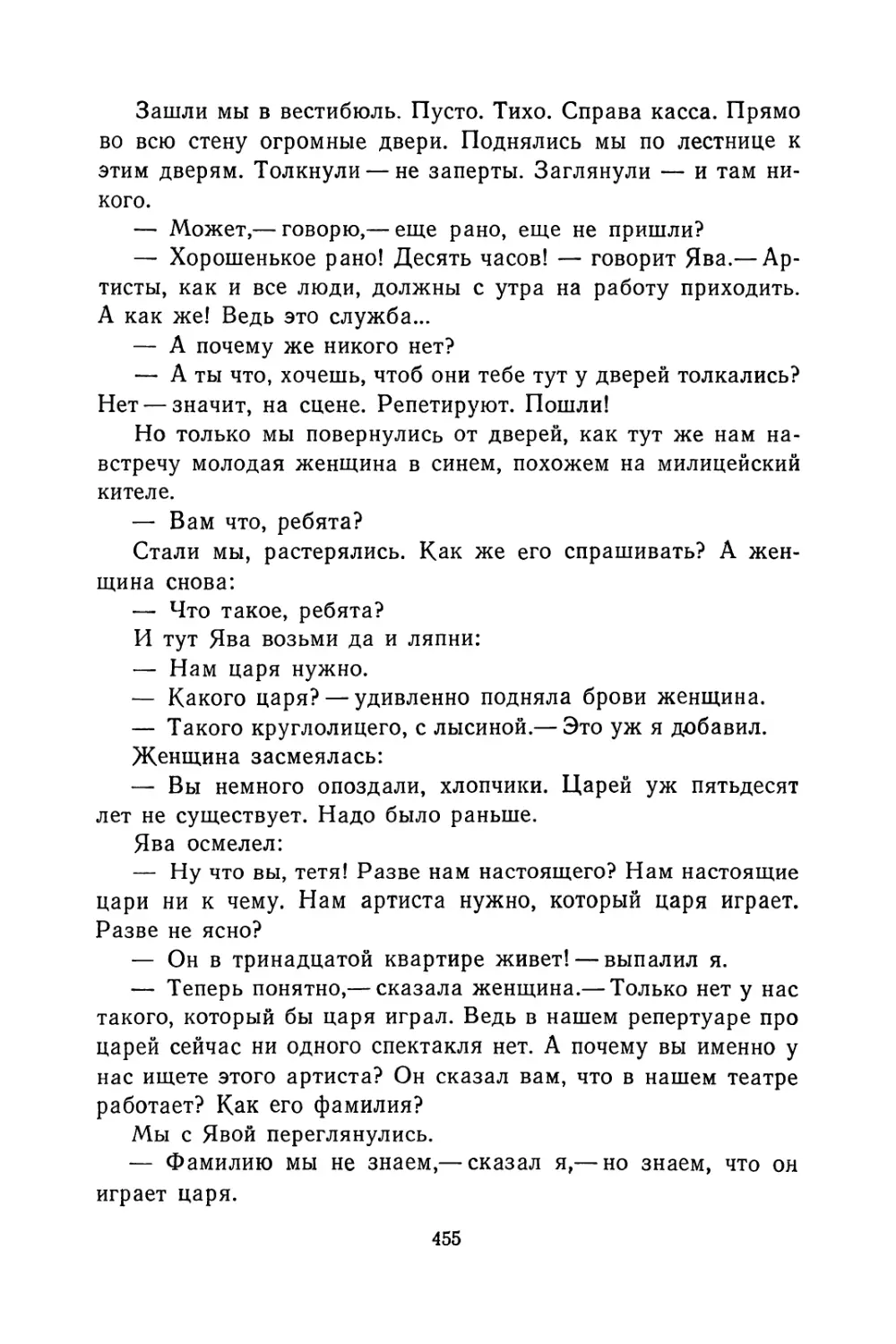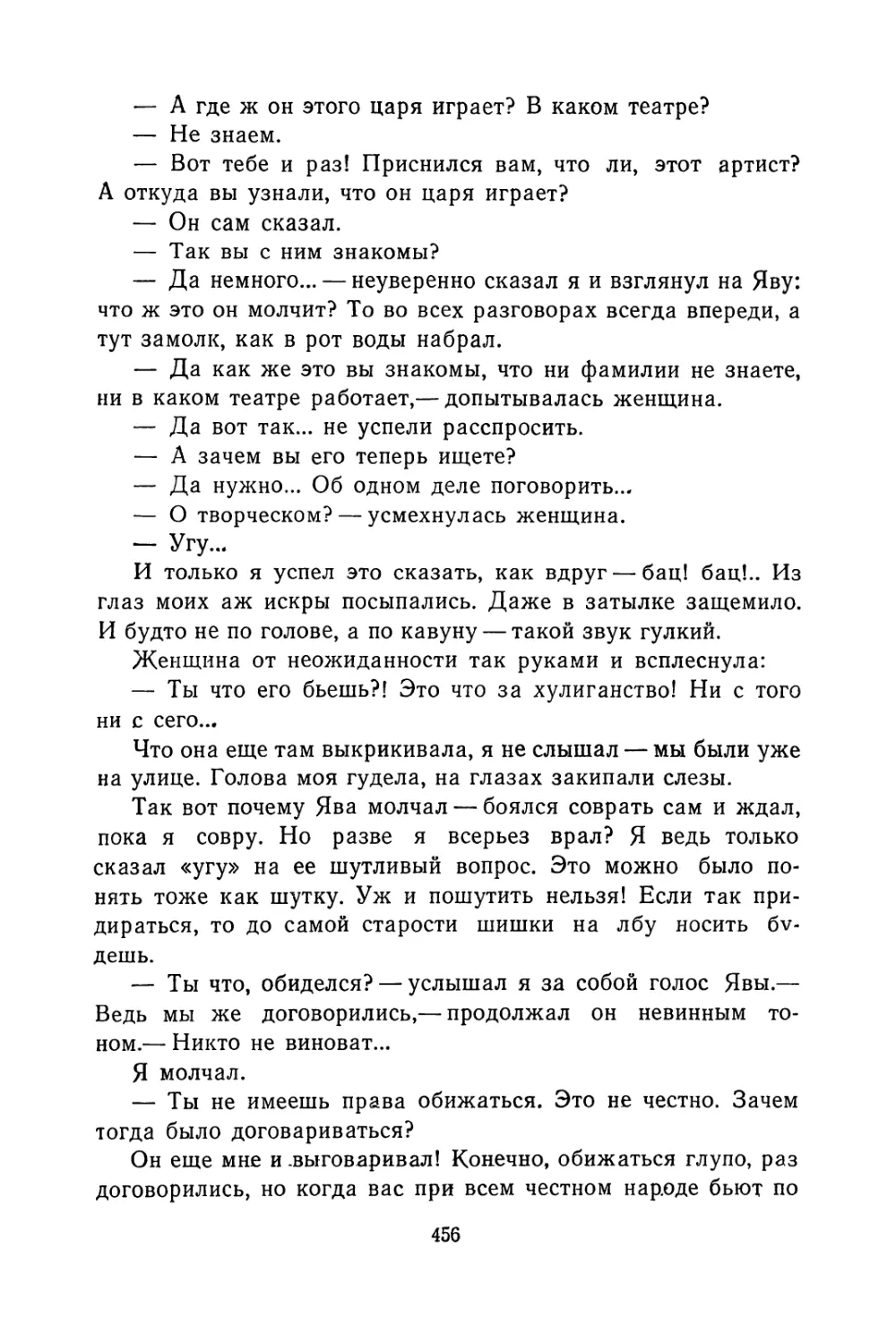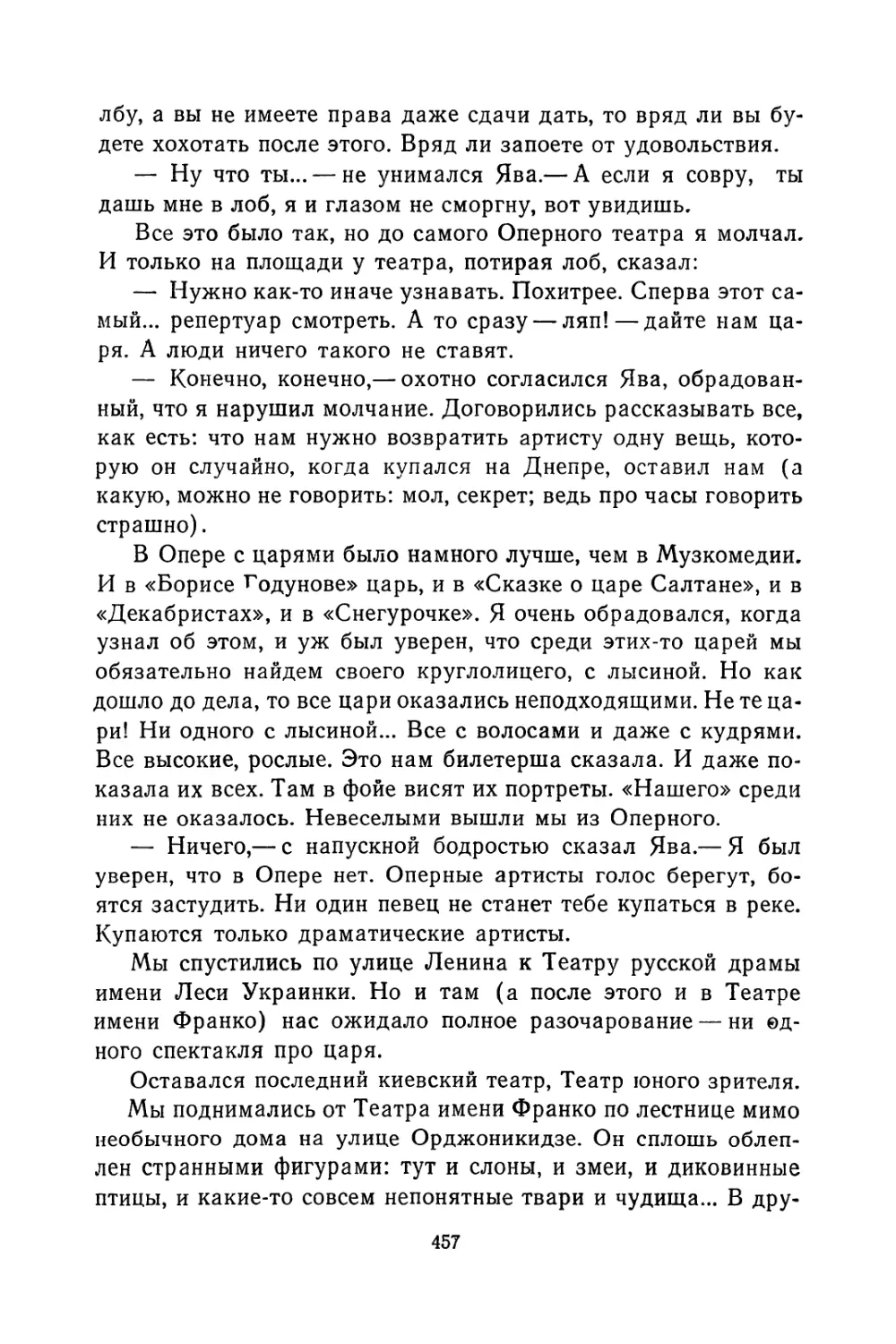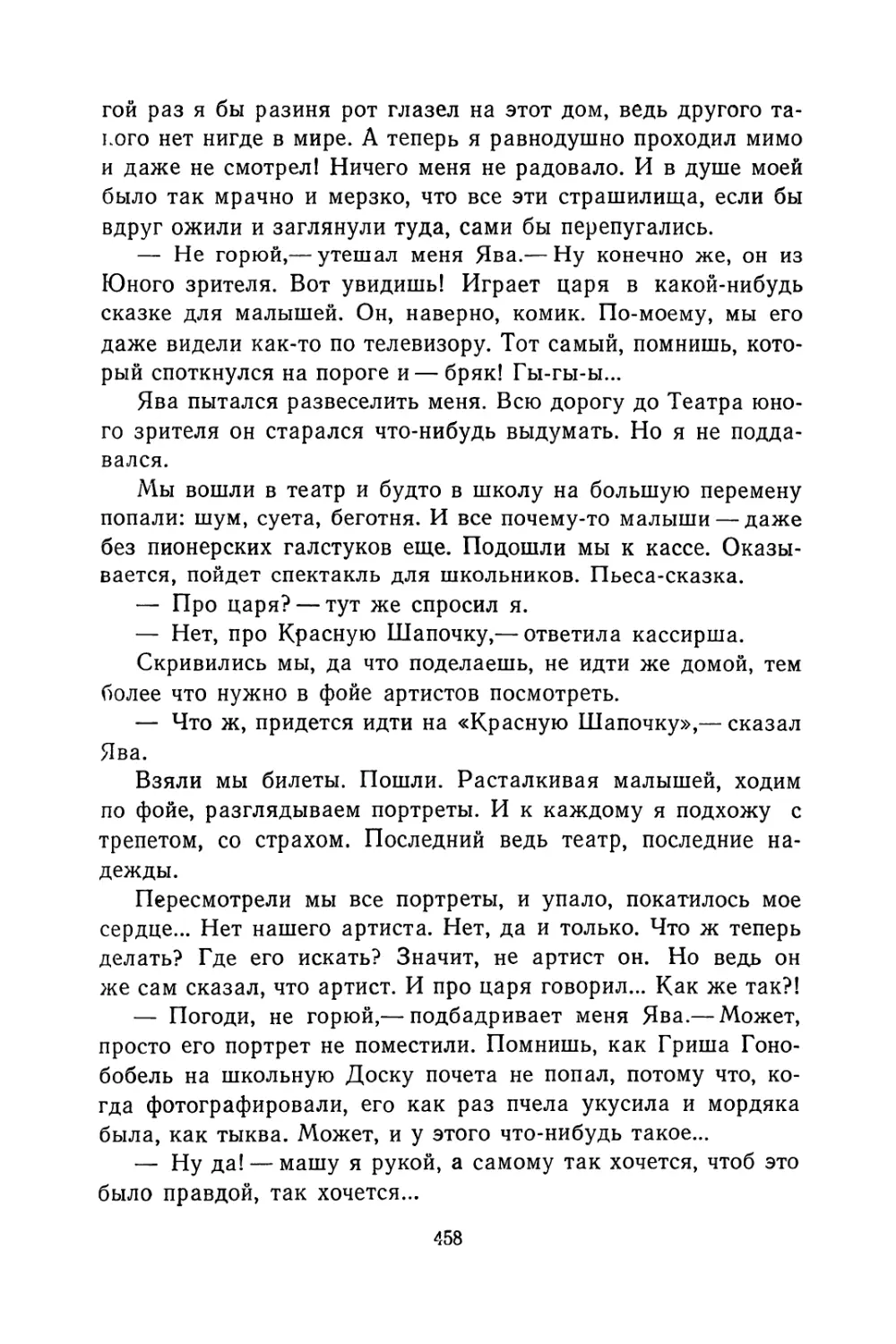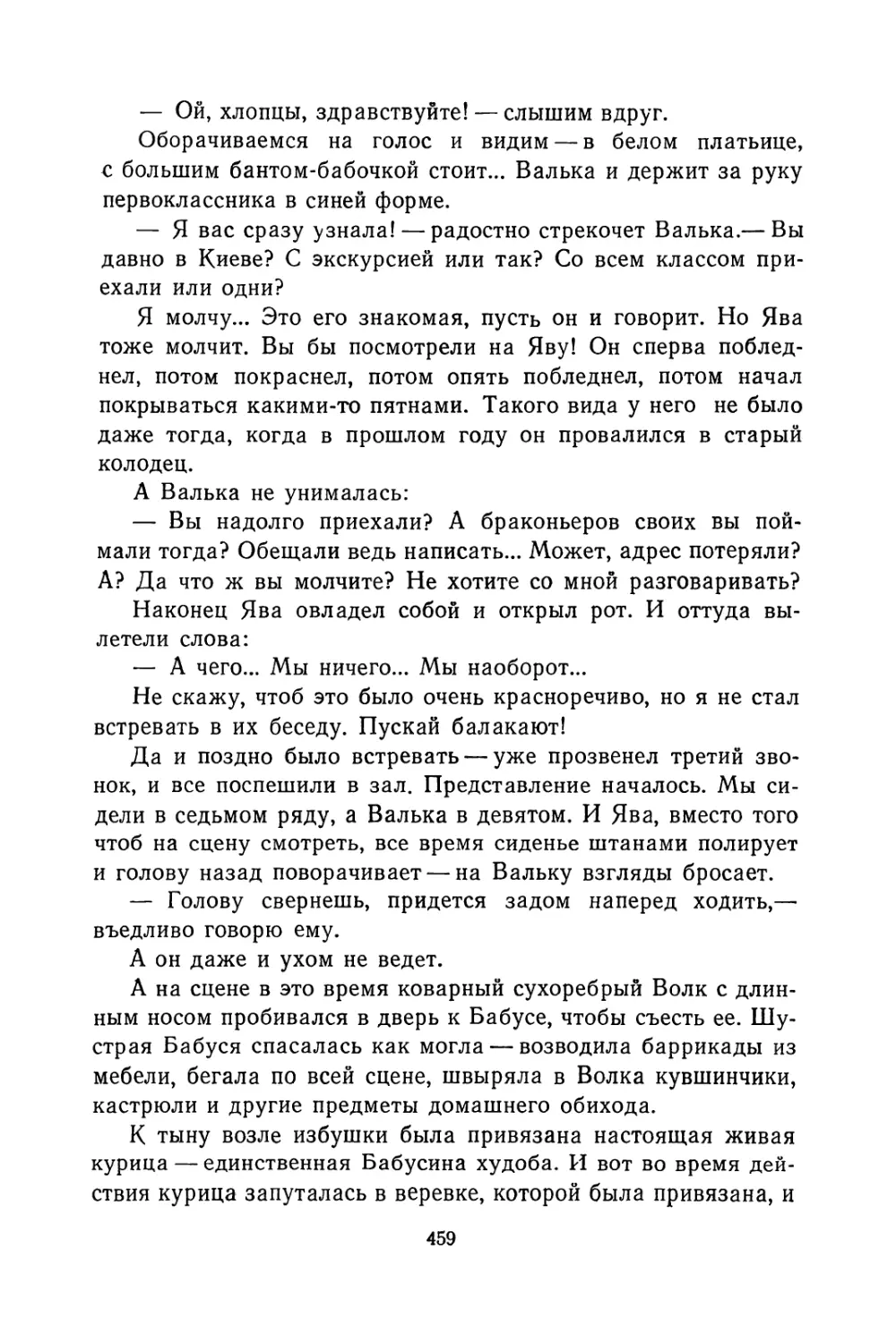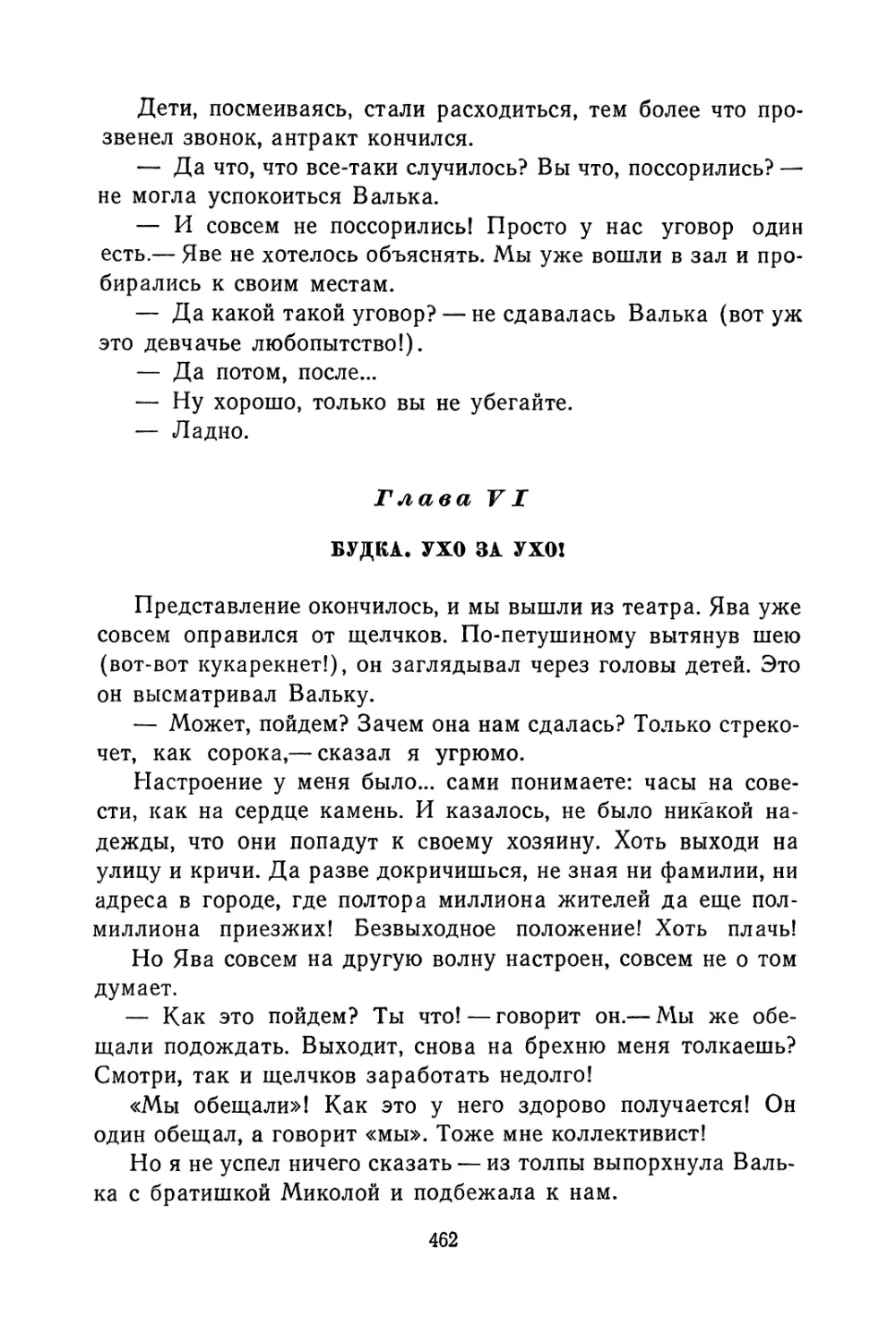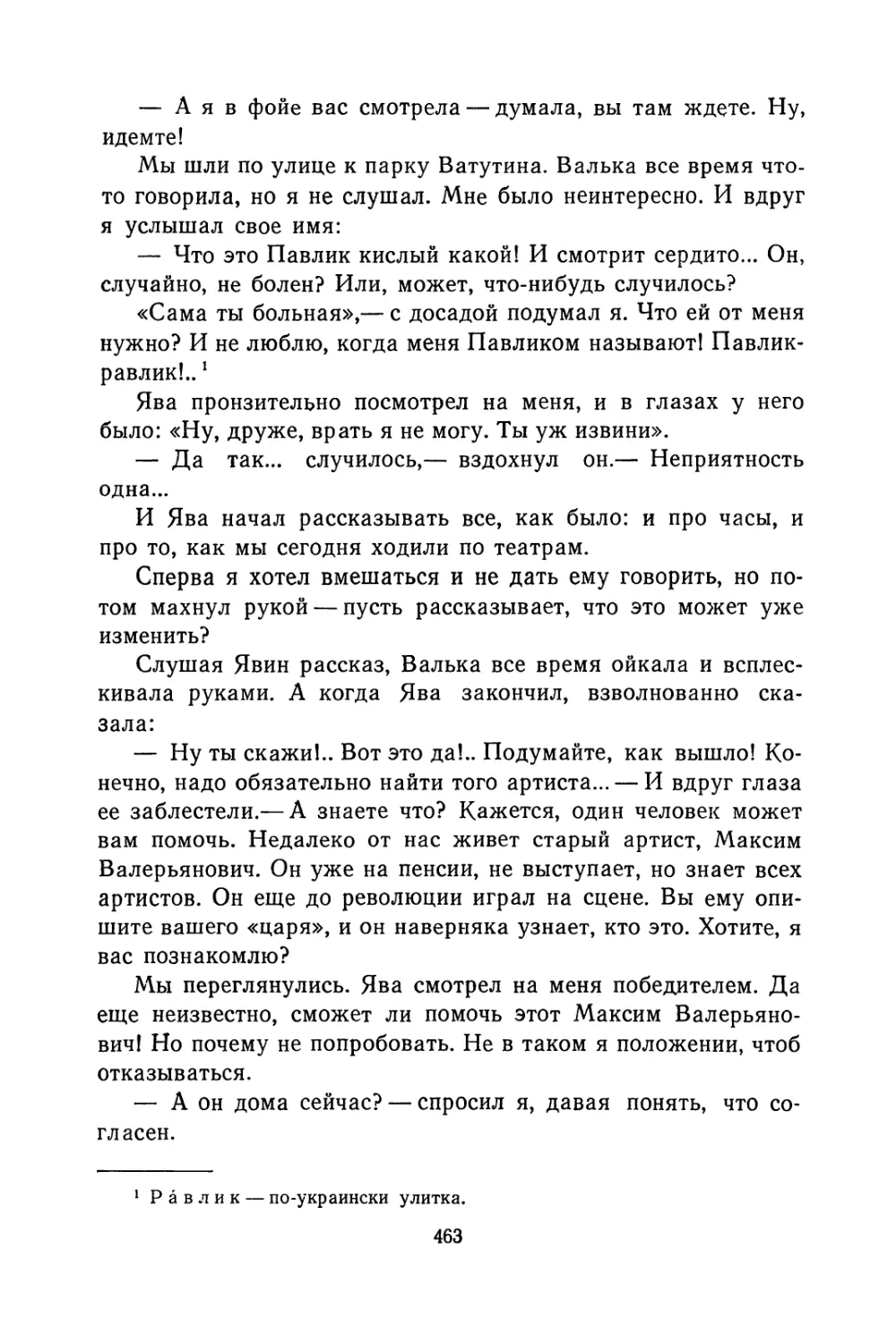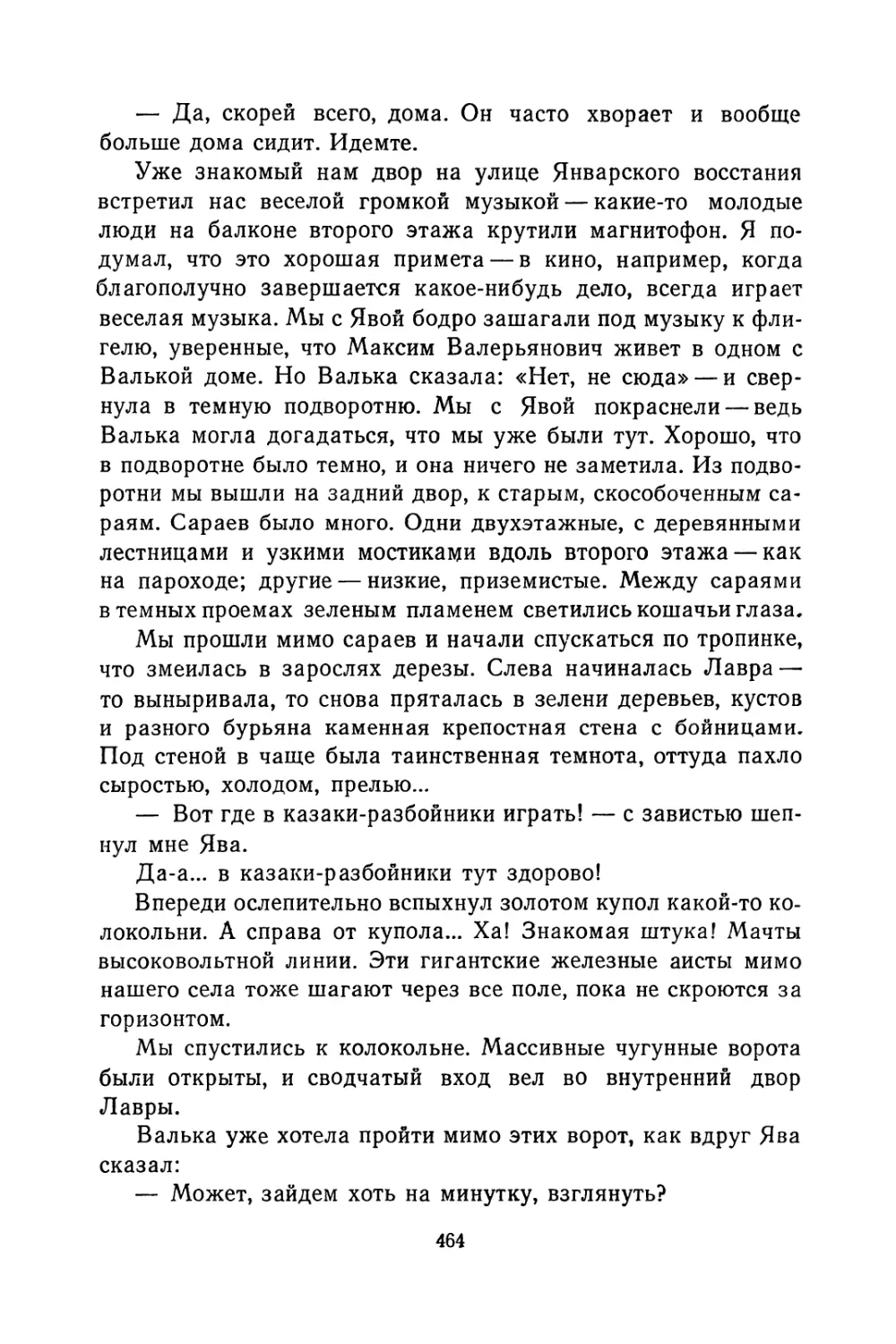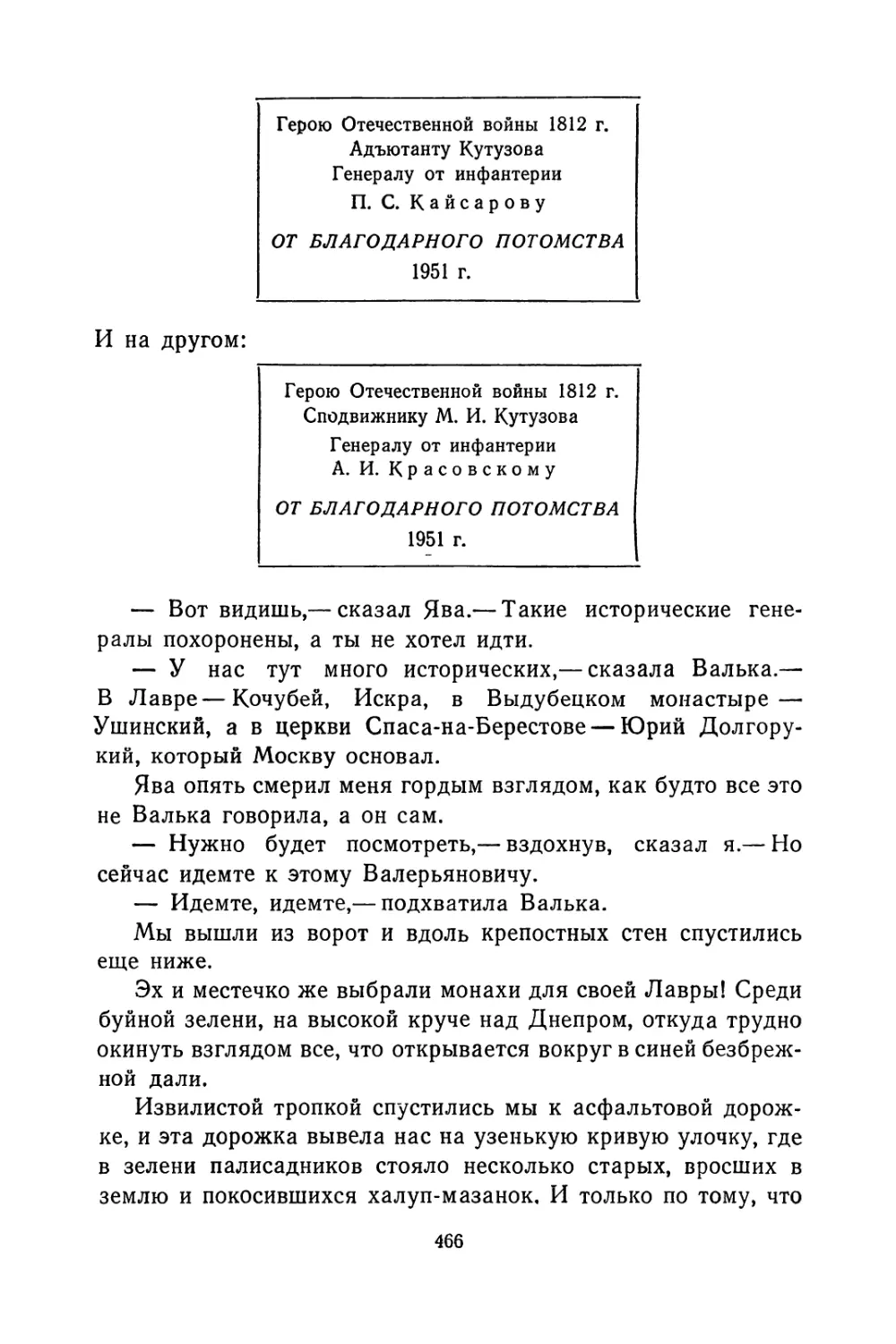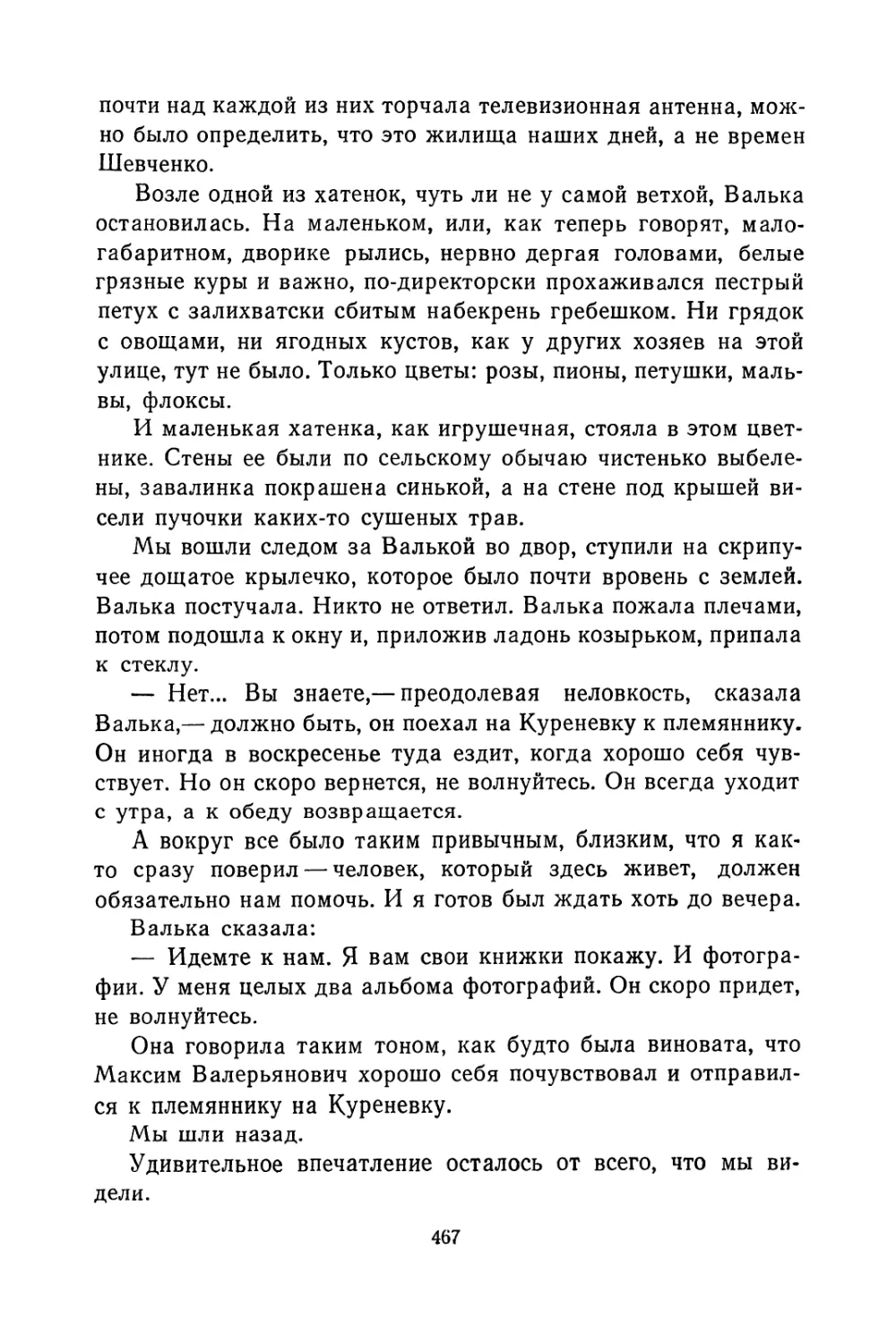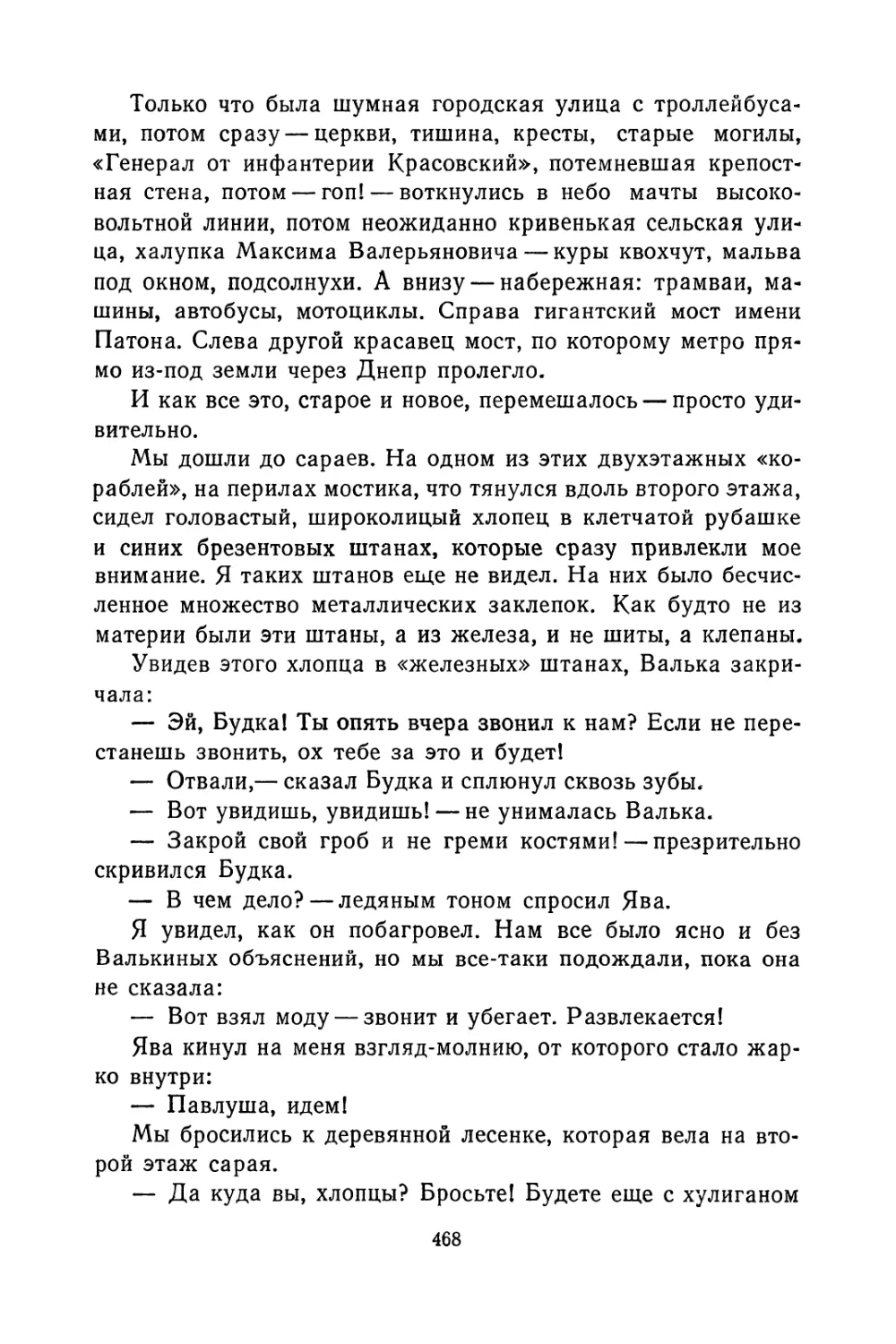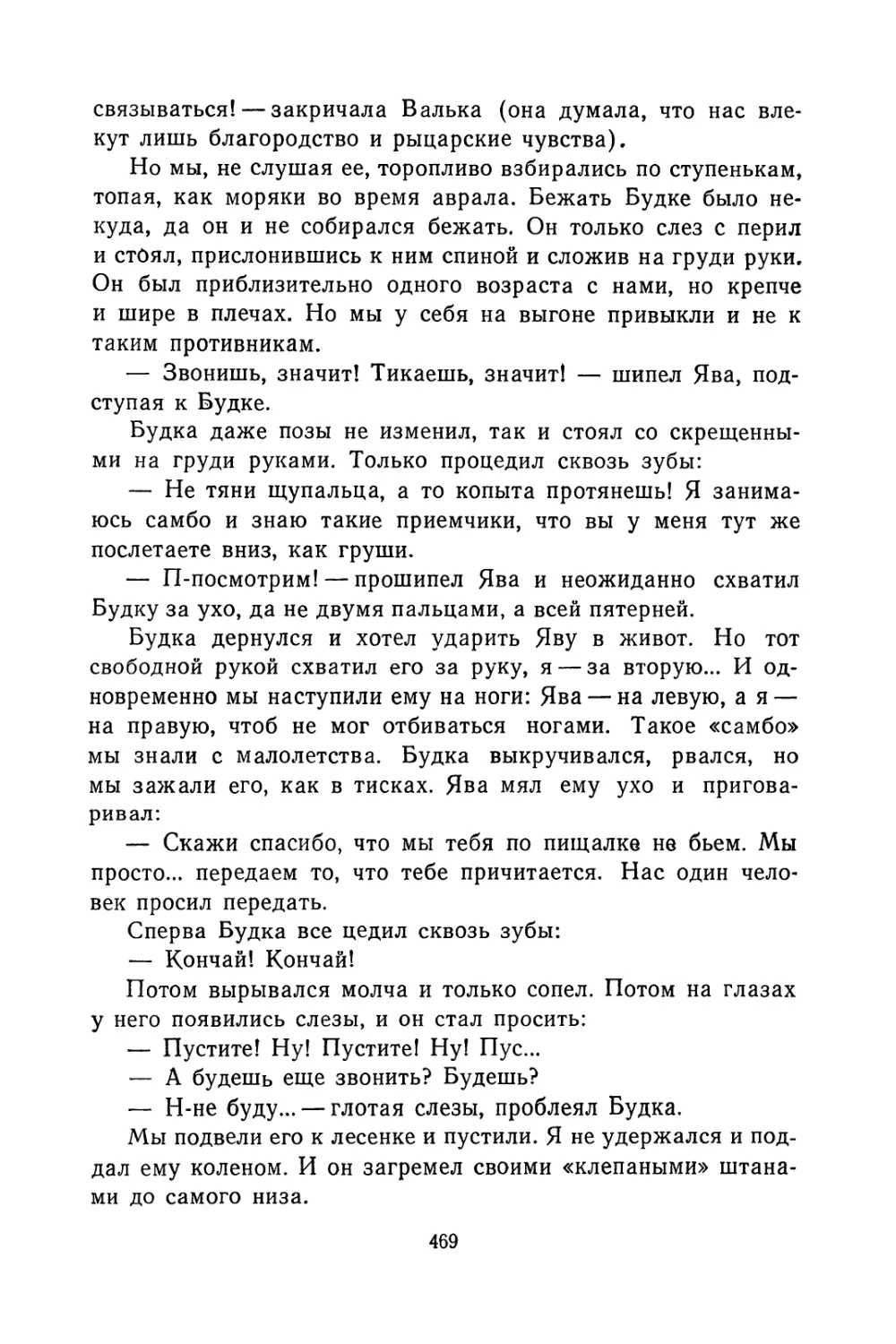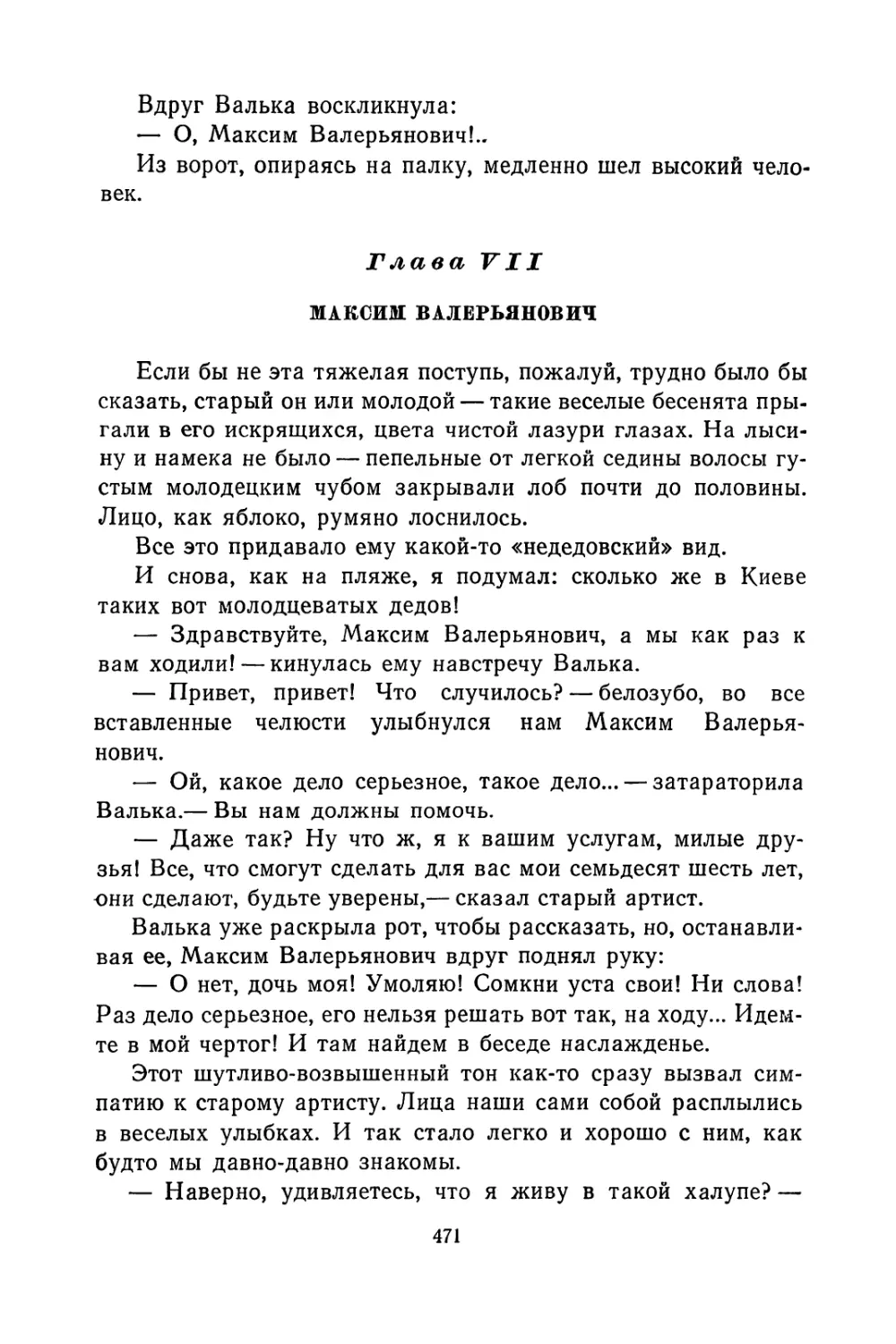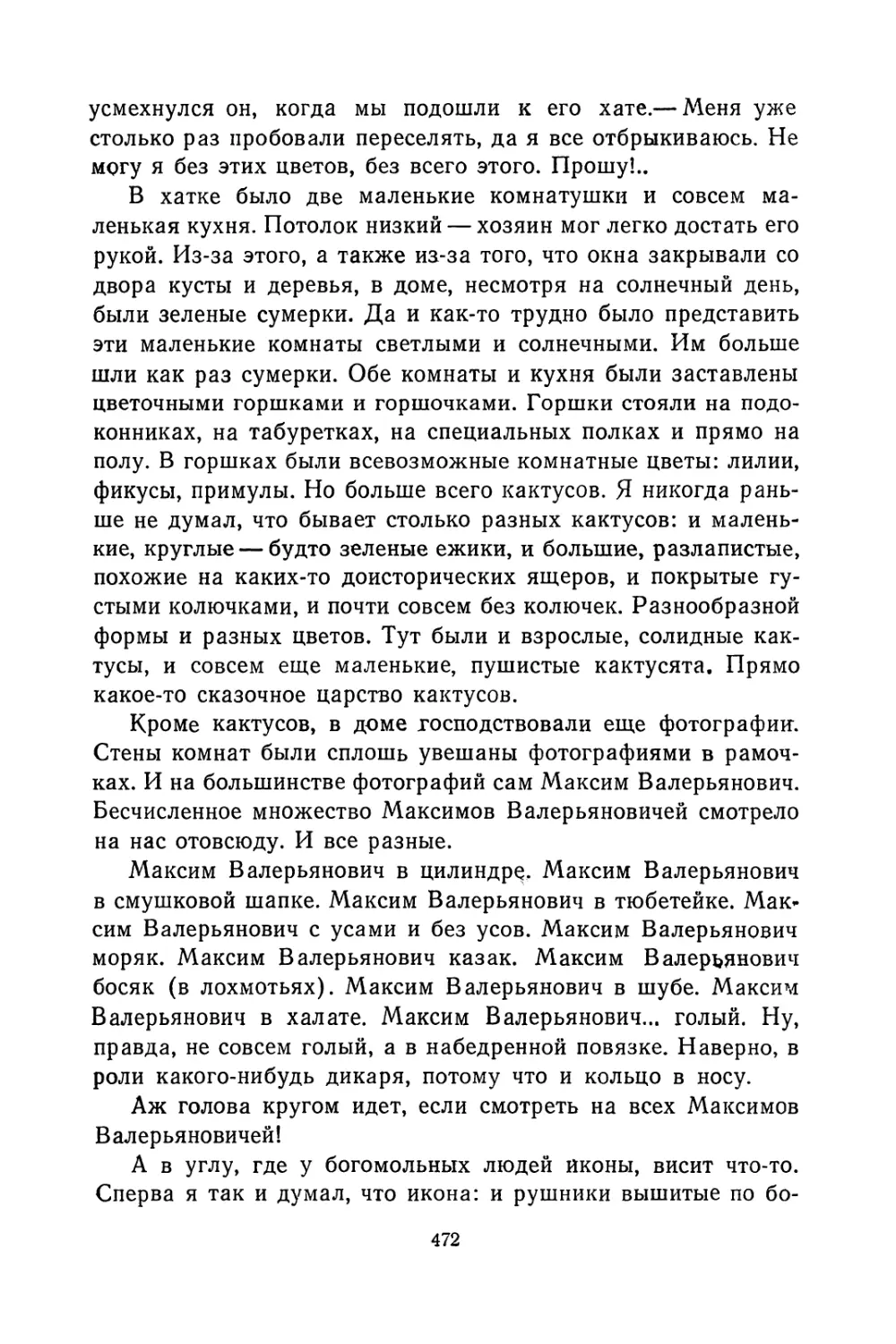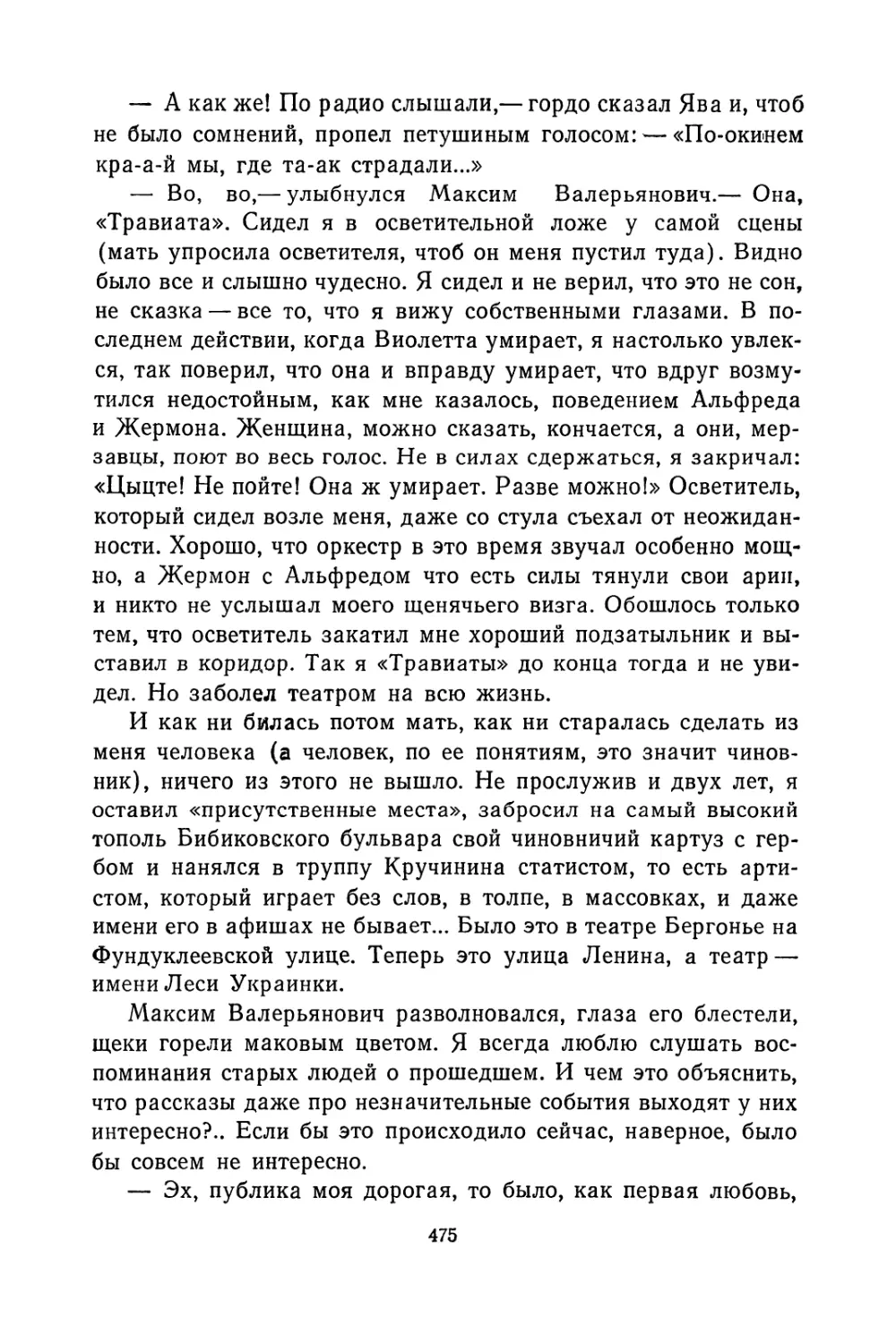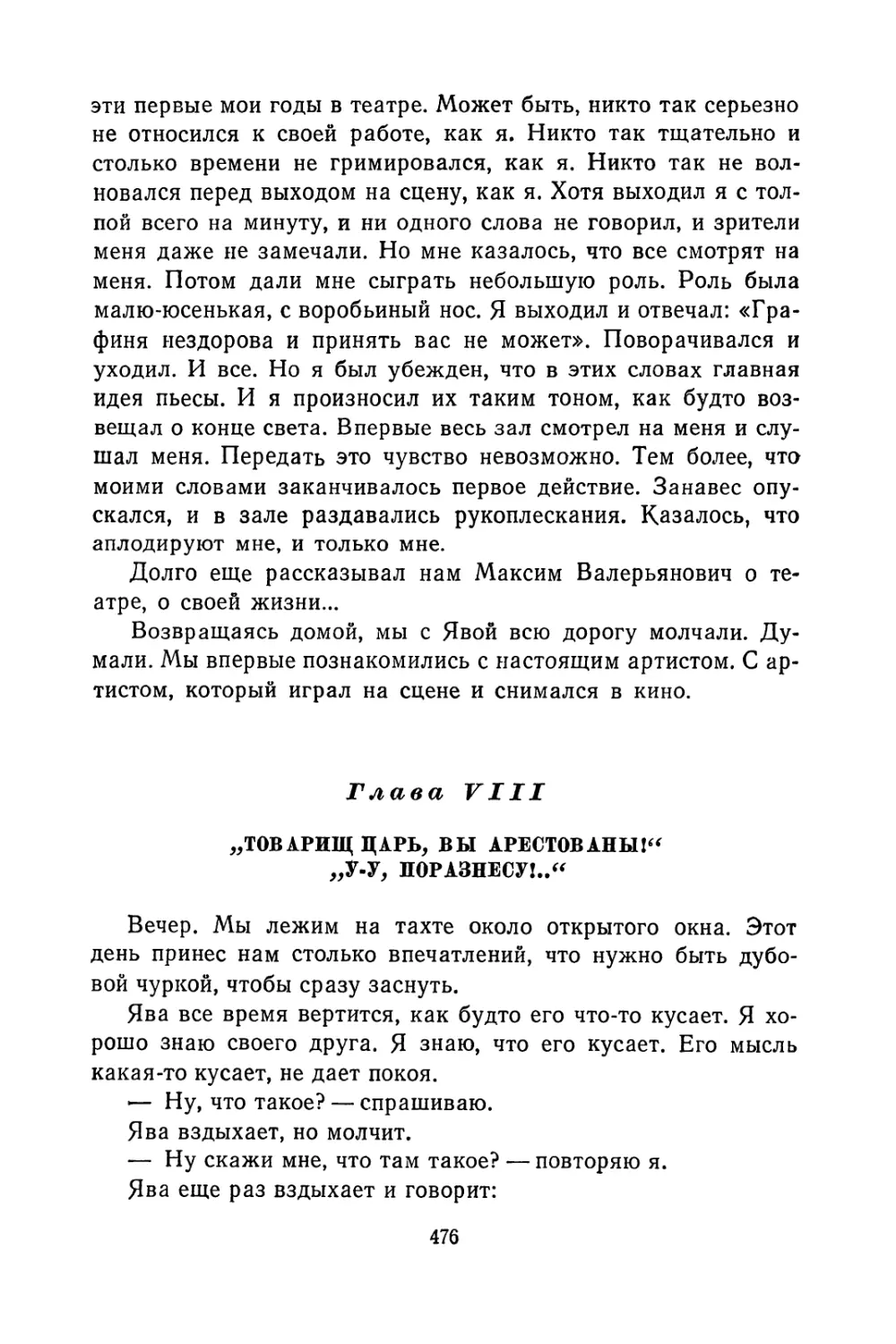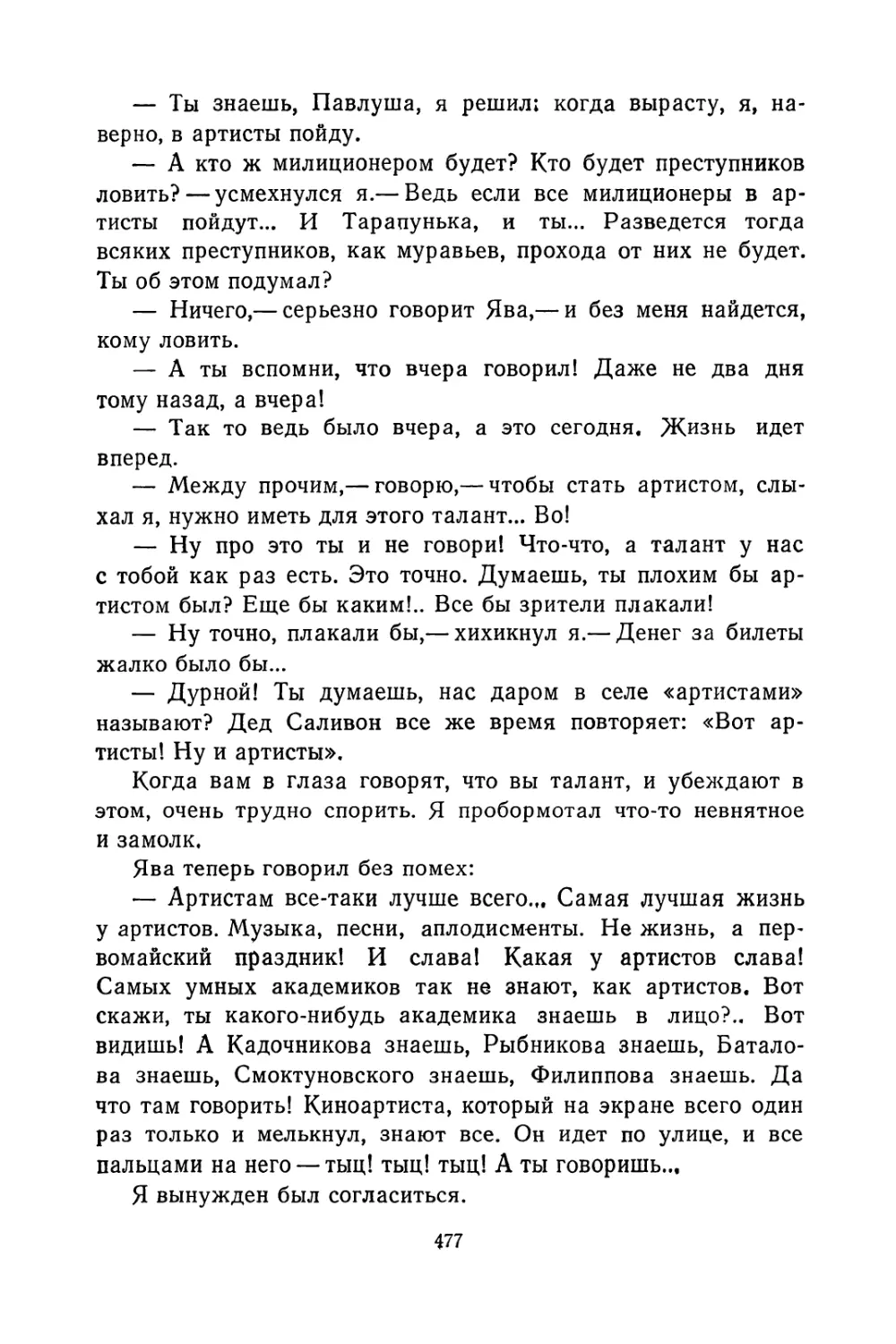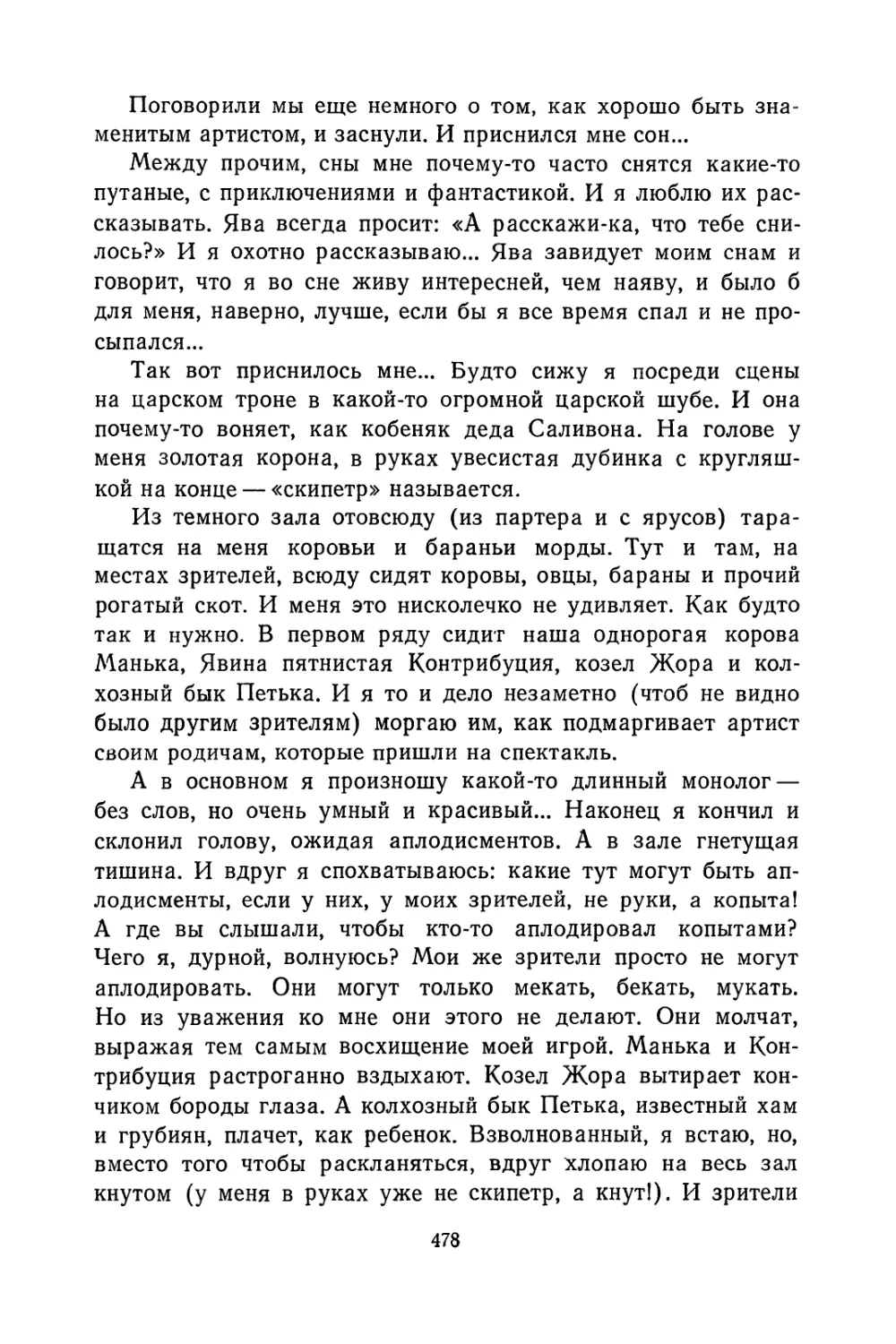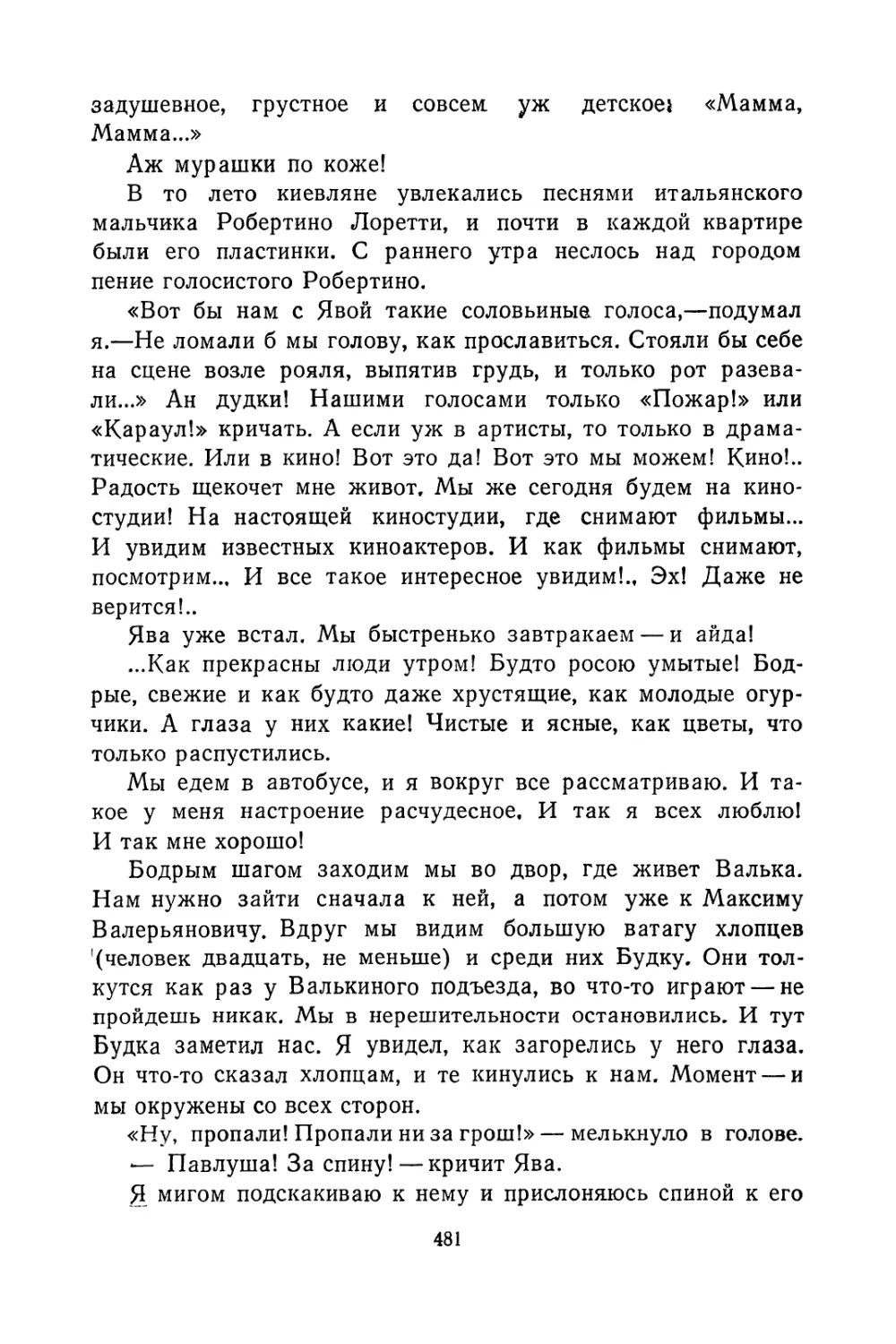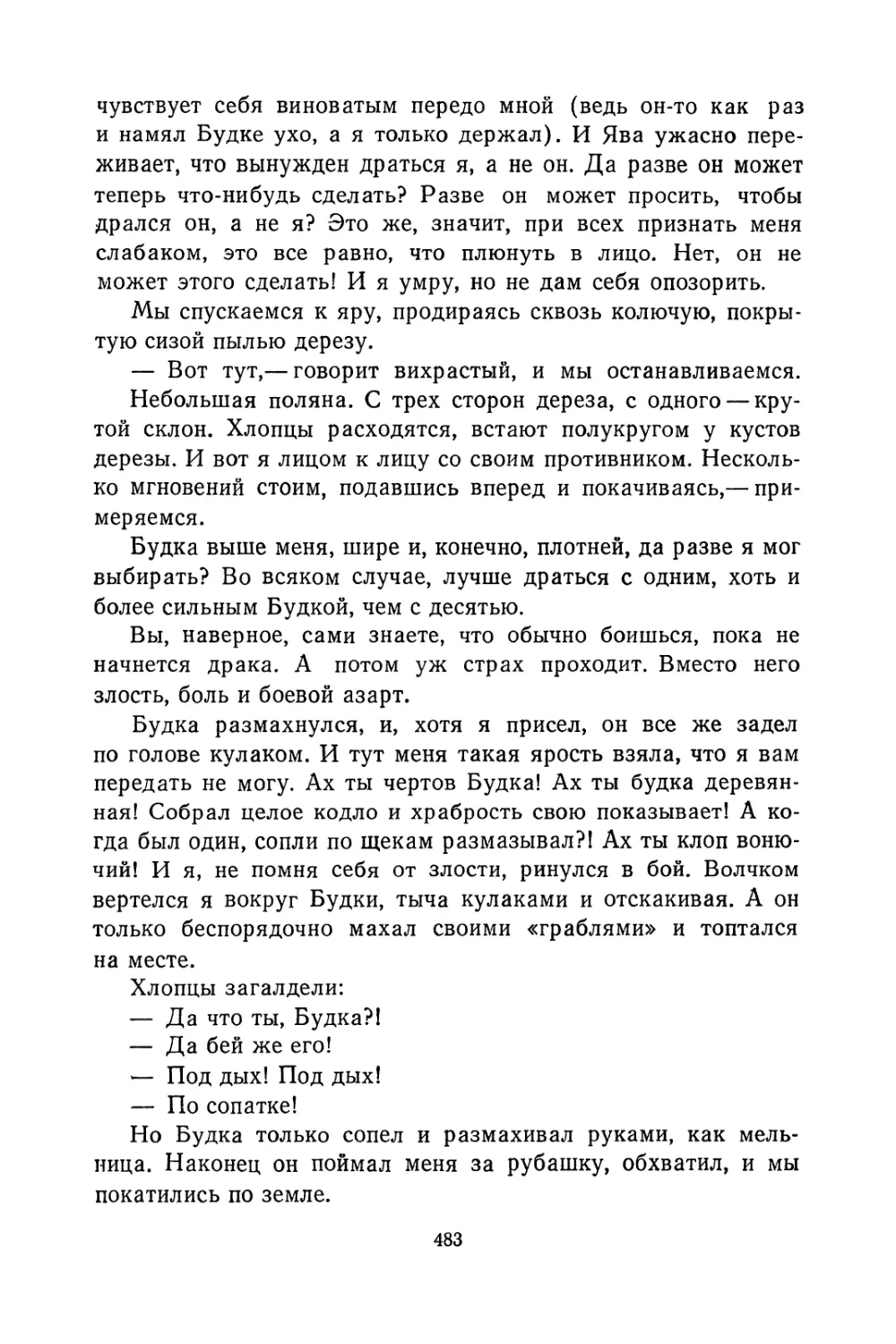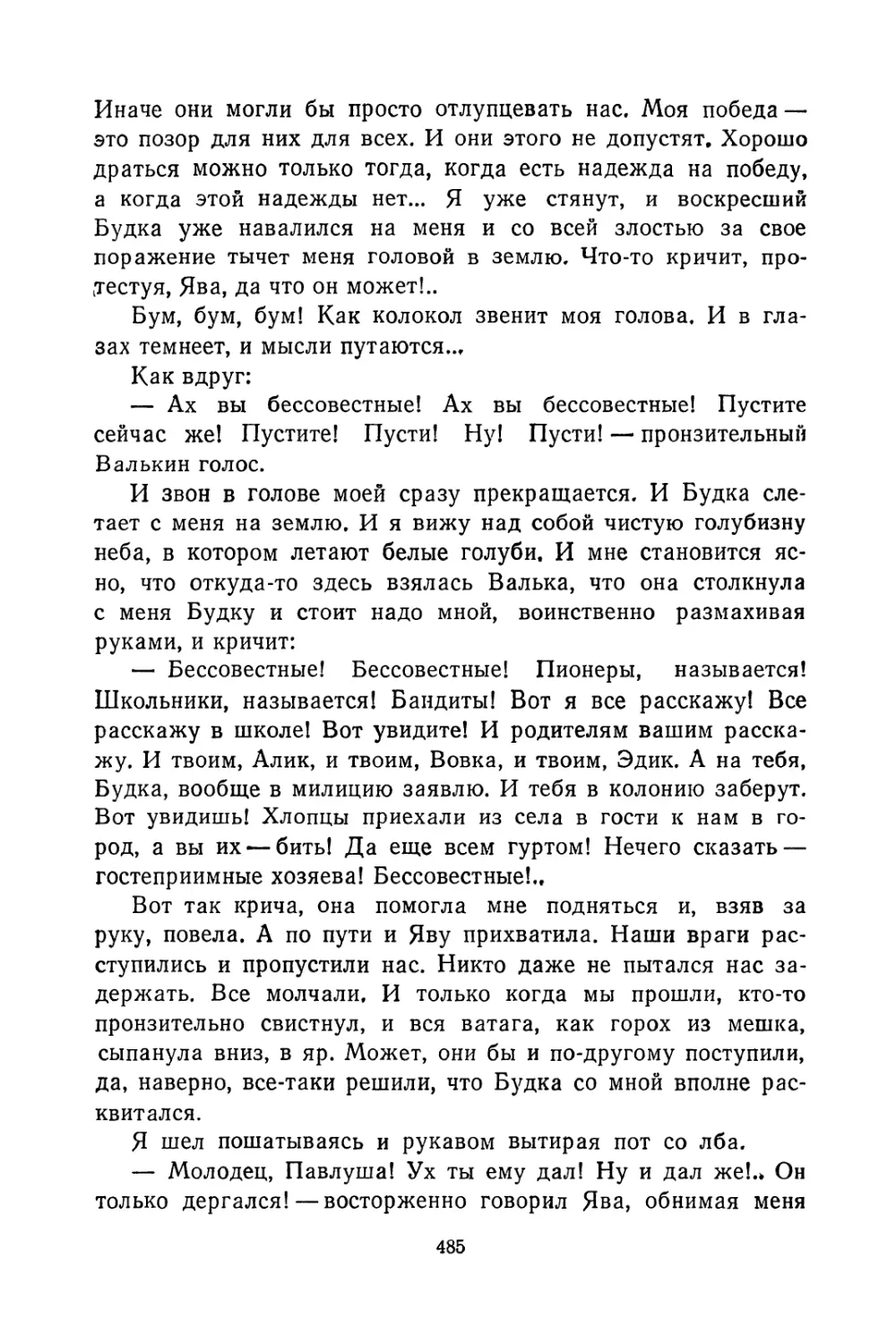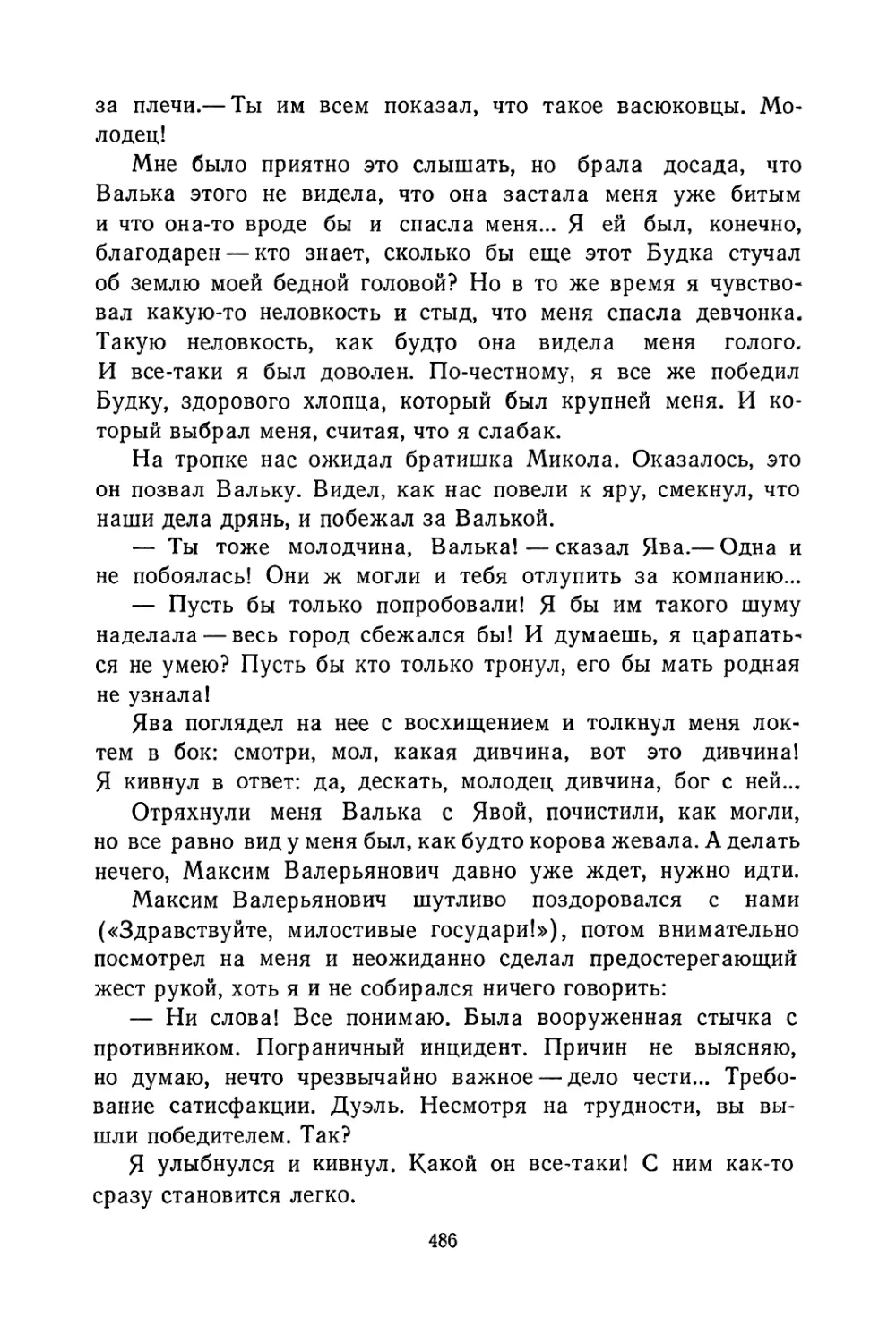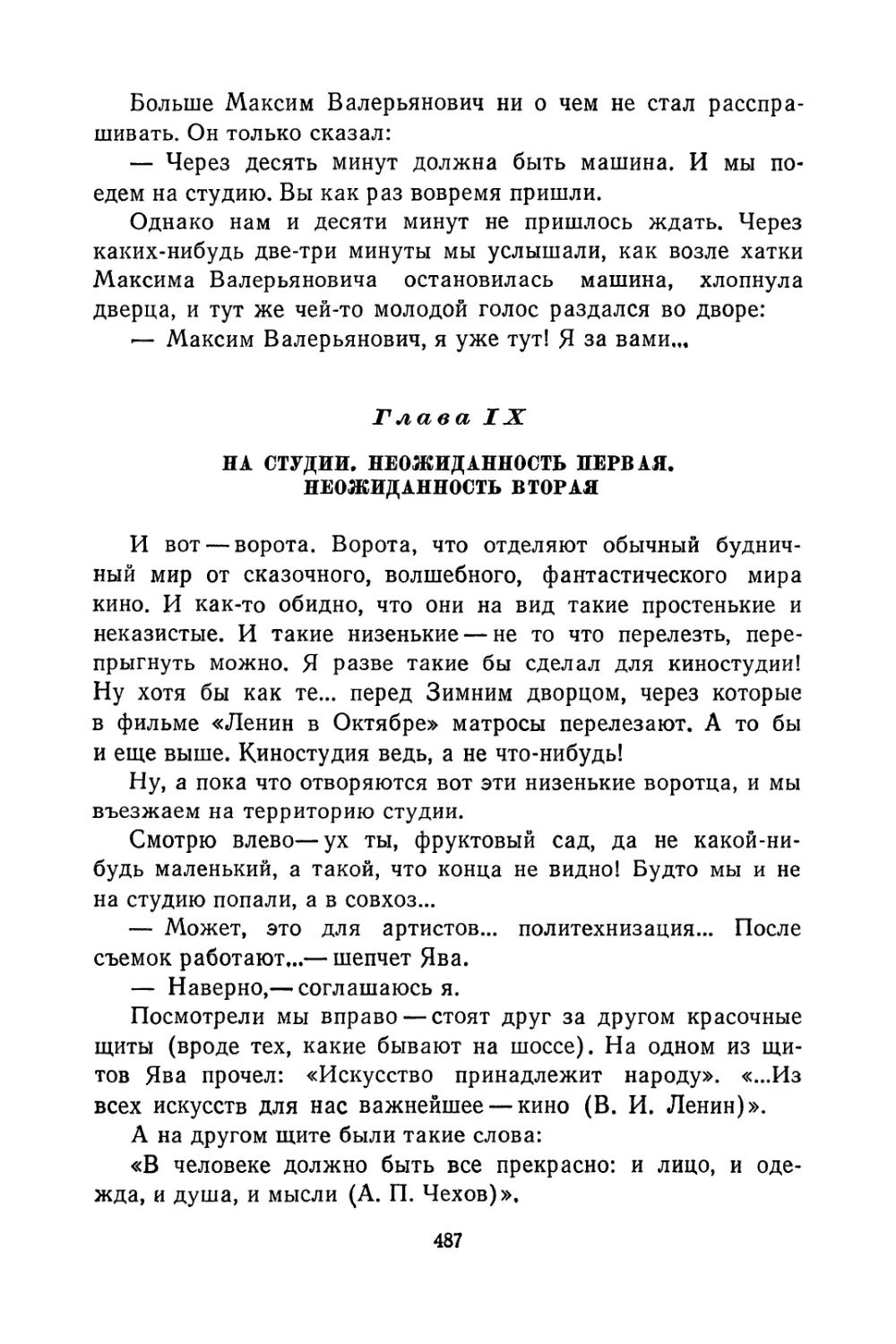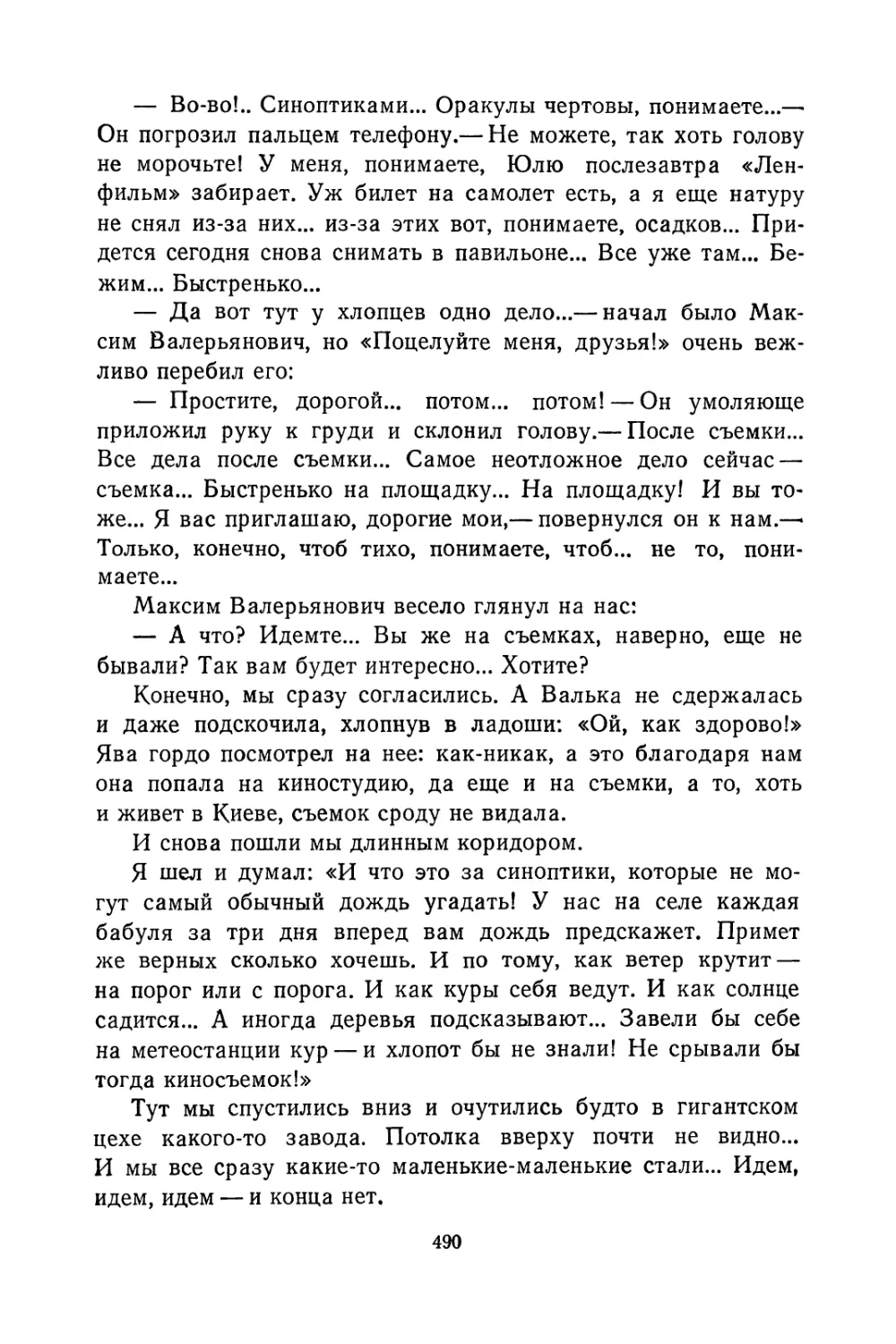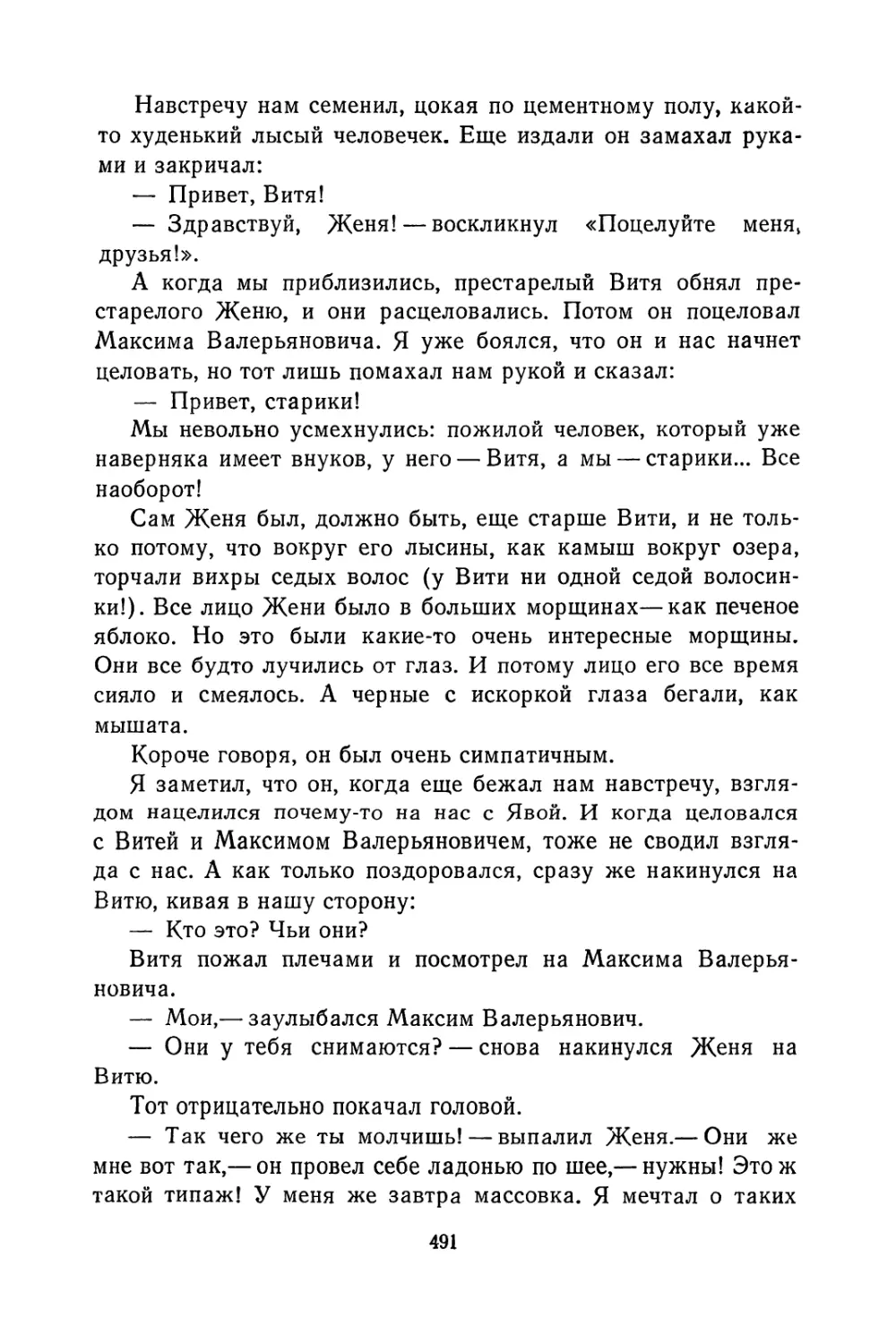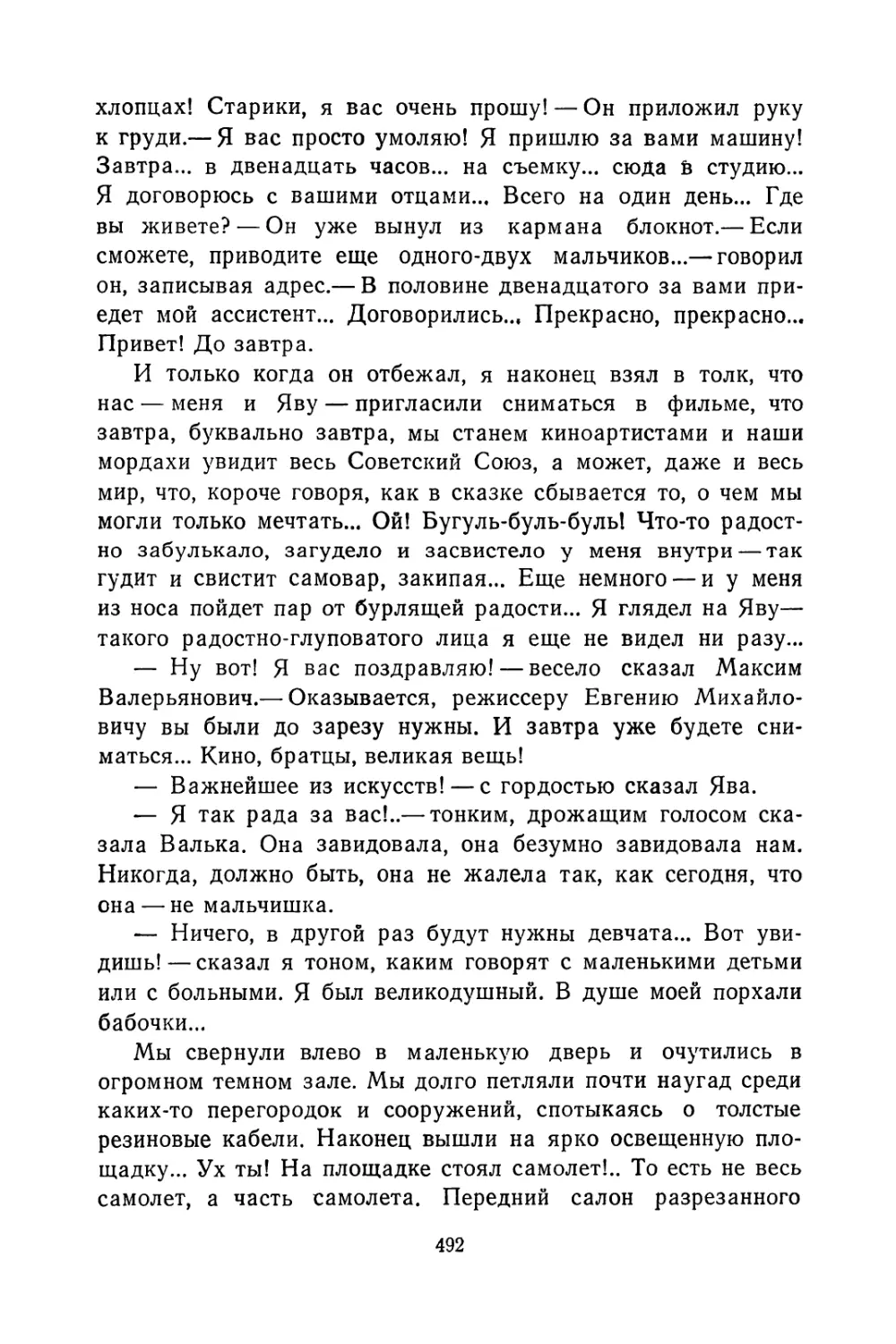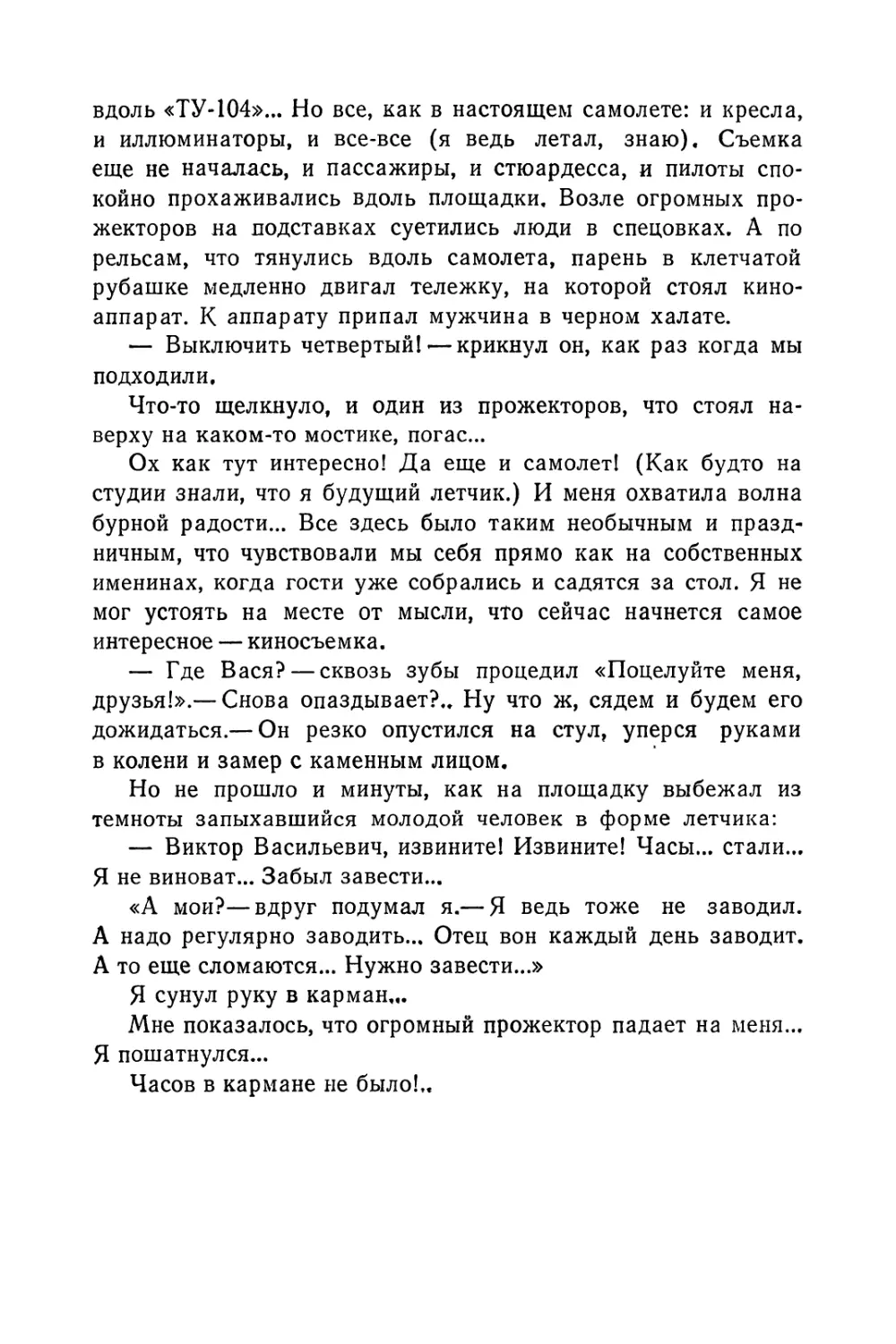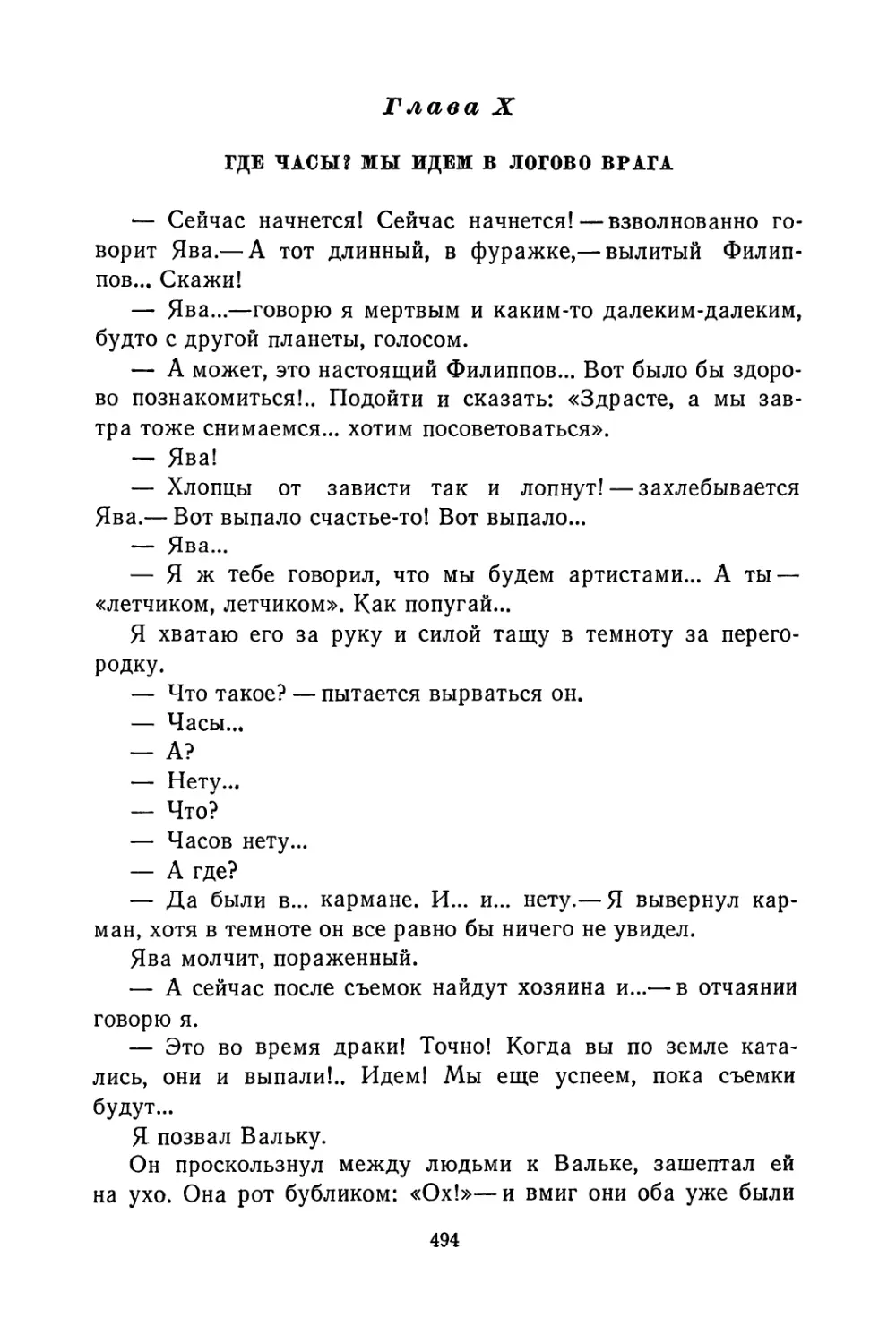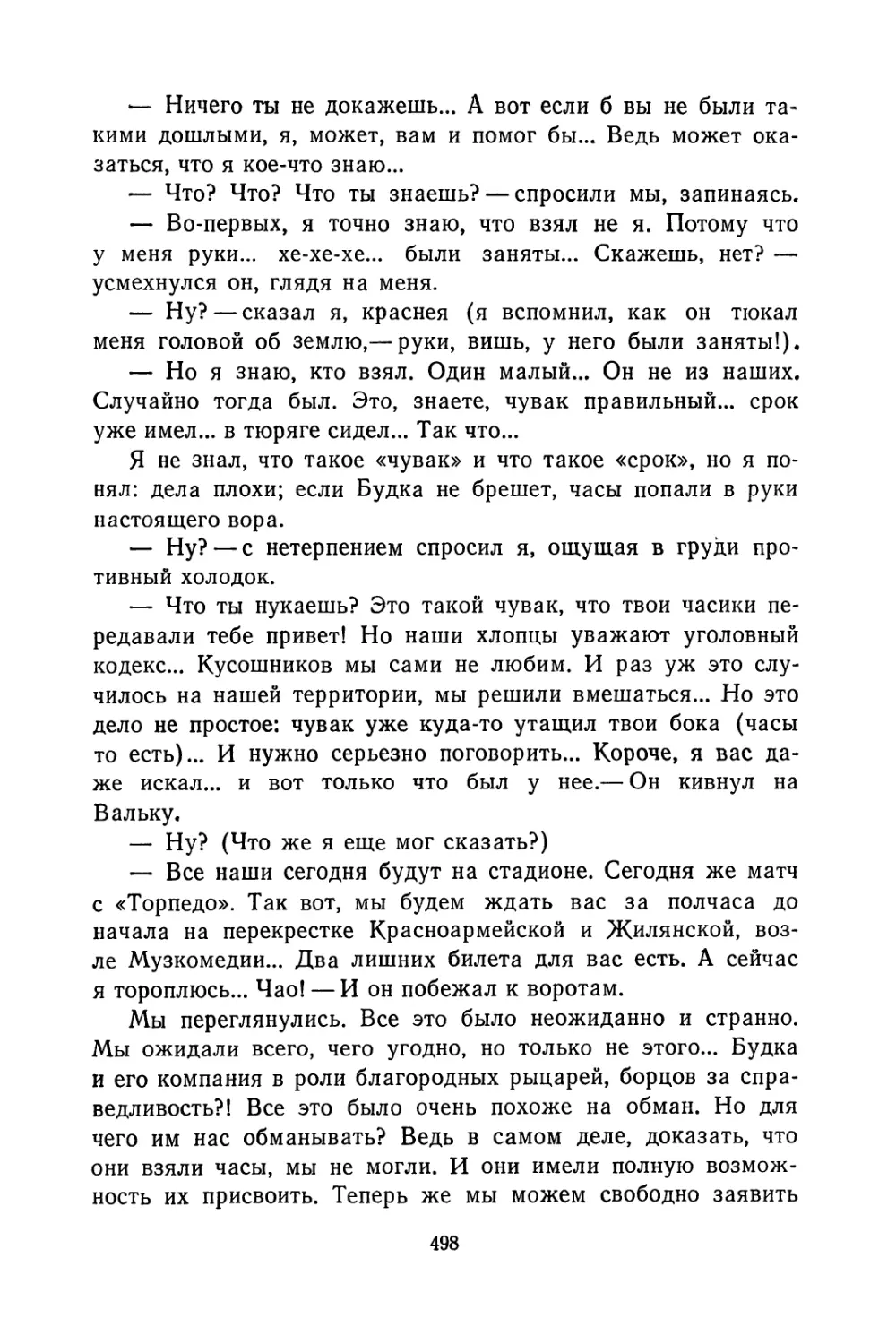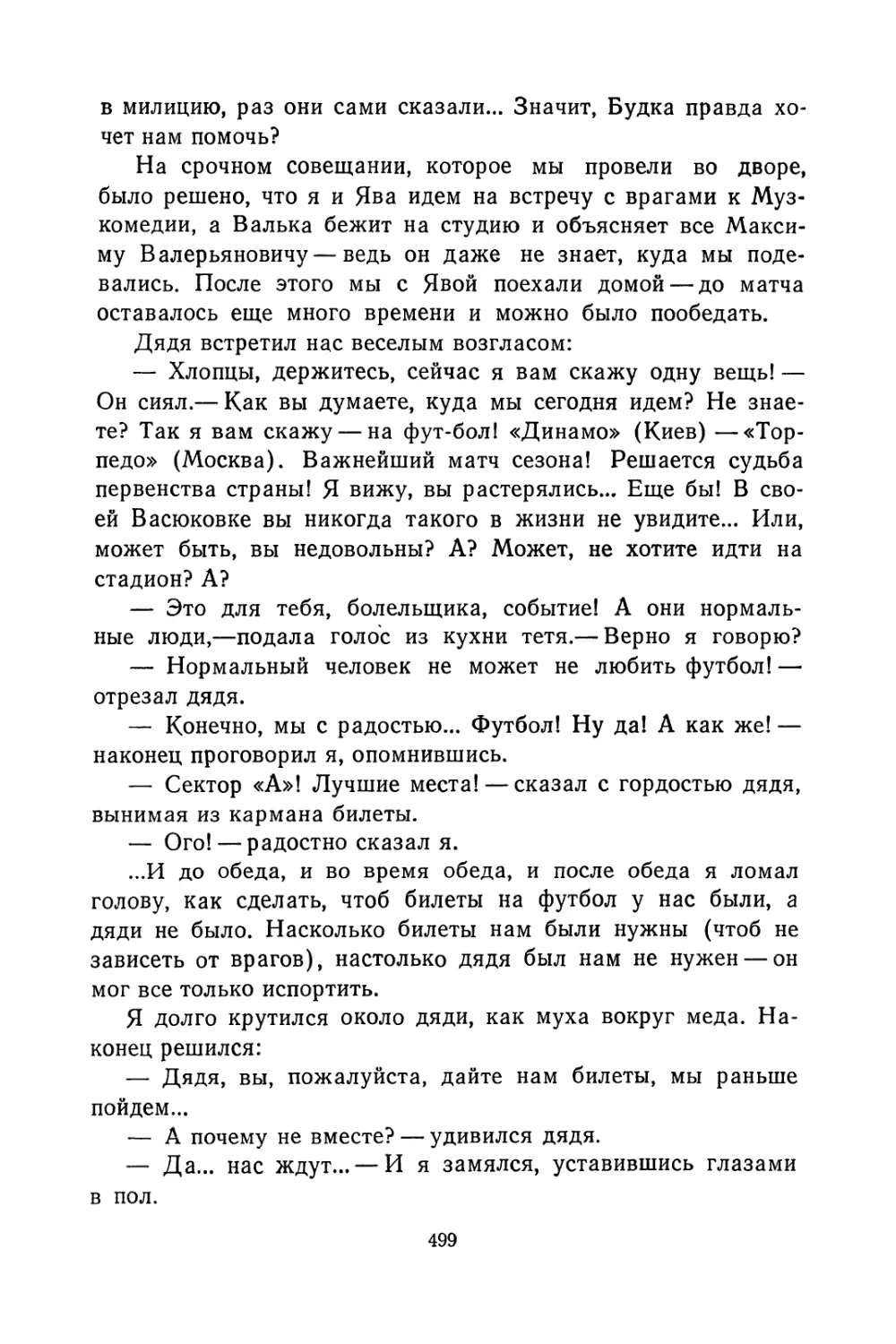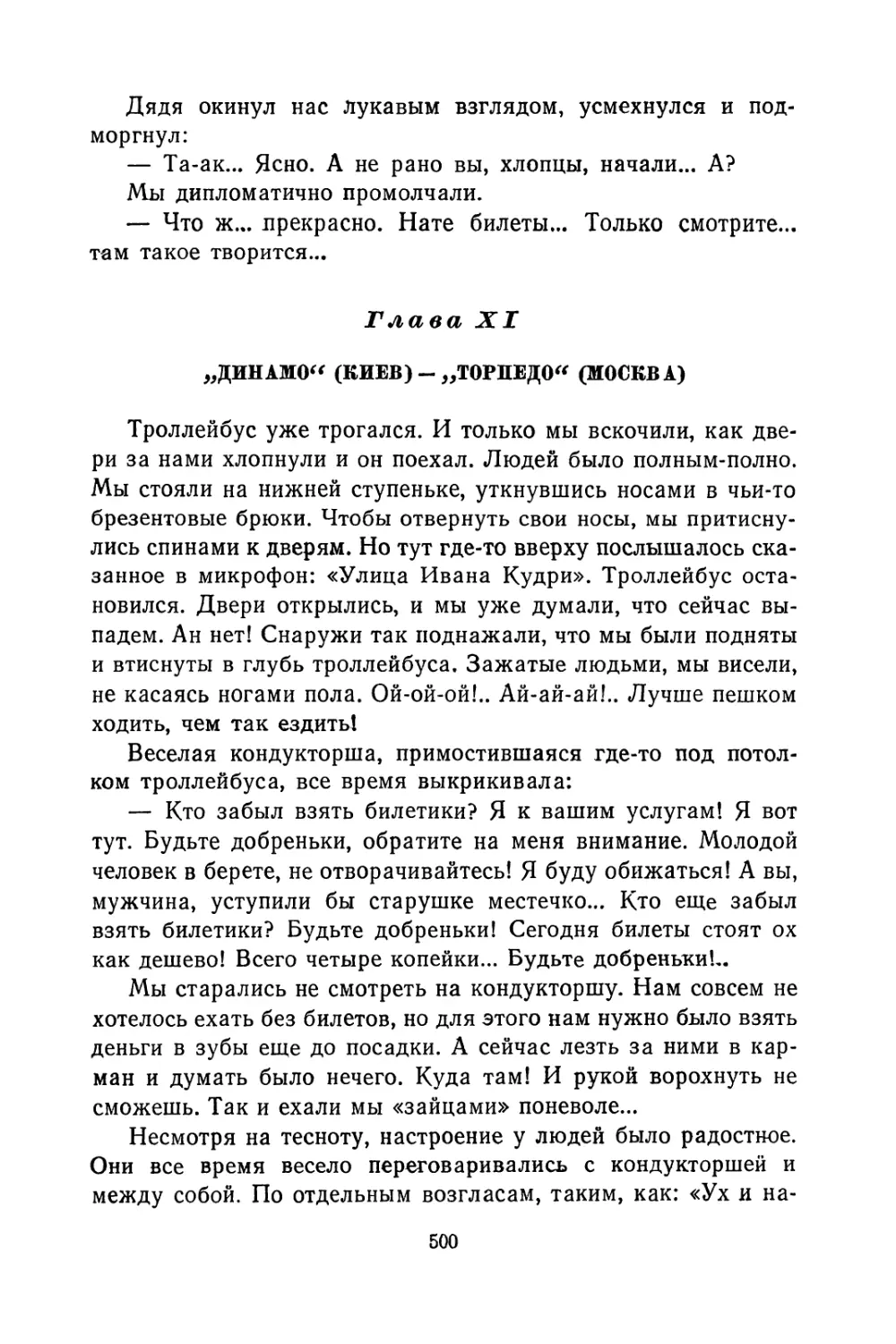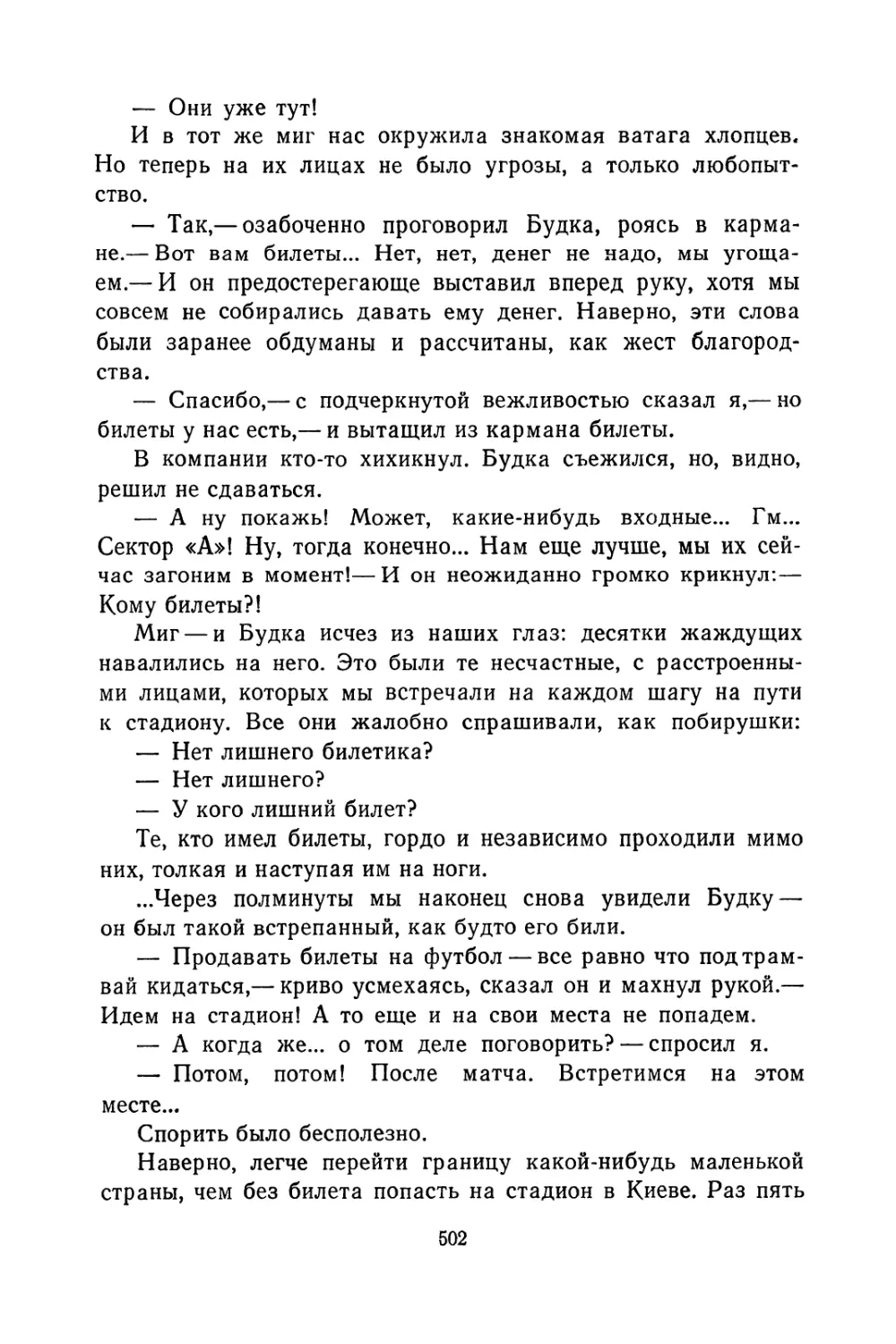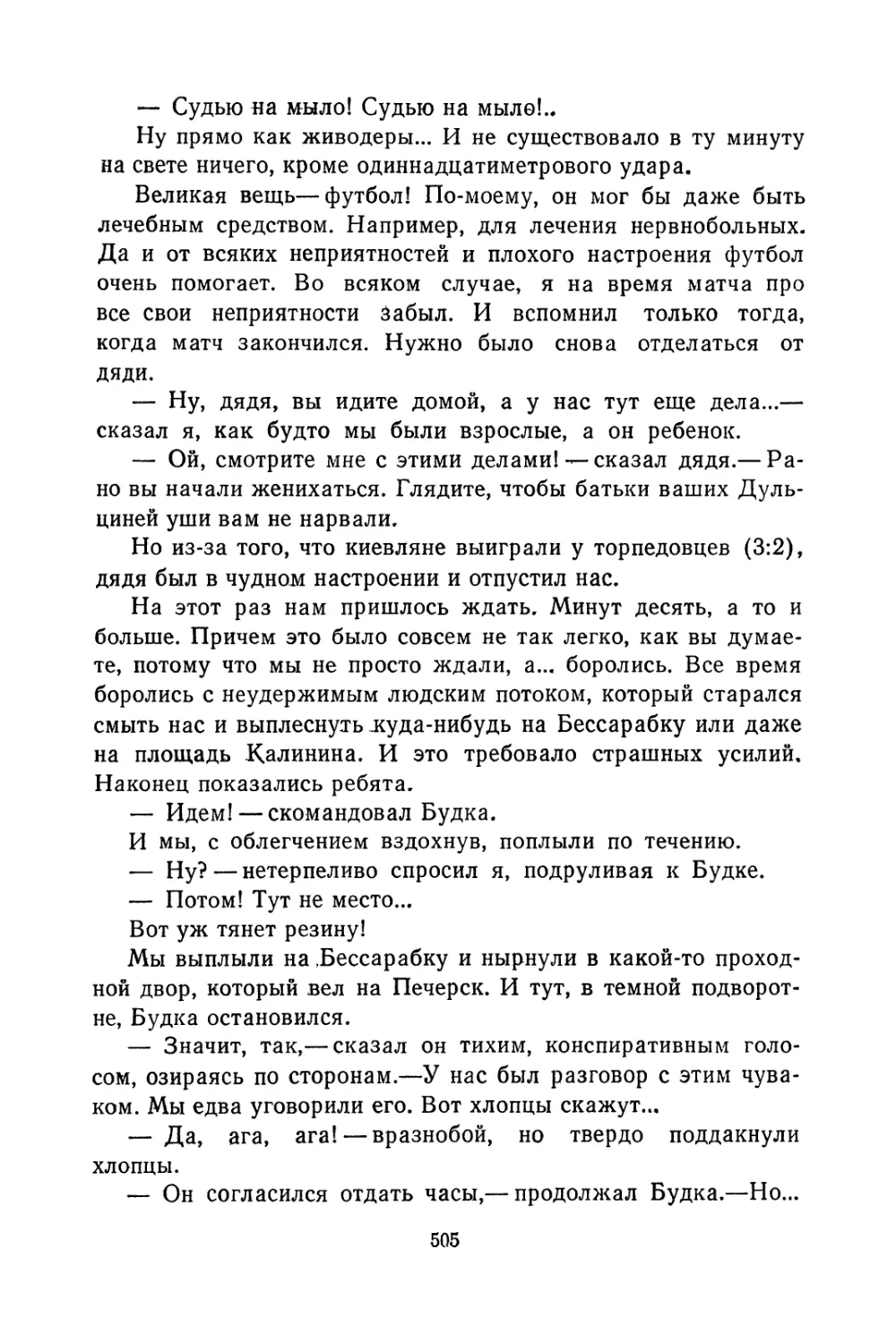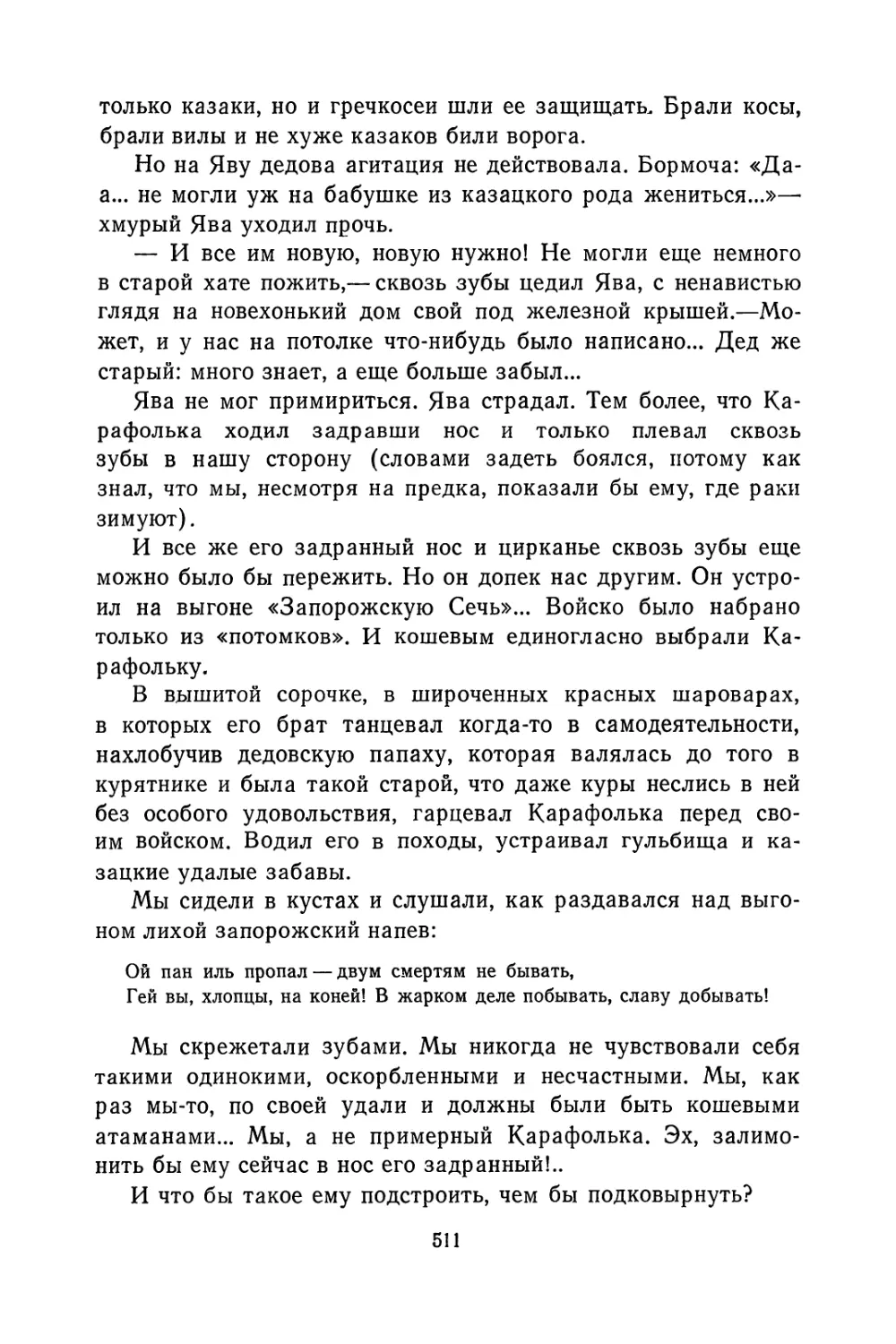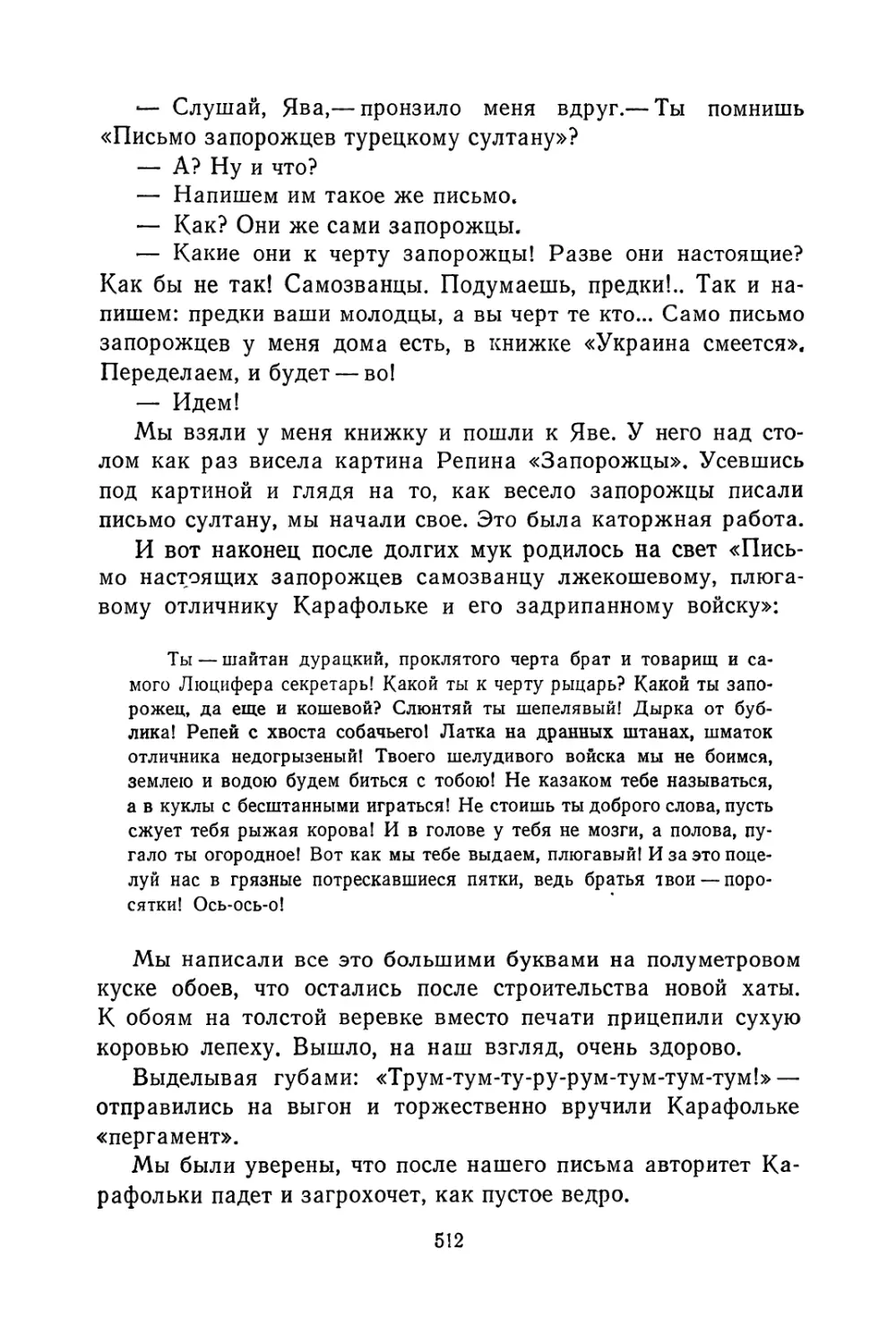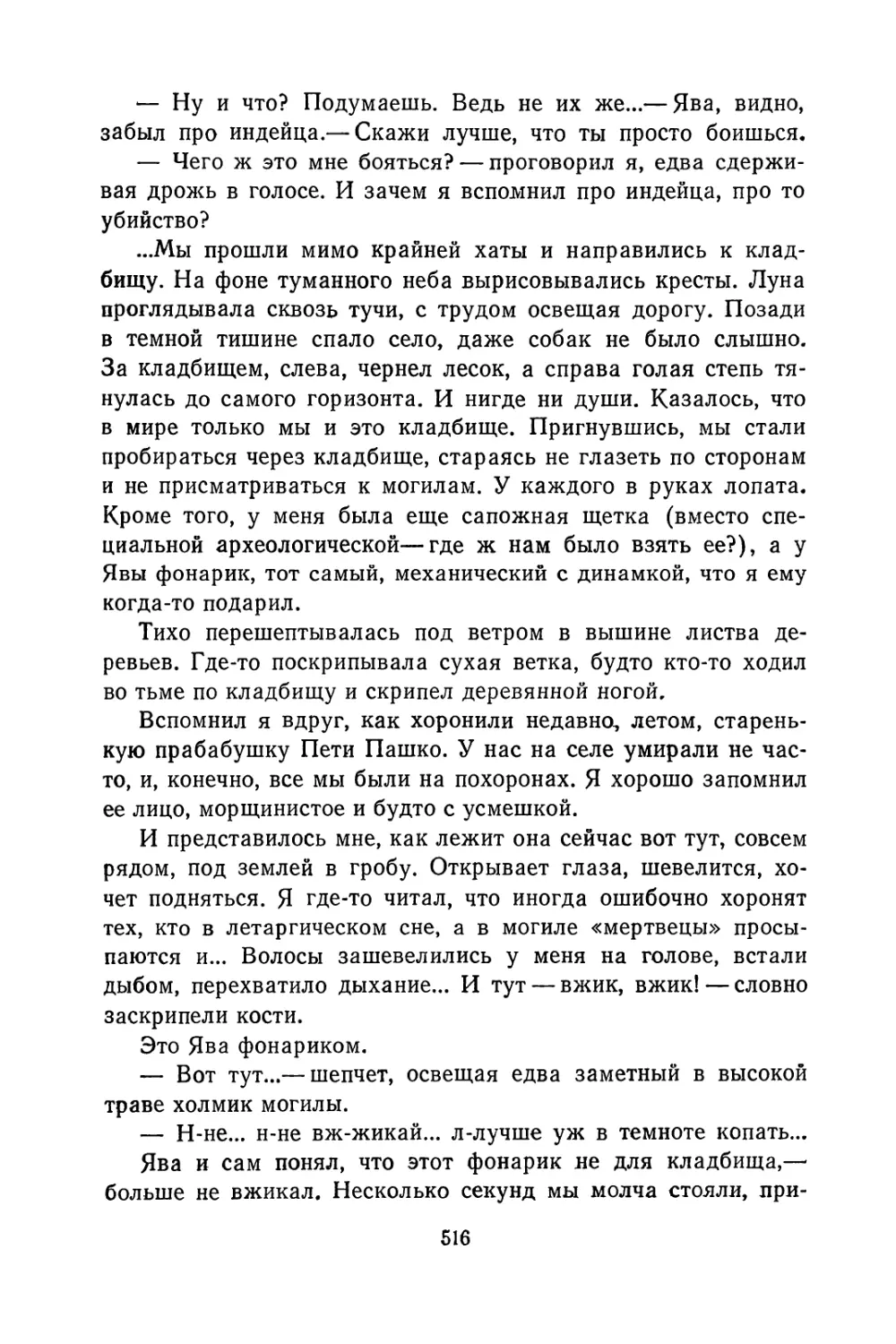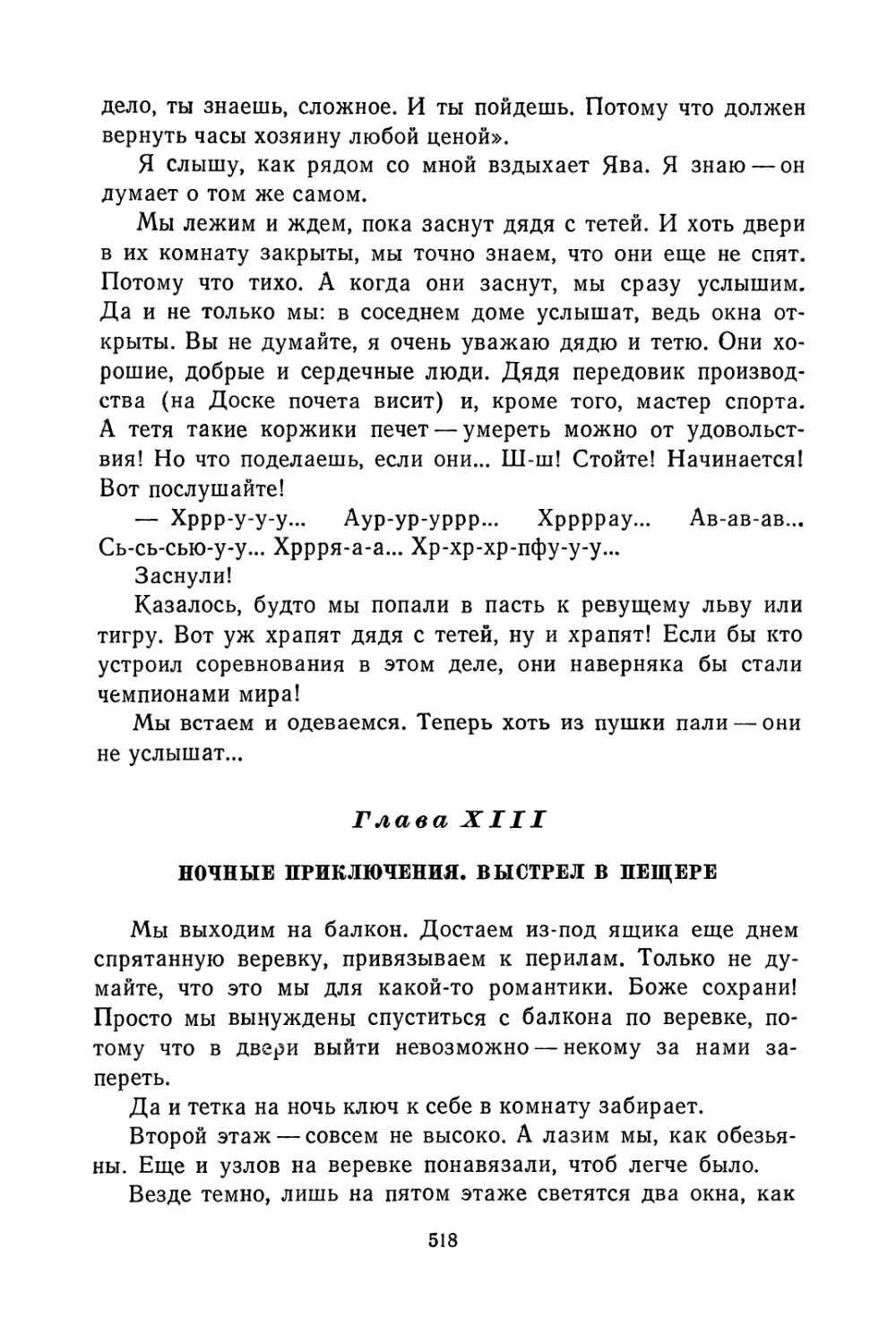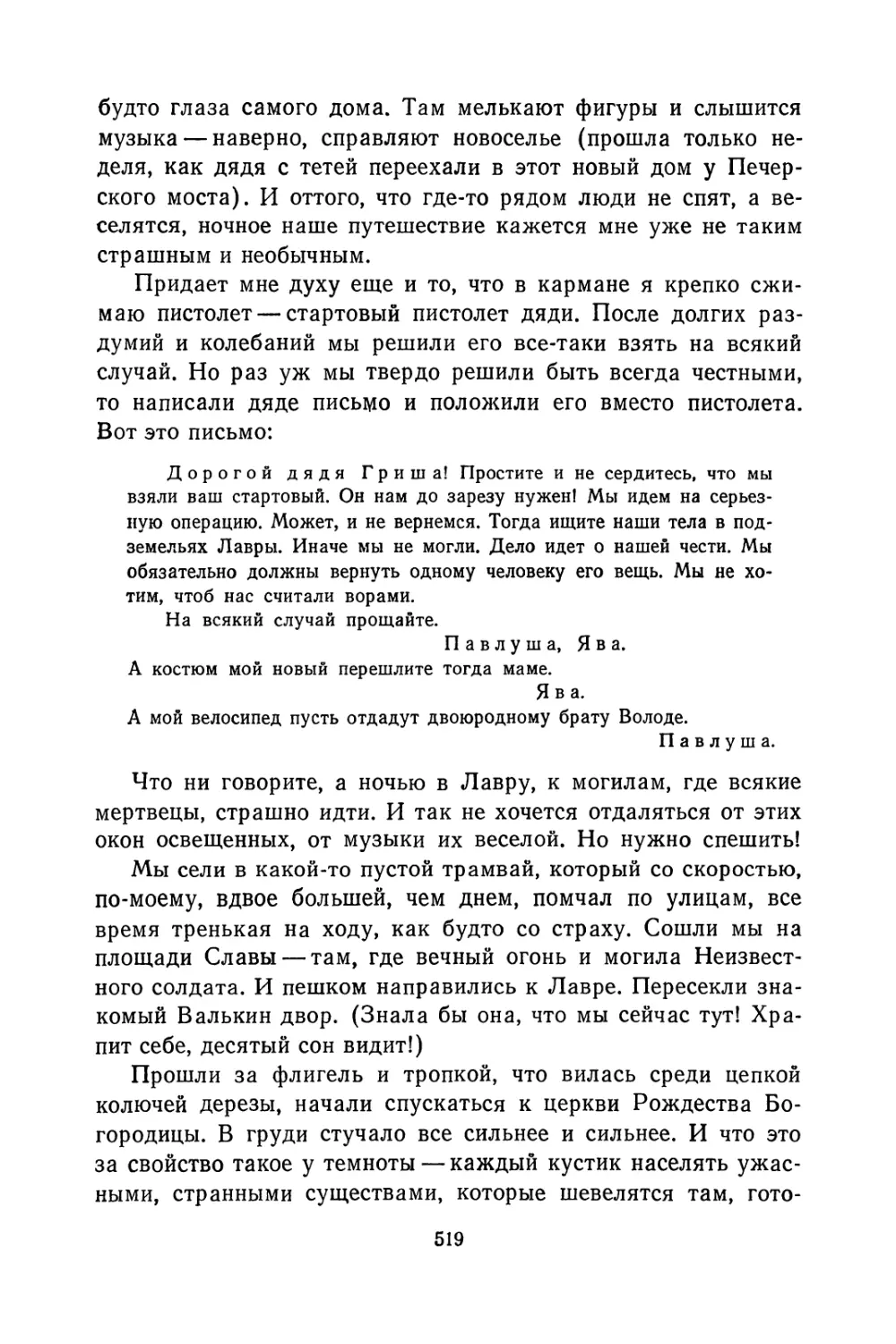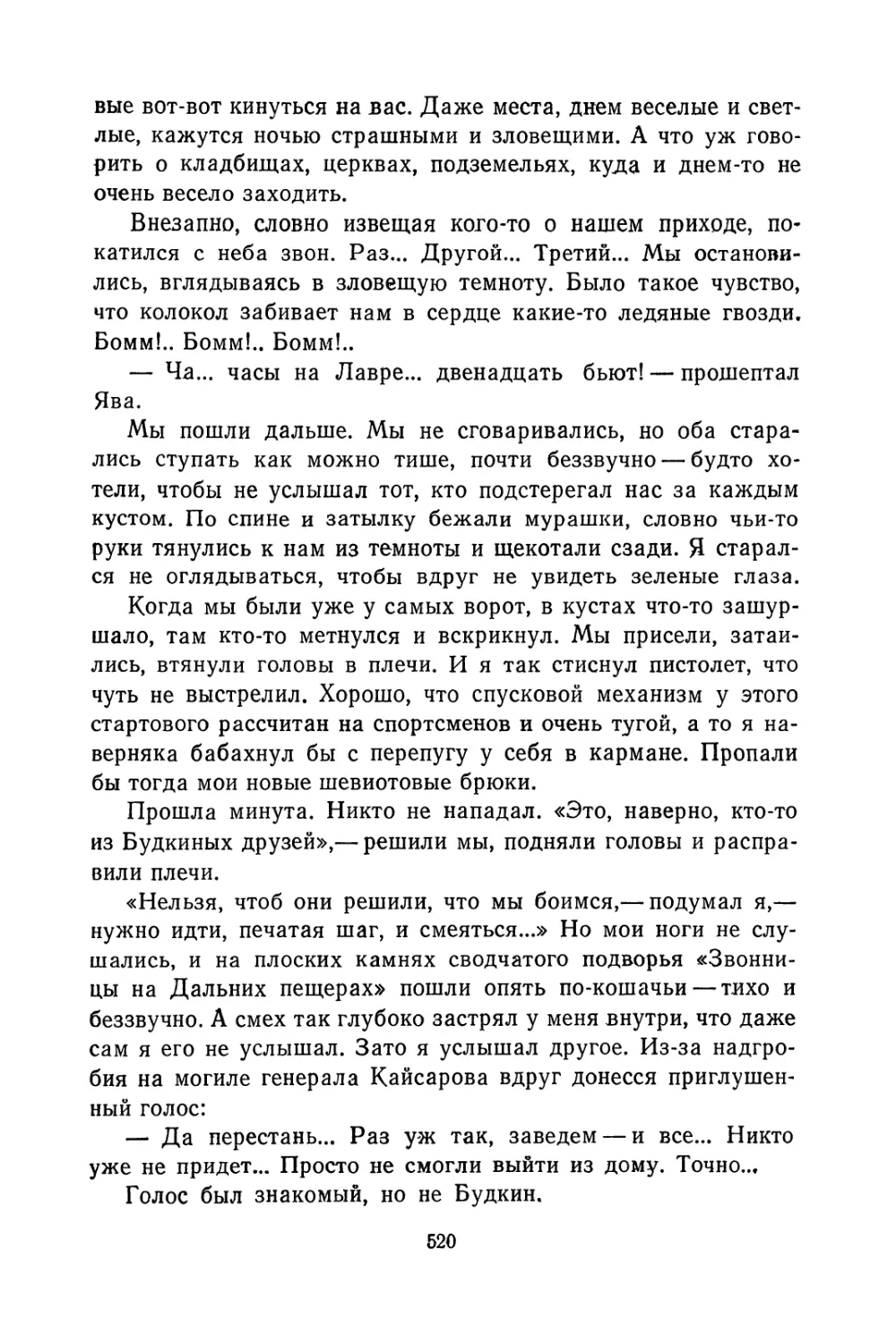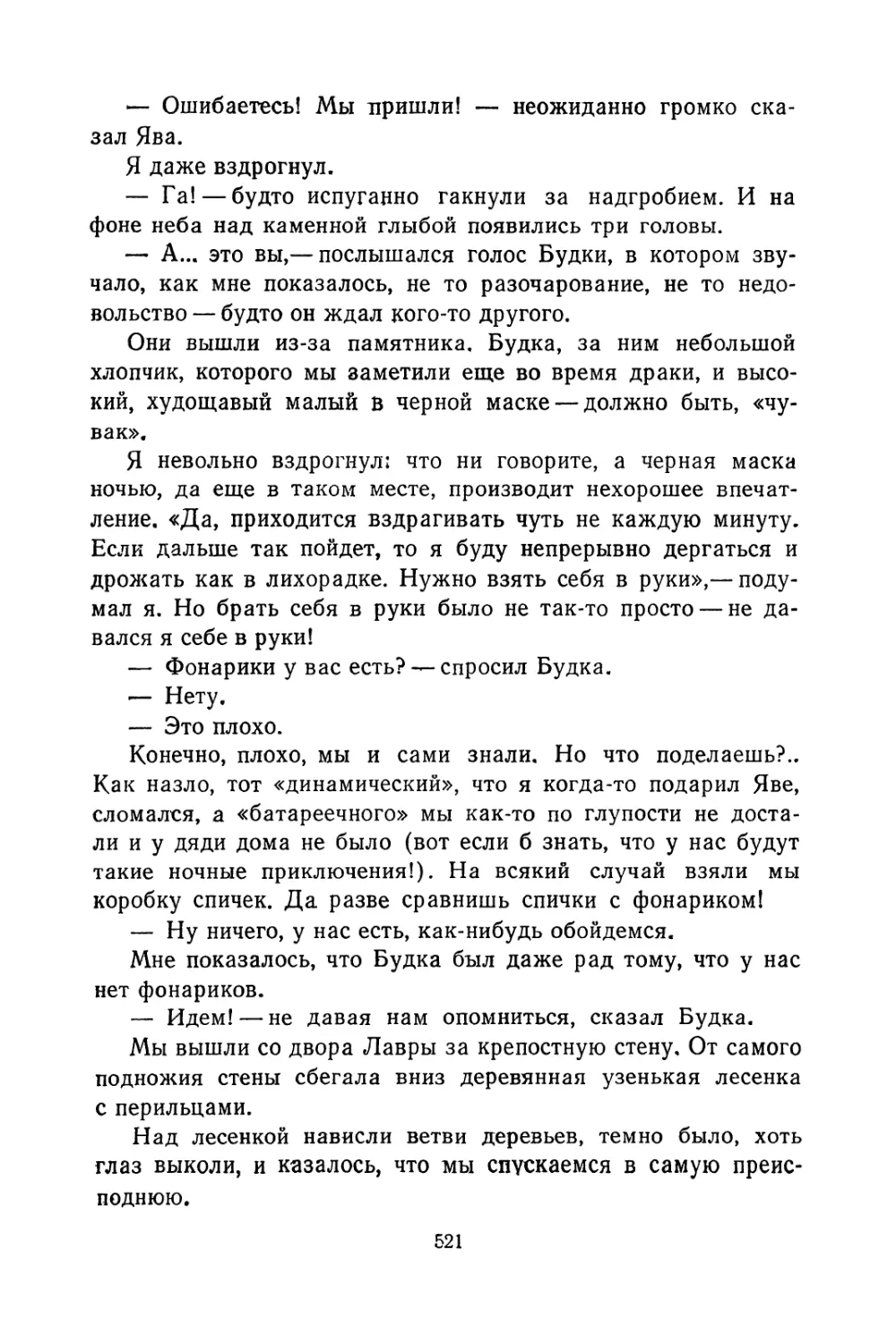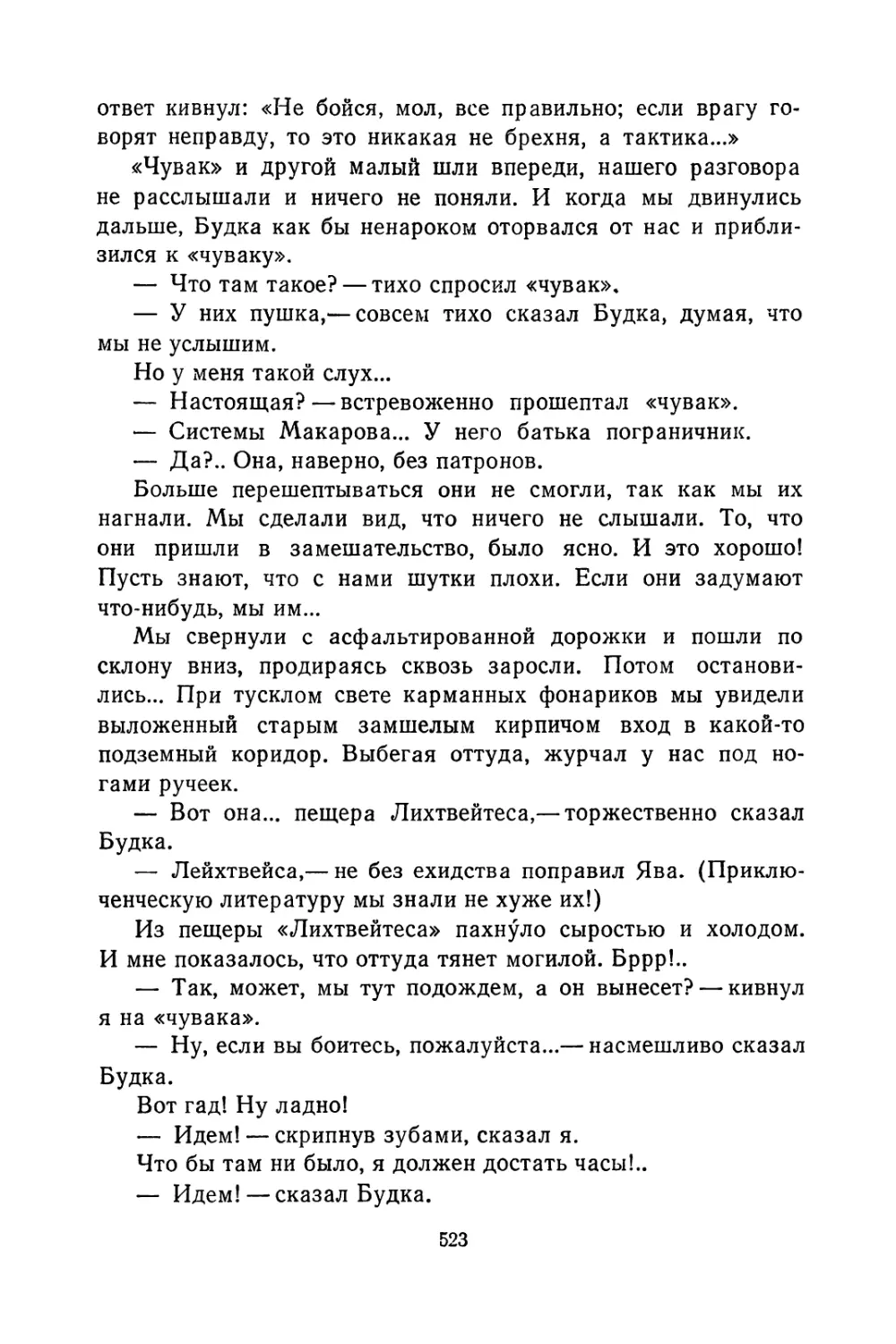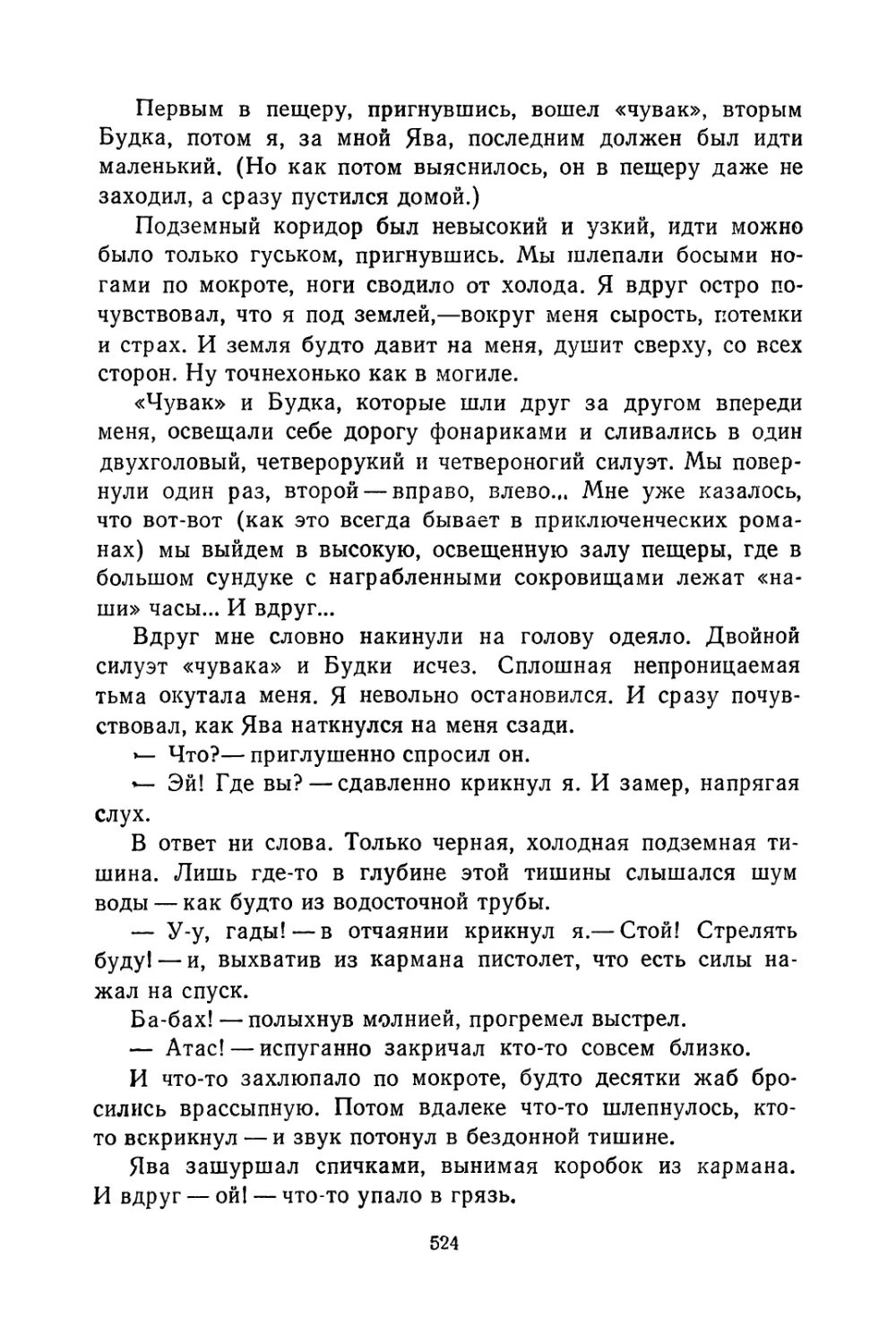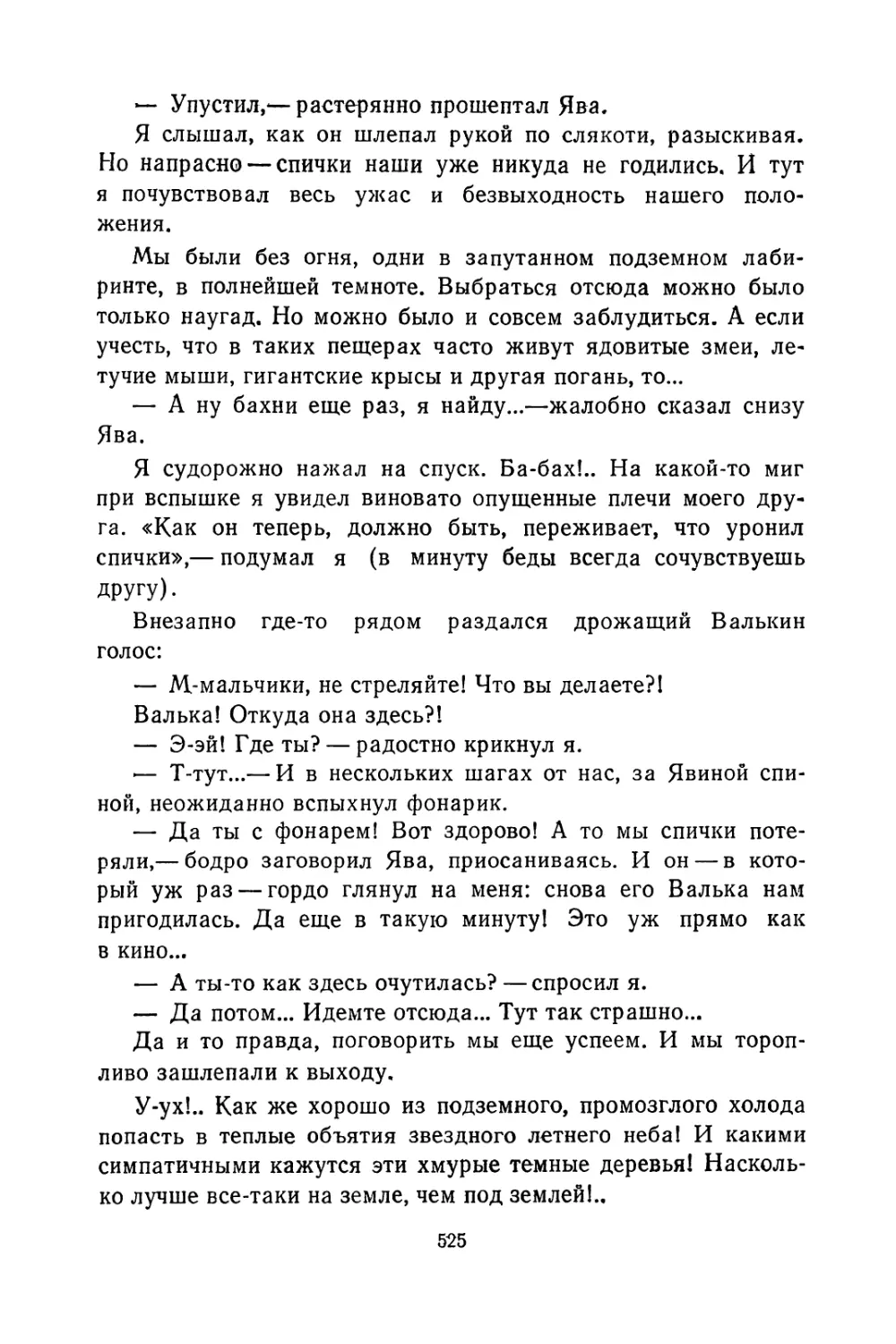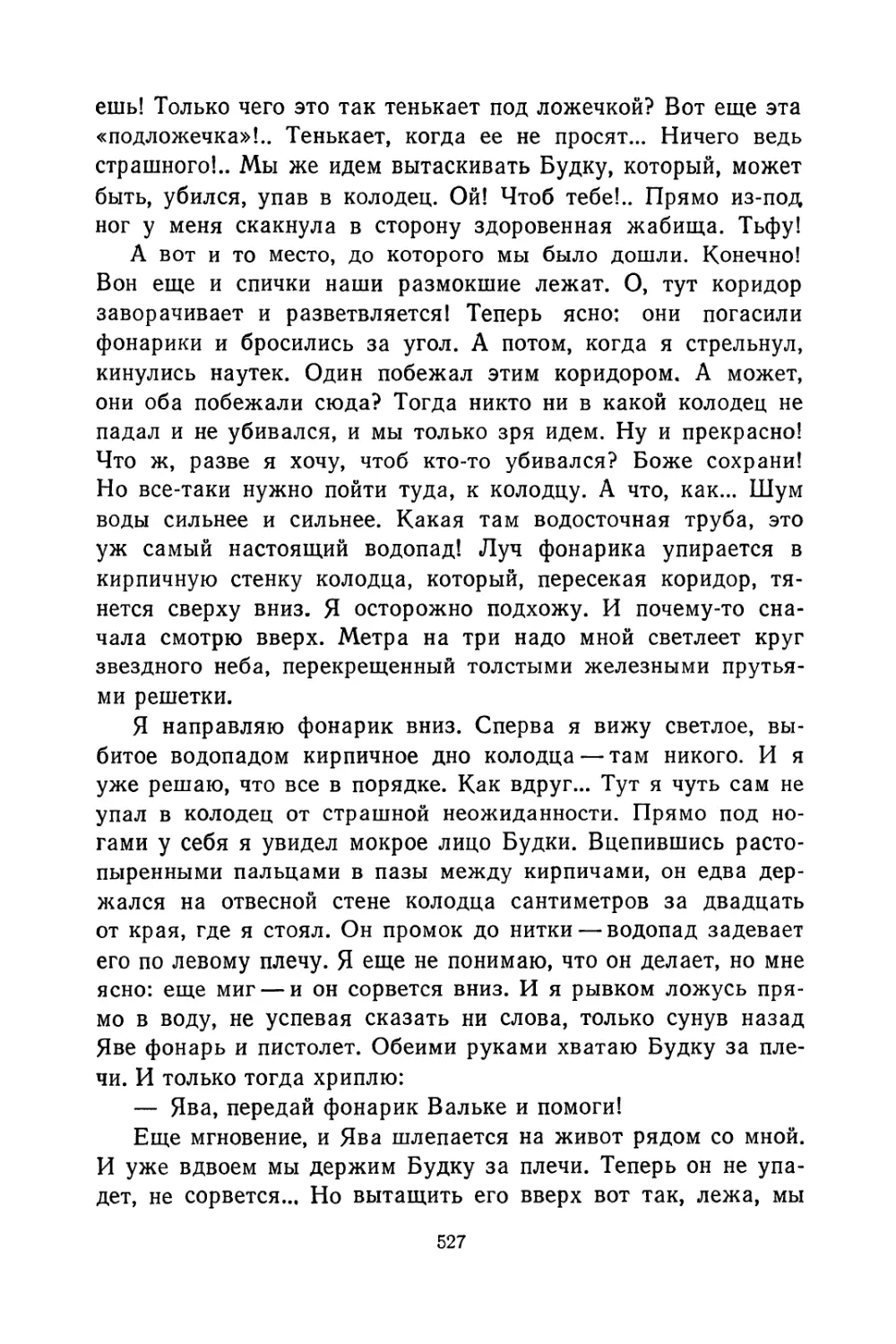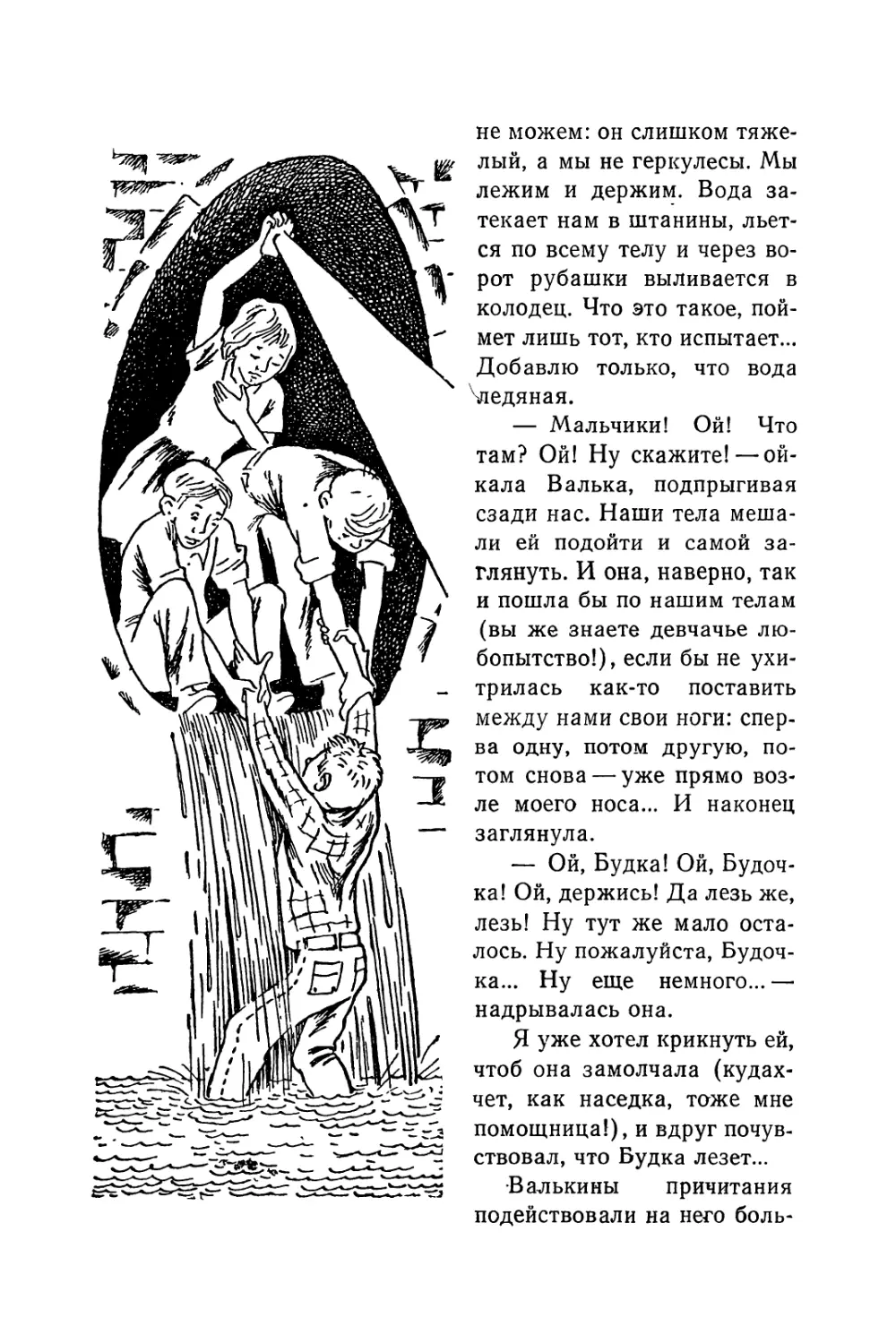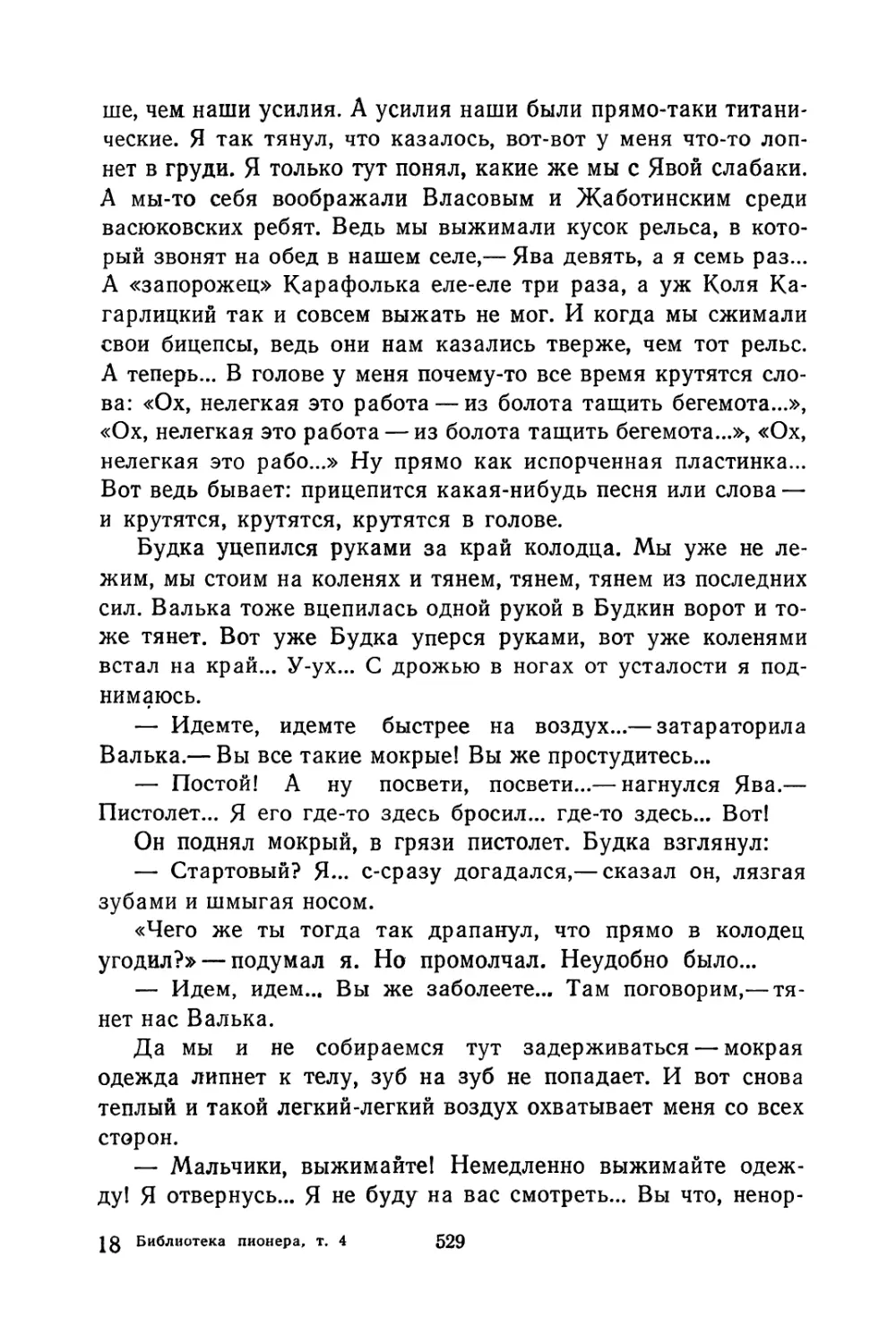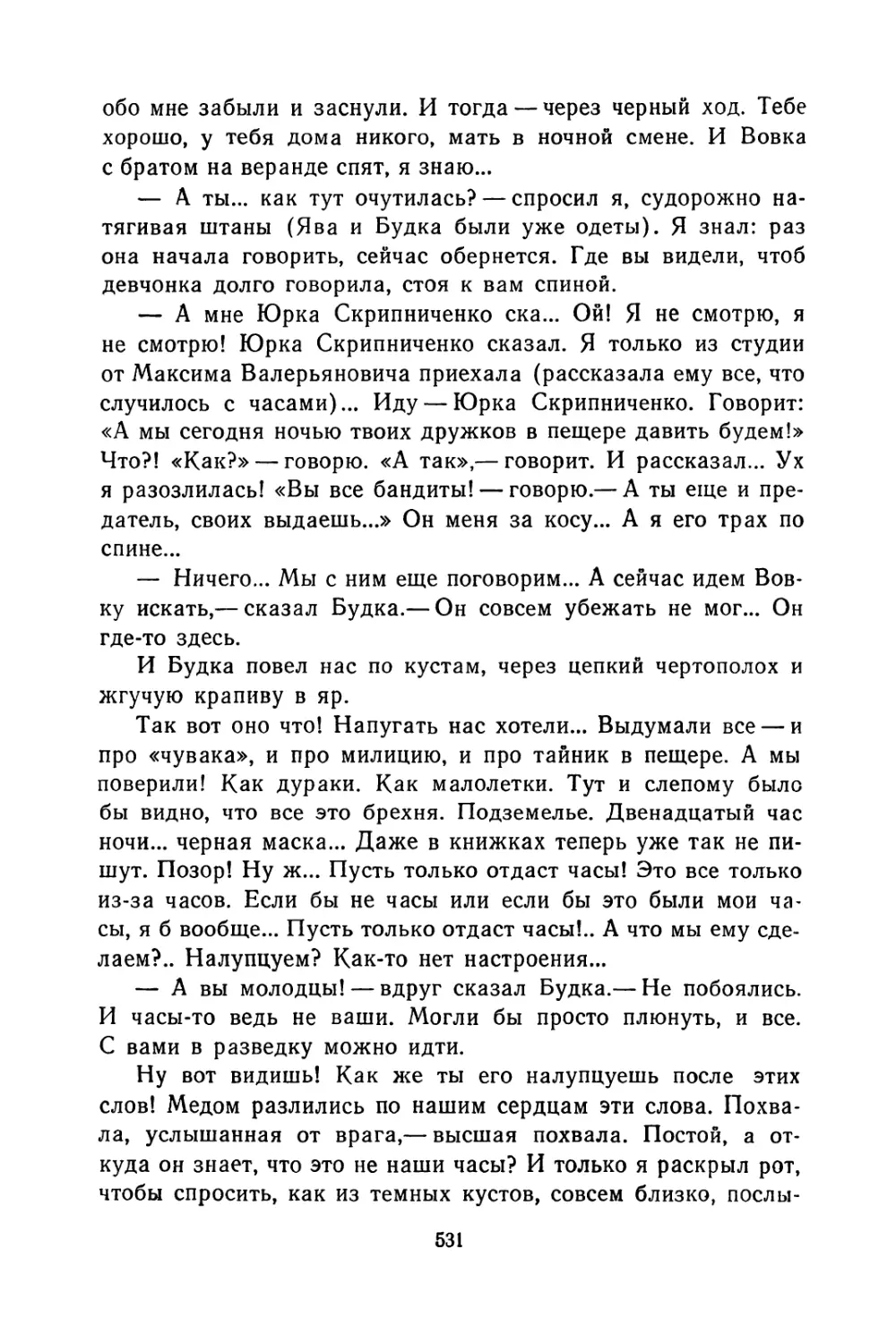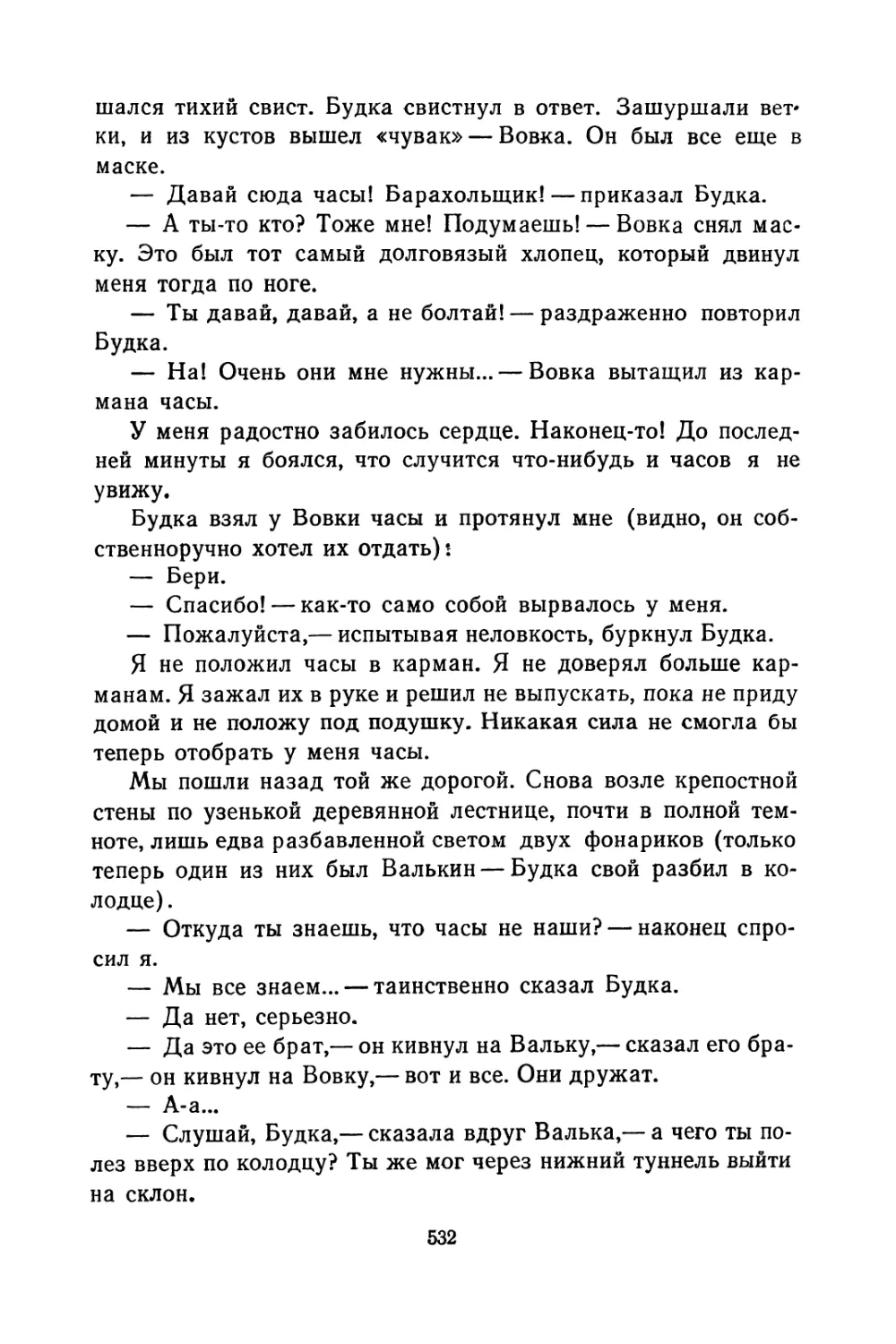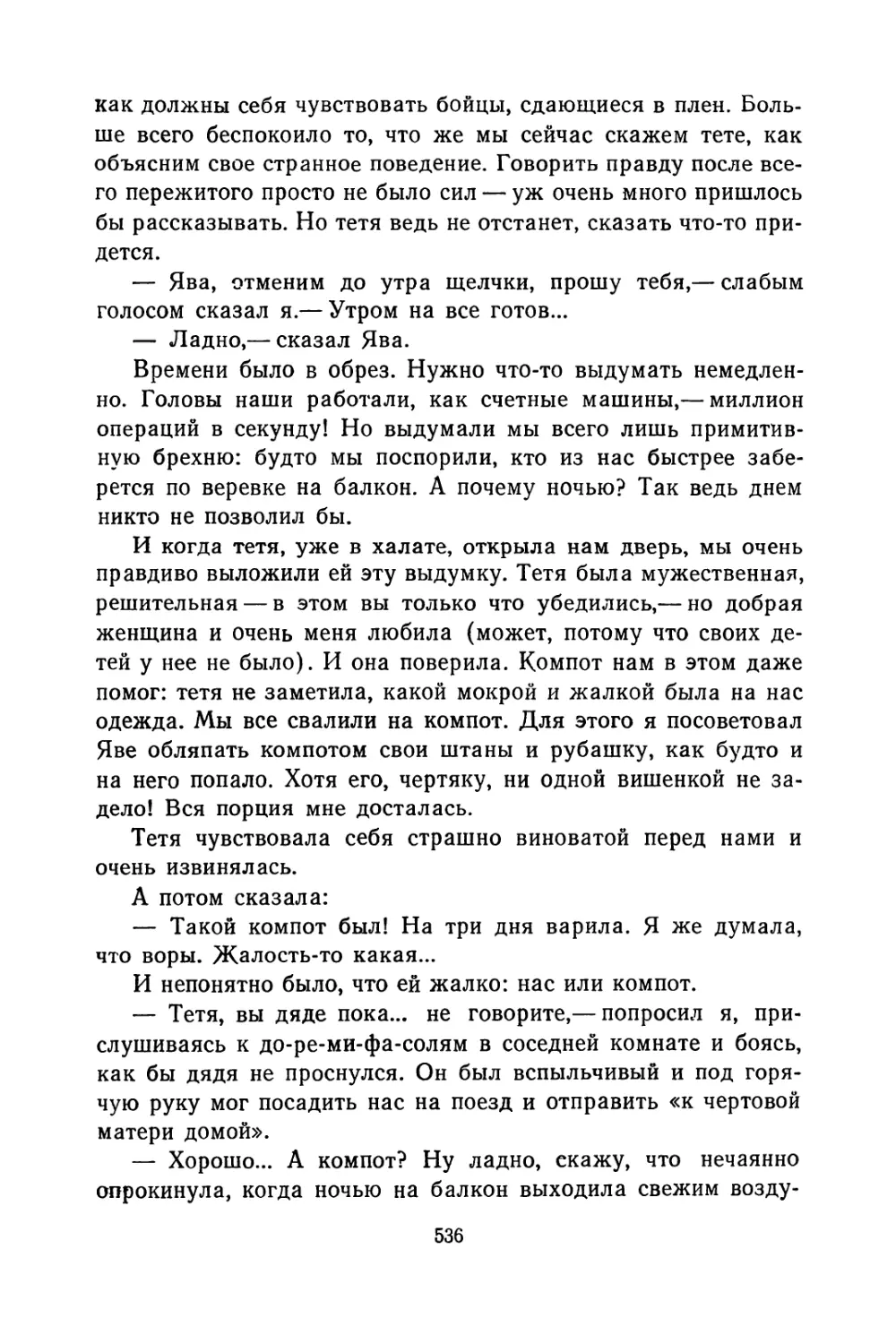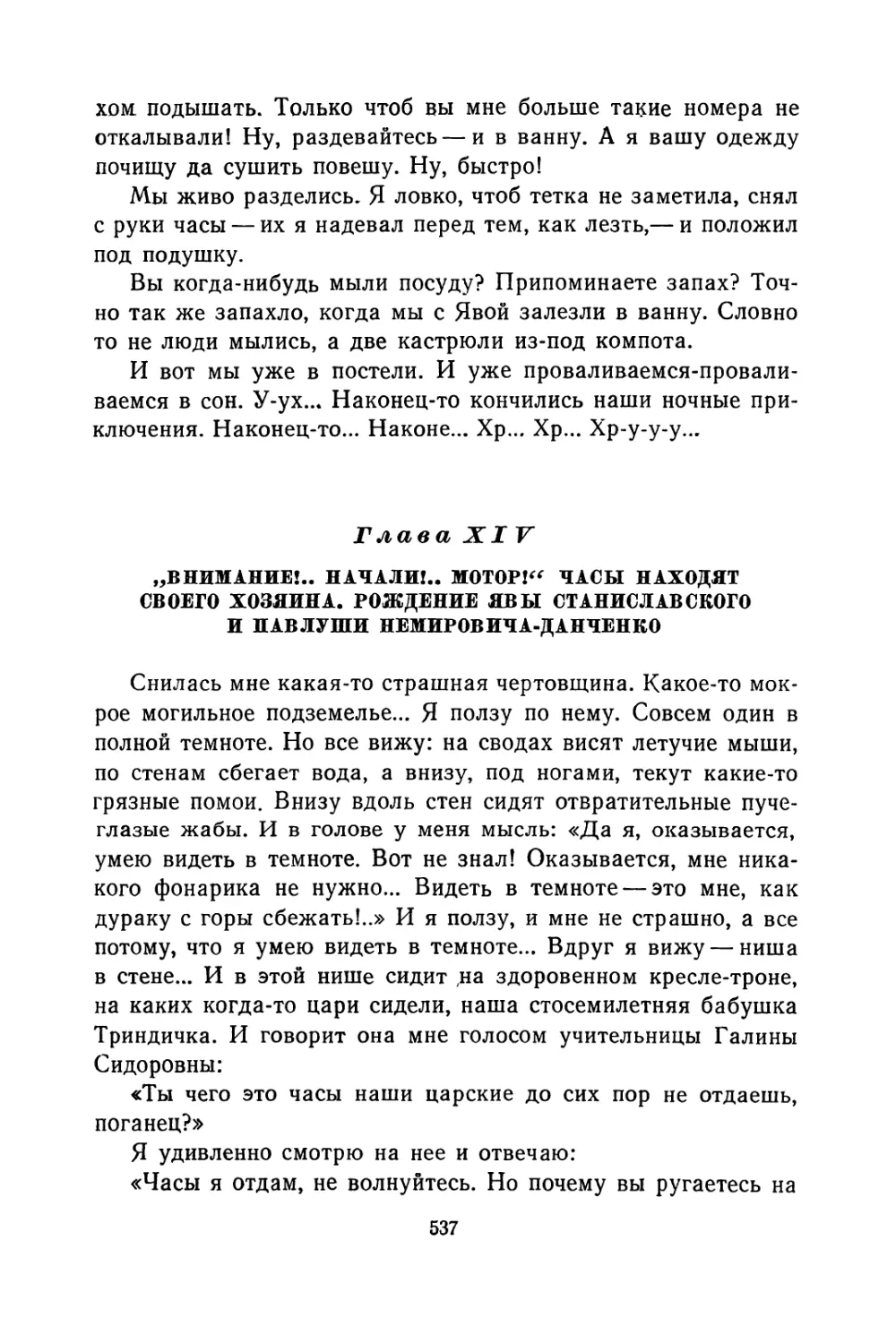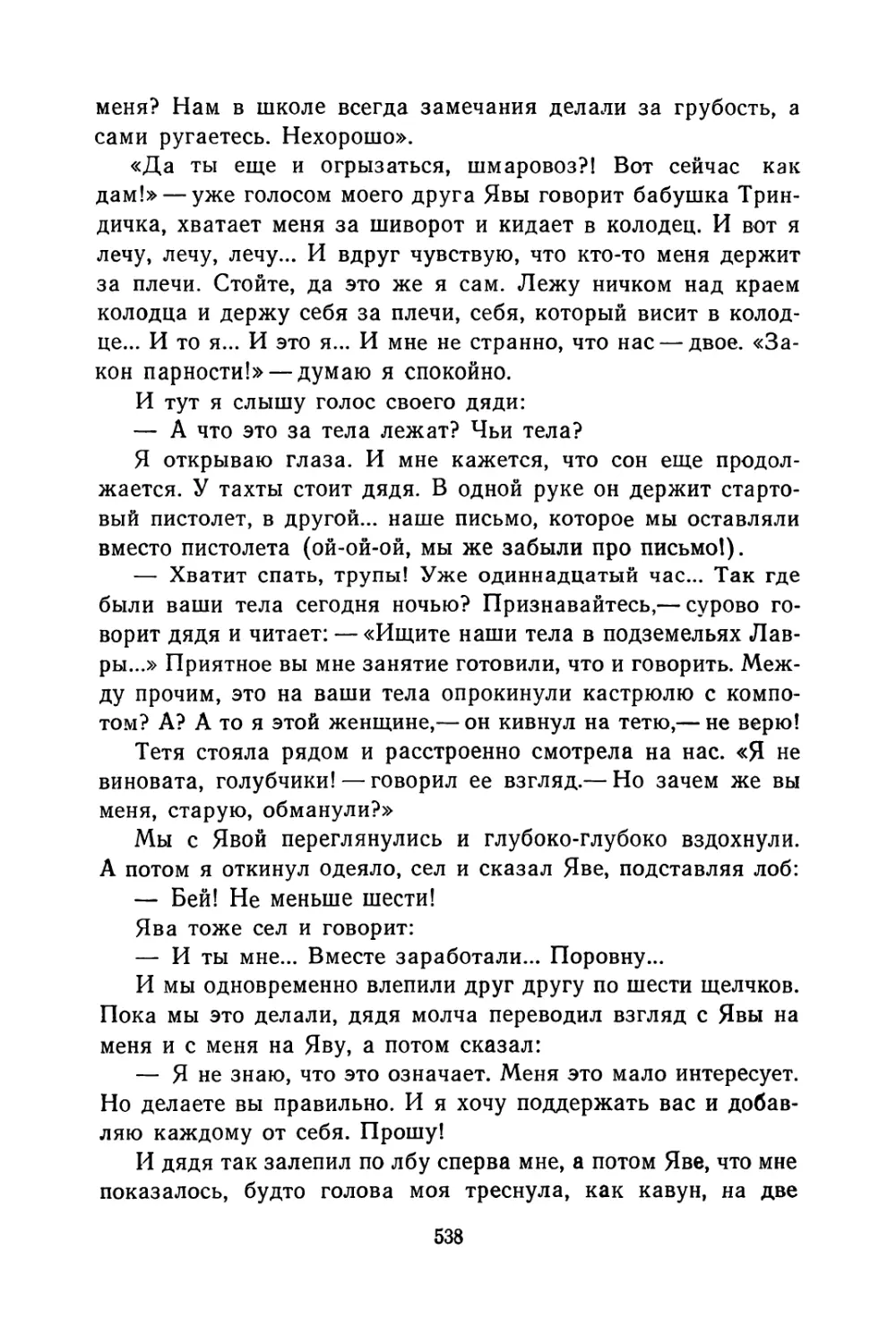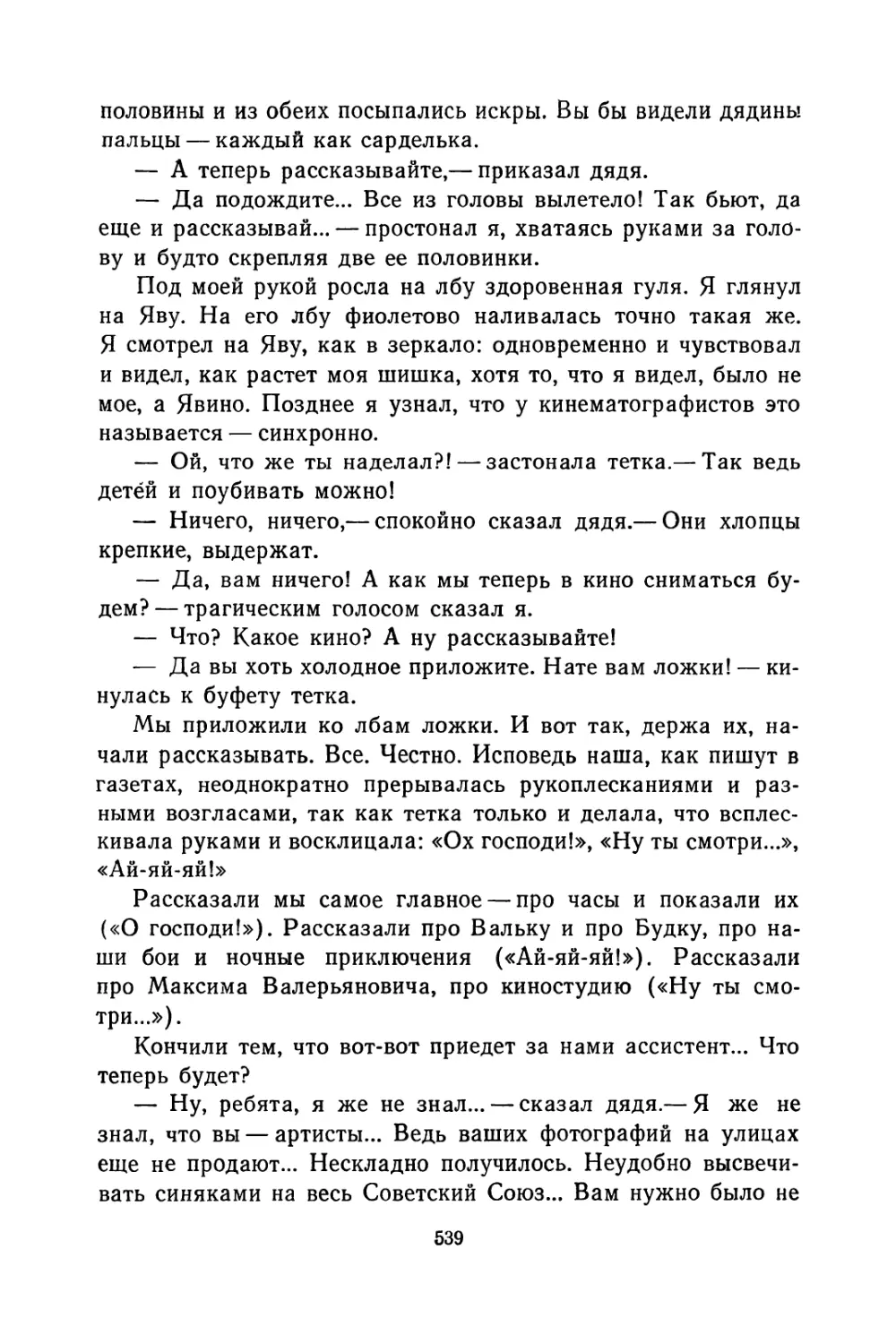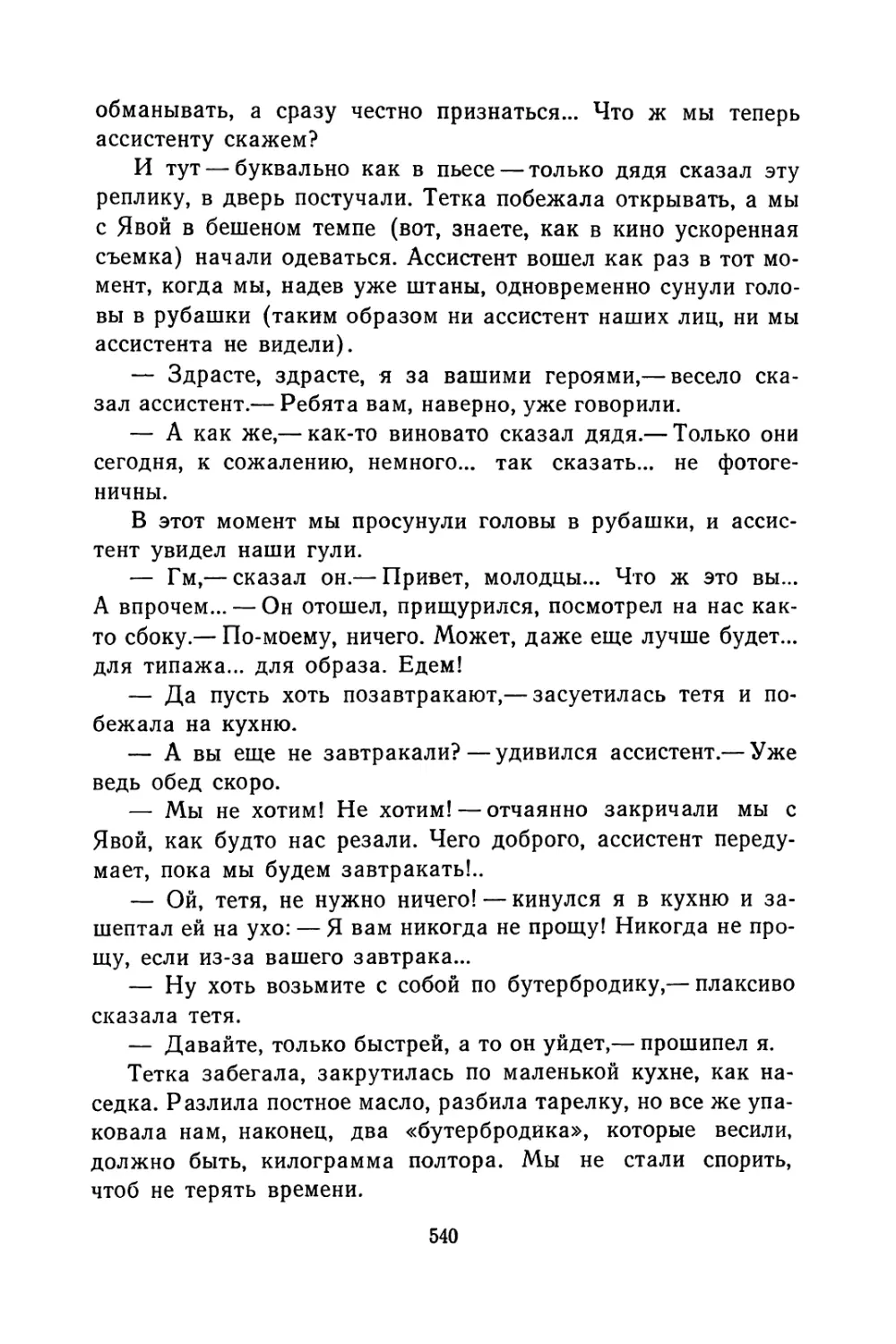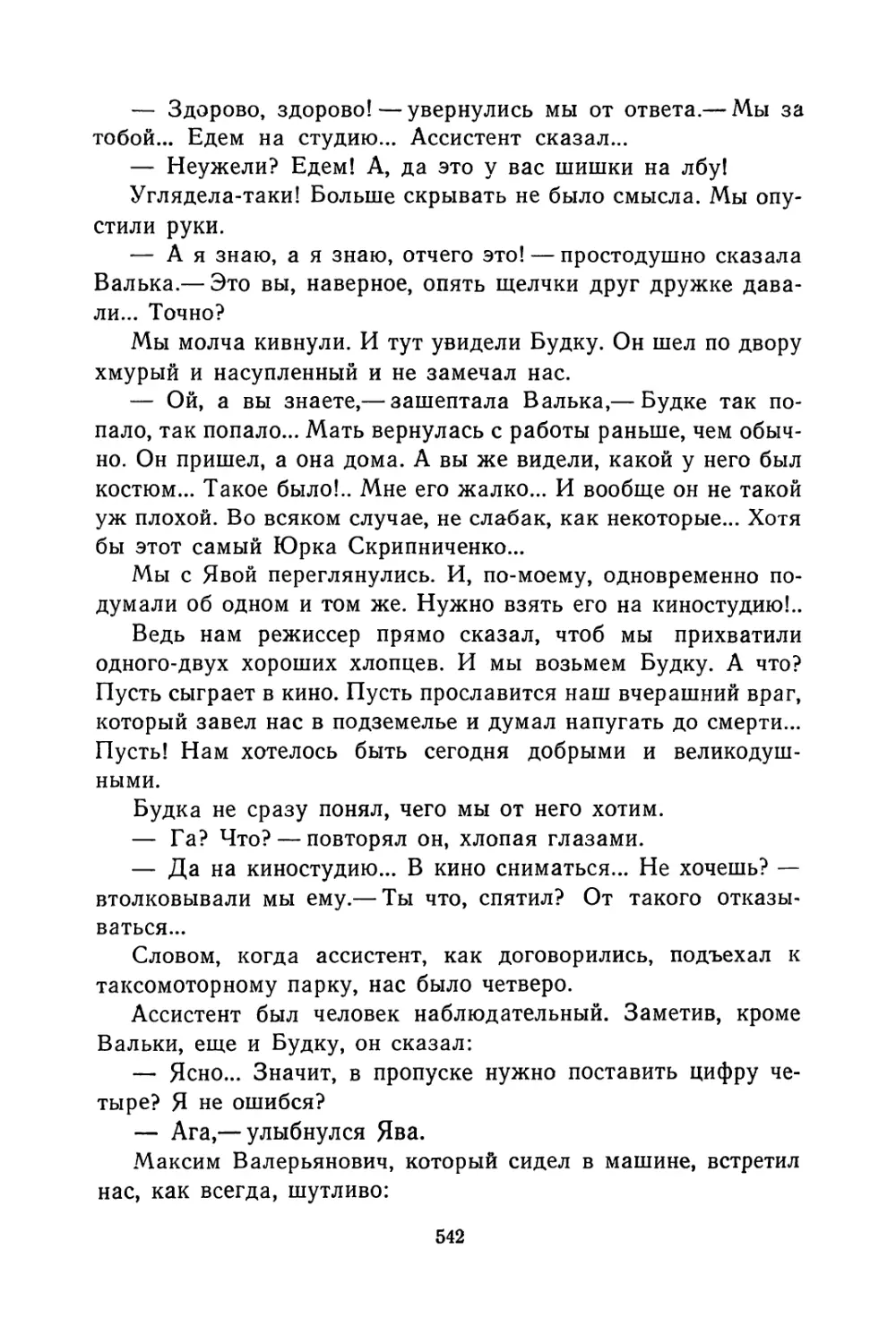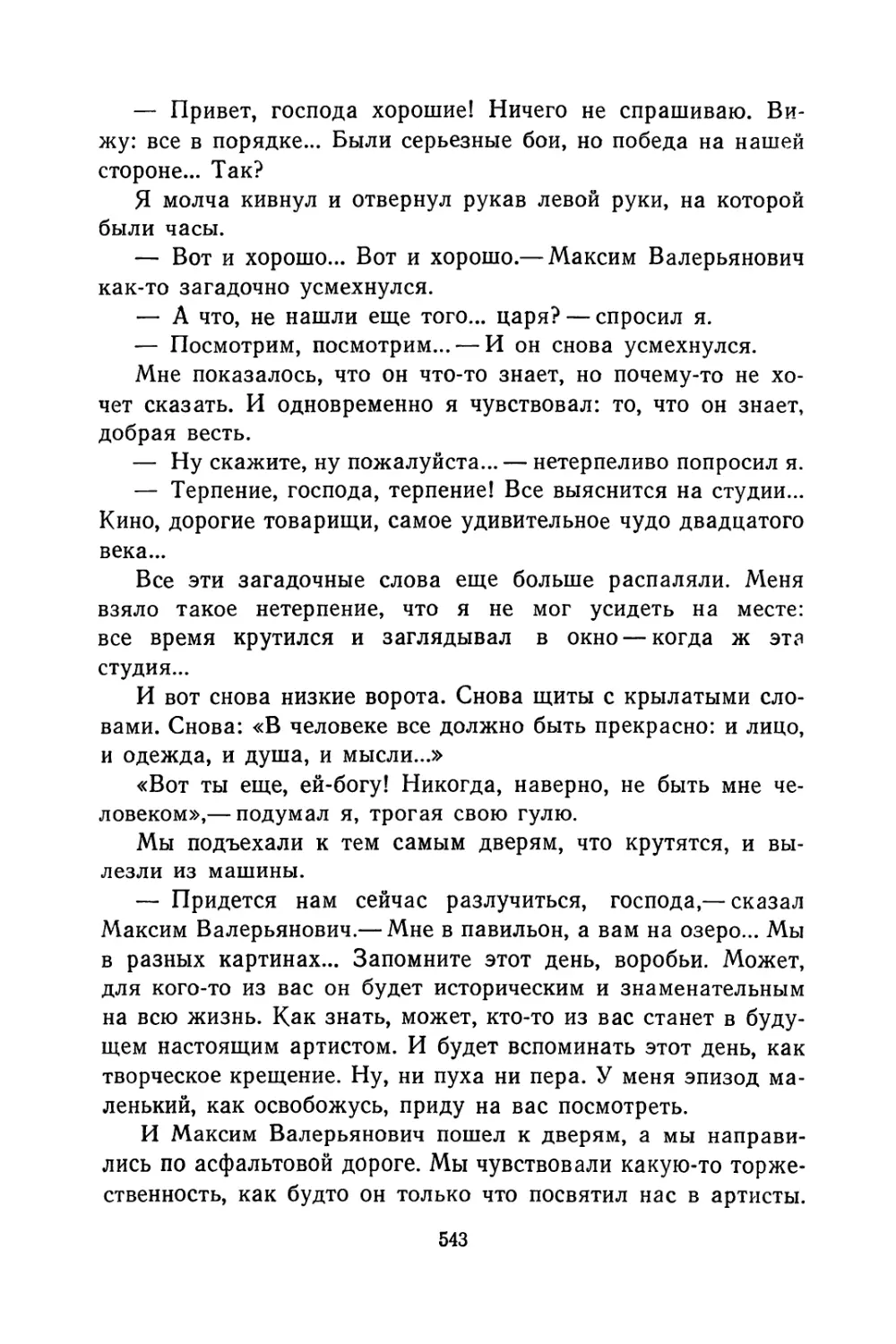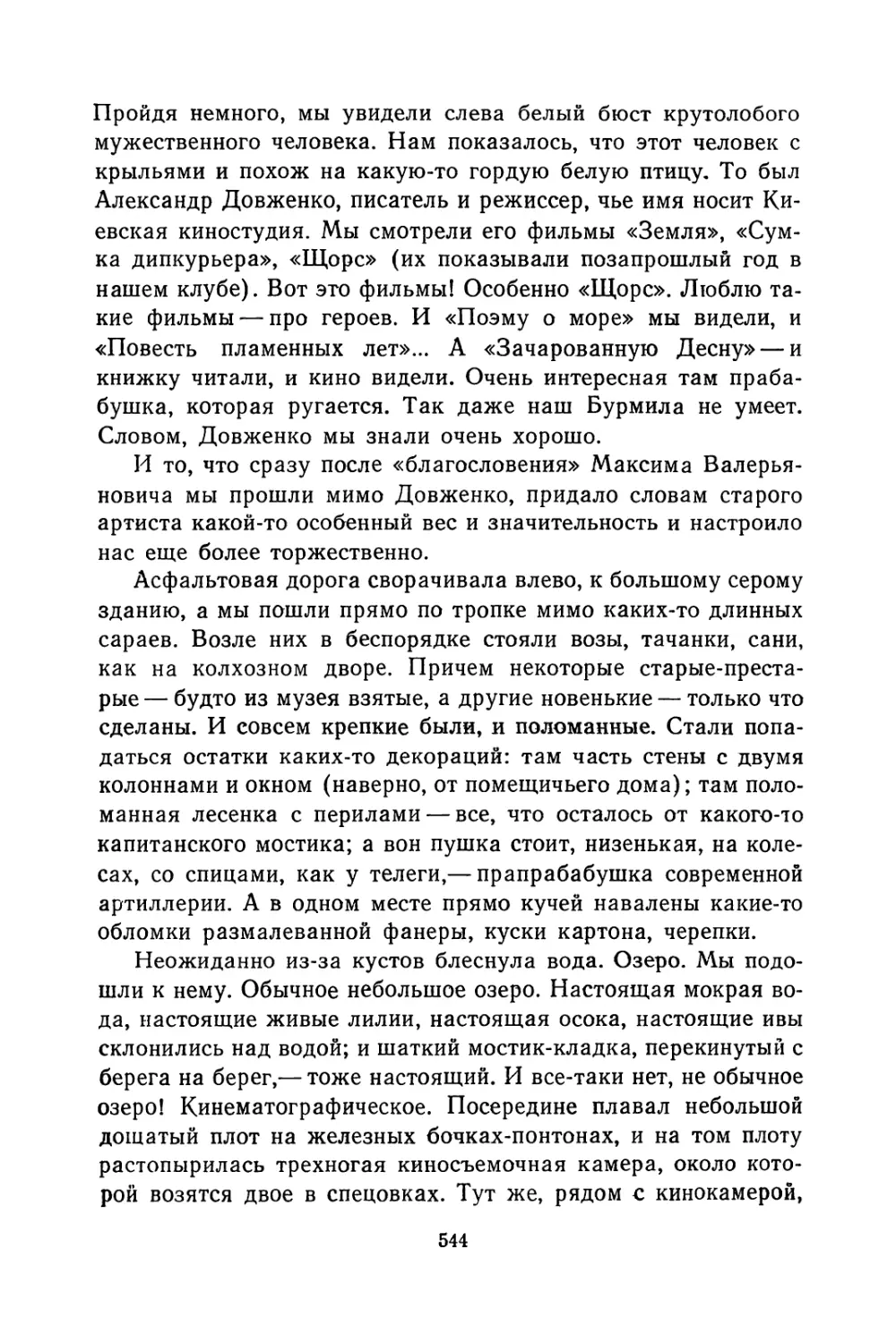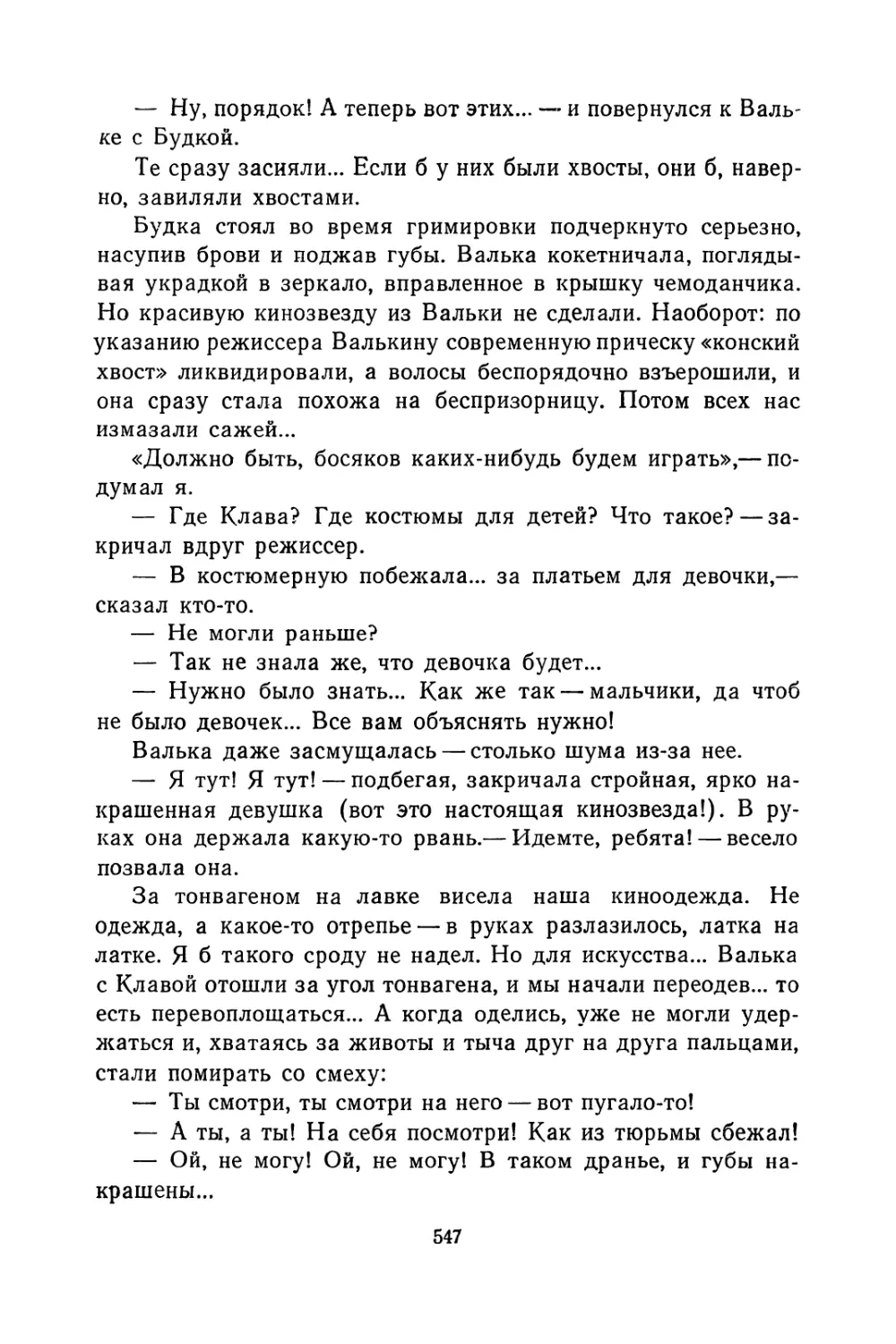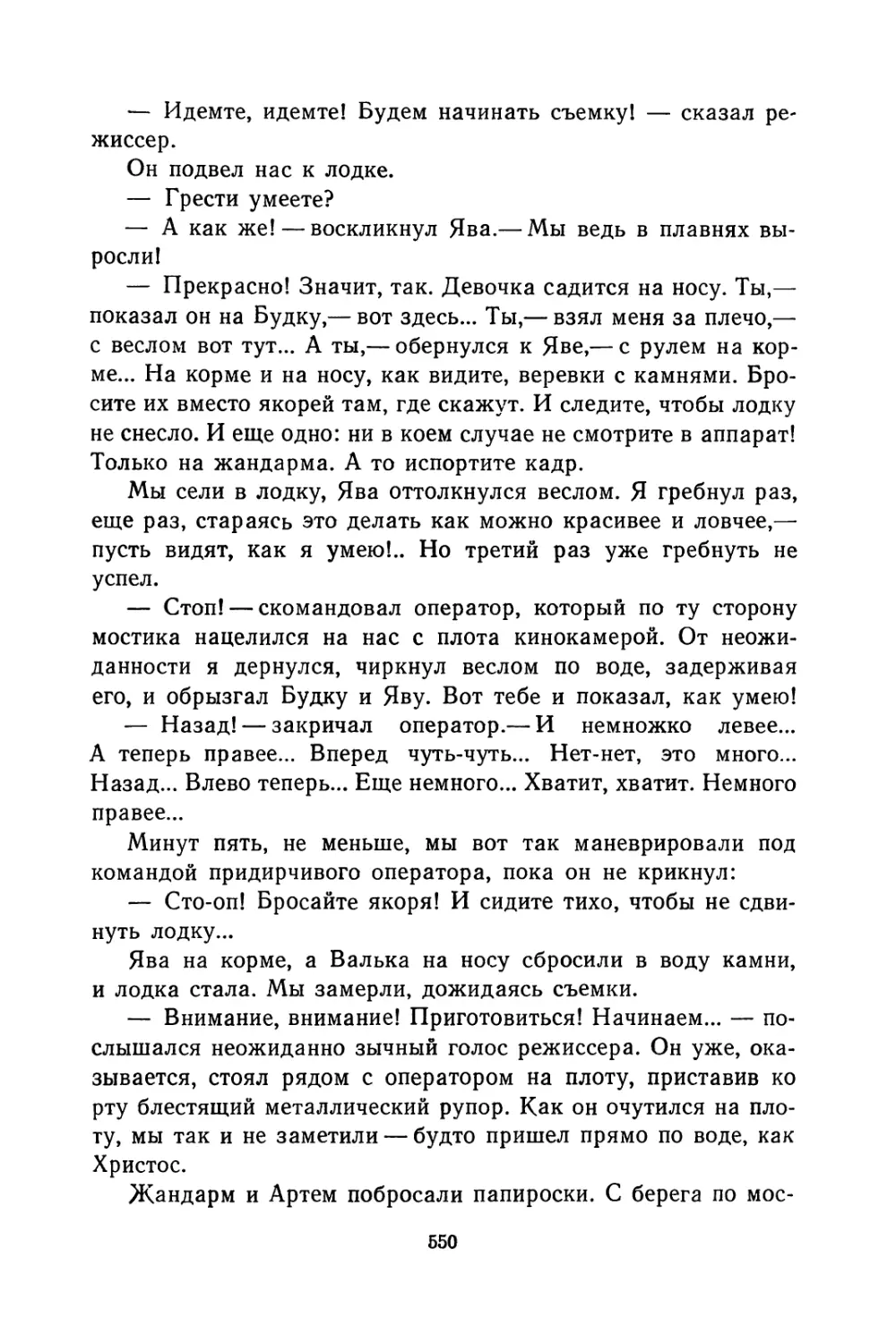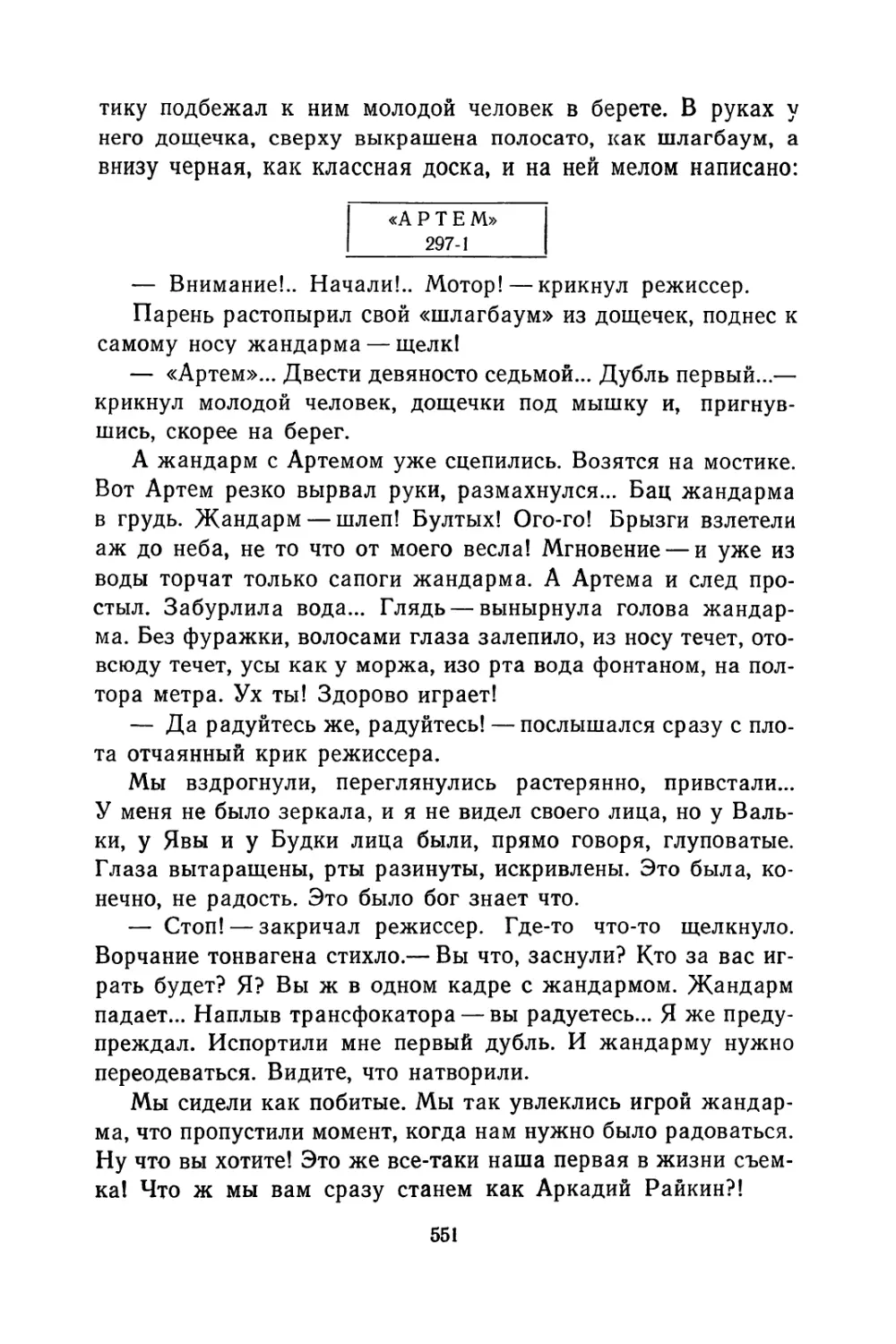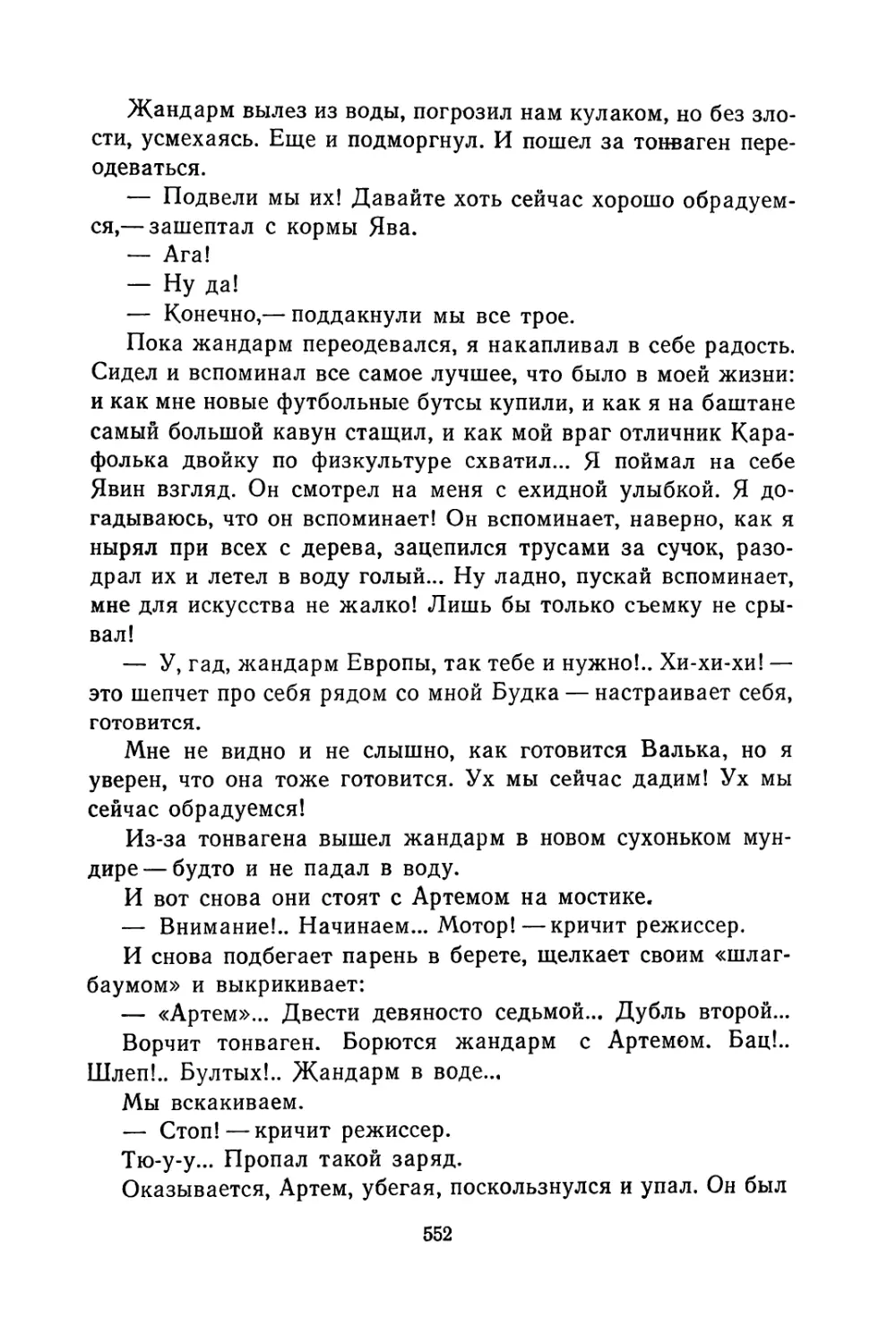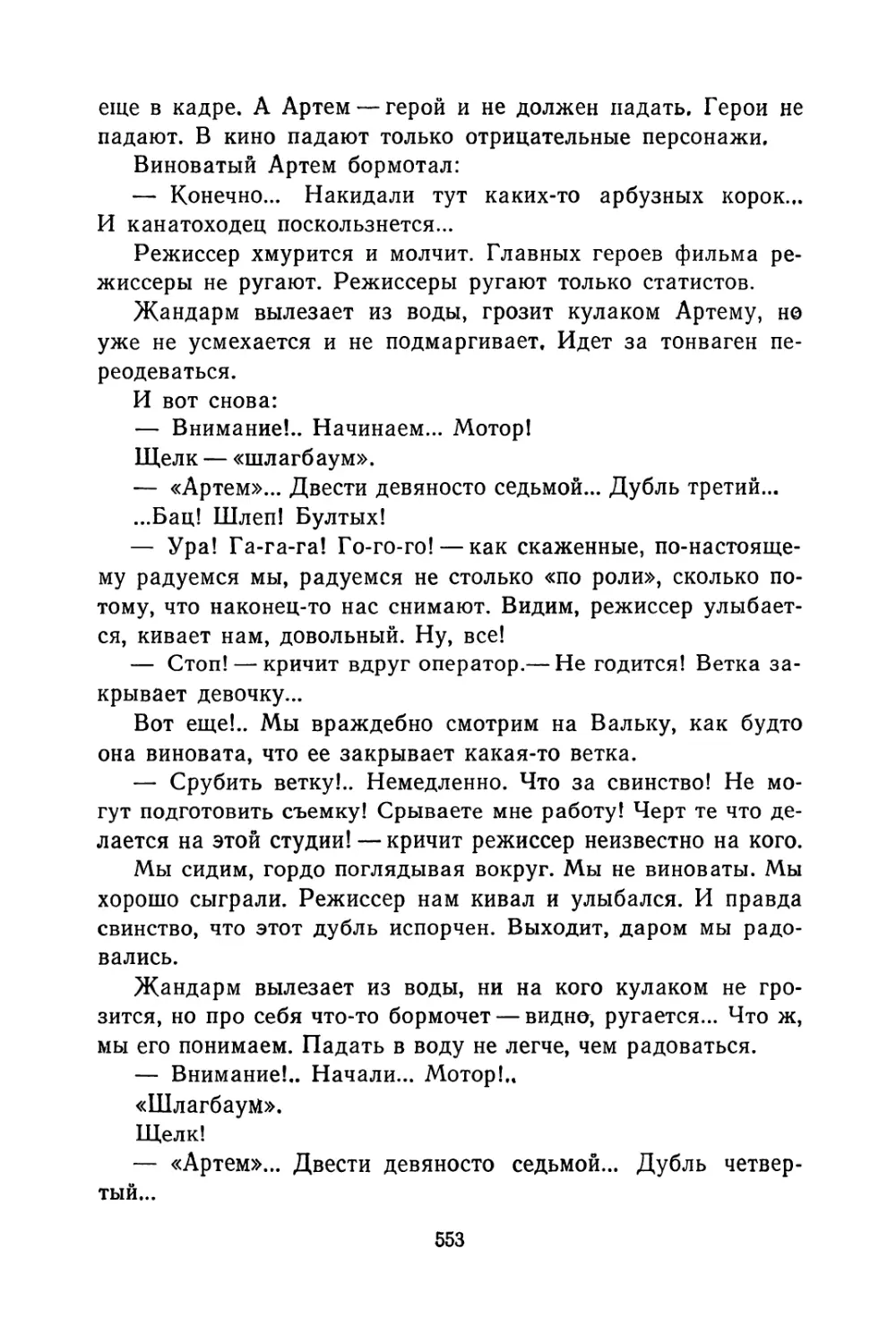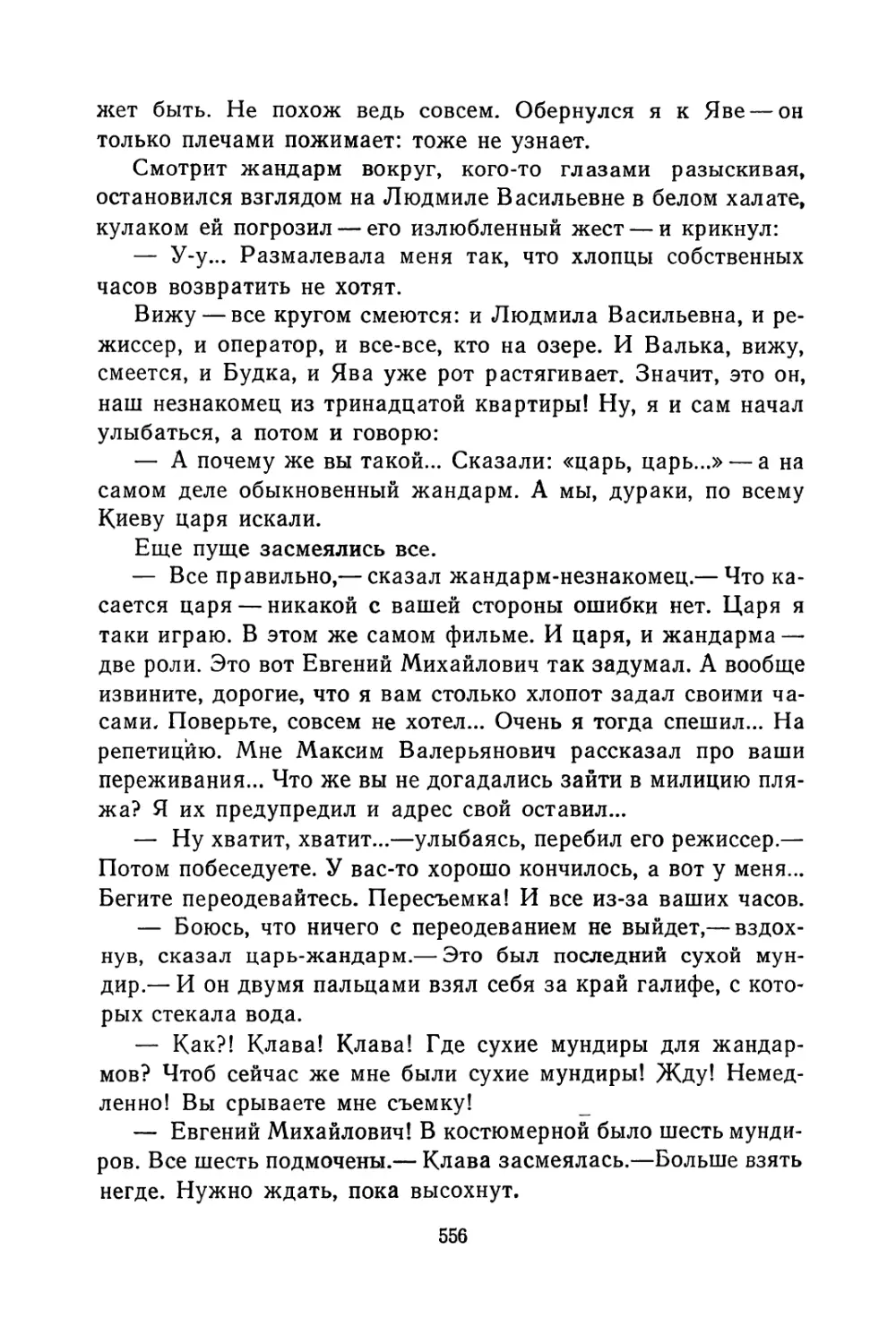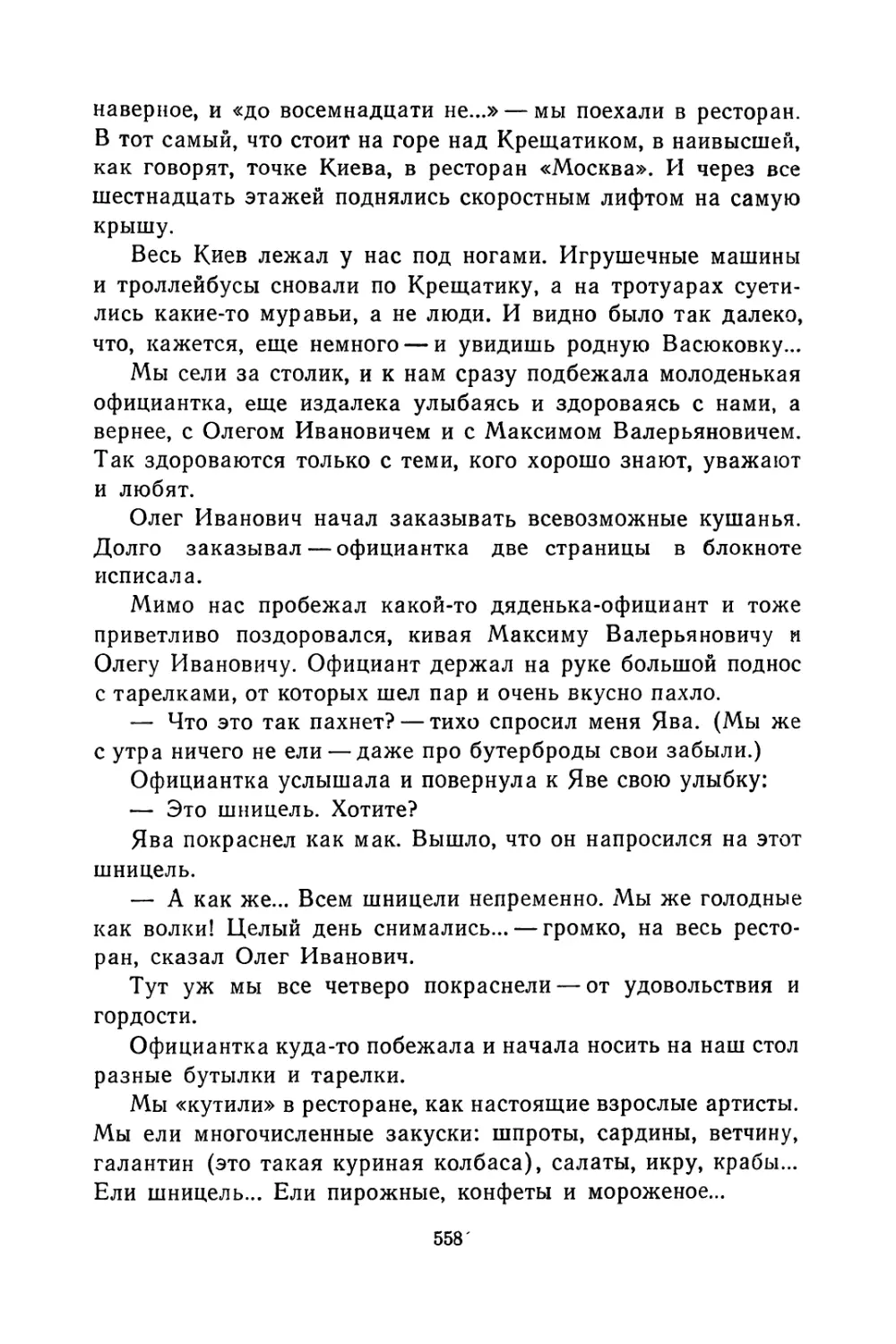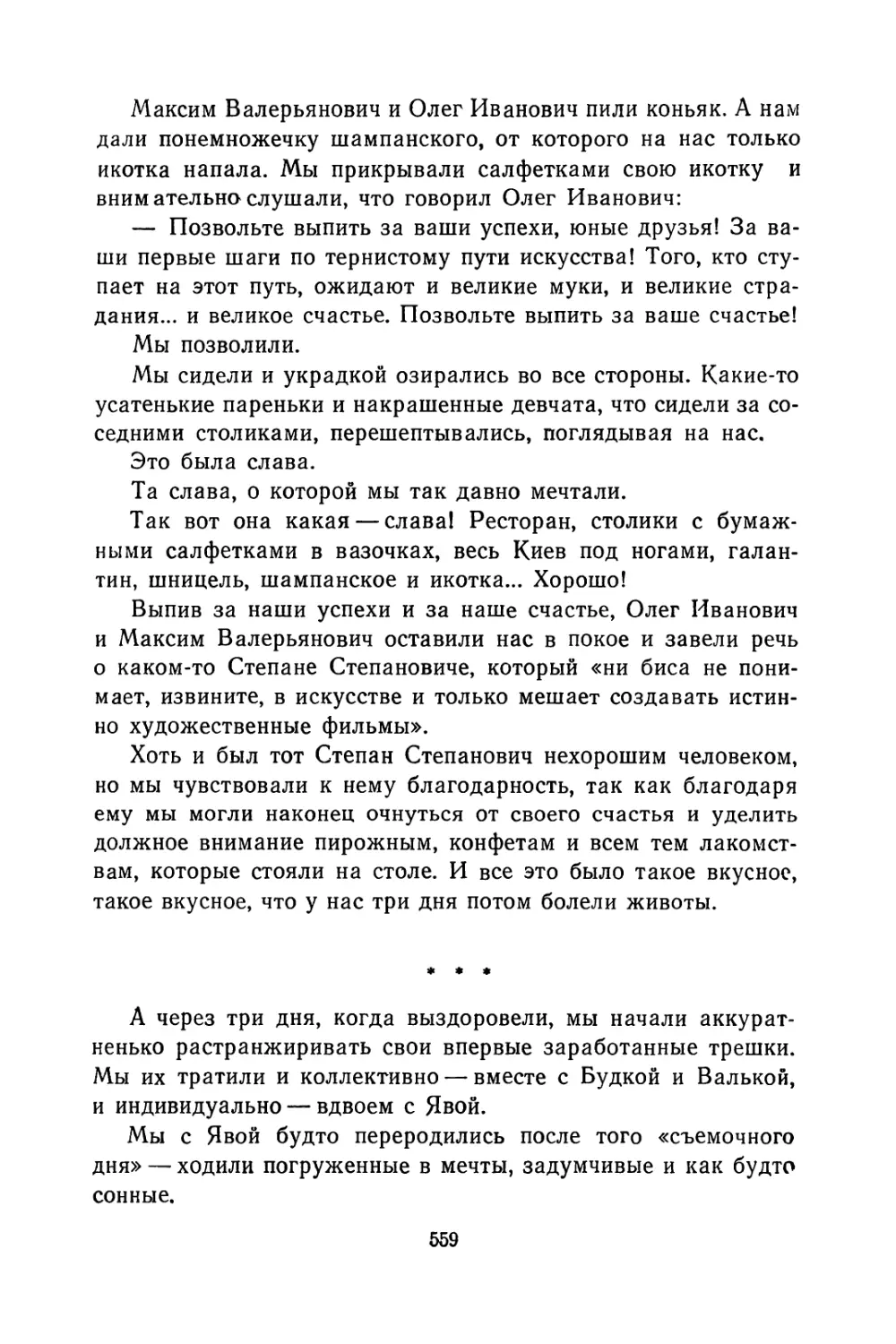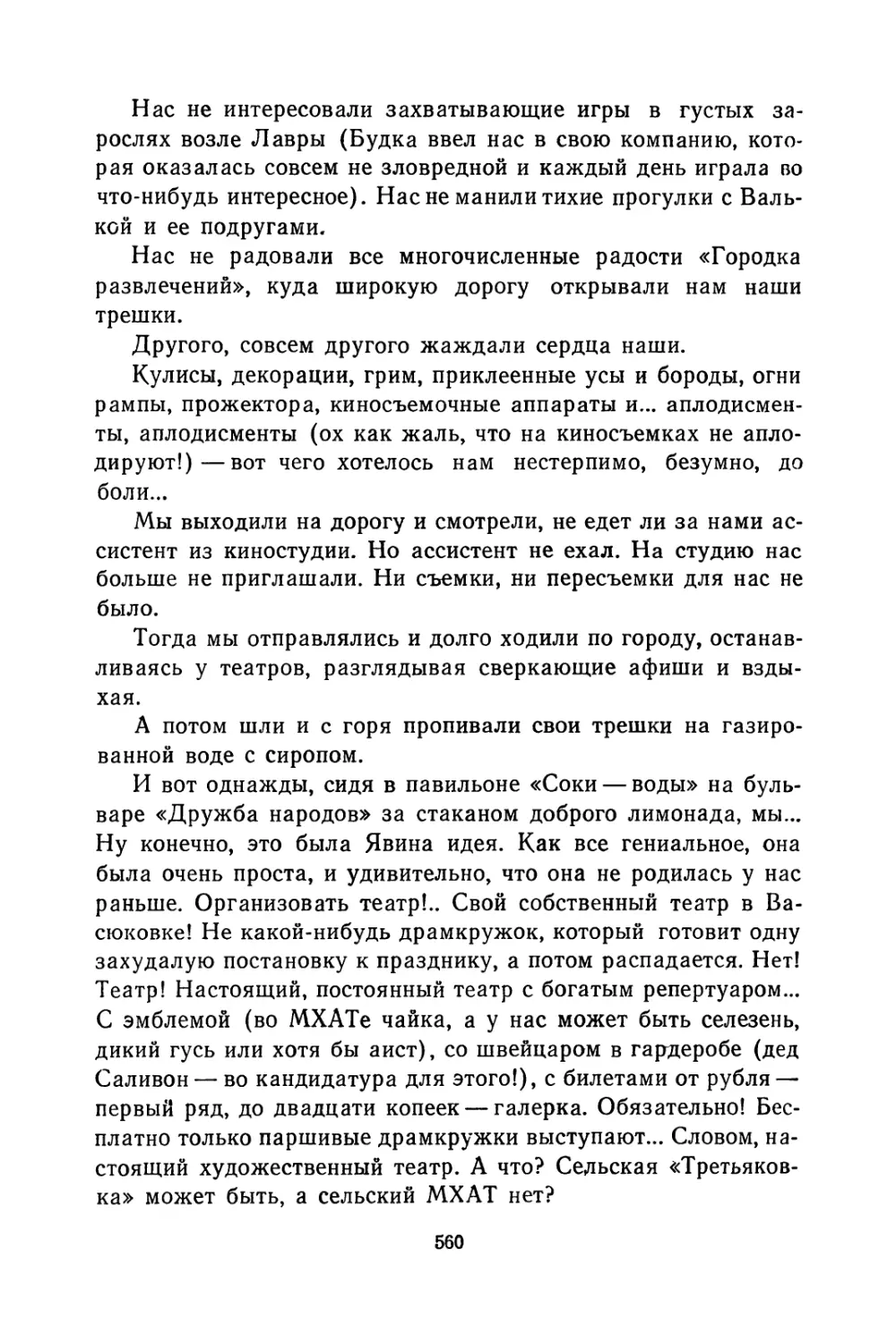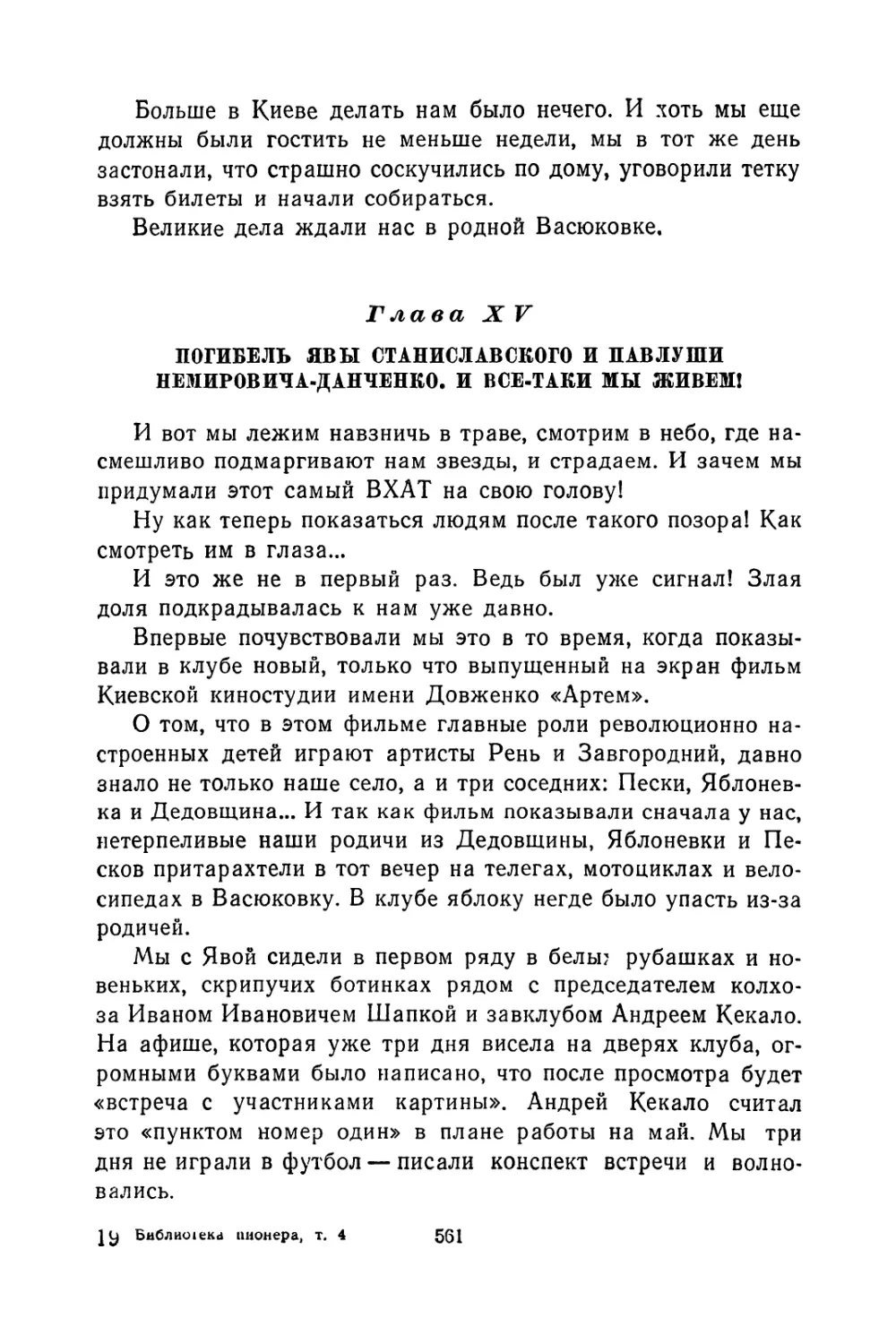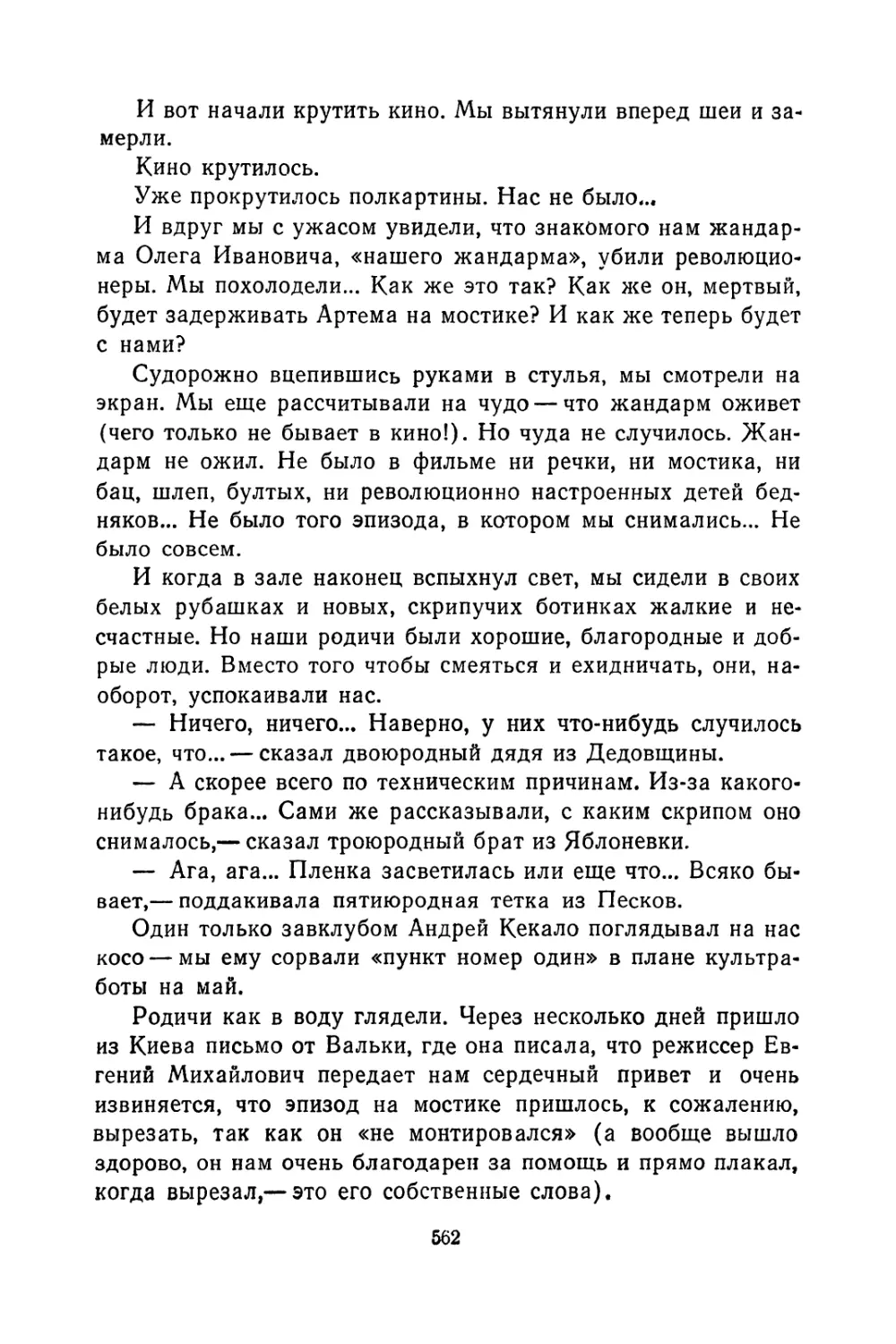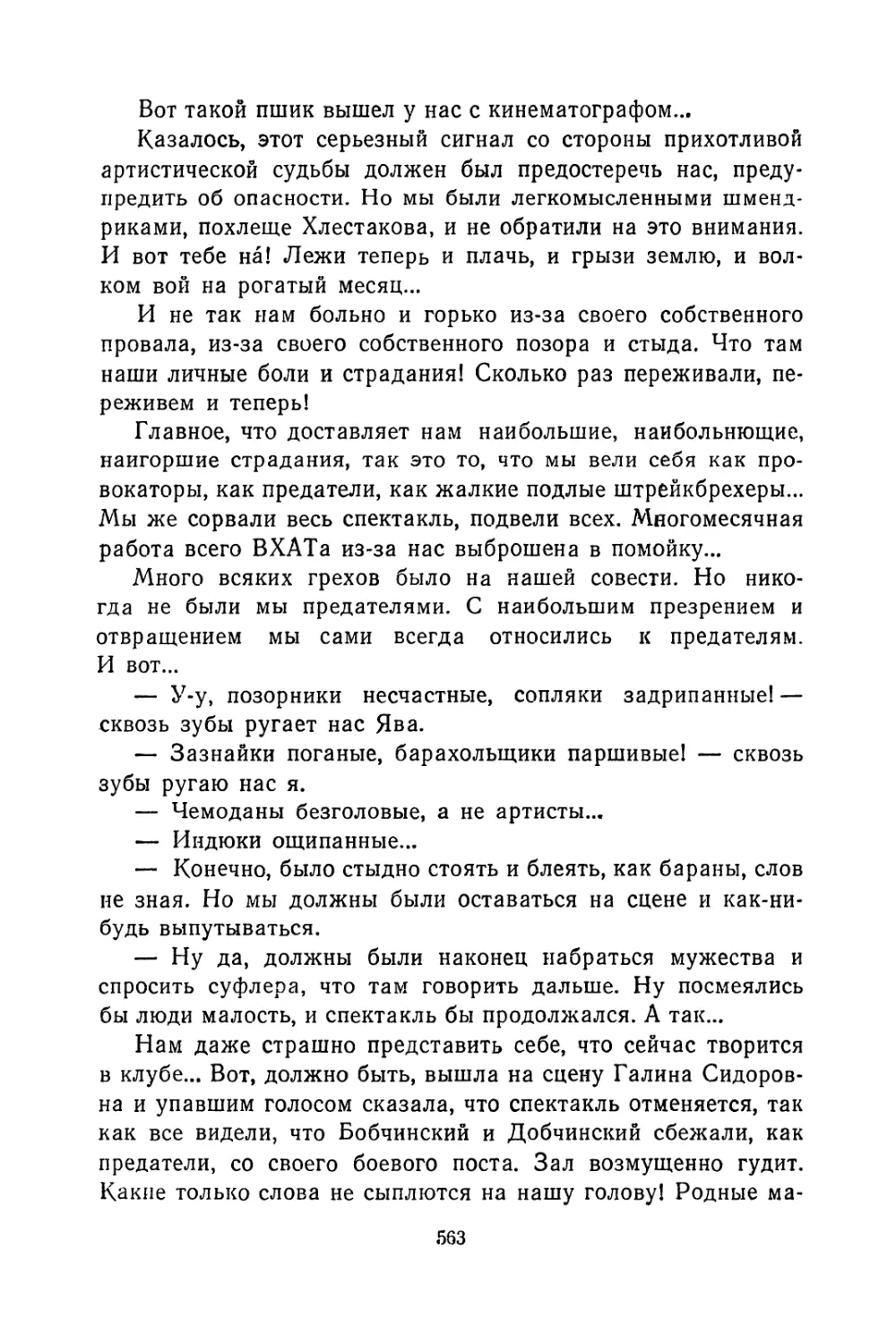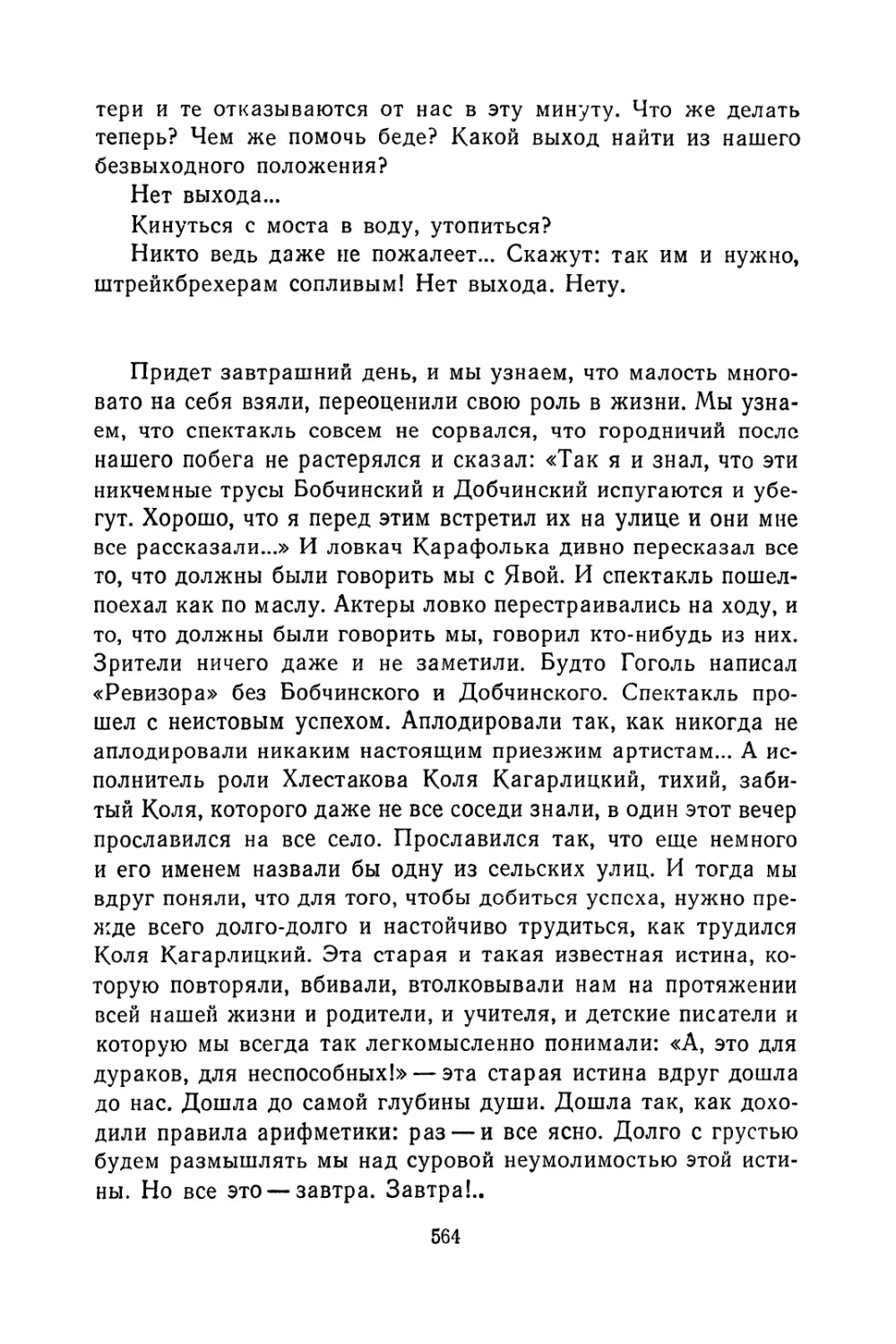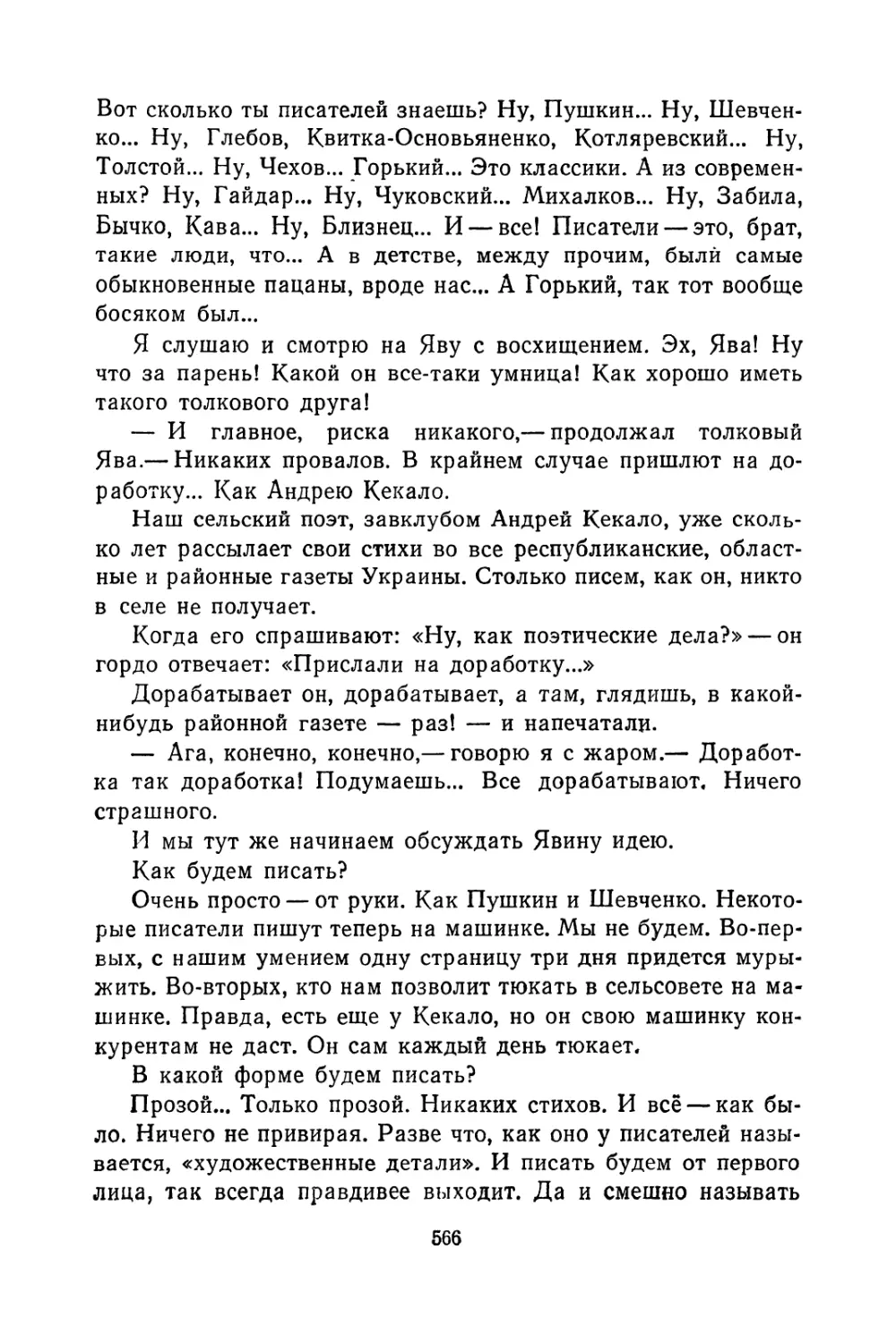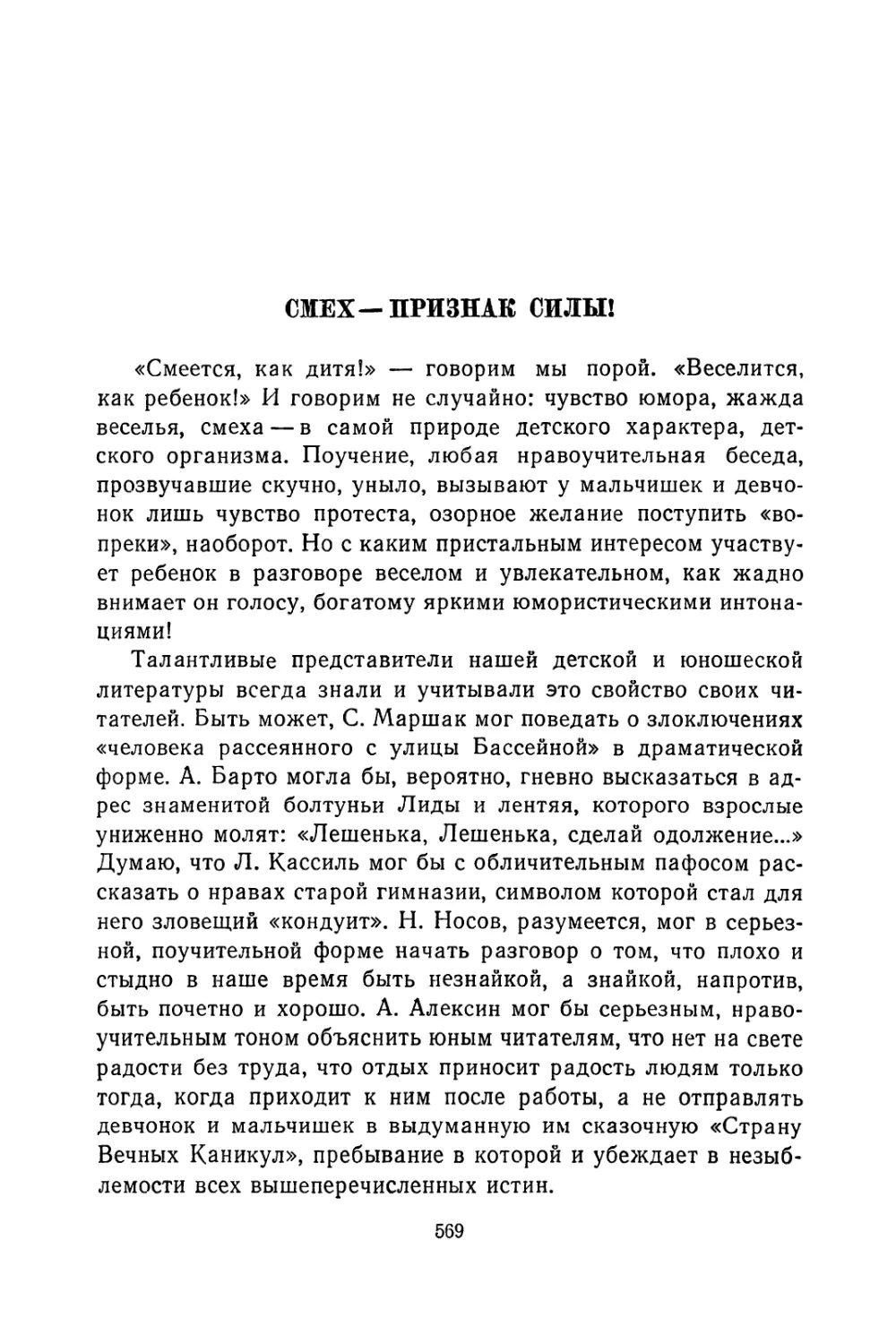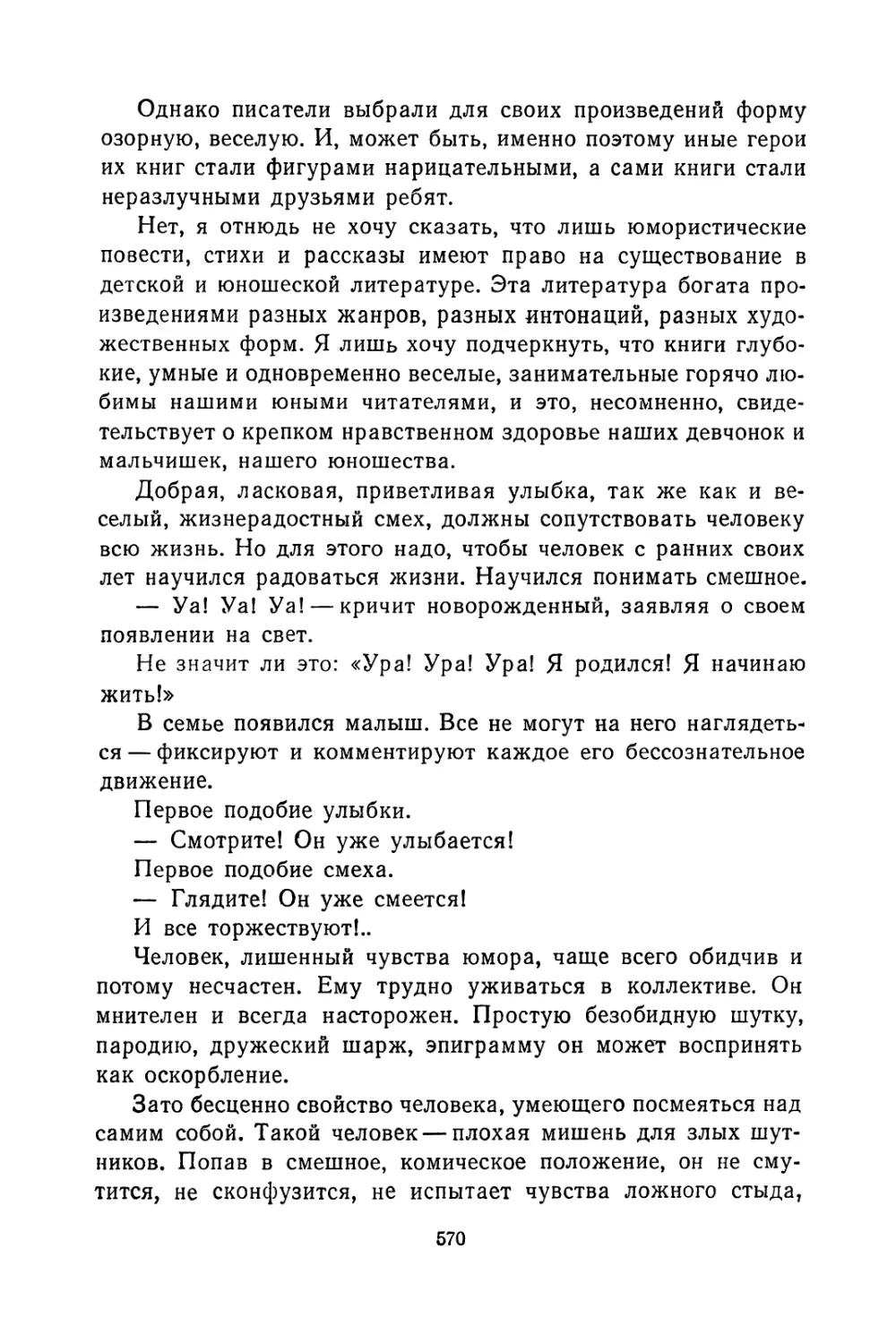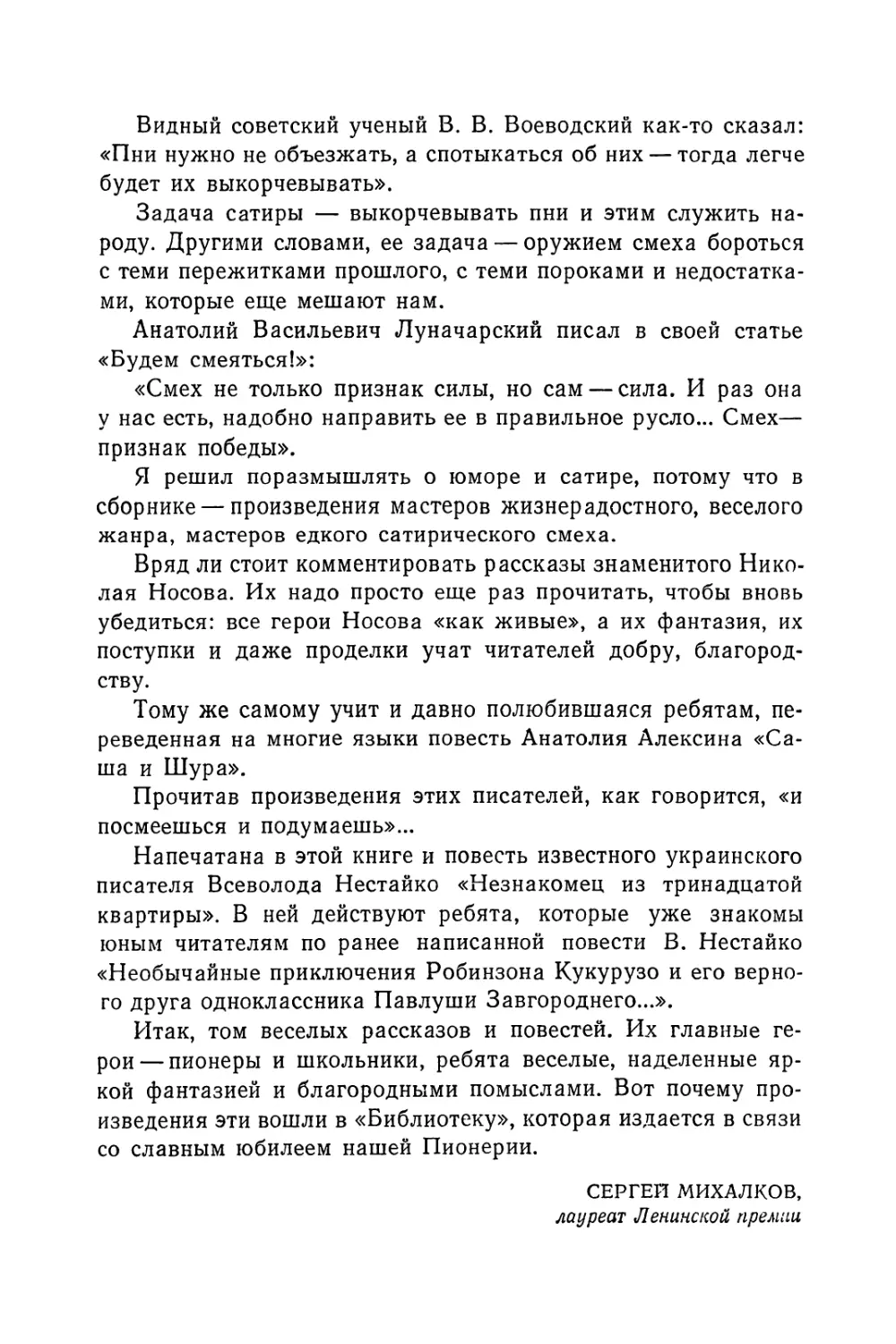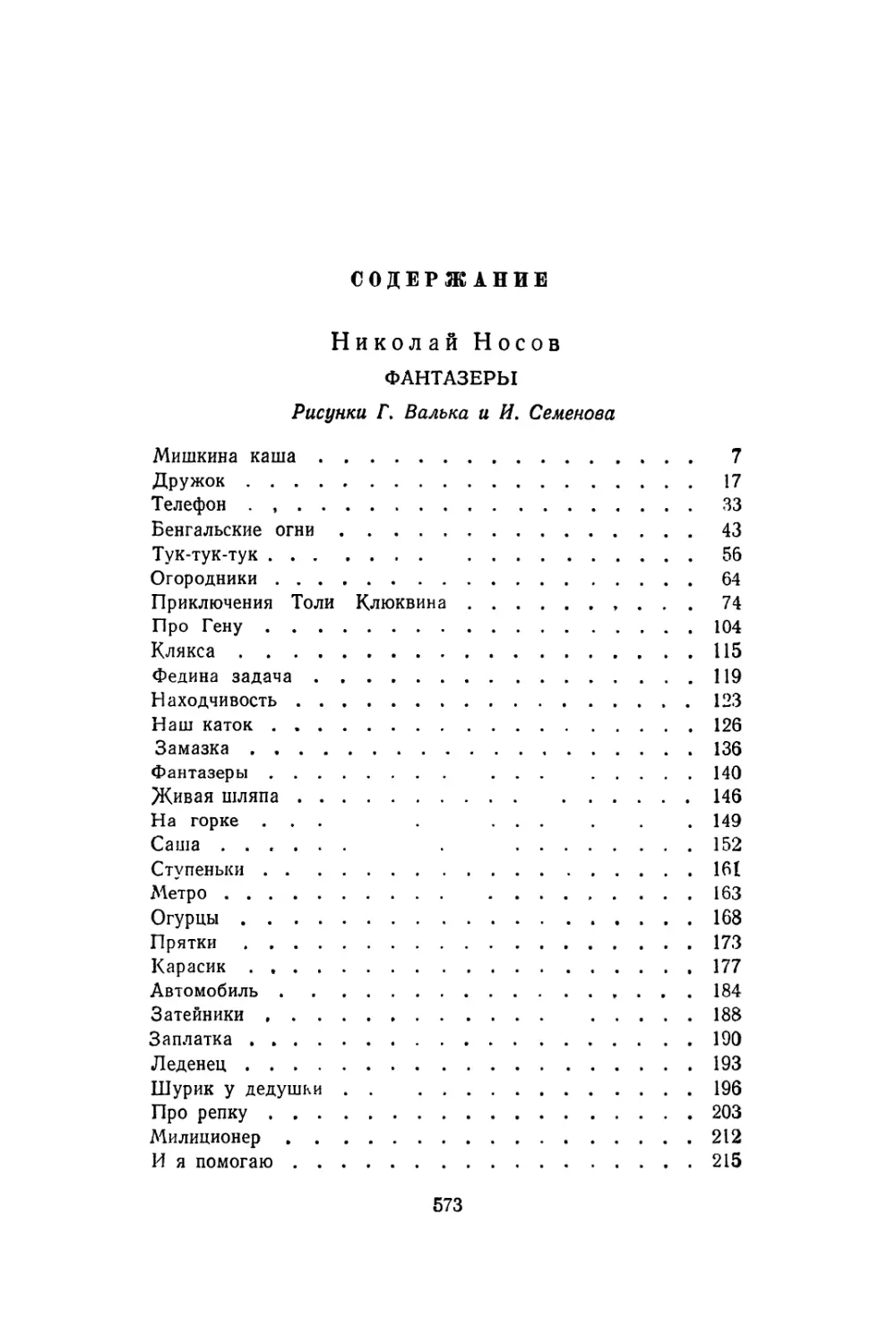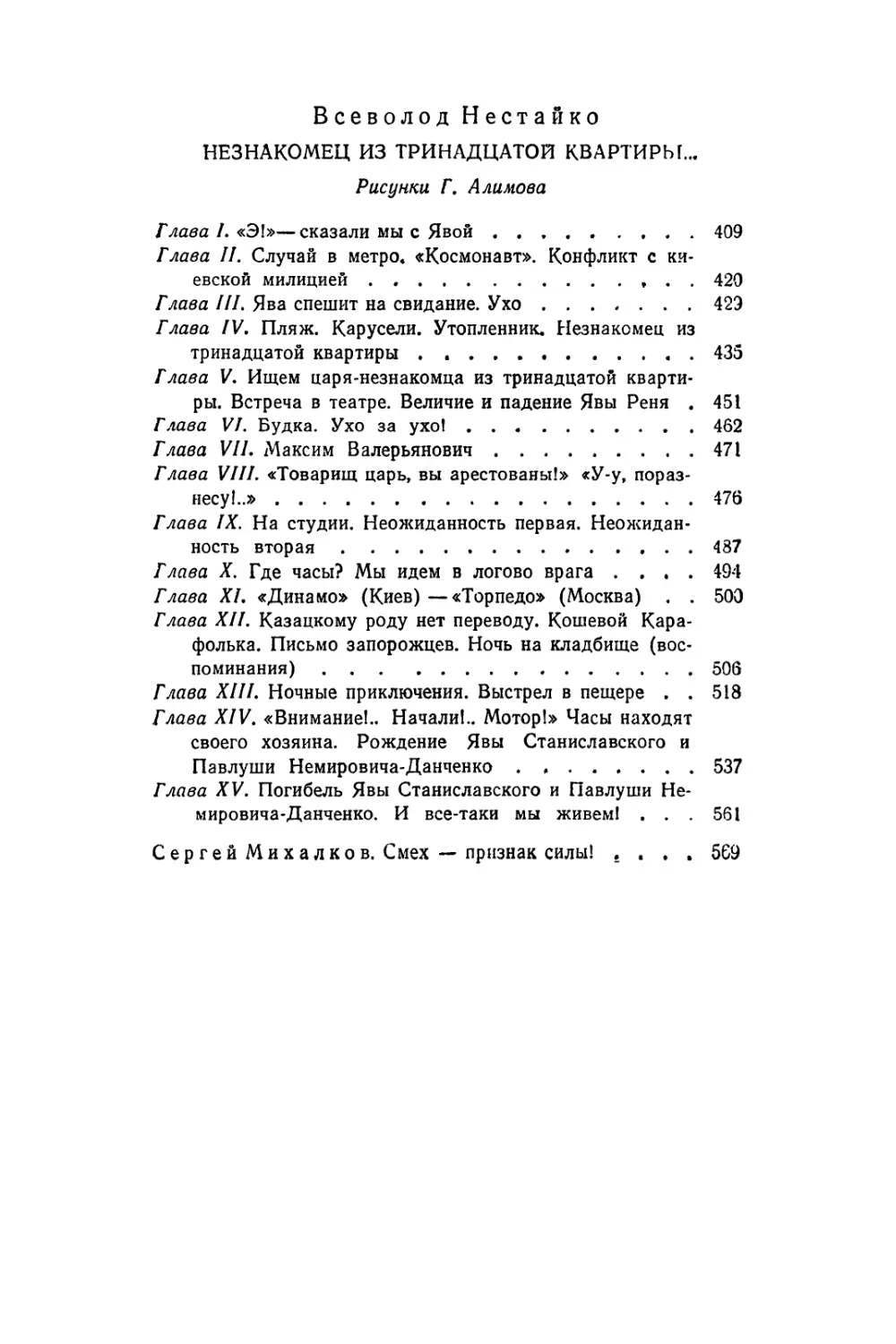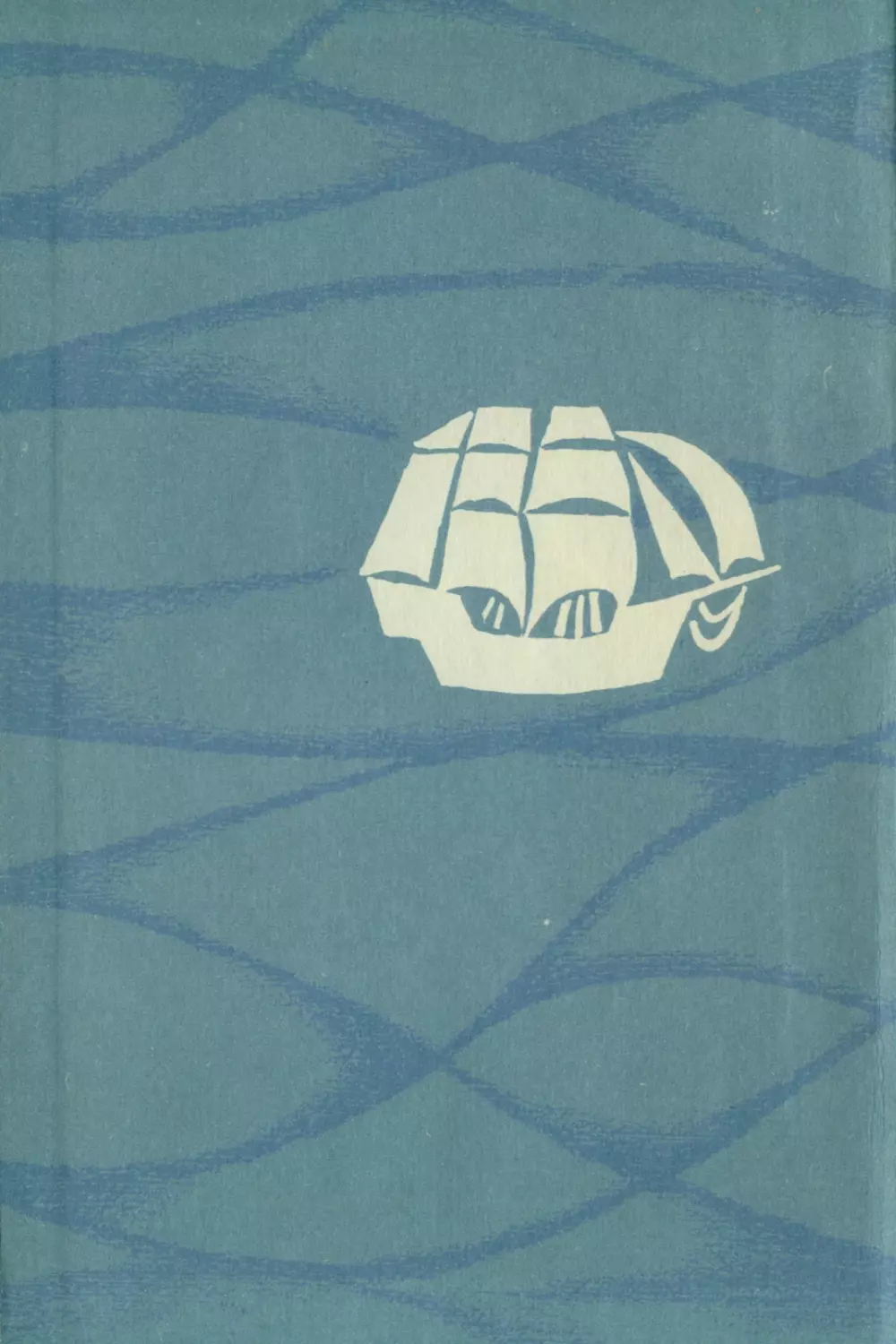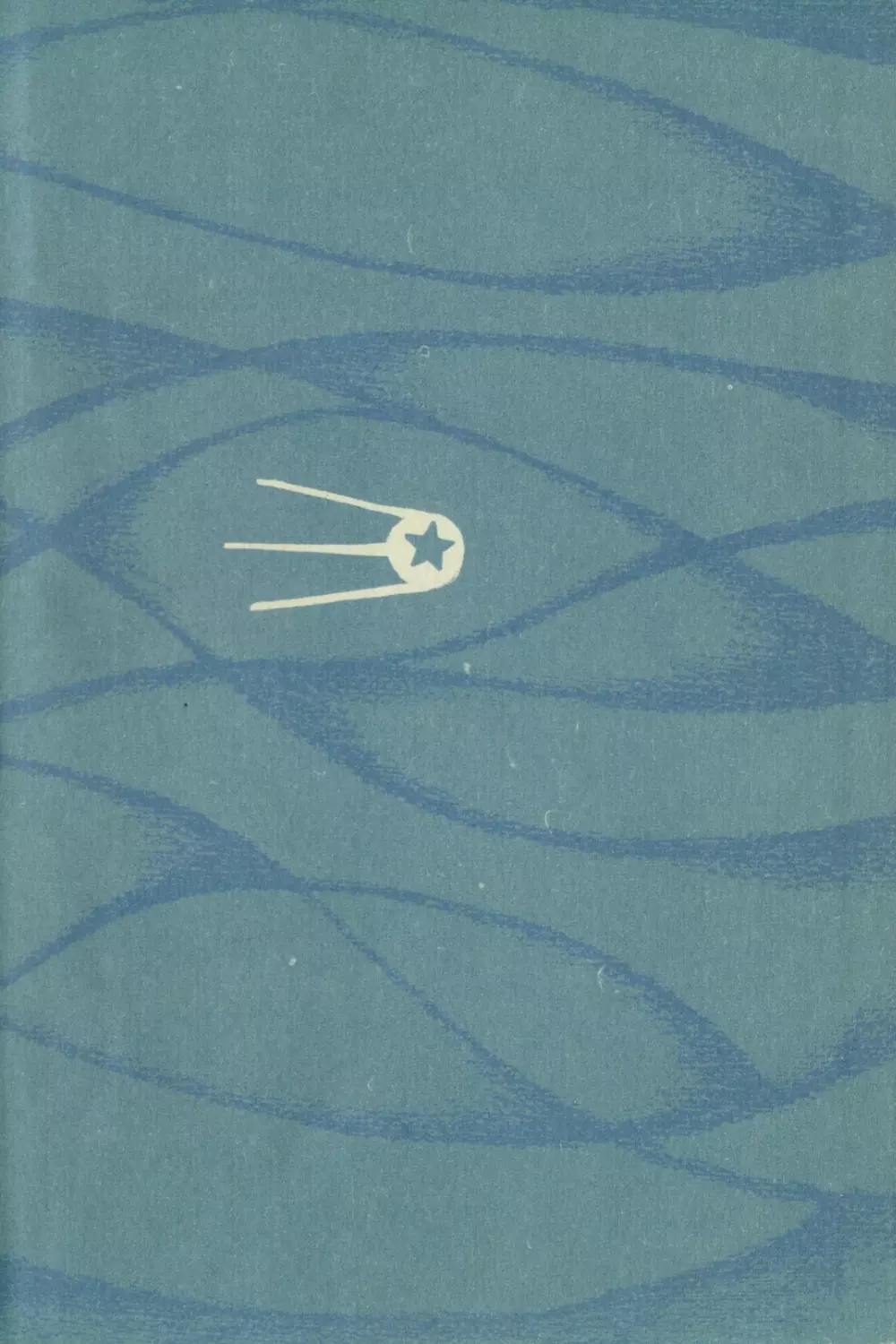Автор: Нестайко В. Носов Н.Н. Алексин А.
Теги: рассказы повести художественная литература серия библиотека пионера
Год: 1972
Текст
!Х,
ИЗБРАННЫЕ ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ
ИЗДАТЕльство
"Д ЕТС КА Я ЛИТЕРАТУРА"
москва
1972
Николай Носов
Анатолий Алексин
Всеволод Нестайко
С62
Н84
Носов Н. Н.
Н84 «Фантазеры». Рассказы.— Алексин А. «Саша и Шура». Повесть.— Нестайко В. «Незнакомец из тринадцатой. квартиры, или похитители ищут потерпевшего...» Пер. с укр. Н. Симаков, оформл. Е. Савина. М., «Дет. лит.», 1972.
572 с., с ил. (Библиотека пионера. Избранные повести и рассказы, т. 4) 200 000 экз., 1 р. 29 к., в пер.
В настоящий, 4-й том подписного издания «Библиотеки пионера» входят произведения: Николай Носов «Фантазеры» — рассказы, Анатолий Алексин «Саша и Шура» — повесть, Всеволод Нестайко «Незнакомец из тринадцатой квартиры, или похитители ищут потерпевшего...» — приключенческая повесть.
«Смех — признак силы» — так названо послесловие к этому тому, написанное Сергеем Михалковым.
7-6-3
Подписное
С62
Николай Носов
МИШКИНА КАША
Один раз, когда я жил с мамой на даче, ко мне в гости приехал Мишка. Я так обрадовался, что и сказать нельзя! Я очень по Мишке соскучился. Мама тоже была рада его приезду.
— Это очень хорошо, что ты приехал,— сказала она.— Вам вдвоем здесь веселей будет. Мне, кстати, завтра надо в город поехать. Я, может быть, задержусь. Проживете тут без меня два дня?
— Конечно, проживем,— говорю я.— Мы не маленькие!
— Только вам тут придется самим обед готовить. Сумеете?
— Сумеем,— говорит Мишка.— Чего там не суметь!
— Ну, сварите суп и кашу. Кашу ведь просто варить.
— Сварим и кашу. Чего там ее варить! — говорит Мишка.
Я говорю:
— Ты смотри, Мишка, а вдруг не сумеем! Ты ведь не варил раньше.
— Не беспокойся! Я видел, как мама варит. Сыт будешь,
7
не помрешь с голоду. Я такую кашу сварю, что пальцы оближешь!
Наутро мама оставила нам хлеба на два дня, варенья, чтобы мы чай пили, показала, где какие продукты лежат, объяснила, как варить суп и кашу, сколько крупы положить, сколько чего. Мы все слушали, только я ничего не запомнил. «Зачем,— думаю,— раз Мишка знает».
Потом мама уехала, а мы с Мишкой решили пойти на реку рыбу ловить. Наладили удочки, накопали червей.
8
— Постой,— говорю я.— А обед кто будет варить, если мы на реку уйдем?
— Чего там варить! — говорит Мишка.— Одна возня! Съедим весь хлеб, а на ужин сварим кашу. Кашу можно без хлеба есть.
Нарезали мы хлеба, намазали его вареньем и пошли на реку. Сначала выкупались, потом разлеглись на песке. Греемся на солнышке и хлеб с вареньем жуем. Потом стали рыбу ловить. Только рыба плохо клевала: поймали всего с десяток пескариков. Целый день мы на реке проболтались. К вечеру вернулись домой. Голодные!
— Ну, Мишка, — говорю, — ты специалист. Что варить будем? Только такое, чтоб побыстрей. Есть очень хочется.
— Давай кашу,— говорит Мишка.— Кашу проще всего.
— Ну что ж, кашу так кашу.
Растопили плиту. Мишка насыпал в кастрюлю крупы. Я говорю:
— Сыпь побольше. Есть очень хочется!
Он насыпал полную кастрюлю и воды налил доверху.
— Не мйого ли воды? — спрашиваю. — Размазня получится.
— Ничего, мама всегда так делает. Ты только за печкой смотри, а я уж сварю, будь спокоен.
Ну, я за печкой смотрю, дрова подкладываю, а Мишка кашу варит, то есть не варит, а сидит да на кастрюлю смотрит, она сама варится.
Скоро стемнело, мы зажгли лампу. Сидим и ждем, когда каша сварится. Вдруг смотрю: крышка на кастрюле приподнялась, и из-под нее каша лезет.
— Мишка,— говорю,— что это? Почему каша лезет?
— Куда?
— Шут ее знает куда! Из кастрюли лезет!
Мишка схватил ложку и стал кашу обратно в кастрюлю впихивать. Мял ее, мял, а она будто пухнет в кастрюле, так и вываливается наружу.
— Не знаю,— говорит Мишка,— с чего это она вылезать вздумала. Может быть, готова уже?
Я взял ложку, попробовал: крупа совсем твердая.
— Мишка,— говорю,— куда же вода девалась? Совсем сухая крупа!
— Не знаю,— говорит.— Я много воды налил. Может быть, дырка в кастрюле?
Стали мы кастрюлю осматривать: никакой дырки нет.
— Наверно, испарилась,— говорит Мишка.— Надо еще подлить.
Он переложил лишнюю крупу из кастрюли в тарелку и подлил в кастрюлю воды. Стали варить дальше. Варили, варили— смотрим, опять каша наружу лезет.
— Ах, чтоб тебя! — говорит Мишка.— Куда же ты лезешь?
Схватил ложку, опять стал лишнюю крупу откладывать.
Отложил и снова бух туда кружку воды.
— Вот видишь,— говорит,— ты думал, что воды много, а ее еще подливать приходится.
Варим дальше. Что за комедия! Опять вылезает каша.
Я говорю:
— Ты, наверно, много крупы положил. Она разбухает, и ей тесно в кастрюле становится.
— Да,— говорит Мишка,— кажется, я немного много крупы переложил. Это все ты виноват: «Клади, говорит, побольше. Есть хочется!»
— А откуда я знаю, сколько надо класть? Ты ведь говорил, что умеешь варить.
— Ну и сварю, не мешай только.
— Пожалуйста, не буду тебе мешать.
Отошел я в сторонку, а Мишка варит, то есть не варит, а только и делает, что лишнюю крупу в тарелки перекладывает. Весь стол уставил тарелками, как в ресторане, и все время воДы подливает.
Я не вытерпел и говорю:
— Ты что-то не так делаешь. Так ведь до утра можно варить!
— А что ты думаешь, в хорошем ресторане всегда обед с вечера варят, чтоб наутро поспел.
— Так то,—говорю,— в ресторане! Им спешить некуда, у них еды много всякой.
— А нам-то куда спешить?
ю
— Мишка, что это? Почему каша лезет?
— Нам надо поесть да спать ложиться. Смотри, скоро двенадцать часов.
— Успеешь,— говорит,— выспаться.
И снова бух в кастрюлю кружку воды. Тут я понял, в чем дело.
— Ты,— говорю,— все время холодную воду льешь, как же она может свариться.
— А как, по-твоему, без воды, что ли, варить?
— Выложить,— говорю,— половину крупы и налить воды сразу побольше, и пусть себе варится.
Взял я у него кастрюлю, вытряхнул из нее половину крупы.
— Наливай,— говорю,— теперь воды доверху.
Мишка взял кружку, полез в ведро.
— Нету,— говорит,— воды. Вся вышла.
— Что же мы делать будем? Как за водой идти, темнота какая! — говорю.— И колодца не увидишь.
— Чепуха! Сейчас принесу.
Он взял спички, привязал к ведру веревку и пошел к колодцу. Через минуту возвращается.
— А вода где? — спрашиваю.
— Вода... там, в колодце.
— Сам знаю, что в колодце. Где ведро с водой?
— И ведро,— говорит,— в колодце.
— Как — в колодце?
— Так, в колодце.
— Упустил?
— Упустил.
— Ах ты,— говорю,— .размазня! Ты что ж, нас уморить голодом хочешь? Чем теперь воды достать?
— Чайником можно.
Я взял чайник и говорю:
— Давай веревку.
— А ее нет, веревки.
— Где же она?
— Там.
— Где — там?
— Ну.,, в колодце.
12
— Так ты, значит, с веревкой ведро упустил?
— Ну да.
Стали мы другую веревку искать. Нет нигде.
— Ничего,— говорит Мишка,— сейчас пойду попрошу у соседей.
— С ума,— говорю,— сошел! Ты посмотри на часы: соседи спят давно.
Тут, как нарочно, обоим нам пить захотелось; кажется, сто рублей за кружку воды отдал бы!
Мишка говорит:
— Это всегда так бывает: когда нет воды, так еще больше пить хочется. Поэтому в пустыне всегда пить хочется, потому что там нет воды.
Я говорю:
— Ты не рассуждай, а ищи веревку.
— Где же ее искать? Я везде смотрел. Давай леску от удочки привяжем к чайнику.
— А леска выдержит?
— Может быть, выдержит.
— А если не выдержит?
— Ну, если не выдержит, то... оборвется...
— Это и без тебя известно.
Размотали мы удочку, привязали к чайнику леску и пошли к колодцу. Я опустил чайник в колодец и набрал воды. Леска натянулась, как струна, вот-вот лопнет.
— Не выдержит! — говорю.— Я чувствую.
— Может быть, если поднимать осторожно, то выдержит,— говорит Мишка.
Стал я поднимать потихоньку. Только приподнял над водой; плюх — и нет чайника.
— Не выдержала? — спрашивает Мишка.
— Конечно, не выдержала. Чем теперь доставать воду?
— Самоваром,— говорит Мишка.
— Нет, уж лучше самовар просто бросить в колодец, по крайней мере возиться не надо. Веревки-то нет.
— Ну, кастрюлей.
Что у нас,—говорю,— по-твоему, кастрюльный магазин?
— Тогда стаканом.
13
— Это сколько придется возиться, пока стаканом воды наносишь!
— Что же делать? Надо ведь кашу доваривать. И пить до зарезу хочется.
— Давай,— говорю,— кружкой. Кружка все-таки больше стакана.
Пришли домой, привязали леску к кружке так, чтоб она не переворачивалась. Вернулись к колодцу. Вытащили по кружке воды, напились. Мишка говорит:
— Это всегда так бывает. Когда пить хочется, так кажется, что целое море выпьешь, а когда станешь пить, так одну кружку выпьешь и больше уже не хочется, потому что люди от природы жадные...
Я говорю:
— Нечего тут на людей наговаривать! Тащи лучше кастрюлю с кашей сюда, мы прямо в нее воды натаскаем, чтоб не бегать двадцать раз с кружкой.
Мишка принес кастрюлю и поставил на край колодца. Я ее не заметил, зацепил локтем и чуть не столкнул в колодец.
— Ах ты, растяпа! — говорю.— Зачем мне кастрюлю под локоть сунул? Возьми ее в руки и держи крепче. И отойди^ от колодца подальше, а не то и каша полетит в колодец.
Мишка взял кастрюлю и отошел от колодца. Я натаскал воды.
Пришли мы домой. Каша у нас остыла, печь погасла. Растопили мы снова печь и опять принялись кашу варить. Наконец она у нас закипела, сделалась густая и стала пыхтеть: «Пых, пых!»
— О! — говорит Мишка. — Хорошая каша получилась, знатная!
Я взял ложку, попробовал:
— Тьфу! Что это за каша! Горькая, несоленая и воняет гарью.
14
Мишка тоже хотел попробовать, но тут же выплюнул,
— Нет, — говорит, — умирать буду, а такую кашу не стану есть!
— Такой каши наешься, и умереть можно! — говорю я.
— Что ж делать?
— Не знаю.
— Чудаки мы! — говорит Мишка.— У нас Же пескари есть!
Я говорю:
— Некогда теперь уже с пескарями возиться! Скоро светать начнет.
— Так мы их варить не будем, а зажарим. Это ведь быстро — раз, и готово.
— Ну давай,— говорю,— если быстро. А если будет, как каша, то лучше не надо.
— В один момент, вот увидишь.
Мишка почистил пескарей и положил на сковородку. Сковородка нагрелась, пескари и прилипли к ней. Мишка стал отдирать пескарей от сковородки ножом, все бока ободрал им.
— Умник! — говорю.— Кто же рыбу без масла жарит!
Мишка взял бутылку с подсолнечным маслом. Налил масла на сковородку и сунул в печь прямо на горячие угли, чтоб поскорее зажарились. Масло зашипело, затрещало и вдруг вспыхнуло на сковородке пламенем. Мишка вытащил сковородку из печки — масло на ней пылает. Я хотел водой залить, а воды у нас во всем доме ни капли нет. Так оно и горело, пока все масло не выгорело. В комнате дым и смрад, а от пескарей одни угольки остались.
— Ну,— говорит Мишка,— что теперь жарить будем?
— Нет,— говорю я,— больше я тебе ничего жарить не дам. Мало того, что ты продукты испортишь, так ты еще пожар устроишь. Из-за тебя весь дом сгорит. Довольно!
— Что же делать? Есть-то ведь хочется!
Попробовали мы сырую крупу жевать — противно. Попробовали сырой лук — горько. Масло попробовали без хлеба есть — тошно. Нашли банку из-под варенья. Ну, мы ее вылизали и легли спать. Уже совсем поздно было.
Наутро проснулись голодные. Мишка сразу полез за кру-:
15
пой, чтоб варить кашу. Я как увидел, так меня даже в дрожь бросило.
— Не смей! — говорю.— Сейчас я пойду к хозяйке, тете Наташе, попрошу, чтобы она нам кашу сварила.
Мы пошли к тете Наташе, рассказали ей все, обещали, что мы с Мишкой все сорняки у нее на огороде выполем, только пусть она поможет нам кашу сварить. Тетя Наташа сжалилась над нами: напоила нас молоком, дала пирогов с капустой, а потом усадила завтракать. Мы все ели и ели, так что тети Наташин Вовка на нас удивлялся, какие мы голодные были.
Наконец мы наелись, попросили у тети Наташи веревку и пошли доставать из колодца ведро и чайник. Много мы провозились и, если бы Мишка не придумал якорь из проволоки сделать, так бы ничего и не достали. А якорем, как крючком, подцепили и ведро и чайник. Ничего не пропало —все вытащили. А потом мы с Мишкой и Вовкой сорняки на огороде пололи.
Мишка говорил:
— Сорняки — это чепуха! Совсем нетрудное дело. Гораздо легче, чем кашу варить!
ДРУЖОК
Замечательно нам с Мишкой жилось на даче! Вот где было раздолье! Делай что хочешь, иди куда хочешь. Можешь в лес за грибами ходить или за ягодами или купаться в реке, а не хочешь купаться — так лови рыбу, и никто тебе слова не скажет. Когда у мамы кончился отпуск и нужно было собираться обратно в город, мы даже загрустили с Мишкой. Тетя Наташа заметила, что мы оба ходим как в воду опущенные, и стала уговаривать маму, чтоб мы с Мишкой остались еще пожить. Мама согласилась и договорилась с тетей Наташей, чтоб она нас кормила и всякое такое, а сама уехала.
Мы с Мишкой остались у тети Наташи. А у тети Наташи была собака Дианка. И вот как раз в тот день, когда мама уехала, Дианка вдруг ощенилась: шестерых щенков принесла. Пятеро черных с рыжими пятнами и один — совсем рыжий, только одно ухо у него было черное. Тетя Наташа увидела щенков и говорит:
— Чистое наказанье с этой Дианкой! Каждое лето она
2 Библиотека пионера, т. 4
17
щенков приносит! Что с ними делать, не знаю. Придется их утопить.
Мы с Мишкой говорим:
— Зачем топить? Они ведь тоже хотят жить. Лучше отдать соседям.
— Да соседи не хотят брать, у них своих собак полно,— сказала тетя Наташа.— А мне ведь тоже не надо столько собак.
Мы с Мишкой стали просить:
— Тетечка, не надо их топить! Пусть они подрастут немножечко, а потом мы сами их кому-нибудь отдадим.
Тетя Наташа согласилась, и щеночки остались. Скоро они подросли, стали бегать по двору и лаять: «Тяф! Тяф!» — совсем как настоящие псы. Мы с Мишкой по целым дням играли с ними.
Тетя Наташа несколько раз напоминала нам, чтоб мы раздали щенков, но нам было жалко Дианку. Ведь она станет скучать по своим детям, думали мы.
— Зря я вам поверила,— сказала тетя Наташа.— Теперь я вижу, что все щенки останутся у меня. Что я буду делать с такой оравой собак? На них одного корму сколько надо!
Пришлось нам с Мишкой браться за дело. Ну и помучились же мы! Никто не хотел брать щенков. Несколько дней подряд мы таскали их по всему поселку и насилу пристроили трех щенков. Еще двоих мы отнесли в соседнюю деревню. У нас остался один щенок, тот, который был рыжий с черным ухом. Нам он больше всех нравился. У него была такая милая морда и очень красивые глаза, такие большие, будто он все время чему-нибудь удивлялся. Мишка никак не хотел расставаться с этим щенком и написал своей маме такое письмо:
«Милая мамочка! Разреши мне держать щеночка маленького. Он очень красивый, весь рыжий, а ухо черное, и я его очень люблю. За это я тебя всегда буду слушаться, и буду хорошо учиться, и щеночка буду учить, чтоб из него выросла хорошая, большая собака».
Мы назвали щеночка Дружком. Мишка говорил, что купит книжку о том, как дрессировать собак, и будет учить Дружка по книжке..
18
* * ❖
Прошло несколько дней, а от Мишкиной мамы так и не пришло ответа. То есть пришло письмо, но в нем совсем ничего про Дружка не было. Мишкина мама писала, чтобы мы приезжали домой, потому что она беспокоится, как мы тут живем одни.
Мы с Мишкой в тот же день решили ехать, и он сказал, что повезет Дружка без разрешения, потому что он ведь не виноват, раз письмо не дошло.
— Как же вы повезете своего щенка? — спросила тетя Наташа.— Ведь в поезде не разрешают возить собак. Увидит проводник и оштрафует.
— Ничего,— говорит Мишка,— мы его в чемодан спрячем, никто и не увидит.
Мы переложили из Мишкиного чемодана все вещи ко мне в рюкзак, просверлили в чемодане дырки гвоздем, чтоб Дружок в нем не задохнулся, положили туда краюшку хлеба и кусок жареной курицы на случай, если Дружок проголодается, а Дружка посадили в чемодан и пошли с тетей Наташей на станцию.
Всю дорогу Дружок сидел в чемодане молча, и мы были уверены, что довезем его благополучно. На станции тетя Наташа пошла взять нам билеты, а мы решили посмотреть, что делает Дружок. Мишка открыл чемодан. Дружок спокойно лежал на дне и, задрав голову кверху, жмурил глаза от света.
— Молодец Дружок! — радовался Мишка.— Это такой умный пес!.. Понимает, что мы его везем тайком.
Мы погладили Дружка и закрыли чемодан. Скоро подошел поезд. Тетя Наташа посадила нас в вагон, и мы попрощались с ней. В вагоне мы выбрали для себя укромное местечко. Одна лавочка была совсем свободна, а напротив сидела старушка и дремала. Больше никого не было. Мишка сунул чемодан под лавку. Поезд тронулся, и мы поехали.
* * *
Сначала все шло хорошо, но на следующей станции стали садиться новые пассажиры. К нам подбежала какая-то длинноногая девчонка с косичками и затрещала, как сорока:
19
— Тетя Надя! Дядя Федя! Идите сюда! Скорее, скорее, здесь места есть!
Тетя Надя и дядя Федя пробрались к нашей лавочке.
— Сюда, сюда!—трещала девчонка.— Садитесь! Я вот здесь сяду с тетей Надечкой, а дядечка Федечка пусть сядет рядом с мальчиками.
— Не шуми так, Леночка,—сказала тетя Надя.
И они вместе сели напротив нас, рядом со старушкой, а дядя Федя сунул свой чемодан под лавку и сел рядом с нами.
— Ой, как хорошо! —захлопала в ладоши Леночка.— С одной стороны три дяденьки сидят, а с другой — три тетеньки.
Мы с Мишкой отвернулись и стали смотреть в окно. Сначала все было тихо, только колеса постукивали. Потом под лавкой послышался шорох и начало что-то скрестись, словно мышь.
— Это Дружок! — зашептал Мишка.— А что, если кондуктор придет?
— Ничего, может быть, он и не услышит.
— А если Дружок лаять начнет?
Дружок потихоньку скребся, будто хотел проскрести в чемодане дырку.
— Ай, мамочка, мышь! — завизжала эта егоза Леночка и стала поджимать под себя ноги.
— Что ты выдумываешь! — сказала тетя Надя.— Откуда тут мышь?
— А вот послушай! Послушай!
Тут Мишка изо всех сил стал кашлять и толкать чемодан ногой. Дружок на минуту успокоился, потом потихоньку заскулил. Все удивленно переглянулись, а Мишка поскорей стал тереть по стеклу пальцем так, чтоб стекло визжало. Дядя Федя посмотрел на Мишку строго и сказал:
— Мальчик, перестань! Это на нервы действует.
В это время сзади кто-то заиграл на гармошке, и Дружка не стало слышно. Мы обрадовались. Но гармошка скоро утихла.
— Давай будем песни петь! — шепчет Мишка.
— Неудобно,— говорю я.
20
— Ну, давай громко стихи читать.
— Ну, давай. Начинай.
Из-под лавки раздался писк. Мишка закашлял и поскорее начал стихи:
Травка зеленеет, солнышко блестит,
Ласточка с весною в сени к нам летит.
В вагоне раздался смех. Кто-то сказал:
— На дворе скоро осень, а у нас тут весна начинается! Леночка стала хихикать и говорить:
— Какие мальчишки смешные! То скребутся, как мыши, то по стеклу пальцами скрипят, то стихи читают.
Но Мишка ни на кого не обращал внимания. Когда эго стихотворение кончилось, он начал другое и отбивал такт ногами:
Как мой садик свеж и зелен!
Распустилась в нем сирень.
От черемухи душистой И от лип кудрявых тень.
— Ну, вот и лето пришло: сирень, видите ли, распустилась! — шутили пассажиры.
А у Мишки без всякого предупреждения грянула зима:
Зима!.. Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь;
Его лошадка, снег почуя,
Плетется рысью как-нибудь...
А потом почему-то все пошло шиворот-навыворот и после зимы наступила вдруг осень:
Скучная картина!
Тучи без конца.
Дождик так и льется,
Лужи у крыльца.
Тут Дружок жалобно завыл в чемодане, и Мишка закричал что было силы:
Что ты рано в гости,
Осень, к нам пришла?
Еще просит сердце Света и тепла!
21
Старушка, которая дремала напротив, проснулась, закивала головой и говорит:
— Верно, деточка, верно! Рано осень к нам пришла. Еще ребятишкам погулять хочется, погреться на солнышке, а тут осень! Ты, миленький, хорошо стишки говоришь, хорошо!
И она принялась гладить Мишку по голове. Мишка незаметно толкнул меня под лавкой ногой, чтоб я продолжал чтение, а у меня, как нарочно, все стихи выскочили из головы, только одна песня вертелась. Недолго раздумывая, я гаркнул что было силы на манер стихов:
Ах вы, сени, мои сени!
Сени новые мои!
Сени новые, кленовые, решетчатые!
Дядя Федя поморщился:
— Вот наказание! Еще один исполнитель нашелся!
А Леночка надула губки и говорит:
— Фи! Нашел что читать! Какие-то сени!
22
А я отбарабанил эту песню два раза подряд и принялся за другую:
Сижу за решеткой в темнице сырой.
Вскормленный в неволе орел молодой...
— Вот бы тебя засадить куда-нибудь, чтоб ты не портил людям нервы! — проворчал дядя Федя.
— Ты не волнуйся,— говорила ему тетя Надя.— Ребята стишки повторяют, что тут такого!
Но дядя Федя все^таки волновался и тер рукой лоб, будто у него голова болела. Я замолчал, но тут Мишка пришел на помощь и стал читать с выражением:
Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо, звезды блещут...
— О! — засмеялись в вагоне.— На Украину попал! Куда-то еще залетит?
На остановке вошли новые пассажиры:
— Ого, да тут стихи читают! Весело будет ехать.
А Мишка уже путешествовал по Кавказу:
Кавказ подо мною, один в вышине
Стою над снегами у края стремнины...
Так он объехал чуть ли не весь свет и попал даже на Север. Там он охрип и снова стал толкать меня под лавкой ногой. Я никак не мог припомнить, какие еще бывают стихи, и опять принялся за песню:
Всю-то я вселенную проехал.
Нигде я милой не нашел...
Леночка засмеялась:
— А этот все какие-то песни читает!
— А я виноват, что Мишка все стихи перечитал? — сказал я и принялся за новую песню:
Голова ль ты моя удалая,
Долго ль буду тебя я носить?
23
— Нет, братец,— проворчал дядя Федя,— если будешь так донимать всех своими стихами, то не сносить тебе головы!
Он опять принялся тереть рукой лоб, потом взял из-под лавки чемодан и вышел на площадку.
Поезд подходил к городу. Пассажиры зашумели, стали брать свои вещи и толпиться у выхода. Мы тоже схватили че-. модан и рюкзак и стали пролезать на площадку; Поезд остановился. Мы вылезли из вагона и пошли домой. В чемодане было тихо.
— Смотри,— сказал Мишка,— когда не надо, так он молчит, а когда надо было молчать, он всю дорогу скулил.
— Надо посмотреть — может, он там задохнулся? — говорю я.
Мишка поставил чемодан на землю, открыл его... и мы остолбенели: Дружка в чемодане не было! Вместо него лежали какие-то книжки, тетради, полотенце, мыло, очки в роговой оправе, вязальные спицы.
— Что это? — говорит Мишка.— Куда же Дружок делся?
Тут я понял, в чем дело.
— Стой! — говорю.— Да это ведь не наш чемодан!
Мишка посмотрел и говорит:
— Верно! В нашем чемодане были дырки просверлены, и, потом, наш был коричневый, а этот рыжий какой-то. Ах я разиня! Схватил чужой чемодан!
— Бежим скорей обратно, может быть, наш чемодан так и .стоит под лавкой,— сказал я.
Прибежали мы на вокзал. Поезд еще не ушел. А мы забыли, в каком вагоне ехали. Стали бегать по всем вагонам и заглядывать под лавки. Обыскали весь поезд. Я говорю:
— Наверно, его забрал кто-нибудь.
— Давай еще раз пройдем по вагонам,— говорит Мишка.
хМы еще раз обыскали все вагоны. Ничего не нашли. Стоим
с чужим чемоданом и не знаем, что делать. Тут пришел проводник и прогнал нас.
— Нечего,— говорит,— по вагонам шнырять!
Пошли мы домой. Я зашел к Мишке, чтобы выгрузить из рюкзака его вещи. Мишкина мама увидела, что он чуть не плачет, и спрашивает:
24
— Что с тобой?
— Дружок пропал!
— Какой дружок?
— Ну, щенок. Не получала письма разве?
— Нет, не получала.
— Ну вот! А я писал.
Мишка стал рассказывать, какой хороший был Дружок, как мы его везли и как он потерялся. Под конец Мишка расплакался, а я ушел домой и не знаю, что было дальше.
* * *
На другой день Мишка приходит ко мне и говорит:
— Знаешь, теперь выходит — я вор!
— Почему?
— Ну, я ведь чужой чемодан взял.
— Ты ведь по ошибке.
— Вор тоже может сказать, что он по ошибке.
25
— Тебе ведь никто не говорит, что ты вор.
— Не говорит, а все-таки совестно. Может быть, тому человеку этот чемодан нужен. Я должен вернуть.
— Да как же ты найдешь этого человека?
— А я напишу записки, что нашел чемодан, и расклею по всему городу. Хозяин увидит записку и придет за своим чемоданом.
— Правильно! — говорю я.
— Давай записки писать.
Нарезали мы бумаги и стали писать:
«Мы нашли чемодан в вагоне. Получить у Миши Козлова. Песчаная улица, № 8, кв. 3».
Написали штук двадцать таких записок. Я говорю:
— Давай напишем еще записки, чтоб нам вернули Дружка. Может, наш чемодан тоже кто-нибудь по ошибке взял.
— Наверно, его тот гражданин взял, который с нами в поезде ехал,— сказал Мишка.
Нарезали мы еще бумаги и стали писать:
«Кто нашел в чемодане щенка, очень просим вернуть Мише Козлову или написать по адресу: Песчаная улица, № 8, кв. 3».
Написали и этих записок штук двадцать и пошли их по городу расклеивать. Клеили на всех углах, на фонарных столбах... Только записок оказалось мало. Мы вернулись домой и стали еще записки писать. Писали, писали — вдруг звонок. Мишка побежал открывать. Вошла незнакомая тетенька.
— Вам кого? — спрашивает Мишка.
— Мишу Козлова.
Мишка удивился: откуда она его знает?
— А зачем?
— Я,— говорит,— чемодан потеряла.
— А! — обрадовался Мишка.— Идите сюда. Вот он, ваш чемодан.
Тетенька посмотрела и говорит:
— Это не мой.
— Как — не ваш? — удивился Мишка.
— Мой был побольше, черный, а этот рыжий.
— Ну, тогда вашего у нас нет,— говорит Мишка.— Мы другого не находили. Вот когда найдем, тогда пожалуйста.
26
Тетенька засмеялась и говорит:
— Вы неправильно делаете, ребята. Чемодан надо спрятать и никому не показывать, а если придут за ним, то вы сначала спросите, какой был чемодан и что в нем лежало. Если вам ответят правильно, тогда отдавайте чемодан. А так ведь вам кто-нибудь скажет: «Мой чемодан», и заберет, а это и не его вовсе. Всякие люди бывают!
— Верно! — говорит Мишка.— А мы и не сообразили!
Тетенька ушла.
— Вот видишь,— говорит Мишка,— сразу подействовало! Не успели мы записки наклеить, а люди уже приходят. Ничего, может быть, и Дружок найдется!
Мы спрятали чемодан под кровать, но в этот день к нам больше никто не пришел. Зато на другой день у нас перебывало много народу. Мы с Мишкой даже удивлялись, как много людей теряют свои чемоданы и разные другие вещи. Один гражданин забыл чемодан в трамвае и тоже пришел к нам, другой забыл в автобусе ящик с гвоздями, у третьего в прошлом году пропал сундук — все шли к нам, как будто у нас было бюро находок. С каждым днем приходило все больше и больше народу.
— Удивляюсь! — говорил Мишка.— Приходят только те, у которых пропал чемодан или хотя бы сундук, а те, которые нашли чемодан, преспокойно сидят дома.
— А чего им беспокоиться? Кто потерял, тот ищет, а кто нашел, чего ему еще ходить?
— Могли бы хоть письмо написать,— говорит Мишка.— Мы бы сами пришли.
* * *
Один раз мы с Мишкой сидели дома. Вдруг кто-то постучал в дверь. Мишка побежал отворять. Оказалось, пришел- почтальон. Мишка радостный вбежал в комнату с письмом в руках.
— Может быть, это про нашего Дружка! — сказал он и стал разбирать на конверте адрес, который был написан неразборчивыми каракулями.
27
Весь конверт был усеян штемпелями и наклейками е надписями.
— Это не нам письмо,— сказал наконец Мишка.— Это маме. Какой-то шибко грамотный человек писал. В одном слове две ошибки сделал: вместо «Песчаная» улица написал «Печная». Видно, письмо долго по городу ходило^ лока куда надо дошло... Мама!—закричал Мишка.— Тебе письмо от какого-то грамотея!
— Что это за грамотей?
— А вот почитай письмо.
Мама разорвала конверт и стала читать вполголоса:
— «Милая мамочка! Разреши мне держать щеночка маленького. Он очень красивый, весь рыжий, а ухо черное, и я его очень люблю...» Что это? — говорит мама.—Это ведь ты писал!
Я засмеялся и посмотрел на Мишку. А он покраснел как вареный рак и убежал.
* * *
Мы с Мишкой потеряли надежду отыскать Дружка, но Мишка часто вспоминал о нем:
— Где он теперь? Какой у него хозяин? Может быть, он злой человек и обижает Дружка? А может быть, Дружок так и остался в чемодане и погиб там от голода? Пусть бы мне не вернули его, а только хоть бы сказали, что он живой и что ему хорошо!
Скоро каникулы кончились, и пришла пора идти в школу. Мы были рады, потому что очень любили учиться и уже соскучились по школе. В этот день мы встали рано-рано, оделись во все новое и чистое. Я пошел к Мишке, чтоб разбудить его, и встретился с ним на лестнице. Он как раз шел ко мне, чтобы разбудить меня.
Мы думали, что в этом году с нами будет заниматься Вера Александровна, которая учила нас в прошлом году, но оказалось, что у нас теперь будет совсем новая учительница, Надежда Викторовна, так как Вера Александровна перешла в другую школу. Надежда Викторовна дала нам расписание
уроков, сказала, какие учебники будут нужны, и стала вызывать нас всех по журналу, чтоб познакомиться с нами. А потом спросила:
— Ребята, вы учили в прошлом году стихотворение Пушкина «Зима»?
— Учили! — загудели все хором.
— Кто помнит это стихотворение?
Все ребята молчали. Я шепчу Мишке:
— Ты ведь помнишь?
— Помню.
— Так поднимай руку!
Мишка поднял руку.
— Ну, выходи на середину и читай,— сказала учительница.
Мишка подошел к столу и начал читать с выражением:
Зима!.. Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь;
Его лошадка, снег почуя,
Плетется рысью как-нибудь...
29
Он читал все дальше и дальше, а учительница сначала смотрела на него пристально, потом наморщила лоб, будто вспоминала что-то, потом вдруг протянула к Мишке руку и говорит:
— Постой, постой! Я вспомнила: ты ведь тот мальчик, который ехал в поезде и всю дорогу читал стихи? Верно?
Мишка сконфузился и говорит:
— Верно.
— Ну, садись, а после уроков зайдешь ко мне в учительскую.
— А стихи не надо кончать? — спросил Мишка.
— Не надо. Я и так вижу, что ты знаешь.
Мишка сел и принялся толкать меня под партой ногой:
— Это она! Та тетенька, которая с нами в поезде ехала. Еще с нею была девчонка Леночка и дяденька, который сердился. Дядя Федя, помнишь?
— Помню,— говорю.— Я ее тоже узнал, как только ты стихи стал читать.
— Ну, что теперь будет? — беспокоился Мишка.— Зачем она меня в учительскую вызвала? Наверно, достанется нам за то, что мы тогда шумели в поезде!
Мы с Мишкой так волновались, что не заметили даже, как занятия кончились. Последними вышли из класса, и Мишка пошел в учительскую. Я остался ждать его в коридоре. Наконец он оттуда вышел.
— Ну, что тебе учительница сказала? — спрашиваю я.
— Оказывается, мы ее чемодан взяли, то есть не ее, а того дяденьки. Но это все равно. Она спросила, не взяли ли мы по ошибке чужой чемодан. Я сказал, что взяли. Она стала расспрашивать, что в этом чемодане было, и узнала, что это их чемодан. Она велела сегодня же принести ей чемодан и дала адрес.
Мишка показал мне бумажку, на которой был записан адрес. Мы поскорей пошли домой, взяли чемодан и отправились по адресу.
Нам открыла дверь Леночка, которую мы видели в поезде.
— Вам кого? — спросила она.
А мы забыли, как звать учительницу.
30
— Постойте,— говорит Мишка.— Вот тут на бумажке записано... Надежду Викторовну.
Леночка говорит:
— Вы, наверно, чемодан принесли?
— Принесли.
— Ну, заходите.
Она привела нас в комнату и закричала:
— Тетя Надя! Дядя Федя! Мальчики чемодан принесли!
Надежда Викторовна и дядя Федя вошли в комнату. Дядя
Федя открыл чемодан, увидел свои очки и сразу надел их на нос.
— Вот они, мои любимые старые очки!—обрадовался он.— Как хорошо, что они нашлись! А то я к новым очкам никак не могу привыкнуть.
Мишка говорит:
— Мы ничего не трогали. Все ждали, когда хозяин отыщется. Мы даже везде объявления наклеили, что нашлн чемодан.
— Ну вот! — сказал дядя Федя.— А я никогда не читаю объявлений на стенах. Ну ничего, в следующий раз буду умнее— всегда буду читать.
Леночка куда-то ушла, а потом вернулась в комнату, а за ней бежал щенок. Он был весь рыжий, только одно ухо у него было черное.
— Смотри! — прошептал Мишка.
Щенок насторожился, приподнял свое ухо и поглядел на нас.
— Дружок! — закричали мы.
Дружок завизжал от радости, кинулся к нам, принялся прыгать и лаять. Мишка схватил его на руки:
— Дружок! Верный мой пес! Значит, ты не забыл нас?
Дружок лизал ему щеки, а Мишка целовал его прямо в
морду. Леночка смеялась, хлопала в ладоши и кричала:
— Мы его в чемодане с поезда принесли! Мы по ошибке ваш чемодан взяли. Это все дядечка Федечка виноват!
— Да,— сказал дядя Федя,— это моя вина. Я первый взял ваш чемодан, а потом уж вы мой взяли.
Они отдали нам чемодан, в котором Дружок ехал в поезде.
31
Леночка, видно, очень не хотела расставаться с Дружком. На глазах у нее даже слезы были. Мишка сказал, что на следующий год у Дианки снова будут щенки, тогда мы выберем самого красивого и привезем ей.
— Обязательно привезите,— сказала Леночка.
Мы попрощались и вышли на улицу. Дружок сидел на руках у Мишки, вертел во все стороны головой, и глаза у него были такие, будто он всему удивлялся. Наверно, Леночка все время держала его дома и ничего ему не показывала.
Когда мы подошли к дому, у нас на крыльце сидели две тетки и дядька. Они, оказывается, нас ждали.
— Вы, наверно, за чемоданом пришли? — спросили мы их.
— Да,— сказали они.— Это вы те ребята, которые чемодан нашли?
— Да, это мы,— говорим мы.— Только никакого чемодана у нас теперь нет. Уже нашелся хозяин, и мы отдали.
— Так вы бы поснимали свои записки, а то только людей смущаете. Приходится из-за вас даром время терять!
Они поворчали и разошлись. А мы с Мишкой в тот же день обошли все места, где наклеили записки, и ободрали их.
ТЕЛЕФОН
Один раз мы с Мишкой были в игрушечном магазине и увидели замечательную игрушку — телефон. В большой деревянной коробке лежали два телефонных аппарата, две трубки, в которые говорить и слушать, и целая катушка проволоки. Продавщица объяснила нам, что если один телефон поставить в одной квартире, а другой — у соседей и соединить оба аппарата проволокой, то можно переговариваться.
— Вот нам бы купить! Мы как раз соседи,— сказал Мишка.— Хорошая штука! Это не какая-нибудь простая игрушка, которую поломаешь и выбросишь. Это полезная вещь!
— Да,— говорю я,— очень полезная штука! Захотел поговорить, взял трубку — поговорил, и ходить никуда не надо.
— Удобство! — восторгался Мишка.— Сидишь дома и разговариваешь. Замечательно!
Мы с Мишкой решили собирать деньги, чтобы купить телефон. Две недели подряд мы не ели мороженого, не ходили в кино — все деньги копили. Наконец насобирали сколько было нужно и купили телефон.
зз
Примчались из магазина домой с коробкой. Один телефон у меня поставили, другой — у Мишки и от моего телефона протянули проволоку через форточку вниз, прямо к Мишкиному телефону.
— Ну,— говорит Мишка,— попробуем разговаривать. Беги наверх и слушай.
Я помчался к себе, взял трубку и слушаю, а трубка уже кричит Мишкиным голосом:
— Алло! Алло!
Я тоже как закричу:
— Алло!
— Слышно что-нибудь? — кричит Мишка.
— Слышно. А тебе слышно?
— Слышно. Вот здорово! Тебе хорошо слышно?
— Хорошо. А тебе?
— И мне хорошо! Ха-ха-ха! Слышно, как я смеюсь?
— Слышно. Ха-ха-ха! А тебе слышно?
— Слышно. Послушай, сейчас я к тебе приду.
Мишка прибежал ко мне, и мы принялись обниматься от радости.
— Хорошо, что купили телефон! Правда? — говорит Мишка.
— Конечно,— говорю,— хорошо.
— Слушай, сейчас я пойду обратно и позвоню тебе.
Он убежал и позвонил снова.
Я взял трубку:
— Алло!
— Алло!
— Слышно?
— Слышно.
— Хорошо?
— Хорошо.
— И у меня хорошо. Давай разговаривать.
— Давай,— говорю.— А о чем разговаривать?
— Ну, о чем... О чем-нибудь... Хорошо, что мы купили телефон, правда?
— Правда.
— Вот если бы не купили, было бы плохо. Правда?
.34
— Правда.
— Ну?
— Что «ну»?
— Чего же ты не разговариваешь?
— А ты почему не разговариваешь?
— Да я не знаю, о чем разговаривать,— говорит Мишка.— Это всегда так бывает: когда надо разговаривать, так не знаешь, о чем разговаривать, а когда не надо разговаривать, так разговариваешь и разговариваешь...
Я говорю:
— Давай вот что: подумаем, а когда придумаем, тогда позвоним.
— Ладно.
Я повесил трубку и стал думать. Вдруг звонок. Я взял трубку.
— Ну, придумал? — спрашивает Мишка.
— Нет еще, не придумал.
— Я тоже еще не придумал.
— Зачем же ты звонишь, раз не придумал?
— А я думал, что ты придумал.
— Я сам тогда позвонил бы.
■— А я думал, что ты не догадаешься.
-- Что ж я, по-твоему, осел?
— Нет, какой же ты осел! Ты совсем не осел! Разве я говорю, что ты осел!
— А что ты говоришь?
— Ничего. Говорю, что ты не осел.
— Ну ладно, довольно тебе про осла твердить! Давай лучше уроки учить.
— Давай.
Я повесил трубку и сел за уроки. Вдруг Мишка снова звонит:
— Слушай, сейчас я буду петь и на рояле играть по телефону.
— Ну, пой,— говорю.
Послышалось какое-то сопение, не то шипение, потом забренчала громкая музыка, и вдруг Мишка запел не своим голосом:
35
Куда, куда вы удалились,
Весны моей златые дни-и-и?
«Что это?—думаю.— Где он так петь выучился?»
Вдруг Мишка сам является. Рот до ушей.
— Ты думал, это я пою? Это патефон по телефону поёт! Дай-ка, я послушаю.
Я дал ему трубку. Он слушал, слушал, потом как бросит трубку — и бегом вниз. Я взял трубку, а там «Пш-ш-ш! Пш-ш-ш! Др-р-р! Др-р-р!» Наверно, пластинка кончилась. Я снова сел за уроки. Опять звонок. Я взял трубку:
— Алло!
А из трубки:
— Ав! Ав! Ав!
— Ты чего,— говорю,— по-собачьи лаешь?
— Это не я. Это с тобой Дружок разговаривает. Слышишь, как он кусает трубку зубами?
— Слышу.
— Это я ему в морду тыкаю трубкой, а он ее зубами грызет.
— Ты бы лучше не портил трубку.
— Ничего, она железная... Ай! Пошел вон! Я тебе покажу, как кусаться! Вот тебе! (Ав! Ав! Ав!) Кусается, понимаешь?
— Понимаю,— говорю*
Снова сел за уроки. Через минуту звонок. Я взял трубку, а там что-то жужжит:
«Жжу-у-у-у!»
— Алло! — кричу я.
«Жуу-у! Жжу-у!»
— Чем ты там жужжишь?
— Мухой.
— Какой мухой?
— Ну, простой мухой. Я ее держу перед трубкой, а она крылышками машет и жужжит»
Целый вечер мы с Мишкой звонили друг другу и выдумывали разные фокусы: пели, кричали, рычали, мычали, даже шепотом разговаривали — все было слышно. Уроки я кончил поздч но и думаю:
36
— Это не я. Это с тобой Дружок разговаривает. Слышишь, как он кусает
трубку зубами?
«Позвоню еще раз Мишке, перед тем как лечь спать».
Позвонил, а он не отвечает.
«Что же это? — думаю.— Неужели телефон испортился?»
Позвонил еще раз — опять нет ответа! Думаю:
«Надо пойти узнать, в чем дело».
Прибегаю к нему... Батюшки! Он телефон положил на стол и ломает. Батарею из аппарата вытащил, звонок разобрал и уже трубку развинчивает.
— Стой! — говорю.— Ты зачем телефон ломаешь?
— Да я не ломаю. Я только хочу посмотреть, как он устроен. Разберу, а потом соберу обратно.
— Так разве ты соберешь? Это понимать надо.
— Ну я и понимаю. Чего тут еще не понимать!
Он развинтил трубку, вынул из нее какие-то железки и стал отковыривать круглую пластинку, которая внутри была. Пластинка вывалилась, и из трубки посыпался черный порошок. Мишка испугался и стал собирать порошок обратно в трубку.
— Ну, вот видишь,— говорю,— что ты наделал!
— Ничего,— говорит,— я сейчас соберу все, как было.
И стал собирать. Возился, возился... Винтики маленькие, завинчивать трудно. Наконец собрал трубку, только железка у него одна осталась и два винтика лишних.
— А это откуда — железка? — спрашиваю.
— Ах я разиня! — говорит Мишка.— Забыл! Ее надо было там внутри привинтить. Придется снова разбирать трубку.
— Ну,— говорю,— я пойду домой, а ты, как только будет готово, позвони мне.
Пошел я домой и стал ждать. Ждал, ждал, так ничего не дождался и спать лег.
Наутро телефон как зазвонит! Я вскочил неодетый, схватил трубку и кричу:
— Слушаю!
А из трубки в ответ:
— Ты чего хрюкаешь?
— Как это — хрюкаю? Я не хрюкаю,— говорю я.
— Брось хрюкать! Говори по-человечески! — кричит Мишка.
— Я и говорю по-человечески. Зачем мне хрюкать?
38
— Ну, довольно тебе баловаться! Все равно я не поверю, что ты поросенка в комнату притащил.
— Да говорят же тебе, что никакого поросенка нет! — рассердился я.
Мишка замолчал. Через минуту приходит ко мне:
— Ты чего хрюкал
по телефону?
— Я не хрюкал.
— Я ведь слышал.
— Да зачем же мне хрюкать?
— Не знаю,— говорит.— Только у меня в трубке все «хрю- хрю» да «хрю-хрю». Вот пойди, если не веришь, послушай.
Я пошел к нему и позвонил по телефону:
— Алло!
Сначала ничего не было слышно, а потом потихоньку так: «Хрюк! Хрюк! Хрюк!»
Я говорю:
— Хрюкает.
А в ответ снова:
«Хрюк! Хрюк! Хрюк!»
— Хрюкает! — кричу я.
А из трубки опять:
«Хрюк! Хрюк! Хрюк! Хрюк!»
Тут я понял, в чем дело, и побежал к Мишке.
— Это ты,— говорю,— телефон испортил!
— Почему?
— Ты ведь разбирал его, вот и испортил у себя в трубке что-то.
— Наверно, я что-нибудь неправильно собрал,— говорит Мишка.— Надо исправить.
— Как же теперь исправишь?
39
— А я посмотрю, как твой телефон устроен, и свой сделаю так же.
— Не дам я свой телефон разбирать!
— Да ты не бойся! Я осторожно. Надо же починить!
И стал чинить. Возился, возился— и починил так, что совсем ничего не стало слышно. Даже хрюкать перестало.
— Ну, что теперь делать? — спрашиваю я.
— Знаешь,— говорит Мишка,— пойдем в магазин, может быть, там починят.
Пошли мы в игрушечный магазин, но там телефонов не чинили и даже не знали, где их чинят. Целый день мы ходили скучные. Вдруг Мишка придумал:
— Чудаки мы! Ведь мы можем по телеграфу переговариваться!
— Как — по телеграфу?
— Очень просто: точка, тире. Звонок-то ведь действует!
Короткий звонок — точка, а длинный — тире. Выучим азбуку
Морзе и будем переговариваться!
Достали мы азбуку Морзе и стали учить: «А» — точка, тире; «Б» — тире, три точки; «В» — точка, два тире... Выучили всю азбуку и стали переговариваться. Сначала у нас получалось медленно, а потом мы научились, как настоящие телеграфисты: «трень-трень-трень!» — и все понятно. Это даже интереснее было, чем простой телефон. Только это продолжалось недолго. Один раз звоню Мишке утром, а он не отвечает. «Ну,— думаю,— спит еще». Позвонил позже — опять не отвечает. Пошел к нему и стучу в дверь. Мишка открыл и говорит:
— Ты чего в дверь барабанишь? Не видишь, что ли?
И показывает на двери кнопку.
40
— Что это? — спрашиваю.
— Кнопка.
— Какая?
— Электрическая. У нас теперь электрический звонок есть, так что можешь звонить.
— Где ты взял?
— Сам сделал.
— Из чего?
— Из телефона.
— Как — из телефона?
— Очень просто. Звонок из телефона выдрал, кнопку — тоже. И батарею из телефона вынул. Была игрушка — стала вещь!
Какое же ты имел право телефон разбирать?—говорю я.
— Какое право! Я свой телефон разобрал. Твоего ведь не трогал.
— Так телефон-то наш общий! Если бы я знал, что ты станешь ломать, то и не стал бы с тобой покупать! Зачем мне телефон, если разговаривать не с кем!
— А зачем нам разговаривать? Небось недалеко живем, можно и так прийти поговорить.
— Я с тобой и разговаривать после этого не хочу!
Рассердился я на него и три дня с ним не разговаривал.
От скуки и я свой телефон разобрал и сделал из него электрический звонок. Только не так, как у Мишки. Я все аккуратно устроил. Батарею поставил возле двери на полочке, от нее по стене провода протянул к электрическому звонку и кнопке. А кнопку к двери хорошенько винтиками привинтил, чтоб она не болталась на одном гвозде, как у Мишки. Даже папа и мама похвалили меня за то, что я устроил такую полезную вещь в доме. Я пошел к Мишке, чтобы рассказать ему, что у меня теперь тоже электрический звонок есть.
&
, %,
J,
41
Подхожу к двери, звоню... Нажимал кнопку, нажимал — никто не отворяет. «Может быть, звонок испортился?» — думаю. Стал в дверь стучать. Мишка открыл. Я спрашиваю:
— Что же звонок, не действует?
— Не действует.
— Почему?
— Да я батарею разобрал.
— Зачем?
— Ну, я хотел посмотреть, из чего батарея сделана.
— Как же,— говорю,— ты теперь будешь — без телефона и без звонка?
— Ничего,— вздохнул он,— как-нибудь буду!
Пошел я домой, а сам думаю: «Почему Мишка такой нескладный? Зачем он все ломает?!» Мне даже жалко стало его.
Вечером я лег спать и долго не мог заснуть, все вспоминал: как у нас был телефон и как из него получился электрический звонок. Потом я стал думать об электричестве, как оно получается в батарее и из чего. Все давно уже спали, а я все думал про это и никак не мог заснуть. Тогда я встал, зажег лампу, снял с полки батарею и разломал ее. В батарее оказалась какая-то жидкость, в которой мокла черная палка, завернутая в тряпочку. Я понял, что электричество получалось из этой жидкости. Потом лег в постель и быстро заснул.
БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ
Сколько хлопот у нас с Мишкой было перед Новым годом! Мы уже давно готовились к празднику: клеили бумажные цепи на елку, вырезали флажки, делали разные елочные украшения. Все было бы хорошо, но тут Мишка достал где-то книгу «Занимательная химия» и вычитал в ней, как самому сделать бенгальские огни.
С этого и началась кутерьма! По целым дням он толок в ступе серу и сахар, делал алюминиевые опилки и поджигал смесь на пробу. По всему дому шел дым и воняло удушливыми газами. Соседи сердились, и никаких бенгальских огней не получалось.
Но Мишка не унывал. Он позвал к себе на елку даже многих ребят из нашего класса и хвастал, что у него будут бенгальские огни.
43
— Оли знаете какие! — говорил он.— Они сверкают, как серебро, и рассыпаются во все стороны огненными брызгами.
Я говорю Мишке:
— Что же ты наделал? Позвал ребят, а никаких бенгальских огней не будет.
— Почему не будет? Будет! Еще времени много. Все успею сделать.
Накануне Нового года он приходит ко мне и говорит:
— Слушай, пора нам за елками ехать, а то останемся мы на праздник без елок.
— Сегодня уже поздно,— ответил я.— Завтра поедем.
— Так ведь завтра уже украшать елку надо.
— Ничего,— говорю я.— Украшать надо вечером, а мы поедем днем, сейчас же после школы.
Мы с Мишкой уже давно решили поехать за елками в Го- релкино, где мы жили у тети Наташи на даче. Тети Наташин муж работал лесничим и еще летом сказал, чтобы мы приезжали к нему в лес за елками. Я даже заранее упросил маму, чтоб она разрешила мне в лес поехать.
На другой день я прихожу к Мишке после обеда, а он .сиди г и толчет бенгальские огни в ступе.
— Что ж ты,— говорю,— не мог раньше сделать? Ехать пора, а ты возишься!
— Да я делал и раньше, только, наверно, мало серы клал. Они шипят, дымят, а гореть не горят.
— Ну и брось, все равно ничего не выйдет.
— Нет, теперь, наверно, выйдет. Надо только побольше серы класть. Дай-ка мне алюминиевую кастрюлю, вон на подоконнике.
— Где же кастрюля? Тут только сковородка,— говорю я.
— Сковородка?.. Эх, ты! Да это и есть бывшая кастрюля. Давай ее сюда.
Я передал ему сковородку, и он принялся скоблить ее по краям напильником.
— Это у тебя, значит, кастрюля в сковородку превратилась? — спрашиваю я.
— Ну да,— говорит Мишка.— Я ее пилил напильником,
44
пилил, вот она и сделалась сковородкой. Ну ничего, сковородка тоже нужна в хозяйстве.
— Что же тебе мама сказала?
— Ничего не сказала. Она еще не видела.
— А когда увидит?
— Ну что ж... Увидит так увидит. Я, когда вырасту, новую кастрюлю ей куплю.
— Это долго ждать, пока ты вырастешь!
— Ничего.
Мишка наскоблил опилок, высыпал порошок из ступки, налил клею, размешал все это, так что у него получилось тесто вроде замазки. Из этой замазки он наделал длинных колбасок, навертел их на железные проволочки и разложил на фанерке сушиться.
— Ну вот,— говорит,— высохнут — и будут готовы, только надо от Дружка спрятать.
— Зачем от него прятать?
— Слопает.
— Как — слопает? Разве собаки бенгальские огни едят?
— Не знаю. Другие, может быть, и не едят, а Дружок ест. Один раз я оставил их сохнуть, вхожу— а он их грызет. Наверно, думал, что это конфеты.
— Ну, спрячь их в печь. Там тепло, и Дружок не достанет.
— В печку тоже нельзя. Один раз я их спрятал в печь, а мама пришла и затопила — они и сгорели. Я их лучше на шкаф положу,— говорит Мишка.
Мишка взобрался на стул и положил фанерку на шкаф.
— Ты ведь знаешь, какой Дружок,— говорит Мишка.— Он всегда мои вещи хватает! Помнишь, он затащил мой левый ботинок, так что мы его нигде найти не могли. Пришлось мне тогда три дня ходить в валенках, пока другие ботинки не купили. На дворе теплынь, а я хожу в валенках, как будто обмороженный! А потом уже, когда купили другие ботинки, мы этот ботинок, который один остался, выбросили, потому что кому он нужен — один ботинок! А когда его выбросили, отыскался тот ботинок, который потерялся. Оказалось — его Дружок затащил на кухню под печь. Ну, мы и этот ботинок выбросили, потому что если б первый не выбросили, то и второй бы
45
не выбросили, а раз первый выбросили, то и второй выбросили. Так оба и выбросили.
Я говорю:
— Довольно тебе болтать! Одевайся скорее, ехать надо.
Мишка оделся, мы взяли топор и помчались на вокзал.
А тут поезд как раз ушел, так что пришлось нам дожидаться другого. Ну ничего, дождались, поехали. Ехали, ехали, наконец приехали. Слезли в Горелкине и пошли прямо к лесничему. Он дал нам квитанцию на две елки, показал делянку, где разрешалось рубить, и мы пошли в лес. Елок кругом много, только Мишке они все не нравились.
— Я такой человек,— хвалился он,— уж если поехал в лес, то срублю самую лучшую елку, а то и ездить не стоит.
Забрались мы в самую чащу.
— Надо рубить поскорей,— говорю я.— Скоро и темнеть начнет.
— Что ж рубить, когда нечего рубить!
— Да вот,— говорю,— хорошая елка.
Мишка осмотрел елку со всех сторон и говорит:
— Она, конечно, хорошая, только не совсем. По правде сказать, совсем нехорошая: куцая.
— Как это — куцая?
— Верхушка у нее короткая. Мне такой елки и даром не надо!
Нашли мы другую елку.
— А эта хромая,— говорит Мишка.
— Как — хромая?
— Так, хромая. Видишь, у нее нога внизу закривляется.
— Какая нога?
— Ну, ствол.
— Ствол! Так бы и говорил!
Нашли мы еще одну елку.
— Лысая,— говорит Мишка.
— Сам ты лысый! Как это елка может быть лысая?
— Конечно, лысая! Видишь, какая она реденькая, вся просвечивает. Один ствол виден. Просто не елка, а палка!
И так все время: то лысая, то хромая, то еще какая-нибудь!
46
— Иу,— говорю,— тебя слушать — до ночи елки не срубишь!
Нашел себе подходящую елочку, срубил и отдал топор Мишке:
— Руби поскорей, нам домой ехать пора.
А он словно весь лес взялся обыскать. Уж я и просил его и бранил — ничего не помогало. Наконец он нашел елку по своему вкусу, срубил, и мы пошли обратно на станцию. Шли, шли, а лес все не кончается.
— Может, мы не в ту сторону идем? — говорит Мишка.
Пошли мы в другую сторону. Шли, шли — все лес да лес!
Тут и темнеть начало. Мы давай сворачивать то в одну сторону, то в другую. Заплутались совсем.
— Вот видишь,— говорю,— что ты наделал!
— Что же я наделал? Я ведь не виноват, что так скоро наступил вечер.
— А сколько ты елку выбирал? А дома сколько возился? Вот придется из-за тебя в лесу ночевать!
— Что ты! — испугался Мишка.— Ведь ребята сегодня придут. Надо искать дорогу.
Скоро стемнело совсем. На небе засверкала луна. Черные стволы деревьев стояли, как великаны, вокруг. За каждым деревом нам чудились волки. Мы остановились и боялись идти вперед.
47
— Давай кричать! — говорит Мишка.
Тут мы как закричим вместе:
— Ау!
«Ау!» — ответило эхо.
— Ау! Ау-у! — закричали мы снова что было силы.
«Ау! Ау-у!» — повторило эхо.
— Может быть, нам лучше не кричать? — говорит Мишка.
— Почему?
— Еще волки услышат и прибегут.
— Тут, наверно, никаких волков нет.
— А вдруг есть! Лучше пойдем скорее.
Я говорю:
— Давай прямо идти, а то мы никак на дорогу не выберемся.
Пошли мы снова. Мишка все оглядывался и спрашивал:
— А что делать, когда нападают волки, если ружья нет?
— Бросать в них горящие головешки,— говорю я.
— А где их брать, эти головешки?
— Развести костер — вот тебе и головешки?
— А у тебя есть спички?
— Нету.
— А они на дерево могут влезть?
— Кто?
— Да волки.
— Волки? Нет, не могут.
— Тогда, если на нас нападут волки, мы залезем на дерево и будем сидеть до утра.
— Что ты! Разве просидишь на дереве до утра!
— Почему не просидишь?
— Замерзнешь и свалишься.
— Почему замерзнешь? Нам ведь не холодно.
— Нам не холодно, потому что мы двигаемся, а попробуй посиди на дереве без движения — сразу замерзнешь.
— А зачем сидеть без движения? — говорит Мишка;— Можно сидеть и ногами дрыгать.
— Это устанешь — целую ночь на дереве ногами дрыгать!
Мы продирались сквозь густые кустарники, спотыкались
48
о пни, тонули по колено в снегу. Идти становилось трудней и трудней.
Мы очень устали.
— Давай бросим елки! — говорю я.
— Жалко,— говорит Мишка.— Ко мне ребята сегодня придут. Как же я без елки буду?
— Тут нам бы самим,— говорю,— выбраться! Чего еще о елках думать!
— Постой,— говорит Мишка.— Надо одному вперед идти и протаптывать дорогу, тогда другому будет легче. Будем меняться по очереди.
Мы остановились, передохнули. Потом Мишка впереди пошел, а я за ним следом. Шли, шли... Я остановился, чтоб переложить елку на другое плечо. Хотел идти дальше, смотрю — нет Мишки! Исчез, словно провалился под землю вместе со своей ёлкой.
Я кричу:
— Мишка!
А он не отвечает.
— Мишка! Эй! Куда же ты делся?
Нет ответа.
Я пошел осторожно вперед, смотрю— а там обрыв! Я чуть не свалился с обрыва. Вижу — внизу шевелится что-то темное.
— Эй! Это ты, Мишка?
— Я! Я, кажется, с горы скатился!
— Почему же ты не отвечаешь? Я тут кричу, кричу...
— Ответишь тут, когда я ногу ушиб!
Я спустился к нему, а там дорога. Мишка сидит посреди дороги и коленку руками трет.
— Что с тобой?
— Коленку ушиб. Нога, понимаешь, подвернулась.
— Больно?
— Больно! Я посижу.
— Ну, давай посидим,— говорю я.
Уселись мы с ним на снегу. Сидели, сидели, пока нас не пробрал холод. Я говорю:
— Тут и замерзнуть можно! Может быть, пойдем по дороге? Она нас куда-нибудь выведет: или на станцию, или к
3 Блблкотека пионера, т. 4
49
лесничему, или в деревню какую-нибудь. Не замерзать же в лесу!
Мишка хотел встать, но тут же заохал и опять сел.
— Не могу,— говорит.
— Что же теперь делать? Давай я понесу тебя на закорках,— говорю я.
— Да разве ты донесешь?
— Давай попробую.
Мишка поднялся и начал взбираться ко мне на спину. Кряхтел, кряхтел, насилу залез. Тяжелый! Я согнулся в три погибели.
— Ну, неси! — говорит Мишка.
Только прошел я несколько шагов, поскользнулся — и бух в снег.
— Ай! — заорал Мишка.— У меня нога болит, а ты меня в снег кидаешь!
— Я же не нарочно!
— Не брался бы, если не можешь!
— Горе мне с тобой! — говорю я.— То ты с бенгальскими огнями возился, то елку до самой темноты выбирал, а теперь вот зашибся... Пропадешь тут с тобой!
— Можешь не пропадать!..
— Как же не пропадать?
— Иди один. Это все я виноват. Я уговорил тебя за елками ехать.
— Что же, я тебя бросить должен?
— Ну и что ж? Я и один дойду. Посижу, нога пройдет — я и пойду.
— Да ну тебя! Никуда я без тебя не пойду. Вместе приехали, вместе и вернуться должны. Надо придумать'что-нибудь.
— Что же ты придумаешь?
— Может быть, санки сделать? У нас топор есть.
— Как же ты из топора санки сделаешь?
■— Да не из топора, голова! Срубить дерево, а из дерева — санки.
— Все равно гвоздей нет.
— Надо подумать,— говорю я.
50
И стал думать. А Мишка все на снегу сидит. Я подтащил к нему елку и говорю:
— Ты лучше на елку сядь, а то простудишься.
Он уселся на елку. Тут мне пришла в голову мысль.
— Мишка.— говорю я,— а что, если тебя повезти на елке?
— Как — на елке?
— А вот так: ты сиди, а я буду за ствол тащить. Ну-ка, держись!
Я схватил елку за ствол и потащил. Вот как ловко придумал! Снег на дороге твердый, укатанный, елка по нему легко идет, а Мишка на ней — как на санках!
— Замечательно! — говорю я.— На-ка, держи топор.
Отдал ему топор. Мишка уселся поудобнее, и я повез его
по дороге. Скоро мы выбрались на опушку леса и сразу увидели огоньки.
— Мишка! — говорю.— Станция!
Издали уже слышался шум поезда.
— Скорей! — говорит Мишка.— Опоздаем на поезд!
Я припустился изо всех сил. Мишка кричит:
— Еще поднажми! Опоздаем!
Поезд уже подъезжал к станции. Тут и мы подоспели. Подбегаем к вагону. Я подсадил Мишку. Поезд тронулся, я вскочил на подножку и елку за собой втащил. Пассажиры в вагоне стали бранить нас за то, что елка колючая.
Кто-то спросил:
— Где вы взяли такую ободранную елку?
Мы стали рассказывать, что с нами в лесу случилось. Тогда
51
все стали жалеть нас. Одна тетенька усадила Мишку на скамейку, сняла с него валенок и осмотрела ногу.
— Ничего страшного нет,— сказала она.— Просто ушиб.
— А я думал, что ногу сломал, так она у меня болела,— говорит Мишка.
Кто-то сказал:
— Ничего, до свадьбы заживет!
Все засмеялись. Одна тетенька дала нам по пирогу, а другая— конфет. Мы обрадовались, потому что очень проголодались.
— Что же мы теперь будем делать? — говорю я.— У нас на двоих одна елка.
— Отдай ее на сегодня мне,— говорит Мишка,— и дело с концом.
— Как это — с концом? Я ее тащил через весь лес да еще тебя на ней вез, а теперь сам без елки останусь?
— Так ты мне ее только на сегодня дай, а завтра я тебе возвращу обратно.
— Хорошенькое,— говорю,— дело! У всех ребят праздник, а у меня даже елки не будет!
— Ну ты пойми,— говорит Мишка,— ко мне ребята сегодня придут! Что я буду без елки делать?
— Ну, покажешь им свои бенгальские огни. Что, ребята елки не видели?
— Так бенгальские огни, наверно, не будут гореть. Я их уже двадцать раз делал — ничего не получается. Один дым, да и только!
— А может быть, получится?
— Нет, я и вспоминать про это не буду. Может, ребята уже забыли.
— Ну нет, не забыли! Не надо было заранее хвастаться.
— Если б у меня елка была,— говорит Мишка,— я бы про бенгальские огни что-нибудь сочинил и как-нибудь выкрутился, а теперь просто не знаю, что делать.
— Нет,— говорю,— не могу я тебе елку отдать. У меня еще ни в одном году так не было, чтоб елки не было.
— Ну будь другом, выручи! Ты меня уже не раз выручал!
— Что же, я тебя всегда выручать должен?
52
— Ну, в последний раз! Я тебе что хочешь за это дам. Возьми мои лыжи, коньки, волшебный фонарь, альбом с марками. Ты ведь сам знаешь, что у меня есть. Выбирай что угодно.
— Хорошо,— сказал я.— Если так, отдай мне своего Дружка.
Мишка задумался. Он отвернулся и долго молчал. Потом посмотрел на меня — глаза у него были печальные — и сказал:
— Нет, Дружка я не могу отдать.
— Ну вот! Говорил «что угодно», а теперь...
— Я забыл про Дружка... Я, когда говорил, думал про вещи. А Дружок ведь не вещь, он живой.
— Ну и что ж? Простая собака! Если б он хоть породистый был.
— Он же не виноват, что он не породистый! Все равно он любит меня. Когда меня нет дома, он думает обо мне, а когда я прихожу, радуется и машет хвостом... Нет, пусть будет что будет! Пусть ребята смеются надо мной, а с Дружком я не расстанусь, даже если бы ты мне дал целую гору золота!
— Ну ладно,— говорю я,— бери тогда елку даром.
— Зачем даром? Раз я обещал любую вещь, так и бери любую вещь. Хочешь, я тебе дам волшебный фонарь со всеми картинками? Ты ведь очень хотел, чтоб у тебя был волшебный фонарь.
— Нет, не надо мне волшебного фонаря. Бери так.
— Ты ведь столько трудился из-за елки — зачем отдавать даром?
— Ну и пусть! Мне ничего не надо.
— Ну, и мне даром не надо,— говорит Мишка.
— Так это ведь не совсем даром,— говорю я.— Просто так, ради дружбы. Дружба ведь дороже волшебного фонаря! Пусть это будет наша общая елка.
Пока мы разговаривали, поезд подошел к станции. Мы и не заметили, как доехали. У Мишки нога совсем перестала болеть. Он только немного прихрамывал, когда мы сошли с поезда.
Я сначала забежал домой, чтоб мама не беспокоилась, а потом помчался к Мишке — украшать нашу общую елку.
Елка уже стояла посреди комнаты, и Мишка заклеивал
53
ободранные места зеленой бумагой. Мы еще не кончили украшать елку, как стали собираться ребята.
— Что же ты, позвал на елку, а сам даже не украсил ее!— обиделись они.
Мы стали рассказывать про наши приключения, а Мишка даже приврал, будто на нас напали в лесу волки и мы от них спрятались на дерево. Ребята не поверили и стали смеяться над нами. Мишка сначала уверял их, а потом махнул рукой и сам стал смеяться.
Мишкины мама и папа пошли встречать Новый год к соседям, а для нас мама приготовила большой круглый пирог с вареньем и других разных вкусных вещей, чтоб мы тоже могли хорошо встретить Новый год.
Мы остались одни в комнате. Ребята никого не стеснялись и чуть ли не на головах ходили. Никогда я не слыхал такого шума! А Мишка шумел больше всех. Ну, я-то понимал, почему он так разошелся. Он старался, чтоб кто-нибудь из ребят не вспомнил про бенгальские огни, и выдумывал все новые и новые фокусы.
Потом мы зажгли на елке разноцветные электрические лампочки, и тут вдруг часы начали бить двенадцать часов.
— Ура! — закричал Мишка.— С Новым годом!
— Ура! — подхватили ребята.— С Новым годом! Ур-а-а!
Мишка уже считал, что все кончилось благополучно, и закричал:
— А теперь садитесь за стол, ребята, будет чай с пирогом!
— А бенгальские огни где же? — закричал кто-то.
— Бенгальские огни? — растерялся Мишка.— Они еще не готовы.
— Что же ты, позвал на елку, говорил, что бенгальские огни будут... Это обман!
— Честное слово, ребята, никакого обмана нет! Бенгальские огни есть, только они еще сырые...
— Ну-ка, покажи. Может быть, они уже высохли. А может, никаких бенгальских огней нету?
Мишка нехотя полез на шкаф и чуть не свалился оттуда вместе с колбасками. Они уже высохли и лревратились в твердые палочки.
54
— Ну вот! — закричали ребята.— Совсем сухие! Что ты обманываешь!
— Это только так кажется,— оправдывался Мишка.— Им еще долго сохнуть надо. Они не будут гореть.
— А вот мы сейчас посмотрим! — закричали ребята.
Они расхватали все палочки, загнули проволочки крючочками и развесили их на елке.
— Постойте, ребята,— кричал Мишка,— надо проверить сначала!
Но его никто не слушал.
Ребята взяли спички и подожгли все бенгальские огни сразу.
Тут раздалось шипение, будто вся комната наполнилась змеями. Ребята шарахнулись в стороны. Вдруг бенгальские огни вспыхнули, засверкали и рассыпались кругом огненными брызгами. Это был фейерверк! Нет, какой там фейерверк — северное сияние! Извержение вулкана! Вся елка сияла и сыпала вокруг серебром. Мы стояли как зачарованные и смотрели во все глаза.
Наконец огни догорели, и вся комната наполнилась каким- то едким, удушливым дымом. Ребята стали чихать, кашлять, тереть руками глаза. Мы все гурьбой бросились в коридор, но дым из комнаты повалил за нами. Тогда ребята стали хватать свои пальто и шапки и начали расходиться.
— Ребята, а чай с пирогом? — надрывался Мишка.
Но никто не обращал на него внимания. Ребята кашляли, одевались и расходились. Мишка вцепился в меня, отнял мою шапку и закричал:
— Не уходи хоть ты! Останься хоть ради дружбы! Будем пить чай с пирогом!
Мы с Мишкой остались одни. Дым понемногу рассеялся, но в комнату все равно нельзя было войти. Тогда Мишка завязал рот мокрым платком, подбежал к пирогу, схватил его и притащил в кухню.
Чайник уже вскипел, и мы стали пить чай с пирогом. Пирог был вкусный, с вареньем, только он все-таки пропитался дымом от бенгальских огней. Но это ничего. Мы с Мишкой съели полпирога, а другую половину доел Дружок.
ТУК-ТУК-ТУК
Мы втроем — я, Мишка и Костя — приехали в пионерлагерь на день раньше всего отряда. У нас было задание: украсить помещение к приезду ребят. Мы сами просили нашего вожатого Витю отправить нас вперед. Нам очень хотелось поскорей в лагерь.
Витя согласился и сам поехал с нами. Когда мы приехали, в доме уже заканчивалась уборка. Мы развесили на стенах плакаты, картины, которые привезли с собой, потом нарезали из разноцветной бумаги флажков, нанизали их на веревочки и повесили под потолком. Потом нарвали в поле цветов, наделали из них букетов и расставили на окнах в банках с водой. Хорошо получилось!
Вечером вожатый Витя уехал обратно в город. Марья Максимовна, лагерный сторож, которая жила рядСм в маленьком домике, сказала, чтобы мы шли ночевать к ней, но мы не захотели. Мишка сказал, что мы ничего не боимся и будем ночевать одни в доме. Марья Максимовна ушла, а мы поставили во дворе самовар, сели на крылечке и отдыхали.
56
Хорошо было в лагере! Возле самого дома росли высокие рябины, а вдоль забора — огромные старые липы. На них множество круглых вороньих гнезд.
Вороны кружились над липами и громко кричали. В воздухе гудели майские жуки. Они носились в разные стороны, налетали на стены дома и шлепались на землю. Мишка подбирал их и складывал в коробочку.
А потом солнышко скрылось за лесом, й облака на небе вспыхнули красным пламенем. Так красиво стало! Если бы у меня были краски, я бы тут же нарисовал картину: вверху красные облака, а внизу наш самовар. А от самовара поднимается дым прямо к облакам, как из пароходной трубы.
Потом облака потухли и стали серые, как будто горы. Все переменилось вокруг. Нам даже стало казаться, что мы попали каким-то чудом в другие края.
Самовар вскипел. Мы перенесли его в комнату, зажгли лампу и сели пить чай. В окно налетели ночные бабочки; они кружились вокруг лампы, будто плясали. Все было как-то необыкновенно. Тихо так, только самовар на столе шумит. Мы сидим и чай пьем, сами себе хозяева.
После чая Мишка запер на крючок дверь и еще веревкой за ручку привязал.
— Чтоб не забрались разбойники,— говорит.
— Не бойся,— говорим мы,— никто не заберется.
— Я не боюсь. Так, на всякий случай. И ставни надо закрыть.
Мы посмеялись над ним, но ставни все-таки закрыли, на всякий случай, и стали укладываться спать. Сдвинули три кровати вместе, чтоб удобнее было разговаривать.
Мишка стал просить пустить его в середину. Костя говорит:
— Ты, видно, хочешь, чтоб разбойники сначала нас убили, а потом только до тебя добрались. Ну ладно, ложись.
Пустили его в середину. Но он все равно, должно быть, боялся: взял в кухне топор и сунул его себе под подушку. Мы с Костей чуть со смеху не лопнули.
— Ты только нас не заруби по ошибке,— говорим.— А то примешь нас за разбойников и тяпнешь по голове топором.
— Не -бойтесь,—говорит Мишка,—не тяпну!
57
Потушили мы лампу и стали в темноте рассказывать друг другу сказки. Сначала рассказал Мишка, потом я, а когда очередь дошла до Кости, он начал какую-то длинную страшную сказку про колдунов, про ведьм, про чертей и про Кощея Бессмертного. Мишка от страха закутался с головой в одеяло и стал просить Костю не рассказывать больше эту сказку. А Костя, чтобы попугать Мишку, принялся еще кулаками по стене стучать и говорить, что это черти стучат. Мне самому сделалось страшно, и я сказал Косте, чтоб он перестал.
Наконец Костя ^унялся. Мишка успокоился и уснул. Стало тихо. Мы с Костей почему-то долго не могли уснуть. Лежим, прислушиваемся, как Мишкины жуки в коробке шуршат.
— Темно, как в погребе! — сказал Костя.
— Это потому, что ставни закрыты,—говорю я.
— А все-таки мы храбрые! Не боимся одни ночевать! — говорит Костя.
Скоро чуточку посветлело. Стали видны щели в ставнях.
— Наверно, уже рассвет,— говорит Костя.— Теперь ночи совсем короткие.
— А может быть, луна взошла?
Наконец я задремал. Вдруг слышу сквозь сон:
Тук-тук-тук!
Я проснулся. Мишка и Костя спят. Я разбудил Костю.
— Кто-то стучит,— говорю.
— Кто же может стучать?
— А вот послушай.
Прислушались мы. Тихо. Потом снова:
Тук-тук-тук!
— В дверь стучат,— говорит Костя.— Кто же это?
Подождали мы. Не стучат больше.
«Может быть, показалось»,— думаем.
Вдруг опять:
Тук-тук-тук! Тук-тук-тук!
— Тише,— шепчет Костя,— не надо отзываться. Может быть, постучит и уйдет.
Подождали. Вдруг снова:
Тук-тук-тук! Тра-та-та-та!
— Ах, чтоб тебя разорвало! Не уходит! — говорит Костя.
58
Мы поставили во дворе самовар, сели на крылечке и отдыхали.
— Может быть, это из города кто-нибудь приехал? — говорю я.
— Зачем же в такую поздноту ездить? Подождем. Если постучат еще, спросим.
Ждем. Никого нет.
— Наверно, ушел,— говорит Костя.
Только мы было успокоились, вдруг снова:
Тра-та-та-та!
Я подскочил в постели от неожиданности.
— Пойдем,— говорю,— спросим.
— Пойдем.
Подкрались мы к двери.
— Кто там? — спрашивает Костя.
Тихо. Никто не отвечает.
— Кто там?
Молчит.
— Кто там?
Никакого ответа.
— Наверно, ушел,—говорю я.
Пошли мы обратно. Только отошли от двери:
Тук-тук-тук! Трах-та-тах!
Бросились снова к дверям:
— Кто там?
Молчит.
— Что он, глухой, что ли? — говорит Костя.
Стоим хмы, прислушиваемся. За дверью будто об стенку кто-то трется.
— Кто там?
Ничего не отвечает.
Отошли мы от двери. Вдруг снова:
Тук-тук-тук!
Забрались мы на кровать и дышать боимся. Сидели, сидели — не стучит больше. Легли. Думаем, не будет больше стучать.
Тихо. Вдруг слышим — шуршит по крыше. И вдруг по железу:
Бух-бух-бух! Трах!
-— На крышу забрался! — прошептал Костя.
60
Вдруг с другой стороньн
Бум-бум-бум! Бах!
— Да тут не один, а двое! — говорю я.— Что ж это они, крышу разобрать хотят?
Вскочили мы с кроватей, закрыли дверь в соседнюю комнату, откуда был ход на чердак. К двери стол придвинули и еще другим столом и кроватью подперли. А на крыше все стучат: то один, то другой, то вместе разом. И еще третий к ним прибавился. И еще кто-то снова в дверь колотить начал.
— Может быть, это кто-нибудь нарочно, чтоб напугать нас,— говорю я.
— Выйти,— говорит Костя,— да накостылять им по шее, чтоб не мешали спать!
— Еще нам,— говорю,— накостыляют. Вдруг их там человек двадцать!
— А может, это и не люди!
— А кто же?
— Черти какие-нибудь.
— Брось,—говорю,— сказки рассказывать! И без сказок страшно!
А Мишка спит и ничего не слышит. Ему хоть бы что!
— Может быть, разбудить его? — спрашиваю.
— Не надо. Пусть пока спит,— говорит Костя.— Знаешь, какой он трус. До смерти перепугается.
Устали мы, прямо с ног валимся. Спать хочется! Костя забрался в постель и говорит:
— Надоела мне вся эта музыка! Пусть там себе хоть головы расшибут на крыше. Очень мне нужно обращать внимание.
Я вытащил у Мишки из-под подушки топор, положил его рядом с собой в кровать и тоже прилег отдохнуть. Стук на крыше становился все чаще и тише. Мне стало казаться, что это дождь по крыше стучит, и я сам не заметил, как снова уснул.
Утром просыпаемся от страшного стука. Во дворе шум и крик.
Я схватил топор, подбежал к двери.
— Кто там? — спрашиваю.
И вдруг слышу голос Вити, вожатого:
61
— Откройте, ребята! Что там с вами случилось? Полчаса достучаться не можем.
Я открыл дверь. Все ребята гурьбой ввалились в комнату. Витя увидел топор.
— Зачем топор? — спрашивает.— И что у вас за разгром такой?
Мы с Костей стали рассказывать, что здесь ночью случилось. Но никто нам не верил, все смеялись над нами и говорили, что это нам с перепугу показалось. Мы с Костей чуть не плакали от обиды.
Вдруг сверху послышался стук.
— Тише! — закричал Костя и поднял палец кверху.
Ребята умолкли и стали прислушиваться.
Тук-тук-тук! — стучало что-то по крыше.
Ребята застыли от удивления. Мы с Костей открыли дверь и потихоньку вышли во двор. Все пошли за нами. Мы отошли от дома в сторону и взглянули на крышу. Там сидела обыкновенная ворона и что-то клевала.
Тук-тук-тук! Бух-бух! — стучала она по железу клювом.
62
Ребята увидели ворону и расхохотались так громко, что ворона захлопала крыльями и улетела. Ребята сейчас же притащили лестницу; несколько человек забрались на крышу посмотреть, что там клевала ворона.
— Здесь прошлогодние ягоды рябины лежат. Наверно, вороны клюют их и стучат по крыше! — закричали ребята.
— Откуда же здесь ягоды рябины берутся? — говорим мы.
— Да тут ведь вокруг рябины растут. Вот ягоды прямо на крышу и падают.
— Постойте, а в дверь-то кто стучал? — говорю я.
— Да,— говорит Костя,— зачем это воронам понадобилось в дверь стучать? Вы еще скажете, что вороны нарочно в дверь стучали, чтоб мы их переночевать пустили.
На это никто не мог ничего ответить. Все побежали на крыльцо и стали осматривать дверь. Витя поднял с крыльца ягоду и сказал:
— Они и не стучали в дверь. Они клевали на крыльце ягоды, а вам показалось, что стучат в дверь.
Мы посмотрели: на крыльце валялось несколько ягод рябины.
— Храбрецы! — смеялись над нами ребята.— Втроем испугались вороны!
— И совсем не втроем, а вдвоем,— говорю я,— Мишка спал как убитый и ничего не слышал.
— Молодец, Мишка! — закричали ребята.— Значит, ты один не боялся вороны?
— Я ничего не боялся,—ответил Мишка—Я спал и ничего не знаю.
С тех пор все считают Мишку храбрецом, а нас с Костей трусами.
ОГОРОДНИКИ
Через день после того, как мы приехали в пионерлагерь, наш вожатый Витя сказал, что у нас будет свой огород. Мы собрались и стали решать, как будем обрабатывать землю и что сажать. Решили поделить землю на участки и чтобы на каждом участке бригада из двух человек работала. Сразу будет видно, кто впереди, а кто отстает. Отстающим решили помогать, чтобы вся земля была хорошо обработана и дала большой урожай.
Мы с Мишкой попросили записать нас в одну бригаду. Мы еще в городе условились, что будем работать вместе и рыбу ловить вместе. Все у нас было общее: и лопаты и удочки.
— Ребята,— сказал Вадик Зайцев,— я предлагаю сделать красное знамя и на нем написать: «Лучшему огороднику». Кто первый вскопает участок, у того на участке поставим знамя.
— Правильно,— согласились ребята.—А потом будем за это знамя бороться. Кто лучше проведет посадку, к тому перейдет на участок знамя. Потом знамя будем передавать за
64
прополку. А у кого окажется самый большой урожай, тому подарим осенью это знамя и пусть он везет его с собой в город.
Мы с Мишкой решили бороться за красное знамя.
— Как возьмем его в самом начале, так до конца не выпустим и домой увезем,--говорил Мишка.
Наш огород был недалеко от реки. Мы измерили землю рулеткой, наметили участки и вбили колышки с номерами. Нам с Мишкой достался двенадцатый участок. Мишка тут же стал кричать, что нам самый плохой участок дали.
— Да чем он плохой?—спрашивает Витя.
— Дырка вон тут в земле!
— Ну, что это за дырка!—засмеялся Витя.— Лошадь копытом продавила.
— И пень вон торчит,— говорит Мишка.
— И на других участках есть пни, посмотри.
Но Мишка уже никуда смотреть не хотел и кричал:
— Его ведь из земли выковыривать надо!
— Что ж, выкорчуете. Сами не справитесь, ребята помогут.
— Уж если возьмемся — справимся,— обиделся Мишка.— Еще и ребятам поможем, на буксир кого надо возьмем.
— Вот и хорошо,— сказал Витя.
Все ребята стали вскапывать землю. И мы с Мишкой стали копать.
Мишка то и дело бегал смотреть, сколько другие ребята - вскопали. Я говорю ему:
— Ты не бегай, работай, а то мы меньше всех вскопаем.
— Ничего,— говорит,— я еще поднажму.
И стал поднажимать. Поднажмет, поднажмет и снова убежит куда-нибудь.
В этот день мы мало работали. Скоро вожатый Витя позвал всех обедать. После обеда мы с Мишкой схватили лопаты и снова хотели на огород бежать, но Витя не позволил. Он сказал:
— Работать будем только до обеда. После обеда — отдыхать, а то у нас найдутся такие ребята, которые в первый же день перетрудятся и потом не смогут работать.
На следующее утро мы раньше всех примчались на огород и стали копать. Потом Мишка выпросил у Вити рулетку и при-
65
нялся землю мерять, сколько у нас на участке вскопано да сколько осталось. Покопает немного и снова меряет. И все ему кажется мало.
Я говорю:
— Конечно, будет мало, если я один копаю, а ты только меряешь!
Он бросил рулетку и стал копать. Только недолго копал. Корень ему в земле попался, так он этот корень стал из земли выдирать. Драл его, драл, весь участок разворотил. Даже на соседний участок залез и там выдирает этот корень.
— Да брось ты его,— говорю.— Чего ты к нему привязался?
— Я,— говорит,— думал, что он короткий, а он вон какой длинный, как удав.
— Ну и перестань с ним возиться!
— Да должен же он где-нибудь кончиться!
— А тебе будто не все равно?
— Нет,— говорит,— я такой человек: если за что-нибудь взялся, обязательно до конца сделаю.
И снова ухватился руками за корень. Тогда я рассердился, подошел и отрубил этот корень лопатой. А Мишка корень рулеткой измерил и говорит:
— Ого! Шесть с половиной метров! А если бы ты не отрубил, так он, может быть, метров двадцать был бы!
Я говорю:
— Если бы я знал, что ты так будешь работать, то с тобой бы не связывался.
А он:
— Можешь отдельно. Я же тебя не заставляю.
— Как же теперь отдельно, когда у нас столько вскопано! Вот не получим из-за тебя красного знамени.
— Почему не получим? Ты посмотри, сколько у Вани Ложкина и Сени Боброва. Еще меньше нашего.
Он побежал на участок Вани и Сени и стал над ними смеяться:
— Эх, вы! Придется вас на буксир брать!
А они его прогоняют:
— Смотри, как бы тебя не взяли!
66
Я говорю:
— Чудак ты! Над другими смеешься, а сам сколько сделал? И чего я только с тобой связался!
— Ничего,— говорит,— я одну штуку придумал. Завтра знамя будет на нашем участке.
— С ума,— говорю,— сошел! Тут на два дня работы, а с тобой и четыре провозишься.
— Вот увидишь, я потом тебе расскажу.
— Ты лучше работай. Все равно земля сама не вскопается.
Он взял лопату, но тут Витя сказал, чтобы все шли обедать.
Ну, Мишка лопату на плечо и помчался впереди всех в лагерь.
После обеда Витя стал красный флаг делать, а мы все ему помогали: кто палку строгал, кто материю подшивал, кто разводил краски. Флаг получился красивый. Палку выкрасили золотой краской, а на красной материи Витя написал серебряными буквами: «Лучшему огороднику».
Мишка сказал:
— Давайте еще пугало сделаем, чтоб вороны огород не клевали.
Эта затея всем очень понравилась. Взяли мы жердь и к ней крест-накрест палку привязали, достали старый мешок и сшили из него рубаху. Потом натянули эту рубаху на жердь, а сверху глиняный горшок надели. На горшке Мишка нарисовал углем нос, рот, глаза. Страшная рожа получилась! Поставили это пугало посреди двора. Все смотрели на него и смеялись.
Мишка отвел меня в сторону и говорит:
— Вот что я придумал: давай, когда все лягут спать, удерем на огород и вскопаем свой участок. Оставим на утро кусочек маленький, завтра быстро закончим и получим знамя.
Я говорю:
— Если бы ты работал! А то ведь с разными пустяками возишься.
— Я буду хорошо работать, вот увидишь!
— Ну ладно, только если ты снова возьмешься за старое, брошу все и уйду.
Вечером все легли спать. И мы с Мишкой легли, только для виду. Я уже начал дремать. Вдруг меня Мишка толкает в бок:
— Вставай! А то не видать нам знамени как своих ушей!
67
Встал я. Мы вышли так, чтобы никто нас не видел. Взяли лопаты и пошли на огород. Луна светила, и всё было видно.
Пришли на огород.
— Вот наш участок,— говорит Мишка.— Видишь, и пень торчит.
Стали мы копать. На этот раз Мишка хорошо работал, и мы много вскопали. Дошли до пня и решили его выкорчевать. Обкопали со всех сторон и стали из земли тащить. Тащили, тащили, а он не лезет. Пришлось обрубать корни лопатой. Устали, как лошади! Все-таки вытащили. Землю заровняли, а пень Мишка на соседний участок бросил.
Я говорю:
— Это ты нехорошо сделал!
— А куда его девать?
— Нельзя же на чужой участок!
— Ну, давай его в реку бросим!
Взяли мы пень и потащили к реке. А он тяжелый! Насилу дотащили —и бултых в воду! Он поплыл по реке, как будто спрут или осьминог какой. Мы посмотрели ему вслед и пошли
68
домой. Больше в этот раз уже не могли работать, устали очень. Да нам совсем небольшой кусочек осталось вскопать.
Утром проснулись мы позже всех. Все тело у нас болит: руки болят, ноги болят, спина болит.
— Что это? — спрашивает Мишка.
— Перетрудились,— говорю,— слишком много работали.
Встали мы, размялись немного. За завтраком Мишка стал
перед ребятами хвастать, что красное знамя достанется нам.
После завтрака все помчались на огород, а мы с Мишкой пошли не спеша. Куда нам спешить! Пришли на огород. Все, как кроты, роются, а мы ходим да посмеиваемся.
— Не видать вам знамени,— говорим,— как своих ушей!
Ребята отвечают:
— Вы бы работали! Только другим мешаете.
Тут Мишка говорит:
— А это вот чей участок? Совсем мало вскопано. И хозяев нет. Наверно, дрыхнут еще!
Я посмотрел:
— Номер двенадцатый. Да это ведь наш участок!
— Не может быть,— говорит Мишка.— Мы больше вскопали.
— Мне,—говорю,—тоже казалось, что больше.
— Может быть, нарочно кто-нибудь номерки переменил?
— Нет, все правильно. Вот одиннадцатый, а там тринадцатый.
Смотрим, и пень торчит. Мы растерялись даже.
— Послушай,— говорю я.— Если это наш участок, то откуда же пень взялся? Мы ведь его уже выкорчевали!
— Правда,— говорит Мишка.— Не мог же за ночь новый пень вырасти.
Вдруг слышим, Ваня Ложкин на своем участке кричит:
— Ребята, смотрите, какое чудо! У нас тут вчера пень был, а сегодня нету. Куда он делся?
Все побежали на это чудо смотреть. Подошли и мы с Мишкой.
«Что такое!—думаем.— Вчера у них и до половины не было вскопано, а сегодня совсем небольшой кусочек остался».
69
— Мишка,— говорю я,— да это ведь мы ночью по ошибке на их участке работали и пень им выкорчевали!
— Да что ты!
— Верно!
— Ах мы ослы! — говорит Мишка.— Да что же нам теперь делать? По правилу, они должны нам свой участок отдать, а себе пусть берут наш. Что мы, даром у них работали?
— Молчи! — говорю.— Хочешь, чтоб над нами весь лагерь смеялся?
— Что же делать?
— Копать,— говорю,— вот что!
Схватили мы лопаты. Да не тут-то было: руки болят, ноги болят, спина не разгибается.
Скоро Ваня Ложкин и Сенька Бобров на своем участке работу кончили. Витя поздравил их и отдал им красное знамя.
Они поставили его посреди участка. Все собрались вокруг и в ладоши захлопали.
Мишка говорит:
— Это неправильно!
— Почему неправильно? —спрашивает Витя.
— Потому и неправильно, что за них кто-то пень выкорчевал. Они сами сказали.
— А мы виноваты? — говорит Ваня.— Может быть, его кто- нибудь себе на дрова выкорчевал. Разве мы запрещать будем?
— А может быть, его кто-нибудь по ошибке вместо своего выкорчевал,— ответил Мишка.
— Тогда бы он здесь был, а его нигде нет,— сказал Ваня.
— А может быть, они его в реку бросил— говорит Мишка,
— Ну что ты пристал: «может быть» да «может быть»!
— Может быть, вам и участок кто-нибудь ночью вскопал,— не унимался Мишка.
Я его толкаю, чтоб он не проговорился.
Ваня говорит:
— Все может быть. Мы землю не меряли.
Пошли мы на свой участок и стали копать. А Ваня и Сенька стали рядом и хихикают.
— Вот работают! — говорит Сенька.—Будто во сне мочалку жуют.
70
— А это вот чей участок?
— Надо их на буксир взять,— сказал Ваня.— У них ведь меньше всех вскопано.
Ну и взяли нас на буксир. Помогли нам копать и пень выкорчевывать. Все равно мы позже всех кончили.
Ребята говорят:
— Давайте на их участке, как на отстающем, поставим пугало.
Все согласились и поставили пугало на нашем участке. Мы с Мишкой обиделись. А ребята говорят:
— Добивайтесь, чтоб ваш участок стал лучшим, когда посадка и прополка будут, вот и уберем тогда с вашего огорода пугало.
Юра Козлов предложил:
— Давайте путало ставить отстающим.
— Давайте,— обрадовались все.
— А осенью подарим тому, у кого будет самый плохой урожай,— говорит Сенька Бобров.
Мы с Мишкой решили стараться изо всех сил, чтоб отделаться от этого пугала. Только у нас так ничего и не получилось. Все лето простояло оно на нашем участке, потому что на посадке Мишка все перепутал и посадил свеклу там, где уже была морковка посажена, а при прополке вместо сорняков петрушку повыдергал. Пришлось на этом месте в спешном порядке редиску посадить. Сколько раз я хотел отделиться от Мишки, да никак не мог. «Кто же,— думаю,— в беде товарища покидает!» Так и маялся с ним до конца.
Зато осенью красное знамя нам с Мишкой досталось. У нас самый большой-урожай помидоров и кабачков оказался.
Ребята стали спорить.
— Это неправильно! — говорили Ьни.— Все время были отстающие, и вдруг самый большой урожай!
Но Витя сказал:
— Ничего, ребята, все правильно. Хоть они и отставали, но землю хорошо обрабатывали, старались и добивались, чтоб большой урожай был.
Ваня Ложкин сказал:
— У них земля была хорошая. А вот .нам с Сеней скверная земля попалась. И урожай маленький, хоть мы и старались.
72
За что же нам пугало подарили? Пусть они тогда и пугало берут себе, раз оно у них всё лето стояло.
— Ничего,— говорит Мишка,— мы возьмем и пугало. Давайте его сюда.
Все засмеялись, а Мишка сказал:
— Если б не это пугало, то мы и знамени не получили бы.
— Это почему же? — удивились все.
— Потому что на нашем участке оно ворон пугало, а на других вороны не боялись, вот и урожай получился меньше. И потом, из-за этого пугала мы не забывали, что нам надо стараться и работать лучше.
Я говорю Мишке:
— Зачем ты взял это пугало? Для чего оно нам?
— Ну, давай его в реку бросим,— говорит Мишка.
Взяли мы пугало и бросили в реку. Оно поплыло по реке,
растопырив руки. Мы посмотрели ему вслед и стали в него камнями бросать. А потом пошли в лагерь.
В тот же день Лешка Курочкин снял нас фотоаппаратом вместе со знаменем. Так что, если кому-нибудь хочется карточку, мы можем прислать.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ КЛЮКВИНА
Ученик четвертого класса школы № 36 Толя Клюквин вышел из дома № 10 на Демьяновской улице и, свернув в Третий Каширский переулок, зашагал к своему приятелю Славе Огонькову, который жил на Ломоносовской улице, в доме № 14. Еще вчера с вечера друзья условились встретиться сегодня утром и поиграть в шахматы. Они оба увлекались этой игрой и способны были играть с утра до вечера. Такая на них полоса нашла.
Толя очень спешил, потому что обещал своему другу прийти к десяти часам утра, но уже было гораздо больше, так как Толя по своей неорганизованности замешкался дома и не успел выйти вовремя. А тут еще, как это всегда бывает, когда поскорей надо, на улице произошла задержка. Он уже был в конце Третьего Каширского переулка, как вдруг из-за забора вылезла серая кошка и остановилась с явным намерением перебежать Толе дорогу.
— А-кши! Брысь сейчас же! — закричал Толя на кошку и,
74
чтоб испугать ее, нагнулся, делая вид, будто хочет поднять с земли камень.
Это действительно испугало кошку, но, вместо того чтоб бежать назад, она бросилась через дорогу и скрылась за воротами дома на противоположной стороне улицы.
— Ах, чтоб тебя! — растерянно пробормотал Толя.
Он остановился, не смея идти вперед, и стал думать, что лучше: плюнуть три раза через плечо и продолжать путь или возвратиться назад и пройти по другой улице. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что его никто не видит, он решил все же вернуться назад.
«Будто что-нибудь может измениться от того, что я плюну три раза,— рассуждал он.— Раз кошка перебежала дорогу, то тут хоть плюй, хоть не плюй... Хотя если сказать по правде, то, может быть, и сама кошка ничего не значит, да ладно уж, шут с ней! Мне нетрудно по другой дороге пройти, а то на самом деле еще какая-нибудь неудача получится».
Рассуждая таким образом, Толя вернулся к своему дому и, пройдя по Демьяновской улице до следующего угла, свернул во Второй Каширский переулок. На этот раз он добрался до Ломоносовской улицы без особенных приключений и еще издали увидел, как из подъезда дома № 14 вышел какой-то мальчик. Сначала Толе показалось, что он очень похож на Славу Огонькова, потом показалось, будто не очень. Мальчик между тем постоял у подъезда, словно о чем-то раздумывал, после чего повернулся к Толе спиной и зашагал в противоположную сторону.
«Ладно,—сказал сам себе Толя.— Я сейчас поднимусь к Славе, и все станет ясно. Если Слава дома, то это, значит, не он. Если же его дома нет, то тогда это он».
Поднявшись на четвертый этаж, Толя позвонил у дверей 31-й квартиры.
Ему отворила Славина мама.
— А Слава только что ушел,— сказала она.— Разве ты не встретил его?
— Нет, то есть я видел его издали, да подумал, что это не он. Он ведь сказал, что подождет меня.
— Он тебя долго ждал, даже сердился, что ты не идешь.
75
А потом ему позвонил по телефону Женя Зайцев, и Слава сказал, что пойдет к нему.
— Свинья какая! Будто уж не мог подождать немножко!— сказал Толя, попрощавшись со Славиной мамой и спускаясь по лестнице.
Выйдя на улицу, он постоял у подъезда, раздумывая, что предпринять, потом тоже пошел к Жене Зайцеву, который жил на Загородном шоссе, то есть довольно далеко от Ломоносовской улицы. Теперь Толе не к чему было спешить. Он шел, зевая по сторонам и разглядывая все, что попадалось на пути. На Суворовском бульваре он остановился, чтоб посмотреть на ребят, которые учились кататься на детском двухколесном велосипеде.
Ребят было четверо, но ни один из них еще не умел кататься, поэтому они не столько ездили, сколько падали с велосипеда. Нужно сказать, что кататься на этом велосипеде без привычки было довольно трудно, так как он был не совсем обычной конструкции. На обычном двухколе'сном велосипеде педали надо крутить только до тех пор, пока машина не разгонится, после чего велосипед едет сам, а педали стоят на месте. На этом же велосипеде педали надо было крутить все время. Даже когда их можно было уже и не крутить, они сами крутились. Это, наверное, объяснялось тем, что велосипед был устаревшей системы. Его подарил ребятам один жилец, который жил в их доме.
Жильца этого звали Иван Герасимович. Когда Иван Герасимович был еще маленький, ему подарил этот велосипед его папа. Потом Иван Герасимович вырос и купил себе настоящий, взрослый, велосипед, а этот велосипед спрятал в сарае.
76
Он думал, что когда-нибудь женится и у него будут дети, тогда он подарит им этот велосипед. Но прошло лет двадцать пять или тридцать,
Иван Герасимович так и не женился, а про велосипед забыл. И вот недавно он разбирал у себя в сарае старую рухлядь и увидел этот велосипед.
«Что мне с ним делать? — подумал Иван Герасимович.— Отдам-ка я его ребятам в общее пользование.
Все равно у меня своих детишек нету. Хотя я еще, может быть, женюсь, но к тому времени велосипед совсем заржавеет, и его надо будет выбросить или сдать в утиль».
Он вытащил велосипед из сарая и сказал ребятам:
— Вот вам, чертенята, велосипед. Он хоть неказистый на вид, зато крепкий. Я в детстве по целым дням катался на нем, а у него, глядите, хотя бы спица сломалась. Словом, катайтесь, ребятки. Доламывайте.
Ребята были очень удивлены и даже не верили, что им дарят велосипед, но потом увидели, что Иван Герасимович не шутит, и очень обрадовались. Сначала они попробовали кататься по двору, но там им было очень больно падать, так как весь двор был вымощен крупным булыжником. Тогда они пошли на бульвар, и здесь их увидел Толя.
Он посмотрел, как ребята то и дело кувыркались с велосипеда на землю, и сказал:
— Эх, вы! Кто же так учится кататься! Так и носы расшибете! На велосипеде надо учиться кататься с горы.
— Почему с горы? — удивились ребята.
— Потому что, когда едешь с горы, велосипед катится сам — педали крутить не надо, и можно учиться держать равновесие. А когда научишься держать равновесие, можно на-
77
чинать учиться крутить педали. Если же начнешь учиться сразу и тому и другому, то ничего не получится.
Кто-то из ребят сказал:
— Надо пройти по бульвару дальше, там дорога идет вниз, то есть с горки.
Все побежали туда, где начинался спуск. Но ни у кого не хватало смелости скатиться на велосипеде с горы.
— Какие же вы трусишки! — сказал Толя.— Ну-ка дайте велосипед, я покажу вам, как надо кататься.
Толя сел на велосипед, оттолкнулся ногой и покатил вниз. Он уже умел немного кататься, и езда на велосипеде не представляла для него трудности. Ребята гурьбой побежали за ним. Они уже начали бояться, как бы он не удрал от них вместе с велосипедом. Велосипед между тем набирал скорость. Педали начали вертеться с такой быстротой, что Толя не успевал крутить ногами. Пришлось ему отпустить педали, но они все-таки продолжали вращаться и начали бить его по ногам. Тогда Толя расставил ноги широко в стороны и помчался такой раскорякой со страшной скоростью. Неожиданно он увидел впереди малышей, которые играли посреди бульвара. Чтоб не наехать на них, ему пришлось круто повернуть в сторону. На
78
его счастье, в ограде бульвара оказалась калитка. Толя проскочил сквозь нее, в мгновение ока пересек улицу и въехал в ворота дома.
Промелькнув по двору с быстротой молнии, Толя выехал на задворки и со всего' разгона наткнулся передним колесом на толстую чугунную тумбу, которая лежала недалеко от забора. От удара велосипед брыкнул, словно лошадь, и встал торчком. Толя выскочил из седла, перелетел вверх ногами через забор, как акробат в цирке, и шлепнулся в мусорный ящик, который стоял в соседнем дворе под забором.
Все произошло так быстро, что Толя не успел опомниться, как уже сидел в ящике. Падая, он зацепился за гвоздь, который торчал в крышке ящика, и разорвал на спине рубашку. Это несколько задержало скорость полета, к тому же он упал на кучу мягкого мусора, что значительно смягчило удар. Таким образом, все обошлось благополучно, если не считать, что в самый последний момент Толя стукнулся о стенку ящика лбом.
Придя понемногу в себя, он ощупал рукой ушибленный лоб, и ему показалось, что там у него ссадина или царапина.
Приложив к ссадине носовой платок, Толя стал осматриваться по сторонам, пытаясь разгадать, куда это он попал.
Ребята, которые мчались за велосипедом во весь опор, сильно отстали. Они, однако, успели заметить, как Толя свернул с бульвара и скрылся в чужих воротах. Вскочив в эти же ворота и пробежав в конец двора, они обнаружили валявшийся под забором велосипед. Увидев, что велосипед не похищен, но сам Толя куда-то исчез, ребята принялись бегать по двору, заглядывать во все уголки и кричать:
— Мальчик! Мальчик!
Но Толя не отзывался. Ребята подумали, что он, должно быть, не захотел больше кататься и ушел домой. Они взяли велосипед и побежали обратно на бульвар.
Сидя в ящике, Толя слыхал, как кричали ребята, но так как они звали его не по имени, то решил, что зовут кого-то другого. Осмотревшись по сторонам и выглянув из мусорного ящика наружу, Толя наконец уяснил себе, куда он попал. Понятно, у него не было большого желания сидеть в таком ме¬
79
сте. Убедившись, что кровь из царапины на лбу уже не идет, он спрятал в карман носовой платок и вылез из ящика.
Перед ним, за деревьями, был виден серый кирпичный дом с высокой аркой в стене. Толя пошел прямо под эту арку, надеясь выйти на улицу, но попал не на улицу, а в другой двор. Здесь было гораздо красивее, чем там, откуда явился Толя. Посреди двора возвышалась огромная круглая клумба с цветущими астрами, георгинами и яркими, как огоньки, настурциями. Недалеко от клумбы была куча песка, обнесенная с четырех сторон голубым деревянным заборчиком. Какие-то красивые тихие дети сидели вокруг кучи и лепили из песка пирожки. Они были в ярких, цветастых платьицах и костюмчиках. Издали их тоже можно было принять за цветы. По обеим сторонам песочной кучи были разбиты газоны с аккуратно подстриженной зеленой травкой. Вдоль газонов стояли удобные лавочки, на которых сидели мамы детей. Они мирно беседовали между собой, читали книжки и следили, чтоб детишки хорошо вели себя и не запорошили друг другу песочком глаза.
Позади лавочек была волейбольная площадка с протянутой поперек нее веревочной сеткой. Несколько мальчиков и девочек постарше играли в волейбол.
Двор был большой, широкий, окруженный со всех четырех сторон стенами домов с балконами. На многих балконах пестрели цветы, высаженные в длинных деревянных ящиках. Толя невольно остановился и залюбовался открывшейся перед ним картиной. Все это было удивительно: и цветы, и газоны с травой, и дети, и большой кожаный мяч, плавно взлетавший над волейбольной сеткой.
«Ах, если бы и мне жить в этом доме!—подумал Толя.— Я бы каждый день глядел на цветочки; на песочную горку с детишками, играл бы с этими мальчиками и девочками в волейбол».
Он грустно вздохнул и как раз в это время увидел, что одна девочка махнула ему рукой, приглашая его поиграть с ними. Толя подошел несмело, но уже через две-три минуты вполне освоился среди новых друзей. Ему даже стало казаться, что он знаком с ними чуть ли не тысячу лет: Прошло еще минут пять, а он уже захватил, как говорится, инициативу в свои
80
Толя выскочил из седла, перелетел через забор и шлепнулся в мусорный
ящик.
руки: подавал команду, когда надо было меняться местами, кричал «аут», «сетбол», «мазила» и другие какие-то непонятные слова. Он всех учил правилам игры, хотя сам не особенно соблюдал эти правила. Кончилось тем, что он не смог взять мяч, который шел очень низко. Вместо того чтоб отбить мяч рукой, он стукнул по нему ногой. Удар получился более сильный, чем ожидал Толя, мяч полетел в сторону и попал прямо в окно на втором этаже дома. Осколки стекла со звоном посыпались вниз. Мяч, к счастью, не влетел в окно, а упал тут же рядом.
Первой мыслью Толи было броситься наутек, но он подавил в себе это желание. Ему казалось нечестным сбежать. Могли ведь подумать, что окно вышиб не он, а кто-нибудь из оставшихся игроков. Между тем один мальчик схватил мяч и, прижимая его к груди, побежал со двора.
— Спасайся кто может! — закричал кто-то.
Все игроки бросились врассыпную.
Увидев, что остался один, Толя решил, что теперь и ему можно бежать, но в тот же момент почувствовал, как его кто- то крепко схватил сзади за шиворот, и чей-то визгливый голос закричал прямо в ухо:
— Ты куда же это мячом садишь, разбойник?! Некуда тебе мячом пулять, окромя как по окнам, лоботряс ты этакий!
Толя обернулся, насколько было можно в его положении, и, скосив глаза, увидел злое лицо старой женщины, с коричневой бородавкой, величиной с горошину, над верхней губой. Одной рукой старуха крепко держала Толю за шиворот, в другой руке у нее была черная клеенчатая сумка с продуктами.
— Я нечаянно,—
растерянно пробормотал Толя, стараясь вырваться.
— Я вот те оторву голову нечаянно да заместо стекла в окошко вставлю. Нет на вас, сорванцов, угомону!
— Опять у вас разбили, Дарья Семеновна? — спросила одна из женщин, которые сидели на лавочке возле песочной кучи.
— У нас, милая, а то как же! Уже в третий раз подряд бьют, чтоб их лихоманка била! Стекол
на них не напасешься. Ты из какой квартиры? — спросила Дарья Семеновна и с силой тряхнула Толю за шиворот.
— Из шестнадцатой,— признался Толя.
— А вот и неправда,— сказала другая женщина.— Я в шестнадцатой квартире всех знаю.
— Так я ведь не в вашем доме живу,— ответил Толя.
— Ах, не в нашем! — со злой усмешкой сказала Дарья Семеновна.— Мало тут наши бьют окна, так еще не наши приходить будут! Пойдем-ка в домоуправление.
Старуха потащила Толю в домоуправление. Там сидели управдом и счетовод. Управдом что-то писал за столом. Счетовод что-то подсчитывал на арифмометре. Он при этом курил, не выпуская изо рта папиросу, и жмурился от попадавшего в глаза дыма.
Еще там, на лавочке, у окна, сидел усатый мужчина в сапогах. Он тоже курил папиросу, отчего в комнате стоял дым столбом.
83
Попав в эту отравленную дымом атмосферу, Толя закашлялся, но Дарья Семеновна бесцеремонно подтолкнула его вперед и, прикрыв за собой дверь, сказала:
— Вот, окно высадил. Уже в третий раз разбивают, значит. Только было отлучилась в магазин за продуктами, возвращаюсь, а этот как наподдаст мячик ногой. Сама видела. Нашито все на дачу уехали, денег мне в обрез оставили. Где я теперь на стекольщика два рубля возьму?
— Гм! — промычал управдом, отрываясь от своих бумаг.— Придется, дружочек, уплатить за стекло два рублика.
— Я принесу, —пролепетал Толя.
— Вот, вот, дружище, пойди-ка и принеси.
— Так он. и принесет, держи карман шире! — проворчала Дарья Семеновна.
— Честное слово, я принесу,— стал уверять ее Толя.
— А ты погоди со своим честным-то словом! Уйдешь, только тебя и видели!
— Верно,— сказал управдом.— Надо записать его адрес. Как твое имя, фамилия?
— Толя Клюквин.
84
— Где живешь? Говори адрес.
— Демьяновская улица, дом десять, квартира шестнадцать.
— Ну так вот, Толя Клюквин, не принесешь два рубля на стекольщика, мы тебя по этому адресу живо найдем. Понял? — сказал управдом, записав Толин адрес.
— Найдешь его, держи карман,— сказала недоверчивая старуха.— Он тебе наврет с три короба, только записывай.
Управдом покосился на Дарью Семеновну.
— Ну, это нетрудно проверить,-—ответил он.— Демьяновская, десять. Это какое же домоуправление будет?.. Кажется, двадцать девятое...
Управдом полистал лежавшую перед ним тетрадь со списком домоуправлений, снял телефонную трубку и набрал номер.
— Алло! — закричал он, подождав с минуту.— Это двадцать девятое?.. Посмотрите там по домовой книге, живет у вас в шестнадцатой квартире Толя Клюквин? Как?.. Живет?.. Ну спасибо... Что натворил?.. Да ничего особенного. Стекло здесь одной гражданке высадил... Ну, бабушка, вы не беспокойтесь,— сказал он, обращаясь к Дарье Семеновне и кладя трубку на место.— Теперь он от нас не скроется. Все правильно.
— То-то и подозрительно, что все правильно,— сказал усатый мужчина, который сидел на лавочке.— У нас тут в четвертом отделении милиции случай был. Задержал милиционер мальчишку: прыгал на ходу из трамвая, а штраф отказался платить. Ну, его, естественно, милиционер в отделение привел. Там, естественно, спрашивают: «Как фамилия?» Он говорит: «Ваня Сидоров»,— то есть не свою фамилию назвал, а одного своего знакомого мальчика. Его спрашивают: «Где живешь?» Он им и адрес этого Вани Сидорова дал. Те стали звонить из милиции в домоуправление: живет, мол, там у вас Ваня Сидоров? Им говорят: «Живет». Ну те, что ж, отпустили этого Ваню Сидорова, то есть не Ваню Сидорова, а этого мальчишку, который Ваней Сидоровым назвался, а на другой день послали родителям настоящего Вани Сидорова повестку, чтоб уплатили за своего сына штраф. Ну, родители, конечно, на Ваню набросились. «Что же ты, говорят, такой-сякой, с подножки на
85
ходу прыгаешь? Штраф теперь за тебя плати!» Парнишка, конечно, расстроился, в слезы: «Не прыгал я!» — «А, так ты еще врать, такой-сякой!» Бедный парень, уверяет, клянется. Заболел, понимаете, от такого недоверия. Родители видят — что-то не то получается. Не стал бы мальчонка так сильно расстраиваться, если б правда. Отец, естественно, побежал в милицию. «Мы, говорит, сыну верим. Наш Ваня не станет на ходу из трамвая прыгать. Он хороший». Ему говорят: «Они все хорошие, когда дома сидят». Отец говорит: «Все равно я не стану штраф платить».—«А не заплатите, говорят, судить вас будем».
Через неделю там или другую вызывают отца на суд. Отец приходит. «Товарищи, говорит, это что же такое? Не прыгал ведь он».— «Как, говорят, не прыгал, когда тут все: и имя, и фамилия, и адрес,— все точно записано». Хотели отцу присудить пятнадцать суток ареста за то, что плохо сына воспитывает и штраф не хочет платить, да спасибо кто-то надоумил вызвать в качестве свидетеля того милиционера, который задержал Ваню, когда он с подножки прыгал. Ну, вызвали, естественно, милиционера, показали ему Ваню.
Милиционер посмотрел и говорит: «А я уж и не помню, какой тот мальчишка-то был, да, сдается мне, этот Ваня не тот мальчик, что я задержал». Потом он еще пригляделся к нему и говорит: «Да, теперь я точно вижу, что это не тот». Так эта история ничем и кончилась. А могли Ваниного отца на пятнадцать суток арестовать ни за что ни про что. А того парнишку; который Ваней Сидоровым назвался, так и не нашли.
— Да, найдешь его! — сказал управдом.— Видно, стреляный воробей оказался.
— Еще какой стреляный! — подхватил усатый мужчина.—• Обычно мальчишка наврет с три короба, а все без толку: выдумает и номер дома, и квартиру, и улицу. Станут в домоуправление звонить, а там во всем доме и квартиры-то такой нет, или живет в ней кто-то другой. Вот тут-то он и попался. А этот все верно сказал, только не про себя, а про Ваню Сидорова.
— Этак-то,— сказала Дарья Семеновна,— каждый разобьет тебе стекло и скажет: я, дескать, Ваня Сидоров, живу там-то и там-то. Потом иди получай с Вани Сидорова.
86
— Гм! Вот видите, бабушка, какая оказия,— сказал управдом, пытливо взглянув на Толю.— Может быть, он на самом деле Ваня Сидоров, то есть... тьфу!., как, ты сказал, твоя фамилия?
— Толя Клюквин,— ответил Толя.
— Вот, вот. Может быть, он на самом деле Толя Клюквин, а может, и кто другой. Тут, как видите, по-всякому бывает. Идите-ка вы с ним лучше в милицию, там поточней разберут.
— Зачем в милицию? — взмолился Толя.— Я вам говорю правду.
— «Правду, правду»! — проворчала с досадой старуха.— Жди от вас правды-то!
Она схватила Толю за руку чуть повыше локтя и потащила на улицу. Толя семенил рядом с ней, пугливо оглядываясь по сторонам. Ему казалось, что прохожие с любопытством глядели на него и догадывались, что его ведут в милицию, наверное, думали, что он вор.
Толя ни разу еще не попадал в милицию, и ему очень не хотелось идти туда. Он рванулся что было силы, но старуха еще крепче впилась своими цепкими пальцами в его руку.
— За что вы его? — спросила шедшая навстречу женщина,
— Стекло в доме расшиб.
— Куда же вы его теперь?
— А в милицию. Куда же еще?
— Пустите меня! — просил Толя, стараясь вырваться.
Но старуха держала его как клещами.
— А ты не трепыхайся,— твердила она.— От меня все равно не уйдешь.
— Пустите! — просил Толя.— Я сам пойду. Не надо меня держать. Я не убегу.
— Так я тебе и поверила.
Убедившись, что ему не вырваться из рук Дарьи Семеновны, Толя решил пойти на хитрость. Он видел, что она могла держать его только одной рукой, так как в другой у нее была сумка с продуктами.
«Когда-нибудь рука у нее устанет, и она не сможет меня так крепко держать»,— решил Толя.
Он перестал вырываться и некоторое время шел спокойно,
87
как бы примирившись со своей участью. Усыпив таким образом бдительность старухи, он неожиданно рванулся и, оказавшись на свободе, бросился удирать.
— Стой! Стой! — закричала Дарья Семеновна, бросаясь за ним вдогонку.— Стой, говорят тебе! Держите его!
Встречные пешеходы останавливались, не зная, надо им ловить Толю или не надо. Один гражданин хотел было его схватить, но Толя ловко шмыгнул у него под рукой и, повернув с тротуара, помчался по мостовой. Здесь ему не угрожали встречные пешеходы и он мог развить гораздо большую скорость. Дарья Семеновна тоже побежала по мостовой, но тут же чуть не угодила под грузовую машину.
— Стой! — закричала она, бросившись обратно на тротуар.— Остановись сейчас же! Попадешь под машину!
Но Толя не слушал ее. Он выбежал на перекресток и понесся через дорогу. Дарья Семеновна увидела мчавшийся наперерез Толе трамвай и остановилась на углу улицы. Внутри у нее все похолодело. Ей казалось, что Толя вот-вот угодит под трамвай. Но вагоновожатый, увидав Толю, замедлил ход. Толя перебежал через рельсы, но с другой стороны к нему уже при¬
88
ближался автомобиль. Бежать назад было поздно. Раздался визг тормозов. Автомобиль ткнул Толю в плечо и тут же остановился. Толя упал. Дарья Семеновна уронила на землю сумку и закрыла лицо руками.
Вокруг Толи моментально образовалась толпа. Какой-то гражданин сейчас же подбежал к телефонной будке и стал вызывать «скорую помощь». Толя между тем поднялся на ноги.
— Больно ушибся? — спросил его кто-то.— Ты не ранен?
— Нет,— замотал головой Толя.
Шофер вылез из кабины и подбежал к Толе:
— И откуда ты взялся посреди мостовой, постреленок? Больно тебе?
— Нет, не больно.
Шофер схватил его обеими руками, потрогал за локти, за плечи:
— Нигде не болит?
— Нигде. Я испугался просто,
— «Испуга-а-лся»! — Лицо шофера расплылось в улыбке— Скажи спасибо, что я затормозить успел вовремя.
Тут подошел милиционер.
89
— Что с мальчиком? — спросил он шофера,
— Счастливый случай, товарищ милиционер. Можно сказать, отделался легким испугом.
— Вот как!
В это время сквозь толпу пробралась Дарья Семеновна. Руки у нее тряслись от страха, губы дрожали. Увидев, что Толя как ни в чем не бывало стоит возле автомашины, она бросилась к нему и заголосила:
— Живой, гляди-ка! Ах ты мой милы-ы-й!
Толя увидел старуху и метнулся от нее в сторону. Однако вокруг плотной стеной стояла толпа, и ему некуда было бежать.
— Да ты что, милый!—замахала руками старуха.— Да разве ж я тебя трону? Товарищ милиционер, это я, честное слово, я во всем виновата. Это он от меня, окаянной, с испугу под машину бросился. И все из-за стекла этого, будь оно трижды неладно!
— Это верно,— сказал кто-то в толпе.— Я сам лично видел, как эта старушенция гналась за ним, словно разъяренная фурия.
— Ну что ж, мы так и запишем,— сказал милиционер й начал писать протокол.
— Пиши, милый, пиши! А ты, голубчик, не бойся,обратилась старуха к Толе.— Я на тебя за стекло не в обиде, чтоб оно сгорело, век бы его не видать! Ты, миленький, приходи к нам, играй с ребятишками в этот свой мячик. А стекла-то эти, бей их хоть каждый день, разве я что скажу!
Тут неподалеку остановилась машина «скорой помощи», и из нее вышла женщина в белом халате.
— Где пострадавший? — спросила она, подойдя к толпе.— Кого здесь машиной сшибло?
— Да вон, мальчонку,— ответил ей кто-то.
Толпа моментально расступилась, и женщина подошла к Толе:
— Ну-ка, держись руками за мою шею, я тебя в санитарную машину снесу.
— Да он здоровехонек, — с усмешкой сказал шофер.— Ничего ему не сделалось.
90
— Товарищ милиционер, это он от меня, окаянной, с испугу под машину
бросился.
— Это вы так думаете,— строго сказала женщина.— А я вижу, что у мальчика лоб разбит.
— Так это я не сейчас,— сказал Толя.— Это я поранился, когда в мусорный ящик упал.
— В какой такой мусорный ящик?
— Ну, когда с ребятами на велосипеде катался.
Женщина схватила Толю в охапку и понесла к санитарной
машине.
— Куда же вы его? — сказала Дарья Семеновна.— Он же сказал, что об мусорный ящик поранился.
— А по-вашему, если об мусорный ящик, то и лечить не надо? Ему поскорей надо укол против столбняка сделать.
— Ну что ж, на то вы и врачи, чтоб знать против чего укол делать,— сказала Дарья Семеновна.— А ты, миленький, приходи к нам в мячик играть, когда поправишься! —закричала она и помахала Толе рукой.
Через минуту Толя уже ехал в санитарной машине. Женщина уложила его на носилки, а сама села рядом на лавочке.
— Вот приедем в больницу, доктор осмотрит тебя, тогда можно будет и ходить, и бегать, а сейчас пока полежи,— говорила она.
В окно санитарной машины были видны только верхние этажи зданий, и Толя никак не мог догадаться, по каким улицам они ехали. Но не это его тревожило. Больше всего его волновало то, что ему должны были сделать укол. Он боялся, что будет больно.
Скоро машина повернула в ворота лечебницы и остановилась у подъезда. Два санитара открыли дверцы и начали вытаскивать из машины носилки. Толя хотел вскочить на ноги, но один из санитаров строго сказал-:
— Лежи, лежи смирненько!
И они понесли Толю в больницу. Толе, однако, хотелось видеть, куда это его несут, и, вместо того чтоб спокойно лежать, он сидел на носилках и вертел во все стороны головой.
— И что за парень попался такой упрямый! — ворчал санитар, который шагал сзади.— Ему говорят — лежи, а он тут как ванька-встанька.
Пройдя по коридору больницы, санитары внесли Толю в
92
— Ему говорят — лежи, а он тут как ванька-встанька,— ворчал санитар.
большую светлую комнату с белыми стенами и высоким потолком. Здесь, как и в коридоре, пахло йодом, карболкой и другими медикаментами. Один из санитаров легко схватил Толю под мышки и положил на высокую твердую койку, застеленную холодной белой клеенкой.
— Лежи тут. Сейчас доктор придет,— сказал санитар тихо и для чего-то погрозил Толе пальцем.
Толя остался лежать. Ему было страшно. Доктор почему-то долго не приходил. Толе уже стало казаться, что о нем все забыли, но через некоторое время дверь отворилась, и вошел доктор вместе с медицинской сестрой.
Доктор был старенький и весь белый: в чистом белом халате, в белом колпаке на голове, с белыми седыми бровями, а на носу очки. Он любил говорить слово «ну-с», обращался к Толе на «вы» и называл его молодым человеком:
— Ну-с, молодой человек, как же это вы под машину попали?
Не дожидаясь Толиного ответа, он вставил себе в уши две тонкие резиновые трубочки и приложил Толе к груди какую-то круглую металлическую штучку.
— Ну-с, попрошу вас дышать, молодой человек. Так... дышите поглубже... еще дышите...— приговаривал он, прикладывая металлическую штучку к груди то справа, то слева.
Потом поднес Толе к носу палец:
— А теперь попрошу вас смотреть на кончик моего пальца.
И стал водить пальцем в разные стороны.
Толя вертел глазами то вправо, то влево, то вверх, то вниз, старательно следя за докторским пальцем.
После этого доктор ощупал Толю со всех сторон, постукал по коленкам резиновым молоточком с блестящей металлической ручкой и, обратившись к медицинской сестре, спросил:
— У вас все готово, Серафима Андреевна?
— Все готово,— отозвалась она.
— Ну так приступайте,— приказал доктор.
«Батюшки! К чему это она приступать будет?» — подумал
Толя.
От страха у него завертелись в глазах оранжевые круги и похолодело внутри.
94
— Не надо мне делать укол!—взмолился он.— Я больше не буду!
— Глупенький! Кто тебе сказал, что я буду делать укол? Я вовсе не буду.
С улыбкой Серафима Андреевна подошла к Толе, пряча за спиной шприц, который держала в руке. Свободной рукой она перевернула Толю на бок и как бы в шутку ущипнула пальцами за спину.
— Ай! — завизжал Толя, почувствовав, как игла шприца впилась в его тело.
— Тише, голубчик, тише! Все уже! Не кричи! Уже ведь не больно!
— Да, не больно! — плаксиво ответил Толя.
— Теперь пусть он полежит полчасика, и можете отправить его домой. Только не забудьте помазать ему йодом ранку на лбу,— сказал доктор и вышел из комнаты.
Серафима Андреевна помазала Толе ссадину на лбу йодом, потом присела к столу и стала что-то писать в тетради.
— Тебя как звать-то? — спросила она.
Толя хотел сказать, что его зовут Толя, но почему-то сказал, что его имя Слава, а когда Серафима Андреевна спросила, как его фамилия, он, вместо того чтобы сказать Клюквин, ответил, что его фамилия Огоньков, то есть назвал имя и фамилию своего приятеля Славы Огонькова, к которому шел утром, когда кошка ему дорогу перебежала.
— Красивая у тебя фамилия,— сказала Серафима Андреевна, записывая имя и фамилию Славы Огонькова в тетрадь.— А где ты живешь?
Вместо того чтоб сказать, что он живет на Демьяновской, дом 10, квартира 16, Толя сказал, что живет на Ломоносовской, дом 14, квартира 31, то есть опять-таки дал адрес не свой, а этого самого Славы Огонькова.
Впоследствии Толя и сам не мог объяснить, почему он соврал. Должно быть, он вспомнил в этот момент, как никто ему не поверил в домоуправлении, когда он говорил правду, ну, а раз никто не верит, то чего ж ему и стараться! К тому же он очень боялся, как бы из больницы не сообщили матери про все, что случилось.
95
Таким образом, Толя поступил в точности, как тот мальчик, про которого слышал в домоуправлении. Если бы он не слышал про этого мальчика, ему бы и в голову не пришло называться чужим именем и давать чужой адрес, но поскольку он слышал, то ему тут же и пришло все это в голову.
— Ломоносовская улица— это не близко,— сказала Серафима Андреевна.— У вас дома есть телефон?
У Толи дома телефона не было, но он вспомнил, что в квартире у Славы телефон был, и поэтому сказал, что телефон есть.
— А какой номер? — спросила Серафима Андреевна.
— Номер, номер... — забормотал Толя, морща изо всех сил лоб.— Номер не помню.
— Как же ты своего телефона не помнишь? — усмехнулась Серафима Андреевна.— Видно, так испугался, когда под машину попал, что и номер забыл. Ну ничего, я сейчас посмотрю в справочнике.
— А зачем вы хотите по телефону звонить? — испуганно спросил Толя.
— Надо же сказать твоей маме, чтобы пришла за тобой. Я бы сама отвела тебя домой, но мне нельзя отлучаться с работы.
— Будто я сам не найду дороги домой! — сказал Толя.— Зачем меня еще отводить!
— Нет, голубчик, я тебя не могу отпустить одного. Вдруг ты снова угодишь под машину!
Серафима Андреевна принялась листать лежавшую на столе телефонную книгу.
— Вот,— сказала она, отыскав нужную страницу.— Огонь¬
96
ков, Ломоносовская улица, дом четырнадцать, квартира тридцать один.
Она протянула руку к телефонному аппарату, сняла трубку и принялась набирать номер. Толя с тревогой наблюдал за ее действиями и ждал, что из всего этого выйдет. Единственная его надежда была на то, что у Славы не окажется никого дома. Однако надежда эта оказалась напрасной. Через полминуты Серафима Андреевна уже разговаривала со Славиной мамой.
— Алло! Это гражданка Огонькова? — кричала она в теле* фонную трубку.— С вами говорят из больницы. Вам надо прийти за сыном. Да, да, за сыном, за Славой... Что с ним?.. Да с ним ничего. Он лежит тут... Да вы не волнуйтесь. С ним ничего, честное слово, ничего... Ну, а лежит потому, что ему противостолбнячный укол сделали... Противостолбнячный... Да... Зачем укол?.. Ну, вы ведь знаете, что при ранении всегда полагается укол против столбняка делать... Да нет! Какое ранение! Кто вам говорит про ранение? Он вовсе не ранен... Да не ранен, говорят вам! Просто царапина. Заживет к вечеру... Да я не обманываю вас, честное слово, я говорю правду. Царапина! Абсолютно никакого ранения... Что?.. Царапина отчего?.,, Ну, попал под машину, то есть не попал под машину, а его сшибло, то есть не сшибло, что это я говорю,— он сам упал, а машины даже близко не было, честное слово... Да нет, что вы такое выдумываете! Я не успокаиваю вас. Он живой, честное слово, живой. Да что вы поднимаете раньше времени панику! Вот он лежит тут, честное слово, лежит, что я, врать буду! Приезжайте, сами увидите... Лежит, и ничего с ним такого нет... Что? Куда приезжать?.. Тургеневская, дом двадцать пять.
97
Серафима Андреевна положила трубку и, улыбнувшись, сказала Толе:
— Ну вот, как удачно все вышло. Сейчас твоя мама здесь будет.
Услыхав эту новость, Толя моментально соскочил с койки, но Серафима Андреевна уложила его обратно.
— А ты лежи. Зачем же вставать? После укола всегда полежать надо. Мама придет, вместе домой отправитесь.
Толя лежал и старался представить себе, как он будет выпутываться, когда Славина мама придет и увидит его вместо Славы.
«Может быть, признаться Серафиме Андреевне, что я вовсе не Слава?» — думал Толя.
Однако он никак не мог решиться признаться, а потом Серафима Андреевна вышла из комнаты, и ее долго не было. Увидев, что она не возвращается, Толя решил, что теперь самое лучшее будет — это удрать отсюда. Он уже представлял себе, как Серафима Андреевна и Славина мама войдут в комнату и, увидев, что его нет, начнут искать по всей больнице; Ставина мама, конечно, испугается еще больше, но в конце концов она все же вернется домой, увидит Славу и успокоится.
Продумав все это, Толя поднялся на койке и уже опустил ноги вниз, чтоб соскочить на пол, но в это время дверь отворилась, и в комнату вошла Серафима Андреевна, а за ней Славина мама. Лицо у нее было бледное и встревоженное.
— Ну, вот видите,— сказала Серафима Андреевна.— Он жив и вполне здоров, и даже смеется.
Толя сидел на койке и глупо улыбался, глядя на Славину маму.
— Где же мой сын? — спросила Славина мама, обводя комнату растерянным взглядом и как бы не замечая Толю.
— Да вот же,— весело сказала Серафима Андреевна, махнув рукой в сторону Толи.— Неужто не признали своего сына?
— Где мой сын? — глухо повторила Славина мама.— Толя, где Слава?
— Не знаю,— пробормотал Толя.
— Вы ведь вместе были у Жени Зайцева. Куда вы от него пошли? Толя, не скрывай от меня ничего!
98
— Да какой он Толя! Он Слава,— сказала Серафима Андреевна.
— Кто — Слава?—удивилась Славина мама.
— Да он же. Кто же еще?
— Слушайте, что все это значит? Вы скажете наконец, где мой сын?
— Так разве Слава не ваш сын?
— Слава мой сын, но ведь это не Слава, а Толя! Толя Клюквин, понимаете? Сколько раз повторять вам! Я, кажется, с ума сойду!
— Что же ты сказал мне, что тебя зовут Слава Огоньков?— напустилась Серафима Андреевна на Толю.— Вы меня, гражданка, простите, но я не виновата. Он мне сказал, что он Огоньков, я и позвонила вам. Ты зачем сказал, что ты Огоньков, когда ты вовсе не Огоньков? Ты что, не в своем уме, такие шутки шутить? Или ты, может, испугался, когда под машину попал? Вы его не вините, гражданка, должно быть, он от испуга не то, что надо, сказал. Это бывает.
— Да я разве виню? Я никого не виню. Я только хочу узнать, где мой сын?
— Гражданочка, откуда же я могу знать, где ваш сын? Разве вы не видите, что вашего сына у нас нет?
— Значит, он не попал под машину?
— Должно быть, еще не попал,— развела руками Серафима Андреевна.— Думаю, что, если б попал, его бы к нам привезли.
— Слушай, Толя,— обратилась Славина мама к Толе.— Ты мне скажи только, когда вы со Славой ушли от Жени?
— А я разве был сегодня у Жени? — спросил Толя.
— А разве нет? Мне показалось сегодня утром, что ты тоже к Жене пошел.
— Я пойти-то пошел, но дойти-то не дошел. Я не попал к нему, потому что сюда вот попал.
— Так, может быть, Слава и сейчас у Жени сидит? Ты не помнишь телефон Жени?
— Нет.
— Ну, телефон можно по телефонной книге узнать,— сказала Серафима Андреевна.
99
Она быстро разыскала в телефонной книге телефон Жени Зайцева. Славина мама сейчас же позвонила, и оказалось, что Слава был там. Поговорив со Славой и приказав ему возвращаться домой, она успокоилась и попросила Серафиму Андреевну дать ей немножечко валерьяновых капель, Серафима Андреевна накапала ей валерьянки в стаканчик й сказала:
— Теперь надо бы позвонить Толиной маме, чтобы пришла за ним.
— Нет, нет,— сказала Славмна мама.— Не надо Толиной маме звонить, а то вы ее до смерти перепугаете.
— Что вы! Зачем же я стану ее пугать? Уж я знаю, как надо.
— Нет, я лучше сама отведу Толю домой. Да у них, кстати, и телефона нет.
Сказав это, Славина мама взяла Толю за руку и, попрощавшись с Серафимой Андреевной, вышла на улицу,
— Как же так получилось, что ты в больницу попал? — спросила она.
Толя стал рассказывать по порядку, как отправился утром к Славе, но вернулся назад, потому что ему перебежала дорогу кошка, а поэтому он опоздал и не застал Славу дома; как пошел потом к Жене, но по дороге стал кататься на велосипеде и упал в мусорный ящик, потом играл с ребятами в волейбол, разбил мячом окно, попал в руки злой бабке, которая потащила его в милицию, а он от нее вырвался и побежал через дорогу, и его чуть не задавил автомобиль, после чего его отвезли в больницу и сделали укол против столбняка. Славина мама не могла сдержать на лице улыбку, слушая весь этот невероятный рассказ.
Потом она сказала1
— Какой же ты чудной человек! Ну скажи, пожалуйста, что было бы, если бы ты не обратил внимания на то, что тебе перебежала дорогу кошка, а пошел бы спокойно своей дорогой?
— Да что было бы?.. Ничего, наверное, и не было бы,— ответил Толя.— Я застал бы дома Славу, мы играли бы с ним дома в шахматы, и я не пошел бы к Женег не разбил бы окно, не удрал бы от бабки и не попал бы под машину.
100
— Вот видишь! Это все из-за того, что ты человек с предрассудками и веришь в разную чепуху.
— А это что — предрассудки?
— Не знаешь, что такое предрассудки? — усмехнулась Славина мама.— Постараюсь тебе объяснить. Ты, наверное, знаешь, что когда-то человек был еще очень дикий, необразованный, не умел правильно рассуждать, не понимал многого, что происходит вокруг. Когда происходило затмение солнца, он, не умея объяснить это неожиданное явление, пугался и воображал, что оно предвещает какое-нибудь бедствие, а когда ему неожиданно перебегала дорогу кошка или другое животное, он думал, что это тоже сулит какую-нибудь неудачу. Так появились многие предрассудки, а предрассудками они названы потому, что возникли еще перед тем, как человек научился правильно пользоваться своим рассудком, или умом.
— Так лучше их назвали бы не предрассудками, а перед- рассудками,— сказал Толя.
— Ну, это все равно, что «пред», что «перед»,— сказала Славина мама.— Принято говорить «предрассудки». Ну вот.
101
Мы с тобой прекрасно знаем, что во время солнечного затмения Луна заслоняет Солнце, и это не может предвещать ничего плохого. Что же может случиться с человеком плохого, если ему перебежит дорогу кошка?
— Ну что может случиться? Наверное, ничего,— ответил Толя.— Человек ходит сам по себе, а кошка бегает сама по себе.
— Вот видишь, ты это понимаешь,— сказала Славина мама.—Плохо будет только тогда, когда человек из-за какой- нибудь чепухи, вроде кошки, станет делать не то, что должен. Представь себе, что у тебя есть друг. И вот твой друг попал в беду. Ты спешишь на помощь ему, но как раз в этот момент тебе перебегает дорогу кошка. Что ты сделаешь? Повернешься и пойдешь назад, вместо того чтоб выручать друга?
— Нет, я буду выручать друга..
— Правильно! Человеку всегда надо делать то, что велит ему долг, а не то, что велит ему вера в кошку или в другую какую-нибудь ерунду. Ты вот шел утром к Славе, потому что обещал встретиться с ним, значит, твой долг был идти к нему, а ты из-за какой-то ничтожной кошки стал петлять по улицам, так что в конце концов чуть под автомобиль не попал.
Пока Славина мама объясняла все это Толе, они дошли до Ломоносовской улицы. Увидев, что они очутились возле Славиного дома, Толя сказал:
— Не надо меня провожать дальше. Теперь я сам дорогу домой найду.
— Ну, иди сам,— согласилась Славина мама.
Толя свернул в Третий Каширский переулок и зашагал к своему дому. Он шел и думал:
«Вот какая чепуха может выйти из-за всех этих предрассудков! И еще хорошо, что все хорошо кончилось! Не затормози шофер вовремя, и все кончилось бы гораздо хуже».
Неожиданно его рассуждения были прерваны появлением рыжей полусибирской кошки, которая выскочила из-за угла дома и, распушив хвост трубой, быстро побежала через дорогу. Толя вздрогнул от неожиданности и остановился как вкопанный.
«Вот уж как не повезет с утра, так целый день не будет вез¬
102
ти! —с досадой подумал он.— Что теперь делать? Если идти в обход, то снова какая-нибудь ерунда случится: или в мусорный ящик свалишься, или кирпич на голову упадет. Так и во веки веков домой не дойдешь!»
Он нерешительно посмотрел по сторонам и сказал сам себе:
«Нет, с этим пора кончать! Что я, человек или не человек? Я человек! А человек — существо умное, гордое. Он запускает в космос ракеты, покорил атомную энергию, выдумал думающую машину. Человек не может зависеть от какой-то старой, облезлой кошки и всегда должен делать то, что велит ему долг. А что мне велит долг? Мой долг велит мне идти домой обедать, потому что мама уж давно ждет меня и, наверное, волнуется».
Славина мама долго стояла на углу улицы и смотрела вслед Толе. Она боялась, как бы с ним не случилось еще чего- нибудь. Она видела, как он почему-то остановился посреди тротуара, постоял в нерешительности некоторое время, потом вдруг махнул рукой и, подняв гордо голову, бодро пошел вперед.
ПРО ГЕНУ
Гена был, в общем, хороший мальчик. Ничего себе паренек. Как говорится, не хуже других детишек. Вполне здоровый, румяный, лицо кругленькое, нос кругленький, вся голова, в общем, кругленькая. А шея у него была короткая. Совсем почти шеи не было. То есть шея, конечно, у него имелась, но ее можно было разглядеть только летом, когда Гена ходил в майке или в рубашке с открытым воротом. А зимой, когда он надевал теплую курточку или пальто, шеи не было видно, и казалось, что его круглая голова лежала прямо на плечах, словно арбуз на блюде. Но это, конечно, не такая уж большая беда, потому что у многих ребят, пока они еще маленькие, шея бывает коротенькая, а когда они подрастут, то и шея становится длинней.
В общем, это был не такой уж большой недостаток.
Главный недостаток Гены заключался в том, что он любил иногда приврать. То есть он не то чтобы врал, как говорится, без зазрения совести. Нет, этого за ним не водилось. Вернее сказать, он не всегда говорил правду.
104
Впрочем, с кем этого не бывает! Иной раз хоть не хочешь, а соврешь и даже сам не заметишь, как это вышло.
А учился Гена ничего себе. Как говорится, не хуже других. В общем, неважно учился. Были у него в дневнике тройки, иногда попадались и двойки. Но это, конечно, только в те дни, когда папа и мама ослабляли свое внимание и не очень следили, чтоб он вовремя делал уроки.
Но главное, как уже сказано, было то, что он иногда говорил неправду, то есть врал иногда так, что себя не помнил. За это один раз он даже был крепко наказан.
Случилось это зимой, когда в его школе проводили сбор металлического лома. Ребята задумали помочь государству и собирать металлический лом для заводов. Они даже решили соревноваться между собой, кто соберет больше, а победителей помещать на Доску почета.
Гена тоже решил соревноваться. Но в первый день, когда он отправился за металлическим ломом, он встретил во дворе своего друга Гошу.
Этот Гоша был худенький, маленький мальчик, чуть ли не на целый год младше Гены. Но Гена с ним очень дружил, потому что Гоша был умный и всегда придумывал что-нибудь интересное.
Так случилось и на этот раз. Увидев Гену, Гоша спросил:
— Ты куда это разогнался?
— Иду собирать металлический лом,— сказал Гена.
— Пойдем лучше с ледяной горки кататься. В соседнем дворе ребята хорошую горку сделали.
Они отправились в соседний двор и принялись кататься с горки. Санок у них не было, поэтому они съезжали попросту на ногах. Только это было не очень удобно, потому что каждый раз приходилось ехать сначала стоя, а потом уже лежа на животе, а иной раз и на спине.
Наконец Гоша сказал:
— Так кататься невыгодно. Можно расквасить нос. Пойди-ка ты лучше домой за санками. У тебя ведь есть санки.
Гена пошел домой, пробрался на кухню и взял санки. Мама увидала и говорит:
— Зачем санки? Ты ведь пошел собирать лом.
105
— А я буду возить лом на санках,— объяснил Гена.— Он ведь тяжелый. В руках много не унесешь, а на санках гораздо легче.
— А,— сказала мама.— Ну иди.
Целый день Гена катался с Гошей на санках и только к вечеру вернулся домой. Все пальто у него было в снегу.
— Где же ты пропадал столько времени? — спросила мама.
— Собирал лом.
— Неужели для этого надо было так изваляться в снегу?
— Ну, это мы на обратном пути с ребятами немножко в снежки поиграли,— объяснил Гена.
— Ничего себе — немножко! — покачала головой мама.
— А много ты собрал лому? — спросил Гену папа.
— Сорок три килограмма,— не задумываясь, соврал Гена.
— Молодец! — похвалил папа и стал высчитывать, сколько это будет пудов.
— Кто же теперь на пуды считает? — сказала мама.— Теперь все считают на килограммы.
— А мне на пуды интересно,— ответил папа.— Когда-то я
106
работал в порту грузчиком. Приходилось носить бочонки с треской. В каждом бочонке по шесть пудов. А сорок три килограмма — это почти три пуда. Как же ты дотащил столько?
— Я ведь не носил, а на санках,— ответил Гена.
— Ну, на санках,- конечно, легче,— согласился отец.— А другие ребята сколько собрали — больше, чем ты, или меньше?
— Меньше,— ответил Гена.— Кто тридцать пять килограммов, кто тридцать. Только один мальчик собрал пятьдесят килограммов, и еще один мальчик собрал пятьдесят два.
— Ишь ты! — удивился папа.— На девять килограммов больше, чем ты.
— Ничего,— сказал Гена.— Завтра я тоже на первое место выйду.
— Ну ты не особенно надрывайся там,— сказала мама.
— Зачем — особенно! Как все, так и я.
За ужином Гена ел с большим аппетитом. Глядя на него, папа и мама радовались. Им всегда почему-то казалось, что Гена ест мало и от этого может похудеть и заболеть. Увидев, как он уписывает за обе щеки гречневую кашу, отец потрепал его рукой по голове и, засмеявшись, сказал:
— Поработаешь до поту, так и поешь в охоту! Не так ли, сынок?
— Конечно, так,— согласился Гена.
Весь вечер отец и мать говорили о том, как хорошо, что теперь в школе приучают детей к труду.
Папа сказал:
— Кто с малых лет приучится трудиться, тот вырастет хорошим человеком и никогда не будет на чужой шее сидеть.
— А я и не буду на чужой шее сидеть,— сказал Гена.— Я на своей буду сидеть шее.
— Вот, вот! — засмеялся папа.— Ты у нас хороший мальчик.
Наконец Гена лег спать, а папа сказал маме:
— Знаешь, что мне больше всего нравится в нашем мальчике— это его честность. Он мог бы наврать с три короба, мог сказать, что собрал больше всех лома, а он откровенно признался, что двое ребят собрали больше его.
107
— Да, он у нас мальчик честный,— сказала мама.
— По-моему, воспитывать в детях честность — важнее всего,— продолжал папа.— Честный человек не соврет, не обманет, не подведет товарища, не возьмет чужого и трудиться будет исправно, не станет сидеть сложа руки, когда другие работают, потому что это значит быть паразитом и поедать чужой труд.
На другой день Гена явился в школу, и учительница спросила, почему он не пришел вчера собирать лом. Не моргнув глазом, Гена ответил, что ему не разрешила мама, так.как у него заболела сестренка воспалением легких и он должен был пойти в больницу, чтоб отнести ей апельсин, а без апельсина она будто бы не могла выздороветь. Почему ему пришло в голову наврать про больницу, про сестренку, которой у него вовсе не было, и вдобавок про апельсин,—это никому не известно.
Придя из школы домой, он пообедал сначала, потом взял саночки, сказал маме, что идет собирать лом, а сам снова отправился кататься на горку. Вернувшись к вечеру домой, он опять принялся сочинять, кто из ребят сколько собрал лому, кто вышел на первое место, кто на последнее, кто ударник, кто отличник, кто просто передовик.
Так было каждый день. Уроки Гена совсем перестал делать. Ему не до того было. В дневнике у него начали появляться двойки. Мама сердилась и говорила:
— Это всё из-за лома! Разве можно заставлять детей столько трудиться? Ребенку совсем некогда делать уроки! Надо будет пойти в школу и поговорить с учительницей. Что они там себе думают? Одно из двух: пусть или учатся, или лом собирают! Иначе ничего не выйдет.
Однако ей все было некогда, и она никак не могла собраться пойти в школу. Папе она боялась говорить про плохие отметки Гены, потому что папа всегда расстраивался, когда узнавал, что его сын скверно учится. Ничего не подозревая, он каждый вечер с интересом расспрашивал Гену о его трудовых успехах и даже записывал в свою записную книжечку, сколько он собрал за день лома. Гена для большего правдоподобия сочинял разные небылицы. Сочинил даже, что учительница Антонина Ивановна поставила его в пример всему классу и поместила его фамилию на Доску почета.
108
Случилось это зимой, когда в школе проводили сбор металлического лома.
Наконец наступил день, когда Гена получил самую скверную отметку, которая только бывает на свете, то есть единицу, да еще по такому важному предмету, как русский язык. Он, конечно, ничего не сказал маме, а просто взял санки и отправился «собирать лом»; то есть это он только так говорил, что идет собирать лом, а на самом деле пошел, как всегда, кататься.
Когда он ушел, мама вспомнила, что не проверила его отметки.
Она достала из сумки дневник и увидела, что у него там «кол», то есть, попросту говоря, единица.
— Эге! — с досадой сказала она.— Это, наконец, возмутительно! Что они там себе в школе думают! Ребенок единицы приносит, а у них только лом на уме!
Оставив все свои дела, она поспешила в школу.
На ее счастье, Антонина Ивановна еще не ушла. Увидев Генину маму, она сказала:
— Вот хорошо, что вы пришли. Я вас вызвала, чтоб поговорить об успехах Гены.
— Как это вы меня вызвали? — удивилась Генина мама.— Меня никто не вызывал. Я сама пришла.
— Разве вы не получили мою записку? — спросила учительница.
— Нет.
— Странно! — сказала Антонина Ивановна.— Я еще позавчера велела Гене передать вам записку.
— Может быть, вы ошиблись? Вы, наверное, кому-нибудь другому велели, а не Гене.
— Нет. Как же я могла ошибиться?
— Почему же Гена не передал мне?
— Надо будет у него об этом спросить,— сказала Антонина Ивановна.— А сейчас я хотела выяснить, почему Гена стал хуже учиться. Мне непонятно, почему он дома уроки не делает.
— Что же здесь непонятного? — усмехнулась Генина мама.— Сами заставляете детей собирать лом, а потом удивляетесь, почему дети уроки не делают.
— При чем же здесь лом? — удивилась учительница.
110
— Как—при чем? Когда же им делать уроки, если нужно лом собирать? Вы бы сами подумали.
— Что-то я вас не совсем понимаю. Мы не перегружаем учащихся этой работой. В сборе металлолома они участвуют один раз в месяц. Это не может повредить их занятиям.
— Ха-ха-ха! Раз в месяц! — засмеялась Генина мать.— Да они каждый день собирают. Гена собрал почти целую тонну.
— Кто вам сказал?
— Гена.
— Ах так! Если хотите знать, то ваш Гена не то что тонну, а ни килограмма не собрал, ни грамма, ни полграмма! — с возмущением сказала учительница.
— Как вы можете так говорить! — вспылила Генина мама.— Он мальчик честный, он не станет обманывать. Вы ведь сами поставили его в пример всему классу и повесили на Доску почета.
— На Доску почета?! — воскликнула Антонина Ивановна.— Как же я могла поместить Гену на Доску почета, если он даже ни разу не участвовал в сборе металлолома?! В первый раз сказал, что у него заболела сестренка воспалением легких... У вас болела дочь воспалением легких?
■— Какая дочь? У меня нет никакой дочери!
— Вот видите! А Гена сказал — заболела сестренка воспалением легких и мама послала в больницу отнести апельсин.
— Ну подумайте только! — сказала мама.— Выдумал апельсин какой-то. Значит, он все время меня обманывал! Наверное, и сегодня не пошел собирать лом?
— Кто же сегодня собирает лом! — ответила учительница.— Сегодня четверг, а сбор лома проводится у нас по субботам. В субботу мы нарочно отпускаем ребят пораньше.
От волнения Генина мама даже забыла попрощаться с учительницей и бросилась поскорей домой. Она не знала, что думать, что делать. От горя у нее даже заболела голова. Когда вернулся с работы Генин папа, мама сейчас же рассказала ему обо всем. Услыхав такую новость, папа ужасно расстроился и разволновался.
111
Мама принялась успокаивать его, но он не хотел успокаиваться и метался по комнате, как разъяренный тигр.
— Подумать только! — кричал он, хватаясь за голову руками.—Значит, он только и делал, что катался на санках, а нам говорил, что ходит собирать лом. Так врать, а! Хорошо воспитали сыночка, нечего сказать!
— Но мы же не учили его обманывать! — сказала мама.
— Этого еще не хватало! — ответил папа.— Ну, пусть он только вернется, я ему покажу!
Однако Гена долго не приходил. В этот день он ушел со своим другом Гошей далеко, в парк культуры, и они катались там на берегу реки с откосов. Это было очень увлекательное занятие, и они никак не могли накататься досыта.
Было совсем поздно, когда Гена наконец явился домой. Он с головы до ног извалялся в снегу и дышал от усталости, словно лошадь. Его круглое лицо так и пылало жаром, шапка налезла на глаза, и, для того чтоб хоть что-нибудь видеть, ему приходилось запрокидывать назад голову.
Мама и папа тут же подбежали к нему и стали помогать снять пальто, а когда сняли, от Гены повалил кверху пар.
— Бедненький! Ишь как натрудился-то! — сказал папа.— У него вся рубашка мокрая!
— Да,— сказал Гена.— Сегодня я сто пятьдесят килограммов железа собрал.
— Сколько, сколько?
— Сто пятьдесят.
— Ну, герой! — развел руками отец.— Надо подсчитать, сколько всего получится.
Папа взял свою записную книжечку и стал подсчитывать:
— В первый день ты собрал сорок три килограмма, на следующий еще пятьдесят — вместе девяносто три, на третий день шестьдесят четыре — получится сто пятьдесят семь, потом еще шестьдесят девять — это будет... это будет...
— Двести двадцать шесть,— подсказал Гена. .
— Правильно! — подтвердил папа.— Считаем дальше...
Так он считал, считал, и у него получилась целая тонна,
да еще с лишним.
112
— Смотри,— с удивлением сказал он.— Целую тонну железа собрал! Это ж надо! Кто же ты теперь у нас?
— Наверное, отличник или ударник, не знаю точно,— ответил Гена.
— Не знаешь? А я знаю! — закричал вдруг отец и стукнул кулаком по столу.— Ты плут! Мошенник! Трутень ты, вот кто! Тунеядец!
— Какой ту-тунеядец? — заикаясь от испуга, спросил Гена.
— Не знаешь, какие тунеядцы бывают?
— Не-не-не знаю.
— Ну, это те, которые сами не трудятся, а норовят устроиться так, чтоб за них другие работали.
— Я не норовю... не норовлю,— пролепетал Гена.
— Не норовишь? — закричал отец страшным голосом.— А кто каждый день на санках катается, а дома врет, будто лом собирает? Где записка? Признавайся, негодный!
— Какая за-за-записка?
— Будто не знаешь! Записка, которую тебе Антонина Ивановна дала.
— У меня нет.
— Где же она?
— Я ее в мусоропровод выбросил.
-— А, в мусоропровод! — загремел отец и стукнул кулаком по столу с такой силой, что зазвенела посуда.— Тебе для того дали записку, чтоб ты ее в мусоропровод бросал?
— Ну, успокойся, пожалуйста,— взмолилась мама.— До смерти перепугаешь ребенка.
— Перепугаешь его! Как же! Он сам кого хочешь перепугает. Подумать только — так врать! Тонну железа собрал! На Доску почета повесили! Это же позор! Как я буду людям в глаза смотреть!
— Зачем же кричать? Его наказать надо, а кричать — это непедагогично. У ребенка может пропасть аппетит,— сказала мама.
—- Думаю, что аппетит у него не пропадет,— сказал папа,— а что его наказать следует, это я и сам знаю.
Папа еще долго стыдил Гену. Гена просил у него прощения, клялся, что теперь ни за что не будет на санках кататься
g Библиотека пионера, т. 4
113
и всегда будет собирать лом. Но отец не согласился его простить. Кончилось дело тем, что Гена был крепко наказан. Как был наказан, говорить ни к чему. Каждый сам знает, какие наказания бывают. В общем, наказали его, и все.
А в этот год Гена на самом деле уже не катался больше на санках, так как зима скоро кончилась и снег растаял. Но и железный лом ему тоже не пришлось собирать, потому что учебный год подошел к концу и ребятам нужно было усиленно заниматься, чтоб перейти в следующий класс с хорошими отметками. У них в школе в этот год никто больше не собирал железного лома.
КЛЯКСА
Я расскажу вам про Федю Рыбкина, о том, как он насмешил весь класс. У него была привычка смешить ребят. И ему было все равно: перемена сейчас или урок. Так вот. Началось это с того, что Федя подрался с Гришей Копейкиным из-за флакончика туши. Только если сказать по правде, то никакой драки тут не было. Никто никого не бил. Они просто вырывали друг у друга из рук флакончик, а тушь из него выплеснулась, и одна капля попала Феде на лоб. От этого на лбу у него получилась черная клякса величиной с пятак.
Сначала Федя рассердился, а потом он увидел, что ребята смеются, глядя на его кляксу, и решил, что это даже лучше. И не стал смывать кляксу.
Скоро зазвонил звонок, пришла Зинаида Ивановна, и начался урок. Все ребята оглядывались на Федю и потихоньку смеялись над его кляксой. Феде очень нравилось, что он одним своим видом может смешить ребят. Он нарочно сунул палец в флакончик и измазал нос тушью. Тут уж никто без смеха не мог на него смотреть. В классе стало шумно. Зинаида Иванов¬
115
на сначала никак не могла понять, в чем дело, но скоро заметила Федину кляксу и даже остановилась от удивления.
— Это чем ты лицо испачкал, тушью? — спросила она.
— Ага, — кивнул головой Федя.
— А какой тушью? Этой? Зинаида Ивановна показала
на флакончик, который стоял на парте.
— Этой,— подтвердил Федя, и рот его разъехался чуть ли не до ушей.
Зинаида Ивановна надела на нос очки и с серьезным видом осмотрела черные пятна на лице Феди, после чего сокрушенно покачала головой:
— Напрасно ты это сделал, напрасно!
— А что? — забеспокоился Федя.
— Да, видишь ли, тушь эта химическая, ядовитая. Она разъедает кожу. От этого кожа сперва начинает чесаться, потом на ней вскакивают волдыри, а потом уже по всему лицу идут лишаи и язвочки.
Федя перепугался. Лицо у него вытянулось, рот сам собою открылся.
— Я больше не буду мазаться тушью,— пролепетал он.
— Да уж думаю, что больше не будешь! — усмехнулась Зинаида Ивановна и продолжала урок.
Федя поскорей принялся стирать пятна туши носовым платком, потом повернул свое испуганное лицо к Грише Копейки- ну и спросил:
— Есть?
— Есть,— шепотом сказал Гриша.
Федя снова принялся тереть лицо. Тер и платком и промокашкой, но черные пятна глубоко въелись в кожу и не стирались.
116
Гриша протянул Феде ластик и сказал:
— На вот. Это хорошая чернильная резинка. Потри попробуй. Если она тебе не поможет, то пиши пропало.
Федя принялся тереть лицо чернильной резинкой, но и это не помогло. Тогда он решил сбегать умыться и поднял руку. Но Зинаида Ивановна, будто нарочно, не замечала его. Он то вставал, то садился, то приподнимался на цыпочки, стараясь вытянуть руку как можно выше. Наконец Зинаида Ивановна спросила, что ему нужно.
— Разрешите мне пойти умыться,— попросил жалобным голосом Федя.
— А что, уже чешется лицо?
— Н-нет,— замялся Федя.— Кажется, еще не чешется.
— Ну, тогда посиди. На переменке успеешь умыться.
Федя сел на место и снова принялся тереть лицо промокашкой.
— Чешется? — озабоченно спрашивал Гриша.
— Н-нет, кажется, не чешется... Нет, кажется, чешется. Не разберу, чешется или не чешется. Кажется, уже чешется! Ну- ка, посмотри, нет еще волдырей?
— Волдырей еще нет, а вокруг уже все покраснело,— шепотом сказал Гриша.
— Покраснело? — испугался Федя.— Отчего же покраснело? Может быть, уже волдыри начинаются или язвочки?
Федя снова стал поднимать руку и просить Зинаиду Ивановну отпустить его умыться.
— Чешется!— хныкал он.
Теперь ему было не до смеха. А Зинаида Ивановна говорила:
— Ничего. Пусть почешется. Зато в другой раз не станешь мазать лицо чем попало.
Федя сидел как на иголках и все время хватался за лицо руками. Ему стало казаться, что лицо на самом деле стало чесаться, а на месте пятен уже начинают вздуваться шишки.
— Ты лучше не три,— посоветовал ему Гриша.
Наконец прозвонил звонок. Федя первым выскочил из класса и во всю прыть побежал к умывальнику. Там он всю перемену тер лицо мылом, а весь класс над ним потешался. Наконец он начисто оттер пятна туши и целую неделю после того ходил серьезным. Все ждал, что на лице волдыри вскочат. Но волдыри так и не вскочили, а за эту неделю Федя даже разучился на уроках смеяться. Теперь смеется только на переменках, да и то не всегда.
ФЕДИНА ЗАДАЧА
Раз как-то зимой Федя Рыбкин пришел с катка. Дома никого не было. Младшая сестра Феди, Рина, уже успела сделать уроки и пошла играть с подругами. Мать тоже куда-то ушла.
— Вот и хорошо! — сказал Федя.— По крайней мере, никто не будет мешать делать уроки.
Он включил радио, достал из сумки задачник и стал искать заданную на дом задачу.
— Передаем концерт по заявкам,— объявил голос по радио.
— Концерт — это хорошо,— сказал Федя.— Веселей будет делать уроки.
Он отрегулировал репродуктор, чтоб было погромче, и сел за стол.
— Ну-ка, что тут нам на дом задано? Задача номер шестьсот тридцать девять? Так... «На мельницу доставили четыреста пятьдесят мешков ржи, по восемьдесят килограммов в каждом...»
119
Из репродуктора послышались звуки рояля, и чей-то голос запел густым, рокочущим басом:
Жил-был король когда-то,
При нем блоха жила.
Милей родного брата Она ему была.
— Вот какой противный король! — сказал Федя.— Блоха ему, видите ли, милей родного брата!
Он почесал кончик носа и принялся читать задачу сначала:
— «На мельницу доставили четыреста пятьдесят мешков ржи, по восемьдесят килограммов в каждом. Рожь смололи, причем из шести килограммов зерна вышло пять килограммов муки...»
Блоха! Ха-ха! — засмеялся голос и продолжал петь:
Позвал король портного;
— Послушай, ты, чурбан!
Для друга дорогого Сшей бархатный кафтан.
— Ишь что еще выдумал! — воскликнул Федя.— Блохе — кафтан! Интересно, как портной его шить будет? Блоха ведь маленькая!
Он прослушал песню до конца, но так и не узнал, как портной справился со своей задачей, В песне ничего про это не говорилось.
— Плохая песня,— решил Федя и опять принялся читать задачу: — «На мельницу доставили четыреста пятьдесят мешков ржи, по восемьдесят килограммов в каждом. Рожь смололи, причем из шести килограммов зерна...»
Он был титулярный советник,
Она — генеральская дочь,—
запел репродуктор снова.
— Интересно, кто такой титулярный советник? — сказал Федя.— Гм!
120
Он потер обеими руками уши, словно они у него замерзли, и, стараясь не обращать внимания на радио, принялся читать задачу дальше:
— Так. «...из шести килограммов зерна вышло пять килограммов муки. Сколько понадобилось машин для перевозки всей муки, если на каждой машине помещалось по три тонны муки?»
Пока Федя читал задачу, песенка про титулярного советника кончилась и началась другая:
Легко на сердце от песни веселой,
Она скучать не дает никогда,
И любят песню деревни и села,
И любят песню большие города!
Эта песенка очень понравилась Феде. Он даже забыл про задачу и стал пристукивать карандашом по столу в такт.
— Хорошая песня! — одобрил он, когда пение кончилось.— Так... О чем тут у нас говорится? «На мельницу доставили четыреста пятьдесят мешков ржи...»
Однозвучно гремит колокольчик,—
послышался высокий мужской голос из репродуктора.
— Ну, гремит и пусть гремит,— сказал Федя.— Нам-то какое дело? Нам надо задачу решать. На чем тут мы остановились? Так... «Для дома отдыха купили двадцать одеял и сто тридцать пять простынь за двести пятьдесят шесть рублей. Сколько денег уплатили за купленные одеяла и простыни в отдельности...» Позвольте! Откуда тут еще одеяла с простынями взялись? У нас разве про одеяла? Тьфу, черт! Да это не та задача! Где же та?.. А, вот она! «На мельницу доставили четыреста пятьдесят мешков ржи...»
По дороге зимней, скучной Тройка борзая бежит,
Колокольчик однозвучный Утомительно гремит...
— Опять про колокольчик! — воскликнул Федя.— На колокольчиках помешались! Так... Утомительно гремит... в ка-ж-
121
дом мешке... рожь смололи, причем из шести килограммов муки вышло пять килограммов зерна... То есть муки вышло, а не зерна! Совсем запутали!
Колокольчики мои, цветики степные!
Что глядите на меня, темно-голубые?
— Тьфу! — плюнул Федя.— Прямо деваться от колокольчиков некуда! Хоть из дому беги, с ума можно сойти!.. Из шести килограммов зерна вышло пять килограммов муки, и спрашивается, сколько понадобилось машин для перевозки всей муки...
Не счесть алмазов в каменных пещерах,
Не счесть жемчужин в море полуденном...
— Очень нам нужно еще алмазы считать! Тут мешки с мукой никак не сосчитаешь! Прямо наказание какое-то! Двадцать раз прочитал задачу — и ничего не понял! Пойду лучше к Юре Сорокину, попрошу, чтоб растолковал.
Федя Рыбкин взял под мышку задачник, выключил радио и пошел к своему другу Сорокину.
НАХОДЧИВОСТЬ
Мы с Вовкой сидели дома, за то что разбили сахарницу. Мама ушла, а к нам пришел Котька и говорит:
— Давайте играть во что-нибудь.
— Давайте в прятки,— говорю я.
— У, да здесь и прятаться негде! — говорит Котька.
— Почему — негде? Я так спрячусь, что ты вовек не найдешь. Надо только находчивость проявить.
— А ну-ка, спрячься. Найду в два счета.
Котька пошел в коридор и стал считать до двадцати пяти. Вовка побежал в комнату, а я в чулан. В чулане лежала рогожка. Я залез под нее и свернулся на полу комочком.
Вот Котька сосчитал до двадцати пяти и пошел искать. Вовку он сразу нашел под кроватью и стал меня искать. Обыскал всю комнату и кухню. Зашел в чулан, остановился возле меня и говорит:
123
— Тут кастрюли какие-то, стул сломанный, рогожка старая. Никого нет!
Потом вернулся в комнату и спрашивает:
— Где он? Ты не видал, Вовка?
— Может, в шкафу сидит? — говорит Вовка.— Ну-ка, открой шкаф... Нету!
— Может быть, в буфет забрался?.. Нету! Куда же он делся?
— Знаю! — закричал Вовка.— Он в сундуке!
— Правильно! Больше ему негде быть. Как мы раньше не догадались!
Они подбежали к сундуку и принялись открывать крышку, но она не открывалась.
— Закрыта,— говорит Котька.
— А может, он изнутри держит?
Они стали стучать по крышке и кричать:
— Вылезай!
— Давай перевернем сундук,— говорит Вовка.— Ну-ка, подхватывай с той стороны! Ра-а-а-зом!
Бух! Сундук перевернулся, даже пол задрожал.
— Нет, наверное, его там нету,— говорит Котька.— Не может же он вверх ногами сидеть!
— Должно быть, он в кухне под печкой,— ответил Вовка.
Они побежали на кухню и стали тыкать кочергой под
печку:
— Вылезай! Теперь все равно попался!
Я насилу удержался от смеха.
— Постой,— говорит Вовка.— Я, кажется, кого-то поймал.
— Ну-ка, тащи его!
— Сейчас, зацеплю кочергой только... Есть! Ну-ка, посмотрим, кто это... Тьфу! Старые валенки!.. Где же его искать?
— Не знаю. Я не играю больше. Выходи!—закричал Котька.— Игра окончена! Не хочешь, ну и сиди себе!
Они вернулись в комнату.
— Может быть, он в комоде? — спрашивает Вовка.
Послышался скрип.
— Ну что ты ищешь в комоде! Разве в ящике спрячешься? — рассердился Котька и пошел в коридор.
124
— Почему не спрячешься? Надо проверить,— ответил Вовка.
Он долго скрипел ящиками и вдруг закричал!
— Котька, иди сюда!
— Нашел? — отозвался Котька,
— Нет, я не могу вылезти.
— Откуда?
— Из комода. Я в комоде сижу.
— Зачем же ты залез в комод?
— Я хотел проверить, можно спрятаться в ящике или нет, а ящик перекосился, и я не могу вылезть.
Тут я не выдержал и громко расхохотался. Котька услышал и бросился искать меня.
— Вытащи меня сначала!—взмолился Вовка.
— Да не кричи ты! Я не разберу, где это он смеется,
— Вытащи меня! Мне здесь в ящике страшно!
Котька выдвинул ящик и помог Вовке выбраться. Они вместе побежали в чулан. Котька споткнулся об меня и упал.
— Еще эту рогожку какой-то дурак здесь бросил! — закричал он и со злости как хватит меня ногой,
Я как заору! Вылез из-под рогожки:
— Ты чего дерешься?
Он увидел меня и обрадовался.
— Ага! Попался! — и побежал в коридор.— Палочка-выручалочка! Тра-та-та!
Я говорю:
— Можешь не трататакать, я не играю больше. Это не игра, чтоб драться.
Прихожу в комнату... Батюшки! Все разворочено. Шкафы открыты, из комода ящики вытащены, белье на полу кучей, сундук вверх дном!
Пришлось нам целый час после этого убирать комнату.
НАШ КАТОК
Осенью, когда стукнул первый мороз и земля сразу промерзла чуть ли нет!а целый палец, никто не поверил, что уже началась зима. Все думали, что скоро опять развезет, но мы с Мишкой и Костей решили, что сейчас самое время начинать делать каток. Во дворе у нас был садик не садик, а так, не поймешь что, просто две клумбы, а вокруг газончик с травой, и все это заборчиком огорожено. Мы решили сделать каток в этом садике, потому что зимой клумбы все равно никому не видны.
Костя сказал:
— Только надо, ребята, сначала получить разрешение у управдома. Иначе и начинать нельзя. Дворничиха все равно ничего делать не даст.
— А вдруг управдом не позволит? — сказал Мишка.— Летом просили волейбольную площадку устроить —не разрешил, зверь такой!
126
— Я думаю, разрешит,— сказал Костя.— Дмитрий Савельевич хороший человек. Только с ним надо дипломатично поговорить.
— Это как — дипломатично? — не понял Мишка.
— Ну, значит, вежливо. Взрослые любят, чтоб с ними вежливо разговаривали; а такие слова, как «зверь», никому не могут понравиться.
— Что ты! — замахал Мишка руками.— Да разве я такие слова когда говорю? Это я ведь за глаза только.
— «За глаза»!—усмехнулся Костя.— Ты в глаза еще и не такое скажешь! Я тебя хорошо изучил. Вот придем в домоуправление, так ты уж лучше молчи, я сам поговорю с управдомом как надо.
Мишка говорит:
— Ладно.
Мы тут же отправились в домоуправление. На наше счастье, управдом оказался на месте. Он сидел за столом, заваленным ворохом разных бумажек. Посреди этого вороха лежала тетрадка. Левой рукой управдом водил по цифрам, которые были в тетрадке, а правой что-то записывал.
— Здравствуйте, Дмитрий Савельевич,— сказал Костя вежливо.
— Здравствуй, дружок, здравствуй! — Управдом даже не обратил на нас внимания и продолжал водить пальцем по цифрам.
— Мы к вам, Дмитрий Савельевич.
— Вижу, дружок, вижу. Зачем пришли?
— Хотим немножко поговорить с вами,— продолжал Костя.
— Ну, говори, говори.
— Хотим спросить у вас.
— Спрашивай, спрашивай.
— Мы хотим спросить у вас, Дмитрий Савельевич, одну вещь: скажите, пожалуйста, вы должны вести у нас какую- нибудь спортивную работу?
— Какую это спортивную работу? — спросил Дмитрий Савельевич и, прижав пальцем цифру в тетрадке, посмотрел на нас поверх очков.
127
— Ну, как управдом, вы должны вести у нас спортивную работу.
Дмитрий Савельевич поставил карандашом отметку возле прижатой цифры, провел по голове рукой, будто хотел причесать волосы, и сказал:
— То есть, по-моему, это вы... Вы сами должны вести спортивную работу.
— Мы это понимаем,— ответил Костя.— Мы сами должны вести спортивную работу. А вот вы нам в этом деле помогать будете?
Управдом наклонил набок голову, развел над столом руками:
— А что вы хотите сделать?
— Мы хотим устроить каток на зиму.
— А, хорошо, хорошо! Делайте, что ж... А где вы его хотите сделать?
Костя рассказал, что мы хотим разровнять в садике землю, полить водой и провести электричество, чтобы можно было кататься при свете.
Управдом одобрил наш план. Он заметно повеселел, так как сначала испугался и подумал, что мы хотим заставить его самого вести спортивную работу, но, увидев, что от него ничего такого не требуется, сказал:
— Действуйте, ребятки, а если что понадобится, приходите ко мне.
— Вот что значит дипломатический разговор! — сказал Мишка, когда мы вышли от управдома.— Ты молодец, Костя. Я теперь тоже так буду.
После этого мы сорганизовали ребят и сказали, что, кто не будет работать, того не пустим кататься. Поэтому все рьяно взялись за дело. Кто-то из ребят придумал разломать с одной стороны заборчик и отнести его шагов на десять в сторону, чтобы каток получился шире.
Все у нас шло очень ловко и хорошо, но только до тех пор, пока нашу работу не заметила Лелькина мама.
— Это что у вас за строительство? — спросила она.— Зачем разоряете садик?
Мы с Костей стали объяснять ей, что здесь будет каток.
128
— Ну каток,— говорит она.— А зачем же клумбы уничтожать? Делайте себе каток вокруг клумб.
Мы с Костей хотели объяснить ей все вежливо, но тут в дело вмешался Мишка.
— Как же вокруг клумб кататься? — с презрением на лице сказал он.— Разве вы не видите, что они четырехугольные? Или вы ничего не понимаете своей головой?
— Я-то своей головой все понимаю,— ответила Лелькина мама.— А вот ты, видно, не понимаешь. Вот пойду скажу управдому, что вы здесь затеяли.
— Ха-ха! — сказал Мишка.— Идите. И скажите. И посмотрим, что вам управдом скажет.
От управдома Лелькина мама вернулась злая-презлая. Видно, он объяснил ей, что разрешил нам делать каток. Она больше ничего не сказала нам, но вместо этого стала говорить всем жильцам, что теперь маленьким детям даже погулять будет негде, а Григорию Кузьмичу из пятой квартиры наябедничала, что мы перенесли заборчик и теперь он не сможет выехать из гаража на своей автомашине. Григорий Кузьмич моментально из дома выскочил и стал требовать, чтоб мы перенесли заборчик обратно. Мы с Костей вежливо начали объяснять ему, что машина проедет, но тут снова вмешался Мишка.
— Смотрите,— закричал он,— сколько здесь для проезда места! Разве вы не понимаете, что машина свободно проедет? Должна же у вас голова хоть немного соображать!
Услышав такую грубость, Григорий Кузьмич страшно рассердился, привел управдома и стал доказывать, что заборчик надо поставить на место, а управдом стал доказывать, что заборчик может и здесь стоять. Кончилось тем, что они поссорились и Григорий Кузьмич побежал писать на управдома жалобу, а управдом сказал нам:
— Имейте в виду, больше я ни с кем из-за вас ругаться не стану. Если еще хоть кто-нибудь на вас пожалуется, запрещу делать каток!
— Это все ты виноват! — сказал Костя Мишке.— И что ты все лезешь со своими грубостями? Не можешь говорить дипломатично— молчи!
— Я ведь дипломатично,— ответил Мишка.
129
В общем, из-за Мишки мы со всеми жильцами поссорились. Все были недовольны нами и только и делали, что ворчали на нас.
Через несколько дней наступила оттепель, и работать нам стало легче. Мы разровняли площадку, сделали по краям земляной бортик, даже заборчик покрасили и принялись за устройство электрического фонаря. Деньги собрали со всех ребят, купили электрический шнур, лампочку и патрон. Столб для фонаря у нас уже давно был. Он остался после ремонта дома и лежал посреди двора. Мы его врыли в землю, а проводку нам помог сделать дядя Сережа из девятой квартиры. Такой хороший человек оказался. Мы даже хотели про него написать в газету, но сначала некогда было, а потом как-то забыли.
И вот, когда все было сделано и наш фонарь готов был засиять над катком ярким светом, в дело вмешалась дворничиха тетя Даша.
— Вот что, ребятушки,— сказала она,— столб вам придется отдать, потому что на будущее лето он для ремонта понадобится.
Костя принялся доказывать ей, что столбу мы ничего плохого не сделаем, и в конце концов он, наверное, уговорил бы ее, но тут Мишка не выдержал.
— Постой,— говорит,— сейчас я ей все дипломатично объясню.— Он оттолкнул Костю и давай кричать: — Это что, по- вашему, столб? А для чего, по-вашему, сделали столб? По-ва- шему, столб сделали, чтоб он, дожидаясь ремонта, целую зиму под снегом гнил? У вас что на плечах, голова или еще что-нибудь?
Кончилось тем, что тетя Даша рассердилась и побежала в домоуправление.
— Вот видишь, что ты наделал,— сказал Костя.— Управдом ведь предупредил, что больше терпеть не станет.
Все ребята на Мишку набросились.
— Из-за тебя,— говорят,— каток запретят! Даром трудились только!
Мишка готов был рвать на себе волосы от досады.
— И как это у меня вырвалось? — убивался он.
Вдруг смотрим — тетя Даша обратно бежит, а за ней
130
управдом. Мишка увидел, уцепился руками за столб и как завоет:
— Не отдам столб, не отдам! Я накоплю денег и заплачу вам за него. Целую зиму не буду мороженого есть.
Управдом услышал и только рукой махнул.
— Ладно,— говорит,— берите себе этот столб.
И ушел. А тетя Даша увидела, что у нее ничего не вышло, и говорит:
— Хорошо же! Мы еще поговорим с вами!
И вот потянулись самые тяжелые дни. Две недели подряд стояла оттепель, даже легонького морозца не было. Снег иногда падал, но тут же таял и только разводил слякоть. Мы с Мишкой начали думать, что в этом году уже совсем не будет зимы, и приходили в отчаяние.
Наконец ударил долгожданный мороз. И тут у нас начались новые приключения. Никто не хотел нам давать воды для катка. Сначала мы пошли к тете Даше и стали просить, чтоб она дала нам свой дворницкий шланг, чтобы полить каток из шланга, но она не дала.
Говорит:
— Я вообще против вашего катка. Весной растает, а убирать мне! Все жильцы против катка. Вот мы напишем управдому заявление, чтоб разорил.
Мы говорим:
— Не даете, мы и без вас польем. Каток замерзнет, сами придете к нам кататься.
— И не приду! А замерзнет, так я его золой посыплю, все равно никто не будет кататься.
Мы стали таскать воду ведрами из кухни шестой квартиры, но нас скоро оттуда прогнали: сказали, что мы нанесли им грязи. А какая там грязь, когда во дворе никакой грязи не было! Стали мы таскать воду из первой квартиры, но нас и оттуда выгнали. Мы пошли в четвертую, нас стали и оттуда гнать.
Тут Мишка вспомнил, что у дяди Андрея из двадцатой квартиры есть маленький шланг. Мы все видели, как дядя Андрей обмывал летом из этого шланга свой мотоцикл. Мы пошли и попросили у него этот шланг. И какой оказался человек добрый! Дал шланг и даже сказал, что пусть будет у нас до
131
конца зимы. Бывают же такие люди на свете! Мы про него тоже решили написать в газету, но потом тоже почему-то забыли. Все было как-то не до того.
Завладев шлангом, мы пошли на кухню четвертой квартиры. Там два водопроводных крана. Мишка сказал:
— Здесь мы никому не помешаем: к одному крану привернем шланг, а из другого пусть жильцы берут воду.
Мы присоединили шланг к крану и принялись поливать каток. Сначала дело шло хорошо. Струя воды с силой била из шланга и доставала во все утолки площадки. Мишка держал шланг обеими руками и улыбался во всю ширину лица. Струя шипела, трещала, так что у всех становилось радостно на душе. Неожиданно произошла задержка: струя вдруг стала слабее, потом словно увяла и совсем перестала течь.
— Что такое? — удивился Мишка,—Наверно, шланг отскочил от крана,
Прибежали на кухню. Шланг на месте, а вода не течет. Смотрим —кран закрыт.
— Что за ехидство? — говорит Мишка.— Кому это понадобилось привернуть кран?
Отвернули мы кран, стали поливать снова. Вдруг опять — стоп! — не течет вода. Прибегаем на кухню, снова никого нет, а кран привернут.
И так несколько раз.
Наконец мы догадались поставить у крана стражу, и только после этого дело пошло на лад. Поздней ночью мы кончили поливать каток, но так и не узнали, кто придумал это озорство с краном.
За ночь вода замерзла крепко-накрепко. На следующий день состоялось торжественное открытие катка. Все ребята собрались вокруг. Лед блестел, что твое зеркало. Мишка первый выехал на середину льда.
— Каток объявляю открытым! — закричал он и тут же шлепнулся.
Все, как по команде, бросились на лед, и пошло катание. Катались и на коньках и без коньков. Все смеялись и падали. Коньки звенели и с шипением резали лед. Катались даже те, которые не строили катка, но мы им не запрещали. Хотелось,
132
чтоб в такой день все были радостные и счастливые. Даже взрослые вышли во двор и смотрели на наше веселье. А управдом Дмитрий Савельевич тоже пришел и сказал:
— -Вот куплю себе коньки и буду приходить по вечерам кататься. Вспомню молодость!
Потом он на самом деле купил коньки и часто ночью, когда ребята уже давно спали, приходил и катался на нашем катке. Настолько хороший человек оказался, что хотелось написать о нем в газету!
Наш каток был хороший, большой и крепкий. Про него ничего нельзя было сказать плохого. Но скоро катающихся оказалось так много, что всем не хватало места. И вот Мишка, чтоб разгрузить каток, придумал меру: у кого двойка — не пускать на каток, пака не исправит. С тех пор каждый, кто приходил кататься, должен был показать свой дневник. Некоторым двоечникам пришлось подтянуться.
133
Кончилось дело тем, что Мишка сам схватил двоечку по русскому языку. Уж очень он увлекся катанием. После школы он даже не пошел на каток. Ему стыдно было показывать свой дневник ребятам.
В этот день на катке шла игра в хоккей. Многие взрослые пришли посмотреть на нашу игру. Все глядели на нас, и никто не ругался. Даже тетя Даша смотрела и ласково улыбалась. Она была довольна, что ее маленький Шурик играет вместе со старшими ребятами и никто не прогоняет его. Когда хоккейный мячик выскакивал с катка за бортик, она поднимала его и бросала обратно на лед.
Вдруг Глебкина мама заметила, что среди играющих нет Мишки.
— Слушайте, где же Миша? — спросила она.— Строил, строил каток, а сам не катается. Может быть, он болен?
— Надо бы проведать его,— сказала Лелькина мама.
Они обе решили пойти проведать Мишку. Я пошел проводить их. Когда мы пришли, Мишка сидел за столом и делал уроки.
— Почему же ты, Миша, не катаешься? — спросила Глебкина мама.
Мишка сказал, что ему задали много уроков и сегодня он на каток не пойдет.
— Ты хороший мальчик,— сказала Глебкина мама.— Это вы хорошее дело придумали — устроить каток.
А Лелькина мама сказала:
— С катком и родителям стало гораздо спокойнее. В прошлую зиму моя Лелечка каталась на улице и чуть не попала под автомобиль. В прошлом году все ребята катались на улице, а теперь их на улицу и калачом не заманишь. Все липнут к этому катку, как не знаю к чему!
Они поговорили между собой и ушли.
— Вот видишь! — сказал Мишка.— А помнишь, как все нас ругали, говорили — золой засыплют, не давали нам шланг, не давали воды! А теперь сами благодарят. Да ладно,— махнул он рукой.— Что с них спрашивать!
Мне было жалко, что Мишка не может пойти на каток. Я тоже решил не кататься в этот день, а вместо этого засесть
134
за уроки, потому что и у меня кое-что было сильно запущено. Я пошел домой и занимался до поздней ночи, сделал уроки как следует, а когда все было выучено, я, вместо того чтоб лечь спать, нацепил коньки и вышел во двор.
Над нашим катком ярко горела лампочка. Вокруг стояли деревья с белыми, точно сахарными, веточками. Сверху падали крупные хлопья снега и мягко ложились на лед. А среди этих хлопьев кружилась по катку маленькая фигурка. Я присмотрелся получше и увидел, что эта фигурка был просто Мишка. Он тоже, вроде меня, не мог прожить ни одного дня без катка.
Недавно в вечерней газете писали, что первым в этом сезоне открылся каток динамовцев на Петровке. Но это неправда! Первый каток в эту зиму был открыт у нас во дворе. Он начал работать на полторы недели раньше, чем каток на Петровке, только никто не догадался написать об этом в газету.
ЗАМАЗКА
Однажды стекольщик замазывал на зиму рамы, а Костя и Шурик стояли рядом и смотрели. Когда стекольщик ушел, они отковыряли от окон замазку и стали лепить из нее зверей. Только звери у них не получились. Тогда Костя слепил змею и говорит Шурику:
— Посмотри, что у меня получилось.
Шурик посмотрел и говорит:
— Ливерная колбаса.
Костя обиделся и спрятал замазку в карман. Потом они пошли в кино. Шурик все беспокоился и спрашивал:
— Где замазка?
А Костя отвечал:
— Вот она, в кармане. Не съем я ее!
В кино они взяли билеты и купили два мятных пряника. Вдруг зазвонил звонок. Костя бросился занимать место, а
136
Шурик где-то застрял. Вот Костя занял два места. На одно сел сам, а на другое положил замазку. Вдруг пришел незнакомый гражданин и сел на замазку.
Костя говорит:
— Это место занято, здесь Шурик сидит.
— Какой такой Шурик? Здесь я сижу,— сказал гражданин. Тут прибежал Шурик и сел рядом с другой стороны.
— Где замазка? — спрашивает.
— Тише! — прошептал Костя и покосился на гражданина,
— Кто это? — спрашивает Шурик,
— Не знаю.
— Чего ж ты его боишься?
— Он .на замазке сидит.
— Зачем же ты отдал ему?
— Я не давал, а он сел.
— Так забери!
Тут погас свет и началось кино.
— Дяденька,—сказал Костя,—■ отдайте замазку.
— Какую замазку?
— Которую мы из окна выковыряли.
— Из окна выковыряли?
— Ну да. Отдайте, дядя!
— Да я ведь не брал у вас!
— Мы знаем, что не брали. Вы сидите на ней.
— Сижу?!
— Ну да.
Гражданин подскочил на стуле.
— Чего ж ты раньше молчал, негодный?
— Так я ведь говорил вам, что место занято.
— Когда же ты говорил? Когда я сел уже!
— Откуда же я знал, что вы сядете?
Гражданин встал и принялся шарить на стуле.
— Ну, где же ваша замазка, злодеи? — проворчал он.
— Постойте, вот она! — сказал Костя.
— Где?
— Вот, на стуле размазалась. Мы сейчас счистим.
— Счищайте скорей, негодные!—кипятился гражданин,
— Садитесь! — кричали на них сзади.
137
— Не могу,— оправдывался гражданин.— У меня тут замазка.
Наконец ребята соскоблили замазку.
— Ну, теперь хорошо,— сказали они.— Садитесь.
Гражданин сел.
Стало тихо.
Костя уже хотел смотреть кино, но тут послышался шепот Шурика:
— Ты уже съел свой пряник?
— Нет еще. А ты?
— Я тоже нет. Давай есть.
— Давай.
Послышалось чавканье. Костя вдруг плюнул и прохрипел:
— Послушай, у тебя пряник вкусный?
— Угу.
— А у меня невкусный. Мягкий какой-то. Наверное, растаял в кармане.
— А замазка где?
— Замазка вот, в кармане... Только постой! Это не замазка, а пряник. Тьфу! В темноте перепутал, понимаешь, замазку и пряник. Тьфу! То-то я гляжу, что она невкусная!
Костя со злости швырнул замазку на пол.
— Зачем же ты ее бросил? — спросил Шурик.
— А на что мне она?
— Тебе не нужна, а мне нужна,— проворчал Шурик и полез под стул искать замазку.— Где же она? — сердился он.— Вот ищи теперь.
— Сейчас я найду,— сказал Костя и тоже исчез под стулом.
— Ай! — послышалось вдруг откуда-то снизу.— Дядя, пустите!
— Кто это там?
133
— Кто — я?
— Я, Костя. Пустите меня!
— Да я ведь не держу тебя.
— Вы мне на руку наступили!
— Чего ж ты полез под стул?
— Я замазку ищу.
Костя пролез под стулом и встретился с Шуриком нос к носу.
— Кто это? — испугался он.
— Это я, Шурик.
— А это я, Костя.
— Нашел?
— Ничего не нашел.
— И я не нашел.
— Давай лучше кино смотреть, а то все пугаются, в лицо ногами тыкают, думают — собака.
Костя и Шурик пролезли под стульями и уселись на свои места.
Перед ними на экране мелькнула надпись: «Конец». Публика бросилась к выходу. Ребята вышли на улицу.
— Что это за кино мы смотрели? — говорит Костя.— Я что- то ничего не разобрал.
— А я, думаешь, разобрал? — ответил Шурик.— Какая-то чепуха на постном масле. Показывают же такие картины!
ФАНТАЗЕРЫ
Мишутка и Стасик сидели в саду на скамеечке и разговаривали., Только они разговаривали не просто, как другие ребята, а рассказывали друг другу разные небылицы, будто пошли на спор, кто кого переврет.
— Сколько тебе лет? — спрашивает Мишутка.
— Девяносто пять. А тебе?
— А мне сто сорок. Знаешь,— говорит Мишутка,— раньше я был большой-большой, как дядя Боря, а потом сделался маленький.
— А я,— говорит Стасик,— сначала был маленький, а потом вырос большой, а потом снова стал маленький, а теперь опять скоро буду большой.
— А я, когда был большой, всю реку мог переплыть,— говорит Мишутка.
— У! А я море мог переплыть!
— Подумаешь — море! Я океан переплывал!
— А я раньше летать умел!
140
— А ну, полети!
— Сейчас не могу: разучился.
— А я один раз купался в море,— говорит Мишутка,— и на меня напала акула. Я её бац кулаком, а она меня цап за голову—и откусила.
— Врешь!
— Нет, правда!
— Почему же ты не умер?
— А зачем мне умирать? Я выплыл на берег и пошел домой.
— Без головы?
— Конечно, без головы. Зачем мне голова?
— Как же ты шел без головы?
— Так и шел. Будто без головы ходить нельзя!
— Почему же ты теперь с головой?
— Другая выросла.
«Ловко придумал!» — позавидовал Стасик. Ему хотелось соврать получше Ми- шутки.
— Ну, это что! сказал он.— Вот я раз был в Африке, и меня там крокодил съел!
— Вот так соврал!—рассмеялся Мишутка.
— Вовсе нет.
— Почему же ты теперь живой?
— Так он же меня потом выплюнул.
Мишутка задумался. Ему хотелось переврать Стасика. Он думал, думал, наконец говорит:
-— Один раз я шел по улице. Кругом трамваи, автомобили, грузовики...
— Знаю, знаю! — закричал Стасик.— Сейчас расскажешь, как тебя трамвай переехал. Ты уже врал про это.
— Ничего подобного. Я не про это.
— Ну ладно. Ври дальше.
— Вот я иду, никого не трогаю. Вдруг навстречу автобус.
Я его не заметил, наступил ногой — рраз! — и раздавил в ле¬
пешку.
— Ха-ха-ха! Вот это враки!
— А вот и не враки!
— Как же ты мог раздавить автобус?
— Так он же совсем маленький был, игрушечный. Его мальчишка на веревочке тащил.
— Ну, это не удивительно,— сказал Стасик.— А я раз на Луну летал.
— Эва, куда махнул! — засмеялся Мишутка,
— Не веришь? Честное слово!
— На чем же ты летал?
— На ракете. На чем еще на Луну летают? Будто не знаешь сам!
— Что же ты там на Луне видел?
— Ну, что... — замялся Стасик.— Что я там видел? Ничего не видел.
— Ха-ха-ха! — рассмеялся Мишутка.— А говорит, на Луну летал!
— Конечно, летал.
— Почему же ничего не видел?
— А темно было. Я ведь ночью летал. Во сне. Сел на ракету и как полечу в космическое пространство. У-у-у! А потом как полечу обратно... Летел, летел, а потом бряк о землю... ну и проснулся...
— А-а,— протянул Мишутка.— Так бы сразу и говорил. Я ведь не знал, что ты — во сне.
Тут пришел соседский Игорь и сел рядом на скамеечке. Он слушал, слушал Мишутку и Стасика, потом говорит:
— Вот врут-то! И вам не стыдно?
— А чего стыдно? Мы же никого не обманываем,— ска-
142
зал Стасик.— Просто выдумываем, будто сказки рассказываем.
— Сказки! — презрительно фыркнул Игорь.— Нашли занятие!
— А ты думаешь, легко выдумывать?
— Чего проще!
— Ну выдумай что-нибудь.
— Сейчас... — сказал Игорь.— Пожалуйста.
Мишутка и Стасик обрадовались и приготовились слу-, шать,
повторил гм... кхм...
— Сейчас,
Игорь.— Э-э-э. э-э-э...
— Ну, что ты все «э»
«э»!
— Сейчас! Дайте подумать.
— Ну, думай, думай!
— Э-э-э,— снова сказал Игорь и посмотрел на небо.— Сейчас, сейчас... э-э-э...
— Ну, чего же ты не выдумываешь? Говорил — чего проще!
— Сейчас... Вот! Один раз я дразнил собаку, а она меня цап за ногу и укусила. Вот даже шрам остался.
— Ну и что же ты тут выдумал? — спросил Стасик.
— Ничего. Как было, так и рассказал.
— А говорил — выдумывать мастер!
— Я мастер, да не такой, как вы. Вот вы все врете, да без толку, а я вчера соврал, мне от этого польза.
— Какая польза?
— А вот. Вчера вечером мама и папа ушли, а мы с Ирой остались дома. Ира легла спать, а я залез в буфет и съел полбанки варенья. Потом думаю: как бы мне не попало. Взял Ирке губы вареньем намазал. Мама пришла: «Кто варенье
143
съел?» Я говорю: «Ира». Мама посмотрела, а у нее все губы в варенье. Сегодня утром ей от мамы досталось, а мне мама еще варенья дала. Вот и польза.
— Значит, из-за тебя другому досталось, а ты и рад! — сказал Мишутка.
— А тебе что?
— Мне ничего. А вот ты этот... как это называется... Брехун! Вот!
— Сами вы брехуны!
— Уходи! Не желаем с тобой на лавочке сидеть.
— Я и сам не стану с вами сидеть.
Игорь встал и ушел. Мишутка и Стасик тоже пошли домой. По дороге им попалась палатка с мороженым. Они остановились, стали рыться в карманах и считать, сколько у них денег. У обоих набралось только на одну порцию мороженого.
Продавщица дала им мороженое на палочке.
— Пойдем домой,— говорит Мишутка,— разрежем ножом, чтоб было точно.
— Пойдем.
На лестнице они встретили Иру. Глаза у нее были заплаканные.
— Ты чего ревела? — спрашивает Мишутка.
— Меня мама гулять не пускала.
— За что?
— За варенье. А я его и не ела. Это Игорь на меня наговорил. Наверное, сам съел, а на меня свалил.
— Конечно, Игорь съел. Он сам нам хвастался. Ты не плачь. Пойдем, я тебе свою полпорцию мороженого дам,— сказал Мишутка.
— Ия тебе свою полпорцию отдам, вот только попробую разочек и отдам,— пообещал Стасик.
— А вы разве не хотите сами?
— Не хотим. Мы уже по десять порций съели сегодня,— сказал Стасик.
— Давайте лучше это мороженое на троих разделим,— предложила Ира.
— Правильно! — сказал Стасик.— А то у тебя заболит горло, если ты одна всю порцию съешь.
144
Пошли они домой, разделили мороженое на три части.
— Вкусная штука!—сказал Мишутка.— Я очень люблю мороженое. Один раз я съел целое ведро мороженого.
— Ну, ты выдумываешь все! — засмеялась Ира.— Кто тебе поверит, что ты ведро мороженого съел!
— Так оно ведь совсем маленькое было, ведрышко! Такое бумажное, не больше стакана...
ЖИВАЯ ШЛЯПА
Шляпа лежала на комоде, котенок Васька сидел на полу возле комода, а Вовка и Вадик сидели за столом и раскрашивали картинки. Вдруг позади них что-то плюхнулось — упало на пол. Они обернулись и увидели на полу возле комода шляпу.
Вовка подошел к комоду, нагнулся, хотел поднять шляпу — и вдруг как закричит:
— Ай-ай-ай! — и бегом в сторону.
— Чего ты? — спрашивает Вадик.
— Она жи-жи-живая!
— Кто живая?
— Шля-шля-шля-па.
— Что ты! Разве шляпы бывают живые?
— По-посмотри сам!
Вадик подошел поближе и стал смотреть на шляпу. Вдруг шляпа поползла прямо к нему. Он как закричит:
— Ай! — и прыг на диван.
Вовка за ним.
146
Шляпа вылезла на середину комнаты и остановилась. Ребята смотрят на нее - и трясутся от страха. Тут шляпа повернулась и .поползла к дивану.
— Ай1 Ой! — закричали ребята.^
Соскочили с дивана — и бегом из комнаты. Прибежали на кухню и дверь за собой закрыли.
— Я у-у-хо-хо-жу! — говорит Вовка.
— Куда?
— Пойду к себе домой.
— Почему?
— Шляпы бо-боюсь!
Я первый раз вижу, чтоб шляпа по комнате ходила.
— А может быть, ее кто- нибудь за веревочку дергает?
— Ну, пойди посмотри.
— Пойдем вместе. Я возьму кочергу. Если она к нам полезет, я ее кочергой тресну.
— Постой, я тоже кочергу возьму.
— Да у нас другой кочерги нет.
— Ну, я возьму лыжную палку.
Они взяли кочергу и лыжную палку, приоткрыли дверь и заглянули в комнату.
— Где же она? — спрашивает Вадик.
— Вон там, возле стола.
— Сейчас я ее как тресну кочергой! — говорит Вадик.— Пусть только подлезет ближе!
Но шляпа лежала возле стола и не двигалась.
— Ага, испугалась! — обрадовались ребята.—Боится лезть к нам.
— Сейчас я ее спугну,— сказал Вадик.
147
Он стал стучать по полу кочергой и кричать:
— Эй ты, шляпа!
Но шляпа не двигалась.
— Давай наберем картошки и будем в нее картошкой стрелять,— предложил Вовка.
Они вернулись на кухню, набрали из корзины, картошки и стали швырять ее в шляпу. Швыряли, швыряли,, наконец Вадик попал. Шляпа как подскочит кверху!
— Мяу! — закричало что-то.
Глядь, из-под шляпы высунулся серый хвост, потом лапа, а потом и сам котенок выскочил.
— Васька! — обрадовались ребята.
— Наверно, он сидел на полу, а шляпа на него с комода упала,— догадался Вовка.
Вадик схватил Ваську и давай его обнимать:
— Васька, миленький, как же ты под шляпу попал?
Но Васька ничего не ответил. Он только фыркал и жмурился от света.
НА ГОРКЕ
Целый день ребята трудились — строили снежную горку во дворе. Сгребали лопатами снег и сваливали его под стенку сарая в кучу. Только к обеду горка была готова. Ребята полили ее водой и побежали домой обедать.
— Вот пообедаем,— говорили они,— а горка пока замерзнет. А после обеда мы придем с санками и будем кататься.
А Котька Чижов из шестой квартиры хитрый какой! Он горку не строил. Сидит дома да смотрит в окно, как другие трудятся. Ему ребята кричат, чтоб шел горку строить, а он только руками за окном разводит да головой мотает,— как будто нельзя ему. А когда ребята ушли, он быстро оделся, нацепил коньки и выскочил во двор. Чирк коньками по снегу, чирк! И кататься-то как следует не умеет! Подъехал к горке.
— О,— говорит,— хорошая горка получилась! Сейчас скачусь.
Только полез на горку — бух носом!
— Ого! — говорит.— Скользкая!
Поднялся на ноги и снова — бух! Раз десять падал. Никак на горку взобраться не может.
149
«Что делать?»— думает.
Думал, думал — и придумал:
«Вот сейчас песочком посыплю и заберусь на нее».
Схватил он фанерку и покатил к дворницкой. Там — ящик с пес- ком. Он и стал из ящика песок на горку таскать. Посыпает впереди себя, а сам лезет все выше и выше. Взобрался на самый верх.
— Вот теперь,— говорит,— скачусь! Оттолкнулся ногой и снова — бух .носом! Коньки-то по песку не едут! Лежит Котька на животе и говорит:
— Как же теперь по песку кататься?
И полез вниз на четвереньках.
Тут прибежали ребята. Видят — горка песком посыпана.
— Это кто здесь напортил? — закричали они.— Кто горку песком посыпал? Ты не видал, Котька?
— Нет,— говорит Котька,— я не видал. Это я сам посыпал, потому что она была скользкая и я не мог на нее взобраться.
— Ах ты, умник! Ишь что придумал! Мы трудились, трудились, а он — песком! Как же теперь кататься?
Котька говорит:
— Может быть, когда-нибудь снег пойдет, он засыплет песок, вот и можно будет кататься.
— Так снег, может, через неделю пойдет, а нам сегодня надо кататься.
— Ну, я не знаю,— говорит Котька.
— Не знаешь! Как испортить горку, ты знаешь, а как починить, не знаешь! Бери сейчас же лопату!
150
Котька отвязал коньки и взял лопату.
— Засыпай песок снегом!
Котька стал посыпать горку снегом, а ребята снова водой полили.
— Вот теперь,— говорят,— замерзнет, и можно будет кататься.
А Котьке так работать понравилось, что он еще сбоку лопатой ступеньки проделал.
— Это,— говорит,— чтоб всем было легко взбираться, а то еще кто-нибудь снова песком посыплет!
САША
Саша давно просил маму подарить ему пистолет, который стреляет пистонами.
— Зачем тебе такой пистолет? — говорила мама.— Это опасная игрушка.
— Что тут опасного? Если б он пулями стрелял, а то пистонами. Из него все равно никого не убьешь.
— Мало ли что может случиться. Пистон отскочит и попадет тебе в глаз.
— Не попадет! Я буду зажмуриваться, когда буду стрелять.
— Нет, нет, от этих пистолетов бывают разные неприятные случаи. Еще выстрелишь да напугаешь кого-нибудь,— сказала мама.
152
Так и не купила ему пистолета.
А у Саши были две старшие сестры, Маринка и Ирочка. Вот он и стал просить сестер:
— Миленькие, купите мне пистолетик! Мне очень хочется. За это я всегда буду вас слушаться.
— Ты, Сашка, хитренький! — сказала Марина.— Когда тебе надо, так ты подлизываешься и миленькими называешь, а как только мама уйдет, с тобой и не сладишь.
— Нет, сладишь, сладишь! Вот увидите, как я буду вести себя хорошо.
— Ладно,— сказала Ира.— Мы с Мариной подумаем. Если обещаешь вести себя хорошо, то, может быть, купим.
— Обещаю, обещаю! Все обещаю, только купите!
На другой день сестры подарили ему пистолет и коробку с пистонами. Пистолет был новенький и блестящий, а пистонов было много: штук пятьдесят или сто. Стреляй хоть весь день — не перестреляешь.
От радости Саша прыгал по комнате, прижимал пистолет к груди, целовал его и говорил:
— Миленький мой, хорошенький пистолетик! Как я тебя люблю!
Потом он нацарапал на ручке пистолета свое имя и начал стрелять. Сразу запахло пистонами, а через полчаса в комнате стало сине от дыма.
— Довольно тебе стрелять,— сказала наконец Ира.— Я каждый раз вздрагиваю от этих выстрелов.
— Трусиха! — ответил Сашка.— Все девчонки — трусихи!
— Вот отнимем у тебя пистолет, тогда узнаешь, какие мы трусихи,— сказала Марина.
— Сейчас я пойду во двор и буду пугать ребят пистолетом,—заявил Сашка.
Он вышел во двор, но ребят во дворе не было. Тогда он побежал за ворота, и вот тут-то случилась эта история. Как раз в это время по улице шла старушка. Сашка подпустил ее поближе — и как бабахнет из пистолета! Старушка вздрогнула и остановилась. Потом говорит:
— Уф, как я испугалась! Это ты тут из пистолета палишь?
153
— Нет,— сказал Сашка и спрятал пистолет за спину.
— Что же, я не вижу, что у тебя пистолет в руках? Еще врать вздумал, бессовестный! Вот я пойду заявлю в милицию...
Она погрозила пальцем, перешла на другую сторону улицы и скрылась в переулке.
— Вот так штука! — испугался Саша.— Кажется, на самом деле пошла в милицию жаловаться.
Он, запыхавшись, прибежал домой.
— Чего ты запыхался, будто за тобой волк гонится? — спросила Ира.
— Это я так просто.
— Нет, ты уж лучше скажи. Сразу видно, что чего-нибудь натворил.
— Да ничего я не натворил — просто так... Напугал бабку какую-то.
154
— Какую бабку?
— Ну «какую, какую»! Обыкновенную. Просто шла по улице бабушка, а я взял да и выстрелил из пистолета.
— Зачем же ты выстрелил?
— Сам не знаю: Идет бабушка. «Дай, думаю, выстрелю». Ну и выстрелил.
— А она что?
— Ничего. Пошла в милицию жаловаться.
— Вот видишь, обещал вести себя хорошо, а сам что наделал!
— Я же не виноват, что бабка попалась такая пугливая.
— Вот придет милиционер, он тебе покажет бабку! — пригрозила Ира.— Будешь знать, как людей пугать!
— А как он меня найдет? Он ведь не знает, где я живу. Даже имени моего не знает.
— Найдет, будь спокоен! Милиционеры все знают.
Целый час Саша просидел дома и все выглядывал в
окно — не идет ли милиционер. Но милиционера не было видно.
Тогда он понемногу успокоился, развеселился и сказал:
— Наверно, бабушка меня просто попугать хотела, чтоб я не баловался.
Он решил снова пострелять из своего любимого пистолета и сунул руку в карман. В кармане лежала коробка с пистонами, но пистолета не было. Он полез в другой карман, но и там было пусто. Тогда он принялся искать по всей комнате. Смотрел и под столами и под диваном. Пистолет исчез, будто провалился сквозь землю.
Саше стало обидно до слез.
— Не успел даже поиграть! — хныкал он.— Такой пистолетик был!
— Может быть, ты его во дворе потерял? — спросила Ира.
— Наверно, я его там, за воротами, выронил,— сообразил Саша.
Он открыл дверь и бросился через двор на улицу. За воротами пистолета не было.
«Ну, теперь его уже нашел кто-нибудь и взял себе!» — с до¬
155
садой подумал Саша и тут вдруг увидел, что из переулка напротив вышел милиционер и быстро зашагал через улицу, прямо к Сашиному дому.
«За мной идет! Видно, бабка таки нажаловалась!» — испугался Саша и стремглав побежал домой.
— Ну, нашел? — спросили его Маринка и Ирочка.
— Тише! — прошипел Сашка.— Милиционер идет!
— Куда?
— Сюда, к нам.
— Где ты его видел?
— На улице.
Марина и Ира стали над ним смеяться:
— Эх ты, трусишка! Увидел милиционера и испугался. Может быть, милиционер совсем в другое место идет.
— Да я вовсе и не боюсь его! — стал храбриться Сашка.— Что мне милиционер! Подумаешь!
Тут за дверью послышались шаги, и вдруг зазвонил звонок. Маринка и Ира побежали открывать дверь.
Сашка высунулся в коридор и зашипел:
— Не открывайте ему!
Но Марина уже отворила дверь. На пороге стоял милиционер. Блестящие пуговицы так и сверкали на нем. Сашка опустился на четвереньки и полез под диван.
— Скажите, девочки, где здесь шестая квартира? — послышался голос милиционера.
— Это не здесь,— ответила Ира.— Здесь первая, а шестая— это нужно выйти во двор, а там дверь направо.
— Во дворе, дверь направо?— повторил милиционер.
— Ну да.
Саша понял, что милиционер вовсе не за ним пришел, и он уже хотел вылезти из-под дивана, но тут милиционер спро¬
сил:
156
— Кстати, не у вас тут живет мальчик Саша?
— У нас,— ответила Ира.
— А вот он-то мне как раз нужен,— сказал милиционер и вошел в комнату.
Марина и Ира вошли вместе с милиционером в комнату, и увидели, что Сашка куда-то исчез.
Марина даже заглянула под диван.
Сашка увидел ее и молча погрозил ей из-под дивана кулаком, чтобы она не выдавала его.
— Ну, где же ваш Саша? — спросил милиционер.
Девочки очень испугались за Сашу и не знали, что отвечать.
Наконец Марина сказала:
— А его, понимаете, дома нет. Он, понимаете, гулять ушел.
— А что вы про него знаете? — спросила милиционера Ира.
— Что же я знаю! — ответил милиционер.— Знаю, что зовут его Саша. Еще знаю, что у него был новенький пистолет, а теперь у него этого пистолета нету.
«Все знает!» — подумал Сашка.
От страха у него даже зачесалось в носу, и он как чихнет под диваном: «Апчхи!»
— Кто это там? — удивился милиционер.
— А это у нас... Это у нас собака,— соврала Маринка.
— Чего же она под диван забралась?
— А она у нас всегда под диваном спит,— продолжала сочинять Марина.
— Как же ее зовут?
— Э... Бобик,— выдумала Маринка и покраснела, как свекла.
— Бобик! Бобик! Фью! — засвистел милиционер.— Почему же она не хочет вылезать? Фью! Фью! Ишь ты, не хочет. А собака хорошая? Какой породы?
— Э... — протянула Маринка.— Э-э... — Она никак не. могла вспомнить, какие бывают породы собак.— Порода эта вот... — сказала она.— Как ее?.. Хорошая порода... Длинношерстный фокстерьер!
— О, это замечательная собака! — обрадовался милиционер.— Я знаю. У нее такая волосатая морда.
Он нагнулся и посмотрел под диван. Саша лежал ни жив ни мертв и во все глаза глядел на милиционера. Милиционер даже свистнул от изумления:
— Так вот тут какой фокстерьер! Ты чего под диван забрался, а? Ну-ка, вылезай, теперь все равно попался!
— Не вылезу! — заревел Саша.
— Почему?
— Вы меня в милицию заберете.
— За что?
— За старушку.
— За какую старушку?
— За которую я выстрелил, а она испугалась.
158
— Не пойму, про какую он тут старушку толкует? — сказал милиционер.
— Он на улице из пистолета стрелял, а мимо шла бабушка и испугалась,— объяснила Ира.
— Ах, вот что!'Значит, это его пистолет? — спросил милиционер и достал из кармана новенький, блестящий пистолет.
— Его, его! — обрадовалась Ира.— Это мы с Мариной ему подарили, а он потерял. Где вы его нашли?
— Да вот тут, во дворе, у вашей двери... Ну, признавайся, зачем напугал бабушку? — спросил милиционер и нагнулся к Саше.
— Я нечаянно... — ответил Саша из-под диваиа.
— Неправда! По глазам вижу, что неправда. Вот скажи правду — отдам пистолет обратно.
— А что мне будет, если я скажу правду?
— Ничего не будет. Отдам пистолет — и все.
— А в милицию не заберете?
— Нет.
— Я не хотел напугать бабушку. Я только хотел попробовать, испугается она или нет.
— А вот это, братец, нехорошо! За это тебя следовало бы забрать в милицию, да ничего не поделаешь: раз я обещал не забирать — значит, должен исполнить. Только смотри, если еще раз набедокуришь — обязательно заберу. Ну, вылезай из- под дивана и получай пистолет.
— Нет, я лучше потом вылезу, когда вы уйдете.
— Вот чудной какой! — усмехнулся милиционер.— Ну, я ухожу.
Он положил пистолет на диван и ушел. Маринка побежала показать милиционеру шестую квартиру.
Саша вылез из-под дивана, увидел свой пистолет и закричал:
— Вот он, мой голубчик! Снова вернулся ко мне! — Он схватил пистолет и сказал: — Не понимаю только, как это милиционер мое имя узнал!
— Ты ведь сам написал свое имя на пистолете,— сказала Ира.
1<59
Тут вернулась Марина и набросилась на Сашу:
— Ах ты, чучело! Из-за тебя мне пришлось милиционеру врать! От стыда я чуть не сгорела! Вот натвори еще чего-нибудь, ни за что не стану тебя выгораживать!
— А я и не буду больше ничего творить,— сказал Саша,— Сам теперь знаю, что не нужно людей пугать.
СТУПЕНЬКИ
Однажды Петя возвращался из детского сада. В этот день он научился считать до десяти. Дошел он до своего дома, а его младшая сестра Валя уже дожидается у ворот.
— А я уже считать умею! — похвастался Петя.— В детском саду научился. Вот смотри, как я сейчас все ступеньки на лестнице сосчитаю.
Стали они подниматься по лестнице, а Петя громко ступеньки считает:
— Одна, две, три, четыре, пять...
— Ну, чего ж ты остановился? — спрашивает Валя.
— Погоди, я забыл, какая дальше ступенька. Я сейчас вспомню.
161
— Ну вспоминай,— говорит Валя.
Стояли они на лестнице, стояли. Петя говорит:
— Нет, я так не могу вспомнить. Ну-ка, лучше начнем сначала.
Сошли они с лестницы вниз. Стали снова вверх подниматься.
— Одна,— говорит Петя,— две, три, четыре, пять...
И снова остановился.
— Опять забыл? — спрашивает Валя.
— Забыл! Как же это! Только что помнил и вдруг забыл! Ну-ка, еще попробуем.
Снова спустились с лестницы, и Петя начал сначала:
— Одна, две, три, четыре, пять...
— Может быть, двадцать пять? — спрашивает Валя.
— Да нет! Только думать мешаешь! Вот видишь, из-за тебя забыл! Придется опять сначала.
— Не хочу я сначала! — говорит Валя.— Что это такое? То вверх, то вниз, то вверх, то вниз! У меня уже ноги болят.
— Не хочешь — не надо,— ответил Петя.— А я не пойду дальше, пока не вспомню.
Валя пошла домой и говорит маме:
— Мама, там Петя на лестнице ступеньки считает: одна, две, три, четыре, пять, а дальше не помнит.
— А дальше шесть,— сказала мама.
Валя побежала обратно к лестнице, а Петя все ступеньки считает:
— Одна, две, три, четыре, пять...
— Шесть! — шепчет Валя.— Шесть! Шесть!
— Шесть! — обрадовался Петя и пошел дальше.— Семь, восемь, девять, десять.
Хорошо, что лестница кончилась, а то бы он так и не дошел до дому, потому что научился только до десяти считать.
МЕТРО
Мы с мамой и Вовкой были в гостях у тети Оли в Москве. В первый же день мама и тетя ушли в магазин, а нас с Вовкой оставили дома. Дали нам старый альбом с фотографиями, чтоб мы рассматривали. Ну, мы рассматривали, рассматривали, пока нам это не надоело.
Вовка сказал:
— Мы так и Москву не увидим, если будем целый день дома сидеть!
Стали в окно глядеть. Напротив — станция метро.
Я говорю:
— Пойдем на метро покатаемся.
Пришли мы на станцию, взяли билеты и поехали под землей. Сначала показалось страшно, а потом ничего, интересно. Проехали две остановки, вылезли.
«Осмотрим,— думаем,— станцию — и назад».
163
Стали осматривать станцию, а там лестница движется. Люди по ней вверх и вниз едут. Стали и мы кататься: вверх и вниз, вверх и вниз... Ходить совсем не надо, лестница сама возит.
Накатались по лестнице, сели на поезд и поехали обратно. Слезли через две остановки, смотрим — не наша станция!
— Наверно, мы не в ту сторону поехали,— говорит Вовка.
Сели мы на другой поезд, поехали в обратную сторону. Приезжаем — опять не наша станция! Тут мы испугались. Вовка говорит:
— Надо спросить кого-нибудь.
— А как же ты спросишь? Ты знаешь, на какой станции мы садились?
— Нет. А ты?
— Я тоже не знаю.
— Давай ездить по всем станциям, может, отыщем как- нибудь,— говорит Вовка.
Стали мы ездить по станциям. Ездили, ездили, даже голова закружилась.
Вовка стал хныкать:
— Пойдем отсюда!
— Куда ж мы пойдем?
— Все равно куда! Я наверх хочу.
— А что тебе наверху делать?
— Не хочу под землей!
И начал реветь.
— Не надо,—говорю,—плакать. В милицию заберут.
— Пусть забирают! Э-э-э!..
— Ну, пойдем, .пойдем,— говорю.— Не реви только. Вон милиционер уже смотрит на нас!
164
— Куда же вы? Почему нас не подождали?
Схватил его за руку — и скорей на лестницу. Поехали вверх. «Куда же нас вывезет? — думаю.— Что теперь с нами будет?»
Вдруг смотрим — навстречу нам мама с тетей Олей по другой лестнице едут. Я как закричу:
— Мама!
Они увидели нас и кричат:
— Что вы здесь делаете?
А мы кричим:
— Мы никак выбраться отсюда не можем!
Больше ничего крикнуть не успели: нас лестница вверх утащила, а их вниз. Приехали мы наверх — и скорей по другой лестнице вниз, за ними вдогонку.
Вдруг смотрим — а они снова навстречу едут! Увидели нас и кричат:
— Куда же вы? Почему нас не подождали?
— А мы за вами поехали!
Приезжаем вниз. Я говорю Вовке:
— Подождем. Они сейчас к нам приедут.
Ждали мы, ждали, а их все нет и нет.
— Наверно, они нас ждут,— говорит Вовка.— Поедем.
Только поехали, а они снова навстречу.
— Мы вас ждали, ждали!.. — кричат.
А вокруг все хохочут.
Приехали мы снова наверх — и опять поскорей вниз. Поймали наконец их.
Мама начала бранить нас за то, что ушли без спросу, а мы стали рассказывать, как потеряли станцию.
Тетя говорит:
— Не понимаю, как это вы потеряли станцию! Я тут каждый день езжу, а еще ни разу станцию не потеряла. Ну, поедем домой.
Сели мы на поезд. Поехали.
— Эх вы, пошехонцы! — говорит тетя.— Искали рукавицы, а они за поясом. В трех соснах заблудились. Потеряли станцию!
И вот так всю дорогу смеялась над нами.
Приезжаем на станцию, тетя посмотрела вокруг и говорит:
166
— Тьфу! Совсем вы меня запутали! Нам на Арбат надо, а мы на Курский вокзал приехали. Не в ту сторону сели.
Пересели мы на другой поезд и поехали обратно. И тетя больше уже не смеялась над нами. И пошехонцами не называла.
ОГУРЦЫ
Один раз Павлик взял с собой Котьку на реку ловить рыбу. Но в этот день им не повезло: рыба совсем не клевала. Зато когда шли обратно, они забрались в колхозный огород и набрали полные карманы огурцов. Колхозный сторож заметил их и засвистел в свисток. Они от него бежать. По дороге домой Павлик подумал, как бы ему дома не досталось за то, что он лазит по чужим огородам. И он отдал свои огурцы Котьке.
Котька пришел домой радостный:
— Мама, я тебе огурцов принес!
Мама посмотрела, а у него полные карманы огурцов, и за пазухой огурцы лежат, и в руках еще два больших огурца.
— Где ты их взял? — говорит мама.
— На огороде.
— На каком огороде?
— Там, у реки, на колхозном.
— Кто ж тебе позволил?
168
— Никто, я сам нарвал.
— Значит, украл?
— Нет, не украл, а так просто... Павлик брал, а мне нельзя, что ли? Ну, и я взял.
Котька начал вынимать огурцы из карманов.
— Постой, постой! Не выгружай! — говорит мама.
— Почему?
— Сейчас же неси их обратно!
— Куда ж я их понесу? Они на грядке росли, а я сорвал. Все равно они теперь уже расти не будут.
— Ничего, отнесешь и положишь на той же грядке, где сорвал.
— Ну, я их выброшу.
— Нет, не выбросишь! Ты их не садил, не растил, не имеешь права и выбрасывать.
Котька стал плакать:
169
— Там сторож. Он нам свистел, а мы убежали.
— Вот видишь, что делаете! А если б он поймал вас?
— Он не догнал бы. Он уже старенький дедушка.
— Ну как тебе не стыдно! — говорит мама.—Ведь дедушка за эти огурцы отвечает. Узнают, что огурцы пропали, скажут, что дедушка виноват. Хорошо будет?
Мама стала совать огурцы обратно Котьке в карман. Котька плакал и кричал:
— Не пойду я! У дедушки ружье. Он выстрелит и убьет меня.
— И пусть убьет! Пусть лучше у меня совсем не будет сына, чем будет сын вор.
— Ну, пойдем со мной, мамочка! На дворе темно. Я боюсь.
— А брать не боялся?
Мама дала Котьке в руки два огурца, которые не поместились в карманах, и вывела его за дверь.
— Или неси огурцы, или совсем уходи из дому, ты мне не сын!
Котька повернулся и медленно-медленно пошел по улице.
Уже было совсем темно.
«Брошу их тут, в канаву, а скажу, что отнес,— решил Котька и стал оглядываться вокруг.— Нет, отнесу: еще кто-нибудь увидит и дедушке из-за меня попадет».
Он шел по улице и плакал. Ему было страшно.
«Павлику хорошо! — думал Котька.— Он мне свои огурцы отдал, а сам дома сидит. Ему небось не страшно».
Вышел Котька из деревни и пошел полем. Вокруг не было ни души. От страха он не помнил, как добрался до огорода. Остановился возле шалаша, стоит и плачет/все громче и громче. Сторож услышал и подошел к нему.
— Ты чего плачешь? — спрашивает.
— Дедушка, я принес огурцы обратно.
— Какие огурцы?
— А которые мы с Павликом нарвали. Мама сказала, чтоб я отнес обратно.
— Вот оно какое дело! — удивился сторож.— Это, значит, я вам свистел, а вы все-таки огурцы-то стащили. Нехорошо!
— Павлик брал, и я взял. Он мне и свои огурцы отдал.
170
— А ты на Павлика не смотри, сам понимать должен. Ну, больше не делай так. Давай огурцы и иди домой.
Котька вытащил огурцы и положил их на грядку.
— Ну, все, что ли? — спросил старик.
— Нет... одного не хватает,— ответил Котька и снова заплакал.
— Почему не хватает, где же он?
— Дедушка, я один огурец съел. Что теперь будет?
— Ну что ж будет? Ничего не будет. Съел, ну и съел. На здоровье.
— А вам, дедушка, ничего не будет за то, что огурец пропал?
— Ишь ты какое дело! — усмехнулся дедушка.— Нет, за один огурец ничего не будет. Вот если б ты не принес остальных, тогда да, а так нет.
Котька побежал домой. Потом вдруг остановился и закричал издали:
— Дедушка, дедушка!
— Ну что еще?
— А этот вот огурец, что я съел, как будет считаться — украл я его или нет?
171
— Гм! —сказал дед.— Вот еще какая задача! Ну чего там, пусть не украл.
— А как же?
— Ну, считай, что я тебе подарил его.
— Спасибо, дедушка! Я пойду.
— Иди, иди, сынок.
Котька во весь дух помчался по полю, через овраг, по мостику через ручей и, уже не спеша, пошел по деревне домой. На душе у него было радостно.
ПРЯТКИ
Витя и Славик — соседи. Они всегда ходят друг к другу в гости. Вот раз Витя пришел в гости к Славику. Славик ему говорит:
— Давай играть в прятки!
— Давай,— согласился Витя.— Чур, я первый буду прятаться!
— Ну ладно, а я буду водить,— сказал Славик и пошел в коридор.
Витя побежал в комнату, залез под кровать и кричит:
— Готово!
Славик пришел, заглянул под кровать и сразу нашел его. Витя вылез из-под кровати и говорит:
— Это неправильно! Я плохо спрятался! Если б я хорошо спрятался, ты не нашел бы меня. Я перепрячусь.
— Ну, пожалуйста, перепрятывайся,— согласился Славик и снова пошел в коридор.
Витя побежал во двор и стал искать, где бы спрятаться. Смотрит — возле сарая собачья конура стоит, а в ней Бобик
173
сидит. Он поскорей выгнал из конуры Бобика, сам залез на его место и снова кричит:
— Готово!
Славик вышел во двор и стал искать Витю. Искал, искал, никак не может найти.
А Вите надоело в конуре сидеть, он и начал выглядывать из нее. Тут Славик увидел его и закричал:
— А, вот ты куда забрался! Вылезай!
Витя вылез из конуры и говорит:
— Это неправильно! Это не ты меня нашел. Я сам выглянул.
— Мне надоело в конуре скрюченным сидеть. Если б я не был скрюченный, ты не нашел бы меня. Я перепрячусь.
— Нет, теперь уж моя очередь прятаться,— говорит Славик.
— Ну, тогда я совсем не буду играть! — обиделся Витя.
— Ладно, перепрятывайся, раз ты такой,— согласился Славик.
Витя побежал в комнату, закрыл дверь, а сам забрался за вешалку и спрятался под пальто. Славик снова пошел его искать. Он открыл дверь, а Бобик шмыгнул в нее, подбежал прямо к вешалке и стал ласкаться к Вите. Витя рассердился и начал отталкивать Бобика ногой.
Славик увидел и закричал:
— А, вот ты где! За вешалкой! Вылезай!
Витя вылез и говорит:
— Это неправильно! Ты меня не нашел! Это Бобик меня нашел. Я перепрячусь.
— Что же это такое? — говорит Славик.— Ты все время прячешься, а я каждый раз должен искать.
174
— Вот найди меня еще раз, тогда ты будешь прятаться,— сказал Витя.
Славик снова зажмурил глаза, а Витя побежал на кухню, вытащил из посудного шкафчика всю посуду, сам залез в шкафчик и кричит:
— Готово!
Славик пошел на кухню, видит — из шкафчика вся посуда вытащена, и сразу догадался, где Витя. Он потихоньку подкрался к шкафу, запер его на крючок, а сам побежал во двор
и стал играть с Бобиком в прятки. Спрячется, а Бобик его ищет.
«Вот хорошо!—думает Славик.— С Бобиком гораздо лучше играть, чем с Витей».
А Витя сидел в шкафчике, сидел, ему и надоело. Он хотел вылезти, а дверца не открывается. Он испугался и давай кричать:
— Славик! Славик!
Славик услышал и прибежал.
— Выпусти меня отсюда! — закричал Витя.— Дверца почему-то не открывается.
— А будешь меня искать, тогда выпущу,
— Зачем же мне тебя искать, раз ты не нашел меня.
— Я ведь нашел.
— Это не ты меня нашел! Я сам закричал. Если б я не закричал, ты не нашел бы!
— Ну и сиди себе в шкафчике, а я пойду гулять,— говорит Славик.
— Не имеешь права!—закричал Витя.— Это не по-товарищески!
— А разве по-товарищески — заставлять меня все время искать?
— По-товарищески.
— Ну, тогда сиди в шкафу до самого вечера.
— Ладно, буду теперь тебя искать, только выпусти,— стал просить Витя.
Славик откинул крючок. Витя вылез из шкафа, увидел крючок и говорит:
— Это ты нарочно запер меня? Не буду за это тебя искать!
— И не надо,— говорит Славик.— Я лучше с Бобиком буду играть.
— А разве Бобик умеет искать?
— Ого! Еще даже лучше тебя!
— Ну, давай тогда вместе от Бобика прятаться.
Витя и Славик пошли во двор и стали прятаться от Бобика. Бобик хорошо умел в прятки играть, только глаза зажмуривать не умел.
КАРАСИК
Мама недавно подарила Виталику аквариум с рыбкой. Очень хорошая была рыбка, красивая! Серебристый карасик— вот как она называлась. Виталик был рад, что у него есть карасик. Первое время он очень интересовался рыбкой — кормил ее, менял воду в аквариуме, а потом привык к ней и иногда даже забывал ее вовремя покормить.
А еще у Виталика был котенок Мурзик. Он был серый, пушистый, а глаза у него были большие зеленые. Мурзик очень любил смотреть на рыбку. По целым часам он сидел возле аквариума и не сводил глаз с карасика.
— Ты смотри за Мурзиком,— говорила Виталику мама.— Как бы он не съел твоего карася.
7 Библиотека пионера, т. 4
177
— Не съест,— отвечал Виталик.— Я буду смотреть.
Однажды, когда мамы не было дома, к Виталику пришел
его друг Сережа. Он увидел в аквариуме рыбку и сказал:
— Давай меняться. Ты дай мне карасика, а я, если хочешь, дам тебе свой свисток.
— Зачем мне свисток? — сказал Виталик.— По-моему, рыбка лучше свистка.
— Чем же она лучше? Свисток свистеть может. А рыбка что? Разве может рыбка свистеть?
— Зачем же рыбке свистеть? — ответил Виталик.— Рыбка свистеть не может, зато она плавает. А свисток разве может плавать?
— Сказал!—засмеялся Сережа.— Где это видано, чтобы свистки плавали! Зато рыбку может кот съесть, вот и не будет у тебя ни свистка, ни рыбки. А свисток кот не съест — он железный.
— Мне мама не позволяет меняться. Она говорит, что сама купит, если мне что-нибудь надо,— сказал Виталик.
— Где же она купит такой свисток? — ответил Сережа.— Такие свистки не продаются. Это настоящий милиционерский свисток. Я как выйду во двор да как засвищу, сразу все подумают, что милиционер пришел.
Сережа вынул из кармана свисток да как засвистит в него.
— А ну, дай я,— попросил Виталик.
Он взял свисток и подул в него. Свисток звонко, переливчато засвистел. Виталику очень понравилось, как он свистит. Ему захотелось иметь свисток, но он не мог сразу решиться и сказал:
— А где у тебя будет жить рыбка? У тебя ведь аквариума нет.
— А я посажу ее в банку из-под варенья. У нас большая банка есть.
— Ну ладно,— согласился Виталик.
Ребята принялись ловить рыбку в аквариуме, но карась плавал быстро и не давался в руки. Они набрызгали вокруг водой, а Сережа измочил рукава до самых локтей. Наконец ему удалось схватить карасика.
178
— Есть! — закричал он.—
Давай сюда какую-нибудь кружку с водой! Я посажу туда рыбку.
Виталик поскорей налил в кружку воды. Сережа посадил карася в кружку. Ребята пошли к Сереже — сажать рыбку в банку. Банка оказалась не очень большая, и карасику в ней было не так просторно, как в аквариуме. Ребята долго смотрели, как карасик плавает в банке. Сережа радовался, а Виталику было жалко, что теперь у него не будет рыбки, а главное, он боялся признаться маме, что променял карасика на свисток.
«Ну ничего, может быть, мама и не заметит сразу, что рыбка пропала»,— подумал Виталик и пошел домой.
Когда он вернулся, мама уже была дома.
— Где же твоя рыбка? — спросила она.
Виталик растерялся и не знал, что сказать.
— Может быть, ее Мурзик съел? — спросила мама.
— Не знаю,— пробормотал Виталик.
— Вот видишь,— сказала мама.— Он выбрал-таки время, когда дома никого не было и выловил из аквариума рыбку! Где он, разбойник? Ну-ка, найди мне его сейчас!
— Мурзик! Мурзик! — стал звать Виталик, но кота нигде не было.
— Наверно, в форточку убежал,— сказала мама.— Пойди- ка во двор, позови его.
Виталик надел пальто и вышел во двор.
«Вот как нехорошо получилось! — думал он.— Теперь Мур- зику из-за меня достанется».
Он хотел вернуться домой и сказать, что Мурзика во дворе нет, но тут Мурзик выскочил из отдушины, которая была под домом, и быстро побежал к двери.
179
— Мурзинька, не ходи домой,— сказал Виталик.— Тебе попадет от мамы.
Мурзик замурлыкал, принялся тереться спинкой об ноги Виталика, потом поглядел на закрытую дверь и потихоньку мяукнул.
— Не понимаешь, глупый,— сказал Виталик.— Тебе ведь человеческим языком говорят, что нельзя домой.
Но Мурзик, конечно, ничего не понимал. Он ласкался к Виталику, терся об него боками и потихоньку бодал его головой, будто торопил поскорей открыть дверь. Виталик стал отталкивать его от двери, но Мурзик не хотел уходить. Тогда Виталик спрятался от него за дверь.
«Мяу!» — закричал Мурзик под дверью.
Виталик поскорей вышел обратно:
— Тише! Кричит тут! Вот мама услышит, тогда узнаешь!
Он схватил Мурзика и принялся запихивать его обратно в
отдушину под домом, из которой Мурзик только что вылез. Мурзик упирался всеми четырьмя лапами и не хотел лезть в отдушину.
— Лезь, глупый! — уговаривал его Виталик.— Посиди там пока.
Наконец он его целиком запихал в отдушину. Только хвост Мурзика остался торчать снаружи. Некоторое время Мурзик сердито вертел хвостом, потом и хвост скрылся в отдушине. Виталик обрадовался. Он думал, что котенок останется теперь сидеть в подвале, но тут Мурзик снова выглянул из дыры.
— Ну, куда же ты лезешь, глупая голова!—зашипел Виталик и загородил выход руками.— Говорят же тебе: нельзя домой идти.
«Мяу!» — закричал Мурзик.
— Вот тебе и «мяу»! — передразнил его Виталик.— Ну что мне теперь делать с тобой?
Он стал оглядываться вокруг и искать, чем бы закрыть дыру. Рядом лежал кирпич. Виталик поднял его и закрыл дыру кирпичом.
— Вот теперь не вылезешь,— сказал он.— Посиди там, в подвале, а завтра мама забудет про рыбку, и я тебя тогда выпущу.
180
Виталик вернулся домой и сказал, что Мурзика во дворе нет.
— Ничего,— сказала мама,— вернется. Я все равно не прощу ему этого.
За обедом Виталик сидел грустный и даже не хотел ничего есть.
«Я вот обедаю,— думал он,— а Мурзик бедный в подвале сидит».
Когда мама вышла из-за стола, он незаметно сунул в карман котлету и пошел во двор. Там он отодвинул кирпич, которым была закрыта отдушина, и потихоньку позвал:
— Мурзик! Мурзик!
Но Мурзик не отзывался. Виталик нагнулся и заглянул в дыру. В подвале было темно и ничего не было видно.
— Мурзик! Мурзинька!—звал Виталик.— Я тебе котлету принес!
Мурзик не вылезал.
— Не хочешь — ну и сиди, глупая голова! — сказал Виталик и вернулся домой.
Дома без Мурзика ему было скучно. На душе было как-то нехорошо, потому что он обманул маму. Мама заметила, что он грустный, и сказала:
— Не горюй! Я тебе другую рыбку куплю.
— Не надо,— сказал Виталик.
Он уже хотел признаться маме во всем, но у него не хватило смелости, и он ничего не сказал. Тут за окном послышался шорох и раздался крик:
«Мяу!»
Виталик посмотрел в окно и увидел снаружи на подоконнике Мурзика. Видно, он вылез из подвала через другую дырку.
— А! Пришел наконец, разбойник! — сказала мама.— Иди-ка сюда, иди!
Мурзик прыгнул в открытую форточку и очутился в комнате. Мама хотела схватить его, но он, видно, догадался, что его хотят наказать и шмыгнул под стол.
— Ишь ты, хитрец какой! — сказала мама.— Чувствует, что виноват. Ну-ка, поймай его.
181
Виталик полез под стол. Мурзик увидел его и юркнул под диван. Виталик был рад, что Мурзик удрал от него. Он полез под диван и нарочно старался шуметь, чтобы Мурзик услышал и успел убежать.
Мурзик выскочил из-под дивана. Виталик погнался за ним и принялся бегать по всей комнате.
— Что ты такой шум поднял? Разве его так поймаешь! — сказала мама.
Тут Мурзик прыгнул на подоконник, где стоял аквариум, и хотел выскочить обратно в форточку, но сорвался и с размаху как плюхнется в аквариум! Вода так и брызнула в разные стороны. Мурзик выскочил из аквариума и давай отряхиваться. Тут мама и схватила его за шиворот:
— Вот я тебя проучу как следует!
— Мамочка, миленькая, не бей Мурзика! — заплакал Виталик.
— Нечего его жалеть,— сказала мама.— Он ведь не пожалел рыбку!
— Мамочка, он не виноват!
— Как же «не виноват»? А кто карася съел?
— Это не он.
— А кто же?
— Это я...
— Ты съел? — удивилась мама.
— Нет, я не съел. Я его на свисток променял.
— На какой свисток?
— Вот на этот.
Виталик вынул из кармана свисток и показал маме.
— Как же тебе не стыдно? — сказала мама.
— Я нечаянно. Сережа сказал: «Давай меняться», я и поменялся.
— Я не о том говорю! Я говорю, почему ты не сказал правду? Я ведь на Мурзика подумала. Разве честно на других сваливать?
— Я боялся, что ты станешь бранить меня.
— Это только трусы боятся говорить правду! Хорошо было бы, если б я наказала Мурзика?
— Я больше не буду.
182
— Ну смотри! Только потому прощаю, что ты все-таки сам признался,— сказала мама.
Виталик взял Мурзика и понес к батарее сушиться. Он посадил его на скамеечке и сел рядом с ним. Мокрая шерсть на Мурзике торчала в разные стороны, как иголки у ежика, и от этого Мурзик казался таким худым-худым, будто целую неделю совсем ничего не ел. Виталик вынул из кармана котлету и положил перед Мурзиком. Мурзик съел котлету, потом забрался на колени к Виталику, свернулся калачиком и замурлыкал свою песенку.
АВТОМОБИЛЬ
Когда мы с Мишкой были совсем маленькими, нам очень хотелось покататься на автомобиле, только это никак не удавалось. Сколько мы ни просили шоферов, никто не хотел нас катать. Однажды мы гуляли во дворе. Вдруг смотрим — на улице, возле наших ворот, остановился автомобиль. Шофер из машины вылез и куда-то ушел. Мы подбежали. Я говорю:
— Это «Волга».
А Мишка:
— Нет, это «Москвич».
— Много ты понимаешь! — говорю я.
— Конечно, «Москвич»,— говорит Мишка.— Посмотри, какой у него капор.
— Какой,— говорю,— капор? Это у девчонок бывает капор, а у машины — капот! Ты посмотри, какой кузов.
Мишка посмотрел и говорит:
— Ну, такое пузо, как у «Москвича».
— Это у тебя,— говорю,—пузо, а у машины никакого пуза нет.
184
— Ты же сам сказал «пузо».
— «Кузов», я сказал, а не «пузо»! Эх, ты! Не понимаешь, а лезешь!
Мишка подошел к автомобилю сзади и говорит:
— А у «Волги» разве есть буфер? Это у «Москвича» — буфер.
Я говорю:
— Ты бы лучше молчал. Выдумал еще буфер какой-то. Буфер— это у вагона на железной дороге, а у автомобиля бампер. Бампер есть и у «Москвича» и у «Волги».
Мишка потрогал бампер руками и говорит:
— На этот бампер можно сесть и поехать.
— Не надо,— говорю я ему.
А он:
— Да ты не бойся. Проедем немного и спрыгнем.
Тут пришел шофер и сел в машину. Мишка подбежал сзади, уселся на бампер и шепчет:
— Садись скорей! Садись скорей!
Я говорю:
— Не надо!
А Мишка:
— Иди скорей! Эх ты, трусишка!
Я подбежал, прицепился рядом. Машина тронулась и как помчится!. Мишка, испугался и говорит:
— Я спрыгну! Я спрыгну!
— Не надо,— говорю,— расшибешься!
А он твердит:
— Я спрыгну! Я спрыгну!
И уже начал опускать одну ногу. Я оглянулся назад, а за нами другая машина мчится. Я кричу:
— Не смей! Смотри, сейчас тебя машина задавит!
Люди на тротуаре останавливаются, на нас смотрят. На
перекрестке милиционер засвистел в свисток. Мишка перепугался, спрыгнул на мостовую, а руки не отпускает, за бампер держится, ноги по земле волочатся. Я испугался, схватил его за шиворот и тащу вверх. Автомобиль остановился, а я все тащу. Мишка наконец снова залез на бампер. Вокруг народ собрался. Я кричу:
185
— Держись, дурак, крепче!
Тут все засмеялись. Я увидел, что мы остановились, и слез.
— Слезай,— говорю Мишке.
А он с перепугу ничего не понимает. Насилу я оторвал его от этого бампера. Подбежал милиционер, номер записывает. Шофер из кабины вылез — все на него набросились:
— Не видишь, что у тебя сзади делается?
А про нас забыли. Я шепчу Мишке:
— Пойдем!
Отошли мы в сторонку и бегом в переулок. Прибежали домой, запыхались. У Мишки обе коленки до крови ободраны и штаны порваны. Это он когда по мостовой на животе ехал. Досталось ему от мамы!
Потом Мишка говорит:
— Штаны — это ничего, зашить можно, а коленки сами заживут. Мне вот только шофера жалко: ему, наверно, из-за
186
нас достанется. Видал, милиционер номер машины записывал?
Я говорю:
— Надо было остаться и сказать, что шофер не виноват,
— А мы милиционеру письмо напишем,— говорит Мишка.
Стали мы письмо писать. Писали, писали, листов двадцать
бумаги испортили, наконец написали:
«Дорогой товарищ милиционер! Вы неправильно записали номер. То есть, Вы записали номер правильно, только неправильно, что шофер виноват. Шофер не виноват: виноваты мы с Мишкой. Мы прицепились, а он не знал. Шофер хороший и ездит правильно».
На конверте написали:
«Угол улицы Горького и Большой Грузинской, получить милиционеру».
Запечатали письмо и бросили в ящик. Наверно, дойдет.
ЗАТЕЙНИКИ
Мы с Валей затейники. Мы всегда затеваем какие-нибудь игры.
Один раз мы читали сказку «Три поросенка». А потом стали играть. Сначала мы бегали по комнате, прыгали и кричали:
— Нам не страшен серый волк!
Потом мама ушла в магазин, а Валя сказала:
— Давай, Петя, сделаем себе домик, как у тех поросят, что в сказке.
Мы стащили с кровати одеяло и завесили им стол. Вот и получился дом. Мы залезли в него, а там темно-темно!
Валя говорит:
— Вот и хорошо, что у нас свой дом! Мы всегда будем здесь жить и никого к себе не пустим, а если серый волк придет, мы его прогоним.
Я говорю:
— Жалко, что у нас в домике нет окон, очень темно!
— Ничего,— говорит Валя.— У поросят.ведь домики бывают без окон.
188
Я спрашиваю:
— А ты меня видишь?
— Нет. А ты меня?
— И я,— говорю,— нет. Я даже себя не вижу.
Вдруг меня кто-то как схватит за ногу! Я как закричу! Выскочил из-под стола, а Валя за мной.
— Чего ты?»—спрашивает.
— Меня,— говорю,— кто-то схватил за ногу. Может быть, серый волк?
Валя испугалась и бегом из комнаты. Я —за ней. Выбежали в коридор и дверь захлопнули.
— Давай,— говорю,— дверь держать, чтобы он не открыл. Держали мы дверь, держали.
Валя и говорит:
— Может быть, там никого нет?
Я говорю:
— А кто же тогда меня за ногу трогал?
— Это я,— говорит Валя,— я хотела узнать, где ты.
— Чего же ты раньше не сказала?
— Я,— говорит,— испугалась. Ты меня испугал.
Открыли мы дверь. В комнате никого нет. А к столу подойти все-таки боимся: вдруг из-под него серый волк вылезет1
Я говорю:
— Пойди сними одеяло.
А Валя говорит:
— Нет, ты пойди!
Я говорю:
— Там же никого нет.
— А может быть, есть!
Я подкрался на цыпочках к столу, дернул за край одеяла и бегом к двери. Одеяло упало, а под столом никого нет. Мы обрадовались. Хотели починить домик, только Валя говорит:
— Вдруг опять кто-нибудь за ногу схватит!
Так и не стали больше в «три поросенка» играть.
ЗАПЛАТКА
У Бобки были замечательные штаны: зеленые, вернее сказать, защитного цвета. Бобка их очень любил и всегда хвастался:
— Смотрите, ребята, какие у меня штаны. Солдатские!
Все ребята, конечно, завидовали. Ни у кого больше таких
зеленых штанов не было.
Однажды Бобка полез через забор, зацепился за гвоздь и порвал эти замечательные штаны. От досады он чуть не заплакал, пошел поскорее домой и стал просить маму зашить. Мама рассердилась:
— Ты будешь по заборам лазить, штаны рвать, а я зашивать должна?
— Я больше не буду! Зашей, мама!
— Сам зашей.
— Так я же ведь не умею!
— Сумел порвать, сумей и зашить.
— Ну, я так буду ходить,— проворчал Бобка и пошел во двор.
Ребята увидели, что у него на штанах дырка, и стали смеяться.
— Какой же ты солдат,— говорят,— если у тебя штаны порваны?
А Бобка оправдывается:
— Я просил маму зашить, а она не хочет.
— Разве солдатам мамы штаны зашивают? — говорят ребята.— Солдат сам должен уметь все делать: и заплатку поставить и пуговицу пришить.
Бобке стало стыдно.
Пошел он домой, попросил у мамы иголку, нитку и лоскуток зеленой материи. Из материи он вырезал заплатку величиной с огурец и начал пришивать ее к штанам.
Дело это было нелегкое. К тому же Бобка очень спешил и колол себе пальцы иголкой.
— Чего ты колешься? Ах ты, противная! — говорил Бобка иголке и старался схватить ее за самый кончик, так, чтоб не уколоться.
Наконец заплатка была пришита. Она торчала на штанах, словно сушеный гриб, а материя вокруг сморщилась так, что одна штанина даже стала короче.
— Ну, куда же это годится? — ворчал Бобка, разглядывая штаны.— Еще хуже, чем было! Придется наново перешивать.
Он взял ножик и отпорол заплатку. Потом расправил ее, приложил снова к штанам, хорошенько обвел вокруг заплатки чернильным карандашом и стал пришивать ее снова. Теперь он шил не спеша, аккуратно и все время следил, чтобы заплатка не вылезала за черту.
Он долго возился, сопел и кряхтел, зато, когда все сделал, на заплатку было любо взглянуть. Она была пришита ровно, гладко и так крепко, что не отодрать и зубами.
Наконец Бобка надел штаны и вышел во двор. Ребята окружили его.
191
— Вот молодец! — говорили, они.— А заплатка, смотрите, карандашом обведена. Сразу видно, что сам пришивал.
А Бобка вертелся во все стороны, чтобы всем было видно, и говорил:
— Эх, мне бы еще пуговицы научиться пришивать, да жаль, ни одна не оторвалась! Ну ничего. Когда-нибудь оторвется — обязательно сам пришыо.
ЛЕДЕНЕЦ
Мама уходила из дому и сказала Мише:
— Я ухожу, Мишенька, а ты веди себя хорошо. Не шали без меня и ничего не трогай. За это подарю тебе большой красный леденец.
Мама ушла. Миша сначала вел себя хорошо: не шалил и ничего не трогал. Потом он только подставил к буфету стул, залез на него и открыл у буфета дверцы. Стоит и смотрит в буфет, а сам думает:
«Я ведь ничего не трогаю, только смотрю».
А в буфете стояла сахарница. Он взял ее и поставил на стол.
«Я только посмотрю, а ничего трогать не буду»,—думает. Открыл крышку, видит — там что-то красное сверху.
193
— Э,—говорит Миша,— да это ведь леденец! Наверно, как раз тот самый, который мне обещала мама.
Он запустил в сахарницу руку и вытащил леденец.
— Ого,—говорит,—большущий! И сладкий, должно быть.
Миша лизнул его и думает:
«Пососу немножко и положу обратно».
И стал сосать. Пососет, пососет и посмотрит, много ли еще осталось. И все ему кажется — много. Наконец леденец стал совсем маленький, со спичку. Тогда Мишенька положил его обратно в сахарницу. Стоит, пальцы облизывает, смотрит на леденец, а сам думает: «Съем я его совсем. Все равно мне мама отдаст. Ведь я хорошо себя веду, не шалю и ничего такого не делаю».
Миша достал леденец, сунул в рот, а сахарницу хотел на место поставить. Взял ее, а она прилипла к рукам — и бух на пол. Разбилась на две половинки. Сахар рассыпался. Мишенька испугался:
«Что теперь мама скажет?»
Взял он две половинки и прислонил друг к дружке. Они ничего, держатся. Даже незаметно, что сахарница разбита. Он сложил сахар обратно, накрыл крышкой и осторожно поставил в буфет.
Наконец мама приходит:
— Ну, как ты себя вел?
— Хорошо.
— Вот умница! Получай леденец.
194
Мама открыла буфет, взяла сахарницу... Ах!.. Сахарница развалилась, сахар посыпался на пол.
— Что ж это такое? Кто сахарницу разбил?
— Это не я. Это она сама...
— Ах, сама разбилась! Ну, это понятно. А леденец-то куда девался?
— Леденец... Леденец... Я его съел. Я себя вел хорошо, ну и съел его. Вот...
ШУРИК У ДЕДУШКИ
Летом мы с Шуриком жили у дедушки. Шурик — это мой младший брат. Он еще в школе не учится, а я уже в первый класс поступил. Только он все равно меня не слушается... Ну и не надо!.. Когда мы приехали, так сейчас же обыскали весь двор, облазили все сараи и чердаки. Я нашел стеклянную банку из-под варенья и круглую железную коробочку от гуталина. А Шурик нашел старую дверную ручку и большую калошу на правую ногу. Потом мы чуть не подрались с ним на чердаке из-за удочки. Я первый увидел удочку и сказал:
— Чур, моя!
Шурик тоже увидел и давай кричать:
— Чур, моя! Чур, моя!
Я схватил удочку, а он тоже вцепился в нее и давай отнимать. Я рассердился — как дерну!.. Он отлетел в сторону и чуть не упал. Потом говорит:
— Подумаешь, очень нужна мне твоя удочка! У меня есть калоша.
— Вот и целуйся со своей калошей,— говорю я,— а удочку нечего рвать из рук.
136
Я отыскал в сарае лопату и пошел копать червей, чтобы ловить рыбу, а Шурик пошел к бабушке и стал просить у нее спички.
— Зачем тебе спички? — спрашивает бабушка.
— Я,— говорит,— разведу во дворе костер, сверху положу калошу, калоша расплавится, и из нее получится резина.
— Еще чего выдумаешь! — замахала руками бабушка.— Ты тут и дом весь спалишь со своим баловством. Нет, голубчик, и не проси. Что это еще за игрушки с огнем! И; слушать ничего не желаю.
Тогда Шурик взял дверную ручку, которую нашел в сарае, привязал к ней веревку, а к другому концу веревки привязал калошу. Ходит по двору, веревку за ручку держит, а калоша за ним по земле ездит. Куда он — туда и она. Подошел ко мне, увидел, что я червей копаю, и говорит:
— Можешь не стараться: все равно ничего не поймаешь.
— Это почему? — спрашиваю.
— Я заколдую рыбу.
— Пожалуйста,— говорю,— колдуй на здоровье.
Я накопал червей, сложил их в коробочку и пошел к пруду. Пруд был позади двора — там, где колхозный огород начинается. Насадил я на крючок червяка, уселся на берегу и забросил удочку. Сижу и за поплавком слежу. А Шурик подкрался сзади и давай кричать во все горло:
Колдуй, баба, колдуй, дед,
Колдуй, серенький медведь!
Колдуй, баба, колдуй, дед,
Колдуй, серенький медведь!
Я решил молчать и ничего не говорить, потому что с ним всегда так: если скажешь что-нибудь, еще хуже будет.
Наконец он наколдовался, бросил в пруд калошу и стал ее по воде на веревке таскать. Потом придумал такую вещь: бросит калошу на середину пруда и давай в нее камнями швырять, пока не утопит, а потом начинает ее со дна на веревке вытаскивать.
Я сначала молча терпел, а потом как. не вытерплю:
:197
— Пошел вон отсюда! — кричу.— Ты распугал мне всю рыбу!
А он говорит:
— Все равно ничего не поймаешь: заколдована рыба.
И опять плюх калошу на середину пруда! Я вскочил, схватил палку — и к нему. Он давай удирать, а калоша за ним на веревке так и скачет. Еле убежал от меня.
Вернулся я к пруду и стал снова рыбу ловить. Ловил, ловил... Уже солнышко высоко поднялось, а я все сижу да на поплавок гляжу. Не клюет рыба, хоть тресни! На Шурика злюсь, прямо избить готов. Не то чтоб я в его колдовство поверил, а знаю, что, если приду без рыбы, смеяться будет. Уж чего я ни делал: и подальше от берега забрасывал удочку, и поближе, и поглубже крючок опускал — ничего не выходит. Захотелось мне есть, пошел я домой, вдруг слышу — кто-то в ворота колотит: «Бум-бум! Бах-бах!»
Подхожу к воротам, смотрю, а это Шурик. Достал где-то молоток, гвозди и прибивает к калитке дверную ручку.
— Это ты для чего прибиваешь? — спрашиваю.
Он увидел меня, обрадовался:
— Хи-хи! Рыболов пришел. Где же твоя рыба?
Я говорю:
— Ты зачем прибиваешь ручку? Здесь же есть одна ручка.
— Ничего,— говорит,— пусть две будут. Вдруг одна оторвется.
Прибил ручку, и еще у него один гвоздь остался. Он долго думал, что с этим гвоздем делать, хотел его просто в калитку загнать, потом придумал: приложил калошу подошвой к калитке и стал ее гвоздем приколачивать.
— А это для чего? — спрашиваю.
— Так просто.
— Просто глупо,— говорю я.
Вдруг смотрим — дедушка с работы идет. Шурик испугался, давай отрывать калошу, а она не отрывается. Тогда он встал, загородил калошу спиной и стоит.
Дедушка подошел и говорит:
— Вот молодцы, ребятки! Только приехали — и за работу сразу... Кто это придумал к калитке вторую ручку прибить?
198
— Пошел вон отсюда! Ты распугал мне всю рыбуI
— Это,— говорю, — Шурик.
Дедушка только крякнул.
— Ну что ж,— говорит,—
теперь у нас две ручки будет: одна сверху, другая
снизу. Вдруг какой-нибудь коротенький человек придет. До верхней ручки ему не дотянуться, так он до нижней достанет.
Тут дедушка заметил калошу:
— А это еще что?
Я так и фыркнул. «Ну,—
думаю,— сейчас Шурику от дедушки будет». Шурик покраснел, сам не знает, что отвечать.
А дедушка говорит:
— Это что ж? Это, наверно, все равно что ящик для писем. Придет почтальон, увидит, что дома никого нет, сунет письмо в калошу и пойдет дальше. Очень остроумно.
— Это я сам придумал! — похвастался Шурик.
— Да неужто?
— Честное слово!
— Ну молодец! — развел руками дедушка.
За обедом дедушка все разводил руками и рассказывал бабушке про эту калошу:
— Понимаешь, какой остроумный ребенок! До чего сам додумался, ты не поверишь даже! Понимаешь, калошу к калитке, а? Я давно говорю, что надо ящик для писем прибить, а того и не сообразить мне, что проще калошу.
— Ладно уж,— усмехнулась бабушка.— Я куплю ящик, а пока пусть повисит калоша.
После обеда Шурик побежал в сад, а дедушка говорит:
— Ну, Шурик у нас уже отличился, а ты, Николка, тоже небось чего-нибудь наработал. Ты уж признавайся, порадуй дедушку.
2С0'-
— Я, — говорю, — ловил рыбу, да рыба не ловится.
— А ты где ловил?
— В пруду.
— Э... — протянул
дедушка,— какая же
тут рыба? Этот пруд недавно вырыли. Тут даже лягушки еще не развелись. А ты, голубчик, не поленись, пойди на речку. Там у мостика течение быстрое. На этой быстринке и полови.
Дедушка ушел на работу, а я взял удочку и говорю Шурику:
— Пойдем на реку, будем вместе рыбу ловить.
— Ага,—говорит,—испугался! Теперь подлизываешься!
— Зачем мне подлизываться?
— А чтоб я не колдовал больше.
— Колдуй,— говорю,— пожалуйста.
Взял я коробку с червями, банку из-под варенья, чтоб было куда рыбу сажать, и пошел. А Шурик сзади поплелся.
Пришли на реку. Я пристроился на берегу, недалеко от моста, где течение побыстрей, забросил удочку.
А Шурик толчется возле меня и все бормочет:
Колдуй, баба, колдуй, дед,
Колдуй, серенький медведь!
Помолчит чуточку, помолчит, а потом снова:
Колдуй, баба, колдуй, дед...
Вдруг рыба как клюнет, я как дерну удочку! Рыба сверкнула в воздухе, сорвалась с крючка, упала на берег и ну плясать возле самой воды.
Шурик как крикнет:
— Держи ее!
Бросился к рыбе и давай ловить. Рыба по берегу скачет, а он прямо животом на нее бросается, никак поймать не может; чуть она не удрала обратно в реку.
201:
Наконец он ее схватил. Я набрал в банку воды, Шурик пустил в нее рыбу и стал разглядывать.
— Это,— говорит,— окунь. Честное слово, окунь! Видишь, какие у него полоски. Чур, мой будет!
— Ладно, пусть будет твой. Мы еще много наловим.
В этот день мы долго удили. Поймали шесть окуньков, четырех пескарей и даже ершика одного выудили.
На обратном пути Шурик нес банку с рыбой и даже подержать не давал мне. Он был очень рад и совсем не обиделся, когда увидел, что его калоша исчезла, а вместо нее на калитке висит новенький голубой ящик для писсм.
— Ну и пусть,— сказал он.— По-моему, ящик еще даже лучше калоши.
Он махнул рукой и поскорей побежал показывать рыбу бабушке. Бабушка похвалила нас. А потом я ему сказал:
— Вот видишь, а ты колдовал! Ничего твое колдовство не значит. Я з колдовство не верю.
— У! — сказал Шурик.— А я, думаешь, верю? Это одни только дикари верят да старенькие старушки.
Этим он очень насмешил бабушку, потому что бабушка хоть и была старенькая, но тоже не верила в колдовство.
ПРО РЕПКУ
Вот и весна пришла. На небе засияло яркое солнышко. Стало тепло на дворе, даже не нужно было пальто надевать — совсем как летом. Из-под земли вылезла зеленая травка. Молодые липки на улице еще вчера стояли совсем-совсем голые, а сегодня они в один день покрылись маленькими листочками, такими мягкими, нежными. Очень радостно было смотреть на них! В этот день Павлик пришел из детского сада домой и сказал маме:
— Мама, скоро мы поедем с детским садом на дачу! Нам Ольга Николаевна сказала. Через неделю.
— Вот и хорошо,— сказала мама.— Будешь там отдыхать, на даче.
— А я и не устал вовсе,— ответил Павлик.— Зачем же мне отдыхать? Лучше я буду что-нибудь делать.
— Ну, будешь собирать в лесу ягоды и грибы. Будешь ловить в поле бабочек. Хочешь, я куплю тебе сачок для бабочек?
Павлик задумался:
203
— Лучше купи мне лопату, чтобы землю копать. Я буду огород сажать.
— Хорошо,— сказала мама и купила ему лопатку.
На другой день Павлик принес лопатку в детский сад и всем показывал:
— Смотрите, какая у меня лопата есть! Я буду огород сажать.
Дети окружили его и стали смеяться:
— Разве ребята сажают огород? У тебя все равно ничего не вырастет.
— Почему не вырастет? Вырастет! — сказал Павлик.
— Нет, не вырастет! Нет, не вырастет!
Ну и крик тут поднялся! Ребят было много, и все так громко кричали. Разве мог Павлик перекричать всех? От обиды он чуть не заплакал.
— Ты не плачь,—сказала ему самая маленькая девочка, Ниночка.— Хочешь, будем вместе сажать огород? Я тебе помогать буду, и у нас вырастет болыпой-преболыпой огород.
— Конечно, вырастет,— сказал Павлик.
Он успокоился и больше не спорил с ребятами.
Вечером пришла за ним бабушка, и он сказал:
— Бабушка, бабушка, а вырастет у меня огород?
— Вырастет.
— А что я сажать буду, бабушка? У меня ведь нет никаких семян.
— Я куплю.
— Так ты поскорей купи, бабушка, а то мы скоро уедем.
— Завтра куплю.
На следующее утро Павлик проснулся, а бабушка ему говорит:
— Вот твои семена.
И дала ему небольшой бумажный пакетик. Павлик посмотрел, а в пакете — зернышки, маленькие-маленькие! Каждое величиной с маковку.
— Что же это за семена? — спросил он.
— Это семена репки.
— Отчего же они такие маленькие?
— Такие уж семена у репки,— сказала бабушка.
204
— И из каждого зернышка вырастет репка? — спросил Павлик.
— Вырастет,
— Да как же она вырастет, бабушка?
— Так уж и вырастет. Сам увидишь.
Бабушка объяснила Павлику, как вскопать землю и сделать грядку и как посадить семена. Павлик слушал внимательно и все понял. Он взял с собой семена в детский сад и стал показывать ребятам:
— Ребята, ребята, посмотрите, какая у меня репка!
— Какая же это репка?— удивились ребята.— Репка большая, а это какой-то мак.
— Нет, не мак,— сказал Павлик.— Это репкины семена, а из них репка вырастет.
— Как же она вырастет?
— Не знаю.
— Сам не знаешь, а говоришь,— сказали ребята и не стали его слушать.
Неделя быстро прошла, и детский сад уехал на дачу. В первый же день, как только приехали, Павлик пошел к Ольге Николаевне и спросил:
— Ольга Николаевна, можно, я буду огород сажать? У меня семена есть.
— Можно,— сказала Ольга Николаевна.
Она показала Павлику место за домом, где можно было устроить грядку. Павлик взял лопату и принялся вскапывать землю. Прибежали ребята и стали смотреть. Земля была твердая, и копать было трудно. Павлик очень старался и не хотел бросать начатого дела. Ниночка увидела, что он очень устал, и сказала:
— Дай теперь мне покопать, Павлик, ты устал.
— Ну, покопай немножечко,— согласился Павлик,— а потом снова я.
Ниночка взяла лопату и стала копать.
Ребята смотрели, смотрели, им тоже захотелось покопать землю.
— Дай и нам покопать,— стали просить они Павлика.
— Копайте,— говорит Павлик.
205
Ребята по очереди стали копать. Они даже заспорили между собой, кому раньше копать, но Павлик сказал:
— Если будете спорить, то совсем заберу лопату.
Тогда ребята утихли и стали работать без шума. До обеда грядка была готова, а после обеда Павлик разрыхлил землю граблями и принялся сажать семена.
— Дай и нам посадить,— стали просить ребята.
— Не могу. Мне самому интересно,— ответил Павлик.
— Дай! Мы ведь тоже землю копали,— сказал Толя.
— Я ведь не заставлял вас.
— Ну, дай хоть одно зернышко!
Павлик дал ему посадить одно семечко. Тогда и другие ребята стали просить. Пришлось каждому дать по зернышку. Но это ничего. Зернышек было много, так что некоторые даже по две штучки посадили.
На следующий день ребята проснулись рано и сразу побежали в огород. Всем хотелось поскорей посмотреть, не взошли ли семена, но, конечно, семена не могли так быстро взойти.
— Если огород поливать, то семена быстро взойдут,— сказала Надя.
Ребята побежали к Ольге Николаевне, попросили у нее садовую лейку и стали поливать грядку водой. Теперь каждое утро они поливали грядку из лейки и смотрели, не показываются ли из земли ростки. Но прошло несколько дней, а ростков никаких не было видно.
— Что же это такое? — говорили ребята.— Мы, наверно, зернышки вверх ногами посадили — вот они и растут вниз, а не вверх.
И ребята перестали поливать огород. Павлик думал:
«Может быть, мы и на самом деле зернышки вниз головой посадили? Разве разберешь, где у них голова, где ноги! Они маленькие!»
Еще два дня он поливал огород, а потом тоже бросил.
— Вот тебе и выросла репка! — говорили ребята.— Даром только трудились.
Павлик перестал думать об огороде. Он играл вместе с ребятами, собирал в лесу ягоды, ловил в поле бабочек и приду¬
Юб
мал устроить во дворе кормушку для птиц. Ребята приносили остатки от обеда и ужина и кормили птичек, которые прилетали из леса.
Один раз Павлик бежал мимо грядки и увидел, что на ней появилась зеленая травка.
— Ну вот,— сказал он,— уже наш огород зарастает травой!
Тут он заметил, что травка растет правильными рядами, будто ее кто- то нарочно посадил.
— Да это ведь наша репа растет! — закричал Павлик.
Прибежали ребята.
— А может быть, это и не репа? — сказали они.
— Вот увидите, что будет репка,— ответил Павлик.— Раз бабушка сказала — репка, значит, и будет репка.
Ребята снова стали поливать огород. Травка вырастала все больше и больше и превратилась в кустики с большими листьями.
Но время незаметно прошло, и наступила пора уезжать в город.
— Эх,— горевал Павлик,— не успела вырасти репка!
Он пошел к Ольге Николаевне и спросил:
— А когда мы уедем, кто здесь будет на даче жить?
— Приедут другие дети, из другого детского сада.
— А! Ну, тогда хорошо. Пусть они себе мою репку возьмут, когда вырастет.
Ребята уехали. Стало тихо на даче. Только птички порхали возле пустой кормушки и громко чирикали, будто спрашивали друг друга, куда делись дети. На следующий день приехали
207
ребята из другого детского сада. Они бегали по всему двору, заглядывали во все уголки.
— Глядите, огород! — закричал кто-то.
Отовсюду сбежались дети. Кто-то вырвал несколько кустиков из земли. Тут прибежала самая старшая девочка, Зина.
— Зачем же вы топчете огород? — закричала она.— Как вам не стыдно! Кто-то садил, а вы разоряете! Ну-ка, сажайте кустики обратно!
Ребята послушно посадили кустики в землю. Зина придумала сделать вокруг грядки ограду. Ребята побежали собирать палочки и сделали из них вокруг огорода забор. С тех пор никто больше не топтал грядку.
Наступило жаркое время. Солнышко по целым дням припекало все сильней и сильней. Две недели подряд не было дождика, даже не появилось ни одной тучки. Земля на грядке вся высохла и потрескалась. Кустики стали вянуть. Листики на них опустились книзу и начали даже желтеть. Однажды Зина шла мимо грядки.
— Бедные кустики,— сказала она,— совсем завяли! Если не будет дождика, они вовсе засохнут.
Она взяла кружку, принесла воды и стала поливать грядку.
Ребята увидели и прибежали кто с кастрюлей, кто с чайником, а кто и просто со стаканом. Грядку полили так, что вся земля стала мокрая. Потом ребята нашли в сарае старую садовую лейку и с тех пор каждый день поливали грядку из лейки.
Через несколько дней кустики ожили. Листочки поднялись кверху и снова стали зеленые. К концу лета они разрослись так пышно, что вся грядка покрылась зеленью, а внизу под листьями виднелись верхушки больших желтых репок.
— Чья же это репка? — спрашивали ребята.— Кто ее посадил?
— Должно быть, те дети, которые здесь жили до нас, из другого детского сада,— сказала Зина.
Перед отъездом с дачи ребята решили убрать огород. Все стали дергать из земли репку и складывать ее на траву в кучу. Куча получилась порядочная.
208
— Большой урожай получился! — радовались ребята.
Они уселись вокруг и долго любовались репкой. Каждый
думал, что теперь делать с ней.
Вот и осень пришла.
— Надевай-ка пальто и калошки, на дворе холодно,— сказала Павлику бабушка, когда он утром собирался идти в детский сад.
Павлик оделся и вышел во двор. Все лужи вокруг замерзли. Тонкий ледок так и хрустит под ногами. А листьев-то сколько с деревьев нападало! Прямо как по ковру идешь.
В этот день Ольга Николаевна занималась с ребятами. Дети играли в школу. Они рисовали картинки, а Ольга Николаевна ставила всем отметки. Вдруг кто-то постучал в дверь. Ольга Николаевна отворила, и в комнату вошел почтальон.
В руках у него был ящик, обшитый материей, на которой большими фиолетовыми буквами был написан адрес детского сада.
— Вам посылка,— сказал почтальон и поставил ящик на стол.
— А что в этой посылке? — стали спрашивать дети.
— Не знаю, ребята. Что-то очень тяжелое — насилу я дотащил,— сказал почтальон.
Он попрощался и ушел. Ольга Николаевна распорола материю, которой был обшит ящик, и открыла крышку.
— Ничего не понимаю,— пробормотала она.— Какая-то репа!
Все ребята толпились вокруг и приподнимались на цыпочки: каждому хотелось заглянуть в ящик. Павлик даже на стул взобрался.
— Правда репка! — закричал он.— Вот смешно! Кто же это мог нам репку прислать?
Тут и другие дети стали на стулья взбираться.
— Погодите, ребята, тут письмо есть,— сказала Ольга Николаевна.
Она взяла письмо, которое лежало в посылке, и стала читать:
g Библиотека пионера, т. 4
209
— «Дорогие ребята! Когда вы уехали с дачи, мы ухаживали за вашей репкой. А когда лето кончилось, мы собрали весь урожай. Репка выросла большая и очень вкусная. Мы все ели, и нам очень понравилось. Мы узнали ваш адрес и решили послать вам репку в посылке. Кушайте на здоровье!»
— Значит, это та репка, которую мы сажали! — закричали ребята.— Вот какая она большая выросла!
Ольга Николаевна поставила ящик на стул, чтобы всем было видно. Ребята смотрели на репку и прыгали от радости. Ну и крику тут было!
Вечером за ребятами пришли родители. Ребята стали показывать им репку и рассказывать, как они садили ее, как по¬
210
ливали, как она не хотела расти, а потом как начала расти, да не успела вырасти, а потом как ее вырастили другие ребята и прислали в посылке.
С тех пор, когда в детский сад приходил кто-нибудь из взрослых, кто еще-не видел репки, ребята вели его в комнату, показывали репку и снова рассказывали всю эту историю с начала и до конца. А когда в детский сад поступал кто-нибудь из новых ребят, то ему первым долгом показывали репку и тоже рассказывали всю эту историю.
Репка пролежала в ящике до середины зимы, и тогда Ольга Николаевна сказала, что репку надо съесть, потому что она не может так долго лежать в теплом помещении. Репку снесли на кухню и попросили тетю Дашу приготовить ее. Тетя Даша почистила репку, аккуратно нарезала ее кружочками, обдала кипятком, чтобы репка не была горькая, и полила маслом. Ребята сидели за столом, ели репку и хвалили ее:
— Ах, какая вкусная репка!
— А помните, какие были репкины семена? — сказал Толя.— Совсем-совсем крошечные! Удивительно, как из них выросла такая репка.
— Это все Павлик придумал,— сказали ребята.—Если б не Павлик, никакой репки не было бы.
МИЛИЦИОНЕР
Больше всего на свете Алик боялся милиционеров. Его всегда дома милиционером пугали. Не слушается — ему говорят:
— Вот сейчас милиционер придет!
Нашалит — снова говорят:
— Придется тебя в милицию отправить!
Один раз Алик заблудился. Он даже сам не заметил, как это случилось. Он вышел гулять во двор, потом побежал на улицу. Бегал, бегал и очутился в незнакомом месте. Тут он, конечно, стал плакать. Вокруг собрался народ. Стали спрашивать:
— Где ты живешь?
А он и сам не знает!
Кто-то сказал:
— Надо его в милицию отправить. Там найдут его адрес.
А Алик, как услышал про милицию, еще громче заплакал.
212
Тут милиционер подошел. Он наклонился к Алику и спрашивает:
— Тебя как звать-то?
Алик поднял голову, увидел милиционера — и бегом от него. Только недалеко убежал. Его быстро поймали и держат, чтобы не забежал еще куда-нибудь. А он кричит:
— Не хочу в милицию! Не хочу! Лучше я заблуженный буду!
Ему говорят:
— Нельзя так, чтоб заблуженным быть.
— Я и так как-нибудь найдусь!
— Как же так найдешься? Так не найдешься!
Тут милиционер снова подошел. Алик увидел его и такой крик поднял, что милиционер только рукой махнул, отошел и спрятался за ворота,
Люди говорят:
— Ну не кричи. Ушел милиционер, видишь—нет его!
— Нет, не ушел. Вон он за воротами спрятался, я вижу!
А милиционер кричит из-за ворот:
— Граждане, узнайте хоть его фамилию, я в милицию позвоню по телефону!
Одна женщина говорит Алику:
— Вот у меня есть знакомый маленький мальчик, он никогда не заблудится, потому что свою фамилию знает.
— Я тоже знаю фамилию,— говорит Алик.
— А ну скажи.
— Кузнецов. А зовут Александр Иванович.
— Ишь ты. Молодец! — похвалила женщина.— Ты, оказывается, все знаешь!
Она пошла к милиционеру и сказала ему фамилию Алика. Милиционер позвонил по телефону в милицию, потом приходит и говорит:
— Он совсем недалеко живет: на Песчаной улице. Кто поможет отвести мальчугана домой? А то он меня почему-то боится.
— Давайте я отведу. Кажется, он уже ко мне немного привык,— сказала женщина, которая узнала фамилию Алика.
Она взяла Алика за руку и повела домой. А милиционер
213
сзади пошел. Алик успокоился и перестал плакать. Только он все время оглядывался на милиционера и спрашивал:
— А зачем милиционер сзади идет?
— Ты не бойся его! Это он для порядка. Видишь, ты не хотел сказать ему свою фамилию, а я сказала. Он позвонил в милицию, и там быстро нашли твой адрес, потому что в милиции все фамилии и адреса записаны.
С тех пор Алик милиционеров уже не боится. Знает, что они для порядка.
И Я ПОМОГАЮ
Жила маленькая девочка по имени Ниночка. Ей было всего пять лет. У нее были папа, мама и старенькая бабушка, которую Ниночка называла бабулей.
Ниночкина мама уходила каждый день на работу, а с Ниночкой оставалась бабуля. Она учила Ниночку и одеваться, и умываться, и пуговицы застегивать на лифчике, и башмаки зашнуровывать, и заплетать косы, и даже буквы писать.
С бабулей Ниночка проводила весь день, а с мамой только утро и вечер. А вот папу Ниночка видела очень редко, так как он работал в далекой Арктике. Он был полярный летчик и домой приезжал, только когда был отпуск.
Раз в неделю, а иногда и чаще от Ниночкиного папы приходило письмо. Когда мама возвращалась с работы, она читала письмо вслух, а Ниночка и бабуля слушали. А потом все вместе писали папе ответ. На другой день мама уходила на работу, а бабуля с Ниночкой относили письмо на почту.
Один раз бабуля с Ниночкой пошли на почту, чтоб отпра¬
215
вить папе письмо. Погода была хорошая, солнечная. На Ниночке было красивое голубое ллатьице и белый передник с вышитым на нем красным зайчиком. Возвращаясь с почты, бабуля пошла с Ниночкой проходными дворами, через пустырь. Раньше там стояли небольшие деревянные домики, а теперь всех жильцов переселили в новый ^льшой каменный дом, а на этом месте решили насадить дч-ёвья и сделать парк. Сейчас пока еще парка не было, а в углу пустыря лежала куча железного хлама, который забыли увезти: куски старых железных труб, обломки радиатора парового отопления, спутанная железная проволока.
Бабуля даже остановилась возле этой кучи железа и сказала:
— Вот не знают пионеры, где железный лом есть. Надо бы им сказать.
— А зачем пионерам лом? — спросила Ниночка.
— Ну, они ведь всегда бегают по дворам, собирают железный лом и сдают государству.
— А зачем государству?
— А государство пошлет на завод. На заводе железо расплавят и сделают из него новые вещи.
— А кто заставляет пионеров собирать лом? — спросила Ниночка.
— Никто не заставляет. Они сами. Дети ведь тоже должны помогать взрослым.
— А мой папа помогал взрослым, когда маленьким был?
— Помогал.
— А я, бабуленька, почему я взрослым не помогаю?
— Ну и ты будешь помогать, когда подрастешь чуточку,— засмеялась старушка.
Прошло несколько дней, и бабуля забыла про весь этот разговор. Но Ниночка ничего не забыла. Однажды она играла во дворе. Бабуля отпустила ее погулять одну. Ребята еще не вернулись из школы, во дворе никого не было, и Ниночке одной было скучно.
Вдруг она увидела, что в ворота вбежали два незнакомых мальчика. Один из них был в длинных брюках и синей матросской куртке, другой — в коричневом костюме с коротень¬
216
кими штанами. Ботинки у него на ногах были не черные, а какие-то рыжие, потому что он всегда забывал их почистить.
Оба мальчика не обратили на Ниночку никакого внимания. Они стали бегать по всему двору, заглядывать во все углы и как будто что-то искали. Наконец они остановились посреди двора, и тот, который был в длинных брюках, сказал:
— Вот видишь! Ничего нет.
А тот, который был в рыжих ботинках, шмыгнул носом, сдвинул на затылок фуражку и сказал:
— Поищем в других дворах, Валерик. Где-нибудь да найдем.
— Найдешь тут! — с досадой проворчал Валерик.
Они пошли обратно к воротам.
— Мальчики! — закричала вдогонку им Ниночка.
Ребята остановились возле ворот.
— Тебе чего?
— Что вы ищете?
— А тебе что?
— Вы, наверно, железо ищете?
— Ну, хотя бы железо. А тебе что?
— Я знаю, где много железа есть.
— Откуда ты знаешь?
— Вот знаю.
— Ничего ты не знаешь!
— Нет, знаю.
— Ну ладно, показывай, где оно, твое железо.
— Это не здесь. Это надо вот пойти по улице, потом свернуть вон туда, потом еще повернуть там, потом через проходной двор, потом... потом...
— Врешь, видно,— сказал Валерик.
— И вовсе не вру! Вот идите за мной,— ответила Ниночка и решительно зашагала по улице.
Ребята переглянулись.
— Пойдем, Андрюха? — спросил Валерик приятеля.
— Ну что ж, пойдем,— усмехнулся Андрюха.
Ребята догнали Ниночку и зашагали сзади. Они делали вид, будто идут не с ней, а отдельно, сами по себе. На лицах у них было насмешливое выражение.
217
— Ишь шагает, как будто взрослая,— говорил Валерик.
— Еще заблудится,— ответил Андрюха.— Возись тогда с ней. Придется отводить обратно домой.
Ниночка дошла до угла улицы и повернула налево. Ребята покорно повернули за ней. На следующем углу она остановилась, постояла в нерешительности, потом смело зашагала через дорогу. Ребята, как по команде, двинулись за ней.
— Послушай,— окликнул Валерик Ниночку,— а там много железа? Может быть, там одна старая сломанная кочерга?
— Много,— ответила Ниночка.— Вам двоим и не унести.
— Сказочки! — ответил Валерик.— Мы вдвоем сколько хочешь дотащим. Мы сильные.
Тут Ниночка подошла к одному дому и остановилась возле ворот. Она внимательно осмотрела ворота и пошла во двор. Ребята пошли следом за ней. Они дошли до конца двора, потом повернули обратнб к воротам и опять вышли на улицу.
— Ты что же это? — с недоумением спросил Валерик.
— Это не тот двор,— смущенно сказала Ниночка.— Я ошиблась. Нам проходной надо, а это не проходной. Наверное, рядом.
Они пошли в соседний двор, но он тоже оказался непроходным. В следующем дворе их постигла такая же неудача.
— Что же, мы так и будем по всем дворам таскаться? — ворчливо сказал Андрюха.
Наконец четвертый двор оказался проходным. Ребята прошли через него в узенький переулок, потом свернули на широ* кую улицу и пошли по ней. Пройдя целый квартал, Ниночка остановилась и сказала, что они, кажется, пошли не в ту сторону.
— Ну пойдем в другую сторону, раз не в ту. Чего тут стоять,— проворчал Андрей.
Они повернули и пошли в другую сторону; миновали переулок, снова прошли квартал.
— Ну теперь куда: направо или налево? — спросил Валерик.
— Направо,— ответила Ниночка.— Или налево...
— Что-что? — строго сказал Андрюха.— Ну и бестолковая же ты!
218
Ниночка заплакала.
— Я заблудилась! — сказала она.
— Эх, ты! — с укоризной сказал Валерик.— Ну, пойдем, мы тебя отведем домой, а то скажешь, что мы тебя завели да бросили посреди улицы.
Валерик взял Ниночку за руку. Все трое отправились в обратный путь. Андрюха шел позади и ворчал про себя:
— Из-за этой пигалицы столько времени даром потратили. Без нее давно где-нибудь железо нашли бы!
Они снова вернулись к проходному двору. Валерик уже хотел свернуть в ворота, но тут Ниночка остановилась и сказала:
— Стойте, стойте! Я, кажется, вспомнила. Нам вот туда надо.
— Куда это «вот туда»? — недовольным тоном спросил Андрей.
— Вот туда. Через этот проходной двор, что напротив. Я теперь вспомнила. Мы с бабушкой через два проходных двора шли. Сначала через тот, а потом через этот.
— А ты не обманываешь? — спросил Валерик.
— Нет, кажется, не обманываю.
— Смотри, если железа не будет, мы тебе покажем, где раки зимуют.
— А где они зимуют?
— Тогда узнаешь. Пойдем!
Ребята перешли на другую сторону переулка, прошли через проходной двор и очутились на пустыре.
— Вот оно, железо! Вот оно! — закричала Ниночка.
Андрей и Валерик со всех ног бросились к куче железного
лома. Ниночка бежала за ними вприпрыжку и радостно твердила:
— Вот видите! Я говорила вам. Правду я говорила?
— Молодчина! — похвалил ее Валерик.— Ты говорила правду. Как тебя звать?
— Ниночка. А вас?
— Меня Валерик, а вот его — Андрюха.
— Не надо говорить — Андрюха, надо говорить — Андрюша,—поправила Ниночка.
219
— Ничего, он не обижается,— махнул рукой Валерик.
Ребята принялись разбирать ржавые трубы и обломки от
радиатора. Железо было наполовину засыпано землей, и вытаскивать его было не так-то просто.
— А тут и правда много железа,— сказал Валерик.— Как мы его дотащим?
— Ничего. Свяжем две трубы проволокой, и получатся носилки,—придумал Андрей.
Ребята принялись мастерить носилки. Андрей работал старательно. Он все время шмыгал носом и проводил по нему кулаком.
— И носом так делать не ьгадо, Андрюша,— наставительно сказала Ниночка.
— Ишь ты! А это еще почему?
— Бабушка не велит.
— Много она понимает, твоя бабушка!
— Бабушка все понимает, потому что она самая старшая. На вот тебе лучше платочек.
Ниночка достала из кармана аккуратно сложенный беленький, как снежинка, платочек. Андрюха взял его, некоторое время глядел на него молча, потом протянул обратно:
— Возьми, а то я тебе его своим носом измажу.
Он вынул из кармана носовой платок—правда, не такой белоснежный, как у Ниночки,— и высморкался.
— Вот видишь, как хорошо! — сказала Ниночка.
— Чего еще лучше-то! — ответил Андрюха и скорчил такую физиономию, что Ниночка не могла удержаться от смеха.
Когда носилки были готовы, ребята погрузили на них железо, и только одна толстая кривая труба не поместилась.
— Ничего, ее потом при случае захватить можно будет,— сказал Валерик.
— Зачем потом? — ответила Ниночка.— Я помогу вам.
— И то правда! — подхватил Андрюха.— Пойдем с нами в школу, тут недалеко. А потом мы тебя домой отведем.
Ребята взяли носилки и потащили железо к школе, а Ниночка положила на плечо кривую трубу и зашагала за ними.
220
...С тех пор как бабуля отпустила Ниночку погулять, прошел целый час.
— Что-то моя стрекоза загулялась сегодня,:—сказала бабуля, когда вспомнила, что Ниночка уже давно гуляет.— Как бы она не забежала куда-нибудь без меня.
Старушка накинула на плечи платок и вышла во двор. Во дворе было много ребят. Они играли в «пятнашки».
— Ребята, вы не видели Ниночку? — спросила бабуля.
Но ребята так заигрались, что не слышали ее вопроса.
В это время мимо пробегал мальчик Вася. Он был весь красный от беготни, волосы на голове взлохматились.
— Ты, Вася, не видел Ниночку?
— А ее здесь нет,— сказал Вася.
— Как — нет? — удивилась бабуля.— Она уже с час как во двор пошла.
— Да нет, бабушка, мы здесь давно играем, а ее и не видели,— сказала девочка Светлана.— Ребята! — закричала она.— Ниночка потерялась!
Все сейчас же оставили игру и столпились вокруг старушки.
— Может быть, она пошла на улицу? — сказал Вася.
Несколько ребят бросились на улицу и сейчас же вернулись
обратно.
— Ее там нет,— сказали они.
— Наверное, к кому-нибудь из соседей пошла,— сказал кто-то.— Вы, бабушка, у соседей спросите.
Бабуля пошла по соседским квартирам, а ребята ходили за ней хвостом. Потом они принялись бегать по всем сараям, лазить по чердакам. Даже в подвал спускались. Ниночки нигде не было. Бабуля ходила за ними следом и приговаривала:
— Ах ты, Ниночка, Ниночка! Ну попадись же ты мне! Я тебе покажу, как пугать свою бабушку!
— А может, она куда-нибудь в чужой двор забежала? — сказали ребята.— Ну-ка, бежим по дворам! А вы не ходите, бабушка. Мы, как только найдем, сейчас же вам скажем. Идите домой, отдыхайте!
— Какой уж тут отдых!
221
Старушка вздохнула грустно и вернулась домой. К ней сейчас же заглянула соседка:
— Не нашлась Ниночка?
— Нет.
— А вы пошли бы в милицию. Вдруг она там.
— Ах, верно! И верно! — сказала бабуля.— А я-то, глупая, сижу здесь...
Она вышла из дому. У ворот ее встретили ребята.
— Мы, бабушка, по эту сторону улицы все дворы обыскали!— закричали они.— Теперь по другой стороне пойдем. Вы не беспокойтесь, отыщем.
— Ищите, ищите, милые! Спасибо вам! Вот уж спасибо! Ах, я глупая, старая! Недоглядела! Ах!.. Я и наказывать не стану ее. Совсем ничего не скажу, только нашлась бы!
— А вы куда, бабушка, идете?
— Я в милицию, детки, в милицию.
Она зашагала по улице и все время оглядывалась по сторонам. Наконец добралась до отделения милиции и отыскала детскую комнату. Там был дежурный милиционер.
— Сыночек, нет ли у вас здесь моей девочки? Внучка у меня потерялась,— сказала бабуля.
— Сегодня мы еще никого из ребятишек не находили,— ответил милиционер.— Но вы, гражданка, не беспокойтесь. Отыщется ваша девочка.
Он усадил старушку на стул и раскрыл большую толстую тетрадь, которая лежала на столе.
— Сколько лет вашей девочке? — спросил он и стал записывать.— Как звать, где живет?
Записал все: и имя, и фамилию, и что Ниночка одета в голубое платьице и белый передничек с красным зайчиком. Это чтоб легче было искать. Потом спросил, имеется ли дома телефон, и записал номер.
— Так вот, бабуся,— сказал наконец он,— идите теперь домой и не беспокойтесь. Может быть, ваша Ниночка уже ждет вас дома, а нет — так мы вам живо ее разыщем.
Старушка немного успокоилась и отправилась в обратный путь. Но чем ближе она подходила к дому, тем больше росла ее тревога.
222
— Мы, бабушка, по эту сторону улицы все дворы обыскали. Теперь по другой стороне пойдем. Отыщем.
У ворот дома она остановилась. К ней подбежал Вася. Волосы у него на голове еще больше взлохматились, а на лице блестели капельки пота.
— Ниночкина мама пришла,— объявил он с испуганным видом.
— А Ниночка?
— Ее не нашли еще.
Бабушка прислонилась к калитке. Ноги у нее стали слабые. Она не знала, как скажет Ниночкиной маме о том, что Ниночка потерялась. Она хотела еще что-то спросить у Васи, но вдруг увидела на тротуаре двух мальчиков. Они быстро шагали по улице, а между ними семенила ногами маленькая девочка. Оба мальчика держали ее за руки, а она то и дело поджимала под себя -ноги и, повиснув на руках у ребят, визжала от удовольствия. Вместе с ней смеялись и мальчики. Вот они уже подошли близко, и бабушка увидела на голубом платьице девочки белый передник с красным зайчиком.
— Да ведь это Ниночка! — обрадовалась бабушка.— Вот счастье!
— Бабуленька!—закричала Ниночка и бросилась к ней.
Бабушка схватила Ниночку на руки, стала целовать ее.
А Андрей и Валерик остановились рядом и смотрели на них.
— Спасибо вам, мальчики. Где вы ее нашли? — спросила бабушка.
224
— Кого? — с недоумением спросил Валерик.
— Да вот ее, Ниночку.
— Ах, Ниночку! Слушай, Андрюха, ты не помнишь, где мы нашли Ниночку?
Андрюха привычно шмыгнул носом, огляделся по сторонам и сказал:
— Где?.. Да вот тут, в этом самом дворе. Тут мы ее и нашли. А отсюда пошли за железом.
— Ну спасибо, детки! Вот уж спасибо! — твердила бабушка.
Она опустила Ниночку на землю и, крепко держа за руку, повела домой. В коридоре их встретила мать Ниночки. Она надевала на ходу шляпу. Лицо ее было встревоженно.
— Что тут у вас происходит? — спросила она.— Только что звонили по телефону из милиции. Спрашивали, вернулась ли Ниночка. Куда она ходила?
— Ничего, ничего,— успокоила ее бабушка.— Ниночка потерялась, а теперь вот нашлась.
— Да нет, бабуля, я вовсе не потерялась,— сказала Ниночка.— Я ходила с мальчиками показать, где железо.
— Какое еще железо?
Ниночка принялась рассказывать про свои похождения. Бабушка только ахала, слушая ее рассказ.
— Ишь чего только не выдумают! —говорила она.— Железо им зачем-то понадобилось.
— Ну, бабулька, ты ведь сама говорила, что деТи должны помогать взрослым. Папа тоже помогал, когда был маленьким. Вот и я помогаю.
— Ты хорошо сделала, что помогла пионерам,— сказала Ниночке мама.— Но сперва надо было спроситься у бабушки. Бабушка беспокоилась.
— Ты совсем не жалеешь свою бабулю! — кивала головой старушка.
— Я тебя жалею, бабуленька! Теперь я всегда буду спрашиваться. А мы с тобой еще где-нибудь железо найдем. Много железа! Правда?
В тот день только и разговоров было, что про это железо. А вечером все снова сидели за столом. Бабуля и мама писали
225
папе письмо. А Ниночка рисовала картинку. Она нарисовала маленький, занесенный снегом арктический поселок: всего несколько домиков на берегу замерзшей реки. Жители поселка собрались на пригорке и ждут самолет. А самолет уже виден вдали на небе. Он везет людям нужные вещи: кому сахар, кому муку, кому лекарство, а детям — игрушки. Внизу Ниночка нарисовала себя с толстой железной трубой в руках и подписала большими печатными буквами: «И я помогаю».
— Вот замечательно! — обрадовалась бабуля.— Мы эту картинку пошлем в письме папе, и папа будет знать, какая у него дочурка хорошая.
Анатолий Алексин
Ч а ешь первая Я СТАНОВЛЮСЬ ШУРОЙ „НЕ ЗАБУДЬ ПРО САМОЕ ГЛАВНОЕ!*
Всю свою сознательную жизнь я мечтал ездить и путешествовать.
Помню, например, когда я был еще совсем маленьким, я каждый день ездил с бабушкой на трамвае в детский сад. Тогда я мечтал стать вагоновожатым. Дома я вытаскивал на середину комнаты старый деревянный чемодан и ставил его на попа. Это был электромотор. Сам я усаживался на табуретке перед чемоданом и три часа подряд вертел ручку от мясорубки. На «поворотах» я постукивал чайной ложечкой по дну старой, закопченной алюминиевой кастрюльки — давал
229
звонки. «Лезут под самые колеса! Жизнь, что ли, надоела?»— бормотал я себе под нос. Я слышал, что так именно ругаются вагоновожатые.
За моей спиной были расставлены стулья. На самом последнем стуле всегда сидела бабушка с кожаной авоськой на груди (я приспособил к сумке веревочные тесемки). Бабушка была одновременно и кондуктором и контролером. Но только иногда бабушка засыпала, уронив голову на авоську,—наверное, уставала от длинного пути. И тогда я вместо нее шепотом объявлял остановки и шепотом кричал на пассажиров: «Ну, что остановились? Проходите вперед, там люди на подножке висят!»
Но на самом деле в моем вагоне был только один взаправдашний пассажир — черный кот по имени Паразит. Это бабушка его так назвала за то, что он однажды съел целую миску куриных котлет. Больше кот никогда ничего не таскал, а имя за ним так и осталось. Только называли мы его не как- нибудь грубо, а, наоборот, очень даже ласково: Паразитиком или даже Паразитушкой.
Наш черный кот не был знаком с правилами уличного движения— он то и дело выпрыгивал из вагона на полном ходу. Я резко тормозил, бабушка штрафовала Паразита. Но это на него нисколько не действовало, и он снова выпрыгивал на ходу, не понимая, что рискует жизнью.
Так продолжалось до тех пор, пока однажды, в воскресенье, мы с мамой не поехали в Химки. Там я первый раз увидел большие, какие-то очень важные и неторопливые пароходы— и сразу захотел стать капитаном дальнего плавания. Стулья расставлялись по-прежнему, но сам я залезал в перевернутую вверх ножками табуретку, которую ставил на обеденный стол. Это был капитанский мостик. Паразит даже в самые сильные штормы смело выпрыгивал за борт. А я с мостика бросал ему надутую велосипедную шину — это был спасательный круг.
Но больше всего я мечтал поехать куда-нибудь далеко-далеко, без мамы, без папы и вообще без взрослых. Чтобы никто не говорил мне, что пить воду из бачка опасно (а вдруг недокипела!), стоять у открытого окна рискованно (вдруг искра от паровоза в глаз попадет!), а переходить на ходу из ва¬
230
гона в вагон просто-таки смертельно. И чтобы я мог, как Паразит, бегать и выпрыгивать куда и как захочу.
Прошло много лет... И вот наконец моя мечта сбылась! Я поехал один, да еще на поезде, да еще на все лето, и не куда-нибудь на дачу, а далеко — в другой город, к маминому папе, то есть к моему дедушке.
Правда, мама попыталась с самого начала все испортить. Она как вошла в вагон, так сразу тяжело вздохнула, словно у нее горе какое-нибудь случилось:
— Вот приходится сына одного отправлять. Может, возьмете над ним шефство, товарищи?
У окна стоял военный. Он был невысокого роста, но такой широкоплечий, что загораживал все окно, и мы сперва даже не могли увидеть бабушку, которая стояла на перроне и тихонько помахивала нам ладошкой. Услышав мамины слова, военный обернулся, и я увидел, что это подполковник-артиллерист. Подполковник оглядел меня так внимательно, что мне сразу захотелось поправить пояс и пригладить волосы.
— А что ж над ним шефствовать? — удивился он.— Взрослый, вполне самостоятельный парень!
«Какой замечательный человек! — подумал я.— Настоящий боевой офицер! Вот, наверное, сейчас скажет: «Да я в его годы...» Но подполковник ничего про себя «в мои годы» не вспомнил, а снова отвернулся к окну.
И тут же я понял, что не одни только хорошие и сознательные люди на свете живут.
На нижней полке полулежала толстая-претолстая, или, как говорят, полная, женщина с бледным, очень жалостливым лицом. Но я уже заметил: бывают такие жалостливые люди, на которых только взглянешь — и сразу не захочется, чтобы они тебя жалели или делали тебе что-нибудь доброе. Женщина лежала с таким видом, как будто весь вагон был ее собственной квартирой и она уже очень-очень давно жила в этой квартире. А вокруг было полно всякой еды, завернутой в бумагу и засунутой в баночки, как бывает у нас на кухне перед Новым годом.
В уголке сидел мальчик с таким же точно бледным и жалостливым лицом, только очень худенький. На голове у него
231
была бескозырка с надписью «Витязь». А ноги его были накрыты пледом, на котором в страшных позах застыли огромные желтые львы.
Полная женщина — ее звали Ангелиной Семеновной — приподнялась и схватила маму за руку:
— Ах, мужчины этого не понимают! Конечно, я присмотрю за ребенком! (Так прямо и сказала: «за ребенком»!) Я его познакомлю со своим Веником.
Я подумал: «Бывают же такие имена: «Веник»!.. Еще бы метелкой назвали!» — и засмеялся.
— Вот видите, как он доволен! — воскликнула Ангелина Семеновна.— Меня все дети любят, просто обожают!
Подполковник отвернулся от окна и удивленно взглянул на меня, точно хотел спросить: «Неужели вы и в самом деле так уж ее любите?» За всех, детей я отвечать не мог, но мне лично Ангелина Семеновна не очень понравилась. И вообще я не понимал, как можно про самого себя сказать: «Меня все обожают».
232
Оказалось, что Ангелина Семеновна и Веник тоже ехали в Белогорск, но каким-то «диким способом». Что это значит, я тогда не понял. Мне сразу вспомнилась школа, потому что математик Герасим Кузьмич часто нам говорил: «Задача простая, а вы решаете ее каким-то диким способом».
Мы—дикари!—сказала Ангелина Семеновна.—А это,— она нежно наклонилась к Венику,— мой маленький дикаре- ныш. Хочу залить его сметаной и молоком.
Мне представилось, как бледный «витязь», по имени Веник, барахтается в сметане и молоке и пускает белые жирные пузыри. Я снова засмеялся.
— Вы оставляете своего сына в прекрасном настроении,— заявила Ангелина Семеновна.— Он среди родных людей!
Но мама перед уходом все-таки обратилась к подполковнику:
— Вы уж тоже присмотрите, пожалуйста, за моим Сашей. Ладно?
Подполковник кивнул — и она перестала сутулиться, словно у нее гора с плеч упала.
Потом мама пожелала всем счастливого пути, поцеловала меня и пошла на перрон, к бабушке.
На перроне она сложила ладони рупором и крикнула:
— Не забудь про самое главное! Не забудь!.,
И, разрушив свой рупор, погрозила мне пальцем. Подполковник, тоже глядевший в окно, конечно, ничего не понял.
А я все понял — и у меня сразу испортилось настроение.
КАК Я ЛЕТОМ ДВОЙКУ ПОЛУЧИЛ
Лишь только тронулся поезд, Ангелина Семеновна сейчас же начала «шефствовать» надо мной.
Прежде всего она попросила, чтобы я уступил ее Венику свою нижнюю полку.
— Он у меня очень болезненный мальчик, ему наверх карабкаться трудно,—сказала Ангелина Семеновна.
— Альпинизмом надо заниматься,— усмехнулся подполковник, которого звали Андреем Никитичем.
233
— Веник обойдется без посторонних советов. У него есть мама!—отрезала Ангелина Семеновна. Она вообще косо поглядывала на Андрея Никитича.
А я, конечно, с удовольствием уступил нижнюю полку, потому что ехать наверху куда интересней: и на руках можно подтягиваться, и в окно смотреть удобней.
Но это было только начало.
Ангелина Семеновна очень точно знала, на какой станции что должны продавать: где яички, где жареных гусей, а где варенец и сметану. На первой же большой остановке она попросила меня сбегать на рынок, который был тут же, возле перрона.
«И так уж продуктовый магазин в вагоне устроила! — подумал я.— Куда же еще?..» Мне очень хотелось побегать вдоль вагонов, добраться до паровоза, посмотреть станцию, но пришлось идти на рынок. Сама Ангелина Семеновна командовала мной сквозь узкую щель в окне: «Вон там продают куру! (Она почему-то называла курицу «курой».) Спроси, почем кура... Ах, очень дорого!.. А вон там огурцы! Спроси, почем... Нет, это невозможно!»
В результате я так ничего и не купил. Но Ангелина Семеновна объяснила мне, что для нее, оказывается, самое интересное— не покупать, а прицениваться.
То же самое было и на второй большой остановке. А на третьей я не стал спрыгивать вниз, нарочно повернулся носом к стенке и тихонько захрапел.
Но Ангелина Семеновна тут же растолкала меня. Она сказала, что спать днем очень вредно, потому что я не буду спать ночью, а это отразится на моем здоровье, за которое она отвечает перед мамой,— и поэтому я должен сейчас же бежать на станцию за варенцом.
— Вы просто эксплуатируете детский труд,— не то в шутку, не то всерьез заметил Андрей Никитич.— Послали бы своего Веника. Ему полезно погулять на ветерке — вон какой бледный!
Ангелина Семеновна очень разозлилась.
— Да, Веник — болезненный мальчик! — сказала она так, будто гордилась его болезнями.— Но зато он отличник, зато
234
прочитал всю мировую литературу! Он даже меня иногда ставит в тупик.
— Аза что это «зато» он отличник? — спросил Андрей Никитич своим спокойным и чуть-чуть насмешливым голосом.— Можно подумать, что одни только хлюпики похвальные грамоты получают. Вот Саша, наверно, тоже хорошо учится...
При этих словах у меня как-то неприятно засосало в том самом месте, которое называют «под ложечкой».
— И у меня племянник отличник,— продолжал Андрей Никитич,— а такие гири поднимает, что мне никогда не подмять.
— Ну, Веник циркачом быть не собирается!—заявила Ангелина Семеновна. И сама поплелась на станцию.
С тех пор она больше не разговаривала с Андреем Никитичем. Да и со мной тоже. Ко мне она обращалась только в самых необходимых случаях. Например, говорила: «Мне нужно переодеться». И мы с Андреем Никитичем оба выходили в коридор.
Он тоже, как и Ангелина Семеновна, хорошо изучил наш путь и знал, казалось, каждую станцию. Но только совсем по-другому.
— Видишь кирпичную коробку? — спрашивал он.— Это консервный завод. Сома в томате любишь? Так вот здесь, на той вон речке, что за станцией, этого ленивого сома в сети загоняют, а потом уж в томат и в банку!.. А вон там, за поворотом, большущий совхоз. Животноводческий!.. Когда в самолете летишь, кажется, что облака с неба вниз спустились и ползают по земле. А на самом деле это белые овцы. Стада овец!
Андрей Никитич ехал в гости к брату.
— Врачи советуют лечиться, в санаторий ехать,— сказал он.— А я на охоту да на рыбалку больше надеюсь. Вот и еду...
Я как услышал, что Андрею Никитичу надо лечиться, так прямо ушам своим не поверил. Зачем, думаю, такому силачу лечиться? Ведь Андрей Никитич в два счета справился с окном, которое, как говорили проводники, «заело» и которое они никак не могли открыть.
235
Он заметил мое удивление и сказал:
— Да, облицовка-то вроде новая, не обносилась еще, а мотор капитального ремонта требует.
— Какой мотор? — удивился я.
Андрей Никитич похлопал себя по боковому карману — и я понял, что у него больное сердце.
— Если не вылечусь, перечеркнут мои боевые погоны серебряной лычкой — и в отставку. А не хочется мне, Сашенька, в отставку, очень не хочется...
Андрей Никитич заходил по коридору. Шаги у него вдруг стали медленные и тяжелые-тяжелые, как будто он на протезах ходил.
Потом он остановился возле окна, погрузил все десять пальцев в свои густые, волнистые волосы и стал изо всей силы ерошить их, словно грустные мысли отгонял.
— А ведь я на следующей станции за Белогорском вылезаю,— сказал Андрей Никитич.— Выходит, соседями будем.
Я очень обрадовался:
— Приходите к нам в гости! А? Вам ведь, наверно, гулять полезно? И дедушка как раз доктор...
Я достал нарисованный мамой план городка. Там была и дорога, которая вела от станции к дедушкиному домику. Это мама для меня нарисовала, чтобы я не заблудился. Андрей Никитич долго разглядывал план и чего-то ухмылялся про себя.
— Ладно,— говорит,— как-нибудь нагряну.
Вечером Андрей Никитич достал из бокового кармана маленькие, как будто игрушечные, походные шахматы, и мы стали сражаться. Я не выиграл ни одной партии. Но Андрей Никитич не предлагал мне фору, не давал ходов назад и долго обдумывал каждый ход. Мне это очень нравилось, и я сдавался с таким радостным видом, что Венику издали, наверное, казалось, будто я все время одерживаю самые блистательные победы.
Венику тоже захотелось сыграть в шахматы. Но я заметил, как Ангелина Семеновна наступила ему на ногу, он испуганно заморгал глазами и уткнулся в книгу.
А ночью я вдруг проснулся оттого, что вспыхнул верхний
236
синий свет. Я приоткрыл глаза и увидел, что Андрей Никитич ищет что-то в боковом кармане кителя, который висел у него над головой на гнутой алюминиевой вешалке. Наконец он вытащил из кармана кусочек сахара. От синей лампы и белоснежный сахар, и серебристая вешалка, и зеленый китель, и лицо Андрея Никитича — все казалось синим.
«Проголодался он, что ли? — удивился я.— Вот странно, взрослый, а сладкое любит. В боевом кителе сахар таскает!» Но тут я увидел, что Андрей Никитич достал из-под подушки маленький пузырек, стал капать из него на сахар и шевелить губами — отсчитывать капли. Потом он спрятал пузырек обратно под подушку, а сахар положил в рот — и вдруг тяжело задышал. Я вспомнил, что так же вот принимала лекарство моя бабушка, когда у нее, как она говорила, «сосуды лопались».
Я приподнялся и тут только разглядел, что лицо у Андрея Никитича очень бледное (издали-то мне синяя лампа мешала разглядеть), а на лбу выступили крупные капли.
— Андрей Никитич, вам плохо?—тихонько прошептал я.— Может, нужно что-нибудь?
— Нет, нет... Ничего не нужно,— шепотом ответил он и через силу улыбнулся.— Спи... Тебе ведь завтра вставать рано.
Я потушил синюю лампу, но долго еще не решался уснуть: а вдруг Андрею Никитичу станет плохо и нужна будет срочная помощь? Чтобы не слипались глаза, я стал глядеть в окно. А за окном медленно просыпалось утро. Понизу стелился белый туман, а поверху — такие же белые клубы от паровоза. Между этими дымками, как на длинном-предлинном экране, проносились поля, деревни, неровные, словно с отбитыми краями, голубые блюдца озер...
Так незаметно я и заснул.
Разбудил меня Андрей Никитич. Вид у него был самый бравый, лицо было чисто выбрито и очень приятно пахло одеколоном и чем-то еще. Мне показалось, что это запах свежей студеной воды. Это ведь только говорят, что вода не имеет запаха, а на самом деле имеет, и даже очень приятный.
Внизу в полной боевой готовности, окруженная своими бесчисленными чемоданами, узелками и сумками, восседала
237
Ангелина Семеновна. А Веник читал книгу, тихо забившись в угол скамейки.
Он вообще всю дорогу читал. А говорил очень мало и все какими-то мудреными фразами. Например, вместо «хочу есть» он говорил «я проголодался», а вместо «хочу спать» — «меня что-то клонит ко сну».
Я быстро собрал свои вещички в маленький чемодан, который у нас дома называли командировочным, потому что папа всегда ездил с ним в командировки. Мы с Андреем Никитичем вышли в коридор. И тут я, помню, тяжело вздохнул. И вагон наш, сбавляя скорость, тоже тяжело вздохнул, словно ему не хотелось отпускать меня.
Я вообще заметил, что в поезде как-то часто меняется настроение. Вот, например, в первые часы пути мне все казалось очень интересным, просто необычайным: и стук колес где-то совсем близко, прямо под ногами, и настольная лампа, похожая на перевернутое ведерко, и лес за окном, то подбегающий к самому поезду, то убегающий от него... Но уже очень скоро меня стало разбирать любопытство: а какой из себя этот самый Белогорск? А как я там жить буду? И уже хотелось, чтобы поскорее замолчали колеса и поскорее я добрался до дедушки. А вот сейчас мне стало грустно... Я успел привыкнуть ко всему в вагоне, особенно к Андрею Никитичу, и очень не хотел с ним расставаться.
* * *
Послушные паровозному гудку, тронулись и поплыли вагоны. Андрей Никитич стоял у окна и махал фуражкой. Он махал мне одному. Я это знал. Знала это и Ангелина Семеновна, поэтому она демонстративно повернулась к поезду спиной и стала рыться в своем синем мешочке, похожем на те мешки, в которых девчонки сдают калоши в раздевалку, только чуть поменьше. Ангелина Семеновна прятала этот мешочек под кофтой.
Сперва она вытащила какую-то большую бумажку, сделала испуганное лицо и спрятала деньги обратно. Потом вынула бумажку поменьше и снова испугалась. Наконец вы-
238
тянула совсем маленькую и стала размахивать этой бумажкой с таким видом, будто клад в руке держала. Скоро к ней подъехала телега. Возчик, небритый дяденька с папиросой за ухом, оглядывался по сторонам так, словно украл что-нибудь. И лошаденка тоже испуганно косила своими большими лиловыми глазами.
— Только поскорше, гражданочка,— сказал возчик.— По- скорше, пожалста.
Казалось, он так торопится, что нарочно сокращает и коверкает слова. И еще мне показалось, что все слова, которые он произносил, состояли из одной только буквы «о».
Ангелина Семеновна «поскорше» никак не могла. Она очень долго устраивалась в телеге. Сперва размещала вещи так, чтобы ничего не упало, не разбилось и не запачкалось. Потом долго усаживала Веника — так, чтобы его не очень растрясло и чтобы ноги в колесо не попали.
Усевшись сзади, она догадалась наконец спросить, к кому я приехал. А услышав, что я приехал к дедушке и что дедушка мой доктор, она снова соскочила на землю, за что возчик обозвал ее «несознательной гражданочкой».
— У тебя здесь дедушка? — воскликнула Ангелина Семеновна.— Так это же чудесно! Садись к нам! Поедем вместе. Может быть, у него комната для нас найдется, а? И Веник будет под наблюдением — он ведь такой болезненный мальчик. Будем жить одной семьей!
Я вовсе не собирался жить с Ангелиной Семеновной «одной семьей» и поэтому сказал, что у дедушки всего одна и очень маленькая комнатка, хотя на самом деле понятия не имел, какая у него квартира. Ангелина Семеновна залезла обратно в телегу, возчик хлестнул свою лошаденку — заскрипели колеса, и ноги Ангелины Семеновны заколотились о деревянную грядку телеги.
Я огляделся по сторонам. За станцией и по обе стороны от нее была глубокая-глубокая, вся в солнечных окнах, березовая роща. Воздух был какой-то особенный — свежий, будто только что пролился на землю шумный и светлый летний дождь. Возле реки всегда бывает такой воздух. Но самой реки не было видно: она пряталась за рощей.
239
От всей этой красоты я так расчувствовался, что даже забыл придерживать пальцем крышку своего командировочного чемодана, как наказывала мне мама. Чемодан раскрылся — и что-то глухо шлепнулось в траву. Я нагнулся и увидел, что это книжка, а вернее сказать — учебник... Да, учебник русского языка, грамматика. Я вспомнил про то самое «самое главное», о чем кричала с перрона мама,— воздух сразу перестал казаться мне каким-то особенным, да и березы выглядели ничуть не лучше подмосковных.
Я мрачно опустил чемодан на траву и положил учебник обратно. Потом достал нарисованный мамой план пути, развернул его. Развернул — и вдруг почувствовал, что лицу моему нестерпимо жарко, хотя утренние лучи еще только светили, но почти не грели. В левом углу листа моей рукой большими печатными буквами было выведено: МОРШРУТ ПУТИ, КАК ИДТИ К ДЕДУШКИ. Чей-то решительный красный карандаш перечеркнул букву «о» в слове «моршрут», букву «и» в слове «дедушки» и написал сверху жирные «а» и «е». А чуть пониже стояла красная двойка, с какой-то очень ехидной закорючкой на конце.
Кто это сделал? Я сразу понял кто. И мне стало еще жарче. Но почему же он так приветливо махал мне из окна фуражкой? Почему? Догнать поезд я уже не мог. Да и не догонять нужно было поезд, а бежать от него в другую сторону, чтобы не встретиться с Андреем Никитичем.
Я СТАНОВЛЮСЬ ШУРОЙ
Писатель Тургенев говорил, что русский язык «великий и могучий». Это он, конечно, правильно говорил. Но только почему же он не добавил, что русский язык еще и очень трудный? Забыл, наверное, как в школе с диктантами мучился.
Так рассуждал я, огибая березовую рощу.
Но, может быть, думал я, во времена Тургенева учителя не так уж придирались и не снижали отметки за грязь и за всякие там безударные гласные? А я вот из-за этих самых безударных сколько разных ударов получал: и в школе, и дома и на совете отряда!
240
А вообще-то, рассуждал я, какая разница — писать ли «моршрут» или «маршрут», «велосипед» или «виласипед»? От этого ведь велосипед мотоциклом не становится. Важно только, чтобы все было понятно. А какая там буква в середине стоит— «а» или «о»,— это, по-моему, совершенно безразлично. И зачем только люди сами себе жизнь портят? Когда-нибудь они, конечно, додумаются и отменят сразу все грамматические правила. Но, так как пока еще люди до этого не додумались, а додумался только я один, мне нужно готовиться и сдавать переэкзаменовку.
Рассуждая таким образом, я обогнул рощу и сразу увидел Белогорск. Городок взбежал на высокий зеленый холм. Но не все. домики добежали до вершины холма. Некоторые, казалось, остановились на полпути, на склоне, чтобы немного передохнуть. «Так вот почему городок называется Белогорском!— подумал я.— Он взобрался на гору, а все домики сложены из белого камня — вот и получается Белогорск».
Я тоже стал медленно взбираться на холм.
Чтобы не терять времени даром, я начал обдумывать план своих будущих занятий. Мне нужно было каждый день заучивать правила, делать упражнения и писать диктанты. «Диктовать будет дедушка»,— решил я.
Прикинув в уме, сколько в учебнике разных правил и упражнений, я решил, что буду заниматься по три часа в день. Спать буду по семь часов — значит, четырнадцать часов у меня останется для купания и всяких игр с товарищами (если я с кем-нибудь подружусь). Ну, и для чтения, конечно. Между прочим, наша учительница говорила, что если много читать, так обязательно будешь грамотным. Но я не очень-то верил этому, потому что читал я много (за день мог толстенную книгу проглотить), а диктанты писал так, что в них, кажется, красного учительского карандаша было больше, чем моих чернил.
Когда я однажды высказал все это нашей учительнице, она сказала: «Если пищу сразу проглатывают, она вообще никакой пользы не приносит. Ее надо не спеша разжевывать». Мне было непонятно, что общего между пищей и книгами. Тогда учительница сказала, что книги — это тоже пища, только ду-
Q Библиотека пионера, т. 4
241
ховная. Но я все-таки не понимал, как можно разжевывать «духовную пищу», то есть книги, не спеша, если мне не терпится узнать, что будет дальше и чем все кончится. А если книга неинтересная, так я ее вообще «жевать» не стану. В общем, книги мне пока не помогали справляться с безударными гласными.
По маминому чертежу я быстро отыскал дедушкин домик* Вернее сказать, это был не дедушкин дом, а дом, в котором жил дедушка, потому что, кроме него, там жила еще одна семья. Обо всей этой семье я еще подробно ничего не знал, а знал только об одной Клавдии Архиповне, которую мама называла тетей Кланей, потому что она нянчила маму в детстве, как меня бабушка.
В Москве мама предупредила меня, что дедушка не сможет прийти на станцию: он очень рано уходит в больницу, ни за что утренний обход не пропустит! А ключи он оставит у тети Клан и.
В домик вели два крыльца. Одно было пустое и заброшенное какое-то, а на ступеньках другого лежал полосатый коврик и стояли большие глиняные горшки с цветами и фикусами. Их, наверное, вынесли из комнаты для утренней поливки. Конечно, здесь именно и жила тетя Кланя.
Я направился к крыльцу, но тут, будто навстречу мне, распахнулась дверь, и на крыльцо вышел мальчишка лет двенадцати, в трусах, с полотенцем на плече.
Мальчишка, прищурив глаза, поглядел на солнце, с удовольствием потянулся, и я с грустью подумал, что, пожалуй, не решусь при нем снять майку: уж очень у него было загорелое и мускулистое тело.
Ловко перепрыгнув через цветочные горшки, мальчишка подбежал к рукомойнику. Рукомойник висел на ржавом железном обруче, которым была подпоясана молодая березка, то и дело подметавшая своей листвой край черепичной крыши.
Сперва мне показалось, что мальчишка вообще не заметил меня. Он преспокойно разложил на полочке мыло, щетку, зубной порошок. И вдруг, не глядя на меня, спросил:
— Приехал?
>— Приехал...—растерянно ответил я.
242
Мальчишка, прищурив глаза, поглядел на солнце, с удовольствием
потянулся.
Мальчишка старательно намылился, повернул ко мне свое лицо, все в белой пене, и так, не раскрывая зажмуренных глаз, задал второй вопрос:
— Тебя как зовут?
— Сашей.
Мальчишка постукал ладонью по металлическому стержню умывальника; пригнувшись, попрыгал под несобранной, веерообразной струей, пофыркал и потом сказал, точно приказ отдал:
— Придется тебе два месяца побыть Шурой!
— Как это — придется?.. Почему?
Мальчишка стал тереть зубы с такой силой, что я просто удивлялся, как они целы остались и как щетка не сломалась. Не очень-то внятно, потому что рот его был полон белого порошка, мальчишка сказал:
— Меня тоже Сашей зовут. Так уж придется тебе побыть Шурой. Чтобы не путали. Понял?
Понять-то я понял, но мне это не очень понравилось.
— Я все-таки тоже хотел бы остаться Сашей,— тихо проговорил я.
Мальчишка от неожиданности даже проглотил воду, которой полоскал рот.
— Мало что хотел бы! У себя в Москве будешь распоряжаться! Понял?
Заметив, что я растерялся, он взглянул на меня чуть-чуть поласковей:
— Ладно. Иди, Шурка, за мной. Ключи дам.
— Иду* ответил я и таким образом принял новое имя.
— Только горшки не разбей,— предупредил меня Саша.— А то бабушка за них нащелкает!—Он звучно щелкнул себя по загорелому лбу и добавил:—А мне за тебя от бабушки все равно попадет.
— Как это — за меня?
— Очень просто. Она мне встречать тебя приказала. А я не пошел. Что ты, иностранная делегация, что ли? Если бы еще от станции далеко было или дорога запутанная! А то так, ради церемонии... Здравствуй, мол, Шурочка! Ждали тебя с нетерпением, спасибо, что пожаловал! Не люблю я этого!
244
Саша взглянул исподлобья так сердито* словно я был виноват, что он не выполнил приказа бабушки и что ему за это попадет..
— Давай скажем, что ты встречал! — предложил я, желая выручить Сашу.— Ведь бабушка- не узнает.
Но он посмотрел на меня еще злее:
— Не люблю я этого!
«То не любишь, это не любишь! — с досадой подумал я.— А что, интересно, ты любишь?»
Квартирка состояла из двух маленьких комнат и кухоньки. Одна комната была такая солнечная, что в ней, не зажмурившись, стоять было невозможно. А другая — еовсем темная: в ней не было ни одного окна.
— Отец с матерью давно окно прорубить хотели, а я не разрешаю,— сказал Саша.
— Почему не разрешаешь? — удивился я.
— А там пленки проявлять здорово. Понял? Полная темнота!
— Понял. И они тебя послушались? Папа с мамой?..
— А как же! Только бабушка сперва не соглашалась. Но я ей такую карточку сделал, что она потом каждый день стала фотографироваться.
Саша кивнул на фотографию, висевшую над кроватью. С карточки придирчивыми Сашиными глазами глядела на меня исподлобья Сашина бабушка. Не только глаза, но и все лицо ее было строгое и очень властное. А лоб был высокий и весь в морщинках, которые соединялись и пересекались одна с другой. Саша, видно, очень хорошо фотографировал, если морщинки так ясно получились.
Я, между прочим, совсем не такой представлял себе тетю Кланю, которая, по словам мамы, вынянчила ее. Я ожидал увидеть добрую и очень разговорчивую старушку. А у тети Клани губы были так плотно сжаты, словно наглухо прибиты одна к другой.
— Слушай, Шурка, зачем сейчас к дедушке перетаскиваться?— Саша через окно кивнул на пустое, заброшенное крылечко.— У него еще и дверь туго открывается. Пока будем возиться, бабушка с рынка вернется и захватит нас. Давай
245
прямо на реку махнем. А чемоданчик твой пока под кровать задвинем.
В это время послышался топот босых пяток по деревянным ступеням.
— Вот и Липучка явилась,— сказал Саша.
— Кто, кто?
— Липучка. Моя двоюродная сестра. Через три дома отсюда живет. Ее вообще-то Липой зовут. Полное имя Олимпиада, значит. Не слыхал, что ли? Это ее в честь матери назвали. А я в Липучку перекрестил, потому что она как прилипнет, так уж ни за что не отвяжется.
«Везет же! — подумал я про себя.— То Веник, то Олимпиада...»
Липучка между тем беседовала с цветами. «Ой, какие же вы красавцы! Ой, какие же вы пахучие!»—доносилось с крыльца. Но вот Липучка появилась на пороге. Это была рыжая девочка, с веснушками на щеках, с уже облупившимся, удивленно вздернутым носиком. Да и выражение лица у нее было такое, будто она все время чему-то удивлялась или чем-то восторгалась.
— Ой! Внук дедушки Антона приехал!—вскрикнула Липучка, точно она с нетерпением ждала меня и наконец-то дождалась.
Тогда я еще не знал, что Липучка вообще каждую свою фразу начинает со слова «ой!». Я очень удивился, что Липучка назвала моего дедушку Антоном.
— Почему Антон? — спросил я.
— Ой, как же «почему»? Как же «почему»?
— Потому что он не Антон...
Я не заметил, что случайно сказал в рифму. Но Липучка заметила, и ей это очень понравилось. Она стала хохотать и сквозь смех приговаривала:
— Он — Антон! Он — Антон!..
Смех у нее был какой-то особенный: послушаешь — и самому смеяться захочется.
Я прошептал про себя мамино имя-отчество: ее звали все- таки не Мариной Антоновной, а Мариной Петровной. Значит, если говорить по-Липучкиному, дедушка мгой был «дедушкой
246
Петром», а вовсе не «дедушкой Антоном», Я все это высказал Липучке, а она вытаращила свои зеленые, как у нашего Паразита, глазищи и стала тыкать в меня пальцем:
— Ой, Сашка, посмотри на него! Не знает, как собственного дедушку зовут! А свое-то имя ты помнишь?
Саша, ухмыляясь, засовывал под кровать мой командировочный чемоданчик.
— Ну, накричалась?—насмешливо спросил он.— Теперь умного человека послушайте. Дедушку-то, ясное дело, Петром Алексеевичем зовут. Ты, Липучка, про это не знаешь, потому что только в прошлом году сюда приехала. А мы дедушку уже три года Антоном зовем: он у нас в школе однажды Антона Павловича Чехова изображал... Ну, в постановке одной. Мы «Каштанку» показывали. И еще «Хамелеона». А дедушка, значит, от имени Антона Павловича вел программу и на вопросы отвечал. С тех пор мы его и прозвали Антоном. Понятно?
— Понятно...— прошептала Липучка и так виновато взглянула на меня своими зелеными глазами, как наш Паразит после знаменитой истории с куриными котлетами.
— Айда на реку! — скомандовал Саша.
Запирая дверь, он шепнул мне:
— Вообще-то женщин во флот брать не полагается. Но уж приходится. А то ведь такой визг поднимет! Да и команды у нас не хватает.
— В какой флот? — не понял я.
— Там увидишь!..
У РЕКИ БЕЛОГОРКИ
Когда мы сбежали с холма на золотистый песчаный берег, Саша строго предупредил меня:
— Ты ей не верь. С виду она вон какая веселая, сверкает на солнышке, а на самом деле — хитрая и коварная...
Я с удивлением посмотрел на Липучку: она и вправду очень весело глядела на все вокруг, и рыжие волосы ее в самом деле сверкали на солнышке. «Неужели она хитрая и коварная?— подумал я.— Скажи пожалуйста! А на вид такая
247
приветливая. Хотя мама всегда говорит, что я плоха разбираюсь в людях».
Я глазел на Липучку с таким удивлением, что она спросила:
— Веснушки разглядываешь, да? Много, да? Очень?..
И стала тереть свои щеки, словно хотела уничтожить маленькие и очень симпатичные коричневые точечки.
— Да нет, он просто не понял,— усмехнулся Саша.— Думает, что я про тебя сказал — коварная и хитрая. Ты, ясное дело, тоже хитрая. Но только я про Белогорку говорил. В ней ямы на каждом шагу и воронки студеные... Ты, Шурка, плаваешь хорошо?
Я неопределенно пожал плечами. Это меня один мой товарищ в школе так научил: если, говорит, не хочешь сказать ни да, ни нет, то пожми плечами — все подумают, что хотел сказать «да», но только поскромничал. Липучка, и точно, приняла мой жест за утверждение.
— Ой! — обрадовалась она. — Значит, наперегонки плавать будем! До того берега и обратно. Идет?
Я опять неопределенно пожал плечами, потому что умел плавать только по-собачьи, а всякие там брассы и кроли еще не изучил: давно собирался, да все откладывал из года в год.
Река называлась Белогоркой потому, что в ней отражались и зеленый холм, и белые домики. Липучка даже говорила, что она свой домик в воде различает. Но Саша не верил и подшучивал над ней:
— А раскладушку свою, случайно, не разглядела? Или ты ее днем за шкаф прячешь?
Белогорка была довольно широкой и на вид очень безобидной рекой; она петляла между зелеными холмами, точно, убегая от кого-то, хотела замести свои следы. Над берегом нависла песчаная глыба ржавого цвета, словно огромная собака тянула к реке свою лохматую морду. А под глыбой (чтобы дождь не замочил) были аккуратно сложены причудливые ветвистые коряги, балки, доски и бревна разных цветов: белые — березовые, рыжие — сосновые, зеленовато-серые — осиновые. Тут же валялась старая калитка неопределенного цвета со сломанными перекладинами.
248
— Наш строительный материал! — гордо сообщил. Саша.— Будем флот строить.
— Значит, у нас будет не флот, а плот? — уточнил я.
Липучка снова захохотала:
— Опять в рифму сказал! Опять в рифму! — И стала приговаривать: — Не флот, а плот! Не плот, а флот!..
Чуть поодаль стоял зеленый шалаш, сложенный из хвойных и березовых ветвей.
— А это склад инструмента и сторожевая будка,— объяснил Саша.
Он осторожно, на цыпочках, подошел к шалашу, вытащил оттуда топор, молоток, баночку с гвоздями. Потом выволок из шалаша за передние лапы белого пушистого пса и стал всерьез упрекать его:
— Целый день дрыхнешь, да? Эх, Берген! Берген! В военное время с тобой бы знаешь что сделали?! Заснул на посту! Хорош сторож! Я все инструменты вытащил, а тебе —хоть бы хны.
Выслушав все это, пес сладко, с завываньицем зевнул, фыркнул, стряхнул с морды песок, а потом вскочил на лапы и принялся отважно лаять.
— Лучше поздно, чем никогда,— усмехнулся Саша.— Эх, Берген, только за старость тебя прощаю! Все-таки старость уважать надо. Да и артист ты уж больно талантливый!
Повернувшись ко мне, Саша объяснил:
— Он у нас в «Каштанке» главную роль исполнял. Да еще как! Три раза раскланиваться выходил.
— Как зовут собаку?—с удивлением спросил я.— Берген?
— Ой, правда хорошее имя? Это Саша придумал. Оригинальное имя, правда?—затараторила Липучка.
— А что это значит — Берген? — спросил я.— Уж лучше бы назвали просто Бобиком или Тузиком. А то Берген какой- то... Чуть ли не «гут морген»!
— Сам ты «гут морген»! — рассердился Саша.— Мы со смыслом назвали.
— С каким же смыслом?
— Не понимаешь, да? Эх, и медленно у тебя котелок варит! Какой породы собака?
249
— Шпиц,— уверенно ответил я, потому что эту породу нельзя было спутать ни с какой другой.
— Ясное дело, шпиц. А теперь произнеси в один прием название породы и имя. Что получится?
— Шпиц Берген... Шпиц Берген...
Да, видно, Саша, как и я, бредил путешествиями и дальними землями, если даже собаку в остров перекрестил.
Саша вытащил из шалаша большой фанерный ящик.
— А это что? — спросил я.
Он опять нахмурился:
— Не видишь, что ли? Ящик из-под сахара. Мы его к плоту прибьем — и получится капитанский мостик, с которого я буду вами командовать. Понял?
— Понял.
— Мог бы сам догадаться.
После этого мне, конечно, не очень-то хотелось задавать Саше новые вопросы. Но я все-таки не удержался и спросил:
— А куда мы поплывем? Куда-нибудь далеко-далеко? Я давно хотел...
И эти слова почему-то очень не понравились Саше.
— Ишь какой Христофор Колумб объявился! «Поплывем! Далеко-далеко»! Будем здесь, возле холма, курсировать—и все.
— У-у!..— разочарованно протянул я.— Это неинтересно. Я думал, будем путешествовать...
— Мало что неинтересно! Не могу я из города уехать. Понял?
— Почему не можешь?
— Не могу — и все. Тайна!
— Тайна? — шепотом переспросил я. Это слово я всегда произносил шепотом.— Здесь тайна?
— Да вот, представь себе. Здесь, в Белогорске.
— И ты из-за нее не можешь уехать?
— Не могу.
Я позавидовал Саше: у него была тайна! И, наверное, очень важная, если из-за нее он отказывался от дальнего путешествия. Чтобы я больше ничего не выведывал, Саша тут же заговорил о другом.
250
— Ты, Олимпиада, кормила Бергена? — с напускной строгостью спросил он.
Я помимо воли улыбнулся:
— Олимпиада!..
— Чего зубы скалишь? — разозлился Саша.— Ничего нет смешного. Пьесы Островского никогда не читал? У него там Олимпиады на каждом шагу.
— Я читал Островского. И даже в театре смотрел.
— Ой, ты небось каждый день в театр ходишь? — воскликнула Липучка, которая совсем не обиделась на меня.
— Не каждый день. Но часто..,
— Ты и в Большом был?
— Был.
— Ой, какой счастливый! Ты небось и книжки все на свете перечитал? У вас ведь там прямо на каждой улице библиотеки!
— Да... читаю, конечно...
Только-только я стал приходить в хорошее настроение, как Липучка все испортила:
— Ой, ты небось отличник, да?
И почему ей пришел в голову этот дурацкий вопрос? Я только и мог неопределенно пожать плечами.
— Я так и думала, что ты отличник!
А Саша все хмурился. «Наверное, хвастунишкой меня считает,— подумал я.— Но ведь я ничего определенного не сказал. Я только пожал плечами — и все. Это же Липучка раскричалась: «Отличник, отличник!» А почему я, в самом деле, должен срамиться и всем про свою двойку докладывать?»
— Ясное дело, у них там отличником быть ничего не стоит,—мрачно сказал Саша.— Все книжки перечитаешь, пьесы пересмотришь — и сразу все знать будешь. Даже в учебники лазить необязательно.
От Сашиных слов мне почему-то захотелось нагнуться и получше разглядеть камешки под ногами.
— Ну ладно,— сказал Саша.— Давайте плот строить.
Он объяснил, что мы скрепим все балки и бревна поперечными досками, перевьем их проволокой, приколотим ящик,
251
из которого он, Саша, будет нами командовать, и спустим плот на воду.
— Ты работать умеешь? — сердито, будто заранее сомневаясь, спросил Саша.
-— А чего тут уметь? Подумаешь, дело какое!
Тогда Саша приказал мне укоротить два березовых бревна, которые были гораздо длиннее других.
— Чтобы не выпирали,— объяснил он и принялся доламывать старую калитку, на доски ее разбирать.
Я взял топор, закинул его обеими руками за правое плечо и что было силы хватил по краю бревна. Но бревно от этого не укоротилось, а треснуло где-то посередине и раскололось.
— Эх, ты! — с презрением произнес Саша.— Разве это топором делают? А пила зачем? Целое бревно испортил!
Даже Липучка смотрела на меня так, что я понял: она не только восторгаться умеет и свое знаменитое «ой» по-разно- му произносить.
— Ой! — насмешливо сказала она.— Топор держать не умеет! Дрова, что ли, никогда не колол?
— А зачем ему колоть? — за меня ответил Саша.— У них там в квартирах и газ и паровое отопление... Что угодно для души! А еще кричал: «Путешествовать, путешествовать!» На экскурсии тебе ездить, а не путешествовать!
„Я ПРИЕХАЛ! ПРИЕХАЛ!"
Когда мы возвращались с реки, холм уже не был зеленым. Да и весь городок можно было назвать скорее не Белогорском, а Темногорском. Дорога показалась мне гораздо длиннее и круче, чем утром. Я подумал, что летние дни очень долгие и, раз уже успело стемнеть, значит, совсем поздно. Вдобавок ко всему у меня что-то перекатывалось в животе и неприятно посасывало под ложечкой.
За целый день я съел всего два немытых горьких огурца и кусок черствого черного хлеба. Все это хранилось у Саши в зеленом шалаше. Один раз Саша сбегал в город и принес
т
оттуда миску горячего супа, но отдал ее шпицу Бергену. А нам с Липучкой он не дал супа, потому что мы, по его словам, должны были тренировать свои желудки и закаляться, как будущие моряки.
— Ну да, «закаляться»! —ныл я, с завистью поглядывая на шпица Бергена, который шумно лакал из миски дымный, пахучий суп.— Если бы далеко поплыли, тогда другое дело! А то здесь, поблизости, будем крутиться. Зачем же нам закалка?
«Сам небось наелся в свое удовольствие, когда шпицу за едой бегал!» — так я со злости думал о Саше, поднимаясь на холм и от голода чувствуя слабость в ногах. Что бы сказала мама, если б узнала про сегодняшний день! Ведь она сколько раз повторяла: «Ты должен поправиться, ты должен поправиться! И ешь в одни и те же часы — это самое важное!» Слушая мамины слова, я только усмехался, а вот сейчас я почувствовал, что есть вовремя — это, может быть, и не самое важное дело, но, во всяком случае, очень существенное.
Вспомнив о маме, я с ужасом вспомнил и о том, что до сих пор не послал телеграмму. А ведь мама перед отъездом говорила: «Прежде всего дай телеграмму. Прежде всего! А то мы все здесь с ума сойдем. Помни, что у бабушки больное сердце!»
«Наверное, все уже давно сошли с ума!» — подумал я и помчался на почту.
В Белогорске все было очень близко, и почта тоже была совсем рядом с дедушкиным домом.
Полукруглые окошки на почте были уже закрыты фанерными дощечками, и только одно светилось: там принимали телеграммы. Возле окошка с бланками в руках стояло несколько человек.
Я еще ни разу в жизни не посылал телеграмм, но знал, что настоящая телеграмма должна быть очень короткой. «Это хорошо,— подумал я,— меньше ошибок насажаю». К тому же у меня болел средний палец: от пилы на нем выскочил беленький, точно резиновый, пузырь.
Текст телеграммы я придумал сразу: «Приехал поправляюсь Шура». Как будто коротко и ясно? Но оказалось,
253
что не так уж ясно. Два вопроса сразу стали мучить меня: «приехал» или «преехал», «поправляюсь» или «паправляюсь»? Я старался изменить телеграмму, чтобы в ней не было ни одной безударной гласной. Но у меня ничего не выходило. Боясь, чтобы телеграфистка, как Андрей Никитич, не влепила мне двойку, я прибегнул к своему старому, испытанному способу: написал сомнительные буквы так, чтобы не было понятно: «е» это или «и», «а» или «о».
В последнюю минуту я вдруг вспомнил, что ведь мама никогда не называла меня Шурой. Зачеркнул «Шура» и написал «Саша». И как это меня за один день так приучили к новому имени?!
У окошка остались только двое. Передо мной стоял человек в белой соломенной шляпе. Спина его, и без того немного сутулая, совсем сгорбилась, наклоняясь к окошку.
За стеклянной перегородкой сидела старая телеграфистка со сморщенным лицом. На кончике ее носа умещались сразу двое очков. Но глядела она поверх облезлой коричневой оправы, и я не мог понять, зачем же она так отягощает свой нос. Каждую телеграмму телеграфистка негромко прочитывала вслух и делала это с таким сердитым видом, будто написавший телеграмму лично перед ней в чем-то провинился. Но, увидев человека в соломенной шляпе, она приподнялась, просунула сквозь окошко руку, испачканную лиловыми чернилами, и поздоровалась.
— Наша Ляленька совсем забыла про ангины,— сказала она.— Не знаю уж, как вас благодарить!
— А вот примите телеграмму и отправьте поскорее. Это, вообразите, очень важно,— ответил человек в соломенной шляпе. Голос у него был хрипловатый, но очень добрый и участливый. Таким вот голосом врачи спрашивают: «Как ваше самочувствие? На что жалуетесь?»
Телеграфистка осторожно, одними пальцами, точно драгоценность какую-нибудь, взяла бланк и стала шептать: «Москва, Ордынка...»
«Моя улица!» — чуть было не крикнул я. И мне вдруг показалось, что я уехал из Москвы давным-давно, хотя на самом деле это была только позавчера.
254
Телеграфистка долго не могла разобрать номер дома. Но не спрашивала, боясь лишний раз побеспокоить человека в соломенной шляпе. Наконец она зашептала дальше: «Дом шестнадцать, квартира семь...»
Я замер.
— «Почему не приехал Саша? — шептала телеграфистка.— Волнуюсь, молнируй. Папа».
Я, как говорится, потерял дар речи. Папа? Здесь мой папа? Но тут же я понял, что это не мой папа, а папа моей мамы, стало быть, мой дедушка! Телеграфистка уже начала подчеркивать слова в телеграмме, но я остановил ее:
255
— Постойте! Постойте! Я приехал! Приехал! Честное слово, приехал!
Я увидел, как дрогнула соломенная шляпа. Человек обернулся — ия, отступив на шаг, тихо сказал:
— Дедушка...
Он и правда был похож на Антона Павловича Чехова: русая курчавая бородка, такие же усы, пенсне на цепочке. Только выглядел он гораздо старше Антона Павловича, потому что, Чехов, к сожалению, не дожил до его лет. Сквозь пенсне смотрели добрые и чуть-чуть лукавые глаза.
Я видел дедушку очень давно, когда в школу еще не ходил. Дома у нас висела его фотография. Но там он был совсем молодой, моложе, чем сейчас мой папа.
Дедушка гладил меня по голове и разглядывал, как бы желая удостовериться, я это или не я.
—• Саша? Приехал, а?.. Слава богу, слава) богу! А то уж тут совсем голову потеряли...
Дедушка подошел к окну, высунулся на улицу и негромко позвал:
— Клавдия Архиповна! Он здесь! Приехал, вообразите!
Сразу с шумом распахнулась дверь, и вошла высокая, худощавая женщина в фартуке. Я узнал Сашину бабушку. Она с грозным видом оглядела меня и, точь-в-точь как Саша сегодня утром, спросила:
— Приехал?
Потом выждала немного и своим грубоватым, мужским голосом задала новый вопрос:
— Заявился, значит? Пожаловал! А где же целый день околачивался?
— Мы, тетя Кланя, на реке были....— стал робко оправдываться я.
И тут лицо Клавдии Архиповны преобразилось. Глаза ее подобрели и стали такими теплыми, словно она вспомнила что-то далекое и очень приятное.
— Как?.. Как ты сказал? «Тетя Кланя»! Да ведь это его Маришка научила! Маришка! Значит, не забыла меня? Она одна меня только так и величала. На всем белом свете она одна! А больше никто...
255
Я понял, что Маришкой она называла мою маму.
Клавдия Архиповна стала разглядывать меня уже не с таким грозным видом.
— А Маришка-то в его годы покрепче была. Да, покрепче. Ишь бледный какой, ровно уксус глотает, И взгляд пугливый. Маришка-то наша посмелее была.
Телеграфистка, должно быть, ко всему привыкла: сколько чужих радостей и печалей проходило каждый день через ее окошко! И все-таки она привстала, облокотилась на столик и тоже с интересом разглядывала меня.
— Маринин сынок? — недоверчиво спросила она.— Такой большой? Эх, и летят же годы! Помню, как она сама до окошка моего не дотягивалась...
Телеграфистка тяжело опустилась на стул, стащила с носа двое очков и мечтательно запрокинула голову: молодость свою вспомнила.
Тетя Кланя была права — должно* быть, у меня и правда был испуганный взгляд: разве приятно, когда тебя с ног до головы, как экспонат какой-нибудь, разглядывают?
Дедушка послал маме телеграмму о моем благополучном приезде, и мы отправились домой.
Уже у самого дома тетя Кланя сказала:
■— А Сашке моему я сегодня нащелкаю по затылку. Это все его проделки.
— Пощадите его, Клавдия Архиповна!—заступился дедушка.— Я уже совсем успокоился, вообразите.
— Нет, не уговаривайте меня, Петр Алексеич. Не успокаивайте,— сказала тетя Кланя таким мирным тоном, что я понял: она сама успокоилась и Саше ничего не грозит.
У дедушки в комнате на самом видном месте, в рамке под стеклом, висела похвальная грамота, которую моя мама получила в десятом классе.
— Я еще много грамот храню,— сказал дедушка.— Все-то не вывесишь. Марина, вообрази, в каждом классе награды получала. Только в пятом не получила. И, кажется, еще в седьмом. Потому что болела. А?
Я, конечно, был очень рад за свою маму, был очень доволен, что она всегда так хорошо училась, но настроение у меня
257
все же испортилось. Я сразу решил, что буду писать диктанты без всякой дедушкиной помощи. И вообще ни слова не скажу ему о своей двойке, ни слова!
Дедушка задавал мне много разных вопросов, а я подробно рассказывал ему про здоровье мамы, и папы, и папиной мамы, то есть моей бабушки... А потом я поскорей лег в по* стель, пока дедушка не добрался до моего собственного здоровья и до моих отметок.
Но заснул я не скоро. Я думал о своих занятиях. И еще я завидовал Саше: у него есть тайна! И какое-то очень важное, таинственное дело! А вот у меня, кроме переэкзаменовки, никаких таинственных дел не было.
Потом я с грустью подумал о том, что за весь день не сделал ни одного упражнения, не написал ни одной строчки диктанта и не выучил ни единого правила. Я быстро произвел в голове кое-какие перерасчеты и пришел к выводу, что теперь мне нужно будет заниматься не три часа в день, как я думал утром, а три часа и десять минут.
„НО В ТО ЖЕ ВРЕМЯ.
Странно бывает просыпаться на новом месте. Сперва, в самый первый миг, не можешь понять, где ты и что с тобой. Потом, конечно, вспоминаешь — и становится как-то грустно, одиноко.
Просыпаясь дома, я всегда видел в окне молодое деревце неизвестной породы. По крайней мере, никто из мальчишек в нашем дворе не знал, как оно называется.
Осенью, в дождливые дни, деревце прижималось к окну своими голыми ветками, такими нйточно-тонкими, что их можно было принять за трещины на стекле.
А весной деревце покрывалось зелеными, похожими на сердечко листиками.
Дальше, за деревцем, за двором, я привык видеть недостроенный дом с пустыми, незастекленными окнами — весь в деревянных лесах. Мне казалось, что дом этот строится всю мою жизнь. Его и правда начали поднимать много лет назад,
258
а потом почему-то бросили. Об этом даже в газете статья была.
А в это утро передо мной было не окно, а белая стена, увешанная разными замысловатыми полочками и деревянными фигурками животных, как будто здесь устроили выставку нашего школьного кружка «Умелые руки».
Все это была дедушкина работа.
— Ас лобзиком — преотличнейший отдых,— еще накануне вечером объяснил мне дедушка.— Руки работают, а нервы спят.
Окно было сзади, над головой. Мама никогда не разрешала так спать, говорила, что в голову надует. А вот дедушка (доктор!) сам предложил поставить раскладушку возле окна.
— Преотличнейшая будет вентиляция! — уверял он.
Дедушкина кровать была уже застелена. «Неужели так
рано ушел на работу?» — подумал я. Но тут же заметил висевшую на стуле самодельную палку, на которой были выжжены при помощи увеличительного стекла разные причудливые узоры. Часы показывали семь утра. Это были самые обыкновенные ходики. Но дедушка вставил их в красивую резную оправу из дерева, тоже самодельную, так что виден был один только циферблат.
Мне показалось, что кто-то за моей спиной, крадучись, с тихим шорохом лезет в окно. Я быстро вскочил и увидел, как загорелая рука положила на подоконник две газеты и письмо. Газеты «Правда» и «Медицинский работник» были вчерашние. Я взглянул на письмо и тут же узнал крупный, аккуратный и разборчивый, как у девчонок-отличниц, мамин почерк. Письмо было адресовано Саше Петрову, то есть лично мне. Я хотел разорвать конверт, но тут послышался голос дедушки:
— Подожди, подожди! Давай марку исследуем.
Дедушка стоял на пороге по пояс голый и растирался мохнатым полотенцем.
Несколько минут он произносил одно только слово: «Хор- ро-шо-о! Хор-ро-шо-о!» Потом надел пенсне, взял у меня конверт и стал разглядывать марку.
— Да, ничего нет лучше утреннего обтирания. Так-с...—
259
Он артистически ловко отделил марку от конверта.— Вообрази, все зубчики уцелели, все до одного! Плотина Днепрогэса! У меня еще не было такого экземпляра.
С виду дедушка Антон был старик как старик (палка, пенсне, жилет с цепочкой), но в то же время в нем было много молодого, мальчишеского: он собирал марки, обтирался холодной водой, выжигал и выпиливал по дереву. На полке стояли самодельные шахматы (тоже дедушкиной работы), в которые, как предупредил дедушка, мы обязательно будем играть, «потому что шахматы — преотличнейшая гимнастика для человеческих мозгов». Спал дедушка на узкой деревянной кровати и укрывался одной только простыней.
Пока дедушка одевался, я читал вслух мамино письмо.
— «Дорогой Саша!—писала мама.— Как только мы с бабушкой вернулись с вокзала, так сразу я села писать письмо. Ведь я забыла предупредить тебя о том, что Белогорка — очень опасная река. Там много ям и воронок. Так что, прошу тебя, не уходи далеко от берега...»
— А ты что, плаваешь плохо? — спросил дедушка.
260
— Да нет... Просто мама боится.
— «Боится»! — Он покачал головой.— Сама-то, поди, Бе- логорку нашу по десять раз переплывала. Забыла, что ли, как девчонкой была?
Я стал читать дальше и убедился, что мама решила вконец опозорить меня перед дедушкой.
— «Кушай в одно и то же время! — писала она.— Это самое важное. И ни в коем случае не пей воду из колодца!..»
Дедушка в это время сидел на кровати и, покрякивая, натягивал ботинок. Он так и застыл, пригнувшись всем телом к вытянутой ноге.
— Кушать в одно и то же время — весьма полезно. Присоединяюсь! Но в чем же, скажи на милость, колодезная вода проштрафилась? Преотличнейшая вода! Как врач рекомендую и даже прописываю! —- И, продолжая натягивать ботинок, он проворчал: — Сама-то всегда к колодцу бегала! И никогда, слава богу, не болела.
Но самое неприятное в мамином письме было дальше.
— «Ты, Сашенька, гуляй, играй с товарищами,— писала мама.— Но в то же время...» — На этой фразе я споткнулся и замолчал: дальше мама писала о моей переэкзаменовке и о том, как упорно я должен пыхтеть над учебниками.
— Что там «но в то же время»? — спросил дедушка, надевая жилет.— Разобрать не можешь? У Марины ведь, кажется, каллиграфический почерк. Не скажешь даже, что докторская дочка.
— А у докторов разве плохие почерка? — спросил я с наигранным интересом, лихорадочно соображая, что же делать дальше.
— У докторов почерки прескверные: пишут истории болезни, рецепты — торопятся. Вот и выходят каракули. Дай-ка я тебе помогу разобрать.
— Да нет, уже все понял,— остановил я дедушку. И стал горячо, прямо-таки вдохновенно сочинять: — «Но в то же время ты, Саша, должен заботиться о своем дедушке! Ты должен во всем помогать ему. Не забывай, что он уже старик...»
— Что, что? — насторожился дедушка и даже палкой СЛег¬
261
ка пристукнул.— Так прямо и написано: «старик»? Дай-ка я посмотрю!
— Нет, нет, ошибся!—вновь остановил я дедушку.— Тут написано не «старик», а «привык»... Значит, так: «Не забывай, что он уже привык жить один, и поэтому не утомляй его, не шуми, не надоедай!»
Для правдоподобности я закончил письмо так, как закончила его сама мама:
— «Целую тебя, Сашенька. Поцелуй и дедушку. Я ничего не написала ему и о нем, потому что думаю послать ему завтра отдельное письмо...»
— Как же — ничего не написала? — удивился дедушка.— Ты ведь только что читал...
— Забыла, наверно,— предположил я.— Просто забыла.
И поскорей сунул письмо под подушку.
Дедушка покачал головой и недовольно подергал цепочку от пенсне:
— Да, память, поди, прескверная стала. Ей бы самой приехать сюда. Отдохнуть от шума, от города...
Дедушкина палка бойко пересчитала ступеньки крыльца и, прикоснувшись к земле, как бы потеряла голос.
Я остался в комнате один. И сразу, подгоняемый маминым письмом, решил сесть заниматься. Чтобы убедить самого себя, что заниматься я буду очень серьезно, я разложил на столе сразу две тетради, учебник грамматики и томик Гоголя. Я решил тренироваться на гоголевских текстах, чтобы было одновременно и полезно и весело. К тому же учительница говорила нам, что у Гоголя попадаются фразы, очень трудные для двоечников.
«Возьмусь за самое трудное! И просижу сегодня ровно три часа десять минут. Ни за что на свете не нарушу графика!»— так мысленно поклялся я сам себе. И в ту же секунду услышал пронзительный крик:
— Ой, пираты! Пираты! Пираты напали!
ПИРАТЫ
По ступенькам застучали голые пятки. Пока Липучка появилась в дверях, я успел накрыть тетради и книжки скатертью и запустить глаза в потолок. Распахнув дверь, Липучка взглянула на меня так, словно кругом бушевал пожар, а я сидел себе преспокойно, не замечая никакой опасности.
— Ой, сидит! Ручки скрестил, мечтает! А там пираты напали! Шалаш растаскивают. Бежим скорей! Где дедушкина палка?
— Где палка? — заволновался я, вскакивая со стула.— Она в больнице... То есть дедушка в больнице.
— Ой, плохо! А то бы мы их палкой по шляпам!
— По каким шляпам?
— Там увидишь. Бежим!
Саша был уже во дворе. Между нашим и Сашиным крыльцом на веревке белым накрахмаленным занавесом было развешано белье. Саша приказал Липучке снять белье и отнести его в комнату.
— Сделаем из веревки лассо,— крикнул он,— и накинем на них, если будут сопротивляться! Как у Майн Рида!
Мы отвязали от столбов веревку. Саша ловко, в два приема, сделал на конце петлю и покрутил ею в воздухе. Потом он спрятал «лассо» под рубашку, и мы помчались с холма вниз, к реке. Подбежав к берегу, мы спрятались в кустах и стали наблюдать.
Пиратов было двое. Вместо черных пиратских флагов они держали в руках белые панамы и зловеще обмахивались ими. Оба они были в красных купальных костюмах и с зелеными листочками на носах. Но только один пират был толстый-пре- толстый, а другой — щуплый и худенький.
Пиратская база, в виде теплого зимнего одеяла и разных баночек-скляночек на нем, расположилась вблизи от нашего шалаша. Тут же лежали снятые с него зеленые ветки. Обмахнувшись панамами, пираты как ни в чем не бывало стали продолжать свое разбойничье дело. Отдирая широкую хвойную ветку, толстый пират или, вернее, пиратка произнесла:
— Не лезь, Веник, ты занозишь руки иголками! Я все сде-
263
лаю сама. У нас будет очаровательный тент. Мы спрячемся под ним от солнца. А то может быть солнечный удар!
— Я их знаю,— еле-еле, сквозь смех, выговорил я.— Это же дикари! Самые настоящие дикари!..
— Ясное дело, дикари, раз в чужой дом залезли,— угрюмо согласился Саша.— Мы строили, а они ломают... Сейчас вот на этого бегемота в панаме накину лассо!
Но заарканить Ангелину Семеновну Саша не успел... В стане пиратов вдруг поднялось страшное смятение. Веник хотел залезть внутрь шалаша и, видно, наступил на лапу спавшему гам шпицу Бергену. Старый пес вскочил, взвизгнул и спросонья тяпнул Веника за ногу.
Что тут началось!
— Покажи мне ногу! Покажи маме ногу!—завопила Ангелина Семеновна.
А разглядев ногу Веника, она завопила еще сильнее:
— Боже мой! Это бешеная собака! Видишь, она все время отворачивается от реки, она боится воды! Она боится воды! Она бешеная!..
— Сама бешеная, а нашего Бергена оскорбляет! — проворчал Саша.-—Молодец, что тяпнул: не будут чужие вещи таскать!
264
Ангелина Семеновна вдруг замахнулась чем-то —мы не разглядели, чем именно,— и шпиц жалобно взвизгнул.
— Ну, вот видишь! — закричала Ангелина Семеновна.— Я проверила! Она, конечно, боится воды! Слышишь, как визжит?
Пиратка сгребла свое ватное одеяло, баночки и скляночки с едой и, крикнув Венику: «За мной! В больницу!» — стала карабкаться на холм. Впопыхах она даже не надела платья, а так и полезла в своем красном купальном костюме.
— Ей бы гладиаторшей в цирке работать. Быков пугать!— насмешливо сказал Саша.
А Липучка ничего не могла произнести: она беззвучно хохотала, тряся плечами и хватаясь за живот.
Как только мы вылезли из своего укрытия, шпиц Берген с визгом бросился к нам навстречу.
— Ой! — вскрикнула Липучка.— Они его поранили!
И правда, вся морда у пса была в крови; кровь, стекая по длинной белой шерсти, капала на камешки. Сашино лицо вдруг побледнело и стало таким злым, что я даже испугался. Глаза сузились и стали похожи на металлические полоски, а губы сжались еще плотней.
— Догоню их сейчас и сдам, как самых настоящих разбойников, в милицию,— процедил он. Опустился на колени и стал разглядывать раненого пса. Постепенно Сашины губы сами собой разжались и стали растягиваться в улыбку. Он поймал на ладонь одну красную каплю и слизнул ее.
— Ой, что ты делаешь? — изумилась Липучка.
— Морс пробую... Клюквенный морс! Главная пиратка облила его морсом, чтобы проверить, боится ли он воды. Понятно?
Липучка опять стала трясти плечами и хвататься за живот. Потом она потащила пса в реку умываться.
— Ну, не упрямься, не упрямься, пожалуйста. Ты вел себя как настоящий герой: один сражался с двумя дикарями. И обратил их в бегство. А мыться боишься. Ну, не упрямься! — приговаривала она.
Мы с Сашей стали ремонтировать шалаш, в котором появились просветы, словно длинные неровные окна.
265
— Хорошо еще, что плот наш по бревнышкам не растащили,— ворчал Саша.— Для «тента» своего... Чтобы от солнца прятаться! Кто же это из нормальных людей от солнца прячется?
Мы водворили колючие хвойные и шершавые лиственные ветки на их прежние места, заделали все просветы.
— Сейчас будем плот на воду спускать,— объявил Саша.
Наступила торжественная минута. Мы с трех сторон уцепились за бревна и поволокли плот к реке. Он упирался, цеплялся сучками за камни. Но мы все тащили, тащили — и вдруг плот стал легким, невесомым, он сам потащил нас за собой.
— Ур-ра! Поплыл! Поплыл! — завизжала Липучка.— Ур- ра! — И первая полезла на плот.
Мы с Сашей тоже полезли, и разноцветная, сколоченная из разных бревен «палуба» заходила ходуном.
Мама всегда говорит, что у меня очень богатое воображение. Вот, например, я могу себе представить, что троллейбусы, сгрудившиеся на конечной остановке,— это стадо каких-то огромных животных с длинными и прямыми рогами, пришедших на водопой. А однажды, когда мы с мамой зашли в посудный магазин, я представил себе, что разнокалиберные чайники, стоявшие на полке,— это одна большая семья: самый высокий, тощий чайник или, вернее сказать, кофейник — это сухопарый, подтянутый папа; самый толстый, в красных кружочках,— это расфуфыренная мама; а маленькие разноцветные чайнички — их многочисленные детишки. Помню, мама тогда сказала:
«С твоим воображением можно стать писателем. Но сейчас ты, к сожалению, можешь издать лишь «Полное собрание орфографических ошибок».
Так или иначе, но воображение у меня было очень богатое. И вот, впервые забравшись на плот, я на минуту прищурил глаза и представил себе, что переливчатая, чешуйчато-золотистая под солнцем вода — это вода океана, притихшего и вино-» вато вздыхающего после бури. Наш плот — это все, что осталось от гигантского корабля, потерпевшего кораблекрушение. Зеленый холм — это вулкан, который в любую минуту и без всякого предупреждения может начать извергаться. А на¬
266
встречу нам плывет неминуемая гибель в виде белого айсберга, с которым мы вот-вот должны столкнуться. Айсбергом мне почудился белый шпиц Берген, который не пожелал остаться без нас на полуострове, отважно пустился вплавь и догнал плот. Правда, шпиц, плывущий по реке, больше напоминал не грозную гору, а чудом уцелевшую в ясный, солнечный день льдинку, покрытую снегом.
Липучка втащила пса на борт нашего «корабля».
— Примем и его в нашу команду, раз людей не хватает,— сказал Саша.
Он забрался в ящик из-под рафинада, то есть на капитанский мостик, и отдал первое распоряжение:
— Ты, Шурка, будешь помощником капитана, боцманом и рулевым. Бери шест и слушай мою команду! Липучка будет доктором и коком. А кто у нас будет просто матросом? Ведь должны быть на корабле рядовые матросы? Ясное дело, должны.
Вдруг Саша вытянул руку и указал на холм, к вершине которого карабкались две смешные фигурки в белых панамах, словно два живых гриба: один на толстой ножке, а другой — на тонкой.
— А если нам этого... худенького пирата матросом сделать?
Я не поверил своим ушам:
— Веника? Матросом? Да его мамаша от своей юбки ни на шаг не отпустит!
— Не отпустит? А мы его похитим,— совершенно серьезно сказал Саша.
— Как это — похитим?
— Придумаю как. Мамаша и не заметит. Понятно?
— Да стоит ли из-за него руки марать?—усомнился я.— «Похищать»! Что он, восточная красавица, что ли? Без него обойдемся. Разве у тебя нет хороших товарищей?
— Товарищей у меня побольше твоего. Да они все в туристический поход уплыли...
— Уплыли? Вот видишь! И нам бы тоже! Почему ты с ними не уплыл?
Саша хмуро взглянул на меня:;
267
— Не мог. Дело у меня есть*
— Тайна, да?
Саша утвердительна кивнул головой:
— Тайна.
«Будет ли такой счастливый день, когда я узнаю его замечательную тайну?—подумал я.— Доверит ли он мне?..»
Потом Саша сложил руки трубочками, приставил эти трубочки, как бинокль, к глазам и скомандовал:
— Полный вперед!
Я погрузил свой длинный шест в воду, достал до дна и что было сил оттолкнулся —наш плот рывком прибавил скорость.
ЧИСТЫЕ ПРОМОКАШКИ
Шли дни, а розовые промокашки в моих новеньких тетрадях оставались незапятнанными. Мне нечего было промокать, потому что я ничего не писал. За это время мама успела прислать еще два письма: одно дедушке и одно мне. Жалея дедушкины глаза, я оба письма прочитал вслух, а потом быстро разорвал их и развеял по ветру.
В каждом из этих писем мама беспокоилась о моем здоровье, она советовала мне побольше дышать свежим воздухом и вовремя принимать пищу. И в обоих письмах, где-то в конце страницы — казалось, совсем другим, зловещим, не маминым почерком,— было написано: «Но в то же время...» И дальше мама напоминала о моей переэкзаменовке.
Тут я спотыкался и начинал выдумывать. «Но в то же время Саша не должен забывать и о духовной пище: побольше читать разных интересных книжек и главное — почаще ходить в кино!» — так сочинял я, читая письмо, адресованное дедушке. А сочинив про кино, я подумал, что каждый раз, читая мамины письма, смогу придумывать что-нибудь выгодное для себя, И в следующий раз, дойдя до слов: «Но в то же время...», я сочинил вот что: «Но в то же время ты, Саша, ни в коем случае не должен расти маменькиным сынком. Купайся в реке, сколько тебе будет угодно! И на солнце можешь лежать хоть целый день. Спать ложиться вовремя совсем не обязательно,
268.
можно лечь и попозже *— ничего тебе не сделается! Да и насчет пищи я тоже передумала: можешь принимать ее в любое время...»
Кажется, я перестарался, потому что дедушка поправил пенсне на носу, будто желая получше разглядеть мое лицо.
— Так-с,— задумчиво произнес он.— Маменькиных сынков мы еще в гимназии били. И сейчас терпеть их не могу. Но вот относительно питания и солнечных ванн Марина, кажется, переборщила. А вообще-то преотличнейшая вещь — расти на свободе!
Потом мама еще присылала письма. Несколько раз их читал дедушка. Но, к моему счастью, мама больше о переэкзаменовке не писала. Решила, что я наконец запомнил ее советы и занимаюсь вовсю.
Я и в самоТи деле каждое утро раскладывал на столе свои учебники и тетради, самодельную деревянную чернильницу и самодельную резную ручку дедушкиной работы. Но розовые промокашки так и оставались Чистыми, потому что тут же раздавался стук в дверь. Приходили дедушкины пациенты. Одним он просил передать рецепты, другим — устные советы. А так как все больные в городе с детства привыкли лечиться только у дедушки, верили только ему и называли его «профессором», дверь не переставала открываться и закрываться, как в самой настоящей поликлинике.
Приходили даже больные с Хвостика. Хвостиком называли окраину города, которая была за рекой и вытянулась в узкую, длинную ленту из белых домиков. В обход, через мост, до Хвостика нужно было добираться часа полтора. А по реке, говорили, гораздо быстрей.
Некоторые пациенты просили дедушку зайти вечером к ним домой, «если он, конечно, не очень устанет». Они прекрасно знали, что дедушка все равно зайдет, как бы он ни устал. А не устать он не мог.
Как только раздавались шаги, я поспешно прятал под скатерть все, что могло уличить меня. Ведь каждый раз я ожидал увидеть, в дверях Сашу и Липучку, а для них я был «очень культурным, очень образованным и очень грамотным москвичом», Когда же наконец у меня лопалось терпение и я тверщ
269
решал оставить скатерть в покое, в дверях действительно появлялись мои новые друзья. Прятать улики было уже поздно, и я попросту спихивал их под стол. От этого учебники мои несколько поистрепались и стали какими-то «раздетыми», то есть выскочили из обложек.
Иногда мне вдруг чудились тяжелые шаги Андрея Никитича. Он ведь обещал «как-нибудь нагрянуть в гости». Но он не приходил. «Наверное, презирает меня! Смеется!» — с досадой думал я, вспоминая про двойку с ехидной закорючкой на конце.
Каждую ночь, ложась в постель, я делал сложные перерасчеты и заново составлял график своих занятий. Получалось, что я должен заниматься каждый день по три с половиной часа, потом по четыре часа, по четыре с половиной... Цифры все росли и росли. Когда наконец дело дошло до пяти часов, я сказал себе: «Хватит! Этак в конце концов получится, что я должен заниматься двадцать пять часов в сутки! Завтра уж меня никто не спугнет!»
И снова меня спугнула Липучка. Она всегда очень оригинально входила в комнату: стукнет — и тут же войдет, не дожидаясь, пока я скажу: «Можно» или «Кто там?». Непонятно даже, для чего она стучалась. Я еле-еле успевал сбрасывать под стол учебники и тетради. Так было и на этот раз.
Но на пороге Липучка очень долго переминалась. Ясно было, что она хочет о чем-то спросить меня или попросить.
Липучка была вся какая-то разноцветная: волосы — рыжие, лицо —красное от смущения, сарафан — неопределенного, выгоревшего цвета, ноги — сверху бронзовые, а внизу серые от пыли, будто нарочно присыпанные порошком.
— Ой, не знаю прямо, с чего начать,— выговорила наконец Липучка.
— А ты начни с самого начала,— посоветовал я.
Набравшись смелости, она начала:
— Ой, Шура, ты должен мне помочь! Заявление одно составить... Очень важное! В горсовет. Понимаешь?
Я покачал головой: дескать, пока ничего не понимаю.
— Ну, в общем, дело такое,— стала объяснять она.— От станции до нашего города—довольно далеко. Да еще дорога
270
в гору... А автобуса нет. Хоть на себе вещи волоки!.. Надо, чтобы автобус ходил.
— А чего ты об этом беспокоишься? — удивился я.
Липучка стала тыкать в меня пальцем, как в чудо какое-
нибудь:
— Вот смешно! Не понимает! Люди ведь с вещами приезжают, а автобуса нет. Ну вот, значит, разные...— Тут она замялась, подыскивая подходящее слово.— Ну, в общем, разные несознательные люди всем этим пользуются. На государственных телегах возят приезжих, а денежки себе в карман кладут.
И снова я подумал: «Нет, Липучка не только «ойкать» умеет!»
— Надо написать про все это,— решительно продолжала она.—Только я сама не смогу: не умею я заявление писать. А ты лучше напишешь! Так что сразу резолюцию красным карандашом поставят. Знаешь, в левом уголке...
«Да, поставят резолюцию красным карандашом! — подумал я.— Двойку с ехидной закорючкой поставят, как Андрей Никитич. До чего же это неприятное дело — быть двоечником! И еще зачем-то, как дурак, пожимал плечами. Рассказал бы честно про двойку, а то вот выкручивайся теперь!»
Но вздыхать было поздно, и я выкрутился.
— Помочь — это можно,— сказал я.— Только у меня очень плохой почерк, ты ничего не разберешь. Я сам иногда не разбираю.
— Ой, это ничего! — успокоила Липучка.— Ты мне продиктуй, ладно? А я запишу.
Это был выход из положения.
— Хорошо, я буду диктовать, а ты пиши,— согласился я.
Чернила и ручка были на столе, словно поджидали Липучку.
Сочинять мне было не впервой: натренировался уже, читая мамины письма. Кроме того, одна наша соседка в Москве очень любила сочинять всякие жалобы и собирать под ними подписи жильцов: то ванна протекает, то кто-то из соседей долго разговаривает по телефону. Прежде чем собирать подписи, соседка читала свои заявления вслух на кухне. Каж¬
271
дую жалобу она начинала словами: «Нельзя без чувства глубокого гражданского возмущения писать о том...» И я начал диктовать Липучке:
— Нельзя без чувства глубокого гражданского возмущения писать о том, что между городом и станцией нет автобусного сообщения...
Потом я вспомнил, что соседка наша обязательно употребляла такие выражения: «используя свое служебное положение», «некоторые личности», «не пора ли». Я продиктовал Липучке:
— Используя свое служебное положение, некоторые личности перевозят приезжих за деньги на государственных телегах. Не пора ли покончить с этим?..
И еще мне вспомнилось, что каждую жалобу соседка наша кончала угрозой: если, мол, не примете мер, то буду жаловаться выше. И я продиктовал:
— Если автобуса не будет, мы напишем жалобу в Москву!..— А потом посоветовал Липучке:—Теперь собери подписи; Побольше подписей... И все будет в порядке.
— Ой, как коротко получилось!— воскликнула Липучка, разглядывая тетрадный лист, который остался почти чистым.
— Это хорошо, что коротко,— объяснил я.— Длинное заявление могут не дочитать до конца. Понимаешь?
— Понимаю. Ой, ты очень здорово продиктовал! Прямо как взрослые пишут в самых настоящих заявлениях!
Липучка аккуратно свернула лист в трубочку, а я скромно развел руками — дескать, что уж тут особенного: написать заявление — это для меня раз плюнуть.
Липучка хотела сразу бежать в горсовет, но я остановил ее.
— А подписи?
— Ой, их собирать очень долго.
Мне в голову сразу пришла идея:
— Не надо собирать. Напиши внизу так: «Белогорские пионеры, всего три тысячи подписей».
— Что ты, что ты! Три тысячи! У нас и с грудными младенцами столько ребят не наберется.
— Тогда напиши: «Всего двести подписей». И дело с концом.
272
— Ой, разве можно? Ведь это неправда!
— Для хорошего дела всегда соврать можно,— успокоил я Липучку.
Она снова уселась за стол. Но тут мы услышали, что кто- то лезет в окно.
ПОХИЩЕНИЕ
Саша поудобнее устроился, укрепил свои локти на подоконнике и обвел нас презрительным взглядом, как бы говоря: «Ерундой всякой занимаетесь, а я между тем...»
— Ой, что-нибудь случилось? — вскрикнула Липучка.
— Случилось,— преспокойно ответил Саша.— Приготовьтесь — сейчас комнату подметать буду.
Подметать комнату? Рехнулся он, что ли? Мы с Липучкой растерянно переглянулись.
— Чего глаза таращите? — Саша подтянулся на руках, вскарабкался на подоконник и спрыгнул на пол.— Веник со мной. Понятно?
— Ой, похитил? — Липучка, как всегда в минуты восторга, хлопнула в ладоши, так что даже помяла свое заявление, И, прижав руки к груди, затаила дыхание.
Саша обшарил глазами стены.
— У тебя йод есть? — спросил он у меня.— Что-то я аптечки не вижу.
— Не знаю... Есть, наверно. А зачем тебе йод?
— Ой, ты небось поранил его, когда у мамаши отбивал, да?—догадалась Липучка.— Лассо накинул, да?
— Что я, бандит какой-нибудь? Это я с пиратами хотел сражаться, а он вовсе не пират... Очень даже симпатичный парень, только застенчивый, как девчонка. Людей боится... Но мы это дело из него выбьем.
— Ой, мы его бить будем? — испугалась Липучка.
— Чудачка ты! Я же в переносном смысле. Ну, перевоспитаем, значит. Понятно?
— Понятно.
— А как же ты похитил? Ведь его мамаша от себя ни на шаг не отпускает,— спросил я.
JQ Библиотека пионера, т. 4
273
— Узнаешь! Давай сюда йод.
Дедушка был доктором, но сам лекарств не любил. Я заметил, что, когда к нему приходили больные, он сразу лез в корзинку, стоявшую за диваном.
«Терпеть не могу, когда лекарства на видных местах выставляют,— говорил он.— Украшеньице так себе».
Я полез в дедушкину корзину, нашел там пузырек с йодной настойкой и передал его Саше.
— А теперь позови Веника,— распорядился Саша.
— Позвать?.. А где он?
— Возле крыльца мнется. Стесняется. Ты ведь с ним в вагоне, кажется, в дипломатических отношениях не состоял.
— Да... Я там с Андреем Никитичем дружил. С подполковником артиллерии! — гордо сказал я. А потом, вспомнив, чем кончилась наша дружба, тихонько вздохнул.— Веник там, в вагоне, все время книжки читал.
— Ой, книжки читал!—восхитилась Липучка.— Он тоже небось, как и ты, до ужаса грамотный, да?
Что касается Веника, то я не мог дать никаких определенных сведений, а сам я был грамотный действительно «до ужаса». И поэтому еще раз вздохнул. А Липучка помчалась приглашать Веника. Он робко вошел в комнату и остановился на пороге. Был он в белой панаме и с книгой под мышкой.
— Идет по городу — книгу читает,— сообщил Саша.— Ты и в Москве тоже с раскрытой книгой улицы переходишь?
— Что вы! В Москве я только в метро и в троллейбусе читаю. А на улице нельзя — там же светофоры.
— Автомобили таи, а не светофоры! — почему-то сердито сказал Саша.— И на «вы» меня, пожалуйста, не называй. Понятно? Ишь какой интеллигентный! Задирай-ка рубаху!
Веник испуганно огляделся, точно просил у нас с Липучкой защиты.
— Ага, понимаю. Стесняешься? — сказал Саша.— Ты, Липучка, отвернись.
Веник покорно задрал рубаху и обнажил свое худенькое и бледное тело.
— Тебе бы Снегурочку в театре изображать,— сказал Саша.— Куда тебя доктора от бешенства колют? Покажи.
274
Веник испуганно схватился за живот:
— А вы что? Намерены... тоже колоть меня?
— Что я, сумасшедший, что ли? Как твоя мамаша?
Веник вдруг решительно одернул рубаху, и его бледное личико гневно порозовело, чего я уж никак не ожидал.
— Вы, пожалуйста, мою маму не задевайте!—гордо произнес он.
Саша так и застыл с пузырьком в одной руке и с пробкой в другой.
— Ишь ты! «Не задевайте»!—удивленно и вместе с тем уважительно сказал он. И, вроде бы извиняясь, добавил:—■ А чего же она нашего старого Бергена задевает? Бешеным его считает! Это же оскорбление, если хочешь знать. Оскорбление собаки — верного друга человека! Понятно? Да уж ладно. Задирай рубаху!
Веник покорно задрал ее, и Саша стал мазать ему живот йодной пробкой.
— Тебя так после уколов мажут? — спросил Саша, разгля¬
275
дывая довольно большой коричневый островок, возникший на белой впадине, именуемой животом Веника.
— Та-ак...— протянул Веник.— Только вы уж очень густо... И много... И к чему вообще?..
— Во-первых, не «вы», а «ты»!—сердито сказал Саша.— А во-вторых, совсем не густо: маслом кашу не испортишь! Теперь, когда придешь домой, задери рубашку и покажи своей маме. Понятно? И так каждый день будем делать. А ты, вместо того чтобы в поликлинике в очереди торчать, будешь с нами на плоту плавать.
И тут только я все понял! Теперь, значит, в нашей корабельной команде будет хоть один рядовой матрос. Молодец Саша, ловко придумал!
Я СТАНОВЛЮСЬ поэтом
И снова—уже в который раз!—меня спугнула Липучка. Как только я с тяжелым сердцем (мне нужно было заниматься уже по восемь часов в сутки!) уселся за стол, она, даже для виду не постучавшись, влетела в комнату.
Я натренированным броском спихнул тетради и учебники под стол, а Липучка, размахивая газетой* не заговорила, а прямо-таки закричала:
-— Ой, теперь я все знаю! Теперь я все знаю, Шура!
— Все знаешь? Про меня?.. — Я испуганно стал пятиться к окну.
— Да, все знаю! Здесь все написано! — Липучка перешла на таинственный полушепот. Она выставила вперед номер «Пионерской правды», словно собираясь выстрелить из него мне в самое сердце.— Здесь все написано! А ты скрывал! И как тебе не стыдно, Шура! Как тебе не стыдно!
«Что там написано? — с ужасом подумал я.— Может быть, поместили заметку про мою двойку? А что ж такого, вполне возможная вещь! Ведь высмеивают там таких вот, вроде меня, безграмотных двоечников. Теперь все погибло: Саша будет презирать меня. И Липучка тоже. И даже Веник. И дедушка все узнает. И тетя Кланя. Какой позор! И почему я сразу все
276
по-честному не рассказал? Отличник! Образованный москвич! Выпрыгнуть, что ли, в окно, и навсегда избавиться от позора?» Но в окно выпрыгивать было бесполезно: дедушка жил на первом этаже.
А Липучка все наступала:
— Зачем же ты скрывал от нас? Зачем?
— Я все расскажу вам. Честное слово, все расскажу,— забормотал я.— Мне просто было стыдно, очень стыдно...
— Стыдно? — Липучка вытаращила зеленые глаза.-— Разве этого можно стыдиться? Этим надо гордиться!
«Уж не укусила ли ее настоящая бешеная собака? — подумал я.— Или она просто издевается надо мной?»
— Да, этим надо гордиться! — торжественно повторила Липучка.— Я выучила их наизусть!
И она вдруг стала читать стихи:
Как серебро, вода сверкает.
Мы поработали —
и вот
Поплыл, торжественно качаясь,
Поплыл наш самодельный плот!
Пусть не в просторе океанском —
По руслу узкому реки,
Но есть и мостик капитанский И есть герои моряки!
Пусть поскорей промчатся годы,
Мы закалимся, подрастем —
Тогда красавцы пароходы.
По океанам поведем!
Липучка прочитала стихи с таким вдохновением, что я даже заслушался, прижавшись к подоконнику. Потом она взглянула на меня глазами, которые были полны, как говорится, неописуемого восторга.
— И этого ты стыдился? Этим нужно гордиться! — повто- рила она.— Поздравляю тебя! Поздравляю тебя, Шура! Ты — настоящий поэт!
— Я?.. Поэт?..
— Ой, не притворяйся, пожалуйста! Хватит уж скромни¬
277
чать, хватит! Тут же русским языком написано: «Саша Петров, Москва».
Я схватил газету — и в самом деле, под стихотворением стояла подпись: «Саша Петров». Бывают же такие совпадения!
— Я уже всем газету показала, всем! — затараторила Липучка.— Ой, какой же ты молодец! Наш плот прославил! Прямо на всю страну! Только почему ты написал «Москва»? Написал бы лучше «Белогорск». Ведь ты здесь сочинял? И даже прикрасил кое-что! Но это ничего — поэты всегда так делают. А кто это «герои моряки»? Веник, да?..— Липучка затрясла плечами, схватилась за живот.— Ой, а я ведь сразу заметила, что ты в рифму говорить умеешь. Еще в самый первый день. Помнишь: «Не плот, а флот», «он — не Антон»?.. А потом я заметила, что ты по утрам так задумчиво-задумчиво сидел за столом. А только я входила — и ты сбрасывал тетрадь под стол. Думаешь, я не заметила? Ты по утрам стихи сочинял? Да?.. Вот и сейчас даже тетрадка под столом валяется. В ней новые стихи, да?
Липучка, пригнувшись, бросилась к столу и схватила тетрадку. Я кинулся за ней: ведь там, в тетрадке, были советы нашей учительницы русского языка, как лучше мне подготовиться к переэкзаменовке.
Я вырвал тетрадку:
— Это не стихи... Это... совсем другое...
— Ой, как же не стихи? Опять обманываешь, да?
— То есть там стихи... Но я еще не могу их показать. Я еще...
— Ой, покажи! Покажи! Прямо любопытно до ужаса!
— Нет, нет,— сказал я, поспешно пряча тетрадь под скатерть.— Сейчас нельзя... Я еще не обработал как следует. Вот обработаю и тогда обязательно прочитаю...
— Новое стихотворение, да?
Я неопределенно пожал плечами.
— Ой, понимаю! Писатели всегда много раз переписывают свои произведения. Вот Лев Толстой, например, «Войну и мир» семь раз переписывал. Я сама где-то читала...
Через секунду она пришла в восторг от нового открытия:
278
— Ой, Шура, а у тебя ведь и имя такое поэтическое — Александр! Как у Пушкина.
Не знаю, с кем бы еще на радостях сравнила меня Липучка, но тут, к счастью, появился Саша.
САШИНА. ТАЙНА
Он был очень серьезен. И, как всегда в такие минуты, руки заложил за спину, глядел исподлобья и нетерпеливо покусывал нижнюю губу. А говорил коротко, отрывисто, вроде бы приказания отдавал:
— Ну-ка, выйди, Липучка. Прогуляйся!
Липучка независимо устремила в потолок свои глаза и нос, усыпанный веснушками:
— А чего ты распоряжаешься в чужой комнате?.. Шура, мне можно остаться?
Я взглянул на Сашу, потом на Липучку, потом на пол и неопределенно пожал плечами.
— Секреты, да? — насмешливо спросила Липучка.— Говорите, что девчонки секретничают. А сами?
Мы с Сашей молчали.
— Значит, мне уходить, да?
— Вот-вот, прогуляйся,— с беспощадной твердостью произнес Саша.
— Прогуляться? Хорошо, ладно. Я ухожу... Мужчины, называется! Кавалеры! Рыцари! Мушкетеры!.. Веник бы никогда так не поступил. Потому что он действительно образованный... И очень интеллигентный. Настоящий москвич!
Это уж был выстрел в мою сторону. Боясь, что промахнулась или слишком легко ранила меня, Липучка взглянула в упор своими зелеными глазищами:
— А еще поэт! Пушкин!
Она так хлопнула дверью, что легкая деревянная чернильница на столе подпрыгнула и на скатерти появилось маленькое фиолетовое пятнышко—уже не первое со времени моего приезда в Белогорск.
■— Зачем ты ее так? — спросил я Сашу,
279
— Дело потому что... Важное!
Так как Саша был капитаном, нашего корабля, я спросил:
— Задание какое-нибудь? Приказ?
Нет. Просьба.
Просьба? Ко мне?
— Да, к тебе. И не перебивай. Тайну мою узнать хочешь?
Я, кажется, второй раз в жизни почувствовал, что у меня,
где-то под левым кармашком, есть сердце и что оно довольно- таки сильно колотится (первый раз я почувствовал это, когда учительница объявляла фамилии двоечников, получивших переэкзаменовку). И еще я понял — как это верно говорят: «Он вырос от гордости»! Мне и правда показалось, что я стал чуть-чуть выше ростом. Значит, Саша теперь доверяет мне, как самому себе! Доверяет свою тайну, такую важную, что он из-за нее даже не пошел в туристический поход! Такую важную, что она привязывает его и наш плот вместе с ним к Бе- логорску! И он еще спрашивает, хочу ли я узнать ее...
— В общем, дело ясное,— сказал Саша.— У меня — переэкзаменовка. Понятно?
Я как-то машинально присел на стул.
— У тебя?.. Переэкзаменовка?..
— Ага. Пишу я плохо. С ошибками. Понимаешь? Вот и схватил двойку. Поможешь, а?
— Кто? Я? Тебе?
— Да, ты мне. Ясное дело, не я тебе. Ведь ты же образованный, культурный. Поэт! Липучка сегодня уши всем прожужжала. Как она мне «Пионерку» показала, так я сразу решил: попрошу Шурку! И вот... Согласен?..
Я даже не мог неопределенно пожать плечами — так и сидел, раскрыв рот, словно рыба. И молчал тоже как рыба. Мой вид не понравился Саше.
— Смотри, в обморок не кувырнись. Побледнел, как Веник. Не хочешь помогать — так и скажи. Без тебя обойдусь.
Тут наконец у меня прорезался голос. Правда, чей-то чужой— слабенький, неуверенный,— но все же прорезался:
—• Да что ты, Саша! Я с удовольствием... Только у меня нет... этого... как его?., педагогического опыта...
280
— И не надо. Ты просто будешь мне диктанты устраивать и проверять ошибки. Понятно?
— Понятно...
Я буду проверять ошибки! И почему я честно, как вот Саша сейчас, не рассказ-ал о своей несчастной двойке? Вернее, несчастная была не двойка, а я сам. Зачем я, как дурак, пожимал плечами? Эти мысли уже не первый раз приходили мне в голову. Но раскаиваться было поздно. И нужно было не выдать своего волнения.
— И это вся тайна? — с наигранным спокойствием спросил я.
— Вся.
— А я-то думал!..
— Мало что ты думал.
Да, я действительно думал мало, иначе не попал бы в такое глупое положение.
— И ты из-за такой ерунды не пошел в туристический поход? И наш корабль к городу привязал? — неестественным голосом удивлялся я.— Из-за такой ерунды?
— Это не ерунда. Я должен сдать экзамен,— очень решительно сказал Саша.— Понятно? Лопну, а сдам! Осенью отец с матерью из геологической разведки приедут — я им обещал.
— A-а! Они, значит, осенью приедут? А у тебя, значит, переэкзаменовка?
От растерянности я, кажется, говорил не совсем складно.
— И еще я Нине Петровне обещал. Учительнице нашей. Она не хотела в деревню уезжать из-за меня. А я уговорил: сам, сказал, подготовлюсь. Понятно?
— Не совсем. Она тебе двойку вкатила, все лето тебе испортила, а ты о ней заботишься?
— Сам я все испортил!.. В общем, поможешь или нет?
Я смотрел на Сашу с таким удивлением, будто он с другой планеты свалился. Защищает учительницу, которая ему двойку поставила! И от похода отказался. Странный он парень! Так мне казалось тогда.
Не дождавшись от меня ответа, Саша твердыми, злыми шагами направился к двери. Что было делать? Не думая о том, как все повернется дальше, я догнал Сашу:
281
— Буду помогать тебе! Конечно, буду! Это же очень легко... и просто. Будем заниматься прямо с утра до вечера. Хочешь?
— Не хочу, а придется,— ответил Саша.
Я СТАНОВЛЮСЬ УЧИТЕЛЕМ
Весь следующий день я с утра до вечера овладевал своей новой профессией — готовился преподавать. И только тогда я понял, как это трудно — быть учителем. Правда, настоящим учителям все-таки гораздо легче, чем было мне: они ведь хорошо знают то, чему обучают других. Я же собирался учить Сашу грамматике, а сам разбирался в ней не лучше, чем наш Паразит в правилах уличного движения.
Теперь уж мне не надо было сбрасывать учебники и тетради под стол. Я мог заниматься совершенно открыто: ведь я старался не для себя, а для другого, то есть совершал благородное дело.
Дедушка, оказывается, знал о Сашиной переэкзаменовке.
— Молодец!—похвалил он меня.— Видишь, как это приятно— хорошо учиться: всегда можешь помочь товарищу.
«Сперва приналягу на правила,— решил я.— Все-таки выдолбить и пересказать правила не так уж трудно. Начну с безударных гласных, чтобы и самому тоже польза была...»
К полудню все правила о правописании безударных гласных были выучены назубок. А как быть с диктантами? Диктовать я, конечно, смогу: слава богу, читать еще не разучился. Но как же я буду проверять то, что написано Сашей, если сам ничего не знаю? Может быть, каждую фразу сверять с книжкой? Нет, неудобно. Саша сразу догадается, какой я грамотей. Что же делать?
В конце концов я придумал: вызубрю наизусть какой-нибудь кусочек из Гоголя. Совсем наизусть! Запомню, как пишется каждое слово и где какой знак стоит.
Я нашел свое любимое местечко из «Повести о том, как поссорился Ийан Иванович с Иваном Никифоровичем» и стал зубрить, начиная со знаменитых слов Ивана Никифоровича:
282
«— Поцелуйтесь с своею свиньею, а коли не хотите, так с чертом!»
«— О! вас зацепи только! — зубрил я дальше.— Увидите: нашпигуют вам на том свете язык горячими иголками за такие богомерзкие слова. После разговору с вами нужно и лицо и руки умыть и самому окуриться.
— Позвольте, Иван Иванович; ружье вещь благородная, самая любопытная забава, притом и украшение в комнате приятное...
— Вы, Иван Никифорович, разносились так с своим ружьем, как дурень с писаною торбою,— сказал Иван Иванович с досадою, потому что действительно начинал уже сердиться.
— А вы, Иван Иванович, настоящий гусак...» — и так далее.
Всегда я прямо до слез хохотал, читая все это. А сейчас я радовался только тому, что в отрывке было много безударных гласных. «Здорово писал Гоголь!— думал я.— Сколько безударных наставил! Прямо в каждой фразе. Вот уж попыхтит завтра Сашенька!»
Я еще повторил отрывок вслух раза три, потом раза три переписал его, потом начал декламировать. В общем, к вечеру мне казалось, что Гоголь писал вовсе не так уж весело и что скучнее повести об Иване Ивановиче и Иване Никифоровиче ничего на свете не существует.
Лежа в постели, я еще раз повторил отрывок про себя. А потом припомнил всякие мудрые выражения, которые часто употребляли наши учителя. Такие вот, например: «Учись мыслить самостоятельно!», «Если хочешь что-нибудь сказать — подними руку», «Не будем тратить время — его ведь не вернешь», «Не смотри в потолок, там ничего не написано!» и т. д. и т. п. А ночью мне приснилось, что невоздержанный на язык Иван Никифорович обозвал Ивана Ивановича «безударной гласной» и что с этого именно началась знаменитая ссора.
Утром, как только умолкла дедушкина палка, начался первый урок. Саша вошел в комнату, держа в руках толстую тетрадь в красной клеенчатой обложке. «Неужели всю ее исписать собирается?» —с ужасом подумал я. В глазах у Саши было что-то новое, незнакомое мне до тех пор: что-то уважи¬
283
тельное и немного застенчивое. И это у него! У капитана Саши!.. Ну да, ведь я теперь был для него не просто Шуркой, а учителем. Как пишут в газетах, «наставником и старшим другом».
Все эти мысли настроили меня на строгий тон.
— Ну, не будем терять время—'его ведь не вернешь,— сказал я.
Саша покорно уселся за стол, развернул тетрадку и посмотрел на меня, ожидая новых распоряжений.
— Начнем с безударных гласных,— объявил я и зашагал по комнате, мысленно воображая, что шатаю между рядами парт.— Гласные произносятся четко и ясно лишь тогда, когда они находятся под ударением,— объяснял я.—-В безударном положении они звучат ослаблеино, неотчетливо. Чтобы правильно написать безударную гласную в корне, нужно изменить слово или подобрать другое слово того же корня так, чтобы эта гласная оказалась под ударением...
— Вот, например: вода — воды, тяжелый — тяжесть, поседеть— седенький...— насмешливым тоном продолжил мои объяснения Саша.— Так, да? Прямо по учебнику шпаришь?
Нет, он не так уж робел передо мной! В первый момент я, войдя в роль педагога, чуть было не сказал: «Хочешь что- нибудь спросить:—подними руку!» Но вовремя удержался: пожалуй, Саша поднял бы руку и щелкнул меня гго затылку, чтобы сразу сбить с меня всю педагогическую важность.
— Значит, нужно слово изменить? — все так же насмешливо спросил Саша.— Вот измени, пожалуйста, слово «инженер». А? Измени.
Я стал лихорадочно соображать, но слово «инженер» никак не изменялось.
— Это исключение,— сказал я.—Нужно просто запомнить это слово — и все.
— А тогда измени слово «директор», чтобы безударная стала ударной.
Я снова и так и сяк повертел в уме слово, предложенное Сашей. Ничего не получалось.
— Это тоже исключение,—объяснил я.— И не перебивай, пожалуйста.
284
“ А ты не забивай мне голову всякими правилами. Я их без тебя знаю, а пишу все равно с ошибками. Ведь на каждое правило две тысячи исключений. Давай лучше диктанты писать.
Что было делать?
— Хорошо, возьмем первый попавшийся отрывок из Гоголя,— согласился я и раскрыл «первую попавшуюся» страницу, заложенную промокашкой ~ уже не чистой, а с пунктирными следами букв и расплывчатыми очертаниями клякс.
Я стал с выражением диктовать:
'— «Поцелуйтесь со своею свиньею...»
— Сам ты поцелуйся со свиньею, если так диктовать собираешься! — разозлился вдруг Саша.
— Так с учителями не разговаривают! — в свою очередь, вспылил я.
— А.что же ты каждую безударную как ударную произносишь? Прямо нажимаешь на нее изо всех сил. Сам говорил*
285
что безударные звучат ослабленно, неотчетливо... Мне твои подсказки не нужны!
Я и в самом деле произносил каждое слово чуть ли не по складам и очень ясно выговаривал безударные гласные. Ведь мне всегда хотелось, чтобы именно так диктовали учителя.
— Ты по-человечески диктуй,— уже без всякой робости сказал Саша. Казалось, он вот-вот скажет: «А то как щелкну!»
Тогда я стал диктовать очень быстро. Сашина ручка вновь остановилась.
— Не валяй дурака,— предупредил он.— Хочешь, чтобы я вообще ни одной буквы не разобрал? Так, что ли? Ты только одни безударные от меня прячь. Понятно?
Да, настоящим учителям и не снились, наверное, такие ученики!
Я диктовал, почти не заглядывая в книжку: весь отрывок был вызубрен наизусть. Саша удивился:
— Ты всего Гоголя, что ли, наизусть знаешь?
— Ну, не всего, конечно,— скромно ответил я.— Но довольно значительную часть его произведений...
Сам того не замечая, я стал изъясняться как-то по-взрослому: ведь я все-таки был педагогом!
— Валяй дальше! — распорядился Саша.
Но вот я добрался до конца и сказал:
— Хватит! Давай проверим!—А сам подумал: «Сейчас начнет спорить. Скажет: диктуй дальше. А я дальше не выучил».
Но Саша покорно протянул мне тетрадь. Проверял я очень медленно, про себя повторяя текст и по буквам вспоминая, как написано каждое слово в книжке. Проверив слово, я машинально подчеркивал его, как это делала телеграфистка, когда подсчитывала стоимость телеграммы.
Заметив, что я все время подчеркиваю, Саша заволновался:
— Неужели столько ошибок?
— Да нет... Я просто так, для себя.
На самом деле ошибок было всего пять. Я позавидовал Саше: ведь вчера, впервые переписывая этот отрывок на память, я сделал, гораздо больше ошибок.
286
«Саша пишет в два раза лучше меня — и все-таки у него двойка,— подумал я.— Значит, если я буду делать ошибок вдвое меньше, чем сейчас, я все равно не сдам переэкзаменовку...» От этих мыслей лицо у меня стало такое печальное, что Саша даже насторожился.
— Очень плохо, да?
— Да нет, вполне сносно,— ответил я. Взял ручку и вывел под Сашиным диктантом четкую, с острыми углами четверку, похожую на недописанную букву «Н».
— Уж очень ты добренький,— усмехнулся Саша.
Он ведь не знал, что это была моя давнишняя мечта, чтобы за пять ошибок ставили четверку.
Я вздохнул так облегченно, как вздыхал в классе, услышав спасительный звонок, избавлявший меня от вызова к доске. «Слава богу, первый урок кончился!» — подумал я.
Но не тут-то было! Саша вдруг стал выпытывать у меня, почему трудные слова пишутся не так, как произносятся. Начал он со слова «поцелуйтесь».
В школе учительница часто говорила мне: «Петров, ты совсем не умеешь анализировать слова». Но умел я или не умел, а тут уж надо было анализировать. Сперва я старался изменить слово так, чтобы на первый слог «по» падало ударение. «Поцелуй, поцеловаться...» — шептал я про себя. Но ударение никак на «по» не попадало. Тогда я подумал: «А что вообще такое это самое «по»?» И вдруг меня осенило: так это же приставка! Ну да, самая настоящая приставка. А ведь приставки «па» вообще не существует на свете. Это только в танцах бывают разные па, а приставок таких не бывает. Значит, все очень просто. Я объяснил это Саше.
— Ага... Интересно,— сказал он. И что-то записал в тетрадку, словно отметку мне выставил.— А скажи-ка, пожалуйста, почему пишется «свинья», а не «свенья»? Не знаешь?
— Так ученики вопросов не задают! — возмутился я.— Похоже, что я из детского сада только что пришел, а ты уже какой-нибудь десятиклассник и экзамен мне устраиваешь.
Но, сказав про детский сад, я сразу вспомнил стихи Маяковского, которые мы там учили наизусть: «Вырастет из сына
,287
евин, если сын свиненок...» Эти стихи я тут же прочитал Саше.
— Раз «евин» — значит, «свинья»,— объяснил я.
— Ага,— снова сказал он и снова записал что-то в тетрадку.
В общем, не зря я накануне зубрил правила. И вовсе не из одних только «исключений» русский язык состоит. Напрасно Саша о нем такого мнения!
С тех пор мне очень понравилось «анализировать» слова. Как только услышу какое-нибудь трудное слово, так сразу начинаю разбирать его. И очень часто оно оказывается вовсе не таким уж трудным.
Но и на разборе слов тот первый урок не окончился. Ведь в нашем «классе», к сожалению, распоряжался не учитель, а ученик.
— Давай-ка теперь я подиктую,— сказал Саша и поднялся со стула, уступая мне место.
Но я садиться на это место вовсе не хотел.
— Ты? Мне?! Будешь диктовать?!
— Ага. Я! Тебе! Буду диктовать! — передразнивая меня, ответил Саша.
— Зачем же терять время? Его ведь не вернешь!
Но мои «педагогические» фразы на Сашу не действовали.
— Диктовать тоже очень полезно,— объяснил он.— Это мне сама Нина Петровна советовала. Она-то уж лучше тебя понимает. «Когда, говорит, диктуешь, очень внимательно вглядываешься в каждое слово». Понятно?
Спорить с Ниной Петровной было опасно. И я, как утопающий за соломинку, схватился за отрывок из Гоголя. Ведь я знал его наизусть.
— Хорошо, успокойся. Никто с твоей учительницей не спорит. Диктуй мне, пожалуйста, первый попавшийся отрывок.— Я взял томик Гоголя.— Вот, например, со слов: «—Поцелуйтесь со своею свиньею...»
— Что это тебе все время одно и то же место случайно попадается?— удивился Саша.
«Сейчас обо всем догадается!» — испугался я и с самым независимым видом произнес:
288
— Диктуй откуда хочешь! Хоть из «Носа»! Хоть из «Записок сумасшедшего»!
— Да, одно и то же по два раза читать неинтересно,—■ сказал Саша — Я что-нибудь другое найду.
Он стал перелистывать страницы, а я от предчувствия своего полного краха, кажется, побледнел, присел на стул и дрожащими пальцами взялся за ручку.
Саша между тем рассуждал:
— У нас вот теперь сборники какие-то однообразные выходят. Если веселый — то хохочи все время, пока живот не заболит. А уж если мрачный, так тоже до самого конца... Поседеть можно! А у Гоголя, смотри, как все разнообразно. Вот Иван Иванович с Иваном Никифоровичем ругаются... Смешно, да? А рядом, на сто девяносто первой странице, «Вий». Мороз по коже продирает! Прочтешь сборник — и посмеешься, и поплачешь... Так гораздо интереснее получается. Вот я тебе сейчас из «Вия» подиктую. Самое страшное место!
«Пусть диктует,— подумал я.— Скажу потом, что со страху ошибки насажал. Ничего, мол, не мог сообразить от ужаса. Затмение мозгов произошло. Сила художественной литературы!..»
— Значит, описание Вия,— сказал Саша.— Понятно? Пиши. Только я медленно буду диктовать, чтобы в каждое слово вглядываться.., «Весь был он в черной земле... Как жилистые, крепкие корни, выдавались его засыпанные землею ноги и руки...»
— Ой, неужели так прямо и написано: «Весь был в земле»?! — воскликнул я.
— Прямо так и написано. Не веришь, так посмотри!
Это мне только и нужно было. Я, словно бы не доверяя Саше, схватил книжку и прочитал все, что там было насчет земли. Ну конечно, уж заодно и безударные гласные разглядел.
— Да, действительно так... Скажи пожалуйста, какой ужас!
Я уселся на место и тут же записал прочитанные фразы.
—г «Длинные веки опущены были до самой земли»,— читал дальше Саша,
289
— Ой, неужели прямо до самой земли? —снова поразился я.— Так и написано?
Я снова вскочил со стула и заглянул в книжку.
— «С ужасом заметил Хома, что лицо было на нем железное...» — медленно, будто заучивая наизусть каждое слово, диктовал Саша.
— Ой, неужели такой страшный? Лицо железное?!
Я вскочил в третий раз и, трясясь от ужаса, выхватил у Саши синий томик. А сам с надеждой подумал: «Так я, пожалуй, весь диктант без единой ошибочки напишу!» Но не тут-то было. Саше мои вскакивания со стула надоели.
— Что ты все время ойкаешь, как Липучка?—сердито спросил он.— А еще говорил, что всего Гоголя наизусть знаешь!
— Конечно, знаю...— залепетал я.— Но классика, понимаешь, так прекрасна, что каждый раз кажется, будто читаешь впервые.
Саша поморщился: он не любил таких громких фраз.
— Ладно... Сиди смирно — и все. Если еще раз вскочишь, как щелкну по затылку! Понятно?
Понять это было нетрудно. Я продолжал писать диктант.
— Во как Гоголь умел страх нагонять! — не удержался Саша.— У тебя прямо руки трясутся от ужаса.
Если бы он знал, отчего у меня тряслись руки!
Кончив читать про страшного Вия, Саша сказал:
— Ну, вот и все!
«Да, вот и все! Крышка!» — подумал я и протянул Саше свои каракули. Но он отмахнулся от моей тетради, схватил жестяную кружку и стал постукивать по ней чайной ложечкой, точно так же, как это делал я, когда раньше, давным- давно, играл с бабушкой «в трамвай».
— Звонок! Звонок! Урок окончен! — провозгласил Саша.— Проверять я тебя не буду. Зачем?
— Конечно... не надо...— запинаясь от радости, сказал я. «Спасен! Спасен!!!» И добавил:—У меня еще и почерк жуткий... Я ведь внук доктора! Понимаешь? Ничего разобрать нельзя!
— Ясное дело, смешно будет, если я вдруг стану тебя проверять,— сказал Саша.
290
— Факт, смешно,— согласился я.
На самом деле это было бы не смешно, а очень и очень грустно. Я поскорей спрятал свой диктант в ящик дедушкиного стола. «Потом сам проверю»,— решил я.
И еще я подумал -о том, что теперь мне нужно будет каждый день вызубривать наизусть не один, а целых два дик- танта.
„НЕИСТРЕБИМЫЙ*
Итак, мы стали заниматься. Занимались мы в любую погоду и даже в такие дни, когда с утра, как бы испытывая нашу волю, вовсю слепило солнце. В небольшой комнатке было душно, и прямо до смерти хотелось искупаться.
Мою волю солнце, конечно, растопило бы в два счета, но, к счастью, рядом был Саша. А он даже выглядывать в окно не разрешал, чтобы не соблазняться видом Белогорки.
Как-то однажды, не вытерпев, я предложил заниматься по вечерам, после пяти часов. Но Саша обозвал меня «тряпкой» и сказал, что в древней Спарте таких, как я, сбрасывали с обрыва в реку. (Я бы, честно говоря, не отказался, чтобы меня в ту минуту сбросили с холма в Белогорку.) И еще он сказал, что заниматься нужно только по утрам, потому что утром голова свежая. Спорить со своим учеником я не решался.
Все кругом хвалили меня, говорили, что я «настоящий пионер», потому что жертвую своим отдыхом ради товарища. «Ой, ты прямо до ужаса благородный! Настоящий рыцарь!» — говорила Липучка, по доброте душевной забыв, как мы с Сашей совсем не по-рыцарски выставили ее из комнаты. И даже тетя Кланя однажды вынесла мне благодарность.
Вообще-то я избегал встречаться с тетей Кланей, потому что она как, бывало, увидит меня, так сразу начинает сравнивать с Маришкой, то есть с моей собственной мамой. «Да,— говорила она,— Маришка-то поздоровее была...», «Да, Маришка-то как угорелая по улицам не носилась!»
Я, конечно, понимал, что не стою маминого мизинца, что
291
все прекрасные мамины качества,, к сожалению, не перешли ко мне по наследству...
Но вот наконец я дождался похвалы и от тети Клани.
— Да,— сказала она,— Маришка тоже всегда хорошо училась. В этом ты похож на нее... («Как раз меньше всего»,— мысленно, про себя, закончил я фразу тети Клани.) Если вытянешь моего Сашку, спасибо тебе скажу. И Саша скажет.
«Кто кому должен будет сказать спасибо, это еще большой вопрос»,— подумал я. Кстати, Саша был единственный, кто ни слова не говорил о моем благородстве и продолжал командовать мною так, словно учителем был не я, а он.
Занимались мы всегда часов до пяти. В это время как раз приходил Веник. Саша мазал ему живот йодом, и мы все вместе бежали к своему плоту на Белогорку. Там нас уже поджидали Липучка и старый, вечно сонный шпиц Берген.
Впрочем, наш плот был уже не плотом и не океанским пароходом, а спасательным судном и носил очень оригинальное имя — «Хузав». Название это придумал Саша; в расшифрованном виде оно обозначало: «Хватай утопающего за волосы». Мы все назывались теперь «хузавами». Слово это звучало довольно-таки необычно и было похоже на название древних ископаемых животных — всяких там ихтиозавров и бронтозавров.
Саша еще в самый первый день нашего знакомства сказал, что на плоту необязательно плыть куда-нибудь далеко, за тридевять земель, что плот может приносить пользу и здесь, в Белогорске. И вот, поскольку Белогорка была коварной рекой, мы решили на своем плоту спасать утопающих.
Но утопать, к сожалению, никто не собирался, «Дикари», напуганные рассказами о воронках, ямах и холодных течениях, купались очень осторожно. Они, как правило, заходили в воду по пояс и начинали, радостно повизгивая, плескаться, словно сидели в корыте или в ванне.
Если же кто-нибудь все-таки доплывал до середины рек(и, мы тут же устремлялись на помощь. Саша с капитанского мостика приказывал мне приступать к спасательным работам. Я спускал на воду длинный шест. Но «утопающие» вместо
292
благодарности кричали, чтобы мы перестали хулиганить и швырять в них грязными палками*
Только один раз нам пришлось спасать по-настоящему. И то члена своего собственного экипажа, рядового матроса Веника.
Веник вздумал, расхаживая на плоту, читать журнал. Он сделал пять шагов по палубе и... шагнул прямо в реку. Мы даже испугаться не успели, как увидели в реке сразу три плавающих предмета: голову Веника, белую, распластавшуюся, как блин, панаму и журнал... Была бы тут Ангелина Семеновна!..
Я слышал и даже читал где-то, что, если человека, не умеющего плавать, завезти в самое глубокое место и спихнуть в воду, он, спасая свою жизнь, обязательно поплывет. Мы были на самой середине реки, вода здесь была темная, почти черная (это указывало на большую глубину), но Веник по- чему-то не поплыл. Он молча цеплялся за бревна. Наш «Ху- зав» наклонился, котелок, в котором главный кок Липучка варила картошку, тоже полетел в воду и сразу пошел измерять глубину.
Саша спрыгнул со своего капитанского мостика.
— Котелок утонул,— зачем-то сказал я. Наверное, от растерянности.
— Жаль, что твой собственный котелок на месте остался! Не мог удержать Веника! Ведь рядом стоял...
И, пригнувшись, сложив руки над головой, Саша прямо в майке и тапочках бросился в воду. Он обхватил Веника и без всякого напряжения стал выталкивать его из воды на плот. Веник вообще был очень легкий, а в воде-то уж, наверное, совсем ничего не весил. И все-таки он не сразу вскарабкался на плот.
— «Вокруг света»! «Вокруг света»! — умоляюще вскрикивал Веник, не желая спасаться, пока не спасут его журнал.
— Ничего, пусть поплавает вокруг света. Лезь на палубу!— скомандовал Саша, не выпуская Веника, бережно обхватив его двумя руками, словно какую-нибудь драгоценную статую или вазу.
293
Я шестом подогнал «Вокруг света» к плоту и вытащил намокшие, слипшиеся в тяжелую массу листы.
— Очень благодарен тебе, Шура,— произнес Веник и, подталкиваемый сзади Сашей, полез на «палубу».
«Ишь ты, «очень благодарен»! — подумал я.— Даже сидя в воде, не может сказать просто «спасибо». Какая сверхвежливость!»
Я стал подгонять к плоту распластанный на воде белый блин, который еще недавно служил Венику панамой.
— Да ну ее! Не надо ее...— Веник не договорил, потому что зубы у него вдруг застучали, а все тело покрылось гусиной кожей. Только теперь он, видно, понял, как велика была опасность, и задним числом испугался.
По Сашиному знаку мы всеми шестью руками схватили «утопленника» и подняли его в воздух. Мы действовали по всем правилам: раскачивали Веника, растирали его... Он потихоньку отбрыкивался, но и тут не терял своей вежливости: заикаясь и дрожа, он объяснял, что мы «неразумно тратим силы».
— Ой, как же «неразумно»? — воскликнула Липучка.— Мы из тебя воду выкачиваем!
— Зачем же? У меня вполне нормальное состояние,— интеллигентно возразил Веник, взлетая к капитанскому мостику.
Мы, однако, не обращали на слова «утопленника» никакого внимания.
— Все сумасшедшие говорят, что они нормальные, а больные притворяются здоровыми,— сказал я и нажал Венику на живот, чтобы выдавить из него воду.
Тут он от боли впервые потерял всю свою вежливость и крикнул:
— Сам ты сумасшедший!
Мы, пораженные такой необычной для Веника грубостью, сразу кончили «спасательные работы», положили «утопленника» на «палубу» и поздравили его со спасением. Но он несколько минут не шевелился. Кажется, именно сейчас, после наших «спасательных работ», ему нужна была настоящая медицинская помощь.
294
В тот же день наш плот перестал быть спасательным судном.
— Он будет пограничным сторожевым катером! Понятно?— сказал Саша.— Белогорка будет пограничной рекой, а мы с вами начнем вылавливать нарушителей.
Нужно было придумать катеру какое-нибудь боевое и оригинальное имя.
— «Ласточка»! — предложила Липучка.
— Ну да, еще воробьем назови!—усмехнулся Саша.— Или канарейкой!
— «Верный, недремлющий страж»,— предложил Веник.
Но Саше и это не понравилось.
— Ты бы еще в две страницы название придумал! Надо, чтобы коротко было, в одно слово. Вот, например: «Неистребимый»!
Это имя все приняли единогласно.
Я захотел устроить ребятам сюрприз. Поздно вечером я тайком пробрался к плоту и написал углем на ящике из-под рафинада, то есть на капитанском мостике, название нашего катера. «Вот уж завтра глаза вытаращат! Вот уж удивят- ся!» — подумал я и отправился спать.
Первым удивился Веник:
— Любопытно, какой это грамотей нацарапал? «Неистри- бимый»! Надо же так!
— Ну и что? — не понял я.
— Между «р» и «б» должно стоять «е», а тут — «и». Уразумел?
Да, я сразу все уразумел. И вслух предположил:
— Какой-нибудь посторонний человек написал.
Веник пожал своими плечиками:
— Загадочно! Никто из посторонних, кажется,, не в курсе того, как называется наш катер.
— Подслушал — и узнал... Подумаешь, «не в курсе»! Один ты в курсе, да? — набросился я на Веника. А про себя подумал: «Какое счастье, что Саша не проверяет мои диктанты и не знает моего почерка!» И еще я подумал, что надо заниматься теперь больше.
С того дня мы стали писать диктанты не только по утрам,
295
но и по вечерам — как говорится, на сон грядущий. А по ночам мне еще чаще стали сниться хороводы орфографических ошибок и двойки с ехидными закорючками.
«Нарушителей границы» мы искали главным образом в воде. Всех незнакомых нам мальчишек мы вытаскивали из реки на свой «катер» и требовали предъявить документы. «Нарушители» были или совсем голые, или в одних трусах, и потому документов у них не оказывалось.
— Странно, странно...— говорил Саша.— Как это вы пускаетесь в плавание без документов?
«Нарушители» смотрели на нас как на сумасшедших. И я сам, между прочим, думал, что все это — пустые игры и что из-за наших с Сашей переэкзаменовок мы так и не сможем использовать свой плот по-настоящему, для какого-нибудь важного дела.
ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ
Никогда я не забуду эту ночь.
Вечером мы с Сашей подиктовали друг другу. Я снова вслух погоревал о том, что из-за Сашиной переэкзаменовки (о своей собственной я, разумеется, только подумал) мы никак не можем использовать свой плот. Саша стал произносить всякие благородные фразы, вроде того, что никто не должен страдать из-за его двойки й что мы можем плыть без него куда нам угодно. Тогда и я тоже стал бить себя кулаком в грудь: никогда, мол, не оставлял и не оставлю товарища в беде!
По ступеням застучала палка: дедушка вернулся с вечерней прогулки.
Иногда он возвращался гораздо позже, потому что его прямо на улице перехватывали и зазывали к себе пациенты: то послушать сердце, то проверить легкие, а то просто попить чайку.
Мы с Сашей простились до утра и не подозревали, что увидимся гораздо раньше.
А ночью вдруг затрезвонил желтый ящик с ручкой на боку, похожий на кофейную мельницу. Он будил нас не впервые:
29.6
дедушку и по ночам вызывали в больницу или, как он говорил, «на трудные случаи».
Дедушка всегда полушепотом отвечал в трубку:
Еду. Ну, какой может быть разговор!
На. самом деле е.му приходилось не ехать, а идти, потому что машины у него не было. Ботинки дедушка в таких случаях натягивал в последнюю очередь и уже за дверью, а палка его не пересчитывала ступени. Неужели он думал, что я сплю и ничего не слышу?
На этот раз дедушка долго не отходил от желтого ящика.
— Так-с... Прескверное положение,— тихо говорил он в трубку.— До Хвостика я буду часа полтора добираться. Это если в обход, по дороге... Да что вы! Откуда сейчас машина? По реке, правда, куда быстрее... Да нет у меня персонального парохода. Вообразите, нету.
Я так стремительно вскочил с раскладушки, что средние ножки ее подвернулись, подтянули к себе остальные две пары ножек—и раскладушка сама собой стала складываться.
— Есть пароход! Есть, дедушка! Есть!..— завопил я.
От неожиданности дедушка выронил трубку, она заболталась на шнуре* заколотилась об стенку.
— О чем ты? Какой пароход? — шепотом, словно все еще боясь разбудить меня, спросил дедушка,
— Наш пароход! Наш катер «Неистребимый»!
Дедушка повернулся и стал шарить руками по стене, искать трубку. Наконец нашел ее и прошептал:
— Подождите минутку. Я тут улажу семейные дела...
Он зажал трубку ладонью и обратился ко мне:
— Переутомился ты, что ли? Перезанимался с Сашей? Или, может быть, на солнце перегрелся?
— Я не перегрелся, дедушка. У нас есть пароход. Честное слово, есть!
— Пароход? Вообразите, какую чепуху мелет! — Как всегда в минуты волнения, дедушка обращался к кому-то третьему, как бы незримо присутствующему в комнате.— Какие судовладельцы нашлись!
— Ну, в общем, это мы его так называем... пароходом. А на самом деле это плот. Мы сами достроили, честное слово!
297
— Ах, плот? Так бы сразу и сказал.—-Дедушка разжал руку и склонился над трубкой.— Здесь как будто намечается выход. Я приеду... Ну, какой может быть разговор!
Мне очень хотелось самому, без всякой посторонней помощи, перевезти дедушку в заречную часть города, называемую Хвостиком. Это был бы подвиг! О нем могли бы написать в газете, о нем узнали бы все! И тетя Кланя узнала бы. И тогда, может быть, она признала бы наконец, что я достойный сын своей мамы. Но тут же я подумал, что Саша, наверное, никогда бы не уплыл без меня.
— Поскорей,— предупредил дедушка.— Дорога каждая минута. Я пока буду спускаться к реке. А то ведь мы с ней медленно ходям.— Он погладил похожую на крендель ручку своей самодельной палки.— Догоняйте меня!
Я уже был внизу, когда дедушка стуком палки остановил меня.
— Поосторожней! — крикнул он, прикрывая рот ладонью.— Клавдия Архиповна под кроватью палку для воров держит!
Я не боялся палки тети Клани, потому что хорошо знал, возле какого именно окна стоит Сашина кровать.
Прежде чем забраться на подоконник, я секунду поразмыслил: «Как разбудить Сашу, чтобы он не испугался и не закричал со сна? Может быть, сперва зажать ему рот? Хотя Саша не закричит, он ведь не какой-нибудь Веник».
Я смело вскарабкался на подоконник и увидел, что Саша не спит: он приподнялся на локте и чуть-чуть наклонил голову, к чему-то прислушиваясь. Не успел я вслух удивиться, как Саша преспокойным шепотом спросил:
— Что там случилось?
— Ты всю ночь не спишь, что ли? — спросил я.
— Да нет, просто услышал, как ты соскочил с крыльца. У дедушки Антона совсем не такие шаги. Что случилось?
— Очень важное дело! Понимаешь, заболел один человек. Очень тяжело... На Хвостике. Мы должны перевезти дедушку. На плоту!.. Пешком идти очень долго. У него еще и ноги болят... А по реке же в три раза быстрее!
Пока я все это объяснял, Саша натянул майку, тапочки и оказался рядом со мной на подоконнике.
298
Дедушку мы догнали на полдороге. Он шел не своей обычной неторопливой походкой, какой ходят во время прогулок, а быстрыми и резкими шагами. Спина его все время напряженно вздрагивала: нелегко доставался ему каждый быстрый шаг.
Дедушка бормотал себе под нос:
— Ведь предупреждал, кажется... Сколько раз предупреждал! Как маленький... Как ребенок... Со смертью играет. Так-с...
«Кого это он пробирает?» — не понял я.
Мы прошли мимо зеленого шалаша. Но старый шпиц Берген даже не тявкнул.
— Часовой! — усмехнулся Саша.— Бдительный страж!
Дрыхнет себе, как медведь в берлоге.
Подгонять плот к самому берегу не было времени. Дедушка, не раздумывая, присел на камень, скинул ботинки, носки, засучил брюки. Затем он взял в каждую руку по башмаку, палку засунул под мышку и смело пошел по воде. Мы с Сашей торопливо зашлепали сзади. На плот дедушка тоже взобрался легко — по крайней мере, быстрей, чем взбирался Веник.
Мы усадили дедушку на маленький ящичек, на котором обычно сидела Липучка, когда разжигала костер, варила суп или картошку. Я вытащил из воды якорь, и мы с Сашей изо всех сил приналегли сразу на два шеста. «Неистребимый» рванулся с места.
Посреди реки пролегла золотая, словно песчаная, дорожка— это луна освещала наш путь. Берега, которые днем были такими веселыми, зелеными от травы и пестрыми от цветов, сейчас казались мрачно насупившимися. И такой же мрачной, таинственной громадой возвышался наш холм. Казалось, что какое-то гигантское чудовище разлеглось на берегу и подняло вверх свою острую морду. Как два глаза, светились где-то высоко два окна.
— Наверно, там больные,— сказал я. Мне всегда казалось, что за окнами, не гаснущими в ночи, мучаются больные люди.
Дедушка сидел ссутулившись, опершись на палку. Карманы брюк и пиджака топорщились от разных пузырьков и ин-
299
струментов. Немного в стороне, нос к носу, стояли ботинки. Услышав мои слова, дедушка очнулся, приподнял голову.
— Нет, это не больные,— сказал он.— Справа — отделение милиции, а слева... Не знаю... может, кто-нибудь к экзаменам в институт готовится.
«Или к переэкзаменовке зубрит»,—тут же подумал я. Мне показалось, что и Саша подумал то же самое. Спорить с дедушкой было смешно: он ведь знал всех больных в городе.
Окраина, именуемая Хвостиком, спала мертвым сном: ни шороха, ни звука, ни скрипа. На всем берегу светилось одноединственное окно.
— Там он лежит,— уверенно сказал дедушка. Поднялся и указал палкой на немигающий и вроде бы зовущий нас огонек.
В пути, работая шестом, я фантазировал, будто золотистая дорожка посреди реки проложена кем-то специально от города до Хвостика. Но она не сворачивала к нему, а дрожа и переливаясь, убегала вперед, куда-то далеко-далеко...
Я бросил якорь, и мы во главе с дедушкой зашлепали к берегу.
300
Туг я понял, что. ночью по огонькам никак нельзя определить расстояние, Издали казалось, что огонек на берегу. Но в действительности он светился на самом конце Хвостика. «А вообщекго,. какая хорошая, добрая вещь—эти ночные огоньки!—подумал я.— Они ведь, наверное, так облегчают дальний путь: все время чудится, что цель уже близка, и шагать веселее».
Возле маленького одноэтажного домика, остроконечной крышей своей напоминавшего часовенку, нас поджидал невысокий, очень широкоплечий мужчина в белой рубахе, которая, кажется, не сходилась у него на груди. Лица я в темноте не разглядел.
— A-а, приехали!.. Приехали!.. — взволнованно забасил мужчина. Голос у него прерывался, и мне было странно, что такой здоровяк может так волноваться.— С братом у меня плохо... Очень плохо, доктор,— сказал мужчина.— Вы ведь его как-то смотрели...
— Да, очень внимательно изучал вашего братца. И даже прописывал ему кое-что. Да, вообразите, прописывал! Но он- то, наверно, рецепты мои по ветру развеял: не верит ведь в медицину. А? Ведь не верит? — Дедушка говорил с успокоительной шутливостью в голосе. Он как будто даже не спешил в комнату к больному, давая этим понять, что не ждет ничего угрожающего.
И это подействовало на мужчину. Голос его перестал дрожать.
— Как же вы добрались? Жинка встречать вас пошла на дорогу. Неужели проглядела?
— Вообразите, я сам виноват,—развел руками дедушка.— Сказал— приеду, а на чем именно, спросонья не сообщил. Ребята вот на плоту меня доставили.
Мужчина хотел в знак благодарности пожать ему руку, но обе руки у дедушки были заняты ботинками. Он так и вошел в комнату, держа их впереди себя. Это было смешно, необычно и как-то сразу подняло настроение.
Мы с Сашей тоже вошли в домик — и я замер на пороге. У стены на узкой кровати, не умещаясь на ней (одно плечо было на весу), лежал Андрей Никитич. Лицо у него было се¬
301
рое, с каким-то синеватым оттенком, как тогда, в поезде, хотя здесь и не было синей лампы. Так вот как он близко от нас! Совсем близко...
— Андрей Никитич! — не удержавшись, вполголоса сказал я.
Андрей Никитич не услышал меня. Но дедушка быстро обернулся. Лицо у него было уже не спокойное, а сердитое, сосредоточенное.
— На улице подождите, молодые люди,— сказал он так, будто не знал наших имен и вообще был незнаком с нами.
Потом он поставил свои башмаки возле кровати, словно они принадлежали тому, кто лежал на ней. И, как будто желая поздороваться с Андреем Никитичем, взял его за руку. Но не поздоровался, а, весь обратившись в слух и шевеля губами, стал считать пульс.
Мы с Сашей вышли на улицу. Дедушка в ту ночь казался нам самым могучим человеком на земле, от которого зависели жизнь и смерть, горе и радость.
Мы так боялись помешать дедушке, с таким нетерпением ждали его выхода, что Саша даже не поинтересовался, кто такой Андрей Никитич и откуда я его знаю. А я сам не стал об этом рассказывать.
Я вспомнил, как Андрей Никитич, стоя у открытого окна в коридоре вагона, сказал: «Врачи советуют лечиться, в санаторий ехать. А я на охоту да на рыбалку больше надеюсь. Вот и еду... Если не вылечусь, перечеркнут мои боевые погоны серебряной лычкой — ив отставку. А не хочется мне, Сашенька, в отставку, очень не хочется...» Я вспомнил эти слова Андрея Никитича очень точно, и голос его вспомнил, и тяжелую, задумчивую походку...
«Почему же вы не поверили врачам, Андрей Никитич? Почему?»— подумал я.
Когда волнуешься или чего-нибудь ждешь, время тянется очень медленно, потому что думаешь все время об одном, не отвлекаешься, ничего кругом не замечаешь — и каждая секунда на виду.
Дедушка вышел на улицу тихо, все так же держа в руках
302
свои ботинки. Тихо вышел из комнаты и брат Андрея Никитича.
В ту же минуту откуда-то из темноты появилась женщина в сарафане и с растрепанными волосами, которые в беспорядке падали ей на плечи.
— Ну, как он? Как он? — не то заговорила, не то зарыдала она.— А я стою на дороге, стою... Все глаза проглядела. Ну, как он, доктор?
Дедушка опять спокойно и даже чуть-чуть насмешливо ответил:
— С лежачим-то с ним легче будет. Теперь уж он обязан подчиняться. А то ведь не сладишь с ним! Артиллерия, говорит, медицине не подвластна...— Внезапно дедушкин голос изменился— стал натянутым, сухим.— А могло быть худо. Совсем худо. Если бы вот не их плот!
Дедушка кивнул в нашу сторону.
НЕОЖИДАННЫЙ ЭКЗАМЕН
В конце концов Веник все-таки засыпался. Однажды Ангелина Семеновна, обеспокоенная его долгим отсутствием, совершила налет на поликлинику и все узнала. Она выяснила, что Веник уколов не делал и что сейчас их делать уже поздно, потому что если собака была бешеная, так и Веник в ближайшие дни непременно должен взбеситься.
Ангелина Семеновна уложила Веника в постель, хотя никто ей этого не советовал. Она не выпускала его из дому, чтобы он опять не попал под влияние «подозрительной компании» — так она называла Сашу, Липучку и меня.
Считая первым и самым главным признаком бешенства водобоязнь, Ангелина Семеновна заставляла Веника выпивать в день по десять стаканов чая и съедать по три тарелки супа, а когда он отказывался, она начинала ломать руки и кричать:
— Скажи мне правду, Веник! Скажи маме правду! Тебе страшно смотреть на суп, да? Страшно? А что ты испытываешь, когда я наливаю тебе чай?
зоз
— Меня тошнит,— отвечал Веник.
— Ну вот! Конечно! Все признаки налицо! — восклицала Ангелина Семеновна.
А Веника тошнило просто потому, что она сыпала в чай слишком много сахара: но ее сведениям, это обостряло умственную деятельность.
Но Веник уже не мог без нас. И вот, когда дней через десять дедушка впервые разрешил нам навестить Андрея Никитича, Веник удрал из дому, прибежал на берег Белогорки и отплыл вместе с нами на борту «Неистребимого».
На этот раз мы плыли к Хвостику утром. И снова посреди реки была золотистая, словно песчаная, дорожка, но только не лунная, а солнечная. И снова она никуда не сворачивала, а бежала себе все прямо и прямо, далеко-далеко...
Красота летнего утра настроила Липучку на поэтический лад, и она стала требовать, чтобы я прочитал свои новые стихи, которые были в той самой тетрадке под столом. Я отбивался как мог, говорил, что стихи еще-не закончены. Меня поддержал Веник. Он авторитетно заявил, что поэты никогда
304
не читают недоработанных произведений. И тогда Липучка отстала.
Андрея Никитича мы нашли не сразу. Днем все дома были похожи друг на друга, а огонька, который тогда, ночью, звал нас и указывал путь, сейчас уже не было.
Нам помог Саша. Он вспомнил, что в ту ночь сильно ушиб ногу, наткнувшись на бревна, сложенные возле самого дома Андрея Никитича. Сгоряча он даже не почувствовал боли, а потом палец у него покраснел, вздулся. Саша и сейчас еще слегка прихрамывал. Мы разыскали бревна и квадратный домик, похожий на часовенку.
Андрей Никитич был один: женщина с растрепанными волосами, которая, оказывается, была женой его брата, ушла на базар.
Андрей Никитич нам очень обрадовался. Но дедушка предупредил нас, что больному нельзя много разговаривать, и потому мы все кричали в четыре голоса: «Не разговаривайте, Андрей Никитич! Не разговаривайте! Мы вас не слушаем, не слушаем!..» И затыкали уши. В конце концов он смирился и сказал:
— Хорошо, давайте будем смотреть друг на друга.
И мы стали смотреть: он на нас, а мы на него.
Дедушка говорил, что он лучше всего определяет самочувствие больных по глазам.
У Андрея Никитича глаза были живые, лукавые — значит, дело шло на поправку.
Мы помолчали минут пять. Потом Андрей Никитич, как ученик в классе, поднял руку и глазами дал понять, что просит слова.
— Говорите! — разрешил Саша таким тоном, каким он командовал нами с капитанского мостика.
—* У меня вот просьба есть к Саше,— робко проговорил Андрей Никитич.
— Ко мне? Понятно.— Саша поближе подошел к кровати.
— Да нет, не к тебе.
— А меня, Андрей Никитич, тут в Шуру переименовали,— сообщил я.
— Переименовали? Кто же, интересно?
] 1 Библиотека пионера, т. 4
305
Я кивнул на Сашу.
— А почему ты его самого не переименовал?
Я неопределенно пожал плечами:
— Да не знаю... Он сказал мне: «Будешь два месяца Шурой». И я послушался.
— Послушался?—Андрей Никитич с уважением взглянул на Сашу.— Люблю мальчишек, которых слушаются. А просьба у меня все-таки к бывшему Саше, то есть к теперешнему Шуре.
Андрей Никитич сказал это таким тоном, что наш воспитанный Веник сразу все понял.
— Саша, Липучка!—сказал он.— Пойдемте подышим свежим воздухом.
— Нашел работу! Свежим воздухом дышать! — усмехнулся Саша.— Давайте уж лучше воды натаскаем. Я заметил в сенях пустые ведра.
Ребята зазвенели ведрами. А у меня, наверное, был до глупого гордый вид: сам подполковник-артиллерист с просьбой обращается! Но что же это за просьба такая?
— Просьба ерундовая. Пустяк,—сказал Андрей Никитич.— Письмо надо домой написать. А дедушка твой писать запрещает. Так я продиктую тебе. Идет?
Мне показалось, что из двери, которую ребята оставили открытой, сильно дует и вообще в комнате холодно.
Но Андрей Никитич был все-таки очень хорошим человеком: письмо он продиктовал короткое, и слова в письме были не такие уж трудные. Я сейчас точно не помню, о чем именно было письмо. Очень волновался, когда писал, потому и не запомнил. На содержание я не обращал никакого внимания, а на одни лишь безударные гласные.
И еще хорошо помню, что были в письме такие фразы: «Доктор говорит, что теперь у меня один маршрут — в санаторий... Меня навещает один мальчик, который приехал к своему дедушке, и его товарищи...»
Слова «маршрут» и «к дедушке» Андрей Никитич, конечно же, вставил нарочно. И я написал эти слова так четко, так ясно, как только мог — чуть ли не печатными буквами! В общем, устроил мне Андрей Никитич предварительный экзамен!
306
— Спасибо,— сказал он.— Теперь положи в конверт и наклей марку. Я тебе адрес продиктую. И на обратном пути опустишь. Идет?
— Как? Прямо в конверт? —растерянно пролепетал я. I I стал быстро соображать: что лучше — чтобы Андрей Никитич проверил сейчас письмо или чтобы не проверял?
А он, словно и не подозревая о моих сомнениях, сказал:
— Конверты в левом ящике стола. А клей на окне, в бутылочке.
И тут мне смертельно, «до ужаса», как говорит Липучка, захотелось узнать, сколько я сделал ошибок. Помогли мне хоть немножко занятия с Сашей или нет?
Вы, Андрей Никитич, лучше проверьте. Может, я напутал что-нибудь... Или пропустил. По рассеянности...
— У тебя уже есть рассеянность? — удивился Андрей Никитич.— Это же старческая болезнь. Ну ладно. Если просишь, прочту.
Он взял листок из моих дрожащих, перепачканных чернилами рук. Сперва все шло хорошо. Андрей Никитич спокойно водил глазами по строчкам. Но вдруг он сказал:
— Дай-ка сюда перо.
«Так! Первая есть!» — подумал я и заложил один палец на правой руке. Еще мне пришлось заложить три пальца. Значит, я все-таки кое-чего добился: ведь раньше, когда я начинал считать свои ошибки, мне не хватало пальцев не только на руках, но даже на ногах.
— Выручил ты меня. Спасибо,—сказал Андрей Никитич.—* Теперь сам еще раз прочти. Не очень ли я родных разволновал?
«Все понятно! Хочет, чтобы я на свои ошибки обратил внимание»,— догадался я. И прямо впился глазами в злосчастные слова, исправленные Андреем Никитичем. А потом, дома, я раз десять переписал эти слова в тетрадку.
Ребят притащила в комнату женщина с растрепанными волосами.
В это утро волосы ее были аккуратнейшим образом скручены в косу, но прозвище так за ней и осталось. Значит, это верно говорят, что первое впечатление — самое сильное.
307
Женщина с растрепанными волосами долго благодарила нас, называла хорошими ребятами, очень сознательными и добрыми — в общем, говорила такие вещи, которые мне поче- му-то всегда бывает стыдно слушать. Потом она взглянула на часы и извиняющимся голосом сказала:
— Андрею Никитичу, понимаете ли, спать нужно.,.
— Что я, дошкольник, что ли? Днем спать! — пытался заспорить Андрей Никитич.
Но женщина сердито тряхнула косой, и он сразу стал прощаться с нами:
— Приходите, ребята, почаще. И ты, Веник, приходи. В шахматы с тобой сыграем. В поезде-то не успели. И маме привет передай.
Веник был просто счастлив, что Андрей Никитич забыл все вагонные споры и так хорошо сказал о его маме.
До самого берега наш солидный Веник бежал вприпрыжку.
На обратном пути Липучка опять пристала ко мне со стихами. А Веник стал еще горячее защищать меня: у него было хорошее настроение. Он сказал, что я в Москве «обобщу все свои впечатления» и напишу «цикл белогорских стихов». И еще он сказал, что в творчестве Пушкина был период Болдинской осени, а в моем будет период белогорского лета. Эта мысль мне очень понравилась.
— Верно! Я все обобщу и пришлю из Москвы,— пообещал я Липучке.
Но, когда мы подплыли к Белогорску, настроение у Веника сразу испортилось: на берегу, возле нашего шалаша, стояла Ангелина Семеновна!
— Дрейфовать здесь, к берегу не подходить! — с капитанского мостика приказал Саша.
Веник безнадежно покачал головой:
— Вы не знаете мою маму. Она не уйдет отсюда до следующего утра. Она не простит мне этого побега!
Но Веник ошибся. С берега вдруг поплыли самые ласковые и нежные звуки.
— Веничка, милый мой мальчик! — кричала Ангелина Семеновна.— Оглянись по сторонам!
308
Веник огляделся.
— Тебе не страшно? Ты не боишься?
— Боюсь... тебя! — крикнул Веник.
— Меня? Свою маму? Глупый ребенок! А воды... воды ты не боишься?
— Не боюсь!
— Честное пионерское?
— Честное пионерское!
— Значит, ты здоров? Совсем здоров?
Нам ничто не грозило, и Саша приказал пришвартовываться.
Как только мы вылезли на берег, из шалаша с лаем выскочил, видно, хорошо отоспавшийся и потому, как никогда,
бодрый шпиц Берген.
— Милая собачка!—сказала Ангелина Семеновна. Она с нежностью гладила нашего Бергена, словно благодарила его за то, что он оказался не бешеным, а самым нормальным псом.
Потом она стала так же нежно и даже еще нежнее гладить своего Веника. Она смотрела на него так, будто он долго-долго не был дома и вот только что, минуту назад, сошел с поезда или с парохода.
Как ты загорел за эти месяцы! — говорила Ангелина Семеновна, прямо-таки с любопытством разглядывая сына.— Как у тебя мордочка округлилась!
— Мама, при чем тут мордочка? — вдруг осмелев, сказал Веник.— Я же все-таки не шпиц Берген!
— Не сердись на маму. Ты очень хорошо выглядишь. И это, естественно, радует ее!
В самые трогательные минуты Ангелина Семеновна начинала говорить о себе в третьем лице. Я это еще в поезде заметил.
— Да, ты очень поправился. И как-то возмужал, окреп! И Саша тоже...— Ангелина Семеновна впервые ласково взглянула на меня.— В Москве вас просто не узнают!
А мне вдруг стало грустно. Слова Ангелины Семеновны напомнили Мне о том, что дни стали уже заметно короче, что лето подходит к концу и что скоро мне придется прощаться
309
с Сашей, с дедушкой, с Липучкой... И с этим плотом, качающимся на легких речных волнах, и с этим зеленым холмом... Я вдруг наклонился и поцеловал Бергена в мокрый шершавый нос.
ДВА ПИСЬМА
«Здравствуй, Шура!
Только что я вернулся из школы. Сдавал переэкзаменовку. В классе проверять работы не полагается, но я упросил Нину Петровну. И она проверила. Ясное дело, есть ошибки. Но мало. И Нина Петровна поставила мне четверку.
Мне бы не видать этой четверки как ушей своих, если бы не ты, Шура. Спасибо тебе! Приезжай в будущем году обязательно. Построим новый плот и уйдем в далекое плавание. Понятно? Саша».
«Дорогой Саша! Мне стыдно писать это письмо. Но я все должен рассказать тебе. Всю правду! У меня ведь тоже была переэкзаменовка по русскому языку. Только я постеснялся сказать об этом. Ты вот не постеснялся, а я постеснялся...
И еще я про стихи наврал. Мало ли на свете Сашек Петровых! Вот какой-то из них и пишет стихи, а вовсе не я. Да ведь я теперь и не Саша вовсе, а Шура. Дома меня тоже так будут называть, потому что мама вдруг открыла, что я приехал из Белогорска «совсем другим человеком». Не очень-то понимаю, что она этим хочет сказать...
Сегодня я сдавал переэкзаменовку. Получил всего тройку. А ты четверку? Но ничего! Ведь часто так пишут: «Ученик превзошел своего учителя!..»
* * *
История эта случилась три года назад. Я сразу хотел записать ее. Но не решился: боялся насажать много ошибок. А сейчас вот записал.
И до того я расписался, что захотелось мне рассказать вам еще и о том, что произошло следующим летом, то есть ровно через год...
Чаешь вторая
ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ВЕЛОСИПЕДА
„ПРИЕЗЖАЙ НЕМЕДЛЕННО"
В телеграмме было всего два слова: «Приезжай немедлен- но». И никакой подписи. Но я сразу понял, что это от Саши и что на подпись у него просто не хватило денег. По цифрам вверху телеграммы я высчитал, что она была послана из Бе- логорска полтора часа назад.
Я никогда в жизни еще не получал телеграмм. Только ко дню рождения от дедушки — и то они всегда приходили на мамино имя, словно она родилась в этот день, а не я... А туг, на узкой бумажной ленточке, приклеенной к бланку, было черным по белому напечатано: «Шуре Петрову». Это было приятно. Но и очень тревожно: ведь я знал, что телеграммы
311
посылают только в самых крайних случаях, когда нужно сообщить что-нибудь очень срочное. И если в обыкновенном письме написано «Приезжай немедленно», то можно еще подумать, ехать или нет, а уж если это написано в телеграмме — значит, надо не просто ехать, а прямо мчаться на всех парах, тут же, не теряя ни одной минуты!
Но мчаться на всех парах я никак не мог, хотя позавчера и наступили уже летние каникулы. Дело в том, что в ящике папиного письменного стола лежал один очень важный документ, который мешал мне немедленно выполнить Сашину просьбу, звучавшую как короткий военный приказ. Еще недавно я вытаскивал этот документ по десять раз в день, разглядывал его со всех сторон, вслух перечитывал каждую строчку — и от радости не мог начитаться... Сейчас я тоже вынул сложенный вдвое небольшой лист плотной глянцевитой бумаги, но посмотрел на него грустно и даже с упреком. Снаружи на бумаге было голубое море, и дворец с колоннами, который тоже был голубым, и пальмы с кипарисами — тоже совсем голубые. А внутри было написано, что пятнадцатого июня я должен прибыть в детский санаторий на берег Черного моря и что передавать путевку «другому лицу» я не имею права. И еще стояла чья-то зеленая подпись и еще лиловая круглая печать — так что мне показалось, что не ехать по этой разноцветной путевке я уже не могу, что, если я не поеду, меня просто силой притащат под голубые кипарисы, в голубой дворец на берегу голубого моря...
Что было делать?! Ведь я знал, что Саша не станет посылать телеграмму просто так: уж если он написал «Приезжай немедленно» — значит, случилось что-то ужасное, значит, кого- то надо спасать... Правда, кого и от чего я мог спасти —было не совсем ясно. Но ясно было одно: я не могу оставить друзей на произвол судьбы, я не могу не приехать к ним на помощь! Я должен пожертвовать всем на свете — и даже голубыми кипарисами. Но как пожертвовать?!
К путевке была приколота медицинская справка о том, что мне «не противопоказана поездка на юг в летние месяцы». И вдруг меня осенило: надо, чтобы эта поездка была мне категорически противопоказана! Тогда, все будет в порядке, то¬
312
гда я смогу выехать в Белогорск, как требует Саша, «немедленно». Но кто же может зачеркнуть маленькое «не» и оставить одно только слово — «противопоказана»? Конечно, врач. Но какой? И тут я вспомнил о дяде Симе.
«Дядя Сима»—это звучит немного странно. Лучше бы звучало: «тетя Сима». Но что поделаешь, если даже мама так звала старого дедушкиного друга, тоже врача, который лечил ее в Белогорске, когда она была еще совсем маленькой, а сейчас жил в Москве очень близко от нас — за бульваром. Дядя Сима знал дедушку уже лет тридцать. И хотя давно уехал из Белогорска, но они ни на один день не расставались. А я этому помогал! Сейчас расскажу, как именно...
Мой дедушка очень любит играть в шахматы. Правда, играет он не очень сильно. И даже я прошлым летом из пяти партий выиграл у него три с половиной (четвертую партию я до конца выиграть не успел, потому что дедушку вызвали к больному). Но зато дедушка очень хорошо изучил теорию шахматной игры. Он не просто переставляет фигуры, а всегда знает, когда, в каком году и даже в каком городе подобный ход точно в такой же ситуации сделал какой-нибудь великий шахматист. И меня только всегда очень удивляло, почему это великие шахматисты выигрывали, а дедушка, делая абсолютно те же самые ходы, проигрывал. Но не в этом дело... Дело в том, что раньше, когда дядя Сима жил в Белогорске, они с дедушкой буквально каждый вечер сражались за шахматной доской. Они так к этому привыкли, что и потом, когда дядя Сима переехал в Москву, продолжали свои матчи. Только длились эти игры очень долго, по целым месяцам, потому что противники сообщали друг другу свои ходы по почте. Дядя Сима играл еще хуже дедушки, но играть им друг с другом было интересно, потому что оба они очень хорошо знали теорию.
В квартире у дяди Симы было много соседей, и некоторые из них, наверное, тоже интересовались шахматной теорией, потому что дедушкины письма часто пропадали. Из-за этого шахматные соревнования Москва—Белогорск чуть было не кончились навсегда, но тут я пришел на помощь! Дедушка стал присылать письма со своими ходами к нам домой, а я в
313
тот же день срочно доставлял их дяде Симе. Иногда, когда дедушка делал уж очень странные ходы, я их чуть-чуть подправлял. Дедушка в письмах возмущался и говорил, что неблагородно «сражаться целой семьей против одного дяди Симы». Но дело опять же не в этом, а в том, что я таскал письма через бульвар и дядя Сима, получая их, часто повторял, что он у меня «в неоплатном долгу».
Я вспомнил об этом в тот самый день, когда пришла Сашина телеграмма.
Я РЫДАЮ
Дядю Симу все называли глубоко интеллигентным человеком. Он был глубоко интеллигентным весь, буквально с ног до головы: интеллигентной была его лысина, интеллигентными были роговые очки с толстыми стеклами, интеллигентным был его невысокий рост. (Мне вообще казалось, что высокие люди спортивного вида выглядят не так интеллигентно, как невысокие и щупленькие, вроде нашего Веника.)
Дядя Сима был до того интеллигентным, что даже называл меня на «вы». И вообще разговаривал со мной, как с абсолютно взрослым человеком. («Вы меня, мой дорогой друг, очень обяжете, если и в следующий раз тоже сообщите очередной ход вашего дедушки. Наша партия обещает быть весьма любопытной...») Он так прямо и называл меня: «Мой дорогой друг!» Или сокращенно: «Друг мой!»
«А для дорогих друзей полагается, между прочим, делать все, чего они только не пожелают!—рассуждал я.— Особенно, если они, как почтальоны, таскают вам письма с шахматными ходами. Но, к сожалению, иметь дело с неинтеллигентными людьми гораздо проще и легче, чем с такими интеллигентными, как дядя Сима: он ведь ни за что не захочет, просто не сможет хоть чуточку схитрить. И даже для своего «дорогого друга», то есть для меня. Значит, нельзя рассказывать ему всю правду. Значит, нужно сперва немножко обхитрить его самого, чтоб уж он потом, сам того не замечая, немножко обхитрил моих родителей...»
С таким решением я и явился к другу своего дедушки. Но
314
сейчас уж не дедушка, а я сам должен был делать разные умные ходы, чтобы обыграть, или, как говорят у нас в шахматном кружке, «обставить», дядю Симу. И я начал...
— Дядя Сима, я должен открыть вам одну тайну!
Дядя Сима сиял .очки, словно для того, чтобы я мог получше разглядеть его глаза. А глаза эти говорили: «Ваша тайна, мой дорогой друг, умрет со мною. Ни под какой, даже самой жестокой пыткой я не выдам ее!»
— Знаете ли, дядя Сима, я очень плохо переношу жару...
— Вам кажется, друг мой, что здесь жарко? Это потому, что вы волнуетесь. Потому что хотите рассказать мне нечто важное...
— Я уже все рассказал!
— Как? Это и есть ваша тайна?
— Да.
— То, что вы плохо переносите жару?
— Вот именно!
— Но от кого же это надо скрывать? И почему?
— От моих родителей... От мамы и папы! Ведь я должен ехать в санаторий, на юг, а если они узнают, что я так плохо... так тяжело переношу жару, они меня туда не пустят! А я очень хочу поехать. Это — моя заветная мечта с самых, как говорится, младенческих лет!
Дядя Сима вернул очки на нос. И задумчиво потер пальцами свою блестящую, словно отполированную, лысину:
— Но ведь со здоровьем, друг мой, шутки плохи. У вас, видимо, шалят нервы.
— Шалят, дядя Сима!
— Ив чем это конкретно выражается?
Я очень хорошо знал, как шалят ребята у нас в классе или во дворе, и мог бы описать это во всех подробностях, но как именно шалят нервы — этого я не знал. И тогда добрый дядя Сима поспешил мне на помощь:
— Не чувствуете ли вы, друг мой, быстрой утомляемости? Повышенной сонливости?
— Да, я очень быстро утомляюсь. И все время испытываю повышенную сонливость. Вот, например, на уроках я даже иногда покалываю себя перышком, чтобы не уснуть...
315
— А не бывает ли у вас по ночам тяжелых сновидений? Не кричите ли вы во сне?
— Кричу! Не так уж часто, но кричу..* И даже очень громко! Только мама с папой не слышат, потому что они сттят в другой комнате, а бабушка — потому что она у нас глуховата.
— Ну, а как дела с аппетитом?
Дела с аппетитом обстояли у меня прекрасно, но я тихо и грустно ответил:
— Пища вызывает у меня, дядя Сима, физическое отвращение. Но я ем! Через силу!.. И иногда даже прошу добавки, чтобы не огорчать родителей. И чтобы не обижать бабушку: ведь она целый день возится на кухне.
— Та-ак... Это мы поправим. А не потеют ли у вас руки?
— Потеют. Еще как потеют!..
— Покажите, пожалуйста... Нет, сейчас у вас абсолютно сухие ладони.
— Это потому, что я недавно вытер их носовым платком. А вообще-то я всегда хожу такой потный, что даже противно делается.
— Ничего, это мы исправим. (Дядя Сима не только меня называл на «вы», но и о себе самом иногда говорил — «мы».) Ну, а не замечали ли вы за собой также повышенной слезливости? Этакой беспричинной плаксивости?
— Стыдно сказать, дядя Сима, но... я очень часто плачу. Даже в детском саду, помню, меня дразнили плаксой-ваксой,
— Ну-у, это было давно...
— Но продолжается и до сих пор! Я стараюсь скрыть эти свои... беспричинные слезы от окружающих. И поэтому очень часто смеюсь... Чтобы не заплакать! Понимаете?
— Понимаю. Сейчас мы кое-что проверим. Правда, у меня дома нет всех необходимых инструментов. Но кое-что...
Дядя Сима достал серебристый молоточек с черной резиновой головкой и предложил мне сесть на стул, положив ногу на ногу. Когда же он слегка стукнул меня этим молоточком по коленке, я так дернул ногой, что бедный дядя Сима чуть не отлетел в сторону.
316
— Какая повышенная возбудимость! — ио-докторски задумчиво, как бы про себя, тихо проговорил он.
Потом он приказал мне с закрытыми глазами вытягивать руки прямо перед собой, широко растопыривая при этом пальцы. Но я так стремительно раскинул руки в стороны, что снова чуть не сшиб с ног интеллигентного дядю Симу.
— Простите, пожалуйста,— тихо извинился я.
— Вас нужно не прощать — вас нужно лечить! И мы займемся этим делом... Что же касается юга в разгар летней жары, то это категорически исключено! Не знаю только, как же вам удалось пройти медкомиссию.
— А я, знаете ли... целый месяц перед этим тренировался: ногу к ноге прижимал, даже веревкой привязывал, а ребята меня, значит, по коленке чем попало колотили. И руки перед собой каждый день, как по команде, вытягивал. А сейчас вот немного времени прошло — и разучился.
— Та-ак... Понятно. Но я-то обманывать ваших родителей не собираюсь. Завтра же вечером зайду к ним: вы не должны ехать на юг ни в коем случае.
— Я вас прошу... Ведь это — моя заветная мечта с самых младенческих лет...
Я опустил голову. А сам в этот момент решил, что до завтрашнего вечера я должен дома как можно быстрей утомляться, как можно сильней раздражаться* плакать безо всякой причины, потеть и обязательно орать во сне... С этими мыслями я и вернулся домой.
Когда бабушка усадила меня обедать, я через силу проглотил несколько ложек борща и со вздохом отодвинул тарелку. Это было настолько неожиданно, что бабушка даже пощупала мой лоб, который был абсолютно холодным. Тогда она успокоилась и решительно потребовала:
— Ешь! Не буду же я тебя, как маленького, уговаривать: «За маму, за папу, за бабушку!..»
— Нет, не уговаривайте меня! Не упрашивайте! И не принуждайте!..— громко воскликнул я. И разрыдался...
Я плакал очень шумно, но без слез, и это как-то особенно испугало бабушку. Она принесла мне стакан холодной воды, и я несколько раз с глухим звоном укусил зубами стекло, как
317
это делала красивая артистка в одном заграничном фильме, который дикторша по телевидению не рекомендовала мне смотреть.
А вечером я вдруг совершенно неожиданно уснул у телевизора, когда шла веселая передача, которую мне как раз смотреть рекомендовали.
— Что-то с ним происходит,— услышал я взволнованный шепот бабушки.— Днем не захотел обедать... Разрыдался безо всякой-причины. Сейчас вдруг заснул... У телевизора!
Тут я встрепенулся и, громко зевая во весь рот, сказал:
— Какая-то у меня стала повышенная сонливость. Я пойду лягу...
— Совсем? — удивилась мама, которая всегда с величайшим трудом загоняла меня в постель.
— Да, совсем...
Я хотел лечь в этот день пораньше: я знал, что ночью мне нужно будет проснуться и немного покричать во сне.
Но ночью я покричать не сумел, потому что проспал, и завопил уже под самое утро.
Папа, который в это время бесшумно занимался своей утренней зарядкой, прямо в трусах и майке влетел ко мне в комнату:
— Тише ты! Маму с бабушкой разбудишь!
— Я же не виноват: это помимо моей воли. Это же во сне...
— Брось валять дурака! — махнул рукой папа, который пока еще относился к моему здоровью не так внимательно, как добрый и глубоко интеллигентный дядя Сима. Да, «пока еще» — потому что он не знал об угрожающем состоянии моей нервной системы. Это стало известно ему только 'вечером, когда к нам явился старый дедушкин друг.
Мама, пошептавшись с ним, чересчур веселым голосом предложила мне пойти погулять. Папа, который всегда был против секретов и вообще считал, что я уже взрослый парень и со мной можно обо всем говорить напрямую, постарался удержать меня:
— Ничего! Пусть посидит вместе с нами. Послушает!
Мама несколько раз очень выразительно взглянула на него. А я, хотя в подобных случаях мне всегда очень не хотелось
318
уходить во двор, сделал вид, что ничего не понимаю, и послушался маминого совета.
Через час меня вызвали обратно... Все четверо — мама, папа, бабушка и дядя Сима — сидели за столом. У мамы на щеках были красные пятна, и мне ее стало очень жалко. А папа сердито уткнулся в газету, словно предстоящий разговор его совершенно не интересовал. Мама начала издалека подготавливать меня к удару:
— Неужели ты не соскучился по своим прошлогодним летним друзьям: по Саше, по Липучке? По дедушке?..
— Соскучился...
— Вот видишь! И вообще, этот чудесный городок, где прошло мое детство, моя юность... Разве есть на земле место очаровательнее?
Папа вдруг отбросил газету в сторону:
— На земле есть места очаровательнее! Гораздо очаровательнее, чем городок, где прошло твое детство. Открыли вечер воспоминаний! Да что он, девчонка, что ли? Сделали из него неженку, неврастеника. Надо с ним прямо разговаривать, по- мужски. И прямо ему заявить, что на юг ехать нельзя. По временному состоянию здоровья. Еще успеет! Я в его годы тоже не катался по южным курортам. А в Белогорске будет прекрасно: река, лес, свежий воздух. Вот и все.
— Постоянное наблюдение опытнейшего врача... родного дедушки, Петра Алексеевича,— тихо вставил интеллигентный дядя Сима.
— Не нужно ему никакого «постоянного наблюдения»!— загремел папа.— Пусть хронические больные находятся под «постоянным наблюдением». А он абсолютно здоровый парень. Ну, переутомился немного за зиму. Ну, нельзя ему на юге поджариваться — это я понимаю. Вот пусть в Белогорске на свежем воздухе и окрепнет!
— Как — в Белогорске?! — тихо и испуганно, словно только что придя в себя и еще не веря своим ушам, проговорил я.— В каком Белогорске? Ведь я же поеду на юг... к морю...
— Не поедешь!—отрезал папа.
— Но ведь я так мечтал!..
319
В носу у меня вдруг всерьез защекотало. В эту минуту мне и в самом деле стало нестерпимо жалко расставаться с разноцветной путевкой, на которой были голубые кипарисы, и голубой дворец с колоннами, и чья-то зеленая подпись, и лиловая печать... Когда-то мне еще достанут такую?! Но отступать уже было поздно.
— Не волнуйся, не волнуйся, миленький*.. Тебе нельзя нервничать! —Мама подскочила ко мне, обняла и стала поглаживать по голове.
— Вот-вот! От такого воспитания не только во сне — наяву заорешь на всю квартиру! — возмутился папа.
— И как ты всегда непедагогично, в лоб, без всякой подготовки!— ответила мама, обнимая меня и словно защищая своими руками от папиной «непедагогичности».
— Он — мужчина! И должен понять...— ответил прямолинейный папа, вызывая укоризненные покачивания головы даже у глубоко интеллигентного дяди Симы.
Одним словом, через два дня я выехал в Белогорск.
ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ВЕЛОСИПЕДА...
Когда поезд подходит к станции, пассажиры всегда прилипают к окнам, а глаза у всех так и бегают, так и шарят по перрону: всем хочется, чтобы их встретили. А если тебя никто не встречает, то это очень грустно, особенно если приезжаешь в чужой город.
Когда я прошлым летом первый раз приехал в Белогорск, меня никто не ждал на вокзале. А Саша, которому было поручено это дело, потом уж, когда я сам добрался до дедушкиного дома, сказал: «Что ты, иностранная делегация, что ли?» В этом году я тоже не был иностранной делегацией, но еще на ходу поезда разглядел на перроне сразу трех встречающих. Да, целых трех, словно я был не просто «делегацией», а каким-нибудь, как пишут в газетах, «высоким гостем».
Я хотел закричать, чтобы меня заметили... Но заметить меня не могли, потому что окно плотно загородили две полные дамы, наверное «дикарки», которые приехали отдыхать в Бе-
320
логорск «диким способом». Я с трудом разглядывал уже знакомый перрон сквозь щелочку между цветастыми сарафанами «дикарок». И закричать я тоже не мог, потому что голос мой от волнения куда-то провалился, исчез, — и я только беззвучно разевал рот, как. рыба, выброшенная из реки на берег. А там, на перроне, бежали за моим вагоном, пристально заглядывая во все окна, Саша, уже загорелый, хотя лето еще только начиналось, и восторженная, вечно размахивающая руками Олимпиада, или просто Липа, по прозвищу Липучка, и... сам подполковник Андрей Никитич.
Верней сказать, бежали Саша и Липучка, а Андрей Никитич шагал большими шагами, поспевая за моим вагоном.
Да, да, тот самый Андрей Никитич, с которым я в прошлом году познакомился в поезде, по пути в Белогорск, и которого мы с Сашей потом спасали от сердечного приступа. Только Андрей Никитич был уже не в кителе, не в галифе и не в сапогах, а в обыкновенных брюках и белой спортивной майке.
Поскольку в окно меня все равно не было видно, я раньше всех протиснулся к выходу и спрыгнул на перрон.
— Ой, вот он! Вот он! — первой закричала Липучка, да так пронзительно, что все пассажиры в окнах и все встречающие на миг повернули голову в мою сторону.
А потом я хотел на радостях поцеловать Сашу, но он даже на радостях целоваться со мною не стал, а просто крепко пожал мне руку, потом похлопал меня по плечу, точно он был начальником, а я его подчиненным, и коротко похвалил:
— Молодец, что приехал!
— Да, молодец! — подтвердил Андрей Никитич, тоже сильно пожимая мне руку.
А Липучка приподнялась на цыпочки и, на глазах у всех, полезла целоваться. Она поцеловала меня в обе щеки, в лоб и даже в нос... Лицо у нее было горячее, воспаленное.
— Что это у тебя? — спросил я, только сейчас заметив у нее на лице какие-то жаркие красные пятна и мелкие пузырьки.— На солнце, что ли, перегрелась?
Я заметил, что Саша и Андрей Никитич таинственно ухмыльнулись, а Липучка растерянно потрогала свои пузырьки.
321
— Сами повыскакивали... Противно, да?
— Ничего. Тебе даже идет: оригинальные такие...—успокоил я Липучку и, повернувшись к Саше, задал вопрос, который прямо распирал меня с той минуты, когда я получил телеграмму с коротким приказом «Немедленно приезжай»:— У вас что-нибудь случилось? Какая-нибудь беда?!
— А ты что, «скорая помощь», что ли, чтобы тебя на выручку вызывать? — с усмешкой ответил Саша. (Я сразу вспомнил характер своего прошлогоднего друга.)
— А зачем же тогда... телеграмма? Я на юг не поехал...
— Ах, ты жертву принес? — все тем же тоном продолжал Саша.— Ну, прости, пожалуйста, что у меня шапки нет или какой-нибудь там тюбетеечки, а то бы голову перед тобой обнажил и в пояс тебе поклонился до самого пупа! Да зна¬
322
ешь ли ты, для какого дела тебя вызвали? Тут не только югом —севером и то пожертвовать можно! Это видел?..
Саша дотронулся до своей руки чуть повыше локтя, а там, выше локтя, и у него, и у Липучки, и у Андрея Никитича были красные повязки с тремя белыми буквами — «ЧОС». Я еще из вагона приметил эти повязки, но не успел спросить о них.
— Вы, наверно, дружинники, да? А что это за белые буквы?
— Мы — члены Общественного совета! — гордо произнес Саша.
— А члены Общественного совета должны быть, мне кажется, людьми вежливыми, деликатными,— вмешался в разговор Андрей Никитич, который до сих пор стоял чуть в стороне и молча наблюдал за нашей беседой.— Зачем же кидаться на гостей? Надо быть гостеприимными!
— Сашка всегда такой! — сердито глядя на своего двоюродного брата, сказала Липучка.— А ты, Шура, не обращай внимания! — Она вновь приподнялась на цыпочки и снова поцеловала меня в щеку.
— Вот Липучка его уже пятый раз поцеловала... за нас всех,— проворчал Саша.
— А ты считал? — Липучка зло повернулась к нему.
— Считал: ты его пять раз, а он тебя — ни разу. Где же твоя, как говорится, женская гордость?
— Ох, и вредный ты!
— Ладно! Идем скорее, а то заждались там «наши общие колеса».
— Что? Что?! Какие колеса? — не понял я.
— Сейчас узнаешь!
Мы вышли на небольшую площадку перед станцией. И вновь я увидел глубокую-глубокую, всю в солнечных окнах, березовую рощу. И воздух был все тот же: свежий, чуточку прохладный, словно только что пролился на землю веселый летний дождь. И вновь по этому особенному воздуху угадывалась река, которой не было видно, потому что она пряталась за березовой рощей.
На площадке стоял новенький мопед, покрашенный такой аппетитной сиреневой краской, что его хотелось погладить ру¬
323
кой или даже лизнуть языком. А к мопеду была приделана старая мотоциклетная коляска, на которой тоже сиреневыми буквами, только уже не такими аппетитными, было написано: «Наши общие колеса!»
— Сперва Андрея Никитича отвезу, а потом за вами приеду,— сказал Саша, деловито взбираясь на треугольное кожаное сиденье.
— Нет уж, вы гостя везите «до дому, до хаты», а я—пешим ходом.— Андрей Никитич похлопал себя по боковому кармашку спортивной майки,— Пусть оно у меня подышит немного...
— Болит? — участливо спросил я.
— Болит не болит, а... как бы это объяснить тебе? Ну, ты вот чувствуешь, что у тебя здесь, с левой стороны, есть сердце?
— Нет! — решительно ответил я* потому что действительно никогда этого не чувствовал.
— А я вот все время его ощущаю... И не в переносном, а в самом что ни на есть буквальном смысле слова. И такое оно у меня тяжелое, что даже дышать трудно. Так что я уж прогуляюсь: авось полегчает немного.
Андрей Никитич зашагал к городу, а мы начали рассаживаться. Саша предложил, чтобы я, как гость, сел в коляску, а Липучка забралась ко мне на колени и держала в руках мой чемоданчик. Но Липучка отказалась.
— Ой, что ты, Саша!..— как-то смущенно воскликнула она.— Он же меня не удержит: я тяжелая!
— Стесняется,— шепнул мне Саша. И в самое ухо добавил:— Она влюблена в тебя!
— Что-о?!
Я с интересом, будто на какую-то совершенно незнакомую девчонку, взглянул на Липучку, которая смело забралась на неудобное металлическое сиденье, приделанное к задней раме.
— Ноги в спицах запутаются,— сказал Саша,
— Вот еще! Я — привычная...
— Ну, смотри!
Я опустился в глубину коляски, мопед застрекотал, и мы поехали.
324
То, что Липучка, оказывается, была в меня влюблена, как- то очень странно на меня подействовало. Я вдруг заметил, что у меня худые руки, без малейших признаков мускулов («Лапша!»— как говорил папа), и накинул на плечи курточку, хотя было очень тепло. Помимо воли я стал следить за своим собственным голосом, и Саша даже удивленно спросил: «У тебя насморк, что ли?» Я неожиданно вспомнил о том, что фотограф, снимавший меня как-то в фотоателье вместе с мамой и папой, сказал: «Тебя лучше брать в профиль!» И я старался теперь поворачиваться к Липучке профилем, который, наверное, был у меня красивее, чем все лицо целиком.
Я знал, что вот сейчас мы обогнем березовую рощу — и сразу увидим Белогорск... И мы его в самом деле увидели, и мне снова показалось, что городок взбежал на высокий зеленый холм, но некоторые домики не добежали до вершины и остановились на полпути, на склоне, чтобы немножко передохнуть. И еще я увидел большой зеленый щит на краю дороги, которого не было в прошлом году. Он был разрисован зеленой краской, и на этом фоне, словно на густой, сочной траве, большими красными буквами было написано: «Товарищ! Ты въезжаешь в город, который борется за звание города высокой культуры!» Саша торжественно ткнул пальцем в этот плакат:
— Вот для чего мы тебя вызвали! Понятно? Потому что мы тоже боремся... И ты будешь бороться. Будешь?
— Буду! — ответил я.
Липучка так радостно заерзала на своем неудобном металлическом сиденье, что ноги ее замелькали где-то возле самых спиц.
— Осторожно!—предупредил я Липучку, стараясь, чтобы голос мой при этом звучал не взволнованно и заботливо, а строго и покровительственно.
Я вообще решил, что буду теперь вести себя с Липучкой не так просто, как в прошлом году. И что при первом же удобном случае обязательно объясню ей (как это сделал Евгений Онегин в опере, которую я смотрел по телевизору), что люблю ее всего-навсего «любовью брата», то есть так же, как Саша, который и в самом деле был ее двоюродным братом.
■— Мы тебя то>ке примем в совет... Если заслужишь! — сказал или, вернее, крикнул Саша, потому что мы все не разговаривали, а кричали, чтобы заглушить стрекотание мопеда.
— А вы чем заслужили?
— Делами! — крикнул Саша.
— Какими?
— Очень важными!
— Ты расскажи ему, как у нас все началось,— вмешалась Липучка.
«Заботится! Хочет, чтобы я обо всем узнал по порядку, с самого начала!..— От этих мыслей мне почему-то стало очень приятно.— А хорошо, когда тебя любят!» — подумал я.
— Все началось с велосипеда! Вот с этого самого!—крикнул Саша.
— То есть с мопеда?
— Нет, он еще тогда был велосипедом. Это уж мы потом его сами в мопед переделали и коляску приспособили... Его Андрей Никитич своему племяннику подарил. Как совсем сюда переехал, так и подарил: врачи-то ему самому кататься запретили. Понятно?
— Понятно. А разве у него тут есть племянник?
— Есть! Кешка-Головастик... Только ты его в прошлом году не видел: он в поход с ребятами уходил.
— Головастик?
— Прозвище такое. У него голова большая, лобастая, и все время из нее всякие идеи наружу выскакивают. Кешка за один час столько всего напридумать может, что тебе и за год не придумать!
— А тебе?
— И мне тоже...
Мне почему-то было неприятно, что Саша в присутствии Липучки нахваливает какого-то незнакомого мне Головастика.
— Противное прозвище! Головастик! — прокричал я, заглушая стрекотание мопеда.— Лягушечье какое-то...
— Ой, Шура, ты не прав! — снова вмешалась Липучка.— Это же от слова «голова» происходит, а голова — самое главное в человеке!
326
— Главное — это сердце! — неожиданно для самого себя возразил я.— Душа должна быть у человека!..
Эти, мои слова произвели на Липучку большое впечатление, она замолчала и даже перестала ерзать на своем неудобном сиденье. А Саша продолжал:
— Всем на этом новеньком велосипеде покататься хотелось! Мы даже расписание завели: кто за кем катается. И Кешка-Головастик тогда придумал... «Давайте, говорит, детский общественный транспорт создадим! Общий гараж устроим, свезем туда все велосипеды: и двухколесные, и трехколесные,— и самокаты тоже, и педальные автомобили... И все будем пользоваться поровну!» Так мы и сделали! У нас старый сарай был, в котором раньше дрова хранились, мы его подремонтировали и в гараж превратили. Понятно?
— Это здорово!..
Мне было не очень удобно слушать Сашу, потому что стрекотал мопед, посвистывал ветерок и я все время сидел «в профиль», не поворачивая головы. И все-таки я не пропускал мимо ушей или, вернее сказать, мимо своего левого уха, находившегося по соседству с Сашей, ни одного слова. А Саша, который всегда был таким сдержанным и немногословным, тут вдруг никак не мог остановиться — все продолжал рассказывать:
— Много разных названий для гаража перебрали: «Пио- нертранссарай», «Садись — и катись!», «Наши общие колеса!». Вот на этих самых «колесах» и остановились. Теперь на всех наших самокатах, велосипедах и мопедах прямо так и написано: «Наши общие колеса!» Ну, как они везут, «общие колесики»?
— Хорошо-о!
— То-то!.. Нас за это самое дело и в совет приняли. Ты думаешь, мы только катаемся? Как бы не так! Мы и пассажиров, когда надо, со станции перевозим. Для этого самого и коляски приделали. Понятно?
— И все у нас началось с велосипеда! — гордо и радостно подтвердила Липучка.
— А что еще впереди будет! — прокричал Саша.
Но что именно «будет впереди», я на этот раз узнать не успел, потому что «общие колеса» вкатили нас в Белогорск.
источник полноты
«Все течет, все изменяется»... Я часто слышал эту поговорку. А вот река Белогорка текла и ничуть не изменялась. Она так же, как и раньше, беззаботно петляла между зелеными холмами, которые отражались в ней вместе со всем, что на них было: с белыми домиками, и ленивым пятнистым стадом коров, и даже вместе с нашим мопедом, который остановился на зеленом склоне.
По-прежнему над берегом нависала песчаная глыба ржавого цвета, напоминавшая вытянутую к реке огромную собачью морду. Но на самом берегу Белогорки все переменилось: там почти не было видно чистого, словно аккуратно промытого, песка, на котором мы загорали и просто так валялись прошлым летом: весь берег был прямо сплошь покрыт или, как говорят, усеян отдыхающими.
— И что это они вдруг понаехали? —удивлялся я.
В прошлом году «дикарей» было не очень много. А тут прямо целое «дикарское племя» с пледами, зонтиками и самодельными тентами расположилось по обе стороны от песчаной глыбы. Какой-то паренек в красных трусиках лежал на самом носу сказочно огромной песчаной морды.
— Ой, смотрите! — вскрикнула Липучка.—Кешке-Головас- тику места на пляже не хватило.
— Про наш Белогорск заметка в газете была,— слезая с мопеда, деловито сообщил Саша.— Будто у нас тут разные полезные источники...
— И даже источник красоты! — вставила Липучка.— Во- он, видишь, ручеек из-под глыбы пробивается — так к нему отдыхающие по десять раз в день ходят. Женщины, конечно... Умываются! Прямо с ума сходят: все красавицами хотят быть!
— «С ума сходят»...— проворчал Саша.— А ты-то сама не сходишь? Веснушки кремом каким-то сводить вздумала! А вместо них вон пузырьки повыскакивали... Еще хуже стало!
— Ну, этого... этого я тебе, Сашка, никогда не прощу!
Липучка сжала кулаки, а потом, со злостью перепрыгивая
328
через камни и ложбинки, помчалась к пареньку в красных трусиках, будто хотела пожаловаться ему на Сашу.
— Зачем ты ее? —спросил я.
— А что ж она разными дикарскими штуками занимается: красавицей, видишь, тоже захотела стать к твоему приезду!
Я скромно отвернулся и стал чересчур внимательно разглядывать «дикарок», которые и правда умывали лицо холодной ключевой водой, той самой, которая очень робко и застенчиво пробивалась из-под рыжей глыбы. Прошлым летом я часто подставлял под эту ключевую струю свой широко разинутый рот и пил, пока у меня зубы не сводило от холода. «Лучше было бы ею умываться, а не пить! — подумал я.— Может, у меня внутри и развелись уже всякие красоты, но этого никто не видит. А так все было бы прямо на лице!»
Теперь-то я знал, почему у Липучки так горели щеки: она пожертвовала ради меня своими веснушками! И мне вдруг захотелось немедленно умыться в источнике красоты. Но я не сказал об этом насмешливому Саше. Не пошел умываться,
329
потому что Липучка и паренек в красных трусиках уже бежали к нам.
— Вот, Шура, познакомься, пожалуйста: это наш Кеша!— сказала Липучка.— Он у нас самый умный, самый сообразительный... И мы его за это прозвали Головастиком! И еще он племянник Андрея Никитича. Вот!
Она со злым торжеством взглянула на Сашу: тебе, мол, никто и никогда такого красивого и почетного прозвища — Головастик! — не давал и нет у тебя такого замечательного дяди, как Андрей Никитич!
Голова у паренька была большая и круглая, как глобус. Он был пострижен почти наголо, и только на самой макушке, будто на полюсе, торчала метелочка белых выгоревших волос. И, словно какие-нибудь причудливые заливы на карте или глобусе, на лице его были видны желтые и коричневые разводы неровного загара. И еще выделялись на этом глобусе два голубых озерца... Это были глаза, которые, казалось, все время что-то соображали, выдумывали что-то необычайное и озорное. В общем, Кешка-Головастик мне сразу понравился.
Тут я заметил, что Кешка был не только в красных трусиках, но тоже с красной повязкой на руке.
— Что это ты ее на голое тело нацепляешь? — хмуро спросил Саша.
— Не нацепляет, а повязывает!—заступилась за Кешку Липучка.
— А это чтобы утопающие видели! — посмеиваясь своими голубыми глазками, объяснил Головастик.
— Кто? Кто?! — Саша даже перестал возиться со своим мопедом и удивленно выпрямился.
— Утопающие! Я их спасать должен, а они любому-каж- дому свою жизнь не доверяют. Им удостоверение предъявляй или вот повязку, тогда они сразу начинают спасаться!
— И многих ты уже спас? — поинтересовался Саша.
— Трех! Только потом оказалось, что они не утопали, а так... баловались, дурака валяли. Но я их все равно по всем правилам науки на берег вытащил!
— Ты смотри всех наших «дикарей» из реки не повытас¬
330
кивай! Они же сюда отдыхать приехали, купаться, а ты их за волосы — и на берег...
— Не волнуйся, пожалуйста, за Кешу: он уж как-нибудь без твоей помощи сообразит! — вступилась Липучка.
А сам Кеша, чтобы прекратить разговор об утопающих, вдруг радостно воскликнул:
— Ну, вот! Вся наша «пятерка» в сборе!
Я огляделся по сторонам: какая же «пятерка»? Нас было всего-навсего четверо. Может быть, пятым был притихший на время мопед? Заметив мое удивление, Липучка бросилась объяснять:
— Ой, ты не удивляйся, Шура! Сейчас все поймешь. У нас многие ребята борются за город высокой культуры. И Андрей Никитич предложил всем нам разбиться на группы, на «пионерские пятерки». И чтобы каждая «пятерка» выполняла какое-нибудь свое, особое задание. Нас все время трое было, потому что мы тебя ждали. А теперь вот еще Веник приедет — и сразу будет «пятерка»!
— Да не приедет он,— махнул рукой Саша.— Давайте кого-нибудь из наших, белогорских, возьмем.
— Нет! Ни за что! — Липучка вдруг вся вспыхнула, пузырьки ее угрожающе засверкали на солнце, и вновь сжались кулаки.— Нет! Мы должны вызвать Веника! Вот Шура же сразу примчался, и Веник примчится... Надо только телеграмму послать!
— Тогда уж у Кешки будет работы хоть отбавляй! Веник плавать не умеет и очень любит тонуть.
— А ты Веника не трогай!—грозно закричала Липучка, чуть не набрасываясь с кулаками на Сашу.
Она так заорала, что я даже вздрогнул и на миг засомневался: для меня ли она сводила свои веснушки?
Липучка повернулась к Кеше-Головастику и стала громко ему объяснять:
— Ведь мы же за город высокой культуры боремся. Да? А Веник (полное его имя: Ве-ни-а-мин!) самый культурный из нас, самый образованный, и вообще... он почти все на свете книжки перечитал!
— Это верно. Это правильно,— пошел на примирение Са¬
331
ша.— Но ведь у него еще мамаша имеется, по имени Ангелина Семеновна. А она вовсе не захочет, чтобы Веник боролся за город высокой культуры. Она вообще не хочет, чтобы он боролся, а хочет только одного: чтобы ее Веничка потолстел! Или, как она говорит, «значительно прибавил в весе»!
— Хочет, чтобы потолстел? — переспросил Кеша. И глазки его хитро прищурились, словно голубые озерца на глобусе внезапно обмелели и сузились.— Возникает у меня, между прочим, одна мыслишка!
— Ой, Кешенька! Ой, миленький!—закричала Липучка.— Не упускай эту мыслишку! Не упускай!
— Сейчас, сейчас... Одну минутку!
Все мы уставились на сообразительного Головастика. И я вспомнил, как Саша предупреждал, что у Кешки из головы «всякие идеи наружу выскакивают». Что, интересно, выскочит оттуда на этот раз?
Головастик стал выкладывать свою идею не просто так, а словно подарок какой-нибудь преподносил. Он весь в этот момент изменился, будто повзрослел, и голос у него сделался важным и неторопливым:
— Так вот что я вам скажу: можно вашего Вениамина, по прозвищу Веник, сюда вызвать. Тем более, нам веники и метелки очень нужны: мы ведь за чистоту в городе боремся!
Липучка простила ему эту насмешку над ее драгоценным Вениамином и, прямо впившись глазами в Головастика, вскрикнула:
— Как?! Как можно вызвать?
— У нас ведь .тут всякие источники обнаружились. Есть даже, как вам известно, источник красоты. А мы откроем источник полноты! Специально для Веника и его мамы... Как ее зовут?
— Ангелиной Семеновной! ■— торопливо подсказала Липучка.
— Ну вот, значит, для Ангелины Семеновны! Напишем, что открыли у нас такой источник, от которого каждый день по три килограмма прибавляют!
— Это многовато,— тихонько возразила Липучка.
332
— Ну, по килограмму!..
— Тоже слишком...
— Ну, по триста пятьдесят грамм! Мне не жалко. В общем, прибавляют — и все! Пусть Веник три раза в день чистую водичку попивает, а в остальное время борется за высокую культуру! Вот так... И пусть дедушка Антон, как врач, официально подтвердит наше сообщение. Веник-то ведь все равно тут понравится; а от воды или от чего другого — это значения не имеет. Пусть его мамаша думает, что от источника полноты! У нас вон там, за пляжем, один чистый ручеек из холма пробивается. Вот и будет источником полноты. Что? Неплохая мыслишка?
— Ты просто... ну, просто...—Липучка от восторга никак не могла подобрать подходящего слова.— Ну, просто... Головастик!
Голубые озерца на глобусе снова расширились, будто вошли в свои прежние берега, и вообще Кеша сразу стал прежним— не важным, а смешливым и симпатичным. Он и Липучка как-то выжидательно уставились на Сашу... И тут я понял, что хоть все главные идеи и «выскакивают» из Кешиной головы, но самый главный у нас в «пятерке» все-таки Саша и что это уж его дело: одобрять или не одобрять мыслишки, которые «выскакивают» из Головастика.
— Это ты хорошо придумал,— сказал Саша.— Давайте откроем источник полноты. Ох, и не везет же Венику с медици- ной: в прошлом году ему живот понапрасну йодом мазали, а теперь будет воду без толку глотать...
Липучка на миг нахмурилась (наверное, обиделась за Ве- никин живот!), но потом решила больше не спорить с Сашей, чтобы не терять даром время, и всех нас заторопила:
— Давайте скорее домой поедем! И сразу напишем это самое письмо. Нет, телеграмму! Про источник. Давайте!..
— Мы ведь искупаться хотели,—возразил Саша. Но, взглянув на Липучку, вдруг нажал на педаль — и мопед сразу застрекотал.— Ладно уж, поедем!
Саша, Липучка и я забрались на свои места, а Кеше места не хватило, и он побежал рядом, то и дело напарываясь на камешки и колючки и хватаясь то за одну, то за другую ране¬
333
ную пятку. Когда мы не спеша (дорога шла в гору) добрались до первой городской улочки, Липучка вдруг вскрикнула:
— Ой, Кешенька, ведь ты же совсем голый!
Мопед остановился, и все мы растерянно оглядели Головастика.
— Нехорошо-о,— покачал головой Саша,— борешься за высокую культуру, а сам в таком виде по улицам разгуливаешь, народ пугаешь!..
— И как это я не заметил? Увлекся!..— смешно прикрывая грудь руками, пробормотал Головастик.
— Ой, Кешенька, это нз-за меня. Честное слово, из-за меня!— Липучка виновато застучала самой себе кулаком по лбу.— Это же я всех торопила... со своим источником полноты!
— Уж если тебе что-нибудь втемяшится!—проворчал Саша.— То вызываешь Шурку, то подавай тебе Веника!..
— А разве ты сам... не хотел, чтобы я приехал? — тихо поинтересовался я из глубины своей коляски.
— Нет, я тоже хотел. Но слово «немедленно» — это уж она в телеграмму добавила. А теперь вот с Веником...
— Он ведь у нас самый культурный, самый начитанный...— пролепетала бедная Липучка.
Но Саша продолжал воспитывать свою двоюродную сестру:
— И на реку прямо с вокзала ехать — это тоже Липучка придумала: не терпелось ей, видите ли, поскорее Шуру с тобой, Головастик, познакомить. Даже домой не заехали, чемодан не завезли. Она ведь если прилипнет!..
Но добродушный Кеша, видно, не привык расстраиваться из-за таких пустяков. Он махнул рукой и, вновь припадая то на одну, то на другую пятку, побежал обратно к берегу.
Ну, а мы через минуту уже были возле домика, в котором жили мой дедушка и Саша со своими родителями и бабушкой Клавдией Архиповной, которую моя мама с детства называла тетей Кланей.
Мы въехали во дворик — и тут я убедился в том, что собака действительно лучший друг человека. Наш пушистый шпиц Берген большим снежным комом бросился мне под ноги. Он
334
лаял, визжал, лизал мне колени. Это был второй, после Липучки, житель Белогорска, который целовал меня в честь приезда. Я заметил на шее у нашего доброго, послушного Бергена черную полоску ошейника.
— А это зачем? — спросил я.
— Не беспокойся: Амы его за поводок не прогуливаем. Шпиц Берген стал у нас главным связным! Понятно? И мы под этот ошейник всякие важные документы засовываем.
— Какие документы?
— Андрей Никитич-то, как и раньше, за рекой живет. На окраине, которая Хвостиком называется...
— Это я знаю.
— Ну, когда он там, а мы здесь и что-нибудь срочное передать надо, тогда мы сразу же Бергена в дорогу снаряжаем. Он и мчится со всех ног. А потом ответ нам приносит... Старый уже, а справляется!
Саша ласково-ласково погладил шпица. Я даже не ожидал, что он умеет быть таким ласковым... Со мной он, по крайней мере, никогда таким не был.
Дедушкино крыльцо, как и прежде, было пустое, заброшенное, а крылечко напротив — прибранное, аккуратненькое. И под ковриком на этом аккуратном крылечке, убранном тетей Кла- ней, лежал ключ от дедушкиной комнаты.
— Вот странно: все, как в прошлом году в день твоего приезда было, так и сейчас,— задумчиво сказал Саша.— Дедушка Антон у себя в больнице, мои папа с мамой — в геологической экспедиции, а бабушка опять на рынке: хочет сегодня в честь твоего прибытия торжественный ужин устроить!
И в комнате у дедушки тоже ничего не изменилось: на самом видном месте по-прежнему красовалась под стеклом похвальная грамота, которую моя мама получила в десятом классе, а на другой стене все так же висели разные самодельные полочки и фигурки, которые дедушка выточил своим любимым лобзиком. Все так же у стены стояла деревянная дедушкина кровать, а возле окна — приготовленная для меня раскладушка.
Я посмотрел на всю эту обстановку и вдруг подумал о том, что, наверное, и давным-давно, когда еще мама моя бегала
335
в школу, в этой комнате все было точно так же и, уж конечно, висел на стене деревянный топорик с выжженными на нем узорами. Я знал, что эти узоры дедушка при помощи солнца выжег сквозь увеличительное стекло больше тридцати лет назад: на ручке стояла тоже выжженная солнышком цифра — «1925».
«Какая же это ужасная несправедливость,—подумал я,— люди стареют и даже умирают иногда, а всяким деревянным топорикам хоть бы хны: они висят себе на стене, почти что не меняются и, может быть, даже переживут тех, кто их сюда повесил... А лучше бы люди переживали и вещи и вообще все на свете!»
— Ну, давайте скорее сочинять телеграмму!—вновь заторопила нас Липучка.
И я сразу перестал размышлять о людях, о вещах, о старости и обо всем таком прочем...
Липучка взяла с дедушкиного стола листок бумаги, ручку и под Сашину диктовку написала:
открыли источник полноты приезжай.
— Немедленно! — прошептала Липучка и дописала это самое словечко, которое заставило меня отказаться от берега Черного моря и прибыть на берег реки Белогорки.
— Вы не сердитесь, пожалуйста,— тихо сказала Липучка,— только я сейчас же сбегаю на почту. Ладно? Чтоб он поскорее приезжал! Ладно? А вы здесь подождите...
И она вновь громко прочитала текст телеграммы:
ОТКРЫЛИ ИСТОЧНИК ПОЛНОТЫ ПРИЕЗЖАЙ НЕМЕДЛЕННО.
Тут было на целых три слова больше, чем в телеграмме, которая пять дней назад погнала меня через бульвар к глубоко интеллигентному дяде Симе. Всего пять дней назад. А мне почему-то казалось, что это было уже очень-очень давно...
ГОРОД БУДЕТ ПРЕКРАСЕН
Наверное, Ангелина Семеновна очень уж сильно хотела, чтобы Веник потолстел, потому что через неделю мы. уже встречали на станции Липучкиного любимца и его маму. Правда, вдогонку за телеграммой мы еще отправили и заказное письмо моего дедушки, в котором он от имени всей белогорской медицины авторитетно подтверждал то, что было написано в телеграмме. То есть об источнике полноты он, конечно, ничего не писал, а писал просто, что в Белогорске Веник обязательно поправится и «значительно прибавит в весе», как этого и хотела его мама.
На вокзале Ангелина Семеновна вдруг бросилась меня обнимать, будто я был ее ближайшим родственником и она обо мне очень соскучилась.
— Я приехала в этот город, как в родной дом! — заявила Ангелина Семеновна.— Интересно, не подешевели ли здесь комнаты?
— Подешевели! Подешевели! — стала торопливо успокаивать ее Липучка.— Ведь у нас теперь есть Общественный совет, и он следит, чтобы не было никаких... ну, как бы это выразиться?.. злоупотреблений! А года через три у нас тут санатории и дома отдыха откроются, прямо возле источников!
— Ну, до этого счастливого времени я не доживу,— тяжело вздохнула Ангелина Семеновна.
Я взглянул на ее полное, цветущее лицо, и мне показалось, что она доживет даже до той далекой поры, когда наш маленький Белогорск станет каким-нибудь всемирно известным курортом.
— И автобусы у нас теперь без кондукторов, и кинотеатр без контролеров.— Липучка так торопилась обо всем этом рассказать Ангелине Семеновне, словно мама Веника всю жизнь страдала от автобусных кондукторов и ужасно натерпелась от контролеров кино.— И вообще мы боремся за город высокой культуры! И поэтому нам очень нужен был ваш сын, Ангелина Семеновна! Ведь он же самый культурный из нас...
— Зачем же так? Нехорошо как-то получается,„—тихо проговорил Веник.
]2 Библиотека пионера, т. 4
337
И я вдруг подумал, что когда-нибудь он станет, наверное, таким же глубоко интеллигентным человеком, как дядя Сима. Он даже сейчас уже чем-то очень напоминал мне старинного дедушкиного друга.
— И еще он самый скромный из нас! — воскликнула Липучка.
И звонко чмокнула Веника в щеку. Это был уже седьмой поцелуй... Я считал — и получилось, что Липучка поцеловала его на целых два раза больше, чем меня. И глаза у нее блестели, и пузырьки сверкали, и вообще мне стало окончательно ясно, что веснушки она сводила совсем не ради меня. И что мне уже не придется объяснять ей, что я люблю ее всего-навсего «любовью брата».
Веника она, наверное, тоже не любила (Саша тут все напутал!), а очень уважала, как самого образованного и начитанного из нас. И мне было обидно, что про меня никто никогда не говорил и, должно быть, не скажет, что я образованный и культурный. И еще было ясно, что теперь уж я могу сидеть в мопеде не в профиль к Липучке, а как угодно, потому что моя внешность ее ничуть, ни капельки не волнует.
На площадке перед вокзалом у нас случилась неожиданная катастрофа. Мы прибыли на двух мопедах с колясками, на которых той самой аппетитной сиреневой краской было написано: «Наши общие колеса!» Липучка забежала вперед и гостеприимно распахнула дверцу перед Ангелиной Семеновной. Мама Веника долго, с трудом залезала в эту коляску, а когда залезла, «наши общие колеса» не выдержали — что-то хрустнуло, треснуло, и коляска медленно осела.
— Вот уж «источник полноты»! — шепнул мне на ухо Ке- ша-Головастнк. И тихо прыснул.
Липучка метнула на него сердитый взгляд: она, значит, не только Веника, но и его ближайших родственников решила взять под свою защиту! «А вот меня бы она никогда не стала так защищать. И мою бедную маму, которая, уж наверное, очень соскучилась без меня, тоже!..» — подумал я. И мне стало как-то грустно и одиноко, несмотря на то что вся площадка возле станции была забита людьми и чемоданами.
Саша и Кеша сразу принялись ремонтировать наш постра¬
338
давший мопед. А мы с Липучкой решили отправить Ангелину Семеновну на автобусе без кондуктора, а на двух мопедах доставить в Белогорск вещи и Веника, который за зиму в Москве снова похудел и весом своим ничуть не угрожал «нашим общим колесам».
В тот же самый день вся наша «пятерка» собралась в здании Общественного совета. Это я, конечно, немного громко сказал — «в здании».
На самом деле никакого здания у совета не было, а была одна небольшая комнатенка, в которой стояли стол со стулом и еще стульев пять или шесть вдоль стены. А под самым потолком висел плакат: «Товарищ! Не забудь: мы боремся за звание города высокой культуры и соревнуемся с городом Пес- чанском!»
Андрей Никитич составил стулья в кружок посреди комнаты, пригласил нас всех сесть и сам тоже присел на краешек стула.
— Ну, ребята, давайте потолкуем,— сказал он.— Раз уж весь боекомплект налицо. Вся «пятерка»! И даже москвичи к нам на подмогу прибыли...
Он положил руку ко мне на колено, и я немного выставил колено вперед, чтобы руке его было поудобнее и чтобы она вдруг не соскользнула.
— Захотелось вместе с вами помечтать немножко,— продолжал Андрей Никитич.— Я и с другими пионерскими «пятерками» беседовал... Я всего год живу в Белогорске, а сперва хочется старожилов послушать: как они себе представляют будущее нашего города?
Андрей Никитич указал рукой на старожилов (на Сашу, Липучку, на Кешу-Головастика). И снова вернул свою руку ко мне на колено, которое от волнения стало потихоньку затекать. Но я и пошевелить им боялся: пусть все старожилы видят, что у нас с Андреем Никитичем самые что ни на есть простые и товарищеские отношения: ведь никто из них не ехал с ним вместе в поезде, в одном купе, а мы с Веником в прошлом году ехали от Москвы до Белогорска!
Первой из старожилов, конечно, затараторила Липучка:
— Ой, наш город должен стать самым красивым!..
339
— Он и сейчас красивый,— возразил старожил Саша.— Не в этом дело. Надо, чтобы он самым... ну, что ли, честным стал, чтобы все на доверии было! У нас уже и сейчас автобусы без кондукторов, кинотеатр без контролеров, магазины без продавцов...
У Кешки-Головастика глазки сузились, засветились:
— И чтобы в школе все тоже было на доверии: уроков не проверять, контрольных не устраивать! Магазины без продавцов, а школы без экзаменов!
Андрей Никитич обратился к нам с Веником:
— Что ж, такой замечательный почин моего племянника Головастика, друзья москвичи, наверно, не прочь будут и в свои школы перенести, а?
Я неопределенно пожал плечами, хотя Кешкино предложение мне очень понравилось.
— Это, конечно, шутки,— неожиданно вступил в разговор Веник.— А я хочу серьезно сказать... С нами в поезде много людей сюда направлялось. Все стремятся поправить свое здоровье. И тут вот следует прийти на помощь...
Образованный Веник был все тем же: он не мог сказать просто «ехали», а говорил — «направлялись», вместо «хотят отдохнуть» говорил — «стремятся поправить свое здоровье», а вместо «надо помочь» говорил — «следует прийти на помощь». Но, конечно, он, несмотря на это, был добрым, умным и таким честным, что я бы, например, никогда не хотел сидеть с ним за одной партой, особенно во время этих самых контрольных работ, которые Кешка-Головастик предлагал отменить, но которые пока еще, к сожалению, не отменили.
Андрей Никитич перенес руку с моего колена Венику на плечо:
— Правильно! Городок наш небольшой, и предприятий здесь не так уж много, но одну очень важную фабрику мы с вами здесь должны построить: «фабрику здоровья»! А здоровье, ребята,— это очень важная штука. Вам сейчас этого еще не понять: ваши организмы, как шоферы говорят про свои автомобили, пока еще период обкатки проходят, а я уже в капитальном ремонте побывал... Вот у Шуриного дедушки! Но уж, знаете, отремонтированный мотор — не то что новый.
340
И, как тогда, в поезде, Андрей Никитич медленно и тяжело-тяжело, будто на протезах, заходил по комнате. А потом снова присел, глубоко погрузил все десять пальцев в густые, волнистые волосы и стал ерошить их, будто прогоняя прочь грустные, неотвязчивые мысли.
— Не нравится мне, когда приезжих тут «дикарями» или «дикарками» называют,— сказал вдруг сердито Андрей Никитич.— Это же трудовые люди, гости наши с вами, а мы им: «дикари»! Нехорошо! Раныпе-то вообще безобразия творились: люди в отпуск, от трудов своих отдыхать приезжали, а с них тут некоторые дельцы втридорога за квартиры драли; со станции подвезти — опять раскошеливайся, на станцию с чемоданами — снова то же самое... Ну, тут мы порядок навели: мародеров на чистую воду вывели, а через вокзал автобус пустили...
— Без кондуктора! —гордо вставила Липучка.
— Раньше он, из Белогорска в Песчанск курсируя, вокзал стороной объезжал. А теперь не объезжает. Да и «наши общие колеса» иногда на помощь подкатывают: особо почетных гостей встречают!
Андрей Никитич обнял нас с Веником, и это нам обоим было очень приятно. Даже строгий и сдержанный почетный гость Веник слегка улыбнулся.
— У нас тут пионерские «пятерки» много разных дел затеяли: за чистотой следят, улицы деревьями обсаживают, старикам помогают... А вашу «пятерку» на самый важный участок бросим: на борьбу за человеческое здоровье! Согласны?
— Согласны,— за всех ответил Саша.— Только как все это будет.
— Как говорят, обстановка подскажет,— ответил Андрей Никитич.— Но я бы вам для начала кое-что посоветовал... Тут вот люди рано утром на пляж уходят, а газеты позже в город прибывают, как раз когда все на реке. Обратно с реки возвращаются, а газет уже нету... Я много раз замечал. Так отдыхающие и впрямь дикарями стать могут: не знают, что в мире происходит. А вы бы по утрам в киоске газеты брали и на пляж их тащили. Киоскер вам доверит: он ведь тоже — наш, член Общественного совета. Или вот еще... Там у нас
341
спасательную станцию на реке сооружают и репродуктор уже повесили. Вы бы как-нибудь использовали его, а? Все-таки ведь можно сразу со всем пляжем беседовать! И еще про книжки хочу сказать. Многие отдыхать с ребятами приезжают, а детской библиотеки у нас нет. Соберите-ка по всему городу самые интересные книги и самодеятельную библиотеку откройте. Тут уж Липучка, я думаю, отличится! И о реке нашей, о Белогорке, я тоже хотел пару слов...— продолжал Андрей Никитич.— Она только с виду такая безвредная и добродушная, а доверять ей опасно: ямы, воронки студеные. Вы сами знаете. Вот пусть Кеша за спасательные работы и продолжает отвечать: он ведь у нас плавает и на животе, и на спине, и вверх ногами, и вниз головой... Ну, и конечно, пусть он главным выдумщиком остается. А то вы меня слушаете небось и думаете: что за тоскливые дела напридумал?! Не возражаю: пусть Головастик чего-нибудь веселенького подбавит. И вообще проявляйте побольше самостоятельности, личной инициативы. Только спасибо скажем! Ну уж, а командиром «пятерки» пусть Саша будет: он, знаю, не подведет!
Командир «пятерки» поднялся со своего стула:
— Андрей Никитич, а когда Шура с Веником заслужат, мы их в совет примем?
— Я думаю, они уже заслужили: по первому нашему зову явились, на первую команду откликнулись. Стало быть, надежные бойцы!
Он подошел к столу, со скрипом выдвинул ящик, достал оттуда две повязки с коротким словом «ЧОС» посредине. И передал эти повязки Саше. А уж Саша, как командир, не спеша повязал их нам с Веником чуть повыше локтя.
— Вот приедут наши друзья москвичи сюда лет через пять,— мечтательно сказал Андрей Никитич,— мы их встретим на вокзале, посадим на «общие колеса», в город привезем, а они Белогорска и не узнают: прекрасен будет наш город!
Мы все вышли на улицу. С высокого холма была видна Белогорка, в которой уже купались первые, ранние звезды. «А почему это только Кешку-Головастика-считают выдумщиком и изобретателем? — подумал я.— Я ведь тоже могу такого
342
напридумывать, что все только ахнут. И напридумаю!.. Какое-нибудь такое дельце организую, что мне еще и на другую руку повязку наденут! Андрей Никитич ведь сам сказал, чтобы мы проявляли инициативу и самостоятельность!»
Я ПУСКАЮ ПУЗЫРИ
Совсем недавно я упоминал о том, что собака — лучший друг человека. Но не только собаки наши лучшие друзья. Если вспомнить разные пословицы и поговорки, то окажется, что у нас кругом просто полно друзей, и все они не какие-нибудь, а лучшие. Вот, например, «солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья!». Это все ребята знают чуть ли не с пеленок и даже в песнях об этом поют. Но, оказывается, все обстоит совсем не так просто, как поют в песнях.
Что касается воздуха, то он всегда наш лучший друг. Это уж точно: мы бы без него просто задохнулись! А вот солнце и вода — совсем другое дело. Если пользоваться ими неправильно, то они могут вдруг взять да и превратиться из лучших друзей в злейших врагов.
Все это я узнал, лежа рядом с Кешкой-Головастиком на самом носу рыжей песчаной морды, нависшей над берегом. Мы лежали на животах, и Кешка разглядывал пляж сквозь толстые стекла настоящего полевого бинокля, который ему подарил родной дядя, то есть Андрей Никитич. В это утро я должен был помогать Головастику спасать отдыхающих, если бы они вдруг вздумали тонуть. Конечно, и пляж и река были нам прекрасно видны и без бинокля. И отлично был виден плот, сколоченный нами в прошлом году. Он слегка покачивался на привязи недалеко от берега. Теперь плот снова стал спасательным, и к нему опять вернулось его старое имя, с которым он, так сказать, родился на свет: «Хузав», что в расшифрованном виде означало: «Хватай утопающего за волосы!»
Да, все нам с Кешей было абсолютно ясно видно и без полевого бинокля, но мы все равно по очереди глазели в него, потому что были на посту, а тому, кто стоит или даже лежит на посту, бинокль никогда не помешает. И еще это отли-
343
чало нас от всех других отдыхающих: не будь у нас бинокля и красных повязок на руках, можно было бы подумать, что мы просто так прохлаждаемся или, точнее сказать, прогреваемся на песке. А на самом-то деле мы не прохлаждались и не прогревались, а выполняли свой общественный долг.
Так вот, оказывается, не все солнечные лучи полезны для человеческого организма, а некоторые даже вредны. Лучше всего приходить на пляж ранним утром и не просто лежать, а без конца переворачиваться с одного бока на другой и с живота на спину. Тогда это будет называться уже. не просто лежанием на песке, а «приемом воздушной и солнечной ванны». Почему это будет так называться, я толком не понял: ведь никаких ванн поблизости не было, а была река, которая блестела, словно ее натерли каким-то особым солнечным лаком, и был берег, густо покрытый бывшими «дикарями», которых мы теперь уважительно называли отдыхающими тружениками или просто отдыхающими.
Сидеть в реке подолгу, оказывается, тоже вредно; не рекомендуется залезать в воду по нескольку раз, а лучше всего один раз туда залезть и один раз вылезти; особенно же вредно лезть туда в разгоряченном виде, а лучше, перед тем как купаться, немножко охладить себя в тени...
В общем, мне показалось, что выполнять все эти правила, о которых через хриплый репродуктор неторопливо докладывал всему пляжу Веник, то лучше уж вообще не ездить в Белогорск или куда-нибудь еще, а просто сидеть себе дома, лежать на диване и переворачиваться при этом сколько хочешь, а если не хочешь, то и совсем не ворочаться.
Я знал, что все эти правила Веник не сам придумал и не где-нибудь вычитал, а что ему рассказал о них мой собственный дедушка-доктор. И, наверное, эти правила были и правда очень важны для отдыхающих, потому что ведь их не Ангелина Семеновна для своего Веника сочинила, а мой дедушка, который был поклонником спартанского воспитания и терпеть не мог всяких неженок.
Мы видели в полевой бинокль, как мамаши приказывали своим дочкам и сыновьям внимательно слушать Веника и почти каждая из них время от времени торжествующе вскрики-
344
вала: «Вот видишь! Я же говорила, что нельзя по часу торчать в воде!.. Вот видишь: я же говорила, что нельзя загорать до потери сознания!»
Одним словом, лекции Веника имели очень большой успех у родителей. А у юных отдыхающих тружеников они никакого успеха не имели. Мы с Кешей даже слышали, как двое мальчишек договаривались поколотить нашего Веника, «если он не замолчит». Но он уже третий день упорно не умолкал... И результаты его хриплых выступлений через микрофон можно было ясно разглядеть и без помощи полевого бинокля: родители стали притаскивать своих детей на пляж рано утром, чтобы они обязательно попадали под самые полезные солнечные лучи, заставляли их все время вертеться на песке, как ужей на сковородке, и перестали пускать их по десять раз в воду.
345
Испортив настроение всем приезжим мальчишкам и девчонкам, Веник объявлял перерыв. «Вот бы и помалкивал! — ворчали юные отдыхающие труженики.— А какое ему дело, сколько раз мы переворачиваемся со спины на бок?»
Но нам было до этого дело: ведь Андрей Никитич сказал, что мы должны бороться за человеческие организмы и воздвигать «фабрику здоровья». Вот мы и воздвигали!..
А потом раздавалось ровное, неторопливое стрекотание мопеда, и на пляж прикатывали Саша с Липучкой. Они привозили толстые, тяжелые кипы газет и журналов. И все им были очень рады, все вскакивали со своих насиженных или, точнее сказать, налёженных мест, поспешно лезли за мелочью в пляжные сумки и кошелки, а потом по всему берегу начинали шелестеть страницы, и ветер широко раскидывал в стороны крылья газет, и казалось, будто какая-то птичья стая неожиданно приземлилась возле реки.
Ну, а если у кого-нибудь случайно не было при себе денег, Саша и Липучка давали газеты в долг, как говорил наш киоскер, «с непременной последующей оплатой». Так было уже третий день, и никто ни разу не обманул доверчивых членов Общественного совета. Даже наоборот, у Саши с Липучкой оказалось восемь лишних копеек, которые неизвестно кто переплатил.
Потом Саша и Липучка быстро окунались в реке (точно так, как советовал Веник с дедушкиных слов!) и, совсем не отдохнув на пляже, вновь укатывали в город. Мы с Кешей знали, куда они так торопились. В эти дни у них было очень важное дело: они ездили по всем домам и собирали у ребят интересные книги для нашей будущей общественной библиотеки, которую мы решили назвать так: «Прочти — и передай товарищу!»
Андрей Никитич как-то рассказывал нам, что на фронте, во время войны, были листовки и газеты с таким обращением наверху, и хоть сейчас было мирное время, но нам всем очень понравились эти слова: «Прочти — и передай товарищу!»
Когда утро уже начало потихоньку переползать в полдень, а солнечные лучи уже почти совсем перестали быть полезны¬
346
ми и понемножку начали «вреднеть», Кешка отложил в сторону полевой бинокль и сказал:
— Это никуда не годится! Саша с Липучкой и даже Веник работают, а мы с тобой валяемся тут без всякой пользы...
— Но ведь Андрей Никитич сказал нам, что вполне стоит так вот просидеть без всякого дела хоть тридцать дней, чтобы на тридцать первый кого-нибудь выручить из беды. Он же сказал, что у нас с тобой «задание особой важности»!
Потом я вспомнил еще и другие слова Андрея Никитича:
— А он ведь еще поручил нам провести эту самую... Как уж он сказал? Ага, вспомнил: «просветительную работу среди купающихся»! Помнишь? Он же сказал, что мы должны объяснить им, где безопасно плавать, а где просто-таки смертельно опасно! Давай займемся этим делом, а? Пока еще все по домам не разошлись...
— Что ж, мы с тобой прямо вот так, в трусиках, станем посреди пляжа и будем читать лекцию? Венику хорошо: он спрятался себе в будке — и никто его не видит.
Вдруг голубые Кешкины глазки сузились и заблестели, предвещая очередную идею. И голос его сразу поважнел.
— Ну так вот, Шура. Слушай-ка меня внимательно. Я знаю, как нам обратить на себя внимание. Возникла одна мыслишка... Ты должен будешь на время пожертвовать собой, чтобы обеспечить безопасность всех этих отдыхающих тружеников.
— В каком смысле... пожертвовать?!
— Стать утопающим! Всего на несколько минут. Ты плаваешь хорошо?
Когда-то Саша уже интересовался этим. И я вновь вспомнил совет моего московского школьного приятеля: если не хочешь сказать ни «да», ни «нет», то пожми неопределенно плечами — все подумают, что хотел сказать «да», но поскромничал. Я так и сделал: неопределенно пожал своими голыми плечами, которые от нашего долгого дежурства под солнцем уже стали кое-где лупиться, облезать и покрываться сквозь первый загар неровными розовыми островками. Я, как и в прошлом году, не умел плавать каким-нибудь определенным стилем, а умел только по-собачьи...
347
— Ну, вот видишь,— сказал Кеша,— для тебя, значит, все это будет абсолютно безопасным: смело заходи в глубокое место, незаметно держись на воде, а сам кричи во все горло: «Ой, утопаю! Ой, дно потерял! Ой, никак не найду! Ой, спасите, помогите!» И пузыри пускай!
— Как это я буду их пускать?
— Носом и ртом! Очень просто: погрузись в воду и воздух посильней из себя выдувай, а на поверхность будут пузырьки выскакивать. Первый признак утопающего!
«И зачем я согласился быть Кешкиным помощником? Лучше бы раздавал себе спокойно газеты на пляже или собирал книжки для нашей общественной библиотеки. Лень-матушка меня погубила: захотелось на солнышке поваляться!» От всех этих мыслей физиономия у меня, наверное, стала печальная, что очень не понравилось Головастику.
— Боишься, что ли? Или стесняешься? Тогда давай я буду тонуть, а ты меня спасай! Пожалуйста, мне не жалко...
«Этого еще только не хватало! Я своим собачьим стилем поплыву ему на помощь, а весь пляж будет смотреть на эту картину... Что же делать?» — думал я, с грустью поглядывая на Белогорку, которая за внешним своим добродушием прятала обман и коварство, о чем мы и должны были предупредить отдыхающих.
— В общем, так. Я сейчас буду тонуть,— снова начал объяснять мне Кешка,— а ты прямо прыгай с этой глыбы в реку, тут место глубокое — не разобьешься... Проплывешь немного под водой и около меня вынырнешь на поверхность. Согласен? Волосы у меня коротенькие, так что ты за них не хватайся, а прямо за шею меня рукой обхвати и волоки к берегу.
— Это можно,— промямлил я.— И прыгнуть, и нырнуть, и даже вынырнуть обратно... И за шею тебя обхватить нетрудно. Только ведь это будет не по правилам. Полагается утопающих за волосы к берегу тащить. А у меня волосы подлиннее, ухватиться за них будет легче, так что давай уж лучше я собой пожертвую!
И с этими словами я быстро и решительно пошел жертвовать собой... Шел я с таким видом, что Головастику стало жалко меня. И он, поспевая рядом, объяснял:
34В
— Ты пойми, Шура, ведь через полмесяца комиссия приедет. Из областного центра!
— Какая комиссия? — спросил я таким безразличным голосом, словно то, что случится через полмесяца, меня уже не могло интересовать.
— Ну, комиссия, которая будет итоги соревнования подводить: кто победил — мы, Белогорск, значит, или Песчанск, который в тридцати километрах отсюда. И выполнение обязательств будет по всем пунктам проверять!
— Каких там еще обязательств? — вяло поинтересовался я.
Головастик от жалости стал объяснять мне все очень подробно:
— Ну, тех обязательств, которые мы на себя брали. А там, между прочим, записано: «Добиться полной безопасности купания отдыхающих». Вот когда они нас все на пляже окружат, я им и покажу, где можно плавать, а где опасно... Ведь Веник же из своей будки показать им ничего не может, он только так, на словах, может объяснить. А этого недостаточно! Стало быть, нам нужно всех их вокруг себя собрать, чтобы, как это записано в наших обязательствах, «раз и навсегда предотвратить все несчастные случаи на воде»!
— Значит, мой случай будет последним?
— Самым последним!
— Хорошо. Тогда забери мою повязку...
— Ну, да... это верно: неудобно как-то с такой повязкой тонуть. Член Общественного совета — и вдруг пузыри пускает! Давай ее сюда.
Я снял с руки красную повязку и вошел в воду, которая показалась мне очень холодной, хоть солнце с утра уже успело ее нагреть.
«И как это я вдруг, ни с того ни с сего, начну орать? —думал я, медленно погружаясь в воду.— Стыдно как-то... В реке столько девчонок —и ни одна из них не кричит, а я вдруг заору: «Ой, потерял дно! Ой, никак не найду!..» Очень стыдно. Но это же нужно для общего дела? Значит, я должен орать во все горло, пока Кеша меня не спасет!»
Возле меня плескались и отфыркивались отдыхающие труженики разных возрастов: и повизгивающие малыши, и даже
349
старички, которые, как я заметил, всегда получают от купания наибольшее удовольствие—молодость они, что ли, в воде вспоминают? Тут в голову мне неожиданно пришла тревожная мысль: «А если меня спасет кто-нибудь другой? Какой-нибудь блаженно отфыркивающийся старичок или (еще хуже!) какая- нибудь ловкая девчонка? Пока Головастик будет красиво прыгать с рыжей глыбы, на которую он, проводив меня, уже успел вернуться, кто-нибудь другой схватит меня за волосы и потащит на берег! Нет, я должен тонуть в абсолютно безлюдном месте...»
Приняв это решение, я повернулся и пошел обратно к берегу, а Головастик, следивший за мной в полевой бинокль, стал хвататься за голову, пожимать плечами и вообще стал оттуда, с высоты, выражать мне свое удивление. А я стал указывать ему руками на других купающихся: мол, боюсь, что они меня спасут раньше времени! Но Головастик ничего не понимал и еще сильнее хватался за голову... Тогда, чтобы он не думал, что я испугался и не хочу жертвовать собой, я побежал вдоль берега к тому месту, где кончался пляж, и оттуда тоже очень быстро, прямо бегом устремился в воду. Торопиться с каждой секундой было все труднее, потому что вода сопротивлялась, будто хотела удержать меня, но я все шел и шел, пока неожиданно не провалился в какую-то холодную яму...
От испуга я в первый момент даже не смог закричать, а стал изо всех сил выкарабкиваться на поверхность. Вода сразу сделалась противной, какой-то едкой, она неприятно щекотала в носу и ушах, слепила глаза.
— Тону-у-у! — заорал я что было силы.— Тону-у-у!..
Я и раньше не умел плавать никаким определенным стилем, а тут сразу и по-собачьи тоже разучился.
— Тону-у-у!..
Сильная рука схватила меня за волосы, потом за плечи и потащила обратно к берегу.
— Прекра-асно! Прекра-асно!..— с трудом отдуваясь, в самое ухо нахваливал меня Головастик.— И пузыри такие по воде запрыгали естественные... И заорал ты просто гениально! Смотри, все со своих мест повскакали. Смотри!..
350
Сильная рука схватила меня за волосы и потащила к берегу.
Голос у него прерывался, дыхание перехватывало, но я, хоть и нахлебался холодной воды, соображал, что Головастик от меня в полном восторге.
Уже возле самого берега я вспомнил, как мы в прошлом году спасали Веника, как откачивали, растирали его и как ему после этих медицинских процедур стало совсем плохо.
— Ты только не откачивай меня, пожалуйста,— тихо попросил я Головастика.
— Верну тебе нормальное дыхание — и все,— сам задыхаясь от напряжения, сказал он.
— Но я ведь прекрасно дышу... Мне ничего не надо возвращать!
Тут Кеша окончательно вытащил меня на песок. Он не дал мне сразу подняться, а сперва приложил ухо к сердцу, будто и так не было видно, что я жив и сердце мое еще пока не остановилось. Увидев, что нас окружили со всех сторон, Кеша потер мне немного живот, потом поводил рукой взад и вперед где-то возле горла, а потом я вскочил на ноги и огляделся...
Вокруг нас собрался весь пляж. И лица у всех были такие испуганные, будто это их только что спасли, а не меня.
— В воронку попал...— тихо, словно оправдываясь перед этими переполошенными людьми, сказал я.-Мне и правда было за что извиняться: ведь все они из-за меня повыскакивали из воды илу покинули свои пледы и деревянные лежаки.
— А разве здесь есть воронки? — спросил кто-то.
Кешка сразу ухватился за этот вопрос и пошел, и пошел объяснять все особенности реки Белогорки, так что отдыхающие только успевали головой вертеть, следя за его руками.
— Воронок здесь много! И ямы есть! Во-он, видите, где темная вода, там холодная воронка. Она-то как раз Шуру и затянула... А там вон, видите, правее, посреди реки — темная полоса: там ямы опасные. Купаться там нельзя! А во-он там...
Кешка объяснял довольно долго, во все стороны размахивая руками, так что обо мне все почти забыли. Но о Голова- стике-то никто не позабыл!
352
— Какой смелый! — раздавалось со всех сторон.— Какой стремительный! Ка-ак он в воду сиганет да ка-ак его за волосы схватит!., Да ка-ак к берегу потащит. Герой! Настоящий герой!..
Головастик смотрел на меня виноватыми глазами: «Прости, мол, что меня нахваливают! Ты жертвовал собой, а из меня тут героя сделали...» Но мне от этого было не легче. Тем более, что подходили все новые и новые люди и им начинали рассказывать подробности:
— Этот вот, который плавать не умеет, совсем уж посинел, сознание’ потерял... Вы не смотрите, что он сейчас такой бодренький: в себя пришел! Его вот этот... товарищ полчаса откачивал, к жизни возвращал. Премии надо таким давать! Медали!.. Он и про ямы и про воронки нам рассказал: река- то, оказывается, опасная!
— Надо бы на особо угрожающих местах предупредительные знаки поставить!—предложил кто-то.— А то ведь не все вас, молодой человек, сегодня слышали. А знать это всем надо!
Кешку-Головастика уже и на «вы» называли и «молодым человеком», а про меня только сказали, что я «посинел» и «не умею плавать». Но это было лишь началом... Потом все вдруг вспомнили обо мне, грозно повернулись в мою сторону и, как по команде, стали меня отчитывать:
— А этот-то хорош! Посмотрите на него: плавать не умеет, а прямо в воронку полез!..
Круглая Кешкина голова покраснела, и даже сквозь белую метелочку волос стал просвечивать розовый цвет.
—■ Он плавает лучше меня, если хотите знать! Ему судорога мышцу свела. Это со всяким может случиться! Вас, что ли, самих судорога никогда не хватала? А он эту реку пять раз туда и обратно переплывет... Если, конечно, захочет!
Неожиданно раздался какой-то истошный крик: «Где он?! Где он?!»
— Вот он! Вот он!..— отвечали все, расступаясь и указывая на меня.
Я увидел переполошенную Ангелину Семеновну, которая,
353
раскидывая всех в стороны, пробивалась к самому центру событий, то есть ко мне. Но я ее, оказывается, совсем не интересовал. Она вдруг круто переменила курс, метнулась в другом направлении и, пригнувшись, стала кого-то обнимать, целовать, приговаривая: «Он здесь! Он здесь, мой мальчик! Он здесь, мой единственный!»
Все снова посторонились, и тогда я увидел ее «единственного» Веника, смущенного, с граненым стаканом в руке. Ангелина Семеновна осыпала его поцелуями.
Веник, наверное, только что прикладывался к источнику полноты, куда он всегда ходил со своим собственным стаканом: Ангелина Семеновна говорила, что, если пить из источника просто так, широко разинув рот, можно превысить медицинскую дозу (которую, по нашей просьбе, определил для Веника мой дедушка) и чересчур располнеть. Тем более, что у Веника в этом смысле «плохая наследственность». (Тут, конечно, Ангелина Семеновна имела в виду себя.)
Молодой человек в плавках и спортивной шапочке на голове ткнул пальцем в Веника:
— И он тоже тонул?
— Нет, он не тонул! Он никогда не сделал бы этого, зная, какое у меня слабое сердце! — причитала Ангелина Семеновна.— Ведь правда, Веник: ты никогда не будешь тонуть?
— Ну, ма-ама...
— Так чего же вы его целуете? — поинтересовался кто-то.
— За то, что он не рискует собой. Своей жизнью!..
— А риск — благородное дело! — насмешливо заявил молодой человек в плавках и шапочке.
— Вот вы собой и рискуйте!—повернулась в его сторону Ангелина Семеновна.
— Ну, мама... Это же как-то некрасиво, нехорошо,— пытался остановить ее Веник.
— Ах, я ничего не могу с собой сделать! Дай мне прижать тебя к сердцу!..— восклицала Ангелина Семеновна.
Наконец Ангелина Семеновна вспомнила обо мне. Она оставила своего Веника в покое и бросилась в мою сторону. Но я вовремя увернулся, и ей не удалось прижать меня к сердцу.
354
— В прошлом году,— стала громко рассказывать всем Ангелина Семеновна,— его мама еще в Москве поручила мне шефствовать над Шурой. И все было изумительно. В прошлом году он ни разу не утонул. И даже попыток таких не делал, А сейчас он без материнского глаза — и вот...
Тут я неожиданно понял, что бледнолицый и худенький Веник не зря носил в прошлом году матросскую шапку с надписью «Витязь»,— он твердым шагом, держа впереди граненый стакан, подошел к Ангелине Семеновне и сказал:
— Хватит, мама! Шура, я уверен, обойдется без твоего шефства...
И хоть он сделал замечание своей родной маме, но его голос прозвучал, как голос будущего, глубоко интеллигентного человека, подобного дяде Симе, и все кругом как-то сразу поверили, что я действительно обойдусь без шефства Ангелины Семеновны.
Вскоре мы с Кешкой молча поднимались по холму в город.
— Это и правда здорово будет, если поставить на воде предупредительные знаки,— заговорил наконец Головастик.—■ Они раньше были, а потом все поломались и уплыли куда-то... Мы в школьной столярной мастерской новые понаделаем! И как мы до этого раньше не додумались?
Я ничего не ответил Кешке. Конечно, я был благодарен ему за то, что он сказал про судорогу, и за то, что я, оказывается, могу пять раз переплыть Белогорку туда и обратно. А все-таки все его, а не меня считали выдумщиком, изобретателем и даже героем. «Нет, надо поскорее проявить самостоятельность и личную инициативу, о которых говорил Андрей Никитич!» — думал я.
— А ты, Шурка, прямо артист, честное слово! — желая, должно быть, развеселить меня, воскликнул Кешка.— Как это ты заорал: «Тону-у-у! Тону-у-у!» Ну, прямо будто и взаправду ко дну пошел! Так естественно это у тебя получилось. И пузыри по воде забулькали.
Что мне было отвечать Головастику? Я молчал...
Я ПРОЯВЛЯЮ ИНИЦИАТИВУ!
С прошлого лета прошел уже целый год, а мой дедушка ничуть не постарел. И вообще не изменился... Он все так же обтирался по утрам холодной водой, спал на узкой, жесткой кровати, укрывался одной только простыней, под которой даже я (хоть был гораздо моложе дедушки) продрог бы до самых костей. И по-прежнему дедушка, со своей русой, чуть- чуть курчавившейся бородкой и со своим пенсне на косу, был очень похож на Антоца Павловича Чехова. За это сходство дедушку моего по-прежнему звали дедушкой Антоном, а на самом-то деле он был Петром Алексеевичем.
Иногда поздно вечером, освободившись наконец от бесконечных посетителей (мне казалось, что в Белогорске люди как-то особенно любят лечиться), дедушка продолжал орудовать своим любимым лобзиком, выпиливая всякие палочки и полочки, или приводил в порядок свой альбом с марками, перебирая буквально каждую марочку и проверяя под лупой каждый зубчик. Играть в шахматы дедушка мне больше не предлагал: он готовился к очередному шахматному матчу Белогорск — Москва и усиленно продолжал изучать теорию по книжкам, которые ему присылал из Москвы его будущий противник дядя Сима.
Дедушку моего знал весь город, всех он называл просто по имени, потому что все у него лечились с детства, когда меня еще и на свете не было. Все белогорцы считали, что дедушка самый лучший доктор в мире, называли его профессором и бежали к нему за помощью, как только кто-нибудь заболевал. В прошлом году летом я уже привык к тому, что дверь в дедушкину комнату без конца хлопала даже тогда, когда его самого не было дома: пациенты записывались на прием, приходили за рецептами и советами, которые я им давал важно, словно от своего собственного имени, хотя, конечно, лишь пересказывал то, что дедушка записывал в своем «Журнале домашних пациентов». Да, ко всему этому я в прошлом году привык, но за зиму отвык немного... И мне пришлось снова вспоминать всякие диковинные названия болезней, лекарств и фамилии белогорских больных.
356
Сперва мне было непонятно, кто же выполняет всю эту работу осенью, зимой и весной, когда меня не бывает в Белогорске, и кто все это делал прошлые годы, когда я не ездил к дедушке? Оказывается, все это выполняла Сашина бабушка» по имени тетя Кланя, которая сравнивала меня с моей собственной мамой и при каждом удобном случае подчеркивала, что мама в детском возрасте была гораздо лучше меня.
Помнится, когда я однажды рассказал маме об этом, она сказала:
«Ты не обижайся на тетю Кланю... Когда я была маленькой, она все время сравнивала меня с каким-то своим племянником, который жил очень далеко от Белогорска и которого никто никогда не видел. У этого племянника были все самые замечательные качества, которых в то время не было у меня. Это уж у тети Клани метод такой: воспитывать путем сравнений. Ты на нее не обижайся...»
Я не обижался. Ведь она была доброй, несмотря на то что всегда глядела исподлобья сердитыми, придирчивыми глазами и губы у нее, когда она молчала, были плотно и властно сжаты, словно наглухо прибиты одна к другой.
Так что в мое отсутствие связь дедушки с домашними пациентами поддерживала тетя Кланя, а когда я приезжал, у нее как бы наступали летние каникулы. В этом году Клавдия Архиповна решила подробно рассказать мне обо всех дедушкиных больных, всем дала характеристики, а некоторым такие едкие, что я решил быть с тетей Кланей в добрых отношениях и по возможности не попадаться ей на язык.
Клавдия Архиповна объяснила мне, что некоторые дедушкины больные здоровее, чем мы с ней, но просто очень любят глотать лекарства (есть на свете такие странные люди!) и вообще пользуются дедушкиной добротой.
— Ты этих гони! — сказала Клавдия Архиповна. Потом взглянула на меня, сообразила, что я не знаком со всеми бе- логорцами, как она, с самого их детства и что поэтому мне неудобно будет гнать их из дедушкиного дома.— Ну, в общем, объясняй им, что дедушка очень занят. А то, если они все со своими болезнями на него насядут, мы его скоро самого в больницу свезем. И денег-то ведь он ни разу ни с кого не взял.
357
Ии копеечки! Уважают его за это... Но только от этакого уважения покоя нет ни на минуту!
В прошлом году летом я готовился к переэкзаменовке, поэтому часто бывал дома, и это было очень удобно для дедушкиных больных. А в этом году у меня переэкзаменовки не было, и поэтому дедушкина комната днем часто оказывалась запертой на ключ. Но, уходя из дому, я предупреждал об этом Клавдию Архиповну. Для посетителей это было хуже, потому что некоторые из них тетю Кланю боялись, а меня, уж конечно, не боялся никто...
В тот день, о котором я хочу рассказать, я утром вызвал тетю Кланю во двор и передал ей два рецепта. Дедушка оставил их для больного, который должен был приехать с дальней окраины города — Хвостика.
Я вызвал Клавдию Архиповну во двор, а не поднялся сам на ее аккуратненькое крылечко и не вошел в комнату, потому что не хотел в то утро встречаться с Сашей. Я объяснил тете Клане, что очень тороплюсь по важным делам. Она поворчала немного «для порядка», потом взяла рецепты. А я, оглянувшись на окна и убедившись, что Саша меня не видит, быстро вышел на улицу и направился к остановке автобуса.
С этого утра я начал проявлять личную инициативу и самостоятельность в нашей общей борьбе за город высокой культуры!
Личную инициативу я начал проявлять прямо с автобусной остановки... Я увидел худенькую молодую женщину, со всех сторон окруженную чемоданами, узлами и корзинками. За руку она держала девочку лет трех или четырех, которая все время весело прыгала на одной ножке: ей не нужно было в скором времени поднимать и втаскивать в автобус весь этот багаж — и настроение у нее было отличное. А у матери вид был растерянный и несчастный, хотя по загару было видно, что она только закончила свой отдых в Белогорске и возвращалась домой. Как только я занял за ней очередь, женщина сразу стала мне жаловаться:
— Ездить куда-нибудь с малышами — одно наказание! Ведь им все нужно: и постель, и игрушки, и даже, простите, горшок...
358
С чемоданом и полосатым узлом я устремился к передней двери.
Зеленый горшок лежал на самом видном месте, и я его сразу заметил. Женщина растерянно переводила взгляд с него на корзину, а с корзины — на туго набитый полосатый узел.
Подкатил автобус, новенький, обтекаемый, блистающий голубой и белой краской, без едкого запаха бензина и без черной дымной ленты позади, какая бывает у старых тупоносых автобусов. Женщина заметалась между узлами и чемоданами, а я внезапно почувствовал в руках какую-то необычайную силищу, хоть папа и называл мои не очень упругие мышцы «лапшой».
— Возьмите на руки ребенка!—коротко скомандовал я растерянной женщине.
Она молча подчинилась, прихватила другой рукой корзинку, а я с ее чемоданом и полосатым узлом устремился к передней двери.
— Вы же имеете полное право! Вы же с ребенком!..— крикнул я ей на ходу.
— А я думала, что здесь... нет таких правил. Что это только в Москве...
— Здесь есть все самые правильные правила! Мы боремся за звание города высокой культуры!..
Я важно кивнул головой на свою повязку. Женщина только сейчас заметила ее и сразу стала мне во всем подчиняться. А шофер между тем переднюю дверь не открывал. Тогда я на минутку опустил чемодан и узел на землю и требовательно постучал в дверь. Я указал шоферу на свою повязку, потом на женщину с ребенком — и двери гармошками разъехались в разные стороны.
— Прошу вас!..— сказал я женщине. (Она поднялась по ступенькам.) — Теперь посторонитесь! Поберегите ребенка!..
Я лихо закинул в автобус чемодан и узел. При этом как-то само собой у меня изо рта выскакивали фразы, которые я слышал от носильщиков на вокзале. Женщина хотела меня поблагодарить, но двери-гармошки захлопнулись, и я благодарности ее не услышал. А у задних дверей еще продолжалась посадка...
— Молодой человек! Молодой человек! Подойдите, пожалуйста, сюда! — кричала мне какая-то женщина, гоже загоре¬
360
лая, тоже закончившая, должно быть, свой отдых, но совсем не худенькая, без ребенка на руках и всего-навсего с одним чемоданом. Она решила, что я работаю носильщиком на автобусной остановке.
И некоторые другие пассажиры, поглядывая на мою повязку, тоже просили меня помочь. И я стал помогать... О, если бы это увидела моя мама, которая, кажется, больше всего на свете боялась, чтобы я не надорвался!
Потом посадка закончилась. Я последним залез в автобус, и тут мне в голову пришла мыслишка не хуже Кешкиной, а почему бы членам Общественного совета не помогать отдыхающим с детьми переправляться из города на вокзал? И когда они приезжают отдыхать, тоже хорошо бы вещички им от станции до автобуса подтаскивать. Ведь это было бы такое благородное дело, а то толкаются, мечутся со своими узлами, корзинками и зелеными горшками! Это была моя первая самостоятельная инициатива как члена Общественного совета. И она мне самому очень понравилась!
В автобусе было несколько свободных мест, но я не сел, а стал посреди автобуса, чтобы все видели мою красную повязку. Время от времени я поворачивался, чтобы все могли получше разглядеть три большие буквы посредине: «ЧОС». Я чувствовал, что многим пассажирам неизвестно, что именно обозначают эти буквы, но, по крайней мере, все поняли, что я не работаю носильщиком на автобусной остановке.
Я смотрел по сторонам очень серьезно и даже строго, а пассажиры, как я чувствовал, чего-то ждали от меня или, вернее сказать, от моей непонятной им повязки. И тогда мне в голову пришла мысль проверить у них билеты. Ведь, в конце концов, как член Общественного совета, я имел право поинтересоваться, все ли в порядке в автобусе, когда в нем нет кондуктора.
— Товарищи, не волнуйтесь,— неожиданно для самого себя произнес я, потому что сам очень волновался.— Приготовьте, пожалуйста, свои билетики!..
На всякий случай я произнес это не очень громко, чтобы не услышал шофер в своей кабине.
■— Странно: ребенок — и вдруг проверяет билеты,— сказа¬
361
ла своему соседу та самая загорелая гражданка, которая приняла меня за носильщика. Тогда, на остановке, ее почему-то не удивило, что я, то есть, как она выразилась, ребенок, таскаю ее единственный, но довольно-таки увесистый чемодан.
— Дело в том, что в этом городе многое делает общественность,— стал объяснять ей сосед.— Вот и билеты, должно быть, тоже проверяют на общественных началах. И потом, у него же красная повязка! Вы видели?
У пожилых солидных людей мне было как-то неловко требовать билеты, и я их обходил стороной, но у всех молодых проверял. И все очень уважительно, без малейших возражений протягивали мне свои билетики.
Кажется, первый раз в жизни я чувствовал, что люди подчиняются мне и даже немного меня побаиваются. И это было очень приятно.
Вот, например, одна девушка скатала свой билет в трубочку, и он у нее куда-то закатился. Как же она заволновалась, бедная, когда я не спеша, торжественно приблизился к ней. Она наклонилась, стала шарить по полу, потом вывернула все свои карманы и кармашки, а я все стоял рядом, хотя мне было ее очень жалко, и с самым невозмутимым видом поглядывал в окно, ожидая, пока она предъявит свои права на проезд в автобусе без кондуктора. Потом все пассажиры стали уверять, что билет у нее был, что все видели, как она бросала деньги под целлулоидный козырек металлической копилки, стоявшей в конце автобуса.
— Следующий раз будьте, пожалуйста, поаккуратнее,— сказал я.
— Да, да, непременно. Простите, пожалуйста,— торопливо пообещала девушка, называя меня на «вы», потому что на нее смотрел почти весь автобус и она очень стеснялась.
На последней остановке перед вокзалом в автобус вошли два паренька в синих футболках. Они долго лазили по карманам своих брюк, ничего оттуда не выудили и тихонько спустились на одну ступеньку, поближе к двери, готовясь выпрыгнуть у вокзала.
Я медленным, торжественным шагом направился к ним.
362
— У вас есть билеты? — тихо и угрожающе спросил я.
— А у тебя-то самого есть? — без всякого уважения ко мне и к моей повязке спросил один из них, паренек с очень дерзкой и, я бы даже сказал, нахальной физиономией.
И тут я вспомнил^ что сам действительно забыл взять билет. В первый миг я смутился и даже отступил на шаг от двух безбилетных «зайцев» в синих футболках.
Но потом я подумал: «Как же так? Я работаю, проверяю билеты, а они просто так катаются по своим личным делам,— какое же может быть сравнение между ними и мною? Я и не должен брать билет, потому что нахожусь при исполнении своих общественных обязанностей!» Правда, я знал, что билетов не нужно брать «при исполнении служебных обязанностей», а как обстояло дело с общественными обязанностями, мне было не вполне ясно, но я решил, что общественные обязанности еще важнее служебных, потому что их выполняют не за деньги, не за зарплату, а просто по долгу совести. И «по долгу совести» я вновь подступил к двум безбилетникам.
— А это видали? — спросил я, указывая на свою повязку.
— А это видал? — ответил мне паренек с дерзкой физиономией.
И я увидел его пальцы, все в боевых царапинах и ссадинах, цепко сжатые в кулак. Это было последнее, что я увидел перед остановкой автобуса, которая меня очень выручила: все пассажиры, ехавшие до вокзала, повскакали со своих мест, поволокли к выходу чемоданы... И я, чтобы не раздувать этого конфликта, который мог погубить мой авторитет в глазах всех пассажиров, уважительно называвших меня на «вы», шумно бросился помогать пассажирке с девочкой на руках. Той самой худенькой пассажирке, огромный багаж которой помог мне придумать такое замечательное и благородное дело: помогать отдыхающим с детьми спокойно и без хлопот добираться от вокзала до города и от города до вокзала.
Я ПРОДОЛЖАЮ ПРОЯВЛЯТЬ ИНИЦИАТИВУ
Автобус простоял на станции минут двадцать, забрал всех пассажиров с недавно пришедшего поезда и тронулся дальше, в Песчанск. До самого Песчанска я больше не проявлял никакой личной инициативы, потому что мне интересно было получше разглядеть не только сам городок, но даже дорогу, ведущую к нему: ведь мы соревновались с этим городом и обязательно должны были выиграть соревнование!
В глубине души я решил, что должен совершить что-то очень смелое и неожиданное, чтобы помочь Белогорску одержать победу. «Как будет доволен тогда Андрей Никитич! — думал я.— И Саша, который был до того занят, что мало обращал на меня внимания, вновь станет моим самым лучшим другом, как было в прошлом году! И вообще все сразу поймут, что не только Головастик способен придумывать всякие гениальные идеи, а что и у меня тоже иногда возникают мыслишки, до которых никто другой не додумается...»
Подъезжая к нашему Белогорску, автобус всегда начинал карабкаться вверх, на зеленый холм, и карабкался туда медленно, тяжело, словно у него появлялась одышка. Ну, а тут, наоборот, шофер все время притормаживал, потому что машина катилась под уклон. «Все-таки мы — наверху, а они — внизу! Значит, мы на этот самый Песчанск сверху вниз поглядываем!»— сделал я первое наблюдение.
Кругом была ровная, голая местность с одинокими кустарниками... Я любил находить в разных очертаниях сходство с человеческими фигурами и лицами. Вот, например, разорванные, бегущие по небу облака часто казались мне вытянутыми человеческими головами, с белыми седыми бородками или без бородок. А деревья часто напоминали мне согнувшихся, прямо скрюченных от усталости или от старости людей; а иногда, наоборот, напоминали каких-нибудь добрых молодцев с пышными, кудрявыми шевелюрами... Молодой месяц на небе всегда почему-то казался мне не юным, а, наоборот, худеньким старичком в клоунском колпаке, которому только недоставало колокольчика на макушке, а луна представлялась круглым лицом полной женщины, но не такой, конечно, как Ангелина
364
Семеновна, а совсем молодой, здоровой, с ямочками, которых на луне никогда не было...
Когда я ехал в Песчанск, поляны, убегавшие к горизонту, тоже казались мне неестественно огромными человеческими лицами, изрытыми ложбинками, будто оспинами после ветрянки, а кусты выглядели на этих плоских лицах жесткими, топорщившимися в разные стороны усами.
Дорога тут не пробивалась сквозь березовую рощу. И я с удовольствием вспомнил наших белоствольных белогорских раскрасавиц с черными пунктирными полосками на коре, словно кто-то выстукал коротенькие условные знаки азбуки Морзе. Как я ни высовывал свой нос наружу сквозь узкую верхнюю щель в окне, я не ощущал приятного запаха реки, который всегда встречал пассажиров, приезжающих в Белогорск. Я не знал, записан ли был в договоре на соревнование такой пункт — «Обязуемся окружить свои города красотами природы!»— но если бы такой пункт в договоре был, наш Белогорск и по этому пункту безусловно бы оказался победителем! Это было мое второе наблюдение в пути.
Потом справа от дороги появилась какая-то гора с неровной, волнистой поверхностью и с широко разинутой желтой пастью посредине. Это был песчаный карьер. На фоне огромной круглой пасти издали игрушечными казались грузовики и самосвалы, выстроившиеся в довольно-таки длинную очередь. «Так вот откуда взялось это название — Песчанск! — подумал я.— У них, значит,— песок, а у нас — полезные источники! У них — кирпичный завод (от шоссе ответвлялась узкая дорога, ведущая к нему), а у нас — «фабрика здоровья»! Правда, кирпичи тоже нужны, но здоровье прежде всего! Это уж каждому известно».
Так я сделал свое третье наблюдение и третий вывод в пользу Белогорска.
А потом я увидел щит такой же точно, как на нашей белогорской дороге: «Товарищ! Ты въезжаешь в город, который борется за звание города высокой культуры!»
«У нас собезьянничали! У нас переписали!» — подумал я, честно говоря, не зная, где этот плакат был вывешен раньше и где — позже. Просто я был уверен, что Белогорск во всех
365
смыслах важнее Песчанска и что он обязательно должен выиграть соревнование. А я должен этому помочь!..
В Белогорске все дома были сложены из какого-то местного камня и все были беленькие, будто под цвет березовой рощи, которая была как бы воротами в город. А тут дома были красные, кирпичные. «Уж не могли город Красногорском назвать! Не додумались...— размышлял я, прогуливаясь по улицам.— И смысл был бы тогда совсем другой: красный-то цвет самый революционный на белом свете! А то — Песчанск... Будто в честь своего песчаного карьера назвали. Или будто город на песке стоит, то есть непрочный какой-нибудь!»
Я придирался к бедному Песчанску. Мне хотелось находить в этом городе одни только недостатки...
Городок был аккуратный, чистенький — и это меня раздражало. «Мещанский уют развели!» — повторял я про себя фразу, которую слышал как-то в одной взрослой пьесе не то по радио, не то по телевидению.
На многих улицах висели короткие плакатики: «Борись за чистоту!»
«Грязнули здесь, что ли, живут какие-то, если им нужно все время напоминать, чтобы они боролись за чистоту! — рассуждал я.— У нас в Белогорске не надо об этом напоминать: там люди культурные, чистоплотные... И всюду образцовый порядок!» Это была неправда: в Песчанске на улицах было гораздо чище, чем у нас. И меня это очень огорчало, особенно после того как я прочитал под очередным призывом бороться за чистоту: «Чистота — залог здоровья. Чистота всюду и во всем — одно из главных обязательств наших соревнующихся городов!..» То, что «чистота — залог здоровья»,— это я знал давно и так же хорошо, как и то, что «солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья»; а то, что об этом написано в обязательствах и что комиссия через пятнадцать дней будет проверять, в каком из двух городов чище,— я узнал совсем недавно от Кешки-Г оловастика.
Что было делать? Наш Белогорск должен был в самом скором времени стать «фабрикой здоровья», а вот с чистотой, то есть с залогом этого самого здоровья, у нас дела обстояли гораздо хуже. Особенно много мусора всегда оставалось на пля¬
Збб
же после дневных солнечных ванн, которые принимали наши отдыхающие. Пионерский патруль «Даешь чистоту!» у нас в городе был, но до пляжа он как-то не добирался...
И вот меня осенила неплохая идея: а я доберусь до пляжа! Там, на берегу Белогорки, все наши ребята разворачиваются, прямо на глазах у отдыхающих инициативу свою проявляют: утопающих спасают, газеты привозят, даже по радио беседуют... Но ведь про эти беседы и про газеты никто еще не сказал, что они — залог здоровья. А чистота — залог. И я ею займусь! И тоже разверну свою инициативу на самом берегу, у всех на глазах! В канун приезда комиссии очищу весь пляж от мусора. Придут люди на берег — и не узнают его: чисте- хонько! Ни одной бумажки, ни одной сливовой косточки или там чего-нибудь еще! «Кто это сделал?» — поинтересуется Саша. Или даже сам Андрей Никитич. И тут я скромно выйду вперед...
А когда все узнают, какая необыкновенная чистота на улицах Песчанска, тогда уж сразу поймут, что я просто спас Белогорск от поражения в таком ответственном соревновании: ведь если бы комиссия увидела грязь на пляже, это бы произвело на нее очень плохое впечатление! Значит, моя полезная личная инициатива сыграет большую и важную роль!..
Эти радостные мысли погнали меня на автобусную остановку: захотелось поскорее вернуться в Белогорск.
И снова я стал в самом центре автобуса, чтобы все видели мою повязку, и снова поворачивался то в одну, то в другую сторону (будто меня очень волновали пейзажи за окном), чтобы все могли прочитать три четкие буквы посредине. И чтобы те, которые не знают, что такое ЧОС, до самого Белогорска ломали себе голову и расшифровывали это слово — такое коротенькое, но такое почетное для меня: «Член Общественного совета»!
И снова пассажиры так пристально на меня смотрели, что мне захотелось проверить у них билеты. Но теперь уж я, на всякий случай, обходил стороной не только пожилых, солидных людей, но и мальчишек тоже, потому что не все мальчишки понимали, что человек, находящийся при исполнении общественных обязанностей, вовсе не обязан платить за проезд.
.367
Одним словом, до самого Белогорска я продолжал проявлять личную инициативу. В автобус на остановках садились все новые и новые пассажиры, и всем была интересна моя повязка, а мне было интересно смотреть, как люди по моему первому требованию лезли в карманы, в кошельки и делали то, что я им говорил, то есть предъявляли билеты.
Я сошел в Белогорске на конечной остановке, где, как и на всякой конечной остановке, было так много автобусов, что они напоминали сгрудившееся стадо гигантских древних животных. Это сравнение однажды уже приходило мне в голову...
Спустились сумерки... И зажглись огни летнего кинотеатра, что был рядом с конечной остановкой. У кинотеатра не было крыши, и я заметил, что зрители, входя в зал, всегда^ на миг задирали голову и смотрели на небо: не пойдет ли дождь и не нужно ли будет в самом интересном месте картины бежать прятаться под навес?
В кинотеатре шел какой-то очередной фильм, который я еще три года, то есть до шестнадцати лет, не имел права смотреть. И именно поэтому мне ужасно захотелось посмотреть его! И вообще-то, если бы мне не мешала моя высокая сознательность, это было бы совсем нетрудно сделать, потому что возле стеклянного окошечка кассы висело большое объявление: «Наш кинотеатр работает без контролеров!»
В самом деле, люди, подходя к распахнутой двери, возле которой в прошлом году с двух сторон стояло два контролера, сейчас преспокойным образом сами отрывали то место билета, на котором было написано «контроль», и бросали эту маленькую бумажечку в урну. Потом зрители так же преспокойно входили в зал и занимали свои места.
Мне было любопытно посмотреть, как все это происходит, и я тоже тихонько подошел к входной двери. Зал без крыши постепенно заполнялся... Билеты были проданы, и поэтому, если бы даже мне уже стукнуло шестнадцать лет, я бы все равно не мог попасть по ту сторону дверей, а мог бы всего- навсего стоять позади урны, в которую зрители бросали бумажки со словом «контроль». Неожиданно я услышал фразу, которая заставила меня чуть-чуть вздрогнуть и подсказала мне все дальнейшие действия.
36&
— Посмотри,— тихо сказала своему спутнику какая-то отдыхающая,— без контролеров-то без контролеров, а наблюдать все равно наблюдают...—И она кивнула на меня или, вернее, на мою красную повязку.
И тут я подумал: «А почему бы мне как члену Общественного совета вновь не проявить свою личную инициативу и в самом деле не понаблюдать, все ли зрители добросовестно ведут себя в кинотеатре без контролеров? И почему бы мне не устроить свой наблюдательный пункт не по эту сторону дверей, где все меня сразу видят, а по ту сторону, то есть в самом зрительном зале?» И я вошел в этот зал...
Минут через пятнадцать, когда не было уже ни одного свободного места, я убедился в том, что зрители ведут себя вполне добросовестно. Мест всем хватило — стало быть, никто не занял чужого стула и у всех были билеты. Только один человек в зале стоял на ногах. Это был я.
Один раз мимо меня прошла женщина, деловитая походка которой ясно говорила, что она явилась сюда не развлекаться, а находится на работе и что фильм ее абсолютно не интересует. Я сразу понял* что это администратор. Женщина удивленно покосилась на меня, но я выставил вперед свою правую руку с повязкой, и она, помедлив секунду, прошла мимо. А потом в два приема погасли все лампочки, гирляндами опоясавшие зал, и началась кинохроника, которую я смотрел с большим волнением, потому что знал, что после нее опять зажгут свет и администратор может еще раз проследовать мимо меня. Но свет не зажгли, потому что опоздавших, на мое счастье, не оказалось. И я стал смотреть картину, которую мне еще в течение целых трех лет смотреть не полагалось...
Картина мне очень понравилась. И я решил проверить, добросовестны ли будут зрители, пришедшие на следующий сеанс.
Одним словом, когда я возвращался домой, было уже совсем поздно. И у меня ныли ноги, на которых я простоял четыре часа подряд.
«Сколько мне удалось сегодня, за какой-нибудь один день, проявить самостоятельности и личной инициативы! — рассуждал я.— И как прекрасно мне удалось почти во всех своих делах совместить приятное с полезным: и долг выполнил, и лич-
|3 Библиотека пионера, т. 4
369
ную инициативу проявил, и на автобусе бесплатно прокатился, и два раза посмотрел фильм, который мне и одного-то раза смотреть было нельзя!» Давно у меня не было таких, как говорит наша классная руководительница в школе, «насыщенных дней». Она накануне летних каникул без конца повторяла: «Каждый ваш летний день должен быть насыщен и отдыхом и полезными делами!» То есть как раз тем самым, чем и был наполнен мой сегодняшний день с утра до позднего вечера!
Подходя к своему двору, я внезапно ощутил ужасный голод, потому что целый день ничего не ел. Но это только прибавило мне гордости: находясь на отдыхе, где все думают о поправке, я жертвовал своим здоровьем ради общественных дел!
Окна у дедушки светились, а у Саши и Клавдии Архиповны были уже погашены. Но я хорошо знал, возле какого окна стоит Сашина кровать. Я смело вскарабкался на подоконник и шепнул куда-то в темноту:
— Саша-а!
— Что? — раздалось у меня возле самого уха. Оказывается, Саша придвинул свою кровать еще ближе к окну, и голова его неожиданно появилась в темноте прямо рядом с моей.— Ты где целый день слонялся? — с ходу шепотом стал отчитывать меня командир «пятерки».— Мы сегодня общественную библиотеку открывали, а ты...
— Лучше бы за чистотой в городе следили!
— Что-о?
— За чистотой! Боролись бы за чистоту! Я вот в Песчанск ездил, изучал обстановку, так там все с утра до вечера борются. И до того все чистые... и всюду до того чисто...
— В Песчанск ездил?
— Ну да!
Почувствовав, что Саша заинтересовался моим сообщением, я стал поспешно выкладывать ему все свои мысли, идеи и предложения. Кроме той идеи, которая пришла мне в голову уже перед самым отъездом из Песчанска (а то еще пошлют наш патруль чистоты на пляж — и тогда я никого не удивлю в торжественный день приезда комиссии!).
— Ведь Андрей Никитич говорил, чтобы мы проявляли
370
личную инициативу,— вот я сегодня и проявлял. Я знаешь что придумал?
— Что?
— Надо нам специальных ребят подобрать... ну, которые поздоровее, покрепче, ростом повыше,— и чтобы они помогали отдыхающим с детьми до вокзала добираться и в поезд садиться. А то ведь «дикари», то есть, прости, отдыхающие труженики, пока туда вещи дотаскивают, всю свою месячную поправку теряют. Я вот сегодня одной женщине помогал, так и она и дочка ее маленькая мне руками махали, пока поезд из
371
виду не скрылся... И даже воздушные поцелуи по воздуху посылали!
— Молодец! — коротко похвалил меня Саша.— Что еще?
Ободренный им, я стал рассказывать дальше:
— И еще я решил сегодня проверить, все ли в автобусах билеты берут. И в кинотеатре тоже... «Зайца» какого-нибудь хотел поймать.
— Ну и как?
— Не удалось,— грустно, со вздохом ответил я. О двух безбилетных «зайцах» в синих футболках мне неприятно было вспоминать.
— Почему же ты никого не поймал?
— Потому что все честно билеты берут... Даже проверять неинтересно!
— А сам ты честно поступил?
— В чем именно?!
— А в том именно, что проверять стал! Тебя кто-нибудь просил? Тебе кто-нибудь поручал?
— Но ведь я проявлял личную инициативу и еще... самостоятельность!
— Пусть контролеры по автобусам ходят — это их дело, А ты зачем полез?
Я стал тихо сползать с подоконника, потому что Саша наступал на меня.
— У нас все на доверии! Общественный совет к честности приучает, а ты вдруг с нашей повязкой людей стал позорить: «Предъявите! Покажите!»
Из соседнего окна показалась тетя Кланя в халате и в ка- ком-то ночном головном уборе, напоминавшем поварской колпак. Увидев меня, она покачала головой, так что колпак ее. чуть не слетел на землю.
— Маришка в твоем возрасте всегда спала в это время, а не лазила по чужим подоконникам...
Она и тут решила сравнить меня с моей собственной мамой, и сравнение это, конечно, опять было в мамину пользу.
Я спрыгнул с подоконника и медленно побрел домой.
— Завтра с тобой поговорим! — предупредил меня Саша.
МЕШОК ИЗ СТАРЫХ ПОРТЬЕР
Мой дедушка очень давно уже жил один и поэтому привык сам себя обслуживать: сам готовил еду, сам прибирал в комнате, сам пришивал себе пуговицы, когда они совсем отрывались или начинали болтаться на одной ниточке.
В прошлом году по обе стороны окна висели старые выцветшие портьеры. И такие же точно выцветшие матерчатые полосы были по обе стороны двери. Дедушка, помнится, рассказывал, что эти портьеры он сшил сам много лет назад. И тогда я, чтобы ему было приятно, сказал, что они очень красивые, хотя никак не мог определить их цвет и никак не мог понять, что на них было нарисовано в далекие годы их молодости: то ли головки больших цветов, то ли запасные части к какой-то машине, то ли что-то еще... Дедушка говорил, что и сам точно не помнит, что именно было нарисовано: слишком часто стирались эти портьеры, да и солнце потихонечку съедало их краску.
«Однако и в неопределенности их сегодняшнего рисунка, вообрази, есть что-то приятное!» — сказал однажды дедушка. И я охотно с ним согласился.
Но в этом году выцветшие полосы в комнате уже не висели, и поэтому, когда я вошел первый раз, дверь и окно показались мне какими-то голыми, и я подумал, что дедушка, должно быть, решил в день моего приезда устроить генеральную уборку и опять выстирал свои старые самодельные портьеры. А вечером я неожиданно увидел знакомые матерчатые полосы и обрадовался им, словно встретил вдруг старых знакомых. Они были аккуратно сшиты одна с другой, и получился мешок, в который дедушка прятал теперь подушки, простыни и одеяла. Мешок получился длиннющий, он напоминал мне какой-то неопределенного цвета дирижабль, и в него вполне могло бы влезть еще пять или шесть подушек и одеял. С утра до вечера мешок лежал в старинном шкафу, очень вместительном и пустом, потому что ведь дедушка жил совсем один и вещей у него было мало.
И вот наступило время, когда мешок этот мне очень понадобился. Это было как раз накануне того важного и торжест-
373
венного дня, когда должна была прибыть комиссия из областного центра. Вечером я сказал дедушке, который осторожно закладывал в кармашки своего альбома какие-то новые, только что купленные на почте марки:
— Мне очень нужен мешок...
— Какой?
— Ну, в который мы подушки засовываем!
— Для чего?
— Для коллекции...
Дедушка от удивления даже отложил в сторону маленькие металлические щипчики — пинцет,— при помощи которых он перекладывал свои драгоценные марки (он даже руками до них не дотрагивался!).
— Ты коллекционируешь старые мешки?
— Нет... Я хочу положить в него свою коллекцию!
— Коллекцию чего?!
— Ну, разных вещей... На короткое время. А потом я этот мешок сам выстираю!
— У тебя будет такая грязная коллекция, что после нее нужно будет устраивать стирку?
— Ну... в общем, пока я не могу сказать...
Мой дедушка не был, конечно, до такой степени глубоко интеллигентным человеком, как его друг дядя Сима, но все же он был вполне интеллигентным и поэтому не стал влезать в мои секреты и допытываться, что именно я собираюсь коллекционировать в старом мешке для постельного белья. Он спросил только еще напоследок (и, как мне показалось, даже с некоторой завистью):
— Это будет такая большая коллекция? С целый мешок?!
— Может быть, даже чуть-чуть побольше,— загадочно ответил я.
— Ну что ж, не буду вторгаться в область твоих увлечений. Коллекционирование — преотличнейшая вещь... Так что можешь распоряжаться мешком. А постель складывай прямо в шкаф. Он чистый: я в нем недавно дезинфекцию проводил...
Ну, а в действительности, туда, где лежали раньше наши белоснежные подушки и простыни (дедушка был, как говорила Липучка, «до ужаса чистоплотным»), я должен был набро¬
374
сать всякого мусора, чтобы унести его с берега реки и сделать наш пляж таким аккуратненьким, чтобы назавтра утром все от неожиданности просто ахнули и попадали в воду.
В тот же вечер я отправился на берег.
Странно бывает проходить по пляжу в вечернюю пору. Тихо, пустынно... Чуть слышно плещет вода, будто речка, заснувшая до утра, тихонько шлепает губами во сне. И не верится даже, что еще совсем недавно здесь было столько людей, что и песка прибрежного не было видно и трудно было пробраться к воде. И почти всегда в такую вечернюю пору лежит у берега одинокая горка вещей какого-нибудь отчаянного купальщика, который плещется и отфыркивается один-одинешенек на самой середине реки.
И сейчас у берега тоже белела такая горка, и кто-то взмахивал руками на середине Белогорки, и ложился на спину, и кувыркался, словно чувствовал себя полным хозяином реки, на которой никого больше в этот час не было.
Я оглядел наш небольшой пляж и радостно вздохнул: он был весь в мусоре, словно отдыхающие хотели до утра оставить о себе память в виде газетных обрывков, жестяных и стеклянных банок, рваных пакетов, сливовых косточек, кожуры от семечек и засохших зеленых листочков, которыми они прикрывали носы от солнца... В другое время я бы, конечно, подумал о том, что нам с Головастиком нужно проводить беседы не только о безопасности купания, но еще и об аккуратности и о чистоте — одним словом, о культуре поведения в общественных местах. Но сейчас я думал о том, что завтрашний утренний пляж будет сильно отличаться от сегодняшнего, вечернего. Что его просто никто не узнает!
Мешок постепенно наполнялся и снова начинал походить на длинный, неопределенного цвета дирижабль.
— Ты что это здесь потерял?—услышал я сзади спокойный и, как всегда, немного насмешливый Сашин голос.
От неожиданности я даже споткнулся, хоть под ноги мне в этот момент ничего такого, обо что можно было бы споткнуться, не подвернулось.
— Я?.. Ничего не потерял... Даже наоборот: я нашел!
— Что же ты, интересно знать, отыскал тут, в темноте?
375
Саша заглянул в мешок. А потом молча и удивленно перевел глаза на меня. «Никакого неожиданного сюрприза для Саши завтра уже не будет! —с грустью подумал я.— Он не ахнет и не упадет в воду от неожиданности». А ведь мне хотелось, чтобы именно Саша самым первым ахнул и упал...
— А ты чего там потерял? — грустно спросил я.
— Где?
Я указал на реку, где недавно Саша, которого я сразу не узнал, плавал и ложился на спину.
— Я купался. Вечером знаешь вода какая приятная: теплая, бархатная! И потом, мы же сегодня с Головастиком разных предупредительных знаков понаставили. Я и решил проверить: не уплыли ли они.
— Ну и как? Не уплыли?
— Нет, преспокойно себе покачиваются на одном месте... Во-он, видишь?
— Вижу,— ответил я, хоть в сумерках ничего, конечно, не разглядел.
— А ты-то чем здесь занимаешься? — уже более настойчиво, требовательным тоном командира «пятерки» поинтересовался Саша.
— Вот решил пляж убрать. Чистоту здесь навести. В Пес- чанске ведь знаешь как чисто! Пылинки с тротуаров сдувают... А у нас?
— А у нас на пляже грязно...— Саша огляделся по сторонам и покачал головой.— И как это наш патруль сюда заглянуть не догадался? А ты вот догадался, значит! Молодец, Шура! Просто замечательно, что ты вспомнил сегодня о пляже...
Саша не любил громких слов, а тут сразу произнес и «молодец» и «замечательно». И все это относилось ко мне! Значит, он простил мне все те проверки, которые я зачем-то решил устроить честным белогорцам в автобусе и в кино. Мне сразу захотелось еще больше отличиться перед Сашей, чтобы он еще сильнее похвалил меня и чтобы даже гордился дружбой со мной...
И вот тут-то мне пришла в голову мысль, которую я уж никак не мог назвать мыслишкой, потому что она показалась мне в тот миг очень оригинальной и очень остроумной: «Те¬
376
перь-то уж Саша и все другие узнают, кто у нас в Общественном совете главный выдумщик и изобретатель — Кешка или я! Пусть поскорее придет завтра — я окажу такую услугу нашему Белогорску, что там еще долго будут меня помнить!..»
Саша присел на мешок. И я тоже присел рядом. От Саши приятно пахло речной свежестью. А меня моя неожиданная идея до того разгорячила, что мне тоже вдруг захотелось искупаться.
Я уже до самой головы задрал свою рубашку, но Саша остановил меня:
— Не стоит: простудишься.
— Ты же говорил, что вода теплая. И даже бархатная..,
— В воде-то тепло, а когда на берег вылезешь, мурашки по телу прыгают.
Мне было приятно, что Саша заботится обо мне: «Оценил! А завтра еще больше оценит!» Я стал решительней рваться в воду. Но он потянул меня за руку и снова усадил на мешок, рядом с собой:
— Поговорим немного.
— Поговорим...
-— Ты вот все личную инициативу проявляешь, а лучше давай вместе... Как в прошлом году! У нас ведь как здорово получалось. С этими самыми занятиями по русскому языку. Помнишь?
Еще бы! Конечно, я помнил, как на целое лето, сам имея двойку по русскому, превратился в учителя и как потом, на экзаменах, меня превзошел мой собственный ученик, то есть Саша. И еще, как мы вместе строили плот и вообще все делали вместе...
— Я ведь когда телеграмму тебе посылал, то сразу так прямо и написал: «Приезжай немедленно!»
— «Немедленно» — это Липучка добавила...
— Ничего она не добавляла. По правде сказать, я с самого начала так и написал. Понятно?
Да, мне было понятно. Понятно, что Саша скучает без меня, что он, может быть, даже любит меня немножко... А уж его-то любовь я бы ни за что не променял ни на Липучкину, ни на чью на свете! Мне было понятно, что Саша снова хочет
377
дружить со мной, хочет, чтобы мы все делали вместе, не отрывались друг от друга,— и мне поэтому еще сильнее захотелось поразить его завтра своей находчивостью, своей смекалкой.
«Вот завтра удивлю всех, а уж после не буду больше проявлять личную инициативу в одиночку, а буду все делать рука об руку с Сашей!..» — так я решил. И на радостях легко и весело взвалил себе на плечи мешок, полный разного мусора. Он даже не показался мне тяжелым: наверное, оттого, что с ним, с этим самым мешком, было связано выполнение моего нового плана.
— Давай понесем вместе,— предложил Саша.
Но я отказался от его помощи: свой план я должен был сам, своими собственными силами провести в жизнь от начала и до конца! Я несколько раз останавливался в пути, отдыхал, но Саша больше не предлагал мне помощь. Такой уж у него был характер: он не любил надоедать и навязываться со своими услугами. Когда же мы наконец добрались до города, он сказал:
— Давай сразу свернем на свалку: выбросим весь твой хлам.
— Нет, я отнесу его домой!
— Домой?!
— А что ж такого странного? Сдам завтра утром в утиль и денежки получу,— схитрил я.
— Так ты, значит, вот для чего по пляжу ползал?..
Я спохватился и замахал свободной рукой:
— Что ты? Что ты?! Это я так... только что придумал. Почему бы, думаю, не сдать все это в утиль, а деньги — на общественные нужды?
— Деньги вообще-то нам нужны,— задумчиво проговорил Саша.— Для общественной библиотеки... Веник говорит, что нужно еще книжки подкупить. Классику! Пушкина и Лермонтова знаешь как богато издают: с золотом, с серебром, полными собраниями сочинений. А полные собрания никто нам не пожертвовал... Жалко, конечно, с такими книжками расставаться. Но ничего: мы их сами купим. Думаю вот металлолом подсобрать, бумажную макулатуру.
378
Я скривился. Саша сразу заметил это, даже в сумерках:
— Думаешь, надоел этот металлолом вместе с макулатурой, да? А мы разве для развлечения собираем? Мы же для дела!..
Дома дедушка с удивлением посмотрел на мою ношу:
— Люди свои коллекции десятилетиями собирают, а ты за полтора часа целый мешок наполнил! И что же у тебя там, позволь полюбопытствовать?..
— Пока не могу показать!
— Не можешь?!
— Не могу...
— Так-с... Таинственный мешочек!
Дедушка тяжело вздохнул: ему, наверное, очень хотелось узнать, из чего состояла моя коллекция.
ТУДА И ОБРАТНО...
Я знал, что важная комиссия прибудет в Песчанск к девяти часам утра, а оттуда уже пожалует к нам. Значит, я должен был появиться в Песчанске со своим мешком на полчаса раньше комиссии. И вот я уже во второй раз отправился на обтекаемом бело-голубом автобусе в город, с которым мы соревновались и который должны были победить.
Пассажиров в автобусе было мало, потому что никто не спешил в этот час на станцию: поезда приходили и уходили в полдень.
Вчера вечером у меня было такое замечательное настроение, что я даже с трудом уснул. Ведь я узнал вчера о том, что Саша, оказывается, хочет дружить со мной так же крепко, как в прошлом году. Но, сидя в автобусе рядом со своим мешком, сшитым дедушкой из старых портьер, я уже ни о чем торжественном и радостном не думал, потому что мне вдруг стало немножечко страшно. «А если меня поймают чистоплотные жители города Песчанска?—думал я, сидя в автобусе.—Что, если они захватят меня вместе с моим мешком неопределенного цвета?.. Тогда я должен буду пожертвовать собой ради города, в котором родилась моя мама, в котором жили Саша,
и дедушка, и Липучка, и тетя Кланя... В который насовсем переехал даже такой замечательный человек, как подполковник в отставке Андрей Никитич. Ведь он, конечно, мог поселиться где угодно, а выбрал Белогорск! Ну, а если мой план осуществится и жители Песчанска не поймают меня, тогда только Саша (один только Саша!) будет знать, какую я сыграл роль в соревновании двух городов и чем мне обязан город, в котором прошли детства и юность моей мамы!..»
Да, для жителей Песчанска я должен был навсегда остаться таинственным незнакомцем! Это было ясно. И поэтому я снял с руки красную повязку, которая могла выдать меня, осторожно свернул ее и положил в карман. И все-таки мне было не по себе.
Мне очень хотелось хотя бы немножко отсрочить свою вторую встречу с городом Песчанском, хотелось, чтобы автобус ехал помедленнее, а он, полупустой, как нарочно, катил быстро, стремительно взбираясь на холмы, даже не притормаживая на спусках и проскакивая остановки, на которых никто в этот час его не ждал и никто не собирался выходить.
Я с тоской поглядывал на березовую рощу, словно прощался с ней: а вдруг мне придется из Песчанска отправиться прямо в Москву, не заехав даже в Белогорск за своим командировочным чемоданчиком? Вдруг я должен буду поступить так, чтобы не бросить тень на Белогорск, не выдать своей связи с этим городом и с нашим Общественным советом, который и правда ведь ничего не знал и не ведал о моих смелых и рискованных намерениях.
Я с завистью поглядывал на пассажиров, у которых в это утро было, вероятно, самое обычное настроение, но мне казалось, что, в отличие от меня, настроение у всех просто великолепное, потому что никто не везет с собой такого опасного мешка, какой везу я...
Не успел я еще подробно обдумать все, что может со мной произойти, как мы уже очутились на станции. Оказалось, что автобус будет стоять на площади возле вокзала дольше, чем обычно, потому что.какой-то поезд, идущий издалека в Москву и опаздывающий с самой ночи, все же остановится и из него могут выйти пассажиры, которым нужно в Песчанск,
380
Шофер, совсем молоденький и маленького роста, выпрыгнул из своей кабинки на землю и блаженно потянулся... «И у него тоже хорошее настроение!» — с завистью подумал я. Меня удивиЛо, что он, такой коротышка, повелевает как хочет большим и красивым автобусом. Я вообще всегда старался повнимательнее разглядеть лица машинистов железнодорожных поездов и поездов метро, шоферов, которые водят какие- нибудь уж особенно огромные машины, и, конечно, летчиков... «Вот,— думал я всегда,—^ до чего же удивительно: обыкновенный человек, даже не очень высокий и не особенно уж сильный с виду, а захочет — и целый длиннющий состав остановится или, наоборот, прибавит скорость; самолет ринется ввысь или помчится в путь гигантский грузовик с медведем на радиаторе...» Нет, не зря все-таки я с самого раннего детства мечтал быть вагоновожатым и вообще работать где-нибудь на транспорте!
Шофер с деловым видом склонялся над каждым колесом и постукивал по узорчатым резиновым покрышкам. И мне неожиданно захотелось, чтобы хоть одно колесо спустило воздух и обмякло или чтобы сломалась рессора,— тогда бы я опоздал в Песчанск к приезду комиссии и не смог бы выполнить свой план по уважительным причинам. Но автобус был не только обтекаемым и красивым, но еще, должно быть, обладал богатырским здоровьем, а шофер постукивал по колесам просто так, для порядка.
Тогда я, чтобы отвлечься от всяких неприятных мыслей, решил вспомнить о книгах и фильмах, которые мне особенно нравились. Но на память мне почему-то все время приходили произведения, в которых отважные герои шли с боевыми заданиями в тыл противника и не возвращались назад. Правда, я не шел, а ехал на автобусе, и не к противникам, а, как бы это сказать, всего-навсего к нашим соперникам, с которыми мы соревновались, но все равно меня могли поймать, потому что план мой (я был в этом уверен!) никак не мог обрадовать жителей города Песчанска,
Когда стало ясно, что мысли о литературе и кино меня не развеселят, я стал вспоминать разные забавные истории из жизни и сразу же вспомнил, как на этой самой площадке*
381
возле станции, под тяжестью Ангелины Семеновны треснула и осела коляска с надписью: «Наши общие колеса!»
И, словно для того чтобы получше напомнить мне об этом случае, внезапно где-то совсем рядом застрекотал мопед.
Я выглянул в окно и, чуть не вскрикнув от изумления, снова скрылся в автобусе: к станции на самой высшей скорости, на какую только были способны «наши общие колеса», подкатил Саша. Зачем он сюда приехал? За кем гнался?..
Но мне недолго пришлось рассуждать на эту тему и теряться в догадках, потому что Саша, возбужденный и злой (я-то уж умел угадывать его настроение!), появился в дверях автобуса.
— Ты здесь? — коротко поинтересовался он, будто еще сомневаясь— я это или не я.
Что мне было отвечать? Я промолчал...
— А ну-ка, бери свое барахло — и живо в коляску!
— В Белогорске что-нибудь случилось? — испуганно спросил я, потому что Сашино настроение было мне совсем непонятно.
— Там узнаешь!..
— Но я не могу сейчас возвращаться: у меня важное дело!
— Где?
— В Песчанске...
— И ты для этого самого дела вчера на пляже в мусоре копался?
— Я не копался, я собирал...
«Откуда Саша мог узнать о моем замысле?!» — изумился я.
— Ты долго тут будешь рассиживаться? — с виду спокойно спросил Саша. Но я знал, что это его напряженное спокойствие хуже всякого крика.
— Мне надо доехать до Песчанска,— продолжал упорствовать я.
— Подарок им везешь? Гостинец?
— Ты даже не знаешь...
— И знать не хочу!—перебил меня Саша.— А как командир «пятерки» последний раз приказываю: шагом марщ в коляску!
Я взвалил на себя мешок из старых портьер и грустно поплелся к выходу...
382
Когда я уже сидел в глубине коляски, придерживая руками свой мешок, Саша повернулся ко мне и тихо сказал:
— Эх, ты!..
— Почему это «эх, я»?
— Вот приедешь в Белогорск — узнаешь!..
И мы покатили обратно... Путь туда, то есть к станции, казался мне коротким, потому, наверное, что я очень хотел, чтобы он был подлиннее. А дорога обратно, в Белогорск, тянулась очень долго, потому что мне хотелось, чтобы она поскорее кончилась...
Мы доехали до самого своего дома. Я снова притащил мешок в дедушкину комнату, а Саша вошел вслед за мной и плотно прикрыл дверь, будто не хотел, чтобы нас кто-нибудь услышал.
— Что случилось? — тревожно спросил я, бросив мешок на пол и от волнения присев на него.
— Ничего. Но могло случиться!
— Что?
— Это уж ты рассказывай. Я ведь еще вчера вечером почувствовал что-то неладное. А сегодня утром как из окна случайно увидел, что ты на автобусную остановку потащился, так сразу все понял. Я бы тебя тут же остановил, но неудобно было в одних трусах на улицу выскакивать... А ты уж очень быстро в автобус залез. Ну, я тогда — на мопед и в погоню! Знал, что автобус этот полчаса у станции проторчит... А если бы он не проторчал? Позорище было бы на всю область!
— Какое позорище?
— Да ты дурачок, что ли? Не понимаешь?
— Нет, не понимаю...
— Не прикидывайся! Зачем тебя в Песчанск понесло?
Тут уж незачем было скрывать от Саши мой план. И я стал
выкладывать все, как было:
— У м,еня идея родилась! Там, понимаешь, в Песчанске, на каждом шагу таблички висят: «Борись за чистоту!» Я уж тебе рассказывал... И они борются! Я как это все увидел, так сразу понял: по чистоте нам с ними не тягаться! И вот решил помочь Белогорску...
— Как? — пристально глядя на меня, спросил Саша,
383
■— Я решил, что очень уж у этого Песчанска внешний вид хороший. Даже, можно сказать, образцовый. Ну, и захотел немного... Ну, в общем, хотел сегодня по улицам Песчанска побродить и кое-где... на самых таких видных местах его пораскидать... баночки всякие, скляночки, обрывки газет...
Еще вчера вечером, сгоряча наверное, эта идея показалась мне замечательной, просто великолепной, а сейчас я еле- еле выдавливал из себя слова. Мне как-то стыдно и очень трудно было об этом рассказывать...
— Ну и тип же ты! — тихо, но как-то очень внятно проговорил Саша.— Ты думаешь, ты бы Песчанску этой самой грязи подбросил?
— Ну конечно...— неуверенно промямлил я.
— Нет уж, ошибаешься! Ты бы нас, белогорцев, грязью забросал. Ведь это же такой позор был бы!
— А я бы не сознался. Ну, если бы меня поймали... Ни за что бы и слова не вымолвил! Я зсе продумал. Я бы собой пожертвовал...
— Нами бы ты пожертвовал, а не собой. Честью нашей! Понятно? Ведь это такая была бы подлость... А ну-ка, давай сюда красную повязку! Не дорос ты еще до нее...
-— Я не дорос?!
■— Давай, давай! Без разговоров!..
Трясущимися руками полез я в карман за повязкой, которую спрятал туда еще в автобусе. Я долго ее доставал и долго протягивал Саше...
А он взял ее, мою красную повязку со словом «ЧОС» шь средине, и засунул себе в брюки. Даже не свернул как следует... Я думал, что Саша тут же уйдет из комнаты, но он не уходил и ничего мне больше не говорил. Так вот молча стоял и смотрел в окно, точно увидел там что-то очень интересное. И я так же внимательно разглядывал пол у себя под ногами.
Пожалуй, больше всего поразило меня коротенькое, но какое-то очень жесткое слово «подлость», которое произнес Саша. Подлость? Я мог совершить подлость?! А как же бы это называлось? «Придумал вечером на пляже какую-то зловредную ерунду,— молча рассуждал я,— а ночью и времени не было подумать.,. Спал! Хоть бы бессонница какая-нибудь посе¬
384
тила, поворочался бы тогда и мозгами тоже поворочал, а то спал за милую душу со своими подлыми мыслями!»
Саша, как видно, разговаривать со мной не собирался. Он все молчал... «Пришел бы кто-нибудь, что ли!—думал я про себя.— Ну, Липучка хотя бы или Веник...»
А пришел Андрей Никитич.
Он постучал в дверь, как всегда, негромко, будто думал, что в комнате в этот полуденный час кто-нибудь может спать.
— Надо бы нам с вами пройтись по городу, все оглядеть...—прямо с порога предложил он.—Знаете, хорошая хозяйка перед приходом гостей, какой бы у нее ни был образцовый порядок, все-таки непременно еще раз все осмотрит, приберет, почистит. А у вас что тут случилось?
— Ничего такого особенного. Просто поговорили немного... И все! — поспешил ответить Саша.
И по его голосу, по его лицу я понял: он очень испугался, как бы я сам не рассказал Андрею Никитичу про историю с мешком и про то, что у меня уже нет больше красной повязки со словом «ЧОС». «Значит, еще заботится обо мне! Значит, еще не совсем меня презирает...» — подумал я. И мне было приятно, что Саша все же не хочет опозорить меня в глазах Андрея Никитича.
А сам Андрей Никитич почувствовал что-то недоброе, но не стал допытываться, в чем дело, а подошел ко мне и дружески положил мне руку на плечо. Он будто почувствовал, что Саша за что-то наказал меня, и решил прийти мне на помощь, утешить, приободрить:
— Хочу тебе, Шура, дело одно поручить. Вернее, доверить. Очень ответственное!
Я с тревогой взглянул на Сашу: что, если он сейчас возразит, скажет, что я недостоин ответственного дела? Но Саша, зло поглядывая на меня исподлобья, молчал.
— Дедушка твой,— продолжал Андрей Никитич,— решил регулярно, каждый день по вечерам, принимать у себя дома отдыхающих: советы давать, консультации... Пока ведь тут, возле источников, санаториев и домов отдыха не успели понастроить. А людей много приезжает. Надо им помочь... Значит, будем выходить из положения своими собственными силами...
385
— Дедушка Антон и раньше больных принимал,— хмуро сообщил Саша.
— Знаю. Но это было как-то стихийно, от случая к случаю. А теперь будет регулярно, почти каждый вечер... Думаю, и другие врачи откликнутся.
— А при чем здесь Шура? — мрачно поинтересовался Саша.— Он же не врач!
— Не врач, но ведь и раньше помогал дедушке с пациентами обращаться. Ну, а теперь вся организационная работа будет на нем: записывать на прием, следить за порядком, там вот, на крылечке, комнату ожидания можно устроить... И помогать дедушке будет во время приема: станет у нас медицинской сестрой или, точнее сказать, медицинским братом!
— Жалко, что мы раньше до этого не додумались! —воскликнул я.— А то бы к сегодняшнему дню...
— Ты все про сегодняшний день. О показухе всякой беспокоишься! — зло прошептал Саша.
И я замолчал. А Андрей Никитич угадал, наверное, что нам с Сашей надо еще что-то выяснить между собой.
Он вышел на крыльцо, медленно спустился во двор и оттуда немного поторопил нас:
— Надо пройтись по городу!..
Саша быстрыми шагами вплотную подошел ко мне и. все тем же злющим голосом проговорил:
— Если выполнишь это задание — простим, а если и его завалишь — тогда уж не надейся!..
На что именно я не должен был надеяться, Саша мне так и не объяснил, а только вытащил из кармана и сунул мне в руку мою помятую красную повязку.
„ПРИХОДИТЕ II НАМ ЛЕЧИТЬСЯ^
— К вам только больным можно? Или и здоровых тоже пускаете?
В окне появилась Липучка. Пузырьки с ее носа и щек уже сошли, и на их месте оказались те же самые маленькие и очень симпатичные коричневые точечки, которые были и в
386
прошлом году. Напрасно, значит, Липучка истязала себя: веснушки не желали сводиться. И с ними ей было гораздо лучше, только Липучка, должно быть, этого не понимала. Я уже давно заметил, что некоторые девчонки, особенно старшеклассницы, и даже некоторые взрослые женщины для того, чтобы быть красивее, просто уродуют себя: прически какие-то сумасшедшие придумывают, что-то там с бровями делают и с ресницами. И все кругом видят, что они от этого в сто раз хуже становятся, а им самим кажется, что так в сто раз лучше. Одним словом, я был очень доволен, что Липучкины веснушки, все до одной, вернулись на свои прежние места.
Липучкино лицо было в окне, словно какой-нибудь живой портрет в белой раме, а руки у нее были сзади, за спиной, и мне показалось, что она от меня что-то прячет.
Вообще-то говоря, у нас с дедушкой была самая нормальная и даже свежевыкрашенная входная лестница и самая нормальная дверь с двумя ручками, но Липучка, и Кешка-Го- ловастик, и даже Саша полюбили почему-то в последнее время сперва появляться в окне, поторчать-поторчать в нем немного, а потом уж войти в комнату через дверь. Может быть, потому, что появляться в окне как-то неожиданнее, чем в дверях: и стучаться не надо, и не надо ждать, пока тебе разрешат войти в комнату. Хотя, по правде говоря, и в дверь-то, перед тем как войти, тоже стучался один только Веник да еще Липучка стукнет один разок и, не дожидаясь разрешения, прямо тут же влетит в комнату. Ну, а остальные врывались так, будто за ними гналась какая-нибудь страшная погоня.
«Теперь уж, простите пожалуйста, без стука к нам не войдете!— думал я, разглядывая в окне Липучкины веснушки.— В поликлинику без разрешения не врываются! Надо будет и объявление такое повесить: «Без вызова не входить!» И в окне, миленькие мои дружки, без предупреждения появляться не будете: а вдруг дедушка какого-нибудь полураздетого больного выстукивает! Теперь уж мы с дедушкой или, вернее, я сам, как главный помощник врача, как его внук и медицинский брат, наведу порядочек!..»
Мне до того понравилось быть этим самым медицинским братом, я до того хотел своей личной инициативой (не похо¬
387
жей на мои прежние выдумки) заслужить уважение Саши и Андрея Никитича, что даже как-то не особенно радовался победе Белогорска в соревновании с чистоплотным Песчан- ском. Ведь соревнование-то продолжалось! И я должен был по- настоящему, а не так, как раньше, помочь городу, в котором родилась мама...
— Ой, Шура, какую ты вывеску замечательную сделал: «Приходите к нам лечиться!»—воскликнула Липучка.
Я и правда рисовал эту вывеску целый день. Я изобразил врача в белом халате с бородкой, похожего на дедушку, который, широко и гостеприимно разбросав руки в стороны, казалось, приглашал всех проходящих мимо: «Добро пожаловать!» Веник не был согласен с таким рисунком — он сказал, что моя вывеска не соответствует «состоянию и настроению страдающего больного человека». Но Андрей Никитич поддержал меня и решительно возразил нашему умному Венику. Он авторитетно заявил, что в смысле болезней у него опыт гораздо больше нашего и что веселого старичка на вывеске надо оставить, потому что «бодрость и оптимизм — это лучшее лекарство и самый лучший витамин для больного человека».
И вот я повесил на двери это самое объявление: «Приходите к нам лечиться!» Оно выглядело таким веселым, будто приглашало людей не к врачу, а куда-нибудь на новогоднюю елку, да и дедушка в моем изображении напоминал приветливого деда-мороза. А чуть пониже было написано: «Запись производится с 15 до 16 часов. Прием с 19 до 21 часа ежедневно, кроме воскресенья и четверга».
Это самое «кроме» я дописал по требованию Андрея Никитича, который сказал, что и дедушка тоже ведь должен когда-нибудь отдыхать.
Липучка появилась в окне прямо через каких-нибудь десять минут после того, как я прибил к двери веселое объявление. По лицу ее я сразу догадался, что Липучка готовит мне какой-то сюрприз. Но я и виду не показал, что догадываюсь, что меня хоть немножко, хоть чуть-чуть интересуют ее спрятанные за спиной руки. И именно поэтому Липучка не выдержала:
388
— А я тебе одну вещь принесла...
— Какую? — равнодушно спросил я, хоть мне, конечно, очень хотелось бы заглянуть Липучке за спину.
— Вот! Смотри!..— Она торжественно подняла над головой что-то белое, тщательно выглаженное и аккуратно свернутое — не то простыню, не то наволочку.— Это халат! — воскликнула Липучка.— Самый настоящий белый халат. Мне его мама насовсем отдала. Для тебя! Мама его носила раньше, когда в пекарне работала...
— В пекарне?
— А какая разница? Важно, чтобы он белым был. И чис- тым-чистым! Ведь правда? Я его немножко зашила, подлатала кое-где, потому что он порвался в трех местах. И постирала и погладила... На вот, примерь! Тебе ведь никак нельзя без белого халата...
Я даже не ожидал такого замечательного подарка: теперь меня будет отличать от всех других обыкновенных жителей Белогорска не только красная повязка, но еще и белый халат!
А повязку я буду надевать прямо поверх халата: красное очень красиво выглядит на белом фоне.
Я стал примерять халат, и тут оказалось, что он мне немного широк и длинноват.
— Это ничего! Это ничего, Шура! — стала утешать меня Липучка.—У тебя вид будет солиднее, понимаешь? Я могу его немножко ушить снизу и в боках, но этого не надо делать! Так будет гораздо солиднее!
Я согласился с Липучкой. И с этого дня, утопая в бывшем халате ее мамы, начал свою новую работу на общественных началах.
Это было не так просто, как может показаться с первого взгляда. Ну, во-первых, дедушка сказал, чтобы я ни в коем случае не сообщал пока об этой своей новой должности медицинского брата маме, потому что она немедленно решит, что я должен заразиться от дедушкиных пациентов ужасными, неизлечимыми болезнями, и заберет меня обратно в Москву. В целях полной безопасности, дедушка запретил мне вступать с пациентами в «непосредственный контакт», то есть запретил
389
пожимать им руки, когда они захотят благодарить меня за оказанную им медицинскую помощь.
Но и этого было мало. Каждый день с 15 до 16 часов и вечером, во время приема, я, по требованию дедушки, надевал на лицо марлевую повязку,, пропитанную каким-то довольно- таки противным дезинфицирующим раствором. Так что моего носа и рта никто из дедушкиных пациентов ни разу не видел, а видели они только мои глаза, которые дедушка разрешил оставить без всякой защиты.
И еще: все это было не так легко, потому что я решил не просто записывать отдыхающих на прием, но и составлять на каждого из них регистрационную карточку.
Дедушка меня, конечно, об этом не просил. Но я же прекрасно знал, что в настоящих поликлиниках бывают и регистрационные карточки и истории болезни, и решил, что у нас все должно быть по-настоящему.
Никаких карточек у меня, конечно, не было, и поэтому я просто разодрал на отдельные листочки несколько тетрадок в линеечку, оставшихся у дедушки после моих прошлогодних летних занятий. Каждый листок и был карточкой, на которой я аккуратно записывал имя, отчество и фамилию больного, год рождения, профессию и разные прочие сведения.
Как-то однажды, когда записывалась на прием солидная, пожилая женщина, сообщавшая о себе все сведения так, будто не дедушка, а я сам должен был лечить ее от очень неприятной болезни, которая называлась нервной экземой, мне вдруг пришло в голову спросить:
— А чем вы болели в детстве?
Это сразу еще выше подняло мой авторитет в глазах пожилой пациентки, и она стала припоминать болезни, которыми, наверное, в детском возрасте болели вообще все на свете: корь, грипп, коклюш...
— А не было ли у вас воспаления легких?
— Нет... кажется, не было,—виноватым голосом ответила женщина.
— А краснухи?
— Тоже... нет.
— И желтухи не было?..
390
— И желтухи...
Я долго допрашивал бедную женщину, перечисляя все известные мне болезни, и, когда наконец в ответ на мой вопрос о «свинке» женщина почему-то радостно воскликнула: «Да, да, это было!» — я ей строго заметил:
— Вот видите! А вы забыли...
Вечером дедушка сказал, что моя личная инициатива убыстряет прием больных, и с тех пор я стал интересоваться прежними болезнями всех дедушкиных пациентов.
Особенно мне нравилось, когда отдыхающие мамы записывали на прием своих отдыхающих детей. Пациенты были моего возраста, но их мамаши, у которых в дни болезни детей всегда бывал какой-то испуганный и несчастный вид, да и сами дети тоже смотрели на меня так, словно я был старше их лет на двадцать, а может быть, и на сорок, и от меня лично зависело, будут ли они еще хоть раз купаться в реке Белогор-
ке и прохлаждаться (то есть прогреваться) на пляже или же так и проболеют до конца своего отдыха.
— Чем болели в раннем детстве? — спрашивал я у тех, у кого «позднее» детство еще не прошло. И потом начинал подсказывать:— А дифтерит не забыли? А бронхит? А стрептококковую ангину?..
Чем дольше я помогал дедушке, тем больше всяких болезней было у меня в запасе, и я иногда произносил такие названия, о которых, я уверен, даже наш высококультурный и образованный Веник никогда не слышал и не подозревал.
Теперь уж, конечно, я интересовался и тем, на что больные жалуются, что они ощущают, заранее мерил им температуру, и это все тоже очень подробно заносил в регистрационные карточки.
Иногда, записывая на прием, я давал больным советы, к которым они очень внимательно и чутко прислушивались, точно разговаривали с самим дедушкой, а не с его медицинским братом.
— Вот видите, как нехорошо,— солидно и неторопливо упрекал я какую-нибудь мамашу.— Ваш сын перегрелся на дневном солнце. Это потому, что он пренебрегает ультрафиолетовыми лучами, которые бывают только по утрам... Вот видите,— упрекал я другую,— как это все скверно получилось: ваша дочь объелась красной смородиной. Да еще и зернышки не выплевывала. Мы, наверно, выпишем ей вечером касторку или что-нибудь вроде этого...
Вообще с самими несовершеннолетними пациентами я никогда не разговаривал, а обращался только к их родителям. И всегда говорил от нашего с дедушкой общего имени: «Мы вам пропишем... Мы вам посоветуем. Мы вам поможем...»
На крыльце и во дворике я, как посоветовал Андрей Никитич, устроил комнату ожидания. На садовом столике были разложены журналы, газеты и книги из Липучкиной общественной библиотеки. Тут были и самодельные дедушкины шахматы, в которые всегда сражались ожидающие пациенты.
Время от времени я появлялся на крыльце под строгим объявлением «Без вызова не входить!» и -сквозь свою белую, продезинфицированную марлю торжественно произносил:
392
— Следующий!..
Почти каждый день к нам наведывался Андрей Никитич. И всегда он приводил с собой Сашу: то заходил за ним домой, то притаскивал его с реки, то даже отрывал командира нашей «пятерки» от каких-нибудь важных общественных дел. Конечно, Саша и сам тоже интересовался нашей домашней поликлиникой, тем более что прямо из его окна можно было с утра до вечера наблюдать веселую вывеску: «Приходите к нам лечиться!» Но он, когда был один, разговаривал обо всяких наших медицинских делах только с дедушкой, а меня будто и не замечал.
И мне казалось, что Андрей Никитич нарочно приводит его в нашу поликлинику в самый разгар работы (когда я вел запись или когда был прием), чтобы молча сказать: «Посмотри, как Шура старается! И сколько он проявляет замечатель- ной личной инициативы и самостоятельности! Значит, он не только мешки с мусором умеет возить в город Песчанск, а и еще кое-что...» Хотя, впрочем, о мешке, сшитом из старых дедушкиных портьер, Андрей Никитич, конечно, сказать не мог, потому что ничего о нем не знал.
Вместе с Андреем Никитичем часто приходили и Липучка, и Веник, и Кешка-Головастик. Да и тетя Кланя как-то именно в это время оказывалась дома и тоже выходила во двор. Она хоть и была старожилкой Белогорска и ко всем приезжим относилась с некоторым подозрением, но про Андрея Никитича всегда говорила: «Он в нашем городе как родной... Низкий поклон ему: много добра с собой принес!»
Тетя Кланя, как и Липучка, хотела помогать мне и все время предлагала свои услуги. А Андрей Никитич возражал:
— Не надо помогать: у них с дедушкой все крепко, по- мужски получается! Пусть вдвоем и орудуют!..
Андрей Никитич хотел, наверное, чтобы я один, безо всякой посторонней помощи, справился со своим ответственным заданием, потому что он чувствовал, что командир «пятерки» мной недоволен. А я чувствовал, что он все это чувствует.., И в душе был ему за это очень-очень благодарен, хотя ничего такого вслух не высказывал.
— Пусть получше споется этот наш семейный медицин¬
393
ский дуэт: внук и дедушка! — шутил Андрей Никитич.— Они обойдутся без нашего вмешательства, я уверен... Так что не будем вторгаться!
— Ой, как жалко! — восклицала Липучка.— Я ведь мечтаю стать врачом. А пока что медицинской сестрой... Или даже нянечкой.
— А мне говорила, что библиотекарем,— всерьез удивлялся Веник.
— И библиотекарем тоже! Ой, я о многом мечтаю!..
Веник хвалил меня и говорил, что я тружусь «на самом
благородном участке». И Кеша-Головастик говорил, что это даже благороднее, чем спасать утопающих, потому что утопать в Белогорке по-прежнему никто не собирается, а болеет (хотя бы по одному разу!) каждый человек на свете.
И только один Саша помалкивал. Он как будто вовсе и не замечал ни моей личной инициативы, которую я проявлял буквально на каждом шагу, ни моей самостоятельности, ни даже белого халата, который, кажется, и в самом деле придавал мне солидность, потому что, когда я его снимал, никто уже с таким уважением ко мне не обращался и так внимательно не выслушивал моих советов и наставлений.
Но однажды утром, когда мы оба плескались у рукомойника, по-прежнему висевшего на ржавом железном обруче, которым была подпоясана молоденькая березка, Саша сказал:
— Надо бы нам шпица Бергена искупать. Раньше, когда будка его на берегу стояла, он почище нас с тобой был: полдня плавал. А теперь ты его на реку водить будешь!
— я?..
— Ну да, заодно уж: как сам туда побежишь, так и его захватишь. Пусть к тебе привыкает! Он ведь теперь в полное твое распоряжение поступит.
— В мое распоряжение?!
— А чего удивляешься? Ничего нет странного: он тебе по работе нужнее, чем нам. Может, дедушке что-нибудь срочное сообщить придется! Берген уже старый: на Хвостик ему бегать трудно. А больница дедушкина от вашей домашней поликлиники совсем близко. И дорогу он хорошо знает... Мы его всю весну тренировали!
394
Нет, Саша, значит, понимал всю важность и ответственность моего дела, если решил доверить мне единственного четвероногого друга человека, которым располагала наша боевая «пятерка».
— Без дела его не гоняй! Он уже слабый...— предупредил меня Саша.— А только в экстренных случаях используй!
И я сперва все горевал, что мне не представлялось таких экстренных случаев. Но лучше бы их никогда и не было...
Случилось это в четверг... Как раз тогда, когда у дедушки не было приема. Но он все равно не отдыхал: он в этот день умудрился вести какой-то кружок по повышению квалификации медицинских сестер, который и мне тоже рекомендовал посещать. Но я не всегда посещал этот кружок, потому что в свободные вечера вся «пятерка», по Сашиной инициативе, стала совершать прогулки по воде на нашем знаменитом плоту. Это было очень приятно: мы катались, а Веник пересказывал нам разные интересные книги, которые мы еще не читали. И Кешка-Головастик тоже пересказывал, только мне иногда казалось, что он сам придумывает это «содержание» на ходу и что таких книг, о которых он рассказывал, ни в одной библиотеке на белом свете не существует.
И в тот вечер я тоже собирался бежать на реку, к ребятам... Но в дверь как-то странно постучали: слабо, еле слышно. Я открыл и увидел на крыльце Андрея Никитича. Он с трудом держался за перила крыльца, и лицо у него было такое же, как в те две ночи, в поезде и за рекой, когда я впервые узнал, что он так тяжело болен. Андрей Никитич, как и тогда, достал из пузырька, который всегда носил с собой, белый, словно сахарный, кружочек, положил его под язык и тяжело задышал, будто ему не хватало свежего воздуха, которым была так богата наша река, и наша бёрезовая роща, и весь наш Белогорск...
— Андрей Никитич, что с вами? — испуганно спросил я.
Он, как и тогда, в поезде, захотел через силу улыбнуться.
Но улыбки на этот раз не получилось, а какое-то страдание исказило его посеревшее лицо, с которого будто сразу исчез летний бронзовый загар.
Мне стало очень страшно. Я боялся притронуться к Анд¬
395
рею Никитичу. А он положил мне руку на плечо, но это была какая-то совсем другая, незнакомая рука — не та, которая легко и дружески ложилась ко мне на плечо. Рука была тяжелая и беспомощная. Она, казалось, искала у меня защиты и спасения. И я, напрягая все свои силы, потащил Андрея Никитича в комнату...
Я не мог позвать на помощь ни Сашу, ни тетю Кланю, потому что их не было дома. И только шпиц Берген отсыпался на своем очередном дежурстве во дворе.
— Не волнуйся, Шура,— проговорил Андрей Никитич, когда я уложил его на дедушкину кровать.
Каждое слово давалось ему с большим трудом, и меня даже рассердило, что он тратит свои силы на такие ненужные просьбы: какая, в конце концов, разница — буду или не буду я волноваться!
— Сходи за дедушкой,—тихо попросил он.
— Нет, я не могу вас оставить... Я сейчас Бергена пошлю!
— Кого?..
Я не стал объяснять ему, кто вместо меня побежит в больницу за дедушкой: не все ли было равно?
Помчался туда со всех ног отдохнувший и выспавшийся шпиц Берген. Он так радостно крутился и вертелся на одном месте, пока я засовывал ему под ошейник свою короткую записку, что я даже подумал: «Нет, это неверно, что собаки всегда чувствуют настроение своего хозяина и радуются с ним вместе, и вместе грустят. Иногда, может быть, и чувствуют, но не всегда...»
Дедушка пришел очень быстро. Его палка напряженно и гулко застучала по ступенькам крыльца, и я сразу почувствовал, что дедушка волнуется. Когда он не волновался, его палка легко касалась ступеней. Дедушка даже забыл о том, что я уже почти целый месяц был его главным помощником и медицинским братом, выгнал меня из комнаты и стал один осматривать Андрея Никитича. А я шагал по крыльцу — от одних перил до других — и думал о том, что нет такой вещи на свете, которой я не сделал бы, чтоб только выздоровел Андрей Никитич. Пусть бы дедушка поручил мне самое сложное дело, самое невыполнимое на свете задание...
396
Но он поручил мне самое простое: сбегать на почту и дать телеграмму дяде Симе.
— Один я не справлюсь,— словно сам себе, не замечая меня, шептал дедушка, выйдя из комнаты на крыльцо.— Это уже второй! Второй инфаркт... Второй звонок... Я не специалист в этой области... Так-с... Что же делать?
Я впервые видел дедушку растерянным и даже немножко беспомощным. В руках у него был листок бумаги такого же размера, как мои регистрационные карточки. Я подумал сначала, что это рецепт, что нужно срочно бежать в аптеку.
— Дайте, дедушка! Я — мигом...
Тут только он вспомнил обо мне, сразу как-то взбодрился и сказал:
— Сейчас же дай телеграмму — Симе, в Москву. Тут все написано. Пусть приезжает. Побыстрее!..
Последняя фраза в телеграмме такой именно и была: «Приезжай побыстрее!» Почти то же самое, что мне совсем недавно писал Саша. Но на самом деле все было другое... И от того, как скоро соберется в дорогу дядя Сима, зависело очень многое.
Я побежал на почту...
Еще недавно то, что происходило в нашей домашней поликлинике, казалось мне иногда всего лишь забавной игрой. Но сейчас от игры ничего не осталось. Все сейчас изменилось... Я понял, что и от меня тоже немножко зависит жизнь человека, которого я очень полюбил (только сейчас я по-настоящему понял это). Если бы все тут зависело именно от меня, только от меня, Андрей Никитич стал бы самым крепким, самым здоровым человеком на земле. Но от меня, к сожалению, зависело очень немногое... Я понимал это.
За стеклянной перегородкой сидела та самая телеграфистка, у которой на кончике носа умещалось сразу двое очков и которая хорошо знала мою маму в детстве. Телеграфистка, как и раньше, читая телеграммы, глядела поверх очков, и, как и прежде, мне было непонятно, зачем же она обременяет свой нос.
Подчеркнув в телеграмме каждое слово, она повернулась ко мне и, видно не узнав меня, не поздоровалась, а коротко
397
сообщила, сколько мне нужно платить. И тут только я вспомнил, что у меня нет ни одной копейки...
Сказать об этом просто так было неудобно, и я стал выворачивать все свои карманы, словно деньги у меня были, но куда-то запропастились. Сердитая телеграфистка терпеливо ждала.
— У меня... нет денег,— еле слышно сознался я наконец.— Забыл дома...
— Забыл? — спросила она так, словно в этом не было ничего особенного, словно большинство людей, отправляющих телеграммы, всегда забывают деньги.
Потом вновь прочла текст дедушкиной телеграммы, которая была подписана очень коротко и странно: «Твой Петя» (ведь дедушку-то моего звали Петром Алексеевичем, а для дяди Симы он, должно быть, с детских лет и навсегда остался просто Петей).
— Значит, нет у тебя денег? — тихо, не желая позорить меня перед мужчиной, ставшим за мной в очередь, еще раз переспросила телеграфистка.— Ну, да ладно... Завтра занесешь. Я ее сейчас же отправлю. Не волнуйся.
И тут я, набравшись смелости, тихо попросил:
— Допишите, пожалуйста, еще два слова: «Приезжай немедленно!»
— Но тут ведь уже написано: «Приезжай побыстрее»...
— Побыстрее — это, может быть, и завтра, и послезавтра. А надо — сразу, немедленно!
— Зачем же дописывать? Я просто зачеркну слово «побыстрее» и напишу «немедленно»! Ты согласен?
— Согласен!..
И ЕЩЕ ПРЕКРАСНЕЕ...
Я никогда не думал, что неторопливый и рассудительный, одним словом, глубоко интеллигентный дядя Сима может так быстро собраться в дорогу. Уже через день он был в Белогорске...
Встречать его на вокзал поехала тетя Кланя, И дедушка
398
тихонько попросил, чтобы никто из нас с ней не ездил. Оказывается, дядя Сима и тетя Кланя знали друг друга чуть ли не со дня рождения, дядя Сима даже был влюблен в Сашину бабушку «светлой юношеской любовью» (так мне сказал дедушка), он посвящал .ей стихи, когда был всего года на два или на три старше меня. И дедушка не хотел, чтобы мы мешали их первой встрече после стольких лет разлуки.
Мы и не стали мешать. Но вообще-то я был очень удивлен этой «светлой юношеской любовью», потому что дядя Сима, такой обходительный, осторожный в каждом своем слове (не обидеть бы человека!), был очень уж не похож на суровую, прямую и даже чуть-чуть грубоватую тетю Кланю. Однако в их давнопрошедшей «юношеской любви» можно было ничуть не сомневаться, потому что, отправляясь на вокзал, тетя Кланя сделала себе такую прическу, какой Саша не видел у нее ни разу за все тринадцать лет своей жизни, и надела такое платье, которого он тоже никогда не видел.
И дедушка мой очень волновался. Он при каждом автомобильном шуме выскакивал из комнаты на крыльцо. Это было напрасно, потому что шум автобусов, приходящих со станции, у нас в комнате не был слышен.
И все же он не упустил торжественной минуты появления своего старинного друга у нас во дворе, несмотря на то что дядя Сима появился тихо, глубоко интеллигентно, без всякого шума. Но дедушка услышал или, вернее, почувствовал... Он не вышел, а прямо-таки выскочил на крыльцо, взмахнул руками, как никогда еще раньше при мне не махал, и старые друзья несколько раз поцеловались. А потом стали, к моему необычайному удивлению, называть друг друга просто Симой и Петей. То есть я уже из телеграммы знал, что они так друг друга называют, но ведь одно дело прочитать, а другое—услышать своими собственными ушами.
Чтобы поразить дядю Симу, я с утра натянул на себя белый халат, подаренный Липучкой, нацепил на руку красную повязку и даже закрыл нос и рот продезинфицированной марлей, хотя в этом не было абсолютно никакой необходимости. А дядя Сима в первый момент даже ничуть не удивился. Он, кажется, вообще не обратил на меня внимания, а оглядывал
399
только дедушку, да наш дворик, да еще без конца повторял, что хочет скатиться (он так и сказал — «скатиться») вниз по холму на берег и всласть искупаться в Белогорке. То, что дядя Сима может скатываться вниз по холму и купаться всласть, было для меня большой неожиданностью. Но дедушка нисколько этому не поразился — значит, оба они, а может, еще и вместе с Клавдией Архиповной, так раньше и делали: скатывались и всласть купались.
Дядя Сима и дедушка еще несколько минут никак не могли прийти в себя: они похлопывали и даже поглаживали друг друга, будто не верили, что их долгожданная встреча состоялась, что они снова стоят рядом, разговаривают, видят друг друга. И глаза у обоих были помолодевшие, а дедушка даже два раза протирал платком свое чеховское пенсне. И тогда я подумал, что это очень здорово — дружить с самых своих детских лет и на всю жизнь! Я подумал и о том, что, может быть, вот так же, на всю жизнь, подружусь с Сашей, что мы тоже будем часто переписываться, а когда-нибудь встретимся и будем вот так же похлопывать и нежно поглаживать друг друга, не находя от волнения, с чего начать разговор.
Так будет когда-нибудь у нас с Сашей... А у дедушки с дядей Симой разговор сейчас мог быть только один: об Андрее Никитиче. И, когда минут через пять или десять старые друзья пришли наконец в себя, они об этом и заговорили. А потом пошли в комнату и там вместе очень долго осматривали Андрея-Никитича. После уж я узнал, что это называлось не просто осмотром, а консилиумом. Я тайком видел сквозь окно, как дедушка показывал дяде Симе все анализы и длинную ленту, по которой можно было судить о работе сердца.
Потом они вышли из комнаты во двор и присели возле садового столика, на котором не было уже ни книг, ни газет, ни журналов, ни самодельных дедушкиных шахмат (прием больных в нашей домашней поликлинике был временно прекращен).
Они долго совещались, а я стоял в стороне в своем белом халате и с марлей, мешавшей мне нормально дышать. Дедушка несколько раз указывал дяде Симе на -меня, и я в этот момент весь вытягивался и поправлял красную повязку на белом
400
рукаве, думая, что меня вот-вот позовут на помощь. Но позвали меня еще не скоро, когда все уже обговорили и обо всем переспорили.
Я подошел к садовому столику и тут заметил, что дядя Сима после возвращения из комнаты от Андрея Никитича стал каким-то совсем другим. И даже не очень похожим на глубоко интеллигентного человека: он был суров, говорил резко, будто приказания отдавал, и, кажется, совершенно не интересовался тем, что другие, то есть в данном случае я, ему ответят. Он и не ждал никаких ответов... Куда девался его медленный, размеренный тон, его подчеркнутая, даже немного утомительная внимательность к каждому слову своего собеседника. И от того старинного дедушкиного друга, который стоял на крыльце всего час назад, тоже ничего не осталось: он уже не собирался скатываться к реке и купаться в Белогорке, и по сторонам не оглядывался, и не смотрел на все вокруг, как смотрят на любимого человека после долгой разлуки.
Дедушка мой тоже менялся, когда происходило что-нибудь
14 Библиотека пионера, т. 4
401
серьезное. Вот, например, тогда ночью, когда мы везли его на плоту. Но дядю Симу я не узнавал совсем...
И поэтому я с ужасом подумал, что Андрею Никитичу, должно быть, сейчас так плохо, как не было еще никогда: ведь это его болезнь, его состояние так изменили вдруг старинного дедушкиного товарища, сделали его совсем другим человеком.
— Марлю вы можете снять,— сказал дядя Сима. (И я стянул с носа свою продезинфицированную повязку.) Он продолжал называть меня на «вы» — и это, пожалуй, было единственным, что осталось от прежнего дедушкиного друга.— Пускать к нему никого нельзя. Лежать надо без движений. Как вы его тащили от крыльца до кровати?
— Осторожно,— ответил я.
— Это, быть может, было роковое передвижение...
— Но ведь он стоял на крыльце, надо же было...
— Да, я понимаю. И все-таки... Ухаживать будут трое: дедушка, я и вы. Поскольку, как я узнал, у вас уже есть опыт. Ну, и, разумеется, медсестры из больницы.
Тут я набрался храбрости и тихо возразил новому, совершенно незнакомому мне дяде Симе:
— Он так не сможет... Он захочет знать, что делается в городе. И вообще обо всем! Он не сможет...
— Да, он не сможет,— поддержал меня дедушка.
— Что ж, не следует отключать его от того, что будет до- ставлять ему радость. Не волнения, не заботы, а одну только радость... Это ясно?
— Ясно...
— Кстати, и Клаша ведь может немного помогать,— обернувшись к дедушке, сказал дядя Сима.
Голос его при этом на миг дрогнул, стал мягким, прежним, и я внезапно представил себе дядю Симу сочиняющим стихи для той, кого он только что нежно назвал Клашей. Значит, Сашину бабушку все величали по-разному: посторонние люди— Клавдией Архиповной, я и моя мама — тетей Кланей, а вот дядя Сима, пожалуй, нежнее всех — Клашей...
Смягчившись немного, дядя Сима рассказал нам о том, что телеграмма застала его дома просто чудом: он собирался вот- вот уезжать в отпуск на Черное море. Значит, мы оба — и дядя
402
Сима и я — пожертвовали в этом году ради Белогорска морем, и южным солнцем, и кипарисами... И я, стоя возле садового столика в своем белом халате, впервые ясно почувствовал, что это очень приятно — пожертвовать чем-то значительным и знать, что твоя жертва принесла пользу людям. Пусть даже не очень большую пользу, но принесла...
С этого дня я стал для Андрея Никитича «главным источником радости», как выразился дядя Сима. Я пересказывал ему все хорошее, о чем сообщали мне во дворе его многочисленные друзья. А приходили они без конца... И я сам узнавал из их сообщений очень много нового.
Раньше, например, я думал, что мы, пионеры, чуть ли не самые главные борцы за город высокой культуры. И я очень гордился этим. Но, к сожалению, было немножко не так... Оказалось, что взрослые делают гораздо больше нас, а мы им вроде бы только помогаем.
Меня, например, просили сообщить, что «многие врачи- энтузиасты в городе поддержали ценный почин» и что горсовет собирается отвести специальное помещение для приема и консультаций отдыхающих на общественных началах. Я даже подумал, честно говоря, что в городе может просто не хватить пациентов для всех врачей-энтузиастов, которые так горячо поддержали почин моего дедушки. Рабочие с ремзавода просили передать, что они твердо решили своими собственными силами, работая на воскресниках, построить еще один клуб с читальней и комнатой для игр. А дедушкины сослуживцы из городской больницы сообщили о том, что они репетируют оперу в четырех актах с прологом и покажут ее на смотре художественной самодеятельности.
— И многие у вас поют?—недоверчиво спросил я.
— Многие. Твой дедушка, например.
— Мой дедушка?!
Я знал, что он собирает марки, выжигает и выпиливает по дереву, обтирается по утрам холодной водой, но что он еще тайком от меня поет — этого я даже не подозревал.
— И вы сами будете петь целую оперу? Которая в Большом театре идет?
.— А чего ты удивляешься? У нас свой театр будет: народ¬
403
ный! Так и передай Андрею Никитичу... Когда ему легче станет, мы здесь, во дворе, или прямо ,в комнате устроим для него генеральную репетицию!
Но Андрею Никитичу не становилось легче. Он внимательно выслушивал меня, но я чувствовал, что слушать ему тяжело, а отвечать все труднее и труднее...
И я рассказывал только о самом главном. И еще обо всем, что придумывала наша «пятерка».
Да, конечно, взрослые делали гораздо больше, чем мы, но Андрей Никитич почему-то особенно хотел услышать именно о наших, пионерских делах. И я ему подробно рассказывал о том, как Веник стал приучать ребят к классической литературе, читая им вслух в библиотеке «Записки охотника», и о том, что у Кешки-Головастика родилась еще одна неплохая мыслишка: подружиться с ребятами из Песчанска и ездить друг к другу в гости с концертами самодеятельности, с выставками стенгазет и просто так — без всяких концертов и выставок. Саша и Кешка уже ездили туда на переговоры, которые прошли, как пишут в газетах, «в дружеской, сердечной обстановке».
Андрей Никитич до того любил обо всем этом слушать, что дядя Сима даже разрешил нашей «пятерке» ежедневно наг вещать его. Родителей Кешки — брата Андрея Никитича и его жену — самых, так сказать, ближайших родственников, пускали в нашу домашнюю поликлинику, которая стала теперь домашней больницей, всего два раза в неделю, а нашу пионерскую «пятерку» — каждый день. Правда, ненадолго, но пускали...
За порядком и дисциплиной следил я сам. Ребята входили в комнату по моей команде, а как только я замечал, что Андрей Никитич начинает уставать, так сразу же распоряжался, чтобы все потихоньку уходили. И меня слушались. Мне подчинялись тут же, сразу, еще беспрекословнее, чем Саше, хоть командиром «пятерки» был он, а не я.
Из всех частей суток для меня раньше быстрей всего пролетала ночь, потому что я беспробудно спал и даже снов почти никогда не видел. А теперь я узнал, что ночи очень длинные, почти бесконечные, и очень мучительные* если не можешь
404
уснуть. Мы с дедушкой теперь укладывались на полу, а дядя Сима — на моей раскладушке, головой к окну. Готовиться к ночи дедушка и дядя Сима начинали еще днем: они применяли все, что только возможно, чтобы Андрей Никитич пораньше и поспокойнее засыпал. Но болезнь не пускала к нему отдых и сон... И ночам, казалось, не было конца.
Мы по очереди дежурили у его постели. Он уговаривал нас не дежурить, притворялся даже, что спит, но мы по дыханию его определяли: нет, не приходит покой.
Однажды ночью я спросил его:
— Может быть, написать письмо? Вашим родным. Помните, я ведь уже писал однажды, прошлым летом...
— Сестре и ее сыну? Незачем. Если бы они могли помочь... А так, без толку, зачем же волновать?
И, почувствовав, что я хочу еще о чем-то спросить его, но не решаюсь, он добавил:
— А других родственников у меня нет. Жена и сын при бомбежке погибли. Три тяжелых ранения было у меня на войне. А то было четвертым... самым тяжелым. Кажется, неизлечимым...
А еще через несколько дней, вечером, дядя Сима молча, знаками вызвал меня на крыльцо и тихо, перейдя вдруг со мной на «ты», сказал:
— Устал ты, наверно: каждую ночь на полу... Может быть, сегодня переночуешь у Саши?
Я понял, что дело совсем не в моей усталости, и, с трудом произнося каждое слово, спросил:
— Что?.. Андрею Никитичу очень плохо?
— Да, плохо.
— Совсем плохо?
— Совсем...
* * *
Андрей Никитич прожил в Белогорске недолго... Но дело ведь не в том, сколько прожить, а главное;—как: в городе его знали все.
Он хотел, чтобы город был прекрасен, чтобы людям в нем жилось радостно и солнечно. И еще хотел, чтобы мы с Сашей
405
помирились, чтобы никогда больше не ссорились и дружили еще крепче, чем раньше.
И после того как его не стало, мы с Сашей все дни почти не разлучались. Мы забирались на самую верхушку зеленого холма, откуда был виден весь городок. Солнце светило ясно и горячо, и опять ни одна тучка не наползала на него, и Бе- логорка петляла меж берегов так же весело и беззаботно, как прежде. Его уже не было, а кругом ничего не изменилось, и я удивлялся этому, хоть так, наверное, и должно было быть...
Мы с Сашей тихо мечтали о том, чтобы город наш и в самом деле стал «фабрикой здоровья», чтобы люди никогда не мучились, не болели, не погибали от бомбежек и вообще почти никогда не умирали...
Мы верили, что городок станет когда-нибудь таким, каким хотел увидеть его Андрей Никитич. И даже еще прекраснее!
Всеволод НЕстайко
Приключенческая повесть, написанная Явой Ренем и Павлушей Завгородним
Перевел с украинского Николай Симаков
Глава I
„Э!“ — СКАЗАЛИ МЫ С ЯВОЙ
Я поправляю бакенбарды, встаю на цыпочки и заглядываю в дырку в занавесе. И сердце мое бьется и замирает.
Не я первый смотрю в дырку. До меня в такую же дырочку заглядывали, наверно, и Щепкин, и Станиславский, и Та- рапунька, и Штепсель — тысячи артистов всех времен и народов. И так же спокойно и весело рассаживались зрители в зале. И так же уходила душа в пятки у тех, кто был на сцене. Особенно если премьера.
А у нас сегодня премьера.
— Ну-ка подвинься! Дай мне!
Чья-то разгоряченная щека решительно отпихивает мою голову от дырки. Это Степа Карафолька. В другой раз я, пожалуй, не стерпел бы такого нахальства, может, и по шее
409
бы дал... Но сейчас у меня нет на это энергии. Вся моя энергия уходит на волнение.
В обычном состоянии человек сначала вдыхает, а потом выдыхает. Но когда человек волнуется, он, по-моему, только выдыхает. И откуда берется воздух у него в груди, не знаю.
Я хожу по сцене и выдыхаю.
Может, вы думаете, что я один хожу и выдыхаю? Как бы не так! Вон, слышите? «Х-ху... Х-ха... Х-хи...» Все артисты ходят и выдыхают. И кажется, что от этого и ветер гуляет по сцене, качает декорации, шевелит занавес и пыль поднимает с пола. Если бы наш сельский клуб был не кирпичный, а резиновый, он бы раздулся, как праздничный шар, и давно бы лопнул. А мы все полетели бы в космос — вместе с декорациями, с баянистом Мироном Штепой, который играет сейчас последнюю перед началом польку-кокетку, вместе с мороженщицей Дорой Семеновной, со всеми зрителями.
Зрители!.. Ох уж эти зрители! Разрази их гром! Еще совсем недавно это были такие милые, добрые люди, которые всегда могли помочь, поддержать, посочувствовать. Николай Павлович, дед Варава, дед Саливон, завклубом Андрей Кека- ло, тетка Ганна, бабка Маруся, папа, мама. Они за тебя в огонь и в воду — куда хочешь!
А теперь? Теперь даже мама родная — не мама, а зритель.
И нет ни одной живой души по эту сторону занавеса, кто бы не волновался. От учительницы литературы Галины Сидо- ровны, нашего художественного руководителя, до гундосого третьеклассника Пети Пашко, который раздвигал и задергивал занавес. Все волновались. Но больше всех, конечно, мы: я и Ява. Нам было с чего волноваться. Ведь это мы заварили кашу — придумали этот театр.
Мы с Явой — как Станиславский и Немирович-Данченко в нашем сельском МХАТе (то бишь ВХАТе).
— А что? А что?! — размахивая руками, горячился прошлой осенью Ява.— Знаешь, какой театр можно отгрохать! На весь район!.. Настоящий МХАТ будет! Только тот Московский, а наш — Васюковский. Васюковский Художественный академический театр — ВХАТ. А что? На гастроли ездить будем.;. Вон МХАТ вернулся же недавно из Америки. Разве плохо?!
410
Да меня не нужно было убеждать. Я был Немирович-Данченко... Убеждать нужно было Галину Сидоровну и другое школьное начальство. Но, между прочим, и Галину Сидоровну убеждать не пришлось. Она сразу нас поддержала:
— Молодцы, ребята! Правильно! Я давно хотела организовать драмкружок, да как-то все руки не доходят. Вот вы, как инициаторы, и составьте список всех желающих. Парни вы энергичные — будьте старостами кружка.
Мы страшно важничали в тот день. Мы даже ни разу не гикнули и не пнули никого ногой. Серьезные и солидные, мы ходили по классам и составляли список — длинный-предлин- ный, на два с половиной метра. Сперва записалась чуть ли не вся школа. (Хорошо, что потом, как это часто бывает, девяносто процентов отсеялось.) Мы так запарились с этим списком, что под конец даже не всех хотели записывать. Коле Кагарлицкому Ява сказал:
— Больно уж тьь.. тихий какой-то! Нигде тебя не слышно. Тебя и со сцены не услышат.
И только увидя, как побагровел Кагарлицкий, Ява смилостивился:
— Ну разве что статистом... толпу играть... — и записалг
На первом заседании кружка выбирали пьесу. Выбирали
долго. Десятки пьес перебрали. От трагедии Шекспира «Отел- ло» до драмы Корнейчука «Платон Кречет». Все они были про любовь, а это, как сказала Галина Сидоровна, нам еще рановато. Мы начали уже отчаиваться, стали думать, что все пьесы про любовь. И как тут быть? Не целоваться же при всех на сцене с какой-нибудь Ганькой Гребенючкой!.. Я лучше с козой поцелуюсь!..
Наконец Галина Сидоровна сказала:
— Поставим «Ревизора». Во-первых, это не про любовь. А во-вторых, мы скоро будем проходить Гоголя по программе, так что это нам будет очень полезно. В-третьих, «Ревизор» — просто очень веселая и хорошая вещь. И ролей много, как раз всем хватит.
Мы тут же прочитали «Ревизора». Вот это комедия! Если хорошо поставить — животы надорвешь!
Начали распределять роли. И тут сразу вышла заминка.
411
Мы с Явой, как основатели ВХАТа, вполне законно хотели играть главные роли. Причем одинаковые. Но главная роль была одна — Хлестаков. Я считал, что она как раз для меня. Сам Гоголь пишет: Хлестаков — «тоненький, худенький... без царя в голове... не в состоянии остановить постоянного внимания на какой-нибудь мысли...» Ну, да что говорить!..
Но Ява сказал:
— Тю!.. Хорошенько посмотри на себя в зеркало и увидишь сам, что похож на Хлестакова, как свинья на коня. Только и сходства — две руки, две ноги и голова. Хлестаков — ведь это огонь! Это, знаешь... во!
И он стал в позу, задрал нос и оттопырил губу.
— Ха! — сказал я.— Смотрите на него! Ой, не могу!.. Хлестаков! Чучело какое-то, а не Хлестаков! Крокодил какой-то!.. А ну пусти! Пусти, говорят, рубашку! А то как дам!..
Роль Хлестакова Галина Сидоровна дала Коле Кагарлицкому.
Трудно было и с другими ролями. И городничий Сквозник- Дмухановский один, и судья Ляпкин-Тяпкин один, и попечитель Земляника один, и... И все-таки «Ревизор» — гениальная пьеса. А Гоголь — гениальный писатель. Он как будто знал, что мы с Явой будем играть в «Ревизоре», и написал две роли— Добчинского и Бобчинского. Совершенно одинаковые. Специально для нас. Чтобы мы не ссорились. Роли, конечно, не совсем главные. Но вы не думайте — без Бобчинского и Добчинского вся пьеса пошла бы вверх дном. Ее вообще бы не было. И не играл бы Кагарлицкий Хлестакова. Потому что Бобчинский и Добчинский выдумали, что Хлестаков — ревизор. Вот ведь что!
Как только мы с Явой это поняли, тут же и помирились.
Начались репетиции...
Э-хе-хе!..
Почему-то мы с Явой ничуть не сомневались в нашем артистическом таланте. Уж что-что, а всякие выкрутасы, разные штуки-трюки делать мы умели. Еще бы!.. На все село были знамениты.
— Вот артисты! —так прямо и сказал про нас дед Салйвон.
А он в этом деле понимает. Когда-то давно, когда еще слу¬
412
жил в армии, дед Саливон играл в оркестре. На самой большой трубе, которая называется бас-геликон. Она и сейчас лежит у него на чердаке, похожая на огромную улитку. На праздник, если дед Саливон хватит «по третьей», он иногда дает «концерт» — бухает в свою трубу, «Как трубный глас архангела»,— говорят старушки и крестятся. Но больше всех дедова игра нравится нашим собакам. После каждого «концерта» они восторженно тявкают до самой ночи. Да, уж раз дед Саливон сказал, что мы артисты, сомнений быть не могло.
Но на репетициях с нами что-то стряслось. Мы сами себя не узнавали. Это были не мы, а два каких-то слизняка, две мокр'ицы, два мешка с трухой. И тут мы поняли, что одно дело — говорить, что тебе самому пришло в голову, шутить и валять дурачка (как скажет мой отец), и совсем другое — произносить слова не свои, а написанные кем-то другим, то есть играть роль.
Мы не говорили. Мы как будто жевали резину. И нам было гадко. Было горько во рту и холодно в животе.
— Ничего,— бодрился Ява.— На премьере мы себя покажем. Там уж мы дадим! Ух дадим!
— Ну как же, дашь фигу с маком,— безнадежно бубнил я.
— Паникер несчастный! На репетициях даже у великих артистов не получалось... Ты же знаешь... Что Максим Валерьянович рассказывал? Держись!
Я держался из последних сил. Еще спасибо Гоголю, что он не дал нам — Бобчинскому и Добчинскому — еще больше слов. Мы с теми-то, что есть, не могли управиться.
Это было хуже любых уроков. Ведь нам учить стихи по литературе — и то мучение. Так в стихах хоть за рифму цепляешься, чтобы запомнить... А тут — проза. Не за что зацепиться. Пока смотришь в бумажку, где роль записана, слова еще как-то держатся кучей. А только спрячешь бумажку — все они сразу разбегаются, как тараканы по печке. Но с бумажкой играть на сцене нельзя. Если артисты будут выступать с бумажками, как ораторы на трибуне, получится не спектакль, а конференция. А мы не конференцию разыгрывать собирались...
— Ява,—вздыхал я,— давай все-таки учить роли. Смотри,
413
как Карафолька зубрит! А Гребенючка даже кино два раза пропустила.
— Чтоб я зубрил?! Да ни-ко-гда!.. Зубрежка — для дураков. А мы с тобой ребята хваткие. Давай-ка лучше над эмблемой подумаем. Во МХАТе чайка на занавесе, а мы можем утку, или гуску, или петуха с такими яркими перьями... Как ты думаешь?
— Не знаю.
— Ну, мы об этом еще подумаем, время есть... А сейчас айда на берег, я там лисью нору нашел. Может, выгоним рыжехвостую!
Я молча поплелся за Явой.
Прошел день, другой...
— Ява,— сказал я через неделю,— давай-ка, брат, учить слова! Я ничегошеньки из своей роли не знаю.
— А-а! — махнул рукой Ява.— В крайней случае, суфлер поможет. Он ведь у нас будь здоров!
Это верно. Суфлер у нас и вправду знаменитый. Кузьма Барило. Чемпион школы по подсказкам. С последней парты подсказывает, как в самое ухо шепчет.
Премьеры нашей все село ждало с таким нетерпением, как будто мы были лучшим столичным театром. Особенно после того, как на репетициях побывал дед Саливон. Он случайно попал на репетицию (чинил в клубе стулья, а тут и мы пришли). Сперва дед Саливон на нас внимания не обращал, стукал себе молотком. Но вот, слышим, стук прекратился — прислушивается дед. А мы как раз раздраконивали первое действие. Городничий — Карафолька стоял на сцене, выпятив сделанный из подушек живот, и хриплым басом (откуда он у него только взялся!) говорил полицейскому (Васе Деркачу):
— «...Квартальный Пуговицын... он высокого роста, так пусть стоит для благоустройства на мосту. Да разметать наскоро старый забор, что возле сапожника, и поставить соломенную веху, чтобы было похоже на планировку. Оно чем больше ломки, тем больше означает деятельности градоправителя. Ах, боже мой! я и позабыл, что возле того забора
414
навалено на сорок телег всякого сору. Что это за скверный город: только где-нибудь поставь какой-нибудь памятник, или просто забор — черт их знает откудова и нанесут всякой дряни!..»
Тут в пьесе написано «вздыхает». Карафолька по всем правилам вздохнул и сделал паузу. Этой паузой немедленно воспользовался дед Саливон, которому, видно, давно уже не терпелось высказаться.
— Вот щучий сын! — на весь зал гаркнул дед.— Вот ведь специалист! (Специалист почему-то было у деда самым ругательным словом.) Очковтиратель чертов! Ну точненько наш бывший председатель Припихатый! Тот тоже такие штуки отмачивал, как только начальство из области должно было приехать... Правильная пьеса! Молодец автор! Знает жизнь...
В тот же день все село заговорило про будущую постановку. «Бу-бу-бу... Ревизор!.. Гу-гу-гу... Хлестаков!.. Ру-ру-ру*.. Пьеса!» — только и слышалось по всем углам. Даже самые древние бабуси, которые сроду такого слова и во рту не держали, и то: «Ревизор», «Ревизор»... Смех, да и только! А глуховатая бабка Гарбузиха распустила среди своих престарелых подружек слух, что автор пьесы никакой не Гоголь, а корреспондент районной газеты товарищ Курочка, который приезжал когда-то в наше село; и написано все это про нашего бывшего председателя Припихатого. А из-за того, что Припихатый сейчас на ответственном посту инспектора в областном управлении культуры, то Курочка и написал все так завуалированно и подписался не своим именем, а псевдонимом— «Гоголь». Нынешний председатель колхоза Иван Иванович Шапка ужасно смеялся над этими слухами и в веселом настроении выдал нам порядочные деньги на декорации и костюмы. Это была настоящая удача. Готовить декорации помогал нам учитель рисования Анатолий Дмитриевич, а костюмы шила целая бригада девчат. Всю зиму, до самой весны готовили мы постановку. И вот...
Если бы этим вечером какой-нибудь вор забрел в наше село, он мог бы спокойно, не прячась, выносить из хат все, что ему хочется, и не торопясь грузить на телегу. Дома не
415
осталось ни души. Даже собаки сбежались к клубу на свои собачьи вечерки.
Да что говорить! Даже стосемилетняя Триндичка, прапрабабушка нашего зоотехника Ивана Свиридовича, про которую дед Саливон сказал, что она «уже второй вираж начала», что у нее скоро снова прорежутся зубы и она никогда не умрет, к которой даже из Киева приезжали выяснять, почему она так долго живет1,— та самая Триндичка, которая уже тридцать лет не выходила со двора, никогда не была в кино и не то что в клуб — в церковь-то уже не ходила, и даже она приковыляла на наше представление.
— Ну вот! Я же говорил! — на весь зал радостно гаркнул дед Саливон.— Уже ходить учится. Скоро и плясать начнет...
За это бабка Триндичка под общий хохот молча огрела деда клюкой по шее.
Но постойте, постойте...
Дзынь! Дзынь! Дзынь-нь-нь!.. — резанул по сердцу третий звонок.
В зале гаснет свет.
— А ну, а ну!.. — шикает на нас (на тех, кто не должен быть на сцене в первом явлении) Галина Сидоровна.
Занавес со скрежетом раздвигается (он у нас, как пес на железных кольцах, по ржавой проволоке бегает).
Всё!
Начали!
Теперь деваться некуда.
— «Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы...» — раздается уже голос городничего — Степы Карафольки.
Пошло дело...
Я стою за кулисами зажмурившись и, сжимая на груди Кулаки, шепчу: «Все будет хорошо! Все будет хорошо! Все будет хорошо!» Как заклинание.
Эх и дуралей же я — не знаю ни одной молитвы! А меня ведь бабушка учила! Хоть я пионер... и не верю, конечно, а
1 А мы с Явой точно знали: потому что она полынь — божье дерево — ест, мы сами видели. Мы тоже пробовали эту полынь есть, но на второй день бросили — горько; вот, может, когда состаримся, тогда... А то ц совсем не нужно нам такого горького, невкусного долголетия. (Прим. Павлуши.)
416
как бы теперь пригодилось! Вот такое же было со мной, когда я впервые отважился прыгнуть в речку с самой верхушки ивы. Я стоял на сучке и смотрел вниз, и мне казалось, что сердце мое уже вырвалось из груди и летит в воду, а я все еще стоял, вцепившись в иву, и не мог оторваться. Голова кружилась, и в животе тенькало... И все же это были детские игрушки по сравнению с тем, что меня ожидало. Я с радостью прыгнул бы сейчас не то что с ивы — с телевизионной башни прыгнул бы, только бы все обошлось...
— Ха-ха-ха-ха! — грохнул хохотом зал. Вот бисов Карафолька! У него уже и на репетициях смешно получалось...
«Ну ничего, спокойно, спокойно! Все будет хорошо! Все будет хорошо! Вот сейчас зрители опять должны засмеяться...»
— Х-ха-ха-ха!
«Ну вот, а я, дурак, боюсь!»
Наш выход все ближе и ближе... Вот уж сейчас, сейчас... Как только Карафолька скажет... Во!!!
— «Так и ждешь, что вот отворится дверь — и шасть...»
Внутри у меня что-то ёкнуло, я рванулся всем телом и
вместе с Явой выскочил на сцену.
— «Чрезвычайное происшествие!» — отчаянно гаркает Ява.
— «Неожиданное известие!» — точно так же гаркаю я.
— «Что? что такое?» — всполошились все, кто был на сцене.
Вышло очень здорово. Зал замер.
— «Непредвиденное дело,— снова кричу я,— приходим в гостиницу...»
— «Приходим с Петром Ивановичем в гостиницу...»—перебивает меня Ява.
Зал молчит.
«Ай да молодцы! Ну и молодцы же мы!» — мелькает у меня в голове. Взглядом победителя обвожу зал, вижу десятки глаз, устремленных на меня и...
— Э! — говорю, перебивая Яву. Я хорошо знал, что должен в этот момент сказать «Э». Но дальше... Словно кто-то в ухо мне вдруг — фф-фу! И все из моей головы через другое ухо — фф-фють! — и пусто. Как в дырке. И ни одного слова
417
нет. Не то что там из роли Добчинского, а вообще ни единого— будто я теленок и не знаю человеческого языка. Только вот это «э» в голове и осталось и гулко перекатывается там, стукаясь о череп.
— Э! — повторяю я и смотрю на Яву.
А он смотрит на меня. И я догадываюсь, что у него тоже... все из головы — фьють! — и пусто.
Я экаю в третий раз.
— Э! — отвечает Ява, только чтоб не молчать.
И смотрим друг на друга.
— Э! — кричу я.
— Э! — отвечает Ява.
И снова таращим глаза... В зале прыскают со смеху. Видно, думают, что так и нужно.
Вон и бабка Триндичка растянула в улыбке свой беззубый рот. Подбородок её трясется, и лицо стало сплюснутым от смеха (сколько уже лет она не смеялась!).
— Хи-хи-хи! Ха-ха-ха! Хо-хо-хо!.. — гудит зал.
Кузьма высунул голову из суфлерской будки и, широко разевая рот, подсказывает по складам, что нам говорить. Кажется, и глухой его понял бы. Уже и городничий — Карафолька подсказывает, и почтмейстер — Сашка Гузь. Уже и в первых рядах поняли, и даже кто-то из публики, расслышав Кузьму, сам начал подсказывать.
Я слышу отдельные слова, но они разбегаются, как непослушные овцы. А я, как недотепа-пастух, не могу собрать их вместе. Если бы меня в тот момент спросили: «Как твоя фамилия?» — я и то, наверно, не смог бы ответить.
А в задних рядах всё еще хохочут, думая, что так и нужно по пьесе. И сквозь хохот слышится чей-то возглас: «Вот молодцы! Ну и молодцы!»
Это уж слишком!
Больше выдержать я не могу.
Я срываюсь с места, сбиваю по пути какую-то декорацию и вылетаю вон со сцены...
Я бежал по безлюдному селу наугад, не разбирая дороги, и ветер свистел в моих бакенбардах.
И только когда очутился за селом, в лозняке над речкой,
418
я упал на траву, и катался, и стонал, и землю грыз от позора, от стыда, от горя. А когда через несколько минут первый приступ отчаяния прошел, я увидел, что рядом со мной катается, стонет и землю грызет мой друг Ява — Бобчинский.
Мы не сказали ни- слова. Мы только посмотрели друг другу в глаза. Что же мы наделали?! Ведь мы не только провалились сами, опозорились на все село, мы подвели и всех остальных. Такую пьесу провалили!.. Ведь, как вы уже знаете, хоть и не главные герои Бобчинский и Добчинский, а так уж написана эта гениальная пьеса, что без них — ни тпру ни ну. Вот мы сейчас убежали, а там все сорвалось. Скандал... Паника... Ведь не могут же узнать городничий — Карафолька и все другие чиновники, что в гостинице живет Хлестаков — Кагарлицкий, которого нужно принимать за ревизора. Сказать это должны были мы, Бобчинский и Добчинский. Кроме нас, никто этого сделать не может. Никто! Растерянно стоит на сцене талантливый Карафолька, не зная, что делать. И все другие актеры стоят как пришибленные. А за сценой, так и носа на нее не высунув, страдает самый талантливый из нас Коля Кагарлицкий. Ах, какой же он был Хлестаков на репетициях! И откуда у него все это бралось!.. А ведь раньше такой тихий был и незаметный... Мы его и за хлопца не считали. Ни с дерева в воду нырнуть, ни окно из рогатки выбить... Уткнет нос в книгу и сидит себе под грушей молчком. А на сцене такое выделывал, что только ах!.. И теперь никто этого не увидит.
И знаменитый предок зоотехника бабка Триндичка, которая за сто лет, может, в первый раз собралась культурно развлечься, поплелась домой сверчков на печи слушать. Недовольная и хмурая расходится публика по хатам. Ругает во все тяжкие этот прихотливый и ненадежный театр, который так сильно зависит даже от самых что ни на есть паршивеньких актеров.
А эти самые актеры лежат в это время на траве, смотрят в небо, где насмешливо подмигивают им звезды, и страдают. На весь космос, на всю Вселенную страдают.
Ну как же теперь показаться людям?! Как смотреть в глаза им?! Как вообще жить на свете после этого?! Ох, что же мы наделали!..
419
Вот беда!..
И зачем мы только придумали этот ВХАТ на свою голову!
Ведь жили мы беззаботно и весело.
И что нам нужно было?!
В Америку захотелось? На гастроли? Венков лавровых? Аплодисментов? Шибздики несчастные! Пощечины вам вместо аплодисментов!..
А все началось с Киева. Это Киев виноват. И киевская милиция. И то злосчастное корыто. И Валька. И Максим Валерьянович. И часы «Салют». И... утопленник. Утопленник виноват в первую очередь. Но подождите, давайте всё по порядку.
Глава II
СЛУЧАЙ В МЕТРО. „КОСМОНАВТ". КОНФЛИКТ С КИЕВСКОЙ МИЛИЦИЕЙ
Прошлым летом мы приехали в Киев. На целый месяц. В гости к моим родным — дяде и тете. Вот было здорово! Мы весь год мечтали об этом. Не то чтоб мы никогда не бывали в Киеве — бывали. Ява один раз, а я так даже два. Но тогда, в первый раз, мы были всем классом на экскурсии. И то только два дня. А во второй раз я был один, без Явы. Но это ведь не то, совсем не то. Вы же сами знаете, что радость, которую нельзя разделить со своим лучшим другом,— не полная радость. И даже не половинка. А какая-нибудь четвертинка.
Если вы только что приехали в Киев, с чего вы начнете? Правильно, с Крещатика! Так уж заведено... Прямо с поезда вы заносите свои чемоданы на квартиру, и ноги сами собой несут вас на Крещатик. Тетя едва успевает крикнуть вам вдогонку: «Смотрите не потеряйтесь и на обед не опоз...» — дальше вы уже не слышите.
Через двадцать минут после того, как приехали, мы уже шли по Крещатику...
Что я сказал — шли? Мы парили, плыли, вышагивали гордо и торжественно, как на параде. По Крещатику нельзя про¬
420
сто так идти. Такая уж это необычная улица. Тот, кто попал на Крещатик, становится словно другим человеком. Все на Крещатике кажутся какими-то радостными и праздничными. И на удивление вежливыми, приветливыми. И все улыбаются. И хотя люди идут по Крещатику тесной толпой, но я не видел, чтобы кто-то кого-то двинул ногой, ударил локтем или обругал. Если кто-то и толкнет нечаянно — «Простите!» — улыбнется и идет себе дальше. Хорошие люди на Крещатике! Нужно, чтоб на всех улицах такие были.
Плывем мы, парйм, вышагиваем...
Широкий, как Днепр, Крещатик (по радио на праздниках всегда так говорят). По берегам — на тротуарах — люди, посередине, на мостовой,— машины. И так же как на тротуарах не увидишь ни одной машины, так и на мостовой — ни одного человека. Каждому — свое. И чтобы одно другому не мешало, переходы под землю спрятали. Такой на Крещатике порядок — любо-дорого. «Легче у нас под телегу попасть, чем тут под машину»,— подумал я. Да только успел я это подумать, как вдруг с тротуара прямо под машины как с привязи сорвался какой-то человек. Лысый, в темных очках, с фотоаппаратом через плечо и как будто без брюк — в одних трусах. Только по пуговицам мы и догадались, что это такие штаны, но короткие, как трусы. Из этих штанов торчали некрасивые толстые ноги, покрытые густыми волосами. По всему было видно, что это не из наших, а какой-нибудь интурист.
Мы с Явой замерли: неужели перебежит?!
Но тут враз — цуррр! — будто из земли вырос молоденький, стройный милиционер с залихватски закрученными усиками. И голоногий интурист, не добежав даже и до середины, так и присел, смешно растопырив руки. Потом повернулся и рысцой потрусил назад. Милиционер только улыбнулся и погрозил пальцем, как учитель недисциплинированному ученику (хотя интурист был вдвое старше милиционера).
— Во! Видел? — гордо сказал Ява.— Думает, наверно, раз приехал из какого-нибудь там Лондона или Рио-де-Жанейро, так можно тут шляться где хочешь! Дудки! Лезь, голубчик, под землю, как-все люди. Невелика шишка!.. — Ява восторженно глянул на молодцеватого, симпатичного милиционера
421
и сказал: — Знаешь, Павлуша, все-таки нет ничего лучше, как быть милиционером. Во-первых, благородно! Борешься со всякими ворами, бандитами и хулиганами. Во-вторых, все тебя уважают, а если нужно, и боятся. Я, наверно, все-таки стану милиционером. А ты?
— А я — летчиком. Ты же знаешь.
— Как хочешь,— сказал Ява и вздохнул.
Ява менял профессии, как цыган коней. Сегодня он капитан дальнего плавания. Завтра — геолог. Послезавтра — директор кондитерской фабрики. («По три кило «Тузика» в день есть можно!») Потом футболист киевского «Динамо». Потом художник. Потом зверолов, который ловит для дрессировки тигров, барсов и ягуаров. А теперь, смотрите,— милиционер!
А я так нет. Вот как решил еще в первом классе, что буду летчиком, так и держусь твердо.
Даже дед Саливон сказал недавно: «Ты смотри, какой упрямый!.. Знать, все-таки будет летчиком этот слюнявка, чтоб его муха брыкнула!»
Только иногда я не выдерживаю и присоединяюсь к Яве за компанию. Да и то только так, чтобы оставаться летчиком. Я уже был и морским летчиком, и летчиком-футболистом, и летчиком-художником, и летчиком-звероловом, и летчиком-гео- логом, и даже летчиком на кондитерской фабрике, который перевозит самолетом конфеты «Тузик».
Но на этот раз я воздержался, так как не представлял себе летчика-милиционера. Кого же он будет задерживать в воздухе? Разве что аистов?
Нет, пусть уж на этот раз я останусь просто летчиком.
Плывем мы, парйм, вышагиваем по Крещатику...
Справа роскошно облицованные дома, похожие на гигантские изразцовые печи, один к одному громоздятся, в гору на Печерск взбираясь.
Слева универмаг стеклом на солнце блестит. Дальше огромный десятиэтажный горсовет. «Сколько же в нем людей советуется, в такой громадине!»
Где-то за горсоветом башня телевизионная небо до самого космоса проткнула. Вот это высота! Ничего не видал выше.
422
Вот где от.матери после двойки прятаться! Не то.что на нашей груще. Не только не стащишь, не докричишься никогда!
После горсовета, за улицей Свердлова, Крещатик сворачивает вправо и на площади Калинина раздвигает дома от себя подальше, словно собирается крикнуть: «Пустите меня, я
хочу нырнуть в Днепр!» Но на площади Ленинского Комсомола утыкается в филармонию. И из-за этой филармонии в Днепр так и не прыгает...
После улицы Свердлова мы по Крещатику дальше не пошли— справа увидали станцию метро. А хотел бы я посмотреть на того, кто приехал из Васюковки в Киев и равнодушно прошел бы мимо метро!
Не сговариваясь, как по команде, мы повернули к станции.
На нас сразу дохнуло свежестью и каким-то особым, одному только метро свойственным запахом.
Хотя контролера здесь не было и проходы между специальными тумбочками были гостеприимно открыты, проходить «зайцами» мы и не думали. Пусть кто поглупее это делает, а мы уже один раз пробовали... Как бы скоро ты ни бежал, еще быстрее из тумбочек, где горят приветливые слова «Опустите пять копеек», выскакивают наперехват специальные держаки, и ты ударяешься в них животом. Так вот!
Мы, как порядочные люди, наменяли в кассе пятаков, кинули и прошли...
«Какие мы все-таки культурные и благородные»,— с гордостью подумал я. Знать бы мне, дураку, что в этот миг случится...
— Смотри! Смотри! Старшина Паляничко! — внезапно воскликнул Ява.— Давай догоним!
И только я успел разинуть рот: «Га? Где?» — как он уже помчался вниз по эскалатору.
Впереди на эскалаторе стоял какой-то толстяк с корзинами и мешками наперевес и с новым цинковым корытом в руках. Видно, продал на базаре яйца или еще что-нибудь, накупил товару и ехал домой.
На несколько метров ниже толстяка стояла стройная дивчина с высоченной, похожей на копну сена, прической,— ну прямо кинозвезда. А еще ниже ехал милиционер, со спины и
423
вправду очень похожий на старшину Паляничко, с которым мы познакомились в прошлом году при довольно интересных обстоятельствах. Конечно, здорово было бы с ним снова встретиться и поговорить. Особенно Яве, который с сегодняшнего дня готовит себя в милиционеры.
Я, не раздумывая, загрохотал по ступенькам следом за Явой. Яве удалось проскользнуть мимо толстяка,, который загородил покупками чуть не весь проход. А я сунулся да и зацепил нечаянно цинковое корыто, которое толстяк поставил рядом с собой и придерживал только двумя пальцами. Корыто грохнулось на эскалатор и полетело вниз.
Бум-бум-бум!.. Раз! — и оно ударило по ногам «кинозвезду». Та не устояла и шлепнулась в корыто. И оно, теперь уже с пассажиром, загремело дальше.
Мы оторопели.
Ослепительно красивая^ как кукла накрашенная, «кинозвезда» сидела в корыте и, держась за него обеими руками, мчала вниз по эскалатору.
Молча, без крика, без единого слова. То ли она была уж такая мужественная, то ли, наоборот, онемела от испуга и неожиданности—ей ведь и сообразить-то было некогда, в чем дело.
Еще миг — и милиционер, который еще не успел обернуться и заметить опасность, сбитый с ног, рухнул на эскалатор. А «звезда», не меняя позы, пронеслась мимо.
Толстяк тут же рванулся за своим корытом, даже не взглянув на нас с Явой. Он грузно топал по эскалатору со всей своей поклажей, то и дело озабоченно покрикивая: «Поберегись! По-берегись!», как извозчик на базаре, которому не дают проехать,— только вот кнутом не хлопал.
«Звезда», сбив с ног еще несколько человек, вылетела с эскалатора, прокатилась через весь зал и остановилась.
Какой-то интеллигентный дедуня, прямо под ноги которому она подъехала, с удивлением глянул на нее и сказал сурово:
— Что это вы, мадам, развлекаетесь, как ребенок?
Толстяк все еще грузно топал по эскалатору, хрипло и
как-то не очень встревоженно бормоча:
— Мое корыто!.. Мое корыто!..
Сбитый милиционер (теперь мы уже видели, что это ни-
424
какой не Паляничко) спешил за толстяком, на ходу отряхивая китель, й, неизвестно к кому обращаясь, кричал:
— Минуточку! Стойте! Минуточку!..
Мы продолжали бежать за милиционером. Другого выхода у нас не было. Ведь эскалаторы в метро сделаны так, что по ним можно ехать только в одну сторону,— это тебе не обычная лестница!
На наше счастье, милиционер еще не понял, кто настоящий виновник этого скандального происшествия. Он преследовал толстяка и на нас не обращал внимания. Но скоро он дознается. Еще несколько секунд... Он догонит толстяка, и тот ему... У меня слабеют ноги... Но вот мы уже внизу.
«Кинозвезда», которая только теперь, наверно, пришла в себя, улыбается и, все еще сидя в корыте, бодрым голосом говорит:
— Полет прошел нормально. Чувствую себя хорошо. Невесомость и перегрузки перенесла удовлетворительно.
Вокруг смеются.
Как принимали «звезду-космонавта» милиционер и осталь¬
425
ные пассажиры метро, которые веселой гурьбой окружили ее, мы уже не видели. Опрометью вскочили мы в вагон. Двери за нами захлопнулись, и поезд тронулся.
На следующей станции — «Арсенальской» — мы выскочили и дали стрекача вверх по эскалатору. Мы так спешили, что сердце из груди едва не выскакивало. А там ведь два эскалатора, и такие длинные...
Когда, выбежав из метро, мы свернули во двор большого серого дома и повалились на землю в кустах, весь дух из нас, как говорится, вышел вон... В глазах темно, ни рукой, ни ногой не двинешь. Не то что говорить — мы дышать-то не могли. Ртом только хватали воздух, как рыба без воды. Трехлетняя девчушка и та могла бы с нами справиться — брать за пятки, кидать в торбу и нести на базар продавать по две копейки за штуку. Такая нам была тогда цена.
И только минут через десять...
— Ух! — еле выдохнул Ява.
— Ага,— поддакнул я.
— Тю,— сказал Ява.
— Тьфу,— отозвался я.
И это весь разговор, на какой мы были способны.
И только минут через двадцать мы наконец пришли в себя и смогли обсудить то, что случилось.
— Да... — вздохнул Ява.— Можно сказать, испортил ты мне все дело. А что?! Кто ж меня теперь в милиционеры возьмет?..
— Да иди ты! При чем тут я? — пробовал я оправдаться.— Никто же не видел. И главное, все обошлось... Чего ты?
— Ну да, не видел! И дядька видел, и милиционер. Когда мы за ним бежали, он искоса глянул в нашу сторону... А у милиционера память будь здоров! Профессиональная.
— А-а! — махнул я рукой.
— Вот тебе и «а-а»! Может, нас по его словесному портрету уже и разыскивают. Словесный портрет — это, брат, такая штука... — Ява поднял над головой кулак, что могло означать, какая сильная штука словесный портрет. Про словесный портрет Ява наслышался, когда готовил-себя в пограничники.
— Да что мы такого сделали?! Ничего ведь страшного! —
426
не столько Яву, сколько самого себя успокаивал я.— Нечаянно зацепили корыто... Ведь не нарочно же...
— Поди докажи, что не нарочно. Дядька первый скажет, что умышленно. Чтоб себя оправдать. И вообще такого, может, за всю историю метро не было. А ты говоришь...
— Не везет нам в метро,— вздохнул я.— И в прошлый раз, помнишь, скандал был, и теперь...
— Закон парности,— вздохнул Ява.
А может, он и в самом деле существует, этот «закон парности», про который не то всерьез, не то шутя говорил мой отец и который будто бы состоит в том, что разные неприятности всегда ходят в паре — как одна случится, жди другой. Недаром же в народе говорят: «И так горе, и так вдвое».
— Это такой проклятый закон... Смотри, чтоб с нами сегодня еще какой-нибудь пакости не приключилось,— сказал Ява и неожиданно улыбнулся.—А все-таки здорово шпарила она в корыте...
— А что! Как в ракете — фить! — и будь здоров! Я бы и сам не отказался, а?! — затараторил я, обрадованный, что Ява уже не запугивает меня милицией.
Ява поднялся с земли:
— Ну, так куда теперь пойдем?
Я пожал плечами:
— А куда хочешь! Хоть в веселый городок, хоть в стерео, хоть в зоо...
— Это можно, вот только... — И Ява смолк.
— Что?
— Да если бы... — и снова смолк.
— Ну что?
— Да одним идти как-то... Вот если б разыскать этих... киевских... Игоря, Сашку-штурмана... Они ведь такие ребята классные... — и в небо смотрит, чтоб глаза от меня спрятать.
Гляжу я на него и про себя улыбаюсь. Ну и Ява! Вот уж лис-хитрюга... Ребята, видишь ли, ему понадобились! Ну как же! Да я тебя насквозь вижу. Ты ведь для меня как стеклышко! Я не киевский охотник, которого за нос водить можно. Ведь это было! Охотники из Киева, которые приезжали к нам в Васюковку на охоту и рыбалку, часто просили нас кузнечи¬
427
ков для наживки ловить. Спичечная коробка кузнечиков — пятачок. Так вот я себе ловлю и ловлю в поте лица: нанялся — как продался. А Ява сена в коробок наложит, сверху несколько кузнечиков сунет и уже бежит менять на пятак. А поймают его на этом деле, он только глазами невинно хлопает: «Ведь нужно же было им корма подбросить...»
Но я-то тебе не киевский охотник!
— Оно бы, конечно, здорово,— говорю,— только где же их найдешь? Адресов ведь мы не знаем... Правда, давала тебе Валька свой адрес. Но ведь ты его, конечно, не сберег... Да оно и смешно было бы — беречь адрес какой-то Вальки.
Ух ты! У Явы щеки так и вспыхнули, как от пощечин.
И что же это такое бывает иногда с людьми? Смотришь — геройский хлопец становится бог знает чем, ботвой свекольной... И из-за кого? Из-за какой-то цапли в юбке... Тьфу!
В тот раз, когда были у нас приключения с Кнышем и Бурмилом и когда Ява был Робинзоном Кукурузо и бежал в речные плавни на необитаемый остров имени Переэкзаменовки, познакомились мы случайно с киевскими пионерами-юн- натами. И была среди них одна такая Валька, худая, длинноногая и, по-моему, совсем некрасивая. (Ганя Гребенючка из нашего класса в тысячу раз лучше!) Но это я так считал. А Ява... Ява в присутствии Вальки через две минуты стал не Ява, а свекольная ботва. Когда юннаты возвращались в Киев, Валька оставила Яве свой адрес, чтобы мы написали, чем кончится наша история с Кнышем и Бурмилом,— ее, видишь ли, это страшно заинтересовало.
История с Кнышем и Бурмилом закончилась нашей победой. Мы ходили героями, и Ява несколько раз полушутя, полусерьезно закидывал удочку — написать Вальке письмо. «Тьфу! — сказал я.— Да ты что, спятил?! Я вот, когда в лагере, домой-то пишу редко, а ты хочешь...» Один Ява написать не отваживался. Боялся ошибок наделать. Переэкзаменовка-то у него была как раз по языку. Так с письмом ничего и не вышло. Но адрес Ява сберег. Он прятал его на чердаке, и я однажды видел — он перечитывал его как какое-нибудь письмо. Только я ему ничего не сказал...
А когда мы ехали в Киев, я знал, что рано или поздно Ява
428
заведет разговор про Вальку. Но я не думал, что так скоро. И если бы не моя провинность в приключении с корытом, я бы, наверно, так быстро не сдался. Но теперь я обрадовался, что Ява забыл про словесный портрет и милицию, и решил усту^ пить.
— Чего скис? — говорю.— Смотри веселей! Конечно, интересно было бы встретиться и с Игорем, и с Сашкой-штурма- ном, и с Валькой. Они бы нам Киев знаешь как показали! Какой там у Вальки адрес? Я раньше помнил... Улица какого- то восстания?..
— Январского... — буркнул Ява.
— Тю! Да это ж она и есть! Тут возле метро начинается и тянется туда, где Лавра. Айда!
Ява криво улыбнулся.
Глава III ЯВА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ. УХО
Через несколько минут мы уже были в Валькином доме- Стали искать квартиру — нету! Все здание обошли... На самом верхнем этаже последняя квартира — восемнадцатая, а нам нужна двадцать пятая. Что такое?! Неужели обманула Валька, подшутила, выдуманный адрес дала?.. На Яву было больно смотреть — такой у него был вид. Наконец я решился спросить у какой-то бабуси. Оказалось, есть двадцать пятая, только во дворе, в так называемом флигеле.
— Выдумали какой-то флигель-мигель. Только с панталыку сбивают,— притворно сердясь, бурчал повеселевший Ява.
И в самом деле, во дворе стоял точно такой же, как и с улицы, большой шестиэтажный дом. И что его флигелем назвали?!
Когда мы входили в парадное, я заметил, как Ява, проходя мимо старинных стеклянных дверей, на миг задержался, глянул на свое отражение в стекле и пригладил рукой чуб. Я сделал вид, что не вижу.
На третьем этаже мы легко отыскали двадцать пятую квар¬
429
тиру. На дверях несколько кнопок от электрических звонков — наверно, в квартире много соседей. На лестнице полутемно, и мы встаем на цыпочки, чтобы прочесть надписи под кнопками. Вот... «Малиновским звонить один раз»! Это и есть. Валькина фамилия Малиновская. Точно.
— Звони,— шепчет Ява.
— Ты звони,— шепчу я и неизвестно отчего чувствую холодок в животе.
— Да позвони! Ну ты же выше, тебе удобней,— хитрит Ява.
— Тебе адрес давали — ты и звони! — не сдаюсь я.
— А ну тебя!—сердито шепчет Ява и решительно нажимает на кнопку. За дверями дребезжит звонок.
Ява отскакивает и прячется за мою спину. А мне очень надо! Я тоже отскакиваю в сторону и стараюсь выпихнуть Яву вперед.
И тут случилось что-то невероятное. Из-за выступа стены, как призрак, вынырнул кто-то огромный и здоровенной ручищей схватил Яву за ухо. В то же мгновение хриплый голос так загремел на всю улицу, что эхо вприпрыжку поскакало вниз по ступенькам.
— Ага! Попался! Попался наконец!
Не говорю уж про Яву, которого трепали за ухо, и я сам- то от неожиданности прирос к месту и не мог шевельнуться.
А грозный голос продолжал греметь:
— Так вот кто хулиганит! Вот кто звонит и убегает!.. А бедная бабушка должна бить старые ноги, попусту выходить открывать?! Вот мы сейчас с вами поговорим!
И тут же из-за дверей послышался звонкий Валькин голос:
— Кто там?
Ой-ой-ой! Я бросил на Яву панический взгляд. Ява собрал все силы и так отчаянно рванулся, что даже если бы ему пришлось оставить ухо в дядькиной руке, он все равно бы вырвался. Да что ухо! В тот момент Ява готов был отдать полголовы, даже полтуловища, только бы вырваться, убежать хоть с тем, что останется, подальше от Валькиных глаз.
Да вы сами подумайте: в первую минуту свидания, которого вы так ждали, ваша Валечка видит, (боже ты мой!), что какой-то здоровенный громила держит вас за ухо, как пар¬
430
шивого щенка. А вы, склонивши голову, жалко висите на своем ухе, даже не касаясь земли. Вы, который столько мечтал о той торжественной, волнующей минуте, когда откроется дверь... Она станет на пороге, и вздрогнут от радостного удивления густые ресницы,- и засияют очи, и вспыхнут румянцем щеки. И она скажет: «Ой!», а потом: «Ах!», а потом: «Здравствуй, здравствуй! Это ты? Как я рада!» И все будет так прекрасно...
А вместо этого...
Как выстреленные из пушки, мы прогрохотали по лестнице вниз, выскочили во двор, потом на улицу и целый квартал бежали что есть духу, не оглядываясь. И только когда убедились, что за нами никто не гонится, отдуваясь, перешли на шаг.
Мы шли не разбирая дороги, шли и молчали.
Из Явиных глаз бежали слезы. Он морщился и отворачивал от меня лицо. Но я все понимал. Это просто механически... Просто ухо каким-то образом связано с тем органом, который вырабатывает слезы. И если ухо сильно покрутить, то слезы потекут сами собой. И это не означает, что человек плачет. Ява никогда не плакал!
Ухо у Явы вспухло, увеличилось вдвое и пылало, как мак.
Конечно, с таким ухом снова пробиваться на свидание нечего было и думать.
Мы хорошо понимали, что случилось. Произошло ужасное недоразумение: видно, какой-то шалопут развлекался тем, что звонил в квартиры и убегал. А мужчина, случайно подойдя и заметив нашу мельтешню возле дверей после того, как мы позвонили, решил, что мы хулиганим. Мы понимали, что произошла ошибка, но нам от этого легче не было. Особенно Яве. И не столько из-за уха, сколько оттого, что с Валькой не встретился и теперь, кто знает, встретится ли вообще.
Я боялся, что он во всем будет обвинять меня: ведь если б я сразу позвонил, как он просил, и если б не стал его выпихивать вперед, может, ничего бы и не было. Но Ява проявил благородство, он ни о чем не говорил, только иногда смахивал слезы.
Мне хотелось его развеселить, но я долго не мог придумать, как это сделать. Наконец я сказал:
431
— Эх, подловить бы это хрюкало, из-за которого нам попало, и зазвонить бы ему в ухо так, чтоб у него отпала охота звонить куда не надо, чтоб у него три дня в башке звенело! Тогда бы знал, как шкодить. Эх бы я ему дал!..
Но мое отважное настроение на Яву не подействовало. Я сокрушенно вздохнул.
Мы прошли парками над кручей, перешли через мостик и вышли к кинотеатру «Днипро».
— Во! — радостно воскликнул я, как мореплаватель, который увидел землю.— Давай в кино сходим! Тетя же нам специально денег на это дала-. Айда!
Но Ява, отвернувшись, угрюмо буркнул:
— Не хочу!
— Ну и зря,—сказал я.—Чем красоваться с таким ухом на людях, лучше часа полтора посидеть в темноте в кино. А за это время ухо станет нормальным.
Все так же не глядя на меня, Ява буркнул:
— Идем!
Я мигом бросился в кассу за билетами...
Смотрели мы «Семеро смелых» — героический фильм про полярников. В картине все время безумствовал буран, и герои, обвешанные с головы до ног ледяными сосульками, мужественно хекая, карабкались на ледяные горы, проваливались в снег и тащили друг друга на плечах. Это немного ободрило Яву. Когда мы вышли из кино, у него в глазах уже не было такой безнадежной грусти и отчаяния, как раньше, хотя ухо еще имело не очень хороший вид.
Я чувствовал в животе неприятную сосущую пустоту — хотелось есть, и я надеялся, что мы сейчас поедем домой. Но Ява и слышать об этом не хотел — боялся, что тетя начнет допытываться. Чудило! Легко ведь можно что-нибудь придумать: упал и ушибся, или в переполненном автобусе дверями прищемило, или еще что-нибудь. Разве мало несчастных случаев может произойти с человеком в таком большом городе, как Киев? Но переубедить Яву я не мог. Мы спустились вниз к Крещатику. У Владимирской горки, там, где павильон «Мороженое», Ява остановился. Осторожно взявшись рукой за ухо, он страдальчески глянул на меня и сказал:
432
— Если холодное приложить, может, и полегчало бы... А? Как думаешь?
Я потрогал у себя на груди и пожал плечами. Я знал, на что он намекает. Теткины деньги мы уже истратили на кино. Но у нас еще были деньги. У меня на груди в потайном кармане в подкладке лежала трешка. Мы копили ее целых полгода и возлагали на нее большие надежды. Договорились тратить ее только на что-нибудь уж очень интересное или на запретные удовольствия, на которые денег тетя не даст,— на полет над Киевом на вертолете или на фильм, на который дети до 16 лет не допускаются... А из-за того, что характер у Явы не такой серьезный, как у меня, и он может ухнуть эту трешку за полчаса, мы решили, что храниться она будет у меня и тратить ее будем только с общего согласия.
И вот Ява намекает, чтобы взять из трешки на мороженое. Мороженого и мне хочется, но мы ведь не на мороженое ее берегли... А Ява сегодня пострадал, вон как за ухо держится! И глаза у него, как у цуцика, которому прищемили хвост. Я вздыхаю и решительно направляюсь к павильону. Ява за мной. Садимся за столик и заказываем по сто граммов самого дешевого—-сливочного. Подумаешь, тринадцать копеек порция! Не обеднеем...
Мы едим сосредоточенно, причмокивая и облизывая ложечки. Время от времени Ява прикладывает холодную ложечку к уху. Но что такое сто граммов! Через три минуты мы уже* сидим перед начисто вылизанными чашечками, в которых, как в зеркале, отражаются наши поникшие носы. Ява печально щупает свое ухо. Ухо требует жертв. Я облизываю сладкие губы и с отчаянной решимостью (как с моста в воду) заказываю две порции пломбира.
Ох и вкусное же мороженое в Киеве, ох и вкусное!!!
Вы думаете, на пломбире Явино ухо успокоилось? Ничего подобного. После пломбира было шоколадное, потом фруктово-ягодное, потом ореховое. И к каждой порции прибавьте еще по стакану газировки с сиропом. Дорого обошлось нам Явино ухоГ Разошлась вся наша трешка. Остались жалкие копейки. Я чуть не плакал, когда расплачивался.
Мы вышли из павильона йошатываясь.
]5 Библиотека пионера, т. 4
Потом целых полчаса сидели на лавочке у павильона и молчали. Блаженствовали. Вот если бы каждый день обедать мороженым! И завтракать мороженым, и ужинать!
Вдруг Ява посмотрел налево и сказал:
— Ты думаешь, что там такое?
— «Чертово колесо»,— говорю.
— Так чего же мы сидим?
— Идем.
— А деньги у нас есть?
— Да на это еще найдется.
Уж на что, на что, а на «чертово колесо» я и последнего не пожалею! Это же мне просто необходимо. Ведь я же собираюсь в летчики...
Мы как раз вовремя подоспели. Последняя кабина была свободна. Только мы сели, колесо тронулось. И-их ты! Ух и здорово! Поднимаемся-поднимаемся-поднимаемся... И все у тебя внутри уходит вниз. А потом опускаемся-опускаемся-опу- скаемся... И все у тебя внутри уходит вверх. Ну прямо как на самолете! Вверх — как высоту набираешь. Вниз — как на посадку идешь. (Я же все-таки летал — что вы думали! — на «кукурузнике» сельхозавиации, который наши поля опрыскивал.)
Да еще стоит колесо на высокой круче над Днепром. И видно с него далеко-далеко, как с самолета. Внизу Подол, и Днепр, и ширь Левобережья, которое до самого горизонта простерлось. А вон Труханов остров... Пляж. Ну и людей же там! Песка даже не видно. И ступить-то, наверно, некуда. Как они там не раздавят друг друга! Ого! А что это такое между деревьев?.. Держите меня! Да это... парашютная вышка! Ну точно! Она!
Вот бы мне с этой вышки прыгнуть! Мне просто нельзя не прыгнуть. Летчику с парашютом прыгать — все равно что моряку плавать.
— Явочка! — говорю.— Видишь вон ту вышку? Давай с нее прыгнем!
— Давай! А что? — сразу соглашается Ява. Он хоть и не собирается в летчики, но с чего-нибудь прыгнуть, куда-нибудь кинуться или выкинуть какую-нибудь штуку он всегда «за»!
Глава I V
ПЛЯЖ. КАРУСЕЛИ. УТОПЛЕННИК. НЕЗНАКОМЕЦ ИЗ ТРИНАДЦАТОЙ КВАРТИРЫ
И вот мы бежим по лестнице из «Городка развлечений» вниз к набережной. Хорошая лестница! Только слишком длинная. Хоть и вниз бежишь, а все равно запыхиваешься.
— Чего бежать? Не успеем, что ли? — говорю, а сам думаю: «Нужно силы для прыжка беречь. Кто знает, как оно там будет? Все-таки первый раз!»
Сбавили мы скорость. Пошли шагом.
Внизу не то ворота, не то беседка — что за штука? И на ней огромная колонна с какой-то бабалухой на конце.
— Постой,— говорит Ява.— Тут что-то написано.
Ява любит читать всякие исторические и мемориальные надписи. Подходим. К стене прикреплена мраморная дощечка:
памятник
В ЗНАК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КИЕВУ МАГДЕБУРГСКОГО ПРАВА
Сооружен в 1802 году Архитектор А. И. Меленский.
Вот никогда бы не подумал, что это памятник! Ведь памятник— это или конный или пеший, но всегда какой-нибудь герой... полководец или гений. А тут какое-то Магдебургское право! Ну и ну!..
Надпись на мемориальной доске была не единственной. Кроме нее, еще было много надписей. Но уже от руки и значительно более позднего происхождения. Все «Магдебургское право» было густо исписано довольно-таки однотипными формулами: «Коля + Оля=любовь», «Вася+Тася = любовь»,
«Юра+ Нюра=любовь» и т. д.
А один какой-то намалевал во-о-от такими буквищами свою формулу, аж метра на три от земли: «Жека + Лёха= любовь». Наверно, ему пришлось принести для этого из дому стремян¬
435
ку. Ведь не могло же у него быть такое длинное тело! По-человечески его, должно быть, звали Алеша, а ее Женя; писал он по-русски и не знал, дурачок, что по-украински «леха» — «свинья». И вышло, что он сам себя обозвал свиньей.
То, что никто из них не имел пятерки по чистописанию, было сразу видно — таких кривулей они навыводили. И еще было ясно, что друг друга они, может, и любили, но больше не любили никого, потому что так испоганили памятник — смотреть тошно.
— И зачем только их грамоте учили! — с чувством сказал Ява.
«Смотри ты, какой правильный! А не ты ли, дорогой Явоч- ка, писал мелом на сарае за школой разные лозунги против завуча Саввы Кононовича?» — подумал я. Но сказать не сказал. Ведь и сам я был грешен: писал на заборе всякие глупости. А ведь это вон как нехорошо. Больше не буду!
Исполненные благородных чувств, мы направились к пешеходному мосту, что ведет на Труханов остров. По мосту непрерывным потоком шли люди. Куда ж это они? Там ведь и так ни стать, ни сесть... Ох, не иначе как раздавят там кого-нибудь сегодня... Не иначе как будут жертвы!
Жертвы... Чем ближе мы подходим к парашютной вышке, тем сильнее шевелится в моей груди что-то парщивое-препар- шивое, скользкое и холодное. Высока все-таки, холера!.. Это тебе не ива, с которой мы в речку ныряем. Если не раскроется парашют, то только — ляп! — и квакнешь...
Интересно, бывает так, что не раскрывается парашют на парашютной вышке?.. Бывают ли там несчастные случаи? И жертвы...
Мы перешли мост, свернули влево, к вышке. Интересно, о чем сейчас думает Ява? Что-то очень уж бодро он идет, очень уж бодро. Так серьезные люди не ходят в первый раз с парашютом прыгать.
Приглядываюсь я к парашютной вышке. Что-то не видно, чтобы кто-то с нее прыгал. Может, уже сегодня была какая-то жертва... А мы, два дурака, идем...
Умные люди вон в пинг-понг играют, в настольный теннис— совсем безопасная игра, полностью гарантирует жизнь..
436
Стоит двадцать столов, и белые пластмассовые шарики так и скачут по ним, как пузыри во время дождя...
А вот и парашютная вышка. Ты смотри — нет ничего. И парашюта не видно. А канат, на котором он должен висеть, заброшен куда-то наверх.
Недалеко от вышки сидел под деревом какой-то полуголый пожилой дяденька в парусиновых брюках. Уже то, что он был не в трусах, а в брюках, заставило меня подумать, что это кто- то из администрации. Я подошел и спросил:
— Скажите, пожалуйста, а вышка разве не работает?
Дяденька взглянул на меня и хмыкнул:
— Чего ж не работает? Работает. Только видишь — нет парашюта. Кто-то украл, говорят. А без парашюта с нее прыгать опасно. А впрочем, попробуйте, хлопцы. Я вижу, вы такие герои, что вам и парашют не нужен.
Мы поняли, что дяденька шутит. Ну конечно же, не работает вышка, не работает... Ур-р...
— Вот жалость,— сказал я.
Рядом с вышкой была карусель. Я сначала подумал — карусель как карусель, обычная. А потом присмотрелся — э, нет, не совсем обычная. На высоком железном столбе огромное колесо, а к тому колесу на длинных цепях сиденья подвешены. Крутится колесо, и сиденья крутятся, в сторону отклоняясь,— вроде того, как консервную банку на проволоке над головой раскручивать.
Глянул я на Яву:
— Давай?
— Давай.
Выскребли мы последние копейки. Заплатили. Сели. Поехали! Сперва потихоньку-потихоньку. Потом все быстрее, быстрее...
— Ого-го-го-го-о!.. — кричу я.
Радость рвется наружу. Ну и лихая карусель! Совсем ты как птица летишь по воздуху, как будто и не держит тебя ничто... Ух-ух-ух!..
— Др-р-р-р!.. — Это я. Рокот мотора изображаю. Будто лечу на сверхзвуковом истребителе.—Та-та-та-та-та-та-та!..— из пулемета стреляю по Яве.
437
Ява оборачивается и тоже:
— Та-та-та-та-та!..
— Иду на таран! — кричу, подлетаю к Яве — шарах его сзади! — и он отлетает от меня. А потом подлетает и — шарах меня! —и я отлетаю...
И-их!.. Вот карусель! Ну и карусель! И никаких тебе несчастных случаев! Никаких жертв! Цепь такая, что вола выдержит.
Вот так бы летал и летал... Целый день бы летал...
А тут вдруг тише... И еще тише... И совсем — стоп!
— Приехали! Вылезайте!
— Тю! Так мало?
— Если хотите еще, пожалуйста, платите деньги и ка- русельтесь сколько вам влезет.
Де-е-ньги! Где же нам взять эти деньги, если они вот тут, в животе! И зачем мы столько мороженого слопали! Мы ведь могли меньше на две-три порции! Как раз бы на карусель. А теперь из-за этого паршивого мороженого приходится отказаться от такого для меня необходимого, такого летческого развлечения.
Эх, дурак я, дурак! Ну, у Явы ухо, ему нужно! А я чего? Чего я-то? Вот бы на мне и сэкономить. Пусть бы Ява один ел. Мороженого и в Васюковке сколько хочешь. А такую карусель когда еще поставят? Я уж к тому времени и вырасту...
Ява, видя мое настроение, сочувственно вздыхает и говорит:
— Идем хоть искупаемся...
— А! — машу я рукой.— Что мне купаться! Что я, в Киев купаться приехал? Я дома во-о как накупаться могу... Да и где тут купаться? Среди людей, как в лесу, заблудишься. До воды не доберешься. Да и воды уж у берега не осталось — одни люди...
Но это я только так сказал, чтобы досаду на чем-то сорвать. Быть на киевском пляже и не искупаться мог только какой-нибудь хворый или ненормальный. Особенно в такую жарищу. И вот стали мы пробиваться к воде.
Я не могу себе точно представить, что такое миллион человек. Но уж если представлять, то, пожалуй, нужно вспомнить
438
киевский пляж. По-моему, там было не меньше! Кто не верит, пусть проверит.
Это было похоже на какой-то гигантский базар, Только разве что все голые и не торгуют. Никогда я не видел столько голых людей сразу. Ну, приходилось видеть одного, двух, трех... Ну, два-три десятка — в бане. А тут миллион голых! Даже не верится, что такое бывает.
Древние люди, которые адское пекло выдумали, были просто без всякой фантазии. Разве ж у них пекло?! Вот киевский пляж в жаркий выходной день — вот это пекло! Уж тут и вправду пекутся и жарятся на солнце. Половина людей лежит нагишом молча, без движения, закрыв глаза, как мертвые. Лишь по тому, как колышутся их животы, можно понять, что они еще живы, еще дышат. Другая половина непрерывно что- то ест—жует, глотает, чавкает, пьет молоко из треугольных пакетов, пиво и лимонад из бутылок.
Кажется, что эта половина пришла на пляж специально, чтобы поесть. И только небольшая частица людей барахтается в воде. Но и этой небольшой частицы достаточно, чтобы вытеснить телами половину воды из Днепра. Еще одна незначительная частица все время куда-то идет. Идет, переступая через тела, наступая на чьи-то ноги, руки, головы и на другие места. Но и этой незначительной частицы достаточно, чтобы создать впечатление вокзальной толкучки. А вон — xdn! хоп! хоп! — под деревьями волейбол. Стоят в кружок и лупят по мячу. И нет того, чтобы нормально играть, а все стараются так, чтобы кому-нибудь в голову угодить. Разноцветные мячи не столько в воздухе летают, сколько по песку катаются, через людей перескакивая. Такой уж это пляжный волейбол.
А вон «геркулесы» ходят, важничая, то и дело напружинивая мышцы и грудь колесом выставляя. И у каждого на руке номерок на резинке от гардероба, будто все «геркулесы» кем-то пронумерованы.
— Здорово, Гарик!
— Привет, Шурик!
— Чао, Марик!
Эти «геркулесы» друг с другом здороваются, не останав¬
439
ливаясь и не поворачивая головы, чтобы не утратить стройность фигуры. И все эти пронумерованные марики, гарики и шурики, похожие своей важностью на индюков, отличались от остальных людей тем, что были разрисованы татуировками. Татуировки были у них где хочешь — на руках, на груди, на ногах и даже на спине. И что только не было выколото! И корабли, и орлы, и звери, и женщины, и кинжалы, и разные мудрые изречения, например: «Смерть за измену», или что-нибудь в этом роде. Это во-первых. А во-вторых, у всех что-нибудь висело на шее. Какая-нибудь цепочка, а на ней или подковка, или бляха, или какая-нибудь женская брошка, или ключ, или даже... крестик. И чудно было видеть этот крестик на груди, где выколот пиратский корабль, кинжал да еще и «Смерть за измену». Ясно, что этот крестик ничего общего с богом не имел, что это было просто модно.
«Чего доброго, у них еще и поповская ряса в моду войдет,— подумал я.— И будут ходить тогда киевские гарики в поповских рясах по Крещатику...»
А вон какой дядька чудной. Там, где у людей волосы (на голове, например), у него лысина, а там, где у всех голо (на спине, например), у него густая рыжая шерсть, как у медведя. А он лежит, загорает. Вот чудак! Ну как же ему загореть? Солнце ведь к телу сквозь этот мех не пробьется!
А вон старикан какой! Из воды выскочил и ну гимнастику делать: и приседает, и на руках от земли отжимается, и подпрыгивает, как хлопчик. Сам худущий, сверху лысина, а по бокам головы длинные волосы до самых плеч. И улыбается во весь рот, подмаргивая кому-то. Ну и дед!.. Тю! Вы гляньте только, что там делается! Старая бабуся, седая и сморщенная, в теннис... или, как его, в бадминтон ракеткой вымахивает. Так вымахивает, аж в глазах рябит. Ого-го! Интересно было бы посмотреть на нашу бабку Триндичку с такой ракеткой. Все село бы сбежалось. А тут никто и внимания не обращает.
Интересные старики и старушки в Киеве. Какие-то ребячливые. Будто старые дети. А молодые парни наоборот. Вон идут двое. Ну, лет по двадцать, не больше. И оба с бородами. Чудеса!
440
А вон какая-то тетя спит под деревом. Завернулась с. головой в одеяло и храпит. И чего она на пляж пришла, непонятно. Дома под одеялом лучше выспаться можно.
А сколько детей! Сколько детей на пляже! Только и слышишь:
— Сема, выйди из воды! Выйди из воды, Сема!
— Галочка, не заплывай! Плыви назад!
— Саша, где твои тапочки? Где твои тапочки, я спрашиваю!
— Алик, сними мокрые трусы.
— Толя, отдай ему мяч. Толя! Это ж не твой мяч, это его мяч.
— Яша, за такую вредность ты больше купаться не будешь. Не будешь... за вредность.
— Фаня, ты опять насыпала песку в мои туфли? А ну-ка высыпь сейчас же!
— Деточка, ну съешь яичко! Одно только яичко! — говорит толстая тетя в полосатом купальнике, протягивая облупленное яйцо щекастому здоровяку лет двенадцати.
Тот воротит нос и морщится — не хочет.
— Деточка, ну съешь, прошу тебя! — умоляет тетя.
А из воды восторженно верещит худенький, как воробей, мальчишка лет шести:
— Мамо, вода! Мамо, Днипро! Мамо, я купаюсь! Мамо, вода! — как будто он никогда в жизни воды не видел и не купался никогда.
Мы подошли к самой воде и начали выбирать место, где можно положить вещи, когда разденешься. Между прочим, глядя на Днепр, который кишел людьми, я подумал: «Вот если б кто-нибудь тонул, а мы бы его спасли! Лучше бы, конечно, чтобы какой-нибудь ребенок тонул — легче спасать...»
Это была наша постоянная, пока еще не осуществленная мечта — кого-нибудь спасти и вообще стать героями. Особенно хорошо было бы вот так, при всех, чтоб видели... Чего бы вон тому шустрому пискуну не забулькать, например... Мы бы его вмиг — раз! — и будь здоров. И в «Вечернем Киеве» на следующий день загрловок: «Юные герои из Васю- ковки».
441.
— Из «Вечернего Киева» как раз интересовались вчера...— услышал я вдруг веселый голос. И вздрогнул: уж не подслушал ли кто-нибудь мои мысли?
Нет, это просто разговаривали двое мужчин. Один, невысокий, круглолицый, стоял по колено в воде. Другой, широкоплечий, с крючковатым носом, стоял на песке у самой воды. Он был уже одет (возможно, шел домой), но еще не обулся — ботинки держал в руке.
— Все расспрашивали про роль царя,— продолжал круглолицый.— Нет, отвечаю, нечего еще говорить. Как будет готово, тогда и приходите.
— Правильно,— поддержал горбоносый.—Никогда не нужно рассказывать заранее. Я терпеть не могу, когда вот так делятся творческими планами, обещают, берут обязательства, а потом... пшик!—и ничего нет. Ну, ни пуха ни пера! Я побегу, а то уж и так на радио запаздываю... Бывай! Привет Галинке. Я забегу на днях... Дом я помню... А квартира, если не ошибаюсь, тринадцатая? Так?
— Так-так! Тринадцатая! Заходи обязательно! Бывай! — радостно улыбаясь, крикнул круглолицый, а когда горбоносый отошел, негромко, но так, что мы слышали, буркнул: — К черту!
Мы с Явой переглянулись и заулыбались. Мы знали, что когда говорят «ни пуха ни пера», нужно посылать к черту, но чтобы это делал взрослый, в первый раз слышали.
Круглолицый артист сделал торопливо несколько шагов, собираясь нырнуть, и вдруг остановился, вскинув руки:
— Ух ты! Часы забыл снять!—Обернулся, увидел нас: — Хлопчики, будьте добры, положите вон там, на серые брюки, чтобы мне не возвращаться,— и протянул часы.
Я стоял ближе к нему, я и взял. А артист сразу — бух в воду! И поплыл кролем, вспенивая воду ногами, как моторная лодка. Здорово плавает... Несколько секунд мы смотрели, как он плывет. И вдруг где-то слева раздался вопль:
— Утонул! Утонул!.. Утопленника вытащили!
— Где? Где? — так и подскочили мы.
И кинулись туда, куда уже бежали люди.
А что? Если бы при вас закричали «утонул», вы бы разве
442
стояли на месте? Тем более, если вы только что мечтали кого- нибудь спасти! Да и к тому же еще учтите, что вы никогда не видали настоящего живого утопленника... То есть не живого, конечно, а вообще... ну, одним словом, утопленника.
— Где? Где? Где? — шныряли мы среди людей, стараясь что-нибудь увидеть.
Но люди стояли плотно, и никакого утопленника не было видно.
Тогда мы бросились на четвереньки — и между ногами, между ногами, как щенята... Наконец увидели. На песке лежал навзничь кто-то огромный и длинный, а на нем верхом сидел худенький и остроносый, уже немолодой человек с кустиком седоватых волос на груди. И делал искусственное дыхание. Раз! Два! Раз! Два! Методом Сильвестрова.
— Теперь дайте мне,— сказал загорелый крепыш-спасатель, который только что подплыл на своей лодке. Видно, ему было очень неловко из-за того, что не он вытаскивал утопленника, а самый обыкновенный человек, да еще и такой неказистый...
Мы пригляделись к утопленнику. Это наверняка был один из тех самых гариков-мариков, потому что на шее у него висела на цепочке подкова, а на руке было выколото сердце, пробитое стрелой, и под ним изречение: «С юных лет счастья нет».
Дважды сменялись остроносый со спасателем, а утопленник все не оживал. В толпе гомонили:
— Такой молодой...
— Вот беда!
— Да как же это случилось?!
— Говорят, заплыл за буек, а там его то ли судорога схватила, то ли еще что...
— Ох уж этот Днепр, сколько он жизней уносит!
И вдруг утопленник открыл глаза. В толпе возбужденно загудели.
Утопленник поднял голову, обвел людей мутным взглядом и оперся на локти. Остроносый, который как раз делал ему искусственное дыхание и сидел на нем, втянул носом воздух, поморщился и воскликнул:
— Так он же пьяный!
443
Спасатель тоже наклонился к утопленнику:
— Ну точно! Разит, как из бочки!
— Ах ты черт!
— Ну и сукин сын!
— Нализался — и в воду...
— В такую жарищу пить — гробовое дело!
— Вот тебе и судорога...
— Такой молодой! — слышалось вокруг.
Остроносый, все еще сидя на воскресшем, пьяном «утопленнике», смотрел-смотрел на него* а потом поднял руку и — хлоп! хлоп! — ему по морде, аж зазвенело.
— Правильно!
— Так его!
— Чтоб знал, как пить! Как людей нервировать!
— Думали, несчастная жертва, а он...
— Еще ему! Еще!
— И мы добавим!
Настроение у толпы сразу изменилось, напряжение спало.
Остроносый резко поднялся, перешагнул через «утопленника» и пошел прочь. Толпа расступилась перед ним, давая Дорогу.
— Ничего, мы его в вытрезвитель отвезем, там с ним поговорят,— бодро сказал спасатель, беря «утопленника» под мышки и ведя к лодке.— Ты бы хоть спасибо сказал человеку, который тебя вытащил!
— Хоть бы фамилию узнал!
— Думаешь, легко было ему такого бугая из воды тащить!— кричали вслед «утопленнику». Но тот только глуповато таращил глаза—видно, еще не очухался. Лодка отчалила, все стали расходиться.
— Ой! Нужно ведь часы положить! —спохватился я, только теперь обнаружив, что все еще держу их в руке.
Кинулись мы с Явой назад. Туда-сюда... А где же серые брюки? Нет их. Может, не тут, может, левее?.. И там нет... Что такое? Дядя, где вы? Мелькают перед глазами сотни лиц —и всё незнакомые. Кажется, не тут... Дальше... Ой, нет!... По-мо- ему, назад... Нет, нет, вперед... Нет, я тебе- говорю,— назад... А может, правда, вперед? Бегаем мы взад и вперед, не-можем
444
найти ни места того, ни артиста, ни серых era брюк... Да и как же его найдешь, если всюду и песок одинаковый, и люди одинаково голые, никаких особых примет!
Ох, и зачем нам нужен был этот пьяный «утопленник»?! Что теперь будет?!
— А ну, Ява, давай в воду! Может, тот артист еще плавает.
Разделся Ява — бултых в реку.
А я на берегу. Далеко отбегать не решаюсь, чтоб хоть Яву не потерять. Но все время ищу — людям в лица заглядываю...
Через полчаса вылезает Ява из воды. Отдувается устало:
— Нету...
— хМюжет, он... утопился? — растерянно говорю я.
— А брюки? Брюк же нет... А поплыл он без брюк... — уверяет меня Ява.— Да и плавает он так, что море тебе переплывет и не утонет.
— Что же делать?
— А я знаю?
Такая досада меня взяла — хоть плачь. Хороший, симпатичный человек дал мне часы. «Будь,— говорит,—-другом, положи на мои брюки, чтоб мне не вылезать». А я... друг называется! Забрал часы, и — фить! — ищи ветра в поле.
— Ява, ведь получается, что я стянул эти часы,— сказал я, скривившись.
Ява пожал плечами.
Никогда в жизни я не был так себе противен, как сейчас. Конечно, бывало с нами всякое... Трясли мы иногда дикую грушу у соседки бабы Насти, у Кнышихи. Так там этих груш бывало столько, что они все равно гнили в траве неубранными. Да и баба Настя такая скряга, такая вредина была, что от нее вся наша улица стонала. И потом, трясли мы эту грушу не столько из-за паршивеньких дичков, сколько в знак протеста против жадности ее хозяйки.
А то еще, когда был маленьким, стащил у тети пирожок с маком. Так ведь это же у родной тети, и какой-то там пирожок... А то у чужого человека, и не пирожок, а часы, дорогую вещь...
А мы-то собирались воров ловить! Как же ловить, если сами... воры!
445
Мне хотелось встать и со слезами в голосе крикнуть на весь пляж: «Товарищи милиционеры! Берите меня за шкирку и ведите в отделение. Я вор! Я украл часы у хорошего человека, который поверил в мою честность. Берите меня, товарищи милиционеры!»
Но я не встал и не крикнул. Потому что не было, на мое счастье, поблизости ни одного милиционера. А может, и был, да только голый. А разве узнаешь милиционера, если он голый! Да и вообще, голый милиционер — это не милиционер. Никакого трепета перед голым милиционером не испытываешь. Вот, скажем, товарищ Валигура, милиционер, который живет у нас в селе. Его, например, местный пьяница Бурмило признает только тогда, когда тот одет по всей форме. А когда, бывает, возится милиционер у себя в огороде без фуражки и без кителя, в одних галифе, и в это время позовут его люди утихомирить Бурмила, и Валигура придет в чем был, то Бурмило на него и смотреть не хочет, только злится:
«Кто еще такой? Тьфу! Не знаю тебя! Уходи отсюдова! Пшел! Тьфу!»
Но стоит только Валигуре надеть милицейский китель и фуражку, как Бурмило сразу становится смирным, как овца, и говорит: «Извините, гражданин начальник», и идет домой спать.
Нет, голый милиционер — это не милиционер...
— Знаешь что? — сказал Ява.— Так мы артиста все равно не найдем...
— Так что —в милицию?— перебил я его, чувствуя холодок под сердцем.
— Угу! —хмыкнул Ява.— Нас там как раз дожидаются. Иди! Будь добр! И передай привет подбитому милиционеру.
— Так что же теперь? — спросил я, чуть не плача.
— Мы как сюда пришли? По мосту. А назад люди идут? Тоже по мосту. Другой дороги нет. Так вот, сядем у моста и будем ждать. Или мы его увидим, или он нас. А с пляжа он еще не ушел. Точно! Куда он без часов пойдет?
«Ну что ж,—подумал я.—Может, и правду говорит Ява.
446
Лучше, наверно, возле моста сидеть, чем, высунув язык, бегать по пляжу». Сели мы возле перил: Ява — с правой стороны, я — с левой. Сидим. Уж солнце на закат повернуло. Потянулись люди с пляжа домой. Плотной стеной, почти впритирку друг к другу идут и идут... Аж глазам больно... И голова кругом идет. Разве заметишь кого-нибудь в такой толпе? Одна надежда, что нас заметят.
И такой у меня несчастный вид был, что какая-то женщина внезапно нагнулась ко мне, проговорив: «Бедный ребенок», и неожиданно сунула в руку три копейки. Меня всего так и передернуло — она решила, что я побираюсь. Опомнился я — женщины уж и след простыл. Так и остался я с тремя копейками... До чего я дошел, просто беда!.. Хорошо, хоть Ява не знает: из-за людей нам друг друга не видно. Вскочил я тут же и теперь уже стоя смотрел, а руки за спину спрятал, чтоб снова, не дай бог, не пожертвовали.
Стемнело уже. Людей все меньше и меньше становится. А артиста нет.
Урчит у меня в животе от голода. Мы ведь, кроме мороженого, ничего не ели. Подошел ко мне Ява:
— Ну и олухи мы с тобой! Что мы тут стоим? Он артист? Артист. Так пойдем завтра по театрам и найдем его. Тем более, мы знаем, что он царя играет.
Тю! И как я сам до этого не додумался? Вот Ява! Ну и молодец! Варит у него котелок все-таки! Башковитый хлопец! Ну конечно, пойдем завтра по театрам (в Киеве каких- нибудь пять-шесть театров) и найдем нашего артиста, и отдадим ему часы, и расскажем все, как было, про утопленника и про все остальное.
Как хорошо живется на свете, когда найден выход из безвыходного положения!
— Ну давай хоть рассмотрим хорошенько, что за часы,— сказал Ява.
Стали мы под фонарем (уже и фонари зажгли!), давай разглядывать.
Хорошенькие часики! Круглые и плоские, как пятачок. На черном циферблате вместо цифр черточки золотые. И стрелки золотые. И этих стрелок не две, а целых три. Третья, длинная
447
и тонкая, как волос, по всему циферблату бегает — секунды отмеряет. Красивые часики. Мы таких еще и не видели.
— А ну,— говорит Ява,—примерь.
— Не хочу.
— Чего там! Раз ты все равно как вроде бы украл их, то хоть примерь, хоть поноси немного. Завтра уж не придется.
— Не хочу я чужие часы носить.
— Ишь какой гордый^без хлеба на воде и от хлеба отказывается... Ну, раз ты такой гордый, давай я поношу.
И он взял у меня часы, и надел на руку, и сразу стал на пять лет старше. Даже лицо у него стало строже и серьезнее. Он шел и гордо нес руку с часами, отставив ее в сторону, прямую и негнущуюся, как палка, и все искоса поглядывал на нее. Иногда он сгибал ее в локте и подносил к глазам — смотрел, который час. А меня не замечал и не говорил ни слова, будто меня и на свете не было.
И стало мне горько и досадно, что сам я не надел часы. Часы ведь, можно сказать, «мои», я муки душевные за них .принял... А носит их Ява, да еще и бахвалится, сатана!
Когда мы прошли всю набережную и очутились у моста имени Патона, я наконец не выдержал и сказал:
— Хватит! Снимай! А то еще... испортишь, а мне отвечать.
Вздохнувши, Ява неохотно снял часы и снова стал на пять
лет моложе и такой же несолидный, как и был.
Я спрятал часы в карман и только тогда успокоился. Потом вспомнил:
— Я же забыл тебе сказать... на мосту мне какая-то тетка три копейки дала.
— Да? — встрепенулся Ява.— Так чего же мы пешком идем! Надо было на трамвае ехать. А то я уже еле ноги тащу.
— Так это же милостыня, балда! Кто же на милостыню в трамвае ездит!.. Тетка мне милостыню подала, понимаешь, думала, что я нищий.
— Вот как! Интересно! — взял наконец в толк Ява.—И что же ты с ними делать будешь?
— Так вот я и не знаю...
Действительно, положение было дурацким. Взять себе? Ни за что!.. Выкинуть? Деньгами только господа капиталисты
448
Швыряются. Думали мы с Явой, думали и, наконец, придумали— отдать настоящему нищему, как только встретим...1
— Ас часами-то как интересно вышло! — с жаром сказал Ява, и в глазах у него вспыхнул охотничий блеск.— Вот здорово! Прямо как преступника искать! Между прочим, очень важно, что мы знаем, где он живет. В тринадцатой квартире...
— Ужасно важно!—хмыкнул я.— Ты знаешь, сколько в Киеве тринадцатых квартир? Чтоб обойти их все, нам жизни не хватит.
— И все равно интересно... — не сдавался Ява.— И похоже как ловить воров. Только тут наоборот... Наоборот, понимаешь... Воры ловят потерпевшего, чтобы отдать ему то, что украли. Кино! Скажи?
— Будет теперь нам кино, увидишь, что нам тетка скажет. Она, наверно, уж голову потеряла от волнения...
...Тетка нам ничего не сказала. Она лежала молча на тахте с компрессом на голове. Нам сказал дядя... Он сказал:
— Если бы вы, шалопуты, были мои сыновья, я бы сейчас вам по одному месту так надавал, что вы в штаны бы завтра не влезли. А поскольку я не имею права этого делать, то прямо скажу: еще хоть раз такое повторится, я немедленно покупаю вам билеты и в тот же день отправляю в Васю- ковку. Из-за вас вдовцом оставаться не хочу. Тетка чуть не умерла от волнения. Вон видите, лежит с головной болью...
Мы стояли опустив голову и что-то лепетали про то, как были в кино, а потом катались на «чертовом колесе», а потом... были в гостях у одной знакомой девочки (Валька Малиновская, честное слово, вот и адрес... можете проверить!) и как нас там хорошо принимали, и угощали, и усадили смотреть телевизор, и не хотели отпускать, и... мы больше не будем!
Потом мы выпили одного чаю («В гостях же во-о ка-ак наелись!») и голодные легли спать.
...Мы лежим и не можем заснуть.
На меня находит приступ запоздалого раскаяния. Совесть точит меня, как червь дерево.
— Ведь как все паршиво выходит! — с горечью шепчу я.—
1 Эти три копейки до сих пор лежат у меня дома,— все никак настоящего нищего не встречу... (Прим. Павлуши.)
449
Хотим стать героями, а только и делаем, что врем да обманываем. И только за один день! Артиста обманули и, можно сказать, обокрали, милицию с ног сбили, трешку прокутили, тете наврали, дяде наврали, даже... милостыню приняли. Неужели для того, чтобы стать героем, нужно так много врать и столько нечестных поступков совершить? Если так, то весь этот героизм ничего не стоит! Какой-то брехуновский героизм. А настоящие герои — это прежде всего честные люди. Карме- люк, Довбуш, граф Монте-Кристо, капитан Немо, Катигорош- ко, Покрышкин... Никогда они не врали. А мы брехуны и жулики...
Ява вздыхает в знак согласия.
— Конечно,— говорит он.— Что-то мы совсем заврались и... вообще... давай больше не будем.
— Конечно, давай,— говорю,— только нужно что-то придумать, что нас бы сдерживало. Давай дадим клятву (может, даже кровью), что больше не будем врать. И условимся: если не можешь или не хочешь сказать правду, молчи; как бы ни выпытывали, как бы ни домогались — молчи, и все.
— Хорошо,— кивает Ява.— Только кровью мы уже клялись— это не помогает. Давай так: если все-таки соврал, не удержался, тогда... тогда другой дает ему три щелчка в лоб. Причем немедленно и где бы ни случилось: на улице, в школе, на уроке или даже в президиуме собрания. И не имеешь права увертываться или отбиваться. Ни в коем случае. Святой закон! За первое вранье — три щелчка, за второе — шесть, за третье — двенадцать и так далее. Сила! И волю будем закалять... А это для героизма знаешь как нужно!
Ява обязательно должен придумать что-нибудь интересное. И на этот раз я подозревал, что не так ему щелчками от вранья вылечиться захотелось, как чтобы интересно было. Но я не стал спорить — лишь бы результат был хороший.
На этом и порешили.
И, чувствуя себя уже почти на сто процентов честными, мы спокойно заснули.
Глава V
ИЩЕМ ЦАРЯ-НЕЗНАКОМЦА ИЗ ТРИНАДЦАТОЙ КВАРТИРЫ. ВСТРЕЧА В ТЕАТРЕ.
ВЕЛИЧИЕ И ПАДЕНИЕ ЯВЫ РЕНЯ
Утро началось с неожиданности. Когда я проснулся, Ява был уже одет. Одеваюсь и вижу — он мне подмаргивает и головой кивает: идем, мол, есть кой-какой секрет. Пошел я за ним в санузел.
Прищурился на меня Ява подозрительно и шепчет:
— Ты чего утаил, что твой дядя в контрразведке работает? — и уже палец для щелчка сгибает.
Я вытаращил на него глаза:
— В какой контрразведке?
— В той самой,— говорит,— которая шпионов ловит.
— Тю! Ты уже совсем свихнулся на этих шпионах.
— Ничего не свихнулся,— говорит.— Думаешь, я дурак? Оружие выдают только милиционерам — раз! пограничникам — два! и контрразведчикам — три! Это я точно знаю. А раз твой дядя не милиционер и не пограничник, значит, контрразведчик.
— Какое оружие? — не понял я,
— Пистолет! — отчеканил Ява.
— Да где ты видел?
— В ящике письменного стола — вон выдвинут немного.
— Да? А ну идем! — И теперь уже я палец для щелчка сгибаю— смотри же, если соврал!
Вышли мы из санузла, прошлись (как будто просто так) по комнатам. А потом к письменному столу. И взглядом в выдвинутый ящик — раз! Эге! Не соврал Ява! Пистолет! Настоящий! Тускло поблескивает вороненая сталь.
Аж сердце зашлось у меня в груди. Метнул я взгляд на дядю, который стоял на балконе — зарядку делал. И чуть погодя:
— Дядя Гриша! А что это у вас?
— Где? — Дядя шагнул в комнату и подошел ко мне.
— А вот в ящике.
451
— А-а... Пистолет.
— А зачем?
— Как — зачем? Стартовый пистолет. Спортивный. Не видел разве никогда?
Фу-ты! Вот тебе и контрразведка! Дядя же мой, кроме того, что мастер на заводе «Большевик», еще и мастер спорта (легкой атлетикой когда-то увлекался, а теперь судья республиканской категории). И как я сразу не догадался, что это за пистолет! А в общем, честно говоря, я стартовых пистолетов близко никогда не видел и в руках не держал. И Ява, конечно, тоже. Вижу, краснеет Ява: стыдно ему, что он так сплоховал. И, чтобы скрыть смущение, спрашивает:
— А как же он стреляет?
— Очень просто.— Дядя вынул пистолет из ящика.— Дается команда... «На старт!» Потом... «Внимание!» А затем...— Дядя поднял пистолет над головой.
Ба-бах!.. Аж в ушах зазвенело! И в тот же миГ:
«Ой!..» Трах-тарарах!.. — что-то шлепнулось и загремело в
452
кухне. Мы кинулись туда. Посреди кухни сидела на полу тетя, а возле нее валялась разбитая макитра, в которой она терла мак на пирог. Не ожидая выстрела, тетя с перепугу рухнула на пол.
Вид у нее был такой комичный, что мы рассмеялись.
— Гри-ша!—укоризненно склонив голову набок, жалобно сказала тетя.— Ну как ребенок! Разве так можно! Я чуть не умерла...
— Кто ж виноват, что ты так пуглива, как заяц под голым кустом,— смеясь, сказал дядя.
— А он все же бахает будь здоров, кто хочешь испугается,— сказал я. Жалко мне стало тетю.
— С ним и шпионов ловить можно,— сказал Ява.— Бьет, как боевой!..
— Дядя Гриша, а можно стрельнуть? — осмелился я.
— Ну что ж... только... — Дядя показал глазами на тетю, которая уже поднялась и собирала черепки.
■— А мы в спальне! — рванулся Ява.
— Ну давайте...
Но даже в спальне, перед тем как выстрелить, я крикнул:
— Тетя, на старт! Внимание!
И только потом нажал пальцами обеих рук на спусковой крючок (одной рукой не справишься—такой тугой!). Ох и бабахнуло! По-моему, еще сильней, чем у дяди.
По два раза стрельнули мы с Явой — больше дядя не разрешил («Еще соседи сбегутся!»).
Вся эта история с пистолетом немного меня развлекла. Но когда я вспомнил про часы, сердце мое опять защемило. Оно заскулило, как щенок в темной каморке. Как-то все будет? Найдем ли мы артиста? И что он нам скажет теперь?
За завтраком я сидел молчаливый и хмурый. Ява поглядывал на меня и все подмаргивал — пытался поддержать.
Вяло пережевывая яичницу с салом, я думал. Думал о том, что нужно как-то, никого не обманывая (ни в коем случае!), выскользнуть из дому, чтобы идти искать артиста.
А зачем врать? Поход в Театр юного зрителя у нас и так намечен. Только мы пойдем не через несколько дней, как собирались, а сегодня. И по дороге к Юному зрителю в другие те¬
453
атры заглянем и поищем нашего артиста. Спектакль начнется в двенадцать, а сейчас еще десяти нет, мы успеем.
Дядя не стал возражать, когда я сказал про театр, только о чем-то подумал и сказал:
— А может, и мне с вами? Как вы думаете?
Мы думали, что это совсем не нужно, что это испортит нам все дело. И я поспешил сказать:
— Да разве вам интересно? Там же все детское! Если бы я был взрослым...
Угадал дядя мои мысли или нет, я не знаю, но он почему-то улыбнулся:
— И то правда. Ступайте одни. Я пошутил. Но если снова где-нибудь потеряетесь, завтра же домой!
Дядя дал нам денег, мы надели новенькие, хрустящие рубашки, отглаженные штаны, блестящие, еще ни разу не надеванные ботинки и пошли.
Не знаю, как вы, но я, когда на мне все новое, чувствую себя, будто голый. Кажется, что все на тебя смотрят, и стыдно как-то, неловко, и хочется спрятаться от глаз людских. Кончается всегда тем, что я или потрусь рукавом о стенку, чтоб он не был таким новым, или пятно на штаны посажу, или ботинок носком в землю ткну, чтоб не так блестел. Тогда мне легче. Вот и сейчас, выйдя на лестницу, я сразу проехался локтем по перилам и сделал на рубашке грязную полосу. И только после этого мы вышли на улицу. Да все равно в новом было неудобно и неловко: ноги в ботинках, как в колодках, воротничок шею трет, что твой хомут,— чтобы повернуть голову, нужно всем телом поворачиваться. И почему это в театр нельзя ходить в обычной одежде? Туда ведь идут пьесы смотреть, а не для того, чтоб на тебя смотрели! Если б я стал большим начальником, то издал бы даже постановление, чтобы в новом в театр не пускали. Но не волнуйтесь, я начальником никогда не буду. Я буду летчиком...
Мы сели в троллейбус и поехали в Театр музкомедии на Красноармейскую улицу. Начали мы с него, так как мне почему-то казалось, что этот симпатичный круглолицый артист должен работать как раз в комедии (где же еще ему царя играть?!)
454
Зашли мы в вестибюль. Пусто. Тихо. Справа касса. Прямо во всю стену огромные двери. Поднялись мы по лестнице к этим дверям. Толкнули — не заперты. Заглянули — и там никого.
— Может,— говорю,— еще рано, еще не пришли?
— Хорошенькое рано! Десять часов! — говорит Ява.— Артисты, как и все люди, должны с утра на работу приходить. А как же! Ведь это служба...
— А почему же никого нет?
— А ты что, хочешь, чтоб они тебе тут у дверей толкались? Нет — значит, на сцене. Репетируют. Пошли!
Но только мы повернулись от дверей, как тут же нам навстречу молодая женщина в синем, похожем на милицейский кителе.
— Вам что, ребята?
Стали мы, растерялись. Как же его спрашивать? А женщина снова:
— Что такое, ребята?
И тут Ява возьми да и ляпни:
— Нам царя нужно.
— Какого царя? — удивленно подняла брови женщина.
— Такого круглолицего, с лысиной.— Это уж я добавил.
Женщина засмеялась:
— Вы немного опоздали, хлопчики. Царей уж пятьдесят лет не существует. Надо было раньше.
Ява осмелел:
— Ну что вы, тетя! Разве нам настоящего? Нам настоящие цари ни к чему. Нам артиста нужно, который царя играет. Разве не ясно?
— Он в тринадцатой квартире живет! — выпалил я.
— Теперь понятно,— сказала женщина.— Только нет у нас такого, который бы царя играл. Ведь в нашем репертуаре про царей сейчас ни одного спектакля нет. А почему вы именно у нас ищете этого артиста? Он сказал вам, что в нашем театре работает? Как его фамилия?
Мы с Явой переглянулись.
— Фамилию мы не знаем,— сказал я,— но знаем, что он играет царя.
455
— А где ж он этого царя играет? В каком театре?
— Не знаем.
— Вот тебе и раз! Приснился вам, что ли, этот артист? А откуда вы узнали, что он царя играет?
— Он сам сказал.
— Так вы с ним знакомы?
— Да немного... — неуверенно сказал я и взглянул на Яву: что ж это он молчит? То во всех разговорах всегда впереди, а тут замолк, как в рот воды набрал.
— Да как же это вы знакомы, что ни фамилии не знаете, ни в каком театре работает,— допытывалась женщина.
— Да вот так... не успели расспросить.
— А зачем вы его теперь ищете?
— Да нужно... Об одном деле поговорить..-
— О творческом? — усмехнулась женщина.
— Угу...
И только я успел это сказать, как вдруг — бац! бац!.. Из глаз моих аж искры посыпались. Даже в затылке защемило. И будто не по голове, а по кавуну — такой звук гулкий.
Женщина от неожиданности так руками и всплеснула:
— Ты что его бьешь?! Это что за хулиганство! Ни с того ни с сего...
Что она еще там выкрикивала, я не слышал — мы были уже на улице. Голова моя гудела, на глазах закипали слезы.
Так вот почему Ява молчал — боялся соврать сам и ждал, пока я совру. Но разве я всерьез врал? Я ведь только сказал «угу» на ее шутливый вопрос. Это можно было понять тоже как шутку. Уж и пошутить нельзя! Если так придираться, то до самой старости шишки на лбу носить 6v- дешь.
— Ты что, обиделся? — услышал я за собой голос Явы.— Ведь мы же договорились,— продолжал он невинным тоном.— Никто не виноват...
Я молчал.
— Ты не имеешь права обижаться. Это не честно. Зачем тогда было договариваться?
Он еще мне и ^выговаривал! Конечно, обижаться глупо, раз договорились, но когда вас при всем честном народе бьют па
456,
лбу, а вы не имеете права даже сдачи дать, то вряд ли вы будете хохотать после этого. Вряд ли запоете от удовольствия.
— Ну что ты... — не унимался Ява.— А если я совру, ты дашь мне в лоб, я и глазом не сморгну, вот увидишь.
Все это было так, но до самого Оперного театра я молчал. И только на площади у театра, потирая лоб, сказал:
— Нужно как-то иначе узнавать. Похитрее. Сперва этот самый... репертуар смотреть. А то сразу — ляп! — дайте нам царя. А люди ничего такого не ставят.
— Конечно, конечно,— охотно согласился Ява, обрадованный, что я нарушил молчание. Договорились рассказывать все, как есть: что нам нужно возвратить артисту одну вещь, которую он случайно, когда купался на Днепре, оставил нам (а какую, можно не говорить: мол, секрет; ведь про часы говорить страшно).
В Опере с царями было намного лучше, чем в Музкомедии. И в «Борисе Годунове» царь, и в «Сказке о царе Салтане», и в «Декабристах», и в «Снегурочке». Я очень обрадовался, когда узнал об этом, и уж был уверен, что среди этих-то царей мы обязательно найдем своего круглолицего, с лысиной. Но как дошло до дела, то все цари оказались неподходящими. Не те цари! Ни одного с лысиной... Все с волосами и даже с кудрями. Все высокие, рослые. Это нам билетерша сказала. И даже показала их всех. Там в фойе висят их портреты. «Нашего» среди них не оказалось. Невеселыми вышли мы из Оперного.
— Ничего,— с напускной бодростью сказал Ява.— Я был уверен, что в Опере нет. Оперные артисты голос берегут, боятся застудить. Ни один певец не станет тебе купаться в реке. Купаются только драматические артисты.
Мы спустились по улице Ленина к Театру русской драмы имени Леси Украинки. Но и там (а после этого и в Театре имени Франко) нас ожидало полное разочарование — ни одного спектакля про царя.
Оставался последний киевский театр, Театр юного зрителя.
Мы поднимались от Театра имени Франко по лестнице мимо необычного дома на улице Орджоникидзе. Он сплошь облеплен странными фигурами: тут и слоны, и змеи, и диковинные птицы, и какие-то совсем непонятные твари и чудища... В дру¬
457
гой раз я бы разиня рот глазел на этот дом, ведь другого такого нет нигде в мире. А теперь я равнодушно проходил мимо и даже не смотрел! Ничего меня не радовало. И в душе моей было так мрачно и мерзко, что все эти страшилища, если бы вдруг ожили и заглянули туда, сами бы перепугались.
— Не горюй,— утешал меня Ява.— Ну конечно же, он из Юного зрителя. Вот увидишь! Играет царя в какой-нибудь сказке для малышей. Он, наверно, комик. По-моему, мы его даже видели как-то по телевизору. Тот самый, помнишь, который споткнулся на пороге и — бряк! Гы-гы-ы...
Ява пытался развеселить меня. Всю дорогу до Театра юного зрителя он старался что-нибудь выдумать. Но я не поддавался.
Мы вошли в театр и будто в школу на большую перемену попали: шум, суета, беготня. И все почему-то малыши — даже без пионерских галстуков еще. Подошли мы к кассе. Оказывается, пойдет спектакль для школьников. Пьеса-сказка.
— Про царя? — тут же спросил я.
— Нет, про Красную Шапочку,— ответила кассирша.
Скривились мы, да что поделаешь, не идти же домой, тем
более что нужно в фойе артистов посмотреть.
— Что ж, придется идти на «Красную Шапочку»,— сказал Ява.
Взяли мы билеты. Пошли. Расталкивая малышей, ходим по фойе, разглядываем портреты. И к каждому я подхожу с трепетом, со страхом. Последний ведь театр, последние надежды.
Пересмотрели мы все портреты, и упало, покатилось мое сердце... Нет нашего артиста. Нет, да и только. Что ж теперь делать? Где его искать? Значит, не артист он. Но ведь он же сам сказал, что артист. И про царя говорил... Как же так?!
— Погоди, не горюй,— подбадривает меня Ява.— Может, просто его портрет не поместили. Помнишь, как Гриша Гонобобель на школьную Доску почета не попал, потому что, когда фотографировали, его как раз пчела укусила и мордяка была, как тыква. Может, и у этого что-нибудь такое...
— Ну да! — машу я рукой, а самому .так хочется, чтоб это было правдой, так хочется...
458
— Ой, хлопцы, здравствуйте! — слышим вдруг.
Оборачиваемся на голос и видим — в белом платьице,
с большим бантом-бабочкой стоит... Валька и держит за руку первоклассника в синей форме.
— Я вас сразу узнала! — радостно стрекочет Валька.— Вы давно в Киеве? С экскурсией или так? Со всем классом приехали или одни?
Я молчу... Это его знакомая, пусть он и говорит. Но Ява тоже молчит. Вы бы посмотрели на Яву! Он сперва побледнел, потом покраснел, потом опять побледнел, потом начал покрываться какими-то пятнами. Такого вида у него не было даже тогда, когда в прошлом году он провалился в старый колодец.
А Валька не унималась:
— Вы надолго приехали? А браконьеров своих вы поймали тогда? Обещали ведь написать... Может, адрес потеряли? А? Да что ж вы молчите? Не хотите со мной разговаривать?
Наконец Ява овладел собой и открыл рот. И оттуда вылетели слова:
— А чего... Мы ничего... Мы наоборот...
Не скажу, чтоб это было очень красноречиво, но я не стал встревать в их беседу. Пускай балакают!
Да и поздно было встревать — уже прозвенел третий звонок, и все поспешили в зал. Представление началось. Мы сидели в седьмом ряду, а Валька в девятом. И Ява, вместо того чтоб на сцену смотреть, все время сиденье штанами полирует и голову назад поворачивает — на Вальку взгляды бросает.
— Голову свернешь, придется задом наперед ходить,— въедливо говорю ему.
А он даже и ухом не ведет.
А на сцене в это время коварный сухоребрый Волк с длинным носом пробивался в дверь к Бабусе, чтобы съесть ее. Шустрая Бабуся спасалась как могла — возводила баррикады из мебели, бегала по всей сцене, швыряла в Волка кувшинчики, кастрюли и другие предметы домашнего обихода.
К тыну возле избушки была привязана настоящая живая курица — единственная Бабусина худоба. И вот во время действия курица запуталась в веревке, которой была привязана, и
459
начала биться. Увлеченные борьбой, Волк и Бабуся ничего не замечали. А все зрители с волнением смотрели на бедную курицу, которая, обессилев, уже едва дышала. Но что поделаешь? Не кричать же, не срывать спектакль...
Вижу, Ява крутится, крутится на месте, будто ему горячих углей в штаны насыпали, потом вдруг поднялся и пошел. Прямо по проходу к сцене. Я затаил дыхание. И весь зал затаил дыхание, и все головы на Яву поворачиваются, как на параде на генерала, который обходит войска. А Ява идет себе:.. Идет, идет, поднимается на сцену, подходит к курице и начинает ее распутывать. А артисты себе играют, даже не замечают Яву, будто его и на сцене нет. Ява распутал курицу и спокойненько пошел назад, на свое место. Только когда он сел, я услышал, как тяжело он дышит и как тукает у него в груди сердце. А через несколько минут Волк все-таки съел Бабусю, и первое действие кончилось. Занавес опустился, и в зале вспыхнул свет. Все захлопали в ладоши, причем большинство зрителей повернули голову в сторону Явы. И было непонятно, кому они аплодируют — артистам или Яве... К нам тут же подбежала Валька.
— Вот здорово! Ну и молодец! И как ты решился? Я бы ни за что не смогла. Ой, молодец! — Она говорила громко, даже, по-моему, слишком громко. Ей, видно, хотелось показать всем, что она знакома с Явой. Она гордилась этим. Со всех сторон на Яву были устремлены восторженные взгляды. И когда мы вышли в фойе, так все время то здесь, то там слышались приглушенные голоса: «Вон тот! Вон тот! В белой рубашке!»
По-моему, это было как раз то, о чем только и мог мечтать Ява. Он был счастлив. Сказать, что он сиял,— это, пожалуй, ничего не сказать. Он ходил по фойе, как на ходулях, как будто он выше всех на свете. Глаза его излучали что-то такое, что не способны излучать глаза обычных людей. И так он был да- леко-далеко от меня, как никогда в жизни. Я и мои переживания из-за часов для него сейчас просто не существовали. Конечно, он стал героем, это ясно* но мне было неприятно смотреть на него.
— А это мой братишка Микола,— сказала Валька, так как
460
Ява удивленно поглядывал на первоклассника в синей форме, который все время крутился возле нас.
И братишка Микола покраснел, как будто его знакомили не с курносым Явой, а с космонавтом Поповичем, киноартистом Рыбниковым или еще с какой-нибудь знаменитостью.
— Я вообще-то сюда из-за него пришла, мама одного еще не пускает,— будто оправдываясь, объясняла Валька.
Ява смерил братишку Миколу откровенно пренебрежительным взглядом. Тот еще больше покраснел.
— Так вы их поймали все-таки или нет? — спросила Валька.
— Конечно,— небрежно бросил Ява.
— И не написали?! Тоже мне! Или, может, адрес потеряли?
— Нет, не потеряли... Но... — Ява пожал плечами, и этот жест можно было понять: дескать, чего бы это я стал писать, очень нужно...
Валька вспыхнула. Преодолевая неловкость, она сказала:
— Ну, вы, конечно, не одни их ловили, вам взрослые помогали. Или, наоборот, вы — взрослым...
— Да чего там взрослые,— хмыкнул Ява.— Мы сами...
Он метнул на меня взгляд и... прикусил губу. Да было уже
поздно.
Я вздохнул, поднял руку и влепил ему в лоб три звонких щелчка — аж эхо раздалось. Валька вскрикнула. Братишка Микола захихикал. Кто-то еще засмеялся поблизости. Ходули сломались, и Ява очутился на земле — оторопелый, красный, как помидор, с вытаращенными глазами. Мне даже жалко его стало. Да разве я виноват? Не нужно было ставить таких условий...
Видя, что Ява не собирается давать сдачи, Валька (добрая душа) накинулась на меня:
— Ты что? Сдурел? Что за шутки?I
Вокруг нас начали собираться дети. Глаза у Явы забегали, как у загнанного зверя, и он выдавил из себя улыбку, жалкую, деланную улыбку (так улыбаются, сидя на чужой груше, когда застанет.хозяин). И сказал:
— Ничего... Все правильно... Теперь мы квиты... — И, обернувшись к толпе: :—Чего смотрите? Кина не будет!
Дети, посмеиваясь, стали расходиться, тем более что прозвенел звонок, антракт кончился.
— Да что, что все-таки случилось? Вы что, поссорились? — не могла успокоиться Валька.
— И совсем не поссорились! Просто у нас уговор один есть.— Яве не хотелось объяснять. Мы уже вошли в зал и пробирались к своим местам.
— Да какой такой уговор? — не сдавалась Валька (вот уж это девчачье любопытство!).
— Да потом, после...
— Ну хорошо, только вы не убегайте.
— Ладно.
Глава VI БУДКА. УХО ЗА УХО!
Представление окончилось, и мы вышли из театра. Ява уже совсем оправился от щелчков. По-петушиному вытянув шею (вот-вот кукарекнет!), он заглядывал через головы детей. Это он высматривал Вальку.
— Может, пойдем? Зачем она нам сдалась? Только стрекочет, как сорока,— сказал я угрюмо.
Настроение у меня было... сами понимаете: часы на совести, как на сердце камень. И казалось, не было никакой надежды, что они попадут к своему хозяину. Хоть выходи на улицу и кричи. Да разве докричишься, не зная ни фамилии, ни адреса в городе, где полтора миллиона жителей да еще полмиллиона приезжих! Безвыходное положение! Хоть плачь!
Но Ява совсем на другую волну настроен, совсем не о том думает.
— Как это пойдем? Ты что!—говорит он.— Мы же обещали подождать. Выходит, снова на брехню меня толкаешь? Смотри, так и щелчков заработать недолго!
«Мы обещали»! Как это у него здорово получается! Он один обещал, а говорит «мы». Тоже мне коллективист!
Но я не успел ничего сказать — из толпы выпорхнула Валька с братишкой Миколой и подбежала к нам.
462
— А я в фойе вас смотрела — думала, вы там ждете. Ну, идемте!
Мы шли по улице к парку Ватутина. Валька все время что- то говорила, но я не слушал. Мне было неинтересно. И вдруг я услышал свое имя:
— Что это Павлик кислый какой! И смотрит сердито... Он, случайно, не болен? Или, может, что-нибудь случилось?
«Сама ты больная»,— с досадой подумал я. Что ей от меня нужно? И не люблю, когда меня Павликом называют! Павлик- равлик!..1
Ява пронзительно посмотрел на меня, и в глазах у него было: «Ну, друже, врать я не могу. Ты уж извини».
— Да так... случилось,— вздохнул он.— Неприятность одна...
И Ява начал рассказывать все, как было: и про часы, и про то, как мы сегодня ходили по театрам.
Сперва я хотел вмешаться и не дать ему говорить, но потом махнул рукой — пусть рассказывает, что это может уже изменить?
Слушая Явин рассказ, Валька все время ойкала и всплескивала руками. А когда Ява закончил, взволнованно сказала:
— Ну ты скажи!.. Вот это да!.. Подумайте, как вышло! Конечно, надо обязательно найти того артиста... — И вдруг глаза ее заблестели.— А знаете что? Кажется, один человек может вам помочь. Недалеко от нас живет старый артист, Максим Валерьянович. Он уже на пенсии, не выступает, но знает всех артистов. Он еще до революции играл на сцене. Вы ему опишите вашего «царя», и он наверняка узнает, кто это. Хотите, я вас познакомлю?
Мы переглянулись. Ява смотрел на меня победителем. Да еще неизвестно, сможет ли помочь этот Максим Валерьянович! Но почему не попробовать. Не в таком я положении, чтоб отказываться.
— А он дома сейчас? — спросил я, давая понять, что согласен.
1 Р а в л и к — по-украински улитка.
463
— Да, скорей всего, дома. Он часто хворает и вообще больше дома сидит. Идемте.
Уже знакомый нам двор на улице Январского восстания встретил нас веселой громкой музыкой — какие-то молодые люди на балконе второго этажа крутили магнитофон. Я подумал, что это хорошая примета — в кино, например, когда благополучно завершается какое-нибудь дело, всегда играет веселая музыка. Мы с Явой бодро зашагали под музыку к флигелю, уверенные, что Максим Валерьянович живет в одном с Валькой доме. Но Валька сказала: «Нет, не сюда» —и свернула в темную подворотню. Мы с Явой покраснели — ведь Валька могла догадаться, что мы уже были тут. Хорошо, что в подворотне было темно, и она ничего не заметила. Из подворотни мы вышли на задний двор, к старым, скособоченным сараям. Сараев было много. Одни двухэтажные, с деревянными лестницами и узкими мостиками вдоль второго этажа — как на пароходе; другие — низкие, приземистые. Между сараями в темных проемах зеленым пламенем светились кошачьи глаза.
Мы прошли мимо сараев и начали спускаться по тропинке, что змеилась в зарослях дерезы. Слева начиналась Лавра — то выныривала, то снова пряталась в зелени деревьев, кустов и разного бурьяна каменная крепостная стена с бойницами. Под стеной в чаще была таинственная темнота, оттуда пахло сыростью, холодом, прелью...
— Вот где в казаки-разбойники играть! — с завистью шепнул мне Ява.
Да-а... в казаки-разбойники тут здорово!
Впереди ослепительно вспыхнул золотом купол какой-то колокольни. А справа от купола... Ха! Знакомая штука! Мачты высоковольтной линии. Эти гигантские железные аисты мимо нашего села тоже шагают через все поле, пока не скроются за горизонтом.
Мы спустились к колокольне. Массивные чугунные ворота были открыты, и сводчатый вход вел во внутренний двор Лавры.
Валька уже хотела пройти мимо этих ворот, как вдруг Ява сказал:
— Может, зайдем хоть на минутку, взглянуть?
464
— Вот еще! — с досадой поморщился я. Мне не терпелось как-нибудь поскорее утрясти дело с часами.
Но глаза у Явы вспыхнули почти таким же зеленым огнем, как и у тех котов, что прятались между сараями. И я понял: вот эта крепостная стена, эти бойницы — вся эта древняя Лавра уже населялась в его воображении таинственными незнакомцами, сыщиками и шпионами. И уже слышатся Яве отзвуки выстрелов, и «Руки вверх!», и звуки погони, и... все, что случается в приключенческих фильмах.
Спорить с ним теперь пустое дело.
— Мы только посмотрим, и все,— умоляюще глянул он на меня.
— Ах, вы ведь тут, наверно, никогда не были... Так идемте, идемте! — затарахтела Валька.
Пришлось зайти.
— Тут Лавра кончается... — поясняла Валька.— Это — «Звонница над Дальними пещерами», А это — храм Рождества Богородицы.
Но она могла и не пояснять. Все это можно было прочитать на специальных досках. Что Ява и сделал по своей излюбленной привычке.
— «Храм Рождества Богородицы, сооружен в 1696 году в стиле барокко...» — громко прочитал он.
— Аварийное барокко,— сказал я.— Капремонта требует...
Действительно, рядом с подновленной златоглавой звонницей церковь Рождества Богородицы имела жалкий, заброшенный вид: купола облупились, почернели, стены потрескались, стекла в окнах выбиты. Около церкви стояли заржавленные, скособоченные леса из водопроводных труб. Казалось, что и леса эти такие же стародавние, как и сам храм. Вход в него был замурован кирпичами.
Небольшой дворик возле церкви был обнесен крепостной стеной, в которой были проделаны квадратные оконца и узкие бойницы. Тут в зеленом тихом уголке между деревьями были старые могилы — виднелись кресты, железные ограды, мраморные памятники.
Мы обошли церковь, и, когда уже уходили, Ява прочитал на одном из памятников:
|0 Библиотека пионера, т. 4
465
Герою Отечественной войны 1812 г. Адъютанту Кутузова Генералу от инфантерии П. С. Кайсарову
ОТ БЛАГОДАРНОГО ПОТОМСТВА 1951 г.
И на другом:
Герою Отечественной войны 1812 г. Сподвижнику М. И. Кутузова Генералу от инфантерии А. И. Кр асовскому
ОТ БЛАГОДАРНОГО ПОТОМСТВА 1951 г.
— Вот видишь,— сказал Ява.— Такие исторические генералы похоронены, а ты не хотел идти.
— У нас тут много исторических,— сказала Валька.— В Лавре—Кочубей, Искра, в Выдубецком монастыре — Ушинский, а в церкви Спаса-на-Берестове— Юрий Долгорукий, который Москву основал.
Ява опять смерил меня гордым взглядом, как будто все это не Валька говорила, а он сам.
— Нужно будет посмотреть,— вздохнув, сказал я.— Но сейчас идемте к этому Валерьяновичу.
— Идемте, идемте,— подхватила Валька.
Мы вышли из ворот и вдоль крепостных стен спустились еще ниже.
Эх и местечко же выбрали монахи для своей Лавры! Среди буйной зелени, на высокой круче над Днепром, откуда трудно окинуть взглядом все, что открывается вокруг в синей безбрежной дали.
Извилистой тропкой спустились мы к асфальтовой дорожке, и эта дорожка вывела нас на узенькую кривую улочку, где в зелени палисадников стояло несколько старых, вросших в землю и покосившихся халуп-мазанок, И только по тому, что
466
почти над каждой из них торчала телевизионная антенна, можно было определить, что это жилища наших дней, а не времен Шевченко.
Возле одной из хатенок, чуть ли не у самой ветхой, Валька остановилась. На маленьком, или, как теперь говорят, малогабаритном, дворике рылись, нервно дергая головами, белые грязные куры и важно, по-директорски прохаживался пестрый петух с залихватски сбитым набекрень гребешком. Ни грядок с овощами, ни ягодных кустов, как у других хозяев на этой улице, тут не было. Только цветы: розы, пионы, петушки, мальвы, флоксы.
И маленькая хатенка, как игрушечная, стояла в этом цветнике. Стены ее были по сельскому обычаю чистенько выбелены, завалинка покрашена синькой, а на стене под крышей висели пучочки каких-то сушеных трав.
Мы вошли следом за Валькой во двор, ступили на скрипучее дощатое крылечко, которое было почти вровень с землей. Валька постучала. Никто не ответил. Валька пожала плечами, потом подошла к окну и, приложив ладонь козырьком, припала к стеклу.
— Нет... Вы знаете,— преодолевая неловкость, сказала Валька,— должно быть, он поехал на Куреневку к племяннику. Он иногда в воскресенье туда ездит, когда хорошо себя чувствует. Но он скоро вернется, не волнуйтесь. Он всегда уходит с утра, а к обеду возвращается.
А вокруг все было таким привычным, близким, что я как- то сразу поверил — человек, который здесь живет, должен обязательно нам помочь. И я готов был ждать хоть до вечера.
Валька сказала:
— Идемте к нам. Я вам свои книжки покажу. И фотографии. У меня целых два альбома фотографий. Он скоро придет, не волнуйтесь.
Она говорила таким тоном, как будто была виновата, что Максим Валерьянович хорошо себя почувствовал и отправился к племяннику на Куреневку.
Мы шли назад.
Удивительное впечатление осталось от всего, что мы видели.
467
Только что была шумная городская улица с троллейбусами, потом сразу — церкви, тишина, кресты, старые могилы, «Генерал от инфантерии Красовский», потемневшая крепостная стена, потом — гоп! — воткнулись в небо мачты высоковольтной линии, потом неожиданно кривенькая сельская улица, халупка Максима Валерьяновича — куры квохчут, мальва под окном, подсолнухи. А внизу — набережная: трамваи, машины, автобусы, мотоциклы. Справа гигантский мост имени Патона. Слева другой красавец мост, по которому метро прямо из-под земли через Днепр пролегло.
И как все это, старое и новое, перемешалось — просто удивительно.
Мы дошли до сараев. На одном из этих двухэтажных «кораблей», на перилах мостика, что тянулся вдоль второго этажа, сидел головастый, широколицый хлопец в клетчатой рубашке и синих брезентовых штанах, которые сразу привлекли мое внимание. Я таких штанов еще не видел. На них было бесчисленное множество металлических заклепок. Как будто не из материи были эти штаны, а из железа, и не шиты, а клепаны.
Увидев этого хлопца в «железных» штанах, Валька закричала:
— Эй, Будка! Ты опять вчера звонил к нам? Если не перестанешь звонить, ох тебе за это и будет!
— Отвали,— сказал Будка и сплюнул сквозь зубы,
— Вот увидишь, увидишь! — не унималась Валька.
— Закрой свой гроб и не греми костями!—презрительно скривился Будка.
— В чем дело? — ледяным тоном спросил Ява.
Я увидел, как он побагровел. Нам все было ясно и без Валькиных объяснений, но мы все-таки подождали, пока она не сказала:
— Вот взял моду — звонит и убегает. Развлекается!
Ява кинул на меня взгляд-молнию, от которого стало жарко внутри:
— Павлуша, идем!
Мы бросились к деревянной лесенке, которая вела на второй этаж сарая.
— Да куда вы, хлопцы? Бросьте! Будете еще с хулиганом
468
связываться! — закричала Валька (она думала, что нас влекут лишь благородство и рыцарские чувства).
Но мы, не слушая ее, торопливо взбирались по ступенькам, топая, как моряки во время аврала. Бежать Будке было некуда, да он и не собирался бежать. Он только слез с перил и стОял, прислонившись к ним спиной и сложив на груди руки. Он был приблизительно одного возраста с нами, но крепче и шире в плечах. Но мы у себя на выгоне привыкли и не к таким противникам.
— Звонишь, значит! Тикаешь, значит! — шипел Ява, подступая к Будке.
Будка даже позы не изменил, так и стоял со скрещенными на груди руками. Только процедил сквозь зубы:
— Не тяни щупальца, а то копыта протянешь! Я занимаюсь самбо и знаю такие приемчики, что вы у меня тут же послетаете вниз, как груши.
— П-посмотрим! — прошипел Ява и неожиданно схватил Будку за ухо, да не двумя пальцами, а всей пятерней.
Будка дернулся и хотел ударить Яву в живот. Но тот свободной рукой схватил его за руку, я — за вторую... И одновременно мы наступили ему на ноги: Ява — на левую, а я — на правую, чтоб не мог отбиваться ногами. Такое «самбо» мы знали с малолетства. Будка выкручивался, рвался, но мы зажали его, как в тисках. Ява мял ему ухо и приговаривал:
— Скажи спасибо, что мы тебя по пищалке не бьем. Мы просто... передаем то, что тебе причитается. Нас один человек просил передать.
Сперва Будка все цедил сквозь зубы:
— Кончай! Кончай!
Потом вырывался молча и только сопел. Потом на глазах у него появились слезы, и он стал просить:
— Пустите! Ну! Пустите! Ну! Пус...
— А будешь еще звонить? Будешь?
— Н-не буду... — глотая слезы, проблеял Будка.
Мы подвели его к лесенке и пустили. Я не удержался и поддал ему коленом. И он загремел своими «клепаными» штанами до самого низа.
469
Вскочил, отбежал, обернулся и, размазывая по широкой мордяке слезы, прокричал:
— Ну погодите, погодите! Вы еще мне попадетесь!..
Погрозил кулаком и исчез.
Валька и братишка Микола встречали нас внизу, как геро- ев-космонавтов. Словно мы не с сарая спускались, а сходили по трапу из самолета «ТУ-104» на Внуковском аэродроме. Не было только цветов и духового оркестра.
Братишка Микола так и прыгал от восторга:
— Вот здорово! Вот здорово! У нас Будку все ребята боятся, а вы... Вот здорово! Всем расскажу...
Мы сделали вид, что это для нас пустяк, ничего особенного.
— А почему его Будкой зовут? Разве имя такое? — спросил я.
— Да это его прозвали... Видели, какая у него морда? Настоящая будка. А так его Толиком звать. Противный он, вредный...— Микола сказал это с обидой: должно быть, ему частенько перепадало от Будки.
470
Вдруг Валька воскликнула:
— О, Максим Валерьянович!..
Из ворот, опираясь на палку, медленно шел высокий человек.
Глава VII МАКСИМ ВАЛЕРЬЯНОВИЧ
Если бы не эта. тяжелая поступь, пожалуй, трудно было бы сказать, старый он или молодой — такие веселые бесенята прыгали в его искрящихся, цвета чистой лазури глазах. На лысину и намека не было — пепельные от легкой седины волосы густым молодецким чубом закрывали лоб почти до половины. Лицо, как яблоко, румяно лоснилось.
Все это придавало ему какой-то «недедовский» вид.
И снова, как на пляже, я подумал: сколько же в Киеве таких вот молодцеватых дедов!
— Здравствуйте, Максим Валерьянович, а мы как раз к вам ходили! — кинулась ему навстречу Валька.
— Привет, привет! Что случилось? — белозубо, во все вставленные челюсти улыбнулся нам Максим Валерьянович.
— Ой, какое дело серьезное, такое дело... — затараторила Валька.— Вы нам должны помочь.
— Даже так? Ну что ж, я к вашим услугам, милые друзья! Все, что смогут сделать для вас мои семьдесят шесть лет, они сделают, будьте уверены,— сказал старый артист.
Валька уже раскрыла рот, чтобы рассказать, но, останавливая ее, Максим Валерьянович вдруг поднял руку:
— О нет, дочь моя! Умоляю! Сомкни уста свои! Ии слова! Раз дело серьезное, его нельзя решать вот так, на ходу... Идемте в мой чертог! И там найдем в беседе наслажденье.
Этот шутливо-возвышенный тон как-то сразу вызвал симпатию к старому артисту. Лица наши сами собой расплылись в веселых улыбках. И так стало легко и хорошо с ним, как будто мы давно-давно знакомы.
— Наверно, удивляетесь, что я живу в такой халупе? —
471
усмехнулся он, когда мы подошли к его хате.— Меня уже столько раз пробовали переселять, да я все отбрыкиваюсь. Не могу я без этих цветов, без всего этого. Прошу!..
В хатке было две маленькие комнатушки и совсем маленькая кухня. Потолок низкий — хозяин мог легко достать его рукой. Из-за этого, а также иа-за того, что окна закрывали со двора кусты и деревья, в доме, несмотря на солнечный день, были зеленые сумерки. Да и как-то трудно было представить эти маленькие комнаты светлыми и солнечными. Им больше шли как раз сумерки. Обе комнаты и кухня были заставлены цветочными горшками и горшочками. Горшки стояли на подо^- конниках, на табуретках, на специальных полках и прямо на полу. В горшках были всевозможные комнатные цветы: лилии, фикусы, примулы. Но больше всего кактусов. Я никогда раньше не думал, что бывает столько разных кактусов: и маленькие, круглые — будто зеленые ежики, и большие, разлапистые, похожие на каких-то доисторических ящеров, и покрытые густыми колючками, и почти совсем без колючек. Разнообразной формы и разных цветов. Тут были и взрослые, солидные кактусы, и совсем еще маленькие, пушистые кактусята. Прямо какое-то сказочное царство кактусов.
Кроме кактусов, в доме господствовали еще фотографии. Стены комнат были сплошь увешаны фотографиями в рамочках. И на большинстве фотографий сам Максим Валерьянович. Бесчисленное множество Максимов Валерьяновичей смотрело на нас отовсюду. И все разные.
Максим Валерьянович в цилиндре, Максим Валерьянович в смушковой шапке. Максим Валерьянович в тюбетейке. Максим Валерьянович с усами и без усов. Максим Валерьянович моряк. Максим Валерьянович казак. Максим Валерьянович босяк (в лохмотьях). Максим Валерьянович в шубе. Максим Валерьянович в халате. Максим Валерьянович... голый. Ну, правда, не совсем голый, а в набедренной повязке. Наверно, в роли какого-нибудь дикаря, потому что и кольцо в носу.
Аж голова кругом идет, если смотреть на всех Максимов Валерьяновичей!
А в углу, где у богомольных людей иконы, висит что-то. Сперва я так и думал, что икона: и рушники вышитые по-бо¬
472
кам* и рама золотом поблескивает. Присмотрелся хорошенько, а там какой-то дяденька улыбающийся в пенсне и с папироской. Нет, не икона. Ведь господь бог, как бабушки сказывают, не курил и очков не носил. Да и не улыбался никогда. Во всяком случае, не видел я ни одной иконы, где был бы нарисован бог с папироской, в очках или просто с улыбкой. Всегда серьезный и недовольный, И как в него только верят, в такого невеселого!
Так этот дяденька с папироской, как потом нам Валька сказала, был портрет знаменитого артиста Станиславского, который организовал в Москве театр МХАТ. А для актеров он был действительно настоящим богом — добрым, улыбающимся, радостным... Он создал очень хорошую систему. Что это за система, Валька, к сожалению, толком не могла объяснить, потому что сама не знала, но сказала, что системой Станиславского пользуются и сейчас во всем мире.
Но это было потом. А пока мы с Явой разглядывали, Валька очень толково и живо, как будто это с ней самой произошло, рассказывала про наши приключения и про историю с часами. Раз Максим Валерьянович был ее знакомый и она чувствовала себя с ним свободно, мы целиком доверили ей рассказывать и только иногда вставляли отдельные слова.
Максим Валерьянович слушал очень внимательно и серьезно.
А когда Валька кончила, заулыбался.
— Так-с, господа-товарищи,— весело сказал он.— Сюжет ясен. Без вины виноватые... Злодеи поневоле... Бывает, бывает. Но впадать в уныние не следует. Если он и вправду артист и если он в Киеве, мы его из-под земли откопаем, а найдем. То, что вы его по фотографиям в фойе не отыскали, еще ничего не значит. Он может быть и приезжим. У нас же сейчас на гастролях и Московский драматический имени Пушкина, и Львовский имени Заньковецкой, и Запорожский имени Щорса. Искать есть где. Но, друзья мои дорогие, придется отложить это до завтра... Вот эти две пани,— он показал на свои ноги,— очень у меня капризные. Отказываются много ходить, хоть ты их режь! Особенно вот эта — Лева Максимовна. С Правой Максимовной еще можно как-то договориться. А эта как упрет¬
473
ся — с места ее не сдвинешь! Я уж им в подмогу третью даю,— он кивнул на толстую суковатую палку с вырезанной собачьей головой на набалдашнике,— все равно упрямится. Раньше чем завтра с утра я их никак не уговорю двинуться в дорогу. Да и сегодня уж поздно — скоро начало вечерних спектаклей, а перед спектаклем для актера, кроме сцены, ничего не существует. Беспокоить его нельзя... Значит, план такой: завтра утром мы с вами идем на... киностудию. Именно на киностудию... У меня там небольшая съемка. Я только и могу теперь играть в неподвижных эпизодах в кино. Так вот на киностудии мы создаем штаб оперативной группы по розыску вашего «царя». И, с одной стороны используя молодые творческие силы (то есть быстроногих молодых актеров), а с другой чудо двадцатого века— телефон, мы разворачиваем боевые действия, и... часы находят своего хозяина.
Он сказал это так просто и уверенно, что у меня в тот момент не оставалось никаких сомнений — все будет хорошо. И я невольно улыбнулся. И Ява улыбнулся. И улыбнулась Валька. И братишка Микола улыбнулся тоже.
И мне захотелось сказать Максиму Валерьяновичу что-то приятное, хорошее. Я посмотрел на фотографии и сказал:
— Это вы столько ролей сыграли?! Вот здорово!
Максим Валерьянович как-то лукаво улыбнулся, будто понял мое желание.
— Да, малость сыграл, господа хорошие... Что сыграл, то сыграл.— Он окинул взглядом стены, завешанные фотографиями, задержавшись на большой фотографии Киевского оперного театра.— А вот это, друзья, самое священное для меня место. Тут я впервые в жизни был в театре, впервые увидел сцену, актеров. Тут впервые передо мной поднялся театральный занавес.
Максим Валерьянович на миг задумался:
— Давно это было, да-авненько! И как это ни странно, но можете мне поверить: был я тогда совсем маленьким мальчиком, намного меньше вас. Мы только приехали тогда в Киев с Тернопольщины, и мать моя поступила уборщицей в этот театр. И вот однажды взяла она меня на представление. Давали тогда «Травиату», оперу Верди. Знаете?
474
— А как же! По радио слышали,— гордо сказал Ява и, чтоб не было сомнений, пропел петушиным голосом: •— «По-окинем кра-а-й мы, где та-ак страдали...»
— Во, во,— улыбнулся Максим Валерьянович.— Она, «Травиата». Сидел я в осветительной ложе у самой сцены (мать упросила осветителя, чтоб он меня пустил туда). Видно было все и слышно чудесно. Я сидел и не верил, что это не сон, не сказка — все то, что я вижу собственными глазами. В последнем действии, когда Виолетта умирает, я настолько увлекся, так поверил, что она и вправду умирает, что вдруг возмутился недостойным, как мне казалось, поведением Альфреда и Жермона. Женщина, можно сказать, кончается, а они, мерзавцы, поют во весь голос. Не в силах сдержаться, я закричал: «Цыцте! Не пойте! Она ж умирает. Разве можно!» Осветитель, который сидел возле меня, даже со стула съехал от неожиданности. Хорошо, что оркестр в это время звучал особенно мощно, а Жермон с Альфредом что есть силы тянули свои арии, и никто не услышал моего щенячьего визга. Обошлось только тем, что осветитель закатил мне хороший подзатыльник и выставил в коридор. Так я «Травиаты» до конца тогда и не увидел. Но заболел театром на всю жизнь.
И как ни билась потом мать, как ни старалась сделать из меня человека (а человек, по ее понятиям, это значит чиновник), ничего из этого не вышло. Не прослужив и двух лет, я оставил «присутственные места», забросил на самый высокий тополь Бибиковского бульвара свой чиновничий картуз с гербом и нанялся в труппу Кручинина статистом, то есть артистом, который играет без слов, в толпе, в массовках, и даже имени его в афишах не бывает... Было это в театре Бергонье на Фундуклеевской улице. Теперь это улица Ленина, а театр — имени Леси Украинки.
Максим Валерьянович разволновался, глаза его блестели, щеки горели маковым цветом. Я всегда люблю слушать воспоминания старых людей о прошедшем. И чем это объяснить, что рассказы даже про незначительные события выходят у них интересно?.. Если бы это происходило сейчас, наверное, было бы совсем не интересно.
— Эх, публика моя дорогая, то было, как первая любовь,
475
эти первые мои годы в театре. Может быть, никто так серьезно не относился к своей работе, как я. Никто так тщательно и столько времени не гримировался, как я. Никто так не волновался перед выходом на сцену, как я. Хотя выходил я с толпой всего на минуту, и ни одного слова не говорил, и зрители меня даже не замечали. Но мне казалось, что все смотрят на меня. Потом дали мне сыграть небольшую роль. Роль была малю-юсенькая, с воробьиный нос. Я выходил и отвечал: «Графиня нездорова и принять вас не может». Поворачивался и уходил. И все. Но я был убежден, что в этих словах главная идея пьесы. И я произносил их таким тоном, как будто возвещал о конце света. Впервые весь зал смотрел на меня и слушал меня. Передать это чувство невозможно. Тем более, что моими словами заканчивалось первое действие. Занавес опускался, и в зале раздавались рукоплескания. Казалось, что аплодируют мне, и только мне.
Долго еще рассказывал нам Максим Валерьянович о театре, о своей жизни...
Возвращаясь домой, мы с Явой всю дорогу молчали. Думали. Мы впервые познакомились с настоящим артистом. С артистом, который играл на сцене и снимался в кино.
Глава VIII
„ТОВАРИЩ ЦАРЬ, ВЫ АРЕСТОВАНЫ!"
„У-У, П0РАЗНЕСУ!..“
Вечер. Мы лежим на тахте около открытого окна. Этот день принес нам столько впечатлений, что нужно быть дубовой чуркой, чтобы сразу заснуть.
Ява все время вертится, как будто его что-то кусает. Я хорошо знаю своего друга. Я знаю, что его кусает. Его мысль какая-то кусает, не дает покоя.
«— Ну, что такое? — спрашиваю.
Ява вздыхает, но молчит.
— Ну скажи мне, что там такое? — повторяю я.
Ява еще раз вздыхает и говорит:
476
— Ты знаешь, Павлуша, я решил; когда вырасту, я, наверно, в артисты пойду.
— А кто ж милиционером будет? Кто будет преступников ловить?—усмехнулся я.— Ведь если все милиционеры в артисты пойдут... И Тарапунька, и ты... Разведется тогда всяких преступников, как муравьев, прохода от них не будет. Ты об этом подумал?
— Ничего,— серьезно говорит Ява,— и без меня найдется, кому ловить.
— А ты вспомни, что вчера говорил! Даже не два дня тому назад, а вчера!
— Так то ведь было вчера, а это сегодня. Жизнь идет вперед.
— Между прочим,— говорю,— чтобы стать артистом, слыхал я, нужно иметь для этого талант... Во!
— Ну про это ты и не говори! Что-что, а талант у нас с тобой как раз есть. Это точно. Думаешь, ты плохим бы артистом был? Еще бы каким!.. Все бы зрители плакали!
— Ну точно, плакали бы,— хихикнул я.— Денег за билеты жалко было бы...
— Дурной! Ты думаешь, нас даром в селе «артистами» называют? Дед Саливон все же время повторяет: «Вот артисты! Ну и артисты».
Когда вам в глаза говорят, что вы талант, и убеждают в этом, очень трудно спорить. Я пробормотал что-то невнятное и замолк.
Ява теперь говорил без помех:
— Артистам все-таки лучше всего.,. Самая лучшая жизнь у артистов. Музыка, песни, аплодисменты. Не жизнь, а первомайский праздник! И слава! Какая у артистов слава! Самых умных академиков так не знают, как артистов. Вот скажи, ты какого-нибудь академика знаешь в лицо?.. Вот видишь! А Кадочникова знаешь, Рыбникова знаешь, Баталова знаешь, Смоктуновского знаешь, Филиппова знаешь. Да что там говорить! Киноартиста, который на экране всего один раз только и мелькнул, знают все. Он идет по улице, и все пальцами на него — тыц! тыц! тыц! А ты говоришь.,,
Я вынужден был согласиться.
477
Поговорили мы еще немного о том, как хорошо быть знаменитым артистом, и заснули. И приснился мне сон...
Между прочим, сны мне почему-то часто снятся какие-то путаные, с приключениями и фантастикой. И я люблю их рассказывать. Ява всегда просит: «А расскажи-ка, что тебе снилось?» И я охотно рассказываю... Ява завидует моим снам и говорит, что я во сне живу интересней, чем наяву, и было б для меня, наверно, лучше, если бы я все время спал и не просыпался...
Так вот приснилось мне... Будто сижу я посреди сцены на царском троне в какой-то огромной царской шубе. И она почему-то воняет, как кобеняк деда Саливона. На голове у меня золотая корона, в руках увесистая дубинка с кругляшкой на конце — «скипетр» называется.
Из темного зала отовсюду (из партера и с ярусов) таращатся на меня коровьи и бараньи морды. Тут и там, на местах зрителей, всюду сидят коровы, овцы, бараны и прочий рогатый скот. И меня это нисколечко не удивляет. Как будто так и нужно. В первом ряду сидит наша однорогая корова Манька, Явина пятнистая Контрибуция, козел Жора и колхозный бык Петька. И я то и дело незаметно (чтоб не видно было другим зрителям) моргаю им, как подмаргивает артист своим родичам, которые пришли на спектакль.
А в основном я произношу какой-то длинный монолог — без слов, но очень умный и красивый... Наконец я кончил и склонил голову, ожидая аплодисментов. А в зале гнетущая тишина. И вдруг я спохватываюсь: какие тут могут быть аплодисменты, если у них, у моих зрителей, не руки, а копыта! А где вы слышали, чтобы кто-то аплодировал копытами? Чего я, дурной, волнуюсь? Мои же зрители просто не могут аплодировать. Они могут только мекать, бекать, мукать. Но из уважения ко мне они этого не делают. Они молчат, выражая тем самым восхищение моей игрой. Манька и Контрибуция растроганно вздыхают. Козел Жора вытирает кончиком бороды глаза. А колхозный бык Петька, известный хам и грубиян, плачет, как ребенок. Взволнованный, я встаю, но, вместо того чтобы раскланяться, вдруг хлопаю на весь зал кнутом (у меня в руках уже не скипетр, а кнут!). И зрители
478
мои с гвалтом срываются с мест. Миг — и в зале пусто. Нико- гошеньки. Одни стулья.
И тут вдруг из-за кулис на сцену выходит... Ява. В форме милиционера.
Грохоча сапогами, направляется ко мне и говорит:
«Чего нарушаешь? Не нарушать! А то сейчас заберу в отделение».
Я гневно смотрю на него:
«Кто дал тебе право так со мной разговаривать? Я—царь!»
«Какой же ты, к бесу, царь. Ты — вор! Ты украл часы у настоящего царя, и вот у меня ордер на твой арест. Товарищ царь, вы арестованы!» — И Ява показывает мне какую-то бумажку.
Меня охватывает страх.
«Ява,— говорю я,— ну зачем ты так... Ведь ты же знаешь, как все было. Это же случайно».
А он сердито:
«Кто дал тебе, вору, право называть меня, представителя власти, на «ты»? Опять нарушаешь?!»
479
«Извините,— прошу я, совсем сбитый с толку,— но я думал, что мы с вами друзья».
«Индюк думал»,— сурово говорит Ява и вдруг накидывает мне на голову какую-то дерюгу, И вот я связан, ничего не вижу, не могу шевельнуть ни рукой ни ногой. Какая-то ниточка от дерюги щекочет мне лицо, а я не могу ее отстранить. И это так нестерпимо, что хочется крикнуть, но крик застревает у меня в горле, и... я просыпаюсь.
Оказывается, по мне ползала муха. Когда я открыл глаза, она сидела на кончике моего носа и потирала от удовольствия передние лапки. Я сделал губами — пфуй! — муха слетела, прожужжала где-то под потолком и села мне на лоб... О сне нечего было и думать.
Я сел на тахте и глянул на «милиционера» Яву. Он мирно спал, подложив под щеку ладонь и причмокивая губами, как младенец.
— «Не нарушай»!.. У-у, змеюка! Предатель!—пробормотал я и пырнул его пальцем в бок.
Он сразу проснулся, вскочил и сел, хлопая заспанными глазами:
‘—Га? Что?!
■— Вставай, а то я уже проснулся, и мне скучно,— спокойно сказал я,
Тю!.. Дурной! — И он шлепнулся на подушку и закрыл
глаза.
— Не нарушай! — милиционерским* тоном сказал я.
-— Отчепись, я спать хочу.
■— А ну тебя, соня! — сказал я, соскочил с тахты и вышел на балкон подышать свежим утренним воздухом.
А утро какое! Лучистое, звонкое, ясное, как новая копеечка. И веселое, голосистое, певучее... Ох, какое же певучее!..
«Аве-е, Мари-ия, а-аве, Ма-ария-а...» — печально выводит в растворенном окне высокий и чистый мальчишеский голос,
И в ту же минуту:
«Джама-йа-а-ай-ка! Джамай-ка!..» — бодро и весело звенит все тот же голос уже из второго окна.
«Са-анта Лю-учи-ия! Санта Лючия!.'.»— волнами льется он из третьего. И одновременна из четвертого — его же
480
задушевное, грустное и совсем уж детское} «Мамма, Мамма...»
Аж мурашки по коже!
В то лето киевляне увлекались песнями итальянского мальчика Робертино Лоретти, и почти в каждой квартире были его пластинки. С раннего утра неслось над городом пение голосистого Робертино.
«Вот бы нам с Явой такие соловьиные голоса,—подумал я.—Не ломали б мы голову, как прославиться. Стояли бы себе на сцене возле рояля, выпятив грудь, и. только рот разевали...» Ан дудки! Нашими голосами только «Пожар!» или «Караул!» кричать. А если уж в артисты, то только в драматические. Или в кино! Вот это да! Вот это мы можем! Кино!.. Радость щекочет мне живот. Мы же сегодня будем на киностудии! На настоящей киностудии, где снимают фильмы... И увидим известных киноактеров. И как фильмы снимают, посмотрим... И все такое интересное увидим!., Эх! Даже не верится!..
Ява уже встал. Мы быстренько завтракаем — и айда!
...Как прекрасны люди утром! Будто росою умытые! Бодрые, свежие и как будто даже хрустящие, как молодые огурчики. А глаза у них какие! Чистые и ясные, как цветы, что только распустились.
Мы едем в автобусе, и я вокруг все рассматриваю. И такое у меня настроение расчудесное, И так я всех люблю! И так мне хорошо!
Бодрым шагом заходим мы во двор, где живет Валька. Нам нужно зайти сначала к ней, а потом уже к Максиму Валерьяновичу. Вдруг мы видим большую ватагу хлопцев '(человек двадцать, не меньше) и среди ник Будку. Они толкутся как раз у Валькиного подъезда, во что-то играют — не пройдешь никак. Мы в нерешительности остановились, И тут Будка заметил нас. Я увидел, как загорелись у него глаза. Он что-то сказал хлопцам, и те кинулись к нам. Момент — и мы окружены со всех сторон.
«Ну, пропали! Пропали ни за грош!» — мелькнуло в голове.
— Павлуша! За спину!—кричит Ява.
Я мигом подскакиваю к нему и прислоняюсь спиной к его
481
спине. И так, занявши «круговую оборону», мы стоим, выставив вперед кулаки. А кольцо все сжимается и сжимается. И уже Будка, размахивая руками перед Явиным носом, орет:
— Поразнесу! У-у, норазнесу сейчас!
И я уже отталкиваю в грудь долговязого слюнявого детину, который лезет на меня. И вот кто-то больно двинул меня по ноге. Еще миг — и начнется драка. Да нет, какая там драка! Избиение, свалка, конец наш... Я уже, как говорится, кожей чувствую, как меня сейчас бить будут.
И тут вдруг Ява говорит звонким таким голосом, с насмешечкой:
— Ого, как вас много! И все на двоих! Вот здорово!
«Что он говорит? Пришибут же на месте!» — с ужасом
думаю я. А Будка со злобой цедит сквозь зубы:
— Ты, гад, поговори! Сейчас ка-ак врежу! — и уже замахивается.
И вдруг:
— Законно он говорит. Всем кодлом — не дело! Ты, Будка, с кем-нибудь с одним из них стукнись. Вот это будет правильно. И честно, и поквитаешься... А мы посудим. Чтоб все по правилам было.
Это говорит вихрастый малый лет четырнадцати, который стоит где-то сзади, но голова его возвышается над головами передних. И Будка опускает руку. Видно, такое решение ему не нравится, но делать нечего... Он измеряет взглядом Яву, потом меня и недовольно бурчит:
— Ладно. Тогда я вот с этим стукнусь,— и тычет мне пальцем в плечо.— По-моему, этот крепче.
Он брешет: Ява на вид сильней меня,— но никто не спорит.
— Идем к яру,— говорит вихрастый.
И все гурьбой, подталкивая нас, идут к яру. А у меня внутри с каждым шагом что-то с болью рвется и опускается все ниже и ниже.
«И почему же я?!» — пищит в моей душе тоненький овечий голосок. Но я молчу. Я должен молчать. Ведь я же мужчина!
Ява тоже молчит. Я знаю, что он сейчас чувствует. Он
482
чувствует, себя виноватым передо мной (ведь он-то как раз и намял Будке ухо, а я только держал). И Ява ужасно переживает, что вынужден драться я, а не он. Да разве он может теперь что-нибудь сделать? Разве он может просить, чтобы дрался он, а не я? Это же, значит, при всех признать меня слабаком, это все равно, что плюнуть в лицо. Нет, он не может этого сделать! И я умру, но не дам себя опозорить.
Мы спускаемся к яру, продираясь сквозь колючую, покрытую сизой пылью дерезу.
— Вот тут,— говорит вихрастый, и мы останавливаемся.
Небольшая поляна. С трех сторон дереза, с одного — крутой склон. Хлопцы расходятся, встают полукругом у кустов дерезы. И вот я лицом к лицу со своим противником. Несколько мгновений стоим, подавшись вперед и покачиваясь,— примеряемся.
Будка выше меня, шире и, конечно, плотней, да разве я мог выбирать? Во всяком случае, лучше драться с одним, хоть и более сильным Будкой, чем с десятью.
Вы, наверное, сами знаете, что обычно боишься, пока не начнется драка. А потом уж страх проходит. Вместо него злость, боль и боевой азарт.
Будка размахнулся, и, хотя я присел, он все же задел по голове кулаком. И тут меня такая ярость взяла, что я вам передать не могу. Ах ты чертов Будка! Ах ты будка деревянная! Собрал целое кодло и храбрость свою показывает! А когда был один, сопли по щекам размазывал?! Ах ты клоп вонючий! И я, не помня себя от злости, ринулся в бой. Волчком вертелся я вокруг Будки, тыча кулаками и отскакивая. А он только беспорядочно махал своими «граблями» и топтался на месте.
Хлопцы загалдели:
— Да что ты, Будка?!
— Да бей же его!
— Под дых! Под дых!
— По сопатке!
Но Будка только сопел и размахивал руками, как мельница. Наконец он поймал меня за рубашку, обхватил, и мы покатились по земле.
483
— Навались на него! Дави! Дави! На лопатки! — подзадоривали Будку.
Но Будка был уже готов. И не он, а я положил его на лопатки, придавил к земле и крепко держал. Наши лица почти касались, мы тяжело отдувались... И скоро побежден-; ный Будка уже не трепыхался. Все! Моя взяла!
— Э, нет! Это не честно! Не по правилам! Недозволенный прием! — слышу я вдруг и чувствую, как меня за штаны сволакивают с Будки.
Поднимаю голову и вижу — тянет долговязый, которого я тогда толкал в грудь. Я хорошо знаю, что я дрался честно и никакого недозволенного приема не j6bmo, но я запыхался, и мне не хватает воздуха что-нибудь сказать, Я только с надеждой смотрю на вихрастого. Но он молчит, не вмешивается. И мне сразу становится ясно: положение мо§ безвыходное. Они — Будкины друзья и, конечно, хотят, чтобы победил Будка. Конечно. Иначе не стоило им затевать этот поединок.
Иначе они могли бы просто отлупцевать нас. Моя победа — это позор для них для всех. И они этого не допустят. Хорошо драться можно только тогда, когда есть надежда на победу, а когда этой надежды нет... Я уже стянут, и воскресший Будка уже навалился на меня и со всей злостью за свое поражение тычет меня головой в землю. Что-то кричит, протестуя, Ява, да что он может!..
Бум, бум, бум! Как колокол звенит моя голова. И в глазах темнеет, и мысли путаются...
Как вдруг:
— Ах вы бессовестные! Ах вы бессовестные! Пустите сейчас же! Пустите! Пусти! Ну! Пусти! — пронзительный Валькин голос.
И звон в голове моей сразу прекращается. И Будка слетает с меня на землю, И я вижу над собой чистую голубизну неба, в котором летают белые голуби. И мне становится ясно, что откуда-то здесь взялась Валька, что она столкнула с меня Будку и стоит надо мной, воинственно размахивая руками, и кричит:
— Бессовестные! Бессовестные! Пионеры, называется! Школьники, называется! Бандиты! Вот я все расскажу! Все расскажу в школе! Вот увидите! И родителям вашим расскажу. И твоим, Алик, и твоим, Вовка, и твоим, Эдик. А на тебя, Будка, вообще в милицию заявлю. И тебя в колонию заберут. Вот увидишь! Хлопцы приехали из села в гости к нам в город, а вы их*—бить! Да еще всем гуртом! Нечего сказать — гостеприимные хозяева! Бессовестные!..
Вот так крича, она помогла мне подняться и, взяв за руку, повела. А по пути и Яву прихватила. Наши враги расступились и пропустили нас. Никто даже не пытался нас задержать. Все молчали, И только когда мы прошли, кто-то пронзительно свистнул, и вся ватага, как горох из мешка, сыпанула вниз, в яр. Может, они бы и по-другому поступили, да, наверно, все-таки решили, что Будка со мной вполне расквитался.
Я шел пошатываясь и рукавом вытирая пот со лба.
— Молодец, Павлуша! Ух ты ему дал! Ну и дал же!.* Он только дергался! — восторженно говорил Ява, обнимая меня
485
за плечи.— Ты им всем показал, что такое васюковцы. Молодец!
Мне было приятно это слышать, но брала досада, что Валька этого не видела, что она застала меня уже битым и что она-то вроде бы и спасла меня... Я ей был, конечно, благодарен — кто знает, сколько бы еще этот Будка стучал об землю моей бедной головой? Но в то же время я чувствовал какую-то неловкость и стыд, что меня спасла девчонка. Такую неловкость, как будто она видела меня голого. И все-таки я был доволен. По-честному, я все же победил Будку, здорового хлопца, который был крупней меня. И который выбрал меня, считая, что я слабак.
На тропке нас ожидал братишка Микола. Оказалось, это он позвал Вальку. Видел, как нас повели к яру, смекнул, что наши дела дрянь, и побежал за Валькой.
— Ты тоже молодчина, Валька!—сказал Ява.— Одна и не побоялась! Они ж могли и тебя отлупить за компанию...
— Пусть бы только попробовали! Я бы им такого шуму наделала — весь город сбежался бы! И думаешь, я царапаться не умею? Пусть бы кто только тронул, его бы мать родная не узнала!
Ява поглядел на нее с восхищением и толкнул меня локтем в бок: смотри, мол, какая дивчина, вот это дивчина! Я кивнул в ответ: да, дескать, молодец дивчина, бог с ней...
Отряхнули меня Валька с Явой, почистили, как могли, но все равно вид у меня был, как будто корова жевала. А делать нечего, Максим Валерьянович давно уже ждет, нужно идти.
Максим Валерьянович шутливо поздоровался с нами («Здравствуйте, милостивые государи!»), потом внимательно посмотрел на меня и неожиданно сделал предостерегающий жест рукой, хоть я и не собирался ничего говорить:
— Ни слова! Все понимаю. Была вооруженная стычка с противником. Пограничный инцидент. Причин не выясняю, но думаю, нечто чрезвычайно важное — дело чести... Требование сатисфакции. Дуэль. Несмотря на трудности, вы вышли победителем. Так?
Я улыбнулся и кивнул. Какой он все-таки! С ним как-то сразу становится легко.
486
Больше Максим Валерьянович ни о чем не стал расспрашивать. Он только сказал:
— Через десять минут должна быть машина. И мы поедем на студию. Вы как раз вовремя пришли.
Однако нам и десяти минут не пришлось ждать. Через каких-нибудь две-три минуты мы услышали, как возле хатки Максима Валерьяновича остановилась машина, хлопнула дверца, и тут же чей-то молодой голос раздался во дворе:
— Максим Валерьянович, я уже тут! Я за вами,,.
Глава IX
НА СТУДИИ, НЕОЖИДАННОСТЬ ПЕРВАЯ.
НЕОЖИДАННОСТЬ ВТОРАЯ
И вот — ворота. Ворота, что отделяют, обычный будничный мир от сказочного, волшебного, фантастического мира кино. И как-то обидно, что они на вид такие простенькие и неказистые. И такие низенькие — не то что перелезть, перепрыгнуть можно. Я разве такие бы сделал для киностудии! Ну хотя бы как те... перед Зимним дворцом, через которые в фильме «Ленин в Октябре» матросы перелезают, А то бы и еще выше. Киностудия ведь, а не что-нибудь!
Ну, а пока что отворяются вот эти низенькие воротца, и мы въезжаем на территорию студии.
Смотрю влево—ух ты, фруктовый сад, да не какой-нибудь маленький, а такой, что конца не видно! Будто мы и не на студию попали, а в совхоз...
— Может, это для артистов... политехнизация... После съемок работают,.,— шепчет Ява.
— Наверно,— соглашаюсь я.
Посмотрели мы вправо — стоят друг за другом красочные щиты (вроде тех, какие бывают на шоссе). На одном из щитов Ява прочел: «Искусство принадлежит народу». «...Из всех искусств для нас важнейшее — кино (В. И. Ленин)».
А на другом щите были такие слова:
«В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли (А. П. Чехов)»,
487
Я вздохнул: лицо у меня.— как будто на нем гвозди забивали; одежда вся измятая, грязная; на душе кошки скребут, как .про часы вспомнишь... Лишь в мыслях своих я был великолепен и совершал поступки прекрасные и благородные- Да ведь мысли-то никому не видны...
Мы вышли из машины и следом за Максимом Валерьяновичем направились к дверям киностудии. Вот это двери! До чего же интересные! Крутятся! Как винт парохода или колесо водяной мельницы (только на попа поставленные). Толкнешь одну дверь, а другая уж тебя догоняет и по спине лупит. Ну и двери!
Протолкнули нас двери внутрь. Ява только потянул носом воздух и тут же сморщился. И я тоже. Больницей пахло. Там, слева, было что-то вроде амбулатории. Да, подумал я, видно, не такое уж это безопасное дело—кино создавать, раз медицина наготове.
Мы поднялись по ступенькам чуть вверх и пошли длин- ным-предлинным коридором. Мы с Явой не раз читали про киностудию в книжках (и у Кассиля, и у других), что когда попадаешь туда, то чудеса начинаются сразу же в коридоре: Петр I ходит там, обнявшись с Чапаевым, какой-нибудь римский гладиатор прикуривает у Героя Советского Союза, а гордая морская царица рассказывает простой колхознице о том, какую чудесную кофточку купила она вчера в универмаге.
И нам не терпелось увидеть все это. Мы то и дело озирались по сторонам. А по коридору почему-то ходили самые обыкновенные люди в самых обыкновенных костюмах (некоторые в спецовках, как на фабрике!), и никаких тебе гладиаторов, и никаких царей... Наверно, мы попали в такой день, когда интересных съемок на студии не было. Не повезло нам!
И вдруг...
Во! Во! — толкнул меня в бок Ява. По коридору навстречу нам шел человек в зеленой военной фуражке, в гимнастерке с портупеей. Высокий, стройный, с суровым лицом...
— По-моему, Кадочников... В роли партизана...— шепнул Ява.
488
Увидев Максима Валерьяновича, военный приветливо улыбнулся и козырнул. Максим Валерьянович тоже улыбнулся и поздоровался с ним. Когда мы разминулись, я набрался смелости и спросил Максима Валерьяновича:
— А... кто это? Как его фамилия?
— Петренко,— немного удивленно взглянул на меня Максим Валерьянович.— Прекрасный человек... Пожарник... Отвечает на студии за пожарную охрану.
Тю!..
— Какие-то пожарнйки пошли... неинтересные, даже касок не носят,— отводя глаза, буркнул Ява.
Долго мы шли узким, полутемным коридором. И почти все, кто нам встречался (а люди в коридоре толпились, как на Крещатике), здоровались с Максимом Валерьяновичем. Ну просто, как в селе,— «здрасте» на каждом шагу.
Наконец Максим Валерьянович остановился у двери, на которой висела табличка: «Съемочная группа «Поцелуйте меня, друзья!» За дверью стоял страшный гвалт. Казалось, что там полно людей, которые кричат и ссорятся между собой. Но когда Максим Валерьянович отворил дверь и мы вошли, оказалось, что в комнате всего один человек. Он был уже немолодой (лет за пятьдесят), но еще бодр и крепок, с огромной копной черных волос на голове... Сидя на столе, он ругался по телефону, не смолкая ни на миг и перебивая сам себя:
— Вы, понимаете, съемку срываете... Что вы мне вчера обещали? Вы обещали солнечную погоду, понимаете... Без осадков! А дали что? Что вы мне дали, понимаете.,, Погля* дите в окно! — Он ткнул рукой в сторону окна.— У вас есть окно? Полюбуйтесь, понимаете! Осадки, чтоб им пусто было! Полное небо осадков! Осадки, и никакого, понимаете, просвета...
На самом деле, небо затянуло тучами, и стал накрапывать дождь.
— Безобразие, понимаете...—ругнулся он в последний раз, соскочил со стола и порывисто обнял и поцеловал Максима Валерьяновича: —-Здрасте, дорогой! Вот ругался с этими... как их... с вещунами погоды...
•— Синоптики? — усмехнулся Максим Валерьянович.
489
— Во-во!.. Синоптиками... Оракулы чертовы, понимаете...— Он погрозил пальцем телефону.— Не можете, так хоть голову не морочьте! У меня, понимаете, Юлю послезавтра «Лен- фильм» забирает. Уж билет на самолет есть, а я еще натуру не снял из-за них... из-за этих вот, понимаете, осадков... Придется сегодня снова снимать в павильоне... Все уже там... Бежим... Быстренько...
— Да вот тут у хлопцев одно дело../—начал было Максим Валерьянович, но «Поцелуйте меня, друзья!» очень вежливо перебил его:
— Простите, дорогой... потом... потом! — Он умоляюще приложил руку к груди и склонил голову.— После съемки... Все дела после съемки... Самое неотложное дело сейчас — съемка... Быстренько на площадку... На площадку! И вы тоже... Я вас приглашаю, дорогие мои,— повернулся он к нам.— Только, конечно, чтоб тихо, понимаете, чтоб... не то, понимаете...
Максим Валерьянович весело глянул на нас:
— А что? Идемте... Вы же на съемках, наверно, еще не бывали? Так вам будет интересно... Хотите?
Конечно, мы сразу согласились. А Валька не сдержалась и даже подскочила, хлопнув в ладоши: «Ой, как здорово!» Ява гордо посмотрел на нее: как-никак, а это благодаря нам она попала на киностудию, да еще и на съемки, а то, хоть и живет в Киеве, съемок сроду не видала.
И снова пошли мы длинным коридором.
Я шел и думал: «И что это за синоптики, которые не могут самый обычный дождь угадать! У нас на селе каждая бабуля за три дня вперед вам дождь предскажет. Примет же верных сколько хочешь. И по тому, как ветер крутит — на порог или с порога. И как куры себя ведут. И как солнце садится... А иногда деревья подсказывают... Завели бы себе на метеостанции кур — и хлопот бы не знали! Не срывали бы тогда киносъемок!»
Тут мы спустились вниз и очутились будто в гигантском цехе какого-то завода. Потолка вверху почти не видно... И мы все сразу какие-то маленькие-маленькие стали... Идем, идем, идем — и конца нет.
490
Навстречу нам семенил, цокая по цементному полу, какой- то худенький лысый человечек. Еще издали он замахал руками и закричал:
— Привет, Витя!
— Здравствуй, Женя! — воскликнул «Поцелуйте меня1 друзья!».
А когда мы приблизились, престарелый Витя обнял престарелого Женю, и они расцеловались. Потом он поцеловал Максима Валерьяновича. Я уже боялся, что он и нас начнет целовать, но тот лишь помахал нам рукой и сказал:
— Привет, старики!
Мы невольно усмехнулись: пожилой человек, который уже наверняка имеет внуков, у него — Витя, а мы — старики... Все наоборот!
Сам Женя был, должно быть, еще старше Вити, и не только потому, что вокруг его лысины, как камыш вокруг озера, торчали вихры седых волос (у Вити ни одной седой волосинки!). Все лицо Жени было в больших морщинах—как печеное яблоко. Но это были какие-то очень интересные морщины. Они все будто лучились от глаз. И потому лицо его все время сияло и смеялось. А черные с искоркой глаза бегали, как мышата.
Короче говоря, он был очень симпатичным.
Я заметил, что он, когда еще бежал нам навстречу, взглядом нацелился почему-то на нас с Явой. И когда целовался с Витей и Максимом Валерьяновичем, тоже не сводил взгляда с нас. А как только поздоровался, сразу же накинулся на Витю, кивая в нашу сторону:
— Кто это? Чьи они?
Витя пожал плечами и посмотрел на Максима Валерьяновича.
— Мои,— заулыбался Максим Валерьянович.
— Они у тебя снимаются? — снова накинулся Женя на Витю.
Тот отрицательно покачал головой.
— Так чего же ты молчишь! — выпалил Женя.— Они же мне вот так,— он провел себе ладонью по шее,— нужны! Это ж такой типаж! У меня же завтра массовка. Я мечтал о таких
491
хлопцах! Старики, я вас очень прошу! — Он приложил руку к груди.—Я вас просто умоляю! Я пришлю за вами машину! Завтра... в двенадцать часов... на съемку... сюда 6 студию... Я договорюсь с вашими отцами... Всего на один день... Где вы живете? — Он уже вынул из кармана блокнот.— Если сможете, приводите еще одного-двух мальчиков...—говорил он, записывая адрес.— В половине двенадцатого за вами приедет мой ассистент... Договорились.., Прекрасно, прекрасно... Привет! До завтра.
И только когда он отбежал, я наконец взял в толк, что нас — меня и Яву — пригласили сниматься в фильме, что завтра, буквально завтра, мы станем киноартистами и наши мордахи увидит весь Советский Союз, а может, даже и весь мир, что, короче говоря, как в сказке сбывается то, о чем мы могли только мечтать... Ой! Бугуль-буль-буль! Что-то радостно забулькало, загудело и засвистело у меня внутри — так гудит и свистит самовар, закипая... Еще немного — и у меня из носа пойдет пар от бурлящей радости... Я глядел на Яву— такого радостно-глуповатого лица я еще не видел ни разу...
— Ну вот! Я вас поздравляю! — весело сказал Максим Валерьянович.— Оказывается, режиссеру Евгению Михайловичу вы были до зарезу нужны. И завтра уже будете сниматься... Кино, братцы, великая вещь!
— Важнейшее из искусств! — с гордостью сказал Ява.
— Я так рада за вас!..— тонким, дрожащим голосом сказала Валька. Она завидовала, она безумно завидовала нам. Никогда, должно быть, она не жалела так, как сегодня, что она — не мальчишка.
— Ничего, в другой раз будут нужны девчата... Вот увидишь!— сказал я тоном, каким говорят с маленькими детьми или с больными. Я был великодушный. В душе моей порхали бабочки...
Мы свернули влево в маленькую дверь и очутились в огромном темном зале. Мы долго петляли почти наугад среди каких-то перегородок и сооружений, спотыкаясь о толстые резиновые кабели. Наконец вышли на ярко освещенную площадку... Ух ты! На площадке стоял самолет!.. То есть не весь самолет, а часть самолета. Передний салон разрезанного
492
вдоль «ТУ-104»... Но все, как в настоящем самолете: и кресла, и иллюминаторы, и все-все (я ведь летал, знаю). Съемка еще не началась, и пассажиры, и стюардесса, и пилоты спокойно прохаживались вдоль площадки. Возле огромных прожекторов на подставках суетились люди в спецовках. А по рельсам, что тянулись вдоль самолета, парень в клетчатой рубашке медленно двигал тележку, на которой стоял киноаппарат. К аппарату припал мужчина в черном халате.
— Выключить четвертый!-—крикнул он, как раз когда мы подходили.
Что-то щелкнуло, и один из прожекторов, что стоял наверху на каком-то мостике, погас...
Ох как тут интересно! Да еще и самолет! (Как будто на студии знали, что я будущий летчик.) И меня охватила волна бурной радости... Все здесь было таким необычным и праздничным, что чувствовали мы себя прямо как на собственных именинах, когда гости уже собрались и садятся за стол. Я не мог устоять на месте от мысли, что сейчас начнется самое интересное — киносъемка.
— Где Вася? — сквозь зубы процедил «Поцелуйте меня, друзья!».— Снова опаздывает?.. Ну что ж, сядем и будем его дожидаться.— Он резко опустился на стул, уперся руками в колени и замер с каменным лицом.
Но не прошло и минуты, как на площадку выбежал из темноты запыхавшийся молодой человек в форме летчика:
— Виктор Васильевич, извините! Извините! Часы... стали... Я не виноват... Забыл завести...
«А мои?—вдруг подумал я.— Я ведь тоже не заводил. А надо регулярно заводить... Отец вон каждый день заводит. А то еще сломаются... Нужно завести...»
Я сунул руку в карман,,.
Мне показалось, что огромный прожектор падает на меня... Я пошатнулся...
Часов в кармане не было!,.
Глава X
ГДЕ ЧАСЫ? МЫ ИДЕМ В ЛОГОВО ВРАГА
— Сейчас начнется! Сейчас начнется!— взволнованно говорит Ява.— А тот длинный, в фуражке,— вылитый Филиппов... Скажи!
— Ява...—говорю я мертвым и каким-то далеким-далеким, будто с другой планеты, голосом.
— А может, это настоящий Филиппов... Вот было бы здорово познакомиться!.. Подойти и сказать: «Здрасте, а мы завтра тоже снимаемся... хотим посоветоваться».
— Ява!
— Хлопцы от зависти так и лопнут! — захлебывается Ява.— Вот выпало счастье-то! Вот выпало...
— Ява...
— Я ж тебе говорил, что мы будем артистами... А ты — «летчиком, летчиком». Как попугай...
Я хватаю его за руку и силой тащу в темноту за перегородку.
— Что такое? — пытается вырваться он.
— Часы..*
— А?
— Нету...
— Что?
— Часов нету...
— А где?
— Да были в... кармане. И... и... нету.— Я вывернул карман, хотя в темноте он все равно бы ничего не увидел.
Ява молчит, пораженный.
— А сейчас после съемок найдут хозяина и...— в отчаянии говорю я.
— Это во время драки! Точно! Когда вы по земле катались, они и выпали!.. Идем! Мы еще успеем, пока съемки будут...
Я позвал Вальку.
Он проскользнул между людьми к Вальке, зашептал ей на ухо. Она рот бубликом: «Ох!»—и вмиг они оба уже были
494
возле меня. Мы начали осторожно, чтоб не привлекать внимания, пробираться к выходу. На съемочной площадке царила такая суматоха, что было не до нас. Только какая-то дородная женщина в белом халате заметила наши маневры. Но она поняла их по-своему. Наклонившись к нам, она тихо сказала:
— Вторая дверь налево — женская... Третья — мужская.
Мы смутились, но объяснять ничего не стали.
...Никогда в жизни я так не спешил. Казалось, что я раздвоился: первое «Я» рвалось вперед, а второе «Я» никак не могло угнаться за первым.
В метро по эскалатору вниз мы катились горохом, несмотря на громкое предостережение радиотети: «Бежать по эскалатору запрещается!» А потом на «Арсенальной»—вверх, аж сердце из груди выскакивало.
И на двадцатом троллейбусе хотелось выпрыгнуть и опередить его: так он, казалось, медленно идет...
А по горе мимо церкви Рождества Богородицы бежали так, что пятки касались затылка.
Наконец... Вот оно... Вот это проклятое место!.. Все трое мы кинулись на колени и начали ползать на четвереньках. Колючая дереза царапала щеки, лезла в глаза, запутывалась в волосах... Часов не было... Вы можете смеяться, но я даже .водил над землей ухом, надеясь услышать тиканье (так саперы водят миноискателем). Тиканья не было. Мне только показалось, что я слышу, как тяжко бьется подо мной гигантское сердце земли. Это глухо билось у меня в груди мое собственное сердце.
— Вот тут ты ему дал подножку...-—бормотал, ползая, Ява.— Вот тут вы катились... Здесь ты сидел на нем... Вот тут тебя с него стащили...
Я вдруг сел на землю, почувствовав, как все тело мое стало бессильным и вялым.
— Ява,— тихо сказал я,— они вытащили их из кармана. Когда стаскивали меня за штаны... Точно... Я даже почувствовал тогда чью-то руку в кармане. Но я ничего такого тогда не подумал...
Ява и Валька тоже сели на землю. Мы сидели и молча
495
переглядывались... Час от часу не легче! Если до сегодняшнего дня я был, как говорится, условным вором (так как часов все-таки не крал, хотел вернуть и, главное, мог вернуть), то теперь все было намного сложнее — я не мог вернуть часы. Вот ведь: крал не крал, а из-за меня часов не стало, и по всем законам я за них отвечаю! По всем законам я — вор!
— Идем к Будке! — вскочила с земли Валька.
Я безнадежно вздохнул и с горьким сожалением посмотрел на нее: и что она говорит? Ну мы пойдем, ну мы скажем: «Отдай!», а он только хмыкнет насмешливо: «Знать ничего не знаю!» Поди докажи, что они взяли! Она хочет, чтобы мой заклятый враг, с которым я сегодня так дрался и которого я, по совести сказать, победил, был ко мне добрым и отзывчивым. Вот чудная!
— Идем к Будке!—твердо повторила Валька.—-Если не хотите, я одна пойду!
— Да что там одна...— буркнул Ява, поднимаясь и бросая взгляд в мою сторону:— Идем...
— А-а...— безнадежно махнул я рукой, но тоже поднялся (еще, чего доброго, подумают, что я боюсь!).
Мы шли по тропке гуськом: впереди Валька (она больше всех верила в успех дела), потом Ява (он старался верить— ради Вальки), а за ним уже я (который совсем не верил).
Мы шли в логово врага... Я чувствовал себя разведчиком, которого забрасывают в немецко-фашистский тыл. Я не боялся, нет, просто не очень хотелось зря получать оплеухи.
— А где он сейчас? Ты знаешь?—спросил Ява у Вальки.
— Наверно, за сараями—там у них штаб... Или на площадке— в футбол играют... Или дома. Я знаю, где он живет,— уверенно сказала Валька.
В «штабе» за сараями ни одного «воина» не было... На площадке тоже.
— Пошли домой к нему! Скажем матери, что мы в милицию заявим, и вообще... За это и в колонию отправить могут! — с жаром сказала Валька.
— Вон он! —воскликнул вдруг Ява.
Из парадного, где жила Валька, вышел Будка. Мы кину-
496
-лись к нему. А тот и не думал бежать. Мне даже показалось, что, когда он нас увидел, глаза его радостно вспыхнули.
— Где часы?-—подскочила к нему Валька.
— Во-первых, где ваше «здрасте»? —с ехидной усмешечкой сказал Будка.—Какие вы невежливые, невоспитанные... Неужели вас мама не учила, как нужно себя вести?
— Ты нам зубы не заговаривай! Где часы? — выставив нижнюю челюсть, грозно сказал. Ява.
— Ой, как страшно! Я начну заикаться! Не нужно меня пугать!— издевался Будка,
— Где часы?!-т-зло повторил Ява.
— Да о каких часах, простите, идет речь? — невинно захлопал глазами Будка,
— О тех самых, которые вы вытащили у него из кармана!—крикнула Валька, ткнув пальцем в мою сторону.
— Позолоченные? С черным циферблатом? Марки «Салют»?
— Так! Так! Так!—-воскликнул я радостно,
ь— Не видал,— вздохнул Будка и сокрушенно покачал головой.
— Ах ты... гад! — крикнула Валька.
— Не кричите на меня.., я нервный. На меня даже мама в детстве не кричала.
«Так я и знал! Ну что с него возьмешь?»
Отдай часы, а то...— Я запнулся, так как сам не знал, что же теперь делать.
— Ах, вы хотите, чтобы вам их принесли на блюдечке с голубой каемкой? А ключ от квартиры вам не нужен? Где деньги лежат...
Он, должно быть, начитался «Золотого теленка» Ильфа и Петрова и корчил из себя Остапа Бендера.
— Ну ничего! — прошипела Валька.— Не хочешь по-хорошему, мы пойдем к твоей матери... В милицию пойдем... Всюду!.. Раз ты вор... крадешь... пусть тебя в колонию возьмут! Идем! — кивнула она нам.
— Ах какая ты быстрая! Вор... милиция... колония... Ха! Докажи, что мы*у вас что-то брали! Докажи!
— Докажу!
YJ Библиотека пионера, т. 4
497
— Ничего ты не докажешь... А вот если б вы не были такими дошлыми, я, может, вам и помог бы... Ведь может оказаться, что я кое-что знаю...
— Что? Что? Что ты знаешь? — спросили мы, запинаясь,
— Во-первых, я точно знаю, что взял не я. Потому что у меня руки... хе-хе-хе... были заняты... Скажешь, нет? — усмехнулся он, глядя на меня.
— Ну? — сказал я, краснея (я вспомнил, как он тюкал меня головой об землю,— руки, вишь, у него были заняты!),
— Но я знаю, кто взял. Один малый... Он не из наших. Случайно тогда был. Это, знаете, чувак правильный... срок уже имел... в тюряге сидел... Так что...
Я не знал, что такое «чувак» и что такое «срок», но я понял: дела плохи; если Будка не брешет, часы попали в руки настоящего вора.
— Ну? — с нетерпением спросил я, ощущая в груди противный холодок.
— Что ты нукаешь? Это такой чувак, что твои часики передавали тебе привет! Но наши хлопцы уважают уголовный кодекс... Кусошников мы сами не любим. И раз уж это случилось на нашей территории, мы решили вмешаться... Но это дело не простое: чувак уже кудатто утащил твои бока (часы то есть)... И нужно серьезно поговорить... Короче, я вас даже искал... и вот только что был у нее.— Он кивнул на Вальку.
— Ну? (Что же я еще мог сказать?)
— Все наши сегодня будут на стадионе. Сегодня же матч с «Торпедо». Так вот, мы будем ждать вас за полчаса до начала на перекрестке Красноармейской и Жилянской, возле Музкомедии... Два лишних билета для вас есть. А сейчас я тороплюсь... Чао! — И он побежал к воротам.
Мы переглянулись. Все это было неожиданно и странно. Мы ожидали всего, чего угодно, но только не этого... Будка и его компания в роли благородных рыцарей, борцов за справедливость?! Все это было очень похоже на обман. Но для чего им нас обманывать? Ведь в самом деле, доказать, что они взяли часы, мы не могли. И они имели полную возможность их присвоить. Теперь же мы можем свободно заявить
498
в милицию, раз они сами сказали... Значит, Будка правда хочет нам помочь?
На срочном совещании, которое мы провели во дворе, было решено, что я и Ява идем на встречу с врагами к Муз- комедии, а Валька бежит на студию и объясняет все Максиму Валерьяновичу — ведь он даже не знает, куда мы подевались. После этого мы с Явой поехали домой — до матча оставалось еще много времени и можно было пообедать.
Дядя встретил нас веселым возгласом:
— Хлопцы, держитесь, сейчас я вам скажу одну вещь! — Он сиял.— Как вы думаете, куда мы сегодня идем? Не знаете? Так я вам скажу — на фут-бол! «Динамо» (Киев) —«Торпедо» (Москва). Важнейший матч сезона! Решается судьба первенства страны! Я вижу, вы растерялись... Еще бы! В своей Васюковке вы никогда такого в жизни не увидите... Или, может быть, вы недовольны? А? Может, не хотите идти на стадион? А?
— Это для тебя, болельщика, событие! А они нормальные люди,—подала голос из кухни тетя.— Верно я говорю?
— Нормальный человек не может не любить футбол! — отрезал дядя.
— Конечно, мы с радостью... Футбол! Ну да! А как же! — наконец проговорил я, опомнившись.
— Сектор «А»! Лучшие места! — сказал с гордостью дядя, вынимая из кармана билеты.
— Ого! — радостно сказал я.
...И до обеда, и во время обеда, и после обеда я ломал голову, как сделать, чтоб билеты на футбол у нас были, а дяди не было. Насколько билеты нам были нужны (чтоб не зависеть от врагов), настолько дядя был нам не нужен — он мог все только испортить.
Я долго крутился около дяди, как муха вокруг меда. Наконец решился:
— Дядя, вы, пожалуйста, дайте нам билеты, мы раньше пойдем...
— А почему не вместе? — удивился дядя.
— Да... нас ждут... — И я замялся, уставившись глазами в пол.
499
Дядя окинул нас Лукавым взглядом, усмехнулся и подморгнул:
— Та-ак... Ясно. А не рано вы, хлопцы, начали... А?
Мы дипломатично промолчали.
— Что ж.,, прекрасно. Нате билеты... Только смотрите... там такое творится...
Глава XI „ДИНАМО** (КИБВ) - „ТОРПЕДО" (МОСКВА)
Троллейбус уже трогался. И только мы вскочили, как двери за нами хлопнули и он поехал. Людей было полным-полно. Мы стояли на нижней ступеньке, уткнувшись носами в чьи-то брезентовые брюки. Чтобы отвернуть свои носы, мы притиснулись спинами к дверям. Но тут где-то вверху послышалось сказанное в микрофон: «Улица Ивана Кудри». Троллейбус остановился. Двери открылись, и мы уже думали, что сейчас выпадем. Ан нет! Снаружи так поднажали, что мы были подняты и втиснуты в глубь троллейбуса. Зажатые людьми, мы висели, не касаясь ногами пола. Ой-ой-ой!.. Ай-ай-ай!.. Лучше пешком ходить, чем так ездить!
Веселая кондукторша, примостившаяся где-то под потолком троллейбуса, все время выкрикивала:
— Кто забыл взять билетики? Я к вашим услугам! Я вот тут. Будьте добреньки, обратите на меня внимание. Молодой человек в берете, не отворачивайтесь! Я буду обижаться! А вы, мужчина, уступили бы старушке местечко... Кто еще забыл взять билетики? Будьте добреньки! Сегодня билеты стоят ох как дешево! Всего четыре копейки... Будьте добреньки!,.
Мы старались не смотреть на кондукторшу. Нам совсем не хотелось ехать без билетов, но для этого нам нужно было взять деньги в зубы еще до посадки. А сейчас лезть за ними в карман и думать было нечего. Куда там! И рукой ворохнуть не сможешь. Так и ехали мы «зайцами» поневоле...
Несмотря на тесноту, настроение у людей было радостное. Они все время весело переговаривались с кондукторшей и между собой. По отдельным возгласам, таким, как: «Ух и на¬
500
кладем мы сегодня торпедовцам!», «Смотри, чтоб нам не наклали», «А я вам говорю: Базилевич не меньше трех штук забьет!» — мы поняли, что большинство пассажиров ехало на футбол.
На предпоследней остановке у Октябрьской больницы нас вынесли из троллейбуса, и мы очутились в бурном людском потоке, который тек мимо Дворца спорта к Центральному стадиону.
Неожиданно человек, который шел перед нами, метнулся в сторону к воротам, где толпилась какая-то группа людей. Толкая друг друга, они склонились над кем-то. Сперва показалось, что кого-то бьют. Но когда мы пробились туда, то увидели, что в центре стоит бабуся и торгует семечками. Она очень спешила, насыпала неполные стаканы и все время воровато оглядывалась. Потом вдруг подхватила свою кошелку и засеменила по улице. А все, кто был вокруг нее, как пчелиный рой, не распадаясь, перекатились за ней следом в другую подворотню. Мы переглянулись: что за диковина?! Только потом уж дядя объяснил, в чем дело. Оказалось, что без семечек киевляне футбола себе не представляют, хотя в обычные дни семечек почти не лузгают. А в день футбольного матча за два часа болельщики вылузгивают целые вагоны подсолнухов. И очень засоряют стадион. Поэтому милиция не разрешает продавать семечки у стадиона. А торговки со всех киевских базаров собираются к стадиону нелегально и в подъездах и подворотнях торгуют своим недозволенным товаром. Они хорошо изучили календарь игр и не пропускают ни одной. А некоторые бабуси даже заделались болельщицами. Распродав семечки, они идут с порожними корзинами на стадион и там хриплыми, базарными голосами кричат на футболистов.
Пробираясь к Музкомедии, мы не переставали удивляться, чего это люди устроили такую кучу малу так рано — еще целых сорок минут до начала. А все бегут и толкаются, как будто уже началось!
Мы думали, что нам придется ждать Будку и его братию. Мы немного перестарались и пришли на десять минут раньше. Но вдруг я услышал над самым ухом пронзительный свист и голос Будки:
501
— Они уже тут!
И в тот же миг нас окружила знакомая ватага хлопцев. Но теперь на их лицах не было угрозы, а только любопытство.
— Так,— озабоченно проговорил Будка, роясь в кармане.— Вот вам билеты... Нет, нет, денег не надо, мы угощаем—И он предостерегающе выставил вперед руку, хотя мы совсем не собирались давать ему денег. Наверно, эти слова были заранее обдуманы и рассчитаны, как жест благородства.
— Спасибо,— с подчеркнутой вежливостью сказал я,— но билеты у нас есть,— и вытащил из кармана билеты.
В компании кто-то хихикнул. Будка съежился, но, видно, решил не сдаваться.
— А ну покажь! Может, какие-нибудь входные... Гм... Сектор «А»! Ну, тогда конечно... Нам еще лучше, мы их сейчас загоним в момент!—И он неожиданно громко крикнул:— Кому билеты?!
Миг — и Будка исчез из наших глаз: десятки жаждущих навалились на него. Это были те несчастные, с расстроенными лицами, которых мы встречали на каждом шагу на пути к стадиону. Все они жалобно спрашивали, как побирушки:
— Нет лишнего билетика?
— Нет лишнего?
— У кого лишний билет?
Те, кто имел билеты, гордо и независимо проходили мимо них, толкая и наступая им на ноги.
...Через полминуты мы наконец снова увидели Будку — он был такой встрепанный, как будто его били.
— Продавать билеты на футбол — все равно что под трамвай кидаться,— криво усмехаясь, сказал он и махнул рукой.— Идем на стадион! А то еще и на свои места не попадем.
— А когда же... о том деле поговорить? — спросил я.
— Потом, потом! После матча. Встретимся на этом месте...
Спорить было бесполезно.
Наверно, легче перейти границу какой-нибудь маленькой страны, чем без билета попасть на стадион в Киеве. Раз пять
502
проверяли у нас билеты, пока мы добрались до нашего сектора «А»..*
Когда мы сели, на поле футболисты уже стукали мячи. Но мы знали, что это еще не игра, а только разминка. Мячей было много, на каждого футболиста не меньше чем по одному, и бедные вратари суетились в воротах, как мыши, загнанные в угол, то и дело пропуская «штуки»*
Пришел дядя (сразу стало тесно), хитро глянул на нас и хитро подмигнул. Мы для порядка опустили глаза — пусть думает что хочет.
Разминка кончилась, поле опустело. Прошло еще несколько минут, и на поле вышли трое: один в середине с мячом и двое по бокам с флажками — судьи.
Поставил главный судья мяч на середину поля, засвистел. Из-под центральной трибуны выбежали команды. Выстроились, поприветствовали друг друга. Потом из публики вдруг выбежали на поле какие-то люди с букетами цветов — вручать футболистам. А те побросали букеты фотокорреспондентам, которые сидели на скамейке (и зачем тогда было вручать?). Но вот судья еще раз свистнул — игра началась,
— У-у-у-у-у!
— А-а-а-а-а!
— Канева давай, Канева!..
— А-а-а-а!
— Серебро давай! Давай Серебро!..
— О-о-о-о-о!
— Базилю передай! Передай Базилю-у-у!
— У-у-у-у-у-у!
— Дай Бибе! Бибе дай!
— А-а-а-а-ай!
Огромное корыто стадиона бушует, как кипящий котел... И кажется, что пар вздымается ввысь и собирается там в тучки.
...Возле нас сидел не то профессор университета, не то артист цирка. С одной стороны, он был очень похож на профессора— интеллигентное лицо, очки, бородка, портфель под мышкой. А с другой стороны... ну абсолютный циркач! Все время подскакивал, блеял, свистал, ржал как жеребец. А ко¬
503
гда киевляне забили гол, он подкинул свой портфель чуть не под облака, а потом поймал его одной рукой. Да так и не каждый циркач сможет! И не смолкал профессор-циркач ни на миг. Когда какой-нибудь футболист с мячом прорывался вперед, он подгонял его пронзительным:
— Пошел-пошел-пошел-пошел!—и верещал таким страшным голосом, каким даже «караул» кричать стыдно.
Верещал до тех пор, пока у футболиста не отбирали мяч« Тогда он с досадой махал рукой и кричал:
— Так и знал! Передавать надо! Базилевичу надо было передать!..— И тут же переносил внимание на другого футболиста: — Ну ты смотри! Ну просто пасется!.. Бегать надо, бегать! Ты же футболист, а не корова!
Как будто бедному запыхавшемуся, задерганному футболисту и секунду передохнуть нельзя! Такой бессердечный болельщик!
Рядом с ним сидела женщина—-наверно, его жена,— толстая, в самодельной шляпе из газеты. Она переживала молча, но так тяжко и шумно дышала, что свежего воздуха над стадионом, казалось, становится все меньше и меньше. Профессор-циркач то и дело успокаивал ее:
— Рыбонька, не волнуйся! Не волнуйся, рыбонька! Все будет хорошо. Наши выиграют.
Ява подмигнул мне и тихонько сказал:
Если б эту «рыбоньку» в воду бросить, вот бы звук был, вот плеску было бы!
Я представил себе это и улыбнулся:
— Да-а...
Но и профессор-циркач и «рыбонька» недолго привлекали наше внимание. На поле было так интересно, что мы забыли про все на свете. Мы уже не были Павлушей и Явой, у которых свои характеры, вкусы, интересы. Мы были какой-то маленькой частицей огромного существа, которое называлось «стадион» и которое трясло как в лихорадке.
И когда судья несправедливо, как счел стадион, не присудил одиннадцатиметровый в ворота торпедовцев (а «рука» точно была!), мы вместе со всеми завыли, загорланили, надрывая животы:
504
— Судью на мыло! Судью на мыло!..
Ну прямо как живодеры... И не существовало в ту минуту на свете ничего, кроме одиннадцатиметрового удара.
Великая вещь—футбол! По-моему, он мог бы даже быть лечебным средством. Например, для лечения нервнобольных. Да и от всяких неприятностей и плохого настроения футбол очень помогает. Во всяком случае, я на время матча про все свои неприятности Забыл. И вспомнил только тогда, когда матч закончился. Нужно было снова отделаться от дяди.
— Ну, дядя, вы идите домой, а у нас тут еще дела...— сказал я, как будто мы были взрослые, а он ребенок.
— Ой, смотрите мне с этими делами!— сказал дядя.— Рано вы начали женихаться. Глядите, чтобы батьки ваших Дульциней уши вам не нарвали.
Но из-за того, что киевляне выиграли у торпедовцев (3:2), дядя был в чудном настроении и отпустил нас.
На этот раз нам пришлось ждать. Минут десять, а то и больше. Причем это было совсем не так легко, как вы думаете, потому что мы не просто ждали, а... боролись. Все время боролись с неудержимым людским потоком, который старался смыть нас и выплеснуть .куда-нибудь на Бессарабку или даже на площадь Калинина. И это требовало страшных усилий. Наконец показались ребята.
— Идем! — скомандовал Будка.
И мы, с облегчением вздохнув, поплыли по течению.
— Ну?—нетерпеливо спросил я, подруливая к Будке.
— Потом! Тут не место...
Вот уж тянет резину!
Мы выплыли на,Бессарабку и нырнули в какой-то проходной двор, который вел на Печерск. И тут, в темной подворотне, Будка остановился.
— Значит, так,— сказал он тихим, конспиративным голосом, озираясь по сторонам.—У нас был разговор с этим чуваком. Мы едва уговорили его. Вот хлопцы скажут...
— Да, ага, ага! — вразнобой, но твердо поддакнули хлопцы.
— Он согласился отдать часы,— продолжал Будка.—Но...
505
только ночью. Причем сегодня. Завтра будет поздно. Потому что утром он чешет из Киева — его ищет милиция...
— Ну? — У меня сжалось сердце.
— Железо! Часы у него в тайнике... в пещере... возле Лавры. Днем туда нельзя — прогонят... Так вот, договорились встретиться в полночь у церкви Рождества Богородицы, а точнее, возле могилы Кайсарова. Знаете?
Мы с Явой переглянулись. Одурачить, что ли, хотят? Неужели одурачить? Но зачем?! А хоть бы просто так... Что же делать? А что тут сделаешь!
— Боитесь? — презрительно сощурился Будка.— Ну, если боитесь, как хотите. Часы ваши, а не наши... Одни мы, конечно, не пойдем, нам-то что...
— Ладно,— сказал я.— Мы придем.
Если б это были мои собственные часы, я бы еще подумал, идти или нет. Но вы же сами знаете, что это за часы!
— До встречи,— весело сказал Будка.— Только не проспите!
Глава XII
КАЗАЦКОМУ РОДУ НЕТ ПЕРЕВОДУ. КОШЕВОЙ КАРАФОЛЬКА.
ПИСЬМО ЗАПОРОЖЦЕВ. НОЧЬ НА КЛАДБИЩЕ (воспоминания)
Вечер. Одиннадцатый час. Мы лежим на широченной, как Крещатик, тахте у открытой двери балкона.
Лежим тихо, не шевелясь—делаем вид, что спим. Дожидаемся, когда заснут дядя и тетя, чтоб можно было потихоньку улизнуть.
Нет, должно быть, более тягостного ожидания, чем вот такое, когда лежишь без сна, неподвижно и ждешь. Да еще ждешь, не зная, что тебя ждет. Когда тебе нужно в полночь идти куда-то в жуткую темень к могилам...
В голову надоедливо лезут всякие страхи и воспоминания.
Воспоминания! Я, конечно, не Вольф Мессинг, я не могу читать чужие мысли на расстоянии, но, даже не глядя на Яву, который лежит рядом со мной, я готов поклясться, что он вспоминает сейчас то же самое, что и я... Уверен на все сто
506
процентов! Он просто не может сейчас вспоминать что-нибудь другое... То было тоже ночью и тоже среди могил... И точно так же пересыхало в горле, и сжималось сердце, и немели ноги.
...Это было в прошлом году, в сентябре, как раз после «робинзонской» истории. Неожиданно к нам в село приехали археологи. Целая экспедиция из нескольких человек. Вернее, не совсем неожиданно... Двоих из этой экспедиции мы хорошо знали. Это были охотники из Киева, которые каждый год приезжали к нам на охоту да на рыбалку, им-то мы и ловили кузнечиков. С ними мы всегда держались немножко свысока и насмешливо, как со всеми городскими, кто так неприспособленно чувствует себя на селе. Мы посмеивались, когда они с трудом поднимались на заре на охоту, когда опрокидывались на наших лодках в плавнях, когда неумело, раня до крови руки, они чистили рыбу. И мы не могли себе представить, что они так много интересного знают.
Вот ведь как бывает... Ездили они к нам на охоту и не думали ни о каких раскопках, ни о какой своей археологии, просто отдыхали, и все. Но вот как-то вечером, сидя у костра за кулешом,-разговорились с нашими охотниками — дедом Варавой и дедом Саливоном — об археологии. И сразу забыли и про кулеш, и про охоту, и про все на свете... На следующий же день поехали в Киев (хоть оба были в отпуске и собирались охотиться целый месяц). И вот нагрянули к нам с экспедицией...
Оказалось, что край наш исторический и село тоже самое что ни на есть историческое и ужасно древнее. Что оно древнее, мы и так знали, но то, что историческое, как-то не задумывались. А оказывается, Васюковка наша лежала не только на знаменитом пути «из варяг в греки», за который мы получали двойки в школе, но еще и находилась на самом перекрестке походов славных запорожцев.
И под старым дубом, под тем самым, что за околицей Ва- сюковки, останавливались передохнуть в холодке и Владимир Мономах, и царица Ольга, и Богдан Хмельницкий...
Разинув рты, слушали мы рассказы археологов про За¬
507
порожскую Сечь, про легендарного вожака казацкого Ивана Сирко, которого пятнадцать раз выбирали кошевым атаманом, чего не заслужил никто в истории Запорожской Сечи, и которого враги боялись «больше огня, больше бури, больше светопреставления»; о последнем кошевом Запорожской Сечи Петре Калнишевском, которого царица Екатерина II сослала в Соловецкий монастырь, где он просидел в сырой, холодной яме целых двадцать пять лет, но не покорился, не отрекся от казачества и, несмотря на нечеловеческие муки, прожил на свете сто двенадцать лет — такой был богатырь.
Мы ловили каждое слово... Вот это да! Вот какие были наши предки!
В тот же день экспедиция начала раскапывать казацкий курган в степи, километра за два от села. И конечно же, мы, мальчишки, до темноты пропадали там, на раскопках. И когда археологи откопали казацкое оружие (саблю, пистолеты), да еще и граненую бутылку из-под оковитой1 (хоть и пустую), да еще деревянную люльку, на которой жемчугом было выложено изречение: «Казацкая люлька — добрая думка...»— мы чуть не попадали в яму. Это было незабываемое зрелище! Археологи сперва осторожно копали заступами, потом разгребали землю руками, а затем, нащупав что-нибудь, уж совсем не дыша, расчищали специальными щеточками... Мы смотрели как зачарованные. Из земли появлялись вещи, которые пролежали в ней больше трехсот лет.
Археологи сказали, что в кургане был похоронен какой-то славный запорожец из войска Ивана Сирко, так как именно тут разбивал свой лагерь Сирко, когда возвращался из Крыма, разгромив крымского хана у Сиваша. И, видно, как раз тут умер от ран один из его товарищей. Тут его и похоронили. А по обычаям запорожским клали в могилу казака оружие его, люльку и обязательно бутылку горилки, чтоб и на том свете было ему весело.
Мы долго разглядывали эти вещи, особенно пистолеты и саблю, ножны которой были отделаны серебром, а рукоятка из слоновой кости.
1 Оковйтая — водка.
508
Ява вздохнул и прошептал мне на ухо:
— Вот если б знать... Мы бы сами могли откопать!
Кроме кургана, экспедиция вела еще раскопки у дуба.
Правда, выкопали только один ржавый кухоль1 с крышкой, но сказали, что это кухоль чуть ли не самого Ивана Сирко.
Потом археологи ходили по селу, подолгу разговаривали с самыми старыми нашими дедами и бабками — интересовались легендами, преданиями, а также потомками казаков- запорожцев. Особенно долгой была беседа со стосемилетней бабушкой Триндичкой.
— Скажите, бабуся, будьте добреньки, кем были ваши отец и дед?—ласково спрашивал ее низкорослый толстяк археолог Сидоренко (тот самый, что однажды утопил в плавнях ружье).
— Ага.., были, сынку, были..^радостно кивала Триндичка.
— Кем же они, бабуся, были?
— Ага,— кивала Триндичка.
— Или, может, просто мужичками, гречкосеями?
— Ага,— кивала Триндичка.
— Гречкосеями? — разочарованно переспрашивал Сидоренко.
— Сеяли гречку, сеяли...— радостно кивала Триндичка.— И просо, и овес... А под окошком хаты мак...
Так ничего от бабки и не добились.
Очень интересовалась экспедиция также самыми старыми на селе хатами — теми, что под соломенной крышей, что в самую землю вросли и мохом взялись. Их было уже немного, и археологи каждую из них облазили сверху донизу, во все закоулки заглянули. И тут случилась неприятность, для нас неожиданная. Осматривая хату, где живет Карафолька, Сидоренко вдруг поднял такой радостный гвалт, будто нашел золото. На потолочной балке, под слоем побелки, он обнаружил надпись: «Сию хату поставил в 1748 году 10 апреля казак Титаровского куреня Гаврила Карафолька».
— Смотрите, смотрите! — восторженно кричал Сидорен¬
1 Кухоль — кружка.
509
ко.— Это же история! Это ж архитектурный памятник... Берегите, люди добрые, берегите эту хату... С сегодняшнего дня мы берем ее на учет... то ж такая редкость...
Вся семья Карафольки была приятно удивлена — они сами не знали, в какой знаменитой хате живут. В тот же день выяснилось, что и дед Саливон — праправнук запорожского сотника, и председатель колхоза Иван Иванович Шапка — потомок запорожцев, и учительница Галина Сидоровна казацкого роду.
У нас всегда уважали стариков, но такого успеха они не имели никогда. Целыми днями старики не закрывали рта— вспоминали. Дедов и прадедов, бабушек и прабабушек... И если послушать, так все эти бабуси, как правило, были необыкновенные красавицы, а деды такие силачи, что ой-ой-ой (один быка когда-то поборол, другой подводу с картошкой поднял, третий дуб из земли выворотил). Плюгавых, квелых, кривых, горбатых предков не было ни у кого. Разница только в том, что одни красавицы и силачи были казацкого роду, другие — мужицкого. И тут ничего не поделаешь. Предков не выбирают и не заказывают. Кузьма Барило был казацкого роду, Вася Дергач — казацкого, Гребенючка — казацкого. А мы... Особенно мы не могли пережить, что Степа Карафолька, староста класса, отличник и вообще положительный тип, которого нам ежедневно ставили в пример и которого мы из- за этого терпеть не могли,— Степа Карафолька, в ком не было ни на грош ничего казацкого, был прямой и непосредственный потомок славного запорожца. А мы... У меня еще хоть был где-то далеко по материнской линии какой-то казак-бродяга, а у Явы — никогошеньки, одни только... гречкосеи!
— Диду, неужели у нас в роду так и не было ни одного запорожца? — с надеждой допытывался Ява у своего деда Варавы.
— Не... что-то не припомню.
— Вот еще! — сердито отворачивался Ява (как будто дед был виноват).
— Дурень ты,— спокойно говорил дед.— Да что там твои казаки без гречкосеев стоили бы... Кто б их кормил? С голоду поумирали б... А когда земля наша бывала в беде, то не
510
только казаки, но и гречкосеи шли ее защищать Брали косы, брали вилы и не хуже казаков били ворога.
Но на Яву дедова агитация не.действовала. Бормоча: «Да- а... не могли уж на бабушке из казацкого рода жениться...»— хмурый Ява уходил прочь.
— И все им новую, новую нужно! Не могли еще немного в старой хате пожить,— сквозь зубы цедил Ява, с ненавистью глядя на новехонький дом свой под железной крышей.—Может, и у нас на потолке что-нибудь было написано... Дед же старый: много знает, а еще больше забыл...
Ява не мог примириться. Ява страдал. Тем более, что Карафолька ходил задравши нос и только плевал сквозь зубы в нашу сторону (словами задеть боялся, потому как знал, что мы, несмотря на предка, показали бы ему, где раки зимуют).
И все же его задранный нос и цирканье сквозь зубы еще можно было бы пережить. Но он допек нас другим. Он устроил на выгоне «Запорожскую Сечь»... Войско было набрано только из «потомков». И кошевым единогласно выбрали Ка- рафольку.
В вышитой сорочке, в широченных красных шароварах, в которых его брат танцевал когда-то в самодеятельности, нахлобучив дедовскую папаху, которая валялась до того в курятнике и была такой старой, что даже куры неслись в ней без особого удовольствия, гарцевал Карафолька перед своим войском. Водил его в походы, устраивал гульбища и казацкие удалые забавы.
Мы сидели в кустах и слушали, как раздавался над выгоном лихой запорожский напев:
Ой пан иль пропал — двум смертям не бывать,
Гей вы, хлопцы, на коней! В жарком деле побывать, славу добывать!
Мы скрежетали зубами. Мы никогда не чувствовали себя такими одинокими, оскорбленными и несчастными. Мы, как раз мы-то, по своей удали и должны были быть кошевыми атаманами... Мы, а не примерный Карафолька. Эх, залимо- нить бы ему сейчас в нос его задранный!..
И что бы такое ему подстроить, чем бы подковырнуть?
511
— Слушай, Ява,— пронзило меня вдруг.— Ты помнишь «Письмо запорожцев турецкому султану»?
— А? Ну и что?
— Напишем им такое же письмо.
— Как? Они же сами запорожцы.
— Какие они к черту запорожцы! Разве они настоящие? Как бы не так! Самозванцы. Подумаешь, предки!.. Так и напишем: предки ваши молодцы, а вы черт те кто... Само письмо запорожцев у меня дома есть, в книжке «Украина смеется». Переделаем, и будет — во!
— Идем!
Мы взяли у меня книжку и пошли к Яве. У него над столом как раз висела картина Репина «Запорожцы». Усевшись под картиной и глядя на то, как весело запорожцы писали письмо султану, мы начали свое. Это была каторжная работа.
И вот наконец после долгих мук родилось на свет «Письмо настоящих запорожцев самозванцу лжекошевому, плюгавому отличнику Карафольке и его задрипанному войску»:
Ты — шайтан дурацкий, проклятого черта брат и товарищ и самого Люцифера секретарь! Какой ты к черту рыцарь? Какой ты запорожец, да еще и кошевой? Слюнтяй ты шепелявый! Дырка от бублика! Репей с хвоста собачьего1 Латка на дранных штанах, шматок отличника недогрызеный! Твоего шелудивого войска мы не боимся, землею и водою будем биться с тобою! Не казаком тебе называться, а в куклы с бесштанными играться! Не стоишь ты доброго слова, пусть сжует тебя рыжая корова! И в голове у тебя не мозги, а полова, пугало ты огородное! Вот как мы тебе выдаем, плюгавый! И за это поцелуй нас в грязные потрескавшиеся пятки, ведь братья твои — поросятки! Ось-ось-о!
Мы написали все это большими буквами на полуметровом куске обоев, что остались после строительства новой хаты. К обоям на толстой веревке вместо печати прицепили сухую коровью лепеху. Вышло, на наш взгляд, очень здорово.
Выделывая губами: «Трум-тум-ту-ру-рум-тум-тум-тум!» — отправились на выгон и торжественно вручили Карафольке «пергамент».
Мы были уверены, что после нашего письма авторитет Ка- рафольки падет и загрохочет, как пустое ведро.
512
Но в тот же день мы получили очень сдержанное и вежливое письмо-ответ:
Дорогие друзья! Вы ругаетесь очень забористо, но это только потому, что вы не казацкого роду и вам обидно. Мы прекрасно это понимаем. Мы с удовольствием прочитали ваше письмо и даже согласны принять вас в свое запорожское войско писарями, хоть у вас и двойки по языку.
Между прочим, «недогрызенный» пишется с двумя «н», а «драный», наоборот, с одним (см. правило в учебнике грамматики, стр. 24,
§ 23).
С приветом.
По поручению славного войска запорожского кошевой
Степа Карафолька.
Это было хуже, чем если бы он каждого из нас при всех положил на лопатки.
Мы не смотрели друг другу в глаза. Такого тяжелого поражения мы еще не переживали. Никогда мы еще не выглядели так жалко перед товариществом васюковских хлопцев. Нужно было что-то делать. Ведь еще немного — и даже сопливые первяки будут вытирать руки об наши головы.
— Вот если б нам настоящую казацкую саблю...— вздохнул я,— или пистолет, как те, что археологи выкопали... Полетел бы Карафолька из кошевых тут же!
— Точно! — встрепенулся Ява.— Саблю.., или пистолет! Вот было бы... Сила! С настоящим казацким оружием кого хочешь кошевым выберут...
— Где ж его взять? — безнадежно спросил я,
■— Выкопать! — сощурился вдруг Ява.
— Где? Так оно тебе и лежит под землей... Один казацкий курган возле села был, да и тот уже — фить!
— А на кладбище?
— Ты что?! Бррр..*
— Голова! Разве я говорю — свежие могилы раскапывать? Тоже мне! Знаешь старые могилы с краю, по-над шляхом? Без крестов, едва заметные в траве. Сколько им лет? Двести, а то и больше... Мне еще дед Саливон как-то говорил, что. там его прадед похоронен... А он кто такой был? Казак, запорожец. А как запорожцев хоронили? С оружием. Вот и усекай...
513
— Так-то оно так... А все-таки кладбище... Мертвецы...
— Да какие там мертвецы?! Череп, несколько косточек — вот и все. Ты ж видел, когда археологи копали. Что там может быть, если он двести лет в земле пролежал... Посмотришь, что от тебя останется через двести лет...
— Все-таки... Даже череп... Как-то оно...
— Да мы этот череп и трогать не будем,— раздраженно прервал меня Ява.— Саблю и пистолет аккуратненько выкопаем и снова зароем могилу. Никто и не заметит.
— Да, может, хоть деда Саливона спросить?
— А разве это его собственность? Это ж не картошку на его огороде копать... Да и как ты спросишь: «Разрешите вашего прадеда выкопать?» Так, что ли?
— А когда ж копать? Днем?
— Ну, днем, если увидят, сразу по шеям надают,
— А когда ж?
— Ночью,
— Да?
514
—. Ты что, боишься?
— Да нет, но...
— Вот ты хочешь и настоящее казацкое оружие иметь, и чтоб все было, как в магазине. Больно хитрый!
— Ну ладно,— вздохнул я.— Попробуем.
...Вы бывали когда-нибудь ночью на кладбище? Если не бывали, то и не ходите. Страшно... Так страшно, что сердце останавливается.
Это я теперь говорю, а тогда... Разве я мог показать Яве, что я боюсь, когда он, чертяка конопатый, вел себя так, будто не на кладбище ночью идет, а в клуб на кинокомедию.
— Это трусы, заячьи души выдумали, что на кладбище ночью страшно,— весело сказал он.— А на самом деле, чего бояться? Живых нужно бояться, а не мертвых. Мертвые тебе уж ничего не сделают. Помнишь, Том Сойер и Гек Финн тоже ходили ночью на кладбище... И ничего.
— Ну уж... ничего...— криво усмехнулся я.— Только у них на глазах индеец Джо убил доктора...
515
— Ну и что? Подумаешь. Ведь не их же...— Ява, видно, забыл про индейца.— Скажи лучше, что ты просто боишься.
— Чего ж это мне бояться? — проговорил я, едва сдерживая дрожь в голосе. И зачем я вспомнил про индейца, про то убийство?
...Мы прошли мимо крайней хаты и направились к кладбищу. На фоне туманного неба вырисовывались кресты. Луна проглядывала сквозь тучи, с трудом освещая дорогу. Позади в темной тишине спало село, даже собак не было слышно. За кладбищем, слева, чернел лесок, а справа голая степь тянулась до самого горизонта. И нигде ни души. Казалось, что в мире только мы и это кладбище. Пригнувшись, мы стали пробираться через кладбище, стараясь не глазеть по сторонам и не присматриваться к могилам. У каждого в руках лопата. Кроме того, у меня была еще сапожная щетка (вместо специальной археологической—где ж нам было взять ее?), а у Явы фонарик, тот самый, механический с динамкой, что я ему когда-то подарил.
Тихо перешептывалась под ветром в вышине листва деревьев. Где-то поскрипывала сухая ветка, будто кто-то ходил во тьме по кладбищу и скрипел деревянной ногой.
Вспомнил я вдруг, как хоронили недавно, летом, старенькую прабабушку Пети Пашко. У нас на селе умирали не часто, и, конечно, все мы были на похоронах. Я хорошо запомнил ее лицо, морщинистое и будто с усмешкой.
И представилось мне, как лежит она сейчас вот тут, совсем рядом, под землей в гробу. Открывает глаза, шевелится, хочет подняться. Я где-то читал, что иногда ошибочно хоронят тех, кто в летаргическом сне, а в могиле «мертвецы» просыпаются и... Волосы зашевелились у меня на голове, встали дыбом, перехватило дыхание... И тут — вжик, вжик! — словно заскрипели кости.
Это Ява фонариком.
— Вот тут...— шепчет, освещая едва заметный в высокой траве холмик могилы.
— Н-не... н-не вж-жикай... л-лучше уж в темноте копать...
Ява и сам понял, что этот фонарик не для кладбища,—
больше не вжикал. Несколько секунд мы молча стояли, при-
516
Слушиваясь. Потом взялись за лопаты. Одновременно воткнули их в землю, нажали ногой.
И вдруг... Мы так и застыли... Из-за могилы из темноты на нас смотрели большие зеленые глаза. Над ними торчали... рожки! А потом (даже теперь я не могу спокойно это вспоминать) оттуда донесся нечеловеческий, душераздирающий крик... Такого крика я не слышал никогда в жизни,
В следующее мгновение...
— А-а-а!
Я не припомню, кто из нас первый закричал, но то, что кричали мы оба, это уж точно.
Мы не бежали, мы летели, почти не касаясь ногами земли... Такой скорости, должно быть, не знала наша Васюковка за всю свою многовековую историю. Мы влетели во двор к Яве (он был ближе) и, заперев калитку, подперли ее поленом.
Можете смеяться, но той ночью мы спали в собачьей будке. Спали, прижавшись с обеих сторон к здоровенной овчарке Рябке. Это была такая злющая псина, что могла самого черта загрызть. И как ни убеждали мы себя утром, что мы олухи, что это был самый обыкновенный кот, что как раз коты иногда и кричат так истошно, о новом ночном походе не могло быть и речи. Мы тайком позабирали с кладбища свои лопаты и никому ни слова не сказали о нашем приключении.
Скоро начались дожди, потом зима, и «Запорожская Сечь» на выгоне распалась сама собой. Мы с Явой смастерили из старого трехколесного велосипеда ледовый самокат, и утраченный авторитет вернулся к нам снова.
Но после той ночи я сказал себе: «Павлуша, ты никогда больше не пойдешь ночью на кладбище. Ты должен стать летчиком, и тебе совсем ни к чему, чтоб ты начал дергаться и заикаться от страха. Пусть враги твои туда ходят. Пусть они дергаются и заикаются».
А видите, не прошло и года, как я снова собираюсь ночью на кладбище.
И хотя, как всегда, только при одном воспоминании о той ночи у меня уже полна пазуха мокрого, скользкого, холодного страха, я говорю себе: «Нужно идти, Павлуша. Если б это нужно было тебе самому, ты бы ни за что не пошел. Но тут
517
дело, ты знаешь, сложное. И ты пойдешь. Потому что должен вернуть часы хозяину любой ценой».
Я слышу, как рядом со мной вздыхает Ява. Я знаю — он думает о том же самом.
Мы лежим и ждем, пока заснут дядя с тетей. И хоть двери в их комнату закрыты, мы точно знаем, что они еще не спят. Потому что тихо. А когда они заснут, мы сразу услышим. Да и не только мы: в соседнем доме услышат, ведь окна открыты. Вы не думайте, я очень уважаю дядю и тетю. Они хорошие, добрые и сердечные люди. Дядя передовик производства (на Доске почета висит) и, кроме того, мастер спорта. А тетя такие коржики печет — умереть можно от удовольствия! Но что поделаешь, если они... Ш-ш! Стойте! Начинается! Вот послушайте!
— Хррр-у-у-у... Аур-ур-уррр... Хррррау... Ав-ав-ав.., Сь-сь-сью-у-у... Хррря-а-а... Хр-хр-хр-пфу-у-у...
Заснули!
Казалось, будто мы попали в пасть к ревущему льву или тигру. Вот уж храпят дядя с тетей, ну и храпят! Если бы кто устроил соревнования в этом деле, они наверняка бы стали чемпионами мира!
Мы встаем и одеваемся. Теперь хоть из пушки пали — они не услышат...
Глава XIII НОЧНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ. ВЫСТРЕЛ В ПЕЩЕРЕ
Мы выходим на балкон. Достаем из-под ящика еще днем спрятанную веревку, привязываем к перилам. Только не думайте, что это мы для какой-то романтики. Боже сохрани! Просто мы вынуждены спуститься с балкона по веревке, потому что в двери выйти невозможно — некому за нами запереть.
Да и тетка на ночь ключ к себе в комнату забирает.
Второй этаж — совсем не высоко. А лазим мы, как обезьяны. Еще и узлов на веревке понавязали, чтоб легче было.
Везде темно, лишь на пятом этаже светятся два окна, как
518
будто глаза самого дома. Там мелькают фигуры и слышится музыка — наверно, справляют новоселье (прошла только, неделя, как дядя с тетей переехали в этот новый дом у Печерского моста). И оттого, что где-то рядом люди не спят, а веселятся, ночное наше путешествие кажется мне уже не таким страшным и необычным.
Придает мне духу еще и то, что в кармане я крепко сжимаю пистолет — стартовый пистолет дяди. После долгих раздумий и колебаний мы решили его все-таки взять на всякий случай. Но раз уж мы твердо решили быть всегда честными, то написали дяде письмо и положили его вместо пистолета. Вот это письмо:
Дорогой дядя Гриша! Простите и не сердитесь, что мы взяли ваш стартовый. Он нам до зарезу нужен! Мы идем на серьезную операцию. Может, и не вернемся. Тогда ищите наши тела в подземельях Лавры. Иначе мы не могли. Дело идет о нашей чести. Мы обязательно должны вернуть одному человеку его вещь. Мы не хотим, чтоб нас считали ворами.
На всякий случай прощайте.
Павлуша, Ява.
А костюм мой новый перешлите тогда маме.
Ява.
А мой велосипед пусть отдадут двоюродному брату Володе.
Павлуша.
Что ни говорите, а ночью в Лавру, к могилам, где всякие мертвецы, страшно идти. И так не хочется отдаляться от этих окон освещенных, от музыки их веселой. Но нужно спешить!
Мы сели в какой-то пустой трамвай, который со скоростью, по-моему, вдвое большей, чем днем, помчал по улицам, все время тренькая на ходу, как будто со страху. Сошли мы на площади Славы — там, где вечный огонь и могила Неизвестного солдата. И пешком направились к Лавре. Пересекли знакомый Валькин двор. (Знала бы она, что мы сейчас тут! Храпит себе, десятый сон видит!)
Прошли за флигель и тропкой, что вилась среди цепкой колючей дерезы, начали спускаться к церкви Рождества Богородицы. В груди стучало все сильнее и сильнее. И что это за свойство такое у темноты — каждый кустик населять ужасными, странными существами, которые шевелятся там, гото¬
519
вые вот-вот кинуться на вас. Даже места, днем веселые-и светлые, кажутся ночью страшными и зловещими. А что уж говорить о кладбищах, церквах, подземельях, куда и днем-то не очень весело заходить.
Внезапно, словно извещая кого-то о нашем, приходе, покатился с неба звон. Раз... Другой....Третий... Мы остановились, вглядываясь в зловещую темноту. Было такое чувство, что колокол забивает нам в сердце какие-то ледяные гвозди. Бомм!.. Бомм!.. Бомм!..
— Чв... часы, на Лавре... двенадцать бьют! — прошептал Ява.
Мы пошли дальше. Мы не сговаривались, но оба старались ступать как можно тише, почти беззвучно — будто хотели, чтобы не услышал тот, кто подстерегал нас за каждым кустом. По спине и затылку бежали мурашки, словно чьи-то руки тянулись к нам из темноты и щекотали сзади. Я старался не оглядываться, чтобы вдруг не увидеть зеленые глаза.
Когда мы были уже у самых ворот, в кустах что-то зашуршало, там кто-то метнулся и вскрикнул. Мы присели, затаились, втянули головы в плечи. И я так стиснул пистолет, что чуть не выстрелил. Хорошо, что спусковой механизм у этого стартового рассчитан на спортсменов и очень тугой, а то я наверняка бабахнул бы с перепугу у себя в кармане. Пропали бы тогда мои новые шевиотовые брюки.
Прошла минута. Никто не нападал. «Это, наверно, кто-то из Будкиных друзей»,— решили мы, подняли головы и расправили плечи.
«Нельзя, чтоб они решили, что мы боимся,— подумал я,-^ нужно идти, печатая шаг, и смеяться...» Но мои ноги не слушались, и на плоских камнях сводчатого подворья «Звонницы на Дальних пещерах» пошли опять по-кошачьи — тихо и беззвучно. А смех так глубоко застрял у меня внутри, что даже сам я его не услышал. Зато я услышал другое. Из-за надгробия на могиле генерала Кайсарова вдруг донесся приглушенный голос:
— Да перестань... Раз уж так, заведем —и все... Никто уже не придет,.. Просто не смогли выйти из дому. Точно..,
Голос был знакомый, но не Будкин.
520
— Ошибаетесь! Мы пришли! — неожиданно громко сказал Ява.
Я даже вздрогнул.
— Га! — будто испуганно гакнули за надгробием. И на фоне неба над каменной глыбой появились три головы.
— А... это вы,— послышался голос Будки, в котором звучало, как мне показалось, не то разочарование, не то недовольство — будто он ждал кого-то другого.
Они вышли из-за памятника. Будка, за ним небольшой хлопчик, которого мы заметили еще во время драки, и высокий, худощавый малый в черной маске —должно быть, «чувак».
Я невольно вздрогнул; что ни говорите, а черная маска ночью, да еще в таком месте, производит нехорошее впечатление. «Да, приходится вздрагивать чуть не каждую минуту. Если дальше так пойдет, то я буду непрерывно дергаться и дрожать как в лихорадке. Нужно взять себя в руки»,— подумал я. Но брать себя в руки было не так-то просто — не давался я себе в руки!
— Фонарики у вас есть? — спросил Будка.
■— Нету,
— Это плохо.
Конечно, плохо, мы и сами знали. Но что поделаешь?.. Как назло, тот «динамический», что я когда-то подарил Яве, сломался, а «батареечного» мы как-то по глупости не достали и у дяди дома не было (вот если б знать, что у нас будут такие ночные приключения!). На всякий случай взяли мы коробку спичек. Да разве сравнишь спички с фонариком!
— Ну ничего, у нас есть, как-нибудь обойдемся.
Мне показалось, что Будка был даже рад тому, что у нас нет фонариков.
— Идем! — не давая нам опомниться, сказал Будка.
Мы вышли со двора Лавры за крепостную стену. От самого
подножия стены сбегала вниз деревянная узенькая лесенка с перильцами.
Над лесенкой нависли ветви деревьев, темно было, хоть глаз выколи, и казалось; что мы спускаемся в самую преисподнюю.
521
Откровенно признаться, мне было страшно и очень хотелось как-то дать понять этим крокодилам, что у меня есть пистолет, и если они что-нибудь, то я... Но как это сделать, я не знал.
Будка и «чувак» освещали дорогу карманными фонариками, но от этих двух дрожащих пятен света, что прыгали по ступенькам, было, по-моему, еще страшнее. Спустившись вниз, мы почему-то снова начали подниматься вверх (и опять- таки вдоль стены Лавры). Поднявшись немного, свернули направо и пошли по асфальтированной дорожке, которая извивалась между ветвистых деревьев. Шли молча. Наконец я отважился и шепотом спросил у Будки, который шел рядом со мной:
— А почему этот... в маске?
— Для конспирации,— таинственно прошептал Будка.— Я же вам говорил — его милиция ищет...
«Тю,— подумал я,— по-моему, в наши дни черная маска не только не маскирует, а наоборот. Если ты идешь, как все, то еще можно как-нибудь проскользнуть, чтобы тебя милиционер не заметил, а если ты в черной маске, милиционер тебя тут же — цап! — ив отделение».
И вдруг меня стукнуло, что теперь-то самое время сказать.
— Ничего,— говорю,— милиция нам до лампочки! У нас кое-что есть! Вот посвети.
Будка направил свет фонарика на мой карман, и я наполовину высунул стартовый пистолет.
— Что?!
— Да ведь мой дядя... (Тут я чуть было не сделал промашку, чуть было не сказал «в милиции работает», но вовремя спохватился — только ведь было «милиция до лампочки».) Ведь мой дядя пограничник,— говорю.—Так вот мы и прихватили у него на время «Макарова»... Как раз на случай милиции...
— А... а это... это здорово... это хорошо...— промямлил Будка. Такого он никак не ожидал.
Ява пристально посмотрел на меня — он стоял совсем близко, и при свете фонарика я хорошо видел его взгляд. Он означал: «А как же наш уговор насчет вранья и щелчков?» Я в
522
ответ кивнул: «Не бойся, мол, все правильно; если врагу говорят неправду, то это никакая не брехня, а тактика...»
«Чувак» и другой малый шли впереди, нашего разговора не расслышали и ничего не поняли. И когда мы двинулись дальше, Будка как бы ненароком оторвался от нас и приблизился к «чуваку».
— Что там такое? — тихо спросил «чувак»,
— У них пушка,—совсем тихо сказал Будка, думая, что мы не услышим.
Но у меня такой слух...
— Настоящая? — встревоженно прошептал «чувак».
— Системы Макарова... У него батька пограничник.
— Да?.. Она, наверно, без патронов.
Больше перешептываться они не смогли, так как мы их нагнали. Мы сделали вид, что ничего не слышали. То, что они пришли в замешательство, было ясно. И это хорошо! Пусть знают, что с нами шутки плохи. Если они задумают что-нибудь, мы им...
Мы свернули с асфальтированной дорожки и пошли по склону вниз, продираясь сквозь заросли. Потом остановились... При тусклом свете карманных фонариков мы увидели выложенный старым замшелым кирпичом вход в какой-то подземный коридор. Выбегая оттуда, журчал у нас под ногами ручеек.
— Вот она... пещера Лихтвейтеса,— торжественно сказал Будка.
— Лейхтвейса,— не без ехидства поправил Ява, (Приключенческую литературу мы знали не хуже их!)
Из пещеры «Лихтвейтеса» пахнуло сыростью и холодом. И мне показалось, что оттуда тянет могилой. Бррр!..
— Так, может, мы тут подождем, а он вынесет? — кивнул я на «чувака».
— Ну, если вы боитесь, пожалуйста...— насмешливо сказал Будка.
Вот гад! Ну ладно!
— Идем! — скрипнув зубами, сказал я.
Что бы там ни было, я должен достать часы!..
— Идем! —сказал Будка.
523
Первым в пещеру, пригнувшись, вошел «чувак», вторым Будка, потом я, за мной Ява, последним должен был идти маленький. (Но как потом выяснилось, он в пещеру даже не заходил, а сразу пустился домой.)
Подземный коридор был невысокий и узкий, идти можно было только гуськом, пригнувшись. Мы шлепали босыми ногами по мокроте, ноги сводило от холода. Я вдруг остро почувствовал, что я под землей,—вокруг меня сырость, потемки и страх. И земля будто давит на меня, душит сверху, со всех сторон. Ну точнехонько как в могиле.
«Чувак» и Будка, которые шли друг за другом впереди меня, освещали себе дорогу фонариками и сливались в один двухголовый, четверорукий и четвероногий силуэт. Мы повернули один раз, второй — вправо, влево.,. Мне уже казалось, что вот-вот (как это всегда бывает в приключенческих романах) мы выйдем в высокую, освещенную залу пещеры, где в большом сундуке с награбленными сокровищами лежат «наши» часы... И вдруг...
Вдруг мне словно накинули на голову одеяло. Двойной силуэт «чувака» и Будки исчез. Сплошная непроницаемая тьма окутала меня. Я невольно остановился. И сразу почувствовал, как Ява наткнулся на меня сзади.
*— Что?— приглушенно спросил он.
Эй! Где вы? — сдавленно крикнул я. И замер, напрягая
слух.
В ответ ни слова. Только черная, холодная подземная тишина. Лишь где-то в глубине этой тишины слышался шум воды — как будто из водосточной трубы.
— У-у, гады!—в отчаянии крикнул я.— Стой! Стрелять буду! — и, выхватив из кармана пистолет, что есть силы нажал на спуск.
Ба-бах! — полыхнув молнией, прогремел выстрел.
— Атас! — испуганно закричал кто-то совсем близко.
И что-то захлюпало по мокроте, будто десятки жаб бросились врассыпную. Потом вдалеке что-то шлепнулось, кто- то вскрикнул — и звук потонул в бездонной тишине.
Ява зашуршал спичками, вынимая- коробок из кармана. И вдруг — ой! — что-то упало в грязь.
524
—* Упустил,—растерянно прошептал Яна.
Я слышал, как он шлепал рукой по слякоти, разыскивая. Но напрасно — спички наши уже никуда не годились. И тут я почувствовал весь ужас и безвыходность нашего положения.
Мы были без огня, одни в запутанном подземном лабиринте, в полнейшей темноте. Выбраться отсюда можно было только наугад. Но можно было и совсем заблудиться. А если учесть, что в таких пещерах часто живут ядовитые змеи, летучие мыши, гигантские крысы и другая погань, то...
— А ну бахни еще раз, я найду...—жалобно сказал снизу Ява.
Я судорожно нажал на спуск. Ба-бах!.. На какой-то миг при вспышке я увидел виновато опущенные плечи моего друга. «Как он теперь, должно быть, переживает, что уронил спички»,— подумал я (в минуту беды всегда сочувствуешь ДРУГУ).
Внезапно где-то рядом раздался дрожащий Валькин голос:
— М-мальчики, не стреляйте! Что вы делаете?!.
Валька! Откуда она здесь?!
— Э-эй! Где ты? — радостно крикнул я.
■— Т-тут...— И в нескольких шагах от нас, за Явиной спиной, неожиданно вспыхнул фонарик.
— Да ты с фонарем! Вот здорово! А то мы спички потеряли,— бодро заговорил Ява, приосаниваясь. И он — в который уж раз — гордо глянул на меня: снова его Валька нам пригодилась. Да еще в такую минуту! Это уж прямо как в кино...
— А ты-то как здесь очутилась? — спросил я.
— Да потом... Идемте отсюда... Тут так страшно...
Да и то правда, поговорить мы еще успеем. И мы торопливо зашлепали к выходу.
У-ух!.. Как же хорошо из подземного, промозглого холода попасть в теплые объятия звездного летнего неба! И какими симпатичными кажутся эти хмурые темные деревья! Насколько лучше все-таки на земле, чем под землей!..
525
— А что это вообще за пещера? — спросил я, озираясь на черную разинутую пасть подземелья.
— Да это же дренажная система. Для отвода подземных вод,— сказала Валька.
И от этих будничных слов «дренажная система» подземелье сразу потеряло свою страшную таинственность и стало понятным, чем-то вроде канализации (хотя я и в канализацию ночью б не полез).
— Так что ж, они вас завели и бросили? Да? — спросила Валька.
— Да кто их знает,— пожал я плечами.— Они попрятались и молчат. А когда я стрельнул, они: «Атас!» — и побежали. Кто-то из них даже шлепнулся по дороге! Аж загудело!.. Если бы у нас был фонарик...
— Ой, мальчики! — схватилась Валька руками за щеки (даже фонариком себе по виску стукнула),— Там же колодцы! Может, он убился!..
— Что? Какие колодцы?
— Да дренажные! Вы слышали, вода шумит? Там идет коридор, а потом — раз! — колодец, а потом снова коридор. Там, где вы были, один ход на склоны выводит, а другой — к колодцу. А колодец глубокий, метра два, а то и больше. Ой, мальчики!
Мы с Явой переглянулись.
— Идем? — сказал Ява.
Я кивнул.
Это было все равно что утопленнику, которого только- только вытащили, снова лезть в воду.
— Дай фонарик,— сказал я Вальке.
Держа в одной руке фонарик, в другой пистолет, я сделал резкий выдох (как на старте) и первым нырнул в подземелье. Как-то уж так получилось, что во всей этой истории мне приходилось быть впереди. Из-за меня заварилась вся эта каша с часами, мне ее первому и расхлебывать!
Я шел и чувствовал себя разведчиком, что идет на смертельно опасное задание. Мне не было страшно ни капельки. Сзади сопел Ява, за ним шмыгала носом Валька. И вообще... мы же идем по самой обычной дренажной системе. Подума¬
526
ешь! Только чего это так тенькает под ложечкой? Вот еще эта «подложечка»!.. Тенькает, когда ее не просят... Ничего ведь страшного!.. Мы же идем вытаскивать Будку, который, может быть, убился, упав в колодец. Ой! Чтоб тебе!.. Прямо из-под ног у меня скакнула в сторону здоровенная жабища. Тьфу!
А вот и то место, до которого мы было дошли. Конечно! Вон еще и спички наши размокшие лежат. О, тут коридор заворачивает и разветвляется! Теперь ясно: они погасили фонарики и бросились за угол. А потом, когда я стрельнул, кинулись наутек. Один побежал этим коридором. А может, они оба побежали сюда? Тогда никто ни в какой колодец не падал и не убивался, и мы только зря идем. Ну и прекрасно! Что ж, разве я хочу, чтоб кто-то убивался? Боже сохрани! Но все-таки нужно пойти туда, к колодцу. А что, как... Шум воды сильнее и сильнее. Какая там водосточная труба, это уж самый настоящий водопад! Луч фонарика упирается в кирпичную стенку колодца, который, пересекая коридор, тянется сверху вниз. Я осторожно подхожу. И почему-то сначала смотрю вверх. Метра на три надо мной светлеет круг звездного неба, перекрещенный толстыми железными прутьями решетки.
Я направляю фонарик вниз. Сперва я вижу светлое, выбитое водопадом кирпичное дно колодца — там никого. И я уже решаю, что все в порядке. Как вдруг... Тут я чуть сам не упал в колодец от страшной неожиданности. Прямо под ногами у себя я увидел мокрое лицо Будки. Вцепившись растопыренными пальцами в пазы между кирпичами, он едва держался на отвесной стене колодца сантиметров за двадцать от края, где я стоял. Он промок до нитки — водопад задевает его по левому плечу. Я еще не понимаю, что он делает, но мне ясно: еще миг — и он сорвется вниз. И я рывком ложусь прямо в воду, не успевая сказать ни слова, только сунув назад Яве фонарь и пистолет. Обеими руками хватаю Будку за плечи. И только тогда хриплю:
— Ява, передай фонарик Вальке и помоги!
Еще мгновение, и Ява шлепается на живот рядом со мной. И уже вдвоем мы держим Будку за плечи. Теперь он не упадет, не сорвется... Но вытащить его вверх вот так, лежа, мы
527
не можем: он слишком тяжелый, а мы не геркулесы. Мы лежим и держим. Вода затекает нам в штанины, льется по всему телу и через ворот рубашки выливается в колодец. Что это такое, поймет лишь тот, кто испытает... Добавлю только, что вода Чдедяная.
— Мальчики! Ой! Что там? Ой! Ну скажите!—ойкала Валька, подпрыгивая сзади нас. Наши тела мешали ей подойти и самой заглянуть. И она, наверно, так и пошла бы по нашим телам (вы же знаете девчачье любопытство!), если бы не ухитрилась как-то поставить между нами свои ноги: сперва одну, потом другую, потом снова-—уже прямо возле моего носа... И наконец заглянула.
— Ой, Будка! Ой, Будочка! Ой, держись! Да лезь же, лезь! Ну тут же мало осталось. Ну пожалуйста, Будочка... Ну еще немного...— надрывалась она.
Я уже хотел крикнуть ей, чтоб она замолчала (кудахчет, как наседка, тоже мне помощница!), и вдруг почувствовал, что Будка лезет...
Валькины причитания подействовали на него боль-
ше, чем наши усилия. А усилия наши были прямо-таки титанические. Я так тянул, что казалось, вот-вот у меня что-то лопнет в груди. Я только тут понял, какие же мы с Явой слабаки. А мы-то себя воображали Власовым и Жаботинским среди васкжовских ребят. Ведь мы выжимали кусок рельса, в который звонят на обед в нашем селе,— Ява девять, а я семь раз... А «запорожец» Карафолька еле-еле три раза, а уж Коля Кагарлицкий так и совсем выжать не мог. И когда мы сжимали свои бицепсы, ведь они нам казались тверже, чем тот рельс. А теперь... В голове у меня почему-то все время крутятся слова: «Ох, нелегкая это работа — из болота тащить бегемота...», «Ох, нелегкая это работа — из болота тащить бегемота...», «Ох, нелегкая это рабо...» Ну прямо как испорченная пластинка... Вот ведь бывает: прицепится какая-нибудь песня или слова — и крутятся, крутятся, крутятся в голове.
Будка уцепился руками за край колодца. Мы уже не лежим, мы стоим на коленях и тянем, тянем, тянем из последних сил. Валька тоже вцепилась одной рукой в Будкин ворот и тоже тянет. Вот уже Будка уперся руками, вот уже коленями встал на край... У-ух... С дрожью в ногах от усталости я поднимаюсь.
— Идемте, идемте быстрее на воздух...— затараторила Валька.— Вы все такие мокрые! Вы же простудитесь...
— Постой! А ну посвети, посвети...— нагнулся Ява.— Пистолет... Я его где-то здесь бросил... где-то здесь... Вот!
Он поднял мокрый, в грязи пистолет. Будка взглянул:
— Стартовый? Я... с-сразу догадался,— сказал он, лязгая зубами и шмыгая носом.
«Чего же ты тогда так драпанул, что прямо в колодец угодил?» — подумал я. Но промолчал. Неудобно было...
— Идем, идем... Вы же заболеете... Там поговорим,— тянет нас Валька.
Да мы и не собираемся тут задерживаться — мокрая одежда липнет к телу, зуб на зуб не попадает. И вот снова теплый и такой легкий-легкий воздух охватывает меня со всех сторон.
— Мальчики, выжимайте! Немедленно выжимайте одежду! Я отвернусь... Я не буду на вас смотреть... Вы что, ненор-
18 Библиотека пионера, т. 4
529
мальные?! Немедленно выжимайте! Я уже отошла и отвернулась... Ну!
Ну и упрямая она! И вот мы стоим и выжимаемся. Все остатки сил, что у нас еще были, мы вкладываем в то, чтобы выжать воду из своих брюк и рубашек. Вода журчит на землю. Мы кряхтим и сопим. А Валька стоит в отдалении спиной к нам и, не оборачиваясь, командует:
— Лучше, лучше выжимайте, не ленитесь...
— «Лучше»... Какая умная!—скриплю я.
— Сама бы попробовала... Когда оно не выжимается,— бурчит Ява.
— Говорить легко...— подает голос Будка.
И то, что мы все трое одинаково голые, и то, что все лязгаем зубами и бурчим на Вальку,— все это объединяет нас с Будкой. И я не чувствую почему-то той злости и ненависти к нему, что раньше, хотя он заставил нас пережить это страшное подземное приключение. И с часами еще ведь неизвестно что...
И вот что удивительно: если ты сделаешь человеку что- нибудь хорошее, он тебе становится приятным. И наоборот: тот, кому ты сделал что-то плохое, неприятен тебе.
— Где час-ы-ы? — не столько спросил, сколько пролязгал я зубами, выкручивая штаны.
— Есть, не волнуйся... С-сейч-а-ас получишь...— залязгал в ответ Будка, выжимая рубашку.— А-а, да это такой «чувак»! Б-барахло, а не «чувак»! Смылся... И вообще я про «чувака»... все выдумал. Это Вовка Иванов... Она его знает...
— Как?! А часы?
— Да есть... У него. Они из кармана выпали, когда Вовка тебя с меня стаскивал... Сперва мы хотели сразу отдать, а потом... я придумал вот это самое, с «чуваком», чтоб было интересней... И чтоб вас попугать...
— Ха! — сказал я (мол, кого хотели испугать?!).
— Мы думали завести вас, а когда вы начнете плакать, вывести. Но мы договаривались все вместе это сделать. А пришли только я и Вовка с младшим братом. Ну и...
— Ты думаешь, так легко ночью уйти из дома! — подала голос Валька.— Я целый час в туалете просидела... пока все
530
обо мне забыли и заснули. И тогда — через черный ход. Тебе хорошо, у тебя дома никого, мать в ночной смене. И Вовка с братом на веранде спят, я знаю...
— А ты... как тут очутилась? — спросил я, судорожно натягивая штаны (Ява и Будка были уже одеты). Я знал: раз она начала говорить, сейчас обернется. Где вы видели, чтоб девчонка долго говорила, стоя к вам спиной.
— А мне Юрка Скрипниченко ска... Ой! Я не смотрю, я не смотрю! Юрка Скрипниченко сказал. Я только из студии от Максима Валерьяновича приехала (рассказала ему все, что случилось с часами)... Иду — Юрка Скрипниченко. Говорит: «А мы сегодня ночью твоих дружков в пещере давить будем!» Что?! «Как?» — говорю. «А так»,— говорит. И рассказал... Ух я разозлилась! «Вы все бандиты! — говорю.— А ты еще и предатель, своих выдаешь...» Он меня за косу... А я его трах по спине...
— Ничего... Мы с ним еще поговорим... А сейчас идем Вовку искать,— сказал Будка.— Он совсем убежать не мог... Он где-то здесь.
И Будка повел нас по кустам, через цепкий чертополох и жгучую крапиву в яр.
Так вот оно что! Напугать нас хотели... Выдумали все — и про «чувака», и про милицию, и про тайник в пещере. А мы поверили! Как дураки. Как малолетки. Тут и слепому было бы видно, что все это брехня. Подземелье. Двенадцатый час ночи... черная маска... Даже в книжках теперь уже так не пишут. Позор! Ну ж... Пусть только отдаст часы! Это все только из-за часов. Если бы не часы или если бы это были мои ча~ сы, я б вообще... Пусть только отдаст часы!.. А что мы ему сделаем?.. Налупцуем? Как-то нет настроения...
— А вы молодцы! — вдруг сказал Будка.— Не побоялись. И часы-то ведь не ваши. Могли бы просто плюнуть, и все. С вами в разведку можно идти.
Ну вот видишь! Как же ты его налупцуешь после этих слов! Медом разлились по нашим сердцам эти слова. Похвала, услышанная от врага,— высшая похвала. Постой, а откуда он знает, что это не наши часы? И только я раскрыл рот, чтобы спросить, как из темных кустов, совсем близко, послы-
531
шалея тихий свист. Будка свистнул в ответ. Зашуршали вет* ки, и из кустов вышел «чувак» — Вовка. Он был все еще в маске.
— Давай сюда часы! Барахольщик! — приказал Будка.
— А ты-то кто? Тоже мне! Подумаешь! — Вовка снял маску. Это был тот самый долговязый хлопец, который двинул меня тогда по ноге.
— Ты давай, давай, а не болтай! — раздраженно повторил Будка.
— На! Очень они мне нужны... — Вовка вытащил из кармана часы.
У меня радостно забилось сердце. Наконец-то! До последней минуты я боялся, что случится что-нибудь и часов я не увижу.
Будка взял у Вовки часы и протянул мне (видно, он собственноручно хотел их отдать) г
— Бери.
— Спасибо! — как-то само собой вырвалось у меня.
— Пожалуйста,— испытывая неловкость, буркнул Будка.
Я не положил часы в карман. Я не доверял больше карманам. Я зажал их в руке и решил не выпускать, пока не приду домой и не положу под подушку. Никакая сила не смогла бы теперь отобрать у меня часы.
Мы пошли назад той же дорогой. Снова возле крепостной стены по узенькой деревянной лестнице, почти в полной темноте, лишь едва разбавленной светом двух фонариков (только теперь один из них был Валькин — Будка свой разбил в колодце) .
— Откуда ты знаешь, что часы не наши? — наконец спросил я.
— Мы все знаем... — таинственно сказал Будка.
— Да нет, серьезно.
— Да это ее брат,— он кивнул на Вальку,— сказал его брату,— он кивнул на Вовку,— вот и все. Они дружат.
— А-а...
— Слушай, Будка,— сказала вдруг Валька,— а чего ты полез вверх по колодцу? Ты же мог через нижний туннель выйти на склон.
532
— А!—махнул рукой Будка.
— Что «а»! Серьезно.
— А что, если бы они пошли не в ту сторону? И заблудились бы? Отвечай потом, так ведь? У них же ни фонарика, ничего.
— И пистолета не побоялся?
— А я бы кричал...
Ты смотри! Да этот Будка почти герой — лез нас спасать! Вот тут и разберись в людях. Вроде бы отрицательный тип, и вдруг... Нет, не так оно просто сказать, что человек — отрицательный тип.
— Слушайте,— сказала Валька,— а как же вы доберетесь домой? Трамваи-то уж не ходят.
— А что там добираться! — сказал Будка.— Спустятся к бульвару «Дружба народов», а там по автостраде — и до Печерского моста. Я их проведу... до клумбы... Чао!
— Чао! — сказал Вовка.
— Пока! — сказала Валька.
— Бывайте! — сказал Ява.
— Спокойной ночи! — сказал я.
Мы разошлись. Валька пошла в свой флигель (через черный ход). Вовка пошел в Лавру (он жил на территории Лавры). А мы с Будкой прошли через одну большую кирпичную арку, через другую, потом спустились по узкой, мощенной булыжником улочке. И все это молча, без единого слова. При Вовке и Вальке Будка был разговорчивым, а как остался с нами, замолк. Видно, он чувствовал себя очень неловко перед нами. Да и нам хотелось поскорей расстаться с ним. Когда мы дошли наконец до автострады, Будка сказал:
— Идите вот так прямо — выйдете как раз к Печерскому мосту!.. Чао! — и помахал нам рукой.
Страх не люблю, когда слово, сказанное тебе, ты не понимаешь. Эх, что б ему такое ответить? Раздумывать было некогда.
— Цоб! — сказал я.
— Цобе! — подхватил Ява.
Мне казалось, что горожанин Будка примет наш «цоб-цо- бе» за какое-то жаргонное словечко. И действительно, он са¬
533
мым серьезным образом помахал нам рукой и пошел назад. А мы поплелись по автостраде. Но если вы думаете, что на этом наши ночные приключения закончились, вы зря так думаете.
Мы подошли к дому под теткин балкон. Веревка наша была на месте. Дом спал, даже окна, где справляли новоселье, уже не светились.
Ява по своей привычке хотел было лезть первым. Но я решительно оттолкнул его: забыл, что ли? Я же сегодня предводительствую, вот еще! Дурень я, дурень... Если б я знал! Но я ничего не знал.
Я полез вверх. Дали все же себя знать силовые упражнения по вытягиванию Будки. Тяжело было лезть, ох как тяжело! Я и не думал, что так будет. Все мускулы мои ныли и болели. Руки сводило, плечи будто кто ножом резал, ноги все время.теряли веревку, и я беспорядочно сучил ими, как распеленатый младенец. Каких-то три метра — и такая пытка! Хорошо хоть, что дом малогабаритный: высота потолков два семьдесят пять. Подлезая к балкону, я уже пыхтел, как насос. Еще, еще немного, и я схвачусь за железные прутья балконных перил. И вдруг надо мной раздался вопль: «Воры!» — и я увидел что-то белое в черном провале окна (то была комната, где спали дядя и тетя).
...Все произошло так молниеносно, что я не успел опомниться. На балконе возникла, как привидение, тетя в белой ночной рубашке. В руках у нее было что-то черное. Она перегнулась через перила и с восклицанием: «Так вот же тебе!» — опрокинула это черное прямо на меня. Что-то шлепнулось мне на голову и полилось в глаза, за уши, за шиворот, в штаны и до самых пяток. Я почувствовал на губах знакомый сладкий вкус и понял: тетя выплеснула на меня из кастрюли свой любимый вишневый компот, что стоял на балконе. Ошеломленный, едва держась за веревку, я отфыркивался и отплевывался, стряхивая с головы вишни.
Но тетя считала, что это еще не всё. Я вовремя заметил, как в руке у нее блеснул нож. И догадался: сейчас она резанет по веревке, и я шмякнусь на землю.
— Тетя, не режьте!.. — не своим голосом закричал я.
Нож выпал у нее из рук и больно ударил меня рукояткой
534
по макушке. Я не удержался и съехал по веревке вниз. На земле не устоял на ногах и сел прямо в компот, который лужей растекся как раз подо мной. Только тогда тетка наконец закричала сверху:
— Ой, Павлуша, это ты?
— Нет, не я! — проворчал я, сидя в компоте.
Ява не сдержался и отрывисто хохотнул, как будто его кто-то неожиданно защекотал под ребрами.
Тетя совсем опомнилась и запричитала:
— О господи, как же ты здесь очутился? Что тебя среди ночи на веревку под балкон потянуло?! И Ваня тут? Вы что, очумели? Что вы тут делаете?..
— Да не кричите, тетя, людей разбудите! — сквозь зубы проговорил я, поднимаясь с земли и брезгливо обирая со штанов раздавленные вишни.
Тетя наконец смекнула, что она не в бальном платье, а в ночной рубашке и не стоит в таком виде знакомиться с новыми соседями. Сказавши нам: «Идите, я сейчас открою», она исчезла.
Поднимаясь по лестнице, мы хорошо представляли,
как должны себя чувствовать бойцы, сдающиеся в плен. Больше всего беспокоило то, что же мы сейчас скажем тете, как объясним свое странное поведение. Говорить правду после всего пережитого просто не было сил — уж очень много пришлось бы рассказывать. Но тетя ведь не отстанет, сказать что-то придется.
— Ява, отменим до утра щелчки, прошу тебя,— слабым голосом сказал я.— Утром на все готов...
— Ладно,— сказал Ява.
Времени было в обрез. Нужно что-то выдумать немедленно. Головы наши работали, как счетные машины,— миллион операций в секунду! Но выдумали мы всего лишь примитивную брехню: будто мы поспорили, кто из нас быстрее заберется по веревке на балкон. А почему ночью? Так ведь днем никто не позволил бы.
И когда тетя, уже в халате, открыла нам дверь, мы очень правдиво выложили ей эту выдумку. Тетя была мужественная, решительная — в этом вы только что убедились,— но добрая женщина и очень меня любила (может, потому что своих детей у нее не было). И она поверила. Компот нам в этом даже помог: тетя не заметила, какой мокрой и жалкой была на нас одежда. Мы все свалили на компот, Для этого я посоветовал Яве обляпать компотом свои штаны и рубашку, как будто и на него попало. Хотя его, чертяку, ни одной вишенкой не задело! Вся порция мне досталась.
Тетя чувствовала себя страшно виноватой перед нами и очень извинялась.
А потом сказала:
— Такой компот был! На три дня варила. Я же думала, что воры. Жалость-то какая...
И непонятно было, что ей жалко: нас или компот.
— Тетя, вы дяде пока... не говорите,— попросил я, прислушиваясь к до-ре-ми-фа-солям в соседней комнате и боясь, как бы дядя не проснулся. Он был вспыльчивый и под горячую руку мог посадить нас на поезд и отправить «к чертовой матери домой».
— Хорошо... А компот? Ну ладно, екажу, что нечаянно опрокинула, когда ночью на балкон выходила свежим возду¬
536
хом подышать. Только чтоб вы мне больше такие номера не откалывали! Ну, раздевайтесь — и в ванну. А я вашу одежду почищу да сушить повещу. Ну, быстро!
Мы живо разделись, Я ловко, чтоб тетка не заметила, снял с руки часы — их я надевал перед тем, как лезть,— и положил под подушку.
Вы когда-нибудь мыли посуду? Припоминаете запах? Точно так же запахло, когда мы с Явой залезли в ванну. Словно то не люди мылись, а две кастрюли из-под компота.
И вот мы уже в постели. И уже проваливаемся-провали- ваемся в сон. У-ух... Наконец-то кончились наши ночные приключения. Наконец-то... Наконе... Хр... Хр... Хр-у-у-у...
Глава XIV
„ВНИМАНИЕ!.. НАЧАЛИ!.. МОТОР!“ ЧАСЫ НАХОДЯТ СВОЕГО ХОЗЯИНА. РОЖДЕНИЕ ЯВЫ СТАНИСЛАВСКОГО И ПАВЛУШИ НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО
Снилась мне какая-то страшная чертовщина. Какое-то мокрое могильное подземелье... Я ползу по нему. Совсем один в полной темноте. Но все вижу: на сводах висят летучие мыши, по стенам сбегает вода, а внизу, под ногами, текут какие-то грязные помои. Внизу вдоль стен сидят отвратительные пучеглазые жабы. И в голове у меня мысль: «Да я, оказывается, умею видеть в темноте. Вот не знал! Оказывается, мне никакого фонарика не нужно... Видеть в темноте — это мне, как дураку с горы сбежать!..» И я ползу, и мне не страшно, а все потому, что я умею видеть в темноте... Вдруг я вижу — ниша в стене... И в этой нише сидит (на здоровенном кресле-троне, на каких когда-то цари сидели, наша стосемилетняя бабушка Триндичка. И говорит она мне голосом учительницы Галины Сидоровны:
«Ты чего это часы наши царские до сих пор не отдаешь, поганец?»
Я удивленно смотрю на нее и отвечаю:
«Часы я отдам, не волнуйтесь. Но почему вы ругаетесь на
537
меня? Нам в школе всегда замечания делали за грубость, а сами ругаетесь. Нехорошо».
«Да ты еще и огрызаться, шмаровоз?! Вот сейчас как дам!»—уже голосом моего друга Явы говорит бабушка Триндичка, хватает меня за шиворот и кидает в колодец. И вот я лечу, лечу, лечу... И вдруг чувствую, что кто-то меня держит за плечи. Стойте, да это же я сам. Лежу ничком над краем колодца и держу себя за плечи, себя, который висит в колодце... И то я... И это я... И мне не странно, что нас — двое. «Закон парности!» —думаю я спокойно.
И тут я слышу голос своего дяди:
— А что это за тела лежат? Чьи тела?
Я открываю глаза. И мне кажется, что сон еще продолжается. У тахты стоит дядя. В одной руке он держит стартовый пистолет, в другой... наше письмо, которое мы оставляли вместо пистолета (ой-ой-ой, мы же забыли про письмо!).
— Хватит спать, трупы! Уже одиннадцатый час... Так где были ваши тела сегодня ночью? Признавайтесь,— сурово говорит дядя и читает: — «Ищите наши тела в подземельях Лавры...» Приятное вы мне занятие готовили, что и говорить. Между прочим, это на ваши тела опрокинули кастрюлю с компотом? А? А то я этой женщине,-—он кивнул на тетю,— не верю!
Тетя стояла рядом и расстроенно смотрела на нас. «Я не виновата, голубчики! — говорил ее взгляд.— Но зачем же вы меня, старую, обманули?»
Мы с Явой переглянулись и глубоко-глубоко вздохнули. А потом я откинул одеяло, сел и сказал Яве, подставляя лоб:
— Бей! Не меньше шести!
Ява тоже сел и говорит:
— И ты мне... Вместе заработали... Поровну...
И мы одновременно влепили друг другу по шести щелчков. Пока мы это делали, дядя молча переводил взгляд с Явы на меня и с меня на Яву, а потом сказал:
— Я не знаю, что это означает. Меня это мало интересует. Но делаете вы правильно. И я хочу поддержать вас и добавляю каждому от себя. Прошу!
И дядя так залепил по лбу сперва мне,, а потом Яве, что мне показалось, будто голова моя треснула, как кавун, на две
538
половины и из обеих посыпались искры. Вы бы видели дядины пальцы — каждый как сарделька.
— А теперь рассказывайте,— приказал дядя.
— Да подождите... Все из головы вылетело! Так бьют, да еще и рассказывай... — простонал я, хватаясь руками за голову и будто скрепляя две ее половинки.
Под моей рукой росла на лбу здоровенная гуля. Я глянул на Яву. На его лбу фиолетово наливалась точно такая же. Я смотрел на Яву, как в зеркало: одновременно и чувствовал и видел, как растет моя шишка, хотя то, что я видел, было не мое, а Явино. Позднее я узнал, что у кинематографистов это называется — синхронно.
— Ой, что же ты наделал?! — застонала тетка.— Так ведь детей и поубивать можно!
— Ничего, ничего,— спокойно сказал дядя.— Они хлопцы крепкие, выдержат.
— Да, вам ничего! А как мы теперь в кино сниматься будем?— трагическим голосом сказал я.
— Что? Какое кино? А ну рассказывайте!
— Да вы хоть холодное приложите. Нате вам ложки! — кинулась к буфету тетка.
Мы приложили ко лбам ложки. Й вот так, держа их, начали рассказывать. Все. Честно. Исповедь наша, как пишут в газетах, неоднократно прерывалась рукоплесканиями и разными возгласами, так как тетка только и делала, что всплескивала руками и восклицала: «Ох господи!», «Ну ты смотри...», «Ай-яй-яй!»
Рассказали мы самое главное — про часы и показали их («О господи!»). Рассказали про Вальку и про Будку, про наши бои и ночные приключения («Ай-яй-яй!»). Рассказали про Максима Валерьяновича, про киностудию («Ну ты смотри...»).
Кончили тем, что вот-вот приедет за нами ассистент... Что теперь будет?
— Ну, ребята, я же не знал... — сказал дядя.— Я же не знал, что вы — артисты... Ведь ваших фотографий на улицах еще не продают... Нескладно получилось. Неудобно высвечивать синяками на весь Советский Союз... Вам нужно было не
обманывать, а сразу честно признаться... Что ж мы теперь ассистенту скажем?
И тут — буквально как в пьесе — только дядя сказал эту реплику, в дверь постучали. Тетка побежала открывать, а мы с Явой в бешеном темпе (вот, знаете, как в кино ускоренная съемка) начали одеваться. Ассистент вошел как раз в тот момент, когда мы, надев уже штаны, одновременно сунули головы в рубашки (таким образом ни ассистент наших лиц, ни мы ассистента не видели).
— Здрасте, здрасте, я за вашими героями,— весело сказал ассистента—Ребята вам, наверно, уже говорили.
— А как же,— как-то виновато сказал дядя.— Только они сегодня, к сожалению, немного... так сказать... не фотогеничны.
В этот момент мы просунули головы в рубашки, и ассистент увидел наши гули.
— Гм,—сказал он.— Привет, молодцы... Что ж это вы... А впрочем... — Он отошел, прищурился, посмотрел на нас как- то сбоку.— По-моему, ничего. Может, даже еще лучше будет... для типажа... для образа. Едем!
— Да пусть хоть позавтракают,— засуетилась тетя и побежала на кухню.
— А вы еще не завтракали? — удивился ассистент.— Уже ведь обед скоро.
— Мы не хотим! Не хотим! — отчаянно закричали мы с Явой, как будто нас резали. Чего доброго, ассистент передумает, пока мы будем завтракать!..
— Ой, тетя, не нужно ничего!— кинулся я в кухню и зашептал ей на ухо: — Я вам никогда не прощу! Никогда не прощу, если из-за вашего завтрака...
— Ну хоть возьмите с собой по бутербродику,— плаксиво сказала тетя.
— Давайте, только быстрей, а то он уйдет,— прошипел я.
Тетка забегала, закрутилась по маленькой кухне, как наседка. Разлила постное масло, разбила тарелку, но все же упаковала нам* наконец, два «бутербродика», которые весили, должно быть, килограмма полтора. Мы. не стали спорить, чтоб не терять времени.
540
— Сейчас заедем к Максиму Валерьяновичу — и на сту* дию,— сказал ассистент, подводя нас к «газику», который стоял у дома.
...Когда мы подъезжали к Лавре, я подумал про Вальку. Нужно было бы взять ее на студию... Она столько для нас сделала! Почему ей нельзя?.. Пусть стоит где-нибудь там, сзади. Раз есть в фильме мальчишки нашего возраста, может быть и девчонка... Тем более, такая девчонка! Которая могла одна пойти против целой оравы... Которая не побоялась ночью спуститься в подземелье... Которая вообще ни черта не боится!
— Слушайтеу— сказал я ассистентуг— а можно, чтоб с нами одна тут девчонка поехала?
— Девчонка? — усмехнулся ассистент.— А хорошая?
— Во какая! — поднял вверх большой палец Ява.— Просто хлопец, а не девчонка... Вы ее, должно быть, видели. Она вчера была с нами на студии.
— Правда, велено мальчишек, а впрочем...
— А ее можно загримировать под мальчишку. Никто и не заметит, честное слово! — с жаром сказал Ява.
— Ну что ж... Катайте за своей девчонкой. А я пока заберу Максима Валерьяновича. Ждите меня тут, возле таксомоторного парка.
Мы вылезли из «газика», и ассистент поехал.
У Валькиного подъезда Ява остановился, потоптался на месте, потом потрогал свою шишку и сказал:
— Может, кто-то один ее крикнет... Чего обоим бить ноги?
Вот крокодил! Он стыдится своего вида! Все равно же она
заметит — рано или поздно!
И я сказал:
— Как хочешь, можешь идти один ты. Я не против. Она же больше твоя подруга, чем моя.
— Да нет уж, идем вместе... Просто я думал...
Что бы он там ни думал, а пошли мы все-таки вдвоем. Пошли, прикрывая ладонями свои лбы. Далеко идти нам не пришлось. Мы сразу встретили Вальку. Прямо у подъезда.
— О, здрасте! — радостно воскликнула она.— Ну, как у вас? Все хорошо? Дома не влетело? Чего это вы за головы держитесь?
541
— Здорово, здорово!—увернулись мы от ответа.— Мы за тобой... Едем на студию,.. Ассистент сказал...
— Неужели? Едем! А, да это у вас шишки на лбу!
Углядела-таки! Больше скрывать не было смысла. Мы опустили руки.
— А я знаю, а я знаю, отчего это! — простодушно сказала Валька.— Это вы, наверное, опять щелчки друг дружке давали... Точно?
Мы молча кивнули. И тут увидели Будку. Он шел по двору хмурый и насупленный и не замечал нас.
— Ой, а* вы знаете,—зашептала Валька,— Будке так попало, так попало... Мать вернулась с работы раньше, чем обычно. Он пришел, а она дома. А вы же видели, какой у него был костюм... Такое было!.. Мне его жалко... И вообще он не такой уж плохой. Во всяком случае, не слабак, как некоторые... Хотя бы этот самый Юрка Скрипниченко...
Мы с Явой переглянулись. И, по-моему, одновременно подумали об одном и том же. Нужно взять его на киностудию!..
Ведь нам режиссер прямо сказал, чтоб мы прихватили одного-двух хороших хлопцев. И мы возьмем Будку. А что? Пусть сыграет в кино. Пусть прославится наш вчерашний враг, который завел нас в подземелье и думал напугать до смерти... Пусть! Нам хотелось быть сегодня добрыми и великодушными.
Будка не сразу понял, чего мы от него хотим.
— Га? Что? — повторял он, хлопая глазами.
— Да на киностудию... В кино сниматься... Не хочешь? — втолковывали мы ему.— Ты что, спятил? От такого отказываться...
Словом, когда ассистент, как договорились, подъехал к таксомоторному парку, нас было четверо.
Ассистент был человек наблюдательный. Заметив, кроме Вальки, еще и Будку, он сказал:
— Ясно... Значит, в пропуске нужно поставить цифру четыре? Я не ошибся?
— Ага,— улыбнулся Ява.
Максим Валерьянович, который сидел- в машине, встретил нас, как всегда, шутливо:
542
— Привет, господа хорошие! Ничего не спрашиваю. Вижу: все в порядке... Были серьезные бои, но победа на нашей стороне... Так?
Я молча кивнул и отвернул рукав левой руки, на которой были часы.
— Вот и хорошо... Вот и хорошо.— Максим Валерьянович как-то загадочно усмехнулся.
— А что, не нашли еще того... царя? — спросил я.
— Посмотрим, посмотрим... — И он снова усмехнулся.
Мне показалось, что он что-то знает, но почему-то не хочет сказать. И одновременно я чувствовал: то, что он знает, добрая весть.
— Ну скажите, ну пожалуйста... — нетерпеливо попросил я.
— Терпение, господа, терпение! Все выяснится на студии... Кино, дорогие товарищи, самое удивительное чудо двадцатого века...
Все эти загадочные слова еще больше распаляли. Меня взяло такое нетерпение, что я не мог усидеть на месте: все время крутился и заглядывал в окно — когда ж эта студия...
И вот снова низкие ворота. Снова щиты с крылатыми словами. Снова: «В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли...»
«Вот ты еще, ей-богу! Никогда, наверно, не быть мне человеком»,— подумал я, трогая свою гулю.
Мы подъехали к тем самым дверям, что крутятся, и вылезли из машины.
— Придется нам сейчас разлучиться, господа,— сказал Максим Валерьянович.— Мне в павильон, а вам на озеро... Мы в разных картинах... Запомните этот день, воробьи. Может, для кого-то из вас он будет историческим и знаменательным на всю жизнь. Как знать, может, кто-то из вас станет в будущем настоящим артистом. И будет вспоминать этот день, как творческое крещение. Ну, ни пуха ни пера. У меня эпизод маленький, как освобожусь, приду на вас посмотреть.
И Максим Валерьянович пошел к дверям, а мы направились по асфальтовой дороге. Мы чувствовали какую-то торжественность, как будто он только что посвятил нас в артисты.
543
Пройдя немного, мы увидели слева белый бюст крутолобого мужественного человека. Нам показалось, что этот человек с крыльями и похож на какую-то гордую белую птицу. То был Александр Довженко, писатель и режиссер, чье имя носит Киевская киностудия. Мы смотрели его фильмы «Земля», «Сумка дипкурьера», «Щорс» (их показывали позапрошлый год в нашем клубе). Вот это фильмы! Особенно «Щорс». Люблю такие фильмы — про героев. И «Поэму о море» мы видели, и «Повесть пламенных лет»... А «Зачарованную Десну» — и книжку читали, и кино видели. Очень интересная там прабабушка, которая ругается. Так даже наш Бурмила не умеет. Словом, Довженко мы знали очень хорошо.
И то, что сразу после «благословения» Максима Валерьяновича мы прошли мимо Довженко, придало словам старого артиста какой-то особенный вес и значительность и настроило нас еще более торжественно.
Асфальтовая дорога сворачивала влево, к большому серому зданию, а мы пошли прямо по тропке мимо каких-то длинных сараев. Возле них в беспорядке стояли возы, тачанки, сани, как на колхозном дворе. Причем некоторые старые-преста- рые — будто из музея взятые, а другие новенькие — только что сделаны. И совсем крепкие были, и поломанные. Стали попадаться остатки каких-то декораций: там часть стены с двумя колоннами и окном (наверно, от помещичьего дома); там поломанная лесенка с перилами — все, что осталось от какого-то капитанского мостика; а вон пушка стоит, низенькая, на колесах, со спицами, как у телеги,— прапрабабушка современной артиллерии. А в одном месте прямо кучей навалены какие-то обломки размалеванной фанеры, куски картона, черепки.
Неожиданно из-за кустов блеснула вода. Озеро. Мы подошли к нему. Обычное небольшое озеро. Настоящая мокрая вода, настоящие живые лилии, настоящая осока, настоящие ивы склонились над водой; и шаткий мостик-кладка, перекинутый с берега на берег,— тоже настоящий. И все-таки нет, не обычное озеро! Кинематографическое. Посередине плавал небольшой дощатый плот на железных бочках-понтонах, и на том плоту растопырилась трехногая киносъемочная камера, около которой возятся двое в спецовках. Тут же, рядом с кинокамерой,
544
-торчит на железной подставке головастый прожектор. А на том берегу стоят люди в таких же спецовках и держат большие деревянные щиты, обклеенные серебряной бумагой, той самой, в которую дорогие конфеты заворачивают. И этими щитами пускают здоровенных солнечных зайцев на мостик, где стоит дореволюционный царский жандарм в мундире, с саблей. Рядом с ним — мужчина в косоворотке. Оба курят и о чем-то мирно разговаривают.
На этом берегу — грузовик-фургон, похожий на те, что хлеб развозят, приглушенно ворчит, как собака, которая собирается -гавкнуть. И не в моторе ворчит, а в самом фургоне. Как мы потом узнали, это был так называемый тонваген, который записывает звук. А в траве извивались, переплетаясь друг с другом, как змеи, толстые резиновые кабели. Ух сколько этих кабелей! Одни к тонвагену тянутся, другие ныряют в озеро, прямо в воду, и у самого плота выныривают, чтоб в кинокамеру и в прожектор вползти... А еще по земле раскиданы обитые железом ящики, стоят лавки, стол какой-то. И посреди всего этого люди суетятся, кричат, ругаются. Среди них заметил я женщину в белом больничном халате. «Ну вот... Значит, и вправду небезопасное дело — киносъемка. Недаром у них в вестибюле аптекой пахнет... а тут врач...» — где-то в глубине сознания шевельнулась у меня мысль. Но дальше подумать я не успел... Уже знакомый нам лысый Женя (Евгений Михайлович), в охотничьих высоких сапогах, таких высоких, что выше некуда, топтавшийся возле кладки, вдруг увидел нас и закричал:
— Что ж вы запаздываете? Срываете мне съемку!..
И, взбаламутя воду, заспешил на берег.
— Привет, старики!
Шлепая сапогами, он подошел к нам. Подошел, склонился, пристально вглядываясь в наши лица, потом выпрямился и сурово глянул на ассистента:
— Что это за инвалиды? Я их не знаю...
У меня замерло сердце.
— Что это такое, я спрашиваю!.— уже на нас строго смотрел он.—Что вы все—с ума посходили?! Как сговорились! Тот заболел, а эти... Что это за гули? Разве я; просил вас подгото¬
-545
вить на сегодня шишки на лбу? Я шишки не заказывал!.. Такой был типаж... Я-то радовался! Испортили все дело!..
И вдруг —как будто только что и не он кричал,— тихо и дружелюбно проговорил, подморгнув нам:
— Ша, хлопцы, все в порядке... Гули, конечно, не нужны, но у нас есть для этого Людмила Васильевна... Людмила Васильевна! — позвал он женщину в белом халате. (Та тут же подбежала.) —Людмила Васильевна, зашпаклюйте им, пожалуйста, эти... штуки. И вообще сделайте им лица.
Людмила Васильевна открыла свой чемоданчик. В нем были какие-то щеточки, кисточки, тюбики, баночки, краски, какая-то замазка, похожая на пластилин... Словом, разные причиндалы для гримирования.
«Тю,— мелькнуло у меня в голове,— я-то думал, что это врач на всякий несчастный случай, а это гример, вроде парикмахера...»
Людмила Васильевна сперва взялась за Яву, он был ближе к ней. Раз, раз, раз!.. Чем-то подмазала, подкрасила, припудрила — и шишку как корова языком слизнула. Потом Людмила Васильевна взялась за меня. Было как-то непривычно и щекотно чувствовать нежные прикосновения гримера, который что-то тебе на лице мазал, растирал, да еще и пудрил (а я-то думал, что только женщины пудрятся!). Никогда ведь в жизни нас не гримировали. Это вот впервые... А когда Людмила Васильевна начала нам брови и глаза подводить, а потом еще и губы помадой губной мазнула, я не выдержал и захохотал. Вот если б мы так по селу прошли... «Тю! Тю!» — закричали бы со всех сторон, а может, и чем-нибудь нехорошим начали бы кидаться.
Будка с Валькой стояли в стороне унылые, как собаки под дождем.
Они уж решили, что их не берут, что про них забыли, что они тут никому не нужны...
Скверное чувство!
Режиссер, прищурившись, наблюдал за работой Людмилы Васильевны, заходил то с той, то с другой стороны, разглядывая нас, как цыган коней на ярмарке..
Наконец сказал:
546
— Ну, порядок! А теперь вот этих... — и повернулся к Валь- ке с Будкой.
Те сразу засияли... Если б у них были хвосты, они б, наверно, завиляли хвостами.
Будка стоял во время гримировки подчеркнуто серьезно, насупив брови и поджав губы. Валька кокетничала, поглядывая украдкой в зеркало, вправленное в крышку чемоданчика. Но красивую кинозвезду из Вальки не сделали. Наоборот: по указанию режиссера Валькину современную прическу «конский хвост» ликвидировали, а волосы беспорядочно взъерошили, и она сразу стала похожа на беспризорницу. Потом всех нас измазали сажей...
«Должно быть, босяков каких-нибудь будем играть»,— подумал я.
— Где Клава? Где костюмы для детей? Что такое? — закричал вдруг режиссер.
— В костюмерную побежала... за платьем для девочки,— сказал кто-то.
— Не могли раньше?
— Так не знала же, что девочка будет...
— Нужно было знать... Как же, так — мальчики, да чтоб не было девочек... Все вам объяснять нужно!
Валька даже засмущалась — столько шума из-за нее.
— Я тут! Я тут! — подбегая, закричала стройная, ярко накрашенная девушка (вот это настоящая кинозвезда!). В руках она держала какую-то рвань.— Идемте, ребята! — весело позвала она.
За тонвагеном на лавке висела наша киноодежда. Не одежда, а какое-то отрепье — в руках разлазилось, латка на латке. Я б такого сроду не надел. Но для искусства... Валька с Клавой отошли за угол тонвагена, и мы начали переодев... то есть перевоплощаться... А когда оделись, уже не могли удержаться и, хватаясь за животы и тыча друг на друга пальцами, стали помирать со смеху:
— Ты смотри, ты смотри на него — вот пугало-то!
— А ты, а ты! На себя посмотри! Как из тюрьмы сбежал!
— Ой, не могу! Ой, не могу! В таком дранье, и губы накрашены...
547
Из-за угла тонвагена вышла Валька. Она была в грязном, изорванном платье, которое едва держалось у нее на плечах. Мы разом вытянулись и склонились в поклоне!
— Здрасте, ваше благородие...
Валька взялась пальчиками за край своей «одежды» и присела, как балерины на сцене приседают. Мы захохотали все четверо.
— Хватит, хватит вам! За работу! — послышался крик режиссера.
Когда мы вышли из-за тонвагена, он повел нас по берегу озера к деревянному столу с двумя лавками, который, как это бывает в селе, стоял вкопанный в землю под развесистым деревом. Посадил на лавки, сел сам и начал:
— Значит так, старики! Картина, которую мы снимаем, рассказывает о революционных событиях на Украине в 1905 году... Вы приглашены принять участие в одном из эпизодов... Содержание эпизода такое. На мостике, над речкой, рабочего- революционера Артема догоняет жандарм, чтобы задержать. Артем бьет жандарма, жандарм летит в воду... Артем бежит... Вы — в лодке, недалеко от мостика. Рыбачите. Вы видите эту сцену, ужасно радуетесь, аж подпрыгиваете. И всё... Только радость должна быть на полную катушку. Для этого вы себе представьте, например, что вы не только вообще не любите жандармов (вы ведь дети рабочих), а что именно этот жандарм — ваш главный враг, что он вас всегда гоняет, и так далее. А ну, прорепетируем! Значит, я жандарм. Бегу за Артемом, хватаю его за руки. Артем вырывается, бьет меня в грудь. Я падаю — плюх! Ну!..
— Га-га! Га-ля-ля! И-и-и! Го-о-о! — вскидываемся мы, размахивая руками, прыгая и горланя во все горло.
— Стоп! — поднимает руки режиссер.— Не то. Это уж слишком. Базар. Так никто из нормальных людей не радуется. Это из репертуара сумасшедших. Так вы только сами попадаете в воду, вот и все. Нужно, чтоб было естественно, убедительно.
Вот тебе и раз! Сам же велел «на полную катушку», и вдруг... слишком! Посмотрел бы он, что таорится у нас в классе, когда вбегает Степа Карафолька с криком, что матема¬
548
тичка захворала и урока не будет. Вот это катушка! Вот это радость!.. А это...
— А ну еще раз попробуем. Только серьезно, по-настоящему. Жандарм падает... Плюх! Ну!
— А!.. О!.. И!..— вяло, кое-как выкрикиваем мы, едва улыбаясь.
— Стоп! — снова поднимает руку режиссер.— Вы меня, старики, не так поняли. Это уже крайность. Так радуются только на похоронах. Неужели вы не можете нормально, по-на- стоящему, убедительно радоваться? Это же ваш враг! Самый заклятый! И его кидают в воду. Ведь как радостно видеть такое! Он же так измывался над вами! Стойте! Это же он вам вчера гули понабивал... Ну да, он! Что, вы забыли разве?.. Вчера вы читали прокламацию, наклеенную на заборе, а он стал разгонять вас, двинул раз-другой — вот вам и гули... Гад проклятый! Погань! Как я его ненавижу! — Режиссер говорил так, как будто это было на самом деле.
Слушая его, я на какое-то время поверил, что это не дядя, а и вправду жандарм набил мне шишку.
— И вот этот катюга бежит по мостику, нагоняя Артема. А это же ваш хороший друг — Артем! — возбужденно продолжал режиссер.— Схватил Артема за руки... Артем разворачивается. Р-раз — жандарма. Тот — плюх в воду! Ну!
— Го!.. Ха! Ха!.. Иги! Ой!.. — вскинулись мы все разом в искреннем порыве.
— Во-во! Годится! Молодцы! Спасибо. Чтобы так было во время съемки. Договорились?.. Людмила Васильевна! Людмила Васильевна! (И снова подбежала женщина в халате с чемоданчиком.) Подновите им, пожалуйста, их гули. Да подрисуйте хорошенько, чтоб было видно. Придется в эпизоде на явочной квартире дать реплику про эти гули...
Пока Людмила Васильевна возилась с нами, Валька шепнула мне на ухо:
— Гордитесь! Ваши гули войдут в историю кино. Они помогают создать художественный образ.
— Кончай! — сказал я небрежно, но только для виду, чтобы скрыть гордую радость: а что ж, из-за нас даже реплику какую-то новую в фильме дают!
549
— Идемте, идемте! Будем начинать съемку! — сказал ре^- жиссер.
Он подвел нас к лодке.
— Грести умеете?
— А как же! — воскликнул Ява.— Мы ведь в плавнях выросли!
— Прекрасно! Значит, так. Девочка садится на носу. Ты,— показал он на Будку,— вот здесь... Ты,— взял меня за плечо,— с веслом вот тут... А ты,— обернулся к Яве,— с рулем на корме... На корме и на носу, как видите, веревки с камнями. Бросите их вместо якорей там, где скажут. И следите, чтобы лодку не снесло. И еще одно: ни в коем случае не смотрите в аппарат! Только на жандарма. А то испортите кадр.
Мы сели в лодку, Ява оттолкнулся веслом. Я гребнул раз, еще раз, стараясь это делать как можно красивее и ловчее,— пусть видят, как я умею!.. Но третий раз уже гребнуть не успел.
— Стоп! — скомандовал оператор, который по ту сторону мостика нацелился на нас с плота кинокамерой. От неожиданности я дернулся, чиркнул веслом по воде, задерживая его, и обрызгал Будку и Яву. Вот тебе и показал, как умею!
— Назад! — закричал оператор.— И немножко левее... А теперь правее... Вперед чуть-чуть... Нет-нет, это много... Назад... Влево теперь... Еще немного... Хватит, хватит. Немного правее...
Минут пять, не меньше, мы вот так маневрировали под командой придирчивого оператора, пока он не крикнул:
— Сто-оп! Бросайте якоря! И сидите тихо, чтобы не сдвинуть лодку...
Ява на корме, а Валька на носу сбросили в воду камни* и лодка стала. Мы замерли, дожидаясь съемки.
— Внимание, внимание! Приготовиться! Начинаем... — послышался неожиданно зычный голос режиссера. Он уже, оказывается, стоял рядом с оператором на плоту, приставив ко рту блестящий металлический рупор. Как он очутился на плоту, мы так и не заметили — будто пришел прямо по воде, как Христос.
Жандарм и Артем побросали папироски. С берега по мбс-
650
тику, подбежал к ним молодой человек в берете. В руках у него дощечка, сверху выкрашена полосато, как шлагбаум, а внизу черная, как классная доска, и на ней мелом написано:
«А Р Т Е М»
297-1
— Внимание!.. Начали!.. Мотор! — крикнул режиссер.
Парень растопырил свой «шлагбаум» из дощечек, поднес к
самому носу жандарма — щелк!
— «Артем»... Двести девяносто седьмой... Дубль первый...— крикнул молодой человек, дощечки под мышку и, пригнувшись, скорее на берег,
А жандарм с Артемом уже сцепились. Возятся на мостике. Вот Артем резко вырвал руки, размахнулся... Бац жандарма в грудь. Жандарм — шлеп! Бултых! Ого-го! Брызги взлетели аж до неба, не то что от моего весла! Мгновение — и уже из воды торчат только сапоги жандарма. А Артема и след простыл. Забурлила вода... Глядь — вынырнула голова жандарма. Без фуражки, волосами глаза залепило, из носу течет, отовсюду течет, усы как у моржа, изо рта вода фонтаном, на полтора метра. Ух ты! Здорово играет!
— Да радуйтесь же, радуйтесь! — послышался сразу с плота отчаянный крик режиссера.
Мы вздрогнули, переглянулись растерянно, привстали... У меня не было зеркала, и я не видел своего лица, но у Вальки, у Явы и у Будки лица были, прямо говоря, глуповатые. Глаза вытаращены, рты разинуты, искривлены. Это была, конечно, не радость. Это было бог знает что.
— Стоп! — закричал режиссер. Где-то что-то щелкнуло. Ворчание тонвагена стихло.— Вы что, заснули? Кто за вас играть будет? Я? Вы ж в одном кадре с жандармом. Жандарм падает... Наплыв трансфокатора — вы радуетесь... Я же предупреждал. Испортили мне первый дубль. И жандарму нужно переодеваться. Видите, что натворили.
Мы сидели как побитые. Мы так увлеклись игрой жандарма, что пропустили момент, когда нам нужно было радоваться. Ну что вы хотите! Это же все-таки наша первая в жизни съемка! Что ж мы вам сразу станем как Аркадий Райкин?!
551
Жандарм, вылез, из воды, погрозил нам кулаком, но без злости, усмехаясь. Еще и подморгнул. И пошел за тонваген переодеваться.
■— Подвели мы их! Давайте хоть сейчас хорошо обрадуемся,— зашептал с кормы Ява.
— Ага!
— Ну да!
— Конечно,— поддакнули мы все трое.
Пока жандарм переодевался, я накапливал в себе радость. Сидел и вспоминал все самое лучшее, что было в моей жизни: и как мне новые футбольные бутсы купили, и как я на баштане самый большой кавун стащил, и как мой враг отличник Карафолька двойку по физкультуре схватил... Я поймал на себе Явин взгляд. Он смотрел на меня с ехидной улыбкой. Я догадываюсь, что он вспоминает! Он вспоминает, наверно, как я нырял при всех с дерева, зацепился трусами за сучок, разодрал их и летел в воду голый... Ну ладно, пускай вспоминает, мне для искусства не жалко! Лишь бы только съемку не срывал!
— У, гад, жандарм Европы, так тебе и нужно!.. Хи-хи-хи! — это шепчет про себя рядом со мной Будка — настраивает себя, готовится.
Мне не видно и не слышно, как готовится Валька, но я уверен, что она тоже готовится. Ух мы сейчас дадим! Ух мы сейчас обрадуемся!
Из-за тонвагена вышел жандарм в новом сухоньком мундире— будто и не падал в воду.
И вот снова они стоят с Артемом на мостике.
— Внимание!.. Начинаем... Мотор!—кричит режиссер.
И снова подбегает парень в берете, щелкает своим «шлагбаумом» и выкрикивает:
— «Артем»... Двести девяносто седьмой... Дубль второй...
Ворчит тонваген. Борются жандарм с Артемом. Бац!..
Шлеп!.. Бултых!.. Жандарм в воде...
Мы вскакиваем.
— Стоп! — кричит режиссер..
Тю-у-у... Пропал такой заряд.
Оказывается, Артем, убегая, поскользнулся и упал. Он был
552
еще в кадре. А Артем — герой и не должен падать. Герои не падают. В кино падают только отрицательные персонажи.
Виноватый Артем бормотал:
— Конечно... Накидали тут каких-то арбузных корок... И канатоходец поскользнется...
Режиссер хмурится и молчит. Главных героев фильма режиссеры не ругают. Режиссеры ругают только статистов.
Жандарм вылезает из воды, грозит кулаком Артему, но уже не усмехается и не подмаргивает. Идет за тонваген переодеваться.
И вот снова:
— Внимание!.. Начинаем... Мотор!
Щелк — «шлагбаум».
— «Артем»... Двести девяносто седьмой... Дубль третий...
...Бац! Шлеп! Бултых!
— Ура! Га-га-га! Го-го-го!— как скаженные, по-настоящему радуемся мы, радуемся не столько «по роли», сколько потому, что наконец-то нас снимают. Видим, режиссер улыбается, кивает нам, довольный. Ну, все!
— Стоп! — кричит вдруг оператор.— Не годится! Ветка закрывает девочку...
Вот еще!.. Мы враждебно смотрим на Вальку, как будто она виновата, что ее закрывает какая-то ветка.
— Срубить ветку!.. Немедленно. Что за свинство! Не могут подготовить съемку! Срываете мне работу* Черт те что делается на этой студии!—кричит режиссер неизвестно на кого.
Мы сидим, гордо поглядывая вокруг. Мы не виноваты. Мы хорошо сыграли. Режиссер нам кивал и улыбался. И правда свинство, что этот дубль испорчен. Выходит, даром мы радовались.
Жандарм вылезает из воды, ни на кого кулаком не грозится, но про себя что-то бормочет — видно, ругается... Что ж, мы его понимаем. Падать в воду не легче, чем радоваться.
— Внимание!.. Начали... Мотор!..
«Шлагбаум».
Щелк!
— «Артем»... Двести девяносто седьмой... Дубль четвертый...
553
Бац! Шлеп! Бултых!
— Га-га-га! Урра! Го-го-го!.. И-и-и!..
— Стоп! Еще раз! Жандарм недостаточно выразительный. Будешь тут выразительным — четвертый раз в воду шлепаться!..
— Внимание!.. Начали... Мотор!..
«Шлагбаум».
Щелк!
— «Артем»... Двести девяносто седьмой... Дубль пятый... Бац! Шлеп! Бултых!
— Стоп!
У жандарма отклеился один ус... А что же вы хотите! Таких испытаний настоящие усы не выдержат, не то что приклеенные.
Идет за тонваген мокрый жандарм. Выходит из-за тонвагена сухой жандарм.
— Внимание!.. Начали... Мотор!..
«Шлагбаум».
Щелк!
— «Артем»... Двести девяносто седьмой... Дубль шестой...
554
Бац! Шлеп! Бултых!
— Га-га!.. Го-го! Ох-ох-о!.. Хи-хи!.. — стараемся мы.
— Стоп! Молодцы! Наконец-то. Кажется, теперь все! Порядок!— дсаольно говорит режиссер. (Мы расплываемся в радостной улыбке.) И вдруг он застывает, вытаращив глаза: — Что это?! На руке?!
Я не понимаю, что это ко мне относится, и какое-то время еще радостно улыбаюсь. Будка толкает меня в бок. Я смотрю на свою руку и все понимаю...
— Ча-сы... — бормочу я.
— Что-о?! Убийца! Где ты видел, чтоб дети бедняков до революции носили часы! Ну! Зарубил мне все дубли. Ну! — каким-то плаксивым голосом кричал режиссер, потом поднес к губам рупор и уже обычным своим голосом закричал: — Все остаются на местах! Пересъемка! Пересъемка! — А потом плаксиво мне: — Снимай немедленно часы и отдай на берег! Немедленно!
У меня сразу онемело внутри, я опустил голову и сказал:
— Не отдам!
— А?! Что?! — не поверил своим ушам режиссер.
— Не отдам... Это не мои часы... Они уже раз пропадали. А я их сегодня хозяину отдать должен.
— Так что же, ты мне всю съемку испортить хочешь?!
— Если так, я лучше сниматься не буду. Я на берег пойду.
Мокрый жандарм, что стоял по пояс в воде недалеко от нас
и слышал весь разговор, сказал:
— Ну давай уж мне эти несчастные часы...
— Ого... Какие быстрые! — говорю я и прячу руку с часами за спину, как будто жандарм хочет их силой отнять.
— Не доверяешь? — усмехается жандарм.
Я молчу.
И вдруг жандарм тихо так, тихо говорит:
— А я тебе на пляже доверил... Не побоялся...
Будто меня палкой по спине трахнули — рванулся я и рот разинул.
— Что-о?
— Не узнаешь? — улыбается жандарм.
Я вглядываюсь, вглядываюсь, вглядываюсь... Нет, не мо¬
555
жет быть. Не похож ведь совсем. Обернулся я к Яве — он только плечами пожимает: тоже не узнает.
Смотрит жандарм вокруг, кого-то глазами разыскивая, остановился взглядом на Людмиле Васильевне в белом халате, кулаком ей погрозил — его излюбленный жест —и крикнул:
— У-у... Размалевала меня так, что хлопцы собственных часов возвратить не хотят.
Вижу — все кругом смеются: и Людмила Васильевна, и режиссер, и оператор, и все-все, кто на озере. И Валька, вижу, смеется, и Будка, и Ява уже рот растягивает. Значит, это он, наш незнакомец из тринадцатой квартиры! Ну, я и сам начал улыбаться, а потом и говорю:
— А почему же вы такой... Сказали: «царь, царь...» — а на самом деле обыкновенный жандарм. А мы, дураки, по всему Киеву царя искали.
Еще пуще засмеялись все.
— Все правильно,— сказал жандарм-незнакомец.— Что касается царя — никакой с вашей стороны ошибки нет. Царя я таки играю. В этом же самом фильме. И царя, и жандарма — две роли. Это вот Евгений Михайлович так задумал. А вообще извините, дорогие, что я вам столько хлопот задал своими часами, Поверьте, совсем не хотел... Очень я тогда спешил... На репетицйю. Мне Максим Валерьянович рассказал про ваши переживания... Что же вы не догадались зайти в милицию пляжа? Я их предупредил и адрес свой оставил...
— Ну хватит, хватит...—улыбаясь, перебил его режиссер.— Потом побеседуете. У вас-то хорошо кончилось, а вот у меня... Бегите переодевайтесь. Пересъемка! И все из-за ваших часов.
— Боюсь, что ничего с переодеванием не выйдет,— вздохнув, сказал царь-жандарм.— Это был последний сухой мундир.— И он двумя пальцами взял себя за край галифе, с которых стекала вода.
— Как?! Клава! Клава! Где сухие мундиры для жандармов? Чтоб сейчас же мне были сухие мундиры! Жду! Немедленно! Вы срываете мне съемку!
— Евгений Михайлович! В костюмерной было шесть мундиров. Все шесть подмочены.— Клава засмеялась.—Больше взять негде. Нужно ждать, пока высохнут.
556
— Что ждать? Что ждать? Солнце не будет ждать. Солнце нон уже садится! — кричал режиссер, хотя солнце еще и не думало садиться.
— Евгений Михайлович,— спокойно сказал оператор,— я думаю, переснимать нет необходимости... Я уверен, что часов в кадре не было. Я бы их заметил... Вот проявим пленку, и вы убедитесь...
— А если были?
— Тогда переснимем.
Оператору все-таки посчастливилось уговорить режиссера, и тот объявил перерыв на обед.
— После перерыва снимаем эпизод «Встреча Артема с Марией».
— Вы, друзья, не убегайте,— сказал нам царь-жандарм.— Я сейчас переоденусь и выйду. Я сегодня больше не снимаюсь. Марию играю не я... Так что не убегайте... Сегодняшний день нам нужно отметить. Максим Валерьянович, вы подождите меня у проходной. Хорошо?
Максим Валерьянович, который уже давно, с третьего дубля, сидел на стуле около тонвагена, закивал, улыбаясь.
Мы пошли переодеваться. А потом подошел ассистент, тот самый, который приезжал за нами, и вручил нам всем по три рубля. Оказывается, статистам, которые принимают участие в съемке, платят в день по трешке. Вот это здорово! Мало того, что ты в кино снимаешься, славу добываешь, тебе еще и платят за это!
Прощаясь с нами, Евгений Михайлович сказал:
— Спасибо вам, дорогие друзья! За помощь. Молодцы! Создали очень убедительные образы революционно настроенных детей бедняков периода 1905 года. Если придется переснимать, мы вас вызовем. До свидания!
И он каждому из нас пожал руку. Эти рукопожатия плюс трешки произвели на нас очень хорошее впечатление. Настроение у нас было блестящее. По-моему, с такого настроения начинается счастье.
У памятника Пушкину Олег Иванович — так звали нашего незнакомца из тринадцатой квартиры — взял такси, и мы поехали, Поехали туда, куда не только «до шестнадцати не,..», а,
557
наверное, и «до восемнадцати не...» — мы поехали в ресторан. В тот самый, что стоит на горе над Крещатиком, в наивысшей, как говорят, точке Киева, в ресторан «Москва». И через все шестнадцать этажей поднялись скоростным лифтом на самую крышу.
Весь Киев лежал у нас под ногами. Игрушечные машины и троллейбусы сновали по Крещатику, а на тротуарах суетились какие-то муравьи, а не люди. И видно было так далеко, что, кажется, еще немного — и увидишь родную Васюковку...
Мы сели за столик, и к нам сразу подбежала молоденькая официантка, еще издалека улыбаясь и здороваясь с нами, а вернее, с Олегом Ивановичем и с Максимом Валерьяновичем. Так здороваются только с теми, кого хорошо знают, уважают и любят.
Олег Иванович начал заказывать всевозможные кушанья. Долго заказывал — официантка две страницы в блокноте исписала.
Мимо нас пробежал какой-то дяденька-официант и тоже приветливо поздоровался, кивая Максиму Валерьяновичу и Олегу Ивановичу. Официант держал на руке большой поднос с тарелками, от которых шел пар и очень вкусно пахло.
— Что это так пахнет? — тихо спросил меня Ява. (Мы же с утра ничего не ели — даже про бутерброды свои забыли.)
Официантка услышала и повернула к Яве свою улыбку:
— Это шницель. Хотите?
Ява покраснел как мак. Вышло, что он напросился на этот шницель.
— А как же... Всем шницели непременно. Мы же голодные как волки! Целый день снимались... — громко, на весь ресторан, сказал Олег Иванович.
Тут уж мы все четверо покраснели — от удовольствия и гордости.
Официантка куда-то побежала и начала носить на наш стол разные бутылки и тарелки.
Мы «кутили» в ресторане, как настоящие взрослые артисты. Мы ели многочисленные закуски: шпроты, сардины, ветчину, галантин (это такая куриная колбаса), салаты, икру, крабы... Ели шницель... Ели пирожные, конфеты и мороженое...
558'
. Максим Валерьянович и Олег Иванович пили коньяк. А нам дали понемножечку шампанского, от которого на нас только икотка напала. Мы прикрывали салфетками свою икотку и вним ательно слушали, что говорил Олег Иванович:
— Позвольте выпить за ваши успехи, юные друзья! За ваши первые шаги по тернистому пути искусства! Того, кто ступает на этот путь, ожидают и великие муки, и великие страдания... и великое счастье. Позвольте выпить за ваше счастье!
Мы позволили.
Мы сидели и украдкой озирались во все стороны. Какие-то усатенькие пареньки и накрашенные девчата, что сидели за соседними столиками, перешептывались, поглядывая на нас.
Это была слава.
Та слава, о которой мы так давно мечтали.
Так вот она какая — слава! Ресторан, столики с бумажными салфетками в вазочках, весь Киев под ногами, галантин, шницель, шампанское и икотка... Хорошо!
Выпив за наши успехи и за наше счастье, Олег Иванович и Максим Валерьянович оставили нас в покое и завели речь о каком-то Степане Степановиче, который «ни биса не понимает, извините, в искусстве и только мешает создавать истинно художественные фильмы».
Хоть и был тот Степан Степанович нехорошим человеком, но мы чувствовали к нему благодарность, так как благодаря ему мы могли наконец очнуться от своего счастья и уделить должное внимание пирожным, конфетам и всем тем лакомствам, которые стояли на столе. И все это было такое вкусное, такое вкусное, что у нас три дня потом болели животы.
* * *
А через три дня, когда выздоровели, мы начали аккуратненько растранжиривать свои впервые заработанные трешки. Мы их тратили и коллективно — вместе с Будкой и Валькой, и индивидуально — вдвоем с Явой.
Мы с Явой будто переродились после того «съемочного дня» —ходили погруженные в мечты, задумчивые и как будто сонные.
559
Нас не интересовали захватывающие игры в густых зарослях возле Лавры (Будка ввел нас в свою компанию, которая оказалась совсем не зловредной и каждый день играла во что-нибудь интересное). Нас не манили тихие прогулки с Валь- кой и ее подругами.
Нас не радовали все многочисленные радости «Городка развлечений», куда широкую дорогу открывали нам наши трешки.
Другого, совсем другого жаждали сердца наши.
Кулисы, декорации, грим, приклеенные усы и бороды, огни рампы, прожектора, киносъемочные аппараты и... аплодисменты, аплодисменты (ох как жаль, что на киносъемках не аплодируют!)— вот чего хотелось нам нестерпимо, безумно, до боли...
Мы выходили на дорогу и смотрели, не едет ли за нами ассистент из киностудии. Но ассистент не ехал. На студию нас больше не приглашали. Ни съемки, ни пересъемки для нас не было.
Тогда мы отправлялись и долго ходили по городу, останавливаясь у театров, разглядывая сверкающие афиши и вздыхая.
А потом шли и с горя пропивали свои трешки на газированной воде с сиропом.
И вот однажды, сидя в павильоне «Соки — воды» на бульваре «Дружба народов» за стаканом доброго лимонада, мы... Ну конечно, это была Явина идея. Как все гениальное, она была очень проста, и удивительно, что она не родилась у нас раньше. Организовать театр!.. Свой собственный театр в Ва- сюковке! Не какой-нибудь драмкружок, который готовит одну захудалую постановку к празднику, а потом распадается. Нет! Театр! Настоящий, постоянный театр с богатым репертуаром... С эмблемой (во МХАТе чайка, а у нас может быть селезень, дикий гусь или хотя бы аист), со швейцаром в гардеробе (дед Саливон — во кандидатура для этого!), с билетами от рубля — первый ряд, до двадцати копеек — галерка. Обязательно! Бесплатно только паршивые драмкружки выступают... Словом, настоящий художественный театр. А что? Сельская «Третьяковка» может быть, а сельский МХАТ нет?
560
Больше в Киеве делать нам было нечего. И хоть мы еще должны были гостить не меньше недели, мы в тот же день застонали, что страшно соскучились по дому, уговорили тетку взять билеты и начали собираться.
Великие дела ждали нас в родной Васюковке,
Г лава XV
ПОГИБЕЛЬ ЯВЫ СТАНИСЛАВСКОГО И ПАВЛУШИ НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО. И ВСЕ-ТАКИ МЫ ЖИВЕМ!
И вот мы лежим навзничь в траве, смотрим в небо, где насмешливо подмаргивают нам звезды, и страдаем. И зачем мы придумали этот самый ВХАТ на свою голову!
Ну как теперь показаться людям после такого позора! Как смотреть им в глаза...
И это же не в первый раз. Ведь был уже сигнал! Злая доля подкрадывалась к нам уже давно.
Впервые почувствовали мы это в то время, когда показывали в клубе новый, только что выпущенный на экран фильм Киевской киностудии имени Довженко «Артем».
О том, что в этом фильме главные роли революционно настроенных детей играют артисты Рень и Завгородний, давно знало не только наше село, а и три соседних: Пески, Яблонев- ка и Дедовщина... И так как фильм показывали сначала у нас, нетерпеливые наши родичи из Дедовщины, Яблоневки и Песков притарахтели в тот вечер на телегах, мотоциклах и велосипедах в Васюковку. В клубе яблоку негде было упасть из-за родичей.
Мы с Явой сидели в первом ряду в белы?' рубашках и новеньких, скрипучих ботинках рядом с председателем колхоза Иваном Ивановичем Шапкой и завклубом Андреем Кекало. На афише, которая уже три дня висела на дверях клуба, огромными буквами было написано, что после просмотра будет «встреча с участниками картины». Андрей Кекало считал это «пунктом номер один» в плане работы на май. Мы три дня не играли в футбол — писали конспект встречи и волновались.
Jtj Библиотека пионера, т. 4
561
И вот начали крутить кино. Мы вытянули вперед шеи и замерли.
Кино крутилось.
Уже прокрутилось полкартины. Нас не было...
И вдруг мы с ужасом увидели, что знакомого нам жандарма Олега Ивановича, «нашего жандарма», убили революционеры. Мы похолодели... Как же это так? Как же он, мертвый, будет задерживать Артема на мостике? И как же теперь будет с нами?
Судорожно вцепившись руками в стулья, мы смотрели на экран. Мы еще рассчитывали на чудо — что жандарм оживет (чего только не бывает в кино!). Но чуда не случилось. Жандарм не ожил. Не было в фильме ни речки, ни мостика, ни бац, шлеп, бултых, ни революционно настроенных детей бедняков... Не было того эпизода, в котором мы снимались... Не было совсем.
И когда в зале наконец вспыхнул свет, мы сидели в своих белых рубашках и новых, скрипучих ботинках жалкие и несчастные. Но наши родичи были хорошие, благородные и добрые люди. Вместо того чтобы смеяться и ехидничать, они, наоборот, успокаивали нас.
— Ничего, ничего... Наверно, у них что-нибудь случилось такое, что... — сказал двоюродный дядя из Дедовщины.
— А скорее всего по техническим причинам. Из-за какого- нибудь брака... Сами же рассказывали, с каким скрипом оно снималось,— сказал троюродный брат из Яблоневки.
— Ага, ага... Пленка засветилась или еще что... Всяко бывает,— поддакивала пятиюродная тетка из Песков.
Один только завклубом Андрей Кекало поглядывал на нас косо — мы ему сорвали «пункт номер один» в плане культработы на май.
Родичи как в воду глядели. Через несколько дней пришло из Киева письмо от Вальки, где она писала, что режиссер Евгений Михайлович передает нам сердечный привет и очень извиняется, что эпизод на мостике пришлось, к сожалению, вырезать, так как он «не монтировался» (а вообще вышло здорово, он нам очень благодарен за помощь и прямо плакал, когда вырезал,— это его собственные слова).
562
Вот такой пшик вышел у нас с кинематографом...
Казалось, этот серьезный сигнал со стороны прихотливой артистической судьбы должен был предостеречь нас, предупредить об опасности. Но мы были легкомысленными шменд- риками, похлеще Хлестакова, и не обратили на это внимания. И вот тебе на! Лежи теперь и плачь, и грызи землю, и волком вой на рогатый месяц...
И не так нам больно и горько из-за своего собственного провала, из-за своего собственного позора и стыда. Что там наши личные боли и страдания! Сколько раз переживали, переживем и теперь!
Главное, что доставляет нам наибольшие, наибольнющие, наигоршие страдания, так это то, что мы вели себя как провокаторы, как предатели, как жалкие подлые штрейкбрехеры... Мы же сорвали весь спектакль, подвели всех. Многомесячная работа всего ВХАТа из-за нас выброшена в помойку...
Много всяких грехов было на нашей совести. Но никогда не были мы предателями. С наибольшим презрением и отвращением мы сами всегда относились к предателям. И вот...
— У-у, позорники несчастные, сопляки задрипанные! — сквозь зубы ругает нас Ява.
— Зазнайки поганые, барахольщики паршивые! — сквозь зубы ругаю нас я.
— Чемоданы безголовые, а не артисты...
— Индюки ощипанные...
— Конечно, было стыдно стоять и блеять, как бараны, слов не зная. Но мы должны были оставаться на сцене и как-нибудь выпутываться.
— Ну да, должны были наконец набраться мужества и спросить суфлера, что там говорить дальше. Ну посмеялись бы люди малость, и спектакль бы продолжался. А так...
Нам даже страшно представить себе, что сейчас творится в клубе... Вот, должно быть, вышла на сцену Галина Сидоровна и упавшим голосом сказала, что спектакль отменяется, так как все видели, что Бобчинский и Добчинский сбежали, как предатели, со своего боевого поста. Зал возмущенно гудит. Какие только слова не сыплются на нашу голову! Родные ма¬
563
тери и те отказываются от нас в эту минуту. Что же делать теперь? Чем же помочь беде? Какой выход найти из нашего безвыходного положения?
Нет выхода...
Кинуться с моста в воду, утопиться?
Никто ведь даже не пожалеет... Скажут: так им и нужно, штрейкбрехерам сопливым! Нет выхода. Нету.
Придет завтрашний день, и мы узнаем, что малость многовато на себя взяли, переоценили свою роль в жизни. Мы узнаем, что спектакль совсем не сорвался, что городничий после нашего побега не растерялся и сказал: «Так я и знал, что эти никчемные трусы Бобчинский и Добчинский испугаются и убегут. Хорошо, что я перед этим встретил их на улице и они мне все рассказали...» И ловкач Карафолька дивно пересказал все то, что должны были говорить мы с Явой. И спектакль пошел- поехал как по маслу. Актеры ловко перестраивались на ходу, и то, что должны были говорить мы, говорил кто-нибудь из них. Зрители ничего даже и не заметили. Будто Гоголь написал «Ревизора» без Бобчинского и Добчинского. Спектакль прошел с неистовым успехом. Аплодировали так, как никогда не аплодировали никаким настоящим приезжим артистам... А исполнитель роли Хлестакова Коля Кагарлицкий, тихий, забитый Коля, которого даже не все соседи знали, в один этот вечер прославился на все село. Прославился так, что еще немного и его именем назвали бы одну из сельских улиц. И тогда мы вдруг поняли, что для того, чтобы добиться успеха, нужно прежде всего долго-долго и настойчиво трудиться, как трудился Коля Кагарлицкий. Эта старая и такая известная истина, которую повторяли, вбивали, втолковывали нам на протяжении всей нашей жизни и родители, и учителя, и детские писатели и которую мы всегда так легкомысленно понимали: «А, это для дураков, для неспособных!» — эта старая истина вдруг дошла до нас. Дошла до самой глубины души. Дошла так, как доходили правила арифметики: раз —и все ясно. Долго с грустью будем размышлять мы над суровой неумолимостью этой истины. Но все это — завтра. Завтра!..
564
А сегодня мы еще ничего этого не знаем... Мы лежим навзничь в траве и тихо стонем.
Покатилась в небе звезда.
Защелкал в кустах беззаботный влюбленный соловейко. Неподалеку в свинарнике счастливо хрюкает спросонья свинья, вспоминая с удовольствием что-то свое, свинячье.
Где-то далеко-далеко, в Дедовщине, громко лают собаки.
Пахнет молодой свежей зеленью, медвяным цветом и коровами. .
Прекрасная и неповторимая земная жизнь торжествует, продолжая полет в предрассветном просторе Вселенной...
Вдруг Ява вскакивает, садится, обхватывает колени руками и утыкается в них подбородком. В глазах у него прыгают бесенята.
— Артистов из нас не получилось — это точно! — решительно говорит Ява.— Я теперь сам ни за что не хочу быть артистом. Пусть даже мне платят в день сто рублей — не хочу. Мне такая нервная работа не подходит, Проваливаться... переживать... Это просто вредно для здоровья. Знаешь, у меня идея, Павло...
«Павло»? Я уставился на него. Никогда он не называл меня Павлом. Что-то в лесу сдохло... Очень уж, должно быть, серьезная идея, раз он так официально меня называет.
— Денисович... если уж так,— подсказываю я.
— Можно и Денисович... — сказал он, даже не улыбнувшись.— Так вот, Павло Денисович, прошлым летом у нас с вами было, по-моему, немало приключений. Так? Так. Если бы эти приключения были не с вами, а с кем-то другим и этот кто- то рассказал бы их вам, было бы интересно? Так? Так вот у меня идея: мы садимся и пишем книгу про наши приключения... Напишем книгу, заработаем кучу денег и поедем в кругосветное путешествие. На материале этого путешествия снова напишем книгу, снова получим кучу денег и снова махнем куда-нибудь. И закрутится машинка... И мы станем писателями... А что — плохо? Писатели... Мы с тобою... Стоим и даем автографы... Карафольке, Коле Кагарлицкому, Гребенючке... А? Здорово! Как мы раньше не додумались? Писатели... Это, брат, не то, что артисты... Артистов тысячи, а писателей — единицы.
565
Вот сколько ты писателей знаешь? Ну, Пушкин... Ну, Шевченко... Ну, Глебов, Квитка-Основьяненко, Котляревский... Ну, Толстой... Ну, Чехов... Горький... Это классики. А из современных? Ну, Гайдар... Ну, Чуковский... Михалков... Ну, Забила, Бычко, Кава... Ну, Близнец... И — все! Писатели — это, брат, такие люди, что... А в детстве, между прочим, были самые обыкновенные пацаны, вроде нас... А Горький, так тот вообще босяком был...
Я слушаю и смотрю на Яву с восхищением. Эх, Ява! Ну что за ,парень! Какой он все-таки умница! Как хорошо иметь такого толкового друга!
— И главное, риска никакого,— продолжал толковый Ява.— Никаких провалов. В крайнем случае пришлют на доработку... Как Андрею Кекало.
Наш сельский поэт, завклубом Андрей Кекало, уже сколько лет рассылает свои стихи во все республиканские, областные и районные газеты Украины. Столько писем, как он, никто в селе не получает.
Когда его спрашивают: «Ну, как поэтические дела?» — он гордо отвечает: «Прислали на доработку...»
Дорабатывает он, дорабатывает, а там, глядишь, в какой- нибудь районной газете — раз! — и напечатали.
— Ага, конечно, конечно,— говорю я с жаром.— Доработка так доработка! Подумаешь... Все дорабатывают. Ничего страшного.
И мы тут же начинаем обсуждать Явину идею.
Как будем писать?
Очень просто — от руки. Как Пушкин и Шевченко. Некоторые писатели пишут теперь на машинке. Мы не будем. Во-первых, с нашим умением одну страницу три дня придется мурыжить. Во-вторых, кто нам позволит тюкать в сельсовете на машинке. Правда, есть еще у Кекало, но он свою машинку конкурентам не даст. Он сам каждый день тюкает.
В какой форме будем писать?
Прозой... Только прозой. Никаких стихов. И всё — как было. Ничего не привирая. Разве что, как оно у писателей называется, «художественные детали». И писать будем от первого лица, так всегда правдивее выходит. Да и смешно называть
566
себя самих «они». Мы — это мы. Но все время писать «мы» тоже как-то не того... Каждый в отдельности ничего сделать не сможет. Ни чихнуть, ни почесаться, ни в носу поковырять. Нужно будет писать «мы чихнули», «мы почесались», «мы поковыряли в носу»... Глупость какая-то! Чего это я должен чихать или чесаться, когда мне не хочется! Только «за компанию»? Да и совсем оно не художественно получается.
Думали мы, думали и надумали, что, сочиняя вдвоем, будем писать вроде как от одного лица. А другого уже называть по имени. Первую книжку будет писать один «Я», вторую—- другой.
Кому первым быть «Я»? Тут же бросили жребий. Выпало мне. Ява помрачнел. Ему очень хотелось быть первым «Я»: и идея-то его, и вообще он привык всегда верховодить. Он, наверно, рассчитывал на мое благородство, что я предложу: «Будь ты, Ява, первым». Но я не предложил. Мне не хотелось на этот раз быть благородным, мне хотелось быть «Я», тем более раз честно выпало. Я же не махлевал, Ява, конечно, не стал спорить.
567
■— А название знаешь какое будет? — сказал он.— «Незнакомец из тринадцатой квартиры, или похитители ищут потерпевшего...» Здорово? И подзаголовок: «Приключенческая повесть». Читатели в очереди стоять будут...
— Здорово,— сказал я. Хотя название мне не совсем понравилось. Очень уж детективное, несерьезное. Мне хотелось бы какое-нибудь романтическое, возвышенное... Но изменять Явино название после того, как он не стал «Я», было бы свинством.
Так и осталось: «Незнакомец из тринадцатой квартиры, или похитители ищут потерпевшего... Приключенческая повесть».
Мы начали обсуждать план книжки. Значит, так. Начинаем с того, как приехали в Киев. Пишем и про корыто в метро, и про Явино ухо, и про Будку... Потом — про пляж, про незнакомца из тринадцатой квартиры, про часы, про утопленника... Словом, про все, что с нами случилось... И кончаем тем, как мы провалились на «Ревизоре». Честно! Писатели прежде всего должны быть честными.
Мы поднимаемся с земли и расправляем плечи. И нам кажется, что головами мы упираемся в самые небеса. Ява одним ухом даже какую-то звезду сбил — во-он покатилась...
Ну — все!
Завтра мы покупаем в сельмаге большую общую тетрадь в линейку, три авторучки (одна про запас!), садимся и пишем.
Пишем, пишем, пишем...
Потом посылаем...
Потом дорабатываем, дорабатываем, дорабатываем...
Потом снова посылаем...
И — все!
Ну, смотрите же!
Мы еще покажем человечеству, на что мы способны!
Подождите!
Вы еще увидите, кто такие Ява и Павлуша!
А потом я все-таки буду летчиком!
СМЕХ—ПРИЗНАК СИЛЫ!
«Смеется, как дитя!» — говорим мы порой. «Веселится, как ребенок!» И говорим не случайно: чувство юмора, жажда веселья, смеха — в самой природе детского характера, детского организма. Поучение, любая нравоучительная беседа, прозвучавшие скучно, уныло, вызывают у мальчишек и девчонок лишь чувство протеста, озорное желание поступить «вопреки», наоборот. Но с каким пристальным интересом участвует ребенок в разговоре веселом и увлекательном, как жадно внимает он голосу, богатому яркими юмористическими интонациями!
Талантливые представители нашей детской и юношеской литературы всегда знали и учитывали это свойство своих читателей. Быть может, С. Маршак мог поведать о злоключениях «человека рассеянного с улицы Бассейной» в драматической форме. А. Барто могла бы, вероятно, гневно высказаться в адрес знаменитой болтуньи Лиды и лентяя, которого взрослые униженно молят: «Лешенька, Лешенька, сделай одолжение...» Думаю, что Л. Кассиль мог бы с обличительным пафосом рассказать о нравах старой гимназии, символом которой стал для него зловещий «кондуит». Н. Носов, разумеется, мог в серьезной, поучительной форме начать разговор о том, что плохо и стыдно в наше время быть незнайкой, а знайкой, напротив, быть почетно и хорошо. А. Алексин мог бы серьезным, нравоучительным тоном объяснить юным читателям, что нет на свете радости без труда, что отдых приносит радость людям только тогда, когда приходит к ним после работы, а не отправлять девчонок и мальчишек в выдуманную им сказочную «Страну Вечных Каникул», пребывание в которой и убеждает в незыблемости всех вышеперечисленных истин.
569
Однако писатели выбрали для своих произведений форму озорную, веселую. И, может быть, именно поэтому иные герои их книг стали фигурами нарицательными, а сами книги стали неразлучными друзьями ребят.
Нет, я отнюдь не хочу сказать, что лишь юмористические повести, стихи и рассказы имеют право на существование в детской и юношеской литературе. Эта литература богата произведениями разных жанров, разных интонаций, разных художественных форм. Я лишь хочу подчеркнуть, что книги глубокие, умные и одновременно веселые, занимательные горячо любимы нашими юными читателями, и это, несомненно, свидетельствует о крепком нравственном здоровье наших девчонок и мальчишек, нашего юношества.
Добрая, ласковая, приветливая улыбка, так же как и веселый, жизнерадостный смех, должны сопутствовать человеку всю жизнь. Но для этого надо, чтобы человек с ранних своих лет научился радоваться жизни. Научился понимать смешное.
— Уа! Уа! Уа! — кричит новорожденный, заявляя о своем появлении на свет.
Не значит ли это: «Ура! Ура! Ура! Я родился! Я начинаю жить!»
В семье появился малыш. Все не могут на него наглядеться — фиксируют и комментируют каждое его бессознательное движение.
Первое подобие улыбки.
— Смотрите! Он уже улыбается!
Первое подобие смеха.
— Глядите! Он уже смеется!
И все торжествуют!..
Человек, лишенный чувства юмора, чаще всего обидчив и потому несчастен. Ему трудно уживаться в коллективе. Он мнителен и всегда насторожен. Простую безобидную шутку, пародию, дружеский шарж, эпиграмму он может воспринять как оскорбление.
Зато бесценно свойство человека, умеющего посмеяться над самим собой. Такой человек — плохая мишень для злых шутников. Попав в смешное, комическое положение, он не смутится, не сконфузится, не испытает чувства ложного стыда,
570
желания «провалиться сквозь землю» — и этим лишит другого удовольствия посмеяться над ним.
Я хорошо знал одного школьника, страдавшего заиканием. Однако в определенных трагических ситуациях он так легко и с таким неподдельным юмором умел обыграть свой недостаток речи, что никому из его сверстников не приходило в голову смеяться над ним.
Чувство юмора надо ценить, развивать и беречь. Это — жизнестойкий витамин, помогающий подчас человеку в самые трудные минуты его жизни. Перед лицом опасности. В труде. На войне.
Там, где заходит разговор о юморе, там нельзя не сказать и о сатире. Они — родные брат и сестра. Дети отлично умеют подмечать смешное — и потому от души смеются, когда узнают себя или своих друзей в стихах, повестях или рассказах мастеров «детской» сатиры.
Общеизвестно, что, смеясь над плохим, человек делает для себя вывод о том, какой должна быть жизнь.
«Человечество смеясь расстается со своим прошлым»,— говорил Карл Маркс.
«...Смеясь над глупцом, я чувствую, что понимаю его глупость, понимаю, почему он глуп, и понимаю, каким бы он должен быть, чтобы не быть глупцом,— следовательно, я в это время кажусь себе много выше его. Комическое пробуждает в нас чувство собственного достоинства...» — так понимал значение смеха в комедии Чернышевский.
Сатира — это такой жанр, который обязательно кого-нибудь задевает, кого-то обижает и кому-то не нравится.
Что, если сатира направлена против тебя? Если точно и зло высмеяны твои пороки, недостатки, слабости? Как быть? Чувство юмора тут не поможет. Ты стал мишенью сатирика, в тебя попала его стрела. Твое самолюбие задето, уязвлено. Сатирик этого и добивался!
Если зеркало правдиво показывает твое отображение — неумытое лицо, нечесаную голову, то оно как бы говорит тебе: «Посмотри на себя!» Можно, конечно, обидеться и разбить зеркало... Но это не будет выходом из положения. Лучше все- таки причесаться и умыться.
571
Видный советский ученый В. В. Воеводский как-то сказал: «Пни нужно не объезжать, а спотыкаться об них — тогда легче будет их выкорчевывать».
Задача сатиры — выкорчевывать пни и этим служить народу. Другими словами, ее задача — оружием смеха бороться с теми пережитками прошлого, с теми пороками и недостатками, которые еще мешают нам.
Анатолий Васильевич Луначарский писал в своей статье «Будем смеяться!»:
«Смех не только признак силы, но сам — сила. И раз она у нас есть, надобно направить ее в правильное русло... Смех— признак победы».
Я решил поразмышлять о юморе и сатире, потому что в сборнике — произведения мастеров жизнерадостного, веселого жанра, мастеров едкого сатирического смеха.
Вряд ли стоит комментировать рассказы знаменитого Николая Носова. Их надо просто еще раз прочитать, чтобы вновь убедиться: все герои Носова «как живые», а их фантазия, их поступки и даже проделки учат читателей добру, благородству.
Тому же самому учит и давно полюбившаяся ребятам, переведенная на многие языки повесть Анатолия Алексина «Саша и Шура».
Прочитав произведения этих писателей, как говорится, «и посмеешься и подумаешь»...
Напечатана в этой книге и повесть известного украинского писателя Всеволода Нестайко «Незнакомец из тринадцатой квартиры». В ней действуют ребята, которые уже знакомы юным читателям по ранее написанной повести В. Нестайко «Необычайные приключения Робинзона Кукурузо и его верного друга одноклассника Павлуши Завгороднего...».
Итак, том веселых рассказов и повестей. Их главные герои— пионеры и школьники, ребята веселые, наделенные яркой фантазией и благородными помыслами. Вот почему произведения эти вошли в «Библиотеку», которая издается в связи со славным юбилеем нашей Пионерии.
СЕРГЕИ МИХАЛКОВ, лауреат Ленине ной премии
СОДЕРЖАНИЕ
Николай Носов ФАНТАЗЕРЫ Рисунки Г. Валька и И. Семенова
Мишкина каша 7
Дружок 17
Телефон . 33
Бенгальские огни 43
Тук-тук-тук 56
Огородники 64
Приключения Толи Клюквина . . . 74
Про Гену 104
Клякса 115
Федина задача 119
Находчивость 123
Наш каток 126
Замазка . 136
Фантазеры ... 140
Живая шляпа 146
На горке ... . ... ... 149
Саша ...... . 152
Ступеньки 161
Метро ......... 163
Огурцы 168
Прятки 173
Карасик . 177
Автомобиль , ... 184
Затейники 188
Заплатка 190
Леденец 193
Шурик у дедушки 196
Про репку 203
Милиционер 212
И я помогаю 215
573
Анатолий Алексин
САША И ШУРА Рисунки Б. Винокурова
Часть первая
Я становлюсь Шурой 229
«Не забудь про самое главное!» —
Как я летом двойку получил , ... 233
Я становлюсь Шурой . . . 240
У реки Белогорки 247
«Я приехал! Приехал!» 252
«Но в то же время...» 258
Пираты . 263
Чистые промокашки 268
Похищение 273
Я становлюсь поэтом . 276
Сашина тайна 279
Я становлюсь учителем 282
«Неистребимый» 291
Однажды ночью 296
Неожиданный экзамен 303
Два письма 310
Часть вторая
Все началось с велосипеда . 311
«Приезжай немедленно» —
Я рыдаю . 314
Все началось, с велосипеда 320
Источник полноты 328
Город будет прекрасен . 337
Я пускаю пузыри . . . 343
Я проявляю инициативу! * 356
Я продолжаю проявлять инициативу 364
Мешок из старых портьер 373
Туда и обратно 379
«Приходите к нам лечиться!» 386
И еще прекраснее 398
574
Всеволод Нестайко
НЕЗНАКОМЕЦ ИЗ ТРИНАДЦАТОЙ КВАРТИРЫ...
Рисунки Г. Алимова
Глава /. «Э!»—сказали мы с Явой 409
Г лава II. Случай в метро, «Космонавт». Конфликт с киевской милицией . * . . 420
Глава III. Ява спешит на свидание. Ухо 429
Глава IV. Пляж. Карусели. Утопленник, Незнакомец из
тринадцатой квартиры . 435
Г лава V. Ищем царя-незнакомца из тринадцатой квартиры. Встреча в театре. Величие и падение Явы Реня , 451
Глава VI. Будка. Ухо за ухо! 462
Глава VII. Максим Валерьянович 471
Глава VIII. «Товарищ царь, вы арестованы!» «У-у, пораз¬
несу!..» 476
Г лава IX. На студии. Неожиданность первая. Неожиданность вторая 487
Глава X. Где часы? Мы идем в логово врага . . , . 494
Глава XI. «Динамо» (Киев) —«Торпедо» (Москва) . . 500
Глава XII. Казацкому роду нет переводу. Кошевой Карафолька. Письмо запорожцев. Ночь на кладбище (воспоминания) 506
Глава XIII. Ночные приключения. Выстрел в пещере . . 518 Глава XIV. «Внимание!.. Начали!.. Мотор!» Часы находят своего хозяина. Рождение Явы Станиславского и
Павлуши Немировича-Данченко 537
Глава XV. Погибель Явы Станиславского и Павлуши Немировича-Данченко. И все-таки мы живем! . . . 561
Сергей Михалков. Смех — признак силы! .... 569
Для младшего и среднего возраста
БИБЛИОТЕКА ПИОНЕРА Том 4
Носов Николай Николаевич
ФАНТАЗЕРЫ
Алексин Анатолий Георгиевич
САША и ШУРА
Нестайко Всеволод Зиновьевич
НЕЗНАКОМЕЦ ИЗ ТРИНАДЦАТОЙ КВАРТИРЫ
Ответственные редакторы Л. Р. Баруздина и М. Ф. Мусиенко
Художественный реда ктор С. И. Нижняя
Технический редактор О. В. Кудрявцева
Корректоры Т. П. Лейзерович и Э. Л. Лофенфельд.
Сдано в набор 31/V 1972 г. Подписано и печати 5/IX 1972 г. Формат 60x90 1/16. Печ. л. 36. (Уч.-изд. л. 30,24). Тираж 200 000 (100 001—200 000) экз. Цена 1 р. 29 к. на бум. № 1. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Государственного Комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного Комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва. Сущевский вал, 49. Заказ № 4290.