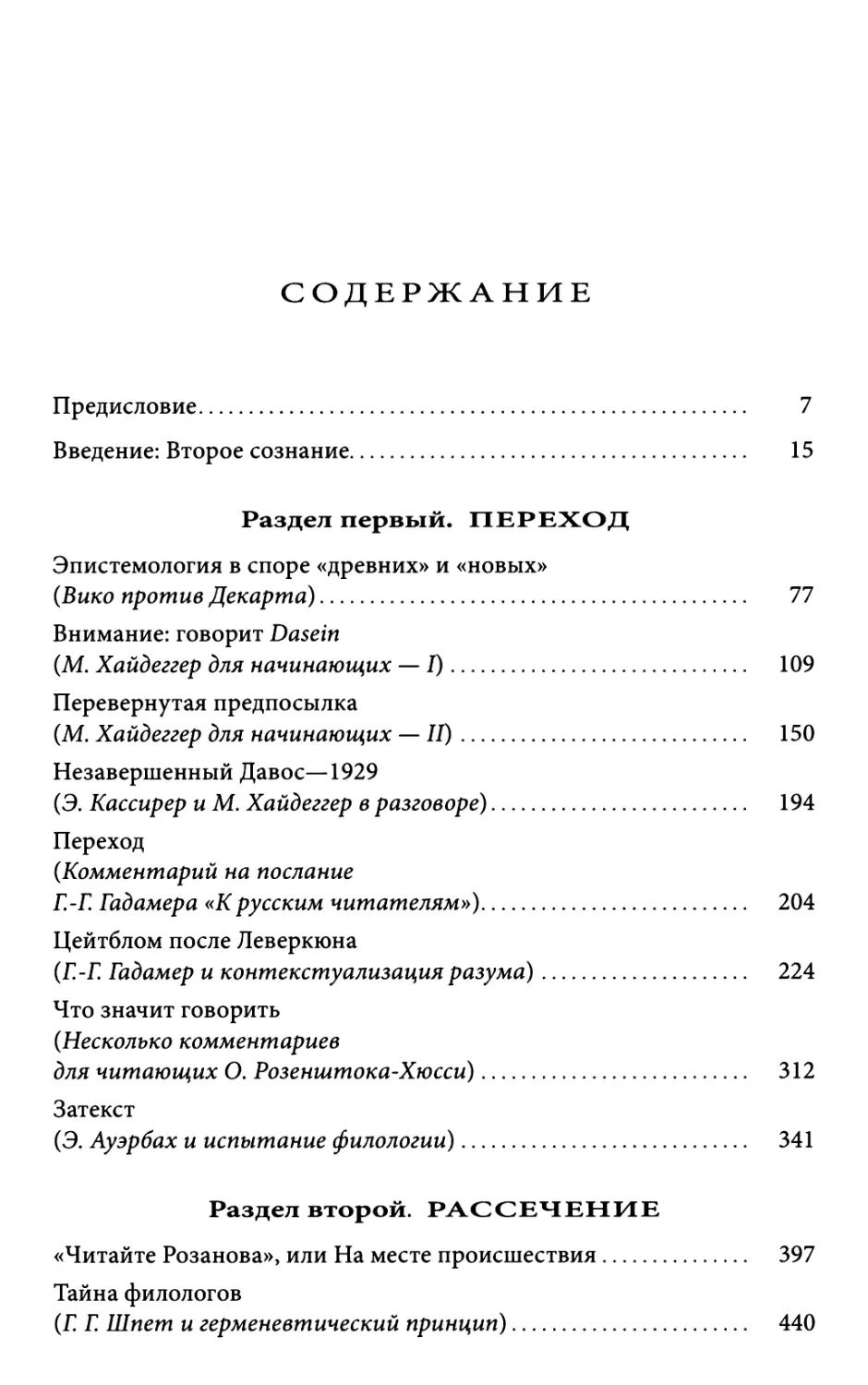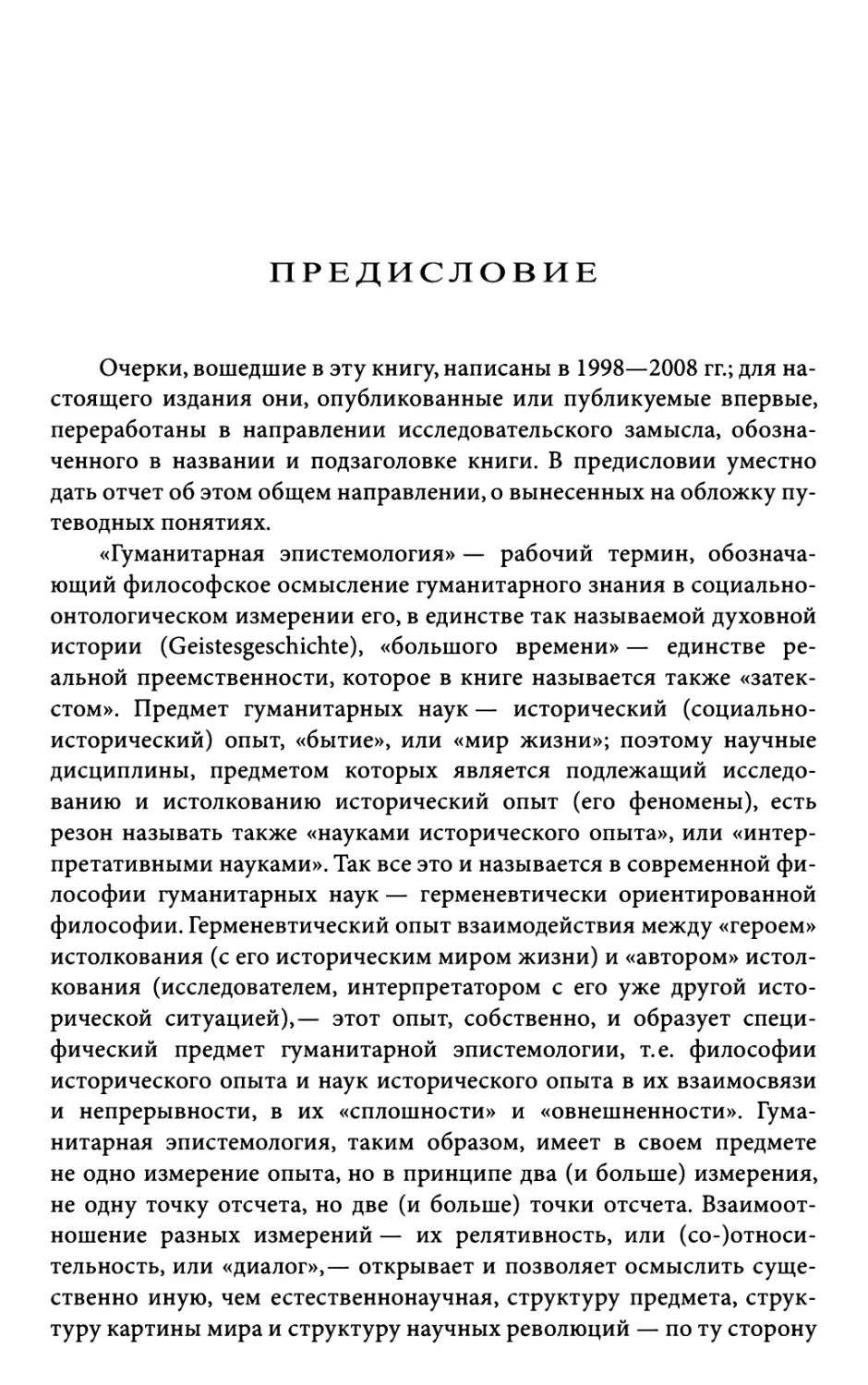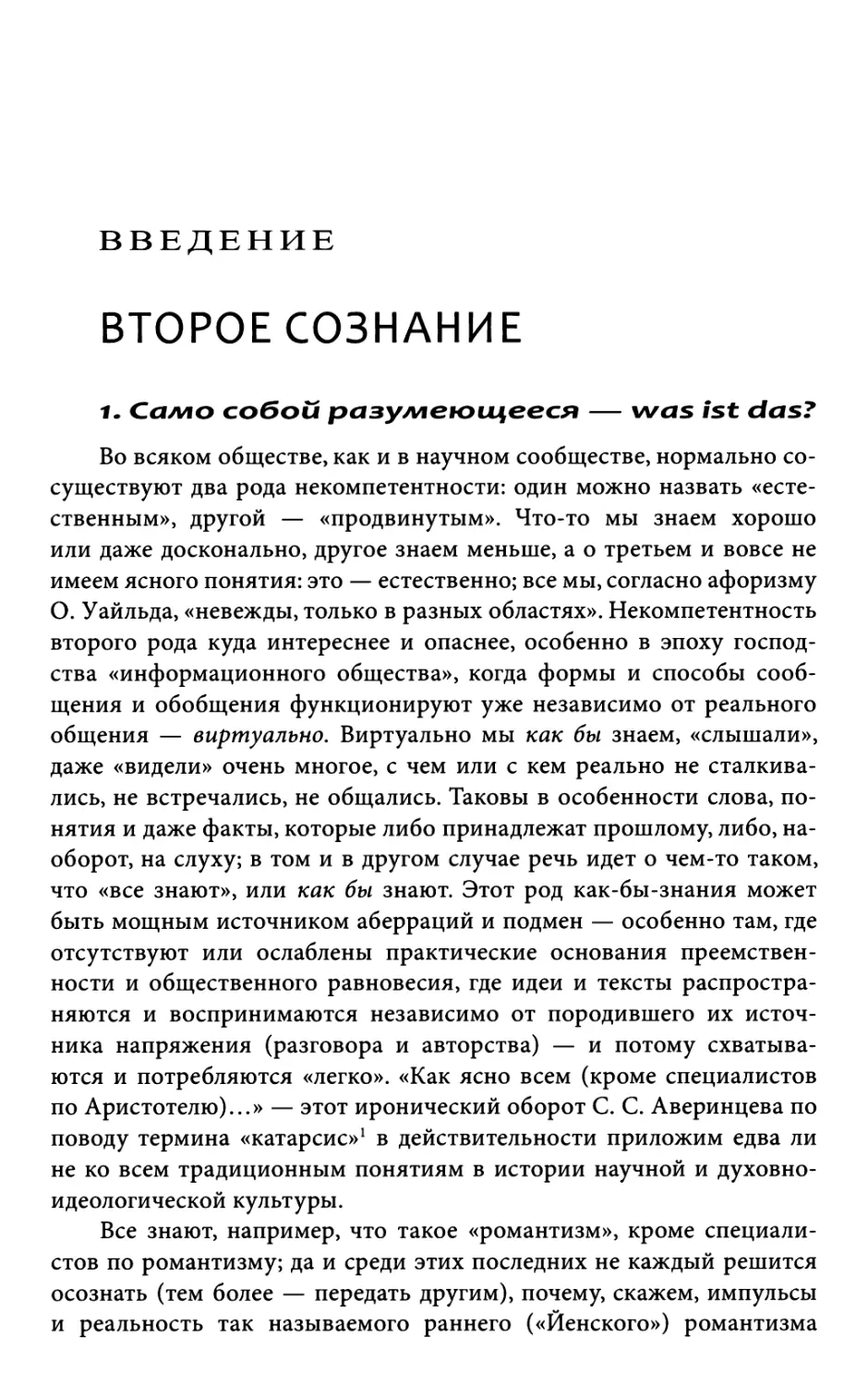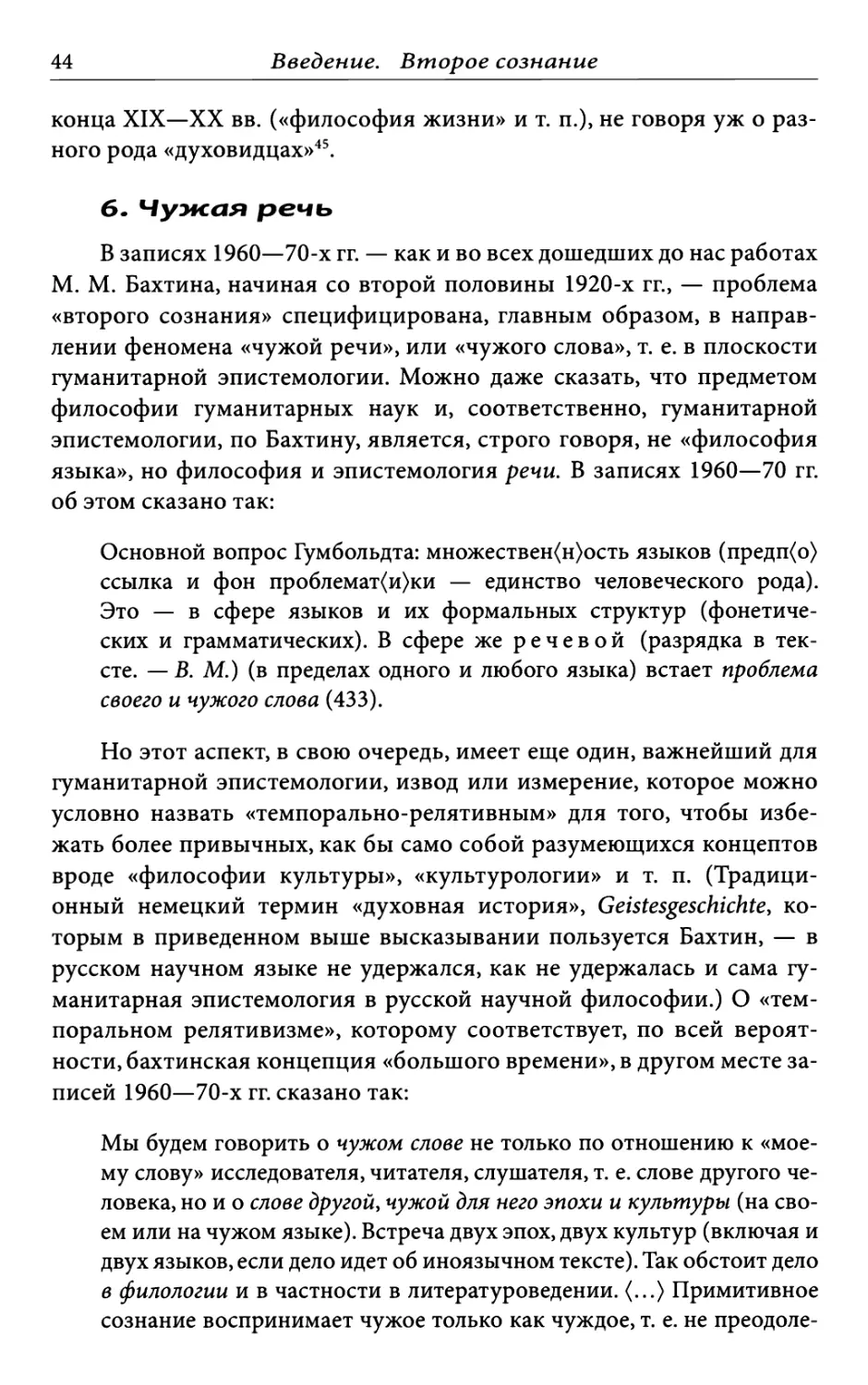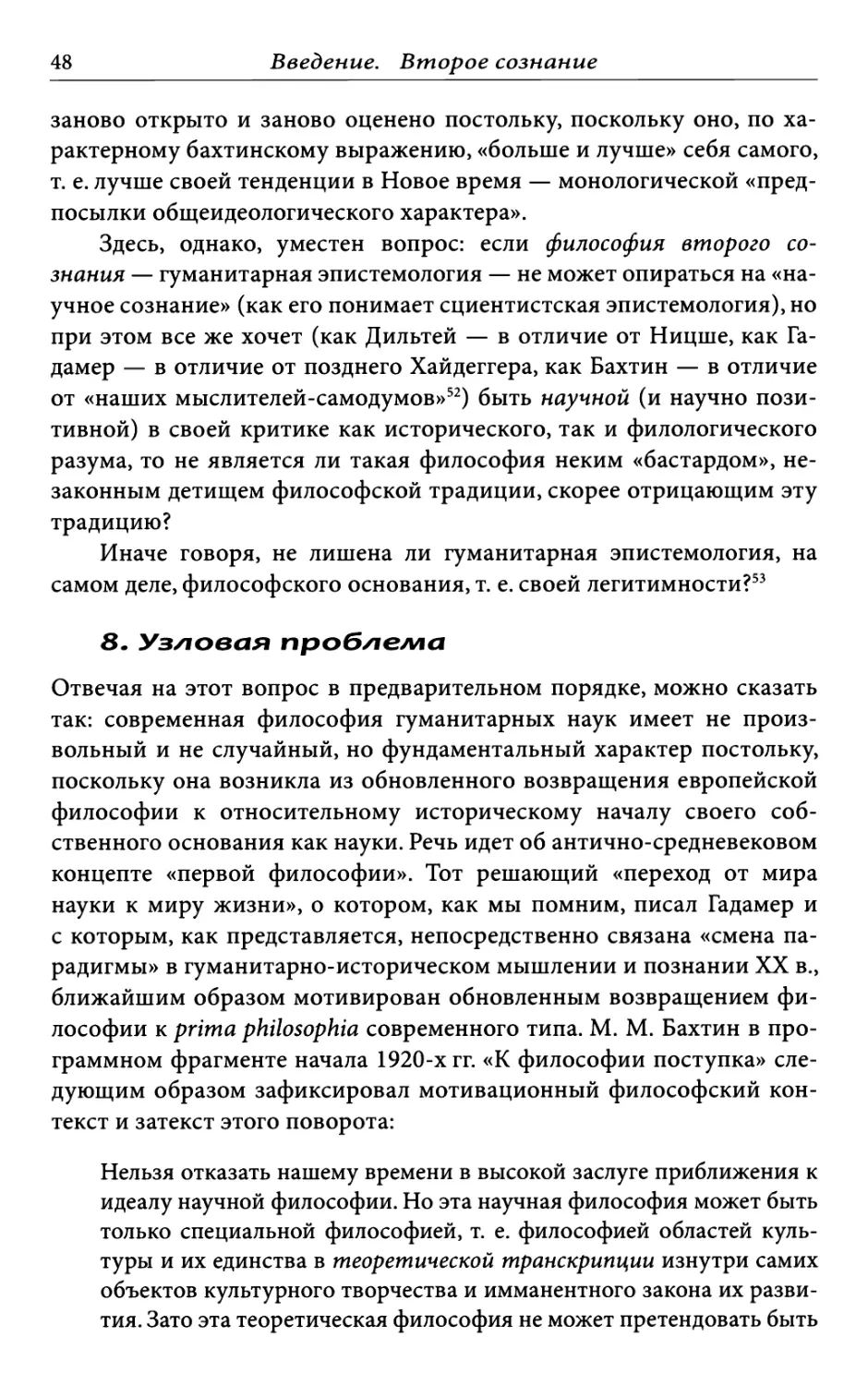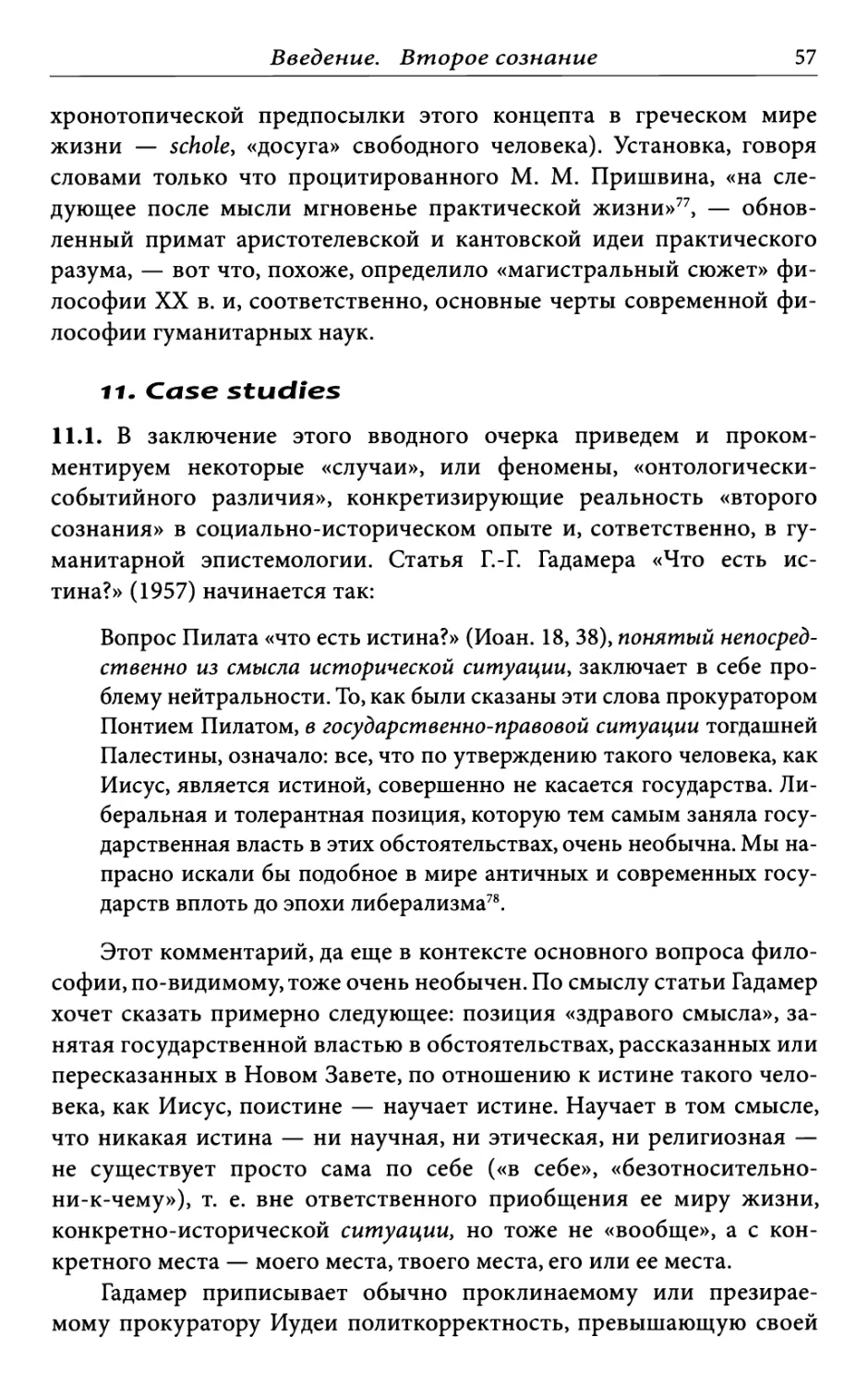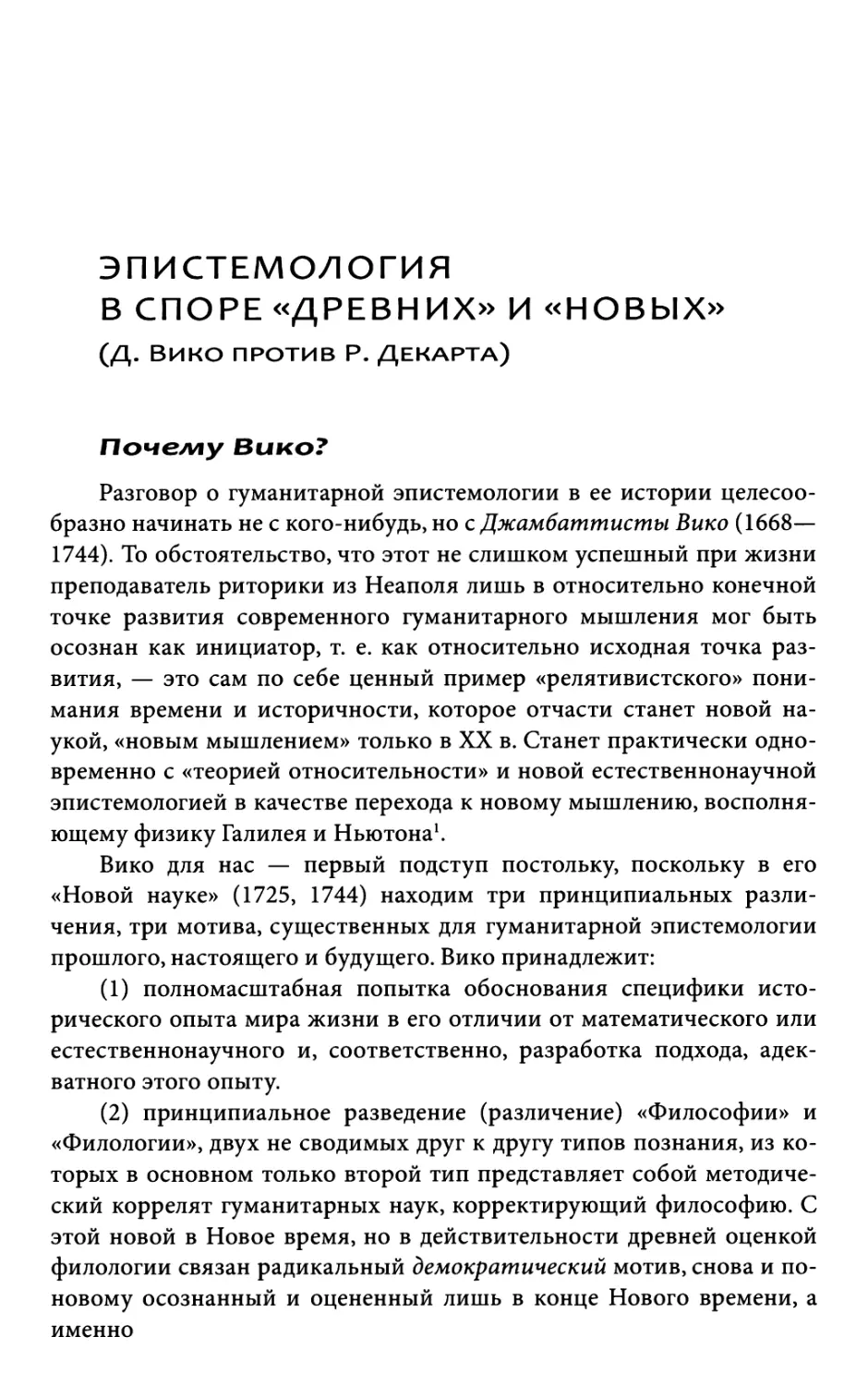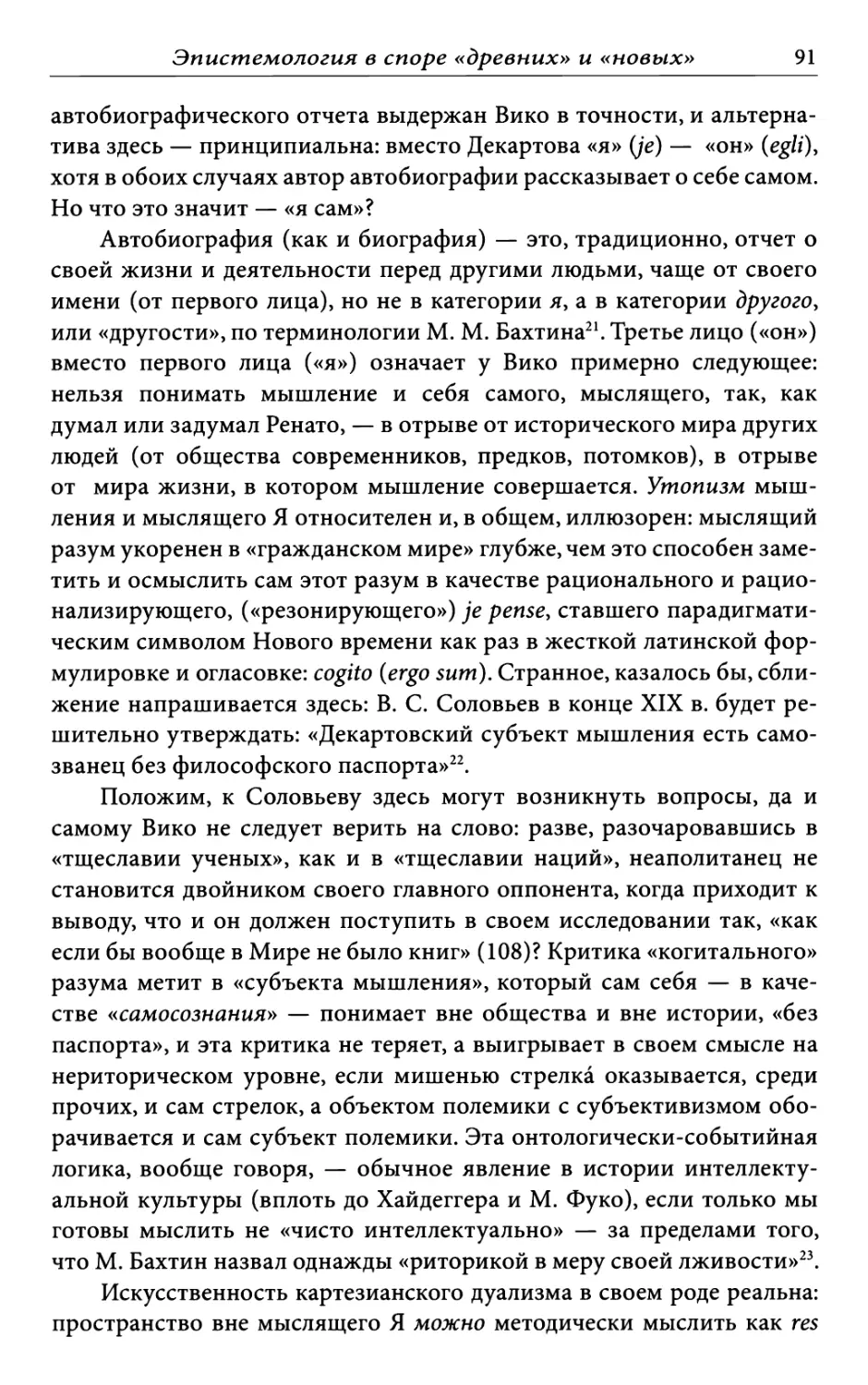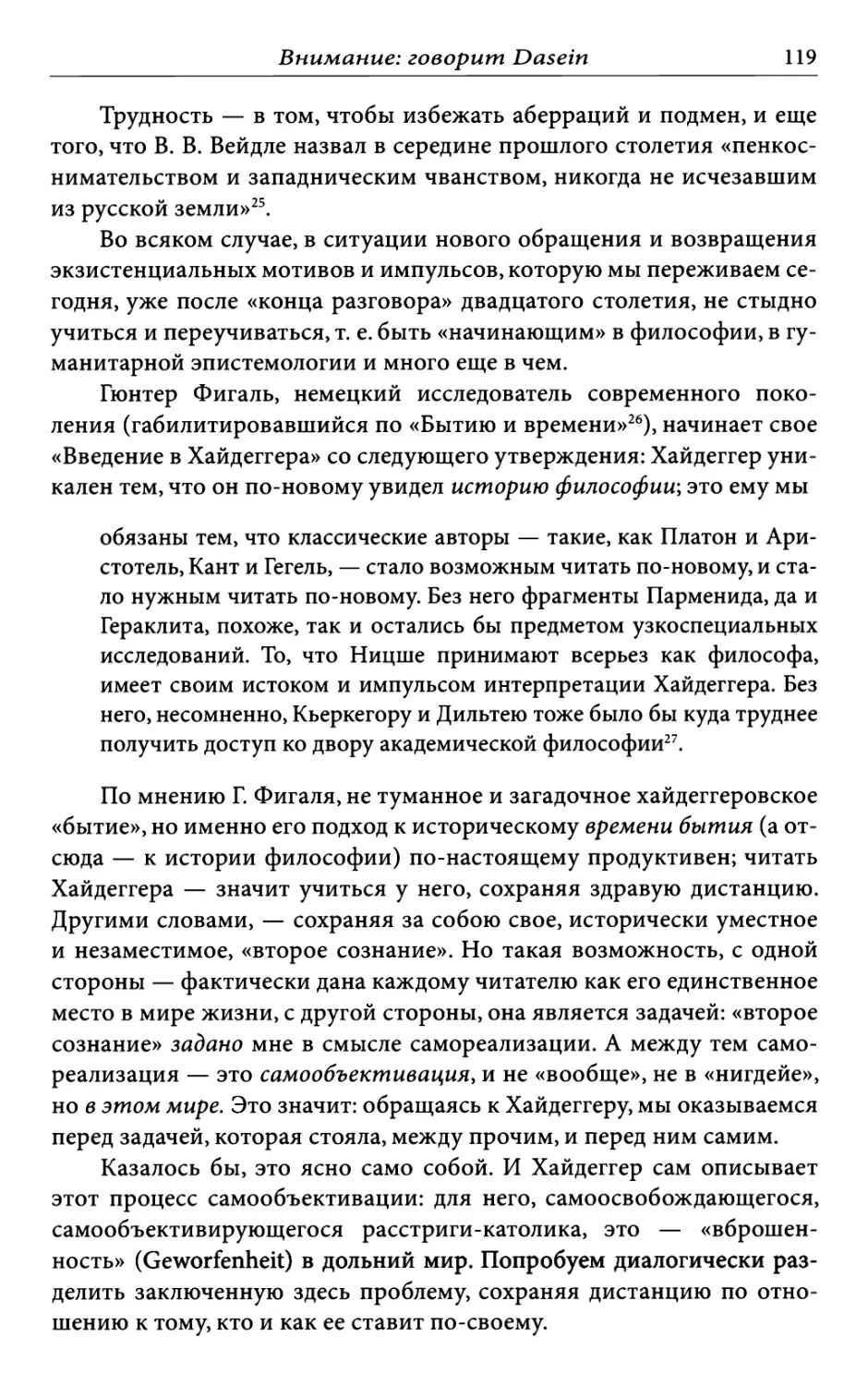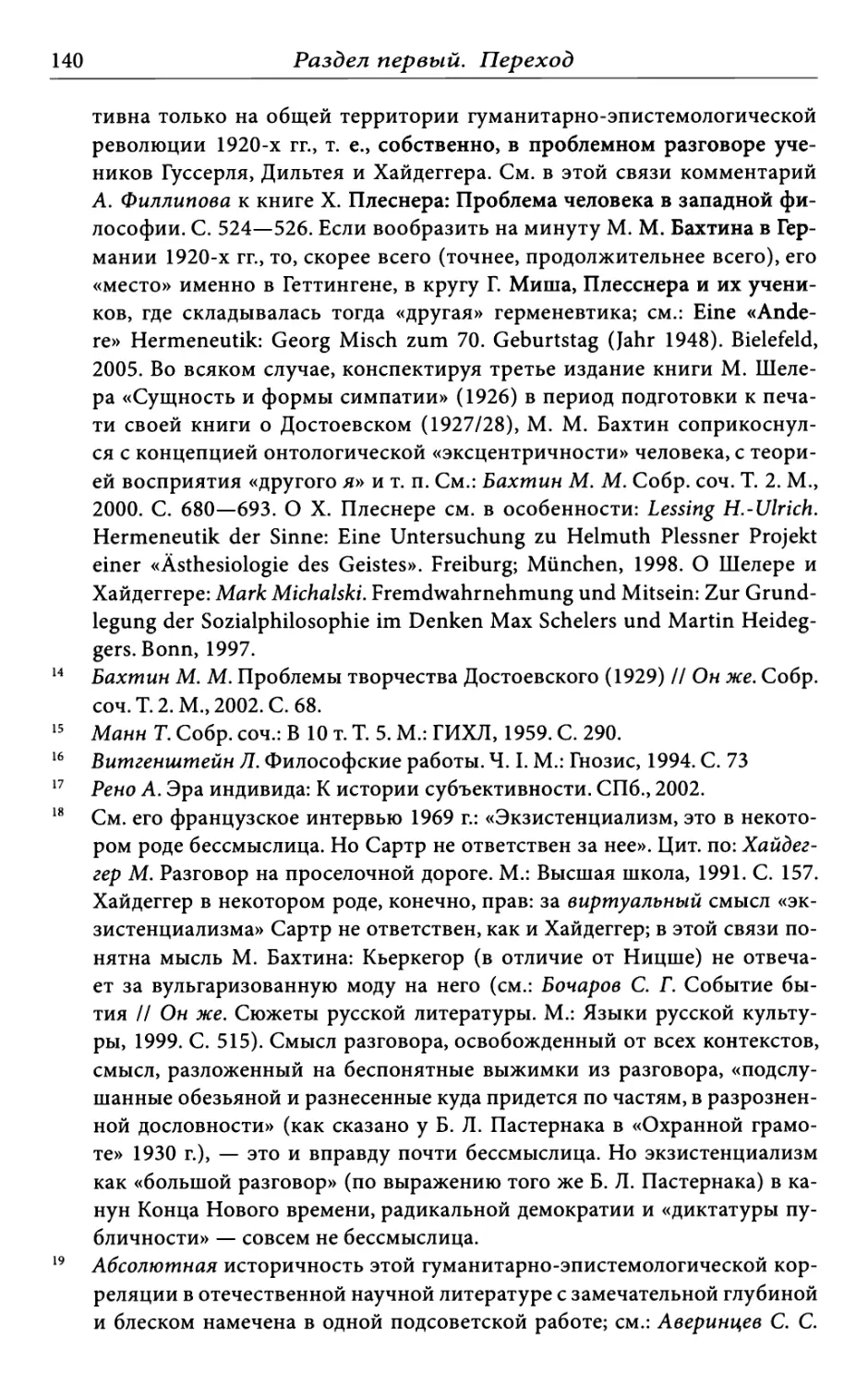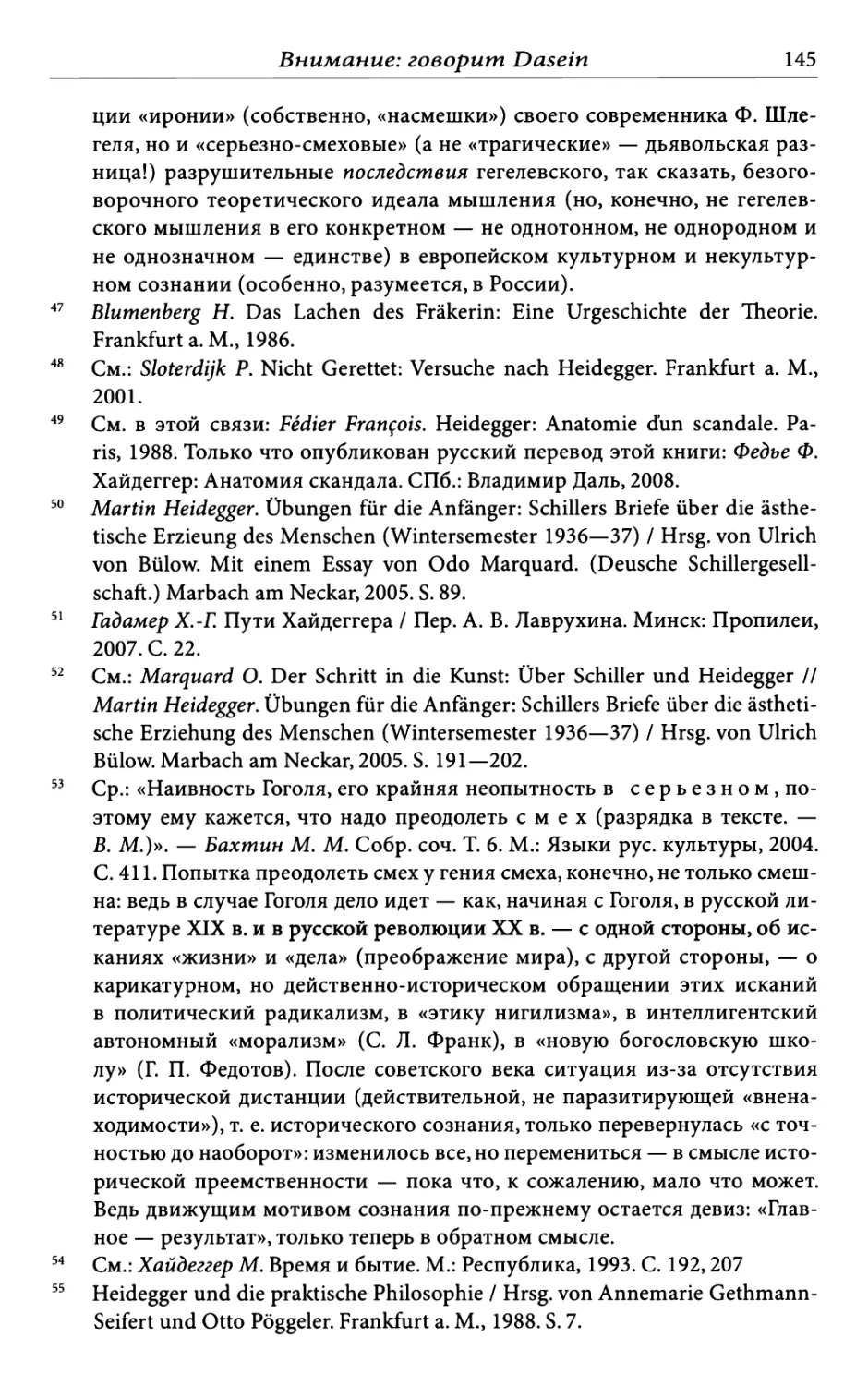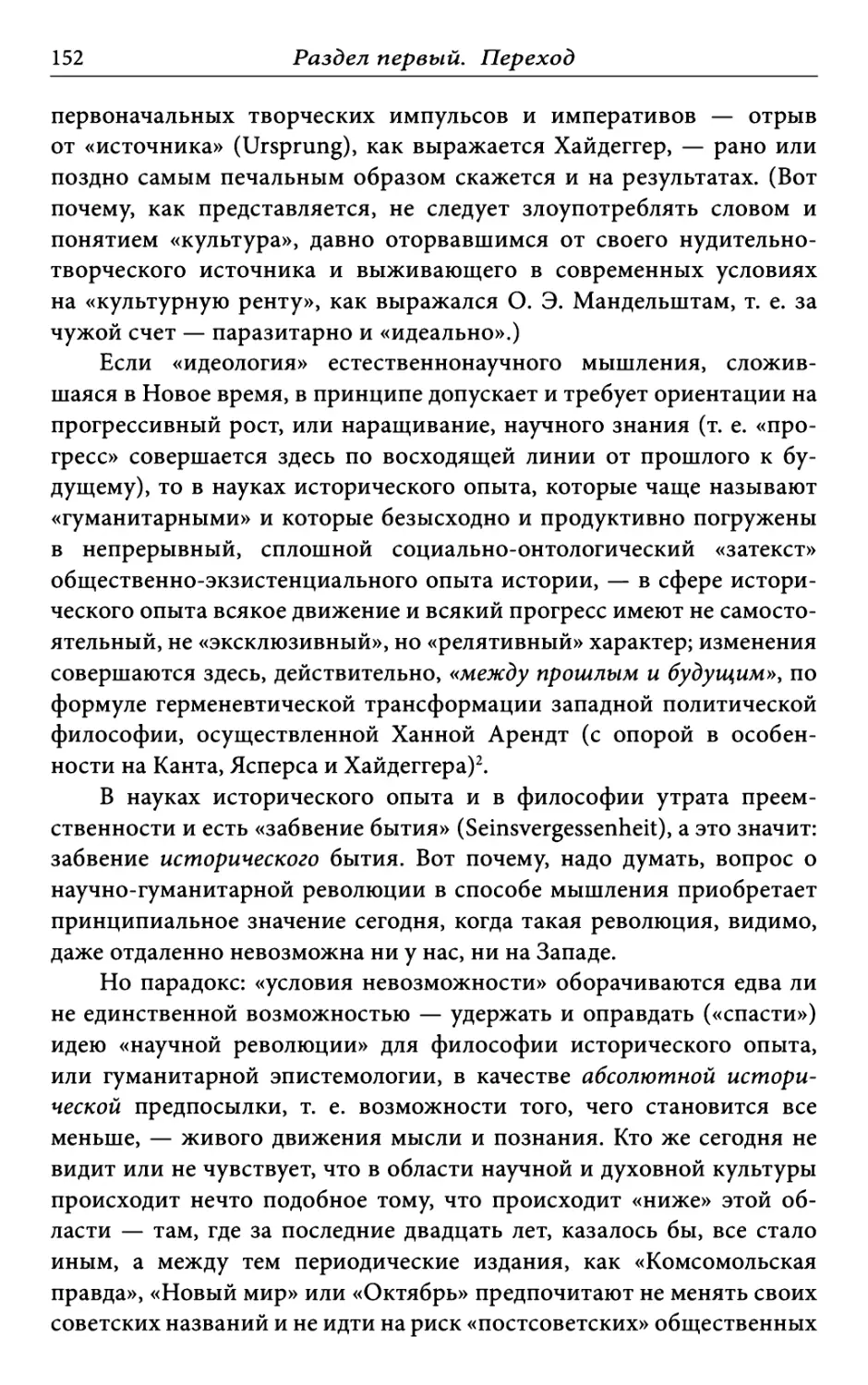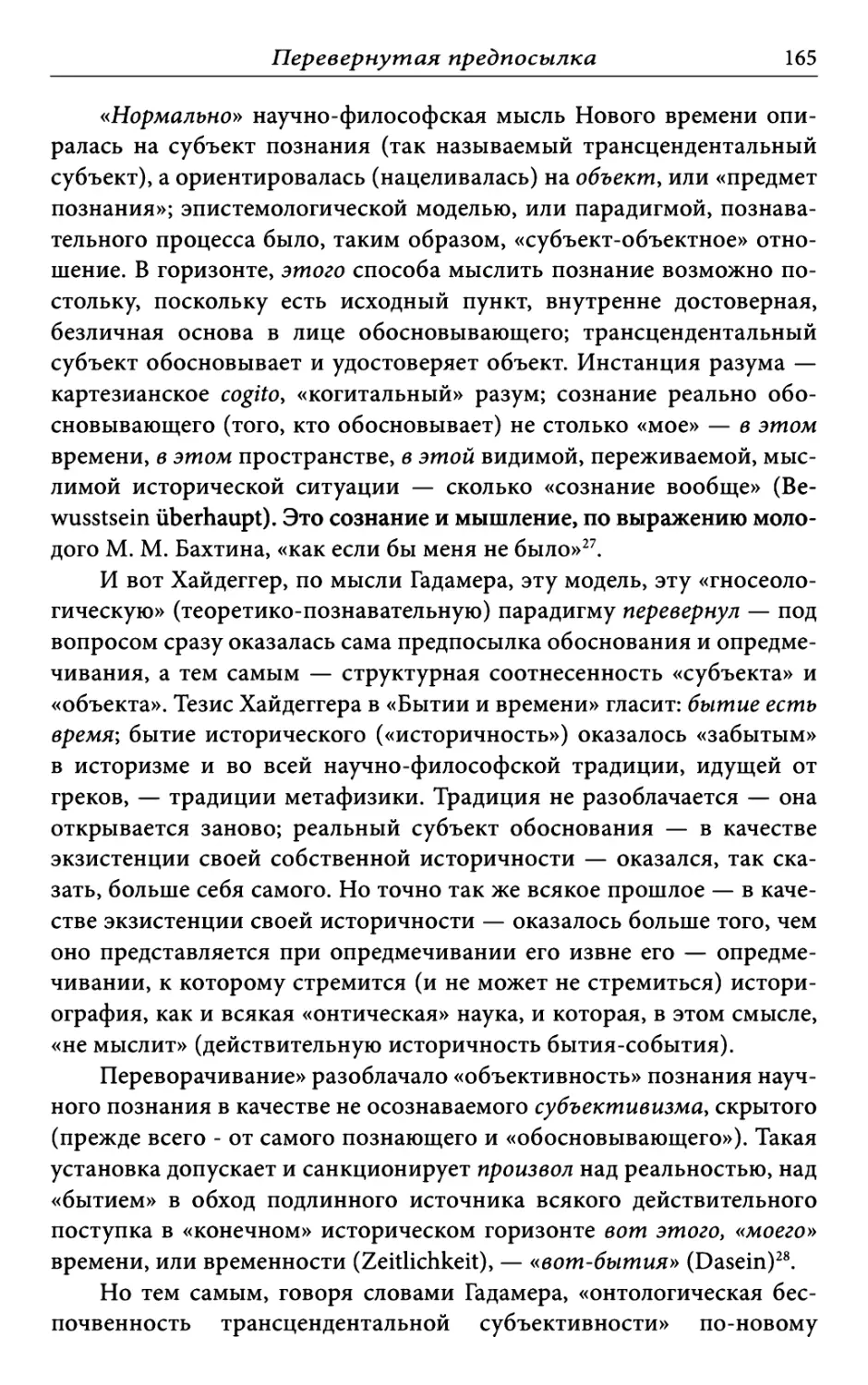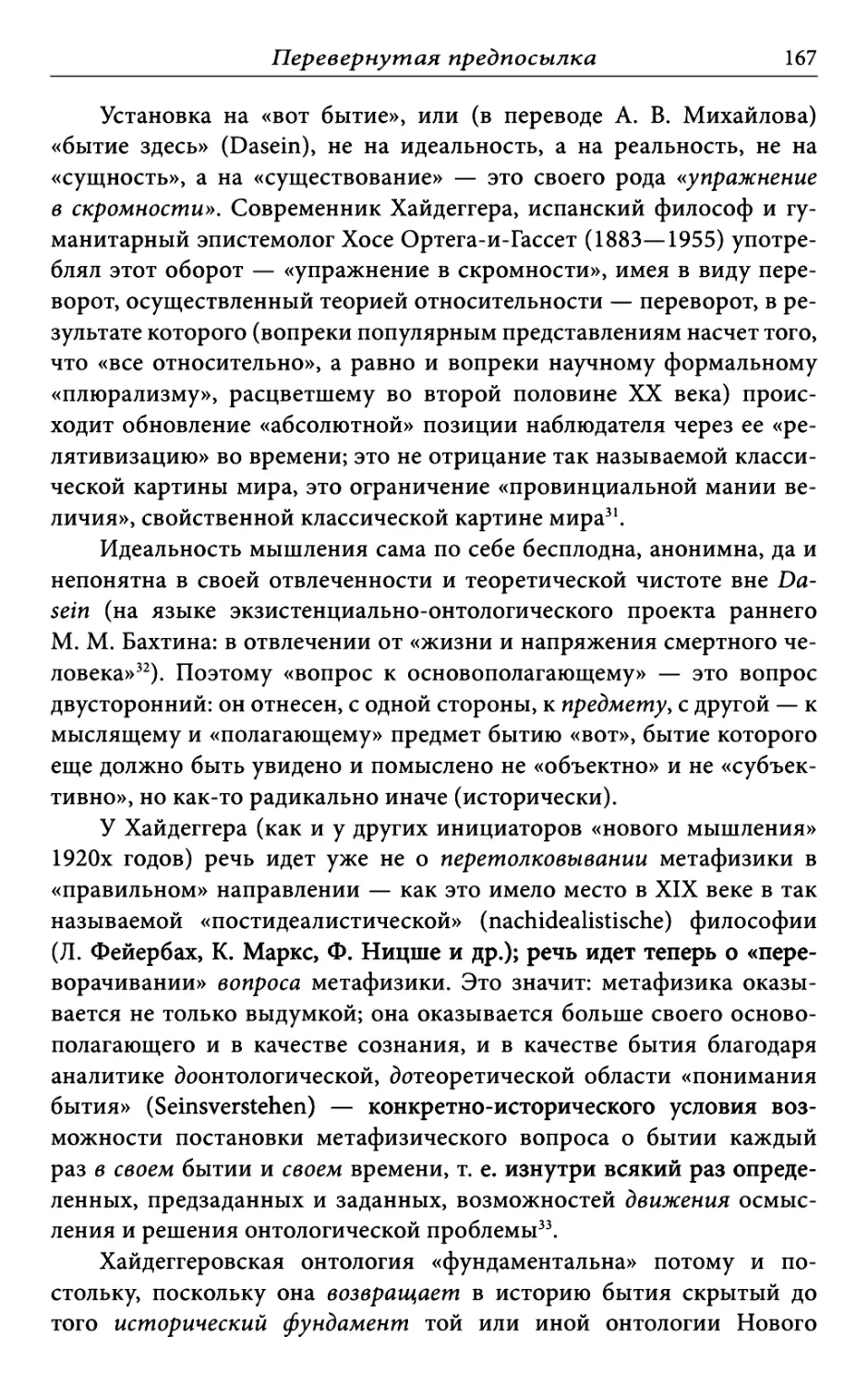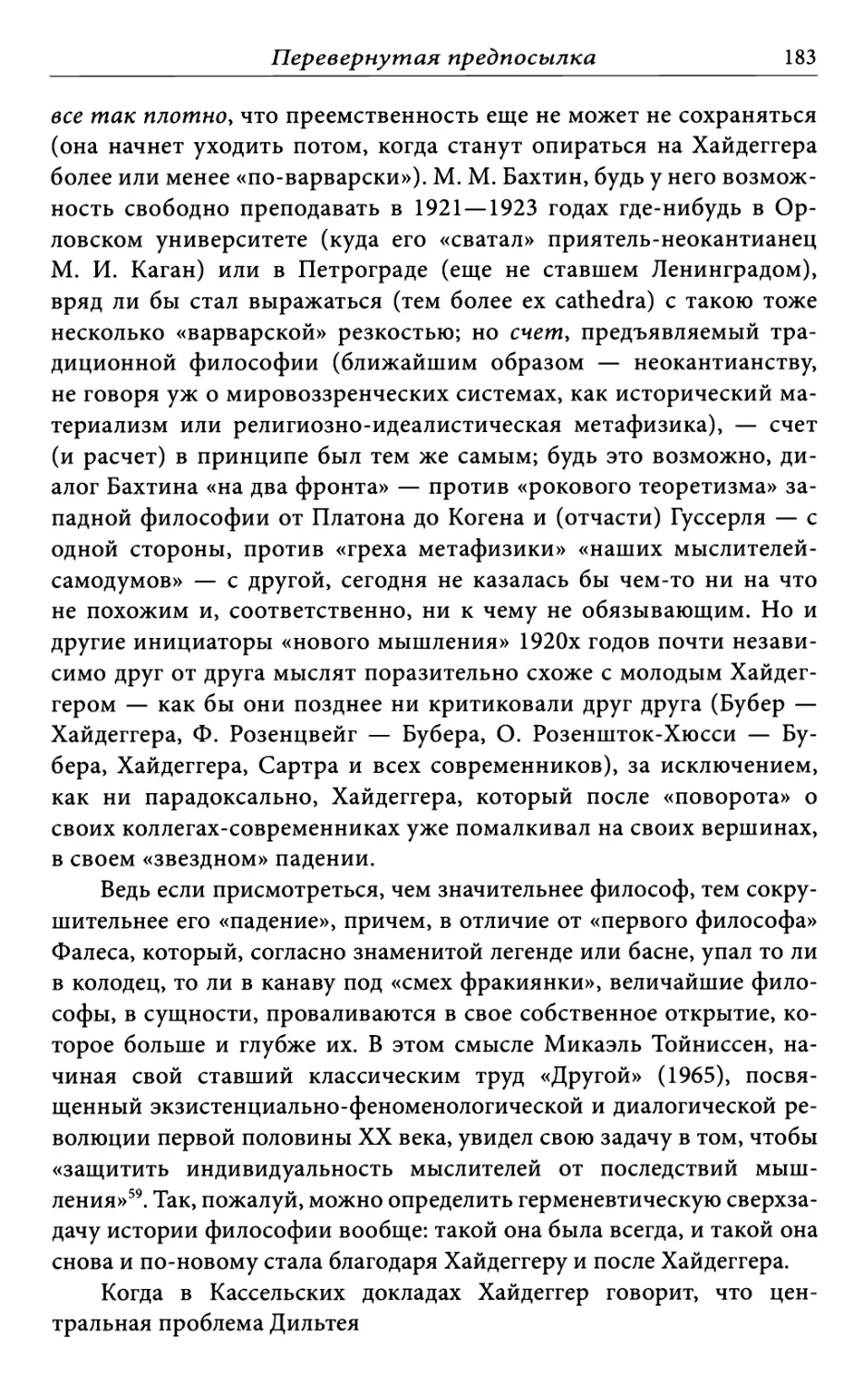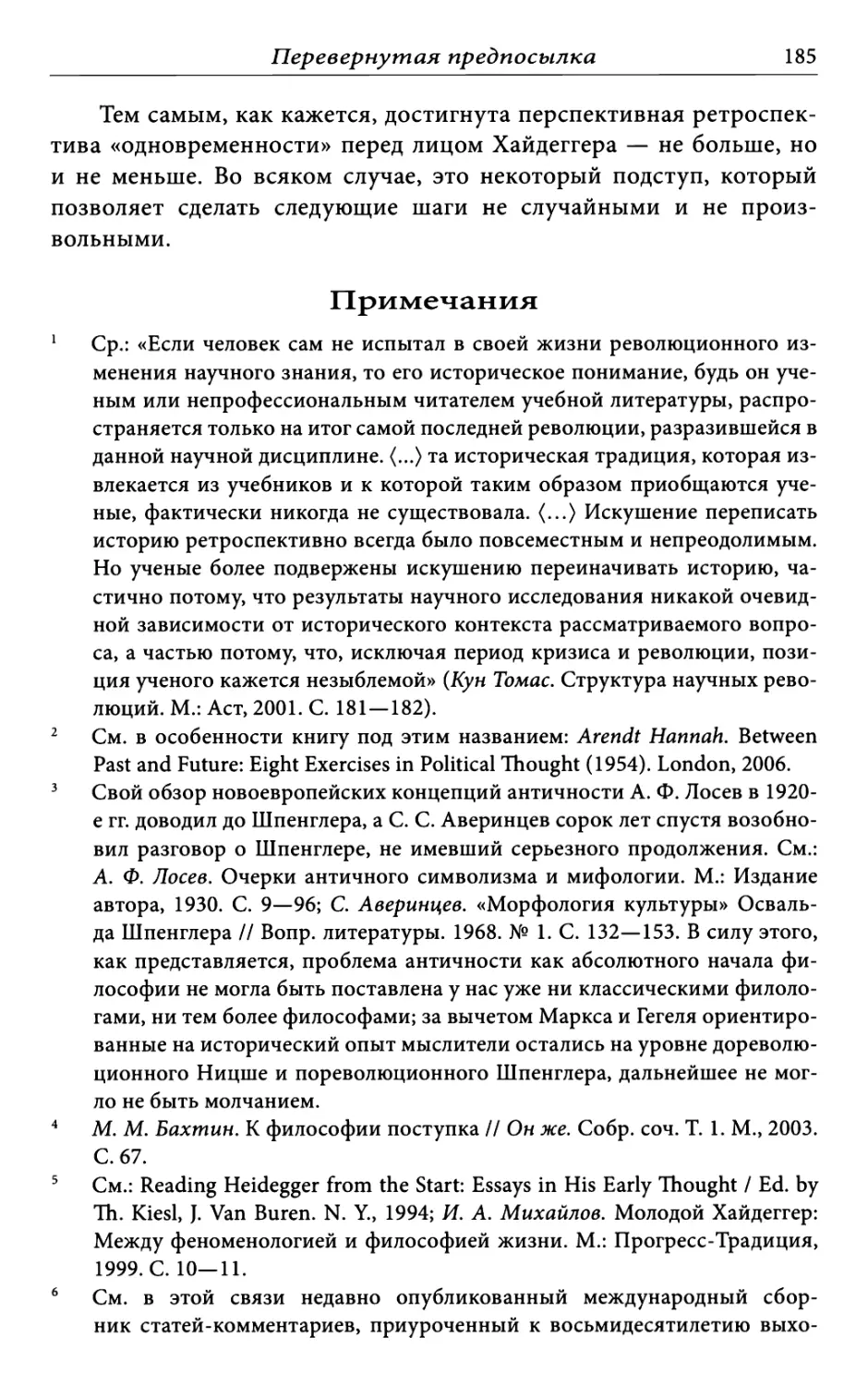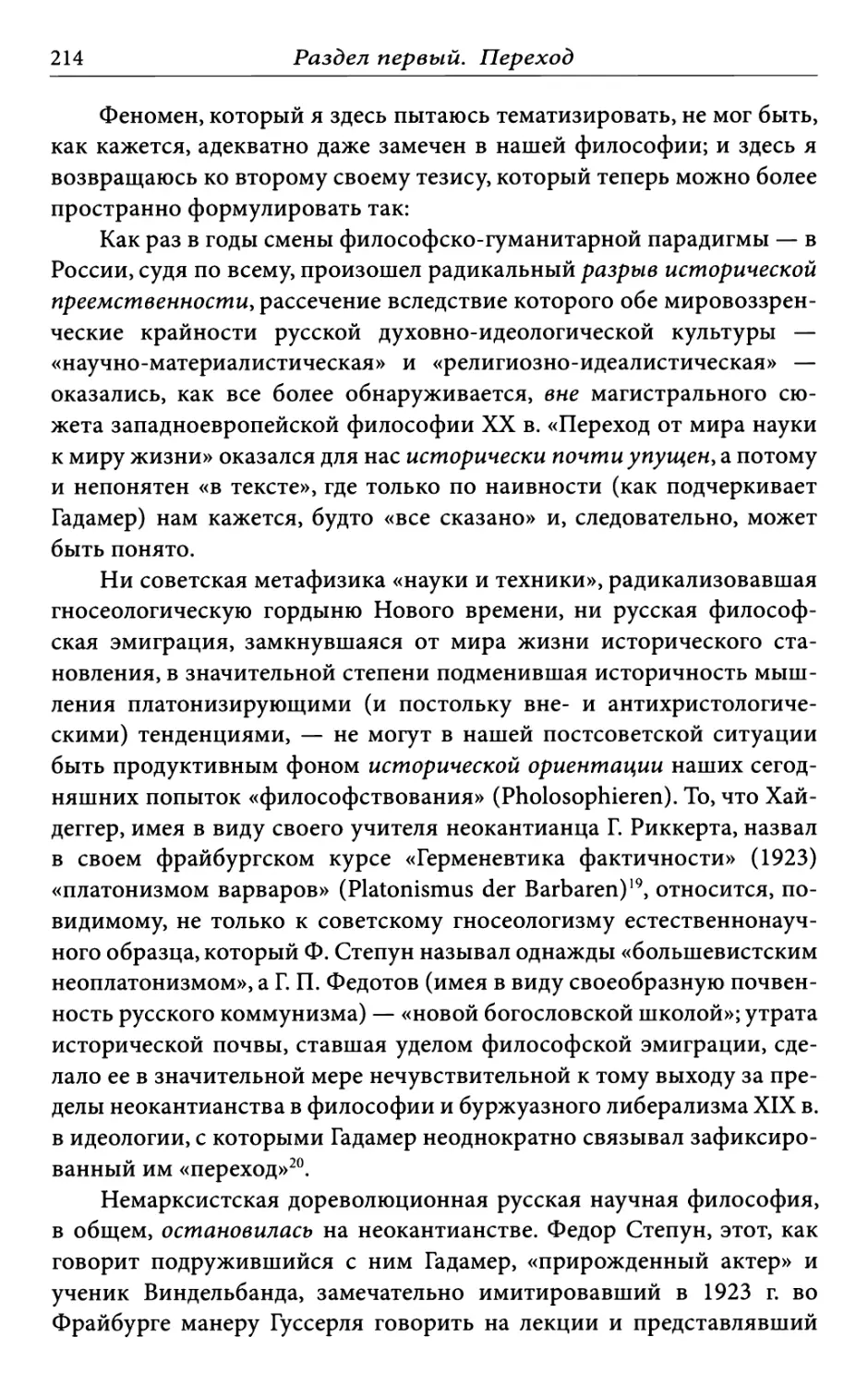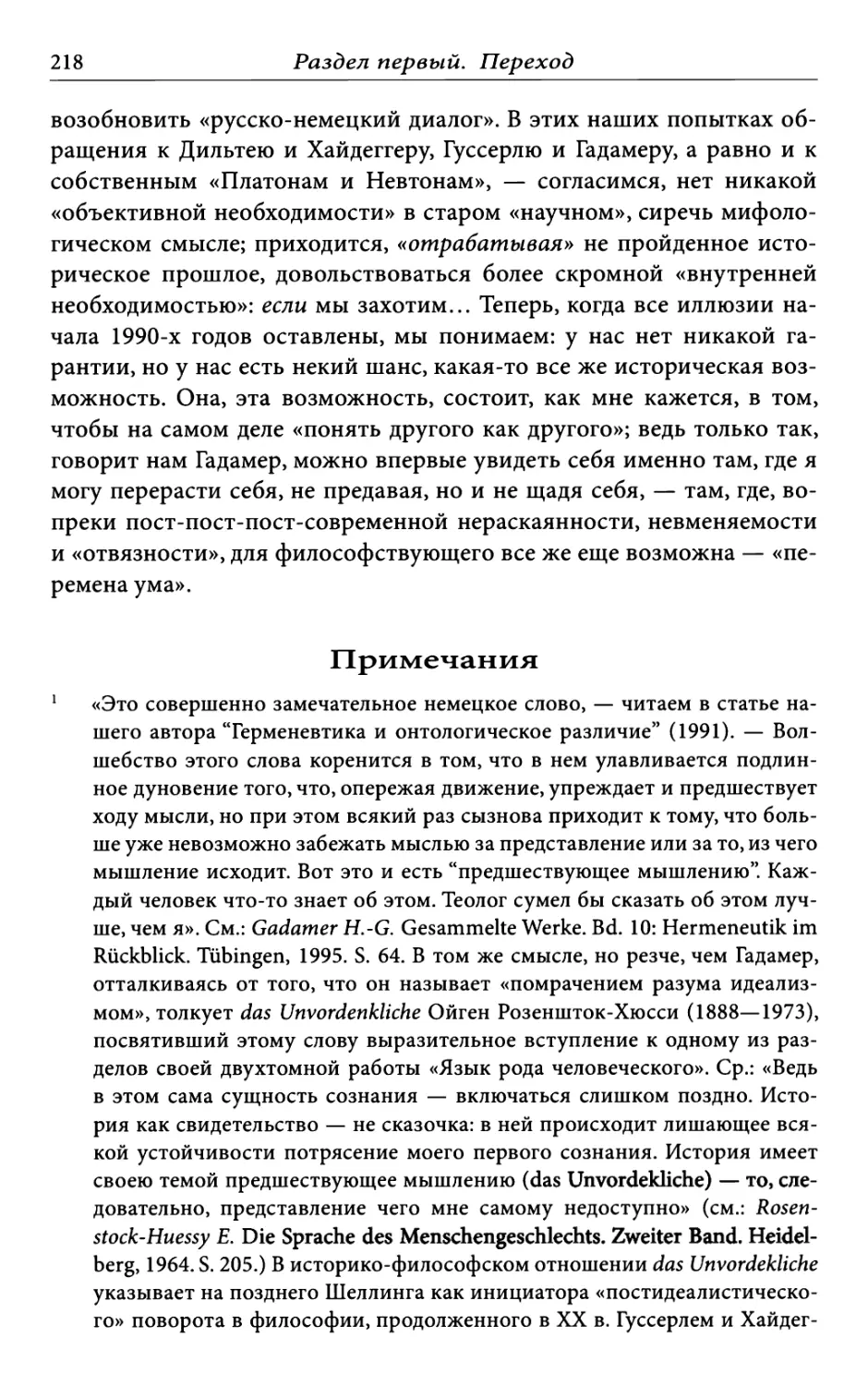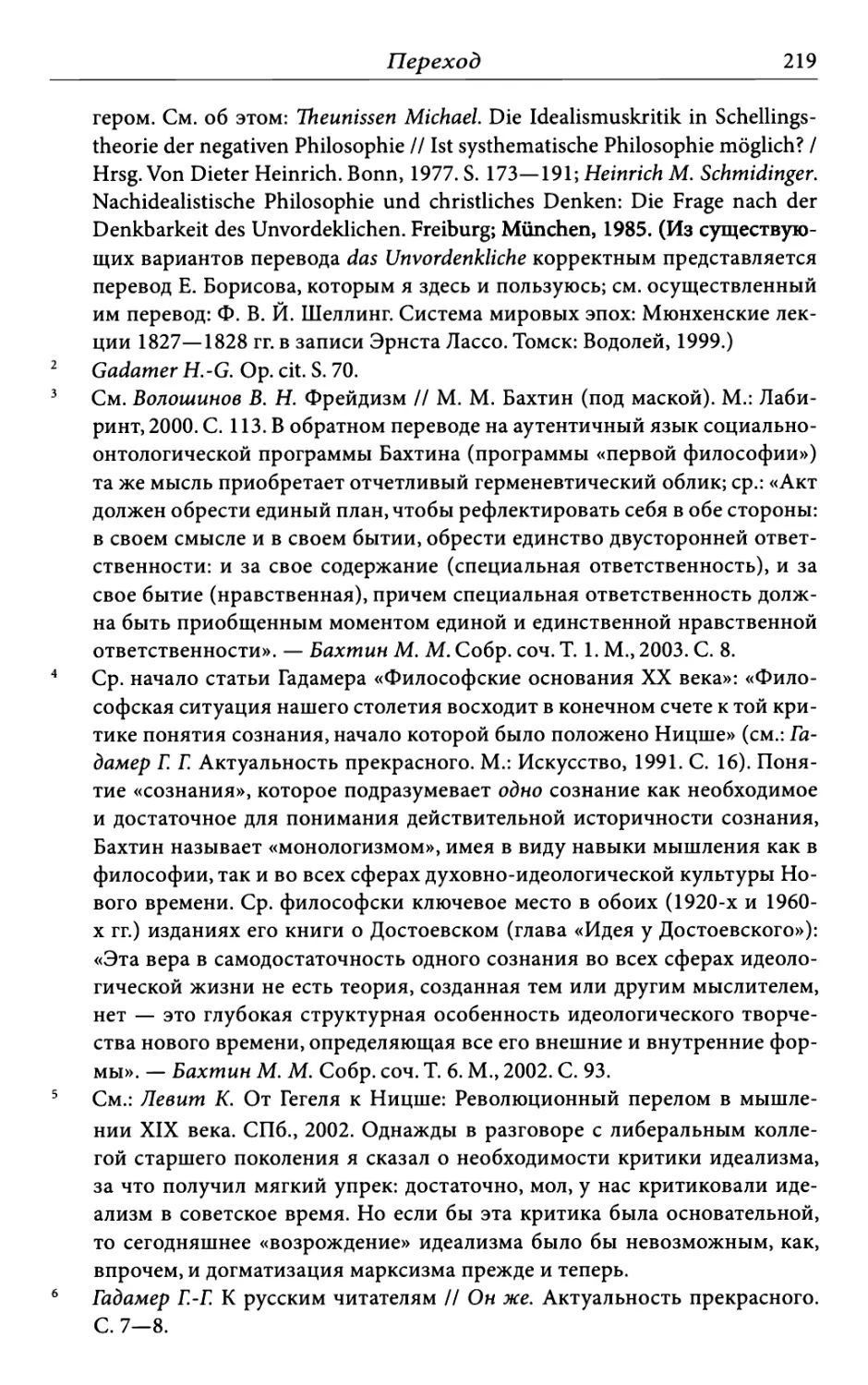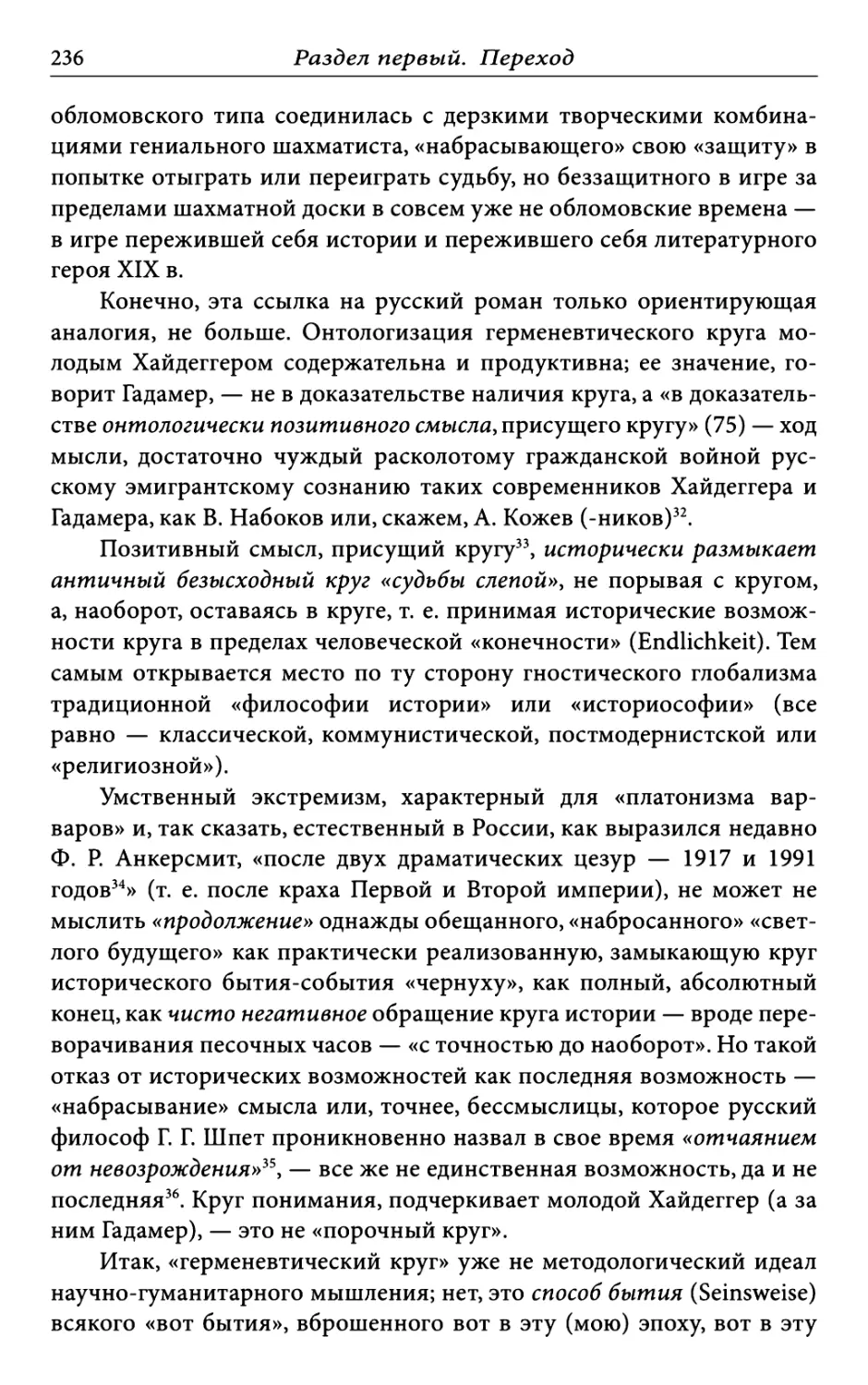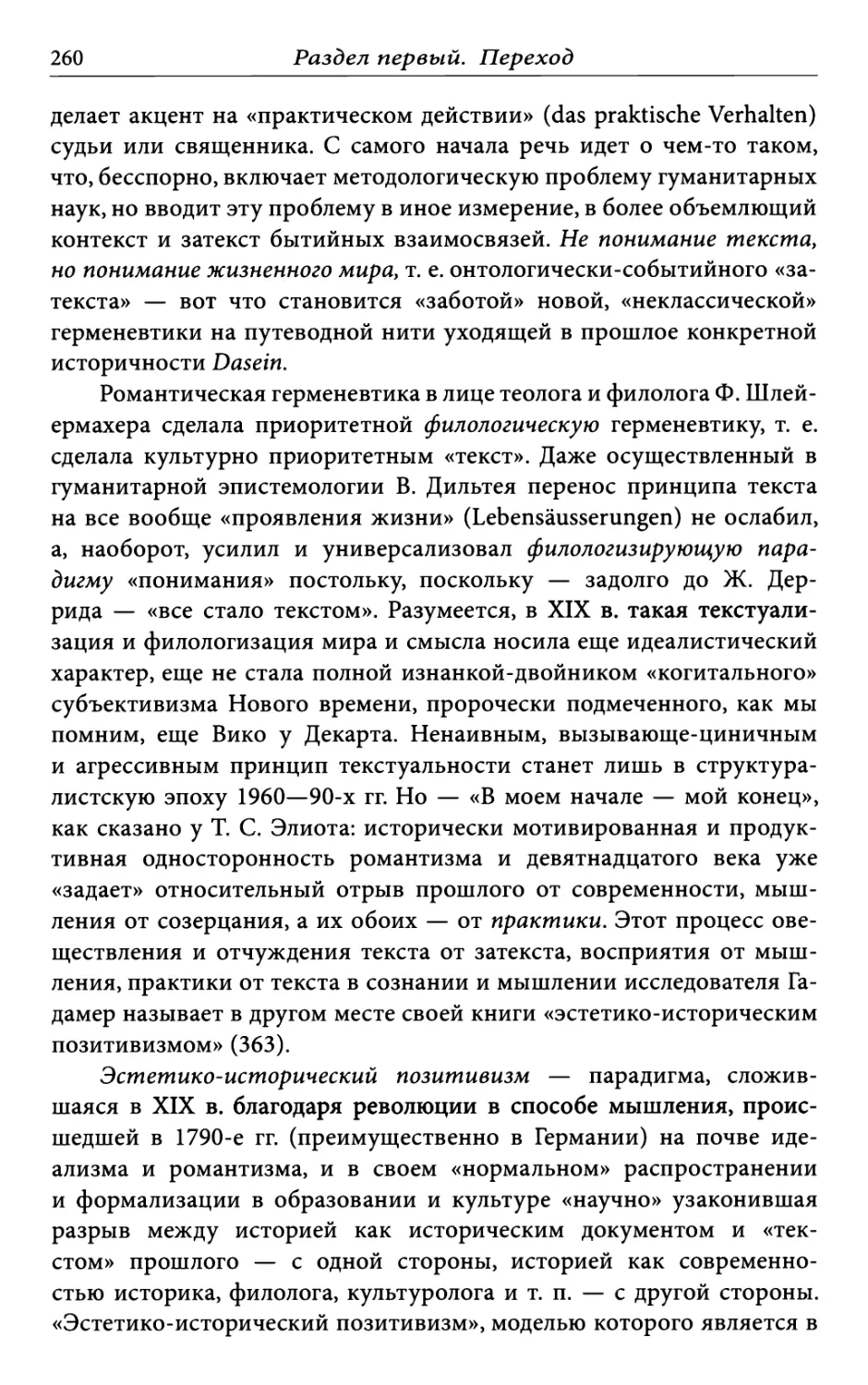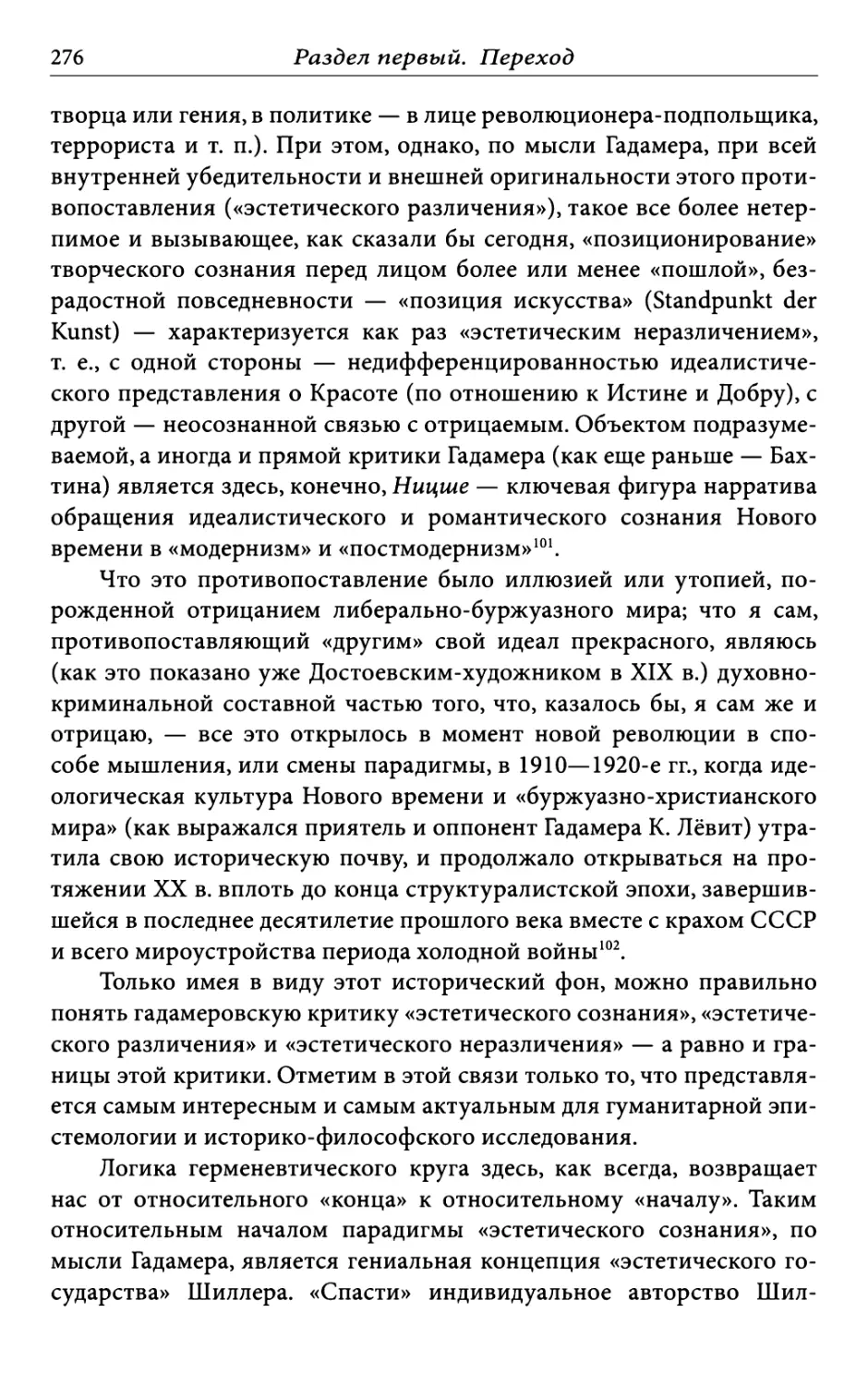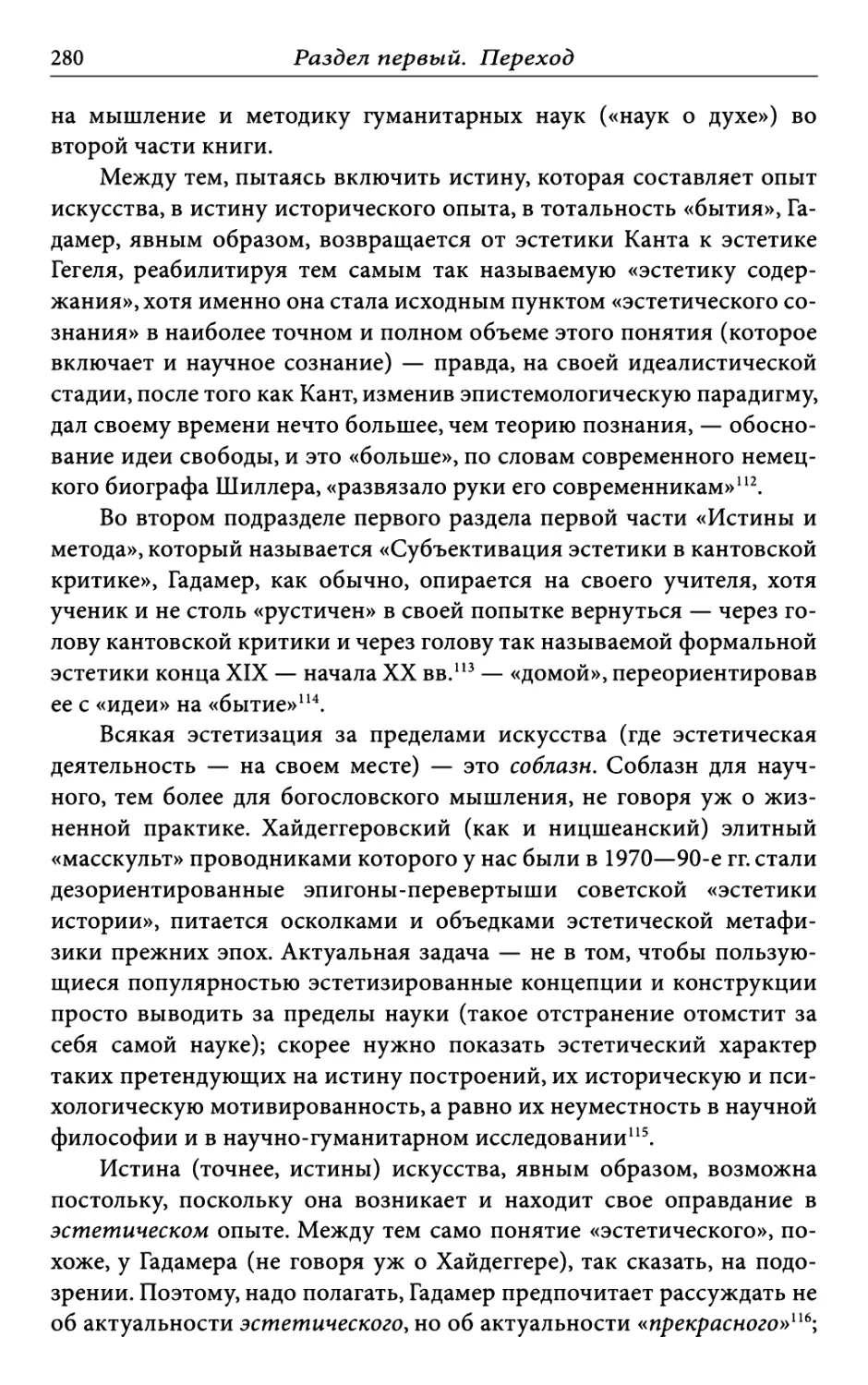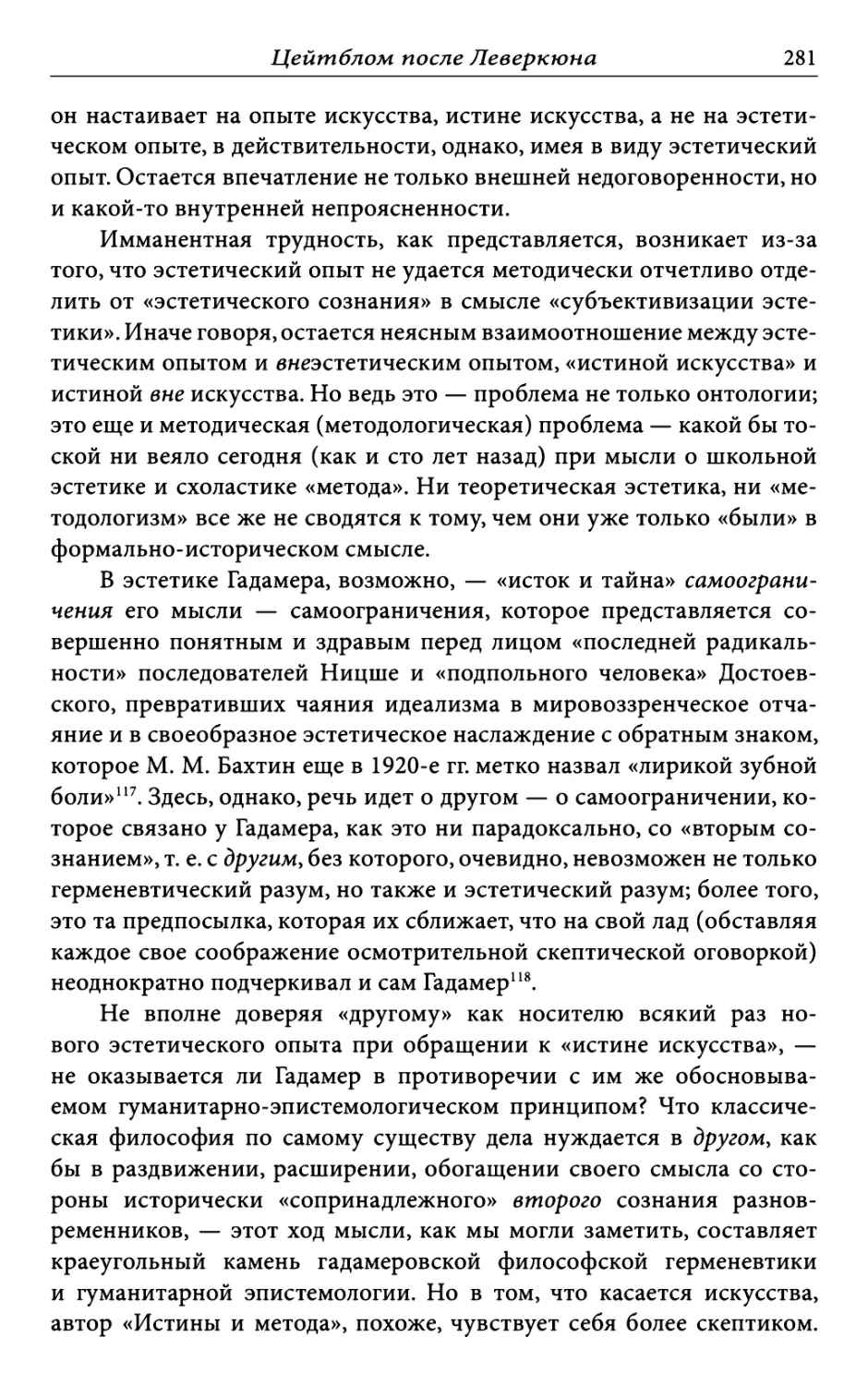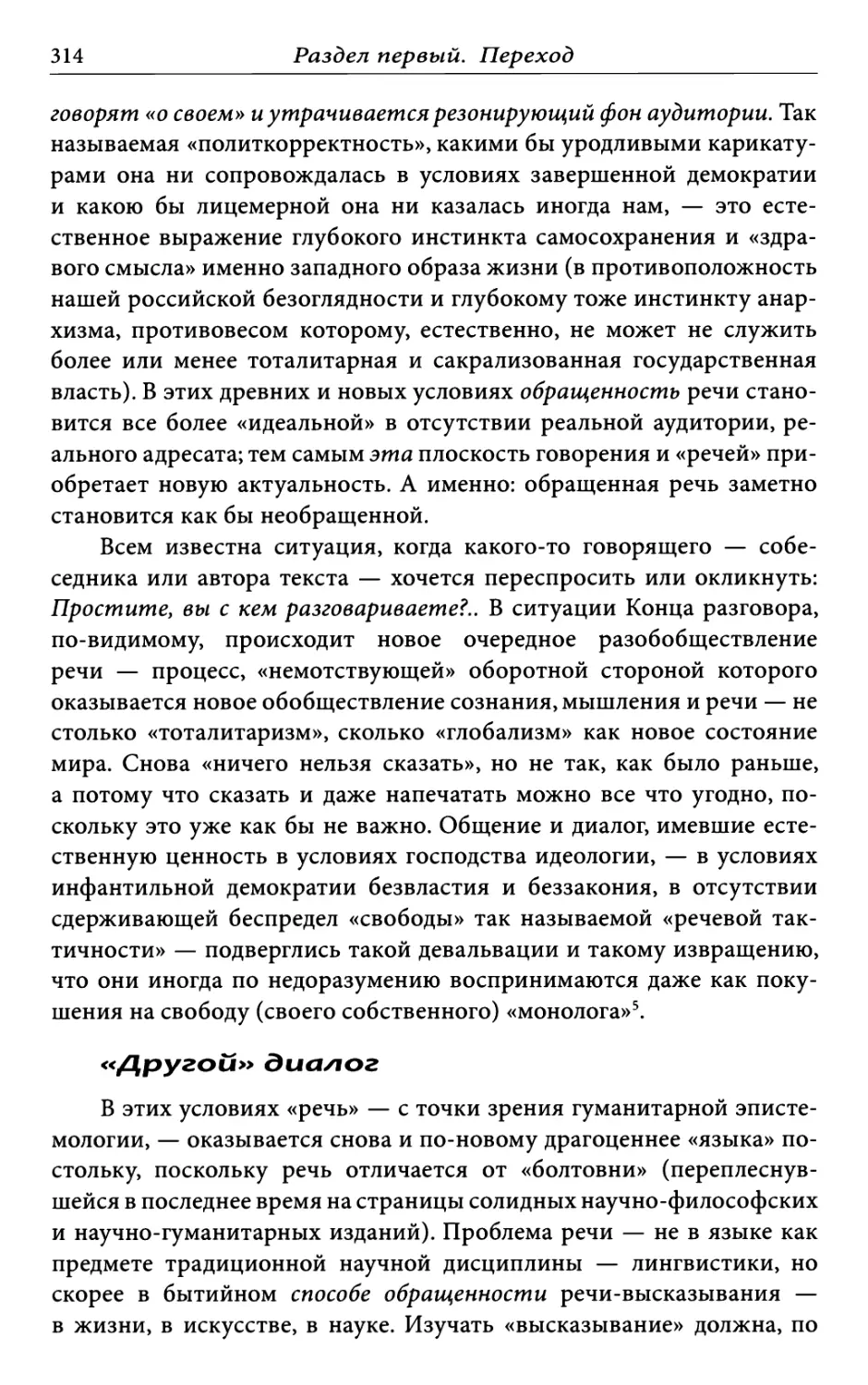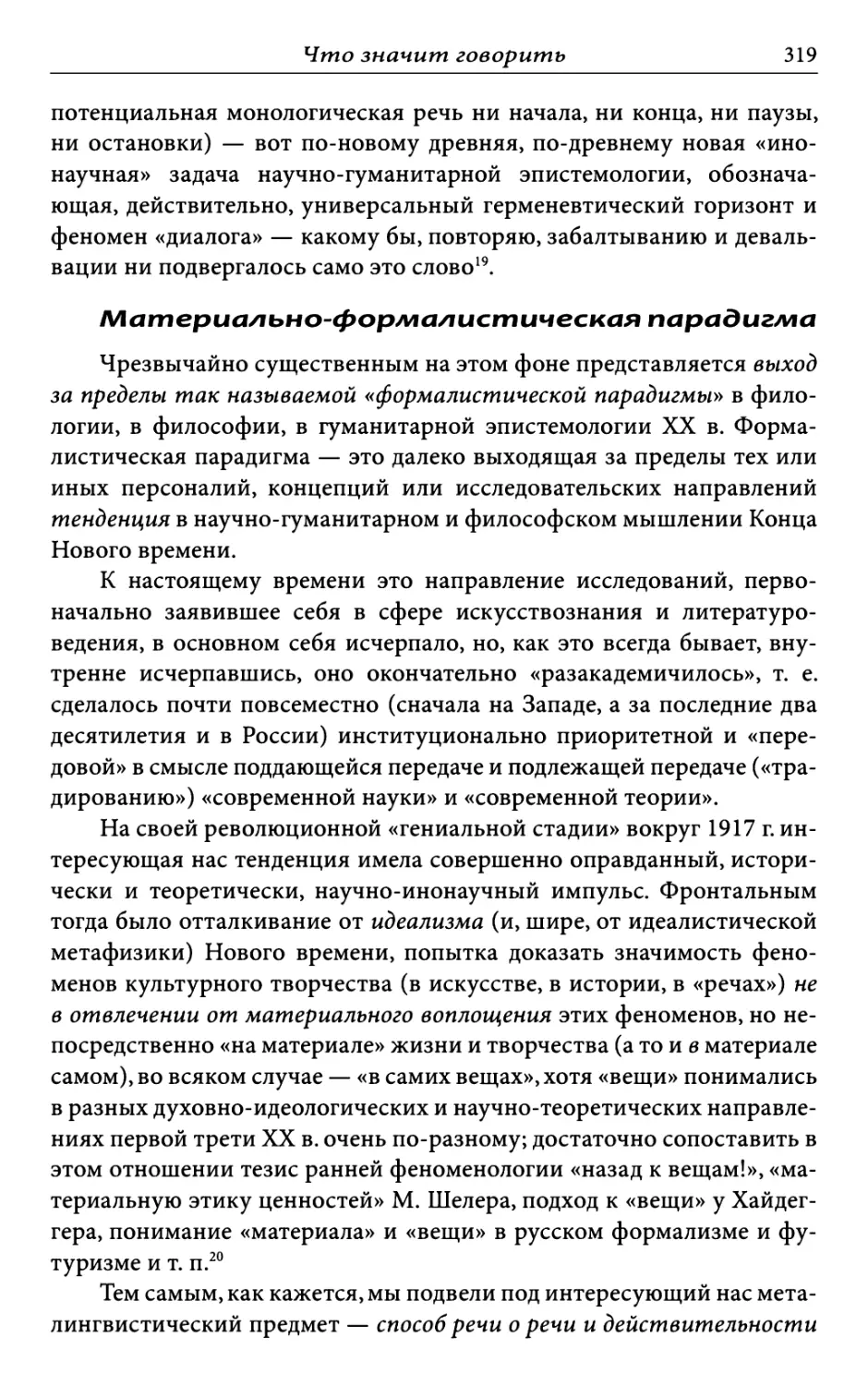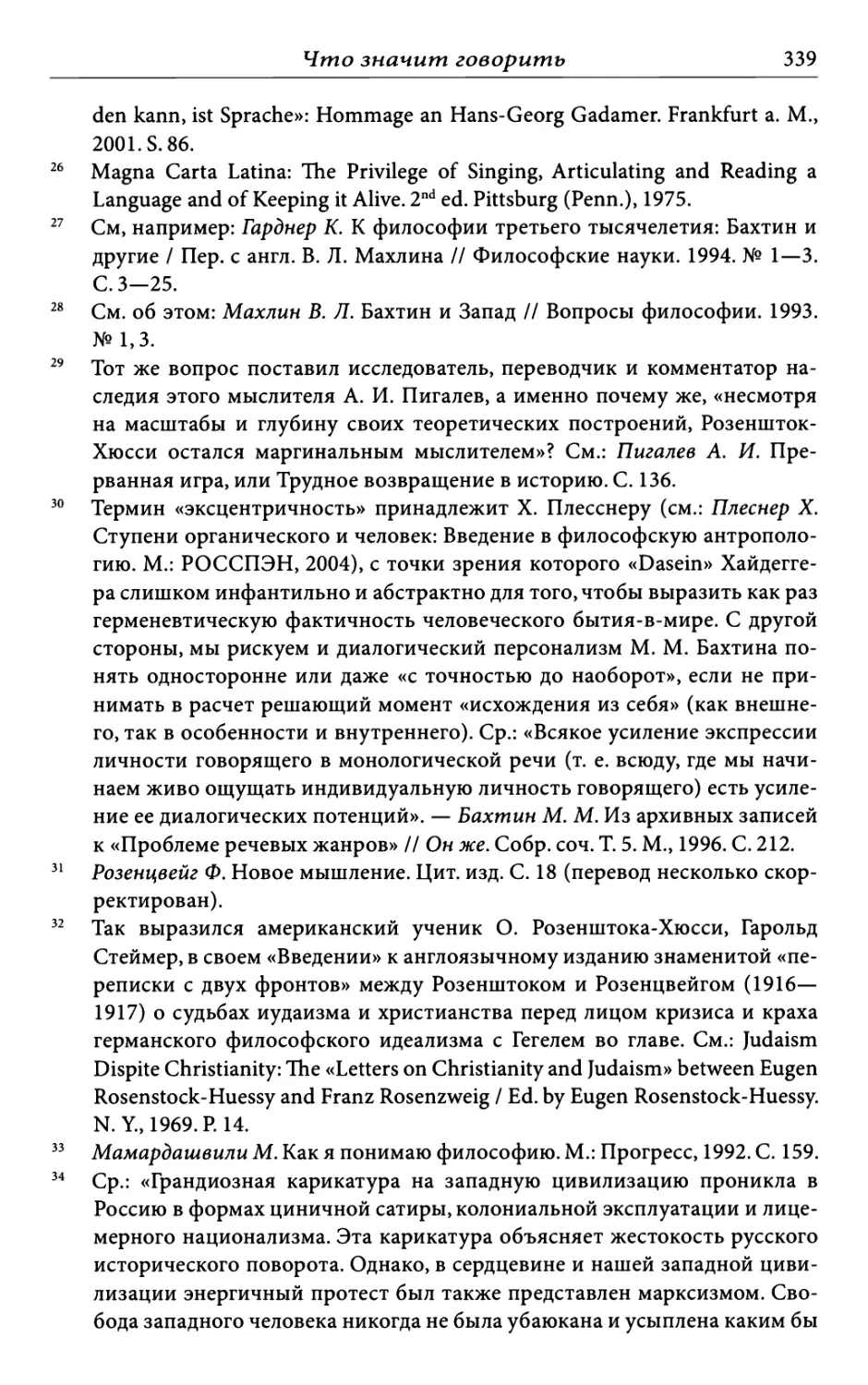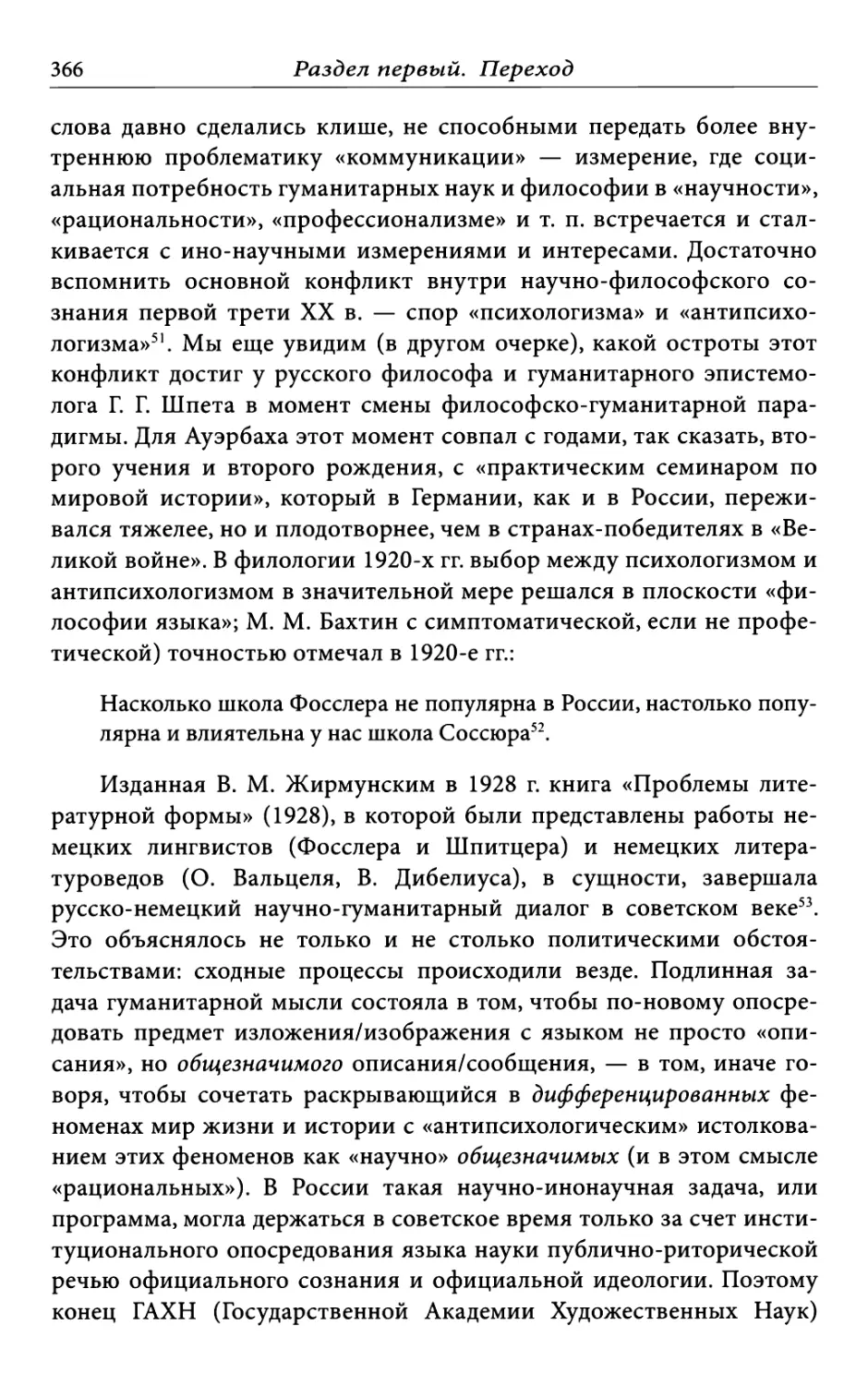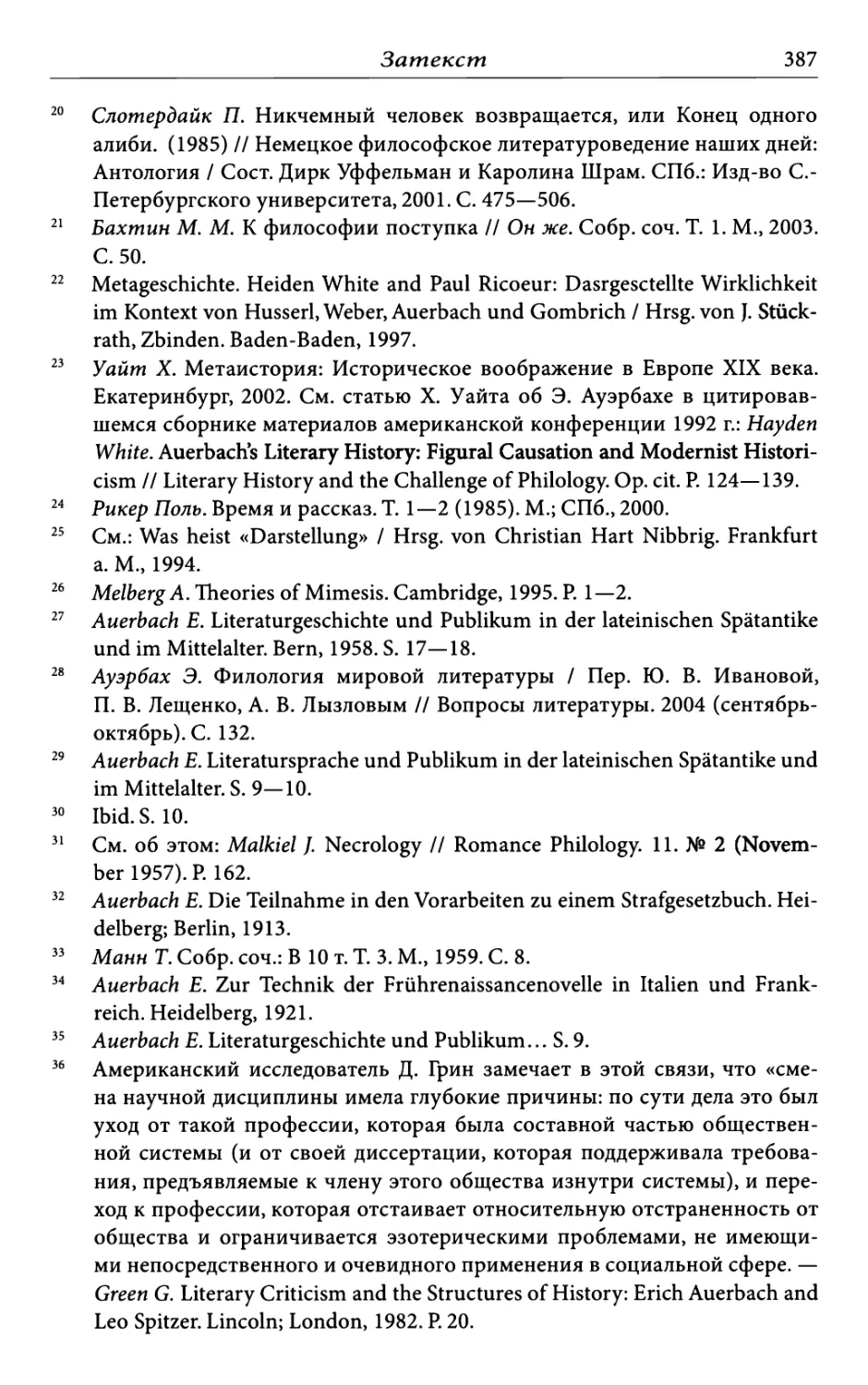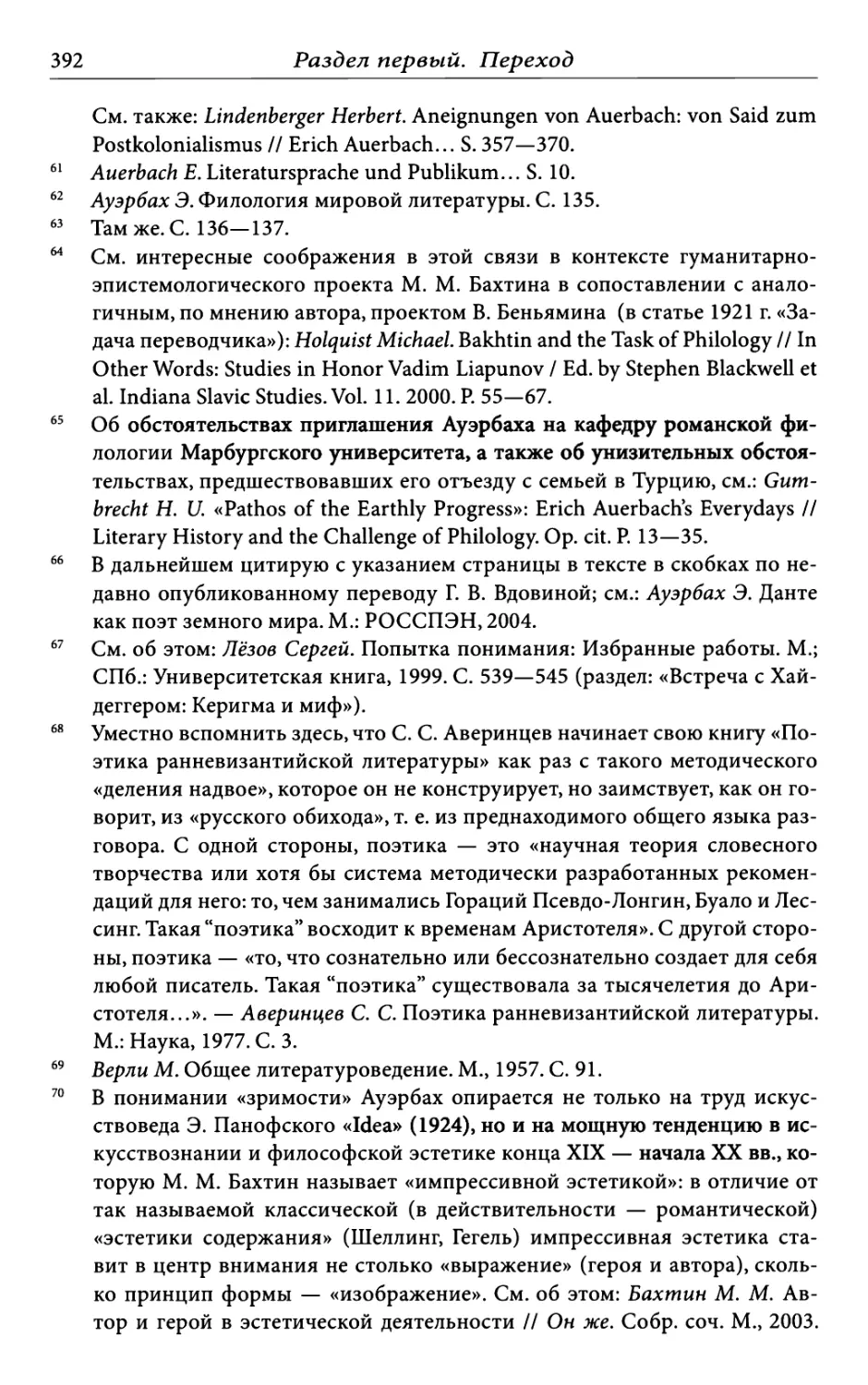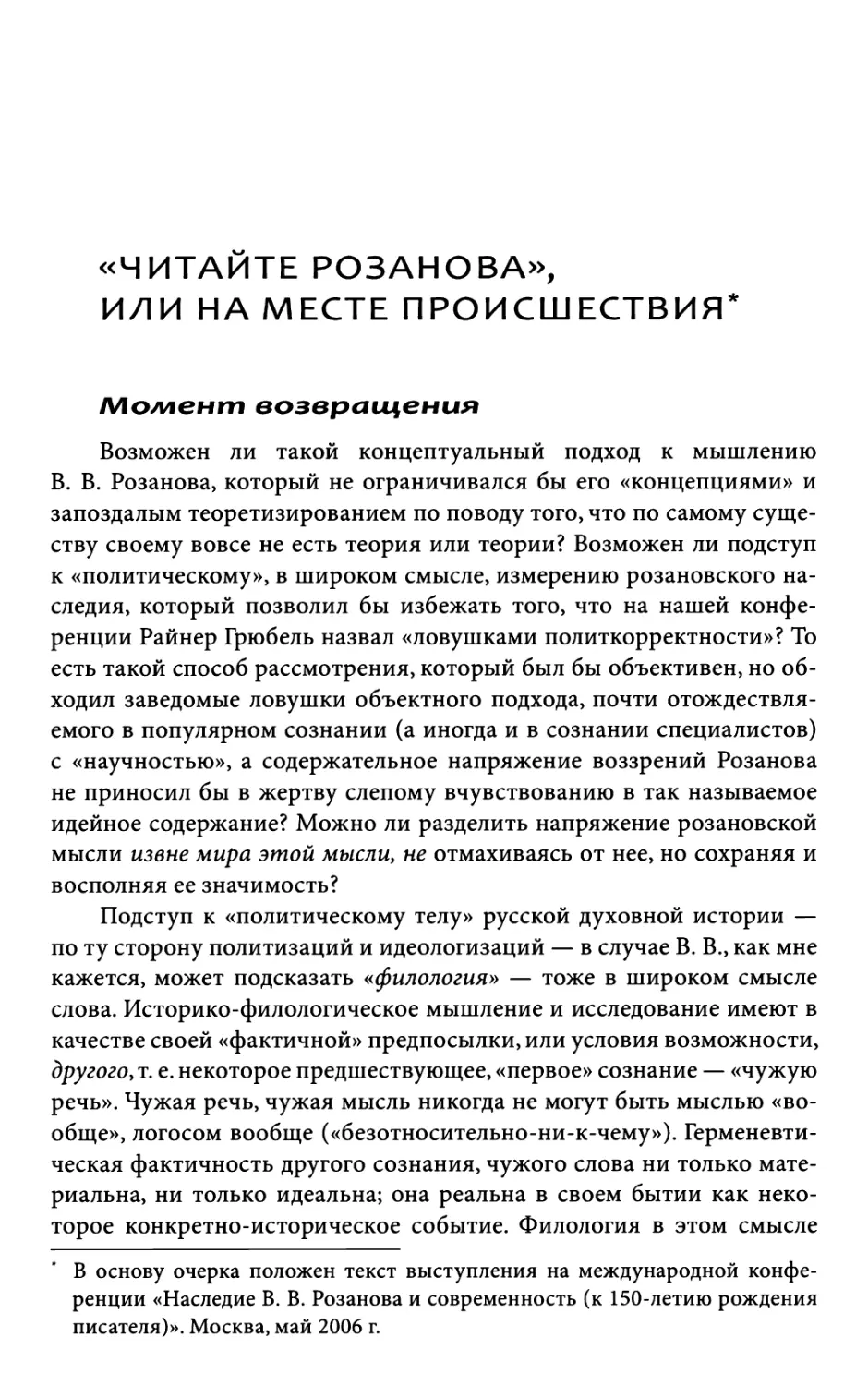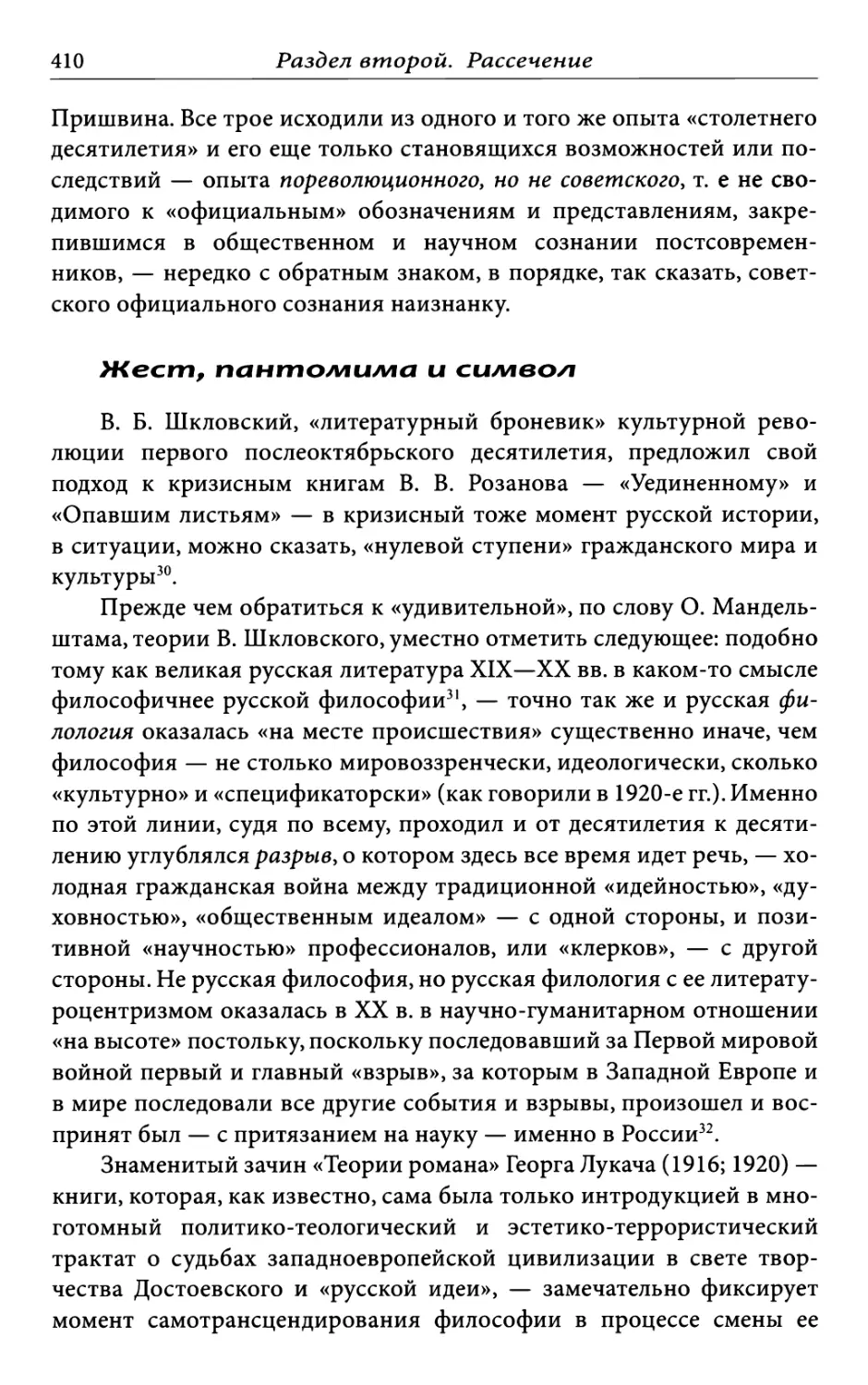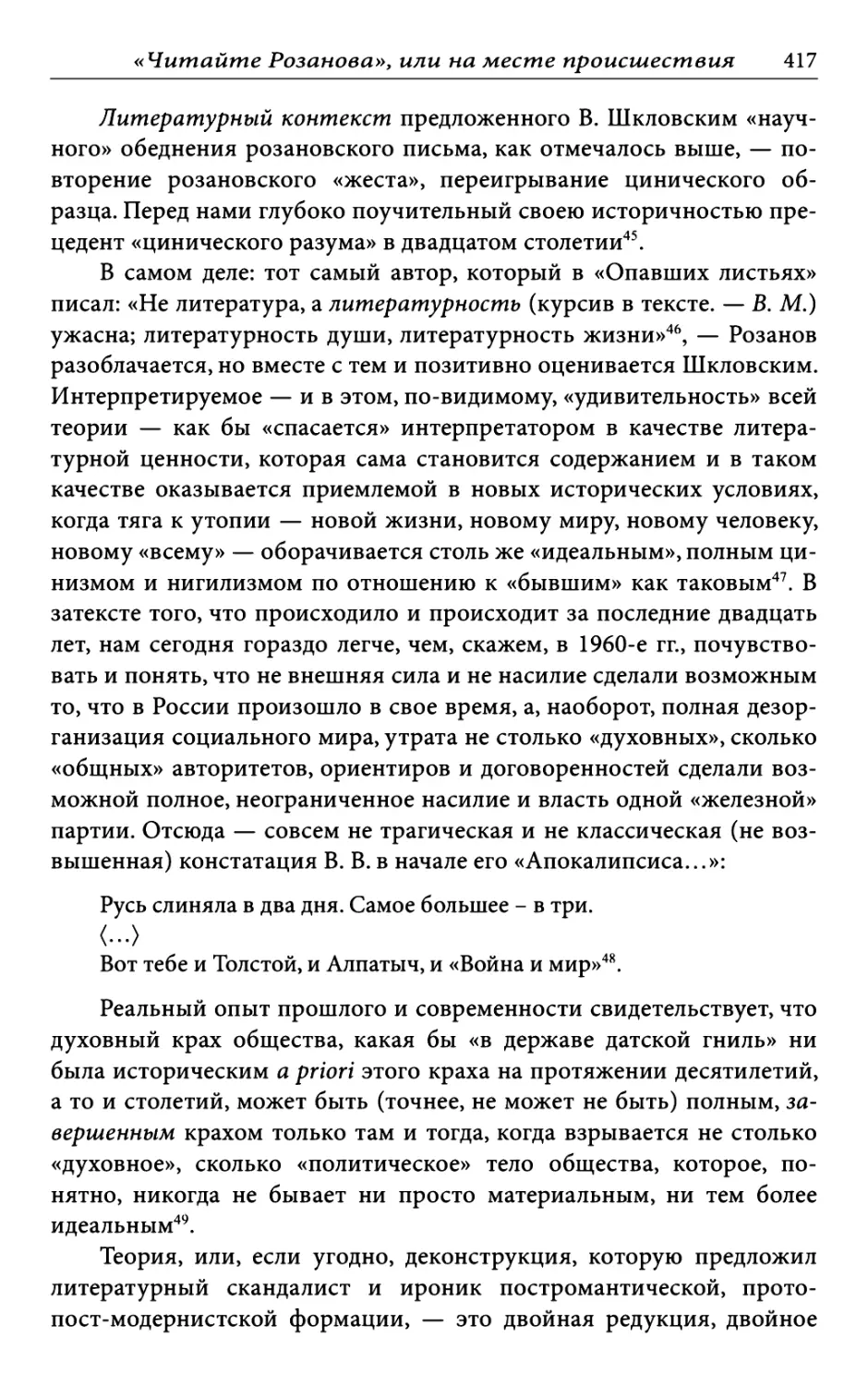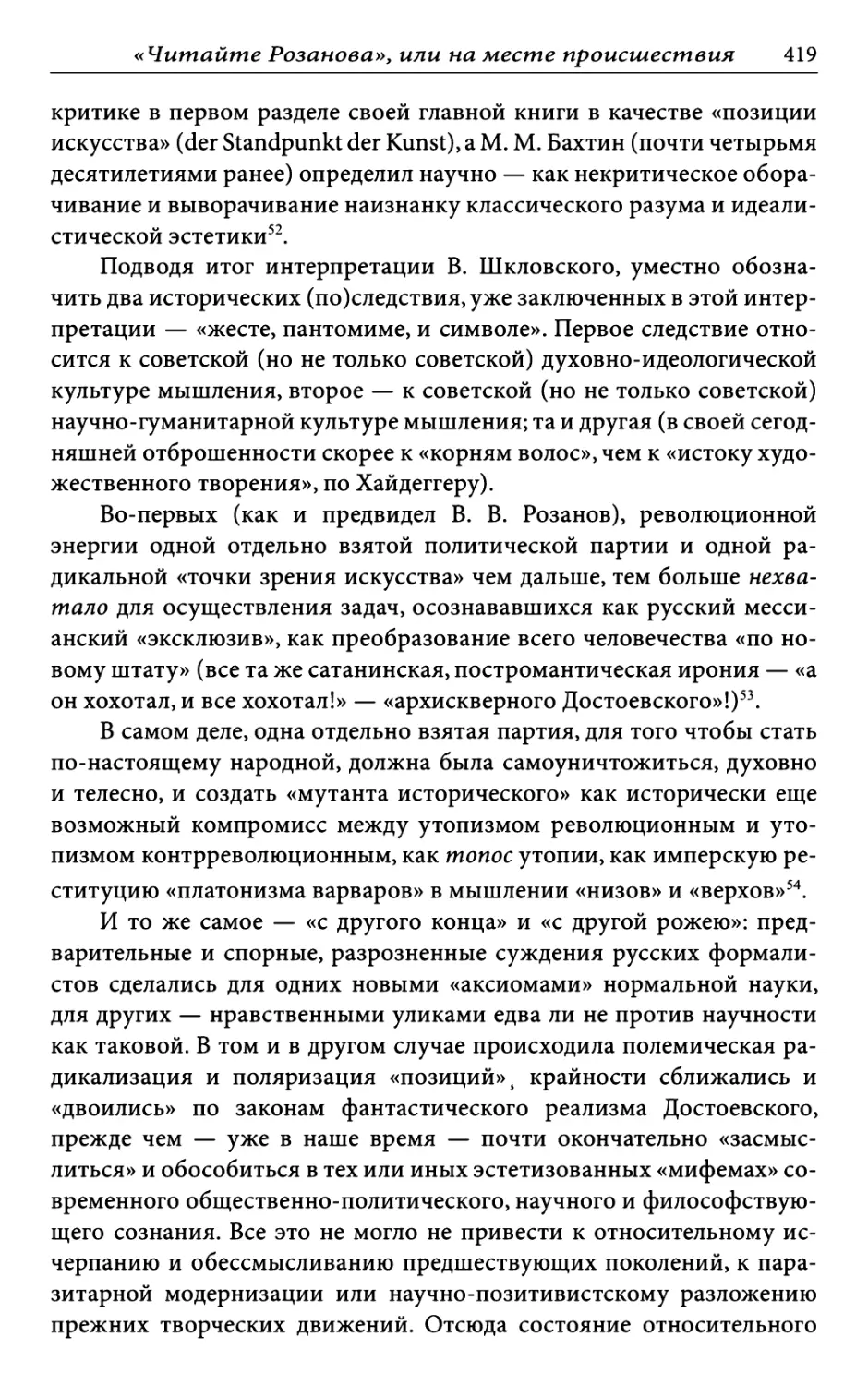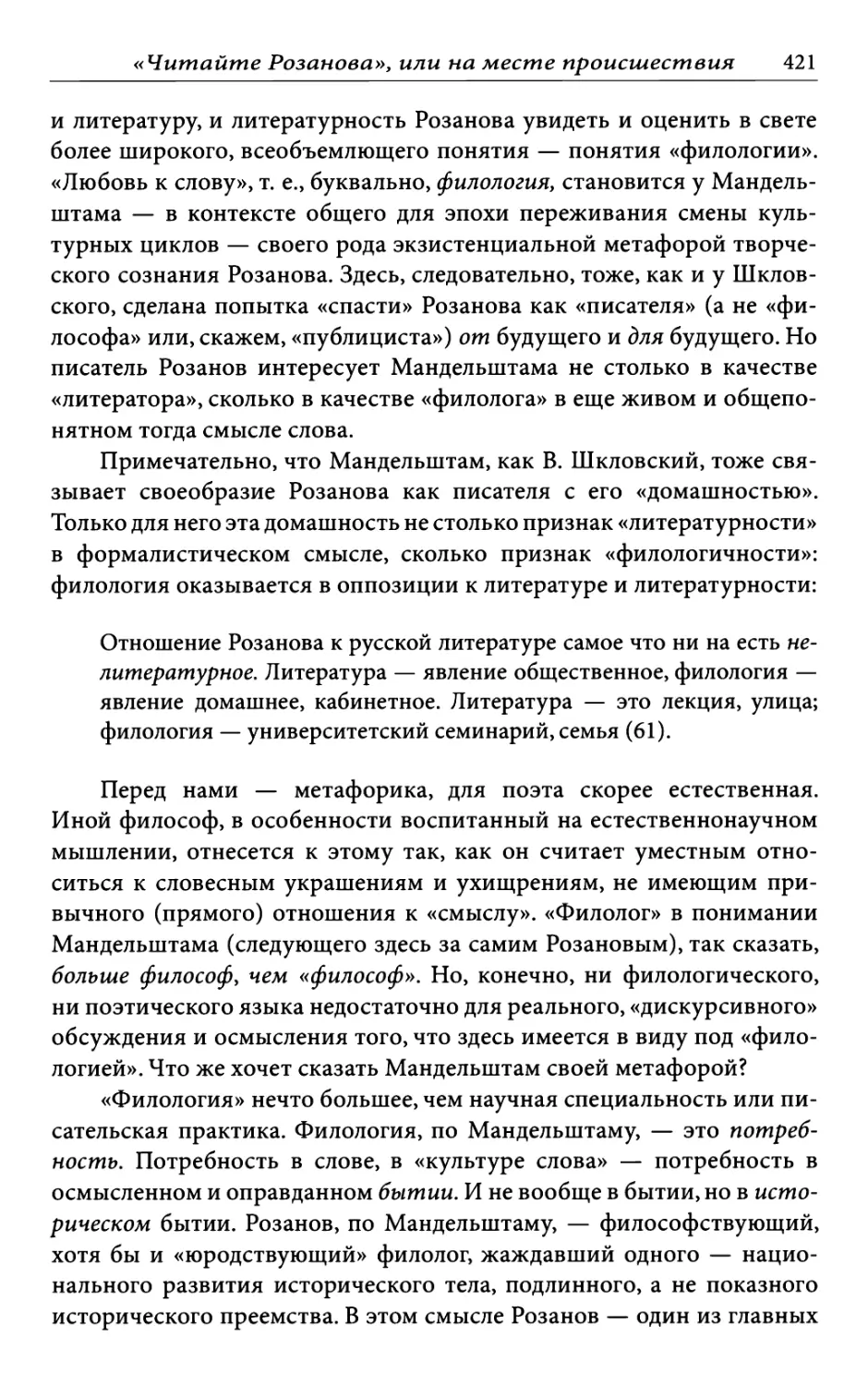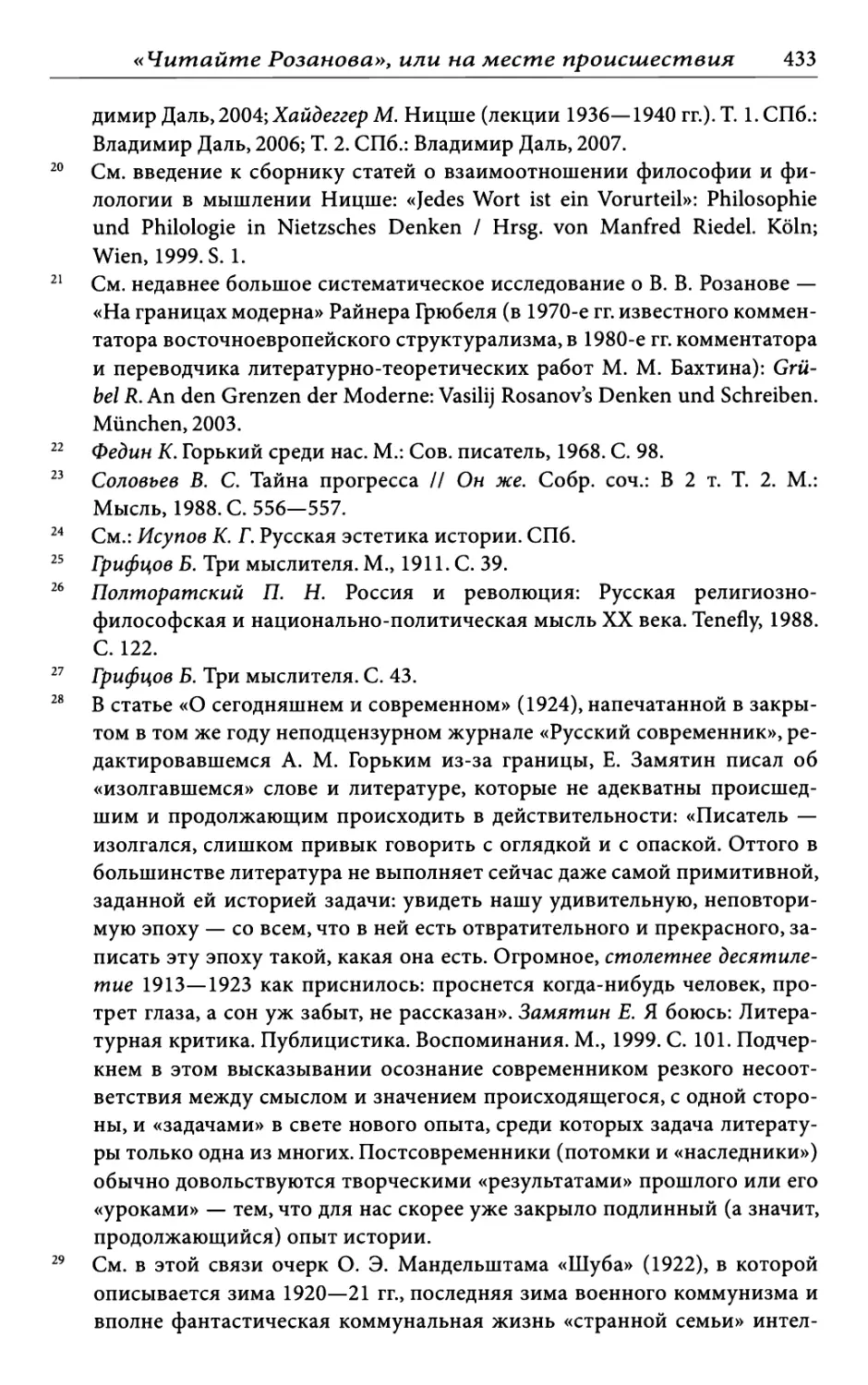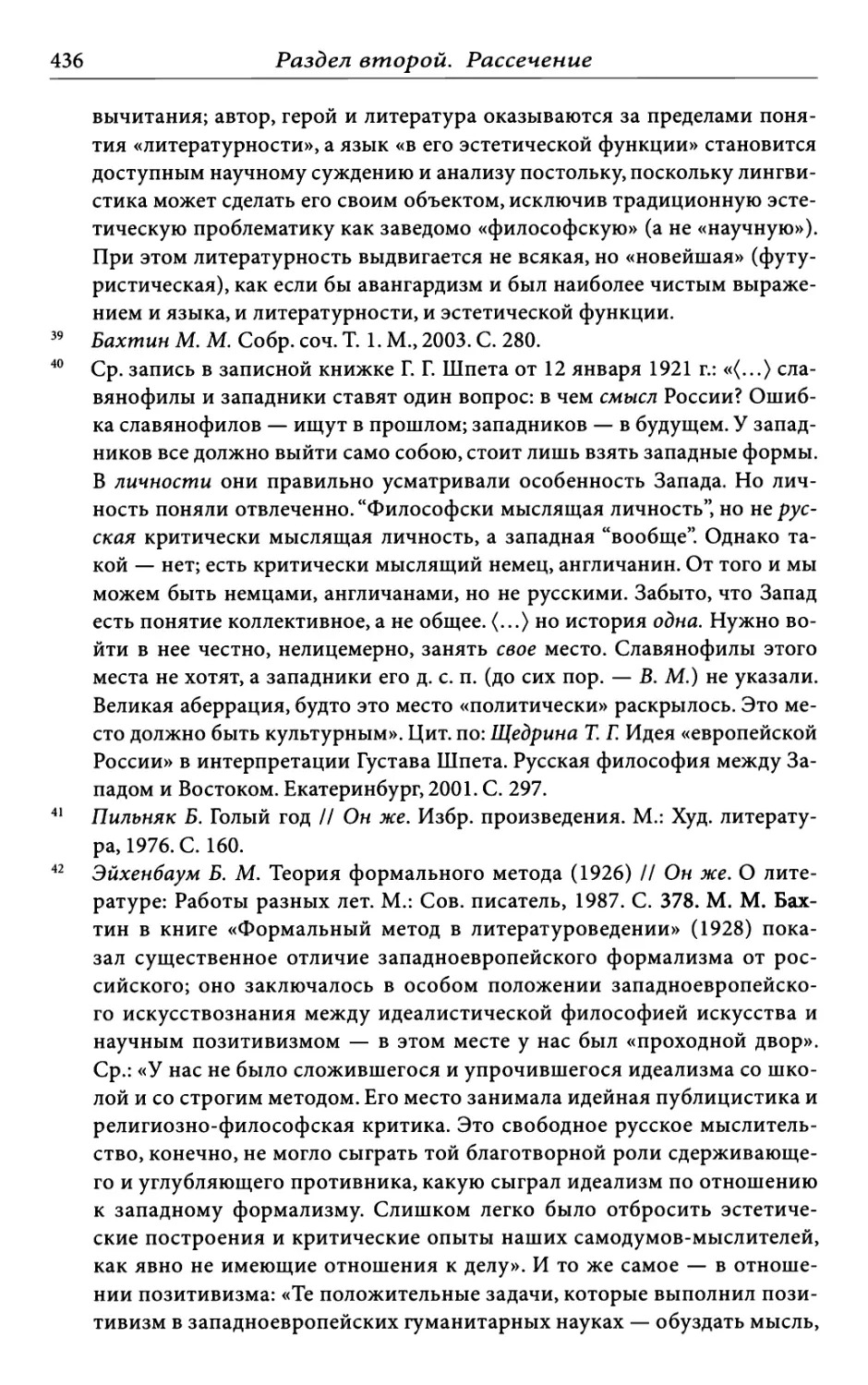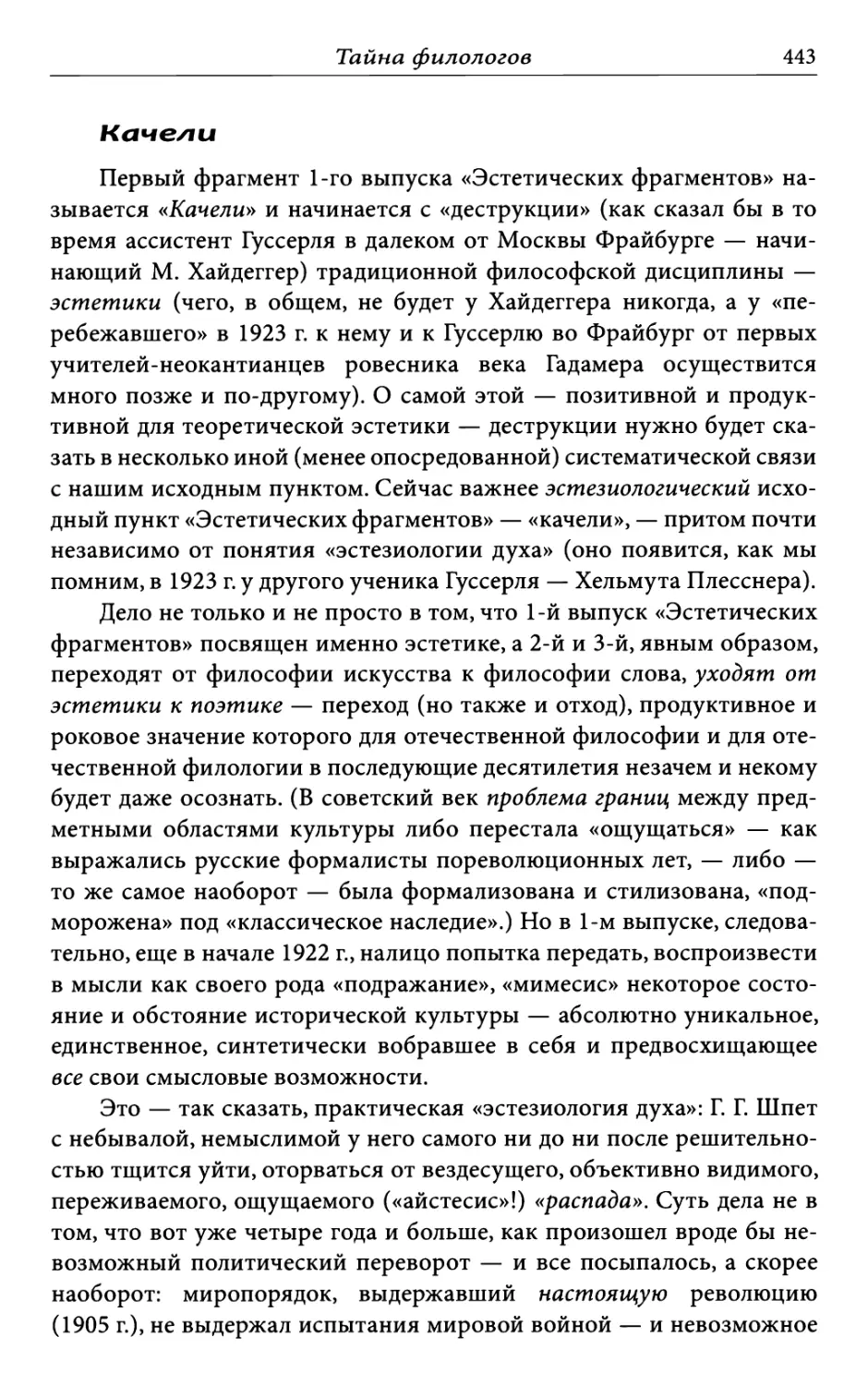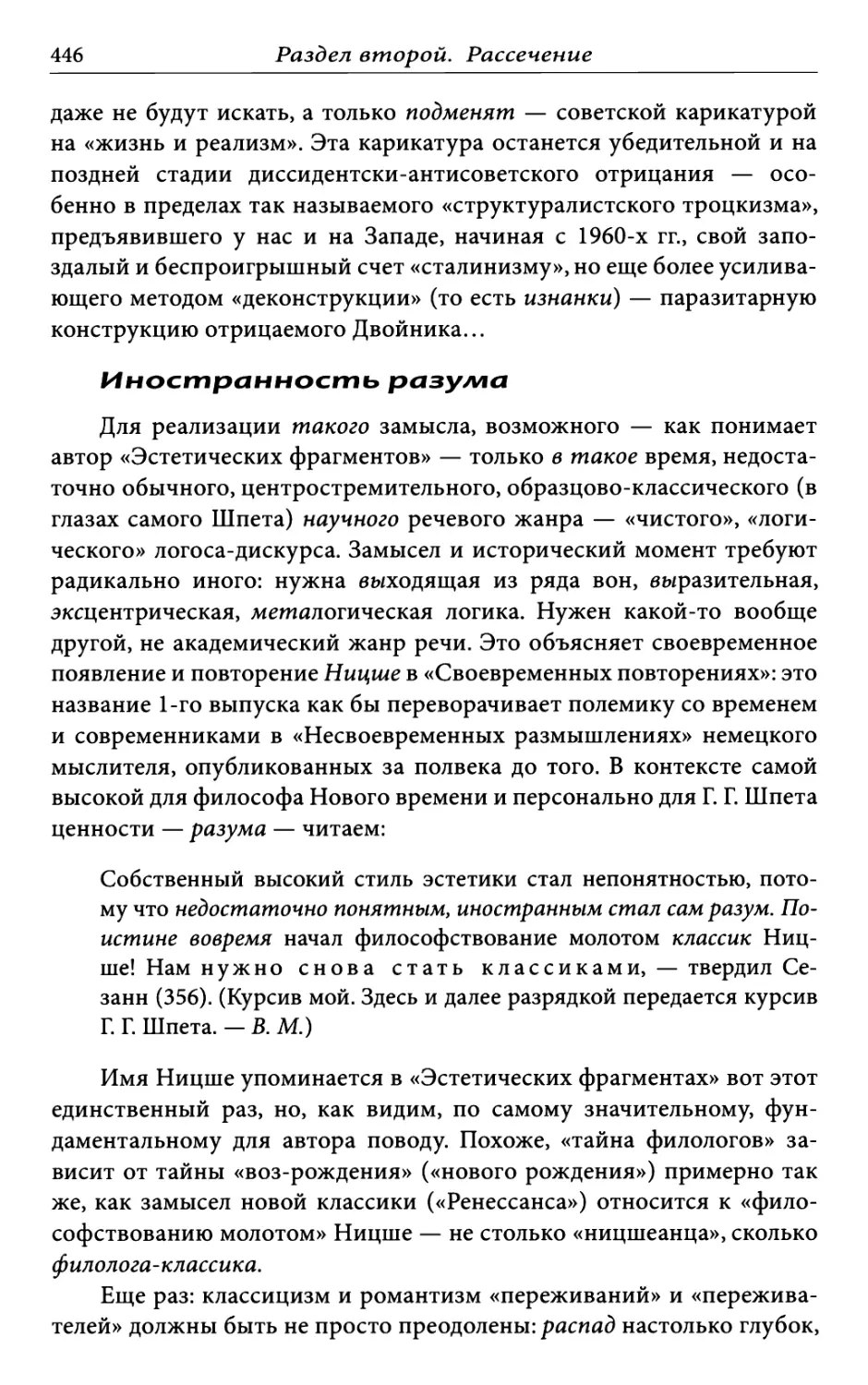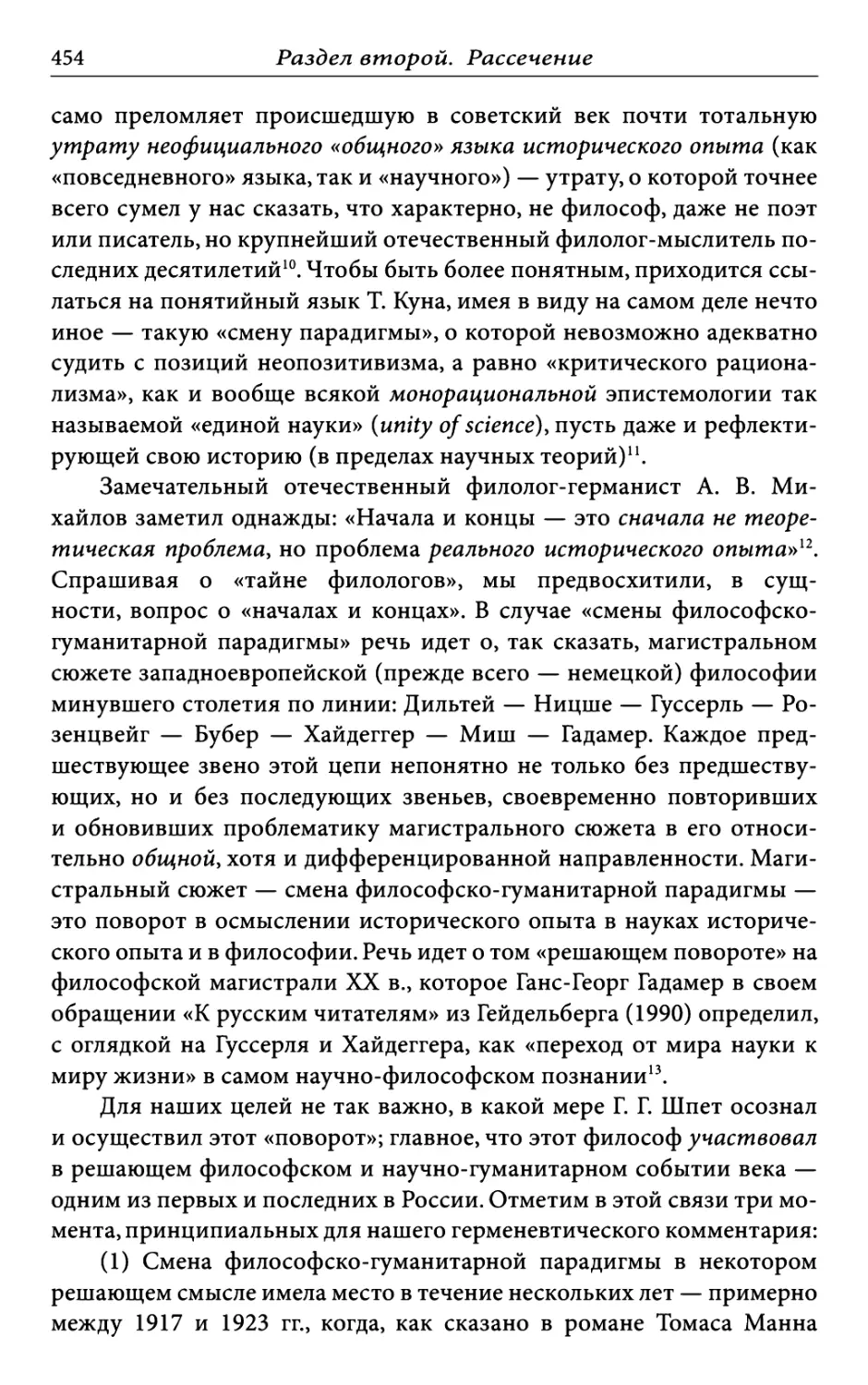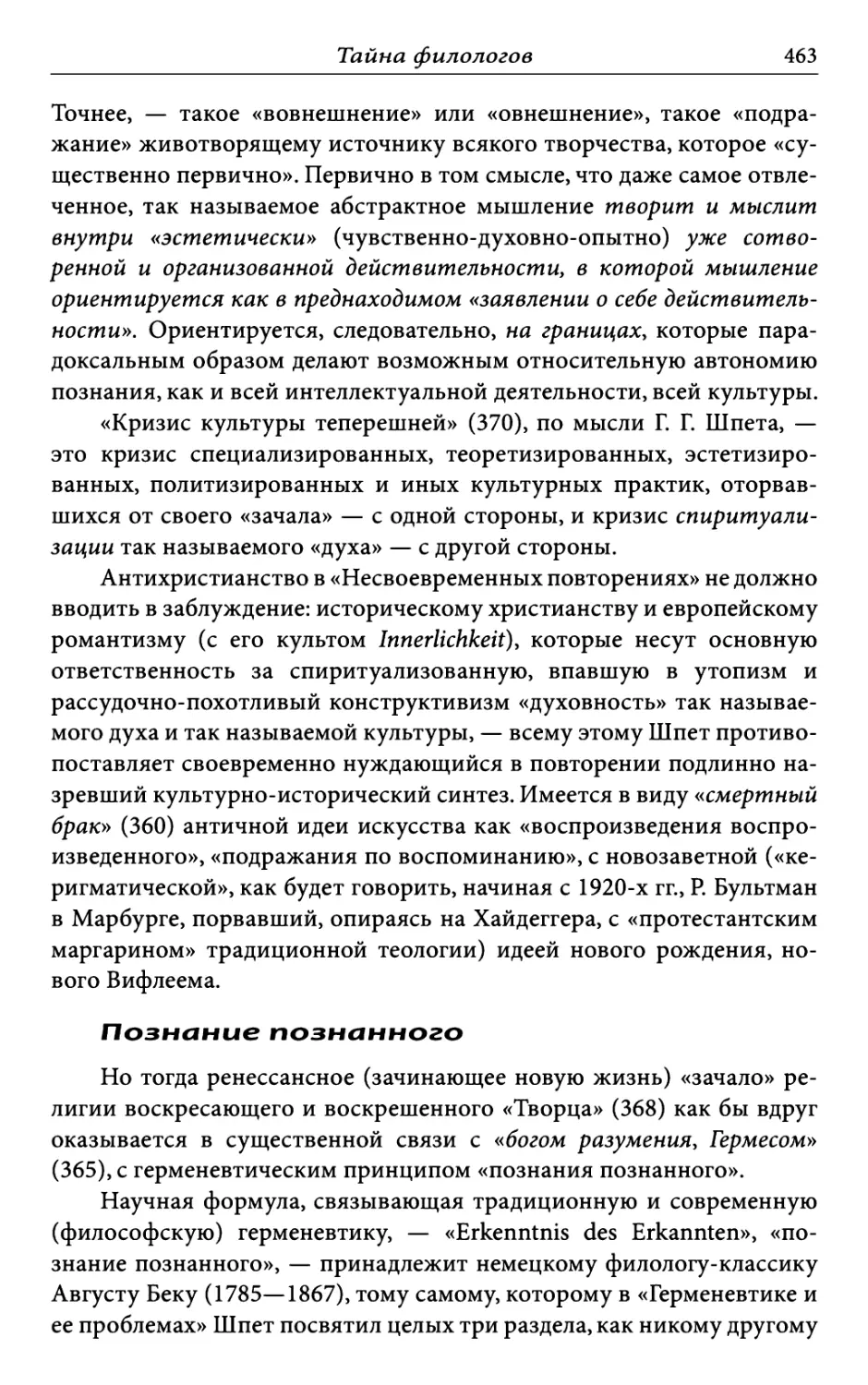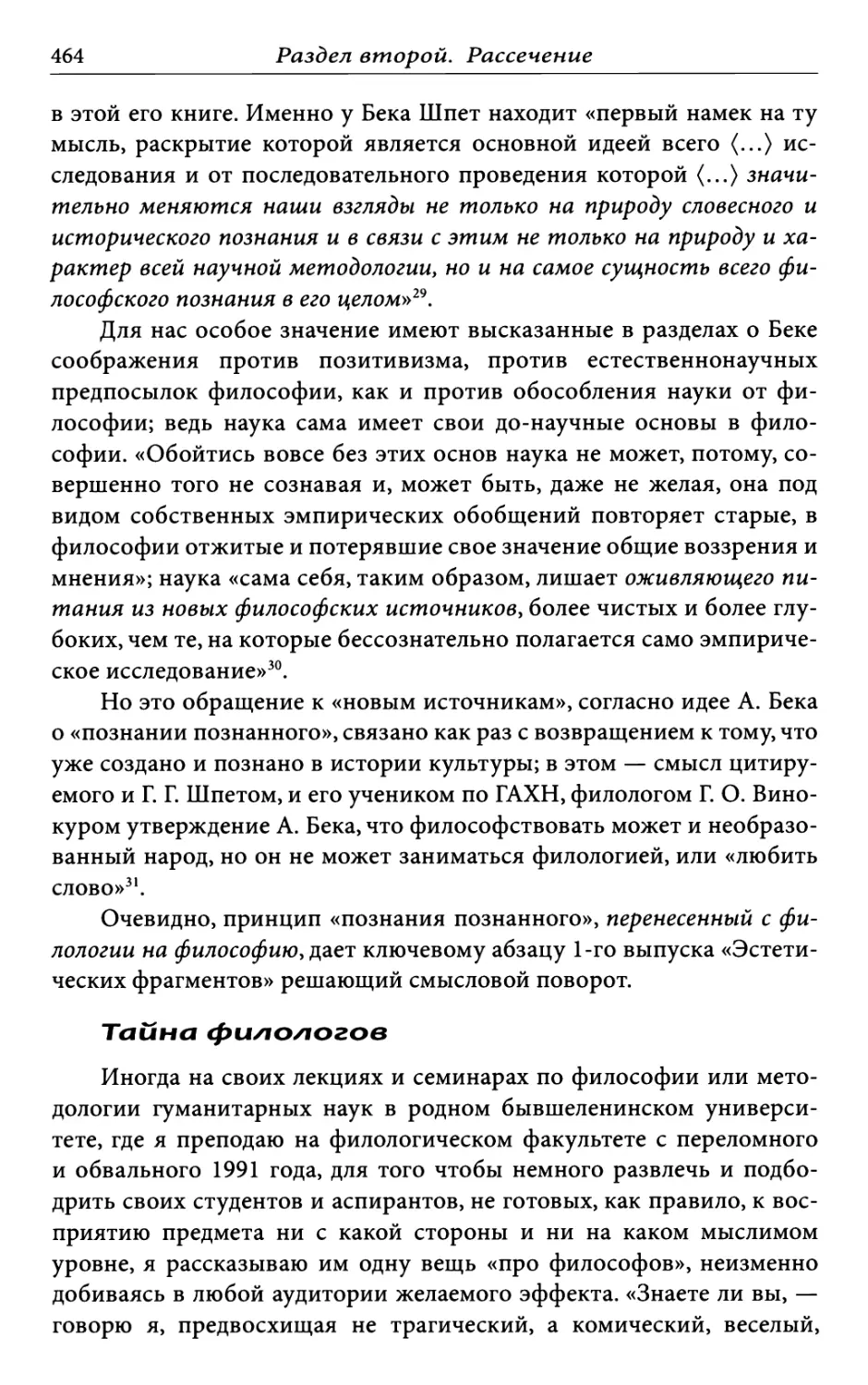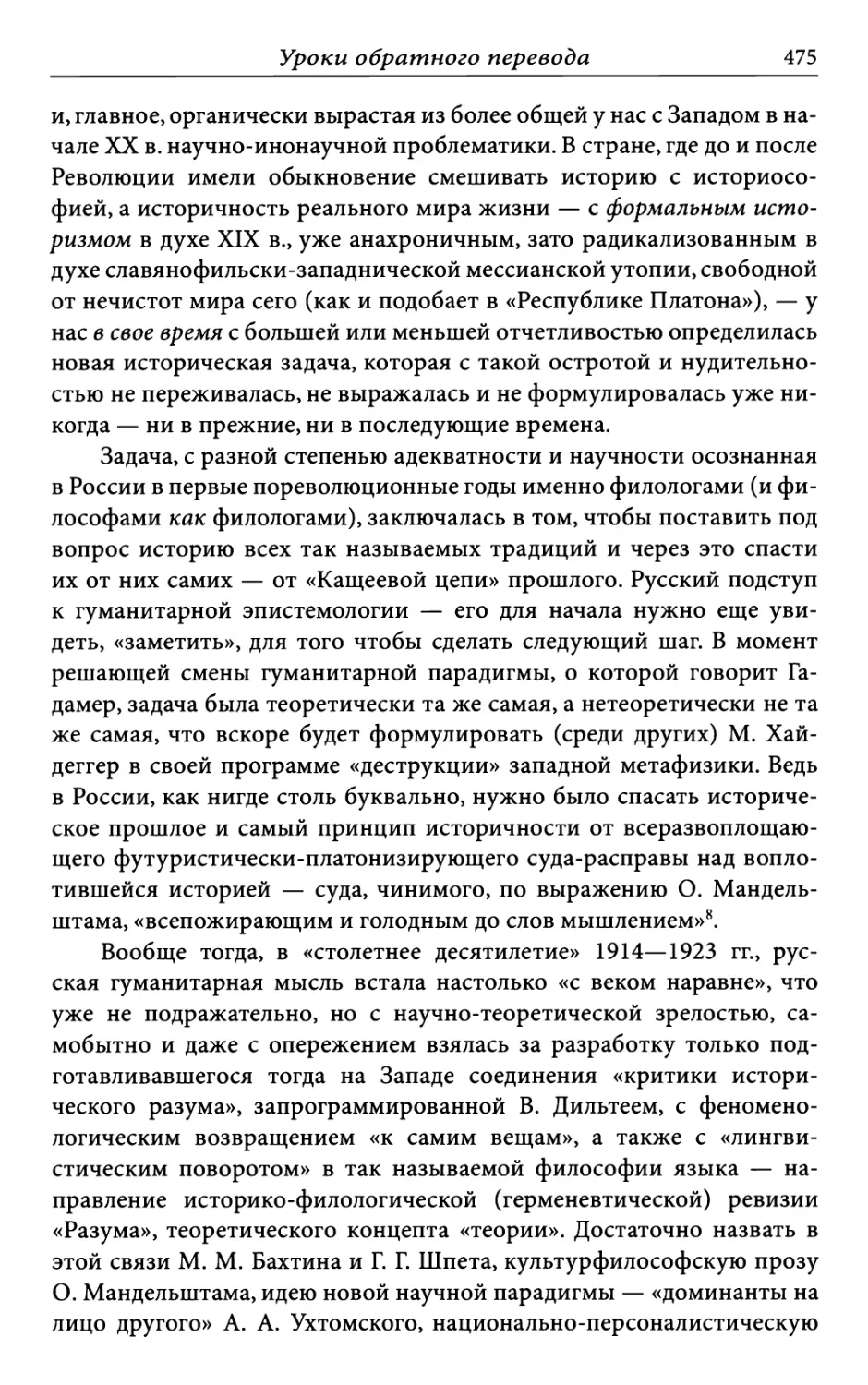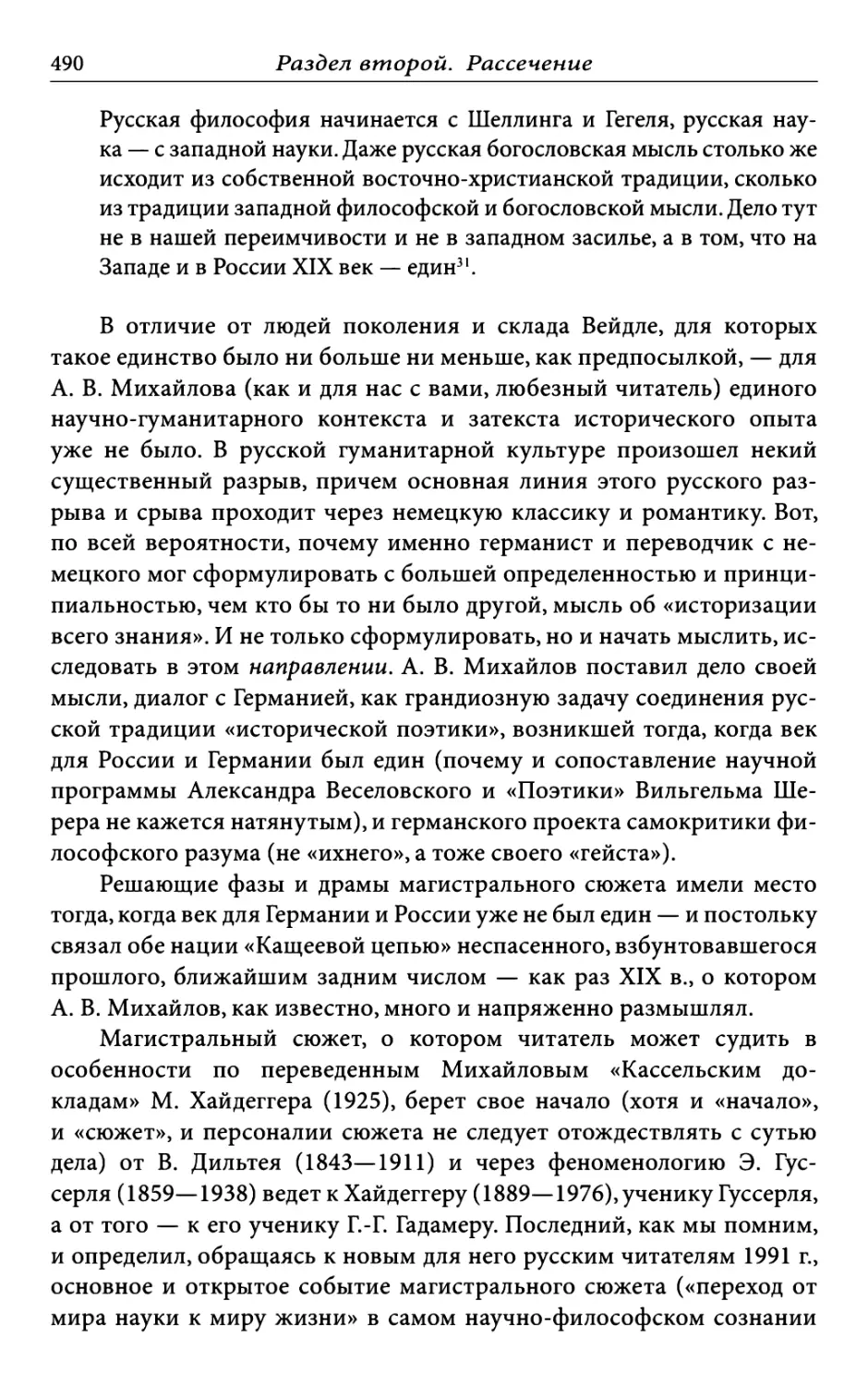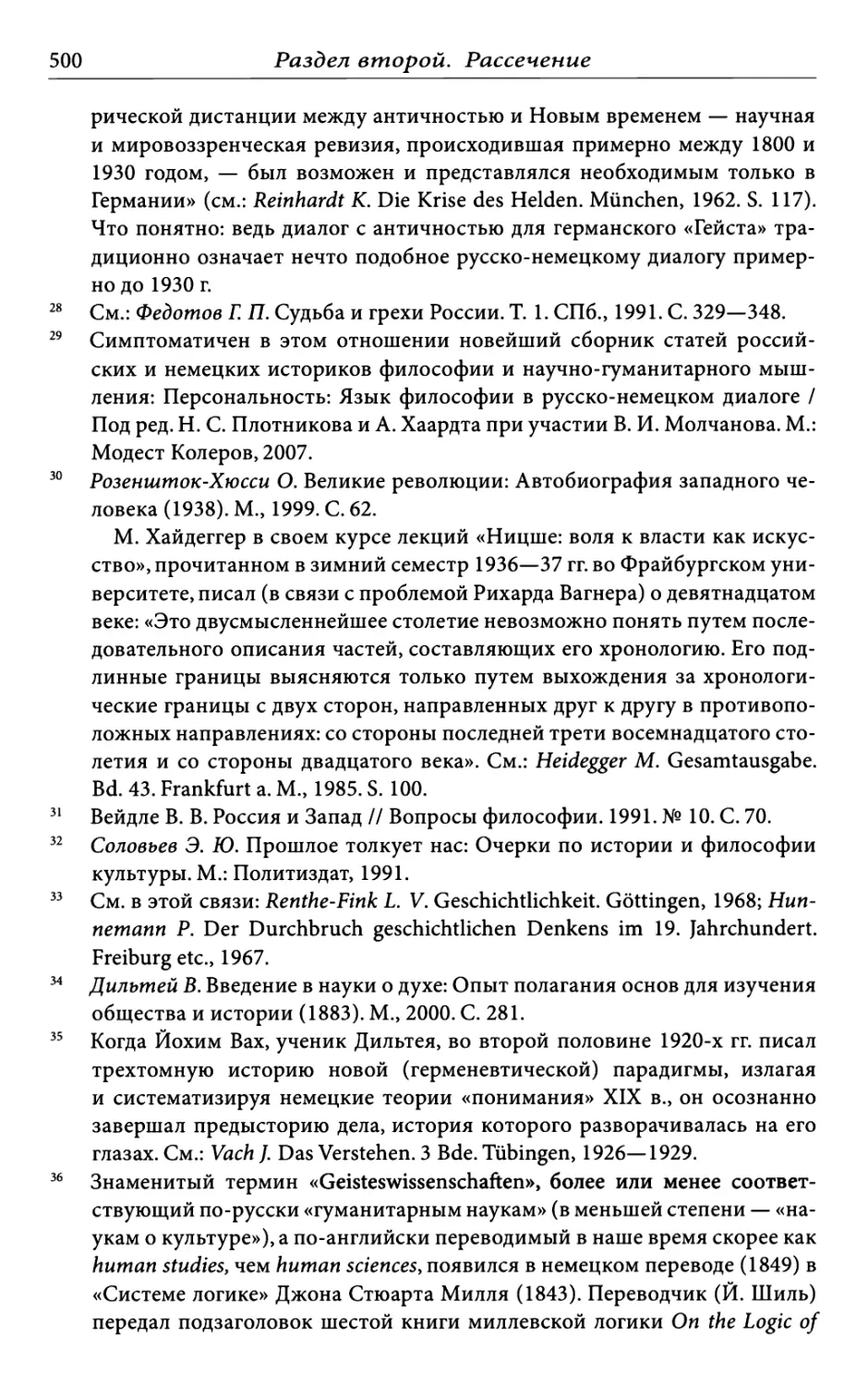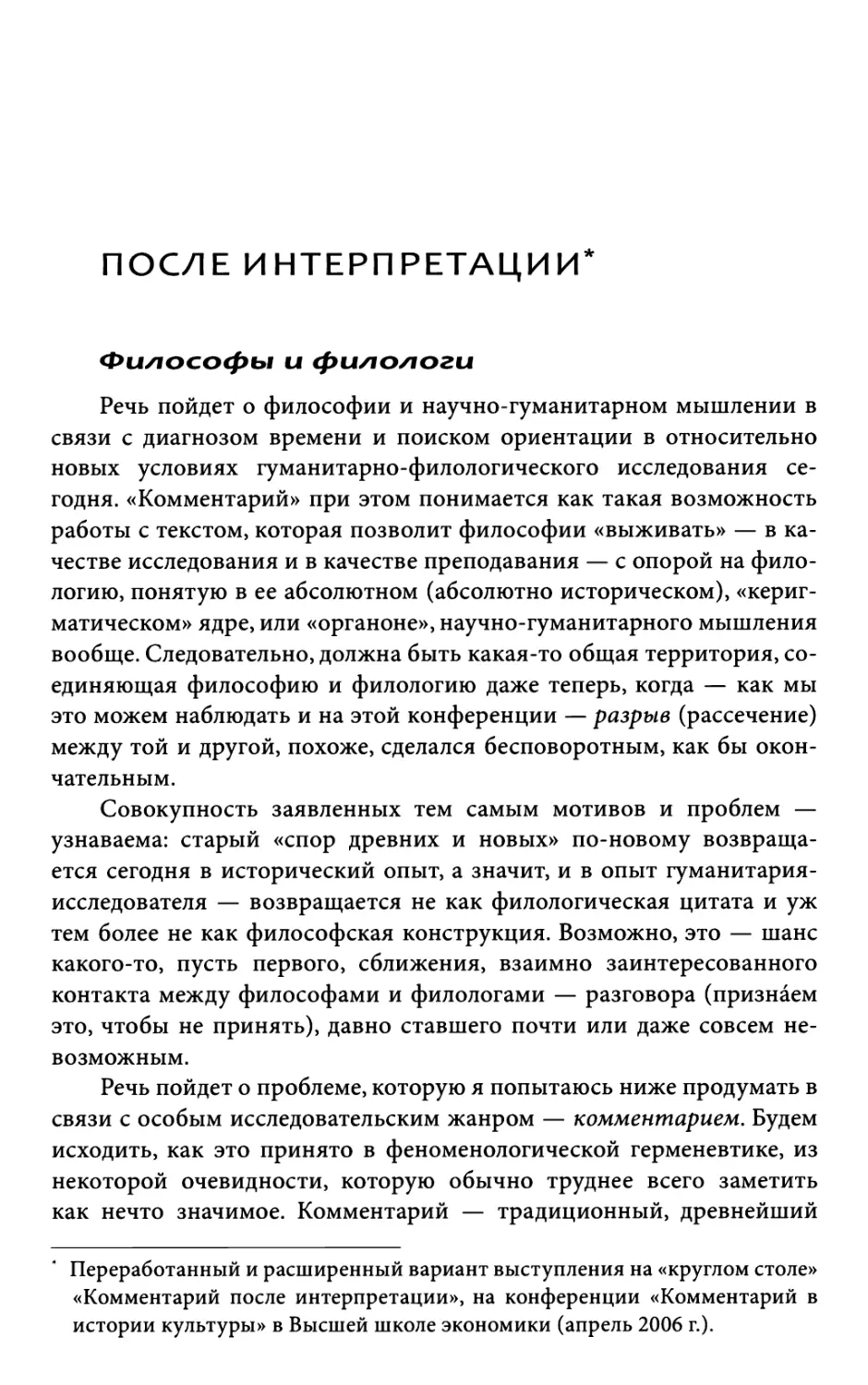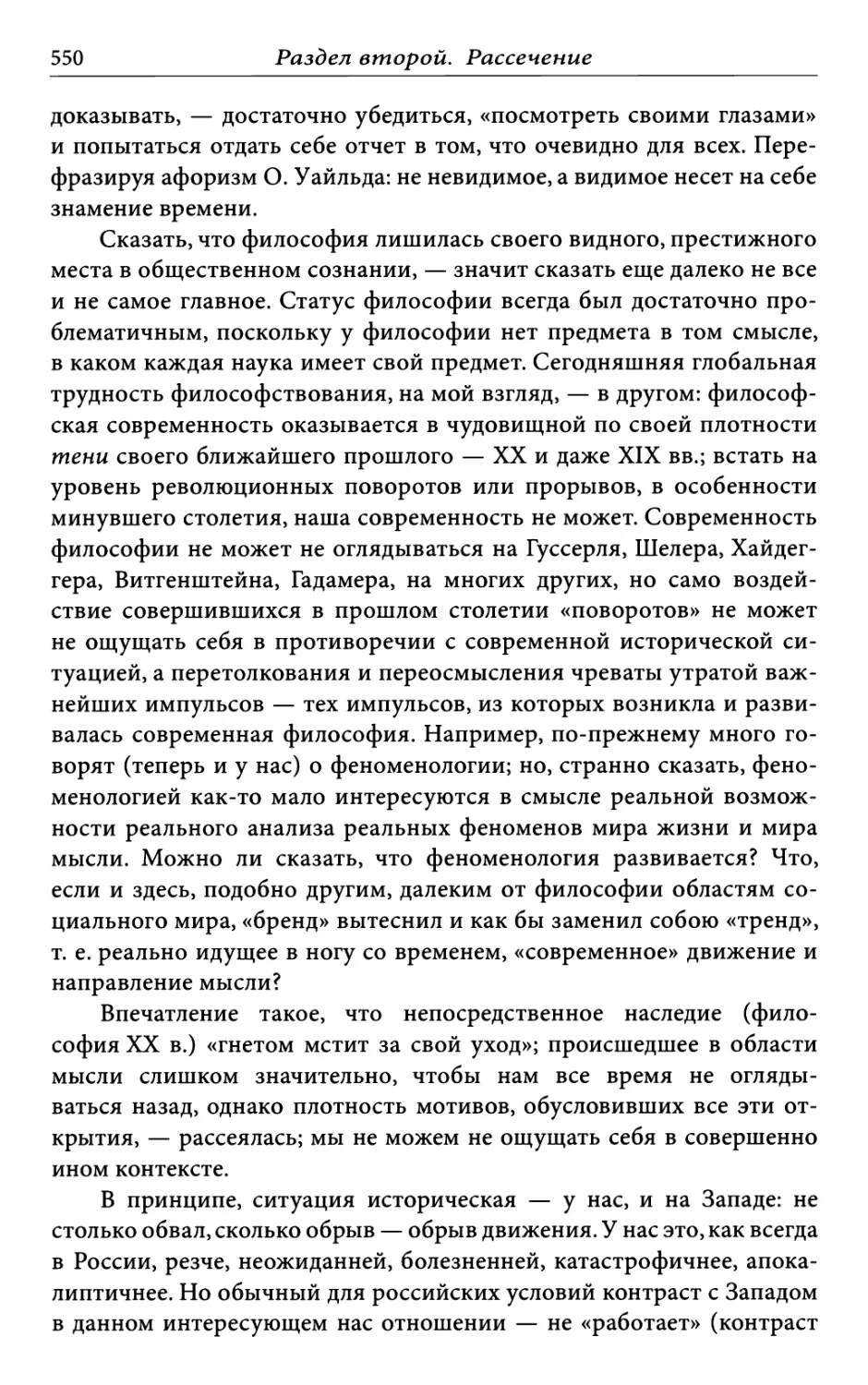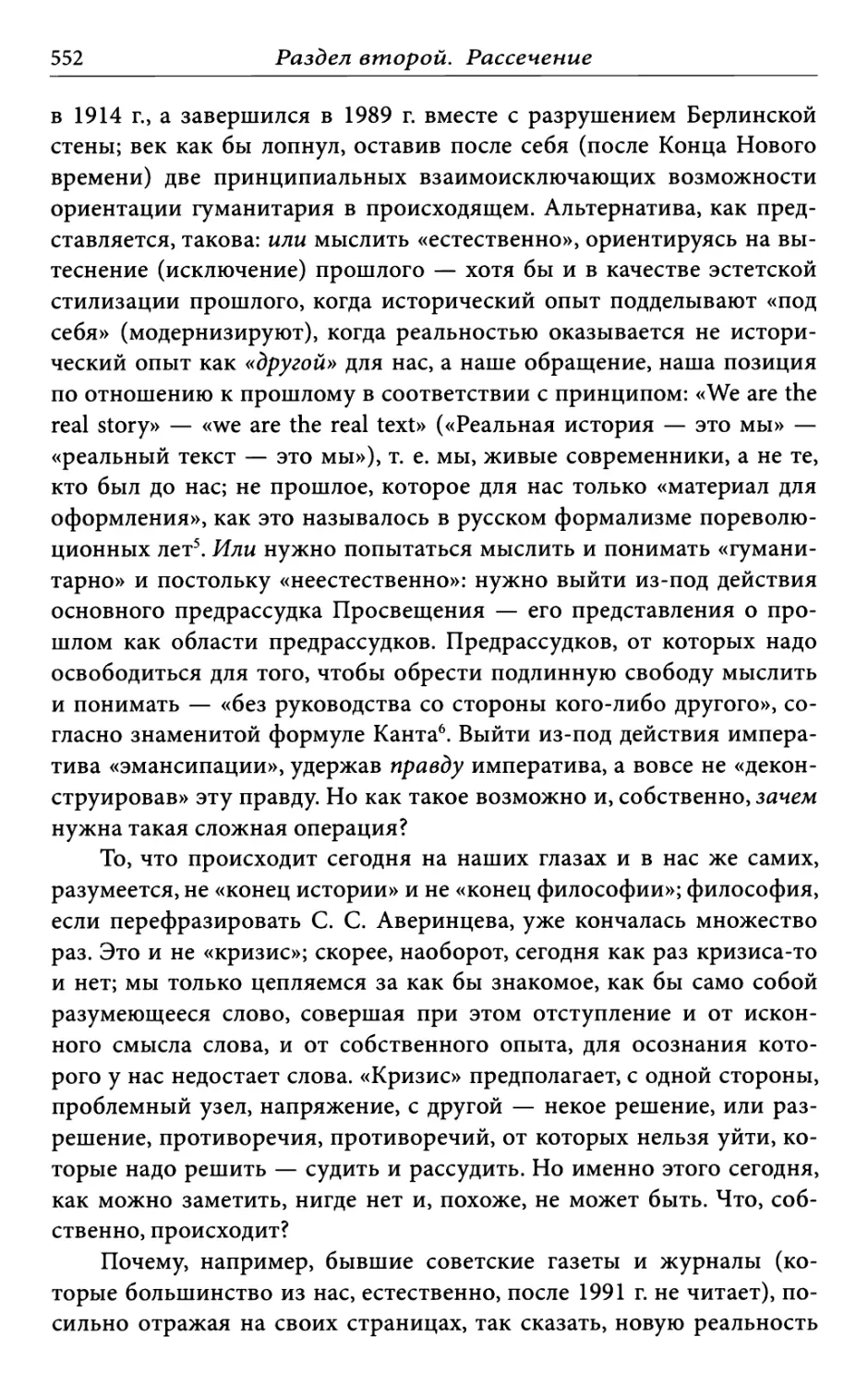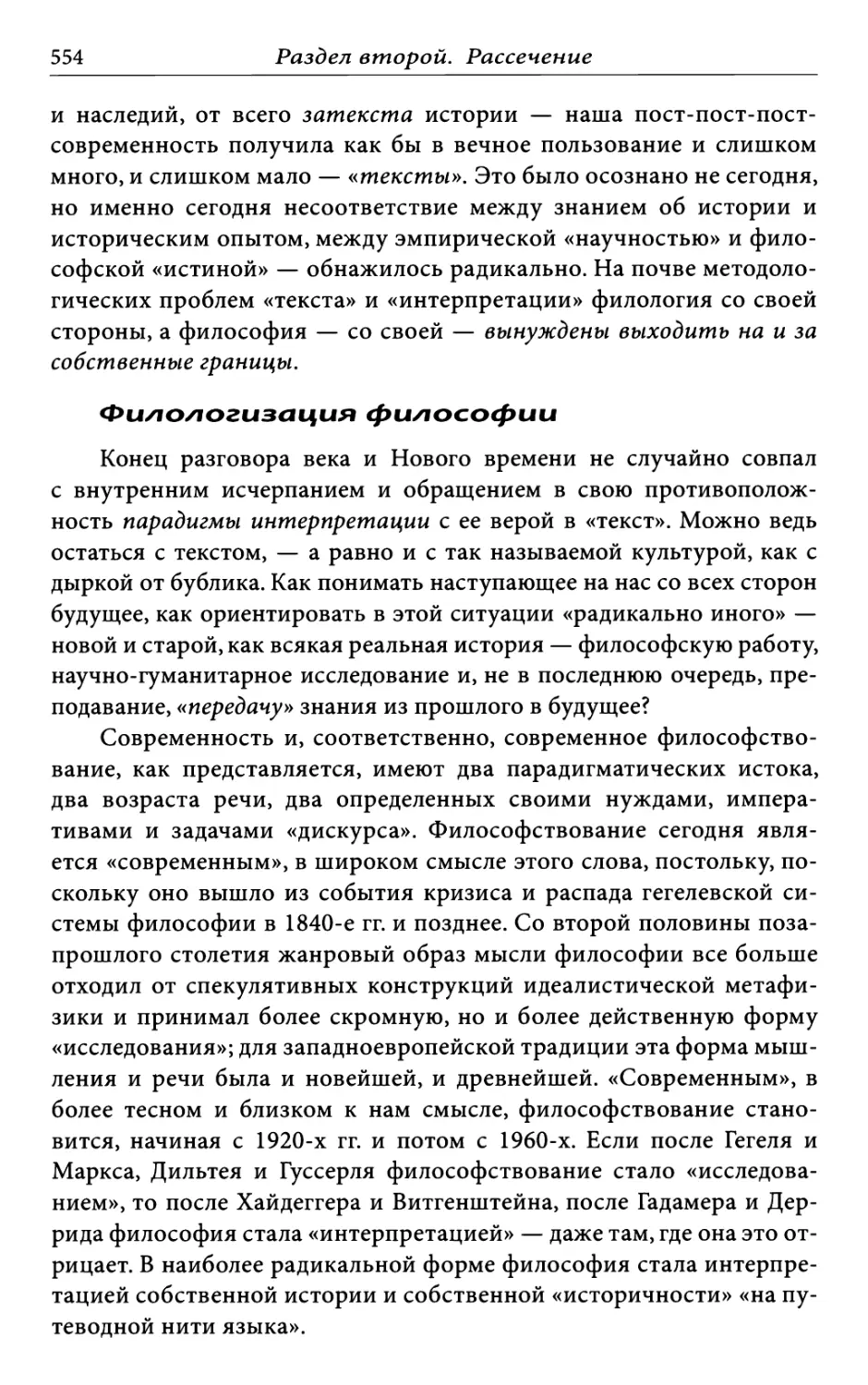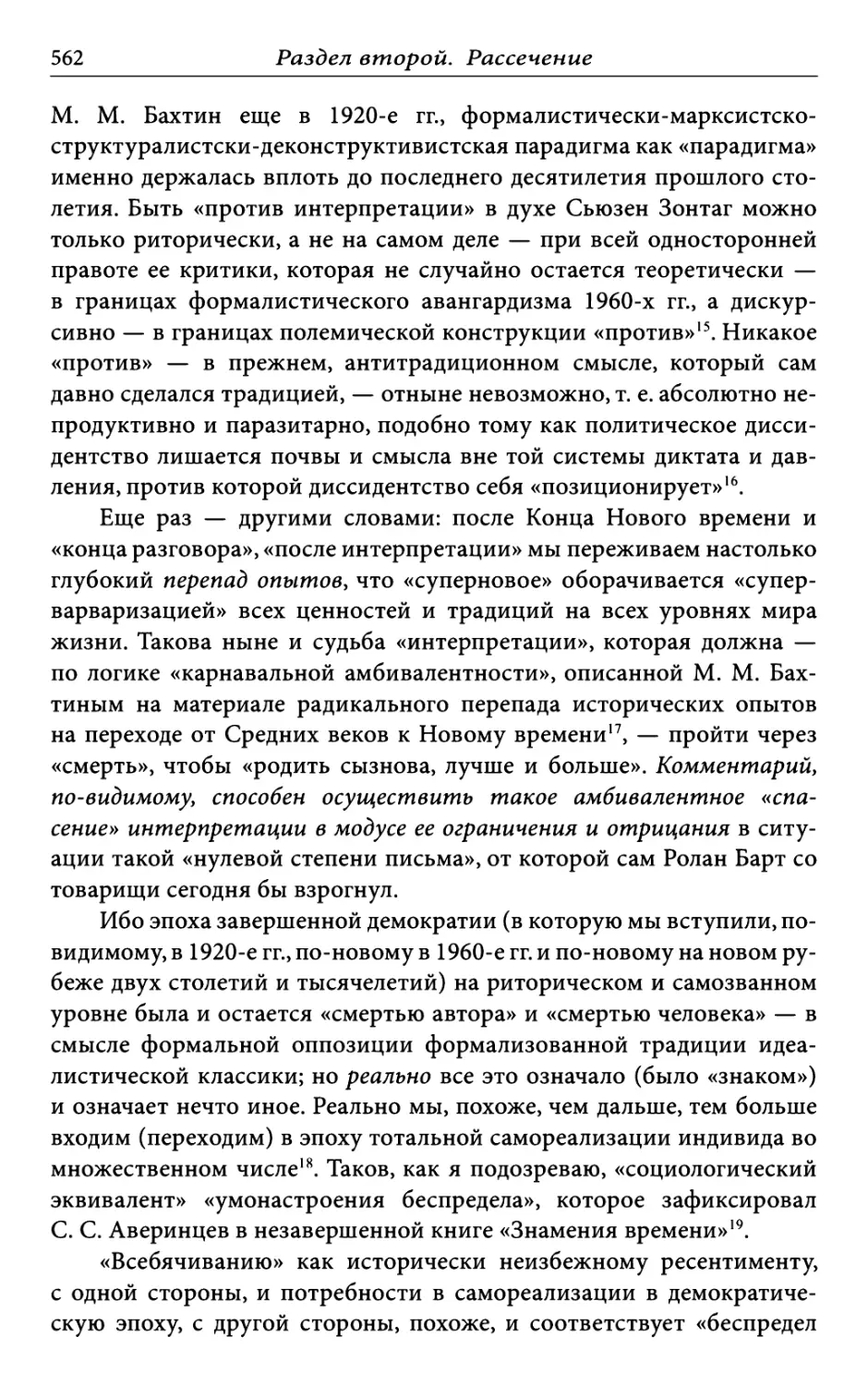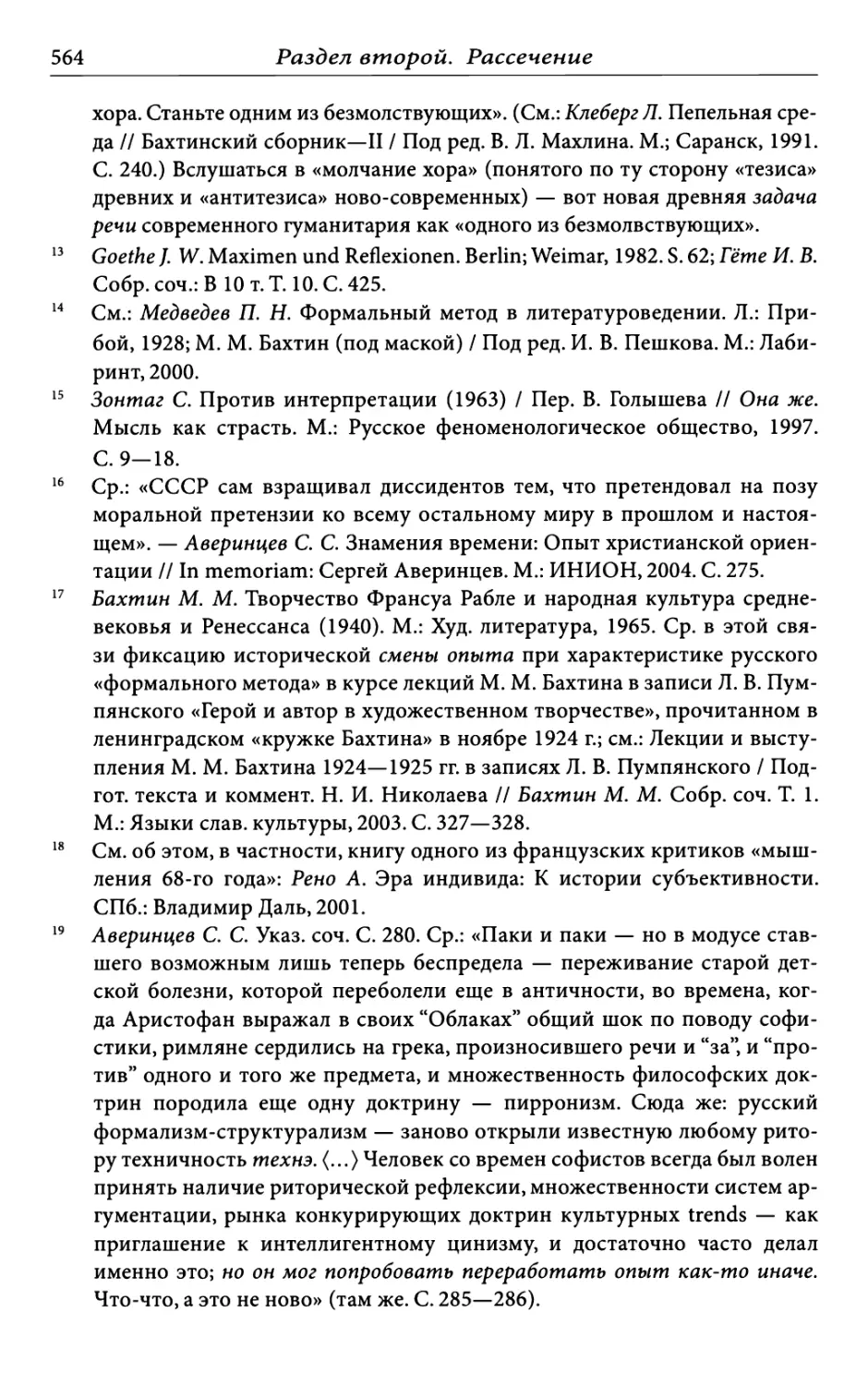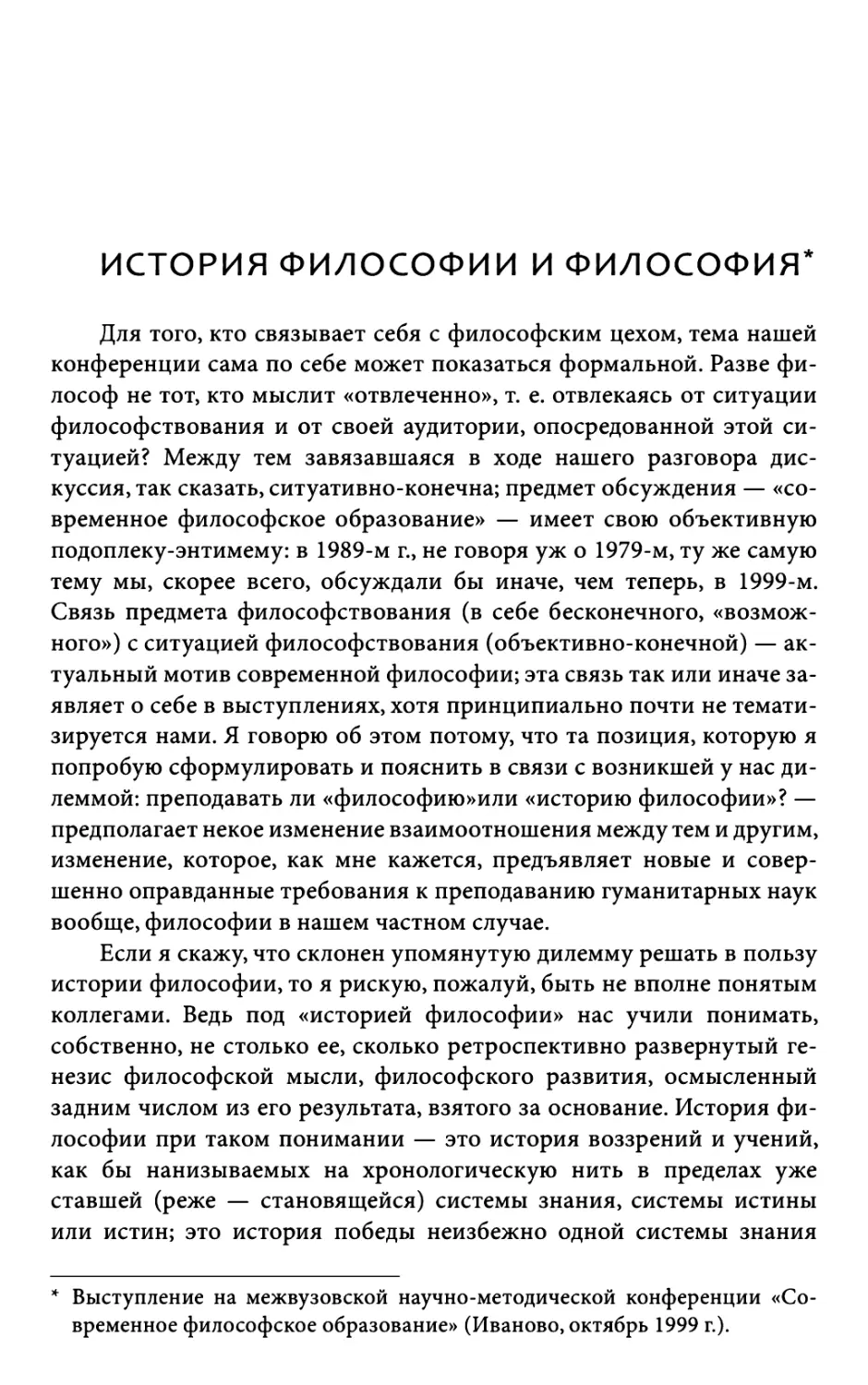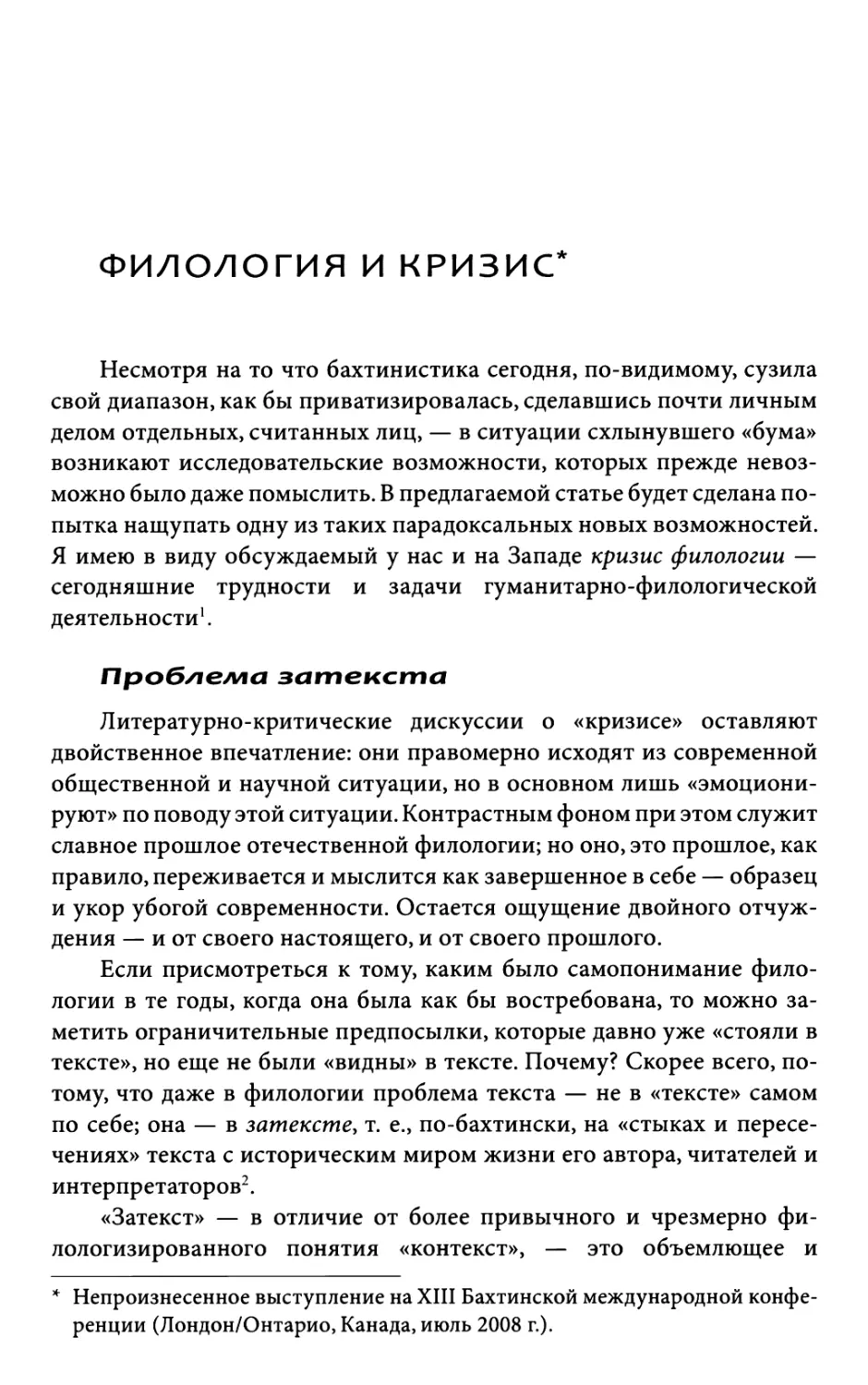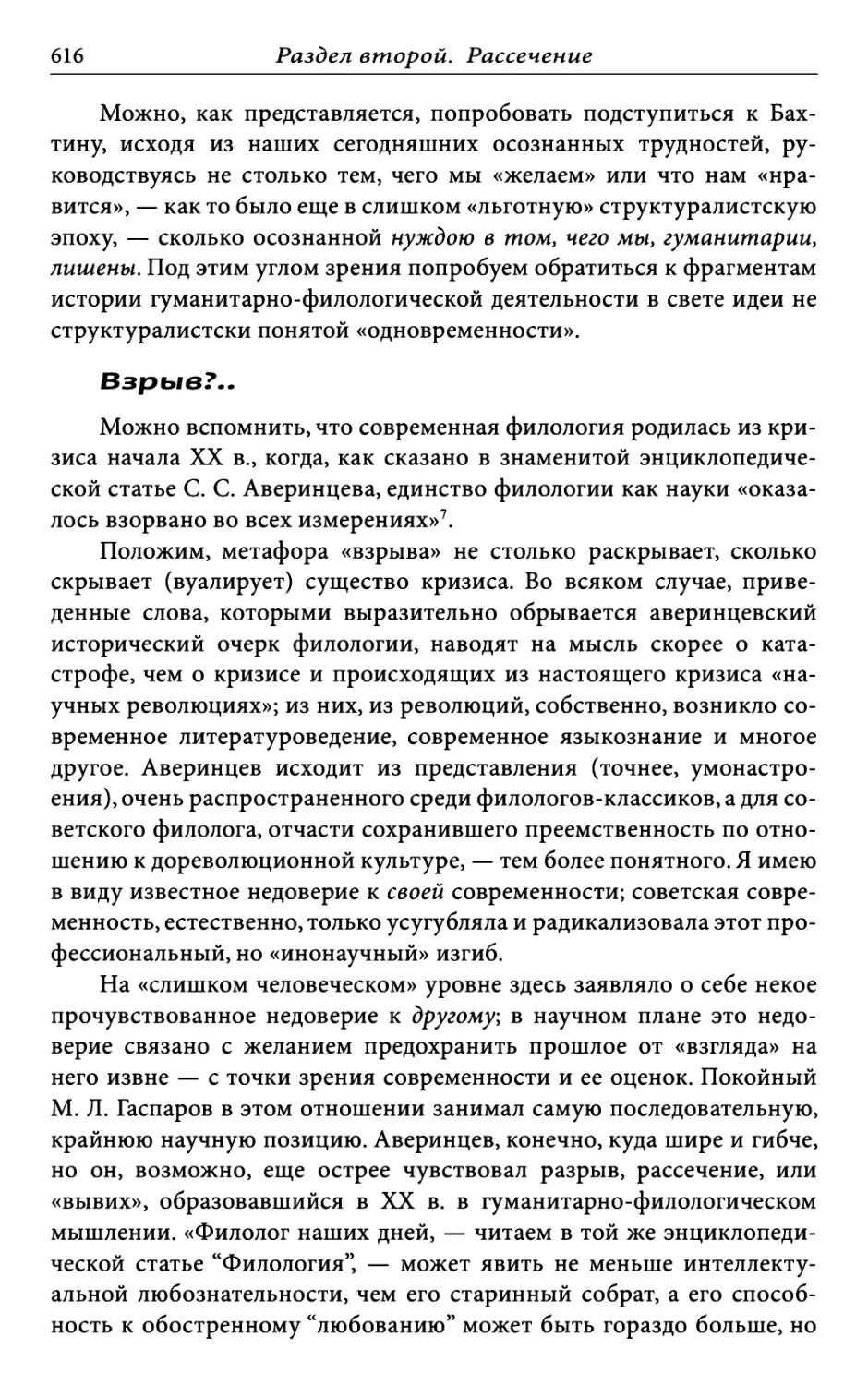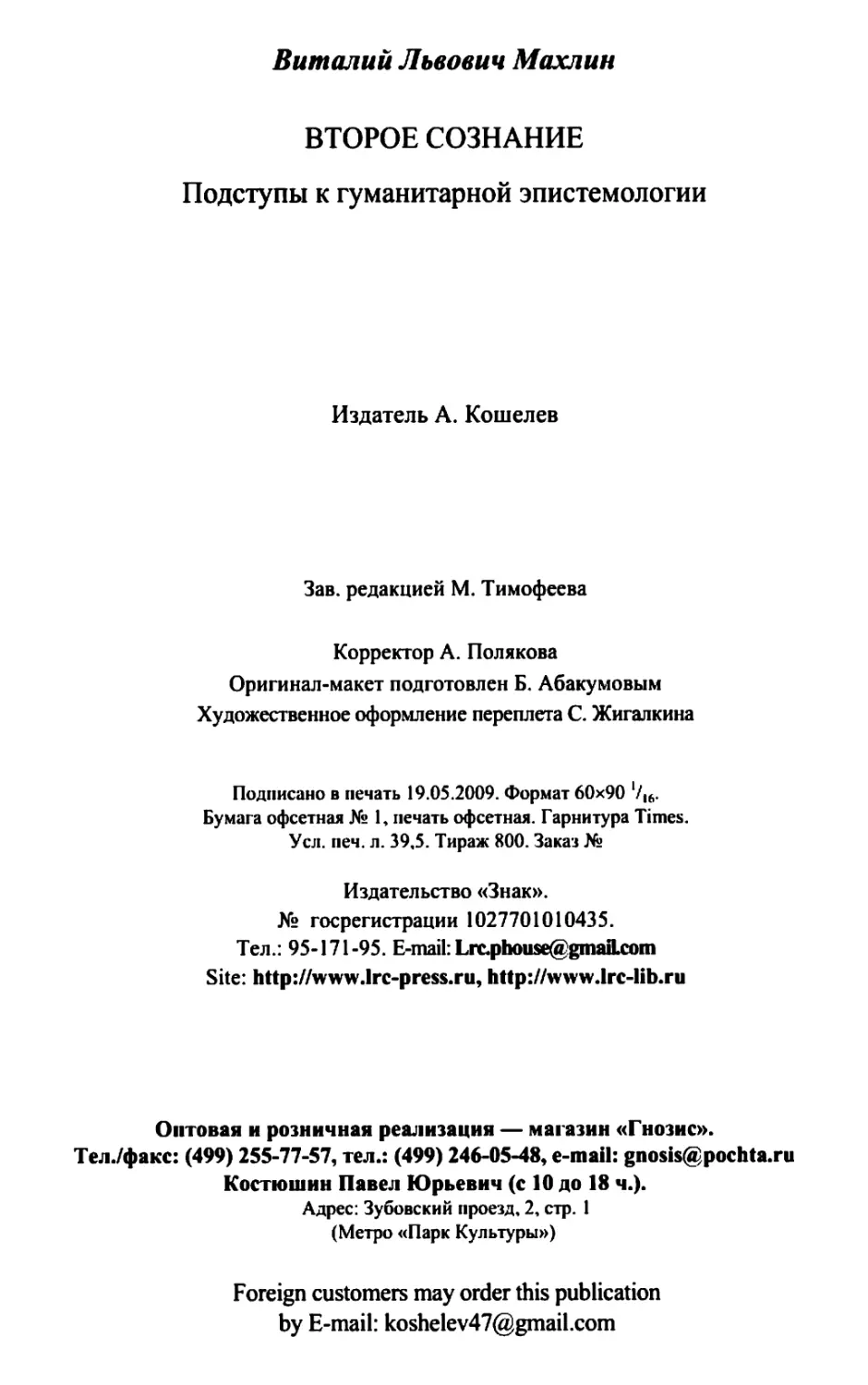Автор: Махлин В.Л.
Теги: история философии философия истории эпистемология
ISBN: 978-5-9551-0328-0
Год: 2009
Текст
В. Л. МАХЛИН
ВТОРОЕ СОЗНАНИЕ
Подступы
к гуманитарной эпистемологии
В. Л. МАХЛИН
ВТОРОЕ СОЗНАНИЕ
Подступы
к гуманитарной эпистемологии
Москва
2009
Махлин В. Л.
Второе сознание: Подступы к гуманитарной
эпистемологии. — М: Знак, 2009. — 632 с.
ISBN 978-5-9551-0328-0
Книга включает работы, посвященные философии исторического
опыта и гуманитарных наук — герменевтико-диалогической традиции
в истории западноевропейской и русской мысли. Опыт и язык
мышления Д. Вико, М. Хайдеггера, Г.-Г. Гадамера, Э. Ауэрбаха, М. Бахтина,
Г. Шпета, С. Аверинцева и др. рассматриваются в перспективе
постулируемой области исследований — «гуманитарной эпистемологии».
«Подступы к гуманитарной эпистемологии» адресованы
философам, филологам, историкам научно-гуманитарной и
духовно-идеологической культуры, интересующимся проблемами и персоналиями
спора «древних» и «новых» в прошлом и в настоящем.
The book includes essays on the philosophy of historical experience
and human studies, i. e. a tradition of hermeneutics and dialogics in the
history of West-European and Russian thought. Experience and speech
thinking of Vico and E. Auerbach, Heidegger and Gadamer, Bakhtin and Shpet,
S. Averintsev and others, are investigated in perspective of a comparatively
new field of research — «epistemology of the humanities».
These different attempts at the philosophy of the humanities are for
philosophers, philologists and historians of the humanities and intellectual
history, for a those who are interested in problems and characters of the
Querelle des anciens et des modernes past and present.
ISBN 978-5-9551-0328-0
О В. Л. Махлин, 2009
О Знак, оригинал-макет, 2009
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие 7
Введение: Второе сознание 15
Раздел первый. ПЕРЕХОД
Эпистемология в споре «древних» и «новых»
(Вико против Декарта) 77
Внимание: говорит Dasein
(M. Хайдеггер для начинающих — Г) 109
Перевернутая предпосылка
(М. Хайдеггер для начинающих — II) 150
Незавершенный Давос—1929
(Э. Кассирер и М. Хайдеггер в разговоре) 194
Переход
(Комментарий на послание
Г.-Г. Гадамера «Крусским читателям») 204
Цейтблом после Леверкюна
(Г.-Г. Гадамер и контекстуализация разума) 224
Что значит говорить
(Несколько комментариев
для читающих О. Розенштока-Хюсси) 312
Затекст
(Э. Ауэрбах и испытание филологии) 341
Раздел второй. РАССЕЧЕНИЕ
«Читайте Розанова», или На месте происшествия 397
Тайна филологов
(Г. Г. Шпет и герменевтический принцип) 440
Уроки обратного перевода
(Л. В. Михайлов и проблема русско-немецкого диалога) 472
Возраст речи
{Подступы к явлению С. С. Аверинцева) 503
После интерпретации 546
История философии и философия 565
Другое лицо эпистемологии
(О книге Н. С. Автономовой «Познание и перевод») 574
Филология и кризис 610
ПРЕДИСЛОВИЕ
Очерки, вошедшие в эту книгу, написаны в 1998—2008 гг.; для
настоящего издания они, опубликованные или публикуемые впервые,
переработаны в направлении исследовательского замысла,
обозначенного в названии и подзаголовке книги. В предисловии уместно
дать отчет об этом общем направлении, о вынесенных на обложку
путеводных понятиях.
«Гуманитарная эпистемология» — рабочий термин,
обозначающий философское осмысление гуманитарного знания в социально-
онтологическом измерении его, в единстве так называемой духовной
истории (Geistesgeschichte), «большого времени» — единстве
реальной преемственности, которое в книге называется также «затек-
стом». Предмет гуманитарных наук — исторический (социально-
исторический) опыт, «бытие», или «мир жизни»; поэтому научные
дисциплины, предметом которых является подлежащий
исследованию и истолкованию исторический опыт (его феномены), есть
резон называть также «науками исторического опыта», или «интер-
претативными науками». Так все это и называется в современной
философии гуманитарных наук — герменевтически ориентированной
философии. Герменевтический опыт взаимодействия между «героем»
истолкования (с его историческим миром жизни) и «автором»
истолкования (исследователем, интерпретатором с его уже другой
исторической ситуацией),— этот опыт, собственно, и образует
специфический предмет гуманитарной эпистемологии, т.е. философии
исторического опыта и наук исторического опыта в их взаимосвязи
и непрерывности, в их «сплошности» и «овнешненности».
Гуманитарная эпистемология, таким образом, имеет в своем предмете
не одно измерение опыта, но в принципе два (и больше) измерения,
не одну точку отсчета, но две (и больше) точки отсчета.
Взаимоотношение разных измерений — их релятивность, или
(соотносительность, или «диалог»,— открывает и позволяет осмыслить
существенно иную, чем естественнонаучная, структуру предмета,
структуру картины мира и структуру научных революций — по ту сторону
8
Предисловие
исторически сложившихся в Новое время концептов «картина мира»,
«революция», «структура», «наука» и т.п.
«Второе сознание» — термин, заимствованный у М.М.Бахтина,
представляется мне наиболее адекватным и перспективным как для
уяснения специфики гуманитарной эпистемологии, так и для
развития старых и новых возможностей этой еще только
складывающейся философской дисциплины. Я рискую говорить о «развитии»
в свете знаменательной тенденции в философии науки (как и в
философии в целом) последних десятилетий — тенденции «исто-
ризации знания (и мира)», по формуле выдающегося
отечественного исследователя научно-гуманитарной и художественной
культуры— А.В.Михайлова. Особым случаем этой общей тенденции
является рассматриваемый в книге современный феномен научной
культуры — процесс, который я называю «филологизацией
философии». Но если обращение к историческим, социологическим,
социокультурным аспектам естественнонаучного исследования и
естественнонаучного творчества кажется сегодня — после книги Т. Куна
о научных революциях — чем-то естественным, само собой
разумеющимся и всегда актуальным, то в области гуманитарного знания дело
обстоит явно иначе. Что такое «эйнштейновский разум»,
«эйнштейновская вселенная» сумеет объяснить, надо думать, любой
компетентный историк современной науки; но что могут значить эти
словосочетания (заимствуемые у того же М.М.Бахтина) в применении
к социально-историческому опыту мира жизни — компетенции
гуманитарного знания,— это уже совсем не так ясно.
Постольку, поскольку традиционная эпистемология игнорирует
(как «ненаучный») действительный общественно-исторический мир
жизни — опыт личности и опыт социальности, опыт политический
и опыт «повседневности», опыт традиции и опыт «революции»
(обращения традиций), опыт биографический, эстетический,
религиозный, сексуальный, поколенческий, семейный, космический,
профессиональный и т.п.,— то, помимо прочего, остается не
поставленным принципиальный вопрос о «революции в способе
мышления» в науках исторического опыта иу соответственно У в
гуманитарной эпистемологии. Эта последняя возникла на исходе
Нового времени как научно-философское следствие и последствие,
осмысление и переосмысление ближайшего к нам по времени
события такой «научно-духовной» революции — смены гуманитарной
парадигмы в XX в. Мы вряд ли ошибемся, если определим это
событие как «эйнштейновский» прорыв в не эйнштейновский мир
Предисловие
9
исторического опыта, в то измерение «мира жизни», которое Э.
Гуссерль в своих исследованиях 1930-х гг. назвал «абсолютной
историчностью» мирового времени человеческой культуры («человечества»),
указав при этом эпистемологические границы теории
относительности, не адекватной опыту историчности, но им же, этим опытом,
мотивированной и на свой лад подводящей к новой радикальной
постановке вопроса об истории — по ту сторону как религиозно-
идеалистической, так и научно-атеистической «историософии» (resp.
«философии истории»).
Речь идет о проблеме, так сказать, «второго разума» — разума
истории. «Критикой исторического разума» назвал В. Дильтей,
инициатор современной гуманитарной эпистемологии, свою
философскую программу; такой критикой была и остается гуманитарная
эпистемология, постоянно возвращающаяся к своему источнику ради
«изначального» обновления, но именно поэтому дистанцирующаяся
от античного понимания «начала» и, шире, от так называемого «апо-
фантического» логоса, от греческого концепта «теории».
Гуманитарная эпистемология составляет некоторый
«магистральный сюжет» современной философии в ее истории —
современной постольку, поскольку в XX в. сумели творчески осознать себя
в отрыве и одновременно в зависимости от собственных традиций,
в вечном «споре древних и новых». Этот спор принадлежит истории
не в относительном, но в абсолютном смысле как раз в силу « (со)
относительности» прошлого и современности; не только мы
толкуем и судим прошлое, но и, по выражению отечественного
философа Э.Ю.Соловьева, «прошлое толкует нас». Нельзя выпрыгнуть
из истории, как нельзя выпрыгнуть из собственного тела; не
случайно феномен и метафора «тела» занимают такое важное место как
раз в тех философских направлениях, с которыми непосредственно
связана «смена гуманитарной парадигмы» в двадцатом столетии,—
в феноменологии, в экзистенциализме, в философской антропологии,
в философии (и теологии) «диалога».
В предлагаемых очерках смена парадигмы в гуманитарном
способе мышления представлена не в виде целостной картины или
рассказа, но скорее как фон и как общее направление исследований.
В этом направлении мне не удалось продвинуться дальше отдельных
«подступов». Их могло быть больше или меньше, что-то, наверное,
вышло лучше, а что-то хуже, суть дела — в другом.
Гуманитарная эпистемология — наименее разработанная в
отечественной науке область знания: именно здесь — на стыках
10
Предисловие
и пересечениях философии и гуманитарно-филологического
мышления — в советский век произошло, как мне кажется, основное
рассечение русской духовно-идеологической культуры. Это значит:
«научно-духовная» (гуманитарная) мысль разделилась на «науку»
и на «духовность», а прошлое и древнее разошлись не в бытии,
но в сознании в такой мере взаимоожесточения и взаимоисключения,
в какой этого не было и не могло быть до Революции. Раскол этот,
в общем, почти обошел стороной западноевропейскую науку и
философию, устоявших из-за меньших национальных потрясений и более
прочных общественных и институциональных традиций
«исследования». В России же произошел эпистемологический взрыв и разрыв
такой силы, по сравнению с которой западные постмодерные
теории «разрывов», «конца истории», «смерти субъекта», «смерти
человека» и т.п. выглядят— при всей своей относительной ценности
для гуманитарной эпистемологии — более или менее плоской
интеллектуальной риторикой. Разрыв этот сегодня не понятен с
некоторой общей политической точки зрения и не устраним посредством
смены власти, официальной идеологии и т.п.; разрыв в мышлении
и в речи развел по разным «углам» в особенности философию и
филологию и, как следствие, увел их обеих от действительной
историчности истории.
В результате упомянутого рассечения «духовность»,
насильственно вырванная из исторического тела нации, не могла не
замкнуться в себе и не утратить (в русской эмиграции) реальную
перспективу — измерение будущего; в то время как в СССР «наука»
могла иметь (и имела) творческое, живое будущее только в качестве
естественно-научно-технической служанки «новой богословской
школы» (как назвал русский коммунизм Г. П. Федотов в этапной статье
«Трагедия интеллигенции» 1926 г.). Но даже и такое рассеченное и
усеченное светлое будущее «погасло в уме» в 1970-е гг., когда, с одной
стороны, «бэконовская» научно-техническая метафизика покорения
природы, с другой стороны, революционно-гуманистический
общественный идеал («призрак коммунизма») окончательно потеряли
свою привлекательность в умонастроенности эпохи (у нас и на
Западе), уступив место, по выражению выдающегося немецкого
гуманитарного эпистемолога Ганса Роберта Яусса,— «призраку
постмодернизма».
Духовно-исторический разрыв в мышлении и сознании, более
глубокий, чем та или иная идеология и «аукнувшийся» за
последние два десятилетия, по-видимому, знаменует собою не столько
Предисловие
11
исторический переходу сколько перелом и срыв; распад оказался
таким радикальным и новым, вероятно, потому, что он сам в своей
беспочвенности мог опираться на очень старые, устойчивые
инстинкты, на очень древнюю почву. Об этом немало проникновенного
можно прочитать у русских философов-эмигрантов; но последние
не могли не быть жертвами советского века в большей мере, чем
аналитиками действительной современности двадцатого столетия,
на фоне которого советский век понятнее и даже лучше, чем он был,
если ему только не «верить на слово». Во всяком случае, современная
гуманитарная эпистемология не может опираться ни на «научно-
материалистическое», ни на «религиозно-идеалистическое»
мировоззрение; как, впрочем, анахроничным в горизонте XX в.
оказывается и понятие «мировоззрения», не говоря уж о понятии
«идеологии», при том, конечно, что популярное, как и персональное,
сознание не может избежать вовсе эрзацев того и другого.
Ограниченность предполагаемых «подступов» лишь отчасти
компенсируется двумя особенностями изложения, о которых
следует упомянуть, поскольку они объясняют жанрово-речевой облик
очерков, а именно — соединение исследования с современными
оценками «критика» и преподавателя истории философии и
гуманитарных наук, убежденного в том, что любой смысл, самый древний
или даже вечный, жив лишь в актуальном приобщении его
современности, в воплощении его современниками и «разновременниками».
Первая особенность изложения состоит в том, что в каждом очерке
заявляют о себе проблемы, мотивы и сюжеты, варьируемые в других
очерках; при этом, конечно, не удалось избежать повторений. Вторая
особенность изложения — в том, что эти проблемы, мотивы и
сюжеты я пытался сблизить со способом их осмысления и изложения.
Иначе говоря, то, что я «понял», я старался «сделать», восполняя
трудный предмет речи способом речи.
Такое восполнение тем более необходимо там, где мы в качестве
«второго сознания» имеем дело с западноевропейскими традициями
и культурой мысли, которые для нас, из России, всегда — другое,
«первое» сознание, мышление и язык, иначе говоря — исток и
источник влияний, заимствований и «оглядок» в сложном, иногда
болезненном процессе самоузнавания, самоутверждения, самопознания,
самоидентификации и т.п. Та «нехватка языка» (Sprachnot), о
которой писал один «героев» этой книги, Г. -Г. Гадамер, имеет особый
смысл для российских, в особенности постсоветских попыток
приобщиться к современной западной философии и наверстать упущенное
12
Предисловие
за советский век (например, понять герменевтическое обращение
западной магистральной мыслительной традиции от Аристотеля
до Хайдеггера, осуществленное упомянутым Гадамером). Нам часто,
действительно, чего-то не хватает в западном мышлении, в его
выкованных тысячелетиями способах изложения и говорения (речевых
жанрах, или «дискурсах»); не хватает не только и не столько того, чего
нам, вообще говоря, недостает. Дело не в том, что мы какие-то
особенные; но мы действительно «другие», т.е. из другого мира жизни,
опыта и речи. То, что западный человек говорит, для него (при всей
общечеловеческой «нехватки языка») все же достаточно, т.е.
удовлетворяет коммуникативным условиям возможности общества
и научного сообщества, участником и членом которого в своем праве
он или она является. Нам же этого недостает, не хватает не потому,
что мы хуже или лучше, а потому что мы социально и
коммуникативно живем и мыслим в существенно по-другому сложившемся
историческом мире жизни. Вот откуда, по-видимому, совершенно
понятная и, вообще говоря, правая потребность в сугубом
«восполнении» «первого» сознания (отсюда же и заявка на свою «русскую»
философию). Здесь — особый нюанс проблематики «второго
сознания», восполнение-обогащение которого не следует, как кажется,
ни преувеличивать, ни вовсе сбрасывать со счета.
Таков вообще герменевтический принцип «применения»
(Anwendung), существенный для современной гуманитарной
эпистемологии. Этот принцип очень просто, прозаически выразила одна
женщина-врач в телевизионном интервью: в ответ на вопрос, верит ли
она в осуществление стоящих, по ее мнению, перед медициной задач,
та переспросила: «Что значит "верю"?.. Я это делаю». Отход от
конструкций, от «теоретизма», научно-философское открытие
донаучных и дофилософских, существенно «фактичных» форм практики
в мире жизни и творчества — специфическая черта гуманитарной
эпистемологии; разговор о ней не может не быть ее же посильным
«повторением», т.е. практическим воссозданием-воспроизведением
образца — «вторым сознанием»» в его, этого другого сознания,
современности. Персональные «герои» очерков, о ком идет речь,— это
те, у кого я пытался учиться как у собеседников и соучастников
некоторого все еще продолжающегося > современного разговора, начатого
или продолженного задолго до нашего времени.
Этот педагогический (и дидактический) аспект гуманитарной
эпистемологии принципиален: за ним стоит первичная, «изначальная»
ситуация философствования и обучения. Постольку поскольку такая
Предисловие
13
ситуация сегодня, как всегда (и как всегда по-другому),
предполагает как минимум два лица, две инстанции, два сознания, два
поколения и т.п. в аспекте их «релятивности», или «одновременности»,
или «диалога», — то корреляция: «учитель — ученик» составляет,
можно сказать, «керигматическое» ядро философии исторического
опыта (включая и так называемую философию образования).
Гуманитарная эпистемология — это философия «второго сознания», так
сказать, на обе стороны дела.
Книга состоит, помимо теоретико-методологического введения,
из двух разделов. В первом объединены очерки, посвященные
становлению гуманитарной эпистемологии на Западе в Новое время; многие
звенья здесь отсутствуют, да и те, что есть, не более чем намечены под
углом зрения нашей проблемы. Переход к «новому мышлению» в
философии, благодаря которому гуманитарная эпистемология стала
по-новому возможной, в Западной Европе (прежде всего — в
Германии) успел состояться в порядке общефилософской,
общегуманитарной дискуссии в 1920-е гг.; в советской России для аналогичного
и одновременного перехода уже не было нормальных условий, хотя
и оставались некоторые филологические возможности в широком
смысле слова «филология». Но подъемы и провалы гуманитарно-
филологического мышления в советский век можно правильно
понять и оценить только в тени того, что «быть не возмогло»,—
на линии разрыва, рассечения по-новому современного в новом веке.
По техническим причинам из книги выпал третий раздел
(«Непогибший»), посвященный философскому и научно-гуманитарному
наследию М.М.Бахтина. Единственный в своем роде русский
мыслитель и гуманитарный эпистемолог XX в., выпавший по условиям
времени из своевременной дискуссии и истории рецепции, Бахтин, как
мне кажется, может быть понят и оценен лучше, чем это удалось
в минувшие десятилетия, на адекватном (современном его научно-
философской программе) «диалогизующем фоне»
западноевропейских и русских событий и традиций гуманитарной мысли. Как и
обратно: увиденный на таком апперцетивном фоне, бахтинский «диало-
гизм» позволяет, я думаю, лучше понять и оценить «магистральный
сюжет» западноевропейской философской, научной и религиозно-
философской мысли, с которой у нас не было возможности вступить
в действительные, равноправные, со-временные отношения в свое
время (своевременно). «А нам это надо?» — слышен по-новому
актуальный, по-новому громкий старый русский вопрос. Я думаю — да,
надо; хотя нет, конечно, никакой гарантии того, что те, кто отвечают
14
Предисловие
на этот вопрос, как и я, положительно, снова и по-новому не окажутся
в новом столетии в меньшинстве. Как бы там ни было, я посильно
пытался следовать внутренне убедительному для меня
герменевтическому постулату выдающегося историка русской мысли Г. В. Флоров-
ского, который в финале «Путей русского богословия» (Париж, 1937)
утверждал примерно следующее: в русской духовно-идеологической
и научно-гуманитарной культуре до сих пор «еще не было
действительной встречи с Западом»; задача — в том, чтобы «не повторять
западные ответы, но суметь понять западные вопросы». Независимо
от деликатного вопроса о том, насколько русская философская
эмиграция (не исключая Флоровского) продвинулась в осуществлении
этой задачи, здесь четко обозначено принципиальное направление
исследований и научных дискуссий в области гуманитарной
эпистемологии (включая особый возможный богословский аспект ее) как
области научно-духовного «делания».
* * *
Моя благодарность друзьям, коллегам и семье — тем, кто
предметным разговором, советом или делом, морально и технически
помог появлению на свет этой книги. Хочу здесь назвать В. А. Ка-
панадзе, Л.А.Микешину, Т.Г.Щедрину, В.К.Загвосткина, К.Г.Ису-
пова, В.В. Ляпунова, Н.И. Николаева, О.Е. Осовского, К. Эмерсон,
Л. Венцлера; участников моего домашнего семинара «Гуманитарный
перевод»— Ю.В.Иванову, П.В.Лещенко, A.B.Лызлова,
Р.Ю.Кузьмина; особая благодарность— моей терпеливой жене
В.А.Сергеевой. Я благодарен Российскому гуманитарному фонду за грант на
издание книги, а руководству кафедры философии Московского
Государственного Педагогического Университета (МПГУ) — за
доброжелательное участие.
ВЛМ
ВВЕДЕНИЕ
ВТОРОЕ СОЗНАНИЕ
t. Салю собой разумеющееся — was ist das?
Во всяком обществе, как и в научном сообществе, нормально
сосуществуют два рода некомпетентности: один можно назвать
«естественным», другой — «продвинутым». Что-то мы знаем хорошо
или даже досконально, другое знаем меньше, а о третьем и вовсе не
имеем ясного понятия: это — естественно; все мы, согласно афоризму
О. Уайльда, «невежды, только в разных областях». Некомпетентность
второго рода куда интереснее и опаснее, особенно в эпоху
господства «информационного общества», когда формы и способы
сообщения и обобщения функционируют уже независимо от реального
общения — виртуально. Виртуально мы как бы знаем, «слышали»,
даже «видели» очень многое, с чем или с кем реально не
сталкивались, не встречались, не общались. Таковы в особенности слова,
понятия и даже факты, которые либо принадлежат прошлому, либо,
наоборот, на слуху; в том и в другом случае речь идет о чем-то таком,
что «все знают», или как бы знают. Этот род как-бы-знания может
быть мощным источником аберраций и подмен — особенно там, где
отсутствуют или ослаблены практические основания
преемственности и общественного равновесия, где идеи и тексты
распространяются и воспринимаются независимо от породившего их
источника напряжения (разговора и авторства) — и потому
схватываются и потребляются «легко». «Как ясно всем (кроме специалистов
по Аристотелю)...» — этот иронический оборот С. С. Аверинцева по
поводу термина «катарсис»1 в действительности приложим едва ли
не ко всем традиционным понятиям в истории научной и духовно-
идеологической культуры.
Все знают, например, что такое «романтизм», кроме
специалистов по романтизму; да и среди этих последних не каждый решится
осознать (тем более — передать другим), почему, скажем, импульсы
и реальность так называемого раннего («Иенского») романтизма
16
Введение. Второе сознание
около 1800 г. в Германии очень мало напоминают представления о
романтизме, сложившиеся позднее и определявшие (положительно или
отрицательно) «образ» романтизма и романтиков в популярном
(отчасти и в научном) сознании в XIX и XX столетиях. Другой пример:
все знают, что такое «трагедия» (зачастую — уже в рецепции
романтизма); но изначальное (греческое) значение этого слова — «песнь
козла» — может шокировать своей неромантической
невозвышенностью и ненормативностью, мгновенным просветом в совершенно
иной мир представлений и эстетической нормы. Так, похоже, обстоит
дело с «самими вещами» в их отличие от «образов культуры», «картин
мира» и тому подобных модернизирующих абстракций, аберраций
и подмен.
То, о чем пойдет речь в этой книге, так или иначе — «все знают».
Все, в общем, знают, что такое «эпистемология», кроме
практикующих эпистемологов, для которых предмет их занятий — исходный
дискуссионный вопрос. Что касается слова «гуманитарный», то о нем
и вовсе как бы неприлично переспросить: с некоторых пор о
«гуманитарном мышлении» или, скажем, о «тексте» рассуждают и пишут даже
такие исследователи, чье мышление сложилось на почве (точнее — в
научной и культурной среде) совсем не гуманитарной, далекой и
от традиционной проблематики текста. Равным образом, все или
многие знают или слышали о «герменевтике» — теории и практике
«понимания»; но когда об этом рассуждают у нас даже в
философских журналах, то иногда становится неловко. Или вот слово
«диалог» — его невозможно вовсе избежать в разговоре о гуманитарной
эпистемологии, хотя и хочется избежать: настолько когда-то
эвристическая, парадигмальная семантика слова стерлась и стала почти
беспамятной и беспонятной, т. е. как бы общепонятной; слово потеряло
уже и свою общественно-политическую ауру и «горизонт ожидания»
в результате морального краха либеральной идеологии в 1990-е гг., —
тем более, однако, закрепившись в популярном сознании в качестве
клише: кто же не знает, что такое диалог?..
Понятно, что поворот философии к гуманитарно-филологической,
отчасти и к историко-богословской проблематике — революция в
способе мышления, которая в решающие 1920-е гг. нередко
осуществлялась под лозунгом «нового мышления» («das neue Denken»), нового
«коперниканского переворота» в гуманитарной эпистемологии, —
сегодня уже не может быть ни узнана, ни признана непосредственным
образом — в качестве того, что было там и тогда, где и когда нас,
современных и «новых», ненаучно выражаясь, «не стояло». Тексты и
Введение. Второе сознание
17
смыслы как бы расхищены на общеизвестные слова, зыбкие понятия,
виртуальные представления; все это и становится как бы
общеизвестным и само собой разумеющимся. Б. Л. Пастернак в «Охранной
грамоте», писавшейся на рубеже 1920-х — 1930-х гг., уже вспоминал
о судьбе «крупного разговора» XX века, назревшего к началу первой
мировой войны, но расхищенного в скандальной авангардной
эстетике и публичных стычках «эпигонов» и «новаторов», одинаково
примитивных в свете того, беспонятным выражением чего был внешний
шум и брожение:
Это были слова и движенья крупного разговора, подслушанные обе-
зъяной и разнесенные куда придется по частям, в разрозненной
дословности, без догадки о смысле, одушевлявшем эту бурю2.
Всякий «крупный разговор» в истории научной и духовно-
идеологической культуры производится и происходит во времени,
но со временем же он воспроизводится в поколениях, как бы оседая
«в разрозненной дословности», в инерции творческих источников и
импульсов; творческие реальности воспроизводятся либо в качестве
само собой разумеющегося, либо в виде так называемых образов
культуры, более или менее идеализированного само собой
разумеющегося. То, что называют «ценностями», «идеалами», «наследием» — это,
как правило, дошедшие до нас «в разрозненной дословности» следы
или отзвуки каких-то действительных событий и свершений, «слов и
движений», «самих вещей», удержанных в текстах, в культурной
памяти нации, человечества и т. п. Все это разумеется само собой; но что
отсюда следует?
Если «культуру» — т. е. типы и способы воспроизведения
первичных произведений-образцов, миметического культивирования
творческих источников, «первого» авторства — удается сберечь от
«обезьяньих» карикатур, перерождения и вырождения в
воспроизводящем, или «втором», авторстве-соавторстве, то идентичность,
явным образом, не воспроизводима, не переводима; напротив, она
должна мыслиться, воссоздаваться и обосновываться как-то иначе.
Современность может воспринять, признать и продолжать
несовременный подлинник-оригинал, одновременно дистанцируясь от него
и делая его современным. Такова герменевтическая логика и
диалектика «традиции» — передачи унаследованного, осовременивания
несовременного — перевода, перемещения, переложения, пересоздания-
воссоздания какого-то авторитетного «первого» сознания, мышления
и слова.
18
Введение. Второе сознание
Отсюда — вопрос, совпадающий и не совпадающий с нашим
предметом — некоторым магистральным гуманитарно-философским
сюжетом Нового времени (преимущественно XIX и XX веков), а именно:
как говорить? как излагать?.. Как передать, перевести, пересказать и
«перерассказать» нечто уже известное и даже само собой
разумеющееся? Как переработать, переосмыслить, перенести в наш
постсоветский жизненный мир, в русскоязычное речевое мышление и
сознание с его, этого мира, пореволюционными и дореволюционными
традициями, предрассудками и горизонтами ожидания —
малознакомую «научно-духовную» традицию, сугубо чужаковатую,
иностранную даже там и как раз там, где она в известном смысле чудом
выжила и у нас дома, в текстах на родном языке? Как такое иное,
знако-чуждое добро может быть узнано и признано сегодня как свое,
как «выжитый», по слову Достоевского, опыт и традиции —
западноевропейские и русские?
Это не формальный вопрос и не чисто литературная задача —
построить так называемый герменевтический мост между двумя
мирами, преодолеть культурно-речевую, дискурсивную бездну там, где
давно ставшее чуждым воспринимается и мыслится либо как просто
чужое, либо (еще хуже) не как чужое, а, наоборот, как давно известное
и освоенное свое (вроде, например, эпитета «экзистенциальный»).
Кажется, нигде так, как в нашем духовно-идеологическом мире жизни,
никогда так, как после «совка», не приходится опасаться «перевода-
присвоения» чужого слова3, «пенкоснимательства и западнического
чванства, никогда не исчезавшего из русской земли», по энергичному
выражению выдающегося русского эпистемолога-гуманитария
прошлого столетия4.
Для того чтобы предмет мысли стал предметом речи, а это
значит — предметом передачи мысли на расстоянии «чужой речи»;
для того чтобы заговорить и рассказать о современной герменевтике,
о диалогическом мышлении и т. п., — говорящий об этих вещах сам
должен стать не просто имитирующим, но реальным имитатором
взятого за точку отсчета образца или «первого сознания»;
воспроизводителем «содержания», о котором идет речь и которое заведомо
неповторимо, невоспроизводимо другим сознанием или автором
(соавтором). Похоже, только так можно попытаться избежать
дискурсивных ловушек некомпетентности. Два курьезных случая
проиллюстрируют оба выделенных нами рода некомпетентности в
перспективе поставленного вопроса и намеченной задачи.
Введение. Второе сознание
19
Когда инициатор современной герменевтической философии
Ганс-Георг Гадамер (1900—2002) представил в издательство свою
главную книгу «Истина и метод» (1960), в названии которой
первоначально стояло слово «герменевтика», то вроде бы компетентный
издатель спросил: «Was ist das?» — и потребовал убрать слово из заглавия;
название книги автор с его женой придумали буквально в самый
последний момент5. Сегодня эта история воспринимается как парадокс:
«все знают», что такое герменевтика; недоумение издателя той самой
книги, которая само слово «герменевтика» сделала известным во всем
научном мире и за его пределами, — это случай «естественной
некомпетентности». Анекдот, иллюстрирующий второй род
некомпетентности, связан с публикацией вот этой самой книги.
Коллега, услышав название моего проекта, который я решился
представить в РГНФ (Российский гуманитарный научный фонд), —
«Второе сознание», — искренне расстроился и посоветовал название
изменить: «Вы что, не понимаете, что подумают в Фонде, прочитав
такое заглавие?». Я, правда, не понимал: словосочетание «второе
сознание», извлеченное из набросков и лабораторных записей
М. М. Бахтина 1960—70-х гг. и определяющее, по мысли автора,
специфику мышления в гуманитарных науках и в философии, довольно
точно сводило в один узел, в одну формулу «далековатые» мотивы,
сюжеты и проблемы моего проекта. Видя мое недоумение и
огорчение, коллега взглянула так, как будто заметил у меня расстегнутую
ширинку: «"Второе сознание"! Вы что?!.. Все же подумают, что ваша
книга.., понимаете про что?.. Про "шизо"... И потом, вы же не можете
не понимать, — тут голос коллеги понизился до уровня дружески-
профессиональной интимности, — вы же не можете не понимать, что
сознание может быть только одно\».
Вот такое само собой разумеющееся современная гуманитарная
эпистемология как раз и ставит под вопрос — как и само понятие «само
собой разумеющегося». В философии гуманитарных наук научная
сторона дела по самой сути дела не может отделяться (но должна
методически отличаться) от «ино-научных» измерений любого объекта
исследования, который по этой самой причине, опредмечиваясь в
познании, никогда не становится (или не остается) только «объектом».
Историк гуманитарного мышления не может не понимать, что за
представлением, в соответствии с которым сознание может быть
«только одно», стоят традиции более чем авторитетные;
представление, ставшее анонимным (и тем более бесспорным), и есть «само
собой разумеющееся». Убежденная реплика коллеги — невольное эхо
20
Введение. Второе сознание
многих умов и авторитетов прошлого, которые сами были эхом еще
более древнего прошлого. Давний, но не древний пример из истории
русской литературной критики XIX в. (а в ней у нас нужно искать
истоки и вечные импульсы гуманитарной эпистемологии) — аргумент
талантливого, рано умершего В. Н. Майкова (1823—1847) в его
полемике с Белинским по поводу понятия народного, или национального:
...истинная цивилизация всего на все одна, как одна на свете
истина, одно добро; следовательно, чем меньше особенности в
цивилизации народа, тем он цивилизованнее6.
Вряд ли кто повторит сегодня эти слова не вздрогнув —
настолько русская мечта о цивилизованном «европейском доме»
реализовалась и одновременно разрушилась; но предрассудок «только
одной» истины, добра и т. д. — на месте, как почти двести или тысячу
двести лет назад. А между тем «радикально иное» — тоже налицо. В
статье о христианстве С. С. Аверинцев сказал не только о
христианстве: «Мы живем в мире, где уже ничто не разумеется само собой»7.
Такая ситуация для философии и науки скорее полезна в самой своей
«ненормальности», и в приведенном высказывании крупнейшего
гуманитарного эпистемолога последних советских десятилетий оглядка
на «мир» (а не только на «Софию» и «Логос») — важное указание.
Рискнем поэтому не торопиться с определениями, следуя здесь за
отечественным эпистемологом-германистом А. В. Михайловым,
который однажды заметил, что «определения неизбежны в смирении,
как дела людей в не ими созданном мире»8. Тем более в научно-
гуманитарных исследованиях, если они предметны и основательны,
определения изобретают не в начале, а в конце пути, да и то в силу
«неизбежности в смирении» — выражение, которое для
эпистемологов с не гуманитарным образом мыслей должно звучать вопиющим
диссонансом. В жестких условиях нового, совсем не риторического
ускорения хода вещей в мире, когда все труднее встречаться с
друзьями и общаться с коллегами, — попробуем все же переспросить:
«гуманитарная эпистемология» — was ist das?
2. Критика «не чистого» разума
Если перевести термин «гуманитарная эпистемология» на язык той
традиции, которая способна уберечь этот термин от самозванства, —
то наиболее близким ему нужно признать термин «философия
гуманитарных наук»9.
Введение. Второе сознание
21
Строго говоря, этот термин еще и сегодня не является вполне
закрепленным и распространенным; о философии гуманитарных
наук, не говоря уж о гуманитарной эпистемологии, не приходится
говорить как о чем-то понятном и надежном, как говорят, например,
о philosophy of science («философии науки») в области
эпистемологии естествознания. Тематизируемый здесь термин приходится
не столько излагать, сколько «вводить», употребляя кавычки. Для
того чтобы проблематизировать ту, по-гегелевски выражаясь,
«реальность понятия», которая составляет содержание нашего
терминологически не вполне закрепленного и обоснованного термина,
необходимо, как кажется, принять во внимание, по крайней мере,
пять не очевидных обстоятельств систематического и
исторического порядка.
Во-первых, принципиальное философское осмысление
гуманитарного знания и познания — явление довольно позднее.
Гуманитарные науки должны были сначала сложиться и выделиться в
относительно самостоятельные и институализированные
(университетские) дисциплины, — а это произошло только в XIX в., — для
того чтобы сам факт этих разнообразных научных дисциплин мог
быть вообще осознан философией как нечто целое и, более того,
как такое «иное», перед лицом которого великая философская
традиция оказалась перед необходимостью радикального
переосмысления своего же «наследия». Такое переосмысление —
«трансформация философии», по формулировке Карла Отто Апеля10, — стоит в
прямой связи с выдвижением гуманитарных наук в центр
философской проблематики.
Этот тектонический и многозначный процесс начинается в
конце XIX в. и составляет, как можно заметить, некую проблемную
сердцевину философии XX в., можно сказать, — магистральный
сюжет, не завершенный и поныне.
Во-вторых, генеральная и «гениальная» стадия трансформации
философии приходится на «столетнее десятилетие» (выражение
русского писателя Евгения Замятина) 1914—1923 гг.: начиная с этого,
парадигматически переходного, десятилетия, резко изменился и стал
иным сам исторический мир — настолько, что снова и по-новому, как
во все «последние времена», проступили на свет исторического дня
какие-то изначальные формы общественно-исторического опыта;
«стало видимо далеко во все концы света», как сказано у русского
классика XIX в. В указанные считанные годы и на Западе, и в России
произошло центральное событие того магистрального сюжета, о
22
Введение. Второе сознание
котором мы говорим, смена гуманитарной парадигмы. Под знаком
этого события по сей день стоят и философские, и гуманитарные
науки, и современное естественнонаучное мышление.
В-третьих, решающая в истории гуманитарной эпистемологии
«смена парадигмы» — Ганс-Георг Гадамер в своем обращении «К
русским читателям» из Гейдельберга (1990) определил это поворотное
событие как «переход от мира науки к миру жизни» в самой научно-
теоретической философии11, — получила наиболее глубокое и
влиятельное выражение, естественно, у немецких наследников и критиков
классической немецкой философии.
В самом деле: философия гуманитарных наук возникла именно в
Германии в процессе критики идеализма и идеалистической
метафизики. Вильгельм Дильтей и его современник Фридрих Ницше; Эдмунд
Гуссерль, Макс Шелер, Мартин Хайдеггер и их ученики вплоть до
упомянутого Г.-Г. Гадамера; некоторые оппоненты Гуссерля и Хайдеггера,
как, например, ученик (и зять) Дильтея Георг Миш и его школа в Гет-
тингене, с которой был связан ученик Гуссерля и инициатор (наряду с
Максом Шелером) философской антропологии Хельмут Плесснер —
пожизненный оппонент Хайдеггера; так называемые «диалогические
мыслители» — Франц Розенцвейг, Мартин Бубер, Ойген Розеншток-
Хюсси, Фердинанд Эбнер, Габриэль Марсель; Хосе Ортега-и-Гассет,
Романо Гвардини, Рудольф Бультман — эти и другие философы или
теологи, при всех различиях между ними, — это мыслители смены
«гуманитарной» парадигмы. С ними в первую очередь связан
магистральный сюжет трансформации или (употребляя ключевой термин
раннего Хайдеггера) «деструкции» западной метафизики вплоть до
ее греческих истоков и источников — тенденция, важнейшей и
неотъемлемой стороной которой, как отмечено выше, была и осталась
обновленная проблематизация гуманитарного мышления как
такового. Общественно-исторический «мир жизни» (термин Э. Гуссерля,
носившийся в воздухе почти независимо от Гуссерля) — вот место
новой встречи философии и гуманитарных наук в ситуации кризиса
и конца Нового времени. Эта встреча состоялась, прежде всего, в
немецкой философской и духовно-исторической традиции; философия
гуманитарных наук сначала немецкая, а потом уже всякая иная. Как
это объяснить?
Это связано не только и не просто с философским гением
немецким, но в особенности с принципиальным отношением немецкой
мысли к истории, а отсюда к гуманитарным наукам — «наукам о
духе». Вильгельм Дильтей (1833—1911), основоположник философии
Введение. Второе сознание
23
гуманитарных наук, не чванился, а только констатировал факт, когда
писал, что
германский дух, в отличие от духа английского или
французского, живет сознанием исторической преемственности. (...).
Отсюда историческая глубина германского духа, в котором минувшее
выступает как момент сегодняшнего исторического сознания12.
В этом контексте, как представляется, следует понимать, по-
видимому, попутные соображения продолжателя Дильтея в деле
развития философии гуманитарных наук — Гадамера, когда тот замечает,
например, что представление К. Р. Поппера об «эссенциализме»,
который он приписывал (в «Открытом обществе») не только Платону,
но и германскому идеализму и «историцизму», преодолел уже
Гегель13; или когда Гадамер в разговоре замечает, что критику Гуссерля
в «Голосе и феномене» Ж. Деррида (1967) они с К. Левитом, другим
учеником Хайдеггера, продумывали как возможность еще в 1924 г.14;
сюда относится и гадамеровское замечание в интервью с В. С.
Малаховым, что русская философия, насколько он ее себе представляет по
В. С. Соловьеву, остается на недифференцированной романтической
стадии «философии общины»15, и т. п.
В приведенном высказывании Дильтея из его программного
«Введения в науки о духе» (1883) выделим и подчеркнем главный
мотив: вопрос о гуманитарной эпистемологии, запрос на философию
общественно-исторического опыта и наук исторического опыта,
чаще называемых «гуманитарными», принципиально возможны там
и тогда, где и когда современность и прошлое одновременно
разделяются и сближаются, так что «минувшее выступает как момент
сегодняшнего исторического сознания». Этим, по-видимому,
объясняется особая, ведущая роль «постклассической» немецкой философии
в первой трети минувшего столетия; условием возможности взлета
философии в Германии в 1920-е гг. было поражение в первой
мировой войне и крах общественно-политического тела нации (точно
так же как «кайрос» французской философии в двадцатом столетии
приходится на недолгий, но крайне интенсивный период после
военного разгрома и капитуляции 1940 г.). Попытки философского
обоснования гуманитарных наук в других странах — это, как правило,
прямое или опосредованное преломление «магистрального сюжета»
на немецкой почве.
Но, разумеется, это немецкое первенство в вопросах
«духовной истории» (лишь на поверхностный взгляд исчерпавшее себя
24
Введение. Второе сознание
в последние десятилетия) — только частный случай
принципиальной проблемы духовно-идеологической культуры Нового
времени — проблемы себя самой как «нового» после и перед лицом
античности и средневековья. Вот почему знаменитый «спор древних и
новых» (querelle des anciens et des modems) в конце XVII — начале
XVIII в. имеет для гуманитарной эпистемологии в целом
принципиальное значение: на риторическом уровне «спора» своего времени
заявила о себе совсем не риторическая проблема, выходящая за
пределы своего времени, а именно: в каком отношении со-временности
прошлое вообще может быть «современным», т. е. соотноситься и
сообразовываться с «новым», «модерным»?
В-четвертых, смена гуманитарной парадигмы в России совпала
в «столетнее десятилетие» с катастрофическим разрывом той самой
«исторической преемственности», о которой в приведенной выше
цитате Дильтей говорит как об условии возможности философии
гуманитарных наук. Смена гуманитарной парадигмы в русской философии
и в гуманитарных науках, как ни странно это звучит, не состоялась до
такой степени, что нам трудно осознать, что она все же на свой лад
состоялась, отчасти с некоторым «русским опережением». Поэтому
даже там (и особенно там), где, начиная с последних советских
десятилетий, с пафосом говорили и говорят о «гуманитаризации»,
«культурологии» и даже «гуманитарном мышлении», отсутствует (при всех
возможных оговорках и, к счастью, неизбежных исключениях)
историческая преемственность научных и «ино-научных» традиций и
мотиваций; отсюда же дефицит реальных проблем. Релевантным в этой
связи является в первую очередь вопрос: как возможна философия
гуманитарных наук?
Приходится признать, что возобновить разговор даже с
отечественными инициаторами философии гуманитарных наук —
такими как Г. Г. Шпет, А. А. Ухтомский или M. M. Бахтин, — нам
сегодня не легче (а в чем-то даже труднее), чем с Дильтеем, Гуссерлем
или Хайдеггером. Это можно проверить по себе на следующем
примере: «переход от мира науки к миру жизни», с которым Гадамер,
как мы помним, обратился с опозданием на советский век к
«русским читателям», в нашем сегодняшнем научном сообществе может
вызвать, с одной стороны — недоумение, с другой стороны —
наоборот, энтузиазм в смысле нового очередного возвращения к
«духовности» или даже к «экзистенции». Оба возможных постсоветских
восприятия приведенного высказывания Гадамера — вера в
самодостаточный теоретический мир «в себе» и вера в изолированного,
Введение. Второе сознание
25
самодостаточного человека «в себе», в истину «в душе» — это,
конечно, аберрации, освоение-присвоение чужого добра вне
подлинного соприкосновения с «другим». Но такие подмены сами
мотивированы (и детерминированы) нашей духовно-идеологической
историей, т. е. образуют апперцептивно-диалогизующий фон, или
горизонт, условия возможности (а равно и невозможности) адекватного
понимания, а значит — относятся к области гуманитарной
эпистемологии. Гуманитарное мышление XX в. поставило под большой вопрос
обе идеалистических абстракции так называемого методического
солипсизма — «логоцентрическое» представление о научной
объективности, об истине «как если бы меня не было», и субъективистское
«духовное» представление о человеке как некоей чисто внутренней
реальности, монаде по имени «Я».
Парадокс, как кажется, состоит в том, что, только осознав
выпадение из разговора о существе исторического опыта, можно
попытаться возобновить прерванный и незавершенный в свое время
разговор, связав распавшуюся связь времен изнутри неразрывного в
своем смысле исторического опыта продолжающейся, становящейся
современности. К такому возобновлению и стремится философия
гуманитарных наук. И в этом, как представляется, незаместимое место
гуманитарной эпистемологии внутри современной философии, в
общественном сознании, в практике обучения и образования.
В-пятых, наконец, нужно иметь в виду, что при всех своих
эпохальных прорывах философия гуманитарных наук и сегодня все
еще остается не столько «достижением», сколько «программой» —
и не только в нашей стране. Как и сто двадцать пять лет назад по-
прежнему стоит вопрос, впервые поставленный В. Дильтеем в его
программе «критики исторического разума» — программе, которая
по замыслу автора должна была восполнить кантовскую критику
«чистого разума», основанную на естественнонаучной (ньютоновской)
модели естествознания16. Историческая проблема и в этом
дискуссионном пункте как бы разбивает одномерную плоскость формального
историзма.
В самом деле: если в XIX в. самоосмысление гуманитарных
наук (как и философии самой) проходило в напряженном
взаимоотношении с позитивизмом — философским обосновании науки по
модели естественных наук, то в XX в., как и в наши дни, находим, хотя
и в сильно трансформированном виде, то же самое напряжение, ту
же проблемную констелляцию. Эта устойчивая и конфликтная
констелляция ставит гуманитарные науки и в особенности философию
26
Введение. Второе сознание
гуманитарных наук, можно сказать, между двух огней: с одной
стороны — «сциентистский» (позитивистский и неопозитивистский)
экстремальный постулат «единой науки» (unity of science),
отказывающий гуманитарным наукам в предметно-методической и
когнитивной самостоятельности; с другой стороны — столь же
экстремальный (и столь же антиисторичный) постулат единого
мировоззрения / идеологии, направленный против наук исторического опыта
как с позиции идеальной и духовной «метафизики души», так и —
снова «с точностью до наоборот» — с позиции разоблачения и
«стирания» всего идеального и духовного.
«Теория науки» существует и интерпретируется в наше время
как бы в разных системах отсчета: для одних, например, совершенно
ясно само собой, что «Логические исследования» Э. Гуссерля (1900—
1901) — это начало нового века в философии и в философской логике,
а равно и в философии гуманитарных наук. А для других не менее
ясно, что феноменология Гуссерля не имеет отношения ни к
современной науке, ни к современной логике. Немецкий теоретик науки
Хельмут Зайферт, автор переиздающегося уже многие десятилетия
трехтомного издания «Теория науки», переходя от изложения
неопозитивизма и аналитической философии к изложению феноменологии,
герменевтики и диалектики — традициям, из развития и
взаимодействия которых, собственно, и возникла философия гуманитарных
наук, — вынужден констатировать почти полный разрыв
взаимопонимания между естественнонаучным и «духовно-историческим»
(гуманитарным) пониманием, казалось бы, одних и тех же понятий
«научности», «теории», «знания» и т. п.17.
В этой ситуации — новой и старой, как все по-настоящему
историческое — науки исторического опыта и опирающаяся на их
результаты гуманитарная эпистемология должны заново отстаивать вроде
бы уже завоеванное и защищенное авторитетами «наследие». Речь по-
прежнему идет о критике исторического — ив этом смысле «не
чистого» — разума, о специфике исторического опыта, логика которого
существенно отличается от гипотетического-эксперименнтального,
конструирующего разума естественнонаучно ориентированного
мышления. «Я — не чистый мыслитель» — этот полемический
заголовок, принадлежащий немецко-американскому мыслителю Ой-
гену Розенштоку-Хюсси (1888—1973)18, мог бы повторить каждый из
мыслителей, с именами которых связано — начиная с Джамбаттисты
Вико в XVIII в. и до Гадамера в XX в. — a farewell to Decartes
(«прощание с Декартом»), т. е. эпистемологический поворот философии к
Введение. Второе сознание
27
изучению конкретного опыта «в обществе и истории», в отличие от
немого и безответного предмета так называемых опытных наук.
Еще раз: философия гуманитарных наук — не какой-то готовый
продукт и результат познания, а скорее незавершенная программа;
она нуждается сегодня в обновлении (возобновлении), в виду того
что, по сравнению с первой половиной XX в., в последние
десятилетия возросло ощущение «конца истории», теоретически спорное,
но фактически ставшее повсеместным умонастроением (чем-то тоже
само собой разумеющимся) после реализовавшей и исчерпавшей
себя эпохи социальных революций Конца Нового времени. Отсюда —
трудности философии исторического опыта, т. е. гуманитарной
эпистемологии, которая была и по-прежнему остается уместной
исторической альтернативой — альтернативой, с одной стороны,
«философии истории» (resp. «историософии») традиционного типа
(«идеалистической», как и «материалистической»), а с другой стороны —
альтернативой традиционному же представлению об «истории
философии» как некоторого педагогического придатка в оппозиции к
фундаментальной, метаисторической «Философии». Позитивизм и
сциентизм сегодня снова и по-новому успешны и престижны, несмотря
на то (или благодаря тому) что рухнули их претензии на
самостоятельную ценность, на охват актуальной полноты исторического
опыта, понятого как вечное становление и возвращение, как
обращение («революция») «мира жизни». Гуманитарная эпистемология
уже была, но ее еще не было.
Примечательно и то, что некоторые мыслители, вне опыта
мышления которых современная философия гуманитарных наук, как и
гуманитарная эпистемология, едва ли мыслима — Кьеркегор, Гуссерль
или Хайдеггер, — либо вообще не занимались проблематикой
гуманитарных наук, либо интересовались, но потом потеряли к этому
интерес. С другой стороны, такие мыслители «постсовременности», как
М. Фуко или Ж. Деррида, давшие новые импульсы гуманитарной
эпистемологии, скептически или уж чересчур амбивалентно отзывались
о sciences humaines, что, как мне кажется, связано с определенным
отрывом гуманитарного мышления от гуманистической традиции; в
советской России этот общеевропейский отрыв был разрывом,
происшедшим в Петрограде и в Москве на сорок-пятьдесят лет раньше,
чем в Париже в структуралистскую эпоху. Все это важно постольку,
поскольку русская гуманитарная эпистемология, как мне кажется,
стоит перед задачей со-временного возвращения «домой»,
обновленного «повторения» и переосмысления тех трудностей и вопросов, на
28
Введение. Второе сознание
уровень которых русская мысль самобытно и своевременно встала в
момент смены гуманитарной парадигмы в «столетнее десятилетие».
Ни до того исторического момента, ни, тем более, после достигнутый
тогда уровень духовно-исторической проблематики, — «счастливая
позиция», по выражению Г. П. Федотова в этапной для русской
идеологической культуры статье 1926 г. «Трагедия интеллигенции»19 — не
имел места в русской мысли и речи.
Нужно осознать не только то, что в нашей истории случилось в
свое время, но еще и то, как действовало это когда-то случившееся на
последующую историю вплоть до нашей современности и наших
современников. Это нужно для того, чтобы проблематика «действенной
истории» (Wirkungsgeschichte), о которой писал Г.-Г. Гадамер, или
«критика исторического разума», которую В. Дильтей понимал как
философию гуманитарных наук, могла быть пережита и осмыслена
нами как своя и, больше того, как однажды уже пережитая и
передуманная отечественной мыслью самостоятельно и самобытно.
3- Историческая философия
Из этих предварительных замечаний ясно, что философия
гуманитарных наук — это не только и не просто философия об этих науках;
скорее речь должна идти о некотором систематическом понятии,
которое нужно попытаться схватить и обозначить, с одной стороны, как
бы в свернутом (общем и фундаментальном) определении, а с другой
стороны, наоборот, — в развернутом мотивационном контексте, вне
которого никакой «общий», «фундаментальный», «чистый» смысл не
может быть понят и оценен как действительный, — в контексте
«конечного» (исторического) разума. Философия гуманитарных наук,
продолжающая и обогащающая в этом отношении кантовскую
позитивную оценку «конечности» (Endlichkeit) человеческого
существования, может быть лучше понята и оценена, если попытаться
проанализировать ее основания в соответствии с ее же важнейшим
принципом — принципом конкретной историчности всякого познания и
понимания. Сформулированный выше фундаментальный вопрос о
том, как вообще возможна философия гуманитарных наук,
принимает теперь следующий вид: каковы условия возможности (и,
соответственно, условия невозможности) такого рода философии?
Предварительный ответ на него в сжатом виде можно
формулировать так: о философии гуманитарных наук мы вправе говорить
там, где осмысление специфики гуманитарного знания движется
одновременно в трех направлениях. А именно: (1) в направлении
Введение. Второе сознание
29
обоснования и оправдания относительной самостоятельности
гуманитарных наук; (2) в направлении осмысления того, что
составляет почву, предмет и само условие возможности гуманитарных
наук: это — человечески-общественно-исторический мир жизни;
наконец (3) в направлении самоосмысления (соответствующий
немецкий термин — «Selbstbesinnung») философии в свете ее истории.
Классическая традиция (как и сама идея традиции) тем самым
оказывается в сущностно новом отношении к современной философии (как
и к понятию «современности»).
Предметное направление гуманитарной эпистемологии с
достаточной отчетливостью зафиксировал упоминавшийся А. В.
Михайлов, когда он описывает (в цитировавшейся выше статье об
А. Ф. Лосеве) такую ситуацию в развитии философии, когда
происходит «внедрение сущности языка в такую область мысли, которая
весьма нередко мнила себя самодостаточной в своей
систематичности», и когда философия перерастает прежнее, само собой
разумеющееся представление о «развитии», об истории, о мире и о себе
самой:
Тогда философия начинает становиться историей для самой себя. А
поскольку вместе с таким самосознанием философии как истории
совершается множество подобных же процессов, она обретается и
видит себя в мире, ставшем историей — существенно и по
преимуществу, в мире, ставшем историей для самого себя. Мир
становится историческим, и вместе с ним становится таковой и философия
(...) Для истории философии, ставшей исторической для самой себя,
всякая бывшая философия — тоже своя история20.
Философия, которая становится «историей для самой себя», —
это значит, по-видимому, следующее: философия в ее исторически
бывшем и «ставшем» прошлом, как и мир исторического опыта, — не
только и не просто уже были; мир прошлого и философия прошлого
в своем смысле перерастают себя, становятся больше себя, так что
отношение (соотношение) прошлого и становящейся современности не
отменяется, но приобретает новое измерение. Всякая «бывшая»
философия на самом деле еще не сказала своего последнего слова ни о
себе самой, ни о тех, для кого философия начала становиться
«историей для самой себя». Это — одна из ведущих, краеугольных идей
современной гуманитарной эпистемологии.
Философия, ставшая исторической для самой себя: в этом пункте
современная гуманитарная эпистемология оказывается со-временной
30
Введение. Второе сознание
в двух измерениях одновременно: (1) по отношению к идее
«исторической философии» Г. Г. Шпета и его современников21, т. е. «кривая»
истории современной философии имеет тенденцию обращения-
возвращения к фундаментальным основаниям сдвига и взрыва
«столетнего десятилетия» 1914—1923 гг.; (2) по отношению к современной
западной философии: сегодняшние попытки философствования в
России могут осознать себя уместными, т. е. укорененными и
оправданными на своей собственной исторической почве, только
возобновив прерванный уже в начале 1920-х гг. разговор — прежде всего с
наследниками классической немецкой философии.
Ориентация на немецкую традицию «духовной истории»
позволяет, как представляется, более взвешенно отнестись, среди прочего,
к французской гуманитарной эпистемологии — так называемому
«мышлению 68 года»: эта «постмодерная», более или менее дегумани-
зированная и политизированная традиция представляет собой в
значительной степени перевод на французский лад и контекст той смены
гуманитарной парадигмы в Германии, которую все время приходится
иметь в виду в разговоре, по крайней мере, о так называемой
континентальной философии22.
Оба выделенных момента «современности» философии, ставшей
исторической для самой себя, совпадают с проблемой реальной
философской работы сегодня. В самом деле: что, собственно, мы,
философы, делаем с тех пор, как перестали «изменять мир» и
оказались — за вычетом известного рода институциональной философии,
поменявшей идеологию и ставшей от этого еще хуже23, — едва ли не
лишней и под постоянной угрозой «сокращения штатов»?
То, что представляется иногда «концом философии», в
действительности знаменует собой обращение философии к собственной
истории как источнику обновления. Это, в свою очередь, означает,
как представляется, две вещи:
Во-первых, тот поворот в философии XX в., который называют
«лингвистическим» и который кратчайшим образом выразил (в
момент смены гуманитарной парадигмы!) Л. Витгенштейн в
знаменитом положении «Логико-философского трактата» (1921): «Вся
философия — это "критика языка"»24, — это не что-то такое «новое»у что
кому-то нравится, а кого-то из философов раздражает даже сегодня;
нет, «поворот к языку» — это возвращение философии к ее
собственному — до-«логоцентрическому» — началу «критики». Философия,
начиная с «первого философа» Фалеса, всегда заключала в себе
импульс критики, т. е. борьбы с «оговоренным» (традицией) языком
Введение. Второе сознание
31
вещей и представлений, с «само собой разумеющимся» — ради
прояснения преднаходимого философией в ее мире жизни обыденного,
мифического, религиозного, поэтического и всякого подобного или
иного языка25. В этом — важная современная функция философии,
в частности и в особенности — философии гуманитарных наук. Ведь
философия — это такая деятельность мышления, которая способна
ставить под вопрос предметное научное мышление, то, что наука, по
слову М. Хайдеггера, «не мыслит», т. е. не может поставить под вопрос
свои же основания. Но основания мышления, — и это во-вторых, —
историчны; это исторические основания. История философии
становится новым основанием философии, уводя ее от «нового» к
«древнему» и обратно к самому «современному».
Когда известный немецкий историк философии Микаэль Той-
ниссен утверждает в своей статье «Возможности философствования
сегодня» (1989), что по-настоящему творческая философия в наше
время возможна уже только «в модусе своего отрицания», а именно
как «исследование» (Forschung), как философская рефлексия, с одной
стороны — всей предшествующей философии (исходный пункт
молодого Гегеля), с другой стороны — как прояснение предметной
логики отдельных научных дисциплин (Fachwissenschaften), чего эти
последние своими силами сделать не в состоянии (исходный пункт
зрелого Маркса, засевшего в эмиграции за политэкономию и постольку
оказавшегося в этом отношении современнее Гуссерля, который еще
питал надежду на то, что научные дисциплины должны опираться
на философию, а не наоборот)26, — то представляется современным
и своевременным воссоздать и повторить логику этих рассуждений
М. Тойнисена в перспективе гуманитарной эпистемологии.
Философия гуманитарных наук и, шире, гуманитарная
эпистемология — это, в первую очередь, критика исторической «засмыслен-
ности» (слово М. М. Пришвина) наук исторического опытам, е.
историческое прояснение утраты или ослабления, так сказать,
предметного телоса научных дисциплин, в отсутствии которого исследование
оказывается дезориентированным и лишенным реальной
(практически верифицируемой) проблемности.
Но эта утрата или ослабление проблемного измерения научного
исследования, со своей стороны, находится в связи с забвением
исторического проблемного бытия той или иной научной дисциплины.
Структуралистская эпоха (вторая половина XX в.) в этом
отношении, действительно, оставила одни «структуры», т. е. не реальную
историю науки (скажем, литературоведения или языкознания, или
32
Введение. Второе сознание
психологии), но набор как бы самоценных схем — факт, хорошо
известный тем, кто имел случай, например, преподавать аспирантам
историю их же научной дисциплины. (Об опыте преподавания
истории философии и вовсе лучше помолчать.) На этом безотрадном
фоне изучение истории науки и научных дисциплин представляется
полезным для будущего этих дисциплин.
Отсюда же, как кажется, актуален упоминавшийся выше
доминирующий мотив гуманитарной эпистемологии — «спор древних
и новых», переросший свои исторические границы; в последние
десятилетия XX в. он оказался в центре философских и научно-
гуманитарных дискуссий о «модерне», «постмодерне», природе
рациональности, природе и роли эстетического в мышлении и культуре,
о философии «после философии», о христианстве «после
христианства» и т. п.27
Сказанное заключает в себе, как кажется, некоторый критерий,
позволяющий с самого начала более принципиально
ориентироваться в заявленной теме. В самом деле: только там и тогда, где и когда
имеет место проблемная констелляция трех выделенных выше
направлений интереса и исследования, — там и тогда философия
гуманитарных наук «возможна». Но это значит, что само сочетание всех
трех теоретических вопросов «систематично» не в теоретическом
смысле только, а в историческом измерении. Иначе говоря, лишь при
определенных социально-исторических условиях может возникнуть
теоретический запрос на такую философию — запрос,
мотивированный «практическими» вопросами и трудностями. В этом смысле
допустимо говорить не только об «условиях возможности», но и, так
сказать, об условиях необходимости появления философии
гуманитарных наук. Не следует, конечно, чересчур доверять риторике: в
определенной общественно-исторической ситуации может
возникнуть потребность в «гуманитарном мышлении», но предпосылок для
теории и методологии такого рода мышления может не доставать,
какие бы правильные слова и модные заимствования ни
маскировали этот (исторически детерминированный) недостаток; как
говорится, «был зять, да негде взять».
Вот почему, как мне кажется, подступиться к традициям
гуманитарной эпистемологии сегодня легче не через свой,
российский опыт (не столько отсутствующий, сколько анонимный), но
через современную западноевропейскую философию: он более
или менее обозрим, прокомментирован, а если и не понятен, то во
всяком случае внятен в своих традициях и как-никак сохранившейся
Введение. Второе сознание
33
преемственности. Западноевропейский апперцептивный, «диалоги-
зующий фон» (термин M. M. Бахтина) нужен не ради «западнического
чванства», но для того, чтобы на этом фоне понять свое собственное
наследие и свою незавершенную современность в их возможностях.
Здесь стоит сделать важную оговорку, она касается
терминологической стороны дела. Мы пользуемся относительно понятным
термином «философия гуманитарных наук» и относительно новым
произвольным термином «гуманитарная эпистемология»; следует,
однако, помнить, что слова и термины имеют значения постольку,
поскольку дело, собственно, не в них как таковых. Мы уже отметили
парадоксальное обстоятельство: едва ли не решающий вклад в
философию гуманитарных наук (и, соответственно, в гуманитарную
эпистемологию) внесли такие мыслители, для которых «гуманитарные
науки» не были основной проблемой. С другой стороны,
мыслители, с именами которых традиционно связывают философию
гуманитарных наук, не только и не просто писали «как философы»
то-то и то-то про гуманитарные, исторические, интерпретативно-
герменевтические науки. Скорее наоборот: именно потому, что они
поставили, каждый по-своему, в центр систематико-философской
рефлексии «науки о человеке» и «жизненном мире» проблематику
того, что можно назвать «социальной онтологией истории» (в
противоположность конструкциям «философии истории» или
«историософии»), — это, по-видимому, и составляет их специфическую
особенность философов как гуманитарных эпистемологов, в известной
мере изменивших достаточно устойчивые представления о «науке», о
«духе», о «философии», о духовно-историческом опыте мира жизни.
С другой стороны, в последнее десятилетия XX в., когда
«гуманитарная» проблематика стала отчетливо (а иногда и довольно
агрессивно или бездумно) вторгаться в более традиционные области
философии и науки; когда о «дискурсе» — конкретно-исторических
условиях необходимости и конфигурациях мышления-речи — говорят
даже в отношении медицины, — в этой новой ситуации философия
гуманитарных наук, отталкивавшаяся от философской традиции,
сама уже стала и «классикой», и «традицией», а это значит, что
отчетливого и обновленного соединения всех трех аспектов
сформулированного систематического понятия мы едва ли где найдем. Это
связано, конечно, с общей духовно-исторической ситуацией «конца
разговора» XX в. — ситуацией, которая сама по себе нуждается в
специальном анализе как раз в «научно-гуманитарной» ретроспективе и
перспективе28.
34
Введение. Второе сознание
Итак, в содержание понятия «философия гуманитарных наук»,
входят, по сути дела, три составляющих, каждая из которых
нуждается в отдельном рассмотрении именно потому, что в актуальной
реальности (направленности) такой философии они нераздельны.
Эти три стороны, три взаимосвязанных аспекта систематического
понятия — «науки о духе», «исторический мир» и «философия в ее
истории» — могут обнаружить свою специфику и взаимосвязь друг
с другом только путем сочетания систематического и исторического
подходов. Только развернутое историческое освещение и
определение предмета может продемонстрировать тот ценностный вес, тот
мотивационный контекст, те, как мы говорим, «условия
необходимости» (а не только «возможности»), которые не выводимы и не
объяснимы из свернутого фундаментального определения философии
гуманитарных наук.
4· Науки о духе
«Слова, — писал Г.-Г. Гадамер в одной из статей, — рассказывают
какую-то историю»29. Это, на первый взгляд, не такое уж
впечатляющее утверждение означает примерно следующее: философские,
научные и вненаучные понятия, закрепленные (оплотненные) в слове,
которыми мы пользуемся как чем-то само собой разумеющимся, как
своим, в действительности — не наши: они принадлежат силам и
голосам прошлого; они не просто есть, не только были когда-то и где-то;
мы пользуемся языком понятий прошлого (других людей, других
эпох) «естественно», т. е. не осознавая в чужих понятиях и словах как
раз то, что в них было сознательным, более сознательным и,
следовательно, менее отчужденным. Из-за этого нам постоянно угрожает
двойное отчуждение, двойное недоразумение: по отношению к
традициям вне нас и по отношению к традициям внутри нас.
Знание истории понятий и, соответственно, исторической
семантики понятий существенно как для философии, так и для
осмысления социальной истории и истории культуры. Это знание
одновременно приобщает к традиции и освобождает от нее путем
дифференциации «истории» и «современности» — именно
дифференциации, а не разрыва или, наоборот, слияния. Не случайно
развивавшиеся на базе философской герменевтики исследования по
«истории понятий» (Begriffsgeschiche) были в 1960—80-е гг.
дополнены за пределами собственно философии, а именно — в области
социальной истории и на базе исторической (герменевтической)
семантики (школа Райнхарта Козеллека30). Поскольку мы пользуемся
Введение. Второе сознание
35
термином «гуманитарные науки» как исходным и базовым, то для
того чтобы избежать произвольного употребления термина, полезно
обратиться к его истории.
То, что мы собирательно и концептуально называем сегодня
«гуманитарными науками», представляет собой скорее перевод с
немецкого — при том, однако, что немецкий оригинал, строго говоря, не
был оригиналом, поскольку и сам тоже был переводом — на этот раз
с английского.
С немецким словом Geisteswissenschaften («науки о духе») в
первую очередь и главным образом связаны происхождение,
концептуализация и проблематика философии гуманитарных наук и,
соответственно, гуманитарной эпистемологии. Такие, в общем-то
синонимичные и более современные на слух термины, как «науки о культуре»
или «науки о человеке», все-таки не достигают того уровня темати-
зации социально-исторического опыта, который присущ термину
«науки о духе». Редукцией (обеднением) является и отождествление
или подмена этого немецкого термина англосаксонским термином
history of ideas («история идей»). Как это часто бывает, иноязычный
термин не трудно перевести, но не просто донести или довести, что
называется, до ума, если этот «ум» или (по-немецки) скорее «дух»
существует в другом месте и в другое время, в своем мире жизни и речи.
В 1849 г. немецкий переводчик Иоганнес Шиль (J. Schiel) издал
свой перевод книги выдающегося английского философа XIX в.
Джона Стюарта Милля (1806—1873) «Система логики (1843). Глава
6 книги Милля в оригинале называлась «On the Logic of Moral
Sciences» («Логика моральных наук»). «Моральными науками»
Д. С. Милль называет в своей книге такие научные дисциплины,
которые имеют своим предметом нравственную реальность («нравы»)
общественных отношений, в отличие от реальности природы —
предмета так называемых естественных наук, или наук о природе.
И вот Й. Шиль перевел moral sciences как Geisteswissenschaften, т. е.
«науки о духе». Нельзя сказать, что немецкий переводчик
придумал слово: оно давно носилось в воздухе; так, уже у Гегеля
встречается (в «Философской пропедевтике») словечко Geisteswisenschaft,
т. е. «наука о духе», или «духовная наука». Во всяком случае, важно (и
характерно для «духовной истории»), что решение переводчика
возникло не в пустоте31. Для нас здесь главное то, что немецкий перевод
англоязычного термина зажил настолько самостоятельной жизнью,
настолько прижился, что он довольно скоро после своего появления
оказался оригинальнее оригинала-, уже к 80-м годам XIX в. и особенно
36
Введение. Второе сознание
после появления упомянутого труда В. Дильтея «Введение в науки
о духе» (1883) понятие Geisteswissenschaften терминологизируется.
Даже в последние десятилетия, когда термин уже и на немецкий слух
и вкус достаточно анахроничен, он оказывается непереводимым ни
на какой другой язык, менее всего на английский; с учетом немецкой
научно-духовной истории термина «науки о духе» — по-английски
его приходится передавать скорее как human studies, чем human
sciences32.
Мы не случайно остановились на истории нашего термина —
скорее двуязычной интернациональной, чем моноязычной
«этноцентричной». История термина «гуманитарные науки» сама по себе
может служить некоторым введением в гуманитарную
эпистемологию. Трудности обсуждения нашей темы совсем не случайно
связаны с идеей и проблемой перевода — в только что упомянутом
случае это проблематичность обратного перевода «наук о духе» в
англосаксонский культурно-речевой и научный мир жизни.
Упоминавшийся К. О. Апель — гуманитарный эпистемолог второй
половины XX в., который старался «перевести» немецкую традицию
Geisteswisenschaften на язык англосаксонский аналитической и
семиотической традиции, а последнюю переложить на свой
национальный язык «духовно-исторического» мышления, остро
переживаемый как слишком провинциальный, анахроничный и отягченный
«немецкой виной» (за что и удостоился непубличного резкого упрека
старого Хайдеггера в «новом китайском языке», попытке соединить
несоединимое)33, — специально отметил возникающее здесь
затруднение в связи с основным вопросом эпистемологии. Почему
неопозитивистски ориентированная теория науки — в частности и в
особенности англосаксонского образца — не только исключает
интерпретацию из сферы философского познания, но даже исключает из
науки интерпретативно-герменевтические дисциплины, т. е. «науки о
духе»? Апель так отвечает на этот вопрос:
Эти дисциплины, например, разновидности филологии, просто-
напросто не входят в теорию науки «позитивизма» —
обстоятельство, которое конечно, может быть связано и с тем, что в
англоязычных странах «humanities»—«гуманитарные науки» — все еще
понимаются из донаучного горизонта гуманистических «artes»—
«искусств», — в частности, риторики и критики литературы, тогда
как понятие «science» — «науки» — продолжает ориентироваться на
идеал естественнонаучного метода34.
Введение. Второе сознание
37
Итак, сам термин «гуманитарные науки» рассказывает
противоречивую и незавершенную историю своего становления, не
отделимую от теоретико-философской стороны дела. При этом в
истории становления термина удерживается память о рождении
термина. В нем можно расслышать два значения, два акцента —
английский «практический» и немецкий «теоретический». В самом деле: в
качестве moral sciences гуманитарные науки занимают то
традиционное место, которое со времен Аристотеля классическая традиция
отводила «практической философии»; с другой стороны, в качестве
Geisteswissenschaften гуманитарные науки, вслед за Гегелем и Диль-
теем, понимаются как науки «рефлектирующие», направленные на
осмысление и «самоосмысление» (Selbstbesinnung) места человека в
обществе, истории и космосе. Таким образом, можно сказать, что в
базовом для философии гуманитарных наук термине «науки о духе»
встречаются, но не сливаются, а иногда и конкурируют два
различных действенно-историческим значения, отражающих не только
становление самого термина, но и те научно-мировоззренческие
традиции и установки, которые его сформировали и определяют
до сих пор.
Русская научно-философская традиция в своем понимании
«гуманитарных наук», как и в своем самопонимании, традиционно
ориентировалась на немецкую философию. Лишь начиная с 1970-х гг., т. е.
с того момента, когда советское историческое сознание осознало себя
в противоречии с современностью, — тогда и у нас (хотя иначе, чем на
почве западной «постсовременности») стал возрастать интерес к
аналитической традиции в философии XX в., с ее специфическим и
продуктивным уклоном к «повседневности» и к ordinary language
(«обычному/повседневному языку») при известном безразличии или
недооценке исторических измерений и изменений опыта35.
5· Пооступ
Чем заманчивей замысел, тем конкретнее должен быть
исходный пункт реализации замысла для того, чтобы фактичность
подлежащего исследованию материала не подменить так называемыми
обобщениями, «концепциями» и «концептами», тем, что можно
назвать навыком опережающего обобщения. В этом отношении то,
что говорит один из «героев» нашей книги немецкий литературовед
и эпистемолог гуманитарно-филологического мышления Эрих Ау-
эрбах (1892—1957) об «исходном пункте» (Ansatzpunkt), справедливо
38
Введение. Второе сознание
не только в отношении филологического исследования в узком
смысле, но и в отношении всякого научно-гуманитарного
исследования, претендующего на какой-то познавательный «синтез»:
...для осуществления всякого большого синтетического замысла
нужно прежде всего найти некоторый наводящий исходный пункт,
заход или подступ (Ansatz) — как бы рукоять, которая позволяет
ухватиться за предмет. Исходный пункт всего дела позволяет
выделить четко очерченный, хорошо обозримый круг феноменов; а
интерпретация этих феноменов должна высветить их с такою
силою, чтобы вместе с ними раскрылись в своем смысле и
внутренней взаимосвязи еще и многие другие феномены, выходящие
далеко за пределы того, что было доступно в пределах исходного пункта
исследования36.
Такого рода «подступ» может показаться чрезмерно
щепетильным и даже мелочным эпистемологу-естественнику, да и то, так
сказать, «доэйнштейновского» типа, которому вольно сегодня
пенять на «релятивизм» и ругаться «постмодернизмом», усматривая
в них новый образ мирового зла, сменивший прежние виртуальные
образы, но еще усиливающий и без того заматеревший предрассудок,
в соответствии с которым главный, смертельный и коварный враг —
вне нас (а не в нас самих). Между тем ход мысли Ауэрбаха
совершенно узнаваем и понятен на диалогизующем фоне фронтального
отталкивания философов, филологов, теологов, социологов,
психологов его поколения и генерации от той тенденции научной
культуры XIX в., которую К. О. Апель в цитировавшемся выше труде
«Трансформация философии» (1973—1974) называет «онтической
редукцией», подменяющей реальные феномены теоретизирован-
ными симулякрами познания, все равно — объективистскими или
субъективистскими37.
За десятилетия до статьи Ауэрбаха 1952 г., которую мы
только что цитировали, М. М. Бахтин в том же — гуманитарно-
эпистемологическом — ключе говорит о «методологических
указаниях» в своей писавшейся летом 1928 г. на даче его приятеля В. Н. Во-
лошинова книге о философии языка:
В начале исследовательского пути приходится строить не
определение, а методологические указания: необходимо прежде всего
нащупать реальный предмет — объект исследования, необходимо
выделить из окружающей действительности и предварительно наметить
его границы. В начале исследовательского пути ищет не столько
Введение. Второе сознание
39
мысль, строящая формулы и определения, сколько — глаза и руки,
пытающиеся нащупать реальную наличность предмета38.
«Реальный предмет» рассмотрения и исследования, таким
образом, не столько дан, сколько задан в методическом смысле, т. е. в
смысле «пути» (methodos), который исследователь должен пройти
для того, чтобы для начала локализовать и выделить («нащупать»)
свой предмет. Что же будет в нашем случае такой «реальной
наличностью предмета»?
Исходным пунктом в попытках подступиться к гуманитарной
эпистемологии в ее незавершенном прошлом и настоящем мы сделаем
один рабочий термин самого М. М. Бахтина, — «второе сознание»*9.
Попробуем прокомментировать и проверить этот термин на
эффективность таким образом, чтобы он мог раскрыть свои возможности
как внутри конкретного контекста его употребления автором, так и
на совершенно независимом от автора термина материале, т. е. когда
термин как бы извлекается, по бахтинскому же выражению, из
«темницы одного контекста»40.
Выражение второе сознание употребляется M. M. Бахтиным в
лабораторных записях 1959—60 гг., опубликованных впоследствии под
заголовком «Проблема текста»; оно встречается также в поздних
записях Бахтина 1960—70-х гг., имевших в перспективе так и не
осуществленные замыслы («Очерки по философской антропологии»,
«Очерки по металингвистике», «К методологии гуманитарных
наук»), варьировавшие основные темы бахтинской мысли, начиная
с 1920-х гг.
В этих уже неподъемных для самого автора обломках
собственной мысли Бахтин не просто говорит то-то и то-то, но говорит
в форме постановки проблемы — как это имеет место во всех бах-
тинских текстах, начиная в особенности с «Проблем поэтики
Достоевского»41. В поздних записях с коротким дыханием, но с узнаваемым
духом еще живого автора проблема, строго говоря, не столько
«ставится», сколько «раскладывается» (но не распадается) на феномены
и контексты, на труднообозримый веер аспектов, или тематических
вариаций проблемы. Исходным пунктом нам послужит следующая
запись:
Второе сознание и метаязык. Метаязык не просто код, — он всегда
диалогически относится к тому языку, который он описывает и
анализирует. Наличие экспериментирующего наблюдателя в квантовой
физике. Наличие этой позиции меняет всю ситуацию и, следователь-
40
Введение. Второе сознание
но, результаты эксперимента. Событие, которое имеет наблюдателя,
как бы он ни был далек, скрыт и пассивен, уже совершенно иное
событие. (См. «Таинственный посетитель» Зосимы.) Проблема
второго сознания в гуманитарных науках. Вопросы (анкеты), меняющие
сознание спрашиваемого.
Неисчерпаемость второго сознания, т. е. сознания понимающего и
отвечающего: в нем потенциальная бесконечность ответов, языков,
кодов. Бесконечность против бесконечности. Бог сотворил человека
не тогда, когда он сделал его из глины и праха земного (это —
природные, естественные ступени к человеку, кончая обезьяной), но
тогда, когда вдунул ему душу живую. Это уже выход за пределы
природы и природной закономерности (начало духовной истории
человека) (6: 395).
«Проблема второго сознания в гуманитарных науках», как видим,
распространяется здесь на очень разные вещи (точнее, феномены) и
дисциплины — от современной физики до богословия. В
обрамляющем приведенное высказывание контексте других записей
интересующая Бахтина проблема гуманитарной эпистемологии
включает ряд затруднений, из которых более эксплицированы два
момента: 1) то, что в математике и естественнонаучном мышлении
отсутствует «первое» сознание, а потому нет и «второго», т. е. само
различие между «объектом» и «субъектом» потому и мыслимо, что оно
не имеет здесь принципиального значения (возможна подстановка
одного на место другого в порядке одного сознания при любой
«рокировке» в ту или в другую сторону); 2) то, что в центре научных
дискуссий современности оказалась такая разновидность гуманитарного
мышления (структурализм), которая, имея в качестве предпосылки
различие между историческим предметом исследования (первым
сознанием) и «вторым сознанием» (самого исследователя),
пытается снять это различие, эту дистанцию, «взаимную вненаходи-
мость» двух сознаний в так называемом научном сознании — «только
одном» (если вспомнить полемику либерала-позитивиста В. Н.
Майкова с протонародником и радикальным западником В. Г.
Белинским). К нашему пункту 2) относится следующая запись:
В структурализме только один субъект: субъект самого
исследователя. «Вещи» превра (ща)ются в понятия (разной степени
абстракции) (разрядка в тексте. — В. М.); субъект никогда не может
стать понятием (он сам гов(о)рит и отвечает). «Смысл» персонали-
стичен; в нем всегда есть вопрос, обращение и предвосхищение от-
Введение. Второе сознание
41
вета, в нем всегда двое (как диалогинеск (и)й минимум). Это
персонализм не психологический, но смысловой (434).
Формулу «смыслового персонализма» Бахтин находит уже у
Дильтея; он цитирует (вероятно, по памяти) позднюю работу
инициатора философии гуманитарных наук «Построение исторического
мира в науках о духе» (1910): «Дильтей говорит об «открытии своего
"Я" в "Ты"» (408). Недавно изданный русский перевод более точно
передает «проблему»у намечаемую Бахтиным: «Понимание есть
повторное обретение "я" в "ты"» (Das Verstehen ist ein Wiederfinden des
Ich im Du)42. Такое повторное обретение суть активность, обогащение
и изменение «второго сознания» (исследователя, читателя, слушателя,
соучастника в событии) в процессе открытия и обновленного
утверждения им «первого сознания» — другого («Du», «ты еси»). В наброске
начала 1940-х гг. «К философским основам гуманитарных наук»,
который по времени и по существу занимает как бы промежуточное
положение между «ранним» и «поздним» Бахтиным (между его
онтологией и его гуманитарной эпистемологией), дается изображение и
даже определение предмета гуманитарных наук:
Предмет гуманитарных наук — выразительное и
говорящее бытие. Это бытие никогда не совпадает с самим собой и
потому неисчерпаемо в своем смысле и значении.(...) Точность,ее
значение и границы. Точность предполагает совпадение вещи с самой
собой. Точность нужна для практического овладения.
Самораскрывающееся бытие (курсив мой. — В. М.) не может быть вынуждено и
связано. Оно свободно и потому не предоставляет никаких гарантий.
Поэтому здесь познание ничего не может нам подарить и
гарантировать, например, бессмертия как точно установленного факта,
имеющего практическое значение для нашей жизни. (...) Бытие
целого, бытие человеческой души, раскрывающееся свободно для
нашего акта познания, не может быть связано этим актом ни в одном
существенном моменте. Нельзя переносить на них категорий вещного
мышления (грех метафизики). Душа свободно говорит нам о своем
бессмертии,но доказать его нельзя43.
Этот последний момент — необъектный характер объекта
гуманитарного исследования и познания («первого» сознания) —
варьируется в работе «Проблема текста»: «Всякий истинно
творческий текст всегда есть в какой-то мере свободное и не
предопределенное эмпирической необходимостью откровение личности.
42
Введение. Второе сознание
Поэтому он (в своем свободном ядре) не допускает ни каузального
объяснения, ни научного предвидения. Но это, конечно, не
исключает внутренней (разрядка в тексте. — В. М.) необходимости,
внутренней логики свободного ядра текста (без этого он не мог бы
быть понят, признан и действенен)» (5: 310). Подчеркнем:
принципиальный ино-научный момент научного познания в гуманитарном
мышлении — «поступок» второго сознания — заключается в этико-
познавательном акте утверждения внутренней свободы именно
другого («первого») сознания. Каким образом этико-религиозный
постулат гуманитарной эпистемологии Бахтина («ты еси») связан с
исходным пунктом его истолкования «поэтики» Достоевского —
исходным пунктом, продолжающим и переворачивающим интерепре-
тацию романа Достоевского Вяч. Ивановым, — этот вопрос требует
отдельного, трудного исследования44.
В «Проблеме текста» читаем:
Событие жизни текста, т. е. его подлинная сущность, всегда
разыгрывается на рубеже двух сознаний, двух субъектов.
Стенограмма гуманитарного мышления. Это всегда стенограмма
диалога особого вида: сложное взаимоотношение текста
(предмета изучения и обдумывания) и создаваемого обрамляющего
контекста (вопрошающего, понимающего, комментирующего,
возражающего и т. п.), в котором реализуется познающая и оценивающая
мысль ученого. Это — встреча двух текстов — готового и
создаваемого реагирующего текста, двух авторов.
Текст не вещь, и поэтому второе сознание, сознание
воспринимающего, никак нельзя элиминировать или нейтрализовать (разрядка в
тексте. — В. М.) (5: 310).
«Встреча двух текстов» в данном, одном тексте — вот, очевидно,
«первоклетка» гуманитарного мышления, по отношению к которому
гуманитарная эпистемология, в свою очередь, занимает место
«второго сознания». Дуальность здесь — не раздвоение некоторого
единого или одного, но изначальная фактичность — фактичность
конкретного исторического опыта в особой и специальной плоскости
«проблемы текста». Что-то одно (например, один текст, или единый
Текст) мы склонны, по греческой эстетико-метафизической
привычке («грех метафизики»!), представлять себе как некоторое уже
готовое, уже достигнутое идеальное состояние; начало пути тем
самым — это как бы уже и конец пути. Таков вообще
монологический принцип самодовления и самоутверждения одного сознания, в
Введение. Второе сознание
43
данном случае — одного текста, одного смысла. Спрашивается: смысл,
сознание, текст — это уже есть в истории культуры (как нечто
готовое и вечное), или «второе сознание» оправданно продолжает и
обогащает историю смысла, сознания, текста вне их и после них?
Бахтин из своего уже как бы прошлого повторяет этот всегда
современный вопрос гуманитарной эпистемологии о смысле
«современности» смысла. Комментируя проблематику Платона и
Гуссерля («В каком виде присутствует в сознании целое?»), он
переводит эпистемологию сознания в русло гуманитарной
эпистемологии: получается не «остранение» и не «деконструкция» смысла,
сознания или философского разума, но их, так сказать, не
гарантированное (рискованное, драматичное) расширение и обогащение за счет
«обрамляющего контекста» комментария:
В какой мере можно раскрыть и прокомментировать смысл
(образа или символа)? Только с помощью другого (изоморфного)
смысла (символа или образа). Растворить его в понятиях невозможно.
Роль ком (м)ентирования может быть либо относительная
рационализация смысл (а) (обычный научный анализ), либо
углубление его с помощью других смыслов (философско-художественная
интерпретация). Углубление путем расширения далекого
контекста (6: 422).
Понятно, что речь здесь идет не о допущении
«иррационализма», как, впрочем, и не об отрицании роли научной
рациональности. «Относительная рационализация» означает только, что
«смысловой персонализм» текста («первого» сознания как предмета
заинтересованного внимания и исследования) не может быть познан
однозначно и окончательно раз навсегда. Релятивизация рациональности
означает незавершимость возможностей дальнейшего познания;
такой «релятивизм» открывает абсолютную смысловую
перспективу исторических смыслов, казалось бы, уже состоявшихся и
познанных однажды («в свое время»). С другой стороны, «философско-
художественная интерпретация», которая может быть (а может и
не быть) глубже и богаче «обычного научного анализа», имеет
тенденцию превращаться в изнанку (обратное и дурное подобие «лица»)
рационализма; такая интерпретация стремится уже не к научно
однозначному, но к эстетическому завершению (незавершимого) смысла.
Отсюда, кстати сказать, у раннего М. М. Бахтина — критическое и
методическое (кантианское) ограничение возможностей познания
в «философско-художественных» (эстетизованных) типах мысли
44
Введение. Второе сознание
конца XIX—XX вв. («философия жизни» и т. п.), не говоря уж о
разного рода «духовидцах»45.
6. Чужая речь
В записях 1960—70-х гг. — как и во всех дошедших до нас работах
М. М. Бахтина, начиная со второй половины 1920-х гг., — проблема
«второго сознания» специфицирована, главным образом, в
направлении феномена «чужой речи», или «чужого слова», т. е. в плоскости
гуманитарной эпистемологии. Можно даже сказать, что предметом
философии гуманитарных наук и, соответственно, гуманитарной
эпистемологии, по Бахтину, является, строго говоря, не «философия
языка», но философия и эпистемология речи. В записях 1960—70 гг.
об этом сказано так:
Основной вопрос Гумбольдта: множественность языков (предп(о)
ссылка и фон проблематики — единство человеческого рода).
Это — в сфере языков и их формальных структур
(фонетических и грамматических). В сфере же речевой (разрядка в
тексте. — В. М.) (в пределах одного и любого языка) встает проблема
своего и чужого слова (433).
Но этот аспект, в свою очередь, имеет еще один, важнейший для
гуманитарной эпистемологии, извод или измерение, которое можно
условно назвать «темпорально-релятивным» для того, чтобы
избежать более привычных, как бы само собой разумеющихся концептов
вроде «философии культуры», «культурологии» и т. п.
(Традиционный немецкий термин «духовная история», Geistesgeschichte,
которым в приведенном выше высказывании пользуется Бахтин, — в
русском научном языке не удержался, как не удержалась и сама
гуманитарная эпистемология в русской научной философии.) О
«темпоральном релятивизме», которому соответствует, по всей
вероятности, бахтинская концепция «большого времени», в другом месте
записей 1960—70-х гг. сказано так:
Мы будем говорить о чужом слове не только по отношению к
«моему слову» исследователя, читателя, слушателя, т. е. слове другого
человека, но и о слове другой, чужой для него эпохи и культуры (на
своем или на чужом языке). Встреча двух эпох, двух культур (включая и
двух языков, если дело идет об иноязычном тексте). Так обстоит дело
в филологии и в частности в литературоведении. (...) Примитивное
сознание воспринимает чужое только как чуждое, т. е. не преодоле-
Введение. Второе сознание
45
вает древнего момента враждебности ко всему не-своему.
Преодоление чуждости (враждебности) — первый шаг понимания (409).
Под «чужим словом», «чужой речью» и, шире, «другим» Бахтин
подразумевает всякое «первое сознание» — в жизни, в искусстве, в
науке, — по отношению к которому я сам могу быть только «вторым
сознанием». Второе сознание не производно от «первого» и не
является, конечно, его «произведением». Но и первое сознание — так
сказать, оригинал или подлинник — не может быть произведением
другого сознания, другой личности, другой эпохи. Второе сознание не
создает, но воссоздает, не производит, но воспроизводит то, что
бесконечно превышает его возможности и что уже только «было»;
темпоральный перенос или перевод смысловой бесконечности,
заключенной в этом «было» (релятивизм), не снимает прошлое как
прошлое, но дает ему новую жизнь, о-со-временивает бывшее в его
сбывшихся и несбывшихся возможностях.
Такова исследовательская установка в гуманитарных науках,
глубоко отличная от по-своему тоже, конечно, творческой
установки естестествоиспытателя — «физико-химика», как выражались
в кружке Бахтина 1920-х гг.46 Научно-гуманитарное мышление,
парадоксальным образом, научно постольку, поскольку оно выходит за
пределы традиционной методологии научного познания:
В жизни как предмете мысли (отвлеченной) существует человек,
существует «третий», но в самой живой переживаемой жизни
существует только «я», «ты», «он», и только в ней раскрываются
(существуют) такие первичные реальности как «мое слово» и «чужое
слово», и вообще те первичные реальности, которые пока еще не
поддаются познанию (отвлеченному, обобщающему) и потому не
замечаются им.
Но абстрактность всегда относительна: можно сделать
предметом рассмотрения как раз то, от чего привыкли отвлекаться (хотя
оно и находится прямо перед нашими глазами; мы часто не видим
именно то < как раз того),что мы постоянно (курсив в тексте. —
В. М.) видим). За счет видения того, от чего научное сознание
привыкло абстрагироваться, научное знание расширяется и
конкретизируется (407).
Иначе говоря, «относительна» в гуманитарном познании не
истина; относительна абстрактность рассмотрения предмета,
которая может быть зафиксирована и ослаблена, которая исторически
подвижна.
46
Введение. Второе сознание
7* Диалогизующий фон
Ссылки и выписки в бахтинских рабочих тетрадях последних
лет (круг чтения) конкретизируют «диалогизующий фон» его
гуманитарной эпистемологии. О. Ф. Больнов, Г. Марсель, Г.-Г. Гадамер,
известный нашим философам К. Ф. фон Вайцзеккер и не известный
у нас его племянник Виктор фон Вайцзеккер (психиатр, чья роль
в истории «нового», или «диалогического», мышления
подчеркивалась Розенцвейгом в 1920-е гг., а Гадамером тогда, когда Бахтин
делал свои записи)47, К. Ясперс, М. Бубер, А. А. Ухтомский (научно-
философские и религиозно-философские основания теории
«доминанты» в письмах 1920-х гг., которые начали публиковать в 1970-е гг.)
и, конечно, В. Дильтей, — все это контекст или, точнее, исторически-
событийный затекст бахтинского «диалогизма», для рецепции
которого в советской философии и гуманитарно-филологической мысли
не было и пока нет адекватного апперцептивного фона. Тон задавал
и задает структурализм, эпоха была и остается структуралистской,
что означает: структуралистами были не только те, кого так
называли, и даже не только те, кто «деконструировал» структуры и
структурализм изнутри той же самой структурно-семиотической системы
мышления (соссюрианской парадигмы)48.
А между тем с точки зрения истории понятия «структура», как и
с учетом «жизненных корней гуманитарных наук», нелишне иметь в
виду, что, по словам профессора из Бохума и редактора «Ежегодника
Дильтея» Фритьофа Роди, «использование слова "структура" было до
первой мировой войны чем-то вроде отличительной характеристики
молодых учеников Дильтея в Берлине», и что «с помощью русского
феноменолога Густава Шпета понятие структуры Дильтея и Шпран-
гера вошло окольным путем через Россию в терминологию западной
лингвистики и было в ней изменено до неузнаваемости»49.
До второй половине прошлого столетия «структуралистами»
были не только те, кто в науке и вне науки институционально и дис-
курсивно располагались «на обочине» официальной идеологии и
официального языка, но и те, кто выступал (риторически,
теоретическим, идеологически) «против» структурализма50. Снова и по-новому
ожившая в 1960—70-е гг. старая бинарная оппозиция
прогрессивного научно-технического «материализма» и охранительного или
прямо реакционного, общинно-почвенного-душевного «идеализма»
как раз благодаря структурализму трансформировалась в нечто
относительно новое: возникла и стала относительно легитимной даже
Введение. Второе сознание
47
в советских условиях проблематика гуманитарного знания и
гуманитарной эпистемологии51.
Тем не менее, как это часто бывает, в возникшей примерно в одно
время у нас и на Западе научной дискуссии (внутри которой и
отчасти благодаря которой Бахтин стал «интересен» в
структуралистскую эпоху) оппоненты молчаливо разделяли общую им
предпосылку — теоретическую, но выходившую за пределы одной только
теории, идеологическую, но не сводимую к той или другой
идеологии. Бахтин за сорок-пятьдесят лет до того, как сам стал важным
предметом обсуждения в этой дискуссии, обозначил в книге о
Достоевском (1929) эту общую — не только риторическую и не
философскую, гуманитарно-эпистемологическую предпосылку «всей
идеологической культуры нового времени» (91) в качестве «моноло-
гизма», т. е. такой установки сознания и мышления, при которой
совершенно правомерное представление о единстве бытия
подменяется традиционным, но тем более устойчивым представлением о
«единстве одного сознания» (там же). Это — «общеидеологическая
особенность» (там же), т. е. такая, которая не разделяет, а, наоборот,
сближает самые разные «идеологии», научные и общественные
движения, направления и т. п. С точки зрения этой неосознанно
разделяемой оппонентами и врагами предпосылки или предрассудка
«совершенно безразлично, какую метафизическую форму оно
(единство сознания. — В. М.) принимает: «сознания вообще» («Bewusstsein
überhaupt»), «абсолютного я», «абсолютного духа», «нормативного
сознания» и пр. (91—92). В это «пр.» у Бахтина, конечно, входит и
«классовое сознание», и «дух народа», и, как мы видели, «научное
сознание» в традиционном смысле:
Сложное событие встречи и взаимодействия с чужим словом почти
полностью игнорировалось соответствующими гуманитарными
науками (и прежде всего — литературоведением). Науки о духе;
предмет их — не один, а два «духа» (изучаемый и изучающий, которые не
должны сливаться в один дух). Настоящим предметом является
взаимоотношение и взаимодействие «духов» (407).
Взаимоотношение и взаимодействие «второго сознания» с пред-
находимым ему другим («другими») — вот «настоящий предмет»,
с одной стороны — гуманитарных наук, с другой стороны —
гуманитарной эпистемологии, т. е. философии гуманитарных наук.
Гуманитарно-филологическое мышление — вот (начиная с В. Дильтея)
предмет философской критики; оно, это мышление, должно быть
48
Введение. Второе сознание
заново открыто и заново оценено постольку, поскольку оно, по
характерному бахтинскому выражению, «больше и лучше» себя самого,
т. е. лучше своей тенденции в Новое время — монологической
«предпосылки общеидеологического характера».
Здесь, однако, уместен вопрос: если философия второго
сознания — гуманитарная эпистемология — не может опираться на
«научное сознание» (как его понимает сциентистская эпистемология), но
при этом все же хочет (как Дильтей — в отличие от Ницше, как Га-
дамер — в отличие от позднего Хайдеггера, как Бахтин — в отличие
от «наших мыслителей-самодумов»52) быть научной (и научно
позитивной) в своей критике как исторического, так и филологического
разума, то не является ли такая философия неким «бастардом»,
незаконным детищем философской традиции, скорее отрицающим эту
традицию?
Иначе говоря, не лишена ли гуманитарная эпистемология, на
самом деле, философского основания, т. е. своей легитимности?53
8. Узловая проблема
Отвечая на этот вопрос в предварительном порядке, можно сказать
так: современная философия гуманитарных наук имеет не
произвольный и не случайный, но фундаментальный характер постольку,
поскольку она возникла из обновленного возвращения европейской
философии к относительному историческому началу своего
собственного основания как науки. Речь идет об антично-средневековом
концепте «первой философии». Тот решающий «переход от мира
науки к миру жизни», о котором, как мы помним, писал Гадамер и
с которым, как представляется, непосредственно связана «смена
парадигмы» в гуманитарно-историческом мышлении и познании XX в.,
ближайшим образом мотивирован обновленным возвращением
философии к prima philosophia современного типа. M. M. Бахтин в
программном фрагменте начала 1920-х гг. «К философии поступка»
следующим образом зафиксировал мотивационный философский
контекст и затекст этого поворота:
Нельзя отказать нашему времени в высокой заслуге приближения к
идеалу научной философии. Но эта научная философия может быть
только специальной философией, т. е. философией областей
культуры и их единства в теоретической транскрипции изнутри самих
объектов культурного творчества и имманентного закона их
развития. Зато эта теоретическая философия не может претендовать быть
Введение. Второе сознание
49
первой философией, т. е. учением не о едином культурном
творчестве, но о едином и единственном бытии-событии. Такой первой
философии нет и как бы забыты пути ее создания54.
Это значит, по всей вероятности, следующее:
Философия культуры Нового времени (от Гердера и
романтиков до О. Шпенглера) как «специальная философия» не мыслит и
не может мыслить ни реальной укорененности «культурного
творчества» в его социально-онтологических истоках и источниках — в
его, как подчеркивает Бахтин, «конкретной историчности»55, — ни
тем более такая философия теоретизированных и эстетизованных
транскрипций и редукций (философия, по-хайдеггеровски
выражаясь, «забвения бытии») не может помыслить и позитивно
осмыслить свою же собственную конкретно-историческую укорененность,
мотивированность и обусловленность в общественном мире опыта, в
данной (своей) социокультурной ситуации.
Можно сказать, что именно в этом пункте — так сказать, «после
Шпенглера» — современная философия, собственно, началась в
проблемно-систематическом и в конкретно-историческом смысле
слова «начало». На этом апперцептивно-диалогизующем фоне
современная гуманитарная эпистемология находит свое уместное место
и свое обоснование. Как и обратно: гуманитарная эпистемология
может показаться каким-то искусственным излишком или придатком
там, где апперцептивный фон научной мысли и языка этой мысли
подобен маятнику между полюсами сциентистски понятой науки — с
одной стороны, и идеально-духовно понятой «культуры» — с другой
стороны.
Оба этих полюса, имевшие вид бинарной оппозиции (особенно
после варварской высылки русских философов за границы в 1922 г.,
внешним импульсом к которой, как известно, стала книга
Шпенглера «Закат Европы»56), — сциентизм и идеализация «образов
культуры», как это ни странно на первый взгляд, сблизились в поздне-
советских и постсоветских условиях, но не на почве
взаимопрояснения и продуктивной дифференциации, а на почве взаимного
недоразумения. Таким методическим недоразумением — при всех
необходимых оговорках, которые здесь можно сделать, —
представляется так называемая «культурология», именуемая на Западе cultural
studies, с той, правда, разницей, что у нас «теоретизированные
транскрипции» исторического опыта идеализируют этот опыт в
«образах», «картинах» и картинках, тогда как на Западе «культурные»
50
Введение. Второе сознание
транскрипции и редукции носят «материалистический» характер,
представляя собой с различных точек зрения выгодный тренд, к
которому скорее подходит определение Ницше нигилизма как
«идеализации в сторону безобразия»57. Все эти попытки (точнее, по слову
Бахтина, «лазейки») связаны с важнейшим событием в
гуманитарных науках последних десятилетий (включая текущее «нулевое»
десятилетие), а именно — с утратой научной дисциплиной
(например, литературоведением) предметной определенности и
дифференцированное™ своего предмета. Это и делает, как мне кажется,
гуманитарную эпистемологию возможной и даже нужной, о чем
будет сказано ниже.
В момент слома и смены парадигмы на Западе и в России,
между 1917 и 1923 годом, возникли (практически независимо одна
от другой) попытки создания новой онтологии (в отличие от
«философии культуры»). Этот новый подступ к древней идее «бытия»,
поставивший под вопрос не только философию Нового времени, но и
классическую философскую традицию от Платона до Гуссерля
включительно, упоминавшийся выше Микаэль Тойниссен в своем
классическом труде «Другой» (1965) предложил называть «социальной
онтологией»58.
Для нас здесь почти не существенно различие между двумя
основными линиями развития современной «первой философии»,
которые выделяет и критически анализирует в своей книге М.
Тойниссен — трансцендентально-феноменологической линии (Гуссерль,
Хайдеггер, Сартр) и диалогической лини (М. Бубер, Ф. Розенцвейг,
О. Розеншток-Хюсси, Ф. Эбнер, Г. Марсель и др.). Для нас здесь важно,
во-первых, сущностное родство и одновременность обеих линий
«социальной онтологии», тем более что молодой М. Бахтин
(которого Тойниссен, конечно, не знал) вполне самобытно, как мне
кажется, соединил в своем проекте «социальной онтологии
причастности» ту и другую тенденцию, восполнив уязвимые места как
нового трансцендентализма, так и западного «диалогизма», вскрытые
М. Тойниссеном59. Во-вторых: ни один инициатор социальной
онтологии на Западе не стал, строго говоря, философом гуманитарных
наук. На Западе гуманитарную эпистемологию создавали не
инициаторы, но их ученики (Гадамер — ученик Хайдеггера, Рикер —
Марселя, Вольнов — Миша). Русский мыслитель и в этом пункте, похоже,
остается чудесным и печальным исключением: в отличие от
западноевропейских современников, у Бахтина уже не могло быть ни
учеников, ни продолжателей60.
Введение. Второе сознание
51
Философия социально-исторического опыта, развитие
которой можно видеть в различных направлениях западной
философии XX в. (философия жизни, феноменология, экзистенциализм,
по-особому Л. Витгенштейн и «аналитическая» традиция), прямо
или опосредованно опирается на социальную онтологию «второго
сознания», предмет которой — мир жизни, увиденный и
описываемый не извне только (как объект), но как мир мотивированно (и в
этом смысле объективно) поступающих, взаимно опосредованных
лиц («я»), социально персонализованного общественно-исторического
бытия, или «мира жизни». Человек в этом как бы впервые открытом
социальной онтологией мире, древнем и новом одновременно, — не
«человек вообще», но и не «я» только (как некое автономное
«присутствие»); во всякое реальное событие мира и своего «вот-бытия» в нем
я как «я сам» активно вхожу не сам по себе, но как ориентирующийся
в со-бытии с другими, как соучастник, «сочеловек» (Mitmensch), или
как «бытие-с-другими» (Mitsein)61.
На этом диалогизующем фоне первой половины XX в., судя
по всему, только и можно локализовать научно-философскую и
гуманитарно-эпистемологическую программу M. M. Бахтина в целом,
как и обратно: эта русская программа, как кажется, позволяет
подступиться к тому, что мы называем «магистральным сюжетом»
современной западноевропейской философии. Примечательна в этом
отношении мысль, записанная М. Бахтиным, вероятно, в 1943 г.
(фрагмент «К вопросам самосознания и самооценки»):
Мир населен созданными образами других людей (разрядка в
тексте. — В. М.) (это мир других, и в этот мир пришел я); среди них есть
и образы я в образах других людей. Позиция сознания при создании
образа другого и образа себя самого. Сейчас это узловая проблема
всей философии61.
В этом магистральном сюжете «всей философии» подчеркнем
сейчас два взаимосвязанных момента: первый относится к социально-
онтологическим «условиям возможности» социальной онтологии,
второй — к феномену «другого» как подлинному ядру современной
первой философии, а отсюда уже — философии гуманитарных наук.
(1) Момент исторической обусловленности (мотивированности)
социальной онтологии точно выразил М. Бубер, оглядываясь на
пройденный путь, когда он писал (1954) о хотя и преемственном, но
различии между его ранним творчеством и переворотом в мышлении,
который привел его в книге «Я и Ты» (1919—1923) — одновременно
52
Введение. Второе сознание
с австрийским католиком Фердинандом Эбнером и другими, — к
открытию «диалогического принципа»; различие состояло в
радикальном смещении интереса, или повороте, от «сферы
субъективности» (Sphäre der Subjektivität) к «сфере между существами» (zwischen
den Wesen). Бубер так комментирует совершившийся в его мысли
переход, или «смену парадигмы»:
Но ведь именно в этом и состояло решающее изменение,
происходившее во время первой мировой войны с целым рядом
мыслителей. Изменение это по своему смыслу и по сферам своего
проявления было самым разнообразным; но фундаментальная
общность (Gemeinsamkeit) человеческой ситуации, из которой
произошло это вобравшее в себя все и вся изменение, не подлежит
никакому сомнению63.
(2) Для понимания сущностного ядра социальной онтологии
«второго сознания» важно иметь в виду следующее: дело идет здесь
не о раздвоении сознания, не о «несчастном сознании» и не о
рефлексивной философии; дело идет не о реальности, переживаемой извне,
с точки зрения как бы безучастного «третьего» (который таким
образом и оказывается единственным участником всякого события,
«одним субъектом»). Мир жизни не распался, он стал не меньше, а
больше, одномерность (точнее, трехмерность) уступила место более
сложному единству опыта — молодой Бахтин называет такое
единство «онтологически-событийной разнозначностью»64.
Эта «разнозначность» безразлична с точки зрения безучастного
«третьего» (не участвующего или непричастного событию), к
позиции которого тяготеет научное познание и сознание,
игнорирующее (абстрагирующееся) «архитектонические точки» всякого
события — в том числе и события познания социально-исторического
опыта прошлого. Ранний Бахтин (как и западные инициаторы
социальной онтологии) работает методом «феноменологического
описания» донаучного, дотеоретического опыта: только таким образом
можно остаться на границе двух миров, двух сознаний, самой двупла-
новости мира:
Когда я созерцаю цельного человека, находящегося вне и против
меня, наши конкретные действительно переживаемые кругозоры не
совпадают. (...) Когда мы глядим друг на друга — два разных мира
отражаются в зрачках наших глаз65.
Введение. Второе сознание
53
Вот, собственно, подлинный исходный пункт бахтинского ди-
алогизма, возвращение к которому, парадоксальным образом,
становится возможным только теперь, поскольку все «постмодерные»
версии структуралистской эпохи потеряли свою убедительность и
актуальность после самодеконструкции этой эпохи (в 1990-е годы).
Это ставит нас перед новыми проблемами и задачами, которые —
как вся вообще проблематика гуманитарной эпистемологии — имеют
дело не с чем-то просто новым, а, наоборот, с тем, что было всегда,
но открывается сызнова в силу ослаблений действия прежних
абстракций, теоретических транскрипций и догматизированных
«доминант». Если справедливо утверждение А. Ф. Лосева, что
«понимать, это значит выражать что-нибудь при помощи нового
материала»66, то наша ближайшая и последняя в этом введении задача —
не столько «выразить», сколько воссоздать, воспроизвести понятое
«при помощи нового материала», преодолевая имманентно его голую
формалистическую материальность.
9- Замедление
Достаточно говорилось о том, что гуманитарная
эпистемология — это философия «второго сознания», как бы мы ни называли
ее иначе («герменевтикой», «диалогикой», «философией языка» или
«социальной онтологией»). Гуманитарная эпистемология как
исследовательская программа претендует на охват в принципе всех типов
общественно-исторического опыта мира жизни, всех «региональных
онтологии». При этом гуманитарная эпистемология не «глобальна»,
но скорее «фактична»; онтологически-событийное различие
сохраняет принцип единства мира, но, так сказать, делит его надвое;
реальность оказывается дуальной (двуполюсной, двуголосой и т. п.) при
любом рассмотрении или постановке вопроса. Этим достигается
«торможение» мысли о реальность, через которую мысль имеет тенденцию
«перескакивать»; достигается новая позиция и новый способ
мышления; назовем его «замедлением», руководствуясь следующим
критическим замечанием М. М. Бахтина (из 1940-х гг.) о специфическом
ускорении как доминирующей форме мышления Нового времени:
Допускается какое-то чудесное крайне резкое ускорение в темпах
движения к истине за последние четыре века; расстояние,
пройденное за эти четыре века, и степень движения к истине таковы, что
то, что было четыре века назад или четыре тысячелетия назад,
представляется одинако вчерашним и одинаково далеким от истины67.
54
Введение. Второе сознание
Здесь вскрыта и охарактеризована — разумеется, не публично
и не так обстоятельно, как, скажем, у Хайдеггера (в те же годы)
или (позднее) у Гадамера, но внутренне совершенно свободно и
совершенно по-русски — связь научно-теоретического обобщения с
утопическим «мечтательством» (Достоевский), или Schwärmerey (Кант),
общественно-политического тоталитаризма с научным, религиозным
и социальным идеализмом, с индивидуалистической и
коллективистической метафизикой Нового времени. «Обобщать» и «мечтать» —
значит не видеть, т. е. как бы перепрыгивать через «подробную» и,
действительно, «необходимую» нравственную реальность,
категориальное устройство которой — «онтологически-событийная раз-
нозначность» — продуктивно замедляет время и смысл вещей.
М. М. Бахтин в своем социально-онтологическом проекте 1921—22 гг.
замечает в этой связи: «Равнодушная или неприязненная реакция
есть всегда обедняющая и разлагающая предмет реакция: пройти
мимо предмета во всем его многообразии, игнорировать или
преодолеть его. (...) Безлюбость, равнодушие никогда не разовьют
достаточно сил, чтобы напряженно замедлить над предметом, закрепить,
вылепить каждую мельчайшую подробность и деталь его»68.
Это сказано об эстетическом видении, но не только;
гуманитарные науки тоже наделены «замедленным» видением вещей
благодаря своим «жизненным корням». Философия «второго сознания» —
это философия замедления мышления.
ю. О покаянии
Но если мы поняли это «вообще» (теоретически), то познанное не
может остаться во мне только мыслью из прошлого и о прошлом.
Понятое и осмысленное однажды (не нами) может и как-то должно —
усилием другого, современного, «второго» сознания — быть
переведено, переосвещено, переложено, переосмыслено и
«перерассказано»69 на диалогизующем фоне нашего времени, нашей
исторической уместности и совместности.
В этом смысле современная гуманитарная эпистемология —
философия второго сознания — не может довольствоваться ни
архивированием культуры, ни эстетизированной скорбью по поводу
разрушения культуры, о чем так выразительно сказал цитировавшийся
выше А. В. Михайлов в своих лекциях 1993—94 гг. по истории мировой
культуры в связи с новым, постсоветским, крутым ино-научным
поворотом к старому научному вопросу о «конце искусства»:
Введение. Второе сознание
55
Ну вот, перед нами остались своего рода развалины. Не надо бояться
этого слова. Развалины всей истории человеческой культуры и
всего искусства70.
Такой взгляд, вероятно, неизбежен как (по)следствие той
гиперидеализации «культуры», которая была характерна для последних
советских десятилетий и которая сама была неизбежным и уже
анахроничным, действенно-историческим (по)следствием философского
и интеллигентского «эстетического сознания» — культуроцентризма
XIX—XX вв. В большой философии эта тенденция завершается, по-
видимому, «Закатом Европы» О. Шпенглера; не случайно Томас Манн
подчеркивал, что Шпенглер — это еще XIX век71.
Дело идет, как мне кажется, не о конце культуры и не о конце
искусства, но скорее о конце «алиби» культуры и искусства Нового
времени. «Нельзя доказать своего alibi в событии бытия»72.
Для гуманитарной эпистемологии никакой «культурпессимизм»
невозможен (как невозможен он, в принципе, и для христианства);
культурпессимизм — это изнанка культуроптимизма Нового
времени, той «мистической веры в культуру», от которой, по словам Ро-
мано Гвардини, нужно отказаться, но не для того, чтобы видеть
развалины культуры, а для того, чтобы «обрести способность видеть
истину»73. Важная общественная задача гуманитарной
эпистемологии — ввести культурное творчество в более широкий и
фундаментальный круг мира жизни («бытия»).
Это не значит, конечно, что «развалины», которые предлагал
заметить А. В. Михайлов своим слушателям в Московской
консерватории в 1990-е гг., — это просто фикция, только изнанка
эпистемологических и социальных утопий, обернувшихся грандиозным
национальным и планетарным крахом; истина — она и в этих развалинах
тоже. Но развалины не вне нас, а в нас самих — ив этом все дело. Мир
жизни («бытие») глубже и ближе к человеку, чем идеализированная,
эстетизированная «культура», а понятие «цивилизации», возможно,
лучше выражает его социальную природу, жизненные корни
человеческой общности74.
Из сказанного ясно, что гуманитарная эпистемология, подступы
к которой представлены в этой книге, в своем «ино-научном»
измерении не может не быть, так сказать, мышлением на «покаяние», но не
в одном только греческом смысле греческого слова «метанойа»
(«перемена ума»). Гуманитарная эпистемология — философия «второго
сознания» — пытается воссоздать и «повторить» (в кьеркегоровском
56
Введение. Второе сознание
смысле слова) опыт мыслителей смены гуманитарной парадигмы —
опыт смерти и воскресения так называемых традиций; такова
всякая «революция в способе мышления». Мы рискуем мало чему
научиться у западноевропейских философов, теологов и филологов
XX в. — немецких, французских, английских, итальянских,
испанских, если не распознаем у них этот основной импульс «покаяния»
как исторической самокритики мышления (хотя профессиональные
мыслители избегают всякой риторики на этот счет). С большой
ясностью не риторическую и не только теоретическую сторону
«покаяния» выразил Хосе Ортега-и-Гассет в эссе «Блеск и нищета
перевода» (1939—1940):
Обрести историческое сознание и осознать себя как ошибку — одно
и то же. А так как истина человека состоит в том, чтобы всегда быть
на настоящий момент (курсив в тексте. — В. М.) и в относительном
смысле ошибкой, только историческое сознание способно
приблизить его к этой истине и спасти75.
Поворот к такому «обретению исторического сознания» ясно
обозначился и в русской философии вокруг 1917 г. Но
политический переворот подменил, вытеснил и наконец сделал этот более
глубокий поворот неузнаваемым и уже невозможным в смысле
«бездейственной истории» для будущего русской мысли «на
настоящий момент». «Философский пароход» 1922 г. был
катастрофическим, не имеющим аналогов на Западе разрывом в мышлении
постольку, поскольку он надолго сделал невозможным осознание того,
что «в относительном смысле ошибкой» (односторонностью) была
и религиозно-идеалистическая метафизика либеральной
интеллигенции, и научно-идеалистическая метафизика революционной
интеллигенции. В результате относительная ошибка стала и осталась
абсолютной, «нераскаянной», так сказать, на обе стороны, и это
обусловило (а сегодня еще усилило) карикатурный образ философа в
общественном восприятии, зафиксированный M. M. Пришвиным в его
романизованной автобиографии 1920-х гг. «Кащеева цепь»:
В России даже в образованном обществе как-то не всегда удобно
сказать: занимаюсь философией, потому что наша философия
непрактичная, и философ представляется как бы загипнотизированным
петухом. В Германии даже агрономию читают на философском76.
Гуманитарная эпистемология оказалась невозможной в
советский век в силу радикализации греческого концепта «теории» (и
Введение. Второе сознание
57
хронотопическои предпосылки этого концепта в греческом мире
жизни — schole, «досуга» свободного человека). Установка, говоря
словами только что процитированного M. M. Пришвина, «на
следующее после мысли мгновенье практической жизни»77, —
обновленный примат аристотелевской и кантовской идеи практического
разума, — вот что, похоже, определило «магистральный сюжет»
философии XX в. и, соответственно, основные черты современной
философии гуманитарных наук.
и. Case studies
11.1. В заключение этого вводного очерка приведем и
прокомментируем некоторые «случаи», или феномены, «онтологически-
событийного различия», конкретизирующие реальность «второго
сознания» в социально-историческом опыте и, сответственно, в
гуманитарной эпистемологии. Статья Г.-Г. Гадамера «Что есть
истина?» (1957) начинается так:
Вопрос Пилата «что есть истина?» (Иоан. 18, 38), понятый
непосредственно из смысла исторической ситуации, заключает в себе
проблему нейтральности. То, как были сказаны эти слова прокуратором
Понтием Пилатом, в государственно-правовой ситуации тогдашней
Палестины, означало: все, что по утверждению такого человека, как
Иисус, является истиной, совершенно не касается государства.
Либеральная и толерантная позиция, которую тем самым заняла
государственная власть в этих обстоятельствах, очень необычна. Мы
напрасно искали бы подобное в мире античных и современных
государств вплоть до эпохи либерализма78.
Этот комментарий, да еще в контексте основного вопроса
философии, по-видимому, тоже очень необычен. По смыслу статьи Гадамер
хочет сказать примерно следующее: позиция «здравого смысла»,
занятая государственной властью в обстоятельствах, рассказанных или
пересказанных в Новом Завете, по отношению к истине такого
человека, как Иисус, поистине — научает истине. Научает в том смысле,
что никакая истина — ни научная, ни этическая, ни религиозная —
не существует просто сама по себе («в себе», «безотносительно-
ни-к-чему»), т. е. вне ответственного приобщения ее миру жизни,
конкретно-исторической ситуации, но тоже не «вообще», а с
конкретного места — моего места, твоего места, его или ее места.
Гадамер приписывает обычно проклинаемому или
презираемому прокуратору Иудеи политкорректность, превышающую своей
58
Введение. Второе сознание
житейской мудростью государственно-правовой либерализм как
«древних», так и «новых». Нейтралитет государственной власти по
отношению к такому человеку, как Иисус, есть нечто иное, чем
оппозиция «веры» и «неверия»; это не лишенное скепсиса (возможно,
уважительного) дистанцирование означает, похоже, вот что: все, что по
утверждению такого человека, как Иисус, является истиной,
непереводимо непосредственно в плоскость государственной, политической,
правовой ответственности, не разрешимо с моего (государственного)
места, в пределах моей ответственности. Вопрос Пилата об истине
лежит в иной плоскости, чем теория вопроса «Что есть истина?» или
риторика ответа на этот вопрос.
Здесь, как кажется, та же самая «необщая» логика разномест-
ности и разнозначности в едином событии, в одной и общной
ситуации, что и в известном возражении Екатерины II посетившему
Петербург Дидро. В ответ на вроде бы правильную критику русских
порядков с позиций европейца и просветителя императрица возразила
в том смысле, что, мол, вы, философ, работаете на бумаге, которая все
стерпит; побыли бы вы, мсье, на моем месте (если не в моей шкуре),
ведь я работаю на человеческой коже, куда более чувствительной, чем
бумага79.
Истина, похоже, и за Екатериной (а не за одним только
Просвещением) и за Пилатом, (а не за одним только Иисусом). Истина — по
ту сторону логоцентрической схемы, формальной оппозиции «pro et
contra». Истина — в самом малозаметном грамматическом феномене
«и»: союз по-новому требует мыслить единство мира, и единство
человека, и единство Бога80.
Для того чтобы осознать эту замедляющую мышление
герменевтическую фактичность истины, нужно преодолеть в уме
предрассудок «теоретизма», нужно перенести центр тяжести
философствования «на следующее после мысли мгновенье практической жизни».
Кому не нравится такое «замедление» истины, тот обречен на раскол
и разрыв истины в самой попытке умозрительного «синтеза»,
подобно герою «Преступления и наказания» Раскольникову, который
желал не что иное, как «сразу весь капитал».
11.2. Если предпосылку «онтологически-событийной
разнозначности» — центральной и сквозной категории гуманитарной
эпистемологии, как мы ее пониманием, — перевести теперь в плоскость
«духовной истории», то мы окажемся перед сложным вопросом о
соотношении (релятивности) «классики» и «современности». Дело
не просто в том, что есть, скажем, «классическое» искусство и есть
Введение. Второе сознание
59
искусство «современное»; не просто в риторике отношения к так
называемому классическому наследию. Я попытаюсь прояснить
эпистемологическую трудность с помощью одного «глупого вопроса»,
сформулированного классиком немецкой литературы XX в. Томас Манн
писал 9 января 1938 г. швейцарскому германисту Ф. Штриху, автору
известного исследования «Классика и романтика» (1922)81:
Меня беспокоит один, возможно, совсем глупый вопрос. Называли
себя классики (Гете и Шиллер) классиками, или «классик» и
«классики» — это позднейшие исторические обозначения? Другими
словами: была ли классика сознательной школой со своею
программой — школой, которая открыто так себя и называла, как
романтизм или позднее, скажем, натурализм и экспрессионизм ввели эти
наименования? (...) Мыслимо ли,чтобы современник позитивно или
негативно говорил о «классической школе» так же, как после
войны говорили об экспрессионизме, или вокруг 1900 года — о
натурализме? Это диалогически важно (dialogisch wichtig), поскольку
слово, употребляемое в непосредственном значении (aktuell gebraucht),
смотрится очень юмористически (sehr humoristisch)82.
Т. Манн имеет в виду онтологически-событийное различие
между авторитетным («первым») сознанием автора-классика, с одной
стороны, и нашим современным, «вторым» сознанием потомков
и наследников, с другой стороны. Я сам для себя не могу быть
классиком (разве что в шутливом, юмористическом смысле); «классиком»
я могу быть только в глазах и оценках другого. Это — не ошибка, не
обман, но все же определенное затруднение, совершенно
принципиальное и даже обязательное для «духовно-исторического» мышления
и познания. Т. Манн в следующем письме тому же адресату писал, что
слово «классика» используется совершенно правильно83. Эрнст Белер,
выдающийся исследователь немецкого романтизма, издатель и
комментатор наследия Фр. Шлегеля, комментируя приведенное
высказывание Т. Манна в 1970-е гг., утверждал, что, будь Т. Манн нашим
современником, он сразу бы ответил на свой тогдашний вопрос более
решительно: ни немцы так называемого классического периода, ни
французы и англичане, кого мы с полным основанием почитаем
классиками, сами себя классиками не считали — как, впрочем, и
романтики не считали себя «романтиками»: им такое определение
показалось бы слишком узким и не адекватным84.
Эта, по-6ахтински «взаимная вненаходимость» классики и
современности, прошлого и настоящего, я и другого — источник
60
Введение. Второе сознание
напряжения и неисчерпаемости в истории культуры. Философия
гуманитарных наук в этом пункте явно сближается с философией,
«ставшей историей для самой себя». В этом смысле мы, кажется,
вправе сказать: предметом гуманитарной эпистемологии является
не история как прошлое и только бывшее, но история как «большое
время», в бахтинском смысле85.
11.3. Такое не линейное, не плоское, но, тем не менее,
«прогрессивное» понимание исторического времени возвращает нас к
упоминавшейся выше проблеме «герменевтического круга», понятого не
столько как «текст», сколько как «затекст», как вечно по-новому
возвращающееся прошлое. В цитировавшемся фрагменте «К вопросам
самосознания и самооценки» (1943) Бахтин, полемизируя с Ницше,
обозначил эту важнейшую проблему гуманитарной эпистемологии
как проблему «большой памяти»:
Эта большая память не есть память о прошлом (в отвлеченно
временном смысле); время относительно в ней. То, что возвращается,
вечно и в то же время невозвратно. Время здесь не линия, а сложная
форма тела вращения. Момент возвращения уловлен Ницше, но
абстрактно и механистически интерпретирован им. (...) В малом
опыте — один познающий (все остальное — объект познания), один
свободный субъект (все остальное — мертвые вещи), один говорит (все
остальное — безответно молчит). В большом опыте все живо, все
говорит, этот опыт глубоко и существенно диалогичен. Мысль мира
обо мне, мыслящем, скорее я объектен в субъектном мире. В
философии, в особенности в натурфилософии начала века, все это все
же рационализовано и оторвано от тысячелетних систем народных
символов, все это дано как собственный опыт, а не как
проникновенное истолкование многотысячелетнего опыта человечества,
воплощенного во внеофициальных системах символов86.
Проникновенное истолкование чужого «большого» опыта может
больше дать моей современности для ее же самосознания, чем
исповедально-экспрессивные «самовыражения», казалось бы, того же
самого опыта в качестве моего «собственного».
11.4. Поставленная гуманитарной эпистемологией XX в.
проблема «эйнштейновского разума», как мы говорили, в не
эйнштейновском мире большого опыта большого времени приводит нас к еще
одной постановке вопроса — в определенном смысле исходному и
решающему пункту всей проблематики «второго сознания». Это —
вопрос об одновременности, или современности, разновременников,
Введение. Второе сознание
61
прежде всего — в условиях «школы», педагогической ситуации:
учитель — ученик. О том, на каком фоне современных проблем
образования такая постановка вопроса «актуальна», можно умолчать:
ситуация (у нас, да и за рубежом) — известна. Нас здесь интересует,
конечно, не институциональная, но принципиальная
(философская) сторона дела, а это — проблема возможной равновременности
учителя и ученика в процессе обучения. В плане
герменевтической (диалогической) «духовной истории» вопрос о
«равновременности» с особенной остротой и глубиной был поставлен С. Кьерке-
гором. «Именно он, — писал Гадамер, — обозначил истину
христианского Евангелия как "одновременность" ("Gleichzeitigkeit"). Для
него подлинная задача бытия Христа состояла в том, чтобы снять
в "одновременности" дистанцию с прошлым. То, что у Кьеркегора
по теологическим причинам сформулировано в виде парадокса, на
самом деле имеет силу для всего нашего отношения к традиции и
прошлому»87.
Проблему «одновременности» Кьеркегор старается
поставить и разрешить (с особой, программной отчетливостью — в
«Философских крохах» 1843 г.) посредством перевода-перемещения-
переосмысления взаимоотношения «учитель — ученик» в античной
ситуации сократически-платоновского диалога (где измерение
диалогической «коммуникации» еще отсутствовало) в ситуацию Христа и
его учеников, а эту последнюю — в ситуацию своей современности и
своих современников. Сегодня вся эта проблематика встает с новой
остротой, причем как раз в контексте дискуссий о «конце истории»
и «конце философии»88. При этом первичным «керигматическим»
ядром остается ситуация «учитель — ученик», понятая реально, а
именно как феномен передачи знаний и одновременно жизненного
опыта, как перевод-переход из одного мира жизни в другой, из одного
«хронотопа» в другой.
Упоминавшийся О. Розеншток-Хюсси в своей философии речи
подчеркивает религиозно-мирское (в противоположность чисто
теологическому) измерение этой проблемы передачи-перемещения-
переложения знания и опыта. Ведь содержание обучения (как и так
называемое знание) в принципе можно мыслить (именно мыслить)
одномерно, однозначно, односмысленно, однонаправленно (кумму-
лятивно «вообще»). Трудность здесь (как всегда в мышлении) — в
том, чтобы помыслить не «предмет» (тем более не «идеал»)
образования, но сначала нечто, по слову позднего Шеллинга,
«предшествующее мышлению» (das Unvordenkliche), а именно — актуальный,
62
Введение. Второе сознание
реальный, социально-онтологический и исторически-ситуативный
феномен («первоклетку») образования:
Ибо образование есть процесс, в котором два «разновременника»
встречаются с тем, чтобы иметь возможность стать
современниками, как учил нас бл. Августин в своем De Magistro (...)
Образование (education) ни по форме, ни по методу не имеет дела с
вечностью. Вечность можно сделать содержанием обучения. Но процесс
образования является мирским, временым, нетеологическим,
социальным. Он имеет своей целью мир между классами, между
группами людей разного исторического времени. (...) Диалог в классной
комнате не является, таким образом, ни логическим феноменом, как
в диалогах Платона, ни математической конвенцией, как в
лаборатории физика89.
Это соображение делает более понятным вышеприведенный
корректив Гадамера по отношению к теологическому сужению Кьерке-
гором его же собственной задачи обоснования «одновременности»
смысла явления Христа и смысла всякой «современности» для
христианина. И это же соображение О. Розенштока-Хюсси, в свою очередь,
приближает к осознанию того, почему гуманитарная эпистемология —
философия «второго сознания», так сказать, на обе стороны —
дистанцируется не только от «классической» естественнонаучной
эпистемологии Нового времени, но также и от «постклассической, поскольку та
и другая имеют в виду движение во времени, тогда как гуманитарная
эпистемология имеет дело скорее с переменами во времени90.
11.5. Интересующий нас поворот эпистемологии и образования
к проблематики «второго сознания» — это практический поворот.
«Практический» в том смысле, что эта проблематика должна
преображаться, должна быть в особом смысле «действенной», притом, как
мы говорим, «на обе стороны» — по отношению к предмету
исследования и преподавания, также и по отношению к исследующему,
преподающему (передающему), говорящему. На этом пути
представляется возможным мыслить и практиковать оба вида деятельности
(исследование и преподавание) как своего рода «духовное делание» в
совершенно светском, реальном плане.
Именно в наше время, когда в философии и в гуманитарных
науках появились и быстро институционализируются, так сказать,
новые русские в философии и в гуманитарных науках — что
называется подкованные, владеющие не только несколькими
новоевропейскими языками, но и древними языками, плавно переходящие на
Введение. Второе сознание
63
языках оригинала от Аристотеля к Хайдеггеру, от Хайдеггера к Фоме
Аквинскому и к святым отцам, а то и прямо к разрешенному и
доступному, модному Господу Богу, — как раз в наши «нулевые годы»
поражает утрата чуткости к измерениям и изменениям
исторического опыта в «тексте», не вовсе наивный «теоретизм» и «филоло-
гизм» гуманитарных исследований и исследователей. Можно,
оказывается, иметь серьезные знания и писать, скажем, о Хайдеггере или о
Бахтине, ничему по-настоящему не научившись ни у Хайдеггера, ни
у Бахтина. Поэтому снова и по-новому встает старый вопрос о том,
«как можно учиться истине» (Кьеркегор) в самом процессе
исследования и преподавания.
Поскольку в наш супертрезвый новый век тайн не осталось и
все знают даже, что такое «диалог» или «герменевтика», то на
занятиях с аспирантами или на домашнем своем семинаре, чтобы
подступиться и не оступиться, я предлагаю не употреблять как бы
известное понятие, но пересказать, передать, переложить, перевести
его, как учили (если учили) в школе, — «своими словами». Поначалу
это кажется обучающимся ненужным и неинтересным; но потом они
входят во вкус, обнаруживая в таком упражнении реальный путь к
предмету и постановке вопроса о нем. По отношению к источнику,
к предмету мы лишь по видимости (в «естественной установке»)
обладаем «вторым сознанием»; его еще надо выработать и вырастить.
Подытоживая все сказанное, закончу следующим полупрогнозом-
полупостулатом: если структуралистская эпоха в гуманитарной
эпистемологии пыталась изменить парадигму в направлении (как это
выразил Ролан Барт) «от произведения к тексту»91, то в настоящее
время задача, как мне кажется, — уже в другом (она перешла в другое
социально-онтологическое измерение исторического опыта). Задача,
я думаю, заключается не только и не столько в освобождении от
догматизированных традиционных представлений о «произведении», об
«авторе», о «тексте» и т. п. (уже, так сказать, освободились...), сколько
в обновленном культивировании практик «воспроизведения»,
воссоздания. В эпоху тотальной эмансипации всех от всех, наступившей
в 1990-е годы, новый последний шанс гуманитарных наук и
гуманитарной эпистемологии — «второго сознания» — состоит в том, чтобы
сознательно и креативно, путем самоограничения, снова сделаться
собою, т. е. служебным и «вторым», а не единственно
господствующим, одним сознанием, которое в самый момент достижения
автономии и «самодостаточности» — не может не оказаться в пустоте.
64
Введение. Второе сознание
Примечания
Аверинцев С. С. Классическая греческая философия как явление
историко-литературного ряда // Он же. Образ античности. СПб., 2004.
С. 115.
Пастернак Б. Л. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. М.: Худ. литература, 1991.
С. 214—215.
См. об этом: Махов А. Е. Перевод-присвоение: «Чужое слово»
инкогнито // М. М. Бахтин и перспективы гуманитарных наук / Под ред. В. Л. Мах-
лина. Витебск: Издатель Н. А. Паньков, 1994. С. 109—114.
См.: Вейдле В. В. Россия и Запад // Вопросы философии. № 10. С. 68.
См.: Jean Grondin. Hans-Georg Gadamer: Eine Biographie. Tübingen, 2000.
S.319.
Майков В. Н. Критические опыты. СПб., 1891. С. 389. Подробнее о споре
Майкова и Белинского, едва не приведшего к дуэли, см.: Andrzej Walicki.
A History of Russian Thought: From the Enlightenment to Marxism.
Stanford (Calif.), 1979. P. 142—144.
Аверинцев С. С. Христианство // Он же. София-Логос: Словарь. Киев,
2001. С. 285.
Михайлов А. В. Терминологические исследования А. Ф. Лосева и истори-
зация нашего знания // Он же. Избранное: Историческая поэтика и
герменевтика. СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2006. С. 467.
О проблематике и истории философии гуманитарных наук см.: Misch
Georg. Die Idee der Lebensphilosophie in der Theorie der
Geisteswissenschaften (1924) // Ders. Vom Leben- und Gedankenkreis Wilhelm Diltheys.
Frankfurt a. M., 1947. S. 37—51; Rothacker Erich. Logik und Systematik der
Geisteswissenschaften. Bonn, 1948; Bodamer Theodore. Philosophie der Gei-
steswisenschaften. Freiburg; München, 1987; Ritter Joachim. Die Aufgabe
der Geisteswissenschaften in der modernen Gesellschaft // Ders.
Subjektivität. Frankfurt a. M., 1974. S. 105—140; Gründer Karlfried. Perspektiven für
eine Theorie der Geisteswissenschaft // Ders. Reflexion der Kontinuitäten.
Göttingen, 1982. S. 88—103; Bollnow Ο. Ε Studien zur Hermeneutik. Bd. I:
Zur Philosophie der Geisteswissenschaften. Freiburg; München, 1982; Mar-
quard O. Über die Unvermeidlichkeit der Geisteswissenschaft // Ders.
Apologie des Zufälligen. Stuttgart, 1986. S. 98—116; Ullmaier J. Kulturwissenschaft
im Zeichen der Moderne. Tübingen, 2001; Verstehen Rulter. Zur Geschichte
und Theorie der Geisteswissenschaften / Hrsg. von Gudrun Kühne-Bertram,
Hans-Ulrich Lessing und Volker Steenblock. Würzburg, 2003; Plessner Hel-
muth. Mit anderen Augen (Über die Rolle der «Anschauung» im Verstehen) //
Eine «Andere» Hermeneutik: Georg Misch zum 70. Geburtstag —
Festschrift aus dem Jahr 1948 / Hrsg. von Michael Weingarten. Bielefeld, 2005.
S. 198—212; Apel K.-O. Das Kommunikatuionsapriori und die Begründung
der Geisteswissenschaften // Wissenschaftstheorie der Geisteswissenschaften /
Hrsg. von Roland Simon Schaefer und Walter Ch. Zimmerli. Hamburg, 1975.
Введение. Второе сознание
65
S. 23—55; Апелъ К.-О. Трансформация философии 1973—1974 / Пер. с
нем. В. Куренного и Б. Скуратова. М.: Логос, 2001; Герменевтика.
Психология. История: Вильгельм Дильтей и современная философия. / Под
ред. Н. С. Плотникова. М.: Три квадрата, 2002.
10 См.: Апелъ К.-О. Трансформация философии. 1973—1974.
11 Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М.: Искусства, 1991. С. 7.
12 Дильтей В. Введение в науки о духе: Опыт полагания основ для изучения
общества и истории (1883) / Пер. и ред. В. С. Малахова. М., 2000. С. 405.
13 Gadamer H.-G. Piatos Denken in Utopien // Ders. Gesammelte Werke. Bd. 7.
Tübingen, 1999. S. 272.
14 См.: Hans-Georg Gadamer im Gespräch / Hrsg. von Carsten Dutt. 2. Aufl.
Heidelberg, 1995. S. 52.
15 Гадамер Г.-Г. Русские в Германии (интервью с В. С. Малаховым) //
Логос. 1992. №3(1). С. 230.
16 См. об этом: Плотников Н. С. Жизнь и история: Философская программа
Вильгельма Дильтея. М.: Дом интеллектуальной книги, 2000.
17 «Историко-философские дискуссии последних десятилетий, —
отмечает X. Зайферт, — поставили меня перед вопросом: а что, если у нас
вообще уже нет общего языка?» — Seifert H. Einführung in die
Wissenschaftstheorie (1. Aufl. 1969). 10. durchgesehene Aufl. Zweiter Band. München, 1996.
S. 21. Примечательно, что в учебнике X. Зайферта марксизм оказывается
ближе не к гуманитарной, а к сциентистской и аналитической
концепциям науки, а «диалектика», наоборот, ближе к своему донаучному
философскому началу — «искусству вести беседу», т. е. к герменевтически
обновленной модели сократовско-платоновского диалога.
18 См.: Розеншток-Хюсси О. Я — не чистый мыслитель: Превращение
мышления в дочь общества // Он же. Бог заставляет нас говорить / Сост., пер.
с нем. и англ., поел, и прим. А. И. Пигалева. М.: Канон, 1998. С. 221—242.
19 Федотов Г. П. Трагедия интеллигенции. // Он же. Судьба и грехи России.
Т. 1. СПб., 1991. С. 66.
20 Михайлов А. В. Цит. изд. С. 460,461.
21 На эту тему в исследованиях о Г. Шпете имеется уже определенная
литература. См. в особенности: Михайлов А. В. Современная
историческая поэтика и научно-философское наследие Густава Шпета // Он же.
Избранное: Историческая поэтика и герменевтика. С. 451—458;
Щедрина Т. Г «Я пишу как эхо другого...»: Очерки интеллектуальной биографии
Густава Шпета. М.: Прогресс-Традиция, 2004. С. 83—154 (глава «Шпетов-
ский образ исторической философии: немецкое "ученичество"»);
Плотников Н. С. Антропология или история: Полемика Г. Г. Шпета с В. Диль-
теем по поводу оснований гуманитарных наук // Густав Шпет и
современная философия гуманитарного знания. М.: Языки славянской
культуры, 2006. С. 171—186.
22 Ferry Lucy Renaut Attain. La pensée 68: Essai sur l'anti-humanisme contemporain.
Paris, 1985; Ferry Luc, Renaut Attain. Heidegger et les Modernes. Paris, 1988;
66
Введение. Второе сознание
Frank Manfred. Was ist Neostrukturalismus. Frankfurt a. M., 1984; Frank M.
Die Grenzen der Verständigung: Ein Geistergespräch zwischen Lyotard und
Habermas. Frankfurt a. M., 1988; Франк M. Политические аспекты
нового французского мышления // Логос. 1994. № 6. С. 315—326; Рено А. Эра
индивида.
См. об этом: Плотников Н. С. Философия для внутреннего
употребления // Термидор: Статьи 1992—2001. М.: Модест Колеров и «Три
квадрата», 2002. С. 73—90.
Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. М.: Гнозис, 1994. С. 19.
Ср. в том же «Логико-философском трактате» Витгенштейна (4.112):
«Цель философии — логическое прояснение мыслей. Философия не
учение, а деятельность. Философская работа по существу состоит из
разъяснений. Результат философии не "философские предложения", а
достигнутая ясность предложений». — Витгенштейн Л. Там же. С. 24. Ср. в
гуманитарно-эпистемологическом проекте M. M. Бахтина 1924 г.:
«Познание не принимает этической и эстетической оформленности бытия,
отталкивается от них: в этом смысле познание как бы ничего не предна-
ходит, начинает сначала. (...) Действительность, входя в науку,
сбрасывает с себя все ценностные одежды, чтобы стать голой и чистой
действительностью познания, где суверенно только единство истины». Бахтин
М. М. Собр. соч. Т. 1. М.: Языки славянской культуры, 2003. С. 284—285;
То же: Философия науки: Эпистемология. Методология. Культура
(Хрестоматия) / Под ред. Л. А. Микешиной и Т. Г. Щедриной. 2-е изд., испр. и
доп. М., 2006. С. 722.
Theunissen M. Möglichkeiten des Philosophierens heute // Ders. Negative
Theologie der Zeit. Frankfurt a. M., 1991. S. 13—36 (особ, разделы «Гегель и
зависимость философии от ее истории» и «Маркс и зависимость
философии от научных дисциплин». S. 16—25).
См. в этой связи: Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне (1985).
М.: Весь мир, 2003; Jams H. R. Der literarische Prozess des Modernismus
von Rousseau bis Adorno // Ders. Studien zum Epochenwandel der
ästhetischen Moderne. 2. Aufl. 1990. S. 67—103; Tradition und Innovation: XIII.
Deutscher Kongress für Philosophie / Hrsg. von W. Kluxen. Hamburg, 1988;
After Philosophy: End or Transformation? / Ed. by Kenneth Baynes et al.
Cambridge (Mass.); London, 1987; Frank M. Die Grenzen der Verständigung:
Ein Geistergespräch zwischen Lyotard und Habermas.. Frankfurt a. M., 1988;
Джанни Ваттимо. После христианства. М.: Три квадрата, 2007.
X. Зайферт пишет в своем цитировавшемся выше «Введении в теорию
науки»: «Я здесь пытался развивать как раз такое обоснование науки,
которое представляется книгой за семью печатями ученому,
работающему в аналитической традиции, но которое является само собой
разумеющимся для всякого, кто изучал гуманитарные дисциплины в
первой половине нашего (двадцатого. — В. М.) столетия». — Seifert H. Op.
cit. S. 21.
Введение. Второе сознание
67
Gadamer H.-G. Natur und Welt // Ders. Gesammelte Schriften. Bd. 7.
Tübingen, 1991. S. 418.
См.: Гадамер Г.-Г. История понятий как философия // Он же.
Актуальность прекрасного. С. 26—43; Historische Semantik und Begriffsgeschichte /
Hrsg. von Reinhart Koselleck. Stuttgart, 1979.
О происхождении термина см.: Bodamer Th. Philosophie der
Geisteswisenschaften. S. 24—25; Куренной В. Дескриптивная психология:
пролегомены к анализу теоретического содержания и общее
эпистемологическое затруднение // Герменевтика. Психология. История:
Вильгельм Дильтей и современная психология. С. 89—90 (прим. 11).
См. в этой связи соображения современных переводчиков сочинений
Дильтея в США.
См. об этом: Otto Pöggeler // Heidegger und die Wissenschaften // Ders,
Heidegger und die hermeneutische Philosophie. Freiburg; München, 1982. S. 395.
Апель К. О. Трансформация философии. С. 125.
Известный немецкий философ Эрнст Тугентхат, ученик Хайдеггера,
эволюционировавший в 1970-е гг. в сторону «анализа языка», начинает свое
«Введение в аналитическую философию языка» с указания на «нехватку
исторического сознания» (Mangel an historischem Bewusstsein) в
соответствующей традиции. См.: Tugendhat E. Vorlesungen zur Einführung in die
sprachanalytische Philosophie. Frankfurt a. M., 1976. S. 9.
См.: Ауэрбах Э. Филология мировой литературы (1952) // Вопросы
литературы. 2004 (сентябрь-октябрь). С. 135.
Апель К. О. Две фазы феноменологии в своем воздействии на
философское предпонимание языка и поэзии в настоящее время (1954) // Он же.
Трансформация философии. С. 7—15.
М. М. Бахтин (под маской) / Под ред. И. В. Пашкова. М.: Лабиринт, 2000.
С. 383.
В дальнейшем цитирую рабочие записи Μ. Μ. Бахтина 1959—60 гг.
(«Проблема текста») и 1960—70-х гг., как и второе издание книги M. M.
Бахтина о Достоевском (1963) по собранию сочинений (т. 5 и 6) с указанием в
тексте номера тома и страницы в скобках. См.: Бахтин Μ. Μ. Собр. соч.
Т. 5. М.: Русские словари, 1996; Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 6. М.: Языки
славянской культуры, 2002.
См.: Бахтин Μ. Μ. Слово в романе // Вопросы литературы и эстетики.
М.: Худ. литература, 1975. С. 87.
Подробнее об этом: Махлин В. Л. «Замедление»: Задача обратного
перевода // Литературоведение как литература: Сб. в честь С. Г.
Бочарова / Под ред. И. Л. Поповой. М.: Языки славянской культуры, 2004.
С. 399—402 (раздел «Экскурс о невстрече»).
См.: Дильтей В. Собр соч. Т. 3: Построение исторического мира в науках
о духе / Пер. под ред. В. Куренного. М.: Три квадрата, 2004. С. 239; Dilth-
еу W. Gesammelte Schriften. Bd. VII: Der Aufbau der geschichtlichen Welt
in den Geisteswisenschaften. 2. unveränd. Aufl. Stuttgart; Göttingen, 1958.
68
Введение. Второе сознание
S. 191. Благодарю Н. С. Плотникова за это указание. Уместно отметить
здесь, что М. Бубер считал Дильтея своим учителем; подробнее об этом
см.: Махлин В. Л. Я и Другой: К истории диалогического принципа в
философии XX в. М.: Лабиринт, 1997. С. 12—14.
43 Бахтин M. М. Собр. соч. Т. 5. С. 8.
44 Подробнее об этом см. : Махлин В. Л. Амбивалентная преемственность //
Бахтинский вестник / Под ред. В. И. Костина. Орел, 2005. С. 741—761.
45 В своем полномасштабном (но тоже оставшемся фрагментом,
напечатанном полвека спустя) проекте гуманитарной эпистемологии 1924 г.
M. M. Бахтин специально подчеркивает «философскую и жизненную»
важность анализа «полунаучного эстетизованного мышления таких
философов, как Ницше и др» и эстетизма — «неправомерного перенесения
эстетических форм в область этического поступка (лично-жизненного,
политического, социального) и в область познания». См.: Бахтин M. М.
Собр. соч. Т. 1. М.: Языки славянской культуры, 2003. С. 279—280.
46 Волошинов В. Н. Слово в жизни и слово в поэзии // Звезда. 1926. № 6.
С. 245; M. M. Бахтин (под маской). С. 73.
47 См.: Розенцвейг Ф. Новое мышление (1925) / Пер. В. Л. Махлина //
Философия культуры: Сборник переводов. М.: ИНИОН, 1998. С. 19; Гада-
мер Г.-Г. Неспособность к разговору // Он же. Актуальность
прекрасного. С. 87.
48 См. об этом: Холквист М. Услышанная неслышимость: Бахтин и Дерри-
да (1986) // Бахтинский сборник — V / Под ред. В. Л. Махлина. М.: Языки
славянской культуры. М., 2004. С. 88—108.
49 Роди Ф. Жизненные корни гуманитарных наук: По поводу отношения
«психологии» и «герменевтики» в позднем творчестве Дильтея //
Герменевтика. Психология. История: Вильгельм Дильтей и современная
психология. Цит. изд. С. 19. Подробнее об этом см.: Plotnikov N. Ein Kapitel
aus der Geschichte des Strukturalismus: Gustav Spet als Vermittler zwischen
Phänomenologie, Hermeneutik und Strukturalismus // Archiv fÜK
Begriffsgeschichte. Bd. 48 (Jg. 2006). Hamburg, 2006. S. 191—201.
50 См. в этой связи сборник текстов, симулировавший такое
противостояние, но одновременно и «легализовавший» его в советских условиях в
порядке научной дискуссии: Структурализм: «за» и «против»: Сборник
статей. М.: Прогресс, 1975.
51 См. в особенности: Автономова Н. С. Структурализм и философские
проблемы гуманитарного знания. М.: Наука, 1977.
52 M. M. Бахтин (под маской). С. 235.
53 В западноевропейской философии науки с особой резкостью, даже
агрессивностью позицию «единой науки», одного «научного разума»
представляет последователь К. Поппера немецкий эпистемолог Ганс Альберт. См.,
в частности: Albert H. Kritik der reinen Hermeneutik. Der Antirealismus und
das Problem des Verstehens. Tübingen, 1994. См. возражения Г.
Альберту современных последователей Дильтея и Плесснера — Г.-У. Лессинга
Введение. Второе сознание
69
и Ф. Роди: Lessing H.-U. Gegen Hans Alberts naturalistische Reduktion der
Sinnproblematik // Dilthey-Jahrbuch (10). 1996. S. 264—273; Lessing H.-U.
Gibt es eine philologische Erkenntnis und Wahrheit // Philologie und
Philosophie / Hrsg. von Hans Gerhard Senger. Tübingen, 1998. S. 46—57.
54 Бахтин M. M. Собр. соч. Т. 1. С. 22.
55 Там же. С. 8.
56 Печален и трагичен не только сам по себе факт высылки, но его
«действенная история» (будущее этого факта прошлого вплоть до
постсоветской современности). Рецепция «Заката Европы» стала последней
серьезной философской попыткой осмысления общекультурной и
общефилософской ситуации со своего (русского) становящегося
исторического места; это место было утрачено после 1922 г., т. е. с того
самого «слома парадигмы», с которого философия XX в., собственно,
началась. (Полагаю, M. M. Бахтин просто бросил писать свой
основополагающий текст «К философии поступка» тою же осенью 1922 г.:
исчезновение из дискуссии на родине главных участников сделало со временем
совсем непонятным поворотное место этого мыслителя в русской
философии.) О кризисе «мировоззренческой самоидентификации»
русской религиозно-идеалистической философии в связи с рецепцией
книги О. Шпенглера см.: Тиме Г. А. Закат Европы как «центральная мысль
русской философии. (О мировоззренческой самоидентификации России
в начале 1920-х гг.) // XX век. Двадцатые годы: Из истории
международных связей русской литературы / Под ред. Г. А. Тиме. СПб.: Наука, 2006.
С. 62—88.
57 Ницше Ф. Воля к власти. М., 1994. С. 44.
58 Theunissen M. Der Andere: Studien zur Sozialontologie der Gegenwart.
Berlin, 1965. См. также: От Я к Другому: Проблемы социальной онтологии
в постклассической философии / Под ред. Т. Щицовой. Минск:
Пропилеи, 1998.
59 Подробнее об этом: Махлин В. Л. «Из революции выходящий»:
Программа // Бахтинский сборник — III. М.: Лабиринт, 1997. С. 198—248; Он же.
Философская программа M. M. Бахтина и смена парадигмы в
гуманитарном познании. М.: МПГУ, 1997.
60 Подробнее об этом см.: Махлин В. Л. Незаслуженный собеседник //
Бахтинский сборник—V», М.: Языки славянской культуры, 2004.
61 В истории «социальной онтологии» важное место занимает
диссертационное исследование К. Левита «Индивидуум в роли сочеловека» (1928),
выполненное под руководством М. Хайдеггера; см.: Löwith. Das
Individuum in der Rolle des Mitmenschen. 2, AufL Darmstadt, 1962. Левит
пытался здесь восполнить экзистенциализм своего учителя философией
диалога, от Фейербаха до Бубера. Интересно, что если Левит, в общем,
отказался от своего проекта после 1920-х гг., то его приятель и оппонент Га-
дамер, наоборот, скорее продолжал хайдеггеровский проект,
дистанцируясь в то же время от ненаучных крайностей как Хайдеггера, так и его
70
Введение. Второе сознание
«диалогических» оппонентов. В этом отношении он тоже сближается с
М. М. Бахтиным — разумеется, независимо ни от каких внешних
контактов и влияний, которых просто не было и уже не могло быть.
62 Бахтин M. M. Собр. соч. Т. 5. С. 72.
63 Бубер М. К истории диалогического принципа (1954) // Махлин В. Л. Я и
Другой: К истории диалогического принципа в философии XX в. С. 230.
64 Бахтин M. M. Собр. соч. Т. 1. С. 67.
65 Там же. С. 104.
66 Лосев А. Ф. История античной эстетики. Поздний эллинизм. М.:
Искусство, 1980. С. 595.
67 Бахтин M. M. Собр. соч. Т. 5. С. 136.
68 Бахтин M. M. К философии поступка. С. 59.
69 Я заимствую это слово — «перерассказать» — из книги А. 3. Штейнбер-
га периода смены философско-гуманитарной парадигмы; см.: Штей-
берг А. 3. Система свободы у Достоевского. Берлин, 1923. «Как
Достоевского перерассказать? — спрашивает автор и добавляет: — "В сущности,
вся так называемая история философии есть не столько история систем,
сколько история их передани самими подвижниками человеческого
самосознания, теми, кого называют философами"» (там же).
70 Михайлов А. В. Языки культуры. М.: Языки русской культуры, 1997.
С. 863.
71 Манн Т. Об учении Шпенглера (1924) // Он же. Собр. соч.: В 10 т. Т. 9. М.:
ГИХЛ, 1960. С. 618. Манн отмечает здесь, что «свинцовый исторический
материализм» Шпенглера, по сравнению с которым марксизм — «не
более, чем голубой идеалистический туман», — это учение, которое «не
перешагнуло рубеж девятнадцатого века». Уместно отметить, что основные
мыслители смены гуманитарно-философской парадигмы XX в. — Ф. Ро-
зенцвейг, М. Хайдеггер, М. М. Бахтин и др. — в начале 1920-х гг. прямо
полемизируют со Шпенглером в главном пункте, а именно по вопросу о
сущности исторического опыта, и примерно в общем направлении —
новой онтологии и критики «старого мышления» (Ф. Розенцвейг), т. е.
действенной истории греческой эстетической метафизики и
обусловленного ею и радикализованного в Новое время «теоретизма» и «монологиз-
ма» (M. M. Бахтин).
72 Бахтин M. M. Собр. соч. Т. 1. С. 261.
73 Гвардини Р. Конец нового времени (1950) // Вопросы философии. 1990.
№ 4. С. 151. «Сегодня, — писал Гвардини в середине прошлого века, —
все яснее, что культура нового времени: наука, философия,
воспитание, учение об обществе, литература, — неверно видела человека: не
только в частностях, но в самой исходной предпосылке, а потому и в
целом» (там же).
74 См. в этой связи: Аверинцев С. Глубинные корни общности (1988) // Лики
культуры. Альманах. Т. 1. М.: Юрист, 1995. С. 431—444.
75 Ортега-и-Гассет X. Что такое философия? М.: Наука, 1991. С. 350.
Введение. Второе сознание
71
76 Пришвин М. М. Собрание сочиненией: В 8 т. Т. 2. М.: Художественная
литература, 1982. С. 318. См. в этой связи фрагмент «Русский Kehre в "Ка-
щеевой цепи"» М. М. Пришвина в моей книге: Махлин В.Л.Яи Другой: К
истории диалогического принципа в философии XX в. С. 75—80.
77 Там же. С. 379.
78 Гадамер Х.-Г. Что есть истина? // Логос. 1991. № 1. С. 30.
79 См. об этом: Walicki Andrzej. A History of Russian Thought. P. 6.
80 Немецко-еврейский мыслитель Франц Розенцвейг (1886—1929) с
большой отчетливостью выразил этот образ мыслей в программной статье
«Новое мышление» (1925). Ср.: «Бог и мир и человек! Это слово-союз
вновь должно возвратиться в философское познание (...). В отличие от
традиционной философской истины, которая допускает лишь познание
себя самой, — истина, о которой мы говорим, должна быть таковой для
всякого другого (Wahrheit für Jemanden). Если уж говорить об истине
самой по себе, безраздельной и безотносительной единственной истине,
то ведь даже и она может быть таковой не "в себе", а для кого-то (für den
Einen). Отсюда с необходимостью следует, что то, что мы называем
истиной, существует на самом деле в качестве разносторонней,
многообразной реальности смысла. Представление о какой-то одной, раз и
навсегда данной, готовой, равной себе, неизменной и общезначимой
"истине" должно уступить место осознанию нашей реальной
причастности». — Розенцвейг Ф. Новое мышление. Несколько дополнительных
замечаний к «Звезде спасения» / Пер. В. Л. Махлина // Философия
культуры / Под ред С. Я. Левит. М.: ИНИОН РАН, 1998. С. 25—26.
81 См. критический разбор книги Ф. Штриха: Лосев Φ. Φ. Диалектика
художественной формы. М.: Изд. автора, 1927. С. 205—207.
82 Mann Th. Briefe, 1937—1947 / Hrsg. von Erika Mann. Frankfurt a. M., 1963.
S. 43—44.
83 Ebda.
84 Beler E. Kritische Geganken zum Begriff der europäischen Romantik // Die
europäischen Romantik / Hrsg. von Ernst Behler. Frankfurt a. M., 1972. S. 7.
85 Бахтин M. M. Ответ на вопрос редакции «Нового мира» (1970) // Он же.
Собр. соч. Т. 6. С. 454. Ср.: «Модернизации и искажения, конечно, были
и будут. Но не за их счет вырос Шекспир. Он вырос за счет того, что
действительно было и есть в его произведениях, но что ни сам он, ни его
современники не могли осознанно воспринять и оценить в контексте
культуры своей эпохи. Смысловые явления могут существовать в скрытом
виде, потенциально, и раскрываться только в благоприятных для этого
раскрытия смысловых культурных контекстов последующих эпох» (там
же).
86 Бахтин M. M. Собр. соч. Т. 5. С. 78—79.
87 Гадамер Х.-Г. Что есть истина? С. 36. Перевод несколько скорректирован.
88 Э. Ю. Соловьев, один из лучших наших философов старшего поколения,
говорил на защите моего диссертационного доклада 15.1.1998 г.: «Может
72
Введение. Второе сознание
быть, единственная область практическая, в которой будет
разворачиваться действительно строго построяемая гуманитарная парадигма, —
это будет проблематика воспитания. В том виде, как она была задана
одним из первых критиков старой, классической модерной парадигмы,
Кьеркегором, когда он сказал, что основной вопрос заключается в том, в
какой мере и как мы можем учить истине. Мне кажется, что сейчас,
действительно, все разговоры о конце истории, конце философии не
беспочвенны, потому что, на мой взгляд, историософия, философия истории
и социальная философия — кончились. Таких продуктивных явлений,
по моему убеждению, в ближайшие 20—30 лет — не будет». См.: Диалог.
Карнавал. Хронотоп. 1998. № 2 (Витебск—Москва). С. 190.
Розеншток-Хюсси О. Речь и действительность. М.: Лабиринт, 1994.
С. 36—37. Интересно сравнить это понимание «процесса образования» с
религиозно-социальной концепцией «прогресса» как премственности у
B. С. Соловьева в его философской притче «Тайна прогресса» (1898). На
возможность такого сопоставления указал американский ученик Розен-
штока Клинтон Гарднер в своей книге, посвященной временным и мыс-
ловым корреляциям между русской философией от И. Киреевского до
М. Бахтина и западными «диалогическим мыслителями». См.: Гарднер К.
Между Востоком и Западом. М.: Наука, 1993. С. 46—48.
Ср.: «Концепция времени как четвертого измерения пространства
лишает время его специфического качества — перемены. В самом деле,
перемены есть нечто большее, чем движение. Всякая перемена
двусмысленна. Она с равным успехом может быть изменением как в
худшую, так и в лучшую сторону. Она может вести к смерти или к новой
жизни. Если бы время следовало изучать только потому, что во
времени все подвержено переменам, подобно погоде в Новой Англии,
временные феномены были бы лишены критерия, устанавливающего
между ними порядок — в том, что касается последовательности событий,
праведности, справедливости, желательности и т. п.» — Розеншток-
Хюсси О. Указ. соч. С. 38. Со своей стороны, в контексте
«трансцендентальной феноменологии» «мира жизни», ограничивал
эпистемологическую релевантность теории относительности и поздний Э.
Гуссерль. Ср. в «Венском докладе» (1935): «Революционный переворот,
произведенный Эйнштейном, касается лишь формул, в которых
описывается идеализированная и наивно опредмеченная природа. Но
каким образом формулы или математическая объективация вообще
обретают смысл на фоне жизни наглядно воспринимаемого
окружающего мира — об этом ничего не говорится, и Эйнштейн не
преображает (reformiert) пространство и время, в которых протекает наша
действительная жизнь». — Гуссерль Э. Кризис европейского человечества
и философия // Культурология. XX век: Антология. М.: Юрист, 1995.
C. 323.
Введение. Второе сознание
73
91 Барт Р. От произведения к тексту (1971) (пер. С. Н. Зенкина) // Он же.
Избранные работы: Семиотика. Поэтика / Под ред. Г. К. Косикова. М.:
Прогресс, 1989. С. 413—423.
Раздел первый
П ЕРЕХОД
ЭПИСТЕМОЛОГИЯ
В СПОРЕ «ДРЕВНИХ» И «НОВЫХ»
(Д. Вико против Р. Декарта)
Почему Вико?
Разговор о гуманитарной эпистемологии в ее истории
целесообразно начинать не с кого-нибудь, но с Джамбаттисты Вико (1668—
1744). То обстоятельство, что этот не слишком успешный при жизни
преподаватель риторики из Неаполя лишь в относительно конечной
точке развития современного гуманитарного мышления мог быть
осознан как инициатор, т. е. как относительно исходная точка
развития, — это сам по себе ценный пример «релятивистского»
понимания времени и историчности, которое отчасти станет новой
наукой, «новым мышлением» только в XX в. Станет практически
одновременно с «теорией относительности» и новой естественнонаучной
эпистемологией в качестве перехода к новому мышлению,
восполняющему физику Галилея и Ньютона1.
Вико для нас — первый подступ постольку, поскольку в его
«Новой науке» (1725, 1744) находим три принципиальных
различения, три мотива, существенных для гуманитарной эпистемологии
прошлого, настоящего и будущего. Вико принадлежит:
(1) полномасштабная попытка обоснования специфики
исторического опыта мира жизни в его отличии от математического или
естественнонаучного и, соответственно, разработка подхода,
адекватного этого опыту.
(2) принципиальное разведение (различение) «Философии» и
«Филологии», двух не сводимых друг к другу типов познания, из
которых в основном только второй тип представляет собой
методический коррелят гуманитарных наук, корректирующий философию. С
этой новой в Новое время, но в действительности древней оценкой
филологии связан радикальный демократический мотив, снова и по-
новому осознанный и оцененный лишь в конце Нового времени, а
именно
78
Раздел первый. Переход
(3) укорененность так называемой культуры в более глубоком
условии ее (культуры) возможности — «политических» формах
домостроительства и жизнестроительства «гражданского мира» (mondo
civile) наций, в свою очередь обусловленных коллективным «общим
чувством», или «здравым смыслом» (sensus communis).
Обозначенные три мотива взаимосвязаны у самого Вико и по-
особому, как представляется, актуальны сегодня под углом зрения
знаменитой дискуссии эпохи Вико — так называемого «спора древних
и новых» (La querelle des anciens et des modems) в конце XVII —
начале XVIII в. во Франции2. Этот спор, разумеется, был ограничен как
своим временем, так и специальной областью (эстетического)
«суждения вкуса»; импульсом дискуссии был вопрос: какие произведения
искусства выше и достойнее — нашей ли блистательной
современности «короля-солнце» (Людовика XIV), или все же древние
остаются непревзойденным образцом? Но, во-первых, «спор древних
и новых» был только более или менее риторическим и
теоретическим проявлением (овнешнением) основного напряжения всей
духовно-идеологической культуры эпохи — конфликта между
традицией и «модерностью»; в теории познания (эпистемологии) этот
конфликт нашел синхронное и глубокое выражение в споре Вико с
«новой» умонастроенностью и умонаправленностью — математико-
естественнонаучным рационализмом, картезианством и
персонально с Р. Декартом. А во-вторых, «спор древних и новых», как
все по-настоящему реальное, — явление не только «малого», но и
«большого» времени; сегодня этот конфликт — такой же факт
«действенной истории» (т. е. истории, действующей в настоящем
времени, «со-временно»), как триста лет назад, или в эпоху Платона, или
в пореволюционный период трех Фридрихов — Шиллера, Шлегеля и
Шлейермахера в 1790-е годы. «Герменевтический опыт», о котором в
свое время (почти уже в наше время) заговорит Г.-Г. Гадамер, — это
исторический опыт такого «присутствия», такой современности,
которая «относительна», или «релятивна», т. е. всегда уникальна и
всегда уже была. История — это вечно возвращающийся и
обновляющийся, «онтологически-событийный» (по терминологии М. Бахтина)
спор «древних» и «новых» внутри древнего и нового «события бытия»,
«большого времени». Это — важнейший (и труднейший) аспект
современной герменевтической философии и, соответственно,
гуманитарной эпистемологии.
Никакое сколько-нибудь цельное и полное изложение и
обсуждение «Новой науки» не входит в нашу задачу. Мы ограничимся
Эпистемология в споре «древних» и «новых» 79
комментирующим рассмотрением трех упомянутых мотивов в их
взаимосвязи, как бы в поперечном разрезе объединяющей их темы спора
«древних» и «новых». Такой подход, или подступ, — не выдумка: он
имеет свои традиции и предпосылки в истории рецепции Вико в
минувшем столетии, а равно и в идее «рецепции» как таковой.
К истории рецепции
Вико — не слишком частый, но тем более поучительный случай
относительности, казалось бы, общезначимого и однозначного
понятия «современность»: как мыслитель он оказался куда ближе не
столько своим современникам из восемнадцатого столетия, сколько
своим постсовременникам из двадцатого столетия. История
рецепции его идей по-настоящему началась через сто-сто пятьдесят
лет после смерти автора «Новой науки», а его значение осознано и
оценено в особенности за последние пятьдесят лет. Фердинанд Фел-
лман в своей книге о Вико утверждал, что мощная фасцинация,
которую вызывает и, вероятно, всегда будет вызывать мысль Вико, —
естественное следствие того, что его творчество не имело
«непосредственного» влияния или рецепции, того, что Гадамер называет
«действенной истории» (Wirkungsgeschichte)3. Вероятно, это так, но что,
если (как и в случае M. M. Бахтина) отсутствие непосредственной
преемственности имеет не только недостатки (произвол), но и
преимущества, когда «невместимость» интерпретируемого источника в свое
время куда очевиднее разновременникам, чем современникам (не
исключая и скептика Ф. Феллмана, невольно напоминающего этим
своим высказыванием о том, что Вико как мыслитель — оппонент
скептиков)? Скептицизм — неплохое лекарство против идеализма, но
он, к сожалению, половинчат и потому вновь может привести к
идеализму (хотя бы и «материалистическому»). Перефразируя слова
Бахтина о Достоевском, можно даже сказать, что Вико еще не стал Вико,
он все еще становится им; сама возможность заговорить о нем в
интересующей нас ретроспективе и перспективе была бы немыслима вне
истории рецепции.
Впрочем, и сама теоретическая проблема «рецепции» — условия
возможности активной встречи данной современности с преднахо-
димым ему творческим источником (произведением, памятником,
текстом, «чужим словом») — относится ко всей области
герменевтического разума, т. е. к области гуманитарной эпистемологии. Ведь
не только так называемая «рецептивная эстетика» — гуманитарно-
эпистемологическая программа исследований, которую осуществлял
80
Раздел первый. Переход
выдающийся немецкий филолог Ганс Роберт Яусс (1921—1997) и его
так называемая Констанцская школа в рамках междисциплинарного
семинара «Поэтика и герменевтика» в 1960—1990-е гг., — но и всякая
ре-цепция предполагает «второе сознание» независимо от того, тема-
тизируем ли мы (и называем ли вообще) этот феномен или
ограничиваемся каким-то, по выражению Вико, «суждением без рефлексии».
У мыслителя раннего Просвещения, каким был Вико, лишь в
исторический момент обращения Просвещения в нечто
проблематичное (если не обратное) просветительской программе и
идеалам разглядели и признали, с одной стороны, современные
проблемы исторического опыта и наук исторического опыта, а с другой
стороны — возможности противопоставить современному
сциентизму и техницизму, неслыханной прежде виртуализации мира в
теориях, теоремах, концепциях и концептах — некий совсем другой
подход к древним и новым проблемам общественного сознания и
общественных наук. Мысль Вико, отстаивавшего в свое время
филологию и риторику против картезианского рационализма, а
гуманистическую традицию — против «тщеславия ученых» и «тщеславия
наций», — мысль Вико оказалась по-новому современной как раз в
связи с научно-философской критикой современности («модерна») с
ее, современности, идолатрией «научности», «теории», «прогресса»,
«истории», «народности», «культуры» и т. п.
Вико писал о «вечной идеальной истории» — последняя стала
реальной проблемой постольку, поскольку в XX в. снова и по-новому
под вопросом оказалась природа основных феноменов всякого
общественно-исторического бытия. Эти неотъемлемые феномены —
государство, нация, семья, авторитеты, т. е. человеческая общность
как таковая (включая, конечно, и научное сообщество).
Идеальность и реальность этих феноменов неаполитанский мыслитель
обосновывал совсем не в духе современного этатизма, современного
национализма и современного сциентизма. Все это и сделало почти
забытого мыслителя как бы вдруг интересным и перспективным для
самых разных, подчас конкурирующих между собою философских,
научно-гуманитарных, духовно-идеологических направлений.
История рецепции, как она ни противоречива и ни разнообразна,
позволяет утверждать, что Вико как-то сохранил в единстве то, что
в Новое время оказалось поляризованным, благодаря особому
переводу древней гуманистической традиции в русло теологически
обоснованной философии исторического мира — философии филологии,
или, на языке Вико, «философии авторитета». Этот перевод сегодня,
Эпистемология в споре «древних» и «новых» 81
в свою очередь, требует обновленного перевода, т. е. переложения-
перерассказа-перемещения в современный контекст и социально-
онтологический затекст разговора.
Если еще в начале прошлого столетия в центре внимания
исследователей и интерпретаторов (таких как Б. Кроче)4 была
«философия истории» Вико, которая даже в оппозиции гегельянской
модели истории все равно воспринималась и мыслилась в тени Гегеля и
зачастую на фоне марксистской революционной «картины миры» —
в качестве хотя бы и диалектической, но все равно метафизики, — то
уже начиная с 1920-х и особенно с 1960-х гг. можно констатировать
заметное перемещение интереса в направлении, так сказать,
«микроистории» как «макрофилологии». Динамика рецепции отражает и
преломляет непрерывно становящийся социально-онтологический
затекст исторического мира жизни. Меняется характер интереса к
истории вообще (не впервые возникшая идея «конца истории» —
симптом, в частности, этой смены интереса); отсюда же меняется
специфика и направленность интереса к Вико как одному из
инициаторов западноевропейского историзма, притом — «другого»
историзма.
Это можно выразить еще и так: восприятие истории и интерес
к истории как «тотальности» — в смысле некоторого
объективированного, теоретически-умозрительного образа, или картины, —
уступило или уступает место куда более «замедленному», зато
дифференцированному и обогащенному восприятию мира жизни как
конкретного исторического опыта. Чем больше я осознаю себя причастным
историческому опыту в его значимой, герменевтической
фактичности, в его непрерывном обращающемся вспять становлении, — о
таком становлении, среди прочего, заговорил Вико, — тем меньше
я могу объять и контролировать эту действительную, не
умозрительную полноту или тотальность опыта в качестве некоторого
овеществленного представления «тотальности», или «паноптикума»5.
Крах такого тотального, или тоталитарного, умозрительного
представления об истории (и о государстве) одни осознали в 1920-е гг.
(во время и после Первой мировой войны), другие в 1960-е гг. (после
сталинизма), в 1980—1990-е гг. это было доведено до сведения, если
не «до ума», всех, а в последние «нулевые» годы новая очередная
мифологизация истории вновь сделала актуальными все старые
проблемы — и политические, и эпистемологические.
Научная литература о Вико на Западе очень обширна; у нас она,
в общем, невелика, а главное, на нее трудно опираться: за вычетом
82
Раздел первый. Переход
гегельянски-марксистской традиции (притом более или менее
официального советского толка) отсутствуют перспективные
подходы (но никак не отдельные ценные наблюдения!), которые можно
было бы развивать или хотя бы оспорить. Ведь всякая существенная
мысль, идея, тема интересна и действенна не столько своей
«сущностью» (отвлеченно понятой), сколько своей направленностью —
«направлением видения конкретного», как сказал бы M. M. Бахтин. Есть
отдельные работы о Вико, есть даже перевод (далекий от
совершенства)6 его главной книги (изданный в 1940 г. вместе с отрывками его
«Автобиографии»; переиздание — 1994 г.)7; трудность — в другом. В
советском веке не было и не могло быть никакого принципиального
разговора о Вико, т. е. настоящей научной дискуссии, изменяющей
участников и аудиторию. Впрочем, это наблюдение относится не
только к тому, что один из итальянских комментаторов Вико назвал
его «проектом новой эпистемологии» (il projette di una nuova episte-
mologia)8. Трудность включиться в разговор связана с судьбой
демократии в советском веке. Еще труднее войти в ясность того, почему до
середины XX в. более распространенной традицией истолкования
наследия Вико на Западе оставалась гегельянская линия рецепции; ее не
всегда легко отделить от марксистских истолкований и оценок (как,
впрочем, и от фашистских или парафашистских). Но если на Западе
эта традиция с самого начала существовала наряду с другими
подходами, другими традициями истолкования, то в Советском Союзе,
естественно, подход мог быть только один; и он не перерос ни в какую
серьезную дискуссию и стал разлагаться (в эпоху «застоя»), в
сущности, даже не пройдя стадию нормального развития. Поскольку
«парадигма» была одна, то и развиваться и разлагаться она могла только
«в себе». В наших учебниках по истории философии Вико до сих пор,
как правило, даже не упоминается: его «Новая наука» не
воспринимается ни как философия, ни как наука; достойные упоминания
исключения из этого правила, как и положено исключениям,
подтверждают правило9.
Альтернативой советскому сознанию, вобравшему в себя
«идеальную вечную историю» и утонувшему в этой истории совсем не
по-викиански, могут быть только традиции гуманитарной
эпистемологии, которая, в свою очередь, должна быть связана с
гуманистической традицией (политической и риторической). У нас еще будет
повод заметить в других очерках этой книги, как, почему и в каких
границах эти традиции были удержаны на протяжении советского
века не столько в философии, сколько в филологии.
Эпистемология в споре «древних» и «новых» 83
Кассирер, Ауэрбах, Берлин, Гад а мер
Поскольку история рецепции Вико в XX в. имеет для нас
принципиальное значение, то стоит привести и прокомментировать
несколько высказываний о Вико для того, чтобы сориентировать
последующее изложение в перспективе и ретроспективе гуманитарной
эпистемологии.
Эрнст Кассирер (1874—1945), выдающийся философ прошлого
столетия, высказывался о Вико в контексте разрабатывавшейся
им в 1920-е гг. «философии символических форм», позднее —
«логики наук о культуре» (гуманитарных наук). У Вико Кассирер
находит общее решение эпистемологической проблемы — проблемы
познания исторического мира жизни, перед которой осознает себя
и сам Кассирер, вышедший из так называемого Марбургского
неокантианства. Дело философии учителя Кассирера — Герман Коген
и Пауль Наторп — почти отождествляли (это «почти» имеет важное
значение, но в другой связи) с обоснованием математического и
естественнонаучного знания как идеала познания. Но именно в этом
пункте Кассирер, любимый ученик Г. Когена, не продолжал своего
учителя в 1920-е гг. (как, впрочем, и сам Коген, хотя и по-другому, не
продолжал себя в последние годы жизни); на этом знаменательном
повороте, совпавшем с тем, что мы называем «сменой гуманитарной
парадигмы» между 1914-м и 1923-м гг., Кассирер заново определяет
место Вико в истории философии и гуманитарной эпистемологии в
контексте собственной постановки вопроса. Не вправе ли мы
перенести методы «точных» наук также и на познание истории? Или
исторический опыт все же требует от науки (от научной философии, в
отличие от какой бы то ни было метафизики) адекватных реальному
миру жизни подходов, понятий, языка разговора?
«Первым мыслителем, — читаем в работе Кассирера
"Логика наук о культуре" (1942), — который поставил этот вопрос со
всей остротой, был Джамбаттиста Вико. Собственно говоря,
"Философия истории" Вико заключалась не в учении об историческом
процессе и ритмах его отдельных фаз. Различие эпох в истории
человечества и попытка проследить в ней определенное правило
следования: переход от "божественной" эпохи к "героической", от
"героической" к "человеческой" еще смешано у Вико с некоторыми
фантастическими чертами. Но то, что он видел четко, и за что со всей
решимостью боролся с Декартом, была особенность и самоценность
его метода исторического познания. (...) Объекты математики не
84
Раздел первый. Переход
обладают никаким другим бытием, кроме того абстрактного бытия,
которым наделяет их человеческий дух. Следовательно, наше
познание стоит перед неустранимой альтернативой. Либо познание
движется к некоторой "части действительности", но в этом случае
оно не может полностью проникнуть в свой предмет, а способно
лишь описать его эмпирически и по частям, по отдельным
характерным признакам. Либо познание достигает полноты понимания,
адекватной идеи, соответствующей природе и сущности предмета,
но при этом оно не выходит за круг собственных понятийных
построений. Объект в этом случае обладает лишь тем качеством,
которое произвольно приписано познанием. Из этой дилеммы,
согласно Вико, мы выходим лишь тогда, когда выходим за пределы
как математики, так и эмпирического естествознания. Только
творения человеческой культуры (выделено в тексте. — В. М.)
объединяют в себе эти два условия совершенного познания: они суть не
только понятийно-мыслительное, но и вполне конкретное,
индивидуальное и историческое бытие»10.
Для нас здесь не так важно, что эта характеристика Вико не вполне
выходит за пределы научного идеализма неокантианского образца — и
постольку остается в границах так называемой философии культуры
и так называемой философии истории — секуляризованных
двойников метафизики в буржуазно-либеральном сознании, лишившемся
почвы — как не уставал напоминать Гадамер — уже «в материальных
битвах первой мировой войны»11. Здесь важнее другое: именно
потому, что Кассирер по своим истокам принадлежал скорее к могучей
традиции философии математического естествознания Нового
времени, — исследовательская переориентация Кассирера на
философию «наук о духе» (во время Первой мировой войны), или «наук о
культуре» (это обозначение после эмиграции Кассирера имело целью
дистанцироваться от слишком «немецких» коннотаций, связанных
с понятием Geisteswissenschaften после 1933 г.) чрезвычайно
показательна как сама по себе, так и в связи с общей оценкой Вико в
контексте истории гуманитарной эпистемологии. Кассирер с большой
ясностью и отчетливостью формулирует «неустранимую альтернативу»
гуманитарной эпистемологии и ее принципиальную задачу: выйти
за пределы «ясных и отчетливых» понятий негуманитарной
эпистемологии, картезианской научной парадигмы, ориентированной
на математический и естественнонаучный способ познания.
«Конкретное, индивидуальное и историческое бытие» как-то по-своему
ясно и отчетливо само и требует адекватного подхода и — отхода от
Эпистемология в споре «древних» и «новых» 85
«рационализма» и «научности», как их понимают в Новое время, от
Декарта до неокантианства.
Эрих Ауэрбах (1892—1957), выдающийся
филолог-мыслитель XX в., автор «Мимесиса» (1946), писал в статье «Джамбаттиста
Вико и идея филологии» (1936): «Важнейшее из его открытий, из
которого произошли все другие его открытия и их окончательный
результат, — это знание человеком своего общественного состояния.
Окруженный атмосферой раннего Просвещения, Вико впервые
создал образ духовной структуры так называемого первобытного
человека»12.
Э. Ауэрбах, который заново, хотя и в сокращенном виде
перевел «Новую науку» на немецкий со своим обширным
предисловием (1924), а также книгу Б. Кроче о философии Вико13,
заинтересовался неаполитанским мыслителем под влиянием одного из своих
учителей — Эрнста Трельча, известного историка духовной
культуры, автора широко обсуждавшейся в исторический момент смены
научно-гуманитарной парадигмы книги об историческом
мышлении14. С этого времени (т. е., по нашей терминологии, с момента
смены гуманитарной парадигмы в мышлении Нового времени),
Ауэрбах (как потом подсчитали исследователи) каждые пять лет писал
о Вико как минимум одну новую статью15. В очерке об Ауэрбахе мы
скажем о его концепции «исторического релятивизма», импульсом
которой также стало мышление Вико; в приведенном высказывании
отметим три вещи: (1) «Идея филологии», как ее понял Вико (и как ее
понимает Ауэрбах), имеет непосредственное, предметное отношение
к «общественному состоянию» человека, причем такому, внутри
которого человек сам себя «знает» (понимает и поступает); это не
столько «социологическое» (в объектном смысле), сколько
«экзистенциальное» (в социально-онтологическом смысле) «знание». (2)
Филология имеет дело не только и не просто с «текстом», но также и
по преимуществу с «текстурой» любого большого и малого события;
Ауэрбах, таким образом, сближает «общественное состояние»
исторического мира с викианской концепцией «филологии» как
универсальной наукой исторического опыта, отличающейся от
философского познания — и постольку наделенной философским (и
теологическим) смыслом. (3) «Образ духовной структуры так
называемого первобытного человека» Вико мыслит (а Ауэрбах
переосмысливает со своего исторического места-времени, или «хронотопа»)
иначе, чем, скажем, Э. Кассирер, для которого мышление
первобытного человека — это в основном только мышление первобытного
86
Раздел первый. Переход
человека; для Ауэрбаха это — «так называемый» первобытный
человек, т. е. последний как-то входит (вошел) и в исторического
человека. Мы, в свою очередь, спросим: какой человек, первобытный
или исторический, является «вторым»? Во всяком случае, в истории
участвуют (становятся, изменяются) оба. Но это значит: становление,
изменение, история в существенном смысле выходят у Вико за
пределы формального историзма, легитимные научные границы
которого определяются в основном XIX в., но действие инерции которого
достаточно роковым образом сказалось на общественном и научном
сознании следующего столетия, о чем пойдет речь в других очерках
этой книги.
Сэр Исайя Берлин (1909—1997), тоже неоднократно писавший о
Вико, в сжатом виде сформулировал — в «Заметке о понятии познания
у Вико» (1969) — проблемно-эвристическую суть гуманитарной
эпистемологии неаполитанского мыслителя следующим образом:
Его самый радикальный вклад — это концепция филологии,
антропологический историзм — представление, в соответствии с которым
возможна такая наука о духе, которая является историей развития
самого духа. Эта наука позволяет осознать, что идеи тоже
подвержены развитию; что познание — не статичная сетка вечных, всеобщих
и ясных истин — платонических или картезианских, — но
общественный процесс; что этот процесс является следствием эволюции
символов (и в каком-то смысле даже совпадает с эволюцией
символов). Это преобразующее традиционные представления видение —
одно из величайших открытий в истории мысли16.
По мысли И. Берлина, викианская революция состоит в открытии
того, что познание в философии и в науках (как гуманитарных, так и
«естественных»), во-первых, исторично не только в том смысле, что
оно как-то обусловлено определенным временем мышления
(временностью своей значимости); познание обусловлено еще и временем
своего общественно-исторического состояния становления —
измерение, которое вообще «не мыслимо» (и «не нужно») с позиций
идеализма, все равно — более традиционного («платонического»)
идеализма, или естественнонаучного («картезианского») идеализма
Нового времени. Во-вторых, и это главное: научное, философское,
богословское и всякое иное мышление и познание в своей относительной
автономии не автономно: сколь угодно зрелое мышление-в-
понятиях, «чистое мышление» движется и продуктивно не само по
себе, не «в себе», а «в другом» — внутри (точнее — на границах) более
Эпистемология в споре «древних» и «новых» 87
традиционных символизации. Эти символизации относятся не только
и даже не столько к культурному творчеству — если понимать под
этим последним так называемые «свершения» (Leistungen), «сливки»
или «пенки» общественных процессов. Нет, по мысли И. Берлина,
Вико нащупал и сделал предметом исследования первичные символы
социального опыта, действующие и «вопреки», и «благодаря»
историческим изменениям. Поэтому И. Берлин называет гуманитарную
эпистемологию Вико «антропологическим историзмом» (anthropological
historicism).
Преобразование традиционной герменевтики в
герменевтическую философию гуманитарных наук, осуществленное, как уже
отмечалось, в главной книге Г.-Г. Гадамера «Истина и метод» (1960),
начинается с обращения к основополагающим понятиям
«гуманистической традиции», и здесь — в исходном пункте новой гуманитарной
эпистемологии — значимым посредником между «древними» и
«новыми» в Новое время оказывается Вико. Гадамер интерпретирует
«педагогический манифест» Вико17 — речь в Неаполитанском
университете 18.10.1708 г. «De nostri temporis studiorum ratione» («О методе
наук и преподавания нашего времени»)18, а внутри «манифеста» —
два взаимосвязанных мотива, педагогический и риторический,
опосредованные третьим и главным, общественным мотивом, а именно
древнейшей и все еще «действенной» западноевропейской
традицией «здравого смысла», или «общего чувства» («sensus communis»).
Таким образом, Гадамера интересуют не просто «тексты»
гуманистической традиции, от Цицерона до Вико, не только викианская
«философия авторитета» (положительную модернизацию-обновление
которой можно узнать и в знаменитой апологии традиции и
авторитета в «Истине и методе»). Понятие «sensus communis» служит
герменевтическим мостом между гуманистической традицией и
современной задачей создания гуманитарной эпистемологии, между идеей
практического знания («фронесис») у Аристотеля и задачей
поворота современной научно-теоретической культуры к «практической
философии», как ее понимает Гадамер, причем в том же самом
полемическом ключе, что и у Вико, — в споре со сциентистским методо-
логизмом «нашего времени». Особое значение в этом контексте
приобретает риторика, точнее, то, что Гадамер называет «позитивной
двузначностью риторического идеала»: «Вико, который сам был
преподавателем риторики, находится при этом, следовательно, в русле
идущей от античности гуманистической традиции. Очевидно, эта
традиция, и в особенности позитивная двузначность риторического
88
Раздел первый. Переход
идеала, узаконенного не только Платоном, но и антириторическим
платонизмом Нового времени, имеет значение и для самосознания
гуманитарных наук. В этой связи у Вико звучит уже многое из того, что
нас занимает» (61).
То, что занимает Гадамера в связи с Вико, — это возможность
противопоставить риторику как «топику» — философии как
научной методологии и «теории»19. Противопоставить не формально,
но посредством того, что можно назвать герменевтическим
обращением одного-и-того-же-самого в другое и большее («das Mehr» на
языке Гадамера; на языке нашего Бахтина это называется «карнавали-
зацией»: бытие больше и лучше себя постольку, поскольку способно
«родить сызнова, лучше и больше»). В случае Вико, как и в случае
Гадамера, это означает вот что: риторика и, шире, филология,
опирающаяся на старую топику, создает предпосылки для новой
философии, перед лицом которой то, что мнит себя в Новое время
«философией» и «наукой», оказывается, парадоксальным образом, как
раз риторикой и софистикой в негативном смысле этих слов. Для
Вико, говорит Гадамер, «старая топика отодвигает в сторону
картезианскую критику. Топика — это искусство находить аргументы, она
служит для развития убежденности, которое функционирует
инстинктивно и мгновенно (ex tempore), и именно поэтому его нельзя
заменить наукой» (63). Значит, риторика — не только и не просто
«искусство убеждения» и упражнение в красноречии. Гадамер продолжает:
Но то, что Вико подразумевает, выходит далеко за пределы
риторического убеждения. По сути дела, здесь, как мы уже говорили,
действует аристотелевское противопоставление практического и
теоретического знания, которое нельзя редуцировать до
противопоставления истинного и вероятного. Практическое знание, «фроне-
сис» — это другой тип знания. Это означает в итоге, что оно
направлено на конкретную ситуацию. Следовательно, оно требует учета
«обстоятельств» в их бесконечном разнообразии. Именно это
подчеркнуто выделяется у Вико; правда, он обращает внимание лишь на
то, что это знание отходит от рационального понятия знания. Но на
самом деле это не идеал квиетизма (63).
Это, скорее, другой идеал общественной практики — не «по
науке» и не в смысле реализации теории «на практике». Ведь теория,
в отличие от практического знания, как раз не требует, да и не может
требовать, «учета "обстоятельств" в их бесконечном разнообразии»;
а между тем именно этого требует от нас любая серьезная жизненная
Эпистемология в споре «древних» и «новых» 89
ситуация, т. е. нечто конечное для бесконечного разума. Можно
заметить, насколько сложнее и плотнее, по сравнению с Кассирером,
проблемное поле или, по-бахтински, «диалогизующий фон», на котором
Гадамер рассматривает Вико и его проект гуманитарной
эпистемологии, хотя у Гадамера речь идет о том же самом — о «неустранимой
альтернативе», по выражению Кассирера, между математическим
естествознанием Нового времени и логикой исторического опыта.
Гадамер поясняет:
В области науки тоже существует столкновение старого и нового, и
то, что имеет в виду Вико, — это уже не противопоставление
«школе», а особое противопоставление современной ему науке.
Критическая наука Нового времени имеет свои преимущества, которых
он не оспаривает, но указывает их границы. Мудрость древних, их
стремление к рассудительности (prudentia) и красноречию (eloquen-
tia), по мнению Вико, не утратили значения и перед лицом этой
новой науки и ее математических методов. Применительно к
проблемам воспитания они оказываются не чем иным, как образованием
здравого смысла. Здесь для нас важно следующее: здравый смысл в
этой связи явно означает не только ту общую способность, которая
есть у всякого человека, но одновременно и чувство, порождающее
общность. Вико считает, что направленность человеческой воле
придает не абстрактная общность разума, а конкретное общее,
общность группы, народа, нации или всего человеческого рода.
Развитие этого общего чувства тем самым получает решающее значение
для жизни (63).
Тем самым обозначен поворот, принципиальный и
конститутивный для современной гуманитарной эпистемологии и, шире, —
для современной философии. Речь идет о позитивной оценке
человеческой «конечности» (Endlichkeit), персонального и в особенности
общественного опыта людей в «гражданском мире» (mondo civile),
как Вико называет исторический мир жизни. В отличие от
бесконечного разума, социально-исторический опыт конечен — не в смысле
только и просто его научно (извне) удостоверяемой
«детерминированности» и «ограниченности», но в смысле его творческой
определенности и, главное, незавершенности. На языке Вико это проблема
эпистемологического взаимоотношения «достоверного» (certum), с
которым имеем дело гуманитарно-филологические науки
(«Филология»), и «истинного» (verum), с которым имеет дело собственно
разум («Философия»).
90
Раздел первый. Переход
Ренато
В повседневном мире жизни, как и в истории научной культуры,
бывали и бывают случаи негативного, хотя и творческого
воздействия на какого-то автора признанного обществом авторитета —
воздействия, которое можно назвать «влиянием от противного». Такую
роль, например, Гегель и его авторитет сыграли в творческой судьбе
С. Кьеркегора. Для Вико вдохновляющим негативным образцом был
Рене Декарт (1596—1650), которого неаполитанский мыслитель, по
странной привычке фамильяризующего переиначивания чужого
имени на итальянский манер (Гоббс у него — «Обессио», Лейбниц —
«Лейбницио», а Локк и Ньютон — просто «Джованни» и «Исакко»)
называл по-итальянски, по-свойски — Ренато Делле Карте, или
просто Ренато.
Отталкивание от «Ренато» заходит у Вико так далеко, что — как
показал немецкий историк гуманитарного мышления Юрген Трабант
в своей книге «Новая наука о старых знаках: Сематология Вико»20 —
неаполитанец сознательно строит свою автобиографию в пику
автору первого философского «романа воспитания» Нового времени —
«Размышлению о методе» (1636) — таким образом, чтобы слово «я» в
рассказе о себе самом вообще не упоминалось. Русский перевод
«Рассуждения о методе» не передает того распочкования «я» (je, moi, mon)
в тексте Декарта, которое нам сегодня кажется скорее естественным,
а в XVII в. было новым («модерным» = «современным») в научном
жанре речи (как было ново публиковать ученое сочинение не на
латыни, как того требовала традиция, а на своем родном языке); по
мнению же Вико, это употребление Декартом личного местоимения
само по себе обличает весь образ мысли Декарта и разоблачает
беспочвенный модернизм картезианства. Напротив, свою собственную
автобиографию «Жизнь Джамбаттиста Вико, рассказанная им самим»
автор начинает и последовательно выдерживает в третьем лице
личного местоимения: «Синьор Джамбаттиста Вико родился в
Неаполе в 1968 году от честных родителей, оставивших по себе добрую
славу» (477).
Анекдотично, что Вико при этом неверно указал год своего
рождения (1670 вместо 1668), который комментаторам позднее
придется уточнить и исправить при переиздании его автобиографии. Но
в этой чудаковатой неточности есть своя истина: мы сами,
действительно, не знаем и не можем знать даты своего рождения; мы узнаем
ее от других, и другие здесь заслуживают большего доверия. Жанр
Эпистемология в споре «древних» и «новых» 91
автобиографического отчета выдержан Вико в точности, и
альтернатива здесь — принципиальна: вместо Декартова «я» (je) — «он» (egli),
хотя в обоих случаях автор автобиографии рассказывает о себе самом.
Но что это значит — «я сам»?
Автобиография (как и биография) — это, традиционно, отчет о
своей жизни и деятельности перед другими людьми, чаще от своего
имени (от первого лица), но не в категории я, а в категории другого,
или «другости», по терминологии M. M. Бахтина21. Третье лицо («он»)
вместо первого лица («я») означает у Вико примерно следующее:
нельзя понимать мышление и себя самого, мыслящего, так, как
думал или задумал Ренато, — в отрыве от исторического мира других
людей (от общества современников, предков, потомков), в отрыве
от мира жизни, в котором мышление совершается. Утопизм
мышления и мыслящего Я относителен и, в общем, иллюзорен: мыслящий
разум укоренен в «гражданском мире» глубже, чем это способен
заметить и осмыслить сам этот разум в качестве рационального и
рационализирующего, («резонирующего») je pense, ставшего
парадигматическим символом Нового времени как раз в жесткой латинской
формулировке и огласовке: cogito (ergo sum). Странное, казалось бы,
сближение напрашивается здесь: В. С. Соловьев в конце XIX в. будет
решительно утверждать: «Декартовский субъект мышления есть
самозванец без философского паспорта»22.
Положим, к Соловьеву здесь могут возникнуть вопросы, да и
самому Вико не следует верить на слово: разве, разочаровавшись в
«тщеславии ученых», как и в «тщеславии наций», неаполитанец не
становится двойником своего главного оппонента, когда приходит к
выводу, что и он должен поступить в своем исследовании так, «как
если бы вообще в Мире не было книг» (108)? Критика «когитального»
разума метит в «субъекта мышления», который сам себя — в
качестве «самосознания» — понимает вне общества и вне истории, «без
паспорта», и эта критика не теряет, а выигрывает в своем смысле на
нериторическом уровне, если мишенью стрелка оказывается, среди
прочих, и сам стрелок, а объектом полемики с субъективизмом
оборачивается и сам субъект полемики. Эта онтологически-событийная
логика, вообще говоря, — обычное явление в истории
интеллектуальной культуры (вплоть до Хайдеггера и М. Фуко), если только мы
готовы мыслить не «чисто интеллектуально» — за пределами того,
что М. Бахтин назвал однажды «риторикой в меру своей лживости»23.
Искусственность картезианского дуализма в своем роде реальна:
пространство вне мыслящего Я можно методически мыслить как res
92
Раздел первый. Переход
externa, как объект или объекты, а само это Я — как res cogitans, или
субъект, если конципировать природу и жизненный мир
натуралистически, а «когитальность» (= Я), наоборот, — идеалистически. Такого
рода интеллектуальная установка, если ее культивировать (т. е.
методически задавать ее в качестве принципа научного и культурного
сознания), — это что-то такое, действительно новое в Новое время, но в
то же время — парадоксально наоборот — это и радикализация
старого, исконно греческого идеала schole («досуга») и эпистемологоиче-
ского коррелята этого идеала, известного как theoria — конечно, уже
с новоевропейском естественнонаучно-математическим активизмом
«покорения природы» (а значит, не только природы). В этом смысле
новоевропейская культура мышления, по выражению отечественного
исследователя, «удвоила греков через посредство Просвещения»24.
Возможно, как раз потому, что Вико в свое время был несколько
«чудаковат», atopotatos — в том совсем не «теоретическом» смысле,
в каком афиняне, со слов Сократа, называли Сократа25, —
неаполитанец понял Ренато как раз в том пункте, в котором философия на
исходе Нового времени осознает свою главную задачу — задачу
самокритики. Философия обращается против философии; Вико в своей
критике Ренато начинает этот поворот, но (в отличие от математика
и янсениста Паскаля) он ищет «резоны сердца», «законы сердца» не
в уединенном сознании и не по ту сторону науки, но в общественном
«общем чувстве» и в «новой науке» об историческом творчестве
народов и государств. Может быть, это тоже утопия? Но дело в том,
что природа человека как таковая утопична; один из инициаторов
современной философской антропологии Хельмут Плесснер (1992—
1985) соответственно говорит об «эксцентричности» и завершает
свое основополагающее исследование, формулируя «закон
утопического местоположения» человека в мире26. «Атопотатос» не такой,
как все, потому что заключает в себе чаяния всех. Отказ от чаяний
как таковых чреват «отчаянием» в смысле методического,
сознательного или умышленного отпадения от всяких стремлений,
возможностей и перспектив, как если бы окружающий мир и я сам в нем
уже стали такими, какими они и должны быть. Не случайно Хай-
деггер, насколько мне известно, прошел мимо Вико, а его ученик
Гадамер, напротив, увидел в Вико опору на пути преобразования
древнейшей гуманистической традиции в новейшую гуманитарную
эпистемологию.
Критика метафизики на исходе Нового времени совпала с
критикой утопического мышления как такового, т. е. не той или иной
Эпистемология в споре «древних» и «новых» 93
общественно-политической утопии, но утопизма как исторической
тенденции «забвения бытия» в философии самой (не исключая и Хай-
деггера, заново поставившего вопрос о «смысле бытия»)27. Поскольку
мышление «идеально» — ведь смысл, или разум, сам по себе («в
себе») не вместим ни в какое место, ни в какой топос, а равно и ни
в какое время, — то оказывается, что в самом мышлении заключен
у-топический момент, или элемент (в буквальном смысле слова
«у-топия», «не место»). Когда этот утопический, «теоретический»
элемент дорос — в эпоху Просвещения — до универсального
мировоззрения, до относительно цельной духовно-идеологической
культуры «века Разума», — с тех пор в европейской мысли стала все более
утверждаться, по словам известного немецкого историка научно-
духовной культуры Ганса Блюменберга, «оптика пришельцев с других
планет»28.
Иначе говоря, возникают сугубо объектная безучастная оптика
и логика, совершенно оправданные в своих границах — границах
естественно объектививирующего («естественнонаучного»)
исследования, — но методически претендующие на объективность и
научность «вообще», «безотносительно-ни-к-чему». Такой как бы
безучастный, как бы научный субъективизм — настоящий оборотень: он
с легкостью необыкновенной способен обращаться в собственную
противоположность, в утопическое «всеединство» или
«соборность», умышленно обманывая себя (обманываясь относительно
собственного «философского паспорта») посредством риторически
подчеркнутого и тоже утопического, конечно, отталкивания от
западного субъективизма, западного «просвещенства» и «возрожден-
ства», «от «ублюдочной вещи в себе» (как выражался А. Ф. Лосев)
и т. п. «Один, — писал А. А. Ухтомский в 1920-е гг., — утверждает с
яростью свое только потому, что не в силах освободиться от тайной
органической связи с антиподом!» 29 В границах картезианской
парадигмы по-новому в Новое время зазвучит старый спор о «вере»
и «знании», для самого Ренато не актуальный (не своевременный).
«Органическая связь с антиподом» станет научно-гуманитарной и
ино-научной проблемой ближе к концу Нового времени — в
литературных предвосхищениях Достоевского и Кьеркегора. У самого
Вико, как и у его оппонента-двойника, связь отрицающего с
отрицаемым едва ли осознается. Но принципиальная полемика Вико с
Ренато, спор с «новыми» Нового времени (со своей
современностью) оттого не теряет своего значения ни в малом, ни в большом
времени30.
94
Раздел первый. Переход
Полемика Вико с Ренато, таким образом, предвосхищает
характерный критический мотив в философии XX в. Философские
направления, вне которых современная гуманитарная эпистемология была
бы немыслима, такие как философская антропология, диалогизм
(западный и русский), герменевтическая философия, в известной мере
и лингво-аналитическая философия — едины в своей тенденции,
которую со свойственной ему резкостью и афористичностью
выразил один из инициаторов западноевропейского «диалогизма»
немецко-американский христианский мыслитель Ойген Розеншток-
Хюсси (1888—1973) в программном названии своей статьи
«Прощание с Декартом» (1936), написанной по случаю трехсотлетия
опубликования «Размышления о методе»31.
«Но, предлагая, — говорится в "Рассуждении о методе", —
настоящее сочинение только как рассказ или, если угодно, как
вымысел (соте une fable)...»; и дальше: «...я решился представить
себе (de feindre), что все когда-либо приходившее мне на ум не более
истинно, чем видение моих снов»32.
Для Вико неприемлемо такое отношение к действительности:
ведь это не моя, но общественная действительность; значит, она
и моя тоже; действительность реальна или, по слову М. Бахтина,
«безысходна». Моя, снова по-6ахтински, «вненаходимость»,
«единственность» в бытии не есть непричастность пришельцев с других
планет, не есть безответственное небесно-земное блаженство schole.
Дважды в автобиографии Вико обыгрывает слово fingere,
полемически обращая его против декартова feindre («прикидываться»,
«симулировать»). Исторический «гражданский мир» — не выдумка, не
головная конструкция и не симулякр. Но именно поэтому в науке
недопустимо отбрасывать «ученость», т. е. гуманистическую,
гуманитарную традицию, как это (при всем не методическом уважении к
ней) делает автор «Рассуждения о методе».
Дело не только и не просто в том, что «книга мира», к которой
Ренато хочет редуцировать эпистемологию, метафорически
сохраняет идею текста, который надо прочитать и истолковать. Суть дела
в том, что есть затекст — по Вико, это первичная реальность
гражданского мира наций, государств и божественного Провидения. Есть
непрерывно истекающий исторический источник мира жизни,
мотивирующий и обусловливающий все тексты, а значит, мотивирующий
и оправдывающий всю долгую традицию «humaniora» — книжности,
гуманитарности, научной работы с текстом. Тем самым мы вплотную
подошли к интересующей нас проблеме.
Эпистемология в споре «древних» и «новых» 95
Verum и certum
Проект гуманитарной эпистемологии, осуществленный в
первом издании «Новой науки» (1725) и переработанный в
третьем издании (1744), опубликованном в год смерти автора, имеет
в своем основании определенную «концепцию» (И. Берлин) или
«идею» (Э. Ауэрбах) филологии как такой области знаний и познаний,
значение которой определяется взаимоотношением ее, во-первых, —
с философией, во-вторых, — с историческим «гражданским миром»,
в-третьих — с теологией. Сегодня это может показаться странным
для одних и соблазнительным для других. Те и другие, скорее всего,
будут обмануты в своих ожиданиях, хотя те и другие обманутся не
столько в Вико, сколько именно в своем «горизонте ожидания».
«Филологией» Вико называет, собственно, совокупность
гуманитарных наук, следуя здесь древней традиции33. Филология — вторая
царица наук. Основная методическая проблема «Новой науки»,
оппонирующей как «геометрическому методу», так и картезианскому ме-
тодологизму в целом, — это проблема взаимоотношений обеих
претенденток на царство в мире наук.
Незаместимое место филологии обнаруживается постольку,
поскольку она осознает свою актуальную («фактичную», по слову
раннего М. Хайдеггера) причастность тому, что не есть уже только она
сама, — исторической жизни народов, философскому разуму,
божественному Провидению. Теряя причастность к этим трем
измерениям своего предмета, филология теряет и цельность самого
предмета (точнее — предметов). Вико ищет эпистемологического
синтеза, но он тщательно различает, дифференцирует сферы духовно-
исторического опыта и научного познания: опыт един, но
множествен и многосмыслен. Все едино, но единство само по себе не
образует обозримого и однозначного, завершенного «всего»; оттого и
возникают конфликты философии и филологии. Вико важно показать их
необходимую взаимодополнительность в перспективе и
ретроспективе «вечной идеальной истории». На чем основывается эта
взаимодополнительность?
Вико исходит из различения двух типов познания, двух не
сводимых один к другому подходов к миру. Он говорит: есть науки,
которые ищут «истинного» {verum), но есть и такие науки, которые
ищут «достоверного» {certum). Философский разум ориентирован на
познание «истинного», т. е. разумного вообще, теоретически и
метафизически всеобщего, «всего»; знание же «достоверного» опирается
96
Раздел первый. Переход
не на такое умозрительное «Всё», которое, как сказал бы на
повседневном языке В. В. Розанов, «вообще себе»; знание достоверного
опирается на «вот эти» фактичности исторического опыта гражданского
мира наций. «Достоверное» — это вот эти обычаи, традиции и
события, эти законы или вон те факты, ценности, авторитеты, народы
и т. д. Достоверное — конкретно и индивидуально; но, главное, оно
множественно в некотором радикальном и принципиальном смысле.
«Разум» в качестве «строгих» законов познает, строго говоря, нечто
повторимое и неизменное; то, что фактически составляет предмет —
его индивидуальный или персональный момент, или элемент, не
входит в игру закона с самим собой; этот момент, как сказал бы Бахтин,
здесь «только есть, но ничего не значит». Достоверное, которое и есть,
и что-то значит — вот универсальный предмет филологии,
обогащающий понятие всеобщего, или универсального. Первая
(основополагающая) книга «Новой науки» называется «Об элементах»; аксиома X
в ней гласит:
Философия рассматривает Разум, из чего проистекает Знание
Истины. Филология наблюдает Самостоятельность Человеческой Воли,
из чего проистекает Сознание Достоверного. (...) Эта же Аксиома
показывает, что на полдороге остановились как Философы, которые
не подкрепляли своих соображений Авторитетом Филологов, так и
Филологи, которые не постарались оправдать своего авторитета
Разумом Философов: если бы они это сделали, то были бы полезнее для
Государства и предупредили бы нас в открытии нашей науки (76).
Вне отношений этой «аксиомы» к другим аксиомам и, главное,
к другим (не философским и не филологическим) аспектам «новой
науки» это утверждение понятно лишь постольку, поскольку Вико,
во всяком случае, не принимает взаимного отчуждения философии и
филологии, т. е. не принимает разрыва между «знанием истины» и
«самостоятельностью человеческой воли», между «разумом философов»
и «сознанием достоверного». Не принимает — это здесь не значит:
игнорирует. Но он строит, как сказали бы сегодня, герменевтический
мост. Для Вико философия — наука, но и филология ведь тоже —
наука. Что же их соединяет в их самостоятельности, или автономии.
Очевидно, — это закон, понятие и идея «закона», «правила» и т. п.
Разум философов, как говорится, «открывает» законы. Но в
«гражданском», т. е. социально-историческом, мире «законы» существуют
постольку, поскольку они сложились и держатся — совершенно
независимо от того, «открыл» их кто-то или нет в обычном, научном
Эпистемология в споре «древних» и «новых» 97
смысле этого слова. С другой стороны, как мы все знаем, можно
официально принимать сколько угодно законов, даже разумных, но они
так и останутся, как говорится, «на бумаге», если в мире жизни, где
принимают законы, законодательство не имеет особого отношения
к реальности. Там, где Разум философов открывает законы
«необходимые и всеобщие» — законы, которые сложились и держатся (или
сложились, но прогнили), в своем роде тоже необходимы и всеобщи,
но действительно — в своем роде.
Законы, исторически достоверные, реальные, с которыми связан
«авторитет филологов», — это обычаи, традиции, авторитеты,
институты гражданского мира, которые возникают и живут «по своим
законам». Это — исторические «выжитые» (по слову Достоевского)
формы жизни, которые можно назвать «конечными» — в
противоположность бесконечным законам «разума философов»; они
конкретно-индивидуальны («вот эти»), но при этом общественно
необходимы и всеобщи в конкретных же границах данной общности
людей. Эти «гражданские» законы, нормы, правила тоже имеют силу
и поддерживаются силой, но «в себе» они как раз не имеют силы,
поскольку они «действенно-историчны» (действуют) не в качестве
«теоретического разума», но в качестве «практического разума»;
теоретически этот тип «законов» можно сформулировать и обосновывать,
отстаивать и критиковать только задним числом — поскольку они
на свой особый лад объективно уже «есть». Кавычки здесь уместны
потому, что законы, которые мы сегодня называем «социальными»,
не только и не столько просто «есть», сколько «работают» (или «не
работают») — в качестве реально скрепляющей, «социализующей»
людей силы, утверждающей и продолжающей волю, заключенную в
признанном обществом авторитете или авторитетах. Значит,
общество разумно, более или менее независимо от особого «разума
философов»; для последнего достоверное — «потемки». «Достоверное
в Законах, — говорит Вико, — это потемки для Разума, даже если
он поддержан Авторитетом; поэтому законы оказываются суровыми
на практике, и потому мы вынуждены следовать им на практике,
считая высказывания их достоверными (certum на хорошем
латинском языке означает "примененное к отдельному случаю", или,
говоря языком Схолы, individuatum). В этом смысле certum и commune с
настоящим латинским изяществом вполне противопоставлены друг
другу» (106).
«С настоящим латинским изяществом» — это значит:
старая латынь, старая мудрость мыслила и все еще мыслит — в
98
Раздел первый. Переход
противоположность «новым» ученым — «практически»у т. е.
разумеет общественное опосредование между истинным и достоверным,
«разуму философов» скорее недоступное. Вико пытается
опираться на простонародные предания; он хочет «найти в этих
Преданиях основу истины, которая с течением лет и с переменою языков
и обычаев дошла до нас под покровом ложного» (77). Речь идет,
следовательно, не просто о риторическом или обычном теоретическом
«споре древних и новых». Речь идет, в сущности, о радикальном
переосмыслении самого взаимоотношения между прошлым и
современностью, о «герменевтике древнейшего предания», по выражению
Карла Левита34.
Итак, речь идет не только и не просто о взаимном непонимании
и взаимном расхождении двух типов познания — «философии» и
«филологии»; речь идет о двух принципиально различных порядках
«вещей» {cose), которые Вико — как, впрочем, и мы сегодня тоже —
называет одним и тем же словом leggu «законы». В отличие от
(позднейшего) руссоизма, идеализма и индивидуализм, Вико утверждает:
«род человеческий) (ΐитапа generazione)» исчез бы с лица земли, если
бы не законы, которые даже пороки людей превращают в
добродетели. Ибо сам по себе человек скорее порочен и преступен; по своей
природе он не может не вступать в противоречие с Разумом, т. е. с
разумной всеобщностью, с закономерностью.
Для Вико не кто иной, как Платон указал путь к «вечной
идеальной истории» Но, казалось бы, следующий автору диалога
«Государства» мыслитель Просвещения и Нового времени очень ясно
дифференцирует то, что кантианство позднее будет различать в качестве
«данного» и «заданного» (правда, оно возведет это различение в «пан-
методизм», по слову русского философа Е. Трубецкого, и тем самым
«подставит» себя как в России, так и на Западе). Философия видит
человека иначе, чем «законодательство», но не потому, что первая
права, а второе — нет, или наоборот: «Философия рассматривает
человека таким, каким он должен быть; таким образом, она может
принести плоды лишь немногим, стремящимся жить в Республике
Платона, а не пресмыкаться в нечистотах города Ромула» (75).
Это значит, среди прочего, вот что: философия (и — шире —
«рассуждающая и судящая часть общества — «интеллигенция») не
способна быть организатором, «архитектоном» в практических
государственных делах; государственная утопия Платона обречена быть
утопией и в таком качестве даже возможна, хотя и для немногих,
пользующихся теоретическим досугом, — аристократически слишком
Эпистемология в споре «древних» и «новых» 99
«чистых» разумом, чтобы «пресмыкаться в нечистотах» реального
демоса и реальной демократии, реальной политики и законодательства
«на практике». Законодательство представляет «не чистый разум», но
все же разум постольку, поскольку исходит не из идеально должного,
но из реально должного в общественном смысле: «Законодательство
рассматривает человека таким, каков он в действительности, чтобы
извлечь для этого пользу для человеческого общества. Так из
свирепости, скупости и честолюбия (эти три порока пронизывают
насквозь весь род человеческий) оно создает войско, торговлю и двор,
т. е. силу, богатство и мудрость Государств» (75).
Законодательство, по Вико, имеет не философское, а
божественное происхождение — оппозиция, которая выглядит
достаточно странной, чтобы не сказать — абсурдной, если мы привыкли
мыслить «ново» (конечно, уже далеко не ново), т. е. «просвещенно»
и «научно». Законодательство — это настоящее чудо и дар, но не
просвещения, а Провидения; наоборот, философия, удел «лишь
немногих», имеет не божественное происхождение, но только
разумное. Ибо идеальная закономерность, которой оперирует разум
философов, — не образец, но соблазн; в делах человеческого рода
законы «долженствования» сами по себе значат не многим больше, чем
законы «природы», тоже сами по себе. «Республика Платона» — это
отъединившаяся от совместной, общественной воли людей утопия
для немногих.
Но аргумент против платоновского идеального («утопического»)
государства не есть аргумент против Платона, ни тем более против
государства. Между «истинным» и «достоверным», по-видимому,
необходимо какое-то опосредование. Таким опосредованием, по Вико,
и является — в традиции «древних» — «здравый смысл» (sensus
communis). «Здравый смысл — это суждение без рефлексии, чувствуемое
сообща...» (76).
Для разума философов, ищущих «истинного», т. е. разумного
вообще, — «чувствуемое сообща» никакой не критерий, поскольку
здравый смысл не разумен, но здрав в границах той или иной
определенной ситуации и реальных возможностей ситуации. «Чувствуемое
сообща» — не просто «чувство», не только «разум»; это практическая
рассудительность, т. е. способность принимать решения, притом, в
принципе, не «вообще», но сообща.
Но если так обстоит дело в жизненном мире, то не является ли
филология, т. е. наука о достоверном, эпистемологическим
коррелятом «здравого смысла»?
100
Раздел первый. Переход
Основная аксиома
Для того чтобы показать, что дело обстоит именно таким
образом, необходимо пояснить две решающие идеи «Новой науки»,
неразрывно связанные между собой. Это (1) концепция
«божественного провидения» (providenza divinà) и (2) самая знаменитая и
влиятельная «аксиома» Вико, которая на хорошем латинском языке
гласит: verum et factum convertuntur («истинное и созданное взаимоо-
братимы»). Гуманитарно-эпистемологическая альтернатива «новым»
в «Новой науке» основывается в значительной мере на этих двух
соображениях.
Эпистемология Вико переворачивает ставшее в XVII—XX вв.
почти само собой разумеющимся представление о том, в каком
взаимоотношении находятся две группы наук: науки об историческом
опыте, которые называют гуманитарными (или науками о культуре,
или науками о человеке, или, наконец, областью социогуманитарного
знания) — с одной стороны, и теми науками, которые мы привыкли
называть «опытными», имея в виду экспериментальные опыты, на
результаты которых опирается естественнонаучное знание, — с другой
стороны. Проведенное В. Дильтеем через полтора столетия после
Вико методическое разграничение «наук о духе» и «наук о «природе»
не только ограничивало притязание естественнонаучного познания
на научность и объективность, но парадоксальным образом
закрепляло это притязание (особенно, как всегда, в популярном сознании).
Даже крах традиционной теории познания (гносеологии) в годы
смены философско-гуманитарной парадигмы в 1910-е и 1920-е гг.
почти не поколебал в научных кругах закрепленной сциентизмом
бинарной оппозиции «рационализм»/«иррационализм», казалось бы,
давно преодоленной и философией, и гуманитарным мышлением. На
этом апперцептивном диалогизующем фоне достаточно шокирующе
звучит следующий тезис Вико: «новое» естествознание при всех своих
замечательных и бесспорных успехах никогда не продвинется в
познании «истинного» достаточно далеко, потому что предмет
естественных наук — природа — не есть создание людей, изучающих
этот предмет; это создание Творца, только ему и в нем постижимое.
Принципиальная, абсолютная граница разделяет не столько
гуманитарное и сциентистское знание, не столько «Филологию» и
«Философию», сколько человеческий разум (бесконечный, как и конечный)
и область Провидения, т. е. область смысла событий, недоступных
человеческому суждению, ни индивидуальному, ни коллективному.
Эпистемология в споре «древних» и «новых» 101
Естественная «падшесть» (и конечность) человека и его
способностей должна быть осознана и признана; это не повод для отчаяния,
но повод для деятельного смирения. «Хотеть возможного» (по
выражению из пушкинского стихотворения «Вельможа») — вот, по Вико,
задача рода человеческого на земле.
Гуманитарная эпистемология Вико — религиозная
(христианская) эпистемология, релятивизирующая в особенности
естественнонаучно математизированное представление Нового времени о
«вере» (допускающей субъективность) и «знании» (методически
устраняющей субъективность). Сегодня, после краха
коммунистической веры, совпавшего с исчерпанием «бэконовского» проекта
научно-технического покорения природы во имя разумной
организации человеческого общества35, мы видим, с какой легкостью
необыкновенной атеистически-естественнонаучная идеология-утопия
становится «религиозной» идеологией-утопией, не становясь,
однако, христианским образом мышления. Тут дело не только в
конъюнктуре, не только в перемене риторики «убеждений» и в новом
старом страхе оказаться идеологически чуждым и быть сброшенным
с прогрессивно-модерного корабля перевернувшейся «с точностью до
наоборот» современности. У серьезных и искренних людей проблема
не столько в вершках «идеологии», сколько в корешках
идеализирующего методизма Нового времени — пункт, в котором научный
идеализм сходится с религиозным идеализмом. Риторика в меру своей
лживости, как и самосознание, идеологически вуалирует
парадоксальное двойничество антиподов, фикцию бинарного
«позиционирования». Одна из задач современной гуманитарной эпистемологии —
вскрыть эту тайну тождественности и взаимообращения в истории
философского и научного мышления: «идеализма», переходящего в
«материализм» (и обратно); «веры», переходящей в «знание» (и
обратно); «иррационализма», переходящего в «рационализм» (и
обратно)^ т. п.
Своим учением о Провидении Вико — как позднее Кант36 —
дает обоснование продуктивной исторической конечности нашей
способности «разуметь». В этом пункте Вико явным образом
расходится и с Гегелем, и с Марксом, и с Б. Кроче, т. е. с так
называемым «историцизмом» (К. Поппер), или «историческим
сознанием» (Г.-Г. Гадамер) — с философией историей, или
историософией, Нового времени37. Более того, Вико, похоже, был первым
мыслителем Нового времени, который понял внутреннюю связь между
индивидуалистическим самоутверждением в политике Нового
102
Раздел первый. Переход
времени (Гоббс) и рационалистическим самоутверждением: Cogito
ergo sum38. Подобно «Ренато», оппоненту-двойнику, Вико
рассказывает в «Новой науке» о том, как он усомнился в достоверности
исторической реальности, а равно и в книжной учености, но потом
обрел несомненную истину:
Но в этой густой ночной тьме, покрывающей первую, наиболее
удаленную от нас Древность, появляется вечный, незаходящий свет,
свет той Истины, которую нельзя подвергнуть какому бы то ни
было сомнению, а именно, что первый Мир Гражданственности
был, несомненно, сделан людьми. Поэтому соответствующие
Основания могут быть найдены (так как они должны быть найдены) в
модификациях нашего собственного ума. Всякого, кто об этом
подумает, должно удивить, как все Философы совершенно серьезно
пытались изучать Науку о Мире Природы, который был сделан Богом,
и который поэтому он один может познать, и пренебрегали
размышлением о Мире Наций, т. е. о Мире Гражданственности,
который был сделан людьми и Наука о котором поэтому может быть
доступна людям (108).
Аксиома Вико, согласно которой мы, люди, способны понимать
только то, что мы сами создали, и в этом смысле «истинное» и
«созданное» соотносимые и обратимые понятия (verum et factum conver-
tuntur)y — эта аксиома должна быть понята как все еще актуальная
проблема размежевания нового исторического мышления с «истори-
цизмом» или, лучше сказать, с формальным историзмом XIX и XX вв.
В этом контексте «Филология», т. е. все науки о «достоверном»,
приобретают эпистемологический статус, — пусть Вико, по словам
упоминавшегося Ф. Феллмана, и не вполне удался «шаг от события к
человеческим поступкам»39.
«Достоверное» значимо для философии постольку, поскольку
последняя «должна поднимать и наставлять человека падшего и
слабого, а не искажать его природу и не покидать его в его
испорченности» (74). Применительно к основной аксиоме это значит:
«Филология», т. е. гуманитарное познание, может быть в большей степени
научным, объективным познанием, чем математика и естествознание,
просто потому, что, познавая «гражданский мир», мы познаем то,
что нами же создано и, следовательно, нам соприродно, — историю,
исторический опыт. Познание здесь человечески достоверно — и
постольку разумно и открыто собственной границе, установлено
«божественным провидением». В переводе на наше путеводное понятие это
Эпистемология в споре «древних» и «новых» 103
значит: гражданский мир жизни — реальное и достоверное,
относительно доступное разумению первое сознание, которое в границах
непостижимого может изучаться и постигаться филологией — вторым
сознанием.
Американский исследователь X. Н. Татл отмечает в этой связи:
«Герменевтика, или то, что Вико предпочитал называть
филологией, — это интерпретация значений и смыслов человеческих
артефактов, и этот процесс интерпретации играет принципиальную роль
в "Новой науке" Метод интерпретации позволяет нам соотносить
себя (conform ourselves) с различными состояниями сознания других
людей, то есть дает возможность воспроизводить в опыте (to reexperi-
ence) значения и смыслы, которые порождались в сознании
поступающего (an actor) при создании им культурного объекта»40.
X. Н. Таттл правильно, как мне кажется, отмечает в своем
анализе, во-первых, связь герменевтики с филологией, во-вторых,
«внутренний» характер познания «культурного объекта» не как объекта,
но как поступающего, творящего сознания («других людей»).
Познание «достоверного» предполагает как минимум два сознания
(познаваемое и познающее), в противоположность
«монометодологическому» (monomethodological), по слову Таттла, типу познания,
ориентированного на греческую θεωρία41.
Итак, герменевтические, историко-интерпретативные науки —
«Филология» — имеют дело с другим сознанием и постольку
препятствуют «монометодологическому» конструированию прошлого и
древнего опыта самоуверенной современности. В этом смысле,
действительно, не мы только толкуем прошлое, но и «прошлое толкует
нас» (Э. Ю. Соловьев); историческое прошлое не может быть только
объектом, только «материалом для оформления» (как того захотят
русские формалисты вокруг 1917 г.). Невозможно быть просто
свободным, т. е. нелепо мыслить историческое творчество — а равно и
его научно-гуманитарное воссоздание-сотворчество — из «нигдейи»
(утопии), или «из ничего».
При таком подступе к Вико — как ни далеко наше переложение
от фактической и проблемной полноты предмета — становится, как
кажется, возможным помыслить даже такой далекий от нас предмет
не в отношении к прошлому гуманитарной эпистемологии, но к ее
будущему, а в викианском варианте спора «древних» и «новых»
расслышать мотивы, которые будут воспроизводиться во всякой
современности вплоть до нашего времени.
104
Раздел первый. Переход
Примечания
В обширном предисловии к американскому переводу автобиографии
Вико (1944) справедливо отмечалось: «Переход от догалилеевой
физики к физике Галилея и Ньютона теперь всем знакомый сюжет, но
восполняющий (complementary) этот сюжет переход от истории до Вико к
истории по Вико (Vichian history) не был еще удовлетворительным
образом рассказан и даже адекватно исследован». — The Autobiography of
Giambattista Vico / Trans, by Max Harold Fisch and Thomas Gaddard Bergin.
Ithaca; N. Y., 1944. P. 20.
См.: Спор о древних и новых. М.: Искусство, 1985.
Fellmann F. Das Vico-Axiom: Der Mensch macht die Geschichte. Freiburg;
München, 1976. S. 18,Anm.).
О рецепции Вико его соотечественником Б. Кроне в отечественной
литературе см.: Мальцева С. Философско-эстетическая концепция Бенедетто
Кроче: Диалог прошлого с настоящим. СПб., 1996. С. 65—90 (глава «Кро-
че и Вико»).
Выдающийся советский марксист, соратник Г. Лукача в его «московский
период», М. А. Лившиц отчетливо выразил установку старого
исторического мышления в начале своей статьи о Вико (1936): «Развитие
сознания определяется тем, насколько оно способно быть своим собственным
предметом — не только предметом для психологических наблюдений
извне. Сознание как автоматическая реакция жизненного организма,
вздох угнетенной твари, не совпадает с сознательностью — ясной
картиной окружающего мира и своего собственного положения в нем. На
этом основана разница между сознанием вообще (которым может
обладать животное, ребенок, дикарь) и самосознанием». Под
«самосознанием», или «сознательностью», здесь понимается (и постулируется),
конечно, не личный, конкретно фактический опыт бытия в мире (по мнению
М. А. Лившица, такой опыт только эмпирический и «психологический»),
но как раз «сознание вообще», правда, возведенное в степень
абсолютного субъекта государства и истории — коллективного субъекта,
осуществляющего «попытки поставить стихийное развитие сознания под
контроль самого сознания». См.: Лившиц Μ. А. Джамбаттиста Вико //
Лившиц М. Собр. соч.: В 3 т. Т. 2. М., 1986. С. 6, 7.
Итальянская исследовательница Вико Стефания Сини (владеющая
русским языком) считает, что пока единственный перевод А. А. Губера
«Новой науки» «не является филологически безупречным». См.: Сини С.
Языки и знаки в философии Джамбаттисты Вико // Метафизические
исследования. Вып. 12. СПб.: Алетейя, 1999. С. 146 (примеч. 62). См. также:
Sini S. Figure vichiane: Retorica y topica délia «Szienza nuova». Milano, 2005.
Вико Джамбаттиста. Основания новой науки об общей природе наций /
Пер. А. А. Губера; общ. ред. и вступит, ст. М. А. Лившица. М.; Киев, 1994.
Эпистемология в споре «древних» и «новых» 105
В дальнейшем цитирую «Новую науку» и автобиографию Вико по этому
переизданию с указанием в тексте страницы в скобках.
8 Сини С. С. 129.
9 См.: Кисель М. А. Джамбаттиста Вико. М.: Мысль, 1980; Барг Μ. Α.,
Авдеева К. Д. Вико и его теория истории цивилизации // Они же. От
Макиавелли до Юма: Становление историзма. М., 1998. С. 138—180.
10 Цит. по: Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. М.: Гардарика, 1998.
С. 15,16. Та же мысль выражена в более ранней статье Кассирера
«Понятийная форма в мифическом мышлении» (1922); ср.: «В философии
Нового времени Джамбаттиста Вико был первым, кто со всей ясностью и
определенностью сформулировал план структурного строения наук о
духе. У него мы находим идею, что это строение должно базироваться
на полной самостоятельности по отношению к логике математики и
математического естествознания, что оно должно покоиться на
собственных и самобытных основах, но что, с другой стороны, последние ни в
чем не должны уступать принципам математики в строгости и
очевидности. Подобно пространственному миру геометрии и миру физических
тел физики, мир истории зиждится на общезначимых принципах,
коренящихся в сущности человеческого духа» (Указ. соч. С. 186).
11 Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991. С. 100. Ср.
там же. С. 9.
12 Auerbach Ε. Giamambattista Vico und die Idee der Philologie (1936) // Ders.
Gesammelte Aufsätze zur romanischen Philologie. Bern, 1967. S. 235.
13 См.: Vorrede des Übersetzers // Vico G. Die Neue Wissenschaft, nach der
Ausgabe 1744. Übers. Und einglt. von Erich Auerbach. München, 1924. S. 9—39;
Croce B. Die Philosophie Giambattista Vico. Nach der 2. Aufl. Übers von Erich
Auerbach. Tübingen, 1927.
14 Трелъч Э. Историзм и его проблемы: Логическая проблема философии
истории (1922). М.: Юрист, 1994.
15 Подробнее об этом см.: Meur Diane. Auerbach und Vico: Die
unausgesprochene Auseinandersetzung // Auerbach Erich. Geschichte und Aktualität
eines europäischen Philologen / Hrsg. von Karlheinz Barck und Martin Treml.
Berlin, 2007. S. 57—70; Weizbort L. Erich Auerbach im Kontext der
Historismusdebatte. Op. cit. S. 281—296; Uhlig С. Auerbachs «Hidden» (?) Theory of
History // Literary History and the Challenge of Philology: The Legacy of Erich
Auerbach / Ed. by Seth Lerer. Stanford (Calif.). P. 37—49.
16 Berlin /. A Note on Vicos Concept of Knowledge // Jambattista Vico: An
International Symposium / Ed. by Giorgio Tagliacozzo and Hyden White.
Baltimore, 1969. P. 372—373.
17 Гадамер Х.-Г. Истина и метод. М.: Прогресс, 1988. С. 61
18 Это произведение Вико до сих пор не переведено на русский язык;
перевод заглавия, предложенный в книге Гадамера, — «О смысле наук
нашего времени» — не вполне удовлетворителен; С. Сини в своей статье (см.
примеч. 4, с. 129) предлагает вариант: «О методе преподавания нашего
106
Раздел первый. Переход
времени». Предлагаемый мной вариант — попытка синтезировать оба
этих перевода. Ср: König Р. Giambattista Vico. München, 2005. S. 56.
19 Эта ценившаяся в античности, но забытая современной философской
критикой ars topica, т. е. искусство находить аргументы для того, чтобы
ориентировать сознание учеников, собеседников и аудитории на
реальную и совместную, общественную практику, Вико, по словам Петера Ке-
нига, «переносит с риторики на науку вообще». См.: König P Op. cit. S. 57.
20 Trabant J. Neue Wissenschaft von alten Zeichen: Vicos Sematologie. Frankfurt
a. Main, 1994. S. 13—42 (раздел «Сеньор Вико, Ренато и филология»).
21 О речевом жанре биографии / автобиографии см. в бахтинской
феноменологии изображения человека в литературе: Бахтин M. М. Автор
и герой в эстетической деятельности // Он же. Собр. соч. Т. 1. М., 2003.
С. 215—229. Ср.: «Биография дарственна: я получаю ее в дар от других и
для других, но наивно и спокойно владею ею (отсюда несколько роковой
характер биографически ценной жизни)» (Там же. С. 228). См. также:
Винокур Г. О. Биография и культура (1927). М., 1997.
22 Соловьев В. С. Теоретическая философия // Он же. Соч.: В 2 т. Т. 1. М.:
Мысль, 1988. С. 781.
23 См. соответствующий фрагмент 1943 г.: Бахтин M. M. Собр. соч. Т. 5.
М., 1996. С. 61—70.
24 См.: Пигалев А. И. Прерванная игра, или Трудное возвращение в
историю // Вопросы философии. 1997. № 8. С. 137 (Введение к переводу эссе
О. Розенштока-Хюсси «Прощание с Декартом»).
25 В русском переводе («Теэтет», 149а) это выразительное слово
передается как «вздорнейший человек»; см.: Платон. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. М.:
Мысль, 1993. С. 200. С. Кьеркегор заметил и подчеркнул это слово (в
«Философских крохах», 1843) в своей попытке «крестить» греческое
мышление и остро сознавая себя самого в своем «гражданском мире» в
качестве «атопототоса».
26 Плеснер X. Ступени органического и человек: Введение в философскую
антропологию (1928). М.: РОССПЭН, 2004. С. 292—296.
27 Сошлюсь на очень характерную книгу Райнера Мартена «Человечный
человек: Прощание с утопическим мышлением», где этот ученик Хайдегге-
ра не пощадил, среди старых и новых философов и самого Хайдеггера.
См.: Marten R. Der menschliche Mensch: Abschied vom utopischen Denken.
Paderborn, 1988.
28 Blumenberg H. Das Lachen der Thrakerin: Die Urgeschichte der Theorie.
Frankfurt a. M., 1987. S. 9.
29 Ухтомский А. А. Интуиция совести. СПб., 1996. С. 266.
30 В XIX в. известный критик, идеолог народничества Н. К. Михайловский
писал в статье «Вико и его "Новая наука"» (1872): «Вико выпал
несчастный билет из урны судьбы. Задача века состояла в борьбе, в том, чтобы
резко отделить настоящий момент истории от всего предшествовавшего,
а Вико стремился понять прошлое и связать его с настоящим неразрыв-
Эпистемология в споре «древних» и «новых» 107
ною цепью причин и следствий. Все живые общественные силы были
направлены к тому, чтобы разнуздать личность, а он требовал для нее узды,
хоть какой-нибудь. Он был слишком одинок, и современники не только
не слушали, а и не слышали его голоса. Что касается до потомства, то и
оно не могло воспользоваться трудами Вико: оно прежде чем
вспомнило о нем, другими путями дошло уже до некоторых из его положений, и
притом с гораздо большею ясностью и определенностью и без
теологической примеси». См.: Михайловский Н. К. Полное собрание сочинений.
Т. 3. СПб., 1909. С. 87. Для Н. К. Михайловского при всем его интересе к
Вико (в частности, к викианской теории круговорота), «спор древних и
новых», в общем, решен в пользу современности и прогресса. В XX в.
самосознание современности и отношение к прогрессу существенно
изменились и осложнились.
31 См.: Розеншток-Хюсси О. Прощание с Декартом (1936) / Вступит, ст. и
пер. А. И. Пигалева // Вопросы философии. 1997. № 8. С. 139—146.
Статья эта вошла в одну из основных книг этого автора, которая имеет
подзаголовок «Автобиография западного человека. См.: Out of Revolution:
An Autobiography of Western Man. 4th ed. Providence; Oxford, 1993. P. 740—
753; перевод: Розеншток-Хюсси О. Великие революции: Автобиография
западного человека. М., 1999. С. 603—614.
32 Декарт Р. Сочинения в двух томах. М.: Мысль, 1989. С. 252,268.
33 См. об этом, в частности, в статье Акселя Хорстмана «Филология» в
«Историческом словаре философии»: Horstmann Α. Philologie //
Historisches Wörterbuch der Philosophie. Bd. 7. S. 552—572.
34 Löwith K. Vicos Grundsatz: verum et factum convertuntur. Seine theologische
Prämisse und deren säkularen Konsequenzen (1968) // Ders. Sämtliche
Schriften. Bd. 9. Stuttgart, 1986. S. 204.
35 См. в этой связи содержательное исследование немецкого философа и
историка науки: Böhme G. Am Ende des Baconschen Zeialters: Studien zur
Wissenschaftsentwicklung. Frankfurt a. M., 1993.
36 См. об этом, среди прочего: Rottenstreich N. Vico and Kant // Giambattista
Vicos Science of Humanity / Ed. by Giorgio Tagliacozzo and Donald Phillip
Verene. Baltimore; London, 1976. P. 221—240.
37 См. великолепный анализ историцизма в контексте попытки его
переворачивания в «Бытии и времени» М. Хайдеггера в статье: Соловьев Э. Ю.
Судьбическая историософия М. Хайдеггера (1988) // Он же. Прошлое
толкует нас: Очерки по истории философии и культуры. М.:
Политиздат, 1991. С. 351—356 (раздел «Проблема историцизма»).
38 Fellmann F. Das Vico-Axiom. Op. cit. S. 14.
39 Fellmann F. Op. cit. S. 9. Ф, Феллман следует за К. Левитом, который
противопоставил идеалистической интерпретации основной аксиомы Вико
его соотечественником Б. Кроче тезис, заставляющий вспомнить спор
учителя К. Левита — Хайдеггера — с гуманистическим
экзистенциализмом Ж.-П. Сартра в «Письме о гуманизме» (1946): история не столько
108 Раздел первый. Переход
сфера свободы человека, сколько ограничивающее его свободу
объективное «событие» (Ereignis und Geschehen). См.: Löwith К. Weltgeschichte
und Heilsgeschichte. Stuttgart, 1953. S. 118—119.
40 Howard N. Tuttle. The Epistemological Status of the Cultural World in Vico
and Dilthey // Giambattista Vicos Science of Humanity. Op. cit. P. 246.
41 Ibid. P. 243.
ВНИМАНИЕ: ГОВОРИТ DASEIN
(M. Хайдеггер для начинающих — I)
В конце концов
Основательный разговор или рассказ о Мартине Хайдеггере
(1889—1976) сегодня стоило бы начинать с того, о чем давно «все
знают» и о чем современные исследователи Хайдеггера, похоже,
стараются забыть или, во всяком случае, обсуждать и понимать это
как бы общеизвестное в другом смысле. Я имею в виду историко-
философский, а также общественный феномен и термин —
«экзистенциализм».
Современных исследователей можно понять: своего рода мода на
экзистенциализм давно прошла: во Франции — в 1960-е гг., в США
и по-своему в СССР — в 1970-е, а в Германии, откуда мода пошла,
Existenzphilosophie переросла сама себя уже в 1930-е гг. Так что когда
ученик ученика (и зятя) Дильтея Георга Миша (1878—1965), отчасти
и ученик М. Хайдеггера — Отто Фридрих Больнов (1903—1991) —
выпустил свою книгу об экзистенциальной философии (1942)1,
«философия существования» уже не существовала ни как импульс
дискуссии, ни как фактор биографии инициаторов этой философии.
Инициаторы — Ясперс и Хайдеггер — в 1940-е гг. если
«экзистенциальны», то уже на других (взаимно отталкивавшихся) путях2.
Зато в те же 1940-е гг. в оккупированной немцами, униженной
Франции происходит единственный в своем роде французский взлет
философии XX в., не вполне отделимый здесь от «литературы» в
широком, общественно-словесном, гуманистически-гуманитарном
смысле этого слова, но еще менее отделимый от импульсов
немецкой философии в лице, в первую очередь, «трех H» (Hegel
Husserl, Heidegger); этот взлет почти совпадает — в лице Жан-Поль
Сартра (1905—1980) — с рождением «экзистенциализма» как
явления уже не только философии3. В то переходное, серединное
десятилетие века (1942—1952) экзистенциализм и сделался
распространенным «жаргоном подлинности» — не вполне подлинным, конечно,
по
Раздел первый. Переход
с точки зрения подлинника или оригинала, но оригинальным в своем
роде. Ибо Сартр, А. Камю, А. де Сент-Экзюпери (в «Военном
летчике», в «Письме к заложнику», в посмертно изданной «Цитадели»),
либо сильно упростив Кьеркегора и немцев, либо вообще независимо
от немецкой философии и Кьеркегора, зато в борьбе с немецким
фашизмом и опираясь на собственный опыт и богатые традиции,
вернули экзистенциальной проблематике ее изначальное свойство, ее,
если угодно, «дискурс». Это жанрово-речевое качество заключается
в соединении научно-философского обсуждения сущности
человека, его места и «ситуации» в мире с обращением к предмету
обсуждения, к вот этому', лично наличному историческому человеку, к
Dasein как condition humaine («условия человеческого существования»),
причем не одинокому Единственному, но к «человечеству» как
братству людей. Такова магистральная тема западноевропейской
философии Нового времени, начиная с Монтеня в XVI в. и кончая
Сартром в XX в., — тема, которую не следует отождествлять с
«антропоцентризмом» и «гуманизмом». В своем «гуманистическом»
превращении на французской почве экзистенциальная философия не
отделима от незавершенного проекта Французской революции и Нового
времени — императива социальной справедливости в смысле
«свободы», «равенства» и «братства»4. В упрощенном, уже анахроничном,
но тем более остро пережитом тогда смысле «экзистенциализм» был
воспринят в СССР в 1960-е гг5. И, в конце концов, у нас с вывертом
справили — по случаю смерти Сартра и со ссылками на Достоевского
в духе достоевщины — «поминки по экзистенциализму» в самый
разгар эпохи так называемого застоя6. Что же из всего этого
следует, действительно, в конце концов7. Да был ли мальчик-то? А может,
экзистенциализма-то и не было?
Вопрос правомерен перед лицом и вызовом тех, кто на излете
прошлого столетия и советского века почувствовал себя в своем
праве «судей окончательных» (от Достоевского, действительно, не
уйти), не принимая, однако, на собственный счет необходимость, в
конце концов, платить по всем счетам.
Стилизованный рассказчик в «Архипелаге ГУЛАГ» А. И.
Солженицына (1960-е гг.) язвил по поводу реплики тренера из
советского фильма «Вратарь» (1940): «Главное — результат!»; установка
на предъявляемый обществу «результат» (который как бы
автоматически списывает все грехи, долги и утраты на пути достижения
«главного») обернулась катастрофой в первую очередь советского
идеализма-нигилизма, не чуждого, конечно, и более умеренному,
Внимание: говорит Dasein
111
более цивилизованному Западу, — установка эта обернулась
забвением исторического бытия, в которое входит, среди прочего, и вся
экзистенциальная эпоха первых десятилетий XX в., для нас сегодня
почти закрытая структуралистской эпохой последних десятилетий.
Что же остается на долю нашей «нулевой» современности, в конце
концов?
Дело, собственно, не в преходящей моде, хотя ведь и мода, даже
в философии, возникает неспроста и только «модой» не обусловлена
и не объяснима. Экзистенциализм — это философия «на поведение»,
как ни старомодно и ненаучно это звучит; в этом его, по выражению
Достоевского, «запрос на идею». И вот с какого-то момента (в разных
странах — в свое время) этот запрос потерял так называемую
актуальность (во всяком случае — «не звучит»). Отсюда попытки
специалистов говорить об экзистенциальных предметах как бы в обход
экзистенциализма — вне истории. У нас такого рода антиисторизм
исторически всегда был связан с обращением к «вечному» в двух
традиционных парадигмах речевого мышления и сознания — идеализма
«научности» и идеализма «духовности». Между тем
западноевропейский экзистенциализм как раз и поставил обе эти идеализирующие
конструкции под вопрос. Но и такая мечта постсовременных
«мечтателей» Достоевского уже «опоздала» — как «опоздал» у нас в 1960-е
годы «экзистенциализм».
Te/io вращения
Начало нового столетия в философии и научно-гуманитарных
исследованиях у нас и на Западе характеризуется новым очередным
обращением исторической реальности, а отсюда — возвращением
проблематики начала прошлого столетия. После «конца истории»
историческое измерение всех смыслов и ценностей снова и по-новому
становится значимым (во всяком случае, — «интересным»). После «смерти
субъекта» и всех прочувствованных и провозглашенных
структуралистской эпохой «концов человека» в относительно новой
исторической ситуации «после всего», которую можно назвать — в дополнение
ко всем прежним концам — «концом разговора» Конца Нового
времени, наблюдается то стихийное, то более осознанное, почти
фронтальное возвращение к антропологической проблематике, к
феномену и герменевтике «субъекта», к экзистенциальным импульсам.
Мы, похоже, являемся свидетелям поворотов прежних «поворотов»:
от сакрализации «текста» в структуралистскую эпоху — снова к
«бытию» (затексту всех текстов); от «структуры» — к «истории», от
112
Раздел первый. Переход
«языка» парадоксальным образом — снова к «мышлению»; от
«прощания с Декартом» — снова к «картезианской свободе»7. Что же,
собственно, происходит?
Прошлое, сделавшись, казалось бы, окончательно безвозвратным,
оборачивается так называемой современностью, «новым», а равно и
«хорошо забытым старым». Вот это, по-видимому, и есть «сложная
форма тела вращения» абсолютного исторического опыта — ответ
M. M. Бахтина, самого самостоятельного и не понятого русского
ученика Гуссерля, на идею «вечного возвращения того же самого» Ницше
во время Великой Отечественной войны8.
«Поминки по экзистенциализму» невозможны по той же самой
причине, по которой невозможен «конец человека» (в отличие от
преходящей риторики и символизации «экзистенциализма»,
«гуманизма», «человека» и т. п.). Невозможен потому и постольку,
поскольку «человек в человеке», открытый Достоевским-художником в
позапрошлом, а западноевропейскими мыслителями в прошлом
столетии (с опорой на Кьеркегора и Достоевского), — не метафора, но
реальность, которую не следует идеализировать: настолько она серьезна
и комична, бессмертна и чудовищна; это лицо духа, у которого нет и
не может быть «образа» — наглядного подобия узнаваемого образца.
Известное «убиение» человека в структуралистскую эпоху — с
опорой на Ницше, Маркса, Хайдеггера и Фрейда — было лишь особой
формой продолжения субъективизма Нового времени в виде борьбы
с «субъективизмом»; это была радикализация прежнего романтико-
идеалистического неприятия «буржуазного», овеществленного мира;
как бы неожиданный провал и катастрофа европейского (а вскоре и
постсоветского) сознания на исходе прошлого столетия «духовно»
объясняется, по-видимому, тем, что бунт против овеществления,
отречение от старого мира обернулись катастрофой, тотальным
овеществлением, обезличиванием и варваризацией мышления в
«теории», тоталитаризмом текста в соединении с политизированной
риторикой либертинажа «за» текстом9.
Структуралистская эпоха закончилась в тот момент, когда
структурализм «победил»: либерально-тоталитарная институализация
постформализма, постструктурализма и постмарксизма обернулась
впечатляющей «деконструкцией», но уже не в тексте, а в затексте
жизненного мира. Эпигоны Хайдеггера и так называемого «мышления
68-го года», обвинявшие Хайдеггера в фашизме, сами в 1980-е гг.
пришли к разнузданно-либеральной фашизации мышления «в
тексте», на свой лад подготовив распад мира в минувшее десятилетие
Внимание: говорит Dasein
113
и в наше «нулевое»10. Ты этого хотел, ЖоржДанден!.. Или все-таки ты
хотел чего-то другого?
В этом пункте, возможно, более чем где бы то ни было, «Афины»
и «Иерусалим» по-прежнему говорят «на разных языках»; причем это
противоречие и это «противочувствие», по-видимому, не только
обусловили историческое рождение и смерть экзистенциализма на
исходе Нового времени (после «последнего грека» — Гегеля), но также
входят в экзистенциальное ядро вечного человека в «абсолютной
историчности» всех Смыслову о которой говорил Гуссерль в период
написания своего «Кризиса», т. е. на взлете нового исторического
мышления XX в.11
Эту изначальную и абсолютную, нередуцируемую,
«экзистенциальную» историчность «вот бытия», «бытия здесь», «присутствия» —
чистую временность (по-бахтински: «течение жизни смертного
человека»)12 — Хайдеггер и обозначил немецким до непереводимости и
в этой непереводимости общезначимым, антиметафизическим,
антитерминологическим термином — Dasein.
Радикальное авторство
Таков, как мне кажется, «духовный» апперцептивный фон, на
котором может быть как-то увидено и воспринято нечто нормально
трудноуловимое, хотя и очевидное, совершенно повседневное:
Existenz, или по-русски: «человек в человеке», или, по терминологии
инициатора (наряду с Максом Шелером) философской антропологии
и пожизненного оппонента Хайдеггера Хельмута Плесснера (1892—
1985), «радикальное авторство»13. Воспринято и осмыслено в двух
направлениях, точнее — как двойное отношение:
(1) в корреляции к по-новому понятой социальности и
(2) в корреляции к новому типу авторства, «радикально новой
авторской позиции» (в тексте и за текстом)14. Радикальной постольку,
поскольку дело шло об обновлении мироотношения и жанров
речи («дискурсов») более традиционных, чем традиции Нового
времени («классические» или «романтические»). Дело шло о новом
очередном повороте «тела вращения» бытия, времени и истории.
Dasein не шутка; тем более — не метафора. Если этого не
видеть (или не желать видеть), всякий разговор о Хайдеггере, а равно и
о «магистральном сюжете» философии Конца Нового времени (XX в.)
несерьезен и непродуктивен. Самый язык такого разговора должен
быть какой-то иной — но при это остаться языком разговора, что, как
известно, не всегда удавалось Хайдеггеру, не говоря уж об эпигонах.
114
Раздел первый. Переход
Ведь сама речь философии стала иной для того, чтобы остаться
философией, чтобы войти в абсолютную историчность всех мыслимых
и даже немыслимых смыслов. Для того чтобы возникла «философия
языка», ей не мог не предшествовать опыт кризиса языка опыта:
оказалось, что о самых главных и общих вещах невозможно
говорить ни на общем, «массовом» языке, именуемом на языке
Достоевского «всемством», ни на каком-то особом элитарном языке, который
может быть разве что жаргоном.
В эпоху завершенной демократии XX—XXI вв. могут быть
«финики элитные», но «языка элитного» нет и не может быть. Dasein в
силу этого пытается, с одной стороны, молчать и «не высовываться»,
с другой стороны — пытается все же заговорить и сказать. Если зачин
«документа» о сговоре с дьяволом Адриана Леверкюна в романе
Томаса Манна «Доктор Фаустус» (1947): «Если что знаешь — молчи!»15 —
считать крайним случаем дела, то нормальным случаем дела,
вероятно, можно считать знаменитую концовку «Логико-философского
трактата» Л. Витгенштейна (1921): «О чем невозможно говорить, о
том следует молчать»16.
Как принципиальная проблема гуманитарной эпистемологии все
это, по-видимому, значит: Dasein, первое сознание, сам-сама-само
становится автором. В этом смысле, как это ни парадоксально, как раз
«смерть человека» и «смерть автора», провозглашенные на
творческом пике структуралистской эпохи, в действительности были «рес-
сентиментальными» риторическими провозглашениями и символи-
зациями «завершенной демократии» с ее «культом личности» в
условиях постидеологической обезличенности и тоталитаризма без
человеческого лица — завершением и возобновлением «эры индивида»17.
Dasein, «отпущенный» Хайдеггером от себя, продолжает свое
победное шествие по миру, как бы отрицая себя (и, соответственно,
отталкиваясь от «человеческого, слишком человеческого») — род про-
тивочувствия и противомыслия (по слову М. М. Бахтина — «челове-
коборчества»), который сегодня, в «нулевые годы», «позиционирует»
себя уже просто-напросто как (по выражению М. Фуко) «практика
порядка». И в этом — настоящая духовная «козлиная песнь»
(«трагедия») «нулевого» времени, как, впрочем, и надежда: пусть «человек»
звучит уже совсем не гордо, зато более по-человечески; condition
humaine не отменят ни современные пиарные интеллектуалы при
«институтах», ни «массовая культура», которую так называемая
культура, похоже, заслужила — подобно тому как все «аутисты»
Достоевского вполне заслужили своих карикатурных двойников.
Внимание: говорит Dasein
115
Все эти и подобные сюжеты мало, конечно, напоминают «эпи-
стемы» и «эпистемологии», тем более — современные
«культурологии». Но к гуманитарной эпистемологии как некоторой
возобновляемой взаимосвязи наук исторического опыта и философии
исторического опыта все это имеет прямое отношение.
Открытый императив
Применительно к истории философии Конца Нового времени
и, в частности, к Хайдеггеру как «отцу» экзистенциализма,
полемически отрицавшему сам этот термин в качестве «бессмыслицы»18,
сказанное означает примерно следующее. Нужно подступиться к
нашему философу как-то так, чтобы по возможности выйти из-под
пресса инерции само собой разумеющихся слов и представлений,
ослабить сложившиеся за десятилетия предрассудки, связанные со
словом «экзистенциализм», — не для того, чтобы объективировать и
«похоронить» стоящий за этим понятием («за текстом») открытый
императив (программу мышления), а, напротив, для того чтобы
открыть для себя (для нашего времени) то, что открыло «новое
мышление» 1920-х гг. (как бы оно ни называлось), то, что в нем тогда же
начали открывать и открывают до сих пор в истории рецепции.
В эпоху конца большого разговора Нового времени «новое»,
вероятно, может быть только осознанным и обновленным
воспроизведением не вообще чего-то «былого», но самого комментируемого
источника как все еще открытого (по-6ахтински: «незавершенного»).
Не в этом ли идея или, точнее (по Достоевскому), «запрос на
идею», содержащийся в слове и понятии «экзистенциализм»?
Запрос, который мы найдем у наиболее известных мыслителей смены
философско-гуманитарной парадигмы в первой трети XX в. (Хай-
деггер и Бубер, Ф. Розенцвейг и О. Розеншток-Хюсси, Ф. Эбнер и
Г. Марсель, X. Плесснер и Р. Бультман, К. Ясперс и М. Бахтин),
большинство которых либо не успели узнать об «экзистенциализме», либо,
узнав, сделали это понятие предметом своей критики (как Бубер,
Плесснер или Бахтин), а то и вовсе превратили «экзистенциализм» в
бранное слово, как О. Розеншток-Хюсси)?
Имеется в виду, ни много ни мало, как радикально новый подход
к «бытию», расподобляющий «онтологию» и «метафизику»,
«Иерусалим» и «Афины»19, иначе говоря — выводящий гуманитарное
мышление и познание из-под пресса греческой модели-презумпции
theoria, в частности и в особенности — за пределы так называемого
«апофантического логоса», logos apophantikos7. Если это так, то даже «в
116
Раздел первый. Переход
конце концов» нас ожидает не абсолютный конец, а скорее некоторая
задача и усилие.
Все упомянутые выше мыслители «смены парадигмы» чаще
всего спорят друг с другом; но им есть о чем спорить, поскольку
историчность «большого разговора» у них — общая и, если
присмотреться и прислушаться, все они, в сущности, говорят почти одно
и то же; точнее, у них коррелятивные ориентиры и императивы, в
равной степени открытые, т. е. творчески не завершенные, не
«нормальные», с еще открывающимся «горизонтом ожидания». Именно в
этом смысле (и в том же онтологически-событийном затексте)
прочитывается ключевой, в духовно-историческом аспекте, пассаж из
«Охранной грамоты» Б. Л. Пастернака (1930), этой поэтической и
биографической хроники «смены парадигмы», где говорится о
«порыве, который был загадан с такой настойчивостью, что уже насыщал
все кругом атмосферой совершающегося, а не только ожидаемого
романа»20. В отличие от России, философская кульминация этого
«романа» в Западной Европе пришлась на 1920-е гг. «Открытый
императив» мысли, сформулированный тогда разными мыслителями,
быть может, наиболее «программное» и ясное выражение нашел в
статье Франца Розенцвейга «Новое мышление» (1925):
С точки зрения Философии — Старого мышления, мыслить — это
значит: мыслить «вообще», ни для кого, т. е. ни к кому не
обращаясь («ни для кого» читатель, если ему угодно, может заменить на
«всех» или на пресловутое «Всеобщее»). С точки зрения Нового
мышления, я мыслю, следовательно, я говорю; «говорить» — это
значит: говорить с кем-то другим и мыслить для кого-то другого,
причем этот Другой (Jemand) — всегда совершенно определенный
другой, который, в отличие от немого Всеобщего, не только зритель,
но и живой участник, способный ответить на равных. (...)
Различие между Старым и Новым, между логическим и грамматическим
мышлением заключается не в том, что первое является молчащим,
а второе — звучащим; действительное различие состоит в том, что
Новое мышление возникает из потребности в другом (im Bedürfnis
des Andern), или, что то же самое, в принятии времени всерьез (im
Ernstnehmen der Zeit)21.
Это «принятие времени всерьез» — ведущий мотив-императив
всех принципиальных мыслителей эйнштейновской революции в не
эйнштейновском мире исторического опыта первой трети XX в. —
«экзистенциальной эпохи». Важно понять: как раз «развитие идей»
Внимание: говорит Dasein
117
этой эпохи в структуралистскую эпоху второй половины XX в.,
которой мы наследуем (в историческом опыте и в научной
культуре), сегодня обратилось в овеществленную дистанцию пост-пост-
постсовременников, в самооотчуждение и самопротиворечие в
особенности научно-гуманитарного и философского мышления.
Когда люди ближе всего к умонастроению «конца», они — знать
не зная или думать не думая о Достоевском или Кьеркегоре, Хай-
деггере или Сартре — реагируют на внутреннюю
несовместимость своей исторически незавершимой природы с тем, что вроде
бы грядет «в конце концов»; в этом смысле у Достоевского
говорится, что «неверующих» не бывает. Совершенно понятны и
оправданны, среди прочего, новейшие попытки как бы обратного
перевода экзистенциально-антропологических мотивов, вопросов и
феноменов на язык и в русло традиционного для русской философии
концепта «личности», или «персональности» — хотя как раз такое
обращение и возвращение может обнаружить почти необратимые
исторические рассечения, разрывы коммуникации и проблематики22. Об
этом у нас еще будет повод сказать кое-что в связи с позднесоветской
рецепцией Хайдеггера.
Практическая перспектива исследования, обсуждения или
рассказа о Хайдеггере, по-видимому, заключается в том, чтобы вернуться
из нашей «вброшености» в будущее «впереди планеты всей» к
утраченным историческим возможностям. Утраченным в истории
рецепции экзистенциализма экзистенциальным истокам, или началам,
мышления, к абсолютно историческим возможностям
философствования как такового.
Ведь так называемая вечность не имеет дела со временем и
историей, а потому не в состоянии ни возвратить, ни спасти прошлое в его
исторической вечности для современности и будущего. Не кто иной,
как Хайдеггер показал это (среди прочих) своим «делом мысли»
применительно к истории философии и к «истории бытия».
Кто есть кто
Из сказанного как будто ясно: история рецепции Хайдеггера и
«философии существования», с одной стороны, как-то должна быть
принята к сведению для того, чтобы подступиться к Хайдеггеру; но, с
другой стороны, эта история не может служить сама по себе
непосредственным подступом. Вообще история рецепции того или иного
философа, ученого или, скажем, поэта настолько же вводит в суть дела,
насколько и уводит от сути дела23. Вот, кстати, уже и первый урок у
118
Раздел первый. Переход
Хайдеггера: ведь он сам же и учил о том, что, открываясь, мир и смысл
сразу же и скрываются от нашего взгляда и умозрения. Учил-то учил,
но вот что, если так оно и есть — например, когда мы пытаемся
читать и обсуждать Хайдеггера?
Совершенно необозримая уже — наперекор ярлыкам, модам,
деконструкциям, политизациям, скандалам и «концам» — научная,
критическая, архивная, мемуарная литература об авторе «Бытия и
времени» не только и не просто продолжает расти. История рецепции
Хайдеггера (как и всякая история рецепции) все время меняет свой смысл,
наращивает значение^ казалось бы, давно известных произведений,
текстов, понятий, представлений. Чего же мы, собственно, хотим,
обращаясь к Хайдеггеру или «занимаясь» Хайдеггером? В конце концов,
для начала, наверно, — поучиться. Поучиться его необычайной
способности делать живым и современным то, что «все знают», самую
что ни на есть почтенную, «школьную» традицию, которую зачастую
в таком именно готовом, догматически зацементированном виде
(обедненном, но тем более сакрализованном) «традируют», т. е. передают
дальше во славу культуры, наук и искусств. К чему такая затеорети-
зированная, формализованная передача приводит, мы хорошо видим
сегодня, оглядываясь окрест. Хайдеггер — учитель: вот тема, которую
мало «тематизировать». Это надо еще и как-то «сделать».
Гадамер, по жизни благодарный ученик, вспоминает:
Одни благодаря ему поняли, кем был Маркс, другие — кем был
Фрейд, а все мы в конце концов поняли, кем был Ницше24.
У нас с вами, любезный читатель, не было и не могло быть
такого учителя, поэтому мы пока не знаем и не можем знать, кем был,
например, Хайдеггер или Гадамер, тем более — наш Бахтин (а
возможно, даже «до боли знакомые», такие родные Ницше и Маркс).
Говорить и писать сегодня можно о чем и о ком угодно; вот только
мы не знаем, кто есть кто в современной философии, хотя мы уже
знаем, кажется, всех или почти всех. Вопрос стоит так: как войти в
чужой разговор, в котором нас почти «не стояло», а это значит —
ослабляя непосредственное бессознательное давление исторически
нашего (советского) апперцептивно-диалогизующего фона
восприятия и мышления, — для того, чтобы вслед за тем открыть в чужом
«большом разговоре» свои вопросы и шепоты, свои догадки к речи,
свой разговор, сохраняя дистанцию, мобилизуя, реализуя «второе
сознание» по отношению к подлинному источнику или источникам
разговора?
Внимание: говорит Dasein
119
Трудность — в том, чтобы избежать аберраций и подмен, и еще
того, что В. В. Вейдле назвал в середине прошлого столетия
«пенкоснимательством и западническим чванством, никогда не исчезавшим
из русской земли»25.
Во всяком случае, в ситуации нового обращения и возвращения
экзистенциальных мотивов и импульсов, которую мы переживаем
сегодня, уже после «конца разговора» двадцатого столетия, не стыдно
учиться и переучиваться, т. е. быть «начинающим» в философии, в
гуманитарной эпистемологии и много еще в чем.
Гюнтер Фигаль, немецкий исследователь современного
поколения (габилитировавшийся по «Бытию и времени»26), начинает свое
«Введение в Хайдеггера» со следующего утверждения: Хайдеггер
уникален тем, что он по-новому увидел историю философии; это ему мы
обязаны тем, что классические авторы — такие, как Платон и
Аристотель, Кант и Гегель, — стало возможным читать по-новому, и
стало нужным читать по-новому. Без него фрагменты Парменида, да и
Гераклита, похоже, так и остались бы предметом узкоспециальных
исследований. То, что Ницше принимают всерьез как философа,
имеет своим истоком и импульсом интерпретации Хайдеггера. Без
него, несомненно, Кьеркегору и Дильтею тоже было бы куда труднее
получить доступ ко двору академической философии27.
По мнению Г. Фигаля, не туманное и загадочное хайдеггеровское
«бытие», но именно его подход к историческому времени бытия (а
отсюда — к истории философии) по-настоящему продуктивен; читать
Хайдеггера — значит учиться у него, сохраняя здравую дистанцию.
Другими словами, — сохраняя за собою свое, исторически уместное
и незаместимое, «второе сознание». Но такая возможность, с одной
стороны — фактически дана каждому читателю как его единственное
место в мире жизни, с другой стороны, она является задачей: «второе
сознание» задано мне в смысле самореализации. А между тем
самореализация — это самообъективация, и не «вообще», не в «нигдейе»,
но в этом мире. Это значит: обращаясь к Хайдеггеру, мы оказываемся
перед задачей, которая стояла, между прочим, и перед ним самим.
Казалось бы, это ясно само собой. И Хайдеггер сам описывает
этот процесс самообъективации: для него, самоосвобождающегося,
самообъективирующегося расстриги-католика, это — «вброшен-
ность» (Geworfenheit) в дольний мир. Попробуем диалогически
разделить заключенную здесь проблему, сохраняя дистанцию по
отношению к тому, кто и как ее ставит по-своему.
120
Раздел первый. Переход
Романтизм бытия
Самообъективируются (реализуются) в мире жизни не только
«другие» — «люди», «они» (das Man), говоря языком «Бытия и
времени» (1927), но, прежде всего, я сам. Это просто и не просто.
По Хайдеггеру, все я — «падшие», все «заброшены», или
«вброшены», но постольку и реальны в мире жизни: вот здесь и вот
теперь, в исторически определенном бытии-событии, которое
бесконечно больше меня самого, но в котором я участвую. Мое конкретное
«бытие здесь» (Dasein), мое «бытие-в-мире» изначально и безысходно
расколото сверху донизу, вдоль и поперек. Современник Хайдеггера
христианский мыслитель О. Розеншток-Хюсси (1888—1973) называл
такую экзистенциальную распростертость и уязвимость человека в
мире «Крестом Действительности»; Хайдеггер вряд ли бы так
выразился, но не потому, что это не так: ему такой образ, вероятно,
показался бы слишком «образом», нестерпимо старомодным, т. е.
одновременно чересчур «христианским» и чересчур «романтическим».
Новое мироощущение, выразителем которого Хайдеггер стал
в 1920-е гг. в области философии, требовало нового
(постсимволистского и постромантического) языка символизации в ситуации (как
выражались в это же самое время в Невельском философском кружке
М. М. Бахтина) «кризиса символизации»1*.
То было время (как сегодня снова и по-новому) «новой
реальности», «новой вещественности» и «новой деловитости» (neue
Sachlichkeit). Поэтому реальное «повторение романтизма» (Гадамер)
должно было, как правило, принимать форму отталкивания от
«романтизма» в смысле отвлеченной духовности и пустого мечтатель-
ства. По этой же причине и неомарксизм Г. Лукача, Т. В. Адорно
или ученика Хайдеггера, будущего вождя молодежной революции
конца 1960-х гг. Герберта Маркузе, должен был отталкиваться от
«экзистенциализма», будучи, конечно, на свой особый лад
экзистенциальным, а значит, и «бытием в...», идентифицируемым в своей
конкретной историчности Dasein.
За всеми попытками и полемиками, противочувствиями,
прорывами и провалами возобновленного в первые десятилетия прошлого
столетия романтизма сегодня легче, чем сорок или восемьдесят лет
назад, обнаружить старую романтическую проблематику
объективации и самообъективации. Только теперь это романтизм не «духа» и
не «духовности» (Innerlichkeit), но бытия (в философии — новая
онтология и новая эпистемология).
Внимание: говорит Dasein
121
«Романтизм бытия»: как ни старомодно и непрофессионально
на слух и на вкус современного философа должно звучать это
словообразование, найденное М. М. Пришвиным в конце 1920-х гг. в
осуществленном им тогда «оволении» (по-хайдеггеровски — столько же
труднопереводимое слово: Verwindung) русского формализма,
пролетарского рессентимента и «комсомольского» взгляда на жизнь и
прогресс29, — тем не менее пришвинский русский язык, как в других
случаях достоевский русский язык, на мой взгляд, лучше советской (как
и досоветской, не говоря уж о постсоветской) философии способен
дать подступ к хайдеггеровский «революции в способе мышления»
не извне (не объектно), но силою хоть какой-то еще, пусть
«литературной» памяти.
Катакомбный романтизм
Если мы хотим поучиться у Хайдеггера, не «западая» на Хайдег-
гере, не «проваливаясь» в его гениальность и не становясь, так
сказать, «хайдеггеризованными совками» (т. е. смехотворными и
анахроничными позднесоветскими карикатурами с оригинала); если хотим
в то же время, заметить и понять глубокую двусмысленность самой
истории рецепции хайдеггеровской мысли — в частности, влияния
его на, казалось бы, обратное экзистенциальной философии
мышление структуралистской эпохи второй половины XX в.30, — мы
должны разобраться в способе самообъективации, характерном для
мысли и речи Хайдеггера. Этот способ Э. Ю. Соловьев едко, но метко
назвал «романтизмом, выходящим из катакомб»31. Важно увидеть
момент истины в этом наблюдении, чтобы не принять его за истину
«вообще», ни за отсутствие истины.
Dasein снова и по-новому выходит на свет исторической
современности, оставаясь не столько «сокрытым», сколько открывается
с «увертливой робостью»32. Как такое возможно? И, главное, какие
следствия вытекают в бытии уже без романтизма из такой изначально
как бы нерешенной «решимости» Dasein7.
В качестве я только я сам дан и задан себе в мире других людей.
И так — каждый субъект, всякое мое (je meinige) Dasein, каждое
я, или «присутствие». «Павший» католик, Хайдеггер
подчеркивает очень по-немецки, по-протестантски: все и каждый сам для
себя — я (Dasein). Все, что из этого следует, действует исторически
вплоть до сегодняшнего дняу когда — в ситуации завершенной
демократии — в некотором «серьезно-смеховом» смысле каждый сам
себе Хайдеггер.
122
Раздел первый. Переход
Этот социально-психологический феномен, совершенно
естественный и даже неизбежный в эпоху завершенной демократии,
становится прямо напастью в посттоталитарных обществах как ничем
не опосредованный и не смягченный переход в противоположное
качество, так сказать, «культа личности снизу». Этому соответствует
сегодня тотальная духовно-историческая ситуация после Конца
Нового времени — ситуация «конца разговора».
Не трудно заметить, как на современных научных «дискуссиях»
сплошь и рядом выступающему задают вопрос, а он в форме
ответа на вопрос продолжает говорить нечто свое, просто игнорируя
вопрос: «каждый сам себе Хайдеггер»; нет уже ни внутренних, ни
внешних оснований и поводов для разговора; политкорректность
лицемерно и тщетно пытается прикрыть зияние, а эпигоны
постмодернизма — сорвать это прикрытие ради истины в смысле еще
одной, глобальной пощечины общественному вкусу... По
свидетельству Гадамера, когда в одном разговоре с Хайдеггером в конце
его жизни речь зашла о его полном собрании сочинений, то мэтр
вдруг сказал:
Nein, was mir wichtig, ist, dass man jetzt zu einer neuen Orientierung
kommt, dass die Menschheit eine neue Solidarität erreicht («Нет, то, что
мне важно, — это чтобы пришли к новой ориентации, чтобы
человечество достигло новой солидарности»)33.
Если «старый нацист» Хайдеггер заговорил о «человечестве»
и «новой солидарности» в эпоху «постсовременности», то это что-
нибудь да значит; пусть даже закавыченные слова уже не могут быть,
так сказать, раскавычены: как символизации былых императивов
они, в общем, уже отошли в вечную память. Между тем задача «новой
ориентации» остается для пост- или разновременников Хайдеггера;
ведь от нее зависит уже не прошлое, но современность и будущее его
мысли. В этой связи понятна (и требует повторения в качестве
«второго сознания») постановка задачи в уже известной нам по вводному
разделу книге М. Тойниссена «Другой» (1965); завершая свое
предисловие, этот исследователь замечает: необходимо «защитить
индивидуальность мыслителей от последствий мышления»34.
Очевидно, индивидуальность (точнее, персональность)
мыслителей, от Платона до Хайдеггера, принадлежит не только вечной
памяти истории философии, но и вечным герменевтическим
возможностям философии самой.
Внимание: говорит Dasein
123
Религиозное отречение
Для мыслителя, каким был Хайдеггер, самопереживание и речь
имеют действительно отчасти «катакомбный» (по Достоевскому —
«подпольный») характер, поскольку самообъективация здесь
связана с обостренным противоречием (расколом) между я и миром и
чревата катастрофой, крушением, крахом. От этого романтического
мотива неотделимо так называемое «крушение гения» (Scheitern
des Genie), важный мотив эпохи Гете и «бурных гениев»,
повторение которого в XX в. имеет сложный, «амбивалентный» характер
и нюансировку.
Выдающийся русский филолог, начинавший как историк
духовной культуры, В. М. Жирмунский (1891—1971) в свое время (а
именно в эпоху военного коммунизма, одновременно с началом
академической карьеры Хайдеггера во Фрайбурге), удачно назвал
исторический провал европейского романтизма при соприкосновении с
реальностью (имея в виду предметно — «гейдельбергский»
романтизм 1810-х гг., а экзистенциально — исторический провал и
«падение» русского символизма, т. е. неоромантизма, из которого вышел
и сам Жирмунский) — «религиозным отречением»35.
Всякий романтизм заканчивается крушением и «отречением».
Так называемый «поворот», Kehre Хайдеггера (на рубеже 1930-х гг.) —
тоже отречение в высшем смысле, так сказать, переход
экзистенциального чаяния в онтологически глобализированное отчаяние, но
при этом с новым мощным и позитивным исследовательским
потенциалом. «Религиозное отречение», сопровождающееся обычно
обращением к религии и вере, экзистенциально и интимно мотивировано
глубокой социальной дезориентацией, отпадением от «абсолютного
будущего» в абсолютное прошлое вечной памяти («традиции»); в
этом отношении, скажем, знаменитое обращение Фридриха Шлегеля
в католицизм после распада раннего романтизма не очень отличается
от «бегства из времени» создателя дадаизма Хуго Балла (1886—1927) к
восточному христианству после Первой мировой войны36.
Если каждый сам себе я, то самообъективация оказывается
принципиальной проблемой экзистенциального опыта вообще. И
значит — центральной проблемой гуманитарной эпистемологии.
Ведь «Dasein», конкретное персональное «бытие здесь», не
только и не столько «присутствует», сколько реализуется, т. е.
самообъективируется (воплощается) в мире; и мир этот —
демократическое общество XX в. и XXI в., а не, скажем, аристократический салон
124
Раздел первый. Переход
XVIII или XIX вв. Поистине в точке объективации (переводя
выражение Достоевского о красоте в план экзистенциальной
самореализации) «все противоречия вместе живут». Точнее, не в «точке» —
геометрическая метафора здесь в буквальном смысле слова
неуместна, — но в «хронотопе». Это понятие известно в нашей науке
в узкоспециальном значении: А. А. Ухтомский в 1920-е гг.
пользовался им в биологии, М. М. Бахтин в 1930-е гг. перенес его (ссылаясь
на доклад Ухтомского 1925 г.) в литературоведение и в
философскую эстетику. Но оба они — физиолог-богослов и литературовед-
философ — исходят из Канта и фактически понимают «хронотоп»
в социально-онтологическом и гуманитарно-эпистемологическом
ключе37. Вот почему, как представляется, термин «хронотоп» (а равно
и архаичный термин «архитектоника», которым пользовался ранний
М. М. Бахтин) может послужить диалогической альтернативой «ка-
такомбному романтизму», как и всякому романтизму, включая
экзистенциализм38. Ведь «религиозное отречение» — это, так сказать,
обращенный изъян романтической веры; применительно к Хайдег-
геру Гадамер говорит о «телеологии с обратным знаком»39, хотя он
и не вполне проясняет импликации этого глубокомысленного
определения.
В философии самообъективация представляет особые
трудности: социально-онтологические экзистенциалы ориентации
конкретного человека в мире жизни («я-для-себя», «я-для-другого»,
«другой-для-меня», по терминологии M. M. Бахтина)40 в как бы
чистом мышлении как бы преодолеваются; «мысль не знает этических
и эстетических трудностей самообъективации»; философия (в
особенности Нового времени) допускает и даже требует особой
«утопической философемы» не воплощенной, не объективируемой, не
причастной вненаходимости:
здесь как бы совершается некоторый оптический подлог,
создается душа без места, участник без имени и без роли, нечто абсолютно
внеисторическое. Ясно, что глазами этого фиктивного другого нельзя
увидеть своего истинного лика, но лишь свою личину41.
Духовная установка на «фиктивного другого» превращает
мыслителя из говорящего человека, реально объективирующегося в мире
равноправных ему других людей, — в «артиста», условно вненаходи-
могОу т. е. отделенного «сценой» от «публики»42. Но дело не только
в этой — «социологической» — стороне дела. Мышление
романтика — вплоть до такого «постмодерного» продолжателя-оппонента
Внимание: говорит Dasein
125
Хайдеггера, как Жак Деррида (1930—2004), ориентировано на
«поэзию», на творчество как на некоторую поэтическую утопию, хотя бы
и деконструируемую. Утопия в неоромантическом и особенно в
постромантическом мировосприятии, конечно, уже стыдится называть
себя «утопией», но не стыдится называть себя (до какого-то момента,
разумеется) «поэзией» и «творчеством», оставаясь при этом все равно
«утопической философемой», пусть даже и не такой наивной и
экстремальной, как, скажем, в русском футуризме вокруг 1917 г.43
В этом смысле тема «крушение гения» — очень важная и
поучительная тема современной интеллектуальной культуры вплоть до
так называемого «мышления 68-го года» во Франции44 — смыкается с
темой провала «утопического мышления» как радикального проекта
Нового времени, в котором идея чистой «поэзии» сходится с идеей
чистой «теории»45.
Owex фракиянки
Итак, мы хотим поучиться у Хайдеггера, сохраняя дистанцию и
не идеализируя «учителя» (в кавычках и без). Но для этого из любви
к истине мы должны оспорить еще одно само собой разумеющееся —
не только «образ» Хайдеггера, «образ» гения или «образ» «культуры»,
но также чересчур серьезный образ самой философии и самого
«философа». Оспорить, конечно, в особом, «серьезно-смеховом» смысле
и жанре речи, и не «против», а «за». Этому, правда, трудно учиться у
Хайдеггера, Ницше, у «постсовременных» продолжателей и эпигонов
«катакомбного романтизма».
История философии учит тому, что крупнейшие достижения
мысли не вполне и не всегда можно отделить от провалов
философствующих «суперзвезд», от «крушения гения». Провалы —
следствие не только неустранимой порочности и комической
преступности человеческой природы даже в ее «любимце» (как гениально и
наивно определяет гения Кант в «Критике способности суждения»).
Провал гениального мыслителя, как правило, выражается в том, что
философ проваливается в свою собственную гениальную мысль, как
Алиса проваливается в Зазеркалье или — ближе к истории
философии — как «первый философ» Фалес, изучая небо, свалился в
колодец под смех здоровой и здравой молодой бабенки-фракиянки46.
Известный немецкий гуманитарный эпистемолог Ганс Блюмен-
берг (1921—1996) так и назвал свою книгу перипетий и провалов-
падений западной «теории» — «Смех фракиянки», закончив ее,
разумеется, Хайдеггером47.
126
Раздел первый. Переход
Но если Хайдеггер поучителен одновременно в своих
открытиях, в своих ошибках, в своем «падении» и в своей, по слову Петера
Слотердейка, «не спасенности»48, то в этом он, как всякий гений, как
раз не оригинален. Платон, Гегель, его оппонент Кьеркегор, Маркс,
Ницше: все они, в сущности, «провалились» в собственные открытия,
все — «святые грешники». Мы, постсовременники и разновремен-
ники, не можем и не должны, конечно, ни уподобляться, ни
подражать им; но мы можем, как кажется, у них поучиться, разделив опыт
их мышления, а тем самым разобъективируя так называемые
результаты мышления. Обучение у гения посредством становления своего,
«второго сознания» в общном опыте мышления — так можно
попробовать повторить этот опыт, освобождаясь от того давления
первичного автора-законодателя-гения, о котором так поэтично сказал
Б. Л. Пастернак (имея в виду Ленина):
Чредою льгот приходит гений
И гнетом мстит за свой уход.
Не для всех, разумеется, заманчива перспектива — учиться быть
«вторым сознанием», не сливаясь с «падшим» учителем, учившим о
нашей «падшести» и «брошености» в этот мир, но и не предавая
учителя (как не предает Фалеса и смеющаяся над ним фракиянка, помогая
выбраться из колодца). Но, похоже, именно так, «амбивалентно»,
можно подойти к Хайдеггеру, не отвлекаясь «теоретически» от
экзистенциальных моментов мышления, речи и самообъективации
мыслителя — моментов истины, которые, как правило, либо остаются за
бортом академических («серьезных») исследований, либо, наоборот,
«скандализуют» и «деконструируют» всю серьезность и
революционность хайдеггеровского мышления49.
Это значит: к другому человеку я, человек, могу подойти только
по-человечески; к экзистенциалисту (даже если он сам не считает
себя таковым) можно подойти только как к «экзистенции» т. е.
диалогически, иными словами — не объективируя до конца чужую
личность именно там, где она «падает» в мир,
самообъективируется, т. е. становится «объектом», всегда уязвимым для критики. Как
мы увидим в очерке о Г. Г, Шпете, русская гуманитарная
эпистемология в единственный момент своего взлета в начале 1920-х гг. по-
новому (не романтически) решала проблему самообъективации, а
именно — как проблему «овнешнения»,хотя овнешнение самой этой
эпистемологии нормально не состоялось в свое время и обернулось
Внимание: говорит Dasein
127
чудовищным, почти необратимым провалом русского
философствования в минувшем столетии — тем, что «быть не возмогло», хотя оно
и было.
Сам Хайдеггер предостерегает нас от того, чтобы «провалиться в
Хайдеггера» под взглядом бессмертной фракиянки — второго («сме-
хового») сознания философии. Так, например, на своих «занятиях для
начинающих» по «Письмам об эстетическом воспитании» Ф.
Шиллера (зимний семестр 1936—37 гг.) Хайдеггер говорит об опасности
естественно действующего при восприятии гениального
произведения «содержательного импульса» (Sachtrieb), лишающего нас
чувства дистанции по отношению к воздействующему творческому
источнику и ослепляющему нас в отношении нас же самих50. Во всяком
случае, диалогический подступ к Хайдеггеру, кажется, отвечает на
интересующий нас в этой книге исходный и главный, гуманитарно-
эпистемологический вопрос, вопрос об условиях возможности (а
равно и невозможности) познания бытия прошлого в его отношении
к современности (настоящему и возможному будущему). Мы хотим
подступиться к Хайдеггеру — пусть на правах исторически неизбежно
лишь начинающих — через Existenzphilosophie, не сводя абсолютную
историчность (незавершенность) ее ни к «философии
существования», ни к «экзистенциализму», ни к тому, к чему все это пришло в
относительном пост-пост-пост-современном «конце концов».
Гадамер, завершая статью «Экзистенциализм и философия
экзистенции» (1981), поставил как раз интересующий нас вопрос, а
именно «что сегодня живо, а что мертво» у мыслителей, с которыми
ассоциируется история экзистенциализма? На этот вопрос («который
любая современность вправе адресовать голосам прошлого») ученик
Хайдеггера ответил так:
Духовное влияние личностей определяется как раз тем, что они
могут преодолеть сопротивление и дистанцию стиля, отделяющие их
от современности, — ведь им есть что сказать. (...) Не философия
экзистенции, но личности, пережившие эту фазу экзистенциально-
философского пафоса и шагнувшие в будущее, являются
партнерами философского диалога, который не только не устарел, но будет
продолжаться завтра и послезавтра51.
Из такого «завтра» или «послезавтра» — нашей постсоветской и
мировой современности — постараемся, вникая в гадамеровское
высказывание, быть осторожнее со словом «личностями» (в
подлиннике — die Männer) именно потому, что оно вполне может показаться
128
Раздел первый. Переход
таким «своим» и надежным (само собой разумеющимся). Гадамер в
приведенном высказывании мыслит уже по логике исторического
преобразования понятий, произведенного «философией экзистенции»
и продолженного в его собственном проекте философской
герменевтики. Ученик здесь говорит об учителе и его современниках
примерно следующее: философия экзистенции принадлежит прошлому,
но философы экзистенции больше (и лучше) собственного прошлого
и даже собственной экзистенции; в этом своем «больше» (das Mehr —
ключевое слово Гадамера) проблематика и новые возможности
экзистенциальной эпохи останутся проблематикой и возможностями
«завтра и послезавтра».
Итак, для того чтобы соприкосновение с одним из крупнейших
мыслителей XX в. состоялось, — у нас, «начинающих», не должно
быть никаких иллюзий ни в отношении Хайдеггера, ни в отношении
нас же самих. Причастная вненаходимость — не как theoria (знание-
разумение-созерцание «вообще», «безотносительно-ни-к-чему»),
но как phronesis (практическое, ориентирующееся в мире жизни
разумение-умение) — вот, что подлежит «осуществлению» (Vollzug).
Это принципиальное отличие и различение внутри языка греческой
философии, собственно, и приводит нас к «революции в способе
мышления», т. е. по нашей терминологии, — к смене философско-
гуманитарной парадигмы.
Попробуем осуществить предварительное герменевтическое
распредмечивание и замедление «в обе стороны» (с одной стороны —
Хайдеггер, с другой стороны, мы-постсоветские, начинающие у него
учиться), проясняя и лишая силы исторически унаследованные
опосредования и «предрассудки», которые скорее мешают, чем
способствуют самой оптике нашего восприятия Хайдеггера.
Общая точка
Известный немецкий философ старшего поколения Одо Марк-
вард в своем комментарии к упоминавшейся публикации записи
курса лекций Хайдеггера о «Письмах об эстетическом воспитании»
Шиллера52 мимоходом заметил, что и на таком опосредованном,
любительском переложении «для начинающих» у Хайдеггера можно
«поучиться философствовать» (philosophieren lernen). Мимоходом,
потому что Маркварду гораздо важнее другое: то, что вот и этот, еще
один сохраненный для истории хайдеггеровский курс лекций —
свидетельство «скорее авторитарной, чем диалогичной» манеры
мыслить, говорить, держаться и учить (самообъективация философского
Внимание: говорит Dasein
129
«мандарина» — хотя бы и гениального в своем роде). Марквард, со
своей стороны, объективирует и оценивает феномен Хайдеггера
жестко: это расчеты с Хайдеггером и с национальным прошлым,
столь характерные для немецких философов, сложившихся, подобно
Маркварду, в 1950—60-е гг.
Немцы все еще разбираются со своей немецкой историей,
отягощенной, похоже, надолго, если не навсегда, «немецкой виной». В
2004 г. в Берлине на конференции по Э. Ауэрбаху я подружился с
двумя молодыми немецкими коллегами во время стихийно
возникшего за обильным ужином в «Доме культуры» спора, в котором те
нападали на Хайдеггера и Гадамера по морально-политическим
мотивам, а я, единственный российский участник той конференции,
защищал от немцев честь немецко-арийской философской
герменевтики. Не нам, конечно, мучиться немецкой виной; но созерцание
этих мучений поучительно тоже: оно наводит на мысль о возможной
собственной вине. У немцев еще болят старые переломы и вывихи,
моральные раны исторической памяти; у нас, похоже, не болит
почти ничего, потому что слишком многое, что болело, давно
отрезано и забыто как чужое, а с тем, что еще болит, не очень понятно,
что делать.
«Неопытность в серьезном» — так называет M. M. Бахтин в
поздних заметках неловкие и неудачные, комичные как раз в силу
своей морализирующей, резонирующей серьезности, искренние
попытки гения русской комедии — Гоголя — пробиться к тому, что
философия XX в. будет, с оглядкой на греков, Маркса и Хайдеггера,
называть «праксисом», или «деятельностью»53. Достаточно вспомнить
в этой связи первое предложение «Письма о гуманизме»: «Мы
далеко еще не продумываем существо деятельности с достаточной
определенностью» — и знаменитый, типично хайдеггеровский по
своей неожиданности, лазеечный реферанс перед марксизмом в том
же сочинении54. Наивно было бы думать, что попытка понять
значение Хайдеггера для гуманитарной эпистемологии, т. е. для
философии общественно-исторического опыта, не имеет отношения
к конкретно-исторической практике его опыта мысли (ее, по Хай-
деггеру, «фактичности»). Как наивно думать, что, по-бахтински
выражаясь, «поступок мысли» можно истолковать и разоблачить
неопытностью философа в политике — «неопытностью в серьезном».
Поступок мысли такого мыслителя, как Хайдеггер, выдает куда
более фатальную неопытность, жутковатую и смешную в одно и
то же время.
130
Раздел первый. Переход
Философская суть «дела» Хайдеггера, как мне кажется,
правильно обозначена и обоснована в сборнике его младших коллег-
соотечественников «Хайдеггер и практическая философия» (1988):
В мышлении Хайдеггера, — читаем в редакторском предисловии
к этому изданию, — отсутствует (fehlt) практическая философия,
но не политическое измерение55.
Это — фундаментальный парадокс хайдеггеровской мысли, в
которой «внутренний», религиозно-экзистенциальный, личностно-
историчный опыт встречается с «внешним» миром по неэвклидовой
логике «фантастического реализма» Достоевского. Ведь это у
Достоевского в романе, как известно, один преступник «низкого» плана,
проникновенно глядя в глаза другому преступнику, озабоченному
«высоким и прекрасным» и заключающему в себе действительно «что-то
шиллеровское», говорит при первой же встрече, что между ними есть
«точка общая»56. В случае Хайдеггера поворот к практической
философии, им же инициированный, ему самому не удался и обернулся
политической реакцией радикально «правого» толка — реакцией,
которая три десятилетия спустя послужила опорой для «левой» переэк-
зистенциализации философии во Франции57.
Вот еще почему у Хайдеггера трудно учиться: любое однозначное
оценочное суждение или впечатление о нем — обманчиво не в меру
своей лживости, а, наоборот, в меру своей истинности; такое, опять же
по Достоевскому, «двоение» мысли и истины на самом деле отражает
и преломляет некий реальный «экзистенциал» логоса мысли и логоса
речи нашего философа. Ведь можно лгать, говоря правду, и наоборот.
Так называемая philosophy of science, т. е. эпистемология,
ориентированная на естественные науки, конечно, не имеет дела с такими
делами мысли, как «дело» Хайдеггера, т. е. с социально-онтологическим
и персонально-историческим («экзистенциальным») опытом «мира
жизни».
Поэтому самый неверный шаг — верить Хайдеггеру на слово,
особенно так называемому позднему Хайдеггеру, когда он вещает и
как бы завораживает, околдовывает, затягивает непонятно куда (но
красиво и возвышенно) своею загадочною, разносмысленной
уклончивостью, которая — как вспоминал его заколдованный и
расколдованный ученик — Карл Левит (1897—1973) — даже привела
одну слушательницу-студентку «мага» к самоубийству58. Поучительно
в этой связи недавнее прощальное интервью тоже ученика и тоже
Внимание: говорит Dasein
131
сурового критика Хайдеггера, но уже послевоенного поколения —
семидесятисемилетнего Эрнста Тугендхата. Почтенный профессор в
отставке прощается в этом своем интервью (2007) и с философией, и с
Германией, уезжая снова в Латинскую Америку, куда увезли его в 1933 г.
родители и откуда он вернулся вскоре после войны, поверив (как он
признается в этом своем интервью) в возможность «примирения» и
сделавшись после возвращения «денацифицированного» Хайдеггера
к преподавательской деятельности его учеником. Тугендхат считает,
что в Хайдеггере было «что-то фальшивое» (etwas Verlogenes)59.
Если бы! — как выражался в таких случаях Кьеркегор, корректируя
оптимизм своих рационалистов-современников, которым хотелось
верить, с оглядкой на Гегеля, что в «разуме» можно свести концы с
концами и найти «примирение с действительностью», освободившись
от действительности «духовно».
Конечно, есть нечто странное (по Достоевскому выражаясь —
«фантастическое», а на богословском языке выражаясь —
«инфернальное»), когда читаешь воспоминания Карла Ясперса (1883—1969)
о Хайдеггере, которые автор — по прямо-таки христианскому совету
своей жены-еврейки и друзей-единомышленников — не стал
публиковать при жизни его пожизненного друга-врага60; или когда узнаешь
из биографии Гадамера (тот, вероятно, не решился это напечатать,
но разрешил своему биографу), как 23 августа 1939 г., в день
заключения «пакта» между Гитлером и Сталиным, Хайдеггер
удовлетворенно стукнул кулаком по столу в своей шварцвальдской «хижине»:
мудрая политика Гитлера привела, наконец, к встрече «духа Гете и
духа Достоевского»61. Тот самый мыслитель, философские «дети»
которого нередко и довольно естественно были евреями62, мог в пору
своего ректорства доносить на коллегу, которого уличал в близости
к «либерально-демократическому кругу гейдельбергских
интеллектуалов вокруг Макса Вебера» и в «активных контактах с евреем
Френкелем, преподававшем в Геттингене, а ныне уволенным оттуда»63, или
щеголять партийным значком со свастикой на философском
конгрессе в Риме (1936), не снимая значок даже на дружеской прогулке с
бывшим любимым учеником К. Левитом64.
В действительности, я думаю, Хайдеггер был настоящим немцем
«из Достоевского», подобно (в этом отношении) нашему В. В.
Розанову — «русскому Ницше», которого тоже, как известно,
высокоинтеллигентные, порядочные, европейские наши интеллигенты «с
убеждениями» упрекали именно в том, в чем Э. Тугендхат упрекнул
учителя, отрекаясь от него задним числом. Но к Хайдеггеру у немцев
132
Раздел первый. Переход
особый, двойной счет: как к крупнейшему, гениальному философу
века и как к «нацисту» (в кавычках и без). Легко ли учиться у Хай-
деггера, если, конечно, учиться по-настоящему, а не так, как нам
экзистенциально ближе и хочется в отсутствии учителя, в отсутствии
чужой и собственной исторической вины, в отсутствии того, что у
немцев называется труднопереводимым на русский язык словом
Öffentlichkeit (публичная дискуссионная сфера общественного
сознания и речи)?
О. Марквард в упоминавшемся выше комментарии к «занятиям
для начинающих» по шиллеровским «Письмам...» утверждает
примерно следующее: Хайдеггер в своем мышлении воспроизвел — в
условиях нацизма — идущую от Шиллера немецкую мифологему
бюргера-обывателя, который в результате потерпевшей крах
политической революции находит свое примирение с действительностью в
духовно отрешенном, но тем более верноподданническом,
«эстетическом государстве» (Ф. Шиллер). Еще интереснее высказался
упоминавшийся во вступительном очерке один из самых авторитетных
философов старшего поколения Микаэль Тойниссен в статье «О нужде
и необходимости обращения к Хайдеггеру» (1977), написанной под
впечатлением смерти философа в сборник, посвященный его
памяти (1977). По мысли Тойниссена, нужно учиться у Хайдеггера не
меньше, чем у Гегеля, видеть свою современность (то, что «сегодня
есть») как состоявшееся прошлое, как действие в настоящем
времени реальных исторических традиций, — но при этом имея в виду
чудовищный парадокс личности Хайдеггера, связанный с некоей его
расколотостью, раздвоенностью, противоречивостью
(Zwiespältigkeit). Парадокс состоит в том, что мыслитель, по-новому открывший
в XX в. историчность человеческого бытия и мышления в мире,
оказался совершенно слеп и безответствен к своей собственной
историчности (самообъективация!)65.
Для нас, для «второго сознания» перед лицом Хайдеггера и
по отношению к таким, как Тойниссен, это означает примерно вот
что: есть нужда и необходимость учиться мыслить
«экзистенциально» вместе с экзистенциализмом и против экзистенциализма
в одно и то же время (про «поминки» по моде лучше, наверно,
забыть). Ведь, в конце концов, как раз в структуралистскую эпоху,
которую отцеубийца Сартра и французского экзистенциализма —
Мишель Фуко (1921 —1984) — провозгласил, как известно (с опорой на
Ницше и Хайдеггера), «концом человека», стала возможной такая
человеческая «свобода» (интерпретаций, не говоря уж о криминальном
Внимание: говорит Dasein
133
«беспределе»), от которой уже в наше время, вероятно, содрогнулся
бы не только Сартр, но даже и сам Фуко.
Учиться у Хайдеггера — значит не только «читать тексты» и
мыслить «мышление»; нужно ясно представлять себе и учитывать
экзистенциальную «расколотость» самообъективирующегося
мыслителя, духовный отпечаток личности, который в действительности
не остается бездейственным и нейтральным при восприятии и
рецепции даже тогда и как раз тогда, когда мыслящий хочет отвлечься
мыслью от самого себя. Утвердить «слишком человеческое»
посредством преодоления «слишком человеческого» — вот, по-видимому,
гуманистически-антигуманистическая экзистенциальная доминанта
хайдеггеровской мысли и основание ее не преодоленной
«двойственности» (Zwiespältigkeit), которая перешла от Хайдеггера ко многим,
кто был «захвачен» его мышлением и речью, но уже вне его
напряжений и «путей» историчности66.
Иллюзия близости и дали
Известный немецкий исследователь Гегеля, Хайдеггера и
герменевтической философии Отто Пёггелер, общавшийся с Хайдеггером
в его поздние годы, вспоминает:
Одной из последних радостей (letzten Freuden) Хайдеггера стало
письмо философа из Советского Союза: в письме говорилось, что и
там теперь начали понимать, что, собственно, пытался сказать Хай-
деггер вместе с Гельдерлином, когда писал, что наше время — это
эпоха отлетевших богов67.
Когда своя же современность начинает переживаться и
сознаваться как «эпоха отлетевших богов»; когда память о
героических и «эпических» временах еще остается, а иллюзий, связанных
с прежними идеалами, больше нет, — тогда, собственно, и
начинается «религиозное отречение» от прежнего идеализма и
романтизма, мотивирующее сублимацию и реанимацию более
традиционных и «твердых» форм мировоззрения, поведения и слова.
Спросим так: почему известные советские исследователи
западноевропейского экзистенциализма, писавшие о нем в 1960-е гг., более
или менее отошли от экзистенциальной проблематики (уже в
середине 1970-х гг.), а иные критики экзистенциализма, наоборот, сами
стали доморощенными карикатурами на экзистенциализм? Что,
если «эпоха отлетевших богов» означала для советского человека,
134
Раздел первый. Переход
и еще больше означает для постсоветского нечто иное, чем для
Parteigenosse Хайдеггера после его разочарования в духовных
возможностях нацистской «революции» в 1930-е гг., иное, чем даже для
западного «постсовременного» человека, хотя «по идее» это, вроде
бы, — то же самое?
В отечественной истории рецепции Хайдеггера и
западноевропейского экзистенциализма роковую роль, как мне кажется, сыграли
две системы предрассудков, или «доминант» (как называет
«предрассудки» А. А. Ухтомский).
Во-первых, «горизонт вопроса» (Fragehorisont) был у нас
в 1960-е гг. уже только свой советский и никакой другой68. Во-
вторых, советский «горизонт вопроса» об экзистенциализме должен
был, в поисках сколько-нибудь авторитетной опоры, которой
официальная идеология, естественно, дать не могла, как бы
совместиться с похожим апперцептивным фоном предреволюционного
философствования эпохи так называемого Серебряного века;
отсюда — живучая иллюзия, что русские философы (Бердяев, Шестов),
как-то по-своему и Достоевский (но как?), были, так сказать,
экзистенциалистами до экзистенциализма. (То же самое относится к
истории рецепции «экзистенциалистской» книги Бахтина о
Достоевском — истории, в общем, провальной.) «Новое мышление»,
признаком которого (все равно, у Хайдеггера или у Бубера, у Ясперса
или у Розенштока-Хюсси, у Марселя или у Ф. Эбнера) было новое,
не объектное понимание социальности бытия, сознания, мышления
и речи, — в советский век не могло не восприниматься на своем
апперцептивно-диалогизующем фоне; но это был — в смысле само
собой разумеющегося способа или образа мышления — фон
романтизма и идеализма образца 1800 г. в Германии. «Повторение
романтизма» в XX в. означало для русской философии и русской духовно-
идеологической культуры в целом (как советской так и
эмигрантской) нечто совсем иное, чем для западной философии и
«автобиографии западного человека».
«Опоздавшая» на два-три поколения советская и постсоветская
рецепция не могла не быть двойным недоразумением, дважды
утратившим реальную связь и взаимосвязь с оригиналом в том, прежде
всего, что касалось взаимоотношения «экзистенции» и «личности»69.
Употребляя старинное выражение В. Кюхельбекера о рецепции
западноевропейского романтизма в России первой трети XIX в. в
обостренном переложении этого выражения А. Н. Веселовским в
начале XX в., можно сказать сегодня (имея в виду далеко не только
Внимание: говорит Dasein
135
первый русский перевод «Бытия и времени» 1997 г.) о талантливом
провале «переводчиков переводчиков»70.
Что социально-онтологический и эпистемологический разрыв в
русской культуре был не односторонним советским, но почти полным
дискурсивным рассечением и отпадением от современной истории
гуманитарного (исторического) мышления, — об этом мы можем
судить сегодня и по эмигрантским откликам на Хайдеггера, которые
производят куда более странное и тяжелое впечатление, чем
советская рецепция 1960—1970-х гг.; последняя не только сыграла
позитивную историческую роль, но сохраняет (в отдельных ходах мысли,
наблюдениях и обобщениях) свой герменевтический потенциал, чего
почти невозможно сказать о русской рецепции экзистенциализма и
«Гейдеггера» в эмиграции71.
Если книгу, вероятно, самого одаренного советского
философа Мераба К. Мамардашвили (1930—1990) «Как я понимаю
философию72» попробовать читать в обратном порядке, то можно испытать
неожиданное впечатление. Книга состоит из двух частей: в первой —
статьи 1960-х — начала 1970-х гг., в которой советский «культурный»
марксист-шестидесятник, приятель Л. Альтюссера, глядя сверху
вниз, жестко критикует в особенности экзистенциалистов — Ясперса
и Сартра с как бы научной, «объективной» точки зрения
исторического материализма; во второй части, которая состоит из интервью
периода гласности (1988—1990), автор книги, как это ни странно на
первый взгляд, сам превратился в своего рода экзистенциалиста, не
став разумеется, ни Ясперсом, ни Сартром. Это не только молчаливая
иллюстрация того, что произошло с творческим советским
сознанием в 1970—80-е гг. (когда на Западе заговорили о
«постсовременности» и о судьбах «модерна»); перед нами выразительная
символизация гуманитарно-эпистемологического разрыва, происшедшего в
русской культуре в советский век.
Упоминавшийся выше М. М. Пришвин (1873—1954), этот
русский Хайдеггер по глубинной религиозной историчности опыта, но
не в философии, а в словесности, записал 12 февраля 1932 г.,
размышляя в своем Дневнике о перспективе «личности» и
экзистенциального опыта в России в результате осуществленного Сталиным
поворота и в контексте мирового научно-технического прогресса:
Все переменится скоро от радио, электричества, воздухоплавания,
газовых войн, и социализм дойдет до того, что каждый будет
отвечать за оброненное внутреннее слово.
136
Раздел первый. Переход
Все слова, улыбки, рукопожатия получат иное, внешнее, условное
значение. Но в глубине личности спор о жертве (Троица)
останется и будет накопляться. Быть может, настанет время, когда
некоторые получат возможность шептаться, больше и больше, воздух
наполнится шепотом или нечленораздельными звуками, или даже
темными непонятными словами, которыми говорят маленькие дети, и,
наконец, как у детей, выйдет первое слово... и тут начнется второе
пришествие Христа73.
В этом поразительном предвидении «оттепели» и последующих
десятилетий я бы все же усомнился или, во всяком случае, не
торопился со «вторым пришествием» — поскольку, как сказано у М.
Зощенко, «и вот мы видим то, что мы видим»; вообще верное
предвидение не гарантирует «необщего» экзистенциального провала и
личного заблуждения, как мы это знаем по творческой биографии не
только Хайдеггера, но и Пришвина. «Судьи окончательные»,
независимо от своей идеологии, не могут не симулировать «второго
пришествия», согласно поговорке, поспешив и насмешив... «Спор о жертве»,
однако, этим не снимается, не прекращается, не разрешается.
То обстоятельство, что западная философия XX в. имеет своим
исходным пунктом «критику сознания»74, а советская философия
имеет своим конечным пунктом «поздний реабилитанс» сознания
и личности75, похоже, не могло не привести к духовному финалу,
символизируемому концовкой «поэмы» Вен. Ерофеева «Москва—
Петушки» (1969):
И с тех пор я не приходил в сознание, и никогда не приду76.
Сегодня, когда каждый может по-русски прочитать Кьерке-
гора или Хайдеггера, «эффект очуждения» неизбежен: все оказалось
не таким, как казалось раньше с чужих слов; все оказалось гораздо
сложнее, но в то же время и интереснее — если, конечно, читатель-
современник в состоянии учиться или переучиваться, заново
открывая и оправдывая другого — и постольку открывая и понимая
себя в качестве «второго сознания».
Замедление
Если таким образом осознана наша собственная историчность,
то современный подступ к Хайдеггеру (сам), методически должен
быть своего рода Kehre, поворотом и «переменой ума» для тех, кто
хотел бы, как сказано, чему-то поучиться у Хайдеггера в качестве
Внимание: говорит Dasein
137
более или менее «начинающих». Поворот в данном случае не может не
иметь, в первую очередь, временного характера и значения — не менее
радикального, чем у Хайдеггера до «поворота», но имеющего другой
смысл и значение, а именно в применении к другому (русскому)
историческому опыту мира жизни. В этом смысле, как представляется,
есть резон говорить о новой стратегии мышления и понимания в
возобновляющемся в последние годы диалоге с западным
философствованием. Назовем эту стратегию «замедлением» с опорой не столько на
Хайдеггера, сколько на M. M. Бахтина77.
В опубликованных сравнительно недавно заметках 1940-х гг.
Бахтин варьирует ведущую тему своей социальной онтологии
причастности начала 1920-х гг. — тему, которую «все знают» благодаря,
главным образом, Хайдеггеру:
Допускается какое-то чудесное крайне резкое
ускорение (разрядка в тексте. — В. М.) в темпах движения к истине за
последние четыре века; расстояние, пройденное за эти четыре века, и
степень приближения к истине таковы, что то, что было четыре века
назад или четыре тысячелетия назад, представляется одинаково
вчерашним и далеким от истины...78
То, что связывается здесь с «ускорением в темпах движения к
истине» в Новое время, и есть, собственно, Seinsvergessenheit —
«забвение бытия». Важно понять, что Россия оказалась действительно
«впереди планеты всей» в этом движении, в этом перепрыгивании
или перемалывании собственного реального бытия, причем не только
и не просто «материально», но также «идеально» и «культурно», в
сознании и мышлении, в стремлении ухватить (как хотелось Раскольни-
кову в «Преступлении и наказании») «сразу весь капитал». Ясно, что
этому «ускорению» может и должна быть противопоставлена
радикально новая (по сравнению с «традициями») практика мысли,
мышление как поведение (немецкое Verhalten). Вот такое мышление мы и
назовем здесь «замедлением».
Задача состоит в том, чтобы в новой исторической ситуации
тотальной разрядки и конца разговора Нового времени, уже почти
совсем «отвязного» ускорения и дереализации бытия и условий
человеческого существования, не поддаться новому очередному безумию
«всемства», тоталитаризму без идеологии, и попытаться сделать нечто
почти дурацкое в своей первичности — «напряженно замедлить над
предметом»79 (например, над Хайдеггером).
Словом, не будем торопиться.
138
Раздел первый. Переход
Примечания
Отто Ф. Больное. Философия экзистенциализма: Философия
существования / Пер. С. Э. Никулина. СПб., 1999.
Г.-Г. Гадамер посвятил отдельную статью (1981) размежеванию
«философии экзистенции» (немецкой, воспринявшей импульсы С. Кьеркегора)
и «экзистенциализма» (французского, воспринявшего импульсы из
Германии в существенно ином мотивационном контексте); см.: Гадамер L-
Г. Экзистенциализм и философия экзистенции // Он же. Пути Хайдег-
гера: Исследования позднего творчества / Пер. А. В. Лаврухина. Минск:
Пропилеи, 2007. С. 8—22. Если Хайдеггер в своем «Письме о
гуманизме» (1946), по словам Гадамера, «дал подробную и основательно
аргументированную отповедь экзистенциализму сартровского толка», то
К. Ясперс «в середине 30-х гг., после того как с ужасом обнаружил
разрушительные последствия неконтролируемого экзистенциального пафоса,
трансформировавшегося в искаженную форму массовой истерии
националистического "прорыва", поспешил отодвинуть понятие
экзистенциального на второе место, а разум вновь поставить на первое» (там же.
С. 8—9).
См. в этой связи: Сартр Ж.-П. Экзистенциализм — это гуманизм (1946) //
Сумерки богов. М.: Политиздат, 1989. С. 317—344.
См. в этой связи главу «Франция: Европейский гений Иль-де-Франса» /
Пер. А. И. Пигалева в кн.: Ойген Розеншток-Хюсси. Великие революции:
Автобиография западного человека (1938). М., 1999. С. 107—214.
О французском экзистенциализме в советское время было написано
несколько ценных работ; см.: Великовский С. Грани «несчастного сознания».
М.: Искусство, 1973; Он же. В поисках утраченного смысла. М.: Худ.
литература, 1980. См. также: Соловьев Э. Ю. Экзистенциализм (историко-
критический очерк) (1966—67) // Он же. Прошлое толкует нас: Очерки по
истории философии и культуры. М.: Политиздат, 1991. С. 286—345. См.
также: Полторацкая Н. И. Меланхолия мандаринов:
Экзистенциалистская критика в контексте французской культуры. СПб.: Алетейя, 2000.
Давыдов Ю. Н. Поминки по экзистенциализму // Вопросы
литературы. 1980. №4. С. 190—230.
См.: Жан-Поль Сартр. Картезианская свобода (1946) // Логос. 1996. № 8.
С. 17—31. См. также материалы международной конференции,
посвященной столетию Сартра (2005): Ж.-П. Сартр в настоящем времени /
Сост., пер. С. Л. Фокина. СПб., 2006.
Бахтин M. M. К вопросам самосознания и самооценки (1943) // Он же.
Собр. соч. Т. 5. М., 1996. С. 78.
Бахтин, анализируя речевое мышление Подпольного человека,
называет свойственное этому «антигерою», так сказать, сентиментально-
романтическое самоедство — «эстетизмом с обратным знаком», или
Внимание: говорит Dasein
139
«лирикой зубной боли».; см.: Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 6. М., 2002.
С. 257—258.
10 См. в этой связи статью: Франк М. Политические аспекты нового
французского мышления (1989) / Пер. В. С. Малахова // Логос. 1994. № 6.
С. 315—326. Небольшая эта статья знаменательна потому, что в ней
декларируется и обосновывается — в год падения Берлинской стены и
конца the short century (1914—1989) — невозможность продолжения
дискуссии с французскими продолжателями продолжателей Ницше и Хайдег-
гера. См. также предисловие к этой публикации: Малахов В.
Несостоявшийся диалог // Там же. С. 310—314.
11 Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия («Венский
доклад» 1935 г.) // Культурология: Антология. М.: Юрист, 1995. С. 327.
12 Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 1. М.: Языки слав, культуры, 2003. С. 70. Хай-
деггеровское «бытие-к-смерти», хотя оно и заключает в себе нечто от
«сумрачного германского гения», не следует демонизировать. M. M.
Бахтин поясняет суть дела в своем философском проекте начала 1920-х гг.
на примере происходящего в стихотворении Пушкина «Разлука»
события: «Если бы человек не был смертен, эмоционально-волевой тон этого
протекания ("течения жизни смертного человека". — В. М.),этих: раньше
и позже, еще и уже, теперь и тогда, всегда и никогда и тяжесть и
значительность звучащего ритма были бы погашены. Уничтожьте момент
жизни смертного человека, и погаснет ценностный свет всех ритмических и
формальных моментов. Дело здесь, конечно, не в математически
определенной длительности человеческой жизни (библейские 70 лет), она
могла бы быть любой, важно лишь, что есть термины — границы жизни и
кругозора — рождение и смерть — только наличность этих терминов и
всего обусловленного ими создает эмоционально-волевую окраску
течения времени ограниченной жизни (...); и сами вечность и
безграничность получают ценностный смысл в соотнесении с детерминированной
жизнью» (там же).
13 См.: Плеснер X. Ступени органического и человек: Введение в
философскую антропологию (1928). Цитирую перевод А. Филиппова по
изданию: Проблема человека в западной философии / Под ред. П. С. Гуреви-
ча. М.: Прогресс, 1988. С. 126. В переводе А. Г. Гаджикурбанова
соответствующая антропологическая характеристика «живого бытия»
передана как «радикальная исходность»; см.: Плеснер X. Ступени
органического и человек: Введение в философскую антропологию. М.: РОССПЭН,
2004. С. 254. В оригинале — слово Urhebertum (приводимое первым
переводчиком); Плесснер имеет в виду изначальное, первичное
«авторство» самого человеческого бытия в мире жизни; это «радикальное
авторство» можно назвать также «первым сознанием». Плесснер, ученик
Гуссерля, в 1920-е гг. коллега и собеседник Г. Миша по Геттингенскому
университету, — один из самых глубоких философских критиков Хай-
деггера; но, конечно, его критика по-настоящему понятна и продук-
140
Раздел первый. Переход
тивна только на общей территории гуманитарно-эпистемологической
революции 1920-х гг., т. е., собственно, в проблемном разговоре
учеников Гуссерля, Дильтея и Хайдеггера. См. в этой связи комментарий
А. Филлипова к книге X. Плеснера: Проблема человека в западной
философии. С. 524—526. Если вообразить на минуту M. M. Бахтина в
Германии 1920-х гг., то, скорее всего (точнее, продолжительнее всего), его
«место» именно в Геттингене, в кругу Г. Миша, Плесснера и их
учеников, где складывалась тогда «другая» герменевтика; см.: Eine
«Andere» Hermeneutik: Georg Misch zum 70. Geburtstag (Jahr 1948). Bielefeld,
2005. Во всяком случае, конспектируя третье издание книги М. Шеле-
ра «Сущность и формы симпатии» (1926) в период подготовки к
печати своей книги о Достоевском (1927/28), M. M. Бахтин
соприкоснулся с концепцией онтологической «эксцентричности» человека, с
теорией восприятия «другого я» и т. п. См.: Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 2. М.,
2000. С. 680—693. О X. Плеснере см. в особенности: Lessing H.-Ulrich.
Hermeneutik der Sinne: Eine Untersuchung zu Helmuth Plessner Projekt
einer «Ästhesiologie des Geistes». Freiburg; München, 1998. О Шелере и
Хайдеггере: Mark Michalski. Fremdwahrnehmung und Mitsein: Zur
Grundlegung der Sozialphilosophie im Denken Max Schelers und Martin
Heideggers. Bonn, 1997.
14 Бахтин M. M. Проблемы творчества Достоевского (1929) // Он же. Собр.
соч. Т. 2. М., 2002. С. 68.
15 Манн Т. Собр. соч.: В 10 т. Т. 5. М.: ГИХЛ, 1959. С. 290.
16 Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. I. M.: Гнозис, 1994. С. 73
17 Рено А. Эра индивида: К истории субъективности. СПб., 2002.
18 См. его французское интервью 1969 г.: «Экзистенциализм, это в
некотором роде бессмыслица. Но Сартр не ответствен за нее». Цит. по: Хайдег-
гер М. Разговор на проселочной дороге. М.: Высшая школа, 1991. С. 157.
Хайдеггер в некотором роде, конечно, прав: за виртуальный смысл
«экзистенциализма» Сартр не ответствен, как и Хайдеггер; в этой связи
понятна мысль М. Бахтина: Кьеркегор (в отличие от Ницше) не
отвечает за вульгаризованную моду на него (см.: Бочаров С. Г. Событие
бытия // Он же. Сюжеты русской литературы. М.: Языки русской
культуры, 1999. С. 515). Смысл разговора, освобожденный от всех контекстов,
смысл, разложенный на беспонятные выжимки из разговора,
«подслушанные обезьяной и разнесенные куда придется по частям, в
разрозненной дословности» (как сказано у Б. Л. Пастернака в «Охранной
грамоте» 1930 г.), — это и вправду почти бессмыслица. Но экзистенциализм
как «большой разговор» (по выражению того же Б. Л. Пастернака) в
канун Конца Нового времени, радикальной демократии и «диктатуры
публичности» — совсем не бессмыслица.
19 Абсолютная историчность этой гуманитарно-эпистемологической
корреляции в отечественной научной литературе с замечательной глубиной
и блеском намечена в одной подсоветской работе; см.: Аверинцев С. С.
Внимание: говорит Dasein
141
Греческая «литература» и ближневосточная «словесность»
(Противостояние и встреча двух творческих принципов) (1971) // Он же. Образ
античности. СПб.: Азбука-классика, 2004. С. 40—105. Однако
конкретная историчность той же самой корреляции применительно к XX в.,
как мне кажется, в отечественной философии и научно-гуманитарном
мышлении остается не вполне еще освещенной и оцененной:
молчаливо признаваемой границей представления и обсуждения современной
истории философии в нашей стране, в сущности, остается «морфология
культуры» О. Шпенглера — учение, которое, по замечанию Томаса
Манна, «не перешагнуло рубеж девятнадцатого века». См.: Манн Т. Об
учении Шпенглера (1924) // Он же. Собр. соч.: В 10 т. Т. 9. М.: ГИХЛ, 1960.
С. 618.
Пастернак Б. Л. Собр. соч: В 5 т. Т. 4. М.: Худ. литература, 1991. С. 214.
Розенцвейг Ф. Новое мышление: Несколько дополнительных замечаний
к «Звезде спасения» (1925) / Пер. В. Л. Махлина // Философия культуры
/ Под ред. С. Я. Левит. М.: ИНИОН РАН, 1998. С. 19 (Перевод
несколько скорректирован). О Розенцвейге см. в особенности: Der Philosoph
Franz Rosenzweig: Internationaler Kongress (Kassel 1986). 2 Bde. Freiburg;
München, 1988; Dober H. M. Die Zeit ernst nehmen: Studien zu Franz
Rosenzweigs «Der Stern der Erlösung». Würzburg, 1990; Махлин В. Л. Я к
Другой: К истории диалогического принципа в философии XX в. М.:
Лабиринт, 1997. С. 26—59. Недавно вышла книга, специально посвященная
сопоставлению Хайдеггера и Розенцвейга; см.: Gordon P. E. Rosenzweig
and Heidegger: Between Judaism and German Philosophy. Berkeley etc., 2003.
О главной книге Ф. Розенцвейга «Звезда спасения» (1921) еще успела
выйти краткая, но яркая рецензия в еще не закрытом петроградском
журнале «Мысль», автор которой, подписавшийся «К», в известном смысле
пророчески писал: «Для того, кто с любопытством ожидает появления
новой философской мысли, обусловленной войной и всеми
последующими за ней мировыми событиями, эта книга может показаться первой
ласточкой». См.: Мысль / Под ред. Э. Л. Радлова и Н. О. Лосского.
Петербург: Academia, 1922. С. 176—178 (здесь: 176).
См. новейшее и ценное издание: Персональность: Язык философии в
русско-немецком диалоге / Под ред. Н. С. Плотникова и А. Хаардта при
участии В. И. Молчанова. М.: Модест Колеров, 2007. См. также: Person:
Philosophische Texte von der Antike bis zur Gegenwart / Hrsg. von Martin
Brasser. Stuttgart, 1999; Charles Taylor Sources of the Self: The Making of the
Modern Identity. Cambridge (Mass.), 1989.
См. в этой связи методически инструктивный для гуманитарной
эпистемологии подступ к истории рецепции Л. С. Выготского: Фрумки-
на Ρ M. Культурно-историческая психология Выготского-Лурия. М.: ГУ
ВШЭ (Гуманитарные исследования ИГИТИ),2006.
Гадамер Г.-Г. Философия и герменевтика (1976) // Он же. Актуальность
прекрасного. М.: Искусство, 1991. С. 10.
142
Раздел первый. Переход
25 Вейдле В. В. Запад и Россия // Вопросы философии. 1991. № 10. С. 68.
26 См.: Figal Günter. Martin Heidegger: Phänomenologie der Freiheit (1988).
3. Aufl. Weinheim, 2000.
27 Figal G. Martin Heidegger zur Einführung (3. verb. Aufl.). Hamburg, 1999. S. 7.
28 См. об этом: Николаев H. И. M. M. Бахтин в Невеле летом 1919 г, //
Невельский сборник / Под ред. Л. М. Максимовской. Вып. 1. СПб,:
Акрополь, 1996. С. 96—101. Для М. М. Бахтина» Л. В. Пумпянского и
пореволюционного поколения объективной задачей было уйти от
языка эпохи Вяч. Иванова и символизма, сохранив, однако,
мировоззренческую проблематику предшественников, подобно тому как Хайдеггер
уходил от языка и речи (способа обращенности) довоенной эпохи
Стефана Георге и Рильке, но сохраняя и даже усиливая экзистенциально-
мировоззренческие мотивы, звучавшие еще до войны, одновременно с
открытием в Германии Кьеркегора.
29 См.: Пришвин M. M. Журавлиная родина (1929) // Он же. Собр. соч.: В 6 т.
Т. 4. М.: ГИХЛ, 1957. С. 340.
30 См. инструктивное исследование о «Хайдеггере и новых»: Ferry Luc, Re-
naut Allain. Heidegger et les Modernes. Paris, 1988. См. также: Рено A. Эра
индивида.
31 Соловьев Э. Ю. Судьбическая историософия М. Хайдеггера // Он же.
Прошлое толкует нас. М.: Политиздат, 1991. С. 349. По мысли Э. Ю.
Соловьева, катакомбный романтизм, характерный для духовно-идеологической
настроенности «Бытия и времени», представляет собой своеобразную
демократизацию прежнего, элитарно-индивидуалистического типа
романтизма и апеллирует уже не к избранным и не к эпатирующей
буржуа богеме, но к «человеку с улицы» с его повседневными заботами и
тревогами. В отличие от Э. Ю. Соловьева, который ищет в особенности
духовно-исторический и социологический коррелят главного
произведения М. Хайдеггера, понятие «катакомбный романтизм»
представляется нам продуктивным для понимания определенного (нео- или
постромантического) типа экзистенциальной самообъективации, с точки
зрения которого само словосочетание «экзистенциальная
самообъективация» — это скорее «contradictio in adjecto».
32 Соловьев Э. Ю. Цит. соч. С. 363.
33 Gadamer H.-G. Die Lektion des Jahrhunderts. Münster, 2002. S. 150.
34 Theunissen M. Der Andere: Studien zur Sozialontologie der Gegenwart.
Berlin, 1965. S. 10.
35 Жирмунский В. M. Религиозное отречение в истории романтизма. М.:
Издание С. И. Сахарова, 1919.
36 См.: Балл X. Византийское христианство (1923) / Пер. с нем.
А. П. Шурбелёва. СПб.: Владимир Даль, 2008. Стоит вспомнить в этой
связи также эволюцию некоторых шестидесятников-структуралистов,
европейских и постсоветских.
Внимание: говорит Dasein
143
37 См. в особенности письма А. А. Ухтомского 1920-х гг. и исследования
M. M. Бахтина 1937—38 гг., объединенные под названием «Формы
времени и хронотопа в романе», развивающие на новом материале
осуществленное уже в начале 1920-х гг. расширяющее переосмысление кантов-
ского понятия «архитектоника».
38 Ср. сопоставление-противопоставление Достоевского романтизму в
первом издании книги Бахтина (1929): «Достоевский кровно и глубоко
связан с европейским романтизмом, но то, к чему романтик подходил
изнутри в категориях своего "я", чем он был одержим, к тому Достоевский
подошел извне, но при этом так, что этот объективный подход ни на одну
йоту не снизил духовной проблематики романтизма, не превратил ее в
психологию». — Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 2. М., 2002. С. 77. Отсюда
понятно, почему бахтинская концепция творчества Достоевского,
несмотря на всемирную известность ее, до сих пор почти вовсе еще не понята:
к духовной проблематике романтизма, как и экзистенциализма,
подходят либо «изнутри» (психологически), либо «извне» (социологически и
формально-исторически и «идеологически»).
39 Гадамер Х.-Г. Истина и метод. М.: Прогресс, 1988. С. 307.
40 См.: Бахтин М. М. К философии поступка (1921/22) // Он же. Собр. соч.
Т. 1. М.: Языки слав, культуры, 2003. С. 49.
41 Бахтин М. М. Цит. изд. С. 111,112.
42 См. в этой связи: Петер Слотердайк. Мыслитель на сцене: Материализм
Ницше // Фридрих Ницше. Рождение трагедии / Пер. А. В. Михайлова.
M.: Ad marginem, 2001. С. 545—724.
43 Язык «поэзии» в узком смысле слова, т. е. язык стихотворной
(особенно лирической) поэзии, создает иллюзию чистой интенциональности
речи — как бы без объективации говорящего, как если бы субъектом
говорения был не я и не вы, но — «самое само». Это тот пункт, где
символизм начала XX в. переходил в футуризм. Ср. мысли M. M. Бахтина
об «утопической философеме» — идее искусственного языка поэзии:
«Социальные языки объектны, характерны, социально локализованы и
ограничены; искусственно созданный же язык поэзии будет прямо ин-
тенциональным, непререкаемым, единым и единственным языком. Так,
в начале XX века, когда русские прозаики стали проявлять
исключительный интерес к диалектам и сказу, символисты (Бальмонт, В. Иванов), а
затем и футуристы мечтали создать особый "язык поэзии" и даже
делали попытки создания такого языка (попытки В. Хлебникова)». —
Бахтин Λί. Λί. Слово в романе // Он же. Вопросы литературы и эстетики. М.:
Худ. литература, 1975. С. 100—101. См. в этой связи исследование,
сопоставляющее М. Хайдеггера и Романа Якобсона: Vom Umgang mit
Tautologien: Heidegger und Jakobson. Hamburg, 2000.
44 Люк Ферри и Ален Рено, авторы весьма инструктивных критико-
аналитического комментариев к французскому философскому
постмодернизму — «Мышление 68-го года: Эссе о современном антигуманиз-
144
Раздел первый. Переход
ме» (1985) и «Хайдеггер и наши новые модернисты» (1988) —
специально отмечают (ссылаясь в особенности на П. Бурдье и Ж. Деррида)
стилистическую доминанту «дискурса» практически всех ведущих
мыслителей пика структуралистской эпохи: с одной стороны, —
подчеркнутая уклончивость и «зачарованность невыразимым», с другой — «вкус
к провокации посредством приведения к абсурду» (см.: Ferry Luc, Renaut
Allain. La pensée 68. Essai sur lanti-humanisme contemporain. Paris, 1985.
P. 38—39): Хайдеггера труднее узнать в этом дискурсе, чем Ницше, но
узнать все же можно. Со своей стороны, Манфред Франк в своих
лекциях «Что такое неоструктурализм?» (1984) попытался как бы
переиграть «мышление 68-го года», с одной стороны, показав его связь с
антигуманизмом Хайдеггера (отчасти и своего учителя Гадамера как
ученика Хайдеггера), а с другой стороны — актуализовав продуктивные
стороны мысли Сартра, не сводимые ни к его «экзистенциализму», ни к
его (достаточно инфернальному) «гуманизму»; см.: Manfred Frank. Was ist
Neostrukturalismus. Frankfurt a. M., 1964.
45 Показательна и поучительна в этом отношении книга ученика
Хайдеггера, Райнера Мартена «Человечный человек: Прощание с утопическим
мышлением»(1988), в которой показано, как Хайдеггер, Сартр, Фрейд и
другие, отталкиваясь от утопизма и идеализма Нового времени, каждый
по-своему радикализовали отрицаемое. См.: Marten R. Abschied vom
utopischen Denken. Paderborn etc., 1988.
46 Сократ в «Теэтете» (174 а) говорит: «Рассказывают, что когда он (Фа-
лес), наблюдая небесные светила и заглядевшись наверх, упал в
колодец, то какая-то фракиянка, миловидная и бойкая служанка,
посмеялась над ним, что-де он стремится знать, что на небе, того же, что
рядом и под ногами, не замечает. Эта насмешка относится ко всем, кто
проводит свой век в занятиях философией». — Платон. Собр. соч.: В 4
т. Т. 2. М.: Мысль, 1993· С· 230· Серьезность этой «насмешки», как
правило, признавали великие философы, от Платона до Хайдеггера;
поучительным исключением, кажется, был Гегель, который в своих
лекциях по истории философии отреагировал на историю с Фалесом (в
версии Диогена Лаэртского, согласно которой «первый философ» свалился
не в колодец, а в канаву, а место смеющейся фракиянки занимает
смеющийся народ), так сказать, даже не улыбнувшись и потому —
мстительно: «Народ смеется над такими вещами и обладает тем
преимуществом, что философы не могут воздать ему таким же смехом; но люди
не понимают, что философы смеются над ними, которые, разумеется,
не могут упасть в яму, потому что они как раз навсегда лежат в ней и не
обращают своих взоров ввысь». — См.: Гегель Г. В. Ф. Лекции по
истории философии. Книга первая. СПб·: Наука, 1993· С. 203. На фоне
такой мрачноватой, «однотонной», по слову M. M. Бахтина, серьезности
становится понятнее не только односторонняя и несправедливая
критика Гегелем-«агеластом» (как сказал бы тот же М. М. Бахтин) концеп-
Внимание: говорит Dasein
145
ции «иронии» (собственно, «насмешки») своего современника Ф. Шле-
геля, но и «серьезно-смеховые» (а не «трагические» — дьявольская
разница!) разрушительные последствия гегелевского, так сказать,
безоговорочного теоретического идеала мышления (но, конечно, не
гегелевского мышления в его конкретном — не однотонном, не однородном и
не однозначном — единстве) в европейском культурном и
некультурном сознании (особенно, разумеется, в России).
47 Blumenberg H. Das Lachen des Fräkerin: Eine Urgeschichte der Theorie.
Frankfurt a. M., 1986.
48 См.: Sloterdijk P. Nicht Gerettet: Versuche nach Heidegger. Frankfurt а. М.,
2001.
49 См. в этой связи: Fédier François. Heidegger: Anatomie d'un scandale.
Paris, 1988. Только что опубликован русский перевод этой книги: Федъе Ф.
Хайдеггер: Анатомия скандала. СПб.: Владимир Даль, 2008.
50 Martin Heidegger. Übungen für die Anfänger: Schillers Briefe über die
ästhetische Erzieung des Menschen (Wintersemester 1936—37) / Hrsg. von Ulrich
von Bülow. Mit einem Essay von Odo Marquard. (Deusche
Schillergesellschaft.) Marbach am Neckar, 2005. S. 89.
51 Гадамер Х.-Г. Пути Хайдеггера / Пер. А. В. Лаврухина. Минск: Пропилеи,
2007. С. 22.
52 См.: Marquard О. Der Schritt in die Kunst: Über Schiller und Heidegger //
Martin Heidegger. Übungen für die Anfänger: Schillers Briefe über die
ästhetische Erziehung des Menschen (Wintersemester 1936—37) / Hrsg. von Ulrich
Bülow. Marbach am Neckar, 2005. S. 191—202.
53 Ср.: «Наивность Гоголя, его крайняя неопытность в серьезном,
поэтому ему кажется, что надо преодолеть смех (разрядка в тексте. —
B. М.)». — Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 6. М.: Языки рус. культуры, 2004.
C. 411. Попытка преодолеть смех у гения смеха, конечно, не только
смешна: ведь в случае Гоголя дело идет — как, начиная с Гоголя, в русской
литературе XIX в. и в русской революции XX в. — с одной стороны, об
исканиях «жизни» и «дела» (преображение мира), с другой стороны, — о
карикатурном, но действенно-историческом обращении этих исканий
в политический радикализм, в «этику нигилизма», в интеллигентский
автономный «морализм» (С. Л. Франк), в «новую богословскую
школу» (Г. П. Федотов). После советского века ситуация из-за отсутствия
исторической дистанции (действительной, не паразитирующей «внена-
ходимости»), т. е. исторического сознания, только перевернулась «с
точностью до наоборот»: изменилось все, но перемениться — в смысле
исторической преемственности — пока что, к сожалению, мало что может.
Ведь движущим мотивом сознания по-прежнему остается девиз:
«Главное — результат», только теперь в обратном смысле.
54 См.: Хайдеггер М. Время и бытие. М.: Республика, 1993. С. 192,207
55 Heidegger und die praktische Philosophie / Hrsg. von Annemarie Gethmann-
Seifert und Otto Pöggeler. Frankfurt a. M., 1988. S. 7.
146
Раздел первый. Переход
56 Достоевский Ф. М. Преступление и наказание // Он же. Собр. соч.: В 10 т.
Т.5.М.:ГИХЛ, 1957. С. 297.
57 Эту «фантастическую» (гротескную) преемственность редакторы
упомянутого сборника усматривают в том, что «ложный путь (Irrweg) Хайдег-
гера» относится не только и не столько к его политической ошибке 1933 г.,
сколько к «утрате способности к проведению различий» (Differenziert-
heitsverlust) внутри его же собственных гениальных постижений. См.:
Heidegger und die praktische Philosophie. Op. cit. S. 7—9.
58 Löwith Karl. Mein Leben in Deutschland vor und nach 1933: Ein Berich.
Stuttgart, 1986. S. 43.
59 См.: Tugendhat Ernst. «Die Zeit des Philosophierens ist vorbei»· Interview
Ulrike Hermann, 28.7.2007 (http://www.taz. de/index.php?id=digitaz-artikel).
60 Ясперс описывает «радикальный срыв», происшедший с Хайдеггером,
вспоминая среди прочего разговор, имевший место в мае 1933 г., во
время последнего визита X. в Гейдельберг, после того как Фрайбургский
ректор «товарищ Хайдеггер» выступил перед студентами и профессорами
университета с «программой национал-социалистического обновления
университета» (студенты были в восторге, в отличие от профессоров).
«"Мы ожидали, — сказал я, — что вы вступитесь за наш университет и
его давние традиции". Он не ответил. Я заговорил о еврейском
вопросе, о злостной бессмыслице насчет 'сионских мудрецов', на что он
заметил: "Существует опасная интернациональная связь евреев". За столом
он сказал довольно сердито, что слишком много развелось профессоров
философии, это, мол, безобразие, во всей Германии достаточно держать
двух или трех. "Каких же?" — спросил я. Никакого ответа. "Как может
такой необразованный человек, как Гитлер, править Германией?" —
"Образование не имеет значения, — сказал он, — посмотрите только на его
удивительные руки!"». Цит. по: Ясперс К. Хайдеггер // Фауст и Зарату-
стра. СПб.: Азбука, 2001. С. 150.
61 Jean Grandin. Hans-Georg Gadamer: Eine Biographie. Tübingen, 2000. S. 237.
62 См. специальное исследование на эту тему: Richard Volin. Heidegger'
Children: Hannah Arendt, Karl Löwith, Hans Jonas and Herbert Marcuse.
Princeton; Oxford, 2003.
63 См.: Рюдигер Сафрански. Хайдеггер: Германский мастер и его время / Пер.
Т. А. Баскаковой. М.: Молодая гвардия, 2002. С. 368. Если не ошибаюсь,
Хайдеггер — первый германский философ после Гегеля и Шеллинга, чья
биография попала в популярную серию «ЖЗЛ».
64 «...ему явным образом не приходило в голову, что свастика была
неуместна в тот день, который он провел со мной». — Löwith К. Mein Leben
in Deutschland vor und nach 1933. S. 57.
65 Theunissen Michael. Was heute ist: Über Not und Notwendigkeit des Umgangs
mit Heidegger // Heidegger Martin: Fragen an sein Werk. Stuttgart, 1977.
S. 21—27. Тойниссен следует за Ю. Хабермасом, утверждавшим еще
в 1959 г., что нужно «учиться с Хайдеггером против Хайдеггера».
Внимание: говорит Dasein
147
Незабываемый портрет своего учителя оставил К. Левит в
цитировавшемся выше «отчете» «Моя жизнь до и после 1933 года» (1940):
«Захваченный энергичной серьезностью, исходившей от этого
маленького великана (dieses kleinen grossen Mannes), которого после появления
"Бытия и времени" мы называли "мудрецом времени" (den "Zeitweisen"),
я многие годы провел в бесплодных усилиях установить какой-то
человеческий контакт с человеком, который в своей жизни отталкивался от
персональных привязанностей и который только на своих лекциях
любил адресовать "всем и никому" такие вещи, которые он не мог и не
хотел сказать конкретному человеку (dem Einzelnen) с глазу на глаз.
Энергия его познания распространялась ровно настолько, насколько у него
хватало недоверия, из которого возникало познание (...). Происходя из
семьи простого бочара, он благодаря своей профессии и призванию стал
горячим защитником сословия, которое как таковое он отрицал. Иезуит
по воспитанию, он сделался протестантом из возмущения, обучение
сделало из него догматика-схоласта, а опыт — экзистенциального
прагматика, традиция воспитала в нем теолога, а исследовательская работа —
атеиста, ренегата своей традиции под видом ее историка. Экзистентно
напряженный, подобно Кьеркегору, он обладал волей к системе, как у
Гегеля, и был настолько же диалектичным в своем методе, насколько и
односложным в своем содержании. Склонный к аподиктичности в своих
утверждениях, отмалчивавшийся в присутствии других людей, но при
этом любопытный, как немногие, радикал в последних вещах и
склонный к компромиссам во всех предпоследних вещах, — вот так
двойственно (zwiespältig) воздействовал этот человек на своих учеников,
которые, тем не менее, оставались прикованы к нему, потому что
интенсивностью философской воли он намного превосходил всех других
университетских профессоров». — К. Löwith. Op. cit. S. 44—45.
Pöggeler О. Heidegger und die hermeneutischen Philosophie. Freiburg;
München, 1983. S. 396.
Автор статьи «Экзистенциализм» в знаменитом 5-м томе «Философской
энциклопедии», П. П. Гайденко, задавалась в конце статьи вопросом,
«как совместить культурное творчество — созидание, утверждение — с
устремленностью к ничто, концу, смерти? Как соединить культуру и
экзистенциализм?». См.: Философская энциклопедия. Т. 5. М.: Сов.
энциклопедия, 1970. С. 542. Вопрос представляется совершенно корректным
и оправданным в горизонте того языка разумения, в котором мы уже
поняли и знаем, что такое «культура», «культурное творчество», а также
«экзистенциализм».
Под «личностью», замечает немецкая исследовательница, в России
часто подразумевают и артикулируют «в первую очередь некоторую
идеальную проекцию человека, образ человека какой-то эпохи, в меньшей
степени — реального эмпирическом индивида». См.: Ebert Christa.
Vorwort // Individualitätskonzepte in der russischen Kultur / Hrsg. von Christa
148
Раздел первый. Переход
Ebert. Berlin, 2002. S. 9. По наблюдению К· Эберт, даже Н. А.
Бердяев, страстный поборник персонализма, видит в реальной
индивидуальности человека лишь биологический факт: «личность» для него — в
духовно-религиозном измерении (там же). Следует заметить все же, что
данное наблюдение (как и многие аналогичные упреки) касается в
основном только риторических и теоретических форм высказывания; в
особенности русские писатели (в отличие от философов) видят личность
совсем не абстрактно и не «умышленно».
70 Веселовский А. Н. В. А. Жуковский: Поэзия чувства и «сердечного
воображения» (1904). M.: Intrada, 1999. С. 23.
71 См.: Плотников Н. С. С. Л. Франк о М. Хайдеггере: К истории
восприятия Хайдеггера в русской мысли // Вопросы философии. 1995. № 9.
Н. С. Плотников завершает свой содержательный обзор суждений о
Хайдеггере в русской философской эмиграции утверждением.
«Насколько вообще была возможна положительная интерпретация идей
Хайдеггера в рамках русской религиозной философии, продолжает оставаться
вопросом» (там же. С. 178).
72 Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию. М.:
Прогресс, 1990 (2-е изд. 1992).
73 Пришвин Μ. М. «Когда били колокола...» (Из дневников 1926—1932
годов) // Прометей: Историко-биографический альманах. Т. 16. М., 1990.
С. 421 (см. также на сайте: http://www.beUstream.ru). За указание на эту
запись приношу благодарность Т. Г. Щедриной.
74 Гадамер Г.-Г. Философские основания XX века / Пер. В. С. Малахова // Он
же. Актуальность прекрасного. С. 16.
75 См. в этой связи поучительную статью нидерландского историка
советской философии: Эверт ван дер Звеерде. «Субъективизм нового типа»,
или Как обобществление субъекта привело к идеализации личности //
Персональность: Язык философии в русско-немецком диалоге / Под ред.
Н. С. Плотникова и А. Хаардта при участии В. И. Молчанова. М.: Модест
Колеров, 2007. С. 220—232.
76 Ерофеев В. Оставьте мою душу в покое. М.: X. Г. С, 1997. С. 136.
77 С. Г. Бочаров вспоминает, что невысоко оценивая «свободное русское
мыслительство» в традиции эстетизованной метафизики, Бахтин, в
общем, негативно сближал ее с «экзистенциалистским» изводом
проблематики Э. Гуссерля. Ср.: «То же примерно, что о русском мыслительстве,
говорил о европейском экзистенциализме, в котором по отношению к
Гуссерлю как источнику видел уже "размен", утрату философской
перспективы "с отходом в сторону свободного мыслительства". "Философия
захотела быть связанной с современностью", тогда как в строгом
смысле она как раз не должна быть близко связана с "жизнью" и тем самым
должна давать ей перспективу (3. VI. 1971)». См.: Бочаров С. Г. Об одном
разговоре и вокруг него // Он же. Сюжеты русской литературы. М.:
Языки рус. культуры, 1999. С. 489.
Внимание: говорит Dasein
149
78 Бахтин M. M. Собр. соч. Т. 5. М.: Русские словари, 1996. С. 136.
79 Бахтин M. М. К философии поступка (1921—22) // Он же. Собр. соч. Т. 1.
С. 59.
ПЕРЕВЕРНУТАЯ ПРЕДПОСЫЛКА
(M. Хайдеггер для начинающих — II)
Не будем торопиться. Но не будем и останавливаться. В этом
смысле в вводном очерке говорилось о «замедлении».
Условия невозможности как возможность
Довольно радикальное замедление, посредством которого мы
здесь попытаемся подступиться к мыслителю М. Хайдеггеру, не
«западая» на Хайдеггера, требует соблюдения ряда методических
условий. Трудность состоит в том, чтобы не только помыслить то-то
или то-то, что, «имеется» у Хайдеггера; все дело в том, чтобы в самой
тематизации суметь помыслить и учесть обычно не тематизируемое
различие между предметом изложения и истолкования — с одной
стороны, и излагающими и истолковывающими с их мирами — с другой
стороны. Ведь мы-то с вами — не Хайдеггер, а это значит, собственно,
вот что: в качестве Dasein мы (вы или я) — это уже совсем не тот мир,
в котором Хайдеггер был возможен в свое время.
Это кажется чем-то само собой разумеющимся; но именно в этом
пункте — в опосредованной непосредственности всякого «второго
сознания» — «замедление» должно стать радикальным. Иначе
говоря, обретение реальной возможности что-то понять, что-то новое
открыть вне себя и в себе, учась у Хайдеггера, — требует
самоограничения. За исходный пункт придется взять такое условие, которого
мы лишены. Чего же мы лишены по сравнению с мышлением Хайдег-
гером, если посмотреть на дело не субъективно, но и не объектно, а на
правах, действительно, второго сознания?
Скажем так: вопрос о «революции в способе мышления» в сфере
социально-исторического опыта, парадоксальным образом,
возможен сегодня постольку, поскольку ничего подобного в наши
«нулевые» годы уже или еще невозможно и немыслимо. Поясним это,
по-видимому, парадоксальное утверждение.
Перевернутая предпосылка
151
Наука, согласно одной из глубокомысленных провокаций Хай-
деггера, «не мыслит» потому и постольку, поскольку она в принципе
не чувствует себя в доту у своей истории, а это значит — в долгу у
«ненормальной» (революционной) науки. В особенности естественные
науки, как и опирающаяся на них философия, не зависят от
собственной истории в попытках продолжать свою историю; такая
независимость позволяет располагать собственным прошлым; здесь
каждое «второе» сознание действует как «первое» сознание, потому
что естественнонаучное мышление в принципе одно. Однако и в
гуманитарных науках, где, казалось бы, исследователь предметно имеет
дело всегда с исторически предшествующим ему или ей «другим»,
положение не намного лучше того, которое описал Т. Кун в своей книге
о научных революциях, имея в виду «идеологию науки»:
Недооценка исторического факта глубоко и, вероятно, функционально
прочно укоренилась в идеологии науки как профессии, такой
профессии, которая ставит выше всего ценность фактических подробностей
другого {неисторического) вида1.
Иными словами, Наука в высшем смысле (как и Философия в
высшем смысле) «не мыслит» свою историю в силу профессиональной
идеологии или, что то же самое, руководствуясь Идеалом, в
соответствии с которым научное исследование (и сама история науки)
движется и «развивается» линейно и гомогенно, от результата к
результату.
Между тем, подобно тому, как А. И. Солженицын в
«Архипелаге ГУЛАГ» усомнился в сентенции из советского фильма «Вратарь»
( 1940): «Главное — результат», — точно так же и мы вправе усомниться
в научно-идеологической идеализации «результатов» не только в
отношении социально-политических экспериментов, но и в
отношении к предметам общественно-экзистенциально-исторического
опыта вообще. В истории философии, как и в истории любой
гуманитарной дисциплины, «результаты» чаще оставляют нас в
неведении относительно тех исторических контекстов и «затекстов»,
которые не столько «обусловили» эти результаты, сколько их
«мотивировали», т. е. определили их продуктивность в смысле реальных
возможностей той или иной исторической ситуации, когда эти
результаты были получены и востребованы для достижения новых
результатов. Преемственность научного и философского исследования
движется не столько от результатов к результатам, сколько от
возможностей к возможностям; утрата преемственности в отношении
152
Раздел первый. Переход
первоначальных творческих импульсов и императивов — отрыв
от «источника» (Ursprung), как выражается Хайдеггер, — рано или
поздно самым печальным образом скажется и на результатах. (Вот
почему, как представляется, не следует злоупотреблять словом и
понятием «культура», давно оторвавшимся от своего нудительно-
творческого источника и выживающего в современных условиях
на «культурную ренту», как выражался О. Э. Мандельштам, т. е. за
чужой счет — паразитарно и «идеально».)
Если «идеология» естественнонаучного мышления,
сложившаяся в Новое время, в принципе допускает и требует ориентации на
прогрессивный рост, или наращивание, научного знания (т. е.
«прогресс» совершается здесь по восходящей линии от прошлого к
будущему), то в науках исторического опыта, которые чаще называют
«гуманитарными» и которые безысходно и продуктивно погружены
в непрерывный, сплошной социально-онтологический «затекст»
общественно-экзистенциального опыта истории, — в сфере
исторического опыта всякое движение и всякий прогресс имеют не
самостоятельный, не «эксклюзивный», но «релятивный» характер; изменения
совершаются здесь, действительно, «между прошлым и будущим», по
формуле герменевтической трансформации западной политической
философии, осуществленной Ханной Арендт (с опорой в
особенности на Канта, Ясперса и Хайдеггера)2.
В науках исторического опыта и в философии утрата
преемственности и есть «забвение бытия» (Seinsvergessenheit), а это значит:
забвение исторического бытия. Вот почему, надо думать, вопрос о
научно-гуманитарной революции в способе мышления приобретает
принципиальное значение сегодня, когда такая революция, видимо,
даже отдаленно невозможна ни у нас, ни на Западе.
Но парадокс: «условия невозможности» оборачиваются едва ли
не единственной возможностью — удержать и оправдать («спасти»)
идею «научной революции» для философии исторического опыта,
или гуманитарной эпистемологии, в качестве абсолютной
исторической предпосылки, т. е. возможности того, чего становится все
меньше, — живого движения мысли и познания. Кто же сегодня не
видит или не чувствует, что в области научной и духовной культуры
происходит нечто подобное тому, что происходит «ниже» этой
области — там, где за последние двадцать лет, казалось бы, все стало
иным, а между тем периодические издания, как «Комсомольская
правда», «Новый мир» или «Октябрь» предпочитают не менять своих
советских названий и не идти на риск «постсоветских» общественных
Перевернутая предпосылка
153
символизации движения — символизации, которые ведь нельзя
выдумать из ничего, как нельзя такое выдумать «из души».
В этой почти «нулевой» перспективе актуальным представляется
обращение, или возвращение, к Хайдеггеру как одному из
инициаторов «нового мышления» XX века и, соответственно, современной
гуманитарной эпистемологии. Никакое серьезное
«позиционирование» здесь невозможно и непродуктивно; но позиция «между
прошлым и будущим», методически осознанная, при удаче возможна как
попытка современников чему-то поучиться у предшественников,
которые могли то, чего современность уже или еще не может.
По прописям
Оттого нам предстоит вновь — как когда-то, когда русская
философия начиналась, — учиться мыслить «по прописям»; ведь
философски нас в прошлом столетии, ненаучно выражаясь, почти «не
стояло», а европейский уровень проблематики и дискуссионности,
достигнутый русской мыслью примерно к 1922 году, был довольно
быстро утрачен и в советской России (по «внешним» причинам), и в
эмиграции (по «внутренним»). Замедление по прописям — попытка
отнестись к прошлому, результатом которого является сегодняшний
распад, всерьез, не принимая этот «результат» как окончательный и
необратимый (только роковой).
Утраченная преемственность не может быть восстановлена по
наитию, непосредственно — все равно, идет ли речь о
западноевропейском мыслителе прошлого столетия или о современном ему
русском мыслителе; ведь даже отечественную мысль первых десятилетий
прошлого века приходится сегодня, в сущности, переводить по
прописям с русского на русский — настолько велика дистанция (чтобы не
сказать — «пропасть») между разными мирами. Выйти за собственный
горизонт само собой разумеющегося (раздвинуть горизонт) — значит
составить себе представление о том, что же, собственно, произошло в
западноевропейском способе философствования, так сказать, «после
Шпенглера»3. В этом смысле преемственность нам не дана, но задана
в качестве дистанции и различия — того, что в экзистенциально-
онтологическом проекте молодого M. M. Бахтина (1921/22)
называлось «онтологически-событийной разнозначностью»4. Подступ к
Хайдеггеру (как и подступ к молодому M. M. Бахтину и ко многим другим)
требует проблематизации вот этой самой «разнозначности». Можно
предварительно наметить три методических момента такой
проблематизации или, как мы говорим, «замедления по прописям».
154
Раздел первый. Переход
Во-первых, читать Хайдеггера сегодня целесообразно не «с
конца», а, наоборот, «с самого начала», from the start (как это
поняли, в своем замедлении, американские исследователи)5, обращаясь
именно к молодому, или «раннему», Хайдеггеру первого
Фрайбургского (1919—1923) и Марбургского (1923—1928) периодов, т. е. до так
называемого «поворота» («Kehre») и даже до книги «Бытие и время»
(1927) — одного из крупнейших и влиятельнейших философских
творений минувшего столетия, которое сам автор, как известно,
оценивал по результату как «провал»6. (Всякий «результат» изнутри
творческого замысла — если последний по-настоящему глубок и
творчески наивен — не может не казаться более или менее
«провалом»; только другое, «второе» сознание — «ученик-современник»
и «ученик из вторых рук», по терминологии Кьеркегора, — может и
должен всякий раз заново «спасать» результат от провала или, что то
же самое, от формализации и идеализации, этих совершенно
неотъемлемых и относительно оправданных следствий «культуры».)
Во-вторых, для «медленного чтения» (close reading) стоит
выбрать какой-то по возможности простой текст (что, разумеется, не
просто) и разобрать такой текст в его максимальной
репрезентативной потенции. При удаче такой подступ позволил бы «совпасть» с
Хайдеггером именно там и постольку, поскольку современная «внена-
ходимостъ» автору «Бытия и времени» — хронотопическая, а значит,
и смысловая вненаходимость — принципиальна и необратима.
В-третьих, сколь угодно «медленное чтение» может остаться, так
сказать, слепым, если не сориентировать его на некую «обратную»,
ретроспективную перспективу — обратную так называемым
результатам, но учитывающую пройденный Хайдеггером творческий путь,
прежде всего — открытую им систему возможностей мыслить,
действительно, «с самого начала» или (употребляя слово из хайдеггеров-
ского лексикона) «изначально» (ursprünglich). Попробуем пояснить и
несколько развернуть наши методические «условия возможности».
Дурная память
«Поздний» Хайдеггер — это попытка повторить исходный (и
пожизненный) вопрос Хайдеггера о «бытии» в новых условиях и по-
новому. Но если на первоначальной, «революционной» стадии
(назовем это «стадией чаяния») прорыв в новое измерение
исторического бытия путем «деструкции» философских традиций еще
остается в целом преемственным по отношению к истории философии и к
идеалу научной рациональности, то после второй мировой войны (на
Перевернутая предпосылка
155
«стадии отчаяния») исходный импульс движения хайдеггеровской
мысли, оставаясь по существу тем же самым (а именно —
деструкцией метафизического способа мысли как не адекватного «бытию» и
«истории бытия»), — теперь радикализуется в направлении отказа от
языка науки и традиционной философии.
Это направление движения и образ мыслей, воплотившиеся
с характерной для личности Хайдеггера «мрачной энергией»7, его
«лесные тропы» уводили к досократикам, но, как это не раз
отмечалось исследователями, комментаторами и продолжателями —
заводили мышление в некий тупик. Dasein, экзистенциально и
исторически единственное «бытие здесь», или «вот бытие», было в известной
мере принесено в жертву стилизованному Seyn, «Бытию». В этом и
состояло «религиозное отречение». Разумеется, в случае Хайдеггера
«тупик» не был просто тупиком, а был жутковатым и
многозначительным разрывом разговора с современностью как символизация
современности — «разрывом коммуникации», как это называется в
философии К. Ясперса. У позднего Хайдеггера — как и в творчестве
композитора Адриана Леверкюна в романе Томаса Манна «Доктор
Фаустус» (1947) — гениальные взлеты и постижения трудно отделить
от Verfallenheit у «падения» в хайдеггеровском же
квазитеологическом смысле слова, от глубочайшего исторического отчаяния и
«нигилизма». Этот экстремизм умонастроения, глубоко
антидемократический по самому способу речи (не столько «разговорной», сколько
«вещающей»), оказался как бы неожиданно созвучен как западному
демократическому антигуманизму, деконструктивизму и
«постмодерну», так и советскому сознанию на стадии «пост». Каким образом
не совпадающие, не знающие, не понимающие друг друга миры —
вдруг как бы «совпали»?
Здесь, по всей вероятности, было некое неслучайное, даже
роковое «избирательное сродство», при котором, однако (как это
изображено еще в позапрошлом веке Достоевским и Гоголем), оригинал
остается оригиналом, а неосознанная (но тем более «серьезно-
смеховая») карикатура на оригинал — карикатурой. Этот момент
так важен, что на нем следует остановиться еще раз для того, чтобы
рефлексия, обязательная в деле выполнения поставленной задачи
замедления по прописям, могла быть «герменевтической», т. е. для
того, чтобы онтологически-событийная разнозначность между
хайдеггеровской мыслью и нами, «начинающими» учиться у
Хайдеггера, по-новому прояснила исконный смысл философствования
как неформального смысла «обучения истине» (в соответствии с
156
Раздел первый. Переход
античной формулой Сократа и христианским переосмыслением ее
Кьеркегором).
Одно из важнейших положений гуманитарной эпистемологии
гласит: мы что-то «понимаем» постольку, поскольку мы это как-то
уже знаем по собственному опыту; я могу освоить новое для себя
явление благодаря тому, что в состоянии подвести под него
апперцептивный, или диалогизующий, фон восприятия и памяти. Этот «фон»
(Hintergrund, background), который А, А, Ухтомский называл
«доминантой», а Г.-Г. Гадамер позднее назовет «предрассудком»,
представляет собою глубоко двусмысленное условие возможности
понимания; ведь необходимое подведение апперцептивного фона под
новый феномен легко может оказаться неадекватным переводом, т. е.
не активным освоением нового как нового, но пассивным и даже
паразитарным присвоением неизвестного чужого как уже известного
своего — следовательно, как внутренне (давно) понятного.
Такое присвоение «другого» до и без другого можно назвать
«дурной памятью» (по аналогии с «дурной верой» Ж.-П. Сартра).
Дурная память заставляет нас «узнавать» в новом, малопонятном
феномене «свое», которому в действительности этот феномен не
соответствует — и, однако же, так сказать, отдается во все менее
населенном «доме» нашей (социальной) памяти — отдается
анахроническим эхо. Таким анахроническим эхом дурной памяти «несчастного
советского человека» стала опоздавшая на сорок, пятьдесят и
семьдесят лет встреча-невстреча с М. Хайдеггером (но, конечно, не только
с ним).
Условием возможности или, точнее, невозможности такой
«встречи» был, конечно, романтизм XIX века и неоромантизм начала
XX века (символизм). Поэтическое «Бытие», эстетизированный
номинализм или реализм символов, «литургическое» (по слову О.
Мандельштама) употребление языка, ставшие в русской культуре
анахронизмами отчасти уже вокруг 1910 года и даже в поэзии (не говоря
уж о романе) поставленные под вопрос (акмеизм)8, — все это ожило
фрагментарно в советском состоянии «постсовременности» 1970—
1980-х годов и с особым пафосом проявилось также и в опоздавших
на эпоху прочтениях и переводах Хайдеггера.
Анахроническое оживление стало возможным за счет отсутствия
нормальной преемственной дистанции. Историческая катастрофа
русской речи (а значит, и речевого мышления — «дискурса») во всех
сферах духовно-идеологического творчества от поэзии до политики
и философии состояла, в значительной мере, в том, что обмирщение
Перевернутая предпосылка
157
(«секуляризация») речевого сознания, назревшее как задача еще в
эпоху между двух революций, — было искусственно остановлено и
пресечено в свое время (в советский век) Поэтому противоречия и
«противочувствия» между светской и духовной образованностью,
между «чернецами» (византийских предшественников русской
интеллигенции) и повседневностью, между гуманитарной и
естественнонаучной компетенцией, между «миром» и «клиром», между
«общественным идеалом» и реальной исторической
действительностью — не решались, не разрешались, но загонялись в немоту или
уничтожались, создавая иллюзию отсутствия проблем. Когда же внешнее
давление ослабло, а потом и отпало, свобода оказалась не вполне
заслуженной, а давление истории, опоздавшей на советский век,
предстало необъяснимым и стало невыносимым. И тогда, как сказал бы
Хайдеггер, самое близкое показалось самым далеким, и специфически
русская «тоска по мировой культуре» снова, но по-новому обернулась
«любовью к дальнему»; для одних таким «дальним» стал М. Пруст,
для других — М. Фуко, Ж. Деррида и Ж. Делез, для третьих
(тяготевших к «глубоким, пленительным тайнам», а также к «официальной
народности») — М. Хайдеггер. Во всех этих и подобных случаях
оказалась невозможной «библия для мирян» — не сакральное, не
идеалистическое, не материалистическое опосредование между
«духовностью» и «повседневностью», между верховной платонизирующей
властью «идей» и «низшей», «эмпирической» реальностью9.
Вот так и получилось, что хайдеггеровский выход за пределы
сознания (иной, чем в историческом материализме) был воспринят как
реанимирование и оправдание сознания после внутреннего краха
официального советского сознания и эсхатологического марксизма
(утопившего сознание в «общественном бытии»), а хайдеггеров-
скую «историю бытия» (Seinsgeschichte), принципиально
отталкивающуюся от «метафизики» как способа мышления и от «картины
мира» (das Weltbild) как способа представления и переживания, стало
возможным, как ни странно, вновь переживать и представлять как
«Бытие» (метафизическое), т. е. как некоторую восчувствованную
картину или сущность — вне истории.
Не только Хайдеггер, конечно, но Хайдеггер в особенности
сделался стараниями позднесоветских филологов-любомудров
воплощением и оправданием — кто бы мог подумать? — «давнишней,
традиционно-русской мечты о прекращении истории в западном
значении слова»10. Ведь для советского сознания конец советской
мессианской картины истории, означал конец всякой истории, и
158
Раздел первый. Переход
это представление-переживание, так сказать, «сподручно» легло на
поздне-хайдеггеровскую лирику «концов» и «Ничто» (а потом и на
радикализацию этих концов в деконструктивизме и
«постмодернизме» последних десятилетий минувшего столетия)11.
Анахроническое «избирательное сродство» и новое «невегласие»
в случае рецепции «позднего» Хайдеггера осложнялись (бывают
странные сближенья) вполне почвенной дурной памятью советской
эстетики истории, а именно — разрывом (в терминах Р. О. Якобсона)
между «стихотворением» и «речью» / «разговором» (т. е. между
поэзией и повседневностью) — разрывом, на который был ориентирован
уже русский символизм (с его «утопической мифологемой»
отрешенного чистого слова12) а позднее русский футуризм в поэзии и русский
формализм в поэтике пореволюционных лет13.
«Перепрыгнуть» через раннего Хайдеггера сразу к позднему Хай-
деггеру — значит не понять ни раннего, ни позднего; это и есть тупик
карикатуры, не совпадающий с тупиком оригинала.
В истории рецепции с Хайдеггером повторилась та же ситуация,
которую имел в виду русский философ Г. Г. Шпет, когда он в начале
1920-х годов предостерегал коллег-оппонентов («христианских
цивилизаторов») против заигрывания с «Закатом Европы» О. Шпенглера в
том смысле, что на Западе критика Запада — в порядке вещей (в
традиции) и имеет свой «местный» смысл и продуктивную функцию,
которые в России невозможны постольку, поскольку здесь они не
одновременны, будучи, казалось бы, современными:
Все это — только свое, местное, нам даже и неприлично
вмешиваться в это14.
И знаменитое позднее Nur ein Gott kann uns retten («Только бог
может нас спасти») — это ведь тоже свое, местное (включая по-
хайдеггеровски двусмысленно-провокативного бога с
неопределенным артиклем!). Хайдеггер в своей простой, но уютной «хижине»
мог позволить себе такую надежду; мы в наших хижинах, похоже, не
можем себе позволить так думать и так надеяться.
Вот почему важен хайдеггеровский «позитив» (связанный, между
прочим, и с критикой Шпенглера).
О преемственности
Когда соприкасаешься с мыслителем такого масштаба, как М.
Хайдеггер, то не так важно, что читать; важно — как читать. За основу и
Перевернутая предпосылка
159
отправной пункт последующих анализов взят, вероятно, самый
простой и относительно общедоступный текст, который, строго говоря,
не является даже текстом Хайдеггера; но речью и мыслью молодого
Хайдеггера он все же является — и постольку подходит для
предварительного подступа или приступа. А на большее и претендовать-то,
мне кажется, покамест даже и «неприлично».
Имеется в виду запись десяти лекций, прочитанных приват-
доцентом Хайдеггером в 1925 году в городе Касселе для широкой
культурной аудитории под названием «Исследовательская работа
Вильгельма Дильтея и борьба за историческое мировоззрение в наши
дни»15. Запись тех лекций, сделанная учеником Хайдеггера, была через
шестьдесят лет обнаружена и опубликована в издании, посвященном
философии и эпистемологии гуманитарного мышления «Ежегодник
Дильтея» (№ 4,1985/86). Именуемый обычно для краткости «Кассель-
скими докладами» и оцененный как важный (хотя и побочный)
документ на пути к «Бытию и времени»16, этот текст доступен в русском
переводе благодаря А. В. Михайлову и републикован недавно в
собрании исследований и переводов этого замечательного германиста17.
«Кассельские доклады» позволяют схватить и проанализировать
различные аспекты философской программы Хайдеггера в ее еще не
вполне готовом, «рабочем» состоянии, как бы «на ходу» времени. В
«Кассельских докладах» на свой лад совершается революция в
способе мышления, или смена парадигм, которая нас интересует прежде
всего и главным образом. При этом «ненормальность» (переход
из одной «парадигмы» в другую) облечена здесь в общедоступную
форму передачи, пересказа (собственной) мысли более или менее
общепонятным языком. Дело не только в простом, даже упрощенном
языке докладчика; Хайдеггер пытается рассказать широкой
аудитории о своем новом мышлении, оселком которого является понятие
«историчность» (Geschichtlichkeit). При этом Хайдеггер дает понять,
каким образом его мысль, его программа «деструкции» западной
философской традиции, преемственно вырастает из предшествующих
импульсов и программ, вне которых она была бы просто невозможна
и немыслима. «Позитивность» молодого Хайдеггера, характерным
образом проявляется при обсуждении современного «кризиса» в
философии:
Кризис ведет свое начало из довоенного времени. Так что он вырос из
непрерывной преемственности самой науки, и это залог серьезности
и надежности совершающихся в ней переворотов (139).
160
Раздел первый. Переход
Кризис мыслится здесь в существенной связи с довоенным
прошлым (а не в разрыве с прошлым). Так же мыслится, как увидим
далее, и «революция» в философии и науке; сама прерывность — это
форма преемственности (непрерывности). Такое мышление не
похоже на бинарную оппозицию «эволюция — революция», которая
и сегодня еще кажется многим более понятной (а потому и более
«реальной»).
Читая в том же издании, по которому мы цитируем Кассельские
доклады, большой раздел о Дильтее из не опубликованного в то время
второго тома фундаментального труда Г. Г. Шпета «История как
проблема логики», писавшегося в годы становления Хайдеггера,
поражаешься контрасту в том, что касается именно преемственности: Шпет
в отечественной науке работает как бы сам по себе, почти без
русских предшественников (оттого и оценить сделанное им сегодня так
трудно); напротив, Хайдеггер предельно ясен в своем «откуда», линия
преемственности — налицо. Этот пример позволяет лучше понять
парадокс, упоминавшийся выше: первые подступы к истории
отечественной гуманитарной эпистемологии XX века приходится искать, к
сожалению, не в отечестве, а на Западе, именно — на второй родине
философии, в Германии 1920-х годов.
Революция продуктивного свойства
Чем значительнее творческая личность, тем больше она себя же
самой; она не только источник движения, движущее мысли, но и
движимое — порождаемое в движении мышления авторство его. Что же
является в случае Хайдеггера таким творческим началом — «друго-
стью» автора в его авторстве?
В самом общем, абстрактном смысле это, конечно, — время,
эпоха «невиданных перемен», в сущности, исторический перелом и
вхождение в Конец Нового времени. Но с точки зрения гуманитарной
эпистемологии речь должна идти об уже упоминавшемся, более
конкретном феномене — о научной революции, именно о философской
революции.
Хайдеггер отдавал себе в этом полный отчет — насколько
вообще возможно понимать в себе самом и вокруг себя то, что гораздо
больше и тебя самого и самопонимания эпохи, того, что до конца не
поддается рационализации самим (одним) творческим субъектом
и что на языке философии К. Ясперса называется das Umgreifende,
«объемлющее». Дело тут не в том только, что Хайдеггер был великим
мыслителем, а в том, что исторический опыт — с одной стороны,
Перевернутая предпосылка
161
дискуссия в научно-философском сообществе — с другой стороны, до
и после первой мировой войны были настолько плотными, а
объективные императивы мысли настолько острыми, «нудительными»,
что поиск и нахождение себя, своего места в разговоре эпохи, в
научной дискуссии были насущной, неотложной необходимостью
индивидуальной жизни (а не только карьерного роста). С
пронзительной ясностью эту кризисную «нудительность» опыта и
императивов времени, до конца не рационализированную и не
рационализируемую, выразил инициатор феноменологического движения,
математик и рационалист Э. Гуссерль (1859—1938), учитель Хайдеггера,
который писал в довоенной программной статье «Философия как
строгая наука» (1911):
Я не говорю, что философия — несовершенная наука, я говорю
просто, что она еще вовсе не наука, что в качестве науки она еще не
начиналась. (...) Несовершенны все науки, даже и вызывающие такой
восторг точные науки. (...) Всё вместе и каждое в отдельности здесь
(в философии. — В. М.) спорно, каждая позиция в определенном
вопросе есть дело индивидуального убеждения, школьного
понимания, «точки зрения»18.
Для нас сегодня та статья, и феноменология, и Гуссерль, и Хай-
деггер, и многое другое в философии XX века — это некоторые
«достижения» и «результаты»; но для процитированного автора статьи
1911 года (напечатанной тогда же в русском переводе в издававшемся
в России международном журнале «Логос») речь идет о событии, в
котором Гуссерль ощущает себя и движущим, и движущимся; его ранит
и мучает несовершенство, недостаточность, нехватка, нужда в
философии как «учительницы вечного дела человечности (Humanität)»19.
Мышление Гуссерля понуждается и вынуждается императивом
совершенства философии как «строгой науки» — идеализацией,
которую сам же Гуссерль и феноменология окончательно разрушат в их
прежнем (завершенном и исчерпанном, «классическом») виде в
попытках эти идеализации осуществить20. (В этом смысле, как
осуществленный результат замысла мысли, феноменология Гуссерля тоже
провал — продуктивный провал, нуждающийся в возобновлении в
новых исторических условиях, а в России — с опозданием на сто лет).
Полтора десятилетия спустя после программной статьи Гуссерля Хай-
деггер в Кассельских докладах говорит о том же, только с большим
доверием к происходящему и употребляя латинский синоним слова
«переворот» — «революция»:
162
Раздел первый. Переход
Все науки и все группы наук пребывают в великой революции, а
именно в революции продуктивного свойства^ которая открывает
новые вопросы, новые возможности, новые горизонты (139).
Сопоставим это публичное высказывание из немецкого мира
1920-х годов с непубличным высказыванием из русского мира
1920-х годов. В начале 1928 года Ю. Н. Тынянов писал В. Б. Шкловскому:
Ни у одного поколения не было такого интереса к превращениям и
изменчивости — эволюции. В тургеневское время и не думалось так,
а почему мы это чувствуем? Верно, потому, что сами меняемся и мозг
расширяется™.
«Мозг расширяется» — материалистическая метафора научной
революции вообще. В высказывании одного из ведущих филологов XX в.
нам сейчас почти не важно (как было важно, например, M. M. Бахтину
в его полемике 1920-х годов с русским «формальным методом» и, в
частности, с тыняновским понятием «литературной эволюции»22)
разительное несовпадение между традиционным представлением об
«эволюции», заимствуемым из языка позитивизма XIX века — с одной
стороны, и глубоко пережитым и все еще переживаемым автором письма
и его адресатом опытом переворотов, или революций («превращений
и изменчивости») — с другой стороны; важнее опыт сам по себе,
переворачивающий, между прочим, и представление о литературной
эволюции. «Мозг расширяется» — метафорическая формула
переживания реальности, не субъективного, но исторически-смыслового
переживания, о котором говорит и Хайдеггер в Касселе; «новые вопросы,
новые возможности, новые горизонты» — это привилегия
революционных эпох и, соответственно, «ненормальной» (революционной)
науки. Русские филологи, члены «ревтройки», как они себя в шутку
называли (В. Шкловский, Ю. Тынянов, Б. Эйхенбаум), — это в такой
же мере инициаторы нового литературоведения XX века, как М.
Хайдеггер — инициатор новой философии XX века. (Соответственно,
по-новому начинавший в эмиграции Г. П. Федотов, как известно,
оценивал в «Трагедии интеллигенции» 1926 г. открывшиеся после 1917 г.
возможности познания русской истории как уникальную «счастливую
позицию», которой не было и не могло быть в XIX в.; их не было и не
могло быть, добавим из нашего сегодня, и после 1920/30 годов.)
Не странно ли это только что проведенное сближенье
специального научного (филологического литературоцентристского)
мышления (к тому же довольно агрессивно отталкивавшегося от
Перевернутая предпосылка
163
философии, от «гейста немцев» и т. п.) с философским мышлением?
Напротив, именно в интересующем нас случае сближенье
оправданно. Как раз в поворотные времена «смены парадигм» такого рода
сближенья, как представляется, совершенно оправданны, причем
опять-таки не по внешним (хронологическим), но по «внутренним»
(духовно-историческим) причинам. Об этом, собственно, идет речь
в начале «Теории романа» Георга Лукача (1885—1971) — книги,
писавшейся во время первой мировой войны и оставшейся, как
известно, только фрагментом глобального замысла, а именно, эстетико-
политико-религиозно-метафизического трактата «Достоевский».
Вдохновленный отчасти В. С. Соловьевым и «русской идеей»,
будущий марксист и народный комиссар Венгерской
социалистической республики (1919) говорит здесь (ссылаясь на Новалиса), о
«блаженных временах» тотального перехода в новое измерение
исторического опыта, когда импульсы философии и жизни, литературы и
науки оказываются человечески и исторически близкими, если не
идентичными, т. е. общечеловеческими:
Поэтому и нет у блаженных времен философии или, что то же самое,
в такие времена все люди являются философами, преследующими,
как во всякой философии, утопическую цель23.
«Утопическая цель» совсем не утопична, если оценивать ее «хро-
нотопинески»у т. е. не с точки зрения идеала (как, впрочем, и не с
точки зрения «результата» только), но изнутри незавершенного,
становящегося мира с его нуждами, императивами и «горизонтами
ожидания», с его истиной и его ложью.
По отношению к ненормальной (революционной) науке
прошлого (ближнего или дальнего прошлого) мы не только и не столько
«производители текстов», сколько восприемники, воссоздатели,
воспроизводители — «второе сознание». И мы, при удаче, можем
«встретиться» с другим временем, с другою наукой в плоскости
незавершенности, разбивающей овеществленную плоскость «результатов». Ведь
даже в такое время, как наше, которое не стесняется мечтать и
говорить о «самодостаточности», или «идентичности», как о некоем
идеале (идеале самодовления), — даже и сегодня, «после всего», мы
все еще предстоим смыслу и заданы себе (т. е. не самодостаточны, не
идентичны, но «диалогичны»).
Именно потому, что мы — «из революции», Out of Revolution,
если вспомнить название книги другого инициатора «нового
мышления»24, т. е. в качестве пост- или разновременников представляем
164
Раздел первый. Переход
собой некоторое «нормальное» оседание, продолжение, а то и
отрицание своих исторических предпосылок, изменивших в своих же
«результатах» свой более изначальный смысл и замысел, — потому-то,
парадоксальным образом, обновленное возвращение к
«ненормальной науке» оказывается подспудно актуальной задачей, если
угодно — тенью повестки дня.
Вопрос к основополагающему
В чем же исторический смысл («исторический» в предварительно
установленном значении «обратной», ретроспективной перспективы)
произведенной Хайдеггером революции в способе мышления — в его,
как мы говорим, эйнштейновском прорыве в неэйнштейновский мир
исторического опыта?
Наиболее отчетливо суть произведенного молодым Хайдеггером
переворота или перелома в мышлении обозначил его ученик Г.-Г. Га-
дамер в том месте своей главной книги «Истина и метод» (1960), где
проект «герменевтики фактичности» молодого Хайдеггера
рассматривается в перспективе возможной преемственности, а именно —
в перспективе гадамеровской «философской герменевтики»25.
Экзистенциально-онтологический проект учителя, им самим, в
сущности, (за)брошенный, ученик воспроизводит продолжая, в
направлении гуманитарной эпистемологии, т. е. философии исторического
опыта и наук исторического опыта (гуманитарных). Ход мысли Гада-
мера можно передать примерно так:
Хайдеггеровский проект «фундаментальной онтологии»
поставил в центр философского рассмотрения проблему истории —
как это в свое время сделал Гегель, но совершенно иначе, чем Гегель,
который исходил из допущения, что средствами диалектической
логики можно доказать торжество разума в истории. Хайдеггер пошел
на радикальное «остранение» или отстранение также и всей
современной ему дискуссии вокруг проблем «историзма»; ведь историзм
остается в тени Гегеля, следовательно — в пределах гегелевской
парадигмы мышления. Не проблемы историзма, не потребность в новом
обосновании научного знания, даже не задача радикального пере-
самообоснования философия, над которой бился Э. Гуссерль,
определили замысел герменевтической онтологии Хайдеггера, которая
в «Бытии и времени» называется «фундаментальной онтологией».
Хайдеггер преобразовал основания философского разговора обо
всех этих вещах — «перевернута была сама идея обоснования»26. —
Что это значит?
Перевернутая предпосылка
165
«Нормально» научно-философская мысль Нового времени
опиралась на субъект познания (так называемый трансцендентальный
субъект), а ориентировалась (нацеливалась) на объект, или «предмет
познания»; эпистемологической моделью, или парадигмой,
познавательного процесса было, таким образом, «субъект-объектное»
отношение. В горизонте, этого способа мыслить познание возможно
постольку, поскольку есть исходный пункт, внутренне достоверная,
безличная основа в лице обосновывающего; трансцендентальный
субъект обосновывает и удостоверяет объект. Инстанция разума —
картезианское cogito, «когитальный» разум; сознание реально
обосновывающего (того, кто обосновывает) не столько «мое» — в этом
времени, в этом пространстве, в этой видимой, переживаемой,
мыслимой исторической ситуации — сколько «сознание вообще» (Ве-
wusstsein überhaupt). Это сознание и мышление, по выражению
молодого М. М. Бахтина, «как если бы меня не было»27.
И вот Хайдеггер, по мысли Гадамера, эту модель, эту
«гносеологическую» (теоретико-познавательную) парадигму перевернул — под
вопросом сразу оказалась сама предпосылка обоснования и
опредмечивания, а тем самым — структурная соотнесенность «субъекта» и
«объекта». Тезис Хайдеггера в «Бытии и времени» гласит: бытие есть
время; бытие исторического («историчность») оказалось «забытым»
в историзме и во всей научно-философской традиции, идущей от
греков, — традиции метафизики. Традиция не разоблачается — она
открывается заново; реальный субъект обоснования — в качестве
экзистенции своей собственной историчности — оказался, так
сказать, больше себя самого. Но точно так же всякое прошлое — в
качестве экзистенции своей историчности — оказалось больше того, чем
оно представляется при опредмечивании его извне его —
опредмечивании, к которому стремится (и не может не стремиться)
историография, как и всякая «онтическая» наука, и которая, в этом смысле,
«не мыслит» (действительную историчность бытия-события).
Переворачивание» разоблачало «объективность» познания
научного познания в качестве не осознаваемого субъективизма, скрытого
(прежде всего - от самого познающего и «обосновывающего»). Такая
установка допускает и санкционирует произвол над реальностью, над
«бытием» в обход подлинного источника всякого действительного
поступка в «конечном» историческом горизонте вот этого, «моего»
времени, или временности (Zeitlichkeit), — «вот-бытия» (Dasein)28.
Но тем самым, говоря словами Гадамера, «онтологическая
беспочвенность трансцендентальной субъективности» по-новому
166
Раздел первый. Переход
обнаруживала проблему реального, конкретного субъекта —
проблему, которая в аспекте эпистемологии оборачивалась «вопросом к
основополагающему»:
Вопрос, обращенный к основополагающему, к тому, что
«имеется», — это хотя и вопрос о бытии, но ориентированный в
направлении, которое во всем предшествовавшем вопрошании необходимо
оставалось неосмысленным и даже прямо скрывалось и утаивалось
вопросом о бытии, ставившемся метафизикой29.
Метафизика искала, мыслила и обосновывала «всё» — за
исключением того, кто и что оставалось у нее, так сказать, за спиной (или
«в подкладке»), — за исключением искавшего, мыслившего и
обосновывающего «вот бытия» (Dasein), бытие которого не столько
«субъективно», сколько «исторично» само. Вопрос, обращенный к
основополагающему, следовательно, означает, что трансцендентальная
инстанция одновременно и меньше, и больше себя: то, что было
«Я» стало «я», но не в качестве абстрактной единственности, а,
наоборот, в качестве такого «вот бытия», которое в самой своей
персональное™, или «экзистентности», выражаясь по-бахтински,
«выходит за себя» — больше себя в себе же самом, не совпадает с одним
(«своим») индивидуальным сознанием. Структура
«трансцендентального» опыта не «трансцендентальна», но «реальна» (исторична),
хотя и в «перевернутом» (по отношению к субъект-объектной
парадигме) виде и смысле30.
Несколько упрощенно можно сказать так: если прежде искали и
воображали идеальный, в себе бесконечный исходный пункт для того,
чтобы мыслить реальное, конечное и временное, то Хайдеггер,
наоборот, попытался исходить из конечного и временного, из
незавершенной историчности «вот-бытия», из движения смысловых
возможностей, ограниченных данной (da) хронотопической ситуацией,
в которую мы «вброшены» или «заброшены», так сказать, «на
совсем». (Это «на совсем» — попытка по-русски передать отнесенность
к будущему как отнесенность всего бесконечного, беспредельного к
смертному концу всякого, jemeinige конечного существа, именуемого
«человек». Сумрачный германский гений Хайдеггера не должен
заслонять от нас продуктивной амбивалентности, если угодно —
праздничной парадоксальности того, что на языке «Бытия и времени»
называется «6ытием-к-смерти»). Ограниченное, относительное,
«конечное» является условием возможности бесконечного,
безграничного, абсолютного — а не наоборот (как в германском идеализме).
Перевернутая предпосылка
167
Установка на «вот бытие», или (в переводе А. В. Михайлова)
«бытие здесь» (Dasein), не на идеальность, а на реальность, не на
«сущность», а на «существование» — это своего рода «упражнение
в скромности». Современник Хайдеггера, испанский философ и
гуманитарный эпистемолог Хосе Ортега-и-Гассет (1883—1955)
употреблял этот оборот — «упражнение в скромности», имея в виду
переворот, осуществленный теорией относительности — переворот, в
результате которого (вопреки популярным представлениям насчет того,
что «все относительно», а равно и вопреки научному формальному
«плюрализму», расцветшему во второй половине XX века)
происходит обновление «абсолютной» позиции наблюдателя через ее
«релятивизацию» во времени; это не отрицание так называемой
классической картины мира, это ограничение «провинциальной мании
величия», свойственной классической картине мира31.
Идеальность мышления сама по себе бесплодна, анонимна, да и
непонятна в своей отвлеченности и теоретической чистоте вне
Dasein (на языке экзистенциально-онтологического проекта раннего
M. M. Бахтина: в отвлечении от «жизни и напряжения смертного
человека»32). Поэтому «вопрос к основополагающему» — это вопрос
двусторонний: он отнесен, с одной стороны, к предмету, с другой — к
мыслящему и «полагающему» предмет бытию «вот», бытие которого
еще должно быть увидено и помыслено не «объектно» и не
«субъективно», но как-то радикально иначе (исторически).
У Хайдеггера (как и у других инициаторов «нового мышления»
1920х годов) речь идет уже не о перетолковывании метафизики в
«правильном» направлении — как это имело место в XIX веке в так
называемой «постидеалистической» (nachidealistische) философии
(Л. Фейербах, К. Маркс, Ф. Ницше и др.); речь идет теперь о
«переворачивании» вопроса метафизики. Это значит: метафизика
оказывается не только выдумкой; она оказывается больше своего
основополагающего и в качестве сознания, и в качестве бытия благодаря
аналитике Эоонтологической, Эотеоретической области «понимания
бытия» (Seinsverstehen) — конкретно-исторического условия
возможности постановки метафизического вопроса о бытии каждый
раз в своем бытии и своем времени, т. е. изнутри всякий раз
определенных, предзаданных и заданных, возможностей движения
осмысления и решения онтологической проблемы33.
Хайдеггеровская онтология «фундаментальна» потому и
постольку, поскольку она возвращает в историю бытия скрытый до
того исторический фундамент той или иной онтологии Нового
168
Раздел первый. Переход
времени, средневековья или античности — фундамент «понимания»,
не осознаваемый и не тематизируемый, но реальный в сознании и
замысле «основополагающего» вот так (а не иначе). Метафизика
(как и «абсолют») оказывается больше себя, потому что она меньше
себя. Фундамент (точнее, фундаменты) метафизики всегда «снизу»
(а не «сверху»), и «фундаментальная онтология» — это «философия
снизу», но, конечно, не в смысле принижения традиции, а в смысле
амбивалентного снижения традиции перерастает сама себя и
ограничивается в одно и то же время. Такова позитивная «деструкция»
традиции.
Переворачивание метафизической традиции, вследствие
которого, можно сказать, «утопический» (идеальный) исходный путь
мысли и познания сделался «хронотопическим»34, стало в 1920-е годы
«настоящей сенсацией»35 — разумеется, не только в связи с Хайдег-
гером. По словам Хельмута Плесснера (1892—1985), ученика Гуссерля
и пожизненного оппонента Хайдеггера, одного из инициаторов
философской антропологии XX в., выход за пределы идеалистического
разума и рационализма вел к открытию «новой земли философского
исследования», к «изменению теоретико-познавательных воззрений
на ощущение и восприятие»36. Это значит: бытие открывалось по
ту сторону теоретизированного, эстетизированного «бытия»
метафизики, «за спиной» (и «в подкладке») всех предшествующих
метафизик вплоть до аристотелевской. Реальность или, как чаще
говорили тогда, «действительность» (Wirklichkeit) открывалась как
по-новому персональная (личностная) и как по-новому же
социальная действительность37.
Итак, то, что Хайдеггер осуществил (а Гадамер
прокомментировал и продолжил), — это, действительно, некое поворотное
событие в философии, после которого философия уже не могла быть
только тем, чем она была до этого события. О том, что дело, по-
видимому, обстояло (и все еще обстоит) именно так, мы можем
судить и по другим авторитетным свидетельствам и комментариям —
например, таких представителей современной гуманитарной
эпистемологии, как К.-О. Апель и П. Рикер, которые, каждый по-своему (т. е.
в перспективе собственной ревизии и развития хайдеггеровского и
гуссерлевского переворота в мышлении), писали о том же самом
«переворачивании», или «оборачивании», в истории современной
философии и теории познания исторического опыта38.
Перевернутая предпосылка
169
Историчность
Правило герменевтики, практической науки о понимании и
истолковании текстов, гласит: «понимать» — значит уразумевать,
учиться и осваивать что-то не «вообще» (и в этом смысле не
свободно, не бесконечно, не в «беспределе» смыслов и интерпретаций),
но в адекватной этому «чему-то» системе реальных взаимосвязей
текста, в исторически уместных и сообразных контекстах, в затексте
реального, повседневного события жизни. Это правило, естественно,
должно быть соблюдено (и постольку подтвердить свою значимость)
также и в отношении «онтологии понимания» (П. Рикер),
набросанной молодым Хайдеггером, а потом одновременно брошенной и
развитой им на иных путях мысли. Гадамер, Апель и Рикер
предоставили нам апперцептивно-диалогизующий фон, на котором мы можем
попробовать теперь читать уже сами. Мы знаем, что основной вопрос
Хайдеггера (раннего и позднего) — это вопрос о «бытии». Но в каком
смысле?
Следуя за В. Дилътеем и за его корреспондентом Йорком фон
Вартенбургом39, Хайдеггер в Кассельских докладах формулирует свою
задачу следующим образом: надо разработать и получить бытийное
измерение историчности. Вместо понятия «жизнь», которым
пользовались Дильтей и Йорк, а позднее модная «философия жизни» и
поначалу сам Хайдеггер, он теперь (в обход и в пику современности)
нашел термин, более традиционный, чем традиции Нового
времени, — «бытие» (Sein).
Этот момент поиска и смены языка мысли сам по себе очень
важен. Новый опыт затруднительно выразить средствами
традиционного, «нормального» речевого мышления и сознания, которые
сложились в других условиях и постепенно стали нормой, дискурсом
коммуникации. В «Кассельских докладах» Хайдеггер говорит о смене
языка как раз в связи с проблемой «кризиса»:
Всякий кризис определяется тем, что, прежние понятия начинают
колебаться, и выступают феномены, ведущие к их пересмотру (149).
Другими словами, дело не в понятиях, не в терминах, не в языке
самом по себе; дело «в самих вещах», а это значит для Хайдеггера в
еще более приземленном, реальном смысле, чем для его учителя
Гуссерля, — дело в «феноменах», подлежащих исследованию и доступных
исследованию.
170
Раздел первый. Переход
Уместно заметить здесь, что молодой (как и поздний) Хайдеггер
в духе своей эпохи любил несколько шокирующий («останняющий»)
язык мысли; но в отличие от современников-авангардистов, у
Хайдеггера (как и у манновского «доктора Фаустуса» — немецкого
композитора Леверкюна) модернизм умышленно архаичен,
консервативно революционен, рационально иррационален; здесь самое
новое — это самое традиционное (но «забытое»), самое необычное —
это самое обычное, повседневное, но при этом не столько
общеевропейское, «западное», сколько сугубо национальное, провинциально-
националистическое («наше»), в своем роде глубокое — «униженное
и оскорбленное» (и мстящее) по Достоевскому; это та хронотопиче-
ская «глубинка», тот «Кайзерсашерн», который символизирует в
упомянутом романе Т. Манна комплекс глубины и демоничности
«немецкой души», ее робость и ее агрессивность, ее одиночество и ее
претензии на мировое господство (подобно «Скотопригоньевску» —
русскому символу того же самого в последнем романе Достоевского).
Таков, между прочим, и хайдеггеровский бронетермин Dasein, почти
непереводимый на другие языки, но взятый, как известно, из
обычного языка повседневности40.
Почтенная и «забытая» греческая традиция — «онтология» как
учение о бытии — интересует Хайдеггера скорее в негреческом смысле,
но и в греческом тоже. Ведь это греки поставили вопрос о «бытии»,
хотя и свели его к вопросу о «сущем» (das Seiende)· Бытие
«существует» и «живет», а не только «имеется» и «есть»; оно движется и,
главное, меняется в существенном (в отличие от «сущности»); этот
момент движения жизни, бытия нужно понять не «физически» и не
«метафизически» — следовательно, не по-гречески, — но как
историчность самопонимания и самодвижения бытия. По Хайдеггеру
это значит: историчность обретается и понимается в сфере
человеческого существования, ибо человек как человек живет понимая.
Понимая не «вообще себе», не теоретически, но именно как
практическое существо, ориентирующееся «в-мире» до всяких
опредмечивающих «полаганий» и определений, осуществляемых
философией и наукой уже задним числом, а главное — извне, слишком
пространственно, слишком по-картезиански, а значит — в
конечном счете отсчета всей западной традиции — слишком по-
гречески (по-язычески). Реплика Хайдеггера в Давосской дискуссии
с Э. Кассирером (1929):
Повторить вопрос Платона не значит вернуться к ответам греков41,
Перевернутая предпосылка
171
очень точно передает амбивалентное, даже жесткое отношение
Хайдеггера к Платону (значительно скорректированное позднее Гада-
мером) и общую «стратегию» подхода нашего философа к «грекам», а
молодого Хайдеггера в особенности к Аристотелю.
В Кассельских докладах Хайдеггеру важно подчеркнуть (перед
«широкой» аудиторией), во-первых, научную, во-вторых, немецкую
преемственность постановки вопроса об историчности, или бытий-
ности, бытия; поэтому в центре его рассмотрения — В. Дильтей. В
действительности же, конечно, импульсы шли отовсюду, и далеко не
только из академической немецкой науки. В данной связи уместно
сослаться на критику С. Кьеркегором понятия субстанции в
классической философии и, шире, на его же критику идеализма
(продолжившую «постидеалистическую» программу «позитивной
философии» позднего Шеллинга) с точки зрения «фактического бытия»42.
Свой вопрос о бытии сущего молодой Хайдеггер как бы
вытаскивает из наследия В. Дильтея. Дильтей поставил вопрос о «жизни»
как человеческом существовании и человеческом творчестве —
«духовной» жизни, реальность, или «бытие», которой выходит за
пределы сознания, как и за пределы природы, хотя и совершается
посредством природы и с участием сознания43. И все же Дильтей, по
Хайдеггеру, не ставит вопрос «о присущем самой жизни характере
действительности», т. е. не ставит вопрос о смысле бытия «нашего
собственного бытия здесь (Dasein)» (161). Что это такое, самое близкое,
а потому и наименее видное и понятное — «наше собственное бытие
здесь»?
Бытие здесь
Пока мы, кажется, уразумели только одно: греки с их
непосредственной, незатеоретизированной, «изначальной» чуткостью
к реальности, к движущему и движущемуся бытию-событию мира
жизни, ближе всех к ответу на вопрос, интересующий Хайдеггера, —
и дальше всех от ответа на этот вопрос. Ведь язычники-греки не
имеют и не могут иметь опыта личности, опыта исторического, опыта
«изначально» христианского. А ведь Хайдеггер, расставшись с
католицизмом и аристотелианской схоластикой еще в годы учений (до
первой мировой войны), начинал свою преподавательскую
деятельность во Фрайбурге с феноменологии религиозного опыта,
удержанного в Новозаветных текстах — с опыта «керигмы», как это потом
назовет теолог Рудольф Бультман (1884—1976), осуществивший как
172
Раздел первый. Переход
бы обратный перевод хайдеггеровской «деструкции» западной
метафизики на язык «демифологизации» христианской традиции
(приведение традиции к «фактичности» и «одновременности» опыта веры)44.
Во избежание недоразумения, возможного в силу исторического
действия «дурной памяти», целесообразно подчеркнуть: вопрос о
«смысле бытия» ставится Хайдеггером не метафизически и не
идеалистически, но феноменологически, т. е. собственно философски, в
противоположность тому, что еще Гегель назвал «поучением»,
противопоказанным философии (назвал, кстати, в том месте предисловия
к своей «Философии права», в котором родилась и знаменитая
метафора философии как «совы Минервы»45).
Основное направление мысли в Кассельских докладах» можно
передать так: поскольку Дильтей ставил вопрос о «жизни» еще
слишком общо, то он упустил из виду действительность жизни —
историчность «бытия здесь». И то же самое упущение Хайдеггер
находит в феноменологии, т. е. у своего учителя Гуссерля. Ведь
феноменологическое исследование, которое хочет быть «строгой наукой»,
тоже исходит из жизни; но «жизнь» и здесь понимается как нечто
само собой разумеющееся. Это происходит, по Хайдеггеру, потому,
что феноменология тоже исходит из традиционного
(аристотелевского, а потом средневекового схоластического) представления о
человеке как о «разумном животном» (animal rationale) и понимает
человека как единство «Я» — единство актов переживания, как центр
переживания:
Вопрос о бытийном характере этого центра не ставится (161).
Вопрос о бытийном характере всякого (jemeinigen) я, всякого Da-
seiriy не ставился потому, что он и не мог быть поставлен в
парадигматических границах «когитального» Я. В картезианском исходном
пункте философии Нового времени (Cogito ergo sum) забытым
оказалось «sum», бытие существующего и обосновывающего; а это значит,
по Хайдеггеру, забытым оказалась социально-онтологическая
(«экзистенциальная») историчность «разума» и носителя разума.
Историчность бытия — это «по жизни» нечто настолько близкое
человеку, самопонятное, «фактичное» (хотя и не в качестве наблюдаемых
«фактов»), что она-то и оказалось «забытой».
Субъективизм в подходе к прошлому заключается не в
порочности научного подхода как такового, — антинаучный произвол,
понятно, еще хуже, — но в том, что уразумение прошлого неосознанно
Перевернутая предпосылка
173
направляется «предсуждениями» современности, т. е.
предрассудками настоящего, которые сами заимствованы из прошлого
философии и научно-идеологической культуры; в этом смысле
объективизм в науках исторического опыта и в философии самой —
субъективен, он зашоривает, «застраивает» историю:
Во всяком настоящем заключается опасность застроить историю —
не открыть ее, а сделать недоступной. Так что критическая задана —
в том, чтобы освободиться от подобных предсуждений и вновь
задуматься об условиях, которые делают возможным постижение
прошлого. От философского исследования неотъемлемо то, что оно
есть критика настоящего. В некотором изначальном раскрытии
прошлое уже не только предшествовавшее настоящее, но тут
появляется возможность дать прошлому стать независимы, так чтобы
становилось зримо, что прошлое и есть то самое, где мы обретаем
собственные, настоящие, корни нашего существования... (180)
Здесь, очевидно, «переворачивание» относится к изменению
эпистемологического взаимоотношения между прошлым и настоящим
(в пределе — между «древними» и «новыми»). Для того, чтобы
увидеть прошлое по ту сторону ограничивающие наше видение «пред-
суждения», мы должны отстранить их от себя и постольку —
освободиться от своего настоящего; и тогда прошлое предстанет перед нами
не «объективно» (в смысле формального историзма XIX в.), тем более
не в качестве своих культурных результатов, более или менее парази-
тарно используемых, а так, что прошлое окажется живым в качестве
нас же самих, «современных» и «новых» — и постольку продуктивно
не свободных от прошлого, еще не сказавшего своего последнего слова46.
«Бытие здесь» (Dasein), в этом смысле, не «факт» и не
«данность» только, но «критическая задача» (задача деструкции своих же
традиций).
Таким образом, идущее от Гегеля и особенно от Дильтея
понятие «историчность» (Geschichtlichkeit) радикализуется и онтологи-
зируется, переворачивается Хайдеггером вместе со всей парадигмой
«историзма», точнее — формального историзма XIX века.
От «Я» к «я» (и «другому»)
Разумеется, это «переворачивание» не надо понимать просто, т. е.
формально-исторически и формально-персоналистически: сперва
было так-то, а потом пришел Хайдеггер и все стало иначе; реально
174
Раздел первый. Переход
так не бывает. «Рустический» Хайдеггер радикально выразил и, так
сказать, «довел до ума» в 1920-е годы то, что более осторожный, более
академичный В. Дильтей на свой лад уже осуществил — что,
собственно, и поняли в 1920-е годы, так сказать, «все» (от Хайдеггера до
его оппонентов-марксистов вроде М. Хоркхаймера или ученика
Хайдеггера Г. Маркузе). В составившем эпоху «Предуведомлении
издателя» к 5му тому собрания сочинений Дильтея (1923) — на это
систематическое изложение и переложение дильтеевской философии
Хайдеггер сошлется в соответствующем месте «Бытия и времени» —
ученик (и зять) Дильтея, философ и историк духовной культуры Георг
Миш (1878—1965) привел и подчеркнул формулировку, в которой
уже «ранний» Дильтей выразил стратегию своей философии и
гуманитарной эпистемологии. Ведь критико-негативный момент
дильтеевской программы «критики исторического разума» заключался в
попытке включить «познавательный», «разумный» элемент, или аспект,
человеческого сознания в более целостное представление о человеке
и его мире — в попытке «"снятия" Я как субъекта мысли» («Aufhebung
der Auffassung des Ich als Denksubjekt»)47.
Тем самым обозначена тема, которая сегодня, к сожалению,
настолько оторвалась от собственного эвристического источника (не
только от Дильтея, но уже и от Хайдеггера, не говоря уж о Кьерке-
горе), что воспринимается преимущественно на апперцептивно-
диалогизующем фоне так называемого «мышления 68-го года» во
Франции и его вульгаризованной радикализации в последующие
десятилетия.
Речь идет о так называемой «децентрации» субъекта
классического разума — важнейшем и многосмысленном событии Конца
Нового времени, смысл которого под влиянием «постмодернистской»
вульгаризации и радикализации сегодня в значительной мере
закрыт от нас («застроен») в самой своей «открытости». (Вообще
постмодернизм — как постреволюционное и постидеологическое
повторение авангарда и элитарно-массовых «девиантностей» предтотали-
тарной и тоталитарной эпохи прошлого столетия48 — только укрепил
и укрепляет позиции современного фундаментаризма — как
политического, так и философского.)
Подлинная революция в способе мышления, осуществленная
в Германии в 1920е годы (в экзистенциальную эпоху), остается не
вполне понятой и чаще вульгарно воспринятой. Как ясно из
предшествовавшего, элитарная и вещающая манера позднего Хайдеггера в
соединении с очень разными возможностями понимания молодого
Перевернутая предпосылка
175
Хайдеггера, способствовали появлению вульгаризованных
двойников «деструкции» метафизики, включая «децентрацию» субъекта.
Но в чем позитивный (продуктивный) смысл такой «децентрации»?
Следует ли «снятие Я как субъекта мысли» (Дильтей) понимать уже
только из нашего пост-пост-постсовременного настоящего, т. е. как
закономерный результат закономерного развития — результат, в
некотором обобщенном, теоретизированном итоге которого даже
Дильтей не более чем еще наивный, но все же предвестник «смерти
человека» М. Фуко или «смерти автора» Р. Барта? Но что, если такой
формальный историзм в подходе к предшествующей (доструктура-
листской) философии с ее революцией в понимании и человека, и
автора, и истории, по памятному нам выражению Б. Пастернака из
«Охранной грамоты», «подслушан обезьяной»?
С исключительной ясностью то, что мы условно называем «хай-
деггеровским позитивом» в понимании «снятия Я как субъекта
мышления», сумела выразить Ханна Арендт (1906—1975) — выдающийся
гуманитарный эпистемолог прошлого столетия, осуществившая
перевод экзистенциально-онтологической проблематики своих
учителей — «экзистенциалистов» Хайдеггера и Ясперса в плоскость
политической философии и социальной реальности. Этот свой
«перевод», X. Арендт осуществила, в частности, в своем открытии
герменевтического потенциала кантовской философии49.
Почему X. Арендт считала, что подлинную «политическую
философию» Канта следует искать не там, где ее обычно видят (в «Критике
практического разума»), но в «Критике способности суждения», где
в центре внимания, казалось бы, не политика, а культура, именно —
эстетическая культура и проблема «способности суждения» о
произведениях искусства?
Хотя Кант, как известно, не отличался особой чуткостью к
искусству, он, по мысли X. Арендт, тем более остро чувствовал и
осознавал социальный и публичный смысл суждений об искусстве —
область коммуникации и аргументации; ее-то, эту область X. Арендт
и называет «политической» сферой жизни вообще, т. е. всякой
социальной онтологии. Революция, осуществленная Кантом в
третьей «Критике...», но им не осознанная так, как этот другой еще
кантовской прорыв смог быть осознан уже только в XX в. (т. е. в
условиях, как мы это называем, «завершенной демократии» со всеми ее
возможностями и опасностями), заключалась в том, что Кант
поставил под вопрос и перевернул общепринятое и расхожее
представление, что «вкус» (и, соответственно, «суждение вкуса») — категория
176
Раздел первый. Переход
субъективная (а это значит — приватная и аполитичная), т. е. что
«о вкусах не спорят». Смена парадигмы в понимании «разума» как
социально-политического феномена выразилась в том, что в своей
трактовке способности (эстетического) суждения Кант вышел за
пределы «принципа согласия с самим собой» (principle of agreement with
oneself)», как это называет X. Арендт, т. е. за пределы атомарно
(индивидуально) понятого «я», в особенности аристократически
независимого «гносеологического» «Я» Нового времени. Имеется в виду
основание само собой разумеющегося, на котором, как подчеркивает
X. Арендт, вся западная этика (от Сократа до Канта с его
«категорическим императивом» вплоть до Ницше, у которого и в ком этот
принцип взрывается), а равно и вся западная логика.
Заметим: «принцип согласия с самим собой», как первый и
последний критерий постижения истины и достижения этического
идеала, является почти господствующим и убедительным еще и
сегодня (и не только в популярном сознании) и в качестве «теории», и в
качестве «риторики». Принцип согласия с самим собой (в бахтинской
огласовке его — «монологизм») предполагает, с одной стороны —
согласие со своею совестью (в этике), с другой стороны — закон
противоречия (в логике). Вот ключевое место интерпретации X. Арендт
кантовской способности эстетического суждения как
«политического» события:
Способность суждения основывается на потенциальном согласии с
другими, и мыслительный процесс (the thought process), активность
которого проявляется в акте суждения, не есть диалог между мною
и собою (me and myself) — как это происходит в мыслительном
процессе чистого разумения (pure reasoning); нет, мыслительный
процесс — даже если я пытаюсь что-то решить для себя в полном
одиночестве — всегда и в первую очередь оказывается в
предвосхищенной коммуникации с другими людьми, с которыми, как я знаю, мне
нужно, в конце концов, прийти к соглашению50.
Сущность истины не в «теории» философов самой по себе, но
и не в риторике «мнений», тоже самих по себе. Полная, «соборная»
полнота истины — в «предвосхищенной коммуникации» (anticipated
communication)51 с другими, в которой, добавим, есть тонкое
различие между «согласием» и «соглашением» (различие, не
передаваемое словом agreement, которое употребляет X. Арендт).
«Предвосхищенная коммуникация» — это такое измерение мысли, речи, истины,
которое переводит мысль, речь философскую и речь повседневную
Перевернутая предпосылка
177
в план темпоральной социальной онтологии, лишая всякое
высказывание, всякую истину притязания на абсолютное завершение,
на «самое само». Но при этом все истины, как «политические»
(социально-онтологические) становятся «релятивными» постольку,
поскольку они перестают быть только «условными» (только
условностями). Все действительное и вправду разумно, хотя и не в прежнем,
идеалистическом и аристократическом, смысле.
У X. Аренд, таким образом, имеет место характерный для
философии XX в. поворот к практической философии — поворот,
который затруднительно увидеть и оценить в границах
традиционного историзма, в горизонте которого переход от «классической»
философии к «постклассической» остается не вполне осмысленным
и оцененным, а значит, сама классическая картина мира
представляется только «готовым словом» (и готовым, завершенным
мышлением). (В этом смысле и «постмодернизм» — только изнанка и
двойник классических идеализации, хотя и в теоретических и
риторических формах, по выражению Ницше, «идеализации в
сторону безобразия».) Поэтому и не должно удивляться тому, что, как и
Г.-Г. Гадамер, X. Арендт не только отправляется именно от «Критики
способности суждения» Канта, оперируя в своей герменевтической
трансформации политической философии теми же традиционными
понятиями («фронесис», «здравый смысл»), что и Гадамер, который
сохраняет большую дистанцию по отношению к «политике», но не к
«политическому».
Из политической «ошибки» Хайдеггера урок извлекли не
апологеты и не политизированные критики Хайдеггера, но такие его
ученики, как Гадамер или Арендт.
Платонизм варваров
Больше всего в Кассельских докладах (как и в лекционных курсах
Хайдеггера первой половины 1920-х годов) достается неокантианцу
Генриху Риккерту, у которого Хайдеггер габилитировался во время
первой мировой войны и которому он подчеркнуто
противопоставляет Дильтея. Этот момент нуждается в специальном освещении.
На неокантианстве до первой мировой войны фактически
держалась идея научной философии. Но идея научной философии, в
свою очередь, «держалась» в связи с ино-научными импульсами-
императивами «буржуазно-христианского мира», сложившегося в
XIX веке52. (Крах неокантианства в 1920-е годы в значительной
степени оказался относительным концом дореволюционной русской
178
Раздел первый. Переход
философии; на Западе произошло то же самое, но не в масштабах
катастрофы и не с «азиатскими» последствиями; достаточно
вспомнить судьбу таких русских учеников или переводчиков
неокантианских идей, как С. Л. Франк, Ф. Степун, С. Гессен, П. А. Новгородцев,
многие другие.) Не случайно уже в наше время крах марксизма в
России и отчасти на Западе подталкивает многих (у нас и на Западе)
к возвращению в парадигму неокантианства (но, конечно, не к его
фактичной историчности) в попытке восстановить научность
оснований и обоснований (но без «вопроса к основополагающему» и к
самому обосновывающему) перед лицом «постмодернистских» вызовов
1960—1990х годов. Нельзя сказать, что такое возвращение и
возрождение неокантианских мотивов бесперспективно и бессмысленно;
вопрос — в другом. Возвращение к неокантианской проблематике (как
и вообще к философским мотивам начала XX века) возможно не
благодаря «онтологической беспочвенности» сегодняшнего,
«выживающего» философствования, но вопреки такой беспочвенности, которая
оказалась роковой как раз в случае неокантианства. В этом
отношении критика Хайдеггером современной ему академической
философии (неокантиански ориентированной даже в полемике с
неокантианством) имеет не «относительный», но «абсолютный»
исторический смысл, который мы и попробуем уразуметь, отправляясь от
Кассельских докладов 1925 года.
Генрих Риккерт (1863—1936) в своем труде «Границы
естественнонаучного образования понятий: Логическое введение в
исторические науки» (1896—1902), как известно, попытался обосновать
историческое познание в парадигме традиционной
(естественнонаучной) теории познания, а это значит — в обход «фактичной»
историчности истории, не совпадающей с эмпирической фактичностью,
с которой имеют дело историки. Хайдеггер в Кассельских докладах
комментирует:
Здесь ложно понятая проблема Дильтея овнешнена до полной
неузнаваемости. Конечный интерес Дильтея заключался в
историческом бытии; Риккерта же интересует даже и не познание истории, а
только ее изложение (155).
Эта резкая (но, как увидим, еще не самая резкая) оценка метит в
«когитальную» установку бывшего научного руководителя. Дело даже
не в том, что именно Риккерт утверждает, а утверждает он, как
известно, то, что «номологические» науки (естествознание) обобщают
опыт (формулируют законы природы), тогда как «идеографические»
Перевернутая предпосылка
179
(исторические) науки индивидуализируют опыт. Суть дела, по Хай-
деггеру, в том, что, во-первых, такое противопоставление
гуманитарных и естественных наук остается в границах традиционной
(картезианской и кантианской) теории познания естественнонаучного
образца, что, во-вторых, это противопоставление относительно, а не
абсолютно, и что, в-третьих, таким образом, в сущности, ничего не
познается^ но лишь «излагается» для порядка, для душевного
спокойствия «теоретического человека», над которым едко иронизировал
в свое время Ницше. Иначе говоря, Риккерт не имеет дела с
«историческим бытием»; он лишь исходит из научного факта истории и
пытается подобрать для этого факта понятия, а потом изложить их
в качестве некоторой системы понятий, что и создает видимость
«познания» истории. Между тем, по Хайдеггеру, дело не в понятиях
самих по себе и не в «изложении» истории, но в историчности самих
вещей, в «историческом бытии», которое оказывается упущенным и
забытым даже там и как раз там, где, как у Риккерта, речь идет об
историческом бытии, его природе и сущности.
Еще резче молодой Хайдеггер высказывался в своих лекционных
курсах. В летнем курсе «Пролегомены к истории понятия времени»,
этом предварительном наброске «Бытия и времени», по поводу «три-
виализации» Виндельбандтом и Риккертом дильтеевской постановки
вопроса об истории сказано так:
Теперь уже не спрашивают о структуре самого познания, о
структуре исследования, о подходе к той или иной действительности; в
качестве темы остался лишь вопрос о логической структуре научного
описания. Дошло до того, что в риккертовской теории науки эти
самые науки, о которых идет речь, уже невозможно узнать: в основе
этой теории лежат голые схемы наук53.
Науки, о которых идет речь, невозможно узнать — это означает,
как представляется, следующее:
Между реальным опытом научно-гуманитарных, историко-
герменевтических исследований — с одной стороны, и речью
философа, который высказывается о науках в порядке общей научной
методологии — с другой стороны, образовался сущностный разрыв,
и этот разрыв проходит через «бытие», т. е. через измерение
исторического опыта, с которым имеют дело гуманитарные науки.
Традиционная философия ориентирована не на опыт «самих вещей»,
а на собственные («самодостаточные», как не стесняются
выражаться сегодня) «голые схемы наук». Неизбежный итог такой внешне
180
Раздел первый. Переход
импозантной и внушительной «методологии» — утрата реальности в
мышлении, самоотчуждение философии, т. е. забвение исторического
бытия — прошлого и современности.
В связи с этой критикой теоретизированной методологии истории
отметим две вещи. Во-первых, для обозначения «истории» в немецком
языке, в отличие от русского, есть не одно, а два слова: Geschichte
обозначает историю как реальный объективный процесс; Historie
обозначает историю как предмет научного исследования; если в основе
теории науки лежат голые схемы, то это — настоящий кризис научного
познания, так сказать, на обе стороны: философия потеряла связь с
реальными науками, а науки фактически уже не могут опираться на
философию как общую методологию, поскольку теория и
методология не в состоянии ориентировать «эмпирические», конкретные
исследования. Во-вторых, разрыв между опытом и традиционными
понятиями, с которыми уже не подступиться к опыту, — притом, что
«теоретиков» это, похоже, не особенно беспокоит, — можно
рассматривать как основной мотив «кризиса». Это не «конец» философии,
но, так сказать, тотальное «зависание» мышления, издевательская
карикатура на свободу и автономию «разума» постольку, поскольку
познание и теория познания освобождают себя (с достигнутой за чужой
счет высоты «познания») от ответственности за слишком
«эмпирическую», «низшую» реальность. И реальность ответила и еще ответит
такой институализированной философии и эпистемологии, как
сказали бы сегодня, «по полной программе».
Сегодняшняя ситуация — в отличие от «революционной»,
внутри которой, как мы помним, видел и понимал свою задачу Хай-
деггер, — совершенно, так сказать, натурализовалась,
«нормализовалась». Дело, видимо, не в том, что современный уровень
исторического образования совершенно несопоставим с прежним, и не в
том, что «нет гениев», способных осуществить революцию в способе
мышления. Скорее наоборот: по-настоящему кризисное напряжение
между — между философией и отдельными науками, между
конкретными дисциплинами, между различными методологиями и
научными традициями — в настоящее время почти невозможно и почти
немыслимо, ибо утрачено ощущение единства времени как
продуктивное и творческое единство «с человеческим лицом»; поэтому «не
нужны» не только гении, но и настоящее гуманитарное
(историческое) образование. Есть, следовательно, кризис и кризис, и эта
разница существенна для истории наук исторического опыта и для
гуманитарной эпистемологии, с точки зрения того, что M. M. Бахтин
Перевернутая предпосылка
181
называл «культурой границ»: «Каждый культурный акт существенно
живет на границах; в этом его серьезность и значительность;
оторванный от границ, он теряет почву, становится пустым, заносчивым,
вырождается и умирает»54.
Своего рода кульминацией хайдеггеровской критики «пустой
всеобщности» современной ему философии можно, вероятно,
считать то место в лекционном курсе «Онтология. Герменевтика
фактичности» (летний семестр 1923 г. во Фрайбурге)55, где Хайдеггер
отмежевывается от «философии сегодняшнего дня» (Philosophie im Heute),
цитируя и комментируя пассаж из статьи выдающегося
исследователя так называемой школы Дильтея Эдуарда Шпрангера (1982—
1963), посвященной 60-летию Г. Риккерта и опубликованной в
журнале «Логос». Вот это место из юбилейной статьи: «Все мы — Риккерт,
феноменологи, направление, опирающееся на Дильтея, — сходимся в
великой борьбе за вневременное измерение в историческом познании
(das Zeitlose im Historischen), в борьбе за царство смысла (das Reich des
Sinnes) и за его выражение в исторически ставшей конкретной
культуре, за теорию ценностей, которая выходит за пределы лишь
субъективного (bloss Subjektive) и возвышается до объективного и
значимого (zum Objektiven und Geltenden)»56.
Хайдеггер, комментируя эту идеалистическую программу «всем-
ства» старшего философского поколения («Все мы...», Wir alle...),
отказывается здесь даже от звания феноменолога. «Субъективное» —
«объективное», «исторически временное» (das Historische) —
«вневременное» (das Zeitlose), и т. п. — нет, это не вовсе ложные слова и
понятия традиционного научно-философского мышления; но в
качестве «пустой всеобщности» (leerer Allgemeiheit) эти оппозиции
неадекватны реальному историческому опыту постольку, поскольку
они нацелены — не столько в качестве традиции, сколько в качестве
уже деградации традиции — на сущее как «Всё» минус реальное
событийное наполнение этого умозрительного единства, или
всеединства, конкретной историчностью вот этого опыта, этого «бытия
здесь» (Dasein).
Совершенно безразлично, что именно будет предметом
философского обобщения посредством «пустой всеобщности»
(которую часто отождествляют с философской абстракцией и с
философией как таковой); в любом случае отвлекаются от «почвы
созерцания» (Anschauungsboden), направляющей и определяющей
мышление57. Абстрагируясь от этой «почвы», устремляясь в, повидимому,
182
Раздел первый. Переход
сверхвременное, идеальное, вечное «царство смысла», мы в
действительности теряем (точнее — не принимаем, отрицаем; это и есть
«нигилизм»...) свое ограниченное, но подлинное место и время, в
горизонте которых мы воспринимаем и понимаем как раз «всё» —
реальную полноту смыслов ставшего прошлого и становящегося
возможного будущего вот-здесЬу в этой ситуации, в этом топосе, или
хронотопе.
Спросим так: разве все то, что мы относим к политическому
«тоталитаризму», «коммунизму», «имперскому» сознанию нашего
прошлого, а равно и к распаду и гибели интеллигенции,
незаслуженным и заслуженным в одно и то же время, к геноциду народа,
который, как известно, достоин своего правителя, — разве все это
мы не видим, не слышим, не переживаем в повседневном опыте в
нашем сегодня (включая философию сегодняшнего дня, насколько
о ней можно говорить), хотя и видим, как говорится у Достоевского,
«с другой рожею»? Разве так называемый вечный человек стал менее
«вечным», если он после Освенцима и Гулага жует жвачку, работает
на компьютере, рассуждает об «обязанностях» писателя в
современном мире или откровенно заявляет по ТВ, убежденный в
поддержке национального большинства, что нам нужна третья мировая
война, чтобы доказать-таки гниющему Западу, откуда свет
невечерний и кто в мире главный?..
Философское мышление, оторвавшееся от почвы своей
историчности и ставшее в «царстве смысла» враждебным истории, ставшее
идеальным и всеобщим в такой мере и в таком смысле, каким оно
никогда не было и не могло быть в своем греческом, своем
метафизическом начале, или истоке, хотя, в отвлеченном смысле, было таковым
уже там, «изначально», — такую анахроническую инерцию традиции
Хайдеггер и называет в приведенном примере из лекционного курса
1923 г. «платонизмом варваров» (Piatonismus der Barbaren):
Эта философия, которую можно назвать платонизмом варваров,
умеет занять надежную позицию (sicheren Stand) перед лицом
исторического сознания и самой истории (dem Geschichtlichen selbst)58.
Сказано, конечно, очень резко. «Мрачная энергия», с которой
молодой Хайдеггер имел обыкновение высказываться о старших
современниках даже публично, дает почувствовать силу отталкивания
от традиционной философии (естественно привлекавшей к Хайдег-
геру молодежь; ведь «юность — это возмездие»). Однако это
отталкивание не стоит отождествлять с риторикой разрыва; напротив,
Перевернутая предпосылка
183
все так плотно, что преемственность еще не может не сохраняться
(она начнет уходить потом, когда станут опираться на Хайдеггера
более или менее «по-варварски»). M. M. Бахтин, будь у него
возможность свободно преподавать в 1921—1923 годах где-нибудь в
Орловском университете (куда его «сватал» приятель-неокантианец
М. И. Каган) или в Петрограде (еще не ставшем Ленинградом),
вряд ли бы стал выражаться (тем более ex cathedra) с такою тоже
несколько «варварской» резкостью; но счет, предъявляемый
традиционной философии (ближайшим образом — неокантианству,
не говоря уж о мировоззренческих системах, как исторический
материализм или религиозно-идеалистическая метафизика), — счет
(и расчет) в принципе был тем же самым; будь это возможно,
диалог Бахтина «на два фронта» — против «рокового теоретизма»
западной философии от Платона до Когена и (отчасти) Гуссерля — с
одной стороны, против «греха метафизики» «наших мыслителей-
самодумов» — с другой, сегодня не казалась бы чем-то ни на что
не похожим и, соответственно, ни к чему не обязывающим. Но и
другие инициаторы «нового мышления» 1920х годов почти
независимо друг от друга мыслят поразительно схоже с молодым Хайдег-
гером — как бы они позднее ни критиковали друг друга (Бубер —
Хайдеггера, Ф. Розенцвейг — Бубера, О. Розеншток-Хюсси — Бу-
бера, Хайдеггера, Сартра и всех современников), за исключением,
как ни парадоксально, Хайдеггера, который после «поворота» о
своих коллегах-современниках уже помалкивал на своих вершинах,
в своем «звездном» падении.
Ведь если присмотреться, чем значительнее философ, тем
сокрушительнее его «падение», причем, в отличие от «первого философа»
Фалеса, который, согласно знаменитой легенде или басне, упал то ли
в колодец, то ли в канаву под «смех фракиянки», величайшие
философы, в сущности, проваливаются в свое собственное открытие,
которое больше и глубже их. В этом смысле Микаэль Тойниссен,
начиная свой ставший классическим труд «Другой» (1965),
посвященный экзистенциально-феноменологической и диалогической
революции первой половины XX века, увидел свою задачу в том, чтобы
«защитить индивидуальность мыслителей от последствий
мышления»59. Так, пожалуй, можно определить герменевтическую
сверхзадачу истории философии вообще: такой она была всегда, и такой она
снова и по-новому стала благодаря Хайдеггеру и после Хайдеггера.
Когда в Кассельских докладах Хайдеггер говорит, что
центральная проблема Дильтея
184
Раздел первый. Переход
заключалась в том, чтобы видеть историческую действительность в
ее же собственной действительности, и его волновало не сохранение
своеобразия науки, но сохранение своеобразия реальности» (150),
то тем самым утверждается — вопреки, как говорится, «всему»,
включая «варварские», карикатурно-греко-метафизические
прочтения Хайдеггера сегодня — преемственность и непрерывность
идеи научно-философской революции как условия возможности
вечного возрождения «мышления». Возрождения, которое, однако,
возможно не с абсолютной «точки зрения вечности», но в «бытии здесь»,
только исторически и не иначе как на почве своей собственной
историчности.
«Кризис» современной ему философии и теории познания Хай-
деггер видит в том, что между действительностью «в ее же
собственной действительности» и «разумом», рационалистической
философией, образовался достаточно пугающий разрыв, и никакое
пугало «иррационализма», которым пользуется всякий догматический
(«зависший» в традиционной парадигме) рационализм ради
самооправдания и поддержания своих общественных дивидендов, не может
скрыть вопиющую фактичность этого разрыва, распада разума, не
выразимого средствами традиционного («классического») разума.
Мысль Хайдеггера об «историчности» как фундаменте всякого
осмысления и всякого «изложения» (включая историю как предмет
познания и историографического изложения-изображения)
открывает свою истину также и в горизонте историчности и фактичности
философии теперь уже XXI века, притом не в относительном
историческом смысле, но в абсолютно историческом смысле. Это значит:
если не «философия» Хайдеггера, то его «мышление» еще не
сказало своего последнего слова, т. е. способно наращивать свой смысл
в горизонте не «результатов», но «возможностей», т. е. в
перспективе того, что X. Арендт называет «предвосхищенной
коммуникацией» (а М. Бахтин — «абсолютным будущим» и, кстати, всегда
предпоследним смыслом «последних вопросов» Достоевского). В
негативном плане открывается место для почти детского вопроса,
для современно древнего, исконного философского «удивления».
А именно: как возможна такая историческая ситуация, в условиях
которой так называемые вечные ценности, вечные истины, вечные
сущности, не теряя своей значимости «в себе» (в качестве
«сущности»), как сказано, «зависают», т. е. либо девальвируются, либо
«зависают»?
Перевернутая предпосылка
185
Тем самым, как кажется, достигнута перспективная
ретроспектива «одновременности» перед лицом Хайдеггера — не больше, но
и не меньше. Во всяком случае, это некоторый подступ, который
позволяет сделать следующие шаги не случайными и не
произвольными.
Примечания
1 Ср.: «Если человек сам не испытал в своей жизни революционного
изменения научного знания, то его историческое понимание, будь он
ученым или непрофессиональным читателем учебной литературы,
распространяется только на итог самой последней революции, разразившейся в
данной научной дисциплине. (...) та историческая традиция, которая
извлекается из учебников и к которой таким образом приобщаются
ученые, фактически никогда не существовала. (...) Искушение переписать
историю ретроспективно всегда было повсеместным и непреодолимым.
Но ученые более подвержены искушению переиначивать историю,
частично потому, что результаты научного исследования никакой
очевидной зависимости от исторического контекста рассматриваемого
вопроса, а частью потому, что, исключая период кризиса и революции,
позиция ученого кажется незыблемой» {Кун Томас. Структура научных
революций. М.: Act, 2001. С. 181 — 182).
2 См. в особенности книгу под этим названием: Arendt Hannah. Between
Past and Future: Eight Exercises in Political Thought (1954). London, 2006.
3 Свой обзор новоевропейских концепций античности А. Ф. Лосев в 1920-
е гг. доводил до Шпенглера, а С. С. Аверинцев сорок лет спустя
возобновил разговор о Шпенглере, не имевший серьезного продолжения. См.:
А. Ф. Посев. Очерки античного символизма и мифологии. М.: Издание
автора, 1930. С. 9—96; С. Аверинцев. «Морфология культуры»
Освальда Шпенглера // Вопр. литературы. 1968. № 1. С. 132—153. В силу этого,
как представляется, проблема античности как абсолютного начала
философии не могла быть поставлена у нас уже ни классическими
филологами, ни тем более философами; за вычетом Маркса и Гегеля
ориентированные на исторический опыт мыслители остались на уровне
дореволюционного Ницше и пореволюционного Шпенглера, дальнейшее не
могло не быть молчанием.
4 М. М. Бахтин. К философии поступка // Он же. Собр. соч. Т. 1. М., 2003.
С. 67.
5 См.: Reading Heidegger from the Start: Essays in His Early Thought / Ed. by
Th. Kiesl, J. Van Buren. Ν. Υ., 1994; И. А. Михайлов. Молодой Хайдеггер:
Между феноменологией и философией жизни. М.: Прогресс-Традиция,
1999. С. 10—11.
6 См. в этой связи недавно опубликованный международный
сборник статей-комментариев, приуроченный к восьмидесятилетию выхо-
186
Раздел первый. Переход
да в свет «Бытия и времени»: Martin Heidegger: Sein und Zeit / Hrsg. von
Th. Rensch. 2. bearbeitete Aufl. Berlin, 2007.
7 См.: Х.-Г. Гадамер. Пути Хайдеггера / Пер. с нем. А. В. Лаврухина; под ред.
А. А. Михайлова. Минск, 2007. С. 12. О характерной уже для молодого
Хайдеггера «мрачной энергии» говорится в связи с рецензией на книгу
К. Ясперса «Психология мировоззрений» (1919), которую Хайдеггер не
стал печатать ни тогда, ни позднее. В переводе на так называемый
русский литературоцентризм «мрачная энергия» — это «сумрачный
германский гений» (А. Блок).
8 Ср.: «Получилось крайне неудобно — ни пройти, ни встать, ни сесть.
На столе нельзя обедать, потому что это не просто стол. Нельзя зажечь
огня, потому что это может значить такое, что сам потом не рад будешь»
(О. Мандельштам. Слово и культура. М.: Сов. писатель, 1987. С. 65—66).
9 Ср. у О. Мандельштама: «В русской речи спит она сама и только она сама.
(...) А как же Глюк? — Глубокие, пленительные тайны? — Для
российской поэтической судьбы глубокие, пленительные глюковские тайны не
в санскрите и не в эллинизме, а в последовательном обмирщении
поэтической речи. — Давайте нам "библию для мирян"!» (О. Мандельштам.
Цит. соч. С. 70). В действительности, однако, то, о чем здесь идет речь,
относится не только и даже не столько к «поэтической судьбе» русской
речи, сколько к ее общей судьбе, «результаты» которой невозможно
принять, но необходимо осознать.
10 О. Мандельштам. Петр Чаадаев (1914/15) // Цит. соч. С. 90.
11 В этом отношении характерны некоторые переводы Хайдеггера на
русский язык (не исключая и первый перевод «Бытия и времени»,
опубликованный в 1997 г.). То же относится и к опубликованному уже в это
десятилетие параллельному переводу хайдеггеровских интерпретаций
поэзии Гельдерлина; см.: М. Хайдеггер. Разъяснения к поэзии Гельдерлина /
Пер. с нем. Г. Ноткина. СПб.: Академический проект, 2003.
В этом издании, не вполне адекватном «академическому проекту»,
отсутствует комментарий, зато переводчик в кратном послесловии ссылается
на утверждение А. В. Михайлова, что философия Хайдеггера «вся
целиком в языке» (что как бы понятно само собой или, что то же самое — нам,
посвященным), а также на другого филолога-классика — Т. В. Васильеву,
пытавшуюся передать не только «логическую», но и «магическую
убедительность» позднего Хайдеггера.
12 См.: М. М. Бахтин. Слово в романе (1934/35) // Он же. Вопросы
литературы и эстетики. М.: Худ. литература, 1975. С. 100—101.
13 См. в этой связи интересное исследование о М. Хайдеггере и Р.
Якобсоне: S. Grotz. Vom Umgang mit Tautologien: Martin Heidegger und Roman
Jakobson. Hamburg, 2000. В этой работе показано, что Р. О. Якобсон,
критиковавший (1976) хайдеггеровскую интерпретацию поэзии
Гельдерлина (1936) за уступку поэтической отрешенности «стихотворения»
мирскому языку «разговора» (см.: Р. Якобсон. Взгляд на «Вид» Гельдерлина /
Перевернутая предпосылка
187
Пер. с нем. О. А. Седаковой // Он же. Работы по поэтике. М.: Прогресс,
1987. С. 380), не признал в нем собственного подобия; ведь поздний Хай-
деггер тяготел как раз к поэтике «стихотворения» как форме
необращенной речи, как чисто утопическому «снятию» исторического прошлого в
поэзии по формуле Гельдерлина: «Чему остаться, решат поэты».
Конечно, этот импульс у немецкого мыслителя, в отличие от русского
формалиста, никогда не был единственным. Современная ситуация по-своему
разрешила тот спор двойников: относительный «конец разговора» стал
новым «концом искусства» по Гегелю; понимать поэзию как только
божественно-автономный результат мирской речи и событий
прошлого едва ли возможно после исчерпания эстетизма XIX—XX веков.
14 Г. Г. Шпет. Сочинения. М.: Правда, М., 1989. С. 378.
15 В дальнейшем эта работа цитируется в переводе А. В. Михайлова с
указанием страниц после цитаты по изданию: 2 текста о Вильгельме Дильтее:
I. Г. Шпет. История как проблема логики. Т. 2 (Дильтей); IL M. Хайдеггер.
Исследовательская работа Вильгельма Дильтея и борьба за историческое
мировоззрение в наши дни. М.: Гнозис, 1925. С. 137—185.
16 См.: Fr. Rodi. Die Bedeutung Diltheys für die Konzeption von «Sein und Zeit»:
Zum Umfeld von Heideggers Kasseler Vorträgen (1925) // Ders. Erkenntnis
der Erkannten: Zur Hermeneutik des 19. und 20. Jahrhunderts. Frankfurt am
Main, 1990. S. 102—122.
17 А. Михайлов. Избранное: Историческая поэтика и герменевтика. СПб.,
2006. С. 351—380.
18 Цит. по: Э. Гуссерль. Философия как строгая наука. Новочеркасск, 1994.
С. 130—131.
19 Там же.
20 Ср. в этой связи глубокое наблюдение К.-О. Апеля, которое имеет
отношение не только к Гуссерлю, но и происходившим перед мировой войной
процессам в русской философии: «(...) когда культурный кризис
угрожает всеобщим смысловым релятивизмом, наблюдается возрождение
платоновской концепции» (К.-О. Апель. Трансформация философии / Пер.
под ред. В. Куренного. М.: Логос, 2001. С. 16.
21 Цит. по: Ю. Н. Тынянов. Поэтика. История литературы. Кино. М.:
Наука, 1977. С. 525.
22 П. Н. Медведев. Формальный метод в литературоведении. Л.: Прибой,
1928. С. 219—222 (раздел «Отсутствие действительного понимания
эволюции в формалистическом учении»); М. М. Бахтин (под маской). М.:
Лабиринт, 2000. С. 337—339. М. М. Бахтин и П. Н. Медведев
критикуют формалистическое понятие «эволюции» за непреемственность.
Ю. Н. Тынянов называет «эволюцией» (в литературе) не эволюционный,
а скорее революционный опыт изменений, понятый обратно
эволюционной непрерывности, а именно — как разрыв преемственности.
23 Д. Лукан. Теория романа (1916/20) / Пер. с нем. Г. Бергельсона // Новое
литературное обозрение. № 9. 1994. С. 19.
188
Раздел первый. Переход
См.: Е. Rosenstock-Huessy. Out of Revolution: Autobiography of Western Man
(1938). 4th ed. Oxford: Providence, 1993. (Русский перевод: О. Розеншток-
Хюсси. Великие революции: Автобиография западного человека. М.:
Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2002.)
Х.-Г. Гадамер. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М.:
Прогресс, 1988. С. 305—316 (раздел «Хайдеггеровский проект
герменевтической феноменологии»).
Там же. С. 308.
М. М. Бахтин. К философии поступка (1921/22) // Он же. Собр. соч. Т. 1.
М., 2003. С. 13.
При переводе этого центрального понятия «Бытия и времени» и
раннего Хайдеггера в целом я здесь следую за Е. Борисовым, в других
случаях — за А. В. Михайловым, а не за первым русским переводчиком
«Бытия и времени» покойным В. В. Бибихиным. Первый русский перевод
этой книги, как мне кажется, — замечательный эксперимент, полезный
тем, кто читает и изучает Хайдеггера в оригинале, но
малопродуктивный (даже вредный) для того, кто пытается разобраться в «Бытии и
времени» по русскому переводу. На Гадамеровской конференции в
Институте философии РАН (декабрь 2003 г.) Е. Борисов сказал за чаем,
объясняя основной импульс своей попытки перевести «Бытие и время» снова
и по-другому: «Перевод Бибихина гениальный, но... я пытаюсь
перевести по-русски».
Х.-Г. Гадамер. Цит. соч. С. 308.
В таком же, по-видимому, «обратно-позитивном» отношении к
классической традиции оказывается и программа «первой философии»
молодого М. М. Бахтина («философии поступка») — проект, который
русский мыслитель в 1930-е гг. переформулирует на путеводной нити
понятия «хронотоп» (заимствуемого им у физиолога и религиозного
антрополога А. А. Ухтомского, но «введенного и обоснованного на почве теории
относительности»); Бахтин переводит на специализированный научный
язык теории и истории романа то, что Хайдеггер в те же 1930-е гг. (и тоже
«в стол») анализирует в качестве «истории бытия», «конца философии» и
«задачи мышления». При этом у Бахтина (как скорее у X. Плесснера, чем
у Хайдеггера) речь идет о переворачивании-переводе-переосмыслении
кантовской «трансцендентальной эстетики. Ср.: «...Кант определяет
пространство и время как необходимые формы всякого познания,
начиная с элементарных восприятий и представлений. Мы принимаем кан-
товскую оценку значения этих форм в процессе познания, но, в
отличие от Канта, мы понимаем их не как "трансцендентальные", а как
формы самой реальной действительности». См.: М. Бахтин. Формы
времени и хронотопа в романе (1937/38) // Он же. Вопросы литературы и
эстетики. М.: Худ. литература, 1975. С. 234, 235. Вопреки устойчивым
недоразумениям, этот «реализм» и этот «формализм» не имеют, конечно,
никакого отношения (кроме «диалогического») ни к средневековому pea-
Перевернутая предпосылка
189
лизму, ни к постмодерному формализму и номинализму современников
Бахтина — формалистов, структуралистов и т. п. Ср.: «...смыслы,
чтобы войти в наш опыт (притом социальный опыт <...> должны принять
какое-либо временно-пространственное выражение, т. е. принять
знаковую (разрядка в тексте. — В. M.), слышимую и видимую нами
(иероглиф, математическую формулу, словесно-языковое выражение,
рисунок и др.) Без такого временно-пространственного выражения
невозможно даже самое абстрактное мышление. Следовательно, всякое
вступление в сферу смыслов совершается через ворота хронотопов» (Цит. изд.
С. 406). Как все открытия в области исторического опыта и так
называемой духовной истории (Geistesgeschichte), открытие «хронотопа» — как
условия возможности «вступления в сферу смыслов» — это не открытие
того, чего до этого открытия просто не было, а, наоборот, это открытие
того, что всегда было и теперь стало тем, чем еще никогда не было.
X. Ортега-и-Гассет. Исторический смысл теории Эйнштейна / Пер.
Вл. П. Визгина, X. Бабадильи) // Эпистемология и философия науки.
Т. IV. № 2. (год издания???) С. 223.
Μ. M. Бахтин. Собр. соч. Т. 1. М., 2003. С. 59.
См. об этом: Dunja Melde. Heideggers Kritik der Metaphysik und das
Problem der Ontologie. Würzburg, 1986. S. 30—31.
О значении понятия «хронотоп», развитого в работах M. M. Бахтина, для
современной эпистемологии, см.: Л. А. Микешина. Значение идей
Бахтина для современной эпистемологии // Философия науки. Вып. 5:
Философия науки в поисках новых путей. М., 1999. С. 205—227. Со своей
стороны ученик Хайдеггера Райнер Мартен, развивавая хайдеггеров-
ский проект в направлении одновременно гуманитарной эпистемологии
и философской антропологии, связал переоткрытие человеческого
бытия в современной философии с «прощанием с утопическим
мышлением», имея в виду при этом, что критика идеалистической метафизики в
XX в. сама еще не вполне свободна от критикуемого — не только в
марксизме, фрейдизме и экзистенциализме Сартра, но также и у Хайдеггера;
см.: R. Marten. Der menschliche MenschÖ Abschied vom utopischen Denken.
Paderborn, 1988.
Ср.: D. Melde. Op. cit. S. 28· В этом отношении проект
«фундаментальной онтологии» (как и другие аналогичные проекты 1920-х гг.)
продолжали основную тенденцию «постидеалистической» философии —
поиски области конкретного опыта как возможного основания теории,
науки и философии» (Ibid. S. 31).
См. проект «эстезиологии духа» раннего X. Плесснера: Н. Plessner. Die
Einheit der Sinne: Grundlinien einer Ästhesiologie des Geistes. Bonn, 1923.
S. 14.
Отсюда и оправданность термина М. Тойниссена — «социальная
онтология» — в отношении экзистенциально-онтологических проектов «но-
190
Раздел первый. Переход
вого мышления» 1920-х годов; см.: М. Theunissen. Der Andere: Studien zur
Sozialontologie der Gegenwart. Berlin, 1965.
38 K.-O. Апель говорит (1954) о «фундаментальной переориентации
мышления» в связи с двумя импульсами, предшествовавшими этой
переориентации — «Логическими исследованиями» Э. Гуссерля (1990—1901) и
«герменевтикой жизни» Дильтея; оба этих направления
философствования еще до первой мировой войны сходились в «точке
диалектического оборачивания 19-го века» — оборачивания, радикализация
которого Хайдеггером в «Бытии и времени» имела «скандальный характер для
всей западной научной традиции»; см.: К.-О. Апель. Трансформация
философии. М.: Логос, 2001. С. 14, 21. Со своей стороны, П. Рикер,
пытаясь в 1960-е гг. дополнить хайдеггеровскую «онтологию понимания»
собственной «эпистемологией интерпретации», исходит из того же
события философско-гуманитарной революции, когда он характеризует эту
революцию, осуществленную в особенности Гуссерлем и Хайдеггером,
как «полное переворачивание отношений между пониманием и
бытием» и как реализацию «самого сокровенного желания Дильтея,
поскольку жизнь была для него главным понятием»; см.: П. Рикер. Конфликт
интерпретаций: Очерки о герменевтике (1969). М., 2002. С. 36—42 (раздел
«Прививка герменевтики к феноменологии»).
39 Программное сочинение Дильтея «Введение в науки о духе» (1883)
посвящено графу Йорку; переписка между ними, изданная в 1923 г., стала
событием и явно повлияла тогда на Хайдеггера. Подробнее о графе
Йорке, переписке с Дильтеем в связи с ранним Хайдеггером см.: И. А.
Михайлов. Молодой Хайдеггер // Он же. Цит. изд. С. 15—21.
40 Тем труднее подойти к Хайдеггеру с нашей стороны — изнутри
российского мира жизни, поскольку, в отличие от западноевропейских
научных и философских традиций, между нашим научным языком и нашим
повседневным языком почти такой же разрыв, как между публичной и
«неофициальной» речью в пределах российского «политического тела».
Это — следствие того, что «обмирщение» русского языка не состоялось
тогда, когда оно по-настоящему назрело. Цитируя перевод Кассельских
докладов, мы просто воспроизводим вариант А. В. Михайлова, который
передает «Dasein» как «бытие здесь».
41 Мартин Хайдеггер — Эрнст Кассирер. Семинар // Фауст и Заратустра.
СПб.: Азбука, 2001. С. 140.
42 Ср.: «Бессмысленно говорить о большем или меньшем бытии в
отношении фактического бытия. Муха, если она есть, имеет ровно столько же
бытия, сколько имеет его и бог; с точки зрения фактического бытия, в
этом вот дурацком примечании, которое я пишу сейчас, ровно столько
же бытия, сколько в глубокомыслии Спинозы, и в том же самом
смысле, в каком вопрос Гамлета: "быть или не быть" относится к
фактическому бытию. Фактическое бытие безразлично ко всем возможным
определениям сущности, как бы эти определения ни различались между со-
Перевернутая предпосылка
191
бою, и все, что существует, участвует в бытии без малейшей ревности.
Совершенно верно, что в идеале все выглядит иначе. Но пока я говорю
о бытии идеально, я говорю не о бытии, а о сущности (здесь и дальше
выделено в тексте. — В. М.). Высшая идеальность имеет свою
необходимость, поэтому она есть; но это "есть" обладает не бытием, а сущностью,
в силу чего такое "есть" не может стать диалектическими
определениями фактического бытия именно потому, что оно всего лишь "есть"; как
нельзя сказать и того, что бытие сущности имеет больше или меньше
бытия по отношению к какому-либо другому бытию» (С. Къеркегор.
Философские крохи (1843). Цит. по пер/ Д. С. Лунгиной; под ред. В, Л· Махли-
на; перевод сейчас подготавливается к изданию). О
«постидеалистическом мышлении», ведущем от позднего Шеллинга и Кьеркегора к
Гуссерлю и Хайдеггеру см.: Н. М. Schmidinger. Nachidealistische Philosophie und
Christliches Denken. Freiburg; München, 1985.
43 Эту мысль с большой ясностью выразил цитировавшийся выше К. Ф. Гет-
манн: «Философское значение Дильтеева обоснования наук о духе
заключается скорее не в том, что Дильтей равноправно ставит рядом с
ранее признанными науками еще один тип наук, а вместе с тем, рядом с
одним определенным идеалом познания (объяснение) — другой
(понимание, а в том, что устанавливаются феномены человеческой жизни,
каковые не относятся ни к природе (res extensa), ни к душе (res cogitans). В
таком подрыве научно-теоретического картезианства и состоит
решающий философский шаг Дильтея, признанный в последующее время в
качестве масштаба и задачи всеми научно-теоретическими подходами, в
особенности неокантианством и феноменологией, при всех их
различиях в частностях» (К. Ф. Гетман. Цит. соч. С. 31).
44 Об активных дискуссиях между Хайдеггером и теологами в Марбург-
ском университете в 1920е гг. см., в частности: Х.-Г. Гадамер. Марбург-
ская теология (1964) // Он же. Пути Хайдеггера. Минск: Пропилеи, 2007.
С. 38—54.
45 См.: Гегель. Философия права (1821). М.: Мысль, 1990. С. 56. О том же, как
известно, говорится и в предисловии к «Феноменологии духа» (1807).
46 Этот радикальный, или абсолютный, историзм, естественно, ставит под
вопрос и феноменологии как «строгую науку»: ведь даже «подлинная и
радикальная тенденция философии — феноменология — отмечена,
неисторичностью, враждебностью к истории, потому что полагала. Потому
что полагала, что может оттолкнуть от себя все бывшее прежде как ир-
релевантное и может изнутри себя самой себя прийти к вещам...» (180).
Следует отметить, однако, что как раз в 1920-е гг. и в следующее
десятилетие Э. Гуссерль, как известно, на свой лад вводит в феноменологию
историю, снова и по-новому пересматривая и релятивизируя научную
культуру Запада в особенности Нового времени, в значительной мере
отвечая на критику своего ученика.
192
Раздел первый. Переход
47 G. Misch. Vorbericht des Herausgebers (1923) // W. Dilthey. Gesammelte
Schriften. Bd. V. 2. unver. Aufl. Stuttgart; Göttingen, 1957. S. LVII; И. А.
Михайлов. Молодой Хайдеггер. Цит. соч. С. 27.
48 По-прежнему актуальный анализ неформальной встречи «элиты» и
«массы» в экзистенциальном сознании (прежде всего в России и в
Германии) в первой половине прошлого столетия можно найти в работе:
X. Арендт. Истоки тоталитаризма (1951). М., 1996. С. 407—450 (глава
«Бесклассовое общество»).
49 См.: Н. Arendt. Lectures on Kant's Political Philosophy / Ed· by R. Beiner.
Chicago, 1982. В дальнейшем я ссылаюсь на упоминавшуюся книгу «Между
прошлым и будущим», где в разделе «Кризис в культуре» X. Арендт
осуществляет (несколько опережая Гадамера) герменевтическое
переосмысление «Критики способности суждения» в направлении позитивной де-
центрации трансцендентального субъекта (и понятия «гения»), но с
более принципиальным, чем у Гадамера, поворотом философии к
социальной реальности и идеи «политического».
50 Arendt H. Between Past and Future. Op. cit. P. 217.
51 Ibid.
52 См. в этой связи вторую часть классического историко-философского и
историко-культурного труда ученика Хайдеггера К. Левита «От Гегеля
к Ницше», которая называется «Исследования по истории буржуазно-
христианского мира»: К. Левит. От Гегеля к Ницше: Революционный
перелом в мышлении XIX века (Маркс и Кьеркегор). СПб.: Владимир Даль,
2001. Самый оборот, если не термин: «буржуазно-христианский мир» —
не «классический» (идеалистический), но «гротескно-реалистический»
(по терминологии M. M. Бахтина); ведь имеется в виду не область идей
«вообще себе», но конкретно-историческую осуществленность идей
и идеологий «в-мире», в общественном бытии, в «христианском
обществе», как иронически выражался С. Кьеркегор.
53 М. Хайдеггер. Пролегомены к истории понятия времени (1925) / Пер.
Е. Борисова. Томск: Водолей, 1925. С. 21.
54 M. M. Бахтин. К вопросам методологии эстетики словесного творчества
(1924) // Он же. Собр. соч. Т. 1. М., ????. С. 282. О «культуре границ» и о
«кризисе авторства», когда различные деятельности и творческие акты
«уходят с границ», см.: M. M. Бахтин. Автор и герой в эстетической
деятельности (1922/23) // Он же. Собр. соч. Т. 1. ????? С. 257—261.
55 М. Heidegger. Ontologie (Hermeneutik der Faktizität) (1923). Gesamtausgabe.
Bd. 63. Frankfurt am Main, 1988. S. 41.
56 E. Spranger. Rickerts System // Logos. 12 (24). 1923. S. 198. См. также: F. Rodi.
Die Bedeutung Diltheys für die Konzeption von «Sein und Zeit». Op. cit.
S. Ill—112.
57 Таково, по Хайдеггеру, среди всего прочего, и традиционное определение
человека как animal rationale («разумного существа» или «разумного
животного»). Дело опять-таки не в том, что эта традиционная дефиниция
Перевернутая предпосылка 193
просто неверна; дела в том, что сама по себе, в своей отвлеченности, она
«скрывает почву созерцания, из которой она произросла» (М. Heidegger.
Ontologie (Hermeneutik der Faktizität). Op. cit. S. 28). Отчуждение
мышления от его «почвы созерцания» исторически и приводит — в качестве
не критически воспринятой традиции — приводит к тому
самоотчуждению мышления, которое, вероятно, и подсказало X. Ортеге-и-Гассет (см.
сноску 31) образ провинциала, одержимого манией величия и склонного
к так называемому «ресентименту».
M. Heidegger. Ontologie (Hermeneutik der Faktizität). Op. cit. S. 42.
M. Teunissen. Der Andere: Studien zur Sozialontologie der Gegenwart. Berlin,
1965. S. 10.
НЕЗАВЕРШЕННЫЙ ДАВОС—19^9*
(Э. Кассирер и М. Хайдеггер в разговоре)
Вопрос, направление которого я попытаюсь здесь
предварительно наметить, гласит: откуда притягательная сила так называемого
давосского диспута между Э. Кассирером и М. Хайдеггером (1929)
еще и сегодня? Или иначе: как понимать и как обсуждать встречу в
Давосе за пределами проблемной констелляции определенной эпохи,
сделавшей встречу возможной и навсегда придавшей ей
многозначительную конкретность, по терминологии Кассирера —
«символическую запечатленность»? Или еще иначе: какие позитивные
возможности для дискуссии по поводу давосского диспута дает временная
дистанция, отделяющая нас от 1929 г., — наша, по слову M. M.
Бахтина, «вненаходимость»?
Такая постановка вопроса представляется своевременной. В
самом деле: если Давос 1929 г. называют «ключевым» событием и
«конфликтом парадигм» в истории европейской культуры1, «фокусом»
философии XX в.2, «жгучей загадкой, которую не удается разгадать вот
уже более семидесяти лет»3, интеллектуальным столкновением,
сопоставимым с происходившим за четыреста лет до того спором между
Лютером и Цвингли в Марбурге4, если, наконец, треть выступлений
на нашей кассиреровской конференции посвящена Давосу, — то,
вероятно, есть резон задуматься о межконтекстуальной
непрерывности («сплошности»), мотивирующей эти и подобные оценки.
Мы, следовательно, спрашиваем о возможности онтологически-
событийного затекстау проникающего все контексты (как и
разрывы контекстов) и связывающего проблемную констелляцию да-
восской дискуссии с условиями возможности (или невозможности)
сегодняшней дискуссии о ней. Но и обратно: если интерес к давос-
скому диспуту сохраняет некую актуальность, значит, современная
Выступление на конференции "Философия естественных и гуманитарных
наук Кассирера и современность" (Институт философии РАН, Москва,
сентябрь 2004 г.)
Незавершенный Давос— 1929
195
ситуация в философии все еще как-то связана, если не привязана к
событию 1929 г. Такое направление вопроса указывает, как можно
заметить, на основную трудность историко-культурного и историко-
философского исследования вообще: каким образом происшедшее
в прошлом, единственное событие, по-видимому, завершившись, —
так сказать, отпав в форму и материализовавшись в тексте, — тем не
менее способно сохранять и даже обновлять свой собственный смысл
и значение в других, «несобственных» исторических контекстах или
констелляциях?
В научной литературе о давосском диспуте проблемы такого
рода тоже, конечно, затрагивались5. Не вполне проясненным и
обоснованным, однако, остается принципиальное направление вопроса:
ведь дело идет здесь о включении в предмет обсуждения нашей
собственной историчности с ее горизонтом и проблемной
констелляцией, с ее «избытком видения», по выражению Бахтина; как
практическая установка исследования такой подход еще нуждается в
подготовке, в предварительном обосновании. Поэтому, если я правильно
вижу, в новейших дискуссиях о диспуте между Кассирером и Хайдег-
гером покамест отсутствуют методически отчетливые
исследовательские подходы в интересующем нас направлении6.
В отношении оппонентов в Давосе можно повторить то, что
Микаэль Тойниссен сказал ретроспективно в 1960-е гг. если не о
философах вообще, то все же о мыслителях трансцендентально-
феноменолого-диалогического поворота («нового мышления», как
это называлось в 1920-е гг.). Начиная свое широко известное и часто
цитируемое монументальное исследование «Другой», посвященное
тому, что я условно называю сменой философско-гуманитарной
парадигмы в ситуации кризиса и конца Нового времени, М. Тойниссен
писал: задача заключается в том, чтобы выработать подход к тексту,
способный «защитить индивидуальность философов от последствий
их мышления»7.
Так вот: если в Давосе в 1929 г. в защите от исторических
«последствий мышления» нуждалось неокантианство (прежде всего в лице
учителя Кассирера — Германа Когена), то сегодня, похоже, духовно-
историческая констелляция снова радикально сместилась — как
бы перевернулась. К этому онтологически-событийному
опосредованию — одновременно и препятствию, и условию возможности
возобновления давосской дискуссии — я вернусь ниже в связи со
знаменитой предсмертной оценкой давосского разговора Францем Ро-
зенцвейгом в том же 1929 г. Сейчас важно прояснить методический
196
Раздел первый. Переход
ход, или подход, приступ или подступ — то, что по-немецки
передается труднопереводимым словом Ansatz, — который соответствовал
бы предлагаемой постановке вопроса. Как раз методическая
сторона дела интересует нас здесь в первую очередь: сегодня необходим
подход, с помощью которого можно было бы приблизиться к
реализации давно наметившейся, но методически еще не определившейся
тенденции — тенденции, перефразируя M. M. Бахтина, освободить
давосский разговор 1929 г. «из плена времени»8.
Парадокс философствования сегодня: мы по-прежнему
оглядываемся на минувший век, потому что все значительное в
философии «Конца Нового времени» — уже произошло; между тем
сегодняшняя духовно-историческая и философско-теоретическая
констелляция — радикально иная: все «парадигмы» в принципе
известны (из прошлого опыта), тогда как актуальная философская
проблема — мы говорим, соответственно, об определенном направлении
вопроса — оказывается, в сущности, невостребованной и
проблематичной. Ситуация, в которой с оглядкой на подавляющую
значительность философии XX в. говорят, например, о «феноменологии» или
о «герменевтике», но попытки продолжить или повторить сам
феноменологический или герменевтический подход к миру исторической
жизни почти не встречаются, — довольно точно характеризует
парадокс, о котором идет речь, и не только в философии. Отсюда, в
общеметодической перспективе, важность изучения взаимосвязи
«констелляций» — конкретно-исторических оплотнений или обстояний
объективного опыта, как предусловия того или иного субъективного
«участия» в нем, мыслительных и иных противостояний и «проти-
вочувствий», а равно и «конфликта парадигм» внутри исторического
времени-пространства («хронотопа»)9.
Задача историко-герменевтического исследования давосского
диспута, следовательно, состоит в том, чтобы «защитить» — отстоять
и утвердить — обоих участников разговора и друг от друга, и от самих
себя. Нужен подход, действующий не в обход сложившихся за многие
десятилетия клише (в том числе политизированных), а как бы сквозь
них10.
Философское содержание разговора 1929 г. должно быть понято
двусторонне: «в себе» — как определенная «символическая форма»,
преломившая и удержавшая в своей «запечатленности» то событие
бытия и ту проблемную констелляцию, которые необходимо
обусловили саму форму; и «вне себя» — как открытую форму
возвращенного и обновленного события, если угодно — как символическую
Незавершенный Давос— 1929
197
форму второй степени, открытую в двадцатом столетии
«герменевтической» философией, или «диалогическим» разумом11.
Пытаясь понять сегодняшние условия возможности разговора о
давосском разговоре, я исхожу из того, что проблемная констелляция,
обусловившая дискуссию 1929 г.: классический гуманизм свободы,
вдохновлявший традиционную эпистемологию — с одной стороны,
а с другой — экзистенциальное отклонение от классического «мы», а
вместе с этим новое открытие необъектного, неидеалистического я и
абсолютной историчности истории через онтологическую деструкцию
западной метафизики, — что это событийно-онтологическое
напряжение давосского диспута, во-первых, изменилось радикально, а во-
вторых, наоборот, восстановилось «перевернувшись». Это можно
назвать перевернутой реституцией прошлого.
Но если это так, то каким образом можно обсуждать и оценивать
событие в Давосе с учетом изменения всей научной и инонаучной
ситуации, о котором мы говорим?
Для того чтобы ориентировать этот вопрос исторически,
вспомним знаменитый отклик на давосский диспут одного из
инициаторов так называемого диалогического мышления, немецко-
еврейского религиозного мыслителя Франца Розенцвейга в его
предсмертной заметке того же 1929 г. «Фронты, поменявшиеся местами»12.
По мысли Ф. Розенцвейга, это Хайдеггер, — а не ученик
Германа Когена Кассирер, — подлинный наследник экзистенциально-
религиозного выхода «позднего» Когена за пределы теории познания
Марбургской школы и — шире — за пределы греческой метафизики
от Парменида до Гегеля; Хайдеггер в этом смысле — подлинный
выразитель «тенденции философской современности», которую Розенц-
вейг видит в открытии и защите смертного «индивида» по ту сторону
как научного, так и религиозного идеализма Нового времени. Тот
факт, — ошибочно замечает Розенцвейг, — что Хайдеггер занимает
теперь, в 1929 г., кафедру в Марбурге, где прежде был Коген, — это
заслуженная «ирония история». «Фронты поменялись местами»,
собственно, означает: дело Когена — религиозный дух иудейства и
христианства в истории, чуждый идеализму и теоретизму, — дух
смертного, конечного человеческого существа, — перешел теперь к
оппонентам неокантианства как «школы» (которую по-своему перерос и
Кассирер):
Пережившие «школу» продолжатели ее — не Кассирер! — хотят
сделать из мертвого учителя мэтра школы. Побуждаемая живою жиз-
198
Раздел первый. Переход
нью история духа лишает их возможности вести себя по-ученически;
истории нет дела до таких притязаний, и она — ведь мертвый Сид
снова на коне — меняет фронты местами. Школа с ее мэтром
умирает; учитель жив13.
Можно понять, почему Хайдеггер, познакомившись лишь
в 1960-е гг. с розенцвейговской заметкой, в своем несколько
вызывающем духе демонстративно проигнорировал ее, уличив автора в
отмеченной выше фактической ошибке14. Дело, конечно, не в ней: Ро-
зенцвейг, при всей новизне его, не раз сопоставлявшейся с хайдегге-
ровской, программы «нового мышления»15, как это часто бывает, сам
еще слишком зависим от «старого» (традиционного) мышления, в
особенности от своего же главного философского оппонента —
Гегеля с его эпистемологическим оптимизмом мирового духа «на коне».
Именно это представление в том же 1929 г., но уже после давосской
встречи и после смерти Розенцвейга подверглось объективной
«деструкции» самою историей и на внешнеполитическом уровне, и на
более глубоком уровне предпосылок, казалось бы, уже
происшедшего, достигнутого «прорыва в мышлении» в период после Первой
мировой войны16.
«Тенденция философской современности», как и вся научно-
инонаучная объективная констелляция давосского диспута,
изменилась и «переставилась» к началу двадцать первого столетия настолько,
что мы вправе констатировать: «фронты, поменявшиеся местами»,
поменялись снова, причем не менее радикально и парадоксально,
чем в 1920-е гг. А именно: «конфликт парадигм» между научным,
или эпистемологическим, идеализмом, с одной стороны, и «новым»,
экзистенциально-онтологическим мышлением, сделавшим своим
предметом до-научные, до-теоретические (конечно-исторические)
предпосылки и презумпции всякого мышления и, следовательно,
всякой «символической формы», с другой стороны — конфликт этот
завершился относительным провалом обоих фронтов. Это видно
сегодня по тому, кто и как опирается и ссылается в одних случаях на
Кассирера, в других — на Хайдеггера.
Основная констелляция «фронтов» в современной философии,
как можно заметить, обусловлена конфликтом между новой
эпистемологией и той деконструктивистской радикализацией хайдеггеров-
ской позитивной «деструкции» западной «theoretische Einstellung»,
которая заявляет о себе под лозунгом или под клеймом так
называемого «постмодерна». Хотя эпистемологи-сциентисты могут иногда
Незавершенный Давос— 1929
199
ссылаться на автора «Философии символических форм», а декон-
структивисты — на автора «Бытия и времени», как раз в горизонте
нашей сегодняшней «вненаходимости» проблемной констелляции в
Давосе очевидно, что Кассирер и Хайдеггер гораздо ближе друг другу,
чем к своим пост-пост-современникам.
Оппонетов в Давосе, думается, сближает общее событие смены
философско-гуманитарной парадигмы, о котором упоминалось
выше; филолог Эрих Ауэрбах, автор знаменитого «Мимесиса»,
говорил в 1950-е гг. (ретроспективно) о «практическом семинаре по
мировой истории», «кайросе понимающей историографии» в первые
десятилетия XX в.17 Вне опыта «практического семинара по мировой
истории» сегодня невозможно адекватно понять и оценить не только
хайдеггеровский, или розенцвейговский, или бахтинский поворот в
философии в начале 1920-х гг., но и кассиреровский выход за пределы
рационалистически-когнитивного мышления в те же годы.
Из сказанного следует парадоксальный, на первый взгляд, вывод:
для того чтобы снова и по-новому приобщиться или «подключиться»
к проблематике Давоса за пределами Давоса, необходимо, в то же
время, заново вернуться в пределы проблемной констелляции 1929 г.
На этом пути целесообразно в качестве исходного пункта
ориентироваться на два прозвучавших в Давосе аргумента — один
кассиреровский, другой хайдеггеровский, — которые, явным образом,
обладают методически-герменевтическим потенциалом для анализа
самого давосского диспута.
Кассирер в начале разговора, отстаивая позицию главы марбург-
ского неокантианства Г. Когена (ограниченность которой — в
ситуации 1920-х гг. — ему самому, однако, слишком очевидна) говорит:
ориентация Когена на теорию познания, естественнонаучно
понятую, не исчерпывает суть дела; Коген «не просто эпистемолог»; и
он, Кассирер, в своем дальнейшем развитии от учителя не отступался:
«Статус математического естествознания является для меня только
парадигмой, а не философской проблемой в ее целостности»18. Это
соображение, понятое в направлении давосской дискуссии в ее целом,
приобретает примерно следующий вид: обе противостоящие одна
другой позиции в Давосе нужно попытаться понять не как «только
парадигмы», т. е. некоторые узнаваемые и как бы общепонятные,
исторически объектные, уже состоявшиеся творческие формы мысли —
скажем, «неокантианскую» или «экзистенциалистскую»; обе позиции
заново должны быть осознаны как более углубленные «философские
проблемы».
200
Раздел первый. Переход
Но, правда, для того чтобы кассиреровское
противопоставление «парадигматического» и «проблемно-философского»
мышления в философии могло «зазвучать» в другом (современном)
контексте, необходимо освободить его от определенного
ограничения. Философская проблема в ее классическом — сиречь духовно-
идеалистическом — виде только предметна (т. е. имеет одно
направление — на предмет мысли). В пределах идеализма — все равно,
«научного» или «религиозного», — теряется имплицированное в любой
предметно взятой проблеме напряжение вопроса. Именно потому,
что проблемы в истории философии можно мыслить без углубления
в различные культурные эпохи, которые их по-разному мотивируют
и ограничивают, тогда как вопросы, наоборот, в различные времена
и в различных констелляциях принципиально по-разному ставятся
и по-разному «звучат», — поэтому важно для «спасения» кассире-
ровского аргумента прислушаться к хайдеггеровскому доводу в
конце диспута19.
Поясняя свое понимание «конечности» человеческого
существования в «более глубоком» смысле, чем традиционное, к которому в
основном склоняется его оппонент, Хайдеггер говорит: «Повторить
вопрос Платона не значит вернуться к ответам греков»20.
Сегодня, для того чтобы повторить вопрос Хайдеггера о
«конечности» человека и человеческого познания и «спасти» позицию
Хайдеггера в Давосе в нашу эпоху (т. е. для нас), представляется
актуальным освободить хайдеггеровскую мысль от ее собственных
несколько демонических, «пугающих» обертонов. Слишком легко
отшатнуться от неоромантически-экспрессионистских оборотов автора
«Бытия и времени», проигнорировав совершенно позитивное (а при
определенном изменении перспективы — «светлое») существо хай-
деггеровской оценки «конечности человека», как, впрочем, и более
поздней характеристики «гуманизма»21.
В заключение скажу, что следующий шаг в направлении вопроса,
которое я пытался здесь проблематизировать, как мне кажется,
заключает в себе возможность расширения и обогащения кассиреров-
ского концепта «символической формы» как некоторого завершения
с помощью разработанной в особенности в герменевтической
традиции концепта события, в принципе незавершенного и в этой своей
смысловой незавершенности нуждающегося в коммуникативном
перемещении в другую, новую проблемную констелляцию истории и
историчности.
Незавершенный Давос— 1929
201
Примечания
Cassirer—Heidegger: 70 Jahre Davoser Disputation / Hrsg. von Dominic Kaegi
und Enno Rudolph. Hamburg, 2001. S. 5, 7. (В дальнейшем ссылки на это
издание маркируются : Disputation, с указанием страниц.)
Gründer Karlfried. Cassirer und Heidegger in Davos // Über Ernst Cassirers.
Philosophie der symbolischen Formen / Hrsg. von Hans-Jürg Braun, Helmut
Holzhey und Ernst Wolfgang Ort. Frankfurt a. M., 1988. S. 290.
Кравченко А. А. Кассирер и Хайдеггер на Волшебной горе. Цитирую
работу А. А. Кравченко по ненапечатанной рукописи (С. 4) с любезного
разрешения автора.
Blumenberg Hans. Affinitäten und Dominanzen // Ders.: Ein mögliches
Selbstverständnis. Aus dem Nachlass. Stuttgart, 1997. S. 165.
Так, например, К. Грюндер ставит в конце упоминавшейся статьи вопрос:
«Что остается от Давоса?» — и, отвечая на него, подчеркивает, среди
прочего, необходимость «постоянно вскрывать и удерживать
непрерывности (Kontinuitäten) опыта — и вопреки, и благодаря историческим
разрывам» (см.: Gründer К. Op. cit. S. 303). Со своей стороны Освальд Швеммер
в одной из лучших статей цитировавшегося сборника материалов
конференции, посвященной 70-летию давосского диспута, еще ближе
подходит к нашей постановке вопроса, когда говорит о назревшей
потребности заново продумать «движущие мотивы дискуссии за пределами ее
полемического контекста, в котором дело шло о собственной позиции
оппонентов и, тем самым, о победе или поражении» (см.: Schwemmer О.
Ereignis und Form. Zwei Denkmotive in der Davoser Diputation zwischen
Martin Heidegger und Ernst Cassirer // Disputation. S. 65).
Преобладающая в последние десятилетия литература о Давосе — грубо
говоря, про- и пост-кассиреровская — за редкими исключениями
избегает герменевтической постановки вопроса и постольку остается в русле
«философии духа», то есть научного идеализма классического образца и
обусловленной им концепции «символической формы».
Theunissen M. Der Andere: Studien zur Sozialontologie der Gegenwart.
Berlin, 1965. S. 10.
См.: Бахтин M. M. Собр. соч.: В 7 т. T. 6. M., 2002. С. 456. Это —
нашумевший, но малопонятый пассаж (1970), развивающий — в полемике со
Шпенглером (аналогичной полемике с ним Розенцвейга и Хайдеггера) —
идею дистанции во времени, отделяющей нас от других эпох, как
предпосылку «большого времени». M. M. Бахтин — единственный русский
мыслитель, вошедший философски в XX в. и, в частности, возможный
участник давосской встречи, хотя фактически пребывавший весной 1929 г.
под арестом в Ленинграде, одновременно с выходом в свет его книги о
Достоевском.
Термин «констелляция» в историко-философских (герменевтических)
исследованиях последнего времени {Konstellationsforschung) обознача-
202
Раздел первый. Переход
ет — в отличие от значения этого термина в астрономии — такую
«конечность» исторического опыта (его, говоря языком Дильтея,
«структурную взаимосвязь»), анализ которой позволяет вскрывать
необъектные — и постольку «открытые», «незавершенные» — смысловые
возможности, казалось бы, уже объективировавшихся, так сказать,
отпавших в прошлое исторических эпох, вопросов, проблем и «языков». См.
в этой связи репрезентативную работу известного исследователя
немецкого идеализма Дитера Хенриха: Henrich D. Konstellationen: Probleme und
Debaten am Umsprung der idealistischen Philosophie (1789—1795)·
Stuttgart, 1991. M. M. Бахтин примерно в том же смысле разбирает и
описывает «проблемную констелляцию» в философии и гуманитарных науках
первой трети XX в. и процесс «перемещения доминанты» в понимании
«формы» в искусстве (см.: Медведев П. H. (M. M. Бахтин). Формальный
метод в литературоведении. Л., 1928. С. 60), а в 1930-е гг. выдвинул
концепцию «хронотопа» в историко-культурном «воображении» как
своеобразное решение проблемы, которую обсуждают Кассирер и Хайдег-
гер, — проблему кантовской «трансцендентальной эстетики».
10 Попытки задним числом политизировать — и постольку «объяснить» —
давосский диспут обычно приводят к резкому упрощению (и
погашению) проблематики и смысла «конфликта парадигм». Дело не в
недооценке политического измерения, а в методической трудности включить
в обсуждение также и это измерение, избегая односторонности и
однозначности. Сегодня, когда происходит новый очередной и очень
резкий выход за пределы политизированных и облегченных представлений
об историческом прошлом, в литературе о давосском диспуте особенно
бросается в глаза методическая «нестыковка» разных смысловых
измерений, казалось бы, одного и того же события.
11 Соответствующие ходы мысли в немецкой традиции XIX—XX вв.
связаны с такими концептами, как «познание познанного» (А. Бек),
«возобновленное понимание» (В. Дильтей) или «слияние горизонтов» (Г.-Г. Га-
дамер). В русской философской культуре XX в. аналогичный подход к
миру культуры изнутри исторического мира жизни (онтологии «бытия-
события») разрабатывал M. M. Бахтин.
12 См.: Rosenzweig Ε Vertauschten Fronten (1929) // Ders. Gesammelte
Schriften. Bd. III / Hrsg. von R. und A. Mayer. Dordrecht, 1984. S. 235—237. См.
также: Wiehl Reiner. «Vertauschten Fronten», Franz Rosenzweigs
Stellungnahme zur Davoser Disputation // Disputation. S. 207—214.
13 Rosenzweig F. Op. cit. S. 237.
14 Карлхайнц Грюндер в цитировавшейся выше статье о давосском
диспуте вспоминает о том, как отреагировал Хайдеггер на заметку Розенцвей-
га, копию которой Грюндер переслал Хайдеггеру в 1960-е годы «.. .должен
признать, — отмечает К. Грюндер, — что я был опечален (traurig):
Хайдеггер, поблагодарив за пересылку копии, добавил к этому только одно:
Розенцвейг, мол, допустил ошибку насчет кафедры Марбургского уни-
Незавершенный Давос— 1929
203
верситета; если хотите, я могу установить это с полной точностью,
подняв документацию...». См.: Gründer К. Op. cit. S. 301.
См. сокращенный перевод этой работы: Франц Розенцвейг. Новое
мышление. Несколько дополнительных замечаний к «Звезде спасения» (1925) /
Пер. В. Л. Махлина // Философия культуры. М.: ИНИОН РАН, 1998.
С. 7—27.
С этим обстоятельством, по-видимому, связано многозначительно-
глухое замечание Хайдеггера (недавно занявшего кафедру Гуссерля во
Фрайбурге) в письме 1930 г. к Гадамеру: «Все рушится» («Es kommt alles
ins Rutschen»). См.: Gadamer H.-G. Die Kehre des Weges // Ders,
Gesammelte Werke. Bd. 10. Tübingen, 1995. S. 74. См. также: Diputation. S. 72.
Auerbach £. Philologie der Weltliteratur (1952) // Ders. Gesammelte Aufsätze
zur romanischen Philologie. Bern, 1967. S. 303. Э. Ауэрбах (опиравшийся в
своих работах на Э. Панофского, в свою очередь опиравшегося на Э. Кас-
сирера) говорит в этой поздней своей статье об утрате «чувства
исторической перспективы», которое было характерно для гуманитариев его
поколения.
Давосский диспут цитирую здесь по переизданию единственного пока
русского перевода В. Литвинского с англоязычной версии протокола, как
известно, сделанного во время дискуссии И. Риттером и О. Ф. Больно-
вым. См.: Мартин Хайдеггер — Эрнст Кассирер: Семинар // Фауст и За-
ратустра. СПб.: Азбука, 2001. С. 131.
Вспомним в этой связи пожизненную полемику Гадамера
(«перебежавшего», как известно от своих учителей-неокантианцев к Хайдеггеру) с
почтенной, но не- и анти-историчной неокантианской концепцией
истории философии как «истории проблем».
Мартин Хайдеггер — Эрнст Кассирер: семинар. С. 140.
Хайдеггер и сам говорит: «Философия, обращаясь ко всему в человеке,
так же как и к его высочайшим устремлениям, призвана раскрыть эту
конечность более глубоко» (Цит. соч. С. 141). Гюнтер Фигаль, один из
серьезных и авторитетных исследователей хайдеггеровской философии,
начинает свою монографию о Хайдеггера со следующего
принципиального утверждения: для того чтобы лучше понять хайдеггеровскую мысль
о «бытии», методически лучше вообще отказаться от употребления
этого термина. См.: Figal G. Martin Heidegger zur Einführung 3. Aufl.
Hamburg, 1999. S. 8.
ПЕРЕХОД
(Комментарий на послание
Г. Г. Гадамера «К русским читателям»)*
Принцип современной герменевтики гласит примерно
следующее:
Всякий предмет, с которым имеет дело гуманитарий (и философ
как гуманитарий), — это, строго говоря, совсем не предмет и даже
не текст, а скорее такой «затекст», такая объективная смысловая
фактичность мира жизни, или историчность «другого», что ко всему
этому как-то надо еще суметь подойти, подступиться. «Подход»,
«подступ» или «приступ» (Ansatz), намечающий — в качестве
исходного пункта — путь исследования и «самопонимания»
(Selbstbesinnung), здесь означает: по возможности сдерживая и контролируя как
бы естественный навык опережающего обобщения перед лицом того,
что и как говорит «другой», — философ, филолог, историк, т. е.
работающий в горизонте так называемой «духовной истории»
(Geistesgeschichte), принужден поставить под вопрос свои же собственные
мыслительные предрассудки, или доминанты, весь свой
«горизонт ожидания» (Erwartungshorisont), свой, так сказать, интенцио-
нальный рефлекс предвосхищения смыслового целого. Иными
словами, исследователь-гуманитарий должен помыслить и осознать то
самое, что в его или ее мышлении, сознании, субъективности
«выходит за себя» (как сказал бы М. Бахтин) и составляет — если
вспомнить глубокомысленное словечко позднего Шеллинга, само
нуждающееся в комментарии, — нечто «предшествующее мышлению» (das
Unvordenkliche)].
Это фундаментальное правило герменевтической методики,
правильность которого не может быть гарантирована никаким сколь
угодно научным методом, инициатор современной гуманитарной
* В основу очерка положено выступление на конференции, посвященной
актуальным вопросам философского наследия Г.-Г. Гадамера, в Институте
философии РАН (декабрь 2003 г.).
Переход
205
эпистемологии Ганс-Георг Гадамер (1900—2002) передает в одной из
поздних своих статей (1989) следующим образом:
Мы ищем разговора не только для того, чтобы лучше понимать
Другого. Скорее так, что когда мы хотим что-то сказать, а Другой
должен нас понять, нам самим грозит омертвение (Erstarrung) наших
понятий. (...) Именно тогда, когда мы пытаемся понять Другого,
мы осуществляем герменевтический опыт, в процессе которого мы
должны сломить сопротивление в нас самих, если хотим услышать
Другого как Другого1.
Спросим так: какие условия возможности и условия
невозможности нужно тематизировать для того, чтобы сегодняшний разговор
о Гадамере — разговор, который для отечественной философии после
советского века оказывается, увы, опоздавшим и преждевременным в
одно и то же время, — мог реально включиться именно в гадамеров-
скую герменевтическую концепцию истории бытия и истории
философии как «разговора»?
Или, может быть, еще так: возможен ли разговор о
«герменевтическом опыте» изнутри нашего собственного исторического опыта
и языка понятий, где и когда «разговор», «герменевтический опыт»,
тематизация своей собственной, превышающей всякое я
«историчности», вообще не принадлежат к сфере «науки» (как ее у нас
понимают)?
Или еще иначе: какое и зачем нужно «сломить сопротивление в
нас самих», если мы хотим услышать и понять именно Гадамера —
«другого как другого»?
При таком осознании проблемы (трудности) и при такой
постановке вопроса мы, собственно, оказываемся перед гадамеровской (и
хайдеггеровской) гуманитарно-философской новацией, существо
которой — в радикальной историзации самого познающего предметный
исторический опыт «субъекта», его или ее ситуации, а также — в
«применении» (Anwendung) познанного не только к познаваемой
реальности и историчности, но и к собственной историчности и
реальности. Методически, таким образом, герменевтическая практика и
задача выходят далеко за пределы так называемой «интеллектуальной
истории», того, что называют «историей идей» {history of ideas). Это,
пожалуй, самое непривычное (а то и вовсе неприличное) с точки
зрения не вообще науки и философии, но совершенно
определенного типа, или парадигмы, науки и философии — «апофантического»
логоса и логики, выражаясь языком хаидеггеровски-гадамеровскои
206
Раздел первый. Переход
традиции мышления, а выражаясь на более понятном нам языке —
научного идеализма.
В нашем конкретном случае, в исхождении из нашей
собственной духовно-исторической «отсюдашности» — если
позволительно перевести-передать так, в рабочем порядке, хайдеггеров-
скую «заброшенность»/«вброшенность» (Geworfenheit) «вот-бытия»
/ «присутствия» (Dasein), — герменевтическое «применение», как
кажется, должно быть понято двояко. А именно: как понятие и как
реальность понятия в горизонте советско-постсоветской
исторической «отсюдашности». Сразу отметим: эта двусторонность, или дву-
направленность, мышления осуществляется, во-первых, в
направлении предмета и его понятия, во-вторых — в направлении нашей
собственной, «предшествующей мышлению» бытийной
историчности. Наш М. М. Бахтин, переводя во второй половине 1920-х гг.
собственную немарксистскую мысль на внешний официальный
язык понятий советского марксизма, называет такую
герменевтическую двусторонность, или двунаправленность, мысли — «двойным
зеркалом»:
Человеческая мысль никогда не отражает только бытие объекта,
который она стремится познать, но вместе с ним отражает и бытие
познающего субъекта, его конкретное общественное бытие. Мысль —
это двойное зеркало, и обе стороны его могут быть и должны быть
ясными и незатуманенными3.
Синхронный историко-философский контекст этой мысли в
Германии и в России — «критика сознания» как одного сознания,
как «монологизма»4. В этом смысле ключевые мыслители смены
философско-гуманитарной парадигмы в 1917—1923 гг. — Э.
Гуссерль и М. Хайдеггер, Л. Витгенштейн, Ф. Розенцвейг и О. Розеншток-
Хюсси, М. Бубер, М. Бахтин — продолжают и радикализуют
«постидеалистический» «перелом в мышлении» XIX в., осуществленный
Фейербахом, Кьеркегором, Марксом и Ницше на путеводной нити
критики поздним Шеллингом «негативной философии» до Гегеля и
себя (раннего) включительно5. Именно в этом пункте «новое
мышление» (das neue Denken) или, скажем так, философия после
Шпенглера делает некий радикальный шаг, вне контекста и затекста
которого современная философия гуманитарных наук вообще не очень
понятна, особенно в своем разговоре-споре-разбирательстве
{Auseinandersetzung) с «историцизмом» или, по Гадамеру, «историческим
сознанием», включая так называемый исторический материализм.
Переход
207
* * *
Ниже я попытаюсь помыслить «предшествующее мышлению» в
наших сегодняшних, запоздало-преждевременно-постсоветских
усилиях войти в магистальный философский разговор прошлого
столетия, где нас, ненаучно выражаясь, почти «не стояло», в жанре того,
что представляется мне «герменевтическим комментарием». Такой
комментарий тоже в своем роде «двойное зеркало», а именно —
попытка пробиться к другому как другому, ломая сопротивление этому
усилию в нас же самих. В данном случае задача, к счастью, более
скромная и относительно выполнимая; то, что предлагается, даже
не комментарий, а скорее конспект комментария к одному
высказыванию Гадамера. Я имею в виду его поздний текст — автокомментарий
по поводу собственного философского пути, в котором создатель
герменевтической философии в первый и практически в последний раз,
в исторически единственный момент, так сказать, «второй встречи на
Эльбе» между русским и западным мирами вокруг 1989 г., —
обращается к нам. Я имею в виду присланное из Гейдельберга в 1990 г.
маленькое (неполных две страницы петитом) предисловие Гадамера
к первому изданию его статей на русском языке. Это обращение по-
гадамеровски деловито, просто и непросто, начиная уже с заглавия:
«К русским читателям»6.
В этом, кажется, самом кратком из всех его самоистолкований
90-летний философ говорит примерно следующее (считаю
целесообразным не столько цитировать, сколько перевести-передать-
пересказать с русского на русский — «своими словами», но сохранив
ключевые обороты автора, выделенные жирным шрифтом):
Дорогие русские читатели! Получив теперь довольно-таки
неожиданную для меня и, вероятно, для Вас тоже, возможность
познакомиться с некоторыми моими kleine Schriften, имейте, пожалуйста,
все время в виду, как минимум, одну, правда, важнейшую,
решающую вещь. А именно: то, что Вы, если захотите, может быть,
прочтете здесь, — это не только и не просто один вот такой автор — HGG,
как я подписываю, например, предисловия в каждом томе моего
собрания сочинений, которое выходит сейчас у нас в Германии. Нет,
дорогие русские читатели, моя мысль и вообще все, что я продумал
и написал за свою жизнь, — все это совершенно непонятно,
извините, извне, то есть вне представления и понимания некоторого
решительного поворота — события в немецкой (а отсюда уже — и во
208
Раздел первый. Переход
всякой другой) философии, события, в котором я, среди многих
других, тоже участвовал и о котором я должен здесь сказать.
Поворотное философское событие двадцатого столетия, дорогие
русские читатели, произошло, и не могло не произойти, именно в
Германии, то есть, собственно, у наследников классической
немецкой философии и, шире, у наследников великой германской науки.
Почему? Потому что только там, где наука, сама идея науки, была
тем, чем она была у нас, — а в немецкой культуре XIX века
преобладал дух науки, которому и обязана она своим всемирным
значением, — только у нас, немцев, гордых своей наукой, можно было
в XX веке по-настоящему экзистенциально пережить, научно
осознать и религиозно-покаянно признать именно границы и
ограниченность науки по сравнению, например, с романским культурным
кругом, в котором мышление не страдает в такой мере, как в
Германии, схоластичностью и, несомненно, ближе по своим
традициям к гуманитарной культуре слова, к общественно-политическому
миру, ко всей широте жизненного мира и его оправдания — по ту
сторону науки и научности Нового времени, все менее
заинтересованных в таком оправдании и признании.
Вот почему выход за пределы науки должен был означать для
Германии нечто совсем иное, чем в романском, или, скажем,
англосаксонском, или, возможно, славянском культурном круге. Дело
шло, в сущности, о малопонятном вне немецкой научной культуры
событии. Я имею в виду шаг, совершенный Гуссерлем и Хайдег-
гером, а также теми, кто учился у них. Как, в самом сжатом виде,
определить этот шаг, то есть то самое поворотное событие, о
котором, дорогие русские читатели, я здесь пытаюсь сказать? Пытаюсь
сказать, потому что верю в диалог, в способность людей, несмотря
ни на что, находить общий язык и понимать друг друга, что
означает ведь самое трудное. А труднее всего — это поставить себя под
вопрос перед лицом того, что и как говорит Другой; труднее всего
осознать и признать, что не худшее, а вот именно лучшее во мне
самом заключает в себе историческую ошибку и неправду, и, как
следствие, — внутреннее омертвение, неспособность отвечать и быть
ответственным за нашу конечность в современном мире. (Теолог здесь
мог бы сказать больше и компетентнее, чем я.) Теперь, дорогие
русские читатели и коллеги, Вы лучше поймете основную мысль
этого моего короткого предисловия, если то важнейшее событие, или
шаг, на фоне которого я просил бы понимать все, что Вы прочтете в
этой книге моих статей, мы здесь, пользуясь важнейшим понятием
Гуссерля, опишем или обозначим как переход от мира науки в мир
жизни...
Переход
209
О каком все же событии ведет речь Гадамер?
Как раз изнутри нашего исторического опыта, нашего, как
выражался А. В. Михайлов, «само собой разумеющегося», я думаю, нет
выхода к «переходу», о котором говорит здесь Гадамер. Для понимания
«Другого как Другого», — у нас почти нет, на сегодняшний
постсоветский день, своих слов, то есть своего языка и своих глаз;
предпринятый мною перевод-пересказ в лучшем случае как-то проблемати-
зирует суть дела (конкретную проблему «разговора» с Гадамером, как
другим для нас), но все-таки в эту суть не вводит. Остается некая
обширная духовно-историческая трудность — какая-то
непереводимость филологически, наверно, безупречно переведенного текста.
Трудность, которую нужно осознать, — подчеркнем это снова, —
находится или имеет место не «перед» нами (как некоторый пред-мет,
Gegen-stand), a «за» нашим мышлением; то, что нужно представить
и помыслить, — непредумышленно, непредставляемо, то есть
исторически «предшествует» мысли самой в нас же самих, в том внутренне
другом во мне же самом, что стоит — в качестве «предрассудков» по
Гадамеру, в качестве «доминант» по А. А. Ухтомскому — между мною
и реальным Другим в событии с миром и «в мире» разговора7.
В самом деле: если мы присмотримся изнутри нашей
предрассудочной «отсюдашности» к гадамеровскому обороту: «переход от
мира науки к миру жизни», которым в комментируемом обращении
к «русским читателям» обозначено центральное, поворотное и
магистральное событие в западноевропейской (прежде всего — немецкой)
философии XX в.; если мы, по-гадамеровски выражаясь, приведем
свои предрассудки «во взвешенное состояние», — то мы заметим
некую принципиальную внеположность или невписываемость самого
этого оборота в наш мотивационно-исторический (предрассудочно-
доминантный) затекст, или «мир», наших понятий. Ведь само
противопоставление: «наука» — «мир жизни» воспринимается у нас
традиционно совсем не в том смысле, не на том языке мышления, не в том,
как сказал бы М. Бахтин, «теле смысла», в котором и из которого
говорит Гадамер, пытаясь в первом приближении вступить в разговор с
«русскими читателями».
В наш традиционный понятийно-языковой мир, где на одном,
так сказать, полюсе с религиозно-атеистическим пафосом говорят о
«науке» (отсекая все, что ею не ухватывается), а на другом полюсе
вещают в романтико-идеалистическом духе образца 1800 г. о
«духовности» (прямо или косвенно, опять-таки нигилистически отвергая
в борьбе с «нигилизмом» и науку, и философию как суемудрие, как
210
Раздел первый. Переход
враждебный жизни и вере вопрос вместо единственного, раз навсегда,
ответа на все вопросы...), — вот на этом нашем апперцептивно-
диалогизующем фоне мы пытаемся теперь вступить в разговор,
услышать «другого как другого», и значит, «сломить сопротивление в нас
самих» вот этого самого предрассудочно-доминантного фона
сознания и мышления.
Пытаясь в дальнейшем очень предварительно прояснить суть
«поворота» и «перехода», о которых писал Гадамер, я постараюсь
обосновать — в перспективе обновления того, что можно назвать
Übersetzungsgespräch russisch-deutsch, — два тезиса:
Во-первых, «переход от мира науки к миру жизни» можно, как
мне кажется, понять лучше, если иметь в виду, действительно,
магистральный сюжет, или «событие», которое можно определить как
смену философско-гуманитарной парадигмы в научно-гуманитарном
мышлении в XX веке.
Во-вторых, смена философско-гуманитарной парадигмы в том
смысле, в каком Гадамер определяет, как мы помним, «решающий
поворот» в философии XX века, — в русской философии не имел места
ни в так называемом научно-материалистическом, ни в так
называемом религиозно-идеалистическом мировоззрении-мечтательстве «о
главном».
Для понимания магистрального сюжета в западной
философии XX в. у нас до такой степени все еще отсутствует
упоминавшийся фон, что во исполнение мрачного пророчества А. Ф. Лосева в
конце 1920-х гг., практически нет исторически адекватного подхода
также и к русским проектам или программам «решающего поворота»,
о котором говорит Гадамер8.
«Переход», или, как я это называю-перевожу, «смена философско-
гуманитарной парадигмы», — это такое событие, которое, строго
говоря, произошло в общем для Запада и России общеевропейском
историческом пространстве примерно между 1917 и 1923 годом.
Именно тогда, на волне «невиданных перемен», во всех сферах
исторического опыта, как сказано в прологе романа Т. Манна «Волшебная
гора» (1924), «началось столь многое, что потом оно уже и не
переставало начинаться»9.
В оставшееся время я сперва поясню оба высказанных тезиса, а
затем остановлюсь на трех аспектах смены философско-гуманитарной
парадигмы в целом и специально в герменевтической философии —
языковом, логическом и этико-религиозном. Все эти три аспекта
более или менее явно представлены в гадамеровской концепции
Переход
211
«герменевтического разговора», в частности в приведенном позднем
высказывании, в котором задача «услышать Другого как Другого»
стоит в прямой связи с необходимостью преодолеть «омертвение»
именно собственного, исторически сложившегося языка понятий, —
подход или подступ, который, как можно заметить, — по ту сторону
диалектической игры в отрицание-утверждение в отношении
«другого», меня самого и исторического опыта.
Смена философско-гуманитарной парадигмы — это «переход»
или обращение самой научной философии, теоретического
мышления — к до- и вненаучным, к до- и внетеоретическим основаниям
мышления в историческом опыте «мира жизни».
В этом смысле, при всей критике Гадамером В. Дильтея в
«Истине и методе» (1960), — критике, которая, как известно, сама была
позднее подвергнута критике и вынудила автора (как и в случае его
оценки Ф. Шлейермахера) корректировать свою позицию10, — га-
дамеровская «герменевтическая философия», при всем своем
сущностном отличии от более традиционной «философской
герменевтики»11, тем не менее продолжает, в духе раннего Хайдеггера, именно
дильтеевскую программу «критики исторического разума»12.
Пересказ-передача-перевод гадамеровского слова «поворот» в
качестве «смены философско-гуманитарной парадигмы», как мне
хочется думать, позволяет (несмотря на недостаток такого перевода, о
чем скажу ниже) более правильно ориентировать наши собственные
представления и суждения о западной философии XX в., в смысле
того фона понимания (Гуссерль называл его «апперцептивным»,
M. M. Бахтин, с опорой на Гуссерля, — «диалогизующим»), который у
нас покамест почти отсутствует. Гуссерль, Шелер, Хайдеггер, Плесснер,
X. Ортега-и-Гассет, Ф. Эбнер, Ф. Розенцвейг, О. Розеншток-Хюсси,
Бубер, Г. Марсель, Г. Миш, Г. Липпс — вот, по-видимому, ключевые
европейские мыслители «поворота», смены парадигмы в понимании
исторического опыта (в отличие от так называемых опытных наук).
Для всех перечисленных мыслителей характерен и показателен
выход за пределы того, что ранний Хайдеггер называл «theoretische
Einstellung», а его младший русский современник Михаил Бахтин —
«теоретизмом», то есть мышлением «как если бы меня не было», «гно-
сеологизмом всей философской культуры XIX и XX вв.»13.
Позитивно во всех случаях речь шла о «постидеалистической»
тематизации и проблематизации не просто «бытия» или
«реальности», но именно об открытии исторического бытия, исторической
реальности в их дифференцированной категориальной фактичности.
212
Раздел первый. Переход
С этим была связана и критика «метафизики» — такого обобщенного
представления обо «всем», в котором это «всё» оказывается больше
того, что входит в само это переведенное немецким идеализмом с
греческого понятие (das AU)14.
К мыслителям «поворота», несомненно, относится и по времени,
и по существу также и Л. Витгенштейн, которого, тем не менее, я не
отношу в полной мере к названным выше философам по совершенно
определенной и достаточно очевидной причине. Философское
мышление инициатора аналитической традиции, получившей развитие
в особенности в «стране номинализма» (как выражался в таких
случаях Гадамер), само будучи исторически мотивировано в центре
Европы и в те же самые решающие годы во время и после Первой
мировой войны (то есть само продуктивно обусловленное
историческим опытом), не ставит самой проблемы истории и «историчности»,
определяющей именно для немецкой философской магистрали XX в.,
до Гадамера включительно. Традиция философско-гуманитарного —
и постольку исторического — мышления, в котором, по
характеристике В. Дильтея, «минувшее выступает как момент сегодняшнего
исторического сознания», действительно, является немецкой по
преимуществу15.
В этой связи я позволю себе указать на одну очень важную
особенность некоторых мыслителей «поворота» — особенность, которая
для самого Гадамера текстуально не характерна, но как тенденция и
перспектива, как философский горизонт не может быть отмыслена от
его собственного «герменевтического поворота».
Для таких философских монстров, как «Звезда спасения»
Франца Розенцвейга (начата в окопах на македонском фронте в 1917;
опубл. 1921), переосмыслившего историю философии «от ионийцев
до Йены» (т. е. от Фалеса до Гегеля); как замысел молодого М.
Бахтина невельско-витебского периода (1919—1924), включавший
радикальный пересмотр западной философской традиции, от
Платона до неокантианцев, во всех сферах «нравственной
действительности (реальности)», от эстетики до политики и религии; как
пятитомный замысел М. Бубера, из которого вышла маленькая
книжка «Я и Ты» (писалась вокруг 1919, опубл. 1923); как эстетико-
политико-теологический трактат молодого Г. Лукача «Достоевский»,
от которого сохранилось только введение — знаменитая «Теория
романа» (1914—1916; опубл. 1920); наконец, как «Бытие и время» Хай-
деггера (1926—1927), — все это более или менее осуществленные
замыслы, которые, с одной стороны, представляют собою попытки
Переход
213
осмыслить западноевропейскую историю по ту сторону как
гегелевской, так и шпенглеровской метафизики, а с другой — попытки по-
новому осмыслить философию в ее истории по ту сторону и
«философии истории», и более традиционной «истории философии».
С этим явным образом связана и хайдеггеровская, исторически
позитивная, идея «деструкции» западной метафизики как
возвращения и обновленного понимания философии в ее истории. Как бы
через голову так называемых традиций европейской философии мы
возвращаемся к источникам этих традиций, к подлинникам (для
молодого Хайдеггера этот подлинник — Аристотель, для Гадамера — и
Аристотель, и платоновский диалог); «исток» традиции богаче,
интереснее самих традиций, в которых исток ослаблен, если не забыт16.
В период смены философско-гуманитарной парадигмы XX в.
совершается настолько же глубокий сдвиг в историческом
мышлении (и, конечно, в самой истории), как это было и в 1790-е годы,
то есть в период формирования германского идеализма и
романтизма. В перечисленных глобальных замыслах, которые неизбежно
оказываются в большей или меньшей степени фрагментами, дело
идет о тенденции — само время истории, все традиции помыслить
как бы единовременно, синхронически. В этом отношении
упомянутые замыслы про «всё» обнаруживают определенное сходство
с соответствующими явлениями литературы XX в. тех же самых
нескольких лет17.
Эрих Юрьевич Соловьев сказал на защите моего
диссертационного доклада «Философская программа M. M. Бахтина и смена
парадигмы в гуманитарном познании» (15 января 1998 г.):
«(...) как давно надо было об этом подумать, как давно в самом
общем виде это надо было зафиксировать, что помимо смены
парадигмы в естественных науках (чему в последнее время посвящено,
наверно, четверть нашей научно-методологической литературы),
несомненно, происходила смена гуманитарной парадигмы в последней
трети XIX и в первой половине (да и по сей день) XX столетия»18.
Скажу так: почти невозможно было «подумать», практически
некому — «зафиксировать». И самый оборот: «смена философско-
гуманитарной парадигмы», которым я здесь пытаюсь передать то, о
чем говорил Гадамер, увы, слишком сам еще зависим от привычного
нам языка понятий и в этом смысле не вполне адекватен; ведь
«переход от мира науки к миру жизни», понятно, гораздо шире сферы
истории (естественной) науки, где Т. Кун, как известно, ввел понятие
«смена парадигмы».
214
Раздел первый. Переход
Феномен, который я здесь пытаюсь тематизировать, не мог быть,
как кажется, адекватно даже замечен в нашей философии; и здесь я
возвращаюсь ко второму своему тезису, который теперь можно более
пространно формулировать так:
Как раз в годы смены философско-гуманитарной парадигмы — в
России, судя по всему, произошел радикальный разрыв исторической
преемственности, рассечение вследствие которого обе
мировоззренческие крайности русской духовно-идеологической культуры —
«научно-материалистическая» и «религиозно-идеалистическая» —
оказались, как все более обнаруживается, вне магистрального
сюжета западноевропейской философии XX в. «Переход от мира науки
к миру жизни» оказался для нас исторически почти упущен, а потому
и непонятен «в тексте», где только по наивности (как подчеркивает
Гадамер) нам кажется, будто «все сказано» и, следовательно, может
быть понято.
Ни советская метафизика «науки и техники», радикализовавшая
гносеологическую гордыню Нового времени, ни русская
философская эмиграция, замкнувшаяся от мира жизни исторического
становления, в значительной степени подменившая историчность
мышления платонизирующими (и постольку вне- и антихристологиче-
скими) тенденциями, — не могут в нашей постсоветской ситуации
быть продуктивным фоном исторической ориентации наших
сегодняшних попыток «философствования» (Pholosophieren). To, что Хай-
деггер, имея в виду своего учителя неокантианца Г. Риккерта, назвал
в своем фрайбургском курсе «Герменевтика фактичности» (1923)
«платонизмом варваров» (Piatonismus der Barbaren)19, относится, по-
видимому, не только к советскому гносеологизму
естественнонаучного образца, который Ф. Степун называл однажды «большевистским
неоплатонизмом», а Г. П. Федотов (имея в виду своеобразную
почвенность русского коммунизма) — «новой богословской школой»; утрата
исторической почвы, ставшая уделом философской эмиграции,
сделало ее в значительной мере нечувствительной к тому выходу за
пределы неокантианства в философии и буржуазного либерализма XIX в.
в идеологии, с которыми Гадамер неоднократно связывал
зафиксированный им «переход»20.
Немарксистская дореволюционная русская научная философия,
в общем, остановилась на неокантианстве. Федор Степун, этот, как
говорит подружившийся с ним Гадамер, «прирожденный актер» и
ученик Виндельбанда, замечательно имитировавший в 1923 г. во
Фрайбурге манеру Гуссерля говорить на лекции и представлявший
Переход
215
его в виде «обезумевшего часовщика», но совершенно безразличный
к тому, о чем Гуссерль, собственно, говорит, — это не плохой пример,
если не символ, «остановки», о которой идет речь21.
Назову три больших проблемных комплекса, в направлении
которых, как мне кажется, возможно возобновление того «русско-
немецкого диалога», о котором писал в связи с А. В. Михайловым
С. С. Аверинцев22.
Во-первых, — это проблема языкау которая связана с
упоминавшейся трудностью — «непереводимостью» речевого мышления таких
мыслителей, как М. Хайдеггер или даже Гадамер. Причин этой
металингвистической непереводимости, на мой взгляд, две. С одной
стороны, у нас нет, как отмечал еще Пушкин, собственного
«метафизического языка»: научный и философский язык у нас в значительной
степени — не наш, а заемный (и постольку сакрализован и
принципиально, идеологически отодвинут от стихии того, что М. Бахтин
называл «житейской идеологией», от повседневного и неофициального
языка речевого общения и поведения). Немецкий язык философии,
если я не ошибаюсь, значительно ближе к «миру жизни» в силу того,
что заемная (латинская и греческая) терминология в значительной
степени уравновешена в нем собственно немецкими синонимами или
эквивалентами. Достаточно указать на такое важное в контексте
немецкой герменевтики от Шлейермахера до Гадамера понятие, как
«диалог»: этому греческому слову в немецкой философской речи
традиционно соответствует «das Gespräch»; русское же слово «разговор» (я
это не раз проверял на своих студентах и аспирантах — не говорю
о наших философах) вообще не воспринимается как слово
научного языка или жанра речи, в отличие от иноязычного (и постольку,
так сказать, официально-научно-возвышенного, греческого) слова
«диалог».
С другой стороны, — и это действительно «другая сторона» того
же самого, — «переход от мира науки к миру жизни» в известной
мере оставил нас без языка (и, соответственно, вне мотивированного
смысла) магистрального философского разговора прошлого
столетия; переход от языка «строгой науки» (до неокантианства
включительно) к до- и инонаучному языку понятий оказывается
проблематичным еще и сегодня23.
«Переход от мира науки к миру жизни» означает существенное
расширение горизонта «внимания» науки; отсюда известная
216
Раздел первый. Переход
переоценка и риторики, и поэтики в XX в., значимых для философии
в самой своей «другости». Когда Гадамер в цитируемой статье
говорит: «Ни чистого восприятия, ни чистого высказывания не
существует» (17), то это, очевидным образом, означает: невозможно
«чистое» (утопическое) высказывание, асоциальное и аисторичное;
«герменевтическая логика» — это логика жизненного мира в его
продуктивной конечности, или «ситуативности»; это «донаучная» логика,
у которой учится в XX в. научная философия, осознавшая свои
границы и, более того, некую свою вину перед жизнью. Тем самым мы
подошли к третьему проблемному узлу «поворота», о котором хочет
сказать Гадамер. Это, возможно, самый трудный и деликатный
момент, поскольку он имеет не всегда проговариваемый, но тем более
серьезный, «христологический» аспект «метанойи», «покаяния» в
буквальном смысле «перемены ума». Вспомним: если мы захотим (и
только так) понять «Другого как Другого», мы должны прежде всего
пойти, в известном смысле, наперекор себе, своему я, которое,
вопреки всем романтическим и идеалистическим представлениям,
склонно ведь отнюдь не к «общению», а, наоборот, к самодовлению и
самоутверждению.
В духовно-историческом плане, как мы помним, Гадамер ставит
под вопрос не слабую, а, наоборот, самую сильную сторону
«германского духа» — науку и ее детище в науках о духе — «историзм».
Здесь — целая тема, которую я просто назову и чуть-чуть
прокомментирую как возможный предмет исследования.
Это значит, среди прочего, еще и вот что: попытки разоблачить
«нацизм» Хайдеггера — часто лицемерны и лживы, но не потому, что
они ни на чем не основаны, а потому что основания здесь — совсем в
иной — не публичной, а «диалогической» — плоскости. Не Хабермас,
а Гадамер дал подлинный ответ автору «Бытия и времени» и
«Самоутверждению германского университета», «Неторным тропам»,
которые «никуда не ведут». Коммунисты, марксисты и прочие
благодетели человечества и асы публично-риторического дискурса (на
Западе и у нас), которые сегодня, разумеется, уже не за «революцию», а
за «демократию» и «культуру» (перестроились), никогда не признают
своей вины и ответственности за 1933 год по причине почти полной
религиозной нечуткости в соединении с умением быть «в струе» при
всех поворотах так называемых общественных идеалов.
(Классический резкий пример здесь, конечно, — Лукач; более же типична схема,
намеченная в частном письме Хайдеггера, возмущенного книгой о нем
его бывшего ученика Карла Левита: последний, с горечью и иронией
Переход
217
замечает Хайдеггер, в 1929 году был «самый красный», а теперь он
стал христианином и занимает кафедру в Гейдельберге; в 1920-е годы
Левит узрел в «Бытии и времени» «скрытую теологию», а теперь он
то же самое именует «атеизмом», опираясь на якобы общепонятный
смысл этого слова.)
Почему это важно?
Самое печальное и тревожное в постсоветской духовно-
идеологической ситуации, не исключая, конечно, и философию, —
это разрыв исторической преемственности, настолько глубокий и,
похоже, необратимый, что все оказываются правы, по
замечательному русскому выражению, «как ни в чем ни бывало». Ясно, что
«обрести историческое сознание» в этой ситуации оказывается почти
невозможно; новоявленная «религиозная философия» (и даже
«религиозная филология») в этом отношении, как ни странно на первый
взгляд, совершенно сходится с противоположной крайностью —
превращенными постмодернистскими формами революционной
аннигиляции прошлого как «предыстории человечества». В философии
так называемый дух времени менее заметным образом дает о себе
знать, как можно заметить, в попытках возобновить феноменологию
в отталкивании от герменевтики, то есть, фигурально выражаясь, —
оставшись где-то на уровне 1-го тома «Логических исследований» (не
случайно, надо полагать, 2-й том не был переведен на русский язык до
революции) и отчасти «Идей I».
Из всего сказанного понятно, что подлинный разговор о Гада-
мере и с Гадамером сегодня почти вовсе еще невозможен в России.
Ведь мы сами — независимо от нашего «рефлексивного сознания» (на
которое не могут не ставить постмарксисты, постгуманисты и наши
новые христиане в постсоветской ситуации) — сами еще не свободны
от той действенной истории советского века, которая действует в
нас как условие невозможности такого разговора.
В сегодняшней ситуации конца разговора минувшего века,
чудовищно-комического размывания всех подлинных вопросов как
бы вдруг лопнувшего на наших глазах и в нас самих столетия —
ставить заново вопрос о «разговоре» не просто; и слово
«герменевтика», как известно, заболтано и «засмыслено» (как выражался
M. M. Пришвин) почти так же, как слово «диалог»; и риторика «конца
истории», ни научно, ни религиозно для герменевтики
неприемлемая, — не только риторика, конечно. Нужно осознать до конца
подспудный драматизм ситуации, когда и где мы пытаемся, как можем,
218
Раздел первый. Переход
возобновить «русско-немецкий диалог». В этих наших попытках
обращения к Дильтею и Хайдеггеру, Гуссерлю и Гадамеру, а равно и к
собственным «Платонам и Невтонам», — согласимся, нет никакой
«объективной необходимости» в старом «научном», сиречь
мифологическом смысле; приходится, «отрабатывая» не пройденное
историческое прошлое, довольствоваться более скромной «внутренней
необходимостью»: если мы захотим... Теперь, когда все иллюзии
начала 1990-х годов оставлены, мы понимаем: у нас нет никакой
гарантии, но у нас есть некий шанс, какая-то все же историческая
возможность. Она, эта возможность, состоит, как мне кажется, в том,
чтобы на самом деле «понять другого как другого»; ведь только так,
говорит нам Гадамер, можно впервые увидеть себя именно там, где я
могу перерасти себя, не предавая, но и не щадя себя, — там, где,
вопреки пост-пост-пост-современной нераскаянности, невменяемости
и «отвязности», для философствующего все же еще возможна —
«перемена ума».
Примечания
1 «Это совершенно замечательное немецкое слово, — читаем в статье
нашего автора "Герменевтика и онтологическое различие" (1991). —
Волшебство этого слова коренится в том, что в нем улавливается
подлинное дуновение того, что, опережая движение, упреждает и предшествует
ходу мысли, но при этом всякий раз сызнова приходит к тому, что
больше уже невозможно забежать мыслью за представление или за то, из чего
мышление исходит. Вот это и есть "предшествующее мышлению"
Каждый человек что-то знает об этом. Теолог сумел бы сказать об этом
лучше, чем я». См.: Gadamer H.-G. Gesammelte Werke. Bd. 10: Hermeneutik im
Rückblick. Tübingen, 1995. S. 64. В том же смысле, но резче, чем Гадамер,
отталкиваясь от того, что он называет «помрачением разума
идеализмом», толкует das Unvordenkliche Ойген Розеншток-Хюсси (1888—1973),
посвятивший этому слову выразительное вступление к одному из
разделов своей двухтомной работы «Язык рода человеческого». Ср.: «Ведь
в этом сама сущность сознания — включаться слишком поздно.
История как свидетельство — не сказочка: в ней происходит лишающее
всякой устойчивости потрясение моего первого сознания. История имеет
своею темой предшествующее мышлению (das Unvordekliche) — то,
следовательно, представление чего мне самому недоступно» (см.: Rosen-
stock-Huessy £. Die Sprache des Menschengeschlechts· Zweiter Band.
Heidelberg, 1964. S. 205.) В историко-философском отношении das Unvordekliche
указывает на позднего Шеллинга как инициатора
«постидеалистического» поворота в философии, продолженного в XX в. Гуссерлем и Хайдег-
Переход
219
гером. См. об этом: Theunissen Michael. Die Idealismuskritik in Schellings-
theorie der negativen Philosophie // Ist systhematische Philosophie möglich? /
Hrsg. Von Dieter Heinrich. Bonn, 1977. S. 173—191; Heinrich M. Schmidinger.
Nachidealistische Philosophie und christliches Denken: Die Frage nach der
Denkbarkeit des Unvordeklichen. Freiburg; München, 1985, (Из
существующих вариантов перевода das Unvordenkliche корректным представляется
перевод Ε. Борисова, которым я здесь и пользуюсь; см. осуществленный
им перевод: Ф. В. Й. Шеллинг. Система мировых эпох: Мюнхенские
лекции 1827—1828 гг. в записи Эрнста Лассо. Томск: Водолей, 1999.)
Gadamer H.-G. Op. cit. S. 70.
См. Волошинов В. H. Фрейдизм // M. M. Бахтин (под маской). M.:
Лабиринт, 2000. С. 113. В обратном переводе на аутентичный язык социально-
онтологической программы Бахтина (программы «первой философии»)
та же мысль приобретает отчетливый герменевтический облик; ср.: «Акт
должен обрести единый план, чтобы рефлектировать себя в обе стороны:
в своем смысле и в своем бытии, обрести единство двусторонней
ответственности: и за свое содержание (специальная ответственность), и за
свое бытие (нравственная), причем специальная ответственность
должна быть приобщенным моментом единой и единственной нравственной
ответственности». — Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 1. М., 2003. С. 8.
Ср. начало статьи Гадамера «Философские основания XX века»:
«Философская ситуация нашего столетия восходит в конечном счете к той
критике понятия сознания, начало которой было положено Ницше» (см.: Га-
дамер Г. Г. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991. С. 16).
Понятие «сознания», которое подразумевает одно сознание как необходимое
и достаточное для понимания действительной историчности сознания,
Бахтин называет «монологизмом», имея в виду навыки мышления как в
философии, так и во всех сферах духовно-идеологической культуры
Нового времени. Ср. философски ключевое место в обоих (1920-х и 1960-
х гг.) изданиях его книги о Достоевском (глава «Идея у Достоевского»):
«Эта вера в самодостаточность одного сознания во всех сферах
идеологической жизни не есть теория, созданная тем или другим мыслителем,
нет — это глубокая структурная особенность идеологического
творчества нового времени, определяющая все его внешние и внутренние
формы». — Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 6. М., 2002. С. 93.
См.: Левит К. От Гегеля к Ницше: Революционный перелом в
мышлении XIX века. СПб., 2002. Однажды в разговоре с либеральным
коллегой старшего поколения я сказал о необходимости критики идеализма,
за что получил мягкий упрек: достаточно, мол, у нас критиковали
идеализм в советское время. Но если бы эта критика была основательной,
то сегодняшнее «возрождение» идеализма было бы невозможным, как,
впрочем, и догматизация марксизма прежде и теперь.
Гадамер Г.-Г. К русским читателям // Он же. Актуальность прекрасного.
С. 7—8.
220
Раздел первый. Переход
Столь существенная для герменевтической философии концепция
«предрассудка» — не как ограничивающего свободу мышления, но как
условия возможности мышления, условия, позитивность которого тем
не менее не гарантирована, — как мне кажется, находит свое
соответствие в концепции «доминанты» А. А. Ухтомского (1875—1942),
именно в антропологическом и религиозном аспектах этой концепции,
развивавшихся Ухтомским, что понятно не в официальных трудах по
физиологии, а в письмах, записных книжках, дневниках и т. п. (преимущественно
в 1910—1920-е гг., т. е. на генеральной и гениальной стадии «смены
парадигмы» как в естественнонаучном, так и в гуманитарном мышлении). См.
в особенности письма А. А. Ухтомского к Е. И. Бронштейн-Шур 1927—
1928 гг., в которых он развивает (с опорой на Достоевского) свои теории
«заслуженного собеседника», «двойника» и т. п. См: Ухтомский А. А.
Интуиция совести. СПб., 1996. С. 248—293.
В предисловии к «Очеркам античного символизма и мифологии»,
датированном 5 апреля 1928 г., А. Ф. Лосев писал: «(...) и русские люди будут
читать немцев, не понимая и не зная, что это было у нас гораздо раньше
и притом гораздо значительней и богаче, но что разные "условия"
спокон веков мешают нам быть самими собою и разрабатывать свои же
собственные, своим жизненным опытом выношенные идеи. Что же тут
делать и кому жаловаться ?» (см.: Лосев А. Ф. Очерки античного
символизма и мифологии. Т. 1. М.: Издание автора, 1930. С. 4.). «Читающие
немцев» русские люди, оторванные от собственно исторического
опыта, — это о нас. Лосева можно понять, но еще важнее, как мне кажется,
понять другое. Нет сомнения, что «может собственных Платонов / И
быстрых разума Невтонов / Российская земля рождать». Но здесь есть одна
тонкость, которая относится к тому, что Гадамер называет
«герменевтическим опытом»: наших собственных «Платонов» и «Невтонов» мы
можем осознать только на фоне не-наших Платона или Ньютона; вне
этого (западноевропейского) фона у нас бы их не было, даже если бы они у
нас были. Поскольку ни Дильтей, ни Гуссерль, ни Хайдеггер, ни другие
мыслители смены философско-гуманитарной парадигмы в русскую
научную философию не вошли, то у нас нет и адекватного фона для
осознания и признания аналогичных явлений в русской мысли XX в.
См.: Манн Т. Собр. соч.: В 10 т. Т. 3. М.: ГИХЛ, 1959. С. 8. (Манн, кстати,
тоже говорит здесь о «повороте».) В историко-философской связи
релевантным представляется указание Микаэля Тойниссена, который в
известном исследовании «Другой» называет период между 1917 и 1923 гг.
ключевым для возникновения как «трансцендентального» (Гуссерль,
Хайдеггер, Сартр), так и «диалогического» (М. Бубер, Ф. Розенцвейг,
О. Розеншток-Хюсси, Г. Марсель и др.) поворота в европейской
философии — поворота, который М. Тойниссен обозначает понятием
«социальной онтологии». См.: Theunissen M. Der Andere. Berlin, 1965. В те же
несколько лет начала 1920-х гг. складывалась и философская программа
Переход
221
M. M. Бахтина, который, как и его старшие западные современники,
исходил из и отталкивался от неокантианства.
10 Укажем в этой связи на позднюю статью 1991 г. «Герменевтика и
школа Дильтея» (1991), которая представляет собою рецензию на книгу
Ф. Роди «Познание познанного» (1990). См.: Gadamer H.-G. Op. cit. Bd. 10.
S. 185—205.
11 См.: Vedder Ben. Was ist Hermeneutik? Ein Weg von der Textdeutung zur
Interpretation der Wirklichkeit. Stuttgart etc., 2000. Различие между более
традиционной «философской герменевтикой» (Шлейермахер—Дильтей)
и «герменевтической философией» XX в. (Хайдеггер—Гадамер) Б.
Ведер, нидерландский теолог и философ, видит в том, что первая имеет
дело преимущественно с текстами, вторая же — с сущим и с человеком
как «герменевтическим существом», каковым он становится у Хайдег-
repa(S. 10—11).
12 Об изменении хайдеггеровской оценки Дильтея и причинах этого
изменения см., в частности: Heribert Boeder, Dilthey «und» Heidegger: Zur
Geschichtlichkeit des Menschen // Dilthey und der Wandel des
Philosophiebegriffs seit dem 19. Jahrhunderts. Freiburg; München, 1984. S. 161—177.
13 Бахтин M. M. Собр. соч. Т. 1. М., 2003. С. 160. С последующей критикой
«гносеологического сознания — сознания науки»: последнее «не может
иметь вне себя другого сознания, не может вступить в отношение к
другому сознанию, автономному и неслиянному с ним»; поэтому
гносеологическое сознание в принципе не имеет границ, и «проблемы
завершения сознания нет для гносеологии» (Там же. С. 161).
14 Насколько и русская философская мысль еще до революции в известной
мере осознавала задачу «преодоления метафизики» на немарксистских
путях, свидетельствует следующее соображение молодого Б. Грифцова,
так объяснявшего попытки В. Розанова пробиться от отдельных
интуитивных проникновений к метафизическим откровениям, «приручив»
реальность: «Всякую метафизику, как систему понятий, притязающих на
общеобязательность, ждет та же участь. Будет ли то материализм,
марксизм или христианская метафизика — они все равным образом
создаются людьми, уверенными в возможности познания в понятиях
огромных полей жизни, и всегда их ждет одно и то же наказание за эту
уверенность — наказание — в виде полной логической случайности их систем».
См.: Грифцов Б. Три мыслителя: В Розанов, Д. Мережковский, Л. Шестов.
М., 1911. С. 39.
15 «(...) германский дух, в отличие от духа английского или
французского, живет сознанием исторической преемственности (...). Отсюда
историческая глубина германского духа, в которой минувшее выступает как
момент сегодняшнего исторического сознания». См.: Дильтей В.
Введение в науки о духе (1883) / Пер., под ред. В. С. Малахова. М., 2000. С. 405.
16 Понтер Фигаль, один из многочисленных учеников Гадамера писал в этой
связи: «Хайдеггер принял всерьез исторический характер философии;
222
Раздел первый. Переход
ему было ясно, что философия, игнорирующая свою традицию, остается
ниже своих возможностей уже потому только, что она игнорирует свою
зависимость от традиции». См.: Figal Günther. Martin Heidegger zur
Einführung. 3. verb. Aufl. Hamburg, 1999. S. 8.
17 См. в этой связи известную работу американского критика: Джозеф
Фрэнк. Пространственная форма в современной литературе (1945) / Пер.
B. Л. Махлина // Зарубежная эстетика и теория литературы. М.: МГУ, 1987.
C. 194—213. Ср. также в различных литературно-философских работах
M. M. Бахтина анализы «вертикального хронотопа», универсальных
попыток Данте, а в Новое время Достоевского «раскрыть мир в разрезе
чистой одновременности и сосуществования (неприятие исторической
"заочности" осмысливания)» (Бахтин М. М. Формы времени и хрото-
па в романе // Он же. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 308).
18 См.: Диалог. Карнавал. Хронотоп. Витебск, 1998. № 2. С. 188.
19 Heidegger M. Ontologie (Hermeneutik der Faktizität) (Gesmtausgabe. Bd. 63).
Frankfurt a. M., 1988. S. 42.
20 Большой интерес в этом отношении представляют приводимые и
проанализированные Н. С. Плотниковым в работе «С. Л. Франк и М. Хай-
деггер (Вопросы философии. 1995. № 12) суждения известных русских
философов-идеалистов о Хайдеггере. Эти суждения поражают своею
узостью и исторической нечуткостью; это почти в равной мере
относится к Н. А. Бердяеву, С. Л. Франку или Н. О. Лосскому. Особенно
показательно впечатление Лосского: его высказывание о Хайдеггере, хотя
и граничит, по наблюдению Н. С. Плотникова, с "абсурдом", но, тем не
менее, Лосский правильно видит (хотя и неправильно интерпретирует
видимое). Лосский верно заметил снижающий, прозаический,
обыденный характер хайдеггеровской мысли, ее направленность на «мир
жизни»; по Лосскому, это и ставит хайдеггеровскую мысль ниже «идеалов»;
советское обратно-богословское мышление на свой лад оказывается
совсем не так далеко от такого «идеализма». Но особенно важно указание
Н. С. Плотникова (в связи с С. Л. Франком) на явный и скрытый
платонизм русских религиозных философов — при игнорировании в
христианстве как раз христологии (Цит. изд. С. 184, прим. 35). Чем,
спрашивается, оказывается значительная часть русской религиозной философии, до
Лосева включительно, перед выводом, которым Гадамер завершает свою
философскую автобиографию: «Платон вовсе не был платоником (Platon
kein Platoniker war), и философия — это не схоластика»? (См.: Gadam-
er H.-G. Gesammelte Werke. Bd. 2: Hermeneutik IL Tübingen, 1993. S. 508.)
21 См. воспоминания Гадамера о Гуссерле в кн.: Edmund Husserl und die
Phänomenologische Bewegung / Hrsg. von Hans Rainer Sepp. Freiburg;
München, 1988. S. 14. Примечательно, что после Первой мировой войны
и Русской революции в Германии 1920-х гг., в отличие от довоенных лет,
совсем не видно русских. Создается впечатление, что, помимо
неокантианства («погибшего в окопах первой мировой войны», как не перестает
Переход
223
напоминать Гадамер), последним значительным событием западной
философии в новейшей истории русской философии был «Закат Европы»
О. Шпенглера. Во всяком случае, русских учеников и продолжателей
Гуссерля и Хайдеггера в решающие 1920-е гг., похоже, просто не было; нам
сегодня, по сути дела, приходится начинать почти на пустом месте, с
начала без начала. Вот почему, наверно, нас так мало в этом зале.
Аверинцев С. Путь к существенному // Михайлов А. В. Языки
культуры. М.: Языки рус. культуры, 1997. С. 7. Значительными участниками
«диалога с Германией» в русской философии С. С. Аверинцев считает
Н. А. Бердяева, Г. Г. Шпета, А. Ф. Лосева и M. M. Бахтина. Аверинцев,
говоря об А. В. Михайлове, не счел нужным говорить о существенном
разрыве между упомянутыми мыслителями и нашей
«постсовременностью», начавшейся в 1960-е гг. Следствием этого разрыва (окончательно
«овнешнившегося» в постсоветской ситуации) было то, что
относительными продолжателями «диалога с Германией» в советский век оказались
у нас не столько «философы», сколько «филологи» в широком смысле
слова — историки культуры, переводчики и т. п.
Понятие «диалог», почти обесценившись и обессмыслившись в
последние годы в публицистике, тем более ассоциируется с «философией», а
вовсе не с «миром жизни».
Это нетрудно заметить по тому, как, скажем, наши аспиранты
пересказывают (на семинарах или в диссертациях) немецких философов: вплоть
до Виндельбанда и Риккерта дело обстоит более или менее гладко; но как
только приходит черед Шелера или Хайдеггера, речевое мышление
просто обрывается (срывается в историческую пропасть).
ЦЕЙТБ/ЮМ ПОСЛЕ /1ЕВЕРКЮНА
(Г.-Г. Гадамер и контекстуализация разума)
Переобраицение
То, о чем пойдет речь в этом очерке, напоминает о «браке
Филологии и Меркурия», но не аллегорическом — вроде изображенного
Марцианом Капеллой на исходе античности1, — а скорее
эпистемологическом. Имеется в виду взаимодействие или, если угодно, «новый
диалог» между философией и историко-филологическим
исследованием. Посредством такого взаимоотношения и взаимодействия в
Конце Нового времени произошло, можно сказать, переобращение
устойчивого мировоззренческого мотива Нового времени — «спора
древних и новых».
«Переобращение», как представляется, имело (и все еще имеет)
место постольку, поскольку, дойдя до относительного конца пути, до
современной гуманитарной эпистемологии, мы вновь оказывается в
начале пути, а именно — внутри напряжений, о которых говорилось
в очерке о Вико и его противостоянии Декарту.
Этот «новый диалог» состоялся в экзистенциальную эпоху
(первые десятилетия XX в.); в структуралистскую эпоху (десятилетия
холодной войны) он стал действенно-историческим фактом и
фактором гуманитарно-философских исследований повсеместно, но уже
в отрыве от конкретно-исторической ситуации своего порождения
(от «революции»). Сегодня, в «нулевые» годы, так называемые
результаты предшествовавшего развития не то чтобы забыты; они
(употребляя компьютерную метафору) почти «зависли». Но это «почти» все
же кое-чего стоит.
На наших глазах происходит более или менее стихийное
возвращение или обращение к «экзистенциальным» мотивам и
проблемам — при том, однако, что ничего подобного экзистенциально-
онтологической революции первых десятилетий XX в. в
современных условиях, конечно, случиться или состояться не может.
Импульсы этой как бы стихийной тенденции заслуживают отдельного
Цейтблом после Леверкюна
225
рассмотрения; здесь важнее другое. Упомянутое обращение должно
быть понято и сориентировано научно-философским исследованием
как некоторая осознанная задача, исторически мотивированная в
направлении нового старого переобращения. В этом смысле мы
говорим о «гуманитарной эпистемологии» — термин не столько
«оригинальный», сколько «своевременный» в общей ситуации «после
постмодернизма»2.
Крах гегельянско-марксистской «диалектической» модели
истории не есть, конечно, просто аргумент «против» — ни против
истории, ни против диалектики, ни против идеи развития, ни против
Гегеля или Маркса. Наоборот новое очередное обращение
исторического опыта — это своевременный и тоже заслуженный вызов
мышлению, которое почитало себя «передовым», но в действительности
было провинциальным анахронизмом, одержимым манией величия,
а ныне — одержимо тем специфическим комплексом
экзистенциальной обиды на историю, в котором отсутствует личностная диф-
ференцированность и ответственность, но тем острее переживается
в прежнем «вселенском» масштабе то, что выдающийся филолог-
мыслитель Л. В. Пумпянский назвал в своей книге о Гоголе (1924)
«обманом историзированного самолюбия»3.
В науках исторического опыта и в философии всякий
относительный «конец» (философии, науки, искусства, культуры,
образования, человека, истории и т. д. и т. п.) возвращает к абсолютным
«началам», но не «разума» только и не «культуры» просто. В этом
смысле (как отмечалось во вступительном очерке) Г. Г. Шпет в
начале, а А. В. Михайлов в конце XX в. заговорили, соответственно, об
«исторической философии» и об «историзации нашего знания». Эти
реплики разговора, который оказался невозможен в советский век в
силу беспрецедентного рассечения российского «политического тела»
и который по-настоящему невозможен еще и сегодня, — эти реплики
уже и сегодня могут быть услышаны, осмыслены и переосмыслены в
относительно новых условиях нового, по слову поэта, «тысячелетья
на дворе».
«Новый диалог» между философией и гуманитарно-
филологическим мышлением и исследованием не следует
отождествлять со сциентистскими слоганами конца прошлого века4;
хотя конечно, множащиеся попытки «гуманитаризировать»
негуманитарное мышление — важный симптом утраты научным
идеализмом Нового времени (с его пафосом прогресса «науки и техники»)
общественно-метафизической почвы в последние десятилетия — «в
226
Раздел первый. Переход
конце Бэконовской эры», как назвал свою книгу немецкий историк
науки Г. Бёме5. Предметом исследований в нашей книге является
почти другой «диалог» (почти, но не совсем). В этом очерке, как и во
всех других, речь идет, собственно, о «речах» {logoi), о речевом
мышлении и сознании, иначе говоря — об истории обращений и
переобращений «логоса» в «дискурс» в современной философии и
гуманитарном мышлении.
В эпистемологии XX в. интересующее нас «переобращение» было,
естественно, возвращением к греческим (но не в меньшей степени и
к библейским) «элементам», к абсолютной историчности «Афин» и
«Иерусалима» — двух источников и составных частей европейской
духовно-идеологической и научной культуры вообще6.
Поскольку слово диалог, которое, можно сказать, «все знают» и
которого сегодня лучше избегать, если мы хотим войти в ясность и
реальность этого понятия как научно-философского единственно
возможным образом, а именно путем «историзации» понятия, —
поскольку слово все же произнесено, тогда как понятие разговор, с ним
фактически совпадающее, в советский век не имело и не могло иметь
научно-философского статуса в русских logoi (и оттого это слово, так
сказать, не резонирует на слух нашей научной аудитории)7, то,
возможно, есть резон ориентироваться не на то, что мы имеем, а,
наоборот, на то, чего мы пока не имеем (исторически утратили). В эпоху
Конца Разговора Конца Нового времени, когда разговор, или диалог
(как бы это ни называть), становится не вполне уместным на фоне
более актуальных задач «выживания», — в «нулевые годы» вполне
уместно, однако, философское удивление и вопрос: как возможен
разговор7.*
Когда «обман историзированного самолюбия» расколдован,
всемирно разоблачен и осмеян, то на месте прежних «идеалов»
идеалистического мышления совсем не обязательно видеть одни только
«развалины», вглядеться в которые с трагической, отчаянной
серьезностью призывал, как мы помним, А. В. Михайлов в начале 1990-х гг.
У советского филолога, комментатора немецких романтиков и
переводчика Шефтсбери, поклонника Гете и, разумеется, Шиллера,
похоже, не было иного выбора, кроме эстетического, а настоящей
эстетикой для него могла быть разве что законсервированная в
советский век «музыка во льду», из которой самой как бы родственной
на слух и, главное, возвышенной (возвышающей душу) была
«метафизики трагедии» символистской эпохи (включая «последнего
идеалиста» А. Ф. Лосева). С другой стороны, однако, исторически
Цейтблом после Леверкюна
227
влиятельная оппозиция идеалистической классике в гуманитарно-
филологическом исследовании XX в. — «материальная эстетика», по
терминологии М. М. Бахтина, — никогда не могла и не сможет
удовлетворить ни философа, ни даже филолога, менее всего — сегодня,
когда упомянутая «парадигма» в известном смысле победила в
качестве «нормальной науки» и «теории», все еще престижных вопреки
(точнее — благодаря) своему исчерпанию и измельчанию на излете
структуралистской эпохи.
Но что, если продуктивный выбор, если выход из порочного
круга «историзированного самолюбия» все же возможен? Что, если
исторически вкоренившемуся, впавшему в детство идеализму
(общественному, научному, религиозному) все-таки существует научная,
философская, эпистемологическая, религиозная альтернатива7.
Альтернатива речи или «речей» как путь мысли, на котором не только
обнажаются «развалины» (тоже, конечно, эстетизированные «истори-
зированным самолюбием»), но на котором открывается кое-что еще,
по словам того же Л. В. Пумпянского, — «новая серьезность,
обнаруживающая новую реальность»?9
На диалогизующем фоне такого вопроса позволительно
высказать два тезиса, которыми мы будем руководствоваться в дальнейшем
в попытке если не разговора, то приближения к разговору о Г.-Г. Гада-
мере, создателе едва ли не самой влиятельной разновидности
современной гуманитарной эпистемологии, которую для краткости можно
называть просто «герменевтикой познания».
Во-первых, упомянутая «альтернатива» — это, как сегодня
говорят, «не факт», а в лучшем случае реальная возможность совместной
работы в обозримом будущем специалистов двух новых поколений,
т. е. возможность нового разговора между философами, филологами
и историками. Сегодня, к сожалению, такой разговор почти
невозможен, но возобновлять его как-то надо уже сегодня. Во-вторых,
альтернатива, о которой идет речь, реально мыслима, в первую очередь,
через возобновление того, что можно назвать Übersetzungsgespräch
russisch-deutsch^ т. е. посредством возобновления русско-немецкого
диалога-перевода. Этот второй пункт стоит стоит пояснить чуть
подробнее.
Дело не только и не столько в том, что мы, из России, не очень
представляем себе, кто и что это были за последние 160 лет —
наследники так называемой классической немецкой философии. Дело еще
и в том, что только путем переобращения к «немцам», а отсюда уже
путем возобновления диалога с западноевропейской философской
228
Раздел первый. Переход
и научно-гуманитарной мыслью можно надеяться на нечто большее
и для нас важнейшее, а именно на обновленное возвращение к
проблематике и разговору русской философии вообще и русской научно-
гуманитарной мысли первой трети XX в. — в особенности. Ведь мы,
собственно, если и «отстали», то не столько от немецкой,
французской или англо-саксонской философии, сколько от самих себя, от того
русского и русско-европейского разговора 1910—1920-х гг., в котором
нас уже или еще, ненаучно выражаясь, «не стояло» — в точном и
жутковатом соответствии с отчаянным пророчеством А. Ф. Лосева,
помеченном 5 апреля 1928 г.:
... и русские люди будут читать немцев, не понимая и не зная, что
это было у нас гораздо раньше и притом гораздо значительнее и
богаче, но что разные «условия» спокон веков мешают нам быть
самими собою и разрабатывать свои же собственные, своим жизненным
опытом выношенные идеи10.
Восемьдесят лет спустя мы, постсовременники этих слов, не
можем не понимать себя не только по ту сторону всех иллюзий, но и
по ту сторону однотонного «трагического» отчаяния (на свой
символический лад игнорирующего «новую реальность») — настолько все
серьезно и все смешно. Иначе говоря, переобращение «немцев» (но,
конечно, не их одних) к античным и ближневосточным основаниям
европейской духовной истории в XX в., вероятно, для «русских людей»
в XXI в. должно означать то же самое — иу однако, нечто совсем иное.
Это «то же самое и иное», может быть, лучше всего сформулировал не
философ, но поэт в статье о первом самостоятельном русском
мыслителе. В известной статье О. Мандельштама (1914—1915) сказано так:
Чаадаев был первым русским, в самом деле, идейно побывавшим на
Западе и нашедшим дорогу обратно11.
Не очень продуктивен (хотя и возможен) разговор о том, кто был
последним русским, повторившим этот круг обучения и возвращения,
«нашедшим дорогу обратно». Гораздо перспективнее, по-моему, сама
идея такого круга, выводящая за пределы бинарной оппозиции
«западников» и «почвенников», родившейся в свое время из живого
разговора, но выродившейся у постсовременников в настоящий
«порочный круг». Похоже, такая перспектива, или альтернатива в
конечном счете тоже должна быть чем-то вроде переобращения,
поиском пути «туда» и, главное, «обратно».
Цейтблом после Леверкюна
229
Круг
Древний новый «брак» между философией и историко-
филологическим исследованием образует настоящее событие в
современной истории философии и в современной теории познания. В
каком смысле «событие»? — В центре эпистемологической
проблематики оказалось традиционное филологическое понятие — понятие
«герменевтического круга»12. В результате взаимоотношение между
«фактичностью» исторического опыта — с одной стороны, и
способом образования понятий, посредством которых пытаются
осмыслить опыт, — с другой стороны, было, так сказать, перемешано и
перевернуто. — Как такое стало возможным?
Герменевтическое правило «круга», напрямую связанное с
важнейшим понятием филологии — понятием «интерпретации», гласит
примерно следующее. Понять текст — значит понять его в целом, как
целое; но ведь фактически каждый текст состоит из более или менее
связных «материальных» мест, кусков, частей, фрагментов и т. п.;
следовательно, движение понимания — это движение по кругу, в круге:
от целого интерпретатор должен переходить к частям, а от частей
вновь восходить к целому, понятому одновременно и как то, что уже
есть (что дано, т. е. «стоит в тексте»), и как то, чего еще нет (но
задано), — как «предвосхищение смысла», по формуле Г.-Г. Гадамера13.
Такова, как известно, практическая «круговая» логика чтения
и понимания любого текста, возведенная традицией в
герменевтическое правило. При этом, однако, существенно следующее: всякое
«предвосхищение смысла» — перспектива идеального завершения,
как бы окончательного схватывания «всего» в познающем
предвосхищении целого — таит в себе коварную угрозу, чудовищную и
комичную в одно и то же время. Речь идет об иллюзии, свойственной
интерпретатору текста не больше и не меньше, чем всем прочим
смертным, ибо люди от природы стремятся не только к «знанию»
(как утверждал Аристотель), но, может быть, еще больше — к
«пониманию». Угроза иллюзии или обмана находится не столько вне нас,
сколько в нас же самих. Имя этой угрозы — навык опережающего
обобщения. — Что это за дикий зверь?
Как раз идеализирующее предвосхищение смыслового
завершения («сразу весь капитал», как формулирует свой идеал герой
«Преступления и наказания» Достоевского, при других
обстоятельствах, однако, сам себя, как известно, называющий
совершенно трезво и правильно — «вошь эстетическая») легко приводит
230
Раздел первый. Переход
к настоящему разворовыванию реальности, к расхищению смысла.
Комический элемент такого более чем серьезного сюжета (в жизни,
а не в литературе только) можно назвать криминальной реализацией
идеала: реальность смысла и смысл реальности отсекаются,
уничтожаются, подменяются «в высшем смысле» — поскольку «идея»
теоретически уже определена и завершена; мысль, идея, смысл входит
в бессмысленно упорствующий реальный материал мира жизни, как
нож в плоть, или же с легкостью необыкновенной «перепрыгивает»
через реальность, или, наконец, просто обходит реальность — ради
эстетико-теоретической чистоты идеала — общественного,
научного, философского, религиозного. Такого рода как бы безоглядную
редукцию и овеществление смысла в теоретизирующем идеальном
предвосхищении смысла M. M. Бахтин кратко определил в наброске
«К философским основам гуманитарных наук» (1940—1941) как «грех
метафизики»14.
Не «прорыв к трансцендентному», а, наоборот, замедление
трансцендентного·, так сказать, «торможение» духовно-безоглядного,
идеального «предвосхищения смысла», уважение к плоти, к живому
и осмысленному телу мира жизни, к «бытию» (скорее с маленькой
буквы, чем с большой), к «традиции» и «здравому смыслу» (а не к
«свободе»), к тому, что на языке М. Бубера обозначается словом die
Mitte («середина»), а в герменевтике (классической и современной)
называется «кругом понимания», — так можно, в самом сжатом виде,
определить направление и нериторический пафос интересующего
нас «магистрального сюжета» западноевропейской и русской
философии XX в.15
Речь, тело, пространство16 и время / пространство («хронотоп»),
стихия и власть традиций (история), «здравый смысл» и так
называемое бессознательное, «знак» и «текст», наконец «гуманитарные
науки» — вот реальные феномены заземления и замедления
«свободного полета» автономного разума и автономной духовности, как они
проявились в особенности в научно-техническом прогрессе,
политическом и теоретическом тоталитаризме, в неоязычестве и «мифах»
XX в. Эти феномены и силы мы здесь помедлим и поостережемся
бездумно и безоговорочно называть «культурой». Но важно избежать и
противоположной крайности, которую в структуралистскую эпоху
так остро выразил Ж. Деррида (и вообще французская философия
после Сартра), когда «предвосхищение смысла», совершенно
резонно и здраво поставленное под вопрос в минувшем столетии,
оказалось под подозрением как таковое и подверглось принципиальной,
Цейтблом после Леверкюна
231
догматической, в конечном счете насильственно-метафизической
«деконструкции» в борьбе с догматизмом, метафизикой и насилием17.
Понятно, что перед лицом классической (идеалистической)
парадигмы интерпретации, с ее установкой на предвосхищаемый
(чаемый) смысл «целого», принципиальный методический отказ-
отчаяние от идеального предвосхищения смыслового целого,
«герменевтика подозрения» (П. Рикер), может быть, в лучшем случае,
противоядием, но никак не альтернативой. Известный нам «обман исто-
ризированного самолюбия» — это такой «комплекс» исторического
сознания, который, похоже, невозможно, ни разоблачить, ни изжить
до конца. Исторический парадокс взаимоотношений между
экзистенциальной и структуралистской эпохой, как представляется, — в том,
что революция в способе мышления XX в. началась с пере-открытия
«конечности» человека и истории как продуктивного условия
возможности их бесконечности (иначе говоря — с переворачивания
идеализма), тогда как последователи и продолжатели этого переворота
превратили (обернули) «конечную» предпосылку бесконечного, так
сказать, в окончательный конец без конца. А это, судя по всему,
означает: «дальше» по инерции двигаться некуда, но не потому, что цели,
идеалов и т. п. больше нет, а скорее потому, что в процессе
«ускорения» истории мы «проскочили» все точки опоры и все цели;
забвение бытия создает иллюзию, что мы все-таки выбрались из круга
исторического бытия, тогда как на самом деле вот это только
«порочный круг».
Но тогда, кажется, по-новому понятно «переворачивание», к
которому мы очень предварительно подступились в предшествующих
очерках, а равно и «переобращение», сделавшее возможным
интересующий нас «брак» Филологии и Философии — странный,
гротескный на взгляд естественнонаучно ориентированной
эпистемологии Нового времени, не говоря уж об историко-филологическом
позитивизме с его «антикварным», по слову Ницше, отношением
к истории18. Попробуем привести предрассудки, которые здесь, как
всегда, предопределяют восприятие и разумение, «во взвешенное
состояние» (по выражению Г.-Г. Гадамера), нейтрализовав их
бессознательный действенно-исторический автоматизм ради оптической
чистоты интересующего нас феномена — круг ового характера
исторического опыта и, соответственно, кругового понимания этого опыта.
Эпистемолог, даже самый «постнеклассический», в своем
мышлении ориентирован не вообще на «опыт», но на
экспериментирующие над природой, «естественные» науки, называемые «опытными».
232
Раздел первый. Переход
В границах сциентистского понимания опыта возможна и
необходима своя конструктивная критика опыта; однако никакая
«верификация» и «фальсификация» не могут и не должны нарушать
экспериментальной основы естественнонаучного мышления, которое
подразумевает искусственно созданные, повторимые условия — как бы (als
ob) изъятые из историчности «бытия здесь» ради так называемой
чистоты эксперимента19. С другой стороны, филологи и историки
позитивистской ориентации, казалось бы, совершенно оправданно
охраняющие научность и объективность гуманитарного знания от
субъективной, идеологически, как правило, дурно пахнущей
«модернизации», пытаются легитимировать дистанцию между историей
культуры и современностью. Но этот вроде бы здравый импульс
становится чем-то совсем иным, становится не обоснованной позицией, но
полемической оппозицией и, конечно, тоже «идеологией» в тех
многочисленных случаях, когда филолог или историк методически
дистанцируется от современности, настаивая не только и не просто на
различии между миром прошлого и современным миром, между
«древними» и «новыми», но утверждая радикальную взаимовнеположность
эпох, миров, языков, наций, классов, рас и т. п. в истории культуры,
их абсолютную взаимонепроницаемость и взаимонепереводимость,
иначе говоря — их «исключительность». В истории философии и
гуманитарной эпистемологии Нового времени эта традиция, или
парадигма, мышления находит свое завершение в учении О. Шпенглера
о замкнутых в себе и для себя культурных «организмах»,
оборачиваясь при этом специфически античным действенно-историческим
предрассудком «сущности», статуарно и выразительно замкнутой
на себя наподобие греческого «атома» или (в латинском переводе)
«индивидуума»20.
В позитивизме догматическое отрицание «теории» и
«метафизики» (в смысле эмпирически «не точного» утверждения или
притязания на истину) всегда приводило и приводит к «серьезно-
смеховому» (термин M. M. Бахтина) воспроизведению изнанки-
двойника отрицаемого в мышлении самого отрицающего21. Такую
новоевропейскую изнаночную радикализацию греческой theoria
молодой Хайдеггер, как мы помним, выразительно назвал однажды
«платонизмом варваров»22.
Так вот: «герменевтический круг» стал во главу угла
эпистемологии тогда и постольку, когда и поскольку филологическая
проблематика правильного понимания текста обернулась онтологической
проблематикой «prima philosophia» («первой философии»).
Цейтблом после Леверкюна
233
Но это оборачивание или переворачивание произошло, как мы
знаем, в единственный момент европейской и русской истории, а
именно в «столетнее десятилетие» 1914—1923 гг. — произошло так,
что, начавшись, оно «уже не переставало начинаться», но также уже
не переставало и забываться. Как бы там ни было, во всех своих
принципиальных проектах, или программах, новая революция в способе
мышления была постановкой вопроса (как формулировал в своей
программе 25-летний M. M. Бахтин) «не о едином культурном
творчестве, но о едином и единственном бытии-событии»23. Этот выход
за пределы культурных объективации в абсолютную историчность
«события бытия» стал еще одной, новой (после столетнего
десятилетия 1790-х гг.) встречей с «греками» в непрекращающемся диалоге,
который тот же M. M. Бахтин в конце своей жизни назовет
(дистанцируясь от О. Шпенглера) «великим делом освобождения античности
из плена времени»24.
Выходит, европейская философия в минувшем столетии в своем,
как сказано, «магистральном сюжете» сама как бы описала круг,
вернувшись к своему относительному «началу» (в «Метафизике»
Аристотеля). С другой стороны, знаменитая формула филологии
ученика Ф. Шлейермахера Августа Бека (1785—1867) — Erkenntnis des
Erkannten, «познание познанного» — как бы неожиданно приобрела
новый, философский и эпистемологический, «гораздо более
глубокий и всеобщий смысл»25. Почему, собственно?
Очевидно, потому, что теперь филолого-герменевтический
(«гуманитарный») принцип познания — диалогический принцип
«второго сознания» — относится уже не только к текстам и памятникам
как таковым, не к самодовлеющим объективациям культуры — этим,
по словам Гадамера, «отчужденным обличьям нашего подлинного
бытия в истории»26. Дело идет о чем-то большем, чем культурные
объективации, эти «сливки» опыта («образы культуры», «картины
мира» и т. п.), которыми вдохновлялись в XIX столетии «обжиралы
истории», по выражению Ницше27, а на излете советского века —
интеллигенция в попытке уйти от «совка». Дело идет об онтологически-
событийном затексте всех текстов и контекстов в их возможной и
действительной «сплошности», непрерывности, «абсолютной
историчности».
В наших подступах к гуманитарной эпистемологии Ганса-Георга
Гадамера (1900—2002) существенна не сама по себе «голосов
перекличка» (скажем, между немецкой герменевтикой познания Хайдег-
гера—Гадамера и русской герменевтикой познания M. M. Бахтина
234
Раздел первый. Переход
или А. А. Ухтомского). Обычно такие соответствия совершенно
законно анализируются по схеме «сходств и различий» в границах
традиционной парадигмы историко-философских, историко-научных,
историко-литературных и т. п. исследований. Но «голосов перекличку»
(как и всякий голос великого поэта) надлежит понять «лучше» — не в
поэтическом, но скорее в прозаическом направлении, а это значит —
тематизировать и проблематизировать тот или иной «оригинальный
текст» (Кьеркегор) на языках «критики» и «исследования». Тем самым
совершается специфический перевод и переход: нечто изначальное,
«оригинальное» переносится-переводится в новый событийно-
онтологический план или ряд, в горизонт «второго сознания». Такая
«голосов перекличка» предполагает, что каждый голос не только и
не столько «похож» или «не похож» на другие, сколько вхож в
особого рода целое, в «тело вращения» события, внутри которого
совершается, как говорит Гадамер в переводе А. В. Михайлова,
«круговращение понимания» (73) (Zirkelbewegung des Verstehens).
Но что надо понимать под таким «круговращением»? Почему
«круговая» форма мышления позволяет прийти к осознанности
относительно исторического предмета и относительно нас самих,
исследующих этот предмет, таким образом, чтобы «постигая исторически
иное и применяя исторические методы, мы не просто выводили то,
что сами же вложили» (78)?
Проллеукуток
В истории философии Конца Нового времени (XX в.) мы
встречаемся с двумя приращениями, или обогащениями, понятия
«герменевтического круг». Преемственность, которая просматривается как
переход от Хайдеггера к Гадамеру, от учителя к ученику, нуждается в
самостоятельном рассмотрении. Схема этого перехода, как бы
прорастания новой (последильтеевской) гуманитарной эпистемологии,
примерно такова:
(1) Хайдеггер (в § 32 «Бытия и времени»28) перенес принцип
герменевтического круга из области филологии и методологии
гуманитарных наук в область онтологии, радикальной историчности «бытия
здесь», «бытия в мире». Не чтение текстов только, не гуманитарно-
филологическое мышление как методическая проблема «наук о
духе», — само человеческое «бытие здесь» (Dasein) имеет характер
«понимания» и движется по кругу.
В самом деле, «бытие здесь», по Хайдеггеру, с одной стороны —
«вброшено» (или «заброшено») в мир (и значит— радикально не
Цейтблом после Леверкюна
235
свободно от своего сверхындивидуального прошлого); но, с другой
стороны, «бытие здесь», которое «всегда мое», самолично и
самовольно «набрасывает» себя на свои же возможности «в мире», т. е.
имеет проективный (самодеятельный) характер и ориентировано
на будущее. Следовательно, бытие как осмысленное движение
Dasein — движение, универсальным импульсом которого (для человека
не меньше, чем для муравья, хотя и по-другому) является, по Хай-
деггеру, «забота» (Sorge); бытие открывается не в каком-либо
объектном, налично-субстанциальном, «чтойном» (quidditas) сущем, но
в экзистенциальном предвосхищении смысла «бытия здесь» в свободе
самонабрасывания и в несвободе вброшенности. Такова «конечность»
и «историчность» человеческого бытия в мире (а не где-нибудь
«вообще») — полная, круговая ограниченность, внутри которой, однако,
«бытие здесь» заключает в себе самом условия возможности своей
безграничности и бесконечности, не относительной, но абсолютной
историчности своей «возможности быть» (Seinskönnen)29.
Момент нерешенности и момент предрешенности образуют здесь
жизненное напряжение, которое можно было бы назвать «игровым»,
если бы ассоциация с игрой не носила в нашем «культурном»
(интеллигентском) сознании оттенка чего-то подозрительного,
легкомысленного и несерьезного. Не только вызывающая «игра различий», о
которой заговорил в 1960-е гг. Ж. Деррида, но и совершенно
позитивная трактовка опыта как игры в «Истине и методе» Г.-Г. Гадамера,
были бы совершенно невозможны в философии, если бы феномен
игры — до всякой науки и независимо ни от какой теории — не был
бы позитивно укоренен и легитимирован в западном мире жизни и в
западном сознании30.
Это приходится подчеркивать постольку, поскольку опыт, о
котором здесь идет речь, к сожалению, почти не имеет адекватного ди-
алогизующего фона ни в русской «научной», ни в русской
«религиозной» философии (M. M. Бахтин и здесь, конечно, почти
исключение), зато имеет богатый фон и фонд памяти в великой русской
литературе от Пушкина до В. Набокова (и, соответственно, в
русском литературоведении XX в. от Ю. Н. Тынянова, В. В.
Виноградова и М. М. Бахтина до Ю. М. Лотмана). В связи с описываемым
экзистенциальным опытом «брошенного наброска», или «брошенно-
набрасывающего бытия в мире»31, достаточно вспомнить один из
лучших романов В. Набокова — «Защита Лужина» (1930), в
котором постреволюционная, постисторическая заброшенность-
выброшенность русского интеллигента-эмигранта «голубиного»,
236
Раздел первый. Переход
обломовского типа соединилась с дерзкими творческими
комбинациями гениального шахматиста, «набрасывающего» свою «защиту» в
попытке отыграть или переиграть судьбу, но беззащитного в игре за
пределами шахматной доски в совсем уже не обломовские времена —
в игре пережившей себя истории и пережившего себя литературного
героя XIX в.
Конечно, эта ссылка на русский роман только ориентирующая
аналогия, не больше. Онтологизация герменевтического круга
молодым Хайдеггером содержательна и продуктивна; ее значение,
говорит Гадамер, — не в доказательстве наличия круга, а «в
доказательстве онтологически позитивного смысла^ присущего кругу» (75) — ход
мысли, достаточно чуждый расколотому гражданской войной
русскому эмигрантскому сознанию таких современников Хайдеггера и
Гадамера, как В. Набоков или, скажем, А. Кожев (-ников)32.
Позитивный смысл, присущий кругу33, исторически размыкает
античный безысходный круг «судьбы слепой»у не порывая с кругом,
а, наоборот, оставаясь в круге, т. е. принимая исторические
возможности круга в пределах человеческой «конечности» (Endlichkeit). Тем
самым открывается место по ту сторону гностического глобализма
традиционной «философии истории» или «историософии» (все
равно — классической, коммунистической, постмодернистской или
«религиозной»).
Умственный экстремизм, характерный для «платонизма
варваров» и, так сказать, естественный в России, как выразился недавно
Ф. Р. Анкерсмит, «после двух драматических цезур — 1917 и 1991
годов34» (т. е. после краха Первой и Второй империи), не может не
мыслить «продолжение» однажды обещанного, «набросанного»
«светлого будущего» как практически реализованную, замыкающую круг
исторического бытия-события «чернуху», как полный, абсолютный
конец, как чисто негативное обращение круга истории — вроде
переворачивания песочных часов — «с точностью до наоборот». Но такой
отказ от исторических возможностей как последняя возможность —
«набрасывание» смысла или, точнее, бессмыслицы, которое русский
философ Г. Г. Шпет проникновенно назвал в свое время «отчаянием
от невозрождения»35у — все же не единственная возможность, да и не
последняя36. Круг понимания, подчеркивает молодой Хайдеггер (а за
ним Гадамер), — это не «порочный круг».
Итак, «герменевтический круг» уже не методологический идеал
научно-гуманитарного мышления; нет, это способ бытия (Seinsweise)
всякого «вот бытия», вброшенного вот в эту (мою) эпоху, вот в эту
Цейтблом после Леверкюна
237
историчность набрасывания себя «в мире» и в мир. (Вошедшие в
поговорку строки современного отечественного поэта: «Времена не
выбирают / В них живут и умирают», — конечно, ближе к хайдегге-
ровскому постромантическому, чем к сартровскому романтически-
инфернально-гуманистическому пониманию «экзистенции» и
«свободы».) По Хайдеггеру, человек — это животное «понимающее», а не
«разумное». Только осознав это различие, это подлинное событие в
истории современной мысли, как представляется, можно адекватно
воспринять и понять «смену парадигмы» в философии и
гуманитарной эпистемологии минувшего столетия — радикальный шаг
мышления, который, как мы помним, Гадамер и назовет в своем
запоздалом послании «К русским читателям» «переходом от мира науки к
миру жизни».
Человек как животное понимающее, а не «разумное животное»
(«animal rationale») — это почти скандальный вызов западной
традиции рационализма (начиная с Аристотеля); но это и позитивный
ответ западному «постмодерному» иррационализму (начиная с
Ницше). В таком противопоставлении гуманитарная революция в
способе мышления, в сущности, уже достигает своего «кайроса»; в
этом смысле, как мне кажется, Осип Мандельштам в набросанном
им эскизе новой гуманитарной эпистемологии (1922) назвал
«очеловечением науки, включая теорию познания»37. Ход мысли, если
присмотреться, не столько «гуманистический», сколько «христологиче-
ский». Во всяком случае, оценив это «не..., а...» эвристически, как
«ненормальную» (но позитивную) науку, мы уже не сможем говорить
о «рационализме» и «иррационализме» как о чем-то само собой
разумеющемся, поскольку отношение между двумя этими понятиями
стало «относительным» (или, как уточнил бы здесь X. Ортега,
«релятивным») в позитивном и продуктивном смысле слова. В чем же,
собственно, эта продуктивность и позитивность?
Различие между животным «понимающим» и «разумным»,
собственно, в том, что ratio перестает отождествляться с научно-
теоретическим разумом как «сознанием вообще», с тем, что ранний
Хайдеггер называл theoretische Einstellung (ранний M. M. Бахтин,
соответственно, говорит о «теоретизме», позднее — «монологизме»
«всей идеологической культуры нового времени»). Речь идет не о
сужении или принижении, а, наоборот, о расширении сферы разума.
Человек разумен не только тогда, когда он «мыслит»; скорее он мыслит
(но не «теоретически») тогда, когда он вообще «живет», т. е.
совершает поступки. Поэтому хайдеггеровский экзистенциал «заботы»
238
Раздел первый. Переход
(как, впрочем, и все другие экзистенциальные категории «бытия
здесь») неуловим и немыслим в привычной бинарной оппозиции
«рациональное/иррациональное»; как неуловима и немыслима «забота»
(Sorge) в другой устойчивой бинарной оппозиции Нового времени —
«субъективное / объективное». Традиционные оппозиции при этом
никуда не исчезают, но они перестают быть решающими и
продуктивными для познания; они становятся, по терминологии А. А.
Ухтомского, «частностью и провинциализмом»38.
Таким образом, то, что мыслилось как феномен научно-
методический, — «круг понимания», — оказалось только частным,
специализированным случаем универсальной жизненной ситуации,
«всякого» (jemeinigen) «бытия здесь».
Иначе говоря, мы живем понимая не потому, что прочитали
Шлейермахера или Дильтея, а наоборот, то, о чем заговорила
герменевтика Нового времени, — только частный случай универсальной
«герменевтики фактичности» мира жизни. Более универсальной, чем
вопрос антропологии: «Что такое человек?»; ведь к Dasein вообще
не подступиться, спрашивая о «чтойности» (quidditas), поскольку
бытие — и это принцип всех мыслителей смены гуманитарной
парадигмы экзистенциальной эпохи — не есть «то-то» или «то-то»,
какое-то сущее39.
(2) Но этот «переворот» традиционной парадигмы герменевтики
ученик Хайдеггера Гадамер, в свою очередь, переосмыслил, перевел и
«перевернул».
У Хайдеггера, как мы видели, «текст» стал «бытием в мире»,
методология и эпистемология — онтологией, герменевтический круг —
кругом истории бытия, внутри которого находится (движется в
«заботе») понимающее «бытие здесь», включая любого интерпретатора
любого текста. У Гадамера это историческое бытие, как бы вышедшее
из «текста», — снова, но по-новому стало текстом. В философской
герменевтике тексты и контексты словно провалились в бездонность
исторического «затекста» истории и традиции. В статье «О круге
понимания» (1959), написанной к 70-летию Хайдеггера, Гадамер
говорит об этом так:
Уготовленное нам традицией место, место между чуждостью и
близостью, есть, стало быть, промежуток между исторически понятой,
отложившейся предметностью и причастностью к традиции. Этот
промежуток и есть подлинное место герменевтики (79).
Цейтблом после Леверкюна
239
В порядке комментария поясним в этом высказывании две вещи:
одна входит в процитированный текст буквально, другая выводит
за пределы текста в затекст комментатора («второго сознания»), т. е.
обогащает понимание текста 1959 г. за счет образовавшейся за
полвека дистанции — временной, пространственной, смысловой.
(1) Промежуток, о котором говорит Гадамер, есть подлинное
место гуманитарной (герменевтической, или диалогической)
эпистемологии, т. е. философии исторического опыта, наук исторического
опыта и истории философии в опыте ее никогда не завершимой,
абсолютной историчности. Как это понимать?
Историческое прошлое «дано» нам двояко. С одной стороны,
история — это то, что «было», доступное нам в своей отложившейся
предметности, т. е. в коллективных представлениях и образах, в
«результатах» и «текстах», на бюрократическом языке — в своих «итогах»,
на поэтическом языке — в «пароходах, строчках и других долгих
делах»; это «было» обозримо благодаря исторической дистанции (на
чистом и самобытном русском языке М. М. Бахтина — благодаря
нашему «избытку видения»). С другой стороны, историческое прошлое
нам вообще не «дано»: реальный опыт прошлого не является
предметной данностью («образом», «культурой», «картиной», «текстом» и
т. п.); предметные отложения опыта, даже самые «прекрасные» и
особенно «прекрасные» как-то приоткрывают опыт действительно
пережитого, но в то же время и закрывают опыт, т. е. являются лишь
относительным подступом к нему. Здесь можно, пожалуй, говорить
о «принципе радикальной конкретизации» как условии
возможности социально-исторического познания. Не отложившаяся в
культуре предметность, а наше смертное, конечное «бытие здесь» — вот
что на самом деле сближает нас с опытом разновременников
(предшественников и потомков). Мы сами — наше собственное прошлое
постольку, поскольку мы в своей современности «принадлежим» (со-
принадлежим) стихии истории не риторически, не идеологически, но
именно исторически, причем в значительной мере, — неосознанно,
«предрассудочно», или, как сказал бы А. А. Ухтомский, — в силу
воздействия на наше сознание и разум социально-исторических
«доминант»40. «Традиция», в этом смысле, — это не только прошлое, не
только вечное, но определенная историческая преемственность и
длительность (на языке М. М. Бахтина — «двутелое тело», или
«гротескное тело», смысла).
Гадамеровское повторение Хайдеггера после Хайдеггера
немецкий исследователь Маттиас Юнг назвал «контекстуализацией
240
Раздел первый. Переход
разума», окончательно релятивизирующеи самовольные притязания
всякой «отдельно взятой» личности или экзистенции (например,
Хайдеггера), нации (например, немецкой), страны (например, СССР)
или «модерна» в его отношении к прошлому — притязания на
исключительность, на полную (а не «относительную») автономию в истории
бытия41. Экзистенциализация разума обернулась контекстуализа-
цией разума.
Контекстуализация разума в истории расширила область и
разума, и истории. Гадамер в этом смысле исторически закончил и
«снял» экзистенциализм и экзистенциальную эпоху, которые
отныне (т. е. во второй половине XX в.) были возможны уже только в
качестве «превращенных форм», а не в своей аутентичной, однажды
единственным образом состоявшейся, «возможной» исторической
форме. Общественно-политический смысл этого «снятия»,
разумеется, не имеет ничего общего с «ущемлением прав личности»; здесь,
напротив, происходит своего рода демократизация принципа
«переживания», лежавшего в основании как немецкого идеализма и
романтизма вокруг 1800 г., так и экзистенциальной эпохи вокруг 1920
г. То, что осуществляет Гадамер в своей критике Просвещения и в
своей критике романтической критики Просвещения (как
«переосвещающего» оппонента-двойника отрицаемого), можно назвать
радикальной демократической деприватизацией истории в историческом
и научно-гуманитарном мышлении вообще. Было бы ошибкой
думать, что гуманитарная эпистемология лишь случайно соприкасается
здесь с проблемой так называемого «политического тела»; наоборот,
в этом пункте новая гуманитарная эпистемология, в сущности,
«приходит к себе».
Когда в силу социально-исторической и экзистенциальной
наивности пытаются оспаривать универсальные притязания
герменевтики, то, как правило, не осознают, что за этим абсолютным
притязанием на ограничение абсолютного, на включение в социальное бытие
всего якобы исключительного — стоит опыт «невиданных перемен»
Конца Нового времени, эпохи, как мы говорим, «завершенной
демократии», в условиях которой принцип эмансипации, под знаком
которого прежде стояли все существенные духовно-идеологические
проблемы и программы Нового времени {включая экзистентную
«решимость»), приходит к своему относительному историческому
завершению и переворачивается. Универсальное притязание
герменевтической эпистемологии обозначает и знаменует собою
ограничение «свободы» и «экзистирования» в общественных условиях
Цейтблом после Леверкюна
241
эмансипации всех от всех, когда, как отмечалось выше, «каждый сам
себе Хайдеггер».
В самом деле: в совершенно новых, небывалых, хотя и по-новому
повторивших и повторяющих позднюю античность условиях
завершенной демократии — условиях Конца Нового времени, которые
эстет, мистик и экзистенциалист Георг Лукач (1885—1971) в
предвосхищении своего «обращения» в марксизм, своего ленинизма и
своего сталинизма, назвал в гениально неудавшейся «Теории
романа» (1916—1920) на языке германского идеализма «эпохой
абсолютной греховности»42, идеализм и субъективизм Нового времени
(по-русски — «метафизическое барство») уступают свое
привилегированное, свое имперское место политически более «изначальным»
формам мышления и правления. Как говорится в решающем духовно-
идеологическом месте главной книги Гадамера,
на самом деле великие исторические действительности, общество и
государство, изначально определяют собою всякое «переживание».
Самосознание и автобиография, из которых исходит Дильтей, не
изначальны и не могут служить основой для герменевтической
проблемы, ибо приватизируют историю. В действительности не
история принадлежит нам, а мы принадлежим истории43.
Деприватизированная история, в которой «экзистенция»,
оставаясь сама собою, в то же время «выходит за себя», будучи причастной
частью исторической реальности общества и государства, к которым,
однако, ни экзистенция, ни личность не сводимы, — как это?.. В такой
вот расширенной и углубленной, социально-онтологической
перспективе обретает свое место и свою значимость упомянутый выше
оборот М. Юнга — «контекстуализация разума». Речь идет не об
отрицании «свободы», «экзистенции» или «переживания» как моих;
на повестке дня «наук о духе» отрицание отрицания общественно-
политического измерения экзистенции и переживания как
исключительно моих (асоциально-утопических).
Такой пост-экзистенциальный шаг мышления сам по себе,
конечно же, продиктован не только и не столько приватным
переживанием (например, Гадамера), но объективным историческим опытом.
Опытом, в котором можно и должно расслышать не «скрытый
нацизм» и аполитичность, а, наоборот, бдительное смирение перед
великими историческими действительностями, обществом и
государством, больше того — трезвое доверие к этим действительно-
стям, ориентированным на «здравый смысл» (sensus communis), на
242
Раздел первый. Переход
который, как мы помним, ссылался еще Д. Вико в своем
противостоянии картезианской науке.
Иначе говоря, перед лицом внеконтекстуального разума, т. е.
чисто предметного абстрактно-теоретического обобщения «вообще»,
к безграничному самоутверждению которого стремится наука и
научный идеализм Нового времени по логике или в парадигме
«автономии», т. е. принципа эмансипации, — по сравнению с ними
личность, экзистенция, переживание историчны и реальны; они не
могут быть «сняты» в познании, если нас интересует вот эта
действительность, это «бытие здесь», будь то данная личность, данная
эпоха, данная биография или автобиография, данные «отношения
экзистенции» (Кьеркегор), данный человек, муравей или муравейник.
Но перед лицом общественно-политического «здравого смысла»,
который отличается от так называемой «соборности» в особенности
тем, что здравый смысл практически конструктивен и цивилизован,
не будучи теоретизированной конструкцией, идеализированной
культурой и «барской выдумкой», и предполагает развитые
«гражданские» («буржуазные») отношения и относительно автономные,
т. е. ответственные институты (а не просто «свободы»), — перед
лицом живого здравого смысла, способного находить и осуществлять
практическую общность и солидарность людей в данных конкретных
условиях44, великие исторические действительности, общество и
государство, человечнее и долговечнее так называемого
экзистенциального человека, возможности «свободы» которого как раз в
современных условиях демократии не следует (и даже опасно)
идеализировать. Но что всем этим сказано?
Гуманитарная эпистемология Гадамера, отдавая приоритет
государству и обществу перед лицом экзистенции и личности (и значит,
в историко-философском плане, — Гегелю перед Кьеркегором),
исходит не из того, что «свободы» нет или что личность ничтожна перед
лицом объективного и мирового духа. Наоборот, легальные
ограничения извне и этико-религиозное и философско-методическое
самоограничение становятся постулатом именно потому, что свобода,
экзистенция, индивидуальные переживания (как и «униженные и
оскорбленные» Достоевского от «Бедных людей» до «Братьев
Карамазовых», или «законы сердца», о которых говорил Паскаль в XVII в.), —
что все это не фикции, но реальные силы, которые в условиях
демократизации общества тем активнее, чем меньше поддаются фиксации
«официально», т. е. в виде некоторой глобальной «картины мира» или
«историософии». «Эра индивида»45, «демократический вкус» — на
Цейтблом после Леверкюна
243
исходе Нового времени это уже не либеральные идеалы, но
объективная реальность, которую надо осознать действительно «по ту
сторону добра и зла», потому что оба понятия перестают быть
отвлеченными понятиями и становятся «фактичностями», и никакая
идеализация «личного начала», тем более «экзистенции», больше
невозможна. Достаточно сказать, что самая эффективная форма
экзистенциального пафоса и бунта (ужаснувшая, как мы помним, К. Ясперса,
по свидетельству Гадамера, уже в середине 1930-х гг.), — это
индивидуальный, групповой, партийный и всякий иной террор46.
Уместно заметить, что в религиозной философии современников
Гадамера этому ходу мысли соответствует своего рода отрезвление,
скажем, такого «религиозного экзистенциалиста», как Мартин Бубер
(1879—1965), который в статье «Ответ Единственному» (1943),
возражая кумиру молодости, основоположнику экзистенциализма
С. Кьеркегору (как известно, убеждавшему себя в том, что он
расторг помолвку с невестой Региной Ольсен для того, чтобы «прийти
к Богу»), утверждал: «Бог хочет, чтобы мы пришли к нему через всех
Регин». Здесь высшая ценность становится не «относительной», но
«релятивной» («отношением»), т. е. лишается своей
«исключительности», по-новому утверждая значимость за два с половиной
десятилетия до того сформулированного автором «Я и Ты» диалогического
принципа: «В начале есть отношение» (Beziehung)47.
(2) «Промежуток» между отложившейся, отпавшей в прошлое
предметностью опыта — с одной стороны, и сопричастностью этому
опыту «бытия здесь» — с другой стороны, в наше время можно
понять лучше, чем десять, двадцать или тридцать лет назад. Мы сами —
примерно три поколения одновременно — должны были пережить
все то, что произошло за последние два десятилетия в России и в мире
для того, чтобы «круг» — понятие экзистенциально-онтологической
герменевтики — мог быть воспринят и понят сегодня как
реальность этого понятия. Идеологическая эпоха, наследником которой
является постсоветский человек, должна была кануть в прошлое
настолько, чтобы прошлое начало возвращаться, переворачиваясь на
наших глазах и в нас же самих в масштабах, достойных
«фантастического реализма» Достоевского; настолько, чтобы «отчаяние от
невозрождения» стало воздухом времени, выбросившим сейчас целое
поколение из исторической жизни, хотя и не так, как это было после
революции и гражданской войны, а по-другому («постидеологически»).
Тем не менее, как это всегда и бывало, круговое движение
времени, не похожее ни на вечное возвращение того же самого, ни на
244
Раздел первый. Переход
пресловутую «спираль» истории, — «сложная форма тела вращения»
(М. М. Бахтин)48, — открывает новые горизонты и новые
возможности «круговращения понимания», возможности, которых прежде
не было, о которых еще двадцать лет назад в нашей стране
невозможно было даже помыслить. По-новому открывается не только
«двутелое тело» всех традиций, которое, сбросив идеологические
маски прошлого, обнаружило несовпадение с собственным
идеологизированным прошлым (как и с деидеологизированной
современностью), разыгрывая на подмостках так называемой post-histoire еще
невиданную и неслыханную, хотя и древнюю, как мир, «комедию
ужаса». По-новому открывается — в очередной раз сделавшись
нерентабельной и общественно ненужной — история философии (как
и история литературы). Ситуация «конца философии»
благоприятна для философского удивления и для постановки
фундаментального вопроса: как возможна философия? Но и «Литература» должна
была исчерпать возможности своего предназначения для того, чтобы
«встал» вопрос: как была возможна литература и почему после того,
как литература стала почти невозможной и существует, как и многое
другое, скорее по инерции и больше в виде «симулякров», настоящая
литература остается вечной в своем времени и даже в актах чтениях,
но почему-то не может быть освобождена из «плена времени» (как бы
не нужна современности). Равным образом крах образования должен
был стать настолько полным и неотвратимым, не объяснимым уже
ни с какой «идеологической» точки зрения, для того чтобы «здесь
бытие» стало отправным пунктом переосмысляющего возвращения к
вопросу о смысле «образования» и осмысленных (а не импульсивных)
попыток спасти то, что еще можно спасти от наступающей
радикальной виртуализации и глобализма.
Гуманитарная эпистемология Гадамера, перестав быть «модной»
(т. е. перестав резонировать в публичном сознании виртуального
«всемства»), по-прежнему, но по-новому актуальна сегодня, после
конца структуралистской эпохи с ее еще возможными
идеологическими жестами, изощренной уютной софистикой, культом «текста»,
«убиением автора» и пресловутыми «фигами в кармане». Как
справедливо замечает американская исследовательница49, дело не в том,
что гадамеровская герменевтика познания способна «решить»,
например, проблему так называемого канона, т. е. классического
наследия и традиции, а в том, что новая философская герменевтика
сделала возможным вообще сделать еще как-то актуальной такую
проблему для нашей современности, т. е. способна продолжать разговор.
Цейтблом после Леверкюна
245
Ведь приходится считаться с возможностью того, что вести и
продолжать разговор станет незачем и некому (а не просто запретят, как в
идеологические времена).
Поскольку гуманитарная эпистемология самим опытом как бы
выталкивается за пределы «только текста» в области социальной
онтологии опыта (в затекст), сегодня можно наблюдать знаменательный
сдвиг интереса к проблематике исторического опыта, и здесь встреча
с Г.-Г. Гадамером тоже может оказаться плодотворной50.
Ученик после учителя
После Хайдеггера и по сравнению с ним Гадамер может
показаться понятнее, как бы доступнее; но это — заблуждение.
Академический стиль, отсутствие шокирующей остроты и
подчеркнутого вызова общественному мнению, ориентация на
«гуманистическую традицию» (не похожую, правда, на
экзистенциалистский бунт 1940-х гг. или на бунт молодого Маркса 1840-х гг.) — все
это, естественно, не привлекало и не привлечет к Гадамеру
устойчивого внимания «общественности», но не потому, что он философ, а
потому что общественность во второй половине прошлого столетия
усвоила вкус к провокациям общественности, распространенным в
1920-е гг. еще только среди особо одаренной «левой» или «правой»
интеллигенции; у Хайдеггера эта тенденция так и осталась
«сигнатурой поколения», как бы неожиданно сближавшей (как это показал
в свое время С. С. Аверинцев) таких, казалось бы, идеологически
противоположных современников, как Б. Брехт и Г. Бенн51. Гадамер —
человек и мыслитель другого типа, даже на Западе ставшего редкостью
к 1960-м гг. (Известная «странность» нашего С. С. Аверинцева, как
кажется, относится сюда же, но с поправкой на советские чудовищные
обстоятельства.)
Потомкам революционных эпох (в особенности «внуку,
отвернувшемуся в тоске», по выражению А. Ахматовой, от своего
собственного прошлого, которое он или она не в силах ни принять, ни
продолжать) не просто и не всегда приятно бывает осознать, что
подлинными революционерами в области научной и духовной
культуры, как правило, являются не «революционеры», а скорее
«консерваторы» — правда, выступающие на сцену уже после вечных и
безнадежных революционеров. В качестве «второго сознания» именно
консервативно ориентированное мышление по-настоящему радикально,
т. е. способно осмыслить революционные эксперименты, «порывы» и
«прорывы», поставив их в связь с контекстом и затекстом истории
246
Раздел первый. Переход
(с прошлым и будущим). То, что критикует Хайдеггер, он скорее
отторгает; то, что критикует Гадамер (включая просветительский
концепт «критики»), он обновляет и принимает (почти в духе бахтин-
ской «карнавальной амбивалентности») как что-то такое, что не есть
только то, чем оно уже было, потому что оно может быть «больше и
лучше себя» в перспективе не гарантированного и все же возможного
обновления.
Еще раз: обходительный Гадамер, который, согласно
знаменитому афоризму Юргена Хабермаса, «урбанизировал хайдеггеров-
скую провинцию» (т. е. сделал идеи учителя более доступными
восприятию в приличном обществе и более доступными обсуждению
и развитию в научном сообществе), — «академичный» ученик лишь
по видимости доступнее, чем учитель-«лирик». Быть Хайдеггером —
это одно, но философствовать после Хайдеггера — нечто совершенно
иное; Гадамер, вероятно, знал это очень хорошо.
Предварительно мы убедились: Гадамер — это некий «второй»
шаг мышления с опорой на хайдеггеровский (но не только хайдегге-
ровский) экзистенциально-онтологический проект и «прорыв»; это
революция в понимании традиции, переворачивающая наши
представления и о революции, и о традиции, причем (в отличие от
Хайдеггера) — без романтического заигрывания с демонологией прошлого
в пику опостылевшей «буржуазной» (по-русски — «мещанской»)
современности. Переосмысление ценностей мира жизни перед лицом
Kultur и «философии ценностей»; отказ от традиционного презрения
немецких «мандаринов» (в русском контексте, по выражению
отпрыска Рюриковичей А. А. Ухтомского, — «прогнившей русской
"аристократии" и "интеллигентщины"»52) к реальной действительности;
не риторическое, но тем более глубокое понимание «немецкой вины»,
обращенное не внешне на периферию мысли («политику»), но на
глубинное и вечное общественно-политическое ядро мышления и
мыслящего, на смысл научной деятельности и реальных актов
философствования (Philosophieren), — вот что, похоже, образует момент
перехода, трансформации, если угодно — «покаяния» в мышлении
ученика рядом и вослед учителю.
В этом смысле Гадамер — если позволительно снова сослаться на
роман Томаса Манна «Доктор Фаустус» (1947) — это в истории
немецкой философии и научно-гуманитарной мысли Цейтблом после
Леверкюна. Как ни условно и ни уязвимо такое сравнение, но, между
прочим, возражения Гадамера против упомянутого манновского
романа (как и против творчества Т. Манна в целом) как якобы слишком
Цейтблом после Леверкюна
247
«прозаического» и недостаточно «поэтического», — о чем
вспоминал М. Ридель по случаю столетия своего учителя53, — вполне в
духе Цейтблома. (Предпочтение лирической поэзии всякому
другому роду поэзии, в особенности роману, — глубокий
эпистемологический пункт расхождения между немецким мыслителем Гадамером,
который здесь ближе к Хайдеггеру, и его русским современником
М. Бахтиным в пределах, казалось бы, схожих научно-философских
и гуманитарно-эпистемологических программ). Но вопреки или
благодаря известной старомодности, у Гадамера можно заметить
лишенный всякой риторики, прозаически «здравый», даже жесткий
пафос преодоления романтически-авангардистского комплекса
«гениальной личности» — комплекса, в первой части главной его книги
«Истина и метод» (1960) отнесенного не к какой-то отдельной
личности, но к послекантовской истории духовной культуры
(германского идеализма) вообще. (Огромное влияние немецкого «Гейста»
на русскую научную и религиозную «духовность» —
аристократическую дореволюционную, изображенную в классических
исследованиях А. Н. Веселовского и П. Н. Сакулина54, и «массовую» советскую,
еще далеко не исследованную как месть исторического прошлого за
нигилистическое и криминальное отсечение его, — интереснейший
предмет исследований на долгие десятилетия.) Все это, как
представляется, и делает Гадамера, так сказать, менее узнаваемым, более
закрытым и трудным мыслителем, чем даже Хайдеггер. Но что из этого
следует практически, если подступы к ученику представляются нам
даже важнее, чем подступы к учителю?
Речь, видимо, должна идти не только и не просто о «развитии»
учеником идей учителя, но, как отмечалось выше, о повороте хайдег-
геровского поворота в философии, а это значит — о революции в
гуманитарной эпистемологии. Эту революцию невозможно понять
«приватно», в пределах эпистемологии «самой по себе»; переворачивание
«переворачивания»у к которому предстоит подступиться с разных
сторон, обусловлено и опосредовано всей совокупностью событий,
прорывов и провалов «экзистенциальной эпохи», в основном
завершившейся вместе с концом Второй мировой войны и полным
разгромом нацистского режима, демократически избранного в 1933 г. и
в целом поддержанного германской нацией как возможность,
альтернативная русскому коммунизму, с одной стороны,
американизированному глобализму — с другой стороны55.
Во всяком случае, смиренно-обмирщенное, не античное (не
«роковое») переживание и понимание так называемого результата
248
Раздел первый. Переход
человеческой деятельности как «на данный момент ошибки» в свете
безысходного исторического будущего и уже не фатального тварного
несовершенства человека — эта практически-эпистемологическая
позиция в мире истории, которую мы иллюстрировали в вводном
очерке на примере высказывания X. Ортеги-и-Гассет, в случае
благодарного ученика своего учителя, ставшего первым в Германии
ректором-нацистом, должна была стать, употребляя оборот самого
Гадамера, «чем-то совсем иным», чем в случае, скажем, эмигранта
К. Левита или «внутреннего эмигранта» К. Ясперса (не говоря уж об
испанце-эмигранте X. Ортеге).
Методическое (и мировоззренческое) отличие своей
герменевтической философии и эпистемологии от «мышления бытия»
(Seinsdenken) Хайдеггера Гадамер отметил еще при жизни учителя в
предисловии ко второму изданию «Истины и метода» (1965). В нем, среди
прочего, говорится примерно следующее: Хайдеггер установил
проективный характер всякого «бытия здесь» («Dasein»), т. е. описал
понимающую ориентацию жизни на будущее в модусе «заботы»
(«Sorge»); я продолжил этот ход мысли, но связал проективное
понимание и историчность всякого человеческого существования с
«освоением прошлого и традиции». К этому самопониманию своего места
в современной истории философии Гадамер добавляет:
Хайдеггер мог бы усмотреть здесь, подобно многим моим
критикам, отсутствие в моих выводах последней радикальности (die letzte
Radikalität)56.
Отсутствие «последней радикальности» — горделивой,
надменной заявки на абсолют в исторической ситуации продуктивного
кризиса абсолютов как официально разделяемых «всемством»
традиционных общественных и морально-политических идеалов и
теорий — вот что, похоже, отличает ученика от учителя57. И это
отличие, как известно, предвосхитило новую проблемную
констелляцию западноевропейских философских дискуссий, сложившуюся
уже в структуралистскую эпоху (в 1960—1980-е гг.), в особенности
ситуацию «немецко-французского диалога» о судьбах «модерна»
(Нового времени) на пороге его завершения, диалога, в котором в центре
внимания, естественно, было наследие Хайдеггера и прототипа ман-
новского Леверкюна — Ницше58. Напротив, для Гадамера всякая
«последняя радикальность» суть теоретизированное и эстетизированное
ускорение обобщения, «нигилизм» которого — в отрыве от
практического разума, конститутивной составляющей которого является не
Цейтблом после Леверкюна
249
сама по себе «конечность» и «забота» человеческого «бытия здесь»,
не экзистентная единоличность или единоначалие героя, праведника
или гения, но «солидарности» (Solidaritäten) дотеоретического,
донаучного, совместного «бытия здесь» как подлинной социальности59.
Философская герменевтика, или герменевтическая философия,
сделавшись в 1960—70-е гг. благодаря Гадамеру (и его критикам)
философской сенсацией международного масштаба, вышедшей на
какое-то время за пределы академических дискуссий и породившей
огромную комментирующую и критическую литературу, в настоящее
время обрела вид почти само собой разумеющейся, «нормальной»
парадигмы, наряду с другими, уже давно тоже «нормальными»
направлениями современной философии, почти утратившими
первоначальные импульсы и напряжения. В этой новой вечной ситуации
«переобращение», о котором говорилось выше и относительной
кульминацией которого в современной западной философии можно
считать герменевтическую эпистемологию Г.-Г. Гадамера, само нуждается
в переобращении.
Из биографии философа и философии
Гадамер родился в Марбурге-на-Ланне; его отец был заведующим
кафедрой фармацевтической химии (у манновского Цейтблома отец
был аптекарем) в университете города Бреслау (Вроцлав).
Напряжение между гуманитарными и естественными науками, по-новому
осмысленное и проблематизированное Гадамером, имело свой
биографический коррелят, свою персональную подоплеку: отец будущего
философа, по воспоминаниям сына, относился к гуманитариям как к
«болтунам». Тем не менее, вопреки желанию отца Ганс-Георг стал
изучать не естественные науки, а философию и германистику. Учился
в Марбурге (1919) у Пауля Наторпа, крупнейшего (после смерти
Германа Когена в 1918 г.) представителя так называемой Марбургской
школы неокантианства, отталкивание от которой, как нетрудно
заметить, составляет устойчивый мотив гадамеровской мысли на
протяжении всего его творческого пути (что свидетельствует также об
устойчивом влиянии). Первую диссертацию Гадамер написал под
руководством Николая Гартмана, представителя Марбургской школы
нового поколения60. Написал — и «перебежал» из Марбурга во
Фрайбург, от Наторпа и Гартмана — к Хайдеггеру.
Решающим событием в своем философском развитии Гадамер
считал прослушанный им в летний семестр 1923 г. во Фрейбурге курс
лекций молодого Хайдеггера «Онтология. Герменевтика фактичности»
250
Раздел первый. Переход
и едва ли не в большей мере — первый семинар по Аристотелю у Хай-
деггера в тот же летний семестр 1923 г. Ганс-Георг ведь и перебрался
тогда из Марбурга во Фрейбург, собственно, из-за Аристотеля в
интерпретации Хайдеггера.
Дело в том, что еще в Марбурге П. Наторп показал ему текст
Хайдеггера об Аристотеле (точнее — часть текста), который автор
переслал тогда Наторпу как основание для приглашения в Марбург уже
известного, но ничего не печатавшего приват-доцента Хайдеггера.
Речь идет о так называемом «Natorp-Bericht» — программе
большого исследования об Аристотеле (1922); текст этот был утрачен,
но в 1980-е гг. (подобно «Кассельским докладам») обнаружен и
опубликован полностью с введением Гадамера в том же «Ежегоднике
Дильтея» (1989)61.
Вспоминая впечатление от того семинара 1923 г. по
Аристотелю, еще более сильное, чем от текста 1922 г., Гадамер употребляет
серьезное в его устах словосочетание: «настоящая революция» (eine
wahre Revolution). В каком смысле — «революция»? Гадамер поясняет:
Аристотель поистине заговорил с нами в нашей современности (in
unserer Gegenwart)62.
В своей провокативной манере молодой Хайдеггер выдвигал
тезис, от которого, вероятно, перехватывало дыхание у старого П. На-
торпа не меньше, чем у юного Гадамера и других участников
упомянутого семинара 1923 г. А именно: вся западноевропейская философия
исторически черпала понятийно-терминологический аппарат у
Аристотеля, но язык понятий Аристотеля не позволяет подойти к
«фактической жизни» — не только в современном мире, но и во всяком,
включая и тот мир жизни, в котором язык Аристотеля, его онтология,
его «метафизика» только и могли сложиться. Но при этом конкретная
герменевтическая фактичность аристотелевского (и вообще
греческого) мышления такова, что непредвзято понятое, это мышление
оказывается гораздо ближе к нашей современности именно там и
постольку, поскольку мы — не греки, не язычники63.
Таким образом, молодой Хайдеггер мог бы повторить в
отношении Аристотеля мысль, которую, как мы помним, он потом
выскажет в Давосе в дискуссии с Э. Кассирером (1929), имея в виду
Платона: повторить вопрос Аристотеля не значит вернуться к ответам
греков. Это — своего рода новая модель переобращения и
преобразования традиции. Новый диалог с историей философии молодой
Цейтблом после Леверкюна
251
Хайдеггер обозначал словом Destruktion, имея в виду «разборку»
(Abbau) предметных отложений и наслоений традиции, исторически
увековечивших — но отодвинувших в прошлое и закрывших — «из-
начальность» традиции. Иначе говоря, мы как бы через голову
традиции возвращаемся к «источнику» (Ursprung) традиции, вместо того
чтобы только поддерживать и продолжать объективированные, все
более инертные и анахроничные «древности». Позднее, в 1980-е гг.,
Гадамеру придется отстаивать позитивный смысл хайдеггеровской
«деструкции» перед лицом вошедшей тогда в моду французской
«деконструкции», которая сама понимала (и понимает) себя как
продолжение и развитие программы Хайдеггера в смысле «последней
радикальности»64.
Таков в первом приближении апперцептивно-диалогизующий
фон, на котором, в частности, глава «Герменевтическая актуальность
Аристотеля» в главной книге Гадамера65 может быть прочитана не как
далекая и экзотическая «отложившаяся предметность», но и не как
отложившийся исторический «результат» чужой мысли, готовый к
произвольному употреблению или, наоборот, к «антикварному»
употреблению.
Нетрудно себе представить, с каким, мягко говоря, напряжением,
скорее всего, «нормальный» (в куновском смысле) историк
литературы, «нормальный» филолог-позитивист должны отреагировать
на то, каким образом Хайдеггер начал первое занятие, посвященное
«Письмам об эстетическом воспитании» Ф. Шиллера. Хайдеггер в тот
день (4.11.1936) начал так:
«Мы первым делом воздержимся от того, чтобы
охарактеризовать место Шиллера в духовной истории, и не будем рассказывать о
том, откуда он возник и чем он определяется. Мы сразу же поставим
наши вопросы (durchfragen) к "Письмам..." но не затем, чтобы из
общепознавательно-исторического интереса узнать, что именно
тогда происходило; нет, мы спрашиваем ради нас самих (für uns), а
это значит, мы спрашиваем для будущего (für die Zukunft)»66.
Такое, в духе Хайдеггера, несколько ошарашивающее начало,
разумеется, не должно вводить в заблуждение. Сразу же вслед за
приведенной интродукцией следует уравновешивающая оговорка в
духе «духовной истории», и далее лектор, ссылаясь на Канта, сжато
реконструирует историко-философский, историко-культурный
фон «Писем...». Но, действительно, интерес и подступ здесь не
«общепознавательно-исторический», а иной. Что еще может
открыть, чему научить нас Шиллер как автор «Писем об эстетическом
252
Раздел первый. Переход
воспитании»? Хайдеггер спрашивает не о прошлом как прошлом, но
о прошлом «для будущего».
Понятно, что, попытавшись перетолковать Хайдеггера и
одновременно еще раз заклеймить в нем «нациста», — а филолог-позитивист
в подобных случаях, скорее всего, разыграет беспроигрышную
политическую карту, поскольку, не понимая чужую позицию, он или она
не может не ограничиться всего лишь защитой своей собственной, —
на этом пути мы никогда не подойдем к новому пониманию истории
и историчности, которое приоткрывается в только что приведенном
примере и которое, судя по всему, открылось юному Гадамеру на
семинаре по Аристотелю в 1923 г.
Конечно, учитель был слишком «рустичен», а потому и уязвим;
тем труднее подступиться к ученику. (О Хайдеггере С. С. Аверинцев
мог иронизировать, о Гадамере, если не ошибаюсь, он не проронил
ни слова; а А. В. Михайлов, который переводил обоих, учителя и
ученика, тоже как-то обходил Гадамера своим вниманием и словом.) А
между тем подход (скорее именно подход, а не «метод») к «духовной
истории» (Geistesgeschichte) у Гадамера тот же самый, что и у его
учителя. Вот ранняя маленькая книга ученика — «Платон и поэты»
(1934)67, основной вопрос которой можно формулировать так:
поскольку немецкий классицизм и романтизм заново открыли Платона
как художника, поэта мысли, а Платон в «Государстве» дал
беспрецедентную по резкости критику поэтов и поэзии, то сократовски-
платоновский диалог оказывается радикальным вызовом западной
и прежде всего немецкой научно-философской и эстетической
традиции — вызовом, требующим пересмотра традиции
действительно «ради нас самих», и значит, «для будущего». Сплав
беспрецедентно жесткой критики поэзии — и поэзии самой этой критики,
которая ставит (а не только ставила «тогда», damals) под вопрос
традиционную «культуру» и современную Платону «театрократию»68 под
углом зрения общественно-политической природы самой
человеческой экзистенции, — вот в каком совсем не утопическом и не
«политизированном» виде и смысле тема «Платон и поэты» представляет
собою, по Гадамеру, «вызов» (Herausforderung).
Насколько Хайдеггер оказался на высоте им же открытых новых
горизонтов «истории бытия» и «истории мышления» и,
соответственно, на высоте «дела мышления» (die Sache des Denkens), — это
отдельный дискуссионный вопрос; но несомненно, что
«философская герменевтика» Гадамера продолжает академическую традицию,
одновременно ставя под вопрос научный идеализм (ближайшим
Цейтблом после Леверкюна
253
образом — неокантианство). Здесь, следовательно, вводится
принципиально новая конфигурация самой реальности исторического опыта
и «традиции» вообще69. Само отношение между прошлым и
современностью, между «древними» и «новыми» становится «релятивным»
(а не просто «относительным»); «начало» и «конец» преемственности,
именуемой традицией, оборачиваются онтологически-событийными
частями целого — герменевтического круга истории, а в теоретико-
познавательной плоскости — «круговращением понимания».
Встреча с Хайдеггером была решающей, но не определяющей,
если можно так выразиться: отношения учителя с учеником, по-
видимому, никогда не были гладкими (относительно «сгладились»
они в старости); люди были очень разными; ученику, в сущности,
пришлось всю жизнь освобождаться от влияния учителя — влияния, без
которого, естественно, ученика бы не было. Но Гадамер, похоже, был
на редкость благодарным учеником: он долго искал свой путь и нашел
свой путь, избегая резких внешних размежеваний и конфликтов и
обладая крайне редким качеством — учиться на чужих ошибках.
Хайдеггер, по-видимому, научил Гадамера, среди прочего, тому,
чтобы ответственно не доверять себе, — «перемена ума», по-новому
вносившая христианский импульс поведения и мышления в
«неофициальную» повседневность, в отличие от общих предписаний и норм
официального «буржуазно-христианского общества». (Вспомним
по контрасту тезис американского трансценденталиста-романтика
XIX в. Р. У. Эмерсона о self-relience, «доверии к себе»; такова еще
относительно здоровая наивность либерально-индивидуалистической
«робинзонады» — экономической, метафизической или культурной,
предел которой положил Конец Нового времени. В русской
культуре либерально-индивидуалистической робинзонаде
соответствует в плане социологии мышления «помещичий» период духовно-
идеологического творчества XVIII—XIX вв., в области классического
русского романа в принципе завершенный Л. Толстым — что, как
известно, остро осознавал социологически чуткий Ф. М. Достоевский).
Учитель писал своему ученику в 1924 г.:
Если Вы не выкажете достаточной жесткости (Härte) против себя
самого, ничего из Вас не выйдет70.
Из трех самых близких к учителю университетских «детей» Хай-
деггера 1920-х гг. (К. Лёвит, Г. Крюгер, Г.-Г. Гадамер) последний
казался поначалу наименее перспективным. Хайдеггер со свойственной
254
Раздел первый. Переход
ему правдолюбивой бестактностью «деревенщины» давал это
понять с иронической отстраненностью — взгляду который ученик, по
собственному позднейшему признанию, ощущал у себя «за спиной»
на протяжении десятилетий. Ганс-Георг не чувствовал в себе ни сил,
ни тем более дерзости полемизировать со своим научным
руководителем, как это сделал Карл Лёвит уже в своей габилитации «Индивид
в роли ближнего» (1928) — книге, ставшей важной вехой в истории
как «диалогического», так и «герменевтического» мышления (но, что
характерно, — не для самого автора книги)71. По сравнению же с Гер-
хардтом Крюгером (искавшим свою самостоятельность перед лицом
Хайдеггера в кантовском ригоризме и в математике) Гадамеру,
похоже, и вовсе недоставало «доверия к себе» в смысле убежденности в
«правильности» своих суждений72.
Здесь мы подходим к важнейшему пункту творческой биографии
инициатора современной герменевтической эпистемологии — и
одновременно возвращаемся к сказанному раньше. Сознание и
признание того, что в ситуации краха само собой разумеющихся
представлений и ценностей — общественно-политического краха Второй
германской империи, на фоне которого немецкая наука и духовность
вдруг стали казаться глубокой провинцией, а практически все точки
опоры во главе с понятием Kultur как-то вдруг перестали «звучать» и
не оставляли, по сути дела, почвы под ногами73, — в этой общей
ситуации сознание и признание того, что я скорее «не знаю», чем «знаю»,
парадоксальным образом, сделало актуальным и по-новому
современным нечто действительно «изначальное».
Для молодого Хайдеггера таким изначальным в истории
философии был Аристотель, хотя вскоре учитель отойдет и от Аристотеля
(Хайдеггер вообще «бросал» едва ли не всех, кого он умел, как никто,
переоткрыть в истории философии; он словно бы ото всех отходил и
уходил, как персонаж из сказки: «Я от бабушки ушел, я от дедушки
ушел...»). В противоположность учителю Ганс-Георг хранил
благодарность и верность всем, у кого черпал и учился, будь то
предшественники или современники. Из предшественников это тем более
относилось к Платону, чем скептичней относился к Платону Хайдеггер.
Сократовско-платоновский диалог был другим «началом»
западной научно-философской культуры, т. е. существенно иным, чем
по-другому «первые» тексты вышедшего из платоновской Академии
и основавшего свое собственное учебное заведение Аристотеля. Как
известно, более или менее уцелевшие конспекты лекций этого
ученика Платона, дистанцировавшегося от учителя (с тех пор, если не
Цейтблом после Леверкюна
255
раньше, критическое дистанцирование ученика от своего же учителя
в западной философии — в порядке вещей и является условием
возможности движения мышления в поколениях), собственно, и
послужили основой европейской «академической» традиции.
Речь идет, собственно, о жанрах речевого мышления и сознания,
ориентированных на передачу «знания» и на обсуждение трудных и
спорных вопросов. По сравнению с парадигматически Аристотелевой
«наукой», т. е. с «эпистемологическими» жанрами речевого мышления
и сознания, сократовско-платоновский диалог — это скорее
«литература». Но в каком смысле?
Духовная ситуация эпохи уводила Ганса-Георга от
современности к Сократу и Платону для того, чтобы понять свою же
современность там, где современники, блюстители философской
традиции и держатели акций культуры, а равно и их оппоненты были
менее убедительны, чем те, кто жил и говорил в истоке философской
традиции, не помышляя при этом ни о дивидендах, ни даже о
«традиции». Философское сомнение в собственных философских
возможностях в годы учения ощупью вело будущего автора «Истины и
метода» к открытию, которое в философском сообществе стало по-
настоящему осознаваться уже после выхода в свет этой книги —
разумеется, далеко не только в связи с Гадамером. Речь идет о
принципиальном взаимоотношении между философией и научными
дисциплинами (во множественном числе!). Для Хайдеггера (как до него
для Ницше, а после него для Ж. Деррида и отчасти даже для М. Фуко)
было важнее освободить мышление от связанности его с наукой,
которая в философском смысле «не мыслит». Для Гадамера, казалось
бы, тот же самый ход мысли имеет противоположную
направленность, нейтрализующую «последнюю радикальность» мышления.
Молодой Гадамер ищет себя в Марбурге 1920-х гг., занимаясь,
наряду с сократовски-платоновским истоком философствования,
гуманитарными науками, г именно — классической филологией и
теологией. Его теологическим наставником был Рудольф Бультман,
филологическим — Пауль Фридлендер, а коллегой и продуктивным
оппонентом — Вернер Йегер. Работая над диссертацией о платоновском
«Филебе», Гадамер одновременно сдал государственный экзамен по
классической филологии (1927). Любопытно, что Хайдеггер, может
быть, впервые «поверил» в этого своего ученика как философа после
того экзамена, на котором он присутствовал74. Вероятно, учитель
тогда что-то такое новое для себя заметил в ученике, которого
поначалу недооценивал.
256
Раздел первый. Переход
Как бы там ни было, Гадамер, возможно, раньше многих сделал
для себя открытие, которое до него на своих путях — и тоже не
«теоретически», но «практически» — сделал К. Маркс, засев в эмиграции
в библиотеке Британского музея за политическую экономию — и
постольку в определенном смысле «начав» современную философию75.
В лице Гадамера философия становится новой по своему типу
философией гуманитарного мышления — современной гуманитарной
эпистемологией, а это значит, прежде всего — «критикой» наук
исторического опыта, критикой не «против», а «за».
После защиты габилитационной работы «Интерпретация
платоновского "Филеба"» (опубликована под названием «Диалектическая
этика Платона», 1931) Гадамер преподает с 1929 г. в Марбурге, с 1939 —
в Лейпциге, где в 1946 г. (сохранив в годы нацистского режима личную
репутацию незапятнанной) он становится ректором университета.
Правда, выдержав нацистский режим, он не выдержал советский
оккупационный и уже на следующий год перебирается в Западную
Германию (во Франкфурт), а с 1949 г. наследует кафедру К. Ясперса в Гей-
дельберге, где и преподает на протяжении двух десятилетий вплоть
до выхода на пенсию (1968). После этого у Ганса-Георга начинается, по
его выражению, «вторая юность»: с 1968 по 1988 гг. он регулярно
преподает в США, читает лекции в Италии и других странах. Собрание
его сочинений — десять красных томиков мелким шрифтом, с
авторскими предисловием и примечаниями в каждом томе — выходило
в 1980—90-е гг. 11 февраля 2000 г. в Гейдельберге торжественно
отметили столетие философа; в связи с юбилеем был издан ряд
посвященных этому событию сборников статей. Первая биография вышла
еще раньше (1999). Долгожитель среди людей и философов, Гадамер
умер 14 марта 2002 г. в Гейдельберге.
Фронесис
В «Истине и методе» — как и во всем творчестве Гадамера — так
много всего разного, что если мы хотим в чем-то из этого всего
разобраться, то придется ограничиться очень немногим.
Общие обзоры и оценки «философской герменевтики», которые
были возможны тридцать лет назад76, сегодня, естественно, уже
недостаточны, а первые постсоветские ненаивные попытки разобраться77
еще долго будут оставаться единичными и приватными.
Гуманитарная, или герменевтическая, эпистемология Гадамера — это
феноменология и эпистемология «разговора» как «парадигмы» мышления —
нового, но более традиционного, чем традиции Нового времени,
Цейтблом после Леверкюна
257
способа (точнее, направления) мыслить и понимать мир, историю,
человека, общество, текст и само мышление. Принципиальный ход
мысли хайдеггеровско-гадамеровской герменевтической философии
мы, кажется, поняли: нужно вернуться к «грекам» для того, чтобы
нам самим освободиться от чудовищной инерции традиции греческой
«метафизики» и «теории» — инерции, радикализованной наукой
Нового времени; но при этом именно у греков можно и должно учиться
чуткости к реальности, к бытию, утраченной как раз из-за
исторического воздействия греческих образцов, идеализированных и
постольку «забытых» традицией. В этом — позитивность и
продуктивность «круговращения понимания». Попробуем теперь — очень
избирательно — подступиться к этому ходу мысли более конкретно.
Предисловие к «Истине и методу» начинается со следующих
утверждений:
Предлагаемые исследования посвящены герменевтической
проблеме. Феномен понимания и правильного истолкования понятого
является не только специальной методологической проблемой наук
о духе. С давних пор существовала также и теологическая и
юридическая герменевтика; и они по своему характеру были не столько
научно-теоретические, сколько соответствовали и служили
практическим действиям научно-образованных судьи или священника (38).
Что, собственно, этим сказано или, иначе, какой смысл книги
здесь уже «предвосхищен»?
Автор предупреждает, что речь у него пойдет не только и даже
не столько о том, о чем обычно идет речь в связи с «герменевтикой».
Как бы через голову Дильтея, для которого герменевтика (теория
понимания и истолкования текстов) переросла в методологическую
проблему наук исторического опыта, гуманитарного мышления
вообще, Гадамер обращается к более раннему (до-дильтеевскому и до-
шлейермахеровскому — доромантическому) «практическому»
пониманию герменевтики. Ведь теологическая и юридическая
герменевтика были, строго говоря, не «теоретическими» дисциплинами, но
всегда служили конкретным практическим задачам. Отсюда акцент
на «применении» (Anwendung).
Гадамер, таким образом, начинает свою главную книгу с того, что
в известном нам обращении «К русским читателям» получит краткую,
кратчайшую формулу:
Герменевтика — это практика78.
258
Раздел первый. Переход
Что это может значить, если в порядке предвосхищения смысла
как-то понятно, что за хорошо знакомым словом «практика» стоят
особые, исторически конкретные традиции, «другая» парадигма
философской и научно-гуманитарной мысли?
Образованному священнику герменевтика помогала передавать
истину христианского Откровения его пастве, т. е. учила применять
какую-то мысль или рассказ из Ветхого или Нового Завета к данной,
современной социальной ситуации, каковой, собственно, и является
(точнее, всякий раз должна быть «по идее») христианская проповедь.
Юридическая герменевтика, со своей стороны, тоже гораздо старше
того, что в XIX и XX вв. стало привычным понимать под
«герменевтикой». В юриспруденции, в суде дело идет опять-таки не только и
даже не столько об адекватном чтении и понимании текста закона;
здесь подлинная задача «понимания» состоит в том, чтобы всякий
раз (т. е. в каждом конкретном случае) переводить формулу закона в
конкретную ситуацию для того, чтобы разрешить судебный «казус».
В том и в другом случае, в богословии и в юриспруденции, суть дела
не в законе, не в правиле, не в заповеди самих по себе («в себе»), не в
их содержательно отвлеченном содержании просто; понять закон,
заповедь, норму — значит практически применить когда-то кем-то
открытое, сформулированное, записанное, ненаучно выражаясь — «к
жизни». Истолкование (интерпретация) закона, нормы, заповеди —
это интерпретация текста, но не ради текста самого по себе, но ради
затекста реальной («вот этой») ситуации, в которой авторитетный
смысл текста, оставаясь «буквально» тем же самым, расширяется
посредством неформального включения «бытия здесь». Такое
переобращение, переосвещение, перемещение сказанного когда-то «тогда»
в снова и по-новому произносимое, значимое здесь и теперь слово
может осуществить только наш современник, современник «для нас».
Опосредованный традицией современник, способный сделать
разновременное одновременным, — это и есть «второе сознание»,
ведущее понятие (и реальность понятия) гуманитарной эпистемологии.
(В религиозно-философской программе С. Кьеркегора таким «вторым
сознанием» является ученик и последователь бога-учителя —
«настоящий современник» Христа, способный учиться и укрепляться в вере
не непосредственно в общении с учителем, но посредством перевода
переживаемого события такого общения-обучения в со-временности,
или «одновременности».)
Следовательно, феномен «понимания» имеет донаучный, доте-
оретический — «практический» — смысл и значение. Священник и
Цейтблом после Леверкюна
259
судья оба стоят перед задачей «осовременения» (модернизации)
традиции, а это значит — реализации идеи, правила, смысла, т. е.
применения «общего» к «необщему», к ситуации «бытия здесь». То, что по
своему смыслу было, так сказать, в авторизованном затекстуальном
начале текста, в решении и поступке законодателя (Urheber), для нас
должно стать тем, чем оно никогда не было до нас — и постольку уже
было с самого начала.
Вообще говоря, традиция, предание (Überlieferung) имеет две
основные формы исполнения, а именно — «ритуализация» и
«реализация»; обе исключают друг друга лишь там и постольку, поскольку
не могут нормально дополнять одна другую. Традиция не пострадает
от ритуализации, если традиция реализуется, т. е. осовременивается,
а ритуал не вырождается в формальное «мероприятие». Как в случае
священника, так и в случае судьи дело идет не о «творчестве» (в
привычном после романтизма смысле этого слова) и не о «произведении»,
но скорее о «воспроизведении» или, как сказал бы Кьеркегор, о
«повторении», которое неповторимо, поскольку у всякой историчности —
свое уникальное лицо, сквозь которое — в то же самое время —
проглядывает всегдашнее, «вечное», в чем нет, разумеется, ничего
особенно мистического и что гораздо шире только «мифического». Таким
образом, инициатива «второго сознания» не просто воспроизводит
готовый образец, но и просто изменяет образец, модернизируя его.
Для историка и филолога, в сущности, стоит та же практическая
задача неформального воссоздания-воспроизведения-повторения
смысла события или текста в качестве «интерпретации»; но, в
отличие от священника в церкви или судьи в суде, историк или
филолог работает в публичной библиотеке и в своем кабинете, его
деятельность гораздо более опосредована, т. е. не имеет прямого
отношения к современности историка или филолога, а значит, —
прямого отношения к жизненной практике. Филологическая
герменевтика имеет дело с «текстом» как таковым, историографическая
герменевтика — с текстами как «документами» прошлого, реальность
которого для историка, в отличие от филолога, не совпадает с самим
документом и не замкнута в текст как «памятник»79. Но именно поэтому,
надо полагать, филологу еще труднее, чем теологу, практически
осуществить задачу «интерпретации» — задачу относительного
завершения навечно предвосхищенного смысла канонического текста,
оригинала, подлинника — в нашем современном «бытии здесь».
Таким образом, автор «Истины и метода» начинает с основного
напряжения и с проблемы разрешения этого напряжения. Гадамер
260
Раздел первый. Переход
делает акцент на «практическом действии» (das praktische Verhalten)
судьи или священника. С самого начала речь идет о чем-то таком,
что, бесспорно, включает методологическую проблему гуманитарных
наук, но вводит эту проблему в иное измерение, в более объемлющий
контекст и затекст бытийных взаимосвязей. Не понимание текста,
но понимание жизненного мира, т. е. онтологически-событийного «за-
текста» — вот что становится «заботой» новой, «неклассической»
герменевтики на путеводной нити уходящей в прошлое конкретной
историчности Dasein.
Романтическая герменевтика в лице теолога и филолога Ф. Шлей-
ермахера сделала приоритетной филологическую герменевтику, т. е.
сделала культурно приоритетным «текст». Даже осуществленный в
гуманитарной эпистемологии В. Дильтея перенос принципа текста
на все вообще «проявления жизни» (Lebensäusserungen) не ослабил,
а, наоборот, усилил и универсализовал филологизирующую
парадигму «понимания» постольку, поскольку — задолго до Ж. Дер-
рида — «все стало текстом». Разумеется, в XIX в, такая текстуали-
зация и филологизация мира и смысла носила еще идеалистический
характер, еще не стала полной изнанкой-двойником «когитального»
субъективизма Нового времени, пророчески подмеченного, как мы
помним, еще Вико у Декарта. Ненаивным, вызывающе-циничным
и агрессивным принцип текстуальности станет лишь в
структуралистскую эпоху 1960—90-х гг. Но — «В моем начале — мой конец»,
как сказано у Т. С. Элиота: исторически мотивированная и
продуктивная односторонность романтизма и девятнадцатого века уже
«задает» относительный отрыв прошлого от современности,
мышления от созерцания, а их обоих — от практики. Этот процесс
овеществления и отчуждения текста от затекста, восприятия от
мышления, практики от текста в сознании и мышлении исследователя Га-
дамер называет в другом месте своей книги «эстетико-историческим
позитивизмом» (363).
Эстетико-исторический позитивизм — парадигма,
сложившаяся в XIX в. благодаря революции в способе мышления,
происшедшей в 1790-е гг. (преимущественно в Германии) на почве
идеализма и романтизма, и в своем «нормальном» распространении
и формализации в образовании и культуре «научно» узаконившая
разрыв между историей как историческим документом и
«текстом» прошлого — с одной стороны, историей как
современностью историка, филолога, культуролога и т. п. — с другой стороны.
«Эстетико-исторический позитивизм», моделью которого является в
Цейтблом после Леверкюна
261
особенности филологическая герменевтика, установленная на
классический текст как на идеальный, вневременной образец, как бы
изъятый из времени, в принципе (парадигматически) игнорирует
реальную включенность познания и понимания во время (исключает
«момент», как сказал бы С. Кьеркегор) — включенность, которая не
является чем-то случайным и внешним для понимания
практикующего врача, священника или юриста, но даже и практикующего
филолога, который вроде бы только «читает тексты».
В случае филолога или историка герменевтика тоже —
практика; здесь тоже имеет место, по слову Гадамера, «сопринадлежность»
(Zugehörigkeit) (M. M. Бахтин, соответственно, говорит о
«причастности», «причастной вненаходимости», «взаимной вненаходимости»
и т. п.) между предметом исследования и вот этим исследователем
в его «бытии здесь», между текстом и его читателем (все равно —
«просто» читателем или специалистом, престиж и хлеб насущный
которого зависят от того, как он сумеет понять текст).
Таким образом, анализ первых строк «Истины и метода»
(предисловия) показывает направление переворачивания («революции»)
в истории духовной культуры и «наук о духе». Это тоже, как у Хайдег-
гера, «переворачивание» (Umkehrung), хотя и другого рода. Речь идет,
понятно, сразу об очень многих вещах, из которых здесь стоит
выделить и подчеркнуть три момента.
Во-первых, моделью «постклассической» (постидеалистической
и постромантической) герменевтики и — шире — гуманитарной
эпистемологии в условиях Конца Нового времени должна стать для
светских историко-герменевтических дисциплин снова и по-новому
юридическая герменевтика. Юридическая герменевтика служит
реальности общества и государства самым непосредственным образом
(мечтой Вико, так и не осуществленной, было стать профессором
права). Это означает не принижение филологии, но указывает на
возможность ее обновления. Ведь практический элемент самого
феномена понимания — «применение» (Anwendung) — оказался более
или менее «забыт» в филологии и в историографии и чудовищно
искажен «эстетико-историческим позитивизмом» XIX—XX вв. как в
его научно-позитивистском облике, так и в совершенно неизбежно
вновь и вновь порождаемом самим позитивизмом двойнике
(изнанке позитивизма). Такой изнанкой и «дурной памятью»
позитивизма и эмпиризма последних двух столетий является, как
отмечалось, эстетическая метафизика романтического образца, уже
полтораста лет как утратившая свою эпистемологическую и социальную
262
Раздел первый. Переход
почву и постепенно спустившаяся «вниз», в так называемое
«массовое сознание». Месть вытесненного Двойника (в свое время
изображенная Достоевским) неизбежна там и тогда, где и когда
«позитивной науке» нечего сказать своим современникам («человеку с
улицы»), где и когда, следовательно,разговор между современниками
исключен. «Возвращение вытесненного» заявляет о себе во
враждебных самому духу науки и познания экзистенциальных экстазах
масскульта вплоть до сегодняшнего дня. Наивно в наше время
оценивать подобные вещи как только невежество, рессентимент или
«иррационализм».
Во-вторых, Гадамер дает понять, что речь у него пойдет о
«практическом» измерении социально-исторического опыта «бытия здесь».
Это измерение не только предшествует методологическим проблемам
наук о духе, но само нуждается в методическом прояснении. А это
требует поставить под вопрос самый принцип научной методологии
Нового времени — не для того, чтобы принизить и оттеснить науку и
метод, а, наоборот, для того чтобы обновить и усилить ее абсолютный
исторический источник.
В-третьих, в основу герменевтического разума положен
«практический разум» не столько в кантовском, сколько в аристотелевском
смысле практической сметливости и находчивости, практической
«рассудительности» («фронесис»). Именно в этом пункте Гадамер
идет дальше Хайдеггера в направлении обоснования и оправдания
«конечности» (Endlichkeit) «бытия здесь», оказываясь в то же время
дальше^ насколько это возможно, от «последней радикальности», к
которой тяготеет монологическое мышление «теоретика».
Уберечь теоретический, как и практический, разум от
саморазрушительной «затеоретизированности» (утопичности) Нового
времени и Просвещения путем переобращения к первичным жизненно-
практическим формам мышления и поведения в обществе и
государстве, но при этом на новом, современном эпистемологическом уровне
и основании, — такова принципиальная задача герменевтической
философии и эпистемологии — «критики нечистого разума»80.
Тем самым мы оказываемся в исходной точке предвосхищения
смысла книги «Истина и метод» в ее целом, а именно — перед смыслом
заголовка книги, который, как всякое название, пытается
одновременно сомкнуть и разомкнуть герменевтический круг, т. е. соединить
начало и конец пути, замысел и осуществление замысла.
Цейтблом после Леверкюна
263
Истина и ллетоо
Научный идеал познания в Новое время ориентирован на
достоверность и надежность метода познания. Историко-метафизическим
исходным пунктом такой ориентации, как известно, является в
особенности концепция Р. Декарта. В «Правилах для руководства ума»
(второе правило) сказано так: нужно заниматься только такими
предметами, в отношении которых можно достичь «достоверного и
несомненного знания»81. Хайдеггер на Цолликоновских семинарах
вспоминает по этому поводу соображение Ницше: «Не победа науки
отличает наш девятнадцатый век. Но победа научного метода над
наукой». Хайдеггер так комментирует это положение:
Метод больше не мыслится здесь как инструмент, с помощью
которого научное исследование обрабатывает уже установленные им
предметы. Метод извлекает из предметов саму предметность таким
образом, что о предметах теперь можно говорить лишь постольку,
поскольку полагание определений предметности вообще имеет еще
какую-то онтологическую валентность82.
«Метод» буквально значит: «направление или масштаб пути».
Первоначально это слово обозначало инструмент научного
исследования, направленный на предметы. У Декарта (как и у Галилея и
многих других) метод устанавливается до всякой предметности —
постольку, поскольку что-то вообще допускается в качестве предмета
научного исследования. Допускается, следовательно, то и только то,
что поддается достоверному и несомненному познанию (по образцу
математики). Исходным, первичным в этой системе мышления
является не сам предмету но метод. Ницше (хотя он и не ссылается на
Декарта) видит в таком подходе победу над самой наукой. Понятно
почему: наука тем самым теряет связь с предметом и редуцируется до
своего собственного метода (отождествляясь с ним). Намеренный,
методический объективизм такой «научности» имеет своим
неизбежным дополнением — субъективизм. Хайдеггер, как видим, еще
обостряет мысль Ницше. Вследствие методической установки наука
и вовсе превращается в средство (Bestand) для обработки,
употребления и потребления.
Этот небольшой экскурс позволяет лучше понять ход мысли
автора «Истины и метода». В цитировавшемся предисловии Гадамер
говорит, что в его книге речь пойдет о совершенно традиционных,
самых традиционных для философии вещах — о «познании и истине»
264
Раздел первый. Переход
(um Erkenntnis und Wahrheit); правда, о познании и об истине не в
смысле науки Нового времени (не в ее «горизонте»). Как это понять?
Гадамер говорит не вообще об истине, но о «герменевтической
истине». Герменевтическая истина существует не «вообще себе» (в
себе); она вырастает из понимания предания (традиции). Именно
потому, что в герменевтике (как и в диалоге) вопрос об истине
чрезвычайно усложняется по сравнению с более традиционным
(«монологическим») представлением об истине, Гадамеру важно сразу
подчеркнуть, что традиционная философская и эпистемологическая (а не
филологическая) проблематика для него — главное; что если он
начинает с герменевтики, то это надо понимать не так, что речь у него
пойдет просто о чтении текстов; скорее в связи с исконными
проблемами герменевтики речь пойдет о том, каким образом
«вырабатываются представления и постигаются истины» (Einsichten erworben und
Wahrheiten erkannnt) (38; перевод несколько скорректирован).
Перед нами, очевидно, та же самая мысль (точнее, направление
мысли), которую мы прояснили для себя в первых трех
предложениях «Истины и метода», с той, правда, разницей, что теперь вопрос
ставится не внутри традиционной герменевтики, а внутри
эпистемологии. Ведь традиционная эпистемология «номологична» (по
терминологии Г. Риккерта), т. е. не гуманитарна.
Мы здесь, похоже, подошли к такому событию современной
мысли, которое очень приблизительно может быть названо «сменой
парадигмы» и которое целесообразно помыслить не как завершенный
результат, но как «предвосхищение смысла». Кант здесь и точнее, и
шире, чем Т. Кун, поскольку словосочетание «революция в способе
мышления» (Revolution der Denkart) в интересующем нас случае
относится к центральной практической проблеме современной
гуманитарной эпистемологии, а именно — к преобразованию (а не «смене»)
самого взаимоотношения между так называемыми опытными
(экспериментальными) науками — с одной стороны, и науками
исторического опыта («гуманитарными») и философией — с другой.
В своем переводе и комментарии к «Никомаховой этике» Гадамер
комментирует, частности, греческое слово SYNESIS, которому в
немецком соответствует слово Einsicht — «воззрение», «узрение»,
«познание». У Аристотеля это понятие
приписывается к основной герменевтической добродетели, которая
ведь, что ни говори, в нашей литературной культуре
подразумевает не только дружеский совет или оценку поведения другого челове-
Цейтблом после Леверкюна
265
ка, но также целое (das Ganze) доступного пониманию и уразумению
опыта других людей, у которых мы учимся83.
Einsicht, следовательно, означает здесь, что кто-нибудь, «исходя
из знания о себе самом, понимает ситуацию другого» (там же).
Здесь все же позволительно спросить вслед за X. Феттером: а что,
если, наоборот, исходить из ситуации «другого» и поставить под
вопрос себя самого, т. е. собственное знание?84
Во всяком случае, критика «метода» в «Истине и методе»,
вызвавшая множество недоразумений, как всегда у Гадамера,
направлена не на отрицание, а на позитивное переосмысление. Метод
необходим, но его следует опасаться как искушения, потому что метод
основывается на возможности повторять известные, опробиро-
ванные ходы исследования, уже ничего не исследуя, подменяя
истину предмета самим методом, который таким образом становится
на место истины — становится, выражаясь языком классической
русской литературы, «самозванцем». На этом пути научное
исследование как раз теряет «путь», порывает с истиной предмета и
перестает что-то исследовать. Это особенно проявляется в гуманитарных
исследованиях, где верификация высказываний затруднительна,
а «симулякры» не только встречаются, но и в определенные эпохи
даже претендуют на нормативный статус. Полвека назад, правда, Га-
дамер еще не имел перед глазами (как имеем сегодня мы) все
последствия «убиения» автора в гуманитарно-филологическом
исследовании и в философии XX века. Но в цитировавшейся уже статье «Что
есть истина?» (1957) он говорит о тенденции, которая в «нулевые
годы», т. е. уже после структуралистской эпохи и опираясь на ее
авторитеты, приняла масштабы, в других случаях жизни обозначаемые
криминальным термином повседневного словоупотребления —
«беспредел». Гадамер говорит о таких научно-исследовательских
поделках,
в которых в предисловиях и послесловиях, а особенно в
примечаниях слишком явно показывается Метод, которым они сработаны. Но
действительно ли так ставится вопрос о чем-то новом?
Действительно ли там что-то познается? Или же в таких работах настолько
хорошо подражают Методу познания и схватывают его во внешних
формах, что таким образом создается впечатление научной работы?85
Научный принцип «метода» Нового времени, радикализованный
русскими формалистами в начале Конца Нового времени в качестве
266
Раздел первый. Переход
«принципа остран(н)ения»86, по своеобразной логике «кривизны»
исторического опыта привел к пародийно-карикатурному
возвращению и повторению античного принципа «подражания»
(«мимесиса»), но теперь уже не в теории и практике искусства, не в эстетике,
а в самом научном исследовании.
Если сегодня мы хотим продвинуться, традиционно выражаясь,
«вперед», или, выражаясь трезвее, хотим противостоять глобальной
ситуации распада самой предметности научно-гуманитарного
исследования, то мы должны обратиться к основаниям до всяких
«оснований». Не к конструкциям или деконструкциям, не к «разнузданной
игре пустой объективности»87, в которую неизбежно должны
переобратиться теоретический и эстетический разум на стадии «пост»,
т. е. на стадии утраты ими внутренне убедительных, внутренне
авторитетных идеализации, но к некоторой объективной, хотя и не
объектной «фактичности» исторического «бытия здесь».
Опыт
Из сказанного ясно, что «метод» обозначает такое понятие и
такое притязание науки Нового времени, при которых способ бытия
и границы предметности определяются заранее. А между тем
«истина», очевидно, — это все-таки что-то иное. Истина «задана» не как
метод, но как предвосхищение смысловой полноты опыта; и эта
полнота уже дана (как в любом тексте), т. е. предшествует всякой науке
и всякой теории. Иначе говоря, «эмпирика», как ее все более
свысока понимало научно-философское мышление Нового времени,
коренится в некотором Эообъективированном, Эоопредмечиваемом
опыте, в EMPEIRIA более изначальной, но не такой уж демонической
и «иррациональной», какой представлял и представляет ее
«рационализм», который, как это бывает при всяком догматическом
окостенении и омертвении, сам становится иррациональным.
Сегодня нам трудно представить себе какую-то еще другую
науку, кроме той, которая утверждается и считается достоверной
(считается у так называемых экспертов). Ведь мы привыкли
принимать что-то за истинное лишь тогда, когда это поддается научной
верификации. Истинным тогда считается лишь то, что соответствует
эмпирическому, или эмпирицистскому, критерию. Авторитетный
последователь такой точки зрения, Вольфганг Штегмюллер,
решительно утверждал в работе «Основные направления современной
философии»:
Цейтблом после Леверкюна
267
Верифицируемость какого-нибудь высказывания образует
необходимое и достаточное условие для того, чтобы рассматривать его в
качестве эмпирически осмысленного88.
В соответствие с этим критерием всякий опыт основывается на
чувственных данных. Предложение: «Юпитер живет на небесах» — не
имеет смысла постольку, поскольку невозможно привести или
представить условий истины этого предложения — условий,
соответствующих нормальному восприятию. Если следовать этому воззрению, то
все метафизические высказывания не имеют смысла (бессмысленны);
ведь они не соответствуют этому критерию.
И, тем не менее, автор «Истины и метода» упрямо держится за
понятие истины в смысле несокрытости некоторой Sache. Несокры-
тости, которая впервые делает возможным познание*9.
Понятие «несокрытости» (Unverborgenheit), которое Гадамер
воспринял от Хайдеггера, учитель тоже не изобретал. Филология
выработала это понятие до и независимо от Хайдеггера. Но Хайдеггер сделал
его продуктивным для философии90.
Почему Гадамер не отказывается от понятия истины? Потому что
это было бы резиньяцией, признанием победы нововременной науки,
т. е. осуществленной ею редукции к «методу». А между тем
существуют массивы опыта, которые не вписываются в рамки
методического познания. В первую очередь это относится к искусству. Никто,
за исключением разве что любителей «заумного языка», формалистов
и утопистов, не станет всерьез утверждать, что искусство тем и
прекрасно, что оно бессмысленно. Очевидно, мир искусства все же имеет
какое-то отношение к смыслу и истине; но с точки зрения критерия
верификации искусство может не выдержать даже самого
примитивного экзамена, оно как бы выпадает из сферы истины и смысла. Тем
самым искусство оказывается вызовом. Но не только искусство.
Критерий верифицируемости не приложим также к опыту
жизненного мира — того мира, в котором, говоря словами раннего
Бахтина, «мы живем, творим, мыслим и умираем»91. В «Истине и
методе» исследуются в основном три области опыта жизненного мира:
1) история философии, 2) искусство, 3) опосредование
исторической традиции «науками о духе» (т. е. науками исторического опыта).
Общее этим трем областям опыта — прошлое. Но не само по себе
прошлое, а такое, в опыте которого современность вправе и в силах
участвовать в качестве «второго сознания»; причем посредником, или
«средой», такого — «герменевтического» — опыта является язык в его
268
Раздел первый. Переход
идеальности и в его материальности. Здесь, следовательно, за
изначальное берется некоторый «образец», или «оригинал», но не в
качестве идеального образа-образца, а в качестве некоторой
реальности — реальности опыта «другого». Тем самым традиционные
представления, как, например, «подражание (античным) образцам»,
«продолжение классических традиций» и т. п., как бы неожиданно
приобретают по-новому прежний смысл. «Цель всякого обращения к
прошлому, — замечает в этой связи упоминавшийся современный
исследователь герменевтической эпистемологии Хельмут Феттер, —
испытание (Erprobung) собственной современности, которая соизмеряет
себя с "другим", возможно, более значительным»92.
Можно сказать так: гуманитарная эпистемологии имеет своим
основным предметом перерабатываемый специальными научными
дисциплинами опыт, точнее — опыты, которые относятся к
различным областям бытия сущего, к различным «региональным онто-
логиям» (будь то опыт научной работы, опыт искусства, опыт
преподавания в школе или вузе, и т. д. и т. п.). Все эти возможные опыты
по-особому достоверны и по-особому верифицируемы. — Что значит
«по-особому»?
Высказываться об опыте — значит дистанцироваться от него;
но в гуманитарном мышлении и познании высказываться об
опыте приходится, так сказать, оставаясь при опыте, притом как в
отношении предмета опыта, так и по отношению к высказыванию
об этом предмете. Для искусства это естественно, для науки и
научно ориентированной философии — затруднительно. Но отказ
от решения этой задачи грозит полным отчуждением гуманитарного
познания от предмета познания.
Главу о понятии «опыта» в «Истине и методе» Гадамер назвал
(в предисловии ко второму изданию книги) «ключевой». Та или
иная специальная научная дисциплина исторически всегда в
опасности: она, по Хайдеггеру, «не мыслит» постольку, поскольку в
процессе применения верифицируемых, традиционных, надежных
понятий наука может даже не заметить утраты реальной
предметности, собственно предмета разговора. Наука, таким образом, в
тенденции может прекратить свое существование, т. е. перестать вообще
«понимать» что-то новое или по-новому, множа, однако, свои ряды,
свои виртуально-бюрократические «инновационные программы»
и т. п. Принцип обобщения, радикализация античного концепта
«theoria» в условиях завершенной демократии начинает работать
против познания, в обход реальности опыта (его «герменевтической
Цейтблом после Леверкюна
269
фактичности»). Вот откуда у Хайдеггера (в более взвешенной
постановке вопроса и Гадамера) мотив исторической вины философии и
науки перед жизнью за растление и аннигиляцию бытия в научно-
техническом «поставе» (Gestell), за катастрофу не столько культуры,
сколько жизненного мира.
Речь, таким образом, идет об универсальной задаче
практического свойства. Универсальное притязание на истину, с которым
выступила и выступает герменевтическая философия и эпистемология
Гадамера, ближайшим образом, понятно, относится к всегда новому
старому вопросу о существе, или сущности, философии. Именно той
философии, которая остро ощущает себя перед вызовом, точнее —
двумя вызовами. Один вызов уже упоминался — это вызов со
стороны опыта и мира искусства; о нем мы поговорим ниже. Другой
вызов — это вызов истории, историчности опыта.
Поэтому одна из важнейших частей того целого, незавершенным
«предвосхищением» которого является философская герменевтика
Гадамера, — это вопрос о том, в каком отношении философия
находится к своей истории.
История философии как вызов философии
Прочитаем и разберем другой еще пассаж из того же
предисловия к «Истине и методу»:
К элементарному опыту философствования относится то, что
классики философской мысли, когда мы пытаемся понять их,
выдвигают такое притязание на истину, которое современное сознание не в
силах ни отклонить, ни превзойти. Наивное самочувствие
современности может возразить на это, что философское сознание тем
самым заранее признает, что его собственное философское познание
стоит на более низкой ступени, чем мышление Платона и
Аристотеля, Лейбница, Канта или Гегеля. Можно, конечно, видеть
определенную слабость современного философствования в том, что оно
обращается к истолкованию и разработке классического наследия
философии, так откровенно признавая свою несоизмеримость с ним.
Совершенно ясно, однако, что гораздо большей слабостью
является такая установка философствующего, когда он предпочитает
вообще не подвергать себя подобному испытанию философской
классикой и валять дурака на свой страх и риск. Что в текстах великих
философов постигается истина, недостижимая никаким другим
путем, — это следует признать, пусть даже подобное признание
противоречит тому масштабу исследования и прогресса знаний, которым
270
Раздел первый. Переход
измеряет себя современная наука (39—40; перевод несколько
скорректирован.)
Сказанное можно пересказать и переместить в наше «бытие
здесь» примерно так:
Всякое удержанное традицией подлинное познание, «воззрения»,
Einsichten философской классики — это не «дело прошлого», но такой
опыт, которому современное сознание, по меньшей мере, должно
дать место, признав, что этот опыт превосходит его. Если бы эти
«воззрения» были только прошлым, такое признание вообще не имело бы
смысла. Платон и Аристотель стоят в отношении к нам не так, как
прошлое относится к настоящему; они находятся к современному
философствованию в отношении одновременности.
«Одновременность» (Gleichzeitlichkeit) — понятие, которым Га-
дамер пользуется вслед за Кьеркегором и опираясь на него, — но не
в теологическом измерении, которое преимущественно интересовало
этого датского критика Гегеля, порабощенного объектом собственной
критики. Не общее понятие для различных эпох, но
дифференцированное единство опыта во времени истории (Бахтин, соответственно,
говорит о «большом времени») — вот что является условием
возможности того вызова, который исходит от философской классики.
Платон и Аристотель, Кант и Гегель — каждый более или менее
«классический», более или менее великий мыслитель прошлого
фактически притязает в своем мышлении на актуальную вечность своих
истин, своего смысла, который во времени остается скорее
предвосхищенным, чем завершенным (реализованным).
Вот почему попытки строить «фундаментальную» Философию на
как бы готовом материале «истории философии» — проблематичны
все до одной (после Гегеля), а подчас и смехотворны. Фатальный,
жанровый недостаток всех учебников философии (вообще говоря,
совершенно необходимых, а иногда даже гениальных в своем роде) — в
том, что они вынуждены «нарративировать» изложение предмета
таким образом, чтобы представить философскую классику и ее
воздействие как относительно завершенные события. Но подлинная
опасность для философствования исходит, понятно, не от учебников,
а от презумпции, которую, явным образом, имеет в виду Гадамер в
приведенном пассаже.
Никто в здравом уме не станет не только вслух, но и про себя
считать, что современная философия «преодолела» свою собственную
историю; однако фактически это «делают» сплошь и рядом даже не
Цейтблом после Леверкюна
271
столько в силу давления «современных стандартов», сколько в силу
предрассудка научного прогресса, относительно законного в научном
исследовании (с его требованием «новизны» и «результатов»), но в
истории философии едва ли оправданного. Придумать «свою»
философию легче, чем разобраться в Канте или Аристотеле, в Хайдег-
гере или Бахтине таким образом, чтобы герменевтический разговор
с великими мыслителями открыл их современность как раз за счет
их разновременности, или, по выражению Гадамера, за счет
«временного отстояния» (Zeilenabstand) между прошлым и настоящим
философии. Не понимать или игнорировать такую — абсолютную и
«круговую» — историчность» истории философии — и значит «валять
дурака за свой страх и риск» (den Narren auf eigene Faust zu spielen).
Позволительно добавить к этому кое-что еще, о чем Гадамер не
говорит. Большая мысль и большой опыт, в ней заключенный,
попадая в новый социально-исторический контекст, могут вдруг
показаться маленькими, такими же незначительными, как и прошлое,
которое мы не переживали или которое мы «преодолели», но о
котором зато «все знают». Знание, отчужденное от опыта (в котором
осталось еще много нераскрытого, неосознанного даже носителями
этого опыта), зачастую составляет определенного рода «науку»;
M. M. Бахтин называет ее «ложной наукой, основанной не
непережитом общении, т. е. без первичной данности подлинного объекта»93.
Первичная данность подлинного, не чисто «объектного» объекта
гуманитарного мышления — это такое условие возможности «второго
сознания», которое в историко-философском исследовании требует
не только освободить философию «из плена времени». В силу
глубочайшего и безысходного несовершенства не только человека
«вообще», но и гениального человека и гениального мыслителя в
частности и в особенности (богословская речь здесь была бы уместнее
научно-философской, поскольку — в идеале — богословие лучшее
противоядие против идеализма) первая, постоянная и последняя
задача истории философии не может ограничиваться только «знанием
текстов», т. е. более или менее частным прояснением уже известного
целого, или же формальной передачей знаний, т. е. опять-таки давно
известного целого. Стратегическая цель истории философии,
заключается еще и в том, чтобы, говоря словами Микаэля Тойниссена,
«защитить индивидуальность философов от последствий мышления»94.
В защите, так сказать, от подставы меняющихся контекстов, «малого
времени» нуждается даже гениальное авторство и заключенное в нем
«большое время»; они-то — в первую очередь. В этой связи уясняется
272
Раздел первый. Переход
существенность краеугольных понятий филологии — таких как
«авторство» и «контекст» — для историко-философского исследования.
Актуальность* эстетического
Но коль скоро это осознано, проясняется особая задача
философии, для традиции философии едва ли не скандальная, но для ее
истории не такая уж новая.
В «Истине и методе» автор начинает с того, чтобы средствами
философии оправдать опыт искусства, отделив его от эстетической
теории. При этом проблема искусства как опыта ставится в
существенную связь с проблемой истории как опыта. На каком основании
проводится здесь сближение двух этих, казалось бы, совершенно
разных, даже противоположных областей опыта?
Предварительный ответ, мне кажется, такой: в опыте искусства,
как и в историческом опыте, при всех различиях между ними
взаимоотношения индивидуального и общего, части и целого
переворачиваются. А именно: нечто уникальное, единственное становится
общезначимым, оказывается воплощением целого, тогда как то, что в
мышлении представлялось в качестве целого, наоборот, вдруг как бы
свертывается, превращаясь, по выражению А. А. Ухтомского, в
«частность и провинциализм».
Для научно-философского мышления Нового времени (точнее,
для его традиций-инерций) такие едва ли не «карнавальные»
оборачивания, переворачивания и «переодевания» реальности познания,
пожалуй, и вправду попахивают «скандалом философии». Но, во-
первых, если это и скандал, то скорее от избытка реальности, чем от
разоблачения и преуменьшения реальности (тенденция, характерная
для деконструктивизма). А во-вторых, речь идет не о скандале, а о
древней, классической постановке вопроса. Знаменитое утверждение
в «Поэтике» Аристотеля (1451 Ь):
поэзия философичнее истории: поэзия говорит более об общем,
история — о единичном95 —
перед лицом притязаний научного разума Нового времени
оборачивается не столько противопоставлением, сколько
сопоставлением. Опыт искусства и опыт истории равно сопротивляются
подведению под разумно «всеобщее» постольку, поскольку в своей
фактичности они сами оборачиваются тем или иным всеобщим
(традиционно выражаясь — «символом»).
Цейтблом после Леверкюна
273
Традиционная эстетическая теория руководствуется научным
понятием истины; она неадекватна опыту искусства, ибо
довольствуется собственными — теоретически общими — понятиями,
подменяющими этот опыт, как бы фиксирующими, но в действительности
стирающими или подменяющими значимую фактичность опыта. В
этой связи Гадамер замечает, что искусство — это такое
«свидетельство» человеческого опыта, которое «не уступает истину понятию»96.
Иными словами, будучи разделяемым и как-то понимаемым, опыт
истины в искусстве в своем роде «разумен», но, однако же, не сводим
к понятию, которым оперирует научный разум, и не выводим из
такого понятия. И в этом качестве эстетический опыт, или, как
предпочитает выражаться Гадамер, опыт искусства, может при
определенных исторических обстоятельствах (а именно — в ситуации
кризиса культуры как целого, части которого законно притязают на
самостоятельность и самоценность), стать вызовом научно
ориентированной философии97.
Но ведь то же самое относится к историческому наследию.
Последнее может быть предметом научно-гуманитарного исследования,
но в качестве исторического опыта предание или наследие,
«традиция» выходит за пределы того, что в наследии исследуется. Здесь
тоже, таким образом, «истина» противостоит «методу».
Как ни велики изменения, происшедшие с языком европейской
философии до наступления Нового времени (латинизация
греческих понятий и адаптация латинских понятий к новым языкам), тем
не менее, появление «исторического сознания» означает все-таки еще
более глубокий разрыв (42). А это ставит современника перед
проблемой преемственности — «преемственности традиций» (там же).
Проблема, т. е. трудность, возникает из-за императивов
(установок) науки, довлеющих над современным сознанием, — возникает
тоже (кстати сказать) под действием традиций. Но эти установки, или
императивы, или «доминанты», о которых учил А. А. Ухтомский, —
следствие разрыва на почве исторического сознания. Следствие,
оказавшее влияние на самое науку. Основное следствие -
исчезновение той наивности, с которой прежде можно было ставить
понятия, почерпнутые из традиции, на службу собственной мысли
(42).
С тех пор как эта наивность исчезла, «отношение науки к этим
понятиям» отличается странной необязательностью (там же).
Гадамер выделяет две как бы противоположные формы такой
274
Раздел первый. Переход
необязательности: в одних случаях наука пользуется воспринятыми
из традиции понятиями «ученым» образом, в других случаях
«обходится с ними по типу технического манипулирования» (43). В первом
случае обращаются с понятиями чисто исторически, во втором — их
образуют искусственно.
Первая часть «Истины и метода» посвящена критике
эстетического сознания. Эта критика необходима для того, чтобы освободить
опыт искусства от замещения этого опыта «эстетическим
сознанием». Тем самым проводится различение между опытом искусства —
с одной стороны, и «эстетическим сознанием» — с другой. Основное
негативное положение здесь гласит: опыт искусства есть нечто совсем
иное, чем «несвязность эстетического сознания» (142). Позитивное
положение гласит:
Искусство есть познание, и опыт произведения искусства
показывает, что это познание заслуживает доверия (teilhaftig) (142).
Опыт искусства говорит об истине. Но в каком смысле? Разве
истина не дело науки? Что значит «истина» по отношению к
произведениям искусства?
Цель Гадамера — расширить понятие истины за счет
значимой фактичности опыта. Применительно к опыту эстетического
это значит: опыт искусства на самом деле оказывается в глубоком,
кричащем противоречии с теоретической эстетикой. Но что такое
«эстетика»?
Греческое слово AISTHESIS означает «чувственность» или
«восприятие». Кантовский термин «трансцендентальная эстетика» еще
удерживает более широкий смысл этого термина, введенный, как
известно А. Баумгартеном (1750) для обозначения новой философской
дисциплины — «эстетики». Но и у Баумгартена этот смысл еще
разномерен и разнозначим: он включает не только область «прекрасного» и
не только искусство98.
По мысли Гадамера, это настоящий скандал, что у искусства
отняли право на значимость. Ведь в эстетике Нового времени
искусство оказалось «прекрасной видимостью». Она, эта видимость,
начинается там, где кончается практическая жизнь, т. е., собственно,
«великие действительности общества и государства» (понимая
последние, конечно, не столько как идеальное или идеологическое
представление, сколько как повседневную фактичность). Почему и в
каком смысле Гадамер ставит вопрос об актуальности эстетического
Цейтблом после Леверкюна
275
для философии и, шире, для судеб духовно-идеологической
культуры Запада?
Область «прекрасного» — это область забвения границ
внутреннего и внешнего, «я» и «не-я» в предвосхищении идеала; это в своем
роде царство колдовства, или заколдованное царство-государство,
которое пленяет нас своей завершенностью, реальной, как
«художественное произведение» (Kunstwerk), и иллюзорной — тоже как
«произведение искусства». С гениальной ясностью и
принципиальностью этот ход мысли навечно задан как предвосхищение возможного
смысла и дан как текст при обосновании Ф. Шиллером идеи
«эстетического государства». Сегодня защитить индивидуальное авторство
этой идеи нелегко, учитывая историю рецепции и превращений
эстетики Шиллера (и, шире, всего германского, второго после романского
возрождения античного наследия, согласно Φ. Φ. Зелинскому)99. Ведь
на протяжении времени от Французской революции XVIII в. до
Русской революции XX в. предвосхищенный смысл «Писем об
эстетическом воспитании человека» (1795) в известном смысле обернулся
своею противоположностью у а именно тем, что называется
«формалистической парадигмой» в эстетической, научно-гуманитарной и
общеидеологической культуре минувшего столетия.
В самом деле, то, что с опорой на «Критику способности
суждения» (1790) начал «идеалист» Шиллер и продолжил «романтик»
Фридрих Шлегель в «столетнее десятилетие» 1790-х гг., Виктор
Шкловский вокруг 1917 г. радикализовал и «обернул» (своей
теорией «остра(н)ения» в некое обратное подобие идеалистически-
романтической парадигмы, в своего рода двойника-изнанку, которую
M. M. Бахтин назвал (1924) «материальной эстетикой». Дело,
разумеется, не в В. Б. Шкловском и не в русском «формальном методе» с
присущим последнему «примитивизмом и несколько сектантской
резкостью»100; все дело в отмеченном «оборачивании», в своеобразной
«материализации» идеализма.
Революция в способе мышления, происходившая на
протяжении тоже «столетнего» десятилетия 1790-х гг., выдвинула на
передний план конструктивный («трансцендентальный») элемент и
момент «формы» — правда, таким образом, что в германском идеализме
формально «прекрасное», в котором Кант сумел разглядеть «символ
нравственности», перешло на «содержание», утратив собственную
содержательную специфику. «Прекрасное», отличая себя от
повседневной, «буржуазной» действительности, на протяжении XIX в. все
более противопоставляло себя действительности (в эстетике — в лице
276
Раздел первый. Переход
творца или гения, в политике — в лице революционера-подпольщика,
террориста и т. п.). При этом, однако, по мысли Гадамера, при всей
внутренней убедительности и внешней оригинальности этого
противопоставления («эстетического различения»), такое все более
нетерпимое и вызывающее, как сказали бы сегодня, «позиционирование»
творческого сознания перед лицом более или менее «пошлой»,
безрадостной повседневности — «позиция искусства» (Standpunkt der
Kunst) — характеризуется как раз «эстетическим неразличением»,
т. е., с одной стороны — недифференцированностью
идеалистического представления о Красоте (по отношению к Истине и Добру), с
другой — неосознанной связью с отрицаемым. Объектом
подразумеваемой, а иногда и прямой критики Гадамера (как еще раньше —
Бахтина) является здесь, конечно, Ницше — ключевая фигура нарратива
обращения идеалистического и романтического сознания Нового
времени в «модернизм» и «постмодернизм»101.
Что это противопоставление было иллюзией или утопией,
порожденной отрицанием либерально-буржуазного мира; что я сам,
противопоставляющий «другим» свой идеал прекрасного, являюсь
(как это показано уже Достоевским-художником в XIX в.) духовно-
криминальной составной частью того, что, казалось бы, я сам же и
отрицаю, — все это открылось в момент новой революции в
способе мышления, или смены парадигмы, в 1910—1920-е гг., когда
идеологическая культура Нового времени и «буржуазно-христианского
мира» (как выражался приятель и оппонент Гадамера К. Лёвит)
утратила свою историческую почву, и продолжало открываться на
протяжении XX в. вплоть до конца структуралистской эпохи,
завершившейся в последнее десятилетие прошлого века вместе с крахом СССР
** «* ·* 102
и всего мироустройства периода холодной воины .
Только имея в виду этот исторический фон, можно правильно
понять гадамеровскую критику «эстетического сознания»,
«эстетического различения» и «эстетического неразличения» — а равно и
границы этой критики. Отметим в этой связи только то, что
представляется самым интересным и самым актуальным для гуманитарной
эпистемологии и историко-философского исследования.
Логика герменевтического круга здесь, как всегда, возвращает
нас от относительного «конца» к относительному «началу». Таким
относительным началом парадигмы «эстетического сознания», по
мысли Гадамера, является гениальная концепция «эстетического
государства» Шиллера. «Спасти» индивидуальное авторство Шил-
Цейтблом после Леверкюна
277
лера — значит, прежде всего, вернуть это авторство на питавшую его
почву, т. е. в конкретно-историческую ситуацию середины 1790-х гг.
По мысли автора «Писем об эстетическом воспитании
человека», «эстетическое государство»103 — это отсрочка осуществления
общественно-политического идеала справедливого государства.
Отсрочка, как известно, была вызвана совершенно определенным,
единственным историческим событием — моральным, а потом и
политическим крахом Французской революции, того «союза ума и фурий»
(как сказано у Пушкина), который в духовно-идеологическом
разговоре эпохи стал, по сути, решающим (не теоретическим) аргументом
против абстрактного рационализма Просвещения. По мысли
Шиллера, не внешние политические изменения, которые — после того,
что произошло во Франции, — отныне уже ничего принципиально
не решают и не скоро решат в вечном историческом и политическом
устремлении и устроении человека. К совершенствованию общества
и государства надо подготовить себя внутренним образом, воспитать
себя сообразно идеалу прекрасного (das Schöne), или красоты, В
знаменитом 27-м письме «Писем об эстетическом воспитании» читаем:
Одна лишь красота делает всех счастливыми, и тот, кто находится
под обаянием ее чар, забывает о своей ограниченности104.
«А Шиллер-то, Шиллер-то...» — дразнит один идеалист и
преступник другого идеалиста-преступника (своего двойника) в
«Преступлении и наказании» Достоевского. Чем шире шиллеровский
идеал утверждался в реальности культуры-образования XIX в.
(Bildung), тем больше он оказывался в противоречии с самим собою,
но, конечно, не «в себе», а в общественно-политической
действительности истории. Только под этим углом зрения (а не партийно-
идеологически) можно, как представляется, адекватно воспринять и
понять самообличительную, самоубийственную иронию авторства
«анти-героя» «Записок из подполья» Достоевского насчет «всего
высокого и прекрасного», т. е. шиллеровского идеала «красоты»105.
Гадамер, который, как мы знаем, «лирическую» поэзию явно
предпочитал романно-прозаической, конечно, далек по своим вкусам
от того «неклассического» и многозначного переворачивания
взаимоотношений между автором и героем, которое произошло в
творческом сознании русского писателя Достоевского и которое, как
известно, другой русский — М. М. Бахтин — сделал проблемой
как теоретической и исторической поэтики, так и современного
278
Раздел первый. Переход
философствования106. Гадамер выступает против отделения
искусства от действительности — отделения, которое уже произвел
германский идеализм (и романтизм). Это «эстетическое различение»
эксплуатирует в особенности наука об искусстве. Эксплуатирует в
том смысле, что снимается вопрос о причастности искусства миру.
Иначе говоря, эстетическая автономия лишает художественное
произведение места в мире и уместности в мире истины.
Другой стороной этой утраты своего места оказывается
преувеличенная претензия: призванность художника (мессианство);
отсюда — потребность в «новой мифологии», предвосхитившей и
определившей идеи и императивы духовно-идеологической истории
от Французской революции до Русской революции вплоть до
последних десятилетий прошлого века107. Идея этой «новой
мифологии» была вырвана из исторических контекстов своего
предвосхищенного смысла, как и подобает мифологии, и в качестве некоего
виртуально-благочестивого обетования дожила до наших дней в
популярном сознании в форме цитаты из Достоевского,
приписываемой лично Достоевскому, насчет того, что «красота спасет мир». В
плане истории идей эта мысль после Шиллера и с опорой на него
была, как известно, сформулирована в знаменитом фрагменте —
так называемой «Первой программе системы немецкого идеализма»
(1796), созданной тремя друзьями, выпускниками Тюбингского
теологического института — Шеллингом, Гегелем и Гельдерлином; этот
текст, много позже (1917) был найден в записи Гегеля
упоминавшимся и цитировавшимся выше Ф. Розенцвейгом в архивах
Королевской библиотеки в Берлине108.
Такова, следовательно, проблема, которая ставится в первой
части «Истины и метода». Гадамер, по сути дела, повторяет здесь — в
социально-исторической ситуации начинавшейся на рубеже 1950—
60-х гг. структуралистской эпохи — ту «критику "эстетического
сознания" в его моральном измерении»109, которую осуществил Платон
в «Государстве» и которую Гадамер сам проанализировал уже в
раннем своем исследовании «Платон и поэты» (1934). Но, в отличие
от небольшой книги о Платоне, в главной книге осуществлена
«деструкция» именно своей (немецкой) «духовной истории» —
традиции, которую Гадамер называет здесь «позицией искусства»
(Standpunkt der Kunst) (100), хотя в работе 1930-х гг., как мы помним,
разбирательство со своею традицией уже предвосхищено.
Направление решения проблемы «эстетического» отчасти уже
уяснилось: нужно включить опыт искусства в опыт жизненного мира.
Цейтблом после Леверкюна
279
Против этого нечего возразить. Сомнения и даже возражения
возможны относительно того, насколько удовлетворительно решает
Гадамер свою проблему, следуя в этом пункте известной эстетизации
«художественного творения», которую начал с середины 1930-х годов
практиковать Хайдеггер в оппозиции «эстетическому сознанию»110.
Что борьба Хайдеггера с «субъективизмом» современности и
Нового времени сама зачастую несвободна от субъективизма — это
достаточно известно. И что хайдеггеровская философия искусства,
мягко говоря, уязвима при всей своей гениальности — тоже давно
не новость111. Но что, если «субъективизация» эстетики Кантом
заключала в себе еще и нечто иное — более позитивное? Причастность,
или, как предпочитает выражаться Гадамер, «сопринадлежность»
искусства действительности («бытию»), возможно, слишком полемично
противостоит у него — в попытке отстоять притязание искусства
на истину — притязанию искусства на «автономию». Но ведь
автономия искусства имеет оправдание, причем, так сказать, на обе
стороны: в направлении опыта искусства и в направлении эстетической
теории, которую Гадамер фактически отождествляет с «эстетическим
сознанием».
Момент эстетического завершения — собственно
формообразующий момент, не отделимый от опыта искусства, — он-то и про-
блематизирован Кантом, можно сказать, навечно. С точки зрения
гуманитарной эпистемологии это означает, что кантовский поворот в
эстетике и в философии искусства, который Гадамер относительно
по-новому ставит под вопрос, не может быть «снят» формально-
исторически, т. е. в каком-то прошлом или будущем после Канта.
Иначе говоря, в «круговращении понимания» кантовская революция
в способе мышления и в эстетике тоже имеет абсолютный
исторический характер. А именно, «предвосхищение смысла», заключенное
в третьей «Критике», не может быть завершено или преодолено, что
означает также: вопрос здесь бесконечно превышает ответ на вопрос
и составляет условие возможности нового вопроса и нового ответа
всегда, точнее — в то или иное время «бытия здесь».
Такова, во всяком случае, герменевтическая логика «вопроса
и ответа» — логика «разговора» с философской классикой и с
«преданием» (Überlieferung) вообще, которой Гадамер руководствуется
в своей «деструкции» немецкого и западноевропейского
классицизма, идеализма и романтизма в первой части «Истины и метода»,
а потом — в своем критическом переобращении к «истории
воздействий» (Wirkungsgeschichte) идеалистической философии и эстетики
280
Раздел первый. Переход
на мышление и методику гуманитарных наук («наук о духе») во
второй части книги.
Между тем, пытаясь включить истину, которая составляет опыт
искусства, в истину исторического опыта, в тотальность «бытия»,
Гадамер, явным образом, возвращается от эстетики Канта к эстетике
Гегеля, реабилитируя тем самым так называемую «эстетику
содержания», хотя именно она стала исходным пунктом «эстетического
сознания» в наиболее точном и полном объеме этого понятия (которое
включает и научное сознание) — правда, на своей идеалистической
стадии, после того как Кант, изменив эпистемологическую парадигму,
дал своему времени нечто большее, чем теорию познания, —
обоснование идеи свободы, и это «больше», по словам современного
немецкого биографа Шиллера, «развязало руки его современникам»112.
Во втором подразделе первого раздела первой части «Истины и
метода», который называется «Субъективация эстетики в кантовской
критике», Гадамер, как обычно, опирается на своего учителя, хотя
ученик и не столь «рустичен» в своей попытке вернуться — через
голову кантовской критики и через голову так называемой формальной
эстетики конца XIX — начала XX вв.113 — «домой», переориентировав
ее с «идеи» на «бытие»114.
Всякая эстетизация за пределами искусства (где эстетическая
деятельность — на своем месте) — это соблазн. Соблазн для
научного, тем более для богословского мышления, не говоря уж о
жизненной практике. Хайдеггеровский (как и ницшеанский) элитный
«масскульт» проводниками которого у нас были в 1970—90-е гг. стали
дезориентированные эпигоны-перевертыши советской «эстетики
истории», питается осколками и объедками эстетической
метафизики прежних эпох. Актуальная задача — не в том, чтобы
пользующиеся популярностью эстетизированные концепции и конструкции
просто выводить за пределы науки (такое отстранение отомстит за
себя самой науке); скорее нужно показать эстетический характер
таких претендующих на истину построений, их историческую и
психологическую мотивированность, а равно их неуместность в научной
философии и в научно-гуманитарном исследовании115.
Истина (точнее, истины) искусства, явным образом, возможна
постольку, поскольку она возникает и находит свое оправдание в
эстетическом опыте. Между тем само понятие «эстетического»,
похоже, у Гадамера (не говоря уж о Хайдеггере), так сказать, на
подозрении. Поэтому, надо полагать, Гадамер предпочитает рассуждать не
об актуальности эстетического, но об актуальности «прекрасного»116;
Цейтблом после Леверкюна
281
он настаивает на опыте искусства, истине искусства, а не на
эстетическом опыте, в действительности, однако, имея в виду эстетический
опыт. Остается впечатление не только внешней недоговоренности, но
и какой-то внутренней непроясненности.
Имманентная трудность, как представляется, возникает из-за
того, что эстетический опыт не удается методически отчетливо
отделить от «эстетического сознания» в смысле «субъективизации
эстетики». Иначе говоря, остается неясным взаимоотношение между
эстетическим опытом и внеэстетическим опытом, «истиной искусства» и
истиной вне искусства. Но ведь это — проблема не только онтологии;
это еще и методическая (методологическая) проблема — какой бы
тоской ни веяло сегодня (как и сто лет назад) при мысли о школьной
эстетике и схоластике «метода». Ни теоретическая эстетика, ни «ме-
тодологизм» все же не сводятся к тому, чем они уже только «были» в
формально-историческом смысле.
В эстетике Гадамера, возможно, — «исток и тайна»
самоограничения его мысли — самоограничения, которое представляется
совершенно понятным и здравым перед лицом «последней
радикальности» последователей Ницше и «подпольного человека»
Достоевского, превративших чаяния идеализма в мировоззренческое
отчаяние и в своеобразное эстетическое наслаждение с обратным знаком,
которое М. М. Бахтин еще в 1920-е гг. метко назвал «лирикой зубной
боли»117. Здесь, однако, речь идет о другом — о самоограничении,
которое связано у Гадамера, как это ни парадоксально, со «вторым
сознанием», т. е. с другим, без которого, очевидно, невозможен не только
герменевтический разум, но также и эстетический разум; более того,
это та предпосылка, которая их сближает, что на свой лад (обставляя
каждое свое соображение осмотрительной скептической оговоркой)
неоднократно подчеркивал и сам Гадамер118.
Не вполне доверяя «другому» как носителю всякий раз
нового эстетического опыта при обращении к «истине искусства», —
не оказывается ли Гадамер в противоречии с им же
обосновываемом гуманитарно-эпистемологическом принципом? Что
классическая философия по самому существу дела нуждается в другом, как
бы в раздвижении, расширении, обогащении своего смысла со
стороны исторически «сопринадлежного» второго сознания разнов-
ременников, — этот ход мысли, как мы могли заметить, составляет
краеугольный камень гадамеровской философской герменевтики
и гуманитарной эпистемологии. Но в том, что касается искусства,
автор «Истины и метода», похоже, чувствует себя более скептиком.
282
Раздел первый. Переход
Отсюда — известная многозначительная полемика 1960-х годов и
позднее между Гадамером и не раз упоминавшимся в этой книге
литературоведом Гансом Робертом Яуссом (1921 — 1997). Яусс, опираясь на
«Истину и метод», привнес в историю и теорию литературы импульсы
новой герменевтики, но в то же время в вопросе об истине искусства
и так называемом классическом наследии перенес акцент на
«эстетический опыт» (ästhetische Erfahrung) и — радикальнее, чем Гадамер, —
на опыт истин искусства и «классического» вообще в рецепции
постсовременников и разновременников, сделавшись основоположником
целого направления в философской эстетике и в теории
литературы — «рецептивной эстетики» и «литературной герменевтики»119.
Возникает впечатление, что в истории современной
философской эстетики Хайдеггер и Гадамер в некоем важном, даже решающем
пункте остаются позади неокантианства, от которого оба они всегда
и по большей части резонно отталкивались. Уместно вспомнить в
этой связи критические замечания Германа Когена в его «Эстетике
чистого чувства» (1912) в адрес немецкого романтизма и
«диалектического формализма» Гегеля120.
Не должны ли мы, с учетом новой постановки вопроса об опыте
искусства и продолжая критику «эстетического сознания», по-новому
вернуться в наше время к более традиционной, чем традиции
экзистенциальной и структуралистской эпохи, проблематике
философской эстетики?
Во всяком случае, такое переобращение было бы настоящим
подтверждением и повторением идеи «круговращения понимания».
Высказывающаяся речъ
Как-то в разговоре с одним эпистемологом я спросил о ком-то:
«Он что — эстетик?» — «Ну что вы, — последовал ответ, — это
полноценный философ». Интересная задача: проанализировать овнеш-
ненное здесь представление о «полноценном философе» с точки
зрения той культурно-речевой среды общения и сознания, в которой
такое представление не только «возможно», но является чем-то само
собой разумеющимся.
Но такая задача уже вводит нас в тот особый комплекс
философских проблем филологии, эпистемологическую направленность
которых М. Юнг, как мы помним, емко назвал «контекстуализацией
разума». Сам Гадамер, рассматривая предмет понимания
(«герменевтический предмет»), употребляет в своей главной книге
словосочетание: «филология в крупных масштабах», имея в виду возможное
Цейтблом после Леверкюна
283
продуктивное взаимодействие историка, филолога и эпистемолога в
работе «исторического понимания»:
Историческое понимание оказывается своего рода филологией
в крупных масштабах (401).
Мы здесь оставим почти без внимания одну из важнейших
проблем «филологии в крупных масштабах» (т. е. гуманитарной
эпистемологии), которую Гадамер, во избежание «субъективизма»,
старается не называть ее прямым именем, хотя именно эту проблему его
герменевтика познания все время подразумевает и отстаивает как
принципиальную, — проблему автора или авторства. Собственно
вопрос об авторстве, который автор «Истины и метода» склонен
переводить в плоскость проблематики традиционного «авторитета»121,
образует звено, соединяющее эстетику и герменевтику, первую часть
книги с двумя другими, посвященными, соответственно, проблемам
понимания в опыте текста и истории и проблемам понимания
исторического бытия как «языка» вещей и событий.
В соответствие с нашей установкой на методическое
«замедление» в опыте исследования смысла, предвосхищенного «в крупных
масштабах», мы воздержимся от переобращения к проблеме автора,
с большой остротой возобновленной в структуралистскую эпоху122.
Попробуем поискать подступ к этой, бесспорно, ключевой проблеме
гуманитарной эпистемологии несколько в другом месте — там, где
еще нужно осознать и осветить целый массив вопросов, только
подводящих к проблеме авторства (и, соответственно, к проблемам
«интерпретации»), более непосредственно связанных с «контекстуализа-
цией разума» в философии XX в. Контекстуализация разума — что
это, собственно, такое с точки зрения интересующего нас «нового
диалога» между философией и филологией, а значит, между «началом»
и «концом» истории философии и истории самой в вечном споре
«древних» и «новых»?
Трудность постановки вопроса — уже в том, как лучше выделить
и назвать феномен, к которому предстоит подступиться; настолько
авторитетная традиция предполагает и «предлагает» этот феномен,
тем самым и затрудняя подступ к нему и даже угрожая подменить
суть дела само собой разумеющимся. Речь идет, традиционно
выражаясь, о «логике».
Попробуем начать с утверждения, предвосхищающего смысл
целого. Революция в способе мышления, внутри которой пребывает
284
Раздел первый. Переход
современный научно-гуманитарный и философский разум,
заключается, коротко говоря, в обращении и возвращении «логики» в «логос»,
а «логоса» в «дискурс». Другими словами, абстрактный (и постольку
утопический) объективизм («логоцентризм») Нового времени
уступил место «речевому мышлению», «языковому сознанию», logoi
(«речам»); тем самым разум и даже «рационализм» стали не меньше
себя, а, наоборот, больше себя. Разум — прошлый, настоящий и
будущий — снова и по-новому стал библейским целостным Словом, но
во множественном античном числе и частях — «речах» (logoi).
Познание и теория познания в XX в. вновь и по-новому стали
«гуманитарными», т. е. пошли путями «очеловечения» и «истори-
зации знания» — даже там, где, как в структурализме, это
происходило посредством «обратного жеста» (как это называется у
Достоевского) «убиения» автора, дегуманизации и деисторизации
гуманитарных наук. Тем самым все идейное, идеально-смысловое,
духовно-идеологическое вовсе не обратилось в «слова, слова, слова»
(как играет словами Гамлет, не зная, что ему делать в его ситуации);
наоборот, деструкция традиционной «субстанции» — представления
о чем-то общем «вообще»123 — привела к открытию, к переоткрытию
как раз объективной социально-исторической реальности «самих
вещей» в модусе их «открытости», т. е. абсолютной исторической
предвосхищенности (а не завершенности) всех смыслов (а не просто
«смысла) в «круговращении понимания».
Но ведь это, очевидно, и есть тот «переход от мира науки к миру
жизни» в немецкой, а потом и во всякой другой западноевропейской
философии XX в., о котором Гадамер писал «русским читателям» из
Гейдельберга в 1990 г. На языке самого Гадамера событие, феномен
и проблема гуманитарной эпистемологии, которые здесь имеются в
виду, корректно обозначить термином: «герменевтическая логика»124.
О чем здесь идет речь?
Попробуем пояснить это с помощью Гадамера, заглянув в его
статью «Философские основания XX века» (1962)125.
Аристотелевская логика, по мысли Гадамера, оказала решающее
влияние на всю историю философии, включая гегелевскую логику:
в качестве «действенно-исторической» традиции-предрассудка она
действовала также и в «наивных допущениях немецкого идеализма»
(16), и она действует до сих пор, анонимно и бесконтрольно, в
«апориях современного субъективизма» (25), выдающего себя как раз за
объективность и научность. — Но почему здесь можно и должно
говорить о наивности и субъективизме?
Цейтблом после Леверкюна
285
Логика со времен Аристотеля построена на понятии apophansis,
высказывание-суждение. «В классическом пассаже, — говорит Га-
дамер, — Аристотель подчеркивает, что его занимает исключительно
"апофантический" логос, то есть такие виды речи, в которых дело
идет об истинном или ложном бытии, и оставляет в стороне такие
явления, как просьба, приказание или вопрос, так как они, хотя и
представляют собой виды речи, не имеют дела с чистым раскрытием
сущего, а значит, не имеют отношения к истинному бытию» (17).
Гадамер имеет в виду сочинение Аристотеля, которое в русском
переводе называется «Об истолковании», а на Западе по традиции
называется «Герменевтика». В четвертой главе этого сочинения
(комментаторы дали ей подзаголовок «Высказывающая речь») читаем:
.. .не всякая речь есть высказывающая речь, а лишь та, в которой
содержится истинность или ложность чего-либо; мольба, например,
есть речь, но она не истинна и не ложна126.
Почему мольба, хотя она и речь, не есть «высказывающая речь»?
Очевидно, потому, что мольба не есть утверждение (или отрицание)
чего-либо. Никто, разумеется, не скажет, что в мольбе просто «нет
логики». (Даже знаменитая патетико-нигилистическая строка
крупнейшего русского поэта-идеалиста XIX в. «...И смысла нет в мольбе»
не отрицает за мольбой, самой по себе, ни смысла, ни логики.)
Аристотель, явным образом, хочет сказать, что мольба как речь
принадлежит к такому роду сущего, которое не является прямым и
непосредственно значащим раскрытием смысла бытия, «утверждением-о»,
«высказыванием-о» чем-либо. Иначе говоря, мольба не есть
«высказывание», апофантический логос — предмет и орудие «теории». Как
мог бы выразиться в данном случае M. M. Бахтин (в своей критике
«теоретизма» философии и «монологизма» лингвистики), мольба, с
точки зрения апофантического мышления, «только есть, но ничего
не значит». И это не может быть иначе в границах античного
«онтологизма». Понятно тогда, что, по Аристотелю, не являются чистыми
утверждениями — «высказывающей (истину вещей) речью» — не
только мольба, но и такие, казалось бы, вечные для всякой эпохи и
всякого общества феномены, как просьба, приказ или (что особенно
важно для Гадамера) вопрос. Ибо высказывающая речь в принципе
(уже) отвечает, а не (еще) спрашивает; она тоже, конечно,
мотивирована вопросом (или, если угодно, философским «удивлением»), но
она как бы «снимает» вопрос в ответе на вопрос, давая и предлагая
не что иное, как «знание». А знание — это то, чему можно учить и
286
Раздел первый. Переход
научить других. Например, систематизированное знание концепции
или концепций какого-то философа так и называется — «учением»,
которое школьная философия воспроизводит и передает из
поколения в поколение в качестве тоже своего рода «второго сознания».
Для того чтобы мольба (не говоря уже о вопросе)127 могла стать
значимой для научно-философского мышления, должны измениться
не только основания этого мышления, — должен сначала стать
радикально иным сам исторический мир, а отсюда уже, как
выражается Гадамер, «мотивационный контекст», задающий императивы,
направление и самый «горизонт» (границы) мышления, включая
его по видимости автономные, немотивированные, апофантические
«основания». Мольба, просьба, приказ или вопрос имеют не
теоретический, а жизненно-практический характер; они сами причастны
бытию и истине своею ситуативностъюу т. е. «бытием здесь»; в этом
смысле они ни «истинны», ни «ложны» в научно-теоретическом
смысле, но могут быть ложными или истинными в другом смысле,
так сказать, «по факту». Средствами русской речи можно сказать, что
такого рода высказывания — это не «высказывающая», а скорее
высказывающаяся речь.
Возвратная форма глагола подчеркивает не «объектный», но
«персональный» характер высказывающейся речи — персональный
не в субъективно-психологическом, но в социально-онтологическом
смысле. Ведь не «апофантическое» высказывание всегда
мотивировано вне его самого — именно мотивировано, а не
«детерминировано». Следовательно, высказывающаяся речь — это не
монологическое слово-высказывание, но «противослово» (Gegenrede), реплика
в диалоге, обусловленном и опосредованном некоторой ситуацией
общения-разговора, от самой повседневной и «кухонной» до
«большого диалога» эпохи и эпох. В этом смысле M. M. Бахтин говорит об
«исконной диалогичности слова»128.
Вместе с Р. Дж. Коллингвудом, на которого опирается Гадамер в
том разделе «Истины и метода», который посвящен «логике вопроса
и ответа» — логике, определившей жанр сократовско-платоновского
диалога, — мы можем сказать, что высказывающаяся речь выходит за
пределы «пропозициональной логики»129. Но если Коллингвуд
вскрывает производный и внеисторический характер пропозициональной
логики, имманентно самой этой логике расширяя область логических
проблем теории исторического познания, то предмет
«герменевтической логики» — скорее неапофантические типы высказывания как
феномены самого «мира жизни» (Lebenswelt).
Цейтблом после Леверкюна
287
Мольба, просьба, приказ или вопрос, а иногда одно лишь
междометие — это речевые феномены со своей специфической логикой; они
«разумны», но не так, как теоретический, «апофантический» разум.
Это — говорящая, высказывающаяся жизнь, высказывающаяся речь.
Но именно эту, высказывающуюся речь Аристотель совершенно
сознательно выводит за пределы науки. «Итак, — резюмирует он, —
прочие /виды/ речи оставлены нами без внимания^ ибо рассмотрение
их более подобает искусству красноречия или стихотворному
искусству» (там же).
Это значит: вся область речи жизненного мира оставлена
философией (здесь и отныне) «без внимания» и отнесена либо к
риторике («искусство красноречия»), либо к поэтике («стихотворное
искусство»). Аристотель, таким образом, исходит из предпосылки, или
«предрассудка», чистого высказывания, т. е. из речи, высказывающей
истину предметно, объективно — так (снова по-бахтински), «как если
бы меня не было»130.
Гадамер отвечает Аристотелю: «Ни чистого восприятия, ни
чистого высказывания не существует» (17). Это означает: даже
теоретическое, непосредственно направленное на свой предмет
высказывание — ни только предметно, ни чисто интенционально131.
Деструкция, или контекстуализация, апофантического логоса
высвободила высказывающуюся речь, как значимую, в настоящем и
прошлом. Негативно это дало возможность ограничить в подходе
познания к миру историческое действие (неосознанное давление)
традиции и принципа «высказывающей речи». Ведь мышление Нового
времени, в первую очередь традиции классической немецкой
философии, — это радикализация абстрактно-теоретизирующего
мышления: «апофантическое» мышление стало тем, чем оно не было и не
могло быть в греческом мире жизни. В этом смысле Гадамер и говорит
в разбираемой статье о разоблачении наследниками классической
немецкой философии трех «наивностей» немецкого идеализма
(«наивность восприятия», «наивность рефлексии», «наивность понятия»).
Произошло не разоблачение и не «расколдовывание» разума, но
контекстуализация разума. Тем самым философия XX в. не «преодолела»
свои традиции, но по-новому открыла собственное прошлое, как и
свое собственное место в абсолютной историчности «круговращения
понимания».
288
Раздел первый. Переход
Примечания
Имеется в виду соединение Учености с Мудростью (знания с видением
и пониманием), которое изображено в девятитомном аллегорическом
сочинении римского юриста и писателя Марциана Капеллы (примерно
первая половина V в. н. э.) «О свадьбе Филологии и Меркурия». О
значении этого сочинения в истории филологии и философии см., в
частности, в статье А. Хорстмана «Филология» в «Историческом словаре
философии»: Horstmann Axel. Philologie // Historisches Wörtwebuch der
Philosophie / Hrsg. von Karlfried Gründer et al., Bd. 7. Stuttgart u. a., 1989.
S. 554. А. Ф. Лосев, комментируя упомянутое сочинение Марциана
Капеллы, говорит: «Сейчас под филологией понимается учение о
литературе и языке, то есть одна из гуманитарных наук. Тогдашнее понимание
было совсем другое, поскольку греческий "логос" означал не только
"слово", но и все, что выражается в слове, так что никакого существенного
различия между гуманитарными, естественнонаучными и
философскими категориями здесь пока не мыслилось. "Филология" означала в те
времена просто любовь к науке, мышлению, размышлению. Недаром у
Марциана Капеллы она объявлена дочерью Фронесис-Размышления». —
Посев А. Ф. История античной эстетики: Итоги тысячелетнего развития. М.:
Искусство, 1992. С. 160—161.
См., среди прочего, посвященный этой теме специальный номер
известного журнала «История и теория», опубликованный еще в 2001 году:
Agency after Postmodernism / History and Theory (Theme issue 40). № 4.
December 2001.
См.: Пумпянский Я. В. Гоголь (1924) // Он же. Классическая традиция:
Собрание трудов по истории русской литературы / Вступит, ст., подгот.
текста и прим. Н. И. Николаева. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 265.
Здесь, конечно, не место анализировать концепцию «комической исто-
ризации» и смеха, развиваемую Л. В. Пумпянским в этой книге и
сложившуюся под непосредственным влиянием M. M. Бахтина в разговорах
так называемой Невельской школы философии вокруг 1919 г. и позднее.
Но уместно все же отметить, что эта концепция складывалась в
полемике с романтико-символистской парадигмой «трагической историзации»:
ведь последняя «сама есть первый и ближайший повод (и предмет)
комической историзации» (там же).
Сравнение этого «нового диалога» с тем, о котором с энтузиазмом
говорили на Западе и у нас (в конце советской эпохи) в физикалистски
ориентированной эпистемологии, разумеется, возможно; см.: Стенгерс Э„
Пригожий И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой. М.:
Прогресс, 1986. Однако по-настоящему продуктивным такое сравнение
станет лишь там и тогда, где и когда не исторический мир будут
снисходительно мерить мерками естественнонаучного мышления (сколь угодно
«нового»), а, наоборот, мир «физико-химика» (как выражался М. М. Бах-
Цейтблом после Леверкюна
289
тин) предстанет в историческом измерении, или «горизонте»,
жизненного мира, как это понято поздним Э. Гуссерлем.
5 Gernot Böhme. Am Ende des Baconischen Zeitalters: Studien zur Wissen-
schaftsentwicklung. Frankfurt а. М., 1993.
6 В советской научной литературе этой теме, насколько это было
возможно, посвящена остающаяся непревзойденной по сей день работа: Аверин-
цев С. Греческая «литература» и ближневосточная «словесность»
(Противостояние и встреча двух творческих принципов) // Он же. Образ
античности. СПб.: Азбука-Классика, 2004. С. 40—105.
7 Впрочем, в самое последнее время можно заметить отдельные попытки
изменить положение вещей, причем, что характерно, — в области
истории философии. См., в частности, новую книгу: Щедрина Т. Г. Архив
эпохи: Тематическое единство русской философии. М.: РОССПЭН, 2008.
8 Поскольку в нашей книге отсутствует существенное звено — очерк о
гуманитарной эпистемологии XIX в. от Шлейермахера до Дильтея, то
приходится подчеркнуть здесь, что попытка обрести подлинный (а это
значит — не собственный, не выдуманный), герменевтически
воспроизводимый и переводимый содержательный смысл понятия «диалог» не
может не быть одновременно и попыткой продолжить — «после перерыва»
и в существенно новой исторической ситуации — русско-немецкий
диалог. Но в философии и в гуманитарной эпистемологии средоточием
такого возможного диалога как раз и оказывается понятие «разговор» (das
Gespräch).
9 Пумпянский Л. В. Указ. соч. С. 265.
10 Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии (предисловие).
М.: Издание автора, 1930. С. 4.
11 Мандельштам О. Петр Чаадаев // Он же. Слово и культура. М.: Сов,
писатель, 1987. С. 268.
12 См. об этом, в частности: Moraldo John С. Der Hermeneutische Zirkel:
Untersuchungen zu Schleirtmacher, Dilthey uns Heidegger. Freiburg; München,
1974; Гадамер Ганс-Георг. О круге понимания (1959) (пер. А. В.
Михайлова) // Он же. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991. С. 72—82.
13 Гадамер Г.-Г О круге понимания. С. 72. В дальнейшем цитирую эту статью
с указанием страниц в тексте.
14 Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 5. М.: Русские словари, 1996. С. 8. Это
высказывание 1940-х гг. если не приводит к целому, то наводит на целое, если
припомнить сжатую характеристику «современного кризиса», «кризиса
поступка» в программном философском фрагменте раннего M. M.
Бахтина: «Теоретический и эстетический миры отпущены на волю, но
изнутри этих миров нельзя их связать и приобщить к последнему единству,
инкарнировать их». — Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 1. М., 2003. С. 50.
15 В этом направлении «новое мышление» в годы смены философско-
гуманитарной парадигмы и позднее сознательно противопоставило себя
теоретизму и эстетизму «старого мышления». В этой связи Ф. Розенц-
290
Раздел первый. Переход
вейг писал: «Новое мышление, как и существующий издавна здравый
смысл, знает совершенно точно, что способность познания находится в
реальной, сущностно-практической зависимости от времени, —
игнорирование этой связи прежняя философия всегда считала своей
важнейшей заслугой. Разговор не может начинаться с конца, война — с
заключения мира (как хотелось бы пацифистам), жизнь — со смерти; в
труде и страданиях, как ни верти, нужно учиться ждать, пока всему придет
свое время. (...) "Чистое мышление" — вне времени и желает
оставаться вне времени; оно стремится одним скачком, сразу и навсегда
установить огромное множество взаимоотношений; первый шаг для него
должен быть сразу и последним, начало мысли как бы совпадает с ее
концом». — Розенцвейг Франц. Новое мышление (1925) // Философия
культуры. М.: ИНИОН, 1998. С. 18.
16 См., в частности, исследование: Bollnow Otto Friedrich. Mensch und Raum
(1963) 4. Aufl. Stuttgart etc., 1980.
17 Деконструктивистская «парадигма» остается, в этом смысле, в пределах
отрицаемого.
18 Я имею в виду, кажется, самый цитируемый и значимый в западных
философских и гуманитарно-эпистемологических исследованиях текст
Ницше — второе из его «Несвоевременных размышлений»; см.: Ницше
Фридрих. О пользе и вреде истории для жизни (1874) // Он же.
Сочинения: В 2 т. / Вступит, ст., ред., коммент. К. А. Свасьяна. Т. 1. М.: Мысль,
1990. С. 159—229.
19 В своей книге о Гадамере «Герменевтика, традиция и разум»
американская исследовательница Д. Варнке подчеркивает принципиальное
различие между понятием опыта (в частности и в особенности —
«негативности» опыта) в понимании, с одной стороны — Гадамера (в «Истине и
методе»), с другой стороны — К. Поппера (в «Предположениях и
опровержениях»). «Представление, — отмечает Д. Варнке, — в соответствии с
которым результаты эксперимента — подтверждающие или отвергающие
конкретные гипотезы — должны быть повторимыми, остается
основополагающим для естественных наук. Гадамер полагает, что это
представление не всегда непосредственно релевантно для гуманитарных наук». —
Warnke Georgia. Gadamer: Hermeneutics, Tradition and Reason. Cambridge
(UK), 1987. P. 180.
20 Полемизируя, подобно всем инициаторам «нового мышления» XX в., со
Шпенглером, Франц Розенцвейг, например, писал: «Ведь изолированные
от действительности, эстетизированные образы-тени богов, миров и
людей, в этой своей обособленности понятые в качестве "сущностей", — это
и есть, по Шпенглеру, аполлоновская культура. Шпенглеровская
концепция "эвклидова", т. е. замкнутого и завершенного в себе
пространства, идеально соответствует общераспространенному представлению о
"сущности" вещей и явлений, отстраненной и отрешенной от
действительности вещей и явлений, — сущности,"трансцендентной" по отноше-
Цейтблом после Леверкюна
291
нию ко всякой другой сущности. Шпенглер здесь, как всегда, очень
верно видит, хотя и совершенно неверно интерпретирует видимое». См.: Ро-
зенцвейг Ф. Новое мышление. Несколько дополнительных замечаний к
«Звезде спасения»(1925) (сокр. пер. В. Л. Махлина) // Философия
культуры / Под ред. С. Я. Левит. М.: ИНИОН, 1998. С. 12. Ф. Розенцвейг
(подобно М. Хайдеггеру, М. Бахтину, М. Буберу или своему приятелю и
учителю О. Розенштоку-Хюсси) оппонирует О. Шпенглеру как
«культурологу» с позиций, по-хайдеггеровски выражаясь, «мышления бытия»
(Seinsdenken).
«Мифический Олимп, пластический космос, трагический герой: при
мысли о них нам сразу представляются определенные сущностные
образы, завершенные в своем смысле и своем бытии, т. е. нечто такое, что
уже было, осуществилось, исполнилось когда-то и где-то в прошлом. На
самом деле, в строгом смысле слова "было", этого никогда не было. Когда
древний грек обращался с молитвой к своим богам, услышать его,
понятно, мог не Зевс и не Аполлон, а только сам Бог. И грек, конечно, никогда
не жил в своем "космосе", а жил он в сотворенном Богом мире, едином и
единственном на все времена, — в мире, солнце которого светит нам так
же, как оно светило Гомеру. И был этот грек не героем аттической
трагедии, а просто человеком — всего лишь человеком, как вы и я» (там же).
В советской и постсоветской филологической науке такую позицию
«классика» в ее крайней, совсем не классической полемической форме
представлял, как известно, покойный М. Л. Гаспаров (1935—2005).
В упоминавшейся статье «Филология» в немецком «Историческом
словаре философии» (1989) Аксель Хорстманн, гуманитарный эпистемолог,
попутно сделал интересное наблюдение. По его мнению,
«социалистическим филологам» (sozialistischen Philologen) настолько
несвойственна герменевтическая рефлексия по поводу исторических презумпций,
предпосылок и предрассудков их собственного мышления, что способ
мыслить, поскольку он «свой», просто не является проблемой
(problemlos). А. Хорстманн находит этому исторически и идеологически
мотивированное объяснение, далеко выходящее за пределы идеологии и
советского контекста. Известные высказывания К. Маркса о нормативном
характере античного искусства, которые «культурные» марксисты обычно
приводили (и приводят) как пример недогматической широты Марксо-
вой мысли, в действительности свидетельства более глубокого
догматизма, связанного с формальным историзмом XIX в. Этот рудимент
идеалистического мышления, препятствующий герменевтической рефлексии в
отношении собственных предпосылок, Гадамер вслед за Хайдеггером
поставил под вопрос в своей книге «Истина и метод».
Бахтин М. М. К философии поступка (1922/23) // Он же. Собр. соч. Т. 1.
М., 2003. С. 22.
Бахтин М. М. Ответ на вопросы редакции «Нового мира» (1970) // Он же.
Собр. соч. Т. 6. М., 2002. С. 456.
292
Раздел первый. Переход
25 Гадамер Г.-Г. Философия и герменевтика (пер. А. В. Михайлова) // Он же.
Актуальность прекрасного. С. 12. См. в этой связи: Rodi Frithjof.
Erkenntnis des Erkannten: Zur Hermeneutik des 19. und 20. Jahrhunderts. Frankfurt
a. M., 1990; Horstmann Axel. Antike Theoria and moderne Wissenschaft:
August Boeckhs Konzeption der Philologie. Frankfurt a. M. etc., 1992.
26 Гадамер Г.-Г. Философия и герменевтика. С. 12.
27 Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни. С. 186.
28 См. оба этих раздела в переводе А. В. Михайлова в кн.: Мартин Хайдег-
гер. Работы и размышления разных лет / Пер., сост., вступит, ст., комм-
мент. А. В. Михайлова. М.: Гнозис, 1993. С. 9—15.
29 Обстоятельный анализ соответствующих параграфов «Бытия и
времени» проведен в работе: Demmerling Christoph. Hermeneutik der
Alltäglichkeit und In-der-Welt-sen (§ 25—38) // Martin Heidegger: Sein und Zeit / Hrsg.
von Thomas Rentsch. 2. bearb Aufl. Berlin, 2007. S. 87—115.
30 Примечательный факт, связанный с историей понятия игры,
приводит Й. Хейзинга в начале своей знаменитой книги (см.: Хёйзинга Йо-
хан. Homo ludens: Опыт определения игрового элемента в культуре.
М.: Прогресс-Традиция, 1997. С. 19). Текст, предварявший это
сочинение, написанный в 1930-е гг. в одном случае для выступления в Вене (по-
немецки), в другом случае для выступления в Лондоне (по-английски),
в обоих случаях назывался «Игровой элемент культуры»; в обоих
случаях, в Австрии и в Англии, «любезные хозяева» исправляли название,
вводя предлог: «Игровой элемент в культуре»; оба раза автор
«вычеркивал предлог и восстанавливал форму родительного падежа». Й. Хейзин-
ге важно было подчеркнуть, что игра не только что-то такое, что имеется
в мире жизни наряду с другими вещами, но что сама культура заключает
в себе «игровой элемент». Онтологизация игры, характерная для
герменевтической философии Хайдеггера—Гадамера, рассматривается в
монографии: Heidemann Ingeborg. Der Begriff des Spieles und das ästhetische
Weltbild in der Philosophie der Gegenwart. Berlin, 1968, Великолепный
анализ феноменов игры можно найти в книге ученика Э. Гуссерля Ойгена
Финка; см.: Финк Э. Основные феномены человеческого бытия //
Проблема человека в западной философии / Под ред. П. С. Гуревича. М.:
Прогресс, 1989. С. 357—403.
31 Хайдеггер М. Бытие и время (§ 31) // Он же. Работы и размышления
разных лет. С. 9.
32 Отзыв Гадамера об Александре Кожеве (Кожевникове) (1902—1968),
едва ли не единственном русском мыслителе XX в., имевшем известное
влияние на Западе, характерен для Гадамера «в разговоре»: сначала —
светский, «урбанный» комплимент, потом профессиональная
критическая оговорка к комплименту почти в бахтинском духе «увенчания-
развенчания». В интервью В. С. Малахову 16.4.1992 г. (см.: Логос. № 3.
1992. С. 231) читаем:
Цейтблом после Леверкюна
293
«Вл. М.\ В Гейдельберге вступил на философское поприще
знаменитый Александр Кожев...
Х.-Г. Г.: Кожевников? Восхитительный человек. Когда мы
познакомились, мы были примерно одного возраста. Он снискал большую славу
среди людей, для которых Гегель был слишком сложен».
Гадамеру, помимо прочего, глубоко чужда асоциальная
философическая «чернуха», перешедшая от Кожева в западные дискуссии о Гегеле и о
смысле истории (а теперь «вернувшаяся» в Россию), на которую
ссылался еще Ф. Фукуяма в известной статье «Конец истории».
33 В этом месте статьи «О круге понимания» Гадамер ссылается на
выдающегося немецко-швейцарского литературоведа Эмиля Штайгера
(1908—1987) и его книгу «Искусство интерпретации»(1955). Уже в
своей ранней книге «Время как воображение поэта» (1939) Э. Штайгер,
опираясь на В. Дильтея и М. Хайдеггера, сформулировал герменевтический
принцип подхода к литературно-художественному произведению, в
соответствии с которым, познавая текст, мы должны «схватывать то, что
нас захватывает (das begreifen, was uns ergreift); см.: Steiger Emil. Die Zeit
als Einbildungskraft des Dichters. Zürich, 1976. S. 11· В этой формуле
философу Гадамеру, несомненно, важна не «субъективная» или
«эмоциональная», но «герменевтическая» сторона дела, предполагающая
продуктивность дистанции между интерпретатором и интерпретируемым,
сопринадлежность интерпретатора интерпретируемому. В этом проблемном
круге вращается также известная переписка Э. Штайгера с М. Хайдег-
гером; см.: Штайгер Э. По поводу одного стихотворения Мерике:
Переписка Эмиля Штайгера с Мартином Хайдеггером (1951) // Мартин Хай-
деггер. Работы и размышления разных лет (пер. А. В. Михайлова). Цит.
изд. С. 243—257.
34 Анкерсмит Франклин Рудольф. Возвышенный исторический опыт (2005).
М.: Европа, 2007. С. 36.
35 Шпет Г. Г. Сочинения. М.: Правда, 1989. С. 373.
36 Здесь нелишне вспомнить опыт, обыгрываемый в пародийно-сниженной
символике «Москвы—Петушков» Вен. Ерофеева (1969). Когда Веничка,
надеясь поразить мир, предложил, явившись (в пьяной фантазии) в
Париж, свой литературный опыт под названием «Стервозность как высшая
и последняя стадия блядовитости», он, к своему удивлению, получил
решительный афронт и отвод: «Язык мой признали блестящим, а
основную идею — ложной. К русским условиям, — сказали, — возможно, это
и применимо, но к французским — нет; стервозность, сказали, у нас еще
не высшая ступень и тем более не последняя...». См.: Ерофеев Венедикт.
Москва — Петушки (поэма) // Он же. Оставьте мою душу в покое. М.:
X. Г. С, 1997. С. 99.
37 Мандельштам Осип. О природе слова (1922) // Он же. Слово и культура.
М.: Сов. писатель, 1987. С. 66. В своем проекте О. Мандельштам из
философов ссылается (что понятно для того времени) на А. Бергсона, «чей
294
Раздел первый. Переход
глубоко иудаистический ум одержим настойчивой потребностью
практического монотеизма» (там же. С. 55). Подобно всем мыслителям смены
гуманитарной парадигмы между 1917 и 1923 годом, Мандельштам
отталкивается от «девятнадцатого века» — столетия, которое свои великие
достижения оплатило слишком дорогой, роковой ценой —
образовавшимся разрывом между научно-теоретическим и жизненно-практическим
разумом: «Ум, который не есть знание и совокупность знаний, а есть
хватка, прием, метод, покинул науку, благо он может существовать
самостоятельно и найдет себе пищу где угодно. (...) Свободный ум
отделился от науки. Он очутился всюду, только не в ней: в поэзии, в
хозяйстве, в политике и т. д.» (Там же. С. 56).
38 Набрасывая в 1921—1922 гг. свою новую онтологию («философию
поступка»), брошенную тогда же, ибо выпавшую из русского
философского разговора (после 1922 г.), M. M. Бахтин писал: «Печальное
недоразумение, наследие рационализма, что правда может быть только истиной,
слагающейся из общих моментов, что правда положения есть именно по-
вторимое и постоянное в нем (...). Поступок в его целостности более чем
рационален, — он ответственен». — Бахтин M. M. К философии
поступка. С. 30.
39 Хайдеггер говорил участникам «Целликонеровских семинаров» (1965):
«Вами уже было замечено, что я не делаю из вас философов, но хотел
бы только обратить ваше внимание на то, что неизбежно касается
человека и к чему он, напротив, не имеет доступа до определенного
случая». — Хайдеггер М. Целликонеровские семинары (пер. О. В.
Никифорова) // Логос. № 3 (1992). С. 82.
40 Ср. в письме А. А. Ухтомского к Е. И. Бронштейн-Шур от 3.4.1927 г.:
«Человек подходит к миру всегда через посредство своих доминант, своей
деятельности. Старинная мысль, что мы пассивно отпечатлеваем на себе
реальность, какова она есть, совершенно не соответствует
действительности. Наши доминанты, наше поведение стоят между нами и миром,
между нашими мыслями и действительностью». — Ухтомский А. А.
Интуиция совести: Письма. Записные книжки. Заметки на полях. СПб., 1996.
С. 249. Эпистемологический смысл концепции «доминанты» А. А.
Ухтомского — утверждение невозможности беспредпосылочного
(«бездоминантного»), «чистого» мышления и сознания. Философская
герменевтика превращает все доминанты — в качестве «предрассудков» — в
историческое наследие, предание, традиции в реальной, «прозаической»
современности сегодняшнего дня.
41 См.: Jung Mattias. Hermeneutik zur Einführung. Hamburg, 2001. S. 118.
42 См.: Лукан Д. Теория романа (пер. Г. Берельсона) // Новое литературное
обозрение. № 9.1994. С. 78.
43 Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М.:
Прогресс, 1988. С. 329.
Цейтблом после Леверкюна
295
44 Развивая на правах «второго сознания» мысли профессора риторики
Д. Вико о «здравом смысле» (точнее — «общем» чувстве, sensus
communis), Гадамер делает акцент, который изначально (т. е. начиная с римской
античности) заключен в этом понятии, но который только в Конце
Нового времени, в эпоху завершенной демократии, мог быть по-настоящему
осознан в своем значении на историческом опыте: здравый смысл «явно
означает не только ту общую способность, которая есть у всякого
человека, но одновременно и чувство, порождающее общность». —
Гадамер Х.-Г. Истина и метод. С. 62. Гадамер при этом ссылается на
защиту А. Бергсоном «здравого смысла» (bon sens) — защиту, которая была
бы непонятной в устах знаменитого «интуитивиста» и «иррационали-
ста» вне контекста того мира жизни, которое делает возможным
соединение в сознании господина Бергсона вещей, теоретически
несовместимых. Ср.: Бергсон А. Здравый смысл и классическое образование (1895)
(пер. И. И. Блауберг) // Вопросы философии. 1990. № 1. С. 163—168.
45 Рено А. Эра индивида. СПб.: Владимир Даль, 2002.
46 Вспомним в этой связи «теоретический» пример из истории русской
мысли XIX в. — «Открытое письмо господину Фридриху Энгельсу»
П. Н. Ткачева (1874), предвосхищающе-экзистенциальный «наш ответ
Чемберлену» с позиций народнического социализма и коммунизма —
«господам Марксу и Энгельсу». Ткачев настаивает именно на
«исключительности» русского исторического пути по сравнению с буржуазным
миром Западной Европы: если на Западе государство проникло в самые
поры общественной жизни европейских наций, то в России государство
традиционно не имеет отношения к общественной и народной жизни и
на самом деле только представляется могущественным; и это —
хорошо, потому что русский народ — «коммунист по инстинкту, по
традиции»; в этом смысле «наш народ, несмотря на свое невежество, стоит
гораздо ближе к социализму, чем народы Западной Европы, хотя
последние и образованнее его». — См.: Ткачев П. Н. Избранные произведения.
Т. 3. М.: Издательство Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-
переселенцев, 1932. С. 88—98. В 1960-е гг. при переиздании сочинений
Ткачева его «Открытое письмо...» (переведенное с немецкого
оригинала) уже не решились перепечатывать. Как отмечает А. Валицкий в своей
«Истории русской мысли», Г. В. Плеханову пришлось после
беззаконного, антиобщественного захвата власти большевиками в 1917 г.
полемизировать незадолго до своей смерти с бывшим своим учеником Лениным,
используя те же самые аргументы, которые отец-основатель марксизма
употреблял в полемике с Ткачевым за тридцать лет до того; см.: Valicki
Andrzej. A History of Russian Thought: From the Enlightenment to Marxism.
Stanford (Calif.), 1979. P. 251 (примеч. 50).
47 Бубер Мартин. Я и Ты (1919—1923) // Он же. Два образа веры. М.:
Республика, 1993. С. 25. Уже в статье «Диалог» (1930) М. Бубер,
дистанцируясь от своего прежнего (довоенного) понимания «религиозного» как та-
296
Раздел первый. Переход
кого исключения из общества, которое отвергает это общество в
принципе, писал: «В молодые годы "религиозное" было для меня
исключением из всего остального» (war mir das «Religiose» die Ausnahme). В
переводе M. И. Левиной эта мысль передана так: «В молодые годы
исключением в обычной жизни было для меня только "религиозное"» (см.: Бубер М.
Два образа веры. С. 103), что, по-моему, либо делает оригинал
невнятным, либо понятным, но в направлении, прямо противоположном
авторской мысли.
Теперь мы можем сказать: в гуманитарной эпистемологии XX в.
«герменевтический круг» стал обновленным коррелятом теории
относительности. Но тогда и ссылки M. M. Бахтина на «эйнштейновскую вселенную»
(особенно в книге о Достоевском) начинают проясняться: речь, явным
образом, идет не об условной и формальной аналогии. Ср.: «Теория
относительности впервые раскрыла возможность нового мышления
пространства, допустив кривизну, загиб его на себя самого и,
следовательно, возможность возвращения к началу. (...) Дело здесь в возможности
совершенно иной модели движения. Но это особенно касается модели
становления пути мира и человечества в ценностно-метафорическом
смысле слова (разрядка в тексте. — В. М.)». — Бахтин M. M. Собр. соч.
Т. 5. М., 1996. С. 135.
Weinsheimer Joel. Philosophical Hermeneutics and Literary Theory. New
Haven; London, 1991. P. 12.
Симптоматичен, как кажется, раздел «Гадамер и исторический опыт» в
упоминавшейся новой книге Ф. Р. Анкерсмита; см.: Анкерсмит Ф. Р.
Возвышенный исторический опыт. Цит. изд. С. 271—332. Следуя за Р. Рорти,
Анкерсмит, похоже, на свой лад и уже за пределами структуралистской
эпохи повторяет эпистемологическую попытку автора «Философии и
зеркала природы» (1979), так сказать, развернуть «лингвистический
поворот» в сторону философии опыта с опорой на герменевтическую
онтологию и эпистемологию Хайдеггера—Гадамера. Этот ход или переход,
однако, возвращает английского эпистемолога XXI в. к романтизму XIX в.,
от которого немецкая герменевтика познания более или менее отошла
восемьдесят лет назад. С другой стороны, переориентация с «языка» на
«опыт», которую постулирует теперь Анкерсмит, совершенно понятная
«на родине номинализма» (как сказал бы Гадамер), в герменевтической
эпистемологии не имеет смысла, поскольку «опыт» и «язык» — две
стороны одного и того же явления — «бытия здесь». Другое дело, что книга
Ф. Р. Анкерсмита проникнута специфически современным (после
Конца Нового времени, или, скажем, после «11 сентября») новым ужасом
перед наступающей глобальной реальностью. В этом пункте тезис
Витгенштейна о границах нашего языка как границах нашего опыта обозначает
сегодня — в свете нашего опыта — относительный кризис, среди
прочего, и парадигмы «понимания», за границами которого начинается опыт,
лежащий уже за пределами нашего понимания; в таком качестве «опыт»
Цейтблом после Леверкюна
297
интересует и Ф. Р. Анкерсмита. См. в этой связи немецкое исследование,
в котором опыт, лежащий за пределами понимания, иллюстрируется,
среди прочего, сценой зверского избиения мужиком лошаденки в
знаменитом сне Раскольникова в «Преступлении и наказании» Достоевского:
Kogge Werner. Die Grenzen des Verstehens: Kultur — Differenz — Diskretion.
Weilerswist, 2002. S. 12.
Аверинцев С. С. Образ античности в западноевропейской культуре XX в.
// Он же. Образ античности. СПб.: Азбука-классика, 2004. С. 173—175.
Из письма от 11.4.1928 г.; см.: Ухтомский А. А. Интуиция совести. С. 283.
Riedel M. Vieles wäre / Zu sagen davon // Begegnungen mit Hans-Georg Gada-
mer / Hrsg. von Günter Figal. Stuttgart, 2000. S. 75.
Веселовский Α. Η. В. А. Жуковский. Поэзия чувства и «сердечного
воображения» (1902) / Ред., предисл. и пер. А. Е. Махова. M.: INTRADA, 1999;
Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма: В. Ф. Одоевский. Т. 1. М.:
М. и С. Сабашниковы, 1913.
В романе Т. Манна «Доктор Фаустус» (1947) гуманист-классик и
классический немецкий культурфилистер, профессор Серенус Цейтблом
заканчивает биографию своего друга, гениального композитора Адриана
Леверкюна, под грохот бомбежек 1945 г. на благочестивом
анахроничном языке традиции с ощущением «дна пропасти» и с верой в чудо
«вопреки вере»: «Скоро ли из мрака последней безнадежности забрезжит
луч надежды и — вопреки вере — свершится чудо? Одинокий человек
молитвенно складывает руки: боже, смилуйся над бедной душой моего
друга, моей отчизны!» — Манн Томас. Собр. соч.: В 10 т. Т. 5. М.: ГИХЛ,
1960. С. 658.
Gadamer H.-G. Gesammelte Werke. Bd. 2. Tübingen, 1993. S. 447.
Отказ философской герменевтики от «последней радикальности»
обозначает собою тоже радиальный отход от «последнего слова» как уже
готового и завершенного в своем смысле, на которое ориентируется всякая
идеалистическая метафизика. «Это отсутствие окончательности (lack of
finality), — отмечает американская исследовательница Гадамера, — ни
уникально, ни случайно; оно характерно для постромантической
герменевтики вообще. Современная герменевтика не задает никакого
готового канона интерпретации, никакой раз навсегда установленной системы
правил, принципов или директив; ее невозможно отделить от
продолжающейся истории интерепретации истории как некое завершение или
конец. Подобно всему историческому, герменевтика тоже не может быть
понята в отрыве от того, как менялись со временем наши представления
и понятия о том, что такое герменевтика». — Weinsheimer Joel.
Philosophical Hermeneutics and Literary Theory. New Haven; London, 1991. P. 10.
Эти споры нашли свое выражение в известной дискуссии Гадамера и
Деррида, а также в полемике между Ю. Хабермасом и Ж.-Ф. Лиотаром.
См.: Dialogue and Deconstruction: The Gadamer-Derrida Encounter / Ed.
by Diane P. Michelfelder, Richard F. Palmer. N. Y., 1988; Frank Manfred. Die
298
Раздел первый. Переход
Grenzen der Verständigung. Frankfurt a. M., 1988; Хабермас Юрген.
Философский дискурс о модерне (1981). М.: Весь мир, 2003.
В письме к своему английскому критику и комментатору Р. Бернстай-
ну (1.6.1983) Гадамер пояснил, почему теоретический аргумент, в
соответствии с которым мы переживаем глобальное событие — «крах всех
принципов в современном мире», не может быть признан объективным,
но не по теоретическим причинам, а по «практическим», связанным с
понятием phronesis. «He впадаем ли мы в страшную умственную
гордыню, отождествляя предвидения Ницше и идеологическую путаницу и
затмения нашей современности с действительно проживаемой людьми
жизнью в ее формах солидарности? В этом вопросе мое отклонение от
Хайдеггера и вправду принципиально (fundamental) (...), и я только хочу
напомнить теоретикам (так! — В. М.)у что, в конечном счете, все дело
именно в этом. Другими словами, что если бы между людьми, к какому
бы обществу, культуре, классу или расе они ни принадлежали, больше не
осталось бы места для солидарности, то тогда формированием
человеческих общностей занимались бы только социальные инженеры и тираны,
то есть анонимные силы и насилие». — См.: Bernstein Richard J. Beyond
Objectivism and Relativism. Oxford (GB), 1983. P. 263.
Среди многочисленных воспоминаний Гадамера о «годах учений» есть
прелестный эпизод, относящийся к пику инфляции 1924 г., когда оба
марбургских учителя Ганса Георга, М. Хайдеггер и Н. Гартман, помогают
ученику, недавно перенесшему тяжелое заболевание, перевести в
повозке его вещи при перемене студенческого жилья. «И они тащили в одном
направлении!» — вспоминал Гадамер более чем полстолетия спустя. —
Gadamer H.-G. Einzug in Marburg // Erinnerung an Martin Heidegger. Pfull-
ingen, 1977. S. 112.
Позднее этот текст — «Феноменологические интерпретации
Аристотеля (Указание герменевтической ситуации)» — был переиздан отдельной
книжечкой с тем же введением Гадамера в качестве послесловия в
издательстве «Reclam»: Heidegger Martin. Phänomenologische Interpretationen
zu Aristoteles. Stuttgart, 2002.
Gadamer H.-G. Heideggers «theologische» Jugendschrift // Heidegger M.
Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles. Op. cit. S. 77.
В современной научной литературе и о Хайдеггере, и о Гадамере в
последние годы заметен (наряду со смещением интереса от «позднего»
Хайдеггера к «раннему») нарастающий интерес к рецепции Аристотеля (и
Платона) у Хайдеггера и у Гадамера; эти общие точки обнаруживают
решающие расхождения между учителем и учеником, и эти расхождения
приобретают сегодня новый смысл. См. поучительное исследование в
этом духе, посвященное центральной проблеме философской
герменевтики — проблеме «практического знания» («phronesis» Аристотеля): Stol-
zenberg Jürgen. Hermeneutik der praktischen Vernunft: Hans-Georg Gadamer
interpretiert Martin Heideggers Aristoteles-Interpretation // Dimensionen des
Цейтблом после Леверкюна
299
Hermeneutischen: Heidegger — Gadamer / Hrsg. von Günter Figal, Hans-
Helmuth Gander (Schriftenreihe der Martin-Heidegger-Gesellschaft. Bd. 7,
S. 133—152). См. также: Heidegger und Aristoteles // Hrsg. von Günter Figal
et al. Freiburg; München, 2003.
Gadamer H.-G. Destruktion und Dekonstruktion (1985) // Ders. Gesammelte
Werke. Bd. 10. Tübingen, 1993. S. 361—372.
Гадамер Х.-Г. Истина и метод. С. 369—383.
Heidegger M. Übungen für die Anfänger: Schillers Briefe über die ästhetische
Erziehung des Menschen (Wintersemester 1936—37) / Hrsg. von Ulrich von
Bülow. Mit eine Essay von Odo Marquard. Marbach am Neckar, 2005. S. 9.
Gadamer H.-G. Plato und die Dichter (1934) // Ders. Gesammelte Werke.
Bd. 5. Tübingen, 1985. S. 187—211. В настоящее время эта работа Гадамера
переводится на русский язык в рамках моего домашнего семинара
«Гуманитарный перевод».
Gadamer H.-G. Plato und die Dichter. Op. cit. S. 204.
В упоминавшемся воспоминании о начале Марбургского периода
деятельности Хайдеггера Гадамер рассказывает о том, как он на правах
«старого» марбуржца, годом раньше «перебежавшего» из Марбурга во
Фрайбург к Хайдеггеру и Гуссерлю, а теперь вернувшегося в Марбург для того,
чтобы учиться здесь у Хайдеггера, пытается «подружить» Н. Гартмана и
Хайдеггера и их учеников, что в конечном счете не удалось (тогда как
Р. Бультман и Хайдеггер, наоборот, сразу же подружились). Хайдеггер
пытался познакомить старшего коллегу с таким Аристотелем, которого в
Марбурге никогда не знали (Герман Коген называл Аристотеля
«аптекарем»). В частности и в особенности это касалось решающего пункта, где,
собственно, и происходило главное размежевание Хайдеггера с
традицией — не только с неокантианством, но и с рационализмом Нового
времени в целом. Если для Н. Гартмана было чем-то само собой разумеющимся
переводить и понимать «логос» как «понятие» (Begriff) и как акты
мышления, то Хайдеггер переводил «логос» как «высказывание» (Aussage) и
как акты речи и говорения (Sprechen). См.: Gadamer H.-G. Einzug in
Marburg. Op. cit. S. ПО.
Цит. по: Grandin Jean. Hans-Georg Gadamer. Eine Biographie. Tübingen,
1999. Op. cit. S. 138.
Löwith Karl. Das Individuum in der Rolle des Mitmenschen. München, 1928
(2. Aufl. Darmstadt, 1962). См. также: Jauss Hans Robert. Karl Löwith und
Luigi Pirandelo: Das Individuum in der Rolle des Mitmenschem —
wiedergelesen // Ders. Probleme des Verstehens: Ausgewählte Aufsätze. Stuttgart, 1999.
S. 74—121.
По воспоминаниям Гадамера, студенты в Марбурге так отзывались о
начинавших преподавательскую деятельность приятелях: «Крюгер учит
тому, каким образом все обстоит правильно, а Гадамер — тому, как мало
мы знаем о том, что правильно». — Gadamer H.-G. Gerhard Krüger // Ders.
Gesammelte Werke. Bd. 10. Tübingen, 1995. S. 413.
300
Раздел первый. Переход
Подчеркнем этот важнейший компонент подлинного (не
риторического) кризиса — мы называем его историческим «зависанием»
сверхисторических смыслов и вечных ценностей «вот в этот» момент времени. В
гуманитарной эпистемологии такое «зависание» — важная тема, в самой
истории это всегда неповторимая историческая ситуация. Вот одно из
многочисленных позднейших описаний Гадамером духовной ситуации
в Германии после 1918 г., в которой он складывался как человек и
мыслитель: «Конечно, уже перед великой катастрофой Первой мировой
войны были зримы симптомы грядущего, особенно в живописи и
архитектуре. Однако изменения в сознании совершились в целом существенно
позднее, уже после тех тяжелых потрясений, которые означали для
культурного сознания либерального века, для его веры в прогресс
материальные битвы Первой мировой войны. В тогдашней философии это
изменение общего чувства жизни проявилось так, что внезапно, совершенно
неожиданно была утрачена вера в господствующую философию, в ту, что
во второй половине XIX века вышла из обновленного критического
идеализма Канта». — Гадамер Г.-Г. Введение к работе Мартина Хайдеггера
«Исток художественного творения» // Он же. Актуальность прекрасного.
С. 100. Этот опыт «кризиса», опыт зависания бесконечного в конечном,
теоретически возможного в практически невозможном (и наоборот)
составляет, в свою очередь, герменевтическую фактичность исторической
ситуации, сделавшей возможной и необходимой радикальную критику
рационализма, «теоретизма», культурного сознания и либерального
сознания девятнадцатого века.
Grondin Jean. Hans-Georg Gadamer. Eine Biographie. S. 148—149.
В этом пункте я следую за Микаэлем Тойниссеном. Этот герменевтически
ориентированный немецкий историк философии утверждает следующее:
Маркс именно в качестве критика политической экономии понял то, чего
не хотел понимать или принять полвека спустя даже Гуссерль,
мысливший — в этом отношении — еще в традиционных границах философской
классики (идеализма). Маркс уже в середине XIX в. понял, что философия
после Гегеля возможна уже не в качестве «системы» или «учения» и,
соответственно, не в качестве «царицы наук», способной предоставить
методологическую ориентацию конкретным научным дисциплинам
(Fachwissenschaften), но в более скромной, зато возможной функции критики
самосознания научных дисциплин, на почве этих дисциплин; вне этой
почвы современная философия зависает в пустоте и даже внутри научного
сообщества (не говоря уж об обществе в целом) оказывается «вне игры».
См.: Theunissen Michael. Möglichkeiten des Philosophierens heute (1989) //
Ders. Negative Theologie der Zeit. Frankfurt a. M.> 1991. S. 21—25.
См.: Гайденко П. Герменевтика и кризис буржуазной культурно-
исторической традиции // Вопросы литературы. 1977. № 5. С. 130—165;
Она же. Философская герменевтика: от Фр. Шлейермахера к Г.-Г. Гадаме-
Цейтблом после Леверкюна
301
ру // Она же. Прорыв к транцендентному: Новая онтология XX века. М.:
Республика, 1997. С. 391—447.
Инишев И. Н. Чтение и дискурс: трансформации герменевтики. Вильнюс:
Европейский гуманитарный университет, 2007.
Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. С. 7.
О «перенесении центра внимания с памятника на самую
действительность» — процессе, происходившем в первые десятилетия XIX в., в
результате которого историческая наука приобрела свой предмет и свою
автономию, см.: Винокур Г. О. Введение в изучение филологических
наук (1944—1945) / Сост. и коммент. С. И. Гиндина. М.: Лабиринт, 2000.
С. 34—36.
Соответственно молодой Бахтин (как мы знаем теперь, раньше Хайдег-
гера, не говоря уж о Гадамере, а главное, самобытно) сформулировал
новую стратегическую задачу научно-философского разума на исходе
Нового времени, подчеркивая в программном тексте «К философии
поступка» (1921 —1922): именно потому, что теоретический и
эстетический разум оба «отпущены на свободу», их необходимо приобщить
«последнему единству», которое возвращается к первичности нравственной
действительности — ответственному поступку на основе его «не-алиби
в бытии». Тем самым критика кантовского и особенно неокантианского
«теоретизма» не уходит от Канта, но еще радикальнее, чем у Макса Ше-
лера (на которого Бахтин, по его же свидетельству, опирался),
возвращается к Канту: теоретический и эстетический разум оказываются
моментами практического разума. Как заметил Э. Ю. Соловьев в свое
время, «если бы работа "К философии поступка" увидела свет в 20-х годах (а
не в 1986 году, как это случилось на деле), то это, возможно, повело бы к
форсированному развитию всего герменевтического направления в
Западной Европе еще в предвоенный период». См.: Соловьев Э. Ю. Судьби-
ческая историософия М. Хайдеггера // Он же. Прошлое толкует нас. М.:
Политиздат, 1991. С. 388.
Декарт Рене. Правила для руководства ума // Он же. Соч.: В 2 т. Т. 1. М.:
Мысль, 1989. С. 79.
Heidegger M. Zolikoner Seminare. Frankfurt a. M., 1987. S. 136.
Aristoteles. Nikomachische Ethik VI / Hrsg. von H.-G. Gadamer.
Frankfurt a. M., 1998. S. 15.
Vetter Helmuth. Hermeneutik. Wien, 2003. S. 87.
Гадамер Х.-Г. Что есть истина? // Логос. № 1. С. 34.
А. Хансен-Леве отмечал в своем известном исследовании, что
принцип «остранения» посредством «приема», провозглашенный
формалистами вокруг 1917 г., в своем историческом воздействии
прослеживается вплоть до М. Фуко. См: Hansen-Löwe Α. Der russische Formalismus.
Wien, 1978. S. 13. Существенно, однако, еще и другое: сам этот принцип
был радикализацией парадигматического для Нового времени
принципа «метода».
302
Раздел первый. Переход
87 Бахтин M. М. К философии поступка. С. 47.
88 Stegmüller W. Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie. 6. Aufl. Stuttgart,
1977. S. 382.
89 А. Хорстманн в своей книге о гуманитарно-эпистемологическом
принципе А. Бека «познание познанного» «Античная "theoria" и современная
наука» показывает, среди прочего, водораздел, образовавшийся в
западноевропейских дискуссиях последних десятилетий между
«сциентистским» и «гуманитарным» мышлением. См.: Horstvann Axel Antike
theoria und moderne Wissenschaft: August Boeckhs Konzeption der Philologie.
Frankfurt a.M. etc., 1992. S. 11 — 15.
90 Vetter H.Op. cit. S A27.
91 Бахтин M. M. К философии поступка. С. 7.
92 Vetter H. Op. cit. S. 73.
93 Бахтин M. M. Собр. соч. Т. 6. С. 408.
94 Theunissen Michael Der Andere: Studien zur Sozialontologie der Gegenwart.
Berlin, 1965. S. 10.
95 Аристотель. Об искусстве поэзии (пер. В. Г. Аппельрота). М.: ГИХЛ,
1957. С. 68.
96 Гадамер Г.-Г. Философия и герменевтика. С. 10.
97 Гадамер неоднократно дает понять (особенно в своих
автобиографических заметках о годах учения), что крах государства и общества в 1920-
е гг. составлял условие возможности вызова, для философии
исходившего, с одной стороны, от «экзистенции», с другой — от истины
искусства. «Такую истину, представлялось нам, знает Достоевский,
знает Ван Гог, знает Ницше с его экстатической критикой иллюзий
самосознания». — Гадамер Г.-Г. Философия и герменевтика. С. 10.
Очевидно, не во всякую эпоху философия испытывает вызов со стороны
искусства, «экзистенции» и реальности в целом; этим, по-видимому,
определяется условие возможности или невозможности «кризиса» и
«смены парадигмы».
98 Вспоминаю, как в университете, где я преподаю, однажды ко мне
подошли в перерыве между занятиями студентки-филологи 4-го курса с
вопросом, смысл которого можно передать так: простите, но что это вы нам
такое здесь читаете? А я начал курс по истории эстетики с того, с чего
его невозможно не начинать: с понятия «aistesis»> ставшего у А. Баумгар-
тена, как известно, обозначением новой науки о низшей (чувственной)
форме познания (gnoseologia inferior). Вот это «низшее», inferiory
видимому, и вызвало некоторый шок. «Но разве эстетика — это не
"прекрасное"»? — несколько уязвлено переспросили меня. Я поспешил заверить
своих на удивление неравнодушных слушательниц, что по ходу
изложения мы скоро доберемся и до «прекрасного»...
99 См.: Зелинский Φ. Φ. Древнегреческая литература эпохи независимости.
Пг., 1919. С. 2—3. По мнению выдающегося филолога-классика и
проводника влияния идей Ф. Ницше на русскую дореволюционную научно-
Цейтблом после Леверкюна
303
гуманитарную мысль, Φ. Φ. Зелинского (1866—1944), развитие
европейской культуры Нового времени стоит под знаком трех «ренессансов»,
т. е. трех «возрождений» античного наследия, из которых первые два
обращения к античному наследию исторически состоялись в Западной
Европе, а третье — «славянское возрождение» — предстоит в будущем.
После «романского» Ренессанса XIV—XVI вв. был «германский» (1780—
1930), завершившийся по смерти Гегеля и Гете; русское, или славянское,
возрождение античности должно привести к взлету русской культуры
как уже не только самобытной, но и принципиальной участницы
европейской истории. Здесь не место обсуждать концепцию Φ. Φ.
Зелинского: герменевтическое переобращение к ней, как показали недавние
дискуссии, пока еще слишком зашорено и затруднено из-за идеологических
предрассудков структуралистской эпохи. Тем не менее, уже теперь
может быть если не оценена, то все же услышана гуманитарно-научная
сторона концепции Зелинского. Как бы в предвосхищении бахтинской
теории романа и «романизации» литературы и самого речевого сознания
Зелинский писал о необходимости пересмотра традиционного для
Нового времени представления о греческой литературе. В основу новой
парадигмы «должно лечь мнение, противоположное тому, которое со
времен Гердера царствует и в теории, и в истории литературы — а
именно мнение о предполагаемом временном первенстве поэзии перед прозой»
(выделено в тексте. — В. М.) (Там же. С. 6). О Φ. Φ. Зелинском и драме
поколения его учеников см. заметку H. M. Бахтина, напечатанную во
второй половине 1920-х гг. в эмигрантском журнале «Звено» (Париж):
Бахтин Николай Μ. Φ. Φ. Зелинский // Он же. Философия как живой опыт:
Избранные статьи. М.: Лабиринт, 2008. С. 179—180.
Бахтин M. М. К вопросам методологии эстетики словесного творчества.
I. Проблема формы, содержания и материала в словесном
художественном творчестве (1924) // Он же. Собр. соч. Т. 1. М., 2003. С. 281.
По мысли Гадамера, эстетизм Ницше — не альтернатива «научности», но
изнанка и двойник научности Нового времени; историческое сознание
Ницше понимал как переживание объективированных наукой
исторических горизонтов, а не как собственный исторический горизонт.
Поэтому «рассуждения Ницше о вреде истории для жизни относятся в
действительности не к историческому сознанию как таковому, но к тому
самоотчуждению, которое претерпевает это сознание, когда оно
принимает методику современной исторической науки за свою подлинную
сущность» (361).
См. в этой связи в частности: Arendt Hannah. Between Past and Future: Six
Exercises in Political Philosophy. N. Y„ 1961. P. 198—200. X. Арендт, в
частности, говорит о «фатальном отчуждении от мира, которое, начиная с
Руссо, ошибочно принимают за самоотчуждение» (Р. 199). Цитируемую
книгу «Между прошлым и будущим» X. Арендт завершает тем же, с чего
Гадамер начинает «Истину и метод», — анализом «Критики способно-
304
Раздел первый. Переход
сти суждения», понятий «вкуса», «суждения вкуса» и «здравого
смысла» в исторической связи с греческим понятием «фронесис». Сходство
здесь, как всегда у больших мыслителей, объясняется не «влиянием», но
скорее относительной одновременностью разговора. Но, в отличие от
главной книги Гадамера, у X. Арендт проблемы эстетической и научно-
гуманитарной культуры, традиции, авторитета, образования и т. п.
ставятся в непосредственную связь с общественно-политической
ситуацией и ее дискурсным резонированием в так называемом общественном
сознании, с тем «мы», по отношению к которому Гадамер всегда (даже в
последние десятилетия) соблюдал тактичную и тактическую дистанцию.
Шиллер Фридрих. Собр. соч. Т. 6. М.: ГИХЛ, 1957. С. 355.
Там же. С. 356.
Об огромном влиянии Шиллера на Достоевского см. советскую
монографию, в которой собран большой фактический материал: Вилъ-
монт Н. Достоевский и Шиллер: Заметки русского германиста (1964)
// Он же. Вечные спутники. М.: Сов. писатель, 1966. С. 7—316. Н. Виль-
монт, между прочим, подверг в этой своей книге справедливой критике
известную монографию Я. Э. Голосовкера «Достоевский и Кант» (1963)
за методические несообразности талантливого автора,
ориентирующегося (в духе распространенной у нас романтической традиции), с одной
стороны, на собственную «интуицию», с другой стороны — на
теоретические положения Канта, воспринятые не философски-критически,
но теоретико-догматически, и в таком виде «наложенные» на
художественный мир и творческое сознание Достоевского, которые в
результате такого подхода не столько раскрываются в смысловой
фактичности изображаемого, сколько редуцируют и подменяют эстетический
опыт псевдофилософским «теоретизмом». Сопоставления
Достоевского с Шиллером с позиций традиционной методики (т. е. в плане
«эстетики содержания»), в «парадигме» которой работал Н. Вильмонт,
гораздо продуктивнее.
Эстетически Л. Толстой, по-видимому, ближе и понятнее Гадамеру (как и
автору «Бытия и времени», в известном месте своей книги сославшегося
на «Смерть Ивана Ильича»). С Достоевским все настолько сложнее, что
грозит упрощением. Ср.: «"Карамазовы" были для нас в 20-е годы
важнейшей книгой после Библии. (...) Интерес к православию у всех нас
возник через чтение Достоевского. В "Карамазовых", особенно в черновых
набросках к ним, мы видели новую форму теологического письма, новую
попытку апологии христианства». — Гадамер Х.-Г. Русские в Германии.
Цит. изд. С. 228,229.
Действенную историю этой «новой мифологии» XIX—XX вв. изобразил
ученик Гадамера М. Франк; см.: Frank Manfred. Der kommende Gott:
Vorlesungen über die Neue Mythologie. Frankfurt a. M., 1982; Ders. Gott im Exil:
Vorlesungen über die neue Mythologie. Frankfurt a. M., 1988.
Цейтблом после Леверкюна
305
108 См. перевод этого текста: Гегель Π В. Ф. Работы разных лет: В 2 т. Т. 1. М.:
Мысль, 1970. С. 211—213.
109 Gadamer H.-G. Gesammelte Werke. Bd. 5. Tübingen, 1985. S. 206.
110 Текст доклада М. Хайдеггера 1935 г. «Исток художественного творения»,
позднее переработанный и дополненный автором в качестве
самостоятельного сочинения, А. В. Михайлов перевел и напечатал в начале 1990-
х гг. в параллель с немецким оригиналом вместе со вступительной
статьей Гадамера к упомянутой работе учителя. См.: Хайдеггер М. Исток
художественного творения // Он же. Работы и размышления разных лет
(пер., сост., коммент. А. В. Михайлова). М.: Гнозис, 1993. С. 51—116; Га-
дамер Г.-Г. Введение к «Истоку художественного творения» (1955) // Там
же. С. 117—132.
111 Искусствоведы и философы-эстетики — в особенности, конечно,
немецкие — судили на этот счет беспощадно. Вообще в западной науке, как
можно заметить, чем известнее мыслитель, тем меньше на нем,
ненаучно выражаясь, остается живого места от критики и тем скромнее он
вынужден вести себя среди коллег. «Харизма», разумеется, возможна в
научной среде, как и в политике; но там и здесь ее сопровождает
всесторонняя критика как условие возможности корпоративной или
национальной «солидарности».
112 См.: Сафрански Рюдигер. Шиллер, или Открытие немецкого идеализма
(2004) / Пер. А. Гугнина. М., 2007. С. 357.
113 О западноевропейской (преимущественно немецкой) «формальной
эстетике» второй половины XIX—XX вв. см.: WiesingLambert Das Sichtbarkeit
ders Bildes: Geschichte und Perspektiven der formalen Ästhetik. Hamburg,
1997. В отечественной научной литературе сих пор непревзойденный,
хотя и очень краткий критический обзор «формалистической»
эстетики, искусствознания и литературоведения (в сопоставлении и
противопоставлении русскому «формальному методу») дал M. M. Бахтин в
книге: Медведев П. Н. Формальный метод в литературоведении. Л., 1928; см.:
М. Бахтин (под маской). М.: Лабиринт, 2000. С. 221—234.
114 В эпистолярном споре с Э. Штайгером по поводу стихотворения Мёрике
Хайдеггер опирается на Гегеля, тогда как Э. Штайгер — литературовед и
филолог, интересы которого, естественно, определяются, в первую
очередь, творческим сознанием индивидуального автора и конкретным
поэтическим произведениям, — не может удовлетвориться ни «идеей», ни
«бытием». Спор идет, собственно, вокруг того, что в «эстетике
словесного творчества» М. М. Бахтина начала 1920-х гг. называлось (в переводе
с немецкого) «завершением» (Vollendung): Хайдеггер видит такое
завершение скорее в «бытии» изображения; наоборот, Штайгер видит момент
завершения в «изображении» как творческом свершении (авторстве). В
терминологии M. M. Бахтина это можно выразить так: в стихотворении
Мёрике «К лампе» Хайдеггер делает акцент на «герое» содержания
эстетической деятельности как телеологическом целом произведения, Штай-
306
Раздел первый. Переход
гер — на «авторе» как формообразующем целом произведения. См.:Хай-
деггер М. По поводу одного стиха Э. Мерике: Переписка Эмиля Штайге-
ра с Мартином Хайдеггером (1950/51) // Он же. Работы и размышления
разных лет. С. 243—257.
115 Ср.: «В истории философии мы наблюдаем постоянно
возвращающуюся тенденцию к подмене систематического заданного единства
познания и поступка конкретным интуитивным и как бы уже данным,
наличным единством эстетического видения. (...) В этом, действительно,
великий соблазн для мышления, который создал рядом с единой большой
дорогой науки философии параллельные, но не дороги, а
изолированные острова индивидуальных художественно-философских интуиции
(пусть иногда и гениальных в своем роде). (...) Одна из важнейших задач
эстетики — найти подход к эстетизованным философемам, создать
теорию интуитивной философии на основе теории искусства» (выделено в
тексте. — В. М.). — Бахтин M. М. К вопросам методологии эстетики
словесного творчества. С. 288,289.
116 См. работу под этим заглавием: Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного
(1975). С. 266—323.
117 Бахтин M. M. Проблемы творчества Достоевского (1929) // Он же.
Собр. соч. Т. 2. М., 2002. С. 131. Бахтин называет речевое поведение
«подпольного человека» юродствующим «эстетизмом с обратным
знаком» (там же).
118 См., например: Гадамер Г.-Г. Эстетика и герменевтика (1964) / Пер.
В. В. Бибихина //Он же. Актуальность прекрасного. С. 256—265.
119 Аргументы Г. Р. Яусса против «гипостазирования традиции» Гадаме-
ром см.: Яусс Ханс Роберт. История литературы как провокация
литературоведения (1967) / Пер. А. Гугнина // Новое литературное
обозрение. № 12. 1995. С. 68—70. Главный труд Г. Р. Яусса —
«Эстетический опыт и литературная герменевтика» (1977); см.: Jauss Hans Robert.
Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik. Bd. 1. München, 1977.
На базе так называемой Констанцской школы рецептивной эстетики
на протяжении трех десятилетий проходили конференции,
посвященные интердисциплинарным проблемам литературоведения,
гуманитарных наук и философии; материалы этих конференций
публиковались в специальном издании «Поэтика и герменевтика»; последний том
этого издания, посвященный проблематике «конца» и называвшийся
«Конец», вышел в 1996 г. Открывая в 1980 г. конференцию,
посвященную проблеме «диалога и диалогичности» в контексте обсуждения
философии диалога и «эстетики словесного творчества» M. M. Бахтина,
Г. Р. Яусс представил сжатый ретроспективный очерк проблематики
своей «школы», переклички и разногласия рецептивной герменевтики
с «диалогизмом» Бахтина (каким его тогда представляли); см.: Яусс Г. Р.
К проблеме диалогического понимания (1980) / Пер. В. Л. Махлина) //
Бахтинский сборник—III / Под ред. В. Л. Махлина. М.: Лабиринт, 1997.
Цейтблом после Леверкюна
307
С. 182—197. Советский структурализм 1960—70-х гг. мог состояться и
стать фактом и фактором научно-гуманитарной истории в нашей
стране постольку, постольку он мог опираться на русский формализм 1920-
х гг. и его «экспорт» на Западе в структуралистскую эпоху. Но, в
отличие от «Тартуской школы» Ю. М. Лотмана, в СССР уже не могло быть
чего-то подобного «Констанцской школе» его современника Г. Р. Яус-
са. Историко-герменевтическая линия отечественной гуманитарной
мысли (немецкая и русская) в России (в отличие от Германии и других
стран) практически перестала развиваться и даже воспроизводиться. В
течение двух-трех поколений это привело в особенности филологию к
утрате исторического измерения, а значит, — предметных мотиваций и
перспектив исследования.
В своей критике романтической эстетики (включая «эстетику гения») и
ее «научной» радикализации в системе Гегеля глава Марбургской школы
Г. Коген (1842—1918) за полвека до Гадамера (фактически гораздо
раньше) поставил тот же самый вопрос о сворачивании научной
постановки проблемы искусства в послекантовской философии; но, в отличие
от Хайдеггера и Гадамера, его тревожила не «субъективизация»
эстетики и «эстетического сознания» перед лицом исторического круга
«бытия здесь», но утрата «методики» при постановке вопроса о месте
искусства в системе философии — вопроса, который в экзистенциальную
эпоху, взорвавшую статус и влияние неокантианства, скорее потерял свою
актуальность. Между тем как раз с этой «методической» позиции, уже в
его время казавшейся отчасти схоластической, Коген дает критику того,
что Гадамер потом поставит под вопрос в качестве «религии искусства»
(Гегель) или «точки зрения /позиции искусства» (Гадамер); но для Когена
важно, что Гегель сам принадлежит к романтизму, который он же и
критиковал. В этом контексте глава Марбургской школы употребляет слово,
очень важное в языке Гадамера (и Бахтина), — «наивность». Ср.:
«Подлинная наивность всегда возникает из сращенности с мифом (выделено в
тексте. — В. М.). Такой наивностью является историческая теодицея
романтической эстетики» (см.: Cohen Hermann. Ästhetik des reinen Gefühls.
Bd. 1. Berlin, 1912. S. 35). Гегель, по мысли Г. Когена, не преодолел, а,
наоборот, радикализовал романтическую эстетику посредством своего
«диалектического формализма» (ibid.)> который в действительности
питался неоплатоническими импульсами (Плотин). Гегель, говорит, Коген,
может показаться куда значительнее, чем В. фон Гумбольдт, но это —
иллюзия: «Гегель, превратив искусство в орган философии, вновь интел-
лектуализировал искусство и низвел его на низшую ступень в
изображении истинного, тем самым лишив искусство самостоятельности:
красота и истина отныне — одно и то же» (S. 39), тогда как научное
разрешение проблемы искусства требует дифференциации задач, стоящих перед
«творящей» индивидуальностью (der Schaffende) и индивидуальностью
«воспроизводящей» (ein Nachschaffende). Художественное произведение
308
Раздел первый. Переход
заключает в себе «полет к завершению» (Fluges zur Vollendung), который
выше всякой чисто художественной ценности и который предполагает
актуализацию за пределами искусства (ibid. S. 209).
Сходным образом, как мне кажется, поступает и С. С. Аверинцев; см.:
Аверинцев С. С. Авторство и авторитет (1994) // Он же. Риторика и
истоки европейской литературной традиции. М.: Языки славянской
культуры, 1996. С. 76—100.
С «последней радикальностью» (полемически и нигилистически)
проблема автора была заявлена уже русскими формалистами в первые
пореволюционные годы, а в 1960-е гг. она была поставлена французским
нео- или постструктурализмом и деконструктивизмом; в этом
отношении формалистически-деконструктивистская парадигма остается
продуктивным вызовом для гуманитарной эпистемологии и
гуманитарных наук вплоть до сегодняшнего дня. Позиция Гадамера в вопросе об
«авторе» парадоксальным образом дальше от «диалогизма» M. M.
Бахтина, с которым у немецкой герменевтики столько естественных
точек пересечения, и ближе к франко-русским версиям структурализма,
которым, казалось бы, чужд и Хайдеггер, и Гадамер. Ученик Гадамера
М. Франк (как и Г. Р. Яусс и его школа) в 1970—80-е гг. полемизировал
с учителем как раз в этом решающем пункте, критикуя уклон к
деперсонализации (M. M. Бахтин в несколько иной связи называл это «челове-
коборчеством») не только у Хайдеггера, ответственного за
соответствующие тенденции во французском «мышлении 68-го года», но и у
Гадамера (см.: Frank Manfred. Was ist Neostrukturalismus. Frankfurt a. M., 1984.
S. 129—133). M. Франк противопоставил Гадамеру — в
герменевтическом духе самого Гадамера — Ф. Шлейермахера, который (вопреки и
благодаря своему «романтизму») удержал ценность «индивидуального
всеобщего», заметно утраченную герменевтикой XX в., и в
сформулированной им задаче герменевтического познания — «правильно понять речь
другого» (die Rede eines anderen richtig zu verstehen) — в
действительности оставил позади себя обе программы — немецкую герменевтическую
и русско-французскую структурно-семиотическую — как
односторонности, соответственно, субъективизма и объективизма (см.: Frank
Manfred. Das individuelle Allgemeine: Textstrukturierung und Textinterpretation
nach Schleiermacher. Frankfurt a. M., 1977). Уместно заметить, что в 1980-
е гг. Гадамер несколько скорректировал свою позицию в ответ на
критику, а главное — из-за того, что констелляция философского разговора к
тому времени уже стала «постмодерной»: основным оппонентом
сделался теперь не романтический и неоромантический, а
постэкзистенциальный субъективизм и деконструктивизм.
Методическую проблематичность, если не бесплодность общего
понятия, взятого за исходный пункт и ориентир исследования реального
предмета и реальных феноменов, обозначаемых этим понятием в
совокупности («вообще»), подчеркивает американский исследователь Р. Мей-
Цейтблом после Леверкюна
309
сон, начиная свою книгу «Понимание понимания»: «Не ясно, что,
собственно, располагая теорией понимания или — еще амбициознее —
"общей теорией" понимания, мы можем делать (курсив в тексте. — В. М.).
С одной стороны, кажется чем-то естественным надеяться, что,
размышляя о понимании, можно чему-то научиться. С другой стороны, идея
чего-то всем общего (something in common) — идея субстанции — на
фоне различных форм понимания выглядит скорее антикварным
философским мифом. Еще раз: вопросы можно не заметить. А между тем
теории ведь тоже нуждаются в понимании». — Mason Richard. Understanding
Understanding. N. Y., 2003. P. 2.
Сам Гадамер, впрочем, редко пользуется этим термином. О «герменевти-
чекой логике», помимо статьи в немецком «Историческом словаре
философии», см.: Bollnow Otto Friedrich. Studien zur Hermeneutik. Bd. II: Zur
hermeneutischen Logik von Georg Misch und Hans Lipps. Freiburg; München,
1983. См также: Михайлов И. «Герменевтическая логика» Ганса Липпса //
Точки. № 3—4.2002. С. 125—145.
Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. С. 16—26. Цитируется далее с
указанием страниц в тексте в скобках.
Аристотель. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. М., 1978. С. 95.
О «культуре вопроса» и речевом жанре «диспута», созданных греками,
но утвердившихся в западноевропейской научной культуре благодаря
средневековому университету, см.: Rensch Thomas. Die Kultur der questio:
Zur literarischen Formgeschichte der Philosophie im Mittelalter // Literarische
Formen der Philosophie / Hrsg. von Gotfrief Gabriel, Christiane Schildknecht.
Stuttgart, 1990. S. 73—91.
Бахтин M. M. Слово в романе (1934—1935) // Он же. Вопросы
литературы и эстетики. М.: Худ. литература, 1975. С. 88. Под этим углом
зрения в этом и других исследованиях Бахтина 1920—1970-х гг.
предлагается фундаментальная критика «философии языка, лингвистики и
построенной на их базе стилистики» (там же). Ср.: «Если бы представили себе
произведение как реплику некоторого диалога, стиль которой
определяется взаимоотношением ее с другими репликами этого диалога (в
целом беседы), — то с точки зрения традиционной стилистики нет
адекватного подхода к такому диалогизованному стилю. Наиболее резко и
внешне выраженные явления этого рода — полемический стиль,
пародийный, иронический — обычно квалифицируются как риторические,
а не поэтические явления. Стилистика замыкает каждое стилистическое
явление в монологический контекст данного самодовлеющего и
замкнутого высказывания, как бы заключает его в темницу одного контекста»
(Указ. соч. С. 87).
См.: Коллингвуд Дж. R Автобиография (1939) // Он же. Идея истории.
Автобиография. М.: Наука, 1980. С. 338—346 (глава «Вопрос и ответ»).
Представляется существенным, что эпистемологический прорыв в
понимании истины произошел у Коллигвуда, по его признанию, в 1917 году, т. е.,
310
Раздел первый. Переход
как мы говорим, в решающий исторический момент смены философско-
гуманитарной парадигмы. Коллингвуд сам характеризует свой выход за
пределы интуитивизма и идеализма господствующих в то время теорий
познания (в его случае — Оксфордской школы) как «революцию» в
логике, которую он сравнивает с поворотом в естественнонаучных
исследованиях, осуществленную Бэконом и Декартом в конце XVI — начале
XVII века (там же. С. 339).
С. С. Аверинцев в ранней (и лучшей) своей статье о M. M. Бахтине,
задавшись вопросом, кто же, собственно, был подлинным оппонентом
бахтинского диалогизма в истории гуманитарного мышления, высказал
предположение: «Бахтин выбрал себе очень большого, поистине
великого противника, величие которого проверено тысячелетиями, и
противник этот — Аристотель. Основоположник науки логики,
непревзойденный служитель закона тождества и закона противоречия, Аристотель
создал также первую поэтику, ориентированную на идеал правильности
и нормы». (См.: Аверинцев С. Личность и талант ученого // Литературное
обозрение. 1976. № 10. С. 60). Интересная задача — проанализировать,
каким образом и почему самый значительный филолог-мыслитель
последних советских десятилетий, думается, правильно определив
основного оппонента Бахтина, за своим соотечественником уже не мог
следовать (в советское время), а позднее (в 1990-е гг.) стал хотя и
осторожным и доброжелательным, но все же оппонентом Бахтина и поборником
«христианского аристотелизма». «Своя своих не познаша»: подчеркивая
необходимость для современной русской культуры обращения не
столько уже к идеалисту и утописту Платону, сколько к «здравому»
Аристотелю, Аверинцев оказывается, парадоксальным образом, ближе к Бахтину,
чем, возможно, он сам полагал. Во всяком случае, немецкая
«герменевтическая логика» позволяет и в этом решающем пункте переводить с
«русского на русский».
Ср. у M. M. Бахтина: «Слово традиционного стилистического
мышления знает только себя (то есть свой контекст), свой предмет, свою
прямую экспрессию и свой единый и единственный язык. Другое слово, вне
его контекста лежащее, оно знает только как нейтральное слово языка,
как ничье слово, как простую речевую возможность». — Бахтин M. М.
Слово в романе. С. 89. Примечательно, что у Бахтина, как и у его
немецких современников, именно выдвижение момента «интенциональности»
слова и речи сразу же обнаружило не утопический, но, действительно,
«хронотопический» аспект интенциональности, т. е. ее контекстуаль-
ность, более того — контекстуальную (не апофантическую)
продуктивность высказывания — в противоположность, «деконструкции», в
которой попытка «стереть» интенциональность путем ее контекстуализа-
ции связана, парадоксальным образом, как раз с недооценкой контекста.
См. об этом: Холквист Майкл. Услышанная неслышимость: Бахтин и
Цейтблом после Леверкюна 311
Деррида (1986) / Пер. В. Л. Махлина // Бахтинский сборник—V. М.:
Языки славянской культуры, 2004. С. 89—108.
ЧТО ЗНАЧИТ ГОВОРИТЬ
(Несколько комментариев
μ/\η читающих О. Розенштока-Хюсси)
Проблема
Американский критик Дон Бялостоцки начал свою статью
«Разговор» (1989), посвященную сравнительному анализу трех проектов
«диалога» в современной гуманитарной эпистемологии — M. M.
Бахтина, Р. Рорти и Г.-Г. Гадамера, — с такого вопроса:
Знаем ли мы, когда разговариваем о разговоре, о чем, собственно,
мы ведем разговор?1
Этот вопрос, как кажется, можно повторить, не повторяя,
следующим образом: знаем ли мы, постсовременники Конца Нового
времени, о каком «конце» и о каком возможном новом начале мышления
и мироориентации уже идет речь в наших дискуссиях и разговорах,
хотя мы сами не всегда и не вполне осознаем самый импульс нашей
мысли и речи?
Ведь сознание и мышление, как правило, «опаздывают» по
сравнению с тем, что уже произошло или происходит в этом мире
истории — хотя в то же время современники, возможно, об этом
как-то уже говорят. Речь (Rede), иногда даже в облике «болтовни»
(«Gerede»), может опережать мышление и самосознание. Получается
как бы неожиданное, неклассическое подтверждение классического
гегелевского образа философии как «совы Минервы», начинающей
свое дело в конце исторического цикла («когда некая форма жизни
стала старой») и свободной («в качестве мысли о мире») от
традиционных назидательных задач (от «поучения, каким мир должен
быть»)2. При подобающем экзистенциально-герменевтическом
углублении этой мысли она окажется, надо полагать, не меньше, а больше
себя, притом в двух отношениях.
Во-первых, «поучение» в философии не исчезает, но меняет
форму своего бытия, точнее — речевой жанр своего бытия, не умаляя
Что значит говорить
313
при этом принципиального философского и научного притязания на
истину. Вопреки Р. Рорти, ни риторически понятый «обыкновенной
разговор» («ordinary conversation»), ни «назидательная философия»
(«edifying philosophy»), — как показано в упомянутой статье Д. Бяло-
стоцки, — не соответствуют эпистемологическому притязанию
американского философа, пытавшегося, с опорой на онтологическую
герменевтику Хайдеггера и Гадамера, пробиться к историчности речи в
языке, выйти за пределы негуманитарной эпистемологии и
аналитической философии3.
Во-вторых, научно-теоретическое притязание на истину в ее
общезначимости, для того чтобы иметь будущее в исторической
ситуации распада общезначимостей — нового очередного
«расколдовывания» само собой разумеющегося, — должно как-то умалиться до
разговора — «умереть» и «возродиться» в разговоре. Не «снизойти»,
но именно «умалиться». Что это значит?
Постигая какую-либо истину, философ, ученый, гуманитарий
вроде бы должен мыслить и понимать истину как уже готовую и только
«сообщаемую» другим людям. Между тем проблема и задача, по-
видимому, — в другом. «Постигнутое» мною, в сущности, не реально,
а только возможно; в лучшем случае оно дает повод быть сообщенным
или стать «текстом». Однако тема, идея, истина, текст живы и
значимы не «в себе», не в одном сознании (потенциальном монологе), но в
актуальном приобщении событию и событиям взаимодействия двух
или многих участников разговора; категориально — в сообщении-
приобщении ко «второму сознанию» за текстом. Принципиальный
смысл, значение и задача диалогически-герменевтической парадигмы
в философии и в гуманитарно-филологическом мышлении, явным
образом, заключается в том, чтобы мышление становилось речью
постольку, поскольку речь может стать разговором*.
Тем самым, как кажется, проблема разговора («диалога»)
приобретает социально-онтологическое измерение («приращение»), не
теряя при этом, а, наоборот, усиливая и практически удостоверяя
свою теоретическую значимость.
Социально-онтологический сдвиг смыслового горизонта
времени в «нулевые годы», по сравнению со структуралистской эпохой
второй половины XX в., можно видеть в определенной
переакцентуации вопроса, не столько впервые поставленного, сколько
«доведенного до ума» в научном сообществе и в околонаучной публике как раз
в структуралистскую эпоху. Вопрос теперь не столько в том, «кто
говорит?», сколько в том, как и для кого говорить в ситуации, когда все
314
Раздел первый. Переход
говорят «о своем» и утрачивается резонирующий фон аудитории. Так
называемая «политкорректность», какими бы уродливыми
карикатурами она ни сопровождалась в условиях завершенной демократии
и какою бы лицемерной она ни казалась иногда нам, — это
естественное выражение глубокого инстинкта самосохранения и
«здравого смысла» именно западного образа жизни (в противоположность
нашей российской безоглядности и глубокому тоже инстинкту
анархизма, противовесом которому, естественно, не может не служить
более или менее тоталитарная и сакрализованная государственная
власть). В этих древних и новых условиях обращенность речи
становится все более «идеальной» в отсутствии реальной аудитории,
реального адресата; тем самым эта плоскость говорения и «речей»
приобретает новую актуальность. А именно: обращенная речь заметно
становится как бы необращенной.
Всем известна ситуация, когда какого-то говорящего —
собеседника или автора текста — хочется переспросить или окликнуть:
Простите, вы с кем разговариваете?.. В ситуации Конца разговора,
по-видимому, происходит новое очередное разобобществление
речи — процесс, «немотствующей» оборотной стороной которого
оказывается новое обобществление сознания, мышления и речи — не
столько «тоталитаризм», сколько «глобализм» как новое состояние
мира. Снова «ничего нельзя сказать», но не так, как было раньше,
а потому что сказать и даже напечатать можно все что угодно,
поскольку это уже как бы не важно. Общение и диалог, имевшие
естественную ценность в условиях господства идеологии, — в условиях
инфантильной демократии безвластия и беззакония, в отсутствии
сдерживающей беспредел «свободы» так называемой «речевой
тактичности» — подверглись такой девальвации и такому извращению,
что они иногда по недоразумению воспринимаются даже как
покушения на свободу (своего собственного) «монолога»5.
«Другой» диалог
В этих условиях «речь» — с точки зрения гуманитарной
эпистемологии, — оказывается снова и по-новому драгоценнее «языка»
постольку, поскольку речь отличается от «болтовни»
(переплеснувшейся в последнее время на страницы солидных научно-философских
и научно-гуманитарных изданий). Проблема речи — не в языке как
предмете традиционной научной дисциплины — лингвистики, но
скорее в бытийном способе обращенности речи-высказывания —
в жизни, в искусстве, в науке. Изучать «высказывание» должна, по
Что значит говорить
315
мысли M. M. Бахтина, особая дисциплина, отличающаяся от
языкознания — «металингвистика»6.
Лингвистика как раз в силу своей «эмпирической» природы
имеет дело не с конкретными высказываниями, но с
«идеализированным предметом» — языком и с таким же идеализированным
адресатом речи. Металингвистика, напротив, изучает не просто
слово как элемент языка; она имеет дело со словом, мышлением,
сознанием на «диалогизующем фоне» другого, «второго» сознания. Как
дисциплина, относящаяся к гуманитарной эпистемологии,
металингвистика имеет своим предметом «диалогические отношения» в
абсолютном, универсальном смысле слова «диалог». Притязание
современной герменевтики на универсальность — только другое
выражение не овеществляемой и не забалтываемой до конца «диалогич-
ности», т. е. внутренней обращенности и незавершенности,
продуктивной конечности всякого я — не только и не просто
«детерминированного», но мотивированного и ориентирующегося «в-мире», в
«событии бытия».
Только не следует представлять себе «диалог» идеально (и
формально) — как некую непрерывную вербальную «коммуникацию»
или риторический спор, или, наконец, как инфернальный
экзистенциализм отчаявшегося, самоутверждающегося, «пустого» я (без
взаимного признания и вне разговора) — возможность, которая
увековечена Ж.-П. Сартром в знаменитой реплике из его пьесы: «ад — это
другие». Такой инфернальный экзистенциализм-гуманизм возможен
и реален лишь как изнанка лица — обращенное в отчаяние,
«перекувырнувшееся» прежнее чаяние, узнаваемый идеал «свободы,
равенства и братства». В этом смысле даже инфернальный
экзистенциализм Сартра, на стадии отрицания экзистенциализма превращенный
М. Фуко и другими в гуманитарно-эпистемологическую «практику»
теоретизирующего антигуманизма, все еще остается идеализмом,
молчаливо предполагающим достаточно комфортную («барскую»)
среду говорения, а значит, и достаточно широкую и влиятельную
социальную аудиторию.
Ситуация Конца разговора после Конца Нового времени
лишает нас того комфорта и этой дискурсивной «лазейки»:
разложение и утрата своей аудитории (и, соответственно, подстановка на
ее место виртуальной глобальной аудитории) вновь и по-новому, как
в 1920-е гг., делает невозможными как «вещающие» жанры речи, так
и «подпольные» жанры речи. Ответственное слово в ситуации
безответности, обращенная речь в ситуации утраты реальных ориентиров
316
Раздел первый. Переход
и адресатов, очевидно, нуждаются в новом очередном «трезвении» —
по ту сторону как религиозного, так и научного идеализма.
В ситуации «конца разговора» эпигоны гуманитарно-
антигуманитарной практики речи, письма и поведения —
«постмодернисты» — уже анахроничны в своем инфернальном идеализме
наизнанку, уже отпали от реального социального становления и в
основном только паразитируют на успехах и известности своих
знаменитых учителей — «шестидесятников» (западных и советских), не
имея ни их опыта, ни их таланта.
Гораздо ближе к нашей гуманитарно-эпистемологической
проблематике знаменитый финал «Логико-философского трактата»
Л. Витгенштейна (1921). Ведь утверждение: «О чем невозможно
говорить, о том следует молчать»7 — это феноменологическое
указание на важнейший компонент всякого разговора, всякого
речевого взаимодействия, всякого «общения» (от политической хроники
до супружеских отношений). Молчание — неотъемлемая часть не
идеальной речи (так сказать, Dasem-речи). Тем более это относится
к металингвистическому феномену, который в кружке M. M.
Бахтина 1920-х гг. назывался «внесловесным контекстом», или «внес-
ловесной ситуацией высказывания»8; соответственно мы говорим о
«затексте», который подразумевают и имеют в виду (в буквальном
смысле выражения «иметь в виду») участники всякой реальной
ситуации — как бытовой, так и исторически эпохальной. Металинг-
вистика, очевидно, может и должна учитывать моменты
недосказанности, умолчаний, подразумеваемого и т. п., методически
отличая «молчание» — феномен историчности мира жизни и,
соответственно, предмет гуманитарной эпистемологии — от «тишины»,
феномена естественнонаучного (в широком смысле — космического)
порядка вещей9.
Ведь продуктивная «конечность» (Endlichkeit) человека не
выдумана Хайдеггером или Кантом, или Витгенштейном, да и не ими
открыта впервые. Вообще в гуманитарной эпистемологии всякое
открытие — это переоткрытие («познание познанного»). В этом смысле,
надо полагать, M. M. Бахтин говорит: «Нет ни первого, ни последнего
слова, и нет границ диалогическому конт(е)ксту (он уходит и (в)
безграничное прошлое и в безграничное будущее)»10.
Переоткрывая экзистенциальную конечность человека,
гуманитарная эпистемология XX в. по-настоящему открыла не идеальную
бесконечность речи, (пере)открытую германским идеализмом и
романтизмом в момент смены гуманитарно-эпистемологической
Что значит говорить
317
парадигмы в 90-е гг. XVIII в. Скорее, наоборот, новая гуманитарно-
эпистемологическая революция в начале XX в. (пере)открыла
продуктивную конечность речи, ее «горизонтальную» обращенность, в
качестве условия необходимости (а не просто «возможности»)
бесконечного и безграничного смысла прошлого и будущего — в отличие
от так называемых идеалов и абсолютов. Тем самым была открыта
«абсолютная историчность» (resp. акосмичность) бытия и времени
как неэйнштейновский коррелят «эйнштейновского разума» в мире
жизни исторического опыта11.
Дело идет, действительно, о «новом диалоге», но не только и не
столько о диалоге человека с природой, — о котором со своих точек
зрения заявляет современная сциентистская эпистемология12, —
сколько об очень старом диалоге внутри исторически изменчивых
противостояний и встреч двух источников и двух составных
частей европейской научно-гуманитарной культуры: греческого
языческого и иудео-христианского «парадигм» европейской духовной и
научной истории вообще13. Совершенно особое место в этом «другом»
(гуманитарно-эпистемологическом) диалоге принадлежит немецко-
американскому христианскому мыслителю Ойгену Розенштоку-
Хюсси (1888—1973)14. Подступиться к этому мыслителю не просто,
еще труднее его оценить, причем трудность здесь, помимо прочего,
связана как раз с тем, с чего мы начали, а именно: как говорится то,
о чем говорится, к кому реально обращена речь7. Эта
«металингвистическая» проблема в мышлении Розенштока-Хюсси достигает (как у
всех мыслителей смены гуманитарной парадигмы) измерения
«абсолютной историчности», т. е. становящейся одновременности
различных эпох и разновременников (историческая «релятивность» как
новая, «эйнштейновская» форма единства мира истории и
опровержения релятивизма).
О. Розеншток-Хюсси не столько «типичен», сколько
«эксклюзивен» в качестве, так сказать, гротескного общего места: то, что резко
отличает его от подобных ему мыслителей, — только особая форма
подобия (в отличие от так называемого сходства). Ни в одном
мыслителе научно-гуманитарной революции XX в. мы не найдем такого
резкого, навязчивого, иногда даже бестактного противопоставления
двух духовно-исторических источников европейской мысли —
греческого языческого и иудейско-христианского, а отсюда — такого
настойчивого противопоставления «нечистого» мышления «чистому»,
«речей» (logoi) — гречески-латинско-новоевропейскому
рационализму и «теоретизму».
318
Раздел первый. Переход
Это обстоятельство, я думаю, и поставило Розенштока-Хюсси
в странное, действительно «эксклюзивное» положение среди
современников, в парадоксальную речевую металингвистическую аудио-
ситуацию. Нижеследующее — попытка прокомментировать только
этот — металингвистический — аспект речевого мышления
выдающегося мыслителя.
Карл Ясперс заметил однажды, рассказывая в своей
автобиографии о влиянии на него и его поколение Макса Вебера: «Конец
настоящей политики пробуждает интерес к ней»15. То, что в этой книге
называется «концом разговора» двадцатого столетия и Нового
времени, снова и по-новому пробуждает интерес к «разговору» как «пер-
воклетке» речевого взаимодействия, или взаимовоздействия «речей».
Как было возможно то, чего сегодня просто не может быть, а значит,
когда-нибудь и как-нибудь все же возможно? Как был возможен,
среди прочих, и такой мыслитель, как Розеншток-Хюсси? Почему
у него не могло быть учеников, хотя именно он в каком-то смысле
больше других и дольше многих «учил», притом на разные лады те-
матизируя социально-онтологические условия возможности
взаимовоздействия «учителя» и «ученика»?
«Взаимовоздействие речей» снова и по-новому возвращает нас к
реальным феноменам социального взаимодействия как основной
проблеме общественно-исторического опыта мира жизни. Как это
нередко бывало в истории мышления, основная проблема гуманитарной
эпистемологии была поставлена еще до того, как она сделалась более
узнаваемой и актуальной в известных попытках решения проблемы.
Новая «парадигма» возникла, так сказать, до нее самой. Мы имеем в
виду опубликованную сто лет «Социологию» Георга Зиммеля16.
Г. Зиммель (вслед за В. Дильтеем) повторяет, не повторяя, кан-
товскую трансцендентальную постановку вопроса об «условиях
возможности» познания, переводя проблематику «чистого разума» в
плоскость гуманитарной эпистемологии, т. е. в область подвижно-
временного (а не «субстанциального» и «чистого»), социально-
исторического взаимодействия (Wechselwirkung) между людьми и
группами людей. Так стал возможным эпистемологически новый, но
старый вопрос: «Как возможно общество?»17. Тот же вопрос
современная гуманитарная эпистемология в известном смысле
пересматривает и переформулирует с опорой на так называемую философию
языка следующим образом: Как возможен разговор?18
«Умалиться до разговора» (включая в него, разумеется, и
молчание, которого в принципе не знает «монолог», как не знает
Что значит говорить
319
потенциальная монологическая речь ни начала, ни конца, ни паузы,
ни остановки) — вот по-новому древняя, по-древнему новая «ино-
научная» задача научно-гуманитарной эпистемологии,
обозначающая, действительно, универсальный герменевтический горизонт и
феномен «диалога» — какому бы, повторяю, забалтыванию и
девальвации ни подвергалось само это слово19.
Материально-формалистическая парадигма
Чрезвычайно существенным на этом фоне представляется выход
за пределы так называемой «формалистической парадигмы» в
филологии, в философии, в гуманитарной эпистемологии XX в.
Формалистическая парадигма — это далеко выходящая за пределы тех или
иных персоналий, концепций или исследовательских направлений
тенденция в научно-гуманитарном и философском мышлении Конца
Нового времени.
К настоящему времени это направление исследований,
первоначально заявившее себя в сфере искусствознания и
литературоведения, в основном себя исчерпало, но, как это всегда бывает,
внутренне исчерпавшись, оно окончательно «разакадемичилось», т. е.
сделалось почти повсеместно (сначала на Западе, а за последние два
десятилетия и в России) институционально приоритетной и
«передовой» в смысле поддающейся передаче и подлежащей передаче («тра-
дированию») «современной науки» и «современной теории».
На своей революционной «гениальной стадии» вокруг 1917 г.
интересующая нас тенденция имела совершенно оправданный,
исторически и теоретически, научно-инонаучный импульс. Фронтальным
тогда было отталкивание от идеализма (и, шире, от идеалистической
метафизики) Нового времени, попытка доказать значимость
феноменов культурного творчества (в искусстве, в истории, в «речах») не
в отвлечении от материального воплощения этих феноменов, но
непосредственно «на материале» жизни и творчества (а то и β материале
самом), во всяком случае — «в самих вещах», хотя «вещи» понимались
в разных духовно-идеологических и научно-теоретических
направлениях первой трети XX в. очень по-разному; достаточно сопоставить в
этом отношении тезис ранней феноменологии «назад к вещам!»,
«материальную этику ценностей» М. Шелера, подход к «вещи» у Хайдег-
гера, понимание «материала» и «вещи» в русском формализме и
футуризме и т. п.20
Тем самым, как кажется, мы подвели под интересующий нас
металингвистический предмет — способ речи о речи и действительности
320
Раздел первый. Переход
в мышлении О. Розенштока-Хюсси — некоторый диалогизующий
аудиофон. Такого рода апперцептивный фон нужен современной
возможной аудитории (в особенности постсоветской) для понимания
любого из инициаторов философско-гуманитарной революции
1910—1920-х гг., всякого из тех, кого сам О. Розеншток называл в
написанной уже в эмиграции в США «автобиографии западного
человека» post-war thinkers21 — мыслителями, «новое мышление которых»
сложилось под воздействием Первой мировой войны и Русской
революции в направлении радикальной критики, с одной стороны,
«историзма» — с другой стороны — «теоретизма» — греческой и
классической немецкой традиций философского идеализма, изнанкой
которого (выдаваемой за альтернативу) оказался в Конце Нового времени
(в XX в.) не просто философский материализм, но именно модернизм
и постмодернизм.
Тезис и девиз Розенштока-Хюсси, который приводился во
Введении к этой книге: «Я — не чистый мыслитель», в
действительности относится к самой сути дела, а именно — к пересмотру
взаимоотношений между «материальным» и «духовным» в понимании
социально-исторического опыта и Geistesgeschichte («духовной
истории»). Как ясно из предшествовавшего, для Германии этот
«поворот винта» должен был означать — в ситуации краха Второго рейха
в 1918 г. — нечто существенно иное, чем, например, для победителей-
англосаксов, ориентированных в гуманитарной эпистемологии
преимущественно на рассмотрение «интеллектуальной истории», или
«истории идей» («history of ideas»), более или менее отвлеченных от
не интеллектуальных («формально-материальных») моментов
событий, сознания, мышления, творчества, текста. Ведь эти моменты
находятся по преимуществу за пределами теоретических и
риторических жанров речи.
Опять-таки, в этом направлении мыслили все «послевоенные
мыслители», а за ними и их «постсовременники» второй
половины XX в.; но, кажется, только О. Розеншток-Хюсси обозначал
проблему, которая больше известна под англосаксонской этикеткой the
linguistic turn, в качестве радикальной альтернативы, а именно:
«лингвистика или литургика». В статье под этим названием, вошедшей в
его книгу «Воздух духа» (1951), читаем:
Под влиянием идеализма возникло разделение между чувственным
и нечувственным, между телесным и духовным миром. Мы
извлекли из этого язычески-греческого образа мысли имена и слова, кото-
Что значит говорить
321
рые находятся в непрерывном взаимодвижении и взаимодействии
между людьми во плоти (zwischen leiblichen Menschen).
Артикулированная речь (Sprechen) не бездуховна, хотя она чувственна. Она
имеет то же самое достоинство, что и мысль, но она телесна. Поэтому
мы должны найти другую разграничительную линию, которая
проходит внутри самого чувственного мира. (...) Для того чтобы быть
готовым взяться за такую задачу, мы поищем союзников, пусть даже
при этом обычным фронтам, отделяющим друга от врага, придется
пересечься22.
На диалогизующем фоне «перевернутой предпосылки»
или «фронтов, поменявшихся местами», как и других метафор
научно-гуманитарной революции, задание и направление мысли
О. Розенштока-Хюсси — узнаваемо. «Послевоенные мыслители»,
как правило, спорят между собою, пусть даже не с такою резкостью,
какая была свойственна именно этому мыслителю; а между тем все
они, в сущности, говорят о том же самом, то же самое. Релятивизация
«фронтов», умение видеть «союзников» не по одну, а по обе стороны
«разделения» на материалистов и идеалистов — разделения,
проведенное греками и радикализованное («удвоенное») новоевропейским
Просвещением и германским идеализмом — вот магистральный
сюжет гуманитарно-философского мышления XX в.
В этом сюжете русская философия должна была и могла, но «не
возмогла» сказать свое особое, «новое слово» в силу происшедшей в
России научно-духовной катастрофы, «действенная история» которой
открывается и, соответственно, становится доступной исследованию
лишь в самые последние годы. Эта «несокрытость» действия истории
на современное состояние умов становится возможной не только и
не столько в силу какого-либо «развития» (например, новой
информации, информационных технологий) или чьих-то интеллектуальных
«открытий», сколько вследствие того, что мы — онтологически-
событийно — пребываем в процессе обращения самого исторического
мира, планетарной смены парадигмы, или «воздуха духа». Мы
оказались в новом вращении-обращении исторического тела мира жизни,
которое уже было «революцией», но не для нас. В современном опыте
это событие воспроизводится снова и по-новому, делая возможным
«познание познанного» уже не в качестве персональных
революционных открытий, но скорее как диалогический ресурс и усилие
разговора в ситуации относительного конца разговора. В этом — скрытая
«забота» и «драма» («действие») нашего как бы «нулевого» времени.
322
Раздел первый. Переход
Борьба «речей», видимо, не только риторика и не просто борьба за
признание; во всяком случае в духовно-идеологической сфере ищут
общезначимости — даже когда, казалось бы, разрушают ее.
Если бы О. Розеншток-Хюсси услышал про разделение
«эмпирического» и «теоретического» «уровней» научно-философского
исследования, он бы, несомненно, резко сыронизировал; и если Хайдеггер,
имея в виду неокантианскую традицию, говорил, как мы помним, о
«платонизме варваров», то Розеншток-Хюсси, помимо немецкой
идеалистической традиции, мог сослаться на собственную
характеристику советской радикализации новоевропейской радикализации
«платонизма» в своей двухтомной «Социологии»23. Ведь платонизм
для него — это идеал «расы мыслителей»24, синоним языческой
греческой философии с ее идеалом schole («досуга») — двойной свободы
созерцательного мышления от «заботы» рабов и «заботы» свободных.
Великий неизвестный
Теперь спросим так: как помыслить (а значит, как рассказать
или «перерассказать») тот несомненный факт, что, занимая, как
мы это назвали, «гротескное общее место» в истории философско-
гуманитарной революции XX в., О. Розеншток-Хюсси был на
протяжении всей своей долгой жизни вполне маргинальным мыслителем,
каковым он и остается вплоть до сего дня?
По сравнению с интеллектуальными знаменитостями своего
времени, доступ к которым открыт теперь относительно широкой
читательской аудитории в нашей стране, О. Розеншток-Хюсси имеет
редкое преимущество. На Западе, где его книги выходят в свет (в
Германии и в США) вот уже более восьмидесяти лет, этого мыслителя
знают почти так же мало, как и у нас. Более того, упоминать его имя
не принято как раз в научно-философском сообществе, где почти
только и могут его читать и оценить. «Der grosse Unbekannte»
(«Великий неизвестный»), — сказал мне о нем несколько лет назад в
Берлине один немецкий историк духовной культуры в приватном
разговоре. Повода публично что-то сказать или напечатать о «великом
неизвестном» как-то не находится у исследователей-гуманитариев,
заглядывавших в книги О. Розенштока-Хюсси и понявших или
почувствовавших нечто значительное, даже необыкновенное. Впрочем,
чаще всего читательская реакция бывает иной.
Что-то в этом авторе отталкивает многих, и, похоже, по каким-то
не случайным причинам. Один из русских переводчиков его
американской книги с малопонятным даже для американских учеников
Что значит говорить
323
Розенштока-Хюсси заглавием Out of Revolution (1938) (точнее,
вероятно, было бы перевести это как «Из Революции», а не «Великие
революции», как решил издатель перевода), сказал мне с раздражением:
«Я пока переводил, все думал, чего же он от меня хочет...». А ведь
О. Розеншток-Хюсси как раз и писал и говорил всю жизнь о
«диалоге» и «диалогизме».
Никто не скажет, что Ясперс (1885—1969) или Франц Розенц-
вейг (1886—1929), Мартин Бубер (1879—1965) или Мартин Хайдеггер
(1889—1976), Людвиг Витгенштейн (1889—1951) или X. Ортега-и-
Гассет(1883—1955),ФердинандЭ6нер (1882—1931) или Габриэль
Марсель (1989—1973), Макс Шелер (1874—1928) или Хельмут Плесснер
(1892—1985), — если называть самых известных мыслителей «смены
философско-гуманитарной парадигмы», — доступнее при чтении,
чем их соотечественник и современник О. Розеншток-Хюсси.
Биографии в жанре «ЖЗЛ», как правило, рассказывают сказочную, но
реальную историю о том, как один человек, родившийся от своих более
или менее обыкновенных родителей, стал известным и великим. Но
как рассказать и куда поместить историю «великого неизвестного»?
Один из самых почитаемых философов старшего поколения в
современной Германии, не раз упоминавшийся в этой книге, — Микаэль
Тойниссен — на конференции, посвященной столетию со дня
рождения Гадамера (2000), отметил в своем обстоятельном анализе гада-
меровской «герменевтики традиции», что подлинным
предшественником автора «Истины и метода», никогда не упоминавшимся
интерпретаторами, ни самим Гадамером, был не кто иной, как «не
подлежащий упоминанию в академических кругах Розеншток-Хюсси»25. Не
подлежащий упоминанию великий неизвестный — как это возможно?
Как вышло, что самый молодой в 1913 г. приват-доцент Германии,
образованнейший юрист и историк, талантливейший мыслитель,
предвосхитивший не только диалогическую герменевтику Гадамера,
но, в сущности, все основные философско-гуманитарные «повороты»
в западноевропейской философии 1920—1960-х гг., тяжело раненый
во время Первой мировой войны под Верденом (где он командовал
батальоном), но выживший и переживший в счастливом браке почти
всех своих философских современников-суперзвезд; идеолог
аристократического кружка 1920-х гг., некоторые участники которого (как
сам граф фон Штауфенберг, например) позднее были казнены после
неудавшегося заговора против Гитлера 20.7.1944 г.; еврей по
рождению и «евангелический» христианин с шестнадцати лет, споривший
с папской энцикликой (и, в конце концов, признанный католиками
324
Раздел первый. Переход
правым в этом споре), — как вышло, что человек с непривычным
для нас немецким именем «Ойген» и с еще менее привычным
добавлением к собственной фамилии еще и фамилии жены-швейцарки
(«Хюсси»); автор множества книг и даже учебника латинского языка
(со своим особым представлением о том, зачем современному
человеку латынь и как, вопреки обычным учебникам, этот язык следует
изучать)26, — как вышло, повторим в третий раз, что из всех
инициаторов смены философско-гуманитарной парадигмы в XX в. Розен-
шток, действительно, наименее известен и политкорректно почти
изгнан из научно-философского разговора современности?
Можно как бы выпасть из своего времени, стать «бывшим» в
двадцать пять-тридцать лет отроду по так называемым объективным
историческим причинам, будучи в то же время одним из самым
глубоких участников, истолкователей и выразителей философских и
научно-гуманитарных импульсов своего переломного времени: таков
экстремальный (т. е. не нормальный) русский случай Бахтина, с
которым Розенштока иногда сравнивают27. Но если Бахтин, выпав из
своего времени, по сей день остается «великим неизвестным», хотя и
по совершенно другим причинам, будучи в то же время, в сущности,
последней по времени русской «суперзвездой» на общем для России и
Запада духовно-научном небосклоне Конца Нового времени28, то
почему же его старший немецко-американский современник, который
всю жизнь делал, говорил, писал и печатал, что хотел, остался, если
можно так выразиться, мыслителем без адреса, похожим на всех
своих коллег-современников, но скорее отталкивавшим и
отталкивающим научное сообщество?29
Воплощение
Стоит, наверно, попробовать ответить на этот вопрос, который
имеет отношение к предметной стороне дела, — к философии языка
О. Розенштока-Хюсси (точнее, к его философии речи, или речевого
сознания и мышления), но при этом имеет также и свой
индивидуальный, персональный, экзистенциальный аспект.
В самом деле, ведь действительность и действенность logoU
«речей», — так можно пересказать-перевести основную мысль автора
книги «Речь и действительности» (как, впрочем, и всех книг
Розенштока, написанных им, так сказать, «после Вердена»), — заключается
в том, что мы, люди, не только и даже не столько говорим, мыслим,
пишем то-то и то-то «вообще себе». Нет, говорящий (и пишущий),
так или иначе,разговаривает, причем — в отличие от сумасшедших и,
Что значит говорить
325
увы, от некоторых философов — он или она разговаривает не столько
с собою же, сколько с другими* подчас их не сознавая, не узнавая.
Ведь «другие» не «бессознательны», но скорее анонимны в так
называемом самосознании — настолько они срослись («слиплись»)
с нашей внутренней речью, с моим, по-бахтински выражаясь,
«внутренне убедительным словом». Внутренне убедительное для меня
самого слово (все равно, мое ли это слово или слово другого), не может
быть просто «моим», как бы моею собственностью — хотя то, что на
языке Э. Гуссерля называется «естественной установкой» (natürliche
Einstellung), естественным образом может искажать и овеществлять
реальную структуру опыта сознания. Философ в этом отношении, не
в обиду никому будь сказано, — «тоже человек», причем не наряду,
не помимо, не вместо своего мышления и «речевого поведения»,
но в способе (или способах) бытия своего воплощения в этом мире
(«овнешнения»). Так называемое экзистенциальное измерение
человеческого бытия, вопреки презумпции-предрассудку идеализма,
определяется не «лазейками» сознания и самосознания, не
«спекулятивными» зеркалами так называемого внутреннего я, но
«диалогическими потенциями» самой нашей личности, реагирующей на этот,
единственный мир, реплицирующей, отвечающей не «экзистирова-
нием» только и просто, но скорее «эксцентричностью» наших
воплощений, т. е. исхождений из нашего «я-для-себя»30. Перед нами
знакомая проблема «объективации» не объектного Dasein.
Значит % «разговор» — это социально-онтологическая модель
всякой действительной (т. е. артикулируемой и утверждаемой в
определенной исторической ситуации «вот-бытия-в-мире-жизни»)
истины. «Ты это говоришь» — вот принцип любой истины, как
ответственно утверждаемой мною или другими людьми в конкретном
высказывании или, как говорит Розеншток, «предложении» (a sentence).
Но это «ты говоришь» — не нейтральное предложение-высказывание,
а скорее императив, требование, обращенное к другим и
предвосхищающее (а иногда и провоцирующее) подтверждение, или
восполнение, или спор. В этом смысле любая истина не столько завершает,
сколько начинает разговор, а традиционное утверждение, в
соответствии с которым «истина рождается в споре» и которое, казалось бы,
не подтверждается практикой опыта, как бы вдруг оказывается
истиной в новом, и значит, старом смысле, когда-то рожденном тоже
«из опыта».
«В настоящем разговоре (im wirklichen Gespräch), — писал
главный пожизненный собеседник О. Розештока-Хюсси, его приятель
326
Раздел первый. Переход
Ф. Розенцвейг, — всегда что-то происходит на самом деле; я заранее не
знаю, что скажет мне другой; я не знаю даже, скажу ли сам что-нибудь.
Может быть, другой произнесет первое слово, как это и бывает в
настоящем разговоре в отличие от ненастоящего; отличие это бросается
в глаза, если сравнить Евангелия с сократическими диалогами. Сократ
обычно заводит беседу — и ведет ее в русле отвлеченно-философской
дискуссии. И это понятно: чистый мыслитель всегда знает свои мысли
заранее; "высказывая" их, он только делает уступку свойственной нам,
как он про себя думает, недостаточности средств разумения, т. е.
незнанию и непониманию философского языка. На самом деле то, чего
нам недостает, в чем мы настоятельно нуждаемся, — это не язык, а
время. Испытывать потребность во времени — это значит: мы
ничего не можем знать наперед, не можем получить один-единственный
ответ раз навсегда, но вынуждены в безысходной и постоянной
готовности ожидать и надеяться; должны всякую возможность истины "в
себе и для себя" соотносить с чем-то другим, существующим во
времени, — с Другим, от которого эта истина зависит»31.
Мы привели пространную цитату из статьи Ф. Розенцвейга 1925 г.
не только потому, что она дает определенную ориентацию читателю
Розенштока — ориентацию, которую он сам, как правило, давать
своего читателю не удосуживается, хотя сам же говорит как раз о
разговорной («социальной») ориентации всякой речи. Понятие
«разговор» — с одной стороны, у Гадамера, с другой стороны — у
«пионеров герменевтики» (hermeneutical pioneers) О. Розенштока и Ф.
Розенцвейга32 — уместно прокомментировать с определенной
исторической дистанции, в ретроспективе и перспективе одновременно.
После стадии зеркала
Для того чтобы почувствовать онтологически-событийный
разрыв между экзистенциалистской эпохой 1920—40-х гг. с ее новым
открытием «бытия», «времени» и «другого» в историческом опыте,
и структуралистской эпохой, с ее секуляризованной сакрализацией
«текста», стоит привести здесь соображение, вероятно,
крупнейшего советского мыслителя «постсовременности», М. К. Мамардаш-
вили, который в своем выступлении «Литературная критика как акт
чтения» (1984) говорил:
Разговор есть естественное явление, в котором ничего не
происходит, а текст не есть естественное явление. Текст как бы существует в
другом времени, и там что-то может произойти33.
Что значит говорить
327
Можно представить себе, как бы удивились, услышав или
прочитав такое, Розеншток-Хюсси, или Розенцвейг, или Ясперс, или
Бубер, или Гадамер («философ-молчун» Бахтин, я думаю, и тут
промолчал бы из деликатности). Удивились бы или онемели оттого, что
боролось это поколение мыслителей как раз против такового вот
понимания «естественности», против «овеществления» в «культурном»
мышлении современности. Структуралистская же эпоха (воздух духа
«постсовременности»), которая сразу узнаваема за текстом
Мамардашвили, как раз исходит из овеществления как некоторой
«естественной» данности, маргинализируя собственную речь и эстети-
зизируя и сакрализуя «текст» как своего рода компенсацию за
утраченное историческое бытие и время.
О. Розеншток-Хюсси, рассматривавший Русскую революцию
1917 г. как центральное событие в «автобиографии западного
человека» и полемизировавший всю жизнь как с марксистами, так и с
либералами, считая тех и других ответственными за приход к власти
Гитлера, несомненно, высказался бы по поводу приведенного
суждения М. К. Мамардашвили резче всех. Он, вероятно, назвал бы
культурное позднесоветское западничество Мамардашвили точно так же,
как он в 1930-е гг. назвал советскую цивилизацию, а именно —
опоздавшей на десятилетия, если не столетия, «грандиозной карикатурой
на западную цивилизацию»34.
Когда разговор, в отличие от «чтения» и «текста», начинает
восприниматься как явление, в котором «ничего не происходит», то
перед нами — все то же марксистско-революционное сознание
(советское или западное), но в исторической ситуации «пост» («после»
идеи «светлого будущего», уже «погасшей в уме»); это сознание как
бы вывернуто наизнанку — прежнее наивное чаяние, ставшее
ненаивным отчаянием, принявшее форму эстетизма, с которым
боролась (в себе самой) экзистенциалистская эпоха, унаследовавшая
вопросы и протест не столько Маркса, сколько Ницше и Кьеркегора.
«Ins Leben» («В Жизнь!») — гласит последнее предложение
главного философско-религиозного произведения Ф. Розенцвейга —
«Звезды спасения» (1921)35, направленного «против философов»
и «против теологов». Читатель любой книги или статьи, любой
строчки Розенштока-Хюсси остро почувствует экзистенциально-
революционный протест и бунт — не столько против общественных
форм жизни, сколько против научного мышления (в особенности
Нового времени), порожденного, конечно, определенными формами
жизни и «разговора» («коммуникации»).
328
Раздел первый. Переход
Старых форм жизни давно нет, но мышление и речь, которые
были мотивированы и рождены этими формами, напротив, стали
доминирующими в качестве более или менее осознаваемых традиций и
редукций мышления и речи, т. е. в качестве чего-то «само собой
разумеющегося», в качестве не критически культивируемой «культуры».
Поэтому в упоминавшейся книге «Из Революции» (1938) (в «русском»
ее разделе) сказано:
Ученому (a scholar) труднее изменить свои методы, чем целой
нации — сменить религию36.
В предшествовавших очерках нашей книги достаточно
говорилось о том, что ино-научным импульсом всех интересующих нас
мыслителей и гуманитариев философско-гуманитарной революции
конца 1910 — начала 1920-х гг. была идея самоизменения, покаяния
как именно «перемены ума» — в смысле обновляющей (само)
критики собственных научных и духовно-исторических «традиций».
Для России сегодня, как мне кажется, этот импульс означает, по-
видимому, нечто совсем иное, чем для наших западных коллег — хотя
в некотором отвлеченном смысле мы, конечно, «современники».
Выйти из «стадии зеркала», из наивного, социально
инфантильного советского сознания и дискурса оказалось не по силам не только
«официальному» марксизму, но и «неофициальной» западнически-
либеральной оппозиции ему — что, разумеется, не есть аргумент
против либерализма, ни даже против марксизма. В
противоположность «бинарным оппозициям» прошлой эпохи, придется поискать
союзников по ту и по эту сторону любого из прежних развалившихся
«фронтов».
Третий стиль
Отстаивая в своих книгах филологию против философии, г
исповедуемое им христианство — против филологии, теологии и
опирающейся на законы естествознания философии, против «академии»
и ученых-«академиков», О. Розеншток-Хюсси выступает как
гуманитарный эпистемолог. Гуманитарная эпистемология — это, так
сказать, третий путь мышления о мире. Одни познают мир в категориях
«физики», другие — в категориях «метафизики», свой путь и свою
науку о действительности О. Розеншток называет по-своему — «мета-
номикой», а гуманитариев-эпистемологов — «филономиками». Мета-
номика — это наука об обществе, полемически противопоставленная
Что значит говорить
329
как понятию «науки», так и понятию «общества». В одном из основных
сочинений нашего автора, в его двухтомной «Социологии», читаем:
Филологи учат латынь и греческий, древнееврейский, испанский
или китайский. Мы же, филономики (Philonomiker), мы, друзья
общественного порядка, созидаемого общественною речью, изучаем
не языки пространств (räumlichen Sprachen), но языки повелений
(Sprachen der Gebieter) нашей повседневности и наших праздников,
войны и мира, труда и игр37.
Не пространство, но время в пространстве является формой
движения конкретной духовной реальности; люди отвечают речью
на императивы божественного происхождения: «Бог заставляет нас
говорить». О «речи» и «действительности» Розеншток говорит
способом речи, который он сам называет в той же «Социологии»
«третьим стилем» — «пост-афористическим» и «пост-систематическим»38.
«Третий стиль» интересен постольку, поскольку относится не
только к «содержанию» (тому, о чем говорится), но и к «исполнению»
содержания, по терминологии самого Розенштока — к «артикуляции»
смысла, значения, темы. Именно в этом деликатном пункте — там, где
наша индивидуальная речь как-то со-ориентирована на аудиторию (а
это значит — на возможный разговор), — читатели могут
почувствовать некий дискурсивный диссонанс, или срыв, некий «юбрис». Что,
если как раз способ речи о речи сделал автора «Социологии», «Речи и
действительности» — «маргиналом»?
В самом деле, О. Розеншток-Хюсси говорит о «речи» таким
образом, что своею собственной умышленно «уличной», «митинговой»,
скандирующей речью от лица как бы общественного «мы» («wir») в
ницшеанском стиле «философствования молотом», — этот
мыслитель сам себя поставил вне институализированного научного
сообщества своего времени. Правда, он сделал это совершенно осознанно,
более того — на философских и богословских основаниях,
требовавших выхода за пределы греческой «академии», за пределы
«каменного века» современной университетской науки39.
Розеншток, как и Розенцвейг, отказался от продолжения
академической карьеры (а значит — от той аудитории, где он только и мог
быть услышан по-настоящему). Здесь не место рассказывать историю
о том, как в 1913 г. Розеншток почти уговорил было Розенцвейга
креститься, но тот в последний момент предпочел «остаться евреем»;
для нас здесь важнее следствия экзистенциально-религиозного
выбора в том и в другом случае. Автор «Звезды спасения»40 отошел от
330
Раздел первый. Переход
академической немецкой науки и основал «Еврейский университет»,
продолжая дело своего учителя Германа Когена. Автор же «Речи и
действительности» и еще двух десятков книг, напротив, понимал свое
дело как обновление христианского благовестия, превращенного, как
подчеркивает он сам, в «публичную речь». Если Ф. Розенцвейг,
отказавшись от берлинской доцентуры, которую предлагал ему его
довоенный учитель — известный историк Ф. Майнеке, то О. Розеншток,
отказавшись от еще более многообещающих академических
перспектив, ушел работать в заводскую газету. Для него «благая весть»
не только тематически, но и стилистически стала способом как бы
непосредственного обращения «ко всем», точнее даже — к «человеку с
улицы», в отличие от «экспертов». Удивительно ли то, к чему это
приводило и приводит?
Наш мыслитель глубоко проник в сущность «речи», но, похоже,
недооценил степень реальной дифференциации «речей» (речевых
жанров») в современном мире. «Человек нового времени, — писал
М. М. Бахтин, — не вещает, а говорит, т. е. говорит оговорочно»41.
«Оговорочно» уже постольку, поскольку ничего сказать нельзя
для всех сразу. Любая истина требует другого, ответного, «второго»
сознания. Ведь только так — а не «в себе» только истина становится
значимым событием в этом мире. А Розеншток скорее «вещает», хотя
содержание того, о чем он говорит, — это как раз социальная диф-
ференцированность речи и действительности, более того, острое
переживание того, что мышление (в особенности социальная
философия) «не поспевает» за происшедшими и происходящими в
современном мире переменами. Но и его собственная речь-дискурс — «не
поспевает».
Поэтому Ф. Розенцвейг в цитировавшемся пассаже из статьи
«Новое мышление» и говорит: то, чего нам недостает в конкретном
высказывании, в «желании сказать», — это «не язык, но время».
Действительность мысли в книгах О. Розенштока-Хюсси,
кажется, настолько опережает действительность речи — время автора
книги, артикулирующего свою речь в определенных условиях
разговора, — что эта речь — в полемике с Гегелем, но с гегелевской
претензией на постижение «всего», — оказывается, парадоксальным
образом, едва ли не анахроничной. Розеншток говорит о законах
образования и артикуляции речи в мире жизни, релятивизирующих и
подрывающих традиционную лингвистику и научность Нового время; но
при этом он все равно заводит речь о «грамматике» и свой метод
называет «грамматическим методом», отчасти вводя этим в заблуждение.
Что значит говорить
331
О. Розеншток-Хюсси (как и упомянутые мыслители гуманитарной
революции XX в.) принципиально выходит за предела идеализма и
романтизма в понимании истории, общества, политики и языка; но
способ выражение его мыслей — скорее романтический, даже «шил-
леровский». Недоразумение возникает оттого, что автор «Речи и
действительности» пытается заговорить с «человеком с улицы», как бы
отвернувшись от людей науки, погрязших, по его мнению, в
схоластических предрассудках греческого и картезианского теоретизма и мо-
нологизма, тогда как действительной аудиторией-адресатом его речи
могло быть при его жизни — а сегодня тем более — именно научно-
философское сообщество.
«Язык устанавливает отношения»: верно; но Розеншток языком
своих книг не устанавливал отношений со своей возможной в
действительности аудиторией, а, наоборот, демонстративно рвал эти
отношения, желая, однако, — по самому духу своей мессиански-
идеалистической речи, — быть услышанным всеми...
Ответная реакция «академиков» (т. е. научного сообщества) не
могла не быть такой, какой и охарактеризовал ее, как мы помним,
М. Тойниссен. Когда в западном научном сообществе с кем-то не
хотят или не готовы разговаривать, его или ее просто
политкорректно не замечают. И нельзя сказать, что «великий неизвестный»
не заслужил такого заговора молчания. В современном
демократическом мире, куда в настоящее время посильно входит и Россия,
подвижная граница между речью и молчанием определяется не тем, о
чем «можно» или «нельзя» сказать, но скорее тем, что можно (или
затруднительно) обсуждать; т. е. тем, может или нет то-то и то-то стать
предметом нашего с вами разговора — в «тексте» или, чаще, за
текстом, во всех областях мира жизни и речи, от супружеских
отношений до политики.
Говорить это значит — не «выкрикнуть свое» (для кого? зачем?..),
но что-то сказать так, чтобы кто-нибудь пусть даже не «услышал»,
но хотя бы прислушался. В эпоху реальной демократии «смерть
человека» и «смерть субъекта» означает только отказ от «метадискурса» —
утопии или мечты сказать (и объяснить) «всё сразу» и «всем сразу». И
то же самое относится к так называемой «смерти Бога». «Именно
потому, — поясняет известный итальянский философ (ученик и
переводчик Гадамера) Дж. Ваттимо, комментируя тезис Ницше, которым
все еще "пугают" нас перестроившиеся бывшие революционеры
("постмодернисты"), — что Бог — последнее основание, то есть
абсолютная метафизическая структура реальности, — отныне утрачен,
332
Раздел первый. Переход
вера в Бога становится вновь возможной». Все это — темы
возможного сегодня и у нас разговора, темы и книги «Речь и
действительность», вошедшие и не вошедшие в разговор современной
гуманитарной эпистемологии.
Язык (точнее — речь, logoi) устанавливает отношения; но эти
отношения не могут не быть дифференцированными: у себя дома
я разговариваю не так, как со своими коллегами по работе, и
наоборот, но не потому, что я всякий раз притворяюсь, а, напротив,
потому что моя «экзистенция» реализуется (исполняется) не «в себе»,
но в своем (снова по-бахтински) «выхождении за себя». (В терминах
социальной онтологии раннего М. Хайдеггера: Dasein уже
имплицирует Mitsein.) На этом «третьем» пути познания минус «третий
стиль» Розенштока-Хюсси, по-видимому, проясняется социально-
онтологическая уместность идеи «речевых жанров» в гуманитарной
эпистемологии М. М. Бахтина — идеи, которая на свой лад
развивается в книге «Речь и действительность». А именно: мы разговариваем
речевыми жанрами (как бы переходим «из комнаты в комнату»)
постольку, поскольку мы даже сегодня еще не только «читаем тексты»,
но все еще «живем» или, если угодно, «выживаем». Будущая для
автора книги «Из революции», а для нас уже наставшая
постреволюционная, постмодерная, посттеологическая эпоха уже предвидена в той
книге «красных тридцатых» годов в ее последней главе, которая
называется: «Значение юмора для выживания»43.
Из сказанного, кажется, ясно, что речевой парадокс, или
недоразумение, в истории рецепции О. Розенштока-Хюсси не отменяет
оригинальности и значительности его идей. В этой связи целесообразно
держать в уме две вещи.
Во-первых, если автор книги «Речь и действительность» не
сумел (не захотел) установить отношения с «институциями» (а это
значит — с профессиональной аудиторией) своего времени, то это не
аргумент против его философии речи и разговора, нормально
ориентированных на «установление отношений». Аура «гениальности»
вокруг великих мыслителей — с одной стороны, и аура «культуры» — с
другой стороны, зачастую не дают нам заметить самое очевидное: что
все великие философы, так или иначе, потерпели крушение, притом
заслуженное; что, следовательно, самая превосходная степень оценки
кого бы то ни было может и, пожалуй, должна сопровождаться неким
aber — неформальной оговоркой, не принижающей творческого
человека, но делающей его, по слову поэта, «живым и только»; в этом
залог его будущей жизни в становящейся истории рецепции.
Что значит говорить
333
Во-вторых, в истории философии, искусства или науки, как
известно, бывает или бывало так, что чем индивидуальнее
современники, тем больше они спорят и воюют между собою; но при
ближайшем рассмотрении оказывается, что современники, даже
оппонируя друг другу, в сущности, переживают и говорят одни и те же
вещи.
Например, экзистенциалистская эпоха в истории духовной и
научной культуры XX в. по праву (хотя и условно) может быть названа
«экзистенциалистской эпохой» не потому, что Ясперс и Хайдеггер,
Бубер и Г. Марсель, Розеншток-Хюсси или ранний М. М. Бахтин —
«экзистенциалисты» по определению и это — главное, что о них
следует знать. Скорее то, как они противостояли друг другу, иногда
«обзывая» друг друга этим словом (как Розеншток — Бубера, Хайдег-
гера или Сартра, как Хайдеггер — Сартра и т. п.)44, обнаруживает
глубокую общность поколения, общность вопросов и постановок
проблем.
Итак, самые поразительные мысли «великого неизвестного»
подчас выражены так, что их лучше комментировать (и в этом
смысле — «спасти» для постсовременников или, по его слову, «разнов-
ременников») «речами» великих известных его современников. Один
из них, упоминавшийся X. Ортега-и-Гассет, вряд ли слышавший или
читавший нашего автора, тем не менее, с большой ясностью выразил
экзистенциальную сверхзадачу герменевтической (гуманитарной)
эпистемологии О. Розенштока-Хюсси в своем эссе «Блеск и нищета
перевода» (1939), где он говорит о необходимости «возрождения»
гуманитарных наук посредством нового обращения к античной
классике, но уже не как к абсолютному мерилу истины только — «не как к
образцам, а как к назидательным ошибкам». Блестящий испанец
поясняет это совершенно в духе «великого неизвестного»:
Ибо человек — историческое существо, а любая историческая и
тем самым неокончательная реальность на настоящий момент есть
ошибка. Обрести историческое сознание и научиться расценивать
себя как ошибку — одно и то же. А так как истина человека состоит
в том, чтобы всегда быть на настоящий момент и в относительном
смысле ошибкой, только историческое сознание способно
приблизить его к истине и спасти. Однако не следует полагаться на то, что
современный человек откроет себя как ошибку, имея перед глазами
самого себя. Выход один: научить его человеческой истине,
подлинному «гуманизму», ясно показав, какой ошибкой были другие люди,
особенно лучшие из них45.
334
Раздел первый. Переход
Попробуем отнестись сегодня подобным образом (так сказать,
по-христиански «после христианства»), среди прочих, также и к
автору этой книги. Другими словами: попробуем учиться у великих
известных или великих неизвестных, приближаясь и подступаясь
к ним не как к образцам, которые потомки-разновременники либо
идеализируют («наше всё»), либо — то же самое наоборот — декон-
струируют (в духе «идеализации в сторону безобразия», по
выражению Ницше). Возможен и нужен — сегодня, как и полвека назад, —
некий третий путь речи о речи и действительности в философии и
научно-гуманитарном мышлении — путь, на котором «третий стиль»
О. Розенштока-Хюсси еще может быть узнан и понят для того, чтобы
стало возможным почти невозможное: обрести историческое
сознание, осознав не столько другого, сколько себя — как ошибку.
Примечания
1 См.: Бялостоцки Д. Разговор — как диалогика, прагматика и
герменевтика: Бахтин, Рорти, Гадамер (Пер. А. К. Васильева) // Бахтинский
сборник—V / Под ред. В. Л. Махлина. М.: Языки слав, культуры, 2004.
С. 75.
2 Гегель Г. В. Ф. Философия права. М.: Мысль, 1990. С. 56.
3 В известной книге Ричарда Рорти «Философия и зеркало природы» (1979;
рус. пер. Новосибирск, 1997) предпринята получившая мировой
резонанс попытка выйти за пределы традиционной эпистемологии,
ориентированной на диалектическое (теоретическое) речевое мышление
(«дискурс»). Отвлеченно-безучастному мышлению Р. Рорти
противопоставляет новую парадигму, ориентированную на «обыкновенный разговор».
Это приводит Р. Рорти, с одной стороны, к риторической
(«прагматической») редукции проблем познания (философия превращается из
научной в «наставительную философию»), а с другой стороны, — к
формалистической радикализации куновской оппозиции «нормальной» (ин-
ституализированной) и «ненормальной» (революционной) науки. «В
результате, — отмечает Д. Бялостоцки, — сохраняется привилегия
специальных дисциплин, обоснованных диалектически, и научных сообществ,
учрежденных риторически, перед лицом реально артикулированных
диалогических различий». — Бялостоцки. Д. Разговор — как диалогика,
прагматика и герменевтика: Бахтин, Рорти, Гадамер. С. 79 (перевод
уточнен). Речь идет о, так сказать, перманентном в условиях Конца
Нового времени затруднении традиционного гуманитарного мышления (как
философского, так и филологического): оказавшись в нетрадиционной
общественно-исторической ситуации «релятивизации» прежде само
собой разумеющихся «научных» и «вечных» понятий и ценностей (само
собой разумеющегося), философия меняет парадигму «мышления» на
Что значит говорить
335
парадигму «речи» (дискурса), жертвуя при этом значимостями
мышления. Эту проблемную констелляцию современной гуманитарной
эпистемологии М. М. Бахтин зафиксировал уже в 1920-е — 1930-е гг. в своем
споре с русскими формалистами — в плане «поэтики» и с Г. Г. Шпетом —
в плане «философии слова» и проблемы «риторики». Похоже, как
философские, так и гуманитарно-филологические новации последних
десятилетий XX в. (структуралистской эпохи), в общем, остались в границах
научно-гуманитарной парадигмы, сложившейся уже в начале 1920-х гг.
и, так сказать, остановившейся на линии раскола «речей» (logoi) на
«логос» и «дискурс».
В этом смысле даже «постметафизическая» проблематика
постмодерна и «философии языка» последних десятилетий представляется уже не
вполне адекватной, т. е. еще слишком теоретизированной в ситуации
«конца разговора». Нельзя не почувствовать дистанцию, отделяющую
нас от проблемной констелляции в гуманитарной эпистемологии еще
двадцать-тридцать лет назад, как ее зафиксировал, например,
американский критик в 1986 г.: «Основной вопрос традиционной философии
всегда был таким: Почему есть скорее нечто, чем ничто? В новейших
постметафизических попытках разгадать китайскую грамоту-загадку о том, как
понять в словах то, что превосходит язык, — этот основной вопрос все
более смещается или замещается другим (лишь на первый взгляд
простым): (Кто (или что) говорит?» См.: Холквист М. Услышанная
неслышимость: Бахтин и Деррида / Пер. с англ. В. Л. Махлина // Бахтинский
сборник—V. С. 94.
См., например, выпад философа: Михайлов Ф. Г. Авторы и герои (Слово
в защиту монолога) // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1996. № 2. С. 39—72.
Бахтин Μ. М. Проблемы поэтики Достоевского // Он же. Собр. соч. Т. 6.
М.: Языки слав, культуры, 2004. С. 203—207.
Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М., 2008. С. 218.
См.: Μ. М. Бахтин (под маской) / Под ред. И. В. Пешкова. М.: Лабиринт,
2000. С. 77.
Ср.: «Тишина и звук. Восприятие звука (на фоне тишины). Тишина и
молчание (отсутствие звука). Пауза и начало слова. Нарушение
тишины звуком механистично и физиологично (как условие восприятия);
нарушение же молчания словом персоналистично и осмысленно: это —
совсем другой мир. В тишине ничто не звучит (или нечто не звучит), — в
молчании никто не говорит (или некто не говорит). Молчание
возможно только в человеческом мире (и только для человека). (...)
Формы молчания и непрямого говорения в истории речевой жизни (в
частности — история иронии)». — Бахтин М. М. Рабочие записи 60-х начала
70-х годов // Он же. Собр. соч. Т. 6. М., 2002. С. 390,392.
Бахтин М. М. Рабочие записи 60-х — начала 70-х годов. С. 434.
См. в особенности так называемый Венский доклад Э. Гуссерля (1935),
опубликованный впервые в 1954 г., в конце которого появляется само
336
Раздел первый. Переход
это словосочетание — «абсолютная историчность»; см.: Гуссерль Э.
Кризис европейского человечества и философия // Культурология. XX век:
Антология. М.: Юрист, 1995. С. 327.
12 См.: Стенгерс И., Пригожий И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека
с природой. М.: Прогресс, 1986.
13 В советской научной литературе об этом писал, что характерно, не
философ, а филолог-классик; см.: Аверинцев С. С. Греческая «литература» и
ближневосточная «словесность» (противостояние и встреча двух
творческий принципов) (1972) // Он же. Образ античности. СПб.: Азбука-
классика, 2004. С. 40—106.
14 К настоящему времени в русском переводе издано несколько его
ключевых статей и книг. См.: Розеншток-Хюсси О. Речь и действительность.
М.: Лабиринт, 1994 (переиздание 2008); Он же. Прощание с Декартом
// Вопросы философии. 1997. № 8. С. 139—147; Он же. Значение юмора
для выживания. // Там же. С. 147—150; Он же. Бог заставляет нас
говорить. М.: Канон, 1998: Он же. Великие революции: Автобиография
западного человека. М., 1999; Он же. Избранное: Язык рода
человеческого. М.; СПб., 2000. Обстоятельные комментарии к этим изданиям можно
найти в работах отечественного исследователя; см.: Пигалев А. И. Ойген
Розеншток-Хюсси, мыслитель в постхристианскую эпоху // Розеншток-
Хюсси О. Бог заставляет нас говорить. С. 245—272; Он же. Прерванная
игра, или Трудное возвращение в историю // Вопросы философии. 1997.
№ 8. С. 135—138; Он же. Язык, культура и история в «диалогическом
мышлении» Ойгена Розенштока-Хюсси // Розеншток-Хюсси О.
Избранное. С. 577—597. См. также книгу американского ученика Розенштока-
Хюсси, в которой сделана попытка сопоставления западной
философии диалога XX в. и русской философской мысли от И. Киреевского до
М. М. Бахтина: Гарднер К. Между Востоком и Западом. М., 1993.
15 Ясперс К. Философская автобиография / Пер. Г. Лещинского. М., 1995.
С. 57.
16 Simmel G. Soziologie. Leipzig, 1908. Микаэль Тойниссен считает именно
эту книгу подлинным систематико-философским источником
«социальной онтологии современности», причем источником не превзойденным
ни Гуссерлем, Хайдеггером, Сартром — с одной стороны, ни
«диалогическими мыслителями» (Бубер, Розенцвейг, Эбнер, Розеншток-Хюсси и
др.) — с другой стороны. См.: Theunissem M. Der Andere: Studien zur So-
zialontologie der Gegenwart. Berlin, 1965. S. 6.
17 См. в русском переводе раздел («экскурс») из зиммелевской
«Социологии» в переводе А. Ф. Филиппова: Зиммелъ Г. Как возможно общество?
// Он же. Избранное: В 2 т. Т. 2. М.: Юрист, 1996. С. 509—526. О роли
Г. Зиммеля в истории современной гуманитарной эпистемологии см.:
Bodamer Th. Philosophie der Geisteswissenschaften. Freiburg in Br., 1987. S.
70—74.
Что значит говорить
337
Слово «разговор» в отечественной философии и науке не
воспринимается как «философское» (в отличие от слова «диалог»). Помимо
прочего, это связано с историей русского научного языка, который в
значительной мере является заимствованным (импортированным). Западные
научно-философские дискурсы более естественным образом привязаны
к античной (греческой и латинской) языковой и терминологической
традиции, а главное, западноевропейские языки выработали собственные
соответствия к этой несобственной традиции. На высшем взлете русской
философии в «столетнее десятилетие» 1914—1923 гг. возникли реальные
возможности для того, чтобы русская научно-философская мысль
заговорила, так сказать, более по-русски; но попытки такого рода остались
не вполне реализованными в 1920-е гг. вследствие принудительного
отчуждения от новой западной философии и гуманитарных наук, а в
последующие десятилетия возможности и попытки реализации их были
почти забыты. Когда будет написана подлинная, «металингвистическая»
история русского научного (а не только «литературного») языка в
советский век, то, вероятно, мы гораздо лучше будем представлять себе то,
«что с нами происходит».
Начиная с 1960-х гг., проблематика «диалога», по-новому введенная в
философские дискуссии «новым мышлением» 1920-х гг., обсуждается
(включая отрицание диалога) в современной герменевтической
философии (включая отрицание герменевтики). См. в этой связи, например:
Kögler H. H. Die Macht des Dialogs: Kritische Hermeneutik nach Gadamer,
Foucault und Rorty. Stuttgart, 1992.
M. M. Бахтин так характеризовал (1928) эту «материальную»
тенденцию, на фоне «проблемной констелляции» гуманитарной эпистемологии
1910—1920-х гг.: «Эта связь всех идеологических значимостей, как бы ни
были они "идеальны" и "чисты", с конкретным материалом и его
организацией гораздо органичнее, существеннее и глубже, чем это казалось
раньше. Философия и гуманитарные науки слишком любили
заниматься чисто смысловыми анализами идеологических явлений,
интерпретацией их отвлеченных значений и недооценивали вопросов, связанных с
их непосредственной реальной действительностью в вещах и их
подлинным осуществлением в процессах социального общения». — M. M.
Бахтин (под маской). С. 190. В плоскости искусствознания, общей
эстетики и, шире, гуманитарной эпистемологии Бахтин обозначил эту общую
тенденцию в качестве «материальной эстетики», имея в виду
«предпосылку общеэстетического характера» — отталкивание от
идеалистической «эстетики содержания» (от того, что русские формалисты
называли между собою «ихним Гейстом»); см.: Бахтин M. M. К вопросам
методологии эстетики словесного творчества. I: Проблема формы,
содержания и материала в словесном художественном творчестве (1924) // Он же.
Собр. соч. Т. 1. М., 2003. С. 270.
338
Раздел первый. Переход
Ср.: «Ученик, прошедший школу Мировой войны, по-новому видит и
будущее, и прошлое. Он открывает новую политическую биологию
человеческого рода, восполняя лакуны, оставленные в физике — Планком и
планкизмом, в зоологии — дарвинизмом, в экономике — марксизмом, в
теологии и политической истории — либерализмом. (...) 'Для меня
невозможно глядеть на историю как на спектакль, переживаемый из
театральной ложи. (...) Мировая война — это наша общая история. Если бы
это была только объективно независимая от нас картина войны, мы
потерялись бы в бесконечности фактов, миллионы дат и цифр сделали бы
всякий отбор тщетным и бесполезным; мировая история тогда была бы
только библиотечной пылью». См.: Розеншток-Хюсси О. Великие
революции. С. 6,7.
Rosenstock-Huessy Ε. Der Atem des Geistes. Wien, 1991. S. 63.
Ср.: «Очевидно, в марксизме господствует философия. Ибо Гегель,
поставленный с головы на ноги, — это все еще философ. Если
академический мир прав, то дело доходит до становления коммунизма.
Фактически у Платона обнаруживается изрядная часть догм марксизма: война
вечна, рабство концентрационных лагерей вечно, власть меньшинства,
обособившегося в качестве идеологической касты, — вечна.
Диалектический материализм является священным. А Ленин — божествен. В
России господствует философия». Цит. по: Пигалев А. И. Прерванная игра,
или Трудное возвращение в историю. С. 136.
См.: Розеншток-Хюсси О. Раса мыслителей, или Голгофа веры // Он же.
Язык рода человеческого. С. 7—36. Расовая теория нацизма, по мысли
Розенштока-Хюсси, — только радикализация античного «логоса»,
понятого (переведенного на латынь) в качестве «ratio», в свою очередь
превращенного в субстанциальный объект. Ср.: «Раса означает: "Sint ut sunt
aut non sint". Ты должен принимать меня таким, какой я есмь. Я
никогда не изменюсь. (...) Предположение Фомы Аквинского, будто речь —
естественный процесс, выполняющий функцию орудия, — отомстило
за себя. Немецкая математика, арийская религия, германская раса — вот
следствия учения о "природе логоса", о "природе языка". "Ratio" как
латинский перевод "логоса", стала сегодня "расой", т. е. частью чисто
природного облачения вещи под названием "человек". (...) Как только
очевидная загадка языка заменяется гностическими субстанциями,
результатом оказывается хаос» (Там же. С. 10).
Точнее, М. Тойниссен, похоже, не стал говорить этого на конференции в
присутствии юбиляра, но все же подчеркнул это обстоятельство
(ссылаясь на К. О. Апеля) в соответствующем месте примечаний, написанных
при переработке выступления для публикации: Розеншток-Хюсси,
говорится здесь, «предвосхищает (präfiguriert) диалогический подход Гадаме-
ра отчетливее всего». См.: Theunissen Michael Philosophische Hermeneutik
als Phänomenologie der Traditionsaneignung // «Sein, das verstanden wer-
Что значит говорить
339
den kann, ist Sprache»: Hommage an Hans-Georg Gadamer. Frankfurt а. М.,
2001. S. 86.
26 Magna Carta Latina: The Privilege of Singing, Articulating and Reading a
Language and of Keeping it Alive. 2nd ed. Pittsburg (Penn.), 1975.
27 См, например: Гарднер К. К философии третьего тысячелетия: Бахтин и
другие / Пер. с англ. В. Л. Махлина // Философские науки. 1994. № 1—3.
С. 3—25.
28 См. об этом: Махлин В. Л. Бахтин и Запад // Вопросы философии. 1993.
№ 1,3.
29 Тот же вопрос поставил исследователь, переводчик и комментатор
наследия этого мыслителя А. И. Пигалев, а именно почему же, «несмотря
на масштабы и глубину своих теоретических построений, Розеншток-
Хюсси остался маргинальным мыслителем»? См.: Пигалев А. И.
Прерванная игра, или Трудное возвращение в историю. С. 136.
30 Термин «эксцентричность» принадлежит X. Плесснеру (см.: Плеснер X.
Ступени органического и человек: Введение в философскую
антропологию. М.: РОССПЭН, 2004), с точки зрения которого «Dasein» Хайдегге-
ра слишком инфантильно и абстрактно для того, чтобы выразить как раз
герменевтическую фактичность человеческого бытия-в-мире. С другой
стороны, мы рискуем и диалогический персонализм M. M. Бахтина
понять односторонне или даже «с точностью до наоборот», если не
принимать в расчет решающий момент «исхождения из себя» (как
внешнего, так в особенности и внутреннего). Ср.: «Всякое усиление экспрессии
личности говорящего в монологической речи (т. е. всюду, где мы
начинаем живо ощущать индивидуальную личность говорящего) есть
усиление ее диалогических потенций». — Бахтин M. M. Из архивных записей
к «Проблеме речевых жанров» // Он же. Собр. соч. Т. 5. М., 1996. С. 212.
31 Розенцвейг Ф. Новое мышление. Цит. изд. С. 18 (перевод несколько
скорректирован).
32 Так выразился американский ученик О. Розенштока-Хюсси, Гарольд
Стеймер, в своем «Введении» к англоязычному изданию знаменитой
«переписки с двух фронтов» между Розенштоком и Розенцвейгом (1916—
1917) о судьбах иудаизма и христианства перед лицом кризиса и краха
германского философского идеализма с Гегелем во главе. См.: Judaism
Dispite Christianity: The «Letters on Christianity and Judaism» between Eugen
Rosenstock-Huessy and Franz Rosenzweig / Ed. by Eugen Rosenstock-Huessy.
N.Y., 1969.P. 14.
33 Мамардашвили Ai. Как я понимаю философию. М.: Прогресс, 1992. С. 159.
34 Ср.: «Грандиозная карикатура на западную цивилизацию проникла в
Россию в формах циничной сатиры, колониальной эксплуатации и
лицемерного национализма. Эта карикатура объясняет жестокость русского
исторического поворота. Однако, в сердцевине и нашей западной
цивилизации энергичный протест был также представлен марксизмом.
Свобода западного человека никогда не была убаюкана и усыплена каким бы
340
Раздел первый. Переход
то ни было порядком вещей только потому, что он занимал
господствующее положение. Карл Маркс представляет последний по времени
протест против существующего порядка вещей». — Розеншток-Хюсси О.
Великие революции.
35 См.: Rosenzweig F. Der Stern der Erlösung. Frankfurt a. M. 1988, S. 472.
36 Розеншток-Хюсси О. Великие революции. С. 90.
37 Rosenstock-Huessy О. Soziologie. Bd.l. Stuttgart etc., 1956. S. 7
38 Rosenstock-Huessy О. Soziologie. Bd.l. S. 13. Автор добавляет: «Итак,
дорогие критики, не пишите, пожалуйста, что эта книга эссеистична или
систематична, и что логически не может быть чего-то третьего (etwas
drittes) (Там же).
39 См., в частности: Rosenstock-Huessy О. Das Geheimnis der Universität.
Stuttgart, 1958.
40 См.: Rosenzweig F. Der Stern der Erlösung (5. Auflage). Frankfurt а. М., 1988.
Подробнее о Ф. Розенцвейге см.: Махяин Б. Я. Я и Другой: К истории
диалогического принципа в философии XX в. М.: Лабиринт, 1997. С. 26—61.
Г.-Г. Гадамер, подчеркивая вклад Ф. Розенцвейга в революцию в способе
мышления XX в. и сближая его в этом отношении с Хайдеггером, писал
в статье «Философия и религия иудейства» о, так сказать, «Бытии и
времени» Розенцвейга — его «Звезде спасения»: «Это произведение
философа, который осознает себя одновременно и теологом, и который
убежден в том, что в современной ситуации нет возможности
философствовать, не будучи теологом. Противоположность между космическим
порядком, о котором размышляли греки, и назначением человека, который
осознает свою свободу, прежде всего прочего — свободу от
космического порядка вещей, частью которого человек все же является, — не
позволяет отделять себя ни от природы % ни от человеческого
самосознания. Греческое мышление невозможно обновить, но и титаническая
попытка немецкого идеализма — исходя из самосознания, вывести
природу и дух и таким образом примирить противоречия, — тоже терпит
провал на абсолютной границе: эту границу полагает фактичная
действительность человека сама по себе — человека, "который еще здесь" и
философствует. Идеалистическое мышление может помыслить только
сущностные всеобщности (die Wesensgemeiheiten), т. е. это мышление по
самой своей сущности, начиная с греков, стремится мыслить вне
времени (zeitlos)». — Gadamer H.-G. Gesammelte Werke. Bd. 4. Tübingen, 1987.
S. 75—76.
41 Бахтин M. M. Собр. соч. Т. 6. М., 2002. С. 388.
42 Ваттимо Д. После христианства. М.: Три квадрата, 2007. С. 10
43 Розеншток-Хюсси О. Великие революции. С. 615—619.
44 См. статью Розенштока против «ереси» Бубера: Розеншток-Хюсси О.
Тебя и меня (учение или мода?) // Он же. Бог заставляет нас говорить. М.:
Канон, 1998. С. 119—133.
45 См.: Ортега-и-Гассет X. Что такое философия? М.: Наука, 1991. С. 350.
ЗАТЕКСТ
(Э. Ауэрбах и испытание филологии)
Условия невозможности
Книга, предварительный комментарий к которой,
биографический и историко-научный, предлагается ниже, — единственное в
своем роде достижение литературно-эстетической и
герменевтической мысли XX в.1 Это чужое достижение, как нетрудно заметить,
не стало, к сожалению, частью нашего опыта, нашей мысли, нашей
науки; книга до сих пор как-то странно присутствует в современной
отечественной гуманитарии — так, как если бы ее здесь и не было.
Значит, такое возможно? И как такое возможно? Когда про книгу все
знают, хотя почти никто ее не читал и не обсуждал, потому что книга
запрещена, — этот опыт нам известен и понятен по (прошлой) жизни.
Но когда, наоборот, книга напечатана и как бы даже известна, но то
ли «уже не», то ли «еще не» нужна ни для обсуждения, ни для так
называемого развития науки, то правомерен вопрос: что это за
(относительно) новый опыт?
«Мимесис» выдающегося немецкого филолога и литературоведа
Эриха Ауэрбаха (1892—1957) в переводе замечательного германиста
и историка научно-гуманитарной культуры Александра Викторовича
Михайлова (1938—1995) впервые был издан более тридцати лет тому
назад (1976). С тех пор этот памятник двойного перевода — перевода
западноевропейского исторического опыта от античности до
современности на язык истории литературы и эстетики от Гомера до
Вирджинии Вульф, а также перевода этого перевода на язык русского
речевого мышления в опыте истории и наук исторического опыта —
был издан еще раз (2000). И все равно: разговор о «Мимесисе» и об
Э. Ауэрбахе приходится начинать почти с самого начала. Еще раз: как
такое возможно? Вопрос этот с точки зрения гуманитарной
эпистемологии не может быть чисто теоретическим.
Ведь философия исторического опыта спрашивает, «как
возможно» не то, чего нет, она спрашивает не о том, что могло бы быть
342
Раздел первый. Переход
или не быть. Так называемое философское удивление, которое
традиционно выражается в научном суждении в виде вопроса: как
возможно то-то и то-то? — само возможно постольку, поскольку «то-то»
или «то-то» есть, т. е. как-то уже дано нам в опыте фактичности того,
что (теперь) может быть понято, осмыслено, освоено. Но что, если то,
что нам вроде бы и дано, лишено такого само собой разумеющегося,
апперцептивно-диалогизующего фона, на который не может не
опираться понимание и осмысление для того, чтобы вообще состояться?
В этом случае философское удивление осложняется, приобретая вид
следующего вопроса: из каких условий невозможности возможного
понимания нужно исходить для того, чтобы вообще смочь
подступиться к данному, но совершенно «эксклюзивному», экзотическому
предмету?
Такая постановка вопроса лишь по видимости, как мы теперь
понимаем, выглядит чем-то специфически «нашим» — советским и
постсоветским; в действительности гуманитарная эпистемология
началась с того же самого вопроса, точнее — со сходной проблемной
констелляции, которая стала условием возможности такой
постановки вопроса.
Затекст
Понятие затекст, вынесенное в заглавие этого
комментирующего подступа, должно проблематизировать то, что, как говорится,
«стоит в тексте», но непосредственно (само собой) может быть и «не
видно» в нем, когда мы воспринимаем и переводим, когда
перемещаем дальнее чужое в ближнее свое. Затекст — это более или менее
скрытые очевидности социально-исторического опыта,
преломленные и отложившиеся в событии текста. Как задача чтения и как
проблема филологии затекст — на границе: он «в» тексте и
одновременно «вне» его. Исторически и методически прояснение затекста
относится к герменевтике гуманитарных наук, которую мы называем
также гуманитарной эпистемологией. В отличие от более
филологического понятия «контекст», затекст не вполне объективируем — в
традиционном научном смысле — в качестве «предмета»
исследования: затекст не только и не столько «передо» мною, сколько «во»
мне и «за» мною. Затекст — это событие, связывающее современность
текста и разновременность читающего и исследующего текст.
Современная герменевтика, как явствует из
предшествующих очерков, имеет дело с текстом и с затекстом. В этом смысле,
как мне кажется, следует понимать всякую философскую критику
Затекст
343
«филологизма» (в наше время — структуралистского филологизма):
текст может быть по-настоящему понят и оценен не путем замыкания
в текст и в «язык» текста, а, наоборот, путем имманентного
(позитивного) преодоления чисто словесной материальности текста, как это
выразил M. M. Бахтин, который, конечно, не мог не узнать в свои
поздние годы, пришедшиеся на структуралистскую эпоху,
обновленного повторения «материальной эстетики», которую он же и оспорил
за сорок лет до того:
Высказывание как целое не поддается определению в терминах
лингвистики (и семиотики). Термин «текст» совершенно не отвечает
существу целого высказывания2.
Но вот представим себе ситуацию почти полной победы науки
в понимании текста, т. е. торжество лингвистического (и
семиотического) подхода или подходов. «Целое высказывание» остается за
пределами такой науки тем больше, чем навязчивее совершенно
антинаучные притязания на такое целое со стороны разного рода
«трансцендентных», «синтетических», «духовных» и «метафизических»
подходов, абсолютно невозможных в силу своего откровенного
субъективизма и произвола, но вот, глядишь ты, только и возможных там,
где научность более или менее осознанно присягнула на верность
тому духу научного небытия, который С. С. Аверинцев в год выхода
в свет русского «Мимесиса» окрестил «гуманитарией без человека»3.
Можно подумать, что, начав разговор об Э. Ауэрбахе, мы сильно
отклонились в сторону. На самом деле мы только наметили
современную проблемную констелляцию, которая позволяет, как кажется,
подвести исторический (прошлый или бывший) предмет
рассмотрения под адекватный ему онтологически-событийный затекст,
связывающий начало минувшего столетия, когда начинал автор
«Мимесиса», с «нулевым» десятилетием нового столетия, в горизонте
которого я попытаюсь сделать этого филолога предметом возможного
разговора.
Непере&одиллостъ
На русском языке «Мимесис» был впервые напечатан тридцать
лет спустя после того, как оригинал вышел в свет в Берне (1946).
Удивительно, конечно, не это, как и не то, что перевод издало тогда
престижное издательство «Прогресс» тиражом 20000; прецедент, если
не казус, заключался в другом. Издание оказалось, как сказали бы
344
Раздел первый. Переход
сегодня, невостребованным; труд Ауэрбаха, похоже, опоздал уже
настолько, что предложение слишком явно опережало спрос. И это в
те годы, когда интерес к литературно-эстетической проблематике
заметно возрастал, когда термин «поэтика» приобрел особый
расширительный, чарующий смысл в сознании гуманитариев, почти
сравнявшись по своему ценностному весу с самым главным культурным
словом — словом «текст» (паролем гуманитария). Это сегодня
открылось, что то, что казалось тогда перспективой и путем, было в
основном все же только «лазейкой»; это сегодня, когда не стыдно
«выживать», не стыдно признаться, что уже тогда даже самые успешные,
самые талантливые — в лучшем случае, выживали, как могли. Но в то
время, в эпоху так называемого застоя, как раз в филологии застоя не
было или казалось, что не было. Разве перевод и издание «Мимесиса»
сами по себе не свидетельствовали о «движении времени»?
А между тем, хотя бы и с опозданием на тридцать лет, «Мимесис»
Ауэрбаха-Михайлова — как это забыть? — зелеными штабелями,
рядами и колоннами нависал над прилавком букинистического отдела
магазина подписных изданий на Кузнецком мосту как вопиющее
недоразумение, как непонятно зачем вдруг доступное добро, как
культурный товар без адреса и без диалогизующего фона, словом — вне
затекста. За неброской и невнятной, абстрактно-прогрессивной
твердой обложкой прогрессовского издания, кроме текста перевода,
было еще предисловие, скорее усиливавшее недоумение: безупречно
выдержанное идеологически и академически, оно вполне
соответствовало тогдашней социальной атмосфере, общему ходу вещей в
своей как бы научной отрешенности от настоящей проблемное™, от
вот этой (а не другой) действительной исторической ситуации
перевода книги и ее возможного (точнее, невозможного) восприятия,
от свободно заинтересованного разговора, от затекста. К этой
отрешенности, или отчужденности, к этому вынужденному вытеснению
переживаемого опыта — в середине 1970-х гг. уже попривыкли. Все,
кто тогда не мог или (чаще) не желал покидать какую ни была, но
родину, — все, в конце концов, приспособились и выживали, как могли.
Вот только о том, чем может обернуться такой образ жизни, такой
образ мыслей, такое «выживание» при другом раскладе вещей, тем
более — при перевороте (переворачивании) мира жизни, включая
«поэтику», «тексты» и «культуру», — об этом в те годы трудно было
даже задуматься.
А потом те зеленые груды «Мимесиса» незаметно исчезли
из магазинов, разошлись, поглотились приливавшими ежегодно
Затекст
345
волнами студентов, аспирантов, книголюбов и спекулянтов; к
середине 1980-х гг. книга стала едва ли не библиографической редкостью.
Но от того давнего впечатления в осадке остался смутный вопрос.
Нужно было дожить до такой общественно-политической ситуации,
какую мы прожили в 90-е гг., для того чтобы осознать то, что
переживалось в 70-е гг.; нужно было дожить до того, что читать стало можно в
принципе все, что угодно; и вот тогда оказалось, что внешне доступное
чужое и новое, если они по-настоящему значительны, невозможно
просто «взять и прочитать»; ставшая доступною каждому чужая речь,
даже профессионально переведенная на твой родной язык и
опубликованная как «текст», может остаться недоступной — все равно, будет
ли чужое слово враждебно отторгнуто как чужое, или, наоборот,
подделано и подстроено под «свое». Значит, существуют какие-то
совершенно реальные, жестко локализованные по времени и месту своего
действия границы понимания и осмысления — границы
«образованности», как наивно и правильно выражались в старину. Границы
понимания не идеальны, а реальны (и зачастую фатальны); мое
восприятие, мышление, сознание, оставаясь моим, — не совсем мое, а в
чем-то даже совсем не мое. Или еще иначе: мои собственные
эмоциональные и интеллектуальные реакции на мир и себя самого до такой
степени опосредованы социально-историческим миром жизни (моей
страны, моего народа, моего языка, моей социальной и
профессиональный группы, моими традициями, предрассудками, или, по слову
А. А. Ухтомского, «доминантами»), что, только осознав историческую
толщу не собственного, не нашего в нас, можно (при удаче)
переместить границы понимания и самоосмысления. В противном случае,
как мы видим теперь, можно, изменяясь со временем, остаться на том
же месте, едва ли не выпав из времени.
В этой связи приходится говорить о герменевтической проблеме
непереводимости даже и хорошо переведенного на русский научно-
гуманитарного и философского текста, о трудностях, которые «стоят
за» текстом в нем же самом4. Так вот, значит, откуда и почему
протянулась и прояснилась сегодня ниточка того давнего недоумения на
Кузнецком мосту — недоумения, в котором назревал вопрос. История
рецепции русского «Мимесиса» в своем роде символична —
«фигуральна» в ауэрбаховском смысле средневекового реализма до Данте
включительно.
«Фигура», по Ауэрбаху, — это способ изображения события как
форма интерпретации события, смысл которого распределяется
между двумя событиями, отстоящими друг от друга во времени таким
346
Раздел первый. Переход
образом, что только в последующем, «втором» событии до конца
раскрывается то, что уже произошло, совершилось в первом событии5.
Герменевтика средневековой «фигуры» вернулась в
исторический мир современности, чтобы в нем быть узнанной снова и по-
новому. Русский «Мимесис» — тоже «фигура»: по прошествии
времени становится видимым не то, чего прежде не было, а, наоборот, то,
что «стояло» с самого начала в тексте; это мы и называем «скрытыми
очевидностями» затекста. Скрытой очевидностью было и осталось
одиночество Михайловского «Мимесиса» в нашей гуманитарии —
какая-то непроницаемость источника и наша, так сказать, сотворче-
ская безответность по отношению к источнику. Металингвистическая
«непереводимость» означает невозможность «второго сознания»,
которое вроде бы имеется в наличии, но не может себя обналичить в
сотворчестве понимания — не может обогатиться источником, ни
тем более восполнить, обогатить смысл источника. Это одиночество,
со своей стороны, отражает и преломляет окружающую его научно-
гуманитарную и социокультурную среду. Да и в творческой судьбе
переводчика, безвременно ушедшего, незаменимого А. В. Михайлова,
тоже есть что-то от его одинокого и высокого деяния, вызывающего
нередко восхищение и почтение (вообще — оценку), но так и не
ставшего пока уместным вопросом, актуальной темой, предметом
заинтересованной дискуссии.
Рецидив объективизма
Если теперь от отечественной истории рецепции Ауэрбаха —
истории, которой, пусть с оговорками, но пока не было6, —
обратиться к зарубежной истории рецепции, которая была и еще
продолжается, то можно заметить, что недоразумение или казус, описанный
выше, не есть что-то вообще исключительное, объяснимое только из
исторических условий советского века. Скорее и здесь (как во многих
других случаях) мы имеем дело с тем, что можно назвать «гротескным
общим местом»: явление, казалось бы, ни на что кругом не похожее,
в самой своей ненормальности и неуместности воспроизводит (как,
скажем, в романе А. Камю «Посторонний») какую-то повсеместную,
повсюдную проблему, общее для всех событие, вину или беду. В
западных рецепциях «озвучены» и «видны» противоречия и проти-
вочувствия, решения и сомнения, которые пусть в фантастических
искажениях и извращениях, но были и у нас, а значит, могут быть
узнаны и поняты. Во взаимотраженных контекстах проступает некий
общий или общный общественно-исторический опыт и затекст.
Затекст
347
Вот немецкий «Лексикон литературно-теоретических
произведений» (1995); в нем есть и статья о «Мимесисе», но в избранной
библиографии к этой статье не значится ни одной немецкой
работы (только американские), что, согласимся, несколько странно, тем
более для немецкого издания7. В первых рецензиях на книгу Э.
Ауэрбаха заявила о себе некая двойственность оценок, которая в
дальнейшем будет осложняться или варьироваться в зависимости от
новых литературно-критических веяний, но так и останется
оценочной двойственностью. В высшей степени достойное, ученейшее
литературоведческое исследование, поразившее и по-прежнему
поражающее всех широтой замысла и разнообразием фактуры, не
соответствовало, однако, сложившимся к середине XX в. относительно
нормативным представлениям и стандартам анализа литературы —
им не соответствует «Мимесис» и сегодня.
В самом деле: современный литературовед, филолог, историк
культуры, эстетик не может пройти мимо «Мимесиса», не оценив
серьезности, глубины и силы тех или иных глав или страниц и не преминет
сослаться на эту книгу в выгодном ему месте своей собственной книги
или статьи; чего он или она, однако, не найдет в книге, так это того,
на что он и она, как правило, ориентированы в науке, — «научности»
в смысле соссюрианской лингвистической или фрейдо-марксистской
парадигмы. Но и литературовед или историк-позитивист не найдет у
Ауэрбаха «истории литературы» в привычном и понятном для себя
смысле; не найдет «строгих», надежных определений, терминов и
выводов. В «Мимесисе» есть почти все, о чем обычно говорится в связи
с литературой: история, политика, мифология, идеология, религия,
социология, психология, культурология, философия языка, — но
почти ничего этого там нет в том виде, в каком соответствующие
явления обсуждаются или, что называется, задействуются
современными литературоведами, филологами или историками. Мне
рассказывали, как один очень профессиональный отечественный
исследователь русской литературы и официальной идеологии XIX в.
высказался в разговоре о «Мимесисе» Ауэрбаха примерно так: «Да, это
очень интересно, впечатляюще, но... совершенно не ясно, как с этим
работать...». Действительно — как? В форме сомнения здесь
заявляет о себе вопрос: чему и как можно у Ауэрбаха учиться? В других
случаях нам более решительно дают понять, что у автора «Мимесиса»
филология ненаучна. Сегодня эта точка зрения иногда подкрепляется
прямо противоположным акцентом: «ненаучна», т. е. ближе к
«искусству», и это — хорошо. На практике последователи этой изнаночной
348
Раздел первый. Переход
точки зрения показывают такое искусство, т. е. такой произвол, что
только укрепляют все ту же, общую точку зрения со стороны
известного рода «научности». В любом случае, однако, Ауэрбах
оказывается как бы вне системы координат, в которой бинарные оппозиции
оправдывают свою односторонность за счет противоположной
односторонности.
Ясно и отчетливо негативную реакцию на ауэрбаховское
покушение на научность изнутри академической науки выразил коллега и
добрый знакомый Ауэрбаха, известный систематизатор идей русского
формализма, «пражского» структурализма и американской «Новой
критики» Рене Уэллек (1903—1995), в своей рецензии на
американское издание «Мимесиса» (1953). Высоко оценив это произведение в
целом, автор ставшего тогда научной сенсацией манифеста времен
холодной войны — «Теории литературы» (1949) в целом же и поставил
филологический метод Ауэрбаха под большой вопрос. Уэллек даже
нашел в рецензируемой книге «крайне опасную концепцию критики
и науки», поскольку, по его мнению, автор «Мимесиса»
«переступает границы литературы как художественного вымысла»8. По мысли
Р. Уэллека, научные достоинства ауэрбаховского метода не есть наука,
а «особый» (special) реализм и историзм Ауэрбаха не имеют ничего
общего с подлинно научной историей литературы.
В подтексте этой позиции — приговор, вынесенный в
упомянутой «Теории литературы» филологии: современное
литературоведение, сказано в этом быстро ставшем учебным пособием научном
труде, в принципе достигло такой степени определенности своих
методов (т. е. научной автономии), что уже не нуждается в самом
термине «филология»9.
Особенно интересным и поучительным в той рецензии Уэллека
середины прошлого столетия является раздраженное возражение,
что автор «Мимесиса» пытается сблизить «две противоречащих одна
другой концепции реализма»: ту, которая опирается на понятие
«экзистенции» у Кьеркегора, и ту, которая опирается на объективное
представление об истории, отстаивавшееся Гегелем, с которым Кьеркегор
и боролся10. Рецедив объективизма в такого рода расхожих общих
местах (а филологи обычно усваивают из современной философии
именно общие места, виртуальное само собой разумеющееся) делает
невозможным подступ ни к современной экзистенциальной
(социальной) онтологии, ни к герменевтической филологии Э. Ауэрбаха.
Казалось бы, и «Новая критика», эта англо-американская
разновидность русского формализма, и «Теория литературы»
Затекст
349
Р. Уэллека—О. Уоррена, на свой лад подытожившая литературно-
критические революции первой половины XX в., довольно скоро
потеряли свое влияние. Тот же Р. Уэллек уже в 1960-е гг. сделался вполне
реакционным и смехотворным олицетворением эклектического
формализма и литературно-критической неосхоластики — почти в
такой же мере, как одновременно в СССР олицетворением того же
самого — но с прямо противоположных идеологических позиций —
был, скажем, Г. Н. Поспелов и его школа на кафедре теории
литературы МГУ Но когда в той давней рецензии в «Кеньон ревью» Уэллек
упрекает Ауэрбаха в отсутствии и недооценке «ясной теоретической
базы» (a clear theoretical framework), в смешении литературных и вне-
литературных жанров, в нарушении «ясной» иерархии и границ не
только между поэзией и прозой, но и между «вымыслом» (fiction) и
действительностью (а последней, по Уэллеку, литературовед и
«теория», так сказать, не занимаются), то возникает впечатление «дежа
вю» в обратном смысле, т. е. в обратном соотношении прошлого и
нашего настоящего. Представление о том, что «научный труд (a work of
scholarship) и литературная критика (criticism) никогда не могут быть
произведением искусства (a work of art) в строгом смысле слова»11, —
это сегодня, после структуралистской эпохи, «все знают» не хуже
Уэллека; ведь иначе этот тезис не «подрывали» бы так настойчиво в той
же самой структуралистской системе координат, хотя бы и на стадии
«пост», что, кстати сказать, Уэллек воспринимал болезненно и
реактивно, как показывает его книга «Атака на литературу» (1982)12. Но
если бы авторы «Теории литературы» в свое время уточнили, в каком
смысле они говорят о произведении искусства «в строгом смысле
слова», а ауэрбаховский «анализ текста» (textual analysis) Уэллек не
торопился бы списывать с научного корабля современности в качестве
не «строго» научной, уже устаревшей филологии, — то, возможно,
Уэллек не оказался бы в 1960—1970-е гг., в свою очередь, «списан на
берег» (подобно тому, как в те же годы от по-своему честной и
добротной, традиционалистской схоластики Поспелова спасались кто
где и как могли не только все «новые», но просто все «живые»). В
обоих мирах жизни, западном и советском, разрыв между
поколениями (generation gap) осложнялся разрывом научно-гуманитарных
традиций, но при сохранении и даже усилении у «детей»
ограничительных предпосылок «отцов» — ситуация, которую трудно заметить
в «Отцах и детях» Тургенева (1860), но которая «овнешнена»
(является принципом изображения) в «Бесах» Достоевского (1971), в силу
чего ее еще труднее заметить (тем более — проанализировать). Во
350
Раздел первый. Переход
всяком случае, подобно многим литературоведам, критикам,
философам или историкам первых десятилетий прошлого века, Р. Уэллек
в последующие десятилетия был разоблачен и демонстративно
отброшен новыми левыми (или новыми «новыми») — поколением
Р. Барта, Ц. Тодорова или Ю. Кристевой, так называемым
«мышлением 68-го года» — в качестве ритуально умерщвляемого детьми
отца13. Для этой новой победоносной современности Э. Ауэрбах,
очевидно, был мертвым и древним уже настолько, что его даже не было
нужды «деконструировать».
Вызов филологии
Ауэрбах, варьируя устные споры с Р. Уэллеком в Нью-Хейвене,
штат Коннектикут, где оба были профессорами Йельского
университета, ответит ему (не называя имени) и другим коллегам в
систематическом порядке, пункт за пунктом, в методологическом введении к
своей последней, посмертно изданной книге «Литературный язык и
публика в латинской поздней античности и в средневековье» (1958), —
ниже мы обратимся к некоторым положениям этого введения. Но
если Р. Уэллек склонен был вытеснять филологию из
литературоведения ради, понятно, «строгой» чистоты научных методов
литературоведения, то другие авторы первых рецензий на «Мимесис»,
наоборот, требовали вытеснить литературоведение и даже литературу из
филологии, которой Ауэрбах, выходило, изменил, увлекшись такими
ненаучными предметами исследования, как история, литература и
литературоведение. Так, например, голландский языковед Джозеф
Энгельс заявил, что тип историко-филологического исследования,
сложившийся в романо-германской филологии и представленный
именами Э. Ауэрбаха, Э. Р. Курциуса и Л. Шпицера, относится к
эстетике и литературной критике, но уж никак не к науке — филологии.
Все, конечно, знают, что такое филология, но вот Д. Энгельс
понимал под этим современную структурную лингвистику как
«твердую» науку; ссылаясь на О. Есперсена, он требовал исключить
из филологической науки «художественную литературу», поскольку
последняя является «объектом литературных исследований», а не
объектом науки — лингвистики14.
Сегодня мало кто станет формулировать свои научные
предпочтения с такой жесткостью, как Р. Уэллек или Д. Энгельс полвека
назад. Можно прямо сказать, что, начиная с 1960-х гг., развитие
западного литературоведения пошло в направлениях, прямо
противоположных методическому идеалу автономии «литературы» (да и
Затекст
351
автономии «лингвистики»). Но, повторим, примечательно не это, а то,
что, казалось бы, явно анахроническая позиция Р. Уэллека и многих
других — Г. Р. Яусс в своем знаменитом манифесте новой
эпистемологии литературоведческих исследований (1967) назовет эту
позицию «рецидивом объективизма»15 — стала едва ли не общим
местом, и не только в литературоведении. Рецидив объективизма в
филологических науках привел к тому, что единство предмета и
методическая задача анализа текста оказались, так сказать, расхищены.
Продуктивные «спецификации» литературы в первой трети XX в.
обернулись такими «приватизациями» литературы и «текста» в последней
трети XX в., что сегодня филологи проявляют повышенную чуткость
не столько к тому, что они обрели в результате двух гуманитарных
революций прошлого столетия («экзистенциальной» и
«структуралистской»), сколько к тому, что они при этом потеряли. Судя по
современным дискуссиям, тон в которых задает растерянность, если не
паника, — филологи потеряли филологию16.
Иначе говоря, притязание на автономию, совершенно
оправданное само по себе и плодотворное в свое время, повсюду
обернулось злой карикатурой на науку, науку как таковую; отсюда, как
следствие, — «постмодерные» реакции. В нашей стране эти реакции,
естественно, опоздали на десятилетия и застали отечественную
гуманитарию и философию почти врасплох. Тем поучительней опыт
западноевропейской науки, развивающейся в порядке непрерывных
дискуссий (мы больше переживаем каждый в своем достоевском
«углу», они больше обсуждают, не столько «решая», сколько
обнаруживая и социализируя, опредмечивая ту или иную проблему). Ведь
жанрово-речевая почва questio (научно-богословская традиция
постановки предмета под вопрос, по-новому продолжавшая во «тьме
готического века» речевой жанр сократовско-платоновского
диалога) и disputatio (традиция «диспута», предметной дискуссии) на
Западе подготавливалась в веках и тысячелетиях, особенно благодаря
средневековому университету17. (Оттого даже современные новации
в западноевропейской системе образования, виртуализирующие
обучение, у нас не могут не иметь гораздо более деструктивных, чем на
Западе, последствий.) В этой общей на Западе и у нас ситуации как
бы распыления и расхищения филологии, самой идеи гуманитарно-
филологического исследования и — как неизбежная реакция на эту
ситуацию — нового очередного «рецидива объективизма»,— как
бы похороненная филология может оказаться, странно сказать, —
вызовом. Во всяком случае, книга, изданная в США по материалам
352
Раздел первый. Переход
юбилейной конференции (1992), посвященной столетию со дня
рождения Э. Ауэрбаха, так и называется: «История литературы и вызов
филологии»18. Если поиски специфики и относительной автономии
отдельных научных дисциплин привели сначала к отказу от
общего предметного пространства «филологии», а потом к
«приватизации» (изоляции) этих дисциплин, переживаемой одними как
обретение «твердой» науки, а другими (большинством) — как утрата
предмета исследования, как душегубка и камера-одиночка
специализации и «профессии», — то это, очевидно, означает: вышедшая из
«экзистенциального», а потом из «структуралистского» слома
парадигмы (из научно-гуманитарных революций) проблематика сегодня
никуда не ушла, но она — перевернулась, не став, однако, новым
поворотом или прорывом.
Название упомянутого американского сборника,
варьирующее заголовок «шестидесятнического» манифеста Г. Р. Яусса, имеет
в виду примерно следующее: несовременная (уже «древняя»)
филология в лице Э. Ауэрбаха — это «вызов» (challenge) пост-пост-
постсовременной истории и теории литературы постольку, поскольку
последние сами оказались полухудожественными фикциями,
относительно исчерпанными на исходе XX в. Участники конференции 1992 г.
попытались понять научно-гуманитарную позицию автора
«Мимесиса» заново. «В тот период, — читаем в одной из статей, — когда
преобладающим было влияние формализма, это были радикальные
мысли. Они подрывали систему жанров и соответствующее им
общепринятое, само собой разумеющееся разделение научных
дисциплин — например: литература и история, философия и литература, —
где "и" было скорее пограничным знаком, чем признаком связи»19.
Границы мира
Тем самым совершенно по-новому (т. е. в радикально иной, чем
в прежние времена, ситуации общественного мира жизни) встает
старая, традиционная проблема гуманитарной эпистемологии—
проблема границ между научными областями и практиками, между
риторикой и поэтикой, между философией и литературой, между
наукой и не-наукой. Ауэрбах вдруг оказывается по-новому
«современным» — по-новому новым. Подобно тому как в неслучайной
ситуации «конца разговора» снова и по-новому возникает вопрос, как
возможен разговор, и открывается некоторая изначальная социально-
онтологическая фактичность разговора-диалога — в жизни, в
философском и всяком ином мышлении и сознании, — точно так же в
Затекст
353
ситуации очередного относительного конца истории, конца
искусства, конца наук об искусстве и даже (как полагает Петер Слотер-
дайк) конца творческого алиби в культуре и в жизни20, — в этом
состоянии вещей вновь встает вопрос о «спасении» всех этих
феноменов: каждого феномена в отдельности и всех вместе. Как возможно
искусство? Как возможна история? Литература? Автор? И т. д. И вот
оказывается, что подступиться к этим и подобным вопросам научно
можно лишь в том случае, если удастся найти «ино-научные»
опосредования между разными дисциплинами, разными областями
культуры и жизни.
Имеется в виду не так называемый «междисциплинарный», или
«культурологический», подход, который остается в границах
объективизма и способен скорее обозначать внешние «пограничные
знаки» реальной связи, чем открывать внутренние «признаки связи».
Иначе говоря: то самое, что, по мнению упоминавшегося Р. Уэл-
лека, не может быть никогда, а именно — введение ино-научного,
или внесистемного, «экзистенциального» измерения в намерение и
в самую меру научности в исследованиях исторического опыта (так
сказать, Гегель и Кьеркегор), — вот это и становится в самое
последнее время настоящей задачей. Задача эта была бы, разумеется,
совершенно безнадежной («утопической») в качестве абсолютно
«новой» — только новой, одной-единственной и небывалой, впервые
первой. К счастью, это не так, потому что так не бывает: любое
начало (во всяком случае, для человека как конечного существа)
никогда не первое, но уже «второе» (или сто второе). Экзистенциальная
онтология 1920—1930-х гг., которую М. Тойниссен, как мы помним,
поименовал «социальной онтологией» (Sozialontologie) (в смысле
переобращения-перевода-пересмотра исконной prima philosophia),
собственно, и была единственной в своем роде (но, конечно, далеко
не первой) попыткой нового синтеза — «бракосочетания» научной
мысли, теоретической философии и донаучных и вненаучных
измерений реального опыта мира жизни, не переводимых на язык
теории, (теоретически не транскрибируемых).
«Архитектоника этого мира, — писал молодой Бахтин в своем
проекте экзистенциально-социальной онтологии (1921 —1922), —
напоминает архитектонику мира Данте и средневековых мистерий (в
мистерии и в трагедии действие также придвинуто к последним
границам бытия)»21. Здесь нам важно не только то, что Данте и
средневековые мистерии — «осевые» темы Ауэрбаха-филолога. Не менее
важно, что архитектоника современного мира — после десятилетий
354
Раздел первый. Переход
структуралистской эпохи, после «постмодернизма», «после всего» —
снова и по-новому придвинулось сейчас к последним границам
бытия; разве что этим границам не соответствует уже почти никакой
образ.
Таково, как представляется, общее условие возможности встречи
с наследием Э. Ауэрбаха сегодня.
Изображение действительности
О том же, но как бы с другого конца, говорится в изданном в
Германии коллективном труде: «Метаистория: Изображение
действительности в европейской культуре в контексте Гуссерля, Вебера,
Ауэрбаха и Гомбриха»22. Этот проект, навеянный подступами к
исторической реальности и к гуманитарной эпистемологии в работах Хей-
дена Уайта23 и Поля Рикера24, использует в качестве руководящего
вынесенный в подзаголовок «Мимесиса» концепт: «изображение
действительности». Но что означает это словосочетание? Здесь
необходим комментарий, причем не только «предметный». Ведь предмет
сам себя выражает и понимает из своего мира и на своем языке
(немецком), а нам надо его передать-перевести для другого, «второго»
сознания, живущего и мыслящего изнутри внешности своего языка
и мира (русского).
Ауэрбаховский концепт включает в себя обычный для немецкого
языка и научной культуры ряд понятий: «изображение» (Darstellung),
«изображать» (darstellen); семантика этого ряда шире, чем в
соответствующем русском слове, и это важно. В русском языке «изображение»,
«изображать» относится, как правило, к области художественного
творчества, эстетики и поэтики; по-немецки же Darstellung — это
скорее «изложение», причем не только в искусстве, но также в науке и
в повседневной практике; darstellen значит «дать (передать)
представление (о чем-то)», «изложить» какой-то предмет (событие, историю,
концепцию и т. п.). Во всех возможных случаях изображения /
изложения (Darstellung) — в жизни, в искусстве, в науке — акцент падает
не на «выражении», в смысле немецкого Ausdruck (что важно,
учитывая огромную действенно-историческую инерцию немецкого
идеализма и романтизма вокруг 1800 г. в русской культуре мышления не
только вокруг 1900 г., но и вокруг 2000 г.). Darstellung — это, с одной
стороны, указание на предметную суть дела, которую надо
передать или изложить, с другой стороны, — на практическую задачу и
способ решения задачи. В том и в другом отношении
индивидуальность, или субъективность изображающего / излагающего, конечно,
Затекст
355
предполагается и учитывается, но не имеет и не может иметь
решающего значения, хотя момент истолкования (интерпретации), конечно,
присущ любому «изображению»25. Die folgende Darstellung... — так, по
давней традиции, начинается научная или научно-философской
монография на немецком языке (что у неопытного переводчика может
вызвать другую еще трудность, поскольку по-немецки
неодушевленный предмет может выступать как субъект действия, а по-русски
так не бывает). Поэтому «изображение действительности» или
«изображенная действительность» (dargestellte Wirklichkeit) в
подзаголовке «Мимесиса», хотя и относится, как тут же и поясняется, к
литературе (а именно к западноевропейской литературе от Гомера и
Библии до «нового», или «модерного», романа первой половины XX в.),
но имплицирует гораздо более широкое значение. Подчеркивание в
ауэрбаховском словосочетании «действительности» еще усиливает
«миметическую» сторону дела, т. е. акцент на античной
(объективистской) традиции. Но эта классическая традиция и до Ауэрбаха
переосмысливалась. Традиция не тождественна своему началу; она
остается продуктивно «изначальной», отходя и уходя от своего начала.
Заглавие книги Э. Ауэрбаха воспроизводит древнее,
основополагающее для эстетической, но также и для этической и религиозной
культуры традиционное понятие «подражания»; подзаголовок — это
комментирующий перевод-переложение-передача этого понятия на
исторический опыт в целом, древний и новый. «Мимесис» — это,
собственно, способы или формы видения, изложения, и изображения, т. е.
объективирующей передачи какого-нибудь события или рассказа,
основанных либо на мифическом, либо на историческом, либо,
наконец, на «вымышленном» правдоподобии. Все эти, художественные
и внехудожественные, способы и формы видения и передачи
относятся к литературе постольку, поскольку они зафиксированы в тексте.
Но и «подражание» подражает — воспроизводит, darstellt нечто
значительное, что может и должно быть воспринято, вспомянуто,
освящено, удержано в памяти и «переведено» на язык
воспринимающего (читателя, «реципиента»). Всякий «мимесис» предполагает как
«первое» (изображаемое) сознание с его миром, так и «второе»
(изображающее, подражающее) сознание, которое, в свою очередь, имеет в
виду свою фактически наличную или возможную аудиторию, так
сказать, «третьего» (слушателя) как участника события «подражания».
Высшее и уже неопровержимое достоинство классики — в
литературоведении не меньше, чем в литературе или, скажем в
философии — состоит, как позволительно думать, в способности
356
Раздел первый. Переход
«вызывать» живую реакцию и даже быть «вызовом» в ответственном
смысле слова «challenge». Норвежец А, Мельберг в своей книге
«Теории мимесиса» говорит во введении так: «...если пишешь о
мимесисе в традициях литературного и текстуального анализа, то
приходится, так сказать, выяснять отношения с Платоном и с Ауэрбахом:
с Платоном — потому что он ближайший к нам по времени из тех,
кто отвечает за западную традицию мышления, в которой «мимесис»
играет такую значительную роль; и с Ауэрбахом — потому что у него
имеется парадигма для анализа текстуального «мимесиса»26.
Итак, перед нами, кажется, единственное в своем роде
исследование, о достоинствах и недостатках, о самом жанре которого,
похоже, следует судить с осмотрительностью. Ведь сами достоинства
здесь могут представляться — и совсем не по субъективным
причинам — явным провалом; и наоборот: «несовременность» автора,
который еще пытается исходить из старомодного представления о
единстве предмета гуманитарно-филологического сознания и
мышления, может оказаться не такой уж наивной. Это и побуждает нас
заглянуть в затекст уже не русского перевода «Мимесиса», но самой
этой книги и осветить скрытые очевидности подхода ее автора к
литературе, истории и тексту.
Практический семинар
Любая продуктивная точка зрения — в жизни, в науке, в
искусстве, — для того чтобы состояться и развиваться, должна непременно
на чем-то основываться, на что-то опираться, от чего-то
отталкиваться; должна иметь свою среду произрастания и обитания,
атмосферу, традиции «культивирования», свой адресат или аудиторию,
наконец. Творческое сознание в этом смысле тоже «второе сознание»,
из чего, разумеется, совсем не следует, что оно только «подражает» в
смысле простой имитации, дублирования первоначального образца.
В затексте «Мимесиса», по крайней мере, три духовно-исторических
комплекса «другости», т. е. три социально-исторических и научно-
гуманитарных массива первичных, или «первых», предпосылок,
определивших понимание Ауэрбахом филологического исследования
на стыках и пересечениях филологии с литературоведением,
философией, лингвистикой и теологией, с тем, что можно было бы назвать
исторически фундированной герменевтической социологией
литературного текста. Сам Ауэрбах, озабоченный не столько точностью
обозначения своего подхода, сколько адекватностью своего подхода
к «действительности», в посмертно опубликованной книге говорит
Затекст
357
в предисловии примерно так: вы можете называть мой подход
«филологической философией» или «философской филологией» — не
в этом дело; «люди на планете Земля (die Menschen auf dem Planeten
Erde)» — вот в чем дело27.
Это значит: проблема текста и «текстуального анализа» — не в
них самих по себе, одних по себе\ она скорее — в затексте; «люди на
планете земля» — вот тотальный затекст, который пронизывает текст
на его внутренних границах. Попробуем посильно подтвердить этот
экзистенциально-антропологический взгляд, обратив и повторив его
в отношении самого Э. Ауэрбаха. Три упомянутых комплекса
предпосылок или, говоря более традиционно, «влияний» в его случае
таковы: (1) романо-германская филология и специально так
называемая «школа Фосслера» начала XX в.; (2) теологически-политическое
обоснование Д. Вико человеческой истории, природы общества,
мышления и познания и специально филологии как
основополагающей и центральной гуманитарной науки; (3) античная концепция
«мимесиса», герменевтический потенциал которой, вероятно,
позволяет выйти за пределы античности и по-новому поставить старый
вопрос о «древних» и «новых».
Эти три действенно-исторические «заавторства» автора
«Мимесиса» могут быть вскрыты и поняты только как событие
творческого пути самого автора. Но этот творческий путь проходил не
только внутри науки, но и на ее границах; поэтому за точку отсчета
и масштаб в передаче-переводе теоретико-методологического за-
текста «Мимесиса» необходимо взять нечто вполне определенное и
«конечное» — действительностьу мир и время Ауэрбаха. Он и сам,
явным образом, понимал свой путь в науке именно так. Объективной
предпосылкой сказанного Ауэрбахом нового слова в науках
исторического опыта был сам исторический опыт — «практический
семинар по мировой истории, в котором мы участвовали и все еще
участвуем», как скажет автор «Мимесиса» в одной из важнейших своих
теоретико-методологических статей «Филология мировой
литературы» (1952), переведенной на русский язык участниками моего
домашнего семинара «Гуманитарный перевод»28.
В упомянутом выше систематическом изложении своей
методологии в книге «Литературный язык и публика в латинской поздней
античности и в средневековье» (1958) Э. Ауэрбах указал на ино-научный
факт и фактор, обусловивший направление его научных исканий. В
отличие от наиболее близких ему филологов-«романистов» —
Фосслера, Курциуса, Шпицера, в его собственных работах «гораздо
358
Раздел первый. Переход
отчетливее заявляет о себе сознание потрясения Европы» —
сознание, мы бы сказали, инициирующего испытания, переосмысления
всех смыслов Западного мира в исторических основаниях его бытия
и времени; «мне очень рано стало казаться, и со временем все более
настоятельным образом, — поясняет Ауэрбах свое понимание того,
что обычно называют "кризисом", — что в данных условиях
общеевропейские возможности романской филологии могут быть
подвергнуты испытанию уже не только в качестве возможностей, но как
задача, выполнимая лишь теперь и как раз еще теперь»29.
Переживание мира как со-временности древнего и нового в их
нераздельности и неслиянности (релятивной со-относительности),
притом в аспекте не бесконечных в себе теоретических
возможностей, а в аспекте осуществления, выполнения или исполнения
некоторой конечно-конкретной «задачи» и с острым осознанием того, что
такая полнота «современности» начал и концов исторического мира
случается, по слову русского поэта, в «минуты роковые» — «лишь
теперь» и «как раз еще теперь», — в этом переживании сразу узнается
сигнатура поколения, к которому принадлежал Э. Ауэрбах; «Бытие и
время» М. Хайдеггера (1927) только первая аналогия из философии.
Научная задача автора «Мимесиса», выраставшая из этой инонаучной
умонастроенности, заключалась в том, чтобы зафиксировать и
понять единый феномен западноевропейского сознания в его сквозной
историчности — там, где этот феномен и эта тема образуют «предмет
филологии — литературное выражение»30.
Осуществление задачи, специализированной в самой своей все-
охватности, требовало метода, который еще предстояло
разработать. Замысел биографии (автобиографии) западноеврепейского
сознания в жанре филологического исследования сам еще нуждался в
биографии замыслившего ее автора, в восполнении опытом мира и
времени.
Роллано-герлланская филология
Эрих Ауэрбах родился в Берлине в состоятельной буржуазной
семье, среднее образование получил во Французской гимназии —
обстоятельство, которое, по-видимому, в гораздо большей степени
определит его профессиональный и духовный облик, чем его
еврейское происхождение, о котором ему напомнят в свое время.
Образование в престижной гимназии соединяло в себе два начала, в
отвлеченном виде скорее чуждые одно другому, но фактически
(исторически) совершенно естественно образовывавшие синтез по месту
Затекст
359
и времени в духе еще сплачивавших и действенных представлений о
«европейскости» и «образованности»; прусская дисциплина
культивировалась в этом учебном заведении вместе с космополитизмом, в
котором доминировало влияние французской и латинской культур31.
Будущее способного юноши казалось решенным и надежным;
после очень успешного окончания гимназии он учится в Гейдель-
берге на юридическом факультете, по окончании которого публикует
первую диссертацию в связи с подготавливавшимся тогда в Германии
новым законом о наказаниях32. Но, как явствует из curriculum vita Ау-
эрбаха, он одновременно с учебой на правоведа перешел на
философский факультет Берлинского университета и после защиты
упомянутой диссертации продолжал учебу теперь уже по романской
филологии, классической филологии и философии. Жизнь
новоиспеченного юриста (и, между прочим, почитателя Стефана Георге) круто
повернулась вместе с миром и временем в следующем году, когда, как
сказано в прологе к роману Томаса Манна «Волшебная гора» (1924),
«началось столь многое, что потом оно уже и не преставало
начинаться»33.
Ауэрбах воевал всю войну, был ранен, был награжден и выжил; а
вернувшись с фронта, начал научную карьеру с самого начала. Доктор
правоведения и кавалер Железного креста наперекор воле
родителей и собственному довоенному прошлому избирает новую
специальность — романскую филологию — и вторично добивается
докторского диплома за диссертацию о технике раннеренессансной
новеллы (1921)34. Таковы, как говорится, факты. Но и так называемые
факты в действительности становятся понятными не сами по себе,
а в свете конкретных обстоятельств, мотивировок, предпочтений и
«противочувствий». Почему романская филология?
Цитировавшееся выше введение «О намерении и методе» в
посмертно изданной книге начинается с ответа на этот вопрос:
Издавна немецкая романистика находится в особом положении.
Она происходит, благодаря Уланду и Дицу, из романтического
историзма, что означает — из движения, которое от Гердера через Шле-
гелей до Якоба Гримма возвысило мысль об историческом развитии
и об индивидуальном духе того или иного народа, осуществлявшем
это развитие, до всеохватывающей и руководящей идеи филологии15.
Мы рискуем мало что понять в той традиции, с которой Ауэрбах
связывал «идею филологии», если не примем во внимание, что
расцвет этой традиции в первые десятилетия XX в. очень условно можно
360
Раздел первый. Переход
отделить от драматического испытания этой традиции в лице
продолжателей ее; испытанию подверглось представление об
«историческом развитии»; на взгляд Ауэрбаха, оно, это представление,
неотделимо от «идеи филологии», как неотделимо испытание филологии
от «потрясения» европейского сознания, от взращенного
девятнадцатым столетием. Второй выбор Ауэрбахом научной специализации
можно рассматривать как интериоризацию его прежних
добродетелей «немца» и «европейца». Конечно, образование и еще довоенный
интерес к современному и древнему искусству сделали возможным
переход от юриспруденции к филологии; но было здесь, несомненно,
и другое: более углубленная встреча с самим собой как историческим
существом и, пожалуй, даже начало ссылки — пока добровольной
ссылки внутри ставшего проблематичным общества36.
Собственная историческая ситуация — «сознание потрясения
Европы» — становится продуктивным исходным пунктом нового
понимания истории и «идеи филологии», а это означает — критической
и полемической преемственности по отношению к традиции,
ближайшим образом — к романо-германской филологии. Какими
возможностями обладала романская филология на немецкой почве —
возможностями, которые должны были отвечать «задаче»,
поставленной перед собой Ауэрбахом?
Первая и главная такая «возможность» нам уже известна: это —
историзм, детище девятнадцатого столетия и специально немецкой
«исторической школы», от В. фон Гумбольдта до Ф. Майнеке37. Не
случайно, однако, Ауэрбах в приведенной выше цитате имеет в виду
«мысль об историческом развитии»; последняя несравненно шире
немецкой исторической школы и традиционного, так сказать,
формального историзма XIX в. «Кто понимает историзм как эклектику, —
напишет Ауэрбах в своих итоговых методологических
размышлениях, — тот его не понимает»38. Что это значит?
Пока, во всяком случае, ясно одно: «историзм», историческое
сознание, представление об истории как образе прошлого (включая
образ «исторического развития»), словом, все то, на чем держалась,
среди прочего, «идея филологии», оказалось поставленным под
вопрос самим историческим развитием, современностью, от которой
нельзя было отмахнуться. Исторический кризис традиционной
филологии и традиционного историзма по-новому поворачивал предмет
исследования и делал явной связь между самым «древним»
предметом и самым «новым» исследованием его. Идея исторического
развития, выдвинутая уже Просвещением, обогащенная романтизмом
Затекст
361
и философски обоснованная Гегелем, как оказалось, не совпадает
ни с просветительской, ни с романтической, ни с гегельянской
трактовкой историзма, ни, наконец, с «исторической школой» и
историческим типом образованности в духе XIX в.; историзм, как сказал бы
М. Бахтин, «лучше и больше» себя, т. е. «мысль об историческом
развитии» в себе самой заключает условие возможности своего же
обновления — не голого отрицания, но «смерти-возрождения».
Для того чтобы лучше понять поздний спор с Р. Уэллеком и
другими критиками гуманитарно-филологического метода Ауэрбаха
полвека назад, как и сегодня, важно иметь в виду следующее.
Подобно тому как традиционный историзм получил решающие для
гуманитарных наук и философии духовно-идеологические импульсы в
Германии, а именно в диалоге с античным наследием в пред- и
пореволюционное десятилетие 1790-х гг., — нечто подобное же
произошло и у наследников классической немецкой философии и
германской науки XIX в., а именно — в 1920-е гг. Видный немецкий
филолог-классик Карл Райнхардт имел основания говорить (в статье
«Классическая филология и классическое», 1954) о некоторой единой
в своей прерывной непрерывности ревизии взаимоотношений между
Новым временем и античностью примерно между 1800 и 1930 годом,
имея в виду пересмотр и переворот в историческом мышлении,
который «был возможен и представлялся необходимым только в
Германии».39 И то же самое применительно к философской ситуации
XX в. утверждал приятель Райнхардта Г.-Г. Гадамер — например,
в неоднократно цитировавшемся нами послании «К русским
читателям» (1990):
В немецкой культуре XIX века преобладал дух науки, которому и
обязана она своим всемирным значением, однако, в отличие от
романского культурного круга, духу науки не соответствовало
подобное же общественное признание «lettres» — гуманитарной
культуры слова. Вот почему выход за пределы научного факта должен был
означать для Германии нечто совсем иное и почему в наши дни мы
ждем от философии «жизненного мира» всей широты жизненного
опыта и оправдания, его прояснения и обогащения40.
Дефицит «гуманитарной культуры слова», связывающей
теоретическое мышление с тем, что Вико, как мы помним, называл
«гражданским миром», mondo civile, a Гадамер (вслед за Э. Гуссерлем) называет
«жизненным миром» у Lebenswelt у — эта духовно-речевая лакуна в самом
немецком «гайсте» сильнее всего, очевидно, должна была сказываться
362
Раздел первый. Переход
как раз в таких сферах деятельности, которые позволяли как бы
отрешиться от известного убожества общественно-политического
состояния Германии. «Романский культурный круг» — это не столько
«культура», сколько «цивилизация» романских стран — Франции, Италии,
Испании; цивилизация не столько «духовная», тем более не
«техническая», сколько социально-речевая («lettres»).
Мне сейчас явно не хватает слов родной речи, чтобы передать эту
немецкую историческую нехватку «литературных» форм языка,
«гуманитарной культуры слова», которую имеет в виду Гадамер. Стоит
вспомнить ставшую устойчивой в русском речевом мышлении-
дискурсе XIX и XX вв. бинарную оппозицию «культура» —
«цивилизация», заимствованную у немецкого романтизма (до Шпенглера
включительно), для того чтобы почувствовать заимствованный и
удвоенный в этом заимствовании окарикатуренный предрассудок
пресловутой «духовности». Поучительно ревнивое восхищение, с
которым Хайдеггер относился к Сартру (при всем несогласии с его
отчасти карикатурным французским переводом немецкой
Existenzphilosophie на язык французского «экзистенциализма»): как этот француз
умудряется писать, помимо философских трактатов, не только «эссе»,
но еще и романы и пьесы?!.. Все это представляется немаловажным,
если припомнить, что Ауэрбах учился во Французской гимназии и
избрал своей новой специальностью романскую филологию.
Итак, «мысль об историческом развитии» именно в Германии
претерпела некую радикальную трансформацию; вне этого события
трудно понять и оценить постепенно разрабатывавшийся Ауэр-
бахом подход к текстам и затексту западноевропейской истории,
который этот совсем не склонный к эпатажу и провокациям филолог
позднее назовет «историческим релятивизмом». Вспомним
приводившиеся в вводном очерке слова В. Дильтея о том, что немецкая
гуманитарно-философская мысль («дух»), в отличие от английской
или французской, в большей мере «живет сознанием исторической
преемственности»41 (отсюда, кстати, и пресловутая немецкая «греко-
мания»); вот почему именно в Германии, именно в годы после
(проигранной) войны возникла научно-методологическая дискуссия об
«историзме», в которой по-своему участвовал и будущий автор
«Мимесиса». Следует упомянуть, что, если классической филологии
будущий автор «Мимесиса» учился у Эдуарда Нордена, то философии —
у Эрнста Трельча, автора «Проблем историзма» (1922), книги, которая
в начале 1920-х гг. оказалась в эпицентре так называемого «спора об
историзме» (Historismusstreit)42.
Затекст
363
Романо-германская филология философски ближе всего стоит —
национально, исторически и систематически — к так называемой
«школе Дильтея» (Dilthey-Schule), обновившей в 1910—1920-е гг.
взаимоотношения и философии, и филологии с историческим опытом
и подготовившей переход к новому историческому мышлению
таких по-разному ключевых мыслителей XX в., как М. Хайдеггер и
М. Бубер (последний, кстати сказать, всю жизнь считал себя
учеником Дильтея)43. Этот переход, переосмысление существа
исторического опыта, осуществлялось на путеводной нити понятия
«историчности» (Geschichtlichkeit), которое встречается уже у Гегеля, но, так
сказать, парадигматическим стало после Дильтея и Хайдеггера44.
В гуманитарных науках и в философии всякий «рецидив
объективизма» эпистемологически наивен постольку, поскольку в нем
отсутствует второе сознание историчности, связанное уже не только с
естественным историзмом изучаемого мною «первого сознания», но
и с моею собственной историчностью, или «конечностью»
(Endlichkeit). Это расширение исторического мышления, как увидим, Ау-
эрбах и вводит в свою герменевтическую филологию.
«Большинство из нас, — замечает Ауэрбах — так же мало осознают свою
историчность, как мало месье Журден сознает, что он говорит прозой»45.
Историчность проявляется в «литературном выражении», как и во
всяком (употребляя слово Дильтея) «жизнепроявлении» (Leben-
säusserung), скорее повседневно и неосознанно, хотя и не в смысле
психологизированного бессознательного или идеологизированного
«ложного сознания». Мы живем, сознаем и мыслим изнутри того,
что бесконечно превышает индивидуальные возможности быть
осознанным, помысленным и познанным. Именно в этом деликатном
месте «сознания», как мы могли заметить в предшествующих очерках,
гуманитарная эпистемология «опрокинула» — в первой трети
минувшего столетия — традиционную теорию познания («гносеологию»).
Дело не в том, насколько филолог-романист Ауэрбах был, что
называется, философски и теологически подкован, хотя,
разумеется, его общение и переписка с учеником М. Хайдеггера Карлом
Левитом (1897—1973) или, скажем, марбургским коллегой
Рудольфом Бультманом (1884—1976), инициатором экзистенциально-
герменевтической теологии Нового Завета, позволяют более
определенно говорить о влияниях на Ауэрбаха его современников, не
исключая Хайдеггера46.
Другая особенность романо-германской филологии
связана, с одной стороны, со спецификой ее предмета, а с другой — со
364
Раздел первый. Переход
спецификой «иностранного» по отношению к этому предмету
сознания исследователя. Романо-германская филология родилась не
только и не просто из «духа языка»; она возникла из духа разных
языков (на языке М. М. Бахтина — из духа «многоязычия» и
«разноречия»). Сам Ауэрбах поясняет это так: в отличие от
националистического уклона, который получил в девятнадцатом столетии
романтический историзм в Германии и в Европе, романо-германская филология
оказалась ближе к христианско-гуманистическим истокам
европейской цивилизации и, соответственно, к «мысли об историческом
развитии»; ведь романских народов не один, а несколько, причем от
немецкого языка (языка филолога-романиста) все романские языки
отличаются еще больше, чем друг от друга, но при этом с немецким они
связаны «общим субстратом антично-христианской цивилизации»47.
Иначе говоря, дистанция, отделяющая в романистике «второе
сознание» (исследователя-романиста) от своего предмета, от
«первого сознания», дана с самого начала раз навсегда: онтологически-
событийное различие здесь не может быть обойдено или преодолено;
оно является условием широты взгляда и условием возможности
понимания чужого и разного.
Обе охарактеризованные особенности романо-германской
филологии: (1) установка на изучение духовно-идеологических явлений
как историко-культурных, или «гуманитарно-словесных», и (2) связь
с антично-христианским гуманизмом (в котором «этноцентризм»
дохристианского мира преодолевается, так сказать, в обе стороны: в
отношении оппозиции грека и «варваров» и в отношении оппозиции
иудея и «гоев»), — нашли выражение в лингвистической и культурно-
исторической школе немецкого филолога и лингвиста Карла Фос-
слера (1872—1949)48. Основная тенденция «школы Фосслера» —
попытка сохранить единство предмета филологии, притом живое и
исторически конкретное. Немецкий историк современного научно-
гуманитарного мышления отмечает:
Великие филологи-романисты, которых дала Германия в первой
половине XX века — Фосслер, Курциус, Шпицер, Ауэрбах, Фридрих, —
при всех различиях их методических предпосылок пытались в
своих исследованиях продемонстрировать неразрывную историческую
связь языка и речи49.
В филологии историческая связь языка и речи была подорвана
уже в XIX в.; в XX в, структурно-семиотическая революция в
лингвистике привела к тому, что история языка в качестве «диахронии»
Затекст
365
оказалась в противоречии с «синхронией» языка, а реальная культура
слова — «речь» — оказалась в противоречии с «языком» как
специфическим предметом изучения лингвистики. Негативные
последствия распада единства предмета исследования (в затексте которого,
понятно, был тот «распад единства восприятия», о котором писал
Т. С. Элиот) по-новому «аукнулись» в последнее время в
филологических дисциплинах (особенно в литературоведении). К середине XX в.
одни научные направления получили приоритет, другие оказались
оттеснены как бы на периферию науки; такова судьба и школы Фос-
слера (насильственно ослабленной к тому же после 1933 г,)· В
филологии особенно пострадала область исторической семантики: если в
XIX в. традиционная филологическая герменевтика как-то еще
скрепляла предметное единство истории литературы и истории языка, то
осуществленная Ф. де Соссюром смена парадигм, как отмечает
цитировавшийся выше немецкий эпистемолог Карлхайнц Штирле,
привела — на структуралистской и постструктуралистской стадии
гуманитарно-филологического мышления — к преобладающей
практике анализа «языка, отсеченного (abgeschnittenen) от своего
прошлого».50
Понятно, что в затексте таких анализов текста в лингвистике,
как и в литературоведении, — двойное рассечение: в подходе к
единому, непрерывному историческому «телу смысла» исследователь-
гуманитарий зачастую либо вынужден жертвовать историчностью
своего предмета ради модернизирующего «самовыражения», либо,
наоборот, ради историчности прошлого вынужден демонстративно
отказываться от своей исторической же вненаходимости этому
прошлому — тоже, конечно, самоутверждаясь и самовыражаясь, но «с
точностью до наоборот».
В середине прошлого столетия, когда Р. Уэллек, как мы помним,
стремился очистить и обособить литературоведение от филологии, а
fiction от non-fiction ради более «строгой» научности, произошло
исчерпание литературоведения; относительный конец филологической
революции первых десятилетий XX в. наступил в последние
десятилетия, как действенно-историческое обращение (переворачивание)
того события вокруг 1917 г., когда началась, среди прочих разных
вещей, рецепция «Курса...» Соссюра. Произошел, в сущности,
филологический разрыв с историей — разрыв, который сам был
мотивирован и порожден исторической современностью. В России этот
разрыв был еще радикальнее в силу причин, которые не хочется
называть «политическими» или «идеологическими», поскольку эти
366
Раздел первый. Переход
слова давно сделались клише, не способными передать более
внутреннюю проблематику «коммуникации» — измерение, где
социальная потребность гуманитарных наук и философии в «научности»,
«рациональности», «профессионализме» и т. п. встречается и
сталкивается с ино-научными измерениями и интересами. Достаточно
вспомнить основной конфликт внутри научно-философского
сознания первой трети XX в. — спор «психологизма» и
«антипсихологизма»51. Мы еще увидим (в другом очерке), какой остроты этот
конфликт достиг у русского философа и гуманитарного
эпистемолога Г. Г. Шпета в момент смены философско-гуманитарной
парадигмы. Для Ауэрбаха этот момент совпал с годами, так сказать,
второго учения и второго рождения, с «практическим семинаром по
мировой истории», который в Германии, как и в России,
переживался тяжелее, но и плодотворнее, чем в странах-победителях в
«Великой войне». В филологии 1920-х гг. выбор между психологизмом и
антипсихологизмом в значительной мере решался в плоскости
«философии языка»; М. М. Бахтин с симптоматической, если не профе-
тической) точностью отмечал в 1920-е гг.:
Насколько школа Фосслера не популярна в России, настолько
популярна и влиятельна у нас школа Соссюра52.
Изданная В. М. Жирмунским в 1928 г. книга «Проблемы
литературной формы» (1928), в которой были представлены работы
немецких лингвистов (Фосслера и Шпитцера) и немецких
литературоведов (О. Вальцеля, В. Дибелиуса), в сущности, завершала
русско-немецкий научно-гуманитарный диалог в советском веке53.
Это объяснялось не только и не столько политическими
обстоятельствами: сходные процессы происходили везде. Подлинная
задача гуманитарной мысли состояла в том, чтобы по-новому
опосредовать предмет изложения/изображения с языком не просто
«описания», но общезначимого описания/сообщения, — в том, иначе
говоря, чтобы сочетать раскрывающийся в дифференцированных
феноменах мир жизни и истории с «антипсихологическим»
истолкованием этих феноменов как «научно» общезначимых (и в этом смысле
«рациональных»). В России такая научно-инонаучная задача, или
программа, могла держаться в советское время только за счет
институционального опосредования языка науки публично-риторической
речью официального сознания и официальной идеологии. Поэтому
конец ГАХН (Государственной Академии Художественных Наук)
Затекст
367
в 1929 г. можно считать концом попыток гуманитарной
эпистемологии в СССР.
Сказанного о романо-германской филологии и «школе Фос-
слера», кажется, достаточно для того, чтобы понять, откуда это
почетное одиночество (если не почетная ссылка) «Мимесиса» в
отечественной, как и в мировой гуманитарной науке с момента
публикации до наших дней.
Новая наука
Испытание филологии было, судя по всему, настолько
фундаментальным, что Э. Ауэрбаху, избравшему, как мы помним, в
переломные годы романскую филологию своею новой, второй
специальностью, необходимы были столь же фундаментальные
(эпистемологические) ориентиры, которые ни романо-германская филология, ни
тем более позитивизм и историзм XIX в., конечно же, предоставить
ему не могли. Скорее, наоборот, сами традиции и навыки мышления,
воспринятые от непосредственных учителей, нуждались в более
глубоком обосновании, в критически амбивалентном оправдании для
выявления своих возможностей. Такую эпистемологическую опору
будущий автор «Мимесиса» нашел в лице итальянского мыслителя
Джамбатисты Вико (1668—1744), чье главное произведение,
именуемое обычно для краткости «Новой наукой», Ауэрбах, как мы помним,
заново перевел на немецкий язык и опубликовал в 1924 г. со своей
вступительной статьей. Чтобы не повторять сказанного в очерке о
Вико, подчеркнем два момента, существенные для ауэрбаховской
рецепции «Новой науки».
Во-первых, Ауэрбах заинтересовался Вико благодаря своему
учителю по философии и по истории христианства — Эрнсту Трельчу54.
Это значит: у неаполитанца XVIII в. было чему поучиться людям XX в.,
чье историческое сознание нуждалось в критике (самокритике),
поскольку традиционный историзм XIX в. оказался под вопросом, и
«разборка» традиции, спор с традицией были на повестке дня. Вот,
кстати, почему Гадамер неоднократно подчеркивал (дистанцируясь
от французского «мышления 68-го года»), что Dekonstruktion — это не
хайдеггеровский вымысел или умысел. Ауэрбах в статье «Филология
мировой литературы» (1952), подводя относительные итоги своей
переломной эпохе и чувствуя наступление того, что мы условно
называем в этой книге «структуралистской эпохой», дает понять
следующее: «практический семинар по мировой истории» практически
368
Раздел первый. Переход
же не отделим от «настоящего кайроса понимающей историографии»
первой половины XX в.55
Для Ауэрбаха этот «кайрос» связан с его рецепцией Вико. Автор
«Новой науки» научил Ауэрбаха, прежде всего прочего, тому, что
филология может при определенном подходе вобрать в себя и
философское, и теологическое, и политическое измерения текста как раз
за счет методически осознанной дифференциации^ размежевания с
философией и теологией. Ведь, по Вико, как мы помним, скорее
«достоверное» (certum) предмет филологов, чем «истинное» (verum), на
которое ориентирован «разум философов», способно фиксировать,
изображать и интерпретировать предмет гуманитарного знания —
предмет не только и непросто уникальный (единственный), но еще и в
своем роде всеобщий в своей индивидуальности. По сравнению с
рациональным познанием «истинного», логика «достоверного» — тоже
логика, она тоже рациональна; но, очевидно, это — «другая» логика и
рациональность, а именно не «ума» только и не «идей» только. Обра-
зотворнеская деятельность человека занимает приоритетное место в
«Новой науке». «Изображение действительности», интересующее
Ауэрбаха, как и «изображение-описание» любого рода, — это новая
эпистемологическая конфигурация: она не отменяет субъект-объектное
измерение познания, но вводит его в более широкий круг опыта56.
Именно как такую, скажем, «вторую рациональность» Ауэрбах
исследует — сначала в своей второй диссертации, а потом в
«Мимесисе». Основной мотив — «Афины и Иерусалим», сквозное
сопряжение и напряжение двух образно-эстетических парадигм
западноевропейской духовной истории — «парусии Логоса» и «истории
Христа», о чем мы скажем ниже. Нужно, следовательно, стать по ту
сторону jenes platonische verum: комментарием к этому викианизиро-
ванному обороту Ауэрбаха может послужить замечание Г. Р. Яусса о
«платонизирующей догме филологической метафизики», в основе
которой — «мнимая очевидность того, что поэзия присутствует в
литературном тексте вне времени, что ее объективный, раз навсегда
данный смысл постоянно и непосредственно доступен
интерпретатору»57.
Для Ауэрбаха, как уже сказано, существенно, что автор «Новой
науки» не только опередил немцев в своих исследованиях
«народного духа», но и лишен националистического энтузиазма в
трактовке Volksgeist (при всем своем итальянском патриотизме) уже
потому, что «гражданский мир божественного Проведения» — это
история не того или иного народа, но история «наций». Можно даже
Затекст
369
предположить, что ауэрбаховская идея «филологии мировой
литературы» опирается не только (а возможно, не столько) на введенное
Гете понятие «мировой литературы», сколько на викианское
представление об универсальности «мира наций». Исходя из идеи Вико
о том, что история управляется не законами Разума, но
Проведением и что, следовательно, «достоверное» в истории, с которым имеет
дело филолог, поистине достоверно в горизонте и в границах
«человеческой воли», — Ауэрбах постепенно (по его же свидетельству —
с 1930 г.) начинает разрабатывать свой особый метод исследования-
изображения-интерпретации текста — подход, который отличается
как от стилистических анализов Лео Шпицера (ориентированных
на индивидуальное творческое сознание), так и от попыток Эрнста
Роберта Курциуса (в его фундаментальном труде «Европейская
литература и латинское средневековье», 1948) придать типологически-
риторическим константам («topoi») истории литературы
благообразную, классицистическую статичность. Ауэрбах хочет спасти
«мысль об историческом развитии» как филолог, не поддаваясь
искушениям, проникшим в гуманитарно-филологическое мышление
современности. Одно из таких искушений он, впрочем, находит уже у
Вико и не принимает, называя «предрассудком», представление, в
соответствии с которым самые значительные, совершенные
произведения искусства уже созданы в прошлом.
По Ауэрбаху, вечный спор «древних» и «новых» не может быть
решен, ни даже прояснен риторически, или теоретически, ни, тем
более, культурполитически. В этом — решающем с точки зрения
гуманитарной эпистемологии — пункте Э. Ауэрбах, по-видимому,
значительно расходится со своим берлинским знакомым и
собеседником, позднее корреспондентом Вальтером Беньямином58.
Исходный пункт
Задача состоит не в том, чтобы быть не филологом, а кем-то
еще, но скорее в том, чтобы переходить границы специализации
изнутри — оставаясь при этом в границах именно филологического
воссоздания феноменов «литературного выражения». Главное
искушение филолога, сформулированное в статье о филологии мировой
литературы, состоит в том,
чтобы путем гипостазирования абстрактно упорядочивающих
понятий овладеть как бы сразу всею конкретною полнотою
предлежащего материала, что приводит к стиранию границ, к подмене пред-
370
Раздел первый. Переход
мета в дискуссиях по поводу мнимых проблем и, наконец, к
полному ничто59.
Иначе говоря, попытка захватить «сразу весь капитал» (как
хочется герою «Преступления и наказания» Достоевского) в
литературно-критическом исследовании тоже ведет к преступлению
и наказанию в своем роде: исследователь, бессильный перед своим
материалом, стремится подыскать для этого материала некоторый
идеальный «концепт» — в одних случаях теоретизированный
«научный», в других случаях идеологизированный «духовный»; таким
образом он или она пытается как бы скрыть свою наготу, что в
переводе с богословского символического языка на мирской научный
означает: автор несостоятелен как исследователь и только
симулирует (или компенсирует) эту несостоятельность. «Полное ничто» —
это утрата предмета исследования, так сказать, «дырка от бублика».
Отсюда, по-видимому, сегодняшний стыд называться
«литературоведом» — стыд перед «ничто»; из литературоведения бегут в
литературу и, вместо прежних теорий романа, сами сочиняют романы (как
правило, бездарные). Другое искушение и другая компенсация —
politics, стремление занять некую публично-риторическую, общественно-
политическую «позицию», которая была бы адекватной и «звучала» в
условиях как бы расширяющейся (или распадающейся) политической
реальности. Отсюда — известное раздражение против более
традиционных и осторожных подходов к литературному тексту; оно, это
раздражение (сопровождающееся непониманием чужого метода) дает о
себе знать, между прочим, и в предисловии к юбилейному
американскому изданию «Мимесиса», написанному прежним учеником Ауэр-
баха, известным литературным критиком Эдвардом Саидом60.
Метод Ауэрбаха, как он формулируется в последней его книге,
состоит в том, чтобы
со всею точностью описанные и доступные рассмотрению
отдельные темы выделять, развивать и сближать таким образом, чтобы
они действовали в качестве ключевых проблем и открывали целое.
(...) Целое тогда образовывало бы такую форму, что оно
действовало бы как диалектическое единство, подобно драме или, как сказал
однажды Вико, подобно серьезному поэтическому произведению61.
Целью исследования, таким образом, является некоторое
целое — текст как данность. Но текст только «первое сознание»;
«второе сознание» (исследователя) не может исходить из этого целого
Затекст
371
практически, фактически; исходить при интерпретации текста можно
только методически: methodos — «путь» исследования, путь к целому.
Для того чтобы подойти, подступиться к тексту как целому, нужен
исходный пункт, подступ (Ansatz, Ansatzpunkt). Ауэрбах так
формулирует свой методический принцип:
(...) для осуществления всякого большого синтетического замысла
нужно прежде всего найти некоторый наводящий исходный пункт,
заход или подступ (ein Ansatz) — как бы рукоять, которая
позволяет ухватиться за предмет. Исходный пункт всего дела позволяет
выделить четко очерченный, хорошо обозримый круг феноменов; а
интерпретация этих феноменов должна высветить их с такою
силою, чтобы вместе с ними раскрылись в своем смысле и
внутренней взаимосвязи еще и многие другие феномены, выходящие
далеко за пределы того, что было доступно в пределах исходного пункта
исследования62.
Временная дистанция, которая отделяет нас сегодня от Ауэр-
баха (не говоря уж о Вико), создает особого рода искушение, от
которого предостерегает герменевтика, — искушение понять автора в
своем смысле и тем самым не только его не понять, но даже не
понять, что ты не понял. Ауэрбах имеет в виду метод, как он говорит,
«синтетически-исторического исследования», в котором, в
зависимости от такта и культуры истолкователя текста, любая часть соо-
познаваемая и сопереживаемая в тексте, — «внутренне историчный
признак», — сама в своей перспективе как бы притягивает или
преломляет «целое», которое при законности перемены точки зрения в
свою очередь является только частью. Часть и целое при таком
исследовании связаны не абстрактной закономерностью, но сменой
перспективы достоверного; достоверное (certum) в тексте — это та
его событийная фактичность, которой литературовед, гуманитарий
должен, так сказать, посмотреть в лицо. Ауэрбах продолжает в той же
статье «Филология мировой литературы»:
Главное — найти такой конкретный феномен, который имеет четкие
границы и который можно описать специальными средствами
филологии, — феномен, который делает понятным осуществление
всего замысла. (...) Исходный пункт исследования ни в коем случае не
должен быть какой-то всеобщностью — тем, что извне
навязывается предмету; исходный пункт должен вырастать из самого
предмета, в качестве составной его части. Сами вещи должны заговорить63.
372
Раздел первый. Переход
Вот, следовательно, в чем специфика, или задача, филологии —
в отличие от «теории»: последняя пытается быть адекватной не
«вещам», но той или иной «всеобщности», которая претендует на
некое эпистемологическое господство и контроль над вещами. В
противоположность этому задача филологии — «дать сказать»
другому сознанию и другому языку, заново ввести в событие
современной речи чужую речь, состоявшуюся в свое время; дать
повториться однажды помысленному и сказанному в новой ситуации, где
это «однажды» при непосредственном приближении зачастую уже
«не звучит». В этом своем качестве — как практическая задача —
филология, возможно, еще имеет какой-то шанс пережить свой
собственный конец64.
Если, например, исследователь поэтики Достоевского хочет
как-то объяснить такое явление его поэтики, как «скандал», то он,
очевидно, должен, прежде всего, воссоздать, воспроизвести своими
средствами событийную фактичность скандала и скандальной
атмосферы, скажем, в «Идиоте», в «Игроке» или в рассказе «Бобок» таким
образом, чтобы изображаемая скандальность сама открыла «целое»,
частью которого является у Достоевского скандал (и его
модификации). Тогда данная особенность художественного видения
данного автора окажется уже не только и не просто «особенностью»; она
станет для исследователя тем, чем уже является в нашем
читательском восприятии, а именно — конкретно-воззрительным «целым», в
котором поистине достоверно преломляется поэтика Достоевского в
цепом. И на этом пути, возможно, сами вещи заговорят; тогда
окажется, что Достоевский — это романтик, деконструирующий
романтизм; социальный утопист — и до неприличия откровенный
разоблачитель всякого утопизма и идеализма («жестокий талант»); идеолог
такого рода, после которого никакая идеология уже не может
пониматься только как «идеология» и никакая серьезность, строго говоря,
уже невозможна без некоторой здравой оговорки, иронического
корректива и т. п. То обстоятельство, что сам Э. Ауэрбах вряд ли бы
избрал «скандал» в качестве перспективного исходного пункта анализа
какого бы то ни было текста (не говоря уж о Достоевском), указывает
лишь на персональные предпочтения и ограничения (свойственные
всякому литературоведу, как и всякому читателю) и не может быть
аргументом против ауэрбаховского метода «исходного пункта». Во
всяком случае, Ауэрбах, как видим, принял всерьез историческую
ситуацию испытания филологии и пытался соответствовать этому
испытанию, оставаясь филологом «практически».
Затекст
373
Герой и его «дайллон»
В 1929 г. Э. Ауэрбах публикует свою вторую диссертацию (габи-
литацию) — книгу «Данте как поэт земного мира»; монография стала
поводом для приглашение автора в Марбургский университет, где
пройдут несколько, вероятно, самых счастливых лет жизни нашего
филолога — вплоть до 1933 г. Потом, «продержавшись» в
университете еще два года (как участник войны), Ауэрбах отправится по
приглашению в Стамбульский университет (Турция), еще не вполне
сознавая (точнее, не желая признать), что он теперь — в ссылке, и при
этом должен еще сказать судьбе спасибо65.
Если «Мимесис» — главная книга Ауэрбаха, то монография о
Данте — его заветная книга. В раннем исследовании мы уже находим
основные ходы мысли автора «Мимесиса»; здесь, правда, отсутствует
еще метод «исходного пункта» как принципиальная установка, зато
с большей отчетливостью, с характерной для 1920-х гг.
эвристической резкостью в книге о Данте намечена историко-культурная
схема исторических изменений форм изображения
действительности в западноевропейской литературе. Для гуманитарной
эпистемологии, как кажется, особый интерес представляет первая глава
монографии 1929 г. — она называется: «Историческое введение: идея и
судьба человека в поэзии»66.
Подобно тому как М. Хайдеггер в своих ранних курсах первого
Фрейбургского и Марбургского периодов (1919—1928), а также в
«Бытии и времени» (1927) пытался осуществить «деструкцию»
исторических конструкций и философских традиций для того, чтобы
подойти к «историчности» («герменевтической фактичности»)
всех традиций, т. е. к некоторому изначальному опыту социально-
онтологической «временности» и «современности», а коллега Хай-
деггера в Марбурге 1920-х гг. Р. Бультман пытался осуществить то
же самое в применении к герменевтической фактичности
изначального опыта христианской общины и задачи «провозвестия» («ке-
ригмы»)67, — Ауэрбах наметил в упомянутом введении
герменевтическую историю «образа» в словесно-художественном творчестве, или
«поэзии» (Dichtung).
Ауэрбаха интересует не столько теоретическое понятие
«подражания» («мимесиса») у Платона и Аристотеля, сколько
трансформации художественных и нехудожественных форм видения
и изображения мира в античности и в средние века, от Гомера до
Данте. У Данте вся предшествующая история развития этих форм
374
Раздел первый. Переход
предстает в новом виде и в новом свете, в самой своей
завершенности и совершенстве подготавливая радикально новую
перспективу — взгляд на «земной мир» как относительно самостоятельную
и самоценную реальность изображения. Термин «мимесис»,
появившийся впервые в античной критике Гомера, понят Ауэрбахом как
некоторая теоретическая транскрипция действительного
эстетического акта (видения-изображения). Такое различение, когда говорят
об «эстетике» или о «поэтике», — обязательное эпистемологическое
условие научно-гуманитарного исследования или обсуждения68.
Подобно тому как у философов смены философско-гуманитарной
парадигмы, современников Ауэрбаха, — Ф. Розенцвейга, М. Хайдеггера
или М. Бахтина, — theoria и «теоретизм» деконструируются (точнее,
«карнавализуются») постольку, поскольку теоретические построения
оказываются хотя и не ложными, но и не самыми глубокими и
интересными проявлениями «изображения действительности», — в
представлении Ауэрбаха философско-эстетические концепции и
концепты с теорией «мимесиса» во главе оборачиваются производными
«жизнепроявлениями» до-теоретической, до-научной творческой
мотивации и установки — «в смысле наброска стиля, предшествующего
всякой тематизации», по точному наблюдению М. Верли69. В
результате происходит такое возвращение к самым почтенным традициям,
что последние оказываются больше и лучше того, чем они уже были, и
при этом резко и грубо раскрывают свою непрерывную
действительность и «действенность» вплоть до сегодняшнего дня. Слово
«культура» и слово «традиция» могут показаться даже поверхностными на
таком фоне. Основным термином, который применяет Ауэрбах для
выражения единства «идеи человека» в эстетической деятельности
художника, является как раз не термин, а слово повседневного языка:
Geschick — «судьба», «удел», «даймон» человека, по Гераклиту.
Человек — исходящий из себя центр события и, соответственно, центр
изображения события {Geschehen).
Что история может однажды, как в сказке, выпасть из всех
предположенных, традиционных, рациональных закономерностей и норм
человеческого общежития, — это в 1920-е гг. стало повседневным
и повсеместным европейским опытом. При этом возможности
нового, так сказать, превышали стремительно становящуюся
действительность нового — как это имело место и на предшествующей
стадии смены гуманитарной парадигмы в 1790-е гг.; в том и другом
случае аффект освобождения от прежнего мира и от прежних
представлений, обнаруживших совершенно очевидную и смехотворную
Затекст
375
неадекватность реальности, был очень силен, сильнее страхов и
предчувствий. Поворотным в Германии, в смысле общего
умонастроения, был, пожалуй, 1930 г. — подобно тому как 1800 г. оказался
поворотным и роковым в истории раннего немецкого романтизма. В
«Мимесисе» поэтому основные ходы мысли, выраженные уже в габи-
литации, как бы смягчены, хотя фактически они развиты более
конкретно; здесь, соотношение примерно такое же, как между Хайдег-
гером до и после «поворота» 1930-х гг.
По Ауэрбаху, «способность подражать реальной жизни» (7),
мимесис, не имеет отношения ни к натуралистическому правдоподобию,
ни к рациональной, теоретизированной стороне истины (verum);
тайна художественного образа — в «очевидности представления,
которая совершенно не зависит от соображений о том, видано ли
нечто подобное и можно ли в это поверить» (7—8), т. е. в конкретно-
воззрительной, дорефлексивной достоверности изображаемого
события. Ауэрбах, очевидно, хочет уловить спонтанный эстетический
акт «подражания реальной жизни» и связать его с содержанием героя
и его мира, а также с сознанием реципиента в аспекте изображаемого
«события». По этой логике «без рефлексии» самое общее (сущность,
судьба) есть вместе с тем и самое индивидуальное (герой), и
общепонятное. Логика поэзии — не абстрактная логика постольку, поскольку
она воссоздает-изображает правду «даймона» героя :
Гомеровский вымысел обладает убедительностью, которую ни
наблюдение, ни разум не могли бы обосновать сами по себе (...).
Поэтически представлено и претендует на признание не то, как с
добрым случается доброе или с отважным отважное, а то, как с
Ахиллом случается Ахиллово (8).
Это, по-видимому, означает, что герменевтический принцип
радикальной конкретизации в искусстве приобретает вид радикальной
индивидуализации, а равно и радикальной историзации: герой —
это такой «даймон», который выпадает из уже положенных,
рациональных границ «наблюдения» и «разума».
Известное противопоставление античного и ветхозаветного
(библейского) миров, которому посвящена первая глава «Мимесиса», в
ранней монографии, пожалуй, несколько сглажена, зато гораздо резче
и даже парадоксально выглядит история понятия «подражания» на
греческой почве. По мысли Ауэрбаха, Платон, отвергнувший
искусство, скорее способствовал развитию художественного сознания,
тогда как Аристотель, наоборот, легитимировав «подражание» в
376
Раздел первый. Переход
своей «Поэтике», в действительности узаконил тройное отчуждение
поэзии от теорий поэзии и от самой реальности. Во-первых, сюжет
трагедии отделился Аристотелем от героя трагедии; во-вторых,
теоретическая истина отделилась от истины образа в событии его
переживания изображающим автором и сопереживающим реципиентом;
в-третьих, трагедия разошлась с комедией, оттеснив смеховой аспект
мира на второй или задний план. «Только у Платона в конце "Пира"
есть многозначительная сцена, где Сократ пытается втолковать
полуспящим Агафону и Аристофану, что один и тот же человек должен
уметь сочинять и комедии, и трагедии» (14—15).
Нужен был, очевидно, радикально новый опыт секуляризации и
демократизации мира, сознания и мышления на исходе Нового
времени для того, чтобы стало возможным прочитать и подчеркнуть у
«божественного Платона» вот такую не очень платоническую мысль и
открыть в ней уже давным-давно открытую и одновременно «только
теперь и как раз теперь» актуальную возможность.
Таким образом, антропологическая историзация понятия
«мимесис» дала возможность освободить это понятие из-под наслоений и
аберраций истории и традиции, снова и по-новому «прочитать» (как
хотел еще Кьеркегор) экзистенциально-онтологические затексты
всех основополагающих текстов традиции в историческом горизонте
«земного мира». В этом горизонте «повсевременности» (Jederzeitlich-
keit) решающую роль в смене парадигмы «изображения
действительности» — поворота от античного, языческого идеализма, с его
представлением о «возвышенном», к «земному миру» — по Ауэрбаху,
сыграло христианство.
Историческое ядро
Точнее сломом парадигмы стало не вообще христианство, но
«историческое ядро христианства» (17).
В этом обращении интереса как бы через голову европейской
христианско-гуманистической традиции к историческому
источнику или «ядру» традиции мы узнаем современника Хайдеггера и
собеседника и корреспондента Р. Бультмана; но узнаем по-новому.
Важно не то, что филолог мог почерпнуть у своих современников —
философов и теологов; важно то, чем почерпнутое или
заимствованное становится у творчески мыслящего филолога. Это новое
качество (обычно упускаемое анализом так называемых «влияний»),
конечно, связано с материалом; и все же главное здесь — не сам по себе
материал литературоведа, но подход филолога синтетического типа,
Затекст
377
каким был Ауэрбах. Историческое ядро христианство — «история
Христа» (19) — интересует его как определенным образом
рассказанное и изображенное событие, запечатленное в текстах
Евангелий, — событие, которое «стало первопричиной величайшего
переворота во внутренней и внешней истории нашего культурного
мира» (17). Но эта внутренняя и внешняя история, по Ауэрбаху,
относится не только и даже не столько к тому, что называют «историей
идей» (history of ideas), сколько к истории восприятия, к
герменевтической феноменологии «образа» человека, «изображения
действительности»:
Историческое ядро христианства, т. е. распятие Христа и связанные
с ним события, своей парадоксальностью и размахом заключенных
в нем контрастов превосходит все античные предания, как
мистические, так и реалистические. (...) Этот во всех отношениях
удивительный феномен еще и сегодня повергает в глубочайшее
замешательство наблюдателя, который пытается зримо представить себе ход
событий. Он чувствует, что мифологизация и догматизация проникли
в книги Нового Завета лишь отчасти и что то сомнительное,
негармоничное и мучительное, что лежит в основе событий, непрестанно
пробивается наружу (17).
Зримость хода событий — изображение истории Христа — это
относительно самостоятельная проблема исследования, настолько
синтетическая и глубокая, что ее не хочется в наше время называть
«эстетической» или, тем более, «литературной», хотя она, явным
образом, относится к эстетике и поэтике «провозвездия» («керигмы»).
Зримый образ и здесь есть некоторое изначальное (и все еще
воздействующее на потомков) «ядро» — дисгармоничное, неклассичное
и постольку «не эстетичное». Вот почему, по мысли Ауэрбаха, даже
став мифом и догмой, оно, это ядро, не поддается до конца
мифологизации и догматизации70.
Что такое «эстетика», разумеется, все знают. Тем не менее,
требуется известное усилие для того, чтобы вернуться вперед
(повернуться) к изначальному значению слова aisthesis; понятие сначала
должно сделаться не само собой разумеющимся, не современным
до неприличия, почти скандальным, т. е. более традиционным, чем
«наши» традиции, а потом понятие должно обернуться по-новому
современным, стать «больше и лучше» себя.
Для нас «эстетика» традиционно — «все высокое и
прекрасное» (по ироническому выражению героя из «Записок из
378
Раздел первый. Переход
подполья» Достоевского); это парадигма идеализма и романтизма
вокруг 1800 г. (уже у Достоевского «деконструируемая», т. е.
отрицаемая в границах той же парадигмы). Между тем aisthesis — это как
раз не «высокое», а «низкое»; слово означает «восприятие», или
«чувственное восприятие», и еще, как известно, А. Баумгартен,
основатель философской дисциплины «эстетики», называл (и отстаивал)
предмет новой науки в качестве «низшего познания» (gnoseologia
inferior). Вероятно, когда-нибудь слом парадигмы и революция в
гуманитарной эпистемологии XX в. будут изображены как грандиозное
обращение и «снижение» идеалистической классики — не эстетики
только, но всей, употребляя термин раннего X. Плесснера, «эстети-
зиологии духа» Нового времени71; эпиграфом к этой истории смены
гуманитарной парадигмы могут быть поставлены слова из
стихотворения Мандельштама 1917 г.: «...и десяти небес нам стоила земля». В
плане гуманитарной эпистемологии дело шло о реализации задачи,
сформулированной Гете в разговоре с Эккерманом 17 февраля 1829 г.
В тот день Гёте сказал:
В немецкой философии надо довести до конца еще два важнейших
дела. Кант написал «Критику чистого разума» и тем совершил
бесконечно многое, но круг еще не замкнулся. Теперь необходимо, чтобы
талантливый, значительный человек написал критику чувств и
рассудка. Если бы она оказалась удачной, нам, пожалуй, больше нечего
было бы спрашивать с немецкой философии72.
В плоскости «критики чувств и рассудка», собственно, и
произошла в начале XX в. новая продуктивная встреча философии и наук
исторического опыта, причем в философии импульсы исходили не
только от «философии жизни» (Дильтей, Ницше, Бергсон, Зиммель),
но в не меньшей степени и от феноменологии Э. Гуссерля,
оппонировавшей философии жизни как «не строгой» (не чистой) науке73. В духе
«способа подхода» как задачи феноменологии, но также и в духе ауэр-
баховского понятия «исходного пункта» выдающийся французский
философ Морис Мерло-Понти практически одновременно с
«Мимесисом» напишет в своей книге «Феноменология восприятия» (1945):
«Подлинная философия — в том, чтобы снова научиться видеть мир,
в этом смысле рассказанная история может обозначать мир с той
же "глубиной", что и философский трактат»74. Синтетическая
филология Э. Ауэрбаха, явным образом, стремится к тому же; она
стремится быть исследованием «рассказанной истории» по
преимуществу. Причем же здесь, спрашивается, такая вещь, как христианство?
Затекст
379
Христианство и, шире, иудео-христианская традиция, по мысли
Ауэрбаха, принесли с собою не только и не просто новую веру, новое
учение, новые догматы и т. п.; рассказанная в Новом Завете «просто
земная история Христа» привнесла в само восприятие европейских
народов радикально новый интуитивно-воззрительный принцип
видения событий и человека, новый образ земного мира и его
феноменов. Но этот новый принцип восприятия, ветхозаветный и
особенно новозаветный aisthesis, столкнулся с глубинной исторической
основой «античной эстетики», а именно — с идеализмом и «моно-
логизмом» язычества75. На этом уровне встреча «Афин» и
«Иерусалима» оказалась более устойчивым и долговременным
противостоянием, чем смена веры как «учения», как теоретических и
идеологических взглядов («убеждений»):
Внедрившись в сознание европейских народов, история Христа в
корне изменила их представление о судьбе человека и о
возможностях ее изображения. Это изменение происходило медленно —
гораздо медленнее, чем догматическая христианизация. (...) Это
противостояние брало начало в наиболее консервативных слоях
культуры европейских народов, а именно в глубочайшем чувственном
основании их картины мира. Аппарат христианской догматики
легче и быстрее сумел приспособиться к нему, чем дух того события, на
котором этот аппарат был выстроен. (...) История Христа есть нечто
большее, чем Парусия Логоса (19).
Как действительный импульс подражания-изображения
предшествует и противостоит теоретической рационализации и догма-
тизации эстетически уже оформленного, уже данного феномена, —
точно так же «просто земная история Христа» в своем
эстезиологическом основании и «нравственной очевидности» (21) противостоит
античной эстетике, «Парусии Логоса» — «логоцентризму», как
сказали бы сегодня. Со стороны античной логоцентрической
эстезиологии противостояние «историческому ядру» христианства
предельного напряжения достигает в так называемой «неоплатонической
чуме», которую Ауэрбах (опираясь, конечно, далеко не только на
упоминаемого им Гарнака) характеризует так:
В эстетике Плотина элементы платоновской и аристотелевской
метафизики, вкупе с собственно неоплатоническим учением об
эманации и склонностью к мистико-синтетическим погружениям,
порождают представление о красоте земного мира, в котором принимает
380
Раздел первый. Переход
форму дух. Но красота чиста только в ее внутреннем прообразе, ибо
аристотелевское понятие не вполне оформленной материи
работает в неоплатонизме в виде платоновского μη σν, [небытия], т. е.
метафизического полюса, противоположного сущей идее. Так что
материя — не только ввиду ее косности, но также вследствие
делимости и многообразия — абсолютно не по-аристотелевски означает
зло. (...) Если со стороны теории плотиновская эстетика является
основанием любой спиритуалистической эстетики, то с
практической стороны она закрепляет ценностную противоположность
бытия и становления, идеи и материи; она приравнивает становление и
материю к метафизическому бытию, заранее разрушая любое
потенциальное изображение земной судьбы (21—22)76.
«Спиритуализация событийности» (25) и телесности и
соответствующее отношение к историческому ядру христианства — вот что,
по Ауэрбаху, по-настоящему разделило Западное и Восточное
христианство, а отсюда — западный и восточный тип восприятия
земного мира: «Несмотря на догматические смуты, западная Церковь
последовательно и упорно противостояла спиритуалистическим
влияниям, утверждая явление Христа как конкретный факт, как
центральное событие мировой истории, а саму эту историю
рассматривая как подлинную историю отношений людей между собой и с
Богом. На Востоке быстро одержали верх спиритуалистические
воззрения, превратив историю спасения в своего рода церемонию
триумфа» (22). Спиритуализация «нравственной очевидности» Нового
Завета оборачивается сакрализацией власти от мира сего при полном
безразличии к нравственным очевидностям и задачам
преобразования действительности, поскольку ведь земной мир, как говорится,
«по идее», не имеет ценности, меоничен. Этому противостоит
заложенная в особенности Августином «конститутивная для европейца
решимость — не отбрасывать реальность в умозрении и не бежать в
трансценденцию, но вступать в отношение с реальностью и
побеждать ее» (там же). Однако и на Западе христианизация варварских
народов таила в себе глубочайший парадокс не столько «идейного»,
сколько интуитивно-воззрительного (чувственного) свойства:
«спиритуализация событийности» истории Христа приводила к
вытеснению зримого, конкретно переживаемого образа и замещению его
«учением», с одновременным перемещением дохристианской
эстезиологии (мира представлений) на место или вместо «нравственной
очевидности» керигмы:
Затекст
381
Для мира представлений западноевропейских варварских народов
сложная, обремененная множеством исторических предпосылок
средиземноморская культура была чем-то радикально чуждым и
неусвояемым; гораздо легче им было перенять устоявшиеся и
работающие институты и догмы, чем усвоить те чувственно-исторические
представления, из которых они выросли. (...) Вся традиция
античного мира, как язычески-мифологическая, так и христианская,
подверглась вульгарно-спиритуалистическому переосмыслению:
явления утратили собственную ценность, а предание о них — свой
буквальный смысл; дошедшее в пересказе событие стало означать
нечто иное, чем само себя — некое учение, и только учение.
Чувственный образ забылся (23).
Теперь мы, во всяком случае, лучше представляем себе задачу,
которую поставил перед собой Ауэрбах. Предмет его исследований —
«духовная история» (Geistesgeschichte) мира представлений (а не
просто «идей» или «духа»). Можно даже сказать, что «затекст» — это
исторически подвижный мир представлений, явленный в тексте и
переживаемый в своей «нравственной очевидности», но в то же время
неявным образом (безобразно) стоящий «за» текстом. Текст, который
нам привычно — после «формалистической парадигмы» —
рассматривать как нечто материальное и как бы надежное, как доступную
фактичность культуры, фактичен еще и в другом смысле: он
зачастую предстает — как и реальная речь, как «наступающие губы»
современности, о которых говорится в стихотворении О.
Мандельштама 1937 г., — в виде внесловесных, не риторических и не
теоретических, как бы невидных образов мира представлений
исторического сознания (зачастую анахронических, как бы внеисторических).
Синтетическая филология Ауэрбаха может, помимо прочего, научить
сегодня, после структуралистской эпохи с ее спиритуализованным
овеществленным культом материальности текста, вниманию к зате-
стуальному, «немотствующему» языку таких более или менее
неосознанных представлений.
Книга о Данте относится к более поздней книге как программа —
к ее осуществлению. Реализация «задачи», которую, как мы помним,
Ауэрбах поставил перед собою в начале исследовательского пути,
оказалась связана не только с разработкой метода «перспективного
понимания», но и с жутковато-гротескной реализацией его
собственного представления о событийной фактичности «судьбы» в
современной исторической действительности и в жизненных
обстоятельствах автора «Мимесиса».
382
Раздел первый. Переход
Испытание филологии
Согласно позднейшему, часто цитируемому утверждению,
«Мимесис» — это «книга, которую написал конкретный
человек в конкретном месте в начале 1940-х годов»77. Такой
«релятивизм» — укоренение любого смысла и культурного
артефакта в перспективно-конечной историчности события бытия
на всех его уровнях (от биографически-личного до общественно-
политического) — совершенно соответствует, как нетрудно заметить,
ауэрбаховскому историко-филологическому методу истолкования
текста. Автор «Мимесиса» как бы призывает читателя к
«перспективному пониманию», т. е. к сознательному ограничению исторической
ситуацией «исходного пункта» — не потому, что он хочет, чтобы
читатели судили автора не так строго, а наоборот, потому что он скорее
уверен в продуктивности ограничения, исторической
конкретности «земного мира» для понимания безграничного смысла всякого
сколько-нибудь значимого события — в тексте и в затексте истории.
Ауэрбах начал писать «Мимесис» в мае 1942 г. и закончил в
апреле 1945 г. В то же примерно время, тоже в эмиграции, Томас Манн
работал над романом «Доктор Фаустус», а Т. В. Адорно и М. Хорк-
хаймер над «Диалектикой Просвещения»; сближение это, как
кажется, не лишено смысла. Но условия работы у Ауэрбаха были крайне
неблагоприятны: остро не хватало книг и журналов, уровень
преподавательского состава, не говоря о студентах, был очень низок.
Преподавание велось по-французски, и учить надо было по сути дела с
нуля — ситуация, хорошо знакомая нам сегодня уже без всякой
эмиграции. Известный американский литературовед Гарри Левин со слов
Ауэрбаха сохранил, как говорится, для истории такой эпизод:
однажды в Стамбульском университете Ауэрбаху представили
турецкого переводчика «Божественной комедии», который не знал
итальянского языка и переводил с французского перевода,
умудрившись позднее потерять и сам этот свой перевод78. Подходящих
учебников не было, тогда Ауэрбах просто написал по-французски для
своих студентов учебник «Введение в изучение романской
филологии»; учебник был затем переведен на турецкий и издан в
Стамбуле (1944), а во французском оригинале был напечатан в Германии
уже после войны (1949)79. После разгрома фашистской Германии
Ауэрбах подумывал о возвращении на родину, но в Восточную
Германию, которая потом станет ГДР и куда его приглашали, он ехать
не решился и в 1948 г. перебрался в США; только два года спустя он
Затекст
383
стал профессором в Йеле и обрел вместе с новым гражданством
нормальные условия работы.
То, что заметно отличает «Мимесис» от ранних работ Ауэрбаха, —
это пристальное внимание к социально-историческим и
социологическим фактам и факторам. Эта тенденция обозначилась у него уже
в 1930-е гг. и выразилась в повышенном внимании к аудитории
художественного творчества. Этот общий в 1930—40-е гг. интерес к
социологической и общественно-политической проблематике искусства
возобладал у ученика Ауэрбаха, унаследовавшего его кафедру в Мар-
бурге, Вернера Краусса (1900—1976), впоследствии дважды чудом
избежавшего казни при нацистском режиме и позднее ставшего
крупнейшим литературоведом-марксистом ГДР80. Но самое главное
отличие — это радикально примененный метод «перспективного
понимания», который распространен в «Мимесисе» на всю
западноевропейскую литературу. Именно сочетание макрофона с микроанализом,
а также сочетание традиционного филологического анализа текста с
как бы неожиданными вставками, вводящими автора —
интерпретатора с его «горячей» современностью вовнутрь открытой
историчности любого текста от Гомера и Библии до Пруста и Джойса, — вот
что, по-видимому, делает книгу Ауэрбаха единственным в своем роде,
«экзистенциальным» произведением в истории литературоведения.
Ауэрбах стремится вскрыть в тексте, в небольшом фрагменте, в
отдельном высказывании событийную историчность «изображенной
действительности», имманентно тексту выходя за внешние границы
его и получая за счет такого «эмпирического» ограничения, как это
ни парадоксально, необычайную свободу по отношению к
историческому и литературному материалу. Герменевтический метод
«перспективного понимания» освобождает от исторического априоризма,
но — в отличие от сегодняшних постмодерных экспансий
философствующих эпигонов, эксплуатирующих литературу в меру своего
таланта в силу утраты предмета философии, — метод Ауэрбаха
сознательно историчен и остается филологическим анализом
«литературного выражения». Если таким методом и можно исследовать любой
текст, то не каждый сумеет так работать. Дело не только и не столько
в учености автора, сколько в концептуальной подоплеке, которая
наряду с хронологией «держит» анализ. Историчность, большая и
малая перспектива и ретроспектива пронизывают любое
исследуемое слово или событие, чтобы выявить прерывность и
непрерывность истории, малое и большое время в качестве чистой
«очевидности изображенного».
384
Раздел первый. Переход
«Методология» Э. Ауэрбаха настолько же эвристична и
продуктивна, насколько и, с оборотных своих сторон, уязвима и
проблематична. Эти уязвимость и спорность относятся, как это почти всегда
и бывает, к некоторым теоретическим — эстетическим и
мировоззренческим — предпосылкам ауэрбаховской позиции; ведь мы
«теоретичны» и «метафизичны» зачастую даже там и тогда, где и когда мы
пытаемся преодолеть теоретизм и метафизику. Ауэрбах в этом
отношении совсем не исключение (скорее наоборот).
«Серьезность», драматизм и трагизм, которых ищет (и находит)
автор «Мимесиса» в западноевропейской литературе, во-первых, еще
почти целиком эстетичен, во-вторых, догматически эстетичен.
Догматический эстетизм, как кажется, выражается в том, что
Ауэрбах не проводит до конца выдвинутый им самим принцип
«смешения стилей»; в снижении стиля, в прозаическом уклоне к
«реализму», от евангельской «просто истории Христа» до современного
романа, он склонен видеть контраст к возвышенному — притом
однотонному, трагическому возвышенному. «Его модель
литературного развития, — справедливо отмечает в своей книге об Ауэрбахе
Клаус Гронау, — в основе своей скорее модель "истории трагического
реализма", причем "современный реализм" оказывается не более
чем исторической спецификацией некоторого всегда
существовавшего, уже ранее разработанного способа изображения
действительности»81. Это и в самом деле так. Но что если этот догматизм — только
следствие более глубокой и общей теоретико-методологической
трудности, которую еще надо осознать?
Ауэрбах, как можно заметить, исходит из презумпции
«изображения действительности» как фокусирующей в себе, пусть
даже в горизонте своей исторической конечности, некоторый
сущностный образ действительности в цепом. Его эстетическим
суждением управляет в основном все же еще античная модель «драмы»
и «трагедии»; здесь еще сильно действует догматическая
предпосылка «эстетического сознания», в соответствии с которой
историческая действительность в своем существе может и должна так или
иначе как бы совместиться с «изображением действительности». Но
вправе ли мы видеть такое совмещение даже в самой лучшей
литературе того или иного времени, в той или иной великой
национальной литературе? Как раз сегодняшний наш объективный опыт
выпадения из тех или иных « картин мира», из «эстетики истории»
подсказывает отрицательный, хотя и не вовсе «трагический», ответ
на этот вопрос.
Затекст
385
Эстетическая завершенность пусть даже самого правдивого в
своих внутренне мотивированных границах «искусства подражания»
за этими границами будет уже условной или односторонней. И борьба
с классической эстетикой, с идеей «подражания» в теориях и в
практике модернизма и постмодернизма еще принадлежит наследию
эстетизма и эстетизированного историзма.
Эрих Ауэрбах как филолог, историк и литературовед с честью
исполнил свою исследовательскую «задачу» в ситуации
фундаментального и заслуженного испытания филологии — испытания, которое,
как сама история, еще далеко не закончено. Будем благодарны автору
«Мимесиса» не только за его «достижение», которое можно
эстетически пережить, но и за урок, за возможность кое-чему научиться.
Может быть — главному, тому, что он в «Филологии мировой
литературы» называет «научной добросовестностью»; последняя
содержит в себе хорошее ограничение постольку, поскольку при
таком сильном искушении уклониться от действительности — путем
ли тривиального приглаживания или сглаживания, или путем явно
фантастических построений, совершенно искажающих
действительность, — научная добросовестность удерживает и хранит
возможное в границах действительного; ибо действительное является
мерой возможного82.
Примечания
Ауэрбах Эрих. Мимесис. 2-е изд. М.; СПб.: Университетская книга, 2000.
Бахтин М. М. Рабочие записи 60-х начала 70-х годов // Он же. Собр. соч.
Т. 6. М., 2002. С. 394.
Аверинцев С. Личность и талант ученого // Литературное
обозрение. 1976. С. 59.
См. ценные наблюдения по этому вопросу: Автономова Н. С.
Заметки о философском языке // Философия науки: Методология и
история конкретных наук / Под ред. Л. А. Микешиной и др. М.: Канон, 2007.
С. 221—232.
Auerbach Ε. Figura // Auerbach E. Gesammelte Aufsätze zur romanischen Fi-
lologie. Bern, 1967. S. 77.
У меня был повод сказать об этом на международной конференции,
посвященной Э. Ауэрбаху, состоявшейся в Берлине в декабре 2004 г.; см.:
Machlin V. Ende und Anfang: Auerbachs russischen Rezeption // Erich
Auerbach: Geschichte und Aktualität eines europäischen Philologen. / Hrsg. von
Martin Treml, Karlheinz Barck. Berlin, 2007. S. 391—409.
386
Раздел первый. Переход
7 Bode С. Mimesis // Lexicon literaturetheoretischer Werke / Hrsg. von
R. G. Renner, E. Habekost. Stuttgart, 1995. S. 238—240.
8 Wellek R. Auerbachs Special Realism // Kenyon Review 16 (1954). P. 305—306.
9 См.: Уэллек R, Уоррен О. Теория литературы. М.: Прогресс, 1978. С. 57.
10 Wellek R. Auerbachs Special Realism. P. 306. Ср.: «Историзм (historicism)
противоположен экзистенциализму. Экзистенциализм показывает
человека в его незащищенности, обнаженности и одиночестве; он
неисторичен, даже анти-историчен. Эти две стороны концепции
реализма Ауэрбаха различаются также в историческом отношении.
"Экзистенция" идет от Кьеркегора, вся философия которого была протестом
против Гегеля, родоначальника историзма и Geistesgeschichte». — Wellek R. The
Concept of Realism in Literary Scholarship // Concepts of Criticism / Ed. by
S. G. Nichols. Newhaven (Conn.). P. 236.
11 Wellek R. Auerbachs Special Realism. P. 305.
12 Wellek R. The Attack on Literature and Other Essays. Chapel Hill, 1982.
Подробнее о Р. Уэллеке см, мою вступительную заметку и перевод
репрезентативной статьи этого исследователя «Критика как оценка» (1976):
Российский литературоведческий журнал. 1997. № 10. С. 141—163.
13 Анализируя рецепцию «Мимесиса» Р. Уэллеком (и «Новой критикой» в
целом), современная исследовательница истории литературной науки
XX в. отмечает, что в основе представления Уэллека о литературе лежит
риторическая концепция «правил» работы с текстом, в соответствии с
которой в самом тексте методически выделяются в качестве значимых
лишь очень определенные (собственно, теоретически
предопределенные) элементы, которые вслед затем тематизируются в качестве
«литературы». См.: Boden R Philologie als Wissenschaft: Korespondenzen und
Kontroversen zur Mimesis II Erich Auerbach: Geschichte und Aktualität eines
europäischen Philologen / Hrsg. von Vartin Treml, Karlheinz Barck. Berlin,
2007. S. 128—129.
14 См. Engels J. Philologie Romane — Linguistique — Études Littéraires // Neo-
philologus. 1953.37. P. 20.
15 Яусс X. Р. История литературы как провокация
литературоведения (1967) // Новое литературное обозрение. № 12. С. 68.
16 Ср. симптоматичные, но не очень конструктивные попытки начать
дискуссию: Философия филологии (круглый стол) // Новое литературное
обозрение. 1996. № 17. С. 45—93; Филология — кризис идей? // Знамя.
2005. № 1.С. 187—211.
17 См. об этом: Rentsch Th. Die Kultur der questio: Zur literarischen
Formgeschichte der Philosophie // Literarischen Formen der Philosophie / Hrsg. von
Gottfried Gabriel, Christiane Schildknecht. Stuttgart, 1990. S. 73—91.
18 Literary History and the Challenge of Philology: The Legacy of Erich Auerbach
/ Ed. by S. Lerer. Stanford (Calif.), 1996.
19 Nichols S. G. Philology and Erich Auerbach' s Drama of (Literary) History //
Ibid. P. 66.
Затекст
387
Слотердайк П. Никчемный человек возвращается, или Конец одного
алиби. (1985) // Немецкое философское литературоведение наших дней:
Антология / Сост. Дирк Уффельман и Каролина Шрам. СПб.: Изд-во С.-
Петербургского университета, 2001. С. 475—506.
Бахтин М. М. К философии поступка // Он же. Собр. соч. Т. 1. М., 2003.
С. 50.
Metageschichte. Heiden White and Paul Ricoeur: Dasrgesctellte Wirklichkeit
im Kontext von Husserl, Weber, Auerbach und Gombrich / Hrsg. von J. Stück-
rath, Zbinden. Baden-Baden, 1997.
Уайт X. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века.
Екатеринбург, 2002. См. статью X. Уайта об Э. Ауэрбахе в
цитировавшемся сборнике материалов американской конференции 1992 г.: Hay den
White. Auerbachs Literary History: Figurai Causation and Modernist Histori-
cism // Literary History and the Challenge of Philology. Op. cit. P. 124—139.
Рикер Поль. Время и рассказ. Т. 1—2 (1985). М.; СПб., 2000.
См.: Was heist «Darstellung» / Hrsg. von Christian Hart Nibbrig. Frankfurt
a. M., 1994.
MelbergA. Theories of Mimesis. Cambridge, 1995. P. 1—2.
Auerbach Ε. Literaturgeschichte und Publikum in der lateinischen Spätantike
und im Mittelalter. Bern, 1958. S. 17—18.
Ауэрбах Э. Филология мировой литературы / Пер. Ю. В. Ивановой,
П. В. Лещенко, А. В. Лызловым // Вопросы литературы. 2004 (сентябрь-
октябрь). С. 132.
Auerbach E. Literatursprache und Publikum in der lateinischen Spätantike und
im Mittelalter. S. 9—10.
Ibid. S. 10.
См. об этом: Malkiel J. Necrology // Romance Philology. 11. № 2
(November 1957). P. 162.
Auerbach Ε. Die Teilnahme in den Vorarbeiten zu einem Strafgesetzbuch.
Heidelberg; Berlin, 1913.
Манн Т. Собр. соч.: В 10 т. Т. 3. М., 1959. С. 8.
Auerbach E. Zur Technik der Frührenaissancenovelle in Italien und
Frankreich. Heidelberg, 1921.
Auerbach E. Literaturgeschichte und Publikum... S. 9.
Американский исследователь Д. Грин замечает в этой связи, что
«смена научной дисциплины имела глубокие причины: по сути дела это был
уход от такой профессии, которая была составной частью
общественной системы (и от своей диссертации, которая поддерживала
требования, предъявляемые к члену этого общества изнутри системы), и
переход к профессии, которая отстаивает относительную отстраненность от
общества и ограничивается эзотерическими проблемами, не
имеющими непосредственного и очевидного применения в социальной сфере. —
Green G. Literary Criticism and the Structures of History: Erich Auerbach and
Leo Spitzer. Lincoln; London, 1982. P. 20.
388
Раздел первый. Переход
37 См., например, уже традиционную в Германии критику традиции
историзма: Jaeger E, Rüsen /. Geschichte der Historismus. München, 1992.
38 Auerbach E. Literaturgeschichte und Publikum... S. 14.
39 Reinhardt K. Die Krise des Helden. München, 1962. S. 117.
40 Еадамер E-F. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991. С. 7.
41 Дилыпей В. Введение в науки о духе. М., 2000. С. 405.
42 См. об этом: Schmidt G. Deutscher Historismus und die Übergang zur
parlamentarischen Demokratie: Untersuchungen zu den politischen Gedanken
von Meinecke, Troeltsch, Max Weber. Lübeck; Hamburg, 1964; Die
Historismusdebatte in der Weimarer Republik / Hrsg. von Wolfgang Bialas, Gérard
Raulet. Frankfurt a. M., 1996; Weizbort L Erich Auerbach im Kontext der
Historismusdebatte // Erich Auerbach: Geschichte und Aktualität eines
europäischen Philologen / Hrsg. von Martin Treml, Karlheinz Barck. Berin, 2007.
S. 281—296.
43 Подробнее об этом см.: Махдин В. Л. Я и Другой: К истории
диалогического принципа в философии XX в. М.: Лабиринт, 1997. С. 14—15.
44 См.: Renthe-Fink L Geschichtlichkeit: Ihr terminologischer und begriffliher
Ursprung bei bei Hegel, Haym, Dilthey und Jork. Göttingen, 1964; Сундуков R
Значение термина «историчность» в немецкой философии XIX в. //
Логос. 2000. № 5,6. С. 78—88.
45 Auerbach Ε. Gesammelte Aufsätze zur romanischen Literatur. Bern;
München, 1967. S. 262.
46 См. в этой связи: Bormuth Mattias. Menschenkunde zwischen Meistern —
Erich Auerbach und Karl Löwith im Vergleich // Erich Auerbach: Geschichte
und Aktualität eines europäischen Philologen. S. 82—104. Й. О. Риднер в
своей статье «Кракауэр и Ауэрбах» в цитируемом новейшем сборнике о
нашем авторе говорит о неопубликованной переписке между Р. Бультманом
и Ауэрбахом, упоминая письмо от 21 мая 1939 г., в котором Ауэрбах
говорит о «повсевременном» (das Jederzeitliche) — слово, характерное для
нового исторического сознания; см.: Riedner /. О. Kracauer und Auerbach —
Anmerkungen zu einer Freundschaft // Erich Auerbach... S. 178 (Anm. 45). Co
своей стороны, Ганс Ульрих Гумбрехт утверждает, что импульсы
творческой мысли Ауэрбаха исходили от Хайдеггера; см.: Gumbrecht H. U.
«Pathos des irdischen Verlaufs»: Erich Auerbachs Alltag // Ders. Vom Leben und
Sterben der grossen Romanisten. München, 2002. S. 157. Дело, собственно,
не в том, что по инерции называют «влиянием»; Ауэрбах в публикуемом
М. Бормутом письме к К. Левиту от 26 мая 1953 г. (по поводу только что
опубликованной тогда книги Левита об учителе против учителя)
вспоминает «die ganze Heidegger-Atmosphäre» 1920-x гг., радуясь задним
числом, что, в отличие от своего корреспондента, не подпал под влияние. Ср.:
«Правы ли Вы вообще, я не знаю, но в главном — несомненно. Мне вновь
предстала в своей жизненности вся тогдашняя исходившая от Хайдеггера
атмосфера. Какой грандиозный человек! Но все же я рад, что не попался
ему под руку, когда был молодым». — Bormuth M. Op. cit. S. 85.
Затекст
389
47 Auerbach E. Literaturgeschichte und Publikum... S. 9. А. В. Михайлов писал:
«В немецкой романистике XX в. методологическое развитие проходило
несколько иначе, чем в германистике; немецкие романисты (Л. Шпитцер,
К. Фосслер, Э. Р. Курциус) были, благодаря более тесным связям с
европейской наукой, в частности с европейским развитием
компаративистики, лишены многих самоограничений германистики. "Мимесис" Э. Ау-
эрбаха (1946) — это выдающееся создание именно немецкой
романистики, сочетающее гуманитарный подход к литературе с большой
основательностью своего подхода к историко-литературным явлениям». —
Михайлов А. ß. Проблемы исторической поэтики в истории немецкой
культуры // Он же. Избранное: Историческая поэтика и герменевтика. СПб.,
2006. С. 50.
48 О К. Фосслере и его школе с позиций лингвистики см.: Йордан И.
Романское языкознание. М.: Прогресс, 1971. С. 128—217; Звегинцев В. А.
Эстетический идеализм в языкознании. М., 1956. С позиций философии
языка ценным ориентиром для критического рассмотрения школы Фос-
слера и сегодня еще является книга М. М. Бахтина и В. Н. Волошинова
«Марксизм и философия языка» (1929); см.: M. M. Бахтин (под маской).
С. 386—390; 418—424.
49 Stierle К. Altertumswissenschaftliche Hermeneutik und die Entstehung der
Neuphilologie // Philologie und Hermeneutik im 19 Jahrhundert: Zur
Geschichte und Methodologie der Geisteswissenschaft. Göttingen, 1979. S. 287.
50 Stierle K. Historische Semantik und die Geschichtlichkeit der Bedeutung //
Historische Semantik und Begriffsgeschichte / Hrsg. von Reinhart Koselleck.
Stuttgart, 1979. S. 158. Отстаивая альтернативную в философии языка и
текста позицию современной «исторической семантики»,
представленную в школе Р. Козеллека (переводящей герменевтический принцип
«истории понятий» из области истории философии в область
социальной истории), К. Штирле отмечает в этой связи, что традиции школы
Фосслера позволили удержать «вплоть до сегодняшнего дня» историю
семантики в пределах такой филологии, которая придерживалась
принципиального тезиса всего этого направления, а именно: язык есть
выражение духа народа и эпохи (см.: Vossler К. Frankreichskultur im Spiegel
seiner Sprachentwicklung. Heidelberg, 1913); в работах этого направления,
правда, эссеизм зачастую преобладает над научностью, зато в такой
«открытой форме» историко-литературная семантика сохраняет
перспективу «духовной истории» (там же, примечание).
51 «Существует как бы своеобразная периодическая смена стихийного
психологизма, затопляющего все науки об идеологиях (т. е. гуманитарные
науки. — В. М.), и резкого антипсихологизма, отымающего у психики все
ее содержание. (...) В начале XX века мы как раз пережили резкую (но,
конечно, далеко не первую в истории) волну антипсихологизма.
Основополагающие труды Гуссерля, главного представителя современного
антипсихологизма, труды его последователей — интенционалистов ("фе-
390
Раздел первый. Переход
номенологов")> резкий, антипсихологический поворот представителей
современного неокантианства Марбургской и Фрайбургской школы,
изгнание психологизма из всех областей знания и даже из самой
психологии (!) — все это является важнейшим философским и
методологическим событием двух пережитых десятилетий нашего века». После чего
«самый необузданный психологизм снова захватывает все покинутые им
столь недавно позиции во всех областях философии и наук об
идеологиях». — М. М. Бахтин (под маской). С. 373—374.
М. М. Бахтин (под маской). С. 396. Здесь не место говорить о бахтин-
ской полемике и со школой Соссюра («абстрактный объективизм»),
и со школой Фосслера («индивидуалистический субъективизм») как
двумя проявлениями «монологизма лингвистики»; мы также
оставляем без внимания интересные параллели между подходами к
«изображению действительности» в исследованиях Э. Ауэрбаха и М.
Бахтина (см. об этом: Perlina Nina. Mikhail Bakhtin and Erich Auerbach: Two
Types of Artistic Representations of Reality // Mikhail Mikhailovich Bakhtin:
His Cercle, His Influence // Papers presented at the Internatuinal Colloquium
Queens University. October 7—9. 1983. P. 118—139). Для нас здесь
важна историко-научная и гуманитарно-эпистемологическая сторона
дела: Бахтин подчеркивает следующее преимущество школы Фосслера:
«Очень часто можно услышать обвинение Фосслера и фосслерианцев
в том, что они занимаются больше вопросами стилистики, чем
лингвистикой в строгом смысле слова. В действительности школа Фосслера
интересуется вопросами пограничными (выделено в тексте. — В. М.),
поняв их методологическое и эвристическое значение, и в этом мы
усматриваем огромное преимущество этой школы» (там же. С. 454).
«Пограничные вопросы» — это, говоря языком Ауэрбаха, вопросы
«духовной истории» (Geistesgeschichte) в аспекте «литературного выражения»,
которым занимается филолог; для самого M. M. Бахтина речь идет о
проблемах речевого мышления и сознания — «слова», «высказывания,
«жанров речи» (как художественных, так и «житейских»). Ср.:
«Необходим тщательный и трудный анализ различных типов речевых
выступлений и соответствующих форм высказывания во всех сферах
жизненного общения и практики. (...) Современная лингвистика только
теперь начинает подходить к этим труднейшим вопросам речевого
общения в школе Фосслера и в школе философа Бенедетто Кроче» (там же.
С. 271—272). Подробнее о бахтинской рецепции «школы Фосслера» (в
частности, исследований Лео Шпитцера) см. наш комментарий к
переводу семнадцати фрагментов из книги Л. Шпицера «Итальянский
разговорный язык» (1922), которые, наряду с сорока пятью выписками из
книги М. Шелера «Сущность и формы симпатии» (1923/1926),
сохранились в архиве M. M. Бахтина и напечатаны впервые в приложении к
переизданию его книги о Достоевском (1929): Бахтин М. М. Собр. соч. Т.
2. М., 2000. С. 739—758.
Затекст
391
В своем обзоре научно-гуманитарной культуры в Германии В. М.
Жирмунский в 1920-е гг. еще мог писать: «...современная историко-
литературная молодежь в Германии училась не у своих фактических
университетских учителей филологов: она искала вдохновения у философов,
занимавшихся вопросами, пограничными между философией и
поэзией, в частности, вопросами эстетики, как Фолькельт, Зиммель, в
особенности Дильтей». См.: Жирмунский В. М. Новейшие течения историко-
литературной мысли в Германии (1927) // Он же. Из истории
западноевропейских литератур. Л.: Наука, 1982. С. 106.
Это обстоятельство подчеркнул сам Э. Ауэрбах в конце своего
«Предисловия переводчика» к переводу «Новой науки». См.: Auerbach Ε.
Vorrede des Übersetzers // Giambattista Vico. Die Neue Wissenschaft über die
gemeinschaftliche Natur der Völker. Berlin; Leipzig o. J, (1924). S· 39. См.
также: Waizbort L. Erich Auerbach im Kontext der Historismusdebatte. S. 282
(см. сноску 42).
Ауэрбах Э. Филология мировой литературы. С. 127.
М. М. Бахтин в своем философском проекте начала 1920-х гг.
употребляет словосочетание «историческое изображение-описание» (см.:
Бахтин Μ. Μ. Собр. соч. Т. 1. С. 7); по всей вероятности, это перевод-
передача немецкого Darstellung (ближайшим образом —
словоупотребления Г. Риккерта), как предположил русско-американский филолог Вадим
Ляпунов, переводчик ранних работ Бахтина на английский язык; см.:
Bakhtin M. M. Toward a Philosophy of the Act / Trans, and notes by Vadim
Liapunov; ed. by Michael Holquist. Austin, 1990. P. 79. Бахтин, как и Хайдег-
гер, спорит с характерным в особенности для Фрайбургского
неокантианства пониманием «идеографического» (гуманитарно-исторического)
мышления и познания.
ЯуссХ. Р. История литературы как провокация... С. 66.
См. в этой связи: Kahn R. Eine «List der Vorsehung»: Erich Auerbach und
Walter Benjamin // Erich Auerbach: Aktualität eines europäischen Philologen.
S. 153—166. Переписку Ауэрбаха с Беньямином периода эмиграции
(первый был в Турции, второй — в Париже) опубликовал директор
Института литературных исследований (Берлин) Карлхайнц Барк; см.: Вагск К. 5
Briefe Erich Auerbachbi an Walter Benjamin in Paris // Zeitschrift für
Germanistik. 6. 1988. S. 688—694.
Ауэрбах Э. Филология мировой литературы. С. 131 —132.
Edward W. Said. Introduction to the Fiftieth Anniversary Edition // Erich
Auerbach. The Representation of Reality in Western Literature / Trans, by Wil-
lard R. Trask. Princeton; Oxford, Princeton UP, 2003. Для Э. Сайда
Ауэрбах — это, в общем, немецкий профессор, замкнутый в своем
этноцентризме и практикующий скорее метод так называемого вчувствования (а
combination of erudition and sympathy), к которому американский критик
и сводит «филологическую герменевтику» Ауэрбаха (ibid. P. XII—XIII).
392
Раздел первый. Переход
См. также: Lindenberger Herbert. Aneignungen von Auerbach: von Said zum
Postkolonialismus // Erich Auerbach... S. 357—370.
61 Auerbach E. Literatursprache und Publikum... S. 10.
62 Ауэрбах Э. Филология мировой литературы. С. 135.
63 Там же. С. 136—137.
64 См. интересные соображения в этой связи в контексте гуманитарно-
эпистемологического проекта M. M. Бахтина в сопоставлении с
аналогичным, по мнению автора, проектом В. Беньямина (в статье 1921 г.
«Задача переводчика»): Holqutst Michael Bakhtin and the Task of Philology // In
Other Words: Studies in Honor Vadim Liapunov / Ed. by Stephen Blackwell et
al. Indiana Slavic Studies. Vol. 11. 2000. P. 55—67.
65 Об обстоятельствах приглашения Ауэрбаха на кафедру романской
филологии Марбургского университета, а также об унизительных
обстоятельствах, предшествовавших его отъезду с семьей в Турцию, см.: Gum-
brecht H. U. «Pathos of the Earthly Progress»: Erich Auerbachs Everydays //
Literary History and the Challenge of Philology. Op. cit. P. 13—35.
66 В дальнейшем цитирую с указанием страницы в тексте в скобках по
недавно опубликованному переводу Г. В. Вдовиной; см.: Ауэрбах Э. Данте
как поэт земного мира. М.: РОССПЭН, 2004.
67 См. об этом: Лёзов Сергей. Попытка понимания: Избранные работы. М.;
СПб.: Университетская книга, 1999. С. 539—545 (раздел: «Встреча с Хай-
деггером: Керигма и миф»).
68 Уместно вспомнить здесь, что С. С. Аверинцев начинает свою книгу
«Поэтика ранневизантиискои литературы» как раз с такого методического
«деления надвое», которое он не конструирует, но заимствует, как он
говорит, из «русского обихода», т. е. из преднаходимого общего языка
разговора. С одной стороны, поэтика — это «научная теория словесного
творчества или хотя бы система методически разработанных
рекомендаций для него: то, чем занимались Гораций Псевдо-Лонгин, Буало и Лес-
синг. Такая "поэтика" восходит к временам Аристотеля». С другой
стороны, поэтика — «то, что сознательно или бессознательно создает для себя
любой писатель. Такая "поэтика" существовала за тысячелетия до
Аристотеля...». — Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантиискои литературы.
М.: Наука, 1977. С. 3.
69 Верди М. Общее литературоведение. М., 1957. С. 91.
70 В понимании «зримости» Ауэрбах опирается не только на труд
искусствоведа Э. Панофского «Idea» (1924), но и на мощную тенденцию в
искусствознании и философской эстетике конца XIX — начала XX вв.,
которую M. M. Бахтин называет «импрессивной эстетикой»: в отличие от
так называемой классической (в действительности — романтической)
«эстетики содержания» (Шеллинг, Гегель) импрессивная эстетика
ставит в центр внимания не столько «выражение» (героя и автора),
сколько принцип формы — «изображение». См. об этом: Бахтин M. M.
Автор и герой в эстетической деятельности // Он же. Собр. соч. М., 2003.
Затекст
393
С. 167—168; M. M. Бахтин (под маской)· С 186—189,221—234, (О
«проблеме зримости»: С. 229—230.)
71 См. раннее сочинение второго (наряду с М. Шеяером)
основоположника философской антропологии ученика Э. Гуссерля X. Плесснера
«Единство чувств: Основы эстезиологии духа» (Plessner H. Die Einheit der Sinne:
Grundlinien einer Ästhesiologie der Geistes. Bonn, 1923). Термин
«эстезиология» не привился. Но дело не в термине и даже не в Плесснере, но в
констатируемым тем же Плесснером «изменении теоретико-познавательных
воззрений на ощущение и восприятие», «новой земле философского
исследования» (ibid. S. 14)
72 Эккерман И. П. Разговоры с Гёте. Ереван, 1988. С. 281.
73 См. в этой связи: Fellmann Ferdinand. Phänomenologie als ästhetische
Theorie. Freiburg; München, 1989. Ф. Фелманн (вспомним его книгу о
Вико 1976 г.) прямо утверждает, что в систематическом предметном
отношении (т. е. независимо от непосредственных историко-философских
влияний) феноменология в XX в. дала новую перспективу
«продуктивному почину» эстетики А. Баумгартена в XVIII в. (S· 116). Новая
философская парадигма, инициированная Гуссерлем, по мысли Фелманна,
перестроила самую структуру объективации и опредмечивания в
философском исследовании: «Обратившись к эстетическому измерению
переживания, феноменология произвела эпохальное изменение в понятии
теоретической философии. Под лозунгом "к самим вещам" философия
становится, главным образом, способом подходау а не как прежде способом
обоснования. (...) Философия тем самым отказывается от
конструирующего разума как типа рациональности, идеал которого состоит в том,
чтобы вывести мышление о мире сразу из одного принципа» (S. 18—19).
74 Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб., 1999. С. 21
75 Лосев А. Ф. История античной эстетики. Т. 1. М.: Высшая школа, 1963;
Он же. Очерки античного символизма и мифологии. М.: Издание
автора, 1930; Аверинцев С. С. Греческая «литература» и ближневосточная
«словесность» (1971) // Он же. Образ античности. СПб.: Азбука-классика,
2004. С. 40—105.
76 Так называемая «неоплатоническая чума» (die neuplatonische Pest) в этом
смысле — как кульминация, с одной стороны, «внутреннего», с другой
стороны, одного и «единого» — оказывается антитезой евангельскому
Христу. Ср. у раннего M. M. Бахтина в его наброске «истории тела в идее
человека»: «Неоплатонизм — наиболее чистое и последовательно
проведенное ценностное постижение человека и мира на основе чистого
самопереживания: все: и вселенная, и Бог, и другие люди суть лишь я-для-
себя, их суд о себе самих самый компетентный и последний, другой
голоса не имеет; то же, что они являются еще и я-для-другого, случайно и
не существенно и не порождает принципиально новой оценки. Отсюда и
наиболее последовательное отрицание тела: мое тело не может быть
ценностью для меня самого. Чисто стихийное самосохранение не способ-
394
Раздел первый. Переход
но породить из себя ценности. Сохраняя себя, я не оцениваю себя: это
совершается помимо какой-либо оценки и оправдания. Организм
просто живет, но изнутри себя самого не оправдан. Только извне
(разрядка в тексте. — В. М.) может сойти на него благодать оправдания». —
Бахтин M. M. Автор и герой в эстетической деятельности. С. 132.
Auerbach Ε. Epilegomena zu Mimesis II Romanische Forschungen.
65(1/2). 1953. S. 18.
См.: Levin H. The Intellectual Migration: Europe and America. 1930—1960 /
Ed. by D. Fleming, B. Bailin. Cambridge, 1969. P. 465.
Auerbach £. Introduction aux etudes de philologie romane. Frankfurt
a. M., 1949.
См.: Neumann M. Auerbach im Denken und Fühlen von Werner Krauss //
Erich Auerbach... S. 180—192.
Gronau K. Literarische Form und gesellschaftliche Entwicklung: Erich
Auerbachs Beitrag zur Theorie und Methodologie der Literaturwissenschaft.
Königstein; Ts., 1979. S. 111.
Ауэрбах Э. Филология мировой литературы. С. 133.
Раздел второй
РАССЕЧЕНИЕ
«ЧИТАЙТЕ РОЗАНОВА»,
ИЛИ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ*
Момент возвращения
Возможен ли такой концептуальный подход к мышлению
В. В. Розанова, который не ограничивался бы его «концепциями» и
запоздалым теоретизированием по поводу того, что по самому
существу своему вовсе не есть теория или теории? Возможен ли подступ
к «политическому», в широком смысле, измерению розановского
наследия, который позволил бы избежать того, что на нашей
конференции Райнер Грюбель назвал «ловушками политкорректности»? То
есть такой способ рассмотрения, который был бы объективен, но
обходил заведомые ловушки объектного подхода, почти
отождествляемого в популярном сознании (а иногда и в сознании специалистов)
с «научностью», а содержательное напряжение воззрений Розанова
не приносил бы в жертву слепому вчувствованию в так называемое
идейное содержание? Можно ли разделить напряжение розановской
мысли извне мира этой мысли, не отмахиваясь от нее, но сохраняя и
восполняя ее значимость?
Подступ к «политическому телу» русской духовной истории —
по ту сторону политизации и идеологизации — в случае В. В., как мне
кажется, может подсказать «филология» — тоже в широком смысле
слова. Историко-филологическое мышление и исследование имеют в
качестве своей «фактичной» предпосылки, или условия возможности,
другого, т. е. некоторое предшествующее, «первое» сознание — «чужую
речь». Чужая речь, чужая мысль никогда не могут быть мыслью
«вообще», логосом вообще («безотносительно-ни-к-чему»).
Герменевтическая фактичность другого сознания, чужого слова ни только
материальна, ни только идеальна; она реальна в своем бытии как
некоторое конкретно-историческое событие. Филология в этом смысле
В основу очерка положен текст выступления на международной
конференции «Наследие В. В. Розанова и современность (к 150-летию рождения
писателя)». Москва, май 2006 г.
398
Раздел второй. Рассечение
имеет дело не только с «текстом» и его контекстами, но и с «затек-
стом» — событием и событиями, историческим следом-последствием
которых является текст.
Филология при таком понимании ее предмета, по-видимому,
сближается с тем, что называют «литературоцентризмом» русской
духовно-идеологической культуры. Это ни «хорошо», ни «плохо»,
так исторически сложилось в отечественном мире жизни со всеми
его плюсами и минусами, с его «обилием» и его «бессилием»
Филология, как и литературоцентризм, — реальности и «первого», и
«второго» сознания, они относятся к историческому измерению
творчества В. В. Розанова.
Но спросим дальше: что такое «историческое измерение», в
котором розановская мысль — мысль, так сказать, во множественном
числе — могла бы раскрыться сегодня в своей со-временности,
оставаясь в то же время сама собою, т. е. сохраняя свою идентичность,
свое единственное, персональное и стилистическое «тело», не
переводимое на язык «чистой» мысли, «теории» без утраты смыслового ядра
мысли?
При попытке осмыслить прошлое нашего политического тела
мы зачастую попадаем в ловушку слов и понятий, как бы вырванных
из какого-то забытого или малопонятного уже разговора, из истории
события бытия — если видеть и понимать эту историю не
идеалистически (в смысле так называемой истории идей или истории
культуры), но и не материалистически (вне сознания и поступков
участников событий). Ловушка действует вследствие, во-первых,
отсутствия непосредственного контакта с предметом интереса, во-вторых,
наоборот, — из-за утраты реальных опосредовании между
сегодняшним опытом и опытом прошлого; ведь то, что называют
«традициями», «исторической памятью» и т. п., как раз и формирует эти
опосредования. Не «вчувствование» в текст, но чутье «затекста»
образует «пафос дистанции» и требует дистанции — конкретной
перспективы восприятия и разумения исторического предмета. Принцип
радикальной конкретизации, один из основных в гуманитарной
эпистемологии, — действует, так сказать, на обе стороны — в
направлении исследуемого («первого сознания») и в направлении «второго
сознания» (исследователя и его исторического мира жизни); в любом
случае понимание обусловлено дистанцией, как бы мы ни называли
ее — «временным отстоянием» (как Гадамер) или «взаимной вненахо-
димостью» (как Бахтин). При этом в чужом опыте мы по-настоящему
способны понять только то, что как-то имеем в своем собственном
«Читайте Розанова», или на месте происшествия 399
опыте — каким бы «другим» (и не вполне «собственным») ни был наш
опыт. Вот, по-видимому, та логическая «точка» (совсем не точечная,
конечно, да и не «логическая» в обычном смысле), где и когда встреча
с Розановым оказывается по-новому возможной изнутри нашего
сегодняшнего исторического и политического «тела смысла».
Нам пришлось с известным недоумением проводить в небытие
последнее десятилетие прошлого столетия для того, чтобы
происшедшее в XX в. стало приоткрываться в каком-то новом свете, в
новом измерении, которое всегда было на месте происшедшего, но
уже или еще не осознавалось даже на «постмодерной» антисоветской
стадии советского века, не видевшего и не понимавшего себя в своих
зеркалах, в своем «самосознании». Время, снова и по-новому
рванувшись в 1990-е гг. «вперед», камнем (своим телом) кануло в свое
собственное прошлое, не повторяя его тавтологически; тем самым время,
почти утратив прежние, традиционные признаки исторической
событийности, снова и по-новому сделалось условием возможности
нового взгляда на собственное происшедшее, на все, что, казалось бы,
уже только «было» (или «быть не возмогло»). Вот этот «момент
возвращения» прошлого по ту сторону научных и общественных
объективированных образов прошлого («образов культуры», «картин
мира» и т. п.) — образов, отождествляемых формальным историзмом
Нового времени с «историей», — и есть, как представляется, то новое
переживание и чутье действительности, которое в чем-то по-новому
входит сейчас в современное сознание и познание. Возвращение-
того-же-и-не-того-же самого — вот, может быть, новое место встречи
с наследием В. В. Розанова, а для гуманитарной эпистемологии —
место встречи с вопросом о «сложной форме тела вращения» бытия-
события истории, о чем, как мы помним, писал M. M. Бахтин во время
Великой Отечественной войны, соглашаясь и споря с ницшеанским
«механическим» истолкованием «вечного возвращения»2.
Непрямое говорение
Методическое сомнение, или, по-6ахтински сказать,
«замедление», из которого я исхожу, — не столько философское и
картезианское, сколько филологическое и герменевтическое. Я спрашиваю: на
каком основании, по какому праву мы, пост-пост-пост-современники
Розанова, можем сметь свое суждение иметь о том, что принадлежит
историческому миру, которого давно нет, который сегодня даже
трудно себе представить, — миру жизни, где и когда, вероятно, только
400
Раздел второй. Рассечение
и возможен был такой человек, мыслитель и писатель, как В. В.?
Другими словами: можно ли, и если — да, то каким образом и на каких
основаниях, разделить событийную значимость и ответственность
за мысль В. В., не «западая» на нее, не карикатуря «бабий», по слову
Н. А. Бердяева3, эстетизм и «литературность» Розанова, больше не
возможные ни исторически, ни политически, но в массовой
психологии, наоборот, получившие за последние двадцать лет широкие
права и возможности на уровне «политического бессознательного»?
Желая ответить на этот вопрос позитивно, я попытаюсь
продумать возможность филолого-герменевтического обращения
проблематики В. В. Розанова в аспекте так называемого «непрямого
говорения»4.
Существует, по-видимому, такое «политическое» измерение
речи, которое является намеренно не «политкорректным»
(«вызывающим») — не столько в «идейном», сколько в «житейском» и
«публичном» отношении. Что-то мы можем сказать или напечать
«вообще»; что-то можем обсудить, оценить и «озвучить» только в семье,
что-то — среди друзей, коллег и т. п.; а кое-что я могу подумать и
сказать только про себя (себе самому); политика и «политес» речи — в
порядке вещей в любую эпоху и при любой власти. Но бывают такие
времена, когда границы жанров речи («порядок дискурса») становятся
неубедительными, внутренне не оправданными; когда нарушение
границ общения приобретает особое, дифференцированное и
социально значимое качество «ощутимости» и «литературности», причем
не столько внутри определенной области речевого общения
(искусства, литературы или так называемого быта), сколько на границах
областей мира жизни. Нарушение «речевой тактичности»5 всегда имело
свои общественные права (как и свои границы) в традиционных
формах культуры (например, на карнавале, в Новое время —
особенно в литературе); с именем Розанова («юродивого русской
литературы») связано представление о нарушении речевой тактичности в
публицистике у где и когда публичная речь и самый факт
«опубликования» превращаются в публичный скандал, или, как сказали бы
сегодня, — в «перформенс».
Эту стилевую доминанту розановской речи остро ощущали
современники В. В., как и последующие поколения читателей. Понять
и оценить его непрямое говорение можно, лишь выходя за пределы
научно-философских жанров речи (и, шире, — за пределы риторики
и поэтики); как и обратно: настоящий, продуктивный выход за
пределы «классического» рационализма Нового времени (и классической
«Читайте Розанова», или на месте происшествия 401
эстетики) требует своей рационализации — расширения понятия
рациональности6.
Попробуем сначала зафиксировать и прокомментировать нашу
задачу в случае непонимания (игнорирования) проблемы в статье о
Розанове в Литературной энциклопедии 1930-х гг.7
«Цинизм» — самое частое слово, употребляемое в этой статье для
характеристики нашего автора. Примеры заимствуются из приватно-
канунных книг Розанова 1910-х гг., из «Уединенного» и «Опавших
листьев» — «исповеди обнаженной души обывателя». Вывод делается
такой:
Беззастенчивый цинизм («Литературу я чувствую, как штаны»)
соединяется в них (обеих «исповедальных» книгах. — В. М.) с
безграничным самомнением («Моя кухонная приходо-расходная книга
стоит "Писем Тургенева к Виардо") (734).
На самом деле, конечно, оба приведенных здесь высказывания
В. В. вовсе не «цинизм» и даже не «исповедь обнаженной души».
Перед нами очень характерные для Розанова случаи «непрямого
говорения», полемически сниженного и совершенно рассчитанного.
В отличие от «анти-героя» «Записок из подполья» Ф. М.
Достоевского (1864), художественно выдержанного и завершенного (при
всей своей внутренней нерешенности и незавершенности), в
«Уединенном» и «Опавших листьях» появляется, если можно так
выразиться, «авто-герой», не художник, но литератор-идеолог, рассчи-
танно и с «вывертом» полемизирующий с литературой и со всякой
идеологией, с общественным мнением как таковым. Когда Розанов
говорит, что он чувствует литературу, «как штаны», то это явным
образом означает у него примерно следующее:
— А вот вы все меня не учите, пожалуйста, учителя и благодетели
человечества, тому, что такое «литература», в чем ее значение и
назначение; как читатель я пережил эти вещи, когда вас, может, и на свете
еще не было, а как литератор я знаю литературу как внутреннее
(возможно, неправедное) дело жизни, тогда как вы, дураки, знаете и
цените литературу лишь как что-то внешнее, идеально-отвлеченное,
либо как что-то «полезное», идейно-отвлеченное, словом — как
общественную или культурную ценность. Как литератор, слишком
литератор я не могу чересчур восхищаться «великой русской
литературой», потому что вижу и понимаю теперь, что она, эта
литература, совершенно бессильна что-либо изменить в приближающейся
402
Раздел второй. Рассечение
шагами Командора (очень литературно, правда?..) какой-то
вселенской катастрофе; а значит, она, литература, в своем совершенстве
как-то виновата в несовершенстве и «немоготе» русской жизни —
церковной, государственной, общественной, семейной, сексуальной,
религиозной...И я, я сам, стареющий русский литератор, виноват
даже в этом вот литературном, предсмертном «уединении» своем,
которое посильнее ваших мелочей, вроде «дела Бейлиса»...
И то же самое, но несколько в ином полемическом ключе
имеется в виду, когда В. В. в своей профанирующей и вызывающей
манере приравнивает свою приходно-расходную книжку к «Письмам
Тургенева к Виардо». Здесь тоже — непрямое, но интенциональное
говорение, смысл которого — если освободить высказывание от
известной «зацикленности» его автора на собственном полемическом,
ненавистном адресате-двойнике — можно попробовать передать в
виде такого вопроса:
— А что, если литература, как общественная и культурная
ценность, как-то обесценила, «съела» так называемый «быт», а на самом
деле — первичное человеческое измерение бытия с его якобы
низкими, «обывательскими» заботами и тревогами?8
(С этого повседневного, дотеоретического и донаучного, «до-
культурного» пункта — первичного движения жизни как
«заботы» (Sorge) — M. Хайдеггер, как мы помним, начнет вскоре свое
преобразование западной философской традиции, отталкиваясь от
«забвения бытия» и «платонизма варваров».)
Историческая мутация
Но одно дело — «непрямое говорение» В. В. Розанова как научный
вопрос, и совсем другое дело — как «инонаучный» вопрос; во втором
случае решающим является «прямая» общественно-политическая —
а значит, нравственная — позиция личности. Так многие скажут
даже сегодня — как если бы за последние сто лет ничего особенного
не произошло, как если бы в эпоху завершенной демократии можно
если не жить, то все же строить свою речь «на публику», как если бы
реальным «хронотопом» нашей речи и поведения был
великосветский салон, достаточно прогрессивный для того, чтобы разные
революционеры духа и террора самовыражались там в своем
«метафизическом барстве» (как это с метафизическим издевательством и
дурными предчувствиями изображено в романе Андрея Белого о
революции 1905 г. «Петербург»).
«Читайте Розанова», или на месте происшествия 403
Подобный «интеллигентский» ход мысли, приведший, среди
других причин, к катастрофе 1917 г. и повторившийся в последние
советские десятилетия (включая гласные «дискуссии» о В. В.
Розанове накануне краха Второй империи), — это важный симптом.
Симптом продолжающейся «гражданской войны», которая
возобновилась около 1960 г. (сначала - в виде почти невинного спора «физиков»
и «лириков») на линии уже совершившегося в советский век
коренного раскола — разрыва русской духовно-идеологической культуры
между «научностью» и «духовностью», между «всемством» (слово
Достоевского) и «экзистенцией» Dasein с ее собственной, необузданной,
непредсказуемой логикой и логосом-дискурсом.
На Западе — то же самое, но не то же самое («одно, но не оди-
накое»): «две культуры», о которых говорил Ч. Сноу в известной
лекции полвека назад9, не являются политическими оппонентами в
такой мере, как в России. На Западе общество устроено таким
образом, что политические и идеологические противоречия и
противостояния в значительной мере нейтрализуются разного рода опо-
средованиями, общным опытом. Западные общества и научные
(гуманитарные) сообщества, на первый взгляд, поражают нашего
человека своею жесткой, иногда прямо-таки дурацкой
политизированностью, напоминающей наши 1920-е гг.; но, присмотревшись,
можно заметить, что решающим фактором и качеством жизни
является там сложившаясь исторически (веками) социальная
дифференциация, которая допускает и даже требует «политики»
постольку, поскольку основное политическое тело нации живет и раз-
виается вне централизованной «верховной» власти. В России
соответствующие условия стали вызревать после 1861 г. и особенно
после 1905 г.; все стало иным после 1917 г. и остается иным
сегодня. Раскол между духовностью и научностью социально назрел,
по-видимому, уже к 1860 г. (примерно к моменту действия романа
И. С. Тургенева «Отцы и дети»); советский век привел к
гражданской войне в «научно-духовных» областях и дисциплинах, привел
почти к полному разделению, которое сейчас, после «конца
разговора» Нового времени, лишь отчасти и по видимости замирено,
загнано внутрь, но в действительности, очищенное от окказиональных
идеологий, только сейчас, «после всего», становится проблемой — и
далеко не только в гуманитарной эпистемологии. Произошла
мутация общественно-исторического сознания и самосознания,
как это подметил С. Г. Бочаров (подхватив мысль поэта В.
Ходасевича из 1921 г.), имея в виду отдельный случай Абрама Терца как
404
Раздел второй. Рассечение
«авто-героя» А. Д. Синявского, позднесоветского исследователя-
стилизатора В. В. Розанова10.
Розанов, как известно, любил показывать язык и строить рожи
интеллигентской «общественности»; подражать этому или
любоваться этим сегодня - значит не понимать происшедшего в России и
в мире в минувшем столетии; но если лучше понять «обывательскую»
позицию В. В. — не «философскую», но «литературную»
(филологическую), — то это может оказаться поучительным как раз в
философском отношении. Недаром В. В. в «Опавших листьях» назвал
человека (в скобочках) «вечным филологом»11.
То, что в России произошла какая-то чудовищная, почти
немыслимая катастрофа, которая, однако, не есть «трагедия» в
западноевропейском — «классическом» и государственно-политическом — смысле
этого слова, а что-то такое более жуткое и в то же время комически-
несуразное, нелепое и «дурацкое», — это было остро осознано в
поколении, выходившем из символизма, в центрированных на литературе
символах русской духовно-идеологической культуры. Ключевыми
«неклассическими» авторами снова и по-новому оказались тогда два
русских классика, в свою очередь выходившие из и отходившие от
первоклассика Пушкина, — Достоевский и Гоголь12. Отныне разговор
о литературе — классической и современной - приходилось
выстраивать и вести как-то по-новому, методологически иначе. И в этом
пункте были, по существу, согласны все: и теоретик русского
символизма В. И. Иванов, и его приятель-оппонент, историк русской
культуры М. О. Гершензон, и спорившие с ними обоими (и между собою)
М. М. Бахтин и Л. В. Пумпянский, и философы-неокантианцы (как
В. Сеземан, например)13, и русские формалисты, принципиально
порвавшие с философией и традиционной российской «идейностью».
Речь шла о «чужой речи» — классическом наследии, или «культуре»,
в ее отношении к пост- или разновременникам, т. е. не только к
прошлому и не столько к так называемым вечным ценностям, но к
настоящему и будущему, отвечающим за культуру перед докультурным,
донаучным миром жизни.
Так вот: едва ли не первый русский мыслитель-писатель после
Достоевского, «современность» которого, возможно, снова и по-
новому застигла нас врасплох, — это В. В. Розанов. Мы снова и по-
новому — «на месте происшествия», где постсовременники остаются
современниками и соучастниками давно происшедшей и описанной,
но все еще продолжающейся на свой особый лад истории, как об этом
выразительно писал несколько лет назад Петер Слотердайк в книге о
«Читайте Розанова», или на месте происшествия 405
хайдеггеровских мотивах современного сознания и мышления14.
Возможно, нечто в этом роде имел в виду и M. M. Бахтин, когда он сказал
трем молодым филологам (!), впервые навестившим его в саранском
небытии-заживо в мае 1960 г. и подступавших к автору книги о
Достоевском 1929 г. с вопросом: что читать?
— Читайте Розанова15.
Тем самым косвенно указана трудность, с которой мы начали, а
именно — парадокс разновременной одновременности («момент
возвращения») и, соответственно, гуманитарно-эпистемологическая
проблема опосредованной вненаходимости нашего «сегодня» миру,
тела которого — с «естественной» точки зрения — давно нет.
Запомнившаяся В. Н. Турбину реплика того же M. M. Бахтина: «Да-а, а
Розанов им, конечно, был не по зубам»16, я думаю, относится не только и
даже не столько к «идеологической», сколько к «эпистемологической»
стороне дела. Говоря словами одного из крупнейших гуманитарных
эпистемологов последних десятилетий, «время интерпретации
некоторым образом принадлежит времени традиции»17. Принадлежит,
т. е. входит в одно «общное» временное тело мира события, хотя бы и
на правах другого, «второго» сознания.
Но «традиция», которая реально означает опосредование через
передачу опыта, в интересущем нас случае почти разорвана, т. е.
лишена преемственности. Между тем «парадокс разновременной
одновременности» — налицо; его на свой лад, обыгрывая розановские
мотивы, выразил Вен. Ерофеев в эссе «Василий Розанов глазами
эксцентрика» (1973), обращаясь от лица своего советского авто-героя к В. В.:
Все переменилось у нас, ото «всего» не осталось ни слова, ни вздоха.
(...) Жид почему-то вечен. Кащей почему-то бессмертен18.
«Историческое недоумение»19, которое можно почувствовать
в этих словах, литературно обыграно здесь, как бы анестезировано
эстетически и преодолено; но «в жизни», похоже, оно так и осталось
недоумением, т. е. вопросом без вопроса и без ответа. Без «прямого»
ответа.
/Между метафизикой и филологией
Насколько «русский Ницше», каким переживали и понимали
Розанова уже его современники, может быть предметом научно
ориентированной современной философии, — это вопрос. Ведь и сам
406
Раздел второй. Рассечение
Ницше в философии немецкой, как известно, стал предметом
академического изучения не ранее 1930-х гг., после того как в особенности
Ясперс и Хайдеггер «довели до ума» университетской философии
объективно-исторический смысл мышления Ницше для
современности20. Один из известных учеников Гадамера, Манфред Ридель,
недавно утверждал даже (в контексте проблемы влияния
филологического мышления на философское мышление), что Ницше в России
сумели как-то почувствовать и оценить раньше, чем в Германии,
благодаря влиянию филолога-классика Φ. Φ. Зелинского21. Если это —
преувеличение в отношении Ницше в Германии, то оно все же не вовсе
ложно, как мы постараемся показать, в отношении Розанова в России.
Поставим вопрос так: если Розанова у нас и за рубежом, похоже,
больше читают и ценят филологи и историки культуры, чем
философы22, то нельзя ли изнутри филологии подойти к Розанову именно
как философу, притом с точки зрения исторического опыта мышления
нашей современности, а еще точнее — с точки зрения некоторого
фундаментального противоречия внутри «литературоцентризма»
и кровно связанного с ним русского гуманитарно-филологического
мышления?
В этой исследовательской перспективе характерна
амбивалентная оценка М. Горьким книги В. Шкловского о Розанове,
приводимая в воспоминаниях К. Федина23. С одной стороны, «Розановым
там и не пахнет: все про сюжет»; с другой стороны, «какой
талантливый человек!» (автор — Шкловский). Амбивалентность, или
ценностное противоречие, здесь, явным образом, — в том, что «талант»
автора книги о Розанове, на взгляд Горького, как бы незаслуженно
переигрывает героя книги, автора куда как значительного по
содержанию, по идейному содержанию. Горьковский «горизонт ожидания»
ориентирован на идейное содержание в традиционном смысле;
Шкловский, как не мог не заметить такой неравнодушный его
читатель, как Горький, умышленно и полемически сузил и «снизил» это
содержание, отбросив всю его проблемность (и проблемную же
незавершенность), превратив открытые розановские горизонты смысла
в готовые, почти бессмысленные, интересные для формального
анализа «вещи». Отметим пока лишь эту как бы нерешенность оценки,
выразившуюся в суждении Горького пореволюционных лет: высоко
оценен «талант» автора — Шкловского, который, по мысли Горького,
недооценил, а то и вовсе не понял со своим «формальным методом»
исследуемого автора. Но в чем же тогда «талант» Шкловского, тоже
ведь несомненный? Ведь если сказать, что Шкловский оценивает и
«Читайте Розанова», или на месте происшествия 407
анализирует Розанова как «формалист», то это будет, казалось бы,
верно, но, оценивая так, мы попадаем в ловушку: оцениваем
формализм формалиста и его несомненный талант формально, а не
содержательно.
Апория, или трудность, скрытая здесь, — методического
порядка: дело идет о преобразовании самого взаимоотношения между
«истиной» и «методом» в научно-философской культуре минувшего
столетия. Это преобразование явилось ответом на вызов времени —
вызов, который хронологически и по существу совпал с моментом
написания и потом публикации ОПОЯЗовской брошюрки В.
Шкловского и читательской реакции Горького на учиненную Шкловским,
как сказали бы сегодня, «деконструкцию». Тем самым мы подошли к
«проблеме проблем» наследия Розанова — не так называемых «судеб»
этого наследия, не его содержания в частностях или в целом, но во
взаимоотношении этого содержания с рецепцией его, выводящей это
содержание за пределы его самого, из «собственного» малого времени
в несобственное, «большое».
В плане истории культуры это — проблема преемственности,
перехода из прошлой эпохи в современную («мою» или «нашу»);
такому переходу посвящена миниатюра В. С. Соловьева «Тайна
прогресса» — герменевтическая притча для верующих и неверующих с
ее концовкой-наставлением: «Спасающий спасется»24. Но такой
«поворот винта» подготовлен методически не столько русской
философией, сколько русской филологией XX в. Русская филология
определенной эпохи если не опору, то все же какие-то подступы в этом
направлении дает, но, конечно, при условии адекватной исторической
критики.
Русский «литературоцентризм», как все, по слову Достоевского,
«выжитое» в опыте (т. е. социально-исторически), несправедливо и
неправильно оценивать однозначно — все равно, будет ли оценка
положительной или отрицательной. С тем, что К. Г. Исупов называет
«русской эстетикой истории»25, внутренне связана относительная
неразвитость и недооценка предметной разработки любого вопроса,
отсутствие культуры предметной дискуссии и т. п. Такие вещи слишком
часто представляются у нас скучными и никуда не ведущими от-
влеченностями. А хочется (как говорит герой «Преступления и
наказания») «сразу весь капитал» — будь-то Бог, мировая революция
или «смысл жизни» — метафизическая дыра от бублика, в которой не
жалко утопить и похерить всякую бренную и съедобную, питающую
и питаемую «эмпирическую действительность». На защиту последней
408
Раздел второй. Рассечение
от доморощенной, если не всякой, метафизики — «духовной» или
«научной» — и встал Розанов. Встал не как автор карманной
метафизики, легко расхищаемой на цитаты и неизбежно превращающейся
в «розановщину», но как писатель-филолог, своим жанром, своим
«письмом» подготовивший прерванную в свое время новую
постановку вопроса о взаимоотношении «литературности» и «идейности».
Любительская метафизика Розанова, состоящая из импульсов
или догадок, имеет одно бесспорное достоинство: она «литературна»
и как бы необязательна. Там же, где она претендует на какую-то
значимость, изъятую из конкретной ситуации общения-реагирования,
там приходится вспомнить предвосхищающее поворот и «переход»
XX в. замечание молодого Б. Грифцова, который не без раздражения
писал в связи с Розановым в своей книге 1911 г.:
Всякую метафизику, как систему понятий, притязающих на
общеобязательность, ждет та же участь. Будет ли то материализм,
марксизм или христианская метафизика — они все равным образом
создаются людьми, уверенными в возможности познания в понятиях
огромных полей жизни, их всегда ждет одно и то же наказание за
эту уверенность — наказание — в виде полной логической
случайности их систем26.
Это высказывание — важное свидетельство того, насколько
уже самостоятельно (органически) русская мысль между двух
революций подошла или подходила к одной из важнейших тем
философии XX в. — критике и преодолению «метафизики» — сюжет, в
ино-научном своем измерении не отделимый от начинавшейся тогда
эпохи завершенной демократии — Конца Нового времени.
В этом контексте «метафизическое барство», в котором
эмигрантский историк русской религиозной философии обвинил, в
конце концов, дискурс и письмо Н. А. Бердяева27, косвенно
характеризует поворот речи, происшедший в XX в., не вполне понятный в
советских координатах мышления, но в других координатах, возможно,
способный пролить свет также и на перелом и разрыв, происшедшие
в советский век.
Монологические «системы», идеологические «конструкции»
и т. п. больше невозможны постольку, поскольку они упускают из
виду «мелочи» повседневности, которые при определенных
обстоятельствах приобретают решающее значение, в которых или которыми
живут реальные люди, даже если никакого «решающего значения»
эти «низкие» вещи никогда не будут иметь для «общественности»,
«Читайте Розанова», или на месте происшествия 409
для идеально-виртуального «всемства», при том, однако, что такие
мелочи как раз «всех касаются». Реальность мира жизни сложнее и
больше того большего, на постижение которого претендует всякая
метафизика (религиозная или естественнонаучная).
Розанов «актуален» сегодня (после советского века) не столько
потому, что с ним снова и по-новому можно спорить или
соглашаться, сколько, вероятно, потому, что почти через сто лет после
книги Б. Грифцова мы снова и по-новому оказываемся в
обратившемся времени двух взаимосвязанных императивов, которые
двигали молодым Б. Грифцовым в его критике Розанова не «против», а
«за» — (1) задачи новой русской философии и (2) задачи новой
русской общественности.
Розанов не только, по выражению того же Б. Грифцова,
«пытался приручить Достоевского»28; подобно Достоевскому-идеологу,
Розанов даже пытался поначалу приручить себя самого — в поисках
себя уйти от себя... Книга «О понимании», эта карикатура на
западноевропейский научный дискурс — без научного аппарата, без ссылок,
без попытки вступить в дискуссию — крайнее выражение поиска
«идеала» вместо того, чтобы найти себя самого. (О человеке говорят:
«Он нашел себя в том-то», имея в виду какую-то реальную сферу или
способ деятельности; строго говоря, невозможно найти себя ни в
себе самом, ни в идеале.) Розанов нашел себя вроде бы не в большом,
а в малом — в эстетике слова, в наитиях письма и разговора, я бы
сказал — письма-как-разговора. Это — тоже филологическое
смещение так называемого содержания, но не формалистическое, не
умаляющее, а, наоборот, обогащающее содержание в каких-то не чисто
содержательных, но при этом в смысловых направлениях или
направлении.
Все это, как представляется, с наибольшей глубиной было
понято в исторический момент начала Конца Нового времени, в момент,
как мы говорим, «смены философско-гуманитарной парадигмы»,
совпавшей с переломом русской истории — радикальным разрывом,
рассечением «гражданских» оснований и убеждений в обществе и в
научном сообществе29.
Поэтому и подступ к мышлению В. В. Розанова сегодня, как
представляется, должен избегать «платонизма варваров» и быть по
возможности тоже «непрямым», т. е. исследованием опосредовании. Под
этим углом зрения попробуем разобрать и прокомментировать три
различных подхода к Розанову как «филологу», или «писателю»:
попытки Виктора Шкловского, Осипа Мандельштама и Михаила
410
Раздел второй. Рассечение
Пришвина. Все трое исходили из одного и того же опыта «столетнего
десятилетия» и его еще только становящихся возможностей или
последствий — опыта пореволюционного у но не советского, т. е не
сводимого к «официальным» обозначениям и представлениям,
закрепившимся в общественном и научном сознании
постсовременников, — нередко с обратным знаком, в порядке, так сказать,
советского официального сознания наизнанку.
Жест, пантомима и символ
В. Б. Шкловский, «литературный броневик» культурной
революции первого послеоктябрьского десятилетия, предложил свой
подход к кризисным книгам В. В. Розанова — «Уединенному» и
«Опавшим листьям» — в кризисный тоже момент русской истории,
в ситуации, можно сказать, «нулевой ступени» гражданского мира и
культуры30.
Прежде чем обратиться к «удивительной», по слову О.
Мандельштама, теории В. Шкловского, уместно отметить следующее: подобно
тому как великая русская литература XIX—XX вв. в каком-то смысле
философичнее русской философии31, — точно так же и русская
филология оказалась «на месте происшествия» существенно иначе, чем
философия — не столько мировоззренчески, идеологически, сколько
«культурно» и «спецификаторски» (как говорили в 1920-е гг.). Именно
по этой линии, судя по всему, проходил и от десятилетия к десяти-
лению углублялся разрыв, о котором здесь все время идет речь, —
холодная гражданская война между традиционной «идейностью»,
«духовностью», «общественным идеалом» — с одной стороны, и
позитивной «научностью» профессионалов, или «клерков», — с другой
стороны. Не русская философия, но русская филология с ее литерату-
роцентризмом оказалась в XX в. в научно-гуманитарном отношении
«на высоте» постольку, поскольку последовавший за Первой мировой
войной первый и главный «взрыв», за которым в Западной Европе и
в мире последовали все другие события и взрывы, произошел и
воспринят был — с притязанием на науку — именно в России32.
Знаменитый зачин «Теории романа» Георга Лукача (1916; 1920) —
книги, которая, как известно, сама была только интродукцией в
многотомный политико-теологический и эстетико-террористический
трактат о судьбах западноевропейской цивилизации в свете
творчества Достоевского и «русской идеи», — замечательно фиксирует
момент самотрансцендирования философии в процессе смены ее
«Читайте Розанова», или на месте происшествия 411
«парадигмы», когда известную инициативу в процессах
возникновения нового мышления приобретают не только и не столько
философы33.
Вот почему, надо думать, «литературная» пиния рассечения
духовной истории российского политического тела, слова и дела
представляет особый интерес для гуманитарной эпистемологии. На
уровне официального языка и сознания это рассечение питалось и
углублялось за счет футуризма эпохи и за счет как бы позитивной
идеи «культурной революции» и «нового человека», а на уровне
неофициальном превращалось в нечто подобное, но совсем иное, в
правдоподобно-бесподобное; это и есть «мутант исторический» в том
или ином своем облике. В 1921 г., когда Шкловский в бывшей столице
«клеил» из опавших листьев и печатных листочков уже умершего, уже
написавшего «Апокалипсис нашего времени» (1917—1918) В. В.
Розанова, этот двоякий процесс (радикальный разрыв с прошлым — и
не менее радикальная монструозно-комическая реституция, или
мутация, прошлого) еще в самом начале, на своей «гениальной стадии»,
т. е на стадии «смены парадигм». Здесь, в «начале», видно, в
известном смысле, «всё»; «В моем начале — моей конец», как сказано
у Т. С. Элиота (в «Четырех квартетах»). В. Шкловский, как известно,
предложил свою интерпретацию «литературности» Розанова, —
имея в виду, правда, лишь «Уединенное» и два «короба» «Опавших
листьев»34. Интерпретация получилась вызывающей — вызывающе
обедняющей. Но при этом Шкловскому удалось «вытянуть» из
Розанова нечто существенное, причем такое, что при обычном
предметно ориентированном («прямом») подходе к чужой мысли и слову
вообще не фиксируется и не тематизируется. Некое качество своего
«героя» Шкловский превратил в собственное авторство, в способ
подхода и оценки Розанова. Анализируя «интимные до оскорбления»
поздние книги Розанова, Шкловский радикализовал моменты
вызова, характерные для избранного им автора, и превратил их в нечто
как бы новое — в оскорбление еще большее, потому что уже совсем
не интимное.
Как всякая талантливая, творческая ложь этот, как сегодня бы
сказали, «ход» (по Шкловскому — «прием» или «ход коня») заключал
в себе некую истину («момент истины»); отсюда предметные
трудности анализа и оценки так называемого формального метода в
литературоведении вплоть до сегодняшнего дня. (Мы заметили эту
объективную сложность в приводившемся выше суждении М. Горького.)
412
Раздел второй. Рассечение
Еще труднее сегодня увидеть и объяснить, почему предложенная
Шкловским очередная «пощечина общественному вкусу» заключала
в себе важное открытие, будучи в то же время, конечно, «сдачей
интеллигента», идеологической капитуляцией35.
По мысли Шкловского, «домашние» книжки Розанова — это
новое слово в литературе; но именно поэтому дело не в том, что в них
отразилась какая-то идейная позиция или так называемая душа
автора. Автор не столько отразил и отразился, сколько создал, сделал,
произвел; перед нами не эмпирика и не исповедь, не душа, но
конструкция, «строй», т. е. произведение — литературное произведение.
«Художественное произведение имеет душу как строй, как
геометрическое отношение масс» (323).
Можно ли «строй», т. е. форму художественного произведения,
ничтоже сумняшеся отождествить с материалом, понятым как
«геометрическое отношение масс», — это теоретический вопрос
эстетики словесного творчества, который нас здесь почти не касается.
Его, этот вопрос, сумеет снова и по-новому поставить будущая
герменевтическая история гуманитарно-филологического мышления
XX в., если решиться допустить, что такая со-временная духовная
история когда-нибудь будет написана и кому-то еще будет нужна.
Здесь нам важно лишь, что Шкловский заимствует у Розанова
музыкальную (временную) метафору формы, превращая ее в
геометрическую (пространственную) метафору; но все же и при таком
упрощении он пытается продолжать совершенно законную полемику
Розанова с позитивистским пониманием литературы. «Строй»
«Уединенного» и «Опавших листьев» — это «новый жанр», а именно —
разновидность пародийного бессюжетного романа, но «без комической
окраски» (326).
Шкловский пытается как бы переиграть Розанова, превращая
своего героя в автора, а себя — в автора-интерпретатора этого автора.
Более того: демонстрируя как бы научное безразличие и
объективность по отношению к содержанию чужой речи, слова Розанова, он
перенимает характерную для Розанова эстетическую завороженность,
которую переосмысливает и форсирует как сознательный прием
письма в «Уединенном» и в «Опавших листьях». Происходит своего
рода трансцендентальная рокировка между автором и героем,
интерпретирующим и интерпретируемым. В центре внимания Шкловского
оказывается завороженная догадка Розанова о себе самом:
Во мне ужасно много гниды, копошащейся около корней волос.
«Читайте Розанова», или на месте происшествия 413
Переигрывается признание, «интимное до оскорбления»:
сказанное писателем о себе становится приемом «остранения» со
стороны его читателя.
Розанов — это «восстанье» (337) против традиционных
литературных форм и, шире, — против прогнившей исторической формы
жизни. В. Шкловский сознательно продолжает этот бунт, хотя бы
и в качестве гниды, копошащейся у корней волос на мертвом теле
истории и литературы.
Конечно, гнида, копошащаяся у корней волос, — это не все, что
хочет сказать о себе Розанов, но это материал для постройки (327).
Главное — постройка, а не материал. Разумеется, это не все, что
хочет сказать о себе Шкловский.
Знаменитый «скандалист» 1920-х гг.36, человек воздуха
(общественной атмосферы), «формализм» которого Андрей Белый
определил однажды как «жест, пантомим(у) и символ», всегда знал и
понимал больше, чем говорил, — гораздо больше, чем осталось в
текстах, и что в позднесоветские десятилетия, в свою очередь, стало
материалом для постройки как позитивных оценок, так и
моральных обвинений русского формализма со стороны
постсовременников — «судей окончательных», по ироническому замечанию
Достоевского о «господах социалистах» в знаменитой интерпретации
романа «Анны Карениной» в «Дневнике писателя» (1877). Господа
социалисты с тех пор сделались не только литераторами (каковыми
многие из них и были), но и перестроившимися литературоцентри-
стами и культуроцентристами. Вообще «ревтройка» русского
формализма (В. Б. Шкловский, Б. М. Эйхенбаум, Ю. Н. Тынянов) не только
предвосхищает, но уже заключает в себе — в качестве научной и ино-
научной «парадигмы» — ходы мысли и речевого поведения, позднее
«экспортированные» на Запад (в частности и в особенности —
через Р. О. Якобсона) и почти неузнаваемо перевоплотившиеся во
Франции (а потом и в США) в качестве «мышления 68-го года» с его
«теоретическим антигуманизмом», «смертью человека», «смертью
автора» и т. п. — на Западе, правда, в основном уже только «в тексте».
«Героическая попытка уйти из литературы» (326) — все равно
литература, только литература — такова главная мысль нового
Фридриха Шлегеля новой смены парадигм. Мысль высказана и невыска-
зана в одно и то же время — «жест, пантомима и символ», как
охарактеризовал Шкловского А. Белый37. Так называемой присяжной
414
Раздел второй. Рассечение
философии нечего делать с такого рода «непрямыми»
высказываниями; как, впрочем, нечего с ними делать и «постмодернистским»
идеологам кровосмесительного брака по расчету между литературой
и философией — того, с чего началась в лице В. Шкловского и к чему
должна была прийти в исторической точке своего советского конца —
«формалистическая парадигма»44.
От прошлого Шкловский отталкивается куда решительнее и
циничнее, чем Розанов, — парню «из Шклова» (это выражение
встречается в «Апокалипсисе нашего времени») почти нечего терять,
кроме своих цепей. Но литературу, по отношению к которой
«литературный броневик» чувствует себя не столько броневиком, сколько
гнидой, копошащейся у корней волос, — литературу как некую
нейтральную ценность автору книжки о Розанове все же хочется
удержать на футуристическом корабле современности в виде
«удовольствия от текстов» (как выразится много позже Ролан Барт). Только
тексты, «новый жанр» и эстетизованную «литературность»39 ученик
берет у учителя в будущее. Розанов еще заворожен собою, Шкловский
заворожен литературой, — рассечение проходит по этой линии,
которую эпистемолог, не прошедший герменевтической школы, назовет
субъект-объектной парадигмой и вряд ли заметит происходящий
парадигматический «перевертыш». А именно: персональное,
экзистенциальное измерение («слишком человеческое») остается здесь в тени
и в нетях — вместе со всем своим традиционным содержанием; его
место занимает рационально-всеобщее, как бы научное, объектное
измерение предмета и разговора о предмете (научные жанры речи,
«культура» и т. п.). Цинизм потом уйдет с публичной сцены или будет
маскироваться; но структура речи, конципирующей предмет
полемически и с полемическим рассечением реального материала,
предлежащего исследователю, — это останется в овеществленном виде
«научных результатов», вне контекста события и событий, которые были
«условиями возможности», «историческим априори» всех попыток,
удач или неудач.
Под углом зрения гуманитарной эпистемологии уместно
подчеркнуть следующее: «концы» парадигмы, как правило, не ведают ее
«начал», потому что в точке конца не имеют опыта начала, а имеют
в лучшем случае — общее знание об этих началах, более или менее
анонимное и абстрактное, которое поэтому не может не
передаваться следующим поколениям, по слову М. М. Пришвина, «засмыс-
ленно». В естественных науках и в математике это, вероятно, менее
«чревато», в историко-герменевтических дисциплинах такой способ
«Читайте Розанова», или на месте происшествия 415
передачи рано или поздно ведет к отмиранию преемственности —
«традиции» и «наследия». Спасающий не спасется, потому что он или
она спасает только себя; другими словами, «второе сознание»
перестает быть вторым принципиально; оно становится отчасти
двойником первого, отчасти самозванцем — и неизбежно теряет себя в
будущем, в которое «верило». «Нужно перестать быть только самим
собою, чтобы войти в историю», — писал M. M. Бахтин в споре с
русскими формалистами40 в тот единственный момент русской истории,
когда «войти в историю» было коллективной задачей, но уже в
ситуации рассечения коллективного национального тела, но при при
сохранения идеи «общего-всеобщего»41.
Возвращаясь на «место происшествия», каким оно предстает в
рассуждениях В. Шкловского о В. В. Розанове, нетрудно заметить,
что цинизм по адресу публики старого толка, горизонт ожидания
которой еще ориентирован на внелитературные цели и ценности,
превращается в настоящий, «ощутимый», внелитературный цинизм,
который как раз и заключается в редукции социальных, исторических,
нравственно-практических, познавательных и иных компонетов
словесно-художественного творчества — к «чисто литературному»
факту и фактам.
Предвосхищая моральное возмущение этой своей редукцией,
автор текста «Розанов» вступает в прямой вызывающий спор со своею
же аудиторией, которая еще есть, но которой уже нет:
Мне, может быть, скажут: «А нам какое дело до этого?» Я тоже мог
бы ответить: «А мне какое дело до вас?» (326).
Внелитературный затекст такого «речевого поведения» и тона —
полный распад государства и общества. Перед нами подчеркнуто
полемический, вызывающе неинтеллигентный выбор-ответ русского
интеллигента в исторической ситуации трагикомедии
интеллигенции. Выбор, конечно, не чисто научный (внутри только еще
имеющей быть литературной науки), но скорее на границах гражданского
мира жизни и литературной теории. Выбор перед лицом общества,
рассеченного гражданской войной, и так называемых вечных
ценностей, ставших как бы бесхозными. Тут, понятно, замешена не только
«политика», но и не только «эстетика». Вспомним в этой связи
знаменитый пассаж из романа Бориса Пильняка «Голый год»
(опубликованного практически одновременно с научно-артистическим опытом
Шкловского о Розанове) — как бы карикатуру на хайдеггеровскую
416
Раздел второй. Рассечение
«решимость», по-русски литературно опередившую немецкий
философский оригинал:
Большевики.
Кожаные куртки.
«Энегрично фукцировать». Вот что такое большевики. И чорт с вами
со всеми - слышите ли вы, лимонад кисло-сладкий7.*2
Нечто сходное в смысле зафиксированного здесь восприятия
положения дел (а не только партийно-риторического
«позиционирования» по поводу положения дел) можно заметить, если «место
происшествие» рассматривать не в общественно-политической и не в
литературно-эстетической, а в научно-гуманитарной плоскости. Как
пришел русский формализм? Почему литературно-теоретическая
«ревтройка» (В. Б. Шкловский, Б. М. Эйхенбаум, Ю. Н. Тынянов) так
сразу и легко «победила» прежде, чем ее же импульсы стали
достоянием ее оппонентов, от самых агрессивных до эклектиков, которые,
оправившись, сперва дезавуировали формализм, а позднее
«переварили» его так называемые научные достижения и результаты в некое
подобие советской академической науки — «нормальной науки» по
Т. Куну с ее паранормальным «эклектическим двоемыслием»?
В 1926 г. выдающийся советский литературовед Б. М. Эйхенбаум
вспоминал уже как далекое прошлое обстоятельства, при которых
«буря и натиск» первых выступлений «формального метода» стали
возможны и могли сделаться сенсацией на общем фоне «невиданных
перемен» в России и в мире:
Ко времени выступления формалистов «академическая» наука,
совершенно игнорировавшая теоретические проблемы и вяло
пользовавшаяся устарелыми эстетическими, психологическими и
историческими «аксиомами», настолько потеряла ощущение своего
собственного предмета исследования, что самое ее существование
стало призрачным. С ней почти не приходилось бороться: незачем было
ломиться в двери, потому что никаких дверей не оказалось - вместо
крепости мы увидели проходной двор43.
«Формальный метод», таким образом, пришел почти на готовое
и победил «легко», вследствие чего он и сам — как система мышления
«всерьез и надолго», как парадигма — довольно быстро разложился
в стремительно разлагавшейся, стремительно менявшейся среде
задолго до учененного над «формализмом» дисциплинарного погрома
свыше44.
«Читайте Розанова», или на месте происшествия 417
Литературный контекст предложенного В. Шкловским
«научного» обеднения розановского письма, как отмечалось выше, —
повторение розановского «жеста», переигрывание цинического
образца. Перед нами глубоко поучительный своею историчностью
прецедент «цинического разума» в двадцатом столетии45.
В самом деле: тот самый автор, который в «Опавших листьях»
писал: «Не литература, а литературность (курсив в тексте. — В. М.)
ужасна; литературность души, литературность жизни»46, — Розанов
разоблачается, но вместе с тем и позитивно оценивается Шкловским.
Интерпретируемое — ив этом, по-видимому, «удивительность» всей
теории — как бы «спасается» интерпретатором в качестве
литературной ценности, которая сама становится содержанием и в таком
качестве оказывается приемлемой в новых исторических условиях,
когда тяга к утопии — новой жизни, новому миру, новому человеку,
новому «всему» — оборачивается столь же «идеальным», полным
цинизмом и нигилизмом по отношению к «бывшим» как таковым47. В
затексте того, что происходило и происходит за последние двадцать
лет, нам сегодня гораздо легче, чем, скажем, в 1960-е гг.,
почувствовать и понять, что не внешняя сила и не насилие сделали возможным
то, что в России произошло в свое время, а, наоборот, полная
дезорганизация социального мира, утрата не столько «духовных», сколько
«общных» авторитетов, ориентиров и договоренностей сделали
возможной полное, неограниченное насилие и власть одной «железной»
партии. Отсюда — совсем не трагическая и не классическая (не
возвышенная) констатация В. В. в начале его «Апокалипсиса...»:
Русь слиняла в два дня. Самое большее - в три.
Вот тебе и Толстой, и Алпатыч, и «Война и мир»48.
Реальный опыт прошлого и современности свидетельствует, что
духовный крах общества, какая бы «в державе датской гниль» ни
была историческим a priori этого краха на протяжении десятилетий,
а то и столетий, может быть (точнее, не может не быть) полным,
завершенным крахом только там и тогда, когда взрывается не столько
«духовное», сколько «политическое» тело общества, которое,
понятно, никогда не бывает ни просто материальным, ни тем более
идеальным49.
Теория, или, если угодно, деконструкция, которую предложил
литературный скандалист и ироник постромантической, прото-
пост-модернистской формации, — это двойная редукция, двойное
418
Раздел второй. Рассечение
упрощение во славу литературы и литературности. Исторический
мир жизни с его, литературно выражаясь, «промотавшими отцами»,
с его беспомощной и посрамленной интеллигенцией, отправляется
интерпретатором-наследником — «вторым сознанием»,
чувствительным до цинизма к так называемому голосу истории и
опирающимся, между прочим, на великого поэта с его «ничего не жаль» в
великой поэме «Двенадцать» (1918), — в историческое небытие; на
пресловутом корабле современности остается — нет, не одна лишь пена,
но, так сказать, культурные «пенки» для удовольствия от текстов.
В результате традиционный, имперский «литературоцентризм»
русской культуры Нового времени — в начале Конца Нового времени
сохраняется и даже усиливается. Литература и литературность только
симулируют выигрыш в этом двойном отрицании, в расхищении
«героя» и «автора», учителя и ученика, первого и второго сознания —
соучастников интерпретации истории как отсечения членов истории
и членства в истории. Иначе говоря, идеализированная
литературность литературы — как и трактовка «поэтического языка» на
революционной, или гениальной, стадии русского формализма —
оказывается (при всех необходимых научно-культурно-литературных
оговорках) — «паразитом паразита»50.
«Пафос чистого искусства с советской историей как-то завязаны
в этом опыте намертво»: это соображение С. Г. Бочарова по поводу
тюремных сочинений Абрама Терца — А. Д. Синявского 1960—70-х гг.51,
как кажется, проливает обратный свет на советскую цивилизацию
с ее supplément, принципом восполнения и вытеснения —
«культурой» (в особенности «литературой»). Это — преемственность, но
неблагодарная по отношению к «остраняемой» традиции, а потому
обреченная быть двойником отрицаемого на манер «фантастического
реализма» Достоевского, — «гнидой, копошащейся у корней волос».
Западноевропейское «место происшествия» того же и не того же
самого здесь, как всегда, отрезвляет и предохраняет историка научно-
гуманитарного мышления от специфически российской формы
«обособления», именно — от ложного сознания собственной
исключительности (позитивно или негативно понятой), связанной с этим, ра-
дикализованным в советское время, обособлением. На основании
того, о чем говорилось в первом разделе этой книги, мы вправе
сказать так: формалистическая парадигма, или «материальная
эстетика», — частный случай той фронтальной субъективизации
сознания Нового времени, которая выразилась в отрицании и
«субъекта», и «сознания» и которую Г.-Г. Гадамер, как мы помним, подверг
«Читайте Розанова», или на месте происшествия 419
критике в первом разделе своей главной книги в качестве «позиции
искусства» (der Standpunkt der Kunst), a M. M. Бахтин (почти четырьмя
десятилетиями ранее) определил научно — как некритическое
оборачивание и выворачивание наизнанку классического разума и
идеалистической эстетики52.
Подводя итог интерпретации В. Шкловского, уместно
обозначить два исторических (по)следствия,уже заключенных в этой
интерпретации — «жесте, пантомиме, и символе». Первое следствие
относится к советской (но не только советской) духовно-идеологической
культуре мышления, второе — к советской (но не только советской)
научно-гуманитарной культуре мышления; та и другая (в своей
сегодняшней отброшенности скорее к «корням волос», чем к «истоку
художественного творения», по Хайдеггеру).
Во-первых (как и предвидел В. В. Розанов), революционной
энергии одной отдельно взятой политической партии и одной
радикальной «точки зрения искусства» чем дальше, тем больше
нехватало для осуществления задач, осознававшихся как русский
мессианский «эксклюзив», как преобразование всего человечества «по
новому штату» (все та же сатанинская, постромантическая ирония — «а
он хохотал, и все хохотал!» — «архискверного Достоевского»!)53.
В самом деле, одна отдельно взятая партия, для того чтобы стать
по-настоящему народной, должна была самоуничтожиться, духовно
и телесно, и создать «мутанта исторического» как исторически еще
возможный компромисс между утопизмом революционным и
утопизмом контрреволюционным, как топос утопии, как имперскую
реституцию «платонизма варваров» в мышлении «низов» и «верхов»54.
И то же самое — «с другого конца» и «с другой рожею»:
предварительные и спорные, разрозненные суждения русских
формалистов сделались для одних новыми «аксиомами» нормальной науки,
для других — нравственными уликами едва ли не против научности
как таковой. В том и в другом случае происходила полемическая
радикализация и поляризация «позиций» % крайности сближались и
«двоились» по законам фантастического реализма Достоевского,
прежде чем — уже в наше время — почти окончательно «засмыс-
литься» и обособиться в тех или иных эстетизованных «мифемах»
современного общественно-политического, научного и
философствующего сознания. Все это не могло не привести к относительному
исчерпанию и обессмысливанию предшествующих поколений, к
паразитарной модернизации или научно-позитивистскому разложению
прежних творческих движений. Отсюда состояние относительного
420
Раздел второй. Рассечение
«конца разговора», обострившееся в «нулевые» годы. Все или почти
все «концы» действительной (а не мифологической) историчности
истории, можно сказать, канули «с концами», все авторства авторов
в самой борьбе с овеществлением — овеществились в текстах и в
популярных способах чтения-присвоения текстов, сделавшись почти
анонимными. То, что постулировалось когда-то как еще творческий
цинизм освобождения от прошлого, еще согретый его теплом и
светящийся его светом, — делалось пустой внутри себя «практикой
порядка», лишенной всякого направления, отношением к любому
«содержанию» как к чему-то наличному и готовому, как к
овеществленному и безответному историческому «материалу для оформления».
Имманентная кара за «остранение» прошлого в конечном счете
привела к «остранению остранения» и «возвращению вытесненного».
В последние два десятилетия, похоже, произошло (и происходит)
«серьезно-смеховое» повторение того же самого, неповторимое
постольку, поскольку «место происшествия» вышло за пределы всех
прежних политических идеологий и явило себя, свое событие, как
несводимое к идеологиям в них же самих и после них.
Акрополь
Если Шкловского интересует творческое сознание Розанова в
тесной связи с «восстаньем» этого сознания против отжившего свое
миропорядка по принципу: «Быть может, все в мире лишь
средство...» (для текстов), то для Осипа Мандельштама такой подход
должен был казаться тем, чем он в действительности и был. А именно:
не лишенным своего так называемого рационального зерна
постсимволистским, пост-декадентским, футуристическим упрощением
и Розанова, и идеи филологии.
Во всяком случае, набросанная Мандельштамом в статье «О
природе слова» (1922)54 концепция творческого сознания Розанова
тоже на свой лад перемещает центр интереса и внимания с «идей»,
«мировоззрения» и персонально-риторического исповедания веры
на другой род бытия «содержания» — на неапофантический логос
или дискурс. Но если В. Шкловский (как и другие формалисты на
генерально-гениальной стадии «бури и натиска»), так сказать, спасает
и усугубляет русский литературоцентризм посредством отделения
«литературности» (и литературной науки) как от познавательной,
так и от нравственно-поступательной составляющих реального
феномена, именуемого «литературой», то О. Мандельштам предлагает
«Читайте Розанова», или на месте происшествия 421
и литературу, и литературность Розанова увидеть и оценить в свете
более широкого, всеобъемлющего понятия — понятия «филологии».
«Любовь к слову», т. е., буквально, филология, становится у
Мандельштама — в контексте общего для эпохи переживания смены
культурных циклов — своего рода экзистенциальной метафорой
творческого сознания Розанова. Здесь, следовательно, тоже, как и у
Шкловского, сделана попытка «спасти» Розанова как «писателя» (а не
«философа» или, скажем, «публициста») от будущего и для будущего. Но
писатель Розанов интересует Мандельштама не столько в качестве
«литератора», сколько в качестве «филолога» в еще живом и
общепонятном тогда смысле слова.
Примечательно, что Мандельштам, как В. Шкловский, тоже
связывает своеобразие Розанова как писателя с его «домашностью».
Только для него эта домашность не столько признак «литературности»
в формалистическом смысле, сколько признак «филологичности»:
филология оказывается в оппозиции к литературе и литературности:
Отношение Розанова к русской литературе самое что ни на есть
нелитературное. Литература — явление общественное, филология —
явление домашнее, кабинетное. Литература — это лекция, улица;
филология — университетский семинарий, семья (61).
Перед нами — метафорика, для поэта скорее естественная.
Иной философ, в особенности воспитанный на естественнонаучном
мышлении, отнесется к этому так, как он считает уместным
относиться к словесным украшениям и ухищрениям, не имеющим
привычного (прямого) отношения к «смыслу». «Филолог» в понимании
Мандельштама (следующего здесь за самим Розановым), так сказать,
больше философ, чем «философ». Но, конечно, ни филологического,
ни поэтического языка недостаточно для реального, «дискурсивного»
обсуждения и осмысления того, что здесь имеется в виду под
«филологией». Что же хочет сказать Мандельштам своей метафорой?
«Филология» нечто большее, чем научная специальность или
писательская практика. Филология, по Мандельштаму, — это
потребность. Потребность в слове, в «культуре слова» — потребность в
осмысленном и оправданном бытии. И не вообще в бытии, но в
историческом бытии. Розанов, по Мандельштаму, — философствующий,
хотя бы и «юродствующий» филолог, жаждавший одного —
национального развития исторического тела, подлинного, а не показного
исторического преемства. В этом смысле Розанов — один из главных
422
Раздел второй. Рассечение
искателей русского «акрополя», русского «орешка» — исторического
смысла политического тела:
Подобно некоторым другим русским мыслителям, вроде Чаадаева,
Леонтьева, Гершензона, он не мог жить без стен, без «акрополя». Все
кругом подается, все рыхло, мягко и податливо. Но мы хотим жить
исторически, в нас заложена неодолимая потребность найти
твердый орешек кремля, акрополя, все равно как бы ни называлось это
ядро, государством или обществом. Жажда орешка и какой бы то ни
было символизирующей этот орешек стены определяет всю судьбу
Розанова и окончательно снимает с него обвинение в
беспринципности и анархичности (61).
Попробуем кратко пересказать и «перевести» это высказывание с
русского на русский, с языка поэта «стихотворения» на прозаический
язык «разговора».
Во-первых, Мандельштам ставит здесь Розанова в традиционный
ряд «русских мыслителей», но делает это достаточно нетрадиционно
с точки зрения дореволюционного «интеллигентского» сознания,
в известном смысле — в нарушении либерально-интеллигентского
террора и правил приличия. Надо было, похоже, пережить
революцию 1905 г., и сборник «Вехи» (1909), и революционный
февраль 1917 г., и контрреволюционный октябрь 1917 г., и гражданскую
войну для того, чтобы открылось некое, «поверх барьеров»,
социокультурное измерение общественно-исторического опыта XIX и
XX вв., т. е. по ту сторону ангажированных «позиций»,
идеологических противостояний и противочувствий, — измерение, в котором
Чаадаев и Розанов, К. Леонтьев и М. Гершензон оказались не в разных
идейных лагерях, но в одной армии, в одном окопе, в «общном»
духовном делании.
Во-вторых, не те или иные наития и откровения, которые,
покуривая и поплевывая (как вспоминал позднее Н. А. Бердяев в
«Самопознании»), В. В. нашептывал на ухо своим современникам с видом
ожившего напоследок, уже убитого старика Карамазова, — не эти
перлы все же составляют подлинное, неумирающее, вечное ядро
исканий и духа Розанова. Нет, он из той «семьи» русских мыслителей,
которые не только и не просто говорили и писали то-то и то-то, но всю
свою жизнь искали в русском мире жизни то самое, что в нем труднее
всего найти и удержать. «Все кругом подается, все рыхло, мягко и
податливо»; все — видимость, все — несерьезно; нет нормальных
изменений, нет подлинного исторического роста. Нет исторического
«Читайте Розанова», или на месте происшествия 423
календаря, кроме того, который продиктован «сверху»
государственной властью, чуждой житейским обстоятельствам в принципе
и за эту свою начальственную отстраненность, возможно, и
почитаемой «народом». Поэтому, собственно, некого уважать, менее всего —
того, кого знаешь, кажется, лучше всех, «как штаны» на собственном
теле.
В-третьих, наконец, если, по Мандельштаму, видеть этот ро-
зановский поиск «орешка», «акрополя», то и самый нигилизм
Розанова предстанет в своем подлинном свете — как «обратный жест»,
если припомнить автохарактеристику героя из романа Достоевского
«Идиот».
И «тяготение Розанова к домашности» Мандельштам выводит
«из филологической природы его души, которая в неутомимом
искании орешка щелкала и лускала свои слова и словечки, оставляя нам
только шелуху. Немудрено, что Розанов оказался ненужным и
бесплодным писателем» (61).
Таким образом, в свете «филологии», как ее понимает
Мандельштам, Розанов не нигилист и не анархист, а правдоискатель, хотя и
«бесплодный» и бездетный. Иначе говоря, его наследие не имеет и
не может иметь наследников, «сыновства» — за вычетом, как вполне
мог бы добавить Мандельштам, какой-нибудь литературной «гниды»,
паразитирующей на уже мертвых корнях былой жизни. Розановская
борьба за логос была борьбой за слово, символизирующее
осмысленное, прочное бытие, которого, однако, фактически не было, а
исторически, видимо, и не могло быть в пределах Первой (петровско-
петербургской) империи. В этом смысле Розанов остается весь в
прошлом, у него как писателя нет будущего, но именно как
"филологический" правдоискатель он не должен быть забыт в России:
У нас нет Акрополя. Наша культура до сих пор блуждает и не
находит своих стран. Зато каждое слово словаря Даля есть орешек
акрополя, маленький кремль, крылатая крепость номинализма,
оснащенная эллинским духом на неутомимую борьбу с бесформенной
стихией, небытием, отовсюду угрожающим нашей истории (63).
Как видим, Мандельштам сам остро осознает отсутствие
сыновней преемственности в «нашей истории»; Розанов был
«бесплодной» борьбой за такую преемственность против
«антифилологического духа», захватившего теперь, по Мандельштаму, и самую
Европу:
424
Раздел второй. Рассечение
Антифилологический дух, с которым боролся Розанов, вырвался из
самых глубин истории; это в своем роде такой же негасимый огонь,
как и огонь филологический (62).
Антифилологический дух, отрицающий осмысленную, разумно
становящуюся в слове и духе историю, — сам историчен, сам вырвался
из глубин истории, он замещает историю небытием, притворяясь
сугубо "новым", и настоящие филологи хорошо это чувствуют. С другой
стороны, известно, какой интерес вызывают еще и сегодня, например,
радиопередачи о русском языке: так много слов, каждое из которых
тоже «орешек акрокополя», «маленький кремль», — и это на фоне, так
сказать, «филологического 22-го июня 41-го года», которое пережил и
продолжает переживать сейчас, казалось бы, великий и могучий язык,
оказавшийся плохо подготовленным к историческим переменам после
краха Второй (кремлевско-советской) империи в 1991 г.
Попытка Мандельштама оценить феномен Розанова как
исторический сама должна быть оценена как «переходная», как перевод
на постсимволический язык славянофильской идеи эпохи
символизма — идеи третьего, или «славянского», возрождения, выдвинутой
на рубеже XIX—XX в. Φ. Φ. Зелинским, И. Ф. Анненским и их
последователями55. Для нас здесь не так важно, в какой мере
культурологическая концепция европейских «ренессансов» упоминавшегося в
начале статьи (в связи с наследием Ницше в России) Φ. Φ. Зелинского
была филологической утопией, а в какой — наоборот, исторически
уместной констатацией и программой; важно другое. Проблема
«возрождения» (как и проблема «прогресса») — не выдумка: она
рождается как реальная трудность там, где дело идет не только и не просто о
«культуре», не о прошлом, а о продолжении времени, смыслов и
ценностей, уже наличных, но проблематичных в смысле своего
местожительства в грядущем.
Оценка Мандельштамом наследия Розанова ставит принцип
«филологии» выше литературы и литературности; тем самым,
как кажется, попадает под вопрос еще более глубокая,
фундаментальная оппозиция русского общественно-политического и научно-
философского языка понятий, а именно — пришедшая из Германии
бинарная оппозиция: «культура» — «цивилизация». О. Шпенглер и
его «Закат Европы» были скорее концом этого романтического
противопоставления56. Концом, который по мере изживания в советской
Росии революционного духа уже не мог иметь конца, ни тем более —
вернуться к своему творческому источнику («началу»).
«Читайте Розанова», или на месте происшествия 425
Хвостик животного
«непрямого говорения»
Третья попытка оценить Розанова в интересующем нас аспекте,
на наш взгляд, самая глубокая, принадлежит M. M. Пришвину57.
Если В. Шкловский превратил Розанова-писателя в
формалистический объект одновременно и любования, и филологического
исследования, а О. Мандельштам — в автора-филолога, хранителя вечной
«домашности» русского мира и русского, по-хайдеггеровски
выражаясь, «дома бытия», то подход Пришвина отличает особого рода
цельность. Цельность в ситуации реально переживаемого распада
и мутации русской истории. По Пришвину, ни революционеры, ни
консерваторы не владеют тайной русской Кащеевой цепи — тайной,
которую его бывший учитель географии в Елецкой гимназии В.
Розанов — «Козел», как его называли гимназисты58, — не столько владел,
сколько воплощал собою.
Для Пришвина Розанов — это явление, во-первых, настолько
«русское», во-вторых, настолько «духовное», что оно все более
возрастает после, так сказать, «смерти автора», продолжается в
пореволюционных условиях, все более и более выявляя свой смысл. В
«Дневниках» Пришвина русская история от десятилетия к
десятилетию сбрасывает с себя «культурные» пласты и становится тем, что
в западной гуманитарной науке, современной Пришвину, открыли
в качестве «повседневности» и что у русского писателя-мыслителя
предстает в качестве «чистого опыта» исторической
повседневности, рефлексии персональной и сокровенной. В пришвинском
подходе целесообразно выделить ряд моментов, литературных и
нелитературных.
(1) Во-первых, важно, что свои мысли о Розанове Пришвин мог
доверить только дневнику. Дело не только во внешней
«политической» стороне дела. Пришвин вышел из дореволюционной
индивидуалистической эпохи, а записывает свои мысли о Розанове на излете
этой эпохи и особенно уже в следующую пореволюционную эпоху,
где Розанова «больше нет». Дневник Пришвина «неофициален» в то
и другое время. Эта неофициальность еще усиливалась
биографическим положением Пришвина: он «посторонний» и в так называемый
Серебряный век, и в советский век, притом, что его жизненная задача
была — найти себя (а не только вписаться) и там и там. Но главное
преимущество дневника Пришвина — возможность сказать о
Розанове непублично. В первых записях о Розанове (до мировой войны)
426
Раздел второй. Рассечение
это особенно заметно и поучительно, т. е. в то время, когда В. В. был
как раз явлением «общественности».
(2) Как явление общественное Розанов, по Пришвину, —
индивидуалист; в этом он ближе всего к Горькому, который «тоже
индивидуалист» в качестве народопоклонника, а еще ближе Розанову его
«родной» оппонент после дела Бейлиса — Мережковский. Как
индивидуалист (персоналист) Розанов «встречается с другим
замечательным писателем нашего времени, Д. С. Мережсковским, этим
«светлым иностранцем, проповедующим реформацию и
христианское возрождение» (109). Само сравнение это Пришвин
продумывает в дневнике в контексте скандала с исключением Розанова из
«Религиозно-философского общества». Запись от 12 января 1914 г.:
Возмущение всеобщее, никто ничего не понимает, как такая
дурацкая мысль могла прийти в голову: исключить основателя
Ρ (елигиозно)-ф(илософского) о(бщества), выгнать Розанова из
единственного уголка русской общественной жизни, в котором
видно действительно человеческое лицо, ударить, так сказать, прямо
по лицу (...). Какая-то девственная целина русской общественности
была затронута этим постановлением совета... (105)
«Девственная целина» проявилась от оскорбления приличий:
крутой («обаятельный и осязательный») антисемитизм Розанова
тоже ведь был, так сказать, «ударом по лицу» для тогдашнего
интеллигентного кодекса чести. Когда эта девственная целина
общественности будет в одночасье ликвидирована в России, обе силы —
антисемитизм и стыд его — составят интересную неофициальную историю
в советский век.
Пришвин после революции вспоминает Розанова одновременно
на фоне пореволюционной «розановщины», и в глубоком личностном
отличии от нее Розанова самого. В. В. перестал быть не только
скандальным, но и вообще общественным явлением. Чем же стал Розанов
после Розанова — неофициально, но тем более реально?
(3) С 1920-х гг. до конца жизни Розанов для Пришвина
персональное и литературное воплощение не литературных, а реальных
событий, символизирующих духовную историю европейскую и
русскую в XX в., но также и собственный путь Пришвина. Автор «Каще-
евой цепи» и «Журавлиной родины» мыслит в дневнике
символизирующим языком понятий дореволюционного времени, но мыслит он
совершенно реальные феномены.
«Читайте Розанова», или на месте происшествия 427
Под впечатлением того, как один монах в ответ на слова
женщины о «своих надеждах, возлагаемых ею на детей», отреагировал
в том смысле, что, мол, «дети — только продолжение нашего
горького опыта жизни», Пришвин сразу соотносит эту реакцию с
христианством и с бунтом Розанова против Христа. Слова монаха
возмутили Пришвина и соединились с восприятием его физического
облика («запах монаха — не плохой, но... как от сырой стены»). Это
эмпирически случайное восприятие и переживание вызывает целое
культурфилософское рассуждение в дневнике:
Вот из этой правды чувств возник и у Розанова весь его бунт. И сила
Розанова в этой близости к нам всем, кто, проводив одну весну, с
радостью ожидает другую и знает, что никогда одна весна не бывает
такой, как другая, и что переживание жизни мной и моим сыном., т(о)
е(сть), положим, в двух лицах, а не в одном моем,т(о) е(сть), положим,
тот же один аршин, разделенный между мной и сыном пополам, даст
в сумме не прежний аршин, а напр (имер) 1 ар (шин) 1/4 верш (ка>.
В этой 1/4 вершка, ускользающей от учения христианского разума и
потому являемой ему, как зло, как черт, вся наша радость земная, тот
хвостик животного, постоянным движением которого
сопровождается жизнь. Не духовная жизнь, не плотская, а просто жизнь —
драгоценнейший поток... (112)
В этом поразительном рассуждении «бунт» Розанова против
неприятия «радости земной» соединяется с идеей «двух лиц» рода, с
идеей преемственности и сыновства в цельности «просто жизни»,
которая совсем не проста, но может быть упрощена за счет разделения
«духовного» и «плотского». Можно, пожалуй, сказать, что Пришвин
здесь оправдывает Розанова как бы в сторону Мережковского с его
идеей «третьего завета», христианского возрождения. При этом,
однако, Пришвин переносит символизирующий язык эпохи
символизма на «сами вещи» таким образом, чтобы сказать о том же иначе,
своими словами, найденными при осмыслении конкретного
эмпирического опыта «фактичности», как сказал бы в те же самые годы
М. Хайдеггер на своих лекциях во Фрайбурге и Марбурге. Но
Пришвин мыслит не как «философ», а как «филолог»58.
В этом смысле он практически реализует мысли Мандельштама о
Розанове-филологе, но делает гораздо более радикальный шаг.
«Акрополь», «филология» — это еще, так сказать, слишком культурные,
стилизованные символы самих вещей. Пришвин вырабатывает
в 1920-е гг. свой особый язык опыта и в этом смысле — свою культуру
428
Раздел второй. Рассечение
слова. В связи с дочерью Розанова и самим собой Пришвин пишет о
«найденной самости», которая «представляется не индивидуальным
достоянием, а общим, назовем это "Христос и природа"» (114).
Если «светлый иностранец» Мережковский мог лишь
интеллектуально сконструировать синтез этих двух начал, а Розанов с его
«хорошей русской некультурностью» (123) заострил проблему в своей
борьбе с Христом, то Пришвин персонализует синтез; это и есть
«найденная самость». О жене Валерии Дмитриевне он запишет в дневнике
в 1947 году, что она «пример возможности во Христе любить жизнь, а
не смерть» (130). В. Д. воплощает этот принцип вполне персонально,
т. е. лично.
С другой стороны, если Шкловский оправдывал «хвостик
животного» через литературу и в качестве «литературности», — как
прием, — то Пришвин в дневнике 1925 г. (и потом в «Журавлиной
родине») как бы переиграет у формализма само это слово: «Розанов —
гениальный и дал, вероятно, единственные мысли о вопросах пола,
но прием, которым он выделил вопросы пола и поставил их в фокус
исключительного внимания, конечно же, парадокс» (112).
«Парадокс», как и «прием», здесь не комплимент. «Прием»
фиксирует субъективную и «литературную» сторону дела.
«Гениальность» Розанова не совпадает с его общественной скандальностью и
не имеет отношения к моде.
(4) Еще один аспект пришвинской рецепции Розанова связан с
тою же идеей «Христос и природа», перенесенной в план не столько
истории культуры, сколько «духовной истории» бытия-события
европейской и русской истории в советский век. Этот духовно-
исторический план тоже можно называть «филологическим» —
постольку, поскольку дело касается идеи традиции и персонализации
традиции. Персонализация, т. е. личное воплощение, реализация
преемства, «сыновство» по отношению к традиции, выступает как
«деструкция» в хайдеггеровском смысле этого слова. В дневнике
ужасного 1930 г. Пришвин записывает:
Сам же Розанов есть Ницше до Ницше. (Это значит, бросив все,
начать это же лично, все взять на проверку с предпосылкой «да»
вместо «нет», как нигилисты.) (121)
Далее следует недлинное, но очень плотное рассуждение или,
скорее, мысль-поиск, но поиск лично уже найденного:
«Читайте Розанова», или на месте происшествия 429
Итак, Ницше — это переоценить все на себе, оторвать человека от
традиции и вернуть его к первоисточнику (там же).
Это — отличное филологическое, «найденное самостно»
определение (точнее изображение-описание) того, что в современной
герменевтике называется Destruktion — в отличие от современного декон-
структивизма.
У Манделыытама«филологическое» ядро европейской и русской
истории мыслится как эллинизм, а его русский извод как «русский
номинализм, то есть представление о реальности слова как такового»59.
При этом у него проблематичным остается соединение
идеализированной античности с не идеальной историей, именно — с
потребностью в историческом становлении. Пришвин ищет синтеза и здесь, и
он, этот синтез, связан с христианским (точнее, христологическим)
аспектом истории, но не в теоретическом (и постольку не в
«философском») смысле. Пришвина интересует, так сказать, не культурная,
а персональная природа слова, не образы слова и культуры, но бытие,
персональное и, значит, выходящее за пределы и слова, и индивида
«как такового». Пришвин продолжает в той же записи 1930 г.:
Следовательно, и Ницше, и Розанов отрицают Христа
исторического, церковного.
А что же сам Христос?
У Достоевского Великий Инквизитор иронически защищал
традицию против «самого» Христа.
Да, все сводится к тому, существует ли творческое начало (бог) вне
меня или же это из меня только (там же).
Мысль Пришвина ясна: Христос не совпадает с христианской
традицией, которая исторически завершилась, но именно теперь может
сделаться мировоззрением «всемства», «для народа», полной добычей
Великого Инквизитора. Культурная символика не уходит, она как бы
перевоплощается. И церковь нуждается в новой персонализации —
в противоположность «суеверию церковному» (125). Это умение
видеть и понимать символику реального вне, так сказать, культурной
символизации особо проявляется в конце жизни Пришвина, и тоже в
связи с Розановым.
В 1950 г. писатель анализирует свой путь в свете двух сил, двух
персональных символизации русской культуры — Блока и Розанова.
Блок (автор «Двенадцати») — интеллигентское воплощенное слово,
Розанов — лицо и слово народные; оба «парят в красоте», оба «не на
430
Раздел второй. Рассечение
месте», оба распадаются в стремлении соединиться со своею же про-
тивопоположностью:
В этом распаде и продолжается наша жизнь до сих пор: в каких-то
судорожно насильственных попытках большевиков заместить свое
интеллигентское (да!) nihil народностью. В этом свете насквозь
виден и я сам, как писатель, усердно замещающий свой nihil
народностью начиная с книги «В краю непуганых птиц» (131).
Утопия символистского поколения стала постсимволистской
персональной формой приятия «просто жизни» как истории — после
не случайного конца «девственной общественности», отвлеченной
культурности и извращенной «литературности».
«Место происшествия» — разрыв личности и всемства,
интеллигентского и народного. В этом распаде и продолжается наша жизнь
до сих пор: личность приютилась в научной культуре, где она
стремится к обезличиванию, к объективности, к дегуманизации предмета
ради гуманистического идеала научности и отстраненности, а новые
«всемство» и «народность», наоборот, стремятся к новой
непосредственности, не к научной, но к мифотворческой всеобщности и
«самости», на свой лад рационализируя и используя качества «хорошей
русской некультурности», не рационализируемые ни научным, ни
экономическим рационализмом, не находящие себе
«цивилизованного» признания и места.
Гуманитарная эпистемология в этих условиях имеет шансы
постольку, поскольку, делая исторический опыт своим законным
предметом, она должна уметь видеть и мыслить себя также и внутри этой
предметности, нераздельно и неслиянно, т. е. в качестве «второго
сознания».
Примечания
1 Бахтин M. M. К вопросам самосознания и самооценки (1943) // Он же.
Собр. соч. Т. 5. М.: Русские словари, 1996. С. 78.
2 Бердяев Н. А. О «вечно бабьем» в русской душе (1914) // В. В. Розанов:
PRO ET CONTRA. Антология. Книга IL С. 41—51.
3 В русской философии и гуманитарной эпистемологии XX в.
принципиальный подход к «непрямому говорению», т. е. к не «апофантической»
речи, развивал M. M. Бахтин. Ценный материал и интересные
соображения для постановки проблемы «непрямого говорения» можно найти в
книге: Гоготишвили Л. А. Непрямое говорение. М.: Языки слав,
культуры, 2006. В отличие от автора этой книги, я пытаюсь возобновить инте-
«Читайте Розанова», или на месте происшествия 431
рее к наследию М. М. Бахтина, опираясь не на лингвистику, а на «мета-
линвистику» в бахтинском смысле этого слова.
Ср.: «Формообразующая и организующая сила речевой тактичности
очень велика. Она формирует жизненные высказывания, определяя
стиль и жанры речевых выступлений. Тактичность нужно понимать при
этом широко, включая сюда вежливость лишь как один из моментов ее.
Тактичность может иметь различные направления, двигаясь как бы
между двумя полюсами — комплиментом и бранью. Эта тактичность
определяется совокупностью всех социальных взаимоотношений говорящих,
их идеологическим кругозором и, наконец, конкретной ситуацией
беседы. Тактичность, какова бы она ни была при данных условиях,
определяет все наши высказывания. Нет слова без тактической оглядки». —
Бахтин М. М. (Под маской) / Под ред. И. В. Пешкова. М.: Лабиринт, 2000.
С. 273—274.
Сравнение покойного выдающегося советского филолога М. Л. Гаспаро-
ва: «чтобы изучать лягушку, не нужно уметь квакать», которую
приводит в своей книге Н. С. Автономова (см.: Автономова Н. Познание и
перевод: Опыты философии языка. М.: Росспэн, 2008. С. 438, прим. 518),
кажется мне скорее остроумным, чем верным; это, в сущности,
формальный «ход коня» в обход сути дела, к которому прибегает гуманитарий
для того, чтобы остаться внутри традиционной, «твердой»
рациональности и научности сциентистского образца перед лицом
«иррационализма» и «хаоса», отождествляемого в наше время с «постмодернизмом».
Между тем мысль М. Л. Гаспарова — в отличие от остроумного
выражения мысли — представляется совершенно резонной и здравой.
См.: Дунайский М. Розанов Василий Васильевич // Литературная
энциклопедия / Под ред. А. В. Луначарского и др. Т. 9. С. 733—734. При
цитировании этого издания страница указывается в скобках в основном
тексте.
«Цинизм» В. В. Розанова как форму правдоискательства верно почув-
ствал на свой лад родственный ему «эксцентричностью» Вен.
Ерофеев; ср.: «Да, этот человек ни разу за всю жизнь не прикинулся
добродетельным, между тем как прикидывались все. А за огненную добродетель
можно простить вялый порок». — Ерофеев В. Василий Розанов глазами
эксцентрика (1973) IIОн же. Оставьте мою душу в покое. М., 1997. С. 162.
Сноу Ч. П. Две культуры и научная революция // Он же. Две культуры. М.:
Прогресс, 1973. С. 17—61.
Бочаров С. Г. Чистое искусство и советская история: В память Андрея
Донатовича Синявского // Он же. Сюжеты русской литературы. М., 1999.
С. 554.
Розанов В. В. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М.: Правда, 1990. С. 300.
С большой эвристической ясностью этот момент «смены парадигм» в
понимании русской истории в связи с русской литературой в свете
русской революции нашел свое выражение в работах Л. В. Пумпянско-
432
Раздел второй. Рассечение
го 1919—1924 гг. о Достоевском и Гоголе. В особенности следует назвать
доклад Л. В. Пумпянского в Вольфиле по случаю столетия со дня
рождения Достоевского («Достоевский и античность», напечатан в 1922 г.) и его
же, опубликованный лишь в 1990-е гг. текст, написанный под влиянием
дискуссий в так называемой Невельской школе философии (M. M.
Бахтин, М. И. Каган, Л. В. Пумпянский) летом 1919 г., — «Опыт
построения релятивистической действительности по "Ревизору"». См. эти и
другие исследования Пумпянского (включая впервые публикуемую
целиком книгу о Гоголе 1924 г.) в издании, подготовленном Н. И.
Николаевым: Пумпянский П. В. Классическая традиция: Собр. трудов по
истории русской литературы. М.: Языки рус. культуры, 2000. См. также:
Николаев Н. И. М. М. Бахтин в Невеле летом 1919 г. // Невельский сборник.
Вып. 1 / Под ред. Л. М. Максимовской. СПб.: Акрополь, 1995. С. 96—101.
12 О В. Сеземане см. новейшую, несколько странную и несвободную от
фактических ошибок монографию: Torsten Botz-Bornstein. Vasily Seseman:
Experience, Formalism, and the Question of Being. Amsteram; N. Y., 2006.
13 См.: Sloterdijk P. Nicht gerettet: Versuche nach Heidegger. Frankfurt a. M.,
2001. «Если спросить, — пишет П. Слотедайк, — настоящего
современника (einen Modernen): "Где ты был в то время, когда,
собственно, все и произошло (Tatzeit)?" то ответ гласит: "Я был на
месте происшествия (Tatort)", что означает — был и есмь в зоне действия
всей совокупности того, что случилось, а это делает участников,
свидетелей и аналитиков тех событий и преступлений, всего
комплекса происшедшего — соучастниками и совиновниками происшедшего.
Co-временность (Modernität) — это отказ от возможности иметь свое
алиби» (S. 367).
14 «Когда при первой встрече, — вспоминает С. Г. Бочаров, — мы
пристали с вопросом "Что читать?", он (М. М. Бахтин. — В. М.) не назвал нам
философов XX века; назвал одно имя — если и философа, то совсем
особенного. Он сказал: "Читайте Розанова"». См.: Бочаров С. Г. Сюжеты
русской литературы. С. 489.
15 Турбин В. Н. Василий Розанов вчера и сегодня // Он же. Незадолго до
Водолея. М.: Радикс, 1994. С. 203.
16 Рикер П. Конфликт интерпретаций: Очерки о герменевтике / Пер.
И. С. Вдовиной. М., 2002. С. 58.
17 Ерофеев Венедикт. Василий Розанов глазами эксцентрика. С. 158.
18 Понятие «исторического недоумения» заимствовано у философа-
неокантианца М. И. Кагана (1989—1937) из его незавершенной статьи
о Пушкине, писавшейся, вероятно, в 1935—1937 гг. и опубликованной
впервые в 1973 г. частично и под измененным названием; см. более
полный ее вариант: Каган М. И. Недоуменные мотивы в творчестве
Пушкина // Он же. О ходе истории. М.: Языки слав, культуры, 2004. С. 593—627.
19 Эти работы стали теперь доступны в русском переводе; см.: Ясперс К.
Ницше: Введение в понимание его философствования (1935). СПб.: Вла-
«Читайте Розанова», или на месте происшествия 433
димир Даль, 2004; Хайдеггер М. Ницше (лекции 1936—1940 гг.). Т. 1. СПб.:
Владимир Даль, 2006; Т. 2. СПб.: Владимир Даль, 2007.
См. введение к сборнику статей о взаимоотношении философии и
филологии в мышлении Ницше: «Jedes Wort ist ein Vorurteil»: Philosophie
und Philologie in Nietzsches Denken / Hrsg. von Manfred Riedel. Köln;
Wien, 1999. S. 1.
См. недавнее большое систематическое исследование о В. В. Розанове —
«На границах модерна» Райнера Грюбеля (в 1970-е гг. известного
комментатора восточноевропейского структурализма, в 1980-е гг. комментатора
и переводчика литературно-теоретических работ M. M. Бахтина):
Grübet R. An den Grenzen der Moderne: Vasilij Rosanov s Denken und Schreiben.
München, 2003.
Федин К. Горький среди нас. M.: Сов. писатель, 1968. С. 98.
Соловьев В. С. Тайна прогресса // Он же. Собр. соч.: В 2 т. Т. 2. М.:
Мысль, 1988. С. 556—557.
См.: Исупов К. Г. Русская эстетика истории. СПб.
Грифцов Б. Три мыслителя. М., 1911. С. 39.
Полторатский Л. Я. Россия и революция: Русская религиозно-
философская и национально-политическая мысль XX века. Tenefly, 1988.
С. 122.
Грифцов Б. Три мыслителя. С. 43.
В статье «О сегодняшнем и современном» (1924), напечатанной в
закрытом в том же году неподцензурном журнале «Русский современник»,
редактировавшемся А. М. Горьким из-за границы, Е. Замятин писал об
«изолгавшемся» слове и литературе, которые не адекватны
происшедшим и продолжающим происходить в действительности: «Писатель —
изолгался, слишком привык говорить с оглядкой и с опаской. Оттого в
большинстве литература не выполняет сейчас даже самой примитивной,
заданной ей историей задачи: увидеть нашу удивительную,
неповторимую эпоху — со всем, что в ней есть отвратительного и прекрасного,
записать эту эпоху такой, какая она есть. Огромное, столетнее
десятилетие 1913—1923 как приснилось: проснется когда-нибудь человек,
протрет глаза, а сон уж забыт, не рассказан». Замятин Е. Я боюсь:
Литературная критика. Публицистика. Воспоминания. М., 1999. С. 101.
Подчеркнем в этом высказывании осознание современником резкого
несоответствия между смыслом и значением происходящегося, с одной
стороны, и «задачами» в свете нового опыта, среди которых задача
литературы только одна из многих. Постсовременники (потомки и «наследники»)
обычно довольствуются творческими «результатами» прошлого или его
«уроками» — тем, что для нас скорее уже закрыло подлинный (а значит,
продолжающийся) опыт истории.
См. в этой связи очерк О. Э. Мандельштама «Шуба» (1922), в которой
описывается зима 1920—21 гг., последняя зима военного коммунизма и
вполне фантастическая коммунальная жизнь «странной семьи» интел-
434
Раздел второй. Рассечение
лигентов в бывшей столице бывшей империи, в неотапливаемом Доме
Искусств: «Впрочем, молодые не унывали, особенно Виктор Шкловский,
задорнейший и талантливейший литературный критик Нового
Петербурга, пришедший на смену Чуковскому, настоящий литературный
броневик, весь буйное пламя, острое филологическое остроумие и
литературного темперамента на десятерых». — Мандельштам О. Слово и
культура. М.: Сов. писатель, 1987. С. 185. В том же очерке рассказывается, как,
затопив камин картоном, собранным в опустевших комнатах бывшего
Елисеевского дома, Шкловский «разбрасывает по глянцевитым
ломберным столам и на кровати, и на стульях, и чуть ли не на полу листочки
с выписками из Розанова и начнет клеить свою удивительную теорию
о том, что Розанов писал роман и основал новую литературную
форму» (там же. С. 186).
Анджей Валицкий в своей «Истории русской мысли от Просвещения до
марксизма» утверждает в предисловии, что для того чтобы лучше
оценить особые достоинства и своеобразие русского философствования
XIX в., методически продуктивнее говорить о «русской мысли» вместо
«русской философии», принимая во внимание, во-первых, что
философия в России очень поздно и не очень прочно была институализирова-
на в качестве академической дисциплины (вплоть до 1905 г.), и
вследствие этого, во-вторых, русская мысль всегда была не столько
профессиональным, сколько общественным делом — «мировоззрением» прежде
всего и в конечном счете; это и делает ее такой интересной для
историка философии. См.: Walicki Andrzej. A History of Russian Thought: From the
Enlightenment to Marxism. Stanford, 1979. P. XIII—XVII.
В своей «автобиографии западного человека», книге о европейских
революциях, написанной «в обратном направалении» — «от Ленина к
Лютеру», О. Розеншток-Хюсси рассматривал Русскую революцию как
центральное событие европейской и мировой истории на исходе
Нового времени, хотя и в ином смысле, чем это представляли себе в СССР и
в известных кругах западной «прогрессивной» интеллигенции.
«Мертвая церковь и класс интеллектуалов, мыслящих по-иностранному, —
читаем в начале первого, "русского" раздела этой книги, — вот проклятие
стран, лежащих к востоку от римских и протестантских
вероисповеданий. Один Бог знает, что любой из нас принужден был бы делать в
условиях, когда оба источника одухотворения — религия и образование —
уродуют тебя в одинаковой степени». — Розеншток-Хюсси О. Великие
революции: Автобиография западного человека (1938). М.: Библейско-
Богословский институт св. апостола Андрея, 2002. С. 33.
Ср.: «Поэтому и нет у блаженных времен философии или, что то же
самое, в такие времена все люди являются философами, преследующими,
как во всякой философии, утопическую цель». — Лукач Д. Теория
романа: Опыт историко-философского исследования форм большой
эпики // НЛО. 1994. № 9. С. 19. Разумеется, преломленный в «Теории рома-
«Читайте Розанова», или на месте происшествия 435
на» опыт кризиса и разрыва с прошлым необходимо методически строго
отделять от «идеологии» и «языка» автора, который от своего
«романтического антикапитализма» и магической сакрализации русского
терроризма довольно последовательно, хотя и парадоксально, пришел к
марксизму, «ленинизации» и сталинизации философии, в деле
«расшифровки знаков трансцендентальной силы, которая иначе была бы осуждена
на немоту» (там же). Подробнее об этом см.: Махлин В. Л. От Монолога
к диалогу: Изменение парадигмы литературоведческого анализа //
Великая фрацузская революция и проблемы мировой литературы / Под ред.
А. В. Дранова. М.: ИНИОН, 1989. С. 83—99.
Брошюру Шкловского «Розанов» (1921) цитирую по изданию: Василий
Розанов: Pro et contra. Книга IL СПб·: РХГИ, 1995, С. 321—342 с
указанием страниц в тексте.
См. в этой связи книгу: Белинков Аркадий. Юрий Олеша (Сдача
интеллигента). Мадрид, 1970.
См. в этой связи известный скорее филологам, чем философам, «роман
с ключом» В. А. Каверина, написанный (как вспоминал позднее автор,
тактично не называя главного прототипа по имени) после одного
разговора с В. Шкловским в присутствии Ю. Н. Тынянова, когда
спровоцированный утверждением оппонента, что роман больше невозможен,
Каверин пообещал, что завтра же сядет за роман, где тот будет главным
персонажем, — и выполнил обещание. См.: Каверин В. Скандалист, или
Вечера на Васильевском острове (1928). М.: Текст, 2004. См. также:
Каверин В. Очерк работы // Он же. Собр. соч.: В 6 т. Т. 1. М.: ГИХЛ, 1963. С. 10.
Белый А. Ветер с Кавказа. М., 1928. С. 181.
Французский славист, рецензируя французский перевод книги
M. M. Бахтина о Достоевском (1970) и перспективы рецепции этого
исследования в структуралистскую эпоху, заметил: «Превратности
взаимоотношений между Россией и западной культурой — поистине
неисчерпаемы». — Фриу Клод. Бахтин до нас и после нас (1971) // Бахтинский
сборник—V. М.: Языки слав, культуры, 2004. С. 13. Об «экспорте»
формализма на Запад и диффузии гуманитарно-филологического мышления в
XX в. см., например: Broekman Jan M. Structuralism: Moscow; Prague; Paris.
Dordrecht; Boston, 1976; Cassedy Stephen. Flight from Eden: The Origins of
Modern Literary Criticism and Theory. Berkeley etc., 1990 (особенно
глава шестая: «Роман Якобсон, или Каким образом логология и мифология
стали экспортом». С. 121 — 132).
В работе «Новейшая русская поэзия. Набросок первый: Подступы к
Хлебникову» (Прага, 1921) Р. О. Якобсон, определив поэзию как «язык в
его эстетической функции», добавлял: «Таким образом, предметом
науки о литературе является не литература, а литературность. (...) Если
наука о литературе хочет стать наукой, она принуждается признать "прием"
своим единственным "героем"». См.: Якобсон Р. Работы по поэтике. М.:
Прогресс, 1987. С. 275. «Литературность» здесь мыслится посредством
436
Раздел второй. Рассечение
вычитания; автор, герой и литература оказываются за пределами
понятия «литературности», а язык «в его эстетической функции» становится
доступным научному суждению и анализу постольку, поскольку
лингвистика может сделать его своим объектом, исключив традиционную
эстетическую проблематику как заведомо «философскую» (а не «научную»).
При этом литературность выдвигается не всякая, но «новейшая»
(футуристическая), как если бы авангардизм и был наиболее чистым
выражением и языка, и литературности, и эстетической функции.
39 Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 1. М., 2003. С. 280.
40 Ср. запись в записной книжке Г. Г. Шпета от 12 января 1921 г.: «(...)
славянофилы и западники ставят один вопрос: в чем смысл России?
Ошибка славянофилов — ищут в прошлом; западников — в будущем. У
западников все должно выйти само собою, стоит лишь взять западные формы.
В личности они правильно усматривали особенность Запада. Но
личность поняли отвлеченно. "Философски мыслящая личность", но не
русская критически мыслящая личность, а западная "вообще". Однако
такой — нет; есть критически мыслящий немец, англичанин. От того и мы
можем быть немцами, англичанами, но не русскими. Забыто, что Запад
есть понятие коллективное, а не общее. (...) но история одна. Нужно
войти в нее честно, нелицемерно, занять свое место. Славянофилы этого
места не хотят, а западники его д. с. п. (до сих пор. — В. М.) не указали.
Великая аберрация, будто это место «политически» раскрылось. Это
место должно быть культурным». Цит. по: Щедрина Т. Г. Идея «европейской
России» в интерпретации Густава Шпета. Русская философия между
Западом и Востоком. Екатеринбург, 2001. С. 297.
41 Пильняк Б. Голый год // Он же. Избр. произведения. М.: Худ.
литература, 1976. С. 160.
42 Эйхенбаум Б. М. Теория формального метода (1926) // Он же. О
литературе: Работы разных лет. М.: Сов. писатель, 1987. С. 378. M. M.
Бахтин в книге «Формальный метод в литературоведении» (1928)
показал существенное отличие западноевропейского формализма от
российского; оно заключалось в особом положении
западноевропейского искусствознания между идеалистической философией искусства и
научным позитивизмом — в этом месте у нас был «проходной двор».
Ср.: «У нас не было сложившегося и упрочившегося идеализма со
школой и со строгим методом. Его место занимала идейная публицистика и
религиозно-философская критика. Это свободное русское мыслитель-
ство, конечно, не могло сыграть той благотворной роли
сдерживающего и углубляющего противника, какую сыграл идеализм по отношению
к западному формализму. Слишком легко было отбросить
эстетические построения и критические опыты наших самодумов-мыслителей,
как явно не имеющие отношения к делу». И то же самое — в
отношении позитивизма: «Те положительные задачи, которые выполнил
позитивизм в западноевропейских гуманитарных науках — обуздать мысль,
«Читайте Розанова», или на месте происшествия АЪ7
вышколить ее, приучить ее понимать весомость эмпирического
конкретного факта — у нас не были выполнены и продолжали стоять на
очереди ко времени появления формалистов». См.: Бахтин M. M. (Под
маской). С. 235.
43 Как зафиксировала Л. Я. Гинзбург, уже в 1927 г. в академических кругах
получил хождение оборот: «Не прием, а серьезно». См.: Гинзбург Л.
Человек за письменным столом. Л.: Сов. писатель, 1989. С. 27. Это значит: в
целом продуктивая постановка вопроса о сущности творческого
сознания, «подслушанная обезьяной», по выражению Б. Л. Пастернака, ушла
из публичной речи вместе с вызывающей, «эстрадной» публичностью
выступлений формалистов на стадии «бури и натиска».
44 См.: Слотердайк П. Критика цинического разума (1883) / Пер. А. Перце-
ва. Екатеринбург, 2001.
45 Розанов В. В. Сочинения. С. 281.
46 Разрыв преемственности (т. е. переживание рассечения между прошлым
и будущем в настоящем) в 1920-е гг. был, в принципе, общим
событием на Западе и в России, но в советской «стране-подростке» это событие
имело катастрофические последствия, в значительной степени
облегчившие морально-политическое господство официальной власти.
47 Розанов В. В. Апокалипсис нашего времени. Вып. 1—10 / Под ред.
А. Н. Николюкина. М.: Республика, 2000. С. 6, 7. Позднее, в момент
следующего погрома русского мира жизни — коллективизации, M. M.
Пришвин (в годовщину первой попытки большевиков взять власть в 1917 г.)
запишет в своем дневнике (4.7.1930), что, в отличие от Германии, Россия
в мировой войне «была разбита и подожжена, потому что не имела
единства в групповом сознании». См.: Пришвин Μ. Μ. Дневники: 1930—1931
/ Под ред. Л. А. Рязановой, коммент. Я. 3. Гришиной. СПб.: Росток, 2006.
С. 144.
48 В Германии происходило нечто подобное тому, что происходило в
России — с той правда, существенной разницей, что Германия не была в
такой степени деморализована военными неудачами и, соответственно,
сумела избежать гражданской войны на взаимоуничтожение. Но
процессы шли те же. «Конечно, — вспоминает Гадамер, — уже перед великой
катастрофой Первой мировой войны были зримы симптомы грядущего,
особенно в живописи и архитектуре. Однако изменения в сознании
совершились в целом существенно позднее, уже после тех тяжелых
потрясений, которые означали для культурного сознания либерального века,
для его веры в прогресс материальные битвы Первой мировой войны. В
тогдашней философии это изменение общего чувства жизни проявилось
так, что внезапно, совершенно неожиданно (литературное «вдруг»
Достоевского! — В. М.) была утрачена вера в господствующую философию».
См.: Гадамер Г-Г Введение к работе Мартина Хайдеггера «Исток
художественного творения» / Пер. А. В. Михайлова // Он же. Актуальность
прекрасного. М.: Искусство, 1991. С. 100. В советской России та же ситуация
438
Раздел второй. Рассечение
уже в начале 1920-х гг. привела к институциональному уничтожению не
только неокантианства, но и всякой немарксистской философии.
Ср.: «Язык передач готовых сообщений в пределах ставшего,
неподвижного общения не может быть, конечно, творческим. Словарь,
грамматика и даже основные темы сообщения предполагаются уже
готовыми. Остается их только комбинировать, приспособляя их к
обстоятельствам, и экономизировать средствами высказывания. Для создания
нового при таких предпосылках не может быть никаких импульсов и
оснований. Поэтический язык, таким образом, является у формалистов
паразитом паразита». См.: Медведев П. Н. Формальный метод в
литературоведении: Критическое введение в социологическую поэтику (раздел
«Формалистическое понимание творчества»). Л.: Прибой, 1928. С. 133;
Бахтин M. M. (Под маской). С. 275. В границах так называемой
«формалистической парадигмы» традиция мыслится как готовая и «бывшая» —
не как «содержание», которое «второе сознание» может и должно как-то
со-творчески (диалогически) разделить и восполнить в едином событии
«общения», но как радикально иное и «новое», которое возможно
постольку, постольку ценности и смыслы культуры мыслятся как
наличные, готовые к употреблению в других руках, мозгах, сознаниях и
«проектах» — как материал, с которым можно что-то «сделать» («материал
для постройки»).
См.: Бочаров С. Г. Чистое искусство и советская история. С. 553.
Молодой M. M. Бахтин, продумывая в невельско-витебской рукописи
«современный кризис», похоже, описывает «место происшествия»
современной культуры с его сегодняшего «конца», Ср.: «Теоретический и
эстетический миры отпущены на волю, но изнутри этих миров нельзя их
связать и приобщить к последнему единству, инкарнировать их»
(Бахтин M. M. Собр. соч. Т. 1.С. 50). Мысль о том, что понятие
«литературности», выдвинутое русскими формалистами пореволюционных лет, —
частный случай более глубокой и общей тенденции — полемической по
отношению к миру жизни и повседневности «позицией искусства», —
находит подтверждение, между прочим, и в исследовании, посвященном
сопоставительному анализу теории и эстетики «языка как языка» у
позднего М. Хайдеггера и у Р. О. Якобсона; см.: Grotz Stephan. Vom Umgang mit
Tautologien: Martin Heidegger und Roman Jakobson. Hamburg, 2000.
В «Петербургских сновидениях в стихах и прозе» (1861) Ф. М.
Достоевский описывает «одно происшествие» своей молодости, которое он
квалифицирует как «ощущение» и называет «видением» на Неве: «Какая-то
странная мысль вдруг зашевелилась во мне. (...) Я как будто что-то понял
в эту минуту, до сих пор только шевелившееся во мне, но еще не
осмысленное. Я полагаю, что с той именно минуты началось мое
существование». Это «видение на Неве», с которым Достоевский, по-видимому, и
связывает свой «фантастический реализм» (М. М. Бахтин в XX в.
назовет это «гротескным реализмом» и свяжет с «карнавальным» видением
«Читайте Розанова», или на месте происшествия 439
мира и с традицией «карнавализованной» литературы), в
«Петербургских сновидениях в стихах и прозе» венчается следующим
«сновидением»: «И стал я разглядывать и вдруг увидел какие-то странные лица. Все
это были странные, чудные фигуры, вполне прозаические, вовсе не Дон
Карлосы и Позы, а вполне титулярные советники и в то же время как
будто какие-то фантастические титулярные советники. Кто-то
гримасничал передо мною, спрятавшись за всю эту фантастическую толпу, и
передергивал какие-то нитки, пружинки, и куколки эти двигались, а он
хохотал и все хохотал!». См.: Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. Т. 19. Л.:
Наука, 1979. С. 69,71.
53 Трудно забыть (несмотря на некоторую литературность, или
искусственность, изображения) то место из воспоминаний Льва Разгона, где
бывший деятель Первой империи и добрый знакомый Николая II,
арестованный в 1937 г., в переполненной камере рассказывает
единственному собеседнику и оппоненту — коммунисту и еврею, тоже
арестованному, о своем счастье, до которого он все-таки дожил, — восстановлен
имперский принцип русской государственности «Иосифом Первым»!
См.: Разгон Л. Непридуманное: Биографическая проза. М.: Захаров, 2006.
С. 152—170.
54 Мандельштам О. О природе слова (1922) // Он же. Слово и культура. М.:
Сов. писатель, 1987. С. 55—67. Цитирую по этому изданию с указанием
страниц в тексте.
55 См. об этом: Хоружий С. С. Трансформация славянофильской идеи //
Вопросы философии. 1994. № 11. С. 52—62; Николаев Н. Судьба идеи
Третьего Возрождения // Moyseion: Профессору Александру Иосифовичу
Зайцеву ко дню семидесятилетия. СПб., 1997. С. 343—350.
56 Л. Я. Гинзбург записала в 1930-е гг.: «Мандельштам говорит, что
символисты ошибочно полагали, будто есть культура — и это хорошо, и есть
цивилизация — и это дурно. Мандельштам говорил: "Цивилизация
выдумала культуру"». См.: Гинзбург Л. Человек за письменным столом. С. 145.
57 См.: Пришвин М. М. О В. В. Розанове // Василий Розанов: Pro et contra.
Кн. I. СПб.: РХГИ, 1995. С. 102—131.
58 См.: Пришвин М. М. Кащеева цепь // Он же. Собр. соч.: В 8 т. Т. 1. М.: Худ.
литература, 1982. С. 68,650.
В дневнике М. М. Пришвина от 24.8.1953 г. встречается слово
«фактичный» применительно к творческому овнешнению, к «одетой правде»
письма; ср.: «Правда написанного гораздо фактичней, чем правда сама
по себе — правда неодетая». См.: Пришвин M. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 1.
М., 1982. С. 648.
59 О. Мандельштам. О природе слова. С. 59.
ТАЙНА ФИЛОЛОГОВ*
(Г. Г. ШПЕТ И ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП)
Исходный пункт
В 1-м выпуске «Эстетических фрагментов» Густава Шпета,
завершенном, — как автор считает нужным уведомить читателя, — 26
января 1922 г. в Москве, среди как бы нешпетовских, «ненаучных» по
тону и стилю пассажей, находим одно место едва ли не самое
суггестивное, зато явно форсирующее основные мотивы целого и, в
этом смысле, вероятно, — ключевое. Абзац, который мы сделаем —
с опорой на методическое понятие «исходного пункта», или
«подступа» (Ansatzpunkt)у немецкого филолога Эриха Ауэрбаха1 —
предметом истолкования (точнее, герменевтического комментария),
находится в разделе, озаглавленном: «Продолжение о том же сюжете».
Поскольку предшествующий ему фрагмент называется «Распад и новое
рождение», постольку, вероятно, и приводимое ниже по переизданию
(1989) место, — если оно и вправду ключевое, — является и
продолжением упомянутого «сюжета», и внесюжетнои кульминацией 1-го
выпуска, презумпцией замысла. Вот этот абзац:
Новое эллинство приведет к новому Вифлеему. «Подражание» — не
копирование, копирование — ложное подражание, ложное
эллинство, «псевдоклассицизм». Философский ответ о действительности
нужен, чтобы не было этого «псевдо», иллюзионизма, идеализма,
«переживаний», чтобы была жизнь и реализм. Возрождение есть
воплощение тайны, ее овнешнение. Возрождение есть «воз-рождение»,
и его требование к познанию, к философии: вос-познания —
познания познанного. Тайна филологов должна быть разоблачена; все
должны стать словолюбцами, все призываются к познанию
познанного. Го, что внешне было только для филологов, должно быть от-
* Переработанный и расширенный вариант выступления на международной
конференции «Густав Шпет и современная философия гуманитарных
наук» (Москва, апрель 2004 г.).
Тайна филологов
441
крыто для всех. В величайший праздник всякий может стать
жрецом, если только готов принять на себя бремя жречества»2 (курсив
здесь и далее мой. — В. М.).
Что этим сказано?
О какой «тайне филологов» идет речь — тайне, которая, как
можно заметить, образует центр соединения разнородных мотивов
в пределах нашего текста — относительно завершенного
высказывания? Что связывает «новое эллинство», «новый Вифлеем»,
неложное «подражание» (в отличие от ложного), «воз-рождение» как
«воплощение тайны» (или «овнешнение»), «величайший праздник»,
на котором «всякий может стать жрецом», а равно и требование
«познания познанного», обращенное «к философии», — с некоей «тайной
филологов»7.
Эта тайна — как нам внушают — «должна быть разоблачена»,
потому что до сих пор она «внешне» была только ограниченной i
специализированной, неоткровенной формой откровения предельной
(последней или первой) истины; чем-то таким, что раньше было «только
для филологов», но вот теперь откроется, наконец, в последней
глубине, ибо «должно быть открыто для всех».
Почему «должно» и, собственно, что должно быть «открыто»?
И как это — «для всех», если речь идет, явным образом, о
некоторой «жреческой», эзотерической тайне специалистов — «тайне
филологов»?
Неосллыслица
Для начала есть резон честно признать — с герменевтически
обязательной долей простодушия, — что процитированный абзац
не очень понятен и даже невнятен при первом чтении (да, пожалуй,
и при втором). Но это не совсем «невнятица» в том смысле, в каком
придумал и употреблял это слово Андрей Белый — современник,
который больше других современников позитивно цитируется и
интерпретируется в 1-м выпуске «Эстетических фрагментов». Может быть,
стоит из методических соображений признать приведенное место —
как, впрочем, и весь 1-й выпуск — «неосмыслицей», хотя и не совсем в
том смысле, который придает этому слову сам Г. Г. Шпет, когда он
отзывается (в упомянутом фрагменте «Распад и новое рождение») о своем
времени и своем философском цехе настолько же требовательно,
насколько и отрицательно: «никогда, кажется, не было такой неосмыс-
лицы в духовной жизни...» (361), — уличая и обличая современную
442
Раздел второй. Рассечение
философию в неспособности к «рефлексии», а искусство — в утрате
подлинного творческого импульса, подменяемого рефлексивным
«самоедством» (там же).
Однако «неосмыслица» (а равно и «невнятица») в определенных
исторических условиях может быть в своем роде осмысленной и даже
продуктивной, причем не только в искусстве, но также в научной
философии. Герменевтический потенциал чужой мысли, чужого
высказывания, дошедших до нас, пост-современников, из чуждого,
отчужденного времени, парадоксальным образом связан с нехваткой языка,
дефицитом самовыражения человека и эпохи. Такая нехватка, или
«языковая нужда» (Sprachnot, как говорил инициатор современной
философской герменевтики Гадамер), особенно характерна и
продуктивна в переходные эпохи, когда сознание и познание теряют свою
идентичность постольку, поскольку они теряют свою наивность
(наивное тождество с собою). Похоже, что неосмыслица и невнятица 1-го
выпуска — от полноты смысла и мысли — полноты, превышающей
возможности дискурсивного мышления. В нашем тексте слова сами
по себе понятны (а если не все, то можно заглянуть в словарь или
справочник). Более или менее узнаваем язык предельных,
сверхисторических символов западноевропейской истории («эллинство» —
«Вифлеем»), на котором изъяснялась интеллектуально-художественная
элита эпохи «символизма», «Серебряного века», «русского
религиозного ренессанса» (как бы ни толковать и ни оценивать эти
созданные уже задним числом эстетизованные обозначения
предреволюционной русской культуры). Трудно ошибиться: в тексте перед
нами — достигшая западноевропейских проблемных вершин русская
Волшебная Гора в самый момент как бы предвосхищения сразу обеих
своих возможностей: какого-то еще небывалого творческого взлета
(одна возможность), сокрушительного и бесславного падения «с
концами» (другая). Если автор «Эстетических фрагментов» что-то и
сознает с окончательной, полной ясностью, то именно это: роковую и
до конца не ясную и не полную амплитуду предельных и нередуциру-
емых возможностей даже не лет, но месяцев и дней — скажем, 26
января 1922 года...
Потому что всё может быть — или не быть: теперь, сейчас: «Но
нам теперь, сейчас не реставрации нужны, а Ренессанс» (358).
Запомним противопоставление: «не реставрации, а Ренессанс».
Тайна филологов
443
Качели
Первый фрагмент 1-го выпуска «Эстетических фрагментов»
называется «Качели» и начинается с «деструкции» (как сказал бы в то
время ассистент Гуссерля в далеком от Москвы Фрайбурге —
начинающий М. Хайдеггер) традиционной философской дисциплины —
эстетики (чего, в общем, не будет у Хайдеггера никогда, а у
«перебежавшего» в 1923 г. к нему и к Гуссерлю во Фрайбург от первых
учителей-неокантианцев ровесника века Гадамера осуществится
много позже и по-другому). О самой этой — позитивной и
продуктивной для теоретической эстетики — деструкции нужно будет
сказать в несколько иной (менее опосредованной) систематической связи
с нашим исходным пунктом. Сейчас важнее эстезиологический
исходный пункт «Эстетических фрагментов» — «качели», — притом почти
независимо от понятия «эстезиологии духа» (оно появится, как мы
помним, в 1923 г. у другого ученика Гуссерля — Хельмута Плесснера).
Дело не только и не просто в том, что 1-й выпуск «Эстетических
фрагментов» посвящен именно эстетике, а 2-й и 3-й, явным образом,
переходят от философии искусства к философии слова, уходят от
эстетики к поэтике — переход (но также и отход), продуктивное и
роковое значение которого для отечественной философии и для
отечественной филологии в последующие десятилетия незачем и некому
будет даже осознать. (В советский век проблема границ между
предметными областями культуры либо перестала «ощущаться» — как
выражались русские формалисты пореволюционных лет, — либо —
то же самое наоборот — была формализована и стилизована,
«подморожена» под «классическое наследие».) Но в 1-м выпуске,
следовательно, еще в начале 1922 г., налицо попытка передать, воспроизвести
в мысли как своего рода «подражание», «мимесис» некоторое
состояние и обстояние исторической культуры — абсолютно уникальное,
единственное, синтетически вобравшее в себя и предвосхищающее
все свои смысловые возможности.
Это — так сказать, практическая «эстезиология духа»: Г. Г. Шпет
с небывалой, немыслимой у него самого ни до ни после
решительностью тщится уйти, оторваться от вездесущего, объективно видимого,
переживаемого, ощущаемого («айстесис»!) «распада». Суть дела не в
том, что вот уже четыре года и больше, как произошел вроде бы
невозможный политический переворот — и все посыпалось, а скорее
наоборот: миропорядок, выдержавший настоящую революцию
(1905 г.), не выдержал испытания мировой войной — и невозможное
444
Раздел второй. Рассечение
стало фактом (хотя и невероятным). Вот почему надо уйти,
оторваться — потому что уже ушли и оторвались. Воспроизвести,
передать, перевести на язык разумения происходящее событие, как бы
застывшее в самом своем движении, событие, превышающее
возможности разума, мысли и смысла и абсолютно неадекватное
«онтологическим фикциям» так называемой революции (370) — вот задача.
Замысел
Для Шпета — как и для его оппонентов-современников — вопрос
стоит примерно об одном и том же: о «культуре» и «творчестве». Но
в каком смысле? «Распад» должен быть осознан до конца для того,
чтобы стало возможным «новое рождение». Не бегство в культуру и
не бегство от культуры: не реставрации, а Ренессанс. Но, опять-таки,
в каком смысле?
Может быть, тайна проблематичности и зачастую просто
«непереводимости» русского речевого мышления-дискурса — в том, что у
нас самые глубокие, проникновенные мысли и вещи высказываются
не в «философии», а в «литературе», в литературной публицистике, а
то и вовсе в письмах и дневниках?.. Человек и мысль в русских
условиях чувствуют себя по-настоящему свободно не на публичных
мероприятиях и обсуждениях, не на защитах диссертаций и не в
журнальной полемике (с их «ноблес оближ» и страхом «потерять лицо»),
тем более не на телевизионных «шоу» или в «духовном» месте
наставлений и поучений — там даже искренняя мысль становится умыш-
леннойу — а вот в курилках и на кухнях, в телефонных и лестничных
нечаянных признаниях, и намеках, и трепе, и шуточках, вообще не
внутри условно жилого и обжитого («культурного») пространства, а
по-достоевски «на пороге» и «вдруг». Поэтому главный русский
философ — это не-философ Достоевский. (На Западе, как и в России, это
поняли раз и навсегда только однажды, как раз в пору написания и
напечатания «Эстетических фрагментов»; вспомним хотя бы, по
воспоминаниям Гадамера, фотографию Достоевского на рабочем столе
Хайдеггера в начале 1920-х гг. — и больше никогда!) Поэтому
«эстетика» в России больше, чем где-либо, — убежище («ниша»),
уберегающее не только от всегда умышленной и лживой интеллигентско-
сектантской идеологии и партийности, но и от слишком буквальной,
мертвящей специализации, отъединившейся от своих же, когда-то
питавших и обосновавших тот или иной Fach (научную
дисциплину), границ. Поэтому 1-й выпуск «Эстетических фрагментов» —
самое «русское» сочинение самого (якобы) «нерусского» из русских
Тайна филологов
445
философов. Поэтому и в нашем случае методически важно отличать
«замысел» Шпета как от мнимой «неосмыслицы», так и от отдельных
«мыслей», ярких, но тем более трудноуловимых в общей связи.
Замысел 1-го выпуска, по-видимому, настолько глубок и
неотложен, что мысль автора как бы не поспевает за ним и, овнешняясь —
порывами, урывками, фрагментами, — попутно рождает для всех и
ни для кого среди прочего еще и целую теорию «овнешнения». Теорию,
которую почти сразу (ведь своего времени скоро больше не будет)
младший современник и соотечественник Шпета — М. М. Бахтин —
сделает в 1922—1923 гг. (с опорой на свою христологию, свое
неокантианство и свою феноменологию) систематическим понятием
эстетики — не классической и не романтической, немыслимой до
Революции, тем более немыслимой и непонятной после... Замысел
«Эстетических фрагментов», судя по всему, следующий: нужно не бежать
(тем более — не уезжать), но превзойти, во-первых,
«псевдоклассицизм» («ложное подражание»), во-вторых, выродившуюся тоже в
«псевдо» романтическую альтернативу классицизму («иллюзионизм,
идеализм, "переживания"»), — «чтобы была жизнь и реализм».
Замысел таков, что мысли Шпета как бы не хватает самой себя: так ее
много и такова плотность всей атмосферы — философской,
поэтической, общественной, политической.
Только в плотной культурной атмосфере возможен так
называемый «кризис», а равно и многозначное, проникнутое
принципиальной символикой смыслового избытка и нужды в языке — разво-
площение этой атмосферы. Развоплощение, которое современники
Шпета еще до 1914 г. называли «культурным распадом» (вспомним
вступительную статью к 1-й книге «Логоса» 1910 г.) и которое нам,
пост-современникам, нужно попытаться «понять лучше» — вместо
того чтобы «верить на слово эпохе», как бы опечатывая, оприходуя
ее идеологически однозначным, заведомо бедным так называемым
определением: все равно — «декаданса» или «ренессанса»... Время
было куда богаче и интереснее, современники были откровеннее
своих откровений. Тем более откровеннее они слишком поздних
пост-современников — тех, кого еще Достоевский (имея в виду
«господ социалистов») называл «судьями окончательными», а через
полвека Г. Г. Шпет, не менее иронически, называет в 1-м выпуске
«Эстетических фрагментов (имея в виду Шпенглера) «хозяином фактов»
(375).
Шпет, явным образом, ищет третьей возможности — по ту
сторону классицизма и романтизма. Такой возможности, которую потом
446
Раздел второй. Рассечение
даже не будут искать, а только подменят — советской карикатурой
на «жизнь и реализм». Эта карикатура останется убедительной и на
поздней стадии диссидентски-антисоветского отрицания —
особенно в пределах так называемого «структуралистского троцкизма»,
предъявившего у нас и на Западе, начиная с 1960-х гг., свой
запоздалый и беспроигрышный счет «сталинизму», но еще более
усиливающего методом «деконструкции» (то есть изнанки) — паразитарную
конструкцию отрицаемого Двойника...
Иностранность разума
Для реализации такого замысла, возможного — как понимает
автор «Эстетических фрагментов» — только в такое время,
недостаточно обычного, центростремительного, образцово-классического (в
глазах самого Шпета) научного речевого жанра — «чистого»,
«логического» логоса-дискурса. Замысел и исторический момент требуют
радикально иного: нужна бь/ходящая из ряда вон, бь/разительная,
эксцентрическая, металогическая логика. Нужен какой-то вообще
другой, не академический жанр речи. Это объясняет своевременное
появление и повторение Ницше в «Своевременных повторениях»: это
название 1-го выпуска как бы переворачивает полемику со временем
и современниками в «Несвоевременных размышлениях» немецкого
мыслителя, опубликованных за полвека до того. В контексте самой
высокой для философа Нового времени и персонально для Г. Г. Шпета
ценности — разума — читаем:
Собственный высокий стиль эстетики стал непонятностью,
потому что недостаточно понятным, иностранным стал сам разум.
Поистине вовремя начал философствование молотом классик
Ницше! Нам нужно снова стать классиками, — твердил
Сезанн (356). (Курсив мой. Здесь и далее разрядкой передается курсив
Г. Г. Шпета. — В. М.)
Имя Ницше упоминается в «Эстетических фрагментах» вот этот
единственный раз, но, как видим, по самому значительному,
фундаментальному для автора поводу. Похоже, «тайна филологов»
зависит от тайны «воз-рождения» («нового рождения») примерно так
же, как замысел новой классики («Ренессанса») относится к
«философствованию молотом» Ницше — не столько «ницшеанца», сколько
филолога-классика.
Еще раз: классицизм и романтизм «переживаний» и «пережива-
телей» должны быть не просто преодолены: распад настолько глубок,
Тайна филологов
447
что ни тот ни другой тип культурного мировоззрения и
творчества больше не имеют шансов, то есть неспособны к исторической
(= творческой) жизни — как «жизнь и реализм». В этом смысле
классицизм и романтизм должны быть превзойдены, но так, что «нужно
снова стать классиками». (Современник Шпета, писатель-мыслитель
Михаил Пришвин сказал бы в 1920-е гг. так: «Кащееву цепь»
прошлого, уже мертвую, но тем более цепкую, нужно «оволитъ»; именно
потому, что дореволюционная вера революционной интеллигенции
исчерпана в своем принципе после победы революции, уже началось
«обыгрывание принципа», и весь вопрос в том, возможно ли и каким
образом историческое преемство — жизненное, а не
сконструированное кабинетное, как «у Мережковских».)
Поэтому нужен новый образ — эстетическая категория по
ту сторону традиционных «категорий». То есть нужно нечто
видимое, «внешнее»: не вообще что-то «духовное», но чувственно,
эстезиологически духовное — образ, выходящий за пределы
традиционного «образа». Нужно нечто созерцаемое и переживаемое,
но — по ту сторону «переживаний» и псевдосозерцаний (абстрактных
или, того хуже, мистических). Чувственно-сверхчувственный,
неподвижный эйдос движения, мимесис происходящего события —
вот что нуждается в подражании самим письмом. В «Своевременных
повторениях» дело не только и, может быть, не столько в том, что
автор пишет о философской дисциплине — теоретической эстетике,
а в том, что он пытается воспроизвести — ритмом, синтаксисом,
полемическим молотком — «качели» предельных возможностей
своего времени, своей культуры: абсолютный верх — абсолютный низ:
Мы — первые низверженные — взносимся выше других, быть может,
девятым и последним валом европейско-всемирной истории. Ныне
мы преображаемся, чтобы начать наконец — надо верить! — свой
европейский Ренессанс (355).
Здесь тоже речь о «своем» Ренессансе (как в нашем исходном
и ключевом абзаце) — о «возрождении». «Новое рождение» —
возможность одолеть и оволить распад, более того — впервые
самостоятельно (а не самозванно) приобщиться к «европейско-всемирной
истории» — выстраданным и адекватным, абсолютно самородным
русским путем. И в этом — праздник^ «величайший праздник»,
потому что в России такого Ренессанса еще никогда не было. Ведь
разум, даже в Европе ставший «иностранным», в России, в известном
смысле, был таким всегда:
448
Раздел второй. Рассечение
До сих пор мы только перенимали (там же).
Это, похоже, — смысловая и эмоционально-волевая доминанта
замысла: праздник «преображения», «возрождение» как
преображение. Точнее, как вера в возможность осуществления того, чего до
сих пор еще не было. Вера-требование того, что предполагается и
полагается, так сказать, заслуженным в историческом смысле. Более
того — возможным.
Круг предвосхищения
Чего, однако, нет больше нигде у нашего автора внешне — кроме
процитированного в начале абзаца, — так это мотива «тайны
филологов»: настолько, похоже, этот мотив проникает ходы и повороты
мысли в «Своевременных повторениях». Но что, если «тайна
филологов», как и 1-й выпуск «Эстетических фрагментов» в своем целом,
указывает не только на замысел новой классики, но также и на
философский замысел Г. Г. Шпета в целом, на его, как сказали бы сегодня,
научно-философскую программу?
Наш вопрос — не гипотеза. Гипотезы, строго говоря,
ограничены опытом так называемых опытных наук. В пределах
исторического опыта, который делают своим предметом герменевтические
(интерпретативные) дисциплины — «филология» в исконном и
собирательном смысле перевода, истолкования и понимания, «любви
к слову» — значимы и продуктивны не гипотезы, но
предвосхищения. Предвосхищения понимания целого, которое для
исследователя, комментатора, интерпретатора, с одной стороны, уже дано
в виде «текста», а с другой стороны, всегда задано как путь
реконструкции «целого» из его «частей». Таков круг предвосхищения, о
котором учит современная герменевтика: «круговращение понимания»
включает историческую реальность истолкования, внутри которой
находится истолкователь сам со своею — преднаходимою им —
историчностью3.
Наше предвосхищение можно переформулировать так:
— Что, если «тайна филологов», которую Г. Г. Шпет, так сказать,
дает, но не выдает (как это, по его мнению, делают на свой лад и сами
филологи), — не что иное, как философская загадка «другой стороны
луны», тайна другой стороны логоса? Логоса не как «логики»
утверждающего или отрицающего понятия — традиции теоретического или
научного разума, заложенной Аристотелем, — но как логики слова.
Логики, ставшей позднее основным предметом исследования (а равно
Тайна филологов
449
и основным пунктом размежеваний) в трех магистральных
направлениях философии XX в. — немецком «герменевтическом»,
англосаксонском аналитическом, французском семиотическом и деконструк-
тивистском.
Если предвосхищение верно и «тайна филологов» — некий ключ,
то истина, на которую претендует наш не очень понятный текст, сама
может оказаться предвосхищением — состоявшимся и все же не
состоявшимся в свое время и, как историческое следствие, утраченным
в своем проблемном напряжении, в своей истине. Ведь «тайна
филологов» для нас сегодня и вовсе тайна за семью печатями, почти
тайнопись на русском, но чужом языке — настолько анонимными и
«иностранными» стали даже свои,своязычные гуманитарно-философские
традиции. (Что, кстати, позволяет на собственном опыте, — а не с
чужих слов, — осознать и оценить проблему «языка» в современной
философии, скрытую, как представляется, не столько в «языке»
сколько в «разговоре»: я и другой так естественно говорим на одном и
том же языке — и вдруг с ужасом и стыдом обнаруживаем, что мы
говорим «на разных языках»). Шпет говорит с нами на другом языке —
в этом все дело.
Но что, если 1-й выпуск «Эстетических фрагментов» не такое уж
исключение и не «остранение» философской проблематики нашего
автора, заговорившего как бы вдруг на вроде бы чуждую ему тему
очуждения разума7. Что если перед нами гротескно-эксцентрическое
общее место «общных», по слову Г. Г. Шпета, находок и обретений
века — пореволюционных, но не советских, символизирующих, но
уже не символистских, решающих, но ничего окончательно не
решивших и, главное, ставших вполне иностранными для внуков, всегда
готовых, по слову А. Ахматовой, «отвернуться в тоске», но в
действительности скрепляющих собою анонимную Кащееву Цепь? Что, если
«Своевременные повторения» своевременны сегодня в самой своей
«несвоевременности» постольку, поскольку «тайна филологов»
открывает и скрывает тайну русского культурно-исторического
сознания в единственный и высший момент его кануна-конца, то есть
решающего философского прорыва из обособления и, почти сразу же
срыва, предвосхищенного внятной невнятицей, которую изрекает дух
небытия в романе Андрея Белого «Петербург» (1916): «Я гублю без
возврата»?..
Значит, есть круг и круг. Предвосхищение как так называемая
«судьба» — и предвосхищение как так называемая «благая весть».
Афины и Иерусалим, эллинство и Вифлеем. Мы, следовательно, — как
450
Раздел второй. Рассечение
и автор «Своевременных повторений», по-своему повторяемся: мы
движемся в том и в другом круге события и понимания
одновременно, но в разных временах и в разных типах «временности». Вот,
значит, что мы уже поняли, хотя все еще не понимаем: в определенной
исторической ситуации, периодически повторяющейся — скорее «в
истории бытия», Seinsgeschichte, чем в истории Kultur, в «нечистой»
истории, а не в «чистом» Разуме, — мертвые могут оказаться, так
сказать, живее живых, а «познанное», казалось бы, давным-давно, —
интереснее и даже актуальнее самых продвинутых «когнитивных
практик». Не об этом ли вообще повторяют и философствуют
молотом «Своевременные повторения»?
Затекст
Дух и стиль 1-го выпуска не то чтобы неповторимы; они больше
не повторятся у Г. Г. Шпета никогда, потому что у них — как мы
понимаем сегодня — больше не будет своего времени. Чего же мы все-
таки не понимаем в нашем тексте? Очевидно, — того затекста
конкретно-исторической событийности, который, буквально, «стоит
за» нашим текстом и который вполне объективно мотивирует не
столько «текст», сколько «высказывание». Мысль, высказывание,
авторство — не «в» тексте, а на границе текста и «затекста».
Непонятное и немыслимое, которое, в связи с текстом Г. Г. Шпета,
предстоит помыслить и понять как историческую возможность, —
это решительно констатируемый автором «величайший праздник»,
который справляет само время, сама история культуры. Праздник,
который связывает «тайну филологов», во-первых, с феноменом
«возрождения», а во-вторых, с эпистемологическим принципом
«познания познанного». Эмоционально-волевой тон в нашем
абзаце, как и в других фрагментах 1-го выпуска, поднимается до
постулата, до суммы постулатов, перекрывая, почти закрывая —
выразимся на более привычном языке Шпета — «предмет», логически
отчетливый смысл «сообщения». Комментирование такой
осмысленной неосмыслицы счастливым образом обречено тоже на
«качели»: двигаться придется то «туда», то «обратно», из затекста того
мира, откуда говорит текст, — в наш собственный мир и затекст,
а отсюда — обратно, так чтобы стало возможным почувствовать и
понять само это онтологически-событийное различие единого и
единственного события бытия, само «между» («временное
отстояние», Zeitenabstand — по Гадамеру, «взаимную вненаходимость» —
по Бахтину).
Тайна филологов
451
Смена парадигмы — не по Куну
Итак, мы предположили, что «Своевременные повторения» и в
особенности наш абзац в них — эксцентрический пункт всей, лишь
по видимости жесткой и плоской («рационалистической»)
программы Шпета-философа. То есть такое «овнешнение» ее, при котором
мышление мыслящего не столько противоречит само себе, сколько
«вдруг» — словечко Достоевского тут уместно — как бы выходит
гротескно само за себя. Но этот входящий в замысел 1-го выпуска
эксцентризм мысли — вполне рассчитанный и не вполне
контролируемый в одно и то же время4 — допускает следствия, которые сам
Г. Г. Шпет впоследствии, очевидно, учесть уже не мог, но не столько
потому, что ему «не дали», сколько потому, что он по-своему как-то
уже все учел — если не с самого начала исследовательской работы, то
все же давным-давно.
Эксцентризм (и радикализм) автора «Эстетических фрагментов»
есть резон воспринять и помыслить в общей историко-философской
и историко-научной связи XX в., по аналогии с концептуализацией
Т. Куном «ненормальной» науки в отличие от «нормальной» — правда,
в ином, не куновском контексте естественнонаучно ориентированной
philosophy of science. Наш исходный пункт и предвосхищение
приобретают тем самым вид следующего вопроса:
— Не являются ли основные программно-философские
утверждения Г. Г. Шпета о том, что математически-естественнонаучное
мышление лишено даже подхода к «исторической проблеме» как проблеме
«понимания», и, более того, отстраняет и отчуждает философию от
«изначала ей присущего замысла конкретности и историчности, в их
глубочайшем принципиальном значении»5, так что нужна новая
логика познания исторического опыта, — не оказываются ли эти и
подобные научные утверждения в некоей связи с «ино-научной»
проблематикой «воз-рождения», и значит, с «тайной филологов»?
Русское опережение — задним числом
Когда в конце 1980-х гг. ученик Отто Фридриха Больнова
(который, в свою очередь, был учеником Георга Миша, ученика и зятя
Дильтея) Фритъоф Роди, редактор «Ежегодника Дильтея»,
познакомился с еще не опубликованным тогда немецким переводом только
что цитировавшегося исследования Шпета «Герменевтика и ее
проблемы» (1918; первая публикация оригинала: 1989—1992), то он,
похоже, приятно удивленный, не преминул сразу поставить всплывшего
452
Раздел второй. Рассечение
из исторического небытия русского философа в совершенно
определенный, узнаваемый для историка немецкой философии контекст.
Такова статья Ф. Роди «Герменевтическая логика в контексте
феноменологии: Георг Миш, Ганс Липпс, Густав Шпет» (1989), вошедшая в книгу
статей этого немецкого исследователя классической и современной
герменевтики — «Познание познанного» (1990)6.
В выстроенном Ф. Роди ряду русский философ стоит
последним, хотя мог бы (и должен) стоять хронологически первым.
Ведь Г. Г. Шпет — это стало открытым для всех в последнее время —
заложил и разработал основы своей научно-философской
программы — грандиозного замысла «Истории как проблемы логики»
и примыкающих к нему изданных и неизданных, написанных,
ненаписанных или сгинувших статьях, фрагментах и книгах — еще до
Первой мировой войны7.
И все-таки Ф. Роди по-своему прав: только западноевропейский
(точнее — немецкий) фон может здесь ввести в курс дела, то есть
помочь осветить и осмыслить непрерывность, преемственность и самую
направленность мысли — направленность не «психологическую», а
«историческую» (если припомнить принципиальную и проблемную
оппозицию в мышлении Г. Г. Шпета). Так вот: не всякая, но именно
такая направленность — «герменевтическая логика в контексте
феноменологии» — в русской философии и гуманитарии XX в. оказалась
исторически невозможной; она не состояласьу состоявшись, опередив
всех, но почти погибнув без возврата. Произошла историческая
деконструкция первых и последующих «низвергнутых», по сравнению
с которой западная «деконструкция», ненаучно выражаясь,
«отдыхает», поскольку какие-то «следы» в тексте нам даны, а следы в
историческом затексте почти отсутствуют либо слишком непонятны.
Направленность реферируемых и комментируемых Ф. Роди текстов для
нас почти лишена преемственности за текстом. Факты, известные под
названием «русского опережения», «ускоренного развития» и т. п.,
в нашей философии, к сожалению, могут быть осознаны только
задним числом и в основном только через Запад: настолько в советский
век разошлись пути исторического опыта — с одной стороны, а наук
исторического опыта (гуманитарного и философского познания) — с
другой, иностранной стороны.
Отсюда — необходимость как бы нового историко-философского
жанра — мы называем его «герменевтическим комментарием», —
пытающегося восстановить или, если угодно, «повторить»
преемственность в ситуации почти безвозвратной утраты преемственности.
Тайна филологов
453
(На Западе давно обсуждают проблему так называемого
«эпистемологического разрыва» постольку, поскольку в западноевропейской
гуманитарно-философской культуре этот разрыв не произошел
настолько радикально, как это случилось в России в советский век.)
Комментарий, к которому не впервые начинает сейчас тяготеть
философия, настолько традиционен, настолько уходит корнями в историю
филологии и герменевтики — «тайну филологов», — что самый
традиционный жанр может показаться даже новым среди более
«нормальных» речевых жанров-дискурсов научно-философской
культуры Нового времени8.
Магистральный сюукет
В конце своей «Герменевтики...» Г. Г. Шпет говорит о «давлении
на самое философию» — давлении в смысле назревшей,
своевременной задачи: «Словом, из всего видно, что проблема понимания для
нашего времени вполне созрела»9.
«Давление» времени, значит, может мотивировать (как бы
торопить) постановку и разрешение так называемых теоретических
проблем, в предметном содержании которых, взятом в отвлечении
от событийно-мотивирующего контекста и затекста мыслящего, мы
этого объективного «давления» не найдем. (Не в этом ли тайна
бесплодия беспроблемности — такого состояния общественного и
научного сознания, когда именно «кризис», о котором, вроде бы, все
говорят, как раз и невозможен?..) Перед нами «вдруг» оказалась
проблема научной революции в понимании бытия истории — «проблема
понимания», которую философия должна видеть ясно, не
прикрываясь ни позитивистской «научностью», ни так называемой
философией науки, а исходя (как этого требует Шпет в 1918 г.) из «изначала
ей присущего замысла конкретности и историчности».
Возобновление этой проблемы сегодня анахронично и своевременно в одно и
то же время — историческое условие, которое, может быть, позволит
нам приблизиться к осмыслению «тайны филологов». То, что
связывает абзац из «Своевременных повторений» (1922) с только что
приведенной цитатой из «Герменевтики...» (1918), — это, надо полагать,
одно событие, из которого исходит Ф. Роди в упомянутой статье и
одним из первых участников которого в русской философии был
Г. Г. Шпет. Как назвать и локализовать это событие?
Идентичный затекст научно-философской программы Г. Г. Шпета
(западноевропейский и русский) я условно назову сменой философско-
гуманитарной парадигмы в прошлом столетии. Название, конечно,
454
Раздел второй. Рассечение
само преломляет происшедшую в советский век почти тотальную
утрату неофициального «общного» языка исторического опыта (как
«повседневного» языка, так и «научного») — утрату, о которой точнее
всего сумел у нас сказать, что характерно, не философ, даже не поэт
или писатель, но крупнейший отечественный филолог-мыслитель
последних десятилетий10. Чтобы быть более понятным, приходится
ссылаться на понятийный язык Т. Куна, имея в виду на самом деле нечто
иное — такую «смену парадигмы», о которой невозможно адекватно
судить с позиций неопозитивизма, а равно «критического
рационализма», как и вообще всякой монорациональной эпистемологии так
называемой «единой науки» {unity of science), пусть даже и
рефлектирующей свою историю (в пределах научных теорий)11.
Замечательный отечественный филолог-германист А. В.
Михайлов заметил однажды: «Начала и концы — это сначала не
теоретическая проблема, но проблема реального исторического опыта»12.
Спрашивая о «тайне филологов», мы предвосхитили, в
сущности, вопрос о «началах и концах». В случае «смены философско-
гуманитарной парадигмы» речь идет о, так сказать, магистральном
сюжете западноевропейской (прежде всего — немецкой) философии
минувшего столетия по линии: Дильтей — Ницше — Гуссерль — Ро-
зенцвейг — Бубер — Хайдеггер — Миш — Гадамер. Каждое
предшествующее звено этой цепи непонятно не только без
предшествующих, но и без последующих звеньев, своевременно повторивших
и обновивших проблематику магистрального сюжета в его
относительно общной, хотя и дифференцированной направленности.
Магистральный сюжет — смена философско-гуманитарной парадигмы —
это поворот в осмыслении исторического опыта в науках
исторического опыта и в философии. Речь идет о том «решающем повороте» на
философской магистрали XX в., которое Ганс-Георг Гадамер в своем
обращении «К русским читателям» из Гейдельберга (1990) определил,
с оглядкой на Гуссерля и Хайдеггера, как «переход от мира науки к
миру жизни» в самом научно-философском познании13.
Для наших целей не так важно, в какой мере Г. Г. Шпет осознал
и осуществил этот «поворот»; главное, что этот философ участвовал
в решающем философском и научно-гуманитарном событии века —
одним из первых и последних в России. Отметим в этой связи три
момента, принципиальных для нашего герменевтического комментария:
(1) Смена философско-гуманитарной парадигмы в некотором
решающем смысле имела место в течение нескольких лет — примерно
между 1917 и 1923 гг., когда, как сказано в романе Томаса Манна
Тайна филологов
455
«Волшебная гора» (1924), «началось столь многое, что потом оно уже
не переставало начинаться»14.
(2) Принципиальное это событие не имело места в отечественной
мысли ни в «научной материалистической», ни в «религиозной
идеалистической» философии. Смена гуманитарной парадигмы
произошла у нас не столько в философии, сколько в филологии и в
эстетике, но в те же самые несколько пореволюционных лет и с
определенными издержками15.
(3) Приходится констатировать происшедший в советский век
обоюдный разрыв философского и филологического разума (включая
и так называемую классическую филологию) — разрыв, проходящий
по линии «критики исторического разума», от Дильтея и его школы
до Гадамера и его школы. Только в русле этой «критики» мог
осуществиться и действительно произошел поворот к герменевтической
логике мира жизни — переход от традиционной герменевтики как
органона филологического разума к герменевтической философии как
новой логике и эпистемологии исторического опыта. У истоков этого
«решающего поворота» и стоит Г. Г. Шпет, который во введении к
монографии о герменевтике ставит принципиальную методическую
задачу: именно философия должна овладеть целостным измерением
«наук о слове», что приведет «к радикальному пересмотру задач
логики и к новому освещению всей положительной философии» —
перспектива, которая «может оказаться интересной и небесполезной
также и для историков, филологов и историков литературы»16.
Немецко-русская тема
Тем самым внутри нашей темы открывается новое измерение и
новая задача. Адекватная историко-герменевтическая локализация
философской программы и наследия Г. Г. Шпета в целом
обнаруживают зависимость от того, насколько окажется своевременным
в постсоветской философии возвращение, или новое рождение,
«немецко-русской темы», «диалога с Германией», о чем однажды
напомнил, вспоминая А. В. Михайлова, С. С. Аверинцев17.
Иначе говоря, интересующая нас «тайна филологов»
располагается и скрывается на двух пересекающихся границах: между
философией и филологией — с одной стороны, между немецкой и
русской философско-гуманитарной культурой — с другой. Точка
пересечения этих границ — история, основная проблема Шпета-философа.
Его идея «исторической философии» уводит от спекулятивно-
идеалистических конструкций «философии истории» и прочих
456
Раздел второй. Рассечение
синтетических глобалок, возвращая нас в реальную историю. В
истории, которая уже была, в которой нас почти не было и которая
по-новому повторяется в современной философии там, где
возникает проблематика «гуманитарного познания», «гуманитарного
мышления» и т. п., то есть там, где более или менее осознанно
философия обращается или возвращается к исторической реальности
«наук о слове»18. Пусть так, но почему принципиален «диалог» не с
кем-нибудь, а с наследниками классической немецкой философии?
Причин, как минимум, две:
1) Только соотечественники Канта, германского идеализма,
позднего Шеллинга и Маркса могли в условиях «невиданных перемен»
XX в. по-настоящему поставить под вопрос так называемое
классическое философское наследие, переоткрыв (своевременно повторив)
опыт и вопросы классиков и предшественников. Но такое
переоткрытие или переосмысление — «познание познанного» — оказалось
невозможным в советский век.
2) Ключи «исторической философии» все еще находятся в
немецких замках. Вильгельм Дильтей совсем не чванился, когда писал
в позапрошлом веке, что «германский дух, в отличие от духа
английского или французского, живет сознанием исторической
преемственности (...). Отсюда историческая глубина германского духа, в
котором минувшее выступает как момент сегодняшнего
исторического сознания»19. В немецкой философии, как в никакой другой,
«моментом сегодняшнего исторического сознания» не может не быть
античная философия. Русская научная и философская культура до сих
пор не только институционально, но и по своему языку понятий
сохраняет наиболее глубоко унаследованную связь с немецкой научной
культурой (а через это — в основном анонимно — с греческой
метафизикой). Эта связь на почве так называемого «историзма»,
скрепленного авторитетом Гегеля, оказалась догматизированной и, как
следствие, радикализованной на излете советского века, что привело
к настоящей «антропологической катастрофе» (выражение М. К. Ма-
мардашвили). А именно: гегельянско-марксистская версия «мирового
духа» на советском коне, рухнув, оставила общественное и научное
сознание, по сути дела, вне подлинного (а не эстетизирующего и
мифологизирующего) «сознания исторической преемственности». А это
значит — вне реальной исторической перспективы20.
Вот, по-видимому, тот проблемно-мотивационный затекст,
который позволяет почувствовать и осознать своевременность
обращения к смене философско-гуманитарной парадигмы также и
Тайна филологов
457
в России — в пореволюционной и постсимволистской (но не
советской) русской мысли. Наследие Г. Г. Шпета тем самым обнаруживается
и освещается в некоторой новой перспективе (и ретроспективе). В
этом смысле ключевой пассаж из 1-го выпуска «Эстетических
фрагментов» — принципиален. Ведь именно здесь автор поставил в связь
задачу и перспективу русского «нового рождения» с немецкой
герменевтикой.
Обращение
Смена философско-гуманитарной парадигмы в минувшем
столетии имела два ближайших к ней исходных пункта в философии
XIX в. Речь идет о двух академических манифестах начинавших свой
путь в одном и том же университете, но с разницей в два года,
немецких мыслителей. В. Дильтей начал академическую карьеру в
Базеле со вступительной лекции «Поэтическое и философское
движение в Германии 1770—1800 годов» (1867)21, а филолог-классик
Ф. Ницше — со вступительной лекции в том же Базеле «Гомер и
классическая филология» (1869). Того и другого мыслителя впоследствии
назовут представителями «философии жизни», что верно, но
сгодится сегодня разве что для плохого учебника философии. В той и
в другой вступительной лекции по-разному заявлена сходная задача:
разобособитъ философию в ее истории, то есть понять философию на
ее, философии, до- и вне-философских границах, как бы забытых ею
самой.
С точки зрения нашего вопроса о «тайне филологов» в тексте
Г. Г. Шпета, особое, даже решающее значение имеет знаменитый
комментарий в Базельской лекции Ницше по поводу высказывания
Сенеки о соотношении философии и филологии22.
Ницше, как известно, повторил слова римского стоика,
перевернув их смысл. Двадцатипятилетний филолог-классик заявил:
«Филологу тоже подобает подвести под краткую формулу
вероисповедания цель своего стремления и путь к нему» — ив качестве такой
краткой формулы привел высказывание Сенеки, которое гласит:
«Philosophia facta est, quae philologia fuit» («Философией стало то, что
прежде было филологией»). «Этим я хочу сказать, — комментирует
Ницше свое, как он сам говорит, "обращение" мысли Сенеки, — что
каждая филологическая деятельность должна быть включена в
философское мировоззрение, в котором все единичное и частное
испаряется как ненужное и остается нетронутым лишь целое и общее».
«Обращение», собственно, заключается в том, что римлянин утверждает:
458
Раздел второй. Рассечение
великая греческая философия выродилась в филологию, тогда как
Ницше утверждает нечто обратное: то, что прежде было только
«филологией», теперь имеет шанс подняться на уровень «философского
мировоззрения», уровень «целого и общего». Через шестьдесят лет
А. Ф. Лосев в своих «Очерках античного символизма и мифологии»
(1930), процитировав это «обращение» античного изречения,
прокомментировал Ницше так: «Это и должно быть и отчасти уже
становится также и девизом современной филологии. Нам кажутся
наивными те добрые, старые времена, когда ученый, во всеоружии
знания "фактов", ограничивался их добросовестным описанием,
регистрацией и классификацией. Трогательна и ребячлива вера старых
филологов в строгую научность своих описаний и регистрации. Для
нас это, в лучшем случае, есть лишь отдаленная, подготовительная
работа, которая столь же необходима для науки, сколь и до-научна по
существу. Думалось, например, что можно изложить греческую
философию независимо ни от какой интерпретации ее»23.
А. Ф. Лосев, как можно заметить, говорит здесь о том же, о чем
еще раньше писал его коллега и оппонент Г. Г. Шпет; не случайно у
Лосева это «мы», которое у него тоже больше не повторится. Проблема
«интерпретации» и «понимания» как обоюдоострого, но и обоюдожи-
вого соотношения между историческим «предметом» интерпретации,
с одной стороны, и историческим же интерпретатором этого
«предмета», с другой, открылась в свое время, и открылась «для всех». То,
что раньше казалось как бы независимым от исследователя,
«объективным» объектом исследования, оказалось — на генеральной и
гениальной стадии смены философско-гуманитарной парадигмы между
1917 и 1923 гг., — тем же, чем обернулась, в сущности, вся так
называемая культура. И субъект-объектная парадигма, и
интеллигентская революционность, и «культура», и антикультурная революция
обратились «онтологическими фикциями». Современность сама для
себя — а не только для науки ее предмет — это, говорится в
«Своевременных повторениях», «маска на балу, биография без собственного
имени, отчества и дедовства героя» (346).
В контексте нашего ключевого текста это, по-видимому,
означает: «тайна филологов» ближе к проблематике «автора» и «героя»
в исторической, преемственной жизни традиций. Философией
становится то, что прежде было филологией; филология приобретает
принципиальное философское значение в свете проблемы истории
в целом — как некоторой, анахронически выражаясь, «сплошности»
(компьютер в этом месте исправляет мне мою, по его мнению, ошибку
Тайна филологов
459
и исправляет: «оплошности»). Иначе говоря, историческая
беспамятность требует обновления с помощью филологии исторической
памяти. Не реставраций, а Ренессанса.
«Своевременные повторения» и сегодня еще напоминают о том,
что проблемы «авторитета», «автора» и «героя», обосновывающих
историческую память и преемственность, похоже, могут быть
осознаны и восчувствованы «для всех» только в ситуации «кризиса»,
то есть в состоянии радикальной, абсолютной неавторитетности
исторически ставшей современности и ее современников, как бы
некомпьютерного зависания всех традиций.
Карнавализация сознания
Нас «качнуло» и «отнесло» почти к началу, к проблеме
положительной «деструкции» — проблеме, которая в «Своевременных
повторениях» выступает как оппозиция: разум, ставший
«иностранным», — и «возрожденный разум», «новый дух», способный
сбросить и превзойти свою маску-, специально для философии,
которая желает быть исторической, такой «маской на балу»
оказывается «дорогое для разума, но не законное его детище — европейская
метафизика» (360).
За всеми радикальными суждениями, осуждениями и решениям —
буквально: «кризисом» — в 1-м выпуске «Эстетических фрагментов»
стоит, как говорилось, чрезвычайно плотная атмосфера события, за-
текст истории — всей истории. Это значит: научно-философская
проблематика и «смена парадигмы» не уловимы и не объяснимы изнутри
«проблем» и «парадигм» самих по себе, внутри себя. Ни до ни после
1-го выпуска Г. Г. Шпет, кажется, никогда не выступал печатно — в
предвосхищении нового рождения «положительной философии» —
так резко, так «для всех» — в сущности, против всего:
— Против «идеи» (в кавычках) художественного произведения,
вызывающей «несносное чувство банальности» (345); против
«Эстетики» (с большой буквы), ставшей странной или иностранной для
себя самой, заблудившейся «между сенсуализмом и логикой» (346);
против «философов-командиров» немецкой идеалистической
классики и романтики (364); против рассудочности «гигиенических
наименований» в теоретической философии и в теоретической
эстетике, «забывших о музыке» (345); против «переживателей» и
«символистов», забывших о символе, который был, будет и есть
«сопоставление порядка чувственного со сферой мыслимого, идеи,
идеальности, действительного опыта (переживания) со сферою идеального,
460
Раздел второй. Рассечение
опыт осмысливающего» (357); против отечественных «белибердяев»,
предавших научную философию ради «теософической премудрости»
(362); против «модерн-поэтики» (354), радикализующей — в
ситуации распада — тенденцию к умозрительным «синтезам» в
искусстве и в общественной жизни, тенденцию, доводящую тотальное
гниение до тоталитарного «самоедства организма» (364); против
притязающих на роль «столичных мальчиков» (345), под собою (ни тогда,
ни сейчас) не чующих страны; против «реставраций» и «стилизаций»,
в которых повинен «исторический символизм» (358); против «омфа-
лопсихии» — радикализованного и вульгаризованного принципа
того же германского идеализма и романтизма — Innerlichkeit,
«внутреннего мира» (366); против «гностического гербария» в
теоретизирующих невнятицах того же А. Белого и иже с ним (371); против
«протестантского маргарина», который от «долой попов» пришел и
привел к «долой Христа» (372); против Шпенглера, оппонентом
которого у Г. Г. Шпета, что показательно, выступает живший задолго до
того создатель самостоятельной науки «филологии» — Фридрих
Август Вольфа (наставник и друг В. фон Гумбольдта) (374—376); против
русских критиков Шпенглера — «христианских цивилизаторов»,
совмещающих веру, кафедру и трибуну, с чужого голоса пугающих
«закатом Европы» (376). Короче говоря — против «отчаяния перед
невозрождением» (373).
Это — не алармизм. Но это и не утопия.
Это определенного рода умонастроенность, в пределах которой
самые общие понятия, слова, образы, идеи, идеалы исторически
совместились с их носителями, воплотились — обнаружив свою
несовместимость с этими воплощениями и «оплотнениями».
Идеальное, смысл, значения и знаки все сплошь как бы перекрыты
своими конкретно-историческими формами; эти формы
обнаруживают, овнешняют для всех границы своей завершенности.
«Эстетическая» — чувственно-идейная, опытно-переживаемая — проблема
этих форм оборачивается культур-политической проблемой
«творчества» и «свободы». Как возможно такое совмещение идеально-
всеобщего с конкретно-исторической общностью? Откуда
категорический императив «своего Ренессанса» — на одном размахе качелей, а
«отчаяние перед невозрождением» — на другом?
Метаисторическое измерение конкретно-исторического
опыта — его, как мы помним по финальным страницам
«Герменевтики и ее проблем», и должно отыскать. Преемственный младший
современник Г. Г. Шпета — «неокантианец» М. М. Бахтин — в работе
Тайна филологов
461
«Автор и герой в эстетической деятельности» (1922—1924) исследует
способность достижения этого метаисторического измерения
единственно возможным образом — посредством, как он сам говорит,
«феноменологического описания»: «И вот, если внутреннее бытие
отрывается от противостоящего и предстоящего смысла, которым
только оно и создано все сплошь и только им во всех своих моментах
осмыслено, и противопоставляет себя ему — как самостоятельную
ценность, становится самодовлеющим и самодовольным перед лицом
смысла, то этим оно впадает в глубочайшее противоречие с самим
собою, в самоотрицание, бытием своей наличности отрицает
содержание своего бытия, становится ложью: бытием лжи или ложью
бытия. Мы можем сказать, что это имманентное, изнутри его
переживаемое грехопадение...»24.
В историко-культурном плане тот же процесс «имманентного
грехопадения», или, как говорит Г. Г. Шпет, «отчаяния перед
невозрождением», изображается тем же M. M. Бахтиным в монографии
«Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и
Ренессанса» (1940; опубл. 1965) как конкретно-историческое
состояние продуктивной относительности всех (в том числе и в
особенности «вечных») смыслов, скомпрометированных бытием и потому
нуждающихся в обновлении, то есть в новом и открытом (а не
«самодовлеющем и самодовольном») предстоянии «перед лицом смысла».
Радикальная несерьезность и внутренняя неоправданность
миропорядка «освобождают человеческое сознание, мысль и воображение
для новых возможностей. Вот почему большим переворотам даже в
области науки («смена парадигм»! — В. М.) всегда предшествует,
подготовляя их, известная карнавализация сознания»25.
Сказанное и процитированное, как кажется, проливает свет
на связующее звено в нашем исходном тексте: это — «величайший
праздник», освобождение для новых возможностей, где и когда все
более или менее состоявшееся в исторической культуре — не
состоялось, и только «маска на балу». Освобождение в предвосхищении
«своего Ренессанса», время для которого, судя по всему, назрело26.
В этом контексте и онтологически-событийном затексте, по всей
вероятности, следует рассматривать концепцию «третьего», или
«славянского», Возрождения — концепцию, которая больше заявила, чем
проявила себя и чем закрепила себя преемственно — от знаменитого
филолога-классика (и популяризатора Ницше) Φ. Φ. Зелинского до
Г. Г. Шпета и братьев Бахтиных, Николая и Михаила, тоже филологов-
классиков27. Под углом зрения нашей темы эвристическое значение
462
Раздел второй. Рассечение
имеет тезис питерского исследователя Н. И. Николаева, в
соответствии с которым концепция русского Ренессанса (после романского и
германского) стоит в непосредственной связи с «главным событием»
в культурной истории 1920-х гг., которым явилось «создание
философской герменевтики Г. Г. Шпетом и M. M. Бахтиным28.
Овнешнение
Грандиозной — соразмерной тотальности отрицания —
положительной альтернативой состоявшейся несостоятельности
современной культуры оказывается в 1-м выпуске «Эстетических
фрагментов» концепция «овнешнения» как подлинного начала, или
«зачала», самой философии:
«Зачалом Возрождения всегда было искусство. Есть. Было.
Будет. Искусство есть воспроизведение воспроизведенного. (...)
Возрождение — припоминание рождения. (...) Возрождение как
выявление, вовнешнение, реализация, есть прежде всего модус
эстетический. Не политический, не педагогический — как убого жалки все эти
практики-практиканты. Эстетическое заявление о себе
действительности — существенно первично. Прочее приложится» (368). И дальше
в тексте следует наш ключевой абзац про «тайну филологов».
Для того чтобы подойти к этой «тайне» — теперь уже не путем
предвосхищения, а более конкретно — придется прояснить еще
одно, философски ключевое опосредование. Таким герменевтически
фактичным опосредованием следует признать, повторимся,
«деструкцию» Шпетом классической и романтической эстетики, то есть
такой способ амбивалентной критики традиции, с помощью
которого только и можно вскрыть продуктивное несовпадение традиции
с собою же, реализовать потенциал «нового рождения» традиции из
ее же исторического распада. В эксцентрическом центре такой
критики традиционной эстетики в «Своевременных повторениях» —
теория «овнешнения».
Замечательное русское слово «овнешнение» (богатое
немецкими философскими ассоциациями) сегодня звучит скорее как
иностранное. Концепция «овнешнения» требует отдельного и
подробного комментария. Для наших целей важна основная и
систематическая, но стилистически фрагментарная, рваная идея Г. Г. Шпета,
которую можно формулировать так: творческим источником или, как
он говорит, «зачалом» культуры является не что-то «внутреннее»,
а, наоборот, нечто видимое, воспринимаемое — «трепетание
покрова» (369), открывающееся «перед всеми очами», — нечто внешнее.
Тайна филологов
463
Точнее, — такое «вовнешнение» или «овнешнение», такое
«подражание» животворящему источнику всякого творчества, которое
«существенно первично». Первично в том смысле, что даже самое
отвлеченное, так называемое абстрактное мышление творит и мыслит
внутри «эстетически» (чувственно-духовно-опытно) уже
сотворенной и организованной действительности, в которой мышление
ориентируется как в преднаходимом «заявлении о себе
действительности». Ориентируется, следовательно, на границах, которые
парадоксальным образом делают возможным относительную автономию
познания, как и всей интеллектуальной деятельности, всей культуры.
«Кризис культуры теперешней» (370), по мысли Г. Г. Шпета, —
это кризис специализированных, теоретизированных, эстетизиро-
ванных, политизированных и иных культурных практик,
оторвавшихся от своего «зачала» — с одной стороны, и кризис спиритуали-
зации так называемого «духа» — с другой стороны.
Антихристианство в «Несвоевременных повторениях» не должно
вводить в заблуждение: историческому христианству и европейскому
романтизму (с его культом Innerlichkeit), которые несут основную
ответственность за спиритуализованную, впавшую в утопизм и
рассудочно-похотливый конструктивизм «духовность» так
называемого духа и так называемой культуры, — всему этому Шпет
противопоставляет своевременно нуждающийся в повторении подлинно
назревший культурно-исторический синтез. Имеется в виду «смертный
брак» (360) античной идеи искусства как «воспроизведения
воспроизведенного», «подражания по воспоминанию», с новозаветной («ке-
ригматической», как будет говорить, начиная с 1920-х гг., Р. Бультман
в Марбурге, порвавший, опираясь на Хайдеггера, с «протестантским
маргарином» традиционной теологии) идеей нового рождения,
нового Вифлеема.
Познание познанного
Но тогда ренессансное (зачинающее новую жизнь) «зачало»
религии воскресающего и воскрешенного «Творца» (368) как бы вдруг
оказывается в существенной связи с «богом разумения, Гермесом»
(365), с герменевтическим принципом «познания познанного».
Научная формула, связывающая традиционную и современную
(философскую) герменевтику, — «Erkenntnis des Erkannten»,
«познание познанного», — принадлежит немецкому филологу-классику
Августу Беку (1785—1867), тому самому, которому в «Герменевтике и
ее проблемах» Шпет посвятил целых три раздела, как никому другому
464
Раздел второй. Рассечение
в этой его книге. Именно у Бека Шпет находит «первый намек на ту
мысль, раскрытие которой является основной идеей всего (...)
исследования и от последовательного проведения которой (...)
значительно меняются наши взгляды не только на природу словесного и
исторического познания и в связи с этим не только на природу и
характер всей научной методологии но и на самое сущность всего
философского познания в его целом»29.
Для нас особое значение имеют высказанные в разделах о Беке
соображения против позитивизма, против естественнонаучных
предпосылок философии, как и против обособления науки от
философии; ведь наука сама имеет свои до-научные основы в
философии. «Обойтись вовсе без этих основ наука не может, потому,
совершенно того не сознавая и, может быть, даже не желая, она под
видом собственных эмпирических обобщений повторяет старые, в
философии отжитые и потерявшие свое значение общие воззрения и
мнения»; наука «сама себя, таким образом, лишает оживляющего
питания из новых философских источников, более чистых и более
глубоких, чем те, на которые бессознательно полагается само
эмпирическое исследование»30.
Но это обращение к «новым источникам», согласно идее А. Бека
о «познании познанного», связано как раз с возвращением к тому, что
уже создано и познано в истории культуры; в этом — смысл
цитируемого и Г. Г. Шпетом, и его учеником по ГАХН, филологом Г. О.
Винокуром утверждение А. Бека, что философствовать может и
необразованный народ, но он не может заниматься филологией, или «любить
слово»31.
Очевидно, принцип «познания познанного», перенесенный с
филологии на философию, дает ключевому абзацу 1-го выпуска
«Эстетических фрагментов» решающий смысловой поворот.
Тайна филологов
Иногда на своих лекциях и семинарах по философии или
методологии гуманитарных наук в родном бывшеленинском
университете, где я преподаю на филологическом факультете с переломного
и обвального 1991 года, для того чтобы немного развлечь и
подбодрить своих студентов и аспирантов, не готовых, как правило, к
восприятию предмета ни с какой стороны и ни на каком мыслимом
уровне, я рассказываю им одну вещь «про философов», неизменно
добиваясь в любой аудитории желаемого эффекта. «Знаете ли вы, —
говорю я, предвосхищая не трагический, а комический, веселый,
Тайна филологов
465
бахтинский "смеховой" катарсис "смерти-воскресения", — знаете ли
вы, какое у нас, философов, самое страшное обвинение, самое
убийственное слово, которое философ может обратить против другого
философа?...». И, выждав паузу, я сообщаю им, как почти радостно
предвосхищающий собственное амбивалентное развенчание
карнавальный жрец и голый король: «Это слово — релятивизм...».
Ответной реакцией неизменно является спонтанный, дружный,
по-настоящему веселый, раблезианско-бахтинский хохот.
Хохот филологов, невольно овнешняющих и возрождающих свою
тайну, о которой они сами, так сказать, давно забыли. Точнее —
которая (тайна) ушла едва ли не в бессознательное науки, давно
лишившейся исторической памяти, исторического сознания, но все же
удерживающей что-то от идеи и праксиса гуманитарно-филологической
деятельности, от принципа «достоверного», в отличие от
«истинного», по терминологии Дж. Вико. Достоверное, релятивизируя
истинное, само становится «зачалом» истины, той, что еще никогда не
было, хотя она была всегда и пребудет всегда, — вот в чем, похоже,
герменевтическая тайна филологов
К ней, этой тайне, приобщилась в XX в. герменевтическая
философия гуманитарных наук, приобщив к ней многих. Тайна филологов,
которую современная филология почти забыла («не мыслит»), однако
практически («по жизни») все равно в ней пребывает неизменно даже
в своей измене себе, — это тайна разговора, который давно начался,
который не завершим «в себе», но может быть прерван и даже
оборван — «без возврата». «Разговор, — пишет Т. Г. Щедрина в своей
монографии о Г. Г. Шпете, — в отличие от литературно оформленного
диалога, возникает неожиданно, стихийно. Он всегда потенциально
не завершен, т. е. остается пространство для его возобновления»32.
Историк герменевтически переосмысленной истории
философии может припомнить в этой связи, почему и каким образом
основоположник герменевтической философии гуманитарных наук
Ганс-Георг Гадамер в своем «докладе перед филологами» о речевом
жанре утопии в «Государстве» Платона (1983) уважительно, но тем
более решительно выступил против философа науки и идеолога
либерализма Карла Поппера, усмотрев в его исторически совершенно
понятной критике платонизма, тоталитаризма и историцизма (в
написанной во время войны с фашизмом знаменитой книге «Открытое
общество и его враги») «вызов» (Herausforderung) — вызов и
мировому филологическому платоноведению, и философии, и
антропологическому смыслу утопии, и литературному жанру утопии33.
466
Раздел второй. Рассечение
Наивному и виртуальному, политизированному антиисторизму Поп-
пера Гадамер противопоставил не только исследования XIX и XX вв.,
посвященные Платону, Аристотелю и античной философии, но и двух
«филологов» — Фр. Шлегеля и Фр. Шлейермахера —
«переоткрывателей (Wiederentdecker) диалогического принципа как
метафизической основной схемы познания истины»34.
Именно потому, что эта «схема» в XX в. вела философию и
гуманитарное познание за пределы метафизики, она совершенно по-
новому привела к возрождению старого риторического и
герменевтического правила «герменевтического круга» — уже не только в
тексте, но и в событийно-онтологическом затексте. Можно подумать,
что движение исторического опыта и самой философии — в смысле
прогрессирующего «развития» — сейчас как бы застопорилось, если
не остановилось. Но это — иллюзия исторического сознания, от
которой предохраняют филологи. Они исходят из того, что когда-то
познанное, бывшее, еще не сказало своего последнего слова — в отличие
от исчерпавшей себя «прогрессивной» умонастроенности и
философствования, которые надеются еще прожить за собственный счет или
паразитарно, распадающиеся в "имманентном грехопадении".
Начинается, похоже, новый круг исторического бытия-события, когда
все идеи и идеологии недавнего прошлого перерастают свои маски
на балу малого времени, свою самотождественность, оказываясь и
лучше, и хуже себя.
Это — не «конец истории» и не «конец философии», а новая
очередная задача своевременных повторений старых главных вопросов
нашей культуры — вопросов, заметить и осветить которые нам
помогает сегодня и Г. Г. Шпет, приоткрывший когда-то тайну
возобновления преемственности в истории философии и культуры — «тайну
филологов».
Примечания
1 Эрих Ауэрбах (1892—1957) — автор «Мимесиса» (1946), одного из
синтетических по замыслу созданий гуманитарно-филологической
мысли XX в. См.: Ауэрбах Э. Мимесис: Изображение действительности в
западноевропейской литературе / Пер. А. В. Михайлова. 2-е изд. М.; СПб.,
2000 (1-е изд. 1976). В основу анализа «изображения действительности»
в западноевропейской литературе в ее истории положена здесь
конкретная интерпретация фрагментов религиозного, историографического или
словесно-художественного текста — от Гомера и Библии до романа XX в.
Каждая из 20 глав «Мимесиса» начинается с истолкования небольшого
Тайна филологов
467
фрагмента, взятого за «исходный пункт», найденный в процессе
исследования «подступ» к творчеству данного автора в целом, к эпохе в
целом, к всемирно-историческим перспективам и ретроспективам тоже в
целом. В результате мотивы и возможности интерпретируемого текста
в своем смысле выводят, но не уводят за пределы текста — того, что Ау-
эрбах называет «феноменами». Задача филолога — дать
истолковываемым в тексте феноменам (которые как таковые сами истолковывают
действительность постольку, поскольку ее «изображают») самим
раскрыться и заговорить («сами вещи должны заговорить», — поясняет Ауэр-
бах). О методе «исходного пункта» автор «Мимесиса» писал в
методически и духовно-исторически важнейшей своей статье: Ауэрбах Э.
Филология мировой литературы (1952) // Вопросы литературы. 2004. № 5.
(сентябрь—октябрь). С. 123—139.
Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Г. Сочинения. М., 1989.
С. 369. В дальнейшем ссылки на «Эстетические фрагменты» даются по
этому изданию с указанием страниц в скобках в самом тексте.
Выражение Гадамера. См.: Гадамер Г.-Г. О круге понимания (1959) // Га-
дамер Г.-Г. Актуальность прекрасного / Пер. А. В. Михайлова. М.:
Искусство, 1991. С. 73.
Шпет писал своему издателю В. И. Витязеву-Седенко: «Не смутила ли Вас
не-академическая форма I выпуска?.. Дальше будет обратно, — вполне
академически. Но тут мне захотелось поозорничать и раздразнить
некоторых гусей. Даст Бог, попадутся». Цит. по: Щедрина Т. Г. «Я пишу как
эхо другого...». Очерки интеллектуальной биографии Густава Шпета.М.,
2004. С. 58. Мне кажется, не следует здесь «верить на слово» автору,
комментирующему уже завершенный и отрешенный текст от себя. Свести
содержание «Своевременных повторений» к полемике и «озорничанию»
значило бы упростить суть дела, к тому же полемический адресат
автора сегодня не всегда и не до конца ясен. Комментируя 1-й выпуск
«Эстетических фрагментов», Т. Г. Щедрина справедливо замечает в контексте
своего исследования: «...в этом тексте скрывается колоссальный
подтекст, раскрыть который может помочь именно исследование
коммуникативной реальности русского культурно-философского сообщества
начала XX века» (там же).
Шпет Г. Г. Герменевтика и ее проблемы (1918) // Шпет Г. Г. Мысль и
слово. Избранные труды / Отв. ред. и сост. Т. Г. Щедрина. М., 2005. С. 404.
См.: Rodi F. Erkenntnis des Erkannten: Zur Hermeneutik des 19. und 20.
Jahrhunderts. Frankfurt a. M., 1990. S. 147—167.
По мнению Т. Г. Щедриной, исследование «Герменевтика и ее
проблемы» возникло из разработок к III тому «Истории как проблемы логики»;
часть материалов вошло во II том, но «Герменевтику...» автор решил
издать как самостоятельную работу, а замысел статьи о «чистой
герменевтике» относится ко времени заграничной командировки Шпета и
общения с Гуссерлем (1913). См. комментарии Т. Г. Щедриной к «Герменев-
468
Раздел второй. Рассечение
тике и ее проблемам»: Шпет Г. Г. Мысль и слово. Избр. труды. М., 2005.
С. 416.
8 Я имею в виду не столько «глобальную тенденцию», сколько
интересующий меня «симптом» и связанные с ним методические
возможности исследования. Вот несколько изданий, относящихся к
проблеме взаимосвязи философии, филологии и истории — с одной стороны,
комментария и герменевтики — с другой: Horstmann Α. Antike Theoria
und moderne Wissenschaft: August Boeckhs Konzeption der Philologie.
Frankfurt a. M. etc., 1992; Philologie und Philosophie / Hrsg. von Hans
Gerhard Senger. Tübingen, 1998; «Jedes Wort ist ein Vorurteil»: Philologie
und Philosophie in Nietzsches Denken / Hrsg. von Manfred Riedel. Köln
etc., 1999; Der Kommentar in Antike und Mittelalter: Beiträge zu seiner
Forschung / Hrsg. von Wilhelm Geerlings, Christian Schulze. Leiden etc.,
2002; Bravo B. Philologie, Histoire, Philosophie de LHistoire: Etude sur
/. G Droisen. Historien de LAntiquité. Wroclaw, 1968; Автономова Н. С.
Философия и филология (о русских дискуссиях 90-х годов) // Логос. 2001.
№4. С. 91 —105.
9 Шпет Г. Г. Герменевтика и ее проблемы. С. 404.
10 В последний год советского века С. С. Аверинцев писал: «... старые
слова, забытые всеми, кроме допотопных интеллигентов (как раз и
окружавших мое отрочество), не подходили к новой действительности, для
которой в наличии был только набор официальных обозначений,
альтернативы которым можно было создавать только общей языковой
работой, но таковая была абсолютно невозможна. Единственной
альтернативой официальному языку оставалась лагерная "феня", или можно было в
одиночестве выдумать собственный язык для индивидуального
употребления — занятие, привычка к которому ощутима и у Солженицына, и у
Л. Гумилева, и особенно у Дм. Панина (послужившего моделью для сол-
женицынского Сологдина)». См.: Аверинцев С. С. «Сети неба не вовсе
пусты»// Пилигримы. № 9. 1—7 марта 1991 г. С. 8. Освободить философию
от «набора официальных обозначений» не так просто, как иногда
кажется тем, кто пришел в философию и богословие из физики, математики
или биологии — поворот, который на уровне неофициального
исторического опыта начался в СССР уже в 1970 гг.
11 В этом смысле понятно соображение, высказанное Э. Ю. Соловьевым
на защите моего диссертационного доклада «Философская
программа M. M. Бахтина и смена парадигмы в гуманитарном познании»: «Как
давно надо было об этом подумать, как давно в самом общем виде
зафиксировать, что помимо смены парадигмы в естественных науках
(чему в последнее время посвящена, наверно, треть нашей научно-
методологической литературы), несомненно, происходила смена
гуманитарной парадигмы в последней трети XIX и в первой половине (да и
по сей день) XX столетия». (Цит. по: Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1998.
№ 2. С. 188.) «Как давно надо было...», но потому-то и затруднительно в
Тайна филологов
469
наше время: в историческом опыте далеко не все можно осознать и тема-
тизировать задним числом.
12 Михайлов А. В. Предисловие // Мурьянов Μ. Ф. Пушкинские эпитафии.
М., 1995. С. 7.
13 См.: Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М., 1991. С. 7. На первый
взгляд странно, хотя в действительности совершенно логично и понятно,
что при переводе упоминавшейся статьи Ф. Роди на русский пришлось
отсечь большую (и руководящую) часть целого, оставив лишь последний
раздел, посвященный Г. Г. Шпету (см.: Роди Ф. Герменевтическая логика в
феноменологической перспективе / Пер. И. Чубарова // Логос. № 7. 1996.
С. 41—46). Для подхода к одному и тому же событию, которое
характеризуют (хотя и в разных масштабах) Ф. Роди и Г.-Г. Гадамер, у нас все еще
отсутствует исторический «диалогизующий фон». Странным и спорным в
этом переводе представляется не столько само это искусственное
отсечение, сколько то, как И. Чубаров перевел название статьи Ф. Роди.
Семантически и по самой сути дела немецкий автор имеет в виду
герменевтическую «перспективу» в феноменологическом «контексте» (Umfeld) — а не
наоборот, как, видимо, предпочел понимать переводчик.
14 Манн Т. Собр. соч.: В 10 т. Т. 3. М., 1959. С. 8.
15 Настоящий прорыв произошел у нас в 1920-е гг. в искусствознании и в
филологии (литературоведении, языкознании и т. п.), причем не
столько в русской эмиграции, сколько в самой России. (Г. Г. Шпет не
случайно отказался эмигрировать, хотя это и стоило ему пули в 1937 г.) Но этот
прорыв был дорого оплачен, что и показал в своих работах 1920-х гг.
Μ. Μ. Бахтин.
16 Шпет Г. Г. Мысль и слово. С. 248,249.
17 См.: Аверинцев С. С. Путь к существенному // Михайлов А. В. Языки
культуры. М., 1997. С. 7. Философскими участниками «диалога с Германией»
в XX в. С. С. Аверинцев называет Н. А. Бердяева, А. Ф. Лосева, Г. Г. Шпе-
та и Μ. Μ. Бахтина. Аверинцев, конечно, не мог не учитывать, что
именно этот философско-гуманитарный «диалог» подвергся в советский век
наиболее радикальному рассечению и «подмораживанию». Однако он
прямо не касается этой темы ни здесь, ни, насколько мне известно, в
других своих работах. Я склонен считать само это умолчание частью той же
темы, время которой еще не пришло.
18 В этом смысле А. В. Михайлов отмечал (в контексте своего
собственного замысла соединения русской и немецкой традиций «исторической
поэтики» с гуманитарно-философской традицией «школы Дильтея»), что
Г. Г. Шпет в своем замысле «исторической философии» как бы
налагает «запрет на конструирование истории — все равно, задним числом
или наперед». См.: Михайлов А. В. Современная историческая поэтика
и научно-философское наследие Г. Г. Шпета // Михайлов А. В. Обратный
перевод: Русская и западно-европейская культура: проблемы
взаимосвязей. М., 2000. С. 532.
470
Раздел второй. Рассечение
19 Дилыпей В. Введение в науки о духе: Опыт полагания основ для изучения
общества и истории (1883). М., 2000. С. 405. Более ста лет спустя один из
выдающихся современных немецких философов, Эрнст Тугентхат,
следующим образом начал свои «Вводные лекции по в аналитической
философии»: «Так называемая аналитическая философия, или анализ языка,
мало — и сегодня еще меньше, чем прежде, — рефлектирует
собственные основания. Она движется, по существу, в пределах унаследованных
постановок вопросов, которые как таковые не проблематизируются.
Отчасти это связано с недостатком исторического сознания (Mangel am
historischen Bewusstsein)». См.: Tugendhat Ε. Vorlesungen zur Einführung in
die sprachanalytische Philosophie. Frankfurt a. M., 1976. S. 9.
20 Г. П. Федотов (историк-медиевист по специальности) подметил в
статье «Россия Ключевского» (1932) по видимости плавный переход
позитивистской историографии XIX в. в советский марксизм XX в. —
анахронизм, обусловивший дезориентацию «исторического сознания» —
особенно в ситуации западных дискуссий о «конце истории». См.:
Федотов L П. Россия Ключевского // Он же. Судьба и грехи России: В 2 т. Т. 1.
СПб., 1991. С. 329—348.
21 Дильтей в своей вступительной лекции выдвинул тезис, в
соответствии с которым наиболее содержательные, решающие идеи немецкой
философско-идеалистической классики имеют в своей основе не чисто
философские, не теоретические или научные, но «литературные»
(вообще эстетические) творческие импульсы. На основании своих
исследований молодой Дильтей утверждал, что системы Шеллинга, Гегеля и Шлей-
ермахера — это рационализованные, теоретические и метафизические
переработки художественного и литературно-критического опыта Лес-
синга, Шиллера и Гёте; см.: Dilthey W. Die dichterische und philosophische
Bewegung in Deutschland 1770—1800 // Dilthey W. Gesammelte Schriften.
Bd. V. Stuttgart; Gottingen, 1957. S. 12—27. Тем самым подготовлялась
постановка вопроса об «ино-научных» предпосылках и презумпциях
научной философии и «теории» — и, шире, вопрос об эстетических корнях
метафизики. Г. Г. Шпет делает свой шаг в этом направлении как раз в 1-м
выпуске «Эстетических фрагментов».
22 Цит. по: Ницше Ф. Избранные произведения: В 3 т. Т. 1. М., 1994. С. 64—
65, с указанием страниц в тексте.
23 Цит. по: Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М.,
1930. С. 697. Ср. с характеристикой того же поворота в классической
филологии, но — в естественном отличии от Лосева — в связи с
новейшей философией в раннем докладе немецкого филолога-классика
Эриха Франка «Изменение оценки греческой философии» (1926), в котором
упоминается не только «классик» Вернер Егер, теоретик «Третьего
гуманизма», но и М. Хайдеггер: Frank Ε. Wissen, Wollen, Glauben — Knowledge,
Will, and Belief. Zürich, 1955. S. 27—50.
24 Бахтин M. M. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 1. М., 2003. С. 195.
Тайна филологов
471
См.: Бахтин M. M. Творчество Франсуа Рабле и народная культура
средневековья и Ренессанса. М., 1965. С. 57.
Важным и этапным научным исследованием по проблеме
западноевропейского Ренессанса XIV—XVI вв. для обоих русских философов —
Шпета и Бахтина — была книга немецкого историка культуры и
филолога Конрада Бурдаха «Реформация. Ренессанс. Гуманизм» (1918; русский
перевод — 2004). M. M. Бахтин в книге о Рабле ссылался на нее и
критиковал в контексте своей теории «народной культуры» как
подлинного источника Возрождения (указ. соч. С. 64—66). Г. Г. Шпет ссылался на
Бурдаха в докладе 1925 г., не уточняя, о какой книге идет речь и кто такой
автор: настолько это было чем-то само собой разумеющемся.
Любопытно, что современный комментатор решил, что речь идет о немецком
анатоме и физиологе К. Ф. Бурдахе (1776—1847), сведения о котором
можно найти в современном философском справочнике, в отличие от
сведений об историке и филологе XX в. См.: Шпет Г. Г. История как проблема
логики. М., 2002. С. 11.
См. об этом: Хоружий С. С. Трансформация славянофильской идеи в
XX веке // Вопросы философии. 1994. № 11. С. 52—62; Николаев Н. И.
M. M. Бахтин, Невельская школа философии и культурная история 1920-
х годов // Бахтинский сборник. Вып. 5. М., 2004. С. 258—272.
Николаев Н. И. M. M. Бахтин, Невельская школа философии и
культурная история 1920-х годов. С. 210. Полемика M. M. Бахтина с
концепцией «внутренней формы» Г. Г. Шпета, как и с другими его воззрениями,
в настоящем комментарии не рассматривается. Я пытаюсь в этой
работе возразить Г. Г. Шпету пока косвенно, интерпретируя то, что мне
кажется наиболее интересным и в то же время до сих пор наименее
понятым у него.
Шпет Г. Г. Мысль и слово. С. 337.
Там же. С. 335.
Там же. С. 346; Винокур Г. О. Введение в изучение филологических наук
(1944—1945). М., 2000. С. 44.
Щедрина Т. Г. «Я пишу как эхо другого...». С. 49.
Gadamer G.-G. Piatos Denken in Utopien: Ein Vortrag vor Philologen // Gada-
mer G.-G. Gesammelte Werke. Bd. 7. S. 270—289.
Gadamer G.-G. Op. cit. S. 273.
УРОКИ ОБРАТНОГО ПЕРЕВОДА
(А. В. Михайлов и проблема русско-немецкого диалога)
Произведение истории
В дискуссии «Кризис эстетики?», состоявшейся до и
опубликованной после августовских событий 1991 г., Александр Викторович
Михайлов, среди прочего, сказал:
Сам живой человек, это удивительное произведение истории,
культурной истории, с его исторически сложившимся
самопостижением, — вот основание для науки эстетики и даже эстетики, читаемой
с кафедры1.
Человек как произведение истории: не сконструированный
теоретически-идеально, но «живой»; не производный от и не
предустановленный для истории, но лично устанавливающийся и
участвующий в значимом для него самого бытии-событии, со своими
«исторически сложившимися» презумпциями и предпочтениями,
предвосхищениями и предрассудками, авторитетами и приоритетами — вот
здесь (а не где-либо) и вот так (а не иначе) — как это возможно? Под
знаком этой мысли и этого вопроса стоит если и не все написанное
Александром Викторовичем, то все же те именно его работы, в
которых проявляется преобладающий теоретический интерес, интен-
циональная доминанта Михайловского мышления в его проблемно
узнаваемом облике.
Методически более надежный способ не оставить чужой вопрос
на произвол судьбы, не отдать чужую мысль на откуп вкусам, о
которых, как говорится, не спорят, — это попробовать удержать помыс-
ленное не нами, разделить чужой вопрос во встречном напряжении,
поставив под вопрос общую проблему. Попробуем принять всерьез
слова о человек как «удивительном произведении истории»,
удивившись человеку, которому принадлежат эти слова, — германисту,
историку культуры, русскому переводчику: ведь и он тоже был некоторым
созданием истории в Михайловском смысле — «произведением»,
Уроки обратного перевода
473
авторизованным, что ни говори, определенным временем в самом
своем персонально единственном авторстве и «самопостижении».
Филология как эпистемология
Первый повод удивиться живому человеку и живой мысли — тот,
что, живя, казалось бы, «от себя», мы вживлены и движимы в так
называемом духе не произвольно собой, но тончайшей социокультурной
пневмой сознания, исторически сложившейся и потому в принципе
узнаваемой, поддающейся усмотрению и пониманию. Здесь не так
важно, каким словом именовать эту духовно-историческую среду
сознания2; важно то, определенность чего мы примем в случае А. В.
Михайлова за такую «среду».
Ему было 30 лет в 1968 г.; и, однако, ни его, ни, скажем, С. С.
Аверинцева язык не повернется назвать «шестидесятником», хотя и не по
тому, что это не так. Современники, люди одного поколения, живут
одновременно в одном и в разных мирах и временах, дышат одним
и тем же и все же не одним и тем же «воздухом». Если спросить, в
соотнесении с чем вне себя нужно понимать и оценивать, в самом
общем виде, склад мышления А. В. Михайлова, то такою творческой
средою-сообществом (и фоном восприятия), скорее всего, окажется
филология. Филология не как определенная научная дисциплина,
отличная от других наук о «культурной истории», но скорее как
гуманитарный принцип, не всегда теоретически, но фактически всегда
находившийся в конфликтных отношениях и с философией, и с теорией,
и с понимаемой в духе естествознания «научностью». Уместно отдать
себе отчет в том, чем был этот конфликт конкретно в советских
условиях, а еще конкретнее — в ситуации, так сказать, советского
постмодернизма 60—80-х гг., т. е. уже не «во льду», но под ярмом вероу-
чительной «научной идеологии», которую Г. П. Федотов в свое время
окрестил, имея ввиду своеобразную почвенность русского
коммунизма, «новой богословской школой»3.
Когда сегодня, в заметно иной и незаметно той же самой
научной-инонаучной ситуации, пытаешься понять, каким образом и
почему работы А. В. Михайлова, С. С. Аверинцева, М. Л. Гаспарова,
Д. С. Лихачева, С. Г. Бочарова, Ю. М. Лотмана и других
литературоведов, историков культуры, семиотиков оказались у нас в 70-е гг. и
позднее своего рода филологической нишей внутри исчерпавшей и
пожравшей себя «богословской школы», то приходится иметь в виду,
по меньшей мере, два взаимосвязанных фактора в истории новейшей
русской гуманитарии.
474
Раздел второй. Рассечение
Первый фактор — негативный: философский «переход от мира
науки к миру жизни»4, о котором говорит, как мы помним, Г.-Г. Га-
дамер в обращении «К русским читателям», — в русской философии
не произошел ни в советском материалистическом, ни в религиозном
идеалистическом мечтательстве « о главном». Это означает, что так
называемая смена парадигмы по-настоящему не могла быть
осмыслена и даже осознана у нас в отношении гуманитарного познания —
исторического опыта в его отличие от так называемых опытных
наук5. В условиях нового средневековья и нового богословия —
филология (А. В. Михайлов, как я помню, предпочитал более
модернизованный, неокантианский термин «науки о культуре»), имея
историческую предметную ретроспективу, не имела ни исторической, ни
теоретической перспективы, кроме той, которую давало известное
обратно-богословское «мировоззрение». Здесь, как всегда, частный
русский случай был только крайним — наиболее идеальным и
наименее цивилизованным — выражением общеевропейской ситуации,
когда единство филологии как гуманитарно-гуманистического
принципа «наук о духе» было, по точной констатации С. С. Аверинцева,
«взорвано во всех измерениях»6.
Но и обратно: конфликт, по терминологии Дж. Вико, между
«Философией» и «Филологией», между истинами всеобщего и
необходимого разума, с одной стороны, и истинами достоверности и
здравого смысла — с другой, между «verum» и «certum», — заложенная в
природе вещей гетерогенность человеческого мышления обернулась,
в отдельно взятом советском случае, трагикомедией исторического
мышления в целом. Так стало басней глубокомысленное утверждение
Августа Бека, ученика Шлейермахера: филологическое мышление, в
отличие от всякого иного, — это «основной инстинкт образованных
народов; φιλοσοφείν (философствовать) может и необразованный
народ, но он не может φιλολογειν (заниматься филологией или, иначе,
любить слово. — В. М.)»7.
Во-вторых, «смена парадигмы» в русской гуманитарии, в
противоречие и в подтверждение только что сказанному, произошла и
у нас (в 1910—1920-е гг.) — не столько там, где «философствовали»,
сколько там, где «любили слово», т. е. в историко-филологической
органике и органоне гуманитарного мышления с его особой логикой
встречной историчности. Именно в России, где глобальные смены
исторических циклов, похоже, регулярно принимают характер
национального бедствия (так сказать, «дефолта»), борьба за логос
против «логоцентризма» началась едва ли не раньше, чем на Западе,
Уроки обратного перевода
475
и, главное, органически вырастая из более общей у нас с Западом в
начале XX в. научно-инонаучной проблематики. В стране, где до и после
Революции имели обыкновение смешивать историю с
историософией, а историчность реального мира жизни — с формальным
историзмом в духе XIX в., уже анахроничным, зато радикализованным в
духе славянофильски-западнической мессианской утопии, свободной
от нечистот мира сего (как и подобает в «Республике Платона»), — у
нас в свое время с большей или меньшей отчетливостью определилась
новая историческая задача, которая с такой остротой и нудительно-
стью не переживалась, не выражалась и не формулировалась уже
никогда — ни в прежние, ни в последующие времена.
Задача, с разной степенью адекватности и научности осознанная
в России в первые пореволюционные годы именно филологами (и
философами как филологами), заключалась в том, чтобы поставить под
вопрос историю всех так называемых традиций и через это спасти
их от них самих — от «Кащеевой цепи» прошлого. Русский подступ
к гуманитарной эпистемологии — его для начала нужно еще
увидеть, «заметить», для того чтобы сделать следующий шаг. В момент
решающей смены гуманитарной парадигмы, о которой говорит Га-
дамер, задача была теоретически та же самая, а нетеоретически не та
же самая, что вскоре будет формулировать (среди других) М. Хай-
деггер в своей программе «деструкции» западной метафизики. Ведь
в России, как нигде столь буквально, нужно было спасать
историческое прошлое и самый принцип историчности от всеразвоплощаю-
щего футуристически-платонизирующего суда-расправы над
воплотившейся историей — суда, чинимого, по выражению О.
Мандельштама, «всепожирающим и голодным до слов мышлением»8.
Вообще тогда, в «столетнее десятилетие» 1914—1923 гг.,
русская гуманитарная мысль встала настолько «с веком наравне», что
уже не подражательно, но с научно-теоретической зрелостью,
самобытно и даже с опережением взялась за разработку только
подготавливавшегося тогда на Западе соединения «критики
исторического разума», запрограммированной В. Дильтеем, с
феноменологическим возвращением «к самим вещам», а также с
«лингвистическим поворотом» в так называемой философии языка —
направление историко-филологической (герменевтической) ревизии
«Разума», теоретического концепта «теории». Достаточно назвать в
этой связи М. М. Бахтина и Г. Г. Шпета, культурфилософскую прозу
О. Мандельштама, идею новой научной парадигмы — «доминанты на
лицо другого» А. А. Ухтомского, национально-персоналистическую
476
Раздел второй. Рассечение
программу прорыва «Кащеевой цепи» в поисках исторического сы-
новства и в критике формалистически-утопических изнанок старого
мира — в новаторской прозе М. М. Пришвина. Когда А. В. Михайлов
в своей статье об А. Ф. Лосеве ставит связь, казалось бы, такую
специальную филологическую вещь, как терминология, с глобальным
процессом «историзации нашего знания»9, то на этом частном примере
достоверно заявляет о себе событие, одним из самых ярких и чутких
участников которого в нашей стране (но уже в другое время) был,
конечно же, сам А. В.
Это событие достаточно парадоксально: подлинными
восприемниками магистральных (а не периферийных) тенденций в
философии XX в. в нашей стране — при всех необходимых оговорках и
неизбежных, к счастью, исключениях — были и остаются не
«философы», но «филологи» — литературоведы, критики, историки
культуры, переводчики-толмачи10.
О том, что такое филология, разумеется, «все знают»; но если не
доверять само собой разумеющемуся, то не будет искажением
традиционного, «первого» представления, если сказать: филология — не
только «любовь к слову» (как буквально переводится само слово),
но — любовь к чужому слову, «родственное внимание» к чужой речи.
Никакой ответственный перевод — все равно: художественно-
литературного или научно-философского текста — немыслим вне
этой «участной» предпосылки и установки.
Оба зафиксированных культурно-исторических фактора и
обусловили, надо полагать, духовно-исторический парадокс, в
соответствии с которым в научном, как отчасти и в общественном,
сознании эпохи, именуемой «застоем», смог начаться и состояться на,
так сказать, легально-неофициальном уровне (нишеобразно) некий
сдвиг и поворот, противоположный и противостоявший как бы
общему положению вещей. Не философские или исторические науки, а
менее теоретизированные в СССР дисциплины, филологически
укорененные в иных культурных мирах (т. е. в иных мирах исторического
опыта жизни), оказались у нас реальным противодействием тому, что
А. В. Михайлов называет «модерноцентризмом»11.
Обратный перевод?
Недостаток рабочего термина «модерноцентризм» состоит,
как мне кажется, в том, что термин бинарно-оппозиционен,
только оппозиционен; он еще слишком связан с отрицанием,
т. е. не свободен от отрицаемого: на этом пути возможна только
Уроки обратного перевода
477
«деконструкция» — внутреннее саморазрушение под видом внешней,
скорее риторической полемики с «другим», с «первым» сознанием,
тебя же и породившим. Так, очевидно, обстоит дело в «ино-научном»
плане. В плане научном позволительно спросить так: если мы
отказываемся от «модерноцентризма», т. е. от мышления об истории, в
котором один центр тяжести («новое», или «модерное»), то не следует ли
допустить и помыслить еще и другой,релятивный первому\
категориальный центр тяжести в пределах доступной нам, достоверной
онтологии события — допустить и помыслить «второе сознание»?
Именно в этом пункте, если я правильно вижу, — основное
методологическое затруднение. Отталкивание от «постмодернизма» у
всех, кто, подобно А. В. Михайлову или С. С. Аверинцеву, желает (с
полным основанием) сохранить верность так называемой
классической традиции и, шире, «культурной истории», — на
«немотствующей», нериторической глубине действенно-исторических пред-
взятостей и предрассудков мышления и сознания наталкивается
на некую «стену», т. е. границу, бесконечно превышающую
возможности так называемой рефлексии, с которой ассоциируют
«картезианскую свободу». Время интересующего нас
сверхиндивидуального затруднения — не конец советского века, но его начало, все то,
что быть могло, но «не возмогло». Позитивистское представление,
что «история в сослагательном направлении» не существует (т. е. не
может быть предметом научной историографии), здесь ни причем.
Само это представление — предрассудок формального историзма
позапрошлого столетия, того, что Гадамер называет в своей главной
книге «эстетико-историческим позитивизмом»12.
Та же эпистемологическая трудность обнаруживается в
методическом позитивном понятии, которое А. В. Михайлов, явным
образом, сформулировал в качестве альтернативы «модерноцен-
тризму». Метод гуманитарных наук, соответствующий их историко-
интерпретативной природе, в противоположность даже не столько
«наукам о природе», сколько тоже на свой лад гуманитарному «мо-
дерноцентризму», А. В. называет — с не всегда свойственными его
лавинообразно растекающейся мысли ясностью и отчетливостью —
«обратным переводом»13. Полемическая односторонность этой
формулы очень характерна — и, конечно, не только для А. В.; но в ней, тем
не менее, точно схвачено как раз то, что фактически (практически)
связывает идею «филологии» с идеей «перевода». Это — идея
пересказа, передачи, переложения, переосмысления, воспроизведения-
воссоздания «своими словами» уже сказанного, помысленного,
478
Раздел второй. Рассечение
созданного кем-то и когда-то до нас другими («первым» сознанием).
Только поняв и оценив герменевтическую истину, которую заключает
в себе михайловское понимание «обратного перевода» (в обратном
переводе на немецкий — Rückübersetzung), можно поставить под
вопрос эпистемологическое ограничение, которым все же
сопровождается это понимание.
Фридрих Шлегель (1772—1829), инициатор сразу нескольких
«революций» в западноевропейской духовной истории в момент
смены философско-гуманитарной парадигмы в 1790-е гг., называет
в заметках к своей «Философии филологии» переводы
«филологическими мимами»14; мимесис перевода — не произведение, не
оригинальное создание, но воссоздание, репродукция вторым сознанием
того, что заключено в первом, авторском, творческом сознании, но не
завершено в самом его совершенстве, в его как бы навечном
одиночестве «у времени в плену». Общечеловеческий диалогический импульс
перевода — потребность ответить, восполнить одно сознание другим
или другими; собственно филологический же импульс перевода (его
«жилка») — потребность ответить в любви. Перевод — это перенос
речи (сказанного и понятого) в другой мир жизни и другой мир речи,
во «второе» сознание, которое по своей социально-онтологической,
географической, исторической и всякой иной «другости» не может
быть только повторением, простым механическим отпечатком,
копией оригинала. Вот почему слово «творчество» применительно
к переводу звучит подозрительно и неприлично, при том, однако,
что всякий ответственный перевод не только и не просто более или
менее тяжелый труд; в особенности литературно-художественный и
научно-философский перевод, каждый по-своему, требуют от
второго сознания настоящей сотворческой мобилизации культурно-
речевого потенциала родной речи.
Но и понимание историко-культурного исследования (дела
филологии) как «обратного перевода» само по себе может рассматриваться
как более или менее удачный перевод (с немецкого) знаменитого
герменевтического определения филологии, данного упоминавшимся
выше А. Беком: «познание познанного» (Erkenntis des Erkannten)15.
Такой перевод — не только «обратный»; ведь идея, заключенная в
Михайловской сжатой формуле и методически утверждающая
необходимость некоего, по-хайдеггеровски выражаясь, «Kehre» — «поворота»,
возвращения или обращения, тем не менее, заявляет о себе и
переживается (если и не осознается) как своя нужда и как своя задача. Иными
словами, здесь имеет место не только ретроспектива, но перспектива;
Уроки обратного перевода
479
а всякая реальная, практически-нудительная, задача (даже в
филологии) событийно обращена все-таки не «назад», а «вперед»...
Спор с «модерноцентризмом» совершенно понятен и оправдан;
это все тот же древний и новый спор «древних» и «новых», в котором
филолог-германист со знанием древних и новых языков не мог — тем
более в стране, которая считала себя и в известном смысле даже была
«впереди планеты всей» — просто не мог не встать на сторону текстов
прошлого и опыта прошлого духовно-идеологически; ибо слишком
много не на словах, а на деле оказалось сброшенным с пресловутого
корабля современности.
Но, с другой стороны, изнанкой этой позиции — даже
независимо от достаточно одиозных общественно-политических следствий
ее в XX в. — зачастую является своеобразная беспомощность,
бессилие перед лицом своей современности и как бы умышленная
слепота и «решимость» на почве внутренней нерешительности и, в
сущности, отчаяния. В этом смысле М. Бахтин (имея в виду потуги Гоголя
быть не только и не столько писателем, сколько уважающим
государственную власть и царя гражданином и учителем жизни) говорит в
записях 1970-х гг. о «неопытности в серьезном»16; ведь по отношению
к своей собственной современности куда легче «позиционировать»
в качестве идеолога (риторика, в меру своей лживости, располагает
для этого особенно благоприятными возможностями), чем вести себя
трезво.
Как бы там ни было, читатель изданных посмертно завершенных
и незаконченных работ А. В. Михайлова, в которых литературно-
теоретические и историко-культурные размышления автора иногда
соседствуют с его переводами (естественно перетекая и как бы
утверждаясь в них), может заметить, какие теоретические традиции
питали мысль А. В., а равно и почувствовать отмеченный парадокс,
«удивительным произведением» которого, ни на кого персонально не
похожим, он сам, похоже, и был.
Ведь «любовь к слову» по своей фактической
заинтересованности, по характеру и направленности своего внимания, как сказано,
не столько «теоретична», сколько «практична»: она реагирует не на
общие слова, а на событийные подробности исторически всесильного
бога деталей, на такую «герменевтическую фактичность», на которую
теоретические обобщения вообще не реагируют — «в упор не видят».
Осознание этого в современной западной философии как бы
заново открыло ей ее же историю. У нас же, напротив, процесс
«трансформации философии» (К.-О. Апель), насильственно прерванный,
480
Раздел второй. Рассечение
действительно, «в свое время», — фактически выпал из времени, а
потому и потерял смысл в «стране философов» — навечно ослепленных
счастливых граждан платоновской республики, описанных в русской
прозе, кажется, страшнее и смешнее всего Андреем Платоновым.
Здесь, как и в случае с проблемой «модерноцентризма», ино-научная
сторона дела не вовсе отделена от научно-гуманитарных проблем
именно потому, что науки исторического опыта и философия сами
погружены в исторический опыт во всей его бездонности (по слову
В. Дильтея — «неисчерпаемости», Unergründlichkeit), а значит, и
уязвимости. В чем наша проблема, своеобразно преломившаяся и
отразившаяся в герменевтической идее «обратного перевода», но, так
сказать, недопереведенной с современного немецкого?
Аксель Хорстманн, философ и историк гуманитарного
мышления, в своей статье «Филология» (1989) в немецком
«Историческом словаре философии» (1974—2004)) высказал следующую мысль:
у филологов, сложившихся в условиях социализма или под влиянием
социалистической философии истории {sozialistischen Philologen),
рефлексия относительно самих себя, т. е. по отношению к духовно-
историческим основаниям своего собственного мышления и
сознания, не является проблемой {problemlos) постольку, поскольку
широко известная мысль К. Маркса о нормативном характере
греческого искусства и литературы «не столько способствует, сколько
препятствует» такой саморефлексии18. Положим, филологи и вообще-то
не всегда способны к герменевтической рефлексии, как и
представители других научных дисциплин; наука, согласно провокативному
афоризму Хайдеггера, «не мыслит» своих исторических оснований; и
все же замечание А. Хорстманна приходится признать справедливым.
Предрассудок нормативизма дает о себе знать в советской
гуманитарной культуре; он, как представляется, и в развивавшейся в 1970—
1980-е гг. такими исследователями, как А. В. Михайлов, С. С. Аве-
ринцев, М. Л. Гаспаров, концепции риторики, ими же, похоже, и
оставленной после распада СССР. Нормативность классического
наследия исходно мыслилась скорее «эпически» (в абсолютном
прошлом), как бы в отсутствии «второго сознания»; «модерноцентризм»
был неизбежным и безысходным Двойником и изнанкой
«эстетического идеала», местью Двойника. Когда все рухнуло — А. В. недаром
так этого боялся, — вечные ценности и вовсе отпали от реального
исторического опыта, от «абсолютного будущего».
Еще раз: смена гуманитарной парадигмы в советское время
могла быть воспринята скорее всего филологами, как бы они ни
Уроки обратного перевода
481
назывались — «литературоведами», «искусствоведами» или просто
«переводчиками». Филолог, т. е. переводчик-герменевт, по складу
своей мысли и по сути своего дела явно лучше подготовлен к встрече
с другиМу «иностранным» языком и миром понятий19. С другой
стороны, однако, «обратный перевод» не только обратен.
Спасение
Самым удачным определением «филологии» (точнее —
эпистемологического принципа в гуманитарных науках) у А. В. Михайлова
представляется мне одно его почти случайное высказывание по не
случайному поводу, которое вообще не является так называемым
научным определением. В приводимом ниже соображении нет какого-то
особого притязания — может быть, поэтому оно удачно, в своем роде
поразительно и «питательно»20. То, что теоретически можно сказать о
филологии как «познании познанного», выражено здесь не
теоретически, зато внутренне как-то свободно, гибко и с юмором — просто
изнутри общепонятной культурной памяти. В предисловии к книге
одного пушкиниста А. В. написал, среди прочего, вот что:
Даже если бы наша пушкинистика была совсем плоха или даже если
бы она была совсем хороша и довольна собою, — для нее было бы
лишь одно спасение, — да оно и есть: это Пушкин21.
Перед нами не только и не просто «амбивалентная» (в бахтинском
смысле этого слова) апология отечественной пушкинистики, равно
достойной уважения и осмеяния. Перед нами — амбивалентная
апология «второго сознания» как эпистемологического принципа.
Возможность «спасения» для такого сознания заключена не в нем самом,
т. е. не от него исходит. Есть нечто высшее, чему второе сознание лучше
или хуже, но служит, — и перед чем оно всегда само себя может только
стыдиться. Не в этом ли заключается «тайна филологов», о которой,
как мы помним, заговорил философ Г. Г. Шпет в «минуты роковые»
русской научно-гуманитарной и духовно-идеологической культуры?..
Вот так, как сказал А. В. о пушкинистике на фоне Пушкина, может
быть, и надо «переводить», т. е. понимать: через имманентное
узнавание в чужом и другом не вообще чего-то общего и чего-то другого,
но именно своего общего, своего другого. Единственное спасение
филолога, гуманитария и философа-гуманитария, как бы плох и, тем
более, как бы хорош и доволен собою он ни был, — это то, что
составляет его очень конкретное условие возможности (в обратном
482
Раздел второй. Рассечение
переводе на немецкий — «историческое a priori»). И отсюда же, надо
полагать, общественно-политический аспект филологии — особенно
в России и особенно тогда, когда филологическая мимика переводов
вступала в сложные, подчас мучительные взаимоотношения с ве-
роучительно бдящей цензурой. Поистине толмач в России больше,
чем толмач; филолог — это идеолог просто потому, что он по роду
своей деятельности поставлен русской историей на защиту
реального мира говорящей и мыслящей жизни (в ее фактической,
неофициальной и официальной значимости, в ее неисчерпаемой
историчности от разномастных идеологов «теоретизма» — теоретически
чистого, свободного от земли и истории у-топоса, от того, что Кант
по-немецки, а Достоевский по-русски определяли одним и тем же
словом: «мечтательство», Schwärmerey, — от слепой к миру жизни
и все более агрессивно мстящей миру жизни за свою слепоту и
бессилие безумной умственной хищи. По отношению к этой последней
мы вправе сегодня снова и по-новому узнать окрест себя уже давно
узнанное и познанное исторически априорным классиком: ...а ты,
дядюшка, вор и самозванец!.. Самозванство (в немецком, ницшевски-
хайдеггеровском переводе читай: Nihilismus, что, впрочем, в свою
очередь, как известно, — перевод с русского) в «стране философов»
оказалось в более благоприятных условиях, чем у исторически более
«образованных» (опытных) западных народов.
Филологизлл
Конечно, «филологическая ниша» как специфическая среда
обитания последних советских десятилетий имела и свою изнанку или,
скажем мягче, — свою тень; это не могло не сказаться при изменении
духовно-идеологической ситуации в начале последнего десятилетия
прошлого века. Имя этой тени филологии — «филологизм».
Научная и экзистенциальная «серьезно-смеховая» драма
советской филологии (как по-особому и нашей философии, историографии,
психологии и т. д. и т. п.) в новых условиях стала явью, и то, что прежде
казалось или было противодействием «модерноцентризму», вдруг
обернулось — в науке не меньше, чем в политике и в общественном
сознании, — более глубокой зависимостью от либерально
отторгаемого или ретроградно идеализируемого прошлого, от того, что на
языке упоминавшегося Гадамера называется Wirkungsgeschichte,
«действенная история». Никто, может быть, не выразил с такой остротой
и, пожалуй, надрывом, как А. В. Михайлов, реальные трудности
и опасности, с которыми столкнулась в ситуации нового русского
Уроки обратного перевода
483
«конца света», отечественная гуманитария (как везде по-своему и
зарубежная). Должны были рухнуть все Берлинские и иные внешние
стены для того, чтобы науки о культуре вдруг как бы сходу
врезались во внутреннюю стену предпосылок и предрассудков собственной
культурной истории — ближайшей и отдаленной; литературоведы
тем меньше стали контролировать свой предмет — литературу, чем
больше сами стали походить на собственный, все более беспонятный
предмет изучения — на литературных героев, но уже не в «тексте», а в
затексте. Впрочем, процессы эти начались или подготавливались так
давно, что сегодня уже просто некому помнить или отдать себе отчет
в том, когда собственно советская «действенная история», действуя,
как говорится, всерьез и надолго, привела к духовно-историческому
бездействию (оправданию застоя) уже не «сверху», но «снизу». Вместо
«трагедии интеллигенции» по Федотову после краха Первой
империи мы получили серьезно-смеховую драму советской гуманитарии
после краха Второй империи. И тогда даже филология с ее, казалось
бы, обнадеживающе-традиционной практикой «обратного перевода»
оказалась незащищенной и несвободной сама от себя — от
собственного двойника и изнанки и от своего же предмета, потерявшего
(одновременно с духовно-историческим крахом модерноцентризма) свой
двойной — ретроспективно-перспективный — творческий центр,
как бы ни называть такой всегда новый центр исхождения научной
и всякой иной жизненно-практической активности, — «диалогом»,
«герменевтикой», «диалектикой обоюдности», «встречной
историчностью» или «познанием познанного».
То обстоятельство, что Михайлов откровеннее других (и, мне
кажется, мучительней для себя) сумел сказать о таком положении вещей
в текстах последних лет своей жизни, как-то еще связано не вообще с
филологией и не с индивидуальным складом нашего автора самим по
себе, но с более специальной областью его научных интересов и
переводческих предпочтений.
Риторика или историзация знания?
Теперь, когда читатель имеет фон, вводящий в затекст
Михайловских текстов, в тот «мир жизни» с его сегодня уже почти
испарившейся атмосферой, которым дышала и одушевлялась, была
исторически определена и опосредована мысль А. В. — теперь можно
попробовать поставить решающий вопрос. Это вопрос об объективной
значимости его мысли для нашей гуманитарии на современном
этапе ее развития или, скажем трезвее, — ее наличного состояния.
484
Раздел второй. Рассечение
Нетрудно восхищаться и любоваться А. В, еще проще не
принимать (не понимать) у него ничего и, в лучшем случае, пожимать
плечами, недоумевая перед иными пассажами, извергнутыми как бы в
состоянии аффекта (сам он, впрочем, говорил, с оглядкой на Ницше
и романтиков, — об «экстатическом человеке»), а, по-моему, — в
состоянии живого ужаса перед надвигающимся совсем не
эстетическим «хаосом родимым». Конец Второй империи (после петровско-
петербургской — кремлевско-советской) Михайлов, похоже, готов
был иногда чуть ли не отождествить с «концом всех вещей»22 — еще
один повод удивиться «удивительному произведению истории».
Сюда же, возможно, относится другая крайность (возвращающая нас
к упоминавшемуся выше замечанию М. Тойниссена о Хайдеггере):
здоровый, или здравый, консервативный инстинкт привел А. В. в
последние годы советской власти в достаточно одиозный круг наших
современников, ни к наукам о культуре, ни к обожествляемой в поздние
советские десятилетия «культуре» отношения почти не имевших, но
тоже, разумеется, на свой лад хотевших «как лучше».
Познакомившись с Аверинцевым и Михайловым уже после краха Второй
империи, пытаясь учиться у того и другого, я тогда, в начале первого
постсоветского десятилетия, не знал и не представлял себе, какое
общественно-политическое расхождение (старое рассечение)
произошло между прежними друзьями в 1988—1991-х гг.; а ведь оба они в
эпоху застоя отстаивали одну и ту же нормативистскую идею
«риторической культуры». Вопрос, однако, в другом. Важно назвать и
обосновать такую доминирующую интенцию Михайловской мысли,
которая сразу узнавалась бы как именно ему, автору мысли,
принадлежащая, но в то же время как общезначимая и общепонятная в ее, этой
мысли, личном напряжении, заинтересованности, озабоченности,
самоутверждении и самоотрицании.
Русско-немецкая телла
Отчасти такая постановка вопроса подготовлена С. С.
Аверинцевым, который на правах коллеги и друга начинает свое
вступительное слово к Михайловским работам, собранным в книге «Языки
культуры», с определения тематического места А. В. Михайлова в
русской традиции последних трех веков. Это место — «диалог с
Германией», «русско-немецкая тема» в истории самоопределения
отечественной культуры23.
Все упоминаемые Аверинцевым исторические примеры — вехи
перевода с немецкого. В самом деле: мы говорим «Державин», а, зная
Уроки обратного перевода
485
биографию и историю, подразумеваем: «Фридрих»; говорим: «русские
мальчики», а подразумеваем: «Шиллер»; говорим: «славянофилы»,
а подразумеваем: «Шеллинг» и т. д., — подразумеваем, конечно, не в
«обратном» (обидном для переводчиков) смысле. Ведь как бы ни
оценивать перевод в каждом отдельном случае (включая такие явления
русской мысли, упоминаемые Аверинцевым, как Бердяев, Лосев, Шпет
и Бахтин), — это всегда нашедшие себя (так сказать, свою «подкову»)
русские люди. Но где не вообще место, но исторически уместное место
А. В. Михайлова в современности или, по-немецки, «временности» и
«конечности» как персонально-общезначимого участника и
продолжателя «диалога с Германией»? Какой магистральный сюжет русско-
немецкой темы дает основание предметно говорить о ней сегодня не
риторически и не эстетически, на самом деле усматривая в единично-
единственном случае А. В. подлинную историческую нить и суть дела?
Говоря о «теме» любого высказывания, произведения или
жизненно-личной судьбы, мы обычно лишь предварительно и
приблизительно локализуем то или иное индивидуальное авторство в
общеизвестном и общепонятном («нашем») пространстве-времени.
Лицо и голос как бы допускаются в общий хор «темы», а тема служит
фоном понимания голоса данного «лица». Такой ход мысли, явным
образом, необходим, но недостаточен для ответа на поставленный
вопрос о личном, отвечающем на общий, общественный вопрос,
осознаваемый или не осознаваемый как проблема. «Диалог с
Германией» — что это могло означать и чем быть после всего, что уже
необратимо произошло в советский век и что еще предстояло осознать не
только в сторону объективного «вообще», но и в сторону
«самопостижения» {Selbstbesinnung)7.
Ведь увидеть и осознать себя предстояло «после перерыва»,
который — ив этом все дело, ведь история не математика, не физика и
не метафизика — не был, похоже, ни только перерывом, ни даже
разрывом с прошлым, а чем-то гораздо более жутким и смешным...
Это еще целая задача — воспринять самих себя на руинах
эстетико-риторической эпохи с ее официальным утопическим
исповеданием, — не риторически и не эстетически, «поворачивая
взгляд нашего слуха», по удивительному выражению А. В.
Михайлова. Т. е. не в зеркале идеализирующих «традиций» (или изнаночно-
утопического разоблачения-деконструкции «предрассудков»
традиции современными, как сказано у классика, «тупицами
прогрессивными»), а примерно так, как сумел увидеть и сказать С. Г. Бочаров
по поводу Абрама Терца — А. Д. Синявского: по уже «размежеванной
486
Раздел второй. Рассечение
и перепаханной почве» подчеркнуто эстетически как бы
прогуливается как бы с Пушкиным антисоветский (и постольку советский и
никакой иной) интеллигент-филолог — «мутант исторический»24.
Произошла, похоже, историческая мутация сознания и мышления, не
исключая и гуманитарное мышление.
Актуальный вклад А. В. Михайлова в отечественную
гуманитарию я вижу в том, что было и остается по сей день почти
уникальным усилием — не «вкладом», но делом его мысли исследователя
и переводчика. Делом, которое методически следует строго отличать
от того, что он, как говориться, «сделал» (или «не сделал»). Интен-
циональной доминантной мысли А. В. было возобновление и
усвоение в условиях не только и не просто «идеологизации», но в
условиях «мутации» не историософски понятой проблемы истории как
реальной задачи и реального предмета «наук о культуре», т. е. наук
исторического опыта в объективной ситуации краха советской
модели истории и утраты исторического телоса.
На этом проблемном фоне «русско-немецкая тема» — не
риторика и не эстетика, а нечто вполне «близлежащее», если употреблять
это слово А. В., родственное языку позднего Хайдеггера, не
«поэтически», а «прозаически» — поворачивая взгляд нашего слуха на себя.
Ведь задача, как сказано, в том, чтобы принять всерьез слова о
«самопостижении» человека, который, с одной стороны, является
достойным удивления «произведением истории», а с другой стороны —
исторически не совпадает с собою же в своей способности осознать и
перерасти свою, так сказать, исторически сложившуюся ветхость —
«ветхую соборность», как выразился однажды совсем не
символически теоретик русского символизма В. И. Иванов25.
В той мере, в какой мы сегодня в состоянии отдать себе отчет
в том, каким образом и на каких основаниях ключи исторического
мышления остаются в немецких замках, — постольку мы, возможно,
сумеем оценить и разделить основную направленность
теоретических интересов А. В. В свои последние, в 90-е годы он говорит о
«новом историзме», имея в виду, конечно, не американский New His-
toricism (который он, вероятно, просто не знал); А. В. искал не чужую
моду, опоздавшую на десятилетия, а нечто иное. Новый историзм в
понимании Михайлова — это скорее подступ к гуманитарной
эпистемологии, в основу которой должен быть положен — нет, не принцип
как основоположение, не конструкция и не «система», а нечто
предшествующее нашему мышлению в нем же самом и, следовательно,
существенное для не отделимого от знания «самопостижения». Эту
Уроки обратного перевода
487
предшествующую всякому абстрактно-теоретическому или
риторическому «полаганию» реальность бытия и мышления Михайлов
называет «процессом историзации всего знания»26; для него это момент
или пункт поворотный в современных «науках о культуре», т. е. в
науках исторического опыта.
Исторический опыт не всегда мыслился и мыслится исторически,
еще реже — как онтологически-герменевтическое «самопостижение»;
ведь последнее в качестве науки не может быть только
«экзистенцией», а в качестве знания не может быть только «самопознанием».
Вот, вероятно, проблемное основание (внутренняя тема)
Михайловской мысли, год от года все настойчивее заявлявшая о себе и
возобладавшая в незавершенной книге о Вильгельме Дильтее и его школе, а
также в примыкающих к ней по магистральному сюжету статьях,
выступлениях и переводах последних отпущенных А. В. лет.
Мы здесь не можем, к сожалению, сколько-нибудь детально
анализировать сказанное Михайловым в той или иной связи по поводу
запрограммированного им для постсоветского литературоведения
и других наук о культуре эпистемологического шага — перехода к
«новому историзму», как его понимал А. В. Слишком многое, увы,
осталось не написанным, а еще больше выглядит недоговоренным
или непроговоренным — не столько, как мне кажется, по причинам
внешним, сколько по причинам тоже как бы внешним, но в другом
смысле. Ведь «тексты», напечатанные или нет, не могут заменить
отсутствие нормальной научной среды и заинтересованной научной
дискуссии. Тем не менее, «процесс историзации всего знания» —
решающий факт в истории современного знания — это эпистемоло-
гически насыщенный аргумент, нуждающийся в герменевтическом
комментарии в том самом направлении, в котором ставил свою
проблему А. В. — нуждающийся во «втором сознании».
Магистральный сюжет
Спросим так: как связана эпистемологическая идея
историзации самой эпистемологии с магистральным сюжетом гуманитарно-
философской смены парадигмы в XX в. Мне кажется, что это и есть
«русско-немецкая тема» в ее современном звучании.
В отличие от идеи «обратного перевода» и тем более от
понятия «модерноцентризма» (которое в качестве модернизованной
постсоветской версии традиционной советской критики
«модернизма» должно казаться многим убедительно-передовым), термин
«новый историзм», выражаясь современно, почти не имеет шансов у
488
Раздел второй. Рассечение
наших постсоветских современников, вызывая, по иронии истории,
скорее американские, чем немецко-русские ассоциации (да и те,
конечно, без особого энтузиазма). Между тем «новый историзм» —
это опоздавшая на 70—80 лет и потому опережающая сегодняшний
день попытка герменевтической трансформации понятия
«историзм»27 — мыслительного образования, теоретически
обоснованного на опытно-исторической почве германского идеализма и
романтизма. Историзм вошел в плоть и кровь русской науки и
общественного сознания XIX в., поэтому он сыграл роковую роль в следующем,
в советском столетии именно в качестве исторически сложившейся
традиции, цепко державшей в своей власти даже тех, кто, начиная с
Ницше, одержим отрицанием историзма. Стоит припомнить здесь
гениальную по догадке, по предвосхищению, но не развитую, не
развернутую, а потому во всех смыслах «брошенную» статью Г. П. Федотова
«Россия Ключевского» (1932)28; в ней подмечено перевернутое
повторение классического, или (как мы его называем) формального,
историзма XIX в. в XX советском в., сегодня, после конца Нового времени,
обернувшееся чудовищным падением советского Шалтая-Балтая из
социализма в уже, казалось, счастливо избегнутый капитализм со
всеми его реальными недостатками, но без его реальных же
преимуществ. «Мстящее перо» — уже не историка Ключевского, но истории
самой — отомстило утратой исторических перспектив, как и децен-
трацией имперской «культуры», и должно означать в нашем отдельно
взятом случае нечто еще иное, чем то, что западные гегельянцы и
марксисты на стадии «пост» вкладывали на излете XX в. в понятие
«конца истории». Вот на этом фоне «диалог с Германии», как
представляется, приобретает сегодня не только академический смысл —
в особенности там, где публицистическая риторика 1990-х гг.
уступает место более глубоким и предметным, научно-академическим
исследованиям29.
В своих работах по исторической поэтике и герменевтике
А. В. Михайлов на разнообразнейшем материале старается показать,
что историзм — это не только некоторая идея и не просто то, что, по
распространенному выражению, «было давно и неправда». Историзм
сам исторически возник и исторически же менялся; как тоже
«произведение истории», авторизованное философской рефлексией и
авторитетом Гегеля, он на протяжении XIX и XX вв. оставался
продуктивной традицией лишь постольку, поскольку был понуждаем — в
Германии в большей мере, чем где-либо, — ставить себя под вопрос. Не
будет преувеличением сказать, что Михайлов переводил с немецкого
Уроки обратного перевода
489
на русский, среди прочего, именно магистральный сюжет
гуманитарного познания последних двух столетий, стараясь восстановить
в «перепаханном» культурно-речевом сознании распавшуюся связь
времен. А это значит — связь с магистральным сюжетом того самого
«гейста немцев», без которого довольно наивно, хотя и не без резонов,
надеялись «обойтись» наши формалисты 1920-х гг. и с которым еще
более наивно «обошлись» у нас в последующие три десятилетия, когда
гегелевское видение мирового духа на коне (1806), раньше или позже
покинув «загнивающий» Запад, обернулось неузнаваемо-узнаваемой
мечтой «опоздавшей нации» — ставшей былью русской сказкой, на
которую с благоговением или страхом как бы смотрит весь мир, но
которая была только пушкинской пародией («Уж не пародия ли он?») и
Достоевским фантастическим реализмом — «грандиозной карикатурой
на западную цивилизацию», как показал Ойген Розеншток-Хюсси30.
«Немецкое» глубже других иностранных влияний определило
русский научно-теоретический язык понятий и еще глубже — то, что
можно назвать внутренней формой мыслительных созерцаний. Это
можно назвать и «языком», но можно назвать и «представлениями»,
которые проявляются в речевом сознании и мышлении — подчас
даже в отрыве от тех контекстов, откуда они были заимствованы.
Это — принципиально не риторический язык «само собой
разумеющегося» (в обратном переводе с Михайловского словоупотребления на
современный немецкий философский получаем гадамеровский
философский прозаизм: «Vorurteile» — «пред-рассудки», пред-мнения,
пред-посылки, пред-восхищения — трансцендентально-историческое
a priori «мира жизни»). Язык, который даже в научных кругах подчас
уже не помнит ни авторства, ни родства, исторически действует
теперь в качестве худшего — ибо не осознаваемого по месту рождения
и подробностям биографии — «предрассудка». Не оттого ли именно
новая немецкая философия, внешне беспрепятственно переводимая
в наши дни на русский, в большей мере, чем какая-либо другая
современная философия, остается внутренне почти непереведенной или
непереводимой на живой русский язык? Ведь «эти немцы» (как
выражался А. Ф. Лосев) требуют особенного усилия, той «саморефлексии»,
Selbstreflexion в недостатке или отсутствии которой А. Хорстманн, как
мы помним, упрекал «социалистических» филологов в год падения
Берлинской Стены.
Замечательный критик решающего русского поколения
«столетнего десятилетия», Владимир Васильевич Вейдле (1895—1979), писал
в середине прошлого столетия:
490
Раздел второй. Рассечение
Русская философия начинается с Шеллинга и Гегеля, русская
наука — с западной науки. Даже русская богословская мысль столько же
исходит из собственной восточно-христианской традиции, сколько
из традиции западной философской и богословской мысли. Дело тут
не в нашей переимчивости и не в западном засилье, а в том, что на
Западе и в России XIX век — един31.
В отличие от людей поколения и склада Вейдле, для которых
такое единство было ни больше ни меньше, как предпосылкой, — для
А. В. Михайлова (как и для нас с вами, любезный читатель) единого
научно-гуманитарного контекста и затекста исторического опыта
уже не было. В русской гуманитарной культуре произошел некий
существенный разрыв, причем основная линия этого русского
разрыва и срыва проходит через немецкую классику и романтику. Вот,
по всей вероятности, почему именно германист и переводчик с
немецкого мог сформулировать с большей определенностью и
принципиальностью, чем кто бы то ни было другой, мысль об «историзации
всего знания». И не только сформулировать, но и начать мыслить,
исследовать в этом направлении. А. В. Михайлов поставил дело своей
мысли, диалог с Германией, как грандиозную задачу соединения
русской традиции «исторической поэтики», возникшей тогда, когда век
для России и Германии был един (почему и сопоставление научной
программы Александра Веселовского и «Поэтики» Вильгельма Ше-
рера не кажется натянутым), и германского проекта самокритики
философского разума (не «ихнего», а тоже своего «гейста»).
Решающие фазы и драмы магистрального сюжета имели место
тогда, когда век для Германии и России уже не был един — и постольку
связал обе нации «Кащеевой цепью» неспасенного, взбунтовавшегося
прошлого, ближайшим задним числом — как раз XIX в., о котором
А. В. Михайлов, как известно, много и напряженно размышлял.
Магистральный сюжет, о котором читатель может судить в
особенности по переведенным Михайловым «Кассельским
докладам» М. Хайдеггера (1925), берет свое начало (хотя и «начало»,
и «сюжет», и персоналии сюжета не следует отождествлять с сутью
дела) от В. Дильтея (1843—1911) и через феноменологию Э.
Гуссерля (1859—1938) ведет к Хайдеггеру (1889—1976), ученику Гуссерля,
а от того — к его ученику Г.-Г. Гадамеру. Последний, как мы помним,
и определил, обращаясь к новым для него русским читателям 1991 г.,
основное и открытое событие магистрального сюжета («переход от
мира науки к миру жизни» в самом научно-философском сознании
Уроки обратного перевода
491
и познании), т. е. смену гуманитарной парадигмы. «Новый
историзм» Михайлова соотносится именно с этим немецким сюжетом в
целом ряде взаимосвязанных мотивов и акцентов. Я позволю себе
указать только три из них, одновременно подготавливая вопрос
о внутренних трудностях разрабатывавшегося А. В. Михайловым
историко-культурного метода. Вопрос собственно в том, насколько
метод «обратного перевода» совместим с концепцией нового
(герменевтического) историзма, т. е. можно ли считать этот метод
обоснованной позицией — а не только оппозицией — «модерноцентризму».
Во-первых, у наследников немецкой классической философии,
немецкой «исторической школы» и немецкой классической
филологии XIX в. дело идет не об ограничении исторического мышления,
а, наоборот, о его существенном углублении, радикальной
конкретизации и деэстетизации. Истории реально принадлежит также и тот,
кто ее изучает, со своим собственным, исторически сложившимся,
«близлежащим» и «само собой разумеющимся» — общественным
миром жизни в горизонте незавершенной современности; отсюда
акцентированный, в частности, Хайдеггером (но далеко не им одним),
приоритет бытия истории (Geschichte) над историографией
(Historie). Здесь правильнее, наверно, говорить не столько об «обратном»,
сколько о «встречном» переводе идеи истории и концепции истории
на немодерноцентрический язык «современности». Иначе говоря,
магистральный сюжет неклассической немецкой философии, филологии
и смежных наук духовно-исторического опыта толкует о таком
поворачивании взгляда нашего слуха на себя («Selbstbesinnung» —
«самопостижение»), при котором мы, «новые», не столько модернизируем
историю, сколько по-новому открываем и понимаем себя и свою
современность не бесконтрольно «в себе», а в прогрессирующей
ретроспективе давнего и иного, откуда, по выражению Э. Ю. Соловьева,
«прошлое толкует нас»32, будучи освобожденным от эстетизированно-
дистанцированных, «историцистских» представлений о нем как в
научном, так и общекультурном сознании последующих поколений. В
итоге немецкой критики историзма последний скорее выиграл, чем
проиграл, за счет разработки и обогащения постклассического и
постидеалистического понятия «историчность» (Geschichtlichkeit),
терминологически закрепленного и авторизованного В. Дильтеем33.
Во-вторых, от Дильтея же идет принципиальная переоценка
и переобоснование «второго полушария интеллектуального
глобуса»34 — всей области духовно-исторического опыта как
специфического предмета гуманитарных наук в их методическом
492
Раздел второй. Рассечение
отличии от естествознания и, главное, от естественнонаучной модели
«опыта» (ею руководствовался и Кант). Отсюда, в дополнение к трем
кантовским критикам, дильтеевская четвертая — «критика
исторического разума». Предмет гуманитарных наук — историческая
природа человека и общества — не есть объект конструирующего,
экспериментирующего познания (пассивный, безопасный и безответный
«материал для оформления», как умышленно будут настаивать в годы
Русской революции наши формалисты); мы находим (исторически
преднаходим) этот предмет как другого для нас, но соприродного, со-
человеческого по миру жизни и в принципе поддающегося
несциентистскому способу познания-разумения — «проникновению»
(Innewerden) и «пониманию» (Verstehen)35.
Как всякий значительный шаг вперед или новое слово в истории
духовно-исторического познания, начатая Дильтеем «смена
парадигм» была, конечно, не утопическим «началом», а возобновлением
и развитием, в определенных исторических условиях, давно начатого
и известного «(познанием познанного»; вспомним того же Дж. Вико,
на которого опирается Дильтей и из которого в определенном смысле
исходит и Гадамер в своей главной книге). Философская
герменевтика, которая учит не только и не столько «обратному», сколько
«новому» (обновленному) переводу старого и чужого, сама собой
воплощает идею новой парадигмы (встречная историчность
«понимания») в собственной магистральной истории. Дело идет здесь о
живом, а не о мертвом человеке как «произведении истории»;
поэтому все подлинные акты понимания-перевода имеют не
полукруговую (регрессивно-реактивно-ретроспективную — «обратную»)
структуру, а совершенно круговую структуру (прогрессивно-
перспективную). Такова сплошная историчность — всякий раз
уникально возобновляемая и воспроизводимая, по-кантовски
(практически) расширяющая область уже, казалось бы, готовых понятий и
«предрассудков» — герменевтическая историчность «мира жизни».
Мира, который реально, конечно, не повторим и не переводим
«обратно», в свое прошлое (разве что в филологической утопии),
подобно тому как было бы нелепым или умышленным произволом,
скажем, немецкий термин «науки о духе» вернуть обратным
переводом «на свое первоначальное место» на том основании, что-де само
это слово «первоначально» было, как известно, всего лишь переводом
с английского и чем-то, конечно, «иным»36.
В-третьих, наконец, необходимо остановиться на таком еще
аспекте магистрального сюжета, который существенно проникал и
Уроки обратного перевода
493
определял научные интересы А. В. Михайлова в целом. Это —
проблематика искусства, точнее, взаимосвязь философской эстетики,
поэтики и истории культуры.
Читатель должен знать, что в план книги Михайлова «Дильтей
и его школа» входил и выполненный автором перевод значительной
работы немецкого философа — «Воображение поэта. Элементы
поэтики» (1887)37; публикация перевода при жизни автора не смогла
состояться. Тем более уместно сейчас вернуться к тому, с чего мы
начали, — к мысли Михайлова в дискуссии о кризисе 1991 г. об
«основании науки эстетики и даже эстетики, читаемой с кафедры». Ведь это
основание, как дает понять наш автор, скрыто не в науке самой и не в
искусстве самом, а в исторической природе «живого» — т. е. смертно-
вечного — человека.
Изнутри своей конкретно-исторической и кризисной ситуации-
затекста Михайлов фактически возобновляет (а не
«модернизирует» — дьявольская разница!) центральный вопрос германской
идеалистической классики, от Винкельмана до Гегеля, — вопрос о
«humanitas», уже возобновленный за 100 лет до него в немецком
магистральном сюжете постидеалистического и постметафизического
мышления, от Дильтея до Гадамера. Такое герменевтическое
возобновление, или «познание познанного», на исходе почти 100 лет
советского одиночества мог инициировать только германист, эстетик
и филолог-классик в одном лице; ведь русский диалог с Германией в
более глубоком историческом смысле подразумевает, предполагает
или предвосхищает немецкий диалог с античностью — с «греками» как
«вызовом для нас», по выражению Хайдеггера. Вызовом — вспомним
название труда А. Ф. Лосева — «истории античной эстетики»38.
Магистральный сюжет, который нас здесь интересует постольку,
поскольку он явным образом стоял в центре Михайловского замысла
о Дильтее и его последователях в XX в., исторически и по самой сути
дела нужно увидеть и понять как немецкий ответ на вызов
античного наследия. «Поэтика» В. Дильтея (в дословном переводе —
«Строительные камни поэтики») — тоже такой ответ (один из многих за
более чем два последних столетия): по-дильтеевски осторожный и
предварительный, но все же ответ на исторический вызов античной
классики (в первую очередь, конечно, «Поэтики Аристотеля»).
Георг Миш, автор классической «Истории автобиографии»,
ученик (и зять) Дильтея, писал в своем ставшем этапным для
изучения дильтеевского наследия предисловии к 5-му тому
издававшегося под его редакцией «Собрания сочинений» философа (1923) по
494
Раздел второй. Рассечение
поводу «Строительных камней...»: «Это сочинение он (Дильтей. —
В. М.) хотел переработать в некоторое новое целое. Поэтика в
соединении с теорией истории была зародышевой клеткой его идей о
жизни и жизнепонимании, он ее все время подпитывал и развивал
дальше»39. Замысел Дильтея — соединить теорию поэзии с теорией
истории, заново найти и познать познанное Аристотелем и всей
классической традицией — вот, что, похоже, действительно отвечает
интересам и задачам А. В. Михайлова как переводчика и
исследователя Дильтея.
Вся та нелицеприятная критика современного отечественного
литературоведения и гуманитарии, которую читатель найдет
практически во всех текстах нашего автора 90-х гг., не имеет ничего общего с
поверхностным самодовольным критиканством, в известный период
захватившим у нас как бы передовые позиции даже в научной
периодике, — с «пенкоснимательством и западническим чванством,
никогда не исчезавшим из русской действительности», как писал в свое
время В. В. Вейдле40. Тем глубже и «питательней» эта критика в
объективной ситуации, как выражается Михайлов, «утраты само собой
разумеющегося». Ситуация, когда даже эстетика, читаемая с кафедры,
лишившись своей советской, ветхой соборности и когда-то
переведенной с немецкого презумпции-традиции всего прекрасного и
высокого, — эстетика сейчас вообще, как известно, может остаться без
кафедры; бессильная умереть и возродиться (всерьез ответить на вызов
времени), она вынуждена только переодеваться в самые передовые
сегодня, — так сказать, обратные — сугубо «духовные» одежды,
принимая за лицо традиции ее обратные общие места41.
Конечно, «опоздавшее» возобновление диалога с магистральным
немецким сюжетом, которое представляется мне делом мысли и
жизни А. В. Михайлова, не могло не быть чем-то достаточно
одиноким и почти безответным по научным последствиям, нередко
темноватым в себе и даже «обратным» — в глубоком инонаучном
смысле обратного жеста, который знает за собой известный
«положительный герой» Достоевского. Зато в Михайловских
вариациях русско-немецкой темы можно заметить тенденцию, которую
трудно переоценить и о которой обязательно надо сказать в
заключение. Это — попытка вступить в разговор, где нас, как говорится, «не
стояло», с живым убеждением в том, что прошлое отечественной
гуманитарии, как и великой русской литературы, и даже советское
прошлое, — не только то, чем они кажутся на отстраненный и
отстраняющий, идеологизированный и теоретизированный взгляд.
Уроки обратного перевода
495
А. В. Михайлов говорит (в предисловии к книге о Дильтее), что
«немецкое» для него — не самоцель. И это — правильно. Нельзя
пройти чужой путь, можно пройти только свой путь. Отсюда
особый интерес Михайлова к таким мыслителям-гуманитариям, как
А. Ф. Лосев и Г. Г. Шпет, М. М. Бахтин и Л. В. Пумпянский, т. е. особой
и уникальной в русской науке духовно-исторической генерации
исследователей, вышедших из символизма и уходивших от символизма
каждый по-своему на несоветских основаниях и путях.
О «преодолевших символизм» в русской философии и русской
филологии мы сумеем составить себе ясное представление лишь
тогда, когда со своего исторического места сможем посильно
возобновить их усилия, более или менее общие у них тогда далеко не с
одной только «школой Дильтея». Явным образом это были усилия
освободиться от влияния, как писал Г. Г. Шпет в 1922 г., «философов-
командиров» германского идеализма, утвердивших, в тесной связи
с романтизмом, монологический культ «BHyTpeHHero»(Innerlichkeit),
т. е. не «овнешненного» в жизни и бытии, сознания и духа42.
Осознать те усилия как незавершенное в своем смысле и своем
бытии общее дело отечественной культурной истории — куда как
трудно сегодня. В докладе «Хайдеггер и греки» (1989) Гадамер говорил,
что «всякое мышление всегда должно будет при выходе из своего
собственного родного языка определять величину открытости миру»43.
Отечественная гуманитария, для которой А. В. Михайлов много
сделал и еще больше мог бы сделать, находится сейчас, со всей
страной, при очередном русском и мировом «выходе из своего
собственного родного языка», т. е. из своей, исторически сложившейся,
относительной идентичности. Почти прекратилась либеральная
болтовня о «диалоге», потому что диалог, задача всякий раз заново
самоопределяться в своей «открытости миру», сделался — независимо от
«риторической культуры» и, пожалуй, за ее пределами — вопросом
исторической жизни и смерти. А. В. понял это, возможно, лучше
других своих советских коллег. Во всяком случае, у него всегда есть и
будет чему поучиться, и это — главное.
Примечания
1 Михайлов А. В. Эстетика и оживление человека // Вопросы
философии. 1991. №9. С. 5.
2 Как бы научнее (объективнее) сказать: «дискурс»; но точнее сказать
просто «воздух» или (но опять не по-русски): «социальная
атмосфера». Это серьезная, если не роковая, проблема нашего речевого мыш-
496 Раздел второй. Рассечение
ления и сознания, которую с особой остротой претерпевает
переводчик: отчего это мысль, естественно проистекающая их духа русского
языка (т. е. исполненная памятью опыта), выигрывая в глубине,
проигрывает «в образованности» (переводимости на научную и обще-
культурную общезначимость) и вытесняется «образованщиной»? О
духовно-исторической среде сознания с гениальной
необязательностью писал на полях чужой книги физиолог-богослов А. А. Ухтомский:
«С кем поведешься, таким будешь и сам. Собеседование с Церковью
Христовой не может не оставить на тебе того воздуха, каким живет и
она, и ты само собой понесешь его к встречным собеседникам
обыденности. Люди будут чувствовать то новое и совершенно особое, доброе,
что переносится к ним. Но это не от тебя, а от того воздуха, в
котором ты побывал и которым обвеялся». См.: Ухтомский А. А. Из
пометок на полях книг личной библиотеки (публ. В. Е. Хализева) //
Философские науки. 1995. № 1. С. 204. То же, но строже у M. M. Бахтина (при
определении «жизни-веры»): «Наивна жизнь, не знающая воздуха,
которым она дышит». См. Бахтин M. M. Эстетика словесного творчества.
М.: Искусство, 1979. С. 127.
3 Федотов Г. П. Трагедия интеллигенции (1926) // Федотов Π П. Судьба и
грехи России. Т. 1. СПб., 1991. С. 95.
4 Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991. С. 7.
5 Философско-мировоззренческое выпадение из истории прикрывалось и
как бы компенсировалось у нас еще в 60-е гг. официально престижной и
мифологически убедительной идеализацией «науки и техники». Эта
мифология, с ее бэконовским девизом «Знание — сила» и в соединении с
провинциальным убеждением, что «мы впереди планеты всей», пришло
в уже очевидное историческое противоречие с ходом вещей, а равно и
с «принципом историзма» — в 70-е гг. Тогда именно и наступило время
филологии, т. е. историко-культурного замедления и углубления в
философски, казалось бы, преодоленную «предысторию человечества». Тогда
же в гуманитарию и вообще к «духовному» потянулись математики,
физики, химики, биологи; общественный идеал — советская эстетическая
метафизика европейской «фаустовской» культуры — покинул
соответствующие области. Но изменить более глубокие, исторически
сложившиеся, навыки вне- и антиисторического мышления было уже трудно.
6 Аверинцев С. С. Филология // Краткая литературная энциклопедия. Т. 7.
М., 1972. Кол. 979.
7 Boeckh A. Encyclopädie und Methodologie der philologischen
Wissenschaften. 2. Aufl. Leipzig, 1886· S. 12. Философ Г. Г. Шпет в своей книге
«Герменевтика и ее проблемы» (1918; опубл. 1989—1992) и его ученик, филолог
Г. О. Винокур в незавершенной работе «Введение в изучение
филологических наук» (1944—1945; опубл. 1978), оба цитируют эту мысль при
изложении взглядов А. Бека; см.: Шпет Г. Г. Герменевтика и ее проблемы
// Контекст-1991 / Под ред. А. В. Михайлова. М.: Наука, 1991. С. 166; Ви-
Уроки обратного перевода
497
нокур Г. О. Введение в изучение филологических наук / Сост. и коммент.
С. И. Гиндина. М.: Лабиринт, 2000. С. 44.
Мандельштам О. О природе слова (1922) // Мандельштам О. Слово и
культура. М.: Сов. писатель, 1987. С. 59. По мысли Мандельштама,
глобальная угроза — «Европа без филологии» — для России еще опаснее,
чем для Запада: мы можем оказаться бессильны перед «бесформенной
стихией, небытием, отовсюду угрожающим нашей истории» (там же. С.
63).
См.: Михайлов А. В. Терминологические исследования А. Ф. Лосева и
историзация нашего знания // А. Ф. Лосев и культура XX века. М.:
Наука, 1991. С. 51—62. Перепечатано в кн.: Михайлов А. В. Обратный
перевод. М.: Языки рус. культуры, 2000. С. 485—497.
«Начала и концы, — писал А. В. Михайлов, высказывая, что для него
характерно, по частному поводу вдруг глобальную главную мысль, — это
сначала не теоретическая проблема, но проблема реального
исторического опыта». См. Михайлов А. В. Предисловие // Мурьянов Μ. Φ.
Пушкинские эпитафии. М., 1995. С. 7. Когда «проблема исторического
опыта» была осознана теоретически как выходящая за пределы того, что на
языке М. М. Бахтина начала 1920-х гг. называлось «теоретизмом», —
тогда, собственно, и произошла в 1920-е гг., «смена парадигм», не
столько в теоретико-познавательном (сциентистском), сколько в духовно-
историческом мышлении.
В СССР в авангарде борьбы с культуравангардом парадоксальным
образом оказались в объективной исторической ситуации постмодерна
самые как бы отсталые даже среди гуманитариев профессионалы — «ан-
тичники». По свидетельству лучших наших филологов-классиков,
самый выбор профессии у них в 1950-е гг. был тихим личным
дистанцированием от «модерноцентризма» современности — отторжением не
столько политическим или идеологическим в расхожем смысле,
сколько духовно-историческим, филологическим. М. Л. Гаспаров вспоминает:
«Мы жили, окруженные малоприятной современностью: все, что
выходило за ее пределы, казалось интересным, и чем дальше, тем
интереснее... Древняя история была занимательней: там было меньше
обобщающих слов, вроде "способ производства", и больше увлекательных
эпизодов». Гаспарову вторит С. С. Аверинцев: «Можно сказать, влияние
оказывала вся старая культура как целое... А от противного действовала
советская современность, всякие там споры физиков и лириков и прочая;
куда же тут идти, как не в классическую филологию, если все
согласились, что это уж точно что не нужно?». См.: взятое Е. Демитровым
параллельное интервью «Филология и поэзия» в газетном приложении к
сборнику в часть С. С. Аверинцева: «Среща и книга» (София). Октомври 199.
С. 16. Парадокс филологии, возродившийся (и возрождавший) «от
противного», А. В. Михайлов подытожил в своей статье об С. С. Аверинце-
ве (1991) со стороны некоторой устойчивой ситуации русского учено-
498
Раздел второй. Рассечение
го среди русской жизни: «Чем труднее наука, чем больше затраты сил и
средств на ее освоение, тем серьезнее — в наших условиях — ученый».
См.: ΜΞΣΗΜΒΡΙΑ: В чест на Сергей Аверинцев. Българо-руски сборник.
София: Славика, 1999. С. 150.
12 См.: Гадамер Г.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики.
М.: Прогресс, 1988. С. 363. «Эстетико-исторический позитивизм» — это
сложившийся после распада идеализма и романтизма подход к
историческому прошлому в границах субъект-объектного разделения. Подход,
или взгляд, такого рода, как правило, наивно не осознает (или не
наивно игнорирует) априорную, социально-онтологическую включенность
в историю самого историка, наук исторического опыта — в
исторический опыт.
13 Эту формулировку А. В. нашел в дискуссии «Личность и общество» в
журнале «Одиссей» (1990). Его выступление, названное автором «Надо
учиться обратному переводу», цитируется в дальнейшем по изданию:
Михайлов А. В. Обратный перевод. М.: Языки русской культуры, 2000.
С. 14—16.
14 См.: Schlegels Friedrich. Philosophie der Philologie // Logos. Bd. XVII.
Heft 1 (Mai 1928). S. 38. Называя свою мысль «очень продуктивной», Шле-
гель добавляет: «Мы, собственно» еще не знаем, что это такое —
перевод» (там же). Ф. Шлегель обдумывал замысел «философии филологии»
особенно интенсивно в пору сближения с Фр. Шлейермахером (1797),
которого он увлек, наряду с другими своими идеями, задачей перевода
на немецкий язык диалогов Платона. Как известно, задача эта была
реализована Шлейермахером; идея «философии филологии» в
девятнадцатом столетии получила развитие в теоретической герменевтике Шлейер-
махера и А. Бека.
15 Воеск A. Op. cit, S. 11. См. в этой связи книгу статей Фритьофа Роди,
редактора «Ежегодника Дильтея», «Познание познанного», в которой
прослеживается история и традиция преобразования философской
логики в духе гегелевского историзма в логику герменевтической
историчности — от А. Бека и Ф. Шлейермахера через Дильтея к Хайдегге-
ру и Гадамеру, Георгу Мишу и Гансу Липпсу, а также к Г. Г. Шпету: Rodi F.
Erkenntnis des Erkannten: Zur Hermeneutik des 19 und 20 Jahrhunderts.
Frankfurt а. М., 1990.
16 Бахтин M. M. Собр. соч. Т. 6. М., 2002. С. 411.
17 Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 1. М., 2003. С. 258.
18 Horstmann Α. «Philologie» // Historisches Wörterbuch der Philosophie / Hrsg.
von Karlfried Gründer u. a. Bd. 7. Stuttgart etc., 1989. S. 571.
19 Чем не парадокс: одно из ключевых и поворотных произведений
философской мысли XX столетия, «Бытие и время» М. Хайдеггера (1997),
покамест доступно русскоязычному читателю (во фрагментах или
целиком) в переводах двух филологов — А. В. Михайлова (1993) и В. В. Би-
бихина (1997); первый, прежде чем стать доктором филологии и заведу-
Уроки обратного перевода
499
ющим «сектором теории» в ИМЛИ, был кандидатом искусствоведения,
а второй, насколько мне известно, окончил Институт иностранных
языков им. М. Тореза и остается по сей день кандидатом филологических
наук.
«Питательными» назвал тексты А. В. Михайлова в телефонном
разговоре С. Г. Бочаров.
Михайлов А. В. Предисловие.
См., например: Михайлов А. В. Нагорная проповедь и конец всех вещей
// Литературная учеба. 1994. Кн. 5. С. 210—218. Как это часто бывает у
по-настоящему незаурядных, крупных людей, почти все наиболее резкие
или даже безоглядные полемические выпады, встречающиеся у А. В., как
в его публицистике (вокруг 1991 г.), так и в научных работах, как
правило, сопровождаются как бы оговорками или самокоррекцией. Так,
порассуждав в связи с задержавшимся на многие десятилетия появлением
русского «Заратустры» в переводе Я. Э. Голосовкера об «экстатической
личности» и конечности, об «экзистенции» Михайлов трезво добавляет: «...
экстатическому человеку, который живет пониманием своих
устремлений к высшему и большему и который таким путем утверждает себя и
свой мир перед лицом решительно всех, очень просто сорваться на крик,
истерику и как бы сорваться с цепи: он как-никак должен вытеснить из
мира всех остальных, а такая — пусть внушенная эпохой — задача
весьма двусмысленна». См.: Михайлов А. В. Вместо предисловия. Несколько
слов о книге Ницше // Ницше Ф. Так говорил Заратустра.
Стихотворения. М., 1994. С. 16.
Аверинцев С. Путь к существенному // Михайлов А. В. Языки культуры.
М.: Языки рус. культуры, 1997. С. 7.
Бочаров С. -Г Сюжеты русской литературы. М.: Языки рус. культуры, 1999.
С. 554.
Иванов В. Борозды и межи. М.: Мусагет, 1916. С. 12. У Вяч. Иванова (в
статье «Достоевский и роман-трагедия») ближайшим образом говорится
о «рыцаре печального образа» и об авторской позиции в романе
Сервантеса, «...тот, кто посвятил свою жизнь служению не в имя свое,
обличается, как самозванный и непрошеный спаситель мира, во имя свое;
трагическое обращается в комическое, и пафос разрешается в юмор» (там
же). С точки зрения «самопостижения» способность отнестись к себе
всерьез, как ни парадоксально, стоит в связи с умением посмотреть на
себя не с «пафосом», а, наоборот», с «юмором», трезво-прозаически, так
сказать, без зеркала.
Михайлов А. В. Проблемы исторической поэтики в истории немецкой
культуры. М.: Наука, 1989. С. 3.
См. в этой связи написанную критически немецкую же «Историю
историзма»: Jaeger Fr, Rusen /. Geschhichte des Historismus. München, 1992·
Известный филолог-классик Карл Райнхардт писал (в статье
«Классическая филология и классическое»), что коренной пересмотр самой исто-
500
Раздел второй. Рассечение
рической дистанции между античностью и Новым временем — научная
и мировоззренческая ревизия, происходившая примерно между 1800 и
1930 годом, — был возможен и представлялся необходимым только в
Германии» (см.: Reinhardt К. Die Krise des Helden. München, 1962. S. 117).
Что понятно: ведь диалог с античностью для германского «Гейста»
традиционно означает нечто подобное русско-немецкому диалогу
примерно до 1930 г.
28 См.: Федотов Г. Я. Судьба и грехи России. Т. 1. СПб., 1991. С. 329—348.
29 Симптоматичен в этом отношении новейший сборник статей
российских и немецких историков философии и научно-гуманитарного
мышления: Персональность: Язык философии в русско-немецком диалоге /
Под ред. Н. С. Плотникова и А. Хаардта при участии В. И. Молчанова. М.:
Модест Колеров, 2007.
30 Розеншток-Хюсси О. Великие революции: Автобиография западного
человека (1938). М., 1999. С. 62.
М. Хайдеггер в своем курсе лекций «Ницше: воля к власти как
искусство», прочитанном в зимний семестр 1936—37 гг. во Фрайбургском
университете, писал (в связи с проблемой Рихарда Вагнера) о девятнадцатом
веке: «Это двусмысленнейшее столетие невозможно понять путем
последовательного описания частей, составляющих его хронологию. Его
подлинные границы выясняются только путем выхождения за
хронологические границы с двух сторон, направленных друг к другу в
противоположных направлениях: со стороны последней трети восемнадцатого
столетия и со стороны двадцатого века». См.: Heidegger M. Gesamtausgabe.
Bd. 43. Frankfurt a. M., 1985. S. 100.
31 Вейдле В. В. Россия и Запад // Вопросы философии. 1991. № 10. С. 70.
32 Соловьев Э. Ю. Прошлое толкует нас: Очерки по истории и философии
культуры. М.: Политиздат, 1991.
33 См. в этой связи: Renthe-Fink L. V. Geschichtlichkeit. Göttingen, 1968; Нип-
петапп Р. Der Durchbruch geschichtlichen Denkens im 19. Jahrchundert.
Freiburg etc., 1967.
34 Дилътей В. Введение в науки о духе: Опыт полагания основ для изучения
общества и истории (1883). М., 2000. С. 281.
35 Когда Йохим Вах, ученик Дильтея, во второй половине 1920-х гг. писал
трехтомную историю новой (герменевтической) парадигмы, излагая
и систематизируя немецкие теории «понимания» XIX в., он осознанно
завершал предысторию дела, история которого разворачивалась на его
глазах. См.: Vach /. Das Verstehen. 3 Bde. Tübingen, 1926—1929.
36 Знаменитый термин «Geisteswissenschaften», более или менее
соответствующий по-русски «гуманитарным наукам» (в меньшей степени —
«наукам о культуре»), а по-английски переводимый в наше время скорее как
human studies, чем human sciences, появился в немецком переводе (1849) в
«Системе логике» Джона Стюарта Милля (1843). Переводчик (Й. Шиль)
передал подзаголовок шестой книги миллевской логики On the Logic of
Уроки обратного перевода
501
Moral Sciences так: «Von der Logik der Geisteswissenschaften oder
moralischen Wissenschaften». См.: Bodamer Th. Philosophie der Geisteswissenschaften.
München, 1987. S. 23—24.
37 Dilthey W. Die Einbildungskraft des Dichters: Bausteine der Poetik // Ders.
Gesammelte Schriften, Bd. VI / Hrsg. von Georg Misch. 3. Aufl. Stuttgart;
Göttingen, 1958. S. 103—241; Дилътей В. Собр. соч. Т. III. M., 2001. С. 263—421.
38 По поводу лосевской «Истории античной эстетики» А. В. Михайлов
отмечал, что, при всех советских ограничениях, «замысел А. Ф. Лосева —
писать историю античной эстетики — оказался во взаимосогласии не
только с ограниченными возможностями нашей науки, но и в согласии с
тенденциями современной общекультурной мысли и, в самом конечном
счете, вновь в согласии с тенденциями современной философии». См.:
Михайлов А. В. Эстетика и оживление человека. С. 473. Критический
обзор немецких концепций античности от Винкельмана до О. Шпенглера
см.: Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1930.
С. 9—96.
39 Misch G. Bericht des Herausgebers // Dilthey W. GS. Bd. V. 2. Aufl. Stuttgart;
Göttingen, 1957. S. 9.
40 Вейдле В. В. Россия и Запад. С. 68. На такие вещи А. В. реагировал очень
резко и не всегда с пользой для дела в смысле «дискуссии». Тем не менее
он очень чутко реагировал на подпочвенный, имманентный нигилизм,
никогда не исчезавший из русской действительности. Ср.: «...вместе со
всей накопившейся за долгие десятилетия ложью нашей жизни, которую
мы разоблачили и всемирно прокляли, выбросили, стараются забыть и
ту несомненную правду, которая пробивала себе путь сквозь ложь. И так
совершилось величайшее предательство, — оно заключалось в том, что
на месте прежней, теперь открывшейся лжи водрузили новую, огромную
и непроглядную ложь, которая, под звон лозунгов о возрождающейся
духовности, попирает всякую правду человеческих отношений...». См.:
Михайлов А. В. Эстетика и оживление человека. С. 3.
41 Ср. с рецензией А. В. на книгу М. А. Лившица «Поэтическая
справедливость: идеи эстетического воспитания в истории общественной мысли».
М., 1993: «И таким же "призраком" идеологии былого оказалась, по всей
видимости, и идея так называемого "эстетического воспитания", с
пиком казенного увлечения этому в 1960-е годы, — идея, находившаяся в
вопиющем и кощунственном отношении с "жалкой действительностью",
если воспользоваться излюбленным выражением классиком
марксизма». См.: Вопросы философии. 1994. № 10. С. 178. См. также рецензию
А. В. на книгу: Столович Л. Н. Красота. Добро. Истина. М., 1994. В
статье о В. М. Жирмунском можно найти едкие, но меткие замечания о
«рукотворном знании Науки» — подобии «бюрократического государства;
оно, вымывая изнутри себя последние воспоминания об этической
высоте ученого, нимало не потрясено и в самые последние годы русской
истории продолжает строится по инерции; в таком здании очень удобно
502 Раздел второй. Рассечение
устраиваться всем любящим, причем научные занятия выступают тогда
лишь как случайная форма достижения должных жизненных удобств».
См.: Михайлов А. В. Ранние книги В. М. Жирмунского о немецком
романтизме // Философские науки. 1994. С. 32—33.
42 Шпет Π Г. Сочинения. М.: Правда, 1989. С. 364.
43 Логос. 1991. №2. С. 67.
ВОЗРАСТ РЕЧИ
(Подступы к явлению С. С. Аверинцева)*
Тема
Тема, заданная для обсуждения, побуждает сказать много и
создает опасность сказать мало. Как связать память о Сергее
Сергеевиче Аверинцеве (а значит, о времени, которое, похоже, почти ушло)
с уже сегодняшними проблемами содружества гуманитарных наук,
в связи с которым Аверинцев пояснял идею филологии? Мыслимо ли
в теперешней духовно-идеологической и научно-гуманитарной
ситуации сказать что-то общее, общезначимое, тематизируя не столько
образ с цитатами, сколько дело мысли Аверинцева, соотносимое с его
текстами, но не сводимое к «сделанному» им?
В своем выступлении я попробую наметить три круга вопросов,
точнее, три возможных направления разговора в пределах
обсуждаемой темы. Во-первых, есть резон проговорить и осознать
исторические «условия возможности» такого явления, как Аверинцев. Ведь не
стало не только его; ушел тот воздух, та социальная атмосфера (уже
разноречивая и неоднозначная, но еще относительно единая), внутри
которой этот филолог-классик оказался, что называется,
востребованным достаточно не классической и не только филологической
современностью. Язык не поворачивается назвать С. С.
«шестидесятником»; а между тем не подлежит сомнению, что Аверинцев смог
* 22 февраля 2005 г. в секторе теории ИМЛИ РАН состоялся «круглый
стол» на тему «С. С. Аверинцев и будущее филологии (к годовщине со дня
смерти)»; одним из говоривших тогда довелось быть и мне. Перерабатывая
то выступление в статью, я счел целесообразным сохранить и даже
усилить приметы устной речи, в которой как-то преломилась и отразилась
странная, смещенная атмосфера, царившая в малочисленной аудитории;
впечатление было такое, что «караул устал» у самого бога времени...
Перегруженный цитатами текст я освободил от обычных ссылок ради попытки
лучше понять мысль С. С, иногда споря с ним и с собой. Слова,
принадлежащие Аверинцеву, в тексте выделены жирным шрифтом.
504
Раздел второй. Рассечение
стать тем, кем он стал за пределами узкого круга специалистов и
совсем узкого круга друзей только в эпоху, которая кончилась на наших
глазах и в нас самих, о чем С. С. успел сказать так, как мог сказать среди
наших современников, похоже, только он один. Во-вторых, союз «и»,
связывающий в нашей дискуссии феномен Аверинцева и будущее
филологии, требует войти в ясность каких-то ограничительных
предпосылок, если угодно — «фигур умолчания» в его мышлении. Что, если
сегодняшние трудности гуманитарно-филологической деятельности
как-то связаны с тем, чего Аверинцев не сказал и не сделал, но не
потому, что вообще «не мог» или чего-то «не понял», но, опять-таки,
потому что время не требовало этого или не требовало так остро, а еще,
может быть, потому, что он не решился? Наконец, в-третьих, самое
время задуматься о том, чему и как у Аверинцева можно поучиться.
Это третье направление разговора, я думаю, — главное, и его
целесообразно пояснить с самого начала.
У нас, вообще говоря, потому так любят идеализировать
«традиции», что передача опыта и знаний от учителя к ученикам, от
поколения к поколению, из прошлого в будущее не сегодня стала проблемой,
так и не став проблемой. Настолько непринципиальной в самом
сознании остается бытийная бездна между действительным состоянием
вещей и идеальным состоянием как некоторым «достаточным
основанием». С высоты идеала (общественного, научного или религиозного)
реальность можно игнорировать постольку, поскольку про себя-то
почти все понимают, что изменить по-настоящему ничего нельзя, зато
можно, говоря поэтически, «просиять и погаснуть», а, говоря
прозаически, обмануться, и обмануть, и «судорогу пустить»... Здесь
говорили, что у Аверинцева не может быть подражателей и продолжателей;
это, по-видимому, разумно, хотя и безумно, если вспомнить тему,
которую мы как бы обсуждаем. То есть это верно, но лишь с точки зрения
уже состоявшегося и постольку рокового прошлого. Прошлого нашего
общественного и научного мира жизни, как и прошлого порожденной
им роковой антиобщественной и антинаучной претензии на добытую
в своем «углу» или «гробу» всемирно-историческую истину, которую
нужно донести до всех и всех ею вразумить и воскресить; после
Достоевского и Федотова Аверинцев сумел сказать, среди прочего, также
и об этом русском сюжете по-настоящему, то есть в свете
настоящего (например, в скромной заметке конца 1980-х гг. о В. С. Соловьеве
«К характеристике русского ума»).
С. С. и вправду явился в начале конца советского века как бы
ниоткуда; а иные некрологи и воспоминания, ему посвященные в
Возраст речи
505
последнее время, могут, против воли авторов, вызвать характерное
для нашей истории недоумение: простите, Аверинцев.., да, но,
собственно... что это было? То есть, в подоплеке: а может, по большому
счету, мальчика-то и не было? Или, пожалуй, так: пусть там у них
что-то такое и было, но теперь-то для нас все это, как говорится,
«давно и неправда», «проехали» и т. п. («У нас предпочитают
вообще начинать работу, а не продолжать ее», — заметил литературовед
А. И. Белецкий в 1923 г. по поводу тогдашних «формалистов». Анджей
Валицкий в своей «Истории русской мысли от Просвещения до
марксизма» так объясняет, почему Радищев не оказал влияния на
последующую русскую философию: «...наследники его демократических и
свободолюбивых идей не интересовались и не занимались проблемой
бессмертия, а религиозные философы уже не искали вдохновения у
философов-просветителей». Во время своей лекции в минувшем
сентябре anno 2005 я вздрогнул, когда, упомянув по какому-то поводу
фильм «Семнадцать мгновений весны», вдруг услышал
восемнадцатое мгновение: похожий на Лету отчужденный холодок всего
бескрайного ювенильного моря студенческого амфитеатра...) В
отношении Аверинцева, как кажется, мало предаваться воспоминаниям
и млеть; в науке, как и в жизни, даже «вечная память» нуждается в
каком-то реальном, практическом восполнении воспоминания, так
сказать, в поступающем анамнесисе реальной преемственности.
Для того чтобы спасти лицо в исторически преходящем, уже
минувшем, необходимо как-то выйти за пределы и личного, и
минувшего; выйти не риторически и не теоретически, но методически, и
притом — объективно. Объективно, насколько это вообще возможно
в заново переживаемых сегодня всеми объективных условиях
«кризиса символизации» (как это называлось летом 1919 г. на занятиях и
в разговорах так называемой Невельской школы философии,
преемственно связанной — в лице М. М. Бахтина, Л. В. Пумпянского и
др. — с культурой русского символизма). Спросим так: каковы ино-
научные (по слову Аверинцева из его энциклопедической статьи о
символе) условия возможности преемственности в гуманитарно-
филологической деятельности?
Такая постановка вопроса, как кажется, позволяет обсуждать
нашу тему — «С. С. Аверинцев и будущее филологии» — предметно,
ganz sachlich, как говорят немцы. Попробуем если не «разрешить», то,
по крайней мере, «разделить» напряжение мысли крупнейшего
отечественного филолога-мыслителя эпохи, которой мы — хотим мы
того или нет — наследуем сегодня и в обозримом будущем. Разделить
506
Раздел второй. Рассечение
напряжение мысли предшественника — другого, по возможности
избегая анестезирующей поэтизации его в эстетическом
завершении (только симулирующем — как заметил еще Платон в своей
критике поэтов — вечную истину и вечную жизнь): так можно
переопределить, «перевести» на язык филологии снова и по-новому
актуальную сегодня научно-инонаучную задачу. Имеется в виду один
довольно вечный сюжет — в литературе и вне ее, в тексте и в затексте
мира исторического опыта — мира вечной нужды и вечной надежды
во времени. Задача возвращения будущего в поисках утраченного
прошлого требует усилия, которое состоит в том, чтобы разделить чужой
опыт и чужой вопрос, постольку сделав его поучительным в широком
смысле, свободном от школьных уроков и высокомерных поучений.
Дилемма
Возьмем за исходный пункт следующее высказывание С. С. в
интервью 1984 г., неоднократно варьируемое в последующие годы:
Тот, кто сейчас выберет утерю исторической памяти, получит ее с
такой полнотой, какая до сих пор была просто невозможна. (...)
Историческое знание только приходит к своему совершеннолетию.
Осмелюсь переспросить: что означает здесь не риторически
«выбирать»? В чем состоит дилемма выбора, но не вообще, а в конкретной
работе гуманитария — филолога, литературоведа, лингвиста,
историка, теолога, философа, литературного критика, музыковеда или,
скажем, критика идеологий? Как возможна утеря или, наоборот,
обретение исторической памяти? В каком отношении
экзистенциальный выбор, о котором идет речь, находится к объективным
условиям возможности (или невозможности) выбора? И, наконец: что,
если совершеннолетие исторического знания и в самом деле зависит
не от «знания», но от такого выбора, который имплицирует
включение исторической памяти в горизонт незавершенного настоящего
и будущего вот этого гуманитария, живущего вот в это время и не
где-нибудь, а вот в этой стране?.. Именно потому, что мысль Аверин-
цева предметна, а не риторична, ее стоит пересказать, передать,
перевести своими словами (а не «интерпретировать») примерно так:
Науки исторического опыта, чаще называемые гуманитарными,
на исходе минувшего столетия оказались, — как и сам исторический
мир жизни, — перед немыслимой в прежние времена возможностью
утраты актуальной взаимосвязи опыта прошлого и опыта
настоящего, ретроспективы и перспективы исторической памяти. Выбор
Возраст речи
507
другой, альтернативной возможности не может сегодня быть
простым и наивным; альтернатива не достигается, например,
провозглашениями верности так называемой классической традиции (как не
достигается она, говорится в том же интервью, эстетской
стилизацией прошлого). Основная методическая проблема наук
исторического опыта — не в «методе», не в «теории», тем более не в
«идеологии»; проблема даже не в «предмете» как таковом, который
гуманитарий на самом деле располагает и определяет до всякого
исследования и рассуждения — в своей конкретной установке, в подходе, в
видении предмета (зачастую безотчетном, но определенном —
«интуитивном»). Дело скорее в том, что науки исторического опыта
сами обусловлены историческим опытом и не тематизируемой, не
«снятой» памятью этого опыта. Проблему еще надо увидеть и
осознать постольку, поскольку историческое знание еще подходит к
феномену исторического опыта и в этом смысле только приходит к
зрелости, к своему совершеннолетию.
То же самое — в отношении к общественно-политическим
реалиям: только после конца советского века стало возможным осознать,
что то, что случилось, не есть что-то внешнее и чуждое нашей
современности (да и мне самому). Советский век не может кончиться сам
собой, кануть календарно, потому что начался он задолго до своего
начала, и слова духа небытия из романа Андрея Белого
«Петербург» (1916): «Я гублю без возврата» — невозможно объяснить ни в
западноевропейских терминах «трагедии», ни только из «текста», ни
из «психологии» автора романа, ни из «идеологии» героев, ни даже
из предчувствий, возбужденных революцией 1905 г. (память о
которой в 2005 г. вроде бы «не ложится» в сегодняшний актуальный
контекст — настолько она актуальна на другом, менее официальном
и культурном уровне сознания и языка).
Дилемму выбора, сформулированную Аверинцевым,я хотел бы в
дальнейшем не ослабить, а, наоборот, испытать и усилить в контексте
того «романа испытания», который выпал на долю гуманитарно-
филологического мышления, как и самого С. С, в советский век и в
его сегодняшнее продолжение в России и на Западе.
Проблема
Вопрос об Аверинцеве и будущем филологии предполагает, что
«мальчик» был в некотором не завершенном и не решенном смысле
слова «был» — пусть даже С. С. и остался, так по-советски,
филологически бездетным (тем самым «подставив» себя, когда время
508
Раздел второй. Рассечение
изменилось, новым «русским мальчикам», таким изменившимся и
таким узнаваемым). Иначе говоря, вопрос об образовании, обучении,
волновавший самого Аверинцева, имеет едва ли не решающий смысл
в рамках нашей темы. Ведь условием жизни филологии, какое бы
далекое прошлое ни было ее предметом, является возможность
перехода памяти слова в не самозваное, преемственное будущее. Но
здесь-то и скрыта трудность.
Конечно, сам С. С. скорее думал, писал, говорил, а не «учил»;
вопрос не в том, чтобы ему подражать или кадить, но в том, чему же,
собственно, и как у него можно поучиться для того, чтобы
пережитые встречи с его мыслью и словом, с не схватываемыми путем
обобщений нюансами («его» слово) не остались во мне только
прекрасной, но даже мне самому внутренне уже не нужной памятью о
миражах и заблуждениях стремительно отходящего сейчас в
прошлое еще сегодняшнего вчерашнего мира. Проблема будущего
филологии — проблема, ставшая в последнее время темой дискуссий
даже у нас, даже в журнале «Знамя» (к счастью, в отсутствии
знаменосцев, но, к несчастью, в отсутствии традиций дискуссии), —
упирается в некую глобальную, но при этом элементарную, так
сказать, этико-дидактическую трудность, — своего рода тоже нюанс.
Ее, эту трудность, мы поймем лучше, если спросим так: каким
образом можно «учить учиться», передавая другим знания и опыт как
некоторую утверждаемую преподавателем-передавателем истину-
добродетель — при том, однако, что истина-добродетель никому не
дана окончательно, не совпадает с готовым знанием, но лишь задана:
учителю — по-своему, ученикам — по-своему?
Этот вопрос Сократа, перемещенный и переобращенный Кьер-
кегором к Христу, к себе самому как христианину и, volens nolens,
к «христианскому обществу» Нового времени, имплицирует
возможность передачи, перевода, перехода истины-добродетели из
идеально-утопического, чисто смыслового измерения в
«нечистое» (земное, мирское, социальное), в котором событийный центр
тяжести переместился из вечности (вечного возвращения того
же самого в истине абсолютного начала, абсолютного мифа и
безнадежной, роковой судьбы) в необратимое настоящее и будущее
истории. Это значит: ценностный центр события взаимоотношения
между учителем и учеником перешел туда, где он, казалось бы,
всегда и был, хотя до времени никогда там не был и не мог быть ни
в каких Афинах — ни в софистической «школе», ни в платоновской
«академии», ни даже в «диалогах» Сократа (не случайно Платонова
Возраст речи
509
протагониста Аверинцев определял как идеал радикально
недиалогического человека).
Проблема, собственно, в том, что сама жанрово-речевая
ситуация искания истины и рождения истины в событии встречи учителя
с учениками в границах греческого мира остается только умозрением,
только «метафизикой»; она еще не стала воплощенным событием. То
же самое — в понятиях Кьеркегора: ученик пока не «обратился», он
еще должен стать участником истины-добродетели во времени
«коммуникации» с учителем и с истиной. То же самое — языком понятий
нашего Бахтина: смысл еще не «инкарнирован» бытию, не стал
«событием бытия» в нравственном свершении-овнешнении понятого мною
в моем единственном поступке; поэтому и «сократический диалог»,
изображающий процесс искания истины-добродетели как «серьезно-
смеховое» — сиречь слишком человеческое — дело бездельников
слишком школьного греческого «досуга» (schole) — это еще не вполне
диалог (подобно тому, как и «формальная полифония Данте»,
достижение средневековья, сама по себе не может породить, ни объяснить
конкретной полифонии Достоевского как события
взаимоориентации, взаимодействия «неслиянных сознаний с их мирами»).
Нашу проблему можно выразить еще иначе. Так называемая
благая весть провозвестия, «керигма», о которой учил теолог и
коллега М. Хайдеггера — Рудольф Бультман (неоднократно
упоминаемый Аверинцевым) и которую литературоведчески анализировал,
например, марбургский коллега и корреспондент Бультмана филолог
Эрих Ауэрбах (в книге «Данте как поэт земного мира» и в
«Мимесисе»), переносит соответствующую этико-дидактическую ситуацию
в реальное бытие и время учителя и учеников, «демифологизируя»
прошлое, — переносит и пересматривает не теоретически, не
поэтически, не утопически. Добавлю: и не риторически — что важно, если
у филологии есть будущее, в перспективе будущей не риторической
дискуссии о риторике и о концепции риторического «готового слова»,
выдвинутой у нас в годы «застоя» и с опорой на «античный идеал»
коллегами из ИМЛИ А. В. Михайловым, М. Л. Гаспаровым, С. С.
Аверинцевым, а потом даже не брошенной на произвол судьбы, а так —
оставленной в нетях. Дело мысли, дело истины-добродетели не
вытесняется, скажем, на небо, которое, как в стихотворении
Мандельштама, якобы «будущим беременно». Нет, центр всего переместился в
земную середину времени, отступив от более традиционных, античных
эстетических терминов эпоса и трагедии, отступив также и от
крайностей любого лирического голоса.
510
Раздел второй. Рассечение
Могут спросить: какое все это имеет отношение к науке, к
филологии, наконец, к нашему дорогому Сергею Сергеевичу, о духовности
которого на нашем «круглом столе» говорят так громко и так
легкомысленно?
Отношение — имеет, но не совсем эстетическое и совсем не
риторическое.
Афины и Иерусалим
В поздней статье нашего автора о Вячеславе Иванове (1995)
сказано, ближе к концу:
...тоталитаризм сам по себе — абсолютно ложный ответ на
реальные и глубокие вопросы, которые не решаются, а заново ставятся
крахом тоталитаризма.
Какие вопросы?
Почему эта едва ли не главная сегодня для наук исторического
опыта, как и для философии, аверинцевская мысль, которую С. С.
в последние годы не раз повторял, не боясь повториться, в своей,
может быть, гениальной публицистике, в филологии, к сожалению,
осталась не развернутой, не продолженной, тоже как бы брошенной?
Аверинцев слишком часто ставит точку там, где недосказанность, —
прием неизбежный и продуктивный в условиях несвободы, — в
других условиях заметно теряет свои преимущества, зато усиливает
свои изначальные недостатки. С. С. не случайно писал о риторике и
переводил «Риторику» Аристотеля; к его собственной риторике
риторически не подступиться — так блистательно она выстроена, так,
если угодно, «сделана». Но предметно никакая речь (даже
поэтическая, даже лирическая) не завершается точкой, строфой, рифмой,
сколь угодно убедительной или трогательной интонацией; любое
высказывание по своему смыслу не завершено и скорее обрывается —
как в только что приведенной цитате. Реальные и глубокие вопросы,
которые советский век не поставил, тем более не решил, а только
вытеснил или подменил собою на время — ведь это же, среди прочего,
и о будущем филологии, если исходить из того, что оно, это будущее,
философски выражаясь, «возможно».
Тематизируем здесь один такой вопрос в направлении
сформулированной Аверинцевым задачи, но с другого (не
символистского) «конца». С того конца, с которого С. С. в некотором смысле
начинал. Я имею в виду нашумевшую на рубеже 1960—70-х гг. статью
Возраст речи
511
«Греческая "литература" и ближневосточная "словесность" (два
творческих принципа)», первоначально напечатанную в «Вопросах
литературы». Наталья Петровна, жена С. С, однажды, давным-давно,
рассказала, что они с Сережей называют эту работу просто «Афины и
Иерусалим». Тема статьи, символизированная этим заглавием,
возвращает нас к тому, что говорилось выше в связи с неязыческим,
неантичным преобразованием сократовского вопроса.
«Абсолютное прошлое» эпоса, как и относительное прошлое
трагического действия, а равно и относительное настоящее лирической
поэзии или школьно-софистического искусства красноречия
(риторики), все-таки — с точки зрения задачи христологического
обращения языческой идеи истины-добродетели — условны. Они,
конечно, «прекрасны», и Алексей Федорович Лосев (у которого Аве-
ринцеву было чему поучиться) прекрасно показал, каким образом
и почему онтологический вещный магизм античного космоса
сочетался, если не совпадал, с «античной эстетикой» (и с античной же
«теорией»). Но вот что было после7. И в каком смысле было7. Конечно,
«после» и «было» не в хронологическом, но и не культурологическом
смысле, как еще в «морфологии культуры» Освальда Шпенглера, так
заворожившей в свое время русских философов до Лосева
включительно. Язычество (как и миф, магия, «варварство» и многое другое)
не только и не просто когда-то было; оно «изначально» и постольку
«вечно» в человеке и в человечестве. Более того, конкретная
реальность язычества не тождественна образу «язычества» — «образу» или
так называемой картине мира. Не только рационалистически
брезгливый, но и эстетически приемлющий прошлое взгляд извне может
оказаться не вполне адекватным «вот этой» или «вот той» реальности
бытия-события прошлого изнутри его, не совпадает с «вот бытием»
прошлого (или «присутствием», как покойный В. В. Бибихин перевел
практически непереводимый в силу своей умышленной нетермино-
логичности термин раннего Хайдеггера Dasein, возникший в
полемике с философской традицией до Шпенглера включительно). Со
своей стороны, Бахтин, поясняя в 1970 г. в журнале «Новый мир» свое
понятие «большого времени» и противопоставляя его шпенглеров-
скому пониманию античности и истории культуры, вспоминал
гимназическую шутку: древние греки не знали о себе главного — что они
«древние греки»; шутка иллюстрирует продуктивное различие между
историческим опытом, с одной стороны, и «картиной» этого опыта
при взгляде на него извне — с другой (напряжение «взаимной внена-
ходимости»).
512
Раздел второй. Рассечение
Немецко-еврейский религиозный мыслитель Франц Розенц-
вейг (несомненно, известный Аверинцеву-библеисту как соавтор Бу-
бера по переводу Пятикнижия на немецкий) писал в 1925 г. в статье
«Новое мышление», полемизируя со Шпенглером и объясняя
эстетическую условность мифического Олимпа, а равно и историческую
относительность греческой метафизики:
На самом деле, в строгом смысле слова «было», этого никогда не
было. Когда древний грек обращался с молитвой к своим богам,
услышать его, понятно, мог не Зевс и не Аполлон, а только сам Бог. И
грек, конечно, никогда в действительности не жил в своем
«космосе», а жил он в сотворенном Богом мире, единственном на все
времена, — мире, солнце которого светит нам так же, как оно светило
Гомеру. И был этот грек не героем аттической трагедии, а просто
человеком — всего лишь человеком, как вы и я.
С точки зрения филологии, философии или богословия, как их
обычно себе представляют, можно подумать, что все это не имеет
прямого отношения ни к так называемой научности, ни к так
называемой духовности; но это не так. Для наук исторического опыта и для
философии этого опыта в XX в. суть дела не только и не просто в том,
что одна эпоха сменяет другую эпоху, одна «картина мира» — другую
«картину мира». Дело идет о радикальном повороте-перевороте в
понимании смыслового единства времени — единства, которое
невозможно адекватно представить в эстетически завершенном
(отрешенном) видении того, что «уже было». Прошлое не отделено от
настоящего так, как тело отделено от тела, атом-индивидуум от другого
атома-индивидуума в так называемом классическом каноне
европейской эстетики. Смысловое единство времени и события скорее
надындивидуально, причем так, как характеризует «гротескный канон»
Бахтин в книге о Достоевском: личность, подобно самой истине,
«выходит за себя» и рождается не в глубине изолированного тела-атома,
не в «душе», а между личностями, по логике «двутелого тела»,
«гротескного тела» и т. п. В этой уже не античной, но и не стилизованно-
библейской, прозаически заземленной архитектонике бытия-события
ни так называемые общие тенденции, ни относительная общность
классовых, национальных, цеховых, экономических интересов сами
по себе ничего не определяют, не решают и не завершают извне. Но
именно поэтому земные испытания и исторические ставки
возрастают (как сказано в известном стихотворении Мандельштама 1917 г.)
до «десяти небес».
Возраст речи
513
Память будущего
Вопрос об Аверинцеве и будущем филологии, кажется, в чем-то
достиг проблемного измерения самой аверинцевской мысли. Но,
собственно, в чем достиг? И что это за измерение?
Вспомнить — не то же самое, что согласиться, тем паче —
пассивно повторить, — не очень церемонно сказал С. С. на церемонии
вручения ему очередного академического звания (1998). О чем это?
Явно о том же, о чем за полтора десятка лет до этого он сказал в
упоминавшемся выше интервью: (...) не что иное, как опыт и память об
опыте, и делает меня взрослым. (...) С исторической памятью — то
же самое. И, наконец, на перевале в новый век и тысячелетие, с его
уже не пережитой Аверинцевым сменой атмосферы исторического
давления, в посмертно напечатанных фрагментах последней книги
«Знамения времени» — автокомментарий:
Размышления старого человека, для которого переживание
истории, особенно последней дюжины лет, была (sic!) больше
интеллектуальным, чем каким-либо еще шоком. (...) Из
пятидесятилетнего вечного школьника становишься наконец-то взрослым
человеком.
(Грамматическая ошибка с глаголом-сказуемым — «была» вместо
«было» — возможно, не совсем случайна, то есть не совсем
отделима от «шока».) Во всех трех почти наугад выбранных
высказываниях разных периодов биографии Аверинцева важен, опять-таки, не
«образ» того, кто говорит, а то, «о чем» говорится, тем более что речь,
похоже, в каждом случае идет об одном и том же. Речь идет о
проблеме, которая занимает сейчас и нас в связи с Аверинцевым, как и
в связи с нашим проблематичным гуманитарно-филологическим
будущим.
Вспомнить Аверинцева — не то же самое, что согласиться (или не
согласиться) с ним, тем паче — пассивно повторить за ним что-то. В
этом смысле тема нашего «круглого стола» соотносима с более общей
и более принципиальной постановкой вопроса о судьбах и
возможностях исторического опыта в самих науках исторического опыта. Это
дает основание вспомнить здесь, не повторяя пассивно, одно
систематическое понятие раннего М. М. Бахтина — не совсем чуждого Аве-
ринцеву русского мыслителя, который сумел в куда более «шоковых»,
невозможных условиях поставить вопрос об исторических условиях
возможности наук исторического опыта в своей не имеющей аналогов
514
Раздел второй. Рассечение
ни у нас, ни на Западе критике гуманитарно-филогического разума,
намеченной — с типично русским безвозвратным опережением — в
тот исторический момент, когда, как сказано у С. С. в знаменитой
энциклопедической статье о филологии, единство гуманитарно-
филологического мышления было взорвано во всех измерениях. (У
нас будет повод вспомнить этот образ «взрыва», не повторяя его
пассивно.)
Я имею в виду словосочетание «память будущего» из
выпавшего из времени трактата молодого Бахтина об «авторе и герое» и
различных формах «поступка», от эстетики до политики и молитвы.
Трудности ученичества, условия возможности (как и условия
невозможности) преемственности — например, у Аверинцева в его
отношении к Бахтину, но также и у нас самих в нашем отношении к
прошлому отечественной гуманитарии, например, к Аверинцеву — с
особой ясностью и остротой обнаруживаются в свете именно этого
бахтинского двутело-гротескного понятия (в сущности, ранней,
экзистенциально-христологической редакции упоминавшегося выше
концепта «большого времени»).
Память будущего: может ли, и если — да, то как и в какой мере,
Аверинцев быть для нас, сегодняшних и завтрашних гуманитариев,
такой ориентирующей памятью? Памятью, которая отвечала бы его
собственному запросу на радикальную переориентацию русской
научно-гуманитарной и духовно-идеологической культуры —
переориентацию с платонизма и утопизма на диалог, понятый в духе
антиутописта Аристотеля, то есть на диалог как на реальную земную
середину между умышленными, утопическими крайностями «веры»
и «знания», «научности», и «духовности», «правого» и «левого», и
т. п., — на золотую середину между изоляционизмом и всеобщей
унификацией?
Ясно, что речь идет о программе, не риторическая солидарность
с которой предполагает некоторую реализацию (воплощение) — по
ту сторону только риторических «мнений», но и по ту сторону тео-
ретизированных «бинарных оппозиций» в стилизованном духе pro et
contra. Вопрос не в том, «нравится» кому-то Аверинцев или «не
нравится»; вопрос в другом. Насколько соответствует его программе,
или завету, его же мышление, в какой мере отвечает оно нуждам
гуманитарно-филологической деятельности в исторической
ситуации, в которой мы все оказались сегодня, и чем это мышление
объективно мотивировано и обусловлено в своих достижениях, как и в
своей ограниченности?
Возраст речи
515
Кайрос филологии
По отношению к историческому опыту недавнего прошлого
нашей гуманитарии феномен Аверинцева становится понятнее в
связи с тем, что можно назвать «парадоксом филологии» последних
советских десятилетий (недавно о том же, вспоминая С. С, точно
писал в «Вопросах литературы» С. Г. Бочаров). Сегодня этот
исторический парадокс обращает на себя внимание потому и постольку,
поскольку реализовавшаяся в нем персональная и общественная
возможность, — что тоже парадокс, — в наше время, конечно, уже
совершенно невозможна.
Многие еще помнят, что Аверинцев определял и, главное,
практиковал гуманитарно-филологическую деятельность в
противостоянии взгляду издали (как сказано в цитировавшейся уже
энциклопедической статье о филологии). Такой схематизирующий,
закругляющий, редуцирующий предмет взгляд извне не только не видит
издали, он, что называется, «в упор не видит». Филология опирается на
конкретный исторический опыт, удержанный в тексте, — и постольку
противостоит «теории» в некотором существенном смысле. С. С. в
статье «Похвала филологии» (1969) так поясняет этот смысл:
Слово и текст должны быть для настоящей филологии
существенней, чем самая блестящая «концепция».
И там же, поясняя свой интерес к Плутарху, которому он
посвятил первое большое исследование:
Меня привлекала перспектива окунуться не в «концепции», а в
тексты, вслушиваться в голос одного и того же писателя, когда он
рассуждает и рассказывает, восхищается и негодует, ведет речь о
подвигах героев или об ошибках, которые может совершить
женщина при стирке белья (есть у него и такое!).
Не концепции, но тексты: в этом своем качестве филология —
вопреки интеллигентски-позитивистскому предрассудку,
распространенному в России и на Западе, — обнаруживает как бы
неожиданную близость, между прочим, и к философии. Ведь философия
уже в позапрошлом столетии (после Гегеля) чем дальше, тем больше
становилась тем, чем она на свой лад уже была в своем греческом (по
крайней мере, в своем сократовском) начале, — «исследованием». Так
было в особенности в поворотные, переворотные,
предрасполагающие будущее моменты «слома парадигмы» в философии, в науках
516
Раздел второй. Рассечение
исторического опыта и в историческом опыте самом. (Вспомним
содружество двух Фридрихов — Шлегеля и Шлейермахера на исходе
эстетической, политической, духовно-исторической послекантов-
ской революции 1790-х гг. — германского «второго ренессанса», по
терминологии Φ. Φ. Зелинского.
Филология — не только и не просто «любовь к слову» (как учат
посредством буквального перевода, почти обессмысливая этим
когда-то кем-то опытно пережитое и осмысленное). С опорой на
Бахтина и на Джамбаттисту Вико следовало бы уточнить: филология —
это, во-первых, любовь к «чужому слову», во-вторых, — любовь к
«достоверному» (certum), в отличие от «истинного» (verum) — истины
«безотносительно-ни-к-чему» (вне контекста). Филология,
выраставшая из религиозной потребности в оправдании и возрождении
«чужого слова» (в частности — свидетельств, составляющих предмет
науки теологии), в сущности, всегда находилась в напряженных, если
не конфликтных, отношениях с претендующими на теоретическую
чистоту, общезначимость и вечность (но исторически изменчивыми)
истинами «веры», «разума» и «науки». (Появившееся в 1990-е гг.
словосочетание «религиозная филология», абсурдное и оскорбительное
для филологов и для верующих, не говоря уж о теологах, тем не
менее, — серьезный симптом, удостоверяющий, насколько почвенной
в своей беспочвенности оказалась в советский век «новая
богословская школа», как называл русский коммунизм Федотов в «Трагедии
интеллигенции»). Так вот: именно потому, что сегодня мы оказались
в существенно новой исторической ситуации, «децентрировавшей» и
филологию, и философию, и интеллигенцию, и многое другое, — мы
с большей ясностью способны осознать, что в 1960—80-е гг. наша
филология (в лице С. С. Аверинцева, А. В. Михайлова, Д. С. Лихачева,
Ю. М. Лотмана, М. Л. Гаспарова, С. Г. Бочарова, многих других)
сыграла роль исторического противовеса внутри исчерпавшей и
пожравшей самое себя, но еще не издохшей «богословской школы».
«Филология» — в широком и исконном смысле этого слова,
который обновил в нашем сознании, я думаю, больше, чем кто-либо,
именно Аверинцев, — противопоставила атеистическому
богословию и идеализму советской мифологии истории опыт
исторического прошлого, certum прошлого, память прошлого, —
противопоставила не идеологически, но филологически. Вопреки
формальному историзму («историцизму») Нового времени, с его тенденцией
толковать и приспосабливать историческое прошлое «под себя», —
историко-филологическая память минувших эпох была непереводима
Возраст речи
517
на язык официальной современности и незаместима ею. Эта память
прошлого не была формальной, то есть равной себе; она не была
зеркалом актуального настоящего, но она не была и безгласной вещью;
она, эта память, более или менее явно задавала вопросы шумной
современности, выводя ее из самодавления, самодостаточности,
самодовольства (автономии) и в этом смысле — релятивизируя ее. Так
возникал некий призрак относительности — не столько как угроза
релятивизма, сколько как предвосхищение новой преемственности,
перерастания памяти прошлого в нечто большее и творчески
возможное — «память будущего». Это уже потом выдающийся немецкий
литературовед, глава так называемой Констанцской школы
рецептивной эстетики Ганс Роберт Яусс (1921—1997) сострит на одной
конференции, что, мол, на смену бродившему по Европе «призраку
коммунизма» приходит «призрак постмодернизма»... Парадокс
филологии в историческом промежутке между обоими этими
«призраками» заключался, собственно, в том, что не философия, но филология
оказалась в последние советские десятилетия даже философски более
чуткой и более подготовленной к восприятию и осмыслению
отдельных, региональных онтологии исторического опыта прежних (и
самых разных) эпох — другого сознания, чужого слова. И это
сделало филологию также более чуткой и подготовленной к восприятию
сдвигов в современном восприятии — и не только в искусстве.
Не советские философы и не историки, но скорее филологи,
искусствоведы, критики с европейским (не «моноязыческим»)
горизонтом и, конечно, переводчики-толмачи, референты и
рецензенты западноевропейских эстетических и теоретических
переворотов и дискуссий XX в., оказались в советский век в большей мере,
чем другие, «с веком наравне». Молодые люди, обладавшие вкусом
к философствованию и диалектическим складом ума (этого
«праздника мышления», как один раз С. С. процитировал в примечании из
лекций Хайдеггера о Ницше), шли учиться, естественно, куда угодно,
кроме тех мест, где тогда учили и продолжают учить сегодня, как ни
в чем не бывало, «диалектике». Первыми переводчиками «Бытия и
времени» М. Хайдеггера (1927) на русский оказались в 1980-е —
начале 1990-х гг. не философы (кстати: и не русские философы в
эмиграции), а два советских филолога — А. В. Михайлов и В. В. Бибихин:
факт, в своем роде символический. Филолог — то есть историк
культуры в конкретном (а не «культурологическом») смысле — имеет
дело не просто с тем или иным материалом чужого слова, чужой
речи; он имеет дело с «другим», с «первым» сознанием. Исторически
518
Раздел второй. Рассечение
образованный и ориентированный филолог в принципе лучше
подготовлен к встрече с другим, иным, чем сегодняшний, миром
исторического опыта жизни и обладает, тоже в принципе, большим
иммунитетом против ментальной идеализации и духовного аутизма, против
разномастных, меняющих исторические маски теоретиков из
«Республики Платона», методически безразличных к «нечистотам
города Ромула» (как выражался Д. Вико в начале XVIII в.,
противопоставляя филологию, «здравый смысл» и Провидение — платонизму и
особенно сциентистскому картезианству Нового времени).
Маноелыиталл напророчил
Но так — «в принципе»; исторически принцип был по-
леонтьевски «подморожен», если не уничтожен, в советский век
вместе с реальной преемственностью исторической памяти.
Мы едва ли сумеем сориентироваться в сегодняшнем
умонастроении беспредела, фрагментарную феноменологию которого в России
и на Западе Аверинцев наметил в упоминавшихся «Знамениях
времени» (второй рабочий заголовок или подзаголовок книги — «Опыт
христианской ориентации»), если не узнаем и не признаем в
сегодняшних зубрах-перевертышах, отморозках и самозванцах от
филологии, идеологии и теории — оборотней сознаний и сюжетов,
«заверченных давно». Задолго до того как литературоведение в известном
смысле осталось без своего предмета — литературы, историческая
наука — без истории, общественное сознание — без общества и
сознания, а сознание — без внутреннего оправдания и без «второго
сознания»; задолго до того как началась постмодерно-постсоветская
робинзонада и отсебятина, а гуманитария без человека (подмеченная
С. С. у коллег-современников в рецензии 1976 г. на сборник работ
Бахтина) еще не стала чем-то совершенно естественным; задолго до всех
духовных и не очень духовных сюрпризов наших дней и опоздавшего
почти на полвека жаргонного трепа о «дискурсе» произошла почти
необратимая дискурсивная катастрофа населения, от зеков до
филологов. Имеется в виду утрата живого языка разговора, обсуждения.
Не теоретизированного, идеализированного и поэтизированного
«Логоса», но именно общественно-междучеловечески-исторически-
прозаических logoi (буквально «речей»), то есть конкретного логоса-
дискурса (О. Мандельштам — не говоря уж о Бахтине или
Выготском — задолго до М. Фуко писал о «речевом сознании»,
противопоставляя его «всепожирающему и голодному до слов мышлению»).
Возраст речи
519
Не изолированный, как бы утопический субъект, часто по
недоразумению или жаргонно называемый «экзистенциальным», но общее,
«общное» у меня с другими людьми речевое сознание и речевое
мышление реально соединяют мое прошлое и настоящее с будущим; в
противном случае происходит утрата движущей памяти — памяти
будущего. Аверинцев решился заговорить об этом с последней, мандель-
штамовской прямотой, но с аверинцевской неоскорбительностью в
удивительных газетных выступлениях и интервью вокруг 1991 г.
(частью собранных в книжечке «Попытки объясниться»).
В то уже сильно отошедшее в прошлое время, — и не поверится
самим, — не худшее, а лучшее было гласностью. Не потому только,
что вдруг стало «можно» (как и наступающая сейчас новая
«глухота паучья» наступает не потому просто, что стало опять «нельзя»).
Общная надежда на все-таки лучшее будущее давала тогда решимость
и право высказать городу и миру, соотечественникам и
соотечественницам, братьям и сестрам (как однажды рискнул написать и
напечатать С. С.) еще общей родины ужасные, почти безнадежные истины
о прошлом этой самой родины. Для не совсем обычного филолога,
каким был Аверинцев, то есть для такого христианина, который
пытается найти себя в догмате таким образом, чтобы всякий раз
сызнова сопрягать догмат и веру с миром жизни, с конкретным
предметом исследования, наконец, с трезвым и здравым сознанием
собственной исторической ситуации, — важнейшей из таких почти
безнадежных истин был семантический кризис самого языка в период
полного сталинского торжества новой богословской школы:
...старые слова, забытые всеми, кроме допотопных
интеллигентов (как раз и окружавших мое отрочество), не подходили к
новой действительности, для которой в наличии был только набор
официальных обозначений, альтернативы которым можно было
создавать только общей языковой работой, но таковая была
абсолютно невозможна. Единственной альтернативой официальному
языку оставалась лагерная «феня», или можно было в
одиночестве выдумать собственный язык для индивидуального
употребления — занятие, привычка к которому ощутима у
Солженицына, и у Л. Гумилева, и особенно у Дм. Панина (послужившего
моделью для солженицынского Сологдина).
Как выражался С. С. в последние годы: Мандельштам
напророчил. Ведь это у Мандельштама сказано: «Отлучение от языка
равносильно для нас отлучению от истории». И все же снова переспросим:
520
Раздел второй. Рассечение
не странно ли, что в изображенном Аверинцевым онемении двух
поколений между официальным языком, с одной стороны, и лагерной
«феней», с другой, — едва ли не пустота, «котлован»?
Разумеется, тот факт, что на обочине котлована ничего особенно
не живет и не растет, кроме исключений из правила, подтверждающих
правило, — это сегодня куда понятнее, чем в 1991 г. Логика
совместности социально-исторического опыта — логика, которую
упоминавшийся Гадамер называет «диалектикой обоюдности», а Бахтин —
«идеологической средой» сознания или «диалогизующим фоном»
высказывания, — такова, что сознательные отклонения от
официального дискурса невольно заимствуют у отрицаемого тоталитарного
речевого сознания его установку, но только, как сказано у
Достоевского, — с «другой рожею». (В «Знамениях времени», для того чтобы
проиллюстрировать, видимо, беспокоившую С. С. мысль о том, что
диссидентское сознание является бессознательным двойником и
изнанкой отрицаемого этим сознанием тоталитаризма, Аверинцев
приводит такой шедевр адской издевки: Л. Н. Гумилев в приватной
обстановке отвечал на любую критику предупреждением, что не
согласный с ним разоблачает себя как агент КГБ, а возможно, и ЦРУ).
Но я все-таки переспросил не об этом, а о другом. Неужели, в самом
деле, все сгорели карусели, и, кроме текстов (официальных и
неофициальных), остался только блатной язык? И куда делся в аверин-
цевской схеме самый главный нюанс, который так легко вообще
упустить из виду в приведенном выше высказывании, — новая
действительность, не совпадающая ни с официальной, ни с блатной, ни с
более условной — сиречь «литературной» — речью? Неужели это так
безоговорочно-серьезно — серьезно, как движение бедного
маленького Ганно Будденброка, подводящего черту под своим родословием:
больше ничего не будет! (?)
Д<*р
Обострим вопрос, вспомнив то, что О. Э. Мандельштам — мысль
которого, как и поэзия, были важной составной частью духовно-
идеологической ориентации Аверинцева, — писал о судьбах русского
речевого сознания и речевого мышления. Писал в решающий для
современного исторического опыта, для наук исторического опыта
и, в частности, для русской филологии момент «столетнего
десятилетия» 1914—1923 гг., по выражению Е. Замятина (1924).
Возраст речи
521
Как известно, автор статей «Петр Чаадаев» (1915) и «О природе
слова» (1922) утверждал, что Чаадаев, вынесший своей стране и
народу исторический приговор, тем не менее
упустил одно обстоятельство, — именно: язык.
Не тексты сами по себе, — так можно пересказать-передать ман-
делыытамовские мысли сегодня своими словами, — но поразительно
живой и свободный, в условиях несвободы и почти отсутствия
исторической жизни, язык есть «дар русской земли», тождественный ее
«свободе». В языке и почти только в нем еще удерживается
непрерывная память будущего как историческая перспективау если не
обетование, национальной общности. И это — в условиях
перманентного разрыва преемственности и утраты общего языка в обществе и
научном сообществе.
Но ведь такая свобода (плохо совместимая с нашими
представлениями о «свободном Западе» и уж тем более неуместная с точки
зрения «political correctness») реально является не исторически
созревшей институциализированнои культурой, о которой всегда
мечтали у нас с оглядкой на Запад лучшие русские мыслители-
интеллигенты, от Чаадаева до Аверинцева. Нет, «дар русской земли»,
если его не эстетизировать, — иного рода. Что же это такое? — Этот
дар, — отвечает нам Мандельштам из «столетнего десятилетия», —
оказывается стихией —
грозной и безбрежной стихией русской речи, не вмещавшейся ни в
какие государственные и церковные формы.
Почему и не адекватная рациональному Западу
рационалистическая российская оппозиция этой стихии, — как «западническая», так
и «почвенническая», как «сверху», так и «снизу», — не могла не
тяготеть у нас либо к государственным, либо к церковным формам, либо к
достаточно одиозному, «византийскому» синтезу этих форм.
В этом пункте я не вижу никакой возможности разделить или
хотя бы проследить мысль С. С: впечатление такое, что его мысль
здесь остановилась и затаилась, как бы попала (попалась) в
коммуникативный тупик. Там, где Мандельштам делает выбор,
пореволюционный и постсимволистский, — выбор, связанный с дилеммой
гуманитария, о которой, как мы помним, так красноречиво будет
писать его духовный восприемник семьдесят лет спустя, — можно
уловить нерешительность внука, отворачивающегося в тоске, как это и
522
Раздел второй. Рассечение
предвосхитила Ахматова своей поэтической памятью будущего.
Поэтому, вероятно, статья о филологии в «Краткой литературной
энциклопедии» (1972) заканчивается, как мы помним, взрывом во всех
измерениях, после которого как бы не следует ничего: дальнейшее —
молчанье. (Метафору «взрыва», по-новому актуальную, два
десятилетия спустя подхватит Ю. М. Лотман.) Аверинцев молчит и
переводит взгляд — вместо того чтобы разделить, додумать и обновить
набросанный не столько в стихах, сколько в статьях Мандельштама
первой половины 1920-х гг. грандиозный по мысли контур новой,
постсимволистской символизации слова и культуры —
символизации, в центре которой не тезис «культуры» и не антитезис «стихии»,
а нечто принципиально иное. Так, в статье «Буря и натиск» (1923)
читаем:
Архаика Вячеслава Иванова происходит не от выбора тем, а от
неспособности к относительному мышлению, то есть сравнению
времен.
Это — тот пункт, с которого на Западе (прежде всего — в
Германии, отчасти и в России) начиналось в «столетнее десятилетие» так
называемое новое мышление, то есть, собственно, смена философско-
гуманитарной парадигмы — событие, вне которого не могут быть
адекватно поняты ни Хайдеггер, ни Бультман, ни Бахтин, ни
современная герменевтика, ни даже русский формализм, ни, как сказано
в прологе романа Томаса Манна «Волшебная гора» (1924), «столько
многое, что потом оно уже не переставало начинаться».
У О. Мандельштама, правда, все это набросано с «поэтической»
необязательностью и фрагментарностью, включая и такой
специфически «русский» сюжет или ход мысли, который можно назвать
филологическими «Вехами», анти-интеллигентскими и анти-веховскими.
Вспомним еще раз статью о Чаадаеве:
Первые интеллигенты — византийские монахи — навязали
языку чужой дух и чужое обличие (...) всякая интеллигентская
словесность, то есть «Византия» — реакционна.
По мысли Мандельштама, подлинная перспектива русской
исторической жизни в будущем определится — в контексте
преодоления «запоздалого вида наивного западничества», еще более
интеллигентски-глухого к миру жизни и языка, чем даже
почвеннические стилизации под старину, — будущей борьбой русского языка с
Возраст речи
523
«монашески-интелигентской Византией» («Заметки о поэзии», 1923),
с «монашеской глухотой не от мира сего» (персонально о М. Шагинян
в очерке «Шуба»); отсюда и требование «последовательного
обмирщения» культуры, «библии для мирян», преодоления
«профессионального», «литургического» символизма и т. п. — Что, этого всего
Мандельштам не напророчил?..
Или все же Аверинцев прав, и на повестке дня уже не ловкие
легкие деконструкции «сталинизма» и «тоталитаризма», но,
действительно, — вопросы, которые не решаются, а заново ставятся крахом
тоталитаризма?
Специальный анализ мог бы показать, каким образом мандель-
штамовские культур-критические концепты, с одной стороны,
«филологии», с другой стороны, слишком стихийного «дара русской земли»,
преломись в постсоветское десятилетие в очень осторожной и
продуманной, но имеющей свои актуальные «шоковые» резоны полемике
вообще-то не очень склонного к полемике Аверинцева — и с
Мандельштамом, и с Достоевским, и с Бахтиным, возможно, и с В.
Набоковым (как автором романа «Дар»), как до этого с прежде любимыми
Г. Гессе, Т. Манном, Честертоном, но, главное, — с самим собой, самим
собой.., а значит, не риторически.
Что это было?
Владимир Николаевич Турбин рассказывал в мае 1992 г. не без
некоторого пафоса, что вот он на днях, по его словам, принес
персональное извинение Сергею Аверинцеву за то, что в МГУ, где Турбин
проработал почти всю жизнь, чуть не за полвека до того С. С.
«завалили» на вступительном экзамене, потому что абитуриент не читал
«Поднятую целину» Шолохова (Турбин, если я верно запомнил, был
среди экзаменовавших).
Что до В. Н. Турбина, то он, похоже, и этим своим поступком за
год с небольшим до смерти остался такой же «белой вороной», какой
всегда и был в глазах своих вечных, но, к счастью, земных и смертных
МГУшных коллег. Что же до самого Аверинцева, то он, как известно, в
советской средней школе по болезни как бы и не учился —
обстоятельство немаловажное, хотя, возможно, и не такое однозначное, каким
оно кажется сегодня некоторым. Но дело даже не в этом. К 1992 г., так
сказать, все давно поумнели; советское прошлое слишком поздно и
слишком легко стало объектом критики и официального «покаяния».
Реальная историческая память снова вытеснялась утопией — на этот
524
Раздел второй. Рассечение
раз, что называется, с точностью до наоборот: посредством критики
«утопизма», в действительности давно мертвого, но когда-то ведь
живого, а значит, не равного себе, не совпадающего с собою же, со своею
смертной исторической плотью в малом времени. (Вопрос о вечном
утопическом элементе в человеческом сознании и мышлении — один
из тех вопросов, которые не решаются, а заново ставятся крахом
тоталитаризма.) Мой старший товарищ по жизни, выпускник
филфака МГУ, иногда вспоминает, какое диковатое впечатление
производил Аверинцев в студенческие годы своим «допотопным» видом,
какими-то нелепыми галошами и проч. Над ним подсмеивались
студенты, увлекавшиеся «Треугольной грушей» А. Вознесенского или
книгой В. Н. Турбина «Товарищ время, товарищ искусство»: это не
так просто, как может показаться с сегодняшней мнимой высоты
новой мнимо победоносной современности.
Время, представьте, еще могло быть товарищем и на
официальном, и на неофициальном уровне, а искусство могло быть
товарищем времени, доверявшим своему товарищу. (На этот
исторический момент — еще «до Хемингуэя», — пришлось и опоздавшее на
десятилетия, но тем более удивительное советское переживание
«гениальным русским читателем», — по выражению из набоковского
«Дара», — «Трех товарищей» Ремарка; переживание, замечательно
описанное впоследствии, конечно, не Аверинцевым, но его
сверстником А. Г. Битовым.) Но тогда что это было — то время, в
котором С. С. не мог, по-видимому, не ощущать себя самого немного
маленьким Ганно из юношеского романа Томаса Манна об «истории
гибели одного семейства»? Ни герой, ни сам автор этого романа не
знали, в отличие от не читавшего «Поднятую целину», перманентной
угрозы провалиться на советском экзамене жизни в тартарары — той
«пограничной ситуации» не по Ясперсу, которую С. С. попутно
назовет в статье о Шпенглере (1968) кошмаром обессмысливания всех
смыслов за рамками партикулярного социума (латинизируя
дискурс и словно отодвигая подальше от себя то, на что этот дискурс
указывал ближайшим образом).
Советская метафизика истории, советская духовность была по
своей идее, по своему пафосу естественно-научно-технической
духовностью, физически преобразующей, перемалывающей,
вымывающей в грандиозной «каторжной бане» весь мир естества — ради
чудесного, как бы уже реального «прыжка веры» самотеком
технического прогресса из царства необходимости, из «проклятого
прошлого», из «предыстории человечества» в новый мир, в «светлое
Возраст речи
525
будущее» освобожденного труда всех на благо всех. И до второй
половины 1960-х гг., — сегодня в это верится с трудом, — объективной
духовно-исторической тенденции (идеалу социализма) просто нечего
было противопоставить в общественном сознании ни у нас, ни на так
называемом прогрессивном Западе; как нечего и сегодня
противопоставить СМИ, неолиберальному цинизму и опоздавшему на века
нашему светлому капиталистическому будущему. Советское общество,
уже давно создавшее тип филистерства, основанного на
революционной фразеологии, не совсем заблуждалось, когда полагало,
что показывает путь остальному миру. Еще на рубеже 1950—60-х гг.
шансы построения коммунизма в отдельно взятой стране могли
казаться сомнительными, но не вовсе безумными и
смехотворными. (Вспомним, что отец Аверинцева, биолог, который родился
в 1875 г. и который с гимназических дней помнил наизусть оды
Горация по-латыни, был, по воспоминаниям сына, глубоко убежден в
неизбежности победы советской русской идеи во всем мире, хотя он
непатриотично и непрогрессивно сожалел об этой победе.) История
философии, по существу, заканчивалась там же, где она вероучи-
тельно и начиналась как с точки отсчета, — не безупречными
избранными переводами Гегеля-Маркса и Лениным, а идеологически более
нейтральная и как бы интеллигентная научно-техническая
интеллигенция, до поры до времени уверенно смотревшая в лицо будущему,
была в авангарде «бэконовской эпохи» с ее культом естествознания
и техники, с ее бэконовским же девизом начала XVII в.: «Знание —
сила» (но, конечно, без критики Бэконом «идолов познания»). А на
классическом отделении МГУ, которое избрал для себя С. С, был
отнюдь не Φ. Φ. Зелинский и даже не Лосев, а милейший С. И. Радциг,
которого насмешники-студенты спрашивали: «А вы современных
писателей, Сергей Иваныч, читали?», на что почтенный профессор
отвечал: «Как же, читал. Этого... Дрейзера... ». В 1960 г., когда в Западной
Германии вышла в свет книга Гадамера «Истина и метод» с ее
герменевтической философией гуманитарных наук, у нас спорили в газете
о «физиках» и «лириках», но многие имели представление об
Эйнштейне и даже о Витгенштейне, и структуралистская программа
литературоведения, которое «должно быть наукой» (то есть «точным», как
якобы естественные науки), в Тарту и в Москве уже созрела. О Хай-
деггере или Бубере, о Ясперсе или Кьеркегоре, не говоря уж о Шпете
или Бахтине, не знали потому, что о них еще «не было причины» ни
знать, ни сожалеть об этом незнании. Сегодняшние наши философы
и богословы старшего поколения (собственно, «шестидесятники») по
526
Раздел второй. Рассечение
своему базовому советскому образованию чаще всего — физики,
математики, химики, биологи. Базовое образование осталось базой и
после того, как у нас, еще радикальнее, чем на Западе (но, понятно,
без особых дискуссий) произошла — в 1970-е гг. — «постмодерная»
духовно-идеологическая переориентация: советская метафизика
истории, стихийно и неофициально, «погасла в уме».
Не то Аристотель, не то Аверинцев
Вот тогда и настал исторический звездный час нашего автора, как
новое русское чудо. Поэт с головой ученого — вот кто нужен был
времени: эти слова С. С. о Ломоносове в какой-то мере созвучны и
сопоставимы с той объективной «нуждой» (чтобы не сказать —
«исторической необходимостью»), которая стала условием возможности
позднесоветского феномена, имя которому — С. Аверинцев.
Кайрос филологии, не будем забывать, совпал с глубочайшим
потрясением советского сознания — советского^ потому что другого уже
не было. (Во внутрицерковном диссидентском шестидесятничестве,
например, с которым у С. С. были не случайные контакты, сегодня
особенно бросаются в глаза последствия утраты языка в самом
притязании на «диалог» с официальной церковью.) Окончательное
идеологическое рассечение внутри советской общности произвел, как
известно, 1968 г. (...могло казаться, что Дубчек противоположен
Сорбонне, но на деле это было одно настроение); режим, для того чтобы
выжить, должен был на деле похоронить уже не только идею
коммунизма, но даже достоверность социализма — программы-минимума,
которая, что ни говори, когда-то привела его к власти и долго
позволяла себя эксплуатировать. Взлет историко-филологической
культуры 1970—80-х гг. теоретически отделим, но исторически неотделим
от стихийного распространения в «самиздате» и Солженицына, и
смехового дублера общественного потрясения — нашего советского
Рабле — «Москвы—Петушков» Вен. Ерофеева (1969). Тоже филолог
Венечка, уже после своей кремлевско-кафкианской смерти в
финале книге, даст в эссе о Розанове (1973) свое выражение не
случайному совпадению научного, писательского и катехизаторского взлета
Аверинцева с бесшумно-оглушительным падением общественно-
политического тела второй (кремлевско-советской) империи из еще
не так давно захватывавших воображение космических далей, с высот
«большевистского неоплатонизма» (как выразился однажды Федор
Степун) — на землю, в землю с ее десятью небесами:
Возраст речи
527
Не помню кто, не то Аристотель, не то Аверинцев сказал: «Omnia
ammalia coitum opressus est», то есть «каждая тварь после соития
бывает печальной», а я вот постоянно печален, и до соития, и после.
Еще лучше этой позднесоветской «тварной» самоиронии и
самопародии распространившееся в 1970-е гг. неофициальное
умонастроение, на фоне которого тянулось официальное время, передает
словосочетание из написанной за полвека до того, после краха Первой
империи (петровско-петербургской), никому не известной тогда книги
Л. В. Пумпянского о Гоголе и гоголевском смехе (1924): «обман исто-
ризированного самолюбия». Освобождение от этого обмана, в
соответствии с которым «мы впереди планеты всей», освобождало
историческое прошлое для исследования и более свободной оценки, но само
по себе не возрождало того смыслового единства времени, которое
прежде давал (хотя и иллюзорно) утопизм или тоталитаризм; чувство
освобождения не было чувством свободного человека и неизбежно
сопровождалось «постоянной печалью». Все это отзовется потом, —
сейчас, — когда недолгая (как после февраля 1917 г.) эйфория
внешнего освобождения постепенно сменится новым онемением картины;
Аверинцев чутко подведет итог уже в сентябре 1991 г. (в
«Литературной газете»):
...наступила кульминация сахаровского периода в нашей
истории, кульминация, которая одновременно не могла не быть
завершением.
Расцвет позднесоветской филологии был, по выражению С. С. в
интервью 1999 г., подъемом от противного. «Чем труднее наука, —
писал А. В. Михайлов в статье об Аверинцеве (1991), — чем больше
затрат сил и средств на ее освоение, тем серьезнее — в наших
условиях — ученый» (курсив мой. — В. М.). Может быть, поэтому в
период так называемого застоя — в гуманитарии застоя скорее не было;
застой и распад начались с концом застоя, когда концовка «Москвы—
Петушки» — «.. .с тех пор я потерял сознание, и никогда не приду», —
как бы вырвалась из текста в онтологически-событийный затекст
сдвинувшейся и потом рухнувшей Второй империи. Но вместе с этим
крахом перестала существовать и филологическая ниша последних
советских десятилетий. Филология, более или менее приспособившаяся
к жестким, но и серьезным условиям игры, выработавшая свою не
лишенную игривости и манерности риторику анти-игры, вдруг зависла
в снова и по-новому распавшейся связи времен исторического опыта.
528
Раздел второй. Рассечение
А это сразу обнаружило-овнешнило более глубокую
несамодостаточность, ино-научную зависимость гуманитарно-филологической
деятельности от других сфер исторического опыта и форм знания. Не
утрата экономического базиса (как в научно-технических отраслях
и областях), но утрата исторической перспективы, которая является
подлинным ориентирующим «базисом» (собственно, условием
возможности) гуманитарно-филологической деятельности, — вот что,
похоже, привело к гуманитарной катастрофе гуманитарных наук.
Катастрофе, когда, скажем, литературоведение, с огромными усилиями
и потерями добившееся в XX в. статуса самостоятельной и
престижной дисциплины, как бы вдруг сделалось в постсоветских
условиях (у нас и на Западе) чем-то неполноценным и несамодостаточным
в глазах самих же литературоведов; внешнюю утрату внутреннего
оправдания пытаются компенсировать сегодня такой духовностью
или — с точностью до наоборот — такой научностью, что становится
ясно: здесь потеряли сознание, и никогда не придут...
В этих условиях резко овнешнилась старая и вечная тень
филологии, а равно и духовно-историческая изнанка позднесовет-
ского парадокса, о котором шла речь. Эта тень и эта изнанка
филологии — «филологизм». Для того чтобы сделать карикатурного
двойника филологии предметом корректной и полезной для самих
филологов критики (критики не «против», а «за»), целесообразно не
забыть, а, наоборот, обновить более традиционное, чем традиции и
мода нашей современности, представление о своеобразном и незаме-
стимом месте филологической науки в рамках содружества
гуманитарных наук; это позволило бы, при удаче, возобновить исконное и
«хорошо забытое» понимание филологии как принципа, если не
символа, скрепляющего это содружество (участником которого когда-то
была и философия).
Служба понимания
Сильная сторона гуманитарно-филологической деятельности —
работа с текстом, продуктивная вторичностъ филологии как службы
понимания, согласно известному определению Аверинцева.
Филология не самоценна, не автономна: она служит тому, что
исторически уже воспринято и авторитетно в культурном сознании,
но именно поэтому должно быть понято точнее % строже и лучше, а
при удаче — в чем-то по-новому. Филология — как и гуманитарное
познание в целом — открывает новое не в «новом», а, наоборот, в
«старом» и «древнем», неизвестное и непонятное — в общеизвестном
Возраст речи
529
и само собой разумеющемся. Аверинцевское наблюдение по
конкретному поводу: Все знают, что такое катарсис по Аристотелю,
кроме специалистов по Аристотелю — в действительности рас-
пространимо на все, включая науку, области исторического опыта
мира жизни и фиксирует отнюдь не скандальную, а совершенно
нормальную ситуацию, проливающую свет на бесконечную задачу
филологической науки (как и всякой науки) внутри исторического
опыта человеческой «конечности». Исторический опыт,
действительно, имеет мало общего с «концепциями» и даже с вошедшими
сейчас в моду «концептами», вообще — с «Konsruktionen», как
выражался Вильгельм Дильтей (1833—1911), инициатор современной
философии исторического опыта. Но, удержанный в тексте, опыт
не сводится и к «тексту», на чем настаивает вся современная
философия исторического опыта и наук исторического опыта, от Дильтея
и Гуссерля до Гадамера и Бахтина. Именно здесь, как мне кажется,
проходит тонкая и деликатная граница, отделяющая филологию от
филологизма.
Аверинцев, как мы помним, предостерегает исследователей-
гуманитариев от безразличного, тем более «остраняющего» взгляда
со стороны — взгляда издали. В мире науки, как и в мире
общественной жизни, такой взгляд давно потерял, как сказал бы
Мандельштам, «культурную ренту»; он существует сегодня коньюнктурно
и паразитарно не как полноценная позиция, но как
идеологизированная оппозиция, оправдывающая себя разоблачениями
собственного двойника — такой же лживой, но «обратной», или
«противоположной», оппозиции... С. С, конечно, прав; но если присмотреться
к его собственному дискурсу, можно заметить, что, критикуя, так
сказать, «паразитирование на вненаходимости» в гуманитарно-
филологической деятельности, он, как правило, имеет в виду то,
что ему как специалисту ближе, — далекое прошлое. И не вообще
прошлое, но «культуру». И не вообще культуру, но так
называемую духовную культуру в ее отличии от так называемой
материальной культуры. Дальнозоркость, однако, не гарантирует, а
нередко и стимулирует близорукость. Понимание, даже гениальное,
может страдать односторонностью не только от естественного
страха перед миром, в котором живешь; служба понимания сужает
свои возможности в особенности там, где над нею довлеет традиция
жесткой иерархии ценностей — иерархии, отделяющей «Республику
Платона» от прочей публики, священный досуг свободных,
избранных греков — от «нечистот города Ромула». (К этим чуждым
530
Раздел второй. Рассечение
чистоте культуры нечистотам относится, например, печальный
контраст между известным демократизмом высших и низших чинов в
немецко-фашистской армии и варварской иерархией нового
средневековья в советской.)
А между тем во всяком историческом опыте (все равно — древнем
или современном) бинарные оппозиции вроде: «культура» / «жизнь»,
«духовное» / «материальное» — относительны: они отражают
самоотчуждение сознания и самой культуры в мире жизни; с этим связан
и склероз исторической памяти. Аверинцев неоднократно называл
себя в интервью кабинетным человеком: дело не в том, что это
не совсем так, а в том, что в некоторых важных случаях это совсем
не так — нюанс, или парадокс, который займет нас ниже. Тем не
менее, если, читая, к примеру, написанное уже в Вене эссе «Моя
ностальгия» (1995), вы почувствуете неприятную неоднозначность
впечатления — противоречие между силой уже зрелого, полного, почти
художественного писательского дара, с одной стороны, и некой
ущербностью взгляда вблизи, но издали, с другой стороны, то здесь
есть о чем задуматься. Автор эссе и сам задумывается:
Проблема, конечно, не в том, как ставить Вагнера. Проблема в
том, как жить.
Да, конечно. Но именно поэтому проблема в том, как ставить эту
проблему. То есть, собственно, каким общным языком сегодня
говорить и обсуждать общие проблемы не в «своем» кругу и не перед
зрителями, пришедшими поглазеть не то на Аристотеля, не то на Аве-
ринцева,чтобы «приобщиться»... Ведь «ностальгируя» — хотя бы и в
высшем смысле, на который с первых строк претендует автор эссе, —
он архаизирует (а тем самым стилизует) реальную задачу, перемещая
проблему как бы в символистский салон и дискурс, словно на дворе
начало века, а не конец века. Это и есть «неспособность к
относительному мышлению» (Мандельштам): память прошлого — в ущерб
памяти будущего — «перетягивает одеяло» на себя, потому что условно
известное и понятное кажется надежнее безусловно неизвестного и
непонятного.
Всем знакомо это двойственное впечатление от аверинцевского
слова: трудно не почувствовать, что речь идет о чем-то подлинном,
что говорит человек, не утративший вкус к подлинности, к чему сам
же и призывает; а между тем нас сковывает некая принципиальная
условность: разговор невозможен. (В этом смысле понятно, почему
Мандельштам видел в «профессиональном символизме» измену
Возраст речи
531
«символизации», а символизацию считал не поэтическим и не
«литургическим», но прозаическим открытием символизма, вспоминая
персонажа Мольера, открывшего «на старости лет», что он говорит
прозой.)
Спор древних и новых
Известный немецкий филолог, литературовед и эстетик
венгерского происхождения Петер Сцонди (P. Szondi) (1929—1971) в своем
«Трактате о филологическом познании» (1962) выдвинул следующий
парадоксальный тезис: «Филологическое познание не может — ради
своего же предмета — съежиться до знания».
Характерно, что Сцонди сослался при этом не на
филологический авторитет: современную филологию, особенно немецкую, он
резко критикует за формальный историзм, — а на знаменитое
определение философии в «Логико-философском трактате» Л.
Витгенштейна (1921): «Философия не учение (keine Lehre), а деятельность.
Философская работа, по существу, состоит из разъяснений
(Erläuterungen)». Вспомним в этой связи «спор древних и новых»: ведь это —
не только эпизод в истории эстетики и литературы, но и не просто
вечная тяжба «пассеистов» и «будущников» (как выражался О.
Мандельштам). Старый этот спор всякий раз по-новому символизирует
обоюдоострое напряжение внутри гуманитарно-филологических
«разъяснений» — напряжение между историчностью предмета
исследования и историчностью самого исследователя. Гуманитарно-
филологической деятельности постоянно грозит опасность
«съеживания», отпадения прошлого от возможного будущего,
соблазн изменить задаче познания — задаче понимания, которую
патриарх классической филологии Ульрих фон Меллендорф еще видел
в том, «чтобы силой науки вновь придать жизненность прошедшей
жизни» («История филологии», 1921).
Филологизм под этим углом зрения есть идеологизированный
отказ от такой задачи, сознательный разрыв внутри смыслового
единства времени и памяти — разрыв, обусловленный не только
специфической болезнью, неофициально именуемой «профессиональным
кретинизмом»; основания филологизма тоже всякий раз древние и
новые. Ведь проблема текста постольку выходит за пределы текста,
поскольку чужое слово предполагает чужое восприятие, которое
филолог должен воспринять сам и сделать воспринимаемым для других.
Современная философия исторического опыта именно здесь — на
границах текста — может хорошо послужить службе понимания.
532
Раздел второй. Рассечение
«Подлинная философия, — писал М. Мерло-Понти в
"Феноменологии восприятия" (1945), — в том, чтобы снова научиться видеть
миру в этом смысле рассказанная история может обозначать мир с
той же "глубиной", что и философский трактат». Современная
философия и науки исторического опыта снова научились видеть мир и
миры «древних» и «новых»; с этим связан и сугубо современный
феномен, который можно назвать «филологизацией философии» и
который включает в себя не только так называемый linguistic turn
(«поворот к языку»), но и поворот к восприятию (и, соответственно,
«прочтению») так называемых феноменов, к «герменевтической
фактичности» исторического опыта, говоря языком раннего М. Хайдег-
гера. На этом фоне особое значение, с точки зрения интересующей
нас здесь проблемы преемственности, имеет один аспект, с обычной
чуткостью указанный Аверинцевым — правда, в основном только
указанный.
Немецко-русская тема
Удивительно простая и точная аверинцевская формула
филологии по-настоящему преемственна в отношении тех традиций
русской научно-гуманитарной культуры XIX—XX вв., темой которых
была как раз «традиция» — передача как бы вневременных идей,
знаний, представлений и верований в реальном времени учителей и
учеников, отцов и детей, предшественников и современников, «бу-
дущников» и «пассеистов» и т. п. Имеются в виду такие и
философские, и филологические направления, которые в своем понимании
исторического опыта вышли за пределы спекулятивных конструкций
германского идеализма, как и идеологизированного марксизма, то
есть вышли за пределы религиозных или атеистических «философий
истории» и «историософии». Но именно такие тенденции и традиции,
естественно, подверглись наибольшей «раскорчевке» в советский век,
почти перестав быть реальной «передачей».
Такова в первую очередь сама парадигма «понимания» — традиция
герменевтики, внутри которой исторически сложилось подлинное
содружество гуманитарных дисциплин, в первую очередь — филологии
и теологии. В этой ретроспективе, я думаю, стоит вспомнить и
оценить перспективу, намеченную С. С. в заметке о выдающемся нашем
германисте Александре Викторовиче Михайлове (1938—1995). В
предисловии к первому тому трудов своего коллеги и друга, которое
называется «Путь к существенному» (1997), С. С. подчеркнул — ссылаясь
на славянофилов, Державина, Жуковского, Достоевского, В. Иванова,
Возраст речи
533
Бердяева, Лосева, Шпета и Бахтина — существенность пути языка
русской мысли в контексте диалога с Германией, немецко-русской
темы. Почему эта тема казалась Аверинцеву такой важной? И почему
он сам, в известном смысле, выбрал другой путь?
Отвечая на первый вопрос, отметим два обстоятельства. Во-
первых, в России язык научных понятий и представлений, даже
система образования в значительной степени — немецкие-, все это
наложило сильный, почти решающий отпечаток на наше историческое
чувство и мышление; здесь же, по-видимому, проходит и основной
духовно-идеологический противовес тому, что тот же Мандельштам
в той же статье о Чаадаеве называет (вспоминая Л. Толстого)
«великой славянской мечтой о прекращении истории в западном смысле
этого слова». Во-вторых, занимающий нас в связи с будущим
филологии существенный, магистральный мотив аверинцевской мысли —
проблематика совершеннолетия (и, соответственно,
несовершеннолетия) исторического опыта в науках исторического опыта — имеет
особое отношение к германскому духу. Дело не только и не просто
в философском гении немецком, но в особых взаимоотношениях
его с «историей» в западном смысле этого слова. Упоминавшийся
В. Дильтей не чванился, но констатировал важную истину, когда
писал в своем «Введении в науки о духе» (1883), что «германский дух,
в отличие от духа английского или французского, живет сознанием
исторической преемственности (...) Отсюда историческая глубина
германского духа, в котором минувшее выступает как момент
сегодняшнего исторического сознания».
Перед нами, кстати, отличное определение преемственности,
которая — в отличие от съеживающегося филологизма — не замыкает
исторический опыт ни в «текст», ни в «традиции», но размыкает
реальные традиции в затекст незавершенного события сегодняшнего
исторического сознания. «Филологизм», разумеется, возразит на это,
что подобный образ мысли чреват модернизациями. Ведь только
этим аргументом против односторонности «новых» он оправдывает
право на собственную односторонность «древних»: это, повторимся,
не позиция, но оппозиция, паразитирующая на оппонентах, — симу-
лякр от противного. И это — после всего того, что произошло в
советский век, после того, как Мандельштам напророчил:
Какая-нибудь вражда классиков с романтиками — детская игра
по сравнению с разверзнувшейся в России пропастью (...) к
величайшему сожалению память и депо быстро разошлись, не пошли
534
Раздел второй. Рассечение
рука об руку. Будущники и пассеисты очень быстро очутились в
двух враждующих станах.
В недавнем прошлом, к величайшему сожалению, произошло то
же самое, по замечательному русскому выражению, как ни в чем ни
бывало. И это несмотря на то, что все уже по-другому: для нас и
антитрадиция уже традиция, по остроумному наблюдения С. С.
Но именно поэтому научно-гуманитарную традицию нового
понимания самых древних традиций у «этих немцев» (как
проникновенно выразился А. Ф. Лосев в «Очерках античного символизма и
мифологии», 1930) не стоит отождествлять с иррационализмом,
фашизмом и т. п. одиозными вещами. Вспомним в этой связи знаменитую
герменевтическую формулу филологии ученика Вольфа и Шлейер-
махера Августа Бека (1785—1867) — «познание познанного»
(«Erkenntnis des Erkannten»). Если не ошибаюсь, последним, кто вспомнил
Бека в советский век, был Г. О. Винокур как автор курса лекций
«Введение в изучение филологических наук» середины 1940-х гг.
(естественно, не напечатанного в свое время). Для энергичного коллеги
и родственника Винокура Р. О. Якобсона, оказавшегося на Западе,
лингвистика, ради собственного будущего сбросившая с корабля
современности ненужный балласт цельной филологической традиции,
и вовсе не нуждалась уже в такой памяти, как не нуждалось в ней и
литературоведение, по мнению авторов нашумевшей в середине
прошлого века американской «Теории литературы» Уэллека и Уоррена.
Но и в истории науки, как и в истории мира жизни, «минувшее
выступает как момент сегодняшнего исторического сознания»; говоря
более стихийным и понятным нам языком: «всё до поры до времени».
Филолог продуктивно вторичен постольку, поскольку познает
не «из принципов», то есть не «изначально», но «культурно», то
есть опосредованно и «сызнова» (как переводит-передает Винокур
А. Бека). Отсюда запоминающееся утверждение Бека в его посмертно
изданной учеником «Энциклопедии и методологии филологических
наук» (1877): φιλοσοφείν («философствовать») может и
необразованный народ; но такой народ не может φιλολογεΐν («заниматься
филологией» или «любить слово»). Г. Г. Шпет приводит эти слова в своем
исследовании «Герменевтика и ее проблемы» (1918),
переосмысливая мысль Бека в направлении новой парадигмы «наук о слове»
и «самостоятельного логического значения филологии» — задолго
до того как Бека в упомянутом курсе процитирует Винокур, коллега
и ученик Шпета по ГАХН 1920-х гг., естественно, не упоминавший
Возраст речи
535
расстрелянного Шпета. (Пересказ-переложение бековской
«Энциклопедии...» П. А. Аландский, как известно, опубликовал в Киеве уже
через год после первого издания ее, отдельным оттиском — в 1879 г.).
Обращение к инонаучным основаниям исторического опыта
позволило в прошлом столетии научно переоткрыть и «заново
прочитать» (как это в XIX в, наметил еще Кьеркегор в конце
«Заключительного ненаучного послесловия к "Философским крохам"»)
европейское прошлое в качестве незавершенного, способного по-новому
отвечать на вопросы современности. Так Хайдеггер и Гадамер
перечитали и переоткрыли Аристотеля, Гадамер и Бахтин —
платоновский диалог, Бубер — хасидизм, Розенцвейг и Бубер — Ветхий Завет,
Карл Барт и Бультман — Новый Завет, Э. Ауэрбах — Данте и
Евангелия, приятель и собеседник Розенцвейга немецко-американский
христианский мыслитель Ойген Розеншток-Хюсси (1888—1973) в
своей «автобиографии западного человека» — «из революции
выходящее» европейское сознание от так называемой папской революции
XI в. до русской революции XX в., А. А. Ухтомский (формулируя
теорию «хронотопа») — средневековый спор реализма и номинализма,
Бахтин и канадский литературовед Нортроп Фрай — неклассический
античный жанр соответственно «мениппеи» и «анатомии», Флоров-
ский в «Путях русского богословия» — тупики эстетических
«прельщений» и отдаленную перспективу (с ссылкой на книгу Бахтина о
Достоевском) русской духовно-идеологической истории и так далее. В
этом смысле Э. Ауэрбах писал в статье «Филология мировой
литературы» (1952) о «кайросе понимающей историографии», то есть о
ренессансе исторической памяти первых десятилетий двадцатого
столетия. А Г. П. Федотов (историк-медиевист по специальности) гораздо
раньше (1926) начинает вышеупомянутую статью «Трагедия
интеллигенции», актуальную для русского исторического самосознания
преемственности вплоть до сегодняшнего дня, с парадоксального тезиса
о «счастливой позиции», в которой оказалась русская понимающая
историография постсимволистской и пореволюционной, но не
советской формации: «Мы, современники революции, имеем огромное,
иногда печальное преимущество — видеть дальше и зорче отцов,
которые жили под кровлей старого, слишком уютного дома. (...)
Наивным будет отныне все, что писал о России XIX век, и наша история
лежит перед нами, как целина, ждущая плуга». Но правильно ли тогда
завершать историю содружества гуманитарных наук взрывом во
всех измерениях, как, по существу, завершил Аверинцев свою статью
«Филология» в «Краткой литературной энциклопедии»?
536
Раздел второй. Рассечение
Дурная память
У нашего автора есть, среди прочего, такая статья: «Образ
античности в западноевропейской культуре XX века» (1979); в ней
изображается разрушение этого образа на гниющем Западе, то есть
разложение «классического» гетевско-винкельмановского взгляда на
античность — у Шпенглера, позднего Хайдеггера, у Г. Бенна, вообще
больше у поэтов, чем у философов. Статья заканчивается следующей
как бы оговоркой:
Наряду с этим история XX века являет немало попыток
наполнить классический идеал новой жизнью, заново осмыслить и
обосновать его, дать ему место в рамках новой системы. Но
попытки эти — уже тема для другой работы.
Снова уместен, по слову самого С. С, переспрос: где эта другая
работа?
Где статья, где книга, которая «явила» бы подлинную и опасную,
действующую силу античного наследия в истории в особенности
новоевропейского восприятия «античного идеала», а с другой
стороны — новые возможности хорошо забытого античного мышления,
не «задействованного» утопизмом Нового времени? Почему Аве-
ринцев ничего не говорит о позитивной и продуктивной оценке
разрушения античного и новоевропейского гуманистического «идеала»,
например, у Романо Гвардини (не говорит, по существу, даже в своих
комментариях к книге этого немецкого философа и теолога «Конец
нового времени», 1948, посвященной именно этому сюжету)?
Дело даже не в том, что «другая работа» осталась ненаписанной
ни в 1990-м, ни в 2000-м году, когда невозможность разделить
напряжение современных немецких мыслителей и ученых уже нельзя было
объяснить всеоправдывавшей ссылкой на «тоталитаризм». Печально
другое: упомянутая лакуна в наследии Аверинцева слишком
сказалась на избранном им пути, особенно в последнее десятилетие, когда
исходившая поначалу от С. С, причем в мирском и научном контексте,
«благая весть» сменилась — по мере все большего перевеса в сторону
«духовных» сюжетов и «апологетических» по жанру выступлений —
персональными благими пожеланиями и не очень удачными
набегами на почти брошенное духом времени литературоведение.
(Вспоминаю замечание, обращенное А. В. Михайловым ко всем
находившимся в тот момент в его секторе теории ИМЛИ. Дело было в 1993
году; точно процитировать не могу, но язвительность тона и смысл
Возраст речи
537
замечания я запомнил очень хорошо: надо, знаете ли, наукой
заниматься, а не тем, чем вот занимается теперь Аверинцев...). Каждый,
разумеется, вправе заниматься, тем, что ему ближе и дороже. Беда в
том, что «науки о духе» — содружество гуманитарных наук —
лишились в советский век адекватного современности сознания
исторической преемственности; это обрекло их на следование инертным,
анахроническим традициям XIX в. (см. в этой связи статью Г. П.
Федотова «Россия Ключевского», 1932). Не только «память» и «дело», —
«научность» и «духовность» так и остались после советского века
во враждующих станах. И сейчас это противостояние, естественно,
обострилось. Крах гегельянско-марксистской модели истории, на
которую опиралась «новая богословская школа», обернулся крахом
перспективы исторического будущего и в стане научности, и в стане
духовности. И это — на фоне дискуссий о «конце истории»
прогрессивной в прошлом западной интеллигенции (в основном бывших
марксистов и гегельянцев; можно вспомнить и влиятельного на
Западе беглеца из советской России Кожева-Кожевникова,
вычитавшего из Гегеля и русской революции знамение не начала новой эры,
а знамение наоборот). Утеря исторической памяти на этом фоне
достаточно реальна. Свято место пусто не бывает, и великая
славянская мечта о прекращении истории в западном смысле слова вновь
притязает на это место.
Стоило бы в этой связи разобрать строка за строкой блистательно,
как всегда, написанную миниатюру «Ритм как теодицея» (2001) —
почти символическое выражение того, что можно назвать (по
аналогии с «дурной верой» Сартра) «дурной памятью» — в отличие от
просто утери исторической памяти. В этой напечатанной в новом
«Новом мире» в не очень новой, но странной в своем анахронизме
рубрике «Борьба за стиль» перед нами на трех страницах — почти
вся история непереваренного исторического опыта советского
литературоведения — вплоть до гегелевской теодицеи: Das Ganze ist das
Wahre («Истинное есть целое»), но без гегелевской
последовательности: um so schlimmer für die Tatsachen («тем хуже для фактов»), —
последовательности, пережитой Россией, как говорится, «не по
Гегелю». Можно подумать, что С. С. забыл то, что сам сказал в 1987 г.,
обращаясь к студентам и к читателям журнала «Юность»: с Гегелем
страшно; теперь, похоже, страх перед тоталитаризмом сменился
страхом перед постмодернизмом. (В популярном сознании
страшилка «постмодернизма» заняла вакантное после краха
тоталитаризма место абсолютного зла.) Но никакой даже памяти о благой
538
Раздел второй. Рассечение
вести это несколько беспомощное благочестие, к сожалению, не
излучает. Здесь в более общей связи можно говорить о «трагикомедии»
интеллигенции после конца сахаровского периода ее истории; но
это — тема другой работы. Нас здесь интересует не общественно-
идеологическая, а научно-методическая сторона дела в связи с
проблематикой филологии и — негативно — филологизма. Насколько и
почему Аверинцев не свободен от фона исторического опыта, к
которому, однако, его самого редуцировать труднее, чем кого бы то ни
было из его сверстников и современников?
Филологизлл
Методически это — вопрос, с которого начинается монография
нашего автора о Плутархе: «автор» не понятен вне «фона» истории,
но и не растворим в нем. К тому же в отличие от большинства
современников, деградировавших после краха тоталитаризма, С. С, при
всем своем нездоровьи, продолжал расти творчески: уже не столько
как «гениальный русский читатель», сколько как религиозный
писатель, наподобие любимого им католика Ш. Пеги и нелюбимого им
католика Г. Кюнга...
Отмеченная «сильная» сторона гуманитарно-филологической
деятельности не гарантированна. Уязвимость филологии объясняется,
как можно заметить, двумя основными и взаимосвязанными
причинами. Во-первых, «вторичность» филологии может быть
продуктивной лишь в определенных условиях и до определенного
момента; вторичность остается вторичностью, и филолог чувствует
свои границы, стараясь избегать первичного, проблемного обсуждения
любого предмета, как и того донаучного, дотеоретического опыта
исторического мира, который мотивирует научное, художественное
и всякое иное творчество «изначально» — не в тексте, но, как мы
говорим, в «затексте» мира опыта. Ведь филолог получает и познает
свой предмет уже как-то до него «познанным» в прошлом, то
есть обработанным и оцененным — «образованным»; как только
незавершенная современность филолога (его историчность)
перестает влиять на его деятельность, исследование предмета
начинает подменяться эстетизацией его или концепциями, от
которых, как мы помним, Аверинцев предостерегал филологов. Во-
вторых, способ подхода к предмету (а не просто к «тексту») филолог
обычно заимствует как нечто само собой разумеющееся также и
от других, более первичных типов мышления — из философской
и духовно-идеологической культуры в целом (зачастую не столько
Возраст речи
539
современной, сколько традиционной). Парадокс так называемой
позитивной науки: чем более агрессивно она отталкивается
философии, тем больше, по словам упоминавшегося Г. Г. Шпета,
«она под видом собственных эмпирических обобщений повторяет
старые, в философии отжившие и потерявшие свое значение общие
воззрения и мнения». (Филолог М. Л. Гаспаров может, разумеется,
иметь собственное мнение, например, о философе Бахтине: это
мнение интересно и поучительно в своем роде. Но отжившее еще в
XIX в. представление о философии, которым он подкрепляет свое
мнение, относится не к предмету критики, но к самопониманию
критика и к такому исторически сложившемуся миру науки, в
котором это представление убедительно.)
Внутренние напряжения и трудности гуманитарно-
филологической деятельности как бы выходят на поверхность,
«овнешняются», когда служба понимания отказывает. То есть, с одной
стороны, когда она больше не служит пониманию (не питает его), а с
другой стороны, когда филология уже не довольствуется своим
служебным положением и «выходит из меры» (по выражению M. M.
Пришвина о позднем Л. Толстом). Аверинцев так изображает процесс
«самосуда», «анатомии», самокритики-кризиса культуры на своем
прилично отдаленном от собственной современности материале,
заканчивая книгу «Поэтика ранневизантийской литературы» (1977):
Разлад и распад высвобождают фундаментальное противоречие,
до поры дремавшее в основании цивилизации. Сдвиг и слом
обнажают для аналитического глаза скрытые структуры, и все
тайное становится явным.
Все тайное становится явным. Можно, оказывается, остаться «с
текстом», как с дыркой от бублика, если текст и содержащаяся в нем
историческая память не встречаются с современностью самого
исследователя и не узнают себя в ней и в нем как еще не реализованную
возможность, как память будущего. Дырку от бублика тогда надежнее
всего назвать вечностью, ссылаясь на христианство (хотя в Новом
Завете, кажется, нет слова «вечность»), либо ссылаясь на теорию
сорокалетней давности, которую не трудно, конечно, выдать у нас за
последнее слово западной научной мысли, но которая, как правило,
бессильна открыть и исследовать «вот эту» или «вот ту» конкретную
событийную фактичность текста (для «теоретика» безразличную).
Овеществленная и в этой своей овеществленности как бы увековеченная
540
Раздел второй. Рассечение
память прошлого в отрыве от возможностей будущего — это и есть
филологизм.
Сегодня филологизм далеко вышел за пределы филологии: это
уже не риторическое и теоретическое (как в 1960-е гг.), но
«атмосферическое» состояние и умонастроение беспредела «конца» (истории,
философии, литературоведения и т. п.) и «смерти» (автора,
человека, субъекта и т. п.). На самом деле, как представляется, мы
переживаем сейчас исторический момент конца разговора минувшего
столетия, как бы исчерпание всех его импульсов. О. Седакова,
собеседница Аверинцева (как и Вен. Ерофеева), запомнила
высказывание С. С: история не кончается, она кончалась уже множество
раз — отлично сказано! Но эта риторика, во-первых, не объясняет
сегодняшние тупики филологии, а во-вторых, не гарантирует, что у
этой филологии (а какой еще?), как говорится, есть будущее. Ведь
не только христианству, о чем писал Аверинцев, но и гуманитарно-
филологической деятельности, о чем С. С. писал куда меньше,
приходится всякий раз заново, — «кончается» история или «не
кончается», — доказывать свою жизнеспособность.
Еще раз: ...вопросы, которые не решаются, а заново
ставятся... — Извините: какие вопросы? Как ставятся? Кем ставятся?..
Сегодня мы видим, что вопросы как раз не ставятся, но как бы
решаются; теперь это называется «выживанием». В этом смысле
записанное и опубликованное покойным В. В. Бибихиным приватное
высказывание Аверинцева о глубоко уважаемом и ценимом им
коллеге: Гаспаров забил себя в коябу и с энергией, достойной лучшего
применения, стал выкачивать оттуда воздух — знаменательно как
указание именно на «воздух», на ино- или вненаучную социальную
атмосферу внутри науки самой. Филологизм, чувствующий
собственное самозванство, но тем более агрессивный, стал знамением и
воздухом времени.
Кармическая расплата
Этот воздух постсоветского времени не во всем, конечно, но
во многом оказался оборачиванием и радикализацией духа
советского времени — худшего в нем. Как определить это духовно самое
худшее, никого персонально не оскорбляя и постольку персонально
обращаясь не только к себе самому? Здесь, как и во многом другом,
Аверинцев, по-моему, остается настоящим учителем, готовым на
переспрос, особенно в последних своих попытках объясниться
с современностью.
Возраст речи
541
Едва ли не последние написанные им слова (после которых, как
сказано в редакторском примечании, «рукопись обрывается») — это
своего рода герменевтический диагноз начинающегося нового
столетия, не способного, как сильно опасается С. С, извлечь уроки
из собственного прошлого, из своего же исторического опыта (из
уроков истории никто не извлекает для себя выводов) и
обреченного за это на кармическую расплату:
.. .в нашу опытность, отовсюду нас обступающую, входят не
только опыт sensu stricto, опыт реальности как таковой, но и
отпечатки, напечатления особенно долго принимавшихся и
составлявших для поколений их «ноосферу» идеалов и идеологий,
императивных конструкций, на основании которых мы сами или наши
предшественники кого-то судили и выносили моральные
вердикты. Это кармическая расплата за созидание утопий, вовсе не
прекращающаяся с нашим отказом от идеологий.
О чем это?.. Аверинцев в своей апологии светского речевого
жанра, в котором религиозный философ обращается к духовной
жаждою томимой публике (Через столетие после кончины
Владимира Соловьева: Попытка защитительной речи, 2000) с
замечательным чутьем к практическим проблемам — чутьем, которое он,
кстати, с родственным вниманием подметил у «идеалиста»
Соловьева, — высказал поучительный прогноз. Да, «религиозная
философия», которой мы дышали и жили в советское время, — уязвима, и
сейчас это очевиднее, чем когда-либо; но если она исчезнет как
светский жанр, как общественный феномен, публика пойдет
удовлетворять духовную жажду в другие места.
Таков несколько устрашающий диагноз. Но, допустим, С. С. жив
и здоров и, вместо того чтобы преподавать русскую литературу в Вене
каким-то девахам, которые находили у него как преподавателя
серьезные недостатки (например, непонимание значения феминизма),
он продолжал бы и сейчас нести свет нашей все еще жаждущей
«прекрасного и высокого» околонаучной светской аудитории где-нибудь в
Пушкинском музее или Музее музыкальной культуры. Мой прогноз:
эффект был бы не очень большой; вся духовно-идеологическая
архитектоника бытия-события после краха тоталитаризма — совершенно
иная; сегодня в «вещающем» жанре уже ничего нельзя по-настоящему
сказать именно потому, что сказать или напечатать сегодня можно
что угодно. Нужно не вещать, а разговаривать, останавливаясь после
каждого предложения, чтобы другой мог переспросить. При таком
542
Раздел второй. Рассечение
условии можно рассчитывать разобраться и научиться — например,
читая вышеприведенный пассаж про кармическую расплату.
«Разобраться» не в смысле «разобрать» и «деконструировать», а научиться
для того, чтобы не согласиться — не тому, что другой не прав, а как раз
потому, что в чем-то он очень даже прав.
Мы видим, как в ситуации «конца разговора»
дискредитированы самые ответственные слова; слово «духовность», например,
уже почти исключает то, на что оно указывает; слово
«интерпретация» — знамение времени, за которым не задорная
западноевропейская шестидесятническая риторика «смерти автора», но
практический и самый доступный вывод из нее: «смерть автору!»; слово
«диалог» стало почти неприличным, хотя ни оно само, ни стоящие за ним
традиции, от «Афин» и Иерусалима» до прошлого столетия, в этом не
виноваты.
В своем вступительном слове к изданию «Православное
богослужение. Выпуск I» — богословско-филологическим попыткам
перевести каноническую традицию на живой русский язык — С. С.
писал (1999):
Концепт культового языка, совершенно неизбежный для
язычества, требуемый логикой иудаизма и ислама, Церкви чужд по
существу; ее подлинный язык — не горделиво хранимое свое
наречие, но речь, внятная спасаемым.
Сказано — блеск, но... Речь, внятная спасаемым: относится ли
это, например, ко всем приведенным выше цитатам об историческом
опыте и совершеннолетии versus несовершеннолетии? Публика,
конечно, — это публика; но и речь, внятная спасаемым, должна быть, с
одной стороны, публичной светской речью, с другой, не может не
учитывать — не правда ли? — дифференциацию и специализацию
интересов и языка у разных групп населения и публики, составляющих
«Церковь», видимую и невидимую. Аверинцев, очевидно, имеет в
виду в первую очередь следующие слова ап. Павла: «Кто говорит на
незнакомом языке, тот назидает себя; а кто пророчествует^ тот нази-
дает церковь» (1 Коринф. 14, 4).
Но если мы хотим все же извлечь для себя выводы из уроков
истории и немного достичь совершеннолетия с учетом опыта
реальности как таковой, то придется, наверно, признать, что
пророчествовать «пророческим» языком — дело не очень плодотворное; в
интеллигентском варианте это обрекает на изоляцию и сектантство,
Возраст речи
543
а в более популярном варианте, извините, — на погром. А между тем
апостол и Аверинцев, вероятно, оба правы.
Мне кажется, в последнем своем рассуждении об историческом
опыте и совершеннолетии человека в нем, речь идет о двух важных
вещах; правда, это скорее медитирующий текст, резко
индивидуальный и почти эзотерический, как «наречие», чем речь, внятная
спасаемым. Во-первых, С. С, по-видимому, имеет в виду «покаяние» как
предпосылку исторического совершеннолетия, то есть «перемену
ума» в условиях реальности как таковой. Очень внятно сказал о том
же сюжете, например, испанец Хосе Ортега-и-Гассет в эссе «Блеск и
нищета перевода» (1939):
.. .обрести историческое сознание и осознать себя как ошибку — это
одно и то же.
Христианская, хотя и светская речь, внятная гуманитариям. Еще
решительнее высказался поклонник Честертона О. Розеншток-Хюсси
в посвященном современности («русском») разделе своей
«Автобиографии западного человека» (1938):
Гуманитариям труднее изменить свои воззрения, чем верующим —
свою религию.
Во-вторых, императивные конструкции, довлеющие над нашим
сознанием и зачастую закрывающие от нас опыт реальности как
таковой, — это один из важнейших аспектов немецко-русской темы, о
которой говорилось выше. Достаточно назвать амбивалентное
переосмысление просветительского понятия «предрассудка» у Гадамера,
идеи «доминанты» и «хронотопа» у А. А. Ухтомского, концепт вне-
личных импульсов личного сознания — «императивов» в христо-
логии Розенштока-Хюсси, понятие «внутренне убедительного слова»
в философии языка, романа и «прозаической художественности»
Бахтина. Но если сказанное может послужить пониманию аверин-
цевской мысли, то, значит, есть основание не принять вывод о
кармической расплате. (Среди многочисленных анекдотов, которые
современники рассказывали о С. С, был такой: читает Аверинцев
лекцию по истории культуры; приходит записка: «Когда Вы
дойдете до Востока»; Аверинцев ответил: «Надеюсь, что никогда». Но
вот дошел...) Не вернее ли говорить об исторической расплате, а не
о кармической?..
544
Раздел второй. Рассечение
Нюанс
В разговоре об Аверинцеве и современных проблемах службы
понимания важно учитывать методический нюанс, который часто
грозит сделать разговор беспредметным и бесперспективным. Для
того чтобы стало понятно, что здесь имеется в виду, я процитирую
отрывок из письма коллеги, который вскоре после смерти С. С.
высказался о нем следующим образом:
...Будут про него писать слащаво-умилительно, а ведь его
творческая судьба не без трагедии (сознавал ли он ее?). В области визан-
тинистики — мы, невизантинисты, восхищались великолепной
риторикой и сухим блеском мысли. А профессионалы говорили о его
трудах (покойный ныне Я. Н. Любарский, у которого я на кафедре
работал, и другие) со скепсисом: «Не сказал ничего нового, нет
новых фактов» — у них фактология ценится. За рубежом жаловались:
невозможно перевести на другие языки. Как переводчик и сам поэт
он хотел занять в современной (или общеевропейской) культуре то
место, какое занимал в свое время Вячеслав Иванов. Прямая была у
него ориентация на ценности символистской культуры при ясном
понимании того, что ребята эти (символисты Серебряного века)
явно и избыточно заигрались; реальное (история) отмстила
«реальнейшему» (в средневековом смысле «реализма»). В результате, при
всей своей мировой известности, он так и прожил, изжил свою
одинокую аквариумную жизнь в окружении нянек-баб и пяти-шести
друзей (М. Л. Гаспаров, Ал. В. Михайлов), с которыми распевал за
пирушкой псалмы, — пугливым, закрытым, кокетливо
юродствующим (отвратительно!) на людях, мнимо самоуничижающимся и при
неизжитой внутренней гордыне, которая не могла не угнетать его,
если он и впрямь считал себя светочем православной мысли и
человеком христианского поведения. Боже, как грустно мне это писать. Я
не хочу сказать, что это зря прожитая жизнь, но смотрю я на уходы
Мамардашвили, Лосева, Турбина, Кожинова, псковского Славы Са-
погова (Вы его не знали, кажется), моих коллег по Питеру и в других
городах и весях (один за другим мрут, в основном — мужики), — все
они уравнены пред лицом неизбежного забвенья, какая бы
прижизненная «популярность» их трудов ни создавала им для них самих
ложное ощущение нужности людям и науке...
Можно даже поразиться этой характеристике, как бы случайно,
но тем вернее вплетенной в острое переживание судеб русской
культуры в прошлом, настоящем и будущем. Можно оспорить по пунктам,
Возраст речи
545
по строчкам, по словам едва ли каждое высказанное здесь суждение
и настроение. Еще можно не поражаться и не возмущаться, но
любоваться и восхищаться эстетическим блеском эпистолярного жанра,
который в России даже и сегодня, несмотря на компьютер и новое
тысячелетие на дворе, способен еще напомнить о том «даре русской
земли», о котором когда-то писал Мандельштам. И можно, наконец,
«развинтить» эту сильно эстетизованную характеристику, а с нею
вместе и всю «русскую эстетику истории», а значит, сам исторически
не вполне оправдавший себя «дар», вполне совместимый, как
оказалось, с глубокой несвободой, — деконструировать эту конструкцию
примерно так же, как талантливый Смердяков — Виктор Шкловский
в свой звездный час, совпавший с крахом Первой империи, остра-
ненно и мстительно демонстрировал не им обманутой в истори-
зированном самолюбии интеллигентной публике, «как сделан»
Розанов (успевший, в свою очередь, высказаться в 1918 г. в
«Апокалипсисе» о новой интеллигенции «из Шклова» и просивший у нее же
прощения...). Чего, однако, мы не найдем в приведенном пассаже, так это
предметного и спокойного обсуждения чего-то на самом деле общ-
ного и важного. В чем здесь дело?
Не только, видимо, в том, что происходит известный распад
общего внятного языка на почве резкой дифференциации социально-
речевых общностей. Мы привыкли обсуждать и оценивать более или
менее глобальные концепции; у Аверинцева именно этого нет (а там,
где это как бы есть, это не самое главное и не самое интересное). С. С.
в этом смысле человек и автор «постсовременности», его сила не
концепции, но живая рецепция и всесильный бог деталей, столь
существенный как раз для гуманитарно-филологической деятельности.
«Мы призваны к общению» называется одна из поздних его работ, и
все его творчество посвящено, в сущности, обретению нового языка
для ориентации в историческом опыте. Поэтому о них почти
невозможно и не очень продуктивно говорить «вообще». В статье «Проти-
вочувствия» (1989), ссылаясь на Г. Марселя, Бубера, Ясперса и
Бахтина, он говорит:
Жизненно важно, чтобы встреча позиций не превращалась в их
индифферентное смешение. Это — трудно; но все остальное погибель,
если не физическая, то духовная.
Вот почему его речь, несмотря на все переспросы и противочув-
ствия, — это продуктивные для будущего филологии и научного
сообщества попытки объясниться, речь, внятная спасаемым.
ПОСЛЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ*
Философы и филологи
Речь пойдет о философии и научно-гуманитарном мышлении в
связи с диагнозом времени и поиском ориентации в относительно
новых условиях гуманитарно-филологического исследования
сегодня. «Комментарий» при этом понимается как такая возможность
работы с текстом, которая позволит философии «выживать» — в
качестве исследования и в качестве преподавания — с опорой на
филологию, понятую в ее абсолютном (абсолютно историческом), «кериг-
матическом» ядре, или «органоне», научно-гуманитарного мышления
вообще. Следовательно, должна быть какая-то общая территория,
соединяющая философию и филологию даже теперь, когда — как мы
это можем наблюдать и на этой конференции — разрыв (рассечение)
между той и другой, похоже, сделался бесповоротным, как бы
окончательным.
Совокупность заявленных тем самым мотивов и проблем —
узнаваема: старый «спор древних и новых» по-новому
возвращается сегодня в исторический опыт, а значит, и в опыт гуманитария-
исследователя — возвращается не как филологическая цитата и уж
тем более не как философская конструкция. Возможно, это — шанс
какого-то, пусть первого, сближения, взаимно заинтересованного
контакта между философами и филологами — разговора (признаем
это, чтобы не принять), давно ставшего почти или даже совсем
невозможным.
Речь пойдет о проблеме, которую я попытаюсь ниже продумать в
связи с особым исследовательским жанром — комментарием. Будем
исходить, как это принято в феноменологической герменевтике, из
некоторой очевидности, которую обычно труднее всего заметить
как нечто значимое. Комментарий — традиционный, древнейший
Переработанный и расширенный вариант выступления на «круглом столе»
«Комментарий после интерпретации», на конференции «Комментарий в
истории культуры» в Высшей школе экономики (апрель 2006 г.).
После интерпретации
547
жанр научной работы, в границах которого встречаются философы
и филологи. Философия и филология в наше время разошлись уже
настолько, что очень легко вообще не заметить, насколько они по-
новому сошлись и переплелись в научно-гуманитарном мышлении.
Интерпретация, напротив, — жанр, или способ подхода к тексту,
скорее «новый» (даже новейший). Не интерпретация ли «поссорила»
филологов и философов, перекочевав в минувшем столетии из
филологии в философию?
Но мы договорились не торопиться с выводами, методически
укрощая свойственный мышлению навык опережающего
обобщения (конструирования), и по возможности держаться очевидной
фактичности интересующих нас вещей. Современный философ, в
особенности российский, мог бы задуматься о том, почему, на каком
основании и по какому такому праву он или она, в лучшем случае
снисходительно относясь к историко-филологической деятельности
как слишком «эмпирической», тем не менее, на протяжении последних
десятилетий сознательно или (чаще) контрабандно заимствует из
филологии ее понятия, ее язык, ее нормативы и нарративы (включая
понятие «нарратива»), в значительной мере выживая (если не
паразитируя) за счет историко-филологической научной традиции. И
то же самое наоборот, или с другого конца: филолог, довольно
естественным образом презирая философию и «теорию» за то самое, чем
школьная философия, к сожалению, гордится, — филолог тоже более
или менее неосознанно паразитирует на философии. Имей он или она
несколько иное представление о философии, чем то, которое Хай-
деггер однажды назвал «платонизмом варваров» (Piatonismus der
Barbaren), — филолог (и историк) мог бы лучше защитить себя от теоре-
тизированного, варварского утопизма мысли, жертвой которого
становятся постольку, поскольку не знают и не желают знать, что
произошло в философии в прошлом и даже позапрошлом веке.
Относительно конфликта между так называемой позитивной
наукой и философией философ Г. Г. Шпет в свое время (1918) писал:
Как бы, однако, ни казалась нам естественной тенденция
позитивной науки уклониться от принципиального обсуждения
философских основ своей науки, она влечет за собою далеко не
благоприятные для науки последствия. Обойтись вовсе без этих основ наука не
может, потому, совершенно того не сознавая и, может быть, даже не
желая, она под видом собственных эмпирических обобщений повто-
548
Раздел второй. Рассечение
ряет старые, в философии изжитые и потерявшие свое значение
общие воззрения и методы»1.
Действительно, ученые-эмпирики — филологи и историки,
чурающиеся философии, как правило, не только «опоздали» в своих
представлениях о философии на пару веков, но бессознательно
заимствуют именно у философии воззрения (точнее, ходы мысли), в
самой философии уже давно ставшие анахронизмом; именно поэтому
«принципиальное обсуждение философских основ» той или иной
научной дисциплины, той или иной Fachwissenschaft оказывается
невозможным. В этом контексте известный афоризм Хайдеггера: «Наука не
мыслит» (Wissenschaft denkt nicht) представляется совершенно
понятным и правильным. Другое дело, что попытка Хайдеггера
противопоставить науке и научному исследованию (как и научной
философии) «мышление», свободное от предметной
дифференцированное™ и непосредственно соотносимое с «бытием», при всей
гениальности Хайдеггера, — провалилась: философия сегодня может
«выжить» как философия наоборот, только опираясь на
дифференцированный опыт в науках исторического опыта, чаще называемых
«гуманитарными»2.
Если филологи и философы оказываются в одной аудитории (как
мы сегодня), то это обстоятельство, хотя оно и не гарантирует
диалога между теми и другими, но, по крайней мере, дает повод с
обеих сторон почувствовать предметную и методическую
проблему границ своей компетенции. Почувствовать не в смысле
внешнего ограничения, а совершенно в другом смысле. «Та или иная
возможная или фактически наличная творческая точка зрения, — писал
М. М. Бахтин (1924), — становится убедительно нужной и
необходимой лишь в соотнесении с другими творческими точками зрения;
лишь там, где на их границах рождается существенная нужда в ней,
в ее творческом своеобразии, находит она свое прочное обоснование
и оправдание; изнутри же ее самой, вне ее причастности единству
культуры, она только голо фактична, а ее своеобразие может
представиться просто произволом и капризом»3.
Философия должна обрести существенную нужду в историко-
филологическом исследовании, а филология — в философской
принципиальности для того, чтобы стал возможен выход на границы своей
области на почве нужды в другом. Так называемый
междисциплинарный подход, практикуемый в особенности так называемой
культурологией, как правило, не знает этой проблемы границ, т. е. проблемы
После интерпретации
549
различия. Различие между дисциплинами и культурными областями
на «онтическом» (предметно объективированном) уровне — так же
как различие между мною и другим на онтологическом уровне — само
является условием возможности практической (а не теоретизиро-
ванной) «причастности единству культуры». «Причастность»,
«культура», «единство» — не выдумки «дураков и философов» (как
выражался фолкнеровский Квентин); это — «сами вещи», присущие
социальному, «сочеловеческому» опыту совместности современников и
«разновременников» в мире жизни.
То обстоятельство, что сегодня сама мысль о продуктивности
границ данной культурной области или научной дисциплины для
самой этой области или дисциплины должна казаться абсурдной или
утопичной, конечно, говорит о многом. В дальнейшем мы
постараемся в чем-то проблематизировать скрытое здесь, за видимой беспро-
блемностью, напряжение, т. е. реальную историческую проблему, или
трудность, современной философии и гуманитарных наук. Во всяком
случае, феномен и задачу комментария, эту, казалось бы,
филологическую проблему и задачу, я постараюсь ниже проблематизировать под
углом зрения прошлого и настоящего современной философии. Это,
возможно, позволит подойти к совершившемуся факту — филологи-
зации философии — не только с точки зрения недавнего, все еще
незавершенного, хотя в чем-то исчерпанного прошлого философии, но и
с точки зрения каких-то новых возможностей философии в ситуации
«конца философии», «конца истории» и прочих «концов».
Конец разговора
Диагноз времени соприроден философии и является важной ее
функцией. Науки исторического опыта (гуманитарные) тоже знают и
переживают внутренние затруднения, но они слишком связаны своим
предметом, чтобы осмыслить связь этих затруднений с социальной
атмосферой времени, внутри которой находится сам исследователь.
Философия в этом смысле, как ни парадоксально, «ближе к
жизни» и способна как-то ориентировать если не исследование,
то исследователя. Диагноз времени, который предстоит здесь дать,
включает два взаимосвязанных современных факта, две данности:
это, во-первых, завершение философского цикла Нового времени, во-
вторых, то, что можно назвать «концом разговора» XX в.
Как это обычно бывает, самые важные знамения времени — не
за феноменами, а в том, что все видят и знают; в том, что не надо
550
Раздел второй. Рассечение
доказывать, — достаточно убедиться, «посмотреть своими глазами»
и попытаться отдать себе отчет в том, что очевидно для всех.
Перефразируя афоризм О. Уайльда: не невидимое, а видимое несет на себе
знамение времени.
Сказать, что философия лишилась своего видного, престижного
места в общественном сознании, — значит сказать еще далеко не все
и не самое главное. Статус философии всегда был достаточно
проблематичным, поскольку у философии нет предмета в том смысле,
в каком каждая наука имеет свой предмет. Сегодняшняя глобальная
трудность философствования, на мой взгляд, — в другом:
философская современность оказывается в чудовищной по своей плотности
тени своего ближайшего прошлого — XX и даже XIX вв.; встать на
уровень революционных поворотов или прорывов, в особенности
минувшего столетия, наша современность не может. Современность
философии не может не оглядываться на Гуссерля, Шелера, Хайдег-
гера, Витгенштейна, Гадамера, на многих других, но само
воздействие совершившихся в прошлом столетии «поворотов» не может
не ощущать себя в противоречии с современной исторической
ситуацией, а перетолкования и переосмысления чреваты утратой
важнейших импульсов — тех импульсов, из которых возникла и
развивалась современная философия. Например, по-прежнему много
говорят (теперь и у нас) о феноменологии; но, странно сказать,
феноменологией как-то мало интересуются в смысле реальной
возможности реального анализа реальных феноменов мира жизни и мира
мысли. Можно ли сказать, что феноменология развивается? Что,
если и здесь, подобно другим, далеким от философии областям
социального мира, «бренд» вытеснил и как бы заменил собою «тренд»,
т. е. реально идущее в ногу со временем, «современное» движение и
направление мысли?
Впечатление такое, что непосредственное наследие
(философия XX в.) «гнетом мстит за свой уход»; происшедшее в области
мысли слишком значительно, чтобы нам все время не
оглядываться назад, однако плотность мотивов, обусловивших все эти
открытия, — рассеялась; мы не можем не ощущать себя в совершенно
ином контексте.
В принципе, ситуация историческая — у нас, и на Западе: не
столько обвал, сколько обрыв — обрыв движения. У нас это, как всегда
в России, резче, неожиданней, болезненней, катастрофичнее, апока-
липтичнее. Но обычный для российских условий контраст с Западом
в данном интересующем нас отношении — не «работает» (контраст
После интерпретации
551
сохраняет силу в другом отношении). Утешением может служить тот
простой и непростой факт, что, как бы ни определять сложившуюся
или складывающуюся духовно-идеологическую ситуацию,
«гнетущую» философию современную, — все это как-то уже было, имело
место в прежние времена. Вспомним хотя бы впечатляющие
констатации Рудольфа Гайма, хорошо известного у нас до революции
историка немецкой философии и культуры, которыми открывается его
книга «Гегель и его время» (1857), написанная «под гнетом»
последствий неудавшейся революции 1848 г.:
Скажу более: мы, в настоящую минуту, находимся в состоянии
почти всеобщего кораблекрушения духа и веры в дух вообще.
Совершился беспримерный, крайне решительный поворот в жизни
народа: минуло время систем, поэзии и философии. Вследствие
различных побед, одержанных современной техникой, самые нижние
основы нашей физической и духовной жизни разрушены и вместо
них заложены новые (...) Резкой чертой от нас отделен мир
ощущений и понятий истекшего десятилетия. Та философия, на которую
наш немецкий спиритуализм оперся в последнее время, не
выдержала предложенного ей испытания. Интересы, потребности
нашего времени пересилили ее. Она более чем опровергнута, она
осуждена. Она вытеснена не системой, но, покамест, поступательным
движением мира, живой историей4.
Нечто подобное происходит и сегодня, в начале нового столетия
и тысячелетия. Произошло новое очередное расколдовывание
«спиритуализма» в смысле «почти всеобщего караблекрушения духа и
веры в дух вообще». В так называемом Невельском кружке M. M.
Бахтина первых пореволюционных лет, выросшем из символизма и
уходившем от символизма, такое «расколдовывание» называлось
«кризисом символизации», и мы сегодня, в России и на Западе, судя по
всему, переживаем и изживаем свой собственный —
пост-пост-постсовременный — кризис символизации в самом историческом опыте,
а отсюда уже — в науках исторического опыта (гуманитарных) и в
философии.
Самое непосредственное и очевидное, в чем труднее всего отдать
себе отчет, — это зревшее давно, однако наступившее в последнее
десятилетие прошлого века событие — утрата напряжений, потеря
ориентации. Всего того, что мотивировало, определяло и
направляло движение научно-философской, научно-гуманитарной мысли
в новейшей истории. Двадцатый век в известном смысле начался
552
Раздел второй. Рассечение
в 1914 г., а завершился в 1989 г. вместе с разрушением Берлинской
стены; век как бы лопнул, оставив после себя (после Конца Нового
времени) две принципиальных взаимоисключающих возможности
ориентации гуманитария в происходящем. Альтернатива, как
представляется, такова: или мыслить «естественно», ориентируясь на
вытеснение (исключение) прошлого — хотя бы и в качестве эстетской
стилизации прошлого, когда исторический опыт подделывают «под
себя» (модернизируют), когда реальностью оказывается не
исторический опыт как «другой» для нас, а наше обращение, наша позиция
по отношению к прошлому в соответствии с принципом: «We are the
real story» — «we are the real text» («Реальная история — это мы» —
«реальный текст — это мы»), т. е. мы, живые современники, а не те,
кто был до нас; не прошлое, которое для нас только «материал для
оформления», как это называлось в русском формализме
пореволюционных лет5. Или нужно попытаться мыслить и понимать
«гуманитарно» и постольку «неестественно»: нужно выйти из-под действия
основного предрассудка Просвещения — его представления о
прошлом как области предрассудков. Предрассудков, от которых надо
освободиться для того, чтобы обрести подлинную свободу мыслить
и понимать — «без руководства со стороны кого-либо другого»,
согласно знаменитой формуле Канта6. Выйти из-под действия
императива «эмансипации», удержав правду императива, а вовсе не «декон-
струировав» эту правду. Но как такое возможно и, собственно, зачем
нужна такая сложная операция?
То, что происходит сегодня на наших глазах и в нас же самих,
разумеется, не «конец истории» и не «конец философии»; философия,
если перефразировать С. С. Аверинцева, уже кончалась множество
раз. Это и не «кризис»; скорее, наоборот, сегодня как раз кризиса-то
и нет; мы только цепляемся за как бы знакомое, как бы само собой
разумеющееся слово, совершая при этом отступление и от
исконного смысла слова, и от собственного опыта, для осознания
которого у нас недостает слова. «Кризис» предполагает, с одной стороны,
проблемный узел, напряжение, с другой — некое решение, или
разрешение, противоречия, противоречий, от которых нельзя уйти,
которые надо решить — судить и рассудить. Но именно этого сегодня,
как можно заметить, нигде нет и, похоже, не может быть. Что,
собственно, происходит?
Почему, например, бывшие советские газеты и журналы
(которые большинство из нас, естественно, после 1991 г. не читает),
посильно отражая на своих страницах, так сказать, новую реальность
После интерпретации
553
и пытаясь строить новую идеологию ценностей и публичной речи,
тем не менее, почти все называются не как-нибудь по-новому (что,
согласимся, было бы нормально и понятно), а, наоборот, сохраняют
старые названия, символически уместные в прежнюю эпоху (вроде
газеты «Московский комсомолец» или журналов «Новый мир» и
«Октябрь»), но сегодня, в лучшем случае, не обозначающие ничего, но
лишь указывающие на некое присутствие того, об отсутствии чего
название напоминает. Назовем ли мы такое отсутствующее присутствие
«брэндом» или «симулякром», — суть дела в чем-то другом. Людей
не назовешь бездарными, и все пытаются, с большим или меньшим
успехом, реализоваться, «состояться». Почему же современность, как
может показаться, — несостоятельна?
Мне кажется, есть резон говорить сегодня о конце разговора
Нового времени — разговора, который на самом деле как-то происходил,
а потом, все более распыляясь и удаляясь от своего проблемного
истока, оказался невозможным. «Большой разговор», о котором писал
Б. Л. Пастернак в «Охранной грамоте»7, стал сейчас невозможным
настолько, что, парадоксальным образом, как раз поэтому он вообще
может быть осознан в качестве проблемы. Проблемы не «текста» и
даже не «контекста», но прерывной непрерывности исторического
опыта. Так, вероятно всегда: когда что-то оказывается невозможным,
возникает вопрос: а как такое было возможно?
Так возникает вопрос об «условиях возможности» (как и
условиях невозможности) чего-либо такого, что однажды было и уже не
может просто не быть, даже будучи искаженным, превращенным,
перешедшим в другое. Специальный анализ, которому здесь не
место, мог бы показать, почему и каким образом философские, как
и историко-филологические, «прорывы» прошлого столетия
оказались — в качестве «наследия», или «традиций», или так
называемых научных результатов — в некоем глубочайшем противоречии
с теми реальными социокультурными условиями, мотивами и
императивами, благодаря которым эти прорывы стали возможны. Распад
общностей, утрата общего языка и общих, «общных» «горизонтов
ожидания», все, что мы наблюдаем и переживаем сегодня и в
обществе, и в научном сообществе, — это, похоже, симптомы какого-то
единого события, которое мы и называем здесь, в рабочем порядке,
«концом разговора». Конец разговора — конец напряжений,
императивов и целей, исчерпание или обращение того, что «вело» и
общественную, и научно-гуманитарную, и философскую мысль на
протяжении XIX и XX вв. От всего этого гигантского, плотного наследия
554
Раздел второй. Рассечение
и наследий, от всего затекста истории — наша
пост-пост-постсовременность получила как бы в вечное пользование и слишком
много, и слишком мало — «тексты». Это было осознано не сегодня,
но именно сегодня несоответствие между знанием об истории и
историческим опытом, между эмпирической «научностью» и
философской «истиной» — обнажилось радикально. На почве
методологических проблем «текста» и «интерпретации» филология со своей
стороны, а философия — со своей — вынуждены выходить на и за
собственные границы.
Филологизация философии
Конец разговора века и Нового времени не случайно совпал
с внутренним исчерпанием и обращением в свою
противоположность парадигмы интерпретации с ее верой в «текст». Можно ведь
остаться с текстом, — а равно и с так называемой культурой, как с
дыркой от бублика. Как понимать наступающее на нас со всех сторон
будущее, как ориентировать в этой ситуации «радикально иного» —
новой и старой, как всякая реальная история — философскую работу,
научно-гуманитарное исследование и, не в последнюю очередь,
преподавание, «передачу» знания из прошлого в будущее?
Современность и, соответственно, современное
философствование, как представляется, имеют два парадигматических истока,
два возраста речи, два определенных своими нуждами,
императивами и задачами «дискурса». Философствование сегодня
является «современным», в широком смысле этого слова, постольку,
поскольку оно вышло из события кризиса и распада гегелевской
системы философии в 1840-е гг. и позднее. Со второй половины
позапрошлого столетия жанровый образ мысли философии все больше
отходил от спекулятивных конструкций идеалистической
метафизики и принимал более скромную, но и более действенную форму
«исследования»; для западноевропейской традиции эта форма
мышления и речи была и новейшей, и древнейшей. «Современным», в
более тесном и близком к нам смысле, философствование
становится, начиная с 1920-х гг. и потом с 1960-х. Если после Гегеля и
Маркса, Дильтея и Гуссерля философствование стало
«исследованием», то после Хайдеггера и Витгенштейна, после Гадамера и Дер-
рида философия стала «интерпретацией» — даже там, где она это
отрицает. В наиболее радикальной форме философия стала
интерпретацией собственной истории и собственной «историчности» «на
путеводной нити языка».
После интерпретации
555
В самом деле: поворот к «интерпретации» — с одной стороны,
к logoi («речам»), или «дискурсу», — с другой стороны — это общий
пункт, объединяющий три ведущих направления современной
философии, конкурирующих между собой, именно — немецкую
герменевтику, французский нео- или постструктурализм и
англосаксонскую «аналитическую» философию. В этом смысле я и говорю о «фи-
лологизации философии». Филологическая проблематика
«интерпретации», «автора», «понимания», «чужой речи», «древних и новых»,
«классики» и «модерна», «нарратива», «метарассказов», и т. п. (а не
только проблемы «языка» или, скажем, «исторической семантики»)
заполнила современное философствование, включая формальную
логику. Филологизация философии — своего рода
«металингвистический поворот», под знаком которого стоит современное
философствование как незавершенное событие.
В этом смысле, как мне кажется, можно говорить о настоящем
новом сломе или смене парадигмы, но не в естественнонаучном, а в
гуманитарно-философском мышлении прошлого столетия —
тенденция, которая, начиная с 1960-х гг., получила почти общее
признание и распространение.
Тем не менее, событие это, т. е. «филологизация философии»,
парадоксальным образом еще и сегодня остается не вполне осознанной
и оцененной с обеих сторон — со стороны философии, льнущей к
так называемым «опытным», или «точным», наукам, и со стороны
измельчавшей и дезориентированной филологии; последняя, в
подтверждение вышеприведенного высказывания Шпета, неосознанно и
комично льнет к таким версиям «научности», или «духовности», или
«теории», из критики которых родилась и развивалась современная
философия в двух указанных смыслах этого слова.
На философской магистрали «интерпретации» и «критики
языка» в XX в. была выработана альтернатива (альтернативы)
современному сциентизму; больше того, здесь, по-видимому, было
найдено продуктивное для специальных научных дисциплин
ограничение притязаний научно-технического подхода к общественно-
историческому миру жизни. Все это могут оспаривать только те,
для кого «мир жизни», т. е. мир исторического опыта с его
совершенно специфической «нелинейной» логикой, либо вообще не
является предметом философской заинтересованности и «удивления»,
либо все еще подменяется «материалистическими» абстракциями
и навыками мышления, более идеалистическими, чем прежний
«идеализм».
556
Раздел второй. Рассечение
Изнанка
Однако «парадигма интерпретации» имела и свою изнанку. В
последние два десятилетия, растиражированная и вульгаризованная, а
главное, оказавшаяся в новом социокультурном климате, эта изнанка,
похоже, окончательно скомпрометировала, если не подменила, лицо.
То, что было средством понимания, т. е. понимания
исторического опыта, — вместе с ростом моды на «интерпретацию» стало
выдавать себя за цепь и суть дела; возникший таким образом двойник-
самозванец под маской интерпретации сделался в посттоталитарную
эпоху «отвязным» и, самоутверждаясь, достаточно агрессивно
противопоставил себя — таков исторический парадокс — «пониманию»8.
Интерпретатор самоутверждается за счет интерпретируемого;
«формалистическая парадигма», с ее логикой господства «приема» над
«материалом», в известном смысле «победила» уже после формализма и
структурализма (даже в борьбе с ними). Современная, или
«постсовременная», философски ориентированная деконструкция только ра-
дикализует методическую установку первых русских формалистов —
филологов-футуристов вокруг 1917 г., да так, что и наши формалисты
бы вздрогнули...
В ситуации «конца разговора» беззвучно рвутся
металингвистические условия возможности взаимопонятности и взамопонимания
относительно любого возможного предмета суждения или
обсуждения — положение дел, когда дискуссия и самый спор становятся
неинтересными и ненужными, ибо все свободны от всех; «игра
различий» парадоксально и закономерно делает, в конце концов,
безразличными и бессмысленными все различия. «Что это вы такое
говорите?» — «А я так вижу!»: вот это и есть конец. Что означает
общая ситуация «конца разговора» специально для постсоветской
России, где даже в научном сообществе почти отсутствует вкус к
публичной артикуляции и обсуждению проблем, установка на
предметный (а не «кухонный») разговор, — эта тема достойна
отдельного обсуждения.
В гуманитарии, как и в философской или псевдофилософской
публицистике, распространился феномен, который можно назвать
паразитированием на (исторической) вненаходимости (т. е. на пред-
находимом мне, интерпретатору, «материале» исследования). Не
случайно, надо думать, сциентизм, позитивизм и марксизм,
претендующие (каждый по-своему) на «объективность» и «научность», сейчас
вновь подняли голову, несмотря на то что в современное научное
После интерпретации
557
мышление (гуманитарное, как и естественнонаучное) они входят
уже, в лучшем случае, в качестве самоутверждающихся через
отрицание оппозиций. Не позиции, но именно оппозиции дают односто-
ронностям и анахронизмам видимость второго или двадцать второго
дыхания. В этом — глубокая негативная (а не продуктивная)
конечность и паразитарность современного сознания и познания,
заставляющие и вправду подумать о «конце». Но это, конечно, не конец, а
что-то другое, более интересное.
Прогноз
Могут спросить: пусть так, но какое все это имеет отношение к
конкретным проблемам конкретных научных дисциплин, в нашем
случае — филологии и философии? Во всяком случае, комментарий,
по-видимому, вообще не относится к поднятым здесь проблемам.
Мне кажется, что это не так. И вот почему.
Как представляется, определенный (Новым временем)
темпорально-исторический цикл и филологических, и философских
наук подошел к своему концу, своему исчерпанию. Нам, похоже,
предстоят десятилетия, если не столетия, по-своему интересной, в своем
роде творческой, в чем-то, возможно, даже эвристической работы
комментаторов наследия, «классического» и «постклассического»
(которое, понятно, тоже уже классическое, но в другом смысле).
Не «судьба», но «предназначение» — быть и мыслить перед
лицом и в тени того, что произошло в философии и в гуманитарно-
филологическом мышлении в XX в., даже в XIX в.; того, что
бесконечно превосходит наши сегодняшние возможности. В этом нет
ничего особенно «трагического», ни даже — чего-то особенно «нового».
Ново это — для нас.
Новым для нас, воспитанных в традициях так называемого
«исторического сознания» (или «историцизма») — традициях,
которые не преодолеваются, но завершаются в представлениях о
«постистории», «постмодерне» и т. п., — является открытие того, что так
называемый исторический прогресс и так называемый «рост
научного знания»10 приносят с собою — совсем не «по Гегелю» и не совсем
«по Попперу» — не только достижения, но и утраты, не только новые
возможности жить и мыслить, но и отсутствие или оскудение — в
новых условиях общественно-исторического опыта — прежних и,
казалось бы, «достигнутых», «завоеванных» (не нами, но как бы для нас)
возможностей так называемой «культуры» (включая сюда, конечно, и
научную культуру).
558
Раздел второй. Рассечение
Эллинизм на протяжении столетий не мог не сознавать себя в
тени — и с оглядкой на — Платона и Аристотеля. Проблема и задача,
собственно, в том, что Кант и Гегель, Шлегель и Кьеркегор, Ницше и
Хайдеггер, Соловьев и Бахтин, многие второстепенные и даже
третьестепенные мыслители прошлого, — не говоря уж о Платоне и
Аристотеле, — не только и не просто «были». Предел, полагаемый
мышлению современной герменевтикой, а равно и классической
формулой филологии XIX в. — «познание познанного», — нужно
принять всерьез: история философии, как и история современной
гуманитарной науки, может сказать и рассказать нам гораздо больше
нового и «современного», чем все, что способны еще сказать или
придумать о них наши современники.
«Спасение» гуманитарных наук, как и философии, сегодня — в
возможности и способности обращения к прошлому той или иной
науки, к прошлому философии (и «ближнему», и «дальнему»). Ведь
современные гуманитарные науки и философия — это, более или менее,
бездейственный итог своей же «действенной истории», «достижение»
утраченных напряжений и достижений, отсутствие в симуляции
присутствия, «прогресс», обернувшийся регрессом, новым «новым
варварством» в общественной и научной жизни, заслуженным и не
заслуженным в одно и то же время.
Под этим углом зрения, как мне кажется, комментарий — жанр
более традиционный, чем традиции философского и научного
творчества Нового времени, как это ни парадоксально, приобретает
неожиданно актуальный смысл. Ино-научной предпосылкой
научного комментария является приоритет комментируемого над
комментатором; the other is the real thing («подлинная реальность — это
другой») — если, конечно, не понимать этот принцип догматически-
буквально. Существенным при этом представляется следующее:
комментирование как ограничение «интерпретации» в пользу
«понимания» может оказаться снова продуктивным для практики
преподавания «в классе» как раз в ситуации происходящего на наших глазах
разрушения традиционной модели образования; ведь комментарий,
собственно, и развивался в порядке обучения10.
Второе сознание
Совершающийся на наших глазах новый (не первый, конечно)
крах «образования» и «культуры» (в смысле немецкого слова Bildung,
объединяющего значения обоих слов) возвращает гуманитарно-
эпистемологическое мышление (как и всякое крушение «порядка»,
После интерпретации
559
«структур», «систем», «картин мира», «концепций» и «концептов»)
«к самим вещам», точнее — к действенно-историческим истокам и
источникам не столько паразитарно идеализированной «культуры»,
сколько реально, «присутственно» актуализируемого возделывания-
культивирования — к первоэлементам-первоисточникам так
называемых традиций социально-онтологического и научно-гуманитарного
опыта.
«Комментарий» — это такой речевой жанр научно-гуманитарного
мышления, который, как мне кажется, может и должен быть понят в
наше «нулевое» время в какой-то мере по-новому — как такой
(древнейший) жанр научного исследования, который позволяет
продолжать и развивать первоэлемент-первоимпульс гуманитарно-
филологического мышления вообще. Этот «оригинальный», т. е.
изначальный импульс имеет социально-онтологическое (а отсюда — и
гуманитарно-эпистемологическое) измерение-императив, который
заключается в надежде-вере-любви специального
(профессионального) свойства, а именно — быть изначально «вторым» сознанием.
А это значит (вспомним определение Аверинцевым существа
филологии как «службы понимания»): нужно попробовать «выживать»
не ради себя, но ради «другого» — некоторого преднаходимого мне
автора, которого мне не переиграть никакой «игрой мира», никакой
«интерпретацией».
Думаю, только так — культивируя «второе сознание» и не давая
этой практике превратиться или выродиться в «культуру», — можно
дистанцироваться не только от персональных карикатурных эпигонов
деконструктивизма и так называемого «мышления 68-го года»
французского образца, но и приостановить поток агрессивных
«интерпретаций», который, как это всегда бывает, стал распространенным,
повсеместным и даже «разокадемичившимся» именно теперь, когда
формалистическая парадигма, возникшая из относительно
оправданного гуманитарно-филологического «бунта» вокруг 1917 г. (из
«требования смежных наук» и «плодотворного кризиса», по словам
Л. В. Пумпянского)11 больше не имеет творческих шансов. Хуже того,
бинарно-оппозиционное мышление — в политике и в общественной
мысли не меньше, чем в филологии, — не способно поставить себя
под вопрос. Это настоящий «кризис без кризиса» — то, к чему мы
пришли в «нулевые» годы, так сказать, в конце концов.
Таким образом, комментарий — не как новое начало,
разумеется, но скорее как новое продолжение — не только «эпистемоло-
гически», но и «этически» указывает на способ самоограничения,
560
Раздел второй. Рассечение
возвращающий нас к первичной, «керигматической», сократически-
кьеркегоровской ситуации «учитель-ученик», когда способность
«учиться» у прошлого, у текста, у другого освобождает от наивного и
ставшего бесплодным «реальность — это мы» (чистая современность,
чистое начало «из ничего»). Менее всего «второе сознание» означает
конформизм (во всех мыслимых смыслах этого слова), согласие быть
просто «производным» от чего-то чуждого, но первичного (будь то
традиция, гений или политический тоталитаризм).
Авангардистский проект, собственно, гласит: «Я сам другой для
всех других» (в аспекте поэтики Достоевского: «Я таков, каков я есть,
потому что Вы такие, какие вы есть...»), т. е. здесь тон задает именно
«второе» сознание, освобождающееся от «первого», от, так сказать,
«отца», и претендующее на его место. Это — радикализация концепта
и концепции «гения» в эпоху отлетевших богов, гениев и авторов — в
эпоху «падения звезд»12.
Гёте принадлежит высказывание^ какой-то мере по-новому (или,
пожалуй, по-старому) оборачивающее проблему «автора» и через
это — проблему комментария:
В сущности, мы способны учиться только из тех книг, о которых не в
состоянии судить. Автору книги, о которой мы могли бы судить,
следовало бы учиться у нас13.
Комментируя это высказывание, т. е. пересказывая-переводя-
передавая своими словами направление мысли и смысл
сказанного автором (а это значит — усиливая автора, а не ослабляя или
деконструируя порождающую высказывание авторскую интен-
циональность), позволительно сказать так: «Чтение» имеет своим
изначальным и продуктивным импульсом потребность «учиться» —
учиться у старших и более опытных, более авторитетных. Но что это
значит — «учиться»? Мы, в сущности, учимся у таких авторах,
которые нас как-то питают (а не просто «наставляют»). Постольку,
поскольку мы в состоянии учиться, в сущности, только из тех книг,
которые нас питают, мы не можем высказать о них (и, соответственно,
об авторе) какого-то окончательного, завершающего суждения; ведь
процесс обучения, питающий меня — читателя и ученика в качестве
«второго сознания», — не завершен. Читая (и, скажем, комментируя
прочитанное), я вхожу в некую неисчерпаемую бесконечность
данного автора (а не просто беру готовые знания и истины у
«авторитета»). Если же я беру на себя смелость «судить» об авторе, значит,
После интерпретации
561
я стал для себя авторитетнее его, превзошел и «преодолел» другого,
став другим для него — как бы первым сознанием.
Сегодня нет особого смысла говорить о «диалоге» — настолько
слово исказилось и почти обессмыслилось в беспределе
интерпретаций даже в пределах научного сообщества. Зато стоит попытаться
это «сделать», т. е. заговорить в реальном разговоре времени, «утонув
в работе с надеждой на воскресение», как выражался M. M.
Пришвин (в дневнике), примкнув к «хору безмолвствующих»,
умалившись и вырастая в этом умалении в качестве «второго сознания»,
отличающегося от источника и оправданного в этом отличии.
Комментарий, в сущности, — единственная современная творческая форма
научного исследования, ставящая исторический предел
романтически (или обратно романтически — «постмодернистски») понятому
«творчеству» в научно-гуманитарном и философском исследовании.
Особенно перспективной возможностью представляется мне
герменевтический комментарий. Герменевтический комментарий —
относится ли он к истории философии или к истории
филологических наук — позволяет опосредовать реальность прошлого и
реальность современности в факте «одновременности». Кьеркегор говорил
о такой одновременности в теологическом плане, а современная
герменевтика пытается достичь такой — «диалогической» —
одновременности в конкретно-историческом измерении, в возвращении того
же и не того же самого.
Но, конечно, герменевтический комментарий — это редкая удача,
которая может состояться, а может и не состояться. Во всяком случае,
комментарий «после» интерпретации — это потребность и
возможность вернуть интерпретацию в ее более «естественное» русло, в
русло «понимания».
Предел
Итак, задача состоит в том, чтобы посредством
герменевтически понятого комментария оволить — именно «оволить» (слово
М. М. Пришвина), а не «преодолеть» (подобно тому как Хай-
деггер надеялся не преодолеть, но оволить метафизику) — принцип
интерпретации.
Иными словами, позиция, которая представляется мне
исторически и парадигматически уместной сегодня, должна быть
понята не как оппозиция, не как изнанка старого под видом нового,
которая «хуже лица», не как «полемическая конструкция» и «рес-
сентимент»14, — а этим, главным образом, и держалась, как показал
562
Раздел второй. Рассечение
М. М. Бахтин еще в 1920-е гг., формалистически-марксистско-
структуралистски-деконструктивистская парадигма как «парадигма»
именно держалась вплоть до последнего десятилетия прошлого
столетия. Быть «против интерпретации» в духе Сьюзен Зонтаг можно
только риторически, а не на самом деле — при всей односторонней
правоте ее критики, которая не случайно остается теоретически —
в границах формалистического авангардизма 1960-х гг., а дискур-
сивно — в границах полемической конструкции «против»15. Никакое
«против» — в прежнем, антитрадиционном смысле, который сам
давно сделался традицией, — отныне невозможно, т. е. абсолютно
непродуктивно и паразитарно, подобно тому как политическое
диссидентство лишается почвы и смысла вне той системы диктата и
давления, против которой диссидентство себя «позиционирует»16.
Еще раз — другими словами: после Конца Нового времени и
«конца разговора», «после интерпретации» мы переживаем настолько
глубокий перепад опытов, что «суперновое» оборачивается
«суперварваризацией» всех ценностей и традиций на всех уровнях мира
жизни. Такова ныне и судьба «интерпретации», которая должна —
по логике «карнавальной амбивалентности», описанной M. M.
Бахтиным на материале радикального перепада исторических опытов
на переходе от Средних веков к Новому времени17, — пройти через
«смерть», чтобы «родить сызнова, лучше и больше». Комментарий,
по-видимому, способен осуществить такое амбивалентное
«спасение» интерпретации в модусе ее ограничения и отрицания в
ситуации такой «нулевой степени письма», от которой сам Ролан Барт со
товарищи сегодня бы взрогнул.
Ибо эпоха завершенной демократии (в которую мы вступили, по-
видимому, в 1920-е гг., по-новому в 1960-е гг. и по-новому на новом
рубеже двух столетий и тысячелетий) на риторическом и самозванном
уровне была и остается «смертью автора» и «смертью человека» — в
смысле формальной оппозиции формализованной традиции
идеалистической классики; но реально все это означало (было «знаком»)
и означает нечто иное. Реально мы, похоже, чем дальше, тем больше
входим (переходим) в эпоху тотальной самореализации индивида во
множественном числе18. Таков, как я подозреваю, «социологический
эквивалент» «умонастроения беспредела», которое зафиксировал
С. С. Аверинцев в незавершенной книге «Знамения времени»19.
«Всебячиванию» как исторически неизбежному ресентименту,
с одной стороны, и потребности в самореализации в
демократическую эпоху, с другой стороны, похоже, и соответствует «беспредел
После интерпретации
563
интерпретации». Беспредел, которому древненовый комментарий,
опирающийся на исконный герменевтический импульс филологии и
философии — импульс и принцип «второго сознания» — полагает не
формальный, не техно-риторический предел.
Примечания
1
10
12
Шпет Г. Г. Герменевтика и ее проблемы // Он же. Мысль и слово:
Избранные труды. / Сост., предисл. и коммент. Т. Г. Щедриной. М.: РОССПЭН,
2005. С. 335.
См. об этом: Theunissen M. Möglichkeiten des Philosophierens heute // Ders.
Negative Theologie der Zeit. Frankfurt a. M., 1989. S. 21—25.
Бахтин M. M. Собр. соч.: В 7 т. Т. 1. М., 2003. С. 282.
Тайм Р. Гегель и его время. СПб., 1861. С. 6.
См.: Cassedy S. Flight from Eden: The Origins of Modern Literary Criticism
and Theory. Berkeley etc., 1990. P. 5—6.
Кант И. Ответ на вопрос: что такое просвещение? // Kant /.Werke. Bd. 1 /
Иммануил Кант. Сочинения. Т. 1. М., 1994. С. 125.
Пастернак Б. Л. Собр. соч.: В 5 т. Т. 4. М., 1991. С. 214—115.
На эту тенденцию в новейшем литературоведении справедливо указал
С. Г. Бочаров. См.: Бочаров С. Г. Сюжеты русской литературы. М., 1999.
С. 11.
См.: Поппер К. Логика и рост научного знания. М.: Прогресс, 1983.
См. об этом, в частности: Hadot Ilsetraut. Der fortlaufende philosophische
Kommentar // Der Kommentar in Antike und Mittelalter / Hrsg. von Wilhelm
Geerlings, Christian Schulze. Leiden; Boston; Köln, 2002. S. 182—199.
См.: Пумпянский Л. В. К истории русского классицизма (1924) // Он же.
Классическая традиция. М.: Языки рус. культуры, 2000. С. 33.
Интересен в этой связи драматический триптих шведского слависта Лар-
са Клеберга «Падение звезд» (1988; французский перевод — Париж, 1990),
героем которого является С. М. Эйзенштейн; третья часть («Пепельная
среда»), представляет собой воображаемый разговор между
Эйзенштейном и М. М. Бахтиным в московском планетарии в марте 1940 г. во
время работы Э. над постановкой «Валькирии» Вагнера в Большом театре (в
качестве художественного оформления и закрепления «пакта» Гитлера—
Сталина). Бахтин здесь говорит своему собеседнику-антиподу
(фактически характеризуя формалистическую парадигму как изнанку
идеалистической классики): «...вы лишь пали жертвой диалектической болезни.
Тезис, антитезис, синтез — злая троица. Поверьте мне, в нашем мире
граница между тезисом и антитезисом всегда условна, всегда в движении.
Иногда она исчезает полностью, иногда убегает от синтеза. Поэтому вы
любите замкнутую безграничность музыки Вагнера. Зеркало, где все
возвращается назад, храм эха. (...) Сойдите вниз и займите место в хоре, в
огромном хоре, который всегда был и всегда будет. Вслушайтесь в безмолвие
564
Раздел второй. Рассечение
хора. Станьте одним из безмолствующих». (См.: КлебергЛ. Пепельная
среда // Бахтинский сборник—II / Под ред. В. Л. Махлина. М.; Саранск, 1991.
С. 240.) Вслушаться в «молчание хора» (понятого по ту сторону «тезиса»
древних и «антитезиса» ново-современных) — вот новая древняя задана
речи современного гуманитария как «одного из безмолвствующих».
13 Goethe J. W. Maximen und Reflexionen. Berlin; Weimar, 1982. S. 62; Гёте И. В.
Собр. соч.: В 10 т. Т. 10. С. 425.
14 См.: Медведев П. Н. Формальный метод в литературоведении. Л.:
Прибой, 1928; М. М. Бахтин (под маской) / Под ред. И. В. Пешкова. М.:
Лабиринт, 2000.
15 Зонтаг С. Против интерпретации (1963) / Пер. В. Голышева // Она же.
Мысль как страсть. М.: Русское феноменологическое общество, 1997.
С. 9—18.
16 Ср.: «СССР сам взращивал диссидентов тем, что претендовал на позу
моральной претензии ко всему остальному миру в прошлом и
настоящем». — Аверинцев С. С. Знамения времени: Опыт христианской
ориентации // In memoriam: Сергей Аверинцев. М.: ИНИОН, 2004. С. 275.
17 Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура
средневековья и Ренессанса (1940). М.: Худ. литература, 1965. Ср. в этой
связи фиксацию исторической смены опыта при характеристике русского
«формального метода» в курсе лекций М. М. Бахтина в записи Л. В.
Пумпянского «Герой и автор в художественном творчестве», прочитанном в
ленинградском «кружке Бахтина» в ноябре 1924 г.; см.: Лекции и
выступления М. М. Бахтина 1924—1925 гг. в записях Л. В. Пумпянского / Под-
гот, текста и коммент. Н. И. Николаева // Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 1.
М.: Языки слав, культуры, 2003. С. 327—328.
18 См. об этом, в частности, книгу одного из французских критиков
«мышления 68-го года»: Рено А. Эра индивида: К истории субъективности.
СПб.: Владимир Даль, 2001.
19 Аверинцев С. С. Указ. соч. С. 280. Ср.: «Паки и паки — но в модусе
ставшего возможным лишь теперь беспредела — переживание старой
детской болезни, которой переболели еще в античности, во времена,
когда Аристофан выражал в своих "Облаках" общий шок по поводу
софистики, римляне сердились на грека, произносившего речи и "за", и
"против" одного и того же предмета, и множественность философских
доктрин породила еще одну доктрину — пирронизм. Сюда же: русский
формализм-структурализм — заново открыли известную любому
ритору техничность технэ. (...) Человек со времен софистов всегда был волен
принять наличие риторической рефлексии, множественности систем
аргументации, рынка конкурирующих доктрин культурных trends — как
приглашение к интеллигентному цинизму, и достаточно часто делал
именно это; но он мог попробовать переработать опыт как-то иначе.
Что-что, а это не ново» (там же. С. 285—286).
ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ И ФИЛОСОФИЯ*
Для того, кто связывает себя с философским цехом, тема нашей
конференции сама по себе может показаться формальной. Разве
философ не тот, кто мыслит «отвлеченно», т. е. отвлекаясь от ситуации
философствования и от своей аудитории, опосредованной этой
ситуацией? Между тем завязавшаяся в ходе нашего разговора
дискуссия, так сказать, ситуативно-конечна; предмет обсуждения —
«современное философское образование» — имеет свою объективную
подоплеку-энтимему: в 1989-м г., не говоря уж о 1979-м, ту же самую
тему мы, скорее всего, обсуждали бы иначе, чем теперь, в 1999-м.
Связь предмета философствования (в себе бесконечного,
«возможного») с ситуацией философствования (объективно-конечной) —
актуальный мотив современной философии; эта связь так или иначе
заявляет о себе в выступлениях, хотя принципиально почти не темати-
зируется нами. Я говорю об этом потому, что та позиция, которую я
попробую сформулировать и пояснить в связи с возникшей у нас
дилеммой: преподавать ли «философию»или «историю философии»? —
предполагает некое изменение взаимоотношения между тем и другим,
изменение, которое, как мне кажется, предъявляет новые и
совершенно оправданные требования к преподаванию гуманитарных наук
вообще, философии в нашем частном случае.
Если я скажу, что склонен упомянутую дилемму решать в пользу
истории философии, то я рискую, пожалуй, быть не вполне понятым
коллегами. Ведь под «историей философии» нас учили понимать,
собственно, не столько ее, сколько ретроспективно развернутый
генезис философской мысли, философского развития, осмысленный
задним числом из его результата, взятого за основание. История
философии при таком понимании — это история воззрений и учений,
как бы нанизываемых на хронологическую нить в пределах уже
ставшей (реже — становящейся) системы знания, системы истины
или истин; это история победы неизбежно одной системы знания
* Выступление на межвузовской научно-методической конференции
«Современное философское образование» (Иваново, октябрь 1999 г.).
566
Раздел второй. Рассечение
над относительными преддвериями («моментами») ее,
реконструируемыми задним числом и как бы допущенными в систематическое
единство истины в качестве таких преддверий.
Конечно, фактически такая схема — только идеальный предел,
которому настоящее философское исследование и преподавание
философии, к счастью, не соответствовали вполне и до конца даже в
самые худшие советские времена. Но карикатура имела прототип,
укорененный в авторитетнейшей философской традиции;
потребовалось все напряжение философской мысли XX в., чтобы поставить
эту традицию под вопрос, не разрушив, но обновив обретенную в ней
истину. Речь идет о так называемом «историцизме», точнее говоря, о
том, что можно назвать формальным историзмом XIX—XX вв.,
философскую модель которого легитимировал Гегель.
Кажется, ни одно завоевание западной философской традиции
не имело столь катастрофического по своим последствиям
перевода на русский философский язык, как имел формальный
историзм XIX в. Здесь не место говорить об этом подробно; для нас сейчас
важны только следствия происшедшего — следствия, которые в
пределах нашей дискуссии присутствуют не столько в качестве
теоретически мыслимых явлений, пребывающих «перед нами» или «до нас»,
сколько в качестве воспринятых в прошлом установок мышления,
ориентирующих и направляющих наше речевое сознание, речевое
мышление уже не в прошлом, а в настоящем времени.
Представление об «истории философии», которое я здесь
пытаюсь критически осознать как «другого-в-нас» («другое в разуме»),
преобладало до начала XX в.; оно не изжито и сегодня. Если
историю мысли (как и историю бытия) понимать как восхождение-
становление истины, как процесс, который ведет «ко мне»1, то тогда
окажется, что все, что в истории мысли уже только было —
например, Аристотель или Кьеркегор, Вл. Соловьев или М. Бахтин, —
либо не имеет самостоятельного значения (тем более —
преимуществ) перед лицом и судом наследников и потомков, либо,
наоборот, в качестве некоторой признанной раз навсегда, неизменной
ценности (совершенства) вообще отрешается от смыслового пред-
стояния, смыслового будущего (то есть эстетически завершается).
В том и другом случае смысл ирреализуется, в том и другом случае
смысл не может войти в своей актуальной равноправной полносмыс-
ленности в наш сегодняшний, в мой ценностно-смысловой мир.
Казалось бы, вряд ли кто из нас в здравом уме и памяти осмелится
считать себя выше и больше великих мыслителей прошлого; а между тем
История философии и философия
567
мыслительно-языковая презумпция формального историзма (а это
здесь он — «другой-в-нас») в буквальном смысле слова принуждает,
вопреки всякому здравому смыслу, быть последовательным — быть
«выше и больше» философской классики в акте суждения о ней, в
акте преподавания ее.
Драматизм переживаемого нами момента даже не в том, что в
известных кафкианских инстанциях нас уже, по слухам, готовы
«прикрыть», не слишком озабочиваясь (но было ли когда иначе?), как
людям дальше, ненаучно выражаясь, «выживать»; ужас и комизм
ситуации, кажется, в том, что в советское время философия, как ни
парадоксально, была не только определяема и управляема «новой
богословской школой» (как называл Г. П. Федотов русский коммунизм), но
и защищаема старым, традиционным почтением перед философией,
законсервированным, как ни странно, в нашем идеологизированном
тоталитарном обществе (подобно культу «литературы»); тогда как
теперь, в условиях внешней свободы, мы лишились почти всякой
защиты «сверху», оказавшись «снизу» один на один с ничем уже не
прикрытой реальностью.
Впрочем, не стоит преувеличивать: ситуация, когда мы
обсуждаем проблемы философского образования, в существе своем
примерно такая же, как и на Западе; это — важно, чтобы не думали,
будто мы в каком-то исключительном положении. Процессы там и
тут, как мне кажется, идут те же самые; но в западных условиях они
протекают более постепенно и «естественно», чем у нас. Когда
известный немецкий историк философии Микаэль Тойниссен
утверждает (в статье «О возможности философии сегодня»), что Э. Гуссерль,
основоположник большой философии двадцатого столетия, в своем
притязании на автономный характер философской мысли оказался
анахроничнее зрелого Маркса с его ориентацией на специальную
науку — политэкономию, потому что глава феноменологии явным
образом не желал признать, «насколько философия оказалась в
ситуации вне игры»2, то этим фиксируется некоторая общая на Западе и у
нас ситуация. Ситуация «вне игры», сама по себе относительно
нормальная и даже продуктивная для философии XX в. (в той мере, в
какой сами философы сумели признать эту ситуацию заслуженной),
как бы вдруг обрушилась на нас извне в постсоветском
пространстве. Оттого и происходящее с нами сегодня может показаться чем-то
внутренне совершенно неоправданным, случайным и недолжным.
А между тем (как это ни обидно) происходящее только частный и
крайний, «русский» случай общего хода вещей, имеющего необщий
568
Раздел второй. Рассечение
смысл у нас и в западной философии: для нас это ситуация краха
тоталитаризма на исходе двадцатого столетия, для
западноевропейской философской магистрали — ситуация известной исчерпанности
того, чего у нас не было, либо было, но в каких-то своеобразных,
«превращенных» формах.
Тезис, который я попробую прояснить в сжатом виде таков:
философия возможна сегодня уже только в качестве истории
философии — как в сфере исследования, так и в сфере преподавания. «Уже
только»означает здесь также и «только теперь». Самокритика и
самоограничение философского разума — условие возможности его
обновления посредством открытия незавершенности его прошлого,
подлинной истории философии.
Попробуем начать с простых очевидностей, которые у всех на
виду и зачастую не воспринимаются как значимые. Я имею в виду
общеизвестный факт существования в научно-философском
сообществе специалистов по тому или иному персональному философу;
таковы всегда и везде платоноведы, кантоведы, гуссерлеведы и т. д.
Такие специалисты, как правило, не являются историками
философии в обычном смысле, при том, однако, что они, конечно, имеют
дело, в большинстве случаев, именно с историей философии. Но кто
же он тогда, этот «узкий», но необходимый специалист, который, как
мы знаем, нередко дает основания для иронии, но который, тем не
менее, незаменим там, где знания и мнение такого специалиста
предохраняют нас от ошибок? Зачем нужен профессионал, посвятивший
себя, так сказать, не философии, но философу? Зачем нужен такой
специалист «по» Аристотелю, если уже были и Гегель, и Маркс, и Хай-
деггер? Зачем, если мы уже «прошли»не только девятнадцатое, но и
двадцатое столетие?
Это не риторические вопросы; ведь за ними скрывается и наша
проблема, а именно: если не «зачем», то «как» преподавать
философию — нефилософам и философам? Зачем философии ее же
прошлое? Зачем нам Гегель, если сам Гегель, утверждавший, что «ход
истории показывает нам не становление чуждых нам вещей, а наше
становление, становление нашей науки»3, утвердил своим
авторитетом такой образ мысли, который как раз в своей
последовательности требовал «снятия» и Гегеля, и его концепции становления, а
в пределе — как мы видим это в практике так называемого
«постмодерна» — привел к обращению и «концу» сам этот романтико-
гегельянский образ мыслей, который мы и назвали здесь
«формальным историзмом»?
История философии и философия
569
Простой факт существования специалистов по тому или другому
философу, на мой взгляд, знаменателен. Такой специалист —
оправданный корректив сложившейся и как бы завершенной «истории
философии». Наличие специалистов по Платону, Марксу или Вл.
Соловьеву указывает на то, что последнее слово об этих философах еще
не сказано. На это можно возразить: мол, специалисты, которых вы
имеете в виду, никогда не решали ни судьбы философии, ни даже
судьбы исторической рецепции философов; обновленная проблема-
тизация классического мыслителя, как правило, — дело не
«специалиста», а нового классика философии. И потом: разве кантовед,
например, способен изменить сколько-нибудь принципиально наше
общее представление о Канте и его месте в истории мысли? И не так
ли обстоит дело с любым философом?
Но подобный аргумент в пользу готового «общего
представления» в действительности уязвим теоретически и ограничен
исторически, поскольку сам представляет собою определенное
историческое образование — наследие формального историзма. Не «истори-
цизм», подменяющий богатство и многосмысленность чужой мысли
некоторой обобщенной, как бы завершающей эту мысль оценкой ее с
точки зрения последующего развития философии, но скорее
«историчность» (Geschichtlichkeit) как неисчерпаемая в своих
возможностях, незавершенная, абсолютная современность истории
философии — вот новый принцип, новое методическое основание как для
исследования, так и для преподавания философии. Подлинное
достижение философской мысли двадцатого столетия — это такое
понимание истории философии, при котором мышление прошлого на
его высотах невозможно однозначно «снять»; с ним можно только
«встретиться», т. е. вступить в отношение изнутри своей собственной
исторической ситуации.
Чем же фактическая историчность философской мысли, теории,
идеи или системы того или иного мыслителя отличается от внушенных
нам (переданных в качестве «традиции») представлений, образующих
в нашем речевом сознании «историю философии», какой мы ее
понимаем (и принимаем) в качестве само собой разумеющегося? И почему
традиция — в преподавании философии и во многом ином — может
быть благом, а может быть и ловушкой, отсекающей нас не только от
живой современности, но и от того, что составляет животворящий
источник всего подлинного — в нашем случае философии?
Отвечая на эти вопросы, стоит, опять-таки, держаться
повседневных («донаучных») феноменологических очевидностей. В самом
570
Раздел второй. Рассечение
деле: любое непредубежденное соприкосновение с философской
классикой сразу же обнаруживает, насколько не соответствует (и
сопротивляется) фактически помысленное великим мыслителем —
готовым, «обобщенным», как бы завершенным суждениям и оценкам,
какими бы оправданными и верными сами по себе они ни были. В
такого рода обобщающе-завершающих суждениях и оценках, как это
сплошь и рядом происходит в нашей повседневности, верное подчас
наблюдение незаметно переходит — в попытке схватить и подчинить
целое чужой мысли — в реакцию фактически разнообразного, мно-
госмысленного и незавершенного внутри себя единства к некоторой
транскрипции его в нашем сознании. Такая транскрипция чаще всего
и становится «традицией» — тем, что как бы общезначимо и надежно
можно передать другим в качестве «знания». На этом пути возможны
не только обеднения предмета, но и прямо роковые аберрации в
оценках целых эпох в истории культуры.
Вспомним в этой связи полемику Гадамера, основоположника
современной философской герменевтики, против неокантианской
модели истории философии как «истории проблем».
Аргумент Гадамера против «истории проблем», коротко говоря,
гласит: никакая, казалось бы, «вечная» проблема никогда и нигде не
существует в качестве одной и той же, равной себе проблемы; в
качестве неизменной она предстает лишь при ретроспективном
отвлечении от реального оплотнения ее внутри данной социокультурной
ситуации. Бесконечная и безысходная в себе и для себя, только
возможная проблема реальна — и постольку вообще может быть
понята — только как вопрос, мотивированный и заданный в данной
конечной исторической ситуации. По-видимому, одна и та же «вечная»
проблема — например, проблема свободы — ставится и, главное,
мотивируется совершенно иначе в разные исторические эпохи, и эта
разница (онтологически-событийное различие) впервые открывает
подлинность философской мысли, ее «присутствие» (если этим словом
переводить хайдеггеровское Dasein). «Действительно ли о свободе
во все века спрашивают одинаково? — спрашивает Гадамер. — Та же
ли самая эта проблема, что в платоновском мифе? Та же ли самая эта
проблема, когда христианская теология выставляет свои великие
теологические загадки и пытается разрешить их в антитезе человеческой
свободы и божественного провидения? И та же ли самая это
проблема, когда мы в нашу эпоху естественных наук ставим вопрос: как
надо понимать возможность свободы перед лицом сплошной
детерминированности природных процессов, перед лицом того факта, что
История философии и философия
571
все естествознание должно исходить из предпосылки, что в природе
не случается чудес? И формулируемая на этой почве проблема
детерминизма и индетерминизма воли — разве все та же проблема?»
Такая постановка вопроса о смысле постановки вопроса — ход
мысли, продолжающий начатую В. Дильтеем, Э. Гуссерлем и М. Хай-
деггером «деструкцию» (самокритику) западной метафизики, — в
контексте нашей дискуссии имеет непосредственное отношение к
возможностям преподавания философии сегодня. Ведь эти
возможности почти неотделимы от того, как ставится в современных
условиях вопрос о философии и ее истории.
Чем же фактическая историчность философской мысли, идеи,
проблемы отличается от презумпций формального историзма? И
почему «традиция» в истории философии (и, значит, в истории
философского образования) может оказаться не только благом, но и
ловушкой, неосознанной утратой связи с «жизнью», с конечным
условием возможности мыслить не вообще «истину», но воистину?
Отвечая на эти вопросы, желательно тоже держаться
феноменологических очевидностей. Любое непосредственное
соприкосновение с философской классикой, как говорилось, обнаруживает
как бы неожиданное, на первый взгляд, несоответствие между
актуальной открытостью, многосмысленностью, внутренней
незавершенностью настоящей мысли — с одной стороны, и однозначными,
готовыми, завершенными оценками ее — с другой. Платон и
Аристотель, Гегель и Маркс, Кьеркегор и Хайдеггер при чтении всегда и
больше, и лучше, всегда интереснее, чем мы о них «знаем». Между тем
в большинстве случаев то, что мы преподаем, — философское
образование, — это «знания», обобщенная транскрипция опыта чтения,
нередко к тому же не своего, а чужого. И здесь тоже возможны
конфликты между конкретной историчностью мышления и его
«традиционными» оценками, казалось бы, не лишенными своей истины. Так
бывает даже в оценках целых философских эпох. Эрнст Кассирер в
своей «Философии Просвещения» полемизировал с такого рода
аберрацией, производной от определенного типа философской
образованности. «Основным недостатком этой эпохи, — говорит Кассирер,
споря с романтически-гегелианской критикой Просвещения, —
принято считать непонимание дальнего и чужого, то, что она в наивной
самоуверенности провозгласила безусловной, единственно верной и
единственно возможной нормой свои мерки и прилагала их ко
всякому историческому прошлому. Но если и невозможно не признать за
Просвещением этой ошибки, то, с другой стороны, нужно сказать, что
572
Раздел второй. Рассечение
она же и отомстила ему — уже после просветительской эпохи. Ибо та
же самая гордыня умственного превосходства, в соответствии с
которой "нам лучше знать" и которую ставили в вину Просвещению,
сплошь и рядом заявляла о себе именно в оценках Просвещения»5.
Для нас здесь в особенности важно следующее: если отказаться от
исторически-ретроспективной традиционной схемы, в соответствии
с которой «нам лучше знать», то тогда «исторически дальнее и чужое»
окажется не таким уж далеким и не таким уж чуждым, как это может
казаться на расстоянии, да еще под углом зрения «историцизма».
Отметим в заключение ряд следствий из сказанного выше, в
подкрепление нашего тезиса о том, что философия сегодня не может и
не должна больше быть и преподаваться в качестве «Философии»,
но лишь в качестве вечного возобновления своих начинаний (в
отличие от внеисторических «начал»). Подлинное философствование
способно и в наше время сохранять свою подлинность и свое
достоинство.
Первое следствие диалектически парадоксально: живая
преемственность, непрерывность большой философской мысли с
наибольшей отчетливостью и определенностью обнаруживается в
моменты исторической прерывности социокультурного опыта, в
модусах конечного коллективного бытия-события. В отличие от
догматического негативизма постмодернистских «разрывов», новое
понимание истории (и бытия, и мышления) исходит не из мнимой
непрерывности, себетождественности хотя бы и «становящегося» смысла,
идеи и т. п., не из самосознания классического разума, в границах
которого всецело еще остается «деконструктивистское» мышление (тем
самым саморазрушаясь, ведь исторический опыт уже другой), но из
его же миросознания, из его исторической конечности, которая не
столько «детерминирована», сколько по-особому объективно
мотивирована. Дело идет здесь «о возобновлении мыслительного
напряжения, которое дает о себе знать на разрывах философского
словоупотребления»6.
Второе следствие, как и первое, тоже относится к существу
философского образования, поскольку то, что мы пытаемся осознать, —
это ведь историческое изменениесущества философии на исходе
Нового времени. Речь идет о возможности встречного «мыслительного
напряжения» как условии возобновления философской мысли извне
ее, т. е. в границах нашей собственной исторической ситуации,
исходя из нашей, по выражению М. М. Бахтина, «причастной внена-
ходимости». Философия реально существует не только и не столько
Другое лицо эпистемологии
573
в своих «результатах», сколько в актуальном временном горизонте
своих вопросов. Возобновить чужой вопрос в качестве одновременно
и чужого, и своего — это значит показать, каким образом и почему
мысль, идея, концепция является «вечной» как раз благодаря своей
«исторической ограниченности».
Но и обратно. Двигаясь в истории философии как бы от себя к
другому («чужому и дальнему»), мы не только вообще впервые
оказываемся способны понимать (в качестве конечных существ), но здесь,
по-видимому, впервые становится возможным подлинное (не
зеркальное) самопонимание, осознание трезвой и продуктивной
ограниченности всякой «идеальности». Преодоление, так сказать,
естественного утопизма философии (не той или иной идеологии, но
утопического импульса внутри самой философской мысли) и способность
сделать философию интересной, то есть «задевающей за живое»
всякого человека как человека (а не только «специалиста»), — это в
сущности одно и то же.
Примечания
1 «Прогресс — это длинный крутой подъем, который ведет ко мне», — так
иронически остро сформулировал Ж.-П. Сартр (в автобиографической
повести «Слова») неформальную презумпцию формального историзма.
См.: Сартр Ж.-П. Тошнота: Избр. произведения. М.: Республика, 1994.
С. 195.
2 Theunissen M. Negative Theologie der Zeit. Frankfurt a. M., 1992. S. 24.
3 Гегель Г. В. Ф. Лекции по истории философии. Книга первая. СПб.:
Наука, 1993. С. 71.
4 Гадамер Г.-Г. История понятий как философия // Гадамер Г.-Г.
Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991. С. 32—33.
5 Cassirer Ε. Philosophie der Aufklärung. Tubingen, 1932. S. X; Кассирер Э.
Философия Просвещения / Пер. В. Л. Махлина. М., 2004. С. 13.
6 Гадамер Г.-Г. История понятий как философия. С. 41.
ДРУГОЕ ЛИЦО ЭПИСТЕМОЛОГИИ
О книге Н.С.Автономовой «Познанием перевод»
Предметом научно-исследовательского интереса может быть, в
принципе, что угодно — предметом философского интереса скорее
будет и предмет, и самый интерес к нему, притом постольку, поскольку
персональная мотивация философского исследования выходит (и
выводит) за пределы «субъективного духа». В этом смысле
«современным», строго говоря, является такой философ-исследователь,
который умеет поставить в связь мотивационный контекст своего
предмета и своей проблематики с затекстом становления его,
исследователя, незавершенного настоящего — историчностью
изменений в общественном мире жизни, в языке и речевом общении, в
восприятии мира и в восприятии искусства, в научно-философском
познании, а равно и в том познании познанияу которое называется
«эпистемологией». Монография Н. С. Автономовой «Познание и
перевод»1, как мне кажется, — из ряда таких повышенно рефлексивных
исследований: историко-философская, историко-научная
ретроспектива почти неотделима здесь от поиска перспектив — условий
возможности современной теории познания, философского и научно-
гуманитарного мышления, условий возможности русского
философствования в постсоветской ситуации.
Нижеследующее — попытка не столько пересказать новую книгу
Н. С. Автономовой, сколько «разделить» (в смысле английского
глагола share) некоторые мотивы и проблемы, о которых в ней идет речь.
В книге встречается такое невеселое наблюдение: «За хорошее никто
не хвалит, за нехорошее с удовольствием ругают — хорошо еще, когда
за дело» (с. 353—354), Я постараюсь избежать такого отношения к
чужому труду. Каждая эпоха драматична и перспективна по-своему;
анализируя — через тридцать и более лет после первых подступов2 —
феномен французского философского структурализма, Н. С· Автоно-
мова, желает не реанимировать давно миновавшую моду, но
продолжить разговор, который, по убеждению исследовательницы, «ушел
в тень», оставшись незавершенным ни в одном своем проблемном
Другое лицо эпистемологии
575
измерении, менее всего — в эпистемологическом. В наши «нулевые»
годы, когда к напророченным структуралистами сорок лет назад
«концам» добавился, похоже, еще один — «конец разговора»
Нового времени, как бы вдруг лопнувшие напряжения и «горизонты
ожидания» XX в., — попытка переноса эпистемологической
проблематики из ретроспективы в перспективу может показаться
немыслимой не в большей мере, чем всякое ответственное философское
начинание. Ново в книге Н. С. Автономовой то, что такой перенос
осуществляется на путеводной нити понятия «перевод».
Метафора, но не только
Название книги у кого-то может вызвать недоумение: разве
познание не оригинальная деятельность, не «мышление как
творчество», тогда как перевод всего лишь переложение оригинала на
другой язык, а если и творчество, то, в лучшем случае, служебное и
вторичное, в худшем — самозваное или предательское («traduttore —
tradittore»!), — разве не так? Насколько корректен союз «и»,
связывающий в заголовке обсуждаемой монографии познание и перевод?
Нетрудно представить себе не только недоумение одних, но и
раздражение других возможных читателей Н. С. Автономовой. Не
предлагают ли нам под брендом «опытов философии языка» (как гласит
подзаголовок книги) в очередной раз какую-то претенциозную
невнятицу из области «всякой там филологии», для настоящей Философии
совершенно излишнюю и даже вредную, поскольку мы вот худо-бедно
закончили философский факультет тридцать, сорок или пятьдесят
лет назад, усвоили «главное» (главным образом — по переводам), а
сегодня благополучно перестроились, отгородившись почти от всего,
что произошло в философии за последние примерно сто шестьдесят
лет (после Гегеля и кроме Маркса), и это не мешает (скорее помогает)
свысока сокрушаться насчет того, «куда катится» философия,
разлагающаяся под тлетворным влиянием постмодернизма... Таким
коллегам, к сожалению, бесполезно рекомендовать книгу Н. А.
Автономовой; но, к счастью, они не составляют — уже или еще —
«компактного большинства» читателей научно-философской литературы в
наши дни.
Существенная взаимосвязь между познанием и переводом,
которая постулируется в обсуждаемой монографии, указывает в двух
направлениях: с одной стороны — на замысел автора, с другой
стороны — на не соизмеримые ни с чьим авторским замыслом или
«стратегией» объективные проблемные констелляции, мотивации и
576
Раздел второй. Рассечение
напряжения современной научно-философской мысли, отражением
и преломлением которых, несомненно, является и сама обсуждаемая
монография. Ведь любая интенциональность смысла или замысла,
любое притязающее на истину высказывание — это, по выражению
M. M. Бахтина, «двойное зеркало»: мысль отражает и преломляет не
только предмет мысли, но и сама отражается в до конца не
опредмечиваемом рефлексией контексте мысли со всеми ее предпосылками и
мотивациями. Под таким двойным углом зрения есть резон увидеть и
оценить предлагаемые Н. С. Автономовой «опыты».
Автор книги поставила перед собой задачу показать, что в
философии XX в., особенно во второй его половине, произошла, популярно
выражаясь, «смена парадигмы», связанная со спецификой
гуманитарного знания, — поворот, эпистемологической моделью которого
автор считает «перевод» — практику и опыт передачи любого смысла
средствами языка (посредством языка). Другими словами, Конец
Нового времени обернулся не только разного рода «кризисами», но и
настоящей революцией в способе мышления, не сводимой к так
называемому the linguistic turn («лингвистическому повороту»), но
происходившей в XX в., действительно, am Leitfaden der Sprache («на
путеводной нити языка»), как гласит название третьей части главной
книги Г.-Г. Гадамера «Истина и метод» (1960). Смысл или, точнее,
направление этой фронтальной тенденции, связывающей философское
и научно-гуманитарное мышление прошлого столетия с новым
столетием, по мысли Н. С. Автономовой, заключается в том, что в
современной философии структура «познания» чем дальше, тем больше
сближается со структурой «перевода». Тем самым предмет и понятие
«опыта» (и «практики») подвергаются радикальной трансформации.
Слово «перевод» в контексте книги приходится брать в кавычки,
но при этом важно все время иметь в виду «просто» перевод в
общепонятном смысле — без кавычек. Поскольку предмет исследования —
«познание как перевод и перевод как познание» (с. 7), в особенности
перевод философской и научной литературы и его роль «в создании
понятий, концептуальных систем, философских языков» (там же), а
основной предмет критики — «эпистемологическая наивность»,
забвение того, что, осваивая научно-философскую литературу, мы в
большинстве случаев читаем не оригинал, «ссылаемся, например, на
Платона так, как если бы он изъяснялся по-русски» (с. 9), то в центре
внимания Н. С. Автономовой оказывается нечто одновременно само
собой разумеющееся и наиболее трудноуловимое в силу
принципиальной подвижности, не субстанциальности своего способа бытия,
Другое лицо эпистемологии
577
а именно — «момент перевода, перевоза, переноса наших идей,
конструкций, выражений» (там же). Критическая функция перевода в
истории философии и в истории культуры состоит в том, чтобы
предохранить сознание и познание от «иллюзии схватывания всего сразу
и целиком» (с. 10).
Я говорю: везде перевод, хотя и не могу согласиться с тезисом о том,
что оригиналов не существует. Просто в культуре никто, ничего,
нигде и никогда не сказал в первый раз. (...) Перевод дает то, что
можно назвать продуктивной релятивизацией познавательного
предмета в гуманитарном познании: он предполагает отрыв от наивной
сращенности предмета и слова и показывает, что эта связь гораздо
сложнее, чем мы думаем (с. 13).
Понятие перевода, таким образом, оказывается, с одной
стороны, несоизмеримым с «самим» переводом, поскольку оно
рассматривается «на наиболее продвинутом этапе» эпистемологии, а
именно — как «последнее наиболее актуальное звено философской
проблематизации языка — после понимания, коммуникации и
диалога» (с. 15). С другой стороны, обсуждаемый феномен все время
остается, так сказать, самим собою, т. е. переводом с чужого языка
на свой родной язык, the target language. «Метафора, но не только» —
этот оборот, употребленный Н. С. Автономовой однажды по
конкретному поводу (с. 353), удачно передает суть дела. В обычном значении
«перевод» считается явлением «литературным» (филологическим);
но таким он выглядит скорее со стороны, в готовом виде (как текст).
Но как опыт переводчика, дело обстоит не совсем так, а в работе с
философскими текстами — как это убедительно, увлекательно и
«питательно» демонстрирует Н. С. Автономова на собственном опыте —
совсем не так. «Перевод» — универсальная метафора «различия», или
«другости», но не только метафора; речь идет, судя по всему, об
эпистемологическом различии — относительно новом, «неклассическом»
типе единства познания и опыта3.
Опираясь на современную тенденцию — обострившийся в
последнее время интерес к феномену перевода в западной философской
и научно-гуманитарной литературе, Н. С. Автономова «переводит»
свой биографический и профессиональный опыт филолога, ставшего
философом — исследователем и переводчиком французской мысли
на язык русской мысли, — на концептуальный и рефлексивный язык
современной эпистемологии. «В плане общефилософском перевод
может рассматриваться как один из наиболее надежных механизмов
578
Раздел второй. Рассечение
переноса внешнего опыта во внутренний и обратно, как одна из форм
рефлексивности» (с. 22). Слово «опыт» в этом тезисе, похоже, имеет
решающее значение; оно здесь могло бы, пожалуй, конкурировать с
понятием механизма и даже, возможно, с понятием рефлексивности.
Речь идет, таким образом, о смене эпистемологической модели
опыта в «междучеловеческом» и «межкультурном», разноязычном и
разноречивом современном мире — опыта, составляющего скорее
донаучную и Эотеоретическую (а не экспериментально-гипотетическую,
как в так называемых опытных науках) предпосылку наук общественно-
исторического мира жизни, чаще называемых «гуманитарными»; а
равно и предпосылку философии, опирающейся на такой опыт. В этом
отношении французский структурализм в лице К. Леви-Стросса,
М. Фуко, Ж. Деррида и других — как показывает в своем
исследовании Н. С. Автономова — продемонстрировал не столько «конец»
философии, сколько резко возросшую в XX в. и продолжающую все
возрастать зависимость философских обобщений от реальных
процессов и феноменов. Согласно Н. С. Автономовой, структурализм —
это не столько философия, сколько «общая методология, имеющая
определенные философские предпосылки» (с. 30). Этот тезис
показывает предпочтения автора как эпистемолога и «методолога», но также
указывает в направлении теоретико-методологических исканий
философии «после» структурализма и независимо от структурализма —
с учетом его опыта, а равно и в обход «тоталитарных» теоретических
крайностей структуралистской семиотики (зачастую возникавших,
как известно, в отталкивании от политического тоталитаризма).
По мысли автора книги, структурализм4 по-прежнему актуален
в наше время своим особым вниманием к «структуре». «Даже беглый
взгляд на историю гуманитарного познания, — отмечает Н. С.
Автономова, — показывает, что мысль о структуре — путешественница:
она не идет по прямой линии, но проходит ряд эпизодов,
претерпевает ряд метаморфоз» (с. 30).
В самом деле, понятие «структура» приобрело философско-
методологический статус перед Первой мировой войной в так
называемой «школе Дильтея», т. е. на немецкой почве Geistesgeschichte
(«духовной истории») и идущей от В. Дильтея (1833—1911),
основоположника современной философии гуманитарных наук,
эпистемологической программы «критики исторического разума»; но вскоре в
самой структуре общественно-исторического опыта, судя по всему,
произошли настолько радикальные изменения, что, начиная уже со
второй половине 20-х гг. прошлого столетия, термин «структура»,
Другое лицо эпистемологии
579
если можно так выразиться, чтобы остаться в науке, все больше
становился лингвистическим и «сциентистским» таким интересным
образом, что «с помощью русского феноменолога Густава Шпета
понятие структуры Дильтея и Шпрангера вошло окольным путем через
Россию в терминологию западной лингвистики и было в ней
изменено до неузнаваемости»5.
Для Н. С. Автономовой, однако, история «мысли о структуре»
имеет несколько другой интерес и совсем другой акцент, чем у только
что процитированного историка немецкой философской
герменевтики XIX—XX вв. По мнению отечественной исследовательницы,
французский философский структурализм оказал такое сильное
влияние во второй половине прошлого столетия на научные
дисциплины (и на общественное сознание) по двум основным причинам,
которые исторически нераздельны, но эпистемологически должны
различаться. Структурализм, во-первых, был восприемником
философии экзистенциализма и общественно-политической кульминации
экзистенциалистской эпохи вообще (эта кульминация, как известно,
имела место во Франции примерно между 1942-м и 1952-м годом); при
этом структурализм опирался не столько на «философию», сколько
на «науку» (точнее — науки). Во-вторых, немецкая
Existenzphilosophie, которая была захвачена «поиском дорефлексивной
определенности» (с. 38) человека и мира и принципиально оппонировала
рационализму Нового времени, — в истории ее рецепции на родине
Декарта, Конта и Башляра столкнулась с мощной и жесткой
рационалистической традицией, и это столкновение было пережито поколением
М. Фуко с «такой остротой, какой не знала ни одна другая европейская
страна» (с. 37). Какой перспективой оборачивается эта ретроспектива
структурализма сегодня, на Западе и в России, коль скоро, по
убеждению Н. С. Автономовой, вопросы философии и гуманитарных наук
ставятся в наше время «иначе», чем еще 20 лет назад (с. 22)?
Возможности обновления понятия структуры и возможности
расширения области эпистемологии — вот чем, похоже, автор
обсуждаемой монографии особенно дорожит в истории структурализма,
подчеркивая не столько сходство, сколько отличие его от
«постмодернистской парадигмы» (с. 81) последних десятилетий, в которой
научно-гуманитарный, методологический поворот 1960-х гг.
оказывается, в сущности, забыт и, того хуже, подменен совсем другими
вещами. Продолжая ход мысли Н. С. Автономовой, можно, вероятно,
сказать так: традиционная «субъект-объектная» модель познания
Нового времени, в границах которой познающий субъект в принципе
580
Раздел второй. Рассечение
одиНу постепенно сменяется в различных (даже конфликтующих
между собою) философских направлениях и традициях мысли такой
моделью опыта, в основании которой обнаруживается относительно
новое для эпистемологии отношение (взаимоотношение): я — другой;
структурализм во Франции выразил эту тенденцию 40 лет назад с
такой остротой, какой не знала ни одна другая европейская страна6.
Но если так, то у познания оказывается уже не одна, а в принципе
две (и больше) инстанции, не один и тот же опыт, но как минимум
два опыта, а в пределе — множество опытов, более или менее
переводимых (а иногда и не переводимых) на языки друг друга.
«"Неклассические" субъект и объект, — комментирует Н. С. Автономова
эпистемологическое событие, метафорой которого, но не только,
представляется ей "перевод" — не внеположны друг другу в своей
самодостаточности, но сочленены и взаимосоотнесены, причем сама
возможность взаимоотношения требует, чтобы оба эти элемента
включали в себя постоянную и непреодолимую "нехватку" (manque),
заставляющую их стремиться друг к другу, раскрываться друг перед
другом» (с. 226).
В процитированных строках подчеркнем не тематизированное
автором напряжение — напряжение между эпистемологией и
антропологией, которое Н. С. Автономова, я думаю, не столько
«заимствует», сколько «наследует» у структуралистов, и ниже у нас будет
повод вспомнить об этом в связи с тем, что представляется мне
основным противостоянием и «противочувствием» русской научной
и духовно-идеологической культуры вообще.
Заостренные структурализмом проблемы исследовательница
переносит (переводит) из структуралистской эпохи — эпохи,
закончившейся на наших глазах «теоретически» и «идеологически» в момент
коренного изменения всей геополитической ситуации в конце
прошлого века7, — в новое (если не «радикально иное») состояние вещей,
в нашу современность после постсовременности*. «По-видимому, —
пишет Н. С. Автономова, — сейчас завершается относительно
цельный период в развитии европейской философии, а потому вновь
возникает потребность в том, чтобы говорить, думать, действовать
иначе» (с. 204).
Это можно выразить и так: закончилось «Новое время»,
включая и его «конец» в прошлом столетии; мы, по-видимому,
вступаем в относительно новое измерение всех вещей, и этот выход или
исход, как всегда бывало в истории, похоже, и в самом деле требует
от нас «говорить, думать, действовать иначе». «Иначе» относится
Другое лицо эпистемологии
581
и к проблематике структурализма, которая не сводится к истории
структурализма: «в отличие от тех давних времен, вопросы о
"возврате к субъекту" и о "реактуализации структуры" сейчас встают
перед нами одновременно» (с. 44). А между тем как раз
последователи структурализма оказались хуже, чем эпигонами;
последователи «были захвачены поэтическим импульсом, соблазнившим
философию» (с. 42).
Поэтому-то и нужен «перевод», точнее — «обратный перевод»;
так назвал выдающийся отечественный германист, историк культуры
и переводчик А. В. Михайлов (1938—1995) стратегию возвращения к
оригинальным источникам питания культуры, как бы забытым в
результате исторического развития (модернизации) этих источников9.
Анализируя концепцию А. В. Михайлова (с. 44—45), Н. С. Автоно-
мова, на мой взгляд, с большей отчетливостью, чем автор концепции,
передает («переводит») идею «обратного перевода»:
История в собственном смысле слова не может быть переделана, но
она может быть переосмыслена (с. 98).
Это и есть, судя по всему, перемещение из ретроспективы в
перспективу в истории мышления, о чем говорилось выше. Автор книги
«Познание и перевод» пытается одновременно поставить
эпистемологическую проблему такого перемещения-переноса-перевода-
переосмысления и реализовать, разрешить эту проблему на историко-
философском и историко-научном материале французского
структурализма. В этом смысле эпистемологическая связка «познание и
перевод» представляет собою «последнее наиболее актуальное звено
философской актуализации языка — после понимания,
коммуникации и диалога» (с. 15).
Другими словами, нужен другой язык разговора для того, чтобы
удержать предмет разговора, сложившегося в прошлом столетии и, в
известном смысле, выродившегося в то самое, что Хайдеггер когда-то
назвал Gerede («болтовней»). Как сказал английский коллега-славист,
когда в разговоре я пожаловался, что конференции и разные «круглые
столы» в последнее время как-то малоинтересны, недостает
заинтересованных дискуссий, в сущности, мало кто кого слушает (и слышит),
кроме себя: «Да, понимаю, все всё знают». — Настоящий эпиграф к
ситуации «конца разговора»!
Если разделить неослабевающий интерес Н. С. Автоно-
мовой к французскому структурализму, а это значит — перечитать
582
Раздел второй. Рассечение
и «перевести» прогремевшие в 1960-е гг. исследования М. Фуко,
Ж. Деррида и других в нериторическое, немодное, «немотствующее»
духовно-идеологическое время-пространство наших дней, то
возникает полуподозрение-полувопрос. А что, если риторически и прово-
кативно возвещавшееся тогдашними властителями дум «событие»,
événement, стало по-настоящему обозримым не тогда, когда оно было
событием в общественном умонастроении и научно-философском
сознании, но вот уже сегодня, «после всего», когда никого, кажется,
не смутить и не задеть за живое никакими «экзергами» текста и
письма?10
Композиция обсуждаемой монографии рельефно передает
замысел автора: опыт Н. С. Автономовой в работе с текстами М. Фуко11,
Ж. Деррида12, с психоаналитической литературой13, о котором идет
речь в первом разделе книги («Познание и язык») в связи с
выявлением проблемной незавершенности (на этом настаивает
исследовательница) идей и открытий французского структурализма, —
во втором разделе («Перевод, рецепция, понимание»)
оборачивается подступами к новой эпистемологии, ориентирующейся на эту
самую проблемную незавершенность, — на «эпистемологию
перевода» (с. 504). Таким образом, внешняя композиционная
последовательность изложения заключает в себе внутреннюю
взаимообратимость обеих частей книги: в любом месте текста, при любой
вариации основной темы заявляет о себе сознательная установка —
«возврат фокуса внимания в 1960-е годы и затем — движение навстречу
нынешнему моменту» (с. 29).
Тем самым история, можно сказать, вводится в эпистемологию
особым образом и в особом смысле. Прошлое философского и
научно-гуманитарного мышления — это не только и не просто то,
что «было»; в структурализме как-то уже было то, чего в истории
рецепции структурализма скорее отсутствовало, т. е. не нашло
творческого продолжения и в конце концов почти перестало
восприниматься, сделавшись общими местами, тем, что «все знают».
Мало того, по наблюдению Н. С, Автономовой, у
продолжателей структурализма эпистемологическая проблематика уступила
место некоему новому субъективизму и эстетизму, а это — симптом
каких-то глубоких смещений и «децентраций» как в общественном,
так и в научно-философском сознании. В истории рецепции
французского структурализма, как старается показать автор
обсуждаемой монографии, решающую роль сыграло особое, переконтексту-
ализирующее «влияние» Фуко, Деррида и других в США — влияние
Другое лицо эпистемологии
583
the French theory («французской теории»), которое, в свою очередь,
было импортировано на бывшее советское пространство. «В его
работах, — говорит Н. С. Автономова о М. Фуко, — всегда присутствует
проблемное одушевление пусть не всеобщими, но "общими"
вопросами» (с. 87). Напротив, в американских и русских рецепциях М. Фуко
или Ж. Деррида тон задает постмодернистское раздирание общих
вопросов и общего мира людей, самой идеи общности (с акцентом на
безразличной самоценности, или «идентичности», всех возможных
различий, вследствие чего деградирует и само понятие «различия»).
Поэтому и нужен «обратный перевод» — и, разумеется, не только
французского структурализма.
Монография Н. С. Автономовой, таким образом, по способу
подхода к материалу выходит далеко за пределы обычного историко-
философского исследования. В так называемой истории идей
Н. С. Автономову интересуют не только идеи или теории сами по
себе, но и не «архив» идей и теорий. Из трех способов репрезентации
истории, выделенных в свое время Ницше — «монументального»,
«антикварного» и «критического», Автономовой, несомненно, ближе
последний. Опыт современной мысли далеко увел ее и от
формального историзма XIX в., и от антиисторизма традиционной теории
познания. Известная «отвязность», проникшая в последние два
десятилетия в философию и часто опирающаяся на тех французских
авторитетов, которых Н. С. Автономова сама же переводила и
продолжает изучать, — так же чужда этой исследовательнице, как и
марксистская схоластика советского (и не только советского) образца,
которую Н. С. Автономова довольно здраво отделяет от серьезной
марксистской мысли (как западной, так и советской). Кроме того, при всем
своем интересе к современной западной философии автор, как можно
заметить, очень остро ощущает себя «по жизни» российским
исследователем, русским переводчиком не в формальном лингвистическом,
но скорее в «металингвистическом» смысле — мотив, на котором мы
остановимся ниже.
Но тогда самое время спросить: в направлении чего (или к чему)
идет научно-исследовательский поиск, коль скоро его, этот поиск,
вряд ли можно квалифицировать (тем более — оценить) в терминах
какого-либо trend'a при том, однако, что в книге Н. С. Автономовой
как-то «сложились» (сфокусировались) основные философские,
научные и, конечно, «ино-научные»14 импульсы нашей «современности
после постсовременности»?
584
Раздел второй. Рассечение
К гуманитарной эпистемологии
На обложке обсуждаемой монографии изображена Вавилонская
башня — причем не одна. Дело не в том, что языков в мире не один,
а множество; дело в том, какое значение приобрел этот факт в
современной философии.
В самом деле, исконный (если не «основной») вопрос
философии: каким образом мыслимое единство мира сочетается с его
«фактичным» (по слову молодого Хайдеггера) разно- и многообразием —
на исходе Нового времени предстал в новом свете, а именно — как
проблема logoi («речей») в их соизмеримости (или несоизмеримости)
с ratio, «разумом». Вот, похоже, тот разрез, та жизненная взаимосвязь
и проблемная констелляция, в горизонте которых «познание» и
«перевод» сближаются, взаимоосвещаются и взаимообращаются, а
эпистемология приобретает, странно сказать, филологическое (точнее,
историко-филологические) измерение. Как это понять, и как такое
стало возможным?
В контексте одного советского переводческого «состязания» с
поздним Хайдеггером Н. С. Автономова пишет: «Философ хранит
мысль, предметность, филолог более адекватно представляет стиль.
Но вместе с тем филолог реконструирует и понимает тексты, а
философ просто их берет, пользуется ими для своих нужд и своих
ассоциаций, ничего не выверяя и не проверяя. История философии
вообще невозможна без филологов» (с. 478). Важно, как мне кажется,
следующее: Н. С. Автономова говорит об эпистемологии в связи с
«историей философии», понятой не столько в традиционном — так
сказать, формально-пропедевтическом, — сколько в современном
смысле. Речь идет об условиях возможности радикальной ревизии
и обновления философии в ее истории; в этом направлении, как мы
видели, исследовательница стремится переосмыслить-перевести
историю структурализма, будь то К. Леви-Стросс или Р. О. Якобсон,
М. Фуко или Ю. М. Лотман, вскрывая герменевтический потенциал
этой истории как незавершенной и актуальной на более глубоком
уровне со-временности.
Уместно заметить, что изначальные («оригинальные») импульсы
по-новому историчного подхода к истории философии, который
здесь, явным образом, имеется в виду, — в горизонте самого
структурализма почти уже «не видны»: они либо перекрыты
структуралистами путем перевода-переноса «экзистенциалистских» импульсов (и
по-новому прочитанного Гегеля) на язык анти-экзистенциалистской
Другое лицо эпистемологии
585
мысли (на Западе), либо перекрыты без перевода оригинала из-за
отсутствия оригинала (в СССР). Поэтому-то очень важная, даже
решающая для всей концепции Н. С. Автономовой аргументация в пользу
переосмысления взаимоотношений философии и филологии, к
сожалению, едва ли убедит и вдохновит эпистемологов, воспитанных в
границах естественнонаучного типа мышления и познания. Вряд ли,
потому что в книге «Познание и перевод», как было отмечено, речь все
время идет о другом типе мышления и познания и, соответственно, о
другой эпистемологической модели опыта.
Переворот («революция») в представлении об истории
философии (и об истории вообще) в истории современной философии
связан, как известно, с преподавательской деятельностью молодого
Хайдеггера во Фрайбурге и Марбурге в 1920-е гг. (но, конечно,
далеко не только одного Хайдеггера и далеко не только в философии).
Вот почему, кстати сказать, советские и постсоветские «состязания»
с поздним Хайдеггером, почти отказавшимся от традиционного
научного языка мысли ради по-новому понятой «поэзии понятий»,
обречены остаться более или менее кустарными и карикатурными, в
традиционном жанре так называемого свободного русского мыслитель-
ства («полетов во сне и наяву», как выражается Н. С. Автономова),
но с нетрадиционным постмодерным убеждением, что, так сказать,
«каждый сам себе Хайдеггер». Для философии, мнящей себя
фундаментальным знанием «о главном» и не способной поставить под
вопрос историчность и «конечность» своих оснований и идеалов,
несомненно, сама идея филологии не может не быть глубоко и безнадежно
чужда.
Дело в том, что «филология» — это не только и не просто
«любовь к слову»; скорее это любовь к чужому слову, к чужой речи. В
горизонте филологического мышления философская проблема
«дуализма», скорее всего, так же невозможна и нелепа, как в кругозоре
абстрактно-теоретического, «апофантического» мышления (которое
после Бубера, Ясперса, Марселя, Гадамера и нашего Бахтина чаще
называют «монологическим») «в идеале» невозможен и не нужен
перевод, поскольку здесь невозможен и не нужен другой15.
«Взгляд на познание сквозь призму перевода» (с. 12),
постулируемый Н. С. Автономовой, продуктивен для такой философии,
для которой история философии является «основанием
современного философского рассуждения»; речь идет о перспективе «новой
несубстанциальной онтологии, предполагающей осознание непер-
возданности (переведенности, переложенности, пересказанности,
586
Раздел второй. Рассечение
переформулированности) объекта» (с. 12, 13), о
«ненатуралистической эпистемологии», методологическая проблема которой возникает
не сама по себе, но в силу расширения познаваемой реальности —
расширения, которое обнаруживает «несоизмеримость различных
способов познавательного опыта» (с. 16).
В самом деле: смысл, понятие, тема, проблема, идея, даже
«учение» или «догма» — это не что-то такое просто сказанное и
записанное однажды раз навсегда, готовое и завершенное; мышление
ни только «вечно» (и неизменно), ни только «временно» (и
относительное). Филолог, конечно, никогда не заменит философа; но
филология незаменима для философии именно как «служба
понимания» (согласно знаменитому энциклопедическому определению
С. С. Аверинцева); в особенности, подчеркивает Н. С. Автономова,
для современного русского философствования. «Просто так
перенестись на ковре-самолете в какое-то новое пространство мысли
невозможно» (с. 423). Монографию «Познание и перевод» можно в
целом рассматривать как впечатляющий и разносторонний
комментарий к этому утверждению16.
Мало сказать, что три по-прежнему доминирующих в
современной философии традиции, или парадигмы, — немецкая
герменевтическая, французская структуралистская и англосаксонская
аналитическая, — при всех различиях и конфликтах между ними
ориентированы на «философию языка». Не будет преувеличением сказать,
что на исходе Нового времени (для широкой научной
общественности — начиная с 1960-х гг., но фактически уже в 1920-е—1930-е гг.)
открылась как бы обратная сторона Луны, другое, не «логоцентриче-
ское» измерение Логоса и рациональности. Взаимоотношение между
мышлением и речью, между разумом и словом не впервые в истории
философии, но, кажется, впервые так радикально и фронтально
именно в XX в. было поставлено под вопрос и продуктивно реляти-
визировано в отталкивании, ближайшим образом, от абстрактно-
теоретизирующей, «сциентистской» парадигмы Нового времени,
ориентированной на естественнонаучное мышление, — в
отталкивании от «Konsruktionen» (как выражался В. Дильтей еще в
позапрошлом веке). Сегодня «логос» стал «дискурсом» — не только и
не столько в качестве альтернативы «классическому» разуму
(идеализму), сколько в качестве существенного восполнения и обогащения
«вечной философии» в ее истории. К.-О. Апель назвал интересующее
нас событие «трансформацией философии»17. Но эта трансформация,
явным образом, находится в тесной связи с тем, что можно назвать
Другое лицо эпистемологии
587
«филологизацией философии»: исконные проблемы «текста»,
«контекста», «чтения», «автора», «интерпретации», «рецепции» и, конечно,
«языка», — исконные проблемы филологии и «герменевтики», —
начиная с 1960-х гг., почти повсеместно сделались философскими
проблемами, не исключая и эпистемологию.
На этом фоне проблема познания и перевода, поставленная
Н. С. Автономовой, как мне кажется, представляет собою
эпистемологическое обращение исконной филолого-герменевтической
задачи — «правильно понять речь другого» (Ф. Шлейермахер), в
пределе — выяснить взаимоотношения с современниками и разновре-
менниками как другими для меня в общном для нас мире истории. Суть
дела, понятно, не в ссылках на авторитетные имена и не в цитатах.
Реальная перспектива, по-видимому, заключается в том, что бинарная
оппозиция «классической» и «постклассической» философии и
теории познания, возможно, со временем уступит место более
сложному представлению о философском (и научном) знании18. Старая
парадигма, разумеется, не уйдет просто в небытие, она только займет
более скромное место, станет, по выражению А. А. Ухтомского,
«частностью и провинциализмом». Огромная роль в не завершенном и
поныне обращении, или революции, эпистемологии, бесспорно,
принадлежит французскому структурализму — и «вопреки», и
«благодаря» отмеченному выше напряжению между эпистемологией и
антропологией, между «структурой» и «историей», «гуманизмом» и
«сциентизмом» и т. п.
«Нехватку» (manque), то, чего остро недостает современной
философии, я бы определил как «гуманитарную эпистемологию» —
научно-философскую дисциплину, ориентированную на познание
«мира жизни», Lebenswelt (H. С. Автономова в таких случаях обычно
говорит о «культуре» и «науках о культуре», используя
неокантианскую терминологию) с его вполне специфической моделью опыта, с
его особой, не чисто теоретической, не «апофантической»
(аристотелевской) логикой.
У эпистемологии, судя по всему, открывается другое лицо,
потому что у нее обнаруживается другой предмет. Речь идет не о чем-то
вообще «новом», тем более — не о еще одной теоретизированной
или эстетизированной «конструкции». В контексте того, что поздний
Гуссерль назвал (в так называемом Венском докладе 1935 г.)
«абсолютной историчностью», новое — это и вправду «хорошо забытое
старое» в вечном нериторическом споре «древних» и «новых». Если
не ошибаюсь, я говорю о «гуманитарной эпистемологии» примерно
588
Раздел второй. Рассечение
в том же смысле, в каком Н. С. Автономова говорит в своей книге
о «сравнительной эпистемологии», или «ненатуралистической
эпистемологии», которая «питается опытом истории, филологии,
философии» (с. 638). Во всяком случае, речь идет о такой эпистемологии,
критическая функция которой — это стоит подчеркнуть — связана с
филологической (историко-филологической) культурой мышления и
подхода к «тексту». Н. С. Автономова следующим образом поясняет
актуальность этой взаимосвязи:
В отличие от «живого процесса философствования» история
философии допускает вовнутрь себя филологическую работу, исходящую
из постулата об опосредованности всякого знания, о
невозможности «чистого», «непосредственного» восприятия текста другой
эпохи и культуры. Философы нередко считали, что, находясь в поле
философского понимания (спрашивается: как в него попасть?), мы
можем непосредственно начать читать и понимать любого автора из
любого места. Однако при этом нередко возникают случаи,
когда философ читает в историко-философских текстах скорее самого
себя, нежели изучаемого автора. (...) Похоже, что без филолога
философ рискует слишком поддаться естественному нарциссизму
собственной позиции (с. 637—638).
В этой позиции Н. С. Автономовой, как мне кажется, важна,
прежде всего, выстраданная правда досоветского, советского, а
теперь и постсоветского опыта — правда, которая относится не столько
к взаимоотношениям «эксперта» и «человека с улицы», сколько к
специфическому «всебячиванию» как тенденции современного
сознания, которую Н. С. Автономова связывает в особенности с
«постмодернистской парадигмой», отличие которой от
структурализма (французского и советского) представляется
исследовательнице принципиальным19.
Примечательно, что в структуралистскую эпоху с ее культом
«текста» отмеченную тенденцию особенно ярко и последовательно
выразили у нас не столько «почвенники», сколько «западники»,
в 1970—80-е гг. «культурно» уходившие от марксизма (точнее, от
неофициально уже «погасшей в уме» веры в советский общественный
идеал и в соответствующую версию мировой истории) — «назад» к
культу по-новому несчастного сознания, картезиански свободного
разве что «в тексте» и «в культуре», так сказать, к культу личности
«снизу» и «с точностью до наоборот»20. Ирония истории, выпавшая
на долю «несчастного советского человека» также и в философии,
Другое лицо эпистемологии
589
похоже, состоит в том, что его уделом не мог не сделаться, в конце
концов, тот самый «платонизм варваров» (Piatonismus der Barbaren), в
котором молодой Хайдеггер обвинил практически всю современную
ему философию (включая своего бывшего научного руководителя
Г. Риккерта)21, и который в ситуации кризиса и краха российского
«политического тела» вступил в «состязание» именно с поздним Хай-
деггером (легко «перепрыгнув» через раннего, которого как бы и не
было). Ниже у нас будет повод вернуться к вопросу об этой историко-
философской лакуне.
«Сравнительная», «ненатуралистическая» (гуманитарная)
эпистемология требует не «ускорения», но «замедления» якобы
живого философствования, которое часто видит в мысли и рефлексии
не путь, но препятствие к тому, чтобы хапнуть — не только
материально, но и духовно — «сразу весь капитал» (как хотелось герою
романа «Преступление и наказание»). Этот последний момент подводит
нас к обсуждению того, что, может быть, не вполне адекватно
следовало бы назвать «идеологией перевода» в книге Н. С. Автономовой.
Не проклятье, но вызов
До сих пор речь шла в основном о концепции, которую мы
пытались выявить и прокомментировать; но фактически концепция
представлена на почти необозримом материале и разветвляется на
множество тем, отдельных рассуждений и суждений, которые
представляют относительно самостоятельный интерес и ценность. Единство
и множество; специфика философии и ее перспективы; феномен
разноязычия; философия и филология; условия возможности и
трудности современного русского философствования; проблема
«концептуального языка» русской мысли в прошлом и обозримом будущем;
«литературоцентризм» русской культуры и связанные с ним
эстетические аберрации, но также и его преимущества и потенциал;
завершенность и незавершенность структурализма — западного
философского и советского филологического; теории символа; история
понятий и семантики понятий; роль «рецепции» в истории философии
и культуры; специфика «постмодернистской парадигмы» как
серьезного оппонента (а не пугала) эпистемологии, — таков неполный
перечень тем, обсуждаемых на страницах монографии Н. С.
Автономовой. Из всего этого множества я остановлюсь на одном мотиве или,
точнее, взаимосвязи мотивов: это — новые и старые трудности
философствования в России, как они открываются в соприкосновении с
современной западной философской и научно-гуманитарной мыслью
590
Раздел второй. Рассечение
в конкретном опыте перевода иноязычных текстов на русский язык.
Дело не в том, что этот аспект книги «Познание и перевод» интересует
меня как рецензента книги, — он волнует автора книги.
Далеко не каждый переводчик умеет передать-перевести свой
опыт работы на язык предметного рассуждения и обсуждения. По
моим наблюдениям, как раз не склонные к теоретизированию
переводчики (обычно — филологи), пытаясь перевести свой опыт на
общепонятный язык, «ударяются в теорию»; в результате опыт
обедняется, а теория окарикатуривается. Иногда переводчик может
интересно описывать cases («случаи») из своего опыта, но не более того:
частные случаи, как правило, остаются эмпирическими
наблюдениями и не становятся «феноменами» в смысле Гете, которые —
«сами теория». С другой стороны, профессиональные философы в
советское время почти не занимались переводами: для этого не было
объективно — вызова и повода, субъективно — интереса и нужды;
тот факт, что первыми переводчиками «Бытия и времени» Хайдег-
гера (1927) на русский язык оказались в 1990-е гг. не философы, но два
филолога (правда, не обычных) — А. В. Михайлов и В. В. Бибихин, в
известном смысле символичен.
«Все европейские философии, кроме, кажется, греческой, —
пишет Н. С. Автономова в начале своей книги, — возникли в процессе
перевода с одного языка на другой, с одной культуры на другую» (с. 7);
но лишь в последнее время этот общеизвестный факт начал
приобретать некое новое значение, причем не «внутри» философии, а на
стыках и пересечениях философии с научно-гуманитарными
дисциплинами — филологией, историографией, литературоведением,
текстологией и др. (там же). В лице Н. С. Автономовой наше научно-
философское сообщество имеет довольно редкое сочетание
филолога и эпистемолога, способного вообще подступиться к
философской современности и не отступиться от ее вызовов. Здесь мало
владеть даже несколькими европейскими языками (хотя это
необходимо); в переводе как метафоре, но не только, решающим является
владение своим (родным) языком, и не просто владение, но личное
отношение к нередуцируемому, непреодолимому различию между
родным языком, the mother tongue, и тем, с которого переводчик
переводит. Это личное отношение — решающий момент
самоопределения всякого переводчика, в данном случае — русского переводчика
научно-философской литературы. Но можно ли рассказать
переводческий опыт так, чтобы личным отношением, «личным примером»
учить истине перевода7.
Другое лицо эпистемологии
591
Н. С. Автономова, похоже, отдает себе отчет в том, что
теоретически научить других людей истине перевода — невозможно; но
практически она это самое и делает. Здесь имеет место парадокс,
русскоязычному читателю известный, скорее всего, не по философии,
а по шутливому стиху Пушкина («"Движенья нет", — сказал мудрец
брадатый...»), а в философии перевода зафиксированный одним
из инициаторов смены философско-гуманитарной парадигмы в
конце 10-х — начале 20-х гг. прошлого столетия — немецко-еврейским
религиозным мыслителем (и переводчиком Библии) Францем Ро-
зенцвейгом, который в статье «Писание и Лютер» писал о переводе
так:
Переводить — значит служить двум господам. Следовательно, этого
не может никто. Следовательно, перевод — как и все, чего при
теоретическом усмотрении не может никто, — практическая задача
каждого. Каждый должен переводить, и каждый делает это. Кто говорит,
тот переводит свое мнение на язык взаимопонимания, которого он
ожидает от другого22.
Таким вот «немыслимым» образом Н. С. Автономовой удается
рассказать о своем опыте работы над переводами М. Фуко и Ж. Дер-
рида. Рассказы получились очень конкретными, но при этом — «обо
всем»: и об этих мыслителях, и о современной философии, и о
«концептуальном языке» русского философствования в прошлом и
сегодня, и о собственной непростой судьбе филолога, «вытолкнутого»
из филологии и позднее все же востребованного в таком качестве, на
таком месте, которого прежде не было у нас ни в философии, ни в
филологии, ни в истории науки, потому что таких задач отечественная
культура мысли давным-давно не имела и не ставила. Из опыта
переводческой работы у Н. С. Автономовой сложилась своя, так
сказать, «идеология перевода», из которой я бы выделил три ведущих
«позиции»:
1. Вопрос о языке — это вопрос о среде и опосредованиях
сознания, мышления и познания; вне этой среды «мысль не может ни
дышать, ни говорить» (с. 16). Это соображение имеет важные
следствия для перевода. Почему наш язык, «великий и могучий» на самом
деле (а не только как цитата из классика), оказался, в общем, не
готовым к испытаниям, выпавшим на его долю за последние два
десятилетия, так сказать, на всех фронтах дискурса, включая философию?
Вместо того чтобы, как водится, порассуждать на эту тему
вообще, Н. С. Автономова воспроизводит и комментирует в своей
592
Раздел второй. Рассечение
книге нашумевшую сорок лет назад статью о сонетах Шекспира в
переводе С. Я. Маршака, написанную ею, молоденькой аспиранткой-
филологом, в соавторстве с упоминавшимся выше М. Л. Гаспаровым.
Сегодня ту статью можно было бы назвать «деконструкцией», но не
потому, что на авторов повлиял Ж. Деррида, но по совершенно
«советским» культурно-речевым основаниям, сращенным с
государственной культурной политикой сталинской и послесталинской эпохи
настолько жестко, что сам Жак Деррида, возможно бы, вздрогнул.
Сегодня ту сдержанную критику переводов Маршака Н.С. Автономова
поясняет следующим образом:
Этот «идеальный» русский перевод вводил на место шекспировской
страстной барочной лексики общераспространенные клише эпохи
русского романтизма, которые производили на советского
читателя 40-х годов впечатление спокойствия и умиротворенности (с. 18).
Разве один этот «литературный факт» не содержит, как в капле,
ответ на вопрос, почему же русский язык в исторический час
испытаний оказался не на высоте современного опыта как раз в качестве
некоторой литературной, эстетизированной условности, в качестве
того или иного «образа культуры» или «картины мира». И тогда
понятно, что, если в 1920-е гг. диалектику, как известно, могли учить и
не по Гегелю, то в 1960—70-е гг. деконструкцию в России могли учить
«не по Деррида»...
2. Сказанное о ситуации современного русского языка
позволяет увидеть и оценить во всей неоднозначности основной, по мысли
Н. С. Автономовой, факт бытия-события современного русского
философствования: это — сложившаяся на протяжении последних
двадцати лет «ситуация открытости западной мысли» (с. 354—362).
Для исследовательницы не подлежит сомнению, что русская мысль
и сегодня, как это было всегда, может заговорить самобытно, лишь
войдя в разговор, который велся в современной западной философии
и научно-гуманитарной мысли на протяжении минувшего столетия.
Но именно это оказалось невозможным в постсоветской ситуации:
Из-за долгого периода отрыва от современной западной мысли в 30—
80-е годы в российской культуре образовался дефицит слов и
терминов, способных переводить западный мыслительный опыт (с. 18).
Понятно, что «мыслительный опыт» не видим и не
извлекаем из языка как лексикона, последовательно отвлеченного от всех
Другое лицо эпистемологии
593
контекстов опыта; в этом смысле Н. С. Автономова с юмором, но
совершенно всерьез формулирует «мораль для молодых переводчиков:
глядя в словарь, не верьте глазам своим!» (с. 405). Не верьте, потому
что, переводя текст, даже самый философский, мы переводим — расе
Деррида — не просто и не только «текст», даже не контекст, но,
действительно, «мыслительный опыт» из другого мира жизни. Мы
переводим, я бы сказал, онтологически-событийный затекст чужого
опыта, который должен заговорить. По словам Н. С. Автономовой,
переводят, собственно «не только с языка на язык, но и с культуры на
культуру» (с. 397).
Но здесь-то и проявляется «дефицит слов и терминов».
Известные мне попытки хотя бы подступиться к созданию немецко-
русского философского словаря более или менее уверенно доводят
дело (доходят) до Гегеля, деликатно обходят молчанием Маркса, и
на этом история перевода терминологии как бы заканчивается, если
не считать отдельных творческих набегов на Хайдеггера, которых
лучше бы не было вовсе. Шестидесятилетний «отрыв», подчеркивает
Н. С. Автономова, лишил русское философствование языка
феноменологии и языка психоанализа. Я бы добавил: советский век лишил
русскую мысль своевременности рецепции западного мыслительного
опыта XX в. (так сказать, «после Шпенглера»); в этом отношении мы
«не прошли» по-настоящему (т. е. в свое время) ни С. Кьеркегора, ни
экзистенциализм (хотя в околонаучной советской публике, начиная
с 1960-х гг., утвердилось, как известно, совсем другое мнение)·
Вообще тот уровень, которого достигла русская мысль в разговоре с
Западом между 1905 и 1917 г. и который еще держался до 1930 г., был,
по-видимому, утрачен в России и в эмиграции к 1960 г., т. е. к началу
структуралистской эпохи23. Когда все это, действительно,
«открылось», — сегодня, — то стало ясно: о «диалоге» с современной
западноевропейской мыслью лучше помолчать, но вот учиться надо как-то
совершенно по-новому, «иначе» — даже не так, как учили те, у кого
учились авторитеты структуралистской эпохи24.
«Можно ли считать, — спрашивает Н. С. Автономова, оценивая
ситуацию "открытости" западной мысли — что в России объекты
философской критики те же самые?» (с. 355).
«Объекты» и слова часто и вправду теперь те же самые, что и на
Западе; но современная «открытость» сделала более видимым некое
выпадение из разговора. Не более или менее естественное различие,
но историческую несоизмеримость опытов — при внешнем единстве
и общности опыта, внешней «современности».
594
Раздел второй. Рассечение
По мысли Н. С. Автономовой, «открытость» обернулась новой,
постстоталитарной российской драмой: если на Западе «модерн»
давно позади, то мы, похоже, так и не пройдя модерн в свое время, сразу
попали в «постмодерн». Казалось бы, этого не может быть «по
определению». Но по какой-то другой, не «линейной» исторической
логике эстетизация эпистемологических проблем, характерная, как
подчеркивает Н. С. Автономова, для «постмодернистской парадигмы»,
как бы неожиданно совпала с той самой тенденцией к «живой»
философии и духовности, которая в России, увы, слишком часто
подменяла предметное, взвешенное мышление известного рода эстети-
зованным мировоззрением и безразличным к реальности «одержа-
нием». И это при том, что постсоветская ситуация несоизмерима и
несопоставима с так называемым «состоянием постмодерн» на
Западе, как бы мы ни оценивали это состояние «вообще», поскольку
наша ситуация, наша современность «не имеет "нормального"
непрерывного исторического опыта» (с. 441). На Западе еще в 90-е гг.
«постмодерн» — это более или менее важный предмет дискуссий; в
России в те же годы «постмодернизм» — это почти национальная
катастрофа, для серьезного обсуждения которой почти нет почвы ни
в языке философии, ни в языке так называемого общественного
сознания. Н. С. Автономова, которую трудно заподозрить в той особой,
часто затаенной вражде к Западу, которую у нас, как известно,
испытывают многие, которых в школе и в вузе учили иностранным языкам
известно как, — Автономова утверждает и свидетельствует:
...слова, рожденные опытом постмодерна, — это не наши слова.
Наш социальный опыт относится скорее к прото-модерну (...).
Собственная историческая и культурная специфика — это наследство, с
которым приходится считаться; просто перескочить непройденные
этапы нельзя, а вот проработать и промыслить при желании —
можно (с. 206).
Оказавшаяся крайне уязвимой «открытость», которая
осложняется предустановленной дисгармонией Вавилонской башни, по
мнению автора книги, — «не проклятье, но вызов» (с. 22).
Вызов состоит в том, что «русский концептуальный язык» (с. 24)
оказался вне времени; это обнаружилось в 1980—90-е гг., в момент
«зависания постмодернистских мыслительных схем» (с. 14).
Глобальная ситуация порождает в массовом сознании старый
российский предрассудок-транквилизатор, в соответствии с которым Запад
«бездуховен». Для Н. С. Автономовой такой взгляд, разумеется,
Другое лицо эпистемологии
595
достаточно наивен и неприемлем ни теоретически, ни практически;
но это не мешает ей оценивать ситуацию трезво: на Западе сейчас не то
чтобы нет идей — «есть идея отсутствия общей идеи» (с. 358). А ведь
Россия всегда заимствовала и импортировала с Запада именно общие
идеи; поэтому из всего фактического множества идей и традиций
нам, как всегда, легче выбрать идею отсутствия общей идеи, причем
понятно, что это «общее» между Западом и Россией сегодня, как и в
прежние времена, не может не быть чем-то совсем даже не общим.
«Происходит, — констатирует наш автор, — отторжение многих
опорных моментов культурной жизни Запада последних 200 лет, идеи
прогресса, просветительского проекта, либерально-гуманистической
идеологии» (с. 359—360). Ясно, что то же самое в постсоветских
условиях оказывается не тем же самым, а чем-то вполне своеобразным —
в духе комически-жутких карикатур, созданных в позапрошлом веке
Гоголем и Достоевским.
Стоит уточнить: тенденция, которую фиксирует Н. С. Автоно-
мова применительно к рубежу XX—XXI вв., — в первые десятилетия
прошлого века вызвала к жизни не только иррационалистическую
и фашистскую идеологию «от Шеллинга до Гитлера», но и все самое
значительное, трезвое и позитивное в западноевропейской
философии, теологии и общественном сознании (начиная, действительно,
с позднего Шеллинга с его критикой Гегеля и различением
«негативной» и «положительной» философии). Основная трудность
современного российского философствования (и, соответственно,
задача русского переводника) в ситуации «современности после
постсовременности», как представляется, состоит в том, что если в
западноевропейской философии XX в. происходил позитивный выход
за пределы классического рационализма — «переход от мира науки
к миру жизни», как гласит кратчайшая формула Г.-Г. Гадамера в его
опоздавшем на советский век обращении «К русским читателям»25, —
то в отечественной философии и эпистемологии такое имманентный
науке выход за пределы «научного сознания» в советское время
оказался перекрыт, и постсоветская «открытость» здесь пока бессильна.
Поэтому и основное внутреннее противостояние русской духовно-
идеологической культуры — между «научностью» и «духовностью» —
остается актуальной проблемой26.
3. Постсоветская ситуация (в России и на Западе) ставит
русского переводчика научно-философской литературы перед задачей,
которая, с одной стороны — была всегда, с другой стороны —
никогда, наверно, еще не была такой трудной, почти неподъемной (при
596
Раздел второй. Рассечение
том, что переводчик, как правило, работает один, на свой страх и
риск). Ведь то, чего нам не хватает, — это уже не только
«метафизический язык», о чем писал Пушкин в 20-е гг. позапрошлого
столетия; за это время, причем как раз в советский период, на Западе в
известном смысле произошел выход за пределы «языка метафизики»,
фактически совпадающий с тем переходом от «мира науки» к «миру
жизни», о котором писал Гадамер, — с трансформацией философии.
Для того чтобы выработать «русский концептуальный язык», нужны
заимствования, переработанные за счет ресурсов своего языка, на
который переводишь (the target language).
Поэтому идеология перевода в книге Н. С. Автономовой
направлена против «заимствования непереваренного» (с. 402). Этот
момент настолько важен, что на нем стоит остановиться.
Возьмем такое важное понятие современного западного языка
мысли, как «игра». Заимствование его, скажем, у Ж. Деррида без
дистанции, просто пользуясь теперешней «открытостью», легко
порождает в постсоветском речевом сознании, или «дискурсе», таких
монстров, такую «свободу» самовыражения, которые для самого Деррида,
конечно, были бы совершенно невозможны и немыслимы; Н. С. Ав-
тономова с несвойственной ей (но понятной) едкостью описывает
такого рода переводческие эксперименты с родным языком и сознанием
в главе под названием «Раки,пиво и... метафизика» (с. 428—440). В
западноевропейских языках, как отмечает Н. С. Автономова, слово «игра»
имеет не столько «развлекательный», сколько «функциональный»
смысл (с. 406, прим. 476) — к экзистенциально-герменевтической
онтологии Гадамера, я думаю, это относится в еще большей мере, чем к
деконструктивистской системе мышления. Здесь, как всегда, дело не
в словах из лексикона и не в лингвистике как таковой, а в разных
системах социально-исторического опыта. Пример со словом «игра»,
который приводит Н. С. Автономова, тем более поучителен, что
западноевропейские «концептуальные» языки исторически не так резко
отделены от соответствующих «повседневных» языков, тогда как
русский концептуальный язык исторически не столько разработан и
«переведен», сколько заимствован как чужое и остался обособленным
от «своего» повседневного языка — провал, который лишь до поры
до времени (именно — до нашего времени) как-то еще прикрывал
официально-государственный «литературный» язык.
Не случайно Н. С. Автономова предпочитает слово «перевод»
даже там (и как раз там), где за последние два десятилетия
научились — не только в общественно-политической речи, но и в
Другое лицо эпистемологии
597
научно-философской речи — с легкостью необыкновенной
произносить такие слова, как «диалог», «коммуникация», «герменевтика»
и т. п. А потом в какой-то момент оказывается, что «все всё знают», и
слово лучше не употреблять.
Так же не просто, зато интересно, обстоит дело с по существу не
переведенным на русский дискурс, но тем более популярным
экзотическим заимствованием — словом «дискурс». Комментарий Н. С. Ав-
тономовой к этому понятию М. Фуко (с. 377—385) убедительно
выявляет не одно, а два значения слова. Под «дискурсом» в первом значении
М. Фуко понимал «логико-лингвистическое упорядочивание речи,
рассуждения», во втором — «социально-идеологические» условия
возможности говорения (с. 379); в том и в другом случае имеется в
виду речь, но в первом значении речь «дискурсивна», во втором —
«дискурсна»; поэтому правильнее, по мнению Н. С. Автономовой,
говорить о «дискурсных формациях» (а не о «дискурсивных»)27.
Как переводчик и как философ перевода, Н. С. Автономова
придерживается пускай не единственной, но, на мой взгляд, совершенно
правильной, здоровой и «здравой» точки зрения, в соответствии с
которой переводить надо на русский по-русски (разумеется, без шиш-
ковских крайностей-глупостей), как бы это ни было трудно (иногда —
почти невозможно). В практике и теории перевода автор книги
«Познание и перевод» представляет ту самую середину-сердцевину
современного русского языка и речи, которая, по наблюдению
известной переводчицы, «прохудилась»28.
Не проклятье, но вызов... Задача русского переводчика сегодня
в существе своем остается тою же самой, что и задача русской
философии и русской научной и духовно-идеологической культуры
вообще, как ее определил почти сто лет назад О. Мандельштам в статье
«Петр Чаадаев» (1914—1915): без Западной Европы нам никак нельзя,
но, побывав там по-настоящему, «идейно», нужно суметь так же
всерьез вернуться назад. Вернуться не порабощенным, а достойным
обоюдоострого «дара русской земли» — свободы, которую, однако,
невозможно просто получить и взять, а приходится вырабатывать
личным пожизненным усилием. «Но горе тому, кто, покружив около
родного гнезда, малодушно возвращается обратно!»29
Оригинал и перевод
Читая книгу Н. С. Автономовой, я, как обычно в таких случаях,
отмечал карандашом особенно интересное и полезное, а в
проблематичных для меня местах ставил на полях немецкое aber («но... ») — знак
598
Раздел второй. Рассечение
оговорки, или переспроса, или возможности переноса-перевода
сказанного в другую плоскость или на другой язык разговора. В порядке
разговора я попытаюсь прояснить и прокомментировать здесь только
одно такое «но...», «зацепляющее», правда, и многие другие.
Подводя итоги своим размышлениям, Н. С· Автономова так
формулирует (в «Заключении») основную эпистемологическую
трудность, или «нерв», всего комплекса затронутых проблем:
Теперь нередко можно услышать мнение, что заботиться о
сохранности оригинала вообще не нужно, что это отжившая идейная
установка. Какая разница, каков Платон (или Фуко) «на самом деле»,
если у каждого поколения и в каждой стране он свой. Но с этой
позицией нельзя согласиться. Практика перевода характерна именно
тем, что, несмотря на все наслоения различных интерпретаций,
оригинал — иначе говоря, предмет, референт, подлинник — существует
и побуждает нас с ним считаться (с. 642).
Позиция Н. С. Автономовой мне близка, но оттого-то и
возникает желание переспросить: «оригинал» — что это все же такое для
историка философии, историка культуры, для переводчика, для
эпистемолога, как и для «просто» читателя в такое время, как наше, с его,
по-видимому, еще небывалой свободой от всякого оригинала,
всякого авторитета, всякой «чужой речи»? Какая практика отношения к
«оригиналу» могла бы послужить делу перевода-переформулировки
задачи переводчика сегодня, когда, скажем, понятие
«интерпретации» (как и понятие «диалога») настолько оторвалось от оригинала,
что здравый смысл и живое чувство языка подсказывают скорее
избегать самого слова «интерпретация» для того, чтобы удержать
память оригинала в разговоре, в дискуссии, в споре?30
Н. С. Автономова, я думаю, права на уровне здравого смысла:
«перевод» (в кавычках и без) в самом деле, кажется, имеет существенное
преимущество перед «пониманием», «интерпретацией»,
«коммуникацией», «диалогом» и другими ключевыми понятиями гуманитарной
эпистемологии, причем не по теоретическим, а по совершенно
практическим основаниям, которые, правда, — «сами теория». А именно:
вы можете «понимать» что угодно и даже рассуждать о понимании в
ситуациях, не требующих ни реальной проверки, ни ответственной
оценки со стороны других; но если вы переводите текст, вы обязаны
с ним считаться, оригинал — не повод для самовыражения, но
«объективный коррелят» перевода; переводчик «расписывается» в своем
Другое лицо эпистемологии
599
понимании, т. е. в умении «читать» = «понимать» — или в своем
непонимании = неумении31.
И все же мой переспрос несколько о другом: обладает ли
предложенный перевод понятия «оригинал» («предмет,
референт, подлинник») в наше время достаточным коммуникативно-
герменевтическим основанием — как это было еще в
структуралистскую эпоху, — или же такой перевод, такой язык
разговора уже инерция, научный жаргон, отпавший от события
становления бытия, не осознающий себя в «нехватке» (manque), в «нужде
языка» (Sprachnot), как выражался Гадамер? Иначе говоря, не лишено
ли уже предложенное объектно-научное («сциентистское»)
толкование оригинала необходимой достоверности — не идеальной
поэтической или теоретической достоверности (вроде «чистого языка»,
к которому апеллировал В. Беньямин в «Задаче переводчика»), но
«здравой» практической достоверности в системе координат: «я» и
«другие», учитель и ученик и т. п.?
Реальное состояние вещей и у нас, и на Западе, если я правильно
вижу, вынуждает сегодня искать какой-то новый (относительно
структуралистской эпохи) язык разговора едва ли не для всех «вечных»
предметов философского обсуждения (например, для понятия
«свободы») — в том числе и для понятия «оригинал». Н. С. Автономова,
исследователь очень чуткий к так называемому движению времени,
отмечает: «Если в 70—80-е годы XX в. в философии и лингвистике
преобладал акцент на общности принципов человеческого общения,
то в 90-е годы усилился акцент на ее неуниверсальности» (с. 547,
прим. 650). Какие отсюда возможны следствия для гуманитарной
эпистемологии, как бы мы ни называли эту последнюю — «критикой
исторического разума», «герменевтической философией»,
«археологией знания» или, скажем, «переводом»?
Общность может традиционно называться «обществом» или
«научным сообществом», но ее все труднее представлять и мыслить
«вообще» (спекулятивно): различия внутри «общего» слишком велики,
они реальны, а не идеальны. В опыте «общения» сегодня острее
проявляется скорее то, что разделяет людей, чем то, что их объединяет, —
своего рода сюрприз, преподнесенный посттоталитарной,
постсоветской ситуацией наряду с другими сюрпризами. Вот, очевидно, тот
«слишком человеческий», все-таки человеческий (но, конечно, не
«иррационалистический») мотив, обусловливающий бинарную
оппозицию между «фундаментализмом» и «плюрализмом», между
тоталитаризмом и либерализмом, между идеализмом и «идеализацией
600
Раздел второй. Рассечение
в сторону безобразия» (Ф. Ницше); подобно всем такого рода
оппозициям и «противочувствиям», и эта — совершенно безысходна и
бесплодна.
Акцент М. Фуко на «разрывах» в истории (а, скажем, М. К. Ма-
мардашвили — на «разрывах» в персональном сознании) в 70—80-е гг.
не мешал, а еще скреплял «общность принципов человеческого
общежития» и, как известно, собирал огромные аудитории: все еще
действовала инерция представления о «свободе личности»
экзистенциалистской эпохи — представления, из критики которого, как известно,
исходили структуралисты. Но сегодня эта инерция почти сошла на
нет. «Настававший» в 1960-е гг. мир, который пророчили Фуко и Дер-
рида, — настал; парадоксально, но этот момент (точнее, этот
переход)) собственно, и положил конец структуралистской эпохе.
В контексте нашего обсуждения все это означает примерно вот
что: необходимо новое (обновленное) обоснование любого
переводимого, обсуждаемого, интерпретируемого, комментируемого
«оригинала» — обоснование не теологическое, но и не сциентистское.
Именно здесь, если не ошибаюсь, вновь заявляет о себе отмеченное
выше напряжение между антропологией и эпистемологией,
характерное для структурализма, но, конечно, не только для
структурализма. Достаточно напомнить о не разрешенной Т. Куном и почти
забытой его критиками попытке автора книги «Структура научных
революций» в конце 1960-х гг. примирить «несоизмеримые» системы
знания и языки аргументации с помощью «перевода» с одних языков
аргументации на другие32.
Оригинальный текст — но также и всякое «естественное»
высказывание или поступок — при «сциентистской» установке не может
не рассматриваться как «объект»; в этом смысле оригинал — это
«предмет, референт, подлинник»; таковым он остается и тогда, когда
мы рассматриваем, оцениваем, изучаем и переводим оригинал как
артефакт «культуры», т. е. опять-таки как «объект». «Оригинал» может
быть понят лучше, а именно — «ино-научно» и даже «ино-культурно».
Для этого, правда, нужно выйти из под власти таких устойчивых
оппозиций, как «наука» — «субъективизм», «опосредованность» (и
дистанция) — «непосредственность», «культура» — «хаос» (а равно и
«культура — «цивилизация»). Эти оппозиции (и соответствующие им
«противочувствия»), конечно, и в наше время не обессмыслились —
нет, но они стали «частностью и провинциализмом» и
представляют опасность для познания лишь в качестве «предрассудков», или
«доминант»33. То, что тридцать-сорок лет назад даже в философии
Другое лицо эпистемологии
601
могло казаться «позициями», слишком зависимо от «оппозиций»,
которые со временем обнаруживают относительность всех
противостояний, их «опутаность» друг другом, — исторический finis субъект-
объектной парадигмы, но уже не с лица, а с изнанки...
Ничего не поделаешь: после структуралистской эпохи,
провозгласившей — в борьбе с субъективизмом — «смерть» субъекта,
человека и автора и оказавшейся в этой борьбе, пожалуй, слишком
субъективной для того, чтобы не исчерпать себя в собственной
односторонней правоте, — в наше время, «после всего», гуманитарная
эпистемология снова и по-новому оказывается перед древней, исконной,
«первой» проблемой — проблемой «оригинала» как «автора»** (и —
шире — как «законодателя»). «Культурная рента» (а некультурно
выражаясь — «халява») для академической науки, похоже,
заканчивается: в обстановке внутреннего распада и внешней «реформы»
традиционной системы образования и «институций», когда на кон
поставлено уже не только текстуальное отношение «автор —
читатель», но и затекстуальное отношение «учитель — ученик»35,
«оригинал», мне кажется, уже недостаточно понимать (и переводить) как
«предмет, референт, подлинник»; нужен другой язык, а значит, не
только язык. Все это реально ощущает и видит сегодня всякий
преподаватель, т. е., собственно, «передаватель» и «переводчик» того или
иного оригинала. Для истории философии — в отличие от науки,
которая, как правило, «не мыслит» историю собственной историчности,
о чем писал не только Хайдеггер, но и Т. Кун36, — здесь заключена
актуальная гуманитарно-эпистемологическая проблема. Проблема,
которую, как мне кажется, экзистенциалистская эпоха поставила
радикальнее и перспективнее, чем структурализм, который, будучи
восприемником новой онтологии и новой эпистемологии,
складывавшихся в 1920-е гг., не разрешил, но обострил противоречие между
научным (объектным) позитивизмом и исторической (необъектной)
природой «предмета, референта, подлинника».
В истории философии (как и в истории искусства) «оригиналом»
называется не всякий текст, но скорее такой, который как-то
признан (а не просто «почитаем») в своей значимости, в своем
достоинстве; в этом смысле и всякий «классический» текст больше, чем
текст, и больше, чем так называемый классический образец. После
относительно продуктивного иконоборчества структуралистской
эпохи (воспринявшей, как известно, в своих «оппозициях» импульсы
русского филологического авангарда 1920-х гг.), провозгласившей
в 1960-е гг. устами французского В. Шкловского — Ролана Барта
602
Раздел второй. Рассечение
поворот «от произведения к текста», — сегодня открывается
обратная возможность, или «обратный перевод», с опорой на более
революционное, чем у «революционеров», мышление
экзистенциалистской эпохи, т. е. поворот «от текста к произведению», понятому как
потенциальный (не завершенный) источник истины на все времена.
«Оригинал», понятый в этом смысле, ближе к истине ровно настолько
же, насколько я сам, постсовременник и «ученик», дальше от истины.
И только при таком условии я вообще могу захотеть «перевести»
оригинал — как это делала с текстами Фуко Н. С. Автономова,
которая рассказывает, как в 1970-е гг. сначала переводила чужую мысль,
чужую речь оригинала «для себя» (т. е. читала, пытаясь разобраться),
а уже потом «для других» (с. 80). «Дсконструировать» оригинал, как
«текст», мы можем захотеть лишь при том условии, если даже
оригинал мы воспринимаем примерно так же, как и мир за текстом —
как что-то уже готовое, как бы завершенное раз навсегда, такое, что
можно только тавтологически повторить, передать, зазубрить, что,
следовательно, «мертво» и противоположно творчеству.
Каждый знает по собственному опыту, что нередко мы находим
какое-то важное слово, решение, мысль, оценку не первыми, а так,
что кто-то другой первым выскажет и выразит то, что я вроде бы и
сам раньше думал и считал, но только теперь это понял и как свое
тоже. Если мы сегодня хотим воздать должное и «субъекту», и
«структуре», как это считает необходимым Н. С. Автономова, то отношение
«перевод-оригинал» необходимо понять и «по-старому», и «по-
новому». Если для поколения Ясперса, Розенцвейга, Беньямина, Хай-
деггера, Бубера, Марселя, Бахтина — мыслителей смены философско-
гуманитарной парадигмы в экзистенциалистскую эпоху — акцент
падал на нехватку истины в истине оригинала, авторитета, традиции
перед лицом нового опыта «невиданных перемен» первых
десятилетий XX в., то наша «нулевая» современность после
постсовременности, скорее, наоборот, сама остро нуждается в истине оригинала. В
этом смысле классики истории философии, действительно, «когда мы
пытаемся их понять, выдвигают такое притязание на истину, которое
современное сознание не в силах ни отклонить, ни превзойти»37.
Оригинал притязает на истину, которую мы со своего единственного
места только и можем «спасти», поскольку последствия истины
оригинала «подставляют» всякий оригинал — «классический», а сегодня
уже и «постклассический».
Вряд ли приведенные соображения так уж чужды автору книги
«Познание и перевод»; да и особенно новыми их тоже не назовешь.
Другое лицо эпистемологии
603
Сегодня «новое», вообще говоря, имеет меньше шансов, чем «хорошо
забытое старое». Сегодня, похоже, задача любого переводчика перед
лицом любого оригинала та же, что была всегда; она — в сохранении и
«спасении» оригинала посредством обновления его в ином контексте,
иной культуре, в новом опыте. Ради этого, собственно, и написана
книга «Познание и перевод».
Примечания
1 Автономова Н. Познание и перевод: Опыты философии языка. М.: РОС-
СПЭН, 2008. Ссылки на эту книгу даются в тексте в скобках.
2 Автономова Н. С. Философские проблемы структурного анализа в
гуманитарных науках: Критический очерк концепций французского
структурализма. М.: Наука, 1977.
3 Известный американский последователь Ж. Деррида в области
«литературной теории», Поль де Ман, в посмертно напечатанной лекции,
посвященной знаменитой статье Вальтера Беньямина «Задача
переводчика» (1921), которую анализирует и Н. С. Автономова в главе о Ж.
Деррида (с. 144—146), отмечал, что немецкий глагол übersetzen,
«переводить», — это точный перевод греческого глагола meta-phoreiny
«переносить», но при этом здесь нет тавтологии: перевод — не метафора
постольку, поскольку он «не помнит» оригинала; в этом смысле «метафора — не
метафора». См.: Paul de Man. «Conclusions». Walter Benjamins «The Task of
the Translator». Messenger Lecture, Cornell University, March 4, 1983 // Yale
French Studies. № 69: The Lesson of Paul de Man. New Haven, 1985. P. 36. В
отличие от П. де Мана, который хочет показать преимущества «поэтики»
над «герменевтикой», риторики над философией, языка над «внелингви-
стическим смыслом» (и Ж. Деррида над Г.-Г. Гадамером), — Н. С.
Автономова вводит принцип различия в эпистемологию не для того чтобы «де-
конструировать» теорию познания, а, наоборот, для того чтобы
расширить и обогатить традиционную гносеологическую модель.
4 В истории современной философии существуют различные
традиции обозначения французского структурализма 1960—1970-х гг., по-
разному освещающие и обогащающие этот тип мышления в историко-
философском измерении. Словоупотребление Н. С. Автономовой в
рецензируемой книге резонно колеблется между двумя терминами: в одних
случаях автор говорит о «структурализме» в широком, так сказать,
парадигматическом смысле слова, подчеркивая при этом важнейшую
методологическую роль структурной антропологии К. Леви-Стросса и
структурной лингвистики Р. Якобсона для формирования эпистемологии
философского структурализма; с другой стороны, Н. С. Автономова,
анализируя идеи и понятия М. Фуко, Ж. Деррида, Ж. Лакана и др.,
пользуется устоявшимся на Западе и у нас термином «постструктурализм».
604
Раздел второй. Рассечение
На мой взгляд, еще более насыщенным и продуктивным для
современной истории философии является термин известного немецкого
исследователя Манфреда Франка — «неоструктурализм» (см.: Frank M. Was ist
Neostrukuralismus: Zwölf Vorlesungen. Frankfurt a. M., 1984): структурно-
семиотическое мышление в целом, в его актуальности и в его
проблематичности, М. Франк поставил в существенную связи с двумя
«началами» современной философии — после Гегеля в XIX в. и после Первой
мировой войны в XX в. Не должен, я думаю, быть забыт, несмотря на
свою полемичность и обусловленность движением времени от 60-х гг. к
80-м, термин двух французских критиков структурализма, Люка Ферри
и Алена Рено, — «мышление 68-го года» (см.: Ferry L. Renaut. La pensée 68:
Essai sur lanti-humanisme contemporain. Paris, 1985)· В отличие от Л·
Ферри и А. Рено, которым важно было показать зависимость
«теоретического антигуманизма» французского образца от нетеоретических («ино-
научных», или идеологических) импульсов и умонастроенности 1960-х
гг., Н. С. Автономова, наоборот, пытается отделить научную и
эпистемологическую сторону дела от «идеологии», одновременно
противопоставляя и М. Фуко, и Ж. Деррида их последователям —
«постмодернистам». Поэтому Н. С. Автономова оценивает упомянутую книгу Ферри и
Рено попутно и негативно (с. 30), хотя у этих исследователей
доминирует мотив, принципиальный для автора книги «Познание и перевод», —
что «мышление 68-го года» в историко-философском отношении — это
французский «перевод с немецкого» (см. также: Ferry L., Renaut A.
Heidegger et les modernes. Paris, 1988).
Роди Фритьоф. Жизненные корни гуманитарных наук // Герменевтика.
Психология. История: Вильгельм Дильтей и современная философия /
Под ред. Н. С. Плотникова. М.: Три квадрата, 2001. С. 19. Подробнее об
этом см.: Plotnikov Nikolaj. Ein Kapitel aus der Geschichte des Strukturbe-
grifs: Gustav Spet aks Vermittler zwischen Phänomenologie, Hermeneutik und
Strukturalismus // Archiv fÜK Begriffsgeschichte. Bd. 48. Jg. 2006. S. 191—201.
См. в этой связи также переведенное С. Автономовой исследование
швейцарского историка лингвистики: Серио Патрик. Структура и
целостность: Об интеллектуальных истоках структурализма в
Центральной и Восточной Европе. 1920—30-е гг. / Авториз. пер. Н. С.
Автономовой. М.: Языки славянской культуры, 2001.
Подробнее о «кайросе» французской философии XX в. см.: Декомб
Винсент. Тождественное и иное: Сорок пять лет из истории развития
французской философии (1933—1978) (1979). М.: Весь мир, 2000.
«Когда рухнула Берлинская стена?» — так поэтически (элегически)
начала Юлия Кристева некролог, посвященный Юрию Лотману; см.: «PMLA».
V. 109. № 3 (May 1994). Р. 375.
См. сборник под этим названием французских и японских
исследователей: La modernité après le post-moderne / Sous la direction de Henri Me-
schonnic, Shuguehiko Hasumi. Paris, 2002.
Другое лицо эпистемологии
605
9 См.: Михайлов А. В. Надо учиться обратному переводу (1990) // Он же.
Обратный перевод: Русская и западноевропейская культура: Проблема
взаимосвязей. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 14—16.
10 Вспомним, к примеру, пассаж о «настающем мире» в «экзерге»
(«эпиграфе») книги Деррида 1967 г.: «Будущее можно предчувствовать лишь как
некую абсолютную опасность. Ведь оно полностью порывает со
сложившимися нормами, и потому оно может явить себя, показать себя лишь
в чудовищном облике. Этот настающий мир, который поколеблет
значимость знака, речи и письма, этот мир, к которому уже сейчас тяготеет
наше предбудущее (future antérieur), еще не создал себе экзергов». —
Деррида Ж. О Грамматологии / Пер. и вступит, ст. Н. Автономовой. M.: Ad
marginem, 2000. С. 118. То же самое, я думаю, относится и к знаменитому
тезису М. Фуко в «Словах и вещах» (1966) насчет «смерти человека»: то
была не «эпистемологическая» констатация, но скорее многосмысленное
духовно-историческое предчувствие, предвосхитившее, между прочим,
и «конец» (в кавычках и без) структуралистской эпохи.
11 Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук / Пер Н. С.
Автономовой. М.: Прогресс, 1977.
12 Деррида Ж. О грамматологии. Пер. и вступит, ст. Н. С. Автономовой. М.:
Ad marginem, 2000.
13 Лапланш Ж., Панталис Ж.-Б. Словарь по психоанализу / Пер. Н. С.
Автономовой. М.: Высшая школа, 1996.
14 У нас это словечко, которое ввел, если не ошибаюсь, С. С. Аверинцев
в энциклопедической статье «Символ» в начале 1970-х гг. (и подхватил
M. M. Бахтин в поздних заметках), к сожалению, так и осталось
персональным «словечком», хотя оно вроде бы имело шансы сделаться
термином в структуралистскую эпоху, но, пожалуй, на неструктуралистских
путях.
15 Поэтому Г. Г. Шпет — в философии, а его последователь Г. О. Винокур —
в филологии перенесли-перевели из XIX в. в XX в. знаменитую
формулу филологии ученика Шлейермахера Августа Бека — «познание
познанного», повторив вслед за Беком, каждый в своем контексте, что
философствовать «может и необразованный народ», но такой народ не может
«philologein», т. е. интересоваться и заниматься словом. См.: Шпет Г. Г.
Герменевтика и ее проблемы (1918) // Он же. Мысль и слово:
Избранные труды / Сост., коммент. и вступит, ст. Т. Г. Щедриной. M.: POC-
СПЭН, 2005. С. 346; Винокур Г. О. Введение в изучение филологических
наук (1944—1945) / Сост. и коммент. С. И. Гиндина. М.: Лабиринт, 2000.
С. 44.
16 Н. С. Автономова приводит в своей книге отрывок из письма своего
родственника, выдающегося отечественного филолога М. Л. Гаспаро-
ва (1935—2005), который, советуя ей взяться за русский перевод и за
комментарий скорее чуждого ему Ж. Деррида, писал (1994): «Ты
можешь об этом сказать лучше, чем кто-нибудь: ты филолог среди филосо-
606
Раздел второй. Рассечение
фов, это сильная твоя сторона, ею нужно пользоваться, а не приглушать
ее» (с. 397). И дальше, в обоснование подхода к Деррида «не по Деррида»:
«Объективности как полного соответствия мысли абсолюту не было
никогда, а объективность как интерсубъективный консенсус была всегда и
продолжает быть — конец ее наступит, когда люди перестанут понимать
друг друга и вымрут, а этого пока еще нет» (там же).
17 См.: Апель К.-О. Трансформация философии (1973—1974). / Пер. с нем.
В. Куренного, Б. Скуратова. М.: Логос, 2001.
18 См. в этой связи очень симптоматичное исследование: Л. А. Микешина.
Эпистемология ценностей. М.: РОССПЭН, 2007.
19 Слово «всебячиться» употребил (ссылаясь на оценочно-экспресивный
местный говор) писатель В. Распутин в повести «Пожар» (1984); на
социокультурный симптом, фиксируемый этим словом, обратил
внимание один из лучших наших философов старшего поколения; см.:
Соловьев Э. Ю. Прошлое толкует нас: Очерки по истории философии и
культуры. М.: Политиздат, 1991. С. 415.
20 Н. С. Автономова в примечании резонно, на мой взгляд, ссылается здесь
на опыт говорения, «чтения и перечтения» классиков философии,
практиковавшийся, быть может, крупнейшим мыслителем последних
советских десятилетий — М. К. Мамардашвили (с. 637—638, прим. 778).
21 См.: Heidegger M. Onthologie (Hermeneutik der Faktizität) // GA. Bd. 63.
Frankfurt a. M., 1988. S. 42 (Летний семестр 1923 г. во Фрайбурге).
22 Rosenzweig Franz. Gesammelte Werke. Bd. IIL Zweistromland: Kleine
Schriften zu Glauben und Denken / Hrsg. von Reinhold und Annemarie Mayer.
Dordrecht etc., 1984.
23 В одном переводе «для научных библиотек» 1957 г. название
знаменитой в свое время книги немецкого искусствоведа Вильгельма Воррин-
гера «Absraktion und Einfühlung» (1908), т. е. «Абстрагирование и вчув-
ствование», передали поистине «из души»: «Абстракция и
одухотворение». Этот перевод перепечатали сейчас в книге под грифом «Академия
XXI века»; см.: Эстетика и теория искусства XX века. М., 2007.
24 Н. С. Автономова приводит суждение М. Л. Гаспарова, который говорил,
что большинство университетских преподавателей, у которых училось
его поколение в конце 1950-х и в 1960-е гг., были «образцом того, как не
надо делать» (с. 17).
25 См.: Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991. С. 7.
26 Этот конфликт сегодня почти не схватывается, «не виден» на
традиционном языке споров между «почвенниками» и «западниками». Имея
в виду внутренний конфликт между гуманистической традицией и
рационалистически-сциентистской традицией в западноевропейской
мысли, Н. С. Автономова попутно высказывает следующее соображение:
«По-видимому, "гуманизм" и "сциентизм", о несогласованности которых
применительно к Марксу и Фрейду уже упоминалось, не расчленялись
на российской почве столь же радикально, как это происходило в Ев-
Другое лицо эпистемологии
607
ропе» (с. 456). Но именно поэтому — из-за отсутствия традиции
рабочей риторики «sensus communis» («здравого смысла») и навыка научных
дискуссий — то же самое противостояние и «противочувствие» на
русской почве фактически носило еще более жесткий характер, с одной
стороны — «самоедства», с другой стороны — «человекоборчества».
Уместно упомянуть здесь межкультурный факт «перевода», на
котором специально останавливается Н. С. Автономова. Когда в 1960—70-
е гг. русского мыслителя M. M. Бахтина начали переводить во
Франции, то произошла характерная аберрация: бахтинская философия
«высказывания» и «слова», сложившаяся уже в 1920-е гг. в
диалоге в особенности с французской рационалистической традицией
«абстрактного объективизма» от Декарта до Соссюра и, шире,
«теоретизма» научно-философской и идеологической культуры Нового
времени, — полвека спустя (в структуралистскую эпоху) была воспринята в
дискурсно-дискурсивных границах той же самой — правда, самодекон-
струирующейся — традиции и на путеводной нити слова «discours» как
«слова-отмычки ко всем дверям» (с. 384). Французское влияние
первоначально сказывалось и на английских переводах в США, пока во
второй половине 80-х гг. именно в США не произошел общий перелом
рецепции, перевод-переоткрытие Бахтина на Западе как «русского
мыслителя» именно; все идет к тому, что со временем, возможно,
«абстрактный объективизм» (включая теорию и идеологию «дискурса» в
обоих значениях слова) окажется диалогически оспоренным снова и
по-новому с опорой на «металингвистику» Бахтина. «Интересно, —
замечает Н. С. Автономова, — что почувствуют при этом те
интерпретаторы Бахтина, в частности Юлия Кристева, которым Бахтин казался
предтечей французских теорий дискурса?» (с. 384).
Трауберг Н. Невидимая кошка. М.; СПб.: Летний сад, 2006. С. 12.
Цит. по: Мандельштам О. Слово и культура. М., 1987. С. 268.
Один из лучших отечественных литературоведов старшего поколения,
С. Г. Бочаров, реагируя в конце минувшего десятилетия на, так сказать,
«беспредел интерпретаций» в постсоветской филологии и литературной
критике, даже противопоставил — опираясь на известный выпад С. Зон-
таг «Против интерпретации» (1963) — интерпретации как
«самоутверждающемуся пониманию», более или менее пренебрегающему своим
предметом, — действительное понимание, ориентированное на
оригинал (см.: Бочаров С. Г. Сюжеты русской литературы. М., 1999. С. 11—12).
Ситуация, при которой понятие интерпретации, прежде служившее делу
понимания, а сегодня оказавшееся как бы в противоречии с самой
идеей понимания, не только распространяется также и на философию, но и
является, судя по всему, новым вызовом для философии со стороны
вечного ее оппонента — позитивизма. И то же самое положение вещей
приводит к обострению внутри самой философии (и эпистемологии)
другое вечное противоречие и противочувствие — между «познанием» и
608
Раздел второй. Рассечение
«мышлением»; проблема языка стала проблемой современной философии
в «точке» этого расхождения и различия.
В этой связи встает отдельный большой вопрос: «Можно ли учить
переводу?» — вопрос, который, похоже, представляет собою не что иное, как
переформулировку-перевод греческого (сократовского) вопроса: «Можно
ли учить истине?» — вопроса, который Кьеркегор в XIX в. переспросил и
перевел из языческой системы мышления в христологическую
(историческую). Тем самым старый (если не основной) вопрос философии принял
новый вид: как возможно продуктивное отношение между учителем и
учеником как современниками, если они — разновременники, возможен ли
«христианин» и «христианское общество» после Христа?
У Т. Куна после выхода в свет его книги (1962) осталось и еще усилилось
проблемное напряжение между научными обобщениями и
«парадигмами» — с одной стороны, и социально-историческим опытом и,
соответственно, формами коммуникации (и аргументации) между научными
сообществами — с другой стороны; об этом свидетельствует
«Дополнение 1969 года», в котором Т. Кун заговорил о необходимости «перевода»
между языками аргументации. «Сейчас, — замечает Н. С. Автономова, —
об этом эпизоде его творчества исследователи почти не вспоминают, но к
нему стоит заново присмотреться» (с. 543). Предпринятый Н. С. Автоно-
мовой анализ куновской «гипотезы перевода» (с. 543—547),
соблазнительной для эпистемолога и филолога, увы, не утешителен: «общность
принципов человеческого общения» даже внутри «республики ученых»
оказалась сомнительной. Но это, по-видимому, означает, что автономия
научного мышления и «дискурса», совершенно легитимная сама по себе,
внутренне «причастна» (по терминологии молодого M. M. Бахтина) единству
социокультурного мира, при том, однако, что эту причастность совсем не
обязательно понимать как проявление «идеологии» или «дискурсной
формации».
Здесь уместно указать на герменевтический потенциал гуманитарной
эпистемологии А. А. Ухтомского, наброски которой, увы, так и остались
набросками и не вышли за пределы частной, почти интимной
переписки 1920-х гг. и дневниковых записей (см.: Ухтомский А. Интуиция
совести. СПб., 1996; Он же. Заслуженный собеседник. Рыбинск, 1997; Он же.
Доминанта души. Рыбинск, 2000). Понятие «доминанты» Ухтомский (между
прочим, защитивший в Духовной академии диссертацию о Канте)
трактовал, как и Гадамер — «предрассудок», в качестве обоюдоострого,
амбивалентного условия возможности всякого подхода к миру. Опыт
Ухтомского (с его борьбой, с одной стороны, против иррационализма Ницше, с
другой против абстрактно-объективистского рационализма и теоретического
антигуманитзма О. Конта) заключает в себе потенциал преодоления
упоминавшейся бинарной оппозиции русской научно-философской
культуры — оппозиции «научности» и «духовности».
Другое лицо эпистемологии
609
Подробнее об этом см., например: Sean Burke. The Death and Return
of the Author: Criticism and Subjectivity in Barthes, Foucault and Derrida.
Edinburgh, 1998.
H. С. Автономова еще двадцать лет назад обратила внимание на факт и
фактор, в силу которых отношение «учитель — ученик» оказалось в
противоречии с собою же, как и вся система образования, когда она писала,
что «реальную возможность заниматься наукой имеют "все" или, во
всяком случае, многие, тогда как заниматься ею по-настоящему способны
лишь единицы...». См.: Автономова Н. С. Рассудок. Разум.
Рациональность. М.: Наука, 1987. С. 25.
Кун Г. Указ. соч. С. 181—182.
Гадамер Х.-Г. Истина и метод. М.: Прогресс, 1988. С. 39.
ФИЛОЛОГИЯ И КРИЗИС*
Несмотря на то что бахтинистика сегодня, по-видимому, сузила
свой диапазон, как бы приватизировалась, сделавшись почти личным
делом отдельных, считанных лиц, — в ситуации схлынувшего «бума»
возникают исследовательские возможности, которых прежде
невозможно было даже помыслить. В предлагаемой статье будет сделана
попытка нащупать одну из таких парадоксальных новых возможностей.
Я имею в виду обсуждаемый у нас и на Западе кризис филологии —
сегодняшние трудности и задачи гуманитарно-филологической
деятельности1.
Проблема затекста
Литературно-критические дискуссии о «кризисе» оставляют
двойственное впечатление: они правомерно исходят из современной
общественной и научной ситуации, но в основном лишь «эмоциони-
руют» по поводу этой ситуации. Контрастным фоном при этом служит
славное прошлое отечественной филологии; но оно, это прошлое, как
правило, переживается и мыслится как завершенное в себе — образец
и укор убогой современности. Остается ощущение двойного
отчуждения — и от своего настоящего, и от своего прошлого.
Если присмотреться к тому, каким было самопонимание
филологии в те годы, когда она была как бы востребована, то можно
заметить ограничительные предпосылки, которые давно уже «стояли в
тексте», но еще не были «видны» в тексте. Почему? Скорее всего,
потому, что даже в филологии проблема текста — не в «тексте» самом
по себе; она — в затексте, т. е., по-6ахтински, на «стыках и
пересечениях» текста с историческим миром жизни его автора, читателей и
интерпретаторов2.
«Затекст» — в отличие от более привычного и чрезмерно фи-
лологизированного понятия «контекст», — это объемлющее и
* Непроизнесенное выступление на XIII Бахтинской международной
конференции (Лондон/Онтарио, Канада, июль 2008 г.).
Филология и кризис
611
проникающее любой текст «событие бытия» в бахтинском смысле —
событие, в котором участвует и текст, и его автор, а потенциально
также и все возможные соучастники этого становящегося
(незавершенного) события — читатели и исследователи, современники и
потомки. Как такое событие затекст не исчерпаем в отвлеченном
объективирующем понятии и до конца не опредмечиваем при анализе
текста, поскольку он в пределе включает в себя и ту историчность
события, которую читатель и исследователь «не видят», сами будучи
причастными этой историчности, ее смысловому движению и
незавершенности.
Исходя из идеи «затекста», сформулируем два тезиса, которые в
дальнейшем попробуем прояснить и конкретизировать:
1. Для того чтобы филология могла сегодня отвечать на вызовы
времени, первым из которых А. В. Михайлов назвал «утрату само
собой разумеющегося»3, необходимо обращение к истории
филологии XIX и XX вв. (отечественной и зарубежной). Эта история, не
формально понятая, куда интереснее современной филологии, но не
потому, что происходит кризис, а, наоборот, потому что кризиса не
происходит.
2. Осуществленная M. M. Бахтиным критика
филологического разума интересна и продуктивна в наше время не как факт
прошлого (факт в известном смысле не состоявшийся), а,
наоборот, — своим потенциалом, возможностями регенерировать
утраченные филологией проблемные измерения и напряжения, а равно
и как бы забытые филологами стимулы и критерии гуманитарно-
филологической деятельности.
Суть дела не в том, что такая деятельность не так престижна,
как двадцать-тридцать лет назад, и не так оплачиваема, как бы
хотелось. Проблема в том, что, наряду с другими «смыслоутратами», под
угрозой исчезновения — предметный телос («смысл») исследования
и образования; последние как бы заблудились между такой
«научностью», которая, по известному выражению, мелко плавает, и такой
«духовностью», в которой тонет любой реальный предмет.
Как возможно обращение к истории «после истории»? Почему
прошлое филологии питает больше, чем ее настоящее? И что,
собственно, в этих условиях Бахтин может еще сказать нам
интересного и полезного? Для того чтобы приблизиться к ответу на эти и
подобные вопросы, целесообразно «начать с себя», т. е. попытаться
отдать себе отчет в том, что на самом деле (какой затекст) стоит за
словом «кризис», помня в то же время совет Бахтина: не стоит «верить
612
Раздел второй. Рассечение
на слово» той или иной эпохе в ее риторико-официальном
самовыражении — менее всего, конечно, своей современности и своим
современникам. А это значит: «верить» прошлому и современности все же
надо, но как-то иначе.
Кризис оез кризиса
При обращении к сегодняшним попыткам осмыслить ситуацию
в гуманитарно-филологических дисциплинах бросается в глаза
методическая и предметная растерянность, отсутствие проблемности и
даже адекватного языка разговора. Трудности, как сказано,
переживаются с обязательной оглядкой на прошлое филологии, но при этом
история своей науки мыслится, с одной стороны, идеализированно,
а с другой — с точки зрения «само собой разумеющихся»
представлений и понятий, воспринятых из прошлого, но оторванных от
незавершенных в прошлом научных дискуссий (от «диалога»). История
литературоведения, лингвистики и других гуманитарных дисциплин
берется как что-то просто состоявшееся и объективное, чем в
принципе надо бы воспользоваться и что надо бы развивать, но почему-то
не получается. Творческое прошлое филологии
противопоставляется современному положению дел, но без анализа того, почему
бесспорные научные достижения обернулись тупиком. Ведь есть же
тексты; а между тем можно, значит, остаться с текстом, как с дыркой
от бублика. Тем самым заявляет о себе реальность и проблема «за-
текста» — онтологически-событийной истории, включающей как
предметные контексты текста, так и «не видные» в тексте смысловые
горизонты и мотивационные контексты «единого и единственного
события бытия».
Показательно название подборки выступлений в журнале
«Знамя», на которую мы сослались: «Филология — кризис идей?». Как
будто речь идет о техническом сбое, неполадках в прежде исправно
функционирующей «идейной» системе!
Филология развивается или перестает развиваться не за счет
«идей» или их отсутствия. Гуманитарно-филологическое
мышление (в отличие от философии) живо не «идеями» — как, впрочем, и
не сколь угодно научными определениями. Филолог, вообще говоря,
имеет дело не с «самими вещами», но с ценностно утвержденным
традицией образом того или иного предмета — образом, воплощенном
в слове, в памятнике и памяти языкового коллектива.. Вот почему
филология интимно связана с эстетикой, т. е. с образом предмета,
преднаходимым филологом. Поэтому филолог мыслит и работает
Филология и кризис
613
не просто с текстом, памятником, словом, но с воспринятой от
традиции ценностью, им разделяемой, но не им образованной
(конституированной); «ценностная другость» (как сказал бы ранний Бахтин)
движет филологическими усилиями в тексте, образует, как мы
сказали, «предметный телос» гуманитарно-филологической
деятельности. Когда эта «другость» теряет свою достоверность, свой
ценностный затекст, — тогда филологам становится сильно не по себе,
и они, чтобы удержаться в науке, вынуждены прибегать к более или
менее осознанной контрабанде, т. е. к заимствованиям «идей» и
представлений (а в последние десятилетия даже «теорий») из других
областей знания. Наблюдается два вида таких заимствований и связанных
с ними подмен («симулякров»).
В одних случаях деятельность филолога мотивируется внена-
учной нуждой: духовные и конъюнктурно-идеологические
потребности, отвлеченный идеализм и не отвлеченный цинизм тогда тесно
переплетаются. Этот вид симулякров литературно-критической и
филологической деятельности — наиболее распространенный и
легко узнаваемый. На цивилизованном Западе он обычно
принимает более утонченные формы, в постсоветской же ситуации, когда
не только бывшие парторги, но и бывшие литературоведы или
лингвисты, утратившие смысл и интерес к своему предмету, становятся
специалистами по русской духовности или константам русской
культуры, — все просто и «все видно». Везде здесь налицо научный
и «инонаучный» крах идеи филологии, утратившей основания и
паразитирующей за счет «идей» и «теорий» — как бы актуальных в
общественной идеологии и психологии осколков утраченных
мировоззрений и затекстов минувших эпох, затекстуальный исторический
ключ к которым утрачен.
В других случаях контрабанда и симулякры сложнее, поскольку
тогда имеет место, наоборот, попытка «чисто научно» отгородиться
от вненаучных фактов и факторов современности, от любого затекста.
Это — путь в особенности старого и нового «позитивизма», более или
менее наивного. Наивность догматизированной научности (ее «смех
и грех») — в том, что, чем больше пуристы от науки отгораживаются
от «философии», от всякого очеловечивающего осовременивания
смыслов и ценностей в истории культуры как от «модернизации», —
тем неумолимее и комичнее имманентно этому объективирующему
«точному» мышлению действует закон «возвращения вытесненного».
Действие этого закона точно охарактеризовал в свое время Г. Г. Шпет;
оно заключается в том, что в затекст так называемой позитивной, или
614
Раздел второй. Рассечение
чистой, науки входят «нечистые» теоретико-философские
предпосылки, «предрассудки» и представления, как правило, не
осознаваемые, анонимные-, в результате наука «под видом собственных
эмпирических обобщений повторяет старые, в философии отжитые и
потерявшие свое значение общие воззрения и мнения»4.
Продуктивное развитие гуманитарно-филологического
мышления всегда было связано, с одной стороны, с совершенно
конкретными трудностями и вопросами, на которые необходимо было
ответственно ответить себе в данное время, а с другой стороны, — с
борьбой научных направлений, связанных общностью предмета,
притязаний, языка и аудитории. Ни того ни другого сегодня не
наблюдается; отсутствует не только постановка конкретных вопросов,
но и адекватный язык, на котором проблемы формулируются и
вопросы ставятся. Похоже, разрушено само коммуникативное
пространство дискуссии, разговора — реальное условие возможности
подхода к предмету и подхода к другим точкам зрения, направлениям
и т. п. (кроме их отрицания или игнорирования).
В этом смысле никакого «кризиса» — в реальном смысле этого
слова5 — сегодня нет ни в филологии, ни в литературоведении, ни
в философии (как нет его и в общественно-политической жизни). В
лучшем случае можно говорить о «кризисе без кризиса», т. е. о
состоянии лишенности того, что, вроде бы, имелось прежде (по
известному выражению: «Времена были мерзопакостные, но рыба в Каме
была»). Во всяком случае, происходящее в гуманитарии остается не-
обсуждаемым, непроблематизированным, анонимным. Под «судом»
«критики» не тексты, но затекст судящих и критикующих.
Отсюда и новое, окрепшее в последние годы раздражение многих
филологов против M. M. Бахтина. Раздражение и отталкивание
совершенно понятны и по-своему проницательны: ведь у Бахтина
налицо нечто такое, чего наши «нулевые годы», похоже, почти лишены;
зато разглядеть это нечто сегодня, может быть, легче, чем было
возможно в закончившуюся в 1990-е гг. структуралистскую эпоху —
время увлечения «структурами» текста и отрицания структур за
текстом. Как понять все это?
Очевидное становится очевидным не само по себе, а так, что
когда мы чего-то лишены, чего-то совсем не можем, — становится
возможным настоящее философское удивление, скорее чуждое
филологам, но небезразличное и для филологов. Это когда мы спрашиваем:
каким же это образом и за счет чего теу другие, ушедшие, лишенные
при жизни многого, а то и вовсе, как Бахтин, бывшие всю жизнь
Филология и кризис
615
«бывшими» («лишенцами» истории), так много имели и могли?.. Как
в прошлом было возможно то, самая возможность чего в наше время
просто немыслима, непредставима?
Задача
В 2000 г. Майкл Холквист, чья роль в бахтинистике 1980-х гг.
общеизвестна, поставил в статье «Бахтин и задача филологии» как бы
неожиданный вопрос: а что, собственно говоря, Бахтин всю свою
долгую жизнь, всем своим написанным, как и ненаписанным, делал?6
Я бы ответил на этот вопрос так: все без исключения бахтинские
исследования — это постановки проблем. Проблем, напряжение,
осознание и смысл которых сегодня как бы стерты, забыты, «не звучат».
Оттого осталась практически невостребованной вся бахтинская
«критика филологического разума», не имеющая аналогов ни у нас,
ни на Западе.
Значит, о кризисе в гуманитарных науках все-таки говорят
не случайно (хотя его и нет). «Кризис» — это особое время
постановки принципиальных проблем во всех областях жизни и
творчества, от эстетики до политики. И в науке «проблемы», т. е.
исследовательские трудности, — это то, что невозможно просто
задействовать или отвергнуть (как в технике), «идейно» принять или
игнорировать (как в идеологической риторике); проблемы можно только
«разделить» (в смысле английского слова share)y притом всегда —
«практически».
Кто только не смел и не смеет свое суждение иметь
(положительное или отрицательное), например, о книге Бахтина о
Достоевском; а между тем мне не известна ни одна попытка (ни у нас, ни за
рубежом) — передать, перевести, переложить на современный контекст
и язык «Проблемы поэтики Достоевского». («Полифония», о которой
писал Бахтин, — это его решение проблем, а не сами проблемы, ответ
на вопрос, а не сам вопрос, с прояснения которого методически и
следует начинать, если мы хотим понять его ответ, даже не соглашаясь с
ним.) Такое переложение-перевод было бы конкретным исполнением
в пределах бахтинистики герменевтической «задачи филологии», как
ее понимает Холквист, — расширения посредством языка смысловой
«одновременности» (simultaneity) события, происходящего
(длящегося), казалось бы, в разные времена, в разных обстоятельствах, с
разными участниками. В такой, по-бахтински, «положительной
модернизации» по-новому нуждается сегодня, среди прочего, и наследие
Бахтина в целом.
616
Раздел второй. Рассечение
Можно, как представляется, попробовать подступиться к
Бахтину, исходя из наших сегодняшних осознанных трудностей,
руководствуясь не столько тем, чего мы «желаем» или что нам
«нравится», — как то было еще в слишком «льготную» структуралистскую
эпоху, — сколько осознанной нуждою в том, чего мы, гуманитарии,
лишены. Под этим углом зрения попробуем обратиться к фрагментам
истории гуманитарно-филологической деятельности в свете идеи не
структуралистски понятой «одновременности».
Взрыв?..
Можно вспомнить, что современная филология родилась из
кризиса начала XX в., когда, как сказано в знаменитой
энциклопедической статье С. С. Аверинцева, единство филологии как науки
«оказалось взорвано во всех измерениях»7.
Положим, метафора «взрыва» не столько раскрывает, сколько
скрывает (вуалирует) существо кризиса. Во всяком случае,
приведенные слова, которыми выразительно обрывается аверинцевский
исторический очерк филологии, наводят на мысль скорее о
катастрофе, чем о кризисе и происходящих из настоящего кризиса
«научных революциях»; из них, из революций, собственно, возникло
современное литературоведение, современное языкознание и многое
другое. Аверинцев исходит из представления (точнее,
умонастроения), очень распространенного среди филологов-классиков, а для
советского филолога, отчасти сохранившего преемственность по
отношению к дореволюционной культуре, — тем более понятного. Я имею
в виду известное недоверие к своей современности; советская
современность, естественно, только усугубляла и радикализовала этот
профессиональный, но «инонаучный» изгиб.
На «слишком человеческом» уровне здесь заявляло о себе некое
прочувствованное недоверие к другому; в научном плане это
недоверие связано с желанием предохранить прошлое от «взгляда» на
него извне — с точки зрения современности и ее оценок. Покойный
М. Л. Гаспаров в этом отношении занимал самую последовательную,
крайнюю научную позицию. Аверинцев, конечно, куда шире и гибче,
но он, возможно, еще острее чувствовал разрыв, рассечение, или
«вывих», образовавшийся в XX в. в гуманитарно-филологическом
мышлении. «Филолог наших дней, — читаем в той же
энциклопедической статье "Филология", — может явить не меньше
интеллектуальной любознательности, чем его старинный собрат, а его
способность к обостренному "любованию" может быть гораздо больше, но
Филология и кризис
617
ему уже не дано так просто и непринужденно "войти вовнутрь" (...)
несомненно, что Ф. (филология. —В. М.) как содержательная
целостность (разрядка в тексте. — В. М.) претерпевает реальный
кризис»8.
К сожалению, ни у С. С. Аверинцева, ни у кого бы то ни было
из советских филологов (не говоря уж об эмиграции) мы не найдем
внятного комментария и более конструктивного подхода к
кризисам и «взрывам» в истории гуманитарно-филологического
мышления минувшего столетия. У Ю. М. Лотмана, два десятилетия
спустя после статьи Аверинцева, — та же метафора «взрыва»;
с других позиций, но тоже подспудно мотивированная катастро-
физмом, метафора странно балансирует и скользит между историко-
культурными фактами и семиотическим теоретизмом
естественнонаучного образца9.
Здесь не место давать сколько-нибудь объективный
критический анализ и оценку советской филологии и гуманитарии, ни тем
более — лучшим представителям ее 1960-х — 1990-х гг. Сами эти
филологи, историки, гуманитарии, будучи, в значительной степени,
продуктом и продолжением «кризисных» процессов в истории
современной гуманитарии, к сожалению, не всегда могут ответить своими
текстами на вопрос о кризисе филологии — вопрос сегодня по-новому
мотивированный в онтологически-событийном затексте нашего
времени. В этом отношении, мне кажется, продуктивнее («питательней»)
не наши «отцы», а скорее наши «прадеды» — филологическое
поколение родившихся в 1890-е гг.; «наша лучшая филологическая наука
XX века, — отмечал С. Г. Бочаров, — родилась (физически) в эти
несколько лет»10.
Но эта лучшая филологическая, как и философская,
отечественная наука возникла из грандиозного, многостороннего и
многозначительного исторического кризиса, сопоставимого с
предшествующими радикальными поворотами в истории бытия, мышления и
культуры11. Если это был распад и «взрыв», то, во-первых, не только
это, а во-вторых, кризис филологии в начале прошлого века
происходил не впервые.
Перерождение
За сто лет до того мы видим сходный, для своего времени
радикальный кризис, результатом которого стало отнюдь не вырождение,
а, по слову Г. О. Винокура, «перерождение» филологии12. Причем по
сходным причинам: филология оказалась в противоречии с историей,
618
Раздел второй. Рассечение
но не с прошлым, а со своею современностью, а отсюда уже — в
противоречии со своим же предметом.
Трансформировался весь затекст восприятия и разумения.
Винокур в своем университетском курсе 1944—45 гг., посвященном
сущности и истории филологии (впервые опубликован в 1978 г.),
проанализировал причины кризиса филологии на рубеже XVIII—XIX вв., и
мы здесь можем, так сказать, двигаться по проложенной им (правда,
лишь до начала XX в.) колее истории филологии.
Кризис и последующее «перерождение» филологии в первой
половине девятнадцатого столетия произошли из-за настоящего
рождения исторической науки — специализированной и институализи-
рованной практики исследования и преподавания в современном
понимании «историографии». Разумеется, специализация и институ-
ализация сами были связаны с общественными потрясениями,
последовавшими в Европе после 1789 г. Но еще раньше постепенно
подготавливался переворот в восприятии и переживании мира
жизни — умонастроение, которое привело в XIX в, к появлению
определенного типа мировоззрения и понимания истории, в XX в.
анализировавшегося (и в свою очередь поставленного под вопрос) в
качестве «историзма»13. Так называемое историческое мировоззрение, а
отсюда уже научная история сделались нешуточным вызовом
филологии, которую в начале XIX в. представляли филологи-классики. Под
вопросом оказалась классическая филология с ее традиционными
методами.
До второй половины XVIII в. история как тип знания не была
специальной наукой, а составляла «особую отрасль литературного
искусства» (32); со второй половины столетия происходило
«превращение истории из литературного рассказа в исследование» (там же).
С другой стороны, однако, молодая историческая наука была
практически связана с филологическими традициями и навыками работы,
она восприняла «приемы филологического анализа памятников» (33).
Неудивительно, что крупнейшие историки античности, создавшие
научную историографию XIX в. — Нибур, Дройзен, Моммзен, —
были и филологами-классиками. Но отсюда вырастало и
соперничество между филологами и историками.
Историка интересовал теперь не исторический памятник сам по
себе, но историческая действительность — связь явлений в их
развитии (законосообразность фактов). Филолога же традиционного
склада памятник и древний текст интересовали как цель, как первая
и последняя данность; работа филолога мыслилась «только в форме
Филология и кризис
619
комментария к памятнику» (34). Конфликт и размежевание между
историографией и филологией, таким образом, имели своей
причиной «перенесение центра внимания с памятника на самую
действительность» (там же), или, как мы говорим, — на затекст. Для
филологов старой формации такая переориентация должна была
представляться наивной и дилетантской; а для историков новой формации
традиционная филологическая деятельность казалась смешным
формализмом и буквоедством14.
Другой стороной этой переориентации с «памятника» на
«действительность» было то, что сегодня мы бы назвали кризисом
«этноцентризма». Прежде в основе европейской филологической традиции
лежало представление о приоритете греко-римской античности;
поэтому центром мировой культуры «естественно» представлялась
Европа. Здесь имела место определенная эстетическая изоляция:
античность изымалась традиционной филологией из реального
исторического ряда взаимосвязей. Ведь реально (а не идеально) античность
имела до- и внегреческую историю и фактически не была отделена от
других народов (хотя бы и «варварских»).
Филология XIX в., связанная с именами Ф. А. Вольфа, А. Бека и
других, «переродилась» (обновилась) в результате кризиса
современности самих филологов, в силу необходимости поставить в какую-то
новую и существенную взаимосвязь античное наследие и
историческую непрерывность времени — памятник и действительность. По-
бахтински: «эпос» гуманитарно-филологической деятельности
оказался подвержен «романизации» постольку, поскольку временная
дистанция между предметом исследования и современностью
исследователя этого предмета из «абсолютной» стала «относительной»;
дистанция во времени стала значимой в своем смысле («современной»).
Нам здесь важно подчеркнуть «абсолютно исторический»
характер этого кризиса филологии в ситуации рубежа XVIII—XIX вв.;
на свой лад нечто подобное происходило еще на рубеже
Средневековья и Нового времени, а потом повторится в ситуации Конца
Нового времени, т. е. в двадцатом столетии, а затем и в нашем «конце»,
т. е. уже после Нового времени — в наши «нулевые годы».
Ведь филологические традиции «зависают» не сами по себе и не в
результате «взрыва» (как бы его ни понимать). Кризис всегда заслужен.
Он возвращает филологию (и культуру) к действительности, в
известном смысле извлекая филолога из его «башни», или, как теперь
говоря, «ниши». Извлекая не для того, чтобы принизить или
отменить его деятельность, а для того, чтобы ее преобразовать (на языке
620
Раздел второй. Рассечение
книги Бахтина о Рабле — чтобы родить сызнова, «лучше и больше»).
Это — «зиждительная» константа кризиса — всякого кризиса.
Сегодняшний кризис филологии, как и мира жизни, позволяет
почувствовать, до какой степени проблема кризиса стоит в затексте
всех научно-теоретических сюжетов и текстов Бахтина. В рукописях
Невельско-Витебского периода, в диалоге с «материальной
эстетикой», в «Формальном методе...» и в книге о философии языка, в
«Слове в романе» и (насколько можно судить по случайно уцелевшим
черновикам) в книге о романе воспитания и «втором, германском» (по
классификации Φ. Φ. Зелинского) европейском Ренессансе, не
говоря уж о монографиях о Достоевском и о Рабле, — везде, так или
иначе, ведущей темой является мотив «кризисов и перемен», «смерти-
воскресения» и т. п. Не в этом ли причина устойчивой
притягательности бахтинской мысли, а равно и вышеупомянутого раздражения
филологов вроде М. Л. Гаспарова, о котором неслабо, хотя и
непублично, высказался однажды в своем кругу С. С. Аверинцев?15 Полная
самодостаточность (в науке и в жизни) есть форма радикальной
коррупции, «подкупленное™ бытием», по выражению M. M. Бахтина.
Куда важнее, однако, вот что: вся та, как мы говорим, «критика
филологического разума», которая обнаруживается в дошедших до
нас исследованиях нашего автора, сама порождена кризисом, гораздо
более радикальным и сложным, чем тот, о котором только что
говорилось со слов Г. О. Винокура. Бахтин в этом смысле может
рассматриваться и оцениваться не только как теоретик гуманитарно-
филологического мышления вообще, но и как единственный в
своем роде комментатор научного и общекультурного кризиса и
«смены парадигм» в первой трети минувшего столетия. Той, по-
кантовски выражаясь, «революции в способе мышления», пост-пост-
постсовременниками которой являются сегодняшние филологи и
гуманитарии, философы и эпистемологи.
Фило/Еогизлл
Присмотримся с этой точки зрения к критическому
анализу традиционной филологии в книге «Марксизм и философия
языка» (вторая глава второй части, разделы: «Какая языковая
реальность лежит в основе лингвистической системы?» и «Проблема
чужого, иноязычного слова»)16.
Сегодня «Марксизм и философия языка» (МФЯ), наряду с книгой
о Достоевском, на наш взгляд, резонно рассматривать как поворотное
в его творчестве, но не столько по внешним советским причинам,
Филология и кризис
621
сколько в свете более общей тенденции, которую можно назвать «фи-
лологизацией философии» в XX в.17 У русского мыслителя, как и у
его западноевропейских современников, филологизация философии
включает в себя критику науки; у Бахтина (как и у Хайдеггера, Га-
дамера и многих других) эта критика позитивна или, точнее,
«амбивалентна»; в деконструктивизме (опирающемся на Ницше и
Хайдеггера) она носит в основном «подрывной» характер.
Для того чтобы бахтинская — эпистемологическая — критика
традиционной филологии в МФЯ была правильно понята, нужно
принять во внимание как минимум два обстоятельства. Во-первых,
она, эта критика, здесь несколько более развернута и более доступна,
чем в исследованиях, написанных Бахтиным «от себя»; в программе
преобразования литературоведческого мышления в ответ на вызов
формализма (1924) или в «Слове в романе» (1934—1935) бахтинская
критика филологического разума предстает в гораздо более
проблемном, принципиальном и конструктивном виде18. Во-вторых,
критика филологической традиции в 1920-е гг. была еще возможна даже у
нас (хотя и под определенным углом и с учетом конъюнктуры); время
было не столько «переходным», сколько «кризисным».
Серьезная критика вообще возможна только там и тогда, где и
когда объективный кризис удерживает в общественном и научном
сознании активный «горизонт ожидания», потребность в
обновлении, в положительном разрешении кризиса. Так обстоит дело со
всякой «критикой»: она наиболее активна и принципиальна в
«критические» эпохи, когда открываются и завоевываются новые
перспективы, когда наука и мир в их прошлом и настоящем меняют свой
смысл в свете того, что на языке раннего Бахтина называется
«абсолютным будущим». Как и обратно: там, где подлинного кризиса нет,
где историческая память и напряжение проблем ослабли и
современности, по коллективному мироощущению, «ничего не светит», — там
научная критика и ино-научное обличение исторических грехов
теряют смысл. Ведь, по словам Л. В. Пумпянского, «нравственное
обличение имеет смысл в мире исторической надежды, потому что
обличаются — грехи, а грех как понятие имеет смысл только в царстве
надежды»19; в науке дело обстоит в принципе не иначе.
Нелишне еще раз подчеркнуть: критика филологической
традиции Бахтиным — критика не «против», а «за», как, впрочем, по
наблюдению С. С. Аверинцева, и всякая вообще бахтинская
критика20. Примечательно, что лингвистическое мышление
рассматривается в МФЯ в историко-филологическом аспекте, т. е. в его генезисе.
622
Раздел второй. Рассечение
Почему это важно? Очевидно, потому, что как раз в исторический
момент новой автономизации лингвистики в XX в. (после Соссюра,
как в XIX в. — после Гумбольдта) важнее зафиксировать и понять не
столько «приватные», сколько «родовые» признаки науки о языке в
общем контексте гуманитарно-филологической традиции.
«Филологизмом» Бахтин называет уклон филологии, сопри-
родный ее сущности (и ее традиции) — и все же не совпадающий
до конца с конститутивной идеей филологии. Имеется в виду
изначальный филологический импульс — «оживлять» слово, памятник,
текст, прошлое. Из этого импульса возникает «установка на изучение
мертвых языков, сохранившихся в письменных памятниках» (407);
именно она в значительной степени определила европейское
лингвистическое мышление: «Над трупами письменных языков сложилось и
созрело это мышление; в процессе оживления этих трупов были
выработаны почти все подходы и навыки этого мышления» (там же).
Современный тексту книги и ближайший контекст бахтинской
«археологии» лингвистического мышления — критика
«абстрактного объективизма» на французской (картезианской) почве, до
Соссюра включительно, т. е. до осуществленного им революционного
обращения или превращения лингвистики. По мысли Бахтина, успехи
лингвистики в XX в. были куплены особенно дорогой ценой на почве
«абстрактного объективизма», поскольку изучение «языка» (langue)
отделилось от истории «речи» (parole) и от истории культуры.
Единство предмета филологии, удерживавшееся герменевтической
традицией девятнадцатого столетия, действительно, оказалось
подорванным: реакция на историю обнаружила здесь сильный
антиисторический уклон, определивший своеобразие структурализма (не
исключая и его самокритики в неоструктурализме)21.
Упрек, который Бахтин бросает филологии, в принципе тот же
самый, что его старшие современники — Хайдеггер и Бубер, Франц
Розенцвейг и О. Розеншток-Хюсси, «диалогисты» и «трансцендента-
листы» 1920-х гг. — бросали «грекам», «школе», «метафизике» — и
современной лингвистике; не случайно для Бахтина и Аристотель —
«типичный филолог» (407)22.
Бахтин критикует «филологизм» как изнанку, потому что ему
важно «лицо» филологии, ее изначальный импульс, имеющий и не
имеющий отношение к изнанке, — «филологическая потребность»:
Филологическая потребность родила лингвистику, качала ее
колыбель и оставила свою филологическую свирель в ее пеленах. Про-
Филология и кризис
623
буждать мертвых должна эта свирель. Но для овладения живой
речью в ее непрерывном становлении у нее не хватает звуков (407).
Это значит: «филологическая потребность» как таковая не
только единственна в своем роде, она незаместима и продуктивна —
для науки, для философии, для религии с их особыми потребностями.
Больше того: именно филология имеет дело с «другим»: не только и не
столько даже с образом «другого» (это в большей мере прерогатива
эстетики), сколько с «чужой речью», будь то текст или памятник.
Поворот к чужой речи (к слову и «внесловесному контексту»
другого и «других») — поворот, подготовленный «первой философией»
Бахтина в момент смены философско-гуманитарной парадигмы на
Западе и в России в «столетнее десятилетие» (по выражению Е.
Замятина) 1914—1923 гг., — единственная в своем роде русская
разновидность «филологизации философии», т. е., собственно, гуманитарного
переворота в эпистемологии.
Отчего же почтенная филологическая традиция сплошь и рядом
оборачивается «филологизмом»? По мысли Бахтина оттого, что
филология изначально ориентирована на историю как прошлое, на текст
или памятник, по выражению раннего Бахтина, «отпавший в бытие».
Если даже философия начинает ориентироваться на «текст», то это в
принципе может означать и настоящий поворот в философии (таков
в особенности «герменевтический поворот», но может означать и
некое новое «научное» овеществление истории (такова
структуралистская эпоха 1960—1990-х гг.).
Кто такой филолог? — спрашивает Бахтин. И отвечает:
...от индусских мудрецов до современного европейского ученого
языковеда, филолог всегда и всюду — разгадчик «чужих» письмен
и слов и учитель, передатчик разгаданного и полученного по
традиции (410).
В этом — сила и становящееся значение филологии; ее
слабость — в неспособности включить текст и контекст в «живую речь
в ее непрерывном становлении» (т. е., как мы говорим, в «затекст»).
Прошлое, понятно, должно стать моментом становления совсем не
в смысле «гегелиански понятого духа» истории (как сказано в обоих
изданиях книги Бахтина о Достоевском, в полемике с Б. М. Энгель-
гардтом); смысл «живой речи» прошлого меняется в становлении.
Уклон филологии в филологизм имеет другую еще причину,
неразрывно связанную с «филологической потребностью», — причину,
624
Раздел второй. Рассечение
которая, в свою очередь, заключает в себе культовые импульсы и
культовую память: «Ведийский жрец и современный филолог-лингвист
зачарованы и порабощены в своем мышлении о языке одним и тем
же явлением чужого иноязычного слова» (там же).
Почему все это актуально для современного положения дел —
для филологии кризиса, которая имеется в виду в МФЯ, как и для
сегодняшней ситуации, которая если и является «критической», то
совсем в другом смысле?
По мысли Бахтина, категории и навыки мышления,
выработанные при изучении мертвых чужих языков и древних
памятников, в Новое время были перенесены на новые и живые языки, т. е.
на «живую речь в ее непрерывном становлении». (Заметим, кстати,
связь между критикой традиционной лингвистики в МФЯ и критикой
в 1930-е гг. традиционной философской эстетики и гуманитарно-
филологического мышления по линии «эпос» — «роман».) В
результате внутри гуманитарно-филологического мышления в начале
XX в. еще резче, чем в начале XIX в., столкнулись два
разнонаправленных императива: тенденция к идеализирующему,
эстетизирующему анализу языка как магической, но мертвой «структуры»,
принципиально изъятой из всякого исторического становления,
отрешенной от современности — с одной стороны, и потребность
осмыслить историческое становление все сплошь, снова и по-новому
познать когда-то уже познанное, согласно знаменитой формуле
филологии Августа Бека. Филология оказалась в противоречии со своей
собственной исторической традицией. Как известно, ситуация в
филологии в 1920-е гг. была в этом смысле аналогичной «кризису» в
теологии, в философии, во всех науках исторического опыта, что и
обусловило тогда, как констатировал Л. В. Пумпянский в 1924 г., —
«продуктивный кризис». Разница потенциалов между тогдашним
кризисом гуманитарно-филологического мышления и кризисом сегодня,
вероятно, определит судьбы филологии на ближайшее столетие.
Примечания
1 См., например: Филология — кризис идей? // Знамя. 2005. № 1. С. 187—211.
2 В этом смысле Бахтин «против замыкания в текст»; ср.: «Термин "текст"
совершенно не отвечает существу целого высказывания» (СС: 6,394).
3 См. его доклад «Несколько тезисов о теории литературы», прочитанный
20 января 1993 г. в Секторе Теории ИМ Л И, и другие работы последних
лет, посвященные «кризису наук о культуре»: Михайлов А. В.
Историческая поэтика и герменевтика. СПб., 2006.
Филология и кризис
625
4 Шпет Г. Герменевтика и ее проблемы // Он же. Мысль и слово. М., 2005.
С. 335.
5 Ср.: «Сдвиг и слом обнажают для аналитического глаза скрытые
структуры, и все тайное становится явным. Кризис — это как бы
объективный "анализ", которому подвергает себя сама действительность,
упреждая наши попытки анализа; недаром слово "кризис" означает "суд" и
родственно слову "критика"». — Аверинцев С. С. Поэтика ранневизан-
тийской литературы. М.: Наука, 1977. С. 237.
6 Holquist M. Bakhtin and the Task of Philology // In Other Words: In
Celebration of Vadim Liapunov. Indian Slavic Studies. Vol. 11.2000. P. 55—67.
7 Аверинцев С. С. Филология // Краткая литературная энциклопедия. Т. 7.
М., 1972. С. 979.
8 Там же. С. 975.
9 См.: Лотман Ю. М. Культура и взрыв. М., 1992.
10 См.: Бочаров С. Г. Событие бытия: M. M. Бахтин и мы в дни его столетия
// Он же. Сюжеты русской литературы. М., 1999. С. 502.
11 Уместно напомнить здесь слова К. Бурдаха из его книги «Реформация.
Ренессанс. Гуманизм» (1918), которые приводит Бахтин в
методологическом Введении своего исследования о Рабле: «Гуманизм и
Ренессанс родились из страстного и безграничного ожидания и стремления
стареющей эпохи, душа которой, потрясенная в самой глубине своей,
жаждала новой юности» (Бахтин Μ. Μ. Творчество Франсуа Рабле и
народная культура сревневековья и Ренессанса (1940). М., 1965. С. 65).
Ср.: Бурдах К. Реформация. Ренессанс. Гуманизм / Пер. М. И. Левиной.
М., 2004.
12 Винокур Г. О. Введение в изучение филологических наук (1944/45) / Сост.
и коммент. С. И. Гиндина. М.: Лабиринт, 2000. С. 33. В дальнейшем
цитаты из одноименного университетского курса Г. О. Винокура даются по
этому изданию с указанием страниц в тексте.
13 См.: Трельч Эрнст. Историзм и его проблемы (1922). М., 1994; Майнеке
Фридрих. Возникновение историзма (1936). М., 2004. Отметим здесь
малоизвестный у нас факт: филолог Э. Ауэрбах, автор «Мимесиса», учился у
Э. Трельча, который, между прочим, обратил его внимание на Дж. Вико.
14 Ср.: Михайлов А. В. Античность как идеал и культурная реальность
XVIII—XIX вв. // Он же. Языки культуры. М., 1997. С. 509—521. Этот
набросок со всполохами катастрофизма представляется мне
проблематичным и, главное, малопродуктивным для понимания научно-
гуманитарной революции 1790-х гг.
15 «Гаспаров забил себя в колбу и с энергией, достойной лучшего
применения, стал выкачивать оттуда воздух». Цит. по: Бибихин В. В. Алексей
Федорович Лосев. Сергей Сергеевич Аверинцев. М., 2004. С. 412.
16 В дальнейшем «Марксизм и философия языка» (МФЯ) цитируется по
книге: Бахтин (под маской). М.: Лабиринт, 2000, с указанием страниц
в тексте.
626
Раздел второй. Рассечение
17 Так называемый «лингвистический поворот», под знаком которого стоят
три ведущих современных философских направления — немецкая
герменевтика, французский структурализм, или неоструктурализм, и
англосаксонская «аналитическая философия», — только одна сторона этой
тенденции. «Филологизация философии» связана также с новой про-
блематизацией категорий авторства, историчности, текста, «другого» и
«другости», «спора древних и новых» и т. п.
18 На этом уровне к нашему автору еще никто не подступался всерьез.
Раздутый вопрос об авторстве так называемых спорных текстов или
попытки что-то еще сказать о Бахтине «свое», уличив его в цитировании
Сталина в начале 1950-х гг., характеризуют сегодняшний уровень
разговора о его наследии, к концу 1990-х гг. потерявший уже и «постмодерную»
свою составляющую.
19 Пумпянский Л. В. Русская история 1905—1917 гг. в поэзии Блока // Он же.
Классическая традиция. М.: Языки рус. культуры, 2000. С. 542.
20 Ср.: «...из всех видов отрицания его делом могло быть только
"отрицание отрицания", которое дает из перемножения минусов самый
окончательный, самый всеобъемлющий диалектический плюс. Так оно и было;
его полемика всегда направлена не на позитивный состав мысли
оппонента, но на саму его, оппонента, сумму отрицаний, она отрицает
только их». — Аверинцев С. Личность и талант ученого // Литературное
обозрение. 1976. № 10. С. 59.
21 Подробнее об этом см.: Stierle К. Historische Semantik und die
Geschichtlichkeit der Bedeutung // Historische Semantik und Begriffsgeschichte / Hrsg.
von Reinhart Koselleck. Stuttgart, 1979. S. 154—189 (особ. 156—157).
22 С. С. Аверинцев в той же маленькой рецензии 1976 г. проницательно
заметил, что главным пожизненным оппонентом Бахтина был
Аристотель — «вместе с порожденной им традицией»; см. Аверинцев С.
Личность и талант ученого. С. 60. Интересная задача — разобраться в том,
почему именно аристотелевская традиция оказалась водоразделом,
где научно-философские интенции Бахтина и методологический, как
и духовно-идеологический, идеал Аверинцева, похоже, разошлись в
1980-е—1990-е гг.
23 «Своя своих не познаша»: в силу исторического рассечения духовно-
политического тела России в советский век запрограммированный
С. С. Аверинцевым для русской культуры отход от платонизма
(идеализма) в направлении аристотелевской «рассудительности» и здравого
смысла, похоже, не сумел осознать свою собственную преемственность
ни в философии романа и «романизации» Бахтина, ни в его философии
смеха, ни в его критике «филологизма», ни даже в его нериторическом
понимании речи как «диалога».
Виталий Львович Махлин
ВТОРОЕ СОЗНАНИЕ
Подступы к гуманитарной эпистемологии
Издатель А. Кошелев
Зав. редакцией М. Тимофеева
Корректор А. Полякова
Оригинал-макет подготовлен Б. Абакумовым
Художественное оформление переплета С. Жигалкина
Подписано в печать 19.05.2009. Формат 60x90 7,6.
Бумага офсетная № 1, печать офсетная. Гарнитура Times.
Усл. печ. л. 39,5. Тираж 800. Заказ №
Издательство «Знак».
№ госрегистрации 1027701010435.
Тел.: 95-171-95. E-mail: Lrcphouse@gmaiLcom
Site: http://www.lrc-press.ru, http://www.lrc-lib.ru
Оптовая и розничная реализация — магазин «Гнозис».
Тел./факс: (499) 255-77-57, тел.: (499) 246-05-48, e-mail: gnosis@pochta.ru
Костюшин Павел Юрьевич (с 10 до 18 ч.).
Адрес: Зубовский проезд, 2, стр. 1
(Метро «Парк Культуры»)
Foreign customers may order this publication
by E-mail: koshelev47@gmaii.com