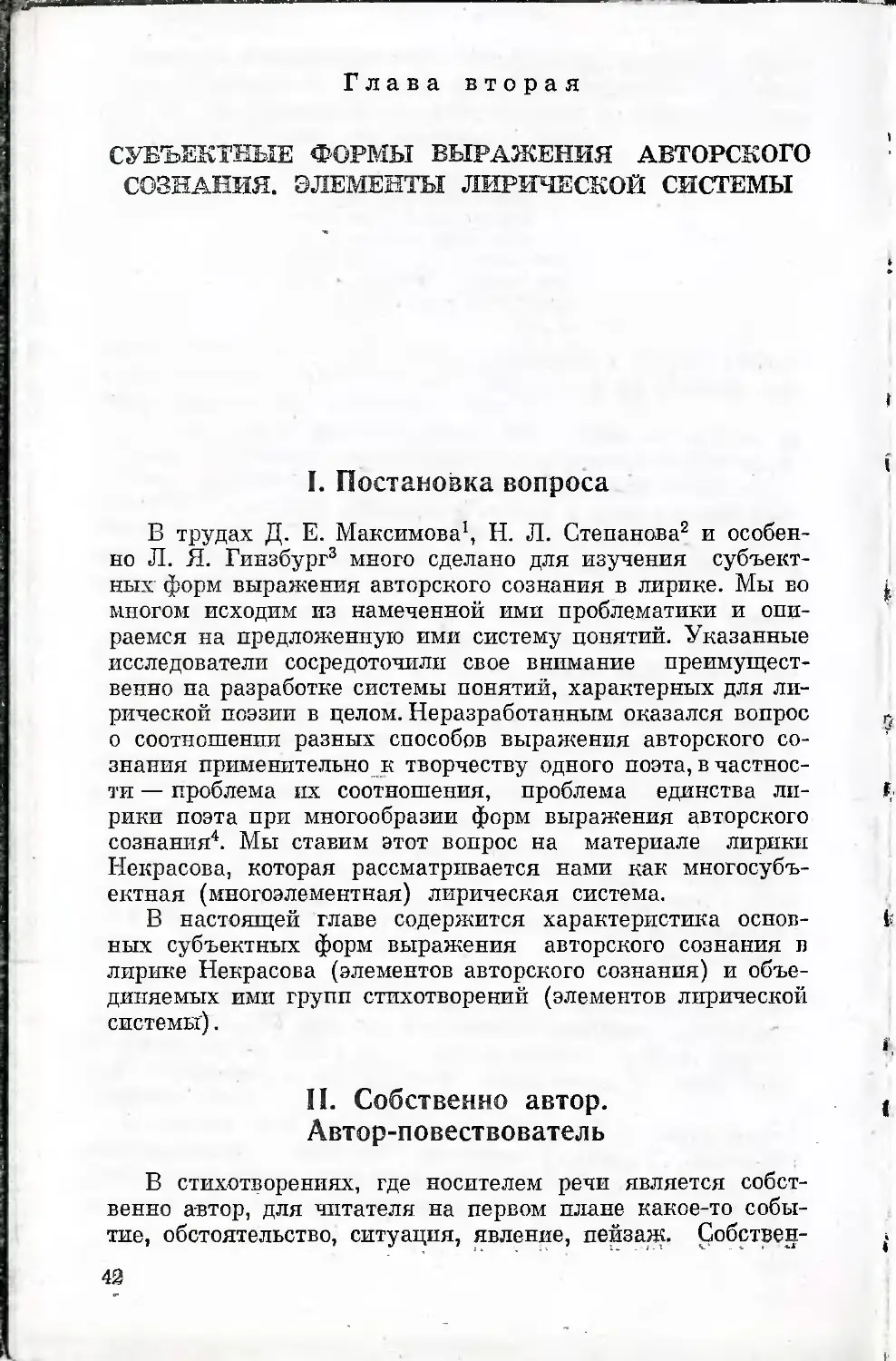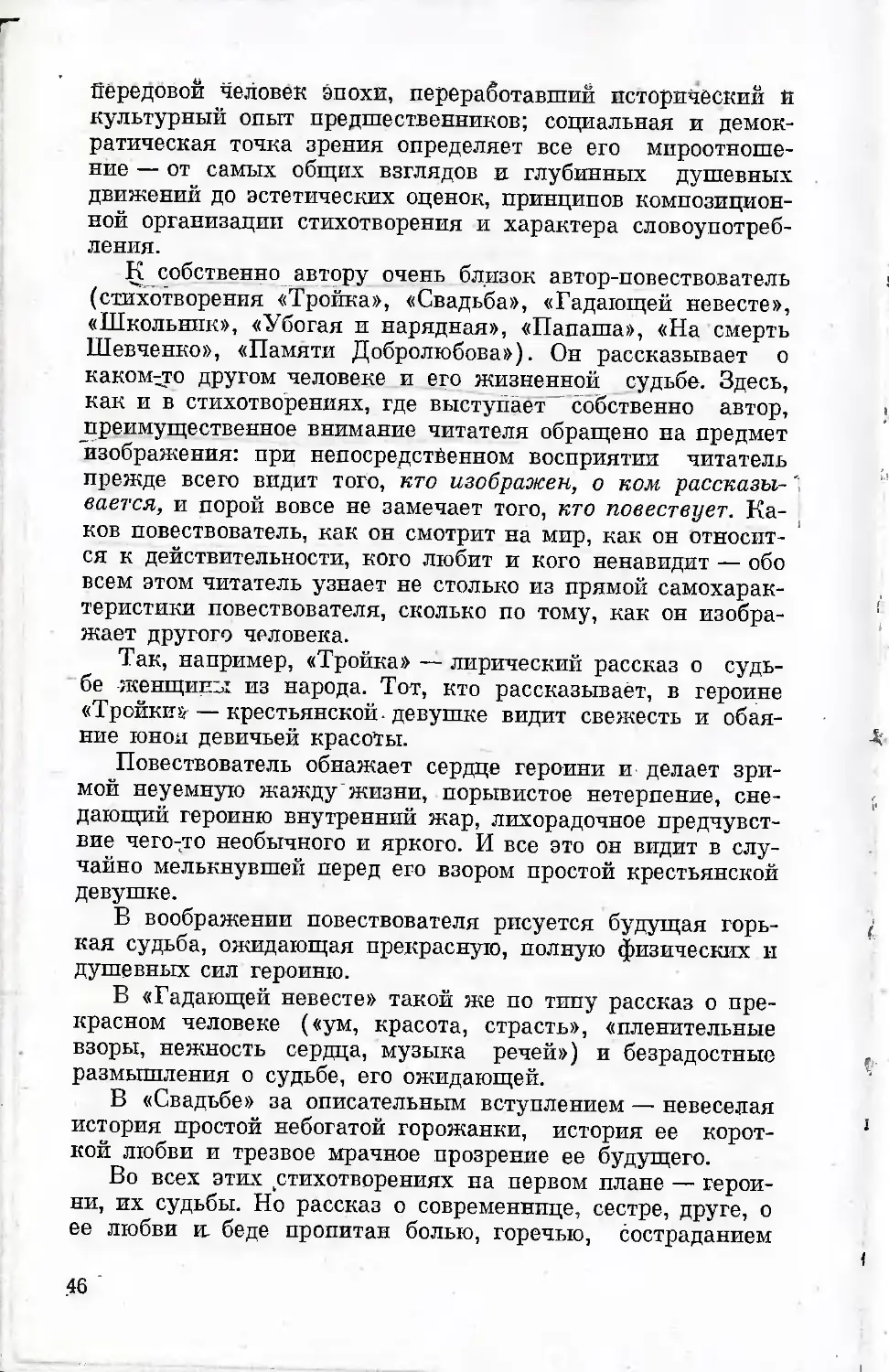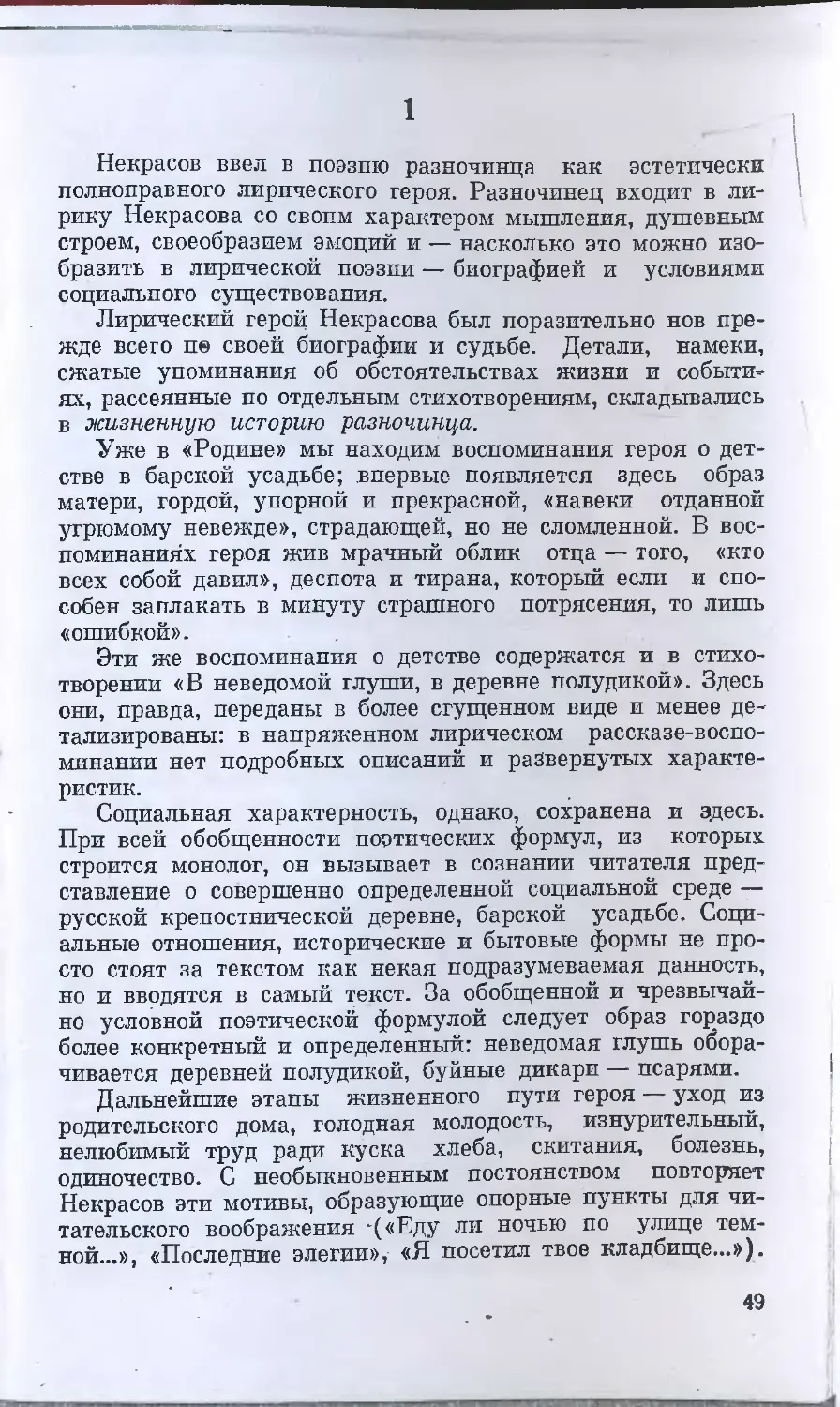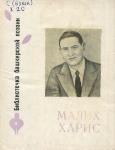Теги: литература лирика
Текст
Глава вторая
СУБЪЕКТНЫЕ ФОРМЫ ВЫРАЖЕНИЯ АВТОРСКОГО СОЗНАНИЯ. ЭЛЕМЕНТЫ ЛИРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
I. Постановка вопроса
В трудах Д. Е. Максимова1, Н. Л. Степанова2 и особенно Л. Я. Гинзбург3 много сделано для изучения субъектных форм выражения авторского сознания в лирике. Мы во многом исходим из намеченной ими проблематики и опираемся на предложенную ими систему понятий. Указанные исследователи сосредоточили свое внимание преимущественно па разработке системы понятий, характерных для лирической поэзии в целом. Неразработанным оказался вопрос о соотношении разных способов выражения авторского сознания применительно к творчеству одного поэта, в частности — проблема их соотношения, проблема единства лирики поэта при многообразии форм выражения авторского сознания4. Мы ставим этот вопрос на материале лирики Некрасова, которая рассматривается нами как многосубъектная (многоэлементная) лирическая система.
В настоящей главе содержится характеристика основных субъектных форм выражения авторского сознания в лирике Некрасова (элементов авторского сознания) и объединяемых ими групп стихотворений (элементов лирической системы^.
II. Собственно автор. Автор-повествователь
В стихотворениях, где носителем речи является собственно автор, для читателя на первом плане какое-то событие, обстоятельство, ситуация, явление, пейзаж. Собствен-
42
йо авФор выступает здесь как человек, который видит пейзаж, изображает обстоятельства, размышляет над сптуаци-i ей. При непосредственном восприятии стихотворения преимущественное внимание читателя сосредоточено на том, что изображено, о чем говорится; вопрос же о том, кто говорит, кто размышляет, кто видит, кто изображает, как правило, возникает лишь при анализе.
> Степень «скрытостп» собственно автора в тексте может
быть различной. В известной мере ее характеризует выбор личных местоимений. В одних стихотворениях собственно автор вообще не выступает как «я»: его как будто нет между изображением и «читателем; все изложение выдержано в третьем лице («Перед дождем», «В столицах шум, гремят витии...», «Наконец, не горит уже лес», «Смолкли честные, доблестно павшие»). В других стихотворениях носитель сознания назван: он обозначен местоимением первого лица множественного числа.
В этих случаях носитель сознания прежде всего не индивидуален: он обязательно выступает как член некоего единства; это либо русские люди, объединенные патриотическим чувством перед угрозой интервенции («14 июня 1854 года»), либо разночинцы-труженики («Новый год»), либо вообще люди с их общечеловеческими свойствами («Великое чувство»). Внимание читателя фиксируется на том, что объединяет различных людей; особые качества I собственно автора не являются предметом прямого изображения. Кроме того, даже этот обобщенный носитель сознания («мы») не является ни единственным, ни основным композиционным центром стихотворения: даже тогда, когда он назван, читательский взгляд переходит с него на объективированные образы. Особенно наглядно видно это в стихотворении «14 июня 1854 года», где раздумья над судьбами России принимают облик грандиозной исторической картины.
В стихотворении «Новый год» прямому выражению настроений и мыслей (строфы 5—7) предшествует своеобразный «этюд нравов», очерк общественной психологии (строфы .1—4). В стихотворении «Ночь. Успели мы всем насладиться» авторская мысль принимает форму характеристики тех, «кто бредет по житейской дороге. В безрассветной, глубокой ночи...» (стихи 5—16).
Наконец, в стихотворениях, где субъектом речи является собственно автор, норой используется и местоимение первого лица единственного числа («Внимая ужасам войны»); но и здесь главным является не автохарактеристика,
43
а какое-то наблюдение или размышление, которому, благодаря объективным образам,, придается внеличяое значение; оно как бы отделяется от «я» и обретает до какой-то степени самостоятельное существование. Читая:
Одни я в мире подсмотрел Святые, искренние слезы — То слезы бедных матерей! Им не'забыть своих детей, Погибших на кровавой ниве, Как не поднять плакучей иве Своих поникнувших ветвей...— (Н., I, 148)
мы думаем не о том, 'кто поделился с нами своими грустными мыслями, а о самих матерях, и за образом плакучей ивы не видим уже его творца.
Во всех этих стихотворениях мы узнаем-об- авторе не столько по прямому изображению внутреннего мира, лирическому излиянию, сколько по эмоциональной окраске лирического монолога, принципам отбора и изображения жизненного материала, особому углу зрения, освещению действительности. Вот небольшое стихотворение Некрасова «В столицах шум, гремят витии».
Автора здесь как будто нет; читая или слушая стихотворение, мы наслаждаемся ощущением чего-то необыкновенно близкого и родного до боли; перед нами проходят картины, находящие отзвук в самых сокровенных глубинах нашего жизненного и эстетического опыта. Но и картины, и образы, и чувства здесь как бы отделились от творца и обрели самостоятельное бытие. Автор растворился в тексте: его не выдают ни формы личных местоимений, ни интонационно-синтаксический строй монолога.
И все же автор в стихотворении есть; мы не увидим его внешности, не узнаем, каков особенный склад его характера, но его общая жизненная позиция, представления о добре и зле, социальные симпатии и антипатии, нравственный пафос, смысл его отношения к миру — все это запечатлено в стихотворении.
Для автора есть две- России: одна, официальная — кажимость, мираж, фантом, воплощение внешнего движения и деятельности при внутренней пустоте; другая, народная — воплощение внутреннего напряжения и силы при внешнем покое.
В первых двух строках мы приобщаемся к миру государственности («столица»), политики («война»), высокой признанной культуры («витии»); используются слова, за каждым из которых традиционно ощутим круг высоких
44
представлений; каждое из них окружено особым ореолом эмоционально-смысловых ассоциаций.
Но традиционные высокие понятия переосмыслены, ассоциации перестроены, на наших глазах происходит переоценка ценностей. Не «столица», а «столицы» — уже здесь заложена возможность возникновения иронической интонации; возможность эта усиливается благодаря сочетанию: «столицы» — «шум». Возможна ироническая окраска и для словосочетания «гремят витии»: слово «вития» еще у Пушкина употреблялось в отрицательно-ироническом значении. Ирония, скрытая в первой строке, во второй обнажена: «Кипит словесная война» — благодаря этому проясняется иронический смысл первых двух словосочетаний («В столицах шум» и «гремят витии»).
Мнимым, кажущимся ценностям противопоставлены во второй части стихотворения (стихи 3—6) ценности подлинные и высокие: родина, народная жизнь, природа. Здесь тоже используются слова, традиционно обладающие большим общественным содержанием, но оно не оспаривается, не ставится под сомнение и не подвергается ироническому переосмыслению: «Россия» и «мать-земля» влекут за собой вереницы ассоциаций, среди которых и устно-поэтические и книжные. Слова эти обозначают две важнейшие сферы: подлинную историю народа и государства — и былинную мечту. Они окружены такими словами-образами, которые усиливают впечатление масштабности, размаха, величия: «глубина», «вековая», «бесконечные», «ветер». Но в стихотворениях есть и другой ряд слов-образов, активизирующих пейзажные конкретно-зрительные впечатления читателя; при всей своей простоте они обладают огромной силой ассоциативного воздействия, с трудом поддающегося расшифровке и понятийному истолкованию: «придорожная ива», «нивы», «колосья».
Есть тут и дополнительные «смыслы», которые также с трудом поддаются расшифровке и понятийному истолкованию: они существуют как возможность, как неразвернув-шиеся тугие пучки значений: так, «ива» может развернуться в образ «плакучей ивы»; словосочетание «выгибаются дугою», кроме зрительного образа, передает ощущение упругости, гибкости, напряженной силы.
За всем этим разнообразием значений, зрительных и эмоциональных образов стоит собственно автор. Он русский человек, впитавший в себя картины родной природы, мир русского фольклора; он обладает непосредственным опытом, сближающим его с простыми людьми. И оньже мыслитель,
45
йёредовой человек эпохи, переработавший исторический и культурный опыт предшественников; социальная и демократическая точка зрения определяет все его мироотноше-ние — от самых общих взглядов и глубинных душевных движений до эстетических оценок, принципов композиционной организации стихотворения и характера словоупотребления.
К собственно автору очень близок автор-повествователь (стихотворения «Тройка», «Свадьба», «Гадающей невесте», «Школьник», «Убогая и нарядная», «Папаша», «На смерть Шевченко», «Памяти Добролюбова»). Он рассказывает о каком-то другом человеке и его жизненной судьбе. Здесь, как и в стихотворениях, где выступает ' собственно автор, преимущественное внимание читателя обращено на предмет изображения: при непосредстРенном восприятии читатель прежде всего видит того, кто изображен, о ком рассказы-вается, и порой вовсе не замечает того, кто повествует. Каков повествователь, как он смотрит на мир, как он относится к действительности, кого любит и кого ненавидит — обо всем этом читатель узнает не столько из прямой самохарактеристики повествователя, сколько по тому, как он изображает другого человека.
Так, например, «Тройка» — лирический рассказ о судьбе женщины из народа. Тот, кто рассказывает, в героине «Тройки» — крестьянской- девушке видит свежесть и обаяние юной девичьей красоты.
Повествователь обнажает сердце героини и делает зримой неуемную жажду жизни, порывистое нетерпение, снедающий героиню внутренний жар, лихорадочное предчувствие чего-то необычного и яркого. И все это он видит в случайно мелькнувшей перед его взором простой крестьянской девушке.
В воображении повествователя рисуется будущая горькая судьба, ожидающая прекрасную, полную физических и душевных сил героиню.
В «Гадающей невесте» такой же по тппу рассказ о прекрасном человеке («ум, красота, страсть», «пленительные взоры, нежность сердца, музыка речей») и безрадостные размышления о судьбе, его ожидающей.
В «Свадьбе» за описательным вступлением — невеселая история простой небогатой горожанки, история ее короткой любви и трезвое мрачное прозрение ее будущего.
Во всех этих стихотворениях на первом плане — героини, их судьбы. Но рассказ о современнице, сестре, друге, о ее любви и беде пропитан болью, горечью, состраданием
46
того, кто рассказывает. Героини оживают в стихотворениях — и рядом с ними страдает, негодует, сочувствует им, плачет й волнуется повествователь, в сферу сознания которого вмещено все содержание стихотворений. Демократизм и трезвость, понимание связи между судьбой отдельного человека и общими условиями жизни, страстное желание счастья людям и презрение к «спасительной лжи» — все эти стороны облика повествователя запечатлены в стихотворениях, хотя непосредственным объектом изображения повествователь, как правило, не является.
Степень «скрытости» повествователя в тексте неодинакова -в разных стихотворениях. В одних случаях он выступает как определенное лицо, как человек, вмещенный в ту же пространственно-временную бытовую сферу, что и герой. Оба они — и повествователь и герой — обладают в стихотворении одинаково реальным бытием. Повествователь входит в церковь, где венчается героиня («Свадьба»), он встречает на дороге босоногого мальчика, идущего в город учиться («Школьник»).
В других случаях временная совмещенность и пространственная близость носят условный характер («Тройка»; «Гадающей невесте»): повествователь существует для читателя как некто, воспринимающий героя; он видит героя, обращается к нему, размышляет о нем, но не является каким-то лицом. Герой здесь обладает более реальным бытием, чем повествователь, но оно, однако, менее реально, чем в «Свадьбе» и «Школьнике»: герой может рассматриваться и как живой человек, находящийся сейчас, в данный момент перед глазами повествователя, и как образ прошлого, вызванный к жизни воспоминанием, созданный творческим воображением.
Наконец, в стихотворениях типа «На смерть Шевченко», «Памяти Добролюбова» пространственной близости и временной совмещенности нет даже как условности, как одной из возможностей. Повествователь здесь — лишь носитель угла зрения, тот, кто размышляет и рассказывает, и герой явно живет только в его воспоминаниях; повествователь не обращается к герою, а говорит о нем читателю; он скрыт в тексте в гораздо большей степени, чем в рассмотренных случаях.
Разграничение собственно автора и повествователя проводится прежде всего по предмету изображения и композиционно-формальным признакам. За этими различиями стоит и в нем выражается -различие во взгляде на мир. Собственно автора и повествователя объединяют демократизм,
47
патриотизм, трезвость взгляда. Но мироотношение повествователя гораздо более трагично. Судьбы, о которых он рассказывает, не вмещены в историческую перспективу (единственное, пожалуй, исключение — «Школьник»). В стихотворениях же, объединяемых собственно автором, есть не только причастность к большому миру истории и народной судьбы: здесь постоянно присутствует историческая перспектива.
Различие во взгляде на мир находит в ряде случаев выражение на уровне пространственной точки зрения: для стихотворений, объединяемых собственно автором, характерна преимущественно широкая пространственная перспектива; в стихотворениях же, объединяемых повествователем, пространственная перспектива сужена.
III. Лирический герой
В стихотворениях с собственно автором и повествователем носитель сознания не является главным и основным предметом изображения. По-иному обстоит дело в стихотворениях, объединяемых образом лирического героя.
Лирический герой — это и носитель сознания и предмет изображения: он открыто стоит между читателем и изображаемым миром; внимание читателя сосредоточено преимущественно на том, каков лирический герой, что с ним происходит, каково его отношение к миру, состояние и пр.
Лирический герой Некрасова отличается от собственно автора и повествователя известной определенностью бытового, житейского, биографического облика (разумеется, эта определенность весьма относительна, если сопоставлять лирического героя с героем повествовательно-прозаических произведений) и резкой характерностью эмоционально-психологического склада. На лирического героя Некрасова вполне можно распространить очерк лирического «я», которое, по словам И. Г. Ямпольского, было близким у ряда поэтов 50—60-х годов: «Иногда это лирическое «я» представляет рядового бедного человека-труженика, иногда в нем просвечивает передовой человек своего времени, но в обоих случаях это большей частью раздраженный, измученный жизнью человек; он зол на социальные условия, которые калечат его жизнь... он с желчью говорит обо всем этом, но это та именно «святая злоба», о которой шла речь во время полемики по поводу «гоголевского» и «пушкинского» направлений...»5.
48
1
Некрасов ввел в поэзию разночинца как эстетически полноправного лирического героя. Разночинец входит в лирику Некрасова со своим характером мышления, душевным строем, своеобразием эмоций и — насколько это можно изобразить в лирической поэзии — биографией и условиями социального существования.
Лирический герой Некрасова был поразительно нов прежде всего пе своей биографии и судьбе. Детали, намеки, сжатые упоминания об обстоятельствах жизни и событиях, рассеянные по отдельным стихотворениям, складывались в жизненную историю разночинца.
Уже в «Родине» мы находим воспоминания героя о детстве в барской усадьбе; впервые появляется здесь образ матери, гордой, упорной и прекрасной, «навеки отданной угрюмому невежде», страдающей, но не сломленной. В воспоминаниях героя жив мрачный облик отца — того, «кто всех собой давил», деспота и тирана, который если и способен заплакать в минуту страшного потрясения, то лишь «ошибкой».
Эти же воспоминания о детстве содержатся и в стихотворении «В неведомой глуши, в деревне полудикой». Здесь они, правда, переданы в более сгущенном виде и менее детализированы: в напряженном лирическом рассказе-воспоминании нет подробных описаний и развернутых характеристик.
Социальная характерность, однако, сохранена и здесь. При всей обобщенности поэтических формул, из которых строится монолог, он вызывает в сознании читателя представление о совершенно определенной социальной среде — русской крепостнической деревне, барской усадьбе. Социальные отношения, исторические и бытовые формы не просто стоят за текстом как некая подразумеваемая данность, но и вводятся в самый текст. За обобщенной и чрезвычайно условной поэтической формулой следует образ гораздо более конкретный и определенный: неведомая глушь оборачивается деревней полудикой, буйные дикари — псарями.
Дальнейшие этапы жизненного пути героя — уход из родительского дома, голодная молодость, изнурительный, нелюбимый труд ради куска хлеба, скитания, болезнь, одиночество. С необыкновенным постоянством повторяет Некрасов эти мотивы, образующие опорные пункты для читательского воображения '(«Еду ли ночью по улице темной...», «Последние элегии», «Я посетил твое кладбище...»).
49
тельности. От поэзии Некрасова читатель Кольцова мог бы в 30-х годах отвернуться, как отвернулся от Гоголя Макар Девушкпн.
Читатель, на которого была ориентирована поэзия Некрасова (и которого она в то же время формировала), жил ожиданием революции: она должна была не только изменить общественный строй, уничтожить крепостное право и его пережитки, освободить женщину и пр., но и его индивидуальную, личную судьбу решительно изменить, сделать лучше, содержательнее, значительнее. Воспитанный на произведениях Белинского, Герцена, Чернышевского, Добролюбова, читатель этот твердо усвоил мысль о связи своей судьбы с судьбами общества, и поэтому некрасивое, прозаическое, буднично-безрадостное в своей судьбе и себе самом он понимал теперь не просто как проявление личной не-удачливости или слабости, а как следствие и отражение определенных общих условий социального бытия.
Он твердо верил, что революционный переворот ведет к будущему, которое «светло и прекрасно» (Чернышевский), и поэтому он мог принять лирику Кекрасова и бесстрашно трезвыми глазами взглянуть на себя и свою жизнь с ее пробой быта, минутами слабости и упадка — и величием революционной борьбы; обидами, оскорблениями — и уверенностью в торжестве справедливости; несвободным трудом — и мечтой о созидательной деятельности свободного человека.
IV. Ролевая лирика
«Ролевые» стихотворения54 суть - произведения двуродовые. С одной стороны, они относятся к области лирической поэзии, ибо в них господствует прямооценочная точка зрения: носитель сознания соотносит факты, обстоятельства, людей с нормой. С другой стороны, в ролевых стихотворениях обязательно присутствует драматическое начало: прямооценочная точка зрения выступает в них в форме фразеологической. Герой «ролевого» стихотворения — субъект сознания обладает резко характерной речевой манерой, своеобразие которой выступает на фоне литературной нормы. Эта манера позволяет соотнести образ «я» с определенной социально-бытовой и культурно-исторической средой.
«Ролевые» стихотворения двусубъектны. Одно, более высокое сознание, обнаруживается прежде всего в загла-
98
впях: в нпх определяется герой стихотворения («Косарь», «Пахарь», «Удалец» -Кольцова, «Катерпна», «Калистрат» Некрасова) и иногда — прямо или в иронической форме — выражается отношение к нему («Хищники на Чегеме» Грибоедова, «Нравственный человек» Некрасова). Сферой другого сознания является основная часть стихотворения, принадлежащая собственно герою. Но здесь же скрыто присутствует и более высокое сознание — как носитель речевой нормы и иного социально-бытового и культурно-исторического типа.
Герой «ролевого» стихотворения выступает, следовательно, в двух функциях. С одной стороны, он субъект сознания; с другой стороны, он объект иного, более высокого сознания.
К «ролевым» стихотворениям Некрасова относятся «Пьяница», «Огородник», «Буря», «Дума», «Катерина», «Калистрат», «Песня» из «Медвежьей охоты» («Отпусти меня, родная»), «Отрывок» («Я сбросила мертвящие оковы»).
, Принцип изображения действительности, реализованный в «ролевой» лирике Некрасова, был открыт задолго до него. Но Некрасов использовал новые — сравнительно со своими предшественниками — возможности этого способа выражения авторского сознания.
В «ролевой» лирике Пушкина («Подражания Корану», «В начале жизни школу помню я», «Стамбул гяуры нынче славят», «Я здесь, Инезилья», «Мальчику», «Бог веселый винограда», «Из Ксенофана Колофонского», «Странник», «Песни о Стеньке Разине») воспроизводятся различные культурно-исторические типы сознания, суммирующие представления о больших исторических эпохах (античность, средневековье, Возрождение) и общенациональных чертах характера (Испания, Греция, арабский Восток, Италия, Русь). По этому же пути шел и Грибоедов в «Хищниках на Чегеме». В складе личности выделяется исторй-) ческое и национальное; индивидуальные, сословные, со-/ циальные различия внутри общего типа не акцентируются.! В основе всех этих стихотворений лежит скрытое сравне-\ ние: автор сопоставляет современный ему склад мышления-со взглядом на мир, характерным для людей прошедших эпох и разных народов; его интересует несходство прошедшего и настоящего и различие национально-культурных типов сознания.
В поэзии Лермонтова принцип «ролевой» лирики используется для изображения современной жизни. Принципиаль
4*
99
но важным шагом п в творческом развитии Лермонтова, и в развитии всей русской литературы в целом явился образ героя-рассказчика в стихотворении «Бородино». Д. Е. Максимов, анализируя язык стихотворения, обнаружил в нем «очень тонкое и органическое сочетание разговорного строя с лексической и фразеологической патетикой»55. Идя от анализа поэтического языка к характеристике образа героя-рассказчика, исследователь следующим образом описал носителя речи: «Лермонтовский рассказчик... не просто «эмпирический персонаж», солдат-артиллерист, но образ собирательный, монументальный, — не столько «я» какой-либо частной, хотя бы и типизированной личности, сколько «мы» героев Бородина и даже русского народа вообще»56.
Этот же выход за пределы бытового образа, расширение конкретного содержания стихотворения до огромного обобщения устанавливает Д. Е. Максимов и в «Казачьей колыбельной песне».
По-иному строится образ носителя сознания в «Завещании». В «Бородине» и «Казачьей колыбельной песне» носитель сознания двоился, колебался; конкретный индивидуализированный образ человека определенного социального положения, сословия, манеры речи был совмещен с надындивидуальным монументальным образом народа. Не то — в «Завещании». Герой — субъект сознания—един; его речевая манера не выходит за границы возможностей, определяемых его личностью, биографией, положением57; в то же время он не совпадает с лирическим героем и воплощает особый склад характера. Здесь прокладывается путь к «ролевой» лирике Некрасова, хотя социально и психологически герой «Завещания» резко отличается от героев некрасовской лирики.
В «ролевой» лирике Кольцова мы видим прежде всего двух явно отличных друг от друга героев. Их можно условно назвать «пахарем» и «удальцом». Это — резко очерченные типы с ярко выраженной ведущей чертой.
Каждый из них воспроизводит одну разновидность народного характера. Пахарь («Песня пахаря», «Размышления поселянина») воплощает трудолюбие, настойчивость, упорство, спокойную мудрость человека труда. Удалец («Удалец», «Ты прости-прощай», две Песни Лихача Кудря-вича и др.) воплощает силу порывов, бесшабашную удаль, размах души.
Как видим, в «ролевых» стихотворениях Кольцова перед нами крестьянская жизнь и некоторые из выработан
100
ных ею типов народного характера. Они были уже до какой-то степени намечены в многовековой фольклорной традиции; Кольцов же приблизил их к облику реального русского крестьянина.
Но «ролевые» стихотворения Кольцова, посвященные тсрестьянской жизни, не исчерпываются этими двумя в какой-то мере традиционными типами.
Кольцов заметил едва уловимые, подспудные процессы, происходившие в сознании, во внутреннем облике людей из народа. В некоторых «ролевых» стихотворениях он показал процесс пробуждения людей из народа к более высоким, «идеальным» представлениям, формам сознания, чем те, которые выдвигались традиционными условиями жизни.
Признаки пробуждения к сознательной жизни в облике некоторых героев поэзии Кольцова с замечательной проницательностью уловил Белинский. «Хотя песни Кольцова были бы понятны и доступны для нашего простого народа,— писал критик,— но все же они были бы для него гораздо высшею школою поэзии, а следовательно, чувства и понятий, нежели поэзия народных песен,— а поэтому были бы очень полезны для нравственного и эстетического его воспитания» (IX, 540).
Изменение общих условий русской жизни в первой половине XIX века не могло не сказаться на складывавшемся веками народном типе характера и внутреннем облике русского человека из народа. Характер и внутренний облик русского «простолюдина» — интеллектуальный, нравственный, эмоциональный — не оставались неизменными: в характере появлялись новые черты, расширялся умственный кругозор, появлялись новые нравственные понятия, усложнялась душевная жизнь.
Эти изменения затрагивали относительно широкий круг людей, не поднявшихся еще до уровня политической сознательности, но в большей или меньшей степени, в той или иной форме пробуждавшихся к сознательной жизни.
В думах Кольцова выразились, по словам Белинского, «порывания» к знаниям, стремление разрешить вопросы, возникавшие перед разумом «простолюдина».
Это были первые шаги пробуждения интеллекта. Они сопровождались изменением в нравственной и эмоциональной сферах. В стихотворениях «Доля бедняка», «Русская песня» («Не на радость, не на счастие»), «Перепутье» перед нами герой-крестьянин, в душевном строе и нравственном облике которого наметились чрезвычайно интересные изменения.
101
Вот «Доля бедняка». Герой стпхотворенпя— крестьянин, вынужденный скитаться по чужим людям. Показательно, что главное в его горьких раздумьях не мысли о недоедании, холоде (хотя и холод, и голод ведомы ему отнюдь не понаслышке), а нравственная сторона бедности, ее уродующее воздействие на душу, самочувствие и поведение человека.
Конечно, новое во внутреннем облике человека из народа лишь смутно брезжит Здесь, пробивается с трудом. Новых слов у героя нет, и пользуется он по преимуществу привычной ему фольклорной стилистикой и фольклорными образами58. И все-таки это — попытка разобраться в своем внутреннем мире, попытка очень обобщенного, но все-таки самоанализа: не просто «грусть-тоска», не просто «болит ретивое», а уже до какой-то степени расчлененное изображение собственной внутренней жизни.
В «Русской песне» («Не на радость,не на счастие») рассказ о любви человека из народа также приобретает новые черты. Речь идет здесь не просто о бедности как препятствии на пути к счастью: герой осознает лежащую на нем моральную ответственность за судьбу любимого человека. В центре его раздумий — проблема выбора жизненного пути для себя и любимой женщины.
Сами раздумья героя-бедняка стали сложнее, расчленен-нее, чем это было в стихотворениях о «пахаре» и «удальце», приобрели новый, остро-мучительный характер. В связи с этим произошла внутренняя драматизация лирического монолога; мысли, терзающие героя, передаются в форме своеобразного внутреннего диалога. Рассказ о раздумьях («...думушка Грызет сердце, крушит голову») перешел в воспроизведение самих раздумий.
Наконец, отметим лексические элементы, которые были бы невозможны в стихотворениях о «пахаре» или «удальце»:
Не на радость, не на счастие,
Знать, с тобой мы, друг мой, встретились...
(Кольцов, 176)
«Ролевая» лирика Некрасова была бы невозможна без «ролевой» лирики его предшественников. Пушкину Некрасов был обязан принципом историзма, историческим подходом к действительности. Но у Пушкина в «ролевой» лирике принцип историзма был применен к изучению и изображению прошлого: исторический подход осуществлялся на историческом материале. В «ролевой» лирике Некрасова историзмом проникнуто изображение современности. Ка-
102-
листрат и герой «Пьяницы», Катерина и герой «Думы» — русские люди середины XIX века. В их облике явственно ощутимы отложения исторического прошлого, сложно сочетающиеся с импульсами, идущими от современности. Ни в одном пз стихотворений не упоминается крепостничество, в них нет речи о феодальных отношениях, личной зависимости от «барина» и пр. Но все это определяет общее направление судеб, склад характеров, душевный строй и тии эмоциональных реакций. В монологах героев закреплен исторический опыт, ставший до известной степени внутренним регулятором личного поведения. Ив то же время герои — люди переломного времени: острота самоощущения, чувство личности, предельная напряженность раздумий о своей судьбе, столь характерные для героев Некрасова, прежде были бы невозможны. Еще определеннее черты времени сказались в героинях «Песни» из «Медвежьей охоты» («Отпусти меня, родная») и «Отрывка» («Я сбросила мертвящие оковы»).
Во многом «ролевая» лирика Некрасова продолжает традиции «ролевой» лирики Кольцова. Воссозданные Кольцовым общие разновидности народного характера («пахарь» и «удалец») представлены и в поэзии Некрасова, по уже не в столь «чистом» виде: складывавшиеся веками общие устойчивые черты народного характера даны Некрасовым в более дифференцированном выражении59. Кроме того, к образам крестьян добавляются у него образы городских бедняков и передовых русских женщин.
Создание в «ролевой» лирике дифференцированных образов людей пз народа требовало широкого привлечения резко-характеристических средств социально-речевой типизации. Путь в этом направлении предуказан был прозой Пушкина и особенно Гоголя.
Подчеркивая огромную роль Гоголя в обогащении арсенала приемов социальной словесно-художественной характеристики, В. В. Виноградов указывает одновременно, что гоголевские типы были лишены внутреннего психологического самораскрытия60. Писатели натуральной школы выдвинули, по словам В. В. Виноградова, «задачу аналитического изображения внутреннего мира национально-типических характеров из разных социальных сфер, преимущественно низшего круга, с помощью их речевого самораскрытия» 61.
В массовой повествовательной прозе середины и второй половины 40-х годов XIX века была очень высока культура сказового повествования. Стремление к воспроизведению
103